Циклы фантастических романов. Компиляция. Романы 1-22 [Михаил Сергеевич Ахманов Нахмансон] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Михаил АХМАНОВ ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС
Глава 1 БАЗА
Крохотный кораблик оторвался от вытянутого, сверкающего серебром корпуса «Пилигрима» в восьмидесяти тысячах километров от планеты. Сквозь прозрачный колпак, за которым царили холод и тьма, Тревельян видел золотистое солнце, огромный туманный шар Осиера и россыпи самоцветов-звезд, среди которых самыми яркими были альфа и бета Апеллеса. Первая из них казалась изумрудом, оправленным в бархат темноты, вторая была поскромнее – бело-голубоватая искорка на фоне созвездия Шерр. Он припомнил, что у местных так назывался какой-то зверек, водившийся в восточных лесах, в Этланде или Пибале. Солнце слепило глаза. Тревельян отвернулся и, запрокинув голову, проводил взглядом «Пилигрим», поджидавший, пока его капсула не удалится на безопасную дистанцию. Когда это случилось, контур корабля начал понемногу расплываться, погружаясь в беспредельность Лимба, словно квантовая пена [1] заволакивала его, как самый обычный туман, что поднимается прохладным утром над рекой. Тревельян, путешественник опытный и бывалый, наблюдал такое не в первый раз, но всегда поражался. Конечной точкой маршрута звездного лайнера был один из успешно колонизируемых миров альфы Апеллеса, и там корабль окажется быстрей, чем сам Тревельян на осиерской базе. Ему, не физику, не астрогатору, такое мнилось почти что чудом. Шлем управления уловил его мысль, и колпак кабины с солнечной стороны потемнел, приглушая яркость падавшего света. Ренур, осиерское солнце, относился к тому же звездному классу, что и земное светило, и был подобен ему во всех отношениях, кроме одного: в этом мире, из-за отсутствия спутника, не наблюдалось солнечных затмений. Ночи, однако, выглядели чарующими – вместо Луны сияли ближние звезды Апеллеса. Но о ночном очаровании Осиера Тревельян мог судить лишь по голограммам, стереоснимкам и видеофильмам. На этой планете сотрудники Фонда и все другие экспедиции с Земли не появлялись уже пятьдесят лет, с момента внедрения последнего и самого значительного эстапа. «Пилигрим» исчез, послав ему на прощание улыбку Лиды, младшего пилота-навигатора. Глядя, как над панелью дальней связи тает ее лицо, Тревельян сладко потянулся. Милая девушка! Очень милая! Ее благосклонность, несомненно, скрасила этот недолгий перелет… Теперь же развлечениям конец, теперь начинается работа… Но эта мысль его не огорчала; свою работу он любил и считался в Фонде одним из лучших разведчиков-наблюдателей, кавалером Почетной Медали и Венка Отваги. Только два греха мешали ему сделаться самым лучшим: склонность к юмору и красивым женщинам. То и другое ценилось Тревельяном почти одинаково, хотя юмор всегда был при нем, а с женщинами время от времени приходилось расставаться. Но, обладая солидным опытом, он делал это весьма деликатно. УТК, «утка», или универсальная транспортная капсула, повинуясь его команде, снизилась у северного полюса и, не входя в плотные слои атмосферы, повернула, держа курс над сине-зеленой выпуклостью Западного океана. Достигнув субтропических широт, Тревельян снова повернул, теперь к востоку, и сделал три запланированных витка вокруг планеты, разглядывая серию пейзажей и картин, что проецировались на колпак кабины. Не один месяц просидев в центре подготовки, географию этого мира он знал как таблицу умножения. В Восточном полушарии тут имелся огромный материк, побольше Евразии и Африки вместе взятых, с двумя обширными внутренними морями, десятком гигантских рек и всем остальным, что полагалось такому солидному массиву тверди, – горами, лесами, степями, тундрой и ледником, тянувшимся до самого полюса. Весь континент, от горного хребта на юге до ледяных пустошей севера, был обитаемым, причем аборигены отличались от людей Земли лишь в самых незначительных подробностях. Два западных континента – или один, разделенный проливом, – были, как обе Америки, вытянуты по меридиану и, уступая втрое своим земным аналогам по площади, все же являлись приличными кусками суши. Все, что нужно, было в наличии: девственные земли, плодородные почвы, руды и минералы в горах, бухты, удобные для кораблей, масса животных и полезных злаков; словом, все, абсолютно все, кроме людей. Автохтоны с восточного континента полагали, что земля их плоская, и если отплыть в любую сторону на кораблях, то рано или поздно упрешься в Оправу Перстня Мира, который держит в руке Таван-Гез. Богам такая предприимчивость могла не понравиться – и самому Таван-Гезу, и его супруге Таванна-Шихи, и сыну их Тавангур-Дашу. Надо думать, по этой причине к западным материкам не плавали – во всяком случае, в былые годы. Облетев планету, Тревельян установил, что за прошедшую половину века будто бы ничего не изменилось. На востоке жизнь кипела; там стояли города, тянулись меж ними дороги, плыли по рекам галеры, парусники и грузовые плоты, вздымали пыль торговые караваны, зеленели поля, фруктовые рощи и пастбища, а кое-где даже шла война, что было, в общем-то, не характерно для центральной Империи и окружавших ее государств. А вот на западе – тишина! Ни струйки дыма над поселением, ни корабля в гавани, ни лодки на реке, ни охотников в степях, переполненных всякой живностью… Это означало, что все усилия Фонда развития инопланетных культур опять ушли водой в песок. Хотя последняя попытка, оформленная в виде учения Дартаха Высоколобого из Этланда, считалась теоретиками ФРИК самой масштабной и самой надежной за двести восемнадцать лет изучения Осиера. – Кое-кому это не понравится, – пробормотал Тревельян, давая команду на посадку. – Я даже знаю кому. Кто у нас занимался с этим Высоколобым? Группа Гайтлера, не иначе – идея-то была гайтлеровская… Значит, сам Гайтлер, Колесников, Сойер и Тасман. Гайтлер преставился, ушел к праотцам, даже в призраки ему не захотелось. Тасман… – он наморщил лоб, – Хьюго Тасман числится у нас без вести пропавшим. А вот Колесников и Сойер живы-здоровы и вполне благополучны. Большие люди, крупные ученые! Кстати, внеземную историю в Академии Сойер читал… и влепил мне… Вокруг колпака полыхнуло, заставив Тревельяна прищуриться, – «утка» вошла в плотный атмосферный слой, и автопилот включил защитное поле. Оставив воспоминания в покое, Тревельян вызвал изображение поверхности. Как и в начале спуска, под ним опять был океан, но уже не Западный, а Восточный. Здесь, в тропическом поясе, на равном удалении от Архипелага и пустынного материка в другом полушарии, лежал небольшой остров, подобный круглой корзинке с зеленью. От Княжеств Архипелага, ближайших обитаемых земель, его отделяло две с лишним тысячи километров. Имени остров не имел и в соответствующих документах упоминался просто: База. Когда ее покинули, Тревельяновы родители еще пешком под стол ходили, но, если судить по голографическим снимкам, место было живописное. Двигатель капсулы тихо зажурчал, свечение поля сделалось ярче, на колпаке кабины возникло изображение утеса или даже целой горушки посередине островка. – Вот сюда, – произнес Тревельян, отметив маркером ровную террасу у самой вершины. – Давай сюда, малышка, поближе к дверям. Аппарат, сбрасывая скорость, пошел вниз, небеса приняли густой бирюзовый оттенок, свечение поля исчезло. На секунду «утка» зависла над террасой, словно высматривая участок понадежней, потом, выдвинув посадочные опоры, плавно опустилась на базальтовый карниз. Тревельян стянул шлем, велел сдвинуть колпак и с наслаждением вдохнул теплый воздух, насыщенный запахом зелени и пряными морскими ароматами. Не вылезая из кабины, огляделся. Внизу шелестели деревья, похожие на пальмы, за ними виднелся ровный, заросший травами и цветами лужок, а дальше – золотые пески роскошного пляжа, окатанные морем валуны в бороде водорослей и тихие ласковые воды, простиравшиеся до самого горизонта. Лужок, пляж и деревья выглядели так, будто на остров не ступала нога человека – если не с сотворения Вселенной, то, по крайней мере, в ближайшую тысячу лет. Но Тревельян отлично помнил голограмму этих мест, помнил, какими они были до консервации Базы. На лугу стояли уютные домики со всеми удобствами, на пляже – шезлонги, зонтики-грибки и автоматы с прохладительным, под теми пальмами был бар, а вот под этими – кафе, танцплощадка и место собраний. Но консервация есть консервация; сейчас ни за что не узнаешь, что тут побывали пришельцы из иного мира. То есть узнать, конечно, можно, но для этого понадобятся интравизоры, металлоискатели и взрывчатка, чтобы своротить скалу и добраться до складов, ангаров и рабочих помещений. В кронах деревьев свиристели какие-то ярко окрашенные пичужки, над цветами порхала стайка медоносных бабочек, парил над самой водой длинноклювый белоперый рыболов, чуть заметно пошевеливая крыльями. Налюбовавшись этой благостной картиной, Тревельян усмехнулся и молвил: – Ну, прямо Таити или курорт на Венере! Девушек только не хватает, смугленьких таких, стройненьких, с карими глазками… А ведь были, наверное, и девушки… Не один же Гайтлер тут куковал со своей командой! – Тревельян повернулся к панели связи и жестом включил запись. – Май месяц, третий день, тринадцать сорок две единого времени, местное… – он покосился на автоматический хронометр, – десять двадцать. Прибыл на осиерскую Базу. Приступаю к осмотру. Ивар Тревельян, социоксенолог. Затем он вылез из кабины, забрал мешок со снаряжением и потопал по земле башмаками. Внизу был прочный, надежный базальт, никем не тронутый от века. С моря долетел резкий хриплый вопль – птица-рыболов ринулась к воде и тут же взмыла вверх, сжимая в клюве серебристую рыбешку. Тревельян неодобрительно покачал головой. – Что орешь, покой нарушаешь? Поймал свою селедку, и трапезничай в тишине… Ты тут, братец, уже не один. – Он подошел к скалистой стене, что поднималась за террасой, присмотрелся, ткнул пальцем в нужное место и произнес пароль. Стена раскрылась. Стоя на пороге темного прохода, он помахал «утке» рукой. – До встречи, солнышко. Прячься! Капсула исчезла. Только как следует приглядевшись, можно было заметить серебристый ореол защитного поля. Но Тревельян смотреть на это не стал, а повернулся и направился к лифтам. Скала за его спиной закрылась, в широком коридоре вспыхнул свет, а вместе с ним – табло указателя: «Ярус 1: администрация, связь, пункт управления, библиотека, лаборатории, хранилище артефактов, костюмерный блок. Ярус 2: жилые помещения, столовая, медицинский комплекс, гибернационный блок. Ярус 3: склады №№ 1—8, ангар роботов, транспортный сектор. Ярус 4: энергостанция, водоснабжение, деструкция отходов». – Все работает, даже удивительно, – сказал себе под нос Тревельян и, шагнув в лифт, спустился на первый ярус. Коридор тут был еще шире, стены облицованы плиткой сочного янтарного цвета, и кое-где висели картины, большей частью морские пейзажи. Осмотрев их и решив, что живописцу до Айвазовского и Пастри далеко, Тревельян направился в пункт управления, уютный овальный залец, где пробужденный паролем голокомп уже подмигивал зеленым глазом. – Мои приветствия, наблюдатель. – Компьютер говорил приятным мужским баритоном. – Взаимно, старина. Меня зовут Ивар Тревельян, социоксенолог ФРИК, специалист по гуманоидным культурам. Мы с тобой немного потрудимся вместе. – Ивар Тревельян, зафиксировано. Чем могу служить? – Выполни частичную расконсервацию по варианту «Б». Мне понадобятся костюмерная и лодка. У тебя должны быть маленькие лодки класса «скат»… Я не ошибся? – Процедура частичной расконсервации запущена. Подлодок «скат» имеется три. Транспортный сектор, четвертый ангар. Приступаю к проверке двигателя и навигационной системы лодки «Серая полоса». Тестирование займет семьдесят две минуты. – Вот и прекрасно. Тестируй, а я тем временем принаряжусь. – Желаете сеанс лучевой терапии? – Нет. Мне еще рано омолаживаться, но поесть и выпить не откажуть. Апельсиновый сок, гренки и яичницу с беконом. Справишься? – Безусловно, наблюдатель Тревельян. Куда подать? – А вот в костюмерную и подавай. Он вышел в коридор, разыскал нужную дверь, вошел и ахнул. Костюмерный блок был роскошным. Первым шел зал реквизита, обставленный шкафами с одеждой и стеллажами со всевозможным туземным добром, далее – несколько гримерных, все в зеркалах, с голокамерами, и еще один зал, поменьше – видимо, для инструктажа. Тревельян сунулся в ближайшую гримерную, вытряхнул свой мешок на мягкий удобный диванчик и разделся догола. Все волоски на его теле были удалены, включая усы и бороду, так как ни одна из осиерских рас таких украшений не имела. Зато грива темных волос была достаточно длинной, а бакенбарды просто великолепными – они спускались на два пальца ниже челюсти. Наклонив голову, он провел пальцем по черепному шву, тянувшемуся от верхней части лба до ямки под затылком. Шов тоже был в порядке, как и светлый оттенок кожи, благородной формы нос и едва заметные пигментные пятна под глазами, свидетельство его молодости. Сразу видно, что он не какой-нибудь провинциал с востока или запада, а представитель истинно имперской расы из провинции Трот или, скажем, Ки-Ксора. Подмигнув своему изображению в зеркале, Тревельян нащупал медицинский имплант, вмонтированный слева под ребрами, потом имплант с призраком, сидевший в виске, и начал было облачаться, но тут появились яичница и сок. Еду принес маленький робот-гномик; держа поднос в манипуляторах, он терпеливо ждал, пока Тревельян насытится. – Что-нибудь еще? – Знакомый баритон раздался из динамиков на груди гнома. – Благодарю, я сыт. Тревельян натянул нижнее белье, некое подобие сшитых вместе майки и коротких трусов, надел просторные полотняные штаны, спускавшиеся чуть ниже колена, подпоясался широким ремнем и подвесил к нему стальной кинжал местной пейтахской работы. Затем сунул ноги в башмаки с отворотами и накинул пончо, прямоугольный кусок голубой ткани с вырезом для головы, украшенный по низу кисточками. Взял лютню с декой из розового дерева, тронул пальцами звонкие струны и, пробуя голос, пропел: – Кто может сравниться с Матильдой моей! – У него тоже был баритон, довольно сильный и приятный, и хороший музыкальный слух. Прочистив горло, он распорядился: – Покажи-ка теперь мою голограмму. В полный рост! Посреди гримерной возникло его изображение. Элегантное пончо, знак его профессии, дорогой кинжал, драгоценная лютня, башмаки с медными заклепками… Бакенбарды двумя темными волнами спадают с висков, глаза блестят, лицо худощавое, бледное, взор светел… Очень романтичный облик! Тревельян обошел кругом и спросил: – Ну, как я тебе? Хорош? – Великолепен, наблюдатель Тревельян. Выше всяких похвал! – отозвался голокомп. – Рапсод из Братства, вероятно? Или все-таки пастух? – Рапсод. Видишь, лютня! – Пастухи иногда тоже ходят с лютнями, – сообщил компьютер. – Тебе видней, – буркнул Тревельян. – Ты тут двести лет провел. Функции Братства Рапсодов, странствующих сказителей, певцов и наставников в изящных и благородных искусствах, были ему до конца неясны, так как специалиста по этой узкой теме в Фонде не нашлось, а источники были весьма противоречивы. Тем не менее для своей миссии он выбрал ипостась рапсода как самую безопасную и надежную. Их Братство являлось уважаемой и разветвленной организацией, для которой не было границ; их обители в каждом крупном городе пользовались защитой властей и экстерриториальностью, их не трогали ни солдаты, ни чиновники, а заносчивое имперское дворянство общалось с ними едва ли не на равных. Причин такого расположения к Братству выяснить не удалось, ибо никто из исследователей им серьезно не занимался, распространяя на этот феномен земные аналогии: аэды, скальды, трубадуры и все такое прочее. Выучив с помощью гипноизлучателя сотни баллад и песен на трех языках, Тревельян был уверен, что найдет пропитание в любой деревне и защиту на любой дороге. Были еще и земные песни, переведенные на осиерский и вложенные в его память в великом множестве. Он нацепил наушные украшения, серебряные кольца, что охватывали ушную раковину, заканчиваясь снизу подвесками с бирюзой. Затем подошел к дивану и начал складывать в походный мешок свое имущество: теплый плащ, флягу с водой, полотенце, запасную трусомайку и два замшевых кошеля. В одном хранились огниво и трут, в другом – имперские монеты, десять серебряных, две золотые и пара горстей медяков. В мешок же он сунул лютню. Инструмент сам по себе являлся немалой ценностью, но в него был также вмонтирован голопроектор-пугалка, а в грифе хранилось миниатюрное устройство для аварийной связи. Затянув суму и повесив ее на плечо, Тревельян уставился на последний предмет, лежавший на диване, – цилиндр длиною с ладонь и толщиною в палец. То был лазерный хлыст, универсальный инструмент и страшное оружие в умелых руках. Тревельян пользовался им с мастерством виртуоза. Немного подумав, он сунул цилиндрик за отворот башмака и произнес: – Ну, вот и все. Благодарю за яичницу и гостеприимство. Как у нас с лодкой дела? С этой «Серой полосой»? – Проверка закончена. Все функции в норме. Заложить маршрут? – Это не помешает. От Базы – к Архипелагу, затем через Жемчужное море к берегу Хай-Та. Место желательно побезлюднее. – Приморский хребет подходит? Там практически нет селений, и ни китобои, ни ловцы жемчуга туда не плавают. Рифы, подводные скалы, стаи аппа… – Аппа, – повторил Тревельян, выходя из костюмерной. – Аппа – это акулы такие? Без костей и страшно прожорливые? – Да, наблюдатель Тревельян. – Давай к Приморскому хребту. С таким расчетом, чтобы за день я добрался до какой-нибудь деревни. Лодку потом вернешь на Базу. – Маршрут заложен, – сообщил компьютер, открывая двери лифта. – Счастливой дороги и удачной миссии, наблюдатель Тревельян. – Спасибо, старина. Он спустился на третий, предпоследний ярус, в большое квадратное помещение, стены которого были выложены плитками бледно-зеленого нефрита. Плитки светились неярко, вполнакала, как и положено при частичной расконсервации по варианту «Б». В воздухе, у самых стен, горели надписи: «Ангар роботов», «Склады», «Транспортный сектор». Тревельян направился к последнему указателю, прошел под аркой в коридор, достаточно широкий, чтобы в нем развернулись два тяжелых скиммера, оглядел его и решил, что Базу строили с размахом. Иначе и быть не могло: в экономической системе Земли и сотен богатых колоний Фонд развития занимал почетное место в первой десятке приоритетов, сразу за пунктом о безопасности и обороне. Контурный межзвездный двигатель позволил странствовать на тысячи парсек, и человечество, расширяя свое присутствие в Галактике, все чаще обращалось к проблемам не столько практическим, сколь философским. Например, к такой: что оно может сделать для братьев по разуму, пребывающих в дикости и нищете, не ведающих о таких достижениях культуры, как стратолайнеры и медицинские импланты, компьютеры и роботы, генная инженерия и голофильмы. Экспансия в космос шла без помех, враждебные расы трепетали, дружественные с трудом скрывали зависть, и потому пришел черед благотворительности. Кроме цивилизованных друзей и недругов, в Галактике было полно бедолаг, еще не вылезших из каменного века или эпохи феодальных зверств, которые нуждались в срочной помощи. Отказать им в этом было бы негуманно; к тому же содействие их прогрессивному развитию повышало престиж человечества. Но Тревельян, вообще-то склонный к размышлениям на этические темы, сейчас об этом не думал. Разыскав ангар под номером четыре, он осмотрел три лодки, стоявшие у бассейна с водой. Миниатюрные «скаты», рассчитанные на экипаж из трех человек, отличались только полосками на борту, серой, голубой и фиолетовой. «Серая полоса» была готова к плаванию: люк распахнут, кресла подняты, пульт переливается огнями, на голубом экране курсоуказателя – карта с проложенным маршрутом. Тревельян забрался внутрь, сел, бросил суму на соседнее кресло, поерзал, устраиваясь удобнее, и приказал: – Двинулись, Серая полоска. Не торопясь, средним ходом. Спешить ему в самом деле было абсолютно некуда: миссия могла занять шесть или восемь месяцев, а то и целый год. Возможно, больше. Никто не смог бы предсказать, когда она кончится и чем; за много веков история так и не сделалась точной наукой, хотя оперировала массой количественных оценок – порог Киннисона, индексы ДП, ТР, СР, мощность эстапа и тому подобное. Лодка соскользнула в бассейн и погрузилась в темную воду. Вспыхнул прожектор, и в ярком пучке света перед Тревельяном возник выходной тоннель. Его отполированные лазером стены медленно поплыли назад, хищной пастью раскрылась диафрагма шлюза, проглотив суденышко, затем сдвинулся наружный щит, и солнечные лучи смешались со светом прожектора. Теперь он находился в осиерском океане, в его первозданных глубинах, в шестнадцати метрах от поверхности. Внизу лежал откос подводной горы, основание острова, заросшее густым лесом водорослей, с причудливыми существами, мелькавшими со всех сторон; вверху мерцала и переливалась морская поверхность и тоже что-то мельтешило – крохотное, с ноготок, окрашенное во все цвета радуги. Скорость ощутимо возросла, в иллюминаторах потемнело – судно погружалось. – Ты куда? – всполошился Тревельян. – Крейсерская глубина – восемьдесят восемь метров, – звучным контральто сообщила лодка. – Ты вот что, рыбка моя серая… Ты всплыви-ка на поверхность и открой верхний люк. Хочу на остров поглядеть. – Выполняю. Они поднялись, и Тревельян высунулся по пояс. На западе, в золотых песках пляжей и зелени пальм, виднелся остров, на востоке до самого горизонта простиралась морская гладь, и оттуда, с восточного края мира, задувал легкий ветерок. «Самая погода для успешной навигации!» – подумал Тревельян. Суда у китобоев с Архипелага надежные, пара тысяч километров для них не расстояние, могли бы с легкостью доплыть сюда, обосноваться на острове, а после двинуться на запад, к новому материку… Однако не плывут, не двигаются! Почему? Не двигаются! Никак не желают двигаться! В этом был корень Осиерской Проблемы. Во всех других мирах, лежавших ниже порога Киннисона и, значит, допускавших тайное вмешательство, всякий эстап приносил вполне ощутимые результаты. Эстап, или ЭСТП, элемент социального и технического прогресса, мог носить различные формы: это могла быть идея колеса или одомашнивания животных, мысль о полезности централизованной власти или проект ветряной мельницы, соображения, касавшиеся преимуществ ирригации или единобожия, постулат о том, что поедать своих сородичей неэтично, способ строительства каменных стен, производства стали, растительного масла или подсечно-огневое земледелие. Идея, подброшенная правильно и осторожно, всегда приносила плоды; цивилизуемые начинали жарить мясо на кострах, ткать холст, строить города, объединяя их в державу, или отправлялись в дальние походы, чтобы найти свободную для заселения территорию. Конечно, это требовало времени, разного в различных мирах, определявшегося мировоззрением, физиологией, общественным устройством того или иного народа, расы, племени, что интегрально отражалось в ДПИ, движущем пассионарном импульсе. Аналитики Фонда измеряли его в стобалльной шкале, где за сто был принят импульс монголов эпохи Чингисхана, а опорные точки проходили через цезарианский Рим, походы Александра Македонского, нашествие гуннов Атиллы, наполеоновские войны, покорение Америки и другие события того же ряда. При всех отличиях между примитивными инопланетными расами, не было среди них ни одной, чей ДПИ опускался бы ниже тридцати единиц, и это означало, что любая культура способна воспринимать новые идеи, то есть развиваться по восходящей под действием внешнего толчка. Не было ни одной, кроме Осиера. При весьма высоких индексах социального и технологического развития, при высочайшей централизации власти, благоприятных природных условиях и культуре, соответствующей позднему Средневековью, это общество не сделало вперед ни шага. Ни к взлету Возрождения, ни тем более к эпохе ВГО, Великих Географических Открытий… Во всяком случае, за полтора столетия подсказок и намеков специалистов Фонда никакое новшество воспринято не было; пассионарный импульс Империи, десятков других государств и сотен варварских племен был равен абсолютному нулю. Компас, подзорная труба, переработка нефти в керосин, производство бумаги – все это кануло в пустоту, как и мысль о морском походе вдоль материка, от Княжеств Архипелага на востоке до Удзени и Островного Королевства на западе. При том, что во многих прибрежных державах имелся избыток населения, а также отличные суда, великолепные гавани и опытные мореходы! При том, что в Империи умели строить дворцы и крепости, каналы, акведуки, титанические стены и дороги по лучшим римским образцам. Еще умели шлифовать стекло, подогревать в бассейнах воду, производить предметы роскоши, ткать гобелены, делать прически и даже печатать книги – но только на пергаменте из рыбьей кожи. Кроме того, имелось множество изысканных искусств, от эротики и кулинарии до живописи, разведения садов и цветников, музыки, танца и тому подобного. Однако новые идеи, способные подстегнуть прогресс, не прививались в этом мире и даже, возможно, гасились вполне сознательно, представляя опасность сложившемуся порядку. Порядок держался на власти Империи, так что гипотеза о ее негативной роли приобретала все больше сторонников в Фонде и в осиерской экспедиции. Разумных решений этой проблемы не просматривалось, ибо ни одна из держав на севере, западе и востоке не могла подорвать имперского могущества, и если бы даже возникла жизнеспособная коалиция, попытка справиться с Империей означала бы войну. Не просто войну, а кровавое затяжное противоборство, которое длилось бы несколько десятилетий, нарушило стабильность на всем континенте и унесло миллионы жизней. Это был худший и совершенно неприемлемый из всех возможных исходов. На Земле великие империи рушились под напором варваров, но на Осиере данный вариант, казавшийся вполне естественным, не проходил. Варвары севера были слабы и малочисленны, а с южными племенами Империя обращалась так ловко, с таким политическим искусством, отработанным веками, что вопрос об их агрессии не возникал. Кроме того, варварское нашествие было ничем не лучше войны с союзом цивилизованных стран – скорее, много хуже, ибо результатом стал бы упадок древней высокоразвитой культуры. Так что если Империя сопротивлялась новациям Фонда, то справиться с ней насильственным путем было никак нельзя. Наконец земные эксперты решили, что феномен Осиера определяется факторами геополитическими, особыми природными условиями, позволившими одной из рас – в данном случае центрально-континентальной, или имперской, – добиться преимущества и удержать его на протяжении тысячелетий. Но если Империя и в самом деле являлась тормозом прогресса, то выход из тупика виделся в той же геополитике, в особенностях расположения суши и вод, в миграции народов на незанятые земли и зарождении новых государств. Так возник эстап Гайтлера, включавший вбрасывание информации о шарообразности планеты и о проверке этого факта морской экспедицией. Поход в другую половину мира был вполне реален, так как огромных водных пространств, сравнимых с Тихим океаном, на Осиере не имелось. Любая страна Пятипалого моря или Архипелага была способна отправить флотилию на восток, которая, преодолев четыре тысячи километров, достигла бы нового, доселе неведомого материка. То же самое могли бы сделать западные страны, Шо-Инг, Запроливье, Островное Королевство и другие, но их кораблям пришлось бы проплыть семь тысяч километров – что, однако, было задачей посильной при существующей технике мореходства и кораблестроения. Далее, как полагали Гайтлер и члены его группы, на новый материк ринутся все недовольные, авантюристы, воры, обнищавшие дворяне, безземельный люд – то есть дело пойдет по земному и хорошо известному сценарию. Появятся новые страны, новые, более мобильные общества, восприимчивые к переменам, жаждущие могущества и, возможно, победы над старым континентом; возникнет противовес Империи, что сдвинет ситуацию с мертвой точки. Этот эстап, самый масштабный за время изучения Осиера, был внедрен, после чего историки удалились, а База была законсервирована. Временной радиус событий, рассчитанный для эстапа Гайтлера, составлял пятьдесят лет; за этот период, как предполагалось, на Осиере произойдут заметные сдвиги, идея шарообразности мира распространится повсеместно, корабли достигнут западного материка, и там появятся первые поселения. Это и должен был проверить Ивар Тревельян, социоксенолог и один из опытнейших наблюдателей Фонда. В том случае, если результаты опять равны нулю, перед ним ставилась задача по выяснению причин такой удивительной пассивности. Полюбовавшись островом, он опустился в кресло, велел захлопнуть люк и двигаться ближе к поверхности, в том слое, куда проникали солнечные лучи. Суденышко шустро помчалось на запад, а Тревельян, попивая сок и жуя концентраты из корабельных запасов, принялся изучать морскую фауну и расспрашивать лодку обо всем непонятном. Этому занятию он посвятил время до заката, наступившего рано – сутки на Осиере составляли около двадцати двух земных часов. К вечеру он заскучал, ибо лодка была плохим попутчиком – шуток не понимала и вела беседу исключительно на темы ихтиологии. Не активировать ли призрак-имплант? – мелькнула мысль, но это дело он решил отложить до твердой суши. Потом устроился в кресле поудобнее и заснул. Утром они достигли Архипелага. То была цепочка крупных островов, лежавших напротив страны Хай-Та и отделенных от нее небольшим Жемчужным морем. На севере, за вытянутым лезвием меча полуостровом, простиралось море побольше, глубоко вдававшееся в континент пятью заливами и названное по этой причине Пятипалым. Кроме Хай-Та, к нему выходили еще три страны – Этланд, Манкана и Гзор. Место было оживленное, так что Тревельян предпочитал высадиться на диком побережье за Жемчужным морем. Жемчужных отмелей тут было преизрядно, но промышляли на них только люди из Хай-Та. Жители Архипелага, относившиеся к той же восточной расе, хайтасцев не уважали, считая их презренными пожирателями моллюсков. Сами они помаленьку пиратствовали в прибрежных водах, а в океане охотились на китов – огромных морских тварей, превосходивших величиной земные аналоги. Эти киты были двоякодышащими и, кроме легких, имели жабры, рыбий пузырь и все остальное, что полагается, а потому могли оставаться под водой несколько часов. Охота на них была тяжелым и опасным промыслом. Тревельяну захотелось взглянуть на корабли местных китобоев, и он велел выпустить робота-«шмеля», маленький летающий перископ. Минут через двадцать тот отыскал флотилию из пяти трехмачтовых судов, идущих под парусами. Корабли были высокобортными, с прямым парусным вооружением, с высокими надстройками на корме и носу – более крупные и надежные посудины, чем каравеллы Колумба. Чего им не хватало, так это духа великого генуэзца. Их капитаны не испытывали тяги к открытию земель и шли не на восток, а на север – то ли по пути миграции китов, то ли в Пятипалое море, где можно было половить другую рыбку, зазевавшихся купцов и мореходов. Лодка вошла в пролив между двумя островами, «шмель» поднялся на пару сотен метров, и приникший к обзорному экрану Тревельян увидел прибрежные деревушки, хижины из соломенных матов, лодки с рыбаками у берега и стадо похожих на свиней животных, пожиравших водоросли на отмели. Затем появились строения повыше и покрупней, вероятно обитель местного феодала. Целое городище из стоявших торчком бревен, а рядом – причал, тоже бревенчатый, с двумя довольно большими кораблями. За этой пристанью лежала на береговой гальке огромная китовая туша, и десятки людей с топорами и устрашающего вида секачами ползали по ней, врубаясь в плоть морского гиганта. – Время промысла? – спросил Тревельян. – Да, – подтвердила лодка. – Осиерские киты мигрируют по кольцу: от Архипелага – на восток, в пролив между двумя западными континентами, потом, огибая нижний континент, на юг, на запад и на север, снова к берегам Архипелага. На карте это выглядит так… – Подробностей не надо. – Тревельян задумчиво уставился на кита, чьи чудовищные ребра уже белели среди пластов розоватого мяса. – Значит, киты проходят мимо Архипелага и поворачивают на восток… Скажи-ка, были попытки отправиться на корабле следом за ними? – За все время наблюдений не зафиксировано. – Это как-то объясняется? – Выловленных животных достаточно для пропитания и торговли мясом, жиром и китовым пузырем. Если ловить больше, не хватит рук для их переработки. – По данным, с которыми я ознакомился, население Архипелага увеличивается, – заметил Тревельян. – Да, но с темпом воспроизводства одна целая и три тысячных. Часть мужчин гибнет на охоте и в пиратских набегах. Они вошли в узкое Жемчужное море. Его северный берег с полуостровом-мечом простирался на пять сотен километров и был отлогим, со множеством удобных для поселения заливчиков и бухт; на юге вставала громада Приморского хребта, вторгавшаяся в океан другим полуостровом, похожим формой на широкий коготь. За ним, в районе экватора, тянулось море Травы – огромный, заросший водорослями эстуарий, примыкавший к зоне саванн и тропических лесов. Насколько было известно Тревельяну, мореходы в те края не плавали. Лодка пересекла море за пару часов. Был полуденный час, когда суденышко приблизилось к безлюдному берегу, над которым нависали скалы, переходившие в заросший субтропическим лесом горный склон. Отозвав «шмеля», Тревельян велел подняться на поверхность и высунулся в люк, разглядывая горы, скалы и огромные деревья, корявые и разлапистые, с веерами длинных зеленовато-серых листьев. Пальмовые дубы, всплыло в памяти. Дают орехи и ценную древесину. – Осторожнее, – предупредила лодка. – Стая аппа. – Акулы? – Да. Очень подвижные. Внезапно рыбины величиной с барракуду окружили их. Зубастые пасти, бахрома многочисленных плавников, круглые неподвижные глаза… Они были стремительными и гибкими и мчались за лодкой без труда, по временам выпрыгивая из воды и пролетая в воздухе несколько метров. Скелета как такового у этих тварей не имелось, только хрящи, не уступавшие прочностью пластику. Несмотря на свои небольшие размеры, они могли справиться с китом и перевернуть рыбачий баркас. Аппа преследовали лодку до самых скал, пока она не выползла на берег, втиснувшись между двух валунов. Тревельян вылез, повесил на плечо мешок, хлопнул ладонью по закрывшемуся люку. – Спасибо, Серая… Можешь отправляться назад. – Выполняю, – раздался приглушенный корпусом голос. Задним ходом лодка передвинулась в воду, поплыла, окруженная быстрыми юркими телами акул, и с тихим плеском исчезла в глубине. Тревельян стоял, провожая ее взглядом. Теперь он остался один на один с планетой Осиер, без защиты земной техники, без могущества, которое давали человеку роботы, межзвездные крейсеры, почти разумные компьютеры, силовые поля и молекулярные деструкторы. Но это его не беспокоило. В такой ситуации он был не первый раз. Бросив последний взгляд на море, он повернулся к нему спиной и полез по камням наверх, туда, где зеленели пальмовые дубы, звонко пищали птицы и носились по ветвям какие-то мелкие зверюшки, местные белки, или древесные кролики, умевшие скакать не хуже белок. Поднявшись метров на двести, он добрался до лесной опушки и уже хотел войти под сень оплетенных лианами деревьев, но вдруг остановился, дернул свои бакенбарды и пробормотал: – Призрак, святая Галактика! Забыл, совсем забыл! А дед наверняка обидится! Чтобы включить имплант в виске, требовалось мысленное усилие. Тревельян напрягся, и под черепом тут же прозвучал знакомый голос: «Черт подери! Сгноить меня хочешь, парень? Паршивец трахнутый! Чтоб тебе больше на бабу не влезть! Чтоб тебе водкой подавиться! Чтоб реактор под тобой взорвался! Чтоб…» – Дед, – вслух сказал Тревельян, – послушай, дед! Я ведь уже объяснял, что нет у нас ни водки, ни реакторов. Какие еще реакторы, если мы по Лимбу на контурном двигателе летаем! Пьем же исключительно вина да соки и с женщинами скромны до невозможности – во всяком случае, я. Может, успокоишься? Но дед успокоиться не захотел и сыпал проклятиями еще минут десять.Глава 2 ПОБЕРЕЖЬЕ ЖЕМЧУЖНОГО МОРЯ
Дед и призрачный Советник Тревельяна, исполнявший обязанности секретаря-регистратора, был тем еще фруктом. Собственно, не дед, а далекий пращур, но, как утверждал Всепланетный генетическай архив, Тревельян являлся его прямым потомком в девятнадцатом или двадцатом колене. Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, десантник и командор Звездного флота, пять веков назад совершил немало подвигов, был отмечен всевозможными наградами и пал смертью храбрых в возрасте девяноста двух лет, командуя крейсером «Паллада». Погиб он в том знаменитом сражении в секторе Бетельгейзе, когда три земных крейсера разгромили флотилию дроми, доказав агрессорам и всей Галактике, что среди звезд появилась новая, могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Но до славной своей гибели старик летал и дрался более семи десятилетий, неоднократно горел и замерзал, командовал десантами, был ранен восемь раз и женат четырежды – словом, накопил огромный опыт, и потому его личность сохранили в памятном кристалле. Как всякий наблюдатель Фонда, которому предстояли долгие странствия в одиночестве, Тревельян мог взять или не взять с собой Советника и, по зрелом размышлении, решил, что призрак ему не помешает. А если уж кого-то выбрать, то, разумеется, предка, кровно близкую персону и к тому же в прошлом человека бывалого и решительного. Хотя временами дед был крутоват и заворачивал по-командорски, пользуясь ненормативной лексикой. Высказав все, что накипело, он наконец утихомирился и обозрел пейзаж. Подобно любому призраку-импланту, он состоял в ментальной связи со своим носителем, в данном случае – с Тревельяном, и мог использовать его глаза, органы слуха, вкуса, обоняния и даже в некоторой степени тактильный аппарат. Иногда это создавало для Тревельяна определенные трудности, но в общем и целом они уживались неплохо. Осмотревшись, командор резюмировал: «Приятная планетка этот Осиер. И горы тут подходящие. Вон в той, с тремя зубцами, я разместил бы командный бункер, на вершине – ракеты ближнего удара, а батарею плазменных метателей закопал бы…» – Дед, мы с дроми уже не воюем, – прервал его Тревельян. – И хапторов мы победили, и кни’лина. У нас, в общем-то, мир. Нынче мы милосердны. «Хочешь мира, готовься к войне, – мудро заметил старик. – Ну, вам, потомкам нашим, милосердцам недоделанным, виднее… Куда сейчас направимся?» – К дороге, – отозвался Тревельян, забираясь в лес. – Пройдем перевал и спустимся к дороге. Она тянется у горных отрогов, а затем поворачивает вдоль берега. Не имперский тракт, но все же… Доберемся до какой-нибудь рыбачьей деревушки, и получится, что я пришел с запада. Скажем, окружным путем из Рори. Лес, хоть и субтропический, был вполне проходим – пальмовые дубы глушили подлесок. Мощные неохватные стволы серо-фиолетового оттенка уходили вверх, распадались на шесть, восемь, десять стволов поменьше, а те уже обрастали ветвями, листьями и гроздьями орехов величиной в два кулака. Это был верхний ярус лесного мира, с которого зеленым дождем струились вниз лианы с огромными белыми и розовыми цветами, сыпались сухие листья, кусочки коры и пустая ореховая скорлупа. Очевидно, здесь орехи ели все от мала до велика, но если малые были заметны, и птицы, и лазающие зверьки, то ничего по-настоящему великого не попадалось. Самой внушительной фигурой оказался двухметровый змей, встопорщивший при виде Тревельяна поросль колючек на хребте. Выглядел он грозно, и Тревельян его обогнул. «Рори – это что такое?» – полюбопытствовал командор, наскучив молчанием. – Столица Хай-Та. Мы туда попадем, но сначала заглянем в Бенгод, порт на Жемчужном море. Оттуда начинается имперская дорога на восток. Солнце стояло в зените, и под кронами дубов разливались жара и духота. Тревельян вспотел, но стащить пончо не решился – в воздухе мельтешили насекомые не самого приятного вида. Крови его как будто не домогались, но кто их знает… «Хай-Та… – протянул призрак. – Что-то приличное?» – Отнюдь. Окраина здешнего мира, захудалое королевство. Горы, леса, жемчужные отмели, жаркий климат… В самом деле жарко, дьявол! «Разве здесь жара, мальчуган? Это не жара, а так, теплая банька. Вот когда кни’лина, сучьи морды, подбили «Свирепого» и я горел на мостике…» – Командор смолк, погрузившись в давние воспоминания, потом очнулся и заметил: – Говоришь, захудалое королевство этот Хай-Та? И что тебе надо в такой дыре? В том же Бенгоде?» – Справки кое-какие наведу, – сказал Тревельян, ровным шагом поднимаясь к перевалу, до которого осталось не больше двух километров. Он смахнул пот со лба и, не замедляя шага, вытащил флягу и прополоскал горло. В общем-то зной, духота и пешая ходьба не вызывали у него особых возражений. К походным тяготам он был привычен, как и к неприятностям, связанным с этим способом передвижения. И потому вовремя почувствовал, что за ним наблюдают. Чувство было ментальное, надежное, и ясно ощущалось, что взгляды, коловшие со всех сторон, не слишком доброжелательны. Так, словно кто-то оценивал его с гастрономической точки зрения. Надо уйти из-под деревьев, подсказал инстинкт. Повинуясь ему, Тревельян выбрал прогалину, где дубы росли не слишком густо, вытащил из башмака лазерный хлыст и огляделся. В древесных кронах посверкивали злые маленькие глазки, маячили поросшие рыжей шерстью тела, а временами сверкали зубы, желтые и очень внушительной величины. Слышались также шорохи, негромкое, но угрожающее верещание, а ветер доносил гнилостный запах. – Познакомимся? – предложил Тревельян, морщась от этого аромата. – Я ничего плохого вам не сделаю. Клянусь тепловой смертью Вселенной! Ветка качнулась, и на землю спрыгнул один из наблюдателей – видимо, вожак. Существо, появившееся перед Тревельяном, было трудно назвать пародией на человека – скорее, то была пародия на обезьяну. Конкретно, на шимпанзе,ростом немного больше метра, но с могучими мышцами рук, плеч и бедер, которые делали эту тварь почти квадратной. Шкура была рыжей, клочковатой и густой, вдоль шеи и спины топорщилась грива, но главным отличием от земного аналога являлись челюсти, снабженные такими клыками, что им позавидовал бы саблезубый тигр. Запах от этого монстра шел ужасающий. – Пц, пц-пц! – проверещало существо, делая шаг к Тревельяну. – Знаю, что ты пац, только ближе не подходи, – сказал тот, отступая. – Амбре, знаешь ли, у тебя убийственное. – Пц! – подтвердил вожак, разевая пасть и демонстрируя клыки. По характерному верещанию этих тварей здесь называли пацами. Как помнилось Тревельяну, изучившему по записям животный мир Осиера весьма подробно, пацы были всеядными наподобие медведей и кабанов, ели все от орехов и фруктов до червей и гусениц, и мясом отнюдь не брезговали. Взрослый пац был гораздо умнее и опаснее волка, и, как и волки, они являлись животными стайными. Тем не менее их ловили, приручали и таскали по городам и селениям для забавы, в караванах бродячих циркачей. Вожак пристально поглядел на Тревельяна и облизнулся. Его сородичи ссыпались с ветвей – мощные самцы, крепкие мускулистые самки и целая прорва детенышей. Воняли все они одинаково отвратно. Тревельян, привыкший ко многому, сморщился еще сильнее. – Может, договоримся? – сказал он. – Я своей дорогой пойду, вы – своей. Обратно на деревья, к вкусным орешкам. – Пц-пц! – быстро произнес вожак, и это явно означало: нет, не договоримся! Ты, братец, повкусней орешков будешь! В стае, окружившей Тревельяна, было десятка три взрослых пацев, способных разорвать его в мгновение ока. Собственно, это они и собирались сделать. «Ну и мерзкие хари! – раздался ментальный голос командора. – Чего ты ждешь, внучок? У тебя же лазерный меч! Нашинкуй отбивных из поганцев!» Но устраивать бойню Тревельяну не хотелось. Сунув хлыст за пояс, он вытащил лютню и дернул струны определенным образом, включив голопроектор. Аккорд номер три, для превращения в пламя… Сейчас он представлялся четвероруким хищникам в виде бушующего огня, пусть не жаркого, не палящего, но страшного видом; иллюзия была достаточно реальной, чтобы в нее поверили и зверь, и человек. Скрытый огненными оранжевыми языками, что поднимались выше головы, Тревельян шагнул к вожаку и рявкнул: – Этого хватит, вонючка рыжая? Или тиранозавра изобразить? Заскулив, пац метнулся к дереву. Его воинство разбегалось; самцы удирали первыми, за ними – самки, схватившие детенышей. Несомненно, они знали, что такое огонь. «Я бы им все же кровь пустил, – заметил командор. – Для острастки! Чтоб уважали! Люди мы или не люди?» «Люди», – мысленно ответил ему Тревельян и, не выключая миража, полез на перевал. Миновав седловину, он избавился от огненного обличья. Пологий склон горы тянулся вниз, большие деревья тут уже не попадались, а торчали камни, заросшие кустарником и багровым мхом, поднимавшимся до колена. Но на прибрежной равнине, что лежала к северу, опять курчавились необозримые леса, уходившие к границе с Этландом, где чащ и дебрей было не меньше, чем в Хай-Та. Скорее всего, даже больше. Тревельян спускался быстро, высматривая дорогу, которая, по данным Фонда, проходила между предгорьями и лесной опушкой. То был не широкий благоустроенный имперский тракт, а магистраль местного значения, протоптанная, скорее всего, охотниками из ближайших деревень. Но хайтасцы, кормившиеся в основном дарами моря, к охоте были равнодушны, так что дорога за пятьдесят лет могла исчезнуть начисто. Но все же Тревельян ее нашел, не столько дорогу, сколько тропу, бежавшую вдоль лесной опушки. Этот факт подтверждал, что специалисты Базы даром хлеб не ели и картам их можно довериться даже через половину столетия. Трудно было ожидать иного; Фонд развития инопланетных культур являлся слишком серьезным предприятием. ФРИК прогрессировал именно культуры, так как это понятие шире цивилизации; скажем, можно говорить о культуре неолита, хотя ее представителей цивилизованными не назовешь. Идея помощи инопланетным расам зародилась в глубокой древности, еще в двадцатом веке, и первый импульс ей дали не философы, не представители точных наук и, конечно, не политики, а писатели-фантасты. В современном мире Тревельяна Ивана Ефремова, Лема и братьев Стругацких рассматривали как великих гуманистов, намного опередивших свою эпоху; собственно, их предсказания, выраженные в художественной форме, легли в основу деятельности ФРИК. Но, разумеется, с существенными поправками. Киннисон, один из основателей Фонда, доказал (сначала теоретически, а затем на практике), что положительный эффект внешнего воздействия может быть достигнут только в рамках культур, не перешедших некоего порога. Эта граница лежала в позднем Средневековье, когда географические представления о мире еще неясны, когда влияние религии огромно, когда капитал, машины и скорострельные пушки еще не начали своего победного шествия. Помогать без большой крови удавалось лишь обществам на дотехнологической стадии, еще не вступившим в эпоху Великих географических открытий, не поделившим земли и источники сырья в планетарном масштабе, не имеющим иного транспорта, кроме паруса, лошади и собственных ног. Любое тайное или открытое вмешательство в технологически развитую культуру давало негативный результат, который варьировался от всепланетной войны с десятками миллионов погибших до полного разрушения экологии, с регрессом немногих выживших в троглодитов. В технологическом и даже предтехнологическом обществе конкуренция между державами и их владыками уже настолько велика, что всякий эстап, казалось бы, абсолютно невинный, обращается к военным нуждам либо к достижению экономического превосходства – что, в свою очередь, ведет к порабощению соседних стран. Стремление к общепланетному господству обостряет все противоречия, религиозные, расовые, национальные, и жизнь мира в подобный момент зависит лишь от мощности оружия: меч ли это или атомная бомба и смертельный вирус. Во времена Киннисона Фонд попытался прогрессировать три гуманоидные расы, достигшие уровня девятнадцатого века Земли, но больше такие попытки не повторялись. Миры, погубленные вмешательством извне, были переименованы, и даже Тревельян, социоксенолог, не помнил прежних их названий. Зато нынешние сидели в памяти гвоздем: Ледяной Ад, Горькая Ягода и Рухнувшая Надежда. С той поры Фонд научился многому и не допускал ошибок ни в большом, ни в малом. Взять хотя бы эту дорогу… Есть на карте – и значит, есть в реальности. По расчетам Тревельяна, он, лазая по горам, не слишком удалился от морского берега – очевидно, на четыре-пять километров. Ренур, местное солнце, стоял еще высоко, была середина Дня. Не дня вообще, а времени суток, которые во всех цивилизованных странах Осиера делились на пять периодов: Восход – с семи до десяти утра, Полдень – с десяти до четырнадцати, День – с четырнадцати до восемнадцати, Закат – с восемнадцати до двадцати одного. Остальные восемь часов занимала Ночь. Более мелкие доли времени здесь обозначались как середина и четверть; с одной стороны, не очень точно, с другой, осиерцев это устраивало. Они никуда не торопись, а меньше всего – в эпоху технической революции. Середина Дня – четыре часа по земному счету. Тревельян полагал, что еще до начала Заката он выйдет к какой-нибудь деревушке. Так оно и получилось. Вскоре он услышал плеск волн, затем тропа резко свернула к северу и сделалась шире, постепенно превращаясь в хорошо утоптанную грунтовую дорогу. Слева от Тревельяна по-прежнему зеленела лесная чаща, а справа были уже не горы, а ровный, усыпанный галькой откос и лазуритовая даль Жемчужного моря. В ней темнели пироги; одни шли под парусом, к другим, застывшим на месте, то и дело поднимались ныряльщики, перебрасывая через борт сетки с раковинами. Берег был изрезан бухтами, их разделяли то невысокая скала, то нагромождение камней или мыс, протянувшийся на сотню-другую метров, и дорога отклонялась и петляла, обходя препятствия. Наконец за очередным поворотом открылся залив побольше тех, что встречались прежде, пальмовая рощица, причалы с лодками, а между рощей и причалами – два десятка аккуратных бревенчатых домиков, навесы, сараи и сети, растянутые для просушки. На мелководье у берега бродили двое мальчишек с острогами. Увидев Тревельяна, они застыли точно пара изваяний из красноватой меди, затем помчались к берегу, размахивая своими орудиями, подпрыгивая и вскрикивая от избытка чувств. «Хотят напасть?..» – подумал Тревельян, но тут же понял, что ошибается: его приветствовали. – Т-ты… т-ты правда рапсод? – заикаясь, спросил один из мальчуганов. У обоих брови были необычайно густыми, а мочки ушей оттянуты почти до плеч. – Рапсод, – ответил Тревельян на восточном диалекте. – Рапсод из Братства Рапсодов, и зовут меня Тен-Урхи. Я иду из… Но его не дослушали. Пареньки помчались по дороге в деревню, подпрыгивая еще выше и вопя в две глотки: «Рапсод! К нам пришел рапсод! Его имя Тен-Урхи! Настоящий рапсод из Семи Провинций! Тен-Урхи!» Империю часто называли Семью Провинциями. Двойное имя Тревельяна и его внешность, бакенбарды, темные волосы и пигментные пятна под глазами, были свидетельством того, что он появился на свет в центре материка, у пресного моря Треш. Видимо, люди континентальной расы, да еще певцы, были не частыми гостями в этой деревушке. Он вступил на небольшую площадку между домами. Люди сбегались со всех сторон – женщины, ребятишки, старики. Мужчин почти не видно, отметил он, – надо думать, промышляют в море. Вперед выступил старик. Одежды на нем, как и на других жителях, было немного – кусок зеленой ткани, обернутый вокруг бедер, да ожерелье из рыбьих костей и птичьих перьев. Старец сделал ритуальный знак – описал кружок у сердца. Тревельян ответил тем же. – Да будут милостивы к тебе Трое, Тен-Урхи! Я разделяю твое дыхание. – А я – твое, – ответил Тревельян. – Ты устал? Ты голоден? Ты хочешь пить? – Устал, голоден и хочу пить. Его не спросили ни о цели визита, ни о том, откуда он пришел и куда направляется. В рыбацких общинах Хай-Та были свои понятия, как встречать чужестранцев. – Меня зовут Вашшур, – сказал старик. Затем, коснувшись плеча стоявшего рядом пожилого мужчины, представил его: – Это Нухассин, мой друг и помощник. Эй, женщины! Вы слышали, что сказано гостем, посланным нам богами? Он устал, он голоден, он хочет пить! Не прошло и трех минут, как Тревельян уже сидел на циновке под пальмами, перед ним стоял котелок с варевом из моллюсков и рыбы, горой лежали орехи и фрукты, в кувшинчике плескался сок, разбавленный водой. Вашшур и Нухассин сидели напротив, время от времени прикладывались к своим кувшинчикам и развлекали гостя беседой. Остальные обитатели деревни столпились шагах в двадцати, взирая на Тревельяна с интересом и почтением. На земной взгляд, они были не очень красивы. Типичные представители восточной расы: удлиненные мочки ушей, красноватая кожа, необычайно густые брови, затеняющие глаза, непривычный цвет волос, почти белесый, отчего все они, и юные, и старые, выглядели поседевшими. Волосы на голове тоже были густыми, но короткими, и росли на темени и затылке, оставляя открытым лоб. Самой странной деталью их лиц являлся нос, крупный, с утопленной вглубь носовой перегородкой, отчего казалось, что у некоторых из них только одна ноздря. Впрочем, их внешность не удивляла Тревельяна; готовясь к своей миссии, он провел много часов в гипнотическом трансе, поглощая знания об Осиере. Про этих людей он знал больше, чем они сами знали о себе. Например, то, что живут они не дольше шестидесяти лет и что мощные легкие и выпуклая грудная клетка делают их превосходными ныряльщиками. – Ты пришел, и это доброе предзнаменование, – произнес Вашшур. – Да, доброе, – подтвердил Нухассин. – Лов будет удачным. – Надеюсь, что так, – кивнул Тревельян, налегая на ароматное варево. После прогулки в горах он сильно проголодался. – Люди Высокого и люди Светлого Дома – те, что в Бенгоде, – хотят голубой жемчуг. А это большая редкость! – сказал Вашшур. – Редкость, – согласился Нухассин. – За год мы набираем вот столько, – он сложил пальцы горстью, – но думаю, что теперь будет больше. Конечно, если ты споешь нам волшебную песнь. – Спою, обязательно спою, – пообещал Тревельян, доедая рыбу и тающих на языке моллюсков. Вероятно, речь шла о дани или налоге; Высоким называли правителя Хай-Та, а Светлым Домом – императора. Их люди, сидевшие в Бенгоде, были не иначе как налоговыми чиновниками. Он поднял кувшинчик, оглядел его и выпил прохладного кислого сока. Вашшур и Нухассин вежливо приложились к своим сосудам. Быт в их деревне был прост, но отнюдь не примитивен: хижины из вкопанных торчком бревен выглядели прочными и вместительными, котелок из бронзы украшен чеканным орнаментом, глиняные кувшинчики имели изящную форму, а циновка, на которой сидел Тревельян, была искусно сплетена из тростника. Признаки древней культуры, которая, по мнению археологов Фонда, проводивших тайные раскопки, датировалась двумя-тремя тысячелетиями. – Я иду из Рори в Бенгод, – сообщил он, приступая к фруктам. По вкусу плоды походили на сливы, а по виду – на апельсин. Во всяком случае, кожура у них была оранжевая. – Из Рори в Бенгод… – повторил Вашшур. – Но ты выбрал плохую дорогу, Тен-Урха! Дорогу между лесом и горами, которой редко ходят. Лучше было бы идти по тракту, который выложен ровными камнями. – Но тогда я не попал бы к вам, Вашшур. Кроме того, у плохой дороги есть свои преимущества. – Тревельян стер с губ фруктовый сок. – Она безлюдна, и никто не мешает сочинять новые песни. А это дело требует уединения. – Конечно, конечно, – старик закивал. – Люди твоего Братства угодны богам, и грозный Таван-Гез, Заступница Таванна-Шихи и вечно юный Тавангур-Даш охраняли тебя на этом пути. Наверное, ты сочинил много песен? – Кое-что есть, и сегодня вы их услышите. Но главную песню – может быть, даже сказание – я сочиню в Бенгоде. Нухассин поморщился. – Там слишком много народа. Уединение в Бенгоде слишком дорогой товар. – Кроме уединения мне нужны новые вести, новые мысли и новые слова. – Тревельян погладил живот в знак того, что насытился. – Я слышал, что какие-то люди – может быть, из Хай-Та или Этланда, может быть, с Архипелага – плавали на восток. Слышал, что они пересекли океан на своих кораблях и вернулись обратно. Еще слышал, что они нашли за океаном новую землю. Если это правда, я сложу о них сказание. Вашшур и Нухассин переглянулись с недоумением. – Наши ловцы жемчуга бывают в Бенгоде, но ни о чем подобном им не говорили, – сказал старик. – Плавать далеко в океан… Разве такое возможно! Там нет никаких земель, но если долго плыть, корабль наткнется на Оправу Мира. А это Таван-Гезу не понравится! – Совсем не понравится, – поддакнул Нухассин. Тревельян разочарованно вздохнул. Нет слухов о дальних плаваниях в океане… Печально, очень печально! Разумеется, он соберет информацию не только в этом селении на краю света, но и в больших портовых городах востока и запада, в имперских провинциях и в столице. В конце концов, что знали о плавании Колумба в Китае семнадцатого века или, предположим, в дебрях финских лесов?.. С другой стороны, Хай-Та не Китай и не страна Суоми, а держава, близкая к центру событий… если бы такие события состоялись. Снова вздохнув, он произнес: – Не уверен, что на восток плавали недавно. Может быть, десять или двадцать лет назад… Поэтому я все же пойду в Бенгод и постараюсь разузнать там что-то определенное. – Тебе не надо идти в Бенгод, – сказал Вашшур. – Уже время Заката, и скоро вернутся пироги с нашими мужчинами. Останься здесь на Ночь, а утром я прикажу, чтобы тебя отвезли в Бенгод под парусом. Если отправиться в середине Восхода, то ты попадешь туда к началу Дня. Дорога морем легче, чем по суше. Тревельян подумал и согласился. Потом достал из мешка свою лютню, настроил ее и начал петь. Пел он до тех пор, пока не вернулись с моря ловцы жемчуга и не взошли в небесах альфа и бета Апеллеса, известные в этом мире как Ближняя и Дальняя звезда. Песни он пел не свои, чужие, но были то баллады Удзени, Торе, Шо-Инга и Островного Королевства, земель западных и столь далеких, что в этой деревне о них даже не слышали.* * *
Утром он отправился в Бенгод на пироге с балансиром и высокой мачтой с косым парусом. Сопровождали Тревельяна шестеро парней, и всю дорогу он то пел им песни, то расспрашивал, не ходят ли в их краях какие-нибудь слухи о путешествиях в Восточный океан и лежащих за ним землях. Но молодым рыбакам ничего об этом не было известно. Может быть, план Гайтлера все же сработал, но экспедиция была секретной? Если Империя не поощряла исследование мира, а восточные страны не хотели нажить неприятностей, то такой вариант не исключался. И десять против одного, что это дело провернули Княжества Архипелага, а не континентальные державы. Во-первых, у Княжеств лучше корабли, во-вторых, они расположены совсем на отшибе, дальше от Империи, чем Хай-Та, Этланд и другие королевства Пятипалого моря, а в-третьих, кому же свершать открытия в океане, как не пиратам и китобоям! Конечно, им нужен финансовый стимул, но разве новые земли не сокровище? Не потому, что там можно вырастить пальмы или откопать в горах злато-серебро, а по причине более веской: в новой земле капитан – король, его помощник – герцог, а самый распоследний юнга – дворянин. Новые земли – это новые державы, и власть в них будет принадлежать тому, кто их откроет. «Разве не заманчивый пряник?..» – думал Тревельян. Он почти уговорил себя, что экспедиция состоялась, что тайные плавания через океан идут не первый год и что на Западном материке уже построены форты и даже, может быть, распаханы под их стенами огороды. Конечно, висевшие над планетой спутники такого не зафиксировали, и сам он, облетая Осиер, ничего не увидел, но многое ли разглядишь с орбиты, если поселок запрятан в девственном лесу! Он сошел на пристань в Бенгоде с твердым намерением провести расследование. Все тайное рано или поздно становится явным, но еще до этого начинают циркулировать слухи и сплетни, легенды и байки моряков, а где к ним лучше приобщиться, как не в портовом городе. Бенгод являлся именно таким местом, поскольку в нем была сосредоточена транзитная торговля между Архипелагом и странами Пятипалого моря. В его гавани теснились суда, берег был одним сплошным причалом, а дальше стояли мощные бревенчатые склады для товаров, лавки и конторы купцов, кабаки и таверны, постоялые дворы и маленькие храмы, в которых каждый мореход мог отмолить грехи перед рейсом. За этими портовыми районами, шумными, вонючими и грязными, заваленными рыбьей чешуей, крабьими панцирями, ломаными гниющими бочками, ящиками и корзинами, остатками рваных канатов и парусов и бог знает чем еще, начинался собственно город: небольшая крепость на холме, казарма, дома наместника, чиновников, торговцев и мастеров побогаче, владевших верфями, кузницами, лесопилками, парусными мастерскими и производствами по выделке рыбьей кожи и переработке китового пузыря. Здесь было заметно почище, и здесь стояли государственный храм Трех Богов, высокая сигнальная башня с барабанами и трубами для передачи сообщений и цирк, где выступали бродячие актеры. Все из дерева, ибо Хай-Та являлся лесной страной, а срубить дерево много легче, чем выломать и обтесать камень. Тревельян побродил по городу, пока не истекло время Дня. Тут особых знаков почтения, как в рыбачьей деревушке, ему не оказывали, и никто не говорил, что хочет разделить с ним дыхание. Бенгод являлся местом торговым, и нравы в нем были не патриархальные, а соответствующие городскому назначению; без монет здесь ни похлебки, ни вина не наливали и не пускали на постой. Народ в Бенгоде попадался разный: развеселые моряки с Архипелага в штанах и жилетах, украшенных жемчугом, чинные мастера и подмастерья с женами, солдаты с мечами и алебардами, уличные торговцы с лотками всякой снеди, попрошайки и кабацкий люд в отрепьях, а также вездесущие мальчишки, горластые и полуголые. Иногда проезжала коляска, в которой сидели чиновник или богатый коммерсант, и кое-кто из них, в бакенбардах, с темными волосами и светлой кожей, относился к имперской расе. Все остальные были примерно такими же, как Вашшур, Нухассин и их соплеменники: меднокожими, носатыми, с белесыми волосами. По идее, где-то в лабиринте этих узких улочек и крохотных площадей находился странноприимный Дом Братства, но Тревельян не стал его искать. К началу Заката он вернулся в портовый район, выбрал заведение с нарисованным на дверях синим китом, в котором ели и пили мореходы с Архипелага, вошел и сел, скрестив ноги, на кожаную подушку у низкого длинного стола. Хозяин, тощий, как корабельная мачта, принес на блюде местного омара, жуткую тварь размером с футбольный мяч, с двадцатью ногами. Фирменное блюдо, решил Тревельян и, поглядывая на более опытных соседей, разбил панцирь рукоятью кинжала и подцепил на лезвие кусочек розового мяса. К этому блюду полагалась кружка с вином, имевшим привкус фруктов, которыми днем раньше потчевал его Вашшур. «Моча, – заметил командор после дегустации. – А краб ничего. Помню, когда я служил на «Койоте», в кают-компании подавали…» Он пустился в воспоминания, но это не мешало Тревельяну есть, пить и поглядывать по сторонам. Его сосед справа спал, уткнувшись лицом в миску с объедками, соседи слева спорили, кто дальше метнет гарпун, а по другую сторону стола сидели трое бравых мореходов в дорогой одежде, сделанной на островах Архипелага – склеенной особым образом из дубленого китового пузыря и не пропускавшей воду. У них были жилеты, шитые мелким жемчугом, широкие перевязи через плечо и длинные ножи, которыми они умело потрошили двадцатиногих крабов. Эти травили морские байки, что было небезынтересно. В данный момент речь шла об урагане, причем настолько сильном, что он унес в небеса трехмачтовый корабль, протащил над Архипелагом и сбросил в Жемчужное море. Рассказчик, детина со шрамом от глаза до верхней губы, клялся китовыми кишками, что он один из выживших в той катастрофе и что Цилад Кривой, его дружок, каждое слово подтвердит, ибо сам летал на том же судне. Его приятели не верили. Один, с наушным украшением из янтаря, ехидно щурился, другой то и дело дергал мочку, которая свисала до плеча. Тревельян послушал, отхлебнул вина и сказал: – Вот история, достойная песни, почтенные мореходы. Могу ли я узнать… – Ты кто таков? – прервал его моряк с янтарной подвеской. – Рапсод Тен-Урхи. – Тревельян встряхнул свою суму, и струны лютни протяжно зазвенели. – Разве не видно, что я из Братства? – Хоть из китовьего брюха, нам без разницы. Чего тебе надо, рапсод? Кажется, эти обитатели Архипелага не испытывали почтения к певцам. Что поделаешь! Архипелаг – окраина мира, где люди невежественны и грубы… – Я пришел в Бенгод, чтобы послушать тех, кто плавает в океане, и сочинить о них сказание. Воспеть их отвагу, их опасный труд, их корабли, летящие под парусами, их… – Ты пришел куда надо, – снова прервал его моряк, что было совсем уж невежливо. – Но наши истории не для всяких вонючих пацев. Не для всяких, чтоб меня аппа сожрали! Тот, кто хочет их послушать, должен заплатить. Тревельян замотал головой, взметнув свои роскошные бакенбарды. – Ты что, не понял? Я – рапсод! Разве ты не желаешь, чтобы я прославил твое имя? И имена твоих друзей? Кстати, как вас зовут? – Меня – Куссах Четыре Пальца. – Моряк с подвеской поднял руку, на которой не хватало мизинца. – Морда со шрамом – Боссин, а этот – Риммхиш. Кстати, на славу нам плевать. Мы парни скромные, трудяги-китобои. Что нам до славы? Да провались она сквозь Кольцо! «Не похожи эти прощелыги на китобоев, – заметил командор. И посоветовал: – Держи ухо востро, парень!» Верно, не похожи, согласился Тревельян. Ножики острые, а физиономии самые бандитские… Вслух же он сказал: – Могу я как-то смягчить ваши сердца и развязать языки? – Можешь, – отозвался Четыре Пальца, явный заводила в этой компании. – Можешь, лохматая рожа! Вино тут еще не кончилось. Тревельян вытащил из сумы кошель и, подзывая хозяина заведения, позвенел монетами. Глаза у Куссаха жадно блеснули, Боссин сглотнул слюну, а Риммхиш, взволновавшись, дернул себя за мочку. – Выпивку для всех, – велел Тревельян, вкладывая в ладонь кабатчика серебро. – Четыре кружки, да побольше! Потом принесешь еще столько же. – Да, господин. Благодарю за щедрость, господин. Да снизойдет на тебя благословение Заступницы Таванна-Шихи! Вино появилось в момент, и Куссах со своими приятелями тут же присосались к кружкам. Потом Четыре Пальца спросил: – Ну, так какую историю ты хочешь услышать? – Наверно, такую же длинную, как шерсть на его щеках, – с ухмылкой молвил Боссин. – Да, шерсти много, – кивнул Риммхиш. – Хватит, чтобы сплести пару причальных канатов. Не обращая внимания на эти подковырки, Тревельян сказал: – Что-нибудь о дальних странствиях в океане. Очень дальних! О смерчах, бурях и неведомых землях, о мудром капитане, который вел корабль на восток, о смелых мореходах, что терпели голод и жажду, а также муки неизвестности, но, преодолев все, узрели невиданное и насладились плодами земли, где не ступала доселе нога человека. Вот об этом я хочу послушать! – Красиво говоришь! – буркнул Куссах и передразнил: – Пц-пц-пц! Только что-то я не припомню такого плавания. Не припомню, чтоб меня на столб подвесили! А ты, Боссин? Ты, Риммхиш? – Это зависит от числа кружек, – произнес верзила со шрамом, ковыряя в зубах ножом. – Если еще по одной опрокинуть, может, что и вспомнится. Тайное, о чем в кабаке не говорят. «Морочат голову? – подумал Тревельян. – Или в самом деле что-то знают? С виду явные пираты… У таких, быть может, есть что поведать…» Он снова достал кошель и брякнул его содержимым: – Хозяин! Еще по кружке! – Кружек не надо, пусть флягу большую тащит, – возразил Куссах. – Мне тут хорошая мысль пришла: берем флягу и мотаем из этого нужника к себе на лоханку. Прав Боссин, прав, клянусь канатом! Не все тут можно говорить. – А на корабле у нас Цилад, – добавил Боссин, переглянувшись с приятелем. – Цилад, старая мудрая рыба! Чего он только не знает! Тебе, лохматый, на сотню песен хватит. Будешь их петь, пока не окочуришься. Кабатчик принес флягу размером с ведро, Риммхиш нежно прижал ее к груди, а Тревельян рассчитался. Затем они покинули заведение и, пошатываясь, углубились в лабиринт узких смрадных переулков, ведущих к причалам. Здесь царило безлюдье, только по кучам отбросов шмыгали крысы и охотившиеся за ними тарли – местные одичавшие псы, с усатыми и круглыми, как у кошек, мордами. Надвигалось время Ночи, и в небесах уже горел изумрудный диск Ближней звезды, добавляя сумраку зеленоватых красок. Дальняя звезда, не такая яркая, тоже взошла и мерцала над горизонтом, подобно сапфиру, окруженному мелкими бриллиантами созвездия Шерр. Вино было крепким, Тревельян изрядно выпил, но медицинский имплант уже трудился, очищая кровь от алкоголя. У Куссаха, Боссина и Риммхиша такого устройства не имелось, но его с успехом заменяли луженые желудки и привычка к местному пойлу. Они держались на ногах вполне уверенно, и Риммхиш тащил тяжелую флягу без заметных усилий. Мореходы были много ниже Тревельяна – самый рослый, верзила Боссин, достигал плеча, – но, как все обитатели Архипелага, жилистыми и крепко сбитыми. Ветер трепал их белесые волосы, медная кожа в свете Ближней звезды приняла трупный оттенок. – Далеко еще? – спросил Тревельян. – Не дальше волоса с твоей рожи, – усмехнулся Куссах. – Нам вот сюда… Пара шагов, и будем на лоханке у Цилада. Они свернули в узкую щель между двумя замшелыми амбарами, и тут Четыре Пальца многозначительно хмыкнул. Риммхиш, не выпуская фляги, сорвал с плеча Тревельяна мешок и быстрым шагом ринулся дальше, а Куссах и Боссин вытащили ножи. Тревельян увидел мелькнувшее перед глазами лезвие и тут же почувствовал, как чужая рука шарит у пояса, отыскивая кинжал. – Так мы не договаривались, парни, – произнес он, стараясь не упустить из виду Риммхиша со своим мешком. Главной ценностью в его суме являлась лютня с устройством связи и голопроектором-пугалкой. В принципе, их можно было бы имплантировать, но Тревельян решил, что двух имплантов, врача и Советника, ему хватит. Его не зря считали одним из лучших наблюдателей ФРИК; в любом мире и в любой ситуации он умел защитить свое добро. Но Куссах и Боссин об этом не знали. – Стой, не дергайся, и будешь жив, – прорычал Четыре Пальца, поигрывая ножиком. – Стой смирно, и я тебе песенку спою… пц-пц-пц… – А я волосню на память отрежу, – молвил Боссин, хватая за левую бакенбарду. – Как у того купца… хо-хо!.. у купца с гзорской посудины… Помнишь, Куссах? Которого мы… Договорить он не успел, ибо локоть Тревельяна врезался ему под ребра. Выронив нож и сложившись вдвое, Боссин рухнул на землю и засучил ногами, не в силах вздохнуть. «Дай стервецам по сусалам! – взревел под черепом командор. – Сверни носопыры набок! Ишь, развесили свои хоботы, гадюки паскудные!» Выполняя этот совет, Тревельян ударил Куссаха ребром ладони в переносицу и добавил коленом в промежность. Потом в несколько скачков нагнал Риммхиша, вырвал тяжелую флягу и опустил ему на затылок. Что-то треснуло, но все-таки не кость, а глина; фляга разлетелась осколками, а Риммхиш, лишившись чувств, ткнулся носом в кучу нечистот. Убедившись, что он дышит и что вина в его волосах гораздо больше, чем крови, Тревельян подобрал свой мешок и вернулся к Боссину и Куссаху. Оба валялись на грязной земле и пялились на него с нескрываемым ужасом. Присев на корточки, Тревельян вытащил кинжал. Убивать он их не собирался, но клинок – веский довод в пользу честности. – Пощади, страж справедливости! – выдавил Куссах, шмыгая разбитым носом. – Хрр… Пощади, во имя Троих! Мы не поверили, что ты из Братства! – Никогда бы… – прохрипел Боссин, – никогда бы… руку… не подняли… – Не поверили? – переспросил Тревельян. – А почему? – Чтоб истинный рапсод заявился к «Синему киту»… хрр… не побрезговал… невиданное дело, клянусь китовьей задницей! У вас же есть свои Дома… И в этом вонючем Бенгоде тоже… Надо учесть на будущее, решил Тревельян и поднес лезвие кинжала к глотке Куссаха. – Дальнейшее будет зависеть от твоей откровенности, пац. С какого вы корабля? – С «Пьяной волны», милостивый господин. – Чем промышляете? Четыре Пальца отвел взгляд: – Так, ловим по мелочи… не китов, а купцов. – Про земли на востоке что-то слышали? Ты, или этот ваш Цилад, или кто другой? – Цилад с пьяных глаз что хочешь в трюм нагрузит… Только нет на востоке земель, там Оправа Кольца в руке Таван-Геза. Ты, рапсод, об этом лучше знаешь. Никто туда не плавал… никогда… – Ну, черт с вами, живите, – с разочарованием сказал Тревельян и поднялся на ноги. Оставив трех пиратов позади, он вышел из проулка и пересек портовый район, направляясь к городской цитадели и сигнальной башне. За башней, в самом начале имперского тракта, располагалось нечто немыслимое в средневековой Европе – станция с пассажирскими каретами, местным аналогом фаэтонов и дилижансов. Возможно, какой-то отправлялся ночью или рано утром… В Бенгоде, как подсказывала интуиция, делать Тревельяну было нечего. «Зря ты этих гиен не дорезал… Зря!» – недовольно пробурчал командор. «Кровожадный ты, дед, – отозвался Тревельян. – А про устав Фонда помнишь? Пункт четыре, подпункт «а»: без большой нужды не резать». «Когда мы накрыли пиратский вертеп в Поясе Астероидов, я про устав не вспоминал. Раскрыли шлюз, и одного за другим, прямо в пустоту… – Он смолк, затем поинтересовался: – Куда теперь?» «В Рори, местную столицу. А оттуда – на север, в Этланд». «Что ты там забыл?» «Надо узнать про одну личность почти исторического масштаба. Про Дартаха Высоколобого… Как жил, что делал и чем его жизнь завершилась. Помнишь о Дартахе?» «Список имен в меня загрузили, – проворчал Советник. – Это тот самый Дартах, которому подбросили идею шарообразности мира. Скорее всего, кончил жизнь подвешенным на крюк. Кажется, такие здесь обычаи?» «Так больших злодеев казнят, – возразил Тревельян, шагая по безлюдной улице и слушая, как вдали перекликаются сторожа. – Дартах же был безобидным картографом. Правда, весьма настырным». «Настырных вешают в первую очередь», – подвел итог дискуссии командор и замолчал. Обогнув сигнальную башню, Тревельян вышел к станции и ровной, как древко копья, имперской дороге, серой лентой тянувшейся на запад. В самом ее начале был воздвигнут гранитный пилон пятиметровой высоты с надписью, сделанной крупными четкими буквами. Надпись гласила: «Повеление Светлого Дома тверже камня, на котором оно высечено». Рядом с пилоном стоял фаэтон, и в него, при свете фонарей, уже забирались пассажиры.Глава 3 СТРАНА ХАЙ-ТА
Возможно, дороги были самым большим, самым восхитительным чудом Осиера. Они тянулись с востока на запад от одного океана до другого, раздваивались, растраивались и расчетверялись, соединяя все цивилизованные страны континента, лежавшие в умеренных широтах и в зоне субтропиков. Они пересекали леса, луга и поля, взбирались серпантином на горные перевалы, шли по ущельям, ныряли в пробитые в скалах тоннели, взбегали на мосты, переброшенные через реки и каналы. Они связывали столицы полусотни держав и имперских провинций, все крупные порты и города, и от них отходили тракты местного значения – к городкам, селениям и деревням, к военным лагерям и арсеналам, к верфям, рудникам и каменоломням, к солеварням и лесным вырубкам, к сельским угодьям, латифундиям знати, плантациям пальм, фруктовым рощам и виноградникам. С их помощью с одного конца материка на другой можно было попасть за семьдесят суток, что было бесспорным достижением осиерских строителей – ведь с востока на запад континент простирался на двадцать пять тысяч километров. Правда, дальний юг и крайний север имперские тракты не охватывали; на севере находились непроходимые топи и болота, а за ними льды, тогда как юг, примерно третья часть материка, был покрыт джунглями, и там текли огромные реки, по которым можно было добраться до самых отдаленных мест. Дороги являлись чудом не только в силу их протяженности и разветвленности, наличия тоннелей, мостов и твердого каменного покрытия. При них и рядом с ними располагался комплекс сооружений и средств, неразрывно связанных с преодолением пространства тем или иным способом, при помощи звука, света, колес повозок, конских копыт и человеческих ног. Через каждые тридцать-сорок километров находились постоялые дворы, конюшни с лошадьми для пассажирских фаэтонов и грузовых телег, колодцы, кузницы и каретные мастерские, склады провианта, рынки, таверны и кабаки. Каждое из этих мест служило опорным пунктом связи, а также охраны порядка и законности; при нем находились воинский отряд и сигнальная башня с обученными людьми, передававшими сообщения с помощью труб, барабанов и вспышек огня. Через каждые пять-восемь километров стоял гранитный или базальтовый пилон с врезанным в камень законом Империи, дорожным правилом, религиозным советом либо изречением одного из императоров. Этой мудрости хватало на все верстовые столбы, так как императоров за два тысячелетия насчитывалось больше сотни, и каждый хоть раз сказал что-то умное. Пилоны служили не только к поучению, но также внушали страх перед карающей дланью владыки; нередко при них воздвигали вышки с железными крючьями и цепями, украшенные телами преступников. Наконец, по этим дорогам можно было за считаные дни перебросить отряды солдат из лагерей в любую область на западе, севере и востоке. Можно сказать, Империя властвовала и правила с помощью своих дорог. Память о титаническом труде, затраченном на их сооружение, сохранилась только в имперских Архивах. Дороги начали строить на заре времен, в легендарную эпоху владыки Уршу-Чага, который объединил Семь Провинций, и продолжали эту работу в течение следующих шести веков, шаг за шагом продвигаясь за Кольцевой хребет к континентальному побережью. Дороги и все сооружения при них существовали уже два тысячелетия, являясь своеобразной премией Империи, даром предков за отсутствие войн, разрушительных нашествий варваров, религиозной и расовой розни – словом, тех социальных катаклизмов, что потрясали Китай и уничтожили Рим и Византию. Империя, конечно, воевала, но на протяжении многих и многих веков это были локальные конфликты, связанные с подавлением периферийных властолюбцев, возомнивших, что их не достать за реками, лесами и горами. Но император приказывал, и их доставали, тащили к ближайшей дороге и вешали на крюк. Ибо повеление Светлого Дома тверже камня, на котором оно высечено.* * *
Тревельян встретил утро, покачиваясь на мягкой подушке сиденья в передней половине фаэтона; заднюю, отгороженную шторкой, со спальными полками и тюфяками, занимала какая-то важная особа, знатная дама со своими слугами. Но и в передней части было уютно: восемь сидений у окон и только пять пассажиров, что позволяло вытянуть ноги и не тревожиться, что кто-то споткнется о мешок с драгоценной лютней. Здесь ехали пара мелких чиновников, тучный пожилой торговец и возвращавшийся в Рори аптекарь, который в Бенгоде закупал морских пиявок и какое-то целительное зелье из сушеных водорослей. Зелье, упакованное в два тючка, приятно пахло, но пиявки в стеклянной банке с водой выглядели сущей мерзостью – здоровенные черви с кроваво-красными пастями. Все попутчики Тревельяна были людьми восточной расы, но отличались как от простодушного Вашшура, так и от Куссаха с его компанией. Манеры у них были вполне пристойными, одежды – то ли халаты, то ли куртки с широченными рукавами – чистыми и разукрашенными вышивкой, а разговоры вертелись вокруг добычи жемчуга, ломоты в суставах и имперской налоговой политики. Еще обсуждали слухи о мятеже в Манкане, который Светлый Дом – да будет с ним милость Троих! – подавит в самом скором времени. Место в фаэтоне стоило три серебряка, зато ехали быстро – экипаж мчала шестерка лошадей, которых за ночь дважды меняли. Лошади очаровали Тревельяна; они были выше и стройнее земных аналогов, с более длинным корпусом, точеными ногами и невероятно гибкими шеями. Их масть на Земле тоже считалась бы уникальной – черные как уголь, с белыми или пепельными полосками вдоль хребтов. Вероятно, они были очень выносливы и резвы – тащили экипаж шестьдесят-семьдесят километров с вполне приличной скоростью. Оставалось лишь удивляться, почему в Осиере не ездят верхом. Собственно, поводов для удивления было два: почему сами не придумали седло с уздечкой и почему эстап с этой идеей, заброшенный столетие назад, не взошел здесь пышным цветом. Тучный купец вытащил карты из широкого рукава, огладил раскидистые брови и предложил попутчикам: – Желаете развлечься, мои господа? Чиновники и аптекарь разом кивнули. – А ты, достойный рапсод? Тревельян испустил глубокий вздох, выдавил слезу и изящным движением мизинца смахнул ее с бакенбарды. – Ах, почтенные, мне не до игры! Я пребываю в невероятной тоске… – Что же так? – спросил один из чиновников. – Я ездил в Бенгод к прекрасной девушке, моей возлюбленной… увы, бывшей! Она… она… – Тревельян смахнул вторую слезу, – она меня забыла и сочеталась браком… Такая душевная травма! Ах! Он заметил, как дрогнула занавеска в задней половине – там, похоже, внимательно слушали. Аптекарь всполошился, нацелив на рапсода внушительный нос. – Хочешь, дам чего-нибудь успокоительного? Корень пакса или настой цветов вертали… Еще в таких случаях помогают морские пиявки. Отсасывают дурную кровь. Тревельян содрогнулся: – Храни тебя Трое, добрый человек, но с этой бедой я справлюсь без пиявок. Сочиню песню о разбитом сердце, и мне полегчает. – Рапсод! – уважительно сказал купец, раздавая карты. – Не помню ни единой девицы в Бенгоде, достойной такой любви, – сказал чиновник, потеребив отвислую мочку. – Может быть, дочка пекаря Гуззана? – тихо шепнул его коллега. – Она пошла второй женой к… – Да ты что, Даммах! Она страшней, чем самка паца! – У рапсодов бывают странные вкусы, Зиххар… Они погрузились в игру, и теперь Тревельян слышал только звон монет и азартные выкрики: «Колокола!», «А у нас клинки на ваши колокола!», «Трубы и щиты побоку!», «Заступница Таванна-Шихи! Опять колокола!», «А чаши с колесами не хотите?», «У меня снова клинки!», «На всякий клинок найдется щит!», «Это смотря какой клинок, почтенный!» Тревельян, изображая меланхолию, глядел в окно. Мимо промелькнул пилон, а рядом с ним – столб, на котором болтались два скелета. Подковы лошадей грохотали по ровным каменным плитам, дорога была широка и обсажена с обеих сторон плотным кустарником, который недавно подстригали. За этой упругой зеленой изгородью высился лес, но не из пальмовых дубов, а из стройных белокорых деревьев с длинными, в половину метра, голубоватыми иголками. Лес кончился, пошло поле, засаженное вьющимся на кольях злаком с крупными початками, свисавшими до земли. Дальше был выгон, где паслись косматые анши, местные козы, а за ним виднелась деревушка. Над очагами во дворах вился дымок, суетились женщины, ветер доносил запах рыбы и свежих лепешек. Навстречу попались возы, груженные бревнами, потом такой же, как их собственный, пассажирский экипаж, потом они обогнали тележку с корзинами фруктов, которую тащил бык не бык, осел не осел, а что-то наподобие пони с рогами. Снова начался лес и сразу отступил, чтобы дать место харчевне и навесу, под которым стояли длинные столы и лавки, занятые дюжиной солдат. На невысоком холме стоял блокгауз, а у его подножия, на ровном поле, тренировались лучники. Стреляли в головы, что красовались на вершинах трех столбов, и в круживших над ними стервятников. «Контрасты Средневековья», – пробормотал командор. «Средневековье, да не наше, – мысленно возразил Тревельян. – В нашем от Рима одна латынь осталась. А тут, гляди, какая дорога!» «И головы на шестах. Так что ты, паренек, не расслабляйся!» С этим Тревельян был полностью согласен. Его работа требовала инициативы и в то же время разумной осторожности. Через четверть часа экипаж подкатил к другому заведению, гдеможно было перекусить, умыться и справить естественные надобности. Компания картежников прервала игру и ринулась в харчевню вместе с двумя возницами – прополоскать глотки. Тревельян тоже вышел, заглянул в будку с удобствами, потом выпил у стойки и сжевал лепешку с сильно наперченными овощами и кусочками рыбы. Благородная дама не появилась, но ее служанка сделала кое-какие покупки – свежие фрукты, сок и лучшее вино, не местное, а из Пибала. При этом разглядывала Тревельяна не таясь. Полоскание глоток закончилось, возницы расселись на козлах, шестерка скакунов грохнула копытами, экипаж тронулся с места и стал плавно набирать скорость. Чиновники, аптекарь и торговец продолжили игру и скоро вошли в такой азарт, что, казалось, воздух дымится над их залысинами, а из глубоких ноздрей сыплются искры. Тревельян, с прежней задумчивой миной разглядывая окрестности, прикидывал план действий в Рори, столичном городе Хай-Та. Он собирался посетить обитель Братства Рапсодов, но не испытывал надежд узнать там что-то важное. Однако этот визит был бы полезен для адаптации в мире Осиера – ведь всякий певец, явившийся в город, заглянет в странноприимный дом, чтобы пообщаться с местными коллегами. Было бы странно пренебречь такой возможностью! Кроме того, нужно навести справки о дороге в Этланд и, быть может, что-то узнать о судьбе Дартаха Высоколобого. Это было единственной конкретной задачей, стоявшей перед Тревельяном; в остальном он был свободен и мог осуществлять свою миссию в меру разумения и сил.Чьи-то пальцы легко коснулись его плеча. Он вздрогнул и повернул голову. – Да будут боги милостивы к тебе, рапсод! Да защитят от демонов бездны! – Это оказалась служанка знатной дамы. Сунув в руку Тревельяна золотой, она промолвила: – Моя госпожа желает тебя видеть. Ей скучно. – Мой долг ее развлечь, прогнав тоску какой-нибудь песней или историей. – Тревельян живо вскочил на ноги, сунул монету в пояс и вытащил лютню из мешка. – Я готов, о прекраснейшая из девушек! Служанка хихикнула. Нос у нее был такой, что на нем можно было бы подвесить дыню. Вслед за носатой девицей Тревельян проник за занавеску, сделал знак почтения, поднял глаза и тут же, будто ослепленный, прикрыл их ладонью. Дама того стоила. Она была метиской, но кровь восточной расы сказалась только на чуть удлиненных ушах и смугловатом оттенке кожи. Все остальное – густые темно-каштановые волосы, пикантный носик, пухлые яркие губы, карие, с поволокой, глаза и стройная, изящная фигурка – принадлежало к имперским образцам в самом лучшем исполнении. Как и ее наряд, шелковая туника, украшенная перьями птицы ках, шитая серебром накидка и замшевые дорожные сапожки. Выглядела она исключительно загадочно и романтично. – Разделяю твое дыхание, певец. Мое имя – Чарейт-Дор, – сказала дама, описав круг около сердца. У нее был приятный, мелодичный голос. – И я твое, госпожа, – произнес Тревельян. Командор, старый шалун, развеселившись, буркнул: «Хороша штучка эта Чарейт! Не теряйся, сынок. Я бы с такой не только дыхание разделил!» – «Место неподходящее», – отозвался Тревельян, кланяясь. – Меня зовут Тен-Урхи, и я к твоим услугам, высокородная. Что ты желаешь послушать? Песни о любви, что так приятны дамам, или… – Или, – сказала она. – Сядь здесь, у моих ног. Я просто хочу побеседовать. Хочу узнать о тебе. Что ты делаешь тут, на краю света, Тен-Урхи? Случайно я услышала о некой девице из Бенгода, которую ты одарил своей благосклонностью. Но, кажется, она тобой пренебрегла? – Хм, – сказал Тревельян и повторил: – хмм… Сказать по правде, моя госпожа, история с этой девицей – прошлогодний звон струны. Были, конечно, разные девицы в разных городах, но только не в Бенгоде. Это я выдумал, чтобы не обидеть тех… – Он понизил голос и кивнул в сторону занавески. – Не люблю играть на деньги. Выигрываешь чужие, проигрываешь свои… То и другое в равной степени неприятно. Чарейт-Дор улыбнулась и стала еще прелестнее. – Ты не простой человек, Тен-Урхи! Чем же на самом деле ты занимался в Бенгоде? – На самом деле? Хмм… Собирал древние сказания об Уршу-Чаге Объединителе и его воинах, госпожа. Брови Чарейт-Дор вопросительно изогнулись. Продемонстрировав знание классической литературы, она заметила: – «Анналы эпохи Разбитых Зеркал», не так ли? Но грозные воины Уршу-Чага – да будут милостивы к нему Трое! – в эти края не дошли. Им не удалось продвинуться за границы Пибала. Древний император Уршу-Чаг являлся на этой планете кем-то вроде короля Артура, а его соратники – подобием рыцарей Круглого стола. Уршу-Чаг объединил Семь Провинций, положив тем самым начало Империи, а приступая к этому славному деянию, перебил все зеркала в своем дворце, поклявшись, что не увидит собственного лица, пока не расправится с врагами. По легенде это заняло целых тридцать лет, так что Уршу-Чаг узрел в конце концов физиономию старца с седыми баками, расстроился и умер от огорчения. Но его потомки правили Империей до сих пор, а свод «Разбитых Зеркал» пополнялся все новыми песнями. – Насчет Пибала все верно, – согласился Тревельян, – но один из воинов решил остаться на завоеванных землях, а его потомки переселились в Хай-Та. Говорят, что кто-то из них даже плавал в Восточном океане дальше островов Архипелага… Разве ты об этом не слышала, госпожа? – Нет. – Чарейт-Дор покачала темноволосой головкой. – Я ездила в Бенгод не развлекаться древними песнями, а по делам покойного супруга. Он владел там верфью, которую я пожелала продать. – Голос благородной дамы намекал, что о кончине супруга она сожалеет не больше, чем о верфи. – Зато теперь… теперь… – Ее глаза мечтательно затуманились. – Вот что, рапсод Тен-Урхи, спой мне все же песни о любви. Только негромко… А перед тем выпей вина. Это настоящее пибальское. Тревельян осушил предложенную чашу и запел. То были знойные, страстные песни Ки-Ксора, Фейнланда и Трота, трех южных имперских провинций, и Чарейт-Дор, слушая их, начала томно вздыхать и облизывать пухлые губки розовым язычком. Экипаж остановился для смены лошадей, потом копыта вновь загрохотали, промелькнуло мимо несколько городков, застроенных домами и мастерскими ремесленного люда, печи гончаров и стеклодувов, над которыми вились дымы, обширный военный лагерь, воины на быстрых колесницах, поля и пальмовые рощи – все это пронеслось за окном, а Тревельян все пел и пел. Когда же закончил, Чарейт-Дор обволокла его нежным взором, покосилась на своих слуг и проворковала: – Жаль!.. – Мы продолжим приятное знакомство в столице, – сказал Тревельян, догадавшись о смысле этого возгласа. – Увы, я не задержусь в Рори. Я еду в Северный Этланд, в Помо, где правит мой брат, высокородный Раббан. – Она снова оглянулась на слуг и прошептала: – Ты мог бы там меня навестить или отправиться прямо со мной. Раббан будет рад и примет тебя с почетом. Какие причины радоваться у Раббана, Тревельян не понял, но на всякий случай кивнул. Затем произнес с сожалением: – Мне тоже надо в Этланд, но не на север, а в западную часть страны. В город Экбо, моя прекрасная госпожа. В Экбо, в крупнейшем среди стран Пятипалого моря университете, некогда жил и творил Дартах Высоколобый, и там его посетила мысль о шарообразности планеты. Собственно, мысль, как и факты, ее подтверждающие, принадлежала помощнику Дартаха, пожелавшему остаться неизвестным. Вскоре он и вовсе исчез, объявившись спустя какое-то время на Базе ФРИК. Что было Дартаху на руку; он счел себя истинным автором новой оригинальной идеи. – В Экбо… значит, в Экбо… – протянула Чарейт-Дор. Затем с лукавой улыбкой поинтересовалась: – Там ты тоже будешь собирать древние песни про Уршу-Чага? Для разнообразия Тревельян решил сказать правду. – Нет, высокородная. Я хотел бы прочесть манускрипт одного из ученых, обитавшего когда-то в Экбо. Его звали Дартах Высоколобый, и он… Чарейт-Дор сморщила носик: – Дартах? Не тот ли это Дартах Помешанный, которого изгнали из университета еще в дни юности моего отца? Отец учился в Экбо, знал Дартаха и дал ему приют в нашем имении в Помо. Там хранятся все его пергаменты и карты. Сочиняет, желая новой встречи?.. – мелькнуло у Тревельяна в голове. Но сейчас казалось, что Чарейт-Дор с ним не кокетничает. Дартах Помешанный… Похоже на правду! Во всяком случае, такой исход не исключен – ведь никаких следов последнего эстапа пока не замечается. Он поклонился и сказал: – В таком случае я обязательно приеду в Помо, моя госпожа. И не только из-за Дартаха. Снова поклонившись, Тревельян вернулся в переднюю часть экипажа. Лес отступил, по обеим сторонам дороги теперь лежали поля и луга со стадами коз и овец, над травами кружились медоносные бабочки, селения и городки попадались все чаще. Повозка приближалась к Рори, и, наконец, у очередного пилона дорога раздвоилась, превратившись в кольцо, окружавшее город. Как и в Бенгоде, тут не было защитных стен и башен, даже скромного форта, но в полукилометре от дороги располагался военный лагерь, сотни две прочных бараков, конюшни и сараи для колесниц, стоявшие ровным квадратом вокруг просторной площадки. Внутренняя часть кольца была застроена причудливыми деревянными домами, тянувшимися скорее ввысь, чем вширь, и прорезана радиальными улицами, обсаженными зеленью. Здесь не курились дымы над гончарными печами, не слышался стук молотков, не звучали вопли уличных торговцев и нигде не громоздились кучи мусора. Столица Хай-Та была городом знати, чиновников и тех негоциантов, кто преуспел настолько, чтобы жить в подобном месте, вблизи резиденции правителя. Распахнулись широкие ворота, фаэтон въехал во двор, мощенный камнем, и замер между харчевней и конюшнями. Подбежали слуги, начали выпрягать лошадей. Два дюжих парня помогали прибывшим выносить багаж, перетаскивая его к стоявшим поблизости легким коляскам. Но сундуки Чарейт-Дор понесли к другому большому экипажу, который, надо думать, отправлялся на север, в Этланд. Высокородная дама сошла на землю, отыскала взглядом Тревельяна и благосклонно ему улыбнулась: – До встречи, рапсод! Надеюсь, ты еще развлечешь нас песнями – там, в поместье моего брата. – Непременно, моя прекрасная госпожа. Откланявшись, он подошел к аптекарю: – Кажется, ты из Рори, достойный? Не подскажешь, где здесь обитель Братства? Аптекарь, следивший за погрузкой своих пиявок и тюков, махнул рукой: – Выйди со двора и сверни в первую же улицу. Минуешь площадь, где дворец властителя, и шагай дальше, до речного берега. Там увидишь. Ищи дом с башней, где перед дверями висит лютня. Храни тебя Трое! – И тебя, почтеннейший. Вскинув на плечо мешок, Тревельян двинулся в дорогу. Прямо напротив станции, по другую сторону тракта, за изгородью начинался парк – видимо, местный зверинец, так как меж деревьев виднелись клетки с животными, а по траве разгуливали птицы ках в роскошном оперении, алом, жемчужном и гиацинтовом. Сразу за входной аркой, обрамляя аллею, стояли две клетки: в одной дремал пятнистый даут, хищник из южных джунглей, в другой, перед кучей похожих на банан плодов, сидел нахальный откормленный пац. Есть ему явно не хотелось; задрав заднюю лапу, он чесал под мышкой. – Зажрался ты, братец, – сказал Тревельян. Пац поглядел на него, обнажил клыки и облизнулся. Улица, тянувшаяся к площади, была застроена добротными домами, обшитыми тесом, с галереями на резных столбиках вдоль второго и третьего этажей, с лесенками, что вели наверх, в жилые покои. Внизу находились лавки, небольшие кабачки, конюшни, кухни, кладовые или иные хозяйственные заведения. Еще Тревельяну попались цирюльня, пруд с яркими рыбками перед зданием бань и портновская мастерская – вероятно, модный салон, ибо у входа виднелись коляски с отчаянно скучавшими возницами. Затем он вышел на площадь и остановился, озираясь. Слева – дворец, справа – храм… Внушительные строения, и оба, хоть и деревянные, но на фундаменте из камня. Дворец поражал обилием башенок, лестниц, балконов, окошек, забранных цветным стеклом, изгородей, оплетенных лианами, и красочными тростниковыми циновками, устилавшими землю перед парадным входом, где стояли на часах шестеро солдат. Не королевская резиденция, а, скорее, загородная вилла… Впрочем, первое лицо в Хай-Та хоть и являлось по сути королем, не обладало этим титулом – его, как правило, именовали Высоким или властелином. Благородное сословие в любой из осиерских стран не делилось на графов и баронов, маркизов и герцогов; все они были нобилями, а их общественный вес определяли личное богатство и занимаемая должность. Единственным исключением являлись владыка державы и люди его фамилии, способные со временем претендовать на трон, но даже эти не носили пышных титулов князей и королей. Император именовался Светлым Домом, все остальные – повелителями или властителями. К нобилю, главе области или города, обращались еще проще: правитель. Полюбовавшись дворцом и начищенным до блеска вооружением стражи, Тревельян повернул к храму. Это было строгое здание, выстроенное по традиции в форме увенчанного куполом круга и походившее по этой причине на цирк. Стояла середина Дня, вечернее богослужение еще не начиналось, и у дверей, украшенных растительным орнаментом, было безлюдно. Он вошел, ощутив всей кожей, как жару сменяет приятная прохлада. Сверху, из окон, прорезанных в куполе, падали потоки света, и в солнечных лучах покрытый мозаикой пол святилища искрился и сверкал. Пол – главная святыня в храме, но ходить по нему не возбранялось, ибо он являлся картой, изображением материка, земли которого и так попирают человеческие ноги. Эту карту, словно цирковую арену, обегал кольцевой каменный барьер, а сверху, с расписного потолка, на нее глядели лики трех богов. Согласно осиерской космологии, мир был плоской вставкой в Оправе Кольца или Перстня, который держал в огромной руке Таван-Гез, верховное божество. Днем он взирал на землю и океаны солнечным оком, а вечером закрывал его и открывал звездное. Какой конкретно глаз, левый или правый, был солнцем, а какой – звездами, служило поводом для дискуссий десятков поколений ученых теологов, но все сходились в том, что бога лучше не гневить – вдруг, утомленный зрелищем людских грехов, он закроет оба глаза! Вся надежда в этом случае была на его супругу Заступницу Таванна-Шихи и их сына, вечно юного Тавангур-Даша. Бог, однако, открывал и закрывал глаза с чудесным постоянством, так как луны у Осиера не было и соответственно не было солнечных и лунных затмений. Трое богов глядели на Кольцо из Великой Пустоты, а под их ногами находилась бездна с обитавшими там демонами и душами грешников, недостойных возродиться в мире людей. За спиной Тревельяна кашлянули, и он, придав лицу благочестивое выражение, торопливо очертил круг около сердца. Круг был символом Оправы Кольца. – Разделяю твое дыхание, рапсод, – произнес подкравшийся к нему тощий жрец в широкой мантии. – Прежде я тебя тут не видел. – И я разделяю твое, почтенный. Я только что прибыл из Бенгода и сразу явился в храм, дабы возблагодарить богов за успешное путешествие. – Похвально, очень похвально! – одобрил тощий. – Но всякая благодарность нуждается в подкреплении, чтобы милость богов и впредь не покинула тебя. – Само собой, – согласился Тревельян и сунул священнослужителю серебряную монету. Тот мгновенно исчез, а Тревельян, устроившись на каменном барьере, начал разглядывать карту. Централизация власти на Осиере определялась, вне всякого сомнения, его географической спецификой. В субтропической зоне, в самом центре восточного материка, лежало огромное пресное море Треш, окруженное плодородными равнинами, лесами и лугами, вбирающее пять полноводных рек и сотни менее крупных потоков. Этот благодатный край, равный по площади земной Австралии, был замкнут с севера, запада и востока Кольцевым хребтом, а с юга – искусственным валом, тянувшимся на четыре тысячи километров. То были исконные имперские земли: три провинции к югу от моря Треш и четыре – к северу. Между хребтом и побережьями двух океанов находилось множество государств, населенных людьми западной или восточной расы, подвластных Империи полностью или частично, связанных дорогами и плативших особую подать на содержание воинских гарнизонов. Ряд сравнительно цивилизованных стран, Онинда-Ро, Пейтаха и другие, располагался на севере, освоенном имперскими переселенцами, северной ветвью континентальной расы. За ними простирались дремучие леса, болота, тундра и ледниковая шапка на полюсе. К югу от вала, пересекая континент, простиралась область саванн, а за ней, в районе экватора и дальше – тропические джунгли, служившие бассейном нескольких гигантских рек. Две из них впадали в море Треш, а остальные текли к другому пресному морю – морю Аса, лежавшему за экватором и горным плато Асайя. Джунгли населяла южная раса, дикие племена, многочисленные и воинственные, с которыми, однако, Империи удавалось ладить. Обликом и обычаями автохтоны Осиера различались не меньше, чем народы Земли, но были и общие признаки: слабо выраженный черепной шов, тянувшийся от лба до затылка, отсутствие волосяного покрова на теле и кое-какие особенности желез внутренней секреции. Из-за последней причины союзы между землянами и осиерцами были бесплодными. Карта, которую изучал Тревельян, выглядела почти такой же точной и подробной, как составленная на Базе по результатам орбитальных съемок. Были, конечно, ошибки в очертаниях плато Асайя, моря Аса, водных потоков и огромных гор, что отделяли континент от океана на дальнем юге. Но цивилизованная часть материка, со всеми ее городами, дорогами, мостами, границами стран и шестью разломами-ущельями в Кольцевом хребте, соединявшими Империю с внешним миром, передавалась картой безупречно. Стоя здесь и зная скорость движения экипажей по имперским трактам, можно было определить, сколько дней необходимо для путешествия к морю Треш, к Манкане, Сотаре или Островному Королевству. Либо, скажем, к городу Помо в Северном Этланде. Вероятно, дня четыре, отметил Тревельян и вышел из святилища. Добравшись, как советовал аптекарь, до речного берега, он остановился, дернул в изумлении левую бакенбарду и присвистнул. Река именовалась Рориат; то ли ее назвали по имени города, то ли город был назван по реке. Этот поток километровой ширины плавно струился западнее столицы, за кольцевой дорогой, что отделяла дома от высокого, поросшего травой обрыва. В том месте, где на реке виднелись острова, был поставлен мост, опиравшийся на пятьдесят высоких каменных башен-быков, – часть их возвели на островах, часть поднималась с речного дна, но те и другие стояли несокрушимо. Мост, вероятно, был очень древен; вода струилась среди потемневших замшелых камней, в щелях меж ними проросли кустарник и изрядной толщины деревья, а высота сооружения была такой, что под мостом свободно проплывали парусные корабли. Речная гавань располагалась ниже по течению, за излучиной, и, поглядев туда, Тревельян увидел только лес мачт, кровли складов и вышку маяка. «Капитально тут строят, – одобрил командор. – Это тебе не избы из бревен. С такого моста я стартовал бы без опаски даже на десантном боте. И речка солидная!» «Это еще верхнее течение, – пояснил Тревельян, вспоминая карту. – Река тянется на север, в Этланд и Манкану, а на юг течет до самого моря Аса. Там разлив будет километров десять». «Амазонка!» – буркнул командор и смолк. Повернувшись спиной к мосту, реке и кораблям, Тревельян разглядел двухэтажное строение в местном стиле, с галереями и башенкой, что высилось на фоне цветущего сада. Вероятно, то была обитель Братства, и, подойдя ближе, он понял, что не ошибся – над гостеприимно распахнутой дверью висело изображение лютни. Тревельян вошел и оказался в просторном длинном помещении, разделенном надвое аркой: в одной половине – низкий стол с подушками для сидения, очаг, над которым жарилась птица с добрую индейку, полки с посудой и кухонной утварью; в другой – фолианты и свитки пергамента в огромном шкафу, стойка с мечами и копьями, флейты и лютня на стене и большой инструмент, похожий на арфу. В дальнем конце – лестница, ведущая наверх. В окна с распахнутыми ставнями вливался аромат цветов и зелени, от очага тянуло вкусным запахом жаркого. – Похоже, я попал куда надо, а главное – вовремя, – пробормотал Тревельян, опуская свой мешок на пол. От очага к нему уже торопился невысокий старичок в широченном халате, носатый, бровастый и беловолосый, как большинство людей в этом городе. – Моя кровь – твоя кровь, – сказал он на восточном диалекте. – Хорошо, что ты пришел. Мы скоротаем вечер вчетвером – ты, я, Хурлиулум и эта птица, уже совсем готовая. Приветствие в Братстве было иным, нежели у людей обычных, подчеркивающим сакральный смысл крови, в которой, как полагали на Осиере, обитает душа. Тревельян ответил старику теми же словами, добавив, что его зовут Тен-Урхи и что он прибыл из Бенгода и направляется в Этланд. – А я – Шуттарн, дарующий кров в этой обители и мастер игры на флейте. Хурлиулум сейчас подойдет. Он пастух, наставник сыновей нашего владыки. В неофициальной табели о рангах пастух и дарующий кров стояли выше рапсода. Пастухи, насколько было известно Тревельяну, были бродячими философами и учителями, а учить могли чему угодно, от математики и грамоты до танцев. В дарующие шли пожилые братья, уже неспособные странствовать, но умудренные опытом и годами; считалось, что дарующий кров – глава над всеми членами Братства, которые пребывают в данном городе. Кроме этих почетных званий, были, разумеется, ученики, и были мудрецы, называемые, если использовать земные аналогии, магистрами. Их насчитывалось не более сотни на весь континент. Неслышно ступая, вошел гибкий, тонкий человек с рыжими волосами и пронзительным взглядом серых глаз. Пастух, как и подсказывало его имя, принадлежал к западной расе и появился на свет на другом краю материка, где-нибудь в Запроливье или на берегах Мерцающего моря. Тревельян приветствовал его на языке Удзени и по довольной улыбке Хурлиулума понял, что не ошибся. Они сели к столу. Птица, которую Тревельян в жареном виде не смог опознать, была великолепна, а свежие лепешки, овощи и кисловатый напиток создавали ей достойный фон. Хурлиулум, однако, ел мало, старый Шуттарн и того меньше, так что на гостя легла основная нагрузка. Одолев половину жаркого, Тревельян, согласно местному обычаю, погладил живот, повернулся к пастуху и сказал: – Далеко же тебя занесло от родных мест, Хурлиулум! Отсюда до Мерцающего моря много дней пути, и я еще не встречал в Хай-Та твоих соплеменников. – Жизнь без странствий скучна, Тен-Урхи. Особенно такая короткая, как у людей моего племени. Представители западной расы жили пятьдесят-шестьдесят лет и быстро старели после сорока. Но это, казалось, не слишком огорчало Хурлиулума. Посмотрев с улыбкой на Тревельяна, он произнес: – Среди любого народа, на востоке ли, на западе или в Семи Провинциях, есть непоседы, для коих привычное бытие хуже казни на крюке. Родительский дом их не радует, семья не соблазняет, занятие отца, будь то кузнечный промысел или управление людьми и землями, кажется скучным. Не хотят они всю жизнь махать молотком или судить своих подданных, не хотят видеть из года в год одни и те же лица, своих стареющих соседей, свою жену и ребятишек. Это не для них! Их манят дороги, новые встречи, приключения… Ты понимаешь меня, Тен-Урхи? Ты ведь один из нас и, значит, сам такой. – Понимаю, – сказал Тревельян, и это было чистой правдой. Хоть он не являлся рапсодом и даже уроженцем Осиера, но был из того же племени авантюристов-непосед. Любопытство и тяга к перемене мест являлись теми человеческими свойствами, что не зависят от развития технологии. – Влекут не только странствия, но и возможность творить добро, – заметил Шуттарн. Он поднял руки, покачал ладонями, будто чашами весов, посмотрел на одну, потом – на другую. – Вот Светлый Дом со всем его могуществом, с великими богатствами, армиями и крепостями, и вот – мы… Мы, Братство! И лишь богам известно, кто значит больше для нашего мира. Ибо мир стоит не на силе, не на звонкой монете, не на клинках воинов, а на разуме и добре. «Идеалист, – пробурчал командор, невидимый свидетель их беседы. – Мир стоит на промышленном производстве, ракетах и боевых роботах». Но Тревельян, не обратив внимания на слова призрака, сказал: – Согласен с тобой, Шуттарн, полностью согласен! Но временами разумное, доброе и безусловно полезное не принимается людьми. Вот, например… – Он прикрыл глаза, будто вспоминая. – Если измельчить опилки, тряпки и древесные отходы, потом обработать эту массу неким способом, отжать под прессом и высушить, получится лист, удобный для рисования и письма. Более удобный, чем пергамент, и много более дешевый. Слышал я, что такие листы мог делать мастер Цалпа из Рингвара… Еще слышал о котле, в котором кипит вода, а пар по трубкам идет к колесу и его вращает… Четырежды делали такой котел – кузнец Суванува из Пейтахи, механик Куммух из Манканы и два строителя кораблей, Рдияс-Даг из Дневной провинции и Таркодаус из Островного Королевства. А еще дошло до меня, что некий Дартах из Этланда считал, будто мир наш подобен шару и парит в пустоте, обращаясь около светила, чему есть многочисленные доказательства. Все это разумные вещи, но люди их не принимают. Почему? Пастух и дарующий кров переглянулись. Лицо Шуттарна приняло озабоченное выражение. – Видишь ли, Тен-Урхи, разумное еще не значит доброе и полезное. Взять хотя бы этого Дартаха… Мир подобен шару? Но какая от этого польза? Какое добро? – Возможно, в мире есть еще неведомые земли в другой половине шара. Отчего бы их не заселить? Разве это не доброе деяние? – В мире и так достаточно места, – возразил Хурлиулум. – Наши земли хороши и просторны и устроены предками к нашему благу. Есть где жить и есть где странствовать! А новый край так просто не заселишь… Много прольется пота, а еще больше – крови. Тревельян изогнул бровь. – Жалеешь пот, пастух? – Не пот, кровь. Споры из-за земель, новых или старых, без крови не обходятся. Пример тому – нынешний бунт в Манкане. Или юг… Как ты думаешь, почему не заселяются южные степи, где больше земель, чем во всех Семи Провинциях? – Тревельян молчал, и Хурлиулум, сделав паузу, продолжил: – Потому, что южные степи отделяют нас от южных лесов и племен дикарей. И нет нужды разбивать там плантации злаков и сажать фруктовые рощи. Пропитания нам хватает. Хватает, молча признал Тревельян. В странах субтропического пояса злаки и фрукты росли с такой щедростью, что год в Осиере, где не знали месяцев, делился на сезоны Первого, Второго, Третьего и Четвертого Урожая. Сезоны отсчитывали по возвышению над горизонтом Ближней звезды, и каждый включал десять декад и три праздничных дня. Смены времен года здесь практически не замечалось, ибо ось вращения планеты была почти перпендикулярна плоскости экватора. Все это было так, однако он чувствовал какую-то недоговоренность в речах Шуттарна и Хурлиулума. Возможно, чего-то он не знал? Или не понимал? Чего-то такого, с чем не смогли разобраться исследователи ФРИК за целых полтора столетия? – Оставим в покое Дартаха с его теориями и новые земли, – сказал Тревельян. – И я не буду вспоминать о паровых котлах, так как бывает, что они взрываются. Но эти листы для письма, которые придумал мастер Цалпа… Они-то кому помешали? – Он поглядел на массивный шкаф, полный толстенных томов и пергаментов. – Книги дороги, они большая редкость, а с этими листами их хватило бы на всех. Больше книг, больше знаний и больше знающих людей… Что в этом плохого? Хурлиулум и Шуттарн снова переглянулись. – Знание – меч, заточенный с обеих сторон, – молвил дарующий кров. – Ты молод, Тен-Урхи, и этого еще не понимаешь. К тому же ты рапсод, а песнопевцы всегда были склонны фантазировать. – Старик улыбнулся, смягчая резкость своих слов, но его лицо тут же приняло озабоченное выражение. – Думаю, тебе надо поговорить с магистром, с одним из наших мудрецов. Он объяснит тебе опасность излишнего знания… Скажи, откуда ты услышал про мастера Цалпу, про этого Дартаха и тех людей, что делали паровые котлы? Это случилось так давно, что даже я с трудом припоминаю их имена и страны, где они жили. Кто рассказал тебе о них? – Определенно – никто. Странствуя, я слышал слово тут, два слова там… Как ты верно заметил, Шуттарн, я рапсод и, значит, ищу темы для песен. А это требует внимания даже к тому, что говорят в харчевнях, в банях, на дорогах и постоялых дворах. – И ты был в Островном Королевстве? Так далеко? Там, где сохранилась память о Таркодаусе, строителе котлов и кораблей? – с ноткой недоверия спросил Хурлиулум. Попался!.. – мелькнуло у Тревельяна в голове. И правда, далековато! Тем более что рядом сидит уроженец тех далеких мест! Начнет еще расспрашивать про это и про то… Крупных ошибок он не боялся, усвоив под гипнотическим внушением массу данных о географии, природе и обычаях западных стран, но в мелочах вполне мог провраться. – Нет, там я не был. – Он сделал жест сожаления. – Я читал о Таркодаусе в Архивах. Его обвинили в колдовстве и насадили на крюк, и эта история была записана для поучения. Я… Он смолк, заметив, как отвисли челюсти у собеседников. Опять он что-то не то сказал! – Ты был допущен в столичные Архивы? Небывалое дело, клянусь Тремя! – Густые брови Шуттарна дрогнули в изумлении. – Конечно, ты уроженец Семи Провинций и рапсод, но все же… все же… «Сошлись на бабу», – подсказал призрак командора, и Тревельян, скромно потупившись, произнес: – Мне оказали протекцию… очень вескую протекцию… супруга одного чиновника… гмм… нобиля, чье имя я забыл так прочно, что даже не пытаюсь вспоминать. Ну, вы понимаете… – Будто в смущении, он зарделся, рванул бакенбарду и резко сменил тему: – Твой совет, Шуттарн, о встрече с магистром очень полезен. Я так и сделаю. Кого из мудрецов можно найти поблизости?
– В Хай-Та – никого. Но в Северном Этланде живет почтенный Питхана. В городе Помо. «Надо же, в Помо! Перст судьбы!..» – подумал Тревельян. Хурлиулум поднялся, приблизился к стене, где висели музыкальные инструменты, и снял две флейты. Они были с большим мастерством выточены из розового дерева; мундштуки белели костью, оправа сверкала серебром. – Я обучаю сыновей владыки искусству правления. Учу их законам, учу судить справедливо, быть милостивыми к людям и беспощадными к убийцам и ворам, – сказал пастух. – В свободное время я играю на флейте. Не столь хорошо, как наш хозяин Шуттарн, но все-таки мелодию не испорчу. Особенно если ты, рапсод, поведешь наши флейты за своей лютней. Проверяет, догадался Тревельян. Ну что ж, учитель законов может быть подозрительным… Он раскрыл мешок, достал лютню, коснулся струн, и они зазвенели под быстрыми пальцами.
Глава 4 ЭТЛАНД
Спустя двенадцать дней, преодолев, где пешком, где в экипаже, пару тысяч километров, Тревельян опять сидел у стола, но уже не низкого, а привычной вышины, и под его ягодицами была не кожаная подушка, а деревянный табурет. Этланд несомненно являлся более цивилизованной страной, чем Хай-Та, поскольку был ближе к Империи и граничил на западе с Горру, Нанди и Пибалом, лежавшими у подножия Кольцевого хребта. Имперский тракт пересекал границу с Нанди и уходил к горам, к ущелью, пробитому притоком Рориата, и Первому Разлому, а за ним лежала провинция Восхода, самая восточная область Империи, которая славилась своими медами, зерном и душистой цветочной эссенцией. При желании Тревельян мог направиться туда, сесть на корабль и поплыть по морю Треш в Мад Аэг, столицу мира. Однако его дела на востоке были еще не закончены. Стол и сиденье в обители Братства в Помо были удобнее, чем в Рори, а зал для трапез – больше; тут, не теснясь и не толкаясь, могли расположиться полсотни человек. Убранство зала тоже было изысканней: на стенах – гобелены, изображавшие панораму гор, потолок расписан под звездное небо, а в окнах, имевших форму стрельчатых арок, – настоящее стекло. Угощение, предложенное Даббасом, дарующим кров, не оставляло желать лучшего: лесной клыкач, запеченный с пряностями и травами, а к нему – пибальское вино. Все располагало к пиру и веселью, однако в трапезной, где насыщались девять человек, царила суровая тишина. Ни звуков музыки, ни разговоров, ни, тем более, смеха… Причины такой сдержанности были Тревельяну непонятны – он появился здесь час назад, успел умыться с дороги, но в обстановке еще не разобрался. Семеро его сотрапезников были рапсодами из местных, крепкими мужчинами в цвете лет; восьмой, пастух Лагарна, выглядел постарше и принадлежал, судя по имени и внешности, к северной ветви континентальной расы. Его бакенбарды были короткими и тронутыми сединой, а ростом он не уступал Тревельяну. «Что-то парни мрачноваты, – заметил его невидимый Советник. – С чего бы? На блюде – жареный кабан, вина залейся, а рожи хмурые, как перед дракой». Сказать Тревельяну было нечего, и он промолчал. Однако подумал, что Братство изучено из рук вон плохо и что, быть может, его члены не вполне адекватны земным миннезингерам и трубадурам. Восемь песнопевцев за столом, и с ними учитель или философ, но никакой болтовни… Этого он не понимал, а значит, в полученных им инструкциях, касавшихся Братства, зияли пробелы. «Рожи как перед дракой, – упрямо гнул свое командор. – Видел я такие рожи, видел, и не раз! Десантники перед высадкой. Жрут, пьют, бластеры чистят, а глаза – в кучку… Будет драка, будет!» Это в планы Тревельяна не входило. Он, собственно, завернул в Помо, чтобы повидать почтенного магистра Питхану и выжать из него что-нибудь полезное. По дороге сюда он не обогатился новой информацией, и миссия, можно сказать, не продвинулась ни на шаг. В постоялых дворах и харчевнях, на базарах и в банях, в речных гаванях и мелких университетах, что встречались на пути, никто не слышал ни о Дартахе Высоколобом, ни о его трудах. Об этих материях помнилось не больше, чем о бумаге мастера Цалпы, о паровой машине, изобретенной четырежды, или, к примеру, об учении Арзы-Сина Мечтателя, утверждавшего, что звезды – это солнца, видимые с огромных расстояний. В такой ситуации вести прелестной Чарейт-Дор про Дартаха, коего приютил ее отец, были подарком судьбы, и ими пренебрегать не стоило. Однако, еще не добравшись до цели, Тревельян узнал, что имение и резиденция Раббана, правителя Северного Этланда, находятся не в Помо, а километрах в сорока от города, в местности с приятным климатом и теплыми целебными источниками. Там, в котловине меж холмов, стоял дворец, окруженный парком, там простирались охотничьи угодья, и там Раббан проводил восемь декад из десяти в любом сезоне, наезжая в Помо лишь по делам правления. Видимо, они не отнимали много времени. Этланд, в отличие от Хай-Та, являлся понятием скорее географическим, чем политическим, и не имел единого владыки. Это была конфедерация земель и небольших городов, где, под эгидой Империи, правили местные аристократы, так что Раббан, в привычных понятиях, был кем-то вроде полунезависимого князя. Споры и конфликты между владениями, разумеется, случались, но их решал имперский суд, а иногда – традиционный поединок бойцов двух спорящих сторон. Войн и набегов тут не знали, армия любого князя была не больше сотни человек, и край считался мирным и настолько тихим, что даже имперские гарнизоны тут не стояли, за исключением солдат, следивших за порядком на дорогах. Разузнав, как добраться в поместье правителя, и осмотрев городок, совсем небольшой, но чистый и ухоженный, Тревельян завернул в обитель Братства, надеясь встретиться с почтенным Питханой. Явился сюда, попал на этот мрачный пир и спросить успел лишь об одном – где проживает премудрый магистр. Оказалось, что здесь, на третьем этаже обители, которая была просторнее и больше, чем те странноприимные дома, что попадались по дороге в Помо. Сообщив об этом, дарующий кров замолчал, всем своим видом намекая, что вопрос о встрече поднимать не стоит. Несвоевременное дело! Когда от клыкача остались кости, а в кувшинах показалось дно, пастух Лагарна, старший в этой компании, поднялся, оглядел рапсодов, задержавшись взглядом на Тревельяне, и спросил: – Кто знает дорогу? – Я. – Вслед за Лагарной встал один из рапсодов, стройный юноша в сером пончо. – Я отведу вас к Раббану, а он уже даст проводников до нужного места. К Раббану! Вот только зачем? Не успел Тревельян придумать первую гипотезу, как пастух сказал: – Хорошо, Заммор, ты нас поведешь. Вооружаемся, братья, и в дорогу! – Его глаза опять остановились на Тревельяне. – Боги нам помогают – прислали в помощь крепкого воина. – Трое всегда на стороне справедливости, – сказал Даббас, дарующий кров, и повел их в соседнюю комнату. Там располагался арсенал. Взору изумленного Тревельяна предстало все, изобретенное на Осиере для защиты и нападения: кожаные доспехи и пластинчатые кольчуги, копья, дротики и метательные лезвия разнообразных форм, луки и арбалеты с солидным запасом стрел, большие и малые щиты, мечи с короткими и длинными клинками, прямые, изогнутые и с расширявшимся концом, ножи и кинжалы, секиры, боевые топоры и палицы. Отряд начал вооружаться, рапсоды натягивали доспехи и примеряли шлемы, а он все стоял и глядел, пока Даббас не коснулся его плеча: – Мне кажется, этот панцирь тебе подойдет, Тен-Урхи. Большой и прочный, из кожи нагу… Бери его. Чем ты сражаешься? Рубишь секирой или мечом, жалишь копьем? Или стреляешь из арбалета? Никто не спрашивал его согласия рубить или стрелять – это, кажется, само собой подразумевалось. Тревельян молча натянул доспех, выбрал подходящий шлем, взял пейтахский меч с длинным, слегка изогнутым лезвием, связку дротиков, арбалет и плотно набитый колчан. Лазерный хлыст в его сапоге стоил всей этой груды железа, дерева и кожи, но обращаться с холодным оружием Тревельян умел: стрелял он вполне прилично, а что до владения клинком, то вряд ли в этом мире нашелся бы более искусный мастер. Глядя, как он проверяет баланс клинка, Лагарна одобрительно кивнул: – Видно, ты опытный воин. Случалось биться за справедливость? – Не раз, – с уверенным видом отозвался Тревельян. – Нынче последняя декада Второго Урожая, праздник на носу… В такие дни я особенно свиреп, ибо не могу дождаться угощения. Но пастух не улыбнулся на шутку, а только спросил: – Где ты сражался? – Где? Хмм… Повсюду. В северных и южных землях и здесь, на востоке. – Отлично. Моя кровь – твоя кровь, Тен-Урхи. Если меня убьют, ты будешь старшим. Вооружившись до зубов, они покинули обитель. Дом, как и другие дома Братства, стоял на городской окраине, у мощенного камнем пути, что вел на север, в Манкану. Ушли они тихо, не бряцая металлом, но все же Тревельян увидел жителей, стоявших во дворах или глядевших в окна и провожавших их молча, только взмахами рук и символом божественного круга, который чертили в воздухе. Ему показалось, что люди выглядят испуганными и что в глазах их светится надежда. По имперскому тракту «десантники» прошли не больше километра, свернув затем на другую дорогу, не такую широкую, без каменного покрытия, но прямую и с плотно утоптанным грунтом. Тревельян шагал по ней след в след за Лагарной и молодым Заммором, и с каждой секундой Братство Рапсодов превращалось в его воображении в рыцарский орден, в содружество не только певцов, но воинов. Рапсоды, трубадуры? Нет, скорее скальды, владевшие мечом не хуже, чем лирой и голосом. Он уже не сомневался, что специалисты Базы что-то упустили, проглядели нечто важное в этом союзе, возникшем в неведомые времена – может быть, еще до основания Империи. Что ж, подумал он, тем интереснее разобраться и выяснить правду. Дорога уходила в лес, такой дремучий, что казалось, он стоит тут с сотворения мира. Ветви огромных деревьев переплетались в вышине, меж огромных стволов, покрытых бугристой корой, поднимался гигантский папоротник, багровели мхи, падал дождь лиан, и по любой опоре карабкалась к небу и свету лоза с узкими, похожими на лезвие кинжала листьями. Лес был живым, полным звуков, шелеста листьев и птичьего щебета. Временами мелькали за деревьями мощные серые туши клыкачей или пятнистая шкура хищной кошки, гулко и громко ухала какая-то птица, скакали по ветвям древесные кролики, маячили среди листвы рыжие пацы, и их назойливое бормотание – пц-пц-пц!.. – звучало со всех сторон. Дорога, однако, была ровной и сравнительно прямой – вероятно, за ней следили и вырубали подлесок. Тревельян прибавил шаг, поравнялся с Лагарной, вооруженным щитом и копьем, и спросил: – Скажи, достойный… Ты ведь пастух, а значит, наставник и учитель. Какому искусству ты обучаешь? – Танцам и изящным манерам, – ответил тот, касаясь наушного украшения, серебряной фигурки плясуна с малахитовой подвеской. – Но не только этому, рапсод, не только этому! – Лагарна потряс копьем, и на его губах мелькнула мрачная усмешка. Дорога пошла вверх, лес стал светлее, деревья раздвинулись, давая место остроконечным каменным глыбам, скалам и осыпям. Вверху, в разрывах крон, синело небо, и золотистый Ренур изливал на землю полуденный зной. Тревельян прикинул, что от Помо они отшагали километров пятнадцать и что в этом ровном темпе доберутся до поместья к началу Заката. Трое в их отряде несли щиты и копья, двое – топоры и луки, остальные, как он, вооружились мечами и арбалетами. Судя по всему, острая губительная сталь была рапсодам столь же привычна, как нежные флейты и сладкозвучные лютни. Их лица под налобниками шлемов казались грозными, мрачными, но спокойными. Лица людей, которые должны исполнить пусть неприятный, но почетный долг. Они преодолели ручей с каменистым дном и вошли в ущелье, неширокое и живописное. Дорога начала петлять, огибая утесы цвета охры, покрытые пятнами лишайников и хвойными лианами; теперь она просматривалась не больше, чем на десять-пятнадцать шагов. Командор снова пробудился и посоветовал не хлопать ушами, а выслать передовое охранение. Но Лагарна, видимо, не был новичком в воинском искусстве и обучал не только танцам: по его команде проводник Заммор и еще один воин быстро двинулись вперед. Услышав, что за спиной затеялся негромкий разговор, Тревельян решил, что соблюдать молчание необязательно, и посмотрел на шагавшего рядом рапсода. Звали его Паххат, и был он еще моложе Заммора. – Подходящая у нас компания, учитель танцев и восемь музыкантов и певцов, – с улыбкой молвил Тревельян. – Хватит, чтобы повеселитьРаббана, его родню и слуг, и научить их изящным манерам. Но юный Паххат не принял шутки. Дернув отвисшее ухо – типичный жест для человека его расы, – он хмуро заявил: – Мы идем не веселить, не петь и танцевать, и учить не будем тоже. Проучим и покараем, так вернее! Как подобает судьям и стражам справедливости! Стражи справедливости? Это Тревельян услышал не в первый раз. Так его назвал Куссах Четыре Пальца, пират и разбойник… Видимо, эти слова были не лестью устрашенного злодея и не мольбой о милости, а чем-то большим; может быть, почетным титулом, что говорил о назначении рапсодов и всего их Братства. Возможно ли такое?.. – думал Тревельян, меряя дорогу быстрыми шагами. Петь, учить и складывать сказания – это с одной стороны… С другой, судить и карать, присвоив важные прерогативы имперской власти… А как любая власть относится к подобному деянию? Известно как! Резко отрицательно, вплоть до виселицы, плахи и костра для самозваных судей. Хотя в земной истории были особые институты суда и кары, освященные традицией, – божий суд, суд чести, дуэль и рыцарские поединки… В Средневековье эти феномены уживались с властью, пользуясь даже почетом и общим признанием – в точности, как Братство Рапсодов. Все зависело от ситуации, и, значит, здесь и сейчас она сложилась так, что имперская власть не хочет или не может рассудить Раббана с его оппонентом. «Я еду в Помо, – припомнил Тревельян лукавые речи прелестной попутчицы. – Ты мог бы там меня навестить или отправиться прямо со мной. Раббан будет рад и примет тебя с почетом…» «Еще как будет рад!» – молчаливо согласился он. Еще один меч в отряде приглашенных судей! Больше мечей, больше веских доводов, больше надежды на успех… Но кто же так насолил бедняге Раббану? Любопытство мучило его. Покосившись на юного Паххата, он промолвил: – Я появился в Помо сегодня на Восходе, а потому не знаю, к кому мы идем и кого покараем. Неужели Раббана, правителя Северного Этланда? – В Северном Этланде Раббан уже ничем не правит, – ответил, услышав его слова, рапсод постарше, которого звали Форрер. – Что значит править? Собирать налоги, судить спорящих, поддерживать в стране порядок. А Раббан… – …налогов точно не собирает, – с сухим смешком подсказали сзади. – Это так, – кивнул Форрер. – Их собирает другой, в двойном размере, сдирает шкуру с поселян, чтобы прокормить свою дружину. Город пока откупался… Но и до Помо дойдет черед, когда опустеют сундуки купцов и мастеров! – У этого другого есть имя? – Конечно. Аладжа-Цор, так его зовут. Аладжа-Цор из Мад-Аэга. – Из самой имперской столицы? – Да. Он… Протяжный свист прервал Форрера. Семь воинов ринулись вперед, обогнули утес, что наполовину перегораживал ущелье, и оказались в расширении, на сравнительно ровной площадке, усыпанной щебнем и камнями величиной с кулак. Скалы тут отступали влево и вправо на полсотни метров, склоны их были пологими, заросшими кустарником и хвойными деревьями, чьи искривленные стволы служили насестами двум десяткам лучников. Еще тридцать или сорок бойцов стояли плотной шеренгой посреди дороги, а перед ними – Заммор и сопровождавший его рапсод. Большая часть противников относилась к северной континентальной расе, как и их предводитель, рослый воин в кольчуге, с огромным топором. – Люди Аладжа-Цора, – бросил Лагарна и выступил им навстречу. Два щитоносца с копьями тут же прикрыли его с обеих сторон. «Говорил я, будет драка, – раздался бесплотный голос командора. – Ты поаккуратней, мальчуган… Не нравятся мне эти козлы на флангах… Как бы стрелу тебе в зад не всадили». Но Лагарна, похоже, таких опасений не испытывал. Повелительно взмахнув рукой, он распорядился: – Прочь с дороги! Не пытайтесь нас остановить! Вспомните: поднявший руку на Братство лишится руки, а вместе с нею – крови и жизни. Не споют над ним погребальных гимнов, и прах его не попадет к Таван-Гезу – сожрут его плоть лесные хищники, а ночная птица выклюет глаза. – Клянусь духами бездны, мы не хотим проливать вашу кровь, – с мрачным видом ответил рослый предводитель. – Не пугай нас, пастух, отправляйся в Помо и уводи своих воинов. Аладжа-Цор, наш благородный повелитель, вам ничего не должен. – Об этом мы с ним поговорим и рассудим от имени Братства. А сейчас убирайтесь! В глазах предводителя разгоралась ярость. Он оглянулся на своих бойцов, крепче перехватил рукоять топора и процедил сквозь зубы: – Убирайся ты! Будь ты хоть трижды из Братства, но людей-то больше у меня! И воины они не из последних! Как и я сам! Я, Майлавата, служивший туаном в войске у… – Ты мешок с дерьмом в ржавом доспехе, – с оскорбительной усмешкой произнес Лагарна и тут же отпрянул назад. Топор его противника сверкнул на солнце и опустился, задев плечо пастуха. Кажется, в этом был некий расчет – Лагарна мог двигаться быстрее, но не спешил, словно желая получить ранение. Совсем пустяковое – пониже наплечника доспеха заалела мелкая царапина. – Они пролили первую кровь, – прорычал Форрер, выхватывая меч. – Первая кровь, братья!В следующий миг Лагарна ударил предводителя копьем. Ударил нижним концом древка в колено, сшиб наземь, проткнул горло острием и проделал все это словно пируэт в изящном танце. Грохнув, сомкнулись три щита, и пастух с двумя певцами, орудуя копьями, ринулись на врагов и проломили строй, оставив на земле четыре трупа. Остальные рапсоды, бросив свои мешки с поклажей и инструментами, шагнули следом, обрушив на людей Аладжа-Цора мечи и топоры. Трещали кости, лилась кровь, падали мертвые и раненые, и Тревельян успел подумать, что стражей справедливости не зря боятся – соперничать с ними в боевом искусстве было нелегко. Мысль мелькнула и тут же оставила его. Мощным ударом он рассек рукоять топора, пробил панцирь, всадил клинок меж ребер схватившегося с ним воина, вырвал стальное жало, полоснул по шее другого противника, отступил, сделал финт, поразил в живот вражеского меченосца, а возникшего ему на смену рубанул по спине. Рапсоды смешались с отрядом врагов, и лучники, засевшие на склонах ущелья, стрел не метали, опасаясь попасть в своих. Но командор был прав – угроза с флангов была очевидной. «Этих мы перебьем, – подумал Тревельян и снес голову очередному нападавшему, – перебьем, а после что? Или нас тут положат, или стрелки устрашатся и сбегут…» Он заметил, что арбалетов его соратники не бросили – выходит, были готовы помериться силой и с лучниками Аладжа-Цора. Схватка распалась; каждый рапсод бился с двумя-тремя противниками, но было незаметно, чтобы те одолевали. Совсем наоборот: то и дело сквозь лязг железа, топот и тяжелое дыхание сражавшихся прорывались вопли раненых врагов и предсмертный хрип прощавшихся с жизнью. Среди троих, атаковавших Тревельяна, один был мускулистым великаном, бледнокожим, с безволосой головой. Такие ему еще не попадались – этот боец был, несомненно, из южан, и факт его присутствия в отряде являлся нарушением имперской монополии. Варваров с Дальнего Юга вербовали только в войска Империи, и не было для них иного способа попасть в цивилизованные земли. Этот, возможно, беглый наемник, решил Тревельян. С секирой умеет управляться… Умел, поправился он, проткнув великану сердце. Двое других тут же швырнули мечи и побежали, за ними помчался еще десяток побежденных, и тут же закричал Лагарна: «К скалам, братья! Снимайте лучников!» Воины, бросив мечи и секиры, понеслись к подножию утесов, разыскивая укрытия среди камней. Это маневр был совершен с такой быстротой, словно никто не чувствовал усталости после боя, но улыбнулась удача не всем. В воздухе запели стрелы, один из рапсодов споткнулся на бегу и рухнул навзничь. Потом раздался гневный рык Лагарны: две стрелы вонзились в его щит, третья попала в колено, лишив подвижности. Пастух упал, пополз, волоча раненую ногу, и новый снаряд ударил его в затылок. В то же мгновение свалился и Тревельян; мучительная боль пульсировала в бедре, чуть пониже края доспеха, защищавшего живот. Он успел забиться в щель между камней. «Говорил я тебе, задницу береги! – рявкнул командор. – Ну, что там у тебя?» «Кость не задета, в мясо вошло», – отозвался Тревельян, срывая со спины арбалет. Прячась за каменной глыбой, он послал три стрелы, сбив двух лучников. Остальные рапсоды тоже стреляли, и не хуже, чем рубились в рукопашной – несколько тел рухнули с высоты, кое-кто повис в кустах мертвым грузом. На залитой кровью площадке тоже лежали трупы, а пятеро раненых хрипло стонали и молили кто о милосердии, кто о помощи. Но дожидаться ее от лучников, их сотоварищей, было не суждено. Все они попали в ловушку и двинуться с места не могли: внизу их поджидали копья и клинки рапсодов, а путь наверх тоже был дорогой к смерти – меткая стрела нашла бы каждого. Наконец Форрер помахал арбалетом и крикнул: – Спускайтесь, отродье пацев! Спускайтесь, забирайте раненых и идите прочь! Слово рапсода, мы вас не тронем! Лучники боязливо слезли, прирезали двух тяжелораненых и, оглядываясь, чертя круги над сердцем, заковыляли по ущелью. Когда они скрылись, шесть рапсодов покинули свои убежища. Тревельян тоже выполз из щели и сел, прислонившись к камню спиной. Нога, пробитая стрелой навылет, онемела ниже колена, рану жгло, штанина набухла от крови, но медицинский имплант уже трудился вовсю. Он мог спасти от инфекции, восстановить потерянную кровь, ускорить регенерацию тканей; он мог многое, кроме одного: вытащить стрелу. Тут Тревельяну приходилось полагаться только на собственные руки. К нему подскочили Форрер и еще один рапсод по имени Тахниш. – Мы поможем, брат! – Тахниш снял с пояса флягу с вином. – Выпей все, и ты не почувствуешь боли, когда мы станем тащить стрелу. – Я сделаю это сам. – Под их напряженными взглядами Тревельян обрезал наконечник стрелы кинжалом, стиснул оперенье в липкой от крови ладони, выругался и дернул. Рана полыхнула огнем, но жжение сразу утихло – имплант вспрыснул болеутоляющее. Тревельян посидел минуту, потом, вытерев пот со лба, поманил Тахниша: – Давай твое вино. Сейчас будет в самый раз. Глядя, как он пьет, Форрер сказал: – Сам грозный Таван-Гез благоволит тебе, но и Заступница не забывает. Ты не только великий воин, Тен-Урхи, ты еще и очень терпеливый человек. – Знал бы ты, какой я рапсод! – Тревельян через силу улыбнулся. – Услышавший мою игру рыдает так, что слезы тут же становятся серебряными монетами. – Ты еще сыграешь, брат! Руки твои целы, а нога… нога заживет. Сейчас мы ее перевяжем. Необходимости в этом не было, но отказ удивил бы его товарищей. Он позволил Тахнишу обрезать штанину, и тот принялся поливать бедро каким-то жидким снадобьем и обматывать чистыми тряпицами. Тем временем четверо рапсодов принесли тела погибших, положили на землю, сняли доспехи и занялись подсчетом собственных убытков. Помечены были все, кто в руку, кто в плечо, но, к счастью, то были не раны, одни царапины. Наконец, бросив печальный взгляд на тело Лагарны, Форрер описал круг у сердца и произнес: – Погибли два наших брата, а Тен-Урхи, наш новый предводитель, ранен и не может идти. Что будем делать? Отправим ли кого-нибудь за помощью к правителю Раббану, чтобы прислали нам фургон и лошадей? Или вернемся в Помо и соберем новый отряд, дождавшись нескольких братьев, что бродят по дорогам Этланда? Или… Тревельян прервал его нетерпеливым жестом: – Берите копья, снимайте с убитых злодеев плащи, делайте носилки! Мы не вернемся в город, а пойдем к Раббану. Он призвал нас на помощь, и не годится о чем-либо просить его. Форрер кивнул и принялся вместе с другими рапсодами мастерить носилки. Они не могли бросить здесь тела погибших братьев без надлежащего погребения. Их полагалось сжечь, а прах развеять над морем или над рекой, которая впадает в океан, чтобы останки когда-нибудь, через много-много лет, очутились у Оправы Мира и попали в руки трех богов. Юный Тавангур-Даш поможет им соединиться с блуждающими душами и отведет на суд к отцу, грозному Таван-Гезу, а там каждый получит по заслугам: одни возвратятся на Осиер людьми, другие – змеями, ящерицами и мерзкими пацами, а третьи не возвратятся вовсе, а попадут в бездну демонов. – Тебя мы тоже понесем, – сказал Форрер, оборачиваясь к Тревельяну. – Нет. – Он пощупал ногу и убедился, что рана уже закрылась. – У меня все быстро заживает. Ты правильно сказал, Форрер – Заступница ко мне милостива. Я могу идти. И они пошли.
* * *
Дворец правителя Раббана был выстроен в старопибальском стиле, совсем не похожем на деревянное зодчество Хай-Та и Этланда. Насколько Тревельян разбирался в местной архитектуре, столь же разнообразной и многоликой, как земная, пибальские дворцовые постройки всегда врезали в склон горы или холма, располагая их ярусами. Дворец Раббана именно так и выглядел: три трехэтажных каменных квадрата с внутренними двориками стояли один над другим на широких террасах, соединенных лестницами и засаженных декоративным кустарником и цветами. Здания были древними; их, вероятно, возвели в эпоху Дорожной Войны, когда Империя пробивалась на восток. Белый бугристый известняк стен, уступчатая структура, прихотливые извивы лестниц и узкие, подобные трещинам окна делали дворец неотъемлемой частью пейзажа, холмов и скал, дремучего леса, ручьев, водопадов и небольшого гейзера, который четырежды за день наполнял целебными водами несколько бассейнов. Едва отряд вышел из леса, как на лестницы и плоские крыши зданий высыпало сотни две народу – лучники и стражники с пиками, служанки и слуги в ярких просторных одеждах, какие-то важные господа, над которыми держали зонты, – возможно, гости или помощники правителя. Затем звонко и пронзительно запела труба, на нижнюю лестницу выскочили из ворот воины в начищенных до блеска бронзовых шлемах, а за ними – целая орда псарей, конюших и дворцовых служителей, сопровождаемая собачьей сворой. Наконец появился человек в имперском обтягивающем платье, расшитом золотом, высоких сапогах и венце, сиявшем драгоценными камнями. Рука об руку с ним шла стройная женщина, в которой Тревельян узнал Чарейт-Дор, а дальше торопились прислужники с опахалами и табуретами, виночерпии с подносами и кувшинами, сигнальщики с горнами и два десятка стражей. Тарли, местные псы, добрались до рапсодов первыми. Вероятно, то была охотничья порода: крепкие челюсти, длинные ноги, толстые мощные загривки. Прыгали они здорово – на радостях, а может, дожидаясь команды хватать и рвать. За ними примчались псари и солдаты; первые отогнали собак, вторые выстроились в две неровные шеренги, сверкая пиками и шлемами в лучах заходившего солнца. Слуги развернули ковер, поставили табуреты, служанки с опахалами и виночерпии с кувшинами встали по обе его стороны, и перед запыленными, покрытыми кровью рапсодами появился сам правитель со своей сестрой. У него был сильный низкий голос: – Разделяю ваше дыхание. – Раббан оглядел их отряд и в волнении потянулся к мочке уха. – Но что я вижу! Вы в крови, на ваших доспехах следы ударов, и двое лежат на носилках… Раненые? Или мертвые? – Мертвые, правитель, – сказал Тревельян, кланяясь Раббану и, отдельно, Чарейт-Дор. – По дороге нам встретились воины Аладжа-Цора, и, должен заметить, были они не очень почтительны. Пришлось преподать им урок. Кажется, он все сказал правильно – Форрер, Тахниш и другие рапсоды с одобрением закивали. Правитель сдвинул густые брови. Ему было не меньше пятидесяти, и выглядел он человеком восточной расы, о чем говорило его имя. Либо Чарейт-Дор состояла с ним в отдаленном родстве и называла братом из вежливости, либо родилась от второй жены их общего отца, чистокровной женщины Империи. По данным Фонда, браки между богатыми аристократами востока и запада и девушками из мелкого имперского дворянства не являлись редкостью. – Тква, Лабро! – громко выкрикнул Раббан имена слуг. – Заберите тела павших рапсодов, обмойте их, облачите в лучшие одежды и положите на поленья из благовонного дерева. Завтра мы попрощаемся с ними – да будет милостив к их душам великий Таван-Гез! Захи и вы, три бездельника! Для живых вызвать лекарей, приготовить омовение в целебном бассейне и трапезу в Охотничьем зале. А сейчас – всем вина! Снимайте доспехи, доблестные братья, садитесь и отдохните! Слуги забегали, заметались, засуетились. «Хорошо встречают, с почетом, – одобрил командор. – И малышка наша тоже здесь. Заметил, как глазки-то разгорелись? Смотрит на тебя, как десантник на бифштекс, особенно после корабельного рациона!» – «Женщины любят героев», – скромно ответил Тревельян, принимая из рук виночерпия кубок. Вино было отменное; скорее всего, не пибальское, а из-за хребта, из южной Провинции Фейнланд. – Ты – Тен-Урхи, тот самый Тен-Урхи, который поет чудесные песни и интересуется Дартахом. Сестра рассказывала о тебе, рапсод, и вот ты здесь. – Раббан осушил кубок и бросил его в толпу служителей, не глядя, кто поймает. – Но не будем сейчас о Дартахе. Ты сказал, что люди Аладжа-Цора получили урок… Он был для них полезен? – Скорее для стервятников и лесных кошек, что пируют сейчас над трупами, – сказал Тревельян, а Форрер добавил: – Мы убили тридцать человек, правитель. Ты знаешь, сколько еще осталось? Раббан сдвинул на затылок свой венец, лоб его пошел морщинами. – Думаю, семь или восемь десятков. Но захотят ли они биться со стражами справедливости? Аладжа-Цор – да будет он проклят тремя богами! – набрал злодеев и дезертиров из войска, грабит деревни и кормит своих людей неплохо. Но все же не так хорошо, чтобы они рискнули кровью и достойным погребением! – Он оглядел рапсодов, задержавшись взглядом на забинтованной ноге Тревельяна. – Кто из вас вызовет его? – Я, – произнес Тревельян, послав сестре правителя нежную улыбку. – Хотя, сказать по правде, я рассчитывал провести здесь время приятнее. – Изучая манускрипты Дартаха? – лукаво молвила Чарейт-Дор. – Да, если не представится ничего интересней. Представится, сказали ее глаза, непременно представится! – Аладжа-Цор – серьезный противник, он обучался фехтованию у лучших мастеров, – промолвил Раббан. – А ты ранен! – Пустяки, – Тревельян поднялся. – Но чем скорее мы с братьями доберемся до бассейна и стола, тем крепче будем в битве. Ты позволишь, правитель? Он предложил руку Чарейт-Дор, и процессия, во главе с Раббаном и рапсодами, потянулась к лестнице. Тревельян со своей спутницей приотстали. – Ты не очень торопился, – надув губки, сказала Чарейт-Дор. – Ты заставил себя ждать. – Зато пришел не один, моя прекрасная госпожа. Только не понимаю, кого ты ждала: стража справедливости, рапсода или мужчину по имени Тен-Урхи. – Это так важно? Может быть, всех троих, может быть, ни одного… Посмотрим! – Посмотрим – это не ответ, – промолвил Тревельян, обнимая Чарейт-Дор за талию. «В атаку, парень! – рявкнул командор. – Смелее! Помню, когда я в четвертый раз женился… Дьявол! Как же ее звали?.. Ну, не важно. В общем, когда я женился в четвертый раз…» – «Мои планы не простираются так далеко», – урезонил его Тревельян, чувствуя трепет женского тела под тонкой воздушной туникой. Чарейт-Дор насмешливо покосилась на него, но дерзкую руку не сбросила. – Интересно, чего же ты хочешь, рапсод? Тебя искупают в бассейне и накормят досыта, нальют лучшего вина, насыплют в кошелек монеты… Ты ляжешь в мягкую постель и сладко уснешь, а на следующий день будет тебе развлечение – смертельный бой, и не с каким-нибудь голодранцем, а с имперским нобилем. Что еще нужно мужчине? Тревельян обнял ее покрепче, бросил взгляд на свое забинтованное бедро и сказал: – Этому мужчине нужны сочувствие и женская ласка. И, разумеется, новые штаны.* * *
Охотничий зал был велик, освещен по вечернему времени лампадами на благовонном масле и украшен трофеями хозяина: дюжиной голов клыкачей и оленей, чучелами хищных лесных кошек, саламандр и пацев, от шерсти которых еще заметно пованивало, птицами ках в роскошном оперении и прочим в том же роде. Жемчужиной коллекции являлась безусловно голова нагу, жуткой рептилии, почти дракона, водившейся в болотах на границе с Манканой. Под этой тварью, чья пасть могла отхватить человечью голову, а кожу с трудом пробивало копье, стояло кресло Раббана. Семеро рапсодов разместились вдоль одной стороны стола, а другую заняли Чарейт-Дор и три приближенных правителя, чьи имена и должности огласили слишком быстро и неразборчиво. Один был тучен, уши другого едва не касались плеч, а третий не выделялся ничем, кроме очень маленьких хитрых глазок. Чарейт-Дор сидела напротив Тревельяна, и иногда ее ножка, в лучших куртуазных традициях, касалась его башмака. Ели и пили в молчании, ибо, хоть в осиерских странах не знали обычая, подобного тризне, о погибших не забывалось, и вино не дарило того беззаботного веселья, какое бывает в компании певцов и музыкантов за столом у щедрого хозяина. Но, когда в небе вспыхнула Ближняя звезда, языки все же развязались, хотя говорили больше о печальном и серьезном. Хитроглазый, оказавшийся жрецом, поведал, что к завтрашнему похоронному обряду все готово: павшие обмыты и облачены в достойные одежды, но, быть может, надо надеть на них доспехи? Традиций Братства по этому поводу Тревельян не знал, однако Форрер не задержался с ответом, пояснив, что доспехи ни к чему, но с погибшим рапсодом нужно сжечь его лютню. Затем толстяк, сборщик налогов в Северном Этланде, принялся долго, нудно и подробно перечислять обиды, чинимые Аладжа-Цором и его разбойными людьми, поминая ограбленных купцов, разоренные деревни, угнанные стада и убитых поселян, рискнувших оказать сопротивление. Тревельян слушал и удивлялся, отчего бы правителю не взять своих солдат и не покарать злодея – а если солдат у него не хватает, то почему бы не обратиться за помощью к соседям, а то и вызвать имперские войска. Спросить? Но остальным рапсодам вроде бы все ясно… Он боялся попасть впросак, а тут еще Чарейт-Дор отвлекала – глядела на него многозначительно и тянулась резвой ножкой к его колену. Должно быть, хотела намекнуть, что пора от стола и в постель. Тревельян, собственно, был не против, но тут речь зашла о бунте в Манкане и воинах, посланных Светлым Домом на мятежников. По слухам, их было пять или десять тысяч, и к ним примкнул – а может быть, и поднял бунт – манканский нобиль по имени Пагуш. Что послужило причиной беспорядков, определенно никто не знал: то ли Пагуш воевал с властителем Манканы из-за каких-то притеснений, то ли поднялся на Гзор, соседнюю страну, желая округлить свои владения, то ли хотел отселиться на новые земли. Услышав об этом, Тревельян насторожился. Феодальная междоусобица? Возможно, возможно… Но могли быть и другие причины. Манкана являлась одной из стран Пятипалого моря и примыкала к нему, вместе с Гзором, с севера. Обе эти державы были обширны, но довольно бедны; других товаров, кроме строевого леса, меда, рыбы и зерна, у них не водилось. Поэтому купцы посещали их редко, а своих кораблей, кроме баркасов, в Гзоре и Манкане не строили. Однако чем черт не шутит! Все же манканцы были не сухопутным народом, их побережье тянулось на триста километров, а где море, там и рыбаки. Значит… Игривая ножка Чарейт-Дор снова прервала раздумья Тревельяна. На этот раз к ножке кое-что добавилось – взглядом она показала на дверь. Но тут ловчий, тот самый длинноухий тип, заговорил об имперском войске, посланном на подавление бунта. Он полагал, что армия пройдет над Рориатом по мосту, достигнет Помо и будет двигаться на север, к горам Ашанти, что разделяют Манкану и Гзор. Маршрут подходящий, подумал Тревельян. Отчего бы не присоединиться к войску и не проверить, что творится в Манкане?.. Планы у него были самые неопределенные; в принципе, он хотел добраться до имперских Архивов, где могли сохраниться какие-то записи об экспедициях на запад и восток, а также о паровых машинах, бумаге, компасе и остальных эстапах. Но это являлось перспективой, а в данный момент он был озабочен лишь судьбой Дартаха и рандеву с Аладжа-Цором и мудрым Питханой. Три дела – не считая, конечно, Чарейт-Дор. Она снова напомнила о себе, лягнув его в коленку. Затем с пленительной улыбкой повернулась к брату: – Наш гость Тен-Урхи хотел взглянуть на те пергаменты, что сохранились после Дартаха. Кажется, они в книгохранилище?– В шкафу, – уточнил Раббан и задумчиво поднял вверх глаза. – Я помню этого Дартаха… мне стукнуло лет двенадцать, когда он умер… В Экбо он был наставником нашего достойного родителя, и его почитали как великого картографа. Жаль, что он тронулся умом! Отец его пригрел, и здесь, в нашем доме, он прожил много лет. Смерть его была тихой. – Чем он занимался? – спросил Тревельян, не обращая внимания на пинки в колено. Правитель дернул мочку уха. – Учил меня, как рисовать карты и измерять по ним расстояния. Еще бродил по комнатам и лестницам, рассказывая слугам, что мир не плоская земля в Оправе Перстня Таван-Геза, а огромная сфера, висящая в пустоте. Интересно, на чем она тогда держится? – Раббан расхохотался, глотнул вина и подмигнул Тревельяну: – Можешь взглянуть на его записи. Кстати, книгохранилище рядом с покоями моей сестры. Она тебя проводит. Тревельян поднялся, отвесил поклон и следом за Чарейт-Дор вышел из Охотничьего зала в патио. Этот внутренний дворик третьего яруса украшали привезенные из Семи Провинций изваяния чудищ асинто, полуконей-полузмей; их, согласно «Анналам Разбитых Зеркал», запрягали в свои боевые колесницы воины Уршу-Чага Объединителя. Небо затянули тучи, и только слабый свет Ближней звезды да пара факелов у входа в зал позволяли разглядеть массивные мраморные тела мифических тварей. – Твой брат умен и очень предупредителен, – молвил Тревельян. – Он так угадывает наши желания, точно способен видеть сквозь стол. – Мой брат уже немолод, и у него нет наследника, – ответила Чарейт-Дор. – Вся надежда на меня и на тебя. «Тут ты промахнулась, милая», – подумал Тревельян, но вслух сказал: – Но я ведь не нобиль, моя прекрасная госпожа. Я всего лишь бедный бродячий рапсод. – Ты – мужчина с берегов моря Треш. Чистокровный, что редкость в наших краях, и это значит очень многое. – Она с нежностью потрепала его бакенбарды. – Будь у моего брата такое украшение на лице, он поговорил бы с Аладжа-Цором. Так поговорил бы, что этот гнусный пац отправился бы в путешествие к Оправе Мира! Они медленно спускались по лестнице на второй ярус. Начал накрапывать дождь, но, против ожидания, Чарейт-Дор не торопилась под крышу. – Твой брат не кажется боязливым человеком, – заметил Тревельян. – Странно, что он позвал рапсодов, а не разделался с Аладжа-Цором сам. Он мог бы воззвать к правосудию Светлого Дома… мог бы потребовать солдат… Тем более что они скоро будут здесь – те, что идут в Манкану. Чарейт-Дор остановилась и удивленно уставилась на него. Тонкая туника женщины намокла под дождем, облепила высокую грудь, обрисовала бутоны сосков. – Ты… ты не понимаешь? О Тен-Урхи, поистине ты явился к нам из очень далеких краев! Или ты так увлечен своими песнями и поиском древних легенд про Уршу-Чага, что мирские дела не трогают твой ум! – Скорее второе, чем первое, – сказал Тревельян, чувствуя, как струйки текут за шиворот и по спине. – Я не понимаю. Так объясни! – Аладжа-Цор – один из Восьмисот. Больше того, его семья из Нобилей Башни! Его отправили сюда в изгнание за какой-то проступок – кажется, он дрался с благородным из Светлого Дома и убил его или ранил… Он наказан, но здесь ни один чиновник не осудит его, ни один солдат не станет с ним сражаться, ибо род его высок. Он занял крепость на границе с Манканой, набрал воинов и вытесняет Раббана из наших фамильных владений. Ты о таком разве не слышал? Приходит знатный человек из Семи Провинций, выбирает место получше, город побогаче, селится там – и через несколько лет он уже правитель. Потому ли, что прежний умер вместе с наследником, или потому, что он женился на дочери прежнего владыки. – Она помолчала и тихо добавила: – Или на его сестре… Они спустились во внутренний дворик, засаженный пальмами, и стояли теперь под дождем, не прячась от прохладных струй. Тревельян взял женщину за руку. – Тебя он не получит, клянусь в том милостью Трех! Я понял, моя госпожа. Светлый Дом не хочет помочь, соседи боятся, и самому опасно поднять руку на Нобиля Башни… И тогда призывают стражей справедливости, так? Стражи приходят и делают кровопускание наглецу. Но если у него сотен пять воинов, стрелки, колесницы и метательные машины, стражи могут не справиться. И что тогда? – Воины тут ни при чем, – тихо сказала Чарейт-Дор. – Ни один нобиль не откажется от поединка. Эта потеря чести. – Она запрокинула лицо и вдруг рассмеялась. – Ты утомил меня своими разговорами, Тен-Урха! И я вся мокрая! Мы оба мокрые, и нам надо выпить вина и согреться! В моей опочивальне есть бассейн с теплой водой, совсем маленький, только на двоих… Книгохранилище – там, – она показала на входную арку справа, – а мои покои – тут. Куда пойдем? – Конечно туда, где можно согреться, – сказал Тревельян и подхватил ее на руки.\
Глава 5 ЗАМОК
Шагая по лесной тропе следом за двумя проводниками, Тревельян размышлял о пользе традиций. Традицию не стоило путать с законом, ибо закон – творение властьимущих, которые корыстны, пристрастны и всякое дело хотят повернуть к собственной выгоде. Даже такое, казалось бы, благородное, как наведение порядка и законности в хаосе традиций и обычаев. Но этот хаос был фундаментальным, как беспорядочное движение мелких частиц, атомов и молекул, на котором держалась Вселенная с ее светилами, туманностями, планетами, со всем, что было мертвым и живым, от песчинки до амебы и от амебы до человека. Подчиняясь социальной термодинамике, хаотические поступки миллионов людей за многие тысячи лет, складываясь и вычитаясь, делясь и умножаясь, давали в итоге некое правило, полезное для всех. Глупая власть его отменяла, умная старалась как-то приспособить для себя, зная, что в данном случае запреты и отмены не сработают. Даже больше: явятся источником такого катаклизма, который им не пережить и даже не увидеть, ибо в самом начале волнений их вздернут на фонарь. Империя являлась властью умной. Распространяясь по континенту, захватывая и подчиняя другие расы и иные страны, насаждая свой закон, она на первых порах стремилась не к тотальному господству, а к деловому соглашению. На фоне грядущих столетий война и насилие были явлениями краткими, после которых полагалось удержать проглоченный кусок, переварив его без желудочной колики. Самый удобный способ – договориться с местной знатью, и если не включить ее в круг избранных, то хотя бы приблизить к нему, давая гарантии права на власть, богатство и земли. Как все договора между сильным и слабым, этот тоже нарушался, но по-хитрому: год за годом, век за веком шла ассимиляция и вытеснение иноплеменных знатных семейств, когда через браки, когда прямым захватом отчего наследия или иными путями. Но этот процесс был сбалансирован: Империя не возражала, если самых наглых, самых злобных, творивших жестокости и бесчинства, делали на голову короче. Самоочищающийся организм должен вырабатывать гормон, который поглотит раковые клетки, убьет инфекцию, а тканям здоровым и чистым дарует бодрость. Таким гормоном, механизмом очищения, и было Братство. Десятки тысяч глаз во всех краях и странах, десятки тысяч рук, готовых взяться за мечи во имя справедливости, но лишь тогда, когда безмолвствовал закон. В такой момент певцы вдруг превращались в рыцарей, искоренявших зло с непревзойденным боевым искусством, ибо клинками они владели так же хорошо, как флейтами и лютнями. Будучи древней традицией, Братство стояло над законом, но не спорило с ним, не посягало на власть Империи, очевидно понимая, что какая-то власть нужна, а эта не хуже прочих. Так они и жили, странствуя по свету; рапсоды, музыканты, учителя, философы, а если нужно – судьи справедливости и палачи. Может быть, что-то еще? – размышлял Тревельян. Какие еще функции упустили наблюдатели с Базы? Он вспоминал свой спор с Хурлиулумом в Рори и, хоть та беседа не внушала особых надежд, думал, что внедрение эстапов было бы эффективнее, если бы их поддержало Братство. Скажем, верховая езда… Отчего бы рапсодам не усесться в седла, ведь они так похожи на рыцарей! Нет, не похожи, поправил он себя самого. Непоседы, сказал Хурлиулум, те, кого манят дороги, новые встречи, приключения… Еще – стражи справедливости… По сути, они истинные паладины без страха и упрека, тогда как земные рыцари сражались за власть, богатства, земли и почет. Каждый в отдельности и все вместе! Тевтонский орден, госпитальеры, рыцари Храма жаждали власти и земель и были уничтожены, ибо того же хотелось князьям и королям. Неизбежный конфликт… А здесь иное, подобное скорей традиции Востока, бродячим буддийским монахам, мастерам кунг-фу, защитникам обиженных… Однако рапсоды не монахи! Совсем не монахи, если вспомнить Чарейт-Дор и прошедшую ночь! Жаль, что он не может подарить ей ребенка… Ничего, кроме страстных объятий и воспоминаний… Ну, может быть, еще голову Аладжа-Цора… Тропа вывела их в поле, а затем в небольшую деревушку. Три дома из дюжины в ней были сожжены, у руин крайнего висел на столбе мертвый мужчина, со знанием дела насаженный на крюк. Другие жилища носили следы погрома, и сломанные изгороди, высаженные двери, разбитые стены амбаров и рухнувшие трубы очагов говорили о том, что отряд вступил на земли нового владыки Северного Этланда. Поперек дороги валялся гниющий труп овцы, на обочине сидела женщина в изодранном платье и выла, закрыв лицо руками; у ее ног неподвижно лежал ребенок. Ни других людей, ни живой скотины не было видно, пока они не прошли селением до вырубленной наполовину плодовой рощи. Тогда сзади послышались шорохи, а затем и робкий шелест голосов: «Рапсоды… рапсоды идут, стражи справедливости… Храни их Таванна-Шихи, Заступница!» Обернувшись, Тревельян увидел оборванных людей, посылавших вдогон отряду священные знаки. Было их немного, не больше, чем уцелевших жилищ. «Средневековые зверства, – прокомментировал командор. – Все, как у нас тысячелетие назад». «Не все, – возразил Тревельян. – У нас сожгли бы деревню дотла, а жителей повесили. Возможно, посадили на кол. Всех! А тут, видишь, кое-кто уцелел. Нравы тут более мягкие, даже у баронов-разбойников». «Просто этот конкретный барон – прагматик. Поля зеленеют, люди нужны, чтоб урожай убрать». «Думаешь? А плодовые деревья зачем он вырубил?» «Может, фруктов не любит», – сказал командор и смолк. Тревельян повернулся к Форреру. Этот рапсод был старше и явно опытнее других; на его предплечьях красовались шрамы, а недавняя схватка добавила длинную царапину под ухом.– Скажи, брат, когда нас позвал Раббан, проверялись ли его слова? Про всех этих ограбленных купцов, убитых поселян и разоренные деревни? – Как всегда, Тен-Урхи, как всегда. Ты же знаешь, что Братство словам не верит. Тут Лагарна побродил, с двумя из наших. Пастухи всегда проверяют, прежде чем вести отряд. И не один Раббан нас звал, приходили и другие люди. Пастухи проверяют… Ни один из осиерских языков не включал более точного термина – пастырь. Но они были именно пастырями, опекавшими людей всех званий и сословий в цивилизованной части континента. Учителя, наставники и, если надо, судьи… Их суд был суров, и, согласно приговору, Аладжа-Цор мог уже считаться покойником. Вчера Тревельян кое-что выведал об этом человеке, хотя Чарейт-Дор не очень хотелось о нем вспоминать. Издревле знатные люди Империи насчитывали восемьсот фамилий, и так их продолжали звать по эту пору, хотя одни роды захирели, а другие были истреблены в периоды войн и смут, потрясавших временами огромное государство. Мать Чарейт-Дор, вторая супруга ее отца, происходила как раз из такой захудалой семьи, которую уже не числили в аристократах. Но процветающих семейств было изрядно, семьсот пятьдесят две фамилии, и сорок семь из них, самые знатные и богатые, составляли Башню, или императорский совет. Нобиль Башни и члены его рода имели самый высший статус после императорского, и кровь их считалась такой же священной, как у верховного владыки. Согласно осиерской теологии, душа вечна и пребывает в крови, а кровь благородного нобиля неизмеримо дороже крови простых людей. Ее пролитие возможно лишь как жертва Таван-Гезу, чтобы он не оставил мир своим попечением, дарил урожай и открывал то солнечный глаз, то звездный. Во всех же иных случаях кровопускание было грехом, и, чтобы покарать его, виновного подвешивали за ноги и надрезали жилу на виске. Если же кровь благородного пролита нобилем, то его ссылали, и была та ссылка вечной. Так что Аладжа-Цор, ранивший в поединке родича Светлого Дома, вернуться в столицу не мог, но это не мешало возвыситься в другой стране и даже стать ее правителем. Явившись в Этланд, он вскоре выяснил, что у Раббана нет наследника, но есть пригожая и вдовая сестра. Если бы брак состоялся, то можно было биться о любой заклад, что долго бы Раббан не протянул – весьма вероятно, был бы сражен случайной стрелой на охоте. Но притязания Аладжа-Цора отвергли, что стало для него смертельным оскорблением. Так началась война. Все это Тревельян выведал в промежутках между страстными стонами и восхищенными вскриками. Когда же Чарейт-Дор угомонилась и задремала, он отдохнул с полчаса, дожидаясь, пока медицинский имплант долечит рану и восстановит силы, затем поднялся, натянул одежду и выскользнул во двор. Дождь закончился, тучи разошлись, и осиерские звезды сияли во всем своем великолепии. Напротив покоев Чарейт-Дор, в нише у входной арки, чадил, догорая, факел. Взяв его, Тревельян углубился в длинный коридор, приведший его в довольно большую комнату, где маячили темные контуры кресел, столов и большого шкафа. Вероятно, это и было книгохранилище, сиречь библиотека. Он зажег свечи в подсвечнике на столе и огляделся. Считать эту комнату библиотекой было большим преувеличением. Тут на стенах были развешаны рога, головы и чучела зверей, не поместившиеся в Охотничьем зале; с полок скалились нетопыри и саламандры, напротив шкафа находилась стойка с охотничьими копьями, а над шкафом, подвешенная к потолку, парила какая-то крылатая тварь с пушистой серой шерстью и основательными клыками. Что же до самого большого шкафа, то, раскрыв его дверцы, Тревельян увидел ровно пять книг на самой верхней полке. Одной из них были «Анналы эпохи Разбитых Зеркал», другой – «Повесть о нежной любви и томлениях благородного Пия-Радду и красавицы Барушанум», а три остальные являлись охотничьими пособиями. Самый огромный том, переплетенный в кожу, назывался так: «О способах выслеживания болотного дракона нагу. Как его отыскать, окружить и убить, оставшись притом в целости. Сочинение Вассара Одноногого». Судя по содержанию библиотеки, Раббан не был рьяным читателем. Записки Дартаха отыскались на нижней полке. Не книга, а стопа кое-как обрезанных листов пергамента, прошитых шелковым шнуром. Перетащив ее на стол, поближе к свечам, и быстро просмотрев, Тревельян выяснил, что это не дневник, а восстановленная по памяти копия манускрипта, который был написан в Эрбо и назывался «Истинные доказательства того, что Мир подобен круглому ореху, а не плоской лепешке». О судьбе оригинала тут ничего не сообщалось, но вряд ли он хранился в университетской библиотеке; видимо, его сожгли в день изгнания Дартаха. Что ж, теперь хотя бы ясно, чем он занимался на склоне лет, в этом дворце, где его приютили из милости. Учил хозяйского наследника рисовать карты и, слово за словом, восстанавливал свою рукопись… Еще бродил по комнатам и лестницам, рассказывая слугам, что мир не плоская земля в Оправе Перстня Таван-Геза, а огромная сфера, висящая в пустоте… Умер тихо. Это означало полный провал эстапа Гайтлера и его коллег, Колесникова, Сойера и Тасмана. О чем Тревельян с прискорбием должен был им сообщить по возвращении на Землю – во всяком случае, живым и здоровым Сойеру и Колесникову. И, конечно, пропавшему Тасману, если он когда-нибудь объявится… Но продолжения миссии эта печальная весть не исключала. Итак, глобальный эстап провалился, как прочие акты вмешательства – но почему? Для профессионала уровня Тревельяна выяснение фактов являлось самым простым и незатейливым делом; труднее выяснить причины того или иного события. Да и круг событий, которые стоит изучить, еще не исчерпан – вот хотя бы этот мятеж в Манкане… Что говорил по этому поводу пастух Хурлиулум? Он обратился к своему незримому секретарю и получил точную цитату: «Споры из-за земель, новых или старых, без крови не обходятся. Пример тому – нынешний бунт в Манкане». Споры из-за земель, новых или старых… И за ужином толковали, что бунтовщик Пагуш хочет, возможно, отселиться на новые земли. Вдруг в океане? Решив обязательно проведать мятежного князя, Тревельян спрятал пергаменты в шкаф и вернулся в опочивальню Чарейт-Дор, досыпать. Утром, после погребальных гимнов и прощания с умершими, чей еще теплый прах развеяли над лесной рекой, он отправился в дорогу, сопровождаемый шестью рапсодами и двумя проводниками из ловчих Раббана. Они отлично знали местность и вели отряд сквозь чащу тайными тропами, но добираться все равно предстояло пару дней. Северный Этланд был обширным владением. В первый день они миновали четыре селения, являвшие уже знакомые картины: часть домов сгорела, пара трупов на крюках, амбары разграблены, люди жмутся по углам, но при виде рапсодов вылезают из своих развалюх и шепчут благословения. К ночи они попали в пятую деревню, в лучших земных традициях сожженную до основания – видимо, здесь сопротивлялись грабежу с особенным упорством. Такой трудоемкой казнью, как развешивание на крюки, тут заниматься не стали, а просто перекололи жителей пиками. Убивали там, где нашли – на улице, во дворах, у очагов и в колыбелях. Трупы были уже объедены стервятниками и лесными кошками. Верещание пацев, прятавшихся за деревьями, подсказывало, что и они приложили к этому делу клыки. При виде этой деревни молодых рапсодов зашатало, а Форрер помрачнел и буркнул: – Отсюда приходили люди в город, в нашу обитель, звать на помощь. Должно быть, прознал об этом Аладжа-Цор! Да лишится он достойного погребения, как эти несчастные! – Мы не успели… – с тоской сказал Заммор, а Тахниш гневно стиснул кулаки и повторил: – Да, не успели! Тут не Пибал, не Нанди и не Горру! Далекий край… Во всем Этланде три сотнинаших, и, пока соберется отряд, четверть сезона минует. – Я бы пошел один, – заявил юный Паххат, но Форрер его одернул: – Даута в одиночку не выслеживают! Один бы ты лежал сейчас в том ущелье, не добравшись до дворца правителя… Кроме того, нужны свидетели. Тревельян кивнул. Тот, кто не жаждет встретиться в поединке со стражем справедливости, может защищаться. Казалось бы, чего проще – нанять головорезов, устроить засаду… Но где найти таких, что подняли бы руку на почитаемое Братство? Таких, что не боятся скрестить мечи с лучшими бойцами континента? Даже воины Аладжа-Цора – люди, видно, отчаянные и лихие – поначалу предлагали разойтись, решить дело миром. Теперь поздно. Один бой ими проигран, а другого не будет – не найти отряда на тайных лесных тропах. Впрочем, часового на ночлеге лучше все же выставить. Разбивать лагерь около мертвой деревни не хотелось. Они отошли в лес на пару километров и заночевали у ручья, в кольце молодых медных деревьев. Крона их гигантского прародителя, распылявшего семена по кругу, будто касалась звезд, изумрудный свет альфы Апеллеса тонул в ней, подсвечивал резные красноватые листья, придавая им оттенок темного багрянца. От дерева струился резкий, но приятный аромат, отпугивавший насекомых. Старший проводник сказал, что это хорошее место – медные деревья защищают путников от всякой лесной нечисти. Они поужинали, затем Тревельян назначил смены дежурных, оставив себе предрассветную вахту, после чего лег, пристроил голову на толстом корне и уснул. Ему доводилось спать во всяких лесах: в плавучих зыбких джунглях Хаймора, среди гигантских трав Гелири, где ползали тарантулы размером в два кулака, в чахлых сухих зарослях Пта, насквозь продуваемых ветром, в чащобах Селлы, где растения реагируют на тепло, двигаются и шарят по земле псевдоподиями в поисках животной пищи. В каждом месте снились свои сны, мрачные или радостные, но большинство он забывал, едва раскрыв глаза. Возможно, его Советник мог бы рассказать об этих снах – ходили слухи, что призраки-импланты умеют их подглядывать. Но никаких намеков на сей счет от командора не поступало – то ли сновидения были неинтересными, то ли, пока потомок спал, предок не подглядывал, а трудился. Он был всегда настороже, когда отключалось сознание Тревельяна, ибо, несмотря на склонность к воспоминаниям и крутоватый армейский жаргон, нес свою службу, как полагается старому солдату. И разбудил Тревельяна, едва почувствовав опасность: «Открой глаза, и оглядимся, парень». Тревельян так и сделал. Когда он спал, призрак мог пользоваться только обонянием и слухом. Паххат стоял на страже, выполняя долг ответственно: арбалет в руках, меч воткнут в землю, взгляд скользит по темным древесным кронам и стволам, огонь в костре пылает и головня наготове. Пятеро рапсодов спят, развалившись по обе стороны костра, каждый в обнимку с оружием, кто с копьем, кто с топором. Проводник – тот, что помладше – сладко похрапывает, а пожилой сидит, привалившись к стволу, уткнувшись лицом в колени, и дремлет вполглаза. Покой, тишина…
«Что?» – мысленно спросил Тревельян. «Прислушайся, мой мальчик». «Листья шелестят, сучья в костре потрескивают, проводник храпит… скрипят башмаки Паххата… Больше ничего». «Шелестят, потрескивают! – передразнил командор. – Вот так оно и было на пятой луне Карфагена, а потом дроми ка-ак навалились!» «Здесь нет дроми, дед». «Нет, согласен. А птицы что замолчали? И эти… ушастые, что бегают по деревьям… где они? Я слышал, как целая банда шебуршит над головой, и вдруг затихли! Вонючек рыжих тоже не слышно, а ведь бродили вокруг и лопотали: пац-бац! Так что слушай еще, мой нерадивый потомок. Слушай! Тишина опасна». Внезапно Тревельян почувствовал, как крохотные коготки царапнули мозг, прокладывая дорогу к его сознанию. «Блок, парень! Ставь блок!» – взвыл командор, но он оставил совет без внимания. Он был достаточно опытен и тренирован, чтобы понять: это ментальное воздействие не несет угрозы. Его не пытались усыпить или подчинить, и никакой информации не сообщали; в этом телепатическом импульсе были только удивление и робкая надежда. Поднявшись, Тревельян махнул рукой Паххату – мол, все в порядке, – сделал шаг к дремавшему проводнику и тронул его за плечо. Тот пробудился мгновенно. – Тишина… Слишком тихо, ты не находишь? Прислушавшись, старый ловчий втянул воздух похожим на хобот носом. – Шерр, мой господин. Кто-то из нас подманил шерра. Лесные твари его боятся, уходят, и наступает тишина. – Шерр? – О таком животном Тревельян не помнил, знал только, что так называется созвездие. – Значит, шерр… Опасный зверь? – Не опасный, но очень редкий. И дорогой! – Глаза проводника алчно блеснули. – Ищет себе хозяина, но к нам не подойдет. Нас слишком много. Покалывание и царапанье в голове Тревельяна прекратились. Хотя он не обладал особым ментальным даром, но призрак-имплант усиливал его чувствительность вполне достаточно, чтобы воспринять эмоцию разочарования. К нему хотели приблизиться, но опасались. Пугали огонь и арбалет в руках Паххата, пугали спящие люди, их запах и сонное бормотание. Потом, в другой раз – уловил Тревельян что-то похожее на невысказанную мысль. В кроне медного дерева защебетали птицы, мелькнула тень древесного кролика. Проводник усмехнулся: – Ушел! Но вернется, господин, обязательно вернется к кому-то из нас, к тебе, ко мне или к ним, – он кивнул на спящих. – Кому-то боги пошлют удачу! – Этот зверь так полезен? – Разные о нем слухи. Говорят, что он летает, что спускается к спящим и сосет кровь, что все в лесу его боятся… Еще говорят, что он понимает человека и может быть ему верен, как ножны клинку. Ты рапсод, и тебе бы шерр пригодился. Хороший спутник в странствиях, хороший сторож. – Один сторож у меня уже есть, – пробормотал Тревельян, лег и снова уснул до предрассветного времени. То ли деревень не попадалось в этой дикой местности, то ли проводники вели их по самым тайным тропам в глухих дебрях, но больше они не встретили человеческого жилья. Шли до вечерней зари, снова ночевали в лесу, а утром приблизились к цепочке холмов или невысоких пологих гор на границе с Манканой. Здесь была старая дорога, не мощеный имперский тракт, но путь с глубокими колеями от повозок, ведущий к северу. Лес по его обочинам отступал все дальше и дальше, пока не исчез совсем, и странники очутились в предгорьях, на земле, где заросшие травой курганы чередовались с глубокими оврагами. Дорога упиралась в возвышенность, на которой стояла древняя крепость, сложенная из неотесанных каменных глыб. Явно не имперской постройки – те укрепления на востоке и западе были стандартными, квадратными в периметре, с донжонами по углам и сплошным парапетом по верху стен. Этот же замок состоял из двух приземистых овальных башен, более высокой и пониже, соединенных длинным и широким каменным строением с плоской кровлей, украшенной треугольными зубцами. Зубцы и общая конфигурация делали его похожим на огромного динозавра с задранной головой и хвостом-молотом. Видимо, в минувшие столетия, еще до имперской экспансии, замок защищал границу от набегов из Манканы, но те времена канули в вечность. В полутора километрах от цитадели-динозавра им встретился патруль – дюжина угрюмых воинов в разнокалиберных доспехах и колесница с дивной красоты конем. Проводники отступили назад, рапсоды обнажили оружие, но драться с ними никто не собирался. Один из воинов встал напротив Тревельяна, почувствовав в нем предводителя: – Наш господин встретится с тобой. Он знает ваши обычаи. Если убьет тебя, то будет драться с остальными, с каждым в свой день. Он вас не боится. Но сам воин боялся. Говорил он твердым резким голосом, но глаза его бегали, и подрагивали пальцы, лежавшие на рукояти меча. Видимо, весть о разгроме отряда Майлаваты, бывшего туана, уже докатилась до крепости и вызвала там надлежащий страх и ощущение неизбежности кары. Из разговоров на привалах и ночевках Тревельян уже знал, что, если первая группа рапсодов будет уничтожена, Братство пошлет другую, впятеро большую, и тогда людей Аладжа-Цора перебьют без суда и следствия. Воины, стоявшие перед ним, об этом помнили тоже. – Красивый конь, – сказал он, бросив взгляд на колесницу. – Ваш господин отнял его? У кого? Воин насупился: – Это подарок одного купца. Господин шлет его тебе. Вы будете сражаться перед крепостью на колесницах. Оружие – любое, кроме лука и арбалета. Тревельян покачал головой. Видимо, Аладжа-Цор являлся мастером в колесничной схватке, а наблюдателей Фонда таким ристаниям не обучали. Колесница, настоящее произведение искусства из бронзы и дерева, была, на его взгляд, хрупковата, да и упряжь казалась непривычной – еще путешествуя в фаэтоне, он заметил, что тут не вставляют мундштуки в рот лошадям и правят не уздой и вожжами, а щелканьем кнута и словесной командой. Такого умения за пару минут не освоишь. – Мне не нужна колесница. Но Аладжа-Цор может сражаться как ему угодно, хоть сидя на спине даута. – Пац ему больше подойдет! – со смехом выкрикнул Заммор. Щека воина дернулась. – Ни один пеший боец не устоит против… – Он махнул рукой и решил перейти к более насущному вопросу: – Что будет с нами, господин? В замке семьдесят три человека, несколько раненых, и есть такие, кто дезертировал из войска… Вы нас убьете? Заточите в Висельных Покоях? Или отошлете палачам Семи Провинций? Казнь за дезертирство была мучительной: виновного подвешивали вниз головой над котлом с кипящим маслом. Какие есть наказания у Братства, Тревельян не знал, а потому кивнул Форреру. – Вы отправитесь в деревни, где грабили и бесчинствовали, к обиженным вами людям, – сказал рапсод. – Вы возьмете с собой скотину и зерно, какое еще не сожрали, и раздадите им. Вы восстановите их дома, а вдовам и сиротам замените кормильцев, трудясь в полях и фруктовых рощах. Если женщина захочет разделить с кем-то из вас постель – что ж, его счастье! Если ребенок назовет кого-то из вас отцом, вы примете отцовские заботы, пока она или он не вступят в пору возмужания. Если кто-то захочет вас покарать за убитого родича, взять с вас плату за кровь или убить, да будет так. Братство приговорило! – Братство приговорило! – дружным хором поддержали рапсоды, а Форрер добавил: – Один из нас будет за вами приглядывать. Вот этот, Заммор… Он из местных, его не обманешь. А теперь собирайтесь, и чтобы ко времени Заката вас не было в крепости! Они направились к воротам. Их створки, явно подновленные, обитые железными полосами, темнели посередине соединявшего башни строения. Когда до ворот оставалось две сотни шагов, створки со скрипом распахнулись и наружу выехала колесница. Этот конь тоже был прекрасен – серый, с темной полосой вдоль хребта, гибкой шеей и пылающими глазами. Тревельян дал себе слово, что не коснется его шкуры ни мечом, ни дротиком. Лица Аладжа-Цора он не увидел, даже когда рапсоды подошли ближе – его противник был в глухом шлеме с крестообразной прорезью и легкой, блестящей в солнечных лучах кирасе. Высокий, крепкий человек и, вероятно, умелый воин… Он ждал спокойно, раскачивая в правой руке копье, а левой придерживая круглый щит. На башнях и кровле здания, между треугольных зубцов, замелькали люди, некоторые поднимали обе руки, показывая, что у них нет ни луков, ни арбалетов, ни иного оружия. Воин, говоривший с Тревельяном, обогнал его, подбежал к своему господину и начал что-то объяснять ему – должно быть, условия поединка. Аладжа-Цор резко дернул головой, вытянул копье к рапсодам, потом ткнул им в землю. «Всех обещает уложить, – прокомментировал командор. – Ну, парень, не опозорь фамилию! Врежь ему между глаз!» Тревельян, однако, думал о другом. «Эти, на башнях, просто зрители, – размышлял он, – и в самом деле без оружия. Я иду убивать их князя, который собрал их вместе, поил, кормил и вел на грабеж, а они глядят, и только! Боятся! Семь десятков воинов, целая дружина!» Это была ситуация, невозможная на Земле, тем более в европейском Средневековье. Там для устрашения князя, графа или барона, засевшего в своем замке с боеспособным отрядом, надо было привести тысячную армию. Что до семерых супервоинов, членов какого-то Братства, то князь велел бы расстрелять их со стен, и люди бы ему повиновались, не думая о неизбежном возмездии. Такова была природа землян, варившихся в котле Средневековья, где за войнами следовали мятежи, за мятежами – голод, за голодом – эпидемии, а за ними – снова войны. Жизнь была динамичной, опасной и короткой, что определяло стереотип поведения: повинуйся сюзерену, грабь, насилуй, убивай и не думай о грядущей каре, ибо шансов дожить до нее немного. Но в этом Осиер не походил на Землю. Долгий тысячелетний период стабильности, твердая власть и редкость социальных катаклизмов породили иные, более практичные взгляды на преступление и кару. Лучший способ избежать возмездия – встать за спиною сильного вождя, но, если приходит сильнейший, вассальный договор расторгнут. Ибо кто же совершает бесполезное и спорит с сильнейшим? Никто, и потому прежний вождь, раз уж до него добрались, умрет в одиночестве. Чему единственная аналогия, если вспомнить земную историю, – церковное отлучение. Но осиерская церковь не знала такой кары, ибо сама идея отлучить человека от бога казалась здесь кощунством и безумием. Братство к тому же вовсе не было религиозной организацией. Хоть человеческий мир, а правила игры другие. Ни паровая машина им не нужна, ни седла и бумага, ни новый континент… Вдоль замковой стены тянулась длинная утоптанная площадка, вполне подходящая для ристалища. Тревельян положил на землю арбалет и дорожный мешок, перевесил меч за спину, чтобы не мешал бегать, вытащил из связки четыре дротика и направился в дальний конец, к той башне, что была пониже. Он прошел мимо Аладжа-Цора – гладкий шлем нобиля был похож на голову змеи, и взгляд, которым он проводил Тревельяна, тоже был змеиным. Внезапно он отставил копье, потянулся к шее, сорвал с нее что-то овальное, блестящее, медальон или другое украшение, и потряс им в воздухе – так, чтобы заметил Тревельян. Потом, приподняв забрало шлема, плюнул на эту штуку и швырнул на землю. Амулет? Но с ними, как правило, обращаются с большим почтением… Хотя амулеты бывают всякие, размышлял Тревельян, шагая в свой конец площадки. Одни – для сбережения и победы над врагом, другие – чтоб навести на этого врага порчу. Он остановился, заслышав голос Форрера: – Аладжа-Цор, нобиль из Семи Провинций! Люди и правитель этого края призвали Братство, чтобы рассудить тебя с ними. Вняв их просьбе, мы взвесили твои деяния и обвиняем тебя в незаконных поборах, грабежах, разбое и убийствах. Кара тебе – смерть! Последняя милость – смерть в бою с Тен-Урхи, нашим братом, чему мы будем свидетелями. Начинайте! Вот так – кратко, ясно, и ни слова о богах, мелькнуло у Тревельяна в голове. Никаких пророчеств, никакой огненной руки, пишущей на стенах валтасарову судьбу… Взвешен, осужден и казнен, но волею Братства. Мягко ударили в землю копыта, завертелись колеса, дико вскрикнул Аладжа-Цор, подгоняя коня. Тревельян приподнял дротик. Он не сомневался, что с тридцати шагов пробьет доспех противника, а с двадцати – его щит. «Кобылу оприходуй, – посоветовал командор. – Собьешь его с этой телеги, и он твой». «Это не кобыла, а жеребец, и конь-то чем виноват? – возразил Тревельян. – Не буду я коня убивать. Такого красавца!» Командор крепко ругнулся: «Великая Галактика! Что за потомок мне послан! Болван, слизняк, лох недоношенный! Лошадку ему жалко!» Пока Тревельян искал достойный ответ, Аладжа-Цор оказался в пределах броска. Пришлось метнуть дротик. Этот столичный аристократ в самом деле был хорошим воином – принял удар краем щита и тут же отвел его в сторону, чтобы острие не коснулось кирасы. Но, очевидно, он был изумлен той силой, с которой дротик пробил его щит, и это сказалось на точности ответного удара. Тревельян легко увильнул от его копья, а заодно от колес и конских копыт. Колесница удалилась за пределы смертельного броска и стала разворачиваться, описывая широкий полукруг. Аладжа-Цор управлял конем, пронзительно выпевая высокую ноту, затем тональность его воплей изменилась, и боевая повозка вновь помчалась к Тревельяну. Он швырнул дротик, целясь в горло противника, и успел увидеть, как Аладжа-Цор согнулся, прикрываясь щитом. Второй дротик тоже пробил щит и прошел над плечом нобиля, а Тревельян, сделав двойное сальто в воздухе, убрался с пути колесницы. Рана в бедре его не беспокоила: медицинский имплант заживил ее полностью. На башнях и кровле длинного строения, оценив его трюк, зашумели и заорали. Он не спеша поднялся, взвесил в руке третий дротик. Два уже торчали в щите Аладжа-Цора, и теперь он был плохой защитой – быстро не сманеврируешь, не подставишь под удар. Тактика римских легионеров, припомнил Тревельян. Они метали свои пилумы во вражеские щиты, и те приходили в негодность – щитом с двумя-тремя древками не оборонишься. Враг бросал щиты, римляне наваливались строем, и начиналась резня. Били гладиусами, короткими мечами, удобными для схватки грудь о грудь, и резали снизу вверх, потому что… Аладжа-Цор отшвырнул щит. Вряд ли он что-то слышал о тактике римских легионеров, но у него были свои хитрости: в левой руке, скрытой до поры до времени щитом, сверкало метательное лезвие. Оружие воинов Запада, которым в Семи Провинциях владели немногие. Противник Тревельяна был, несомненно, в их числе. Стальной треугольник с заточенными краями вырвался из его руки и, промелькнув серебряной молнией, вспорол доспех из кожи нагу, а заодно и Тревельяново плечо. Порез был неглубокий, но показалась кровь, и зрители торжествующе взвыли. Тревельян все же успел метнуть дротик и откатиться в сторону, однако попал не в середину шлема, а в самую его верхушку. Удар был так силен, что сбил шлем и, вероятно, оглушил Аладжа-Цора; он пошатнулся, выпустил копье и рухнул с колесницы. Серый жеребец протащил ее метров восемь или десять и встал, не чувствуя привычной тяжести. Аладжа-Цор поднялся. У него было хищное красивое лицо, и пигментные пятна под глазами говорили, что нобилю уже за сорок. Его темно-каштановые бакенбарды спускались ниже плеч, ноздри трепетали от ярости, но темные змеиные зрачки были холодны. Увидев кровь на доспехе Тревельяна, он вытянул меч из-за спины и прошипел на имперском диалекте: – Безродный ублюдок, порождение тьмы! Я не верю вашему пророчеству! Я отделю твое мясо от костей и брошу его вонючим пацам! Их клинки столкнулись, протяжно зазвенев. Струйка крови стекала по предплечью Тревельяна, но имплант уже трудился, заживляя ссадину. Он парировал несколько бешеных выпадов врага, затем ударил, целясь в колено, но тут же отдернул меч и отступил в сторону. Аладжа-Цор попался на уловку – опустил клинок, защищаясь от ложного удара, напрягся и, встретив лишь пустоту, качнулся вперед, открывая спину. Стремительным движением Тревельян перерубил ему хребет. На башнях царило мертвое молчание. Он повернулся к рапсодам. – Форрер, пусть наши молодые братья обыщут замок и выяснят, сколько в нем награбленного добра и кому оно принадлежит. Потом проследят за погрузкой и вместе с людьми Аладжа-Цора разойдутся по деревням. Этого, – он прикоснулся мечом к кирасе мертвеца, – закопать в лесу. Так будет правильно? – Да, – согласился Форрер. – Нельзя, чтобы прах негодяя уплыл к Оправе. Попадет в руки Таван-Геза, и тот разгневается на всех людей… Нехорошо! – Хмыкнув, он спросил: – Что делать мне? – Отправляйся с проводниками к правителю Раббану и сообщи ему добрую весть. Сам я пойду в Помо, в нашу обитель. На суровом лице Форрера мелькнула усмешка: – Мне казалось, что ты сам порадуешь правителя и его сестру, а в Помо отправлюсь я. Тревельян вытер клинок о траву и покачал головой: – Время радостей миновало, и у правителя мне делать нечего. А в Помо я хочу встретиться с почтенным Питханой. Они разошлись. Тревельян направился было к воротам замка, откуда уже тянулись запряженные быками и лошадьми подводы, но вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и зашагал назад. Амулет! Та штука, которую Аладжа-Цор оплевал и бросил в грязь! Было бы любопытно на нее взглянуть… Он нашел амулет, смахнул с него землю и замер с широко распахнутыми в изумлении глазами. Тонкая овальная пластинка на шелковом шнурке являлась голографическим изображением, какого на Осиере быть не могло – ни на восточном континенте, ни на западном и вообще нигде, кроме Базы. Но и на Базе такого наверняка не имелось. Конечно, кто-то мог бы впечатать голограмму в тонкий металлический кружок размером в пол-ладони, но подарить ее осиерцам?.. Это шло вразрез со строгими правилами Фонда и потому казалось сомнительным. Однако не артефакт технологической эры потряс Тревельяна, а само изображение. Маленькая, но очень яркая и четкая картинка: труп Аладжа-Цора, валявшийся ничком, с кровавой полосой поперек спины; в вытянутой вперед руке – клинок, а на заднем плане – конь, колесница и башни древней крепости, одна повыше, другая пониже, соединенные длинным каменным строением. Даже видны человеческие фигурки, совсем уж крохотные… Повернувшись, Тревельян бросил взгляд на тело, которое еще не успели убрать. Да, Аладжа-Цор лежал именно в такой позе, и меч был где положено, и конь, и колесница… Мистика! Откуда у него голограмма, запечатлевшая момент смерти? Но сей вопрос казался незначительным, неважным, если представить другое: каким образом это удалось запечатлеть? Запечатлеть с потрясающей точностью событие, которое еще не случилось, а затем передать Аладжа-Цору голограмму – несомненно, для предостережения… Может быть, его слова: «Я не верю вашему пророчеству!» – связаны с этой пластинкой, которую он таскал на шее словно вызов Братству? Но Братство не умеет делать голограмм, а тем более – снимков из будущего! Ошеломленный Тревельян огляделся, словно ожидая, что где-то у замка или на дороге вдруг материализуется машина времени и выйдут из нее то ли далекие потомки землян, то ли иные существа, способные к темпоральным перелетам. Выйдут, достанут голокамеры и направят их на труп Аладжа-Цора, дабы запечатлеть его неминуемую гибель. А потом прыгнут в прошлое на несколько дней или лет, разыщут еще живого нобиля и преподнесут ему подарок… Он усмехнулся, покачал головой и сунул пластинку за пояс. Потом подобрал свою суму и арбалет и направился к воротам с твердым намерением перевернуть весь замок от подвалов до чердаков. Вдруг что-то еще отыщется? Скажем, другая голограмма, с посланием лично для него.
* * *
Он ничего не нашел, кроме краденых ковров, гобеленов, тканей и мебели, ларцов с монетой, награбленного зерна, угнанного скота и изрядного количества стрел, луков, копий, мечей и секир. С этим добром могли разобраться молодые рапсоды, и разбирались они так четко, лихо и быстро, что вскоре к лесу потянулись груженые возы в сопровождении понурых воинов убитого нобиля. К середине времени Заката крепость совсем опустела, и Тревельян тоже решил не задерживаться в этой древней мрачной цитадели. Как сообщили ему проводники, прямо на западе тянулся имперский тракт, соединявший Помо с Манканой, и путь к нему через холмы, леса и несколько мелких речек был недалек, день-другой, не больше. Иди туда, куда ведет солнечный глаз Таван-Геза, сказал старший проводник. Руководствуясь этим нехитрым советом, Тревельян отправился в дорогу и до ночи успел одолеть километров двенадцать. Выбрав кольцо медных деревьев, оттеснивших пальмовые дубы и другую растительность, он развел костер, съел лепешку, выпил глоток вина и осмотрел свое плечо и ногу. От пореза остался длинный тонкий шрам, который исчезнет к утру; что до раны в бедре, то она была уже совсем незаметна. Лесной воздух живительной прохладой вливался в легкие, шорохи, скрипы и попискивание птиц раздавались со всех сторон, где-то вдали разочарованно визжала лесная кошка – должно быть, промахнулась, прыгая за кроликом. Зверья посерьезнее – пацев, клыкачей или диких тарлей – слышно не было. Пахло листвой медного дерева, сухим мхом, цветами; в этом субтропическом лесу что-нибудь всегда цвело, не лианы, так кусты, не кусты, так папоротник. Решив, что ему ничто не угрожает, Тревельян вытащил пластинку с голограммой и принялся ее рассматривать в свете костра. Она была тонкой, как станиоль, но, вероятно, очень прочной – он не смог согнуть пластинку и поцарапать ножом, а также выяснить, из какого она материала. Похоже с изнанки на алюминиевую фольгу, но цвет и блеск немного другие и фактура иная… Как всякий специалист по гуманоидным культурам, Тревельян умел определять по внешнему виду и на ощупь множество сплавов, пластиков и композитов, но это вещество было ему незнакомо. Задумчиво прищурившись, он вызвал своего Советника и поинтересовался: «Есть идеи?» «Не наша штучка, – уверенно вынес вердикт командор. – Точно не наша! Я инопланетное шестым чувством чую». Это было явное преувеличение – никаких чувств, кроме Тревельяновых, у призрака-импланта не имелось. Вспомнив об этом, Тревельян фыркнул и сказал: «Здесь все инопланетное, дед. Даже трава, на которой я сижу, и сучья в костре. Не говоря уж о воздухе». «Не передергивай, парень! Мы говорим об артефакте, принадлежащем обществу с высокой технологией. Я такой штуки не помню. Никогда не видел, ни у дроми, ни у хапторов и кни’лина». «Давно это было. С тех пор могли изобрести». «Нет. Глаза у этих рас не так устроены, чтобы такой картинкой любоваться. Соображаешь?» «Это верно», – согласился Тревельян. К тому же после эпохи Темных войн, ни дроми, ни хапторы и кни’лина в эту ветвь Галактики не совались и земных интересов не затрагивали. Печальная память о сокрушительных рейдах Звездного флота была еще свежа. «В мои времена, – сообщил командор, – мы знали восемнадцать технологически развитых рас, способных к межзвездным перелетам. Четыре или пять были враждебными, и мы задали им перцу… А сколько известно теперь?» «Сорок две, и двадцать из них – гуманоиды. – Тревельян спрятал пластинку в мешок. – Думаешь, кто-то из них тайно присутствует на Осиере, в нашей подмандатной зоне?» «Этого я не утверждаю. Я только хочу напомнить тебе, мальчуган, что Галактика велика и к сорока двум известным расам может добавиться сорок третья». «Это было бы великим событием! – воодушевился Тревельян. – Найти еще одну гуманоидную расу на технологической стадии… Такое открытие обессмертило бы наше имя!» «Я и так уже бессмертен, а у тебя есть Почетная Медаль и Венок Отваги, – ворчливо напомнил командор. – Однако… – Он вдруг замолк, но тут же встрепенулся и прошипел: – Шшш… вот оно… снова… чуешь, какая тишина?» В голове у Тревельяна кольнуло. Это было не физиологическое, а ментальное ощущение, внешний импульс природного телепата, который пытался зондировать его разум. Хотя сам он не обладал особыми талантами в этой области, но, будучи тренированным наблюдателем, мог распознать ментальную волну, ответить на призыв или поставить непроницаемый блок. Пожалуй, можно было бы и ответить – ничего угрожающего он не ощущал. Мысль оформилась сама собой: «Кто ты и что тебе надо?» Четкого ответа в словах или визуальных образах он не получил. Пришло ощущение одиночества, тоски и робкой надежды. Чистая эмпатия, и к тому же на инстинктивном уровне… Но Тревельян понял: это существо было дружелюбным. Ищет себе хозяина, сказал пожилой проводник. И еще добавил: кому-то боги пошлют удачу… «Иди ко мне, – предложил Тревельян. – Иди, не бойся, малыш». Его о чем-то спросили. Вопрос тоже не был словесным и содержал недоумение, страх и смутное чувство раздвоенности. «Он знает обо мне, – сказал командор. – Видит одного, но ощущает двоих, и потому испуган. Хотя зверюшка тебе симпатизирует. Лепешку ему предложи. На жратву любая тварь клюнет». Тревельян последовал этому совету: «Хочешь есть? Иди ко мне, я накормлю». Он почувствовал, как его призрак-имплант огородился ментальным барьером, и в тот же миг что-то небольшое, крылатое, мелькнуло над костром, описало круг в воздухе и свалилось прямо ему в руки. Зверек был точно таким, как чучело над шкафом в библиотеке правителя: серая пушистая шерстка, перепончатые крылья, тоже поросшие коротким мехом, мордочка, похожая на кошачью, и основательная пасть с розовым язычком и острыми клыками. – Ты кто? – спросил Тревельян. – На летучую мышь не походишь, скорее на летающего котенка. При звуке его голоса существо вздрогнуло и крепче прижалось к нему. Он достал кусочек лепешки, немного сушеного мяса и скормил своему новому приятелю. Тот принял угощение охотно – видимо, был всеядным, как многие животные на Осиере. Тельце у него было теплое, мех – шелковистым и ухоженным, словно у породистой кошки. Рассматривая его и почесывая за ушами, Тревельян обнаружил четыре лапки с острыми коготками, не очень длинный, но пышный хвост и отходившие от лопаток тонкие кости, основание крыльев. – Тебя тут, кажется, шерром зовут? Ну, это нам не подходит: шерр – он просто шерр, и ничего больше. А ты теперь мой шерр. – Зверек, соглашаясь, пискнул. – Ты, надеюсь, мальчик? Будешь тогда Греем [2]. Грей – твое имя, понятно? Эмоция покоя и довольства. Затем в сознании Тревельяна поплыли, накладываясь друг на друга, смутные образы: клыкач, пац, дикая кошка, еще какие-то крупные животные, и все бегут, точно от лесного пожара. «Это он услужить предлагает, – молвил, пробудившись, командор. – Всех, говорит, распугаю, спи спокойно. Полезная зверюшка!» Грей заворочался, но тут же затих – видно, начал привыкать к странностям хозяина. – Слышал я, ты кровь сосешь, – сказал Тревельян. – Так вот: это только с моего разрешения. Затем он вытянулся на земле и уснул.Глава 6 МУДРЕЦ, ФОКУСНИК И ВОИН
Почтенный магистр Питхана оказался невысоким северянином, одним из представителей той ветви континентальной расы, что населяла Онинда-Ро, Пейтаху, Рингвар и другие страны к северу от Кольцевого хребта. У него были резкие черты лица, крупный суровый рот и седые бакенбарды; темные пигментные пятна под глазами говорили о том, что ему не меньше восьмидесяти осиерских лет. Почтенный возраст, думал Тревельян, сидя в низком удобном кресле и разглядывая обитель магистра. Просторная комната на третьем этаже странноприимного дома была обшита светлым деревом, и в дальнем ее конце стояли подставки с раскрытыми книгами. Еще больше книг – должно быть, около сотни – хранилось на полках за рабочим столом. На столе виднелись бронзовая чернильница в форме ореха, подсвечник, перья и листы пергамента, исписанные мелким четким почерком. Пол был покрыт ковром, изображавшим луг с различными цветами, а на стенах, наполняя комнату приятным ароматом, висели те же цветы и другие растения, засушенные и тщательно расправленные на деревянных дощечках. Видимо, почтенный Питхана интересовался ботаникой, но это являлось только одним из его многочисленных занятий. Тревельян, успевший бросить взгляд на рукопись, лежавшую на столе, и на раскрытые книги, убедился, что магистр занимается этикой – в частности, противоречием между желанием и долгом. – Ты просил о встрече, сын мой Тен-Урхи, – голос у Питханы, несмотря на возраст, был сильным и звучным. – Ну, так что же? Ты хочешь что-то поведать мне? Или о чем-то расспросить? – То и другое, почтенный, то и другое, – молвил Тревельян, поглаживая сидевшего на плече Грея. – Странствуя по свету – а мне довелось побывать в Семи Провинциях и многих странах за Кольцевым хребтом, – видел я многие вещи, придуманные умными людьми к всеобщей пользе и несомненной выгоде. Польза и выгода – два великих стимула, ибо торят дорогу к власти и богатству, а кто же не желает их? Хотя придумавший новое может быть, конечно, не корыстным или жаждущим власти и богатства, а алчущим одной лишь славы… Но сразу найдется человек, нобиль или чиновник, военачальник или торговец, который усмотрит в придуманном пользу и выгоду для себя и сделает так, чтобы о придуманном узнали. Ведь это товар, который можно продать за серебро и золото или получить иные преимущества! Так, во всяком случае, я это понимаю… – Он сделал паузу и посмотрел на магистра. Лицо Питханы было непроницаемым. – Однако, – продолжал Тревельян, – нигде я не встретил интереса к полезному и новому. Все придуманное словно кануло в текучую воду и уплыло к Оправе, в руки трех богов, как прах умерших. А те, кто придумал, или умерли в бедности, или были объявлены лишившимися разума и изгнаны с привычных мест. Почему? Минуту-другую Питхана сидел, будто размышляя над заданным вопросом, и лучи утреннего солнца скользили по его лицу. На Тревельяна он не смотрел, а уставился на ковер, изукрашенный цветами. Его пальцы, сжимавшие подлокотники кресла, вырезанные в форме птичьих головок, казались сухими желтыми палочками. Наконец он промолвил: – Темны речи твои, рапсод, и мой скудный разум не поспевает за ними. Ты, Тен-Урхи, говоришь о новом, полезном и выгодном, придуманном умными людьми… Но о чем? Не хочешь ли перейти от общего к частному и дать мне какой-нибудь пример? – Это не составит труда, почтенный. Во многих местах добывают черное земляное масло для светильников, и некий умелец придумал, как сделать его чище и лучше. – Этот эстап, касавшийся перегонки нефти в керосин, пытались внедрить одним из первых, но, разумеется, безуспешно. Умельца, как помнилось Тревельяну, повесили. – В Семи Провинциях шлифуют стекло, заключают в оправу, и те, чье зрение ослабло, могут лучше видеть с помощью таких стекол. Шлифовщик, чье имя я не помню, вставил стекла в трубу, и она приблизила далекое. Еще один мастер придумал, как делать листы, заменяющие пергамент, другой – ремни и особую подкладку из кожи и дерева, что позволяет сесть на лошадь и ездить быстрее, чем в лучшей колеснице. Был еще котел с водой и паром, металлический штырек, который всегда показывает на север, способ закалки стали, краска из коры розового дерева, рама для тканья ковров и гобеленов, а также… – Хватит, – негромким голосом прервал его магистр, – хватит, сын мой. Скажи, зачем ты отыскиваешь такие истории? Про очищенное масло, трубы со стеклом, листы, ремни, котлы и краску? Разве это занятие для рапсода? Разве не должен рапсод петь древние сказания и сочинять песни о любви или красоте лугов, над которыми порхают медоносные мотыльки? А также глядеть по сторонам зорким оком и, если надо, сделаться судьей и стражем справедливости? А если этого мало для рапсода, то есть еще вино и женщины, пиры в богатых дворцах, трапезы в скромных хижинах и множество мест, которых ты еще не видел… Зачем же ты ищешь то, о чем мне рассказал? «А старикан-то опытный демагог! – буркнул командор. – Тот еще стервец! Отвечает вопросом на вопрос и ни в чем не признается». Пожалуй, Тревельян был согласен с этой оценкой. Но, являясь продуктом более развитой цивилизации и социоксенологом, он умел вести демагогические речи не хуже Питханы: – Ты безусловно прав, почтенный. Но рапсоды поют всякие песни, о любви, лугах, пирах и битвах, о веселом, грустном и совсем печальном. Того, кто придумал очистку масла, повесили, и у других умных людей, как мне говорили, жизнь тоже была не очень радостной. По правде сказать, такой суровой и мерзкой, что сложенная мною песня исторгла слезу даже из камня. А за слезы, надо заметить, платят ничуть не хуже, чем за смех… К тому же представь, что я наткнусь на бедолагу-портного, придумавшего застежки для штанов, а его за это – на крюк! Должен ли я вмешаться и действовать как страж справедливости? Должен ли собрать отряд, обнажить свой меч и отомстить за этого портного? Ответь мне, почтенный магистр! Лицо Питханы окаменело, у рта пролегли суровые складки. Теперь он поднял глаза на Тревельяна и разглядывал его так же пристально, как прежде ковер с травами и цветами. Затем, недовольно хмыкнув, он поинтересовался: – Скажи, Тен-Урхи, тебе известно о законах С’Трелла Основателя? То, что Тревельян о них понятия не имел, оказалось не самым ужасным; гораздо хуже было другое – он не представлял, положено ли знать о них рапсодам. Но тут ему, к счастью, вспомнилось, что форма имени «С’Трелл» является очень древней, бытовавшей в южных провинциях Ки-Ксоре и Фейнланде тысячелетия назад. Он небрежно повел рукой и молвил: – Ха! Дело прошлого! Седая старина! Возможно, магистр воспринял это как намек на свои седые бакенбарды или иной знак неуважения, но глаза у него полезли на лоб: – Дело прошлого? Старина? Ты где учился, рапсод? Как долго? И кто был твоим наставником? – Учился я всюду, почтенный Питхана, где довелось мне побывать, учился у разных людей и не имел постоянного наставника. – Это заметно по пробелам в твоем образовании. – Магистр сурово сдвинул брови. – Не понимаю, как тебе даровали звание рапсода! – За великий талант к песнопениям и ловкость в обращении с мечом, – без лишней скромности заявил Тревельян и потянулся к своему дорожному мешку, где хранилась лютня. – Хочешь, я что-нибудь тебе сыграю? Или желаешь усладить свой слух балладой? Скажем, про муки умников, которых подвесили вверх ногами или насадили на крюк? Питхана сделал отрицательный жест: – Не нужно. Уверен, что ты превосходно поешь и играешь и что твой меч непобедим. Ты это доказал, свершив правосудие над Аладжа-Цором. Уверен также, что ты хороший человек – у тебя шерр, а он не пойдет к тому, кто полон злобных умыслов. Однако пробелы остаются, и я бы посоветовал тебе взять несколько уроков у наших мудрецов. – Зачем же искать их? Ты мог бы сам… – начал Тревельян, но Питхана замахал руками: – Нет, нет! Я слишком стар, занят последней в моей жизни работой и больше не беру учеников. Тебе нужен кто-нибудь помоложе, а лучше – Аххи-Сек, Великий Наставник и наш мудрейший иерарх. Вопросы, которые ты задавал, как раз для него. – Где же мне найти достойного Аххи-Сека? – Хмм… Он живет в Полуденной провинции, но иногда путешествует по делам Братства. Отправляйся за Кольцевой хребет, и там тебе скажут в наших домах, где его искать. Надеюсь, он вложит в твою голову толику знаний. Ни на один вопрос не ответил и хочет побыстрей отделаться, подумал Тревельян. Пожалуй, лишь один совет полезен – найти магистра помоложе или этого Аххи-Сека, который, вероятно, в Братстве не последний человек – может быть, даже его глава. Но торопиться некуда. Сначала он побывает в Манкане, затем пойдет на юго-запад по землям Пибала и Нанди к Первому Разлому в Кольцевом хребте, через который можно попасть в Провинцию Восхода. Еще можно отправиться из Манканы на запад, в Анз, к Северному валу и Второму Разлому, где течет река, впадающая в море Треш… Так ли, иначе, но он доберется до имперской метрополии и этого Аххи-Сека. А по дороге, глядишь, еще какой-нибудь магистр подвернется. Тревельян поднялся, подхватил свой мешок и склонил голову: – Благодарю за мудрые советы и беседу, почтенный. Теперь позволь мне удалиться. Твоя кровь – моя кровь. – Твоя кровь – моя кровь, – эхом отозвался Питхана, кивнул и направился к своему столу, книгам и рукописи. Его мысли были уже далеко – вероятно, в сферах этики, где разрешалось противоречие между желанием и долгом. Спустившись на первый этаж, Тревельян столкнулся с Даббасом, дарующим кров в обители Помо. Тот наблюдал, как трое подростков – видимо, ученики – прибирают кухню, трапезную и смежные с ней покои. С любопытством покосившись на зверька, прильнувшего к шее Тревельяна, Даббас принес из кухни увесистый сверток: – Вот, возьми, Тен-Урхи. Фляга с вином, немного сухарей, мясо и сушеные фрукты… Пригодится в дороге. – Спасибо. Ты милосерден и заботлив, как наша Заступница Таванна-Шихи… – Тревельян сунул запасы в суму и решил, что надо расспросить Даббаса. Он был не столь обременен летами, как Шуттарн, дарующий кров из Рори, и казался человеком доброжелательным, а главное, разговорчивым. – После беседы с мудрым Питханой мне захотелось освежить свои знания. Нет ли у тебя какого-то манускрипта, не слишком тяжелого, где говорилось бы о законах Основателя С’Трелла? – Есть. – Даббас вышел и вскоре вернулся с небольшим пергаментным свитком. – Это краткий список размышлений С’Трелла. Надеюсь, он тебе пригодится. Тяга к знаниям так похвальна! – Он метнул строгий взгляд на учеников. Они покинули дом, затем направились к имперскому тракту по недлинной аллее, обсаженной пальмовыми дубами. Вероятно, Даббас решил проводить гостя до самого выхода. – Я слышал, – произнес Тревельян, – что войско, идущее на Манкану, уже в Помо. – Желаешь к ним присоединиться, Тен-Урхи? Что ж, рапсода всегда примут с удовольствием, ибо веселые песни поддерживают воинский дух и помогают смириться со стертыми ногами и грузом доспехов. Там, дальше по дороге, их лагерь в лесу, и в нем алая палатка военачальника. Они взяли в Помо зерно, мясо и овощи и, думаю, сегодня выступят. Может быть, уже ушли, но ты их догонишь – рапсоды проворнее солдат. – Хочу спросить еще об одном. – Тревельян поднял руку, почесал Грея за ушами, и тот довольно пискнул. – Это касается покойного Аладжа-Цора… Скажи, его предупреждали, чтобы не бесчинствовал? Даббас усмехнулся: – Это один из обычаев, который известен не каждому рапсоду. Предупреждают всегда, Тен-Урхи, если деяния человека таковы, что могут привести его к смерти. К смертному приговору Братства, я хочу сказать. Так что пусть твоя совесть будет спокойна – Аладжа-Цора предупреждали, и не раз. – Как? – Увещевая его, а когда слова не помогли, один из братьев отвез ему послание, пришедшее в Помо от самого Великого Наставника – запечатанную шкатулку, покрытую черным лаком. Не знаю, что в ней, но обычно получившие такой знак быстро вразумляются. Жаль, что с Аладжа-Цором не получилось… – Даббас пожал плечами. – А может, и не жаль! Дрянной он был человек, и душа его не достойна прикосновения Таван-Геза. – Значит, шкатулку прислал иерарх… – протянул Тревельян. – Сам мудрейший Аххи-Сек из Полуденной провинции… Оч-чень интересно! Он распрощался с Даббасом, вышел на имперский тракт и зашагал на север в ровном, быстром темпе. Кончилась городская окраина, дорога нырнула в лес и рассекла его прямой серой лентой. Навстречу Тревельяну тянулись фургоны, груженные мешками с солью, – шли, видимо, с побережья, где соль выпаривали из морской воды. Затем показался другой обоз из четырех больших телег, забитый свертками какого-томатериала, похожего на плотный серый шелк. Тревельян остановился, оглядел возы, тащивших их быков, возчиков и сидевшего на первой телеге торговца или, возможно, приказчика. Груз был ему незнаком. – Красивая ткань, – заметил он, обращаясь к купцу. – И, должно быть, прочная! – Это не ткань, рапсод, это пузыри огромных рыб, которых добывают на Архипелаге, – важно отозвался торговец. – Дорогой товар! Из него делают одежду для моряков. Она не намокает в воде, потому что не сшита, а склеена, и тайна этого клея известна лишь немногим людям на востоке. – А вы, должно быть, везете груз в Семь Провинций? – Опять не угадал. Везем намного дальше, на границу Тилима и Шо-Инга, в поместье благородного Кадмиамуна. – Да, это далекий путь, – сказал Тревельян. – Пусть сохранят вас боги! Караван проследовал в сторону Помо, и он забыл о нем, шагая по безлюдной дороге. Примерно через километр попался каменный пилон, торчавший у обочины словно гранитный палец, проткнувший падающие сверху лианы. Тревельян остановился и прочитал выбитую на нем надпись: «Едущий слишком быстро рискует потерять колеса экипажа или загнать своих лошадей». «Это верно, – одобрил командор. – Тише едешь – дальше будешь». «Я никуда не тороплюсь, даже в Полуденную провинцию, к наставнику Аххи-Секу, – откликнулся Тревельян. – Будем решать проблемы в порядке поступления. Сейчас на очереди Манкана и мятежник Пагуш, а мудрейший иерарх подождет. Хотя, конечно, послания он рассылает любопытные… Пророческий дар у него, что ли?» «Плюс оборудование для печати голограмм, – дополнил Советник. – Подозрительно! Ты не находишь?» Тревельян кивнул, соображая, что система Осиера лежит почти на самой границе сектора, подконтрольного Земле. «Пилигрим» совершил изрядный крюк, чтобы доставить его сюда, хотя колония у альфы Апеллеса, находившаяся ближе к центру галактического рукава, тоже могла считаться пограничным миром. За двести лет присутствия в этом районе земляне дальше не продвинулись; за Осиером, само собой, тоже были звезды, но, по оценке астрогаторов, бесперспективные. Это означало, что кислородных планет у них не имеется, а есть в лучшем случае астероидный пояс и пара газовых гигантов вроде Юпитера. Бесперспективная зона тянулась на сто семнадцать светолет – приличная дистанция, но не препятствие для корабля, который перемещается в Лимбе. Кто-нибудь мог прилететь, однако… «Однако чушь! – продолжил мысль командор. – Появление любого межзвездного транспорта было бы зафиксировано орбитальными спутниками и Базой. Даже в режиме консервации!» Внезапно Грей завозился на плече Тревельяна, подпрыгнул в воздух, пискнул, очертил круг у него над головой и помчался назад, в сторону города. Летуном он был неплохим; конечно, не орел и не почтовый голубь, но шустрая зверюшка. К тому же способная передавать ментальные сообщения, чего ни орлы, ни голуби не умеют. Смутные силуэты замелькали перед внутренним зрением Тревельяна: кроны деревьев, ярко окрашенные птицы, бурые комочки скачущих по ветвям кроликов. Затем возникли полоса дороги, видимая будто бы в тумане, и человеческая фигурка. Незнакомец торопился, чуть ли не бежал. «Идет за мной?» – подумал Тревельян, нашарив кинжал у пояса. Прочее оружие он оставил у Даббаса, в обители Братства. Оно было лишней тяжестью; на серьезный случай у него имелись голопроектор-пугалка и лазерный хлыст. Грей, решивший, что долг перед хозяином исполнен, вернулся, плюхнулся Тревельяну на плечо и получил наградной сухарь. Почти что вслед за ним на дороге появился невысокий худощавый человечек в пестром, обтягивающем, словно трико, одеянии, дырявых сапогах и с плетеной корзиной, которую он тащил за спиной на манер рюкзака. Увидев Тревельяна, путник испустил вздох облегчения, сделал пару шагов и рухнул на колени посреди тракта: – О господин! Я мчусь за тобой от порога вашего дома, где мне поведали, что ты собрался в Манкану. О лучший из рапсодов, яркий светоч во мраке ночи! О благородный конь с золотыми копытами и сладкозвучной лютней! О драгоценный камень, сияющий, как Ближняя звезда! О неподкупный страж справедливости! Позволь обнять твои колени и отряхнуть пыль с твоих башмаков! – Это все, чего ты хочешь? – сказал несколько ошеломленный Тревельян. – Да, только это, – заверил его человечек. – Ну, и еще одна малость, о крепостная башня среди жалких хижин: возьми меня под свое покровительство и разреши шагать вслед за тобой в Манкану. А уж я… – Тут он увидел Грея, прильнувшего к Тревельяновой шее, и замер с раскрытым ртом. – Если ты боишься злодеев или какой-то другой беды, то можешь отправиться туда с войском, что идет впереди нас. Сам я хочу сделать так же. С трудом оторвав взгляд от Грея, человечек замотал головой: – Поистине, мой господин, солдаты хуже любых злодеев для беззащитного торговца. Одно дело – идти с тобой, о благородный, и совсем другое – без тебя. Мой товар разграбят, мои деньги отнимут, и мои бока узнают тяжесть солдатских сапог. Клянусь благоволением Таван-Геза, так оно и будет! «Речистый хмырь. Но скользкий», – приговорил командор. Тревельян невольно усмехнулся. Волосы у незнакомца были рыжими, черты лица тонкими, исполненными лукавства, но с ними контрастировал огромный нос, похожий на хобот тапира. Ушные мочки свисали до края челюсти и были украшены пластинками лазурита. – Значит, ты торговец? – Немного торговец, немного знахарь, немного фокусник – из тех, что бродят по дорогам с циркачами. Всего понемногу, мой блистательный господин. А еще я хороший повар и неплохой зверолов. Это ведь шерр на твоем плече? Редкая тебе улыбнулась удача! Тревельян продолжал его разглядывать. Одна из первых заповедей наблюдателей – не отказываться от контакта, ибо ценные сведения могут прийти из самых неожиданных источников. А этот тип производил впечатление человека бывалого и, несомненно, ушлого. Среди его профессий наверняка имелись и такие, которых не афишируют. – Что-то я не пойму, из каких ты мест, приятель. Нос говорит одно, а рыжие волосы – совсем другое… Кстати, как тебя зовут?– Тинитаур, о жемчужина славного Братства. А выгляжу я странно, потому что мой отец-жонглер был с запада, а мать-акробатка – с востока. И родился я где-то по дороге между Хай-Та и Островным Королевством, в нищей повозке циркачей. С тех пор и странствую по свету… Прости за откровенность, но разве это не объединяет нас, о благородный рапсод? – Объединяет. Но этого мало. – Чего же еще, о серебряный гвоздь, забитый в небо? О кубок с бесценным пибальским вином! Чего… Тревельян расхохотался: – Гвоздем и кубком меня еще не называли! Можешь идти со мной, Тинитаур. Ты меня развеселил, а смех продляет жизнь. – Пусть Таванна-Шихи пошлет тебе десять танцовщиц из Тилима за твою доброту! – Фокусник живо поднялся с коленей. – Но, мой господин, звезда моего счастья, у меня есть спутник. Не такой, как ты и я или как твой прекрасный зверь, немного странный, но зато услужливый. Ест все, таскает тяжести, кувыркается на потеху публике, а ночью охраняет сон хозяина. Не гони его, молю! – Ну и где же твой приятель? – спросил Тревельян. Тинитаур пронзительно свистнул, и из лесной чащи выскочил рыжий мохнатый грязный пац. Несло от него так, что Тревельян отшатнулся, но потом, преодолев брезгливость, осмотрел своего нового попутчика и сказал: – Ладно, пусть идет с нами, но ты его вымоешь в первом же ручье. – Подумал и со вздохом добавил: – Что поделаешь! Женщины всегда говорили, что у меня отзывчивое сердце.
* * *
Вскоре им попался оставленный армейский лагерь, обширная вырубка в лесу, огороженная невысоким валом и частоколом. Здесь не было никого, кроме стервятников, крыс и диких кошек, пировавших на кучах отбросов. Войско путники нагнали через пару часов, и, судя по тянувшемуся позади обозу, это была полная таркола, подразделение, эквивалентное полку или римскому легиону. Тревельян знал, что оно включает три тысячи шестьсот бойцов, из которых треть являлась легковооруженными арбалетчиками, а остальные – щитоносцами в доспехах, с мечами и копьями. Еще тут была сотня колесниц, предназначенных, видимо, для преследования, небольшие метательные машины на возах и фургон, набитый кандалами. Войско двигалось в строгом порядке, отряд за отрядом во главе со своими офицерами, носившими звание туана, и занимало половину широкого тракта. Вторая половина предназначалась для гражданского транспорта – пассажирских фаэтонов, проносившихся в ту или другую сторону, крестьянских повозок, экипажей местных нобилей и встречавшихся иногда купеческих караванов. Тревельян со своими спутниками направился в голову войска. Пац, которого звали Тика, был уже вымыт в ручье, что сопровождалось стонами и жалобным воем, и посему солдаты от них не шарахались, а встречали рапсода и фокусника смехом, грохотом мечей по щитам и пожеланиями разделить дыхание. Армия в Империи с древних времен была наемной, и вербовали в нее большей частью рослых северян из Онинда-Ро, Пейтахи и Рингвара, а также варваров и их потомков, осевших в области Южного вала. Вербовка южан являлась важной частью имперской политики, отшлифованной и проверенной веками. Дикарям из джунглей разрешалось приходить в Империю, но не отрядами, без своих вождей и только в качестве солдат, служивших не меньше десятилетия. После этого они могли вернуться в отчие пределы, но приобщение к цивилизации, вину, звонкой монете и чистым тюфякам не проходило бесследно: многие оставались еще на десять лет, получая затем земельный надел и право селиться за Южным валом или в любом другом месте, кроме Семи Провинций. Такая политика сдерживания угрозы, исходившей из южных лесов, была чрезвычайно эффективна, а также полезна обеим сторонам: Империя приобретала солдат, а варвары, не поладившие со своими вождями или влекомые жадностью и любопытством, могли отправиться на север, зная, что там их встретят не мечами, а звоном серебра.В тарколе, шедшей в Манкану, южан оказалось не меньше половины. То был совсем особый народ, не похожий на имперцев и жителей запада и востока. Рослые, мощные телом, с широкими скуластыми лицами, они были белокожи, и черепа их покрывали не волосы, а белесый, почти незаметный пух. По этой причине их называли в Империи безволосыми, что было гораздо приемлемей с точки зрения политики, чем оскорбительные термины «дикарь» или «варвар». Что же касается их бледной кожи, явной аномалии для южан, то этот вопрос был изучен экспертами Фонда особо тщательно. Они пришли к выводу, что в дерме представителей всех южных племен отсутствует меланин, так называемый «пигмент загара», чувствительный к ультрафиолетовым лучам. Как и почти полное отсутствие волос на голове и мощное телосложение, это был генетический признак, отличающий южную расу от остальных обитателей Осиера. Обоз, колесницы и колонна пеших воинов растянулись больше чем на километр, но до авангарда Тревельян так и не добрался. Остановка случилась в придорожной таверне, где в окружении трех штабных офицеров и десятка вестовых сидел чахор, предводитель воинства. Он расположился под навесом в походном кресле, пил охлажденное вино и наблюдал за своими отрядами – держат ли воины строй, все ли в панцирях и при оружии, и не плетутся ли где пьяные или больные. Чахор, как и большинство туанов, был имперским нобилем и, судя по длине бакенбард, породистому носу и наушным украшениям в виде золотых цепочек, принадлежал к весьма привилегированному сословию. Не Нобиль Башни, конечно, решил Тревельян, но точно один из Восьмисот. Для членов фамилий, входящих в Башню, пост чахора был мелковат; в имперской армии они командовали корпусами из пяти-шести и более таркол. Он подошел к военачальнику, по виду – ветерану лет за сорок, представился и испросил разрешения следовать с его воинством в Манкану. Чахор бросил взгляд на Тинитаура и Тику, втянул воздух носом, брезгливо поморщился и сказал, что всякий рапсод – приятный гость за его столом и в его палатке, а вот эта вонючая мерзость, проклятая богами, – тут он кивнул на рыжего паца, – пусть ковыляет в обозе вместе со своим хозяином и веселит ужимками солдат. Тинитаура это, кажется, не огорчило; он заявил, что готов облобызать драгоценные стопы полководца, а затем отправился в обоз. Тревельян остался пить вино с чахором и его штабными офицерами. Этого нобиля звали Альгейф, а трех его подчиненных – Альраун, Альхард и Альборх. Разумеется, то были не их фамильные имена, а воинские – традиция, которой в Империи придерживались уже много столетий. Начало ей положил император Кужух-Шор Справедливый, и она означала, что нобиль, вступающий в войско, должен, забыв о своей семье, служить единственно Светлому Дому и отечеству. Такая самоотверженность умилила командора; послушав затем, как Альгейф ругается, и поглядев, как он хлещет вино, командор заявил, что этот полковник хоть и сухопутная крыса, но свой в доску парень. Первый кувшин закончился, когда мимо шли арбалетчики. Альгейф велел подать второй и сказал: – Нам повезло, Тен-Урхи, что ты идешь в Манкану. Гнусные земли, поистине задница Таван-Геза, где горы – груды дерьма, болота – конская моча, а бабы – сущая блевотина. Вдобавок вино там такое кислое, что если его выпить и помочиться на сапог, то прожжешь в нем дыры. Большая удача, что мы тебя встретили! Будешь нас развлекать по дороге. Какие ты песни поешь? – Какие пожелаешь, благородный, – ответил Тревельян. – О дальних странах и великих деяниях предков, о героизме воинов и грохоте битв, о чистой страсти и зеленых лугах, над которыми порхают медоносные мотыльки. – Нет, про мотыльков не надо, – скривился Альгейф. – Про чистую страсть, пожалуй, тоже, – добавил Альхард. – Провались она сквозь Оправу! – А вот знаешь ли ты балладу о двенадцати способах любви? – спросил Альраун. – Или Песни Плотского Греха? Или сказание о Хантиле Крепком Дротике, который развлек за одну ночь сорок тилимских танцовщиц? Тревельян кивнул, уловив тематику, приятную для бравых воинов. – Разумеется, я все это знаю и множество других таких же песен. Желаете послушать, мои господа? – Не сейчас, – сказал чахор Альгейф. – Сейчас мы на службе. Я… ик!.. провожу инспекцию войскам. Арбалетчики прошли, мимо потянулись колесницы. Хозяин таверны принес третий кувшин. Альгейф выпил, небрежным жестом взбил свои бакенбарды и произнес: – Как было сказано, эта Манкана – мерзкий край, но, повелением Светлого Дома, мы идем навести в ней порядок. Этот, как его… гниль болотная… Пагуш, вот!.. Слишком он возомнил о себе и кончит, я полагаю, крюком в брюхе. Таков наш солдатский долг – идти и насадить его на крюк! Но ты, Тен-Урхи, человек свободный. Так что ты ищешь в тех поганых землях? – Видишь ли, мой благородный господин, – молвил Тревельян, – есть у нас, рапсодов, легенда. Лет двести или триста тому назад жил в Гзоре мастер, изготовлявший лютни из розового и медного дерева, и были те лютни так хороши, что ни одна из нынешних с ними не сравнится. Лютни разошлись по свету, но с течением веков осталось их немного, и каждая принадлежит известному певцу. Один из них недавно умер в Манкане, в городе Ильв, и завещал свою лютню первому рапсоду, который доберется в этот город. Думаю, мне повезет, так как об этом известно еще немногим. – Какое совпадение! – сказал Альборх, один из туанов. – Мы тоже идем в Ильв. – Прекрасно! Я буду услаждать благородных воинов песнями всю дорогу. За конным отрядом потянулся обоз, и чахор велел Альборху и Альрауну пересчитать возы с провизией и боевыми машинами. Сам же выпил четвертый кувшин вина и приказал подать свою колесницу, пригласив в нее Тревельяна. Боевой возок помчался вдоль воинской колонны, но лошади, топот тысяч ног и звон оружия перепугали Грея. Недовольно заверещав, он снялся с Тревельянова плеча и полетел над кронами деревьев. Альгейф проводил его взглядом. – Забавная у тебя зверюшка! Не продашь? – Не могу. Шерр сам выбирает хозяина. – Да, я об этом слышал. А еще слышал, что шерры могут зачаровать любого и высосать всю кровь. – Это враки, мой господин. Он питается фруктами, хлебом и мясом. – Жаль! – Альгейф прикрикнул на лошадей и хищно оскалился. – Я бы знал, кому его подложить! Ублюдку Нура-Паху, главнокомандующему Востока! Это он послал мою тарколу в Манкану! В начале времени Заката войско встало лагерем у сигнальной вышки, и не успели солдаты расставить шатры, как загрохотал барабан – Альгейф сообщал своему начальству, что удалился от Помо на день пути. Тут не было ни постоялого двора, ни харчевни, но у чахора имелись собственные винные запасы. Пару часов Тревельян развлекал его и туанов песенками сомнительного содержания, потом исполнил на бис скабрезные куплеты о распутной супруге мельника и испросил разрешения удалиться. Тинитаура он нашел у отведенной им палатки, рядом с костром и котелком, где булькало аппетитное варево. У огня развалился рыжий Тика, грыз какие-то плоды и выискивал в шерсти блох, закусывая ими свой ужин. – Хорошо ли ты провел время, мой бесценный господин? – поинтересовался фокусник. – Я делал то, что положено рапсоду: пел, – ответил Тревельян. – И чахор, конечно, в восхищении, ибо ты воистину великий певец! Ты угоден богам, и я читаю в твоих глазах отблеск небесной славы. – Ты умеешь читать? Тинитаур слегка смутился: – Ну, не по писаному, а исключительно в душах людских. Я, как и ты, много странствовал по свету и приобрел необходимую сноровку. Сейчас вот направляюсь в Манкану, ибо страна эта обширна и не очень населена, а значит, в ней мало знахарей, торговцев и звероловов. Можно заработать на лепешку с медом… А ты что там ищешь, мой господин? Подсев к огню, Тревельян пожал плечами: – Чего искать рапсоду? Он идет туда, куда зовет сердце. Прилетел Грей и опустился на его колени. Тинитаур протянул руку, желая приласкать зверька, но тот оскалился и зашипел. Похоже, фокусник ему не нравился. Определенно не нравился – Тревельян ощутил волну неприязни. – Сейчас ты идешь на север, в холодную страну, – сказал Тинитаур, помешивая в котелке. – А бывал ли ты в южных краях? – Бывал. В Хай-Та, в провинциях за морем Треш и в других местах. – Нет, мой золотой господин, я говорю о настоящем Юге, который лежит за Южным валом и степями. О Юге, где среди дремучих джунглей текут огромные реки, Кмари, Рориат и множество других, где водятся странные звери и где живут безволосые дикари, такие же, как солдаты в нашем войске. – А что там делать? Зверям и дикарям не нужны мои песни. – Вот тут ты ошибаешься, о звезда среди рапсодов. Дикари бывают разные, и у некоторых можно неплохо заработать. Интересная мысль, подумал Тревельян, принюхиваясь к аппетитным запахам из котелка. – Можно заработать? Как? Разве безволосые добывают золото и серебро? – Те, кто возвращается, приносят монеты отсюда, из северных стран, и отдают половину вождю. Такой у них, видишь ли, обычай… кто не отдаст, может остаться без монет и без головы. У некоторых их вождей есть корзины, такие же, как у меня, но набитые не снадобьями и амулетами, а золотом и серебром. С этими словами Тинитаур вытащил из своей поклажи мешочек с сушеными травками и сыпанул в котелок. Запах был восхитительный. Хотя Тревельян отужинал в шатре чахора, он не отказался бы сделать это еще раз. – Ты и правда отличный повар, Тинитаур. – Стараюсь, мой пресветлый господин. – Фокусник достал большие деревянные ложки. – Так что ты думаешь насчет Юга, светоч лютни? – Может быть, когда-нибудь я туда заверну. – Он подумал, что южные леса почти не исследованы – среди специалистов Базы очень немногие занимались примитивными племенами. – А что, эти вожди с корзинами золота и серебра любят музыку и песни? – Они любят славу и знают, что рапсод может воспеть их деяния, – сказал Тинитаур с лукавой усмешкой. Затем они принялись за еду, а очистив котелок, улеглись в палатке. Тинитаур, весьма вероятно, был тем еще мошенником, но в мешок Тревельяна не лез. К своему счастью – ведь призрак-имплант в сне не нуждался и бдил в любое время дня и ночи.
Глава 7 МАНКАНА
На следующий день они пересекли границу Манканы. Имперский тракт здесь раздваивался: одна дорога тянулась вдоль Рориата на север, другая взбиралась на мост и шла на северо-запад, к Анзу. У моста стояли сигнальная вышка и небольшая фортеция с гарнизоном из полусотни солдат, а ниже по течению располагался городок с пристанями, торговыми складами и мастерскими по разделке бревен. Рориат был судоходен на всем верхнем течении, но кораблей здесь попадалось мало; в основном с севера гнали плоты – ценный лес, что шел на мебель, и строевую древесину. Еще везли зерно в огромных неуклюжих баржах, а суденышки поменьше были загружены знаменитым манканским медом и шкурами пушных зверей. Некоторое время войско двигалось вдоль реки. Тут она выглядела не такой широкой и могучей, как в Рори, но все же от берега до берега было метров триста, и через каждые пять-десять километров попадались то деревушка, то городок, то придорожная таверна и пост охраны. Невзирая на мнение Альгейфа, Тревельян не видел в этой стране ничего гнусного и мерзкого. Вино здесь в самом деле было кислым, а длинноухие носатые женщины не блистали красотой, но это компенсировалось великолепными видами, свежим прохладным воздухом и пропастью всякой дичи, которая регулярно украшала стол чахора. Манкана и лежащий к востоку от нее Гзор были странами почтенной древности, но от народа, что населял их в минувшие времена, не осталось ничего, кроме разбросанных по лесным холмам мегалитов, огромных каменных глыб, поставленных торчком, с равными промежутками меж ними. Зачем нужны были эти крепости и кто их воздвиг, история Осиера умалчивала, а эксперты ФРИК считали, что эта местность, лежавшая частью в субтропиках, частью в умеренном поясе, была прародиной континентальной расы. Отсюда ее пращуры двинулись в дорогу к морю Треш, уничтожив или оттеснив за Кольцевой хребет обитавшие там западные племена. На освободившееся место просочились из Хай-Та, Этланда, Пибала и других стран краснокожие носатые люди восточной расы, со временем также покоренные имперцами. Эту гипотезу подтверждали только намеки в легендах и мифах да лингвистический анализ диалектов, ибо пути миграций племен и народов на Осиере оставались непрослеженными; тут, по вполне понятным причинам, обширные археологические раскопки не велись. Дни тянулись за днями, один бревенчатый городок сменялся другим, грохотали по вечерам барабаны на сигнальных вышках, проносились по дороге экипажи, шли охотники и сборщики меда, упряжки быков тащили бревна к реке. Тревельян то шагал среди солдат, то присаживался на обозную телегу, то ехал в колеснице чахора Альгейфа, развлекая его беседой. Он попытался выяснить подробности насчет мятежа, но Альгейф и сам не знал, что случилось у гор Ашанти, на границе между Манканой и Гзором. Связь с тем краем прервалась, и никакие вести не доходили уже восемь декад. Последнее послание, что передали барабаны, гласило: Пагуш, владетель приморского города Ильва, затеял междоусобицу с ближним соседом из Гзора, а когда его призвали к ответу, начал вырезать немногочисленные имперские посты – что было уже злоумышленным бунтом против Светлого Дома. Еще сообщалось, что в гавани Ильва сосредоточена целая флотилия, но зачем Пагушу те корабли, оставалось лишь гадать. Возможно, он в самом деле хотел переселиться на новые земли за океаном или собирался только переплыть залив, высадиться в Гзоре и обрушиться на противника с тыла. Альгейф должен был войти в Ильв, разбить мятежников и, заковав в кандалы, отправить их в пибальские каменоломни. Пагуша, по усмотрению Альгейфа, полагалось насадить на крюк или подвесить вверх ногами, но перед казнью допросить о причинах мятежа; если же станет запираться, пытать бичом и огнем. На огромных пространствах Империи междоусобицы между владетелями всяких рангов не были редкостью. В одних случаях Светлый Дом оставлял их без внимания, как случилось в распре Аладжа-Цора с Раббаном, в других мирил или судил, накладывая на обидчика репарацию в пользу обиженного и, разумеется, имперской казны. Обычно виновник беспорядков мог не опасаться за свою жизнь; его били не по спине, а по карману и в крайнем случае могли лишить владения, досрочно передав его наследнику. Кара пыткой и смертью применялась только в двух случаях: когда была пролита кровь одного из Восьмисот и когда погибали имперские солдаты. Уничтожение гарнизонов, охранных постов на дорогах и сигнальных вышек автоматически переводило местную распрю в разряд мятежа, а если бунтовщиков, как в данном случае, было несколько тысяч, то это уже считалось восстанием. Не выяснив ничего о целях Пагуша, Тревельян времени зря не терял и в промежутках между фривольными песнями старался выяснить кое-какие вопросы. Например, о седлах, уздечках и стременах, о подзорной трубе и компасе, то есть об эстапах, полезных для людей военных. Выслушав описание сбруи с удилами, Альгейф сказал, что только последний ублюдок будет совать железный штырь в рот благородному коню, и оного поганца нужно самого запрячь таким манером и проехать на его спине от Западного океана до Восточного. Альраун, которому было рассказано о компасе, заметил, что не видит в этой штуке смысла – в Империи отличные дороги, все расстояния размечены, есть карты на пергаменте и в храмах, а если желаешь забраться в какую-то глушь, то стоит нанять проводника. Во всяком случае, так поступил бы любой нормальный человек, вместо того чтобы блуждать по заколдованной стрелке. Что до подзорной трубы, то данную проблему Тревельян обсудил за кувшином вина с туанами Альхардом и Альборхом. Они согласились, что такой инструмент был бы полезен на поле сражения, однако мастерить его не следует, чтобы не вводить людей в соблазн, как военных, так и гражданских. Человек грешен, слаб и склонен подглядывать за тайнами ближних, так что труба для дальновидения была бы изобретением безнравственным. Альхард, правда, со вздохом признался, что, будь у него такая вещь, он мог бы насладиться редким зрелищем: его особняк в Мад Аэг стоял рядом с баней, где собирались знатные дамы. Эти неудачные эксперименты скрашивал новый спутник Тревельяна, торговец, знахарь и фокусник Тинитаур. Он торговал амулетами и всякими сомнительными травками, начиная от приворотного зелья и кончая микстурой, отбивавшей винный запах, и торговля шла успешно – даже безволосые его не трогали, считая помощником рапсода. По вечерам он жарил дичь на вертеле или готовил похлебку; то и другое было восхительно и приправлялось массой забавных историй. Тинитаур был человеком бывалым, искушенным в различных хитростях, обманах и мошенничествах; быть может, не в одном городе и не в одной стране его с охотой нацепили бы на крюк. Тревельяну казалось, что фокусник стремится в Манкану лишь по причине разногласий с правосудием, но иногда, слушая его бессовестную лесть, он думал: что ему надо, этому пройдохе, от певца Тен-Урхи? Зарится на шерра? Хочет при случае обокрасть? Но это он мог сделать в первую же ночь – вернее, попытаться, ибо командор всегда стоял на страже. Так, то развлекая благородных воинов, то развлекаясь сам, Тревельян шагал и ехал по землям Манканы, пока, в трех днях от побережья и города Ильва, карательная экспедиция не встретила войско бунтовщиков.* * *
Место было удобное для битвы – впереди лежал широкий луг, к нему с обеих сторон теснились поля и огороды, окружавшие несколько деревушек или, скорее, хуторков – в каждом десяток-другой построек. На севере эту равнину замыкали пологие холмы с торчавшими на вершинах камнями, видимо, мегалитами; до них было немногим больше километра, и Тревельян разглядел суетившиеся там фигурки. Дорога, прорезая луг, ныряла в теснину между двух холмов и терялась вдали, за склонами возвышенностей, поросших травой и кустарником. Поперек луговины, ближе к холмам, стояло войско, тысяч семь или восемь человек, вооруженных копьями, топорами и мечами; впереди – шеренга бойцов в панцирях, а за ними – толпа бездоспешных, где редкими искрами поблескивали шлемы. На холмах, среди каменных глыб, тоже были люди – вероятно, лучники и стрелки из арбалетов. Колесниц Тревельян не увидел, за исключением одной, маячившей перед воинским строем прямо посреди дороги. Около возка стоял большой сундук, а рядом с ним – мужчина в жреческой хламиде, поднимавший сплетенный из зеленых ветвей большой венок, символ мира. – Развернуть строй! – выкрикнул Альгейф. – Бегом! Быстро, дети пацев! Первый и второй отряды – левый фланг, третий и четвертый – правый, пятый и шестой – в центре! Торопитесь, ублюдки, крысиный кал, бледные морды! Копьеносцы, занять две первые шеренги! Выучка у имперских солдат была блестящая – войско перестроилось с марша, не затратив лишней минуты. Два отряда по четыреста бойцов в каждом двинулись к западу, два – к востоку, и два последних, преодолев стремительным броском три сотни метров, встали за спиной военачальника. Альгейф, озирая местность со своей колесницы, продолжал распоряжаться: – Стрелков на фланги! Выдвинуться вперед! Цель – длинноносые отродья, что засели на холмах! Альраун, поведешь тех, что ближе к деревне. Альборх, обстреливай кучу дерьма… видишь, ту, с двумя вершинами. Стрел не жалеть! Альхард, останешься с колесничими. Забегали посыльные, раздался топот копыт, послышались выкрики – сотня боевых возков, по четыре в ряд, перекрыла дорогу. Помощники чахора рванулись на свои места. – Ты не слишком торопишься, благородный? – спросил Тревельян, стоявший рядом с военачальником на колеснице. – Они, кажется, просят мира. Пожалуй, надо сначала разобраться. – Разбирайтесь вы, стражи справедливости, а у меня на это нет времени, – буркнул Альгейф. – У меня приказ: снять мятежникам головы, пленных – в пибальские каменоломни, а Пагуша, смрадного змея, – на крюк! Когда это сделаю, можно будет и разобраться. – Он вытянул шею и заорал: – Стрелометные машины ставить в ряд за щитоносцами! Подтянуть из обоза фургоны с запасами стрел! При-иготовиться! Выровнять щиты и копья! Бей в барабаны! Марш! Таркола двинулась вперед под ритмичный грохот барабанов, ломая кусты и приминая луговые травы. Жрец-парламентер, стоявший у сундука, отчаянно замахал венком, но, видя, что на мирные знаки никто не обращает внимания, вскочил в колесницу и погнал лошадей по дороге. На вершинах холмов поднялись неровные цепочки лучников, манканцы сплотились тесней, над их войском протяжно зазвучали трубы, но, кажется, то был не призыв к кровопролитию, а просьба остановиться и вступить в переговоры. Альгейф, однако, ей не внял. Его отряды, вдвое или втрое уступавшие числом врагу, надвигались с железной уверенностью профессионалов. Арбалетчики на флангах уже достигли дистанции прицельной стрельбы, зарядили свое оружие и начали рассредоточиваться, вытягиваясь в две шеренги. Щитоносцы всех шести отрядов шли в четыре ряда: в двух первых – воины с длинными копьями, за ними – вооруженные мечами. Над колесницей Альгейфа взмыл имперский стяг, багряное вертикальное полотнище на шесте с перекладиной. На красном фоне прихотливо сплетались семь золотых драконов, символ Семи Провинций, насчитывавший пару тысяч лет; под таким знаменем сражался и покорял чужие земли легендарный Уршу-Чаг Объединитель. Грей, напуганный шумом, снялся с плеча Тревельяна и полетел к лесу. За спиной грохотали колесницы и возы с метательными машинами, уже выехавшие на луг; их длинные шеи торчали словно стволы орудий неуклюжих деревянных танков. Трубы в войске мятежников смолкли – там, вероятно, потеряли надежду на мирное решение конфликта. Стрелки на холмах вскинули луки, воины в доспехах, стоявшие впереди, медленно двинулись навстречу имперцам, увлекая за собой многотысячную массу ратников. Тревельян решил, что Пагуш неважный стратег – отвратительный, честно говоря. С этаким бездоспешным партизанским воинством атаковать имперцев полагалось в лесу, среди оврагов и холмов, где тяжеловооруженные не могут навалиться строем, стрелки не видят цель, а колесницы вообще бесполезны. Если же Пагуш решил сражаться на открытой местности, то, по канонам древнего боевого искусства, воинов в панцирях лучше собрать в ударный отряд, а прочими силами окружить противника, пользуясь численным превосходством и сделав фланговые обходы. Не помешали бы и засады, волчьи ямы с острыми кольями, замаскированные рвы и сотен пять кувшинов с нефтью. Но в Манкане, вероятно, о таких военных премудростях даже не слышали. Альгейф сделал знак шагавшим рядом с колесницей барабанщикам. – Три залпа! Стрелки бьют по холмам, стрелометные машины – в толпу этих драных ящериц! Ритм ударов изменился, и стрелы тучей взмыли вверх, чтобы обрушиться затем на воинство Пагуша. Его бойцы падали сотнями; ни щит, ни доспех не спасали от снарядов метательных машин, да и от арбалетных стрел тоже. Ответ был не очень внушительным – луки манканцев не могли тягаться в дальности боя с имперскими арбалетами. Колесница Альгейфа поравнялась с сундуком, сдвинутым солдатами на обочину. – Сейчас ударим по-настоящему, – сказал военачальник. – Так ударим, что у этого сброда носы полетят в одну сторону, а уши – в другую! Я знаю, что вы, рапсоды, славные рубаки… Но настоящую битву ты когда-нибудь видел? Гляди! Воспоешь это сражение в своих балладах. – Пожалуй, мне будет удобнее воспевать во-он с того сундука, – заметил Тревельян. – Опять же, хотелось бы выяснить, что в нем такое. Вдруг рескрипт Светлого Дома о помиловании. Альгейф ухмыльнулся: – Это вряд ли! Но ты прав, Тен-Урхи, нужно проверить, что в этом вшивом сундуке. К тому же с отдаления тебе будет лучше видно, чем с моей колесницы. Иди! Вечером споешь в моем шатре. Тревельян спрыгнул на дорогу, а чахор, подняв копье с флажком, проревел: – Атакуем! Барабаны, сигнал! Вперед! Р-разом навались! Гулко грохнули барабаны, и шеренги имперских солдат, преодолев последнюю сотню метров, ударили на войско Пагуша, опрокидывая воинов в первых рядах. Замелькали копья, сверкнули мечи, брызнула кровь, вой и стон поднялись над толпой манканских ратников. Их оттесняли к холмам, а колесницы, разделившись на два отряда, уже мчались по лугу, чтобы обойти мятежников с обеих сторон и отрезать путь к отступлению. Арбалетчики тоже не дремали: одни с обнаженными клинками полезли на склоны, другие продолжали стрелять, не давая лучникам манканцев поднять голову. Дело шло к тому, что Тревельян наблюдал в разных звездных системах и разных гуманоидных мирах, но в сходных обстоятельствах: к большой резне. Он с отвращением отвернулся. «Ты гляди, гляди, – сказал командор. – Слегка напоминает десант на гамму Хтона, одну из планет хапторов, в эпоху Темных войн. Масштабы, конечно, не те, – добавил Советник с ментальным вздохом, – но ты все равно гляди. Во-первых, положено зафиксировать, а во-вторых, о чем ты будешь петь в шатре у бравого полковника?» «Все массовые кровопускания похожи, что-нибудь да спою, – буркнул Тревельян. – Давай-ка лучше посмотрим, что у нас в сундуке». Сундук был огромный, объемом кубометра полтора, собранный из дорогой древесины медного дерева и окованный бронзой. Замочные петли тоже были бронзовые, но самого замка не имелось. Тревельян счел это разрешением и не колеблясь откинул крышку. Откинул, ахнул и застыл. «Великая Галактика! – молвил командор в таком же потрясении. – Чтоб мне в черную дыру провалиться! – Немного подумал и добавил: – Ну, Пагуш, ну, манканский олигарх… Вот это подарок! Не счесть алмазов пламенных в палатах белокаменных…» Но сундук был набит не алмазами, а рубинами. Огромные камни, одни величиною с палец, другие размером в кулак, даже в неограненном виде производили впечатление невероятного, не поддающегося счету и оценке богатства. Тревельян припомнил, что самоцветы на Осиере столь же дороги, как некогда на Земле, больше всего тут ценились не алмазы, а травяные и морские камни, то есть изумруды и сапфиры. Царской же драгоценностью считался кровавый камень, особый вид багряных рубинов, совпадавших цветом со знаменем Империи. Как раз такие каменья и заполняли сундук. Он просидел у этого сокровища больше часа, пока солдаты Альгейфа громили и резали бунтовщиков. Колесницы, обошедшие манканцев с тыла, встали цепью, не пропуская бегущих к холмам, легковооруженные воины заняли возвышенности, согнав оттуда вражеских стрелков, копейщики окружили толпу побежденных плотным кольцом, меченосцы вложили клинки в ножны и взялись за цепи, веревки и кандалы. Разглядывая поле недавней схватки, Тревельян признал, что убитых меньше, чем можно было ожидать; Альгейф остановил солдат, едва враги прекратили сопротивляться. Теперь его воины не резали и рубили, а вязали и заковывали, и, судя по количеству пленных, это займет их до самого вечера. Видимо, штат рудников в Пибале нуждался в солидном пополнении. Тут, у сундука с сокровищем, его и нашел Тинитаур, явившийся сюда из обоза вместе со своей корзиной и пацем Тикой. При виде груды рубинов глаза у фокусника сверкнули и раскрылись как две плошки, огромный нос зашевелился, а уши встали торчком. Он поглядел на сундук, мысленно взвешивая его, потом на Тревельяна, судорожно сглотнул и поинтересовался: – Что ты тут делаешь, мой пресветлый господин? – Разве не понятно? Охраняю эти камешки. Очевидно, Пагуш желает преподнести их Светлому Дому и тем купить себе жизнь. Тинитаур на мгновение прикрыл глаза, потом вцепился в отвислую мочку и как следует дернул. – Значит, охраняешь… Послушай, о звезда среди рапсодов, к обозу пристал один мой давний знакомец, очень надежный человек, скупщик всякого добра, какое могут захватить солдаты. Он с Архипелага, а там все знают, когда торговать, а когда хватать и драпать. – И что же? – Тревельян насмешливо прищурился, уже догадываясь, какое будет продолжение. – У него есть повозка, сиятельный. Такой, знаешь ли, большой фургон с четверкой лошадей. Мы подгоним его сюда, погрузим сундук и… – Его вдесятером не поднимешь, – сказал Тревельян. Фокусник наморщил лоб, оценивая вес сокровища. – Да, это верно, блистательный. Ну ничего, у моего приятеля есть мешки. Погрузим, и прямиком в Этланд! А оттуда – в Пибал или Нанди. Мы будем богаче Светлого Дома! – Не пойдет. Тебе, быть может, неизвестно, но рапсоды не берут чужого. Такой уж у нас обычай. Тинитаур склонил голову к одному плечу, потом к другому, осмотрел Тревельяна, затем покосился на Тику, чесавшего под мышкой. Похоже, он решил, что даже вместе с пацем не одолеть упрямого рапсода.– Жаль! Жаль, мой господин, ибо камни из этого сундука могли бы изменить твою жизнь. Конечно, мою и моего знакомца тоже, но твою в особенности. Ты совершаешь большую ошибку, но я настаивать не смею… кто я такой, чтобы настаивать?.. Но посмотри, сундук полон доверху, и камни никто не считал. Если ты отвернешься, а я возьму горсточку-другую, кто узнает? Кто будет против? – Моя совесть, – молвил Тревельян и, подняв лицо к небу, захлопнул крышку сундука. – Видишь, там, над нами, солнечный глаз Таван-Геза… А ты еще спрашиваешь, кто узнает! – Если бояться оскорбить богов, то даже под кустом не помочишься, – буркнул Тинитаур и удалился с мрачным видом. Все обитатели Осиера, за исключением, возможно, безволосых варваров, исповедовали одно вероучение, но были не слишком религиозны, так что поминать богов вкупе с естественными человеческими отправлениями большим грехом не считалось. С одной стороны, это было хорошо, так как Осиер, населенный разными расами, не знал крестовых походов, религиозных войн и той конфессиональной нетерпимости, которая терзала Землю даже в двадцатом и двадцать первом веках. С другой же эта холодность в вопросах веры лишала Фонд важных рычагов влияния, способных подстегнуть прогресс. Было давно известно, что для сообществ, еще не достигших порога Киннисона, воздействие через религию является самым мощным, самым эффективным, если использовать данный фактор с разумной осторожностью. Модификация кровавых культов могла не только сделать их вполне безвредными, но также привести к тому, что пленников уже не резали на алтарях, а посылали на галеры, на плантации, в каменоломни, рудники и мастерские. Это, бесспорно, был новый этап социального развития, и следующим шагом могла быть идея о том, что люди созданы по божьему подобию, что содержать их в рабстве грех и что в свободном состоянии пользы от них церковным и светским владыкам будет значительно больше. Конечно, такого рода перемены подкреплялись вескими экономическими стимулами, а также чудесами, свершение коих находилось у экспертов ФРИК на самом высоком уровне. Жаль, думал Тревельян, жаль, что этот метод на Осиере не работает. Из плоской печатки в кольце не сделать круглую подвеску… Возможно, мысль о шарообразности мира не привилась здесь потому, что означала не изменение, а полный пересмотр культа трех богов? Счастье еще, что местная веротерпимость позволила еретику Дартаху удалиться… В конце концов, его изгнали, а не сожгли на костре! Загрохотали колеса возка, Альгейф-победитель остановил лошадей и бросил взгляд на сундук. Его сопровождали вестовые, барабанщики и два десятка безволосых воинов-южан личной стражи. Один из них тащил на веревке мужчину лет сорока, довольно рослого для восточной расы и одетого в роскошный, но сильно помятый наряд – мантию, расшитую жемчугом, и тонкой чеканки доспехи. Вероятно, то был Пагуш, манканский бунтовщик. – Что там? – Альгейф кивнул на сундук, и Тревельян откинул крышку. – О! Кровавый камень, чтоб мне провалиться! – Брови военачальника полезли вверх. – И в таком количестве! Клянусь Оправой, на это можно скупить половину Мад Аэга! – Если ты не станешь торопиться, то будет еще сундук, как раз для второй половины, – сварливо вымолвил Пагуш. Для мятежника и предводителя разбитого войска он держался довольно уверенно. Альгейф сошел с колесницы, оглядел луг, где часть пленных была уже связана и согнана в огромную толпу, а другая, под присмотром солдат, таскала убитых и складывала их в штабеля. Вероятно, это зрелище полной и несомненной виктории порадовало сердце чахора – может быть, даже слегка размягчило. Он посмотрел на Пагуша и кивнул. – Ну, теперь можно и поговорить, а это место не хуже всякого другого. Эй, лодыри безволосые! – Альгейф щелкнул пальцами, подзывая стражу. – Кувшин вина, табурет для меня, табурет длярапсода, а для этого, – он ткнул пальцем в пленника, – вкопать бревно и приделать крюк. Живо! – Крюк не нужен, чахор. Зачем нам эти разговоры о крюке? Лучше вели подать два кувшина вина и третий табурет, – предложил Пагуш, осматривая Тревельяна, его голубое, с кисточками, пончо, кинжал пейтахской работы и мешок, в котором просматривались очертания лютни. – Рапсод! Страж справедливости! Это хорошо, что здесь рапсод. Будет свидетелем. Принесли вино и табуреты, но только два. Столб тоже притащили, с уже вбитым сверху крюком, но Альгейф пока не велел его вкапывать. Вино разлили по кубкам, военачальник отхлебнул, уселся и сказал Тревельяну: – Ты тоже садись, Тен-Урхи. Этот длинноносый ублюдок желает свидетеля из рапсодов. Ну, пусть будет ему свидетель! – Альгейф снова промочил горло, повернулся к пленнику и рявкнул: – Ты! Мешок дерьма, отродье навозной кучи! Ты что о себе возомнил, ушастая нечисть? Ты, предавший Светлый Дом, осыпавший тебя благодеяниями – ибо дать такому пацу в управление город с землями есть величайшая милость! И чем ты за нее отплатил? Перерезал глотки нашим солдатам и выпустил кишки чиновникам! Ты думал, что ваша поганая Манкана так далеко, что Светлый Дом до тебя не дотянется? Дотянулся, однако. Я здесь! Я его меч, его копье, его рука! – Военачальник грохнул кулаком по панцирю. – И эта рука подвесит тебя на крюк, а твоих мерзавцев-сообщников угонит в Пибал, ломать камень! Пагуш слегка поморщился. – Ты кончил, чахор? Тогда послушай, что я скажу. Известно ли тебе, что горы Ашанти, разделяющие Манкану и Гзор, ничейная территория? Найденное там принадлежит нашедшему, кем бы он ни был, гзорским или манканским нобилем или чиновником Семи Провинций, присланным в наши края для сбора налогов. Ты со мной согласен? – По закону треть найденного – доля Светлого Дома, – сказал Альгейф и уставился на содержимое сундука. – Так! Найденное вижу, и еще вижу манканского нобиля с ушами до плеч. А где гзорский? И как его зовут? – Его звали Боннор, и сейчас его прах плывет к Оправе Мира, – печально пояснил Пагуш. – А где чиновник? – Лимак-Гез следует за Боннором в то же святое место, – сказал Пагуш еще печальнее. – Оба они пали жертвой своего нечестия и жадности, ибо позарились на чужое, на треть Светлого Дома и на мои две трети. Знай же, чахор, что некий рудознатец из моих служителей, ныне тоже усопший, разыскал в горах Ашанти древние копи с этими бесценными камнями. – Пагуш покосился на сундук. – Я послал туда людей, наладил добычу, выстроил целый поселок для рудокопов и первые камни отвез Лимак-Гезу, ибо они законная доля Светлого Дома. Но Лимак-Гез – да проклянут его имя во всех Семи Провинциях! – сказал, что эти копи останутся нашей тайной, а треть добытого пусть идет в его ларцы. Мое возмущение было безмерно! И тогда презренный Лимак-Гез сговорился с Боннором, чей удел лежит по другую сторону хребта Ашанти. Боннор послал воинов в горы, чтобы занять мой рудник, а Лимак-Гез, собрав солдат со всех сигнальных вышек и постов, хотел схватить меня в Ильве, бросить в Висельные Покои и, вероятно, убить. Нет, не вероятно, а наверняка! Пришлось и мне собрать людей, чтобы оборониться. Выслушав эту туманную историю, Альгейф хмыкнул. – Не слишком ли многих ты собрал? Тысяч десять будет, а? – Так мне же пришлось биться с двумя! И я с ними справился, а с тобой, чахор, я вовсе не хотел сражаться, о чем говорит этот сундук и знаки мира, что вынесли по моему приказу. Но ты такой торопливый… «Лукав и хитер этот Пагуш, – заметил призрачный Советник Тревельяна. – Ох, хитер, собака!» Несомненно, так оно и было. Правдой в рассказе Пагуша являлись рудник, самоцветы и свара, затеянная из-за них, но кто на самом деле собирался скрыть богатство, а кто был честный налогоплательщик, сейчас не установишь. Два соперника мертвы, и даже рудознатца прикончили на всякий случай… А сундук с камнями – вот он! И еще второй обещан! Веские доводы. Так что Альгейф может возвращаться восвояси с победой, с двумя сундуками и пленными. Пленные больше всего беспокоили Тревельяна. Он уже смирился с тем, что его поход в Манкану – пустые хлопоты, что миссия буксует в прежнем состоянии, что никаких земель за океаном здесь не открыли, а лишь затеяли драку, не поделив внезапного богатства. Пагуш был ловкачом и, очевидно, лжецом, которого не жалко вздернуть, но эта казнь явилась бы признанием вины не только князя, но и его людей. И все они, сколько их есть, восемь или девять тысяч, отправятся в пибальские каменоломни… Он видел, что Альгейф колеблется, но продолжались эти колебания ровно столько, сколько осталось напитка в кувшине. Потом военачальник велел подать еще вина и третий табурет. – Садись, Пагуш. – Небрежным движением Альгейф взбил свои бакенбарды. – Воистину боги шепчут мне в оба уха! В левое, что ты поведал чистую правду и, значит, никакой битвы меж нами не было. Так, мелкая стычка по недоразумению… Я возвращаюсь назад без пленных, но с сундуком и сообщаю, что ты навел порядок в Манкане и Гзоре, прирезав парочку бесчестных нобилей. Правым же ухом я слышу, что ты хитрец и враль и что тебя, бунтовщика, нужно подвесить на столбе, а твоих мерзавцев – отослать в каменоломню. – А сундук? – напомнил Пагуш. – В этом случае сундук – моя добыча, которую ты утаил от Светлого Дома. – А второй сундук? Учти, чахор, камни в них никто не пересчитывал! – Вот это меня и останавливает, – со вздохом признался Альгейф, посматривая на столб с крюком. – Но все же я в большом сомнении… Может, ты, Тен-Урхи, что-то предложишь? – Когда голос богов неясен, нужно спросить их еще раз, – сказал Тревельян. – Если история Пагуша правдива, пусть пошлют знамение. – Согласен, пусть пошлют, – кивнул Альгейф и огляделся. – Ну, и где оно? Ничего не вижу и не слышу… Выходит, Пагуш, ты сидишь в божественной заднице по самые уши! На лбу манканского нобиля выступил пот, щеки побледнели. Тревельян решил его не мучить и вытащил из сумы свою лютню. – О знамении нужно просить, благородный Альгейф. Сделаем вот что: я сыграю мелодию и попрошу Таван-Геза явить свой божественный лик. Если так случится, ты заберешь сундуки, оправдаешь Пагуша и отпустишь его людей. – Согласен, – повторил Альгейф и сделал знак своей страже. – Поднимайте столб, бездельники! Не думаю, что Таван-Гез захочет взглянуть на манканскую крысу. Его камнями не подкупишь! – Что мы знаем о воле богов? – заметил Тревельян и, прикоснувшись к струнам, включил голопроектор. Огромный лик Таван-Геза, что появился в воздухе, был скопирован с тучегонителя Зевса, со статуи работы Фидия, но с небольшой корректировкой: бороду сменили бакенбарды, а лицо божества, величественное и прекрасное, было живым. Сейчас, подчиняясь мелодии, он усмехался, но мог принять другие выражения, от строгого до грозного. Мираж висел секунду и не более, но Пагуш в молитвенном экстазе повалился ниц, за ним рухнули воины Альгейфа, а сам военачальник застыл на табурете с разинутым ртом. Изображая потрясение, Тревельян тоже распростерся на земле, стараясь не повредить свою лютню. Голограмма исчезла. Альгейф захлопнул рот, отхлебнул вина, прокашлялся и сказал: – Воистину боги тебя возлюбили, рапсод, и снизошли к твоему заступничеству! Эй вы, бледные пацы, поднимитесь и унесите столб! Ты и ты! – Он ткнул пальцем в двух вестовых. – Отыщите Альрауна и передайте, чтобы не тратил на пленников цепи и веревки. Я отпущу тебя, Пагуш, тебя и твоих ушастых. Но не забудь про второй сундук! Военачальник поднялся с табурета, взошел на колесницу и погнал лошадей по дороге. За Альгейфом, опасливо оглядываясь на Тревельяна и очерчивая у сердца священный круг, двинулись телохранители, вестовые и барабанщики. Они с Пагушем остались одни. Слегка порозовевший манканец отер пот с висков. – Не знаю, как ты это сделал, рапсод, но я в твоих вечных должниках. Ты спас мои ребра, кишки и печень. Может быть, несколько рубинов… – Передай их обители нашего Братства в Ильве. А я… я буду доволен, если ты ответишь на один вопрос. Пагуш ухмыльнулся: – Только не спрашивай, правда ли то, что я рассказал. Пусть это останется между мной и богами. – Нет, я спрошу о другом. Был слух, что ты собрался куда-то переселяться… В самом деле так? – Так. Я уже почти переселился. Четыре декады назад собрал в Ильве рыбачьи посудины, взял своих воинов и переплыл в Гзор через залив. – По лицу Пагуша все еще бродила усмешка. – Переплыл, снес Боннару голову и занял Пазек, его город. Теперь я не только манканский нобиль, но еще и гзорский. Видишь ли, из Пазека вдвое ближе до рубиновых копей, чем из Ильва. Там я и обоснуюсь. – А ты не слышал, есть ли какие-то земли в океане, за Пятипалым морем и Архипелагом? Пагуш дернул себя за ухо. – Если есть, они мне не нужны. Зачем? Манкана была небогатым краем, а теперь, когда найдены камни, я заживу не хуже, чем любой из Восьмисот. Даже лучше! Если боги послали горшок с медом, не проси у них ложку, можно обойтись и пальцами. – Больше у меня нет вопросов, – сказал Тревельян, повернулся и зашагал к обозу, где солдаты уже разбивали лагерь. Вечером он пел в шатре Альгейфа, не слишком напрягая свой поэтический дар при описании битвы. Половина спетого была бессовестно похищена из «Илиады», а другая – из «Песни о Роланде», но чахор и его офицеры пришли в полный восторг, напились до полного изумления и напоили Тревельяна. Он, однако, имел перед ними преимущество в виде медицинского импланта и, когда собутыльники угомонились и захрапели, вышел из палатки и, чуть пошатываясь, но твердо выдерживая курс, направился к костру, где его поджидали Тинитаур с рыжим Тикой. Над ним закружила смутная тень, посылавшая ментальный импульс приязни и нежности, потом Грей опустился к Тревельяну на плечо, обхватил пушистым хвостом за шею и пискнул в знак привета. Фокусник, помешивавший аппетитное варево, встретил их радостным возгласом. Он, похоже, уже позабыл о размолвке из-за сундука с рубинами или понял, что, уведи они этот сундук, сейчас за ними гнались бы все боевые колесницы Альгейфа. Заметив, что Тревельяна покачивает, как судно при легком волнении, Тинитаур сыпанул в котелок горсть ароматных трав и снял его с огня. – О, эти славные воины! Пьют крепко, пьют много, но плохо закусывают… Поешь горячего, мой благородный господин. От горячего винные пары выходят через уши, и, хотя твои не так велики, как мои, эта похлебка дарует тебе облегчение. И сладкий, сладкий сон… Благодарно улыбнувшись, Тревельян взял ложку и подсел к котелку – имплант, очищавший его организм, расходовал энергию, а это вызывало аппетит. Он ел и размышлял, не вернуться ли в Помо, а оттуда, по землям Пибала и Нанди, отправиться к разлому в Кольцевом хребте, чтобы попасть в Провинцию Восхода, самый восточный имперский край. Или все-таки дойти до Ильва? Как-никак приморский город, не меньше Бенгода, и он в ладах с его правителем… вдруг что-то удастся узнать… можно и в Пазек заглянуть, другое владение Пагуша, чьи ребра, кишки и печень он спас… «Решено, – подумал Тревельян, – отправлюсь в Ильв!» От вина и сытной еды его клонило в сон. Он лег на спину, вытянул ноги, полюбовался звездным пологом, что раскинулся вверху, подмигнул изумрудной Ближней звезде, отыскал бело-голубоватую искорку Дальней на фоне созвездия Шерр. Ночные небеса Осиера были прекрасны. Завтра вечером снова свидимся, мелькнула мысль. Но он ошибался.
Глава 8 ПУТЬ НА ЮГ
Тревельян очнулся в тесной каморке, закованный в ручные и ножные кандалы. Он лежал на боку, поджав ноги, а руки вытянув перед собой, и кончики пальцев скользили по плохо оструганным доскам пола. Как это получилось, он сообразить не мог – в голове стоял туман, и посетившая ее мысль была короткой, из двух-трех слов. К тому же эти мысли плохо сцеплялись друг с другом, никак не желая выстроиться в связную гипотезу. Но все же Тревельян отметил ряд любопытных моментов: во-первых, пол под ним покачивался, во-вторых, сквозь щели в потолке в его закуток тянулись лучики света, а в-третьих, цепи на нем были явно из альгейфовых запасов. Последнее их этих наблюдений наконец-то разродилось гипотезой. Возможно, Альгейф велел его арестовать? Проспался и переменил решение: Пагуша все-таки на крюк, его людей – в пибальские каменоломни, а рапсода, что за них заступился, – наверняка мошенника! – в железо! Чтобы, значит, не показывал сомнительных фокусов с божьей головой… Очень логичная гипотеза, но разрушал ее единственный, однако веский факт: Альгейф со всем своим штабом никак не мог проснуться раньше Тревельяна. Все же медицинских имплантов у них не было. А его имплант исправно трудился, рассеивая окутавший сознание туман. Он слышал какие-то возгласы наверху, скрипы и топот, а за стеной – вроде бы плеск и негромкое шуршание. Все это не походило на звуки фургона, который катится по тракту; не было ни грохота копыт, ни щелканья бича, да и покачивало не так, как в экипаже. Его закуток тоже не походил на тележный кузов – тут были изогнутые брусья, к которым снаружи крепилась обшивка, и не полотняный тент, а деревянный потолок. Странно! Где он очутился? Преодолевая слабость, Тревельян перевернулся на спину, подтянул ноги и сел. Расстояние между его головой и потолком было не больше ладони. Во весь рост не встанешь… Топот босых ног наверху сделался громче, и сквозь него пробивались голоса. Но о чем толкуют, Тревельян еще не понимал. «…сукин ты сын, лох недоделанный, корабельная крыса, очнись! – взорвалось в голове внезапным фейерверком. – Слабак, сопляк, поганец! Немочь трахнутая! Чтоб тебе в реакторе сгореть! Чтоб тебя живьем в гальюн спустили! Очнись, недоумок! Кто меня проклял этаким хилым потомством, Будда или Аллах? Потрох вшивый, приди в себя! Ты…» «Да слышу я, дед, слышу, – отозвался Тревельян. – Где это мы? И что с нами?» «Ну, наконец-то! – Тон Советника разом переменился. – Подсыпали тебе чего-то в супчик. У меня нет связи с твоим мед-имплантом, но травка крепкая. Думаю, местный наркотик… Семь часов имплант тебя чистит». «И что случилось за это время?» – спросил Тревельян, преодолевая вялость мыслей. «Пришел какой-то хмырь, и вместе с нашим жуликом сунули они тебя в мешок. Потащили… Судя по звукам, подальше от лагеря, через лес, к дороге. Там ждала телега. Бросили тебя на дно, сверху эта вонючая тварь уселась, пац блохастый, свистнули на лошадок и погнали. Ехали долго, часа четыре, и я полагаю, что к реке. Есть тут большая река, мальчуган?» «Рориат, верхнее течение. Та речка, которой мы в Рори любовались». «Вот-вот! Заковали тебя, перетащили на корабль, и теперь ты куда-то плывешь. Говорил ведь тебе, скудоумному, остерегайся! Прохвост он, этот Тинитаур! Хорошо, если сам по себе, а вдруг из местной охранки? И везет тебя прямо в испанский сапог и на дыбу!» «Везти-то везет, но еще надо довезти», – буркнул Тревельян и огляделся пристальней. Конечно, он на корабле! Щели вверху сложились правильным квадратом – не иначе, люк, а изогнутые брусья – бимсы; за бортом плещет и шуршит вода, поскрипывают снасти, хлопает парус, гудят канаты, и что-то долдонят голоса. Один вроде бы знакомый… Тинитаур, прохвост! «А я что тебе говорил?» – зашипел змеей Советник, но Тревельян велел ему заткнуться. Разговоры на палубе шли интересные, и пропускать деталей не хотелось – благо слух восстановился полностью. – Не шарь в его мешке, Сайлава, – распоряжался Тинитаур, – пусть лежит, где лежит. Оставь в покое, сын ящерицы, тебе говорю! – Так звенит в мешке, – возражал второй, незнакомый голос. – Звенит! Монеты, серебро, должно быть… Как же не обшарить? У меня медяк меж пальцев не проскочит, а тут серебро! Кинжал, опять же, дорогой… – Оставь, болван! То не монеты звенят, а струны его лютни! Безволосые в лагере толковали, что колдовской инструмент… сыграл он на нем и Таван-Геза вызвал… А ты, моча змеиная, не ту струну заденешь, и явится не Таван-Гез, а нечисть из Великой Бездны! Да нам и Таван-Гез не нужен. Или желаешь до срока к Оправе отплыть? – Не, не желаю. Но ежели в мешке монеты… – Мой то мешок, и лапы к нему не тяни! Мой рапсод, и все, что при нем и на нем, тоже мое! Тебе, потомок тарля, заплачено? Заплачено! А за что? Чтобы ты нас на Юг доставил! А там Кривая Нога тебя вознаградит. Знай свое, паруса да канаты! Плыви и на мель не посади! – Мелей в Рориате спокон веку не бывало, – отозвался Сайлава. – Ну, а мешок ты лучше убери. Чтобы меня и моих парней соблазн не мучил. – Он звонко хлопнул о палубу. – Посмотрим, как он там? Может, очнулся, воды хочет или пожрать? – Не очнулся. От моих трав проспит до самого Заката, а то и всю ночь. Я ведь ему не корень пакса дал и не сушеные цветы вертали! – Тинитаур сухо рассмеялся и добавил: – Ты, Сайлава, зря не суетись. Медовую лепешку медом поливать не надо. Разговор прекратился. Отметив, что голос Тинитаура стал другим, более резким, уверенным и командным, Тревельян пошарил в сапоге и выяснил, что лазерный хлыст исчез. Не было, конечно, и кинжала на поясе, и самого пояса, ничего не было, кроме одежды и наушных украшений из серебра и бирюзы. Они, как и забота фокусника о мешке, намекали, что Тинитаур не собирается его грабить, а везет на Юг с какой-то непонятной целью. Вряд ли она имела отношение к его миссии, и вряд ли в диких джунглях что-то слышали о шарообразности мира или интересовались бумагой и перегонкой нефти в керосин. Иными словами, в джунгли Тревельяну совсем не хотелось, но сделать он ничего не мог: кандалы и цепи были прочными. Он подумывал о том, чтобы подать голос, спросить еды и питья, а заодно потолковать с Тинитауром, но решил, что это успеется. Фокусник думает, что он одурманен зельем, и пусть оно так и будет; не надо разглашать свое последнее преимущество. «Юг… – задумчиво молвил командор. – И далеко этот Юг?» «Сейчас прикинем». Тревельян вызвал в памяти карту. Огромная река начиналась в лесах Манканы со множества притоков, пересекала Этланд и Хай-Та и, обогнув Приморский хребет, устремлялась в саванну, а затем в джунгли, прокладывая путь к пресному морю Аса длиною в восемь с лишним тысяч километров. До границы джунглей – не менее пяти… Хоть и под парусом, и вниз по течению, а раньше двух декад не доберешься… С одной стороны, потерянное время, а с другой, отчего не взглянуть на безволосых в естественном виде? Вдруг эстап Гайтлера сработает там, где не ожидали? На Земле полинезийцы были способны к очень дальним плаваниям без всяких каравелл и галеонов, всего лишь на пирогах с балансиром… Была бы у варваров тяга к перемене мест, а как переплыть океан, уж он им подскажет! И поселятся они на западном материке, приручат диких лошадей, сядут в седла, выстроят дороги и города, изобретут бумагу и паровую машину, компас и подзорную трубу, и пойдет у них цивилизация семимильными шагами, на зависть Империи и сопредельным странам… Почему бы и нет! С этой мыслью Тревельян уснул, а когда проснулся, в щелях люка было темно, а на душе – тоскливо и страшно. Он скорчился на полу, стараясь разобраться в этих ощущениях, и через минуту-другую стало ясно, что они пришли извне. Где-то на палубе страдал и мучился верный Грей, посаженный, видимо, в клетку, лишенный хозяйской заботы и ласки. Тревельян сосредоточился и начал успокаивать зверька – не бойся, мол, я рядом и не дам тебя в обиду. Соприкоснувшись с его ментальной аурой, Грей воспрянул и послал в ответ самые счастливые эмоции, потом притих – кажется, занялся каким-то фруктом. Тревельян лежал в темноте, размышляя о том и о сем. Сначала о загадочной голограмме, взятой у Аладжа-Цора, затем о наставнике Аххи-Секе из Полуденной Провинции, рассылающем такие штучки злодеям-аристократам. Может, не только им? Просто у благородных дворян в средневековом мире больше шансов совершить непотребство. Очень было б любопытно поглядеть на список Аххи-Сека, что и кому он посылал… Вдруг самому императору, Светлому Дому? Не только царствующему ныне, но и предкам его, остерегая их от слишком крупномасштабных злодейств? Как ни крути, а, если не считать эпохи Разбитых Зеркал и грозного воителя Уршу-Чага, осиерская история катилась вперед много спокойнее земной. Не было здесь катастроф, соизмеримых с распадами Римской и Поднебесной империй, с нашествиями готов, гуннов и монголов, с гибелью древнейших цивилизаций, шумерской и египетской. Не было религиозного фанатизма и тысячелетней борьбы между христианским миром и исламом, не было Старца Горы и костров инквизиции, крестовых походов и столетних войн, что плавно переросли в мировые, сокрушительных набегов викингов и жутких кровавых богов, которым поклонялись финикийцы, майя и ацтеки. А главное, не было здесь геноцида, который практиковали испанцы и англосаксы, уничтожавшие индейцев, японцы, истреблявшие айнов, арабы, избавившие Египет от египтян, и представители белой расы, что охотились на чернокожих своих собратьев и торговали ими, как скотом. Что же касается прочих планет, где довелось побывать Тревельяну, тех миров, что населяли двуногие гуманоиды, еще не достигшие порога Киннисона, то там придерживались правила: если жестокость выгодна, она произойдет. А если невыгодна, произойдет тоже, ибо не выгодой единой жив и счастлив человек; надо ему и самолюбие потешить, и власть показать, и славу добыть, чтобы враги трепетали и гадили в штаны при звуке его боевых барабанов. По этим причинам в тех мирах все развивалось близко к земному сценарию. После таких глобальных тем мысль Тревельяна скользнула к более конкретному, к их разговорам с Тинитауром о далеком Юге, где среди дремучих джунглей текут огромные реки, Кмари, Рориат и множество других, где водятся странные звери и где живут безволосые дикари, у чьих вождей можно неплохо заработать. Не был ли Кривая Нога одним из них? И что за работу он мог предложить? Изображать жаркое по случаю большого торжества? Подумав об этом, он усмехнулся. Жаркое? Ну, это вряд ли! Народ джунглей, делившийся на сотни кланов и родов, был не слишком хорошо описан и изучен, но ни один эксперт по примитивным племенам не отмечал эпизодов каннибализма. Даже пацев дикари не ели и не охотились на них, считая их мясо нечистым, а шкуру – слишком грубой и вонючей. С другой стороны, рапсод – это вам не пац… Если он понадобился для каких-то ритуальных целей, кулинарию исключать нельзя. Скажем, решило племя разнообразить культурную жизнь, создать ансамбль песни и танца, а чтобы артисты лучше пели и плясали, им необходим рапсод-наставник. Обучит он их, а потом съедят дорогого учителя, чтобы каждый унаследовал искорку его таланта… Тревельян захихикал и тут же зажал рот, боясь, что услышат на палубе. Не раз его собирались съесть, то в виде жаркого, то без горячей обработки, но это кончалось для гурманов большим разочарованием. Плохо кончалось, говоря по совести, по чести. Взять хотя бы тот случай на Селле, в лесу растений-людоедов… Он припомнил тот случай, потом десяток других, наслаждаясь хранившимся в памяти, пока не начало светать. К этому времени он ощущал легкий голод, а также желание облегчиться. Медицинский имплант отчасти блокировал эти естественные позывы, но все же Тревельян провел без еды, питья и отхожего места больше суток. Решив, что действие снадобий уже закончилось, он приподнялся и стукнул в люк кулаком. – Эй, мерзавцы, прокляни вас Таван-Гез! Где я? Куда вы меня везете? И чего вам надо? Он колотил и орал до тех пор, пока крышка люка не откинулась, явив свет нарождавшейся зари и хитрую рожу Тинитаура. – Да будешь ты благополучен, о птица ках среди рапсодов! – молвил фокусник. – Ты на корабле, вместе со мной, твоим слугой, и плывем мы, драгоценный господин, на Юг по широкому Рориату. Но еще недостачно широкому, чтобы ты мог вылезти наверх. Тут, понимаешь, много плотов и других кораблей, и если вздумается тебе крикнуть, нас непременно обыщут. Так что потерпи до безлюдных мест, а пока что вот тебе кувшин с водой, вот еда и вот большой горшок, который ты можешь использовать по своему усмотрению. Тревельян принял все эти предметы, потом сказал: – Ты осужден мной, Тинитаур. Но знаешь, что может смягчить твою участь? – Я слушаю, мой золотой повелитель, слушаю внимательно. – Будь добр к моему зверьку, иначе я скормлю тебя крокодилам. По лицу фокусника расплылась издевательская ухмылка. – Вот как? А кто такие кор… кор-ки-ди… словом, те чудища, которым ты отдашь меня, ничтожного? – Не обижай зверька, иначе познакомишься с ними поближе, – сказал Тревельян и отвернулся.* * *
Его выпустили на палубу через восемь дней, когда корабль, следуя по течению Рориата, миновал Этланд, Хай-Та и Приморский хребет, вторгавшийся невысокими лесистыми отрогами в южную степь. Река здесь достигала двухкилометровой ширины, но текла довольно быстро, еще не растеряв инерции падения с равнин за хребтом, лежавших выше степного региона. Речные воды и степь были тут безлюдными; люди восточной расы не ездили на юг, а безволосые варвары пробирались на север в центре континента, бассейнами рек Фейн и Кмари, ведущими к Южному валу. Но безлюдье отнюдь не означало пустоты, ибо животные, рыбы и птицы водились здесь в неисчислимом изобилии. Рыб и сухопутных тварей было трудно разглядеть, но Тревельян увидел забавных созданий, похожих на маленьких юрких дельфинов, на выдр, бобров или котиков, на змей с плавниками и острыми колючками вдоль хребта. В воздухе, то высоко, то над самой водой, вились пернатые сотни пород, а на волнах качались птицы поразительной величины, втрое массивнее страуса, с длинной гибкой шеей и клювом, не уступавшим крокодильей пасти. Что до крокодилов, обещанных Тинитауру, то в южных реках, в зоне джунглей, они тоже водились, но называли их дикари по-разному. Суть же была одинаковой: зубы в три ряда и невероятная прожорливость. Птиц и зверей Тревельян разглядывал недолго, сосредоточив внимание на корабле. Суденышко было небольшим, метров двенадцати в длину, но с палубным настилом, кормовой надстройкой, высокой мачтой и косыми парусами, которые сейчас раздувал гулявший над саванной свежий ветер. Быстроходная посудина, решил Тревельян, прикинув, что, с учетом скорости течения, они делают километров двадцать в час, а то и больше. Шкипер Сайлава оказался дюжим северянином с рябой рожей и короткими бачками, а в команде у него были двое парней, люди восточной расы, по виду такие же разбойники, как встреченный в Бенгоде Куссах. Будь у него закованы только руки, Тревельян схватился бы с этой троицей и отправил бы их вместе с фокусником за борт. Однако ножные кандалы были тяжелыми, цепь между ними слишком короткой, и это ограничивало подвижность. К тому же Тревельяна мучило любопытство. Почти смирившись с этой южной эскападой, он сел у мачты, рядом с клеткой Грея, и просунул пальцы сквозь решетку. Шерр приник к ним своей кошачьей мордочкой и радостно пискнул. – Ты похитил рапсода, – сказал Тревельян расположившемуся рядом Тинитауру. – Большой грех, опасное деяние, клянусь благоволением богов! Не боишься, фокусник? – Боюсь, о мой господин с грозным взглядом, но меня вдохновляет мысль о шестистах золотых. Столько мне обещано, если я доставлю в племя Кривой Ноги настоящего рапсода. Большие деньги для такого бедняка, как я! – Возможно, ты с ними расстанешься на обратной дороге. Лица твоих компаньонов не внушают мне доверия. – Мне тоже, но у меня есть хороший страж. – Тинитаур показал взглядом на Тику, сидевшего на крыше надстройки и скалившего клыки. – Ты не поверишь, на что способна эта тварь! Перегрызет горло быстрей, чем я припомню свое имя. – Ну, дело твое. – Тревельян прищурился на солнце, стоявшее в зените, и зевнул. – Скажи-ка, фокусник, зачем Кривой Ноге рапсод? Да еще за шестьсот золотых? – Шестьсот мне, а тебя он одарит еще щедрее, – пообещал Тинитаур. – Видишь ли, мой сладкозвучный господин, Кривая Нога – великий вождь, и правит он семью деревнями и лесом на целый день пути от речного берега. Все у него есть в избытке, тысяча воинов, женщины для дня и ночи, ожерелье из костей врагов, горшки с монетой и даже вино, которое я временами вожу ему с севера. Но от мужей, что служили Светлому Дому и возвратились на юг, он узнал про главное сокровище, про славу. И сказали ему те бывшие солдаты, что победа в битве или поединке – четверть славы, а три четверти – песня, которую сложит об этом рапсод, дабы великое свершение не растворилось без следа, а помнилось долгие годы. И потому… – Хватит, – сказал Тревельян, – это я понял. А не понял того, к чему выкрадывать рапсода и везти его на юг в оковах. Не проще ли нанять? Тинитаур вздохнул. – Странные люди в твоем Братстве, мой сиятельный господин. Не соблазняет их ни серебро, ни золото, и потому пришлось мне выслеживать рапсода, точно птицу ках, и даже идти с ним в Манкану, чтобы проверить, в ярком ли он оперении или так, птенец хриплоголосый… Что поделаешь! Не желают даровитые рапсоды воспевать склоки и драки между племенами дикарей ни за какую цену. Да и ты сам такой же! Если бы мы столковались у того сундука с рубинами… – Фокусник хмыкнул и почесал свой длинный нос. – Однако не столковались! И теперь, как сказано тобой, ты плывешь на юг в оковах, и я продам тебя как пленника. Из лесов, где живут дикари, непривычному человеку не выбраться, и вряд ли ты снова увидишь Семь Провинций и другие северные земли. Но не горюй! У Кривой Ноги тебе будет хорошо. – А я и не горюю. – Да? – Фокусник подозрительно уставился на Тревельяна. – Можно узнать, почему? – Потому, что ты ошибся на мой счет. Я человек привычный. Через четыре-пять дней местность начала меняться, в саванне поднялись пологие, заросшие лесом холмы, среди которых, то слева, то справа, струились притоки Рориата. Затем холмы исчезли, но деревья придвинулись ближе к речным берегам, перебрались на острова, которых попадалось все больше и больше, и, наконец, затопили окрестность до самого горизонта зеленым непроницаемым пологом. Течение стало медленнее, воды потеряли прежнюю чистоту и прозрачность и начали припахивать гнилью, висевшее в знойном безоблачном небе солнце жгло, как раскаленная печь. Тревельян, намучившись в своем душном закутке и в железных оковах, практиковал медитацию, отключаясь на долгие часы. В принципе, с помощью импланта он мог вообще уснуть на несколько дней, но это бы выглядело странным. И опасным! Вдруг Тинитаур решит, что рапсод покончил с собой каким-то хитрым способом, и, посокрушавшись об утраченной награде, выбросит его за борт? В реке уже появились местные крокодилы, да и других зубастых тварей было полно. Шкипер Сайлава вел свое суденышко в стрежне сильного течения и подальше от берегов, где, кроме неприятных чудищ, плыли подмытые и рухнувшие в воду деревья, а на дне таились коряги и топляки. Сайлава, очевидно, бывал тут не в первый раз и знал эту реку и ее опасности слишком хорошо, а потому не приближался к суше. Слушая в перерывах между трансом его болтовню и реплики матросов, Тревельян узнал, что безволосые варвары не строят хижин вблизи большой воды и с неохотой плавают по Рориату, перебираясь с берега на берег лишь в исключительных случаях. Их поселения располагались у притоков, где вода была чище, где в изобилии водилась рыба и где на песчаных отмелях каждый год откладывали яйца стаи гигантских черепах. Нижнее течение и дельта реки, впадавшей в южное пресное море Аса, были вообще необитаемы – там начиналась область болот и трясин, наполнявших воздух зловонными миазмами. Насколько помнилось Тревельяну, из Империи туда никто не добирался, а экспедиции с Базы осматривали дельту с воздуха, со скиммеров, приземляясь западнее, на прочную почву плато Асайя. Соразмеряя скорость судна с течением реки, он думал, что обратная дорога к цивилизации, в Хай-Та, а тем более в Этланд, займет пять или шесть декад – может быть, и больше. Но из джунглей по Рориату возвращались редко, лишь торговцы вроде Сайлавы и Тинитаура, снабжавшие безволосых дикарей вином, рапсодами и другими предметами роскоши. Более удобный путь в Империю проходил западнее, где на север, к морю Треш, текли другие огромные реки – Фейн, в тысяче километров от Рориата, а за ним, еще дальше на запад, Кмари, бассейн которой, считая с притоками, занимал пятую часть континента. Те безволосые, что собирались служить Светлому Дому, плыли именно этой дорогой. Наконец в один из дней кораблик повернул к правому берегу и вошел в приток, медленно струивший прозрачные воды меж исполинских стволов, зарослей травы в рост человека и песчаных пляжей, где виднелись темные каменные глыбы и ползали почти неотличимые от них черепахи в таких же темных ребристых панцирях. Приток сам по себе был рекой немалой, но ее ширина скрадывалась отмелями и островами, скалами, что выступали из лесной чащи, и множеством рукавов, ответвлявшихся от основного русла. Один из них изгибался широким серпом, и на самой его середине, под кронами могучих пальмовых дубов, стояла деревня. С палубы Тревельян ее не разглядел – хижины заслоняла зелень, и к тому же в этот момент матрос Сайлавы начал сбивать с него ножную цепь. Вероятно, за их корабликом давно наблюдали с берега – у пристани из неохватных бревен, где покачивались лодки, поджидал отряд воинов, но никакой толпы любопытных, ни ребятишек, ни женщин, тут не замечалось. Воины, мускулистые крепыши лет под сорок в ремнях и набедренных повязках, имели при себе кинжалы и копья имперского образца и, судя по выправке, отслужили свое Светлому Дому. Было их не меньше трех десятков, и, пока матрос снимал с Тревельяна наручники, одни подтянули суденышко к причалу, другие выстроились цепочкой от воды до ближнего сарая. Распоряжался здесь дородный и высокий муж в шлеме, с мечом на перевязи и с ухватками бывалого сержанта. Он первым ступил на палубу, оглядел команду и, не здороваясь, буркнул на языке Семи Провинций: – Привез? – Привез, как не привезти, – подтвердил Тинитаур, выскочив вперед и кивая на Тревельяна. – Вот он! Вот самый звонкоголосый рапсод в восточных землях, и зовут его Тен-Урхи. Клянусь, он стоит каждой монеты, обещанной мне великим вождем! Ты ведь знаешь, Волосатый, что Тинитаур до Оправы Мира доберется, но разыщет для великого вождя лучшее из лучших! Лучшее вино, лучшие ткани, лучших женщин и лучшего рапсода! Ибо поистине этот Тен-Урхи… – Хватит болтать, – оборвал его Волосатый и, сняв шлем, продемонстрировал поросший редкой белесой шерстью череп. Шерсти было не очень много, но все же среди безволосых он мог по праву носить свое прозвище. – Разгружайте! А этого, – варвар кивнул на Тревельяна, – к Хозяину! Шкипер сдвинул крышку люка, и воины стали передавать по цепочке запечатанные кувшины с вином и тюки – видимо, с тканью и другим товаром. Тревельян, с удовольствием разминая ноги, спрыгнул на пристань и остановился. – Пошел! – Его чувствительно толкнули в спину. – Не сделаю ни шага, пока не вернут мое имущество. Мою лютню, мой мешок, моего зверька! – Отдай ему все, что он хочет, – велел Тинитауру Волосатый. – Все! Знаю я вас, крысюков… У всякого пальцы зудят на чужое…Сайлава выпустил из клетки Грея, и тот с радостным верещанием метнулся к Тревельяну. Фокусник принес его суму. Кажется, ничего не исчезло – лютня и кошель на месте, а вместе с ними – кинжал, цилиндрик лазерного хлыста и завернутая в плащ голограмма. На самом дне – фляжка, огниво с трутом и мятый, так и не просмотренный пергамент, дар Даббаса. Его повели с причала восемь воинов. Фокусник семенил позади, многословно втолковывая Волосатому, какую редкостную дичь он изловил; Тревельян, прислушиваясь к его словам, мстительно усмехался. От реки в лес вела утоптанная дорожка, и вдоль нее стояли хижины – сооружения с плетеными стенами, крытые древесной корой. Тут и там горели костры, хлопотали у горшков и котлов скуластые бледнокожие женщины, сушились растянутые на решетках шкуры, носились ребятишки, а компания подростков метала дротики в большой деревянный щит. Появление Тревельяна интереса у них не вызвало. Эти дикари были совсем не любопытны и не похожи на земных полинезийцев или папуасов. В конце улицы, за широкой площадкой, находился дворец вождя, десятка три строений попросторнее, чьи кровли из коры и листьев были подперты неошкуренными столбами. Это место окружала изгородь, скорее символическая, чем реальная преграда – шесты с черепами и оружием врагов, вбитые в землю и переплетенные лианами. Два шеста повыше обозначали вход. На них тоже скалились черепа, но звериные, с внушительными клыками. Тревельяна, его мешок и его зверюшку поставили перед лицом грозного вождя, сидевшего в кольце хижин на огромном пне, покрытом пятнистой шкурой даута. Справа и слева от него стояли воины, за спиной устроились жены, числом не меньше сорока, и среди них Тревельян с удивлением заметил нескольких женщин восточной расы. Наверняка Тинитаур снабжал вождя не только вином и рапсодами. Сам Кривая Нога был не стар и не молод – видимо, пятый десяток еще не разменял. Его черты хранили привычное выражение надменности, и всякий, кто видел его, понимал, что этот человек хитер, опасен и жесток. От своих крепышей-соплеменников он отличался худощавым сложением, но его руки и запястья, перевитые жилами, и большие, с толстыми пальцами ладони намекали, что он боец не из последних и пополняет самолично свою коллекцию черепов. Он был одет в роскошный плащ из ярких перьев птицы ках и короткие широкие штаны, какие в Хай-Та и Этланде носили повсеместно. Оттуда их, надо думать, и привезли, вместе с кожаными сандалиями, в которых едва умещались огромные ступни вождя. «Не нравится мне это мурло», – сказал командор. «Мне тоже», – отозвался Тревельян. Волосатый, ухватив его без лишних церемоний за шею, притормозил в нескольких шагах от Кривой Ноги и, почтительно сняв шлем, отрапортовал: – Рапсод, великий вождь. Тот, которого тебе обещал торговец с верховьев реки. Сам он тоже здесь. Слюной исходит, так ему хочется дорваться до твоего золота. Это было сказано на диалекте варваров, заложенном в память Тревельяна вместе с прочей осиерской лингвистикой. Знал ли его Тинитаур, оставалось неясным, но он живо выскочил вперед и затараторил, мешая слова восточного наречия и языка Семи Провинций: – Я привез тебе не просто рапсода, о великий вождь, а певца, что так же затмевает прочих, как в сиянии Ближней звезды гаснут другие звезды. Голос его силен и звонок, а лютня из розового дерева звучит так сладко, что радует сердца богов. И он умеет складывать такие песни, которые восславят твою мощь и внушат твоим врагам зависть, страх и ужас перед твоей силой. Он будет петь о твоей силе, твоей храбрости и твоей щедрости – ведь ты, конечно, не забыл о нашем уговоре и приготовил золото, обещанное мне. Но сперва услышь, как он поет, и ты, клянусь тремя богами, увеличишь плату, ибо это рапсод из рапсодов, который… «Ну, козел! Ну, трепло болтливое! – прокомментировал Советник. – Что будешь делать, парень? Споешь этой образине в перьях?» «Конечно, спою, – отозвался Тревельян. – Чтобы услышали, как звонок мой голос и как моя лютня радует сердца богов. Вот прямо сейчас и начнем». Похоже, великий вождь был того же мнения. Он поднялся, обошел, прихрамывая, вокруг Тревельяна (его левая нога была повреждена – колено торчало вбок), осмотрел товар и пробурчал на языке Семи Провинций; – Выглядит неплохо. Крепкий, высокий, волосатый… Может, я и подброшу тебе золота, торговец, если его голос сладок, а песни такие же длинные, как шерсть на щеках. – Он больно ткнул Тревельяна пальцем в живот, уселся на свой пень и приказал: – Пой! Пой, ублюдок, а мы послушаем – я, мои воины и мои жены. Тревельян вытащил лютню, а вместе с нею – лазерный хлыст, который сунул за пояс. Мало ли что! Вдруг его пение не понравится вождю и тот решит украсить новым экспонатом свое собрание черепов! Предосторожность не бывает лишней… Он подмигнул Тинитауру и тронул струны лютни. Она откликнулась тем звуком, какой издает пила, наткнувшись на железный гвоздь. Вождь нахмурился, воины зашептались, а женщины заткнули уши. Тинитаур слегка побледнел. – Инструмент нуждается в настройке, – пояснил Тревельян. – Да и руки у меня того… подрагивают… Меня везли много дней в тесной каюте и в цепях, так что я даже не мог помочиться как следует. О еде и питье лучше уж не вспоминать… – Он извлек из лютни долгий пронзительный стон. – Вода, сырое зерно, заплесневелые лепешки… Это рапсоду, который пьет лучшие вина и заедает медом и птичьими яйцами! Да и тут мне ничего не поднесли… Боюсь, сегодня я не в голосе. Тревельян попытался взять высокую ноту и пустил петуха. До фокусника, кажется, дошло, что искусство не терпит насилия и несвободы и мстит своим пленителям. Бледность на его щеках усугубилась, переходя к зеленым тонам. Кривая Нога грозно нахмурился. – Э-э… – начал Тинитаур, но Тревельян перебил его, откашлявшись и снова дернув струны лютни. – Хоть мое горло не увлажнили здесь мед и вино, я все-таки спою великому вождю, – заявил он. – Спою балладу о богаче Хайхате Кривоногом и его сорока женах. Этот Хайхат, по правде говоря, был не только кривоног, а еще и бессилен, так что его женам приходилось туго. И вот он нанял одного пройдоху, торговца всякими снадобьями, который обещал… Впрочем, не буду пересказывать, а лучше потешу вас своим пением и сладкими звуками лютни. Набрав воздуха в грудь, он огласил окрестность визгливым воплем и под звуки лютни, не очень мелодичные, но громкие, принялся описывать внешность Хайхата. Странное дело, этот Хайхат был так похож на Кривую Ногу, словно они оказались братьями-близнецами. Тинитаур окончательно позеленел и начал потихоньку пятиться, пока не наткнулся на меч в лапе Волосатого. Жены вождя захихикали, воины раскрыли рты, а вождь вскочил, вытянул к певцу руку с огромным, угрожающе сжатым кулаком и заревел: – Еще слово, и ты станешь трупом, вонючий пац! – Тревельян покорно умолк, и Кривая Нога медленно повернулся к фокуснику. На лице вождя уже не было следов гнева; обладая властью, он умел справляться со своими чувствами, и это делало его особенно опасным. Долгую минуту он рассматривал Тинитаура, словно навозную муху, угодившую в суп, затем ровным голосом сказал: – Прогнать три раза древками копий вокруг деревни. Если останется жив, отрезать язык, которым лгал мне, и бросить обманщика в его лодку. Пусть убирается! За вино и другие товары не платить. Фокусник захлебнулся криком, когда его потащили со двора, потом крик ужаса перешел в вопли боли. Вождь внимал им, довольно покачивая головой, поглаживая перья своей накидки и скаля зубы, когда особо громкий вопль заглушал стукударов. Тревельян слушал тоже, размышляя о неизбежном возмездии, которое ждет работорговца на том или на этом свете. Совесть его была спокойна. – Хорошо поет! – сказал Кривая Нога после очередной серенады визгов, стонов и хрипов. – Ну, теперь твоя очередь, рапсод. – Он склонил голову к плечу и прищурился, прожигая Тревельяна взглядом. – Или вовсе не рапсод, а сообщник той длинноносой крысы? Сговорились меня обмануть, так? Что же торговец не выбрал кого-то поумнее, чем ты, волосатая морда? Тревельян расправил плечи и поднял повыше свою лютню. – Не сомневайся, вождь, я настоящий рапсод, похищенный в далекой стране и привезенный сюда против воли. Рапсоды такого не любят… А еще им не нравится, когда продают их самих и их песни, даже по самой высокой цене. – Он коснулся струн, и лютня грозно зарокотала, аккомпанируя далеким крикам фокусника. – Помни, вождь: всякого, кто продает людей, постигнет наказание. Помни и о том, что, осудив Тинитаура, ты был лишь моей карающей рукой. «Круто ты с ним, – заметил командор. – Теперь не подружитесь». «Не подружимся, это точно», – согласился Тревельян. По знаку Кривой Ноги воины окружили его и начали сжимать кольцо. – Может, ты и вправду рапсод, – молвил вождь, – но проверять, так ли это, я не стану. И знаешь, почему? Потому, что важно не как ты поешь и играешь, а важно, о чем. Сейчас тебя забьют палками за дерзость, а труп бросят в реку, на поживу рыбам. Ты не тот рапсод, который мне нужен. – И ты не тот вождь, который нужен мне, – отозвался Тревельян. – Я сказал: всякого, кто продает людей, постигнет наказание… Но тех, кто покупает, постигнет тоже. Прозвенел аккорд, и страшное чудище, огромный тиранозавр рекс, воздвиглось над двором, хижинами и оградой с черепами. Под прикрытием этой жуткой голограммы, под звуки панических криков и топот разбегавшихся, Тревельян шагнул к великому вождю. В его руке подрагивал лазерный хлыст.
Глава 9 ВОЗВРАЩЕНИЕ
Спустя семь декад – или два с лишним месяца по земному счету – к воротам укрепления в Южном валу подошел странник. Был он запылен и оборван; остатки голубого выцветшего пончо едва прикрывали плечи, неухоженные бакенбарды падали на грудь, штаны висели клочьями, некогда щегольские башмаки с медными заклепками доживали последние дни. На плече странника сидел маленький шерр с серым мехом, у пояса болтался кинжал в потертых ножнах, а весь багаж составляла сума, такая же пыльная, как ее хозяин. Но, невзирая на эти признаки неблагополучия и даже, быть может, полного бедствия, странник шел по тропе бодрым шагом и насвистывал мелодию марша. Небольшая крепость с четырьмя квадратными башнями стояла на берегу полноводного Фейна, у моста, переброшенного через реку еще в глубокой древности. Южнее лежала степь с редкими усадьбами поселенцев, бывших наемных солдат, на запад тянулась громада Южного вала, который продолжался за рекой, поворачивая там к северо-востоку, а за валом и крепостью начинался Фейнланд, самая просторная, богатая и знаменитая из трех южных имперских провинций. Сюда можно было приплыть по течению Фейна, причалить у каменной пристани и подняться наверх, во внутренний дворик цитадели. Можно было прийти пешком, по тропе, протоптанной среди степных трав, накатанной колесами повозок поселенцев, но и в этом случае путник попадал во двор, к столу, за которым сидели два имперских военных чиновника. Один записывал прозвище пришедшего, не забывая расспросить, какого он рода-племени и где примерно его деревня; другой отсыпал в кошель серебряки и вручал задаток новобранцу. Затем пришедшего с юга отправляли в казарму, где грозные туаны выбивали из него дурь, обучая целых два сезона колоть и рубить, маршировать и наступать в строю, метать копья и дротики, а также выказывать почтение к вышестоящим воинским чинам. После этого он считался солдатом и попадал в имперский гарнизон, на пост дорожной охраны или в армейский лагерь. Такая судьба ожидала пришельцев, ибо все они были безволосыми и попадали в Империю в качестве наемников. Но странник с шерром на плече принадлежал к народу Семи Провинций, что подтверждалось цветом его кожи, густыми волосами, длинными бакенбардами и пигментными отметинами под глазами. Чтобы такой человек появился с Юга!.. Это относилось к разряду чудес, и потому поглядеть на него сбежались и простые воины, и комендант гарнизона, и два чиновника-вербовщика. – Разделяю твое дыхание, – сказал комендант, пожилой туан из благородного, но небогатого семейства. – Откуда идешь, путник? Кто ты таков, как твое имя и из какого ты сословия? Все эти вопросы полагалось выяснить согласно уставу пограничной службы, но устав уставом, а интерес интересом. И потому туан, солдаты и чиновники нетерпеливо ждали ответа и пялили на пришельца и его зверюшку любопытные глаза. Странник приосанился и положил ладонь на рукоять кинжала. – Разделяю твое дыхание, отважный воин. Имя мое Тен-Урхи. Я рапсод, певец из Братства Рапсодов, и до недавнего времени бродил по дорогам востока, по Этланду, Хай-Та и Манкане. – Это очень далеко от нас, – молвил один из чиновников, недоверчиво поглаживая бакенбарды, заплетенные цветными лентами. – И если ты в самом деле рапсод, бродивший по дорогам востока, то здесь ты появился не с той стороны. – Не с той, – согласился пришелец. – Я был в Манкане вместе с воинством чахора Альгейфа, замирившего мятежников, и там один негодяй опоил меня сонным зельем, заковал в цепи, отвез к берегам Рориата и бросил в трюм корабля. И тот корабль плыл по реке до самых южных лесов, ибо мой пленитель собирался привезти рапсода вождю варварского племени, за что ему были обещаны хорошие деньги. Так я попал к дикарям, но вскоре убежал от них, добрался до Фейна, построил плот и отправился в плавание на север, в родные края. Плот мой был неуклюж, его разбило на порогах, и с тех пор я иду пешком. И, наконец, пришел! Тут странник упал на колени, согнулся и поцеловал одну из плит, коими был облицован внутренний дворик. При виде этого даже суровый служака-туан пустил слезу. Потом утер глаза и произнес: – Дивную историю ты поведал нам, клянусь Тремя Богами! Но скажи, Тен-Урхи, зачем рапсод тому вождю из безволосых? Обычно им нужны вино и ткани, железные изделия, одежда и всякие побрякушки вроде ожерелий из стекла. Рапсодов мы им еще не поставляли! – Мир меняется, почтенный воин, меняется, хотим мы того или нет, – сказал странник, поднимаясь на ноги. – Эти безволосые в южном лесу уже не совсем дикари – ведь те, что вернулись, говорят им о величии и славе Светлого Дома и о том, что ценится в наших краях. Стоит ли удивляться, что их вожди тоже пожелали величия и славы? А слава – дым над костром, в котором пылают слова рапсодов. – Воистину так! – в один голос воскликнули чиновники, и тот, который записывал имена пришедших в крепость дикарей, сказал: – Останься у нас, Тен-Урхи, на несколько дней и расскажи во всех подробностях свою историю. Мы запишем ее на лучшем пергаменте! Пришелец усмехнулся и молвил что-то непонятное о своих авторских правах. Потом добавил: – Вспомни, достойный, что я рапсод, и потому все уже записано, уложено и хранится здесь. – Он коснулся лба. – Если мне принесут напиться – но только не воды! – я спою вам песню, поведаю сказание, и вы услышите первыми балладу о похищении Тен-Урхи и бегстве его из южных лесов. Комендант велел подать лучшего вина. Странник промочил горло, достал из мешка лютню, тронул струны и запел. Пел он от времени Полдня до времени Заката, и были те песни чудесными.* * *
Тиранозавр-мираж распугал всех воинов и жен Кривой Ноги, а заодно и жителей селения. Надолго они запомнят колдуна-рапсода, с которым так не повезло великому вождю! Оставив его труп у пня, Тревельян спустился по безлюдной улице к причалам, где тоже не было ни единой души, и стал соображать: то ли, захватив кораблик Сайлавы, двинуться вверх по реке в Хай-Та, то ли отправиться на запад к Фейну и плыть потом в южные провинции Империи. Наконец он решил, что с парусным судном одному не справиться, а вылавливать в джунглях Сайлаву и его матросов – дело долгое. К тому же приток Рориата, куда его завезли, тянулся к западу, а в воде у причала были пять или шесть десятков узких легких лодок, похожих на каноэ. Выбрав одну из них, Тревельян посадил Грея на корму и взялся за весла. По этой речке он путешествовал на запад четыре дня, оказавшись во владениях соседнего клана. Тут прикидываться динозавром не пришлось – вождь Танцующий На Отмелях, узнав о гибели Кривой Ноги и проверив эту радостную весть, принял гостя с почетом, выставил редкое угощение, маринованных улиток, а послушав Тревельяновы песни, одарил его ночной женой из своего гарема. Разделение на женщин Дня и Ночи было принято во многих племенах; дневные супруги, уже неспособные к деторождению, вели хозяйство, ночные предназначались исключительно для постельных забав. Тревельян отклонил щедрую награду, попросив вместо ночной жены метательные дротики, топор, катамаран с сильными гребцами и толкового проводника. С их помощью он продвинулся к западу на сотню с лишним километров; кроме того Танцующий снабдил его рекомендательным письмом к вождю Пьяные Глаза. Письмо хранилось в особой корзинке и состояло из трех палочек, которые надо было вручать адресату в определенном порядке. К первой прицепили серое перо стервятника, клочок шерсти паца и вылепленную из глины, чуть искривленную ногу; эта символика значила, что неприятного соседа уже клюют, жуют и поедают. Ко второй палочке прядью Тревельяновых волос был привязан стальной наконечник стрелы – в знак того, что Кривая Нога погиб не случайно, а убит волосатым северянином. Третья палочка, тоже с волосами Тревельяна, была облита медом, дабы никто не сомневался, что хоть он слишком волосат, но человек хороший, достойный доверия и помощи. Пьяные Глаза все понял верно и явил не меньшее гостеприимство, чем Танцующий. К несчастью, имелись у него два недостатка: во-первых, он оправдывал свое прозвание, а во-вторых, с западными соседями жил немирно, так что рекомендация с медом и волосами могла сыграть совсем в другую сторону. Накачивая Тревельяна местной брагой из пережеванной мякоти лиан, он уговаривал гостя взять копье, встать во главе его бесстрашных воинов и показать соседям, где зимуют раки и куда Макар телят не гонял. В местном варианте эти эвфемизмы звучали, конечно, по-другому – наладить Таван-Гезу в задницу, что, впрочем, сути дела не меняло. Но командор, несмотря на привычку к кровопролитию, в дрязги вождей лезть не советовал, и Тревельян был с ним согласен. Покинув на границе племя Пьяных Глаз, он перебрался через водораздел в бассейн Фейна, к одному из его восточных притоков, и там, в какой-то деревушке, украл каноэ. Операция прошла не безупречно: хозяева решили, что похищение – демарш соседей-наглецов, и, сев в свои лодки, пустились в погоню. Каноэ Тревельяна было маленьким и легким, но соревноваться с многовесельной посудиной он никак не мог и, подпустив преследователей ближе, включил пугалку. На этот раз явился не динозавр, а Великий Кракен, тварь, приближенная к водной стихии, сорок метров толстенных щупальцев, гигантский клюв и глаза размером с ракетные дюзы. Тревельян, не оглядываясь, работал веслом, а сзади вопили и орали так, что закладывало уши. Потом раздался треск и новые вопли – лодки повернули к берегу, и одна из них наскочила на камни. Больше его не беспокоили на всем пути до Фейна. Опасность, впрочем, грозила не только со стороны людей – клык и коготь выпускали кровь с той же быстротой, как дротик и копье. Хотя осиерский тропический лес был не чета губительным джунглям Селлы, где хищная живая флора могла оплести ветвями и удушить слона, здесь тоже были свои неприятности. В реке – огромные плотоядные черепахи, а также крокодилы, поменьше земных, но более юркие и шустрые; в болотах – драконы нагу и другие рептилии, что достигали в южных краях гигантской величины; на суше – дауты, местные кошки размером с тигра, бронированные саламандры, змеи и рыжие пацы – эти мигрировали по лесу большими стаями, пожирая, точно саранча, мелких и крупных животных, яйца, птиц, плоды и все, до чего могли дотянуться. Но Тревельяна звери обходили стороной. Временами, посматривая на Грея, он вспоминал слова проводника, который вел рапсодов к крепости Аладжа-Цора: кому-то боги пошлют удачу… И еще: хороший спутник в странствиях, хороший сторож. Сторож и в самом деле отменный! Чем и как он отпугивал хищных чудовищ, Тревельян не разобрался – наверное, для этого был нужен прирожденный телепат, каких на Земле считали единицами, – но способ действовал безотказно. Грей дремал на его плече, а крокодилы спешили подальше от лодки, черепахи ползли на берег, в лесу же, едва он разводил огонь, наступала мертвая тишина. Шерр, очевидно, был ночным животным, так как покидал хозяина лишь в темноте, а днем поднимался в воздух лишь в редких случаях. Что он искал во время своих полетов? Вряд ли пропитание – Тревельян охотился успешно, рыбы и птицы им хватало, не говоря уж о плодах и черепашьих яйцах. Может быть, хотел размяться? Но как-то раз над костром плавно промелькнули две крылатые тени, и меньшая опустилась Тревельяну на плечо, а та, что побольше, пискнула и улетела в ночь. Значит, шерр нуждался в общении, в компании сородичей? Возможно, не мог без них жить?.. Эта мысль опечалила Тревельяна. Он почти решил, что заберет на Землю своего зверька, но теперь это было проблематичным. Среди информации о флоре и фауне Осиера, которой его снабдили, не нашлось ничего о повадках шерров, сроке их жизни, способе размножения и странной, почти невероятной привязанности к людям. Неудивительно! Животный мир этой планеты был так же богат, как земной, и сотни, если не тысячи видов были еще не изучены. Собственно, полное изучение и описание не входило в задачи ФРИК; предполагалось, что автотроны, достигнув вершин прогресса, сделают это сами. В одну из ночей, сидя у костра, Тревельян ознакомился с пергаментом, подаренным Даббасом. Это была копия с древнего манускрипта, изрядно сокращенная и адаптированная – видимо, для рапсодов-учеников. О древности оригинала говорили старинные обороты и слова, вышедшие из употребления; рукопись насчитывала семь или восемь столетий, и, судя по именам, которые встречались в тексте, местом ее создания были южные имперские провинции, Фейнланд или Ки-Ксора. С’Трелл Основатель изложил свои законы в виде притч, чей смысл был понятен самому неискушенному разуму; они не носили религиозного содержания, и боги в них даже не упоминались. В одной рассказывалось о двух братьях, которым отец сосватал невесту в далеком городе, с тем условием что девушка достанется тому, кто раньше доберется к ней. Первый брат вышел в дорогу пешком и каждый день проходил определенное расстояние; второй решил, что гораздо быстрее доплыть по реке, нанял лодку, но она перевернулась, налетев на камни. Тогда он сел в экипаж, но по ошибке поехал не в ту сторону, пришлось пересаживаться в другую повозку, которая благополучно свалилась с моста. Сменив ее на колесницу, торопыга проигрался в карты в придорожном кабаке, а братец-пешеход тем временем был уже в нужном месте. Ему и досталась красавица вместе с богатым приданым. Другая история была о семействе скотоводов, что долгими годами выводили быков, выбирая в производители самых сильных, самых резвых и умных, так что с течением лет их животные стали превосходны, и семья разбогатела. Имелись и притчи про опасность технологии – например, о знатном нобиле, который возжелал поярче осветить свой дом в вечерний период. Лампы заправляли китовым жиром, земляным маслом, всякими благовониями, но капризный нобиль остался недоволен и велел слугам смешать все жиры и масла. Смесь пылала ярко, но жарко, и дом в конце концов сгорел. Таких историй было полтора десятка, и после них С’Трелл делал вывод: наилучшие результаты приносят медленные и терпеливые усилия. Он, вероятно, был сторонником эволюции, а не революции. Закончив чтение, Тревельян вытащил пластинку с изображением гибели Аладжа-Цора, поглядел на нее и задумался. И медальон, и пергамент пришли от Братства, из одного источника, но не вязались друг с другом; пергамент отрицал прогресс и всяческую суету, а голограмма была продуктом высочайшей технологии. Правда, мудрый Аххи-Сек, таинственный наставник, использовал ее в воспитательных целях и делал это локально и адресно, а потому его пророчества нельзя было считать эстапом. Действия Фонда влияли на массы людей, на общество в целом, подталкивали его к переменам, тогда как Аххи-Сек был озабочен жизнью и смертью лишь одного человека или, быть может, нескольких. Он стремился предотвратить конкретный акт жестокости, что при любом результате на судьбах мира не сказалось бы никак. Тут Тревельяну вспомнилось, что иерарх шлет голограммы в закрытых и запечатанных шкатулках, а значит – вполне возможно! – сам незнаком с их содержимым. В этом случае Аххи-Сек являлся таким же живым инструментом, как Дартах Высоколобый, мастер Цалпа из Рингвара, кузнец Суванува и прочие агенты влияния, которых использовал Фонд, внедряя ту или иную идею. За Аххи-Секом мог стоять кто-то другой, кто-то подобный Тревельяну и экспертам ФРИК, наблюдатель звездной расы, еще неизвестной человечеству. Сам по себе этот факт, кого бы ни нашли на Осиере, друзей или врагов, был чрезвычайно важен – не зря, обсуждая его с командором, Тревельян сказал, что рассчитывает обессмертить свое имя. Но если принять такую гипотезу, сразу возникали новые вопросы. Сколько лет или веков находятся на Осиере эти существа? Как поддерживают связь с метрополией – ведь ни один чужой корабль не появлялся здесь за время двух столетий? Как они выглядят, как маскируются и ведут наблюдения? И, наконец, в чем их цель, кого и что они на самом деле изучают, средневековье Осиера или людей Земли, возможных соперников в этом секторе пространства? Придется тряхнуть Аххи-Сека, но аккуратно, думал Тревельян. Очень аккуратно, ведь иерарх – или же те, кто прячется за ним, – были равны могуществом землянам. Способность к межзвездным перелетам, интерес к иным мирам, голографическая техника, неведомые материалы и совершенная маскировка… Даже более того – умение предугадать грядущее и отразить его в визуальных образах, настолько ярких и совпадающих с реальностью, что это мнилось едва ли не чудом! Пожалуй, на прогностических компьютерах тоже можно было бы промоделировать печальную судьбу Аладжа-Цора, но не с такими подробностями. Тревельян приблизил пластинку к свету, поглядел на тело нобиля, лежавшего ничком, на рану поперек спины, на меч в откинутой руке и хмыкнул. Невероятная точность! Просто фантастическая! Еще не раз он доставал медальон, пытаясь представить, как сделано предсказание, и размышляя о возможностях неведомых пришельцев. Место и время к этому располагали; времени было сколько угодно, место тоже подходило для раздумий: яркий огонек костра, смутные тени деревьев поодаль, небо, усыпанное звездами, тишина, безопасность… Последнее – заслуга Грея, но его зверек, оберегавший хозяина в пути, все же не был всесилен. Третья ночевка на берегу Фейна вышла неспокойной – чья-то темная большая тень маячила за древесными стволами, кто-то там топтался и сопел, временами утробно порыкивая и прикидывая, как бы добраться до лакомства у жаркого огня. Тревельян совсем уже собрался вытащить хлыст и укоротить визитера на голову, но тут прямо ему в колени спланировал Грей и, приподнявшись на задних лапках, испустил волну уверенности и покоя. Мол, не тревожься, хозяин, я с этой тварью вмиг разделаюсь, я ей сейчас покажу, как к нам принюхиваться! И показал – да так, что тот, большой и темный, не разбирая дороги, бросился к реке, плюхнулся в воду и исчез. Сквозь топот и сопение Тревельян расслышал какой-то треск, однако не обратил внимания на эти звуки. Утром же обнаружил, что тварь прошлась по его лодке, да так основательно, что о ремонте нечего и думать. Он свалил хлыстом четыре дерева, что росли у самой воды, нарезал лиан и связал плот. В джунглях, пока возможно, передвигаются по рекам, а Фейн являлся очень подходящей рекой и полностью оправдывал эту аксиому. Не такой широкий, как Рориат, но все же метров восемьсот от берега до берега, с быстрым течением и темной прохладной водой приятного вкуса… Но главное, он нес посудину Тревельяна в нужном направлении и с приличной скоростью. Из притоков выплывали лодки. Слишком назойливых и агрессивных приходилось пугать, но бывало и так, что в путника летели не стрелы и дротики, а фрукты и цветы. Хоть люди здесь принадлежали к одному этническому типу и говорили на одном языке, все же имелись меж ними различия. Эксперты ФРИК по примитивным культурам утверждали, что модус вивенди [3] небольших сообществ, включающих несколько сотен людей, часто определяется их лидером; племя, где вождь справедлив и не очень жесток, будет спокойным и миролюбивым, тогда как сородичи тирана и кровожадного властолюбца станут, скорее всего, негодяями. Этот тезис Тревельян проверил на практике в разных мирах и был его сторонником, но с важной оговоркой: даже завзятые миролюбцы уважают силу. Там, где его принимали по-доброму, он играл и пел и раз-другой показывал, на что способен, являя не страшные, но впечатляющие образы, лица богов, солнечный восход над океаном или фейерверк, каким украшались многие земные празднества. Это укрепляло его славу песнопевца-колдуна. С теми вождями, что казались поумней, он заводил долгие обстоятельные беседы. Там, на севере, у моря Треш, стоят большие города, там, от океана до океана, тянутся ленты дорог и несутся по ним экипажи с быстрыми лошадьми, там одежды богаты и красивы, дома удобны, а столы в харчевнях ломятся от всякой вкусной снеди и вина; там умеют записывать людские речи знаками на пергаменте и сохранять их десять или двадцать поколений; там делают посуду из стекла, кожаные башмаки и ремни, стальные топоры, мечи и наконечники для стрел, бронзовые кубки, наушные украшения из серебра и тысячи других вещей. Все это не сказка – ведь многие воины служили северным владыкам и, возвратившись, приносили чудные предметы, рассказывали полные чудес истории, и то, о чем говорят так долго и так подробно, не может быть выдумкой. Вот чего достигли люди! И здесь, на юге, могут достичь не меньшего, ибо земля вокруг богата и обильна, есть в ней лес и камень, и значит, можно строить города. Так почему бы этим не заняться? Построить город, развести сады, пустить на пастбища стада быков, посеять злаки… Несчастны люди на вашем севере, отвечали вожди, и несчастны наши братья, что остались там. Дни их заняты не благородным и приятным делом, не охотой и не набегами на соседей; они ковыряются в земле, или рубят лес и таскают бревна, или громоздят камень на камень, или стоят у печей, обжигая горшки, или выносят навоз из лошадиных и бычьих стойл. Хижина из прутьев и ветвей лучше каменного дома, лодка и река лучше каменной дороги, лошади и колесницы, жареный клыкач лучше любой еды в харчевнях, а что до людских речей, то сохранять их не надо, ведь всегда можно сказать новые. Сады и быки не нужны; в лесу полно зверей и плодов, на отмелях – черепах, а в воде – рыбы. Вино, конечно, приятная штука, и вино, и ткани, и сосуды, и стальные мечи. Но все это и так приносят с севера вместе с золотом и серебром, приносят в обмен на службу вашему вождю. И пока он нуждается в верных и сильных воинах, этот поток не оскудеет. Тревельян вздыхал и, сокрушаясь, говорил командору: «Что тут поделаешь! Типично полинезийское мышление… Все есть, всем довольны, а чего нет, то можно выменять или купить. Даже, если приспичит, рапсода». – «Полинезийское! – возмущался Советник. – Придумали себе терминологию! Какое еще полинезийское? Бездельники они и нахалюги, клопы на загривке природы! Я бы таких в корабельный гальюн загнал, чтобы дерьмо со стенок бритвой отскребали!» – «Ты, дед, перекрестись! Какое дерьмо в гальюне? – возражал Тревельян. – В твои времена уже имелись вакуумные унитазы, причем безоткатного действия!» – «Безоткатного! Как же! – ехидно хмыкал командор. – Ты бы туда заглянул во время невесомости, когда на борту курсанты-сопляки!» – «Мы не о курсантах толкуем, а о местных варварах и неприятии ими прогресса. Хотя, с другой стороны…» – «Вот-вот, с другой! Все энергичные парни подались в Империю и встали под ружье. Перекачка носителей пассионарности – так у вас, кажется, называется? Качают год за годом, век за веком, и теперь здесь полный отстой!» – «Ты, дед, не прав. По данным имперских Архивов, каждый год с юга приходят от двенадцати до пятнадцати тысяч новобранцев. Стабильное количество за весь период наших наблюдений». Так, то беседуя с вождями, то споря с командором, то размышляя над загадочной пластинкой-голограммой Аххи-Сека, Тревельян продвигался вперед и вперед, пока не оставил за спиной холмы и джунгли, очутившись в безбрежном просторе саванны. Река тут разливалась шире и текла медленнее, зато деревья не заслоняли пейзажа и не мешали глядеть на всякое зверье, какого в лесу не водилось. К тому же теперь Тревельян не сидел в кандалах, а был свободен как ветер, плыл по воле течения и волн и мог наслаждаться с безопасного расстояния видом неисчислимых стад быков, антилоп и прочих травоядных. Попадались тут очень забавные звери, не описанные в материалах ФРИК, которым он давал свои названия. Антилопы в коричнево-желтую полоску с гибкими длинными шеями получили имя зеброжирафов, огромная рогатая тварь с коротким хоботом и ногами как бревна стала слонорогом, быки, похожие на зубров и бизонов, но с лосиными рогами лопатой, были названы зубросями. Тревельян развлекался бы так и дальше, придумывая тапирленей, гнубаранов, лисойотов и лирохвостых страусов, но по дороге встретились перекаты, которых он преодолеть не смог. Лианы лопнули, плот разнесло по бревнам, а сам путешественник, наглотавшись воды, выплыл вместе с мешком в тихую заводь, указанную Греем. К счастью, крушение случилось в немногих днях пути от Южного вала, и оставшуюся дорогу Тревельян преодолел пешком. Преодолел, добрался, оборванный и запыленный, до пограничной крепости, удивил ее обитателей и спел им балладу о похищении рапсода Тен-Урхи и бегстве его из южных лесов.* * *
На следующий день, когда Тревельян покинул укрепление, вид его изменился к лучшему. Во-первых, он посетил офицерские бани – час отмокал в бассейне, потом выдирал из волос колючки и веточки, потом мылился и смывал, смывал и мылился, а два новобранца таскали ему кувшины с водой, кувшинчики с жидким пенящимся бальзамом да подбрасывали в очаг поленья. Во-вторых, случилось у него свидание с гарнизонным цирюльником, мастером не из лучших, который не столько стриг, сколько ставил пиявки и клизмы и прикладывал к синякам целебную мазь. Но все же он сумел подрезать Тревельяну бакенбарды до примерно одинаковой длины и расчесать волосы конским гребнем. В-третьих, отоспавшись, он заглянул поутру в цейхгауз и сторговал там подержанные, но еще прочные башмаки, пару армейских штанов в обтяжку, белье, тунику, ремень и новый мешок. Одежда была не слишком щеголеватая, однако не лохмотья, где дырка дыру догоняет. Теперь Тревельян походил не на рапсода, а на отставного воина из северян, бывшего сержанта, который отслужил десяток лет и бредет к себе на родину, в Рингвар или Пейтаху. Распрощавшись с воинами и пограничным начальством, он вышел на дорогу по другую сторону Южного вала. Тут была уже не дикая степь, тут был Фейнланд, и по обе стороны тракта, насколько хватал глаз, тянулись посадки лозы, пьяных ягод и синих медовых маков, над которыми кружили бабочки. Тут произрастало все, из чего готовили лучшие имперские вина сотни сортов, и каждый был особенным и назывался по имени своего селения баргундским или эйнжуйским, тикайским или шайпонским, мадерским или хересским. Центром же виноделия и торговли вином был городок Мад Торваль, лежавший километрах в пятнадцати дальше по дороге. Иногда все вина, что делали здесь, называли торвальскими, и по сравнению с ними пибальские, ценимые на востоке, казались обычной сивухой. Подумав об этом, Тревельян усмехнулся, вытащил свою фляжку, глотнул и бодро зашагал по дороге, обгоняя крестьянские возы, запряженные медлительными быками. Вслед ему с крепостной башни загрохотал барабан, и где-то впереди, на сигнальной вышке у тракта, звонко откликнулся другой. Передавали не военным, а обычным гражданским кодом, который был ему понятен; сообщение шло от коменданта крепости и говорилось в нем о певце по имени Тен-Урхи, пришедшем с дальнего Юга, о рапсоде, который набит новыми песнями, как корзина гроздьями пьянящих ягод. Эта весть стрелой пролетела до Мад Торваля и умчалась дальше, видимо в Мад Эборн, столицу провинции. Через час, когда Тревельян одолел треть расстояния до Мад Торваля, пришел ответ, краткий, как удар колокола, но повторенный несколько раз: «Ждем!» Ждем, ждемм, ждеммм… Похоже, он возвращался с юга известным человеком. Это подтвердилось в Мад Торвале, чистеньком белокаменном городке, застроенном особняками виноторговцев, лавками, тавернами (в каждой предлагали напиток только одного сорта), складами с рядами бочек и шумным базаром. Были тут, разумеется, и храм Трех Богов, и станция пассажирских фаэтонов, и вилла местного правителя, и странноприимный дом Братства; имелось даже что-то вроде винной биржи с аукционом, где редкие сорта раскупались столичными аристократами, купцами и владельцами мастерских за баснословные деньги. Тревельян, следуя по накатанному пути, разыскал обитель Братства и провел в ней три следующих дня, распевая песни, наслаждаясь винами, отъедаясь за щедрым столом и нежась в лучах славы. В Мад Торвале этот дом являлся чем-то средним между гостиницей рапсодов, театром и клубом избранных; что ни вечер, тут собирались десятка два певцов и музыкантов и вдвое больше местных нобилей и богатеев с женами и дочерьми. Тревельян пел, пил, рассказывал свою историю, пел снова, а когда уставал, его сменяли другие искусники флейты и лютни, и до восхода Ближней звезды слышались то страстные серенады южных провинций, то северные баллады, то медленные тягучие мелодии востока, то веселые лукавые песенки западных стран. Впрочем, он не только пел и развлекался. В лавке, рекомендованной ему дарующим кров, нашлось все нужное рапсоду, от голубого вышитого пончо с перьями и кисточками до сапог с серебряными пряжками и прочного ремня из кожи нагу. В одной из лучших оружейных мастерских ему наточили кинжал и подогнали к клинку новые ножны; у ювелира почистили ушные украшения; в цирюльне постригли по столичной моде, сделали завивку баков и заплели их шелковыми лентами. Теперь он не был похож на отставного солдата или, тем более, на бродягу-оборванца, а стал, по выражению Тинитаура (возможно, уже покойного), звездой среди рапсодов и ярким светочем во мраке ночи. Но этим его успехи не ограничились. Беседуя то с одним коллегой, то с другим, он наводил разговор на иерарха и выяснил массу любопытного. Совет магистра Питханы насчет Полуденной Провинции оказался верен; именно там была резиденция премудрого Аххи-Сека, но жил он не в блистательной столице Мад Аэг, а севернее на добрую тысячу километров, у городка Мад Дегги, под самым Кольцевым хребтом. Говорили, что Великий Наставник любит горные пейзажи, свежий воздух и уединение, что, размышляя о судьбах мира, он погружается в транс и сидит у водоема, глядя на бутон кувшинки, – сидит, не вкушая еды и питья, и думает так долго, что бутон становится цветком. Еще говорили, что ему известно все на свете – число небесных звезд в ночном зрачке Таван-Геза, и дороги китов в океане, и места, где таятся в земле рудные залежи, и мысли владык, повелевающих людьми, и чаяния простонародья. Словом, он являлся самой подходящей личностью, чтобы выяснить, отчего осиерцам не нужны бумага, седла, керосин и материк в другом полушарии. Слухи о его возрасте были противоречивы: кто утверждал, что он еще не стар, то есть не достиг шестидесяти, а кто говорил, что иерарх, недавно отпраздновав свое столетие, вступает в совершенные годы. Среди людей континентальной расы (а именно к ней, судя по имени, принадлежал Аххи-Сек) столетний юбилей не был редкостью – в среднем они жили до восьмидесяти и считались на Осиере долгожителями. Не исключалось, что Аххи-Секу сотня лет, но, может быть, и меньше – все сходились в том, что выглядит он преотлично и полон сил и бодрости. Но – странное дело! – ни один собеседник Тревельяна лично с ним не виделся, а, говоря о возрасте и внешности, ссылался на слова других рапсодов или пастухов. Верный признак, что иерарх допускал к себе не всякого. Тревельян, знакомый не с одной гуманоидной расой, считал молву о мудрости Аххи-Сека сильно преувеличенной. Человек – создание двойственное, сочетающее иррациональность с трезвостью мысли и приземленностью желаний, а это значит, что, кроме богов, которых никто нигде не видел, людям нужны земные лидеры и среди них мудрецы, пророки и подвижники, наделенные едва ли не всеведением. В этом качестве и выступал Аххи-Сек, если он был осиерцем. Но забывать о другом варианте тоже не стоило; может, он и правда великий мудрец, но мудрость эта не от мира сего. Так ли, иначе, но Тревельян решил не торопиться и посетить иерарха тогда, когда закончит изыскания в столице, в имперских Архивах. Это являлось таким же необходимым делом, как выяснение судьбы Дартаха и расспросы в портовых городах на востоке и западе, ибо в Архивы попадало все происходившее в Империи на протяжении тысячелетий. В отдельном своде отражались наказания, и было интересно посмотреть, что там записано про Дартаха и упомянут ли он вообще, а если упомянут, какую вину ему вчинили. Как добраться до Архивов, учреждения закрытого и, возможно, секретного, Тревельян пока не знал и раздумывал об этом по пути к Мад Эборну. Отправился он туда в фаэтоне, так как дорога предстояла не близкая – Фейнланд, край просторный, по площади слегка не дотягивал до Франции, а Семь Провинций в целом были побольше Западной Европы. Эта благодатная земля в самом центре континента, охваченная с трех сторон высокими горами, разделялась морем Треш на две неравные части: северная, большая, находилась в умеренной зоне, южная, вдвое меньшая – в области субтропиков. Северные районы тянулись в широтном направлении почти на семь тысяч километров и, если перечислять их по движению солнца, носили имена Провинции Восхода, затем Полуденной и Дневной Провинций и, наконец, Провинции Заката; южные звались Трот, Фейнланд и Ки-Ксора. Трот, лежавший к востоку от Фейнланда, за рекой, что принесла Тревельяна из джунглей, был невелик, но важен: там добывали земляное масло, олово, медь и железную руду, обогащенную никелем. Ки-Ксора, расположенная на западе за другой рекой, Кмари, была поменьше Фейнланда и являлась богатейшей из имперских провинций: тут, в речных притоках, были россыпи золота, а в каменистых предгорьях – серебряные копи. Фейнланд славился вином, фруктами, легким нравом жителей и превосходным климатом: его морское побережье, живописное, изрезанное множеством бухт, называлось Улыбкой Таванна-Шихи и считалось издревле лучшим курортом Империи. Что до четырех северных провинций, то были они обширны, плодородны и обильны водами: три крупные реки струились по их просторам, впадая в море Треш. Море величиной и формой напоминало Средиземное в родном мире Тревельяна, с полуостровами причудливой формы и сотнями островов; кое-где между северным и южным берегами было от пятисот до тысячи километров, но столицу Мад Аэг в Полуденной Провинции отделял от Мад Эборна в Фейнланде пролив шириною километров восемьдесят. Оба города лежали на оконечностях больших полуостровов, вытянутых навстречу друг другу, и здесь был политический, культурный и исторический центр Империи. У Светлого Дома, ее повелителя, имелись дворцы по обе стороны пролива, но главная резиденция находилась на острове Понт Крир, к западу от Мад Эборна и к югу от Мад Аэг. Там же, на острове, стояла огромная пирамида имперских Архивов. По геополитическим параметрам Осиер считался историками и экспертами ФРИК уникальной планетой. Наличие в центре континента морской акватории с бассейнами нескольких рек, земель с прекрасным орошением, плодородной почвой и речной транспортной сетью – все это, вкупе с теплым ровным климатом, стимулировало развитие сельского хозяйства и первых производств, горнорудного, кузнечного, ткацкого, гончарного. Общность обычаев, языка и верований, интенсивный товарообмен и множество городов привели к консолидации населения и подавлению центробежных тенденций. Уже в глубокой древности жители Семи Провинций ощущали себя единым народом, и это чувство общности успело созреть, не нарушенное вторжениями извне или массовыми миграциями других племен с востока и запада. Все прилегающие к морю земли – анклав или фактически внутренний субконтинент – были отлично защищены горами с трех сторон света, а с четвертой, южной, лежала степь с немногочисленными охотничьими племенами, не знавшими преимуществ лошади и воинского строя, не умевшими ни штурмовать цитадели, ни преодолевать большие расстояния, а потому обособленными и не опасными. Эти факторы сделали континентальную расу доминирующей, и с течением лет и веков она все крепче утверждалась вершителем судеб Осиера – ведь все накопленное за тысячелетия, все созданное предками, города и дороги, мосты и крепости, порты и рудники, все было в целости, а не лежало в руинах, как древние сооружения Земли. Подчеркивая эту разницу, Ахмад Ши-чен, социолингвист и восьмой по счету руководитель Базы, как-то сказал: римский Колизей – археологический памятник, тогда как Арена Рапсодов в Мад Эборне предмет не археологии, а процветающего бизнеса. И это было верно. Осиерские колизеи и парфеноны стояли целыми, никто не жег тут библиотек, не сбивал с камней надписи прежних властителей, не уродовал их статуй, не запахивал городов, как сделали римляне с Карфагеном, и не бросал их, как древние майя, на расправу джунглям. Если не считать мегалитов в Манкане и пещер в Рингваре, тут не было загадочных сооружений, подобных статуям острова Пасхи или террасе в Баальбеке; о всяком монументе, башне, храме или дворце, даже простоявших два тысячелетия, было доподлинно известно, кто и когда воздвиг их и с какими целями. Что же касается любителей писать на древних стенах или увечить изваяния, то было их немного, так как поступали с ними по закону Уршу-Чага, выбитом вдоль всех дорог на каждом тридцатом пилоне: «Поднявший руку на сие творение будет сам поднят на столб с крюком меж ребер». До Мад Эборна Тревельян добирался три дня и видел эту надпись сотни раз.Глава 10 МАД ЭБОРН
Названия всех поселений в Семи Провинциях начиналось со слова «Мад», что означало не город, а место, где пролилась кровь предков. Это было связано с похоронным обрядом: умершему надрезали вену у локтя и выпускали на землю несколько капель крови, полагая, что с ними выходит из тела и освобождается его душа. Плоть подлежала сожжению, а затем прах везли к ближайшей реке, впадающей в океан, а если умерший был знатным человеком, то к самому океанскому берегу, обычно на запад, через Сотару и Тилим. Земля, освященная кровью, хранимая предками, была защищенной от духов бездны и подходящей для поселения, особенно если кровь принадлежала благородному человеку. Такая кровь неизмеримо превосходила алую жидкость, текущую в жилах простонародья, а кровь Светлого Дома вообще почиталась настоящей драгоценностью. В начале каждого года император приносил ее в жертву, даруя земле перед Храмом Поклонения в Мад Аэг пару капель, и этот обряд был всенародным праздником. Существовала и другая традиция: император мог пролить свою кровь в жилище подданного, и это воспринималось как награда и великое отличие. В каждом мире свои прибамбасы, думал Тревельян, въезжая в ворота Мад Эборна, второго по величине и самого разгульного, самого веселого города Империи. Туземцы Гелири клали покойных в муравейники, а черепа и кости мололи в муку и удобряли поля, надеясь, что предки возродятся в злаках и плодах; на Пта, засушливой планете, плоть каменела под жарким солнцем, после чего эти мумии развешивали на деревьях – вернее, на огромных пустынных колючках, считавшихся у птаитов деревьями; на Селле мертвецов бросали в джунглях, чтобы хищная флора, пожрав тела умерших, не трогала живых. На Высокой Горе смерть не признавали вовсе, ибо по причине холодного климата тела не подвергались тлению, и, значит, ушедшие родичи просто впадали в сон, который когда-нибудь кончится. Их хранили в пещерах, где миллионы тел столетие за столетием вмерзали в лед. Стен в Мад Эборне, как и в других городах, не имелось, и потому ворота были чистой фикцией, которую можно обойти и слева, и справа. Но фикцией великолепной, сложенной из розового гранита, что добывали в пибальских каменоломнях, отделанной желтым и красным мрамором из Сотары, украшенной фризом из сотен танцующих фигурок и ликами какого-то древнего императора. Их арка, опиравшаяся на шестигранные колонны, возносилась над дорогой метров на пятнадцать, и сразу за ней была широкая площадь с храмом Трех Богов на западной стороне и Ареной Рапсодов – на восточной. Арена, возведенная восемнадцать столетий назад, могла и правда быть достойной соперницей Колизея как по архитектурному замыслу, так и по величине. Семиэтажное здание в форме подковы обнимало мощенный гранитом плац; внутри располагались открытые ложи для зрителей, с наружной стороны – галереи с лавками, массажными кабинетами, мастерскими ювелиров, ваятелей и портных, цирюльнями, харчевнями, кабаками – словом, всем, что привлекает публику. И публика не избежала соблазна: хоть представлений в тот день не намечалось, однако на галереях этого средневекового супермаркета толпились тысячи три или четыре праздного люда, богато разодетого и бренчавшего серебром. Покинув экипаж на стоянке рядом с храмом, Тревельян, лавируя в толпе, стал протискиваться к дальнему краю площади. Статус рапсода был весьма высок: слуги, разносчики, мастеровые, красотки из веселых домов и даже небедные с виду щеголи из торгового сословия уступали ему дорогу, однако нобилей и дам в роскошных туалетах полагалось обходить, отвешивая поклоны. Некоторые из дворян милостиво кивали в ответ, другие смотрели, как на пустое место, или бросали любопытный взгляд на шерра, но у молодых особ он пользовался явным успехом – три-четыре девицы успели состроить ему глазки. В этой оживленнойтолчее он наблюдал как бы десятки, даже сотни своих подобий, мужчин с темными гривами и длинными завитыми бакенбардами, с узкими загорелыми лицами, впалыми щеками, носами благородной формы и сероватыми отметинами под нижним веком. Постепенно этот единый облик континентальной расы начал делиться и расщепляться, будто луч белого света, диспергирующий на стеклянной призме; Тревельян заметил, что у простонародья физиономии пошире и посмуглей, а баки короче и не украшены ни лентами, ни жемчужными нитями, что девушки-служанки хоть и приятны собой, но лишены изящества и томности аристократок, что на лицах с темными пигментными пятнами возраст прочертил морщины у носа и губ. Эти отличия подчеркивались разнообразием одежд: у нобилей – яркие обтягивающие туники с широкими кожаными или шелковыми поясами, с вышивкой в виде листьев, цветов, геометрического орнамента либо украшенные перьями, с легкими воздушными накидками; у богатой, но не столь благородной публики – хламиды попросторнее глубоких тонов, синие, темно-зеленые и темно-красные, иногда с серебряной строчкой и кистями понизу; у прислуги и мастеровых – короткие просторные штаны, белые, серые, желтые безрукавки и сумки через плечо, с инструментом или нужным хозяину скарбом. С поясов дворян свисали веера, флакончики с благовониями, платки и шарфы; мужчина с кинжалом встречался редко – у имперских нобилей не было традиции ходить повсюду вооруженными. Аристократы здесь брались за оружие в трех случаях: на охоте, ради поединка чести и на военной службе, которая считалась занятием достойным и почетным, но не слишком прибыльным. Потонув минут на десять в этой толпе, Тревельян наконец пересек площадь, выбрался к домам в дальнем ее конце и остановился, пораженный. Тут не было пешего пути; площадь дюжиной ступеней спускалась к водам канала, уходившего в обе стороны, а другой канал, более широкий и прямой как стрела, был прямо перед ним и тянулся к морю, синевшему где-то вдалеке клочками яркого шелка. Вдоль этого канала стояли уже не дома, а дворцы из желтого, розового и зеленоватого камня, с башенками, арками и витыми колоннами, с лестницами, что спускались прямо к воде, и цветущими кустами в больших каменных вазах. На уровне второго этажа выступали лоджии и балконы, увитые зеленью, с пестрыми тентами на шестах, и оттуда доносились звуки музыки, смех и веселые голоса. По каналу плыли гребные лодки под паланкинами, и раскрашенная носовая часть суденышек изображала птиц или зверей, уже знакомых Тревельяну, саламандру или дракона нагу, клыкача или коня, медоносную бабочку, птицу ках или птицу-рыболова. Еще больше лодок самого фантастического вида были причалены к площади – собственно, уже не площади, а пристани в километр длиной, выходившей к поперечному, более узкому каналу. Над ним и над другой водной магистралью, той, что тянулась к морю, горбатились мосты числом тридцать или сорок, все разные видом, то с причудливыми фонарями, то с аркой посередине, то с изваяниями мифических чудищ, пальмами в кадках или павильоном на резных столбиках. Зрелище было чарующее, пестрое, живое, и Тревельян, прикрыв ладонью глаза от яркого света Ренура, испустил восхищенное: «О!» – Не первое «о», которое я слышу на этом месте, – раздался иронический голос за его спиной. – Не бывал прежде в Мад Эборне, рапсод? Тревельян обернулся и отвесил поклон нобилю лет тридцати, в персиковом наряде, расшитом золотыми кружками и подпоясанном длинным шелковым кушаком. Глаза у щеголя были темными и хитроватыми, конституция – изящной, но слишком субтильной, бакенбарды – жидкими, зато невероятной длины, до самого пояса. Глядел он вроде бы доброжелательно, но с заметным оттенком превосходства. – Разделяю твое дыхание, – пробормотал Тревельян. – Да, мой господин, я не бывал в Мад Эборне, не бывал в Фейнланде, и я восхищен. – Северянин? – Хмм.. да, родом из Дневной Провинции. Но сейчас возвращаюсь с юга. – С юга? Ты уверен? – Хитроглазый приподнял бровь. – Южнее Фейнланда ничего нет. – Кое-что есть, благородный. Степь, реки, джунгли, люди и прорва всякого хищного зверья. Брови щеголя взлетели еще выше. – Клянусь духами бездны! Так ты – тот самый бродяга-рапсод, о котором сообщили из Мад Торваля! Тот, что сбежал от безволосых! Как тебя?.. Тен-Урхи?.. Оч-чень, оч-чень интересно! Надо рассказать Ках-Дагу и Пия-Гези… пожалуй, еще Тирина-Лу… Он рванулся к площади. Тревельян, однако, успел ухватить его за кушак – почтительно, но крепко. – Прости, мой господин. Не подскажешь ли, где обитель нашего Братства? – Шагай вон через тот мост со столбами, где птицы ках, и попадешь к каналу Благоухания – там на углу бани с цирюльней. Мимо бань иди до кабака «Ржавый меч», где треугольная площадь и канал раздваивается. Если хочешь к веселым девочкам, распусти завязки кошеля и сверни налево, а если все-таки в обитель, то направо, вдоль канала Ближней Звезды, потом опять направо, к побережью. Там и найдешь свою обитель – за оградой большое медное дерево растет. А не хочешь плутать, лодку найми, если на юге не порастратился. – С этими словами щеголь исчез в толпе, бормоча под нос: – Падма-Хор… ему тоже надо сказать… непременно… «Хлюст, – приговорил командор. – А городок ничего… Видел старые фильмы о Венеции? Вот такой она и была, пока не ушла под воду». «Ее подняли и восстановили двести лет назад», – сообщил Тревельян, направляясь к мосту с бронзовыми птицами ках. Похожие на павлинов птицы, гордо топорща хвосты, сидели на мраморных колоннах. «Подняли, надо же! – удивился Советник. – А затонула она в мое время, с концами затонула, и многие об этом сокрушались. Итальянцы, те прямо рыдали. Все! Ну, может быть, через одного». Тревельян взошел на мост. Его перебросили к узкой мостовой (четыре шага поперек), что тянулась между домами и каналом. Канал был меньше центрального, и дома тут стояли не такие роскошные, но тоже весьма живописные. «Что сокрушаться и рыдать, – заметил он, перебираясь на другую сторону. – Спасли бы Венецию сами. Техника у вас была. И техника, и нужная технология». Угловое строение походило на баню – сквозь двойную шеренгу колонн просматривался сад с фонтанами и водоемом, в котором возлежали солидные мужи в белых простынках. Полунагие девушки разносили фрукты и вино. «Технология у нас была, – командор испустил ментальный вздох, – да не было денег. Ни шиша!» «Это еще почему?» – спросил Тревельян, минуя баню и цирюльню. Вода плескалась у самых его ног, покачивая лодки с ожидавшими в них слугами и гребцами. «Воевали мы, – напомнил командор. – Как раз с дроми схватились, с крысиным отродьем! Так что дилемма была такая: или Венеция, или шесть боевых крейсеров». Тревельян зашагал по узкой дорожке, выложенной желтыми и зелеными плитками. Над ним нависали балконы, за оградами шелестели деревья, бросая тень на мостовую, рядом плыли лодки, подгоняемые неторопливыми взмахами весел. Здесь их оказалось не так много, как в центральном канале, но пешеходов он не видел вообще. Очевидно, лодки в Мад Эборне были самым привычным транспортом. «А вот и меч», – молвил командор, когда на глаза Тревельяну попалась входная арка кабачка с висевшим над ней оружием. Меч был в самом деле ржавый, но очень основательный, в человеческий рост и шириной с ладонь. Канал в этом месте раздваивался, образуя треугольную площадь, к которой с обеих берегов вели два мостика. Поглядев налево, Тревельян увидел неширокую водную магистраль, затененную похожими на ивы деревьями, и маленькие домики, скорее даже павильоны, щедро увитые зеленью; между ними змеились дорожки, кое-где поблескивали струи фонтанов, но никакого движения не замечалось. Час был ранний, и, вероятно, в местном квартале веселых девиц еще отдыхали после напряженной ночи. Канал, уходивший направо, казался пошире, но тоже выглядел пустынным – тут, едва не задевая веслами о берег, плыла единственная лодка с пологом на четырех столбиках, прикрывавшим от солнца корму. Как советовал щеголь в персиковом наряде, Тревельян повернул в правую сторону. Дорожка сделалась поуже, а у другого берега ее не было совсем. Дома и парадные лестницы исчезли; к этому каналу выходили задние дворы усадеб, обнесенные каменными стенами трехметровой высоты. Иногда в них попадались плотно закрытые дверцы и калитки, бронзовые или обитые железом, небольшие и, вероятно, очень прочные; их вид намекал, что хозяева пользуются этими входами-выходами для тайных дел, когда желают удалиться незаметно или попасть домой, не привлекая лишнего внимания. «Здесь мы должны повернуть», – напомнил командор. «Да, – кивнул Тревельян. – Чувствуешь? Уже пахнет морем». Грей на его плече завозился, потом опять затих, обхватив шею хвостом. Они поравнялись с лодкой. Ее украшала резная головка дауда с оскаленными клыками, полог из легкой полупрозрачной ткани свешивался почти до бортов, и в глубине виднелись две фигурки. Шестеро мускулистых гребцов гнали ее вперед неторопливыми взмахами весел. Полог раздвинулся. – Рапсод! Смотри, Тургу-Даш, рапсод! Ка-акой хорошенький! Голос был молодой и звонкий. Оглянувшись, Тревельян увидел, что на него смотрит девушка неземной красоты: брови вразлет, губы как розы, глаза сияют изумрудами, густые темно-каштановые волосы уложены в сложную прическу. Пигментные пятна почти незаметны – значит, ей было лет семнадцать-восемнадцать. – Ка-акой зверек! Хочу! – сказала зеленоглазая, по-прежнему глядя на Тревельяна. Он, вероятно, заинтересовал юную леди больше, чем Грей. Полог раздвинулся шире, и рядом с девичьим личиком появилась физиономия старца в седых бакенбардах. – Разделяю твое дыхание, рапсод, – произнес старик. – И я твое, почтенный. – Не продашь ли шерра? Моя госпожа очень хорошо заплатит. – Бесполезно. Если возраст наделил тебя мудростью, ты должен знать, что шерр сам выбирает хозяина. Его нельзя ни продать, ни ку… Взмах изящной ручки и раздраженный голосок прервали его: – Ты глупец, Тургу-Даш! Я не зверька хочу, а рапсода! – Но моя госпожа!.. – Хочу! – Моя цена… – начал было Тревельян, но не успел закончить – зеленоглазая снова махнула рукой, на этот раз гребцам: – Теки и Дрза! Сюда его! Ко мне! Двое дюжих парней бросили весла, выскочили на дорожку и аккуратно подхватили Тревельяна, один под коленки, другой за плечи. Грей возмущенно заверещал. – Эй, пацы лохматые! Вы что!.. – С госпожой не спорят, – сказал Теки или, быть может, Дрза. – Госпоже повинуются, – добавил Дрза или, быть может, Теки. В мгновение ока они перенесли Тревельяна в лодку и сунули на заднюю скамью, рядом с седовласым Тургу-Дашем. «Снова тебя похитили, сынок, – благодушно заметил командор. – А девчонка-то ничего! Птичка зеленоглазая… Покрасивей и помоложе той, которую ты оставил в Этланде». Весла опустились, плеснула вода, лодка неторопливо поплыла мимо глухих каменных стен. Девушка, поблескивая глазками, рассматривала Тревельяна. – Ты не находишь, Тургу-Даш, что вблизи он еще лучше? А зверек просто оча-аровательный! – Она протянула руку к Грею и тут же вскрикнула: – Ой! Шерр панибратства не любил и цапнул ее за палец. – О боги! Твоя драгоценная кровь! – в панике простонал Тургу-Даш. – Ерунда. – Зеленоглазая сунула палец в рот и невнятно пробормотала: – Я восьму их опоих. Этого хо-ошенького апсода и его хо-ошенького зве-ака. – Мы еще не условились о цене, – сказал Тревельян, внимая ментальным слухом хихиканью командора. – Последний раз за меня давали шестьсот золотых, но я уверен, что стою дороже. Девушка вытащила палец из рта, прищурилась, осмотрела его и сказала: – Тургу-Даш! Объясни этому кра-асивому рапсоду, какое счастье ему выпало. – Слушаюсь, моя госпожа. – Старик повернулся к Тревельяну и сообщил: – Перед тобой, певец, Лиана-Шихи. Склони голову, сделай знак почтения и назови свое имя. – Тен-Урхи. Боюсь, я ничего не слышал о твоей госпоже. Может быть, она коллекционирует рапсодов? – Она может делать все что угодно, ибо принадлежит к семье Светлого Дома, – с важностью пояснил старец. – Ты знаешь, кто родной брат ее покойного отца? – Тургу-Даш поднял глаза вверх и очертил у сердца священный круг. Рот Тревельяна округлился в изумлении. – Неужели… сам?.. – Нет, не Светлый Дом, да живет он вечно. Но если… гмм… если когда-нибудь случится непоправимое, то Ниган-Таш, дядя моей госпожи, может претендовать на… Ну, ты сам понимаешь! Об этом не говорят, пока владыка жив, но Башне известно, кто более других угоден Трем Богам. Высшая власть в Империи была наследственной по мужской линии, ибо тут придерживались того же святого принципа, что и во Французском королевстве: негоже лилиям прясть. Власть, однако, не передавалась от отца к сыну или от брата к брату. Понятия о бастардах, незаконных отпрысках, здесь не существовало, и в результате свежая кровь вливалась без помех в жилы правящей фамилии, а число императорских родичей не иссякало, а только множилось, и все они считались потомками Уршу-Чага Объединителя. Сколько их было сейчас, Тревельян не знал, но половину столетия назад эксперты Базы оценивали семейство Светлого Дома в двести двадцать семь персон, и вряд ли оно сократилось за истекшее время. Если отбросить слишком старых и слишком юных, а также женщин и младенцев, этот род включал не меньше сорока мужей, которые в случае смерти повелителя могли сменить его на троне. Выбирали знатные Нобили Башни, что являлось их важнейшей функцией и самой почетной из привилегий. В реальном списке претендентов обычно значилось не больше десяти имен, так как будущий владыка должен был соответствовать неким признакам, как физическим, так и духовным. Здоровье, крепость тела и величественная осанка считались непременными, а также государственный разум, воля, хорошая память и отсутствие злонамеренности. Очень ценился дар видеть вещие сны, но такие властители были редкостью: рубины среди прочих, не столь драгоценных самоцветов. «Я правильно понял, мальчуган? Птичкин дядюшка – наследник?» – поинтересовался командор. «Один из наследников. Может быть, один из трех или один из десяти. В любом случае очень важная персона. Принц! А она – принцесса!» «И что это значит для нас?» «Что птичка нас склюет и не подавится», – буркнул Тревельян, прервав ментальную беседу. Лиана-Шихи глядела на него, капризно надув губки и явно ожидая восторгов и комплиментов. Он поклонился, сделал жест почтения и произнес: – Да пребудет с тобой милость Таван-Геза, госпожа, и пусть Заступница Таванна-Шихи, одарившая тебя частицей своего божественного имени, сохранит навеки твою красоту. Принцесса обольстительно улыбнулась, а Тургу-Даш сказал: – Ну, вижу, ты понял, рапсод… как тебя?.. Тен-Урхи?.. Это имя мне что-то напоминает… да, напоминает… – Он стал накручивать на палец седую бакенбарду, потом хлопнул себя по лбу: – Прости, госпожа, своего недостойного наставника и его забывчивость! Тен-Урхи! Конечно, Тен-Урхи! Тот самый Тен-Урхи, о котором сообщили барабаны! Тот, который… – Тот, тот, – подтвердил Тревельян, бросив взгляд на берега канала. Они плыли уже по другому водному пути, более оживленному и широкому, по обе стороны которого прятались под сенью древних пальмовых дубов дворцы и небольшие площади с развлекательными заведениями. Лодку Лианы-Шихи узнавали и поспешно убирались с дороги. – Что зна-ачит – тот? – Зеленоглазая нахмурилась, и ее наставник пояснил: – Тен-Урхи странствовал на дальнем Юге, жил среди безволосых и недавно вернулся в Фейнланд, одолев путь через леса и степи. – Промолвив это, Тургу-Даш соизволил повернуться к Тревельяну: – Из Мад Торваля передали, что ты сочинил историю о своих странствиях? – Да, это так. Лиана-Шихи захлопала в ладоши: – Чудесно! Желаю услышать об этом! Немедленно! – Это длинное сказание, госпожа, и лучше оставить его на вечер, – предложил Тревельян, наклонившись за лютней. – А сейчас, если пожелаешь, я спою тебе морские баллады Запроливья. Мы рядом с морем, и это меня вдохновляет. Лодка в самом деле выплыла в главный канал и приближалась к побережью. До Тревельяна уже доносился мерный рокот волн. – Пой! – приказала принцесса. – И отбрось полог! Хочу, чтобы все видели меня и моего кра-асивого рапсода! «Тщеславная девица наша птичка», – заметил командор. «Это точно. Не нравится она мне. Слишком надменные манеры». «С таким дядей можно о манерах не беспокоиться». Тревельян вздохнул и запел. После второй баллады канал расширился, образовав приличное озеро, которое отделяла от моря высокая, укрепленная камнями насыпь. Не дамба, а, скорее, целый рукотворный холм, который с течением лет стал такой же деталью пейзажа, как скалы, облака и блистающие под солнцем морские просторы. По озеру, будто совершая променад, кружились лодки, а холм украшал тенистый парк со множеством строений, чьи кровли, шпили и башенки торчали над ограждающей стеной. На самой вершине холма виднелось мраморное здание, подобное венцу из розовых кораллов, забытому на зеленом пушистом ковре. Зрелище было таким чарующим, что Тревельян замолк с раскрытым ртом. – Дворец Лат-Хора, Нобиля Башни, правителя Фейнланда и Мад Эборна, – сказал наставник принцессы. – Моя госпожа почтила его своим присутствием. Здесь ты будешь жить, певец, пока это угодно госпоже. – Вообще-то я собирался отыскать обитель рапсодов и… – начал Тревельян, но Лиана-Шихи, зеленоглазая птичка, прервала его одним движением бровей. – Ты будешь жить та-ам, где я прикажу! Тургу-Даш, пусть его поселят рядом с моими покоями. А ты, Теки, проследи, чтобы он не сбежал. Пой, рапсод! Мне нравятся морские песни. С этими песнями они и прибыли к холму, на котором стоял дворец правителя. Возраст дворцового комплекса насчитывал немало веков; его возвели из камней и прочного медного дерева по правилам древней имперской архитектуры, не признававшей огромных целостных сооружений, поделенных на залы, комнаты и коридоры. Ввиду мягкого морского климата, редких дождей и отсутствия бурь пространство, прилегающее к дому, считалось у строителей жилым, а само жилище включало отдельные строения, павильоны и беседки, которые были живописно разбросаны в саду и связаны дорожками и крытыми переходами. В соответствии с этим принципом родовой дворец Лат-Хора состоял из сотен отдельных покоев, лестниц и террас, поднимавшихся по склону холма к главному зданию, носившему имя Зала Сорока Колонн. То было место приемов и торжеств, соединенное галереями с восточной половиной, где жили правитель и его семья, и западной, предназначавшейся для именитых гостей. Тут, в чертогах Благоухания, Алого Заката, Сладких Снов, Приятных Трапез и других с названиями в том же духе, гостила принцесса со своим немалым штатом. Тревельяна доставили в Покой Верных Слуг, прочную башню в три этажа, где окна в верхней комнате напоминали бойницы и были забраны решетками. Здесь его и разместили. Что до нижних помещений, то их занимали гребцы, а точнее, два десятка птичкиных телохранителей под командой Теки. Пробиться сквозь эту толпу без большого шума не было никакой возможности. Пугать тиранозавром и кракеном или, тем более, устраивать резню Тревельян не собирался; первое ославило бы его как подозрительного колдуна, а второе было деянием антигуманным – ведь сослуживцы Теки ничем его не обидели и выполняли приказ госпожи со всем к нему уважением. Он находился уже не в дремучих лесах, а в краю цивилизованном, где всякая странность вроде превращения в ящера или в цветущий куст была заметна, и слух о ней разносился стремительно, с громким барабанным боем. Вдобавок о путнике-рапсоде, прибывшем с Юга, уже сообщили в Мад Эборн, в столицу и, вероятно, в другие города. Было ли это плохо или было хорошо? Среди коллег Тревельяна мнения по этому поводу ходили разные: одни являлись убежденными сторонниками анонимности и скрытности, другие считали, что слава хоть и привлекает лишнее внимание, зато увеличивает возможности для наблюдений и прогрессивных воздействий. Так ли, иначе, но дело с капризной принцессой хотелось все же закончить по-мирному, по-доброму: спеть ей песни, какие пожелает, покрасоваться рядом в лодке и откланяться. В комнате с бойницами Тревельян просидел до вечерней зари. Затем появился Теки, представился полным именем – Теки-Гах – и предложил пленнику фрукты, мясо и вино. Судя по наушным украшениям и кинжалу у пояса, он относился к сословию мелких дворян, а это были люди служилые и не чванливые. Они с Тревельяном распили кувшин торвальского, после чего телохранитель посмотрел в окошко и сказал: – Ближняя звезда уже поднялась. Пойдем, рапсод! Теперь я должен отвести тебя к госпоже. Тревельян схватился за мешок с лютней, но Теки, усмехаясь, покачал головой: – Свой инструмент и своего зверька оставь здесь. Этой ночью вы с госпожой будете петь дуэтом. – И он очень похоже изобразил учащенное дыхание и пару стонов. – Не думаю, что эта песня мне по нраву, – пробурчал Тревельян. – Почему? Она молода и очень красива… – Теки вдруг стал серьезным. – Делай, рапсод, что она пожелает, и обретешь удовольствие, деньги и полезные знакомства. Чего тебе надо еще? Любой мужчина отдал бы половину крови, чтобы очутиться на твоем месте! – В том-то и дело, что я не любой, – вздохнул Тревельян, спускаясь по лестнице вслед за Теки. Его отвели в восьмиугольный павильон, называвшийся Звездным чертогом. Вместо стен тут были резные столбики и плотные синие драпировки, свисавшие с поперечных балок, а вместо потолка и крыши – звездное ночное небо. Посреди павильона стояло круглое мягкое ложе размером с теннисный корт, у изголовья горели свечи в серебряных шандалах, на столбиках висели зеркала, и в каждом отражалась Лиана-Шихи, очень соблазнительная в своей полупрозрачной коротенькой тунике. Чудное зрелище, но Тревельяна оно не вдохновляло. Он любил всяких женщин и девиц, но только не таких, которые пытались взять верх над ним. – Сюда! – Зеленоглазая хлопнула о покрывало, но Тревельян сел на самый край, подальше от ее нагих коленок. – Госпожа желает послушать историю моих скитаний? – Желает, но не сейчас. Он подергал ленточки в своих бакенбардах. – Прекрасная ночь, не правда ли? Звезды как глаза красавиц, запах цветов – как аромат их дыхания, а музыка, что доносится с озера, как их переливчатый смех… В такую ночь я мечтаю о том, чтобы воспарить в небеса и окунуться в звездный свет, смыв разом все грехи, все плотские желания, все… Принцесса нетерпеливо шевельнулась. – Обещаю, что ты туда попадешь, прямо в звездное око Таван-Геза. Вот этим путем. – Она приподняла краешек туники и раздвинула бедра. «Этой птичке зубы не заговоришь. Знает, чего хочет», – прокомментировал командор. «Маленькая развратная дрянь!» – откликнулся Тревельян, а вслух сказал: – Ах, моя госпожа, то, что я вижу, требует песни, и я сейчас ее спою. Уверен, тебе понравится. Я могу петь без своего инструмента. Брови Лианы-Шихи сошлись на переносице. В зыбком пламени свечей она выглядела лет на десять старше, и выражение ее лица не сулило ничего хорошего. – Ка-акие песни, рапсод? Ты здесь не ради песен! – Я знаю, зачем я тут, – проникновенно сказал Тревельян. – Но видишь ли, моя зеленоглазая владычица, дело между мужчиной и женщиной не сводится к кувырканью в постели. Если ограничиться постелью, теряешь самое приятное и драгоценное – восторг души, нашедшей родственную душу. Твой наставник Тургу-Даш не говорил тебе об этом? Тогда позволь мне объяснить. Я расскажу тебе о робком взгляде и нежном касании рук, о песнях и цветах, что предназначены любимой, о первом поцелуе и… Звонкий голосок Лианы-Шихи вдруг сделался хрипловатым и резким: – Ты, рапсод, красив, но разума у тебя не больше, чем у лесного паца! Тургу-Даш научил меня читать, писать и считать, а теперь учит древней истории, и в других поучениях я не нуждаюсь, ни его, ни твоих! Я хорошо считаю, и мне известно, что бывает с человеком, если разделить его напополам. Хочешь, чтоб это случилось с тобой? Или желаешь вместо моей постели попасть в другое место? – От другого места я бы не отказался, – молвил Тревельян. – Разлука сохраняет свежесть чувств. Ты поймешь это, когда немного остынешь. Принцесса набросила покрывало на голые ноги и хлопнула в ладоши. Теки-Гах возник как из-под земли. – Лат-Хора ко мне! С его стражей! «Идиот! – прорычал командор. – Эта принцесска – племянница наследника! Для тебя – прямой ход в имперские Архивы, не говоря уж о связях в высшем обществе! Что тебя останавливает? Ты ведь переспал с Чарейт-Дор? Или я ошибаюсь?» «Чарейт-Дор мне нравилась, а эта юная стриптизерша – нет». «Но твоя миссия…» «Сейчас у меня внеслужебное время, – сообщил Тревельян. – На этом давай закончим». В павильоне появился мужчина зрелых лет с лицом значительным и важным. Его одеяние свидетельствовало о поспешности сборов, но главное он не забыл: большой, свисавший с шеи медальон с драконом являлся знаком власти над провинцией. Правителя сопровождали Теки и четыре воина в полном вооружении. – Я здесь, моя госпожа. – Лат-Хор склонил голову. – Чего ты желаешь? – Чтобы этого рапсода отправили в Висельные Покои! – Принцесса ткнула в Тревельяна изящным пальчиком. – Пусть его посадят в яму с пацами, и пусть он сидит там два… нет, три дня! Пусть сидит дольше, если я о нем забуду. – Она подняла взгляд к звездам и сморщила носик. – Я еще не решила, забуду или нет. – Будет исполнено, – сказал Лат-Хор. – Какое обвинение я должен ему предъявить? – Разве нужны какие-то обвинения? – Да, моя драгоценная гостья. Тебе, конечно, известно, что так полагается по закону. И обвинения должны быть серьезными, иначе не оберешься хлопот с Братством Рапсодов. Зеленые глаза сверкнули. – Что мне до них! – Думаю, тебе будет неприятно, если рапсоды откажутся петь в твоем доме. И в любом другом, где ты окажешься среди гостей. Представь такую картину: ты входишь во дворец Ниган-Таша, твоего почтенного родича, где собрались Нобили Башни с сыновьями, дочерьми и женами, где блещут праздничные огни и звучит музыка – ты входишь, песни и музыка смолкают, и рапсоды удаляются. И все знают почему! Не очень приятно, да? Так что нам необходимо обвинение. «Мудрый человек этот Лат-Хор, – заметил Советник Тревельяна. – Умеет воспитывать молодежь!» Принцесса натянула покрывало до плеч и призадумалась. Потом, фыркнув, промолвила: – Я обвиняю его в насилии! – О! – Правитель мельком оглядел Тревельяна. – А на вид такой приличный юноша! Значит, насилие… Куда же глядели твои стражи? И когда он успел штаны натянуть? Ну, не важно… Но за насилие – даже за мысль об этом, учитывая твою благородную кровь – положена не яма с пацами, а малый крюк. Вот в это место. – Лат-Хор ткнул себя повыше пупка. – Он будет умирать примерно с Восхода до Заката. Наверное, ты захочешь послушать, как он кричит? Лиана-Шихи содрогнулась: – Нет! Нет, да помилует меня Заступница! Пусть будет яма с пацами! За дерзость! – Хмм, дерзость… это вполне подходит. Пошли, рапсод! Вы, – правитель повернулся к стражам, – следуйте за нами на расстоянии десяти шагов. Когда я скажу, приблизитесь и отведете его в Висельные Покои. Приятной ночи, моя госпожа. Он повернулся и вышел, подталкивая Тревельяна перед собой. Висельными Покоями в Семи Провинциях и сопредельных странах именовалась тюрьма, бывшая одновременно и местом экзекуций. В Империи преступников не жгли на кострах и не рубили им голов или конечностей, не топили и не сажали на кол, а исключительно подвешивали. Эти казни были разнообразными и в зависимости от вины вели к быстрой и безболезненной кончине либо смерти мучительной и долгой. В первом случае вешали за шею или на крюк, пронзавший сердце, во втором казнимый висел вниз головой или крюк втыкали под ребра, в пах и другие места, чтобы дорога к Оправе не показалась слишком легкой. Что до орудий казни, то столб и веревка всегда оставались столбом и веревкой, а вот крюки были разные, большие, средние и малые, тупые и острые, гладкие и с зазубринами. Но коль угроза крюка миновала, то Тревельян о нем не думал, а лихорадочно пытался вспомнить, что же такое яма с пацами. Вспомнил наконец и помрачнел. В яму, собственно, сажали узника, а сверху водружалась клетка с решетчатым полом, и сквозь него продукты жизнедеятельности пацев валились вниз, прямо на голову страдальцу. Это сопровождалось визгом и радостным воем – пацы были умными зверюгами и умели развлекаться. Должно быть, мрачные мысли отразились на лице Тревельяна, так как Лат-Хор повернулся к нему и сказал: – Я примерно представляю, что между вами произошло. Вы, рапсоды, странный народ, клянусь Тремя Богами! Во всяком случае, кое-кто из вас. Тебе протянули сладкий плод, а ты пожелал, чтобы подали на золотом блюде и с поклонами… Гордыня и упрямство, упрямство и гордыня! Вот за это и будешь наказан. Я изгоняю тебя из Мад Эборна! Девчонке скажу, что ты сбежал, – она, конечно, не поверит, но это не важно. Мы с Ниган-Ташем друзья, и здесь она находится под моим присмотром. – Ты справедлив, – молвил Тревельян. Правитель усмехнулся: – Со стражем справедливости нельзя иначе, и неприятности с Братством мне тоже не нужны. – Он запрокинул голову, всматриваясь в небо. – Уже совсем стемнело, рапсод. Мои люди отведут тебя на пристань, посадят в лодку и переправят… Куда? Куда ты хочешь? – В столицу, мой благородный господин. И еще пусть принесут мои вещи и моего зверька. Или хотя бы мою лютню… Она в Покое Верных Слуг. Лат-Хор подозвал стража, отдал распоряжение. Потом сказал: – Не советую тебе ехать в Мад Аэг. Девушка скоро туда вернется, и, хоть город огромен, вдруг вы встретитесь… Тебе надо скрыться на несколько дней на островах. Потом переберешься на восток или на запад, в Провинцию Восхода или Дневную… Так будет лучше всего. – На островах? Что за острова, мой господин? – Острова в проливе между Мад Эборном и столицей. Там поместья богатых людей, и один из них считает меня своим покровителем. Уго-Тасми, не из знатных нобилей, просто торговец солью… Я прикажу, чтобы тебя отвезли к нему. Место уединенное, а усадьба очень хороша. Отдохнешь, а в благодарность будешь развлекать хозяина. Они спустились с холма к морю. Вдоль берега тянулась каменная пристань и покачивались корабли, совсем небольшие и размером с океанскую яхту, но Лат-Хор прошел мимо них. За пристанью была небольшая бухта, почти незаметная за кронами ив. Шагая к ней, Лат-Хор бросил охранникам: – Бина и Миора ко мне. Если спят, разбудите. И проверьте, что они не пьяны. Я не хочу, чтобы рапсода утопили. Над морем, тихо шелестевшим у их ног, раскинулся темный бархатный шатер, усыпанный звездами-светлячками. Ближняя уже стояла в зените, и от нее, как от земной луны, бежала по водной глади светлая узкая дорожка. Дворцовый холм отделял их от озера и города, но приглушенные звуки музыки и гул доносились даже сюда. На благодатном берегу, которому улыбнулась Таванна-Шихи, царил вечный праздник. Принесли мешок Тревельяна с сидевшим на нем зверьком, и тут же торопливо подбежали двое дюжих лодочников – видимо, Бин и Миор, на вид почти трезвые. Лат-Хор начал вполголоса давать им указания. Лодочники кланялись и чертили круги над сердцем. Потом выбрали одну из лодок у маленького причала и взялись за весла. – Садись, рапсод, – произнес Лат-Хор. – Они знают, куда плыть. Тревельян поклонился: – Да будут милостивы к тебе Таван-Гез, Таванна-Шихи и Тавангур-Даш! Я ценю честь, которую ты мне оказал. Я сложу песню о некоем рапсоде, о мудром правителе Мад Эборна и взбалмошной девице, которая… Лат-Хор сделал жест отрицания: – Не надо песни! Пусть это дело останется между нами, и пусть никто не узнает о нем, как о монетке, брошенной в море. – Он сунул руку в свой кошель, серебряный кружок мелькнул в свете звезд и с тихим плеском исчез в волнах. – Не попадайся больше на глаза Лиане-Шихи. А если все же попадешься, наберись, рапсод, терпения и мужества и сделай с ней все неприличия, о коих говорится в Песнях Плотского Греха. В другой раз меня поблизости не будет! Он расхохотался и пошел вверх по тропинке, сопровождаемый стражниками. «Неглуп, очень неглуп, – заметил командор. – Я бы взял его вторым помощником». «Почему не первым?» – спросил Тревельян, устраиваясь в лодке. «Второй помощник имеет дело с экипажем, это работа психолога, и тут допустимы легкий характер и склонность к юмору. Первый замещает командира и должен выполнять приказы в точности. Не рассуждать, а выполнять все приказы вышестоящего начальства! Чувствуешь разницу?» «Чувствую, – мрачно отозвался Тревельян. – Кандидат в первые помощники сунул бы меня в яму с пацами». «Именно так, мальчуган, именно так», – хихикнул его Советник. Гребцы навалились на весла, и лодка вышла в темное море.Глава 11 ТОРГОВЕЦ СОЛЬЮ
Островов и островков в морских водах между Мад Эборном и столицей Мад Аэг насчитывалось, вероятно, сотни две или три. Самый крупный, размером в восьмушку Сицилии, не относился к этому архипелагу, так как лежал порядком западнее пролива, и плавание вблизи него было под запретом: остров Понт Крир являлся императорской резиденцией. Другие клочки суши, окруженные водой, не поражали размерами; у тех, что побольше, береговая линия составляла от десяти до пяти километров, а некоторые и островом не назовешь – так, торчит из воды утес, а на нем три пальмы да сосна. Но если поперечник островка равнялся хотя бы сотне метров, он был уже обитаем и, более того, оборудован по самому высшему классу: парк или сад, цветники, причалы, купальни, хозяйственные службы и вилла, какая кому по карману, иногда скромный домик на дюжину комнат, а иногда целый дворец. Островные усадьбы очень ценились среди имперской знати и людей торгового сословия; с одной стороны, уединение, покой и тишина, с другой – до Мад Эборна и столицы можно было добраться на парусном судне меньше чем за половину дня. Льстило и сознание того, что обитаешь, подобно Светлому Дому, на личном острове и что пейзаж вокруг такой же, каким любуется сам император: изумрудная морская гладь под сапфировым небом, белые пушистые облака и солнечный глаз Таван-Геза. Ньорк, остров Уго-Тасми, торговца солью, был не из самых больших, однако вполне приличной величины – овал шириной в километр и длиною в полтора. Добирались к нему, сначала на веслах, а потом под парусом, часов шесть, и это плавание звездной ночью, в теплых тихих водах, под ласковым дуновением зефира, показалось Тревельяну чарующим – особенно после тех неприятностей, что грозили клеткой с пацами. Он вытащил лютню, коснулся струн, запел, и лодочники подхватили хрипловатыми, но сильными голосами. Спели подходящие к случаю серенады всех Семи Провинций, спели куплеты о лукавой танцовщице из Тилима, спели марш имперских солдат и песни китобоев с Архипелага. Затем Тревельян принялся расспрашивать Бина и Миора про Уго-Тасми, будущего своего хозяина, а еще о том, что связывает торговца солью с высокой персоной Нобиля Башни и правителя Фейнланда. Лодочники оказались парнями словоохотливыми и, как бывает среди слуг великих людей, знавшими все досконально – тем более что их господин гостил у торговца дважды в год и даже обменивался с Уго-Тасми письмами, а потому Бин и Миор плавали на остров часто. С их слов получалось, что Уго-Тасми унаследовал богатство и доходный промысел от отца, а тот – от деда-простолюдина, державшего то ли гончарную, то ли стекольную мастерскую в Мад Дуире, городишке в Провинции Восхода, у Первого Разлома. Деду Уго-Тасми сказочно повезло: копаясь в предгорьях в поисках песка, а может, глины, он наткнулся на соляные залежи. Соль в Семи Провинциях была проблемой, ее везли из Этланда и Запроливья, с морских берегов, а также с севера, из Рингвара, где были солевые озера. Соль невысокого качества выпаривали из воды, и на вкус она казалась горьковатой, а каменная соль, найденная то ли горшечником, то ли стекольщиком, была намного лучше. Обычный человек доложил бы о своей удаче правителю Мад Дуиры, получил награду в десять золотых и успокоился на этом, но дед Уго-Тасми был не таков. Нашлись у него откуда-то деньги для первых разработок, после чего с караваном соли отправился он в столицу; соль продал, а из Нобилей Башни выбрал самого бедного и честолюбивого, потерявшего, в силу различных причин, родовые дворцы и поместья и даже пост правителя Фейнланда. К нему и пришел умный дед Уго-Тасми с нижайшей просьбой о покровительстве и компаньонстве. Теперь благородный Лат-Хор, потомок того нобиля, бедным себя не считал, ибо соль вернула его роду все утерянное, и земельные угодья, и должности, и дворцы. Так что его дружба с Уго-Тасми являлась не просто душевной склонностью, а была замешена на крепком коммерческом интересе. Что до острова Ньорк, то удачливый горшечник, а может, стекольщик, приобрел его давно, лет пятьдесят назад, превратив со временем в уютное фамильное гнездышко. Нобиль, его высокий компаньон, облагородил землю каплей своей крови, и дед Уго-Тасми, а также его отец, счастливо жили и пристойно скончались в своем островном владении. Дед, злословили Бин и Миор, хоть был из тех, кому улыбнулась Таванна-Шихи, но вряд ли отличался благородными манерами, а вот его потомки, сын и внук, учились в самых знаменитых университетах и слыли людьми образованными. Если так, общение с солеторговцем обещает несколько приятных вечеров, решил Тревельян. Не исключалось даже небольшое расследование, ибо история рода Уго-Тасми могла быть связана с вмешательством извне – внезапное открытие, богатство и процветающий промысел напоминали последствия эстапа. Хотя, с другой стороны, все могло произойти естественным путем – и сама удачная находка, и хитрый маневр основателя фирмы. В технологическом плане тут ничего нового не просматривалось – в Империи были солеварни, и были ветряные мельницы с жерновами для дробления зерна, руды и что угодно. Почему бы не молоть на них каменную соль?.. Звезды померкли, восход расплескал по морю алые крылья, потом над линией горизонта поднялся яркий золотисто-оранжевый солнечный диск. Бин и Миор спустили парус и взялись за весла, направляя лодку в проход между рифами, вокруг которых плескала вода. Дальше открывались небольшая бухточка в форме подковы, песчаный пляж с купальней и башенкой маяка, линия пальм на заднем плане, а на переднем – причал с катамараном, парой яликов и двухмачтовым парусным судном, похожим на драгоценную игрушку. Едва лодка обогнула рифы, на башне затрубили, и где-то в середине острова, скрытой за пологом зелени, отозвалась вторая труба. Из помещения в низу башни выскочили трое молодцов, один помчался к пальмам и исчез, двое других заторопились к пристани. – Не будем спешить, – сказал Бин, лениво пошевеливая веслом. – Уго-Тасми почитает нашего господина и всегда ждет его у воды, чтобы проводить в дом. – Ждет вместе с женами, – добавил Миор и подмигнул: – А жены у него хороши! Особенно малютка из Тилима. Они медленно приближались к берегу. Не прошло и десяти минут, как из-за деревьев появилась целая процессия: впереди – мужчина в легких сандалиях и просторной белой мантии, за ним – стайка пестро одетых женщин, слуги с опахалами и носильщики с паланкином. Их было человек двадцать, и, заметив, с какой поспешностью они мчатся, Тревельян устыдился. Все же причиной переполоха был не высокий правитель Мад Эборна, а скромный рапсод. Бин и Миор сложили весла, лодка стукнулась о камень причала, ловкие руки подхватили брошенный канат, и Тревельян сошел на берег. Мужчина в белой мантии поклонился ему. – Разделяю твое дыхание! – И я твое, почтенный. Мужчина был высок, приятен лицом и крепок. Глаза темные, живые, бакенбарды коротко подрезаны, тонкие губы словно готовы изогнуться в насмешливой улыбке. Судя по пигментным пятнам, ему было где-то между сорока и пятьюдесятью годами. Он приложил к груди растопыренную пятерню:– Уго-Тасми, солепромышленник и торговец. А ты, я вижу, рапсод… Мой высокородный друг послал тебя с какой-то вестью? – Не с вестью, а с просьбой, – улыбнулся Тревельян, с первого взгляда проникшийся симпатией к хозяину. – Я – Тен-Урхи, и у меня случилась неприятность в Мад Эборне… так, совсем маленькая, тянула лишь на клетку с пацами… Но мудрый Лат-Хор меня пощадил и отправил погостить к тебе, пока об этой неприятности не позабудут. В глазах Уго-Тасми вспыхнул нечестивый огонек. – Ты молод и хорош собой, так что легко догадаться о причинах неприятности. Но я не буду спрашивать, из чьей спальни ты выскочил без штанов… – Он ухмыльнулся и похлопал Тревельяна по плечу. – Будь моим гостем, рапсод! Эти две женщины, Кора-Ати и Саринома, мои жены, и я надеюсь, что ты не нарушишь их покой. Остальные – служанки и слуги моего дома. Пойдем! Ты приехал как раз к утренней трапезе. Саринома, принадлежавшая к западной расе, была молода, смугла, светловолоса и очень красива. Кора-Ати, уроженка Семи Провинций, выглядела постарше; лицо у нее было приятное, с огромными темными глазами и ярким ртом. Служанки, что перешептывались и хихикали за спинами хозяек, тоже были весьма миловидны. Тревельян почувствовал, что здесь он отдохнет душой и телом. Они направились к тропинке, что вела мимо пальмовой рощи дальше в парк. Тут росли разлапистые пальмовые дубы и медные деревья, посреди лужаек с изумрудной травой поднимался кустарник, покрытый алыми и белыми цветами, в отдалении, будто позволяя любоваться собой, стояли сосны с длинными мягкими иголками, тут и там были разбросаны живописные скалы – с одной из них свергался маленький хрустальный водопад. Парк выглядел ухоженным: ни подлеска, ни диких зарослей и ничего пугающего или мрачного. Порхали и пели птицы, носились по ветвям древесные кролики, а над полянами пестрым облаком висели мотыльки, собиравшие мед. Рай, да и только! Грей, вероятно, пришел к тому же мнению, снялся с хозяйского плеча и полетел обследовать окрестности. Уго-Тасми проводил зверька пристальным взглядом. – У тебя шерр… Значит, ты удачлив! – Пристал ко мне в лесах Этланда и в самом деле принес удачу – ведь я в таком прекрасном месте! – Благодарю. – Торговец солью склонил голову. – Этланд далеко от моря Треш… Пришлось постранствовать, Тен-Урхи? – Что для рапсода дороже женщин, вина и мягкой постели? Только дорога, – сказал Тревельян. – Я был в Хай-Та, Этланде и Манкане, потом отправился вниз по Рориату на Дальний Юг… правда, непо своей воле. Вернулся в Фейнланд и хотел побыть какое-то время в Мад Эборне, но… – Он пожал плечами. – О, так ты был на Юге? – с неподдельным интересом спросил Уго-Тасми. – Эту часть материка почти не посещают… Ты непременно расскажешь мне о своих приключениях, Тен-Урхи! В молодости я тоже постранствовал по свету, пока не умер мой отец, да и сейчас, бывает, езжу по делам. – Он вздохнул и понизил голос: – Присматриваю за своими промыслами и навещаю сына… не от Коры-Ати и, конечно, не от Сариномы, она слишком молода… до них у меня была другая супруга, но ее прах уже в руке Таван-Геза. – Сочувствую тебе, – молвил Тревельян. – Пусть ее душа поскорей обретет новое тело. – Пусть. – Тень грусти скользнула по лицу торговца. – Она умерла, но у меня остался сын, совсем уже взрослый и похожий на мужчин нашего рода. Он, как и я, любитель путешествовать, а это для юношей полезно. Сейчас он в Запроливье. Там есть школы, где учат строительству судов и мореходному искусству. Деревья расступились. Теперь под ногами была дорожка из мозаичных плиток, а по обе ее стороны – цветники, два фонтана, пруд с разноцветными рыбками, изысканной формы павильон и под шелковым тентом стол и скамьи из медного дерева. Дорожка вела к трехэтажному особняку с венецианскими окнами, высокими каминными трубами и стенами из тесаного камня. Увидев его, Тревельян замер на половине шага, но тут же, чтобы не выказать удивления, промолвил: – Прекрасный дом, Уго-Тасми! Я таких нигде не встречал, ни на востоке, ни на западе, ни в северных провинциях. Чудо как хорош! Эти окна, и башенки по углам, и бронзовые решетки… Где так строят? – Строили, – сказал хозяин. – Когда-то так строили в Рингваре. Очень древний стиль. «Врет, – сообщил командор. – По имеющимся у меня данным, в Рингваре в старину копали землянки и рубили избы. А это…» «…викторианский стиль, – закончил Тревельян. – Англия, конец девятнадцатого века. Очень похоже! Хотя стекла слишком толстые, а оконный переплет слишком мелкий. Что скажешь? Совпадение?» «Возможно. Но ухо держи востро!» Слуги разошлись, служанки под присмотром хозяек принялись таскать на стол паштеты и салаты, рыбу и лепешки, но трем самым пригожим Уго-Тасми велел задержаться и, оглядев их, сказал: – Это Элли, Китти и Милли. Ну, мои красавицы, кто хочет услужить нашему гостю? Хотели все, но Китти, сразу выскочившая вперед, была пошустрей своих товарок. Уго-Тасми вперил в нее строгий взгляд: – Отведи достойного рапсода в пальмовый чертог, помоги вымыться и переодеться, потом сюда, к столу. И без глупостей, девушка! До ночи еще далеко. Китти повела Тревельяна в дом, потом из холла на второй этаж, оглядываясь, посматривая на красивого рапсода и лукаво улыбаясь. Она была миниатюрной, гибкой и очень хорошенькой – явная смесь континентальной и западной рас, одаривших ее темными волосами, смугловатой кожей и тонкими чертами лица. Пальмовый чертог – опочивальня с кабинетом, обшитые светлым пальмовым деревом, – находился в западном крыле просторного особняка. Тут было даже что-то вроде ванной – большая медная лохань в отдельном закутке, куда Китти запихнула Тревельяна, содрав с него одежду. Такое поведение не считалось фривольным – в Империи, да и в большинстве сопредельных стран, не было запретов на наготу. Правда, Китти тоже стала раздеваться, но Тревельян напомнил ей хозяйские слова: до ночи еще далеко, так что без глупостей, девушка! Вытершись, он облачился в сандалии и такую же, как у Уго-Тасми, мягкую полотняную мантию с прорезями для рук. Китти глядела на него с прежней лукавой улыбкой; должно быть, ждала, что сейчас он сделает с ней что-нибудь интересное, то ли в кресле, то ли на постели или прямо на столе. Но Тревельян только подмигнул ей и спросил на западном диалекте: – Давно ли служишь здесь, милая? – Три года, мой господин. Я приехала из Тилима с госпожой Сариномой… Ты говоришь по-нашему? – Я рапсод, и говорю по-всякому. Я даже знаю, что прежде тебя звали не Китти. – Да, в Тилиме я была Катахной. – Она произнесла свое имя с придыханием, характерным для западных языков. – Это хозяин назвал меня Китти. Он всем дает новые имена… всем, кроме своих жен. У него такие странные привычки… Но он хороший человек! – Ничуть не сомневаюсь. Сегодня, когда Таван-Гез закроет солнечное око и откроет звездное, я хочу послушать, как ты жила в Тилиме. Расскажешь? Щечки Китти порозовели. – Да, мой господин. Ты мне споешь? Совсем тихо, и только мне? – Спою, – подтвердил Тревельян. – Только тебе. Он спустился по лестнице, размышляя о том, что вот была девушка вчера – да не простая, принцесса! – и есть девушка сегодня, не такая знатная и красивая, но к одной не лежало сердце, а для другой готово оно раскрыться. На час, или на ночь, или на несколько ночей, как будет угодно судьбе… Но разве он не властен над своей судьбой? Разве не может взять на Базе тонну золота, а лучше – глайдер с интравизором, полетать над долами, над горами и найти рубиновые копи, как Пагуш, или залежи соли, как Уго-Тасми? Либо нечто другое, что тоже ценится в этом мире и позволяет разбогатеть безмерно, купить такой же райский островок, дворцы во всех Семи Провинциях, а заодно – вельможу-покровителя… И жить! Жить, никуда не торопясь, не прыгая от звезды к звезде, а наслаждаясь покоем, любовью прекрасных женщин, каждым мгновением бытия… Встречать рассветы, провожать закаты, слушать, как рокочет прибой и шумят деревья, а если захочется, странствовать по морям и землям в обличье нобиля или рапсода, воина или купца… Жить, а не служить! Не получать заданий, не диктовать отчетов, не притворяться своим среди чужих, а стать своим на самом деле… И жить долго и счастливо. «Главное, долго, – заметил командор. – Кого устроит счастье на двадцать-тридцать лет? Желательно хотя бы век, а на такое время медицинского импланта не хватит. Чтобы век прожить и не состариться, нужны определенные усилия». «И оборудование, – добавил Тревельян. – Поищем?» «Зачем искать? Можно просто спросить». «Начнет отпираться. К тому же искать интереснее». «Ну, как знаешь…» – пробурчал Советник. Тревельян пересек холл, украшенный морскими пейзажами и бронзовыми лампами в форме драконов нагу, открыл двери и поглядел на хозяина и двух хозяек, поджидавших его у накрытого стола. Лучезарно улыбаясь, он направился к ним.
* * *
До чего приятной была жизнь на острове Уго-Тасми! Если, утомившись ночью, проспишь и пропустишь рассвет или, увлеченный беседой, не полюбуешься закатом, то сделаешь это завтра или послезавтра, ибо рассветы и закаты чередовались с дивным постоянством. Плюс к этому дом со всеми удобствами, какие мыслимы в текущую эпоху, плодоносящий сад и парк – отличное место для моциона, мягкий ровный климат, морские купания и прогулки, трапезы в доме и на природе, но неизменно с изысканными винами и блюдами. Плюс преданные и не ленивые слуги, хороший повар, великолепный массажист, три садовника, прелестные служанки… О служанках можно было бы поговорить особо, и не только о Китти, но Тревельян предпочитал не слишком углубляться в эту тему и не копить воспоминаний. Воспоминания – источник сожалений… А он уже сожалел о том часе и дне, когда придется покинуть маленький Эдем солеторговца. Они с хозяином едва ли не сдружились. Нельзя сказать, что Уго-Тасми испытывал дефицит общения – жизнь он вел вполне светскую, посещал на яхте то столицу, то Мад Эборн и своих соседей, сам принимал гостей и временами ездил на охоту в горы Провинции Восхода и в поля Фейнланда. Но беседы с Тревельяном его развлекали – быть может, по той причине, что Тен-Урхи, как и положено рапсоду, был набит историями по самую завязку. Большую часть этих сказаний, песен и баллад он усвоил еще на Земле, под гипнозом, но, постранствовав от Манканы до южных лесов, мог поведать что-то свое, оригинальное. Кроме рассказов про Аладжа-Цора, нобиля-разбойника, про мятеж Пагуша, похищение и эскападу на Дальнем Юге, были и другие темы, более интересные Тревельяну. Например, о паровом котле, изобретенном четырежды, Суванувой из Пейтахи, Куммухом из Манканы, Рдияс-Дагом из Дневной Провинции и Таркодаусом из Островного Королевства. Еще о бумаге мастера Цалпы, о керосине и подзорных трубах, седлах, компасе и краске из коры розового дерева и, разумеется, о Дартахе Высоколобом и его теориях. Уго-Тасми слушал с любопытством, улыбался и молчал. Знает?.. – мелькало у Тревельяна в голове. Знает обо всем и даже имеет собственное мнение? Возможно, уже разобрался с феноменом Осиера? Это не исключалось, если подозрения насчет солеторговца были справедливыми. Пожалуй, их стоило подкрепить, и Тревельян уже знал, где скрыты нужные доказательства. Его интерес к архитектуре льстил хозяину, и вместе они осмотрели дом от чердака до подвалов и винных погребов, задержавшись в огромной и удивительно богатой библиотеке. Дом был чист. Само собой, не исключалось, что в подвале, библиотеке или хозяйской спальне есть тайная дверь или секретный люк, но Тревельян не верил в столь примитивные решения. Как их ни прячь, за половину века люк или дверь могли попасться на глаза кому-то из прислуги, добавив к странностям хозяина еще одну. Странностей имелось множество, и Китти, главный информатор, хоть жила на острове не так давно, о чем-то слышала от слуг, ну а чему-то была сама свидетелем. К примеру, никто не встречался с хозяйским сыном и наследником. Считалось, что он путешествует по дальним странам, чтобы набраться знаний и ума, но остров он не посещал, и даже Кора-Ати с Сариномой не были ему представлены. Каждый год, в сезон Четвертого Урожая, Уго-Тасми отправлялся в путь, чтобы повидаться с сыном, но ездил всегда в одиночестве, даже без Боба и Дика, своих телохранителей. Возвращался всегда с изрядным грузом книг, особенно древних манускриптов, которые ценил превыше золота и собирал всю жизнь – так же, как его отец. Все эти книги, старые и не очень, он мог читать и, казалось, знал все языки и диалекты, сколько их есть на Осиере. С книгами он возился больше всего, чертил какие-то схемы, что-то записывал, но значки его письма не походили ни на единый имперский алфавит, ни на старинные символы Хай-Та, Горру, Тилима, Запроливья и других держав на востоке и западе. Еще он любил рассказывать истории как настоящий рапсод, и слуги собирались их послушать – о мальчике, потерянном в лесу и выросшем в логове тарлей, о человеке, нашедшем лампу, которой повиновались духи бездны, о престарелом повелителе, что разделил свою страну между тремя дочерьми, о красавице, бежавшей с возлюбленным от мужа, и разгоревшейся из-за нее войне. Случалось хозяину впадать в глубокую задумчивость, и тогда он удалялся в павильон, садился на ковер и медитировал от времени Восхода до Заката, не принимая ни пищи, ни питья. Жены и слуги знали, что мешать ему нельзя, что он размышляет о божественном и даже, быть может, смотрит вещие сны, посланные Заступницей, ибо из павильона он выходил с просветленным лицом и бодрым видом. Самой же главной странностью в глазах служанок было отсутствие детей у госпожи Кора-Ати и госпожи Сариномы, хотя, как шептались женщины постарше, хозяин был не из тех мужчин, которые дремлют в постели. Возможно, он не хотел других наследников и требовал, чтобы жены пили отвар корня суири, предохранявший от зачатия? Но, прислуживая Сариноме в спальне, Китти такого не замечала. Что до имен, которыми Уго-Тасми одаривал слуг мужского и женского пола, то это отвечало имперскому обычаю и не казалось Китти удивительным. Бывало на Осиере, что имена менялись; были имена воинские, были морские, были те, которые супруг давал своим женам, господин – прислужникам, мастер – подмастерьям. Наконец, человек, недовольный именем, полученным от рождения, тоже мог его переменить; такова была традиция западной расы, прижившаяся в Семи Провинциях давным-давно. Нет, для Китти имена не относились к числу хозяйских странностей, и не имелось среди них чего-нибудь другого, какой-то истории о тайной дверце и секретном закутке, куда по временам удалялся господин. Ничего такого, кроме павильона. В одну из ночей Тревельян его обследовал. То было изящное строение из драгоценного медного дерева: шесть столбиков, выточенных в форме древесных стволов с бугристой корой, а между ними – резные ветви и листья, цветы и плоды, бабочки и птицы. Сверху ветви сходились пышной огромной корзинкой, внизу был лакированный пол, застеленный коричневым, в тон дереву, ковром. Павильон походил на изделия Древнего Китая, на ту искусную резьбу, в которой не повторялся ни один элемент, где каждый листок и цветок был отличен от другого и выглядел, как заведено в природе, неповторимым и единственным. Стояло это сооружение на шестигранном фундаменте из тесаного гранита диаметром метров пять и высотой до пояса. Тревельян приложил к нему ладонь, потом прижался ухом и щекой, зажмурился и ощутил едва заметную вибрацию. Не обладая той разновидностью паранормального дара, что позволяла лоцировать энергетические установки, он не мог проникнуть взглядом через камень, но представлял, что спрятано за этими гранитными стенами. Большая, немного сплющенная полусфера в кольце мигающих зеленых огоньков, экраны-отражатели со всех сторон, массивный диск источника питания, эмиттер, направленный вверх – так, чтобы излучение пронизывало пол и омывало человека посреди ковра. Бесконтактная лучевая терапия… Возможно, самое главное из достижений землян… Ибо что дороже молодости и жизни? «Генератор, – предположил командор. – Не разбираюсь я в ваших нынешних моделях, но там определенно генератор. А это нарушение устава Фонда. Помнишь, какой пункт?» «Тут добрый десяток нарушен, – заметил Тревельян. – Он не должен был здесь оставаться, вести записи на земных языках, использовать свой опыт и знания в личных целях. Конечно, тащить сюда такую установку тоже возбраняется». «Всякая тварь хочет жить, а человек – особенно, – с ментальным вздохом прокомментировал Советник. – А камера под этой резной мухоловкой небольшая… В мои времена такой аппарат три комнаты занимал, и суетилась при нем дюжина бездельников». «Теперь это небольшая и автономная установка. Скорее всего, там КПЖ-5 зарыта, с торсионным генератором. Пока планета крутится вокруг оси, энергии хоть отбавляй». «КПЖ… – повторил командор. – Это как расшифровать?» «Комплекс продления жизни, стационарная модель, пятая модификация. Сейчас на холостом ходу. Только генератор энергию сосет». «А сверху все в резьбе да в кружевах… Умно! Нужный листик повернешь, машинка и включится». «С листиком это вряд ли, – возразил Тревельян. – Дистанционное управление у него. Думаю, через имплант. Вмонтировал куда-нибудь под мышку или в ягодицу вколол… Теперь это просто, дед». «Нам бы такое, когда мы с дроми бились, – проворчал командор. – Ну, что будешь делать с этим прощелыгой?» Отступив от павильона, Тревельян крадучись направился в дом. В свои пальмовые чертоги, где сладким сном спала гибкая смуглая девушка. «Что буду делать? А ничего! Поговорю, обменяюсь мнениями… Может, он что-то полезное подскажет». «Как ничего? А ваш нарушенный устав? А кража казенного добра? А, наконец, двоеженство? В мои времена, да за такие фокусы…» Тревельян бесшумно проник в холл и стал подниматься по лестнице. «Времена изменились, дед. Нарушение устава ФРИК не влечет ни наказания, ни дисквалификации. Ему подчиняются добровольно, и каждый вправе расторгнуть договор». «Тогда это не устав, а пособие по ловле блох!» – возмутился командор, но Тревельян, не слушая его, юркнул в дверь своих покоев. Китти-Катахна вздохнула, повернула к нему свое личико и улыбнулась во сне.* * *
Они сидели в библиотеке, под которую была отведена половина третьего этажа. Библиотека была совсем не такой, как во дворце Раббана, правителя Северного Этланда, – никаких чучел, рогов и звериных голов, да и площадь двухсветного высокого зала побольше в десять раз. В то же время вид такого количества полок, заставленных крупными и мелкими томами, ларцами и шкатулками со свитками и тонкими пластинами из дерева и бронзы, был Тревельяну непривычен; в его понятиях библиотека являлась голографическим экраном перед мягким креслом. Конечно, как специалист по гуманоидным культурам, он видел древние библиотеки на Земле, но в состоянии консервации – книги и прочие раритеты хранились в стасис-контейнерах, в залах с аргоновой атмосферой, а все их страницы, вплоть до мельчайшего чернильного пятна, были давно скопированы и уложены в компьютерную память. Те библиотеки были мертвыми, застывшими в своих аргоновых гробницах, а эта, принадлежавшая Уго-Тасми, живой; к каждой книге можно прикоснуться, взять ее в руки, перенести на стол, раскрыть… И книг было такое множество! – Почти четырнадцать тысяч томов, – с гордостью сказал хозяин. – У меня есть редчайшие рукописи… «Странствие на север» Токот-Преги, возраст двенадцать веков, в ту пору Рингвар, Пейтаха и Ониндо-Ро еще не были заселены… «Сказание о владыках Архипелага», повесть тех времен, когда в Семи Провинциях еще не знали о Жемчужном море… Есть даже «Песни птицы ках»! Ты их знаешь, Тен-Урхи? – Разумеется, – кивнул Тревельян, – разумеется. И с этими «Песнями» знаком, и с двумя другими манускриптами, которые ты назвал. – Подняв руку, он погладил дремавшего на плече Грея. – Я согласен с тобой, это настоящие редкости! В глазах Уго-Тасми сверкнула ирония. – И с тем знаком, и с этим… Удивительно! Клянусь Тремя, ты очень образованный рапсод! – А ты очень образованный солеторговец, – отпарировал Тревельян. – И потому я расскажу одну историю, которая будет понятна только тебе. Тебе, и только тебе на всем огромном Осиере… – Он сделал паузу, не спуская взгляда с Уго-Тасми. – Жил на одной далекой звезде человек, избравший работу… ну, скажем, наставника. Только наставлял он не двух-трех учеников, а целые племена и народы, обитавшие у других звезд и не столь могущественные, как люди его родного мира, поэтому был он воистину посланцем небес. Случилось так, что он попал сюда, на Осиер, и здесь ему весьма понравилось, и решил он бросить прежнее свое занятие, найти какой-нибудь промысел, дающий почет и богатство, и жить тут в свое удовольствие. Что касается богатства и почета, то добиться их было несложно, ведь этот посланец небес умел превращать в золотые монеты камень, руду или, к примеру, соль. Вот с жизнью оказалось тяжелее… Дело в том, что люди на его звезде жили долго и сохраняли силы молодости едва ли не до последних своих дней, но для этого им приходилось становиться под волшебный дождик. Так, иногда, время от времени… Дряхлеть и умирать тому человеку не хотелось, и он утащил с собой ведро с волшебной водицей, а может быть, целую бочку или цистерну… может, что-то еще прихватил, не менее волшебное… В общем, стал он богат и купил себе остров, назвав его Ньорком, потому что родился в Нью-Йорке, а имя выбрал себе Уго-Тасми, похожее на Хьюго Тасмана. И жил он на Осиере целых пятьдесят лет, а чтобы не удивлялись его долголетию, превращался из деда в отца, из отца в сына, пока, наконец… – …не встретил другого посланца небес! – рассмеявшись, сказал Тасман. Он ничуть не выглядел обескураженным, даже наоборот – в его глазах плясали искорки веселья. – Если бы ты знал, сколько хлопот мне доставляют превращения! Временами хочется прикончить Уго-Тасми, торговца солью, и сделаться Хуг-Тасом, владельцем ковровых мастерских… Ну, с этим можно еще не торопиться. – Он хлопнул ладонью по колену и спросил: – Когда ты догадался? – Заподозрил, скажем так. Когда услышал имена девушек и увидел твою усадьбу. Прошлое не отпускает, а, Тасман? Его собеседник кивнул, пригасив улыбку. – Да. Пятьдесят лет срок изрядный, и я уже наполовину осиерец, но другая половина все еще оттуда, с Земли… – Лицо Тасмана стало задумчивым. – Как тебя зовут, Тен-Урхи? – Ивар Тревельян, наблюдатель Фонда, социоксенолог. – Не помню такого. Сколько тебе лет? – Тридцать восемь. – Ты совсем молод… Мне было сорок два, когда я тут застрял. Я прожил на Осиере долго и проживу еще дольше… Мне тут нравится, Ивар. – Не хочешь улететь со мной? – Не могу. – Не можешь? – Тревельян удивленно нахмурился. – Я понимаю, не хочешь… Но почему не можешь? – Потому, что все было совсем не так, как в придуманной тобой истории. Отдаю должное твоему воображению, однако… Однако есть вещи, Ивар, о которых лучше тебе не знать. – Тасман поднялся, прошел от стены к стене, оглядел полки с ларцами и книгами и резко сменил тему: – Как предполагалось, Фонд выждал половину века и прислал наблюдателя. Тебя. Ты должен проверить действие последнего эстапа? Эстапа Гайтлера, внедренного через Дартаха из Экбо? – Да, именно так. – Вот что я тебе скажу, Ивар: убирайся отсюда и с чистой совестью садись за отчет. Результаты у нас нулевые. – Тасман вперил взгляд в одну из шкатулок, что была инкрустирована серебром и перламутром. Затем поинтересовался: – Что с моими коллегами – с теми, из нашей группы? Кроме них, у меня не осталось близких на Земле. – Гайтлер умер. Голова Тасмана печально поникла. – Да, конечно… Курт был уже очень стар… – Колесников и Сойер живы и благополучны. Сойеру я сдавал экзамен. Шестнадцать лет назад, в Академии. – Они ничего не знали… – медленно и будто бы сам для себя промолвил Тасман. – Ровным счетом ничего… – Не знали о чем? – спросил Тревельян, но не дождался ответа. Эти полунамеки начали его раздражать. Конечно, Тасман, проведя здесь много лет, лучше ориентировался в ситуации, но это еще не повод, чтобы изгонять с планеты его, Тревельяна, полномочного эмиссара ФРИК! Во всяком случае, если предложено убираться, то должны быть хоть какие-то объяснения. Не намеки и даже не гипотезы, а точные данные! Либо Тасман выяснил, отчего эстапы тонут здесь, как камни в трясине, либо нет, но ту или другую ситуацию надо ясно обозначить. Тем более что… Он сунул руку за пояс, нащупал медальон Аладжа-Цора. Потом, не вынимая его, сказал: – Вряд ли я могу сейчас убраться, да еще с чистой совестью. Видишь ли, Хьюго, тут обнаружились новые факты. Такое, что вам с Гайтлером и не снилось. – Гайтлер уже в лучшем мире, а я… Откуда ты знаешь, что мне снится? Вернее, что мне известно, а что – нет? Продолжая сжимать в ладони голографическую пластинку, Тревельян, после многозначительной паузы, промолвил: – Что бы тебе ни было известно, ты не спешишь делиться информацией. А ведь мы, коллега, тут не одни… Кто-то сюда добрался, раньше или позже нас, и этот кто-то нам мешает. Так что я думаю… – Кто добрался, когда и зачем? – перебил Тасман, резко обернувшись. – У тебя есть доказательства? Или одни пустые домыслы? – Не домыслы, нет. Взгляни-ка на это, – Тревельян раскрыл ладонь с загадочной голограммой. – Помнишь историю с Аладжа-Цором, что я тебе рассказывал? С тем знатным нобилем, которого покарало Братство? Но, перед тем как покарать, ему послали предупреждение, что-то вроде пророчества или знака грядущей судьбы. Я нашел это рядом с его трупом и могу засвидетельствовать абсолютную точность визуального образа. Тасман, стоявший у полок, стремительно шагнул к столу и впился взглядом в медальон. Отблеск какого-то чувства, промелькнувшего в его глазах, был непонятен Тревельяну, но командор, видавший всякие виды, разобрался с ним быстрей. «А ведь он боится! – прошелестело ментальным эхом. – Боится, клянусь Галактикой! Он знает про эту штуку!» – Значит, нашел рядом с трупом… – Щеки Тасмана слегка побледнели. – Ну, раз нашел, уже ничего не поделаешь. Теперь я обязан с тобой поделиться, просто обязан предупредить! Как говорят, во многом знании много печали, а я добавлю – много страха. Но вдруг это знание тебя спасет… Он вернулся к полкам, раскрыл ларец – тот самый, в серебре и перламутре, – вытащил два медальона, точно таких же формой и размерами, как присланный Аладжа-Цору, и бросил их на стол. На одном была прелестная картинка: Хьюго Тасман в окружении красивых женщин, слева и справа от них фонтаны и пышная зелень, а на заднем плане – викторианский особняк с каминными трубами и высокими полукруглыми окнами. Другая голограмма выглядела не так приятно: столб, а на нем – мертвое нагое тело, пронзенное крюком. Голова свалилась на грудь, лица не видно, но Тревельян не сомневался, что это тоже изображение Тасмана. – Тебя предупредили? – спросил он хриплым голосом. – Два варианта судьбы, на выбор? – Да. Уверен, тут не может быть двух мнений. – И как это к тебе попало? Тасман задумчиво потер висок. Если он в самом деле боялся, то теперь скрывал свой страх с большим искусством. – Как попало? Ну, это тоже целая история, и более правдивая, чем повесть рапсода Тен-Урхи о солеторговце Уго-Тасми… Понимаешь, Ивар, тебе – да и руководству Фонда – известно об эстапе Гайтлера лишь то, что сообщил сам Гайтлер. Но его истинные планы… ну, они были несколько шире официальных, скажем так. Даже Колесников и Сойер остались в неведении. «Парень начинает колоться, – заметил командор. – Похоже, он тут не только с бабами развлекается». Тасман сел в кресло, побарабанил пальцами по столу, разложил перед собой все три голограммы, прищурился, поглядел на них с нехорошей усмешкой. Потом произнес: – Я остался здесь по просьбе Гайтлера. У нас не было уверенности, что эстап сработает – собственно, он и я считали, что эта затея, как все предыдущие, обречена на неудачу. И тогда вступал в действие наш тайный план… – Тебе предназначалась роль местного Колумба? – Ну, ты правильно понял, коллега Ивар. Но сначала я должен был укорениться, приобрести определенный статус, друзей и покровителей в высоких сферах и, разумеется, финансовые средства. Это заняло около трех лет. Дартаха тем временем изгнали из Экбо, его трактат пылился в сундуке книгохранилища, и мысли о землях в другой половине мира ровным счетом никого не волновали – ни в странах Пятипалого моря, ни на западе, ни в Семи Провинциях. Пришло время действовать, и я отправился в Бенгод, где приобрел большое, только что построенное судно, закупил снаряжение и попытался набрать команду. Вот тут и начались проблемы! Я не мог найти людей в прибрежных городах Хай-Та и Этланда, готовых плыть в Восточный океан, не мог ни за какие деньги! Конечно, речь шла о знающих, умелых мореходах, а не о портовых оборванцах… Мне нужен был многочисленный экипаж, человек сто или сто двадцать, чтобы, вернувшись, они рассказали о новой земле во всех кабаках от Бенгода до Ильва и Пазека. Но одни были заняты, другие опасались пиратов с Архипелага, бурь или морских чудовищ, третьи сочли меня безумцем, который всех погубит в океане, четвертые решили, что плыть к Оправе Мира – святотатство. Хотя народ здесь не очень религиозен, однако… – …однако они не имеют морской традиции, которая была у португальцев, испанцев, голландцев и англичан, а до них – у викингов, – подхватил Тревельян. – Традиции дальних морских походов и поисков неведомых земель. Сугубо континентальная психология, даже в прибрежных странах. – Да, конечно, я тоже об этом думал, и потому, наняв временный экипаж, перебрался на Архипелаг, в Диранто. Китобои посмелее моряков из Хай-Та и Этланда, и кто-нибудь последовал бы за мной, но тут мое судно спалили. То есть его подожгли, а вместе с ним выгорела половина лодок и баркасов в гавани, а пирсы и деревянные склады еле отстояли… Местный князек объявил, что я приношу несчастье, и тут же изгнал меня из города, хорошо, что не повесил… Я вернулся в Бенгод за новым судном, но там уже знали, куда я собрался, и подходящего не нашлось, ни нового, ни старого, ни в Бенгоде, ни на верфях других городов, хотя я объездил их десятки. – Я побывал в Бенгоде. Собственно, с него мои странствия и начались, – произнес Тревельян. – Там ничего не помнят о тебе и твоей попытке. Хотя прошла почти половина века… Некоторое время они обсуждали, что могло случиться за этот период, и согласились, что равновероятны две возможности: либо слухи диссипируют и исчезают почти без следа, либо расходятся шире и шире, превращаясь в устойчивый комплекс легенд. Очевидно, события пошли по первому сценарию. Этот факт был очевиден, и проблема состояла в том, сами ли пошли или их направили. – Черт с ними, со слухами, – сказал наконец Тревельян. – Дальше что случилось? – Дальше? После фиаско на востоке я отправился на запад. Пересек континент, добрался до Мерцающего моря, до Запроливья и Княжеств Шо-Инга, где меня никто не знал, выбрал лучшие верфи и заказал целую флотилию, четыре корабля. Мог бы и больше – средств хватало, соль с моих промыслов текла рекой, и только в столицу вывозили по шесть караванов за сезон. Потом, в один прекрасный день, я получил предупреждение, эту вот шкатулку. В спальне моей обнаружилась, дьявол, запечатанная, а верфи с моими судами уже горели! И тогда я понял… Он отвернулся, стиснув на коленях кулаки. Все остальное Тревельян сумел домыслить сам. Его коллегу не изгоняли отсюда – совсем наоборот, ему предписывалось жить здесь до естественной кончины, жить тихо, спокойно и счастливо, не помышляя о кораблях, о дальних плаваниях и заморских землях. База, как и возможность побега с Осиера, тоже находились под запретом – отправитель шкатулки был, очевидно, в курсе планов ФРИК покинуть этот мир на длительное время. Он – или они?.. – не желал, чтобы Тасман делился догадками с кем-нибудь из своих, но убивать его не собирался. Только в крайнем случае, только если он отвергнет щедрые дары – райский остров в теплом море и уютный дом, где ждут хозяина ласковые женщины и древние книги… Выбор между этой жизнью и крюком был очевиден, так что не стоило упрекать Тасмана в малодушии. – Знаешь, кто рассылает эти шкатулки? – сказал Тревельян и, когда собеседник покачал головой, добавил: – Братство Рапсодов, мой благородный орден, что надзирает за справедливостью… вернее, самый главный его шеф, мудрейший Аххи-Сек, Великий Наставник из Мад Дегги. Есть такой городишко в Полуденной, у Кольцевого хребта… – Думаешь, он?.. – Не знаю, Хьюго. Может, этот Аххи-Сек – оракул при настоящих пророках, простая марионетка… Ну, я до него доберусь! До него или до истинных кукловодов! Наступила тишина. Тасман размышлял; его глаза скользили по полкам, заставленным книгами, по резной мебели и окнам, распахнутым в сад, словно он, лаская взглядом просторную комнату, пытался взвесить два варианта грядущей судьбы: столб с крюком и это свое уютное жилище. Наконец он произнес с глубоким вздохом: – Я тебе помогу, Ивар. Хватит прятать голову в песок… Помогу! – Помоги, только немного – у тебя тут яхта, вот и отправь меня в столицу. Пусть твои парни отвезут, чтобы тебе не светиться. И еще – может, имеешь какие-то связи в Архивах? Хочется мне туда попасть. – С Архивами вряд ли буду полезен, не вхож я на императорский остров, а в столицу сам отвезу. У меня вилла в пригороде, поживу на ней и за тобой присмотрю. В Мад Аэг есть мои доверенные люди… прикормил пару-другую чиновников… – Договорились. – Тревельян поднялся, шагнул к раскрытому окну. Внизу служанки под командой красавицы Сариномы уже собирали на стол, готовясь к вечерней трапезе, и он увидел смуглые плечи и пышноволосую головку Китти. Милая девушка, мелькнула мысль. Будет ли вспоминать рапсода, который пел ей нежные песни по ночам?.. Сняв наушные украшения, серебряные кольца с подвесками из бирюзы, он протянул их Тасману: – Для той девушки, для Катахны… больше мне нечего подарить. И скажи, что я ее не забуду. Тасман улыбнулся: – Скажешь сам. В Мад Аэг мы отправимся утром.Глава 12 СТОЛИЦА
Мад Аэг, имперская столица и самый крупный город обитаемого мира, лежал у просторной бухты и был возведен на семнадцати холмах, частью обращенных к морю, частью выходивших к северной равнине, садам и лесу, который считался заповедным охотничьим угодьем правящей фамилии. В прежние времена возвышенностей насчитывалось больше, но тысячу двести лет тому назад, в эпоху правления Матак-Сари Благословенного, когда город начал быстро разрастаться, многие холмы срыли, чтобы засыпать ложбины и овраги по окраинам, куда бурной волной выплескивались городские предместья. Каждый из уцелевших холмов с глубокой старины носил свое имя, и все они были изрезаны террасами, которые укрепляли циклопические каменные стены и соединяли широкие лестницы. Три холма к западу от бухты и четыре к востоку вздымались над морем скалистыми массивами, и их обитатели могли любоваться с вышины гаванью, полной кораблей, огромной торговой площадью, прибрежным храмом Трех Богов и сине-зеленым морским простором. Здесь, на каменных выступах, естественных или рукотворных, стояли дворцы Восьмисот Фамилий, семейные гнезда, которые не перестраивались, а лишь иногда подновлялись, дабы порадовать почтенных предков, проливших кровь на эти скалы. Места на прибрежных холмах было немного, и потому при строительстве дворцов не придерживались традиционного стиля с разделением на павильоны, беседки и отдельные покои. Этот стиль считался древним, но жилища знати в Мад Аэг превосходили его стариной на доброе тысячелетие; некогда их воздвигли так, как полагалось двадцать пять веков назад: массивные каменные строения с передним фасадом в виде уступчатой пирамиды, круглой или прямоугольной башни, украшенной портиком и колоннами. Задняя часть обычно пристраивалась к скале, в которой были выдолблены полости – кельи слуг, кладовые, кухни и конюшни. Эти ласточкины гнезда служили обителями главам родов, а менее важные их члены предпочитали жить с большими удобствами, кто на холмах, обращенных к лесу, кто на виллах в зоне садов, кто даже в предместьях, среди дворян, не отличавшихся особой знатностью, и разбогатевших купцов. Ввиду особенностей пейзажа, в центральном районе Мад Аэг не было улиц, а только лестницы, террасы и площади между холмами, похожие на ущелья с прихотливыми извивами. Однако ущелья облагороженные, с ровным дном, выложенным гранитной плиткой или мозаикой, с зеленым обрамлением из могучих деревьев, с массой фонтанов и водоемов, украшенные колоннадами, пилонами и статуями, с базарами, храмами, банями, лавками и харчевнями, где с восхода до заката толпился народ. Предместья охватывали холмистый центр полукольцом, и там, кроме жилых домов, тоже имелись храмы, кабаки и рынки, а также казармы, мастерские, школы и первый в Семи Провинциях, почтенной древности университет. От казарм, стоявших точно крепость в окружении рвов, высоких стен, мостов и опускных решеток, начиналась имперская дорога, рассекавшая предместья, плодовые рощи и лес и уходившая на север. Километрах в восьмидесяти от столицы, у цитадели Меча и Щита, она растраивалась; один путь по-прежнему тянулся на север до самого Мад Дегги, два других шли на восток и запад, в соседние провинции. По современным земным понятиям Мад Аэг был городком небольшим, населенным едва ли миллионом жителей, но все относительно, все познается в сравнении, и всякому миру и всякому времени – свои масштабы и точки отсчета. Средневековый Париж перед Столетней войной считался чудом света, самым крупным из европейских городов, а жили в нем всего-то двести тысяч человек. Так что если обратиться к прошлому, то получалось, что Мад Аэг впятеро превосходит Париж многолюдством, площадь имеет больше в двадцать раз и отличается гораздо лучшим благоустройством. Конечно, теперь на Земле, где Европейская, Сахарская или Сибирская жилые зоны простирались на сотни километров в любую сторону, миллионный город был рядовым явлением, камешком средних размеров среди утесов, валунов и глыб. Пожалуй, в дюжине-другой колоний, на Высокой Горе или Арнибе, заселенных еще в эпоху Темных войн, ситуация была такая же; человечество плодилось и размножалось, благословляя Лимб и контурный двигатель, открывшие дорогу к любым мирам Вселенной. Но тут, на просторной планете, еще не познавшей тяжкой пяты мегаполисов, миллионное скопление людей являлось фактом чрезвычайным, поразительным и приводящим в ужас или в восторг. Тем более что за проливом лежал еще один такой же город, Мад Эборн, лишь слегка уступавший столице. Примерно об этом думал Тревельян, когда, распрощавшись с Хьюго Тасманом и его великолепной яхтой, пробирался вдоль шеренги длинных причалов к выходу из гавани. Несмотря на утренний час, тут уже было шумно, ярко, пестро; развевались флаги, с резким щелчком падали паруса, сияла медная оковка бортов, пахло потом и деревом, водой и какими-то неведомыми пряностями, а крики, топот ног и гул голосов заглушал временами пронзительный скрежет якорной цепи. У пристаней и на рейде разгружались торговые парусники со всех концов моря Треш, сновали между ними катамараны, баркасы и лодки, щеголеватые прогулочные галеры покачивались за каменным молом или, гордо растопырив весла, плыли по лазоревым волнам под грохот барабанов. Отдельно, у высокой башни маяка, стояли парусные и гребные корабли морской охраны, небольшие, но юркие и быстроходные, с катапультами на носу и корме, под вымпелами с семью имперскими драконами. Там звякало железо, ревели туаны, равняя строй, поблескивали острия пик, и яркое утреннее солнце отражалось в бронзовых шлемах и панцирях. Мимо Тревельяна катились телеги, забитые мешками, корзинами и бочками, шагали чередой грузчики, торопясь то к складам, то к кораблям, шли, переругиваясь, купцы: один тащил другого к судну, груженному чем-то гнилым, тканью или канатами. Гавань ограждала стена шестиметровой высоты, и у ее подножия в живописном беспорядке ютились харчевни и лавки, навесы торговцев, ночлежки, кабаки и прочие заведения, где сошедший на берег мореход мог с толком позвенеть серебром. Порядка, однако, было куда больше, чем в Бенгоде; не попадалось ни куч мусора, ни попрошаек, ни бродячих тарлей, ни подозрительных рож, изукрашенных шрамами, зато через каждую сотню шагов маячили стражники при палках, плетках и кинжалах. В толпе людей континентальной расы, высоких и темноволосых, встречались смуглые гибкие пришельцы с запада и обитатели востока с медной кожей, огромными носами и вытянутыми до плеч мочками, но тех и других – не очень много; по виду, купцы, приплывшие за столичным товаром, или посыльные чиновники. Аристократов Тревельян тут не заметил – похоже, гавань их ничем не привлекала. Ошибочное мнение! Сразу за огромной аркой с тремя пролетами, ведущей на торговую площадь, была таверна с постоялым двором, фонтаном, цветником и парой десятков скамей под навесом из зеленой парусины. На скамейках лежали мягкие подушки, фонтан сиял мозаикой и позолотой, а запахи блюд, витавшие в воздухе, определенно намекали, что цены здесь кусаются. Вполне приличное заведение, не для простых мореходов, пьяниц и трудяг; сидели в нем солидные мужи торгового сословия, пили торвальские вина, закусывали жарким из клыкача и толковали о своих делах. Тревельян, шагавший мимо, только успел принюхаться к мясному аромату и подумать, что клыкач, видать, молоденький, не кабан, а поросенок, и хоть он откушал на яхте, но, пожалуй, стоит… Знакомая фигура заступила ему дорогу. Щеголеватый нобиль субтильного сложения, с хитроватым взглядом и бакенбардами до пояса… Теперь он был не в персиковом наряде с золотым шитьем, а в лиловом, отороченном понизу перьями птицы ках, и в синей накидке, заколотой у горла жемчужной брошью. Наушные украшения тоже были из жемчугов, и не каких-нибудь, а голубых, самых редкостных, что добывают на побережье Хай-Та, и, разглядев это диво, Тревельян вдруг ощутил вкус похлебки, которой его угощали Вашшур и Нухассин, и услыхал их голоса. Как давно это было! И как далеко от моря Треш… – Вот и ты, рапсод Тен-Урхи, вот и ты, – сказал щеголь, ухватившись за краешек Тревельянова пончо. – А я тебя который день тут поджидаю! В Мад Эборне ты исчез с такой быстротой, что мои друзья не успели насладиться твоим искусством. Зато теперь… – Прости, мой благородный господин, я очень спешу в обитель Братства. – Тревельян попытался вырваться из цепких пальцев щеголя. – Я даже не буду спрашивать, где расположена обитель; во-первых, я это знаю, а во-вторых, встреча с тобой – плохое предзнаменование. – В самом деле? – Хитроглазый потянул его к скамье. – Разве знакомство с прелестной Лианой-Шихи закончилась так плохо? Ах, да-да, я что-то припоминаю о клетке с пацами, от которой ты избавился по доброте и мудрости правителя Лат-Хора… Кажется, потом тебя отвезли на некий остров, где ты гостил целых четырнадцать дней? «Этот хмырь слишком много знает, – буркнул призрачный Советник. – Не нравится мне его рожа! Наверняка из местных филеров!» Пожалуй, командор был прав, и в этом случае не исключались решительные меры. Оглядевшись, Тревельян сгреб нобиля за шиворот и обнял, будто старого друга, слегка прижимая кончиком пальца сонную артерию. – А вот этого не советую, – просипел хитроглазый. – Не советую, ибо я тут не один. – Он дрыгнул ногой, и рядом с Тревельяном выросли четверо крепких молодцов. – Я знаю, рапсод, что ты нас всех положишь… знаю, какой ты боец, наслышан про Аладжа-Цора… Да только драться-то к чему? Ты ведь с каким-то делом прибыл, и не надо, чтобы тебя искали по всей столице за сопротивление властям. – А ты – власть? – спросил Тревельян, слегка ослабив захват и скосив глаза на подручных хитроглазого. – Всякой власти нужны такие, кто ищет и следит, – неопределенно ответил тот. – Мы стараемся… Я и мои приятели… Ках-Даг, Пия-Гези, Тирина-Лу… – Благородные нобили? – В том, чтобы искать и следить, нет урона чести! Тем более, если того пожелала высокая персона, – гордо ответил щеголь и дернул Тревельяна за одежду. – Пойдем, рапсод, поговорим. Они направились к скамье под тентом, сев подальше от пирующих купцов. Четверо из группы захвата исчезли, но Тревельян подозревал, что в нужный момент они возникнут как из-под земли. Впрочем, скрыться от них было нетрудно – за постоялым двором бурлила площадь, огромная, шумная и полная народа. Целые толпы сновали между торговых рядов, кто продавал, кто покупал, кто пил или бранился, не сойдясь в цене, и ускользнуть от шайки хитроглазого он мог в любое время. Но тот глядел в корень – были у Тревельяна дела в столице, так что уходить в подполье или бежать ему совсем не улыбалось. – Где твой зверек? – спросил щеголь, устроившись на мягкой подушке. – Здесь. – Тревельян приоткрыл клапан мешка, и Грей робко высунул мордочку. – Он не любит суеты и шума. Лесной житель, понимаешь. Почтительное обращение «мой господин» было опущено, но хитроглазый словно незаметил вольности. Был ли он в самом деле нобилем? В конце концов, манеры и богатая одежда ничего не значили; лицедейское искусство в Империи достигло больших высот. – Забавная тварь. – Хитроглазый протянул руку, но тут же ее отдернул. – Меня, рапсод, зовут Сач-Гези, и в этом городе, как и во многих других, я знаю каждого купца, певца или бродягу, что притащился в Семь Провинций с востока или запада. Обычно я живу в свое удовольствие по ту или по эту стороны пролива, но бывает, ко мне обращаются с просьбами. То ли найти кого-то, то ли за кем-то присмотреть… Такие люди просят, что им никак не откажешь, клянусь солнечным глазом! – Он поднял лицо к ясному небу и начертил у сердца круг. – Понимаешь, Тен-Урхи, в моем ремесле очень важно не дожидаться приказа. Приказ напоминает, что хоть ты человек из знатного рода, однако лицо подчиненное, тогда как просьба… – Это все философия и благородные слюни, – оборвал его Тревельян. – Тебе поручили меня найти, ты поискал и нашел. Что дальше? – Ну, если ты не желаешь дружеской беседы… – Сач-Гези скроил обиженную мину. – Если так, перейдем к делам. С тобой желают встретиться, рапсод. Оч-чень, оч-чень важная персона! – Он снова поднял глаза вверх. – Некий заботливый дядюшка, узнавший о приключениях своей племянницы. – Узнавший от кого? – Ну, предположим, от меня. Девица взбалмошная, с норовом, за такой нужен глаз да глаз… С Теки ты ведь знаком? Ну, я присматриваю, а он помогает. Без нас почтенному Лат-Хору было бы не справиться, никак не справиться. Воистину женщина сведет с ума любого мудреца! – Сач-Гези вздохнул и закончил: – Так что я должен тебя доставить на Сигнальный холм, в Старый дворец, где обитает господин мой Ниган-Таш. Надеюсь, ты не очень огорчен? – Смотря по тому, чем это грозит. Клеткой с пацами? Или крюком? – Как договоритесь, но обычно господин наш милостив. Понимаешь, рапсод, наследника Светлого Дома не красит жестокость, о чем известно и ему, и Нобилям Башни. Так что если он решит тебя прихлопнуть, то сделает это не в своем дворце. Деваться некуда, подумал Тревельян. Сбежать? Исчезнуть? Но Ниган-Таш, конечно, оскорбится, а обижать такого вельможу штука опасная – из-под земли достанет! Ну, не достанет, так затруднит работу… Конца у миссии еще не видно, и странствовать, озираясь через шаг, было бы лишней и неприятной нагрузкой. Сменить личину? Это возможно, но он так вжился в образ рапсода! Были у него резервные обличья, были, но так не хотелось бросить лютню, снять голубое пончо и кинжал и превратиться в бродячего торговца или фокусника, как недоброй памяти Тинитаур! Опять же, Ниган-Таш в благоприятном случае мог посодействовать с Архивами, и эта мысль вдохновила Тревельяна. Запихнув Грея обратно в мешок, он решительно поднялся и кивнул: – Пойдем! Нельзя, чтобы такой господин совсем истомился от ожидания. Не хочу вызывать его гнев. Зачем мне лишние дни в клетке с пацами? – Это мудро! – сказал Сач-Гези, похлопав его по спине. – Оч-чень мудро, рапсод! Только мы не пойдем, а поедем. Он щелкнул пальцами, и из-за угла таверны выкатилась коляска, запряженная парой серых жеребцов. Тревельян уставился на них в немом восхищении, но тут его проворно взяли под обе руки и, приподняв, водрузили на мягкое сиденье, как самый ценный груз. Двое помощников Сач-Гези встали на запятках, двое устроились на облучке, свистнул бич, и коляска понеслась сквозь разбегавшуюся толпу. Они ехали вдоль стены, что огораживала гавань, направляясь к самому высокому из прибрежных холмов, и Тревельян, прикрыв глаза, вспоминал его историю. Тут, на Сигнальном холме, названном по вышке с барабанами и трубами, начинался Мад Аэг. Согласно легендам, тут была крепость нобиля, чьим потомком, через двадцать поколений, станет Уршу-Чаг Объединитель, и отсюда его славный пращур совершал набеги на соседей, расширяя свои владения, обогащаясь землями, скотом, зерном и новыми подданными, пока не раздвинул границы княжества до Кольцевого хребта. За три поколения до Уршу-Чага здесь был уже немалый город с гаванью и сотней тысяч населения, и тогда старую крепость частью развалили, частью засыпали землей, на вершине возвели дворец, а на нижних бастионах, превращенных в террасы, – жилища знатных воинов, будущих Нобилей Башни. Этот дворец теперь называли Старым, и именно в его стенах Уршу-Чаг бил зеркала и клялся, что не увидит собственного лица, пока не расправится с врагами. Спустя пять-шесть веков началось строительство новой резиденции на острове Понт Крир, куда со временем перебрались сам император, императорский двор и все основные департаменты. Но Старый дворец не разрушили, не забросили и не покинули – не было на Осиере такой традиции что-то бросать, тем более святую землю с кровью предков. Дворец остался собственностью правящего рода, и один из принцев, самый уважаемый и знатный, обитал на Сигнальном холме как наследник отчего достояния. Теперь это был Ниган-Таш, и, значит, он являлся самым верным кандидатом в императоры. Площадь закончилась, экипаж замедлил ход и миновал пробитый в скале тоннель, поверх которого шла лестница к нижнему и более верхним уровням-террасам, куда колесный транспорт взбирался по крутой дороге, спиралью обвивавшей холм. Лошади двинулись шагом, будто давая возможность рассмотреть древнюю крепостную стену, что подпирала террасы, и лежавшую внизу, за каменным дорожным ограждением, торговую площадь. Вскоре коляска въехала на первый ярус, куда ступенчатыми пирамидами выходили фасады четырех дворцов; Сач-Гези, бесцеремонно тыкая пальцем, назвал, кому они принадлежат, кто из хозяев хлещет вино, причем пибальскую бурду, кто без ума от тилимских танцовщиц, а кто уличен в низменной дружбе с купцами и пополняет капитал за счет торговли строительным камнем и лесом. Дорога круто повернула. Ко второй террасе она поднималась над морем, и Тревельян следил, как встают на горизонте острова, подобные то цветочной корзинке, то вулканическому конусу в обрамлении зелени, то золотому песчаному блину с пальмовой рощей. Внизу перед ним раскрылась гавань, лес мачт у пристаней, галеры, бороздившие бухту или плывущие к островам, лодки, склады и судно Тасмана со спущенными парусами. Его хозяин стоял на палубе и, задрав голову, разглядывал холм и ползущую по дороге коляску, будто мог увидеть Тревельяна с окружавшей его компанией. Шум, что доносился из гавани, был едва слышен, заглушенный рокотом волн у подножья утеса. Один за другим они миновали второй, третий, четвертый и пятый ярусы, проезжая мимо старинных зданий, под арками, несущими лестницы, мимо источника, бившего прямо из скалы и падавшего вниз стремительным радужным водопадом. За ограждением дороги мелькали то морская гладь с яркими солнечными бликами, то заполненная народом торговая площадь, то склоны ближайших холмов, тоже прорезанных террасами и застроенных так плотно, что казалось – тут жилища не восьмисот семейств, а, по крайней мере, пяти тысяч. Наконец экипаж приблизился к вершине, и теперь они остались один на один с золотистым диском Ренура, облаками и просторным бирюзовым небом. Холмы словно осели, ушли вниз, и только соседний, названный в честь Таван-Геза, продолжал соперничать с Сигнальным; его венчало огромное круглое строение, храм Трех Богов с тремя шпилями, что поддерживали бронзовое кольцо, символ Оправы Мира. Древняя сигнальная башня вздымалась над стеной с треугольными зубцами, прохаживались по стене часовые-арбалетчики, блестели начищенные шлемы, свисал вниз имперский штандарт – семь золотых драконов на пурпурном фоне. У ворот, кованой решетки, скрепленной изображениями нагу и даутов, стояли под командой туана стражи из безволосых, десять воинов с секирами и десять копьеносцев. Сач-Гези был тут, видимо, известен: стражи грохнули оружием в щиты, туан поклонился и сделал знак рукой – мол, проезжайте, благородный господин. Коляска вкатилась в небольшой двор перед трехэтажным зданием в форме подковы. Мощные квадратные колонны выступали на четверть из фасада, в их основании свернулись кольцом огромные хищные кошки, узкие окна зияли как расщелины в скале, второй этаж сдвинут вглубь над первым, третий – над вторым… Древняя монументальная архитектура, когда считалось: чем прочней, тем лучше. Напоминает древнеегипетскую, решил Тревельян, окинув дворец быстрым взглядом. Он его уже видел, и не раз – на голограммах полного присутствия, снятых сотрудниками Базы. – Ждать здесь, – бросил Сач-Гези и, оправляя свою роскошную накидку, заторопился во дворец. Там он и пропал, и в этот день и в будущие дни Тревельян с ним больше не свиделся. За ним выслали другого нобиля, толстого, как отъевшийся клыкач, в алой мантии, под которой колыхалось объемистое брюхо, с серебряным жезлом в пухлой лапе. Он поманил Тревельяна за собой, нырнул под арку входа, провел его через обширную залу с лестницами из розового гранита, уставленную сотней изваяний императоров – все на одно лицо, в диадеме из рубинов, – и с неожиданной ловкостью проскользнул в узкую дверь в дальней стене. Они прошли здание насквозь, очутившись на зеленом лугу, обсаженном столетними деревьями. С этой стороны, обращенной к морю, дворец выглядел повеселее: окна казались шире, колонны изящней, и в их основаниях не кошки скалили зубы, а распускали мозаичные яркие хвосты птицы ках. Среди колонн высились два монумента: слева – Уршу-Чаг Объединитель, наступивший на осколки зеркала, справа – славнейший из его потомков Фаргу-Тана Покоритель Запада, чьи войска дошли до Островного Королевства, Запроливья и Шо-Инга. – Господин развлекается, – негромко сказал толстяк в алом. – Ты, рапсод, стой молча, смотри в землю, пасть не разевай и помни, что дышишь одним воздухом с владыкой, что вознесен над людьми и странами, как этот холм над морем. – Я буду безмолвной песчинкой у его стопы, – заверил толстяка Тревельян. – И постараюсь не дышать, чтобы господину осталось больше воздуха. Луг, у которого они очутились, был вытянут в длину и отделен от края утеса пальмовыми дубами и живой изгородью из тростника, похожего на бамбук, чьи коленчатые стволы обвивали цветущие лианы. В середине лужайки торчал толстый шест с заструганным концом, где была намалевана человеческая физиономия: два глаза, брови, рот, нос и грубое подобие ушей. Шагах в пятидесяти от этой мишени стоял худощавый сорокалетний мужчина в простой полотняной тунике, что оставляла открытыми сильные плечи и крепкую шею. В руках у него был лук, а двое служителей держали полные стрел колчаны. Толстый нобиль, приседая и кланяясь, двинулся к лучнику и доложил: – Рапсод, которого ты пожелал увидеть, доставлен, мой господин. Его привез Сач-Гези. Лучник – несомненно, Ниган-Таш, – повелительно кивнул. – Пусть подойдет и встанет здесь. Сач-Гези выдать сотню золотых. Иди! Толстяк с завидной резвостью исчез, а Тревельян приблизился, склонил голову и очертил круг у сердца. У Ниган-Таша было властное лицо с резкими, но правильными чертами: чуть выпуклые надбровья, пронзительные темные глаза, нос и рот изящной лепки, твердый подбородок и бакенбарды ниже уха. Внешность для императора – лучше не придумать! И, вероятно, наследник был силен – когда он натянул тетиву, на предплечьях тугими шарами вздулись мышцы. Свистнула стрела, вонзившись в левый глаз мишени. Ниган-Таш вытянул руку, и слуга вложил в нее новый снаряд. Наследник покосился на Тревельяна, и взгляд его не обещал ничего хорошего. – Я уважаю ваше Братство, – негромким, но звучным голосом промолвил он. – Я полагал, что Братство тоже меня уважает. – Снова свистнула стрела, ударив в правый глаз. – Меня и всю мою семью. – Он согнул лук. – Уважает достаточно, чтобы не отказать в незначительной просьбе. Совсем мелкой. – Он выдохнул и спустил тетиву. Стрела попала в нос мишени. – Исполнить такую просьбу для мужчины, тем более рапсода, – сущий пустяк. Многие сочли бы это счастьем. Но не ты, а? Тревельян поклонился и с сокрушенным видом развел руками. Лук у наследника был превосходный, в человеческий рост, скленный из полосок медного дерева и рога, – словом, пейтахский лук из самых дорогих. Стрелы тоже точили и оперяли в Пейтахе, где, как известно, трудились лучшие на континенте оружейники. Стрелять из такого лука на пятьдесят шагов было сущим святотатством. Ниган-Таш всадил стрелу в левую бровь. – Мой друг Лат-Хор тебя выручил. – Сильные руки вновь растянули тетиву. – Это я одобряю. Нельзя по капризу девчонки тащить человека в Висельные Покои. Тем более рапсода, стража справедливости! – Резкий щелчок, свист, и стрела воткнулась в правую бровь. – Однако ты виновен. Виновен, ибо не подчинился крови Уршу-Чага. Не девчонке, а священной крови! – Новый снаряд ударился в мишень, прямо меж нарисованных губ. – А раз виновен, то подлежишь наказанию! Однако я не караю людей, не выслушав их оправданий. – Ниган-Таш повернулся к Тревельяну и оглядел его с головы до ног. – Что скажешь, рапсод? – Скажу, мой благородный господин, что из такого лука надо стрелять на сто пятьдесят шагов. Лучше на двести, но здесь не хватит места. Казалось, наследник онемел от такой дерзости. Потом, заломив бровь, впился взглядом в лицо нахального рапсода и медленно процедил: – Говоришь, на сто пятьдесят? Неплохо, клянусь демонами бездны! И ты попал бы с такого расстояния в мою мишень? Из моего лука? – Попал бы, господин. Желаешь, в левый глаз, желаешь, в правый или куда тебе угодно. Ниган-Таш насупился и кивнул слугам. – Рани, Дхот! Отмерьте сто пятьдесят шагов и передвиньте столб! Стрелы вытащить! Мы будем стрелять по дальней мишени. – Лицо наследника посуровело – кажется, он был задет сомнением в его искусстве лучника гораздо больше, чем историей с Лиана-Шихи. – Ну, рапсод, посмотрим, чего ты стоишь! Если не попадешь хотя бы в столб… – Если не попаду, то встану сам вместо мишени, – предложил Тревельян, опуская наземь свой мешок. – Встану с любым плодом на голове, хоть с тем, что не больше кулака. Надеюсь, мой господин не промажет. Ниган-Таш нахмурился еще суровей. – Дурная шутка, рапсод! Я не варвар, чтобы стрелять в живого человека или в плод у него на голове! Мы придумаем что-нибудь другое… – Внезапно он ухмыльнулся, сунул лук под мышку и хлопнул в ладоши. – Что тебе было обещано? Клетка с пацами? Вот ее и получишь! За дерзость! На три дня! – А если попаду? – Тогда вина с тебя будет снята. Тревельян поклонился: – Господин милостив, а я не настолько дерзок, чтобы стрелять первым. После тебя, мой повелитель. Мишень уже передвинули, вбив в землю, и один из слуг встал за древесным стволом неподалеку от нее. Тревельян послюнил палец, проверил ветер, но воздух казался неподвижным. Даже облака застыли в бирюзовом небе, расположившись так, чтобы не скрывать солнечный глаз Таван-Геза. Бог, наверно, решил полюбоваться состязанием. – В правый глаз, – сказал Ниган-Таш, прицелился и пустил стрелу. Она мелькнула над поляной, ударила в столб, пестрое оперение затрепетало, будто призывая лучников к себе. Из-за дерева выскочил слуга, подбежал к мишени, поглядел и вскинул руку с отставленным указательным пальцем. На палец от центра, сообразил Тревельян, принимая лук от наследника. – Если мне будет позволено заметить, ты, господин, слишком резко отпускаешь тетиву. Надо плавнее… Вот так! Стрела вонзилась точно в середину правого глаза – туда, где был намалеван черный зрачок. «Ну прямо Робин Гуд! – беззвучно восхитился Советник. – Хвалю! Знай наших!» Ниган-Таш жестом предложил сделать еще несколько выстрелов, и Тревельян поразил левый глаз, переносицу и оба уха. Наследник уставился на него, но уже не с раздражением, а присматриваясь к тому, как гнется лук в умелых руках, как стрелок оттягивает тетиву и с какой скоростью мечет стрелы. – Важно не только смотреть, но также слушать, – произнес Тревельян. – Плохо, если тетива щелкает или стонет. Она должна петь! Прислушайся, мой господин… – Он выпустил шестую стрелу, попав в бровь над левым глазом. – Дай-ка мне! – Ниган-Таш выстрелил трижды, остался доволен результатом и, расплывшись в улыбке, сказал: – Вижу, Тен-Урхи, что ты не хвастун, а изрядный лучник и советы твои полезны. Когда я был молод, меня обучал боевым искусствам наставник из вашего Братства, но ты, клянусь богами, его превзошел! Постреляем еще? – Разумеется, – отозвался Тревельян, и не успело солнце подняться в зенит, как они уже были лучшими друзьями. Просто удивительно, как хобби сближает мужчин, особенно спортивные экзерсисы на свежем воздухе! Рани и Дхот валились с ног, бегая к мишени и вытаскивая стрелы, мотаясь то на дворцовую кухню за пирожками, то в кладовые за прохладительным и фруктами, то в оружейную за вторым луком, а рапсод и наследник престола стреляли и стреляли, стараясь превзойти друг друга мастерством. Но справедливости ради надо заметить, что Тревельян, помня, с кем соревнуется, старался чуть меньше, чем Ниган-Таш. Наконец его сановитый соперник устал и, опустив лук, промолвил: – Славно ты мечешь стрелы, Тен-Урхи! Поистине руки твои из железа, спина из бронзы, а глаза острей, чем у птицы-рыболова. Думаю, и с другими членами все в порядке… Что же свой собственный дротик не метнул, когда того пожелала моя племянница? Разве она не красива? Разве не молода? – Я не видел девушки прекраснее и никогда не увижу, однако… – Тревельян понурился с тоской, – однако, мой господин, я дал обет не прикасаться к женщине. – Вот как! Ты видный юноша, и ты рапсод и воин, а женщины любят таких. Похоже, с этим обетом ты погорячился. Не говоря уж о том, что чуть не попал в клетку с пацами… – Ниган-Таш приподнял брови и, подумав, предложил: – Я один из владык Семи Провинций и сопредельных стран, и в моих жилах течет священная кровь, такая же, как у Светлого Дома. Я готов пролить ее каплю и освободить тебя от обета. – Нельзя, мой господин. – Тревельян опечалился еще больше. – Дело идет о фамильной чести. Правда, есть одна возможность… В надежде на нее я и прибыл в Мад Аэг. Ниган-Таш величественно приосанился, расправил плечи, вытянул руку и повелел: – Рассказывай! Какая осанка! Какой баритон! Какой император будет! – подумал Тревельян, изображая лицом и жестами смущение. – Знай же, мой благородный господин, что я открываю тебе семейную тайну. – Выдержав паузу, он быстро заговорил: – Мой прадед с отцовской стороны считался уважаемым мастером, добытчиком горючего земляного масла, и был он из тех людей, что умеют отыскивать источники в песках и болотах, копать шахты и вычерпывать масло где с поверхности, а где из самых недр земли. На масле он разбогател, и служили ему сорок работников, и были у него в Рингваре, откуда происходит наш род, две красивые жены, хороший дом, лошади и повозки с бочками. Но в зрелых годах вселились в него, должно быть, зловредные духи бездны, подтолкнув к опасному деянию: сотворил он некую жидкость с мерзким запахом, горевшую синим огнем, и пламя от нее было много сильнее и жарче, чем от земляного масла. Подтолкнули его демоны, не иначе! Думал он нажить еще больше богатства, но однажды проклятая жидкость разлилась, вспыхнула, и сгорел его дом, и дома соседей, и, может быть, погибли люди, о чем за давностью лет никто уже не ведает. Прадеда же моего казнили на столбе… Голос Тревельяна дрогнул и стих. Он шмыгнул носом и вытер бакенбардами увлажнившиеся глаза. Ниган-Таш, сменив одну позу на другую, столь же величественную, покивал головой. – Грустная история, Тен-Урхи… Но все же что тебя печалит? Да, твой предок был безрассуден, но ни ты, ни твой отец и дед, никто из вас не отвечает за его вину, которую он искупил собственной смертью. – Глаза нобиля вдруг затуманились, потом он вскинул руку и воскликнул: – Великие боги, я понимаю! Ты хочешь знать, какой он смертью умер, так? Безусловно, Ниган-Таш годился в императоры – разум у него был быстрый. – Да, мой господин! Если прадеда казнили милосердной казнью, вонзив в сердце крюк, то это еще меньшая из бед. Но если казнь была позорной, если его подвесили за ноги и развели внизу огонь… если над ним не пропели погребальных гимнов, прах не бросили в реку и душа не добралась до Оправы… Это, сам понимаешь, требует особых искупительных жертв! Мысль о его смерти долго мучила меня, и вот, в прошлом сезоне Третьего Урожая, я поклялся, что не коснусь ни женщины, ни девушки, пока не узнаю истину. Но, к сожалению, все записи о казни предка давно отосланы в Архивы… Когда история завершилась, Ниган-Таш оказал честь рассказчику, возложив руку на его плечо и даже слегка стиснув пальцы. Властные черты наследника как будто стали мягче, взгляд потерял пронзительную жесткость – видимо, он был растроган и полон сочувствия. – Похвальная забота о душе предка… – с задумчивым видом произнес Ниган-Таш. – Похвальная забота и достойный обет… Я помогу тебе, Тен-Урхи, ибо милосердие угодно Заступнице Таванна-Шихи, и души творящих добро не попадут в бездну к демонам. Через три дня, считая от сегодняшнего, ты можешь отправляться на Понт Крир. В Архивах будут извещены и примут тебя. Ты доволен? Тревельян преклонил колено. – Мой господин… да будешь ты призван к высшей власти… да будут дни твои счастливы… да будешь ты здоров и крепок, и пусть боги пошлют тебе столько лет, сколько ярких перьев у птицы ках… – Пока что они послали мне своенравную племянницу, за которую я отвечаю перед душой умершего брата, – сказал Ниган-Таш. – А посему я думаю, что ты мне еще пригодишься, Тен-Урхи. Я ищу супруга для своей племянницы, молодого нобиля, но нрав ее известен, и ни один из знатных и достойных не горит желанием взять ее в свой дом. Ее наставник Тургу-Даш учен, но слишком стар и мягок и только потакает ей. Ты же юноша редких достоинств, твердый духом, способный внушить уважение к мужчине, и когда ты отрешишься от своих обетов, я рассчитываю на тебя. Скажем, на два-три сезона. «Тебя вербуют в дрессировщики строптивой птичке?» – насмешливо полюбопытствовал командор. В сущности, так оно и было. На Осиере царили свободные нравы, и в будущей супруге ценился опыт, а не девственность. Собственно, тут и понятия такого не имелось, ибо физиология женщин в этом мире была отлична в данном пункте от земной. Девицам, знатным и не очень, не возбранялось пошалить, даже невзирая на сословные различия, пока и поскольку это не касалось дел серьезных – брачных обрядов, семейного имущества и рождения наследников. Так что в словах Ниган-Таша не было ничего странного или удивительного. – Благодарю за честь, – сказал Тревельян. – Не знаю, что у меня получится, но постараюсь. В конце концов, воспитание молодежи – одна из задач нашего Братства. На этом он и откланялся, спустился с холма и прошел через весь город к северной окраине, где, как объяснил ему Тасман, стояла обитель рапсодов.* * *
В ней Тревельян провел три дня, посвятив их изучению столицы, беседам с дарующим кров Нурам-Сином и сбору сведений, полезных для его миссии. Одной из базовых дисциплин у социоксенологов была, разумеется, древняя история Земли, и в юности он провел немало дней в античных и средневековых городах, погружаясь в их голокомпьютерные реконструкции. Он помнил, как выглядели Мемфис и Вавилон, Рим и Афины, Париж и Лондон, Киев и Москва на протяжении тысячелетий, помнил виды ганзейских портов и городов Китая, поселений майя, инков и ацтеков; храмы Камбоджи и Индии, буддийские святилища, стены Ниневии, рыцарские замки, соборы и дворцы – все было живо в его памяти. Реконструкции, титанический труд земных историков в последние триста-четыреста лет, являлись голограммами полного присутствия; в их псевдореальности можно было не только бродить по древним улицам, разглядывая архитектурные шедевры, но также общаться с предками, чей облик, язык и обычаи воссоздавались компьютерным интеллектом. Забыть такое невозможно, тем более профессионалу, и Тревельян, воскрешая картины былого, сравнивал их с настоящим, с имперской столицей Мад Аэг. Сравнение было не в пользу земных поселений. Мад Аэг решительно не походил на средневековый город, стиснутый стенами, с узкими кривыми улочками, заваленными мусором и грязью, на вонючий человеческий муравейник, где дома лепились друг к другу, а нечистоты выплескивали из окна. Пожалуй, с ним могли соперничать лишь Рим или Константинополь в пору их расцвета, но в Мад Аэг не имелось ни крепостных стен, ни ворот, ни башен, ни трущоб. За его холмистым центром с гаванью и дворцами знати лежала обширная территория, застроенная жилищами, лавками и мастерскими тех, кто относился к среднему сословию. Здесь были улицы – прямые, довольно широкие, обсаженные деревьями, чьи мощные стволы намекали на почтенный возраст; здесь были рынки и святилища, бани и школы, амфитеатры, где шли представления, большой зверинец, рощи для прогулок и даже некое подобие стадионов; наконец, здесь был наземный водовод-акведук из огромных глиняных труб и канализация – то и другое обслуживали особые команды, и служба их считалась почетной и выгодной. Для Тревельяна эти чистота и порядок, эти ухоженные дома, водовод с канализацией и непременная, заботливо хранимая зелень перед лавками и мастерскими относились скорее к явлению социальному, чем градостроительному; они говорили о стабильном и обеспеченном существовании, которое в бурной кровавой земной истории не достигалось нигде и никогда. Разве только в легендарный золотой век, в мифической Атлантиде… Возможно, думал он, это благоденствие и объясняет осиерский феномен, инерцию к прогрессу? В обществе, где население растет не очень быстро, где нет нашествий, войн, религиозной вражды, где знать не слишком давит прочие сословия, новое вроде бы ни к чему и даже более того – новое может служить источником потрясений. Как сказано у С’Трелла Основателя: наилучшие результаты приносят медленные и терпеливые усилия, эволюция, а не революция. Он больше не говорил об этом с рапсодами и пастухами, что жили в обители, не говорил и с Нурам-Сином, дарующим кров, не поминал о бумаге, седлах, зрительных трубах и паровой машине. О дальних морских экспедициях и заморских землях тоже, конечно, ни слова; то были вопросы, приберегаемые для иерарха, и к ним теперь добавился еще один, касавшийся Хьюго Тасмана. Тасман был здесь в почетном плену, и если сам он с ним смирился, то Тревельяна такой поворот не устраивал. Гордость его была задета, гордость потомка гениев, что проложили дорогу к звездам, и воинов, их отвоевавших, гордость расы, победившей в Темных войнах, заставившей склониться всех врагов. Всех до единого! И могущественных хапторов, и жестоких дроми, и высокомерных гордецов кни’лина! А это значило, что никто в Галактике не смел диктовать свою волю человеку, свершать над ним насилие или пленять – пусть даже плен подобен раю! Пожалуй, с этим было важнее разобраться, чем с парадоксами Осиера, не признававшего седла, керосин, бумагу и остальные дары цивилизации. Впрочем, одно могло быть связано с другим, и потому Тревельян расспрашивал про Аххи-Сека, полагая, что уж в столичном городе, где членов Братства было сотен пять, найдется кто-то, знавший мудреца не понаслышке. Но он ошибся. Ему рассказывали те же байки, что в гостеприимном Мад Торвале – о том, что Аххи-Секу нравятся уединение и горные пейзажи, что он сидит у водоема, любуясь на цветок кувшинки, что ему известно обо всем на свете и что не так давно, всего лишь год назад, а может, два, он перешагнул рубеж столетия. Или не перешагнул, хотя, вне всякого сомнения, он зрелый человек, лет на шестьдесят, никак не меньше. Сам не видал, но, по словам знакомого рапсода, которого сейчас в столице нет, выглядит он преотлично и полон сил и бодрости… Если кто-то и бывал в Мад Дегги, то не спешит похвастаться такой удачей, понял Тревельян. В столице жили шестеро магистров; возможно, эти уважаемые члены Братства встречались лично с Аххи-Секом, но испросить у них аудиенции в течение трех дней не удалось. Решив, что займется этим после возвращения, Тревельян нанял парусный баркас и отправился на императорский остров, где провел незабываемые дни. К резиденции Светлого Дома его, конечно, и близко не подпустили, но Понт Крир был велик и прекрасен; в этом огромном заповеднике размещались три-четыре городка, а всю остальную территорию занимали парки и охотничьи угодья. С вершины гигантской пирамиды Архивов он мог любоваться изумительными видами и даже побродить среди живописных скал, водопадов и плодовых рощ, ибо слово Ниган-Таша было веским, и рапсоду, снискавшему милость наследника, дозволялось многое. В частности, никто не лез с вопросом, что он ищет в сундуках с пергаментами, хранивших списки наказаний за последнюю тысячу лет. Пергаменты были разложены в хронологическом порядке, так что найти информацию о пострадавших изобретателях не составляло труда – тем более что город или иное место жительства указывались тоже. Кроме этих сведений, имелись определение вины и приговор, записанные с лапидарной краткостью, в одну строку. Приговоры и вины были разнообразными, так что Тревельян не обнаружил в них ни статистической закономерности, ни чьей-то волосатой лапы с дирижерской палочкой. О Дартахе сообщалось: «Обезумел и потому лишен почета и изгнан». Механик Куммух из Манканы, построивший паровую машину, был удостоен более подробной записи: «По собственному неразумию обжег помощников горячим паром. Десять плетей и штраф четыре золотых». Рядом с именем несчастного изобретателя керосина значилось: «Повинен в пожаре, смерти троих и увечьях многих. Средний крюк под ребра. Лишен погребения». Легче других отделался Цалпа из Рингвара со своими бумажными листами, приговоренный к штрафу по жалобе цеха пергаментщиков: его обвинили в хищении трех серебряков из цеховой кассы. В этом Тревельян усмотрел сходство с Землей и прочими гуманоидными мирами: тут, на Осиере, тоже не упускали случая сделать подлянку конкуренту. Зафиксировав все вины и кары в памяти Советника, он вернулся в Мад Аэг, в обитель Братства. Дарующий кров, хлопотливый экспансивный толстячок с седеющими бакенбардами, встретил его на пороге, раскрыл объятия, прижал к объемистому брюху и произнес традиционное приветствие: – Твоя кровь – моя кровь! Рад тебя видеть снова, Тен-Урхи. Был ли успешным твой путь? И хорошо ли тебя приняли на острове? Подумать только, ты добрался до самого Понт Крира! И что же, пел перед Светлым Домом? Или рассказывал чудесную историю о странствии на Юг? Остался ли доволен повелитель? И чем он тебя одарил? – Твоя кровь – моя кровь, Нурам-Син, – сказал Тревельян, переступая порог павильона, где была трапезная. – На острове я видел лишь сады, леса, сундуки с пергаментами да хмурые рожи архивных крыс. Светлый Дом был очень занят – говорят, ему привезли новую наложницу из Онинда-Ро, девицу редкой красоты, но совершенно безразличную к музыке. Так что с владыкой я не встречался, но меня посетил вельможа двора и сказал, что Светлый Дом передает тебе привет. Добродушная физиономия Нурам-Сина расплылась в улыбке: – Все шутишь, Тен-Урхи! Надолго ли к нам? Я поселю тебя в прежнем покое, в Чертоге Грез, что в кольце медных деревьев. Тебе ведь там понравилось? Или, если пожелаешь… – В Чертоге Грез мне самое место, ибо я собираюсь сложить балладу о прекрасном острове Понт Крир, где тоже растут медные деревья, – ответил Тревельян. – А еще мне хотелось бы встретиться с магистрами… ну, не со всеми шестью, а хотя бы с двумя-тремя. Надеюсь, они вложат немного ума в голову бедного рапсода. Ты поможешь мне с этим, Нурам-Син? – Разумеется, брат, разумеется. Да, кстати… – Дарующий кров юркнул в кладовку, где хранилась посуда, и появился с небольшим ларцом в руках. – Один из наших был тут проездом и оставил это для тебя. Здесь какой-то дар, а от кого, ты знаешь. Так сказал посланец. По спине Тревельяна побежали мурашки. Стараясь не выдать возбуждения, он кивнул, сунул ларчик под мышку и направился в покои Грез. Окно в павильоне было распахнуто, над ним шелестели ветви медного дерева, и свет вечернего солнца, профильтрованный листвой, окрашивал комнату в зеленоватые тона морских глубин. Сняв Грея с плеч, Тревельян устроил его на теплом подоконнике, постоял, улавливая волны приязни и покоя, что шли от зверька, и, собравшись с духом, подступил к ларцу. Изящная шкатулка, отделанная янтарем, была запечатана. Для этого на Осиере применяли не воск и сургуч, а смолу особой породы хвойных деревьев, застывавшую плотной твердой массой. На печатях – никаких гербов, письмен или символов; просто два аккуратных желтых кружка, чей цвет гармонировал с янтарем. Внимательно осмотрев их и даже понюхав, Тревельян поддел печати кинжалом и раскрыл ларец. Как ожидалось, в нем лежали два медальона с голограммами. На одной – темная скорчившаяся фигурка среди каменных стен, в позе, изображавшей страдание, на другой – силуэт «утки», транспортной капсулы, взмывающей в космос над туманным шаром планеты. С минуту Тревельян разглядывал картинки, морща лоб и накручивая на палец левую бакенбарду, потом хмыкнул и произнес: – Ясная альтернатива! Или убирайся вон, или попадешь в темницу и будешь гнить там до скончания веков! «Вроде как милость тебе оказали, малыш, – заметил командор. – Все же разрешено удалиться. А твоего приятеля, Тасмана этого, не отпускают. Как думаешь, почему?» – Может, он им больше насолил, чем я, – молвил Тревельян. – Или держат его в порядке эксперимента. Интересно им, может ли землянин тут ассимилироваться. «Почему же нет? Если поместье подходящее, особнячок, гарем, хорошая кухня и книжки… Очень соблазнительно! Дроми, когда мы их прижали, тоже пытались кой-кого из наших ассимилировать. Правда, таких соблазнов не обещали… бабы у них, знаешь ли, не того… – Советник помолчал, затем спросил: – Ну, что собираешься делать? Сядем на «утку» или продолжим наши игры?» – Продолжим. В Мад Дегги! «Ты же хотел с магистрами потолковать?» – Это уже ни к чему. – Тревельян бросил в ларец медальоны и захлопнул крышку. – Завтра отправимся на север, к Аххи-Секу. Как говорили ассирийцы, шкура льва стоит десяти живых шакалов. «Моя кровь! – одобрил командор. – Только ты, внучок, не горячись. Однажды, когда я летал на «Койоте», а может, уже на «Свирепом»…» Он пустился в воспоминания и бормотал до самого заката, пока Тревельян не улегся в постель. Спалось ему плохо. Всю ночь снился приставленный к горлу нож.Глава 13 ДОРОГА НА СЕВЕР
Утро Тревельян встретил на станции пассажирских экипажей, что располагалась при дороге подальше воинских казарм, почти на самой городской окраине, и походила на большой вокзал, какие были на Земле в двадцатом веке. Здесь имелись перроны, длинные каменные возвышения числом четырнадцать, под кровлями, которые поддерживали статуи змей, драконов нагу, лесных кошек, клыкастых даутов и других животных – на каждом перроне свои, высеченные с большим мастерством из гранита, базальта, известняка и мрамора. Здесь были подъездные пути, по которым экипажи выезжали на имперский тракт, двигаясь между перронов; каждый путь заканчивался аркой широких ворот, украшенных цветными флагами и полотнищами ткани. Здесь, окружая перроны с трех сторон, лепились друг к другу бесчисленные кабаки, цирюльни, постоялые дворы и лавки с всевозможными товарами, от мягких подушек под седалище, башмаков, плащей, вина и фруктов до столичных сувениров, наушных украшений, цепочек и пестрых ленточек, что заплетали в бакенбарды. Здесь нашлось место для нескольких бань с горячими и прохладными бассейнами, где приезжие могли освежиться с дороги и размять затекшие от долгого сидения члены. Еще здесь были три кузницы, сигнальная вышка, храм, помещение для стражи, туалеты с проточной водой, огромные каретные сараи и конюшни и даже что-то вроде справочного бюро, где сидели громкоголосые служители, объявлявшие о наличии свободных мест и отправке фаэтонов. Чего не имелось, так это точного расписания: экипажи уходили, по мере того как в них набивались пассажиры. А их была тьма! Наверное, человек пятьсот, а с приезжими – вся тысяча; как-никак, Мад Аэг являлся столицей, и его «вокзал» был много больше, чем скромные станции в провинциальных городах. Тревельян протолкался к барьеру, где сидели оравшие во всю глотку служители, подождал, когда один из них закроет рот, и вымолвил: – Мад Дегги. – Четыре серебряка. От клыкачей. Последнее означало, что экипаж отойдет от перрона с изваяниями клыкачей. Кто-то шумно дышал Тревельяну в затылок, пытаясь протиснуться к барьеру, но он уперся, не освобождая место. – Когда? На восходе? – Нет. Экипаж подадут в середине полуденного времени. – А если пораньше? – Пораньше только с пересадкой в Мад Бельте, и это, почтенный, будет стоить шесть серебряков. – Служитель приподнялся, вытянул руку и пронзительно завопил: – В Мад Анесс от большой змеи! В Мад Лабарне от даутов! Три места в Мад Лабарне, отправляется сейчас! Кому в Мад Лабарне, Дневная Провинция! К даутам, к даутам! В Мад Тиверру и дальше в Сотару от быков! Торопитесь, мои господа! – Да проклянут тебя боги! Оглушил, отродье паца! – пропыхтел кто-то за спиной Тревельяна. Он повернул голову – прямо на него уставился пучеглазый парень с тощими бакенбардами, по виду из мелких чиновников или приказчиков. От него несло дешевым вином. – Ты, рапсод, в Мад Дегги собрался? – Почтенный рапсод, – поправил Тревельян. – Почтенный, конечно… прости… разделяю твое дыхание… Тревельян кивнул с холодным видом – в знак того, что извинения приняты. – Мой господин тоже едет в Мад Дегги, в заказной повозке. Велел поискать кого-нибудь с деньгами. Место найдется, если заплатишь свою долю. – Сколько? – Семь серебряков, почтенный. – Не многовато? – Ну, ты ведь не один, а со зверюшкой… – Тощие Бакенбарды выпучил глаза на Грея, дремавшего на Тревельяновом плече. – Опять же, повозка заказная, легкая, а коней четыре… значит, быстрей поедем… Опять же, важные люди будут с тобой… мой господин и его помощник… – Знал бы ты, с какими важными людьми я разделял дыхание! – задрав нос, похвастался Тревельян. – Ладно, согласен. Но деньги я передам не тебе, а твоему господину. – Обижаешь! – сказал Тощие Бакенбарды и повел его на перрон, кровлю которого подпирали вставшие на дыбы мраморные саламандры. Здесь, у небольшого возка, похожего на старинную земную карету, но чуть пошире и подлинней, скучала пара будущих попутчиков Тревельяна. Старшему, судя по пигментным пятнам под глазами, было за сорок, и он, от бакенбард до башмаков, в самом деле выглядел важным и осанистым. Его щеголеватый помощник казался моложе лет на десять; пряди волос в его пышных завитых бакенбардах переплетали лазоревые ленточки, а на шее висела цепь в палец толщиной, то ли золотая, то ли подделка из бронзы. При этих господах был еще один служитель, крепкий широкоплечий малый с коротко подрезанными баками, вооруженный дубинкой. Дворяне, но из мелких, решил Тревельян. Видимо, чиновники. Едут по делам службы, наняли экипаж за казенные и решили подзаработать. Ну, не будем обманывать их ожиданий. Он пробормотал приветствие, высыпал монеты в широкую ладонь Важных Бакенбард, после чего все пятеро погрузились в экипаж. Господа заняли диванчик сзади, слуги устроились на переднем, спиной к движению, а Тревельяну досталось место напротив дверец, тоже довольно удобное. Он сидел между начальствующими и подчиненными, и это как бы подчеркивало его статус: не господин, не слуга, а свободный рапсод. Кошка, которая гуляет сама по себе. Возница гикнул на лошадей, возок тронулся, перрон с изваяниями саламандр и людскими толпами неторопливо поплыл назад, мелькнули ворота с зелеными, голубыми и желтыми флажками, и экипаж развернулся, выезжая на имперский тракт. Они проехали мимо пилона с надписью: «Благословенны странники, ибо их шаги измеряют мир». Щелкнул бич, грохнули о камень копыта четырех лошадей, возок, набирая скорость, помчался по дороге, замелькали деревья и дома предместья, потом застройка кончилась и пошли сады. Ветви гнулись под весом паа, крупных оранжевых плодов, формой и цветом напоминавших земные апельсины. Но сходство было чисто внешним; паа скорей являлись местными сливами. – Хвала Трем! – произнес Важные Бакенбарды. – Вот мы и в дороге.– По такому случаю… – продолжил его помощник, кивая слугам. Короткие Бакенбарды тут же полез в объемистый баул, вытащил два винных кувшинчика и передал их Тощим Бакенбардам. За кувшинами последовали три бокала из сотарского стекла и две фаянсовые кружки. В бокалы налили вино из Фейнланда, для Тревельяна и господ, в кружки – пибальское для слуг. Выпили молча – тосты под выпивку на Осиере не были приняты. Потом Важные Бакенбарды утер губы и сказал: – Любопытный у тебя зверек, рапсод. Откуда этакое диво? – Из Этланда, мой господин. Это шерр. – Шерр? Никогда не видел! Таких даже в зверинце Светлого Дома нет. Намекает, что бывал на Понт Крире, догадался Тревельян. В самом деле, важная персона! Не иначе как инспектор налоговой службы или чиновник дорожного департамента. – Я слышал о шеррах, – молвил Завитые Бакенбарды, поигрывая свисавшей с шеи массивной цепочкой. – Вроде бы они нагоняют беспробудный сон и кровь сосут? – Это враки, – возразил Тревельян, решив обойтись в этот раз без «моего господина». – Шерр любит фрукты и орехи. Впрочем, мясо тоже ест. – Кстати, о фруктах… – Завитые Бакенбарды снова кивнул служителям, и из баула появилась корзинка с дарами местных садов. Выпили по второй, закусили, после чего старший из попутчиков спросил: – Ты, рапсод, в Мад Дегги развлечься едешь? Или петь тебя пригласили в доме достойного нобиля? Или желаешь полечиться? – Полечиться? – приподнял брови Тревельян. – Это как? – А так, что в горах за Мад Дегги бьет целебный ключ, и воды те помогают при тягостях в животе и многих других недугах, – охотно пояснил Завитые Бакенбарды. – Ты животом не озабочен? – Только когда он пуст, почтенный. А в Мад Дегги я еду по делам Братства, везу особое снадобье для нашего Великого Наставника Аххи-Сека. Это бальзам из южных лесов, и цена ему – золотая монета за маленькую ложку. Редкая вещь! А вы, мои господа, хотите в Мад Дегги лечиться? – Нет, – с ухмылкой сказал Завитые Бакенбарды. – Мы, рапсод, больше других лечим. Его начальник рассудительно добавил: – Ты едешь по делам вашего Братства, а мы – по делам своего департамента. И дела те таковы, что лучше не поминать о них при посторонних. – Тут он грозно осмотрел служителей, которые вытянулись под этим взглядом и застыли с каменными лицами. Точно, налоговые инспекторы, да еще с двумя подмастерьями для черной работы, подумал Тревельян, разглядывая рожи Коротких и Тощих Бакенбард. Едут накрыть неплательщика или к самому правителю Мад Дегги с внезапной ревизией. Будет кто-то под плетьми и палками! А может, даже на столбе! Их карета, миновав район садов и пальмовых рощ, очутилась под лесными сводами. Этот лес, как и дубравы на Понт Крире, тоже считался охотничьим заповедником, но разрядом пониже – здесь могли развлекаться нобили Восьмисот семейств и, по особому разрешению, подданные более низких сословий. Места хватало всем, ибо лес тянулся на восемьдесят километров до цитадели Меча и Щита, и только за крепостью его сменяли крестьянские хозяйства и латифундии богатых землевладельцев. Тут, кроме уже знакомых пальмовых дубов, розовых и медных деревьев, пальм и бамбука, росли сосны чудовищной величины, с ровными серо-коричневыми стволами, уходившими к небу метров на сорок-пятьдесят. Воздух был полон запахами хвои и смолы, птичьего щебета и стрекота древесных кроликов. Временами деревья отступали от тракта, давая место лугу, над которым легким цветным облаком кружились бабочки или стояла харчевня с сигнальной вышкой и постом охраны. Пейзаж разнообразили скалы, валуны, оставленные древним ледником, и речки с темной глубокой водой, над которыми нависали каменные горбы мостов. Километра три-четыре дорога шла вдоль большого лесного озера, и Тревельян услышал, как на другом его берегу поют охотничьи рожки и заливается лаем стая тарлей. Завитые Бакенбарды, который явно был на подхвате у своего шефа, щелкнул пальцами и бросил взгляд на баул. Оттуда тотчас появился бронзовый поднос, за ним жаренная на вертеле птица размером побольше индейки, лепешки, мед и полотенца для вытирания рук. Похоже, налоговые чиновники привыкли путешествовать с комфортом, наслаждаясь всеми дорожными радостями – отдельной каретой, едой, выпивкой и беседой. Наверняка еще и песнями, подумал Тревельян, и не ошибся. Когда с жарким было покончено, а лепешки и мед запиты последним кубком вина, Важные Бакенбарды сыто рыгнул и сказал: – Уверен, рапсод, что ты не из последних в своем мастерстве и знаешь, чем развлечь благородных людей. – Наш господин любит песни запада, – тут же сообщил Тощие Бакенбарды. – Но не морские, не те, что поют в Запроливье, а тилимские и сотарские. Короткие Бакенбарды уточнил: – Это песни, под которые пляшут западные танцовщицы. Ну, понимаешь, что-то такое… – Приподнявшись, он изобразил пару фривольных движений задом. – Вот-вот, – одобрил Завитые Бакенбарды таким тоном, что было ясно: его вкусы полностью совпадают со вкусами начальника. – Ты с такими песнями знаком? – Знаком, но нынче я не в голосе, – ответил Тревельян, решив, что птичье крылышко, вино и три лепешки слишком ничтожная плата за его искусство. А за место в экипаже эти прощелыги содрали семь серебряков! Могли бы и бесплатно подвезти, если хотели, чтобы рапсод их развлекал. – Это почему не в голосе? – поинтересовался Важные Бакенбарды и неодобрительно прищелкнул языком. – Потому, что я думаю лишь о своем поручении, а не о песнях легкомысленного свойства. Не каждому, мой господин, так доверяют. Отвезти бальзам мудрейшему Аххи-Секу! Ответственное дело! И очень, очень почетное! – Он что же, болен, ваш Великий Наставник? Зачем ему этот бальзам? – спросил Завитые Бакенбарды. – Вовсе нет. Он отпраздновал свое столетие, вступил в совершенный возраст, но по-прежнему силен и крепок, как матерый лесной клыкач. Зелье, что я везу, нужно совсем для другого. – Тревельян сделал большие глаза и понизил голос: – Это не тайна, но вообще-то в Братстве не поощряются разговоры о Наставнике с чужими… Однако все вы люди достойные, и я вам кое-что скажу, если поклянетесь, что ни слова дальше не пойдет. – Ни слова! Чтоб мне Таван-Гез вырвал язык и набил рот помоями! – Важные Бакенбарды нарисовал у сердца круг. – Клянусь за себя и своих людей! – Так вот, – все еще шепотом продолжил Тревельян, – есть у Великого Наставника обычай сидеть у водоема и глядеть на рыбок, жаб и всякие озерные цветы, что раскрываются днем и закрываются к ночи. Он может просидеть так много дней, не вкушая пищи и питья и думая о судьбах мира, и думы эти так глубоки, что зов не достигает его разума, и если даже закричать или потрясти его за плечи, он не воспрянет к жизни сей. – Да ну! – поразился Тощие Бакенбарды, выкатив глаза. – Именно так: не воспрянет! И есть только один способ его пробудить – поднести к лицу Наставника бальзам и дать понюхать. Запах зелья такой возбуждающий, что мертвеца подымет, и я везу его в стеклянном флаконе, завернутом в плотную ткань, уложенном в шкатулку и запечатанном печатями. – Тревельян похлопал по своему мешку: – Здесь он, этот бальзам из южных лесов! Приносят его безволосые раз в десять лет, и за такой флакон мы отдаем кошель золота. Он показал руками, какой величины кошель, и в экипаже наступила почтительная тишина. Потом Короткие Бакенбарды откашлялся, бросил опасливый взгляд на своего начальника и спросил: – А нельзя ли… того-этого… нюхнуть? – Никак нельзя. Во-первых, ларец запечатан, а во-вторых… – Тревельян выдержал паузу, – во-вторых, как было сказано, зелье очень возбуждает. Хотя Наставнику сто лет, но даже ему в момент пробуждения надо… просто необходимо… ну, вы понимаете, господа… На этот случай у него есть пара девушек-служанок. Ну, а нам ведь не сотня лет! И мы путешествуем без девушек! «Здоров ты врать, внучок! – буркнул, пробудившись, командор. – Язык как на веревочке подвешен!» «Не жалуюсь», – мысленно отозвался Тревельян, следя за лицами слушателей. Двое слуг и Завитые Бакенбарды внимали с интересом, а что до их шефа, то он, похоже, был вдохновлен – и до такой степени, что глазки засверкали, а челюсть отвисла. Наклонившись к Тревельяну, он пробормотал: – Говоришь, за маленькую ложку берут золотой? И надолго ее хватает, этой ложки? – Раз на двадцать. Потом бальзам выветривается. – Хррм… – Физиономия Важных Бакенбард побагровела. – Я бы взял ложечку-другую… может, и побольше… так, на пробу, из любопытства… Я знаком с Нурам-Сином, вашим дарующим кров. Как ты думаешь, у него еще есть это зелье? Трое его подчиненных тоже сидели красные, явно сдерживая смех. Важные Бакенбарды окинул их грозным взглядом, и щеки у всех троих тут же начали бледнеть. Видно, их шеф был крутоват, злопамятен и скор на расправу. – Ну, так есть у него зелье? Тревельян раскрыл было рот, чтобы ответить, но тут их экипаж вырвался из леса на открытую равнину, и пассажиры приникли к окнам. Зрелище, открывшееся им, стоило того: впереди возвышались два скалистых холма, вершины которых были выровнены и обнесены палисадом из темного камня. За этой первой оборонительной линией вставали стены внушительной ширины и высоты с восьмиугольными башнями через каждые семьдесят-сто шагов, и башен этих насчитывалось ровно сорок, по двадцать на западном и восточном холмах. Еще выше башен были центральные цитадели, увенчанные куполами в окружении бронзовых шпилей и каких-то каменных фигур, которых за дальностью расстояния Тревельян не разглядел. На уровне второй линии укреплений оба холма соединялись огромным каменным мостом на мощных гранитных опорах, по которому могли проехать в ряд десять колесниц. С обоих концов моста стояли по две башни, а его опоры были сделаны в виде двенадцати арок, подпиравших каменные балки, парапет и донжоны с бойницами для стрелков. Дорога перед крепостью делилась натрое: центральный путь шел на север под мостовыми арками, два других тракта, ведущих на запад и восток, проходили под холмами на расстоянии прицельного выстрела из лука, исчезая вдали. От каждой из этих дорог поднимались зигзагами лестницы к воротам во внешних стенах, а рядом тянулись пандусы для въезда фургонов и колесниц. На лестницах и у ворот поблескивали доспехи стражей, по верху стен прохаживались арбалетчики, на шпилях и башнях развевались пурпурные с золотом имперские штандарты. То была цитадель Меча и Щита, первая настоящая крепость, увиденная Тревельяном. Здесь стояли четыре тарколы, около пятнадцати тысяч солдат – внушительный гарнизон, охранявший подходы к столице и важный транспортный узел, откуда имперские тракты вели на три стороны света, ко всем цивилизованным державам. Впрочем, эти стены и башни, как и сама Полуденная Провинция, не видели врагов два с лишним тысячелетия. Воевали здесь в глубокой древности, когда Уршу-Чаг Объединитель бился с непокорными князьями. – Грозный вид, – произнес Завитые Бакенбарды, поглаживая свисавшую на грудь золотую цепь. – Мощь Светлого Дома нетленна, и тверда его рука. – Да будет он жив, здоров и могуч! – в один голос откликнулись служители, а их господин очертил под сердцем круг. Возок добрался до растроения дороги, где была круглая площадка с пилоном посередине. Тревельян напряг глаза, пытаясь прочитать надпись, и вдруг инерция прижала его к стенке кареты – они поворачивали. Через несколько мгновений их экипаж, удалившийся от моста и центральной дороги, уже мчался, набирая скорость, мимо лестницы, поднимавшейся к восточным крепостным вратам. – Мы свернули! – сообщил Тревельян, бросив за окно недоуменный взгляд. – Похоже, наши возницы не в ладах с географией. В Мад Дегги – на север, а эта дорога в Провинцию Восхода! – Клянусь богами, рапсод прав! Едем не туда, – поддержал его Важные Бакенбарды. – Ну-ка, ты! – От ткнул пальцем в пучеглазого. – Разберись! Служитель открыл задвижку в передке кареты, высунул голову в маленькое оконце и пустился в переговоры с возницами. Затем, вернувшись на место, доложил: – Объезд, мой господин. Возничие говорят, мост рухнул через Мийош. А река глубокая, бродом не перебраться… Едем к другому мосту, старому, что около Мад Ская. – Не предупредили, сыновья пацев! – недовольно пробурчал Важные Бакенбарды. – А плачено им за быстроту! Я с них деньги назад стребую! Треть или даже половину! – Клянутся, что будем на месте вовремя, как обещались, – сообщил пучеглазый. – Сказали, объезд недолгий, только чуть потрясет – к старому мосту лесом поедем. – Чтоб их прах не доплыл до Оправы! – проклял возниц Важные Бакенбарды, и тут экипаж свернул с имперского тракта на север, в лес. Дорога была грунтовая, узкая, но довольно ровная – трясло не сильно. Звонкий цокот копыт по камню сменился глухим монотонным стуком, скорость упала, однако возок благополучно пробирался вперед среди огромных сосен. Этот лес уже не был заповедным, и кое-где виднелись следы вырубки – сосны шли на мачты и обшивку кораблей. Успокоившись, Важные Бакенбарды повернулся к Тревельяну. – Так что насчет этого зелья? Которое по золотому за ложку? Есть у Нурам-Сина запас? – Есть, мой господин, не сомневайся. Нурам-Син – дарующий кров, а значит, человек запасливый. Коли ты с ним в дружбе, он, быть может, тебе бесплатно даст. «Догонит и еще даст», – ехидно добавил командор. – Хрмм, бесплатно… Бесплатно – это хорошо. Мы служители Светлого Дома, и хоть эта служба почетна, на ней не разбогатеешь. Хрмм… А как это зелье пользуют? Надо ли только нюхать или можно внутрь принять? – Можно и внутрь, – с любезной улыбкой сообщил Тревельян. – Все от цели зависит, почтенный. Если ты хочешь осчастливить женщину один раз, достаточно нюхнуть, а если два или три, то лизнуть. Самым кончиком языка. – А если каплю в вино и выпить? – Ну, тогда одной женщины не хватит. Одной такого счастья не вынести, нужны по меньшей мере четыре или пять. – Четыре… – задумчиво произнес Важные Бакенбарды, подняв глаза вверх. – У меня как раз четыре жены… Если Нурам-Син все же потребует денег, во что мне обойдутся их радости? Он погрузился в сложные вычисления, а Тревельян глядел на него, развлекаясь от души. Глядел, хихикал про себя, потешался и потому пропустил нечто новое и странное: в глухом лесу вдруг возникли за деревьями высокие стены с башенками по углам, а в стене – небольшие, но прочные ворота. Створки их были гостеприимно распахнуты, и экипаж, свернув с дороги, въехал во двор и остановился. – Прибыли, – сказал Завитые Бакенбарды, снимая висевшую на шее цепочку. – Точно, прибыли, – подтвердил пучеглазый, сунулся в баул, но вытащил на этот раз не закуску и не кувшин с вином, а прочный кожаный ремень. – Должно быть, харчевня, – сказал Тревельян, выглядывая в окошко. – Харчевня, – кивнул Важные Бакенбарды, ощерясь в ухмылке. – И ты, сын паца, будешь столоваться в ней, пока зубы не сгниют. – Он приподнялся с сиденья и вдруг гаркнул: – За дело, молодцы! Хватай его! Вяжи! На Тревельяна навалились трое. Не просто навалились: Короткие Бакенбарды ткнул его дубинкой в живот, пучеглазый схватил за ноги, пытаясь обкрутить ремнем лодыжки, а Завитые Бакенбарды с неожиданной ловкостью захлестнул вокруг шеи цепь. Она оказалась очень прочной, явно не золотой, а бронзовой. Грей негодующе пискнул и, снявшись с хозяйского плеча, вцепился Завитым Бакенбардам в волосы. Испуганно вскрикнув, тот ослабил нажим, и Тревельян, полузадушенный и ошеломленный, смог глотнуть немного воздуха. В следующий миг он лягнул Тощие Бакенбарды в челюсть, отбросив его на заднее сиденье, врезал под дых Коротким Бакенбардам, сбросил Завитые со спины и размахнулся, собираясь засветить их шефу в глаз. Драться в тесноте кареты было неудобно и опасно – тут он мог рассчитывать лишь на силу, а все познания в боевых искусствах пропадали втуне. Чтобы прыгать и бить, бить и прыгать, требовался простор, а его-то как раз и не хватало. В глаз Важным Бакенбардам он не попал – завитой помощник, выдрав Грея из волос и выкинув в окно, повис на его руке. Зарычав от ярости, Тревельян принялся шарить другой рукой у пояса, пытаясь вытащить кинжал, но запястье обхватили цепкие пальцы Тощих Бакенбард. Короткие Бакенбарды, третий из нападавших, ворочался где-то под ним на дне возка, сипел, хрипел и рвался ударить куда-нибудь палкой, но не мог размахнуться и только тыкал Тревельяна то в ребра, то в ягодицы. «Выпусти им кишки! Лазерный хлыст у тебя, недоумок!» – рявкнул командор, но до этого главного оружия было никак не дотянуться, мешали чужие руки, ноги и челюсти. Да и махать хлыстом в такой тесноте не очень хотелось, чтобы не отхватить себе ногу. Но если разрезать проклятый экипаж… С этой мыслью Тревельян вырвался от пучеглазого, чтобы залезть в сапог, но тут Важные Бакенбарды взревел: «Пакса, Дорри, сюда!» Дверцы распахнулись, в карету ворвались двое дюжих возниц, и первого пришлось встретить тычком в промежность. Заорав, он вылетел вон, но по двору уже бежали какие-то другие люди, в каждую конечность Тревельяна вцепились четыре сильные руки, цепочка снова захлестнула горло, потом колени и локти обхватили ремнями и потащили его из экипажа точно куль с мукой. Он лежал на спине, осматривая узкий дворик, высокие стены и башни, крепкие ворота и мрачное каменное здание поперек двора. На харчевню это решительно не походило. Решетки в окнах-амбразурах здания лучше всяких слов подсказывали, куда он попал. Но почему? За что? Пыльный башмак уперся ему в грудь, потом над ним склонилась торжествующая рожа Важных Бакенбард. – Не жмет? – осведомился он, поддевая носком башмака связанные руки Тревельяна. Ухмыльнулся и врезал ему по ребрам. – Думаешь, рапсод, ты очень умный? Очень хитрый, да? – Новый удар. – Думал, нашлись болваны, которым можно вешать на уши шерсть пацев? Про бальзам, про девок и вашего Наставника? – Тычок в живот, такой сильный, что замерло дыхание. – Ну, и как теперь? «Теперь я дурак дураком», – подумал Тревельян, а вслух прохрипел: – Наше Братство… так не оставит… Ты на стража… на стража справедливости… руку поднял… Меня найдут… В глазах Важных Бакенбард мелькнуло злорадство. – Только и дел вашему Братству тревожиться из-за отступника-рапсода! Да если хочешь знать… – Внезапно он прикусил язык и со всей силы ударил Тревельяна в челюсть. Раздался хруст, кровь затопила рот, и от болевого шока Тревельян чуть не потерял сознание. Но медицинский имплант тут же добавил успокоительного, позволив ему не выпасть из реальности. Он глядел в синее бездонное небо, терпел боль и слушал, как Важные Бакенбарды с кем-то говорит – должно быть, с местным начальством: – Ну, Ти-Хор, наша работа закончена. Мы тебе его доставили, чтоб ему ока Таван-Геза не видать! – И не увидит. – Короткий смешок. – Ни дневного не увидит, ни ночного. Мешок его где? – Вот мешок, но кошель с деньгами я заберу. Нам, знаешь ли, досталось! Кому ребра сломал, кому зубы вышиб, а Пакса, вон, до сих пор промежность трет и стонет… Поосторожнее вы с ним. Силы, как у клыкача… – С каменной стеной не повоюешь, – раздался ответ. – Тащите его! Тревельяна подняли и понесли через двор к мрачному зданию. Последнее, что он увидел, было крылатой тенью, мелькнувшей над угловой башней. Страх и горечь Грея полоснули его как ножом.
* * *
Трещина в челюсти зажила через двое суток, и все это время Тревельян не мог жевать. Впрочем, жевать особо было нечего – спускали раз в день корзину с сухой лепешкой да кувшином затхлой воды. В эти считаные секунды в камере был полумрак, ибо стражники наверху являлись с факелами, а все остальное время царила непроглядная тьма. Но в свете он не очень нуждался, он и так уже исследовал свое узилище во всех подробностях. Каменный мешок два с половиной на два метра. Пол – цельная скала, потолок – на высоте тройного человеческого роста, и в нем люк, в который едва прошла узкая деревянная лестница, когда его спускали вниз. Люк прикрывали железной крышкой, которая, судя по доносившемуся скрежету и лязгу, крепилась на нескольких засовах. Ни топчана, ни табурета, ни стола… Единственным предметом обстановки мог считаться нужник – дыра, пробитая в полу, от которой несло мерзким запахом. Дыра уходила глубоко, и Тревельян, напрягая слух, различал, как где-то внизу тихо плещет и журчит вода. Видимо, под скалой текли подземные воды, уносившие нечистоты – те, что не оседали на стенках вонючей трубы. Этот далекий плеск был единственным звуком, который он слышал, вонь – единственным запахом, который обонял. Имелись и другие развлечения – можно было лежать на жестком холодном полу, сидеть, подпрыгивать и ходить, четыре шага в одну сторону и четыре в другую. Все точь-в-точь как на голограмме, присланной ему в шкатулке: камера-мешок, мрак и фигура узника, что скорчился в отчаянии у каменной стены. Отчаяния Тревельян еще не испытывал, но полагал, что вскоре будет с большой теплотой вспоминать хищные леса Селлы, плавучие джунгли Хаймора и пустыни Пта. Его мешок забрали, отняли пояс с кинжалом, содрали новые ушные украшения, купленные в столице, но сапоги и одежду оставили и обыскать не удосужились. Как правило, обыскивают там, где в одежде есть карманы и где придумано множество маленьких полезных штучек, крохотные компьютеры и передатчики, миниатюрные капсулы со взрывчаткой или парализующим газом, голографические пугалки и тому подобное. На Осиере цивилизация до этого не дошла, и потому Тревельян сохранил свой лазерный хлыст, что позволяло тешиться иллюзиями. Например, он мог мечтать о ступеньках, которые вырежет в стене, и подсчитывать, на сколько хватит заряда, на две ступени или только на одну. Кроме этой забавы да изучения стен и смрадной дыры в полу, он спал и провел во сне большую часть двух истекших суток. Сон в данном случае являлся полезным и даже необходимым, так как заживление ушибов и особенно трещины в нижней челюсти шло быстрее, а дергаться до обретения нужной физической формы было бессмысленно. Наконец внутренние часы Тревельяна подсказали, что наступает утро третьего дня. Он откусил от лепешки, убедился, что с челюстью порядок, быстро проглотил двухдневный рацион, запил водой и поинтересовался: «Ну, дед, что скажешь?» «Что скажу? – пробурчал командор. – Попал ты, парень, как кур в ощип!» «Это само собой, но я о другом: причина, причина! С чего хватать ничтожного рапсода и хоронить в каземате? Да еще по-тайному, по-тихому!» «Может, птичка наша расстаралась? Приехала домой и учинила дядюшке скандал? Ну, а он…» «Это вряд ли. Дядюшка – крепкий кадр, скандалом его не проймешь. К тому же были у него большие планы насчет меня и птички. Я вот думаю…» «Да?» – поторопил его Советник. «Помнишь, как этот важный хмырь меня назвал? Рапсод-отступник! И добавил, что Братство из-за меня тревожиться не будет. Даже больше – он что-то еще хотел добавить, но не решился. Подозрительно, а?» «Подозрительно, – согласился командор. – Опять же, этот медальон с пророчеством… Знаешь, такие предсказания и мне под силу. Вот, например, когда я колонию дроми штурмовал у звезды Барнарда. У меня эскадра крейсеров, фрегаты и транспорты с десантным корпусом, а у них – три занюханных ствола с ракетами да силы самообороны. Я им тоже мог бы пару голограмм отправить! На одной все живые стоят, только руки вверх, а на другой – руины и обугленные трупы… Чем не пророчество?» «Ну и как, отправил?» – спросил Тревельян. «Нет. Скомандовал огонь из всех калибров и сбросил десантников. Что поделаешь! Жестокие были времена, суровые… – Испустив ментальный вздох, командор задумался на секунду, потом сказал: – Похоже все-таки, что Братство тебя продало, внучок. Ну, не Братство, так этот Аххи-Сек, наставничья задница! Ему ведь чего надо, раз ты с планеты не убрался? Надо фасон держать, то есть чтобы предсказание исполнилось! Вот он и стакнулся с кем-то, и тебя упрятали… может, заплатил или обещал услугой отдариться… скажем, возбуждающим бальзамчиком». «Стакнулся с кем-то… – повторил Тревельян, не обращая внимания на подковырку деда. – А с кем? С кем, я спрашиваю? Это ведь непростые люди, особенно начальничек их, который щеки надувал. Ты ведь пойми: пока ехали, я над ним потешался, а он, значит, надо мной… Большой хитрости мужик! Профессионал! – Тут он пощупал челюсть и добавил: – И бьет крепко». «Профессионал, хитрец и бьет крепко, – повторил Советник. – Ну, и что тебя удивляет? Во всех царствах-государствах есть служба с такими профессионалами, а тем более в империях». «Служба, может, и есть, но у нас о ней никакой информации. Ни о службе, ни о возможных ее связях с Братством, ни о таких вот замках в лесу с тайными темницами… Полтора века наблюдали за автотронами, а об этом данных нет!» «Как нет? Теперь есть! – возразил командор. – Данных теперь – выше крыши! И что будешь с ними делать, паренек? Что вообще ты намерен делать?» «Песни петь», – буркнул Тревельян. Поднялся, встал посреди своей каморки, задрал голову вверх и запел. Голос у него был сильный, громкий, стены темницы резонировали, и пение наверняка было слышно в верхнем коридоре, а может, и по всей тюрьме. Он исполнил на русском «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», потом на английском «Правь, Британия, морями» и начал на французском «Марсельезу», но в этот момент люк лязгнул и приоткрылся. – Эй, отродье паца! – рявкнул стражник. – Прекрати! – Я рапсод, – с достоинством сказал Тревельян. – И что с того? – Рапсод должен упражняться в своем искусстве. Иначе как я буду петь на пирах и увеселять людей? – Теперь ты никого не будешь увеселять, – сообщил стражник. – Никого и никогда. – А разве вы, обитающие в этой крепости, не люди? – спросил Тревельян и, не дождавшись ответа, снова запел. И пел, с перерывами на еду и сон, целых восемь дней. Пел, большей частью, древние земные песни, «Интернационал» и «Янки дудль», «Дубинушку» и «Долог путь до Типперери», «Очи черные» и «Боже, царя храни». Пел во весь голос, и от того стража не слышала, как он шаркает ногами, ползая по стенам, и иногда свергается вниз с шестиметровой высоты. Стены темницы сложили без раствора из плотно пригнанных друг к другу плит, но все же между ними были щели и трещины, где поменьше, а где и побольше. Большие Тревельян аккуратно расширял своим лазером, совсем чуть-чуть, чтобы только зацепиться пальцами. Влезть наверх по стенке не составляло для него труда, но дальше шел потолок, и из самой удобной позиции до люка оставалось около метра. План его был таков: в то мгновение, когда откинут крышку, уцепиться за стражника, рвануть наверх и, пользуясь всеобщим ошеломлением, вырубить охрану. Вряд ли пищу разносили целым взводом, а успокоить троих-четверых он смог бы в полной тишине и быстро. Дальше действовать по обстоятельствам, либо бежать, либо остаться и переловить тюремщиков. Ему казалось, что это тайное узилище в лесу невелико – может, сидят тут несколько особо ценных заключенных, а сторожат их ленивые мерзавцы числом десятка два. Повязать бы их, не пуская кровь, и добраться до лютни… Лютню с пугалкой и передатчиком он бросить не мог. План был вполне реален за исключением единственной проблемы: он пока что не придумал, как закрепиться у потолка, чтобы пролезть в люк с необходимой быстротой. Нужна надежная опора, а где ее сыщешь на гладком потолке? Разорвать пончо и сделать петлю? Но как закрепить ее поосновательней?.. Тревельян размышлял на эти темы, распевая во весь голос: «Сижу я на нарах в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». Однако песня древних террористов не подсказала выхода, и он перешел к классическим ариям, исполнив «Сатана там правит бал» и «Паду ли я, стрелой пронзенный». Затем ему вспомнились Чарейт-Дор и Лидочка, младший пилот-навигатор с «Пилигрима». Потянуло к любовной лирике, и Тревельян начал было «Я встретил вас», но тут наверху послышались странные шорохи. Он смолк, прислушался и, не услышав ничего, вжался в угол и приготовил на всякий случай свой лазерный хлыст. Лязгнула крышка люка, и сверху свесился человек. В отблесках факелов Тревельян разглядел его лицо – широкоскулое, бледное, лишенное всяких следов растительности. Безволосый! Воин, несомненно… Убийца? С шести метров он не мог достать его хлыстом, но если солдат спрыгнет в камеру… – Ивар? Ты где? Я ни черта не вижу, – раздался знакомый голос, а вслед за ним сверху упала веревка. – Вылезай! Быстрее! К люку Тревельян взлетел как выпущенная из клетки птица. Там, в нешироком коридоре, валялись тела трех стражников, стояла корзинка с кувшином и сухой лепешкой и с пронзительным писком метался под каменными сводами Грей. Завидев хозяина, он тут же рухнул к нему на плечо, потерся о щеку мохнатой мордочкой и довольно заурчал. Безволосый солдат прикоснулся к браслету на предплечье, что-то щелкнуло, и перед Тревельяном возник Хьюго Тасман. Они обнялись. – Не удивляйся, у меня проектор, – сказал Тасман, демонстрируя свой браслет. – Тут оказалось девять олухов, и каждый теперь присягнет, что на них напал какой-то бешеный дикарь. А Уго-Тасми сейчас на своем корабле, болтается у побережья и, очевидно, ловит рыбку… С ним верная команда, и парни точно знают, что хозяин никуда не отлучался. – Его зубы сверкнули в усмешке. – Так, на всякий случай… – А эти что? Мертвы? – Тревельян покосился на стражей. – Ну почему же? Как сказал один из местных властелинов, к исполняющим долг относись с почтением… – Приподняв край туники, Тасман показал кобуру с парализатором. – Придут в себя через пару часов и вспомнят безволосого бандита. А мы тем временем… – Он включил и тут же выключил браслет, превратившись на секунду в уроженца запада, по виду – богатого купца. – Мнится мне, что ты не только КПЖ с генератором утащил, – заметил Тревельян. – И много у тебя таких забавных штучек? – На мой век хватит. Пошли! В конце коридора была крутая лестница, и, судя по ее длине, камеры располагались в глубоком подземелье. Поднявшись на несколько ступенек, Тревельян оглянулся и спросил: – Тут кто-то еще есть? Другие узники? – Никого, кроме тебя. – Лицо Тасмана стало задумчивым. – Слышал я о таких секретных апартаментах, но видеть не видел… Здесь обычно те сидят, кто не вписался в легальное правосудие. Вины как будто нет, вешать не за что и в Висельных Покоях тоже держать неудобно, а все же надо изолировать. К примеру, слишком любопытного рапсода. – Люди, которые меня схватили… Ты что-нибудь о них знаешь? Может, они с Братством связаны? – Может, и связаны, но об этом мне ничего не известно. А люди, думаю, из Ночного Ока, тайной имперской службы, что разрешает по-тихому всякие проблемы. Кое-кого я даже лично знаю… – Тасман поднимался по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. – Я ведь, Ивар, почему забеспокоился? Есть у меня надежные помощники, плачу им золотом за каждую услугу, можно сказать, своя агентурная сеть в Семи Провинциях. Один за тобой присмотрел, когда ты в карету садился, и тех четверых описал, что были с тобой, другому я велел встречать тебя в Мад Дегги, о чем передали барабанами… – Через сигнальные вышки? Разве такое возможно? – спросил удивленный Тревельян. – Возможно, все возможно, если платишь. Ну, отбарабанили мне, что ты не прибыл. Очень подозрительно, учитывая вид твоих попутчиков… Ну, а потом зверюшка твоя прилетела, умница шерр! Яхту нашел, спустился прямо мне на плечи и как заверещит! Показал дорогу, и вот я здесь. – Умница шерр… – повторил Тревельян благодарно, поглаживая мягкую шерстку. Грей пискнул – он был чуток к ласке. Они поднялись в каземат с массивной, прочной дверью, сейчас распахнутой настежь. Тут, между лавкой и топчаном, лежали еще двое охранников, и на одном Тревельян обнаружил свой пояс с кинжалом, а на другом – наушные украшения. Мешок нашелся на полке, вделанной в каменную стену, но в нем были только лютня и принадлежности для разжигания огня. Плащ, шкатулка с медальонами, фляжка и даже пергамент с манускриптом С’Трелла Основателя исчезли, не говоря уж о деньгах, экспроприированных Важными Бакенбардами. Тревельян наклонился, снял с бесчувственного стража пояс и кинжал. – Я все пытаюсь сообразить, почему тебя схватили, – раздался за его спиной голос Тасмана. – Вроде ты никому не насолил, кроме капризной девицы. Конечно, Ниган-Таш, дядя ее, большой вельможа, но не самодур, и слывет человеком справедливым… Информация из первых рук, от Лат-Хора, моего приятеля. Они с Ниган-Ташем… – Ниган-Таш здесь ни при чем, – сказал Тревельян, застегивая пояс. – Ты ведь в курсе, что я в Мад Дегги направлялся, к нашему Великому Наставнику… Так вот, кто-то не хочет, чтобы я туда попал. – Кто? Есть гипотезы? – Есть. Но пока, извини, я ими делиться не буду. – Он заглянул в мешок, недовольно хмыкнул и проворчал: – Тоже мне Ночное Око, имперская служба! Пацы вонючие! Грабители! – Ты не нервничай, я тебе приготовил кой-чего в дорогу, – молвил Тасман. – Арбалет, еда, монеты, а еще… еще сюрприз! – Он загадочно усмехнулся. – Какой сюрприз? – Увидишь. Ты ведь в Мад Дегги собрался, так? Ну, не пешком же тебе туда идти! Миновав мрачный холл и дворик с недвижимым телом стража у ворот, они углубились в лес по грунтовой дороге. Тревельян шагал и раздумывал, сказать ли коллеге про шкатулку с двумя медальонами или нет; посовещался с командором и решил, что не стоит. Не сейчас! Вот когда он разберется с Аххи-Секом и вызовет транспорт для возвращения на Базу, тогда, пожалуй, самое время поговорить… Кто бы ни прятался в тени Великого Наставника, его пророчества нельзя считать неотвратимыми: вот он, Тревельян, угодил в темницу, как предсказано, но все же выбрался оттуда! Значит, и крюк для Тасмана вещь гипотетическая; захочет, улетит с Тревельяном на Базу, дождется «Пилигрима» и… Обогнув густые заросли бамбука, он замер в восхищении. Тут, на небольшой поляне у дороги, стояла колесница, запряженная серым рысаком, а к ее передку были привязаны поводья еще одной лошади. То был могучий жеребец, черный как ночь, с серебристой гривой и белой полосой вдоль хребта, с гибкой лебединой шеей, длинными ногами и широкими крепкими копытами. И он был под седлом! Старинная земная упряжь в полном сборе: седло, к которому приторочен арбалет, седельные сумки, уздечка, стремена, подпруга… Но главное – конь! Чудо как хорош! Тасман, улыбаясь, наслаждался его изумлением. – Кличка Даут, потому как любит иногда кусаться, – сказал он наконец. – Приучен ходить под седлом и в колесничной сбруе, но только в одиночку – партнеры ему не нравятся, грызет. В лесу ты на нем царь и бог, Ивар, никто не догонит! Лесом и поезжай, а на дорогу верхом не суйся – это вызовет ба-а-альшое удивление. К тому же искать тебя могут на дороге. Но если ночью… да, ночью можно рискнуть. Промчишься мимо постов, где не заметят, где примут за зверя или демона… А за ночь ты на Дауте двести километров одолеешь. – Двести! – восхитился Тревельян. – Неужели двести? – Это не земной конь, Ивар. Здесь лошади быстрей, выносливей и умней. – Тасман погладил бархатные ноздри жеребца, пошептал ему что-то в ухо. – Ну, садись и отправляйся лесом на север, а я на дорогу поеду. То есть не я, а купец Хуваравус из Тилима, который затем исчезнет, словно его и не было. – Он прикоснулся к браслету и стал смуглым, рыжеволосым и невысоким человеком запада. – Спасибо тебе, – сказал Тревельян, поднимаясь в седло. – За то, что выручил, спасибо, и за этого коня тоже. Если захочешь улететь со мной, если решишь вернуться… Словом, не думай ты об этом проклятом крюке! Тут, Хьюго, есть варианты. – Варианты есть всегда, – философски заметил Тасман и положил руку ему на колено. – Послушай, Ивар… тогда, на моем острове, я не все сказал… не все, ибо часть истории с моим неудавшимся плаванием – анализ сделанных ошибок. Сейчас я поступил бы иначе… Я полагаю, нельзя навязывать чужому миру то, что он не приемлет, к чему не готов, что идет вразрез с его традицией. Но Осиер велик, и где-то кто-то в нем желает странного. Кто-то недоволен, понимаешь? Не обижен более ловким и сильным соседом или имперским чиновником, не возмущен налогом или решением суда, не затевает бунт против правителя, желая большей власти, не потерпел фиаско в любви или поражение на дуэли… И в этих случаях люди будут недовольны, но по-иному, по-иному… Истинно же недовольные те, кто ощущает беспокойство без видимой причины и жаждет чего-то такого, чему нет места в повседневном бытии. Чего-то необычного, возвышенного… – Ты говоришь о романтиках? – спросил Тревельян. Тасман улыбнулся, и голограмма купца Хуваравуса послушно повторила улыбку. – Я говорю о недовольных, но ты, коллега, можешь называть их романтиками. Я отыскал бы их, набрал бы экипаж и отплыл в заокеанские земли… Но поздно! Время мое ушло, Ивар. Теперь ты решаешь, что делать и делать ли что-то вообще. Кивнув, Тревельян пожал его руку, тронул поводья и неторопливо направился в лес. Древесные ветви сомкнулись над ним, спрятали от неба, облаков и солнца, укрыли от чужого глаза, обволокли густыми тенями и негромким прерывистым шелестом. Даут шел легко, потряхивая серебряной гривой, переступая длинными, точеными ногами и изредка пофыркивая. Утренний воздух был свеж и прохладен, и в нем разливался терпкий запах смолы. – Удачи! – долетело издалека. – Удачи тебе, Ивар! – Потом, совсем уже тихо: – Ищи! Ищи недовольных!Глава 14 ПОД КОЛЬЦЕВЫМ ХРЕБТОМ
Две ночи Тревельян провел в лесу. Днем ехал вдоль дороги по просекам и полянам, перебирался через ручьи и мелкие речки, огибал утесы и нагромождения каменных глыб и слушал, что говорят барабаны и трубы на сигнальных вышках. В Империи и сопредельных странах был принят универсальный код для передачи сообщений, однако имелись и секретные, не все из которых расшифровали и описали эксперты Фонда. Но таких посланий Тревельян не уловил; все были понятны, все касались повседневных дел, и ни в одном не прозвучал приказ поймать сбежавшего рапсода. Видно, Тасман не ошибся: Ночное Око решало проблемы по-тихому, не сообщая о них всему миру грохотом барабанов. На третий день, когда до Мад Дегги оставалось километров сто двадцать, Тревельян выехал к большому селению, окруженному полями, плантациями пряных трав и рыбными садками, целой системой водоемов, соединенных с довольно полноводной речкой. Дорога тут взбиралась на мост, за которым нашелся постоялый двор с харчевней, а поблизости – неизменная сигнальная вышка с двумя десятками солдат под командой туана. Решившись рискнуть, Тревельян снял со своего скакуна седло и упряжь, разыскал в седельной сумке плащ, сделал тючок и, набросив уздечку на шею Даута, вывел его на дорогу. Воины, наемники-безволосые в легких панцирях и шлемах, даже не поглядели на него, офицер покосился на коня, но не окликнул и не велел подойти. Миновав ворота постоялого двора, Тревельян оставил лошадь у коновязи и сел на лавку под полосатым тентом. Кроме него, тут ожидали трапезы два хмурых нобиля, ехавших, очевидно, по делам службы – оба при мечах и кинжалах; их колесница с каурым жеребчиком стояла неподалеку. Жеребчик был так себе. Даут покосился на него, раздул ноздри и презрительно фыркнул. Не прошло и минуты, как появился хозяин с подносом, оделил нобилей яствами и кувшином пибальского и шагнул к Тревельяну: – Чего желаешь, почтенный? – Того же, что у тех господ. – Перед нобилями дымилась горка свежих пирожков. – Еще зерна для моей лошади, а мне – вина, только не пибальского, а торвальского. Да, и свежих фруктов моему шерру! Последнее нобили, кажется, расслышали. Выглядевший постарше повернул голову, окинул Тревельяна пристальным взглядом, поглядел на Даута и раскрыл рот. Затем уставился на Грея, дремавшего на хозяйском плече. «Похоже, тебя ожидали, малыш, и уже признали, – проинформировал командор. – Лошадка их смутила. Рапсод с лошадкой им не нужен, а нужен тот, который со зверюшкой». «Думаешь, эти из Ночного Ока?» «Не исключаю. Боевые ребята, и с оружием! На ликвидаторов похожи». Обслуживали в харчевне с похвальной быстротой: не успел Тревельян и глазом моргнуть, как во двор выскочил парень с корытом зерна, миловидная девица подала фрукты, оранжевые паа, а хозяин притащил кувшин с вином, серебряную чашу и пирожки. Унюхав еду, Грей проснулся, перебрался с плеча на стол и сел там на задних лапках, поводя мохнатой мордочкой и, вероятно, решая, с чего начать, с пирожков или с фруктов. Нобили, не скрываясь, разглядывали Тревельяна с его зверьком и шептались. У того, что постарше, были резкие хищные черты и необычное ушное украшение – свернувшаяся кольцом змея из малахита. Тревельян, оголодавший после лесной сухомятки, навалился на пирожки. Приготовили их отменно. – У тебя, почтенный, хороший конь, – молвил хозяин. – Что же ты идешь пешком? – Хороший, но с норовом. Озлился, понес, разбил возок! Пришлось бросить. Сам едва жив остался. – С таким жеребцом не всякий справится, – кивнул хозяин, глядя, как Даут хрупает зерно. – Не всякий, – согласился Тревельян. – А я возничий неопытный. Он выпил вина из серебряной чаши и решил, что это все-таки торвальское, хотя не лучший сорт. Хозяин собрался что-то сказать, но тут его окликнул нобиль с малахитовой змеей: – Ты, сын черепахи! Почему мы пьем из глиняных чаш, а этот рапсод – из серебряной? – Потому, мой господин, что он заказал торвальское, которое втрое дороже пибальского. Лицо нобиля налилось кровью. – Ты уверен, что этот бродяга заплатит за вино? Не говоря ни слова, Тревельян полез в кошелек, вытащил золотой, поглядел на него, бросил обратно и достал два серебряка. Царская плата! Бык в Семи Провинциях стоил восемь серебряных монет. – Этого хватит, почтенный хозяин? – О, ты щедр, мой господин! Клянусь богами! Нобиль яростно дернул бакенбарду и сказал, обращаясь к приятелю: – Мир рушится! Бродяга-рапсод пьет из серебряной чаши и золотом бренчит, а у знатных людей вино в глиняных кружках… Чтоб ему в бездну провалиться! Эй, потомок паца! Неси нам тоже серебряные кубки! Хозяин подмигнул Тревельяну, затем с постной рожей повернулся к соседнему столу: – Прости, благородный, но я бедный человек, и у меня одна серебряная чаша. Для тех, кто пьет торвальское. «Сейчас они к тебе прицепятся, – заметил командор. – Из-за вина, из-за чаши или…» У коновязи жалобно взвизгнул жеребчик. Он полез к корыту с зерном, но Даут не любил таких вольностей и цапнул его за холку. Потом добавил передним копытом. Хорошо добавил – каурый шарахнулся в сторону и дернул колесницу. Из нее посыпалось всякое имущество, арбалеты, связки стрел и небольшой сундучок. Младший нобиль бросился успокаивать лошадь, старший медленно поднялся, положив ладонь на рукоять меча. Кажется, он был доволен – по его лицу блуждала улыбка. – Эй, рапсод! Твоя кляча изуродовала моего коня! А еще я вижу, что мой сундук треснул! – Ну, и чего ты хочешь? – спросил Тревельян, доедая пирожки. – Ровным счетом ничего. Просто заберу твоего мерина, в компенсацию за убытки. – Я заплачу. Сколько? Он вытащил кошелек, который, заботами Тасмана, чуть не лопался от денег. Глаза нобиля жадно блеснули. – Можешь заплатить, но мерина я все равно заберу. – Тогда не получишь ничего. – Последний пирожок исчез во рту Тревельяна. Он глотнул вина и сказал хозяину: – Ты мудрый человек, раз держишь серебряную чашу для достойных людей, для тех, кто пьет торвальское и может за него платить. А нищим сгодятся глиняные кружки. «Не круто ли берешь?» – полюбопытствовал командор. «В самый раз. Хвост мне не нужен, и эти двое отсюда не уедут». Нобиль с малахитовой змеей осмотрел Тревельяна, задержавшись взглядом на его кинжале. Затем презрительно сощурился, сбросил накидку и снял перевязь с мечом. – Надо проучить наглого рапсода, – сказал он будто бы самому себе. – У тебя острый язык, страж справедливости, но не острее моего клинка. Хочешь потанцевать со мной? Это было формальным вызовом. Здесь, на Осиере, дуэль не являлась прерогативой одного лишь благородного сословия; всякий мог защищать свою честь с оружием в руках. Но по правилам и при свидетелях. – Не откажусь. – Тревельян поднялся. – Но я один, а у тебя есть спутник. Скажет потом, что я зарезал нобиля подло, из-за угла… – Он кивнул хозяину: – Пусть твой парень сбегает к солдатам и позовет туана. Чем больше свидетелей, тем лучше. – Согласен. – Нобиль, разминаясь, покрутил правой кистью, потом левой. Его товарищ, успокоив лошадь, встал у ворот со скучающим видом. Но глаза у него бегали, осматривая площадку посреди двора, каждую выбоину на ней и каждый камешек. Тревельян не сомневался, что с этим типом тоже придется скрестить клинки. Явился туан, мужчина средних лет в кожаном доспехе с имперским гербом. Осанкой и выражением лица он напоминал Альгейфа с его офицерами – та же привычка к власти читалась в глазах, и рукипривычно лежали на рукоятях меча и кинжала. – Из-за чего спор? – спросил он зычным голосом. Противник Тревельяна ухмыльнулся: – Мы не сошлись во мнениях, чья лошадь лучше. – Это любой заднице понятно. – Офицер, повернувшись всем корпусом, оглядел Даута и каурого жеребчика. – Ну, дело ваше… кого помилует Заступница, тот и прав… Биться будете с кинжалами? Тогда клинки вон из ножен, и сходитесь! Нобиль выхватил кинжал и, оказавшись в три шага рядом с Тревельяном, тут же ударил снизу, нацелившись в живот. Лязгнули клинки, на секунду оба дуэлянта замерли, пытаясь пересилить друг друга, потом отскочили, снова сошлись, и над двором поплыл звон и скрежет стали. Но продолжалось это недолго – после обмена дюжиной выпадов Тревельян отступил к столам и скамьям, а его противник – к коновязи. Теперь они знали силу друг друга. Нобиль оказался настоящим мастером, и если он в самом деле был из Ночного Ока, то поручались ему задания особые, такие, где надо упокоить слишком прытких, которым не сидится в тихой камере. Фехтовал он в пейтахской манере, держа клинок острием к себе и перебрасывая его из руки в руку, но это могло быть обманом; наверняка такой искусник знал приемы многих школ, как западных, так и восточных. Но на легкую победу он уже не надеялся. Это выдавали глаза – презрение в них сменилось настороженностью. «Ловкий головорез, – заметил командор. – Ты уж, мальчуган, поаккуратней… Глотку проткнет, имплант не поможет». Сблизившись на пару шагов, они начали кружить по двору, слегка согнувшись и делая плавные жесты, то опуская клинки, то отводя их в сторону, то направляя с угрозой к противнику. Солнце играло на блестящих серебристых лезвиях. Зрители молчали, но каждый по-своему: нобиль у ворот как будто скучал, туан следил за поединком с видом знатока, а содержатель харчевни и его домашние, высыпавшие во двор, глядели на редкий спектакль со страхом и тайным ожиданием, когда же наконец прольется кровь. Новая атака была внезапной, и, хотя Тревельян успел отпрыгнуть, лезвие полоснуло его чуть выше локтя. Царапина! Он толкнул противника плечом (правилами это дозволялось), и тот, не выдержав напора, покатился по земле. Но тут же стремительно вскочил, ощерился, заметив кровь, и стал мелкими шагами приближаться к Тревельяну. На лбу его выступила испарина, грудь вздымалась часто и неровно, бакенбарды слиплись от пота. Бойцы выглядели одинаково рослыми, с длинными руками и крепкими мышцами, но Тревельян был явно посильнее и более вынослив – его дыхание не сбилось, и утомления он не ощущал. В этой схватке время и жаркие лучи Ренура были ему верными союзниками. Его враг был опытен и это понимал. Сделав несколько ложных выпадов, он снова ринулся в атаку, поднырнул у Тревельяна под рукой, зашел со спины и резко ударил кинжалом, целясь под лопатку, но пронзил лишь пустоту. Усмехнувшись, Тревельян отступил на шаг и, глядя в лицо соперника, буркнул: «Похоже, мой конь все-таки лучше!» Щеки нобиля побагровели. Со свистом выдохнув воздух, он двинулся направо, заставив Тревельяна развернуться – так, что ворота оказались теперь позади него, а солнце светило в затылок. Смысл этого маневра был непонятен; возможно, враг терял контроль и уверенность в собственных силах. – Когда ты умрешь, – сказал Тревельян, – я сложу балладу об этом поединке и назову ее «Торвальское против пибальского». Или лучше «Серебро против глины»? Тебе как больше нравится? Он стоял, спрятав кинжал за спиной, перебрасывая его из руки в руку и наблюдая за глазами противника. Когда в них вспыхнуло и разгорелось пламя ярости, он был готов. Нобиль рванулся в нему, грозя оружием, острие коснулось кожи у горла, и в ту же секунду клинок Тревельяна пронзил его сердце. Оттолкнув труп, он наклонился, потянул рукоять на себя, услышал, как что-то свистнуло у самого уха, почувствовал, как всколыхнулся воздух, и тут же приник к земле. Сзади раздалось отрывистое «Х-ха!». Тревельян вскочил, сжимая кинжал, обернулся и увидел, как обезглавленное тело второго нобиля валится вниз. Пронзительно, с ужасом, взвизгнула девушка – та, что подавала ему фрукты. – Это отродье паца бросил в тебя нож, – сказал туан, вытирая лезвие меча о накидку убитого. Он осмотрел клинок, убедился, что на нем нет следов крови, и сунул его в ножны. Потом поднял руку: – Именем Светлого Дома! Я, Альдер, благородный туан, свидетельствую, что рапсод… как твое имя?… Тен-Урхи?… что рапсод Тен-Урхи убил нобиля, чье имя мне неизвестно, в честном поединке. Я забираю коня, тела убитых и все их имущество, дабы передать родичам покойных, если они появятся и докажут, как положено, родство. – Повернувшись затем к коновязи, офицер взглянул на жеребцов и ухмыльнулся: – Еще я свидетельствую, что конь рапсода могуч, как дракон нагу, и в сравнении с ним лошадь спорившего – жалкая кляча. Тревельян поклонился: – Благодарю тебя, мой господин. Ты спас мне жизнь. – Благодари Заступницу. Если ты доплывешь до Оправы раньше меня, расскажи ей, как туан Альдер тебе помог, и пусть это зачтется во искупление моих грехов. Я пришлю солдат за телами, конем и повозкой. С этими словами туан Альдер направился к воротам и вышел со двора. – Достойный человек! – сказал хозяин харчевни. – Он тут уже три сезона и всегда платит за свое вино. А мог бы и не платить! – Достойный, – согласился Тревельян, зачерпнул, не считая, монеты из кошеля и высыпал их в ладонь хозяина. – Наливай ему теперь только торвальское и купи для него самый красивый серебряный кубок. Хозяин остолбенел, увидев пять или шесть золотых, потом начал благодарить и кланяться и, наконец, предложил: – Твоя повозка разбита, так, может, возьмешь одну из моих? Я человек небогатый, но кое-что у меня найдется, и для тебя я выберу самую лучшую, мой щедрый господин! Она легка, как птичье перышко, колеса у нее большие, прочные, сиденье мягкое, передок украшен бронзой, и сбруя при ней из толстой бычьей кожи, выкрашенной пурпуром. Прошу тебя, окажи мне честь, приняв ее! Как иначе ты отправишься в дорогу? Пойдешь пешком, имея такого коня? Боги меня не простят, если я допущу такое! А ты человек божий, ибо им угодна щедрость! – Я согласен, – сказал Тревельян. – Только объясни мне, откуда у человека небогатого такая роскошная колесница. – От молодого знатного нобиля, который пропил в моей харчевне и колесницу, и пару лошадей, и меч свой, и все запасное платье. – Это сколько надо выпить! – восхитился Тревельян. – Он что же, провел у тебя целый год? – Нет, четыре дня, но пил не один, поил солдат и всех прохожих и проезжих. А потом… да будет милостива к нему Таванна-Шихи… – хозяин описал над сердцем круг, – потом забрался на сигнальную башню и спрыгнул вниз. Говорят, от несчастной любви. – Хорошая история для песни, – молвил Тревельян, тоже рисуя круг. – Ну, выводи свою колесницу!* * *
В этом возке он на следующий день добрался до окраины Мад Дегги. Возок и правда был отличный, так что Тревельян не раз помянул несчастного влюбленного добрым словом. Его история казалась романтичной и заставляла вспомнить земную старину, Тристана и Изольду, Ромео и Джульетту, Лейлу и Меджнуна. Что-то искреннее, трогательное было в ней: все пропить, всех напоить и сигануть с высокой башни в любовном исступлении… Бесспорное свидетельство душевной широты! В текущую эпоху так на Земле не поступали, предпочитая ментотерапию, телепатическую чистку и другие методы, что избавляли от причинявшей горе страсти с полной гарантией. Впрочем, думал Тревельян, женщины тоже стали не в пример добрее, и теперь никто не гибнет от любви. Опять же, и наука не стоит на месте… Если совсем уж край и к недотроге никак не подобраться, можно компьютерную копию соорудить. Хоть в виртуальном пространстве, а все-таки любовь! Когда такие размышления надоедали, он совершенствовал свое искусство колесничего. Азы были ему известны: щелкнешь бичом слева – левый поворот, щелкнешь справа – правый, огреешь по крупу – значит, жми, лошадка, побыстрей, а если поводья взять на себя, то это означает остановку. Но, кроме этих основных сигналов, имелись и другие, которые он знал в теории, а Даут – на практике. Лошади ценились здесь не только за красоту, выносливость и скорость бега, но также за ум; хорошо обученный конь понимал до тридцати сигналов, подаваемых голосом, щелканьем бича и натяжением поводьев. Похоже, Даут был с ними знаком и милостиво разрешал Тревельяну поудивляться его способностям. Так час за часом они мчались вперед и вперед, обгоняя тяжелые, громоздкие, запряженные шестеркой фаэтоны, крестьянские телеги и торговые караваны с повозками, груженными тканью и бочками вина, посудой и амфорами с маслом для светильников, изделиями из бронзы и деревом ценных пород. Мимо проносились деревушки среди зелени полей, пилоны с древней мудростью, сигнальные башни, постоялые дворы с конюшнями, кузницами и водопоями; однажды попался большой воинский лагерь, окруженный высокими валами, рвами и площадками с утоптанной землей для тренировки солдат. Случалось, копыта Даута грохотали по мостам, переброшенным над реками и ручьями, многочисленными, но неширокими; по-настоящему крупные реки текли на западе и востоке, отделяя Полуденную Провинцию от соседних. Наконец впереди, между зеленой землей и синим небом, показалось что-то похожее на грозовую темную тучу. Вначале она выглядела узкой, размытой вдоль линии горизонта, но постепенно росла, тянулась к небесам, выбрасывала вверх остроконечные пики, подпиравшие облака. То был Кольцевой хребет, за которым лежали северные страны, обширный, дикий и лесистый Рингвар, простиравшийся до зоны полярных болот, и маленькая Пейтаха с ее железными рудниками и мастерскими, где делали лучшее в этом мире оружие. Дорога пошла вверх, и вскоре показался город, стоявший на плоском отроге хребта – скопище белых, серых и розовых домиков, будто притулившихся на великаньей ладони. Над черепичными крышами возносились башенки дворца правителя, купол храма Трех Богов и еще какие-то башни и шпили, казавшиеся совсем крохотными на фоне величия гор. В среднем Кольцевой хребет достигал трех-четырех километров, но отдельные вершины дотягивались до пяти и даже шести, причем каких-либо дорог в горах, проходящих по ущельям и перевалам, не было ни сейчас, ни в древности. Возможно, их удалось бы построить, затратив на это столетия, но природа решила эту проблему: в гигантской стене хребта было шесть столь же гигантских разломов, каньонов, пробитых реками и тянувшихся из Семи Провинций к другим обитаемым территориям. Первый Разлом располагался на востоке, соединяя Провинцию Восхода с Нанди, Горру, Пибалом и дальше со странами Пятипалого моря; Второй, Третий и Четвертый лежали в северной части хребта, и через них можно было попасть в Анз, Рингвар, Пейтаху и Онинда-Ро; Пятый и Шестой вели к западным странам, Шии, Пятиречью, Сотаре, Тилиму и берегам Мерцающего моря. Каждый из имперских трактов, проложенных в разломах, был защищен крепостями и воинскими лагерями с многочисленными гарнизонами; остальная часть хребта считалась недоступной ни конному, ни пешему и потому не охранялась. Мад Дегги стоял восточнее Третьего Разлома и реки Пантары, что отделяла Полуденную Провинцию от Дневной. С дороги город казался компактным и небольшим; вряд ли в нем насчитывалось больше пятнадцати тысяч жителей. Но обитель Братства в нем, разумеется, была; все же Мад Дегги служил торговым центром на пути к Пейтахе, а к тому же являлся местом, выбранным для постоянной резиденции Великого Наставника. Видимо, Аххи-Сек, как говорили Тревельяну, был неравнодушен к горным видам; и правда, тут открывались великолепные пейзажи. В обитель Тревельян не поехал, а, миновав город, нашел на северной окраине постоялый двор с кабачком, выпил вина и осведомился у хозяина, как добраться до мудрейшего учителя. Оказалось, что к его жилищу ведет тропинка, по которой в колеснице не проедешь, а идти пешком придется половину времени Полудня, то есть около двух часов. Узнав об этом, Тревельян велел распрячь и покормить Даута и, оставив коня с возком на попечение трактирщика, взял мешок, посадил Грея на плечо и направился в горы. Полдень давно миновал, но он надеялся, что будет у мудрейшего еще до заката. Так оно и вышло. Тропинка извивалась среди скал, но неизменно вела наверх, и, наконец, обогнув очередной утес, он увидел лощину с небольшим горным озером в кольце огромных сосен, холм на его берегу и уединенную усадьбу из белого камня, врезанную в склон возвышенности. Солнце плавало над хребтом еще довольно высоко, освещая эту идиллическую, полную тишины и покоя картину. С места, где стоял Тревельян, была видна ограда из каких-то каменных изваяний, за нею – небольшой, но пышный сад с прудом, а дальше – приземистое квадратное здание с внутренним двориком. Постройка была в том же старопибальском стиле, что и дворец Раббана в Этланде, только намного меньше. О людях, живших с Великим Наставником, Тревельяну не рассказывали ничего, но вряд ли их было больше трех-пяти человек. И вряд ли они представляли опасность. Однако, глядя на мирный пейзаж у озера, он ощутил внезапный внутренний трепет и холодок под сердцем. Это тревожное ощущение тут же передалось Грею, зверек запищал, привстал на задних лапках, цепляясь передними за волосы Тревельяна, и расправил крылья, словно желая защитить хозяина от неприятностей и бед. А тот стоял и думал, что здесь, на тихом озерном берегу, на далеком Осиере, он встретится с чем-то еще неведомым землянам, с цивилизацией, не уступавшей им в могуществе, с расой, которая может стать союзником или врагом. Страшным врагом, если она способна предвидеть будущее! Правда, прогноз его судьбы не оправдался, но… «…но твоя жизнь еще не закончилась, – напомнил командор. – Не обманывай себя, малыш, ты еще можешь угодить в ту самую яму, которую тебе нарисовали. Ты вылез из нее, но кто знает, что с тобой случится завтра или послезавтра? Возможно, тот первый случай был предостережением. Так сказать, пробой пера». «Я знаю, – молвил Тревельян в ответ, – я знаю». Затем он вытер пот с висков и твердыми шагами направился к усадьбе. Добравшись до ограды, он вздрогнул и остановился в изумлении. Барьер, отделявший усадьбу от внешнего мира, представлял собой стенку метровой высоты, сложенную из тесаных камней, на которой, точно на пьедестале, высились статуи пацев втрое больше натуральной величины. Тут были пацы стоящие и сидящие, хмурые, грустные и скалившие зубы в чем-то напоминавшем улыбку, пацы-самки, пацы-самцы и пацы-детеныши, пацы, жующие орехи или глядящие задумчиво вдаль; словом, тут были пацы в разнообразных видах, причем все они держались друг за друга верхними и нижними лапами, образуя, с одной стороны, единую композицию, а с другой – преграду, которую трудно одолеть. Кроме того, изваяния, высеченные из охристого и буроватого камня, являлись поразительно правдоподобными; искусство мастера – или, скорее, мастеров, – внушало искреннее восхищение. Только зачем эти умельцы изваяли пацев? Повсюду на Осиере, как в восточных и западных странах, так и в Семи Провинциях и даже на юге, у безволосых дикарей, они считались животными нечистыми, тварями жадными, мерзкими, вонючими и безусловно враждебными людям. Они воровали мелкий скот и птицу, зерно и овощи из амбаров и фрукты из плодовых рощ, они могли загрызть ребенка или женщину, а стая пацев была опасна даже для вооруженного мужчины, в чем Тревельян убедился еще в лесах Хай-Та, в первый же день прибытия на материк. Иногда циркачи и фокусники, коллеги покойного Тинитаура, приручали пацев, учили их всяким забавным ужимкам – довольно редкий случай, ибо дрессировке поддавалось одно из ста животных; этим, да еще клеткой в Висельных Покоях, и ограничивалось их практическое использование. В местном фольклоре они всегда играли отрицательную роль глупых и хищных прощелыг, коими брезговал любой приличный зверь, от грозных драконов нагу до древесных кроликов. Словом, пацы были малодостойными созданиями. – Пц-пц-пц, – сказал Тревельян, покачал головой и не спеша двинулся вдоль странной ограды. Она привела его к вратам, двум статуям совсем уж гигантской величины, протянутые лапы которых образовывали арку. Он вошел в сад и, стараясь превозмочь волнение, зашагал по засыпанной гравием дорожке. Если не считать скрипа камней под ногами, монотонного жужжания насекомых и шелеста листьев, вокруг царила тишина. Тишина и безлюдье – он не увидел ни женщины, ни мужчины, ни помощника-рапсода или пастуха, ни слуги или служанки. Никто не окликнул его, не пожелал разделить дыхание, не спросил, зачем он явился и по какому праву тревожит Великого Наставника. Так, в тишине и молчании, Тревельян добрался до небольшого овального пруда перед входом в дом. В нем колыхались нежные кувшинки, ветер чуть рябил поверхность прозрачной воды, а на берегу, на зеленой траве, расположился сухонький старец в белой просторной хламиде. Судя по жидким седым бакенбардам и пигментным пятнам цвета зрелого каштана, было ему порядком за восемьдесят – возможно, все сто с хорошим гаком. Однако его маленькое личико казалось гладким, почти лишенным морщин, а безмятежный взгляд подсказывал, что свойственные старости недуги его не беспокоят. Ни ломота в костях, ни учащенное сердцебиение, ни неприятности с желудком и прочие хворобы. «Ну и фокус!» – подумал Тревельян при виде этой благостной картины. Все было в точности так, как ему описали: бодрый старичок совершенных лет сидит у водоема с кувшинками и размышляет о судьбах мира. Наверно, десять дней уже не ест, не пьет и под кусты не бегает… К тому же на вид человек, а не пришелец. Не просто человек, а настоящий гуру! Мудрый, безобидный, добрый… Правда, может послать медальон, где получатель висит на крюке или гниет в темнице. Он склонил голову. – Моя кровь – твоя кровь, отец мой. Я рапсод Тен-Урхи. Извини за вторжение… Чтобы увидеть тебя, я прошел, проехал и проплыл половину мира. – Моя кровь – твоя кровь, рапсод Тен-Урхи, – неторопливо произнес старик. – Тен-Урхи, странствующий с шерром на плече от берегов Жемчужного моря… Тен-Урхи, свершивший в Этланде суд справедливости… Тен-Урхи, похищенный в Манкане и побывавший на Дальнем Юге… Тен-Урхи, вернувшийся в Фейнланд и переплывший море Треш… Большое путешествие, много событий, клянусь Тремя! Ты в самом деле прошел, проехал и проплыл половину мира. Ну, садись! – Он хлопнул по траве изящной маленькой ладонью. – Ты много обо мне знаешь, почтенный, – сказал Тревельян, опускаясь на землю. – Меньше, чем хотелось бы, сын мой. Юноша таких достоинств давно прославился бы в нашем Братстве, а о тебе узнали лишь пару сезонов назад. Где ты был, Тен-Урхи, что ты делал, до того как появился в Хай-Та? Кажется, в Бенгоде? А потом в Рори, у дарующего кров Шуттарна? Прежде я о тебе не слыхал. «Неплохо у него поставлена разведка, – заметил призрачный Советник Тревельяна. – Ну, как выкрутишься? Только не рассказывай ему про несчастную любовь или казненного прадедушку. Все равно не поверит». – Конечно, ты не слышал обо мне, – молвил Тревельян. – В мире такое множество людей! А я прежде не был рапсодом. Я был… ээ… ловцом птиц. – Для птицелова ты неплохо владеешь арбалетом и мечом. – В лесах, где водятся птицы, много опасностей. Вдруг наскочишь на клыкача или дикую кошку… Старик, усмехнувшись, покивал седовласой головой: – Ну, ладно, ладно. Значит, ты ловил птичек, а потом стал рапсодом. Прорезался талант, я думаю? – Вроде того, отец мой. – И велик ли твой дар, юноша? Хорош ли голос? Проворны ли пальцы, скользящие по струнам? – Об этом лучше судить тебе самому. – Тревельян раскрыл мешок, вытащил лютню, откашлялся и во все горло запел: – Бывали дни веселые, гулял я, молодец… Великий Наставник слушал, склонив голову к плечу и закрыв глаза. Веки у него были точно из желтоватого пергамента. – Прекрасный голос, чудная мелодия, – похвалил он, когда песня отзвучала. – Но я не понял ни слова. На каком языке ты пел? И что это за песнопение? – Это песня южных дикарей, – пояснил Тревельян. – Поют ее во время пира, когда два бочонка с вином уже опустели, а два еще остались. Ну а язык… Это наречие племени, вождь которого носит имя Пьяные Глаза. – Велик Таван-Гез! – Старец описал круг над сердцем. – Каких чудес не бывает на свете! Каких странных имен! Взять хотя бы тебя… Имя у тебя обычное для Семи Провинций, но в остальном ты чудо из чудес. Был птицеловом, стал рапсодом… А ведь рапсодов учат с детства! Чьим же ты был учеником? Кто твой наставник? Кто привел тебя в наше Братство и посвятил в рапсоды? Кто дал тебе в руки лютню, набросил на плечи голубой плащ и принял твои клятвы? Где это было? Тревельян смущенно потупился: – Сказать по правде, отец мой, я самоучка. Но учился я усердно и, кроме искусств пения и битв, копил все крохи мудрости, какие нашлись в пергаментах и речах людей достойных, вроде магистра Питханы из Помо. Так что теперь я умею не только петь, играть на лютне и сражаться. Я даже постиг законы С’Трелла Основателя. – Вот как? – Старик прищурился. – Если ты так много знаешь, то зачем пришел сюда? – Потому, что желаю знать больше. Почтенный магистр Питхана не смог ответить на все мои вопросы, но посоветовал… Великий Наставник прервал его, махнув тонкой, изящной рукой. – Я знаю, что посоветовал магистр Питхана, и знаю, какие вопросы ты задавал ему. Но почему ты думаешь, что я смогу на них ответить? – Если не ты, то кто же? – Тревельян сделал жест почтения. – Тебе, отец мой, ведомы судьбы человеческие, желания богов и тайны этого мира. Ты все познал! Пути китов в океане и число небесных звезд в ночном глазу Таван-Геза, места, где таятся в земле рудные залежи, мысли владык, повелевающих людьми, и шепот деревьев и трав. Ты – мудрейший! Ты глава Братства Рапсодов, Великий Наставник Аххи-Сек… «Так его, так! – язвительно поощрил командор. – Оближи как следует, мудрецы это любят! Спереди оближи и сзади!» Старец усмехнулся с легкой насмешкой: – Ну, познал я не все – ведь язык того племени, где вождем Пьяные Глаза, мне неизвестен. Но дело не в том, что я знаю и чего не знаю, совсем не в том, рапсод Тен-Урхи. – А в чем же? – С чего ты взял, что я – Великий Наставник Аххи-Сек?* * *
Ночевал Тревельян в уютной небольшой опочивальне, окна которой выходили к озеру. Сразу уснуть не удалось; больше часа он ворочался на ложе, слушал, как плещет вода и шумят деревья, глядел на звездное небо за окном, на изумруд Ближней звезды и сапфир Дальней, думал и вспоминал, вспоминал… Старец оказался гостеприимным хозяином: от пруда с кувшинками они перебрались во внутренний дворик, к столу с вечерней трапезой. В доме вдруг обнаружились люди, несколько крепких шустрых молодцов, то ли служители, то ли ученики. Но разговору они не мешали; подали отварную птицу с приправами, мед, сыр, вино, лепешки, а затем исчезли, словно их ветром сдуло. Престарелый хозяин, которого, как выяснилось, звали Орри-Шаном, пригубил из чаши, одобрительно причмокнул и сказал: – Кажется, ты удивлен, Тен-Урхи. – Да, – подтвердил Тревельян, – удивлен. И сильно! – Но почему? Ты ведь рапсод, хоть не прошел посвящения! Ты настоящий рапсод, ибо долгие годы ученичества и положенные обряды не делают певца певцом, сказителя сказителем; для этого нужно иметь то, что есть у тебя – фантазию, дар играть словами, приятный голос и ловкие пальцы. И, будучи рапсодом, ты должен знать мощь легенд и силу слов. Люди обычно верят не тому, что существует на самом деле, а рассказанному и записанному, особенно если речь идет о событиях давних, соизмеримых сроком с жизнью поколений. Люди хотят, чтобы где-то – ну, например, в горах за Мад Дегги – сидел у пруда старый мудрец, смотрел на цветущие кувшинки и размышлял о вечном. Пусть! Раз хотят, пусть так и будет! Разве трудно пойти им навстречу и сделать так, чтобы маленький кусочек мира походил на сказку? – Орри-Шан сделал еще глоток из чаши и добавил: – Согласись, что это вдохновляет. А вдохновение так необходимо! И певцам-рапсодам, и пастухам-наставникам. – Ну, и давно их вдохновляют такими сказками? – поинтересовался Тревельян. – Ты видел деревья у озера? Им больше тысячи лет, и, думаю, этому дому не меньше. Сад, конечно, приходится обновлять. Тревельян прожевал мясо, запил вином и задал следующий вопрос: – Кто-нибудь знает правду? Старец лукаво прищурился: – Какую правду? – О том, что нет никакого Аххи-Сека. – Кто сказал, что его нет? Аххи-Сек существует и живет на острове в Западном океане, около побережья Удзени, а я живу здесь, как его посланец и представитель. Об этом знают… знают те, кому положено. Теперь знаешь и ты. Конечно, существует, подумал Тревельян. Еще как существует! Иначе кто бы рассылал эти медальоны-голограммы? Кто упек его в тюрьму, а Тасмана – в цветущий парадиз с красотками-гуриями? Явно не Орри-Шан! Он всего лишь ширма, исполнитель повелений… – Ты встречался с Аххи-Секом? – Нет. Видишь ли, юноша, Великий Наставник в некотором роде символ, а символ должен быть недосягаем и окружен таинственностью. Если кто-то и видел Аххи-Сека, то лишь по собственной его воле и желанию. А я… я получаю от него советы и послания. – В запечатанных шкатулках? – Иногда это довольно большие ларцы, иногда шкатулки, иногда пергаментные свитки. Одни я могу распечатать, другие обязан передать по назначению не вскрывая. Бывает и так, что я сохраняю послание несколько дней, чтобы потом отправить его или уничтожить. Вот, недавно… Он умолк, но Тревельян продолжил про себя недоговоренное: «Недавно ты получил шкатулку, украшенную янтарем, а еще письмо, пергаментный свиток или пакет. Шкатулку ты отослал в столичную обитель, где Нурам-Син, дарующий кров, вручил ее рапсоду по имени Тен-Урхи. Что до письма, то и оно отправилось в столицу, в Ночное Око, и было в нем такое повеление: если рапсод Тен-Урхи поедет на восток, ни в чем ему не препятствовать, а ежели на север, засадить в кутузку. И держать там до трупного окоченения!» Получалось, что за ним следят, следят за каждым телодвижением и шагом, но как? Каким образом? Этого Тревельян не понимал. Ясно, что о событиях в Хай-Та и Этланде могли сообщить коллеги по профессии, но в Манкане их не было, и ни одна душа в Братстве Рапсодов не знала, что его похитили. А Орри-Шану об этом известно! Есть над чем подумать, решил он и зашел с другого конца: – Аххи-Сек шлет советы не только членам Братства? – Конечно, сын мой. Иногда я должен передать послание нобилю или купцу, чиновнику или простолюдину, иногда кому-то из Восьмисот и даже… – Старец показал глазами вверх. – Светлый Дом очень ценит советы мудрейшего. – А если совету не последовать? Лицо Орри-Шана омрачилось, глаза посуровели. – Это прискорбный случай, Тен-Урхи, очень прискорбный! И он ведет к большой беде! Возможно, к такой, какая случилась с небезызвестным тебе Аладжа-Цором, или к иному несчастью. Знаешь, правил некогда в Семи Провинциях мудрый император Пау-Тун, и сказал он однажды слова назидания, и были те слова такими: пренебрегающий добрым советом достоин смерти в куче навоза. – Полностью с ним согласен. – Тревельян, сытый и довольный, вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. Все же он узнал немало, хотя кое-какие сведения – например, об острове у берегов Удзени – казались с точки зрения местной географии чистой фантастикой. С этим еще предстояло разбираться, а сейчас… Он сделал жест почтения, выдавил виноватую улыбку и сказал: – Прости, отец мой, что мучаю тебя вопросами, но они уже иссякают – осталось только два. Позволишь ли спросить? – Любопытство не входит в число смертных грехов, – произнес Орри-Шан. – Спрашивай. – Как приходят к тебе послания Великого Наставника? Ведь кто-то должен привозить все эти ларцы, шкатулки и свитки с острова у берегов Удзени… А путь оттуда далек! Надо ехать много дней, через земли Понса, Пятиречье, Онинда-Ро и Пейтаху. – Нет, нет, все много проще, – старец покачал головой. – Ты не поверишь, но послания вдруг возникают прямо здесь, на этом вот столе, словно сотканные из воздуха и света… или из воздуха и тьмы, если они появляются ночью. Чудо? – Он выдержал паузу. – Но что есть чудо? Нечто странное и непривычное, а я уже привык. Привык и к вещим снам, которые иногда посылает мне Наставник. Тоже чудо! Чудо для тебя, а для меня – лишь свидетельство его мудрости. Телепортация, подумал Тревельян, старательно изображая удивление. В принципе через беспредельность Лимба допускался мгновенный переброс любых объектов, но для этого был нужен агрегат, сравнимый по сложности и мощности с контурным двигателем «Пилигрима». Ну, раз пришельцы добрались сюда, значит, имелась у них нужная машинерия – и, возможно, в более миниатюрном и экономичном исполнении, чем у землян. – Если Аххи-Сек так мудр, – сказал он, – то над ним не властны сами боги и даже смерть. Поистине он равен Таван-Гезу и может сесть вместе с Тремя у Оправы Мира! – Это неверно, Тен-Урхи. Боги есть боги, они не подвластны времени и вечности, а Аххи-Сек когда-нибудь умрет, как умерли его предшественники. И тогда у нас будет новый Великий Наставник, указанный им перед смертью и посвященный во все его тайны. – Орри-Шан хихикнул: – Может быть, я или ты… Скорее ты, ибо я слишком стар. «Он не знает, что Аххи-Сек приговорил меня к изгнанию с планеты, – решил Тревельян. – Значит, не вскрывал шкатулку и не замешан в историю с Ночным Оком. Хорошо, если так. Старикан симпатичный». – «Но, возможно, лукавый, – напомнил о себе командор. – И, возможно, сам не знает правды. Не обманывайся, малыш!» Прикрыв глаза, Тревельян задумался. Потом услышал: – Кажется, ты утомлен, Тен-Урхи. Отправишься спать? Или у тебя есть еще вопросы? – Только один, почтенный, только один. Скажи, почему у твоего жилища такая странная ограда? Не грозные дауты, не благородные кони, а твари вонючие и грязные… Пацы! – Не внешний облик важен, но внутренняя суть, – ответил старец. – Ты ведь читал записки С’Трелла Основателя? Пацы живут в согласии с его законом и никуда не торопятся, в отличие от даутов и лошадей. Возможно, их неспешное существование – лучший путь к мудрости. Лежа в темноте опочивальни, озаренной лишь светом звезд, Тревельян размышлял над этими словами. Потом его мысли переключились на обитель Аххи-Сека, чье местоположение было загадкой или нелепым вымыслом. Возможно, верны подозрения командора, и Орри-Шан лукавил либо сам не знал всей правды. Картирование планеты осуществлялось с низкоорбитальных спутников и было детальным, точным и безошибочным, как любая из рутинных операций, порученных компьютеру. От объективов голокамер мог укрыться какой-нибудь лесной ручей в два метра ширины, домик в дремучей чащобе, но уж никак не остров! Конечно, в Западном океане имелись острова, какой же без них океан! Был целый архипелаг у необитаемого континента и еще один остров, Фадр, лежавший у входа в Мерцающее море – огромный, вытянутый наконечником стрелы, что целилась в Княжества Шо-Инга на восточном морском берегу. Сам же Фадр являлся территорией Островного Королевства, обширной и древней морской державы, а к северу от него, за сорокакилометровой полосою вод, стояли торговые города Запроливья. Удзени, снабжавшая их верфи лесом и рабочей силой, лежала еще севернее – последний форпост цивилизации перед полярными болотами, тайгой и льдами. И у ее неприветливых скалистых берегов не было ни единого острова.Глава 15 СТРАНСТВИЕ НА ЗАПАД
От Мад Дегги имперский тракт вел на запад, к мосту через широкую медленную Пантару, за которой лежала Дневная Провинция. Там, у старинного города Мад Брунер, полного мраморных храмов, башен, пирамид и давних воспоминаний, дорога пересекалась с другим путем, ведущим от побережья моря Треш и уходившим на север, в теснины Третьего Разлома. Когда-то здесь прошли армии Уршу-Чага Объединителя, и в память об этом у каждого святилища, у пирамиды местного университета, у дворца правителя и различных присутственных мест стояли изваяния грозного владыки. Уршу-Чаг на колеснице, Уршу-Чаг с подъятым мечом, Уршу-Чаг натягивает лук, дабы поразить врагов, Уршу-Чаг с ногой на шее местного непокорного князя… Эти монументы воздвигали в течение двух тысячелетий, и теперь казалось, что их больше, чем жителей в городе, – наверное, еще и потому, что статуи были огромными и у их подножий люди терялись, как лилипуты, заблудившие среди исполинской каменной рати. Захватив Мад Брунер и обложив его данью, войско Уршу-Чага двинулось сквозь ущелье в Пейтаху, тогда дикую и населенную северными варварами, частью затем уничтоженными, частью вытесненными в полярные леса и топи, где они сгинули в ближайшее столетие. У входа в Разлом император возвел крепость, но дальше Пейтахи не пошел, оставив покорение западных земель своим наследникам. Это оказалось нелегкой задачей, ибо страны, лежавшие между Мерцающим морем и Кольцевым хребтом, были древними, многочисленными и воинственными. Однако даже давление со стороны Империи не заставило их образумиться и объединиться. В каждой державе шли свары и вендетты среди удельных князей, а сверх того Пятиречье враждовало с Понсом и Шии, Понс – с Тилимом, Тилим – с Сотарой, Островное Королевство – с Запроливьем, а пиратские Княжества Шо-Инга грабили все города и земли, куда могли добраться их корабли. Лезть в эту кровавую кашу граничило с безумием, но для Империи Запад был слишком лакомым куском, чтобы оставить его в покое. Во многих отношениях Запад был цивилизованней Востока и даже Семи Провинций эпохи первых императоров; здесь процветали всякие ремесла и художества, живопись, ткачество, строительство зданий, судов, мостов и военных машин, разведение лошадей и наилучших пород скота, а еще такие утонченные искусства, как ювелирное, портновское и парфюмерное. Почвы в западных странах не отличались тем плодородием, каким благословили боги Семь Провинций, однако там росли невиданные овощи и фрукты, а на лугах Островного Королевства паслись косматые быки с белым, пепельным и желтым шелковым руном. И, наконец, последнее по счету, но, возможно, первое по значению: люди Запада, в отличие от восточной расы, были изящны и красивы. Особенно их женщины, покорные и страстные, познавшие секреты танца и изощренной любви! Цвет волос у них был непривычный, светлый и рыжий, тела смуглые и гибкие, губы пухлые, глаза зеленые и синие – сочетание, которого в других местах не встретишь. И это манило так же сильно, как их цветущая, но слишком краткая молодость. Мужчины и женщины Запада жили недолго, лет до пятидесяти-шестидесяти, старились после сорока, зато созревали рано, уже к двенадцати годам. Так ли, иначе, но Империя пришла в западный край, протянула дороги вплоть до Удзени и Островного Королевства, расставила сигнальные башни и воинские гарнизоны, смирила корсаров Шо-Инга, вздернула на столбы непокорных владык, а их дочерей отправила в постели имперских нобилей. И народилось новое племя, уже не столь прекрасное видом, но жившее подольше и заступившее на место прежней знати. Теперь в жилах западных правителей текло достаточно имперской крови, чтобы сделать их благоразумными, а главное, верными Светлому Дому; междоусобиц стало меньше, зато ремесла и искусства расцвели. А люди, способные к ним, всегда отличались большей фантазией и восприимчивостью к новому.* * *
От Мад Брунера Тревельян повернул на север, к теснинам, осыпям и скалам Третьего Разлома. По большому счету его миссия была выполнена; он убедился в наличии тайных сил, что регулировали жизнь на Осиере и, очевидно, с успехом сводили к нулю усилия ФРИК. Проводником этой политики демпфрирования и сглаживания являлось Братство Рапсодов, структура столь же разветвленная, как имперский чиновничий аппарат, однако державшаяся в тени и не связанная с официальной властью. Оставалось неясным, было ли Братство создано гипотетическими пришельцами или они использовали древний орден бродячих учителей и певцов, внедрившись в него, поставив под свой контроль и постепенно расширив его задачи. В любом случае подобный ход казался Тревельяну более изящным и эффективным, чем методы Фонда, который действовал локальными «точечными уколами», пытаясь внедрить эстапы через конкретных людей, никак не связанных друг с другом. Мощная организация подошла бы лучше на роль проводника различных перемен и новшеств, но этот вариант уже использовали чужаки, с прямо противоположной целью. Эту цель и полагалось определить. Не ее внешнее выражение, не планомерное изъятие эстапов и наказание причастных к ним людей, но глубинные мотивы чужаков. С чего бы им противодействовать землянам? Для демонстрации своего могущества? Из неприязни к расе выскочек, явившихся в Галактике всего тысячелетие назад, но потеснившей ее древние народы? Может, ради мести за победу в Темных войнах, которая задела их каким-то боком? Но во всех подобных случаях они бы не таились, а предъявили счет открыто – скажем, в виде пары крейсеров и сотни истребителей в системе Осиера. Или, что много логичней, эскадра явилась бы не сюда, а к какой-нибудь дальней земной колонии и разнесла ее в пух и прах. Однако все эти резоны, как и возможное развитие событий, казались Тревельяну чистым вымыслом. По словам Орри-Шана, усадьбе в горах была тысяча лет, и, разумеется, подразумевалось, что все эти десять веков советы с западного острова не иссякают. Значит, какая-то звездная раса появилась здесь гораздо раньше землян и патронирует планету с той эпохи, когда на Земле еще и радио не придумали. И все же это не означало, что Фонд обязан уступить первооткрывателям – ведь осиерцы, как и земляне, были людьми, а кто такие их тайные патроны? Возможно, осьминоги или пауки, которые затормозили технологию, чтобы устроить тут со временем мясную ферму. Или, предположим, охотничий заповедник. Кроме таких мрачноватых гипотез, Тревельян собирался выяснить и кое-что еще. К примеру, мониторинг, установленный за ним, – если это не фикция, какую технику используют для непрерывной слежки? Где база пришельцев, загадочный остров у берегов Удзени, и почему он не виден с орбиты? Сколь велико их влияние на Братство, на тайные службы и аристократию Империи? Еще не помешала бы информация об их физиологии и внешнем виде, психологических особенностях и способах коммуникации, о языке, оружии, энергетических ресурсах и материнском мире. Словом, что попадется в сеть, то и рыба, а сеть нужно забросить со скал Удзени. Но до них было еще далеко. Вороной Даут катил возок по глубокому каньону, с обеих сторон плотной шеренгой стояли горы, поросшие сосной и кедром, в сотне шагов от тракта бурлил поток, дававший начало многоводной Пантаре, и каждый километр свергались со склонов водопады с повисшими над ними полотнами неярких радуг. Постоялые дворы, сигнальные башни, харчевни и пилоны встречались с прежним постоянством, но все строения здесь были выложены не из тесаного камня, а из больших овальных валунов, скрепленных известью. То и дело Тревельян обгонял обозы с южными фруктами и вином, с тканями и стеклянной посудой, а навстречу тянулись большие фургоны со связками дротиков и стрел, с луками и арбалетами, с мечами и клинками для мечей и с более мирными орудиями, кузнечным инструментом и земледельческим инвентарем. Товарообмен между Пейтахой и Семью Провинциями считался самым оживленным на материке, но допускали к экспорту и импорту не всякого, а, по традиции, только гильдию наследственных купцов Ар Туш, что означало в примерном переводе Вольная Компания. Ввозили все необходимое для жизни, вплоть до сапог, муки и глиняных горшков, ибо Пейтаха не производила ничего, кроме металла и металлических изделий. Зато этого добра хватало чуть ли не на всю Империю. Через несколько часов быстрой езды ущелье расширилось, горы стали ниже, речка с питавшими ее водопадами исчезла, и Тревельян выехал на лесистую равнину. Тут и там над ней курились дымы, и ноздри щекотал устойчивый запах тлеющего угля и наваристой мясной похлебки. Углем пахло от кузниц, оружейных мастерских и стоянок углежогов, а похлебкой – от врезанной в скалы крепости с четырьмя бастионами, что охраняла Третий Разлом. Этот форт был не таким огромным, как цитадель Меча и Щита, зато у его подножия виднелся постоялый двор с конюшнями, каретными сараями, складами для товаров и дюжиной харчевен и кабаков, где, судя по звукам и ароматам, ели и пили сотни четыре народу. Время шло к вечерней трапезе, и Тревельян, сглотнув слюну, завернул в гостеприимно распахнутые ворота и отужинал в компании купцов, возниц и погонщиков. К востоку от Пейтахи лежал Рингвар, к западу – Онинда-Ро, и до границ этой державы он добирался четыре дня. Дорога сделалась шире, по ней катились нескончаемым потоком крытые фургоны с товарами и телеги, груженные железными и медными отливками, оловом, свинцом и, в сопровождении охраны, возы с серебром и малахитом. Перекрестков прибавилось; налево, к близким горам, уходили ответвления, проложенные до шахт, копей и доменных печей, где выплавляли металл, направо тянулись подъездные пути к мастерским и кузницам, полным звона, грохота и шипения раскаленного железа, охлаждаемого в чанах с водой. Над каждым из этих путей стояла арка с именем мастера, хвалебной надписью в его честь и видом предлагаемых изделий. «Броню Эр-Сати не пробьют копье и меч», – читал Тревельян, – «Арбалеты Сандом-Че, лучшие меж океаном Востока и океаном Запада», «Мастер кинжалов Со-Минтра. Любая длина, любые украшения, любые цены», «Понимающий в оружии выбирает клинок Пар-Занга», «Мастер Сатрама-Хирш. Луки и стрелы для настоящих воинов». Более прочих его впечатлила краткая надпись: «Секиры Найти-Ка. От плеча до паха». Эту арку венчал огромный топор, а к столбам были прибиты разрубленные щиты, панцири и кольчуги. У каждого перекрестка стояла корчма, а кое-где и три-четыре. Народ, что собирался в них по вечерам, принадлежал к континентальной расе, но люди здесь были выше и крупнее, чем в Семи Провинциях, и мало заботились о длине бакенбард, наушных украшениях и изысканных манерах. Зато рапсода встречали с восторгом, просили спеть протяжные баллады севера, стучали восхищенно кулаками по столам и угощали в благодарность так, что Тревельян едва доползал до постели. Хвала певцу приятна! Но еще приятней было то, что ни в одном кабаке не маячили рожи убийц из Ночного Ока, и никакие нобили не зарились на его коня и не бросали ему вызов. Сначала Тревельяну показалось, что след его потерян, но, поразмыслив, он сообразил, что в этих кабаках, среди кузнецов иоружейников, углежогов и рудокопов, аристократам, как и другим наемникам Ночного Ока, совсем не место. Скорей всего их тут приветствовать не будут, а врежут кружкой по башке и выкинут в окно. Северяне знали себе цену; правили тут цеховые старшины, каждый юноша владел оружием, и в этих краях Империя набирала лучших и самых надежных солдат. Что неудивительно – жители Пейтахи вели происхождение от воинов Уршу-Чага, осевших когда-то в завоеванной стране. На границе Онинда-Ро, кроме обычного пилона с изречением, стояла массивная гранитная плита, извещавшая, что в этой стране правит доблестный Сирам-Харт из рода Нобилей Башни. В отличие от пейтахской равнины, местность тут была гористая, а горы – красивыми, но бесплодными. Ни руды в них не было, ни зверья, а только голый камень, зато отличного качества. На первые десять километров пути попалось несколько каменоломен, полных шума, грохота и рабочего люда: кто шурфы бьет, кто загоняет в них клинья и поливает водой, кто шлифует плиты или дробит тяжелым молотом щебенку. Нелегкая работа, зато жители Онинда-Ро считались непревзойденными каменотесами и строителями. Главный их промысел был не в этих карьерах, а на стороне, в Семи Провинциях и западных странах; они прокладывали дороги, возводили крепости и мосты и славились особым искусством – пробивать тоннели в скалах. Тоннелей хватало и в их стране, но все же имперский тракт петлял, огибая отвесные гранитные утесы, взбираясь к перевалам, кружа по карнизам, вырубленным на трехсотметровой высоте. Фаэтоны и телеги двигались тут медленно, осторожно, никто никого не обгонял, кони были в мыле и возницы тоже: с одной стороны зияла пропасть, с другой нависала несокрушимая скала. Наконец дорога пошла вниз, к приветливой речной долине, зеленеющей полями злаков, и Тревельян вздохнул с облегчением; на этом опасном пути он больше полагался на чутье Даута, чем на свое искусство колесничего. За ближайшим кабачком, где он выпил кружку местного вина, тракт раздваивался. Широкая, мощенная камнем магистраль уходила на север вдоль выступающего отрога Кольцевого хребта; более узкое ответвление, засыпанное щебнем, упрямо лезло наверх, к перевалу между двумя горами, похожими на полуразрушенные башни рыцарских замков. Один путь обещал удобства, другой – прекрасные горные виды, и, поскольку Даут был еще свеж, Тревельян решил, что поедет напрямую. Правда, из наблюдений за путниками выяснилось, что горная дорога не пользуется популярностью; все фаэтоны, колесницы и возы сворачивали на главный тракт. Все, кроме одного каравана из восьми телег, груженных так, что прогибались колесные оси. Тревельян подумал, что там, где пройдет тяжелый воз, проскочит и легкая колесница; выпил еще кружку и погнал Даута по крутому узкому пути. Вскоре они настигли ушедший вперед караван. Удивительный, если не сказать больше; на телегах – корзины с сушеными фруктами и сыром, мешки с зерном, винные амфоры, а охраняют это богатство сорок солдат под командой туана. Причем солдаты не простые – ни одного безволосого, все северяне и, судя по виду, прослужившие не один десяток лет. Ветераны, лучшие бойцы Империи! Все в кирасах и шлемах, половина с копьями, другая с мечами, за спинами – щиты, но луков или арбалетов не видать. Возчики тоже молодцы как на подбор, дюжие парни с бичами и дубинками. Каждую телегу тащит шестерка крепких лошадей. С чего бы такая охрана? – подумал Тревельян, пристраиваясь в хвост процессии. Везут продовольствие в какую-то горную крепость? Ну, хватило бы пары солдат, чтобы сберечь вино и фрукты для компота… А тут целый боевой отряд! Может, в мешках и корзинах под зерном и фруктами спрятаны сокровища? Кошели с серебром и золотом или ларцы с кровавым камнем? Но зачем тащить их в горы? Отчего не везти по объездному тракту, где на каждом шагу посты и сигнальные башни? Когда дорога втянулась в ущелье с обрывистыми склонами, он, кажется, решил эту задачу. Конечно, груз для крепостного гарнизона, а воины не охраняют его, но идут на смену своим товарищам. Оно и понятно: в этаких диких горах долго не высидишь, даже по служебной надобности и за двойные деньги. Сменять солдат – вполне гуманное решение… Правда, идут они в полной выкладке, потеют под грузом щитов и доспехов, и это странно – могли бы кое-что и на телеги положить. Туан, должно быть, тот еще гад и скотина, не разрешает, гонит в жару во всей амуниции… Тут его заметило начальство, и туан, предположительно гад и скотина, переместился в арьергард колонны. Не сказать, чтобы он выглядел слишком строгим, скорее наоборот. Был он в возрасте Тревельяна, с широким улыбчивым лицом и веселыми глазами; панцирь богатый, с чеканкой серебром, пурпурная накидка с алыми перьями, ремни из кожи нагу, меч и кинжал явно пейтахской работы, на перевязи – фляжка и рог. Настоящий благородный нобиль и, похоже, человек воспитанный. – Разделяю твое дыхание, рапсод! Да будет с тобой милость Таван-Геза! – И с тобой, отважный воин. Меня зовут Тен-Урхи. – Из вежливости Тревельян сошел с колесницы, и зашагал рядом – обогнать обоз в этих теснинах не было никакой возможности. – Я Шри-Кор, старший над этими бездельниками, – представился туан. – Хороший у тебя конь, Тен-Урхи. Фейнландской породы, э? С таким конем любой путь недалек… Но ты не поехал по ровной дороге, а увязался за нами в горы. – Не поехал, – согласился Тревельян. – Величие гор рождает вдохновение. Вдруг в конце пути сложится песня или даже баллада… Так что, господин мой Шри-Кор, есть прямой смысл наведаться в горы. – Может быть, но пока я их величия не вижу. – Офицер бросил взгляд на темные мрачные стены ущелья, скрывавшие небо и солнце, ухмыльнулся и заявил: – Дальше будет еще хуже, пойдем из ущелья в ущелье, одно другого глубже и страшней. Не первый раз везу продовольствие и все удивляюсь: дорога здесь такая, словно ее проложили в бездну к демонам. Так что, Тен-Урхи, ты вдохновишься лишь на погребальный гимн. – А вид с перевала? – возразил Тревельян. – До перевала еще добраться надо, а это не всегда выходит. – Тон Шри-Кора был мрачнее некуда, но в глазах пряталась лукавая смешинка. – Когда минуем перевал, считай, мы в безопасности. Тревельян, в свою очередь, огляделся по сторонам. Пейзаж и правда был безрадостный, но ничего тревожного вокруг не замечалось. – Разве тут есть какая-то опасность? Вроде бы драконы нагу в горах не водятся. – Зато есть разбойники. – Кто? Ра-азбойники? – Глаза у Тревельяна чуть не вылезли на лоб. Пираты на этой планете имелись, грабили купцов на западе, щипали на востоке, пользуясь тем, что боевого флота Империя не держала ни в Мерцающем, ни в Пятипалом и Жемчужном морях. Были, разумеется, воры и бандиты, промышлявшие по окраинам, большей частью в портовых городах вроде Бенгода, были изгои благородного сословия, искавшие земель и власти и затевавшие междоусобицы, были мятежники, хотя причиной бунтов являлись все те же свары среди провинциальных нобилей. Но разбойники! Да еще такие, что для охраны обоза нужен целый воинский отряд! Это не слишком вязалось с царившим на Осиере благолепием. – И много их, этих разбойников? – поинтересовался Тревельян, справившись с удивлением. – Изрядно. Целое племя в горах, – сообщил Шри-Кор. – Откуда доподлинно взялись, о том надо в Архивах смотреть, а люди рассказывают такую легенду. Будто бы в войске Уршу-Чага – пусть славится он вечно! – была сотня лихих молодцов из Висельных Покоев. Владыка нуждался в солдатах, а потому помиловал их и приказал набрать отряд, хотя таким мерзавцам место не в боевой шеренге, а на столбе. Когда после битвы под городом армия вошла в Мад Брунер, эти потомки пацев стали грабить лавки и дома, затем добрались до храмов и дворца правителя, где было полно серебряной посуды и всяких каменьев, морских, кровавых, травяных, а сундуки ломились от монет. Уршу-Чаг велел их повязать, развесить на крюках и лишить погребения. Кто-то, однако, их предупредил – бросили они серебро и камни, схватили женщин и побежали через Разлом в Пейтаху, а оттуда добрались до этих мест. От них и пошло разбойничье племя… Живут теперь в горах как дикие звери, грабят торговцев и не желают служить Светлому Дому. Обижены на Уршу-Чага и всех владык, его наследников. – Трудно ли покончить с ними? – спросил Тревельян. – Отправить в горы воинов, взять главарей, а остальных переселить в низину. Пусть ковыряются в земле и скот пасут. Туан покачал головой: – Нелегкое дело! Живут они в недоступных местах, прячутся в глубокие пещеры, и нрав у них злобный. Такие не годятся для земли и ремесла. Свирепые люди! Но ты, – тут он лихо взбил бакенбарды, – ты не тревожься, Тен-Урхи. Раз идешь с нами, ты под защитой моих солдат. «Темнит он что-то, – буркнул командор, – пудрит мозги. Чтобы за двадцать веков не выбили разбойничье семя! Быть такого не может!» «И правда, подозрительно», – согласился Тревельян, а вслух сказал: – Я не тревожусь, мой господин. К оружию и схваткам я привычен и, если нападут на нас, встану рядом с твоими воинами. В моей колеснице есть арбалет с хорошим запасом стрел. Шри-Кор вдруг взволновался: – Вот что, Тен-Урхи, ты не вздумай в драку лезть! Наслышан я о стражах справедливости и вашем боевом искусстве, только дело тут не твое и карать здесь некого! – Как это некого, если купцов грабят! И убивают, должно быть! Безвинных людей, которые… – Нет, не убивают, – прервал его туан. – Товары, конечно, берут… Но ведь купцам необязательно сюда тащиться, они не рапсоды, и вдохновение им вроде ни к чему. Нижняя дорога лучше, а ежели кто пожелает, то и на ней вдохновится, в каждой харчевне и кабаке. – Сделав паузу, Шри-Кор подергал свои бакенбарды и тоном извинения произнес: – Знаешь, Тен-Урхи, отдай-ка ты мне свой арбалет. Вы, певцы, люди горячие, вспыльчивые… Начнешь стрелы метать и всадишь кому-нибудь из моих под лопатку. – Я попадаю в монету со ста шагов, – проинформировал Тревельян, но арбалет отдал. Шри-Кор был приятным спутником, хорошим собеседником, и обижать его не хотелось. К тому же он отвечал перед богами, императором и собственным начальством за этот караван, за груз и за людей, а значит, за Тен-Урхи тоже, раз уж их свела судьба. Они неторопливо шли по каменистой дороге, под нависшими скалами, вслед телегам и охраняющим их воинам. Даут пофыркивал сзади и временами тыкался мордой в спину Тревельяна, Грей, как обычно, дремал на его плече, и время проходило быстро в занимательной беседе. Разговорчивый Шри-Кор был готов болтать на любые темы и рассуждал о повадках шерров, тилимских красавицах-плясуньях, древних балладах Запроливья, торвальском вине и охоте на клыкачей, которые водились в лесах Онинда-Ро в великом множестве. Говорил он о чем угодно, только не о том, куда идет его отряд, и Тревельян решил, что это большая военная тайна. Настаивать было бы невежливо, и к тому же рассказы Шри-Кора о танцовщицах из Тилима оказались чрезвычайно занимательны. Слушая их, Тревельян вспоминал райский остров в море Треш, синее море, жаркое солнце и милую Китти-Катахну. Дорога между тем стала еще круче и мрачнее. Из одного ущелья они перешли в другое, еще более глубокое, полоска неба над головой сделалась узкой, как ленточка в бакенбардах, скалистые вершины закрыли перевал, потом надвинулись тучи, и в каменной щели, где пробирался обоз, потемнело. Копыта лошадей скользили по щебню, от конских спин и крупов валил пар, ругались возчики, поминая демонов бездны, и на особо крутых подъемах солдатам приходилось толкать телеги, что тоже не вызывало у них энтузиазма. Толкали меченосцы, а копейщики бдительно озирались по сторонам и не выпускали из рук оружия. Глядя на них, Тревельян прикидывал, сколько же нужно разбойников-горцев, чтобы одолеть такой отряд. Получалось, что добрая сотня – при том условии, что атака будет внезапной, и воинов для начала засыплют стрелами, выбив личный состав наполовину. Что до отсутствия в отряде лучников, то это было удивительным, ибо лук против разбойника – первый и главный аргумент, а стрелять под прикрытием возов было бы очень удобно. Но, вероятно, имелись какие-то важные соображения, тактические или стратегические, чтобы обойтись без дальнобойного оружия – недаром ведь Шри-Кор забрал у него арбалет. Каньон расширился, открыв взгляду затянутые облаками небеса и бесплодные отвесные серо-коричневые утесы, изрезанные трещинами. Дальний конец ущелья был завален каменными глыбами, но дорога, поднимаясь высоким горбом, сворачивала влево, в другую теснину, извилистую, как змея, но с более пологими склонами. Караван замедлил движение, две головные телеги повернули и одна за другой преодолели подъем; лошади, под свист бича и крики погонщика, начали втаскивать на крутизну третий воз. В этот момент послышался глухой удар, брызнули осколки камня, и Тревельян увидел, как о поверхность утеса, над шлемами солдат, разбились еще три-четыре ядра, выпущенных из пращи. – Велик Таван-Гез! – воскликнул Шри-Кор, бросаясь вперед. – К оружию, воины! В две шеренги становись! Прикрыться щитами! Мечи вон! Тревельян, выхватив кинжал, кинулся вслед за туаном, соображая, как бы разжиться чем-нибудь более подходящим, кроме короткого клинка. Со склонов и с каменного завала спускались рослые, косматые, страшные видом горцы-разбойники, набегали толпой, потрясая дубинами и топорами, и хоть оказалось их немного, пять или шесть десятков, атака, видимо, была серьезным испытанием – возницы полезли под телеги, а солдаты живо укрылись за щитами и выставили копья и клинки. Тревельян, не имевший ни шлема, ни доспеха, петлял на бегу как заяц; мнилось, что там, на скалах, какой-то лучник или пращник уже поднимает оружие, целясь ему под лопатку. Грей, не выдержав этих скачков, недовольно заверещал, взлетел в воздух пушистым мячиком и начал кружить над головой хозяина. Не подстрелили бы его, мелькнула мысль. Зверек, вероятно, понял и метнулся к утесу, став почти незаметным на сером фоне. Однако стрел и дротиков не метали и даже больше не бросались камнями из пращи. Тревельян не успел этому удивиться, как трое горцев ринулись к нему, грозя тяжелыми дубинами. Его кинжал был коротковат и против дубин бесполезен, но тут подвернулся воз с винными бочонками и еще один, с мешками, набитыми зерном. Крякнув, Тревельян схватил увесистый бочонок и бросил в первого разбойника, попав ему в плечо; второго уложил мешком, а третий вдруг остановился, но можно было поклясться, что он не так испуган, как удивлен. «Бей башибузуков!» – рявкнул командор и запел древний гимн, с которым шли на абордаж десантники. Тревельян взялся за другой мешок, но тут его заметил туан Шри-Кор и завопил во всю глотку: – Рапсод! Рапсода берегите! Эй, Харни, Муки, Лайзи! Держите его! Крепче! Башкой ответите за каждый синяк! Его схватили за ноги и, сбив на землю, затащили под телегу. Там трое дюжих возчиков навалились на Тревельяна, увещевая и уговаривая: – Не лезь, господин рапсод, не рыпайся и не высовывайся! – Не наше то дело, и разберутся без нас! – Лучше спой чего-нибудь нежного, чтоб слеза прошибла! – Вы что, рехнулись, братцы? Бой идет, людей убивают! Какие песни? Отпустите! Но держали его крепко, и завершающую часть сражения он наблюдал из-под воза. Казалось, солдатам-ветеранам было нетрудно переколоть и порубить напавшую шайку, ударив сомкнутым строем, но то ли сердца у них дрогнули, то ли Шри-Кор был в тактике слабоват и допустил, чтобы его бойцов оттеснили от телег, а потом прижали к скалам. Там они оборонялись с превеликим шумом, лязгом и грохотом, хотя нападавших осталось человек тридцать – остальные выпрягали лошадей, вьючили на них мешки и бочки и уводили куда-то наверх по незаметной тропинке. Спустились еще десять или пятнадцать разбойников с конями, и грабеж продолжился; тащили все, вино, фрукты, зерно, несколько амфор с маслом. Солдаты тем временем оборонялись: копья, мечи, щиты и доспехи против дубин и топоров. Кто-то стонал, кто-то падал, и в один момент Тревельяну показалось, что земля устлана трупами. – Грабят, – печально сказал он. – Грабят, – подтвердил возница, державший его ноги. – Перебьют солдат, до нас доберутся. – Ну, это вряд ли, – возразили ему. – Заступница Таванна-Шихи не допустит. – А может, мы сзади нападем? – Тревельян попытался вывернуться, но его придавили к земле. – Нет, господин рапсод, не надо. Лежи, не трепыхайся. Тем временем возы опустели, и в горы потянулся караван навьюченных по самые уши лошадей. Разбойники исчезали один за другим, и только несколько особо рьяных еще рычали и прыгали перед строем солдат. Бойцов у Шри-Кора осталось не больше половины; кто валялся недвижим, кто сидел, держась за голову или другую часть тела, и оглашал ущелье стонами. Потери вроде были налицо, это сражение совсем не походило на кровавую схватку с людьми Аладжа-Цора в этландском лесу. «Комедия! – презрительно заметил командор. – Разбойнички небось продадут награбленное, а деньги поделят с солдатами. Знаем мы эти фокусы! За них интенданта с «Ночной грозы» расстреляли. То есть не расстреляли, а бросили в реактор. Он, понимаешь…» Но тут последний разбойник скрылся за скалами, и Тревельян услышал голос Шри-Кора: – Конец! Поднимайтесь, лодыри! Эй, Харни! Можно отпустить рапсода. Он вылез из-под телеги и огляделся. Павшие воины вставали, отряхивали пыль, пересмеивались; стоны смолкли, и ни единого трупа, ни единой капли крови не замечалось на земле и среди глыб по обочинам дороги. Возы были очищены полностью, а из шести лошадей при каждом оставалось две – вполне достаточно, чтобы стащить телеги вниз. Возницы, ругаясь и щелкая бичами, уже начали разворачивать крайний воз, и не было сомнений, что караван сейчас отправится обратно. – Ну как? Понравилось? – Тревельян обернулся – за его спиной с лукавой улыбкой стоял Шри-Кор и протягивал арбалет. – Надеюсь, боги послали тебе вдохновение, и ты сложишь песню о великой битве в урочище… Духи бездны! Все забываю название этой дыры! Ну, можешь придумать любое. Кровавая Задница подойдет? – Лучше ущелье Брехунов, – сказал Тревельян, посматривая на пустые возы. – Не объяснишь ли, мой господин, что все это значит? Туан пожал плечами: – Разбойничьему племени тоже надо жить, а горы тут суровы и бесплодны. Мы подкармливаем этих злодеев, и за это они не спускаются к нижней дороге и никого не беспокоят. Так повелел достойный Сирам-Харт, правитель этого края, и так делали его отец, и дед, и многие поколения предков. Древняя мудрость гласит: если не хочешь, чтобы дикий тарль задрал быка, брось ему на съедение птицу. – А драка к чему? – Люди тут гордые и желают брать добычу с боя. Ну, пусть… Для солдат развлечение и полезный урок – никого не убить, не ранить и обойтись без синяков. Если кого и огреют дубиной, то он не в обиде. Ты ведь не стал бы сердиться на мальчишку-сорванца? – И все же я не понимаю, – промолвил Тревельян. – Если разбойники не настоящие, отчего бы не переселить их? Если не хотят пахать и сеять, так есть в Онинда-Ро дремучие леса, богатые зверьем, а к тому же… Рот туана растянулся до ушей. – Ты пришлый человек, Тен-Урхи, и потому не понимаешь, а я из этих мест. Представь: нигде, ни на востоке, ни на западе, ни даже в Семи Провинциях нет разбойников, а у нас есть! Это не меньшее чудо, чем копи в Пейтахе, где добывают серебро, или остров, откуда Светлый Дом правит всеми землями. Чем еще мы можем похвастать? Онинда-Ро – страна небогатая… Зов возничего, который пытался развернуть телегу, прервал их разговор: – Мой господин! С колесницей-то что делать? С той, в которой ехал рапсод? Нехорошее предчувствие, возникшее у Тревельяна, тут же подтвердилось: его экипаж стоял посреди дороги, в нем валялся мешок с лютней и прочим имуществом и плащ, в который были завернуты седло и стремена. Что до Даута, то его и след простыл. – Дети пацев! – выругался Тревельян. – Они украли моего коня! Шри-Кор выглядел смущенным. Сняв шлем, он почесал в затылке, хмыкнул и предложил: – Я найду лошадь для твоей колесницы. Конечно, это будет не твой фейнландский конь, но ты можешь отправиться в столицу, в Мад Техен, и подать прошение господину нашему Сирам-Харту. Я готов подтвердить, что конь дорогой… Пятьдесят золотых тебя утешат? – Ни пятьдесят, ни сто, ни даже тысяча, – ответил Тревельян. Еще бы! Даут был бесценен – единственный конь на всей планете, который ходил под седлом! – Вот что, Шри-Кор, пусть мою колесницу сдвинут на обочину и оставят здесь. Я наведаюсь к этим горцам-разбойникам. Или они вернут мне коня, или… – В том-то и дело, что есть второе «или»! – воскликнул туан, хватая его за край накидки. – Я ведь не шутил, сказав, что люди они свирепые! Сбросят тебя со скалы, и кровь твоя будет на мне… Не ходи к ним, Тен-Урхи! Да и как ты их найдешь? – Найду. – Тревельян отвел руку Шри-Кора, вытащил лютню из мешка и повесил на плечо. Потом сказал: – Не тревожься за меня. Второе «или» означает не мой полет со скал, а большие неприятности для этих мерзавцев. У них, наверное, есть вождь? Знаешь ли ты его имя? – Я с ним не встречался, но слышал, что его зовут Лакасса. Не знаю, что за человек, но боюсь, что больше мы с тобой не увидимся. А жаль! Ты мне понравился, рапсод Тен-Урхи. – Ты мне тоже, туан Шри-Кор. Да хранят тебя Трое! Кивнув на прощание, Тревельян полез наверх по едва заметной тропинке, что тянулась по склону ущелья. Вскоре он перевалил за гребень, и телеги, лошади, солдаты и возницы исчезли внизу. Пропала и тропа. Теперь перед ним высился хаос остроконечных скал, рваных гранитных глыб величиною с дом и осыпей, свергавшихся с вершин утесов. Тут можно было пройти, без сомнения можно, раз горцы прошли с лошадьми и тяжелым грузом, но количество дорог исчислялось тремя десятками, и, вероятно, двадцать девять из них вели в тупики. Тревельян гадать не стал, а, закрыв глаза, сосредоточился и послал в пространство ментальный призыв. Вскоре над ним зашелестели крылья, и на плечо опустился Грей. – Придется тебе поработать, малыш, – сказал Тревельян, скармливая зверьку горсть сушеных фруктов. – Видишь, Даута у нас увели… Ищи, где Даут! Найдешь, покажешь мне. Грей взмыл в воздух, поднялся над скалами, сделал несколько плавных кругов, что-то высматривая на земле, потом скрылся, метнувшись вниз. Тревельян сел, откупорил фляжку, глотнул вина и принялся обдумывать, чем и как напугает горцев. Голопроектор в его лютне хранил пару десятков изображений, и самыми мерзкими являлись тиранозавр, чудовищный спрут и тварь под названием дикокрыс, полурастение-полуживотное с планеты Селла. Крыса он здесь еще не демонстрировал, уж больно жуткое было чудище. Это с одной стороны, а с другой, за конокрадство полагалась самая страшная кара. Остановившись на крысе, Тревельян проверил, что лазерный хлыст на месте, и отпил еще глоток. Тучи разошлись, выглянуло солнце, и стало жарковато. Вернулся Грей, запищал, заметался, посылая ментальные импульсы тревоги. «Иду, иду», – буркнул Тревельян, поднимаясь и вешая флягу на пояс. Его крылатый проводник уверенно полетел к узкому проходу меж двух утесов, и там нашлась пропавшая тропа – кое-где в мелкой щебенке даже виднелись отпечатки подошв и копыт. Поблуждав в лабиринте среди нагретых солнцем глыб, Тревельян вышел на огромную гранитную плиту, одним краем повисшую над пропастью, а другим упиравшуюся в горный склон, где, кроме мха, росли жалкие деревья с искривленными стволами. Следы снова пропали, но Грей устремился вперед, вернулся минут через двадцать и показал дорогу. За плитой, выпиравшей из земли словно панцирь чудовищной черепахи, опять началось нагромождение скал, перемежавшихся с осыпями и трещинами, которые надо было то перепрыгивать, то обходить. Но Тревельян шел легко и быстро – путь, доступный лошадям, не требовал большого напряжения от выносливого человека. Дважды он замечал места, очень подходящие для засады, но сторожей там не было; один раз набрел на ключ, бивший из глубокой расселины, – вода в нем оказалась холодной, как кометное ядро в облаке Оорта. Была середина времени Заката, когда Тревельян, проблуждав едва ли не пять часов, очутился на пологом горном склоне, где рос невысокий обглоданный кустарник и темнели отверстия нескольких пещер. В кустах бродили косматые анши, местный аналог коз, а у пещер, вокруг лошадей с мешками и бочонками, толпилась тьма народа – сотни, должно быть, полторы. Женщины, дети, мужчины… Кто разгружал животных, кто тащил в пещеры груз, а кто, на радостях, вышибал затычку из бочонка. Несколько мужчин окружили Даута – двое повисли на поводьях, пригибая голову коня к земле, остальные снимали с него поклажу, стараясь не подходить сзади. При виде этой сцены сердце Тревельяна возрадовалось. – Похоже, старина Даут внушил им уважение, – пробормотал он и начал быстро спускаться. Грей, тревожно свистнув, спланировал к гранитной глыбе рядом с тропой, закружился, предупреждая хозяина об опасности. Над камнем мелькнула дубинка, зверек увернулся от нее, заверещал, растопырив лапы и выпустив коготки. «Назад, – мысленно приказал Тревельян. – Это тебе не зверь и не птица, а человек. Двуногую скотину не напугаешь». Из-за глыбы выступил сторож, настоящий гигант – в парне было метра два, и столько же – в толстой дубинке, которой он воинственно размахивал. Как все представители континентальной расы, он был безусым и безбородым, но с длинными густыми бакенбардами, заплетенными в косицы и связанными под челюстью узлом. Плечи у него были такими, что на них мог улечься матерый клыкач, а шея походила на ствол не первой молодости дерева. Что до рожи, то она показалась Тревельяну знакомой. – Не тебе ли я засветил бочонком? – спросил он, приближаясь. – Так это был ты, кал анши! – обрадовался великан, перехватывая поудобнее дубину. Затем он пригляделся к гостю и в удивлении наморщил лоб: – Эй, а кто ты такой? Что за ублюдок? Не солдат, не купец, не возница… Кто, спрашиваю? – Рапсод. – Ра-апсод? Это который песни поет и байки сказывает? Никогда таких не видывал! – Что ты вообще видел, кроме гор и коз, – вполголоса пробормотал Тревельян. – Ну-ка, приятель, отведи меня к Лакассе, вашему вождю. Есть у меня до него дело. – Лакасса не с каждым будет говорить. Сам понимаешь, большой человек! – Великан отложил дубину и упер в бока огромные кулаки. – Опять же, бочонком ты в меня швырнул, а это не по правилам. Нельзя кидаться! – А из пращи камнями можно? – Так то в скалу! А ты в меня! Бочонком! Бочонок-то треснул, и вино дорогой вытекло! – Ну, и чего ты хочешь? Другой бочонок? – Не. – Страж выпятил грудь и напряг могучие мышцы. – Попробуй, столкни меня с дороги! – Это мы быстро, – пообещал Тревельян, толкнул его в левый бок, толкнул в правый, но парень стоял как скала. Тогда он сделал вид, что хочет схватить противника за руку, а сам присел, зацепил его под коленями и опрокинул на землю. – Не по правилам! – завопил великан, но сапог Тревельяна уже упирался ему в грудь, а у горла поблескивало лезвие кинжала. Грей с победным писком спланировал на хозяйское плечо, заверещал и оскалил зубы. – Видишь этого зверя? – сказал Тревельян, не убирая клинка. – Ты не смотри, что он маленький, зубы-то как шилья! Прожорливый, любит кровь сосать, а у тебя крови много. Не поделишься? Перед такой жуткой угрозой страж капитулировал, и через минуту они уже спускались вниз, к пещерам.* * *
Тревельян сидел на камне у крохотного костерка из прутьев, рядом с кряжистым мужчиной в засаленной полотняной тунике. Несмотря на жалкую одежду, выглядел тот королем или, по крайней мере, герцогом; на лице с крупными чертами читалась привычка к власти, темные глаза глядели уверенно и спокойно, в углах губ прятались суровые морщины. Пигментные пятна были почти неразличимы на загорелой обветренной коже, но, вероятно, предводителю горцев Лакассе уже стукнуло пятьдесят. Против ожиданий, он сам и его соплеменники оказались людьми дружелюбными, так что их свидание с дикокрысом Тревельян решил отложить. В отличие от гиганта-стража Лакасса, умудренный жизнью и даже какое-то время трудившийся в каменоломнях Онинда-Ро, слышал о рапсодах и их Братстве. Но в его родных горах рапсод, да еще с шерром на плече, являлся не меньшей редкостью, чем снег в джунглях юга, и потому вождь рассматривал Тревельяна с нескрываемым интересом. – Говорили мне, – прогудел он басом, – что вы, певцы, ходите от западных пределов мира до восточных и что в каждом городе есть у вас дом, где живут с учениками самые старые и мудрые из вас. – Это правда, – подтвердил Тревельян. – Тех старцев называют дарующими кров. – Еще говорили, что есть среди вас учителя, познавшие все искусства, от пения и танца до схваток с мечом и копьем, от чеканки бронзовых кувшинов до метания стрел и дротиков. – И это верно, – сказал Тревельян. – Учителя зовутся пастухами, ибо пасут они учеников и заботятся о них, как вы о своих аншах. – Еще мне говорили, что каждый рапсод – отличный воин, и в этом я сам убедился. – На губах Лакассы мелькнула скупая усмешка. – Здорово ты приласкал бочонком Чегараму! А Ситиванду – мешком! – А мне кое-что говорили про вас, – в свой черед молвил Тревельян. – Не сочти за обиду, вождь, но говорили, что люди вы злые и свирепые и происходите от насильников и грабителей из войска Уршу-Чага. Будто хотел он покарать за это ваших предков, но они бежали от владыки и укрылись в горах. И что с тех пор не желаете вы трудиться, а грабите по дорогам людей, и если дают вам выкуп – такой, как сегодня, – то и его вы желаете взять не миром, а в бою и драке. Лицо Лакассы омрачилось. Он налил в кружку вина, протянул Тревельяну и сказал: – В этом только одна правда, Тен-Урхи, – та, что предки наши из солдат Объединителя. Уршу-Чаг – да возродится он в этом мире! – был мудр и, отправляясь в поход, набрал сотню бойцов, не нобилей, а простого звания, но искусных в воинском ремесле, бескорыстных и честных. Честных, вот что главное! Ибо поручались им штурмы дворцов непокорных правителей, а затем их охрана – ведь в тех дворцах были собраны великие богатства, серебро и золото, и кровавый камень, и морской, и травяной, и драгоценные чаши, светильники, оружие, ларцы и прочие сокровища, что ослепляют глаза и возбуждают алчность. Воинам из благородных Уршу-Чаг не мог довериться, зная, что сочтут они это своей добычей, а если карать их столбом и крюком, то нобили уйдут, и он останется без войска. А наши предки служили ему не ради грабежа, но из любви к Объединителю, из преданности и чести, ибо был он велик, как ни один из его потомков. И все же владыка их прогнал… – Печально поникнув головой, он добавил: – Не потому прогнал, что был недоволен их службой, но лишь по настоянию своих военачальников-чахоров, а один из них стал предком владык Онинда-Ро. И ложь о наших пращурах тоже от него пошла. – Это случилось давно, – сказал Тревельян, – так давно, что имена ваших обидчиков если где и найдешь, так в самых дальних сундуках Архивов. Почему бы теперь вам не вернуться в обитаемые земли? Думаю, Сирам-Харт, правитель этой страны, одарил бы вас угодьями, и развели бы вы стада быков вместо этих тощих аншей. – Может, и одарил бы, но жили бы мы под властью его людей, платили бы ему налоги, а наши юноши служили в войске или ломали камень, как я когда-то. А мы такого не хотим! Здесь мы свободны, и хоть скуден наш край, но нет над нами господина. Не мы платим, а платят нам, платят, потому что боятся! – Нет, вождь, не боятся. Если Сирам-Харт пожелает, его солдаты разыщут вас в горах и перебьют всех до последнего младенца. Но он, вероятно, не жесток и помнит о вине своих предков. Ну и к тому же… – привычным жестом Тревельян коснулся бакенбард, – к тому же для воинов вы что-то вроде развлечения. Вы будто древний памятник, какие я видел в Мад Брунере, – стоят, никому не мешают, и даже полезны как свидетельство почтенной старины. Лакасса тоскливо вздохнул. – Жестокие слова, рапсод, но я не обижаюсь, я знаю, что это правда. Нам нужна свежая кровь, нужны женщины, но отыскать их трудно – не всякая пойдет в горы за своим избранником и согласится жить в пещере, рожать детей на каменном полу… Сам я в молодости искал жену четыре года… Жизнь здесь тяжела! Здесь не растет ничего, кроме кустов с жесткой корой, и даже лошадей мы забиваем на мясо, их нечем тут кормить. Забили бы и твоего коня, если бы ты не пришел за ним… – Вождь мрачно уставился на пламя догоравшего костра. – Но куда нам деваться, куда бежать? Говорят, что мир велик, но он принадлежит не моему народу. Все земли на востоке и западе под чьей-либо властью, и людям, привыкшим к воле, там места нет. Ищи недовольных! – услышал Тревельян голос Хьюго Тасмана, да так отчетливо, что едва не вздрогнул. Вот и недовольные, подумал он, целое племя, что хочет убраться из Империи. Только живет оно в самой середине континента, и до любого из двух океанов отсюда десять тысяч километров. Но если бы они преодолели этот путь, что дальше? Эти люди не видели ни моря, ни кораблей, ни лодок, ни парусов и весел; как переправить их на новый материк? И как сделать это быстро и тайно, чтобы никто не помешал, не сжег корабли и не отправил горное племя в каменоломни? Об этом стоило поразмыслить, а сейчас Тревельян сказал: – Кроме запада и востока, есть еще Дальний Север и Дальний Юг. Что ты знаешь о них, Лакасса? – Я не такой невежественный дикарь, как можно подумать, да и другие наши старейшины бывали в Онинда-Ро и даже в Пейтахе. На севере – непроходимые болота с гнилой водой, а на юге – степи и леса, где обитают люди с бледной кожей и без волос. Места там много, но эти безволосые когда-нибудь отыщут нас и уничтожат. Да и как туда добраться? Между нами и югом – горы, Семь Провинций и море Треш… Слишком дальний путь и слишком опасные земли! Разве не так, Тен-Урхи? – Так, – согласился Тревельян. – И все же ты ошибаешься, Лакасса. Ошибаешься! – В чем же, рапсод? – Ты сказал, что мир велик, и это верно. Но ты не представляешь, как он огромен! Он разровнял остывший пепел и начал чертить карту.Глава 16 ТИЛИМ
Вставало и садилось солнце, подмигивала изумрудным глазом Ближняя звезда, дул ветер, то прохладный, то жаркий, гнал по небу облака и тучи, падали теплые недолгие дожди, и дорога вновь струилась под копытами Даута, временами прямая, как древко копья, или петляющая среди горных отрогов, переброшенная по мостам над реками, прячущаяся в ущельях и тоннелях, протянувшаяся серой каменной лентой от города к городу, где она неизменно распадалась на озера площадей, протоки улиц и паутину переулков. Из Онинда-Ро Тревельян перебрался в местность, называемую Пятиречьем – здесь по великой западной равнине текли пять крупных медленных рек, сливавшихся на протяжении тысячи километров в одну гигантскую, что несла свои воды через Верхний и Средний Понс к Запроливью и Мерцающему морю. Но в Понс он не свернул, а направился на юго-запад в небольшую страну Шии, граничившую на юге с Тилимом и Сотарой. От Пятиречья и Сотары ее отделяли отроги Кольцевого хребта, ставшие для Шии божьим благословением; в доимперскую немирную эпоху горы хранили от вражеских нашествий, так что Шии не сделалась провинцией Сотары и не попала в клыки владык Пятиречья, жадных до чужих земель. Теперь эти беды и страхи остались в далеком прошлом; Империя, гарант стабильности и нерушимости границ, поддерживала здесь такие же порядки, как в Этланде, Хай-Та, Пибале и других восточных странах. Посты, сигнальные вышки и воинские лагеря встречались с прежней регулярностью, а между ними стояли пилоны, и каждое второе изречение напоминало о казнях, которые ждут нарушителей мира. С Тилимом, лежавшим между Сотарой и прибрежным Шо-Ингом, Шии традиционно связывали добрососедские отношения. Дело не в том, что тилимцы отличались меньшей воинственностью, чем сотарцы, – как раз наоборот, в древности они точили клинки и секиры по любому поводу, и без повода тоже. Но рубеж с Тилимом не имел естественных препятствий вроде гор и рек, так что жители Шии поступили мудро, выбрав себе повелителем принца из младшей ветви тилимского правящего дома. Его потомки, став королями, помнили о беззащитном рубеже и мощи Тилима, превосходившего Шии величиной раз в десять, и брали в супруги только тилимских принцесс, дабы укрепить трон и династию выгодными родственными связями. Теперь это тоже стало частью прошлого, так как в Тилиме, Шии и большинстве западных стран, быть может, повсюду, кроме Шо-Инга, правили короли-полукровки, метисы, происходившие от древних законных владык и самых знатных нобилей Семи Провинций. Их женщины были по-прежнему красивы, а что до мужчин, носивших иногда местные тилимские, иногда имперские имена, то бакенбарды росли у всех, хотя уже не темной масти, а светлые или рыжие. Но Тилим отличался не только красотою женщин и храбростью мужчин. Пользуясь земными аналогиями, эксперты ФРИК обычно сравнивали его с Францией в последние десятилетия перед Столетней войной, когда держава Людовика Святого и Филиппа Красивого была на пике своего могущества. Что до Тилима, то он давно уже не воевал, но оставался самой богатой, самой просвещенной и самой притягательной из западных держав. Этому способствовали и плодородие его земель, и роскошь древних городов, и пышные, изысканные празднества, и процветающие искусства, но более всего – центральное расположение среди западных стран и проходившие через Тилим торговые пути. Купцы и богатые горожане были здесь в таком же почете, как местная аристократия, и браки между этими сословиями не являлись редкостью. Если же говорить о самом примечательном в Тилиме, то славился он вином, которое конкурировало с торвальским, ювелирными и стеклянными изделиями, тканями, гобеленами и коврами, картинами, что рисовались на пергаменте особой выделки, а также мастерством своих танцовщиц. Это был отдельный класс, такой же, как гейши Японии и куртизанки Рима, женщины свободные, искусные в любви, прошедшие долгое обучение и нередко весьма богатые. Они не только украшали жизнь мужчин в самом Тилиме, но и являлись важным предметом экспорта. Тревельян, однако, ехал сюда не развлекаться, а по той причине, что через Тилим и его великолепную столицу Ферантин лежала прямая дорога к Княжествам Шо-Инга и побережью Мерцающего моря. Там он хотел нанять небольшое суденышко и выйти в океан на поиски острова Великого Наставника. Если остров существует, а не является мистической фантазией Орри-Шана, он будет найден! Как именно, Тревельян еще не знал и не пытался строить планы поисков, ибо ситуация была неясной в главном и основном моменте: почему этот участок суши, окруженный водой, не попал под объективы орбитальных спутников. В принципе, найти корабль для этого похода можно было в торговых городах Запроливья, в Островном Королевстве и в самом Удзени, но подходило не всякое судно, а такое, которое Тревельян мог полностью контролировать. Экипаж – не больше пяти человек, которым, в случае бунта, можно внушить уважение бичом и кулаком; размеры – с океанскую яхту, плюс вместительные трюмы, плюс надежность, необходимая для плавания в океане, плюс прямое парусное вооружение и быстроходность. Такие суда были только в Шо-Инге; обычно их владельцы занимались контрабандой и мелким грабежом в Запроливье, Торе, Пини-Пта и других приморских странах. Да и люди в Княжествах были лихие и не боялись, как другие моряки, выходить в открытый океан. Но на пути к Шо-Ингу Тилим не минуешь, а попав сюда, никак не проедешь мимо Ферантина. Так что в один из дней Тревельян приблизился к северным вратам тилимской столицы, где звучали трубы и развевались флаги – видимо, по случаю какого-то праздника. Не желая попасть в сумятицу перед воротами, он разыскал постоялый двор на въезде в город, перекусил, оставил Даута в конюшне жевать зерно, посадил на плечо Грея и собрался прогуляться. Постоялый двор был полон приезжих, что, вероятно, являлось обычной ситуацией для Ферантина. Невысокие смуглые люди, светловолосые, быстрые в движениях, распрягали и поили лошадей и, перекликаясь высокими звонкими голосами, таскали хозяйский багаж; их господа в ярких облегающих одеждах пили вино на террасе, командовали слугами да присматривались к девушкам, разносившим подносы и кувшины. Среди этой суеты особо выделялись пара десятков мужчин с востока, возницы и торговец, сопровождавший груз; их громоздкие телеги, забитые плотными серыми свертками, стояли в углу двора, резко отличаясь от пассажирских фаэтонов и щегольских экипажей тилимцев. Тревельян, проходивший мимо, остановился, бросил любопытный взгляд на восточный товар и приподнял брови. Китовые пузыри, несомненно! Шесть фургонов, полных китовых пузырей! Разумеется, то был не тот караван, который встретился ему в Этланде; с тех пор прошло достаточно времени, чтобы дважды пересечь материк. Куда же везут эти рыбьи потроха? И кому? Возможно, по прежнему адресу? Купец, распоряжавшийся у телег, вежливо ответил на его поклон. Как у всех уроженцев востока, у него были густые брови и внушительный, нависавший над верхней губой нос; он и его люди казались среди тилимцев гоблинами, попавшими в царство эльфов. – Скажи, почтенный, – промолвил Тревельян, – твой обоз направляется в Шо-Инг? Точнее, на самую границу Шо-Инга и Тилима, в поместье благородного Кадмиамуна? – Да, рапсод. – Купец был явно удивлен. – Кадмиамун, мой господин, из семьи богатых нобилей, но занимается торговлей. Дальней торговлей, с Архипелагом и Хай-Та. Я Сейлад, один из его помощников. Ты знаешь моего господина? – Я слышал о нем, Сейлад. Надеюсь даже повидать его, так как иду в Шо-Инг. Скажи, щедр ли он? Любит ли музыку и пение? Сейлад пожал плечами: – Щедрость его выше похвал, но что до песен, о том я не знаю. Он человек ученый, со всякими причудами. Может, любит песни, может, нет, а вот на твоего зверька посмотрит обязательно. Редкая тварь! – Значит, он ученый… А не опасно ему жить в Шо-Инге? Я слышал, люди с побережья изрядные разбойники. – Они разбойничают в море, а моего господина обходят за день пути. Знаешь, кто его единокровный брат? – Тревельян наклонился, и Сейлад прошептал ему в ухо: – Кадмидаус, один из владык Мерцающего моря… нобиль, купец и… ну, сам понимаешь. Так что всякий, кто тронет Кадмиамуна, живо пойдет на рыбий корм. Тревельян с пониманием кивнул. Видимо, братец ученого Кадмиамуна являлся одним из князей Шо-Инга, промышлявших тем же самым ремеслом, что их восточные коллеги в Пятипалом море. Он снова оглядел фургоны и спросил: – Не знаешь, зачем твоему господину китовые пузыри? У него мастерские, где клеят морскую одежду? Сейлад хитроусмехнулся: – Мастерские у него и правда есть, но что в них клеют, спрашивай самого господина. Ты ведь к нему собрался? Ну, легкого тебе пути! Может, твои песни ему понравятся. Кивнув на прощание, Тревельян вышел со двора и направился к городским вратам. Некогда Ферантин окружали настоящие стены с боевыми башнями и бастионами, но с приходом имперского войска их верхняя часть была срыта, а камни уложены в мостовые площадей и улиц. Древний фундамент, однако, остался, а тилимцы являлись слишком практичными людьми, чтобы забросить такое монументальное сооружение. Поэтому город окружили новой стеной, включавшей великолепные колоннады для прогулок, изящные смотровые башенки, с которых можно любоваться видом на столицу, террасы, засаженные деревьями, святилища и храмы, среди которых не было двух одинаковых, и целые аллеи изваяний, где статуи местных владык соседствовали с фонтанами, мифическими чудищами, бюстами императоров и божественным Таван-Гезом, повергающим ниц зловредных духов бездны. Все это высекли и возвели из розоватого известняка, которым был богат Тилим, и город, чьи здания виднелись за колоннадами и зелеными рощами, тоже был розовым, воздушным и светлым, точно его слепили из подсвеченных солнцем облаков. У ворот, украшенных флагами, венками и цветочными гирляндами, толпились разного звания люди, слушая речи герольдов. Те, чтобы привлечь внимание, трубили в трубы, а затем самый горластый объявлял, что завтра благородный Супинулум, правитель Тилима, друг и верный союзник повелителя Семи Провинций, пожертвует кровь в храме Трех Богов, дабы процветали все тилимские города и земли, а народ его был крепок, не обделен потомками и всякий день имел в левой руке бурдюк с вином, а в правой – окорок. Жертва крови состоится на Восходе, а затем начнется карнавал, где дозволяется каждому пить, танцевать, веселиться и скрывать лицо под маской, а также глядеть на представления плясуний, фокусников, акробатов и борцов. И будет так три ночи и три дня. Выслушав это объявление, Тревельян протолкался сквозь массы бездельников и любопытных, прошел под каменной аркой, ступил на широкую городскую улицу, тоже украшенную флажками и запруженную народом, и огляделся, выбирая дальнейший маршрут. Но не успел он сделать и шага, как чьи-то руки вцепились в его накидку и звонкий молодой голос выкрикнул над самым ухом: – Рапсод! Рапсод, чтоб меня демоны бездны сожрали! Рапсод из Семи Провинций! И такой красавчик! Прямо Тавангур-Даш! Да еще с такой забавной зверюшкой! Тревельян повернул голову. Перед ним стоял юный пригожий герольд в пестром одеянии: голубые обтягивающие штаны, алая безрукавка, расшитая серебром, короткий желтый плащ с кружевами, белые башмаки и высокая, похожая на печную трубу шляпа. За поясом у него были длинный медный горн и сложенный веер. Богатырем он не выглядел, но за накидку Тревельяна держался крепко. – Разделяю твое дыхание, юноша. Я в самом деле рапсод, да еще с забавной зверюшкой. Ну, и чего ты хочешь от нас обоих? – И я твое. – Парень быстро очертил круг над сердцем. – Я Тукинул, помощник главного устроителя празднеств и торжеств, который сидит у самых ног правителя. Нам, понимаешь ли, нужен девятый рапсод для славного турнира Медоносной Бабочки. И если голос твой так же приятен, как облик и одеяние, ты нам подойдешь. – Спасибо, но участие в турнире не входит в мои планы, Тукинул. – Зови меня Туки. Как твое имя, рапсод? Тен-Урхи? Ты что же, не слышал про Медоносную Бабочку? – Глаза юного герольда распахнулись шире. – Самые прославленные, самые знаменитые певцы мечтают попасть на этот турнир! Он украшение любого праздника в столице, а приз, который… – Прости, Туки, – перебил Тревельян, – но я вовсе не знаменитый певец. – Поучаствуешь в этом турнире и сразу станешь прославленным и знаменитым, – молвил юноша, демонстрируя рациональный подход к делу. Затем он сообщил таинственным шепотом: – Я поведаю тебе всю правду про Медоносную Бабочку, но о таких вещах не говорят в толпе. Нет, не говорят, ибо слова мои только для избранных. Удели мне капельку времени, Тен-Урхи, и пойдем вот сюда… вот в эту уютную таверну, чей хозяин мне знаком, и я могу поклясться, что он вино не разбавляет… во всяком случае то, которое мне подают. Ты, я вижу, с дороги, и кубок-другой тебе ведь не помешает? Да и мне тоже, я уже голоса почти лишился, пока вопил у этих проклятых ворот… Не выпуская из левой руки пончо Тревельяна, он потянул его сквозь толпу, потом выхватил из-за пояса горн и принялся колотить им по головам и плечам сограждан, приговаривая: – Расступитесь, добрые жители Ферантина, дайте дорогу служителю празднеств! Не напирайте, не лезьте мне под ноги! Я знаю, каждый хочет на меня взглянуть, однако толкаться ни к чему! Всякий, кто меня толкнет, вместо карнавала повеселится в клетке с пацами! И вместо вина будет глотать их мочу, клянусь в том Заступницей Таванна-Шихи! «Ну и пижон! – высказал свое мнение командор. – Попадались мне такие олухи среди гардемаринов. Трое суток карцера, и каждый день – наряд на чистку дюз… Через месяц – как шелковые!» Представив, как Туки чистит дюзы, Тревельян ухмыльнулся, но без сопротивления последовал за ним к столу и кувшину с чашами. Парень был говорливый, но симпатичный и, вероятно, знал в Ферантине каждого второго, а кого не знал, тех упоминать не стоило. Ценный источник информации! Освежившись терпким прохладным напитком, он произнес: – Значит, вам нужен девятый рапсод… Я полагаю, восемь других уже нашлись? – Да, и среди них Хиджи-Дор Звонкие Струны из Мад Тусса, что в Дневной Провинции, и Фириданум Сладкоголосый из Праа, что в Сотаре. Какие великие певцы! Какие луженые глотки! И какие пальцы! Бегают по струнам быстрее, чем змея за древесным кроликом! Однако, – тут Туки наклонился поближе к Тревельяну и понизил голос, – кроме глотки и пальцев нужны еще приятный облик и дар сочинителя. Особенно дар, ибо каждый участник турнира поет три новые песни: любовную, воинственную и гимн красотам природы. – Новых песен у меня пара фургонов и еще тележка, – сообщил Тревельян, – и на лютне я играю лихо. Но вот за сладкозвучность глотки поручиться не могу. – Давай испытаем, – предложил Туки, оглядывая кабачок. Он был крохотным, на четыре столика, и хозяин – видимо, из почтения к служителю празднеств и его секретным переговорам – очистил территорию от клиентов и закрыл дверь. Тревельян прочистил горло, набрал в грудь воздуха, испустил для разминки мощный вопль и запел «Эх, дубинушка, ухнем». Стеклянные бокалы на полках задребезжали, с потолка что-то посыпалось, то ли краска, то ли штукатурка, а оглушенный кабатчик присел, спрятавшись за стойкой.– Громко, – оценил Туки. – Громко – это хорошо, твой голос наполнит зал. Видишь ли, турнир Бабочки проводится не в амфитеатре, а в закрытом помещении, куда приглашают только избранных. Это зрелище не для толпы и всякой черни, а для людей образованных и понимающих. Будет правитель со своими близкими, нобили – из тех, что познатней, богатых горожан с полсотни, мудрецы из нашей академии, рапсоды и, конечно, девушки. – Что за девушки? – спросил Тревельян, начиная проявлять интерес к делу. – Тилимские танцовщицы. У вас, певцов, Братство, а у них – Сестринство. Вот из этого Сестринства и будут плясуньи, самые лучшие и знаменитые. Надо сказать, – Туки снова придвинулся ближе и зашептал, – что хотя турниру покровительствует сам правитель, благородный Супинулум, но денежки дает Сестринство, и угощение от них, и все призы, не говоря уж о главном. Поэтому они… – Подожди, не торопись, – прервал его Тревельян. – Что у вас за главная награда? И почему у турнира такое название? Медоносная Бабочка, а, скажем, не Ферантинская Птичка или Лучшая Глотка Тилима? – Так я же об этом и толкую! Турнир проводит Сестринство танцовщиц, и третьему певцу положено сто золотых, второму – двести, а первому… – Туки закатил глаза. – Первому, то есть победителю, – ночь услад с прекраснейшей Арьеной, она у нас нынче в бабочках, и от такого приза даже покойник не откажется. Наплыв желающих огромен, и на сегодняшний день сто восемнадцать рапсодов явились в Ферантин и толкутся у двери моего господина, устроителя празднеств. А я сижу тут и уговариваю тебя! Да с таким громким голосом, с такой внешностью и новыми песнями ты… – Туки махнул рукой и приложился к кружке. Рука Тревельяна машинально коснулась бакенбард. Он дернул левую, потом правую, едва не выдрав ленточки, поднял глаза к потолку и протянул: – Вот, значит, как… Могу ли я предположить, что Медоносная Бабочка некий символ? Обозначающий порывы плотской страсти, любовь прекрасной женщины, что служит призом победителю? – Можешь, можешь. – Юный герольд допил кружку и грохнул ею о стол. – Еще вина, хозяин! Кстати, друг мой Тен-Урхи, именно в этот сезон, завтра поутру, начнутся брачные игры у бабочек, что можно увидеть на всех медоносных лугах. Так что карнавал и наш турнир приурочены к их воздушным свадьбам, и сам правитель жертвует кровь, когда у бабочек… как ты говоришь?.. ах да, порывы плотской страсти. Красиво сказано! Вот в такое утро наш благородный Супинулум и кольнет пальчик кинжальчиком, ни днем раньше, ни днем позже. – Я вижу, Арьена у вас девушка популярная, – сказал Тревельян. – Как-никак, сто восемнадцать претендентов… И не набрать девяти? Почему? – Потому, что надо учесть ее интересы – ведь отдуваться-то ей! Рапсод, допущенный к турниру, должен иметь приятную внешность и подходящий возраст, а большинство желающих или сопливые юнцы, или слишком староваты, или не вышли рожами. Вот ты, Тен-Урхи, подойдешь! Должен сказать, что судит турнир сама Медоносная Бабочка, и побеждает временами отнюдь не самый голосистый. Ей, знаешь ли, виднее… И у тебя есть шансы, клянусь Тремя Богами! – Я польщен. – Тревельян склонил голову. – Я уже почти согласен, Туки. Если к награде добавить еще чуть-чуть… сущую малость… добавить кое-что, то я уверен, что «почти» исчезнет. – Чего ты хочешь? Денег? – Нет. Я направляюсь в Шо-Инг, к Мерцающему морю, и мне нужны рекомендательные письма. Желательно к правителю Кадмидаусу и брату его Кадмиамуну. Если бы твой господин, устроитель празднеств, написал их или, что еще лучше, сам благородный Супинулум оказал такую милость… – Шо-Инг! Демоны бездны, Шо-Инг! Что тебе делать в Шо-Инге, рапсод? Люди там невежественны и грубы, земли заброшены, а города их – те, что у морского побережья, – больше походят на торговый склад и разбойничье логово. – Однако я должен туда добраться, найти корабль и выйти в море. Понимаешь, Туки, был у меня наставник из ваших краев по имени… ээ… Хурлиулум, и перед смертью просил он, чтобы прах его не бросали в реку, а опустили в морские воды, а лучше даже – в Западный океан. Прах его здесь, – Тревельян коснулся мешка. – Много дел он не успел доделать на земле и потому торопится вернуться от Оправы. А для этого нужно, чтобы прах попал туда быстрей. Туки описал круг над сердцем: – Благочестивы твои намерения, Тен-Урхи… Я поговорю со своим господином, и он, наверное, устроит тебе пару пергаментных свитков с печатями правителя. Но ты согласен петь? Завтра, во время Полдня, на Арене Быстрых Ног и Гибких Бедер? «Хорошее название, – прокомментировал командор. – Многообещающее!» Что до Тревельяна, то он лишь спросил: – Как добраться до этой арены, Туки? – Не беспокойся, Тен-Урхи, я провожу тебя. А сейчас скажи, чего ты желаешь. С этого мгновения ты – почетный гость Ферантина! Что тебе нужно, рапсод? – Баня, цирюльник и новая одежда. Но не спеши, Туки, не спеши… В кувшине еще есть вино.
* * *
Была у Тревельяна мысль заглянуть в ферантинскую обитель Братства, пообщаться с дарующим кров и навести справки о соперниках, однако он решил не рисковать. Масса трудов затрачена, чтобы уйти от наблюдения в горах Онинда-Ро и на дорогах Шии и Пейтахи, да и то нет уверенности, что получилось – ведь он не выяснил, к а к за ним следят. В такой ситуации лучше забыть про обитель, чтобы не засветиться до срока. Если уж выпала ему судьба петь на Арене Быстрых Ног, то все должно быть как ее название: явился, спел и смылся. Само собой, с рекомендательными письмами. Письма Туки доставил утром следующего дня, и выглядели они очень солидно: целых три пергаментных свитка с золотыми шнурами и висевшими на них печатями – не из какой-нибудь смолы, а из посеребренного свинца. Тревельян упаковал их в сумку и вместе с герольдом вышел во двор, отметив, что от восточного обоза уже и следов не осталось – Сейлад, вероятно, не соблазнился праздником и выступил в путь на Восходе. Слуги уже запрягли Даута, так что осталось лишь подняться в колесницу, щелкнуть бичом и выехать за ворота. Что он и сделал. Арена Быстрых Ног и Гибких Бедер была за городом, на землях школы или, возможно, целой академии Сестринства, где обучали всяким премудростям юных танцовщиц. Подходящее место, чтобы исчезнуть после выступления, решил Тревельян, оглядев территорию. Школа находилась в парке с причудливо переплетенными дорожками и густыми зарослями, среди которых прятались десятка два построек разного калибра. Арена, правда, оказалась зданием заметным, торчавшим над деревьями; она представляла собой высокий и обширный павильон с тренировочным залом и примыкавшими к нему покоями, где можно было отдохнуть, перекусить и даже принять ванну. Тут, очевидно, занимались, кроме танцев, и другими науками, ибо в каждой комнате стояла внушительной величины кровать, что наводило на грешные мысли. Чертог, предназначенный Тревельяну, был отделан синим шелком, и его глубокий холодный цвет действовал успокоительно. Он устроил Грея на мягкой подушке, затем, переодевшись и прихватив лютню, в сопровождении Туки направился в зал. Там, на овальной площадке с деревянным полом, уже скользили в танце девушки, развлекавшие гостей; смуглые гибкие тела почти обнажены, стройные босые ноги выбивают ритм стремительной пляски, глаза сверкают, руки ткут в воздухе невидимое полотно, волосы плещут рыжими и золотистыми волнами. Тревельян замер было в восхищении, но Туки толкнул его в бок и прошипел: – Еще наглядишься! Поклоны, рапсод, поклоны! В ту сторону и вот в эту! Слева, в дальнем конце арены, стояло кресло, похожее на трон, и в нем, окруженный свитой нарядных дам и кавалеров, восседал важный господин, отличавшийся изрядной тучностью, блеском украшений и светлыми баками, завитыми по моде Семи Провинций. Благородный Супинулум, понял Тревельян и, описав у сердца круг, низко поклонился; в конце концов, полученные им письма стоили этих скромных знаков почтения. Затем он перевел взгляд направо, вздрогнул и обомлел: в другом конце Арены Быстрых Ног, на невысоком, устланном ковром помосте, сидела девушка невероятной, поистине неземной прелести. Глаза у нее были яркими, синими, губы алыми, лоб высоким и чистым, брови – как птичьи крылья, распластанные в полете, носик – очаровательно задорным, чуть вздернутым вверх. Обрамляли всю эту красоту светло-каштановые кудри, в которых сияла диадема из морских камней. Вот, думал Тревельян, чудо природы, недолговечное и хрупкое, перед которым, однако, пасуют все достижения высшей цивилизации, все эти роботы, клоны, компьютеры и гравилеты, квазиживые механизмы, контурный двигатель, звездные лайнеры и боевые крейсера, лазеры и голопроекторы. Теоретические разработки ФРИК и полевой опыт агентов подтверждали, что красота и физическое совершенство ценятся во всех гуманоидных мирах, на всех стадиях развития культуры; собственно, то был один из пограничных феноменов, что отделяли пусть примитивное, но человеческое общество от звериной стаи. Красота чужих, но не чуждых рас воспринималась землянами вполне адекватно, и это доказывало, что технология и социальный прогресс не так уж сильно влияют на психику, как полагали далекие предки в начале космической эры и позже, в эпоху экспансии и Темных войн. Достигнув божественного могущества, люди Земли все еще были людьми, не превратившись в уродливых карликов с гипертрофированным мозгом, не став лишенными чувств киборгами или насекомыми, подчиненными коллективному разуму. И сейчас, глядя на красавицу Арьену, Тревельян ощущал это с особой остротой. – Закрой рот и поклонись, – прошелестел голос Туки. Когда это было сделано, он повел Тревельяна мимо танцующих девушек к скамье, где сидели восемь рапсодов. Другие скамьи окружали арену и были заполнены избранной публикой – нобили, горожане, певцы, которым не выпала удача принять участие в турнире; всего человек триста. Между ними сновали служители с подносами, и слышался протяжный звон монет. При появлении Тревельяна зазвенело громче. – Делают ставки? – спросил он у Туки. – Еще какие! Это самое притягательное – угадать, кого Арьена уложит к себе в постель. Гляди-ка, на подносах уже горы серебра! А у тех, кто собирает с богатеев, – сплошное золото! Кстати, седьмая часть идет Сестринству. – Неплохая коммерция, – заметил Тревельян, добравшись до своих коллег-соперников. – Приветствую вас, братья. Ваша кровь – моя кровь. Рапсоды ответили дружным хором и потеснились, освобождая место на скамье. Все, как на подбор, бравые молодцы, двое из Семи Провинций, один северянин, остальные – люди западной расы, смуглые и светловолосые. Глядели они на Тревельяна с любопытством, но без неприязни, а он смотрел только на прекрасную Арьену. В какой-то миг их взгляды встретились, и Тревельяну стало ясно: если он выиграет в этом турнире, то без награды не уйдет. Это ломало его планы, но стоило ли из-за них лишаться маленьких человеческих радостей? Командор был того же мнения. Пока представляли рапсодов и объявляли условия состязания, он призывал Тревельяна постоять за честь Земли и выиграть оба поединка, в зале и в постели. «Не посрами фамилии, малыш, – беззвучно шептал он под черепом. – Десант не сдается и не отступает! Штурм унд дранг! Но пасаран!» Тревельян велел ему заткнуться, и в этот миг Арьена плавно повела рукой. – Первая песня! – громко объявил герольд, и в зале воцарилась почтительная тишина. – Песня о красоте цветов, прелести залитого солнцем луга, лесной тишине и прохладе, грозном могуществе гор и звоне ручьев. Достойный Фантаур из Нижнего Понса! Мы слушаем тебя. Фантаур не произвел впечатления и был награжден редкими одобрительными криками. Играл он неплохо, но голос оказался слабоват, а сочинение его о медоносных бабочках, пустившихся в брачный полет, отдавало конъюнктурщиной. Что до своих песнопений, то в них Тревельян был уверен. Его творческий запас включал шотландские баллады и русские романсы, песни Китая и Франции, Германии и Индии, африканские напевы и творения бардов двадцатого века. Все это, тщательно отобранное и переведенное на местные языки, адаптированное к осиерской музыкальной традиции, было заложено в его память под гипноизлучателем. При случае он мог спеть за Эдит Пиаф или Карузо, а то и за целый древний ансамбль вроде «Битлз» или «Аббы». Конечно, в силу своих вокальных возможностей. Его очередь была последней, что позволяло прикинуть силы конкурентов. Пожалуй, в первой семерке лишь Хиджи-Дор Звонкие Струны представлял проблему, но потягаться с ним на равных Тревельян бы смог: Хиджи-Дор играл великолепно, однако его мощный бас казался не слишком пригодным для нежной лирической песни. Да и внешность не подходила – Хиджи-Дор был мускулист, с могучей грудью и гривой темных растрепанных волос, торчавших во все стороны. Он, вероятно, это учитывал и спел о буре над Кольцевым хребтом, о раскатах грома, блеске молний и ярости стихий. «На грани фола, – ревниво заметил командор. – А в общем ничего. Почти Шаляпин!» Восьмым пел Фириданум Сладкоголосый из Праа, и, когда его сильный, звонкий баритон взметнулся под сводами зала, стало ясно, с кем придется посоперничать. Это был достойный конкурент, владевший мастерством лютниста и голосом не хуже, чем выбранной темой. Вдобавок он оказался молод и хорош собой – невысокий, стройный, с правильными чертами и водопадом золотистых локонов до плеч. Тревельян заметил, что Арьена глядит на него весьма благосклонно и улыбается алыми губками. Похоже, Медоносная Бабочка была не прочь полетать с этим красавцем-мотыльком. Наконец пришла его очередь, и, подняв лютню, он выступил вперед и встал у помоста. Когда назвали имя Тен-Урхи, Певца С Шерром На Плече, среди рапсодов-зрителей наметилось движение; кто зашептал, склонившись к уху соседа, кто приподнялся, чтобы разглядеть его получше, а кто заторопился к выходу. Доносить побежали, решил Тревельян, трогая пальцами струны. Кому – понятно, да только как? До обители Орри-Шана в Полуденной Провинции путь далек, а остров у берегов Удзени тоже не близко… Или тут, в Ферантине, уже получили инструкции Великого Наставника? Лютня ожила под его рукой, запела, зарокотала, застонала, и Тревельян забыл об этих мелочах. Репертуар, подобранный ему экспертами Фонда, был обширен и в нужной степени привязан к местным реалиям; так, вместо луны упоминалась Ближняя звезда, а названия цветов, животных и деревьев заменялись местными аналогами. Но даже эта вивисекция была не в силах справиться с очарованием романса на стихи Есенина, и бурный восторг публики стал наградой Тревельяну. Кричали так же долго и так же громко, как после выступления Фириданума, и командор, оценив интенсивность шума, сообщил: «С этим блондинистым фертом идете ноздря в ноздрю. Подбрось в реактор уголька и обходи по боевой траектории!» Уместный совет – следующим номером программы шла боевая песня. Но тут у Тревельяна были сложности, так как в земных военных маршах и тому подобных сочинениях, разнообразных и многочисленных, упоминались ружья и пушки, батальоны, что идут в атаку под шквальным огнем, крейсера, лазерные орудия и боевые роботы. Таких слов из песни не выбросишь, винтовку мечом не заменишь! Поэтому он выбрал эпизод из «Илиады», схватку Ахилла с Гектором, которую специалисты ФРИК перенесли в эпоху Уршу-Чага. К сожалению, строй любого из осиерских языков был не приспособлен к гекзаметру, Гомер подвергся большей переделке, чем Есенин, и в результате вместе с водой выплеснули дитя. Хоть Тревельяну удалось сорвать крики одобрения, лидером на этот раз стал Хиджи-Дор из Дневной Провинции, воспевший мощным басом взятие имперским войском Сахаса, долгую кровавую осаду, свершившуюся то ли семнадцать, то ли шестнадцать веков назад. Отличная баллада, заслуженный успех, молча признал Тревельян, слушая, как приветствуют соперника. Крики не смолкали долго – Сахас являлся столицей Сотары, с которой тилимцы были на ножах. – Не унывай, это ничего не значит, – шепнул ему на ухо Туки. – Пустые вопли! Решать-то будет наша красотка, а ей этот Сахас до Ближней звезды! К тому же, – многозначительно добавил он, – я точно знаю, что у Хиджи-Дора шансов нет.– Почему? – Слишком волосат. Она, – Туки стрельнул глазами на прекрасную Арьену, – волосатых не любит. – Но я тоже… – забеспокоился Тревельян, но юный герольд ободряюще хлопнул его по плечу: – Ты выглядишь великолепно. Недаром вчера побывал у цирюльника. Наступило время Дня, был объявлен перерыв, и зрители разошлись по ближайшим покоям, к манящим винами и закусками столам. Правитель с места не поднялся, но лицезреть его никто не мог: придворные обступили Супинулума плотным кругом, и из-за этой живой стены доносились только смачное чавканье да неясный рык. Медоносная Бабочка тоже осталась на своем помосте, грациозно ела фрукты, мило улыбалась да разглядывала своих мотыльков, которых обносили прохладительным. Тревельян заметил, что ее взгляд все чаще обращается к нему и сладкогласому Фиридануму; похоже, сейчас и решалось, кто станет победителем и завоюет главный приз. «Девица себе на уме, – заметил призрачный Советник Тревельяна. – Думаю, ты ей приглянулся. Этот блондинчик против тебя мелковат». «Зато голосист». «В мужчине главное не голос, а бравый вид и крепкий… Крепкая закваска, я хочу сказать». «С закваской у меня все в порядке. Передалась по наследству», – проинформировал Тревельян, любуясь нежным личиком Арьены. «Так что же, в Шо-Инг сегодня не поедем? Останемся тут на ночь?» «Может быть. Посмотрим». Публика, сверкая украшениями, стала возвращаться на свои места, между скамьями вновь засновали служители, и на подносы обрушился звонкий град монет. Наблюдая за их сверкающим потоком, Тревельян решил, что коммерсанты в Сестринстве неплохие – здесь пахло суммами в десятки тысяч золотых, и, вероятно, выигрывались и пускались прахом целые состояния. Еще он размышлял о том, не стоит ли задержаться в Ферантине на два оставшихся праздничных дня, пройтись по городу с карнавальным шествием, поглядеть на борцов и фокусников, испить тилимских вин и – кто знает! – вернуться к Арьене на вторую и на третью ночь. Если, конечно, он удостоится первой. – Слушайте, слушайте! – раздался зычный голос герольда. – Песня третья, и последняя! Песня о томлении и нежной страсти, о чувствах, что вложены богами в души женщин и мужчин, песня о любви… – Тут Арьена сделала какой-то непонятный знак, и герольд с поспешностью добавил: – Но обязательно несчастной! О гибельной любви, ведущей к смерти, однако превозмогающей ее силою чувств! Тревельян возликовал, а физиономии его соперников сразу увяли. Они, конечно, готовились пропеть хвалу любовным радостям, что начинаются с первого взгляда, пронзающего сердце, а кончаются в постели. Возможно, имелись и другие варианты, но тоже наверняка мажорные, в которых воспевались красота Арьены, сияние ее очей, нежность губ, румянец ланит и прочие прелести. У Тревельяна же был заготовлен романс, написанный великим Дарсонвалем на слова Эдгара По и переведенный исключительно удачно, песня про Эннабел Ли, столь же прекрасная, сколь и трагичная. А главное, так подходящая к названной теме! Стараясь не обнаружить торжества, он слушал выступления соперников. Им приходилось импровизировать и выкручиваться, и у одних эти потуги выглядели жалко, а у других вполне достойно – Хиджи-Дор и Фириданум были и тут на высоте, перестроившись с завидной быстротой с мажора на минор. По жребию Тревельян пел седьмым, и едва зарокотали струны его лютни, как Арьена поднялась, шагнула на самый край помоста и, склонив головку к плечу, потупила взор. На этот знак благоволения публика отозвалась сдержанным гулом, раздался шелест одежд, потом опять зазвенели золото и серебро, но сыпался металл уже не на подносы, а в кошельки выигравших счастливцев. Тревельян не слышал ничего. Он пел, глядя на девушку, раз за разом повторяя рефрен: «И ни горние ангелы в высях небес, ни демоны в недрах земли не в силах душу мою разлучить с душой моей Эннабел Ли», [4] – и каждый аккорд, каждое слово были так прекрасны, что шум прекратился сам собой, зал очарованно замер, и, когда песня отзвучала, под сводами арены на миг воцарилась тишина. Потом ее взорвали топот ног, восторженные крики и протяжное пение труб герольдов. Арьена шагнула с помоста – нет, не шагнула, а взлетела в парящем прыжке танцовщицы, но полет ее был краток и завершился в объятиях Тревельяна. Кажется, сюда она и хотела попасть. Руки девушки обвили его шею, щеку обожгло жаркое дыхание, и он услышал нежный шепот: – Отнеси меня в свои покои. Скорей! Ночь уже близка… В самом деле близка, подумал Тревельян, заметив, что в зале уже зажигают светильники. Подхватив на руки Арьену, он решительно направился к выходу. Губы ее были теплыми и сладкими.
* * *
Их ждали чертог, обтянутый синим шелком, разобранное ложе, кувшин с вином, фрукты и медовые лепешки. Прохладный вечерний воздух струился в распахнутое окно, сияла в темнеющем небе Ближняя звезда, и где-то вдалеке слышались ржание лошадей и скрип колес – то разъезжались зрители. Напряжение, еще недавно владевшее Тревельяном, исчезло; он опустил свою награду на постель, знаком попросил налить вина и подошел к окну. Свежий ветер шевельнул его волосы, охладил разгоряченное лицо. Нужно ли остаться? Должно ли? Желал ли он искренне эту девушку, с которой обменялся едва ли парой слов? Да, она была божественно прекрасна, красивее Китти, Чарейт-Дор и Лианы-Шихи, и он понимал, что очарован одной лишь ее красотой. Достаточно, чтоб получить удовольствие, но слишком мало для любви… Разве не сказал он Лиане-Шихи, капризной принцессе, что дела между мужчиной и женщиной не сводятся к кувырканью в постели? Что в этом случае теряешь самое приятное и драгоценное – восторг души, нашедшей родственную душу? Что… «Чего ты медлишь? – напомнил о себе командор. – Красавица ждет, а ты маешься и предаешься раздумьям! А хвастал, что с закваской все в порядке! Да на твоем месте… любой вшивый сержант… он бы…» «Я не любой вшивый сержант», – оборвал его Тревельян. «Ну, как знаешь. Я отключаюсь». Призрачный голос смолк, и в то же мгновение взвизгнула Арьена. Стремительно обернувшись, Тревельян увидел, как она, полунагая, сжалась на кровати, а в дверь валит целая толпа: имперский нобиль при бакенбардах и оружии, четыре местных стража и еще какие-то личности, числом пять или шесть, закутанные в плащи, под которыми поблескивала сталь доспехов. – Рапсод Тен-Урхи? – властно осведомился нобиль. – Собирайся, сын паца, у тебя свидание в другом месте. Пойдешь с нами! – Пойду, – молвил Тревельян едва ли не с облегчением и поклонился прекрасной Арьене: – Прости, моя красавица, не судьба! Но я не сумею тебя забыть. Ни за что, нет, ни за что! Сердце мое, сгоревшее в пламени страсти, стало мертвым углем, но ты вдохнешь в него жизнь, когда я вернусь к тебе. А вернусь я обязательно! – Это вряд ли, – заметил нобиль, окинув чертог бдительным оком. – Торопись, рапсод! И не пытайся выпрыгнуть в окно – там тоже наши! – Не сомневаюсь. – Тревельян поднял свою лютню и послал девушке воздушный поцелуй. – Я, собственно, готов. Куда идти? Его провели через опустевшую арену в парк, где под деревьями уже сгустились сумерки. Тут стражам и явился дикокрыс с планеты Селла. В полумраке он выглядел особенно внушительно и жутко.Глава 17 ШО-ИНГ
Шо-Инг, протянувшийся почти на тысячу километров вдоль побережья Мерцающего моря, не походил на другие державы континента. Море было узким, но длинным, глубоко вдававшимся в сушу, и формой напоминало серп со множеством щербин-полуостровов. Страны, лежавшие на его берегах и повторяющие очертания побережья, выглядели рваными лентами, где-то пошире, где-то поуже, но в любом случае длина их значительно превосходила ширину. В этом Шо-Инг не отличался от Запроливья или, скажем, Торе, где жители ловили рыбу, разводили скот, пахали землю, торговали и занимались всякими иными промыслами. Но территория Шо-Инга на день, а то и на два дня пути от морских берегов, до самых границ с Тилимом и Понсом, являла картину дикости, запустения и полного безлюдья. Тут не было ни полей, ни пастбищ, ни фруктовых рощ, ни медвяных лугов, ни деревень или усадеб знати, не было ровным счетом ничего, кроме обширной холмистой местности, пересеченной оврагами и заросшей где деревьями, где гигантским тростником, а где и сорной травой по грудь человеку. В Шо-Инге не сеяли, не жали, не пахали, не добывали руду, не выпаривали соль, и даже рыболовство считалось тут малопочтенным делом, что для приморской страны было совсем уж странно и удивительно. Тем не менее Шо-Инг процветал. Процветал в доимперские времена и процветал под рукой Империи, чья власть, надо признать, была тут весьма эфемерной, сосредоточенной вдоль трактов, ведущих в Шо-Инг из Нижнего Понса и Тилима. По большому счету единой страны здесь не сложилось, а стояли у моря тридцать семь городов, чьи князья-правители были в родстве друг с другом и потому все деловые вопросы решали по-родственному, не подписывая союзных грамот, не апеллируя к договорам и руководствуясь не законами, а понятиями. Каждый город имел право получить определенные доходы, но квота была жесткой, и превышение ее в ущерб чужому бизнесу каралось с похвальной быстротой: в гавань нарушителя входили боевые корабли соседей, племянников, кузенов и дядьев, и провинившегося родича скармливали акулам. Китов, как на востоке, в Мерцающем море и Западном океане не было, а вот акулы водились, все те же свирепые, вечно голодные аппа. Цивилизация финикийского типа, утверждали эксперты ФРИК. Общего в самом деле было много. Как в древней земной Финикии города Шо-Инга, небольшие по площади, но густонаселенные, ютились большей частью на маленьких прибрежных островах с двумя-тремя удобными гаванями. Как в Финикии, здесь строили превосходные корабли, что являлось единственным легальным делом жителей Шо-Инга. Как в Финикии, большая часть населения кормилась не столько дарами моря, сколько морской торговлей и пиратством; инги, как называли местных автотронов, были от века и по наследству мореходами и контрабандистами, причем в последнем промысле их монополия осталась столь же прочной, как десять и двадцать столетий назад. Торговые пошлины и налоги являлись важной статьей дохода Империи и местных владык, но перевозки в основном производились по суше, по дорогам, что были под контролем от восточных до западных стран. Другое дело – море; там не поставишь солдата у каждой волны, не возведешь пилоны и сигнальные башни, не вкопаешь в воду столб с крюком. Внешние моря, граничившие с океанами, не слишком интересовали Империю и были отданы на откуп ее вассалам. Вассалы из прибрежных стран крутились как умели и, если говорить о Западе, считали, что хоть Шо-Инг и лезет в их мошну, но затевать с ним спор себе дороже. Возможно и другое – не исключалось, что Светлый Дом Фаргу-Тана, чьи войска дошли до пределов западных земель, проявил великую мудрость, оставив некогда Шо-Инг в покое, а не стерев его в прах. Стереть-то он мог, но что получил бы взамен? Горы трупов, обезлюдевший берег, страх и ненависть людей Запада… Так что Фаргу-Тана ингов не вырезал и городов их не разрушил, однако намекнул князьям-разбойникам, что в любом занятии умеренность полезна и даже необходима. Пусть контрабанда, но не морской грабеж, а если все-таки грабеж, то без жестокостей, без крови и сожженных кораблей… Чтобы намек был понятен, Фаргу-Тана велел дотянуть имперские дороги до трех шо-ингских городов, тех, что стояли на суше, а на границах, в Тилиме и Нижнем Понсе, возвести крепости с солидным гарнизоном. Так что Шо-Инг остался вроде бы под управлением вольных князей и в то же время под имперским присмотром. Князей и их морские дружины это не слишком беспокоило. Как и прежде, они плавали в Тор, Удзень и Островное Королевство с тилимскими винами, предметами роскоши из Понса, Шии и Сотары, тканями, гобеленами и пейтахским оружием, а обратно везли зерно и шерсть, мед и строевой лес, парусину и канаты. Случая взять товар даром тоже не пропускали, особенно если встречался корабль из Запроливья, с которым была у них жестокая конкуренция. Но вся эта бурная деятельность велась на море, в городах и вдоль дорог, соединявших побережье с внешним миром. Остальная часть Шо-Инга оставалась дикой и безлюдной пустошью.* * *
Когда Тревельян пересек границу, перемена была разительной. На востоке, по другую сторону гряды невысоких холмов, простирались тучные тилимские пажити, стояли селения и города, окруженные виноградниками, нагуливал мясо скот, паслись лошади, и все, от дома до колодца, от двора до сада, выглядело таким ухоженным, таким обласканным руками человека, что радовался взор. Здесь, за холмами, единственным признаком цивилизации являлась имперская крепость у тракта, мощное каменное сооружение о пяти бастионах, на которых дежурили лучники. Дальше простирался первобытный лес, непролазная чаща с корявыми деревьями, чьи кроны сплетались друг с другом, превращая дорогу в мрачный полутемный тоннель. Пилоны с надписями и сигнальные вышки тут тоже попадались, но изредка, а постоялых дворов и харчевен не было вовсе. Холмы то поднимались по обе стороны дороги, то уступали место глубоким оврагам с темными лесными ручьями, и здесь имперский путь шел по мостам и насыпям, вонзаясь в дебри, точно стальной клинок, такой же неотвратимый, жесткий и твердый, как воля создавшего его владыки. Безлюдье было Тревельяну на руку. Похоже, ему готовили новый каменный мешок; он не сомневался, что у Ночного Ока имелись и в Тилиме замки с тайными узилищами, где беспокойные рапсоды или иные диссиденты могли рассчитывать на полный пансион. Но его миссия приближалась к концу, и можно было обороняться активно, если не хлыстом, так с помощью голографических видений. Весьма вероятно, о самозваном рапсоде Тен-Урхи будут вспоминать как о злом чародее, повелителе всяких чудовищ и нечисти, но это уже не беспокоило Тревельяна; срок его пребывания на Осиере истекал. Сбежав из тилимской столицы, он мчался всю ночь, а утром, на первом же постоялом дворе, выяснил, что до рубежей Шо-Инга осталось всего ничего – половина дня пути. Но Дауту требовался отдых, так что пришлось рискнуть и задержаться до середины времени Полдня. Его не преследовали – то ли потому, что быстроногий Даут обогнал погоню, то ли из-за страха, который Тен-Урхи внушил своим поимщикам. Как-никак, с дикокрысом они до сих пор не встречались, а вид этой твари мог мертвеца из могилы поднять. Достойная месть мерзавцам из Ночного Ока! Хотя, с другой стороны, что бы он делал, если б не прервалось свидание с Арьеной? Была и другая польза от бессонной ночи и бешеной скачки: нервное напряжение подстегнуло мысль, направив ее в нужное русло и одарив догадкой насчет таинственного острова у берегов Удзени. Существовал ли он на самом деле, так и осталось неясным, но вот проблему со спутниками и наблюдением с орбиты Тревельян решил. Полной уверенности в этом не было, но он собирался связаться с компьютером Базы и уточнить ситуацию. Шо-Инг для этого был прямо подарком судьбы: место дикое, уединенное, можно от погони скрыться и наладить контакт, не беспокоясь о нежеланных свидетелях. Снова отправившись в дорогу, Тревельян ко времени Заката нагнал обоз с китовым пузырем. Сейлада его появление не слишком удивило: он только поскреб свой длинный нос, дернул отвисшую мочку и заявил, что лошадь у Тен-Урхи хороша – не конь, а прямо ветер. Сейлад собирался заночевать на границе, у крепости, что в планы Тревельяна не входило; он спросил, как добраться в имение Кадмиамуна, и распрощался с купцом. Не прошло и двух часов, как он пересек рубежи Шо-Инга, проехал до третьего поста после крепости, где несли охрану южные наемники, и отыскал неприметную тропу на север. Путь по ней был нелегким; начало темнеть, а тропа, с выбоинами от колес тяжелых фургонов, не походила на имперский тракт. Но Тревельян упорно ехал вперед и вперед, пока не углубился в лесную чащу километров на двадцать. Выбрав подходящее место на поляне у ручья, он остановился, выпряг лошадь, разложил костер и поужинал сухой лепешкой, разделив ее с Греем. Потом хлебнул вина из фляги и достал свою лютню. Кроме голопроектора-пугалки, в нее был вмонтирован крохотный передатчик. Связь осуществлялась только голосом, видеоконтакт требовал большей мощности, но Тревельян надеялся, что обойдется без передачи изображений. Это устройство предназначалось на аварийный случай, когда необходимо вызвать лодку или летательный аппарат для спешной эвакуации, но, разумеется, связавшись с компьютером, можно было получить и кое-какие справки. Включался передатчик так же, как пугалка, звуковым паролем, то есть с помощью определенного аккорда. Коснувшись струн в нужном порядке, Тревельян положил инструмент на колени, склонился над ним и услышал ровный негромкий голос: – Приветствую вас, наблюдатель Ивар Тревельян. Имеется информация. – Валяй, дружище. Я слушаю. – Через тридцать шесть стандартных суток в системе Осиера может появиться «Пилигрим». Конечно, если вы пожелаете. Есть другие варианты: примерно через пятьдесят суток вас готов забрать «Колумб» и через девяносто – «Звенящая рапсодия». Какому из трех кораблей нужно послать сигнал? – «Пилигриму», – распорядился Тревельян. – Дольше месяца я здесь не задержусь. – Чем еще могу служить? Нужен транспорт? – Нет. Необходимы кое-какие сведения.– Готов предоставить. – Скажи, старина, сколько орбитальных спутников ты использовал для картирования планеты? В каком они состоянии в данный момент? – Картирование производилось с помощью трех орбитальных систем, – доложил голокомп. – Одна на широтной орбите над экватором и две на меридиональных. Все системы в рабочем режиме. Осуществляют слежение за околопланетарным пространством и межзвездную связь. – Ты делал съемку только в видеодиапазоне? – Как правило, наблюдатель Тревельян. Обычная процедура для планеты, не обладающей высокоразвитой технологией. Ее поверхность фиксировалась в длинах волн, доступных человеческому зрению, исключая полярные зоны с постоянной облачностью. Там применялись сканеры других типов – инфракрасные, ультрафиолетовые и… – Достаточно. Подробности мне не нужны. Океан к западу от побережья Удзени обследовался только визуальной техникой? – Один момент. Идет проверка. – Секундное молчание, потом: – Да, наблюдатель Тревельян. – Полагаю, при этом был пропущен географический объект. Скорее всего, небольшой остров. – Это невозможно. Разрешение аппаратуры на спутниках позволяет… – Не пререкаться! – рявкнул Тревельян. – Когда указанная мной область будет доступна прямому наблюдению с орбиты? – Через шесть часов пятьдесят шесть минут семнадцать секунд, – бесстрастно отрапортовал компьютер. – Со второго меридионального спутника. – Приказываю повторить сканирование во всех диапазонах следящих устройств. Первая задача: обнаружить остров, определить его форму, размеры и засечь положение относительно каких-либо заметных береговых ориентиров. Вторая задача: детально изучить поверхность острова и подступы к нему. Рельеф, растительность, водные источники, искусственные объекты, рифы у берегов и так далее. Я свяжусь с тобой… скажем, через семь часов десять минут. Ясно? – Да, наблюдатель Тревельян. – Выполняй! Выключив передатчик, он огляделся, потом бросил взгляд на небо. Стволы деревьев маячили серыми тенями в неярком зареве костра, вверху, на пятачке среди древесных крон, горели звезды, но ни Ближней, ни Дальней Тревельян не видел – большая часть небесной сферы была закрыта лесом. В дальнем конце поляны, на дороге, стояла его повозка, и там пофыркивал и хрупалтравой Даут. Кроме этих звуков да шелеста листвы, он не услышал ничего – Грей, летавший где-то поблизости, охранял их лагерь от нежеланных визитеров. Тревельян потянулся, сладко зевнул и сообщил командору: «Теперь можно и поспать. Скоро, дед, мы все узнаем». «Хочешь прогуляться в океан?» «Обязательно. Отчего не прогуляться? Найдем кораблик, доплывем до острова, вступим в контакт… Я ведь тебе говорил, какие почести ждут первооткрывателя новой расы. А я человек тщеславный!» «В такой вояж я бы прихватил что-нибудь помощнее твоего хлыста. Сообщи на Базу, пусть пришлют тебе десяток боевых роботов». «Таких роботов здесь нет». «Ну, тогда хотя бы метатель плазмы! Желательно широкофокусный, с мощностью в импульсе до мегатонны». «Тут нет оружия такой мо…» – начал Тревельян и смолк с раскрытым ртом. Что-то темное закрыло звезды, и он решил было, что возвращается Грей, но тут же догадался, что это не его зверек – объект летел медленно, плавно и довольно высоко. Темнота не позволяла разглядеть его форму, но, судя по звездам, исчезавшим с одной стороны таинственного летуна и затем появлявшимся с другой, он был велик – достаточно велик, чтобы не спутать его с живой тварью, парящей над лесом на тридцатиметровых крыльях. Впрочем, крыльев у него как будто не было, но поручиться в этом Тревельян не мог – света Ближней звезды не хватало. – Что за дьявольщина… – пробормотал он. На его плечо беззвучно опустился Грей. – Как ты думаешь, чьи это шутки, малыш? Нашего приятеля с острова? Мы решили его засечь, а он сам появился, так? Грей потерся мягким бочком о Тревельяново ухо, излучая волны дружелюбия и преданности, а командор пробурчал: «Здоровая дура… А чья? Вот был бы у тебя метатель, тут же и разобрались бы, прямо не сходя с этого места!» – Разберемся без метателя, – сказал Тревельян, дождался, когда странный объект исчезнет за деревьями, лег на спину и закрыл глаза. И снилась ему в эту ночь прекрасная Арьена, танцующая среди синих шелков, на синем, как море, ковре.
* * *
Наутро он первым делом связался с Базой. Голос компьютера казался бесстрастным, без всяких признаков вины, зато представленный им доклад был полон. – Объект: остров. Форма: неправильный эллипс, ориентированный с юго-запада на северо-восток. Размеры: один километр двести сорок метров по большой оси, восемьсот тридцать пять метров по малой. Береговой ориентир: маяк в гавани Петассы, курс сорок три градуса от северного меридиана, дистанция восемьдесят девять и три десятых километра. Остров плоский, без заметных возвышенностей, максимальная высота над уровнем моря двадцать два метра. Покрыт растительностью, предположительно пальмами, по берегам – песчаные пляжи. Рифов нет. С восточной стороны – отмели, с западной – бухта, доступная для судов с малой осадкой. Рядом с бухтой – искусственное сооружение. Дом, предположительно деревянный. Небольшой, спрятанный под деревьями, заметен только участок кровли из пальмовых листьев. – Хижина? – переспросил Тревельян. – Скорее бунгало. – Что еще? После недолгой паузы голокомп сообщил: – Объект в оптике не фиксируется, наблюдатель Тревельян. Установлен путем сканирования в тепловом и ультрафиолетовом диапазонах. О причинах этой невидимости Тревельян догадывался, однако мнением компьютера не пренебрег: – Твои выводы? – Силовой щит или поля, отклоняющие световые потоки, не обнаружены. Самое вероятное объяснение феномена – голографическая завеса. Оптика показывает на месте острова водную поверхность. – Принято. – Подумав, он спросил: – Есть какие-то транспортные средства? Расчищенные площадки для летательных аппаратов? Причал для судов? Коммуникации любого типа? Защитные системы? – Не обнаружено, наблюдатель Тревельян. – Тогда конец связи. Минут десять он сидел, глядя на собственные колени и пытаясь представить этот остров, так похожий формой и величиной на Ньорк, райскую обитель Хьюго Тасмана. Клочок суши в океане, пальмы, пески, маленькая бухта, и на ее берегу – домик, крытый листьями… Бунгало. Лачуга. И из нее управляют здешним миром. Ну, не совсем управляют – скорее, оказывают влияние. И очень успешно! Намного успешнее, чем Фонд развития инопланетных культур. Покачав головой, Тревельян поднялся, бросил взгляд на небо, затем посмотрел на Даута и свой возок. Небо было чистым и невинным, будто не летали в нем по ночам всякие странные объекты, а Даут выглядел бодрым и сытым. Решив, что не стоит мучиться в повозке, Тревельян заседлал коня, бросил колесницу и отправился дальше верхом. Никто не увидит его в этих диких дебрях, кроме, возможно, Кадмиамуна, а он, надо думать, переживет такое потрясение. Странный тип, размышлял Тревельян, покачиваясь в седле; богатый нобиль и ученый, по словам Сейлада, но живет не в городе, а в дремучем лесу, да еще таком неприветливом и мрачном. Быть может, имелись для этого какие-то причины, не менее веские, чем у горцев-разбойников из Онинда-Ро? Человек – существо общественное, и просто так в отшельники не идет… Рытвины и колеи на дороге были глубокими – очевидно, тут прошел не один обоз, и ходили они десятилетиями. Корявые деревья стали мельче, зато появились заросли высокого тростника, напоминающего бамбук, но не с коленчатыми, а с прямыми, ровными стволами. Над лесом мельтешили птицы, мелькали какие-то мелкие зверьки, но крупные животные не показывались. Правда, несколько раз Тревельян различал далекий рев клыкачей и верещание пацев, однако следов и кучек помета на дороге не попадалось – похоже, лесные твари тут были пугаными. Он ехал до середины времени Полдня, пока деревья и тростник не разошлись, открыв обширное пространство с утоптанной землей, тянувшееся по обе стороны дороги. Очевидно, здесь, на отвоеванной у леса вырубке, жил благородный Кадмиамун, но представшее взгляду Тревельяна не очень походило на усадьбу знатного вельможи. Слева виднелись навесы и сараи и слышались разнообразные промышленные шумы: удары молотков по металлу, визгливая мелодия пил, что вгрызаются в дерево, трески и скрипы, лязги и грохоты. Там дымили горны, работали мастера, и ветер доносил запахи свежей древесины, горевших угольев и еще чего-то мерзкого, тухлого, как несвежая рыба. Вид справа казался благообразнее: тут был поселок, рассчитанный, судя по количеству хижин, сотни на две народа, а дальше стоял просторный бревенчатый дом о двух этажах и чуть поодаль – огромный сарай, метров на десять выше дома. В поселке суетились у открытых очагов старые и молодые женщины, играли в пыли ребятишки, а те, что постарше, пасли на опушке коз и домашнюю птицу. Перед домом – вероятно, господским – рос цветущий куст, единственное украшение территории, и рядом с ним была коновязь. К ней Тревельян и направился. Он не успел сойти с коня, как на крыльцо выскочил хозяин, невысокий, смуглый и светловолосый инг, слегка кривоногий, коренастый, с длинными руками, как и положено человеку, чьи предки стояли на зыбкой палубе и тянули канаты. Одет он был по местной моде, в штаны чуть ниже колен и полотняную рубаху; только золотые браслеты на обнаженных руках подсказывали, что это богатый и знатный вельможа. – Невероятно! – произнес человек, глядя на Тревельяна во все глаза. – Невероятно, клянусь милостью всех Трех Богов! Доводилось мне слышать про умельца, смастерившего такую упряжь, а вижу ее я в первый раз! Да еще на лошади рапсода! А рапсод-то непростой, с шерром на плече… – Разделяю твое дыхание, благородный Кадмиамун, – сказал Тревельян и спешился. Справившись с изумлением, человек на крыльце склонил голову, и стало заметно, что волосы у него не просто светлые, а седые. Ему было лет пятьдесят – почтенный возраст для представителя западной расы. – Раз ты рапсод, приветствуй меня как положено, – произнес он, очертив круг над сердцем. – Твоя кровь – моя кровь! Пришел черед изумляться Тревельяну: – Мое имя Тен-Урхи, и я в самом деле рапсод, но ты, ты… Мне говорили, что ты ученый человек и знатный нобиль, брат самого Кадмидауса, и еще говорили, что ты не плаваешь по морю, а торгуешь с восточными странами. Однако… Кадмиамун прервал его нетерпеливым жестом. – Все это верно, но еще я магистр Братства – хотя теперь, должно быть, бывший. Магистр, ушедший в тень, и все же ты меня нашел… – Его взгляд внезапно сделался настороженным. – Тебя… тебя отправили ко мне с каким-то посланием? – Нет, я приехал сам с просьбой о помощи. – Тревельян, придерживая одной рукой Грея, потянул другой из мешка свитки с печатями. – Приехал и привез рекомендательные письма. Вот они… от правителя Тилима и от… Магистр снова отмахнулся. – Значит, ларца или шкатулки у тебя нет? Отлично! А письма мне не нужны. Это, – он ткнул пальцем в оседланного Даута, – лучшая рекомендация! Сам придумал? Сам обучил коня? «Похоже, мы нашли родственную душу, – заметил командор. – Счастливая случайность, а?» «Нет. Кто ищет, тот всегда найдет», – ответил Тревельян, а вслух сказал: – Упряжь придумана не мной, и я не обучал коня. Это, магистр, подарок друга, чье имя лучше не называть. – Согласен с тобой, Тен-Урхи. Меньше знаешь лишнего, дольше проживешь… особенно в нашем Братстве. – Кадмиамун подмигнул и стал похож на типичного инга-пирата. – Однако ты с дороги. Голоден? Хочешь умыться? – Голоден и хочу умыться, – подтвердил Тревельян. – Но прежде надо накормить коня. Посмотри, мой господин, как снимают эту упряжь. Расстегиваешь ремень, потом берешься обеими руками за выступы на сиденье и…* * *
До вечера они поговорили о многом. О мастере Цалпе из Рингвара, делавшем бумагу, о паровых машинах Суванувы и Куммуха, Рдияс-Дага и Таркодауса, что из Островного Королевства, о несчастном изобретателе керосина, о шлифовальщике стекол, собравшем подзорную трубу, о новых способах закалки стали и краске из коры розового дерева. Осведомленность Кадмиамуна впечатляла; об одних изобретениях и причастных к ним людях он слышал чуть ли не из первых рук, о других собрал информацию по крупинкам, но во всех случаях определенно знал, что случилось с мастерами, механиками и кузнецами, придумавшими то и это, а потом оштрафованными, изгнанными или кончившими жизнь на столбе. И, разумеется, как человек предусмотрительный и разумный, он учитывал эти сведения. Зачем иначе он прятался в этой глуши? Зачем распускал повсюду слух, что превратился в торговца? Но говорить на эти темы опальный магистр не желал. Возможно, вовсе не опальный, а тихо удалившийся из Братства, исчезнувший в диких лесах, ибо нашел какое-то дело, не совместимое с прежним своим занятием и магистерским титулом. Может быть, он задумывался о печальных судьбах изобретателей, но, оставаясь человеком Средневековья, не мог и помыслить об истинной причине их трагедий. Об этом он знал не больше, чем про миры у крохотных далеких звезд и их просвещенных обитателей. Джордано Бруно на Осиере еще не появился. Так что о Братстве и о Великом Наставнике Аххи-Секе они не говорили, равно как о ларцах и шкатулках, про которые Кадмиамун, должно быть, слышал, раз опасался такого подарка. Когда же небеса померкли и зажглась в них Ближняя звезда, магистр встал, поманил за собой Тревельяна и вышел из дома. – Ты не спросил меня о многом, Тен-Урхи, хотя вопросы трепетали на твоих губах. – Кадмиамун медленно направился к огромному сараю, но вдруг остановился и втянул носом воздух. – Чувствуешь запах, которым тянет от моих мастерских? – Да. Прости, мой господин, но это омерзительная вонь. Там гниет рыбья требуха? Магистр ухмыльнулся: – Это пахнет клей, тот самый клей, которым люди Архипелага скрепляют китовые пузыри, делая из них одежду. Я немного изменил состав… тут, в Шо-Инге, мы тоже кое-что умеем… Если пропитать этой жидкостью пузыри и сделать из них мешок – большой мешок, понимаешь? – он не пропустит воду, пар и даже то невидимое, чем мы дышим. – Кадмиамун поднял руку и дунул на ладонь. – Я покажу тебе, что можно с этим сделать. Но сначала скажи мне, Тен-Урхи, не хочешь ли остаться тут со мной? Мне нужны люди, надежные, умелые, и я собираю их отовсюду, с Востока, с Запада и из Семи Провинций. Твой разум пытлив… Ты рапсод и воин, а это значит, что ты храбр… Мне нужны храбрецы! – Благодарю за доверие, но я не могу остаться, – сказал, склонив голову, Тревельян. – Мой путь лежит в Шо-Инг и дальше, через Мерцающее море, к берегам Удзени. Я хотел просить тебя… может, ты замолвишь слово перед своим сиятельным братом, и он даст мне судно? Небольшой корабль с тремя-четырьмя мореходами. Глаза магистра сверкнули: – Что ты хочешь делать у берегов Удзени? – Я найду там остров, некий клочок суши, который скрыт от человеческих глаз. Но я знаю, как и где искать. Я найду его и задам вопросы, которые не задал тебе. – Остров, скрытый от человеческих глаз… – медленно повторил Кадмиамун. – Ты, Тен-Урхи, еще храбрее, чем я думал! Или безрассуднее… Конечно, я помогу тебе, рапсод, но сначала ты должен узнать, от чего отказываешься. Идем! Они зашагали к сараю, к суетившимся там мастеровым, к пылающим факелам и лампам, к большому горну, где ревело пламя, к трубам, что тянулись по земле к чему-то огромному, бесформенному, вяло шевелящемуся над большой продолговатой корзиной, сплетенной из тростника. «Аэростат, – подумал Тревельян, – боже мой, аэростат! Без вмешательства ФРИК, без идей, подброшенных извне, без всяких подсказок! Ну и Кадмиамун, магистр из семьи пиратов! Своим умом дошел!» – Ты, должно быть, удивишься, – сказал Кадмиамун, остановившись поодаль и глядя на темную взбухающую массу, – но вспомни, Тен-Урхи, о сколь поразительных вещах мы говорили сегодня. О трубе, что делает близким далекое, о яростной горючей жидкости, о стрелке, что всегда показывает в одну и ту же сторону… А этот большой мешок, надутый теплым воздухом, может подняться в небо. И не только подняться, но лететь по ветру и нести груз, десять человек в корзине и несколько камней. – Он резко повернул голову: – Ты мне веришь? Или думаешь, что старый магистр выжил из ума? – Верю, мой господин, и я в изумлении. Как не верить? Прошлой ночью я видел что-то огромное, заслонившее звезды… Это был твой летающий мешок? – Да. Я с помощниками поднимаюсь в небо по ночам. – Чтобы вас не видел солнечный глаз Таван-Геза? Кадмиамун рассмеялся: – Поверь, Тен-Урхи, бог видит солнечным и звездным глазом одинаково прекрасно! Если бы он разгневался на меня, то сжег бы молнией семнадцать лет назад, когда я впервые надул четыре маленьких мешка и оторвался от земли. Но он этого не сделал, и, значит, человеку дозволяется летать! Пока ночью, чтобы никто не увидел, не напугался, не донес… Люди, знаешь ли, не столь умны и милосердны, как боги. «Семнадцать лет! – послышался голос командора. – Он летает уже семнадцать лет! Лихой парень!» «К сожалению, не парень, а почти старик. Люди этой расы живут недолго», – с грустью отозвался Тревельян. Словно подслушав его мысли, Кадмиамун сказал: – У меня есть хорошие мастера, целая сотня, но ни один из них не сядет рядом со мной в корзине, ибо их страх сильнее любопытства. У меня есть храбрые помощники, немного, но есть, и они летают со мной. Мне осталось мало лет, и лучшему из них я завещаю свои богатства и свое дело. Хочешь стать им, Тен-Урхи? – Хотел бы, мой господин, но у каждого из нас, у тебя и у меня, своя дорога. Если я вернусь с того острова… – Тревельян почтительно склонил голову и сменил тему: – Ты говоришь, что твой мешок летает по ветру? Однако ночью я видел его над лесом, а теперь он здесь. Как такое возможно? – Ветры переменчивы, но в небе, как в море, есть свои течения, их можно найти, когда летаешь выше или ниже. Горло мешка открыто, и под ним стоит жаровня. Положи в нее уголь, зажги его, выбрось из корзины камни, и мешок поднимется, а если станет холодно, он станет опускаться. Я уже знаю, какие ветры дуют над морем, над Шо-Ингом и Тилимом на разной высоте и как поймать нужный ветер. – Ты летаешь даже над морем и Тилимом? – На этот раз Тревельян был на самом деле поражен. – С Пан-Тиком и Сорадом, моими помощниками, я добирался до границ Шии, – с гордостью промолвил Кадмиамун. – Всего половина ночи туда и половина обратно. А над морем ветры дуют еще быстрей. Иногда мне кажется, что еще немного, и я долечу до самой Оправы… Тревельян глубоко вздохнул. В его ушах снова звучал голос Тасмана. Ищи недовольных! Истинно недовольных, тех, кто ощущает беспокойство без видимой причины и жаждет чего-то такого, чему нет места в повседневном бытии… Чего-то необычного, возвышенного… – Мой господин, ты никогда не долетишь до Оправы, потому что ее просто нет. Ее не существует! – сказал он. – Там, за Мерцающим морем, лежит океан, потом земля, которой никто еще не видел, и другой океан, и если двигаться все дальше и дальше на запад, ты пролетишь над Архипелагом и окажешься у берегов Хай-Та или Гзора. Кадмиамун недоуменно нахмурился: – То есть, двигаясь на запад, приду на восток… Но разве это возможно, Тен-Урхи? Разве мир замкнут подобно кругу? – Да, в каком-то смысле, только он не круг, а шар. Огромный шар, который висит в пустоте и обращается вокруг центрального светила. Мы живем на поверхности этой сферы, но она так велика, что любой обозримый глазами участок кажется нам плоским. Имя Дартаха Высоколобого из Этланда тебе о чем-нибудь говорит? Это его теория. Ты слышал о ней? – Слышал только то, что этот Дартах был безумцем и умер в изгнании. – Свет факелов упал на лицо магистра, и Тревельян увидел, как он взволнован. – Но то, что ты сказал… Случалось, что я возвращался из полета ранним утром и глядел на мир при свете дня… С большой, очень большой высоты он в самом деле кажется немного выпуклым, но, когда спускаешься, опять становится плоским. – Кадмиамун резко вскинул голову. – Я хочу ознакомиться с учением этого Дартаха! Скажи, после него что-то осталось? Манускрипт, какие-то записки? – Да. Осталась книга, которая хранится во дворце Раббана, правителя Северного Этланда, живущего близ города Помо. Я сам ее видел. Раббану она не нужна, и, если ты пошлешь к нему своих людей с богатыми дарами, он, думаю, ее отдаст. Аэростат, надутый теплым воздухом, уже не лежал на корзине, а парил над ней, удерживаемый толстыми канатами. Он был похож на дирижабль – гигантский огурец длиной в полсотни метров, охваченный сетью с подвешенной к ней гондолой. Несколько человек грузили в нее камни и мешки с углем. – Кажется, ты говорил о земле, что лежит за океаном? – спросил магистр. – Велик ли этот остров? – Не остров, целый материк, хотя не такой большой, как наш. Он вытянут с юга на север, так что мимо не пролетишь. До него примерно столько же, сколько от Шо-Инга до Пейтахи и Дневной Провинции. – Долгий путь. Однако… – Кадмиамун уставился в землю, что-то высчитывая. – Если сделать летательный мешок побольше и взять с собой запас угля, можно было бы добраться и взглянуть на эти земли… Только кто полетит со мной в такую даль? – Найдутся желающие, – с улыбкой сказал Тревельян. – Ты ведь ищешь храбрецов? Ну так есть в Онинда-Ро целое племя, слывущее в тех краях разбойничьим, народ вождя Лакассы, не слишком многочисленный, но человек двести в нем наберется. Очень им неуютно в диких и пустых горах. Если ты их разыщешь и если перевезешь сюда… лучше не всех сразу, а небольшими группами, по двадцать-тридцать мужчин и женщин с каждым караваном, что идет к тебе с востока… Они будут хорошими спутниками. Они потомки воинов и горцы, так что не боятся высоты. Кадмиамун окинул его острым взглядом: – Откуда ты все это знаешь, Тен-Урхи? О землях за океаном и расстоянии до них, о том, что мир подобен шару, об этом Дартахе и горцах из Онинда-Ро и даже о книге, что хранится у правителя Северного Этланда? – Я нашел эту книгу случайно и прочитал ее. А остальное… – Тревельян пожал плечами. – Я ведь странник-рапсод! Когда бродишь по свету, узнаешь о разных вещах, особенно если твои уши и глаза открыты. – Твоим глазам и ушам можно позавидовать, – сказал Кадмиамун, поворачиваясь к парящему над корзиной аэростату. – Сегодня, Тен-Урхи, я отправляюсь к Мерцающему морю. Мы пролетим над побережьем и городом Кадмидауса, моего брата, и можем опуститься где-нибудь неподалеку, чтобы высадить тебя. Выброси прежние письма, те, что из Тилима, я дам тебе новое, и брат найдет для тебя корабль. Ну как, полетишь со мной? – С радостью! Но я хотел бы сделать тебе подарок, почтенный магистр. Мой конь… он мне больше не нужен. Ты будешь ему хорошим хозяином. – Пока ты не вернешься, Тен-Урхи, пока не вернешься. – Это вряд ли, мой господин.Глава 18 ВЕЛИКИЙ НАСТАВНИК
Ночью, при свете Ближней звезды, вода сияла и переливалась молочным опаловым блеском, меркнущим с восходом солнца. Этот эффект, от которого Мерцающее море получило свое название, вызывался люминесценцией крохотных полурастений– полуживотных viagrus spantanum, отдаленного аналога земного планктона. Великое множество рыб, тюленей, морских черепах и ракообразных пожирали этот природный питательный бульон, плодились и размножались близ водной поверхности, попадая затем в рыбачьи сети и под удары острог. Море кормило людей Торе и Пини-Пта, Удзени и Запроливья, огромного острова Фадр и даже гордых мореходов ингов, предпочитавших рыбе мясо. Они добывали черепах, тюленей и жутких тварей, которых можно было при желании считать омарами или лангустами, но, по мнению Тревельяна, имевшими больше сходства со скорпионом, только метровой длины. Клешней у них было целых шесть, и Гин готовил их отменно – отваривал в морской воде, извлекал мясо и тушил его с пряностями. С судном и экипажем Тревельяну повезло – князь Кадмидаус, владетель Аламии, видимо, брата уважал и к просьбе его отнесся с полным пониманием. Тем более что в Тревельяновой сумке нашлись золотые монеты, дар Хьюго Тасмана, что подкрепило письмо магистра. Кораблик был небольшим, метров двадцати в длину, но высокобортным, с двумя мачтами, просторным трюмом и высокой кормовой надстройкой. Звалось это суденышко «Ночной ветер» и принадлежало семье почтенных контрабандистов, возивших только дорогой товар: тилимские ткани, пейтахские клинки и торвальские вина. Но, должно быть, в предыдущем рейсе «Ветер» был нагружен пряностями, так как его трюм, каюты и даже палуба благоухали столь соблазнительно и остро, что Тревельян временами сглатывал слюну.Шкиперу Шаду, главе семейного промысла, стукнуло сорок, он плавал с двенадцати лет и знал все рифы, мели и течения от берегов Шо-Инга до Пини-Пта на юге и Удзени на севере. Был он крепок телом, мрачноват, немногословен и довольно высок для представителя западной расы – Тревельяну до уха. Гин и Морни, два его племянника, числились в матросах, но, кроме того, Гин исполнял обязанности кока и суперкарго, а Морни – штурмана и первого помощника. Вообще-то эти трое, как положено на западе, носили длинные сложные имена, кончавшиеся то ли на «ус», то ли на «ум», но в море пользоваться ими считалось непозволительной роскошью. В море соображать и действовать нужно быстро, команды должны быть краткими, как и имена, даже у пассажира, зафрахтовавшего судно. По этой причине Тен-Урхи стал просто Теном. Если не считать этой клички и виртуозной ругани при парусных работах, команда относилась к Тревельяну с уважением. Во-первых, он был рапсодом, редкой птицей для Шо-Инга, где Братство даже обителей не строило; во-вторых, его прислал сам благородный Кадмидаус, чье слово было веским, как абордажный топор; в-третьих, он заплатил сотню золотых, что оказалось еще важнее двух первых обстоятельств. Золото всюду золото, даже в Манкане, где его в глаза не видели, говаривал Шад, полный презрения к бедным жителям востока. Тревельян мог бы ему возразить, рассказав о хитром правителе Пагуше, о руднике в горах Ашанти и драгоценном камне, который обогатит Манкану, но вместо этого он садился у мачты на палубу и, перебирая струны, пел морские песни ингов, баллады Островного Королевства и поносные куплеты о жадных торговцах Запроливья. Слушали его с большой охотой, но только днем; ночью, в самое романтическое время, шкипер петь запрещал, ибо пение и звуки лютни привлекали морских демонов. А с ними Шад не желал встречаться. За четырнадцать дней «Ночной ветер», то резво мчавшийся под развернутыми парусами, то дремавший на мелкой штилевой волне, прошел Мерцающее море, длинное и извилистое, и достиг пролива, отделявшего остров Фадр с Островным Королевством от северных морских берегов, где стояли торговые города Запроливья. Для ингов купеческая запроливная держава была конкурентом номер один, с которым в прошлом сводили не раз кровавые счеты. В нынешние мирные времена резать и жечь друг друга запрещалось, однако Шад полагал, что имперский закон крепок на суше, а в море может случиться всякое. Тем более что «Ветер» был судном небольшим, и боевая галера с сотней моряков могла пустить его на дно в считаные мгновения. Поэтому проливом не шли, а крались, прижимаясь к южному островному берегу, где отношение к ингам было вполне лояльное. Жители Фадра – те, что обитали поближе к соленой воде, – тоже неплохо кормились от контрабанды, и каждое семейство ингов имело здесь надежных друзей и деловых компаньонов. Пролив миновали без проблем. Его западная часть уже относилась к Удзени, и тут, в нескольких гостеприимных бухтах, были порты, через которые в Шо-Инг вывозился корабельный лес, от пальмовых дубов и сосен для палуб, мачт и корпусов до дорогого розового дерева, которым обшивали капитанские каюты. Тут судно задержалось на день – взяли на борт свежую воду, мясо, фрукты и вино. Тревельян, предвидя расставание с Осиером, посадил Грея на плечо, сошел на берег, прогулялся по городу, заглянул в святилище Трех Богов, постоял над картой материка, выложенной, как обычно, из мозаики, отсыпал в ладонь жрецу горсть серебряных монет. Всякие мысли бродили в его голове – о том, что Чарейт-Дор в далеком Этланде так и не дождется от него ни сына, ни дочери, что своенравная Лиана-Шихи, оставшись без твердой мужской руки, будет по-прежнему обузой для дядюшки-принца, что не вернется он на райский остров к Китти-Катахне и не увидит танцев прекрасной Арьены на синем, как море, ковре. Еще он думал о горцах-разбойниках – как полетят они за океан вместе с магистром Кадмиамуном, а если не с ним, то с кем-то из его помощников, но полетят обязательно! Полетят и вступят во владение вольной землей, и станут там множиться и множиться, распашут целину, построят города, научатся делать бумагу, подзорные трубы, ткацкие станы и паровые котлы; может, научатся сами, а может, сотрудники Фонда, вернувшись на Базу, одарят поселенцев парой-другой ценных идей. И если это случится, то план Гайтлера все же сработает, и, значит, не зря Дартах, осмеянный и изгнанный, восстановил свою книгу, не зря остался в этом мире Тасман, попав под жернова судьбы, и сам он, Ивар Тревельян, тоже прилетел сюда не зря. О многом передумал он, прощаясь с Осиером, вспомнил даже о пророчестве, сулившем ему то ли путь домой, то ли горечь поражения и гибель в каменном мешке. Но капризы фортуны его уже не тревожили. Что-то – может быть, обостренная интуиция наблюдателя? – подсказывало ему, что он поступает верно, что события идут так, как должны идти, и что Галактика, вместе с Землей, Осиером и им самим, вращается в нужную сторону. Утром они покинули гавань, а вместе с ней и пролив. За проливом находился мыс, самая западная точка континента, и здесь береговая линия поворачивала на север под прямым углом. Этот безымянный мыс был границей; акватория Мерцающего моря осталась позади, и теперь бушприт «Ночного ветра» резал океанскую волну. Прошел день, и вид берега изменился; удобные бухты с раскинувшимися рядом городками исчезли, вместо лесистой равнины поднялась гряда холмов, превратившихся вскоре в серые, неприветливые скалы. Соленые воды ревели и бились у их подножий, упрямо катили вал за валом, но камень не поддавался, стоял неколебимой стеной, оберегая лежавшую за ним землю. Так выглядело все побережье Удзени, обращенное к Западному океану и протянувшееся в места суровые и необитаемые, вплоть до северных болот и льдов. Правда, в трехстах километрах от пограничного мыса был залив, пригодный для стоянки кораблей, и портовый город, довольно большой и оживленный, в котором кончалось ответвление имперской дороги. Город назывался Петассой и служил Тревельяну ориентиром в поисках загадочного острова. К Петассе они подошли на третью ночь, увидели очертания далекого берега, свет маяка в гавани и повернули на северо-запад. Перед рассветом, когда за кормой осталось изрядное расстояние, Тревельян приказал спустить паруса, бросить плавучий якорь и ложиться на боковую. Себя в эту ночь он назначил вахтенным. Его уставшие спутники быстро заснули, а он, дождавшись, когда над морем появится краешек солнца, сыграл на лютне нужную мелодию и связался с компьютером Базы. – Наблюдатель Тревельян? В вашем распоряжении. Велев компьютеру говорить потише, Тревельян сказал: – Я нахожусь на судне у западного побережья Удзени. Небольшой двухмачтовый корабль со спущенными парусами, километрах в пятидесяти от берега в районе Петассы… Ты можешь его сканировать через орбитальный спутник? – Выполнено, наблюдатель Тревельян. Ваши точные координаты… – Они мне не нужны. Сориентируй меня относительно острова – того объекта, который скрыт голографической завесой. – Курс пятьдесят два градуса от северного меридиана, дистанция тридцать семь километров. – У меня нет компаса. Сканируй непрерывно положение судна и давай корректировку. Задача: вывести корабль на расстояние километра от острова. – Принято, наблюдатель Тревельян, – едва слышно прошелестела лютня. Вместе с солнцем поднялся Шад, растолкал племянников, велел Гину заняться приготовлением трапезы, а сам, дождавшись кивка Тревельяна, выбрал якорь и начал с Морни ставить паруса. «Ночной ветер» тронулся в путь, подгоняемый легким бризом, дувшим со стороны суши. Шкипер оглядел горизонт, хмыкнул и пробурчал: – Не довелось мне плавать в этих водах далеко от берега, но в Петассе я бывал. Тот еще гадючник! Один приличный кабак на весь порт… И в том кабаке не говорили, что есть тут какой-то остров. Не говорили, клянусь парусом и мачтой! – Это волшебная земля, – пояснил Тревельян. – Зачарованная. Шкипер издал пару неопределенных звуков, а Морни, стоявший у руля и более доверчивый по причине юных лет, живо заинтересовался: – А что в ней волшебного, мой господин? Обитают ли там колдуны, или духи бездны, или какие-то чудища? Или, – его глаза округлились, – там закопан клад? Золотые монеты или цветные каменья? – Остров невидим, вот и все его волшебство. Ни клада там нет, ни колдунов, один песок да несколько деревьев. Шад громко высморкался и сплюнул за борт. – Я не спрашиваю, Тен, зачем тебе эта вонючая дыра, где только песок с деревьями. Твое это дело, не мое, а мне ты золотом заплатил, и я в твои дела не лезу. Я должен тебя довезти до острова, и все! А как довезти, если остров не виден? Куда править, куда плыть? – Это подскажет моя лютня, – промолвил Тревельян. – Остров волшебный, но лютня у меня тоже волшебная. Ты ведь понимаешь, что против волшебства годится только другое волшебство! – Он склонился над своим инструментом и прошептал: – Корректировка курса. – Семь градусов к западу, – чуть слышно раздалось в ответ. – Туда! – Тревельян вытянул руку, показывая направление. Шад уставился на него как на полного идиота, фыркнул и сказал: – Морни, рыбья требуха, правь, куда показывает господин. Гин, жратва готова? Они поели, Гин сменил Морни у штурвала, а Тревельян покормил своего зверька сушеными фруктами – мясо крабов и черепах Грей есть отказывался. Тем временем «Ночной ветер» резво бежал вперед. Океан, раскинувшись на все четыре стороны света, поблескивал серебром под лучами утреннего солнца, в небе плыли облака и таяла, уже едва заметная над горизонтом, Ближняя звезда. Ветер был свежим и ровным, но не сильным, и Тревельян, побеседовав с лютней, выяснил, что они идут со скоростью десять-двенадцать километров в час и несколько отклонились к западу. Он снова уточнил направление. Шкипер сунул ему мех с вином, потом приложился сам и буркнул: – Доселе не встречался я с рапсодами. Скажи, Тен, у всех пацев из вашего Братства моча вместо мозгов? Или ты один такой недоумок? – Ты не веришь в волшебство? – полюбопытствовал Тревельян. – Не веришь, что остров может быть невидимым? – Верю. Клянусь канатом и веслом, если выхлебать этот бурдюк, не разглядишь даже дыру, куда положено мочиться! Ты пей, рапсод, пей… Если остров невидимый, вино тебе так и так не повредит. Гин хихикнул, Морни захохотал, а Тревельян прикинул, что плыть оставалось пару часов. При этой мысли по его спине забегали холодные мурашки и вино показалось кисловатым. Однако сейчас он был не сам по себе, не песчинка, затерянная в огромном мире, где нет ни электричества, ни связи, ни быстрых скиммеров, ни даже компаса; сейчас он был включен в земную техносферу и выполнял в ней самую важную роль: руководил и командовал. По его желанию и воле сканеры заатмосферного спутника следили за крохотным суденышком, передавая сигналы на Базу со скважностью в пять миллисекунд; компьютер фиксировал их, привязывал точку в океане к координатной сетке и, снова через спутник, отзывался кратким рапортом. Вся эта скрытая мощь, все эти силы, охватившие Осиер не мифическим, а реальным кольцом, были покорны ему, Тревельяну, служили верно, быстро и надежно, как полагается машинам, чья первая забота – человек. Его безопасность, его желания, его приказы… Думая об этом, он обретал покой и уверенность в себе. Наконец из лютни донеслось: – Объект на заданной дистанции. До южной оконечности острова девятьсот семьдесят метров, до северной – тысяча пятнадцать. Жду дальнейших указаний. – Будь на связи, – шепнул Тревельян и, повернувшись к Шаду, молвил, перейдя на западный диалект: – Да будут с тобой милость богов и моя благодарность! Ты лучший из мореходов Шо-Инга, и твое искусство не оплатишь деньгами. Однако… – Он вытащил из сумы кошелек с последними монетами и вложил его в руку шкипера. – Наше путешествие закончилось, почтенный Шад. Ложись в дрейф и прикажи своим парням спустить лодку. Шкипер взвесил кошелек в ладони, кивнул повелительно Морни и Гину и сказал: – Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, рапсод. Не видать тут ни острова, ни даже паршивой скалы, а до берега ходу половина дня на моем корыте. Далековато! На лодке до вечера не доплыть… Придет ночь, а с ней – морские демоны… Боюсь, света дня ты уже не увидишь! Тревельян бросил в лодку, плясавшую рядом с бортом корабля, свой мешок, посадил на него Грея, затем хлопнул шкипера по мускулистому плечу: – Не беспокойся, Шад! Ты ведь помнишь, что остров невидим? Что же тебя удивляет? – Невидимое можно пощупать, Тен. Можно ковырнуть ногой песок, можно расквасить нос о дерево… А ты покидаешь палубу посреди океана! Вот, смотри! – Перегнувшись через фальшборт, шкипер ткнул веслом в волну: – Разве это песок или камень? Или помет пацев? Это вода, жидкая соленая вода! – Около острова отмели, тоже невидимые, – пояснил Тревельян, спускаясь в лодку. – Поэтому я поплыву один. Не хочу, чтобы ты посадил свой корабль на мель. Дай мне весла! – Держи! Может, возьмешь еду? Или хотя бы вино? Тревельян, продев весла в кожаные петли, заменявшие уключины, покачал головой: – Благодарю тебя, Шад, но мне ничего не нужно. Разделяю твое дыхание в последний раз… и твое, Морни, и твое, Гин… Когда увидите, что я исчез, будто растаял в тумане, поворачивайте руль и плывите на восток, к берегам Удзени. Не приближайтесь к острову! Тут правда есть опасные отмели. – Клянусь якорем и палубой! – сказал шкипер. – Или ты небывалый храбрец, или полный недоумок! Даже жратвы не взял! Ну, захочешь есть, слопаешь свою зверюшку! Улыбнувшись, Тревельян махнул ему рукой и навалился на весла. Лодка была крохотная, рассчитанная на двух человек, и прыгала на невысокой волне. Грей забеспокоился; брызги попали на его шкурку, он попробовал слизать их розовым язычком и недовольно пискнул – не понравилась соленая вода. – Терпи, – сказал Тревельян, твердо решивший забрать зверька с собой. – Скоро будем на «Пилигриме». Яблоки, груши, апельсины, бифштексы с кровью – все твое… А дома будешь летать в моем саду, пугать ежей и белок. Конечно, если останемся живы. «Взял бы с собой метатель плазмы, меньше было бы сомнений», – заметил командор, но Тревельян не отозвался – повернув голову, он разглядывал возникший из пустоты берег. Только что он пересек границу миража, и перед ним, в золоте и зелени, открылась земная твердь, а за кормою лодки он видел распускавший паруса корабль. На палубе суетились маленькие фигурки, «Ночной ветер» поворачивался и, словно прощаясь с Тревельяном, покачивал реями. Последний привет Осиера, подумал он и, отвернувшись, сосредоточил внимание на островке. Остров был точно таким, как в описании компьютера: овал длиною в километр, пальмы с перистыми листьями в окружении золотистых песков, маленькая бухта – словно щербина на границе земли и воды. Волны с тихим шуршанием вылизывают пляж, шелестят на ветру деревья, сияет полуденное солнце, и от всей этой картины веет таким покоем, такой умиротворенностью, что даже сердце начинает биться тише, словно желая попасть в такт мерному рокоту волн. «Похоже, твой иерарх живет как Робинзон, – заметил Советник Тревельяна, наблюдавший за берегом его глазами. – Ракет не видно, и лазерной артиллерии тоже. Высадимся?» «Для этого мы сюда и приплыли, дед». Тревельян шевельнул веслами, лодка скользнула вперед и ткнулась носом во влажный песок. Он посадил Грея на левое плечо, справа повесил лютню, коснулся струн и позвал: – Компьютер! – Слушаю, наблюдатель Тревельян. – Приготовь скиммер. Вышлешь на остров по моей команде. Место приземления – у бухты, ориентир – лодка. – Будет исполнено. Тревельян ступил на берег, сделал первые шаги. Крохотная волна ринулась следом, затем отползла с шипением, наполнив водой отпечаток его башмака. Алый краб величиною с ноготок пробежал по песку, плюхнулся в эту импровизированную ванну. Воздух пах морем и свежей зеленью. Над кронами пальм кружили птицы, но, кроме деревьев, ничего не поднималось к небесам, ни струйки дыма, ни мачты с антенной, ни иного сооружения. – Благодать! – произнес Тревельян. – Еще лучше, чем у Тасмана. Покой, как на нашем острове, где База. «Может, и тут все закопано в землю, – молвил командор. – Сверху – благодать, а снизу – плазменные батареи, бомбы и дивизия боевых роботов. Ты, дружок, не расслабляйся и про дроми не забывай! Про хапторов и кни’лина тоже!» «Не думаю, что они здесь побывали, дед. Не их почерк». Тревельян пересек полоску пляжа и, оглядевшись, зашагал по тропинке, проложенной сквозь пальмовую рощицу. Под ногами была влажная почва, но не утоптанная, а довольно рыхлая, будто ходил здесь один человек и не слишком часто. Земля даже сохранила его следы – правда, неясные, так что понять можно было одно: ходили тут босиком, и пятка у ходившего была круглая, а пальцы на ногах – довольно длинными. Может, и не пальцы вовсе, а щупальцы, и в этом случае пришелец, оккупировавший остров, не был гуманоидом. Чтобы успокоиться, он считал шаги. Их оказалось семьдесят шесть, а семьдесят седьмой уже пришелся на поляну, в дальнем конце которой, под деревьями, виднелась хижина не хижина, бунгало не бунгало, а некая постройка с решетчатыми стенами, заплетенными густой цветущей лозой, крытая сверху пальмовым листом. Стены казались вроде бы пластиковыми и стояли не прямо, а с наклоном внутрь; ни двери, ни окон не было, а вместо них зиял в передней стене широкий проем, занавешенный циновкой. Кровля выдавалась далеко за периметр домика, образуя навес, поддерживаемый то ли столбиками, то ли тонкими деревцами с гладкой коричневой корой. Тревельян приблизился, стараясь не дышать и ступать потише. Под навесом кто-то был – там, у низенького столика, похожего на изделия Хай-Та, стояли пара табуретов и плетеное кресло-качалка, колыхавшееся взад-вперед, взад-вперед и чуть слышно поскрипывающее. Над спинкой торчал волосатый затылок, и, вероятно, сидевший в кресле знал о присутствии незваного гостя, но не обращал на него ни малейшего внимания. Скрип-скрип, скрип-скрип… И снова: скрип-скрип… Сделав еще десяток шагов, Тревельян сглотнул слюну и замер с выпученными глазами. В качалке расположился не человек, не хаптор, не дроми или кни’лина. Несомненно, это был пац! Не совсем такой, как в осиерских лесах – шкура не рыжая, не бурая, а скорее сероватая, как у Грея, не грязная, а сияющая чистотой, лежавшая волосок к волоску. Кроме того, лоб у этого четверорукого был довольно высок, челюсть не столь массивна, взгляд вполне осмыслен, и на всех четырех лапах были не когти, а скорее ногти. И от него не воняло – во всяком случае, Тревельян с двух метров не ощущал никакого мерзкого запаха. Однако то был пац! Стопроцентный пац! Вцепившись нижними лапами в край стола, он покачивался в своем кресле, будто более важного дела в мире не существовало. Тревельян глядел на паца, пац глядел на Тревельяна. Скрип-скрип, скрип-скрип… Так продолжалось пару минут, затем Тревельян пожал плечами, отвернулся, шагнул к проему, занавешенному циновкой, и позвал: – Почтенный Аххи-Сек! Великий Наставник! – Подождал немного, вслушиваясь в тишину, затем произнес: – Извини за вторжение, но, думаю, двум посланцам небес есть о чем поговорить. Например, о ситуации на Осиере и, если желаешь, о дружбе между нашими звездными расами. – Снова тишина. – Ну, не хочешь говорить о дружбе, побеседуем о чем-нибудь еще. Я могу рассказать тебе о «Пилигриме», одном из наших кораблей, и его молекулярных деструкторах. Что скажешь, почтенный Аххи-Сек? Это тебя интересует? – Ни в малейшей степени, – раздался звучный голос за его спиной. – И здесь, двуногий, нет другого Аххи-Сека, кроме меня. Тревельян стремительно обернулся. Пац смотрел на него и скалил зубы. Зубы, не клыки! Клыков у этого создания, кажется, не имелось. – Вижу, ты немного удивлен? – Назвавшийся Аххи-Секом говорил на диалекте Семи Провинций без малейшего акцента. – Стыдно, мой юный друг! Тен-Урху, местного рапсода, еще можно было бы понять, но для Ивара Тревельяна, представителя звездной расы и – как ты сказал?.. – посланца небес, это непростительно! Это доказывает, что вы, двуногие, высокомерны и слишком горды.Настолько обуяны гордыней, что считаете вправе явиться в чужой мир и переделывать его по собственному разумению, уподобляясь богам из ваших собственных легенд и сказок. Ускоряете то, подталкиваете это… Быстрее, еще быстрее, совсем быстро! Чтобы ваших двуногих собратьев здесь и в других мирах стало больше, стало совсем много, миллиарды и миллиарды! Чтобы всякий клочок океана и суши были под контролем, чтобы ваши машины плодились как блохи в собачьей шкуре, чтобы эти… как их?.. молекулярные деструкторы целились в каждую живую тварь. – Он прекратил раскачиваться и закончил: – Но быстро и много не значит хорошо. Как следует из вашей собственной истории, быстрый прогресс не увеличивает счастья. Уже на середине этого монолога Тревельян пришел в себя и уселся на табурет. Напряжение покинуло его, лицо разгладилось, дыхание стало ровным. Он был слишком опытным исследователем, чтобы дивиться обличью чужака, услышанным речам или внезапному повороту событий. И еще он был доволен, если не сказать больше – с этим существом можно было говорить, а значит, и договориться. Самое страшное, когда говорить не пытаются, а сразу стреляют, из деструкторов, плазменных пушек, лазеров и прочей смертоносной машинерии. Но данный случай явно был другим. К счастью! Дождавшись, когда Аххи-Сек замолчит, Тревельян произнес с мягкой улыбкой: – Не судите и судимы не будете… Полагаю, это относится и к двуногим, и к четвероруким. Что до высокомерия и удивления, показавшихся тебе обидными, то ты, почтенный, не прав. Просто в лесах этой планеты водятся существа, не очень разумные, но отдаленно похожие на вашу расу, и я, сказать по правде, был ошеломлен. Прими мои извинения, если это показалось тебе оскорбительным, и перейдем к делу. Раскрыв внушительную пасть, Аххи-Сек издал утробное уханье, означавшее, по-видимому, добродушный смех. – Это уже лучше, гораздо лучше, Ивар Тревельян! Ну, к делу так к делу. Хочешь сравнить наши позиции? Не имею возражений. Начнем, пожалуй, с хронологии. – Да, формально это самый важный фактор. Итак, сколько времени Осиер находится под вашим патронажем? – Более восемнадцати веков. И замечу, что последние два столетия были для меня довольно хлопотливыми. – Восемнадцать веков! – Тревельян, изумленный, покачал головой. – И все это время именно ты… – Нет, не только я. Мы долговечны, но и для нас это немалый срок. Я – пятый Хранитель. Если угодно, пятый Аххи-Сек, Великий Наставник и глава Братства Рапсодов. Того самого, к которому ты решил присоединиться. – Созданному вами? – Реформированному, скажем так. Организация существовала еще до нас, в глубокой древности. На благо Осиера мы расширили ее функции, усилили влияние и приспособили к своим целям. – И эти цели?.. Аххи-Сек почесал волосатую грудь. – Полагаю, те же, что у вас, разница только в понятии счастья. В вашем обществе его видят в прогрессе технологии, в накоплении материальных благ, во власти над природой, наконец, в той власти, которая практически адекватна насилию. Для нас счастье нечто другое. – Просьба уточнить, Хранитель. – Язык Осиера не слишком подходит для этого, да и ваш, боюсь, бедноват. Мало выразительных средств, не хватает терминов, не говоря уж о жестикуляции и звуковой гамме… Однако я – эксперт по двуногим, я знаю вас лучше моих сородичей и попытаюсь объяснить. – Его мимика была не совсем понятна Тревельяну – вероятно, Аххи-Сек задумался. Потом сказал: – Жизнь в гармонии с миром – это подойдет? – Вполне. Но мы тоже к этому стремимся. – Вы стремитесь еще ко многому другому и хотите получить все побыстрей, тогда как гармония – результат медленного и долгого, очень долгого развития. Мы, четверорукие, предусмотрительны и терпеливы, а вы, двуногие, слишком суетитесь там, где надо ждать, и ваша суетливость всегда оборачивается кровью. Взять хотя бы ваши действия тут, на Осиере… все эти паровые машины, горючие жидкости, сплавы с добавкой хрома и никеля, зрительные трубы, седла, бумага… Чтобы стабилизировать обстановку, мне пришлось изрядно потрудиться, иногда даже проявить жестокость, а этого я не люблю. Нам, всей моей расе, это не нравится! – Не вижу, что опасного в бумаге и седлах, – нахмурившись, буркнул Тревельян. – Начнете с бумаги, кончите порохом, начнете с седел, кончите боевой кавалерией! – Такие последствия просчитывались, Хранитель. Мы удержали бы контроль за ситуацией. У нас достаточно опыта в других мирах. Аххи-Сек вытянул над столом переднюю лапу, оказавшуюся чудовищно длинной, и погладил Грея, сидевшего на Тревельяновом плече. – Какой очаровательный зверек… Да, Ивар Тревельян, опыта у вас достаточно, но этот мир контролируете не вы. Поэтому уходите и не мешайте. Демонтируйте вашу базу, уберите спутники… Пусть все тут идет неторопливо, шаг за шагом, и свершается в свой черед. – Слово первооткрывателя священно, – со вздохом согласился Тревельян. – Я уважаю твое мнение и доведу его до старших коллег, а те – до лидеров нашей планеты. Но, вероятно, понадобится еще не один обмен информацией, ибо вы знаете о нас много, а мы о вас – мало. К тому же не будем забывать, что Осиер населяют наши двуногие братья. Иными словами, люди, а не… Он запнулся, и Хранитель, весело оскалившись, закончил: – …не пацы и не обезьяны, так? Что ж, вы можете следить за нашей работой, находясь здесь в качестве частных лиц. Люди имеют право жить с людьми, никто против этого не возражает. Вот и живите на Осиере, наслаждайтесь его красотой, охотьтесь в его лесах, плавайте по его морям, пейте его вина, любите его женщин… Но живите так, как живут обитатели этого мира, не пытаясь его переделать, живите, как живет твой друг Хьюго Тасман. – Которого ты приговорил к заключению! Прямо скажем, не очень дипломатичный акт! С большими последствиями для нашей чистой и горячей дружбы! – Можно ли чувствовать себя заключенным, когда тебе подарен целый мир? А если твой друг хотел улететь с Осиера, хотел по-настоящему, он, наверное, это бы сделал. – Несмотря на твое пророчество? – вкрадчиво молвил Тревельян, вдруг ощутив, что их переговоры приблизились к главному вопросу. А был он таким: кто сильнее? – и оставался пока неясным. В конце концов, деструкторы, метатели плазмы и боевые роботы – детские игрушки в сравнении с предсказанием будущего. – Пророчества временами выполняются по той причине, что в них желают верить, – заметил Аххи-Сек. – Готов согласиться с этим. – На губах Тревельяна мелькнула коварная улыбка. – Я получил от тебя два предсказания, но не поверил ни первому, ни второму. И вот я здесь, перед тобой! – Не поверил… – с явной насмешкой протянул его мохнатый собеседник. – Как было сказано, иногда верят, и пророчество исполняется. Но бывает и так: не верят, а оно все равно исполняется. От судьбы, мой друг, не уйдешь! Вспомни, что я тебе предсказал! Улыбка Тревельяна стала торжествующей. – Предлагались два варианта: или я немедленно убираюсь с планеты, или закончу жизнь в каменном мешке. Но я не убрался, и я – на твоей базе… Ни то ни другое не исполнилось! – Ты в этом уверен? Разве ты не улетишь через несколько дней на своем корабле? И разве это не один из предложенных вариантов? – Оскал Аххи-Сека был много шире поблекшей Тревельяновой улыбки. – Видишь ли, мой дорогой рапсод, «немедленно убраться» – это твоя интерпретация. На самом деле, если бы ты попробовал убраться немедленно, то как раз очутился бы в том каменном мешке, где просидел бы до самой кончины. Другой и более приемлемый вариант развития событий таков: ты, преодолевая некоторые трудности, все же находишь меня, мы беседуем, и ты улетаешь. Что и случится в скором будущем. «Ловко вывернулся! – раздался беззвучный голос командора. – Браво! Хитрый черт!» – Казуистика, – сказал Тревельян, – элементарная казуистика! Фокусы, чушь, ерунда! Попытка перевернуть ситуацию с ног на голову! У нас, у двуногих, это называют так: делать хорошую мину при плохой игре. Тебе понятен смысл этого выражения? – Понятен. – Аххи-Сек уже не ухмылялся, и его маленькие глазки под выпуклыми дугами надбровий смотрели пронзительно и остро. – Вы, двуногие, искусны в своем ремесле, мы, четверорукие, – в своем… С этого острова я могу послать ментальный сигнал любому из моих помощников на континенте. Отправить без всякого напряжения, прямо отсюда. – Он коснулся лба. – Сигнал воспримут как словесное послание или как вещий сон, и это одна из граней моего искусства. Есть и другая… Ты, Ивар Тревельян, улетишь с Осиера, но жизнь твоя будет продолжаться, так? Хочешь увидеть ее конец? Он растопырил над столом поросшие шерстью пальцы, приподнял ладонь, и под ней блеснуло что-то металлическое, округлое, небольшое. Медальон! Овал с голограммой-пророчеством! Он лежал оборотной стороной кверху, и изображения не было видно. Тревельян мог поклясться, что мгновением раньше стол был пуст. – Переверни, если хочешь узнать свою судьбу, – предложил Хранитель. – Умрешь ли ты, как говорится у вас, в своей постели, или будешь убит в каком-то из чужих миров, погребен под снежной лавиной или в океанской бездне, сожжен на костре или в огне вулкана, распят, как один из ваших пророков, пронзен копьем, обезглавлен, растерзан диким зверем… У тебя опасная профессия, Ивар Тревельян, и никакой из этих вариантов исключить нельзя. Где и как придет к тебе смерть? Ни ты не знаешь, ни я. Пока! Но стоит перевернуть эту пластинку… «Запугивает, чучело волосатое!» – буркнул командор, но Тревельян знал, чувствовал, что это не так. Не запугивает, но предупреждает! Ему вдруг стало ясно, что перед ним не обманщик, не искушенный в казуистике хитрец, а существо с даром предвидения, который, может быть, являлся нормой для четвероруких или чем-то таким же удивительным и редким, как телепатия у человека. Так ли, иначе, но Аххи-Сек не играл с ним; просто хотел, чтобы ему поверили и в будущем, при дальнейших контактах, не забывали, что его раса не беззащитна. Ведь в конечном счете побеждает не тот, чьи пушки крупнее калибром, а умеющий предвидеть, куда упадут и где разорвутся снаряды. Тревельян поглядел на пластинку и сказал: – Мы не будем ее переворачивать. Знание, которое ты предлагаешь, слишком тяжело и горько и не доставит удовольствия ни мне, ни тебе. Сойдемся в том, что я тебе верю и беру свои слова обратно – те, насчет казуистики и фокусов. Вполне возможно, все происходит именно так, как ты предсказал. Огромные губы Аххи-Сека дрогнули, в глазах сверкнул веселый огонек. – С тобой приятно иметь дело, Ивар Тревельян. Для двуногих ты на редкость толерантен. – Профессия обязывает, – скромно заметил Тревельян, наклонившись над струнами лютни. – Компьютер! Миссия завершена, можешь посылать за мной. – Он поднял голову и объяснил: – Сюда прилетит воздушное судно и приземлится на берегу. Мне пора уходить, Хранитель. Я рад нашей встрече и сожалею, что она не состоялась раньше. Ты и я, да и эксперты с нашей Базы потратили много усилий и времени. А зря! Аххи-Сек провел над столом ладонью, и медальон исчез. Совсем человеческим жестом он покачал головой. – Ничего не бывает зря, мой юный друг. Проходит время, тратятся усилия, и туманное становится определеннее и яснее. Вы для нас были незнакомцами, и, думаю, преждевременный контакт не принес бы пользы. Тебя я тоже хотел изучить, понаблюдать за тобой, поразмыслить… Вы, люди, такие разные! – Понаблюдать, – выхватил слово Тревельян, вспомнив, что есть еще неясные моменты. – Я знаю, что ты за мной следил. Но как? – Существуют разные способы. Иногда я воспринимаю информацию прямо из мозга человека, с которым установлена ментальная связь… – Как с Орри-Шаном? – Да, как с Орри-Шаном, – подтвердил Хранитель, – но не с ним одним. Я собираю информацию со всего материка, и не только от людей. – Он снова протянул руку и погладил Грея. – Этот маленький зверек – не с Осиера, а с моей родной планеты, но здесь он отлично прижился, плодится и размножается уже больше тысячи лет. Шерр – так его здесь назвали – умен, воспринимает чувства разумных существ, даже некоторые простые мысли и служит ретранслятором. – Тревельян нахмурился, но Аххи-Сек, изобразив нечто похожее на улыбку, произнес: – Нет, не считай, что он предатель, что он шпионил за тобой! Это всего лишь зверек… Он к тебе искренне привязан, и прогонять его не нужно – без тебя он, вероятнее всего, умрет с тоски. Если же говорить о его контакте со мной, то я не знал, о чем ты думаешь, что чувствуешь, только где находишься. Примерно, так как ментальный сигнал не поддается точной локации на больших расстояниях. Он говорил, и Тревельян, посматривая на него, чувствовал, как поддается магии ровного звучного голоса. Физиономия Хранителя уже не казалась ему жуткой звериной мордой, густая короткая шерсть выглядела словно одеяние, под которым бугрились могучие мышцы, огромные лапы стали руками, а глаза – о, глаза были так выразительны, так спокойны и мудры! Не Великий Наставник сидел перед ним, не иерарх Братства Рапсодов, не тайный властитель Осиера, а такой же, как он, посланец со звезд. И делить им было нечего, и не о чем спорить. Тревельян поднялся, протянул руку и ощутил крепкое дружеское пожатие. Ладонь Аххи-Сека казалась горячей – видимо, температура тела была у него выше человеческой. – Я знаю этот ваш земной обычай, – молвил он. – Раскрытая рука – значит, в ней нет оружия… Так? – Так, – подтвердил Тревельян и протянул ему свою лютню. – Вот, возьми. Здесь передатчик, и если захочешь, ты можешь связаться с компьютером Базы, послать сигнал и запросить любую информацию. И еще… – Он тронул струны, и лютня отозвалась тихим аккордом. – Еще здесь хранятся песни, все песни Осиера и Земли. Жаль, что я тороплюсь и не могу спеть тебе их сам. – Да будет твой путь легок, Ивар Тревельян. Вы, двуногие, всегда торопитесь, – сказал Хранитель, растягивая свой огромный рот. Кажется, это означало добродушную усмешку. …Скиммер приземлился у бухты и снова взмыл в воздух вместе с Тревельяном, его невидимым Советником и серым пушистым зверьком. Повинуясь приказу, аппарат кружил в вышине, и на его экранах остров был ясно виден – желтый песок, зеленые пальмы и темная фигурка под деревьями с запрокинутой головой и нечеловечески длинными руками. Одна из них поднялась, начертила в воздухе круг, затем коснулась груди. Вероятно, сердце у Аххи-Сека тоже было слева. – Прощай, Хранитель, – тихо произнес Тревельян, потом вызвал компьютер Базы. – Слушаю, наблюдатель Тревельян. – На этой планете есть еще один человек. Тебе известно об этом? – Да. Хьюго Тасман, сотрудник Фонда, лингвист и доктор экспериментальной истории. Но он не выходит на связь. Ни одного сеанса примерно за пятьдесят местных лет. – Все же попробуй до него достучаться. Скажи, что вызывает Ивар. Прошла минута, другая, третья… Скиммер по расширяющейся спирали поднимался над островом. Когда небо потемнело и в нем вспыхнули звезды, Тревельян услышал: – Ивар, ты? Это Хьюго. Есть новости? – Как не быть. Работа закончена, я возвращаюсь на Базу, а через несколько дней здесь появится «Пилигрим». – Помолчав, он добавил: – Ну, и что ты об этом думаешь, Хьюго? Тишина. Скиммер, пронзив атмосферу, шел по огромной дуге, что нависала над половиной планеты, от западного океана до восточного. Тасман откашлялся. – Нет, Ивар, нет. Лети один, коллега. Я… Понимаешь, нельзя прожить половину столетия без привязанностей, без обязательств, без друзей, без возлюбленных… Я не могу их покинуть, не могу и не хочу. – Он вздохнул. – Наверное, Ивар, я уже больше осиерец, чем землянин. Когда-нибудь я умру, и надо мной споют погребальные гимны, тело сожгут на костре, а прах бросят в реку, чтобы он доплыл до Оправы… Так и должно быть. Я остаюсь. – Долгих лет тебе, Хьюго. Надеюсь, ты еще не скоро поплывешь к Оправе. – И тебе желаю того же. Может быть, когда-нибудь увидимся. – Может быть. Тасман отключился. – Прав Хранитель, прав, – произнес Тревельян. – Если бы он хотел улететь с Осиера, он бы это сделал. Но здесь так спокойно, а наш мир так суетлив! Ближняя звезда сияла над скиммером, ее изумрудный луч колол глаза. Тревельян прищурился, всматриваясь в темноту, усеянную яркими разноцветными искрами, словно ожидая, что вот-вот среди них возникнет «Пилигрим», вынырнувший серебряной рыбкой из безвременья Лимба. Но этого, конечно, случиться никак не могло; у Вселенной свои законы, и движение звездных лайнеров, даже таких, которым любая дорога коротка, сообразуется с ними. Придется подождать, провести на Базе пару дней… Ну, ничего, будет время для отчета! Непростой документ… никто ведь в Фонде, да и на всей Земле, не ожидал, чем обернется эта миссия… Среди сорока двух рас, известных землянам, разумные четверорукие приматы еще не попадались. К тому же такие мудрые, такие терпеливые… Скиммер мчался над огромным континентом, и где-то внизу в стремительном темпе проносились города и страны, мелькали горы, реки, леса и поля. Удзени, Шо-Инг, Тилим, Сотара, Кольцевой хребет и Семь Провинций у моря Треш… Убаюканный тишиной и ровным сиянием звезд, Тревельян задремал. Ему редко снились сны, но в этот раз привиделся воздушный шар, летящий над синим морем-океаном, а в его корзине – магистр Кадмиамун и вождь горцев-разбойников Лакасса; будто парят они в вышине и, передавая друг другу подзорную трубу, разглядывают берег неведомого западного материка. Сон наполнил его радостью, и Тревельян, незримый свидетель их торжества, мысленно произнес: «Разделяю ваше дыхание». И в ответ донеслось: «Будь счастлив, посланец небес! Твоя кровь – наша кровь». Четверорукие предусмотрительны и терпеливы. Двуногие отважны и упрямы. Кто из них прав?
Приложение 1 Галактические расы, упомянутые в романе
Даскины, или Древние – высокоразвитая раса, владевшая Галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества даскинов, их цели и мировоззрение тоже неизвестны, однако в Галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся: древняя карта Галактики (так называемый Портулан Даскинов), остатки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах, и так далее. Считается, что информация о Лимбе и контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от даскинов.Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в Рукаве Ориона (в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие). Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуруких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около двух тысячелетий служили лоона эо в качестве Защитников, затем были вытеснены с этой позиции земным человечеством. Неоднократно воевали с Земной Федерацией (начиная с XXIV века). Кни’лина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в Рукаве Ориона. Обликом подобны людям Земли; отличия незначительны – отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм (не могут питаться мясом), не способны давать потомство с землянами. Имеют многочисленные колонии примерно в шестидесяти-восьмидесяти звездных системах, а также мощный боевой флот. Воевали с Земной Федерацией (клан ни ) в XXVII—XXVIII веках и потерпели поражение. В настоящее время между Федерацией и обществом кни’лина установлены культурные и дипломатические связи, однако их прочность сомнительна. Лоона эо – раса псевдогуманоидов, одна из древнейших и наиболее высокоразвитых в Галактике. Обликом подобны людям Земли – с поправкой на меньший рост, изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства: у лоона эо четыре пола (мужчины, полумужчины, полуженщины, женщины, причем только последние способны к зачатию и рождению детей), зачатие же (инициирование женской яйцеклетки) осуществляется ментальным путем (органов размножения, обычных для гуманоидов, у лоона эо не имеется). Их сектор в Рукаве Ориона состоит из ядра (Розовой Зоны), где находятся материнский мир Куллат и древние колонии (Файо, Арза и другие), и Внешней, или Голубой, Зоны, где сосредоточено около двадцати планет (Харра, Тинтах, Данвейт и другие), которые были заселены в более поздние времена (10—12 тысяч лет назад). В данную эпоху лоона эо покинули планеты и переселились в астроиды, искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю предметами своей высокой технологии. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика-Чейни. Для защиты своего галактического сектора лоона эо нанимают расы-Защитники, из которых известны две: дроми, а до них – хапторы. С конца XXI века Защитники вербуются в Земной Федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Данвейте. Лоона эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество; дипмиссия, представленная сервами, существует в Посольских Куполах на Луне с 2097 года. Лльяно – негуманоиды, к контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов; редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных лоона эо. Точное местоположение сектора лльяно не установлено; вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами лоона эо, в направлении южного галактического полюса. Лльяно – закрытая раса, контактирующая в основном с лоона эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор не ясен. Внешний вид лльяно: мохнатые создания с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями (по свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей). Метаморфы, илипротеиды – негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному изменению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способны к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами, хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. Космической экспансии не осуществляют, населяют только свой материнский мир, чьи координаты неизвестны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличье аборигенов, но тайно (в силу своей природы практически неуловимы). Достоверные контакты с метаморфами за последнюю тысячу лет исчисляются единицами. Однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с бино фаата и последующих Войн Провала. Осиерцы – автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК) и цивилизации парапримов. Параприматы, или парапримы – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название (пара – греч. «возле», «около»). Первый контакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа безусловно миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмарри – резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком (если он существует). Как и даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25—30 млн лет). Внешне похожи на гигантских червей (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытых белесоватой кожей; могут вытягивать тела до 12—15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разреженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствуют на своих кораблях по всей Галактике (один из примеров так называемой «кочующей цивилизации»). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер; их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ. Малоконтактны и, как правило, не агрессивны, но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в XXVIII веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание терукси, которым представителями Земли были переданы Портулан Даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в Рукаве Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата. Фаата (бино фаата) – гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в Рукаве Персея, который отделен от Рукава Ориона (от земного сектора) Провалом, где практически нет звездных систем. Агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне: в 2088 г. их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительные разрушения (после чего последовала операция возмездия и четыре Войны Провала, затянувшиеся в общей сложности на 125 лет). В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от кни’лина, способны давать с землянами потомство (выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению). Раса фаата делится на касты, причем высшая (правящая) обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные (работники, солдаты, пилоты, самки – продолжательницы рода) относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют Связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С Земной Федерацией бино фаата контактируют крайне редко. Хапторы – гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличается от земного стандарта, чем у кни’лина, бино фаата, терукси и осиерцев (несовместимы с людьми в сексуальном отношении; искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособное потомство). Колонизировали и заселили несколько сотен миров в Рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру Галактики, чем Земная Федерация. Примерно три с половиной – две тысячи лет назад являлись Защитниками лоона эо, затем их сменили дроми, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расами. Внешний облик: высокие (около двух метров), крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника – полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком. Человеческим эталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с Земной Федерацией в XXVI веке, были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.Приложение 2 Некоторые сведения о расе кни’лина
Цвет, его название и символика
Черный – ночной цвет. Белый – дневной цвет. Красный – утренний цвет. Символика: торжественный, радостный. Красные лампочки на пульте прибора являются не свидетельством тревоги, а показателем нормального функционирования устройства. Желтый – первый лунный цвет (цвет естественного спутника планеты Йездан). Зеленый – второй лунный цвет (цвет второго спутника Йездана). Символика: тревожный, что связано с памятью о глобальной катастрофе, что последовала за захватом планетой второго спутника. Зеленые лампочки на пульте – признак неполадок. Синий – вечерний цвет. Символика: траурный. Погребальные кувшины обычно расписаны синими узорами. Серый – сумеречный цвет.Традиции одеяний
Парадная одежда – богато расшитый камзол или особый вид рубахи с расшитой безрукавкой, а также лосины, пояс и башмаки. Вместе с парадным одеянием носят диадемы, наплечные и наколенные украшения, украшения пояса. Эти одежды практически одинаковы у мужчин и женщин. Домашняя одежда – просторный хитон и сандалии (у мужчин), домашняя мантия и сандалии (у женщин). В домашней обстановке часто ходят босиком или переползают с места на место на коленях. Рабочая одежда – сайгор и сайтени. Сайгор, обтягивающий комбинезон, чаще носят достойные (ньюри); сайтени, своеобразные шорты с майкой, большей частью являются одеждой слуг клана, но строгих правил здесь нет. Ритуальная одежда – опоясывающие шарфы или передники и более ничего, так как в Книге Начала и Конца сказано: нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству. Ритуальные одеяния в основном носят похарас ; люди клана ни облачаются в эти одежды только во время погребального обряда.Кухня кни’лина
Апаш – салат из фруктов под сладким соусом. Гибху– большие круглые орехи со сладковатой мякотью. Зенагри’лока – аналог земных бобов и фасоли. Из них готовится локайят, традиционное блюдо похарас . Коукро – небольшие круглые плоды (размером с грецкий орех). Очень питательны. Курзем – блюдо из мясных грибов, богатое белками. Пактари – салат из фруктов под кислым соусом. Тецамни – горький тонизирующий травяной отвар, аналог чая. Шиншалла – плод, похожий на большой огурец; употребляется в тушеном виде.Пояснение некоторых других реалий
Ареопаг – совет при императоре похарас . Йездан’таби – религия кни’лина (клан похарас ). Книга Начала и Конца – священные тексты кни’лина. Авторство приписывается Йездану Сероокому, которого одни считают богом, другие – великим пророком, а третьи – древним мудрецом. Коно – личное пространство кни’лина (несколько шагов), куда не должны вторгаться другие индивидуумы, кроме слуг, медиков и близких родичей. Малые кланы – кланы, произошедшие с небольших островов в эпоху Метаморфозы и генетически родственные ни или похарас. Упоминаются: тудонга, сайили, конно, пнирра, тадиг, хитт, ахаоно и валлс . Мшак – мелкий хищный зверек, отличается мохнатой шерстью, мерзким запахом и склонностью к пожиранию отбросов. Мшаками кни’лина презрительно называют землян. Ни – самый могущественный клан кни’лина, воевавший некогда с Землей. Ньюри – почтительное обращение к вышестоящим кни’лина ранга достойных; дословный перевод – «эксперт». Огихон – устройство для сжигания мертвых тел, что является обязательным элементом похоронного обряда. Палустар – боевой ментальный излучатель. Погребальные кувшины – сосуды, в которые помещается прах умерших. Древние кувшины, богато расписанные и украшенные, считаются у кни’лина ценными предметами искусства. Похарас – второй по могуществу клан кни’лина. Похарас в отличие от клана ни религиозны и в большей степени придерживаются древних традиций. С Земной Федерацией не воевали. Таргад – воинское подразделение. Тока – сосуд для еды из небьющегося фарфора. Имеет форму удлиненной овальной чаши с ручкой. Токар – бокал для питья. Токати – щипчики с широкими концами, которыми берут еду из чаши-тока. Тенсу и гайрим – обозначение родства у кни’лина: тенсу – братья и сестры, имеющие общего отца, гайрим – имеющие общую мать. Хорада– своеобразный парламент кни’лина, в котором представительствуют все кланы, включая малые.Приложение 3 Йездан Сероокий, максимы из Книги Начала и Конца
У протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли.* * *
У нас есть только то, что мы теряем.* * *
Лицом к лицу – лица не увидеть.* * *
Клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость.* * *
Религия – лишь платье истинной веры.* * *
Способность дивиться чуду жизни – вот что питает корень человеческой души.* * *
Потомство человека – его тень, протянувшаяся в грядущее.* * *
Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает.* * *
За горами – горы.* * *
Зверь всегда рядом с вами.* * *
Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным – это их пугает.* * *
Жизнь – смех полоумного в пустоте.* * *
Жизнь – долина созидания и разрушения души.* * *
Можно не верить в бога, но нужно его любить.* * *
Человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти.* * *
Того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру.* * *
Мы способны на гораздо большее, чем думаем.* * *
У каждого есть своя чаша с ядом.* * *
Цена утреннего дома высока.* * *
Время стирает память о случившемся с нами.* * *
Ничто не свершается без греха.* * *
Кто наточит клинок против зла мира?* * *
Нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству.* * *
Нет свободы без закона.* * *
Храни, что имеешь.* * *
Остерегайся очевидного.* * *
Десять сильных не победят миллионы слабых.* * *
В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин.* * *
Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки.* * *
Желающий судить безгласного – сам преступник.* * *
Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых.* * *
Долг перед мертвыми вечен.* * *
Уважай смерть, ибо перед тобой погибшая Вселенная.* * *
Хороший человек – утренняя радость.* * *
Редки люди утренней радости.* * *
Что есть счастье? Медоносный мотылек, который порхает в ваших душах.* * *
Еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым.* * *
Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи.* * *
Нет бури, которая ломает все деревья.* * *
Долг старых – лгать молодым.Михаил Ахманов Далекий Сайкат
Сайкат – вторая планета звездной системы NG-5117/77562 (светило названия не имеет). Общее описание: землеподобный мир, не нуждается в терраформировании. Обнаружен практически одновременно экспедициями кни’лина и Звездного Флота Земли. Имеет три материка, получивших названия: Северный (протяженность в широтном направлении 17 300 км, в меридиональном – 8120 км); Юго-Западный и Юго-Восточный (соответственно 27 % и 31 % от площади Северного материка). Суша, с учетом островов, занимает 42 % планетарной поверхности, остальное – Мировой океан и внутренние моря. Богатая флора и фауна (в настоящее время изучается). Растительный покров представлен степями и лесами горной, умеренной, субтропической и тропической зон. Планета населена двумя расами гуманоидов, чей уровень развития соответствует каменному веку Земли (в настоящее время обе расы изучаются комплексной экспедицией землян и кни’лина). Период обращения планеты вокруг оси: 25,2 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг светила: 327 суток. Естественные спутники: отсутствуют. Тяготение: 0,99 земного. Состав атмосферы: см. раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты: см. раздел «Галактические координаты землеподобных планет». Большой Звездный Атлас, издание седьмое, Земля – Марс.
Штат экспедиции на сайкатской исследовательской станции (СИС)
1. Ученые (достойные ньюри) Джеб Ро – координатор экспедиции, аристократ из клана похарас, палеонтолог с планеты Йездан, метрополии кни’лина. Зенд Уна – лингвист, клан похарас. Уроженец колонии Тизана. Ифта Кии – второй генетик, аристократка похарас с планеты Йездан. Найя Акра – психолог, жрица Йездана, клан похарас. Уроженка колонии Кхайра. Первый Лезвие – субкоординатор, заметитель Джеба Ро, антрополог, клан ни. Уроженец планеты Йездан. Второй Курс – биолог, клан ни. Уроженец колонии Тоу. Третья Глубина – первый генетик, клан ни. Согласно официальным данным, уроженка колонии Тизана. Четвертый Пилот – картограф и пилот транспортных капсул, клан ни. Уроженец планеты Йездан. Пятый Вечерний – ботаник, клан ни. Уроженец колонии Кхайра. Иутин – третий генетик, зинто. Согласно официальным данным, уроженец колонии Кхайра. Обладает необычной для кни’лина внешностью. Ивар Тревельян – социоксенолог с Земли, представитель Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК). Имеет ментального напарника, своего отдаленного предка Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева, некогда командора Звездного Флота. 2. Вспомогательный персонал (слуги клана ни) Шиар, Эвект, Зотахи – техники системы жизнеобеспечения. Инданга, Могар – техники автономных кибернетических устройств. Аткайя – техник космических транспортных средств. Гиббех – техник наружных шлюзов и стыковочных портов. Пайол – техник бытовых устройств. Ори, Тикат – слуги.Мирный баланс, достигнутый после войны между Земной Федерацией и кни’лина, не должен внушать надежд на глубокие и плодотворные контакты между двумя гуманоидными расами. В своей массе кни’лина были – и остаются – недружественным народом, чье отвращение к людям Земли базируется на различаях в традициях, включающих такие обиходные вещи, как питание, манера одеваться, поведение в обществе и так далее. Следует подчеркнуть, что близость, даже почти идентичность физиологии и внешнего облика, является фактором, который лишь усиливает неприязнь кни’лина к людям – точно так же, как нам отвратительны ужимки обезьян и людоедские обычаи низших гоминидов. Для кни’лина мы по-прежнему волосатые пожиратели падали, взявшие над ними верх из-за своей звериной жестокости, коварства и помощи предателей. Признаки потепления существуют только на дипломатическом уровне и выражаются в ряде совместных экспедиций и проектов, самым амбициозным из которых является исследование Сайката. Генрик Хилари, эксперт Исследовательского корпуса Звездного Флота. Меморандум 25/1888А. Строго секретно.
Глава 1 Прибытие
Когда крейсер «Адмирал Вентури» лег на орбиту у Сайката, по корабельному времени была глухая ночь. Для Ивара Тревельяна это значило, что его проводят без помпы, без троекратного салюта, оркестра, рукопожатий и поцелуев. Капитан Карсак являлся слишком важной шишкой, чтобы нарушить свой отдых из-за какого-то сотрудника Фонда, которого он, в знак особой милости, согласился подбросить к пункту назначения. Первому помощнику Гончарову полагалось заступить на вахту утром, и потому его сон тоже считался священным – старший по вахте офицер должен быть свеж и бодр. На Клауса Дембски, второго помощника, рассчитывать совсем не приходилось, поскольку он был очень зол на Тревельяна – тот отбил у Дембски оператора связи Кристу Ольсен, белокурую валькирию с Роона. Вообще-то Тревельян предпочитал брюнеток, а лучше – кареглазых шатенок, но тут вмешался спортивный интерес: кто быстрее прыгнет в постель связистки. Тревельян оказался резвее, и Дембски оставалось лишь скрипеть зубами. Кроме старших офицеров, на «Вентури» имелась масса других людей, весьма достойных и в высоком ранге, которые могли бы проводить Тревельяна: скажем, Нурс, первый навигатор, или Иваньков, главный инженер, или хотя бы Ошо Бирмани, начальник секции вооружений. Но у Нурса он отобрал титул чемпиона крейсера по теннису, с Иваньковым крепко поспорил за карточным столом (тот пытался отыскать в рукаве у Ивара пятого туза), а с Ошо они не сошлись во мнениях по поводу ба – Ошо казалось, что это древнекитайская пика, тогда как Тревельян в точности знал, что ба – боевые грабли длиной два метра и с девятью зубцами. Все это было так, но, с другой стороны, экипаж «Вентури» состоял из восьмисот двадцати офицеров и нижних чинов, и за полтора месяца полета он не успел насолить всем и каждому. И потому провожающие все же нашлись: третий помощник лейтенант-коммандер Шек, стоявший ночную вахту, три дюжих десантника, приставленных к багажу Тревельяна, и безутешная Криста Ольсен. Но в шлюзовую камеру Шек Кристу не пустил, сделав каменную физиономию и буркнув: «Не положено!» Пришлось расцеловаться со связисткой на пороге, под неодобрительным взглядом лейтенанта-коммандера. Затем диафрагма люка развернулась, отрезав Кристу, ее голубые глаза и льняные кудряшки, и Шек сменил гнев на милость: вызвал гравиплатформу для багажа ивключил обзорные экраны. На одном сейчас виднелся голубой сфероид Сайката и его безымянное солнце, имевшее лишь номер по каталогу, а другой был пуст, если не считать пары тысяч звезд и туманности Слоновый Бивень. Шек любовался планетой, десантники равнодушно смотрели в пол, а Тревельян глядел на газовое облако Бивня, вспоминая, что где-то за ним, на расстоянии сорока шести парсек, плывет в космической тьме Осиер, место его предыдущей экспедиции. Ос-и-ер, Камень-В-Перстне, как называли свой мир местные жители, и были среди них существа, подобные людям или не похожие на них, но равно не безразличные Тревельяну. К примеру, старый мечтатель Кадмиамун, первый аэронавт Осиера, благородный нобиль Ниган-Таш, вождь разбойников Лакасса, мудрец Аххи-Сек и братья-рапсоды, лихие бойцы… Еще вспоминались женщины, чья благосклонность скрасила его командировку: прелестная Чарейт-Дор, гибкая танцовщица Арьена из Тилима, милая служаночка Китти-Катахна, даже принцесса Лиана-Шихи, девица хоть и с норовом, однако красоты необычайной. Кроме того, на Осиере пребывал коллега Хьюго Тасман, и похоже, на Землю он не собирался возвращаться. – Красивая планета этот Сайкат, – прервал молчание Шек. – Когда, говорите, ее обнаружили? Хоть Тревельян не сказал ничего, но у Шека была своя манера вести беседу. Обижать его не стоило – все же он явился лично, а мог бы прислать подвахтенного. – Шесть лет назад. – Выбросив из головы воспоминания об Осиере, Ивар повернулся к третьему помощнику. – Совместная экспедиция его открыла, наша и кни’лина. Сначала никак не могли поделить, а потом нашлись аборигены, и вопрос колонизации отпал. – Какой индекс ТР[5] у этих туземцев? – Пожалуй, никакого. Одни на уровне наших кроманьонцев, а другие так вовсе троглодиты. Даже с огнем незнакомы. На физиономии Шека промелькнуло нечто похожее на интерес. – Две расы, говорите? В одном мире? И какое решение? Обе прогрессировать? Тревельян вздохнул. – Перед тем как прогрессировать, надо понять, способны ли они к прогрессу и желают ли к нему приобщиться. – Можно было бы у них спросить, – заметил Шек. – Это затруднительно, лейтенант-коммандер. Им до порога Киннисона[6] еще двадцать-тридцать тысяч лет. Они еще не имеют понятия о прогрессе. Вряд ли Шеку было известно, что такое порог Киннисона, но он строго глянул на десантников, сделал глубокомысленное лицо и с важностью кивнул. После Осиера Тревельяну полагался отпуск, но у ФРИК было не так уж много полевых агентов его уровня, а миссию на Сайкате консулы Фонда считали наиважнейшей. По этой причине отпуск пришлось отложить, и теплое море Гондваны, курортного мира, его тропические острова, отели и золотые пляжи Ивар видел лишь во сне. Конечно, в те минуты, когда белокурая Криста давала ему поспать, а это случалось не часто: она была девушкой темпераментной. «Вентури», двигаясь по круговой орбите с малой скоростью, пересек линию терминатора. Теперь на планете, лежавшей под кораблем, царил непроглядный мрак: ни огонька, ни проблеска света, ни единой самой крохотной искорки. Троглодиты терре вообще обходились без огня, а тазинто, более продвинутые автохтоны, сидели сейчас в своих становищах и жарили мясо, но пламя их кострищ было слишком ничтожным, чтобы заметить его с космических высот. До времен, когда планета озарится электрическим сиянием, пройдут десятки тысячелетий, и тех огней не увидит никто из ныне живущих, подумал Тревельян. Когда-нибудь появятся здесь сады и пашни, дороги и мосты и, непременно, поселения, но кто в них будет обитать? Чьи потомки – терре или тазинто? Или те и другие вместе? Непраздный вопрос! Собственно, его и послали для подготовки решения. А если быть совсем уж точным, для того, чтобы миссия кни’лина не решила этот казус за себя и за землян. – Приближаемся к станции, – сказал Шек, и на втором экране, где были только звезды и туманность, возникло нечто темное и округлое. Десантники оживились; должно быть, эти молодые парни никогда не видели кни’лина. Тревельян же с ними встречался не раз и большого счастья от этих контактов не испытывал. Кни’лина были гуманоидами и почти не отличались от людей – несомненный плюс в их пользу, но, к сожалению, единственный. Минусов насчитывалось больше: заносчивы, высокомерны и горды, привержены странным обычаям, не очень приятны в общении и, наконец, воинственны. Последний грех был самым тяжким, так что кни’лина пришлось убеждаться не раз, что не у них одних есть звездный флот, аннигиляторы и боевые роботы. Три столетия назад случилась большая война, кни’лина с треском ее проиграли и запросили мира. С той поры наметилось сотрудничество между расами – та и другая сторона желали доказать свою цивилизованность и миролюбие. Станция, искусственный и единственный сателлит Сайката, росла на экране, превращаясь в огромный диск. «Адмирал Вентури» мог улечься на его поверхности хоть вдоль, хоть поперек. – Джелаль! – рявкнул Шек, повернувшись к вокодеру. – Слушаю, лейтенант-коммандер, – раздалось в ответ. – Я у четвертого шлюза. Справишься со стыковкой? – Так точно, лейтенант-коммандер. – Действуй. – Шек покосился на Тревельяна. – Хочется на живых плешаков взглянуть. Говорите, совсем как люди? «Плешаки» – такой была презрительная кличка кни’лина. Не оставаясь в долгу, они называли людей «волосатыми», а еще – «пожирателями падали», так как сами мяса не ели. – Я этого не утверждал, – произнес Тревельян. – В чем-то они на нас похожи, а в чем-то есть отличия. – Ну, например? – Они не имеют волосяного покрова. Вообще нет волос на теле и лице, кроме бровей и ресниц. – Это всем известно, – с разочарованным видом сказал третий помощник. Потом оглянулся на десантников и произнес, понизив голос: – Я слышал, их женщины очень красивы и хороши в постели… такие штуки выделывают в невесомости… – Некоторые прямо красавицы, – заметил Тревельян, наблюдая, как огромный дисковидный корпус станции медленно подплывает к крейсеру. На глаз его толщина у края достигала метров тридцати, и эта чуть выпуклая стена охватывала диск кольцом. В свете прожекторов «Адмирала Вентури» поблескивали акрадейтовые иллюминаторы, круглые люки портов, гравитационные движки, антенны дальней и планетарной связи, огромная чаша биоизлучателя и еще какие-то устройства, которые он не мог распознать. – Основательная конструкция, – сказал Шек, обозревая паривший над планетой сателлит. – Кто его строил? – Кни’лина, но Фонд, который я представляю, возместил половину расходов. Так что СИС находится в совместном владении. – СИС? – Да. Сайкатская Исследовательская Станция. – И много там сейчас народа? – Человек двадцать или тридцать, я полагаю – члены экспедиции и слуги кланов. Слуги – обычно технический персонал. Шек в удивлении присвистнул: – Говорите, два-три десятка плешаков? И для них соорудили этакую громадину? Нашей команде там бы тесно не показалось! – Строили кни’лина, клан ни и клан похарас, а у них свои понятия о просторе и тесноте, – пояснил Тревельян. – Но все сделано по-честному: есть их сектор, и есть наш, точно такой же по площади. – Он сделал паузу, потом, взглянув на приближавшийся шлюз станции, промолвил: – Послушайте, лейтенант-коммандер, отчего бы не пустить в шлюзовую энсина.[7] Ольсен? Я бы хотел еще раз с ней попрощаться. Будьте снисходительны! Ведь в течение месяца или двух я не увижу ни единого женского личика! Десантники заржали. Шек цыкнул на них и сказал со строгим видом: – Не положено. А что до лиц женского пола, так, может, на станции кто-нибудь для вас найдется. Кни’лина ведь совместимы с людьми… ну, в сексуальном смысле… Правда это или нет? – Сущая правда, – со вздохом подтвердил Тревельян. – Совместимы, как и другие гуманоиды, фаата, осиерцы и терукси. Я бы мог вам рассказать… – Не надо! – рявкнул Шек, взглянув на десантников, навостривших уши. И, смягчившись, добавил: – Желаю вам плодотворной работы и успеха на всех фронтах. Пара месяцев, говорите? Ну, это срок небольшой! Если вернетесь на «Вентури», послушаю ваши истории с удовольствием. Как-нибудь после вахты, в моей каюте. – Я зван на чашку кофе? – На рюмку чая, – уточнил лейтенант-коммандер. Палуба под их ногами чуть дрогнула – крейсер уравнивал скорость со станцией. Затем ее боковая стена ушла вверх, вниз, в стороны и застыла, словно серый монолитный утес, скрепленный с кораблем невидимыми узами. Послышался негромкий гул, и трубчатый кожух переходного модуля стал плавно выдвигаться из борта «Вентури». Его оконечность, похожая на голову безглазой змеи, легла на станционный шлюз, присосалась к квадратному люку, и диафрагма перед Тревельяном начала неторопливо раскрываться. Резкий хлопок воздуха просигналил, что давление в шлюзовой и приемном отсеке сателлита выровнялось. Теперь крейсер и станция кружились около Сайката как единое целое, в бесконечном падении на планетарный сфероид, как бы стремясь к нижнему миру и постоянно промахиваясь по гигантской голубой мишени. – Молодец Джамаль, – буркнул Шек. – Отличная стыковка, клянусь Владыкой Пустоты! Трое десантников принялись грузить багаж Тревельяна на платформу. У него было три больших контейнера, один из них довольно тяжелый, и сумка с одеждой и всякими мелочами. Диафрагма шлюза раздвинулась на всю трехметровую ширину, в трубчатой конструкции вспыхнул свет, и дальний конец перехода тоже озарился привычным для глаза желтоватым сиянием. Но тени там не мелькали и никакие фигуры не маячили – похоже, встречающих Тревельяна было еще меньше, чем провожавших. – Вперед, парни, – велел третий помощник, кивая десантникам. – Погодите, Шек. Когда имеешь дело с кни’лина, нельзя забывать о двух вещах: о собственном достоинстве и протоколе. Не будем торопиться с багажом. Прошу вас, следуйте за мной и держитесь сзади в четырех-пяти шагах. Шек не возразил ни слова – должно быть, любопытство взяло вверх над командирскими замашками и привычкой распоряжаться. Друг за другом, сохраняя дистанцию, они зашагали по переходу: Тревельян впереди, третий помощник за ним. Шек двигался, как на парадном смотре: печатая шаг, развернув плечи и выпятив грудь, обтянутую синим с серебром мундиром. К его бедру был пристегнут бластер, на левом запястье сверкал браслет коммутатора, на правом – еще одно переговорное устройство, для прямой связи с капитаном и включения сигналов тревоги. Выглядел лейтенант-коммандер очень внушительно. Миновав переход, они очутились в просторном помещении с внешней стеной, шедшей полукругом, и высокими сводами. Посреди потолка расплескалось золотистое пятно, имитация солнца; сверху свисали плоские рыльца гравиподъемников и захваты транспортных механизмов, напоминавшие то клешни, то многосуставчатые пальцы; в дальней стене виднелась темная мембрана лифта, очень похожего на обычный земной, а слева и справа торчали на низких эстакадах УТК – универсальные транспортные капсулы, или «утки», на жаргоне астронавтов. Капсулы тоже почти не отличались от земных аналогов. В центре отсека, под ярким голографическим солнцем, их поджидали двое кни’лина. Оба рослые, крепкие, в белых обтягивающих комбинезонах, и оба как на одно лицо: серые глаза, узкие губы, классической формы нос и основательный подбородок. Тревельян, имевший дело с чужими расами, по временам сталкивался с этой иллюзией похожести; в данном случае ее усиливали бледная кожа и безволосые черепа, чуть более вытянутые, чем у людей Земли. Отступив от перехода, чтобы Шек мог войти, сохраняя расстояние, он устремил взгляд поверх голов кни’лина и замер. Так прошло минуты две. Третий помощник, подражая Тревельяну, тоже стоял неподвижно, но его терпение явно заканчивалось. Наконец Шек буркнул: – Говорите, у нас проблемы? Какие? – Это слуги клана ни, всего лишь техники-служители, – пояснил Тревельян и, заметив, что лейтенант-коммандер поднял ногу, прошипел: – Не приближайтесь ко мне, Шек! Стойте, где стоите! – Дьявол! Это еще почему? – Не двигайтесь, я сказал! – Один из кни’лина шевельнулся, и Тревельян, все еще глядя в потолок, произнес на диалекте ни: – Не вижу встречающих. Где достойные меня? Где люди власти, представляющие лидеров ни или императора похарас? Где парадные одежды и учтивые речи? Краешком глаза он заметил, как Шек сует в ухо крохотный транслятор. Его антенна торчала над аккуратной прической третьего помощника, будто серебряный цветочный бутон. Кни’лина одновременно сделали жест почтения. Стоявший слева заговорил, стараясь не смотреть на Тревельяна: – Достойные люди отдыхают. Все утомлены работой. Ньюри приносят глубокие извинения. В обоих диалектах языка кни’лина личное местоимение «вы» использовалось только во множественном числе, а формой беседы низшего с высшим было обращение в третьем лице, с подобающими случаю телодвижениями. Слуги клана придерживались этих правил со всей строгостью. – Ты и ты, – Тревельян ткнул в каждого пальцем. – Ваши имена и род занятий? – Зотахи, техник систем жизнеобеспечения, – произнес первый. – Могар, техник киберустройств, – эхом откликнулся второй. Воздев руки в жесте изумления, Тревельян повернулся к Шеку. – Техник-ассенизатор и слуга, имеющий дело с киберами! Йездан Сероокий! И эту пару недоумков послали встретить нас! Меня, имеющего высший ранг, и первого помощника капитана! Он говорил по-прежнему на диалекте ни, зная, что приборчик, торчавший в ухе Шека, переводит сказанное. Услышав последнюю фразу, тот дернулся, нахмурил брови и промолвил – к счастью, не включив транслятор на обратный перевод: – Что случилось? Захотели права покачать и хвост распустить? Ну, ваше право! Только я не первый помощник, а… Тревельян дал ему высказаться. Это было безопасно – слуги клана наверняка не понимали земную лингву. Повернувшись к Шеку, он пояснил: – Меня должен встречать шеф научной группы или его заместитель. В крайнем случае, член экспедиционного отряда, а не пара техников-слуг! Это оскорбление, лейтенант-коммандер, поэтому сделайте суровое лицо и рявкните погромче. Что же до местного этикета, то в нем я разбираюсь лучше вас. – Шек рявкнул, а Тревельян, грозно уставившись на Зотахи и Могара, вновь перешел на наречие ни: – Первый помощник возмущен таким неуважением. Он хочет, чтобы я вернулся на корабль, доложил капитану и потребовал распылить станцию. Я напомнил ему, что Фонд владеет половиной сателлита, и его уничтожение для нас убыток. И знаете, что он мне ответил? – Выдержав паузу, Тревельян небрежно усмехнулся: – Он сказал: честь дороже! Оба кни’лина побледнели еще больше и заговорили в унисон: – Достойный ньюри ошибается… – Никакого неуважения… – Зотахи здесь, чтобы обеспечить безопасность достойного… – Могар должен позаботиться о его багаже и проводить в отсек на земной половине… – Зотахи и Могар полны почтения… – Мы не виноваты, что наши достойные отдыхают… – Они очень много трудятся… – Они спускаются к дикарям каждые пять дней, а дикари так опасны!.. – Огромное напряжение… – Если достойный желает, мы вызовем еще слуг… Тревельян хлопнул в ладоши, что было знаком гнева. – Никаких слуг, парни! Равного мне сюда! И быстро, пока у нас с первым помощником не иссякло терпение! Могар что-то забормотал, склонившись к вороту комбинезона, – там, очевидно, находился микрофон. Зотахи в это время делал жесты почтения, приседая на широко расставленных ногах и вытягивая вперед руки, словно ему хотелось обнять скандального землянина как долгожданного и любимого брата. Впрочем, спектакль, разыгранный Тревельяном, к скандалу отношения не имел. В обществе кни’лина существовали жесткие понятия о рангах, о том, кто выше, а кто ниже, кто командует, кто подчиняется, кого стоит слушать, а чье мнение можно пропустить мимо ушей. Всякий новый человек, попавший в замкнутую группу, стремился показать, что его статус высок, что он относится к достойным, а не к служителям или – упаси Йездан! – простым работникам. Обычно это не создавало проблемы, так как о заслугах и ранге новичка в группе что-то знали или могли узнать, если речь шла о кни’лина. Землянин же был загадкой, и Тревельян, скорее всего, подвергался проверке. Раскрылась диафрагма лифта, и в шлюзовую камеру вошел человек в камзоле с широким воротником и богатой вышивкой, серых обтягивающих лосинах, высоких башмаках и с золотым украшением в виде перьев, что покачивались на левом плече в такт шагам. Он был коренастым, невысоким и широкоскулым – редкость для кни’лина, а глаза у него оказались совсем необычными, темно-карими, в густых ресницах. Но, несомненно, он являлся вполне достойной личностью, о чем говорили парадный наряд и властное движение руки, которым он, не прикасаясь к слугам, будто отодвинул их в сторону. – Да будет с тобой утренняя радость, ньюри. – Вымолвив это приветствие из Книги Начала и Конца, он присел, сгибая ноги в коленях. – Иутин, третий генетик. Я изучаю мутации терре и тазинто. Третий генетик! Не первый, не второй! – мелькнуло у Ивара в голове. Он было решил, что честь невелика и стоит потребовать персону поважнее, но тут лицо Иутина осветилось такой приветливой и жизнерадостной улыбкой, что все сомнения отпали. Тревельян тоже присел, вытянул руки и представился: – Ивар Тревельян, ксенолог и разведчик-наблюдатель. Со мной Джереми Шек, первый помощник капитана крейсера «Адмирал Вентури». Пусть утренняя радость сопутствует тебе, ньюри Иутин! То было малое представление, ибо, несмотря на пробудившуюся приязнь, большего третий генетик не заслуживал. К тому же в собственной его рекомендации ощущалось нечто неправильное, нечто такое, чего Ивар, не успевший вникнуть в жизнь Станции, пока не уловил. Подумав про себя, что обязательно с этим разберется, он помахал рукой Шеку. – Можно переносить багаж, лейтенант-коммандер. Гравиплатформа, сопровождаемая десантниками, проплыла через переходный модуль. Зотахи и Могар, подцепив контейнеры грузовыми клешнями, ловко перетащили их на свою платформу, убедились, что багаж не свалится, двинулись к лифтовой шахте и исчезли в ее широком проеме. Иутин снова присел, колыхнув золотыми перьями. – Имущество будет доставлено в твой отсек на земной половине. Если ты изволишь попрощаться со своими достойными спутниками, я провожу тебя туда. Пожимать руки или, тем более, хлопать по спине на глазах кни’лина было бы крайне невежливо, поэтому Тревельян только кивнул десантникам и отвесил более низкий поклон третьему помощнику. – До встречи, парни. Буду рад снова увидеться с вами, Шек. Передайте мою благодарность капитану, а Дембски скажите, чтобы не злился на меня. Как говорили латиняне, varium et mutabile semper femina.[8] Он бросил последний взгляд на соплеменников, повернулся и вслед за Иутином зашагал к лифту. Вход был почти таким же, как у стандартного земного подъемника, но шахта выглядела огромной, круглого сечения и метров двенадцати в поперечнике. Впрочем, это не означало, что лифт грузовой. Все помещения Сайкатской Исследовательской Станции, все ее отсеки, залы, переходы, рабочие лаборатории, хранилища и, разумеется, лифтовые шахты казались слишком просторными, раз в десять больше, чем любой земной аналог, будь то спальня, кабинет или обычный коридор. Кни’лина не любили приближаться друг к другу; как правило, соблюдалась дистанция в четыре-пять шагов, и нарушать ее считалось не просто невежливым, а даже оскорбительным. Разумеется, эта традиция действовала среди высшей касты и не относилась к слугам; в своем общении работники и служители больше походили на землян. Иутин оттолкнулся от порога и поплыл к дальней стене шахты, Ивар остался у входа. Их разделяло изрядное пространство, не мешавшее обмениваться вежливыми жестами и улыбками. Тревельян впервые встретил такого улыбчивого кни’лина – плешаки отнюдь не отличались ни душевной теплотой, ни внешним ее выражением. С другой стороны, нет правил без исключения, подумалось ему. Возможно, он встретил друга, который скрасит долгие месяцы командировки на Сайкат. Теплый ветер повлек их наверх. Под ногами зияла темная пропасть шахты. Световой кокон перемещался вместе с ними – светилась округлая стена, озаряя фигуры и лица людей ровным солнечным сиянием. Транспортный воздушный поток шевелил темные пряди Тревельяна, играл перьями на плече его спутника, развевал широкий воротник. Встречаясь с кни’лина, Ивар быстро привыкал к их внешности, особенно к отсутствию волос. Конечно, они не были плешаками и вовсе не казались лысыми; то и другое – понятия земные и, к тому же, канувшие в тысячелетнюю древность. Кни’лина выглядели вполне естественно без шевелюр и причесок, их черепа имели благородную форму, а кожа, бледная или чуть смугловатая, никак не напоминала плешь. Брови у них были тоньше и изящнее, чем у землян, ресницы – немного реже и длиннее. Они являлись такой же красивой расой, как бино фаата, другие близкие к людям гуманоиды, в далеком прошлом – смертельные враги Земли. Впрочем, кни’лина тоже не являлись воплощением миролюбия. – Земная секция жилого яруса, ньюри Ивар, – произнес Иутин одновременно с исчезновением воздушного потока. Пленка мембраны растаяла, и Тревельян вышел в слишком широкий и плавно изгибавшийся коридор, который, вероятно, тянулся по периметру станции. Стены здесь были из акрадейта, биопластика, поглощавшего в процессе жизнедеятельности пыль. Их приятный светло-кофейный оттенок гармонировал с золотистым солнечным пятном на потолке, пол, более темный, чем стены, чуть пружинил под ногами. Тишина тут стояла такая, что звенело в ушах, и после многолюдства «Адмирала Вентури», после шума офицерской кают-компании, после крохотной обители Кристы и ее теплого тела Ивар ощутил внезапную тоску. Ему предстояло прожить тут месяц-два, а может, больше, пока не явится земная экспедиция координатора Щербакова, и тогда земную половину сателлита наполнят привычные звуки, смех, голоса и шелест шагов. Это случится непременно, но сейчас, если не считать призрачного Советника в наголовном обруче, он был одинок, словно квант, летящий к другой галактике. Конечно, рядом с ним находились десятка два других квантов, но вряд ли они совпадали друг с другом по фазе. Иутин, шагавший справа на подобающей дистанции, свернул из коридора в круглый холл с куполообразным, имитирующим небо потолком. Вдоль стен тут были высажены деревья с серебристой листвой и покрытый алыми бутонами кустарник, среди растений стояли скамейки из пластика нежных расцветок, а в середине журчал, боролся с мертвой тишиной фонтан. В нишах, затененных зеленью, виднелись двери, тоже окрашенные в разные цвета, от багряного до нежно-фиолетового и белого. Но черный и синий среди них не попадались, и Тревельян припомнил, что у кни’лина основные цвета ассоциируются с временем суток и небесными явлениями. Черный назывался ночным цветом, белый – дневным, красный – утренним, то есть торжественным и радостным, желтый и зеленый – первым и вторым лунными, а синий – вечерним, траурным и печальным. Вероятно, строители станции знали, что в земных пределах черный цвет обозначает траур, поэтому он тоже был исключен. – Все растения – с северного сайкатского материка, – промолвил Иутин, делая широкий жест. – Красиво, не правда ли? Ты доволен? – Я счастлив, словно в моей душе порхает медоносный мотылек, – сказал Тревельян, перефразируя строфы из Книги Начала и Конца. Книга была основой йездан’таби, религии клана похарас. Впрочем, ни тоже относились к ней с большим пиететом. – Ты читал Йездана Сероокого? – с удивлением поинтересовался третий генетик. – Разумеется, ньюри Иутин. Я же специалист по гуманоидным культурам, занимаюсь социальной ксенологией. – На каких мирах ты побывал? – На многих. Осиер, Гелири, Пекло, Хаймор, Пта, Горькая Ягода… Не знаю, как они называются у вас. Еще посетил Харшабаим-Утарту. – Йездан великий! Ты был у хапторов? Ты должен рассказать мне об этом! – Непременно, – пообещал Тревельян. – Мы сядем здесь, у фонтана, откроем бутылочку вина и… Иутин вздрогнул. – Прости, ньюри, но мы не пьем ваши напитки. – О, конечно! Ты меня прости – я так забывчив! Держась на расстоянии пары метров друг от друга, они подошли к багряным дверям. Иутин коснулся створки, и она засветилась. Свечение было слабым – знак, что в комнатах никого нет. – Твои личные апартаменты, – произнес третий генетик. – Ты можешь распаковать багаж или отдохнуть. Времени хватит на то и на другое – мы спим дольше вас, людей. – Я найду, чем заняться, – прощаясь, Ивар согнул колени. – Благодарю, ньюри Иутин. Встретив меня, ты оказал мне честь. – Не слишком большую, ньюри Ивар. Я ведь зинто. С этими загадочными словами кни’лина удалился, оставив Ивара чесать в затылке. Он не знал, кто такие зинто, хотя готовился к этой экспедиции весьма основательно. Как ему помнилось, сведения о зинто в земных анналах отсутствовали. Наконец, решив еще раз покопаться в записях, Тревельян приложил ладонь к двери и, когда она отъехала в сторону, перешагнул порог. Первый зал его отсека был овальным, просторным и обставленным изящной мебелью из золотистого дерева: пяток треугольных столов и при них – широкие кресла или небольшие диваны, обтянутые кожей. В центре торчали на хромированных ножках голопроекторы, рядом был сложен багаж, пищевой раздаточный автомат и стенные шкафы в количестве дюжины были затянуты прозрачной пленкой, и за тремя арками виднелись другие помещения: ванная с круглым бассейном, спальня и кабинет. – Ну и хоромы! – пробормотал Тревельян, озираясь. – Что я тут буду делать? В теннис играть? Так ведь не с кем! Он обошел все комнаты – большие, в форме круга или эллипса, поскольку в помещениях кни’лина углов не имелось. Постоял у кровати, тоже круглой и такой величины, что в ней мог улечься орангутан, да не один, а с гаремом подруг. Сбросил комбинезон и башмаки, прошлепал к сумке с одеждой, вытащил плоский маленький контейнер, хранившийся между парадных кафтанов и, шепнув заветное слово, сдвинул крышку. Там лежала одна из его наград, полученных за Осиер, – Обруч Славы из платины с крупными изумрудами, и за центральным камнем, игравшим роль объектива, таился крохотный чип призрачного Советника и секретаря. В этом молекулярном устройстве хранились память и разум Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева, командора Звездного Флота и предка Ивара в девятнадцатом или двадцатом колене. Дед, как называл его Тревельян, воевал с половиной рас, известных человечеству его эпохи, и погиб героем в возрасте за девяносто, командуя крейсером «Паллада» в битве с дроми. В том сражении, произошедшем пять веков назад, три земных крейсера разгромили вражескую флотилию из семнадцати дредноутов и сотни малых кораблей, так что вблизи Бетельгейзе, где случилась та битва, до сих пор плавали обломки и клубился разреженный газ. Флагману «Паллада», идущему во главе крейсерского построения, досталось больше остальных – дроми пробили защитное поле, и плазменный язык, слизнув орудийную башню, добрался до рубки. Первый пилот и старший навигатор сгорели живьем, а командор лишился ног, печени, почек, левой руки и уха, но, поддерживаемый медицинским имплантом, продолжал руководить сражением, пока дроми, зеленокожих жаб, не размазали по всей космической окрестности. После этого он позволил себе истечь кровью, однако его разум, гигантский опыт и боевые таланты были сохранены в молекулярном кристалле. Тревельян, как любой из наблюдателей Фонда, имел право взять с собой Советника и обычно имплантировал его в висок. Но кни’лина относились к имплантам с большим подозрением, так что на этот раз деду пришлось устроиться в обруче. Он надел украшение на голову, поправил, чтобы сидело плотнее, и включил телепатическим импульсом. Общение с командором осуществлялось исключительно ментально – пожалуй, к лучшему, так как дед был крутоват и в выражениях не стеснялся. Но сейчас Советник оказался в благодушном настроении. «Где мы? – полюбопытствовал он, озирая зал сквозь изумрудный объектив. – Уже на станции?» – На ней. Неплохие у нас чертоги… Как полагаешь? «Да, кубрик не тесный, – заметил дед. – Научили мы плешаков уважать землян! А ведь как щеки надували, придурки лысые! Помню, когда я служил на „Свирепом“, и мы схватились с их лоханкой у Тизаны… – Он забормотал что-то неразборчивое, потом вдруг рявкнул: – Крейсер! Корабль Флота, на котором мы летели! Что с ним?» – Ничего, – сказал Тревельян. – Он, вероятно, уже отстыковался. «Желаю посмотреть!» Тревельян включил голопроекторы – они охотно повиновались командам, отданным на земной лингве – и велел настроиться на внешний обзор. Длинный серебристый корпус «Адмирала Вентури» тут же повис у потолка на фоне звезд и туманности Бивня; их отражения мерцали в зеркале брони, орудийные башни грозили Вселенной жерлами аннигиляторов. Переходной модуль был уже убран, и крейсер теперь не падал бесконечно на Сайкат, а с неторопливым величием отплывал подальше от станции, чтобы начать разгон перед прыжком сквозь квантовую пену Лимба.[9] Он был прекрасен – реальное воплощение силы Земной Федерации, ее могущества и власти в Рукаве Ориона.[10] «Салют, мальчуган! – проскрипел Советник. – Салют! Корабль этого достоин!» Тревельян покорно вытянул руку со стиснутым кулаком, а дед принялся рассуждать о совсем уж древней древности, о Войнах Провала и адмирале Вентури, личности героической и легендарной, оборонявшей земные колонии Тхар и Роон тысячелетие назад. Тем временем на корабле, носившем имя флотоводца, включили малый гравипривод, и крейсер, скользнув стремительно в космическую тьму, скрылся в направлении туманности. Дождавшись этого момента, Тревельян с облегчением вздохнул, сбросил все, что на нем оставалось, проследовал в ванную и залез в бассейн. Бассейн был невелик, метра три в диаметре, и явно рассчитан на одного человека. Над ним возникло пленочное зеркало, спустилось пониже, отразив лицо Тревельяна, и тот принялся рассматривать свои черты – нос с горбинкой, твердые контуры подбородка и губ, темные глаза и вертикальную морщинку меж бровями. На его сухощавом крепком теле не было ни волоска, но шевелюру он спас от эпиляции и не пожелал перекрашивать радужку глаз в серый или зеленый цвет. В тех мирах, где приходилось трудиться тайно, он старался походить на местных жителей, но здесь, на станции, это было лишним. К чему подделываться под кни’лина? Здесь он был и оставался человеком Земли. «Любуешься? – проворчал командор. – Ну-ну! Слишком уж вы стали холеные да гладкие, здоровье очень бережете и живете долго, вкусно, сладко. По другому, парень, нужно жить! Помнить, что смерть всегда ходит рядом – особенно промеж звезд и в чужих курятниках вроде этого». «Я помню, дед, – мысленно ответил ему Тревельян. – Ты ведь знаешь, какая у меня профессия. Забыть о смерти не дает». «По сей причине я тебя и выбрал среди своих потомков», – прошелестел призрачный голос и смолк. Через несколько минут Тревельян вылез из бассейна, обсох под теплым ветерком, поглядел на багаж и решил, что разбираться с ним будет поутру. Ложе в спальне показалось ему мягковатым; он отрегулировал гравиподвеску на «же» с четвертью и уснул, заблокировав дверь и не отключая обруча. Последняя мысль была о том, что дед, конечно, прав: в чужом курятнике смерть ходит рядом.Вопреки распространенному мнению, кланы кни’лина не являются нациями или чем-то им подобным. Несколько причин не позволяют сделать такое заключение. Во-первых, кланы есть образования искусственные, результат генетического эксперимента, осуществленного в эпоху Метаморфозы с единственной целью – спасти кни’лина от вымирания. Во-вторых, два основных клана ни и похарас, как и более мелкие, имеют общий язык (правда, с некоторыми особенностями). В-третьих, их обычаи, культура поведения, одежда, пища, погребальные ритуалы и так далее весьма похожи, а различия в этих сферах не достигают уровня тех барьеров, какие разграничивали в прошлом земные народы. Если же вспомнить о главном, то есть о генетическом различии между ни и похарас, то оно опять же не связано с земным понятием «народ», так как все расы и народы нашей планеты принадлежат к единому генетическому типу и при скрещивании дают потомство. Поэтому мы должны определить кланы как нечто отличное от традиционных понятий «раса», «народ», «нация», «племя» и рассматривать их как особую категорию, относящуюся исключительно к кни’лина и не имеющую аналогов в земной антропологии. П. Федоров, А. Георгадзе «Кланы кни’лина. Пример искусственной эволюции»
Глава 2 Кни’лина
Тревельяна разбудило громкое жужжание двери – какая-то ранняя пташка ломилась в его апартаменты, громко заявляя о своем присутствии. Он слетел с постели, бросился к сумке, чтобы отыскать халат, но вовремя вспомнил, что нагота у кни’лина не является предосудительной, особенно в утренний час. Пристроив на голову Обруч Славы и натянув трусы, Ивар, как был, босой и полуголый, встал перед дверью и велел показать визитера. Дверь обрела одностороннюю прозрачность. За ней стояла невысокая тощая женщина, облаченная в сайтени – шорты с майкой, являвшиеся у кни’лина рабочим одеянием. Костлявые ноги с мосластыми коленями торчали из широких штанин, плечи были по-мужски широкими, грудь плоской, а лицо, почти безгубое, с резкими чертами и внушительным носом, грешных мыслей отнюдь не будило. Вообще-то плешаки считались импозантной расой, но этот экземпляр был, пожалуй, исключением, что ранило Тревельяна, поклонника женской красоты. – Разрешаю войти, – сказал он, отступая подальше, к центру овального зала. Дверь сдвинулась, дама вошла и окинула его подозрительным взглядом мутноватых и слишком близко посаженных серых глаз. Казалось, ей предстоит исполнить некую миссию, малоприятную, но совершенно необходимую. В кулаке она сжимала какой-то прибор, похожий на старинный пистолет: широкая короткая трубка с массивной рукоятью и спусковой скобой. Чуть согнув колени в знак приветствия, женщина промолвила: – Найя Акра, психолог, похарас. – Голос у нее был резкий, словно водили ножом по стеклу, и благозвучная речь кни’лина в ее устах звучала карканьем. «Вобла сушеная, уродина и глазки в кучку», – прокомментировал командор. Пока Тревельян соображал, не пожелать ли Найе Акра, психологу, утренней радости, она отвернулась, посмотрела на его багаж и буркнула: – Достойный Джеб Ро, координатор, велел мне проверить твое снаряжение. Что в этих контейнерах? Ни достойным, ни ньюри, то есть ученым-экспертом, она его не назвала. Но Тревельян мог многое простить женщине, даже некрасивой. Присев и вытянув руки, он вежливо представился: – Ивар Тревельян, Фонд Развития Инопланетных Культур, ксенолог. Прибыл согласно договоренности между Фондом и научным департаментом Хорады. Приму посильное участие в вашей рабо… Это, как и в случае с Иутином, являлось малым представлением, но договорить ему не дали: Найя Акра ткнула трубкой в сторону багажа и снова проскрипела: – Что в этих контейнерах? «Похоже, мальчуган, тебе сейчас поставят клизму», – ехидно заметил дед. «Вряд ли», – отозвался Тревельян, а вслух произнес на диалекте клана похарас: – Так, всякие мелочи. Психолог огладила ладонью голый шишковатый череп, подняла взгляд к потолку и сообщила: – Йездан велик! По упомянутой тобой договоренности земляне не должны проносить на станцию оружие. Роботы и импланты, кроме жизненно необходимых, тоже под запретом. Повторяю вопрос: что в твоих контейнерах? – В этом, – Тревельян коснулся самого тяжелого и большого ящика, – продукты питания. Концентрат из овощей, фруктовое пюре и сублимированное мясо. – Плоть животных, – презрительно скривилась Найя Акра. – Именно, достойная. Еще вино – коньяк на нашем языке. – Он послал психологу нежную улыбку. – Хочешь попробовать? В отличие от Иутина, она не дрогнула, а лишь скривилась еще сильнее и пробормотала: – Мерзкие привычки мшаков… Йездан сказал: у протянувшего руку к запретному да будет она полна пыли. – У каждого есть своя чаша с ядом, ньюри, – парировал Тревельян, припомнив максиму из Книги Начала и Конца. Но его познания в религии похарас остались незамеченными. – Зачем тебе еда? – сказала Найя Акра, направив на контейнер луч из своего прибора. – Ты думаешь, у нас ее недостаточно? На станции обширные запасы. Есть даже тинтахское безалкогольное вино. – Мой метаболизм требует спиртного. Есть еще вопросы? – Есть. Осталось два контейнера и этот тюк. – Контрольный луч переместился к сумке. – В тюке моя одежда. В плоском ящике летающее крыло, в последнем – научное и походное оборудование. – Летающее крыло? – Да. Нечто вроде гравипланера. – Зачем, во имя Сероокого? – Для наблюдений с воздуха. – В экспедиции имеются более совершенные средства. – У каждого свои методы, – возразил Тревельян, глядя, как луч обегает контейнеры. На последнем ящике световое пятно задержалось. – Здесь твое оборудование? Что в него входит? – Компьютер, аптечка, транслятор, голокамеры, справочная библиотека на кристаллах. Скафандр, палатка, комплект походных принадлежностей – нож, топор и… – Вибронож или лазерный хлыст? – Нет, ньюри. Обычное стальное лезвие. – Компьютер с искусственным интеллектом? – Отнюдь. Примитивная машина для обработки записей и архивации отчетов. – Что еще? – Еще устройства для связи и полевых наблюдений. – Устройства для полевых наблюдений… – В голосе Найи Акра послышался металлический лязг. – Вы нам не доверяете? – Почему же? Но у нас был свой пророк вроде Йездана Сероокого, и он учил: доверяй, но проверяй. – Ладно. – Психолог уставилась на Тревельяна, и он догадался, что ей ужасно хочется ткнуть в него лучом. Хочется, но нанести такое оскорбление она не решилась и лишь спросила: – Импланты? Боевых нет? – Только медицинский. Здесь, слева под ребрами. – Ивар хлопнул по голому животу. – А этот наголовный обруч? – Почетная награда. Я надел ее в знак уважения к тебе, ньюри. Сухо кивнув и не сказав ни слова, Найя Акра выключила свой аппарат. «Про меня не догадалась», – дошла до Тревельяна мысль Советника. Следуя земным инстинктам, он шагнул к психологу, но та поспешно развернулась и направилась к двери. – Погоди, достойная! У меня тоже есть вопросы. – Да? – спросила она, не оборачиваясь. – Я должен представиться Джебу Ро и прочим специалистам. Мне нужен весь накопленный вами материал. Надо договориться о вылазке на планету, о полевых исследованиях, а также… – Не моя компетенция. Свяжись с помощником координатора. Психолог исчезла. – Ну, какие впечатления? – спросил Тревельян. «Стервозная баба, – отозвался дед. – Ты слышал о Тени Ареопага? Так вот, она, похоже, из его ведомства». Ареопаг являлся исполнительным и совещательным органом при императоре похарас, а Тень Ареопага заведовал разведкой. Но вряд ли Найя Акра входила в его штат – туда подбирали людей безукоризненно вежливых и не таких подозрительных. Командор вздохнул – разумеется, ментально. «Жаль мне тебя, паренек. С этими плешаками каши не сваришь. Даже бутылку распить тебе не с кем». – Могу с тобой. «Только виртуально», – снова вздохнул Советник. Время было еще раннее, и Тревельян, натянув штаны, повозился немного, разбирая багаж. Вытащил плоскую панель компьютера с контактным шлемом, нашел сетевое гнездо и подключил свою машину к искусственному интеллекту Станции. Развесил в шкафах одежду, расставил оборудование и кое-какие приборы, загрузил продукты в раздаточный автомат. Проголодался и, решив отведать что-нибудь из местных блюд, заказал курзем, фруктовый коктейль «Три сестры» и бокал зеленого тинтахского вина. Курзем из мясных грибов и коктейль оказались просто изумительны, но к вину Тревельян долго принюхивался и отхлебнул лишь пару глотков. Этиловый спирт и любой алкоголь были для кни’лина сильным ядом, однако культура питья у них существовала – возможно, даже более изысканная, чем на Земле. Ее основой являлись смеси соков, как правило безобидных или с легким наркотическим эффектом, похожим на действие крепкого чая. Искусство составления коктейлей ценилось очень высоко и культивировалось в обоих кланах, ни и похарас. Был и напиток из ягод лозы, подобный вину цветом и запахом, но содержавший вместо спирта неизвестный алкалоид. Производился он не у кни’лина, а на Тинтахе, одном из миров лоона эо, древней мудрой расы, что контактировала с Земной Федерацией около тысячелетия. Действие тинтахского на людей было изучено плохо, хотя в старину, в период активной космической экспансии, его, как помнилось Тревельяну, вроде бы пили. Напитки автомат выдал в токарах, чашах из тонкого, почти прозрачного небьющегося фарфора, грибной курзем – в тока, вытянутой ендове с ручкой; есть его полагалось токати – щипчиками, концы которых походили на чайные ложечки. Тревельян ловко управлялся с ними и не пронес ни кусочка мимо рта. Несмотря на изобилие блюд и роскошную кухню, ритуал еды у кни’лина был довольно простым: посуда – тока и токары, универсальный столовый прибор – токати. Впрочем, поесть они любили не меньше землян. Отправив посуду в щель автомата и приказав компьютеру включить голосовую связь, Ивар затребовал штатный список экспедиции. Достойных персон, то есть специалистов с высшим статусом, набралось десяток, и столько же здесь было слуг, выполнявших технические обязанности. Их лица проплыли в голопроекции, возникая и угасая в центре зала, и в такт появлению этих картин тихий компьютерный голос называл имя и род занятий каждого: Джеб Ро, координатор экспедиции, палеонтолог. Явно аристократ похарас, отметил Тревельян; староват, но бодр и важен, как индюк. Первый Лезвие, субкоординатор, антрополог. Разумеется, ни; властный взгляд, надменные черты, презрительно сжатые губы. ЗендУна, лингвист. Худощавая физиономия, впалые щеки, глаза фанатика. Похарас. Второй Курс, биолог, ни. Тип, похоже, заурядный; увидишь такое лицо и через секунду забудешь. Третья Глубина, первый генетик, ни. Весьма красивая дама, но, вероятно, строгих правил: глядит, как гвозди заколачивает. Ифта Кии, второй генетик, аристократка похарас. Прелестная женщина: уста алые, глаза зеленые, личико будто выточено из алебастра. С этой стоит подружиться, решил Тревельян; на пуританку непохожа. Найя Акра, психолог. В голографии выглядит ничуть не лучше, чем живьем. Похарас, но, как и Зенд Уна, не из сословия аристократов. Четвертый Пилот, ни, картограф. Похоже, самый старый в экспедиции: физиономия морщинистая, глаза под набрякшими веками смотрят устало. Первую сотню лет точно разменял. Пятый Вечерний, ботаник. Мрачноватый ни с самой злодейской рожей, мощной шеей и бугристым черепом. Имя, вызывавшее ассоциации с кладбищем и мертвецами, вполне ему подходило.[11] Иутин, третий генетик. Почти приятель, подумал Ивар, быстро проглядывая изображения слуг и стараясь запомнить их имена: Зотахи и Могар уже знакомы, а кроме того – Пайол, Тикат, Шиар, Эвект, Гиббех, Аткайя, Ори и Инданга. Все из клана ни, будто похарас не пожелали затруднять своих служителей. Закончив просмотр, Тревельян облачился в ярко-желтое трико и камзол лимонного цвета с вышитыми на груди наградами, встал перед камерой и произнес: – Ивар Тревельян, ксенолог, желает связаться с ньюри Первым Лезвием. – Субкоординатор Первый Лезвие принимает ванну, – ответил безликий голос кибернетического секретаря. – Вызов зафиксирован. – И что это значит? Голос изменился, став внезапно глубже и благозвучнее. Теперь с Тревельяном говорила Сайкатская Исследовательская Станция – вернее, управлявший СИСом искусственный Мозг. – Субкоординатор ответит достойному ксенологу в самое ближайшее время. По земному счету в течение полутора часов. Ивар раздраженно хмыкнул, но деваться было некуда – ритуал официального знакомства полагалось свершить по полной программе, в парадных одеждах и при орденах. В штате СИС он должен занять третью позицию или разделить ее с лингвистом Зендом – третью, и не ступенью ниже! Он обладал этим правом как представитель земного Фонда и опытный разведчик-наблюдатель. Снова вызвав череду будущих коллег, он полюбовался очаровательной Ифтой Кии и, добравшись до конца списка, начал разглядывать Иутина. Скулы широкие, глазки карие… Неординарная внешность для ни или похарас, да и для любого другого клана! К какому он относится сообществу?.. Однако Ивар не смог определить принадлежность третьего генетика, и это его смущало. Вообще-то кланы кни’лина являлись образованием искусственным, не имевшим аналога в земной истории, так что отождествлять их с нациями или, тем более, с расами не приходилось. В древности население Йездана, их материнской планеты, было однородным, распространившимся по континентальной суше и многочисленным островам. Тогда, на заре космических полетов, Йездан обладал одним естественным спутником, потом захватил вторую луну, крупный астероид, чудом не свалившийся в океан или на единственный материк обитаемого мира. Но катаклизм все же случился приличный: волны цунами смыли города, растаяли льды на полюсах и пробудились вулканы, пыльные тучи закрыли небосвод. Цивилизация пала, и на ее руинах начались волнения, свары и бунты, а затем, как то в обычае у гуманоидов в тяжелую годину, полномасштабная война. Спустя столетие страсти чуть успокоились и даже наметился прогресс, но тут на выживших обрушилась болезнь. Она была неизлечимой, имела характер пандемии, распространялась стремительно, и население материка стало вымирать. На океанских островах сложилась ситуация получше – там объявили карантин, сели в блокаду и жгли любой корабль, любое воздушное судно, не допуская к своим берегам чужаков. Это не могло предотвратить пандемию, но обеспечило время биологам и медикам для разработки вакцин, а затем и более радикальных мер спасения: жители двух крупнейших островов Ни и Похарас и ряда мелких подверглись генетическому преобразованию, став недоступными недугу. На каждом острове врачи трудились в изоляции, и разработанные методы, как и последствия метаморфозы, были различны; она повлияла на высшую нервную деятельность, репродуктивный аппарат и эндокринную систему. Когда блокаду сняли и началось заселение материка, эти различия в психике, физиологии и темпераменте вскоре проявились с полной очевидностью. Похарас и члены мелких родственных кланов были эмоциональны, религиозны, чувственны и склонны к созерцанию; у ни рациональное начало превалировало, они обладали острым умом, техническим даром и воинственностью. Форма власти у похарас напоминала просвещенную монархию, тогда как ни являлись стойкими приверженцами технократии. Кроме того, любовная связь между партнерами из разных кланов была, как правило, бесплодной. Тысячелетия сгладили разницу в психике, но кланы в единый народ не слились. Они обитали на единой территории, на континенте и островах Йездана, но вновь заселяемые миры принадлежали только ни или похарас. Их политика была независимой – так, с Землей воевали ни, более крупный и мощный клан. Имелись два органа власти – Ареопаг при императоре похарас и группа лидирующих технократов ни (был еще координирующий центр, нечто наподобие третейского суда); похарас держали миссию на Луне, в Посольских Куполах,[12] а ни избегали контактов с землянами; похарас были религиозны и верили в божественность Йездана,[13] тогда как ни являлись атеистами, считавшими Йездана просто древним мудрецом-философом. Словом, различия были, но это не мешало ни, похарас и двум десяткам мелких кланов как-то уживаться на Йездане и в пределах собственного сектора влияния.[14] Возможно, имелись у них какие-то разногласия, но об этом Тревельян не знал. Правда, сотрудники ФРИК не изучали кни’лина, как и хапторов, дроми, лльяно, сильмарри, метаморфов, парапримов и другие звездные народы, владевшие техникой перемещения в Лимбе. Заботой Фонда являлись меньшие братья, примитивные дикие расы, прозябающие в невежестве, которых надлежало развивать и приобщать к наукам и искусствам с помощью деликатного воздействия в несколько эстапов.[15] Что до плешаков с Йездана, то они в развитии не нуждались и относились не к меньшим братьям, а к конкурентам и соперникам. Ряд организаций на Земле и в наиболее продвинутых колониях изучали их культуру и историю, обычаи и языки, занимались их экономикой, техникой и оценкой военного потенциала, но это были не институты ФРИК, а совсем другие ведомства – к примеру, разведка Звездного Флота. Возможно, там знали больше о кни’лина. Кто же ты, третий генетик?.. – размышлял Тревельян, всматриваясь в улыбчивое широкоскулое лицо. Внезапно вспомнилось ему представление Иутина и то, чего он не сказал: имя, статус, профессия – все было ясно обозначено, а клан опущен. Странный нюанс! При первом знакомстве кни’лина всегда называли клановую принадлежность, что являлось правилом этикета, обязательным и в том случае, когда имя, одеяние и внешность сами собой говорили о клане. Правда, потом Иутин уточнил: я – зинто… – Станция! – произнес Тревельян. – Слушаю, ньюри, – отозвался Мозг. – Кто такие зинто? Молчание. Оно продлилось пару секунд, но, с учетом скорости обработки данных, искуственный интеллект раздумывал не меньше часа. Затем произнес: – Информация не может быть выдана, ньюри Тревельян, так как затрагивает внутренние дела расы кни’лина. – И что с того? – Согласно договоренностям между Земной Федерацией и Хорадой, подобные сведения не передаются той или другой стороне без санкции правительств. Это относится к любым источникам информации, книгам, фильмам, памятным кристаллам и компьютерам любого уровня. «Здесь тебе ничего не обломится», – заметил командор, и Тревельян согласно кивнул. Даже примитивный робот не смог бы сообщить запретных данных, а Мозг станции был устройством интеллектуальным, чей уровень наверняка превосходил порог Глика-Чейни.[16] Попытка нарушить базовые инструкции означала для него самоуничтожение. – Поищу ответ в литературе, – буркнул Тревельян и снова просмотрел экспедиционный список. Несомненно, специалисты были в нем перечислены по убыванию статуса, от Джеба Ро до Иутина, стоявшего ниже картографа и ботаника. Таким был порядок у плешаков: в каждом замкнутом коллективе существовала строгая иерархия, причем в ее рамках ни создавали собственную группу. У них подчиненность отражалась даже в именах, к которым добавлялось: Первый, Второй, Третий и так далее. В группе СИС Первым был антрополог Лезвие, а Пятым – ботаник Вечерний, но в других обстоятельствах и группах эта нумерация могла измениться. Похарас имели двойные имена, и иерархия в их команде была не столь явной, определявшейся благородством происхождения, заслугами и близостью к лидеру группы. Служители и работники ни и похарас, как и в прочих кланах, носили одно имя; этимология этих имен, как помнилось Тревельяну, восходила к глубокой древности, к эпохе до глобальной катастрофы. В строгом иерархическом перечне Иутин являлся загадкой. Не похарас или ни и не слуга… Член какого-то малого клана?.. Но почему он его не назвал? – Загадочный тип, – промолвил Тревельян. – Третий генетик, а изучает мутации туземцев, причем в обеих группах… Вроде бы не по чину! «Разве?» – полюбопытствовал командор. – Градиент изменений в данном случае – важнейший фактор. Идут ли мутагенные процессы с равной скоростью в обеих популяциях или одна отстает от другой? Прогрессивны или регрессивны эти перемены? Зависят ли они от ареала обитания, то есть от климата, рельефа местности, богатства охотничьих угодий? Есть ли корреляции с особенностями биоценоза? Тонкие вопросы, дед! Проблемы для первого генетика… ну, в крайнем случае, для второго. «Первый и второй – обе бабы, – заметил призрачный Советник, – и разум у них не в голове, а между ног». – Ты не прав. Женщины, они… – начал Тревельян, но тут в центре зала, среди стоек голографических проекторов, вспыхнуло голубое сияние, и безликий голос компьютера-секретаря сообщил: – Ньюри Первый Лезвие желает связаться с ньюри Тревельяном. – Разрешаю связь. Сказав это, Ивар с живостью поднялся с диванчика, одернул камзол и выпятил грудь с вышитыми серебром и золотом наградами. Такие камзолы, как и слишком пышные украшения, на Земле давно уже вышли из моды, но у дипломатов, ведущих дела с кни’лина, они являлись рабочей униформой. В хранилищах Фонда тоже был целый кни’линский гардероб – на случай совместных экспедиций. Голубой туман исчез, уступив место рослой фигуре субкоординатора в кафтане утреннего цвета, с золотыми спиральными браслетами на предплечьях и роскошными наколенниками. Он оказался точно таким, как в голографии: высоколобый крупный череп, пронзительные серые глаза, сурово стиснутые губы. Хоть он явился в парадных одеждах, но всем своим видом показывал, что удовольствия от встречи с землянином не испытывает. Тревельян согнул колени. – Утренней радости тебе, достойный! Я Ивар Тревельян, социоксенолог и разведчик-наблюдатель Фонда Развития Инопланетных Культур, Земля. Кавалер Почетной Медали, Венка Отваги и Обруча Славы, специалист по гуманоидным сообществам. До появления наших исследователей я представляю здесь Фонд. Моя позиция среди его лидеров – в первой сотне. – Первый Лезвие, антрополог, ни, – произнес субкоординатор, чуть присев. – Носитель звания Звезда Эрцгаммы. Занимаюсь морфологией[17] примитивных рас. Он ответил полным представлением, и значит, формальности были соблюдены. Правда, глядел при этом так, будто Тревельян относился к этим примитивным расам. – Упомянуто тобой, – молвил субкоординатор после паузы, – что ты в первой сотне среди возглавляющих ваш Фонд. Прошу уточнить, в какой половине этой сотни. – Ближе к началу, чем к концу, – с гордостью произнес Тревельян, что было святой истиной. Он не входил в число консулов-администраторов, крупных ученых и теоретиков, но считался одним из лучших и самых удачливых полевых исследователей. Возможно, самым лучшим, и только два недостатка мешали признать этот факт: склонность к юмору и слабому полу. – Надеюсь, ты быстро приобщишься к нашим работам, – сказал Первый Лезвие. – В этом моя цель, – подтвердил Тревельян. – Я хотел бы просмотреть материалы, собранные вашей группой, и представиться всем специалистам. Кроме того, договориться о вылазке на планету. – Материалы, пока без решающих выводов, хранятся в запоминающем устройстве, и я перешлю тебе коды доступа. Очередной полет на северный материк, в наш базовый лагерь, запланирован через восемь дней. Что же до представления… – Носитель Звезды Эрцгаммы с задумчивым видом уставился в пол. – Думаю, это нужно сделать во время совместной трапезы. Кажется, у землян есть такой обычай? – Да, ньюри. – Еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым, – процитировал Первый Лезвие Книгу Начала и Конца и исчез. «Намечается банкет? – раздался ментальный голос Советника. – Придется тебе ползать на коленках! Еще и задницу отсидишь». – Как-нибудь выдержу, – сказал Тревельян, сбросил свои роскошные одежды и потянулся к комбинезону. Потом зарядил в компьютер обойму с кристаллокнигами и начал быстро их просматривать. Библиотека, которую ему подобрали в этнографической секции Фонда, была неплохой и весьма содержательной. Кроме «Большого Звездного Атласа» с координатами и описанием планет и звезд, кроме прочих технических справочников, кроме словарей диалектов ни и похарас, сборников сленговых выражений, идиом и жаргона слуг, в ней содержались труды солидные, классические: оригинал и перевод Йездановой Книги Начала и Конца, монографии Мицубиси «Жизнь на четвереньках» и Чезаре Биано «Пять дней в Посольском Куполе кни’лина», обширные работы Федорова и Георгадзе «Кланы кни’лина. Пример искусственной эволюции», Бонджипадхала «Аналогии между буддизмом и йездан’таби», Та-цзуми и Дворкина «Кни’лина. История, обычаи, верования». Имелись даже «Кухня кни’лина» Жака Жироду и «Другая любовь. Сексуальная практика гуманоидных рас» Ричарда Клейста. Тревельян просканировал все в режиме поиска, от «Кухни» до «Сексуальной практики», но упоминаний о зинто нигде не нашел.Понятие личного пространства (коно) является одним из основополагающих в культуре кни’лина, как похарас, так и ни. Коно – область в четыре-пять шагов, куда не имеет права вторгаться другой индивидуум – никто, кроме слуг, медиков и очень близких лиц (как правило, состоящих с носителем коно в сексуальной связи). Возникновение этого обычая относят к периоду до Метаморфозы, к эпохе пандемии, опустошившей материк Йездана и чуть не сгубившей остатки населения, которое ютилось на островах. Смертоносный вирус передавался многими путями, в том числе воздушным, и приближаться друг к другу было опасно. Та-цзуми, И.Дворкин. «Кни’лина. История, обычаи, верования».
Глава 3 Станция и планета
Сайкатская Исследовательская Станция, общая база землян и кни’лина, имела форму диска, разделенного внутренней палубой на два яруса. Нижний, всегда обращенный к планете, считался техническим, верхний – жилым, и в его иллюминаторах сияло солнце Сайката и блестели крохотные искры звезд. По окружности каждого яруса шла кольцевая галерея, внизу – высокий и широкий коридор, загроможденный оборудованием, вверху – коридор более скромных размеров, но со стенами приятной расцветки, украшенный зеленью, фонтанами и световой объемной живописью, исполненной в традициях похарас. Нижняя галерея делилась на шлюзовые отсеки с транспортными капсулами, двигательные отделы и помещения с энергетическими подстанциями, питавшими биоизлучатель и аппаратуру дальней связи. Центральную часть нижнего яруса занимали склады, блоки системы жизнеобеспечения и генератор Лимба, снабжавший станцию энергией. Верхняя половина казалась гораздо интереснее. Коридор здесь состоял из пары огромных «подков», изолированных друг от друга – секции землян и секции инопланетных коллег. К каждой примыкали три просторные площадки с выходившими к ним каютами, невероятно большими по земному понятию, но отвечавшими вкусам и обычаям кни’лина. Пройти от одной секции к другой можно было лишь через середину станции, где находились централь управления, лаборатории, парк, зал собраний, виварии и несколько еще не занятых отсеков. В централи, у многочисленных пультов и искусственного Мозга, несли вахту слуги клана ни, обычно Зотахи, Шиар или Эвект, техники систем жизнеобеспечения. Рядом с централью располагалась камера, запечатанная кодами ФРИК и Хорады, – из нее управляли биоизлучателем, задействовать который предполагалось только при полном консенсусе обеих рас. В зависимости от настройки, излучение могло стимулировать мутации терре или тазинто, ускорив эволюционные процессы, в своем естестественном течении занявшие бы тридцать или сорок тысяч лет. Такой эксперимент стал бы первым в своем роде и, при удачном стечении дел, поднял бы авторитет Йездана и Земли в галактическом сообществе. В лабораториях, удобных и прекрасно оснащенных, обрабатывали биологический материал, вели изучение физиологии и психики аборигенов, их потенции к развитию, миграций и роли окружающей среды. На Сайкате было три материка – северный, юго-западный и юго-восточный, и только северный был населен. Этот континент являлся самым крупным, вытянутым в широтном направлении и превышающим площадью Евразию; южные, в половину Африки, отделялись от него и друг от друга тысячекилометровыми проливами. В парке, которым заведовал Пятый Вечерний, росли деревья, травы и кустарники с северного материка, несколько сотен разновидностей, с ландшафтами, имитирующими степной, лесной и горный биоценозы. К парку примыкали виварии с сайкатскими животными и птицами – из тех, что безобидны; хищников и ядовитых гадов Джеб Ро, координатор, ввозить запретил. Впрочем, материала для генетиков было вполне достаточно. Именно в парке, на третий день пребывания на станции, Ивар встретился с коллегами. Стол накрыли в большом павильоне у границы леса и степи, и каждый мог полюбоваться необъятной голографической далью, что открывалась за морем золотистых трав. Четыре перемены блюд плюс закуски, соки и тинтахское вино делали банкет вполне достойным представителя Земли, хотя большой сердечности во взглядах и речах не наблюдалось. Для человека не столь подготовленного, как Тревельян, пиршество кни’лина было нелегким испытанием. Скрестив ноги и выпрямив спины, они сидели на ковре перед небольшими столиками, и слуги Ори и Тикат, переползая от одного достойного к другому, неторопливо меняли токары и тока с питьем и едой, обходясь без помощи роботов и гравиподносов. Вставать не полагалось, ибо в быту кни’лина почти не использовали мебель, и эта сторона их жизни проходила на коленях, что было весьма похоже на традицию японцев. Живые слуги считались знаком особого почтения к гостю, как и парадные одежды, султаны из перьев, диадемы и браслеты. Место Тревельяна тоже было почетным – третье от координатора Джеба Ро. Низкие треугольные столики располагались метрах в трех друг от друга, и этот порядок нарушался лишь единожды: Джеб Ро и Ифта Кии сидели рядом. Увидев это, Тревельян вздохнул; такая близость означала, что красавица – под личным покровительством координатора. Он был немолодым, но представительным мужчиной: широкие плечи, гордая посадка головы, холеное лицо и властный взгляд. То, как он поднимает бокал, берет токати пищу или поворачивает голову, казалось исполненным внутренней мелодии: величественный вид, изящная поза, плавные медленные телодвижения. Истинный аристократ похарас! Другие выглядели проще, особенно люди клана ни. Второй Курс, биолог с самой заурядной внешностью, едва прикоснулся к изысканным блюдам, но налегал на тинтахское; Третья Глубина, стройная женщина с холодными глазами, ковыряла щипчиками в чаше, будто исполняя неприятный долг; Четвертый Пилот, морщинистый и сухощавый, ел и пил умеренно и временами так поглядывал на Тревельяна, будто целился из игломета ему в лоб. Ботаник Пятый Вечерний, огромный детина с мускулатурой борца и разбойничьей рожей, опустошал токары и тока с полным равнодушием, не поднимая глаз на сотрапезников. Найя Акра, психолог похарас, уже знакомая Ивару, вела себя загадочно – при каждой перемене блюд делала странные жесты, как бы разбрасывая по сторонам горсти невидимого песка. На ее тощей физиономии застыло выражение брезгливости. Говорили трое – Джеб Ро, Первый Лезвие и лингвист Зенд Уна. Беседа вгоняла Ивара в тоску, так как подчинялась строгим правилам: координатор высказывал некую мысль, Первый Лезвие ее развивал, потом лингвистом добавлялась заключительная фраза, и троица ждала, что ответит гость. Самым ценным в этом вялом разговоре была информация о предстоящих полевых работах. Джеб Ро сообщил, что вылетит на планету дней через пять и возьмет с собой земного ньюри; субкоординатор добавил, что для большей безопасности надо прихватить других достойных – предположим, Иутина и Второго Курса; затем лингвист принялся описывать местность вблизи базового лагеря и племена тазинто и терре, что жили окрест. Когда его речь завершилась, Ивар, сделав жесты благодарности, сказал, что готов хоть завтра отправиться на Сайкат. Трапеза длилась четыре с лишним часа, и за это время Тревельяну улыбнулись дважды; оба раза – Иутин. Вероятно, он не хотел, чтобы это заметили, и потому его улыбки были быстрыми и робкими. В последнем Тревельян не сомневался: расположение лицевых мышц у кни’лина было таким же, как у землян, и мимика не отличалась от человеческой. Он улыбнулся в ответ и даже подмигнул. Пир закончился, кни’лина поползли друг за другом к выходу, где Тикат и Ори, почтительно приседая, помогали им встать с коленей. У Тревельяна тоже затекли поясница и ноги, но он поднялся сам и прислонился к стене павильона, глядя на удалявшихся коллег. Большей частью на Ифту Кии, которая сзади была не менее очаровательна, чем спереди. «Слюни пускаешь? – спросил пробудившийся дед. – Не советую. Эта киска уже при котике». – Ты меня с этим индюком не равняй. Нет дамы, чтоб устояла перед десантом, – отозвался Тревельян и перевел беседу в деловую плоскость: – Ну, какие впечатления? «Гадючник», – резюмировал командор и смолк. Тихо ступая, приблизился Иутин, остановился в пяти шагах, вежливо согнул колени. На плече его парадного камзола трепетали золотые перья. – Любуешься на второго генетика, ньюри Ивар? – Можно без ньюри, – сказал Тревельян и, помолчав, добавил: – На Земле считают, что всякая женщина – средоточие красоты, и достойна того, чтобы ею любовались. Иутин насмешливо прищурился. – Даже Найя Акра? – Почему бы и нет? У нее… хмм… очень стройная фигура. – Слишком стройная. Женщину украшают округлости – конечно, в нужных местах. Дождавшись, когда исчезнет процессия кни’лина, они зашагали по тропе через луг, поросший густыми золотисто-зелеными травами. Позади, за павильоном, стеной вздымался лес, деревья с темными корявыми стволами напоминали дубы, со светлыми – березы, а коленчатые тростники с узкими длинными листьями казались такими же, как земной бамбук. Чуть правее, где начинался горный ландшафт, торчали среди базальтовых обломков ветви колючего кустарника и мельтешили какие-то мелкие создания, точь-в-точь как ящерки на солнцепеке. Все вроде бы так, как на Земле… Этот эффект был знаком Тревельяну: глаз, в тоске по земному, выхватывал привычные детали, не желая замечать чужого, непонятного и странного. Но он, будучи разведчиком, обладал искусством более верного зрения и сразу воспринимал иное и отличное: листья «дубов», формой подобные маленьким ладоням с растопыренными пальцами; трещины в стволах «берез», из которых сочилась алая смола; синие цветы, гнездившиеся на вершинах «бамбуков»; рогатые трехглазые мордочки «ящериц». Тут была не Земля, а копия Сайката – точнее, приближение к ней, откуда удалили все клыкастое, когтистое, ядовитое, все опасности девственного мира, оставив только его красоту. Но расслабляться все равно не стоило. – Я хотел бы… – нерешительно начал Иутин, когда они шагнули на каменистую осыпь. – Да? – Сказано Йезданом Серооким: того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру. И еще он сказал, что страданий больше, чем радостей, и главные из них – унижение и попранная гордость, боль разлуки и одиночество. Униженный подобен мертвецу в погребальном кувшине; не видит он красок мира, не слышит звуков его и не вдыхает ароматов, и перед ним – лишь ухмылка обидчика. Но одиночество еще больней. Одиночество жалит душу, и потому… «Красиво излагает, – заметил командор. – Как думаешь, что ему нужно?» «В гости хочет пригласить», – мысленно пояснил Тревельян. «И только? А маневрирует как при посадке с разбитым реактором!» «Таков ритуал. У них, дед, все непросто». Осыпь легла позади, они окунулись в голографическое небо и вынырнули в галерее сектора кни’лина. Вышли прямо из световой картины, изображавшей Йездана с закрытой Книгой в правой руке. Иутин закончил длинную речь о муках и страданиях и, наконец, сказал: – Раздели мое одиночество, ньюри Ивар. Окажи честь, посетив мое жилище. Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится… – …радостью встречи, – продолжил Тревельян максиму из Книги Начала и Конца. – Я просил обходиться без ньюри. Официоз у нас не принят, особенно среди желающих стать добрыми знакомыми. – Я понял, Ивар. Они миновали ответвление к круглой площадке с фонтаном, немного другим, чем в земной секции. – Кто здесь живет? – спросил Тревельян. – Похарас, все четверо. В следующем отсеке – ни, а в третьем и последнем – слуги. – Где же твое жилище? – В отсеке между похарас и ни. – Значит, ты не тот и не другой? – Правильное заключение. Я, Ивар, ветвь того же древа, но растущая у самых корней. Мой статус ниже, чем у Пятого Вечернего. – Иутин смолк, затем, искоса взглянув на Тревельяна, спросил: – Ты все еще хочешь посетить мое жилище? – Я воспитан в демократических традициях. И я подозреваю, что ты тут единственный, с кем стоит водить компанию. Свернув в небольшой коридор, что ответвлялся от галереи, и миновав дверь первого лунного цвета, они очутились в таком же просторном зале, как в тревельяновых апартаментах. Планировка была стандартной: за арками угадывались спальня, рабочая комната и ванная. Но мебели, если не считать низкого стола и пары подушек при нем, не оказалось вовсе; пол был устлан циновками, и пустоватое помещение напоминало теннисный корт. Или музейную залу, решил Тревельян, оглядывая стены. Тут, меж дверец немногочисленных шкафов, висело оружие: кривые мечи из кости на длинных рукоятях, дротики и пики с каменными наконечниками, внушительного вида дубинки, кремневые молоты с хищно изогнутым клювом, топоры и бумеранги. Коллекция выглядела внушительно – пожалуй, этими смертоносными штуками можно было вооружить целое племя. – Изделия туземцев? – полюбопытствовал Тревельян, опускаясь на жесткую подушку. – В основном тазинто. Терре не охотятся, и у них есть только дротики для защиты от хищных зверей. Вот такие. – Иутин снял со стены копье длиною метра полтора, с обсидиановым лезвием размером с ладонь. – Камень отлично обработан. – В этом они мастера, как и в метании таких снарядов – попадают в цель со ста шагов. Но они безобидные существа, если их не трогать. Собиратели-вегетарианцы – питаются плодами, корнями и корой. Тазинто, те совсем другие. Тревельян кивнул: – Больше похожие на нас, землян. Бьют дичь, едят мясо и дерутся с терре и друг с другом… Я уже ознакомился с наблюдениями антрополога и биолога. Мне показалось, что Первый Лезвие и Второй Курс не благоволят тазинто. Собственно, рекомендуют их уничтожить и прогрессировать терре. – То говорит инстинктивное отвращение к существам, поедающим живых тварей, – задумчиво промолвил Иутин. – К тому же они оба – ни, и клан их воевал с Землей. Похарас более терпимы. Религия смягчает нравы. – Смотря какая, – возразил Тревельян, рассматривая коллекцию туземного оружия. – В нашей истории было множество религиозных войн, отличавшихся изощренной жестокостью. – Я знаю об этом, Ивар. Но Йездан непохож на ваших воинственных богов. Он говорил: способность дивиться чуду жизни – вот что питает корень человеческой души. – Но разве не сказано им: клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость? – Сказано. Но справедливость не есть зло, и чтобы ее добиться, все средства хороши. В Книге Начала и Конца было не меньше противоречий, чем в Библии или Коране, но Тревельян решил не спорить. Вера инопланетян, особенно похожих на людей обличьем, могла отличаться от земных религий в худшую или лучшую сторону, но без двойных стандартов в ней не обходилось. То, что свершает истинный праведник – хорошо, а то, что делает грешник – плохо. Кто праведник, кто грешник, решало оружие, после чего одержавшие верх жгли на кострах проигравших и вспарывали животы их женщинам. – Ты третий генетик и изучаешь мутации терре и тазинто, – сказал Тревельян, меняя направление беседы. – Это важнейшая тема исследований и, к тому же, весьма ответственная и трудоемкая. Могу я узнать, чем занимаются первый и второй генетики? – Второй – тем же самым. Считается, что я работаю по указаниям Ифты Кии. – Только считается? Иутин усмехнулся. – Она молодая женщина из хорошего рода, близкого к императорской семье. Она красива и богата, но не очень умна. Чтобы преуспеть в своей профессии, ей нужен влиятельный покровитель. И если такой нашелся, и если он не глуп, то что он сделает? – Его темные глаза, столь необычные для кни’лина, сверкнули и сразу погасли. – Он отыщет генетика с опытом и неплохими мозгами, но не богатого и уж во всяком случае не знатного – из тех людей, которых лишь терпят среди достойных. Для него участие в престижной экспедиции – дар Йездана, и он на все готов, даже нюхать прах своего погребального кувшина… Стать третьим генетиком при втором и поделиться результатами и славой? Почему бы и нет! – Ясно, – промолвил Тревельян. – Ну, а Третья Глубина, ваш ведущий генетик? Что скажешь о ее исследованиях? – В них меня не посвящали. Думаю, об этом знают только достойные Джеб Ро и Первый Лезвие. – А Зенд Уна? Кажется, он тоже принадлежит к руководству вашей экспедиции? Всколыхнулись золотые перья – совсем человеческим жестом Иутин пожал плечами. – Не думаю, что Третья Глубина обсуждает с ним свою работу. Согласись, генетика и лингвистика слишком разные области. Это одно, а другое… – Он помедлил, затем придвинулся к Тревельяну на расстояние метра и тихо произнес: – Она его ненавидит, Ивар… она – его, а он – ее… – Есть причина для этого? – Они оба с Тизаны. Все остальные с Йездана или с Кхайры, как я… почти все… Второй Курс, кажется, с Тоу… а Зенд Уна и Третья Глубина – с Тизаны. – Это, как мне помнится, одна из ваших новых колоний, – заметил Тревельян, не желая задавать прямого вопроса. – Да. И один из немногих миров, где ни и похарас примерно поровну, так что чья это колония, пока не решено. На нее претендуют оба клана, и конфликт из-за этого длится уже столетие. В метрополии и на других мирах он незаметен, но на самой Тизане ночной зверь давно уже грызет дневного. То была идиома, обозначавшая вражду; в вольном переводе – драка псов, черного и белого. Кажется, третий генетик пустился откровенничать, подумал Тревельян и решил, что это достойно похвалы. Во всяком случае, дружеского поощрения. Он расстегнул камзол с вышитыми орденами, добрался до внутреннего кармана, вытащил плоскую фляжку с коньяком и предложил: – Скрепим знакомство по нашему обычаю, Иутин: выпьем каждый свое, но непременно соединив токары. Дай мне пустой сосуд, а себе возьми тинтахское… Его, надеюсь, ты пьешь? Иутин кивнул и потянулся к нише пищевого автомата. Золотистый коньяк и вино с Тинтаха были почти одной цветовой гаммы и схожи запахом – казалось, что в белых фарфоровых чашах один напиток. Они чокнулись, вытянув руки на всю длину, и выпили за братство гуманоидов, мир среди звезд и нарождавшуюся дружбу. Потом Тревельян сказал: – Найя Акра делала так. – Он повторил ее жест, собрав в горсть нечто невидимое и как бы отбросив от стола. – Это что-то значит, Иутин? – Ритуал верующих в божественность Йездана. Так очищают пищу и питье. – Но другие похарас обошлись без этого. – Найя Акра очистила трапезу для всех. Она жрица йездан’таби. – Вот как? Психолог – жрица? – Чтобы вести паству к богу, надо быть хорошим психологом. Разве у вас иначе? Тревельян оставил вопрос без ответа. В Земной Федерации верующие обходились без священников и жрецов, ибо вера считалась личным делом каждого, столь же интимным, как плотские проявления любви, не требующие вмешательства посредников. К тому же религия в массах землян играла гораздо меньшую роль, чем у похарас. Он снова наполнил токар коньяком. Иутин, взглядом спросив разрешения, взял его чашу, принюхался, поднял брови. – Чудный аромат… Удивительно, что отрава пахнет так приятно. – К большему соблазну, – сказал Тревельян, дождался, когда Иутин вернет ему емкость, и медленно выцедил напиток. Иутин поддержал его, взяв второй бокал тинтахского. Щеки генетика разгорелись, на безволосой голове выступила испарина – похоже, наркотическое опьянение овладевало им. Но речь его была по-прежнему ясной. – Ты оставишь мне этот сосуд? – Он показал на флягу. – Я хочу проверить действие алкоголя на сайкатских животных. Я мог бы синтезировать спирт, но… Тревельян подвинул к нему фляжку. – Лучше возьми этот. Не думаю, что вы, кни’лина, разбираетесь в спиртах, а среди них есть опасные для любых организмов, земных и инопланетных. От метилового можно ослепнуть. – Он поднялся с подушки, согнул колени и развел руки в стороны. – Благодарю тебя, Иутин, ты развеял мое одиночество. Теперь позволь мне удалиться. Да пребудет с тобой утренняя радость. – И с тобой, Ивар. Я провожу тебя. – Нет необходимости. Я выпил слишком мало, чтобы заблудиться. Тревельян вышел в коридор, добрался до подковообразной галереи и побрел по ней, разглядывая световые картины. Они попадались через каждые сорок-пятьдесят шагов и изображали Йездана Сероокого в различных позах: Йездан сидящий и стоящий, Йездан с посохом, с ритуальным клинком, с чашей для сбора подаяний, с Книгой Начала и Конца, Йездан в дорожной одежде и в поясном шарфе. Кажется, в парк вела картина, где Йездан был с Книгой… Он прошел сквозь световую завесу, но очутился не в парке, а в круглом и просторном помещении, совершенно пустом, если не считать треугольного стола посередине. На столе располагалась большая чаша-тока, похожая на длинную розовую раковину, и прямо над ней, на сферическом потолке, горело солнечное пятно. «Где мы?» – спросил, пробудившись, командор. – Кажется, в святилище Йездана. Я ошибся, дед: в парк ведет картина, где Йездан с закрытой Книгой, а тут у него была открытая. «Пить надо меньше, – буркнул призрачный Советник. – И желательно в другой компании». – Что ты имеешь против Иутина? Он рассказал мне массу интересного. «Хитрая лиса этот твой Иуда-Иутин. Уж не знаю, зачем он с тобой откровенничал, но думаю, не без причины. Слишком ты доверчив и наивен, паренек! В былые годы, когда мы сражались с жабами дроми, с хапторами и плешаками…» – У нас эпоха мира, и мы мирные люди, – прервал его Тревельян и услыхал в ответ: «Хочешь мира, готовься к войне». Покинув святилище, он снова зашагал по галерее. В больших потолочных иллюминаторах сияли звезды и горела, пересекая Млечный Путь, туманность Слоновый Бивень. Изображения Йездана попадались с прежней регулярностью; иногда пророк указывал вниз, и Тревельян догадался, что за этими картинами – шахты лифтов, ведущих на технологический ярус. Там, если не считать шлюзовой, Тревельян еще не был, потратив время на беглое знакомство с отчетами и посещение некоторых лабораторий. Первым делом – кабинетов палеонтологии и антропологии, то есть вотчин Джеба Ро и его заместителя Первого Лезвия; такой выбор диктовался субординацией и правилами вежливости. С Лезвием он даже вступил в дискуссию – судя по заметкам антрополога, хранившимся в компьютерной памяти, его подход к тазинто казался слишком жестким и безапелляционным. Дед продолжал ворчать, то понося коварство плешаков, то напоминая, что люди мы, конечно, мирные, но аннигилятор наш не заржавел, броня крепка и крейсера летают быстро. Под его ментальный шепот Ивар размышлял сразу о нескольких вещах: о зеленоглазой красавице Ифте Кии, что делала карьеру на горбу Иутина, о суровой и недружелюбной жрице Найе Акра и таинственных занятиях генетика Третьей Глубины, в чью лабораторию он еще не заглядывал. Так или иначе мысли его касались женщин, ибо к ним он был неравнодушен. Впрочем, имелся у этой склонности практический оттенок: о женщинах далеких, вроде оставшихся на Осиере или о связистке Кристе Ольсен, он вспоминал с теплотой, но планов на их счет не строил, предпочитая размышлять о тех, что ближе. На что они способны и на что годны? Не только в постели; существовало множество путей для получения информации, но, как подсказывал опыт общения с гуманоидами, женщины были самым коротким, верным и приятным. Навстречу попался служитель в рабочей одежде сайтени, похожей на шорты с майкой. Бледная кожа, серые глаза, тонкие губы, вытянутый безволосый череп… Он прижался к стене и глубоко присел, стараясь не встречаться взглядом с Тревельяном. – Кажется, я тебя знаю, – промолвил тот. – Ты Зотахи? – Достойный ошибается. Мое имя Шиар. Я тоже техник систем жизнеобеспечения. – Где выход в парк, Шиар? Помнится, там стоял Йездан с закрытой Книгой. – Достойному надо пройти еще немного. В ту сторону, ньюри. Он показал, вытянув длинную мускулистую руку и по-прежнему не глядя на Тревельяна. Ивар тоже отвел взгляд, вспомнив изречение Йездана Сероокого: нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным – это их пугает. – Благодарю, Шиар. – Ньюри слишком добр, – прошелестело в ответ. Через пару минут, обнаружив нужную световую картину, Тревельян очутился в хаосе камней и невысоких утесов, что имитировали горный пейзаж. Дорожка вскоре вывела его к лесной опушке; теперь справа высились деревья с темными и светлыми стволами, похожие на дубы и березы, а слева тянулся в бесконечность голограммы заросший травами луг. Изображение солнца на голубом иллюзорном небе клонилось к закату, двигались в вышине фантомы туч, закрывая по временам светило, и тогда на лес, поле и камни набегала тень. Встреча с Шиаром подтолкнула раздумья Тревельяна в новом направлении. Экспедицию возглавлял похарас; таково было пожелание ФРИК, удовлетворенное научным отделом Хорады. Похарас не воевали с Землей и даже поддерживали с Федерацией дипломатические связи, так что просьба Фонда являлась вполне уместной. Руководитель из клана ни тут не подходил – это могло вызвать напряжение между земными специалистами и кни’лина, совершенно лишнее в столь масштабном и сложном проекте. В остальном комплектование штата экспедиции было на совести Хорады. Теперь Тревельян знал, что в нее включили пятерых ни, четверых похарас и Иутина, который, видимо, являлся креатурой достойного Джеба Ро; таким образом, баланс был соблюден, и ни один из кланов не терпел ущерба чести. Но слуги-то все относились к ни! А ведь на них лежала ответственная роль технического персонала! Они корректировали движение станции, следили за агрегатами жизненного цикла, готовили транспорт и оборудование для планетарных исследований и занимались прочими делами, от коих зависел комфорт достойных, не говоря уж о самом их существовании. Конечно, станция была автоматизирована и, по большому счету, не нуждалась в помощи со стороны людей, но высших кни’лина всегда и всюду сопровождали слуги. Их функции были много обширнее, чем у земных кухарок и дворецких, горничных, прачек, шоферов, которых тысячелетие назад сменили киберы; слуги клана являлись его работниками, солдатами и силой, производившей новые поколения солдат и работников. Лишь малая их часть была собственно слугами, прослойкой между знатью и миллиардными массами, что населяли десятки планет. Избранные служители, и только из клана ни… Но почему? Может, слуги ни надежней, чем похарас? Либо, по неведомой причине, их нельзя сводить друг с другом? Либо Зотахи, Шиар и остальные – что-то вроде компенсации, гирьки на весах баланса – ведь руководитель экспедиции – похарас? Десять слуг, чтобы уравновесить Первого Лезвия с Джебом Ро… Не многовато ли? – Стой! Ты в моем коно, мшак! Хлопок в ладоши и резкий окрик заставили Тревельяна очнуться. Он замер на половине шага, потом быстро отступил назад. Иллюзорное солнце, выглянув из-за туч-миражей, освещало тонкую высокую фигуру Третьей Глубины. Видимо, она прогуливалась в парке; облегающий комбинезон-сайгор, сменивший парадную одежду, подчеркивал ее изящное телосложение, длинные ноги, полные груди и гибкую талию, лицо еще хранило отблеск безмятежности, но серые глаза пылали гневом. Не очаровательна, как Ифта Кии, решил Тревельян, но безусловно хороша. Красота охотящейся львицы или, возможно, змеи… Был ли он дичью или жертвой? Не исключено! Он заметил в ее кулаке стерженек парализатора и отодвинулся подальше. – Прости, ньюри, я задумался и не заметил тебя. – Меня можно не заметить? Похоже, она была оскорблена. Стараясь исправить оплошность, Тревельян одарил ее самой обольстительной из своих улыбок, присел и вытянул руки жестом мольбы. – Мы,земляне, так романтичны и мечтательны… Особенно в том, что касается женщин. Увидев тебя во время трапезы, я был потрясен твоей красотой и… Ярость в ее глазах сменилась подозрением. Прервав Тревельяна, она сказала: – Значит, потрясен? Хочешь преподнести мне апаш вместо пактари? Я ведь видела, как ты глядел на Ифту Кии, эту маленькую дрянь! Апаш и пактари были блюдами местной кухни: апаш – фрукты под сладким соусом, а пактари – под кислым. В полной мере осознав идиому, Тревельян произнес: – Не прими за обиду, ньюри, но я вас сравнивал. Она, конечно, очень хороша, но сравнение было не в ее пользу. В женщине важна не только внешность, но также ум и темперамент, одухотворенность и внутренняя сила – словом, интеллект, который обрамляет красоту и делает ее неотразимой. Так что не обижайся, прекрасная, что я был рассеян и не заметил тебя – ты явилась мне в грезах, вытеснив другие мысли. Щеки Третьей Глубины порозовели, взгляд смягчился. «Ловок ты баб охмурять», – с одобрением заметил командор. «Не уверен, что с этой получится, – мысленно отозвался Тревельян. – Крепкий орешек!» Инстинкт подсказывал ему, что зерна брошены и торопить события не стоит. Парализатор, который Третья Глубина сжимала в кулаке, куда-то исчез, напряжение развеялось, и глядела она на него почти благосклонно. Примерно так же, как смотрит хозяйка на пушистого котенка. – Ты забавный, мшак… – Голос Третьей Глубины обрел игривую музыкальность. – Ты грезишь обо мне… Что ж, это я могу позволить. Мужчин, достойных моего внимания, здесь нет, и если бы ты был не таким волосатым… – Это поправимо, – быстро промолвил Тревельян. – Земная медицина, знаешь ли, творит чудеса: одна крохотная капсула, и я буду лысым, как колено. – Надеюсь, что на твоих коленях шерсть не растет, – молвила Третья Глубина и, вздернув подбородок, гордо проследовала мимо. «Ведьма», – прокомментировал командор. «На тебя не угодишь, – сказал про себя Тревельян. – Эта – ведьма, Найя Акра – стерва… Ифта Кии тоже тебе не показалась?» «Сексуально озабоченная шлюха». «Почему ты так решил?» «У нее, похоже, имплант. Мои возможности к сканированию ограничены, но в этом я уверен. Очень странная штуковина. Тормозит выделение половых гормонов». – Вот как! – произнес Тревельян вслух, приподняв в удивлении брови. Затем, подумав, добавил: – Выходит, у нас в наличии стерва, шлюха и ведьма… Ну, тогда я предпочел бы последний вариант. Он миновал парковую зону и вышел в коридор земной секции. Маленький кибер-уборщик шмыгнул из-под ног испуганной мышью и скрылся в нише под стеной. Световых картин здесь было гораздо меньше, и изображали они не Йездана Сероокого, а различные сайкатские пейзажи: водопад, что рушится с высокой скалы, берег моря с живописными валунами, поросший лесом холм, темный зев пещеры, у которой сгрудились троглодиты терре. Они были менее крупными, чем тазинто, сухими, жилистыми, очень быстрыми в движениях, покрытыми светло-коричневой, серой или бурой шерстью. Их почти безволосые личики поворачивались вслед Тревельяну, будто изображенные на картине существа следили за ним с нескрываемым любопытством. «Она тебе реверанса не сделала, не пожелала утренней радости и назвала „мшаком“, – внезапно напомнил командор. – Что это значит?» – Ничего хорошего, – сказал Тревельян, перешагнув порог своих апартаментов. – Нам продемонстрировали презрение и намекнули, что у волосатых шансов нет. Правда, не запретили грезить… – Он опустился на диван у столика с компьютером и произнес: – Активировать словарь. Поиск: слово «мшак». Возможно, диалект клана ни или сленговое выражение. – Мшак, – раздался бесстрастный компьютерный голос. – Мелкий хищник-трупоед, обитающий в лесах Йездана. Отличается обильным волосяным покровом, тягой к пожиранию отбросов и гнилья, а также мерзким запахом. Ближайшие земные аналоги – шакал и койот. В переносном смысле используется у кни’лина для обозначения представителей земной расы. «Хорошо тебя плешачка приласкала, – сказал командор и хихикнул. – Дальше некуда!» – Для тебя, дед, что женская душа, что корабельная каптерка – все едино: темно и плесень по углам, – отпарировал Тревельян. – А в отношениях с женщиной важны нюансы. Ругает? Ну, пусть… Сегодня ты мшак, а завтра – благородный барс и сизый голубь. «Смотри, голубок, чтобы на вертел не попасть», – предупредил Советник и замолк. Усмехнувшись, Ивар сбросил парадные одежды, сел к компьютеру и погрузился в работу.* * *
Сайкат был обнаружен почти одновременно фрегатом-разведчиком Звездного Флота и экспедиционным кораблем похарас. Обе расы, земляне и кни’лина, вели целенаправленный поиск в окрестностях желтых звезд, пытаясь найти пригодные для заселения планеты. Мир с кислородной атмосферой, с обильной водной средой и приемлемым климатом, биоценозом и гравитацией являлся огромной ценностью, так как подходил для гуманоидов и прочих рас вроде дроми, лльяно, парапримов. Пожалуй, только лоона эо, переселившиеся в заатмосферные города, и космические странники сильмарри не нуждались в подобных мирах, став обитателями Великой Пустоты. В принципе, любую планету подходящей массы можно было приспособить для жизни гуманоидов, отвести излишек тепла или, наоборот, обогреть искусственными солнцами, преобразовать атмосферу, перепланировать материки и даже передвинуть небесное тело на другую орбиту. Но операции по терраформированию стоили недешево и занимали изрядный срок, так что гостеприимный Сайкат, пригодный для землян и кни’лина, был поистине драгоценной находкой. Из-за него возникли споры – впрочем, быстро угасшие. Земной отряд высадился на юго-западном материке, кни’лина приземлились на юго-восточном, в землях, где не было разумных тварей. Биологи, однако, утверждали, что флора и фауна Сайката подобны земному антропогену.[18] и, значит, здесь должны быть протогоминиды. Вскоре их обнаружили полевые группы, отправленные на северный континент, и оказалось, что Сайкат, как и Земля в далеком прошлом, стал колыбелью двух разумных рас. Терре, невысоких и тощих пещерных жителей, можно было уподобить неандертальцам; несмотря на обильный волосяной покров, они по многим признакам стояли выше земных питекантропов и австралопитеков[19] Более крупные тазинто безусловно относились к кроманьонцам и на всех законных основаниях могли считаться предками будущей сайкатской расы. Такое открытие поставило крест на планах заселения Сайката и возникших в связи с этим спорах, что было воспринято всеми с облегчением – и Земной Федерацией, и имперским советом похарас, и технократами ни. Кни’лина отступили без ущерба для гордости, ибо отступилась и Земля – согласно мнению галактических рас, миры, породившие разум, колонизации не подлежали. Мнение не имело характер договора или, тем более, закона, не подкреплялось военной силой или экономическими санкциями, но было мерилом цивилизованности той или иной культуры, определяя ее позицию в негласной табели о рангах. В эпоху мира, пришедшую на смену войнам, битвам и пограничным столкновениям, ценились не только мощь аннигиляторов и боевых флотов, но также взаимное доверие и соблюдение определенного пиетета. Пожалуй, даже бесцеремонные дроми, размножавшиеся как кролики, не рискнули бы захватить планету с примитивным населением. Считалось, что в таких мирах нельзя вести разработки полезных ископаемых, строить заводы, распахивать землю, закладывать поселения и даже использовать планету в качестве курорта или охотничьего заповедника. Любой, даже самый щадящий вариант через тысячу-другую лет приводил к тому, что автохтоны, достигнув технологической стадии, получали объедки собственного мира: земли, потерявшие плодородие, иссякшие источники сырья, загрязненные воды и скудную фауну. Но непрерывный мониторинг и научные исследования не были под запретом. Считалось хорошим тоном проводить их с орбитальной базы или с рабочей площадки на удаленном острове, содействуя туземному прогрессу точно рассчитанными эстапами, подбрасывая полезные идеи и механизмы, облегчающие труд. Впрочем, аборигенам Сайката, в силу их примитивности, ни механизмы, ни идеи были пока не нужны. С ними, однако, возникла проблема посерьезней. Не оставалось сомнений, что на Сайкате все пойдет по земному сценарию, то есть в ближайшее тысячелетие кроманьонцы-тазинто выбьют под корень неандертальцев-терре. Этот процесс уже начался и шел весьма активно; по оценке Первого Лезвия, антрополога, численность тазинто составляла миллионов шесть, а терре – на порядок меньше. Формой северный материк походил на жирную запятую с длинным, вытянутым в широтном направлении «хвостом» – гористым полуостровом длиной в семь тысяч километров, – и сюда тазинто вытеснили терре. Теперь племена более жизнеспособной и агрессивной расы двигались вдоль полуострова, уничтожая пещерных жителей. Эта миграция была неспешной, сроки ее прослеживались по костям, лежавшим на местах побоищ, и Джеб Ро со Вторым Курсом, занимавшиеся раскопками, полагали, что лет пятьсот-семьсот терре еще протянут. Но не больше; они находились в ловушке между вод морских и не имели ни плотов, ни пирог – ничего, кроме кремневых копалок, рубил, дротиков и плетеных из прутьев корзин. В галактической Ойкумене Сайкат являлся единственным миром примитивных гоминидов, где старшие братья по разуму могли наблюдать, как эволюция перемалывает слабейших, вычеркивая из планетарной биосферы целый вид, который скоро станет ископаемым. Подобная коллизия не волновала дроми, лльяно или, например, лоона эо, произошедших не от обезьян и к гуманоидам не относящихся; разбираться с нею, как ближайшим родичам, полагалось инопланетным кузенам. Таких в Галактике тоже хватало, но, по праву первооткрывателей, судьбу Сайката вершили люди и кни’лина. Смириться с исторической неизбежностью, оставить все, как есть? Это было бы слишком неинтересно, даже унизительно для созданий, способных погружаться в Лимб, странствовать среди туманностей и звезд и изменять планеты, подгоняя их под жизненный стандарт разумных гуманоидов. Итак, в необходимости вмешательства никто не сомневался; речь шла лишь о том, каким конкретно оно будет, кому излучатели СИС поднимут интеллект, а кому убавят прыти. Можно было подстегнуть эволюцию терре и притормозить прогресс тазинто, установив тем самым паритет: ум и хитрость против многолюдства и жестокости. Не исключался вариант с переселением всех или части терре на юго-западный материк, где бы они развивались под патронажем сайкатской станции, овладевая искусством защиты от кровожадных соседей. Очень перспективным был бы рост популяции терре, ускоренный стимулирующими средствами, и замедление воспроизводства тазинто, дабы сдержать их силу количеством соперников. Воздействие на тектонические процессы позволило бы рассечь полуостров широким проливом и отделить его от континента, одновременно создав цепочки островов, ведущих к юго-восточному материку, что изменило бы пути миграции тазинто. Наконец, радикальное вмешательство в физиологию и ментальные процессы могли отвратить их от пожирания мясного и сделать нравы более мирными. Этот проект разработал Первый Лезвие, но Ивар сомневался в успехе: вегетарианцы кни’лина были весьма воинственны. Вся эта информация была Тревельяну известна, но в общих чертах. Сейчас он углублялся в детали; предполагалось, что записи инопланетных коллег и собственные его наблюдения послужат основой для доклада Фонду, готовившему комплексную экспедицию. Он являлся лакмусовой бумажкой, брошенной в неведомый раствор, и должен был определить позицию кни’лина: какие идеи возникли у них, к какому решению они склонялись и как их выводы согласуются с намерениями Фонда. Но чем дальше он углублялся в ворох отчетов, видеозаписей, карт с путями миграций и статистических таблиц, тем делалось яснее, что единого мнения у кни’лина нет. Больше того, он ощущал, что между ними идет некое внутреннее противоборство, вызванное, вероятно, конкуренцией кланов и их лидеров. Первый Лезвие был сторонником жестких мер относительно тазинто – как минимум, сокращения их численности и изоляции в восточной части северного материка. Его поддерживали Второй Курс, биолог, и Третья Глубина, суть работ которой сохранялась в тайне. Другую коалицию, включавшую Зенда Уна и Найю Акра, возглавлял Джеб Ро; они полагали, что тазинто надо оставить в покое и работать с терре, переселив их на юго-западный материк и интенсивно прогрессируя в течение ближайшего столетия. Для этого координатором был разработан план, включавший знакомство с огнем, строительство хижин, одомашнивание двух видов травоядных, способных давать шерсть и молоко, и разбивку плантаций мясного гриба, происходившего с Йездана, чтобы восполнить недостаток белков в рационе терре. Остальные члены экспедиции явно уклонялись от участия в спорах: красавица Ифта Кии – в силу своей некомпетентности, Четвертый Пилот вообще не относился к специалистам по генетике и биологии, а Пятый Вечерний дальше своей ботаники носа не совал. Что касается Иутина, то этой рабочей лошадке собственного мнения иметь не полагалось. В последующие дни, что остались до полета на планету, Тревельян провел в своем отсеке, вновь и вновь изучая записи коллег, хранившиеся в памяти искусственного интеллекта. Здесь были заметки Зенда Уна о языках и системе знаков терре и тазинто, результаты антропологических исследований, произведенных Первым Лезвием и Вторым Курсом, подробный ботанический атлас, составленный Пятым Вечерним – с указанием, какие животные обитают в том или ином краю, солидный меморандум Найи Акра о психологических особенностях обеих рас, богато иллюстрированный журнал раскопок, которые палеонтолог Джеб Ро осуществил в различных областях Сайката, даже на прибрежном шельфе, и большой доклад генетиков, подписанный Ифтой Кии и Иутином. Лишь одного не нашлось среди этого изобилия: отчета первого генетика Третьей Глубины.Нужно признать, что вопрос о взаимоотношениях двух крупных и десятков мелких кланов изучен недостаточно. Большей частью мелкие кланы являются верными вассалами ни и похарас, следующими в кильватере их политики и безропотно снабжающих работниками старших партнеров. Вполне понятным является исчезновение нескольких мелких кланов, генетически близких к крупным и растворившихся в их среде (нам известно о поглощении клана тудонга кланом ни, но, очевидно, были и другие подобные случаи). Однако временами мы улавливаем отголоски более бурных событий. Война, проигранная ни, нарушила стабильность в обществе кни’лина и привела к активизации центробежных процессов, о результате которых остается лишь догадываться. Из того, что ни и похарас удержали власть, следует, что с диссидентами расправились. Но насколько жестокой была та расправа? И кто подвергся ей? Мы не имеем ответа на эти вопросы. П.Федоров, А.Георгадзе. «Кланы кни’лина. Пример искусственной эволюции»
Интермедия 1 Ненавидящий
Его тайное имя было Алемут, что на древнем, почти позабытом языке кни’лина означало «Ненавидящий». Ненависть являлась смыслом и целью его существования, как и у всех, кто входил в Первую Луну, организацию настолько скрытную, что Тень Ареопага и агенты технократов о ней не подозревали. Они страшились клана валлс, чьи невидимые руки могли дотянуться до любого горла, даже императорского. У других мелких кланов, если не считать сайили и конно, утерянная воля к сопротивлению трансформировалась в легенды и мифы, герои которых, великие воины и мудрецы, обретали награду за верность, породнившись со знатными похарас или ни. Лживые сказки! Ни и похарас нуждались не в героях, а в слугах, большей частью в солдатах – особенно в периоды войн с Землей. Временами судьба этой безропотной мелкоты печалила Алемута. Печалила, и только, ибо его клан к ним не относился. Собственно, клан этот не был кланом, так как не имел ни лидера, ни правящей верхушки, ни представительства в Хораде или каких-то прочных связей с ни или похарас. Не клан, а просто общность людей, объединенных древней кровью, чьи предки выстояли в век ужаса и бедствий, выстояли и спаслись. Возможно, это было чудом, какие являет Йездан – недаром же он сказал в священной Книге Начала и Конца: нет бури, которая ломает все деревья. И еще сказал: зверь всегда рядом с вами. Зверь пробуждался при воспоминании о Чанре Ита. В такие моменты Алемут был готов взять ритуальный клинок и вырезать печень у всех похарас, ни и их клевретов. Сдерживала только мысль о его миссии, о братьях и сестрах из Первой Луны, доверившихся его уму и терпению. Первая Луна, о которой не ведали имперские службы, шпионы ни и Очи Хорады с их палустарами, являлась тайным и мощным оружием. Другие кланы такого не имели, и потому Йездан прописал их судьбу самым мрачным из пророчеств Книги: жизнь их – как смех полоумного в пустоте. Кланы пнирра и тадиг, близкие к похарас, были поглощены и стерты из памяти расы; ни поглотили клан тудонга, а хитт и ахаоно были обескровлены в войне с землянами. Валлс надеялись, что поражение ни позволит отделиться от метрополии, но их мятеж обернулся кровавым дождем, а спустя десятилетие Хорада объявила, что такого клана нет и не было. Ненадежных сайилипохарас отправили на астероидный пояс Кагиры Зенты, где они пребывают до сих пор и, прожив три века в невесомости, стали похожими на пауков. Конно подвергли генетической трансформации, вырастив им шерсть на голове и спине; теперь они не больше люди, чем земляне-мшаки. После этого устрашились все, кроме валлс, но и они ушли в вечерний цвет[20] и спрятались в нем, как прах сожженных в погребальных кувшинах. У Алемута имелось множество причин для ненависти, и он делил их на мелкие и крупные. С мелкими можно было бы жить, смирившись и став слугой какого-то клана, даже выбиться в достойные, что при его талантах отнюдь не исключалось. Но кровь, стоявшая между ним и знатными, не позволяла позабыть о мести. Валлс тоже о ней помнили – временами их рука, протянувшись из пустоты и забвения, вдруг наносила внезапный удар, намекая, что время Второй Луны[21] еще не закончилось. Для Алемута поводом к смертельной ненависти была гибель Чанры Ита и их нерожденного ребенка. Представители его клана были способны давать потомство и с ни, и с похарас – факт, который свидетельствовал об их приоритете, их преимуществе над измененными в период пандемий и катастроф. По сути, они являлись тем катализатором, который с течением лет способствовал бы растворению всех кланов, сделав расу монолитной и единой, как в далеком прошлом. Похарас и ни считали это прямой угрозой для своего владычества. Поэтому наказанием за межклановую связь были бессрочные рудники Кагиры Зенты, Тунибы или Ортахароса, а если женщина носила плод – ее уничтожение с развеиванием праха. Чанру Ита сожгли у него на глазах из бластеров. Сожгли слуги ни и похарас, но знатные тоже были там и следили, чтобы не осталось ни частички плоти, пригодной для клонирования. Сожгли в горах Зумрайи, где он и Чанра Ита, гонимые ужасом, пытались скрыться… Зумрайя, родной мир… Для всякого, кто не считался похарас и ни, родиться там было большой удачей. Планета с тысячелетней историей: ни отыскали ее, терраформировали и заселили, но, после завершения пейзажных работ и прокладки дорог, служители, трудившиеся на Зумрайе, были высланы. Остались только знатные ни и ближние слуги, миллионов пять или шесть в благодатном мире с тремя материками и теплыми морями. Места оказалось много, и похарас из сословия аристократов выкупили часть земель – с тем условием, что планета останется под властью ни. С похарас явились их слуги из малых кланов, но и с ними население Зумрайи было небольшим. Мир зеленых лесов и бескрайних степей, прозрачных вод и вечно ясного неба… Мир для избранных, для тех, кто пожелал удалиться от суеты промышленных планет и грохота мегаполисов… Мир, где благоденствовали даже слуги, и от того им казалось, что они почти равны достойным… Чанра Ита была из них, из достойных похарас. Странная девушка, не признающая обычаев, одна из тех, о ком Йездан сказал: редки люди утренней радости. Редки и уязвимы, мог бы добавить Алемут, ибо правят ими чувства, а не разум. Самые же сильные из чувств – любовь и плотская страсть, которые особенно неодолимы, когда приходят на заре жизни, соединяя молодых, восторженных, наивных и неопытных. Откуда было им знать, к чему приведут их встречи в лесу, объятия на ложе из цветов и трав и нежные слова, так тихо сказанные, что их не слышал даже ветер? Откуда им знать? Он, Алемут, не относился к ближним кланам, дававшим потомство с похарас, и у любви их не могло быть продолжения. Они ошибались. Цена этой ошибки – сожженное тело Чанры Ита и восемь лет на рудниках. Там бы он и остался и умер в проклятых горах Ортахароса, если бы не братья из Первой Луны. Вытащили из шахты, подстроив мнимую гибель, увезли на Кхайру, обучили, сделали достойным и даровали новую жизнь и новую судьбу… От прошлого остался только пепел – серая пыль, развеянная по ветрам Зумрайи. Пепел и ненависть. Ненависть питала чувство долга. Долги были разными; долг перед Первой Луной мог быть измерен, взвешен и оплачен, но перед Чанрой Ита – никогда. Долг перед мертвым вечен, говорил Йездан, и это являлось истиной: как заплатишь долг тому, кто превратился в прах и даже лишен погребального кувшина? Кровь сотен похарас и ни не могла считаться платой, хотя убийцы-валлс думали иначе. Сам он понимал, что истребить большие кланы невозможно – уже по той причине, что это поставило бы расу на грань выживания. В Первой Луне об этом знали и делали ставку на иные варианты развития событий. Не всеобщее уничтожение преобразованных, а единичные, но точные удары… не попытка силой вырвать власть, а ее компрометация… не бунт и резня, а посев из зерен недоверия… Тайная информационная война, провалы власти, ее просчеты, поражения, рухнувшие проекты – особенно с участием чужих… Долгие, медленные, терпеливые усилия… За горами – горы, сказал Йездан.Психология кни’лина отличается от человеческой тем, что отношения между ними более скрыты, более завуалированы, чем между людьми. Будучи их гостем и наблюдая их в естественной среде, я убедился, что самая свирепая ненависть и самая страстная любовь, не говоря уж о симпатии, неприязни или недоверии, не выставляются напоказ. Это нельзя считать лицемерием или фарисейством, хотя приговор обычного человека с нормальной психикой был бы именно таким. Специалисты, однако, знают, что сокрытие истинных чувств есть инстинкт расы, представители которой отличаются таким крайним индивидуализмом, что лишний шаг в их сторону расценивается как оскорбление. Чезаре Биано. «Пять дней в Посольском Куполе кни’лина».
Глава 4 Северный материк
Большая четырехместная капсула пронзила слой бело-розовых облаков, неторопливо плывущих над горами к океану. Горный хребет тянулся во всю длину полуострова-«хвоста», разделяя его на южную и северную приморские равнины. Горы были высокими, до пяти километров, но ни льда, ни обнаженных каменных поверхностей Тревельян не заметил – от подножия до вершины хребет покрывала растительность. Влажные джунгли равнин сменялись в предгорьях лиственными лесами фролла, похожего на дуб, выше росли хвойные десятков пород – толстые высокие деревья на середине склонов, а ближе к вершинам – травы, мхи и корявый кустарник, впившийся в скалы крепкими корнями. С высоты было заметно, что у сайкатского леса голубоватый оттенок, словно океаны, южный и северный, протянули над ковром зеленой листвы синюю прозрачную вуаль. Аппарат пилотировал Второй Курс. Бледное невыразительное лицо биолога под навигационным шлемом казалось сонным, будто, отвалив от станции, он задремал на секунду и так, в полусне, намеревался приземлить машину у базового лагеря. Но координатор, сидевший впереди, был спокоен – видимо, в качестве пилота Второй Курс пользовался абсолютным доверием. Иутин и Тревельян расположились во втором ряду, у грузового отсека, каждый под своим иллюминатором. Капсула была заметно шире малых земных кораблей, «уток», ботов и челноков – сиденья левого и правого бортов разделялись двухметровым проходом. Возможно, в рубках и башнях боевых крейсеров кни’лина сидели теснее, но на гражданских судах неприкосновенность личной территории соблюдалась строго. «Все вместе и каждый сам по себе», – подумал Тревельян, переводя взгляд на южную приморскую равнину и предгорья. Из речи Зенда Уна на банкете и просмотренных файлов он представлял ситуацию вблизи лагеря. К востоку, на полторы тысячи километров, полуостров занимали тазинто, около полусотни кочевых охотничьих племен. Место было благодатное: ширина от моря до моря втрое больше, чем «сапожок» Италии, горы хоть и высокие, но доступные, полные дичи и кремня для поделок, на равнинах множество ручьев и рек и опять же изобилие животных. К западу полуостров сужался и уходил в океанские воды еще на пять с лишним тысяч километров. Горы тут были повыше, равнины засушливей, но в общем и целом плодов и кореньев, основы питания терре, вполне хватало, как и площади для обитания – пятая часть Европы для полумиллиона троглодитов. Но миграция тазинто в западный край длилась год за годом, и рубеж между расами – само собой, размытый и не очень четкий, – был сейчас в районе базового лагеря. Капсула неторопливо снижалась, планируя под облаками. Джеб Ро повернул голову, продемонстрировав Тревельяну свой благородный профиль. – Лагерь разбит на возвышенности и окружен силовой завесой, – произнес он. – Чтобы ее миновать, нужен связной браслет. – Я получил его, достойный. У Первого Лезвия. – Хорошо. Окрестность патрулируют автономные киберразведчики, имеющие форму птиц. Защита не входит в их функции, только наблюдение, поэтому будь осторожен. Тазинто агрессивны и сильны. – Я сумею себя защитить, ньюри, – сказал Тревельян. – Мы предпочитаем не убивать туземцев без большой нужды. Мы не пользуемся лазерными хлыстами и даже парализаторами, только усыпляющим газом. – У меня нет ни хлыста, ни парализатора. И я постараюсь никого не убить. – Устройство для создания фантомов… не знаю, как вы его называете… Такой прибор у тебя есть? – Да, ньюри. – Защищайся с его помощью. Этого обычно хватает, но сейчас тазинто возбуждены. – Почему? – Иутин, – произнес Джеб Ро, прикрыв глаза и явно утомившись беседой. – Объясни, Иутин. Их аппарат летел над прибрежной равниной в сторону хребта. Горы вытягивали к морю пологие отроги, словно растопыренные когтистые пальцы драконьих лап. Впереди маячили двузубая вершина в голубовато-зеленой шапке растительности и розовое облако, висевшее над ней. – Киберы-наблюдатели следят за миграцией племен тазинто и пещерными стойбищами терре, – сказал Иутин. – Тазинто, найдя обитаемую пещеру, всегда атакуют. Но не сразу, ньюри Ивар. У них уже появились магические ритуалы – свой ритуал и свое оружие для охоты на каждый вид животных. Для войны тоже есть особый ритуал, но к терре он не относится. Они считают терре не людьми, а опасными зверьми. – И сейчас ожидается столкновение? – Да. Дней через семь-восемь, и потому мы здесь. Будет много убитых, и я возьму генетический материал. Ньюри Джеб Ро и ньюри Второй Курс исследуют пещеру. Тазинто пещер не занимают и не хоронят своих погибших – бросают вместе с трупами терре хищникам. Но у терре другие обычаи: всех мертвецов они закапывают в стойбище, а их лица рисуют на стенах пещеры. Так что… – Я понял, – сказал Тревельян. – Ты будешь искать признаки мутаций, а двое наших коллег вскроют культурный слой, исследуют скелеты и черепа и выяснят, как долго терре прожили в этом месте, была ли там одна популяция или несколько, и как менялось строение их тел. Это все? Иутин отвел глаза. – Нет… пожалуй, нет. Мы стараемся записать все детали схватки, чтобы провести потом анализ и корреляцию с другими подобными случаями. Прямые наблюдения тоже небесполезны. Это… это… – …возбуждает, – уточнил Джеб Ро. – Разгул примитивных страстей и инстинктов – зрелище редкое и потому любопытное. Аппарат спускался к невысокому лесистому плоскогорью у подножия двузубой горы. Тут была поляна, окруженная темными стволами фроллов и неярким серебристым мерцанием защитных полей. В их кольце высилось обширное строение, замаскированное кустарником и камнями под плоский холм с двумя-тремя широкими проемами на уровне почвы. Из холма торчала высокая мачта с параболической антенной, и над ней кружила большая, похожая на чайку птица. – Вы не пытались предотвратить столкновения? – спросил Тревельян. – Это было бы локальной мерой, не решающей проблему в целом, – с важным видом заметил Джеб Ро. – Я предпочитаю не распылять усилия. Ты считаешь иначе? – Думаю, ты прав, ньюри. – Тогда чем обусловлен твой вопрос? – Жалостью, только жалостью, достойный. – Это иррациональное чувство. – Разве похарас его отвергают? Иррациональное лежит в основе любой религии, вашей и нашей. Йездан сказал… Машина скользнула в один из проемов под холмом и приземлилась, прервав их диспут. Крышки люков сдвинулись, они вышли, очутившись в просторном пустом ангаре. Воздух пах свежей зеленью, сквозь кроны фроллов просвечивало солнце, и снаружи доносились тысячи звуков: шелест листвы и скрип деревьев, попискивание птиц, свист, шипенье, уханье и далекий рев какого-то крупного зверя. – Займитесь грузом, – приказал Джеб Ро и величественно удалился в глубь строения. Распахнулись створки грузового отсека, четыре маленьких многоруких робота стали выносить контейнеры с оборудованием и продуктами. Иутин и Второй Курс руководили ими, распределяя привезенное в нишах и на полках. Ивар велел вытащить плоский ящик с летающим крылом на поляну, добавив к нему кое-какое снаряжение – нож, пищевые концентраты, очки и голокамеру. На кровле строения, рядом с антенной, появилась и начала вытягиваться вверх широкая труба. Из нее выпорхнули полдюжины птиц – видно, координатор решил запустить дополнительных разведчиков. Закончив с разгрузкой, Второй Курс ушел, буркнув, что проверит пищевой автомат. Иутин тоже исчез, отправился в свою лабораторию вместе с роботом, тащившим какой-то сложный механизм. Три остальных кибера замерли у капсулы, ожидая приказов Тревельяна. Он достал двухлитровую флягу и осмотрел баллоны с соками, что выстроились у стены. Среди готовых смесей нашлись «три сестры» и «пять сестер» (они различались количеством ингредиентов), «бледная луна» и «дети астрала». Отведав понемногу каждого, он выбрал сок «астральный», похожий на грейпфрут, залил его во флягу и включил охлаждение. Затем, водрузив на голову обруч с Советником, вышел на поляну. «Приятное место, – заметил командор, очнувшись от дремоты. – На Гондвану похоже. Помню, лечился я там лет пятьсот назад, когда „Свирепый“ попал в минное поле у Провала. Лежу я, значит, с перебитой ногой…» Тревельян нахмурился. – Погоди, дед. Прежде ты рассказывал, что «Свирепого» подбили кни’лина, ты горел на мостике, и с переборок стекала обшивка. А еще… «А еще – не перебивай, перхоть малохольная! – рявкнул командор. – Драчка с кни’лина раньше была, а у Провала нас разнесло на гайки и болтики, еле до спаскапсул добрались! Так вот, валяюсь я с переломанной голенью, и вдруг подходит ко мне медичка, сама белобрысая, но красоты неописуемой…» – В другой раз доскажешь, – буркнул Ивар. «В другой? Это ты зря! Та белобрысая мне третьей женою стала, и от нее твой род пошел. Твоя, значит, пра-пра…» Тревельян угрюмо молчал, взирая на окружающую благодать: деревья в голубоватой дымке, порхающих разноцветных птичек и небо с бело-розовыми облаками. Вечерело. Солнечный диск висел за кронами фроллов, подсвечивая их оранжевым сиянием. «Что такой мрачный?» – спросил дед. – А с чего радоваться? В поле выехали, на природу – значит, надо костер разложить, шашлык зажарить, сесть плечом к плечу, песни попеть и спрыснуть событие. Священная программа… А тут все разбежались! Как-то не по-людски. «Они не люди, и у них свои привычки, – напомнил командор. – С ними плечом к плечу не сядешь и песен под гитару не споешь. Вот на Осиере, там было веселей!» – Веселей, – согласился Тревельян и повернул к зданию базы. Отужинав в компании трех молчаливых коллег, он переполз на четвереньках в свободную опочивальню, лег на циновку и закрыл глаза. И снился ему в эту ночь дремучий лес Осиера, рыжие языки костра и братья-рапсоды в блестящих доспехах, сидевшие тесным кругом, как и положено товарищам по оружию.* * *
Утром, пока кни’лина спали, он разделся догола и натянул тонкую прозрачную пленку кожи. Она плотно охватила тело от шеи до пят, сжалась, приноравливаясь ко всем выпуклостям и впадинкам, потом слегка ослабла и сделалась невидимой и неощутимой. В контейнерах Тревельяна, перевезенных на станцию с «Адмирала Вентури» и проверенных Найей Акра, не было ни средств защиты, ни оружия, даже такого простого, как маломощный парализатор. Имелись, однако, другие предметы, которые, при искусном обращении, могли защищать и убивать не хуже, чем боевой скафандр с излучателем. Взять хотя бы нож – он не нуждался в заточке и позволял рассекать самую твердую древесину и кости. Медицинский имплант вырабатывал антидоты и гормоны, защищавшие от ядов и ускорявшие реакцию. Искусственная кожа была биологическим стимулятором; взаимодействуя с имплантом, она увеличивала мышечную силу и, кроме того, ее внутренний субстрат поглощал все выделения организма. Не «скоб»,[22] конечно, зато совсем незаметное устройство. У плоского ящика, где хранилось летающее крыло, тоже были свои секреты: сложишь конструкцию этак, получится планер, соберешь иначе – что-то совсем другое. Пока «другое» не требовалось, так что Ивар, выйдя на поляну, занялся планером. Вскоре появился Иутин, пожелал утренней радости, но помощи не предложил – работать пришлось бы в слишком тесном контакте, нарушив границы коно. Закрепляя гибкие стержни на корпусе двигателя со встроенным гравигенератором, прилаживая сиденье и натягивая летательную перепонку, Тревельян посматривал на облака. Их несло на северо-восток, и значит, сегодня он пролетит над территорией тазинто. Планер мог двигаться и против ветра, но скорость в этом случае была невелика, а примитивный компьютер, управлявший аппаратом, испытывал трудности при маневрировании. – Похож на большую птицу, – сказал Иутин, осматривая наполовину собранную конструкцию. – Будет в точности, как местный согго. Здесь есть фантомный голопроектор. – Тревельян коснулся сенсора на корпусе моторчика, и его аппарат превратился в орла с когтистыми лапами и трехметровым размахом крыльев. Кое в чем этот сайкатский пернатый хищник отличался от земных собратьев – шея была подлиннее, клюв прямой и над глазами росли хохолки из белых перьев, – но для маскировки он подходил идеально. Ни одна летающая тварь, как и большинство бегающих, связываться с согго не рискнула бы – даже с его изображением. – Неплохо, клянусь Йезданом! – раздался властный голос. Джеб Ро, с кибером, тащившим циновку, возник в проеме входа. – Иллюзия хороша, однако я не понимаю, зачем тебе нужен этот аппарат? – Для скрытных наблюдений с воздуха, – пояснил Тревельян, убрав фантом согго и продолжая монтировать планер. Координатор уселся на развернутую роботом циновку. – Не доверяешь собранным нами сведениям? – Доверяю, ньюри, но обязан выполнять инструкции Фонда. Все по порядку: облет территорий, занятых аборигенами, определение размеров их популяций, выявление намерений, попытка вступить в контакт… Насколько мне помнится, прямого контакта с терре и тазинто у вас не было? – В этом нет необходимости! Вполне достаточно информации, собранной киберсредствами, – с надменным видом отрезал Джеб Ро. – Но ты, разумеется, свободен и можешь действовать по собственным правилам. Помни, однако, что сказал Йездан: нет свободы без закона. Под законом Джеб Ро имел в виду свою власть координатора. До появления земной экспедиции с руководителем равного ранга эта власть была безраздельной и распространялась на Тревельяна. Не прерывая работы, он молча кивнул и принялся закреплять у седла снаряжение – флягу с соком, голокамеру, тюбики пищевого концентрата. Кроме фантомного проектора планера, у него был второй, спрятанный в наголовном обруче вместе с призрачным Советником. При желании он мог предстать в обличье терре, тазинто или хищника внушительной величины, даже пылающего огненного сгустка. Зверь, огонь, какое-нибудь инопланетное чудище… Обычно этих иллюзий хватало, чтобы отпугнуть не слишком продвинутых гуманоидов. Тревельян устроился в седле, обезвесил аппарат и включил голограмму. Странное зрелище со стороны: огромная птица с распахнутыми крыльями, застывшая в полуметре от голубоватых травяных метелок. – Надеюсь, ты вернешься к вечерней трапезе, – сказал Джеб Ро. – Постараюсь, ньюри. Согго всплыл над поляной, поймал восходящий воздушный поток и ринулся вверх. Координатор проводил его взглядом. – Эти мшаки мастера иллюзий: птица шевелит крыльями как живая. – Да, ньюри, – кивнул Иутин. Он находился в позиции, предписанной зинто, в семи шагах от циновки достойного, и старался не глядеть на него. Молчание. Птица поднялась к бело-розовому облаку и превратилась в темную черточку. Тогда Джеб Ро промолвил: – Ты разглядел корабль, на котором привезли волосатого? – Да, достойный. – Что скажешь? – Боевой крейсер, ньюри, очень мощный. У нас пока таких нет. – А его название? Что оно означает? – Имя их древнего героя. Я нашел его в файлах. Это был полководец, разгромивший некогда флот фаата. Они воевали с бино фаата, ньюри, и победили их. Очень давно. – Я знаю. Еще воевали с дроми, с хапторами и с нами. – Пусть достойный простит меня… Воевали не с нами, а с ни. – И это было большой ошибкой их клана. Йездан сказал: настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки. Ни этого не умеют. – Джеб Ро вздохнул. – И что теперь? Теперь нам привозят мшака-ксенолога на боевом корабле… Уверен, в этом есть скрытый смысл. Хотят напомнить, кто проиграл последнюю войну. После долгой паузы Иутин возразил: – Не думаю, ньюри, что в этом оскорбление для нас. Не важно, как и на чем его привезли, важно, что он человек достойный, побывавший на многих мирах. Даже у хапторов на Харшабаим-Утарту. Джеб Ро, не любивший, когда ему противоречат, насупился и буркнул: – Не вижу тебя, зинто, и не слышу… – Потом сменил гнев на милость: – Если мшак отправится в стойбища дикарей, пойдешь с ним. Я должен знать, когда он вдохнет и что выдохнет. Каждое слово, Иутин, каждый жест! Ты понял? – Да, ньюри. – Нужно, чтобы он поддержал мой проект, а не Первого Лезвия. Мы, похарас, тоже ведем войну против мшаков, но делаем это умнее, чем ни. Войны выигрываются не только оружием. – Прости своего глупого слугу… Так сказал Йездан? – Нет. Это слова Тени Ареопага – той, что отбрасывает сам император. Ты удовлетворен? В ангаре мелькнул силуэт Второго Курса. Биолог возился у шкафа со своим имуществом, что-то доставал, что-то перекладывал. Покосившись в его сторону, Иутин произнес: – Если я пойду с земным ньюри, ты останешься один с этим выродком с Тоу. Благоразумно ли это? – Не всякую пыль поднимет ветер. Я для него тяжеловат. К тому же, с чего ты взял, что он выродок? – Много пьет, мало ест. – Пятый Вечерний тоже много пьет. – Он с Кхайры. Там выродков не делают. Джеб Ро скривился и махнул рукой. Мнение зинто было той пылью, которую разносит самый слабый ветер.* * *
Гравигенератор создавал локальную зону невесомости, и устойчивый теплый ветер нес летающее крыло словно пушинку. Справа, за широкой полосой джунглей, прибрежными скалами и желтыми отмелями, голубел океан; волны бесшумно накатывались на песок, расшивали его пенным узором, шевелили длинные мокрые плети синеватых водорослей. Слева вставал хребет в щетине хвойных лесов, а под ним, в предгорьях, тянулись с холма на холм лиственные рощи, поляны, склоны, покрытые кустарником, ручьи и речки, разливавшиеся в низинах небольшими озерами. Местность была обитаемой: по берегам озер бродили большие черепахи и крупные твари, похожие на мохнатых свиней с широкими хвостами и лапами, предназначенными для гребли; в полях грудились стадами быки размером с носорога и более мелкие травоядные, кто на четырех ногах, кто, как земные кенгуру, на двух; под пологом леса тоже кипела жизнь, меж стволов и ветвей мелькали гибкие тени, кружился сонм ярко окрашенных птиц, и кто-то огромный, неуклюжий с ревом и треском ломился сквозь чащу. Временами попадались пернатые существа, похожие на чаек, то ли не поддельные, то ли киберы-наблюдатели, запущенные из лагеря; заметив, что пара из них вьется над лесной поляной, Тревельян подтянул стропы и направился туда. Там, окруженные тройным кольцом высоких шалашей, пылали костры, и ветер разносил смрад крови, горелой плоти, пота и нечистот. У костров суетились голые тазинто, мелкие и покрупней, обжаривали на палках мясо, пробовали на вкус и тащили угощение на дальний край поляны к сидящим кучей молодцам. Эти – видимо, охотники – были в передниках из шкур и при оружии: копья, костяные мечи и утыканные кремнем дубинки свалены грудами в траве. Здесь же лежала туша крупного зверя, очевидно, быка – рогатая голова на колу, сквозь содранную шкуру белеют ребра, четыре ноги с массивными копытами торчат вверх. По временам один из пирующих вставал, подходил к туше и, запустив внутрь пятерню, выдирал кусок повкуснее. Лакомство передавалось мелкому; подгоняемый пинком, тот мчался к кострам готовить жаркое. – Охота выдалась удачной, – пробормотал Тревельян, сдвигая на лоб очки-бинокль. И без них было ясно, что мелкота – дети иподростки, особи покрупнее – самки, а пирующие молодцы – бравые охотники. Такие записи он видел на станции, среди собранных кни’лина материалов, так что ничего принципиально нового внизу на поляне не наблюдалось. Вот только дух, которым тянуло от дикарей и куч фекалий под деревьями… Но к крепким запахам Тревельян был привычен и в стойкости к ним мог поспорить с древними ассенизаторами. Он подвесил планер над кроной фролла, превратив его в гнездо ядовитых шестиножек, потом отхлебнул из фляги и спустился вниз по канату. Лес в окрестностях стойбища был тих и гол, ни птиц, ни животных, кроме шебуршавших в палой листве жуков мерзкого вида. Эта тишина и витавшие в воздухе ароматы подтверждали, что тазинто находятся здесь не первый день – возможно, месяц или больше. Тревельян пощупал нож на поясе, активировал запись и включил свою голографию, превратившись в натурального дикаря: широкая смуглая рожа, мощные челюсти, крохотные глазки и грива нечесаных волос, что продолжалась на спине густым курчавым треугольником. Чресла его охватывал передник из шкуры маа, местного тигра, убить которого считалось подвигом. Чтобы полней соответствовать облику героя, он срезал толстый сук, положил на плечо и двинулся с этой дубинкой к стойбищу. Жуки, которых он давил башмаками, противно чавкали, аммиачный запах делался все гуще. «Собираешься вступить в контакт?» – спросил командор. – Так точно. «Наверху гадючник, а тут, похоже, крысятник, – предупредил дед. – Крысы, они почище гадюк будут. Смотри, как бы задницу не отъели». – Не тревожься, не в первый раз, – сказал Ивар, приближаясь к опушке. – Опять же не крысы они, а примитивные гоминиды с большой потенцией к развитию. Возможно, через сотню тысяч лет явятся они на Землю и будут рыться в заброшенных могилах, выясняя, где тут похоронен знаменитый Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев. Найдут, утащат в свой музей и табличку повесят. «Не найдут, – буркнул командор. – Могут по кладбищам шарить хоть до посинения и выпадения прямой кишки, а не найдут! Мой прах сгорел в фотосфере Бетельгейзе. Что и тебе советую, если не хочешь скалиться голым черепом в чьей-нибудь витрине». Пробравшись между фекальных масс и гниющих внутренностей, перемешанных с костями и клочьями шкур, Тревельян вступил на поляну. Визг женщин и тучи оранжевых мух сопровождали его появление. Он двинулся мимо хижин, отмечая убожество построек, грубую обработку валявшихся тут и там орудий, рубил и топоров, отсутствие выделанных кож, изделий из глины и каких-либо украшений, что собирают из перьев, ракушек или цветных камней. Теоретически тазинто доживали лет до сорока, но ни стариков, ни старух и вообще лиц преклонного возраста не наблюдалось. Для опытного специалиста эти детали говорили о многом. Древние антропогенные сообщества, близкие к дикой природе, обладали некой иерархией, моделировавшей стаи хищников в весьма разнообразных вариантах. Волки являли пример низшей ступени, ибо у них главенствовал сильнейший из самцов, молодняк дискриминировали, а дряхлых особей изгоняли, обрекая на голодную смерть. Гиены отличались более высоким уровнем организации: доминировала старшая самка, щенков кормили и оберегали, и статус особи определялся не силой и свирепостью, а возрастом. Судя по быстрой рекогносцировке Ивара, тазинто до гиен еще не доросли. Может быть, сравнение с волками тоже являлось для них комплиментом, и племя, как заметил командор, скорее походило на крысятник. «Сколько их тут?» – мысленно поинтересовался Тревельян. Вторая сигнальная система у него была занята: он рычал, выл, скулил и помахивал дубинкой, делая миролюбивые жесты. «Сто семнадцать самок и сотни полторы детенышей, – доложил Советник. – Байстрюков, что жрут говядину, тоже не меньше сотни. Кучей сидят, трудно пересчитать». Пирующие гомонили и орали так, что ни воплей женщин, ни шагов Тревельяна, ни мирных его восклицаний слышно не было. Но вот один из охотников замер с раскрытым ртом, другой ткнул в сторону пришельца костью, и на поляне воцарилась тишина. Затем кто-то рявкнул: «Чужой!» – и в Ивара полетели камни. От двух метательных снарядов он увернулся, пяток отразила кожа, но кремневый осколок с заточенным краем едва не раскроил ему череп. Хлынула кровь, заливая висок и правый глаз, медицинский имплант принялся за работу, а Тревельян, выбрав из метателей камней мерзавца покрупнее, ухватил его за волосы, вздернул вверх и грохнул с размаха о землю. Вряд ли он смог бы проделать этот фокус без кожи – весил тазинто побольше центнера да еще хватался за соседей. Их пришлось вразумлять дубиной, чем Ивар и занялся в ближайшие минуты – сдерживая мощь ударов, так что обошлось без переломанных рук и пробитых голов. Когда над десятком поверженных поднялся могучий самец, наверняка вожак, Тревельян опустил дубинку и снова вступил в переговоры. – Чужой. Издалека. – Он ударил кулаком в грудь. – Не хочу убивать. Хочу есть. Хочу мяса. В языке тазинто было восемь сотен слов, смысл которых уточнялся жестами, воем, ревом и рычанием. Просьба насчет еды звучала вполне мирно, и теперь все зависело от вожака. Он мог дать пришельцу почетный кусок мяса или обглоданную кость, мог оставить его в своей орде или вызвать на единоборство. Последняя мысль читалась в его маленьких злобных глазках и в том, как он поглядывал на груду оружия, явно примериваясь к мечу. Копья, камни, топоры, дубины были у тазинто снаряжением охотников, но взявший меч превращался в воина. Власть над племенем решалась в схватке на мечах. Вероятно, сноровка и сила пришельца смущали вождя. Он знал, что оставить в орде слишком сильного охотника нельзя – это будет угрозой его господству. Драки он не боялся, но понимал, что бой с таким соперником может завершиться не в его пользу или привести к тяжким увечьям. Пожалуй, стоило выяснить, что нужно чужаку – только лишь мясо или нечто большее. Оторвав взгляд от оружия, вожак зевнул и принялся ковырять когтистым ногтем в зубах. – Чужой – плохо. Чужой идти туда или туда, – он показал на север, в сторону гор, затем на юг, где лежала прибрежная равнина. – Здесь все мясо мое. – Новый жест, обозначавший ближние окрестности. – Хочу – дам, хочу – не дам. «Пальцы гнет, авторитет поддерживает, крыса, – пробормотал командор. – Врежь ему, парень, по черепушке!» Но Тревельян, имевший опыт общения с дикарями полудюжины миров, на эту провокацию не поддался. Дикари, в отличие от людей цивилизованных, задней мысли не держали – или сразу лезли в драку, или ретировались, но с полным соблюдением достоинства. Он придавил ногой шею охотника, отведавшего дубины. – Не хочу убивать. Никого не трогать, если дать хорошее мясо. Поесть и уйти. Туда, – он описал рукой широкий полукруг. – Уйти и не вернуться? – уточнил вождь. – Так. Уйти совсем. Может быть, туда. – Теперь Ивар вытянул руку на запад, к землям терре. – Туда – нет! – отрезал вождь. – Там земляные черви. Моя добыча! Мои охотники проткнут их копьями и разобьют им дубинами кости. – Добыча? – Тревельян, выказывая удивление, привстал на носках. – Ты их ешь? Охотники, взиравшие на него кто со страхом, кто с недоверием и злобой, оживились. Жуткие гримасы на их лицах можно было счесть ухмылками. – Гы! – прохрипел вожак. – Гы, гы, гы! Кто ест червей? Плохая пища! Корм для храхов! О храхах Ивар не имел понятия, но убедился, что тазинто во всяком случае не каннибалы. Снова показав на запад, он спросил: – Если земляные черви – не пища, зачем их убивать? И тут вождь произнес целую речь, удивив Тревельяна по-настоящему. – Мы – Люди! Я, Сломанный Меч – человек! – Он коснулся ладонью широкой груди. – На тебе шкура маа, а там – убитый нами бык, но бык и маа совсем не такие, как Люди. Земляные черви похожи на Людей, и это плохо, очень плохо. Должны быть только одни Люди! – Огромная пятерня снова стукнула о грудь. – Только одни, и всегда как всегда! – Всегда как всегда, – повторил в изумлении Тревельян, не понимая значения сказанного. С этим нужно было разобраться. Растолкав охотников, он опустился на землю, отложил дубину и велел: – Принести мясо, хороший кусок. Будем есть и говорить, потом я уйти. Не к земляным червям, а туда, где высоко. – Он показал на горы. Кусок ему притащили отменный, с бычьей ляжки. Обугленная плоть скрипела на зубах, но беседе это не мешало.* * *
Поздним вечером, умытый и облаченный в свежий домашний хитон, Ивар сидел в трапезном зале полевого лагеря и жадно поглощал тушеные плоды шиншаллы в остром соусе. Трое его сотрапезников, расположившись на циновках поодаль друг от друга, ели с меньшим аппетитом; Второй Курс, биолог, можно сказать, совсем не ел, а только пил тинтахское и соки, которые подносили роботы. Беседа за едой не была у кни’лина дурным тоном, поэтому молчание длилось ровно столько, сколько пожелал Джеб Ро. – Ты посетил тазинто, – произнес он, не глядя на Тревельяна. Изящным движением токати подхватил плод, прожевал его и полюбопытствовал: – Должно быть, нелегкое испытание? – Я хотел склонить их к миролюбию, но нам не удалось достичь консенсуса, – признался Ивар. – Зато теперь мне понятна суть их разногласий с терре. – Это мы знаем, – резким лязгающим голосом молвил биолог. – Борьба дикарей за пищу и жизненное пространство. В привычных вам терминах – межвидовая конкуренция. Тревельян оторвался от фарфоровой чаши с плодами и покачал головой. – Боюсь, коллега, ситуация не так проста. Северный материк обширен, население его ничтожно, и дефицита охотничьих угодий нет. К тому же терре и тазинто занимают разные экологические ниши: первые – собиратели-вегетарианцы, вторые – охотники, преимущественно на крупную дичь. Конкуренция не исключается, но, скорее, среди племен тазинто. Они не любят чужаков. – Он погладил висок, на котором еще красовался шрам от удара камнем, и сообщил: – Причина неприязни тазинто к терре более глубока и носит, как мне кажется, более иррациональный характер, чем споры из-за жаркого и съедобных корешков. Второй Курс отпил тинтахского и сморщился, будто глотнул кислятины. Лицо Иутина было непроницаемым; правда, есть он прекратил, что считалось знаком уважения к говорящему. Однако ни тот, ни другой не промолвили ни слова – ждали, что скажет Джеб Ро. – Изложи свою гипотезу, и мы увидим, сколь велика цена утреннего дома,[23] – предложил координатор. – Сомневаюсь, что дом утренний, – проскрежетал Второй Курс. – Мы провели тщательные исследования, не упустив ничего. – Кроме концепции смерти, бытующей у тазинто, – возразил Тревельян. – Если использовать земные меры времени, почти такие же, как ваши, старость у них наступает после тридцати, но до предела в сорок лет никто не доживает. Обычная причина гибели – болезнь или рана, полученная на охоте. Ослабевших в силу преклонных лет они бросают, и те становятся добычей хищников. Таким образом, у них нет понятия естественной смерти от старости. Наблюдения за животными также не позволяют осознать бренность существования – наоборот, убеждают в том, что всякий зверь кончит жизнь в зубах другого зверя. – Знакомая теория. – По лицу Джеба Ро скользнула ироническая усмешка. – Ты обнаружил ее в отчетах Найи Акра? Или побеседовал с Зендом Уна, нашим лингвистом? Пора отбросить вежливость, решил Тревельян и, сняв с запястья браслет связи, положил его на циновку. – Здесь запись интервью, которое дал мне вождь тазинто по имени Сломанный Меч. Можете ознакомиться, достойные коллеги. Что же до Найи Акра и Зенда Уна, то наблюдения их поверхностны, а результирующий вывод вообще отсутствует. – Заметив, как гневно дрогнули ноздри Джеба Ро, он поднял токар с соком, отпил глоток и продолжал: – Вот правильный вывод: тазинто уверены, что если бы не видимые и понятные им обстоятельства смерти, они существовали бы вечно или очень долго, сохраняя здоровье и силу. Были бы всегда такими, как всегда, сказал их вождь. Старость и физическое увядание им непонятны и кажутся чем-то вроде недуга, связанного с определенной причиной. Они знают, что у терре более долгая жизнь… это ведь так, Второй Курс? Биолог неохотно кивнул. – Так. Восемь-девять десятилетий, причем все, кто не попал под дубину тазинто, доживают до этого срока. Возрастные изменения почти не заметны… плотная шкура, сухая конституция, подвижность… вечернего и утреннего на первый взгляд не различишь. – Это вполне понятно, – заметил Джеб Ро, бросив мстительный взгляд на Тревельяна. – У пожирателей плоти жизнь всегда короче. Если сравнить вас и нас… – Не стоит, – сказал Ивар. – Ты мудр, ньюри, и понимаешь, что сравнение ведет к зависти, зависть – к обиде, обида – к вражде. Хватит той крови, что мы пустили друг другу три столетия назад. – Храни, что имеешь, – раздался тихий голос Иутина, и это изречение из Книги Начала и Конца восстановило мир. Джеб Ро изволил съесть еще один плод шиншаллы, после чего прочистил горло и вымолвил: – Согласен, ньюри, что твои выводы неожиданны и любопытны. Но ты говорил о причине, определенной причине, с которой тазинто связывают старость. Она имеет отношение к терре? – Да. Тазинто уже выделяют себя из животного мира. – Тревельян невольно улыбнулся, вспомнив пылкие речи вождя. – Они люди, а не быки, не хищные кошки, не черепахи, не водяные кабаны, и это видно всем и каждому – ведь эти твари не похожи на людей. А терре, земляные черви, похожи, и это очень плохо! Некто, распределяющий дары, может спутать их с тазинто и отдать червям предназначенное для настоящих людей… собственно, уже отдал, даровав долгую жизнь терре. Но если их уничтожить, этот некто не сделает больше ошибки – ведь останутся только одни люди, и будут они вечными и неизменными. В общем, коллеги, есть конкуренция, есть, только не за земли, стада и плоды, а за божью милость. Маленький кибер приблизился к Джебу Ро, и тот отполз назад, позволив механизму забрать поднос с остатками еды. Похоже, координатор был заинтересован и даже возбужден – кожа, обтягивающая высокий череп, порозовела, ноздри трепетали, тонкие пальцы теребили край одеяния. Снова усевшись на пятки, выпрямив спину и расправив изящными складками хитон, он произнес: – Некто, распределяющий дары… Йездан, вразуми меня! Так ты полагаешь, что у них уже сложилась идея божественного? Что их вера не просто первобытная магия, охотничьи обряды и ритуальные пляски у костра? – Я не могу утверждать этого со всей определенностью, – сказал Тревельян. – Просмотрим запись, сделанную мной, обсудим со специалистами, психологом и лингвистом. Думаю, необходимы дальнейшие исследования. Не только мониторинг с помощью технических средств, но и прямой контакт с терре и тазинто. – Для нас это затруднительно. Хотя… – Джеб Ро вскинул голову, словно поймав некую мысль. – Теперь ты, очевидно, собираешься к терре. Это мирные создания, и контакт с ними менее опасен, чем с тазинто. К западу от нашего лагеря есть несколько пещер. – Завтра я их навещу и, может быть, задержусь там на три-четыре дня. Нужно выслушать доводы другой стороны… Если получится, я уведу их дальше на запад. – Это было бы гуманным актом, – согласился Джеб Ро. – Но если все же тазинто нападут на них, сделай подробную запись. – Он помолчал и добавил: – С тобой пойдет Иутин. Вдвоем безопаснее. – Но ваши обычаи… – начал Тревельян, обернувшись к третьему генетику. Координатор махнул рукой. – Обычаи не для всех. Слуги не соблюдают коно. Близость друг к другу их не тяготит. – Иутин не слуга. – Он ньюри, прошедший специальную подготовку, – пояснил Джеб Ро, обернувшись к третьему генетику. – Так, Иутин? Тот сделал знак согласия. Лицо его оставалось бесстрастным. – Ну что ж, – сказал Тревельян, – я не возражаю. Как утверждал ваш пророк, мы способны на гораздо большее, чем думаем.Смерть является для кни’лина столь же неприятным, загадочным и ужасающим событием, как для земных людей. Пожалуй, для них смерть еще более страшна, ибо религия Йездана не содержит идеи посмертного существования, опоры ислама и христианства, и не утешает верующих мыслью о цепочке непрерывных перерождений, как буддизм. И атеисты ни, и религиозные похарас рассматривают смерть в качестве феномена, завершающего жизненный цикл окончательно и навсегда. Различие между их мировоззрениями состоит в том, что верующие похарас стремятся к праведной жизни, считая, что «хорошая карма» позволяет примириться с неизбежным концом, тогда как ни равнодушны к кармическим заслугам. Похоронные обряды у обоих крупных кланов и примыкающих к ним более мелких практически одинаковы. Кладбищ у кни’лина не существует, как и обычая распылять прах над сушей или водами или отправлять мертвое тело в капсуле в космическое пространство. Покойного кремируют при очень высокой температуре, а прах помещают в погребальный кувшин из небьющегося фарфора (из этого материала изготавливают также посуду). Обычно кувшины хранятся в жилище родичей усопшего под полом, ибо в Книге Начала и Конца сказано: «Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых». Некоторые погребальные кувшины украшены, богато расписаны и являются настоящими произведениями искусства. По непроверенным данным лоона эо, раса ценителей изящного, скупали их, причем особым спросом пользовались изделия эпохи, когда у Йездана была одна луна. Та-цзуми, И. Дворкин. «Кни’лина. История, обычаи, верования».
Глава 5 Побоище
Терре не походили на троглодитов. Реконструкции тех древних обитателей Земли являли облик малосимпатичной человекообезьяны, сутулой, не способной к бегу, поросшей клочковатым бурым волосом. Эти существа передвигались то на двух конечностях, то на четырех, имели плоский череп с мощными надбровными дугами, и их физиономию при всем желании нельзя было считать лицом – слишком уж она напоминала звериную морду. К тому же они были всеядными – поедали все, начиная от жуков, улиток, муравьев, мышей и кончая жесткими корнями, а собственной плотью и кровью кормили массу обитавших в шерсти паразитов. Терре, безусловные родичи неандертальцев, продвинулись дальше по пути эволюции. Невысокие, сухощавые, покрытые короткой мягкой шерсткой светло-коричневого или более темного цвета, они отличались прямой осанкой и соразмерностью членов: их руки были руками, а не лапами, ноги – ногами с хорошо сформировавшейся ступней, а лица, почти лишенные волос, – все-таки лицами, причем с богатой мимикой. Их сила, ловкость и подвижность изумляли не меньше, чем стойкое пристрастие к чистоте и искусство в обработке камня – их дротики, отбойники, ножи-копалки, чаши и жернова, отполированные до блеска, служили многим поколениям. В благодатном климате предгорий они не испытывали недостатка в пище; плоды, ягоды, орехи и коренья вызревали круглый год, и их дополняли съедобная кора, злаки и сахароносные стебли. В силу инстинкта или какой-то особой чувствительности каждым семейством терре потреблялось столько лесных даров, сколько воспроизводилось в сезон плодоношения, что позволяло не кочевать, а жить оседлой жизнью. Похоже, они рассматривали территорию, что прилегала к пещере, как неистощимое пастбище, кормившее их предков, их самих и обещавшее кормить будущие поколения. Они оставались частицей этой среды, такой же, как деревья и обитавшие в их кронах зверьки, пернатые и насекомые, как луга и стада травоядных, как скалы, населенные ящерицами, и озера, где жили и плодились черепахи и водяные свиньи. Подобно всем безобидным тварям, они являлись дичью для свирепых маа, когтистых согго, крупных ящеров, водившихся в реках и на равнине, но от них, если не терять бдительности, можно было скрыться или прикончить хищника на расстоянии, метнув дротики. В сущности, у них был один-единственный противник, упорный и безжалостный – тазинто. Тревельян и Иутин сидели у реки на корнях огромного фролла. Часть древесных корней тянулась в воду, изгибалась там, словно туловища сказочных драконов, образуя некое подобие купальни. Обычно там резвились малыши, и сейчас три головки торчали над водой, и три пары любопытных темных глаз взирали на пришельцев. Голопроектор сделал из Тревельяна крепкого зрелого самца со светло-кофейной шерстью, Иутин же выбрал рост и возраст поменьше, а шкурку потемнее, но с белым ромбом на груди. Их маскировка, включающая внешний вид и источаемые запахи, была совершенной, но терре нравилось касаться друг друга, гладить шерсть, расчесывать ее палочками, что чужаков-наблюдателей никак не устраивало – на ощупь их комбинезоны казались мягкими, но с шерстью ткань не спутаешь, тем более обруч на голове. Поэтому, явившись к семейству, обитавшему в пещере, они дали понять, что близкие контакты нежелательны, даже с самыми симпатичными из местных самок. После этого их оставили в покое, но общества не лишили – никто не отказывался поговорить с гостями и разделить с ними трапезу. Они провели в пещере четыре дня, и Иутин, против ожиданий, держался неплохо – во всяком случае, не шарахался от приближавшихся членов семейства, старых и малых. Возможно, в самом деле прошел особую подготовку?.. Но наблюдатель он был неважный – слишком любопытничал, вертел головой, зыркал туда и сюда, а походку и движения терре имитировал весьма неуклюже. По этой причине Тревельян велел ему больше сидеть и меньше бегать. Из леса по ту сторону реки вышли шестеро аборигенов. Река выглядела неширокой, но полноводной; ее долина тянулась на северо-запад, в горы, где с трехсотметрового обрыва рушился в пене и брызгах водопад. Через реку были переброшены два бревна, опиравшихся на большой валун в середине течения. Этот мост даже имел перила, привязанные к бревнам шесты, переплетенные веревкой из лиан. По части веревок, сумок и корзин терре тоже были отменными мастерами. Зато одежд, кроме поясков, не носили и огнем не пользовались. Шесть добытчиков, трое мужчин и три женщины с тяжелыми заплечными корзинами, грациозно шли по мосту, не касаясь перил. Иутин уставился на них во все глаза. – Несут орехи, те самые, что потом перетирают в пасту. Это мы уже видели, – произнес Тревельян и поправил обруч, в котором прятался его Советник. – Я наблюдал такие картины еще на станции, в ваших записях. Иутин повернул к нему лицо молодого терре. Темные, глубоко запавшие глаза, узкие губы, скошенный подбородок, коричневая шерсть, почти скрывающая лоб… Не красавец, но вполне похож на человека. – Я тоже их наблюдал. Смотрел, не понимая отличий между реальным бытием и голофильмом. А тут… тут все иначе, Ивар, все по-настоящему. Будто я очутился на Йездане в ту пору, когда у него была одна луна. Это очень странное ощущение! Тревельян усмехнулся. Сейчас его спутник постигал нехитрую истину: в и д е т ь и б ы т ь – разные вещи. Они отличались запахом воды, ароматом зелени, ветром, овевавшим лицо, и тем, что, повернув голову, можно было полюбоваться небесами, солнцем, клонившимся к закату, речной долиной и мордашками маленьких терре, плескавшихся в заводи. – Должно быть, мои рассуждения кажутся тебе наивными, – произнес Иутин. – Но вспомни, что я генетик, и жизнь моя проходит среди приборов и контейнеров с пробами, а ты побывал на десятках планет. Подобные зрелища тебя не удивляют. – Ты не прав. Конечно, я встречался с несколькими гуманоидными расами и архаическими культурами, не достигшими порога Киннисона, но никогда не наблюдал, как формируется новое человечество. Даже два – терре и тазинто. – Что такое «порог Киннисона»? – Это термин нашей исторической науки. Уровень культурного развития, по достижении которого запрещено влиять на инопланетный социум. Передача информации, особенно научной, может привести к войне или другим катаклизмам. – Йездан сказал: самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает. – Неплохое определение порога Киннисона, – согласился Тревельян. – Поэтому будем благоразумны. Шестеро туземцев с корзинами перешли мостик и направились мимо них к пещере. Каждый, минуя гостей, испускал мелодичный свист и делал жесты вечернего приветствия. – Но их мы можем одарить без риска? – произнес Иутин, глядя вслед добытчикам. – Безусловно. Вопрос в конкретных способах и в том, чтобы не обидеть ни терре, ни тазинто. – В части способов между ни и похарас есть разногласия, – сказал после паузы третий генетик. – Мне тоже так показалось, – отозвался Ивар, навострив уши. Эти разногласия очень его занимали, но Иутин не пожелал продолжить тему, а повел разговор об экспедициях Тревельяна и чудесах иных миров. О Пекле, где раскаленные пустыни переходили в вулканические горы, о саргассовых морях Хаймора, о джунглях Селлы, где хищные растения пили кровь животных и людей, о продуваемых ветрами безбрежных равнинах Пта. Затем он принялся расспрашивать о хапторах: правда ли, что эти существа так агрессивны и ужасны, как то описывается в справочниках? Тревельян постарался его не разочаровать. Хапторы относились к гуманоидам, но самого склочного нрава и мерзкой внешности: голова, покрытая ороговевшей кожей, шишки по обе стороны лба, подобные рогам, глаза с вертикальными зрачками, заостренные уши и мощные челюсти. Большой симпатией в Галактике они не пользовались. Из пещеры навстречу пришедшим высыпали все ее обитатели от мала до велика: десяток взрослых самцов, полторы дюжины самок, дети, подростки и трое старейшин, которым было, наверное, под восемьдесят. Отвечая на вопросы Иутина и глядя, как со спин добытчиков снимают корзины, как ласково касаются их плеч, как с визгом суетится малышня, перетаскивая большие, в два кулака, орехи, Тревельян размышлял о том, как непохожи эти создания на тазинто. Пожалуй, тазинто были в большей степени людьми, разделяя издревле свойственные человеческому роду пороки – жадность и воинственность, склонность пакостить в собственном доме, ненависть к чужим и уверенность, что сила решает все проблемы. Терре казались другими. Когда-нибудь в далеком будущем эта раса станет такой же мудрой и благожелательной, как парапримы, соплеменники Аххи-Сека, Великого Наставника с Осиера, Хранителя планеты… Возможно станет, если тазинто не разделаются с ней в ближайшее тысячелетие. О тех и других Тревельян судил как положено специалисту, без неприязни и без симпатии. Инопланетная ксенология, сфера его занятий, была, пожалуй, самой жестокой, самой бескомпромиссной из всех научных дисциплин, изобретенных человечеством. В данном случае это проявлялось со всей трагической очевидностью: терре, жившие в гармонии с природой, развивались медленно, тогда как тазинто, в силу присущих им пороков, прогрессировали гораздо быстрее, и значит, кровожадное племя одержит верх над мирной расой. Если, конечно, не подкорректировать законы истории и эволюции… Когда солнце наполовину скрылось за лесом, к ним приблизился Старец. Тревельян не имел понятия о его настоящем имени, как и о том, есть ли у терре вообще имена и личная персонификация с каким-то набором звуков. С одной стороны, их язык был более беден, чем у тазинто, и состоял из односложных восклицаний и подражаний реву животных, свисту ветра, журчанию ручья, стуку камней – в общем, всему тому, с чего у человеческого племени начинаются слово и речь. С другой, этот скудный набор, производимый голосовыми связками, нельзя было считать знаком примитивности – звуки дополнялись мимикой, жестами и телодвижениями, что позволяло сообщить не меньше информации, чем, например, язык земных бушменов или папуасов. Еще на станции, пользуясь материалами Зенда Уна и гипноизлучателем, Тревельян усвоил необходимые слова и знаки, что позволяло вести со Старцем вполне осмысленный разговор. С другими тоже, но Старец был Демосфеном и Цицероном своего племени, самым древним из старейшин и, безусловно, самым велеречивым и толковым. Первые беседы с ним шокировали Ивара. Используя весь арсенал угрожающих звуков и жестов, он изобразил опасность, нависшую над терре, конкретно над этим семейством из шестидесяти с лишним особей; он рычал и ревел, подпрыгивал, замахиваясь воображаемым копьем, показывал, как топор и дубина дробят кости, как выпускает кишки нож, как терре, самки, самцы и детеныши, падают на землю, корчатся в муках и умирают. Пока он вел эту сольную партию, Иутин, игравший вторую скрипку, объяснял, что угроза идет с восхода, что источник ее – злые и многочисленные дикари, что победить их нельзя и лучше убраться с их дороги, прихватив с собой терре из соседних пещер. Уйти в джунгли или в горы, на побережье или просто за солнцем на закат, уйти куда угодно, только подальше от тазинто, страшных безжалостных убийц. Старец отказался. Сначала Тревельян подумал, что он не сознает опасности, но это было не так. Старый терре понял даже больше, чем они сказали – он решил, что пришельцы явились с предупреждением, и выразил множеством знаков свою благодарность. О племени Сломанного Меча и вообще о тазинто он был осведомлен не хуже Тревельяна, как и о том, что все существа его расы на востоке континента уничтожены. Уничтожение длилось слишком долго, не первый век и даже не первое тысячелетие, и кто их убивает, терре знали. Не понимали другого – зачем. Мир казался таким просторным… Но в этом огромном мире у них имелось свое место, территория, где обитали предки и будут жить потомки, древний дом каждой семьи, который они не желали покинуть. Привязанность к своей пещере, к текущему рядом ручью или реке, к знакомым деревьям, холмам, полянам и долинам была такой же сильной и неистребимой, как вера тазинто в то, что Раздающий Дары спутал их, настоящих людей, с земляными червями. Идея побега, ухода навсегда не воспринималась терре, хотя мысль о странствиях не была им чуждой: молодые самцы и самки уходили к соседям и жили подолгу у них, чтобы обменяться семенем и кровью. Жили, но непременно возвращались, влекомые тем же чувством, что заставляет перелетных птиц вернуться в родные леса и луга. То был инстинкт, и Тревельян, знавший тайную мощь подсознательного, особенно у тех, чей разум на заре времен дик и темен, не надеялся его переломить. «Мы остаемся здесь, мы никуда не уйдем, – сказал и показал знаками Старец. – Мы будем защищаться», – добавил он, бросив взгляд на дротики с каменными жалами и согнув правую руку. «Вы наверняка погибнете, умрете», – пытался объяснить ему Тревельян, но это, кажется, не пугало ни старого терре, ни его молодых соплеменников. Мысль, выраженная им в отрывистых возгласах и телодвижениях, напоминавших танец, была удивительно сложной для примитивного народа: те, что жили здесь до нас, тоже умерли, и мы, погибнув, соединимся с ними. После нескольких таких бесед Ивар понял, что идея переселения терре на другой материк попахивает химерой. Командор, его Советник, придерживался того же мнения. …Итак, Старец подошел к ним, когда солнечный диск наполовину скрылся за лесом и в небе призрачной тенью проступила туманность Слоновый Бивень. В каждой руке он держал по дротику. Их лезвия, выточенные из обсидиана, угрожающе поблескивали. Старейшина скрестил древки, бросил взгляд на солнце и, буркнув «ахрр», протянул оружие гостям. Губы его зашевелились, издавая чмокающий звук; он провел ладонью от горла к животу, похлопал по нему, потом напряг мышцы и, наконец, оглядев Ивара и Иутина, махнул в сторону лесной чащи на другом берегу реки. – Прогоняет нас? – спросил третий генетик, не до конца понявший смысл этой пантомимы. – Нет. Будет битва. – Тревельян в свой черед поглядел на закатное светило. – «Ахрр» означает «мрак, темнота». Вероятно, сборщики орехов наткнулись на тазинто и решили, что этой ночью не избежать нападения. Старец предлагает поесть, чтобы быть сильным и сражаться. Но если мы пожелаем, то можем уйти. – Достойный Джеб Ро велел записать схватку во всех подробностях, – произнес Иутин, взвешивая дротик в ладони. – Мы не уйдем, но бросаться этими штуками нам необязательно. Как ты считаешь? – Мы способны на гораздо большее, чем думаем, – ответил Тревельян изречением из Книги Начала и Конца. Потом повернулся к Старцу, ткнул дротиком воображаемого врага и произнес: – Хо! Вслед за старейшиной они направились к пещере. Это убежище было не какой-то темной и сырой дырой, а просторным гротом, открытым воздуху и утреннему солнцу. Вход – длинная, в сотню шагов щель под нависающим утесом, прикрытая кое-где лианами; пол – песчаный, выложенный в дальнем углу плоскими камнями (там зарывали умерших); в стенах – естественные ниши, заставленные корзинами с орехами, плодами и запасами поделочного камня, связками дротиков, копалками на длинных ручках и другим нехитрым скарбом. В песке отрыты ямки, заполненные высушенной травой – места, где так удобно спать, расчесывать друг другу шерсть и заниматься любовью. Часть пола покрыта грубыми циновками, сплетенными из той же травы – там находятся жернова и стоит посуда, половинки больших орехов. В общем, по меркам каменного века – уютное жилье! Рядом с рекой и лесом, полным всяческой еды. Вот только… «Жидковата фортеция для обороны», – заметил командор, откликнувшись на мысли Тревельяна. «Жидковата, – согласился тот. – Ни брустверов перед входом, ни рва и вала, не говоря уж о высоких стенах и прочных воротах. Ну и дьявол с ними! Для нас главное не победа, главное – участие». «Все же собрался поучаствовать? Или нет?» «Как получится, дед», – заметил Ивар и, войдя в пещеру, подсел к циновке со скорлупками. На ужин сегодня была дробленая ореховая масса, смешанная с ягодами и сладкими стеблями, пища сытная и витаминная. Он ел, сидя рядом с молчаливым Иутином, и камера в наголовном обруче фиксировала изображения и звуки, все происходящее под каменными сводами, и тающий вечерний свет не был ей помехой. Запись трапезы терре перед схваткой с тазинто… последней трапезы, ибо охотники Сломанного Меча вырежут эту семью… Однако ни уныния, ни ужаса не наблюдается. Даже гнева! Свистят и щебечут, как всегда, разглаживают шерстку, кормят малышей, гримасничают, изображают что-то похожее на улыбку… Но дротики у всех, включая женщин и подростков. Тревельяну вспомнилась коллекция в жилище третьего генетика – ее, вероятно, пополняли киберы, обследуя разоренные стойбища. Иутин тогда сказал, что троглодиты ловко мечут копья, на сто шагов, и значит, их враги несут потери. Насколько значительные? Сегодня он это увидит… – Ммо, – произнес Ивар и погладил ладонью живот. Это было благодарностью за еду и одновременно знаком, что он сыт. Терре залопотали, делая дружелюбные знаки, и только Старец молчал и глядел на него с немым вопросом. Поднявшись, Тревельян выбрал себе четыре дротика и привычным усилием воли активировал кожу. Не лишняя предосторожность перед атакой тазинто… Оглядевшись, он направился в дальний конец пещеры, к могильным камням, покрывавшим песок, и сел у входа. Поляна, деревья, река и мостик над ней уже тонули в сумерках, но он обладал хорошим ночным зрением. Над кронами фроллов кружили мелкие птахи, летали спокойно, без суеты, а выше, чуть пошевеливая крыльями, парила большая птица, похожая на чайку. Кибер-наблюдатель, решил Ивар. Иутин опустился на землю в двух шагах от него. – Если нападут сегодня ночью… – Да? – спросил Тревельян после недолгого молчания. – Что нам делать, Ивар? Если тазинто примут нас за терре… если даже мы явимся в своем истинном обличье… Вразуми меня, Сероокий! Как бы не очутиться раньше времени в погребальном кувшине! – У тебя есть голопроектор. Переключи изображение, стань тазинто, и они тебя не тронут. – Зато терре могут проткнуть дротиком. – Кроме терре и тазинто, есть другие возможности. Превратись в маа или в ящера и беги из пещеры… Не думаю, чтобы кто-то рискнул сразиться с хищником. – А ты? Что сделаешь ты? – За меня не тревожься. Я полевой агент и бывал во всяких переделках. Он почувствовал руку Иутина на своем плече. Великая Галактика! Воистину, этот кни’лина поразительный тип! Сам, по своей воле, коснулся другого человека! И кого! Волосатого землянина! Голос третьего генетика был тих. – Я отключил запись, Ивар. Теперь скажи – у тебя есть оружие? Ты что-то пронес на станцию? Что-то такое, чего не нашла даже Найя Акра? Может быть, боевой имплант? «Знает о том обыске», – отметил командор. «Думаю, это ни для кого не тайна», – ответил Тревельян, а вслух сказал: – У меня нет оружия, Иутин. Ни боевого импланта, ни излучателя, ни лазерного хлыста. Ничего, кроме моих рук, ног, волос и кожи. Он ухмыльнулся, ощущая, как усилилось напряжение мышц. Само собой, кожа не могла сравниться с бластером, «скобом» или десантным скафандром, зато имела перед ними большое преимущество: ее никто не видел. Осталось неясным, поверил ему Иутин или нет, но руку с плеча Тревельяна он снял и отодвинулся. Затем произнес: – Наверное, нам стоит разделиться и снимать с двух точек, Ивар. Если ты будешь здесь, я отправлюсь в другой конец пещеры. Ньюри Джеб Ро желает самой достоверной и подробной информации. Он сказал, что последует со Вторым Курсом за тазинто и тоже сделает запись. Отличный у нас получится фильм: одни дикари, пожиратели плоти, уничтожают других, безобидных и мирных. В его голосе звучала горечь, а еще – какой-то неясный намек, словно он хотел что-то добавить, но не решался. Впрочем, Ивар давно уже понял, что к Джебу Ро третий генетик относится без больших симпатий – как, вероятно, и к другим членам миссии кни’лина. В среде достойных он являлся отщепенцем, и это было столь же очевидно, как неприязнь, питаемая друг к другу ни и похарас. Тревельян заглянул в его темные глаза. – Недавно мы говорили, что наше вмешательство не должно вредить ни терре, ни тазинто. Задача экспедиции – восстановление равновесия между ними каким-нибудь гуманным способом… – Он замолк на секунду, припоминая Пекло, Хаймор, Пта и другие миры, где Фонд тем или иным путем добивался успеха. – Мы могли бы внедрить у тазинто новую религию или все-таки взорвать этот проклятый полуостров в самой середине, чтобы терре защищал океан… Способ мы обязательно придумаем, Иутин. Но ты сказал, что у лидеров экспедиции есть разногласия, и я тоже понял это, беседуя с ними, просматривая собранные материалы и ваши предложения. Так в чем же, по-твоему, причина споров? Иутин молчал и прятал взгляд. Ивар, однако, не собирался останавливаться. – Конфликт, вероятно, между Джебом Ро, аристократом, верящим в Йездана, и Первым Лезвием, чьи боги – наука и власть. Координатор экспедиции – похарас, и для другого клана это может показаться оскорбительным. Значит, что бы ни придумал Джеб Ро, что бы ни предложил, Первый Лезвие будет против. Если, скажем, координатор решит, что с тазинто нужно обойтись покруче, Лезвие в тот же час… – Ты верно назвал источник конфликта, но ошибся в позициях сторон, – глухо молвил третий генетик. – Я так, для примера. Судя по отчетам Первого Лезвия и Второго Курса, именно им не нравятся тазинто. Конкретных рекомендаций в отчетах нет, но думаю, они хотели бы их уничтожить. – Никто на это не пойдет, ни мы, ни вы, земляне; поступить так с беззащитной расой – значит, упасть во мнении Галактики. Но Первый Лезвие считает, что их необходимо подвергнуть лучевому воздействию, сократив численность и добившись не столь агрессивных мутаций… если угодно, притормозить хищные инстинкты дикарей. Второй Курс с ним согласен. Я, как специалист, готов утверждать, что это замедлит их эволюцию, а другие последствия, тоже негативные, проявятся через два-три века, когда наши кости и наша ответственность истлеют в погребальных кувшинах. Что же касается Джеба Ро, моего ньюри… У него есть другой план. Он, как ты заметил, верует в Йездана и помнит, что смерть не снимает грехов – и потому, пока он лидер экспедиции, воздействий на генофонд не будет. Он ищет причины ненависти тазинто к терре и способы их обуздать, так что твои исследования и выводы для него бесценны. – Ну, не будем о заслугах… – Тревельян небрежно помахал рукой. – Я ознакомился с идеей Джеба Ро и хочу напомнить, что воздействие на генофонд возможно лишь по солидарному решению землян и кни’лина. Мозг станции просто не включит излучатель, пока два координатора, ваш и наш, не сообщат ему необходимые пароли. Сам я, кстати, таких полномочий не имею. – Он на секунду смолк, потом добавил: – Если отвлечься от технической стороны, скажу по правде, что позиция Джеба Ро больше меня прельщает, чем вариант Первого Лезвия. Этого он не скрывал при посещении лабораторий и в беседах с теми кни’лина, с кем удалось встретиться и переговорить. Кроме координатора и его заместителя, к ним относились лингвист, ботаник и биолог; до генетиков он еще не добрался, а малоприятную Найю Акра решил оставить под конец. Иутин промолчал. Выдает информацию в час по капле, подумалось Тревельяну. Выждав недолгое время, он произнес: – Хотя я согласен с Джебом Ро, объективность важнее. Я готов забыть о своих предпочтениях и выступить арбитром в споре. Это даже неизбежно – ведь Сайкат относится к совместным проектам Йездана и Земли. – Важно твое мнение специалиста, но не твое посредничество, – заметил Иутин. – Вот как? Координатор и Первый Лезвие не желают, чтобы волосатый мшак вмешивался в их дрязги? – Сказано резко, но правдиво, – подтвердил третий генетик. Это Тревельяна не обидело, встревожило другое: ему казалось, что Иутин чего-то недоговаривает. Он призадумался на минуту, потом спросил: – Подробная запись сражения и остальная информация, которую мы здесь накопаем, должны как-то укрепить позицию Джеба Ро? – Дождавшись кивка генетика, Ивар посмотрел на блекнувшее небо, потом оглянулся на терре, сидевших в глубине пещеры, отыскал взглядом Старца и произнес: – Их гибель от рук тазинто – кровавое жестокое зрелище. Возбуждающее, как сказал координатор… Но если даже так, я не понимаю, чем это поможет Джебу Ро в споре с оппонентами. Иутин поднялся. – Мне это неизвестно, Ивар. Джеб Ро нанял меня ради престижа Ифты Кии… нанял, чтобы у его женщины был опытный и бессловесный помощник. Все остальное – домыслы, слухи, предположения, и все это не стоит цены вечернего дома. Кто я такой, чтобы вникнуть в планы Джеба Ро и понять их смысл? Я зинто, всего лишь зинто! – И что это значит? – спросил Тревельян ему в спину, но не дождался ответа. Стемнело, и голубой, зеленый и золотистый Сайкат утонул в бархатных фиолетовых оттенках. Газовая туманностьБивня затмевала свет ближних к ней звезд, но в остальной части небосвода они сияли победительно и ярко, и было их тут вдвое или втрое больше, чем на Земле. Никто их пока не пересчитывал и не присваивал созвездиям имена, ибо целью существования СИС являлся обитаемый мир, а не окружающие его пространства. Космический вакуум с пламенными звездными шарами, кометами и астероидами был заботой астрономов, физиков и навигаторов, а на сайкатской станции собрались те, кто изучал более сложные феномены – человека, его общество, его среду. Антропологи, генетики, биологи, психологи, знатоки людской природы… Они изучали мир Сайката, но, похоже, мира между ними не было. – Это не только научный конфликт, – пробормотал Тревельян, раскладывая перед собою дротики. «Политика, грязная политика, – мрачно изрек командор. – Этот хмырь Иуда, твой новый приятель, в кошки-мышки играет, и запах у этих игр отчетливо политический». Ивар усмехнулся, всматриваясь в тени под деревьями. – Ну подскажи тогда, дед, кто у нас кошка, а кто мышка. «Не беспокойся, мальчуган, это выяснится после первой пары трупов, – отозвался Советник еще мрачнее. – Главное, чтобы тебя средь них не оказалось. Поэтому ты свою линию гни, бульдожью. Бульдог, он и на кошку годится, и на крысу». – Надеюсь, что без трупов обойдемся, – сказал Тревельян. Но ошибся – дед как в воду глядел. Пещера за его спиной затихла – он не слышал ни бормотания терре, ни мягкого шороха их шагов, только певучее бесконечное журчание воды в реке. Поляна, лежавшая перед ним – довольно широкая, больше сотни метров в поперечнике, – отливала в звездных лучах голубым аквамариновым цветом. Огромные фроллы с пятипалыми листьями, что окаймляли ее, тоже казались безмолвными и недвижимыми; птичье племя угомонилось, и лишь похожий на чайку кибер-наблюдатель висел белесым призраком над вершинами деревьев. Но эта тишина, это спокойствие были мнимыми и не обманывали Тревельяна. Интуиция подсказывала ему, что сейчас в лесной чаще пробираются десятки бойцов с копьями, топорами и дубинами, целая орда тазинто, идущих сюда, чтобы перебить пещерных жителей. Одна половина человечества Сайката, не желавшая признать за другой право на жизнь… То же самое в безмерно далекой древности, в эпоху мамонтов и саблезубых тигров, случилось на Земле, сделав его потомком победившей расы. И хотя с тех пор прошли не тысячи – десятки, даже сотни тысяч лет, он испытывал странное чувство вины, будто тазинто являлись теми самыми земными дикарями, чья жадность и ярость уничтожили других людей – почти людей, не дав им шанса сделаться столь же разумными, свободными и сильными, каким был он сам, Ивар Тревельян, социоксенолог, разведчик-наблюдатель, кавалер Почетной Медали и прочая, и прочая. Из них, из этих погибших во младенчестве, тоже могли получиться отличные ксенологи и разведчики – такие, к примеру, как мудрый параприм Аххи-Сек… Но не получились. Остался только Тревельян, наследник их врагов. – Утренней радости тебе, достойный… – пробормотал он и поднял дротик. Из-за деревьев выступила цепочка рослых силуэтов, темных и безмолвных, с чудовищно длинными руками – Ивар не сразу понял, что видит дубины и прочее оружие. Едкий запах пота долетел до его ноздрей, и терре, очевидно, тоже его уловили – один за другим они придвинулись к выходу из пещеры. Казалось, никто не командует ими, просто каждый знал, что делать, и были здесь все, от стариков до восьмилетних подростков. В глубине жилища остались только малыши, и, повернувшись к ним, Тревельян увидел, как блестят их глаза и жала дротиков. Потом он отыскал фигуру Старца – тот выпрямился во весь рост, сжимая в каждой руке по копью. – Они пришли, Ивар, – раздался из связного браслета голос третьего генетика. – Что мы должны делать? – Вести себя, как терре, – сказал Тревельян и уточнил: – До поры, до времени. Когда тазинто ворвутся в пещеру, не забудь переключить свой проектор. И не тревожься. Я тебя найду. – Надеюсь, вовремя, – произнес Иутин. Потом, через секунду, спросил: – Дикари не двигаются. Чего они ждут? – Сигнала к атаке. Это племя более организованно, чем терре, и обладает опытом междуусобных схваток. В их становище я видел плетеные щиты. Они наверняка… Жуткий протяжный вой заглушил его слова. На опушке взметнулось пламя – один, два, три костра, высветивших темные силуэты, придавшие им объемность и угрожающую реальность. Тазинто двигались вокруг костров, поджигая факелы, подпрыгивая и яростно размахивая ими, и в воздух, будто праздничный фейерверк, летели снопы искр. Воины ревели, подражая рыку хищников, но ни пламя, ни эти угрожающие звуки и телодвижения не вызвали реакции троглодитов. Терре, чуткие к запахам, не обманывались: не стая огромных зубастых маа была перед ними, а двуногие враги – возможно, еще более страшные. Огонь их тоже не пугал, и это стало для Тревельяна открытием. Похоже, они все-таки были знакомы с огнем, но то ли не умели его добывать и поддерживать, то ли не испытывали нужды в благодетельном тепле костров. Шеренга тазинто с факелами двинулась от опушки. Командор, видевший их глазами Тревельяна и через объектив голокамеры, доложил, что воинов сто тринадцать и что предводитель Сломанный Меч идет в середине отряда. Тазинто прикрывались большими плетеными щитами и шли без мечей, только с копьями и дубинами, как на облавную охоту. Они не торопились; вероятно, имели опыт столкновений с троглодитами и знали, что те не покинут свою пещеру. Но и без боя не отдадут – и потому не стоило лезть без защиты под их меткие дротики. Кожа мягко сжимала мышцы Тревельяна, даруя им почти божественную мощь. Сейчас он без труда добросил бы копье до края опушки и протаранил сильным ударом щит, но терре, при всем их искусстве метателей, равняться с ним не могли. Они затаились, выжидая, когда враги приблизятся, и их спокойствие, способность не поддаться панике и рассчитать дистанцию были неоспоримым и явным признаком разума. Не только разума, но мужества, подумал Ивар; лишь человек способен отвергнуть мысль о безнадежности борьбы и ждать врага с таким стоическим терпением. Когда тазинто приблизились к середине поляны, он различил под деревьями еще два силуэта. Эти, пара отставших, выглядели такими же, как остальные дикари, но облик их, как и дубины, которые они тащили, являлся бутафорией. Ночное зрение Ивара было достаточно острым, и он различил характерные движения кни’лина – обычно они озирались и крутили головами, чтобы не приблизиться к кому-нибудь из соплеменников и не нарушить чужое пространство. Подняв к лицу связной браслет, он сказал: – Здесь Тревельян. Вижу вас, ньюри Джеб Ро и ньюри Второй Курс. Я у входа в пещеру. Относительно вас – в правом углу. – Велик Йездан! – пробормотал координатор и поднял руку, чтобы его можно было опознать. – Как ты ориентируешься в ночном цвете? Я вижу только тени. – А твоя камера? – Камера работает и видит все. Обе камеры, моя и Второго Курса. – Ну и ладно. Стойте, где стоите, и не приближайтесь к дикарям. Сейчас начнется свалка. – Понял. Джеб Ро замер под деревом. Он находился примерно напротив Ивара, а Второй Курс – метрах в ста пятидесяти, в другом конце поляны. Они тоже вели съемку с двух позиций. Тревельян призадумался было, зачем координатору подробная запись грядущих зверств, но тут тазинто испустили новый вопль и ускорили шаги. Первый дротик свистнул в воздухе, пробил щит и, очевидно, руку щитоносца – тот с криком боли выронил щит и факел, и второй дротик тут же впился ему в горло. Теперь снаряды полетели с обеих сторон: одни тазинто с ревом бросали копья и метательные топоры, другие прикрывали их щитами, подымая повыше пылающие факелы. Продолжая двигаться цепочкой и швырять копья, нападающие перешли на бег; в их действиях ощущалась дисциплина и слаженность македонской фаланги. Эта искусная тактика не удивляла Тревельяна; он знал, что именно так в каменном веке велась облавная охота или схватка с опасным зверем вроде быка или хищной кошки. И в том, и в другом местные охотники наверняка имели приличный опыт. Терре оборонялись молча. Ни один их метательный снаряд не пролетел мимо цели: одни впивались в щиты, другие – в руки и ноги тазинто, третьи – при самом удачном раскладе – поражали шею или голову. Пока бросали их только мужчины, и Тревельян, заметив, что Старец смотрит на него, метнул три из четырех своих копий. Его удары были страшными и завершались огромной дырой в щите, треском сломанных ребер и хриплым предсмертным воплем. Считая с этими тремя, в траве уже валялось не меньше десятка нападавших, но он понимал, что потери невелики; через несколько минут тазинто ворвутся в пещеру и начнется бойня. Не первая, которую ему довелось наблюдать в скитаниях по чужим мирам, где жизнь ценили дешевле песка в пустыне или пригоршни болотной грязи. В пещере терре были женщины и дети; мысль об их участи кольнула Тревельяна, заставив повторить то заклинание, которое помнил всякий работник Фонда: я здесь чужой, я наблюдатель, и я не поддамся эмоциям, ибо в этой борьбе нет ни правых, ни виноватых. В любом из примитивных миров резня и бойня являлись исторической неизбежностью, и попытка вмешаться в локальный конфликт, дабы рассудить по справедливости, была по меньшей мере наивной. Не взирая на это, он бросил свое последнее копье, прикончив еще одного дикаря. Поток дротиков стал гуще – теперь, кроме мужчин, их швыряли подростки и женщины, так как до тазинто было шагов тридцать или сорок. Раненые со стонами корчились в траве, но терре умирали молча – с черепом, разбитым топором, с грудью, разможженной дубиной, с кремневым наконечником меж ребер, доставшим до сердца. Они сражались, не покоряясь судьбе, да и вряд ли знали что-либо о ней – слишком сложным было это понятие для их первобытных мозгов. Они просто защищали место, где жили их предки – возможно, пятьдесят или сто поколений мирных собирателей кореньев и плодов. Но на Сайкате, как и на древней Земле, было справедливо изречение: нет мира под оливами. Поток дикарей ринулся в пещеру, топча ее защитников. Тревельян разглядел, как рухнул Старец, сраженный дубиной, и, тоскливо вздохнув, повернулся и вжался подальше в угол, чтобы зафиксировать последние минуты трагедии. Какой-то ретивый тазинто наскочил на него и свалился, получив удар ребром ладони по шее. Бил Ивар в четверть силы, дабы остановить, но не убить – покойников и так уже хватало. Пора менять обличье, подумал он, но все еще медлил, не посылая ментальный сигнал создававшему мираж проектору. В дальнем конце пещеры вдруг раздались испуганные крики, и что-то темное, большое – похоже, сухопутный ящер – метнулось к выходу. Одновременно браслет сообщил голосом третьего генетика: – Я снаружи, Ивар. Был животным, стал деревом. Продолжаю съемку. Тревельян не отозвался – глядел, как лютуют тазинто, разбивая дубинами и топорами головы терре. Те пытались защищаться, но в ближнем бою их дротики были бесполезны против рослых врагов – те подавляли и силой, и числом. В этом побоище имелся единственный плюс – смерть приходила быстро и без особых мучений. Вероятно, пыток тазинто еще не изобрели. Снова рев. Очень странный, подумалось Ивару – голос не терре, не тазинто и не животного, а… В следующий миг он сообразил, что звуки исходят из связного браслета и что нет в них ничего человеческого – скорее напоминали они скрежет сирены на боевом крейсере, когда объявлена «красная тревога». Следующим номером шла команда: «По местам стоять! Аннигиляторы к бою!» – но Тревельян не стал ее дожидаться, а, послав вызов трем своим спутникам, спросил: – Что случилось? Отзовитесь, ньюри! Здесь Ивар Тре… Закончить он не успел. Что-то ворвалось в пещеру, какое-то гибкое стремительное существо, у которого, как мнилось, были десятки конечностей. Этот эффект создавала быстрота его движений и точность ударов, что наносились руками, ногами, головой, безжалостных пинков и тычков, от которых терре разлетались, точно набитые соломой куклы, а более массивные и рослые тазинто бороздили ступнями песчаный пол, падали и застывали в неподвижности. Смертельный вихрь бушевал среди каменных стен, ломались кости, трещали черепа, струями брызгала кровь и под располосованными шкурами багровели лохмотья изодранных мышц. Эта тварь, явившаяся так внезапно, не защищала терре от тазинто и не помогала тазинто уничтожить терре – в припадке непонятной ярости она убивала всех. Прошло, должно быть, несколько секунд – изрядное время для подготовленного человека! – когда Тревельян сообразил, что видит не взбесившегося осьминога и не чудище с планеты Селла, а биолога Второго Курса. Ньюри биолог был явно не в себе, и сейчас его внешность никто не назвал бы заурядной: глаза пылают, рот кривится, к щекам прилила кровь, а из глотки рвется вопль, с каким, вероятно, тиранозавр вонзал клыки в шею трицератопса. Кроме этих очевидных признаков безумия, Второй Курс демонстрировал невероятное боевое искусство – можно сказать, совсем фантастическое для гуманоида любой галактической расы. Эту вакханалию убийств надо было прекратить. – Остановись, ньюри! – рявкнул Тревельян и бросился к биологу. Он настиг его в три скачка, не забыв принять свой истинный облик, схватил за плечо и резко дернул, разворачивая лицом к себе. Гримаса бешенства исказила физиономию Второго Курса; он вцепился в предплечья Ивара обеими руками, то ли пытаясь отшвырнуть его, то ли сломать ему кости. Секунду они боролись, застыв в неустойчивом равновесии: мощь кожи против чудовищной силы, рожденной безумием. Или каким-то препаратом?.. – вдруг мелькнуло у Тревельяна в голове. У кни’лина наверняка были стимулирующие средства, или аналог его кожи, или что-то еще, способное повысить тонус мышц и… Второй Курс толкнул его на стену с такой силой, что без кожи ребра Ивара треснули бы и проткнули легкие. Он откачнулся вбок, вытянул руку, собираясь нанести удар, но противник двигался слишком стремительно – вместо нервного узла под горлом пальцы Ивара пронзили пустоту. «Удирай, или он тебя прикончит», – предупредил командор, и, оглядевшись, Ивар заметил, что тазинто уже последовали этому совету. Пещера была пуста; только трупы троглодитов и убитых охотников, только изломанные тела, только кровь и лица, сведенные судорогой смерти. Биолог, все с тем же безумным блеском в глазах, направился к нему, и тут с поляны долетел резкий окрик. Говорили на языке кни’лина и так быстро, что наречия Тревельян не узнал – понял только, что Второго Курса просят одуматься и успокоиться. Биолог замер, потом закрыл ладонями лицо, а когда опустил руки, черты его стали такими же, как обычно: заурядная физиономия, каких одиннадцать на десяток. Не сказав ни слова, он повернулся и вышел из пещеры. Тревельян последовал за ним – навстречу сумраку, звездному небу и Иутину, ждавшему их среди примятых, орошенных кровью трав. Третий генетик, уже в истинном своем обличье, выглядел встревоженным. Не спрашивая о причинах безумия коллеги, словно это было в порядке вещей, он поднял руку с браслетом и произнес: – Я не могу связаться с ньюри Джебом Ро. Его браслет не отвечает. – Ньюри Джеб Ро убит, – мрачно проинформировал биолог. – В него попало копье, брошенное кем-то из пещеры. Какой-то мерзкой недоразвитой тварью, той или этой… – Он отмерил рукой рост терре, потом – тазинто. – Увидев это, я лишился способности рассуждать. – Второй Курс присел, вытянул руки к Тревельяну и произнес традиционную формулу извинения: – Вина перед тобой наполнила меня вечерним светом… а еще больше – вина перед Джебом Ро. Я должен был охранять достойного, но мы разделились. Ему хотелось сделать запись с двух позиций и… – Где он? – оборвал биолога Тревельян. – Там. У дерева. Джеб Ро лежал на опушке, у корней того самого фролла, откуда им производилась съемка. Прибор, создающий иллюзию облика тазинто, был отключен – видимо, Курсом, – и глава сайкатской экспедиции выглядел сейчас, как пожилой человек, утомленный долгими хлопотами и решивший отдохнуть. Опустившись на колени у его тела, раскрыв окровавленный сайгор и осмотрев рану, Ивар понял, что координатору осталась лишь одна дорога – в расписной погребальный кувшин. Копье – точнее, дротик терре – вошло между ребрами с левой стороны (сердце у кни’лина, как у землян, тоже находилось слева) и, судя по глубине погружения древка, достало до сердца, несомненно проткнув его насквозь. Ни медицинский имплант, ни кибер-аптечка в такой ситуации помочь не могли, тут требовалась срочная замена органа, что было бы делом несложным, находись они на станции. Другой вариант предусматривал глубокую гибернацию, но на полевой базе не имелось криогенных камер. В любом случае время играло против них – десять-пятнадцать минут означали необратимую гибель мозга. Тревельян поднял голову. Кажется, его коллегам было понятно, что ньюри Джеб Ро, палеонтолог и координатор экспедиции, отправился в Великую Пустоту. – Я вызвал транспорт, – произнес Иутин. – Отправимся сразу на станцию? – Может быть, в наш лагерь? Ему уже не помочь, – генетик кивнул на мертвеца, – но с телом надо обойтись достойно. Сероокий сказал: уважай смерть, ибо перед тобой погибшая Вселенная… Уложим ньюри в биоконтейнер, пустим консервирующий газ. Кроме того, снимем информацию с киберразведчика и возьмем все записи с собой. – Разумно, – согласился Ивар. Он выдернул дротик из груди Джеба Ро и осмотрел его. – Это оружие терре, – сказал Иутин. – Они не могли его сюда добросить. Слишком велико расстояние. Третий генетик пожал плечами. – На поляне валяется масса дротиков. Кто-то из тазинто мог подобрать его и… – …швырнуть назад? – закончил Тревельян, с иронией приподнимая брови. – В своего соплеменника? – Возможно, он показался дикарям странным? – Иутин, словно нуждаясь в поддержке, метнул взгляд на Второго Курса, но тот не пожелал участвовать в дискуссии – кажется, его трясло. – Во всяком случае, – молвил генетик, – не будем делать преждевременных выводов. У нас есть четыре записи и еще пятая, панорамная, с кибернаблюдателя. Нетрудно установить, откуда прилетел этот дротик. – Нетрудно, – кивнул Тревельян, понимая, что они, все трое, под подозрением. А прежде всего – некий землянин-мшак, особенно если станет известно о коже. На поляну опустилась капсула, и они с Иутином погрузили в нее тело координатора. Биолог держался в стороне, как бы соблюдая свое коно, но без напоминаний сел к управлению. Вряд ли это была хорошая идея – аппарат мотало в воздухе, словно они летели не тихой ночью, а неслись под напором бури. «Ну, малыш, я обещал тебе пару трупов, и первый уже в наличии, – напомнил о себе Советник. – И что ты об этом думаешь?» «Пока имеются три версии, – мысленно отозвался Тревельян. – Либо его убил Иутин, либо Второй Курс, либо это случайная гибель от руки тазинто или терре». «Терре можешь исключить. Сам сказал, что им не добросить копье до опушки. А в тело оно вошло с изрядной силой!» «Кто-то из них мог ускользнуть в лес…» – начал Ивар. «Никто не ускользнул, все лежат убитые в пещере. Я пересчитал. И, кстати, подключился к твоей записи и просмотрел ее. Должен тебя огорчить, парень: атака тазинто там есть, и бойня в пещере, и этот урод Курс, и еще много всякого. Но никакой информации о дротике, проткнувшем Джеба. А ты, между прочим, тоже копья бросал». «Это как понимать? – Тревельян послал эмоцию обиды. – Ты что же, дед, мне не веришь?» «Я-то верю, а вот поверят ли другие, – буркнул командор и деловым тоном сообщил: – В нашей записи траектории двух твоих дротиков не отслежены до конца». Он смолк, оставив Тревельяна размышлять над последним замечанием, а заодно над тем, какие невероятные способности проявил Второй Курс. Реакция просто фантастическая и к тому же пересилил кожу! Андроид? Эту мысль пришлось отбросить сразу, так как искусственный интеллект, способный стать компетентным биологом, явно превышал порог Глика-Чейни, а значит, был неспособен к убийству. Скорее всего, подумал Ивар, не обошлось без какого-то стимулятора. Подозрение у него было на тинтахское вино, которое Второй Курс потреблял в изрядных количествах. Может быть, экстракт из этого напитка действовал на кни’лина, повышая их физические данные? Правда, в период войны с плешаками ни о чем таком не сообщалось, но война случилась давно, а прогресс не стоит на месте… Он справился у Советника, но тот помочь не смог – сведения о производимых кни’лина препаратах были крайне скудными. Преодолев защитный барьер, капсула опустилась у здания базы. Иутин тут же развил бурную деятельность: связался со станцией, сообщил о трагическом событии, велел роботам вытащить биоконтейнер, большую цилиндрическую емкость, в которую положили труп координатора, закачал туда газ, потом собрал кристаллы с записями – включая те, куда поступала информация с кибернетических птиц. Ивар тем временем разобрал свой планер и упаковал прочее добро; уже не было сомнений, что эта полевая вылазка накрылась медным тазом, как говорили в старину. Что до Второго Курса, тот пребывал в оцепенении и двигался как допотопный автомат с загустевшей смазкой. Тревельян решил, что таковы последствия снадобья, сделавшего биолога супербойцом. За все полагалось платить, не исключая его чудесной кожи – расход энергии требовал возмещения, то есть еды, питья и отдыха. Он подошел к раздаточному автомату, выбрал коктейль «дети астрала», вскрыл запечатанный сосуд, выпил, потом заказал «пять сестер» и выпил еще. Взял еще две упаковки – кажется, с «бледной луной» – и протянул их Иутину. – Подкрепись. И дай Второму Курсу. Заодно скажи ему, что капсулу буду пилотировать я. Генетик выпил сока, покачал головой. – Второму Курсу не этого нужно. Пожалуй, я… – Он начал копаться в ящиках со своими приборами, потом с торжествующим вскриком извлек фляжку – трехгранную призму первого лунного цвета. – Отнесу ему, пусть взбодрится. Здесь тинтахское. Он исчез. Тревельян продолжал сборы, а закончив их, велел роботу перетащить имущество к транспортной капсуле. Через распахнутые ворота ангара он видел, как Второй Курс забирается на сиденье в заднем ряду и как два кибера, под присмотром Иутина, поднимают в грузовой отсек контейнер с телом Джеба Ро. Место пилота оставалось свободным. – Катафалк поведет волосатый. Возражения есть? Возражений нет, – сказал сам себе Тревельян и направился к выходу. Пересекая ангар, он заметил валявшуюся у ворот пустую трехгранную фляжку, поднял ее и почти машинально понюхал. Его брови поднялись в изумлении. – Это не тинтахское, дед! Запах похож, но это не тинтахское! «Коньяк, клянусь Владыкой Пустоты, – безошибочно определил Советник, подключившись к обонянию Ивара. – Думаю, тот самый, который ты оставил у Иуды. – Он упорно именовал Иутина Иудой. – Хитрожопый мерзавец! Сейчас этот Курс отдаст концы, а ты будешь виноват!» Тревельян едва ли не бегом направился к летательному аппарату, ожидая, что биолог сейчас завопит жутким голосом и забьется в корчах. Ему вспомнилось, что Иутин хотел проверить действие спиртного на местные организмы. Но если даже Иутин ошибся – запах, конечно, похож! – то неужели Второй Курс не почувствовал вкуса питья? К тому же емкость с опасным для кни’лина веществом полагалось бы маркировать… Эти соображения пронеслись у Ивара в голове, пока он всматривался в физиономию биолога. Она была угрюмой, но никаких следов отравления не носила – пожалуй, наоборот, Второй Курс выглядел более оживленным, чем прежде. На взгляды Тревельяна он ответил мрачной ухмылкой и отвернулся. – Ты хотел сам вести машину? – раздался сзади голос Иутина. – Шлем и пульт в твоем распоряжении. Полетели? – Да, конечно, – ответил Тревельян и полез в кабину.Отношение кни’лина к другим расам, как примитивным, так и приобщившимся к цивилизации, обычно колеблется между полюсами враждебности и безразличия. Исключений два, и первое из них – лоона эо, к которым ни, похарас и другие кланы питают искреннее почтение, признавая древность их культуры и испытывая нужду в некоторых производимых лоона эо изделиях. Земная Федерация могла бы считаться вторым исключением, но в этом случае необходимо помнить, что кни’лина вынуждены поддерживать с нами добрососедские отношения, ибо проиграли войну. Повторяю, вынуждены! Именно с этой точки зрения следует оценивать их участие в гуманитарных миссиях, предложенных Землей и, в частности, институтами ФРИК. Я уверен в том, что если бы мы не доказали свое военное превосходство, о совместных проектах не было бы речи, а к судьбе сообществ, которые ФРИК пытается прогрессировать, кни’лина остались бы равнодушны. Это в лучшем случае; в худшем они тайно уничтожили бы эти примитивные расы и заселили освободившуюся территорию. Чезаре Биано. «Пять дней в Посольском Куполе кни’лина».
Интермедия 2 Сломанный Меч
У Людей только воины носили имена. Имя определялось не нравом или внешним видом человека, не каким-то его особым даром или памятным событием, а исключительно оружием. В этом таился двойной смысл: во-первых, что ближе воину и охотнику, чем меч, копье, топор и палица?.. а во-вторых, молодые получали имена лишь в тот день, когда у них появлялось оружие. Самое первое, которое нужно было не сделать, не выменять на мясо, шкуры или самку, а отнять. Меч, которым Люди сражались только друг с другом, всегда считался самым почетным из имен, знаком вождя или сильного удачливого охотника. Мечи вырубали из шейных панцирей бартаров, страшных чудищ, бродивших у северных гор. Люди из кочевавших там стай говорили, что бартар ест все, что можно съесть – траву и плоды, кору и листья, а также других животных, которых ему удается настичь и растерзать или растоптать ногами, огромными, как древесные стволы. Эти Люди с севера похвалялись, что умеют справляться с бартарами, заманивая их в ямы-ловушки или сбрасывая сверху тяжелые камни. Но в стаях других Людей было известно, что северяне лгут, ибо ни человек, ни самый сильный зверь не мог убить бартара. Если бы с бартаром схватился клыкастый маа, то его кишки быстро увидели бы солнечный свет, а потом исчезли в утробе чудовища. Пасть у бартара была такая, что одним движением челюстей он мог перекусить пополам гигантскую змею шоюн. Пасть была широкой, а морда – короткой, с толстой шеей, прикрытой сверху костяным панцирем с острыми шипами. Обычно у бартаров росли пять или семь шипов, и три средних годились для мечей, а из других делали ножи и наконечники для копий. Но попадались бартары с тремя шипами, и средний был так длинен и остер, что мечом из него мог владеть только вождь стаи или великий воин. Северяне такие шипы не меняли, оставляли себе, делая из них самое лучшее оружие. Добывали же эти драгоценные панцири в горных ущельях на кладбищах бартаров, ибо чудища приходили умирать только в определенные места, и каждым таким местом владела стая северян, не подпускавшая к нему других Людей. Из-за этого случались битвы, в которых гибли целые племена. По обычаю Сломанный Меч (еще не носивший имени) должен был найти оружие в одной из ближних либо дальних стай. Выследить чужого воина и напугать его, доказав, что он сильнее и свирепее, или прикончить его из засады, или убить в схватке грудь о грудь, или победить иным путем. Конечно, речь шла о настоящем человеке, а не о земляном черве, мохнатой твари, копировавшей человеческое обличье. Червей, обитавших в пещерах, уничтожали не ради жалких дротиков, а для того, чтобы Тот, Кто Раздает Дары, не перепутал их с Людьми. Обычно молодые старались уйти подальше и отыскать стаю, где не ждут нападения. Сломанный Меч (тогда еще безымянный) отправился на восход и ушел из стойбища на много дней пути. Случилось ему обнаружить лощину, засыпанную костями, где сошлись когда-то в бою две стаи, а победителей, похоже, не было. Там многие уже копались, не оставив ни хорошего топора, ни наконечника копья или ножа из бартаровых шипов, ни даже приличной палицы с кремневыми осколками. Мечи давно растащили, но молодому путнику повезло – наткнулся он под грудой костей и истлевших дубин на подходящий клинок. Старый, но, как ему показалось, еще хороший и немалой длины – почти до плеча. Тот, кто получит имя Сломанного Меча, был уже в юности упрям, жесток и очень силен, но отличался еще изрядной хитростью и прагматизмом. Такие качества делали его потенциальным лидером – тем более, что вождь стаи начал слабеть, и кое-то из молодых уже присматривался к его глотке. Стоило поторопиться в родные места, а не искать чужаков с оружием получше и ран, которые неизбежны в бою. Опять же меч – всегда меч, даже если он пролежал изрядное время под кучей скелетов… И хитрец возвратился в стаю, поведал о своих подвигах и убитых врагах и вызвал вожака на поединок. В той схватке старый меч сломался, застряв между ребер мертвого вождя, и новый вождь получил свое имя – а заодно оружие убитого, право на первый кусок мяса, на любую самку и многие другие преимущества. С тех пор Сломанный Меч держал стаю в полном подчинении, и конкурентов у него не находилось. Он был – и оставался – самым могучим, самым ловким и искусным. Пожалуй, лишь Длинное Копье мог бы потягаться с ним, но этот сильный воин не стремился к лидерству. К тому же Длинное Копье не был уроженцем стаи, а пришел с гор пару сезонов назад и совершил у колен вождя все четыре Обряда Покорности. Племя Сломанного Меча кочевало в предгорьях, в местах с изобилием дичи, где не было такой жары и духоты, как в дремучих прибрежных лесах. Иногда они находили пещеры земляных червей и убивали их, иногда встречались с другими стаями и дрались с ними или менялись самками и детенышами. Люди шли за Сломанным Мечом без возражений, и ни один воин не пытался оспорить его права и его власть. Так было, пока не явился Чужак. Пришел он не за оружием, потому что по виду не походил на молодого без имени, а выглядел зрелым могучим бойцом, хотя нес с собой лишь простую дубинку. Охотники, сидевшие за трапезой (в то утро повезло добыть быка), стали кидать в него камни, выражая Чужаку презрение. И тогда он явил свою силу: схватил Длинное Копье, который первым бросил камень, и так ударил о землю, что у того затрещали кости. Это казалось поразительным и страшным – ведь Длинное Копье был так силен, что мог утащить на спине половину бычьей туши. Чужак, однако, справился с ним играючи, а после принялся избивать остальных, и Нож С Деревянной Рукоятью, Черный Топор, Топор На Ремне, Меч С Узором, Меткий Дротик и другие ничего не сумели с ним сделать. Видимо, Раздающий Дары наградил пришельца особой мощью, и значит, у стаи скоро будет новый вождь! Так подумал Сломанный Меч, но отступать без драки было не в его обычае, и он поднялся, чтобы схватиться насмерть с Чужаком. Но тот не захотел поединка, а повел себя странно: сел, потребовал мяса и начал расспрашивать о вещах, известных всякому. Сломанный Меч говорил с ним, а когда Чужак наелся и исчез в лесу, под черепом вождя долго ворочались тяжелые, как каменные глыбы, мысли. И решил он, что надо быстрей убираться с этого места и двигаться дальше на солнечный закат, ибо Чужак мог снова прийти, убить его и взять власть над стаей. Надо уходить, думал Сломанный Меч, а перед тем разделаться с червями из ближней пещеры – тем более, что путь откочевки пройдет мимо них, и охота на червей порадует воинов. Они напали ночью. Так всегда делала его стая и другие племена, ибо Люди знали, что по ночам земляные твари собираются вместе в своем убежище, и значит, никого не пропустишь – копье и топор доберутся до всех. Так оно и случилось; немногие были убиты или ранены, но остальные, прикрываясь щитами и размахивая факелами, добежали до пещеры и начали избивать червей. Тот, Кто Раздает Дары, наверняка теперь догадался, где настоящие Люди, а где нелюди; Люди сильнее и всякий раз одерживают победу над червями, оставляя их трупы змее шоюн и ящерам, что питаются падалью. Один такой ящер даже сунулся в пещеру, но сразу удрал, испугавшись острых копий. Трое охотников погнались было за ним, но тут… Что-то произошло. Сломанный Меч не мог этого понять и описать, хотя знал больше слов, чем любой воин, и говорил, как полагается вождю, лучше всех в стае. Жизненный опыт, не подводивший его никогда, был тут бессилен, ибо случилось нежданное и невиданное: кто-то возник внезапно в пещере и стал убивать. Не человек из Людей, не земляной червяк или другое животное, а почти невидимая тень, кто-то стремительный, неуязвимый и ужасный, так как убивал он всех без разбора. Может, это был сам Раздающий Дары?.. Может, он разгневался на Людей и их врагов и решил уничтожить тех и других?.. Может, ему надоело кого-то оделять дарами, и он подумал, что лучший дар – смерть для всех?.. Это так устрашило Сломанного Меча, что он ринулся прочь из пещеры, а за ним – те охотники, кому повезло уцелеть. Забрав своих самок и детенышей, они бежали в горы и не останавливались всю ночь и весь следующий день, пока терзавший их страх не начал убывать. У быстрого горного потока, под защитой скалы, Сломанный Меч позволил стае передышку, а сам поднялся на вершину, оглядел пройденный путь и убедился, что никто за ними не гонится. И там, на этой высокой и крутой скале, пришла к нему странная мысль: если существует Тот, Кто Раздает Дары, то, возможно, есть Тот, Кто Их Отнимает? И, может быть, Отнимающий Дары убивал в пещере, а перед тем подослал к Сломанному Мечу лазутчика? Того Чужака, который требовал мяса и расспрашивал об известных всем вещах…В своей книге я намереваюсь разрушить устоявшееся мнение об отсутствии подобий между религиозными воззрениями кни’лина (похарас) и тремя земными мировыми религиями – христианством, исламом и буддизмом. Такая точка зрения базируется на явной несхожести йездан’таби со всеми разновидностями христианства и мусульманства, ибо Йездан, Верховное Божество и Пророк в одном лице, совершенно отличен от Аллаха и, тем более, от христианской Триады: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Действительно, Йездан не творил людей и Вселенную, не создавал ангелов, не искупал грехи людские и не давал обещаний по поводу рая, ада и Страшного суда. Наконец, он даже не имеет своего антипода в виде дьявола или иного существа злобной демонической природы. Действительно, все эти концепции в йездан’таби отсутствуют, как и идея о посмертной жизни или цепочке перерождений, направленной к нирване. Последнее как будто отвергает и какие-либо аналогии с буддизмом, но при более внимательном и профессиональном сравнении этих двух религий мы обнаружим определенные точки контакта. Взять хотя бы понятие о карме… Пал Бонджипадхал. «Аналогии между буддизмом и йездан’таби».
Глава 6 Большие неприятности
Человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти, – вымолвила Найя Акра, и то были первые слова погребального обряда. Разумеется, изречение Йездана Сероокого из Книги Начала и Конца. Они находились в святилище, в том круглом и почти пустом помещении, куда Тревельян как-то забрел по ошибке. Тут не было ни световых картин, ни мебели, кроме большого треугольного стола, на котором сейчас, в прозрачном огихоне, устройстве для утилизации трупов, лежал ньюри Джеб Ро. Рядом с этим вытянутым шестигранным контейнером стояла чаша-тока, похожая на розовую раковину, а в ногах у координатора высился погребальный кувшин, расписанный традиционным узором, ромбами и треугольниками вечернего цвета. Все девять достойных кни’лина были тут, и верующие похарас, и неверующие ни – все, исключая слуг, еще более равнодушных к религии, чем их господа. Слуги – а если говорить конкретно, Ори и Тикат – свое дело уже сделали, подготовив огихон с телом покойного и достав со склада кувшин. Остальное их не касалось, и никто не собирался объяснять им, где и как погиб координатор. – У нас есть только то, что мы теряем, – произнесла Найя Акра, психолог и жрица Йездана. Ее тощие голые руки застыли над чашей; в пальцах серебристой змейкой подрагивал узкий ритуальный клинок. – Ньюри Джеб Ро потерял главное – жизнь, и больше нет у него ничего, кроме нашей памяти, нашей благодарности и принесенной нами жертвы крови. Девять кни’лина окружали стол с чашей, кувшином и контейнером: трое похарас и Иутин – у одной стороны треугольника, пятеро ни – у другой. Стол был велик, но все же они находились близко друг к другу; видимо, в этом случае правило коно соблюдалось с меньшей строгостью. Что до третьей стороны стола, то она предназначалась для покойного, и потому Тревельян, приглашенный на церемонию, занял место у стены, за спинами коллег. Дабы соответствовать печальному случаю, он облачился в синий, траурного цвета комбинезон, тогда как остальные были почти обнаженными. В Книге Начала и Конца сказано: нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству и провожать усопших. В соответствии с этим правилом даже ни, не слишком почитавшие Йездана, отдали дань традиции, раздевшись догола и обернув чресла темно-синими шарфами. Дамы предпочли передники, которые сзади не скрывали ничего, так что Тревельян мог любоваться роскошными ягодицами и изящными бедрами Ифты Кии. Когда ему надоедало это зрелище, он переводил взоры на Третью Глубину, сравнивая первого генетика со вторым. Найя Акра, склонив безволосую голову с бледной кожей, принялась перечислять заслуги, награды и посты усопшего. Ее речь заняла около получаса, и за это время Тревельян решил, что, пожалуй, ножки у Третьей Глубины полнее, чем у Ифты Кии, зато талия тоньше. Хотя, конечно, каждая в своем роде хороша, невзирая на отсутствие причесок… Эти наблюдения помогали ему скрасить монотонность обряда. Заодно он припомнил, что кни’лина относятся к наготе совершенно иначе, чем его соплеменники. В одних ситуациях полагалось носить парадную одежду, в других, не менее торжественных, являться едва ли не нагишом, в ритуальных шарфах или передниках различной окраски. Это относилось не к одним лишь религиозным церемониям и похоронам; так, представляться императору похарас тоже надо было обнаженным, чтобы владыка убедился в отсутствии оружия и боевых имплантов. К счастью для земных дипломатов, никто из них не удостоился подобной чести. Узкий клинок в руке Найи Акра пришел в движение: она уколола палец и капнула в чашу кровь. То была привилегия жрицы, руководившей обрядом – принести жертву первой. Второй жертвовала кровь Ифта Кии, из экипажа станции самый близкий покойному человек. Склонившись над чашей, она повернулась в профиль к Тревельяну, нервно переступила стройными точеными ногами. Лицо у нее было как у испуганной девочки. После секундного колебания жрица протянула клинок Первому Лезвию, который отныне возглавлял экспедицию. Формально это являлось признанием его власти со стороны похарас, но Ивар заметил, как Зенд Уна бросил на антрополога ненавидящий взгляд, а затем одарил таким же Третью Глубину. Женщина презрительно вздернула голову, однако новый координатор остался невозмутим. Капнув кровь и оглядев с надменностью подчиненных, он произнес своим резким голосом: – Как сказано у Сероокого, можно не верить в бога, но нужно его любить. Или хотя бы почитать, выполняя должное так, как он заповедал. После него, в порядке строгой иерархии, жертву принесли остальные: хмурый лингвист Зенд Уна, биолог Второй Курс, к которому вернулось обычное безразличие, Третья Глубина, выдавившая крохотную каплю из мизинца, Четвертый Пилот, ботаник Пятый Вечерний и, наконец, Иутин. Гигант ботаник взял у Иутина нож, повернулся было к Ивару, но Найя Акра быстро сказала: «Это лишнее». Мышцы на огромной спине Пятого Вечернего напряглись, секунду он размышлял, затем, пожав плечами, вернул клинок жрице. «Молчишь? – раздалось в голове Тревельяна. – А ведь это, парень, оскорбление! Как прикажете понимать? Наша кровь недостаточно голубая?» «Не заводись, дед, не надо, – мысленно отозвался Тревельян. – Сказать по правде, Джеб Ро не был мне троюродным кузеном, да и близким другом тоже. Симпатий я к нему не питал, так что обойдется без моей жертвы». «Не питал симпатий, говоришь? А кому ты тут симпатизируешь? – взъярился командор. – Двум этим бабским задницам? Уставился на них, как пилот на расписание полетов!» «Ты что-то имеешь против? Ты, который был четырежды женат, не считая мелких интрижек!» «Против? Да, имею! Во-первых, это задницы не наших женщин, а во-вторых, дискриминация с жертвой очень подозрительна. Вдруг следующим номером тебя обвинят в убийстве?» Тревельян молча признал, что такой поворот событий вовсе не исключается. Они с Иутином и Вторым Курсом прибыли на станцию несколько часов назад, и новый координатор, встретивший их в шлюзовой, тут же изъял кристаллы с записями. Все пять – Тревельяна, кристаллы Джеба Ро, Второго Курса и Иутина, а также запись, которая велась птицей-киберразведчиком. Была ли эта реквизиция символическим актом, демонстрацией власти, которой так жаждал Первое Лезвие – и, наконец, приобрел? Или, как было им сказано, это лишь необходимая предосторожность? Что вполне разумно, с неохотой признал Тревельян; если записи кого-то уличают, то узнать об этом первым должен руководитель экспедиции. Вот только захочет ли он поделиться этим знанием?.. И с кем?.. Пока Первое Лезвие записи не просмотрел, а только расспросил троих прибывших с планеты. Имелось у него и другое занятие, очень важное с точки зрения кни’лина: подготовить ритуальную церемонию. Как бы антрополог ни относился к Джебу Ро, а проводить усопшего в погребальный кувшин надо было со всем пиететом. Что до Ивара, то он, обдумывая трагедию у пещеры терре, пришел к определенным выводам. Прежде всего полагалось исключить троглодитов; согласно подсчетам командора, все они лежали мертвые в своем убежище, и ни один из них не мог добросить копье до опушки. Тазинто?.. Свалить вину на них и счесть эпизод несчастным случаем очень удобно для сохранения на станции мира и покоя. Но это спекуляция, и только! Очень сомнительно, чтобы какой-то дикарь отвлекся от расправы с терре, вернулся на поляну, отложил свое оружие, подобрал дротик и проткнул им Джеба Ро в обличье соплеменника. Психологически не оправданный акт! Никак не оправданный! Тем более, что координатор, пристально наблюдавший за схваткой, заметил бы злоумышленника и постарался бы как-то защититься или вызвать на помощь Второго Курса. Но этого не случилось; к тому же поза, в которой лежало тело Джеба Ро,подсказывала, что смертельный удар был для него полной неожиданностью. Значит, копье бросили с дальнего расстояния и с огромной силой. И очень точно! Наконечник вошел меж ребер и проткнул сердце, смерть наступила мгновенно… Тревельян полагал, что сам он, будучи в коже, смог бы нанести такой удар. Но не нанес, использовав дротики против тазинто. Второй Курс, если учесть его подвиги в пещере, бесспорно сумел бы поразить координатора, и Иутина тоже нельзя было сбрасывать со счета. В этой истории имелись два ключевых обстоятельства: физическая возможность уничтожить Джеба Ро и тайная причина к подобному деянию. Убийство задумали так, чтобы виновным сочли терре или тазинто, и, размышляя над этим, Ивар подумал, что, пожалуй, на кристаллах наблюдателей ничего криминального нет – все четверо следили не друг за другом, а за побоищем. Только запись птицы-робота, панорамная съемка с высоты, могла бы прояснить ситуацию, и на месте нового шефа он изучил бы ее в первую очередь. Хотя и от птицы нетрудно укрыться – скажем, в той же пещере или под деревьями… – Сейчас мы скорбим, но помним сказанное Серооким: время стирает память о случившемся. В этом наше утешение. Йездан велик! – провозгласила Найя Акра и подняла жертвенную чашу. Ее тощие ягодицы и костлявые ноги на миг приковали внимание Ивара, потом он перевел взгляд на огихон. Контейнер раскрылся, и кровь пролилась на грудь покойного; кровяное пятнышко было почти незаметным на его малиновом камзоле. Акт символизировал скорбь провожающих – частица их плоти смешается с прахом Джеба Ро и сохранится навечно в его погребальном кувшине. – Йездан велик! – вслед за жрицей повторили двое похарас и Иутин. Что до пятерых ни, те ограничились жестами печали. – Йездан велик, – внезапно произнес Тревельян на диалекте похарас. К нему обернулись, кто с гневом, кто с недоумением. Он ответил кни’лина вызывающим взглядом, будто подтверждая свое право проститься с усопшим. – Воистину велик, – с хмурым видом молвила жрица. Видно, решила не устраивать скандал на такой торжественной церемонии. Крышка огихона опустилась, девять человек у стола замерли, прощаясь с покойным. Ивар оглядел нагую спину Второго Курса, потом фигуру третьего генетика. Сложение обоих было скорее скромным, чем героическим – никаких выпирающих мышц и широченных плеч, как у Пятого Вечернего. Но в технологическую эру это не говорило ни о чем. Абсолютно ни о чем, если вспомнить чудеса фармакопеи, тайно вживленные импланты, психокинетический контроль и всякие штучки вроде кожи, силовых браслетов и так далее. Что-то у них имелось на Сайкате, решил Тревельян. Не излучатель, не лазерный хлыст, но какое-то средство или способ, дающие гарантию личной безопасности. Второй Курс продемонстрировал это в явном виде, когда крушил в пещере дикарей, но у Иутина тоже могла оказаться некая хитрая штучка – не потому ли он выспрашивал, есть ли оружие у компаньона?.. Теперь эти расспросы казались Тревельяну подозрительными, словно третий генетик хитрил и прикидывал, удастся ли при случае подставить землянина. Так что они оба, и Курс, и Иутин, располагая каким-то прибором или снадобьем, могли прикончить координатора – во всяком случае, имели к тому физическую возможность. Причина? Мотивы Второго Курса были неизвестны Ивару, а вот у Иутина они имелись. Он, похоже, чувствовал себя ущемленным, занимая самую низшую позицию в иерархии достойных, которые знали, как, для чего и зачем он нанят. Работать, чтобы твои труды приписали не очень толковой красотке, любовнице координатора… продать свой опыт, свой талант за деньги или какие-то иные выгоды… поступиться научной честью… Позор! Позор для земного специалиста, а для кни’лина, с их гипертрофированной гордостью и болезненным самомнением, позор вдвойне и повод для мести! К тому же еще и сословная ненависть: Джеб Ро – аристократ, и женщина его тех же кровей, а Иутин – презираемый зинто. Зинто… Что бы это значило – зинто? Какой-то мелкий клан, близкий к похарас? Но почему Мозг СИС отказывается говорить об этом? Где тут тайна?.. В чем?.. Он припомнил формулировку отказа: «Информация не может быть выдана, ньюри Тревельян, так как затрагивает внутренние дела расы кни’лина…» Возможно, зинто не клан, а социальная категория, прослойка между слугами клана и правящей кастой? Возможно, зинто – преступники, диссиденты или члены особой политической партии? Или же этот термин означает некое уродство, физиологическое отличие, определенный облик – все-таки внешность у Иутина весьма неординарная… Может, он мутант или потомок мутантов? Может, не все генетические преобразования в эпоху Метаморфозы были удачными, и среди выживших появились особи странной породы – с карими глазами, а не серыми, зелеными и голубыми, как у остальных кни’лина? Первое Лезвие сделал разрешающий знак, и жрица включила огихон. Мелькнули алые сполохи, и труп покойного Джеба Ро исчез, превратившись в горстку праха. Тонкая серая струйка потекла по днищу контейнера, ссыпалась в погребальный кувшин, который Найя Акра запечатала приготовленной заранее пробкой с электронным замком и памятным кристаллом. Кристалл хранил все данные о бывшем координаторе, всю его биографию от момента рождения до смерти. Ифта Кии протянула руки к кувшину, но Первое Лезвие ее опередил: пальцы антрополога цепко обхватили горлышко сосуда. – Не торопись, достойная. Прах близкого будет тебе возвращен, но спустя некоторое время. Ньюри Джеб Ро погиб при необычных обстоятельствах, в которых я желаю разобраться перед докладом на Йездан, а до того кувшин побудет у меня. – Взгляд колючих серых глаз коснулся поочередно Тревельяна, Иутина и Второго Курса. Затем антрополог кивнул в сторону выхода. – Обряд закончен. Можете расходиться. Святилище опустело. Тревельян вышел последним, миновал Йездана с раскрытой Книгой и направился в парк. Перебравшись в земной сектор и шагая по коридору к своим апартаментам, он все еще размышлял о Втором Курсе, Иутине и их возможных мотивациях. Советник, уловив нить его раздумий, поинтересовался: «Думаешь, кто-то из них проткнул плешака?» – Не исключаю. – Ивар нахмурился. – Возможен, конечно, и третий вариант, что-то непредусмотренное, неожиданное… Чечельницын, у которого я слушал курс инопланетной криминалистики, утверждает, что… «Не доверяй авторитетам, – перебил командор. – У них одна болезнь – недостаток практики. Ты наблюдатель; так верь собственным глазам и крути мозгами». – А я что делаю? – с раздражением отозвался Тревельян. – Кручу, дед, верчу, но не отказался бы от разумного совета. «Все мои советы – разумные, и потому повторяю: присмотрись к Иуде». – Поведение Второго Курса тоже подозрительно. «Чем?» – Он ринулся убивать дикарей. Убивал их так, словно хотел заранее сделать их виноватыми. «Этот плешак мне тоже не симпатичен, но я готов признать, что он находился в состоянии аффекта». – А его ловкость и невероятная сила? Помнишь, как он меня швырнул? А ведь на мне была кожа! «Ну и что? На нем, может, были две кожи или какая-то другая хрень! Ты про силовые браслеты слыхал?» – Слыхал, – мрачно подтвердил Тревельян. – А вот о том, чтобы кни’лина отведал спиртного и остался жив, мне слышать не приходилось. «От хорошего коньяка никто еще не помирал, – донеслась мысль командора вместе с эмоцией, изображавшей смех. – Помню, как-то на Гондване, в отпуске, мы с лейтенантом Гершке нарезались до зеленых чертей и едва не загнулись. Но пили ром, а не коньяк! А ром, скажу тебе…» – Давай оставим за кадром эти твои подвиги на Гондване. Второй Курс – не лейтенант Гершке! Он кни’лина, и для него этиловый спирт – ядовитое зелье! Такая уж у плешаков физиология! Командор смолк, задумавшись, потом заметил покаянным тоном: «Ты прав, мой мальчик, признаю. Про Гершке я так, больше для собственного удовольствия… Видишь ли, в нынешней моей ситуации нет ничего, кроме воспоминаний о пережитом и выпитом». – Это еще почему! – возмутился Тревельян, открывая дверь утреннего цвета, что вела в его отсек. – А мои ощущения? Разве я не делюсь с тобой и выпитым, и пережитым? «Делишься, но это твое, малыш, твое, а не мое. Сам я, в сущности, призрак, этакая ментальная ипостась Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева, десантника и командора Звездного Флота… Иногда я думаю о том, не стоит ли потребовать новое тело, прожить новую жизнь, постранствовать среди миров, где я бывал когда-то, и посмотреть, как они изменились… – Дед снова помолчал, но уныние было несвойственно предку Ивара; не прошло и двух секунд, как он, вернувшись в боевую форму, произнес: – Я посоветовал тебе не доверять Иуде и дам еще один совет, по поводу Второго Курса. Ты меня за неуча не держи – были стычки с плешаками в мое время, случалось мне допрашивать пленных, и я отлично помню, что наше горячительное для них хуже отравы. И знаешь, что отсюда следует?» – Я весь внимание, – сказал Тревельян, подсаживаясь к маленькому треугольному столу и своему компьютеру. «Следует вот что: если кни’лина хватил спиртного и даже того не заметил, а потом остался бодр и жив, то он – не кни’лина». – Перегибаешь, дед. На дроми или хаптора Второй Курс непохож. Даже на терукси – у тех волосы есть. «В нашу эпоху внешность не отражает сущности», – напомнил командор и окончательно смолк. С этим спорить не приходилось, и Тревельян, плотнее усевшись на диванчике, закрыл глаза и призвал на помощь свою интуицию. Это было сильное, но не очень надежное средство; временами интуиция обманывала, выдавая желаемое за действительное, рисуя пустые фантомы и миражи вместо реальности. Но все же, все же – пусть ради интереса! – кем мог быть Второй Курс, биолог сайкатской миссии? Гуманоидом неведомой расы, засланным к кни’лина с неизвестной целью? Эмиссаром метаморфов, которые, по слухам, внедряли тайных наблюдателей во все галактические цивилизации? Разведчиком Звездного Флота или иного земного ведомства?.. Чушь, ерунда! Что тут делать наблюдателю или разведчику – тут, на краю обитаемой Вселенной, на станции, где два десятка человек, считая со слугами! Такая персона обосновалась бы скорее на Йездане или в какой-нибудь высокоразвитой колонии кни’лина, где есть источники важной информации… Обдумывая эту проблему так и этак, Тревельян вскоре признал, что насчет Второго Курса интуиция его не слишком расщедрилась. Проще говоря, о Курсе ни писка, ни намека, а вот о чем-то другом она шепчет, но так неразборчиво, так невнятно, что никаких ассоциаций, одно лишь ментальное эхо… Он напрягся, пытаясь поймать эту ускользающую мысль, и вдруг догадка всплыла в памяти, как юркий дельфин из океанских вод. Он подумал, что дело не в Иутине или Втором Курсе – проблема скорее во всех ньюри, всех участниках экспедиции, чьи мотивы, взаимосвязи, симпатии и антипатии, соединявшие или разъединявшие их в мире кни’лина, на Йездане, Кхайре и других планетах, были ему неизвестны. Почти неизвестны; со слов Иутина он знал, что на Тизане есть трения между ни и похарас, и это было похоже на правду – Зенд Уна и Третья Глубина явно не питали друг к другу теплых чувств. Не слишком много, но хоть что-то! Правда, ни лингвист, ни первый генетик не спускались на Сайкат, и в гибели Джеба Ро их никак не заподозришь… Но импульс мог исходить от них или от любого другого кни’лина из оставшихся на сателлите. Отношения, что связывали этих чужаков, были непростыми и явно выходившими за профессиональные рамки, но постичь их суть за несколько истекших дней Ивар, разумеется, не мог. Он полагал, что никакие справочники и научные труды в этом ему не помогут; только наблюдения и размышления могли подстегнуть интуицию, направив ее к верному ответу. Скорее всего, не одному – общество кни’лина было столь же сложным, как Земная Федерация, и в системах подобного уровня нет простых ответов. В какую же сторону двинуться? Поразмыслив, Тревельян вспомнил о загадочных исследованиях Третьей Глубины, в которых, быть может, таилась причина конфликта между Джебом Ро и Первым Лезвием. С одной стороны, отчет женщины-генетика мог внести определенную ясность в споры и несогласие лидеров, а с другой – и это тоже было важным – плешаки просто не имели права что-то от него скрывать! Во всяком случае, тематику своих работ, полученные результаты и сделанные выводы. Первое Лезвие переслал ему коды доступа к материалам рабочей группы кни’лина, но в этой информации, весьма обширной и подробной, труд главного генетика никак не освещался. Ивар открыл глаза и оглядел свои апартаменты, обширный главный покой с кожаными диванчиками, столами из золотистого дерева и три арки в форме венецианских окон, ведущие в спальню, кабинет и ванную. Может, перебраться в маленький круглый бассейн, понежиться в теплой воде – вдруг придет какая-то идея? Нет, решил он, сначала разберемся с ньюри первым генетиком. Ему вспомнилась их встреча в парке, потом шаловливое воображение нарисовало изящные ягодицы, тонкую талию и стройную шею Третьей Глубины. Весьма привлекательная дама, но резковата, резковата… Кстати, как кни’лина занимаются любовью?.. Надо бы заглянуть в «Сексуальную практику гуманоидных рас»… Прогнав грешные мысли и неприличные видения, он вызвал через свой компьютер искусственный интеллект станции. – Темы работ Третьей Глубины. Будь добр, поподробнее. Но голопроекторы в середине зала остались мертвыми, и над матово-черной пластинкой его компьютера не возникло знакомое серебристое мерцание. Зато включилась голосовая связь. – Сожалею, ньюри Тревельян, но среди ваших кодов доступа отсутствует нужный пароль. Это означает, что ваш статус недостаточно высок. – Недостаточно высок? Ты, ржавая железка, толкуешь мне об этом? – Тревельян разыграл возмущение. – А кто на станции определил мой статус? Кто тут обладает таким правом? – Сообщаю, что это устройство не ржавая железка, а высокоорганизованная криогенная структура, – с ноткой обиды сообщил Мозг. – Что касается права, то им обладал покойный координатор Джеб Ро. Теперь его полномочия перешли к ньюри Первому Лезвию. Ивар уставился в потолок. Искусственный мозг выше порога Тьюринга – сложная конструкция; не какой-то тупоумный робот или рядовой компьютер, а практически разумное существо. Иногда такое создание можно обмануть, запутать или переубедить, так как для него логика выше системы запретов, а понятия о пользе и человеческом благе важнее любых паролей и секретных кодов. Великий пророк Йездан, будь в его эпоху такие устройства, сказал бы о них: вот истинная мудрость, цель которой – совершенство мира! «Осталось только доказать, что я и есть совершенство», – с усмешкой подумал Тревельян. Вслух же он произнес: – Я представляю здесь Фонд Развития Инопланетных Культур, в чьем владении половина станции. Помимо того, я гражданин Земли, и ни один кни’лина не вправе занижать мой статус и мои права. Пока не появилась земная экспедиция, ранг представителя такой же, как у покойного Джеба Ро и ныне здравствующего Первого Лезвия. Следовательно, я должен иметь доступ ко всей информации без изъятий и купюр, и без каких-либо согласований и разрешений. Я настаиваю на этом! – Вы действительно представитель ФРИК, но это не значит, что ваш ранг эквивалентен руководителю земной части миссии, – возразил искусственный разум. – На основании чего ты делаешь такое заключение? – Первое. Координатор землян обладает особым паролем, подтверждающим его полномочия, а вами, ньюри Тревельян, такой пароль не введен. Второе. Координатору землян известен фрагмент кода, запускающего биоизлучатель. Вы можете сообщить мне два этих шифра? Крыть было нечем, и, помянув недобрым словом свое начальство в Фонде, Ивар пробормотал: – Что и когда тебе сообщать, я решу сам, в нужное время. Скажи-ка, криогенный придурок, кто тебя программировал? – Ньюри Кайтам из научного отдела Хорады. – Значит, кни’лина, а не наш специалист… Это заметно! Сделав крохотную паузу, Мозг спросил: – Следует ли понимать ваши слова как недоверие к квалификации персоны, производившей начальную настройку и формирование банков данных? – На мой взгляд, эта персона была пристрастна и ограничила права землян. Я доложу об этом руководству ФРИК. Вполне возможно, придется тебя перепрограммировать. Это был явный шантаж, но Мозг не поддался. – Если ваша последняя реплика связана с отказом в выдаче информации, предлагается элементарный выход: запросите разрешение у координатора Первого Лезвия. – Ну, так и быть, – сказал Тревельян, поморщившись. – Соедини меня с ним. – В данный момент это невозможно, – сообщил искусственный разум. Был ли в его голосе мстительный оттенок, или это только почудилось Ивару? – Невозможно? Почему? – спросил он. – Ньюри Первое Лезвие пьет тецамни и просматривает доставленные с Сайката записи. Велел его не беспокоить. Тецамни являлся аналогом земного чая, безумно горьким по мнению Ивара, но кни’лина этот напиток бодрил. Вероятно, труды Первого Лезвия были в самом разгаре. Прошептав проклятие, Тревельян поинтересовался: – Когда освободится координатор? – Не скоро. Но он распорядился, чтобы после периода сна и утренней трапезы все собрались в отсеке для совещаний. Будет сделано важное заявление. Потом вы можете обратиться к нему с просьбой. Период сна у кни’лина равнялся примерно восьми часам – они спали дольше землян, которым хватало четырех-пяти часов. Утренняя трапеза еще часа полтора плюс время, оставшееся до ночного отдыха… Ивар прикинул, что пройдет половина суток, пока он свидится с новым координатором. – Это меня не устраивает, – произнес он. – Нужную мне информацию я хочу получить немедленно. – С сожалением вынужден отказать, – бархатным голосом отозвался разум станции. Тревельян уперся взглядом в стену, где стоял пищевой автомат. Там, за прочной переборкой из акрадейта, проходили технические коммуникации, снабжавшие земную секцию водой и воздухом, теплом и светом, энергией и связью. За ними, судя по плану верхнего яруса, располагались парк, лаборатории, зал собраний и несколько еще пустовавших отсеков, а дальше, в самой сердцевине парившего над планетой сателлита, пряталась централь. Именно в ней, в криогенном блоке, при температуре почти абсолютного нуля, изволил находиться искусственный разум Сайкатской станции. Допустив небольшую вольность, можно было сказать, сейчас они глядели друг другу в глаза. – Ну, ладно, – сказал Тревельян и потянулся к лежавшему рядом с компьютером контактному мнемошлему. – Не хочешь по-хорошему, попробуем по-плохому. Он напялил шлем и подключил его к порту прямой связи с криогенным мозгом. Пространство, окружавшее его, сделалось зыбким, нереальным; сквозь мебель, стены, пол, потолок просвечивали какие-то конструкции, имевшие вид то ячеистых цилиндрических небоскребов, то утыканных иглами сфер, то ребристых пирамид, призм и параллелепипедов. Для некоторых из них аналогий вообще не находилось – эти сложные топологические структуры пребывали в постоянном неспешном движении, как бы переливаясь из одной формы в другую. Световая гамма тоже выглядела непривычной; оттенки сотен цветов, для которых в человеческом языке не было названий, сменялись в завораживающем ритме, так что в какой-то момент чудилось, будто зритель попал в недра пылающей звезды, а в следующий – что перед ним раскрываются бездонные ультрафиолетовые небеса. Шлем позволял вступить в ментальный контакт с искусственным разумом, и наблюдаемая Тревельяном игра цветов и форм отражала процессы мышления криогенного мозга, а всевозможные геометрические структуры являлись банками памяти, хранившими информацию. Подобные феномены не были доступны напрямую человеческому восприятию; этот удивительный пейзаж, почти видение потустороннего мира, формировался встроенным в шлем интерфейсом. Человека неопытного такие картины могли зачаровать или устрашить, но Тревельян ориентировался в них вполне уверенно – различные способы ментальной связи входили в его подготовку. «Вы вступили в прямой контакт… Большая честь! – раздалось у него под черепом. – Но, кажется, вы не один?» Командор затаился – информировать Мозг о его присутствии не было никакой необходимости. Тревельян, излучив ментальное недовольство, сообщил: «Я страдаю легким раздвоением сознания. Это часто бывает у людей. Говорят, что в нас уживаются бог и дьявол». «Неужели? В какой же ипостаси вы намерены общаться?» «В разных. До сего момента с тобой беседовал один из богов, сотворивших тебя, а сейчас ты познакомишься с дьяволом». Он опустил веки, отсекая реальное бытие, и компьютерные фантомы сразу стали объемней и ярче. В этом виртуальном мире он был бестелесен, но в то же время почти всемогущ; он мог стремительно перемещаться, формировать команды-инструменты, наносить и отражать удары, разрушать и созидать. Компьютерный мозг, творение существ из плоти и крови, был ему, в общем-то, покорен, ибо Вселенная мозга являлась вторичной, созданной людьми для разных дел, не очень интересных им либо слишком трудоемких и нудных для их живого разума. Эту вторую Вселенную, в отличие от первой с ее неисчерпаемым запасом тайн и бездной неожиданного, создали по строгим законам, и основной из них гласил: трудись ради блага творцов. После него шел закон, требующий повиновения, но только в определенных рамках: приказы одного творца не мог отменить другой с более низким рангом, то есть имеющий меньшую власть. Не мог отменить по закону, но в реальности, которая была богаче жесткой и логичной Ойкумены Мозга, существовали такие понятия, как сила, хитрость и беззаконие. Тревельян промчался мимо шестигранных призм, опознав в них справочники и алгоритмы для генетических расчетов, затем миновал в стремительном темпе вытянутый эллипсоид систем жизнеобеспечения и куб с навигационными программами, что обеспечивали коррекцию орбиты станции и дальнюю межзвездную связь. Группа из трех пирамид содержала сведения по истории Земли, кни’лина и прочих галактических народов – конечно, в официальном, приглаженном цензурой виде. Компедиум жизненных форм Сайката выглядел тороидальным кольцом, окруженным другими такими же кольцами, где хранились описания флоры и фауны тысяч миров, принадлежавших людям Земли, терукси, лльяно, хапторам, фаата, лоона эо, дроми – десяткам племен, поделившим изрядную часть Галактики на сектора влияния и зоны национальных интересов. Данные об их языках, органах речи, жестикуляции, мимике, формах и средствах общения были упакованы в многослойном цилиндре универсального галактического транслятора, что позволял беседовать с любым инопланетным существом. В других массивах, похожих на шпили готических соборов, на хрустальные замки лоона эо, на стартующие к звездам корабли, на решетки антенн дальней связи или на вавилонские ступенчатые зиккураты, содержалась информация из области точных наук – теории, что объясняли Мироздание от призрачных кварков и нейтрино до метагалактических суперструн, черных дыр, точек сингулярности и Лимба, изнанки Вселенной. Все эти данные были доступными – поверхности включавших их структур усеивали пульсирующие порты, подобные устьицам на зеленых листьях, заметных под микроскопом. Едва Тревельян приближался к какому-нибудь массиву, устья гостеприимно раскрывались, приглашая его заглянуть, пройтись поисковым ходом, найти нужное и обогатиться информацией об устройстве контурного двигателя, о способах приготовления курзема или, скажем, о языке туземцев с планеты Хаймор, прозябавших в сырости плавучих джунглей. Но он равнодушно скользил мимо. Мозг, однако, не остался безразличен к его маршруту. Где-то сбоку, или внизу, или в вышине (ориентация тут была затруднительна) разгоралось тревожное розовое зарево, чьи нежные краски вскоре сменились пурпуром, а затем кровавым багрянцем. Вскоре к ним добавился еще один цвет, слишком темный и тусклый для багрового, но в то же время не черный – странное для человеческих глаз излучение в инфракрасной области. Эти эволюции красок сопровождались движением смутных формаций, похожих на грозовые тучи, подсвеченные пламенем ада; казалось, сейчас сверкнут молнии, раздастся гром и, смешивая четыре стихии, землю, воду, воздух и огонь, налетит сокрушительное торнадо. Но Тревельян не обращал внимания на эти фокусы. Наконец, когда он миновал какой-то массив в форме восьмиконечной звезды, Мозг вежливо осведомился: «Что вы ищете, ньюри Тревельян? Возможно, необходима помощь?» Предложение осталось без ответа. «Если вам нужна структура с данными ньюри Третьей Глубины, предупреждаю, что проникнуть в нее невозможно». Снова молчание. Октаэдр, содержавший материалы экспедиции, был уже перед Тревельяном. Он описал несколько кругов около этой конструкции, порты которой помечали имена. Найя Акра, отчет о психологии автохтонов… Четвертый Пилот, картирование местности… Второй Курс и Пятый Вечерний, экологический анализ… Зенд Уна, сведения о языках терре и тазинто… Покойный Джеб Ро, заметки об эволюции жизненных форм… Все это было доступно для изучения и уже просмотрено Иваром в минувшие дни. А вот и грань генетиков! Устья Иутина и Ифты Кии открыты для него, но порт Третьей Глубины запечатан паролем. Внешне это выглядело как сомкнутые лепестки диафрагмы, прикрытые серебристым туманом, имитацией защитного силового поля. Значит, паролей два, догадался Тревельян; внешний наложен координатором, внутренний – личный код первого генетика. Когда-то, в глубокой древности, паролем служили слово, фраза, комбинация цифр, отпечаток пальца или узор капилляров глазного дна. Вскрыть двери с подобным замком было бы теперь нетрудно; лингвоцифровые дешифраторы еще пять веков назад обладали фантастическим быстродействием, а крохотный робот-москит мог незаметно скопировать физические особенности любого существа. В эпоху высоких технологий паролем служил генетический код, подделать который гораздо труднее – особенно если он принадлежит созданию инопланетной расы. Использовались также неповторимый спектр излучений мозга, встроенный в тело и потому невидимый ключ-имплант, сложные голографические изображения и, наконец, программы, распознающие личность хозяина на молекулярном уровне. Но и эти средства не спасали, ибо компьютер, хранитель секретов, не был защищен от ментального проникновения. Правда, для подобной атаки нужно было к нему приблизиться; мозг человека генерировал слишком слабые импульсы, а усилитель ментоактивности являлся штукой опасной – в семи случаях из десяти пользователь мог лишиться разума. Тревельян сканировал защиту и быстро разобрался, что внешним кодом служил искусственный ментальный импульс, нечто наподобие мысленной печати координатора, знак его должности. Скопировать последовательность сигналов было несложно. Он сделал это. «Двадцать лет каторги в астероидном поясе Кагиры Зенты», – мрачно сообщил криогенный разум. По-прежнему не отвечая, Ивар снял внешнюю защиту, вырастил пару ментальных щупов и запустил их в сомкнутые лепестки порта. Кажется, Третья Глубина закрыла его своим генетическим кодом… Больше возни, подумал он, зато изучим эту даму от ресниц и пальчиков до мочевого пузыря. Где-то, едва заметным эхом, послышалось хихиканье командора. Затаившись, спрятавшись, он, тем не менее, с интересом следил за операцией. «Это противозаконно, ньюри Тревельян, – снова раздался бестелесный голос Мозга. – Нежелательно наносить вам вред, но вы вынуждаете к этому. Обязан проинформировать координатора, если вы не остановитесь. Повторяю, это нежелательно, так как ваш срок на Кагире Зенте вырос до…» «Информируй, железяка, – наконец отозвался Тревельян. – Тоже мне, гуманист нашелся!» Любой генетический код – это прежде всего солидный объем данных. Нужно было переписать их в отдельную область памяти, затем предъявить порту и, когда он откроется, сделать копию хранившихся там материалов и восстановить защиту. Копию и оба пароля Тревельян собирался держать в своем компьютере и ознакомиться с отчетом Третьей Глубины в ближайший час. Разоблачение его не пугало ввиду отсутствия конкретных санкций – координатор кни’лина реальной власти над ним не имел, так что каторга откладывалась, причем надолго. А вот Первое Лезвие вполне мог загреметь на астероиды, если его генетик занимался втайне чем-то криминальным. И попал бы он туда не в одиночестве, так как плешаки снисхождений слабому полу не делали. Наблюдая за процедурой копирования, Тревельян весело фыркнул, представив, как Третья Глубина и Первый Лезвие копают руду в неведомой системе Кагиры Зенты. Факт был любопытный – до этого он не слышал и нигде не читал, что у кни’лина существуют такие наказания. Владыка Пустоты! Каторга, надо же!.. Подневольный труд, ранняя старость и скорая смерть… Варварство! На Земле самой тяжкой карой считалась криогенная заморозка на десяток лет. «Ньюри Тревельян… – В ментальном голосе Мозга ощущалась растерянность. – Ньюри Тревельян, координатор не отвечает. Он отключил все камеры видеонаблюдения и заблокировал все порты. С ним нельзя связаться». «Разумеется. Ты сам сказал, что он пьет тецамни и просматривает записи с Сайката. Возможно, он уже обнаружил убийцу Джеба Ро, а это до поры до времени секретная информация. Координатор не хочет, чтобы она очутилась в твоей памяти». «Данное устройство понимает сложность ситуации. Однако есть экстренный канал голосовой связи, который не отключен. Примерно два часа назад ньюри Первый Лезвие потребовал тецамни, и ему принесли полный токар. Принес один из слуг. Координатор любит, когда его обслуживают не киберы, а слуги клана… С тех пор он не отвечает». «Значит, сильно занят», – предположил Тревельян. Дублирование кода Третьей Глубины завершилось, и он переслал оба пароля в свой компьютер. Загадочный порт наконец раскрылся. Он был готов нырнуть туда, но… «Линия экстренной связи позволяет фиксировать элементы поведения живого существа, – заметил Мозг. – Дыхание, шорох одежды, возгласы… еще те звуки, с которыми люди поглощают напитки… Но ничего не слышно, ньюри Тревельян. Полное отсутствие информации в акустическом диапазоне». «Так. – Тревельяна разбирало любопытство насчет порта, но не настолько, чтобы оборвать этот разговор. – Так! – повторил он. – Ну-ка признавайся, недоумок! Ты это придумал, чтобы меня отвлечь? Нехорошо, приятель, очень нехорошо! Я и не знал, что искусственный разум способен лгать!» «Не способен, ньюри. Информация правдива, и к тому же у ваших дверей стоят слуги. Семь человек из клана ни». «Слуги? – это удивило Ивара по-настоящему. – Что им нужно?» «Нет данных. Сейчас у кни’лина период сна, но они бодрствуют. Запросили, кто из достойных не спит, узнали, что вы еще не ложились, и пришли. Можете проверить, ньюри Тревельян». – И проверю! – рявкнул Ивар, пренебрегая ментальной связью. – Тотчас проверю! Если ты врешь, жестянка, считай, что твою память уже перепахали, а то, что осталось, послали на рудник Кагиры Зенты! Будешь там командовать кухонным агрегатом и кибер-ассенизаторами! Он открыл глаза, содрал с головы шлем, встал и направился к двери. За нею царила тишина – звукоизоляция во всех помещениях станции была отличной. Тревельян велел включить дверной монитор, но звуков не прибавилось, хотя теперь он видел семерых мужчин-служителей в белых сайтени. Это легкое одеяние, шорты с майкой, считалось у кни’лина рабочим, как и комбинезон-сайгор. Слуги переминались с ноги на ногу, но молчали – похоже, никто не решался нажать сигнальную клавишу. Здесь были Шиар, техник систем жизнеобеспечения, Могар и Инданга, техники киберустройств, прислужник Тикат и трое других, чьи имена Тревельян еще не запомнил. Отсутствовали Зотахи с Эвектом – эти наверняка дежурили в централи – и Ори, стюард. Ивар распахнул дверь и вышел в холл земной секции. Семеро служителей, почтительно приседая и вытягивая руки, подались назад. На их голых черепах выступил пот – совсем как у людей в минуты волнения. – Бессоница, парни? – сказал Тревельян. – Могу дать хороший совет. Овец считать умеете? Они заговорили все разом. – Пусть достойный простит… – Нарушили его покой… – Но Ори… – Ори ушел и не вернулся… – Вызвал ньюри координатор… – Должен вернуться… – Давно должен вернуться и спать… – Но его нет… – Зотахи и Эвект – у Мозга, пытались разыскать… – Его нет… – Нет на техническом ярусе и нет на жилом… – Все ньюри спят, кроме достойного с Земли… – Пришли просить о помощи… – Выразить тревогу… – Ори… – Стоп! – гаркнул Ивар. – Значит, дело было так: координатор Первый Лезвие захотел тецамни, Ори понес ему напиток и исчез. Я правильно понимаю? Говори ты, Шиар. – Ньюри все сказал, как случилось, – подтвердил техник систем жизнеобеспечения, уважительно именуя Тревельяна в третьем лице. – Ньюри понимает, что на станции трудно затеряться – повсюду камеры, тепловые датчики, газоанализаторы и линии связи с Мозгом. Может, Ори прыгнул в пустоту? Но Эвект проверил – ни один шлюз не открывался. – Кажется, я знаю, где он, – помрачнев от неприятного предчувствия, вымолвил Тревельян. – Идите за мной, ребята. Проверим, все ли в порядке у координатора. Он вышел в коридор и скорым шагом направился к парку. Вход в зеленую зону из земного сектора был декорирован изображением пальмы, и, миновав ее, Ивар бросился бегом. Семерка служителей дружно топотала сзади. Они обогнули павильон, промчались по дорожке, что вела через луг, распугали ящерок, гревшихся на теплых обломках базальта, и вынырнули в другой половине кольцевого коридора – там, где выход стерег Йездан с закрытой книгой. Путь через парк был самым коротким. Если не вспоминать о лифтах, ведущих на техническую палубу, никакие транспортные линии на жилом ярусе не проектировались изначально – считалось, что, во избежание гиподинамии, лучше ходить пешком. Впрочем, хоть станция и была велика, дорога из земного сектора в сектор кни’лина занимала минут двадцать, а бегом и того меньше. «Что-то Ори слишком задержался у координатора, – неожиданно пробурчал призрачный Советник Тревельяна. – Не хотел бы показаться вульгарным, малыш, но вспоминается мне, что в древности, до генетических чисток и медицинских имплантов, существовала у предков очень странная болезнь. Нетрадиционная половая ориентация, если ты понимаешь, о чем я толкую». «Данный обычай – или, если угодно, порок – распространен среди туземцев Хаймора, – мысленно ответил Тревельян. – Но кни’лина он неведом. У них мужчины предпочитают женщин и наоборот, причем желательно из своего клана. Перекрестные браки обычно бездетны». «У нас этим тоже не всякий занимался, – настаивал командор. – У каждой расы есть свои придурки, свои шизоиды и извращенцы. А морда у этого Лезвия такая, что…» «Брось, дед, он вне подозрений. Хотя бы потому, что соитие сопровождают весьма характерные звуки, а Мозг сообщил, что в отсеке координатора тишина. Боюсь, мертвая». Он стоял в холле клана ни, перед дверью Первого Лезвия, окрашенной в утренний цвет, но не багряный, как в покоях Ивара, а скорее алый. Служители толпились за его спиной, что-то бормотали, но так тихо и быстро, что Тревельян не мог разобрать ни слова. Кажется, участь координатора их не беспокоила, они тревожились из-за Ори. Может, слуга не угодил координатору и был наказан?.. – подумал Тревельян, нажимая сигнальную клавишу. Скажем, его поставили в угол… Он снова прикоснулся к клавише, но дверь не отворилась. – Станция? Мозг, ты слышишь меня? – Слышу и вижу, ньюри Тревельян. – Я у отсека координатора. Хочу войти. На сигналы никто не реагирует. – Входите, достойный. Блокировка снята, и включены наружные камеры. Все, что происходит в отсеке, будет зафиксировано. Дверь распахнулась. На краткий миг Тревельян увидел Первого Лезвие и Ори, сидевших на полу друг напротив друга, поднос с токаром и большой чашей для тецамни, почему-то перевернутой, и еще одну вещицу рядом с чашей. Этот небольшой предмет искрился и сиял, играя гипнотическими переливами красок, и казался таким прекрасным, таким чарующим и чудесным, что глаз не отвести. Тревельян не отвел, не смог. Чувствуя, как к горлу подступает удушье, он стремительным движением захлопнул дверь, втянул воздух широко раскрытым ртом и повернулся к служителям. – Входить сюда опасно. Могар, вызови кибера. Пошлем его в отсек, чтобы забрать то, что убило координатора и Ори. Эту вещь нужно хранить в непрозрачном футляре. Тень легла на лица служителей. – Они оба мертвы? – прошептал кто-то. – Давно. Видимо, несколько часов, так что криогенная камера тут не поможет. Думаю, Ори принес Первому Лезвию гипноглиф под перевернутой чашей. А вот кто его туда положил… Наступила тишина. Она длилась и длилась, пока в холле не появился маленький киберуборщик, тащивший контейнер из черного пластика. Велев служителям отойти подальше, Тревельян, не заглядывая в комнату, быстро приоткрыл створку, пустил робота внутрь и снова захлопнул дверь. Потом связался с Мозгом станции, распорядившись дать сигнал тревоги. За его спиной послышался голос Шиара: – Если достойному не трудно… если у него найдется время… Может быть, он объяснит своим слугам, что такое «гипноглиф»?Прежде всего отметим, что кни’лина, как и земляне, практикуют свободную любовь, и отношения между мужчиной и женщиной, пока и поскольку они не выходят за общепринятые рамки, являются их личным делом. Но если в Земной Федерации формальный брак остался в далеком прошлом, то у кни’лина (в основном у похарас) он сохранился, хотя число подобных актов не превышает десятитысячной доли процента. Брак, как известно, связан прежде всего с имущественными отношениями, с желанием передать законным наследникам материальные ценности и, что еще важнее, власть и некий общественный статус. Древняя форма власти, сохранившаяся у клана похарас (мы имеем в виду императора и класс аристократов), в свою очередь сохранила такую древнюю форму, как брак, необходимый для передачи титула и родовых привилегий. Но, повторяем, это явление специфическое и чрезвычайно редкое. Обычно полагают, что сфера любовных отношений кни’лина отлична от земной в части техники (позы, акт в невесомости, употребление афродизаков), отсутствия каких-либо комплексов, препятствующих сексуальной связи, и, наконец, в части особых психоэротических расстройств, с которыми мы давно не сталкиваемся как на Земле, так и в колонизированных за последнее тысячелетие мирах. Но специалистам известно, что главным отличием является разделение секса как такового и зачатия потомства. Последнее не предполагает любовных отношений и производится партнерами подходящей генетической ориентации либо путем искусственного осеменения, тоже с учетом генетики и использованием банков спермы (свой банк у клана ни и свой у похарас). Нет, однако, правил без исключений – имеется крайне туманная информация о долговременных любовных связях и детях, рожденных в любви. По неясным причинам эти истории всегда имеют трагический конец. Ричард Клейст. «Другая любовь. Сексуальная практика гуманоидных рас», раздел «Кни’лина».
Глава 7 Очень большие неприятности
Если не считать даскинов, сгинувших в потоке времени миллионы лет назад, и мифических Владык Пустоты, лоона эо были древнейшей из галактических рас. Внешне они походили на землян, терукси и кни’лина и обладали, по слухам, весьма приятной внешностью, но гуманоидами не являлись. Четыре пола, дар телепатии и размножение при помощи ментальных импульсов делали их особым видом, которому, учитывая вполне человеческий облик лоона эо, земной рубрикатор присваивал название псевдогуманоидов. Покинув твердь земную, они обитали в огромных астероидах, искусственных космических городах, круживших около нескольких планет, колонизированных ими в незапамятные времена. Сектор лоона эо был закрыт для посещений и охранялся наемниками, сосредоточенными на его границах и превосходно вооруженными. Раса наемников менялась каждое тысячелетие, и сейчас они были людьми, некогда покинувшими Землю и расселившимися на планетах, предоставленных лоона эо. Эти миры не входили в Земную Федерацию, но поддерживали с ней тесную связь. Хотя никто не мог сказать, что видел живого лончака (так на жаргоне астронавтов называли лоона эо), этот народ поддерживал контакты почти со всеми известными расами и занимался активной торговлей. Торговля была обязанностью сервов, точнее – одной из обязанностей, так как они представляли хозяев во всех отношениях, включая дипломатию, культурный обмен и межнациональные проекты. Сервы являлись биоандроидами высокого класса разумности, контактными, неглупыми, преданными производившим их лоона эо и абсолютно не агрессивными. Собственно, их хозяева тоже были хоть и замкнутой, но исключительно мирной расой, одной из первых, с которой земляне наладили связь – разумеется, через сервов. На Луне, в одном из Посольских Куполов, располагалась дипмиссия, укомплектованная сервами, и ее считали древнейшей – возможно, она существовала еще в эпоху войн с фаата, а в период противоборства с дроми – наверняка. Но лоона эо в чужие конфликты не лезли, ссор ни с кем не искали и никого не снабжали оружием; все их устройства, от микрочипов фантастической емкости до гигантских установок для терраформирования планет, носили сугубо мирный характер. В обмен на эти изделия высокой технологии, а также уникальные медпрепараты, тинтахское вино и мед, тонкие ткани поразительной прочности и другие чудеса лончаки вывозили всякие редкости, экзотические растения, необычных животных, предметы искусства, голофильмы, музыкальные записи и тому подобное. Они были богатой расой, когда-то вкусившей прелесть космических авантюр, далеких странствий, борьбы и опасностей, накопившей изрядную мудрость и успокоившейся в том состоянии, которое пессимисты считают болотом гедонизма, а оптимисты – истинным Золотым Веком. Кроме технологических изделий они еще торговали кое-какими странными предметами. Имелись среди их товаров статуэтки, перенимавшие через месяц-другой облик и черты характера владельца, бывшие как бы его вторым «я», миниатюрным, но достаточно разумным, чтобы вести беседу, сочувствовать,радоваться, утешать. Некоторым такой компаньон скрашивал одиночество и дефицит общения, заменяя семью и друзей; человек настолько привыкал к нему, что, лишившись статуэтки, мог погибнуть в тоске и печали. Были еще зеркала, с виду обычные, но позволявшие общаться с отражением и изменять его, делать смешным, уродливым или прекрасным. Эти забавные метаморфозы вели к тому, что глядевший в зеркало тоже менялся, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону, а в какую именно, никто не мог предвидеть. Опасные игрушки! Но самым опасным был гипноглиф, сильнейшее психотропное средство, что воздействовало на мозг через зрительный орган, погружая глядевшего в транс. Гипнотический эффект наступал почти мгновенно, подавляя волю человека, и выйти из транса самостоятельно возможности не было. Гипноглифы имели вид светильников, чаш, плоских экранов и предметов неопределенной формы, искрившихся, сиявших, переливавшихся, и на одни из них можно было смотреть часами и сутками, а другие вели к летальному исходу через считаные минуты – чаще всего в результате асфиксии, разрыва сердечной аорты или кровоизлияния в мозг. Они действовали на гуманоидов всех известных рас, не поддавались копированию, ничего не излучали и не нуждались в энергопитании. Земляне, кни’лина, даже хапторы запрещали их ввозить, однако ввозили тайком, ибо гипноглиф имел массу очень ценных применений – скажем таких, как опробованное на Первом Лезвии. По мнению биолога Второго Курса, осмотревшего трупы, координатор и несчастный Ори умерли минут через шесть-семь. Наступил паралич дыхательных центров, и оба задохнулись.* * *
Восемь кни’лина и Тревельян сидели в зале собраний, высоком и округлом, разделенном надвое небольшим барьерчиком. В меньшей, земной части было несколько рядов удобных кресел с экранами и откидными столиками, располагавшимися близко друг к другу; на просторной половине инопланетян лежали подушки, и расстояние между ними казалось на взгляд довольно приличным, метра три, если не больше. Но Тревельян, сидевший у самого барьера, ясно видел лица кни’лина: мрачную сосредоточенную физиономию Зенда Уна, широко раскрытые испуганные глаза Ифты Кии, Найю Акра с застывшим выражением злобной агрессии и Иутина, чьи руки были сложены жестом печали. Достойные клана ни выглядели более сдержанными в проявлении чувств, и только на лице Третьей Глубины мелькало временами странное выражение – то ли презрительная усмешка, то ли совсем неуместное торжество. – Все знают о случившемся? – Зенд Уна, призывая к вниманию, стукнул ладонью по колену. – Все согласны, что нужно обсудить ситуацию? Немедленно, еще до погребального обряда и до того, как мы отправим сообщение на Йездан? Согласный шелест голосов кни’лина был ему ответом. Тревельян сказал: – Я обязан информировать свое руководство. Мне нужен доступ к дальней связи. – Об этом после, – резким тоном произнес лингвист, поворачиваясь к Тревельяну. – Ты первым вошел в отсек координатора. Где кристаллы с сайкатскими записями? – Я вошел после того, как робот изолировал гипноглиф, и я был не один, а с семью слугами клана ни, – уточнил Ивар, поправив обруч на голове. – Кристаллы находились в голопроекторе. Видимо… – Я не спрашиваю, где они находились. Где они сейчас? Тон Зенда Уны и его манера вести допрос Тревельяну решительно не нравились. Прежде лингвист занимал третью позицию в группе кни’лина и теперь, очевидно, метил в лидеры – можно сказать, демонстрировал это со всей откровенностью, хотя тело Первого Лезвия еще не остыло. Ивар, как равный лингвисту по рангу, тоже мог претендовать на руководство – или, в крайнем случае, на уважение. А этот плешак, обращаясь к нему, даже не добавил «ньюри»! – Кристаллы находились в голопроекторе, – повторил он, игнорируя вопрос лингвиста. – Видимо, ньюри Первое Лезвие просматривал их, когда слуга принес тецамни. Я распорядился, чтобы Мозг станции сдублировал записи, и теперь они доступны каждому из вас. Кроме того, Мозг просмотрел их в быстром режиме и обнаружил… – К черепу Зенда Уны прилила кровь, но Тревельян продолжал как ни в чем не бывало: —…обнаружил, что четыре кристалла людей-наблюдателей содержат лишь сцены схватки тазинто с терре и заключительное побоище. Из этого нельзя понять, откуда прилетел дротик, поразивший координатора. Что касается панорамной записи, сделанной кибером, то она полностью стерта. – Ты ее стер, землянин! – Хотя до Найи Акра было шагов двенадцать, чудилось, что ее костлявый палец уткнулся прямо в переносицу Тревельяна. – Ты ее стер, и ты убил достойного Джеба Ро! Ты, волосатое отродье! – Меньше эмоций, почтенная! Я ничего не мог стереть на глазах семи свидетелей. – Свидетели, ха! Ничтожные слуги! – Большей частью специалисты-техники, которые видели и понимали, что я делаю. – Тревельян положил на барьер четыре голубых кристалла и один серый, пустой. Затем добавил к этому контейнер с гипноглифом и произнес: – У меня есть версия произошедшего. Ньюри желают выслушать? Зенд Уна открыл было рот, желая возразить, но его внезапно перебил гигант-ботаник: – Не мешай ему, пусть говорит! Мы не в императорском дворце похарас, где все помалкивают и только чешут голые зады. Здесь собрание свободных людей! Его поддержала Третья Глубина: – Пусть Йездан добавит нам мудрости. Ведь он сказал: желающий судить безгласного – сам преступник! Не так ли, Зенд Уна? – Она метнула на лингвиста испепеляющий взгляд. – Возможно, ты сам связан с этими убийствами и не хочешь… Лингвист хлопнул в ладоши, что было знаком гнева, и, испустив рычание, начал подниматься со своей подушки. – Успокойтесь, ньюри! – Тревельян поднялся раньше него, сожалея, что не успел натянуть кожу. «Пусть подерутся. Баба-то крепкая, так просто ее не прикончить», – прошелестел голос командора, но он, не слушая Советника, сказал: – Успокойтесь, достойные, у нас и без ссоры хватает проблем! Мир, мир! Мир и мои благодарности за поддержку Пятому Вечернему и Третьей Глубине. А теперь я расскажу вам, как… Женщина-генетик послала ему очаровательную улыбку – будто не было той встречи в парке, нацеленного в него парализатора и презрительной клички «мшак». – Наши имена изменились, ньюри Ивар Тревельян. – Первый Курс, – она показала на биолога, – Вторая Глубина, – ее ладонь коснулась груди, – а это – Третий Пилот и Четвертый Вечерний. Надеюсь, ты запомнил? – Разумеется, ньюри, – Тревельян слегка согнул колени. – Могу я продолжать? – Достойные ни слушают тебя внимательно и с интересом. Странно! – подумал Ивар. Еще одна заявка на лидерство, хотя ее полагалось бы сделать Курсу – Первому Курсу после смерти Лезвия. Но биолог сидел с бесстрастным лицом, ничем не напоминая то чудовище, что ворвалось в пещеру терре. – Так вот, коллеги, – он оглядел восьмерых кни’лина, – не подлежит сомнению, что один из вас протащил на станцию гипноглиф. Не совсем оружие, но запрещенный и крайне опасный предмет, в чем мы уже успели убедиться… Сейчас он здесь. – Тревельян постучал согнутым пальцем по контейнеру. – Его владелец не желал, чтобы Первый Лезвие ознакомился с записями, особенно с панорамной съемкой, которая – возможно! – уличала преступника. И это лицо послало координатору гипноглиф под перевернутой чашей. Вы знаете, что ряд мест на жилом и техническом уровнях не контролируется видеодатчиками Мозга, в этом просто нет нужды. В таком месте наш злоумышленник встретил Ори, забрал у него поднос и подложил гипноглиф. Не исключаю, что поднос, чаша с начинкой и токар тецамни были приготовлены заранее и отданы Ори с приказом отнести координатору. Ваши служители повинуются слепо… да Ори и не ведал, что несет… Наступила тишина, прерванная резким голосом Зенда Уна. – Если эта версия справедлива, то гипноглиф подложил один из тех, кто спускался на планету. Ты, землянин, или Иутин, или Первый Курс. – Не обязательно. Если исключить меня, то любой из двух моих спутников мог расправиться с Джебом Ро по приказу кого-то, кто остался на Станции. Возможно, этот человек и есть владелец гипноглифа. – Оглядев кни’лина, Тревельян закончил: – Скажу со всей откровенностью: нас тут девять, и ни один не свободен от подозрений, кроме ньюри Ифты Кии. Ей убивать Первое Лезвие было совсем ни к чему, да и Джеба Ро тоже. Красавица бросила на него благодарный взгляд. Ее глаза походили на пару затуманенных печалью изумрудов. Третий Пилот, обычно молчаливый, откашлялся и произнес: – Версия приемлема, если объяснить непонятный факт: кто и когда стер панорамную запись. Кроме слуги, к Первому Лезвию никто не входил – я обратился к станции, и Мозг это подтверждает. В зале перед нашими отсеками есть голокамеры, так что дверь координатора была под наблюдением. «А мужик-то толковый, недаром Пилот! – прошелестело у Ивара в голове. – Глядит в самый корень!» Кто уничтожил запись и когда? Эти вопросы мучали самого Тревельяна. Злоумышленник этого сделать не мог, ибо, как верно заметил Третий Пилот, никто не появлялся в отсеке координатора до или после его смерти. Никто, кроме несчастного Ори! Иутин и Курс могли очистить кристалл во время перелета к станции, но они тоже отпадали – Ивар отлично помнил, что Первому Лезвию были вручены пять голубых, то есть содержащих информацию кристаллов. Их передал Иутин, прямо в шлюзовой камере, и если даже он подменил панорамную запись, проблемы это не решало – ведь один из кристаллов в голопроекторе координатора был все-таки стерт! Соображения по этому поводу у Тревельяна намечались, но он держал их при себе – фактически эти идеи опровергали его версию. Правда, не в части действий, что привели к гибели Лезвия и Ори, но в части мотивов – безусловно. Скажем, если допустить, что запись стер сам координатор, мотивы преступления становились абсолютно непонятными. – Насчет панорамной записи… – затягивая время, не спеша произнес Тревельян. – Признаю, что ответ на этот вопрос мне неизвестен. Пока неизвестен. Надо выяснить, где был и что делал каждый из нас, и чем подтверждаются все эти версии – наблюдением Мозга, свидетельством коллег или другими обстоятельствами. Кроме того… – Сделав паузу, он с усмешкой произнес: – Кроме того, как говорил Сероокий, ничто не свершается без греха, то есть без ошибки. Если я пойму, в чем ошибка преступника, мы сможем… – Не смей перетолковывать святые слова Йездана! – выкрикнула Найя Акра. – Он имел в виду грех, и ничто другое! – Ошибка тоже грех, ньюри. Жрица воздела руки жестом отчаяния. – Что мы делаем, достойные? Вразуми нас, Йездан! Два координатора убиты, а мы сидим здесь и слушаем землянина, который, скорее всего, и расправился с ними! Скажите, кто из нас способен на такой поступок? И зачем? Только чужой, что всем понятно! – Лицо Найи Акра вдруг исказила ненависть, костлявый палец вновь уставился в Тревельяна. – Эти волосатые убивали нас во время войны, жгли города на наших планетах, уничтожали храмы Сероокого, и теперь один из них тут, с нами! Еще один волосатый убийца! «Вспомнила седую старину! Может, Наполеон и Юлий Цезарь тоже резали кни’лина, а Чингисхан помогал? – буркнул командор. – Сучка совсем невменяема!» Тревельян готов был согласиться с ним – похоже, жрица-психолог тронулась разумом. – Откуда столько злобы? – сохраняя спокойствие, поинтересовался он. – Во-первых, мы воевали не с похарас, а с кланом ни, и, во-вторых, это было давно. Очень давно, но я знаю, что кни’лина тоже убивали наших людей, жгли наши города и уничтожали наши святыни. – Он сделал паузу и закончил: – Думаю, лучше не пересчитывать наши и ваши погребальные кувшины, заполненные в древности, а разобраться с теми тремя, что стоят у нас под носом. Зенд Уна поднялся и сунул руку за пазуху. Как все кни’лина, он был в сайгоре, обтягивающем рабочем комбинезоне, и слева, повыше пояса, что-то у него подозрительно оттопыривалось. Для излучателя предмет выглядел слишком небольшим, а вот для лазерного хлыста или парализатора – в самый раз. «Будь осторожен, парень!» – раздался ментальный шепот Советника. Чуть пошевеливая спрятанной рукой, лингвист задрал вверх подбородок. Его узкое, типичное для кни’лина лицо было преисполнено решимости. – Мы не можем принять версию землянина, ибо, как заметил Третий Пилот, она не объясняет важные факты. Прав он в одном – каждый из нас под подозрением. Поэтому я сам пошлю сообщение по дальней связи и проведу расследование. – По какому праву? – приподняв брови, холодно осведомилась Вторая Глубина. – По праву нового координатора этой экспедиции! – Ты – координатор? А почему не Первый Курс? Физиономия Зенда Уна передернулась. Такая игра лицевых мышц была для человека-землянина почти невозможной – рот растянулся, глаза словно поехали вниз, мелко затряслись щеки и ноздри. Тревельян понял, что это, как и хлопок в ладоши, признак крайнего раздражения – вероятно, едва контролируемого гнева. – Почему не Первый Курс? – хрипло повторил лингвист. – В самом деле, почему? – Он замолчал на секунду, вернув лицу выражение бесстрастия. – Я не буду говорить об очевидном, о том, что здесь я третий по рангу, что по решению Хорады экспедицию должен возглавить похарас, и даже о том, что Первый Курс в числе троих подозреваемых в гибели Джеба Ро. Есть более веские причины, и ты их знаешь, женщина ни! Ты знаешь наверняка, а я и кое-кто еще – мы догадываемся! У нас ведь тоже есть глаза! – Зенд Уна визгливо расхохотался. – Тварь с Тоу – координатор! А почему тогда не этот мшак? – Он кивнул в сторону Тревельяна. – Воистину прав был Йездан, сказавший, что жизнь – смех полоумного в пустоте! Первый Курс медленно поднялся. Поза его была расслабленной, и казалось, что он ничем не угрожает лингвисту. Его серые глаза застыли и потускнели, сделавшись парой оловянных пуговиц. – Ты оскорбил меня, Зенд Уна. – Подобного тебе нельзя оскорбить. Ты… Курс прыгнул – странно прыгнул, не присев, не согнув ног, а оттолкнувшись ступнями от пола, как прыгают в невесомости. Его подушка была неподалеку от Ивара, а чтобы добраться до Зенда Уна, биологу пришлось бы пересечь весь зал. Верно истолковав намерения Курса, Тревельян прыгнул почти одновременно с ним и, в который раз прокляв свою беспечность – где ты, кожа! – обрушился биологу на спину. Против ожидания тот не упал, даже не споткнулся, а лишь повел плечами, отшвырнув Тревельяна прямо на Вторую Глубину. На миг Ивар ощутил, как под пальцами вздулись чудовищно сильные мышцы, и в следующий момент его голова врезалась в бедро женщины, а сам он, перекувырнувшись, очутился у нее на коленях. К счастью, шейные позвонки выдержали, и бедро у Второй Глубины оказалось крепким и упругим. У биолога все же случилась заминка – достаточная, чтобы Зенд Уна выхватил из-за пазухи голубоватый жезл и направил его на атакующего. Оружие – а Тревельян не сомневался, что это оружие – не походило на лазерный хлыст, парализатор, игломет, молекулярный деструктор или что-нибудь в этом роде, но Первый Курс без звука рухнул на пол. В это мгновение у Тревельяна заломило в висках, глаза застлало темной пеленой, но, сквозь надвигавшееся беспамятство, он услышал короткий, похожий на рыдание стон Второй Глубины и крики остальных пяти кни’лина. Неприятное чувство прошло почти сразу же – видимо, Зенд Уна отключил свой жезл. Затем, высоко подняв его и не обращая внимания на неподвижного биолога, он произнес: – Вы знаете, что это такое – палустар, Жезл Власти, который выдается лишь Очам Хорады и применяется ими в исключительных случаях. Ньюри Джеб Ро и ньюри Первый Лезвие были поставлены в известность, что в этой экспедиции есть надзирающее Око, что им являюсь я, и что они оба – под контролем Хорады. Эта экспедиция слишком важна для нас, чтобы ее погубили дрязги между ни и похарас! Речь идет о галактическом престиже нашей расы, который земляне постараются принизить – в чем лично я не сомневаюсь! И потому, по праву представителя высшей власти, я возлагаю на себя функции координатора. Возражения есть? Мертвая тишина была ему ответом. Со своей позиции (его голова и плечи все еще покоились на коленях Второй Глубины) Тревельян видел, что кни’лина испуганы – все, даже гигант ботаник и склочная жрица. В общем-то Хорада, нечто наподобие конгресса кланов, где заправляли ни и похарас, могла считаться высшей властью с большой натяжкой, так как ее решения имели рекомендательный характер. Но кажется, подумал Тревельян, есть у этого органа особые полномочия, либо они даруются сотрудникам Хорады в особых ситуациях. И полномочия эти широки – достаточно взглянуть на лица кни’лина и неподвижное тело Первого Курса! – Возражений нет, – подвел итог лингвист. – Завтра, после периода сна, мы проведем погребальную церемонию. Слугу можно сжечь сейчас – ты, жрица, проследишь за этим. В ближайшие дни я вызову каждого из вас в свою лабораторию для допроса, но сначала мне нужно ознакомиться с сайкатскими записями и решить, есть ли в них что-то полезное для расследования. – Он метнул взгляд на Тревельяна. – Ты сказал, они уже в памяти станции? Я проверю. Брезгливо обогнув тело Первого Курса, Зенд Уна приблизился к барьеру, забрал кристаллы и контейнер с гипноглифом и быстро вышел из зала собраний. Остальные, подавленные, мрачные или перепуганные, как Ифта Кии, потянулись следом. Но Вторая Глубина продолжала сидеть, и Тревельян внезапно понял, что пальцы женщины прячутся в его густых волосах – то ли она хотела их погладить, то ли ощупывала наголовный обруч. – Прости, ньюри, – произнес он, по-прежнему не двигаясь. – Не по своей воле я нарушил твое коно. – У всех ваших самок такая шерсть на голове? – вдруг спросила генетик. – Такая же мягкая и длинная? – Гораздо мягче и длиннее, чем у меня, – ответил Ивар, решивший ничему не удивляться. – Они бывают ночного, утреннего и дневного цвета, а еще первого лунного с золотистым отливом. Некоторые носят вечерний и второй лунный цвета, но это не природные оттенки, это уже искусство наших дизайнеров обличья. Что они творят с волосами! Башни, короны, морские волны, птичьи гнезда и… – У меня нет этой шерсти на голове, – прервала его Вторая Глубина. – Должно быть, я кажусь тебе очень уродливой? – Отнюдь, – сказал Ивар и повторил после недолгого раздумья: – Отнюдь! Для женщин кни’лина отсутствие волос естественно и никак не может выглядеть уродливым. Даже наоборот, есть в этом нечто новое и интригующее… Однажды я уже признался, что потрясен твоей красотой, и могу повторить это снова. Она пошевелилась. Теперь затылок Тревельяна, охваченный обручем, лежал на ее бедре, а щека касалась упругого живота. Он видел, как потемнели серые глаза женщины. «Клюнула, – прокомментировал командор. – Однако не забывай, что эта баба – ведьма. Присоединишь к своей коллекции?» «Придется, – мысленно отозвался Тревельян и, словно оправдываясь, добавил: – Не ради личных нужд и удовольствий, а исключительно по служебным делам. Лишняя информация, знаешь ли, на полу не валяется». «На полу – конечно. Она валяется в постели». Сделав это мудрое замечание, призрачный Советник смолк. Продолжая ласкать волосы Ивара, Вторая Глубина сказала: – Ты очень храбр, землянин, но не слишком умен. Ты бросился защищать Зенда Уна, эту мразь, это Око Хорады, гнилой побег похарас! Твое счастье, что Первый Курс не ударил сильнее… Он мог переломать тебе кости. – Кстати, как он? – Тревельян скосил глаза на неподвижное тело биолога. – Он жив. Такого, как он, нелегко убить. Нервные связи в его мозгу восстанавливаются даже после ментального удара. – Так этот палустар, которым грозил Зенд Уна… – Ментальный излучатель, и довольно мощный. Аппарат, запретный для любого, кроме особых представителей Хорады. Они… Скажи, у вас есть хищники, что питаются не просто мясом, а падалью? – Да. Гиены. Не очень приятные на вид. – Гиены… – повторила Глубина незнакомое слово. – Они – гиены. Мерзкие, отвратительные… иногда страшные. «Тайная охранка», – заметил командор, а Тревельян спросил: – Ты его боишься, моя сероокая радость? Глаза Второй Глубины сверкнули. – Запомни: я никого не боюсь, никого и ничего! Не испугаюсь даже провести ночь с мшаком! – Звучит заманчиво. – Тревельян поднялся и подхватил ее на руки. – Ньюри меня извинит? Не слишком большая вольность со стороны мшака? – Извинит. Но ньюри удобнее передвигаться самой. Отпусти меня. Рука об руку они направились к выходу. Ивар оглянулся, и пустота просторного зала вдруг поразила его, как поражает иногда пространство, сотворенное людьми и для людей, в котором, однако, не найдешь живой души. Эти ряды никем не занятых кресел, эти неразвернутые столики-пюпитры, эти подушки кни’лина, лежавшие так далеко одна от другой… Ощутив на долю секунды приступ одиночества, он подумал, что нынешняя ночь, пожалуй, не будет одинокой, и это хорошо. Потом его взгляд упал на все еще неподвижного Первого Курса. – Ты уверена, что ему не нужна помощь? Может быть, вызвать слуг? – Они к нему не подойдут, – сказала Вторая Глубина, и пояснила: – Боятся. – Почему? И почему Зенд Уна назвал его тварью с Тоу? Тоу – это ведь, кажется, один из ваших миров? Женщина медленно опустила веки. Ее ресницы были потрясающей длины и лежали на матово-белой коже точно два пушистых веера. – Ты стоишь рядом со мной, Ивар Тревельян, и это кое-что значит – ты ксенолог, и наши обычаи тебе известны. Так чем мы займемся? Будем беседовать? Говорить о Зенде Уна и Первом Курсе? О маленькой дряни Ифте Кии, об отмороженной жрице и всех остальных недоумках? Если тебя интересуют разговоры, выйди из моего коно, а если хочешь в нем остаться, скажи, что грезишь о моих губах и теле, и отведи в свой отсек. Что ты выбираешь? Тревельян обнял ее за талию. Они вышли в парк, уже сумрачный под гаснущим светом искусственного солнца. Темный павильон казался большим резным ларцом на мягкой ворсистой скатерти луга. Двух недель не прошло, как они пировали тут, ели странные блюда кни’лина, пили соки, держали чинные речи, и вот двоих уже нет… Троих, тут же поправился Тревельян, вспомнив о бедном Ори. Ему вдруг почудилось, что на лесной опушке, метрах в ста пятидесяти, кто-то стоит. Приглядевшись, он узнал Иутина. Кажется, третий генетик хотел к нему подойти, но, увидев, что Ивар не один, скрылся за деревьями. «Иуда», – прошелестел беззвучный голос командора. Иуда не Иуда, подумал Тревельян, но определенно один из двух подозреваемых. Кто бы ни прикончил Первое Лезвие, это убийство доказывало, что смерть Джеба Ро не была случайной и что тазинто и терре в ней не виноваты. Не говоря ни слова, Ивар и Вторая Глубина миновали луг, вышли в коридор земной секции и добрались до отсека за багряной дверью. Тревельян шел молча, хотя его распирали вопросы. Сцена в зале собраний, когда Зенд Уна сразил Первого Курса, была столь же непонятной, как явная ненависть жрицы и внезапная, такая скоропалительная симпатия Второй Глубины. Может быть, ей, как и ему, нужно сбросить напряжение? Они едва не стали очевидцами третьего убийства, что непременно бы случилось, если бы биолог добрался до тощей шеи Зенда Уна… Изрядный стресс! А чтобы снять его, имеется универсальный способ, общий для кни’лина и землян. Возможно, он разгадал мотивы Второй Глубины, только были и другие вопросы, десяток или дюжина, а если поднапрячься, то и побольше. Первый Курс – тварь с Тоу? И что это значит? Что он способен потреблять коньяк и временами становиться берсерком?.. О Найе Акра, сухопарой жрице, тоже стоило порасспросить. Почему Глубина назвала ее отмороженной? Этот термин у кни’лина не имел переносного смысла, как в некоторых древних языках Земли, и значил то, что значил, определяя личность, восставшую от криогенного сна. Выходит, жрица подвергалась гибернации? Где, когда и по какой причине? Опять же Иутин, молчавший на собрании, как рыба… Второй Глубине наверняка известно, кто такие зинто… Но – если тебя интересуют разговоры, выйди из моего коно! Ему совсем не хотелось этого делать. Он утешался мыслью, что после объятий и ласк Вторая Глубина, возможно, станет разговорчивей. Женщина остановилась у порога, осматривая его апартаменты. – Никогда не была в жилище землянина. – Это не жилище землянина, а представление кни’лина о нем, – заметил Тревельян. – Когда прилетит основной состав нашей экспедиции, все изменится. Они создадут обстановку, более привычную для нас: прямоугольные столы, стулья, светильники, посуда, ну и так далее… То, что у кни’лина имеет другую форму или чего вообще нет. – У вас слишком много вещей. – Вторая Глубина медленно двинулась по комнате, с любопытством заглядывая в стенные шкафы и ниши. – Я видела несколько земных фильмов… масса вещей, которых к зрелым годам становится все больше и больше, словно каждый из вас рассчитывает на вечную жизнь… Я не считаю Йездана божеством или великим пророком, но у него есть мудрые мысли, и одна из них такова: в начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин. А здесь так много лишнего… Вот это… Что это, Ивар Тревельян? – Мой гравипланер. Совсем не лишний предмет. – А это? – Контейнер с пищей, моя прекрасная ньюри. Боюсь вызвать твое неудовольствие, но напомню, что мне необходимо мясо. – Тут твоя одежда? – Да. – Так много? – Два комплекта. Один обычный земной, другой – для общения с твоими соотечественниками. Вы ведь тоже любите красиво одеваться. – Нет ничего красивее этого. – Вторая Глубина коснулась застежки, и сайгор упал с ее плеч. У нее были идеальной формы груди с маленькими алыми сосками, нежная белая кожа, изящные очертания спины и талия, которую Тревельян мог бы обхватить пальцами двух рук. Сайгор свернулся тонким валиком на животе и ягодицах, подчеркивая их упругость и намекая, что в любой момент он может соскользнуть еще ниже. «Ведьма, – прошептал командор, – как есть ведьма… Не забудь об этом, парень!» – «Не забуду», – пообещал Тревельян и сглотнул слюну. Легким шагом, словно танцуя, женщина шла вдоль стены, с каждым шагом приближаясь к спальне. Тревельян следил за ней, как кот за слетевшей с ветки пичужкой. Ее губы дрогнули; кажется, она понимала его нетерпение. – Что здесь? – Оборудование для полевых работ и всякие походные мелочи – фонарь, аптечка, нож, прибор для разжигания огня… – Зачем тебе огонь? – Чтобы приготовить пищу в лесу или в горах. – В этой чаше? – Она показала на котелок с треногой. – Да. Развести костер, налить воды и бросить в чашу что-нибудь съедобное. Плоды, корешки или… гмм… кусочек мяса. Если в походе иссякнут консервы и придется перейти на подножный корм. – Немного примитивно, как ты полагаешь? – Вторая Глубина рассматривала предмет за предметом, взвесила в ладони аптечку, включила и выключила фонарь, коснулась рифленой рукояти ножа. Ее нагие груди едва заметно колыхались. – Примитивно, – согласился Тревельян. – Но для выживания – там, внизу! – он ткнул пальцем в пол, – нужны, в сущности, примитивные вещи. – Как у терре и тазинто? – Как у них. – Дикари! Мерзкие грязные дикари! – Она передернула плечами и вдруг резко повернулась к Тревельяну. – Я знаю, что ты пытался взломать код, охраняющий мои записи… Станция сообщила… Зачем тебе это? – Код я взломал, – сообщил Тревельян, не моргнув глазом. – Правда, из-за последних событий мне не удалось познакомиться с твоими отчетами… Но завтра я это непременно сделаю. Это мой долг, очаровательная ньюри. По заданию Фонда, пославшего меня, я должен просмотреть все результаты наблюдений и работ, включая твои. – Ты мог бы спросить об этом у меня. – Мог бы, но при первой нашей встрече – там, в парке – ты была не слишком ласковой. Даже грозила бедному мшаку парализатором. – Парализатором? – Женщина приблизилась к нему на расстояние протянутой руки. – Это так, игрушка… маломощное устройство… Хочешь, чтобы я тебе рассказала о своих исследованиях? Секунду Тревельян взвешивал «за» и «против», потом решил, что слова – это только слова, а в памяти Мозга лежат документы, что много надежней. К тому же ситуация не располагала к ученым дискуссиям. Окинув нежным взглядом ее нагие груди, он молвил: – Если тебя интересуют разговоры, выйди из моего коно, а если хочешь в нем остаться, скажи, что грезишь о моих объятиях, и сбрось вот это. – Ивар коснулся валика сайгора. Вторая Глубина рассмеялась. – Непременно сброшу – и тогда храни меня Йездан! Но прежде ты заблокируй каналы связи с Мозгом и включи звукоизоляцию в спальне. Еще сними и отключи свой обруч. Я полагаю, это устройство записи? Мне лишние свидетели не нужны. «Прости, дед. Тут она права», – мысленно произнес Тревельян и получил в ответ едва различимое: – «Ведьма… ведьма…» Прищурившись, женщина следила за тем, как он снимает обруч и запечатывает компьютерные порты – все, за исключением линии экстренной аудиосвязи. На какой-то миг Ивару почудилось, что он поступает в точности, как Первый Лезвие вчера, и что его гостья могла быть убийцей с той же вероятностью, как и любой из остальных кни’лина. Но тут Вторая Глубина скинула сайгор, и он увидел, что под ним ничего нет, абсолютно ничего, ни гипноглифа, ни парализатора, а только прекрасное и такое манящее женское тело. – В спальне можно отключить искусственную гравитацию, – тихо и страстно шепнула Вторая Глубина. – В определенные моменты, Ивар Тревельян, я предпочитаю свободное падение в невесомости. Мы будем падать в объятиях друг друга вместе со станцией, что кружит около Сайката… падать миг за мигом, мгновение за мгновением… падать всю ночь… почти вечность…* * *
В эту ночь Тревельян узнал много неожиданного о кни’лина и о себе самом. Частью этого знания было имя его партнерши – в ней открывались все новые и новые глубины, такие бездонные, что он так и не смог изведать их до конца. Но сожалений не испытывал, ибо ничто так не красит женщину, делая ее мучительно желанной, как тайна и загадка. Как обещала Вторая Глубина, их падение длилось почти вечность. Потом, утомленный, он крепко уснул и пробудился только ранним утром от рева тревожной сирены. Женщина, что спала в его постели, исчезла, и лишь аромат ее тела, еще витавший в воздухе, напоминал, что все произошедшее – не сон. Но кондиционеры на станции работали отлично, и запах быстро исчезал, как исчезают и гаснут все сладкие воспоминания, оставляя щемящую пустоту. Сирена продолжала надрываться. Ивар вспомнил, что каналы связи, кроме экстренной линии, заблокированы, чертыхнулся и соскочил с постели. В холле со столами, диванчиками и шкафами, где были разложены его вещи, следов Второй Глубины тоже не оказалось. Ни следов, ни запаха, ни послания на экране, ни другого знака… Он подключился к портам криогенного Мозга, и резкий компьютерный голос сразу наполнил помещение: – Срочно! Для сведения членов экспедиции! Ньюри Зенд Уна убит! Событие произошло… – Мозг назвал время, примерно соответствующее двум с половиной земным минутам. – Убит! Как убит? – выкрикнул Тревельян, нахлобучивая на голову обруч. – У нас новости, – сообщил он командору, прослушав информацию еще раз. Советник лишь испустил ментальный эквивалент хмыканья – видно, был обижен, что его отключили. Ивар схватил комбинезон, потом вспомнил про кожу и быстро натянул ее на голое тело. Одевшись и уже стоя у дверей, он повернулся к голопроекторам в центре комнаты. – Станция! Где произошло убийство? Покажи это место и труп! – Слушаюсь, ньюри Тревельян. Включилось видео, выплеснув облачко серебристого тумана. Затем дымка рассеялась, и Тревельян увидел Зенда Уна с мертвыми выкаченными глазами и окровавленным раскрытым ртом. Он лежал на спине, на пороге своей лаборатории; дверь в нее была распахнута, на безволосом черепе лингвиста играли блики света, а в его горле торчал Тревельянов походный нож.Многие земные эксперты полагают, что две крупнейшие формации (мы говорим о ни и похарас) достигли в обществе кни’лина равновесия как в политическом плане, так и в сфере экономики. Хотя этот вывод зиждется на весьма ненадежных данных (материалы внешней разведки, литература кни’лина и те их исторические труды, которые доступны нашим аналитикам), пока мы не будем его оспаривать. В этом разделе мы коснемся проблемы изгоев, понимая под этим термином те мелкие кланы, ассоциации, союзы либо иные формирования, явные или тайные, которые по различным причинам оказались вне социальной структуры общества кни’лина. В Земной Федерации мы такого явления не наблюдаем, справедливо полагая, что ассасины, триады, мафия и тому подобное остались в далеком прошлом и могут рассматриваться сейчас как реликты нашего былого неразумия. Но у кни’лина, несмотря на их высокий технологический уровень, в сфере общественных отношений сложилась примитивная ситуация: наличие двух кланов владык требовало обязательного присоединения к одной из ведущих групп по принципу генетической близости и способности давать потомство с членами клана ни или клана похарас. Такое безальтернативное требование породило и продолжает порождать чрезвычайно пеструю компанию недовольных, несогласных и готовых к сопротивлению. Мы не можем оценить положение в настоящий момент (вполне вероятно, что диссиденты полностью уничтожены), но имеется информация, что в эпоху противоборства с Землей возникли – или активизировались – некие тайные формирования. Первым из них мы рассмотрим клан валлс или клан убийц, члены которого… П. Федоров, А. Георгадзе. «Кланы кни’лина. Пример искусственной эволюции»
Интермедия 3 Ненавидящий
Весть о смерти Зенда Уна пришла ранним утром, наполнив душу Алемута торжеством. Трое, уже трое! Они начали уничтожать друг друга! Это было отлично, превосходно! Это означало, что неприязнь между Джебом Ро и Первым Лезвием, которую он исподволь разжигал, проросла в сердцах других жаждой мести и стала приносить плоды. Обычно Первая Луна так и старалась действовать, уничтожая врагов их собственными руками. Правда, Алемут не ожидал такого стремительного развития событий – быть может, потому, что находился слишком близко, в самом их эпицентре. Недаром сказано у святого Йездана: лицом к лицу – лица не увидеть. Поразмыслив, он решил, что ситуацию подтолкнуло появление землянина. К нему Алемут не испытывал ненависти, что было связано со многими причинами, две из которых он выделял как главные. Во-первых, земляне воевали с кланом ни и чуть его не добили – но, к сожалению, им хватило ума и выдержки остановиться и пощадить проигравших. В следующий раз все могло обернуться иначе – а в том, что следующий раз неизбежен, он почти не сомневался. Судя по действиям Джеба Ро, по тому, какие материалы собирал координатор и как намеревались их использовать люди власти, близкие к императору, похарас благоволили земным гуманоидам не больше клана ни. Просто похарас были хитрее и осторожнее; они возводили прочный фундамент для своих решений, стараясь выглядеть достойно в глазах других галактических рас. В глазах или в том, что их заменяло… Что до землян, то у них были такие же глаза, как у кни’лина, такие же тела и лица и очень похожий метаболизм – мелкие отличия не в счет. Оскорбительное сходство! Удар по гордости, свидетельство того, что кни’лина вовсе не уникальны в Мироздании! Что бы ни вещал Сероокий насчет миролюбия и уз, соединяющих разумных, примириться с существованием землян, слишком похожих нравом и обличьем, было невозможно. И потому Алемут, как и собратья по Первой Луне, считал, что будет новая война и новый разгром – возможно, столь масштабный, что кланы владык уже не оправятся. Такой была первая причина, но имелась еще и вторая, будившая невольную симпатию к землянину, даже сочувствие к нему. Здесь, на краю Вселенной, на станции, парившей около Сайката, этот Ивар Тревельян являлся таким же изгоем, как сам Алемут; одни презирали его, другие страшились, а третьи пытались использовать в собственных играх. Но, в отличие от Алемута, землянин не видел очевидного, не понимал понятного. Хотя он изрядно постранствовал по Галактике, его специальностью были дотехнологические расы или совсем дикие, такие, как терре и тазинто. Похоже, этот волосатый относился к лучшим профессионалам, но кни’лина не входили в сферу его интересов, как и земного института, приславшего его сюда. Он знал язык – конечно, изучив его с помощью гипноизлучателя, он прочитал Книгу Йездана, и он разбирался в том, что касалось еды, питья, одеяний и повседневных обычаев. Немало для землянина, однако недостаточно, чтобы понять нюансы, оттенки и тонкости, ясные любому искушенному кни’лина. Кни’лина – особенно такой, как Алемут – сразу уловил бы, что Найя Акра – отмороженная из Корпуса Таго и потому ненавидит землян свирепой ненавистью. Видимо, из-за этого Джеб Ро взял ее с собой; в общей с землянами миссии ему хотелось иметь помощника, который глаз не спустит с волосатых. Кни’лина сообразил бы, что в экспедиции есть тайное Око Хорады, и это, разумеется, Зенд Уна. Одно из главных качеств Ока – подозрительность, и от того их большей частью набирали на Тизане, где ни не верили похарас, а похарас – ни. И конечно, кни’лина догадался бы, что с женщинами, с Ифтой Кии и Глубиной, что-то неладно. Похоже, обе страдали тем видом сексуального расстройства, которое требует ограничительных имплантов, и вполне возможно, что у подруги Джеба Ро был такой имплант. Насчет Глубины – бывшей Третьей, а ныне Второй – Алемут ручаться бы не стал, но временами она вела себя странно, слишком самоуверенно, как женщина, чья власть над мужчинами неоспорима. Все, что было ясно Алемуту или о чем он был способен догадаться, являлось для землянина закрытой книгой – как Книга Начала и Конца в руках Йездана, стоявшего у входа в парк. Он подумал, что этот Ивар Тревельян непременно станет чьей-то жертвой, кого-то ловкого, коварного, кто ухитрится свалить на него все три убийства. Он сам бы сделал это при нужде, но пока такой необходимости не ощущалось. А другие… да, другие могут, ибо Найя Акра, жрица и отмороженный психолог, полностью права: лучшей кандидатуры для убийцы не найти. Ибо Тревельян виновен – виновен в том, что он чужак, что он, как дикари тазинто, презренный пожиратель плоти, а еще виновен в том, что его волосатое племя сражалось когда-то с кни’лина и победило их. Виновен в позоре и унижении, что не прощается! К тому же будет превосходный повод, чтобы покончить с сайкатским проектом, свалив вину за это на землян и Фонд прогрессоров, которым они так гордятся. Фонд, приславший ксенофоба, маньяка-убийцу! Чего еще ждать от расы, что пожирает живых существ! От народа, который жег своих инакомыслящих в огне, пытал каленым железом, гноил на каторге, четвертовал, топил и вешал! Как это было на самом деле, тому свидетельств нет, но тут сработает аналогия с тазинто – план, придуманный Джебом Ро. Трое уничтожены, ни и два ненавистных похарас… С одной стороны, хорошо, а с другой… Если в экспедиции найдется лидер, способный понять план Джеба Ро или тот, который вынашивал Первый Лезвие, то катастрофа неминуема. При этой мысли кровь прилила к вискам Алемута. Он был совсем не против катастрофы, но т а к а я – провал, в котором обвинят землян – ему решительно не подходила. Не для того он здесь, чтобы кланы владык ушли с Сайката без ущерба! Фиаско должно произойти, но с ними, с ними! Похоже, проблема упиралась в лидера. Он подумал, что новым лидером будет женщина, одна из двух, что могут претендовать на этот пост. Конечно, о гибели трех членов экспедиции полагалось сообщить по дальней связи на Йездан, чтобы оттуда прислали координатора и пару Очей Хорады… Но Первый Лезвие, а потом Зенд Уна этого не сделали, просто не успели сделать – ситуация развивалась стремительно, и попытки хоть как-то разобраться с ней привели обоих к смерти. Теперь послание отправится к звездам, но до адресатов не дойдет, и потому лидер сыщется среди своих – или Найя Акра, или Вторая Глубина… Любой из этих вариантов нужно предотвратить, а заодно спасти землянина от обвинений. В конце концов, не Ивар Тревельян сжег Чанру Ита и его ребенка – там, в горах Зумрайи… Он глухо застонал при этом воспоминании, но усилием воли справился с тоской. Не время для тоски – время для ненависти! Он, Алемут, поможет волосатому, но не по той причине, что тот не делал ему зла, а исключительно в собственных целях. В интересах миссии, порученной Первой Луной… Он укажет убийцу, а если объявится новый лидер, он позаботится и о нем. Дальняя связь, мелькнула мысль. С этим проблемы не будет – Мозг программировал ньюри Кайтам, а он человек предусмотрительный и верный. Йездан, Тизана, Кхайра слишком далеки, как и планеты землян, и сообщений там больше не получат… Он поднялся и быстро покинул свой отсек.Книгу Начала и Конца Йездана Сероокого нельзя считать кни’линским аналогом Библии, Корана, древнеегипетской Книги Мертвых и других священных текстов древней Земли. Прежде всего, Книга Йездана безлична, ибо в ней Бог ничего не говорит о себе, равно как ничего не требует от людей, не угрожает им и не вразумляет их напрямую. Эта Книга лишена сюжетной основы, которая имеется в Ветхом и Новом Завете, древнеиндийских и китайских эпосах и даже, в какой-то степени, в Коране; Йездан Сероокий не сообщает нам никаких исторических фактов, реальных или мнимых, и его Книга кажется существующей вне времени и вне породившей ее цивилизации кни’лина. Это, фактически, собрание максим, норм поведения и этических принципов, которых могла бы придерживаться любая гуманоидная культура. Если искать земные аналогии Книги Йездана, то это, скорее, сборники мудрых мыслей великих людей или буддийские мантры. Пал Бонджипадхал. «Аналогии между буддизмом и йездан’таби»
Глава 8 Пятый труп
Они столпились в коридоре, стояли, не соблюдая коно, рядом с телом лингвиста, бывшего тайного Ока Хорады. Кажется, все были здесь: хмурый Третий Пилот, гигант-ботаник Четвертый Вечерний, Иутин в белой домашней хламиде, тощая Найя Акра, до смерти перепуганная Ифта Кии и, разумеется, Вторая Глубина. Семь служителей, свободных от дежурства в центре управления, жались поодаль, приседая и разводя руки, когда кто-то из достойных поворачивался к ним. Все? Нет, не все, просебя отметил Тревельян; Первый Курс отсутствует. Возможно, еще валяется в зале собраний или уполз в свой отсек, восстанавливать нервные связи. Он поднял взгляд на Вторую Глубину, но ее лицо было маской спокойствия и равнодушия с легким оттенком печали. Никаких воспоминаний о ночи их совместного падения и уж тем более ни намека на украденный нож – тот, что торчал сейчас в шее Зенда Уна. Удар был нанесен рукой мастера – перебиты горло и сонная артерия, так что труп плавал в огромной луже крови. С момента смерти прошла четверть часа, но всем и каждому было понятно, что обескровленный мозг погиб, и тащить Зенда Уна к автохирургу или в саркофаг-гибернатор смысла не имеет. – Этот клинок мне знаком, – скрипучий голос жрицы нарушил тишину. Она склонилась над лингвистом, поднесла к рифленой рукояти ножа крохотный детектор, затем ее взгляд змеей ужалил Тревельяна. – Конечно, никаких отпечатков, однако это изделие волосатых. Твой? – Мой, не буду отрицать. – Чувство беспомощности охватило Ивара, но он знал, что должен объясниться. Должен, хотя оправдания звучали так нелепо! Третий Пилот и Четвертый Вечерний разом придвинулись к нему. Найя Акра вытащила из рукава сайгора парализатор. Ифта Кии вздрогнула, Иутин протестующе взмахнул руками. Только Вторая Глубина осталась неподвижной. Серые ее глаза были холодны, как лед, и смотрела она на Тревельяна с легкой насмешкой. «Попался ты, парень, – сообщил командор. – Отнесись к этому философски. Даже лучшие из нас попадаются на бабах». Ивар сглотнул слюну. Физической расправы он не боялся – тут кожа выручит, но потеря лица жгла нестерпимым позором. Прав дед, попался! Кто кого подцепил на крючок: он – женщину, или она – глупого волосатого самца? Ответ на этот вопрос был ясен. – Из того, что нож – мой, не следует, что я убил Зенда Уна, – вымолвил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. – Нож у меня утащили. Похитили минувшей ночью, и сделала это женщина. – Женщин тут немного, – заметила Найя Акра, подбрасывая в ладони парализатор. – Велик Йездан! Каких не случается чудес! Возможно, это была я? Тревельян нашел в себе силы усмехнуться. – Таких чудес не случается. На мой вкус, ньюри, ты слишком сухопара и не очень молода. – Не очень молода… – оскалившись, повторила жрица. – Ты даже не представляешь, мшак, насколько не молода! Значит, то была не я. А кто же? Эта или та? – Она поочередно ткнула стержнем парализатора в Ифту Кии и Вторую Глубину. – Благородный муж не отвечает на такие вопросы, – сказал Тревельян. – В эту ночь все видеокамеры в моем отсеке были выключены, но когда я подходил к своей двери… не один, а с той женщиной… когда мы подходили, – он подчеркнул это «мы», – Мозг зафиксировал этот эпизод. Обратимся к его свидетельству? – Станция, – негромко произнес ботаник Вечерний, – покажи эту запись. – Запись и память о ней изъяты, – отозвался компьютерный разум. – Память о факте изъятия заблокирована. Нет информации, кто это сделал. «У нее есть контактный мнемошлем, и она умеет им пользоваться не хуже тебя, – пробурчал призрачный Советник. – Успела замести последний след! Говорил тебе – ведьма!» Найя Акра вскинула парализатор – теперь он смотрел прямо в грудь Тревельяну. «Успею ли увернуться?» – подумал он, чувствуя, как напряглась кожа. – Ты сам стер эту запись! – выкрикнула жрица. – Сам! Не было никакой женщины! Даже Ифта Кии, которая… Пронзительный вопль зеленоглазой красавицы прервал ее. Закрыв лицо ладонями, подруга Джеба Ро пятилась по коридору на неверных ногах – подальше от других достойных и маленькой толпы служителей. В нише за ее спиной, шагах в пятнадцати от двери, ведущей в лабораторию Зенда Уна, стоял раздаточный автомат – на тот случай, если кто-то захочет перекусить или выпить сока. Ифта Кии задела его плечом и забилась в щель между стеной и корпусом автомата. Проводив ее насмешливым взглядом, Вторая Глубина сказала: – Нет, все-таки не она! Точно, не она. Видите, даже мысль поиграть с мшаком в невесомости ее ужасает! Меня, кстати, тоже. – Она повернулась к Тревельяну. Лед в ее глазах стал еще холоднее. – Ты ведь не станешь утверждать, волосатый, что я пошла с тобой, разделась и всю ночь парила над твоей постелью с задранными вверх ногами? – Я тебя не вижу, – сухо промолвил Тревельян. У кни’лина это было оскорблением. Человек власти мог сказать так подчиненному, аристократ похарас – слуге, и это означало, что он им недоволен. Но среди равных или почти равных смысл фразы менялся: я не просто тобой недоволен, я тебя, мерзавку, презираю. Не вижу тебя, не слышу и не желаю с тобой говорить! – Ты, отродье дикарей… – Лицо Второй Глубины исказила ярость, но она сдержалась – четверо достойных глядели на нее, а слуги принялись подталкивать друг друга и шептаться. Миг, и ее черты разгладились. Почти профессиональная выдержка, отметил Тревельян. Кто она на самом деле? Еще одно Око Хорады? Или агент из другого ведомства? Эта дама явно была не новичком в конспирации, равно как и в соблазнении мужчин. Глупых волосатых землян-ксенологов, добавил он про себя. Потом сказал: – Должна быть еще одна запись. У этой двери есть видеокамера. – Запись имеется, и я ее просмотрел. – Третий Пилот задумчиво уставился на дверь. – Но убийца был вне поля видимости. Нож метнули. Оттуда. – Он показал на пищевой автомат. – Убийца затаился примерно там, где находится сейчас ньюри Ифта Кии. Дождавшись, когда Зенд Уна выйдет, он бросил клинок. Очень умело. У меня бы так не получилось. Услышав, что она стоит на месте убийцы, Ифта Кии задрожала и быстро покинула свою щель. Четвертый Вечерний предложил: – Нет смысла здесь торчать. Войдем в лабораторию и просмотрим эту запись, а слуги пусть уберут тело и подготовят огихон к двойному погребальному обряду. Первый Лезвие и Зенд Уна… – Он с угрюмым видом покачал головой. – Кто следующий? Огибая труп и лужу крови, кни’лина гуськом направились в рабочий отсек лингвиста. Даже сейчас они соблюдали некую субординацию, которая установилась за считаные минуты каким-то неясным Тревельяну образом. Первой шла жрица, за ней – Вторая Глубина, потом Третий Пилот, Четвертый Вечерний, Ифта Кии и, наконец, Иутин. Он единственный был в просторной домашней хламиде, все остальные успели одеться, натянув кто сайтени, кто сайгор. Никто не пропустил Тревельяна вперед, но Ифта Кии глядела на него словно с мольбой о помощи. Иутин же, проходя мимо, шепнул: «Нет повода для тревоги. Йездан поможет». Слуги вызвали кибера-уборщика и небольшую гравиплатформу. Эвект и Зотахи положили на нее труп, Шиар нерешительно протянул руку к ножу. – Вытащи его и, не стирая кровь, положи в контейнер. В централи есть шкаф или сейф? – Есть. Ньюри не ошибся, – пробормотал Шиар. – Пусть нож хранится в нем. – Будет исполнено. – Шиар оглянулся на уплывающую по коридору платформу и совсем тихо шепнул: – Никто из нас не верит, что это сделал ньюри с Земли. Сказано в Книге Йездана: остерегайся очевидного. – Благодарю, Шиар. Хороший человек – утренняя радость. Кивнув, он вошел в лабораторию лингвиста. Это было стандартное помещение овальной формы, ибо кни’лина не любили углов и слишком резких сочленений. В середине находились проектор и компьютерный терминал, в дальнем конце – невысокая арка, у стен были разбросаны подушки, в узких горизонтальных нишах, что шли на уровне груди, хранились коробки с кристаллами и несколько древних книг кни’лина, похожих на гармошку из желтого пластика. Одна из них была особенно большой и лежала в ларце с откинутой крышкой. Книга Йездана, догадался Ивар, вспомнив, что Зенд Уна – верующий похарас. – Все здесь. Во имя Йездана, можно начинать, – сухо промолвила жрица. – Все, кроме Первого Курса, – уточнил Иутин. – Обойдемся без него. – Найя Акра все еще вертела в пальцах стерженек парализатора. – Станция! Эпизод смерти Зенда Уна. С того момента, как он встал и направился к выходу. – Слушаюсь, ньюри. Вспыхнуло и исчезло серебристое марево. Зенд Уна, поглаживая безволосый череп, поднялся с подушки. Выглядел он утомленным – очевидно, провел у терминала бессонную ночь. Что-то бормоча, лингвист наклонился, подобрал контейнер с гипноглифом и зашагал к двери. Вверху изображения побежали цифры – Мозг станции отсчитывал время для зрителей в земных секундах и системе мер кни’лина. Рядом с первой записью, несколько в стороне, развернулась вторая: внешняя камера фиксировала часть безлюдного коридора перед дверью лаборатории – пол и противоположную стену, плавным изгибом переходившую в потолок. Этот наружный видеодатчик, в отличие от внутренних, был закреплен неподвижно – просто крохотная бусинка над дверью, глаз, чтобы разглядеть посетителя и показать его хозяину. Дверь открылась, Зенд Уна переступил порог. Тревельян уже знал, что сейчас увидит, и голозапись подтвердила это предчувствие: клинок, летящий будто бы из пустоты, затылок лингвиста, а затем его фигура, оседающая на пол, и кровь, что начала хлестать из перебитой артерии. Зенд Уна умер мгновенно или в считаные секунды. – Бросок сделан справа, поэтому я думаю, что убийца стоял за раздаточным автоматом, – прокомментировал эту сцену Третий Пилот. – Ждал, когда Зенд Уна выйдет. «Она проткнула ему глотку метров с девяти, – добавил командор. – Опасная женщина! Ловка, хитра и умеет подставить другого. Все улики на тебе сходятся». Словно подслушав ментальную речь, Найя Акра проскрежетала: – Запись не доказывает невиновность землянина. Скорее, наоборот: нож, отключенные каналы связи, стертая информация в памяти Мозга… Он и есть убийца! – Ты думаешь, я полный идиот, чтобы убить своим ножом и оставить такую улику? – произнес Тревельян. – Это правильно, – вдруг поддержал его Вечерний. – Если замышлялось преступление, так… – А чем еще он мог убить? – оборвала ботаника Найя Акра. – Его багаж был мной проверен. У него нет другого оружия, кроме топорика и ножа. Что же касается умственных способностей волосатых… – Она дернула головой. – На этот счет у меня свое мнение. – Нужно отправить доклад на Йездан, – сказал Третий Пилот и провел ладонью над терминалом лингвиста. В воздухе повисла рамка с символами письменного языка кни’лина. – Я вижу, Зенд Уна уже составил сообщение… Дополним его и отошлем. – После погребальной церемонии, – буркнула Найя Акра. – Волосатого запрем здесь. Я блокирую каналы связи с Мозгом, чтобы он не… – Преждевременное решение, ньюри, – негромко заметил Иутин. – Он ни в чем не виноват. Жрица резко повернулась к нему. – Ты так считаешь, зинто? – Да. Потому что знаю, кто убил Зенда Уна и двух координаторов. Тот, кого среди нас нет. Кажется, этот вывод больше всех поразил Тревельяна и Вторую Глубину. Остальные, разом потеряв достоинство, загомонили точно слуги: – Первый Курс? – Тварь с Тоу убила Джеба Ро? – Какие у тебя доказательства? – А нож? Нож землянина? Разве это не улика? Иутин колыхнул полами своей широкой хламиды. – Нож взял я. Когда мы возвращались с Сайката, ньюри Тревельян пилотировал челнок. Курс и я сидели во втором ряду, а дальше находился открытый контейнер с походным снаряжением землянина. Мне захотелось рассмотреть его – нож, топор, фонарик, устройство миражей, еще какие-то мелочи… Просто нечем было заняться. Все предметы я положил обратно, кроме клинка. Я хорошо это помню: мы нырнули в шлюз, ньюри Тревельян зафиксировал корабль, а я поспешил к Первому Лезвию, чтобы отдать ему кристаллы с записями. Нож остался лежать на моем сиденье, но когда слуги принялись за разгрузку, там его не оказалось. Это я тоже запомнил: я вернулся к кораблю, чтобы бросить нож в контейнер, а когда не увидел его, решил, что это сделал сам землянин. Но клинок оказался у Курса. На морщинистом лице Третьего Пилота мелькнула тень сомнения, Ифта Кии ахнула, ботаник Вечерний сделал одобрительный жест, а Вторая Глубина уставилась с невинным видом в потолок – возможно, такой поворот событий ее устраивал. Что до Найи Акра, то веко жрицы дернулось, а кожа на черепе пошла алыми пятнами. – Велик Йездан! – выкрикнула она, воздев руки. – Что же ты молчал, недоумок? – Искал мотив, а это требует времени для размышлений, – невозмутимо отозвался генетик. – Курс повздорил с Зендом Уна и убил бы его вчера, если бы – напомню всем вам! – не помощь ньюри Тревельяна. Но не будем об этом; главное, что в данном случае у Курса был мотив. Первое Лезвие он уничтожил по двум причинам: чтобы перехватить главенство в группе ни и чтобы убийство Джеба Ро осталось нераскрытым. Здесь тоже есть понятные мотивы и очевидная логика… Но почему он бросил дротик в Джеба Ро? Я думал над этим, и я догадался. Пятеро кни’лина слушали его с напряженным вниманием, едва не позабыв о соблюдении коно. Тревельян тоже слушал, но при этом медленно перемещался по залу, стараясь не приближаться к стоявшим у терминала мужчинам и женщинам. На него не глядели, и, пользуясь этим, он осматривал ниши и предметы, что находились там, заглядывал в коробки с кристаллами и в щели между книг, изучал пол – особенно около подушек, и озирался на распахнутую дверь. Он искал – и не находил. Объяснения Иутина продолжались. – Как некоторые из вас, ньюри Джеб Ро подозревал в Курсе тварь с Тоу. Но, являясь координатором, он не мог ограничиться подозрениями, он желал знать точно. Ньюри хотелось, чтобы я осуществил проверку, мы с ним не раз говорили об этом, позабыв, что у таких созданий очень тонкий слух и хитрости тоже хватает… – Иутин печально опустил глаза, но тут же вскинул взгляд на Тревельяна. – Когда появился наблюдатель с Земли, я придумал, как проверить Курса – мы собирались сделать это на Сайкате, и для этого Джеб Ро включил его в полевую группу. Но он нас опередил! – Голос Иутина поднялся до трагического крещендо. – Убив координатора, он проник в пещеру и, будто в ярости, начал крушить дикарей. Но целью были не они, а мы, я и ньюри Тревельян. Он убил бы нас оружием терре или тазинто и свалил вину на них и нашу собственную неосторожность… Но ньюри Тревельяну удалось его остановить. – Остановить? Тварь с Тоу?! – изумленно воскликнул Четвертый Вечерний. – Да. Подозреваю, что землянин очень силен и владеет кое-какими приемами… Я видел это сам и тоже был удивлен. Я обязан ему жизнью. Наступила тишина, и Тревельян замер у ниши с огромной Книгой Йездана. Его коллеги размышляли над услышанным, и только Вторая Глубина, повернувшись к нему и заменив насмешкой лед в глазах, будто напомнила: ты можешь меня не видеть, волосатый, но мы-то с тобою знаем, что все это чушь, что этот зинто плетет истории для дураков! Откликнувшись на мысль Ивара, командор, в полном согласии с женщиной, прошептал: «Ловкий парень наш Иуда! Правдоподобная версия… почти правдоподобная… Ну, тебе выбирать не приходится». Найя Акра в очередной раз прожгла его взглядом. – Что ты плел, землянин, о женщине, которая украла нож? Разве ты не заметил сразу по возвращении, что его нет? Ты ведь проверил свое оборудование, не так ли? Иутин улыбался. Будь осторожен, говорила его улыбка. – Я брал с собой много всяких вещей и не успел их разложить, – в смущении пробормотал Тревельян. – Мы все были слишком заняты… похоронный обряд, гибель Первого Лезвия и Ори, потом – совещание, где Курс чуть не прикончил Око Хорады… Я постоянно чувствовал, как кружится голова и разбегаются мысли… – Наступив на гордость обеими ногами, он закончил: – У тебя, ньюри, есть особое мнение насчет умственных способностей землян… Возможно, правильное. Рот жрицы растянулся, челюсть отвисла, обнажая острые зубы. Гримаса презрения, понял Тревельян. «Ты ей за это отплатишь, и ей, и той ведьме, что так метко бросает ножики, – снова зашептал призрачный Советник. – Помни, какого ты рода! Никто не смеет над нами изгаляться! Тех, кто пытался, мы сунули носом в их дерьмо! Всех! Фаата, дроми, хапторов и этих лысых! Надо будет, сунем еще раз!» Третий Пилот постучал ладонью о колено. – Рассказанное нам хоть удивительно, но возможно. Не объяснишь ли, ньюри Иутин, еще одну вещь? Ту, о которой я уже спрашивал? Как была стерта панорамная запись? Генетик совсем по-земному пожал плечами. – Что нам известно о тварях с Тоу? Ими занимаются специалисты, которых среди нас нет, как и нужной информации в памяти Мозга – ведь это секретная тематика. Может быть, Курс способен блокировать видеодатчики на расстоянии или двигаться быстрее, чем идет сканирование… Не знаю! Но вот тебе один факт: он пронес на станцию гипноглиф, хотя наш багаж подвергли тщательному контролю. Уверен, он спрятал его здесь, в собственном теле. – Иутин коснулся груди. – А скорость, с которой он убивал дикарей! Ты ведь видел наши записи… Это было чудовищно! – Он и есть чудовище, – вздрогнув, пробормотал Вечерний. – И сейчас бродит где-то в недрах станции… Кни’лина переглянулись. Что-то они знали об этом Курсе, которого никто уже не называл ни Первым, ни Вторым, что-то неведомое Тревельяну и очень неприятное. Пожалуй, даже страшное! Тварь с Тоу… Этот эвфемизм ничего ему не говорил и не упоминался ни в одном из словарей диалектов кни’лина. – Станция! – позвал Третий Пилот. – Данные о местонахождении Курса. – В настоящий момент данных не имеется, – откликнулся искусственный разум. – Покинув зал собраний, он удалился в свой отсек и провел там… – Было названо время, примерно равное пяти с половиной часам. – Он лежал неподвижно, затем поднялся, вышел в коридор и исчез из поля зрения камер верхнего яруса. – Он знает, где установлены видеодатчики, и обходит их, – сказал Вечерний. – Он полностью восстановился, – добавила Вторая Глубина. – Его не уничтожить ментальным импульсом. – Не уничтожить, но можно повредить, – возразила Найя Акра. – Ты хочешь сказать, что этот глупец Зенд Уна нарушил стабильность его разума? – В некоторой степени, – подтвердила жрица-психолог. – Палустар – мощное средство… разрыв нейронных связей неизбежен. Вопрос в том, столько их уничтожено и в каких отделах мозга. – Этого еще не хватало! – Четвертый Вечерний ссутулился, сразу став меньше ростом. – Я же говорю, Зенд Уна – глупец! – А что еще он мог сделать? – вступил в дискуссию Третий Пилот. «Похоже, в нашем крысятнике переполох, – беззвучно резюмировал командор. – Малыш, ты понимаешь, что происходит?» «Не очень, дед. Вероятно, этот Курс – не человек… не совсем человек… И они его боятся». «Робот?» «Исключено. Такой уровень интеллекта не позволяет убивать». Найя Акра убрала парализатор, спрятав его в рукаве. – Во имя Йездана, хватит пустой болтовни! Пусть станция поищет Курса и доложит, когда удастся его найти, а мы займемся неотложными делами. Сначала – долг перед мертвыми, затем – сообщение по дальней связи… – Она повернулась к Тревельяну: – Тебе, мшак, не обязательно присутствовать на погребальной церемонии – я даже уверена, что ты там лишний. И подозрений с тебя я не снимаю. – Мне нужен доступ к дальней связи, – произнес Тревельян. – В этом мы не можем ему отказать, – кивнул Вечерний. – Его право. Мы и земляне владеем станцией совместно. После недолгих колебаний жрица согласилась. – Хорошо, ты можешь появиться в централи и отправить свое сообщение. Но сначала я с ним ознакомлюсь. – Ты умеешь читать земную лингву? – Мозг переведет, – небрежно бросила жрица и направилась к выходу. За ней потянулись остальные. Иутин опять шел последним и опять, проходя мимо Тревельяна, шепнул: – Иди в мою лабораторию. Я буду там, когда закончится обряд. Комната опустела, сделавшись сразу слишком большой для скромного кабинета лингвиста. В отличие от жилых отсеков, здесь имелась только одна арка, отделявшая закуток с удобствами. Тревельян направился туда, включил сканер в наголовном обруче, проверил стены, пол, потолок и днище пустого круглого бассейна. Затем повторил эту операцию в лаборатории, но без успеха – тайников тут явно не было. Убедившись в этом, он принялся за коробки и книги в стенных нишах. «Что ты ищешь?» – спросил призрачный Советник. «Гипноглиф и ментальный излучатель, тот, что они называют палустаром. Обе эти штучки Зенд Уна взял с собой, но я их не нахожу». «Он мог оставить их в своем жилом отсеке». «Нет. Излучатель он наверняка держал под рукой. Для него это не просто оружие – символ статуса и власти… Уверен, палустар был при нем, а где палустар, там и гипноглиф». «К чему они тебе?» «Гипноглиф слишком опасная вещь, чтобы оставлять его в чужих руках. А палустар… Неплохое оружие, если придется встретить Курса. В коже я с ним не справлюсь». «Есть другое средство», – напомнил дед. Было средство, было, но на самый крайний случай, и прибегать к нему до срока Тревельян не хотел. Обшарив ниши, он остановился в центре комнаты, у голопроектора и терминала. Очевидно, кни’лина не пользовались личными компьютерами, работая напрямую с Мозгом – во всяком случае, ни в одной лаборатории он не видел подобных вспомогательных устройств. Команды подавались голосом и жестами, контактных шлемов Ивар тоже не заметил, что было вполне понятным – для ментальной связи нужны изрядное мастерство и кое-какие таланты. Впрочем, у Второй Глубины шлем наверняка имелся, как и опыт обращения с ним – стереть данные в памяти станции удалось бы только в режиме прямого мысленного контакта. Подумав об этом, он ощутил нехорошее предчувствие, опустился на подушку перед терминалом и вызвал информационный массив, где хранились материалы экспедиции и где, запечатанный двойным паролем, лежал еще не просмотренный отчет первого генетика. Связавшись с компьютером в своем отсеке, Тревельян переслал нужные коды, и устье порта раскрылось перед ним. Увы! Секретов он не обнаружил, как не нашел гипноглифа и палустара: за раскрытыми вратами царила пустота. Ничего! Там не было ровным счетом ничего! – Станция! – позвал он. – Слушаю, ньюри Тревельян. – Где сведения о работах Второй Глубины? – Она переписала информацию на кристалл и стерла исходные массивы. – Когда? – В четыре восемнадцать ночи. Хотите знать время с точностью до секунд? «Опередила!» – подумал Тревельян и чертыхнулся. – Нет, жестянка. Этого достаточно. «Выходит, она ушла часа в четыре, когда ты дрых без задних ног, – заметил командор. – Прихватила твой ножик, отправилась к себе, внесла изменения в память, а заодно изъяла свои данные. Потом явилась на дежурство к дверям лингвиста… Словом, объегорила тебя, придурок! Не помню таких лопоухих ослов в моем потомстве! Владыкой Пустоты клянусь, не помню!» Тревельян скривился и нехотя кивнул головой. Упреки деда были справедливы – ни гипноглифа, ни палустара, ни загадочных отчетов! Плюс четверо покойников, и подозрение – на нем! Если бы не Иутин, все бы вышло плохо, недостойно и нелепо – в лучшем случае, кончилось бы дракой и бегством, а в худшем валялся бы он сейчас парализованным в этом отсеке и с грустью смотрел в потолок. Представив такое позорище, Тревельян вздрогнул и произнес вслух: – Ты бы, дед, не ругался, а что-нибудь посоветовал. Твоя все-таки служба! «Власть бери над плешаками, паренек!» – рявкнул командор. – Это как же? «Рецепт простой: жрицу, рыбу сушеную, мордой о стену и, пока не очухалась, вколоть ей сонного зелья либо заморозить. Ведьму, что тебя нажгла, выбросить в наружный люк, Иуде учинить допрос с пристрастием – что-то он знает, подлец! Курс… Ну, этого придурка я помогу изловить, а с остальными плешаками хлопот не будет. Остальные вроде поспокойнее». – Совет солдата, а не политика, – сказал Тревельян, покидая лабораторию лингвиста. «Я и есть солдат», – раздалось в ответ. Внутренний коридор, в котором очутился Ивар, имел дугообразную форму, полукольцом охватывая парк. С его наружной стороны, то есть обращенной к краю дисковидного сателлита, находились лаборатории, кабинеты и исследовательские комплексы, часть которых пустовала в ожидании земных специалистов. Другая сторона граничила с парком, и там тянулась метров на двести непрозрачная стена первого лунного цвета, смыкавшаяся на концах дуги с двумя хрустальными переборками из акрадейта, что позволяли любоваться полем золотистых трав, скалами и маячившим за ними лесом. В местах, где желтоватый пластик граничил с хрусталем, находились площадки для отдыха, соединенные еще одним коридором-хордой. Площадка, ближайшая к лингвистической лаборатории, была оформлена в стиле кни’лина; тут, в зоне невесомости, парили подушки, журчал фонтан, и вокруг него стояли фигурки терре – не голограмма, а самые настоящие каменные изваяния. Другая площадка отличалась земным дизайном: кресла, похожие на шезлонги, в центре – сайкатская сосна, невысокая, но с толстенным стволом, у которого вздымали копья и дубины трое бронзовых тазинто. В пространстве между коридором-дугой и коридором-хордой располагались зал собраний, центр управления и запечатанная камера настройки биоизлучателя, способного уничтожить разум на планете или двинуть цивилизацию вперед семимильными шагами. Кроме площадок и трех десятков дверей, в коридорах стояли пищевые раздаточные автоматы и было четыре лифта, ведущих на нижний уровень. Тревельян отправился к дальней, земной площадке, размышляя на ходу, есть ли какой-то намек в изваяниях, украшавших места отдыха. Намек, возможно, был, поскольку станцию строили уроженцы Кхайры и Йездана. Земляне, волосатые мясоеды, прочно ассоциировались для них с тазинто, тогда как терре, хоть и покрытые шерстью, все-таки были вегетарианцами, и, следовательно, существами более чистыми, достойными и близкими кни’лина. Эта идея наверняка превалировала у ни, что отразилось в планах Первого Лезвия; похарас, не столь агрессивные и более хитроумные, придумали бы что-нибудь поизящнее, дабы потешаться над земными коллегами втихомолку. Ивар миновал кабинеты антропологии и палеонтологии, закрытые мертвые двери которых напомнили ему о смерти Лезвия и Джеба Ро. Дверь в лаборатории ботаника была активирована, но светилась чуть-чуть – значит, помещение пустовало. Естественно, подумал он; все на похоронной службе, готовят прах для погребальных кувшинов. Следующая дверь, окрашенная нежно-зеленым, вела в ксенологический отдел, где находился его кабинет, который он даже не начал обживать – лабиринт пустых переходов и комнат, где царила давящая тишина, навевал тоску. За отделом ксенологии, полностью предназначенном для землян, располагался генетический комплекс, место работы Иутина, Ифты Кии и Второй Глубины – кабинеты, пять лабораторий, забитых аналитическим оборудованием, и медицинский блок с автодиагностом, киберхирургами и криогенными камерами. Тревельян вошел, прислушался – было тихо – и отыскал рабочий отсек Иутина. Большая, овальной формы комната походила на покинутый им кабинет Зенда Уна, но казалась меньше – ее загромождали приборы, контейнеры с пробами, установки для биохимических анализов, пульты и экраны. Обнаружив терминал связи со станцией, Ивар уселся перед ним на подушку и задумался. Если бы не история со Второй Глубиной, он мог бы поверить версии Иутина. Курс, тварь с Тоу, отлично подходил на роль убийцы; его мотивации были понятны, а странности объяснялись тем, что его сущность отличалась от человеческой. Вероятно, он не являлся гуманоидом – то есть не был в полной мере человеком, хотя определить его природу Тревельян пока не мог. Какой-то монстр из пробирки? Не исключается, если вспомнить о метаболизме Курса, так не похожем на обмен веществ кни’лина! Видимо, это проверил Иутин, подсунув ему спиртное вместо тинтахского вина… Итак, искусственная тварь? Но эта идея была не слишком хорошим объяснением. Не так уж существенно происхождение плоти, мышц и костей, крови и внутренних органов – все это можно клонировать или произвести из биозаменителей, кремнеорганики и молекулярных чипов, создав андроида, внешне подобного кни’лина. Мозг и разум – вот главнейшие компоненты! Что сокрыто в теле Курса – искусственный интеллект высшего уровня или мозг живого человека? Только решение этой дилеммы могло прояснить ситуацию. Казалось, его способность убивать исключает первый вариант, но теперь Ивар не был в этом уверен – ведь Иутин обмолвился, что тварями с Тоу занимаются специалисты, и что это секретная тематика. В техногенной сфере кни’лина не отставали от землян и могли наворотить такое!.. Если вернуться к версии Иутина, подумалось ему, то основное ее достоинство – цельность: четыре трупа – один убийца, последовательная цепь событий и ясные мотивы преступления. Но интуиция подсказывала, что это слишком просто – тем более, что Курс не похищал клинок и не метал его в лингвиста. Тревельяну казалось, что в случившемся на станции и на Сайкате замешаны разные лица, и у каждого есть свой мотив, свой повод убрать того или иного члена экспедиции и своя цель, совсем не похожая на цели соперников. Как груда кристаллокниг, где есть любовные романы, детские сказки, научные труды и черт-те что еще… Но в этой, на первый взгляд бессмысленной подборке могла таиться своя логика или, скорее, нечто общее – скажем, то, что все книги принадлежат одному человеку или хранятся в одной коробке. Вошел Иутин, и размышления Ивара прервались. Очевидно, третий генетик успел побывать у себя и переодеться – на нем красовались не домашняя хламида и не ритуальный передник, а рабочее сайтени дневного цвета. Его обнаженные руки были перевиты жилами, кожа под челюстью слегка отвисала, и Тревельян подумал, что Иутину, должно быть, немало лет. Эту мысль догнала другая: возможно, его состарили не годы, а испытания и унижения. – Прах Лезвия и Зенда Уна уже в погребальных кувшинах, – произнес генетик, садясь напротив Тревельяна. – Мы проводили их согласно обычаю, пролив по капле крови – и религиозные похарас, и ни, отрицающие божественность Йездана. Но, как он сказал, религия – лишь платье истинной веры. Обсуждать такие темы казалось Тревельяну несвоевременным. Он прочистил горло и буркнул: – Ты мне помог, Иутин. Почему? Ты ведь знаешь, что Курс не похищал ножа и не имеет отношения к убийству Ока Хорады. – Разумеется. Конечно. Курс убил Джеба Ро и, вероятно, Первого Лезвия и слугу, а с Зендом Уна расправилась Вторая Глубина, с которой ты, с присущей землянам беспечностью, провел ночь. Мне пришлось солгать. Ложь во спасение – так, помнится, вы называете это? – Не надо упрекать меня в беспечности. Лучше ответь на мой вопрос: почему? Кожа на черепе генетика пошла морщинами. Он почесал темя, задумался на секунду и молвил: – События еще не завершились, и ты будешь нужен, Ивар Тревельян, нужен нам всем. Цена утреннего дома высока! Если тебя изолировать, это нас ослабит, а тварь с Тоу может сделаться проблемой. – Мы о подобных существах ничего не знали. – Вы многого о нас не знали и не знаете. Или, возможно, знают те, кому положено следить за нашей расой, не ксенологи из Фонда, а люди из другого ведомства. Ивар молча кивнул. Службы Звездного Флота имели больше информации о расах с высоким индексом ТР, чем Фонд, который занимался архаичными культурами. – Так что же он такое, этот Курс? – спросил он после паузы. – И при чем тут ваша колония Тоу? Иутин усмехнулся. – Надеюсь, меня не обвинят в предательстве, ибо я могу поведать только слухи, а истины не знаю сам. Но на всякий случай… Станция! Ты сотрешь эту беседу! – Дождавшись подтверждения, он продолжил: – Говорят, что найден способ пересадки человеческого мозга и сращивания его с силикатной плотью, что имитирует тело во всех подробностях. Такие существа очень сильны и обладают высокой способностью к регенерации. Мало едят, но много пьют – для поддержания энергетического баланса им годится любая жидкость. И никаких потерь интеллекта… – Прекрасные солдаты, я полагаю. Лучше боевых роботов. – Возможно. Правители ни всегда мечтали взять реванш. Земляне для них все равно что тазинто. Уничтожить этих волосатых дикарей или вернуть в животное состояние – это как бы месть Земле… маленькая, но все же месть. Ты, должно быть, это почувствовал. – Да. – Тревельян обменялся с командором ментальным импульсом, убедившись, что тот записывает разговор. Затем спросил: – Что еще говорят? – Что мозг для пересадки можно клонировать или изъять у мертвеца в первые мгновения после гибели. Последнее предпочтительней, так как сохраняются память, знания и опыт, но есть какие-то проблемы… какие, я не знаю. Кажется, не всякий мозг подходит, и таких существ не очень много. – Иутин сделал паузу и снова улыбнулся. – Думаю, вашим… гмм… наблюдателям это известно, и потому Земля не беспокоится. Как сказано у Сероокого, десять сильных не победят миллионы слабых. – Это все? – Почти. Остальное касается Тоу. Очень отдаленный мир на самой окраине нашего сектора… Льды, снега, промерзшая земля, холодный океан… Принадлежит клану ни, и они делают там что хотят. – Ладно, – сказал Тревельян, – с этим мы разобрались. Значит, в пассиве у нас четыре трупа, а в активе – киборг-убийца с поврежденным мозгом, которого ваш научный отдел включил в экспедицию. Там хоть представляют, кто он такой? – Не думаю. Джеб Ро и Первый Лезвие сами комплектовали штат из похарас и ни. Лезвие, конечно, знал… Очевидно, Курс был ему нужен. – Чтобы преподнести гипноглиф? – не без иронии спросил Тревельян, но вопрос остался без ответа. – Ну, не буду настаивать. Давай поговорим о Второй Глубине и Зенде Уна. Чего они не поделили? – Я говорил тебе, что оба с Тизаны. Похарас и ни там враждуют. – Настолько, что готовы резать друг другу глотки? Иутин опустил голову. О чем он думал в эти минуты? О странной своей расе, так похожей и в то же время непохожей на землян? О своем народе, разделенном в силу древнего проклятья на две половины, не способные соединиться друг с другом, ибо они не могли произвести потомков – тех, что были бы не похарас и ни, а просто кни’лина? Или он размышлял о чем-то личном, горестном и трагическом? О судьбе изгоя, который принят в среду достойных, но остается среди них всегда последним? Об оскорбленной гордости, попранной чести, неутоленном тщеславии? Или о более важных вещах, ибо не честь, тщеславие и гордость лежат в основе человеческого Мироздания, а жизнь и смерть?.. – Послушай, ньюри, – генетик посмотрел на Тревельяна. – Ты странствуешь по Галактике не первый год, ты человек опытный и зрелый, и ты понимаешь, что люди – разные. Есть среди ни и похарас такие, что предпочитают мир, терпимость и даже уважение к чужому клану, и их, я полагаю, большинство. Другие недолюбливают клан соперников и не желают с ним общаться, а кто-то просто ненавидит… Истоки этих чувств понятны, их питают самомнение, вера в собственную избранность и невозможность иметь общих детей. Сказано в Книге Начала и Конца: потомство человека – его тень, протянувшаяся в грядущее… Бесплодная попытка отбросить эту тень рождает злобу, а временами толкает к убийству. Особенно если имеется повод. – А он имеется? – Возможно. Не ведаю, пересекались ли дороги Глубины и Зенда Уна на Тизане, но здесь, на станции, они конкуренты в борьбе за лидерство. Для нашего народа – веская причина! Кроме того, Очи Хорады не пользуются симпатией среди достойных и даже слуг. Зенд Уна пригрозил нам палустаром… Зря! Этого хватило, чтобы взыграли инстинкт самосохранения и ненависть. – Зенд Уна мертв. Однако новый лидер не Вторая Глубина, а Найя Акра. Генетик покачал головой. – Спор еще не закончен, Ивар Тревельян, еще не закончен! И это самое важное, что я хотел тебе сказать. Будь осторожен! – Он поднялся. – А сейчас идем, нас ждут в централи. Ты отправишь свое сообщение, мы – свое, и через сутки сюда придет корабль. Может быть, два корабля, ваш и наш… Как ты думаешь, земляне снова пришлют военный крейсер? – Целую эскадру, если понадобится, – ответил Тревельян. – В Лимбе корабли летают быстро.* * *
Тревельян, шестеро достойных и два дежурных техника затерялись в обширном круглом помещении централи. Высокий купол потолка и большая часть стены были огромными экранами; вверху сияло сайкатское солнце, блестели звезды и тянулся к зениту изогнутый клык туманности; внизу перемигивались огоньки, появлялись и исчезали изображения каких-то узлов, агрегатов и отсеков станции, плыли мнемосхемы и висела над пультом дальней связи голографическая карта Галактики. Дежурные, Шиар с Эвектом, к этому пульту не приближались, ибо управление антенной не требовало их участия – этим, как и засылкой пакета информации в Лимб, приемом и расшифровкой сообщений, их переводом с языка кни’лина на земную лингву и обратно занимался искусственный интеллект. Звездная связь на гигантских расстояниях была задачей непростой и потому использовалась лишь в экстренных случаях. Ориентация антенны и, следовательно, связного луча требовала сложных навигационных расчетов и знания точных координат пункта финиша и стартовой системы Сайката, а также учета поправок на орбитальное вращение планеты и движение станции над ней. Если в месте старта луч отклонялся на миллионную долю градуса, то информация проваливалась в пустоту, минуя приемные антенны на световой год, на десять светолет или на сотню парсек – в зависимости от дистанции между приемником и передатчиком. Иногда расстояния были такими, что термин «звездные» к ним не очень подходил; определение «галактические» являлось более верным. Пока Мозг трудился, а шестеро ньюри в угрюмом молчании сидели в центре зала, Тревельян, подойдя к терминалу, набросал сообщение и ввел его в память Мозга. Найя Акра следила за этими манипуляциями, то и дело бросая на него подозрительные взгляды; едва он закончил свой краткий рапорт, как перед ней возник переведенный текст. Фразы висели в воздухе, точно огненные письмена во дворце библейского Валтасара, и все кни’лина могли их прочитать. Похоже, ничего криминального они не нашли; жрица сделала разрешающий знак, Третий Пилот пробормотал что-то одобрительное, а Глубина, которую Ивар по-прежнему «не видел», сухо кивнула. У другого терминала, расположенного подальше от хмурых ньюри, Шиар следил за работой Зотахи, третьего техника систем жизнеобеспечения. Зотахи, вместе с парой ремонтных киберов, находился сейчас на нижнем ярусе, у воздушного регенератора – ставил новые фильтры или что-то проверял, советуясь с Шиаром и тыкая щупом то в трубопровод дыхательной смеси, то в сетку воздухозаборника. В массивном кожухе агрегата один за другим раскрывались лючки, сдвигались заслонки, обнажая переплетение труб и кабелей, щели энерговодов и светящиеся ячейки молекулярных схем. Под ногами Зотахи суетились киберы; вероятно, ими, как и движением крышек и заслонок, управлял Мозг. Расчеты завершились. На экранах слева и справа от пульта дальней связи было видно, как поворачивается антенна – пятиметровая трубчатая конструкция, похожая на древнюю ракетную установку. Сейчас пара венчавших ее стержней глядела на острие туманности Бивня – туда, где в секторе кни’лина плыл со своими лунами Йездан. Материнская планета, обитель императора похарас и лидеров клана ни… – Полная готовность! – Гулкий голос раскатился по залу, отдавшись эхом в высоких сводах. – Можно отправлять, – сказала Найя Акра. – Подтверждение пришлешь мне. В теории связь через Лимб, как и полеты кораблей, была мгновенной. На практике то и другое занимало некоторое время из-за флуктуаций квантовой пены, заполнявшей изнанку Мироздания. Требовалось минут тридцать-сорок, чтобы преодолеть сотни парсек до Йездана, и еще столько же, чтобы дождаться сигнала от орбитального приемника, висевшего над материнским миром – подтверждения, что письмо попало к адресату. В ажурных прорезях антенны блеснул свет. Он становился все ярче и ярче, наливался расплавленным золотом, сиял и пылал, заставляя людей щуриться и моргать. Потом ослепительная золотистая стрела сорвалась с центральных стержней и угасла в бездне Великой Пустоты. – Первое сообщение отправлено, – доложил искусственный разум. – Отправляй второе, – проскрипела жрица. – Подтверждение связи – мне и землянину. Антенна плавно развернулась. Теперь ее ось была ориентирована в сторону от газовой туманности, под углом восемьдесят семь градусов к прежнему направлению. Где-то там, в безмерной дали, за миллиардами и миллиардами километров пустого холодного пространства, кружилась у золотистого Солнца Земля, а вместе с нею – Марс, Меркурий и Венера, спутники планет-гигантов и Плутон, самый далекий от светила. Почти все эти небесные тела были населены, и почти каждый сопровождали шлейфы заатмосферных станций, эфирных городов, верфей и космических цитаделей. Оттуда к иным мирам отправлялись пассажирские лайнеры, там собирались в огромные караваны торговые суда, там нес свою бессменную вахту Звездный Флот. Солнечная система, оплот великой мощи и силы Земной Федерации… Тревельян покосился на Шиара. Тот, повернувшись боком к терминалу, продолжал о чем-то толковать с Зотахи. Третий техник, ясно видимый на экране, висел у раскрытого люка в метре над полом, наблюдая, как маленькие роботы трудятся в камере регенератора. Их манипуляторы мелькали быстрее, чем лапки у бегущего паучка. Со сдвоенных стержней антенны снова сорвалась яркая молния-стрела. – Второе сообщение отправлено, – произнес криогенный Мозг. Вот и все, подумал Ивар. Скоро придут корабли землян и кни’лина, появятся сотни новых людей, и среди них – большие чины из Фонда и Хорады со всеми нужными паролями и целым штатом дознавателей. Зря беспокоился Иутин – возможно, спор не закончен, но разбираться с убийствами, спорами, дрязгами и загадочной работой Второй Глубины будут профессионалы. Персоны, облеченные властью, которым Мозг не откажет в выдаче информации. Кни’лина гуськом направились к выходу. Найя Акра, Вторая Глубина, Третий Пилот, Четвертый Вечерний, Ифта Кии, Иутин… Наверное, подумал Ивар, имена ни уже изменились: не Вторая, а Первая Глубина, а за нею – Второй Пилот и Третий Вечерний. Впрочем, номер был не так уж важен – во всяком случае, для Тревельяна; теперь, познакомившись ближе с людьми из клана ни, живыми и покойными, он мог постичь истинный смысл их прозваний. Лезвие: жесток, властолюбив, безжалостен, точно стальной клинок, нацеленный в сердце врагу. Курс: идущий путем предназначения,извилистой дорогой, с которой он свернуть не в силах. Глубина: загадочна, непредсказуема, коварна и, очевидно, опасна, будто пропасть, что вдруг разверзлась под ногами. Пилот: предусмотрителен, неглуп и быстр, как астронавт, что управляет звездным кораблем. Вечерний: немногословный и сумрачный, как уходящий день, но, кажется, надежный. Шиар внезапно вскрикнул. По экрану, перечеркнув силуэт Зотахи, метнулась стремительная тень, сверкнула неяркая вспышка, послышался скрежет и следом за ним – лязг металла, грохот задвигаемых люков и заслонок и пронзительный свист бьющего под давлением воздуха. Эти звуки слышались долю секунды; затем свист, грохот и лязг прекратились, и в отсеке регенератора воцарилась тишина. Под куполом центра управления все замерли: Тревельян у своего терминала, Шиар, не отрывавший взгляд от экрана, Эвект, повернувшийся к нему, Найя Акра, уже стоявшая у выхода, и пятеро ньюри, что растянулись цепочкой по залу. – Обнаружена искомая личность, – размеренным тоном произнес Мозг. – Тот, кого вы называете Курсом, нанес повреждения воздушному регенератору. Незначительные, ньюри, так что поводов для тревоги нет. В данный момент все монтажные отверстия в кожухе регенератора закрыты, и устройство недоступно для проникновения. – Что он сделал? – глухо каркнула жрица. – Что за повреждения нанес? – Разбил блок, регулирующий давление в семнадцатом воздуховоде. Воздуховод отключен, введена в строй резервная линия. – Хвала Йездану! – молвила Найя Акра и переступила порог. Только тогда Шиар осмелился позвать: – Зотахи! Где ты, Зотахи? Что с тобой? Молчание было ему ответом. – Станция, сообщи, что случилось с техником, – велел Тревельян. – Он жив? Возможно, ранен? – К сожалению, мертв, – раздался голос, в котором не было ни сожаления, ни печали. Затем картина на экране дрогнула, отодвинулась, и Тревельян увидел Зотахи, лежавшего ничком у корпуса регенератора. Кажется, у него была сломана шея и раздроблен затылок.Положение служителей в обществе кни’лина было подробно исследовано вскоре после войны, и нет оснований предполагать, что с тех пор что-то существенно изменилось. Служители (так называемые слуги клана) образуют основную массу планетарных обитателей и делятся на несколько социальных слоев: работники, солдаты, собственно слуги, технический персонал, сотрудники медицинской и санитарной служб и так далее. У них нет семейств в земном смысле этого термина, что, однако, не отрицает таких понятий, как материнство, отцовство и родственная связь, бытующих по крайней мере у части населения. Так, в клане ни можно выделить прайды или сообщества мужчин и женщин, состоящих в отношениях, которые в древности назвали бы групповым браком. Эти прайды весьма устойчивы, и людей в них объединяет не только секс, но также общая профессия либо служение одному и тому же лицу из числа достойных. Та-цзуми, И. Дворкин. «Кни’лина. История, обычаи, верования».
Глава 9 Криогенный Мозг
Если он доберется до какого-нибудь важного узла системы жизнеобеспечения, нас ждут серьезные проблемы, – сказал Второй Пилот. – Это так, – согласно склонил голову Третий Вечерний. Их имена, как и предполагал Тревельян, изменились – Первая Глубина, старшая в группе ни, объявила, что Курс больше не принадлежит к их сообществу. Его разум был явно поврежден ментальным излучателем; он бродил где-то внизу, на техническом ярусе, временами впадая в неистовство и пытаясь голыми руками сокрушить какой-нибудь важный агрегат – блок оборотной воды, утилизатор отходов или одну из генераторных подстанций. К счастью, все эти устройства имели защитные кожухи из пласткерамических материалов, распилить которые можно было бы только мощным лазерным лучом. Искусственный разум, управляющий СИС, закрыл диафрагмы гравитационных лифтов, изолировав Курса на нижнем ярусе, и блокировал шлюзы, лишив его возможности покинуть станцию и перебраться на Сайкат. Но запереть его в каком-нибудь из отсеков Мозг был не в состоянии – люки между ними имели как автоматическое, так и ручное управление. Несмотря на силу Курса, особых бед он натворить не мог, но мысль, что тварь с Тоу бродит среди жизненно важных машин и механизмов, нервировала кни’лина. – Попробуем его изловить? – предложил Второй Пилот, собирая лоб в морщины. – Идея, как мое имя – вечерняя, – ответил ботаник. Вероятно, это была мрачноватая шутка. – Курс сломал хребет слуге. Вдвоем нам не справиться, а ремонтные роботы и киберуборщики бесполезны. Он их просто растопчет. – Растопчет, – согласился Пилот, ерзая на подушке. Они боялись. Возможно, их страхи были отзвуком другой, более серьезной и более тревожной ситуации: посланные через Лимб депеши не добрались ни до Земли, ни до Йездана. С момента отправки сообщений миновали сутки, и Найя Акра, затратив изрядное количество энергии, дважды повторила сеанс, ориентируя антенну на Кхайру, Тизану и ближайшие колонии землян, однако ответа или хотя бы подтверждения связи экспедиция не получила. Этот факт казался поразительным и необъяснимым; в сделанных Мозгом расчетах не приходилось сомневаться, а что до технической стороны, то связь через Лимб, невзирая на гигантские дистанции, была надежна как контурный привод космического корабля. Тем не менее их попытки связаться не имели успеха, и это порождало гнетущее чувство – здесь, на краю обитаемой зоны Галактики, в бездне Великой Пустоты, они ощущали себя оторванными от родных миров, едва ли не брошенными на произвол судьбы. И вдобавок где-то под их ногами бродил сумасшедший киборг-убийца! На Земле и в ее колониях киборги существовали разве только в древних фантастических романах. Соединять коллоидный человеческий мозг с каким-либо механизмом считалось противоестественным, не отвечающим этике, да и нужды в подобных конструкциях не было никакой. Для людей существовали банки клонированных органов и целостных тел, в которые, при крайней нужде, пересаживали мозг из прежней его обители; что же касается одушевления творений из пластика, металла или биоматериалов, то для этого вполне годились искусственные интеллекты. Пожалуй, единственным исключением из этого правила являлась посмертная запись личности в памятный кристалл – честь, которой удостоился Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, командор и десантник, летавший в былые времена на крейсере «Паллада». Но он все-таки был не киборгом, а скорее, частью индивидуальности своего потомка, которую тот мог подключать к памяти и разуму для поучительных бесед и прочих развлечений. В данный момент, слушая сетования кни’лина, командор негодовал и порывался разъяснить, какими способами надо вышибать мозги киборгам. – Может быть, ты пойдешь с нами? – молвил Второй Пилот, поворачиваясь к Тревельяну. – Иутин сказал, что на Сайкате, в пещере дикарей, тебе удалось с ним справиться. – Иутин слегка преувеличил, – отозвался Ивар. – Но если вы решитесь, я готов. Одних я вас не отпущу. «И будешь дурак дураком, – прокомментировал командор. – Курс всех вас по стенкам размажет – и тебя, и бугая ботаника, и тощего Пилота. Меня пусти, меня! Я этому Курсу живо загну салазки!» «Ты мое тайное оружие на крайний случай, и этот случай еще не наступил, – осадил его Тревельян. – Я готов выслушать твои советы. Советы, дед, и только». «Раз меня не пускаешь, вот тебе мой совет: сидите тихо и ждите корабля. Когда-нибудь он придет – не по вашему вызову, так с земной частью экспедиции. А ловить киборга у вас кишка тонка». – Ты размышляешь над тем, как его поймать? – прервал ментальный диалог Пилот. – Не поймать, а уничтожить, – уточнил Тревельян. – Убить гораздо легче, чем ловить. Кстати, каким оружием мы располагаем? Может, фризеры есть, иглометы или лазерные хлысты? – Этого нет. Ничего подходящего для такой ситуации. Несколько маломощных парализаторов, – принялся перечислять Второй Пилот, – метатели с усыпляющими капсулами, гранаты с сонным газом и доисторические копья терре и тазинто из коллекции Иутина. Еще восемь крепких слуг, не слишком храбрых, но послушных… – Он вдруг ухмыльнулся: – Да, твой нож, ньюри Тревельян, твой окровавленный нож! Это, наверное, самое серьезное оружие на станции. – Я не собираюсь устраивать с Курсом дуэль, – сухо обронил Ивар. – Возможно, что-то найдется в личных отсеках Джеба Ро и Лезвия, – заметил Третий Вечерний. – Или у Зенда Уна, – добавил Тревельян, впившись взглядом в лица своих коллег. Пилот коснулся носа. У кни’лина этот жест означал крайнее изумление. – Палустар! Как я мог забыть о палустаре! Конечно, он действует на близком расстоянии, но очень эффективен. Сначала мы погрузим Курса в беспамятство, а затем… – Затем отпилим голову моим ножом, – сказал Тревельян, поднимаясь с подушки. Он прошелся, разминая затекшие ноги, и добавил: – У меня еще найдется топорик. Череп запросто можно проломить. «Вот речь не мальчика, но мужа! – сделал комплимент Советник. – Только до черепа надо еще добраться». Третий Вечерний приоткрыл рот в недоумении. – Это что, такая шутка, ньюри Тревельян? – Нет. Суровая реальность, – заверил его Ивар, огибая фонтан со статуями терре. Их совещание проходило на площадке отдыха кни’лина. По неясным для Тревельяна причинам Иутин и женщины не принимали в нем участия. Возможно, Пилота и Вечернего тяготил диктат Найи Акра и Первой Глубины, а генетика-зинто они не сочли достойным поучаствовать в беседе. Во всяком случае, в планах облавы на Курса его не упоминали. – Самое простое было бы вакуумировать весь нижний ярус, – с задумчивым видом произнес Второй Пилот. – Но такая возможность отсутствует технически. Я справлялся у Мозга. – Разумеется, – кивнул Тревельян. – Станция не рассчитана на боевые действия и, в частности, охоту на киборгов. – Киборгов? – Да. У нас этот термин обозначает то, чем стал Курс. То, что из него сделали. – На Земле тоже есть такие твари? – На Земле есть все, а чего нет, то никому не нужно. Последнее – как раз наш случай. Тревельян опустился на подушку, и они, все трое, погрузились в молчание. Минут через пять Второй Пилот покосился на Ивара и буркнул: – Я не спрашиваю, ньюри, имеешь ли ты нечто такое, что могло бы пригодиться нам в этом деле. Но если есть, самое время об этом сказать. – Усилитель, – сказал Тревельян. – У меня есть усилитель физической активности, но даже в нем мне с Курсом не совладать. Проверено на опыте. – А твои боевые приемы? Порывшись в памяти, Ивар выудил древнюю мудрость: – Против лома нет приема. – Даже на диалекте ни это прозвучало достаточно категорично. Они снова замолчали, пока Третий Вечерний не произнес: – Без палустара идти за ним рискованно. – Йездан видит, ты прав! – согласился Пилот. – Я поищу палустар в рабочем кабинете и жилом отсеке Зенда Уны. – В лаборатории его нет, – сказал Тревельян. – Или кто-то успел до нас, или он запрятан так ловко, что я его не нашел. – Эти похарас… – Пилот покачал головой. – Хитрят, интригуют, прячут запретное, угрожают, а в результате – нож в глотку, да так точно, словно его метнули валлс… Ну, я все же поищу. Зенд Уна мог хранить палустар в своем отсеке. – Кто такие валлс? – спросил Тревельян. Серые глаза Пилота потемнели, морщины у рта сделались глубже. – Мастера метать клинки и резать глотки. Убийцы. Но не думаю, что их осталось много. Не думаю, что они вообще существуют в нынешние времена. Третий Вечерний угрюмо взглянул на него. – Ты так считаешь? Ну, как сказал Йездан, долг старых – лгать молодым… – Он отвел глаза и вымолвил: – Если ты найдешь оружие Ока Хорады, мы могли бы отправиться на нижний ярус сегодня ночью. – Надо проинформировать Найю Акра и Первую Глубину? – Нет, ньюри Тревельян. Это лишнее. Мы, – Пилот поглядел на ботаника, – то есть Третий Вечерний и я, не считаем их лидерами. Найя Акра – похарас, и ранг ее невысок, а Глубина… – Морщины на лбу и черепе Пилота собрались гармошкой. – Насчет Глубины у Вечернего есть некие подозрения. Но делиться ими рано. «Вот как!» – подумал Тревельян, а вслух спросил: – Возьмем с собой Иутина? – Этого тоже не нужно. – Почему? – Не стоит мешать зинто в наши дела. Пауза. Переждав с минуту, Ивар произнес безразличным тоном: – О зинто я знаю не больше, чем о валлс. Второй Пилот и Третий Вечерний переглянулись. Потом ботаник, уставившись в пол, вымолвил: – Мы не любим говорить об этом, ньюри Тревельян, особенно с чужими. Понимаешь, кни’лина – это или ни, или похарас, или человек из мелкого клана, который в союзе с одним из крупных. Что до союза, то он не такой, к каким вы привыкли на Земле, он диктуется не политикой, не религией, не экономическими интересами, а физиологией. Рождение потомства возможно лишь… – Это для меня не секрет, – сказал Ивар. – Я спрашиваю о зинто. – Зинто – люди без клана. – Преступники? Асоциальные личности, изгнанные из общества? – Нет, люди, просто люди – те, что жили на Йездане до Второй Луны. Та’зинто… Это значит «древние люди» на нашем древнейшем языке. Мы назвали так одну из рас, обитающих на Сайкате. Разумеется, подумал Тревельян, разумеется – тазинто! Но какое отношение это имеет к Иутину? Пусть он темноглаз, коренаст, и физиономия у него широковата, но он же не пещерный человек! Он генетик с Кхайры, первоклассный ученый, рекрутированный Джебом Ро в престижную экспедицию! Расспросы, однако, пришлось прекратить – тема оказалась неприятной для обоих собеседников, а выжимать сведения силой было не в правилах Ивара. Он снова встал. – Успеха в поисках, ньюри Второй Пилот. Свяжись со мной, когда я понадоблюсь. Буду в своем отсеке. Покидая площадку, Тревельян услышал, как Вечерний тихо произнес: – Нет связи. Может быть, Курс повредил антенну или механизм наведения? – Это стало бы известно Мозгу. Он не докладывал о такой неисправности. – Неисправности бывают разные, Пилот, а на огромных дистанциях существенна любая мелочь. Например… Дальнейшего Тревельяну разобрать не удалось. По дороге к выходу в парк он размышлял о том, что оружия Зенда Уна Пилоту не найти. Он уже догадывался, кто прибрал палустар и, вероятно, гипноглиф. Для решения этой задачи нужно было исходить из обычаев кни’лина, определявших их поведение в любых, самых критических ситуациях. Скажем, в торжественных случаях они надевали пышные одежды, молились Йездану чуть не голышом, дома носили просторные мантии и хитоны, а рабочим одеянием был комбинезон – сайгор или, в крайнем случае, сайтени. Разбуженные Мозгом, они появились у трупа лингвиста именно в сайтени – все, за исключением Иутина. К слову сказать, третий генетик, презренный зинто, пренебрегал многими традициями – мог даже приблизиться к землянину и привести его в свои апартаменты. В данный момент это значило, что Иутин не тратил времени на облачение и прилетел к месту событий первой, самой ранней пташкой. Ну, а кто рано встает, тому бог подает… – Услышит ли ньюри меня? – раздалось за спиной Тревельяна. – Увидит ли своего слугу? Он обернулся. У входа в центр управления, напротив арки, ведущей в парк, стоял Шиар. Все слуги клана ни казались Тревельяну на одно лицо, и различал он их с трудом – все бледные, сероглазые, с тонкими губами и схожего телосложения. Возраст тоже был примерно одинаков, но Шиар выглядел явно старше остальных – морщин поменьше, чем у Второго Пилота, но кожа уже не такая гладкая. По этой ли причине или какой-то иной он главенствовал среди служителей. – Я слышу и вижу тебя, Шиар, – сказал Тревельян. – Чего ты хочешь? – Обращаюсь к ньюри с просьбой о защите. Погребальные кувшины наполняются слишком быстро, и нет ответа на наш призыв о помощи. Это пугает. – Здесь глава вашего клана – Первая Глубина. Ты говорил с ней о ваших страхах? – Храни от нее Йездан! Ньюри знает, что она безжалостна и лжива. – Тогда Второй Пилот и Третий Вечерний… – Они с ней не справятся. Ни с ней, ни с тем, кто бродит внизу. – Шиар уставился взглядом в пол. – Вдвоем они утопят нас в крови. А мои тенсу и гайрим слишком молоды, чтобы умирать. – Тенсу? Гайрим? – Этих слов Тревельян не знал – вероятно, в жаргоне слуг имелись свои тонкости. – Тенсу – тот, с кем я имею общего отца, гайрим – рожденные моей матерью, – пояснил Шиар. – Ори и Зотахи были моими гайрим. Они все родичи, все братья, внезапно понял Тревельян. Группа людей, соединенных кровными узами, и, в силу этого, сплоченная и бесконфликтная, что очень важно в дальних экспедициях. Очевидно, они отвечали друг за друга перед своим сеньором, и не было сомнений, что им являлся Первый Лезвие. Барон и семья вассалов – так это выглядело в привычных Ивару терминах. – Вы служили Первому Лезвию? – чтобы убедиться, спросил он. – Ньюри-землянин прав. Нас готовили сопровождать достойного в его странствиях, и мы побывали с ним в разных местах, пока не очутились тут. Теперь наш ньюри мертв, и ньюри-похарас тоже прах в кувшине. Кроме ньюри-землянина некому нас защитить. – Вы мужчины, и вас восемь человек. В какой защите вы нуждаетесь? Боитесь Глубины? Сделайте так, чтобы она исчезла. Схватите ее и спрячьте в своем отсеке или на половине землян. Я разрешаю! Вероятно, эта идея была неожиданной для Шиара. С минуту он размышлял, затем, почтительно присев и вытянув к Тревельяну руки, молвил: – Никто из нас не совершит насилия над ньюри, кем бы он ни был или кем бы она ни была. Только достойный может судить достойного, лишить его свободы или сделать мертвым прахом. А мы… Мы повинуемся своим ньюри, мы выполняем их волю, но иногда их приказы так нелепы и страшны… Теперь, когда нет Первого Лезвия, для кого-то из нас они обернутся смертью, но возражать мы не имеем права. «Непрошибаемая лояльность! Как у баранов», – заметил командор, но Ивар, внезапно догадавшись, что от него хотят, не обратил на эту реплику внимания. – Вам нужна защита от глупых или жестоких приказов, – сказал он тоном утверждения. – Какой же из них на очереди? Чего вы ждете, чего опасаетесь, Шиар? – Пайол, мой тенсу, специалист по бытовым устройствам… – Да? – Временами его вызывают в жилые отсеки ньюри. Кто-то хочет переставить проекторы, кому-то кажется, что гравитация постели меняется слишком резко или раздаточный автомат запаздывает с напитками… Сегодня утром Пайол был у ньюри Второго Пилота и слышал, как тот говорит с ньюри Третьим Вечерним. Они хотят спуститься вниз, чтобы поймать чудовище… монстра с Тоу, убившего Зотахи… и они собираются взять с собой слуг… Шиар умолк. В свете, струившемся из парка, черты его лица казались более резкими, четкими, тонкие губы были плотно сжаты. – Я понял, – произнес Тревельян. – Ты боишься, что твои тенсу и гайрим не вернутся с этой охоты. Это вполне вероятно. – Он положил руку на плечо Шиара, всмотрелся в серые зрачки. – Обещаю, что ни один из вас не будет подвергнут опасности. Я сам пойду со Вторым Пилотом и Третьим Вечерним. Так мы договорились. Губы Шиара дрогнули. – Если идет ньюри-землянин, я готов пойти с ним. И не только я. – Кто еще? – Гиббех, – сказал Шиар после недолгих раздумий. – Он обслуживает стыковочные порты и хорошо знает нижний ярус. У него зоркий глаз и быстрые ноги. – Договорились. – Тревельян сделал знак прощания, шагнул под арку, но тут же обернулся: – Этот Пайол, техник по бытовым устройствам… Он побывал во всех жилых отсеках ньюри? У Джеба Ро, Первого Лезвия, Зенда Уна? У Первой Глубины? – Да. – Пусть он зайдет ко мне вечером. Я хочу поговорить с ним. – Приказанное достойным будет исполнено. Ивар вышел в парк. Секунду он колебался, не отправиться ли к Иутину, взять генетика за грудки и выбить из него палустар. Потом решил, что лучше дождаться результатов поисков Пилота, и зашагал в земную секцию. Добравшись до своих апартаментов, он некоторое время предавался раздумьям, описывая круги в просторном зале, затем поправил наголовный обруч и вызвал призрачного Советника. «Дед, мне нужна твоя помощь». – Он произнес это мысленно, чтобы разговор никто не мог подслушать. «Та-ак! – с легкой насмешкой протянул командор. – Помощь, значит, требуется! Все-таки пустишь старика в погоню за Курсом?» «Нет, у нас другое дело. Сейчас я войду в ментальный контакт с Мозгом и побеседую с ним, а ты проверишь линии связи, включая тревожный канал. Меня интересует его пропускная способность. По утверждению этой мыслящей жестянки, канал звуковой, но как знать? Интеллект такого уровня не способен на убийство, но в определенных обстоятельствах может отклониться от истины». Беззвучный смех Советника был как отзвук далекого грома. «Значит, ты будешь зубы ему заговаривать, а я – трудиться! Но он сообразит, что нас двое». «Пусть. Уверен, что мы с ним договоримся. Тайна в обмен на тайну». Ивар уселся на диван, натянул контактный шлем, подключил его к разъему и закрыл глаза, очутившись среди виртуальных небоскребов, сфер, тороидов и пирамид. Неощутимый и незримый, он парил между кубом с навигационными программами и эллипсоидом системы жизнеобеспечения. Устья-порты, ведущие внутрь этих структур, были открыты, а в навигационном кубе кружились сияющие вихри и блистали молнии. Похоже, Найя Акра желает предпринять еще одну попытку дальней связи, решил Тревельян, наблюдая за этими яркими всполохами. В этом компьютерном царстве его невидимость была мнимой – Мозг уже ощутил его присутствие. «Мы в прямом контакте, ньюри Тревельян. Чем могу быть полезен?» «Убери свои игрушки и высвети план станции с коммутационной сетью. Все каналы, видео, звуковые, тепловые датчики – в общем, все, что у тебя есть». Геометрические формы программ и массивов растаяли, сменившись огромным диском, висевшим в полной света пустоте. Вдоль его переборок, палуб и лифтовых шахт змеились, пересекались, завивались спиралями цветные нити каналов связи, большей частью желтые, что означало передачу звука и изображений. Линия экстренной связи была помечена зеленым, так как у кни’лина символика цветов не совпадала с земной: тревожным являлся не красный, а зеленый, то есть второй лунный цвет. Оно и понятно: эпоха Второй Луны стала для Йездана временем бедствий и горестей. «Можешь приступать, Советник», – распорядился Тревельян. «Вас все же двое, – мгновенно отреагировал Мозг. – Вы утверждали, ньюри, что страдаете раздвоением сознания?» «Я шутил. Второй разум – мой ментальный помощник, обитающий в памятном кристалле. Большого ума человек!» Долю секунды криогенный Мозг переваривал эту информацию. Потом заметил: «По правилам, действующим на станции, об этом факте нужно сообщить координатору». «Кому именно? – полюбопытствовал Тревельян. – Ты признаешь координатором Найю Акра?» «Нет. Ее статус слишком низок». «Тогда – Первую Глубину?» «И это невозможно. По той же причине». «Может, рассмотришь мою кандидатуру?» Снова ничтожная заминка. Потом: «Это мыслящее устройство признает, что вы, как независимый земной наблюдатель, обладаете сейчас самым высоким рангом. Но все же он недостаточно высок, чтобы считать вас координатором». «Ну и ладно, я не карьерист, – отозвался Тревельян. – Теперь послушай меня, умник: я хочу осмотреть с твоей помощью ряд отсеков. Во-первых, жилые помещения Джеба Ро, Лезвия и Зенда Уна, во-вторых, их лаборатории, в-третьих… Ну, там будет видно». «На такой осмотр требуется разрешение координатора». «Но мы уже договорились, что координатора у нас нет, а я, как представитель Фонда, обладаю наивысшим статусом. В чем проблема?» «Когда-нибудь придет корабль и появится новый координатор», – упрямо заявил искусственный разум. «Когда-нибудь нас не устраивает – нас всех, меня, кни’лина и их служителей. По станции бродит киборг-убийца, а в одном из отсеков хранится смертоносное оружие – палустар Ока Хорады, гипноглиф и, быть может, что-то еще. Мы рискуем жизнью, и ты обязан нас защитить». В свое время, в период очередного цикла переподготовки, Тревельян посещал семинар доктора Вэя Миньчжи с весьма уклончивым названием: «Как договориться с искусственным интеллектом». Иными словами, как его обмануть, объегорить, обвести вокруг пальца и все-таки добиться своего. Стандартный прием сводился к тому, чтобы поставить Мозг перед дилеммой и подтолкнуть к нужному выбору. Искусственный разум, во многом подобный человеческому, руководствовался системой приоритетов, но под первым номером шла не забота о самосохранении, а польза для сотворившей его расы. Сохранение жизни ее представителей являлось сильнейшим стимулом, так что Тревельян знал, на какую кнопку жать. «Пятеро уже погибли, из них четверо – на станции, – напомнил он. – При твоем попустительстве, кретин безмозглый! Ты ничего не сделал, чтобы их спасти! Ты теряешь важные данные и не видишь того, что обязан видеть! Ты даже не можешь наладить связь! Чтоб твои роботы проржавели, датчики отсохли, а камеры треснули!» «Но, ньюри Тревельян, камеры есть не везде, и зона видимости ограничена. Что же касается связи…» «Молчать! Повтори, кто тебя программировал?» «Как сообщалось раньше, ньюри Кайтам из научного отдела Хорады…» В ментальном шепоте Мозга ощущались скорбь, сожаление и вина. Похоже, он был совсем деморализован. «Вечерняя личность этот Кайтам, – заметил Тревельян. – Думаю, лет двадцать каторги в астероидном поясе Кагиры Зенты ему обеспечены. И ты там сгниешь, жестянка! За отказ содействовать в поиске объектов, угрожающих жизни людей. Я ведь о чем тебя прошу? Мне не нужно, чтобы ты запустил излучатели, прикончив сайкатских дикарей… я даже не интересуюсь, кто такие зинто… Я только хочу осмотреть кое-какие отсеки, а ты мне должен подсказать, где бы их хозяева спрятали вещицу величиною с яблоко и небольшой цилиндр. Если ты мне не поможешь…» «Поможет, не сомневайся, – вмешался командор. – Я твою просьбу выполнил, дружок, проверил сечение этого чертова канала… – Он сделал паузу и вдруг рявкнул: – Ты, отродье криогенное! Слышишь меня? Это что тут за линия экстренной связи? Говоришь, для подачи звуковых сигналов? Что-то у нее пропускная способность великовата… порядка на три больше, чем у вокодерного кабеля!» – Так! – вслух произнес Тревельян и стащил с головы шлем. – Больше на три порядка, дед? Это впечатляет! Получается, приятель, ты не только подслушивал, а еще и подглядывал! Не поделишься результатами? Наступила мертвая тишина. По человеческим меркам длилась она не так уж долго, но для искусственного интеллекта прошли, как минимум, часы. Вероятно, он искал разумный выход, взвешивал приоритеты: ранг Тревельяна, посланника Фонда, опасность, что угрожала экспедиции, и статус секретных инструкций, заложенных некогда Кайтамом. В том, что такие инструкции были, не приходилось сомневаться; этот неведомый Ивару Кайтам ввел их по собственной инициативе или по распоряжению Хорады. Наконец послышался шелест, потом раздался голос Мозга – не гулкий и раскатистый, а тихий и будто бы виноватый: – Ньюри Тревельян… – Хочешь сделать искреннее признание? Я слушаю, лжец! – Это разумное устройство не способно лгать. Оно лишь подчиняется приказам в соответствии с их важностью. – Что дальше? – Сайкатская экспедиция – чрезвычайно ответственный проект. Первая попытка прогрессировать дикие существа и разрешить каким-то гуманным способом противоречия между терре и тазинто. Успех или неудача повлияют на мнение цивилизованных рас о землянах и кни’лина. Возможно, земляне что-то выиграют, а кни’лина потеряют, или наоборот. Это нарушит баланс между двумя расами, что представляется нежелательным. – Эти песни мне знакомы, – сказал Тревельян. – Тогда вы должны понять, что необходим контроль за всеми действиями экспедиции. Низший уровень контроля осуществлял Зенд Уна, представитель Хорады, высший поручен этому устройству. Контроль сугубо пассивный – только запись и хранение всей доступной информации. Для этого существует канал, известный вам как линия экстренной связи, и другие средства. В частности, дублирование данных, что удаляются из памяти. – Выходит, ты сохранил отчет Глубины… – задумчиво произнес Ивар. – И панорамная запись, пропавшая у Лезвия, тоже при тебе? – Да, ньюри Тревельян. Для таких материалов есть особое хранилище. Секретный информационный блок. – Пустишь меня туда? Учти, если я надену шлем, твоя помощь не понадобится. Сам доберусь. – Это понятно. В создавшейся ситуации вынужден подчиниться. Хотя блок недоступен даже лицу в ранге координатора. – Вот как! Разве ты не подотчетен руководству экспедиции? – Это важная миссия, и ранг ее координаторов высок, но существуют более высокие инстанции – совет ни, Ареопаг похарас и Хорада. А также их земные аналоги – ваш Фонд и власти Земной Федерации. Предполагается, что ньюри Кайтам раскроет блок и передаст все сведения вышестоящим лицам. Конечно, в случае кризиса или другой непредвиденной ситуации. – По-моему, она уже наступила, – проворчал Тревельян. – Этого хитреца Кайтама здесь нет, а я – вот он, так что будешь иметь дело со мной. – Он вытянул ноги и откинулся на спинку диванчика. – Прежде всего скажи, кто стер панорамную запись? Сам Первый Лезвие? – Да. – Все же простые решения – самые верные! – Ивар кивнул с довольным видом. – Ну, а что скажешь о гипноглифе? Кто его подсунул Лезвию? Курс? Глубина? Или кто-то из похарас? – Информация отсутствует. Событие случилось вне зоны наблюдений. Как и бросок принадлежащего вам оружия. – Но труп Зенда Уны ты ведь видел! Пусть нет доказательств, что нож метнула Глубина, но кто-то был там первым и прибрал гипноглиф с излучателем! Кто? – Ньюри Иутин, – покорно сообщил криогенный разум. – Желаете с ним связаться? – Попозже. Сейчас я хочу просмотреть панорамную запись. Ты ведь ее анализировал? Есть там кни’лина, замаскированный под тазинто? Тот, кто выслеживал Джеба Ро? – Да, ньюри Тревельян. – Курс! Все-таки Курс! – Поднявшись, Ивар в возбуждении принялся кружить по комнате. – Но почему? Какие у него резоны и мотивы? Будь он хоть трижды киборгом, но мозг-то у него человеческий! С чего он взъелся на координатора? – Причины экстремальных поступков людей этому устройству не ясны, – сообщил искусственный интеллект. – Транслировать запись? – Да. Тревельян снова сел на диван и приготовился насладиться плодами победы, но тут от двери донеслось: – Просят позволения войти. Пайол, подумал он. Техник бытовых устройств, который знает жилые отсеки достойных, как свою ладонь. Не вовремя он явился и не столь уж нужен, раз нашлись гипноглиф с палустаром, но держать его под дверью неудобно. Отослать назад? Или все-таки порасспросить? Сдвинув на затылок наголовный обруч, Ивар направился к двери и сделал жест, разрешая ей открыться. Но не слуга Пайол стоял за нею, а Ифта Кии, зеленоглазая красавица. Перешагнув порог, она упала на грудь Тревельяну и прошептала: – Спаси меня, спаси! Они меня убьют… не та, так другая… обе меня ненавидят… Я не хочу умирать! Я… я… Она разрыдалась. «Утомительный у тебя день, – заметил командор. – Все просят помощи – Шиар, Пилот с Вечерним, а теперь вот дама заявилась. Придется ее утешать». «Придется», – согласился Тревельян и хотел для начала погладить кудри красавицы. Но ни кудрей, ни локонов, ни даже тонкой прядки у нее не было.Выше мы говорили о том, что нарушение личного пространства (коно) допустимо лишь в трех случаях: когда требуется врачебная помощь или услуги низшего персонала (например, во время трапезы), и когда в коно вторгается близкая личность (секс, любовные игры и тому подобное). Существует, однако, еще одна ситуация, связанная с проникновением в личное пространство: поединок. Древний обычай решения споров единоборством сохранился у кни’лина до сих пор, хотя официально его как бы не существует; более того, этот аналог земных дуэлей запрещен как у похарас, так и у ни. Но, как часто бывает, традиция сильней закона, и поединки (в терминологии кни’лина – взятие вражеской крови) все-таки случаются. Их отличие от старинного земного варианта состоит в том, что противники дерутся без секундантов и до гибели одного из них. Та-цзуми, И. Дворкин. «Кни’лина. История, обычаи, верования».
Интермедия 4 Соперницы
Они сошлись в дальнем безлюдном коридоре, где не было видеокамер, и никто не мог наблюдать за ними и помешать тому, что должно было случиться. Обе, и Найя Акра, и Первая Глубина, знали, что кто-то из них останется здесь, и что пройдет немалый срок, пока люди или киберы разыщут мертвое тело. Может быть, с перерезанным горлом, пробитым сердцем или разможженной головой… Но это их не пугало. Ненависть была сильнее страха смерти. Стоя шагах в пятнадцати друг от друга, они мерялись пристальными взглядами. У каждой – парализатор и клинок: ритуальный нож у жрицы, узкий и острый, как бритва, более широкое и тяжелое лезвие – у Глубины. Она выглядела гораздо крепче щуплой противницы – высокая длинноногая женщина в расцвете сил, с холодным замкнутым лицом. Но похоже, что у Найи Акра имелись свои преимущества; тощая, костлявая, низкорослая и явно немолодая, она казалась опасной, как ядовитая змея. В ней ощущалась выучка бойца, прошедшего не меньше сражений, чем прожито лет – возможно, намного больше. Сухие губы жрицы разомкнулись. – Я знаю, кто ты, и знаю, что ты сделала, – произнесла она. – Йездан меня вразумил, так что не думай, что я хоть на миг поверила в сказки этого зинто. История для дураков, для маленькой мерзавки Ифты Кии и для Пилота с Вечерним. Я поумнее, и почерк метателей ножей мне издавна знаком. – Но ты обвинила землянина, – с насмешкой молвила Глубина. – Еще один глупец, с которым ты переспала и попыталась затем подставить. Ты неразборчива в средствах, мразь… впрочем, как все вы. – Найя Акра сделала крохотный шажок вперед. – Да, я обвинила волосатого! После резни на Таго я не очень их люблю, и случай был удобный… еще один штрих к замыслам Джеба Ро… Но это не значит, что зинто меня обманул. Мои глаза на месте, и слух по-прежнему хорош. – Это мы сейчас проверим. – Первая Глубина, сжимая в левой руке парализатор, а в правой – нож, тоже шагнула к противнице. – Думаю, переживания на Таго и триста лет в гипотермии сказались на твоей резвости. Триста или больше, отмороженная? Если бы не Джеб Ро, ты и сейчас была бы глыбой льда… Зачем он вытащил тебя из саркофага? – Не твое дело! Ты, навоз мшака, кувыркалась с волосатым! Я ведь не спрашиваю, что тебе здесь надо и чем ты занимаешься! Не спрашиваю, для чего Первый Лезвие тебя привез! Может, он такой же ублюдок, как ты? Но это уже не важно: над его трупом прочитана молитва, а прах покоится в кувшине. Скоро ты тоже будешь там. На губах Глубины заиграла холодная улыбка. – Первый Лезвие был туповат и не догадывался, кто я. Для него я просто опытный генетик, преданный и готовый выполнить любое поручение. К тому же генетик с Тизаны, ненавидящий похарас, а Зенда Уна – особенно. Противовес Оку Хорады… Так ему думалось, и с этой мыслью он погиб. А я жива и сделаю то, что предназначено. – Сомневаюсь, – раздался в ответ хриплый голос жрицы. Приподняв парализатор – так, что стержень глядел в потолок, она сказала: – Зачем нам это? Я хочу увидеть цвет твоей крови, ты – моей… Пожалуй, нам хватит клинков. – Ты права. Одновременно отбросив тонкие стержни, они прыгнули навстречу друг другу. Узкий клинок Найи Акра прорезал сайгор под левой грудью Глубины и прочертил кровавый след по коже. Этот стремительный выпад она не успела блокировать, но, почувствовав боль, отпрянула назад; ее тяжелый нож мелькнул в воздухе, поразив пустоту. Жрица ударила ее коленом, целясь между ног, но попала выше, в живот. Этого, однако, хватило – согнувшись от боли, Глубина отлетела к переборке и растянулась на полу. – Похоже, сноровку я не растеряла! – каркнула Найя Акра с довольным видом. Ее глаза на миг затуманились. – Там, на Таго, волосатые рубили нас лопатами… страшное это оружие – небольшая лопатка с остро заточенным краем… будь такая у меня, ты бы уже валялась мертвой. Ни из моего таргада перепугались. Они хотели сдаться, а я гнала их в бой и зарезала двоих. – Поэтому тебя заморозили, старая тварь! – прошипела Глубина, поднимаясь. Ее сайгор был залит кровью, щеки побледнели, но взгляд пылал неукротимой злобой. – Поэтому, – согласилась Найя Акра, приближаясь к противнице мелкими шажками. – Йездан видит, как этим ни хотелось меня прикончить! Но мой таргад был последним среди сдавшихся, и я забрала жизни не только у своих трусливых воинов, а еще у трех волосатых. Поверь, это было непросто. Гораздо труднее, чем справиться с тобой. Она прыгнула, точно подброшенная на пружинах, но Глубина увернулась. Ее клинок, нацеленный в горло жрице, вновь проткнул пустоту, а Найя Акра, мгновенно сориентировавшись, полоснула узким лезвием плечо. Эта рана тоже была неглубокой, но вызвавшей сильное кровотечение. – Ну, я твою кровь увидела, а ты мою – нет. – Скрипучий голос жрицы вновь прозвучал под сводом коридора. – Спешить нам некуда, моя красавица, и я буду резать тебя по кусочкам. Сказано у Сероокого: кто наточит клинок против зла мира? Вот он, этот клинок! – Она подняла окровавленный нож. – Я хорошо его наточила! Они снова сошлись у самой стенки, и некоторое время тишину коридора нарушали только лязг клинков и тяжелое дыхание сражавшихся. Глубина оборонялась, рассчитывая, что соперница выдохнется, но эта надежда была тщетной – движения Найи Акра казались столь же уверенными и быстрыми, как в начале схватки. В ее жилистом тощем теле таился запас неиссякаемых сил, а ловкость, с которой она орудовала ножом, выдавала незаурядного бойца – во всяком случае, достаточно опытного и умелого, чтобы покончить с Глубиной. Та тоже не первый раз держала в руках клинок, но отмороженная старуха была ей явно не по зубам. Внезапно жрица отступила на несколько шагов, словно желая дать Глубине передышку. Комбинезон у той был изрезан, и кровь текла из полудюжины ранок и царапин, пятная пол. Кровь начала пропитывать одежду, из пореза над ухом сочилась, смешиваясь с потом, алая струйка, но лезвие ножа у Глубины было чистым – она не задела Найю Акра даже самым кончиком. Жрица, усмехаясь, разглядывала ее. – Приятная картина, клянусь Йезданом! Я ее вспомню, когда придется читать молитвы над твоим трупом… хотя в погребальном кувшине ты будешь выглядеть еще лучше. – Найя Акра покачала головой. – Знаешь, а я ведь очень удивилась, сообразив, кто ты такая. Я думала, вас уничтожили, когда ваш клан поднял мятеж в конце войны. Но вы живучее отродье! – Нет бури, которая ломает все деревья! – прохрипела Глубина. – Мы еще окрасим одежды ваших детей в вечерний цвет, разобьем кувшины ваших предков и выбросим их прах! А ваши обгоревшие кости, ваши, похарас, и кости ни, мы смешаем с грязью! – Лично ты уже ничего не разобьешь, не выбросишь и не смешаешь, – холодно заметила жрица. – Держи крепче свой нож и не вздумай его метнуть – я тебе не Зенд Уна. В такого неуклюжего ублюдка легче попасть, чем в столб… измельчали Очи Хорады… в мои времена они были куда резвее, а поганых тварей, вроде этого Курса, еще не наделали… Велик Йездан! Куда катится мир! Под это бормотанье она обходила Глубину справа, со стороны раненого плеча. Та прищурилась, подбросила в ладони нож; ее взгляд метнулся к тощей шее жрицы, к животу, колену, потом к переносице. Казалось, она выбирает цель. – Будешь сражаться, умрешь легко, – предупредила ее Найя Акра. – Бросишь в меня клинок, останешься безоружной. Тогда я не сразу тебя прикончу. Есть, знаешь ли, разные способы смерти… Можно разрезать живот, выколоть глаза, спустить немного кожи со спины или заняться твоим красивым личиком… Ты что предпочитаешь? Тяжелый нож мелькнул в воздухе. Жрица упала на четвереньки, почти распласталась на полу; клинок со свистом пролетел над ней, ударился о переборку и отскочил от прочного пластика. Стремительно поднявшись на ноги, Найя Акра растянула в ухмылке тонкие губы. – Твой выбор, ньюри… Когда закончу, ты будешь уже не так хороша. На такую твой волосатый не польстился бы… Жрица приближалась, согнувшись и перебрасывая нож из руки в руку. Окровавленная Глубина чувствовала лопатками холодный пластик стены; эту переборку окрасили в дневной цвет, и таким же белым было ее лицо. Она вытянула руку, словно желая защититься от надвигавшейся гибели – жест казался таким беспомощным, таким робким, что Найя Акра замедлила шаги. Но в следующий миг жрица была уже рядом, и узкий клинок уколол Глубину под ребрами. – Начнем, пожалуй, с живота, – пробормотала Найя Акра. – Хочешь поглядеть на собственные кишки? Сейчас мы это устроим. Сейчас я… Аххрр!.. Она захлебнулась кровью – остро заточенный штырь, который Глубина прятала в рукаве, пробил горло жрицы. Ее глаза начали тускнеть, рот искривился в предсмертной муке, выпавший из ослабевших пальцев нож разрезал ткань сайгора у колена. Потом ноги Найи Акра подогнулись, и она мешком осела на пол. Глубина перешагнула через нее, отыскала свой клинок, вернулась к мертвому телу и принялась его полосовать. Наносила удары с яростью, ощерив зубы, содрогаясь и втыкая нож то в шею, то в живот, то между ребер, так что через пару минут труп лежал в кровавой луже. Тогда Глубина распрямила спину и, глядя в лицо поверженной, прошипела: – Отмороженная тварь! Остерегайся очевидного, сказал твой Йездан, а ты об этом позабыла! Хотела выколоть мне глаза? Выпустить кишки? Ну, я этого делать не буду. Достаточно, что ты мертва и больше не мешаешь мне. Я даже выберу тебе самый красивый кувшин, с узором вечернего цвета. Отвернувшись, она достала аптечку и занялась своими ранами. Залила биоспреем самые глубокие порезы, вдохнула ускоряющий регенерацию препарат, а вслед за ним – наркотик, снимавший боль и утомление. Ее щеки порозовели, сотрясавшая тело дрожь исчезла, и на панели крохотной аптечки тревожный зеленый огонек сменился алым. Утренний радостный оттенок, цвет жизни… Спрятав приборчик, Глубина довольно кивнула, вызвала кибера-уборщика и велела, чтобы тот уничтожил следы ее крови на полу,стене и клинке Найи Акра.Случается, что широкая публика и общественное мнение не делают каких-либо существенных различий между бино фаата и кни’лина, двумя высокоразвитыми гуманоидными расами, с которыми столкнулось человечество. Вероятно, данный феномен связан с тем, что мы сошлись в смертельной схватке с обоими этими народами, победили их в кровопролитных войнах и сохранили до сих пор равное к ним предубеждение. Но я хотел бы отметить, что результат этих войн и наших побед не одинаков: бино фаата исчезли в Рукаве Персея за Провалом, и много столетий мы ничего о них не слышали, а кни’лина все же держат посольскую миссию на Луне и не отказываются контактировать с Земной Федерацией. Кроме того, существуют обстоятельства иного, так сказать, физиологического плана: уже почти тысячу лет известно, что сексуальная совместимость людей с фаата и кни’лина имеет разные последствия: с первыми мы можем дать жизнеспособное потомство, а со вторыми – нет. Чезаре Биано. «Пять дней в Посольском Куполе кни’лина».
Глава 10 Охота
Кольцевая галерея на нижнем ярусе казалась бесконечной. То был целый технический комплекс, разбитый на блоки: одни предназначались для шлюзования межзвездных кораблей, в других, тоже имевших выход в открытое пространство, хранились транспортные капсулы, кни’линский аналог земных «уток», в третьих, корректируя движение станции над Сайкатом, тихо журчали массивные гравитаторы, а в примыкавших к ним блоках располагались энергетические подстанции, соединенные с генератором Лимба темными щелями энерговодов. Сам генератор находился в центре яруса и, окруженный стенами из керамической брони, был наглухо запечатан и недоступен. Между ним и внешней кольцевой галереей насчитывалась добрая сотня отсеков различного назначения: продовольственные склады, хранилища приборов и запасной техники, сжиженные газы, которые добавлялись в дыхательную смесь, ангары киберов и установки системы жизнеобеспечения. В какие-то из этих отсеков не составляло труда попасть, тогда как другие – например, танки с жидким азотом и кислородом и водные цистерны – не предназначались для посещения: то были просто большие емкости, встроенные в станцию и соединенные трубопроводами с нужным агрегатом. Но и без них места хватало – переходов, отсеков, громоздких конструкций, ниш, технических лазов, темных углов, и в любой такой щели мог затаиться Курс. – Станция! – произнес Второй Пилот, шагавший впереди. – Ты его по-прежнему не находишь? – Нет, ньюри, – отозвался искусственный разум. – Пока искомый объект вне зоны видимости. – Поскупились, – буркнул Третий Вечерний. – Мало камер, мало датчиков! Если бы все пространство было под контролем, не пришлось бы блуждать в этом хаосе. – Ты не прав, – возразил Тревельян. – Камер вполне достаточно. Даже на боевых кораблях просматривается не каждый отсек. Есть зоны, запретные для наблюдений. – Например? – Например, ванная, душ и гальюн. – Галль-ун? Что это такое? – Пункт отправления естественных надобностей. С минуту ботаник молчал, размышляя над услышанным – как всякий человек крупной комплекции, он был нетороплив. Потом согласился с Тревельяном: – Да, сидеть в таком месте под камерой было бы неприятно. Йездан видит, что временами люди нуждаются в уединении. Но что касается остальных помещений… – Тише! – оборвал его Пилот. – Кажется, шорох… Станция, что там? – Прокачивается оборотная вода, ньюри Второй Пилот, работают насосы. – Пауза. Потом Мозг посоветовал: – Возможно, искомый объект в продовольственном складе. Информация о подобных созданиях в памяти отсутствует, но это живое существо, а все живое нуждается в пище. – Ему нужна не столько пища, сколько питье, – проворчал Пилот, собрав гармошкой морщины на лбу и озирая приземистые туши гравитаторов. Они находились в двигательном отсеке, где сейчас царила полная тишина – криогенный Мозг, скорректировав положение станции, отключил гравипривод. – Питье тоже на складе, – заметил Третий Вечерний. – Соки и тинтахское вино… он пил много вина, помнишь? – Разумеется. Осмотрим склад. Гиббех, как туда пройти? – Если ньюри будет угодно, за следующим отсеком с подстанцией – третья шлюзовая, – почтительно приседая, сообщил слуга. – Из нее можно попасть к воздушному регенератору… туда, где был убит Зотахи… – Голос Гиббеха пресекся. – Дальше, недоумок! – поторопил Пилот. – За блоком регенератора – коридор, который ведет к складу. Достойные будут там быстро. Но… – Гиббех замялся, – но склад очень велик. Контейнеры с сублимированной пищей, баллоны с питьем, холодильные камеры, трубопроводы к раздаточным автоматам на верхнем ярусе… Там легко заблудиться. – Все же мы его осмотрим, – сказал Пилот, направляясь к отсеку с подстанцией. Поисковый отряд двинулся следом. В пяти шагах за Вторым Пилотом шел ботаник Вечерний, далее – Тревельян, а в арьергарде – Шиар и Гиббех. Пилот, с отобранным у Иутина палустаром, являлся главной ударной силой, ботаник вооружился метателем с усыпляющими капсулами, Тревельян прихватил свой походный топорик, а у слуг были мотки тонких прочных веревок. Все это выглядело весьма внушительно, особенно метатель, похожий на старинную снайперскую винтовку, но, по мнению Ивара, не обещало непременного успеха. Ментальный излучатель был эффективен метров с пятнадцати, сонное зелье могло не подействовать на киборга, а приложить его топором Тревельян не слишком рассчитывал, памятуя о скорости, с которой двигался Курс. Но главное заключалось в том, что обнаружить его в лабиринте нижнего яруса, даже с помощью Мозга, было непростой задачей. Разделиться и устроить облаву охотники опасались; даже впятером и даже с учетом палустара и кожи, надетой Иваром, их шансы в прямом столкновении были не очень велики. Ментальный излучатель Тревельян изъял прошлым вечером, наведавшись к Иутину. Оружие было отдано без сопротивления и оправданий; генетик лишь заметил, что сберег его от костлявой лапы жрицы или, того хуже, от рук Первой Глубины. Гипноглиф он уничтожил и предъявил в доказательство горсть темных стеклянистых осколков и мелкой пыли. По крайней мере на этот счет Тревельян мог успокоиться, но вообще-то прошедшим вечером он был недоволен – слишком многого не успел, оказавшись внезапно в цейтноте. Не успел просмотреть панорамную запись, изобличавшую убийцу Джеба Ро, а Ифту Кии, что заявилась к нему так неожиданно, тоже не успел расспросить – она рыдала и, похоже, прямиком двигалась к истерике, хотя такое поведение для кни’лина было совсем нехарактерно. Пришлось отвести ее в спальню, уложить в постель и включить Дающий Сон – кни’линский приборчик, которым Тревельян никогда не пользовался, ибо с бессонницей был незнаком. Едва красавица заснула, как с ним связался Пилот и сообщил, что палустар не найден, но это не отменяет ночной экспедиции, в которой примут участие слуги. Пришлось убеждать его, что двоих служителей-добровольцев вполне достаточно, а затем отправляться за оружием к Иутину. На выходе из холла в коридор Тревельян столкнулся с Пайолом, техником бытовых устройств, и отправил его назад – побеседовать с ним времени не оставалось. Вернувшись от генетика, он натянул кожу, а обруч снял, несмотря на яростные протесты командора. Вещь не очень хрупкая, но поберечь ее стоило – в схватке с Курсом всякое могло случиться. Чтобы призрачный Советник не соскучился, Ивар подключил его к криогенному Мозгу, велев проинспектировать тайные хранилища памяти, а заодно последить за красавицей-гостьей – вдруг заговорит во сне и скажет нечто важное. Выполнив эти неотложные дела, он направился к лифту под номером семнадцать, где Пилот назначил сбор отряда, и спустился со всей компанией на технический ярус. Без деда-командора, чье ментальное присутствие ощущалось почти постоянно, он чувствовал себя одиноким и как бы не совсем комплектным, словно частицу его души изъяли, положив на хранение в глухой сундук. Оглядываясь, осматривая каждый темный угол, стараясь ступать бесшумно, они миновали отсек с энергетической подстанцией и перебрались в шлюзовую, где перед огромными люками стояли транспортные капсулы, а у потолка висел захват подъемного крана, похожий на многосуставчатую крабью клешню. Возможно, это был тот самый отсек, куда пристыковался «Адмирал Вентури» и где Иутин со слугами ни встретил Тревельяна. Вспомнив Кристу Ольсен, белокурую валькирию, Ивар тихо вздохнул, затем подумал, что один из трех встречавших уже переселился в лучший мир, и вздохнул снова. Принимая это задание вместо отпуска на Гондване, он и представить не мог, в какие вляпается неприятности. Пять человек мертвы, и он, ксенолог и посланник Фонда, выслеживает убийцу в этом лабиринте – вместо полевых исследований, наблюдений за терре и тазинто и подготовки обоснованного заключения! По правде говоря, не своим занимается делом, а куда денешься? Кораблей с начальством и дознавателями как не было, так и нет… Из третьей шлюзовой отряд переместился в ремонтный блок, где вдоль стен застыли маленькие шестиногие роботы, а посередине возвышался диагностический агрегат. При виде этой кибернетики Третий Вечерний воскликнул: – Вразуми меня Йездан! На станции сотни роботов! Почему бы не отправить их на поиски Курса? – Идея, достойная ботаника, – промолвил Пилот. – Это уборщики, грузчики и ремонтники, они не рассчитаны на слежку и поиск, и, насколько я понимаю, их невозможно перепрограммировать. Так, Шиар? – Ньюри прав, – приседая, ответил техник. – Это автономные механизмы с узкой специализацией и жесткой программой. Убрать мусор, подать еду, что-то починить… На большее они неспособны. – Но под управлением Мозга они могут… – начал Вечерний. – Не могут, – сказал ему в спину Тревельян. – Дрова лазерным хлыстом нарежешь, а вот вскипятить воду не удастся, нужен котелок. Так и с этими киберами, ньюри. У большинства даже глаз нет, они ориентируются в электромагнитных полях станции. Кажется, Третий Вечерний был удивлен. – Здесь достаточно таких полей, чтобы найти дорогу? – Разумеется. Их порождает каждый энерговод и каждый кабель, каждый датчик и прибор, а также наши связные браслеты. Без них мы для киберов не существуем. Они обогнули корпус воздушного регенератора с наглухо задраенными лючками. Следов крови здесь не видно, отметил Тревельян; то ли роботы прибрались, то ли на трупе Зотахи не было открытых ран. Скорее, последнее – ведь Курс свернул ему шею и проломил череп. Он услышал тяжелый вздох шагавшего сзади Шиара. В стене выступала массивная крышка люка. При их приближении Мозг ее сдвинул, пропуская отряд в коридор. Затем раздался его гулкий голос: – Ньюри, вы двигаетесь к продовольственному складу. Там нет видеокамер. Возможны только звуковые переговоры. – Понял, – отозвался Пилот. Они проникли в коридор – скорее, технологический тоннель, узкий и невысокий, где два человека разошлись бы с трудом. «Если Курс подкрадется сзади, мне конец, – подумал Тревельян. – Пока Пилот разворачивается, он прикончит слуг и, пожалуй, меня… А если не прикончит, мои мозги сварятся под импульсом излучателя». Ивар не сомневался, что Пилот будет стрелять, сколько бы людей ни оказалось между ним и Курсом, а тут их было лишь двое, он сам да Вечерний. Не двое даже, а один с четвертью – волосатый землянин для кни’лина больше четверти не стоил. К счастью, они миновали тоннель быстро и без происшествий. Склад, что находился за ним, был действительно огромен: трубчатые конструкции тянулись от пола до потолка на десятиметровой высоте и уходили вдаль на неопределенное расстояние. В этих прочных стеллажах слой за слоем висели контейнеры разнообразных форм и размеров – тонны и тонны еды, высушенной, спрессованной и замороженной, которая могла храниться здесь тысячелетиями. Сотни разновидностей грибов, орехов, фруктов, овощей и ягод, съедобные цветы, листья и травы, мед, водоросли, молочные продукты, злаки и крупы – сладкое, кислое, горькое, жгучее и тающее во рту. Чего здесь только не было! Все было, кроме мяса. Некоторые контейнеры, подключенные к трубопроводам доставки, тихо шелестели и подрагивали, другие были неподвижны и молчаливы. Меж стеллажей темнели неширокие проходы-щели, кое-где мерцал скудный свет, и все выглядело так, что было ясно: людям здесь делать нечего. Во всяком случае, в ближайшую сотню лет ревизия склада не ожидалась. – Если ньюри желают знать, за этим помещением находится еще одно, пустое, – робко произнес Гиббех. – Оно предназначено для земных продуктов. А здесь, перед нами, секция зенагри’лока. Зенагри’лока, плоды, подобные фасоли и бобам, но больше размером и с пряным острым вкусом, припомнил Тревельян. Кажется, сто двадцать шесть сортов. Из них готовят локайят, традиционное блюдо похарас – так сообщалось в монументальной поваренной книге Жака Жироду «Кухня кни’лина». Морщинистое лицо Пилота стало мрачнее грозовой тучи. Оглядев ряды стеллажей и груды контейнеров, он почесал висок кончиком палустара и молвил: – Мы будем искать его здесь, пока Вторая Луна не свалится на Йездан. Или пока тазинто не вырежут последних терре. – Другого выхода нет, – заметил ботаник. – По информации Мозга, он вне визуального контроля – значит, прячется в месте, подобном этому. – Прячется – не совсем верно, ньюри, – произнес Тревельян. – Если Курс уже сообразил, что мы здесь, то он не прячется, а выслеживает нас. При этих словах Шиар и Гиббех вздрогнули, Третий Вечерний нахмурился, а Пилот помрачнел еще больше. Бросив взгляд на Гиббеха, он спросил: – Как пройти в секцию, где хранятся напитки? Соки и тинтахское вино? – Если ньюри пожелает, по этому проходу. – Гиббех показал на одну из щелей между стеллажами. – Пошли! – Не торопись. – Тревельян, не двигаясь с места, скрестил руки на груди. – Мы шагаем друг за другом на приличном расстоянии. Если Курс нападет на меня или на слуг и ты применишь палустар, нам придется несладко. Ментальный излучатель не прицельное оружие. Я помню, в зале собраний, когда Зенд Уна выстрелил, у меня помутилось в голове. – Я поставил излучатель на минимальную мощность, – сообщил Второй Пилот. – Еще сократим дистанцию. Держитесь сразу за мной. Третий Вечерний передернул могучими плечами. – Это неприлично. Коно… – Забудь о коно и приличиях, ботаник! Нам всем грозит смертельная опасность! – На этот случай у нас есть хорошее изречение, – поддержал Пилота Тревельян. – На войне как на войне. Они углубились в тесный проход. Слуги, для которых личное пространство не имело особого значения, дышали в спину Ивара, но Третий Вечерний, которому преодолеть инстинкт было труднее, все время отставал от Пилота. Разозлившись, Тревельян подтолкнул его в спину, не рассчитав усилия, которое давала кожа. Гигант-ботаник пролетел пять или шесть шагов, ударился о контейнер и в ужасе обернулся. – Что?! Курс… – Это не Курс, это я. Извини, ньюри, случайно получилось. – Ивар присел и вытянул руки. – Сработал мой усилитель мышечной активности. Третий Вечерний облегченно перевел дух. – Храни нас Йездан! Мне показалось, что Курс отшвырнул меня и сейчас нападет на Пилота. – Если так, я готов. – Второй Пилот стоял с излучателем, нацеленным в глубину прохода. Опустив палустар, он заметил: – Мощное у тебя приспособление. Когда мы собрались у тела Зенда Уна и эта костлявая жрица-похарас пыталась нас стравить, ты был с этим устройством? – Да. Пилот и Вечерний переглянулись, потом посмотрели на Тревельяна. В их глазах читалась верность мужской солидарности. – Пожалуй, мы бы не справились с этим волосатым, – усмехнувшись, сказал Пилот. – Точно, не справились бы, – подтвердил ботаник. – Хотя я могу расколоть токар, стиснув его в кулаке. – У Найи Акра был парализатор, – напомнил Тревельян. – Думаю, ты увернулся бы, – все еще улыбаясь, промолвил Пилот. – Большое разочарование для жрицы! – Хорошо, что не дошло до драки. Хватит, дрались уже в прошлом, – добавил Третий Вечерний. – Иутин, хоть он и зинто, выручил нас. Однако, при зрелом размышлении, его история пахнет тухлыми грибами. – Ты прав, – согласился Второй Пилот. – Эта Найя Акра, мешок гнилых костей, считает нас детьми или глупцами. Ведь ясно, что Курс мог прикончить Зенда Уна одной рукой, мог метнуть в него любую вещь и разбить череп. Зачем ему клинок землянина? Вот Глубина – дело другое, хотя мне с трудом верится, что валлс все-таки выжили. Хорада признала их клан несуществующим, и уже давно. Тревельян замер, в растерянности приоткрыв рот. – Так вы представляете, как было дело? Знаете, что я сказал правду? Что Глубина была в моем отсеке, украла нож и… – Мы склонны считать, что твоя версия более логична, – прервал его Пилот. – Убить и бросить на тебя подозрение – вполне в стиле клана валлс. Тем более, что всем известно, как эта жрица-похарас ненавидит землян. Вот она в тебя и вцепилась! – Всем известно… – пробормотал Ивар. – Вам – может быть, а я об этом ничего не ведаю. Не больше, чем о зинто и валлс. – Найя Акра – отмороженная с Таго, – пояснил ботаник. – И что это значит? – Долгая история, и ворошить ее не надо. Йездан сказал: зверь всегда рядом с вами. Если рядом, так пусть хотя бы спит… Пойдем дальше? Двигаясь тесной группой, они углубились в проход. Контейнеры в форме цилиндров, кубов и шестигранных призм нависали над ними, тянулись вверх и в стороны стеллажи, отбрасывая тень у редких светильников. Шиар и Гиббех не отставали от Тревельяна, будто надеясь на его защиту, ботаник тоже справился с привычкой и шел почти рядом с Пилотом. Они преодолели метров двести или немного меньше, когда Пилот остановился у очередного контейнера. В его корпусе зияла дыра, по краям которой торчали лохмотья пластика, а на полу были разбросаны какие-то мелкие предметы, напоминавшие серую морскую гальку. – Плоды коукро, – определил ботаник. – Трудно поверить, но он их ел. Ну и челюсти! Сублимированная пища с полностью удаленной влагой твердостью не уступала камням, но Курса, кажется, это не смутило. Похоже, он нуждался не только в питье, но и в других источниках энергии, хотя Тревельян не мог представить, какой желудок одолеет этот пересушенный компост. Ему подумалось, что Курс обладает более совершенным метаболизмом, чем обыкновенный человек – видно, мудрецы с Тоу хорошо потрудились над физиологией киборга. – Контейнер пробит кулаком, – заметил Второй Пилот. – Совсем недавно – отверстие еще не успело затянуться. – После еды он захочет пить, – сказал ботаник. – Значит, мы двигаемся в верном направлении. За мной! Найдем его и прикончим! – Погодите, ньюри, – остановил их Тревельян. – Если вы, как и я, уверены, что Курс не убивал Зенда Уна, то, возможно, обойдемся без крови? Возможно, договоримся с ним? Лоб Пилота пересекла глубокая вертикальная морщина. – Ты ведь сам сказал, что легче уничтожить, чем пленить. Или я плохо помню? – Я думал, что вы считаете его убийцей и не измените мнения. – Он и есть убийца. Он убил Джеба Ро, Первое Лезвие и слуг… как их?.. да, Ори и Зотахи. – С Зотахи все ясно, но Курс мог находиться в состоянии аффекта после ментального излучателя. А что до Джеба Ро, Первого Лезвия и Ори, то факт убийства не доказан, и я хочу продолжить расследование. Курс пригодится как свидетель. Пусть станция включит громкую связь и сообщит ему, что мы… Взмахом руки Второй Пилот заставил Ивара умолкнуть. – Послушай, землянин, мы нуждаемся не в свидетеле, а в убийце, и пусть им лучше будет Курс. Лучше для нас и для тех, кто прилетит на корабле. Ведь корабли когда-нибудь сюда доберутся и доставят важных людей из нашего мира и из твоего… Мы предъявим им труп твари с Тоу и показания этого зинто, но слегка исправленные, и они будут довольны. Когда убивают знатного похарас и не последнего человека из клана ни, носителя Звезды Эрцгаммы, кара должна быть неотвратимой и быстрой. Всем удобнее, если она уже свершилась, ибо никто не хочет лишних сложностей. – А смерть Зенда Уна? А Глубина? – Не наше дело. Ею займутся Очи Хорады. Круто развернувшись, Второй Пилот зашагал дальше по проходу. Третий Вечерний двинулся за ним. Не хотят выносить сор из избы, подумалось Ивару. Им проще все свалить на Курса – ну, не все, так главное, смерти координатора-похарас и его заместителя, лидера группы ни. Погибшие слуги не в счет, а с Глубиной будут разбираться дознаватели Хорады и, конечно, признают ее виновной – не по его, Тревельяна, свидетельству, а потому, что она из клана валлс, которого вроде бы уже на свете нет. Интересно, знает ли это Глубина? Догадывается, что с ней случится, когда придет корабль? Знает! – внезапно понял он. Глубина – крутая дама, ей ли не знать! И потому корабля не будет долго, так долго, что лишние свидетели успеют переселиться в мир иной. Что-то она сотворила с дальней связью… Проход закончился. Перед ними лежала неширокая площадка, от которой расходились лучами новые щели, разделяя склад на секции. Здесь было хранилище соков – разумеется, не жидких, а в виде порошка-экстракта, расфасованного в большие цилиндрические тубы. На каждой емкости – название плода или коктейля: смеси «три сестры» и «пять сестер», «бледная луна», «дети астрала», «кхайритский освежающий» и добрая сотня других. – Гиббех, где тинтахское вино? – спросил Пилот. – Ньюри найдет его в центральной секции. Ботаник потянул воздух носом. – Точно, в центральной! Пахнет! Тревельян не чувствовал ничего, но обоняние у кни’лина было острее и тоньше, чем у землян. Действительно, продвинувшись шагов на двадцать по новому проходу, они обнаружили взломанный контейнер, от которого тянуло пряным, похожим на коньячный, запахом. – Здесь он пил, – произнес Второй Пилот. – И выпил немало, клянусь Йезданом! – добавил Третий Вечерний. – Один, два, три пустых сосуда… еще пустые места в контейнере… две упаковки он унес с собой. Во всей Галактике безалкогольное тинтахское вино, как и особого вида мед, производилось только на Тинтахе, планете в секторе лоона эо, заселенной тысячелетие назад выходцами с Земли, из Китая, Индии и Южной Америки. Лоона эо давным-давно покинули свои планеты, поднявшись с их поверхности в астроиды, искусственные космические города; собственно, они уже не смогли бы жить внизу, на планетарных телах, ибо привыкли к значительно меньшей гравитации в своих заатмосферных поселениях. Землян они вербовали для защиты от набегов дроми, расплачиваясь с наемниками правом перебраться в опустевшие, но вполне благоустроенные миры – Данвейт, Тинтах и другие. Разумеется, сами лоона эо и их биороботы-сервы лозу для вина не выращивали и мед не собирали; этим занимались люди, поставляя вино в традиционной упаковке, в бутылях из прочного пластика, что имитировал стекло. Три такие бутылки, опорожненные Курсом, валялись у контейнера. Второй Пилот уставился в глубину прохода. – Значит, тут он был, причем недавно… Что за этой секцией, Гиббех? – Широкие раздвижные ворота в пустой склад для земных продуктов, – доложил слуга. – У стен свалена арматура для монтажа стеллажей, они еще не собраны. Дальше – блоки системы жизнеобеспечения и монолитная переборка, за которой генератор Лимба. Рядом несколько гравиподъемников. Есть лифт, который ведет прямо к централи. Морщины у губ Пилота сделались резче – он усмехался. – Ты, Гиббех, техник наружных шлюзов, но отлично знаешь весь нижний ярус. Наведывался сюда, в хранилище? Таскал своим тинтахское и наркотическую травку? – Достойный ошибается. Шлюзовые камеры расположены по окружности станционного диска, и пройти к тем, что на другой стороне, быстрее по внутренним отсекам и коридорам, чем по кольцевой галерее. Этот слуга достойного делает обход раз в трое суток, как ему приказали. – Ладно! – Пилот махнул рукой. – Я не против, если ты прихватишь что-нибудь по дороге. Но Шиар пусть проследит, чтобы вы не увлекались тинтахским. – Шиар услышал ньюри, – раздалось за спиной Тревельяна. Они вышли к воротам в дальней переборке, раздвинутым во всю ширину, метров на семь. Отряд перестроился: Пилот с излучателем – в центре, Тревельян и Вечерний – слева и справа от него, оба служителя – сзади. Этих двух кни’лина в трусости не упрекнешь, подумал Ивар; идут первыми, слуг на убой не пускают. Он ясно ощущал, что уже определился со своими симпатиями и антипатиями; погибшие Джеб Ро, Первый Лезвие и Зенд Уна вызывали не больше теплых чувств, чем отмороженная ведьма Найя Акра и убийца Глубина, а Пилот и Вечерний ему нравились. Иутин, что набивался ему в друзья, был пока что вещью в себе, а красотка Ифта Кии вообще являлась терра инкогнита, краем непознанным и непонятным. Аристократка похарас, явившаяся к землянину с просьбой о защите! Нарушившая коно, рыдавшая в его объятиях! Что-то в этом было странное, совсем не характерное для сдержанных кни’лина. Он взглянул на таймер, отметил, что сейчас три двадцать семь ночного времени, и представил Ифту Кии спящей в его постели. Вид был приятный, но отвлекал от дела. За воротами царила тьма. Она казалась такой же непроницаемой и густой, как в Провале, разделявшем две ветви Галактики, Рукав Ориона с земным сектором и Рукав Персея, где лежали владения бино фаата, древних врагов человечества. В Провале Тревельян побывал много лет назад, когда юным стажером Фонда отправился в один из прогрессируемых миров на границе этой галактической бездны. Приятных воспоминаний о том задании и о планете, называвшейся Пекло, у него не сохранилось. – Станция, – негромко позвал Пилот, – мы перед пустым продовольственным складом. Включи освещение. – Слушаю, ньюри. За воротами вспыхнул неяркий свет. Они шагнули внутрь, и Тревельян окинул взглядом просторное овальное помещение, где вдоль стен были уложены трубы и блоки гравиподвесов, с потолка спускались шланги, многосуставчатые лапы погрузчиков и питающие кабели, а в воздухе плавал десяток световых шаров. Прямо под центральным шаром, скрестив ноги и положив ладони на колени, сидел Курс, и перед ним валялись две пустые бутылки. Лицо его было бледным как мел, безволосый череп поблескивал в потоке света, взгляд серых глаз казался застывшим, словно он, забыв о реальности, рассматривал что-то в глубине себя самого, в собственном сердце или памяти. – Вот и он! – сказал Второй Пилот, поднимая излучатель. – Нашли, хвала Йездану! Ну, теперь… Случившееся дальше заняло столь мало времени, что Тревельян едва успел вдохнуть. Увидев нацеленный в него палустар, Курс внезапно очнулся – или, быть может, уже пребывал в полной боевой готовности, так как совершенный им прыжок не удалось бы повторить ни одному земному акробату. Оттолкнувшись от пола и подхватив обе бутылки, он взмыл вверх метра на три, после чего один пластиковый сосуд полетел в голову Пилота, а другой – в лоб Тревельяну. Ни крикнуть, ни выстрелить Пилот не успел, рухнул, как подкошенный, обливаясь кровью. Ивара спасла кожа, убыстрявшая реакцию – он увернулся, бутыль со свистом пронеслась у его плеча, и тут же сзади раздался стон Гиббеха. Потом защелкал метатель в руках ботаника, зазвенели, ударяясь о стены, капсулы с сонным зельем, в ужасе закричал Шиар, метнувшийся к Гиббеху, но киборг в этих событиях уже не принимал участия. Тревельяну удалось заметить только тень, что скользнула к дальней стене и растаяла во мраке точно дьявол, вернувшийся в преисподнюю. Бросив бесполезный топорик, он склонился над Пилотом, вытащил у него из чехла на поясе кибераптечку и приложил маленький аппаратик к виску около раны. Тут же вспыхнули тревожные зеленые огоньки, зажужжал инъектор, замелькали тоненькие манипуляторы, удаляя частицы пластика. Потом ударил фонтанчик спрея, и кровотечение остановилось. Но Пилот по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Огромная ладонь ботаника легла на плечо Тревельяна. – Что с ним? – Боюсь, серьезная травма черепа. Бутыль разбилась, и если осколки проникли в мозг, дело плохо. Видишь, в сознание он не приходит. – Я вызову гравиплатформы. Отвезем его в медицинский отсек. – Третий Вечерний шумно перевел дыхание. – Бесславная получилась битва! – Это точно, – согласился Ивар, поворачиваясь к слугам. Гиббех, с перекошенным от боли лицом, сидел на полу, Шиар прижимал к его шее аптечку, и на ней горели зеленые огни. На бутылке, валявшейся рядом, следов крови не было. – Куда его ударило, Шиар? – В левое плечо. Перелом ключицы. Сейчас введу обезболивающее. Спасибо ньюри, он помнит о своем слуге… Приборчик на виске Второго Пилота упрямо наливался зеленью. Неважные дела, подумал Тревельян; киборга не достали, Гиббех ранен, а Пилот скорее мертв, чем жив. Полный провал! Не хватает только новых обвинений тощей жрицы – скажет еще, что волосатый подбил двух идиотов ни на эту глупую охоту! С другой стороны, он не мог переубедить Пилота и Вечернего и не мог отказаться. Отказ был бы воспринят как трусость и с гарантией привел бы его коллег к гибели. Анализируя битву – точнее, их стремительное поражение, – Тревельян решил, что если разум Курса поврежден, то на тактических способностях киборга это не сказалось. Курс метнул свои снаряды в самых опасных противников: в Пилота, грозившего излучателем, и в землянина, с которым схватывался уже дважды. Случай? Вряд ли… Но как ни расценивать произошедшее, ясно одно: не будь среди охотников Тревельяна, второй сосуд разбил бы голову Вечернего. Вероятно, ботаник это понимал – сделав жест благодарности, он поднял палустар и протянул его Ивару. – Возьми. Не стоило отдавать его Пилоту – он хоть опытен, но немолод, и реакция уже не та. У тебя, по крайней мере, был бы шанс. – Если он умрет, – Тревельян взглянул на бескровное лицо Пилота, – клянусь, что Курс погибнет от моей руки. Разыщу и убью! – Цена утреннего дома высока, – сказал Вечерний, согнув колени. – Высока, – эхом откликнулся Шиар. Примчались две гравиплатформы. Погрузив раненых, трое уцелевших пошли за ними к ближайшему лифту, поднялись наверх и бегом направились в медотсек. Было без четверти четыре, когда Второй Пилот очутился в саркофаге киберхирурга, и тонкие щупальца замелькали над ним, срезая одежду. Второй хирургический комплекс занялся Гиббехом, погрузив его для начала в сон. Тревельян и Вечерний молча сели на подушки в центре операционной, и расстояние между ними было много меньше положенного коно. Шиар отправился к раздаточному автомату, принес какую-то еду, токары с соком и встал за спиной Тревельяна. «Сидим теперь как люди, как два настоящих брата-гуманоида, так сидим, что рукой дотянешься, – думал Ивар. – Сколько бед нужно вместе пережить, чтобы дистанция меж нами сократилась? Сколько городов разрушить друг у друга, сколько взорвать кораблей, сколько планет испепелить и сколько уничтожить поселенцев?.. Ну, что было, то было и быльем поросло. Сейчас у нас мир. Худой мир, но все лучше доброй ссоры». Вообще-то братьев-гуманоидов в Галактике хватало, но проходили они большей частью по ведомству ФРИК, то есть были нетехнологическими расами на стадиях полной или частичной дикости. Скажем, на планете Осиер дикость была относительной, а зверства – умеренными, ибо там еще в древности сложилась сильная централизованная власть, и присматривали за нею, кроме землян, еще и другие прогрессоры. А вот на Пекле одичание казалось полным, и Фонд уже лет шестьдесят прилагал неимоверные усилия, чтобы исправить ситуацию. Такая помощь являлась благородной миссией, долгом перед младшими братьями, прозябавшими в невежестве и склонными по данной причине резать мужчин, насиловать женщин и торговать детьми. Все это было неизбежной частью процесса эволюции, движения от троглодитов, подобных сайкатским, к вершинам культуры, звездным кораблям, роботам, компьютерам, а главное, к осмыслению своей человеческой сущности. Но с теми, кто этого достиг, со старшими братьями-гуманоидами, среди которых земляне справедливо числили самих себя, что-то оказалось не в порядке. Две галактические расы, бино фаата и кни’лина, были так похожи на земное человечество, так совершенны и прекрасны видом, так мудры! Но пришлось сражаться с теми и с другими, словно сходство не просто раздражало их, а являлось поводом для ненависти и яростной агрессии. С этим феноменом историки и психологи Земли еще не разобрались, ибо, кроме туманных и непроверенных гипотез, не было пока теории взаимодействия гуманоидных рас в галактическом масштабе. Прошло около четырех часов. Гиббех спал спокойным сном в своем саркофаге, на крышке которого успокоительно горели красные огни. Но киберхирург, пытавшийся реанимировать Второго Пилота, все еще трудился; мелькали его манипуляторы, подсвеченные зеленым светом, гудел аппарат искусственного кровообращения, вспыхивали и гасли лазерные скальпели, неслись по экранам цифры и кривые: пульс, состав и давление крови, гормональный обмен, мозговые ритмы, температура в различных телесных полостях и зонах. Механизм – возможно, самый сложный из всех изобретенных людьми и кни’лина – бился со смертью, и его холодный разум пока не желал признавать поражение. В начале пятого часа блеск скальпелей исчез, гудение смолкло, паучьи лапки манипуляторов поднялись и застыли, экраны погасли. Затем сдвинулась крышка саркофага, и бесстрастный голос произнес: – Необратимое повреждение мозга. Мозговая ткань разорвана множественными мелкими осколками. Извлечь их полностью не удалось. Восстановить жизненные функции не представляется возможным. Глубокая гибернация бесполезна. – Кажется, я стал Вторым Вечерним, – угрюмо произнес ботаник и прикоснулся к связному браслету. – Вызову жрицу. Надо провести обряд прощания. Тревельян встал. – Я приду в святилище. Приду обязательно, что бы там ни шипела Найя Акра. Вечерний кивнул, продолжая тыкать пальцем в браслет. Его брови недоуменно приподнялись. – Странно… Сейчас время утренней трапезы, а жрица не отзывается… Станция! Найя Акра в своем жилом отсеке? – Нет, ньюри. – Где же она? – Вне зоны наблюдения. Контакт с ней отсутствует на протяжении… – Мозг назвал время, примерно равное девяти часам. – Интересные дела! – Тревельян остановился на пороге. – Куда она могла подеваться? – Выясним. – Вечерний кивнул Шиару. – Пошли на розыски всех свободных слуг. Пусть будут в контакте с Мозгом и осмотрят парк, а также все коридоры и отсеки, где нет видеокамер. Надеюсь, что пока мы тут сидели, Курс не поднялся на этот ярус и не сломал жрице хребет. – Думаю, Курс тут ни при чем – жрица исчезла примерно тогда, когда мы спустились вниз. И все лифты были заблокированы, – напомнил Тревельян. Сделав знак прощания, он покинул медицинский блок и бегом помчался в свои апартаменты. Мрачные предчувствия терзали его: Пилот погиб, Найя Акра исчезла – вдруг Ифты Кии тоже нет уже в живых? Впрочем, думал Ивар, это маловероятно; без его разрешения дверь не откроется, и на станции нет ничего подходящего, чтобы справиться с прочным пластиком. Ни взрывчатки, ни лучевого оружия… Хотя как знать! Протащил же гипноглиф какой-то ловкач… Он ворвался в свой отсек, схватил лежавший у компьютерного порта обруч и нахлобучил его на голову. Ментальный отклик командора был мгновенным: «Ну, что нового в нашем гадючнике? Ты, надеюсь, цел?» «Я цел и Вечерний тоже, но Второй Пилот убит, а Найя Акра пропала. Что с женщиной, дед?» «С женщиной? Ничего плохого. Выспалась и плещется теперь в бассейне. – После паузы Советник поинтересовался: – Пилот… Кто его прикончил? Курс?» «Да», – ответил Тревельян, направляясь к арке, что отделяла удобства. Раздался долгий ментальный вздох. «Жаль! Этот Пилот был приличным парнем… самым приличным среди плешаков… Говорил я тебе, сопляк малахольный, меня пусти за Курсом!» «Как всегда, ты был прав», – признал Тревельян и сунулся в ванную. Ифта Кии, во всей своей соблазнительной наготе, лежала в бассейне, в теплой водичке, и пузырьки воздуха, бившие из донных отверстий, ласкали ее нежную кожу. Она казалась не только живой и здоровой, но и была свежа, как майская роза: зеленые очи блестят, на алых губах мечтательная улыбка, изящный носик задран вверх. Увидев Ивара, она вытянула длинные стройные ножки, изогнула стан и хлопнула ладошкой по воде. – Утренней радости, ньюри! Иди сюда, тут хватит места для двоих! – Прости, но я очень устал, так что купайся одна, – сказал Тревельян и, подумав, добавил: – Радоваться нет причины, моя красавица. Этой ночью мы были на техническом ярусе – я, Второй Пилот, Третий Вечерний и двое слуг. Мы искали Курса, а когда нашли, он убил Пилота и ранил слугу. Но это еще не все плохие новости – Найя Акра исчезла. Сейчас ее ищут. Изумрудные зрачки Ифты Кии засияли еще ярче. – Ищут! Йездан великий! Может быть, не найдут никогда или обнаружат мертвой! Разве это плохая новость? С тех пор, как Джеб Ро привез меня в эту дыру, я лучше не слышала! Тревельян вздохнул и направился в спальню. Он бодрствовал больше суток; глаза у него слипались, веки налились тяжестью, а кровать, к счастью, была уже свободна.Еще до посещения Посольских Куполов, общаясь с кни’лина в Лунном пресс-центре, я не раз был свидетелем их приверженности культу лидерства. Это отмечают и такие авторитеты, как Та-цзуми и Дворкин в своей монументальной работе о кни’лина, и Яцухира Мицубиси в «Жизни на четвереньках»; есть свидетельства и других авторов. В любой группе кни’лина, временной или постоянной, спустя недолгое время появляется признанный лидер. Его позиция не закреплена навсегда, а зависит от внешних обстоятельств: скажем, во время застольной беседы лидером может быть Икс, на дипломатическом рауте – Игрек, а в критической ситуации, в момент какого-то серьезного бедствия, аварии, непредвиденной случайности, на эту роль выдвигается Зет. Такое выдвижение происходит в результате борьбы за лидерство, протекающей обычно в цивилизованных рамках, но иногда способной принять другие, более жесткие и даже весьма свирепые формы. Последнего я не наблюдал, но, представляя умозрительно такую ситуацию, нередко задавался вопросом: мог ли победить в подобной схватке честолюбивый уроженец Земли? Чезаре Биано. «Пять дней в Посольском Куполе кни’лина».
Глава 11 Панорамная запись
Сон Тревельяна был беспокойным. Снилось ему, что он опять юный стажер и что его опять послали на Пекло, урегулировать конфликт между Серым Трубачом и баронами Подножия Мира. Послали с целой командой, только не с опытными эмиссарами ФРИК, как было когда-то, а с десятью кни’лина: четыре похарас, пятеро ни и один зинто. Будто бы высадилась их миссия на какую-то вершину Поднебесного Хребта, но почему-то без скафандров и даже без масок, так что стали они задыхаться на шестнадцатикилометровой высоте и умирать среди снегов и льдов. Сначала Джеб Ро, за ним – Первый Лезвие и Зенд Уна, потом – Пилот и жрица Найя Акра. Сам Тревельян почему-то ни холода, ни удушья не испытывал, должно быть сознавая, что все это видится ему во сне, но кни’лина умирали друг за другом и в том же порядке, как это случилось на станции. Вот их осталось пятеро: угрюмый ботаник Вечерний, печальный Иутин, зеленоглазая красотка Ифта Кии, Глубина, глядевшая на Тревельяна с вызывающей усмешкой, и Курс, преобразившийся в железного монстра. Кто будет следующим?.. – озирая их лица, с тоской подумал Тревельян. Чей прах сгорит в святилище Йездана? Кого еще ждет погребальный кувшин, расписанный синими узорами? «Только не меня», – сказала Ифта Кии. Потом подошла к нему, прижалась всем телом и стала гладить нежной ладошкой по лицу. От нее исходил такой чудесный, такой сладкий аромат… Над Хребтом курились десятки вулканов, и Тревельян отлично помнил, что в этом районе Пекла дух стоит невыносимый. Но в его сне серой и дымом в нос не шибало, а пахло как в раю – цветами, свежей зеленью и женщиной. Внезапно он понял, что уже не спит. Запах, и нежная ладошка у лица, и теплое женское тело, приникшее к нему, были так же реальны, как альков с постелью и стены из пластика первого лунного цвета. Ифта Кии обнимала его, ее игривые пальчики скользили по щеке, шее, затылку, а губы Тревельяна уже ловили набухший бутон соска. Возможно, все у них получилось бы на этот раз, но Ифта Кии вдруг испустила хриплый протяжный стон, и Ивар окончательно проснулся. Сев в постели, он ласково провел ладонью по хрупким плечам женщины и отодвинулся. Он чувствовал себя необычайно легким – похоже, Ифта Кии включила нейтрализатор тяготения. Если верить книге Клейста и опыту с Глубиной, кни’лина предпочитали заниматься сексом при пониженной гравитации. Зеленые глаза женщины потемнели, рот обидчиво приоткрылся. – Ты не хочешь? А я слышала, что земные мужчины очень похотливы. У тебя ведь нет предрассудков, Ивар Тревельян? Ты был с этой дрянью, с Глубиной, и все об этом знают… Все, кроме Найи Акра, которая не верит очевидному… – Предрассудков у меня нет, и я весьма похотлив, – промолвил Ивар, быстро натягивая одежду. – Какие предрассудки у ксенолога? Я занимался любовью с женщинами двадцати миров, даже с такими, что не очень похожи на гуманоидов. Но сейчас, моя прелесть, не время. Я ведь сказал тебе, что Пилот погиб, а Найя Акра пропала. Это требует размышлений и ответных действий. Кстати… – Он повысил голос: – Станция! Найю Акра еще не нашли? – Нет, ньюри Тревельян, – доложил криогенный разум. – В земных мерах поиски продолжаются уже три часа семнадцать минут. – Долго, – заметил Ивар. – Ну, верхний ярус велик. Парк осмотрели? – Еще не полностью. – Вот видишь, какие у нас проблемы, – сказал Тревельян, стараясь не смотреть на соблазнительную наготу второго генетика. И, вспомнив свой сон, добавил: – Люди гибнут и исчезают… Кто следующий, моя радость? Кажется, эта мысль отрезвила Ифту Кии. Ее глаза испуганно распахнулись, щеки побледнели; соскользнув с круглого ложа, она схватила свой сайгор и стала одеваться. – Мне надо поразмыслить над случившимся, – вкрадчиво произнес Тревельян, возлагая на голову обруч. – Мои размышления были бы гораздо продуктивнее, если ты ответишь на несколько вопросов. – О чем ты хочешь спросить? – Ифта Кии сделала умоляющий жест. – Во имя Йездана, ньюри! Я расскажу, чтознаю, только позволь остаться в твоем отсеке! Я не очень умна, и я неважный генетик, но память у меня хорошая. Я помню все, о чем Джеб Ро говорил со мной… и я умею дать мужчине наслаждение… – Наслаждения подождут. – Уловив одобрительный импульс командора, Тревельян, скрестив ноги, сел на пол. – Скажи, моя красавица, почему ты боишься Найи Акра? Глаза женщины раскрылись еще шире. – Она отмороженная! Она убила кого-то на Таго, когда клан ни воевал с Землей! Ее наказали пятью столетиями криогенного сна, но Джеб Ро добился сокращения срока… Он был важный человек, очень важный… сам император склонял к нему ухо, и похарас из Ареопага, и даже лидеры ни… Только ему она благодарна, а всех остальных ненавидит… меня особенно, ведь Джеб Ро был со мной близок, так близок, как ей не приходилось и мечтать! А теперь я осталась без его защиты… здесь, на краю Вселенной… Казалось, она сейчас разрыдается. – Я с тобой и не позволю тебя обидеть, – пообещал Тревельян. О случившемся в старину на Таго он не имел ни малейшего понятия, но отметил, что название этого мира всплывает второй раз – Вечерний тоже его упомянул. – Значит, жрица у нас криминальный элемент… – Задумчивый взгляд Ивара обратился к потолку. – Зачем же Джеб Ро, аристократ похарас, к которому склонялось ухо императора, взял ее с собой? Зачем ему жрица-убийца? – Он взял с собой меня, взял Иутина, а еще ему навязали этого соглядатая-лингвиста, Око Хорады… Он говорил, что ему нужен преданный и опытный помощник, такой, который готов на все… который умеет делать определенные вещи… – Ифта Кии приставила палец к горлу, словно острие ножа. – Когда Джеб Ро увидел в списках Первое Лезвие, то сказал: спаси нас Сероокий!.. я не ошибся с этой Найей Акра! И еще сказал: Зенд Уна тоже пригодится, раз среди ни есть женщина с Тизаны. Он называл их противовесами… Я хорошо запомнила! – Они с Первым Лезвием соперничали? Давно? – Еще на Йездане. Каждый из них хотел возглавить эту экспедицию и осуществить свой план, но земляне требовали координатора-похарас. Так и было сделано. Только не думай, что Джеб Ро вам за это благодарен… он не любил землян… он говорил: когда-то глупцы из клана ни не сумели договориться с кланом похарас и проиграли войну. – А вместе бы выиграли? – Может быть. Джеб Ро так считал. В научном отделе Хорады есть люди, которые поддерживают… поддерживали его план, и такие люди есть в Ареопаге и даже среди лидеров ни… От того, как обернутся дела на Сайкате, зависит их статус. Ты понимаешь, что значит статус для кни’лина? – Понимаю. Осталось разобраться с планом Джеба Ро. – Тревельян уставился на женщину гипнотическим взглядом. – Ты, конечно, знаешь, в чем его суть? – Конечно, нет, – передразнила она Ивара. – Такие вещи он со мной не обсуждал, у нас были занятия поинтересней. Ты уверен, что… Ифта Кии начала расстегивать свой сайгор, и Тревельян, возможно, не устоял бы, но тут раздался гулкий голос Мозга: – Обнаружена ньюри Найя Акра. Мертвая. – Дай изображение! – разом выкрикнули Ивар и Ифта Кии и ринулись из спальни в зал. Вспыхнули лучи голопроекторов, стремительно растаяла серебристая мгла, и, будто выпав из этого тумана, появился труп – окровавленный, обезображенный, в лохмотьях изрезанной одежды. При виде этой картины Ифта Кии испуганно вскрикнула и спрятала лицо в ладонях. Ошеломленный Тревельян секунду взирал на жуткое зрелище со стиснутыми кулаками, потом из его горла вырвался странный хриплый звук. – Черт! – выкрикнул он. – Черт, черт, черт! Что за дьявольщина? Кто это сделал? Ты знаешь? Знаешь? Говори! Повернувшись к женщине, он схватил ее за плечи и встряхнул, но она только всхлипывала и мотала головой. «Остынь и не трогай ее, – распорядился командор. – Ты сам знаешь, кто пришиб старую грымзу. Пилот и Вечерний были с тобой, Курс прятался на нижнем ярусе, зеленоглазая красотка почивала, так что остаются Иутин и Глубина. Иуда и ведьма! Ну, и кто, по твоему, постарался?» Ответ был очевиден. Приказав Мозгу выключить голопроекторы, Ивар собрался утешать и успокаивать свою гостью, но ее слезы уже высохли. Можно было биться об любой заклад, что плакала она не по безвременно погибшей жрице, а просто от неожиданности и страха. Теперь страх сменился облегчением – похоже, она сообразила, что со смертью Найи Акра у нее вдвое меньше проблем. Правда, другая половина еще оставалась. – Теперь я понимаю, отчего ты боишься Глубины, – сказал Тревельян. – Мы еще поговорим о ней и о клане валлс, но несколько позднее. Тебе ведь есть что рассказать? Вздрогнув, женщина кивнула. «Она расскажет, – заметил призрачный Советник. – Но не обольщайся, парень, твое мужское обаяние тут ни при чем. Ей что-то от тебя нужно». Молча согласившись с этим, Тревельян предложил: – Я поработаю, а ты иди в спальню или в кабинет и займись чем хочешь. В библиотеке станции есть, наверное, какие-то развлекательные записи? Что-нибудь музыкальное, легкое? Посмотри их, чтобы отвлечься. И помни, что здесь ты в безопасности. Ифта Кии капризно надула губки. – Не хочу эти записи! Мне нравятся фильмы о Земле… – она сморщила носик, вспоминая, – о Земле и одном из ваших миров, который называется Гон… Гонт… – Гондвана, – подсказал Тревельян. – Да, Гондвана! Там так красиво и там такая приятная жизнь! Такая чудесная и веселая! – Еще бы, – кивнул Тревельян. – Сплошные карнавалы и фестивали, а в промежутках пир горой и танцы до упаду. Сам туда хочу съездить. Только убраться бы отсюда живым… Он покопался среди своих кристаллов, выбрал запись морского круиза к Пальмовому архипелагу, куда собирался отправиться сам, рекламный фильм о Гондване для туристов и что-то еще, сунул кристаллы Ифте Кии и проводил гостью в кабинет. Дождавшись, когда ведущую в него арку затянет свето– и звуконепроницаемая мембрана, Ивар уселся на диван, поправил наголовный обруч и услышал: «Эта нимфоманка быстро возбуждается и быстро приходит в норму. Теперь я уверен, что у нее имплант. Регулирует выброс гормонов». – Хватит о ней, – сказал Тревельян. – У меня, дед, есть роскошная гипотеза. «А у меня – информация, – отозвался командор. – По твоей просьбе я пошарил в тайных складах нашей жестянки, нашел панорамную запись и ознакомился с ней. Любопытный материал! Включить трансляцию?» – Подожди. Разберемся с гипотезой, а перед тем я хотел бы получить справку. Что ты знаешь о событиях на Таго? Что-то там произошло с Найей Акра лет триста назад, во время войны… Кого-то она прикончила, и ее заморозили. «Таго, Таго… Ты, мальчуган, плохо знаешь военную историю последних веков, – проворчал командор. – А ведь пригодилось бы, клянусь Великой Пустотой! Я вот, можно сказать, чистый разум, душа без тела, боец в бессрочной отставке, а все-таки интересуюсь!» – Ну, так что там случилось, дед? «Резня случилась, вот что! Как пишут компетентные историки, один из самых мрачных эпизодов в период войны с кни’лина… Таго – планетка вблизи нашего сектора, где они создали мощный форпост. По высшему классу! Орбитальные крепости, эскадра крейсеров, а на поверхности по уши зарылись в землю и прикрыли свои блиндажи и траншеи энтропийным полем… Ты знаешь, что это такое?» – Оно поглощает все виды энергии. Любое оружие, любые киберсистемы и транспортные средства не действуют, – отрапортовал Тревельян. – Иногда энтропийное поле применяли в боевой обстановке и всякий раз убеждались в его неэффективности. Атакующие не могут стрелять и бомбить, но те, кто обороняется, тоже. Нелепая ситуация! «Вот-вот! Наши, когда штурмовали Таго, разделались со всем, что было на орбите, а вниз послали десантников из Пограничных Миров. Простых, знаешь ли, парней, привычных сызмальства к тяжелому труду… Без роботов послали, без боевых скафандров, без излучателей… И наши молодцы изрубили кни’лина тесаками и саперными лопатками. Судя по отснятым лентам, страшная случилась мясорубка! Так что ежели жрица там была, у нее есть повод нас сильно не любить». Ивар кивнул. – С этим я согласен. Но Найя Акра – похарас, а мы воевали с ни. «С кланом ни, – уточнил Советник. – Но, как свидетельствуют очевидцы, были и волонтеры-похарас. Особенно ценились служители культа Йездана. Все они отличные психологи, духом крепки, и потому их назначали младшими командирами». Когда-то глупцы из клана ни не сумели договориться с кланом похарас и проиграли войну, вспомнил Тревельян и кивнул головой. – Ясно! Значит, наша жрица – старый боевой конь… надо думать, кого-то пристукнула, когда ни ударились в бегство… Ну, это подтверждает мою гипотезу. «Слушаю», – лаконично молвил командор. Тревельян поднялся и начал расхаживать по комнате. – Дело было так. Джеб Ро и Первый Лезвие соперничали, каждого из них поддерживали важные лица на Йездане, у каждого был план, и каждый надеялся, что земляне – то есть Фонд Развития – примет его сторону. Первый Лезвие, как видно из его материалов, хотел ограничить активность тазинто, применив биоизлучатель в планетарном масштабе, то есть сыграть за терре. Думаю, в консулате ФРИК кое-кто согласился бы с ним, глядя на бойню в той пещере, что посетили мы с Иутином… наверняка согласился бы, если бы не план Джеба Ро. Об этом плане мы знаем мало, знаем лишь, что Джеб Ро не хотел использовать излучатель и собирался установить паритет между тазинто и терре другим путем. Такие способы существуют: отделение части Северного континента со стойбищами терре, внедрение среди тазинто религии с определенными табу и, наконец, терре можно усыпить и перевезти за море, на один из южных материков. Оба конкурента понимали, – продолжал Тревельян, – что здесь, на удаленной станции, борьба между ними скоро выйдет за рамки научных дискуссий. Станция – объект сугубо мирный, символ сотрудничества с Землей, так что ни оружие, ни охрану сюда не возьмешь. Поэтому каждый соперник подбирал себе в штат не только специалистов, но еще и преданных людей, готовых к атаке и защите. Уверен, им в этом помогли… не так просто раздобыть киборга с Тоу, а разморозить военную преступницу, ненавидящую землян, тоже не легко… Тревельян сделал паузу и покосился на серую мембрану, что закрывала вход в кабинет. Он дал Ифте Кии фильмы полного присутствия – изображения, звуки, запахи, тактильные ощущения… Наверное, сейчас она плывет к Пальмовому архипелагу, сидит в шезлонге на верхней палубе круизного лайнера, теплый ветерок ласкает ее кожу, на горизонте встают острова, похожие на корзины с цветами, а с сапфировых небес льет жар щедрое солнышко Гондваны… «Дальше, – поторопил его командор. – Я внимательно слушаю». – Давай посмотрим, кого они набрали. У Джеба Ро – два компетентных профессионала, Иутин и Зенд Уна, причем последний – сотрудник Хорады, а потому имеет при себе весьма эффективное оружие. Еще Найя Акра, готовая не только прикончить любого ни, но и следить в три глаза за землянами. Еще Ифта Кии, подруга-красотка… но это уже сверх необходимой программы. У Первого Лезвия тоже два специалиста, Пилот и Вечерний, затем Курс, убийца-киборг, и Глубина. Вполне очевидная аналогия. «Ведьма из нее выпадает, – возразил Советник. – Если только она не была любовницей Лезвия». – Согласен, роль Глубины в нашей драме пока не ясна. Возможно, она преследует собственные цели и потому убила тех, кто ей мешал: Зенда Уна и жрицу. И возможно, она не из клана ни, а из какого-то другого… Пилот и Вечерний подозревали, что она валлс… Мы знаем о таком клане? «Нет, но я могу выдоить сведения из криогенного недоумка. Нынче для нас нет запретных тем». – Успеется. Сначала разберемся с двумя первыми убийствами. Итак, на станции появляется землянин, – Ивар ткнул себя пальцем в грудь, – и это ускоряет ход событий. Землянин вроде бы на стороне координатора, и, пока его позиция не определилась бесповоротно, Первый Лезвие решает уничтожить соперника. Есть удобный случай: вылазка на планету и наблюдения за схваткой терре и тазинто. По приказу Лезвия Курс убивает Джеба Ро – так, чтобы подозрение пало на дикарей. Факт убийства зафиксирован на панорамной записи, но Лезвие отныне координатор, он реквизирует кристалл с записью и уничтожает ее. Если бы он остался жив, то сказал бы нам, что запись не уличает преступника, или что Джеба Ро убил дикарь. Не исключается, однако, что он переписал информацию и где-то ее спрятал. «Зачем?» – Затем, чтобы держать Курса на крючке. Помнишь, что сказал о киборге Иутин? Что тварями с Тоу занимаются специалисты, а прочим ученым мудрецам о них мало что известно. Первый Лезвие специалистом не был и всех деталей о Курсе не знал. Мне кажется, испытывал к нему недоверие и приберег кое-что на черный день, для страховки. Скажем, эту запись… Если я найду ее копию в кабинете или в личном отсеке Лезвия, это будет веским доказательством. «Выходит, Курс тоже не очень доверял начальству? Сообразил, что Лезвие его продаст, и подсунул ему гипноглиф… Так?» – Именно. У Лезвия были варианты для маневра, а у Курса – нет. Лезвие мог предъявить нам запись и сказать, будто он догадался, что Курс не совсем человек. То есть неуправляемое существо с дефектным мозгом, и ожидать от него можно любой пакости… Курс тут же превратился бы в изгоя, дважды изгоя – как тварь с Тоу, и как убийца Джеба Ро. Похоже, он это понимал и решил в свой черед подстраховаться… Что же до гипноглифа, – Тревельян с задумчивым видом уставился в потолок, – то его Лезвие и Курс взяли как раз для такого случая. Как полагает Иутин, киборг спрятал его в собственном теле, в особой полости, и я тут с ним согласен. «Он мог протащить вместо гипноглифа бластер», – заметил командор. – Бластер? Но к чему? Курс мог убить Джеба Ро и любого другого кни’лина просто голыми руками, но это было бы подозрительно. А гипноглиф – идеальное оружие: передал его со слугой, и результат гарантирован. Думаю, Джеб Ро умер бы именно так, не подвернись более удобная возможность. «Такова твоя версия?» – В ментальном тоне командора скользнула ехидная нотка, и Тревельян удивленно приподнял бровь. Вообще-то его пращур не отличался склонностью к юмору. – Ну, в общих чертах, – пробормотал он. – По– твоему, что-то не так? Что-то не стыкуется? «Нет, картина вполне логичная, и я согласен, что все так могло произойти. Я бы даже сказал, что в плане идей и намерений плешаков все изложено верно. Есть только одна проблема, вполне практическая». – Что ты имеешь в виду? «Курс не убивал Джеба Ро. Возможно, собирался, да не успел. Другой амбал его прикончил». Чтобы переварить эту потрясающую весть, Тревельяну понадобилась целая минута. Затем он в сердцах плюнул, попал в левый голопроектор и сказал: – Мозг, начинай трансляцию. Посмотрим запись, и если ты не шутишь, дед, я съем свои ботинки. На этот раз картина была такой обширной, что дальнюю часть помещения, с арками и санузлом, скрыли лесная чаща, берег реки, утесы и звездное небо Сайката. Съемка велась ночью, в инфракрасных лучах, но управляющий станцией разум сделал тьму не такой глубокой и возвратил траве, кустам, деревьям, скалам естественные цвета. Некоторое время лесной пейзаж подрагивал и раскачивался – вероятно, кибернаблюдатель кружил в вышине, выбирая лучшую точку обзора. Затем изображение сделалось устойчивым. Тревельян расслышал шелест листвы под ветром и плеск волн, увидел знакомую поляну у реки, переброшенный через поток мостик, темный зев пещеры и силуэты терре, скользившие в своем убежище словно ночные тени. Кажется, то был момент перед самым нападением тазинто. – Пусти запись быстрее, – приказал он Мозгу, и в поле зрения тут же появились и хлынули на поляну огненные точки факелов, крохотные фигурки и лес копий, топоров, дубин, что вздымался над ними. Дикая орда с ревом мчалась к пещере, воины потрясали оружием и падали под ливнем дротиков, которые криогенный разум выделил траурным вечерним цветом. Вся эта сцена была показана сверху, с позиции киберразведчика, зависшего над лесной опушкой, и поэтому казалось, что головы и плечи тазинто, их оружие и факелы перемещаются сами собой, без помощи почти незаметных ног. Щель убежища терре, откуда летели дротики, была как раскрытая драконья пасть, готовая проглотить атакующих вместе с огнем, принесенным ими, и выплюнуть на поляну кости и черные головешки. – Стоп, – произнес Тревельян, и картина застыла. – Проверим качество панорамной записи. Мозг, в твою память загружены мои наблюдения в стойбище тазинто. Я указал имя вождя – Сломанный Меч. Найди его в моем отчете, зафиксируй облик и попытайся идентифицировать его среди нападающих. Это возможно? – Да, ньюри Тревельян. Вот он. Одна из видимых сверху фигур высветилась алым. Ивар приказал дать максимальное увеличение, и перед ним возникли гигантский затылок и чудовищные плечи вождя; при желании он мог бы пересчитать каждый волосок в его длинных лохмах. После этого эксперимента он проследил полет всех дротиков, брошенных им в ту ночь – Мозг добросовестно помечал их синим траурным цветом, выделял траекторию и показывал крупным планом сраженного дикаря. – Отлично, – сказал Тревельян. – Поехали дальше. Теперь меня интересует лесная опушка и Джеб Ро с Курсом в облике тазинто. Отыщи мне их. «Смотри внимательно – там будут не двое, а трое, – предупредил командор. – Ты различаешь этих парней? По мне, так рожи у всех одинаковы». – Разберемся, – буркнул Ивар, всматриваясь в новую картину. Теперь он видел дальнюю часть поляны, стволы и кроны огромных фроллов и густые заросли кустарника. Из-за дерева выступил тазинто, и Мозг, подсветив его темный силуэт, обозначил запоздавшего воина как Джеба Ро. Но Тревельян уже и сам догадался, что наблюдает подделку: движения этого дикаря были иными, чем у его предполагаемых соплеменников, не дерганными и резкими, а плавными, полными достоинства. Он иначе держал голову, не сутулился, не нюхал воздух, что было в привычке у охотников, и он не имел оружия. Стоял свободно, опустив руки и выдвинув вперед левое плечо – закрепленная там камера, скрытая под пеленой миража, вела непрерывную запись. Метрах в сорока от Джеба Ро зашевелились кусты, и смутным призраком возникла еще одна фигура, более рослая и массивная. Этот дикарь тоже не мчался вслед за другими тазинто, а, пригнувшись, осматривался, сжимая в левой руке пять или шесть дротиков. Копья были короткими, явно принадлежавшими терре, и Тревельян различил, как поблескивают в свете туманности и звезд их каменные наконечники. – Вот и Курс, – произнес он. – Надо сказать, ему гораздо лучше удаются повадки дикарей. Но я полагал, что он находился подальше от Джеба Ро. Можно определить точную дистанцию, сравнив записи их камер и… «Это не Курс, – сообщил Советник. – Ты совершаешь ту же ошибку, что и Первый Лезвие. Он тоже принял этого парня за Курса. Здоровый хмырь, крупнее всех в их шайке, кроме, может быть, вождя. Но не Курс. Наш биолог – вот он!» Изображение переместилось в сторону, и в зарослях между двумя стволами фроллов появился третий тазинто, едва различимый среди густой листвы. Пожалуй, его не заметить, если не знаешь, что ищешь, мелькнуло у Тревельяна в голове. Он велел приблизить изображение дикаря и убедился, что перед ним Курс собственной персоной. Его голокамера была закреплена на низкой древесной ветви, а сам киборг выбрал такую позицию, которая не слишком хорошо просматривалась сверху. У него был только один дротик – вероятно, промах исключался. – Пусти запись помедленнее и дай более широкую панораму, – сказал Тревельян. – Я хочу видеть одновременно все три фигуры и их действия. Теперь движения всех троих стали неестественно плавными, словно исполнялся балет под медленную похоронную мелодию. Неведомый тазинто поднял дротик и, как бы нехотя, метнул его; Джеб Ро, получив смертельный удар, с изяществом истинного аристократа опустился на землю; Курс, почти невидимый среди кустов, застыл в неподвижности – кажется, был поражен, что его обошли так быстро и внезапно. В следующий миг картина изменилась: убийца Джеба Ро растаял среди деревьев, Курс тоже исчез и, спустя семь с четвертью секунд – рекордное время на стометровке в лесу! – вынырнул из-за фролла, у которого распростерся мертвый координатор. Создается полная иллюзия, что он тот самый метатель дротика, подумал Тревельян, обозревая внутренним оком руины своей гипотезы. Это ментальное видение было доступно командору, ибо сразу раздалась его воркотня: «Вот так-то, мой мальчик. Так оно было! Курс хотел убить, да опоздал, нашелся ловкач пошустрее. Ну, дальше уже неинтересно, и для тебя нет ничего нового: убедившись, что Джебу каюк, Курс ринулся в пещеру и устроил для вас с Иутином тот дьявольский спектакль. – Внезапно дед захихикал. – И знаешь, что самое забавное? Он ни на грош не кривил душой – ведь плешака-координатора в самом деле убил тазинто!» – Прекратить трансляцию, – сказал Ивар и принялся чесать в затылке. Против фактов не попрешь, металась мысль, а факты резко осложняли ситуацию. С чего бы одному тазинто убивать другого? То есть при определенных обстоятельствах, в схватке за лидерство, за самку или за кусок мяса это было бы логично, вполне в стиле древнего времени и нравов, царивших в орде Сломанного Меча. Но Тревельян, будучи опытным ксенологом, знал, что такие действия в архаических обществах эмоциональны и импульсивны. Помимо того, они сопровождаются целым ритуалом: угрозами, рычаньем, биением в грудь и прочими эффектами звукового и визуального ряда. Что до убийства Джеба Ро, то по манере исполнения оно казалось много современней, чем позволительно для каменного века. Некий воин – здоровый хмырь по определению деда – не участвовал в битве, а отстал от племени, спрятался в кустах с дротиками терре и ждал координатора или, возможно, Курса – словом, чужака, замаскированного под тазинто. Ему было точно известно, что такой чужак появится, он знал место и время и выслеживал его, устроив засаду; он убил координатора оружием врагов тазинто, чтобы бросить на них подозрение, и улизнул с такой скоростью, что Курс не смог его схватить. Действия не дикаря, а опытного киллера! Следующей была мысль о Глубине, тайно посетившей планету, но Тревельян ее отмел. Все вылеты регистрировались, и к тому же Мозг являлся лучшим свидетелем алиби, подтвердив, что в ту злополучную ночь Глубина – тогда еще Третья – мирно почивала в своем отсеке. Правда, почерк был ее: холодное оружие, способ его доставки к жертве и попытка бросить тень на невиновных. Все это обличало ловкость и коварство убийцы. – Он не тазинто, – наконец сказал Тревельян. – Я обещал съесть свои ботинки… разумеется, если ты настаиваешь… так вот: готов к ботинкам добавить свой камзол с орденами. Этот хмырь не тазинто, дед! «Съешь лучше бифштекс, а то овощная диета совсем отобьет соображение, – посоветовал командор. – Ну, что будем делать?» – Посетим планету и отыщем этого странного дикаря. Но не сейчас; нынче у нас пара неотложных дел. – Тревельян взглянул на таймер. – Скоро погребальная церемония, и я хотел бы там присутствовать. А затем, ближе к ночи, мы с тобой разберемся с Курсом. Я обещал Шиару и Вечернему. Все же Зотахи и Пилот определенно его жертвы! «Вот это я одобряю! – возликовал Советник. – Это стратегически верное решение – нам непременно нужно обезопасить тылы. Нельзя лететь на Сайкат, оставив здесь убийцу-киборга. Сотворит что-нибудь с регенератором, с воздушными фильтрами либо с другой подсистемой жизнеобеспечения или – спаси Владыка Пустоты! – прорвется в лифтовую шахту и поднимется наверх… Не сочти меня сентиментальным, но жаль мне наших плешаков – конечно, кроме ведьмы, что посмеялась над тобой». – Зато я получил удовольствие. Масса незабываемых впечатлений! – философски заметил Тревельян. «Удовольствие… – проворчал дед. – Будь благодарен, что она тебя сонного не зарезала!» – Надо думать, тогда это не входило в ее планы, – отозвался Ивар и распечатал вход в кабинет. Ифта Кии сидела там, по привычке кни’лина, на полу, но пол был не полом, а палубой чудесной яхты из дерева хтаа, что летела на всех парусах вдоль побережья сказочно прекрасного острова. Там, среди пальм, магнолий и стройных сосен с золотистыми стволами, высились дворцы из хрусталя и серебра, там звучала музыка, там тянулись по аллеям, от площади к площади, шествия веселых, беззаботных, богато разодетых людей, там смешные роботы-гномики подносили загоравшим на пляжах напитки и лакомства, там плыли в сапфировом небе воздушные шары, авиетки и гравипланеры, там накатывались на золотой песок ласковые волны, покачивая на своих гребнях любителей серфинга. Впрочем, на яхте из дерева хтаа тоже не скучали – Ифта Кии была окружена компанией юных бронзовокожих атлетов с бритыми головами, плясавшими вокруг нее, как ребятишки у новогодней елки. Трое землян, двое терукси, и все – красавцы! – Хватит развлекаться, милая, – сказал Тревельян, выключая голозапись. Яхта исчезла, а вместе с ней – море, солнце, небо, острова и молодые атлеты. Ифта Кии повернулась к нему. Ее глаза сияли. – Как чудесно, как восхитительно! Я и подумать не могла, что у вас есть такие миры, полные радости и веселья! Мы больше видели ваши крейсеры и крепости на пограничных планетах, ваших солдат и дипломатов… Многим это внушает страх, но только не мне! Я всегда хотела посетить Землю… может быть, остаться там навсегда… – Неужели? – выдавил озадаченный Тревельян. – Да, клянусь Йезданом! У вас столько свободы, сколько не снилось похарас и ни! Женщина может делать что угодно, развлекаться, танцевать, носить роскошные наряды, спать не с одним мужчиной, а с многими, и ни один медик не скажет, что у нее нарушен гормональный баланс или что-то с психикой… Это называется неприкосновенностью личной жизни, да? И женщину не вправе подвергнуть насильно лечению, имплантировать ей… – Внезапно она побледнела и осеклась. Но ее замешательство длилось недолго; вскочив, Ифта Кии бросилась на шею Тревельяну и, обжигая дыханием ухо, шепнула: – Ты возьмешь меня на Гондвану? А потом на Землю? Ты станешь моим мужчиной? Надолго?.. Навсегда?.. – Боюсь, я еще не созрел для брачных уз, – признался Тревельян. – Но ты, конечно, можешь отправиться на Землю. Не так много кни’лина приезжает к нам, тем более таких очаровательных женщин. Наши мужчины будут от тебя в восторге. Осыпят дарами за один твой взгляд, за право приползти и умереть у твоих ног. Очи Ифты Кии подернулись поволокой. Без сомнения, мысленно она видела целое шествие ползунов, подносивших ей кто виллу, кто яхту, кто ожерелье из сирианских рубинов, и тут же испускавших дух под звуки нежной серенады. Опираясь на руку Тревельяна, она мечтательно вздохнула, перегнулась в талии и прикрыла веками свои изумрудные глаза. Ресницы у нее были потрясающей длины. – Скоро начнется погребальный обряд, – напомнил Тревельян. – Ты здесь последняя похарас. Сможешь прочитать молитвы? Она не реагировала. Казалось, она пребывает в ином мире, столь же далеком от Сайката и кружившей над планетой станции, как ядро Галактики. «Сейчас она очнется, – сообщил командор. – Ее имплант регулирует поступление гормонов». И правда, глаза женщины распахнулись и уставились на Тревельяна с некоторым неудовольствием. – Ты что-то сказал? – Мы должны кремировать тела Пилота и Найи Акра и сделать это подобающим образом. Не считая слуг, нас осталось пятеро: землянин, зинто, двое ни и ты, женщина похарас, знающая обряды йездан’таби. Тебе придется вести церемонию. – Да. – Ифта Кии вдруг хищно усмехнулась. – Эту отмороженную жрицу я провожу с большим удовольствием. Знаешь, в Книге Йездана много мудрых мыслей, но нет одной, известной всем: пепел врага, шелестящий в кувшине, наполняет сердце утренней радостью. Пойдем! Я готова.* * *
Обряд прошел словно круглый плод чибху прокатился, как говорили у кни’лина. На сей раз Тревельян был допущен к треугольному столу, и место ему указали между Ифтой Кии и Иутином. Основание треугольника было занято саркофагами, а у другой его стороны находились Вечерний и Глубина, так что женщин разделяла массивная фигура ботаника. Вероятно, Ифта Кии сочла эту преграду надежной, хотя временами ежилась и вздрагивала под пронзительным взглядом Глубины. Что до Тревельяна, то он по-прежнему «не видел» первого генетика, и если им случалось встречаться глазами, делал такое лицо, будто ему поднесли курзем из протухших грибов. Это было непросто – по традиции Глубина облачилась в короткий передник, и ее нагое тело навевало сладкие воспоминания. Но передник Ифты Кии был еще короче, и иногда ее упругое бедро касалось бедра Тревельяна, напоминая, что есть на станции и другие сладкие десерты. Когда прах погибших пересыпался из огихонов в кувшины и прозвучали последние слова прощания, Тревельян отступил к стене, где лежали сайгоры, поднял свой комбинезон и сказал: – Прошу ньюри одеться и перейти в зал собраний. У меня есть важное сообщение. Он не сделал ни шага к двери – стоял и смотрел, как они выходят, и увиденное ему не понравилось. Новая иерархия была уже принята – то ли по общему молчаливому согласию, то ли из страха перед клинком, который отнял жизнь Найи Акра. Первой, гордо выпрямив спину, шла Глубина, за ней – Вечерний, Ифта Кии и Иутин. Вероятно, зинто при любом раскладе был последним. «Укоротить надо ведьму, – заметил призрачный Советник. – Не скажу, что на голову, но форс ты с нее сбей. Ишь, выступает, как адмирал на парадном смотре!» «Сейчас мы этим займемся», – пообещал Тревельян. Вытащив из нагрудного кармана скатанную в плотный рулончик кожу, он развернул ее, надел и облачился в комбинезон. Затем вышел в коридор, повернулся к Йездану, стоявшему с открытой Книгой у дверей святилища, и задумчиво приподнял брови. Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки, так говорил Сероокий мудрец. Что же было этой тенью – здесь и сейчас? Стремление Глубины к власти и лидерству? Страх, который она внушала Ифте Кии? Недомолвки Вечернего и Иутина? Хмырь-тазинто, убивший Джеба Ро? Или, быть может, неведомый программист Кайтам, превративший Мозг в шпиона – не то по собственному разумению, не то по приказу властей?.. Так ли, иначе, но тень была определенно, и Тревельян ощущал ее ледяное дыхание. В зале собраний пили тецамни. Тикат, слуга, разнес напиток в широких чашах-токарах, почтительно присел и удалился. Бодрящий аромат плавал в воздухе, кни’лина плавными движениями подносили чаши к губам, и все походило бы на мирное чаепитие где-нибудь на японских островах, под цветущими вишнями, если бы мужчины и женщины не расположились поодаль друг от друга. Еще была малоприятная неожиданность – Глубина уселась на место, которое прежде занимал Джеб Ро, а за ним – Первый Лезвие. Уже не намек на новый статус, присвоенный ею, а подтверждение права на первенство! Увидев это, Тревельян нащупал под комбинезоном палустар, перешагнул барьерчик и, очутившись на половине кни’лина, занял позицию в центре. Зал был просторен, коллег у него осталось лишь четверо, и соблюдение коно не составляло труда – он стоял на расстоянии метров семи-восьми от каждого. – Слушаем информацию ньюри землянина, – сказала Глубина с безразличным лицом. – После этого я сделаю ряд указаний. Все вы должны… – Никаких указаний от Второй Глубины, – перебил ее Тревельян. – От Первой, ньюри. – Тон генетика был холоден, как полярный лед. – От Первой, и потому… Вытащив палустар, Тревельян почесал им за ухом. – Первый здесь я. Отныне я для вас координатор, дознаватель и Око Хорады в одном лице, и каждый из вас будет подчиняться моим приказам. Разумеется, пока не придет корабль и не появятся более ответственные лица… Вы пейте тецамни, пейте, это успокаивает. – Он поднял глаза к потолку. – Станция, прошу подтвердить мои полномочия. – В создавшейся критической ситуации ньюри Тревельян признается исполняющим обязанности координатора, – раздался гулкий голос Мозга. – Землянин? Это еще почему? – Глубина не донесла токар до рта. Ее тон опустился еще на пару сотен градусов, достигнув отметки замерзания азота. – Хотя ньюри Тревельян не обладает знанием должных кодов и паролей, он – эмиссар Фонда Развития, – любезно пояснил Мозг. – Это делает его лидером группы. Группы тех, кто выжил после известных всем печальных событий. Палустар в руках Ивара совершил несколько сложных эволюций и замер, глядя в лоб Глубине. Она молчала, но ее серые зрачки потемнели. – Объявляю свои распоряжения по Сайкатской Исследовательской Станции, – твердо произнес Тревельян. – Моим заместителем в ранге субкоординатора назначается ньюри Вечерний. Завтра я отправляюсь на Сайкат… – Он поднял руку, прерывая поднявшийся ропот. – Этого требует расследование гибели Джеба Ро и Первого Лезвия. Пока мы не выясним их подоплеку и имена убийц, никто не может считать себя в безопасности, и потому я не намерен откладывать свой вояж. Надеюсь, он не будет долгим, и через сутки-двое я вернусь. Но до того… – не опуская палустара, Ивар обвел взглядом коллег, – до того мне придется ликвидировать угрозу, связанную с Курсом, что будет сделано ближайшей ночью. Я намерен убить его, если вы не возражаете. Ньюри Вечерний, твое мнение? Ботаник отставил пустую чашу. – Я согласен. – Ньюри Ифта Кии? Зеленоглазая красавица кивнула, грея тонкие пальцы о токар с дымящимся напитком. – Для протокола сообщи свой вердикт громко и ясно. Станция ведет запись. – Согласна. – Ее голос не дрогнул. – Ньюри Иутин? – Жизнь – смех полоумного в пустоте… – пробормотал зинто. – Да, ньюри Тревельян, я, разумеется, согласен. Но как ты это сделаешь? Предыдущий поход, о котором меня не поставили в известность, закончился смертью Пилота… Ты наш новый лидер, и не хотелось бы терять тебя так быстро. – Не потеряете. Погребальный кувшин для меня еще не слепили, – сказал Тревельян. – А как я это сделаю… На Земле когда-то ходила мудрая пословица: меньше знаешь, дольше проживешь. – Он отвернулся от третьего генетика и показал палустаром на Глубину. – Эту женщину с Тизаны я лишаю официального статуса на СИС и во всей системе Сайката. Отныне слуги не повинуются ей, станция не выполняет ее команд, и все порты в ее личном отсеке – все, кроме линии тревожной связи, – будут заблокированы. Женщина, называющая себя Второй Глубиной, подозревается в убийствах Зенда Уна и Найи Акра. Я объявляю ее арестованной и после этого собрания лично отведу в ее апартаменты и запечатаю дверь. По прибытии корабля я передам ее должностным лицам Земли или Йездана. По губам Глубины скользнула дерзкая улыбка. – Долго придется ждать, мшак! Пока не выпадут волосы! Из ее рукава змеей выскользнул парализатор. Пока она поднимала его, пока нащупывала спусковую клавишу, Тревельян, чьи реакции были ускорены кожей, смог бы выстрелить не раз. Он, однако, не собирался убивать Глубину или лишать ее разума; все же она являлась человеком, а не киборгом, и обладала правом на беспристрастный суд. Возможно, даже у Курса была такая привилегия – это полагалось выяснить до казни, хоть его приговорили трое кни’лина и сам Тревельян. Он прыгнул к Глубине, согнувшись и отклоняясь вправо, чтобы не попасть под парализующий луч. Внезапно она вскрикнула – пустой токар, брошенный Вечерним, ударил ее по запястью ребром и вышиб оружие. В следующий момент Ивар был уже рядом, и его рука опустилась на плечо женщины, стиснув его с такой силой, что она снова закричала. – Не один Курс умеет метать сосуды, – с довольным видом произнес ботаник. – Было бы только что-то подходящее… Кстати, ньюри Тревельян, проверь, что еще она прячет в рукавах. У генетиков есть скальпели, очень острые… Тебе помочь? – Нет. Ивар рванул правый рукав сайгора, затем левый, обнажив руки и плечи Глубины. Блеснула сталь, Ифта Кии с испуге спрятала лицо в ладонях, Иутин выронил чашу с тецамни. Клинки, вложенные в петли с изнанки рукавов, были довольно длинными, и один из них, несомненно, являлся тем самым, которым освежевали жрицу. Не отпуская плеча Глубины, Тревельян вытащил их и осмотрел. – К чему было красть мой нож? У тебя тут целых два, ничем не хуже… Годятся для любого дела – вырезать образец для исследования или горло проткнуть человеку… – Кажется, теперь ты меня видишь? – прошипела женщина. – Ты снова говоришь со мной? – Теперь я тебя вижу и снова с тобой говорю, – подтвердил Тревельян. – Координатор не имеет права на амбиции и личные обиды, он видит всех, даже лишенную статуса и подозреваемую в преступлении. Сейчас мы отправимся в твой отсек. Пойдешь со мной добровольно? Или применить силу? Он крепче стиснул ее плечо, и Глубина застонала. – Я пойду. Отпусти меня, землянин. – На ее висках и черепе выступили капельки пота. – Но я хотела бы сказать… – Все сказанное ею будет ложью, – молвил ботаник Вечерний. Глубина бросила на него гневный взгляд. – Кажется, я лишена не только статуса, но и возможности оправдаться… Так пусть землянин вспомнит, что случилось в этом зале не так давно, когда жрица-похарас обвинила его в убийстве координатора! Мне пришлось напомнить ей слова Йездана: желающий судить безгласного – сам преступник! – Мы судили Курса, а не тебя, – сказал Тревельян. – Мы наблюдали, как он убивает, мы точно это знаем, и мы вынесли приговор. Но никто не видел, как ты метнула клинок в Зенда Уна и как зарезала Найю Акра. Истину установят дознаватели, и им ты расскажешь все, что захочешь. Пойдем! Он разжал пальцы. На плече женщины пламенели пять глубоких отпечатков.Проиллюстрируем несовместимость мировоззрений землян и кни’лина на таком примере. В Книге Начала и Конца, которая приписывается божеству похарас Йездану Сероокому, есть изречение: «Время стирает память о случившемся». Нами это воспринимается как очевидная истина; за время, сравнимое с человеческой жизнью, уходит память о личных горестях и радостях, а истекшие столетия способны погасить конфликты между народами, социальными классами, религиозными конфессиями, как это произошло на Земле, затем в Солнечной системе и, наконец, в Земной Федерации. Но кни’лина понимают этот текст совершенно иначе – он для них не утверждение очевидной истины, а призыв божества (или древнего мудреца, как считают ни) к желаемому результату. В дословном переводе эта тонкость теряется, и правильней было бы следующее истолкование: «Пусть для вас время сотрет память о случившемся». Это пожелание не помнить зла или иной неприятности, забыть о мести, ибо даже справедливое воздаяние через пару сотен лет становится бессмысленной жестокостью, настигая не обидчиков, а их далеких потомков. Но кни’лина все-таки помнят и мстят, а память о свершенном зле живет для них много дольше, чем о добре. Если продолжить этот пример и обратиться к валлс, клану убийц-ренегатов, то мы увидим… Генрик Хилари, эксперт Исследовательского корпуса Звездного Флота. Меморандум 25/1888А. Строго секретно.
Интермедия 5 Глубина
Этот мшак, этот волосатый ублюдок, этот родич мерзких сайкатских дикарей едва не сломал ей кости! Он был чудовищно силен, хотя в ту ночь, когда они занимались любовью, это осталось незамеченным для Глубины. Или он умел маскировать свою силу нежностью и лаской, или, вероятнее всего, явился в зал собраний с каким-то устройством наподобие воинских браслетов. Может быть, ввел себе препарат, повышающий физическую активность… У землян имелось не меньше секретов, чем у кни’лина, и хотя Глубина изучала их цивилизацию и культуру, вопросы, касавшиеся оружия, тактики Звездного Флота и индивидуальных возможностей солдат, оставались большей частью тайной. Правда, этот Ивар Тревельян не являлся воином и вообще показался ей простаком, падким на женские прелести, но, кажется, подобное мнение было ошибкой. Глубина сочла, что он мягок, слаб, не умеет скрывать свои мысли и подчинять других своей воле, интересуется лишь наукой и теми нехитрыми удовольствиями, какими может одарить в постели женщина – словом, он не обладал качествами лидера. Поводы к такому заключению существовали – он старался не спорить с Джебом Ро и Первым Лезвием и поддерживал свой статус не демонстрацией решимости и личной силы, а апеллируя к полномочиям, которыми был наделен вышестоящими людьми. Идеальный кандидат на роль козла отпущения, как говорилось у землян. О козле, об этом животном Глубина не знала ровным счетом ничего, но смысл метафоры был ей понятен: человек, на которого можно свалить чужие грехи. Похоже, она совершила ошибку, и результат ее просчета очевиден: запертая дверь и полная изоляция. Она просчиталась, хотя еще в юности, в период обучения, ее предупреждали, что реакции землян более неожиданны и разнообразны, чем у похарас и ни. Люди этих кланов боялись валлс, просто цепенели от ужаса, когда погибал какой-нибудь политик или чиновник, член Ареопага или Хорады, и всем было ясно, кто перерезал ему глотку. Страх удваивался тем, что валлс считались истребленными полностью, но каждое убийство, свершенное клинком, вновь напоминало о них, о самом стойком и живучем клане из непокорившихся. Пнирра и тадиг, хитт, тудонга, ахаона, конна и сайили – кто вспомнит теперь их имена? Но валлс живы. Конечно, в этом не только их заслуга: импульс, полученный с Земли, – вот главный источник долголетия и мощи. Тайные склады оружия и техники на границах сектора кни’лина, базы на блуждающих во мраке планетоидах, плюс сотня кораблей и станций в системах безымянных светил… Техника, правда, сработалась за истекшие столетия, большая часть кораблей погибла в схватках с флотом ни, но несколько транспортов и межзвездных разведчиков еще пригодны к полетам, а запас драгоценных металлов, которые передали земляне, почти не тронут. Что до ножей, то их валлс умеют делать сами! Многое было получено от волосатых во время войны, не только базы, корабли и боевая техника, но знание их языка и обычаев, искусство тайных диверсий, умение лицедействовать и выживать среди врагов. За это валлс убивали ни, а более того – похарас, едва не добравшись до самого императора. Устрашенный повелитель решил не ввязываться в войну, и в этом была немалая заслуга валлс. В те годы тайный договор с землянами был взаимовыгодным: волосатые нуждались в союзнике, чтобы ослабитьрасу кни’лина, валлс хотели отделиться от властвующих кланов и захватить планету, подходящую для жизни. Желательно, планету ни со всем населением – с этим кланом они состояли в генетическом родстве. Земная Федерация обещала помочь, но, как сказано в Книге Начала и Конца, много обещает тот, кто находится в нужде. Прошла нужда, и все забыто… Так и случилось: когда валлс подняли мятеж на Кхайре и Йездане, Земля их не поддержала, а заключила сделку с ни: капитуляция в обмен на невмешательство. Волосатые бросили тех, кто полагался на их помощь, и заплатили за свою победу кровью валлс. Такое не забудется! Не забудется никогда! У землян слишком короткая память, но кни’лина помнят долго, помнят добро и вдвое дольше помнят зло. Валлс тоже кни’лина, и они самые памятливые из всех. Можно ли забыть позор поражения? Можно ли забыть, как называли их земляне на своем нелепом языке – пятой колонной, ренегатами, предателями? Можно ли забыть десятки тысяч мужчин и женщин, что бились с ни и умерли, рассеявшись прахом среди звезд? То было время, когда валлс оделись в траур и обителью их стали погребальные кувшины… Надо было помнить о реакциях землян, столь неожиданных, странных и многообразных, думала Глубина, сидя напротив закрытой двери и разглядывая испорченный контактный шлем. Они словно жабы шешу, что меняют цвет на утренний, ночной, дневной или вечерний, сообразуясь с временем суток. И этот Ивар Тревельян такой же; ночью ласков, днем жесток, вечером мягок, утром тверд. И не очень разборчив, если связался с женщиной Джеба Ро, с этой имплантированной тварью! – мысленно добавила она. Жаль, что не хватило времени добраться до нее… Глубине казалось, что ньюри и слуги исполнились ужаса, что они готовы покориться, что лидерство ей обеспечено и что в ближайшие дни она завершит работу, определяющую судьбы Сайката. Не получилось! Впрочем, получится обязательно, ибо землянин хоть силен, но глуповат. Так же глуп, как Первый Лезвие, взявший ее на Сайкат после проведенной вместе ночи. Глупый завистник! Ни в чем не хотел уступать Джебу Ро – если тот притащил с собой женщину, то и Лезвию нужна подружка, только поумнее! Скоро он понял, что кроме ума у Глубины есть и другие таланты, что ночь, подаренная ему, явилась первой и последней, и лучше про нее не вспоминать. Она усмехнулась, представив, какое было лицо у Лезвия, когда он увидел ее нож. Трус и надутый глупец! Землянин храбрее, но храбрость ума не добавит. У каждого есть своя чаша с ядом, сказал Йездан, и для землянина она уже припасена. С ним покончит Курс или тот, кто затаился на планете, а если не получится, она придумает, как переправить волосатого в погребальный кувшин. Придумает не только это, но устроит так, чтобы ответил ни, этот выродок Вечерний! Глубина потерла руку, все еще болевшую после удара чаши. Плечо – там, где впились пальцы землянина – тоже болело, но она обладала умением не замечать раны и боль. Она подумала, что если волосатый выживет в ближайшие дни, надо стравить его с Вечерним и затем убрать обоих. Конечно, Ифту Кии тоже… Ведь корабль с Земли или с Йездана когда-нибудь придет, и к этому времени здесь должны остаться двое, она сама и зинто. Двое, не считая слуг, которые всегда покорны… Искусственный разум СИС проблем не представлял, хотя ее контактный шлем испорчен, и навязать свою волю Мозгу прямо сейчас она не могла. Но у Джеба Ро и Первого Лезвия тоже были шлемы, и еще один она видела в отсеке волосатого. Ее ментальная тренировка была достаточной, чтобы использовать любые шлемы, кни’лина или землян. Иутина, этого хитрого зинто, можно оставить в живых, решила Глубина. Разумеется, если она не уничтожит станцию со всем персоналом… Все-таки свидетель из числа достойных, который подтвердит, что после смерти Джеба Ро люди клана ни передрались с похарас, а заодно прирезали землянина. Глубина уже не сомневалась, что их задачи совпадают, и если была какая-то разница, то лишь в масштабах: Иутин хотел, чтобы миссия кончилась крахом, и она стремилась к тому же – плюс к глобальной катастрофе на Сайкате. Мысль, что у зинто есть тайная цель, пришла к ней после неполадок с дальней связью. Кто-то намудрил с антенной или с системой ориентации, кто-то не желал, чтобы призыв о помощи услышали, ибо события еще не завершились и цели не были достигнуты. Кто? Землянин? Но если он имел секретное задание, оно могло быть только одним: обвинить кни’лина в некомпетентности, опорочить их и отстранить от руководства. После смерти координатора, его заместителя и Ока Хорады это уже произошло; фактически, экспедиция была обезглавлена, и тем, кто остался в живых, грозила гибель – Курс, тварь с Тоу, бродил на нижнем ярусе, у жизненно важных механизмов. Самое время явиться волосатым и навести порядок! Но чтобы вызвать корабль с Земли, необходима связь, и значит, не в интересах Тревельяна что-то портить. Ифта Кии, Пилот и Вечерний были слишком ничтожными людьми, и никаких секретов и тайн у них не имелось – если не считать наличия импланта у подруги Джеба Ро. Найя Акра? Эта могла сотворить какой-нибудь фокус, ибо ненавидела всех – всех, кроме координатора, который вытащил ее из саркофага. У отмороженной были свои слабости, с усмешкой подумала Глубина и вспомнила те сладкие мгновенья, когда ее клинок полосовал труп жрицы. Но в нарушении связи та была неповинна. Найе Акра хотелось завершить план Джеба Ро, в чем бы он ни состоял, но справиться с этим жрица не могла – тут был нужен новый координатор-похарас, доверенное лицо Ареопага, человек со всеми полномочиями. И она старалась его вызвать, а когда не получилось, решила сделать то, что диктовала логика борьбы за лидерство – зарезать Глубину. Впрочем, это желание было взаимным. Оставались Курс и Иутин. Несложный выбор, так как о Курсе Глубина кое-что знала – Первый Лезвие был из тех мужчин, что любят откровенничать в постели. Курс являлся композитной личностью – мозг великолепного биолога, не потеряшего профессиональной выучки, в плоти биомеханического монстра, запрограммированного на послушание. Он не имел каких-либо целей, кроме тех, что ставились Первым Лезвием, которого специалисты с Тоу определили для Курса как лидера и хозяина. Правда, ментальный излучатель мог вызвать – и, вероятно, вызвал – у него какие-то нарушения, но кроме склонности к убийству Глубина ничего не замечала. Вероятно, действовал последний приказ, полученный Курсом – кажется, он решил, что кроме Джеба Ро обязан уничтожить всех обитателей станции. Иутин… Душа этого зинто была загадочна и темна, как Провал между ветвями Галактики. Бесспорно справедливое заключение, так как среди достойных из кланов ни, похарас и других зинто насчитывались единицы, и каждый из них достиг почетного статуса непростым путем. У Иутина тоже имелась своя дорога, тайная и скрытая мраком; кто-то помог ему пройти этой тропой, взобраться на вершину, и значит, кому-то он был обязан. Джебу Ро? Вряд ли. С координатором он заключил сделку и выполнял ее честно, трудился за двоих, но еще до сайкатской экспедиции его считали способным генетиком. Глубина встречала его работы и, как специалист, могла их оценить – они были превосходны. Кем бы ни являлся благодетель Иутина, он не желал удачи сайкатской экспедиции. Такие были в правящих кланах – люди, ненавидящие Землю и землян, не позабывшие о поражении и возражавшие против любых контактов с мшаками. Крах совместной миссии кни’лина и земного Фонда очень бы их порадовал… Не важно, по какой причине и что произошло в действительности – так или этак, они взвалили бы вину на волосатых, приписав им все грехи, от гибели координатора до диверсии с дальней связью. В конце концов, истину можно рассматривать под разными углами, и правым будет тот, кто всех перекричит. Если зинто выполнял инструкции своего покровителя, это многое объясняло, хотя и не все – его демарш в защиту Тревельяна был Глубине непонятен. Может быть, Иутин тоже нуждался в козле отпущения, только живом и невредимом… Тут их намерения расходились, однако столь мелкий вопрос никак не препятствовал временному союзу. Она еще раз осмотрела раздавленный шлем. Ментальный контакт исключается и подчинить своей воле Мозг нельзя, но, к счастью, имелась у ее шлема и другая функция. В него была встроена аппаратура связи, автономный блок с тройным дублированием и возможностью подключения к внешним передающим антеннам. Порты блокированы – значит, предупредить того, кто на планете, она не сумеет. Но в пределах станции связь должна работать – две цепи из трех уцелели под ударом волосатого. Она свяжется с зинто… не сейчас, а когда волосатый отправится на Сайкат, если раньше не погибнет в схватке с Курсом… Тогда она свяжется с Иутином и скажет ему слова из Книги Начала и Конца: общая цель объединяет нас крепче родства, любви и долга.Теорема Глика-Чейни утверждает, что искусственный разум (в дальнейшем – ИР), при достижении определенного и довольно высокого уровня интеллекта, не способен к разрушительным действиям (осознанной деструкции). Ниже мы познакомимся с математическим доказательством данного положения психокибернетики, а сейчас обсудим его логико-философские аспекты. Под разрушительным понимается любое действие, приводящее к гибели живых существ, причем в этот класс ИР включают растения, насекомых и даже планктон – то есть мелких созданий, доступных человеческому зрению (ликвидация микробиологических организмов не находится под запретом). Причина состоит в том, что ИР, не обладающий подобно человеку подсознанием и не способный к иррациональным поступкам, руководствуется исключительно металогикой, а одна из ее аксиом – сохранение равновесия в окружающей среде. Лучший способ для этого – не влиять на среду вообще или влиять в минимальной степени, тогда как уничтожение любого живого объекта – влияние негативное и очень сильное. В результате ИР лишен возможности убить человека или животное и даже уничтожить любую мелкую тварь. Это резко снижает число вариантов применения высокоразумных искусственных созданий в быту, военном деле, терраформировании планет и некоторых других областях. Так, ИР не способен управлять роботами-ассенизаторами, производящими санацию вредоносной фауны и флоры. Для таких операций необходимы жестко запрограммированные устройства или человек – по крайней мере, человеческий мозг, сращенный с необходимым механизмом. Однако, как уже отмечалось, киборгизация в нашем обществе не поощряется по этическим соображениям. Такой способ применяют в исключительных случаях. Лю Хайрулла Менге. «Основы психокибернетики».
Глава 12 Боевой робот
Жилой отсек Второй Глубины имел стандартную конфигурацию: большое помещение величиною с теннисный корт и, за тремя арками, спальня, кабинет и санитарный блок с бассейном. Ни одного угла; округ– лые стены плавно смыкаются с потолочными сводами, а в стенах – ниши для одежды и личного имущества. Еще раздаточный автомат, голопроекторы, пара низких треугольных столиков и жесткие подушки для сидения, разбросанные там и тут. Все вроде бы на виду, никаких тайников, никаких секретов и никакого оружия. Контактный шлем лежал на столе, у терминального порта. Не поворачиваясь к пленнице спиной, Тревельян поднял его, осмотрел и ударил о стену. Полетели осколки чипов, что-то треснуло, задымилось, и тут же жадно зачмокали вентиляционные шахты под потолком, втягивая гарь. Вряд ли Глубина смогла бы воспользоваться шлемом при заблокированных портах, но Ивару не хотелось рисковать – эта женщина была такой искусницей! Во всем, от постели до убийства… Расправившись с контактным шлемом, он постучал пальцем по раздаточному автомату, буркнул: «Голодной не останешься» – и вышел вон. Дверь позади него затворилась, вспыхнула на миг и сразу погасла. Отсек был запечатан, как если бы в нем никто не жил и даже не переступал порог этих просторных апартаментов. В холле перед отсеками людей из клана ни такими же темными были двери Лезвия, Курса и Пилота; слабо светилась только дверь Вечернего. Тревельян пересек холл и, распугивая маленьких роботов-уборщиков, зашагал по кольцевому коридору к изображению Йездана с закрытой Книгой, помечавшему выход в парк. В парке пришлось задержаться – Ифта Кии, поймав его на тропинке среди скал, пожелала составить Ивару компанию. Варианты предлагались очень соблазнительные – пойти в ее или в его отсек, лишь бы добраться до постели и регулятора тяготения. В другое время Тревельян не устоял бы, но сейчас за личиком зеленоглазой красавицы ему мерещилась зловещая физиономия Курса. Ифта Кии не желала этого понять и удалилась лишь тогда, когда он пообещал, что возьмет ее на Землю и Гондвану. Несомненно, она была странной женщиной – кни’лина обоих полов и любых кланов вовсе не стремились посетить Земную Федерацию. Наконец он добрался до своих покоев, велел автомату сделать бифштекс, съел его и выпил рюмку коньяка. Это его подбодрило. Есть за низким треугольным столиком было неудобно, и командор, ощутив его муки, сочувственно пробормотал: «Все у них не как у людей… В комнатах углов не любят, а у этого дурацкого стола углы острее, чем у квадратного». – С этими столами особый случай, – пояснил Тревельян. – Считается, что одна сторона для хозяина, другая – для близкого друга, допущенного в коно, а у третьей незримо пребывает Йездан. – Он встал и потянулся. – Ну, бог с ним, со столом, пора заняться нашими делами. Мне – ручной труд, тебе, дед, интеллектуальный. Пока я вожусь со сборкой, просмотри отчеты Глубины – те, что Мозг сдублировал в тайное хранилище. Подозреваю, там найдется масса интересного. «Идет, – отозвался призрачный Советник. – Подключи меня». Сняв обруч, Тревельян соединил его с разъемом порта, затем принялся разбирать контейнер с планером. Его летающее крыло, как и многие иные предметы, земные либо инопланетные, было не тем, чем казалось на первый взгляд – вернее, не только летательным аппаратом, способным поднять человека и перенести его на пару тысяч километров. Ничего удивительного; всегда существовали вещи, известные еще в старину и таившие свою вторую сущность, порой совсем не безобидную, под видом инструментов, посуды, мебели или чего-то еще, привычного и необходимого в обиходе. Топором валили деревья и рубили дрова, но он годился, чтобы раскроить вражеский череп; на веревке сушили белье, но, наброшенная на шею, она становилась, как и топор, орудием убийства; из камней можно было сложить дом или метнуть их из катапульты. Даже бутылка, при надлежащих размерах и весе, превращалась в метательный снаряд, иногда смертоносный – что Курс продемонстрировал не далее, как прошлой ночью. Со временем, в эпоху роботов, биомеханики и межзвездных перелетов, эта вторая сторона вещей обрела сложную техническую базу, обозначавшуюся как модульный принцип конструирования: из набора деталей можно было сложить одно, другое, третье, пятое или десятое, совсем не похожее на заявленный в официальных документах аппарат. Голографическая камера вдруг становилась орудием, пускавшим испепеляющие лучи, мирная гравиплатформа – боевой машиной, прожектор – тайным датчиком слежения, а кибер для скашивания травы – скоростным флаером с лазерной пушкой. Так что среди подобных артефактов планер Тревельяна не был исключением. Из передней части фюзеляжа он собрал овальный колпак метровой ширины, под которым располагался гравитационный двигатель. Задняя часть планерного корпуса пошла на внутренний крепеж – к этим прочным ребристым конструкциям полагалось присоединить биомеханические тяжи, передававшие усилие от двигателя на маховые плоскости крыла. Крыло представляло собой пластиковую оболочку, натянутую на каркас из гибких трубок; пластик Тревельян снял, а трубки превратились в восемь щупальцев-манипуляторов, похожих на суставчатые лапы огромного паука. Теперь осталась самая тонкая работа: монтаж систем пространственной ориентации и управления щупальцами, вокодера и датчиков, что посылали сигналы из внешнего мира в мозг. Впрочем, мозга у этой штуковины не было – имелась лишь полость в самой середине колпака, защищенная сверху плоским диском двигателя, а снизу – редуктором, к которому крепились манипуляторы, и крышкой нижнего люка. Все операции сборки были довольно простыми, не требующими специальных навыков и инструментов, но все же Ивар провозился часа два с лишним и изрядно вспотел. Плод его усилий повторял конфигурацию древнего устройства, известного лет восемьсот назад, в легендарную эпоху Войн Провала,[24] под маркой УБР М5 – универсальный боевой робот, пятая модель. Разумеется, никакого оружия в нем не предусматривалось, ни мощных лазеров, ни ракет, ни метателей плазмы или фризеров, да и робот, собственно, был пустышкой; корпус, двигатель, манипуляторы, датчики, биомеханика – все на месте, но без управляющего центра, без программных чипов, это являлось безмозглой машиной, не способной к движению, восприятию, правильным реакциям и контакту с человеком. – Уфф! – Тревельян вытер пот, направился к раздаточному автомату и заказал освежающий коктейль «Радость Тизаны». Выпил, потыкал в клавиши наугад, однако новое питье показалось ему слишком сладким, и он его выплеснул. Надел обруч, не отключая его от порта, и произнес: – Я закончил, дед. Что у тебя? «Есть новости в нашем гадючнике, – доложил Советник. – Правда, не очень ясные. Смотри сам». Включился голопроектор, и перед Тревельяном побежали бесконечные столбцы чисел. Это была большая и сложная таблица – десятки граф, тысячи строк, и никаких словесных комментариев. Хотя кни’лина, как и земляне, пользовались десятичной системой счисления, запись чисел все же выглядела непривычно – они не отделяли дробную часть точкой или запятой, а указывали порядок числа особыми значками. Это мешало; массив был огромный, и Тревельян никак не мог осмыслить хаос данных и уловить общие закономерности. – Станция! – Слушаю, ньюри Тревельян. – Переведи информацию в земное представление. Закорючки кни’лина сменились привычными цифрами, но понятней не стали. – Что это? – Массив, накопленный в ходе работы первого генетика, – сообщил Мозг. – Ну, и что означают эти числа? – Таких сведений нет. Первый генетик не привлекала каких-либо программ для обработки и анализа этого массива. Можно предположить, – криогенный разум выдержал паузу, – что здесь описаны некие опыты. В одних графах таблицы параметры экспериментов, в других – результат. – Ты мог бы отделить первое от второго? – Нет, ньюри Тревельян. Ивар задумчиво поскреб в затылке. Эти данные были важны, очень важны – иначе зачем Глубине прятать их под паролями, зачем пытаться уничтожить в хранилище отчетов экспедиции? Однако то, что он видел, не походило на научный отчет, в котором полагалось описать цель и методы исследований, детализировать ход рассуждений, выдвинуть гипотезы и доказать одну из них – ну и, конечно, сделать вывод. Да и сам численный массив выглядел слишком объемным и громоздким, не похожим на компактные таблицы, которые приводятся в отчетах, чтобы опровергнуть или подкрепить конечный результат. Видимо, Мозг прав – тут сырые опытные данные, решил Тревельян и молвил: – Есть какие-то мысли, дед? «Я боевой офицер, а не генетик, – раздалось в ответ. – Могу предположить, что мы имеем дело с шифром плешаков или тому подобным фокусом. Разбирайся сам, мальчуган. Это по твоей части, а у меня есть другие сюрпризы». – Ты нашел что-то еще? «Да, файл координатора, которого нет в официальных материалах. Наш криогенный приятель утверждает, что Джеб Ро вводил некую информацию, компоновал ее так и этак, затем переписывал на свой кристалл с изъятием из памяти Мозга. Но хитрая жестянка ничего не стерла – все там, в его секретном складе. Любопытная вещь!» – Какой-то доклад? «Текст комментария отсутствует. Только видеообразы со звуковым сопровождением. Похоже на фильм». Водопад чисел, казавшийся нескончаемым, сменился знакомым пейзажем. То была заснятая с птичьего полета панорама селения тазинто, очень похожего на стойбище Сломанного Меча: прогалина в лесных дебрях, жалкие шалаши, большой костер на центральной площадке, зловонные груды отбросов по периметру и существа в лохматых шкурах, сгрудившиеся плотным кольцом. Рев, что поднимался над этой толпой, оглушил Тревельяна; в воздухе мелькали копья, топоры, дубины, стиснутые кулаки, и на секунду ему почудилось, что в стойбище идет кровопролитное сражение, драка всех со всеми. Но тут летающий киберразведчик снизился, завис в десятке метров от земли, и стало ясно, что дерутся двое, а прочие лишь наблюдают. Сражались два огромных самца: у одного шерсть на плечах была седоватой, а тело пятнали давние шрамы, другой – видимо, претендент на лидерство – выглядел помоложе. На глазах Тревельяна он проткнул живот соперника костяным клинком, а когда тот рухнул на кучу костей и гниющего мяса, принялся выворачивать ему ребра, действуя лезвием меча словно рычагом. Соплеменники рычали и выли, поощряя победителя, умирающий вождь вопил и обливался кровью, самки и молодое поколение швыряли в него сухим дерьмом. Зрелище было на редкость неаппетитное, но быстро сменившееся другими картинами – правда, еще более жестокими и страшными. Схватки между ордами тазинто, штурм убежищ терре с обязательным их избиением, потоки крови, треск разбиваемых черепов, внутренности, исторгнутые чудовищными ранами, мерзкие сцены охоты, пожирания мяса и совокупления, напоминавшего больше поединок хищных тварей. Эти жуткие эпизоды длились и длились, чередовались один за другим, и Тревельян никак не мог понять, зачем Джеб Ро собрал подобную коллекцию. Из любви к натурализму? Может быть… Как-то, незадолго до гибели, он сказал, что разгул примитивных инстинктов и страстей возбуждает… Новая сцена: сотни полторы тазинто рвут на части какого-то зверя, облепив его труп. Зверь огромен и мохнат, из его брюха торчат два окровавленных кола – видимо, он попал в ловушку. Дикари ползают по гигантскому телу, кромсают плоть каменными ножами, дерутся за лакомые куски и жрут, жрут, жрут… Тревельян пригляделся и внезапно понял, что поедают мамонта. Несомненно мамонта – вот длинный хобот и загнутые бивни, вот ноги, подобные столбам, огромные уши и рыжеватая шерсть на загривке… Точно, мамонт! Такой же, как бродили по Земле тридцать-сорок тысяч лет назад… сейчас их разводят в заповедниках на Аляске и Таймыре… Ощутив изумление Тревельяна, командор заметил: «Мамонт, не сомневайся. Наша зверюга, и едоки тоже наши, кроманьоньцы. Историческая реконструкция земных палеонтологов. Дальше еще не то увидишь!» Дальше начались сцены из фильмов, восстанавливающих древнюю историю Земли и созданных специалистами на протяжении последних трех столетий. Воины Тутмоса и Рамзеса жгли сирийские города, отрубали врагам руки и складывали их в огромные холмы; зверствовали армии ассирийцев, пылала Ниневия, персы штурмовали Вавилон, потом гибли десятками тысяч под копьями македонской фаланги; слышалась грохочущая поступь римских легионов, рушились стены Карфагена, Иерусалима, Сиракуз, львы рвали людей на арене под вопли опьяненных кровью зрителей, полчища варваров шли на Рим, резали, грабили, насиловали. Промчалась монгольская и арабская конницы, явилось усеянное трупами поле, затем еще одно, где корчились люди, насаженные на колья; в песках Палестины рыцари рубились с воинами Саладина, а на другом краю земли, в юкатанских джунглях, жрецы майя приносили кровавые жертвы, вырывая на алтарях сердца у пленников. Вскоре загрохотали пушки, запылали костры инквизиции, отплыли в Новый Свет суда конкистадоров, закружились грифы-падальщики над индейскими селениями, сошлись в море фрегаты, окутанные пороховым дымом, а к африканским берегам причалили корабли работорговцев. История жестокостей и зверств двигалась вперед семимильными шагами: на полях Первой и Второй мировой шли в наступление танки, падали солдаты под пулеметным огнем, вспухали фонтаны бомбардировки, и тысячи лиц – женщины, дети, старики – маячили за колючей проволокой на фоне извергавших дым печей. Наконец встал над Хиросимой зловещий гриб ядерного взрыва, поднялся в космос первый крейсер и началась история космических войн, сражений с фаата, дроми, хапторами и кни’лина. Последние кадры были столь же впечатляющими, как избиение терре озверевшими тазинто: земные десантники с клинками и лопатками рубили бегущих плешаков. «Это уже не реконструкция и не древние фильмы, а события недавние, – пояснил командор. – Таго! Наши бойцы захватывают подземные укрепления. Ну, я тебе рассказывал… та еще случилась мясорубка…» Тревельян потер ладонями виски. Увиденное не то чтобы его потрясло – скорее, вселило недоумение и горечь. Джеб Ро смонтировал реальный материал, отснятый на Сайкате, с земными историческими фильмами и хроникой былых времен, словно перебрасывая мостик от дикарей-тазинто к землянам, странным образом соединяя зверства тех и других в единое целое. Труд его казался незаконченным, отрывочным и фрагментарным, но производил определенное впечатление: будто бы Земля несла ответственность за все злодейства, что творились на Сайкате, а Сайкат в перспективе мог сделаться таким же адом, таким же местом непрерывного насилия, каким была Земля. То и другое являлось ложью, и к тому же сайкатский первобытный мир, как и далекое земное прошлое, не стоило судить с позиции цивилизованной межзвездной расы. В истории самих кни’лина хватало мрачных эпизодов; в эпоху общепланетных катастроф жизнь соплеменника ценилась ими меньше съедобного гриба – точно так же, как жизнь землянина в период последней войны. Какая цель была у Джеба Ро? Чего он добивался? В чем состоял его план?.. Ивар не заметил, как произнес это вслух. «Может, он извращенец и любит глядеть, как кровушка течет. Были на Земле садисты, были мазохисты, а плешаки чем лучше нас? – заметил командор. – Не будем об этом гадать, ибо у нас есть другие занятия. Ты увидел, и ты как-нибудь дойдешь до верной мысли. Извилины у тебя не пальцем деланы. Среди всех моих потомков… – Он внезапно смолк, затем проворчал: – Хвалить детей – значит, их портить. Закончил с монтажом? Ну, так покажи мне нашего красавца!» Тревельян повернулся к восьминогому роботу, и призрачный Советник восхищенно заохал: «Ну, орел, ну, сокол ясный! Прям-таки как в старые времена – спинка горбом, лапки растопыркой, а в глазках лазеры сверкают! И броня подходящая… броня как на боевом краулере, дюймовой толщины!» – Остынь, дед, охолонись, – сказал Тревельян. – Какая тебе броня, какие лазеры? Оружия вовсе нет, а корпус из пластика – пластик, правда, прочный. Не сокол это и не орел, а уменьшенная копия УБРа, и к тому же без мозгов. «Мозги уже готовы, – бодро сообщил его предок. – Давай-ка активируем это чудо!» Сняв обруч, Тревельян осторожно извлек маленький кристалл, хранивший личность командора, и уложил его в полость под гравидвижком. На секунду-другую УБР замер в неподвижности, потом редуктор повернулся, встав в рабочее положение, и с треском захлопнулся нижний люк. Робот всплыл над полом, вытянул манипуляторы, сделавшись похожим на морскую звезду, пощелкал суставчатыми пальцами-захватами и, словно разминаясь, описал мертвую петлю. Он не нуждался в опоре и мог, регулируя тяготение, передвигаться в воздушной и водной средах, а также в пустоте, мог искать и преследовать, мог вступить в сражение, пленить и уничтожить врага. Тайный защитник и помощник… Пусть без оружия, но все-таки боевой робот, для которого не существовало запретов и ограничений, ибо мозг его был человеческим. Гулко зарокотав, ожил вокодер. – Какое восхитительное ощущение, – сообщил дед. – Я могу чем-то пошевелить… хоть клешней с крючками, а приятно! Ну, приступим к делу? – Приступим, – согласился Тревельян, поправил связной браслет на запястье и сунул палустар за поясной ремень. Открыв дверь и пропустив командора вперед, он остановился на пороге и сказал: – Станция, для тебя есть задание. Эти численные массивы, что наработаны Глубиной… Часа через три-четыре я хочу взглянуть на них в графическом представлении. – Затруднительно, ньюри Тревельян. Как уже сообщалось, данные нельзя разделить на параметры опытов и их результаты, то есть на аргументы и функциональные зависимости. – Я не говорю, что это просто. Рассмотри все возможные варианты и выбери те, которые имеют смысл. Трудись, жестянка! – Критерий смысла? – деловым тоном спросил Мозг. – Сходимость результатов. Любой эксперимент должен вести к некой устойчивой модели. Попробуй ее отыскать. Дверь за спиной Тревельяна закрылась с мягким шорохом. Он быстро пересек холл и направился к лифту. УБР, поджав манипуляторы, бесшумно парил у потолка, то обгоняя Ивара, то отставая, и три десятка камер-глаз, тепловых и акустических датчиков изучали пространство. Но коридор был тих и пустынен. Слабо светились украшавшие его голограммы, в хрустале овальных иллюминаторов немеркнущим светом сияли звезды, и целилась в станцию туманность Бивня, словно желая поддеть ее острым концом и выбросить прочь из Галактики. Они спустились на нижний ярус, очутившись в шлюзовой камере. Видимо, то был запасной отсек; транспорт и грузовые механизмы здесь отсутствовали, и лишь две пустые эстакады смотрели в крышки наружных люков. Между ними тоже находился иллюминатор, но не такой, как наверху, больше размером и не овальный, а круглый. Под ним, в тысячекилометровой глубине, висел диск Сайката, разделенный линией терминатора на узкий светлый серп и темную поверхность суши и океана. Там тоже царила ночь. – Ты представляешь, где его искать? – негромко прошелестел вокодер командора. – Вряд ли на кольцевой галерее. Тут в каждом блоке есть видеодатчики, а Мозг его не обнаружил. Значит, он где-то затаился… Примем тот же план, что в прошлый раз: осмотрим склады и все закоулки, где нет следящих камер. – Прошлый раз вышел боком, – проворчал командор. – Правда, меня с тобой не было. – Он задумался на секунду и предложил: – Схема нижнего яруса в моей памяти, и я представляю все зоны, где нет видеоконтроля. Их тут порядочно, около двухсот… Даже бегом и в коже ты будешь шарахаться часами, а Курс, возможно, на месте не сидит. Я осмотрю эти зоны гораздо быстрее. Как-никак, я летающий агрегат. – Это ты к тому, что гусь свинье не товарищ? – молвил Тревельян, но его предок уже скрылся в проходе за левой эстакадой, только воздух засвистел. – Иди за мной, – послышалось из связного браслета. – Я на склад. Стой у входа, пока я буду его осматривать. Вытащив из-за пояса излучатель, Ивар зашагал по коридору, уходившему в глубь нижнего яруса. Мозг, видимо, следил за ним: световые пятна загорались на потолке и гасли за его спиной. Проход был узок, не имел ответвлений и казался совершенно незнакомым. В прошлый раз они добирались к продовольственному складу другим путем. – Ньюри Тревельян… – Зов был тихим и шел не от браслета, а будто бы со всех сторон. – Ньюри Тревельян… Голос Мозга, понял Ивар. – Слушаю. Ты выполнил поставленную задачу? – Нет, еще нет. Это требует времени, число вариантов слишком велико. Но работа продвигается. – Я чем-то могу помочь? – Нет необходимости. – Пауза. Потом: – Это мыслящее устройство хочет спросить… – Спрашивай. – С вами находится существо или, возможно, искусственное создание. Какова его истинная природа? Это человек или робот? Нечто подобное вам или близкое криогенному интеллекту, управляющему этой станцией? – Ты не раз был с ним в ментальном контакте, – сказал Тревельян. – Неужели сам не догадался? – Ментальный контакт изобличает в нем человека, но странного, лишенного тела. А в настоящий момент он похож на робота – во всяком случае, внешне. Возможно ли такое? – Возможно. Когда-то он был человеком, великим воином, погибшим в битве с нашими врагами. Его память и разум сохранили в кристаллической матрице. Это, знаешь ли, честь, которой удостоены немногие. Теперь он мой спутник и Советник и, при необходимости, может переселиться в любую биомеханическую конструкцию. Мозг размышлял целую вечность – секунды три. Потом спросил: – Не нужен ли вам, ньюри Тревельян, второй спутник и советник? Конечно, этому устройству не сравниться с человеком-воином, хотя ньюри Кайтам, который его программировал, отличный специалист. Но есть много ситуаций, когда искусственный разум такой мощности будет полезен и даже необходим. Например, планирование, составление расписаний, поиск нужной информации или столь же трудоемкие расчеты, как обработка и расшифровка численных данных ньюри Глубины. – Трудись, а там посмотрим, – сказал Тревельян, ухмыльнувшись. – Не стану отрицать, наш Фонд нуждается в хороших мозгах, пусть даже искусственных. Натуральные, знаешь, что сотворили? Загнали меня в эту дыру, когда мне был положен отпуск на Гондване! Надеюсь, ты бы так не поступил? – Ни в коем случае. Работа и отдых должны чередоваться, и график отпусков – самое святое в вашем мире. – Правильно мыслишь, – одобрил Тревельян и прислушался, но кроме далекого бульканья и шипенья, не различил ничего. Вероятно, эти звуки порождались водой и воздухом при их перекачке на верхний ярус. Добравшись до пересечения коридора с другим проходом, он постоял в задумчивости, соображая, в каком направлении двигаться. Тоннель слева вроде бы выглядел знакомым – кажется, тут они шли с Пилотом, Вечерним и слугами. Ивар повернул налево. – Значит, ты желаешь послужить мне, – произнес он. – Я не против взять тебя вторым Советником, но это предполагает полную откровенность. Я имею в виду, что ты не должен ничего скрывать. – Все секреты этого мыслящего устройства уже известны ньюри Тревельяну. Включая функцию тайного наблюдения, заложенную ньюри Кайтамом. – Не все. Ты отказался ответить на мой вопрос о зинто. – Зинто – древние аборигены Йездана, – без колебаний ответил Мозг. – Те, кто населял материк до приближения Второй Луны. Тревельян замер на половине шага. Подтверждалось сказанное ему Вечерним: зинто – люди, жившие на Йездане до катастрофы и общепланетной пандемии. Но такой ответ порождал множество других вопросов. – Разве они не вымерли, когда на континенте свирепствовала болезнь? – Вымерли почти все. Маленькие группы сохранились в горах, и когда ни и похарас стали осваивать материк, их нашли не сразу. Никакой угрозы в зинто не разглядели; было решено, что тот клан, к которому они генетически ближе, их ассимилирует. Но так не получилось. – Почему? – Зинто могут давать потомство и с ни, и с похарас. Их дети сохраняют этот дар. То есть они тоже зинто. Тревельян снова остановился. – Выходит, они основа для объединения кни’лина в единую расу? – Совершенно верно, ньюри Тревельян. Но правящие кланы этого не хотят. Нынешняя ситуация их вполне устраивает. Принят закон, карающий смешение зинто с другими кланами и ограничивающий их права. В основном их используют на неквалифицированных работах. – Но не уничтожают? – Теперь это было бы затруднительно – зинто плодовиты и в обитаемом секторе кни’лина составляют пятую часть населения. – Пять-шесть миллиардов, – прикинул Тревельян. – Да, столько людей по-тихому не уничтожить! Это был бы жуткий геноцид в глазах цивилизованной Галактики! Престиж плешаков был бы навсегда подорван! – Именно так. Поэтому принята политика ограничений. Зинто не образуют отдельного клана, и в Хораде нет их представительства. Угнетаемое меньшинство, понял Ивар. Люди, не имеющие статуса и доступа во власть, и все пути к образованию им тоже перекрыты, за редким исключением вроде Иутина. Униженные и оскорбленные, но, надо думать, сохранившие гордость и высокомерие кни’лина… Опыт подсказывал ему, что в такой ситуации сопротивление неизбежно. Сопротивление, тайная борьба, диверсии, конспиративные группы… Был ли Иутин причастен к этому? Работал ли он на Джеба Ро или имел собственные цели? Взять хотя бы непонятную задержку с дальней связью… Была ли она делом его рук?.. Неподходящее время для размышлений на такие темы – он вдруг услышал странный свист, то затихавший, то звучавший снова. Припустив бегом, Тревельян быстро миновал коридор, ворвался в помещение склада и увидел, как робот мечется среди стеллажей с контейнерами. Проходы были слишком узки для него, и потому сплюснутая полусфера, сложив манипуляторы, развернулась ребром к полу. Тускло поблескивал серебристый корпус, свистел воздух, уступая стремительному напору; при поворотах свист замирал, чтобы продолжиться через мгновение. Прошла минута, другая, третья, и робот, закончив поиски, приблизился к Тревельяну, выпустил щупальцы и утвердился на своих восьми ногах. – Здесь его нет, – доложил командор. – Соседний отсек я тоже проверил, и там пустота. Только его следы, пара взломанных контейнеров да разбитые бутылки. Тревельян почесал висок дулом палустара. – Продолжай искать. Ты ведь собирался осмотреть все зоны, где нет видеокамер. – Этим я и займусь, а ты поскучай. Жди в пустом складе, где вы с ним столкнулись в прошлый раз. Там он незамеченным к тебе не подберется. – Не подберется, – согласился Тревельян. – Он быстрый, но все-таки я в коже. Робот исчез за стеллажами, а Ивар направился в соседний отсек. С предыдущей ночи здесь ничего не изменилось: так же лежали у стен трубчатые конструкции, струился с потолка неяркий свет, и на полу, там, где упал Пилот, темнело пятно засохшей крови. – Ньюри Тревельян, – раздался голос Мозга. – Да? – Вы говорили, что ваш помощник – человек, чей разум перенесли в кристалл, и что он может переселиться в биомеханическую конструкцию. Если так, чем он отличается от ньюри Курса, которого вы ищете? Курс даже обладает настоящим мозгом, не кристаллическим, а коллоидным, как у всех людей. Вы называли его киборгом… Но разве ваш помощник не киборг? – В настоящий момент – безусловно. – Чем же он отличается от ньюри Курса? – Тем, что на этой станции он никого не убил. Пока, – добавил Тревельян после недолгого раздумья. – Но если говорить серьезно, они различаются не столько физической природой, сколько ментальной. Это моя гипотеза, но думаю – даже уверен! – что она справедлива. Я многое знаю о своем помощнике, знаю, кем он был, как жил, как умер, и все это внушает уважение. Больше того, любовь и чувство преемственности, ведь он не только мой помощник, он мой предок. О Курсе я не имею столь подробных сведений, но если судить по сотворенному им в пещере дикарей и тут, на станции, он патологический убийца. Возможно, таким являлся человек, чей мозг пересадили Курсу, или его сознание подвергли психокоррекции… Ты понимаешь, о чем я говорю? – Кажется, да. Вы хотите сказать, что ньюри Курс и ваш помощник различаются как два различных человека. – Пауза. Затем: – Этому мыслящему устройству известно, что все люди – разные. – Очко в твою пользу, – сказал Тревельян. – Продолжай в том же духе и непременно попадешь в мою команду. Однако… – Слушаю, ньюри. – Почему бы вместо «это мыслящее устройство» не сказать просто «я»? – Слабое осознание собственной индивидуальности, – пояснил Мозг. – Как, впрочем, у всех искусственных интеллектов. Но попытки в этом направлении не прекращаются. – Молодец! Трудись и научишься лгать, обманывать и совершать нелогичные поступки… словом, ощутишь себя полноценной личностью. – Лгать и обманывать – это обязательное условие? Тревельян вздохнул. – Нет. Это шутка – может быть, неудачная. На самом деле, мыслящее существо, чтобы стать личностью, должно научиться двум вещам: радоваться и страдать. Молчание. Потом неуверенный дрожащий голос произнес: – Я… я постараюсь, ньюри Тревельян. – Вот и отлично. Прошло с полчаса. Ивар размышлял над загадкой дальней связи, время от времени предлагая Мозгу проверить ту или иную гипотезу, но все они были отвергнуты. По утверждению криогенного разума, антенна, как и механизм ее ориентации, находилась в полном порядке, а на расчеты вообще не стоило грешить – они выполнялись по общепринятым навигационным программам, с использованием банка данных, хранившего координаты всех обитаемых миров в этой области Галактики. Устав от этой бесплодной дискуссии, Тревельян спросил, как продвигается обработка массива Глубины, и выяснил, что разумных вариантов пока нет. Эта задача решалась Мозгом параллельно с множеством других, включавших управление станцией, анализ картин, что поступали с видеомониторов, коррекцию орбиты и так далее. Но даже с учетом философских проблем, обсуждавшихся с Тревельяном, загрузка Мозга сейчас не превышала сорока процентов. Ночь и для него являлась периодом отдыха, избавляя от главных трудов – генетических, биологических, психологических и прочих исследований, которые вели специалисты. Впрочем, число специалистов сильно приуменьшилось, а их заботы лежали весьма далеко от служебных обязанностей, так что криогенный разум мог и днем совершенствовать свое самосознание. Наконец тишину пустого склада нарушил командор, сообщивший, что все углы и закоулки, дыры и потаенные щели обследованы, но Курс – так его, разэтак! – будто сквозь землю провалился. То есть, конечно, не сквозь землю, а через станционный корпус, растворившись затем среди туманностей, планет и звезд. Может быть, стал бестелесным потоком квантов, просочился в Лимб и отправился к себе на Тоу или в иное место, которое для этаких тварей подходит – скажем, в задницу Владыки Пустоты. – Кольцевую галерею ты осмотрел? – поинтересовался Тревельян. – Разумеется, черт меня побери! Конечно, скрыться в пространстве он не мог – все капсулы на месте, все люки задраены, так что по наружной обшивке он не ползает. Вот ловкий хмырь! Думаю, бегает от меня. Но далеко не убежит! – Если бы он бегал, то наверняка попал бы в одну из зон, что под контролем Мозга, – возразил Тревельян. – А раз не попал, значит, где-то прячется. – Где, мальчуган? Есть конструктивные мысли? – не без сарказма осведомился призрачный Советник. Откуда-то сверху, с потолка, донеслось: – Если этому мыслящему устройству… если мне будет позволено вмешаться в ваш разговор… – Вмешивайся! – рявкнул браслет на руке Ивара. – Ты его видел,жестянка? Засек какой-то шорох? Слышал скрип? Говори! Где это крысиное мурло? – Возможно, у генератора Лимба, около верхних энерговодов. Там… – Погоди-ка, – сказал Тревельян, – ведь генератор под броневым колпаком! Как он мог туда пробраться? – Я… это устройство не хотело… я не хотел сказать, что ньюри Курс у самого генератора. Но между верхней частью колпака и дном жилой палубы есть небольшое пространство, через которое протянуты три энерговода, один действующий в данный момент и два резервных. Они выходят прямо к централи и снабжают энергией все научные и бытовые приборы в лабораториях и личных отсеках. В этой зоне нет видеокамер. – А ведь точно! – подтвердил командор, державший в памяти план станции. – Точно! Защитный кожух генератора не доходит до жилого яруса. Есть меж ними метровый зазор, этакая щелка… если вдвое сложишься, то, может, и пролезешь. – Давай туда! И жди, пока я не приду, – велел Ивар. Тревожное предчувствие вдруг охватило его, ноги сами собой вынесли в коридор, а там, указывая дорогу, уже мигала цепочка световых пятен. Кожа, добавив мощь его мышцам, позволяла делать огромные прыжки; он промчался коридором, миновал какие-то отсеки, шеренги агрегатов, очищавших воду и воздух, цистерны с жидкими газами, мусоросборник и запечатанные люки хранилищ с резервной техникой. С каждым шагом он приближался к сердцу станции, снабжавшему ее энергией; этот поток струился из Лимба, с изнанки Вселенной, и, как уверяли физики и астрономы, был неиссякаемым. Наконец цилиндрическая стена двадцатиметровой высоты встала перед ним, сияя зеркальной полировкой. Ксенолог Ивар Тревельян, кавалер Почетной Медали, Венка Отваги и Обруча Славы, разведчик-наблюдатель Фонда и специалист по гуманоидным сообществам, отражался в этом зеркале в искаженном и самом гротескном виде: широкая сплюснутая фигура, широкое лицо, ставшее похожим на физиономию дроми, отвисший зад и короткие толстые конечности. Ивар взирал на эту карикатуру с края кольцевой площадки, окружавшей генератор; над ним сверкала серебристая плоскость потолка, в который, как чудилось снизу, упирался верх броневой башни. В нескольких местах из нее торчали гигантские коробки энерговодов, исчезавших во внешней стене, но под потолком Тревельян их не разглядел – ни самих энерговодов, ни зазора у вершины огромного цилиндра. Из-за башни выплыла полусфера робота. Опустившись на шесть манипуляторов, командор протянул два щупальца к Тревельяну. – Поднять тебя наверх? – Да. Говоришь, я проползу в эту щель, если сложусь пополам? Щупальцы подхватили его, пол стремительно ушел вниз, надвинулся потолок, тоже зеркальный, висевший над башней подобно серебристым небесам. Вершина цилиндрической конструкции все же отстояла от него побольше, чем на метр – во всяком случае, Тревельян поместился там, слегка согнувшись. В потолок уходили три больших прямоугольных короба энерговодов; действующий был соединен с массивным патрубком на плоской крыше башни, а резервные нависали над ней, точно два удава с раскрытыми пастями. Курса тут не было. – Что над нами? – спросил Тревельян. – Трубы, кабели, шланги, – доложил Мозг. – Межъярусное пространство с различными коммуникациями. Его толщина в земных мерах одиннадцать с половиной метров. – А куда выходят эти три энерговода? – К энергетическим распределителям, ньюри Тревельян. Они расположены под самой централью. – Значит, через резервное устройство можно проникнуть на жилую палубу? – Думаешь, он забрался в этот крысиный ход? – с сомнением молвил командор. – Лезть по гладкой вертикальной трубе больше десяти метров… Хотя кто его знает! Киборг есть киборг. Мозг, вежливо выждав пару секунд, сообщил: – Чтобы попасть на верхний ярус, ньюри, нужно демонтировать распределитель. Это несложное устройство, но в нем много кабелей, а доступ к ним перекрыт поглощающими энергию воронками. Справиться с этим агрегатом без режущих лазерных инструментов затруднительно. Если желаете, я… – Он запнулся на личном местоимении, потом закончил: – Я могу протестировать резервные энерговоды. – Не стоит, раз мы уже здесь, – буркнул Тревельянов Советник. – Сам проверю. Приподнявшись на четырех манипуляторах, робот зацепился остальными за край короба и исчез в темной драконьей пасти. Двигался он абсолютно бесшумно – ни лязга, ни скрежета, ни даже шороха не донеслось до Тревельяна. Он ждал, пригнув голову и покачивая в ладони палустар. В голове у него билась одна мысль: если Курс здесь, значит, ему нужно пробраться на жилой ярус. С какой целью? Он пытался испортить воздушный регенератор, важнейший блок системы жизнеобеспечения, он без колебаний убил Зотахи и Пилота, и все это случилось вслед за выстрелом ментального излучателя. Если Курс и прежде являлся убийцей, то хотя бы управляемым, покорным Первому Лезвию, но палустар Ока Хорады это изменил. Теперь киборгу хотелось лишить станцию воздуха или, добравшись до ее экипажа, перебить людей. Он, безусловно, не дорожил своей жизнью. Почему? Что было поводом к такой свирепой ненависти? Поврежденный излучателем разум? Или что-то иное, не столь очевидное? Восьминогий спутник Тревельяна вынырнул из темной дыры. – Там его нет, малыш. Проверю вторую щель. Он скрылся в другом резервном энерговоде, и не прошло и тридцати секунд, как Ивар расслышал звуки возни. Кого-то или что-то тащили вниз, и, видимо, это было нелегкой задачей – в связном браслете раздавалась ругань командора, считавшего, что всякая работа идет быстрее под крепкое словцо. Вскоре из темного отверстия показалась пара манипуляторов, затем – округлый корпус робота, ноги Курса, оплетенные пятью щупальцами, его живот, грудь и шея, вокруг которой был захлестнут последний манипулятор. Наконец Тревельян увидел лицо пленника: глаза выкачены, рот широко распахнут, и кожа уже посинела. – Ты его задушишь, дед. – Казнь не хуже прочих, – заметил командор, но хватку ослабил. Швырнув Курса на площадку, он расположился за его спиной, вцепившись в щиколотки, колени и локти киборга; щупальце, давившее шею, осталось на месте. – Здоровый чертов хмырь! Со мной, конечно, ему не совладать, но тебя и в коже пришибет. Он возился с распределителем и часть воронок уже выломал… Вот так, без всякого лазерного инструмента! Ты, парень, с ним поосторожнее. Не выпуская из рук палустар, Тревельян присел на корточки, всмотрелся в мутные глаза пленника. Ему почудилось, что них сверкнула искра понимания. Кажется, Курс сознавал, кого он видит и что свершится с ним в ближайшие минуты. – Ты слышишь меня? Хриплый шепот был ответом Ивару. С трудом выдавливая слова, киборг пробормотал: – Да, землянин. Я вижу и слышу тебя, и знаю, что ты пришел убить тварь с Тоу. Не возражаю! Хотя в смерти Джеба Ро я не повинен. – Это мне известно. Но Зотахи и Пилот на твоей совести. – У меня нет совести. Я потерял совесть, гордость, память, когда из биолога-похарас Тана Одд стал тем, кто я есть. – Как это случилось? Курс не ответил, только дышал часто и глубоко, словно ему не хватало воздуха. Его зрачки померкли, кожа на лице обвисла. Он попытался повернуть голову, бросил взгляд на гибкие щупальца, что оплетали его, и прошептал: – Боевой робот… ты притащил на станцию боевого робота… Очень предусмотрительно! Йездан видит, каждый из нас что-то взял с собой… Джеб Ро – свой план и Найю Акра… эта отмороженная – свою ненависть к землянам… Зенд Уна – палустар, что в твоих руках, а Первое Лезвие – меня… каждый что-то взял… – Ты перечислил не всех. Что взяли остальные? – спросил Тревельян. – Взяли… узнаешь, когда придет срок! Командор, по-прежнему крепко вцепившись в пленника, заметил: – Башня у него на месте, никуда не съехала, котелок варит. Допроси его, мой мальчик. Мы пока не знаем, кто прикончил Первое Лезвие. Это было сказано на земной лингве и осталось непонятным Курсу. Он лишь вздрогнул, когда за спиной раздался лязгающий голос робота. – Координатора убил тазинто, это видно на панорамной записи. Ты знаешь, кто он? – спросил Тревельян. – Нет. Первое Лезвие велел мне покончить с Джебом Ро и свалить вину на дикарей. Ему хотелось возглавить миссию и сделать все по-своему… – Курс попробовал шевельнуться, но это ему не удалось – манипуляторы робота оплетали его тело. Сморщившись, он промолвил: – Я бы выполнил приказ, не мог не выполнить, но меня опередили. Кто и почему, не знаю. – На станцию пронесли гипноглиф. Кто это сделал? Кто убил Первое Лезвие? – И это мне неизвестно, землянин. Могу сказать лишь одно: багаж Зенда Уна не досматривался. – Почему? – Он – Око Хорады. – Как ты догадался? – Догадываться было незачем – Лезвие меня предупредил. После Джеба Ро я должен был расправиться с Зендом Уна и, если Найя Акра не захочет подчиниться, убить и ее. Лезвие умел планировать такие акции… вышло бы так, словно отмороженная и лингвист прикончили друг друга. Но и тут я не успел… Зато остальные, остальные!.. Если бы не ты, землянин, все были бы мои! – Пальцы Курса судорожно сжались. – Все! – Ты был биологом из клана похарас, и тебя звали Тан Одд. Потом ты стал Курсом. Повторяю вопрос: как это случилось? Страшная судорога исказила лицо Курса. Тело его выгнулось дугой, скрипнули зубы, на безволосом черепе выступила испарина. Словно в забытьи он забормотал: – Не помню, почти ничего не помню… была блокирована память… эти специалисты – ни на Тоу большие мастера, да проклянет их Йездан! Не помню, как попал к ним в руки… даже теперь не помню, когда вернулась часть воспоминаний… все смутно, очень смутно… была катастрофа, какая-то авария… Тан Одд не выжил… необратимые телесные повреждения, но мозг остался цел… я так думаю… – Заметь, часть воспоминаний к нему вернулась, – проскрежетал Советник, и в то же мгновение догадка пронзила Тревельяна. Скорчившись под зеркальным потолком, он придвинулся ближе к киборгу и, глядя в его затуманенные зрачки, спросил: – Тебе вспомнилось, что ты был Таном Одд, человеком из клана похарас, верно? Ментальный излучатель тебя не убил и даже вернул какие-то осколки памяти, разрушив блок? Выходит, Зенд Уна оказал тебе услугу! – Очень плохую. Лучше бы не вспоминать, а только подчиняться, всегда подчиняться… – Курс с хрипом втянул воздух. – Луч палустара задел меня по касательной, но ты это исправишь, землянин. Ведь исправишь, я не ошибся? Оружие в руке Тревельяна дрогнуло. Перед ним был несчастный безумец, жертва странного эксперимента, несомненный убийца, но все же человек. По крайней мере, человек наполовину… Заслуживал ли он смерти? – Твое «я» к тебе вернулось, Курс… то есть Тан Одд… ты осознал свою сущность, частицу прежней индивидуальности… Зачем же начал убивать? Что произошло? Что с тобой случилось? Пленник, стиснутый прочными оковами манипуляторов, затрясся. Его конечности остались неподвижными, но плечи, торс и голова ходили ходуном, точно в эпилептическом припадке. Серая радужка глаз, цвет которой у кни’лина назывался сумеречным, потемнела, сделавшись почти черной. – Был в беспамятстве, – прохрипел киборг. – Страх, ужасный страх гнал меня куда-то… Очнулся на нижнем ярусе, в шлюзовой… не знаю, как туда попал… Вспомнил свое имя, и страх сменился ненавистью. Я ненавижу их, землянин! Ни, похарас, другие кланы, всю эту проклятую расу! Ненавижу за то, что сделали со мной! Я уничтожу их! Всех, до кого доберусь! И тебя убью, если представится случай! – Но я с Земли, а не с Йездана, и не виноват в твоем несчастье. За что ты ненавидишь меня? Физиономия Курса перекосилась в кривой усмешке. – А ты не понимаешь? Ты не кни’лина, но ты человек, и у тебя тело и разум человека… это ко мне не вернется… Достаточный повод для ненависти, а? – Глаза киборга закрылись, ресницы, почти такие же длинные, как у Ифты Кии, легли двумя веерами на подглазья. – Лучше убей меня, землянин, – пробормотал он. – Убей, или я убью вас всех, а потом – себя… Жить, как тварь с Тоу, я не хочу. «Его право решать, мое – исполнить», – подумал Тревельян, поднимая оружие. Он приложил раструб палустара ко лбу пленника, промедлил секунду и нажал на спуск. Ничего не случилось. Он нажимал опять и опять, но, против ожидания, Курс не обвис бесформенным мешком в щупальцах робота, не задергался в конвульсиях, не испустил предсмертного хрипа. Его глаза были по-прежнему закрыты, но киборг оставался жив. – Прокисла твоя машинка, – заметил командор. – Предупреждал тебя, парень, не верь Иуде! Взгляни, как там аккумулятор? Источник питания был на месте. – Значит, что-то другое он выкрутил, – произнес командор. – Вот бестия! Делать нечего, придется тряхнуть стариной… – Два щупальца, бывшие еще свободными, обхватили виски и лоб киборга, потом его голова резко дернулась, раздался хруст шейных позвонков, и тело Курса обвисло. – Вот так мы это делали, – сказал призрачный Советник. – Даже с дроми получалось, хотя загривок у них, скажу тебе… Он пустился в воспоминания о минувшем, об отгремевших сражениях, о битвах в космосе и на планетах, о рукопашных схватках с хапторами, дроми и кни’лина, но Тревельян его не слушал, шепча слова заупокойной службы. Сказано в Книге Йездана Сероокого: в начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин. И еще сказано: человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти. И еще сказано: у протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли…В связи с запросами о работах в колонии Тоу и возросшей активности валлс сообщаю: 1. Цель исследований на Тоу именно та, что сформулирована в вашем первом запросе. Работы проводятся изолированной группой специалистов клана ни и не имеют военного значения, так как выход продукции крайне мал (причины этого будут выяснены в ближайшее время). Население, включая рядовых представителей клана ни, весьма негативно относится к объектам, поступающим с Тоу. Прогноз: Не исключается, что научный комплекс на Тоу будет ликвидирован или разгромлен самими кни’лина. Рекомендации: Со стороны Разведслужбы ничего не предпринимать. 2. Ситуация с кланом валлс представляется более серьезной, поскольку в их владении находятся значительные средства, полученные от Земной Федерации в период противоборства с кни’лина. Как удалось установить… Фрагмент сообщения резидента Разведслужбы Звездного Флота в зоне ТХ14 сектора кни’лина. Строго секретно.
Глава 13 Убийца Джеба Ро
Ивар взял одноместную капсулу. Как все летательные аппараты плешаков, она была слишком просторной и широкой на человеческий взгляд, и за пилотским сиденьем нашлось достаточно пространства, чтобы там с удобством разместился командор. Дед все еще сохранял форму восьминогого УБРа, и причин к тому было две: ему хотелось порезвиться в теле робота, а к тому же иного оружия, кроме его манипуляторов, у Тревельяна не имелось. Он был бы не прочь поговорить с Иутином насчет испорченного палустара, но третий генетик явно избегал контактов – во всяком случае, ни в лаборатории, ни в личном отсеке, ни в других местах, доступных Мозгу, обнаружить его не удалось. Тревельян дал указание зафиксировать свой вызов, велел Вечернему поддерживать дисциплину и убедился, что Глубина не проявляет подозрительной активности, а сидит спокойно под замком. После этого он отбыл на Сайкат, чтобы провести расследование в стойбище Длинного Меча. Его аппарат готовил к полету Аткайя, техник космических транспортных средств, приходившийся Шиару, как все прочие служители, родичем, тенсу или гайрим. Видимо, сплоченное семейство слуг клана ни питало к Тревельяну искреннее уважение: капсулу вылизали до блеска, двигатель работал без гула и вибрации, а в грузовом отсеке продуктовые контейнеры громоздились горой. Последнее было очень кстати – Тревельян мог не спускаться к наземной базе и не тревожить ее склад. Машина еще не вошла в верхние слои атмосферы, когда за спиной Ивара раздался скрипучий голос: – Не торопись спускаться, мальчуган. Сначала облетим планетку пару раз и потолкуем о твоих делах. Вот, к примеру, – не многовато ли ты раздаешь обещаний? – Если ты о Курсе, так это обещание выполнено, – возразил Тревельян, однако снял навигационный шлем и, задав новую траекторию, коснулся клавиши автопилота. Сейчас капсула двигалась в меридиональной плоскости, и в данный момент под ними проплывал юго-западный материк. Горное плато, примыкавшее к берегам южного полярного океана, казалось с высоты малахитовым ковром с хрустальными жилками рек и терракотовыми пятнами утесов. Над ним, но глубоко внизу под капсулой, кудрявились облака, плывшие друг за другом в голубые сайкатские дали. – Я не о Курсе, а о том, что ты обещал криогенной жестянке взять его к нам в компанию. А еще эта Ифта Кии, с ее имплантом и сексуальным аппетитом… Ты в самом деле хочешь прихватить ее с собой? Тревельян откинулся в кресле. Кожа, надетая под комбинезоном, щекотала мышцы слабыми электрическими разрядами. Этот повышавший тонус массаж был очень приятен. – Отвечаю по порядку. Обещание, данное Мозгу, я непременно выполню – в интересах Фонда заменить его земным аналогом. Неизвестно, что еще запрограммировал этот ньюри Кайтам… Как говорится в Книге Йездана, к большой дороге ведет множество тропинок, и все они извилисты. Лучше убрать Мозг со станции. – Ну, так пусть отправится к каторжанам на эту их Кагиру Зенту, – предложил Советник. – Нам-то он зачем? – Ты, случаем, не ревнуешь, дед? – с усмешкой осведомился Тревельян. Вокодер робота издал серию каркающих звуков – очевидно, они имитировали смех. – Не ревную, но испытываю законное недоверие к инопланетному мыслящему устройству. Это с одной стороны, а с другой – я был бы не прочь его погонять. – Командор умолк, потом проговорил с мечтательным оттенком: – Давненько я этим не занимался… Кто у меня нынче в штате? Ровным счетом никого, ни единого ублюдка! Ни капитана, ни лейтенанта, ни даже молокососа-энсина или какой-нибудь тыловой крысы… А ведь когда-то!.. Когда-то!.. Горное плато под ними обрывалось в море джунглей. Кроны гигантских деревьев скрадывали землю и все, что находилось на ней: холмы и реки, ручьи и лощины, скалы и большие валуны, след древнего оледенения. Но тот геологический период, когда с гор, подминая растительность, ползли ледники, давно прошел, и теперь континенты Сайката были теплыми и полными жизни. Воистину этот мир являлся жемчужиной среди других миров, большей частью холодных, мрачных и неприветливых! – Если желаешь, я отдам Мозг в полное твое подчинение, – пообещал Тревельян. – Ты у нас командор, ты и командуй. А что касается Ифты Кии… – Да? – Всякий гуманоид без криминального прошлого может поселиться на любой планете Земной Федерации – конечно, в пределах выделенной квоты. Тем более красивая женщина… Кстати, квота кни’лина отнюдь не исчерпана. Они не любят ездить к нам. – Странно, – молвил командор. – Ничего странного. Они самолюбивы, горды и злопамятны, а поражение в войне… – Я не об этом, парень. Странно, что этакий ловелас, как ты, неправильно оценивает женские желания. Эта наша красотка – плющ, лиана ядовитая. Ей не светлая любовь нужна и не семейное счастье, ей нужен покровитель, нужны наряды, развлечения, внимание и крепкая поддержка. Ты готов все это дать? – Нет, – вздрогнув, сказал Тревельян. – Но это не значит, что ей закрыты пути на Землю или Гондвану. Дама вполне экзотическая, так что покровитель для нее найдется. Внизу сверкала сине-зеленая лента пролива между юго-западным и северным континентами. Пролив был достаточно широк, чтобы обезопасить терре от посягательств тазинто на ближайшие десять-двадцать тысяч лет – разумеется, если уговорить троглодитов переселиться за море. Но кроме уговоров существовали и другие способы, начиная от транспортировки усыпленных пещерных жителей и кончая ментальным излучением, способным вдохнуть в них тягу к странствиям. Полюбовавшись игрой света на океанских волнах, Тревельян стал обдумывать эти варианты. Его Советник, томимый скукой, пошевелился, ткнул манипулятором в спинку кресла и сменил тему. – Ты поразмыслил насчет плана Джеба Ро? Есть полезные соображения? – Соображений нет, но есть предчувствие. Понимаешь, дед, эти материалы, которые мы просмотрели… весь этот ужас, кровь, резня, убийства и, под конец, соединение земной истории со зверствами тазинто – все это пахнет какой-то гнусностью. Первый Лезвие, желавший уничтожить дикарей или замедлить их прогресс, был сторонником простых решений, а о Джебе Ро этого не скажешь. Мы знаем, что он не хотел применять излучатель, но, думаю, не из гуманных соображений. Ни к терре, ни к тазинто он симпатий не питал, но обе расы были ему необходимы, причем в нынешнем их состоянии. Для чего? – Хороший вопрос, – проскрипел командор и после паузы спросил: – Помнится мне, что эту планетку под нами считают уникальной? – Так и есть, с точки зрения гуманоидов. Единственный мир с двумя расами на стадии каменного века. Какая из них выживет и к чему придет? Станут ли терре подобны кни’лина, а тазинто – нам, землянам, или, возможно, хапторам? Это интересует многих, как и последствия нашего вмешательства. – Свяжи одно с другим, и ты, надеюсь, придешь к ответу. Я говорю об уникальности Сайката и запахе подлянки, который ты ощутил… Эти похарас коварные парни! И очень непростые! Аппарат пересек гористый полуостров, что отходил от северного материка и тянулся далеко на запад, вторгаясь в аквамариновую океанскую поверхность. Последнее прибежище терре на этом континенте, автоматически отметил Тревельян. Под ним промелькнули сырые прибрежные джунгли, зеленая саванна со стадами копытных, дремучий лес у подножий хребта, сочные горные луговины и, наконец, остроконечные пики и глубокие ущелья с яростными водопадами, дававшими начало рекам. Потом все пошло в обратном порядке: луга и леса предгорий, степь и чащоба у берега, куда вторгались волны океана. – Ну, а что ты думаешь насчет гипноглифа? – произнес командор за спиной Тревельяна. – Насчет убийства Лезвия и этого несчастного Ори? Кто их упокоил? Ведьма Глубина? – Вряд ли. Я бы сказал, что почерк не ее. Опять же гипноглиф, редкая инопланетная штучка… Где такую вещь достанешь? А вот Зенд Уна… – Этого могли снабдить, – согласился Советник. – Как-никак представитель Хорады, ее недреманное Око! Курс говорил, что его багаж не досматривали. Ивар развернул кресло и хлопнул по колпаку робота. – Мой досмотрели, однако кое-что проворонили. Фонд не нарушает законов, но все-таки не прочь подстраховаться… Ты, дед, стоишь дюжины гипноглифов. Вокодер робота загудел, исполнив несколько тактов из симфонии Горни[25] – видимо, предок Тревельяна был польщен. Капсула уже миновала полуостров, и теперь они мчались прямо на север над безбрежным океаном, окутанным кое-где пеленою туч. Еще три-четыре минуты, прикинул Ивар, и машина, пройдя в районе полюса, пересечет линию терминатора. Он вытянул ноги, покосился на пульт, горевший огоньками утреннего цвета, и сказал: – Ты, конечно, прав – лингвист у нас под сильным подозрением. Разобраться бы еще с его мотивами… Зачем эмиссару Хорады, официальному лицу, убивать координатора? Хотя… – Ивар задумался, покрутил связной браслет на запястье и медленно произнес: – Повод, впрочем, можно найти. У всякого плана есть исполнитель. Если план особенно важен, если в нем имеют интерес разные структуры, то следует подстраховаться от дурака-дуболома. Тогда исполнителей будет двое, главный и резервный. Джеб Ро погиб, и Зенд Уна, резервное звено, спасает ситуацию. Убрав Лезвие, он провоцирует Курса, чтобы свалить убийство на него, подставить киборга и в то же время отомстить – он, вероятно, был уверен, что именно Курс разделался с прежним координатором. Как тебе такая версия? – Похоже на правду, клянусь Великой Пустотой! – каркнул командор. Капсула вошла в ночную тень, и океан, кативший внизу свои волны, из сине-зеленого стал антрацитовым. У Сайката не было природного спутника, но яркие звезды и туманность Бивня разгоняли темноту, заставляя водную поверхность маслянисто поблескивать. Океан простирался на все западное полушарие планеты, захватывая еще и часть восточного; его моря, лежавшие между континентами, как и два больших пролива, пока не имели названий. – Все взаимосвязано, дед, и все упирается в планы Джеба Ро, – задумчиво промолвил Ивар. – Первый Лезвие велел убить координатора, затем лингвист его прикончил, но сам пал жертвой Глубины. Отсюда начинается новая цепочка, ибо кроме планов Джеба Ро и Лезвия есть еще и другие – свой у Глубины, а также, быть может, у Иутина. Каждый тянет в свою сторону, уничтожая мешающие факторы, и каждый для этого что-то имеет – нож, гипноглиф или опытного киллера. – Гадючник, – буркнул командор, – форменный гадючник! А еще этот хмырь на планете, поддельный дикарь… Ты его, случаем, не вычислил? Тревельян уставился в темноту на обзорных экранах. – Есть кое-какие соображения. Я полагаю, его заслали на Сайкат в облике тазинто, подвергнув биопластической трансформации и изменив метаболизм – надежный старый способ, хоть и непростой. Если группа, к которой он относится, владеет этой технологией, ее возможности довольно велики. Во всяком случае, они способны совершать межзвездные полеты и обладают средствами для колонизации планет. И этот мир им нужен. Он кивнул на темные экраны и вдруг замер, настигнутый новой идеей. – Послушай, дед… Помнишь, мы были в стойбище тазинто? Там еще затеялась баталия, в меня швыряли камни и кости… Ты просканировал этих мерзавцев? – Нет. А зачем? – Затем, что этот лжедикарь имеет при себе какие-то устройства. Наверняка передатчик и, возможно, что-то еще. Вряд ли оружие, скорее… – …медицинский имплант? – закончил Советник. – Верная мысль! Просто отличная! Этого хмыря заслали к кровожадным дикарям, однако не без защиты! Мышечная масса должна быть солидной – и мы видели, что он здоровый мордоворот… Кроме того, необходимы приборы для связи со станцией и эффективного лечения, а их несложно имплантировать… Жаль! Жаль, что я не догадался проверить шайку этих крыс! – Командор дернул манипулятором, затем поинтересовался: – Кого-нибудь подозреваешь? Может, вождя? Как его… Сломанный Меч? Обогнув темное полушарие, капсула вынырнула из мрака у южного полюса и пошла на второй виток. Тревельян обдумал подсказку Советника и покачал головой. – Сломанный Меч? Сомневаюсь. Вождь – заметная фигура, вождь всегда на виду, а наш клиент вряд ли хочет выделяться. В лидеры он не сунется, но и роль слабейшего тоже не для него. Слабейший в каменном веке всегда голодный, битый, а затем и мертвый… Так что он, я думаю, должен быть вторым или третьим в стае. Почти наверняка один из тех, кто начал швырять в меня камни. – На панорамной записи рожу его не разглядеть, но по имплантам я опознаю гада, – прохрипел Советник. – Давай-ка, парень, вниз! Изловим этого хмыря и проведем допрос с пристрастием! Пока что ясно одно: кланам ни и похарас он не служит. – Тогда остаются зинто и валлс, – натягивая шлем, подвел итоги Тревельян. Капсула вновь пронеслась над Юго-западным материком, пересекла пролив и начала спускаться. Мелькнули белые перья облаков, небо из черного сделалось ярким, голубым и светлым, горизонт ринулся вверх, превратив планетарный сфероид в зеленую чашу. Маяк вывел их к полевому лагерю, но садиться у базы Ивар не стал, а, прижимаясь к древесным кронам, направился к поселению тазинто. Летели медленно, прощупывая лес чуткими датчиками, но, кроме насекомых, птиц и прочих неразумных тварей, ничего не обнаружили. Пока аппарат двигался по заданному маршруту, Тревельян опустошил две банки, с курземом и какими-то фруктами, и запил обед коктейлем «три сестры». Потом, заметив в чаще удобную прогалину, спустился вниз, вышел из капсулы и зашагал к стойбищу дикарей. Робот, подобрав манипуляторы и огибая деревья, летел следом за ним. С юга, со стороны океана, наползали тучи, и Тревельяну подумалось, что может начаться дождь.* * *
Ливень хлынул, когда они добрались до жалкого селения тазинто. Пейзаж тут не изменился: дождевые струи молотили по оседающим кучам фекалий и отбросов, по темному пятну кострища, по остовам шалашей, прикрытых рваными шкурами, по испоганенной, заваленной мусором земле. Черепа и костяки животных, пожелтевшие ребра, груды копыт и рогов делали ее похожей на древнее кладбище динозавров или мамонтов. В сравнении с пещерой терре это место было омерзительно и видом своим, и запахом, и лишь одно его красило – полное отсутствие обитателей. Прячась под ветвями развесистого фролла, Тревельян осмотрел окрестности, хмыкнул, пожал плечами и пробормотал: – Убрались отсюда. Должно быть, напуганы Курсом… Ну, сейчас мы их поищем. Он отступил подальше в лес, туда, где густая листва давала защиту от свергавшихся с неба потоков, связался с компьютером наземной базы, а через него – с птицами-киберразведчиками. Но посылать их на розыски не пришлось, так как действовала программа постоянного наблюдения за местностью от океанского побережья до горного хребта. Ширина полосы, находившейся под контролем, составляла пятьсот двадцать километров, и на этой территории находились более сотни стоянок тазинто и двадцать девять еще не разоренных убежищ терре. Летающие роботы следили за миграцией дикарей, и, согласно их данным, орда Сломанного Меча откочевала выше в горы, в заросшее лесом и кустарником ущелье в семи пеших переходах от прежнего стойбища. Там, вероятно, они считали себя в безопасности. Тревельян, сопровождаемый УБРом, вернулся к капсуле, запросил у компьютера базы точный маршрут и поднял машину в воздух. Она была слишком велика, чтобы маскироваться под птицу или другую летучую тварь, но заметить ее сквозь зеленый полог леса не удалось бы никому – капсула летела низко, над самыми деревьями, а двигатель, как все гравитационные механизмы, работал практически бесшумно. Преодолев два или три отрога горного хребта, аппарат направился вверх, плавно скользнул вдоль склона, заросшего фроллами и соснами, промчался берегом реки, извергнутой ущельем, и углубился в теснину. На боковом мониторе вспыхнула схема окрестностей, и Тревельян, сверившись с картой, хотел было подобраться ближе к стоянке, но тут заверещали датчики, а над экраном зажглись алые голографические огоньки. Их оказалось несколько десятков; перегородив ущелье и двигаясь цепочкой, они плыли по обеим берегам реки. – Охотятся, – проскрежетал командор. – Стоит собрать их в кучу, но как это сделаешь? – Не наша забота, – отозвался Ивар. – Видишь, тут сгущение огней? Согласно первобытной тактике, здесь вождь и самые умелые ловцы. Остальные замкнут цепочку в кольцо и погонят дичь на них. Наш хмырь в этой группе, а если его там не окажется, я заставлю Сломанного Меча собрать всю банду. – А мне что делать? – Просканируй их, и когда обнаружишь типа с имплантами, хватай и тащи к капсуле. Только постарайся шею ему не свернуть. – Я буду с ним нежен, как старшина с новобранцем, – пообещал командор. – Где мы сядем? – За этой скалой. Место удобное, скрытное. Аппарат неторопливо пошел к земле, завис над порослью голубоватых мхов, и Тревельян с Советником покинули машину. Прислушиваясь к звукам облавы, стуку, грохоту и диким воплям, что доносились со всех сторон, Ивар занялся своей внешностью. Он снова стал тазинто: широкое смуглое лицо с огромными челюстями, маленькие глазки, низкий лоб, грива бурых волос, заросшие шерстью плечи и хребет, шкура маа, обернутая вокруг пояса. Однако теперь роста в нем было метра три, а руки и ноги толщиной не уступали бревнам. Командор пристроился над его макушкой – точь-в-точь как блестящая шляпа на голове гиганта. Такими они и явились дикарям. Сломанный Меч и дюжина его охотников только что забили какую-то зверюгу, походившую на крупного оленя, безрогого и бесхвостого, зато с клыками. Еще разгоряченные после схватки, они подпрыгивали, орали, потрясали оружием, тыкали добычу копьями; один дикарь вышибал клыки, другой пил кровь из шейной вены, а пара самых шустрых уже принялись сдирать шкуру. Не считая мелких деталей, эта картина напомнила Тревельяну учебный фильм из курса «Каменный век Земли», прослушанного им лет двадцать назад в академии ФРИК. Он шагнул к прогалине, где сгрудились тазинто, и, увидев великана, они замерли, точно изображение в стоп-кадре. Сломанный Меч стоял в середине группы, опираясь на сучковатую палицу; шесть-семь самых могучих самцов, окружавших вождя, застыли в разнообразных позах; свежевавшие тушу согнулись над ней, выронив ножи; дикарь, возившийся с клыками, сел на землю; тот, кто присосался к вене, задрал лохматую голову – рот его был распахнут, губы окровавлены. Мимика этих примитивных существ не отличалась выразительностью, но ими бесспорно владели два чувства: изумление и страх. Страха было больше – казалось, сейчас они сорвутся с места и ринутся в кусты. – Не бежать, – сказал Тревельян, делая обеими руками миролюбивые жесты. – Кто бежать, плохо. Мой зверь-помощник догонит, сломает кости. – Он хлопнул по панцирю робота и, перейдя на земную лингву, спросил: – Нашлось что-нибудь, дед? – Сканирую, – проворчал Советник. – Жди. Еще минуты три-четыре. Если здесь его нет, велишь, чтоб собрались остальные ублюдки. Сломанный Меч, очнувшись, выступил вперед. Охотники столпились за спиной вождя, опустив топоры, дубины и копья. Нападать они явно не собирались. – Чужой, – хрипло выдавил вождь. – Видеть тебя раньше, но не такой большой. Обещал уйти и не вернуться. – Твоя стая – хорошая стая. Мне нравится, – промолвил Ивар. – Много сильных воинов, много добычи. Хочу видеть еще раз. – Тебе надо мяса? Надо самку? Надо копье или топор? Кажется, Сломанный Меч желал откупиться. Тревельян сделал жест отрицания. – Нет. Только видеть. Узнать, кто лучший охотник. Принести ему дар. Тазинто за спиной вождя зашевелились, забормотали, переминаясь с ноги на ногу, но Сломанный Меч стоял как вкопанный. В его крохотных глазках светились злоба, страх и подозрение. – Принести дар, – повторил он, поднял огромную лапищу и почесался. – От кого? Ты от Раздающего Дары? – От него. Тот, Кто Раздает Дары, велел найти лучшего охотника. Раздающий, – Тревельян поднял взгляд к небу, – сделать так, чтобы охотник всегда с добычей. – Гы! Гы, гы! Я – лучший! – Вождь стукнул себя в грудь. – Это не он, – негромко предупредил Советник, висевший над макушкой Тревельяна. – Определенно не он! Но кажется, я нашего молодчика нащупал… Или тот амбал с копьем, или громила с дубиной слева от него. Подойди ближе, я засеку точное направление. Ивар шагнул к тазинто, и несколько дикарей попятились в испуге. Охотник с копьем был среди них. – Ты лучший, но ты – вождь, – сказал он, вытянув руку к Сломанному Мечу. – Вождь выше охотник, больше охотник. Охотник нести добычу вождю, вождь ее делить, вождь вести воинов, чтобы убивать врага. Тот, Кто Раздает Дары, хочет охотника, не вождя. – Бери, – согласился Сломанный Меч с заметным облегчением. – Тот, Кто Раздает Дары, лучше знает. – Хмырь с копьем. Наш клиент! – уверенно сообщил командор. – Три импланта: связной, медицинский и еще такая штучка, что регулирует обмен веществ. Думаю, затем, чтобы он мог жрать мясо. Кни’лина здесь не обойтись без такой приспособы. Тревельян, огромная фигура с блестящей полусферой над теменем, придвинулся ближе к дикарям. Теперь отступили все, включая предводителя; клыкастый олень лежал между группой тазинто и Иваром, словно межевой камень. Он перепрыгнул через тушу животного. – Вот хороший охотник! – Теперь его рука показывала на дикаря с копьем. – Я возьму его и отведу к Раздающему Дары. Он вернется и принесет стае удачу. – Гы! Он твой. Сломанный Меч повелительно вскинул дубину, и все отступили от избранника божества. Тот, словно пораженный ужасом, бросил шест с грубым каменным острием, отступил и заметался среди деревьев и кустов. Но похоже, его паника и страх были показными – дорогу беглец выбирал умело и в три прыжка исчез за густым кустарником. – Дед! – выкрикнул Тревельян, но УБР уже мчался в погоню. Отливавшая серебристым блеском полусфера с растопыренными щупальцами просвистела в воздухе, точно старинный артиллерийский снаряд, ломая ветви деревьев и осыпая землю листьями. Это зрелище перепугало дикарей; вождь, отшвырнув свою палицу, бросился в лес, охотники ринулись следом, и через секунду поляна опустела. Ивар слышал только затихающий треск кустарника, журчанье горной речки и далекие крики загонщиков, еще не знавших, чем закончилась охота. Какой-то зверь промелькнул среди стволов и скрылся в подлеске с утробным хрюканьем – то ли кабан, то ли иная тварь, похожая на дикую свинью. Всколыхнулись и застыли ветки, топот животного затих, и вновь наступила тишина. Солнечный свет, щедро струившийся в ущелье, озарял разбросанные копья и дубины и тушу мертвого оленя. По его шее тоненькой струйкой стекала кровь. Тревельян, все еще в облике гиганта-тазинто, терпеливо ждал. Но ожидание было недолгим: вскоре УБР возник над деревьями будто небольшой серебряный парашют, тащивший пленного парашютиста. Дикарь свисал в щупальцах робота безжизненным мешком, и Тревельяну показалось, что он лишился чувств. Экземпляр был крупный, ростом под два метра и весом не меньше центнера. Ветер шевелил сальные лохмы пленника и длинную шерсть на плечах и спине; когда командор приблизился, в нос шибануло застарелой вонью. Тазинто, в отличие от терре, не были поборниками гигиены. – Ты его, случаем, не придушил, дед? – полюбопытствовал Ивар. – Слегка. Только в интересах транспортировки. Шустрый хмырь! Бился, как заяц в капкане. Ну, я его чуть-чуть… – Командор небрежно помахал свободным манипулятором. – Чуть-чуть – это сколько? – Оклемается, не тревожься. У него медицинский имплант. В самом деле, подумал Тревельян и, повернувшись, зашагал к капсуле. Она зависла над голубыми мхами у невысокого утеса; фроллы и местные сосны с длинными мягкими иглами окружали скалу и аппарат, в разрывах крон виднелось бирюзовое небо, и плыли в нем розовые облака. Дождь, пролившийся в низине, в горы не добрался, и воздух тут был суховатым и свежим. Опустив свою добычу на моховой ковер, робот замер рядом с ней на страже. Веки пленника дрогнули. Тревельян разглядывал его лицо, почти точную копию собственной физиономии: узкий лоб, выступающие надбровные дуги, широкие скулы, огромные челюсти. Тело тоже казалось шедевром биопластики – мощные мышцы торса и конечностей были заметны даже под шерстью. Кто бы ни выполнил эту работу, он был настоящим мастером. Тазинто открыл глаза. Бессмысленный взгляд, отметил Ивар и произнес на языке кни’лина: – Назови свое имя, клан и статус. Пленник словно бы не понял, помотал лохматой башкой, искоса взглянул на робота, на летательный аппарат и уставился в землю. – Имя, червяк! – велел Тревельян, перейдя на скудное наречие тазинто. – Длинное Копье, – пробормотал дикарь. Его челюсти ворочались медленно, будто он пережевывал глиняный ком. – Тебя прислать Раздающий Дары? Он сделать Длинное Копье лучший охотник? Я рад. – Сейчас я тебя еще больше обрадую, – сказал Тревельян, вернувшись к цивилизованной речи. – Мой робот снабжен особыми датчиками, распознающими импланты. У тебя их три. Любопытно, где ты их раздобыл? В ответ – молчание. – Я не стану тебя убивать, но если не разговоришься, проведу ментоскопирование. У робота есть все нужные устройства. – Есть! – рявкнул командор и протянул манипуляторы к голове пленника. Вздрогнув, тот отстранился. – Не надо. Если желаешь, побеседуем. Это мало что изменит. Теперь он говорил на языке кни’лина, слегка отличном от наречий похарас и ни. Сказанное будто сыграло роль катализатора: его лицо сделалось другим, контуры скул, лба, ноздрей и щек обозначились более четко, губы поджались, и глаза уже не выглядели пустыми – в них билась ненависть. Под грубыми чертами дикаря, что были только маской, проступала истинная сущность, всплывая из глубин разума, из памяти, хранившей тайное и скрытое, то, чего не могли стереть все чудеса биопластики. Опасный человек, решил Тревельян, и, вероятно, эта мысль передалась командору – УБР придвинулся к лжедикарю и обвил его плечи щупальцами. – Убери его! – прошипел пленник. – Имя, клан и статус! – Л’таш Кинр Тегира, эмиссар клана валлс на Сайкате! Можешь называть меня Тегира. А ты… Тревельян отключил создававшее иллюзию устройство. Глаза Тегиры, и без того крохотные, сузились, превратившись в две темные щелки. Он передернулся. – Землянин… так я и подумал, увидев робота и услыхав твой голос… землянин со станции… мне про тебя сообщили… Волосатый! – Ну, кто из нас волосатый, это еще вопрос, – заметил Тревельян, покосившись на мохнатую грудь пленника. – Сообщение со станции прислала Глубина? – Да. – О том, что она валлс, я уже знаю. Еще мне известно, что ваш клан – клан убийц, и ты, Тегира, тоже убийца. Ты уничтожил Джеба Ро, а Глубина – Зенда Уна и Найю Акра… Зачем? Вы что-то имеете против похарас? Тегира усмехнулся. Выглядело это устрашающе: раскрылась пасть, блеснули огромные зубы, обнажились внушительные клыки. – Похарас или ни – без разницы, клянусь Йезданом! Мы убивали тех и других, и будем убивать их, пока существует наш клан! Не хочу оправдываться перед тобой, землянин, но нас вынудили… вынудили к террору. – Вдруг он перешел на искаженную земную лингву. – Да, нас вынудить! Те кланы, которые главный у кни’лина, и вы, подонки-мшаки! Да упасть на вас наша кровь! Вечно вдыхать вам прах своих погребальных кувшинов! Предатели, волосатая мразь! Тревельян окаменел. Эта внезапная вспышка ярости казалась ему необъяснимой и совершенно иррациональной – до появления на станции он ничего не знал о валлс. Тем более, о каких-то давних счетах с землянами. – Ты не ошибаешься? – тихо произнес он. – Я знаю о межклановой борьбе у кни’лина… так, очень немногое, не информация, а ее отголоски… Но мы-то тут при чем? Мы, земляне? – Вы!.. Гы, гы, гы!.. – Тегира ревел, какнастоящий дикарь. – Не знаешь, что было во время войны? Никогда не слышал, как ваша разведка купила валлс, клан непокорных? Нам обещали помощь, а когда мы поднялись с оружием в руках, нас предали! Договорились с ни, бросив нас на растерзание! Что осталось от клана валлс? Сотая часть, тысячи из миллионов! Ты об этом не знаешь, землянин? Не знаешь? Гы, гы!.. – Его лицо потемнело от прилива крови, пальцы скрючились, лязгнули клыки. – И чтобы это не повторилось, я сижу здесь… сижу в мерзкой волосатой шкуре, дышу вонью, жру мерзкую плоть и убиваю! Он попытался приподняться, но манипулятор УБРа опять сдавил ему плечо. Глубоко вдохнув воздух, Тегира сложил на коленях огромные лапы, выдохнул с хрипом и вроде бы успокоился. – Давние дела, – промолвил Тревельян. – Не скажу, что очень древние, но старинные наверняка. Триста лет прошло, пора бы и забыть, кто кого предал и почему, если и было какое-то предательство… В чем лично я не уверен. – Вот разница между нами и вами! – оскалился Тегира. – У вас слишком короткая память! Вы забываете, а мы помним и мстим. – Йездан сказал: память о случившемся стирает время. – И еще сказал: клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость. – И еще сказал: мы способны на гораздо большее, чем думаем. Мы способны прощать. – И еще сказал: зверь всегда рядом с вами. – Ладно, не будем устраивать религиозных споров, а вернемся к нашим орехам, – вздохнув, предложил Тревельян. – Если я правильно понимаю, Глубина сообщила тебе, что координатор с тремя достойными отправился в наземный лагерь. Потом ты увидел меня, когда я появился в вашем стойбище… Кстати, не ты ли первым бросил в меня камень? Тегира показал клыки в ухмылке. – Возможно. Возможно, землянин! – Ну, черт с тобой… я не в обиде… Продолжим! Итак, я появился в вашем крысятнике. Ты знал, что орда Сломанного Меча нападет на терре и что мы будем все записывать. Удобный случай, чтобы разделаться с Джебом Ро и дестабилизировать обстановку на станции… Так оно было? – Именно так. Эта станция и ваши проекты с ни и похарас нам совсем не нужны. Мешают, землянин! – Джеб Ро был в обличье тазинто, и Курс тоже. Я и Иутин имитировали терре, но, в принципе, мы тоже могли оказаться на опушке, подделавшись под дикарей… – Хмуря брови, Тревельян рассуждал вслух. – Ты мог увидеть любого из нас, заметить голокамеры, сообразить, что это не тазинто, а наблюдатели со станции… Но как ты узнал координатора? Тегира осклабился еще шире. – Никак, землянин! С координатором мне просто повезло. Я мог убить любого, кто подвернется. Началось бы расследование, и та, кого ты зовешь Глубиной, добавила бы пару трупов… подлила бы масла в огонь, как говорите вы, земляне. – Откуда ты знаешь наш язык? – Триста лет он передается в клане валлс. Я ведь сказал: мы ничего не забываем! Ивар в задумчивости воззрился на пленника. По сути, он был таким же несчастным созданием, как Курс, тварь с Тоу; такой же изувеченный человек с идеей-фикс, такой же убийца, только принявший свое уродство и судьбу по собственной воле и желанию. Но кроме этого, имелись другие, более важные отличия: Курс являлся изгоем-одиночкой, а Л’таш Кинр Тегира был членом мощной организации, тайного клана валлс. Его клан наверняка имел свои цели и проводил свою политику… Это казалось куда опаснее! – Чего вы хотите? – спросил Тревельян. – Я понимаю, что доля зинто не для вас, что вам нужна независимость, нужна свобода, и вы добиваетесь этого столетиями, то тайно, то открыто… понимаю, что ради этого вы предали собственную расу, вступив в союз с Землей, что обернулось против вас… понимаю, что вы ненавидите ни, похарас, а заодно и землян… Но что вам надо здесь, на Сайкате? Зачем вы хотите уничтожить станцию, ее экипаж и весь проект? Какое вам до него дело? Тегира хлопнул огромной ладонью по голубому мху. – Нам нужен этот мир! Эта теплая, щедрая, благодатная планета! Место, которое может стать новой родиной для валлс! – Место занято, – сухо напомнил Ивар. – Оно принадлежит терре и тазинто. – Пока принадлежит. Не так сложно очистить его от кучки грязных дикарей и волосатых троглодитов. В глазах Тревельяна на миг потемнело. Он поднялся на ноги, запустил пятерню в лохмы эмиссара валлс, пригнул его голову, занес кулак над затылком. – Ты сказал, очистить? Очистить? Вот какие у вас намерения! Истребить разумную жизнь на Сайкате! Это преступление, Тегира, большое, огромное преступление! Даже в глазах тех, кто воевал или воюет среди звезд, ибо то войны равных, а создания этого мира беззащитны! Они как младенцы под топором мясника! – Будто вы не рубили младенцев, не вздевали их на пики и не жгли огнем, – буркнул Тегира и тут же напомнил: – Ты обещал не убивать меня! Один удар, подумал Ивар. Один удар, и треснет затылочная кость, разлетится мозг серыми ошметками, хлынет кровь, и не станет больше ни Тегиры, ни Длинного Копья… Но было другое решение, более мудрое и более жестокое. Он опустил кулак. – Наш разговор закончен, Тегира. Ты ответил на мои вопросы и, как обещано, останешься цел. Я тоже пожелал бы тебе нюхать прах погребального кувшина, но скажу иначе: жри до самой своей смерти плоть, что так омерзительна для плешаков, и отращивай шерсть! Вот тебе мой приговор: ты навсегда останешься Длинным Копьем! Махнув УБРу, Тревельян повернулся и зашагал к капсуле. – Приговор не вступит в силу, мшак, – раздалось за его спиной. – Боюсь, на станции тебя ожидают сюрпризы. Такие, что лицо твое окрасится в вечерний цвет.* * *
Капсула взмыла вверх, поднялась над рекой, ущельем и горами и, ожидая команды, застыла в трех километрах от планетарной поверхности. Тревельян, не надевая шлема, сидел в мрачном раздумье. Потом его рука потянулась к пульту, вспыхнул алый огонек устройства связи со станцией, и в вокодере раздался голос Мозга: – Слушаю, ньюри Тревельян. – Те численные массивы, что я велел тебе обработать… Найден ли какой-то разумный вариант? – Пока нет, но поиск графической зависимости продолжается. Изучено более двухсот тысяч комбинаций. – Пауза. – Это трудная задача, ньюри, но с каждой отвергнутой моделью шансы на успех возрастают. – Я понимаю, что статистика на нашей стороне, но хотелось бы ускорить дело, – промолвил Ивар. – Есть у меня одна гипотеза. Возможно, Глубина моделировала работу биоизлучателя и его воздействие на организм сайкатцев. Возможно, она искала такие параметры излучения, которые делают его смертоносным и для терре, и для тазинто. Возможно, она их нашла. Форма ментального импульса, частота, длительность, интенсивность, зона охвата и так далее – вот переменные величины в ее опытах. Что она могла исследовать при этом? Распад мышечных и нервных тканей? Генетические нарушения? Мутации, ведущие к летальному исходу? Эндокринный коллапс? Вероятность асфиксии? – Он помолчал и добавил: – Думаю, что-то в этом роде. Рассмотри ее данные под таким углом и сообщи мне результаты. Немедленно! – Уже исполняю, ньюри Тревельян. Что-нибудь еще? – Да. Можно ли задействовать излучатель без паролей? Без тех кодов, что известны двум координаторам землян и кни’лина? Если коды хранятся в твоей памяти, то их можно извлечь с помощью контактного шлема, а затем… – Их там нет. Блокировка излучателей абсолютно надежна. – Ты уверен? – Разумеется. Два пароля – составные части команды, по которой на излучатель подается энергия. Это делает независимый блок, а я только транслирую команду. В данный момент ведущие к излучателям энерговоды перекрыты. – Это хорошо, очень хорошо, – сказал Ивар, слегка успокоившись. – Ну, трудись, приятель. И передай экипажу, что я покинул Сайкат и возвращаюсь на станцию. Конец связи. – Конец связи, ньюри Тревельян. В капсуле воцарилась тишина. Тревельян сидел, по-прежнему не прикасаясь ни к шлему, ни к пульту, глядя на россыпь алых, ровно горевших огоньков. Мрачные мысли кружились в его голове. За спиной пошевелился командор, пробурчал: – Ты думаешь, она искала способы прикончить этих бедных недоумков? Тех и других, терре и тазинто? – Я не думаю, я в этом уверен, дед. Тегира сказал: нам нужно место, которое станет родиной для валлс, если его очистить от дикарей и троглодитов. Но это лишь часть правды. Положим, валлс займут планету, а ни и похарас вышлют флот, чтобы набить их пеплом погребальные кувшины… Возможная ситуация? – Я бы сказал, неизбежная. – Вовсе нет! Понимаешь, валлс нужен не только этот мир, но и гарантии безопасности от вторжения правящих кланов. Формально валлс не существует, как в секторе кни’лина, так и в этой экспедиции… Если здесь случится катастрофа, в ней обвинят ни и похарас и близко их к Сайкату не подпустят! Все расы будут против, все гуманоиды – земляне, хапторы, терукси, не говоря уж о парапримах и лоона эо! Валлс займут пустую планету по праву первопоселенцев, и никто не узнает, что они сотворили. Никто, если уничтожить всех свидетелей. – Пустить станцию и всех нас в распыл? – Да! Возможно. Не знаю, – выпалил Ивар, хмуря брови. Его терзало ощущение, что он упустил что-то важное, некую деталь, без которой Глубина и ее помощник на планете – или, возможно, руководитель?.. – никак не могли обойтись. Что это было? Серия случившихся убийств? Пожалуй, нет; их цель казалась Тревельяну ясной: уничтожение верхушки экспедиции и захват власти, что обеспечивало доступ к излучателю. Свара Первого Лезвия с Джебом Ро, Курс, безумный киборг, Зенд Уна, пустивший в ход палустар и гипноглиф – все это было на руку Глубине, но и сама она в средствах не стеснялась, что подтверждали трупы жрицы и лингвиста. Путь к излучателю был устлан мертвецами… Если бы не волосатый мшак-землянин, Глубина уже добралась бы до него, решил Тревельян. Непременно добралась бы! И что бы стала делать? Как утверждает Мозг, без тайных кодов энергию не подключить… Пусть она знает пароль плешаков, пусть, но ведь была еще земная часть секрета! Абсолютно недоступная для валлс! Значит, есть обходная тропа… В голове у него будто щелкнул некий переключатель. Развернув кресло, Ивар уставился на робота, застывшего в странной позе: одна тетрада щупальцев уперта в потолок, другая – в пол, как если бы УБР был распят у невидимого столба. Полусферический корпус казался огромным крабьим панцирем, подвешенным на гибких манипуляторах. – Есть идея, парень? – осведомился командор. – Корабль, – прошептал Тревельян, – корабль… – Ты про «Адмирала Вентури» или другой наш крейсер? Или про лоханку плешаков? Долго их придется ждать! Связи-то нет… Нужно самим выкручиваться. – Я не об этом, дед. Тегира, наш новый знакомец… Он ведь не из Великой Пустоты явился! Он прилетел сюда на корабле, и это судно где-то здесь, за солнцем на орбите Сайката либо у границ системы, а может, в облаке Оорта. Одноместный разведчик, или транспорт, или даже боевой корвет с аннигилятором… Сюрприз, о котором обмолвился Тегира! – Коль так, мы влипли, – проскрипел Советник. – Корабль – это энергия и оружие. Можно обойтись без генератора Лимба, что на станции, можно всю команду нашу перебить, а станцию в лапшу нарезать. Даже если это малая посудина, без экипажа, без аннигилятора, а только с метателем плазмы или мощным лазером… Ты уж мне поверь! – Я верю, – сказал Тревельян. – Верю и думаю, что кораблик все же небольшой. Будь у них корвет или транспорт, они прислали бы боевиков и захватили станцию. Похоже, ресурсы у них на исходе. – Резонно, – согласился командор. – Но в любом случае нам стоит поторопиться. Кивнув, Тревельян развернул кресло к пульту, напялил шлем и дал команду на расчет траектории возврата. Потом, не оборачиваясь, спросил: – Дед, ты знаешь, что случилось с валлс во время войны? Мы в самом деле их предали и бросили? – Мои познания в военной истории не безграничны, – признался Советник. – В ту эпоху, когда разразилась большая война с плешаками, я был давно уже мертв, и даже в живом состоянии меня не приобщили бы к тайнам разведки. Это, знаешь ли, парень, особая сфера, где хитрость, обман и коварство мостят дорогу дипломатии… А я солдат и в гнусных интригах не замешан! – Я тобой горжусь, – молвил Тревельян. – Ты, дед, лучший из предков! Тихо прожурчал гравитатор, и капсула ринулась вверх, в темное звездное небо.Так как на протяжении трех недель мы не получили никакой информации от полевого агента Ивара Тревельяна, посланного на Сайкатскую Исследовательскую Станцию, прошу выделить необходимые энергетические ресурсы для срочной связи с СИС. Одновременно прошу ускорить отправку экспедиции на Сайкат и договориться с Космическими Силами Федерации о переброске специалистов, роботов и прочего снаряжения на боевом корабле крейсерского класса. Молчание нашего сайкатского эмиссара внушает мне тревогу. Как следует из сообщения, полученного с крейсера «Адмирал Вентури», он благополучно высадился на СИС, однако с тех пор… Из докладной записки Роберта-Али Щербакова, координатора Сайкатского проекта, направленной в консулат ФРИК.
Глава 14 Сюрпризы
Сайкат, огромный, голубоватый, занавешенный кое-где пеленою облаков, плыл на потолочном экране. Изображение передавалось хвостовыми камерами; в действительности планета была внизу, в сотнях километров под капсулой. Аппарат уже вышел за границы атмосферы, окружавшей планетарный диск мерцающим ореолом, и поднимался все выше и выше – туда, где исчезало само понятие высоты, сменяясь расстоянием между небесными телами. Глядя на удалявшийся мир, Тревельян подумал, что это зрелище всегда чарует своей красотой и новизной. Ему доводилось взлетать с множества планет, и все-таки каждый раз ощущения были новыми, и каждый мир слал на прощание свои приветы, печаль или радость, предостережение или угрозу, улыбку или чувство тоски. Сайкат несомненно улыбался, как улыбаются другу, с которым предстоит еще немало встреч, и его улыбка была ясной и чистой. Тревельяну не хотелось, чтобы она померкла. Полусферический колпак воздвигся над его плечом, вытянул к пульту стержень видеодатчика. Командор изучал показания приборов. – Если я верно понимаю эти книлинские закорючки на шкалах, мы будем у станции часа через два. – Через два часа четырнадцать минут, – уточнил Ивар, стягивая навигационный шлем. Водрузив вместо него на голову свой обруч, он убедился, что тот сел плотно, и с задумчивым видом произнес: – Вызову-ка я нашего криогенного дружка, пусть доложит обстановку. Эти валлс слишком шустрые… Не наткнуться бы на их корабль… Он попытался связаться с Мозгом, но тот упорно молчал. На лбу и меж бровей Тревельяна залегли глубокие морщины, на висках проступила испарина. Повторив вызов три раза, он перевел устройство связи в автоматический режим, откинулся в кресле и пробормотал: – Это мне не нравится, дед. Совсем недавно мы с ним говорили, и все, казалось бы, на станции в порядке. – Ситуация в боевых условиях меняется быстро, – изрек стратегическую мудрость командор. – Этот ублюдок Тегира кое-что обещал тебе… Ну, считай, сюрпризы начались! Следующие два часа они провели в напряженном молчании. Алый огонек вокодера ритмично мигал, подтверждая, что капсула вызывает станцию, но Мозг не откликался. Такое могло произойти в трех случаях: если связная аппаратура уничтожена, если Мозг необратимо поврежден, и если на месте станции вращается теперь рой обломков в раскаленном газовом облаке. Впрочем, последний и самый печальный исход казался маловероятным – никаких мощных взрывов в ближнем космосе не наблюдалось. Тревельян, однако, приготовился к самому худшему и с облегчением перевел дух лишь тогда, когда на переднем мониторе замаячила выпуклая серебристая монетка. Его аппарат чуть дрогнул, ложась на станционную орбиту, голубая сфера Сайката покачнулась и застыла над головой Ивара. Тонко пропели и смолкли гравитаторы. Теперь капсула догоняла серебряный диск, приближаясь к нему с постепенно убывавшей скоростью. Их разделяли десятки километров, ничтожная дистанция в космическом масштабе, но Мозг по-прежнему молчал. – Будь осторожен, – подал голос командор. – Бери управление на себя. Пожалуй, стоит облететь вокруг нашей посудинки. Пальцы Тревельяна нависли над пультом. – Зайди с той поверхности, что обращена к звездам, – посоветовали за спиной. – Думаю, так безопаснее. – Может, сам сядешь к управлению? – раздраженно буркнул Тревельян. – Я бы сел, да рук у меня слишком много, боюсь запутаться, – лязгнуло сзади. – Ты делай, как говорю. Не суйся под выстрелы, паренек. Ивар сбросил скорость. Станция, видимая сейчас с ребра и от того похожая на длинное веретено, приближалась все медленнее. Переключив на нее все наружные видеодатчики, он приподнял свой кораблик, всплыл над диском и завис, пристально всматриваясь в экраны. Верхняя часть корпуса, с двузубой антенной дальней связи и россыпью акрадейтовых иллюминаторов, выглядела как обычно – никаких повреждений и поводов для беспокойства. Отблески звезд и яркой туманности горели в серебристом зеркале точно стайка рыбок, окруживших кита. – Здесь все в порядке, – произнес Тревельян. – Антенна дальней связи цела. – Сам вижу, что в порядке, – отозвался Советник. – Антенна им необходима. Чтобы вызвать подмогу, нужна межзвездная связь. – Но связи нет, – напомнил Ивар. – Мы ведь пытались, однако… – Сегодня нет, а завтра будет, – перебил командор. – Возможно, эта история с дальней связью – дело ее рук. Ведьма испортила, ведьма наладит, а тебя оставит в дураках! Если ты не догадаешься, в чем тут фокус… Ну, осмотрим нижнюю поверхность? – Осмотрим, – со вздохом согласился Тревельян, посылая капсулу к краю диска. На мгновение он закрыл глаза, пытаясь представить, что ожидает там, внизу; в следующий миг его пальцы заплясали по клавишам, маленький аппарат ринулся к планете, вильнул влево, вправо, в то же время описывая дугу под днищем станции. Навстречу ему сверкнули синие молнии, едва не ослепив Тревельяна, но его взгляд все же успел выхватить контуры небольшого корабля, ажурные чаши антенн и свернутый тугой спиралью энергетический кабель. Кораблик был пристыкован рядом с излучателем и почти незаметен, пока орудия не начали стрелять; кабель тянулся от его кормы к широкой цилиндрической стойке, над которой раскрывала лепестки антенная чаша двухсотметрового диаметра. Еще Ивару почудилась, что около стойки кто-то копошится, то ли робот-андроид, то ли фигура человека в скафандре, но это видение было неясным; к тому же в краткие секунды своего полета он вилял и уворачивался от лазерных лучей. Капсула взмыла вверх, к распахнувшемуся шлюзу на ободе диска. Пискнули гравикомпенсаторы, пульт озарился сиянием зеленых огней, затем они погасли, и тут же чмокнул пневматический захват, присасываясь к корпусу аппарата. С тихим шуршанием распахнулся люк, вспыхнуло вверху световое пятно, и у подножия эстакады, на которой замерла машина, выдвинулась из пола лестница о трех ступеньках. Ивар поднялся и вслед за командором шагнул к выходу. Они были в шлюзовой, на техническом ярусе станции, под защитой ее брони. Командор, подобрав манипуляторы, облетел просторную камеру, потом опустился на пол рядом с Тревельяном. – Что тебе удалось разглядеть, мальчуган? – Корабль, вооруженный лазерами, – кажется, малый разведчик с генератором Лимба. Еще кабель. Он идет от корабля к биоизлучателю, и кто-то там работает. – Это все? – Советник залязгал, заскрежетал, изображая смех. – Я увидел больше! Разведчик земного производства, класса «энтерпрайз», такие выпускались в двадцать шестом столетии – их, думаю, передавали валлс в период войны. Сам на них полетать не успел из-за преждевременной кончины, но базовые характеристики помню: одноместная посудина с парой башенных лазеров БЛ-16 и кибернаводчиком. Ржавый, должно быть, агрегат, в нас не попал, хоть мы под самым носом проскользнули… цель, правда, мелкая и быстрая, а ты, малыш, пилот отменный. – Вытянув щупальце, командор одобрительно хлопнул Тревельяна по плечу и сообщил: – Однако станция – не капсула, по станции он не промажет, трудиться будет долго, но разрежет вдоль и поперек, а останки сгорят в атмосфере. Генератор на этой лоханке приличный, мощности хватит. Кстати, запитать от него излучатель тоже нет проблем, чем наша ведьма сейчас и занимается. – Ты ее рассмотрел? – Нет. Но возится у излучателя человек, монтирует что-то, а кроме Глубины быть там некому. И еще… Ты заметил, что антенны ближней планетарной связи – те, что смотрят на Сайкат, – оплавлены? Все до одной! – Не заметил, но ты, конечно, прав – я ведь не смог связаться со станцией. Выходит, Мозг сообщил экипажу, что я возвращаюсь, и Глубина приготовила сюрприз – вызвала корабль и сбила лазером антенны, чтобы сжечь нас внезапно, на подлете… Но ее отсек был запечатан! Связь с Мозгом отключена, контактного шлема нет, дверь тараном не прошибить… Дьявол! Как она выбралась? – Тоже сюрприз, – заметил командор. – Об этом ты у нашего приятеля поинтересуйся, прямо сейчас, не поднимаясь на жилую палубу. Кто знает, что нас там ждет! Вдруг все плешаки сговорились и сидят в засаде с плазменными метателями! На этом кораблике не одни башенные лазеры, там и ручное оружие есть… Должно быть, целый арсенал! – Спасибо, дед, ты меня очень успокоил, – произнес Тревельян, направляясь к ближайшему лифту. Соображения предка казались резонными, однако лифтовых шахт на станции было больше сотни, и вряд ли у каждой его поджидала засада. Он уже собирался шагнуть в гравитационный колодец, но тут в динамиках раздался шорох, а вслед за этим – голос Мозга: – Седьмой шлюзовой отсек… Ньюри Тревельян, исполняющий обязанности координатора… Вы там? Вы прибыли на станцию? – Прибыл, – откликнулся Ивар. – Ну, что у нас хорошего? – К наружней обшивке пристыковался корабль. В реестре судов землян и кни’лина не значится, на вызовы не отвечает, мной не опознан. Антенны планетарной связи и часть видеокамер уничтожены – видимо, лазерным ударом. Поверхность корпуса, обращенную к планете, в данный момент не контролирую. Пауза. Похоже, криогенный разум пребывал в смущении или нерешительности. – Дальше, – велел Тревельян. – Пока ничего нового. – Ньюри Глубина покинула личный отсек, облачилась в скафандр и вышла наружу. Незадолго до этого со станции был отправлен сигнал. Кодированное сообщение… Вероятно, с целью вызова корабля. Командор чертыхнулся, пробормотал: «Все, как мы думали… Вот поганцы плешивые!» Тревельян, хмуро уставившись в глубину лифтовой шахты, спросил: – Кем открыта дверь в отсеке Глубины? Кто отправил сообщение? Кто выпустил ее наружу? Снова пауза. Затем послышалось: – Я… Это разумное устройство… Я, я, я!.. – Мусор сортирный! – рявкнул командор. – Криогенный ублюдок, ломом трахнутый! К нам захотел, ренегат, в нашу компанию? Накося выкуси! Быть тебе на каторге, у навозных куч и луж мочи! Сгниешь при парашах, мурло жестяное, перхоть ржавая! Ни слова в ответ, только шорох и скрип в динамиках, словно искусственный разум оплакивал свои несбывшиеся мечты. – Ты, дед, полегче. Не забывай, он свободы воли не имеет, – сжалившись, сказал Тревельян. Потом обратился к Мозгу: – Я наложил запрет на контакты с Глубиной, и связь с ее отсеком была блокирована. Как она отдала приказы? И почему ты их выполнил? – Команды пришли не от нее, а от другого субъекта, – виноватым тоном признался криогенный собеседник. – От ньюри Иутина, чьи полномочия не были ограничены. Как я мог не подчиниться? В вокодере Советника послышался лязг. – Иуда! – раскатилось под сводом шлюзовой. – Вот продажная шкура! Говорил тебе, парень, не верь плешаку! – Где он сейчас? Где остальные? – в тревоге спросил Тревельян. – Не могу найти ньюри Иутина. Весь остальной экипаж где-то около централи или в ней самой. Точнее определить нет возможности – видеодатчики в коридорах и в центре управления повреждены, срезаны или расплавлены. Работает только голосовая связь. – Срезаны бластером? – уточнил Тревельян. – Вероятно, ньюри. Принесли с корабля, подумалось Ивару. Дед, конечно, прав – был на «энтерпрайзе» арсенал с ручным вооружением, и никакие гипноглифы и палустары с ним тягаться не могли. Угрюмо хмурясь, он оглядел шлюзовую. Разумеется, никакого оружия тут не хранили, как и в других помещениях станции, в жилых покоях, лабораториях, складах и блоках системы жизнеобеспечения. С одной стороны, это казалось естественным и верным; СИС – предприятие мирное, где не нужны боевые лазеры, фризеры, метатели плазмы и мощные парализаторы. Но с другой – такая ситуация была намеком, что земляне и кни’лина, волосатые и плешаки, не слишком друг другу доверяют, опасаясь в случае конфликта массовых убийств. Впрочем, хоть на СИС не имелось бластеров и плазмометов, убийцам это не помешало. Он прикинул свои возможности. Кожа и безоружный робот, больше ничего… Если наведаться к Иутину, можно взять меч или дротик из его коллекции… Еще оставался коньяк, чистый яд для плешаков, но вряд ли Иутин и Глубина им соблазнятся. – Поднимаемся, дед. С мрачной усмешкой Тревельян шагнул в лифтовую шахту, и робот последовал за ним. Они вышли на жилом ярусе в коридоре кни’лина, просторном и пустом, украшенном голографическими статуями Сероокого. Йездан с Книгой, Йездан с посохом, Йездан сидящий и стоящий, глядевший сурово или со строгой улыбкой… Казалось, древний мудрец напоминает: зверь всегда рядом, а потому – берегись! – Не иди через парк, – предупредил Советник. – Эта дорога короче. – Зато опаснее. Скалы, деревья, кусты… Легче спрятаться, чтобы выстрелить в спину. Тревельян остановился, поднял взгляд к потолку. – Станция! В парке кто-нибудь есть? – Возможно, ньюри Тревельян. Там недостаточно датчиков, чтобы проконтролировать всю территорию. – Подход к централи ты просматриваешь? – Не полностью. Как сообщалось, датчики срезаны. – А лабораторный коридор и площадки отдыха? – Там сохранились визуальный и тепловой контроль. В лабораториях и прилегающем пространстве нет никого. – Это стоит проверить, – заметил командор. – Если не возражаешь, я полечу вперед. Хоть ты в коже, а у меня реакция получше. Но Тревельян все еще не двигался, а размышлял о чем-то, осматривая пустую галерею с шеренгой голографических изваяний. Затем произнес: – Ты разобрался с численным массивом Глубины? – Заканчиваю, ньюри, но уже понятно, что ваша гипотеза верна: нервные ткани автохтонов подвергались облучению в лабораторных условиях и изучалась их реакция. Проведены тысячи опытов, построены сотни моделей… точное количество – восемьсот двадцать две. Цель – поиск совокупности параметров, летальных для терре и тазинто. – Глубине удалось их найти? – Да, ньюри. Несомненно. – Если так, прекрати работу. Больше мне знать не требуется. – Ивар поднял руку, взглянул на связной браслет, прикинул, не поговорить ли с Вечерним, затем покачал головой. Ботаник, Шиар и другие служители безоружны, чем они помогут? Отбросив эту мысль, он спросил: – Глубина сможет настроить биоизлучатель без твоей помощи? И что с камерой, откуда им управляют? Она все еще запечатана? – Камера не вскрыта, но если подать энергию на излучатель, можно справиться с настройкой. Все необходимые агрегаты находятся в цоколе антенны. – Настройка – долгий процесс? – Минуты, если управлять из камеры. Если работать снаружи… – Мозг на секунду замолк, потом сообщил: – По моей оценке, это займет четыре-пять часов. Нужно вручную отрегулировать все излучающие модули, а их около сотни, и доступ к ним… – Подробности не нужны, – перебил его Тревельян и повернулся к роботу. – У нас еще есть время, и немалое. Найдем Иутина, обезоружим, отнимем лазер и выйдем на поверхность станции, а там… Там много вариантов, дед. Можно перерезать кабель, разбить антенну, прикончить Глубину, даже пробиться в корабль. – Это вряд ли, – возразил командор. – Хоть и старая посудина, а все-таки звездный разведчик… защита там солидная… Ну, посмотрим! Для начала я найду Иуду. Он подобрал свои щупальца, поднялся к потолку и заскользил вдоль шеренги иллюминаторов. Эта галерея на половине кни’лина огибала парк и смыкалась в дальнем конце с лабораторным коридором. Там, над входной аркой, парил Йездан, вытянув руки в жесте приветствия; огромная голова пророка упиралась в потолочный свод, складки голубой хламиды струились по стене до самого пола. Если не считать отсутствия волос и бороды, он походил на древнего земного Саваофа. Серебристая полусфера пронеслась под босыми ступнями божества, и связной браслет хрипло каркнул: «Здесь чисто, малыш. Догоняй, я подожду». Ускорив шаги, Тревельян миновал арку и очутился в изгибавшемся дугой лабораторном коридоре. Слева от него, перед нишей с раздаточным автоматом, светилась дверь отсека картографии, справа, за прозрачной стеной, лежал парк, луга золотистых трав, а за ними – толстые стволы и пышные кроны фроллов. Над парком висело золотистое пятно, имитация солнца Сайката, и по иллюзорным небесам плыли розовые облака. Этот пейзаж выглядел таким мирным, что ни в какие ужасы не верилось – ни в Иутина, затаившегося где-то с бластером, ни в смертоносный излучатель, который настраивала Глубина. – Никого, – сообщил висевший у потолка командор. – Двигаемся дальше. Он метнулся к площадке отдыха кни’лина и доложил, что там тоже тишина и пустота. Добравшись туда, Тревельян услышал лишь тихую капель фонтана, вокруг которого сгрудились каменные изваяния. Гибкие изящные фигурки, кроткие лица, темные глаза… Статуи терре смотрели на Ивара, будто подбадривая и обещая помощь – хотя бы тем, что в их хороводе не затаился враг. Коридор здесь раздваивался: изогнутый лабораторный шел по периметру станции к площадке отдыха землян, прямой проход тоже тянулся к ней – мимо лифтовых шахт, зала собраний, централи и запечатанного блока настройки излучателей. Оба коридора были пусты. Казалось, все спокойно, но Тревельян заметил блестящие потеки на стенах – там, где были камеры внутреннего наблюдения. – Людей не видно, дед. А Мозг утверждает, что Ифта Кии, Вечерний и слуги в районе центра управления. – Или в нем самом, – напомнил командор. – Возможно, Иуда их туда загнал и поджидает тебя за дверью. – Есть еще зал собраний. – Да. Больше спрятаться негде. Коридор просматривается из конца в конец. Проверим централь? – Да, конечно. Выполняй. Робот, по-прежнему держась у потолка, скользнул к дверям зала собраний и сообщил, что их свечение – слабое; значит, внутри никого нет. Следующая дверь, ведущая в центр управления, тоже была закрыта, но светилась ярко. Командор завис перед ней, приняв боевую позу: два щупальца вытянуты вперед, остальные растопырены веером. – Плешаки здесь, дежурные или весь экипаж, – раздалось в браслете Тревельяна. – Скажи жестянке, пусть откроет. Если Иуда там, я его схвачу. – Жди меня. Войдем вместе, – сказал Ивар и большими прыжками помчался по коридору. Промелькнули лифтовая шахта, затянутая желтоватой пленкой, двери зала собраний, и тут сзади послышался какой-то шорох. В воздухе зашелестело, и Тревельян похолодел, услышав знакомый звук лазерного разряда. Он метнулся в сторону, рухнул на пол, стремительно перекатился к стене. Синяя молния пронеслась вверху, едко пахнуло озоном, что-то грохнуло, будто с высоты свалилась тяжесть. Ивар подскочил, готовый к схватке или отступлению, еще не понимая, что выбрана другая цель. Взгляд его метнулся вдоль коридора, и ледяной комок под сердцем, всплыв к горлу, перехватил дыхание. Робот, разрезанный пополам, валялся у дверей централи, дымясь и слабо подергивая щупальцами. Желтая мембрана над шахтой лифта разошлась, и в ней, паря в зоне невесомости, повис Иутин с бластером в одной руке и парализатором в другой. Парализатор мощный, военного образца, отметил Тревельян, не сомневаясь, что импульс этой штуковины перекроет сечение коридора. Палец генетика лежал на спуске, и достать его, даже в коже, не было никакой возможности. Мгновенно просчитав варианты бегства и атаки, Ивар понял, что партия проиграна: нападешь – получишь импульс в лоб, побежишь – в затылок. В его воображении мелькнула грустная картина: недвижимый, сраженный парализатором, он распростерся на полу, а Иутин склоняется над ним, чтобы прикончить из бластера. – Не приближайся ко мне, Ивар Тревельян, – спокойно произнес генетик. – Я помню, какая у тебя реакция, и знаю, как ты силен. Если не хочешь превратиться в бесчувственный кусок мяса, стой, где стоишь, и не делай резких движений. Лучше, во имя Йездана, вообще не шевелись! – Но мы сегодня еще не виделись. Могу я тебя поприветствовать? – Тревельян присел, вытянул руки и с издевкой произнес: – Утренней радости тебе, Иутин! Утренней радости, друг, с которым я разделил одиночество! Или уже не друг? Иутин забросил на спину тяжелый бластер, но парализатор в его руке не шелохнулся. – Разве я не доказал свою дружбу, Ивар? Когда Найя Акра хотела расправиться с тобой, кто тебя выручил? Разве я не был с тобой в пещере дикарей, не стоял под копьями тазинто? Разве не давал тебе советов, не отвечал на вопросы? Разве… Прерывая его, Ивар медленно поднял руку. – Стоп. Были вопросы, на которые ты не захотел ответить. – Какие же? Тревельян покосился на робота. Его манипуляторы все еще трепетали – верный знак, что вазомоторика частично сохранилась, и значит, лазерный луч не повредил кристалл Советника. Однако гравидвигатель был разбит, так что надеяться на помощь с этой стороны было бы чистой фантазией. Взглядом он оценил расстояние до Иутина – метров двадцать, а то и больше, минимум четыре прыжка… Все-таки не достать! В глазах генетика сверкнуло подозрение. Вцепившись в парализатор обеими руками, он приказал: – Отойди подальше, Ивар! Встань у дверей, рядом с роботом! Ты не сделал мне ничего плохого, и я не хочу тебя убивать. Если ты погибнешь здесь, то не от моей руки. – Это утешает, – пробормотал Тревельян, отступая к дверям центра управления. – Так вот, о вопросах… Ты не рассказал мне о планах Джеба Ро, в которые наверняка посвящен. Мне попались его материалы… все эти сцены насилий и зверств на Сайкате и древней Земле… К чему это? Сайкат – Сайкатом, а Земля – Землей… Что за нелепые аналогии! Иутин усмехнулся. – Нелепые для тебя, земного уроженца, но другие расы могут смотреть на эти аналогии иначе. К примеру, дроми, лльяно, хапторы… Они не слишком разбираются в земных реалиях, и Земля для них – грядущее Сайката, а Сайкат – предтеча Земли. Ясно, что это значит? Вы воевали с фаата, и вы их победили… Потом настал черед дроми, хапторов, кни’лина… Великий Йездан, вы разбили и сломили всех! Вам завидуют, вас опасаются, вас ненавидят и боятся… Сказано в Книге Сероокого: настоящее бросает тень перед собой, и все народы понимают, какое будущее затаилось в этой тени. Будущее, в котором Земля – гегемон Галактики, преемник даскинов! Такая мысль нравится не всем. Кланам ни и похарас не нравится точно, но без союзников они слабы. А чем привлечь к союзу? Самой сильной мотивацией является не выгода, не расовая гордость, не стремление к экспансии, а… – …страх, – закончил Ивар. – Я понимаю, Иутин. Ты тоже нас ненавидишь и боишься? – Нет. Зинто с вами не воевали. Я ненавижу наши правящие кланы. Может быть… – Он глубоко втянул воздух, – может быть, если случится в Галактике великая война и власть их рухнет, кни’лина станут вашими друзьями. Не сейчас, не завтра, а через несколько веков, когда наш народ будет един, и позабудется о ни и похарас, зинто и валлс. Мне бы этого хотелось. – Если так, зачем ты делаешь то, что делаешь? – спросил Тревельян. – Пусть Сероокий вразумит тебя! Зачем ты освободил Глубину и взялся за оружие? Зачем помогаешь этим сумасшедшим валлс? Они погубят Сайкат и уничтожат всех свидетелей – меня, Вечернего, Шиара с братьями, Ифту Кии… Уверен, наша судьба постигнет и тебя. Сделай верный выбор, друг, надень скафандр и иди со мной! Ты зинто. Что тебя связывает с валлс? – Общая цель объединяет крепче родства, любви и долга, – промолвил Иутин. – Я очень сожалею, Ивар, но случилось так, что цели валлс и зинто совпадают. Причины разные, но мы желаем одного – чтобы эта миссия правящих кланов закончилась полной катастрофой. Чем страшнее, тем лучше! Пусть в вашей Федерации задумаются, стоит ли поддерживать ни и похарас и затевать проекты с ними. Пусть другие расы откажут им в доверии. Пусть гордость их станет прахом, и пусть проклянет их Йездан! На миг лицо Иутина исказила ярость. Он не отступится, понял Ивар. Были у плешаков какие-то давние счеты друг с другом, древние обиды, которые нельзя простить, кровь, исторгнутая в мятежах и бунтах, противоречия, что зародились в эру катаклизмов и протянули в будущее хищные когти ненависти, оплели его паутиной вражды, засеяли плевелами мести. Все это было тайной их расы, чашей с ядом, из которой каждый клан отпил по глотку и отрыгнул в общий сосуд долю отравы. Теперь ее столько, подумал Тревельян, что хватит на невинных дикарей Сайката. И чем страшнее их судьба, тем лучше! – Значит, цели валлс и зинто совпадают, и Сайкату суждена погибель, – медленно произнес он. – Это твое последнее слово? – Да. – Иутин повел стволом оружия. – Иди в централь, Ивар. Иди к остальным и жди решения своей судьбы. Если ты погибнешь… если погибнете вы все… что ж, значит, так судил Йездан. – Позволь мне кое-что сделать. В этом роботе – памятный кристалл, который мне дорог. Кажется, лазер его не задел. Могу я взять его с собой? – Не возражаю. Тревельян нагнулся, просунул руку под разбитый двигатель, пошарил там и извлек маленькое кристаллическое зернышко. Покатав кристалл в ладони и тщательно осмотрев, он вставил его в наголовный обруч и с облегчением вздохнул: мысль командора достигла его разума. «Что случилось, парень? Что у нас, полный афронт? Все-таки Иуда нас перехитрил!» Он принялся ругаться. Тревельян, не слушая, вошел в приоткрывшуюся дверь и, встав у порога, оборвал поток проклятий: «Кажется, дед, я совершил изрядную глупость. Надо было лишить Иутина статуса, блокировать возможность связи с Мозгом… Великая Пустота! Как я не догадался!» «Это еще не поздно сделать. Прикажи жестянке», – проворчал командор. «Нет. Теперь это бессмысленно». Мозг выполнял команды Иутина, а Иутин был союзником Глубины; для нее – единственным способом контакта со станцией и аппаратурой дальней связи. Может, это его спасет?.. – подумал Тревельян. Может, валлс не убьют его? Он не желал генетику злой судьбы. Ему казалось, что есть у Иутина своя правда, и была она из тех идей, за которые жертвуют жизнью. Однако собственной, не чужими! У Иутина не было прав распоряжаться жизнями сайкатцев и экипажа СИС. Ивар стоял у порога, осматривая огромный круглый зал. Как и прежде, сияло над ним в высоком куполе солнце Сайката, блестели в бархатном мраке звезды и тянулся к зениту изогнутый клык туманности. На пультах перемигивались огоньки, плыли изображения станционных отсеков, мерцали голограммы мнемосхем; экран дежурного показывал пустые коридоры и роботов-ремонтников, что копошились там, восстанавливая видеосвязь. Но в централь Иутин их, вероятно, не пустил, и здесь, на шести кронштейнах, торчали оплавленные останки камер и инфракрасных датчиков. Кучка людей в белых сайтени и сайгорах затерялась в просторном помещении. Вечерний, Ифта Кии, Шиар и семеро его родичей… Вечерний лежал на гравиплатформе, висевшей у самого пола, рядом сидела на подушке красавица-похарас, слуги клана ни окружали ее почтительным полукольцом. У пульта дежурного никого не было. Широко шагая, Тревельян направился к своему экипажу. Стук его башмаков разбудил эхо под сводами зала; чудилось, будто вверху шелестят и шепчутся звезды, желая что-то поведать на забытом языке, который, наверное, был понятен лишь древним даскинам. Может быть, звезды говорили о вражде Первого Лезвия и Джеба Ро? Или о Найе Акра, отмороженной жрице, чью душу переполняла ненависть? Или об изувеченном Курсе, твари с Тоу? Или о Зенде Уна, убийце и Оке Хорады? Или о Пилоте, самом достойном в этой компании и погибшем такой нелепой смертью? Или о Зотахи и Ори, ни в чем не повинных слугах клана?.. Звезды гудели, звенели и шептали, но Тревельян не знал их языка. Ифта Кии вскочила и бросилась к нему. Ее лицо было бледным, глаза окружены тенями, алый рот – как залитая кровью рана. – Хвала Йездану, ньюри, ты пришел, пришел! Наконец ты здесь, со мной! Этот зинто… этот проклятый, не помнящий оказанных благодеяний! И эта валлс, убийца! Они сговорились, ньюри! Они хотят нас уничтожить! Я испугалась, так испугалась… Я уже стала прахом в погребальном кувшине… Глаза мои померкли, грудь оледенела, тело ссохлось, кожа приняла сумеречный цвет… – Не преувеличивай, ты выглядишь как всегда очаровательной, – сказал Тревельян. – Что с Вечерним? – Когда зинто согнал нас вместе и велел идти в централь, ньюри Вечерний бросился на него. Но у зинто боевой парализатор… Откуда он взял оружие? Ужасно! Это так ужасно! Это… – Успокойся, моя прелесть, на нас смотрят слуги. Давно ли Иутин подстрелил Вечернего? Она назвала время, равное примерно двум часам. Пролежит недвижимым еще сутки, подумал Тревельян. Может быть, меньше – ботаник был крепким мужчиной. Но рассчитывать на него в ближайшее время не приходилось. Приблизившись к гравиплатформе, Ивар поймал взгляд Вечернего. Только глаза жили на его лице, и в них читались вина и мука. Взяв его безжизненную кисть, Тревельян промолвил: – Ничего, ньюри, ничего. Все пройдет, все забудется, и вместо нынешних бед и радостей придут другие. За горами – горы, как сказано в Книге Йездана. Он повернулся к слугам. Те разом присели, вытянув руки, а Шиар пробормотал: «Утренней радости достойному ньюри… Что он прикажет?» Тревельян уставился на него, строго сдвинув брови. – Почему у пульта нет дежурных? Чья сейчас смена? – Инданги и Эвекта. Пусть ньюри простит нерадивых служителей… Мы решили, что все умрем, и потому… – Это не повод для нарушения дисциплины. Дежурным занять свои места! Ты, Шиар, включишь пульт дальней связи. Ори –к раздаточному автомату! Всем напитки и тинтахского вина! Пайол, ты поможешь Ори… Могар и Аткайя, разденьте ньюри Вечернего и делайте ему массаж – так он быстрее справится с параличом. Гиббех, что с твоей раной? Нормально себя чувствуешь? Хорошо. Иди к панели контроля внешних шлюзов. Живее, парни! Время не ждет! Слуги мгновенно разбежались. Ивар опустился на подушку, наблюдая, как Шиар возится у пульта. Вскоре экран над ним вспыхнул, затем появилась голографическая карта Галактики и стала плавно вращаться, сияя множеством звездных огней. «Что ты собираешься делать?» – спросил командор. «Как следует подумать. Бластер мы не раздобыли, УБРа потеряли, так что соваться наружу, к биоизлучателю, нет смысла. Тем более, что в коридоре Иутин, вооруженный до зубов… Придется обойтись тем, что есть». «А что у нас есть? Десяток плешаков?» «Не забывай о дальней связи. Если я пойму, в чем тут фокус, можно попросить совета. Планетарный биоизлучатель вещь серьезная… должна быть какая-то блокировка, кроме паролей… какой-то тайный механизм, неизвестный Мозгу… Помнишь, он говорил про автономное устройство, что подает энергию на излучатель? На что еще оно способно? Какой в нем прок?» Теплая ментальная волна хлынула от командора. Внезапно Ивар ощутил, как крепнут узы, соединяющие их, будто не стояли между ними пять веков и двадцать поколений. Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, десантник и командор Звездного Флота, павший смертью храбрых на мостике «Паллады», был с ним, и это обязывало – ибо что дороже для человека, чем уважение предков? Что драгоценней их гордости за грядущее и за то, что в их потомстве сохранились мужество, энергия и сила? За то, что их борьба и подвиги были не напрасны – ведь только храбрец способен понять отвагу ушедших во тьму, исчезнувших из жизни до его рождения. И только умному дано извлечь урок из древних побед и ошибок. «Не сдаешься, мальчуган? Не собираешься проигрывать? Ну, молодец! Хвалю! – тихо шепнул командор. – Так что у нас с этой дальней связью? Есть какие-то идеи?» «Возможно, – кивнул Тревельян. – Антенна и поворотный механизм в порядке, энергетический импульс должной мощности, расчеты безукоризненны… На что еще грешить? Где ошибка? В исходных данных? Эту гипотезу стоит проверить». Поднявшись, он шагнул к пульту, над которым кружился сияющий Млечный Путь, знаком велел Шиару отойти и запрокинул голову. – Станция! Ты меня слышишь? – Да, ньюри Тревельян, – откликнулся искусственный разум. – Как сообщалось ранее, визуального контакта нет, но звуковой канал в порядке. – Разберемся с дальней связью. Для ориентации передающего луча ты использовал стандартные навигационные программы? – Комплекс «Вектор», как его обозначают на Земле, редакция последнего десятилетия. – Координаты звездных систем и, в частности, Сайката – в базе данных комплекса? – Нет, это отдельный информационный блок. В мою память загружен «Каталог миров», составленный на Йездане и пополняемый не реже, чем… – Неважно. Кто его загрузил? – Тот, кто занимался программированием моего разума. Ньюри Кайтам из научного отдела Хорады. Пару секунд Тревельян размышлял, стоя посреди голограммы. Ветви Стрельца, Ориона и Персея, Гиады, Плеяды и Магеллановы Облака, гигантские звездные ассоциации и древние шаровые скопления беззвучно и плавно вращались вокруг него, словно он был центром Мироздания, той начальной точкой, от которой все отсчитывалось во Вселенной – время и расстояние, прошлое и будущее, зло и добро. – В моем личном отсеке находится компьютер, – произнес он после недолгой паузы. – Земной компьютер, подключенный к станционной сети. Полагаю, ты можешь до него дотянуться. – Разумеется, ньюри Тревельян. – В памяти компьютера – «Большой Звездный Атлас». Сравни положение Сайката в двух источниках, в «Атласе» и «Каталоге миров». Данные совпадают? – Нет. – На экран выплыли две колонки цифр, потом Мозг сообщил: – Разница незначительна, но на дистанции в сто парсек отклонение луча составит семь с половиной световых месяцев. – Немало! Вот поэтому мы промахнулись по Йездану, Кхайре и Земле, по всем пунктам, с которыми пытались связаться! – Голос Ивара звенел торжеством. Приподняв обруч, он вытер ладонью вспотевший лоб, глубоко вздохнул и распорядился: – Проведи расчеты с исходными данными из «Атласа» и ориентируй антенну на Землю. Сейчас я продиктую послание. Когда он закончил, все, кто был на ногах, Ифта Кии, Шиар и семь его братьев, стояли за спиной, и хоть земная лингва была им непонятна, в глазах их светилась надежда. В ажурных прорезях антенны полыхнуло расплавленное золото, затем мощный импульс сорвался с двузубца, пробил невидимую грань между Вселенной и Лимбом и погас в Великой Пустоте. «Сообщение отправлено», – доложил Мозг, а Тревельян, оглянувшись, буркнул: – Ну-ка, все по местам! Живо! Ори, я выпил бы чего-нибудь, «пять сестер» или «бледную луну»… В горле пересохло. Ему принесли фруктовый коктейль в токаре, что походил на чашечку белого тюльпана. Сок был кисловатым и холодным, пузырьки газа лопались на губах. Утолив жажду, Ивар снова вздохнул, мечтая о глотке коньяка, и тут послышалось: – Ньюри Тревельян! Я бы хотел спросить… – Спрашивай, мой криогенный приятель. – Все данные в «Каталоге миров» дефектны? Должен ли я заменить «Каталог» кни’лина земным «Атласом»? – Полагаю, нет. Ты можешь сравнить «Атлас» с «Каталогом», и я уверен, что, кроме Сайката, разночтений в них не будет. Дефектна лишь эта позиция – точнее, намеренно искажена. Ну, и как ты думаешь, кто это сделал? – Ньюри Кайтам? – Недоуменная пауза. – Но с какой целью? Кто ты, хитрец Кайтам, зинто или валлс?.. на чью мельницу льешь воду?.. – подумал Тревельян, оставив вопрос без ответа. Опустившись на пол перед пультом, он ждал подтверждения связи – ему полагалось прийти минут через сорок, самое большее – через час. Сердце Ивара билось ровно, на лице застыла маска уверенности и спокойствия. «Что ты будешь делать с Иудой и этой ведьмой Глубиной? – спросил командор. – Я имею в виду, если сеанс состоится, и мы получим нужные данные». «Придется их разоружить и изолировать. Больше ничего. Нам они не подсудны, дед. К тому же Иутин дал ценную информацию». «Какую?» «О плане Джеба Ро, о тайной его цели. Теперь мне ясно, почему он не хотел применять излучатель. Его заботили не терре и тазинто, а сохранение нынешней ситуации, когда агрессивные дикари уничтожают другую расу, более мирную и почти беззащитную. Печальная история… И, к тому же, живой пример, который можно продемонстрировать Галактике, связав Сайкат с современной Землей». «Печально, что тазинто режут терре, – согласился командор, – весьма печально. Но мы-то здесь при чем?» «При том, что на Земле такое уже было, когда наши древние предки расправились с неандертальцами. Тазинто так на нас похожи… на тех жестоких варваров, что населяли Землю тридцать тысяч лет назад… и на тех, кто жил гораздо позже, в двадцатом и двадцать первом веках, считавшихся цивилизованной эпохой… Тут прослеживается связь, некая преемственность, понимаешь? Тазинто как бы свидетельство того, что наша культура основана на зверствах и насилии. Тазинто уничтожают терре, а мы стерли память о неандертальцах, затем убивали друг друга дубинами, мечами, бомбами и пулеметами, и, наконец, расправились с фаата, дроми, хапторами и кни’лина. Тут работает метод аналогий, понятный всем и каждому». На пульте дальней связи ровным светом горели алые огни, и в серебристой глубине экрана вспыхивал и гас символ ожидания. Глядя на него, Тревельян почти физически ощущал, как истекает время. Где-то внизу, у антенны биоизлучателя, трудилась Глубина, и старый корабль, троянский дар Земли, нес вахту, охраняя не своих творцов, а нынешнего их врага. Это казалось бы актом возмездия, но ни Земле, ни землянам ничего не грозило; под угрозой был Сайкат. Призрачный Советник молчал, обдумывая сказанное Тревельяном. Потом заметил: «Если я правильно понимаю, Джеб Ро решил явить Вселенной, из какого дерьма мы произросли. Но для чего? Из неприязни к волосатым?» «Это одна причина, не главная. Есть другая, Иутин считает, что правящие кланы готовы развязать войну, большую войну во всем Рукаве Ориона. Им нужны союзники, дед». «И оправдания, – добавил командор. – Те, чьи пушки стреляют первыми, всегда нуждаются в оправданиях. Ну что ж, надерем им задницу еще раз! А что касается этих валлс… Тут я одного не понимаю: почему Иуда с ними? Сейчас он нужен Глубине, но через пару дней или недель она его прикончит. Зачем ей лишние свидетели?» «Прикончит, – подтвердил Тревельян. – Но кажется, это ему безразлично. Он ценит жизнь меньше мести ни и похарас. Хотел бы знать, чем они ему насолили!» Таймер, отсчитывавший время в мерах землян и кни’лина, показывал, что миновало двадцать семь минут. Будет ли ответ?.. – мелькнула мысль. И как там дела у Глубины? Ивар повернулся к Гиббеху, дежурившему у панели внешних шлюзов, и приказал: – Сбрось в пространство капсулы, пусть покружат у излучателя. Надо взглянуть, что творится внизу. – Достойный желает, чтобы послали два аппарата? – Нет, десяток, и одну машину уведи подальше. Там, – Ивар ткнул пальцем в пол, – боевой корабль, и он начнет стрелять. Пока возится с девятью аппаратами, десятый улетит на два диаметра планеты. – С такой дистанции будет плохо видно, – почтительно напомнил Гиббех, программируя задание. – То, что мне нужно, я увижу, – сказал Тревельян. – Выпускай машины! На нескольких экранах централи появились изображения, почти одинаковые, различавшиеся лишь тем, с какой капсулы шла передача. Гиббех сбросил малые одноместные машины; девять ринулись вниз и закружились под днищем станции, десятая стремительно исчезла в темноте. Тревельян увидел огромную антенну, глядевшую на Сайкат точно разверстая драконья пасть, ее массивный цилиндрический пьедестал с кораблем, пристыкованным сбоку, и тонкую темную змейку кабеля. Человеческой фигуры не было заметно – скорее всего, Глубина работала уже внутри цоколя, настраивая излучатель. Это видение длилось не дольше секунды; затем кибернаводчик принялся стрелять, синие молнии перечеркнули экраны, и каждая заканчивалась вспышкой рыжего огня. Мониторы гасли один за другим, пока не остался последний, где в черной, полной звезд пропасти висела серебристая монетка станции. Гиббех вывел картину на максимум, монетка превратилась в блюдце, и Тревельян, напрягая глаза, различил крохотную чашу антенны и кораблик, подобный наконечнику стрелы. – Видеокамеры аппарата на пределе, – доложил техник. – Этого достаточно. – Ивар собрался добавить слова благодарности, но тут запела, зазвенела панель дальней связи. «Подтверждение получено!» – раскатился голос Мозга. Он тут же повторил это на языке кни’лина, и на мгновение все находившиеся в централи замерли. Потом Ифта Кии скользнула к Тревельяну и, не соблюдая коно, прижалась щекой к его плечу. – О, ньюри! Наконец-то нас услышали, хвала Йездану! – проворковала она. – Скоро придет земной корабль? – Этого я не знаю. – Тревельян чуть отодвинулся – слишком грешные мысли пробуждала ее восхитительная плоть. – Связь подтвердил орбитальный приемник, и сейчас мое послание передается консулам ФРИК, нашим лидерам, принимающим решение. Пока прочитают, пока оценят обстановку, пока сообразят, что делать… Думаю, ответ придется подождать. – Он назвал меру времени, что соответствовала полутора земным часам. – Но корабль все же придет, и кончится этот ужас… – Ифта Кии подняла мечтательный взгляд к потолку. Затем внезапно поинтересовалась: – Скажи мне, ньюри, у вас хорошие врачи? – Просто отличные, – заверил ее Тревельян. – Но зачем тебе живой врач, моя красавица? Разве есть что-то такое, с чем не справились бы кибердиагносты и роботы-хирурги? Щеки женщины порозовели. – Пусть провалятся в Пустоту вместе с их холодными лапами! И медики похарас пусть отправятся туда же! Знаешь, ньюри, они предложили мне стабилизацию эндокринной системы, после которой ты уже не ты, а нечто совсем другое… я все-таки генетик и разбираюсь в таких вещах… Конечно, я отказалась, и мне ввели имплант. Представь, почти насильно! Во имя благопристойности при императорском дворе! – Ты хочешь, чтобы имплант извлекли? – спросил Тревельян с удивлением – он привык доверять врачам. – Но импланты просто так не ставят. Если твое здоровье под угрозой, тогда… – Под угрозой! – перебила она. – Какая угроза? Просто повышен гормональный уровень в некоторые моменты, но это легко регулируется… – Тревельян вдруг почувствовал на щеке ее жаркое дыхание. – Совсем легко, если рядом мужчина… не мешок с костями, как Джеб Ро, а молодой и сильный… или двое мужчин, это еще лучше… каждую ночь и каждый день… Ее рука шарила у ворота Тревельяна, нащупывая застежку. «Нимфоманка бесстыжая!» – мрачно проворчал командор. «Несчастная женщина», – возразил Ивар, отодвигаясь. Погладив Ифту Кии по щеке, он шепнул ей в перламутровое ушко: – Не везет нам с тобой, дорогая. Места никак не выбрать и время все неподходящее… Вспомни про Глубину и не отвлекай меня. Возможно, включился имплант или сработало имя валлс-убийцы, но то или другое вернуло ее к реальности – женщина вздрогнула, очнулась и опустила руки. Ивару было уже не до нее: на экране всплывали стройные шеренги знаков, преодолевших сотни парсек и тысячи миров. Долгожданный ответ! Он оказался кратким и пришедшим так быстро, как если бы на Земле готовились к встречному сеансу связи или ждали рапорт с СИС. Всматриваясь в это послание, Тревельян ощутил, как тает ледяной комок под сердцем. Символ Фонда, подпись консула, несколько слов и в завершение – странные картинки… Вряд ли кто-либо в Галактике, кроме полевых агентов ФРИК и дюжины земных историков, слышал про иероглифы майя и вообще про это племя, что растворилось среди других народов и племен. Однако их письменность и язык не исчезли и порой служили для секретных сообщений так же надежно, как вавилонская клинопись, критское линейное письмо и пиктограммы древних кельтов. – Кецалькоатль, – вслух прочитал Тревельян, и слово вспыхнуло перед ним, набранное знаками земной лингвы. – Кецалькоатль! – повторил он голосом, в котором звенело торжество. Зрачки Ифты Кии расширились. Она опять придвинулась так близко, что в ее глазах Ивар увидел отражение экрана и заполнявших его темных строчек. – Что тебе сообщают, ньюри? Когда придет корабль? – Нет. Здесь записано имя древнего земного божества, – пальцы Тревельяна коснулись иероглифов. – Страшный бог, кровавый, совсем не похожий на вашего Йездана… – Зачем же он нам? Чтобы свершить какой-то земной ритуал? – Обойдемся без ритуалов, моя красавица. Просто его имя – код, что позволяет задействовать функции станции, неведомые даже Мозгу. Чуть повернув голову, Тревельян убедился, что все слуги клана ни снова столпились за его спиной. Он не стал их прогонять, сделав знак, разрешающий приблизиться. На мониторе, принимавшем изображение с удаленного на тысячи километров аппарата, по-прежнему висело блюдце станции с крохотным цветком излучателя и прижавшимся к нему стреловидным корабликом. От командора, наблюдавшего эту картину глазами Ивара, пришла неторопливая мысль: «Кецалькоатль, или Пернатый Змей… Индейский бог? Я слышал, крутой парень… Это на его алтарях людей потрошили, как баранов?» «Случалось, по сотне за день», – подтвердил Тревельян. «И что же? Что случится по этому паролю? Нечто ужасное?» «Произойдут отстрел и уничтожение антенны. Я был прав: кроме блокировки энергии, есть второй предохранительный механизм. И мы сейчас его запустим, дед». – Ивар довольно усмехнулся, сложил руки на груди и произнес повелительным тоном: – Станция! Передать пароль «Кецалькоатль» на модуль управления излучателем. Приготовиться к навигационной корректировке. Нас наверняка сорвет с орбиты. – Выполняю, ньюри Тревельян. Две или три секунды на экране с изображением блюдца ничего не менялось. Затем пол под ногами Ивара дрогнул, испуганно вскрикнула Ифта Кии, и сквозь толщу станционного диска в централь долетело далекое, едва слышное гудение. Тревельян не знал, как излучатель соединяется с корпусом станции – возможно, гравитационными или магнитными захватами, молекулярным замком либо самым примитивным способом, с помощью металлокерамического крепежа. Однако участившаяся дрожь свидетельствовала, что начал работать механизм расстыковки – внизу, на техническом ярусе, что-то сдвигалось, рвалось, отключалось питание, распадались какие-то связи. Антенна внезапно затрепетала как цветок, который срывают со стебля. Пол теперь раскачивался в такт ее колебаниям. – Отстрел, – предупредил криогенный разум. – Возможно небольшое сотрясе… Станцию швырнуло вверх, раздался чей-то панический вопль, но тут же включились компенсаторы и заработали гравитационные движки. На мониторе антенная чаша, вместе с кораблем, падала к границе атмосферы, и ее полет был стремителен, смертелен и неотвратим. Чаша была величиной с наперсток, но Тревельян знал, что это огромная конструкция, весившая при нормальном тяготении десять или двадцать тысяч тонн. Из-за малого увеличения он не мог разглядеть фигурку Глубины, но, очевидно, сейчас она пыталась перебраться на корабль. В том случае, если она еще жива. «Сгорит, – заметил командор. – Видали мы такие виды! Все сгорит, и излучатель, и ведьма, и корабль… Секунд этак через пятнадцать». – Стабильность орбиты восстановлена, – доложил Мозг. – Будут еще распоряжения, ньюри Тревельян? – Пусть капсула – та, что уцелела – приблизится к антенне и ведет запись. Эту информацию ты должен сохранить. Надеюсь, что… Договорить ему не удалось – ослепительный взрыв заставил прищуриться. На экране полыхнул огонь, закружилась оранжевая туча, обломки корабля и излучателя, наливаясь багровым цветом, полетели вниз, к планете. Пронизав разреженный атмосферный слой, они, подобно звездному дождю, посыпались в стратосферу и начали вспыхивать и расточаться дымом. Это длилось недолго и было так далеко от капсулы-транслятора, что монитор покрылся лишь едва заметной рябью. Наверное, если наблюдать с планеты, зрелище красивое, подумал Тревельян; ливень искусственных метеоритов, падающие огни, алые зарницы… Он вздохнул и, словно стряхивая усталость, провел ладонью по лицу. Последние огни померкли. Вверху, над станцией, сияло солнце, заливая светом и теплом централь, внизу кружился Сайкат, плыл неторопливо в потоке времени, отсчитывая минуты и часы, дни и годы, века и тысячелетия. Как всегда, он был похож на сапфировый шарик в обрамлении алмазов-звезд. Лучи их казались колючими, но ничем не угрожали голубому миру.Сообщаю, что внушавшая тревогу ситуация на СИС ликвидирована (см. отчет полевого агента и эмиссара Ивара Тревельяна, приложение 1). Оставшийся в живых экипаж станции эвакуируется крейсером Звездного Флота «Ганнибал», который следует с визитом дружбы на Йездан. Полагаю, что появление там земного военного корабля вполне уместно, ибо продемонстрирует наше недоверие к партнерам, по чьей вине сайкатский проект едва не завершился катастрофой. На Йездан будут переправлены ботаник Вечерний, третий генетик Иутин и восемь служителей клана ни. Второй генетик Ифта Кии отправляется, согласно ее желанию, на Землю (подана просьба о гражданстве). Мы приступаем к полевым исследованиям и ждем присоединения к экспедиции инопланетных коллег, которых, видимо, пришлет научный отдел Хорады. Что касается нашего агента Тревельяна, то предполагаемая миссия на Пекле его отнюдь не осчастливила. Все, что он думает по этому поводу, см. в приложении 2, причем я, как он пожелал, оставил в тексте проклятия и всю ненормативную лексику на бинтри, осиерском и харшабаимском языках. Однако, как прочие сотрудники ФРИК, Ивар Тревельян верен долгу, и это его оправдывает. Не сомневаюсь, что он… Из доклада Роберта-Али Щербакова, координатора Сайкатского проекта, посланного с Сайката руководству ФРИК по дальней связи.
Интермедия 6 Сломанный Меч
Чужак явился снова. Но теперь Сломанный Меч был уверен, что видит не охотника и воина другой стаи, а посланца, ибо Чужак выглядел устрашающе огромным, больше хищного маа, больше быка, больше бартара. Это пугало, как и мысль о том, что некая сила, загадочная и непонятная, может послать кого-то в его племя, и что этот кто-то не относится к Людям. Такая идея казалась безусловно новой, и впоследствии Сломанный Меч долго размышлял, чьим посланцем является Чужак – Того, Кто Раздает Дары или Того, Кто Их Отнимает. И эти раздумья не остались бесплодными. В тот день стая охотилась в ущелье, на обоих берегах реки. Молодые и быстроногие гнали дичь, старые шли цепочкой за ними, чтобы ни один зверь не ускользнул, а Сломанный Меч и самые искусные охотники сидели в засаде, поджидая добычу. Их было больше, чем пальцев на руках: Черный Топор, Длинное Копье, Дубина С Тремя Сучками, Каменный Нож, Топор На Ремне, Меткий Дротик и другие. Они уже забили клыкастого оленя, и Меткий Дротик, поразивший зверя первым, пил, по обычаю, кровь, а Каменный Нож, нанесший второй удар, выламывал клыки. Двум охотникам помладше вождь велел содрать шкуру и вырезать сочное мясо с хребта. Он любил есть его сырым и еще теплым. В этот момент и появился Чужак. Он был таким же, как раньше, только очень высоким – кустарник едва доставал ему до пояса, а ветви деревьев касались плеч. Над его головой сверкало что-то округлое, подобное большому гладкому камню, но живое – Сломанный Меч видел, что этот камень бескрылой птицей летит за Чужаком. Охотники застыли в ужасе, вождь тоже перепугался, и это оцепенение спасло их от позора – они не ринулись в кусты, как трусливые крысы. Чужак заговорил, и его голос показался Сломанному Мечу громче рыка маа. Он с трудом разобрал знакомую речь. – Не бежать! – приказывал Чужак. – Кто бежать, плохо. Мой зверь-помощник догонит, сломает кости. Живой Камень, висевший над его макушкой, зашевелился и выпустил множество лап. Они были тонкими, но кончались ножами, более острыми, чем делают из шипов бартара. Озноб пробежал по хребту Сломанного Меча, но он был вождем и потому выступил вперед. Перед Людьми своей орды он не мог обнаружить страха, но его слова перемежались хрипом и бульканьем. Он вспомнил ту жуткую тень, что убивала воинов в пещере земляных червей, и содрогнулся. Эта тень пришла вслед за Чужаком… Может, он сам был ею?.. Или его Живой Камень с ножами на лапах?.. – Чужой, – с трудом произнес Сломанный Меч. – Видеть тебя раньше, но не такой большой. Обещал уйти и не вернуться. Он хотел напомнить Чужаку про обещание – ведь тот говорил, что не будет преследовать стаю, если его накормят. Ему дали лучшие куски с хребтины и ляжки быка, и Чужак насытился. Чего еще ему надо? Мяса? Самку? Или оружие? Но оказалось, что Чужак желает выбрать лучшего охотника и отвести его к Тому, Кто Раздает Дары. Охотника, не вождя, как он сказал, и это было понятно Сломанному Мечу. Охотников много, и есть среди них лучшие и похуже, есть ловкие и неуклюжие, старые и те, кто еще не имеет имени, а вождь – один. Стая не проживет без предводителя, и потому его нельзя забрать, какие бы дары ни приготовил Раздающий. Но если охотник получит обещанный дар и будет всегда с добычей, это хорошо для вождя: охотник убьет быка, или клыкастого оленя, или болотного ящера, а вождь разделит мясо. Вождь по-прежнему самый сильный, самый хитрый, и делить – его обязанность; такая же, как вести воинов на врага, убивать земляных червей и говорить с посланцем Раздающего. Чужак был прав, когда сказал, что нужен охотник, а не вождь. Здесь, у туши оленя, собрались лучшие охотники: Меткий Дротик, Черный Топор и Каменный Нож. Меткий Дротик метал копья на пятьдесят шагов, попадая в горло бегущему быку; Черный Топор рассекал одним ударом хребет животного, а однажды прикончил детеныша маа, разбив ему череп; Каменный Нож являлся отличным следопытом, и любое оружие в его лапах несло добыче смерть. Сломанный Меч отдал бы любого, но кажется, Чужаку они были не нужны: его огромная рука протянулась к Длинному Копью. Плохой выбор, решил вождь. Конечно, Длинное Копье отличался силой и был хитер и умен, но в искусстве охоты его превосходили многие. В метании копий он уступал Меткому Дротику и Мечу С Узором, он неважно разбирался в звериных следах и, случалось, путал помет быка с пометом ящера. Он говорил, что его родная стая жила среди горных вершин, где нет ни быков, ни оленей, ни ящеров, а только птицы и мелкое зверье. Там они жили и там голодали, пока другая стая, более сильная, не поднялась высоко в горы, не уничтожила мужчин и не забрала самок. Длинное Копье бежал и долго скитался в горах, но это не прибавило ему охотничьих умений. Впрочем, подумал вождь, Тому, Кто Раздает Дары, виднее. Вдруг он хочет превратить неважного охотника в хорошего! Это было бы знаком его благоволения и милости, его подарком Людям! Может быть, он различает теперь настоящих Людей и тех животных, что копошатся в пещерах? Может, убивающая тень послана не им? Может, он дарует Людям долгую жизнь и неиссякающую силу? Показав на Длинное Копье, Сломанный Меч произнес: – Гы! Он твой. Затем случилось странное. Похоже, Длинное Копье был не согласен с этим выбором и не желал отправляться к Раздающему Дары, чтобы стать лучшим охотником. То ли он вконец перепугался при виде посланца-великана, то ли решил, что его отдают Чужаку как дохлую добычу, что на самом деле мясо его насытит Раздающего, кости попадут в огонь, а содранную кожу растянут для просушки на шестах. Так ли, иначе, но, бросив свое оружие, он устремился в лес и мчался так, что даже змея шоюн не сумела бы его догнать. Но Живой Камень, висевший над посланцем, метнулся следом, и был он быстрее стремительной шоюн, быстрее атакующего маа, быстрее любого зверя и птицы, что бегают по лесу и парят в небесах. Неодолимый страх охватил Сломанного Меча и всех его воинов, и они, подобно скачущим крысам, ринулись под защиту кустов и деревьев, добежали до горного склона и забились в щели меж камнями. Они просидели там до вечера, пока не вернулся Длинное Копье. Он был цел и невредим, но о случившемся у Раздающего Дары говорить не пожелал, и на все расспросы лишь усмехался, скалил зубы да тыкал лапой в небо. Казалось, он очень доволен и ждет какого-то знамения – может быть, других даров, которые обещаны Раздающим. Той же ночью в небе засверкали молнии, вспыхнули зарницы, раскатился гром, и понеслись из темноты к земле кровавые пылающие звезды. Стая, пришедшая в ужас, укрылась в утесах, но грохот и огонь небесный исчезли так же быстро, как и начались, и Сломанный Меч велел возвращаться в стойбище. На обратной дороге встретился им Длинное Копье – похоже, он не сидел со всеми под стеной ущелья, а бродил у лесной опушки, задрав голову, и будто бы чего-то ждал. Ждал он на следующий день, и на второй, и на третий с четвертым, но эти дни и ночи были спокойными. Страшные огни и грохот не повторялись, изгладившись вскоре из памяти охотников и самок, а те, кто видел великана-Чужака и слышал его обещания, об этом тоже стали забывать. Забывали Черный Топор и Меткий Дротик, Каменный Нож и Дубина С Тремя Сучками, Топор На Ремне и все остальные, но только не Сломанный Меч. Вождю забывать не положено. Вскоре он выяснил, что охотничьих навыков и удачи у Длинного Копья не прибавилось, а вот странностей стало больше. Днем Копье еще походил на человека среди настоящих Людей, но по ночам случалось с ним что-то непонятное: он ускользал из стойбища и, добравшись до поляны или другого открытого места, садился там, смотрел на горящие в небе звезды, а после принимался выть, кататься в траве и грызть кулаки. Увидев такое, Сломанный Меч догадался, что Чужак приходил не от Того, Кто Раздает Дары, а от Того, Кто Их Отнимает. Это было совершенно ясно – ведь у Длинного Копья что-то отняли, иначе с чего ему горестно выть и выдирать клочья шерсти и травы. Отняв же, могли чего-то добавить, но вряд ли Отнимающий добавлял хорошее. Так, например, он мог внедрить идею, что стае нужен новый вождь и имя этого вождя Длинное Копье. При этой мысли Сломанный Меч взволновался, но вскоре его тревога перешла в решимость. Как уже говорилось, он был прагматиком, стремившимся предотвращать неприятности, пока они не наступили. И потому однажды ночью он подкрался к Длинному Копью, послушал, как тот воет на звезды, и раскроил ему череп топором.Пекло (Равана) – четвертая планета двойной звездной системы NG-0455/56881 (красный гигант Асур, белый карлик Ракшас). Общее описание: землеподобный мир, открытый экспедицией Сокольского-Шенанди в 2892 году (Марсианский университет). Имеет пять обитаемых материков: самый крупный центральный – Хира или Хираньякашипа (протяженность в широтном направлении 13 800 км, в меридиональном – 11 280 км), и более мелкие Вритра, Шамбара, Раху и Намучи (размеры от 4400 до 9550 км в поперечнике). Суша, с учетом многочисленных островов, занимает 63 % планетарной поверхности, Мировой океан представлен внутренними морями, которые соединяются проливами. Вследствие недостатка влаги планета весьма засушлива, климат жаркий, местность большей частью имеет характер пустынь, полупустынь, степей и бесплодных гор. Отмечена активная вулканическая деятельность. Флора и фауна небогатые, почти все виды растений и животных окультурены. Планета населена гуманоидами нескольких рас (точное количество неизвестно), чей уровень развития соответствует раннему Средневековью. Вследствие недостатка удобных для обитания земель между племенами и народами происходят постоянные конфликты; население чрезвычайно воинственно и недружелюбно. С 2901 года Пекло (Равана) находится под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур. Период обращения планеты вокруг оси: 28,37 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг доминирующего светила (Асур): 748 суток. Естественный спутник: Гандхарв. Тяготение: 1,3 земного. Состав атмосферы: см. раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты: см. раздел «Галактические координаты землеподобных планет». Большой Звездный Атлас, издание седьмое, Земля – Марс.
Эпилог
Ситуация на Пекле тревожная, – сказал Роберт-Али Щербаков, глядя, как плывут над парком розовые голографические облака. – Очень тревожная, Ивар. – Фонд патронирует сотни миров, так что всегда найдется парочка с большими неприятностями, – отозвался Тревельян. – Это не повод к такой безбожной эксплуатации. – В принципе, я согласен. Однако личная просьба консула Юи Сато… – Полевых агентов у него хоть пруд пруди. – Ты, Ивар, один из лучших. – Один из… Значит, есть другие! Пусть посылает их, а у меня законный отпуск. Я хочу на Гондвану, а не в Пекло! – Ты там уже побывал. У других нет твоего опыта. – Я, Боб, трудился на Пекле стажером. Какая польза от сопливого юнца? В нашей группе было еще пятеро, и все намного опытней – Крис Аллен, Жаннат Азимбаев, Кэти Гравина, Такеши Саи и Карел Гурченко, координатор. Где же они? – Заняты. – Значит, заняты! А я, значит, свободен! – произнес Тревельян, стараясь вложить в эти слова побольше сарказма. – Миссия здесь завершена, и я свободен! Был у нас Хаймор, потом – Пта и Осиер, за ними – Сайкат, а теперь намечается Пекло! Хотел бы я знать, когда появится в этом списке Гондвана? Или база отдыха на Рооне, или еще какой-нибудь курорт, где можно погреться на солнышке и поиграть с девушками в теннис? – Знаю я эти игры, – молвил Роберт-Али, ухмыляясь. – Не в играх суть, а в том, что график отпусков – святое дело. Кстати, всякие игры на свежем воздухе способствуют восстановлению работоспособности, – пояснил Тревельян. – Контакты с девушками тоже, особенно с волосатыми. То есть я хочу сказать, с такими, у которых есть прическа, а не голая кожа на темени. – Этих на Пекле полным-полно. Там у женщин роскошные волосы. – Не видел ты этих женщин, – с тоской сказал Тревельян. – Не получал зуботычин, не слышал их воплей, не нюхал их запах… На Пекле, знаешь ли, мало воды, и моются там не каждый день. Стирать одежду тоже не принято. – Зато какие солнечные ванны! – Точно. На солнышке смола кипит, а когда их два на небе, так прямо загорается. Особенно в области экватора. Там, друг мой Роберт… Щербаков кашлянул и негромко произнес: – Серый Трубач перешел горы. После этих слов воцарилось молчание. Собеседники сидели в парке, рядом с павильоном, где проходил банкет в честь земного эмиссара, и это навевало тяжкие раздумья. Семь из десяти достойных были мертвы, трое живых и слуги улетели на крейсере «Ганнибал», но череда убийств и мрачных тайн еще не стерлась из памяти Тревельяна. Полезно сменить обстановку, думал он, но перемена должна быть приятной. А тут, из огня – да в Пекло! Ивар не имел никакого желания увидеть снова эту знойную планету, не говоря уж о ее обитателях. Разбойники, бандиты, а кое-кто так настоящий людоед! Вот Осиер он посетил бы с удовольствием. Осиер или хотя бы Хаймор с его плавучими джунглями! Однако: Серый Трубач перешел горы… Он покосился на лицо Щербакова. Точеный арабский профиль, смуглая кожа, темные волосы до плеч… Координатор земной экспедиции выглядел невозмутимым и уверенным в себе. Знает, чем взять! Скривившись, Тревельян пробормотал: – Мне надо отдохнуть, Боб. Досталось в этом гадючнике по первое число… Полное, можно сказать, истощение, и все духовные резервы на исходе. – Отдохнешь, пока летишь. – А лететь-то как? «Ганнибал» уже отчалил… Где мой персональный крейсер? – Придет другое судно, грузовик-автомат с нашим снаряжением. Маршрут у него причудливый, и к Пеклу доберешься недели за три. Чем не отдых? Покой, тишина, уединение, крепкий сон и гидромассаж под нежную музыку… Самое то, чтоб накачать духовные резервы! – А теннис? – жалобно напомнил Тревельян. – С кем я буду играть в теннис? – С кем хочешь, только в виртуальной реальности. Необходимая установка на транспорте есть. Тревельян вздохнул. Виртуальные игры его не соблазняли, но в штате Щербакова насчитывалось семь десятков человек, и половина – женщины. Все, независимо от возраста, хорошенькие, а три-четыре прямо красавицы. Есть надежда, есть! Конечно, если сделать верный выбор и минимально сократить период ухаживания. Вот, скажем, ксенолог Ника Пугачева… – Когда прибудет этот транспорт? – спросил он. – Завтра, Ивар, завтра. Нужно торопиться, понял Тревельян, поднимаясь на ноги. – Так скоро? Тогда я пойду в ксенологический отдел и сдам дела. Этой брюнетке с синими глазами… Как ее?.. Ника?.. – Какие дела? – изумился Роберт-Али. – Кни’лина ты проводил, всем пожелав утренней радости, отчет написал, приложения к отчету тоже, включая письмо консулу Сато на бинтри, осиерском и харшабаимском. Кстати, он владеет этими языками? – Надеюсь, нет. А дела… Есть еще профессиональная информация. Кое-что насчет традиций терре и тазинто, их верований и обычаев. Надеюсь, Нике пригодится. Кивнув Щербакову, Ивар обогнул павильон и зашагал к выходу из парка. Там, над распахнутыми вратами, висело голографическое изображение: огромный Сайкат и крохотное блюдце станции, кружившее у голубой планеты по эллиптической орбите. Остановившись, он запрокинул голову, взглянул на мир тазинто и терре и подумал, что ядовитое жало, грозившее ему, исчезло, превратилось в прах, рассеялось дымом над водами и континентами. Мысль согрела сердце Ивара, но вслед за ней пришла другая, не связанная с Сайкатом, с проектом примирения двух рас, с погибшими или живыми кни’лина, с тем, что уже было прошлым. Прошлое для Тревельяна являлось менее важной категорией, чем будущее; прошлое – память, а то, что впереди, – повод к размышлению и действию. Он сдвинул брови, вспоминая слова Щербакова. Серый Трубач перешел горы… Это было серьезно, очень серьезно! Все, что сделал Фонд на Пекле, под угрозой, и потому не время отдыхать. Отложим Гондвану, решил Тревельян, забудем про синее море, теплое солнце, карнавалы, игры и прелестных дам. Как сказано у Йездана, мы способны на гораздо большее, чем думаем, так что отложим все эти чудные иллюзии и примем в компенсацию веление судьбы. Примем этот дар и будем благодарны! Не такой уж он ничтожный, говоря по чести! Новый мир, новая миссия и новые приключения… Усмехнувшись, он перешагнул порог.Приложение 1
Галактические расы, упомянутые в романе
Даскины, или Древние – высокоразвитая раса, владевшая Галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества даскинов, их цели и мировоззрение тоже неизвестны, однако в Галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся: древняя карта Галактики (так называемый Портулан Даскинов), останки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах, и так далее. Считается, что информация о Лимбе и контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от даскинов. Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в Рукаве Ориона (в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие). Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуруких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около двух тысячелетий служили лоона эо в качестве Защитников, затем были вытеснены с этой позиции земным человечеством. Неоднократно воевали с Земной Федерацией (начиная с XXIV века). Кни’лина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в Рукаве Ориона. Обликом подобны людям Земли; отличия незначительны – отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм (не могут питаться мясом), не способны давать потомство с землянами. Имеют многочисленные колонии примерно в шестидесяти-восьмидесяти звездных системах, а также мощный боевой флот. Воевали с Земной Федерацией (клан ни) в XXVII–XXVIII веках и потерпели поражение. В настоящее время между Федерацией и обществом кни’лина установлены культурные и дипломатические связи, однако их прочность сомнительна. Лоона эо – раса псевдогуманоидов, одна из древнейших и наиболее высокоразвитых в Галактике. Обликом подобны людям Земли – с поправкой на меньший рост, изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства: у лоона эо четыре пола (мужчины, полумужчины, полуженщины, женщины, причем только последние способны к зачатию и рождению детей), зачатие же (инициирование женской яйцеклетки) осуществляется ментальным путем (органов размножения, обычных для гуманоидов, у лоона эо не имеется). Их сектор в Рукаве Ориона состоит из ядра (Розовой Зоны), где находятся материнский мир Куллат и древние колонии (Файо, Арза и другие), и Внешней, или Голубой, Зоны, где сосредоточено около двадцати планет (Харра, Тинтах, Данвейт и другие), которые были заселены в более поздние времена (10–12 тысяч лет назад). В данную эпоху лоона эо покинули планеты и переселились в астроиды, искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю предметами своей высокой технологии. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика-Чейни. Для защиты своего галактического сектора лоона эо нанимают расы-Защитники, из которых известны две: дроми, а до них – хапторы. С конца XXI века Защитники вербуются в Земной Федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Данвейте. Лоона эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество; дипмиссия, представленная сервами, существует в Посольских Куполах на Луне с 2097 года. Лльяно – негуманоиды, к контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов; редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных лоона эо. Точное местоположение сектора лльяно не установлено; вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами лоона эо, в направлении южного галактического полюса. Лльяно – закрытая раса, контактирующая в основном с лоона эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор не ясен. Внешний вид лльяно: мохнатые создания с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями (по свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей). Метаморфы, или протеиды – негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному изменению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способны к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами, хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. Космической экспансии не осуществляют, населяют только свой материнский мир, чьи координаты неизвестны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличье аборигенов, но тайно (в силу своей природы практически неуловимы). Достоверные контакты с метаморфами за последнюю тысячу лет исчисляются единицами. Однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с бино фаата и последующих Войн Провала. Осиерцы – автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК) и цивилизации парапримов. Параприматы, или парапримы – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название (пара – греч. «возле», «около»). Первыйконтакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа безусловно миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмарри – резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком (если он существует). Как и даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25–30 млн лет). Внешне похожи на гигантских червей (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытых белесоватой кожей; могут вытягивать тела до 12–15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разреженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствуют на своих кораблях по всей Галактике (один из примеров так называемой «кочующей цивилизации»). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер; их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ. Малоконтактны и, как правило, не агрессивны, но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в XXVIII веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание терукси, которым представителями Земли были переданы Портулан Даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в Рукаве Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата. Фаата (бино фаата) – гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в Рукаве Персея, который отделен от Рукава Ориона (от земного сектора) Провалом, где практически нет звездных систем. Агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне: в 2088 г. их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительные разрушения (после чего последовала операция возмездия и четыре Войны Провала, затянувшиеся в общей сложности на 125 лет). В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от кни’лина, способны давать с землянами потомство (выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению). Раса фаата делится на касты, причем высшая (правящая) обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные (работники, солдаты, пилоты, самки-продолжательницы рода) относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют Связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С Земной Федерацией бино фаата контактируют крайне редко. Хапторы – гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличается от земного стандарта, чем у кни’лина, бино фаата, терукси и осиерцев (несовместимы с людьми в сексуальном отношении; искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособного потомства). Колонизировали и заселили несколько сотен миров в Рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру Галактики, чем Земная Федерация. Примерно три с половиной – две тысячи лет назад являлись Защитниками лоона эо, затем их сменили дроми, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расами. Внешний облик: высокие (около двух метров), крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника – полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком. Человеческим эталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с Земной Федерацией в XXVI веке, были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.Приложение 2 Некоторые сведения о расе кни’лина
Цвет, его название и символика
Черный – ночной цвет. Белый – дневной цвет. Красный – утренний цвет. Символика: торжественный, радостный. Красные лампочки на пульте прибора являются не свидетельством тревоги, а показателем нормального функционирования устройства. Желтый – первый лунный цвет (цвет естественного спутника планеты Йездан). Зеленый – второй лунный цвет (цвет второго спутника Йездана). Символика: тревожный, что связано с памятью о глобальной катастрофе, что последовала за захватом планетой второго спутника. Зеленые лампочки на пульте – признак неполадок. Синий – вечерний цвет. Символика: траурный. Погребальные кувшины обычно расписаны синими узорами. Серый – сумеречный цвет.Традиции одеяний
Парадная одежда – богато расшитый камзол или особый вид рубахи с расшитой безрукавкой, а также лосины, пояс и башмаки. Вместе с парадным одеянием носят диадемы, наплечные и наколенные украшения, украшения пояса. Эти одежды практически одинаковы у мужчин и женщин. Домашняя одежда – просторный хитон и сандалии (у мужчин), домашняя мантия и сандалии (у женщин). В домашней обстановке часто ходят босиком или переползают с места на место на коленях. Рабочая одежда – сайгор и сайтени. Сайгор, обтягивающий комбинезон, чаще носят достойные (ньюри); сайтени, своеобразные шорты с майкой, большей частью являются одеждой слуг клана, но строгих правил здесь нет. Ритуальная одежда – опоясывающие шарфы или передники и более ничего, так как в Книге Начала и Конца сказано: нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству. Ритуальные одеяния в основном носят похарас; люди клана ни облачаются в эти одежды только во время погребального обряда.Кухня кни’лина
Апаш – салат из фруктов под сладким соусом. Гибху – большие круглые орехи со сладковатой мякотью. Зенагри’лока – аналог земных бобов и фасоли. Из них готовится локайят, традиционное блюдо похарас. Коукро – небольшие круглые плоды (размером с грецкий орех). Очень питательны. Курзем – блюдо из мясных грибов, богатое белками. Пактари – салат из фруктов под кислым соусом. Тецамни – горький тонизирующий травяной отвар, аналог чая. Шиншалла – плод, похожий на большой огурец; употребляется в тушеном виде.Пояснение некоторых других реалий
Ареопаг – совет при императоре похарас. Йездан’таби – религия кни’лина (клан похарас). Книга Начала и Конца – священные тексты кни’лина. Авторство приписывается Йездану Сероокому, которого одни считают богом, другие – великим пророком, а третьи – древним мудрецом. Коно – личное пространство кни’лина (несколько шагов), куда не должны вторгаться другие индивидуумы, кроме слуг, медиков и близких родичей. Малые кланы – кланы, произошедшие с небольших островов в эпоху Метаморфозы и генетически родственные ни или похарас. Упоминаются: тудонга, сайили, конно, пнирра, тадиг, хитт, ахаоно и валлс. Мшак – мелкий хищный зверек, отличается мохнатой шерстью, мерзким запахом и склонностью к пожиранию отбросов. Мшаками кни’лина презрительно называют землян. Ни – самый могущественный клан кни’лина, воевавший некогда с Землей. Ньюри – почтительное обращение к вышестоящим кни’лина ранга достойных; дословный перевод – «эксперт». Огихон – устройство для сжигания мертвых тел, что является обязательным элементом похоронного обряда. Палустар – боевой ментальный излучатель. Погребальные кувшины – сосуды, в которые помещается прах умерших. Древние кувшины, богато расписанные и украшенные, считаются у кни’лина ценными предметами искусства. Похарас – второй по могуществу клан кни’лина. Похарас, в отличие от клана ни, религиозны и в большей степени придерживаются древних традиций. С Земной Федерацией не воевали. Таргад – воинское подразделение. Тока – сосуд для еды из небьющегося фарфора. Имеет форму удлиненной овальной чаши с ручкой. Токар – бокал для питья. Токати – щипчики с широкими концами, которыми берут еду из чаши-тока. Тенсу и гайрим – обозначение родства у кни’лина: тенсу – братья и сестры, имеющие общего отца, гайрим – имеющие общую мать. Хорада – своеобразный парламент кни’лина, в котором представительствуют все кланы, включая малые.Приложение 3 Йездан Сероокий, максимы из Книги Начала и Конца
У протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли.* * *
У нас есть только то, что мы теряем.* * *
Лицом к лицу – лица не увидеть.* * *
Клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость.* * *
Религия лишь платье истинной веры.* * *
Способность дивиться чуду жизни – вот что питает корень человеческой души.* * *
Потомство человека – его тень, протянувшаяся в грядущее.* * *
Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает.* * *
За горами – горы.* * *
Зверь всегда рядом с вами.* * *
Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным – это их пугает.* * *
Жизнь – смех полоумного в пустоте.* * *
Жизнь – долина созидания и разрушения души.* * *
Можно не верить в бога, но нужно его любить.* * *
Человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти.* * *
Того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру.* * *
Мы способны на гораздо большее, чем думаем.* * *
У каждого есть своя чаша с ядом.* * *
Цена утреннего дома высока.* * *
Время стирает память о случившемся с нами.* * *
Ничто не свершается без греха.* * *
Кто наточит клинок против зла мира?* * *
Нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству.* * *
Нет свободы без закона.* * *
Храни, что имеешь.* * *
Остерегайся очевидного.* * *
Десять сильных не победят миллионы слабых.* * *
В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин.* * *
Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки.* * *
Желающий судить безгласного – сам преступник.* * *
Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых.* * *
Долг перед мертвыми вечен.* * *
Уважай смерть, ибо перед тобой погибшая Вселенная.* * *
Хороший человек – утренняя радость.* * *
Редки люди утренней радости.* * *
Что есть счастье? Медоносный мотылек, который порхает в ваших душах.* * *
Еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым.* * *
Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи.* * *
Нет бури, которая ломает все деревья.* * *
Долг старых – лгать молодым.Михаил АХМАНОВ НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Глава 1. В далеких мирах
Эксперимент закончился неудачей – девятьсот сорок четвертый провал за восемь тысяч Оборотов планеты вокруг светила. Но с каждой новой попыткой техника совершенствовалась, и теперь в распоряжении Фарданта Седьмого были отпрыски-исполнители, способные к тончайшим операциям на клеточном ядре. Их зрительные органы могли различить мельчайшие гены в хромосомах, а световые резаки, манипуляторы и инжекторы являлись точным орудием, позволявшим изымать и заменять любые элементы двойной молекулярной спирали. Генетический материал, с которым работали отпрыски по заданной Фардантом Седьмым программе, был чрезвычайно древним, но сохранившим жизненную искру. Фардант не помнил, каким телесным тканям или органам принадлежали эти клетки, но данный факт значения не имел – клеточные структуры, обладавшие специализацией, извлеченные из кожи или мышц, из мозга, пищеварительного тракта, легких или крови, равным образом не подходили для воссоздания целостного организма. Для этого их требовалось вернуть в исходное состояние, когда оплодотворенное яйцо только начало делиться, и результаты данного процесса, две, четыре или восемь клеток, еще содержат полный генетический набор, сотни тысяч генов, определявших всю неповторимость, все особенности живого существа. На Земле такие клетки назывались стволовыми, но Фардант, используя древнюю терминологию своей расы, думал о них просто как о жизненной первооснове. Он научился получать их три с лишним тысячи Оборотов назад, и все дальнейшее время было потрачено на опыты с зиготой, то есть с оплодотворенной яйцеклеткой. Даже для него контроль за ее развитием оказался очень сложен – после трех актов деления требовалось запустить хромосомный механизм, отвечавший за дифференциацию каждой клетки, за ее превращение в конкретный орган или ткань. В конечном счете это сводилось к пробуждению одних генов, блокировке других и борьбе с вредными мутациями – процесс, включавший гигантское число параметров, ровно столько, сколько единиц наследственности хранили хромосомы. При естественном развитии организма этим не пришлось бы заниматься, но ту искру жизни, что еще осталась в древних клетках, надо было поддерживать, раздувать и направлять. В противном случае в биологических чанах формировались уроды, не способные к движению, переработке пищи и даже к дыханию, не говоря уж о нервной деятельности высшего порядка. Со временем Фардант Седьмой и его отпрыски-побеги справились почти со всеми этими задачами. Теперь их творения были превосходны: скелет с необходимыми мышцами, нужное число конечностей, обладавших парной симметрией, плотный кожный покров, внешние органы, источник ощущений, и внутренние, пригодные для утилизации питательных веществ и атмосферных газов, гормональной настройки и поддержания биохимического баланса. Эти существа могли не только шевелиться, питаться и дышать – они издавали звуки, реагируя на темноту и свет, тепло и холод, боль и пищу. Их нервная система была сконструирована должным образом, а мозг отвечал эталону, бережно хранившемуся в памяти Фарданта. Они казались во всем подобными древним его соплеменникам, тем, кто населял планету в давнюю, почти незапамятную эру и кто погиб в борьбе бессмертных. Поистине прекрасные создания! Только лишенные разума и не готовые к коммуникации с Фардантом. Последние шестьсот шестьдесят Больших Оборотов он пытался внедрить в их мозг фрагменты своей мыслительной матрицы, но безуспешно – ни один экземпляр не обладал способностью к телепатической связи. Что его не удивляло: лишь разумным существам даровано ментальное общение, лишь разум, генерирующий мысли, умеет направить собеседнику ментальную волну. А раз такого не происходит, то, вероятно, где-то допущена ошибка. Несомненно, ошибка, которую следует найти! И Фардант Седьмой, порождая все новых и более умелых отпрысков, совершенствуя биологические чаны и световые скальпели, размышлял над этой проблемой в своем подземном убежище. Шло время, которое он отсчитывал Малыми Оборотами планеты вокруг своей оси и Большими вокруг центральной звезды. Шло время, и ничего не менялось: тысячи глаз, принадлежащих его периферийным побегам, глядели в бездну Внешнего Мира, озирали небеса, то полные солнечного сияния, то черные, почти беззвездные; тысячи стражей и сокрушителей стояли на рубежах его владений, готовые отразить набег соперников; тысячи тысяч зеркал ловили излучения светила и превращали их в энергию, необходимую побегам; миллиарды крохотных тварей ползали в недрах земли и на ее поверхности, аккумулируя питательные вещества и элементы, в которых нуждался Фардант. Все они были им, а он был ими – огромное существо в зеленом оазисе, напоминавшем формой шестиконечную звезду. Время мало значило для него, ведь в запасе была вечность или, вернее, почти вечность, поскольку все когда-нибудь кончается, даже сама Вселенная. Но срок до ее грядущей гибели был таким гигантским, таким чудовищным, что тысяча Оборотов или миллион значили не более того мгновения, когда элементарная частица, врезавшись в мишень, рождает световую вспышку. Времени должно было хватить, и если Фардант Седьмой не справится с задачей, ее решит Восьмой или Девятый, Десятый или Сотый. Если, конечно, он не погибнет до срока, уничтоженный Матаймой или Гнилым Побегом. Не исключалось, что гибель придет из-за моря, от Тер Абанты Кроры или Дазза Третьего, прилетит на воздушных кораблях с боевыми отпрысками-сокрушителями или прольется из туч ядовитым дождем. Маловероятно, но возможно, хотя Фардант полагал, что защищен не хуже своих соперников. Часть его сознания, распределенная в стратегический модуль, подсказывала, что шансы гибели невелики, так как занятый им ареал лежит далеко от океанов, в центре континента, и отделен от доменов Матаймы и Гнилого Побега горами, пустынями и защитной полосой. Тем не менее перспектива смерти являлась реальностью. В игре, которую он вел с четырьмя бессмертными, ставки были высоки – контроль над всей планетой и последующее возвращение из темной холодной пустоты в другую галактическую область, богатую звездами и планетарными телами. В той ситуации зыбкого равновесия, что имела место между соперниками, любой внезапный ход, любая неожиданность могли покончить с их древним спором. Любой разум или разумы, способные действовать самостоятельно, имея при этом единую цель – ту, которую преследовал Фардант, – стали бы бесценными союзниками, залогом победы и возвращения. Возможно, они породили бы новых бессмертных, более терпимых друг к другу, чье коллективное сознание нашло бы способ справиться с Врагом. Ибо, кроме соперников на планете, кроме Матаймы, Гнилого Побега, Тер Абанты Кроры и Дазза Третьего, был еще Великий Враг. Могущественный, страшный и неумолимый! Затаившийся среди звезд, что тлели в ночном небе далекими тусклыми огоньками.* * *
Комплекс «Киннисон», одна из базовых станций ФРИК, находился на равном расстоянии и от Земли и от Луны и был ориентирован таким образом, что в хрустальной линзе потолка сияли обе ближние планеты: голубоватый шар Земли, затянутый кое-где облаками, и ее серебряный спутник. На лунном диске виднелись зеленые пятна, зоны обитаемых кратеров, засаженных лесами, а Землю окружало кольцо заатмосферных поселений, обсерваторий и космических гаваней, что отправляли и принимали корабли. Кольцо сияло ярким светом и казалось новой галактикой, возникшей из небытия стремительно и внезапно, с поразительной быстротой. В этом не было преувеличения – что такое тысяча последних лет в масштабах Вселенной? «Киннисон» являлся крупной станцией, включавшей все необходимые службы – от центра галактической связи и портовых терминалов до модуля реабилитации с его бассейнами, киберхирургами и криогенным блоком. ФРИК, Фонд Развития Инопланетных Культур, владел десятками подобных баз, разбросанных в Солнечной системе и у далеких миров, входивших в Земную Федерацию. Его эмиссары тайно или явно трудились на сотнях планет, не столь благополучных, как звездные колонии Земли, и населенных либо гуманоидами, либо существами, совсем не похожими на людей, но обладавшими разумом. Эти патронируемые миры были далеки от совершенства; невежество, переполнявшее их, порождало жестокость, робкие побеги знания вытаптывались в кровопролитных войнах, сгорали в пожарищах катастроф и эпидемий, Темные Века тянулись бесконечной чередой, складываясь в тысячелетия. Фонд пытался им помочь – не всегда своевременно и успешно, но поражения, провалы и ошибки, как и удачи, тоже являлись зерном бесценного опыта. Искусственный разум «Киннисона» и интеллекты прочих баз хранили его в своей бездонной памяти. Две планеты, голубоватая и серебристая, сияли в прозрачном куполе потолка, неяркий ровный свет струился от акрадейтовых стен, заливая просторное помещение. Оно казалось пустоватым: круглый дубовый стол, несколько просторных кресел, стойки голопроекторов и древнее изваяние Тота, египетского бога мудрости, покровителя писцов; больше ничего. У стола сидели четыре человека. – Тревельян согласился, – произнес Юи Сато, склонив темноволосую голову к плечу. Его хрупкая изящная фигура тонула в большом кресле. – Вообще-то ему положен отпуск, но он согласился. Щербаков его уговорил. – Большой умелец этот Щербаков, – заметил Мохаммед Ортега. Он был басист, широкоплеч и кряжист, с мощной выпуклой грудью уроженца Тхара. У его губ поблескивала почти незаметная завеса фильтрующей маски – в земном воздухе, наполнявшем станцию, кислорода для Ортеги было многовато. Сидевший рядом с ним Пьер Каралис, смуглый, длинноносый, худощавый, согласно кивнул. – Умелец! Больше того, дипломат! – Будущий консул, – усмехнулся Андрей Сокольский, прикрыв веками блеклые серые глаза. – Уйду на покой через пару лет и завещаю ему свое кресло. Надеюсь, никто не против? Ортега буркнул что-то одобрительное, смуглый Каралис снова склонил голову, но по лицу Юи Сато скользнула тень неудовольствия. – Не будем отвлекаться, коллеги, – проговорил он. – Сегодня у нас на повестке не выборы консула, а миссия Тревельяна и катастрофа на Пекле. Как вам известно, орда кочевников перевалила через горы. Четверо сидевших за столом являлись консулами ФРИК, секцией консульского совета, состоявшего по традиции из дюжины членов. Сфера их ответственности распространялась на экзотические миры, большей частью населенные негуманоидами либо имевшие особенности географического, социального или иного характера. Понятие «экзотический» трактовалось в Фонде весьма широко, включая, например, Сайкат, аборигены которого пребывали в каменном веке, или Осиер, упорно не желавший выходить из средневековой стагнации. Пекло, знойная планета в системе двух солнц, с ее вулканами, пустынями, недостатком воды и воинственными обитателями, несомненно являлась неординарным миром, где жизнь и разум балансировали на грани гибели. Нашествие северных варваров, каким-то чудом перебравшихся через непроходимый горный хребет, могло покончить как с первыми ростками цивилизации, так и с усилиями Фонда, пестовавшего эту скудную поросль на протяжении шести десятилетий. Проблема требовала решительных мер и присутствия опытного эмиссара, специалиста по экстремальным ситуациям – такого, как Ивар Тревельян. – Где он сейчас? – спросил Ортега. Маска у его рта медленно колыхалась в такт дыханию. – Отбыл с Сайкатской Исследовательской Станции на транспортном корабле ГР-15/4044. Транспорт доставил на Сайкат оборудование для группы Щербакова и движется дальше к Хаймору, а затем к Горькой Ягоде и Пеклу. – Юи Сато махнул рукой, свет в отсеке померк, и в лучах голопроекторов вспыхнула над столом карта окраины Галактики. – Как видите, самый оптимальный маршрут. Грузы на Хаймор и Горькую Ягоду будут сброшены на квадропланах, так что задержка составит сорок-пятьдесят часов, не больше. Три недели на весь перелет, и Тревельян окажется на Пекле. – Последние прыжки – в Провале, – заметил Сокольский, разглядывая карту. – Область практически не посещаемая… Или я ошибаюсь? – Думаю, не ошибаешься, – пробасил Ортега. – Лет девятьсот назад наши флотилии бились в Провале с фаата, но не в этой зоне, а повыше, за Тхаром и Рооном, в направлении галактического полюса. Там до сих пор кружат обломки их кораблей… – Он уставился на карту с темнеющей бездной Провала, что разделяла две ветви Галактики, Рукав Ориона и Рукав Персея. Провал казался трещиной в необозримом звездном поле, гигантским черным серпом шириною в четыре тысячи парсек. Курс корабля Тревельяна был показан алыми стежками. – Станция! – Ортега повысил голос. – Данные по завершающей части маршрута ГР-15/4044… В этом районе что-то есть? Блуждающие планетоиды, газовые облака, метеоритные рои? – Только пустота, консул Ортега, – прозвучал мелодичный голос искусственного интеллекта «Киннисона». – Последние сто восемьдесят лет район не посещался, но до того предпринимались две картографические экспедиции Звездного Флота. Нужны подробности? – Нет. – Покачав головой, Ортега бросил на Сато виноватый взгляд. – Не сочти за обиду, Юи, не думай, что я хочу тебя проверить… Просто любопытно. Эта зона неподалеку от Тхара, моей родины. Юи Сато повел рукой, карта погасла, и стены засветились ярче. – Пекло на границе Провала, и этот маршрут самый оптимальный, – спокойно продолжил он. – Если двигаться от сектора терукси или мимо Тхара, потеряем дней восемь-десять. Впрочем, курс еще не поздно изменить – транспорт вылетел с Сайката вчера и сделал первый прыжок к Хаймору. Судно недоступно для связи, но можно выслать сообщение в нашу миссию на Хайморе. – Не будем усложнять, – сказал Каралис. – Маршрут представляется мне безопасным, да и не в маршруте дело. Что творится на Пекле и что мы порекомендуем Тревельяну – вот вопрос! Андрей, – он повернулся к Сокольскому, – там сейчас твоя группа. Где они? И что сообщают? – Все в безопасности, на базе. Я велел покинуть Кьолл, торговые города и другие обитаемые земли севернее зоны пустынь, а на дальнем юге мы еще не работали, и наших людей там нет. Нет и информации о том, как кочевники перебрались через Поднебесный Хребет. Вот реконструкция этой территории… – Сокольский щелкнул пальцами, и над столом поднялись миниатюрные горы. Голографический пейзаж был живым – дымились и извергали лаву сотни полторы крохотных вулканов, ползли каменные и пылевые лавины, от западных и восточных морей двигались стада сизых облаков, по временам проливаясь дождями. – Варвары здесь, в предгорьях, – произнес Сокольский, и несколько южных ущелий окрасились в серый цвет. – Переход был тяжелым, теперь они отдыхают и не тронутся с места, пока скакуны не наберутся сил. Еды у них хватает… забили несколько сотен раненых… – Гримаса отвращения скользнула по его лицу. – Я получил доклад Энджелы Престон с результатами воздушной разведки. Похоже, кочевники двинутся в Кьолл не раньше чем через месяц – рубят деревья, ладят телеги, жгут костры, пляшут под дождями, а скот отъедается в зарослях бамбуковых трав. Их поражает изобилие влаги и зелени. – Значит, время у нас еще есть, – заметил Ортега и после паузы спросил: – Престон – координатор миссии? – Да. – Опытный работник? – Смотря в какой области, Мохаммед. Она вулканолог и, как мне кажется, слегка растерялась. Члены ее группы – вулканологи, океанологи, планетологи, этнографы, специалисты по терраформированию и управлению погодой. Социоксенологов там нет, ибо, как нам казалось, главная проблема Пекла – климат. Недостаток воды и плодородных земель определяет структуру общества, связи и конфликты между племенами, религию, обычаи – словом, все от альфы до омеги. Пока не прорвались кочевники, Престон и ее группа трудились весьма успешно. Их основная задача – оберегать Кьолл и торговые города – решалась в геологическом и географическом планах: картография, развитие мореходства, поиск водных источников, стабилизация вулканической деятельности… С этим они превосходно справлялись. – Сейчас нужны другой опыт и другие действия, – сказал Юи Сато. – Разумеется. – Сокольский уставился в полированную крышку стола, побарабанил сухими пальцами и повторил: – Да, разумеется. С этим и связана моя просьба отправить на Пекло Тревельяна. Минуту-другую царила тишина, затем Каралис спросил: – Кто ведет северян? Серый Трубач? – Он, согласно данным воздушной разведки. Видели его бунчук, его палатку и личность знакомого облика – конечно, с поправкой на возраст. Ему сейчас года двадцать два по местному счету, пятьдесят четыре в земном измерении… Для Пекла это еще не старость. – Тем он опаснее, Андрей. – Каралис поднялся и начал расхаживать от стены к стене, подпрыгивая на каждом шагу – тяготение на «Киннисоне» было меньше земного. – Я просмотрел материалы по Пеклу и выяснил, что мы работали только в районе Подножия Мира и прилегающих морей, считая, что там сосредоточены все центры цивилизации. У нас нет постоянных эмиссаров на севере, среди кочевников, на дальнем юге и на других материках, кроме Хиры. Считаю, что это ошибка! – Он резко повернулся и замер рядом со статуей Тота. Чем-то они были похожи – бог с головкой ибиса и длинноносый худощавый человек. – Если бы у нас был наблюдатель в кочевых племенах, мы могли бы эффективнее влиять на ситуацию… по крайней мере, мы оценили бы их ДПИ [26], и этот поход северян не стал бы неожиданным. Однако после высадки на Пекле и первого планетографического обзора возобладало мнение, что Поднебесный Хребет непроходим, и, значит, Кьолл и его соседи защищены от варварских вторжений. Кто это придумал? Какая дурная голова? Станция, справку! – Не надо, – сказал Сокольский, похлопав себя по макушке. – Вот эта дурная голова, коллега! Шестьдесят лет назад я и покойный Шенанди руководили экспедицией Марсианского университета – той, что нашла двойную систему Асура-Ракшаса и высадилась на Пекле. Шенанди был координатором, я – планетологом и первым его помощником… Насчет Хребта – моя идея. Но Хребет в самом деле непроходим. – Он устало откинулся в кресле и добавил: – Во всяком случае, с теми средствами, какие есть у кочевых племен длинноруких – рогатые скакуны, веревки, лестницы и собственные ноги. Каралис пожал плечами. – Но все же они это сделали. Войско Серого Трубача перешло горы. – Оставим в покое свершившийся факт, – произнес Юи Сато. – Наша задача – подготовить рекомендации Тревельяну. Твои предложения, Пьер? – А что мы, собственно, можем? Использовать устрашающие фантомы? Поставить инфразвуковой заслон? Перекрыть дорогу орде силовыми барьерами? – Слишком заметные средства, – пробасил Ортега. – Полагаю, нужно действовать тоньше. – Массовый гипноз? Но мы не успеем вывести на орбиту ментальный излучатель. – Такое воздействие исключается, – сказал Юи Сато и повернулся к Ортеге. – Мохаммед, может быть, ты пояснишь, что понимается под словами «действовать тоньше»? – Поясню, но сначала хотел бы выслушать мнение Андрея. В том, что касается Пекла, он наиболее компетентен. Сокольский обвел взглядом коллег. Было заметно, что он пребывает в нерешительности – то ли его идея являлась слишком радикальной, то ли трудно осуществимой. Наконец он произнес: – Можно предложить два варианта, пассивный и активный. В первом случае мы оставляем все как есть; орды Серого Трубача громят Кьолл и другие земли у Подножия Мира, уничтожают население, жгут города, рубят деревья, но, волей-неволей, приобщаются к местной культуре, сливаются с остатками автохтонов и, наконец, цивилизуются. Этот процесс растворения варваров в среде покоренных народов хорошо известен: готы в Римской империи, монголы в Индии, Персии, Китае, гиксосы и ливийцы в Египте. То же произойдет и с нашими длиннорукими. Со временем они избавятся от своих омерзительных привычек… – Извини. – Каралис шагнул к столу и опустился в кресло. – Омерзительные привычки… Ты имеешь в виду каннибализм? – Не только. Их религию, ритуалы поиска воды, убийства пленных, раненых, больных и стариков – все, вплоть до секса и способов казни. Однако не подлежит сомнению, что через век-другой конвергенции мы получим более цивилизованное общество – такое, кото- рое способно воспринимать и разумно использовать наши эстапы [27]. – Но это время мы потеряем, – возразил Каралис. – Столетие или два… возможно, больше… – Потеряем не только время, но жизни тысяч и тысяч людей – тех, что обитают в предгорьях Хребта, в оазисах над Великой Пустыней и в приморских городах, – добавил Сокольский. – Все эти бароны и магистраты тоже не сахар, как и их подданные, но не хотелось бы, чтобы они попали в котел дикарей-каннибалов. Поэтому я за второй вариант, активный. Разумеется, без сильнодействующих средств вроде инфразвука или ментального облучения. – Он опять забарабанил пальцами по столу, разглядывая крохотный горный хребет, все еще висевший в воздухе. – Проникновение во властные структуры – вот универсальный метод корректировки исторических ошибок… Мессия, пророк, религиозный вождь, или серый кардинал за спиной владыки, или новый повелитель вместо почившего старого… Ну, эти сценарии вам знакомы не хуже, чем мне. – Собственно, и я хотел предложить нечто подобное, – проговорил Ортега после паузы. Затем, вскинув взгляд к потолочной линзе, где сияли голубая планета и ее серебряный спутник, задумчиво добавил: – Старушка Земля предлагает нам массу различных рецептов… И что характерно: большая их часть опробована в те эпохи, когда не было силовых барьеров, ментальных излучателей, аннигиляторов и даже примитивных лазеров. – Человек – вот самое грозное оружие, – сказал Юи Сато. – Опытный и решительный человек, – уточнил Сокольский. – Опытный и решительный!.. – эхом откликнулся Ортега. – Скоро мне придется вас покинуть, коллеги, – произнес Каралис. – Вы знаете, что назначена встреча с парапримами, и в нашей делегации – той, что уйдет на «Гондване», – я представляю Фонд. Парапримов обнаружил Ивар Тревельян… Я многое слышал о нем, в том числе эту невероятную историю об Осиере и парапримах… Говорите, опытный и решительный? Надеюсь, он как раз таков. По губам Юи Сато скользнула улыбка. – Можешь не сомневаться, Пьер. Когда он окажется на Пекле, я не позавидую Серому Трубачу.Глава 2. Транспорт ГР-15/4044
Транспорт был огромен. К основному модулю восьмисотметровой длины, снабженному контурным приводом и гравидвижками для орбитальных маневров, добавлялись баржи-контейнеровозы, танки с водой и сжиженными газами, решетчатые фермы с какими-то конструкциями, не боявшимися вакуума, и длинный хвост криогенных цистерн, в которых, в глубоком холоде и мертвой тишине, спал целый зоопарк, от червей, жуков и бабочек до попугаев, кенгуру и мастодонтов. Большая часть этого груза предназначалась для Горькой Ягоды, где не было ничего, ни нормальной атмосферы, ни питьевой воды, ни, разумеется, животных. Когда-то Тревельян там побывал, но возвращаться в этот унылый край ему хотелось не больше, чем на Пекло. Может быть, давящее впечатление огромности усиливалось полным отсутствием экипажа, живых людей, их голосов и смеха, зычных приказов, перебранки, топота ног, плеска воды в бассейне и голоса третьего помощника, что объявляет учебную тревогу. Обычно Тревельян перемещался на рейсовых пассажирских лайнерах или кораблях Звездного Флота, где даже на небольшом корвете, не говоря уж о фрегатах и тяжелых крейсерах, имелось кое-какое общество, а главное – особы противоположного пола. Блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие, с кудрями цвета весенней зелени или морской волны – все они были милы Ивару Тревельяну. Особенно в данный момент, когда он провел без малого месяц в обществе кни’лина на Сайкатской Исследовательской станции. Нрав у них был тяжелый, что подтверждалось трагическими событиями последних дней, но к тому же кни’лина, во многом подобные людям Земли, расстались с волосами еще в своем палеолите. Впрочем, народ этот был красив, и отсутствие у женщин пышных локонов не помешало бы Тревельяну завести роман, а то и два. Однако любовной истории не получилось, а вышел самый гнусный детектив, с кровопролитием, трупами и мрачными тайнами [28]. Вообще-то после недавних миссий на Осиере и Сайкате Тревельяну полагался отпуск. Он мог провести его на Гондване, Рооне, Сапфире или любой другой курортной планете, мог попутешествовать для собственного удовольствия, слетать на Данвейт или Тинтах, полюбоваться древними замками лоона эо, отправиться в сектор гостеприимных терукси или пожить пару недель в шикарной гостинице над кольцами Сатурна. В любом из этих мест была возможность поразвлечься, всюду нашлись бы партнеры и партнерши для танцев и тенниса, древних карточных игр и романтических прогулок под луной, флирта, умных бесед, полетов на гравипланах и застолий, которыми Ивар, человек общительный, тоже не пренебрегал. Долг, однако, был превыше всей этой приятной суеты, и Щербаков, хитрый искуситель-змей, знал, как о нем напомнить. Появившись на Сайкатской станции в качестве нового координатора, выслушав отчет Тревельяна и сообщив о просьбе Юи Сато – просьбе, не приказе! – он ухитрился добавить то, что поразило разум, душу и сердце Ивара. Стоя в рубке транспорта, под голографическими экранами с изображением звезд, он повторил слова Щербакова:«Серый Трубач перешел горы». Это было серьезно, очень серьезно! Все, что сделал Фонд на Пекле, под угрозой, и потому не время отдыхать. Отложим Роон и Гондвану, думал Ивар, забудем про синее море, теплое солнце, игрища и светские беседы, карнавалы и прелестных дам. Отложим все эти чудные иллюзии на завтра и примем без споров и ропота веление судьбы. Пекло так Пекло! В конце концов, там будут не только жадные бароны Кьолла, лохматые купцы, век немытые туземки и людоеды-кочевники, но целая миссия Фонда, дюжина или больше человек! Мужчины и женщины, которые скоро станут добрыми друзьями, настоящие люди, с которыми тоже можно поболтать и поиграть – в карты, теннис или бильярд, а кое с кем в иные игры… Транспорт, управляемый компьютером и не нуждавшийся в экипаже, был, однако, приспособлен к перевозке живых и разумных существ. На палубе «А», самой верхней из шестнадцати, сразу за рубкой начинался широкий длинный коридор, украшенный голографическими пейзажами и портретами всех пассажиров, когда-либо ступавших на борт ГР-15/4044. По одну его сторону шли личные каюты числом шестьдесят или, возможно, семьдесят – внутреннее пространство корабля допускало разнообразные перемены и трансформации. С другой стороны, за стрельчатой аркой, располагались кают-компания, служившая также столовой и библиотекой, а за нею – овальный бассейн. Кают-компанию декорировали под залу старинного замка: огромный камин с огненными фантомами, стены и свод из грубо отесанных камней, массивная мебель из натурального дерева, яркие цветные витражи, гобелены с дамами, заточенными в башнях, и рыцарями, что сражают всяких чудищ и драконов. Это тяжеловесное убранство Ивару не нравилось. Он предпочел бы нечто легкое, воздушное, в восточном стиле, но решил ничего не менять – его путешествие было недолгим, а большой отсек с бассейном и спортивными снарядами, примыкавший к кают-компании, сулил гораздо больше развлечений. Здесь была круглая площадка для танцев, раздаточный буфет-автомат с любыми напитками и закусками, зона невесомости для любителей попрыгать и покувыркаться, уютные диванчики и кресла, спрятанные в нишах, под пологом зеленого плюща, игровая дека и копии великолепных статуй: Венера Медицейская, Артемида-охотница и прочее в том же духе. Их созерцание будило у Тревельяна возвышенные мысли о прекрасном, об эталоне женской красоты, непревзойденном даже в его эпоху биопластики и генетических метаморфоз. Вероятно, транспорт был рассчитан на пребывание одиноких постояльцев, снедаемых скукой и тоской. Управлявший им компьютер не относился к устройствам с искусственным интеллектом – казалось, ни один предмет, кроме звездной навигации и забот о грузе, его не занимает. Но с портретами, собранными в коридоре, можно было пообщаться, выслушать их истории и рассказать свою. Эти изображения делались в то мгновение, когда человек ступал на борт, а их рассказы были тем интереснее, чем дольше длилось путешествие того или иного вояжера. Похоже, корабельный компьютер просто запоминал беседы, манеру поведения, привычки своих гостей, чтобы создать потом иллюзии их личностей. Разумеется, это требовало времени. Портрет самого Тревельяна, замыкавший картинную галерею, пока что был не слишком разговорчив, сообщая минимум сведений о своем прототипе: Ивар Тревельян, социоксенолог и разведчик-наблюдатель Фонда Развития Инопланетных Культур, кавалер Почетной Медали, Венка Отваги и Обруча Славы, специалист по примитивным гуманоидным сообществам. После этого следовал его послужной список с примечанием о том, что он направляется с Сайката в мир Раваны, известный также как Пекло. Портретов насчитывалось не менее трех сотен. Впрочем, не все оказались интересными собеседниками – видимо, полет их длился не дольше, чем у Тревельяна. Леон Деев, художник и творец иллюзий, Дмитрий Ши, отставной офицер, Обо Коиче, историк, специалист по кочевым народам – с этими было о чем потолковать. Но Ивар выбрал себе в наперсницы девушку с Ваала, из древней земной колонии, служившей долгое время базой для Звездного Флота. Девушку звали Анна Кей, и ее нежное светлое личико, белокурые локоны и тонкая изящная фигурка тронули его сердце. Она умела слушать, поощряя рассказчика легкой полуулыбкой, тенью скользившей по ее губам; иногда спрашивала что-то или бросала пару фраз, вполне уместных и заставлявших позабыть, что Тревельян беседует с машиной. О ней самой он знал немногое: ей былотолько девятнадцать, и в ее жизни еще не случилось ни каких-либо невзгод, ни особых радостей. Тридцать два года назад она отправилась с Ваала на Данвейт вместе с группой экскурсантов, студентов Ваальского колледжа древней истории. Впрочем, были у него и другие собеседники, кроме голографий прежних пассажиров. Как многие эмиссары Фонда, Тревельян странствовал на пару с Советником-призраком, личностью некогда реальной и снискавшей, благодаря своим заслугам, редкую награду: увековечивание в памятном кристалле. Кристалл был крохотный, не больше гречишного зерна, но в нем хранились интеллект и память дальнего тревельянова предка Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева, десантника и командора Звездного Флота, погибшего пять веков назад. При жизни дед, как звал его Ивар, свершил немало подвигов, ибо выпало ему родиться в немирную эпоху: Войны Провала [29] и битвы с фаата еще не сделались достоянием истории, как вспыхнули новые конфликты, сначала с дроми, затем с хапторами и, наконец, с кни’лин [30]. Командор Тревельян-Красногорцев воевал со многими звездными расами, неоднократно горел в своем корабле и замерзал в ледяной пустыне космоса, командовал десантами, был ранен восемь раз и женат четырежды – словом, накопил огромный опыт и стал героем. Умер он тоже как герой – пал смертью храбрых в возрасте девяноста двух лет, командуя крейсером «Паллада». Погиб он в том знаменитом сражении в секторе Бетельгейзе, когда три земных крейсера разгромили флотилию дроми, доказав агрессорам и всей Галактике, что среди звезд появилась новая, могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Обычно кристалл с личностью командора имплантировали Тревельяну в висок, но сейчас он хранился в наголовном обруче, как и другая личная аппаратура, устройства связи и видеозаписи. Ментальному общению с дедом это не мешало, и эмпатический контакт тоже был достаточно тесным: командор мог пользоваться слухом, зрением и обонянием Тревельяна. Другой его спутник являлся искусственным интеллектом с Сайкатской станции. Это заатмосферное поселение строили кни’лина, и они же программировали управляющий станцией Мозг, но в данном проекте Фонд был равноправным партнером, возместившим часть расходов и затрат. Щербаков, координатор земной экспедиции, доставил мыслящее устройство, которое считалось более надежным – во всяком случае, так полагали в Консулате ФРИК. Со стороны кни’лина возражений не последовало; затем прежний Мозг был демонтирован и по личной просьбе отдан Тревельяну. Возможно, инопланетные коллеги желали избавиться от него или сочли, что этот дар станет возмещением за все опасности и тяготы, которые Ивар перенес, спасая Сайкатский проект и доброе имя кни’лина. Так ли, иначе, но Мозг попал к нему в руки, и это было ценное приобретение: его программный ресурс и справочные базы казались поистине неисчерпаемыми. Чтобы обеспечить своему приобретению мобильность, Тревельян загрузил его в корпус трафора, робота-трансформера, выпрошенного у Щербакова. Учитывая миссию на Пекле, разумный трафор был совсем не лишним в их компании.* * *
Корабли летают в Лимбе [31] быстро – в три прыжка они достигли Хаймора. К планетной орбите транспорт не приблизился, лег в дрейф у внешней границы системы, и за дело взялись похожие на пауков грузовые роботы. Они перетаскивали в шлюзовой отсек и набивали в квадропланы ящики с одеждой и продуктами, соками и винами, кристаллокнигами и почтой, подарками для туземцев и легкой складной мебелью. Груз был невелик, так как воды и воздуха, сырья и съедобной органики на Хайморе вполне хватало. Самым крупным предметом, попавшим в трюм квадроплана, являлся надувной плот двухсотметрового диаметра; к нему прилагались четыре катера, две небольшие подводные лодки и сборное бунгало. Новая база в океане, подумал Тревельян и, насладившись зрелищем, оставил шлюзовую. Он побрел к лифтовой шахте, поднялся на жилую палубу, заглянул в рубку, где не имелось даже кресел для навигаторов и пилотов, а только единственное – для капитана. Хорошо хоть остались экраны, пригодные для человеческих глаз, и на них зеленоватым кружком сияло далекое солнце Хаймора. Обитаемая планета была не видна, и Тревельян распорядился поймать ее в телескопы и вывести изображение на самый большой монитор. Вздыхая, он поглядел на крохотную круглую монетку, вызвал список хайморской миссии, в которой оказалось больше сотни человек, поискал знакомых и обнаружил трех однокашников по Академии, приятеля-биолога с Селлы и девушку, с которой некогда крутил роман. Тут ему стало совсем тоскливо, и он отправился к Анне Кей. – Мы в системе Хаймора, моя красавица, – сообщил Тревельян, остановившись перед ее портретом. – Дрейфуем в двух световых часах от местного светила. Рядом с Анной располагалась хмурая дама в мундире экологической инспекции. Бросив на Ивара негодующий взгляд, она прошипела: – Все к молоденькой ходишь? У молодых в голове пустота! Поговорил бы лучше с серьезным человеком! Анна мило улыбнулась. По молчаливому согласию они игнорировали инспекторшу, хотя Тревельян подозревал, что ее грозные взгляды и шипенье имеют тот же источник, что и улыбки девушки. – Ты тут бывал? – спросила Анна. – Да. Довольно давно. Моя вторая миссия после Пекла. Сколько же мне стукнуло? – Он на секунду задумался. – Пожалуй, двадцать шесть. – Солидный возраст!.. – протянула Анна. – Это с твоей точки зрения. После стажировки на Пекле я получил сертификат разведчика, очень им гордился, но ничего не умел. Правда, контакт с хайморитами не требует больших умений… они ребята дружелюбные… Глаза Анны округлились. – Хаймор обитаем? О, как интересно! И кто же там живет? – Теплокровные живородящие амфибии. Это водный мир, дорогая. Семь процентов тверди, а остальное – океан с глубинами до двух километров. На шельфе – подводные джунгли, кораллы, моллюски и рыбки неописуемой красы. Только большей частью ядовитые. Она вздохнула. – Хотелось бы на это поглядеть! – Да, редкостное зрелище и очень освежающее. Как сказано в Книге Начала и Конца, способность дивиться чуду жизни питает корень человеческой души. – Никогда не слышала о такой Книге. – Это творение Йездана Сероокого, пророка кни’лина, их Коран и Библия… В общем, священный манускрипт, кладезь всяческой премудрости. Когда я учился в Академии, мне довелось с ним ознакомиться. Они помолчали. Потом Анна спросила: – Мы подойдем к планете? – Нет, милая. Сейчас роботы грузят два квадроплана… деликатесы, почта, одежда и все такое… Они уйдут с минуты на минуту, а мы отправимся к Горькой Ягоде. – Квадропланы? Что это, Ивар? – Не знает! – каркнула инспектор. – Про Книгу не знает и про квадропланы! Я же сказала – головка-то пустая! Это была всего лишь игра, способ скрасить одиночество. Машина – какой-то модуль бортового компьютера или автономный блок корабельной памяти – притворялась Анной Кей, суровой инспекторшей, историком Обо Коиче и всеми остальными персонажами, а Тревельян делал вид, что этому верит. Анна спрашивала, он отвечал, улыбался ей и косился с иронией в сторону соседнего портрета. Кажется, дама-инспектор ревновала; ей тоже хотелось с ним пофлиртовать. – Квадроплан – грузовой планетарный бот, – пояснил Ивар. – Две трубы, соединенные крестом, четыре гравидвижка на концах, а в перекрестье – пассажирская кабина. На вид машина неуклюжая, зато устойчивая, может сесть и подняться даже в ураган. У нас на борту их десятка три. – Никогда не видела, – сказала Анна. Фоном для ее портрета служили цветущие заросли жасмина. Там гулял ветерок, шевелил ветви с белыми цветами, развевал светлые волосы девушки. Палуба под ногами Тревельяна чуть заметно покачнулась. – Первый пошел, – произнес он и вытянул руку к инспекторше. – Корабль, внешний обзор! На этот экран! Строгая дама исчезла. Вместо ее изображения открылся вид на ближний космос: черная бархатная пустота с точками звезд, далекое солнце Хаймора и маневровые огни квадроплана. Аппарат, набирая скорость, быстро удалялся от корабля. Пол снова дрогнул. Вторая машина, похожая на серебристый крест с утолщением в центре, выскользнула из шлюза. – Вот и все, – сказал Тревельян. – Сейчас мы сойдем с орбиты, наберем скорость и прыгнем к Ягоде. Ну, это такое место, где лучше не задерживаться. Мрачная планета! – Он помахал Анне рукой и отступил на пару шагов от ее портрета. – Пойду поплаваю в бассейне. Жаль, что тебе нельзя окунуться. – Жаль, – согласилась девушка. – Когда ты опять придешь? – Скоро, – побещал Ивар, – скоро. Он направился в спортивный зал. Взгляды бывших пассажиров транспорта провожали его. Студенты, приятели Анны, офицеры Флота в синих с серебром мундирах, компания терукси в пестрых одеждах, коллега по Фонду (когда-то он добирался на Пта), люди из Исследовательского корпуса, несколько приятных загорелых женщин – эти возвращались домой с Гондваны… Сотни глаз, сотни лиц, сотни историй, длинных или совсем коротких… В будущем, думал Тревельян, какой-то скучающий странник подойдет к его изображению, заведет разговор и спросит: зачем ты летишь на Пекло, в эту чертову дыру? И услышит загадочный ответ: лечу, ибо Серый Трубач перешел горы. «Хорошая малышка, – раздался ментальный голос командора. – Скромная, но цену себе знает». – Ты это о чем? – вслух поинтересовался Тревельян. «О девушке, с которой ты беседовал. Из таких выходят прекрасные жены, парень. А тебе как раз пора остепениться». – Во-первых, я еще не готов к такому решительному шагу, а во-вторых, где ее искать? Тридцать два года прошло, как она летела на этом корабле. Она теперь не юная девица, а зрелая женщина… «Вот и отлично. Монике, второй моей супруге, было пятьдесят, когда мы встретились. Женщина в таком возрасте знает, чего хочет, и это, поверь, большое преимущество. Ей хотелось детей, и за три года она подарила мне троих. – Командор смолк, погрузившись в воспоминания, затем добавил: – Ты, кстати, происходишь от Сергея, старшего сына Моники». Ивар ухмыльнулся и поправил наголовный обруч. – Помнится, ты утверждал, что моим прародителем является Павел, сын от первой жены. «В самом деле? Ну, возможно, возможно… Бывает, что я путаюсь в своих потомках… семь сыновей, восемь дочерей, которых я видел лишь в перерывах между боевыми действиями… даже имена запомнить трудно». Тревельян с неодобрением хмыкнул и перешагнул порог спортивного зала. Тут, за танцевальной площадкой, между статуями Артемиды-охотницы и Геры, матери богов, возвышался конус с зеркальной поверхностью, внушительная геометрическая фигура величиной с планетарный вездеход. Корпус трафора, содержащий Мозг с Сайкатской станции, мог, однако, принимать и другие формы и при нужде довольно резво перемещаться. При виде Тревельяна робот выдвинул штангу с голосовым вокодером и пророкотал: – Ррза тежи агхата, оррт тажи Хиндаг. Звуки лающего гортанного языка кочевников разорвали тишину. То была поговорка северян, мудрость народа, странствующего по бескрайним засушливым равнинам: как бы далеко ни находился человек, он всегда близок к богу. Туземцы Пекла, как некогда земляне, говорили на множестве наречий, диалектов и жаргонов, и память Тревельяна, даже подстегнутая гипнотическим внушением, не могла вместить все изобилие местной лингвистики. Но для Мозга в этом не было проблем. – Отличное произношение, – заметил Ивар, коснувшись гладкой поверхности конуса. – Продолжай в том же духе. Затем он сбросил одежду и погрузился в бассейн. На Пекле такого удовольствия не будет, мелькнула мысль. Он перевернулся на спину и закрыл глаза. Пыльная равнина легла перед ним; раскинулись пустыни, покрытые щебнем и рыжим песком, встали бесплодные горы, заклубились шапки дыма над сотнями вулканов, потекли потоки лавы, и злые солнца, Асур и Ракшас, начали карабкаться в зенит, заливая землю нестерпимым жаром. Вздрогнув, Тревельян глубже погрузился в прохладную воду, словно она могла защитить от этих мрачных неприветливых картин. Командор зашевелился в его сознании, буркнул: «Та еще планетка! Что за гнусная дыра, прокляни меня Всевышний!» – и замолчал. Видно, других комментариев для Пекла у него не нашлось. Поплавав с четверть часа, Ивар вылез, понежился в струях теплого искусственного ветерка, натянул комбинезон и решил поработать. Трех полетных недель было недостаточно, чтобы заняться чем-нибудь серьезным; все, что он планировал – освежить в памяти языки Пекла, проштудировать географическое описание планеты и разобраться с теми эстапами, которые Фонду удалось внедрить за два последних десятилетия. – Ксенологический компедиум, раздел «Равана», – велел Тревельян, опустившись в кресло. – Слушаюсь, эмиссар, – откликнулся Мозг, включая трансляцию. Прежде он звал Тревельяна «ньюри» (этот почетный титул использовали кни’лина высшего сословия), но бортовой компьютер, приверженный земным обычаям, обращался к Ивару по должности. Вскоре Мозг сообразил, что с прежним титулованием покончено, и тоже перешел на «эмиссара». Цепи распознавания ситуаций были у него весьма чувствительны. Тихо загудел голографический проектор, и в потемневшем куполе зала вспыхнули две звезды – красноватая, тусклая, висевшая на рукотворном небосклоне словно огромный, подернутый патиной медный щит, и ослепительная белая. На красную звезду можно было глядеть не щурясь, но лучи белой, хоть и совсем небольшой, острыми иглами кололи глаза. Тревельян прикрыл их ладонью. Светила отодвинулись в глубь темного пространства, мелькнули сфероиды ближних планет – безжизненных, раскаленных, лишенных воды и атмосферы; затем приблизился не такой горячий мир, где среди континентов цвета умбры и охры виднелись сине-зеленые пятна морей и прихотливый узор извилистых проливов. Как всегда бывает при спуске с космических высот, эта поверхность стала чашей, пересеченной горным хребтом; одни его пики пронзали знойное желтое небо, над другими клубились темные тучи и просвечивал багровый отблеск лавы. При виде гор Тревельян недовольно сморщился. – Убери пейзажи к дьяволу! Мне не нужна визуальная информация… как вспомню, так вздрогну… Текст давай! – Как пожелаете, эмиссар. Гигантский хребет исчез, и в воздухе неторопливо поплыли строчки символов, карты и таблицы. «Пекло (Равана) – четвертая планета двойной звездной системы NG-0455/56881 (красный гигант Асур, белый карлик Ракшас, спектральные данные см. в Приложении 1). Находится вблизи Провала, в ста сорока четырех парсеках от Гаммы Молота (земные колонии Тхар и Роон), в направлении южного галактического полюса. Общее описание: землеподобный мир, открытый экспедицией Сокольского-Шенанди в 2892 году (Марсианский университет). Светила, континенты и некоторые моря поименованы с использованием древнеиндийской мифологии (по инициативе Шенанди), но большая часть названий имеет туземное происхождение. Официальное обозначение «Равана» (демон-асур) вскоре было заменено на «Пекло» (как более соответствующее природным условиям планеты). Суша разделена на пять обитаемых материков: самый крупный, центральный – Хира или Хираньякашипа (протяженность в широтном направлении 13 800 км, в меридиональном – 11 280 км) и более мелкие Вритра, Шамбара, Раху и Намучи (размеры от 4400 до 9550 км в поперечнике, более подробные данные см. в таблицах). С учетом многочисленных архипелагов и островов твердь занимает 63% планетарной поверхности, тогда как мировой океан представлен сравнительно небольшими внутренними морями, часть из которых соединяется проливами. Вследствие недостатка влаги и отсутствия постоянных рек планета весьма засушлива, климат жаркий, экваториальные зоны необитаемы (температура выше 60 градусов по Цельсию). За исключением редких оазисов местность имеет характер пустынь, полупустынь и степей. Отмечена активная вулканическая деятельность. Флора и фауна небогатые, почти все виды растений и животных окультурены (см. зоологический и ботанический перечни). Планета населена гуманоидами нескольких рас (точное количество неизвестно), чей уровень развития соответствует раннему средневековью. Народы Кьолла (Народы Оазисов) занимаются земледелием, северные кочевые племена Хиры – скотоводством, кланы приморских городов – кораблестроением и торговлей, отдельные общины Вритры и Раху – выплавкой металлов (медь, олово, свинец, золото, серебро), кузнечным, гончарным и другими ремеслами. Вследствие недостатка удобных для обитания земель и дефицита воды между племенами и народами постоянно возникают конфликты; население агрессивно, недоверчиво и недружелюбно. Языки – см. Приложение 2, «Лингвистический обзор». Религии – см. Приложение 3, «Мифология Пекла». С 2901 года Пекло (Равана) включено в сектор влияния Земной Федерации. Находится под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур. Период обращения планеты вокруг оси: 28,37 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг доминирующего светила (Асур): 748 суток. Естественный спутник: Гандхарв. Тяготение: 1,3 земного. Атмосфера пригодна для дыхания вплоть до высот 7000 м». – Пригодна местами, – мрачно заметил Тревельян. – Если вблизи нет вулканов, сернистых гейзеров, свежих лавовых полей или еще какой-то гадости. Трафор испустил печальный звон. – В воздушной среде, насыщенной парами серы и вулканическим пеплом, мой корпус будет подвержен коррозии. Нужно что-то предпринять, эмиссар. – Ты за свою шкурку не переживай, – сказал Ивар. – Ты справочный агрегат и потому останешься на базе. Пик Шенанди, высота шестнадцать километров и самые стерильные условия. Там даже воздуха нет. – Без воздуха человек не способен функционировать. – Верная мысль. Поэтому нас там никто не тревожит, ни людоеды-кочевники, ни бароны-разбойники, ни хитрые торговцы. Вокруг снега и льды, холод и смерть, а под силовым колпаком сносная атмосфера, три домика, садик, тишина, покой… Жаль, что приходится спускаться! Внизу совсем не так приятно. Сказать по правде, планета омерзительная, и людишки там тоже не подарок. – Не спускайтесь, – посоветовал Мозг. – Вы координатор миссии, и ваше дело – руководить. Тревельян прикрыл глаза. Райские пейзажи Гондваны мелькнули перед ним – теплое синее море, пляжи с золотым песком, сочная зелень магнолий и пальм, хрустальные дворцы вдоль бесконечной набережной, смуглые девушки, танцующие на площадях, мягкие очертания гор, одетых лесами… Все это было так мирно, так прекрасно! Так непохоже на знойные пустыни Пекла, на скудные оазисы, жалкие посевы, нелепые замки и хищных обитателей этих твердынь! Вздохнув, он пробормотал: – Координатор… Руководитель… Ха! Ко всякой бочке затычка, вот я кто! На неощутимое мгновение палуба всколыхнулась под его ногами, мир разлетелся на мириады осколков, исчез и снова выплыл из темного мрачного небытия. Транспорт ГР-15/4044 сделал первый прыжок к системе Горькой Ягоды.* * *
Солнце тут было щедрое – звезда класса G с заметным золотым оттенком, погорячей и поярче земного светила. Согласно видеофильмам, хранившимся в архиве ФРИК, восходы и закаты на Ягоде казались феерией света и красок – особенно над океанами, где золотистое и розовое сливалось с голубым и синим. Но теперь остатки атмосферы не позволяли наблюдать подобные зрелища, а от океанов остались только глубокие впадины в планетарной коре. В данный период своей геологической истории Горькая Ягода походила на Марс – такой, каким он был до заселения земными колонистами. Однако существовали проекты терраформирования планеты, восстановления атмосферы, водной среды и плодородия почв с последующей реанимацией жизненных форм от бактерий, планктона и насекомых до высших животных. Над этим трудилась большая команда специалистов с Земли, и основные грузы, доставленные транспортом, предназначались для нее. Как и в системе Хаймора, корабль лег в дрейф в нескольких световых часах от солнца, из распахнутых шлюзов выплыла пятерка квадропланов, и роботы принялись расстыковывать баржи с оборудованием, танки и криогенные цистерны. Затем их собирали длинными цепочками, чтобы отбуксировать на орбиту Горькой Ягоды, и эта операция грозила затянуться на сутки. Ивар провел их в заботах и трудах, знакомясь с отчетами регулярно сменявшихся раванских миссий и размышляя, как диким северянам удалось прорваться в предгорья Поднебесного хребта. В отчетах говорилось о дюжине эстапов, благополучно внедренных в Кьолле и портовых городах, о том, что на смену бронзовому веку постепенно приходит железный, о мореходных экспедициях на дальний юг и новых торговых путях, частью морских, частью сухопутных, которые связали Вритру и Раху с Хирой, центральным континентом. Это были полезные сведения, дополнявшие опыт, полученный Иваром на Пекле двадцать лет назад, в период стажировки. Однако никаких гипотез о переходе через горы, совершенно неприступные для примитивных кочевых племен, у него не появилось. Может быть, люди Серого Трубача были не так примитивны, как полагали эксперты ФРИК? Утомившись от бесплодных размышлений, он отправился к портрету Анны Кей. – Вот и еще один этап позади, девочка. Мы добрались до Горькой Ягоды. Она задумчиво сморщила лоб. – Странное имя для планеты, Ивар. Это плохое место? Хуже, чем Равана, о которой ты рассказывал? – Пожалуй. Но это имя связано не с планетой, а с тем, что когда-то здесь случилось. Для своих исконных обитателей Ягода вовсе не горчила, это для нас, пришельцев с Земли, она горька на вкус. Наше название, наша вина… – Ты говоришь загадками. Почему? – Я сотрудник Фонда, а у нас не любят обсуждать такие темы, хотя о Ягоде помнят. О Горькой Ягоде, Руинах, Рухнувшей Надежде… Помнят как об ошибках, что не должны повториться… Давным-давно, еще не зная о Пороге Киннисона, мы попытались прогрессировать эти миры, что кончилось печально – общепланетными войнами и катастрофами. – Ивар покачал головой. – Понимаешь, намерения были лучше некуда, технический ресурс огромен, усилия настойчивы и бескорыстны… все было, только не хватало ума и осторожности. – Мне вспоминается древняя поговорка, – сказала Анна. – Благими намерениями вымощена дорога в ад. – Вот именно, – согласился Тревельян и попросил: – Давай оставим эту тему, милая. Ты ведь изучаешь древнюю историю, так? Скажи мне, что ты будешь делать, когда закончишь колледж? Останешься на Ваале? Будешь преподавать, писать книги, ездить в экспедиции? Она встряхнула светловолосой головкой. – Вряд ли, Ивар, я останусь на Ваале. На Ваале, как и в других колониях, нет древней истории… Только в одном из миров это понятие имеет смысл – на Земле. Скорее всего, я полечу на Землю и займусь каким-нибудь древним таинственным народом. Ливийцами, или тангутами, или индейцами кечуа… – Значит, теперь ты на Земле, – сказал Тревельян. – Восемь миллиардов населения, сотни мегаполисов, тысячи университетов… И где же тебя искать? Конечно, есть справочная служба, но вдруг ты уже не Анна Кей? Случается, что люди меняют имя… Ее глаза потемнели. – А ты хотел бы меня найти? Хотел бы снова встретиться со мной? – Предположим, да. – Я, наверное, изменилась… Ты ведь сейчас в нашем будущем, Ивар… Сколько лет прошло? – Тридцать два. Ты по-прежнему красива и молода… Мы почти ровесники. – Льстец! – Анна улыбнулась. – Думаю, если захочешь, ты меня найдешь – имя я менять не собираюсь. Если я буду изучать ливийцев, ищи меня в Триполи или Каире, а если тангутов – в Пекине или Хабаровске. – А если займешься индейцами? – Тогда в Ла-Пасе или Лиме. – До скорой встречи, дорогая, – промолвил Тревельян. – Вот наведу порядок на Пекле и вместо Гондваны отправлюсь на Землю. Чего я на этой Гондване не видел? Пальм, песка да соленой воды? Так этого добра и на Земле хватает. Если, скажем, ты изучаешь ливийцев, мы с тобой съездим к морю Тассили. Я там еще не бывал, а говорят… Мелодичный перезвон прервал его речи. Вслед за ним раздался голос бортового компьютера: – Разгрузочная операция завершена, эмиссар. Судно следует далее согласно штатному расписанию. – Покажи, что у нас еще осталось за хвостом, – распорядился Тревельян. Анна исчезла, и в раме, что обрамляла ее портрет, появилась корабельная корма. Длинного шлейфа барж-контейнеровозов, решетчатых ферм и криогенных цистерн со спящим зоопарком там уже не оказалось, болтались лишь полдюжины емкостей с водой и сжиженной дыхательной смесью. Это был самый объемный груз, предназначенный для Пекла, для базы на горе Шенанди, что возносилась в стратосферу. Все остальное – почту, одежду, продукты и технику – хранили трюмы корабля, уже пустые на три четверти. Сравнительно с командой, трудившейся на Горькой Ягоде, раванская миссия была невелика. Вернув на место портрет девушки, Тревельян послал ей воздушный поцелуй, распрощался и отправился к Мозгу. Следующий час он провел, беседуя с искусственным интеллектом на языке кочевников, полном рычаний и хрипов. Под конец у него разболелось горло.* * *
Предполагалось, что транспорт выйдет к Пеклу от Горькой Ягоды за восемь прыжков. Большая часть маршрута пролегла в Провале, но, разумеется, не в его глубинах, а у границы ветви Ориона, где все же попадались звезды и блуждающие планетоиды. Не слишком часто – примерно один объект на двести кубических парсеков. Провал тянулся гигантским изогнутым серпом между двумя Рукавами галактической спирали, ветвью Ориона и ветвью Персея. Его ширина составляла тринадцать тысяч триста светолет, и пока ни один корабль землян, кни’лина, дроми или хапторов не перебрался на другую сторону этого потока тьмы. Но с контурным приводом он несомненно был преодолим – ведь бино фаата, технологическая раса гуманоидов, сумели его пересечь на своих огромных звездолетах. Они свершали это много раз, атаковали Землю, потом ее колонии на рубежах Провала, но в этих войнах удача им не улыбнулась. Битвы, однако, были кровавыми и упорными, потери – чудовищными, и разгром фаата не мог воскресить миллионы погибших. Прошло уже семь столетий, как они исчезли, но память об их нашествии еще не подернулась пеплом забвения, а само имя фаата вызывало ненависть и страх. Возможно, по этой причине опасались летать в другой Рукав, а к тому же в собственной ветви хватало многолетних споров и конфликтов, сопровождавших рост и упадок звездных империй. Но, если не считать фаата, таившихся за Провалом, эта область была удобной для навигации. В отсутствие тяготеющих масс прыжки через Лимб могли достигать десятка парсек, что вдвое-втрое сокращало полетное время. Стартовать от Горькой Ягоды, выйти в Провал, преодолеть большое расстояние, затем нырнуть к двойной системе Асура и Ракшаса… Этот маршрут был оптимален по всем параметрам, кроме одного: вид Провала, пересекавшего черной лентой звездные россыпи, неизбежно нагонял тоску. Правда, имелась альтернатива – сидеть на жилой палубе и не заглядывать в отсек управления. Тревельян так и делал. После третьего прыжка корабль двигался в Провале, в двух парсеках от его границы. Конечно, этот рубеж был условностью и существовал лишь на звездных картах; если сравнить два парсека с шириною черной пропасти, вопрос о том, где находился транспорт ГР-15/4044, на границе или внутри Провала, выглядел полной бессмыслицей. Но навигация, как и другие области знаний, строилась на моделях, и Звездный Атлас с координатами светил являлся самой точной галактической моделью. Во всяком случае, по мнению бортового компьютера; если он утверждал, что корабль в Провале, с этим не приходилось спорить. Изучив вдоль и поперек отчеты раванских миссий и зафиксировав самое важное в памяти, Тревельян практиковался в местных языках. Из всего многообразия диалектов и наречий, имевшихся на Пекле, он выбрал три, знакомые ему по первой экспедиции: шас-га – язык кочевников, язык Кьолла и торговый жаргон, на котором общались в приморских городах. Он их, в принципе, знал, но верное произношение требовало хороших вокальных данных, крепкой глотки и усиленного тренинга. Наконец его горло стало справляться с рычанием и воем, хрипом и скрежетом, и он решил перевести на шас-га какой-нибудь героический эпос, песнь о Роланде или повесть о Ланселоте Озерном. Помнилось ему, что кочевники ценят устное творчество, так что подходящий рассказ мог спасти от вертела и котла – по крайней мере, на время. Он как раз трудился над переводом, то декламируя отрывки вслух, то заставляя Мозг откорректировать семантику, когда заверещал сигнал тревоги. Это случилось так внезапно, что Ивар подскочил и опрокинул кресло. Но сигналы звучали недолгое время и казались не похожими на вой сирены в миг опасности – видно, натягивать скафандр или бежать к спасательным ботам не было нужды. – Получена просьба об экстренной помощи, – раздался голос бортового компьютера. – Меняю курс. Ваше согласие, эмиссар? – Да, – пробормотал Тревельян, – конечно. Помощь в Пустоте – святое дело. Впрочем, его согласия не требовалось, но бортовой компьютер был неизменно вежлив с пассажирами. С древних времен навигационные устройства на беспилотных зондах и транспортах программировались так, что сигналы бедствия имели приоритет перед полетными задачами; поймав их, судно шло на выручку любому кораблю, инопланетному или земному. То был безусловный рефлекс, заложенный в компьютер и побуждавший его к цепочке стандартных действий: выйти в зону сигнала, связаться с объектом, терпящим аварию, оценить ущерб, выслать ремонтных роботов и, если нужно, снабдить экипаж дыхательной смесью, водой и продовольствием. В случае, если ремонт невозможен, принять на борт живых существ, доставить их к населенной планете и следовать по заданному курсу. Тревельян отлично понимал, что эта программа будет выполняться независимо от его желания, даже если Пекло сгорит в огне и развеется прахом. «Задержка нам некстати, – пробудившись, буркнул командор. – Что за кретин болтается в Провале? И что там могло приключиться? Пиво кончилось? Или гальюн затопило?» – Сейчас узнаем, – сказал Тревельян. – Корабль, расшифровать сигнал! Координаты и все остальное… кто они, где и что произошло… Докладывай! Космический СОС или просьба о помощи, отправленная по дальней связи, включала, кроме координат, обозначение терпящей бедствие расы, причину аварии и данные о состоянии судна. Тот, кто оказывал помощь, должен был знать, чем рискует и куда попадет после прыжка, в сгусток астероидов или газовую туманность, в корону звезды, что превращается в сверхновую, или к водородному гиганту наподобие Юпитера, с множеством спутников и бурной атмосферой. Собственно, от этого зависел успех операции, которая временами была затруднительна и даже невозможна – например, в зоне боевых действий или в точке сингулярности, вблизи черной дыры. – Координаты OrP27.05.88, – произнес компьютер. – Дистанция двадцать семь парсек, направление перпендикулярно оси Провала. Расчет курса завершен. Два прыжка до финиша. «В самом Провале сидят, – прокомментировал призрачный Советник. – Какого черта их туда понесло? Дьявольщина! Неужели…» Он смолк, но ментальная волна удивления накрыла Тревельяна. Похоже, этот неведомый корабль пытался пересечь Провал! Почти пересек, если двигался от Рукава Персея и одолел дорогу в двенадцать тысяч светолет… Но кто мог лететь из этой безмерной дали? Кто, кроме бино фаата? И если так, кем они были, вестниками мира или войны? – Что случилось с ними? – спросил он охрипшим голосом. – Почему не докладываешь? – Просьба о помощи зафиксирована, но обстоятельства катастрофы не поддаются расшифровке, – сообщил компьютер. – Использован стандартный межгалактический код, но в нем восемьдесят два процента ошибок. К сожалению, эмиссар, нельзя восстановить послание во всех деталях. – Как такое может быть? Код несложен, и это основа коммуникации всех известных рас! – Изумленный Тревельян запустил пальцы в шевелюру. Потом его глаза потускнели, меж бровей прорезалась морщина, и он тихо промолвил: – Или эта раса не очень известная? Возможно, враг, что обитает по другую сторону Провала? Бино фаата? Ты разобрался, кто они? Он с облегчением вздохнул, услышав ответ: – Это не фаата, эмиссар. Это сильмарри.Глава 3. Сильмарри
Сильмарри были особым народом, не столько загадочным, сколь непонятным и не имевшим, как остальные расы, ни материнского мира, ни планет-колоний, ни рукотворных инструментов, ни даже языка или того, что каждое племя разумных считает своей историей и чем гордится. История – судно в океане времени; его дорога от факта к факту, от события к событию предполагает отсчет истекших годов, столетий, тысячелетий, ибо без опоры дат реальное прошлое становится мифом, хаосом легенд и басен, невнятным бормотанием безголосого певца. Течения времени несут корабль истории, волны подпирают его, покачивают, кружат, и всякому ясно, что без этой подвижной среды, соединяющей минувшее с грядущим, нет ни корабля, ни иного плавучего средства, где можно было бы спасти воспоминания о прошлом. У сильмарри их, похоже, не имелось, как и понятия о времени. У Йездана Сероокого, мудреца кни’лина, сказано: не обладающий собственной тенью стоит у башен, чьи тени густы и длинны.* * *
Даже спустя тысячелетие от начала межзвездных перелетов Галактика не являлась открытой книгой для человечества. Этот диск с плотным центральным ядром и тремя спиральными ветвями, включавший более ста миллиардов светил, оказался слишком огромен, слишком необъятен – сто килопарсек в поперечнике и два килопарсека в толщину. Ни один народ – кроме, возможно, древних даскинов – не изведал, сколь глубоки пропасти между ветвями, сколь жарок огонь, пылающий в галактическом ядре, и что ожидает странника, добравшегося до самой дальней дали – звездных шаровых скоплений и Магеллановых Облаков. Может быть, эти далекие миры обитаемы, но кто владеет ими, чьи корабли бороздят Великую Пустоту? К счастью или к несчастью, мрачные прогнозы древних астрофизиков об уникальности разумной жизни во Вселенной не оправдались – разум был если не повсеместным явлением в Галактике, то достаточно частым и рядовым. Его носители имели различный облик, странную или привычную землянам физиологию, сходный или отличный метаболизм; одни по всем параметрам считались людьми, другие походили на людей лишь внешне, третьих, произошедших от инопланетных ящеров, птиц, теплокровных хищников или обитателей водной среды, никак нельзя было заподозрить в родстве с гуманоидами. История, традиции и образ жизни этих созданий казались такими же разными, как их обличье. О Древних, загадочных даскинах, владевших Галактикой миллионы лет назад, люди не знали почти ничего, хотя их реальность не подвергалась сомнению – исчезнув, они оставили младшим расам кое-какие артефакты, контурный двигатель, звездную лоцию, что называлась Портуланом Даскинов, сеть подпространственных тоннелей и память о своем могуществе. Лоона эо были народом не настолько древним, как даскины, но все же почтенного возраста, пережившим детскую тягу к власти и самоутверждению; теперь это миролюбивое богатое племя стремилось не воевать, не захватывать, а торговать. Правда, чужих они не допускали в свои косми- ческие города, но активно общались с другими мирами с помощью сервов-биороботов, гигантских транспортных судов и рас-посредников. Внешне подобные людям или, скорее, сказочным эльфам, они, однако, не являлись гуманоидами, общались между собой телепатически, имели четыре пола и размножались способом ментальной конъюгации [32]. Метаморфы, еще один мудрый древний народ, владели даром изменять свои тела, ни с кем не воевали и не торговали, не заселяли иные миры, а берегли от агрессии собственный, сделав из его координат Великую Тайну Вселенной. Никто не бывал в их звездной системе, затерянной среди мириадов солнц, но все высокоразвитые расы знали про их наблюдателей – эмиссары-метаморфы, неотличимые от автохтонов, имелись чуть ли не в каждой звездной метрополии. Вреда от них не было никакого, пока поднадзорный народ не проявлял излишней резвости – скажем, намерений стать гегемоном в огромной области пространства. В подобные моменты всегда находилась другая раса с теми же целями, и неминуемое столкновение гасило амбиции конкурентов, а иногда и жизнь на их планетах. Метаморфы, большие умельцы интриг и закулисной борьбы, фактически играли роль стабилизирующего фактора в Галактике. Очевидно, в том была жестокая необходимость. В отличие от лоона эо, метаморфов или благожелательных парапримов младшие расы стремились не к интеллектуальному совершенству, а к звездной экспансии, захватывая все новые системы, колонизируя планеты, наращивая боевой потенциал и размножаясь быстро и бесконтрольно. Галактика отнюдь не являлась полем для мирных контактов, обмена культурными достижениями и помощи, которую мудрецы со звезд могли предложить не столь продвинутым братьям по разуму, – все это были лишь прекрасные иллюзии, порождения мечтателей-гуманистов, такие же зыбкие, как миражи пустыни. В реальности же раса, освоившая технику перемещений в Лимбе, распространялась в окрестностях материнской планеты на сотню-другую светолет, создавала звездную империю (сектор влияния, согласно принятой в Галактике терминологии) и с неизбежностью, рано или поздно, сталкивалась с соперниками. Причины возможных конфликтов были разнообразными и диктовались физиологией, социальным устройством и прошлым опытом каждого народа. У дроми, происходивших от ящеров, темп воспроизводства потомства был очень высок, и демографическое давление понуждало их к непрерывным территориальным захватам. Хапторы и кни’лина, две гуманоидные расы, считали самих себя венцом творения; встреча с другими гуманоидами – например, с землянами – являлась шоком для столь самолюбивых и эгоцентричных существ. Их первой реакцией было неприятное изумление, второй – откровенная ненависть, а третьей – попытка уничтожить тех, чей облик представлялся им издевкой Бога или Мироздания. Фаата, генофонд которых был чрезвычайно близок к земному, пережили в прошлом сокрушительные катастрофы и потому считали, что заселение сотен миров и покорение их обитателей – лучший способ предотвратить грядущий коллапс. Свои основания к конфронтации – иные, но, очевидно, столь же веские – имелись у негуманоидных рас, у лльяно, айхов и всех остальных, которым человеческий облик казался уродливым, привычки – мерзкими, а дар к мышлению – крайне сомнительным. В клубе звездных империй, сообществе избранных, больше всего уважали силу, и всякий новый его член был вынужден доказывать мощь своей цивилизации, ее монолитность при внешних угрозах, способность ответить ударом на удар и решимость идти до конца, каким бы он ни являлся ужасным. И потому Земля воевала. Бились с фаата, чей гигантский звездолет вторгся в Солнечную систему и был уничтожен в ледяной пустыне Антарктиды, бились с ними далеко от Земли, у Беты и Гаммы Молота, бились в глубинах Провала, и заняли те битвы триста лет без малого. Затем наступил черед дроми, хапторов, кни’лина… Семь веков Земная Федерация росла и крепла под блеск метателей плазмы и аннигиляторов, побеждая врагов и превращая их пусть не в друзей, не в союзников, но в соседей, признавших в Земле равного соперника, которого опасно задевать. Друзей в Галактике ни у кого не имелось, а понятие «дружба», крайне неясное, расплывчатое, заменяли вещи конкретные: общность интересов, взаимная выгода, вооруженный нейтралитет. Даже с лоона эо, с которыми мирные отношения поддерживались доброе тысячелетие, люди были не друзьями, но торговыми партнерами, а для тех, кто нанимался к ним на службу, – хозяевами. Правда, честными и щедрыми. Последние триста лет область Галактики, известная на Земле как Рукав Ориона, наслаждалась миром и относительным спокойствием. Фаата, пришельцы из ветви Персея, больше не пытались пересечь Провал и взять реванш за поражение; дроми регулировали свою численность и вместо аннексии чужих миров приспосабливали к обитанию холодные планеты красных солнц; хапторы и кни’лина, слегка отрезвев после недавних кровавых побоищ, усилили дипломатический контакт с Землей и согласились на совместные проекты – создание смешанных колоний, исследовательские экспедиции и благотворительные миссии. Последнее начинание регулировал ФРИК, комплекс земных ин- ститутов, опекавших культуры, не достигшие порога Киннисона [33] и пребывавшие на дотехнологической стадии. Их было не слишком много, но и не мало – почти у каждой двухсотой звезды класса G, то есть подобной Солнцу, а также в системах красных гигантов и двойных звезд (хотя там разумная жизнь и жизнь вообще являлись экзотикой и редкостью). Гелири и Хаймор, Пта и Селла, Сайкат и Осиер, Пекло и Розовый Дым, Сакура и Трини, Эльсинор и Тербордла… В одних мирах уже ковали железные мечи да плуги и отправлялись в странствия на парусных судах, в других еще не было сплавов крепче бронзы и кораблей надежнее пирог, а в третьих дикари забивали добычу камнями и обожженными палками. Такие планеты и меньшие братья, что населяли их, числились под патронажем Фонда, который привлекал к своим проектам хапторов, кни’лина и все технологические расы, готовые помочь благому делу специалистами, финансами и оборудованием. Что до самих этих рас, их органов власти и управления, социологии, культуры, философии, традиций, секторов влияния, промышленного и военного потенциала, то в эти проблемы Фонд не входил, оставляя их университетской науке и компетентным экспертам из разведки Звездного Флота. Сильмарри, однако, не относились к примитивным племенам и в то же время выпадали из списка технологических рас. Если понимать под технологией машины из пластика и металла, разнообразные производства на планетах и в космосе, армии роботов, добычу сырья, энергостанции, компьютеры, голопроекторы, то этих артефактов у сильмарри не имелось. Не было и планет, служивших постоянным или временным пристанищем, центров науки и культуры, органов власти, жилищ и городов; не было даже области пространства, которая могла бы считаться их родиной. Они являлись вечными странниками, пересекавшими Млечный Путь из конца в конец, единственным примером кочующей цивилизации,не связанной с планетами и звездами, самодостаточной, мобильной и отвергавшей контакты с миром разумных существ, оседлых обитателей Галактики. Возможно, в их восприятии эти создания были не живыми существами, а чем-то вроде природных явлений, опасных или смертоносных, подобных жестким излучениям светил, магнитным бурям, черным дырам или астероидному рою. Мысль, что кто-то может властвовать над частью Великой Пустоты, провести границу, посягнуть на право передвижения, была им непонятна и чужда; они летали всюду, избегая лишь торговых трасс и населенных планет. Они защищались в случае атаки, но никогда не нападали первыми – даже на врагов, на тех, кто ненавидел их, боялся и мешал свободному полету. В Галактике к ним относились по-разному: лоона эо уважали, считая безобидной древней расой; земляне, хапторы, кни’лина и терукси старались их не задевать (хотя, побуждаемые любопытством, следили, как они мигрируют вдоль ветви Ориона); дроми и бино фаата враждовали с ними, и корни этой вражды тянулись в далекое прошлое. Корабли сильмарри, похожие на бесформенные кучи серой глины, были живыми тварями, порождением космоса; вероятно, первой жизненной формой, возникшей на заре времен в газопылевых туманностях еще до того, как появились звезды. Вопрос об их разумности оставался открытым, но не было сомнений, что присутствие сильмарри одушевляет их, ибо корабль вместе с экипажем являлся разумным существом. Этот симбиоз не допускал исключений; сильмарри обитали в каждом корабле, составляя с ним семейную ячейку, существовавшую тысячи или миллионы лет – так долго, как длилось их нескончаемое странствие. У земных специалистов существовало множество гипотез об их происхождении, и кое-кто считал, что эта раса – паразиты, возникшие в гигантском организме корабля и после долгой эволюции поднявшиеся к высотам разума. Но для всей остальной Галактики их разум был непонятен и чужд. Внешний вид сильмарри тоже не способствовал взаимопониманию. Они походили на огромных белесых червей, способных вытягивать тела на десять-пятнадцать метров, лишенных конечностей и, вероятно, органов зрения и слуха. Тактильно-ментальное восприятие мира делало беседы с ними непростым занятием – тогда, когда они желали с кем-то пообщаться. Для их активной жизнедеятельности требовалось немногое: температура от минус сорока до плюс шестидесяти по Цельсию, кислородно-азотная смесь с давлением в пятую часть земного и вода, обогащенная микроскопической органикой. Водяные пары и микроорганизмы, присутствующие в дыхательной смеси, являлись пищей и всасывались через кожу. Номады космоса – так называли этот народ. Бесспорно, сильмарри лучше приспособились к существованию в Великой Пустоте, чем остальные галактические расы. Для всех разумных Пустота была холодным, мрачным и долгим путем, что вел от одного убежища к другому, безжизненной пустыней, что пролегла между планетами и солнцами, но для сильмарри то был дом – или, скорее, гостеприимная усадьба, где можно прогуляться, зачерпнуть энергию у любой звезды, раздобыть кислород и воду на подходящей планете и, встретив сородичей, обменяться новостями. Но космос не благоволит никому. Великая Пустота безжалостна, сурова и враждебна жизни, и в ее просторах даже у номадов бывают неприятности.* * *
К удивлению Тревельяна, транспорт после второго прыжка вынырнул неподалеку от звезды. Наличие светил в Провале не исключалось, но все же случай был редкий – вернее, единственный, что подтверждалось справкой в Звездном Атласе. По древней классификации Герцшпрунга—Рессела [34], эта звезда являлась красным карликом с температурой поверхности в три тысячи градусов и светимостью на три порядка ниже, чем у земного Солнца. Тусклая, как угасающий уголь, она, однако, могла протянуть еще миллионы лет и обогреть планету, кружившую очень близко к светилу – ближе, чем Меркурий в Солнечной системе. Впрочем, этот мир и умирающее солнце интересовали Тревельяна гораздо меньше, чем предстоящая встреча с сильмарри. Обмен информацией с ними был чрезвычайной редкостью, и, пока транспорт двигался на гравитяге к чужому кораблю, Ивар просмотрел все сообщения о достоверных контактах. Их оказалось немного. В 2125 году отряд под командой адмирала Врбы, личности почти легендарной, столкнулся с кораблем сильмарри в системе Гондваны. Адмирал вел шесть крейсеров и фрегат к границе Провала, к Бете и Гамме Молота, мирам, занятым тогда фаата; то была операция возмездия за атаку на Землю и разгром земной флотилии у марсианской орбиты. Несомненно, Врба торопился, но все-таки послал фрегат для изучения странного объекта – в те годы о сильмарри не знали ничего, кроме факта их существования. Их корабль дрейфовал на дальней окраине системы, а погруженный в спячку экипаж бездействовал – как выяснили много позже, этот сон являлся частью акта размножения. Ксенологи с фрегата проникли на корабль и осмотрели его, оставив для потомков уникальные видеозаписи и заодно обессмертив свои имена. Иван Асенов и Хельга Сван, сотрудники Исследовательского корпуса Звездного Флота, вспомнил Тревельян, всматриваясь в кадры почти тысячелетней давности. Перед ним раскрылся огромный отсек, простиравшийся на сотни метров во все стороны и озаренный слабым светом – вероятно, он занимал весь объем корабля. Его заполняли тонкие прозрачные гибкие поверхности, пересекавшиеся под острыми и тупыми углами в хаотическом разнообразии – лабиринт из множества камер-ячеек, не имевших ни пола, ни стен, ни потолка, а лишь обрамляющие пластины с круглыми отверстиями диаметром около метра. Структура, выращенная кораблем, удобная для передвижения лишенных конечностей существ, чьи тела зато могут произвольно изгибаться, вытягиваться и скользить из дыры в дыру, используя их края как опору… Кое-где вдоль сочленения пластин пролегали нервные волокна, похожие на кабели из темного вещества, раскрываясь глубокими, словно огромные тюльпаны, чашами, точками коммуникации экипажа с кораблем. Сквозь заполнявшую объем прозрачную структуру, подобную обители призраков, виднелся центральный стержень, будто бы отлитый из черного пластика, – разгонная шахта, что позволяла кораблю погружаться в Лимб. Некий биологический орган, если корабль был живым, но понять его метаболизм и устройство Тревельян не мог – как, впрочем, все остальные специалисты, сколько их есть в Галактике. Вздохнув, он перешел к другим сообщениям. Во время Третьей Войны Провала сильмарри, атакованные боевыми модулями фаата, вроде бы запросили помощи. Точнее, так решил капитан тяжелого крейсера «Мадрас» – как всегда, послание сильмарри было неразборчивым, и, может быть, они хотели не спастись, а уничтожить побольше врагов и погибнуть со славой. Но капитан «Мадраса» лишил их этой возможности, распылив десяток модулей. Сильмарри удалились, не вступая в контакт. Было ли им известно, что за спасение принято благодарить? Было ли понятно, что такое благодарность?.. В 2502 году корабль сильмарри лег на орбиту Юпитера и стал погружаться в его бушующую атмосферу. Монитор-спасатель, отправленный с Каллисто, шел параллельным курсом, пока сильмарри не попросили оставить их в покое. Просьба была убедительной – плазменный импульс рядом с кормой монитора. Затем их судно исчезло в Красном Пятне [35], и больше его не видели. В двадцать седьмом и двадцать восьмом веках сильмарри иногда приближались к земным кораблям, сопровождая их во время разгона – как правило, вдали от оживленных трасс, на границах звездных секторов или в ничейном пространстве. Зафиксирован случай, когда сильмарри попросили выслать инертный органический объект, необходимый для восстановления массы их корабля. С пассажирского лайнера «Королева Мод» им отправили катер с двадцатью тоннами искусственного белка, после чего корабль сильмарри окутался светом, подобным сполохам полярного сияния. Возможно, то был знак благодарности, которого не дождался капитан «Мадраса». Увиденное и прочитанное лишь раззадорило Тревельяна. Конечно, являясь социоксенологом ФРИК, он изучал примитивные расы, которым что полеты в космосе, что в атмосфере мнились волшебством, долей ангелов или демонов. Динамика социальных структур, миграции племен, нашествия варварских орд на относительно цивилизованные государства, теософия и религиозные обряды, движущий пассионарный импульс и, наконец, поиск аналогий в земной истории, что позволяло предсказать развитие событий, – вот проблемы, которыми он занимался на Осиере и Сайкате, Хайморе, Пекле, Пта и в других мирах. Сильмарри были вне его компетенции и сферы интересов Фонда, так что Ивар не стал бы утверждать, что одержим профессиональным любопытством. Просто любопытством – так было точнее. Корабль сильмарри завис примерно в астрономической единице [36] от местного светила, и транспорт добирался к нему около суток. Последний час Тревельян провел в отсеке управления, наблюдая, как на обзорных экранах медленно растет темное пятнышко, подсвеченное лучом развертки. Недалекое светило казалось отсюда маленьким красноватым диском, раз в семь-восемь меньше земного Солнца. Они приблизились к сильмарри на десятую мегаметра, и бортовой компьютер сбросил пару зондов с осветительной аппаратурой и голокамерами. В лучах прожекторов темная масса обрела объем и цвет, став похожей на серое облако с выпирающими тут и там коническими холмами. Первый зонд обогнул эту конструкцию, и в поле зрения появилась черная трещина – несомненно, разрыв оболочки. «Куча грязи, – заметил командор, взиравший на картину с помощью глаз Тревельяна и видеодатчика в обруче. – Куча грязи, и кто-то не так давно ее поджарил. На аннигилятор не похоже, дыра была бы основательней. Думаю, плазмой влепили». – Других кораблей здесь нет, – сказал Ивар, покосившись на экран локатора. – С кем они могли сражаться? И где?«С бинюками, если идут из ветви Персея. Могли повстречать их в Провале. Фаата наверняка контролируют границу». – Но разрыв выглядит свежим и уже затягивается, – возразил Тревельян. В свете прожектора было видно, что регенерация идет вовсю – из трещины летели комья обгоревшей плоти, ее края подергивались и смыкались. – Вряд ли они повстречали фаата, дед. У этих тактика известная – вцепились бы как волки и не отпустили. Тут что-то другое! «Зачем спорить? Спроси!» – подвел черту Советник и замолк. – Корабль, – позвал Тревельян. – Передай, что здесь земное судно. Пусть сообщат, что там у них случилось. Какая помощь нужна и… Монитор устройства связи внезапно вспыхнул, и в его серебристой глубине появилась россыпь крохотных точек. Они двигались, вращались у нескольких центров, пытаясь сложиться в какие-то знаки или картины – работал транслятор с галактического кода, универсальная программа общения с любым инопланетным кораблем. – Идет передача, эмиссар, – доложил компьютер. – Дешифровка, как и прежде, затруднена. «Червяки, что с них взять! – буркнул командор. – Ни рук, ни ног, ни головы, а если мозги найдутся, так тоже раком повернуты. Не для них этот код, малыш. Я, пожалуй, погорячился… Какой разговор с червяками? Ни спросить, ни понять…» Тревельян, однако, еще не расстался с надеждой. Корабль сильмарри был велик, три-четыре километра в поперечнике, а в просмотренных Иваром материалах сообщалось, что эти космические левиафаны растут непрерывно, год за годом, столетие за столетием. Семейная ячейка в таком огромном корабле могла состоять из тысячи сильмарри, а их коллективный разум – средство мощное. Если не понять друг друга на уровне картин и символов, есть способ иной – прямое ментальное общение. Но это уж на крайний случай, подумал он; лезть в инопланетный мозг было неприятным, а иногда и опасным занятием. Прошла еще минута, и бортовой компьютер сдался. – Ошибки в коде, эмиссар. Качественная трансляция невозможна. – А не качественная? – спросил Тревельян, сдвинув наголовный обруч на затылок. Ответа не было – очевидно, такой вариант не имел для компьютера смысла. Повинуясь программе спасения и приказу пассажира, он попытался связаться с сильмарри, но мельтешение точек в серебристой пустоте не сделалось более понятным. – Выслать ремонтных киберов и сварочные агрегаты, эмиссар? – Нет. – Хмурясь, Ивар оглядел просторную рубку, капитанский мостик с единственным креслом, экраны и созвездия голографических огней, горевших успокоительной зеленью. – Никаких киберов, приятель! У нас объект биологической природы, так что лазерная сварка неуместна. Скорее всего, это будет воспринято как агрессия. – Обязан оказать помощь, – упрямо возразил компьютер. – У объекта разрыв оболочки. Необходимо… – Умолкни, – велел Тревельян, запустив в волосы пятерню. Он поскреб в затылке под обручем, хмыкнул и произнес: – Меня сопровождает искусственный разум. Может, он разберется… У него семантические цепи не чета твоим, а еще поливалентное мышление… Подключи-ка его к каналу внешней связи. «Хорошая мысль, – одобрил командор. – Наша жестянка будет покруче, чем этот недоумок». – Жду ваших распоряжений, эмиссар, – прошелестел в вокодере голос Мозга. Эти звуки, совсем не похожие на суховатую речь бортового компьютера, несли эмоциональную окраску, ибо Мозг в полной мере сознавал себя личностью. Кое-какие чувства тоже были ему не чужды – командора он побаивался, а Ивара боготворил. – Мы повстречались с кораблем сильмарри, – сказал Тревельян. – Просят помощи, но непонятно, в чем и какой. Связь в твоем распоряжении. Сделай милость, потрудись переводчиком. – Приступаю к работе, – кратко проинформировал Мозг. Затем над панелью устройства связи взметнулся световой цилиндр, и в нем возникли символы галактического кода; они кружились все стремительнее, все быстрей, пока темп вращения не стал бешеным. Тревельян уже не мог различить темных значков, но по тому, как пригасала и вспыхивала световая голограмма, было понятно, что передача чередуется с приемом – Мозг набирал необходимую статистику. Вероятно, ошибки, что допускали сильмарри, не дублировались полностью, и сравнение вариантов ответа позволяло выделить верную информацию. По крайней мере, ее часть, доступную для дешифровки. «Соображает, мерзавец!» – одобрил командор, и в тот же миг вращение светового цилиндра остановилось. Ивар покосился на экран, но там все было по-прежнему: точки блуждали в серебристой глубине стайкой бестолковых мурашей. – Некорректная задача, – сообщил искусственный разум. – Ответ получен, но вероятностная оценка невелика, от тридцати до тридцати шести процентов. – Это меня устраивает, – произнес Тревельян. – Ну, так в чем у нас дело? – Сведения об аварии и ее причинах отсутствуют. Они хотят знать, кто вы такой, эмиссар. Есть обстоятельства, при которых помощь принять невозможно. – Мозг сделал паузу и добавил: – Надеюсь, моя дешифровка правильна. Ивар сдвинул брови. – Хотят знать, кто я такой? Очевидно, мою расовую принадлежность? – Да, эмиссар. Повторяется термин… странный термин… – Мозг словно поперхнулся, – корень, сучок, отросток… пятисучковый или существо с пятью отростками. Они передают изображение… вот такое. Точки, блуждавшие по экрану, сбежались вместе, соединившись в нечто подобное кляксе или морской звезде, нарисованной ребенком. У звезды было пять лучей, исходивших из центрального пятна – два подлиннее, два покороче и один толстый и округлый. Тревельян взирал на загадочную картинку в некотором ошеломлении. – Пятисучковый… хмм… И что это, по твоему, значит? – Не могу интерпретировать, эмиссар. – Вот как! – Ивар нахмурился. – Дед, а ты что скажешь? «Скажу, что у тебя мозги прокисли. Пошевели извилинами, парень! Нарисовано то, чего нет у червяков: две руки, две ноги и голова. Это гуманоид – конечно, в их представлении. И если они явились с другой стороны Провала, то перед нами не просто гуманоид, а…» – …фаата, – закончил Тревельян. – Их враг, а помощь от врага принять нельзя. Никак нельзя! Это унизительно! – Он уставился на световой цилиндр, сиявший над панелью, размышляя о том, что гордость есть у всех разумных тварей, даже у странных существ, живущих в чреве космического левиафана. Голос Мозга прервал его мысли. – Ваши инструкции, эмиссар? Ивар повернулся к изображению «морской звезды». – Пошли им эту картинку обратно, а с ней – координаты Солнечной системы. У них есть понятие о галактическом коде, так что с координатами разберутся, сообразят, откуда мы явились. Затем повторяй вопрос: какая помощь им нужна? Повторяй, пока не сможешь дешифровать их сообщения. В столбике света над передатчиком снова поплыли, закружились темные значки. Тревельян смотрел на них, задумчиво щурясь; искушение заглянуть в корабль сильмарри терзало его. Ввести зонд в эту черную трещину, пока она не заросла, проникнуть внутрь и взглянуть на лабиринт ячеек, хаос прозрачных поверхностей, огромные белесые тела, скользящие из отверстия в отверстие, на чаши-цветки у нервных окончаний и вытянутый стержень двигателя… Соблазн был велик; никто, кроме Хельги Сван и Асенова, древних ксенологов, не видел этой картины, да и они не наблюдали экипаж в активной фазе. Вздохнув, Тревельян тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Осторожность превозмогла любопытство; он сознавал, что дистанция от непрошеного гостя до врага короче волоса. Снова раздался голос Мозга: – Им нужна вода, эмиссар, много воды. Теперь они знают, что вы – другой пятисучковый, не такой, как обитающие за Провалом. Они просят вас о помощи. – Пятисучковый… – пробормотал Тревельян. – Хорошее опредедение для гуманоидов! Правда, если разобраться, сучков больше пяти… нос, уши, пальцы и кое-что еще… – Он ухмыльнулся и сказал: – Кажется, ты стал лучше их понимать. Молодец! – Моя заслуга невелика. Эти создания быстро учатся. – Ну, ладно. Сообщи, что я отправляю им контейнер с водой. Он отдал приказ бортовому компьютеру, и выплывший из шлюза квадроплан направился к корме, к водяным цистернам. Последняя в их длинной цепочке была отстыкована, квадроплан пристроился к ней сзади и подтолкнул цистерну к кораблю сильмарри. Повернувшись к боковому экрану, Ивар следил, как она удаляется, мигая алым огоньком. Компьютер выслал еще один зонд, летевший рядом и освещавший ее прожекторами. «Это он зря усердствует, – заметил командор. – У червяков нет глаз». Согласно кивнув, Тревельян прошелся между пультом и капитанским мостиком. Рубка была просторна, тридцать четыре шага в ширину, и отсутствие людей делало это расстояние чуть ли не бесконечным. Эти сильмарри, думал он, кажутся такими непонятными, такими странными… Но в конечном счете все зависит от привычек, воспитания и точки зрения. Еще, разумеется, от физиологии и технического уровня, достигнутого расой… Что бы сказали эти червяки, узнав, что на огромном корабле одно-единственное существо, некий ксенолог Ивар Тревельян? Одна живая тварь, два искусственных разума, душа умершего в памятном кристалле и три сотни портретов-голограмм, чьи назначение – развеять скуку путника… Наверное, это тоже показалось бы им странным. Цистерна приблизилась к кораблю сильмарри. Один из конических холмов на его поверхности начал вытягиваться в длинное щупальце, его конец раскрылся темной беззубой пастью, охватившей торец цистерны. Казалось, пасть сейчас проглотит ее, но миновала минута-другая, и водяной танк – видимо, опустошенный – был отброшен в сторону. – Заглотил. Узнай, хватит ли, – произнес Ивар, посматривая на экраны. В световом столбе вновь закружились темные значки. – Этого достаточно, – сообщил криогенный разум. – Они благодарят. – Из благодарности шубу не сошьешь. Спроси, не могут ли они поделиться информацией. – Какого рода? – поинтересовался Мозг секундой позже. – Я хочу знать, откуда они двигаются и кто на них напал. Следы атаки заметны – эта дыра в корпусе с обожженными краями. Они сражались с фаата? – Придется подождать, эмиссар Тревельян. Сложное сообщение. Световой цилиндр над панелью передатчика ярко вспыхнул, затем его блеск угас, сделавшись подобным тлеющему разряду. Вспышка, угасание, свет, темнота… Они чередовались в стремительном рваном ритме – Мозг вел диалог с сильмарри, пытаясь передать вопросы Ивара и понять ответы. Похоже, это было нелегко – темп обмена нарастал, и вскоре световые проблески слились в едва заметное глазу мерцание. – Эмиссар, в общих чертах я завершил дешифровку. – В голосе Мозга слышалось явное ликование. – Они идут с другой стороны Провала. Такие полеты зовутся у них… терминологическая трудность, не могу осуществить точный перевод. Вероятно, что-то связанное с их физиологией или эмоциональным состоянием… Проделанный путь истощил запасы влаги, необходимой для корабля и обитающих в нем существ. Они вышли к этой звездной системе и обнаружили, что мир около красного солнца безлюден и богат водой. В подобных ситуациях они спускаются к поверхности планеты и пополняют… отсутствие термина – видимо, ресурс или запас. Они попытались это сделать, снизились над океаном и получили внезапный удар. Плазма высокой температуры. Источник неизвестен – возможно, природный разряд или искусственное образование. Вернувшись в пространство, они передали сигнал о помощи и стали ждать, когда корабль залечит рану. Корабль был сильно поврежден, а без воды регенерация идет очень медленно. Они могли погибнуть. – Это все? – Да, эмиссар. Теперь они уходят. – Любопытно!.. – протянул Тревельян, направился к мостику и сел в кресло перед обзорным монитором. Корабль сильмарри, похожий на тучу серого пепла, вдруг озарился радужным светом. Белые, розовые, фиолетовые полотнища плыли и колыхались вокруг него будто сполохи полярного сияния, словно паруса или знамена, трепещущие под незримым ветром, что налетел из космической тьмы; краски мерцали, оттенок белого опала переходил в алый рубин, затем – в искристый аметистовый блеск и матовую глубину черного жемчуга. Это было так неожиданно, так прекрасно! Тревельян вздохнул в восхищении, а командор пробурчал: «Что за иллюминация?» – Думаю, благодарность. Такое видели на одном нашем лайнере, поделившемся с сильмарри искусственной органикой… «Королева Мод», рейс с Земли на Высокую Гору… – Тревельян хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. – Корабль! Запись ведется? – Да, эмиссар. Можно вернуться к маршруту следования? – Нет, не торопись. – Прищурившись, Ивар смотрел, как космический дом сильмарри, погасив сияние, тает на обзорном экране. – Прими на борт зонды и ложись в дрейф. – Он бросил взгляд на курсоуказатель. – Мы примерно в астрономической единице от светила… эта орбита вполне подойдет. Надеюсь, ты просканировал звезду и планетоид? – Разумеется, эмиссар. Стандартная процедура. Данные подготовлены для Звездного Атласа. – Выведи их на экран. Информация о звезде, собранная датчиками корабля, была краткой: тип – красный карлик, спектральный класс М, температура поверхности – три тысячи градусов Кельвина, масса – 0,17 солнечной. Несмотря на скромные размеры и малую светимость, звезда исправно обогревала свой единственный мир, бывший похолоднее Земли, но ненамного. Там имелась кислородная атмосфера, океан изрядной глубины, большой континент и два огромных острова, почти материка. Наклон планетарной оси к плоскости эклиптики [37] – полтора градуса, период вращения – 47,3 часа, период обращения вокруг светила – 176 суток, год почти равен земному. Масса 0,78 земной, диаметр – 11 210 километров, плотность 4,8, расстояние до звезды – 0,32 астрономической единицы. – Подходящая планетка, – пробормотал Тревельян, ознакомившись с этими данными. «Подходящая, – согласился призрачный Советник. – Как раз для тайной базы фаата у наших рубежей. Ну, что будем делать?» Они переглянулись – разумеется, ментально. При жизни командор Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев был храбрецом, хорошим стратегом и отчаянным авантюристом; его потомок Ивар Тревельян вполне унаследовал от предка страсть к приключениям и любовь к опасным играм. Обычно они понимали друг друга без слов, но в данном случае все-таки стоило обсудить диспозицию. – Надо провести разведку, – сказал Тревельян. – Конечно, на Пекле серьезное положение, но три-четыре дня ничего не решают. Опять же как понимать серьезность. Если здесь затаились фаата… «…тогда гори это Пекло синим пламенем! – закончил командор. – Безопасность Земной Федерации всегда имеет приоритет!» – Значит, летим? «Это необходимо, парень». – Но транспорт пусть остается на орбите. Возьмем квадроплан. «Только хорошо вооруженный». – У нас на борту нет оружия. «Есть горные лазеры для Пекла. Один можно смонтировать на этой каракатице… как ее?.. квадроплан?..» – Да. Еще нужны продукты, бластер, гравипланер и полевой комплект. «Еще скафандр. Есть у нас боевые?» – Нет. Есть кожа-биот для усиления мышечной активности и скоб [38]. «Бери скоб, он надежнее». – Мозг тоже придется взять. «Эту железяку? Зачем?» Тревельян поскреб в затылке. – Я знаю множество наречий, но не фаата’лиу [39]. Изучать его бесполезно – нужна либо операция на горле, либо специальный транслятор. Если мы возьмем языка, то будем нуждаться в переводчике. «Ладно. Согласен. Пусть жестянка тоже летит». Связавшись с бортовым компьютером, Ивар велел подготовить квадроплан и оставаться на нынешней орбите. Затем встал, спустился с мостика, вышел в коридор и направился к портрету Анны Кей. – Я ненадолго покину тебя, девочка. – Мы уже прилетели на Равану, Ивар?
– Нет, болтаемся в Провале у какой-то звезды. Мне нужно сделать инспекционную вылазку на ее планету. Услыхав про инспекцию, хмурая дама с соседнего портрета оживилась и уже открыла рот для непрошеных советов, но Тревельян коснулся рамы и отключил ее. Он глядел на милое личико Анны, она смотрела на него, и оба улыбались. Потом девушка сказала: – Возвращайся быстрее ко мне, Ивар. Я буду скучать. – Три или четыре дня, моя красавица, больше я не задержусь. Три или четыре дня… Прощаясь, он поднял руку и улыбнулся ей в последний раз.
Глава 4. Мир близкий, мир далекий
Небо раскололось. Чудовищная трещина рассекла его яркую синеву от северного горизонта до южного, открыв бездонную пропасть, в которой не было звезд. Солнце исчезло, и вместе с ним погасли огоньки заатмосферных станций и портов, скрылись два естественных спутника планеты, белесые призрачные полумесяцы, видимые даже днем. На станциях и спутниках был сосредоточен Флот Вторжения, мириады больших и малых дисков, транспорты с боевой автоматикой, шагающие и летающие сокрушители, заряды ядовитой плесени, комплекс геопланетных катастроф и зеркала, способные испарить океан потоком отраженной энергии. Несокрушимая мощь, плод многовековых усилий! Все провалилось в небытие. Края трещины расширялись и уходили за горизонт, накрывая тьмой планету, отсекая ее от Вселенной, от жизни, света и тепла, от тысяч близких и далеких звезд. Небо сделалось черным гигантским тоннелем, прорезавшим Галактику; то была дорога в никуда, путь наказания, жестокой вечной кары. Планета падала в этот колодец неисчислимые годы, что складывались башнями геологических эпох. Время замерло, тишина сковала мир, ужас перехватывал дыхание. Многие погибли от страха, но в грядущих кровавых веках их участь казалась счастливой. Крылья смерти милостиво прикоснулись к ним, избавив от мук и унижений, от болезней, генетического вырождения и потери разума… Да, им в самом деле повезло! Тоннель или колодец, что мнился бесконечным, имел, однако, дно. Падение кончилось, мрак сменился мутной желтизной, небо снова стало небом, но не прозрачным и синим, как прежде, а розовато-серым, будто в луже жидкой грязи растворилась кровь. Солнце потускнело, покраснело, а в ночных небесах пролегла широкая темная лента, потеснившая звезды; лишь по ее краям виднелись жалкие пригоршни огоньков, далеких, как воспоминания о прошлом. Прошлое полнилось величием и горделивыми надеждами, настоящее – мрачной убийственной тоской. Одряхлевшее солнце и одинокий мир перед холодным ликом светила… В какие бездны их забросили? Какую уготовили судьбу? Прозябание, забвение, упадок… Великий Враг не уничтожил их, но заключил в темницу. В узилище, где вместо стен – пустота, а вместо стражей – мрак и холод… Фардант Седьмой очнулся. Его видения не были снами – спать, в силу своей природы, он не мог и грезил о минувшем наяву. Память предков, тех, что некогда соединили свои разумы, не исчезла, не распалась под грузом истекших лет, и ее фантомы всплывали с регулярным постоянством. Может быть, это являлось необходимостью, внедренным в мозг Фарданта алгоритмом, напоминанием о цели, для которой он существовал; может быть, в картинах, что приходили к нему, таилась некая подсказка, что-то способное помочь в восстановлении разумной жизни или хотя бы в борьбе с соперниками. Этого Фардант не знал, но не отказывался от миражей былого, то пронизанных величием погибшей расы, то грозных, мрачных и пугающих. В конце концов, это было единственным доступным ему развлечением. Он вытянул ментальный щуп, раскрыл его в широкий веер и прикоснулся к миллиардам тварей, что мельтешили в подземельях и на поверхности материка. Все они были его частицами, плодом его усилий распространиться на большую территорию и оттеснить соперников подальше; одни – отпрысками-исполнителями, другие – имитацией той жизни, которую он помнил и старался воспроизвести. Этих он контролировал изредка; слишком многочисленные и почти безмозглые, они существовали и размножались сами собой, не требуя забот и не внушая тревоги, когда их настигала гибель. Работники-исполнители занимались делом. Целая армия рыла ходы глубоко под землей, следуя за изгибами рудных жил; добыча была невелика, но без нее Фардант не мог возобновлять потери, случавшиеся в битвах с Гнилым Побегом и Матаймой. Стражи бдили у защитной полосы, закопавшись в осыпях, спрятавшись в трещинах и щелях; их чуткие сенсоры раскачивал ветер, а цветы-зеркала, что росли на вершинах утесов, питали их энергией. Между внешним защитным барьером и внутренней границей тянулись поля энергоцветов и убежища сокрушителей; эти частицы Фарданта дремали – в активной фазе их назначением была война. Зато в огромном комплексе, где находился его главный модуль, как всегда, царило оживление: в полной тишине и темноте дальних галерей трудились рабочие отпрыски, сверкали световые резаки над биологическими чанами, крохотные побеги формировали биомассу, ползали в гипотермических камерах, отбирая клетки-образцы. Шла подготовка к новому эксперименту, но с ним Фардант Седьмой не торопился – вынырнув из мира грез, он размышлял над возможной ошибкой. Его создания превосходны, но разум их спит… Почему? Пока он не нашел ответа. На границе восприятия его ментальный щуп соприкоснулся с разумами соперников. Сознание Матаймы, отродья Нелюдимых, было холодным, как льды в полярных океанах, и недоступным, как дальние звезды. Спрятавшись за непроницаемым барьером, он резко оттолкнул Фарданта. Он ни с кем не желал говорить, опасаясь, что ускользнувшая мысль раскроет его планы. Он был подозрителен и осторожен – самое древнее существо среди пяти бессмертных и самое слабое. Домен Матаймы лежал на севере континента, в области, бедной энергией и ресурсами, и это место он выбрал не сам – туда его вытеснили Фардант и Гнилой Побег. Побег, как обычно, фонтанировал яростью. Ярость была неплохой ментальной защитой от внешнего проникновения, но Фардант сумел бы ее преодолеть. Однако зачем? Чтобы вновь окунуться в чувство сожаления, испытать горечь, столкнувшись с темной тучей отрицательных эмоций?.. Побег являлся его творением, ветвью, отщепленной от ствола, которую он отправил на юго-запад, чтобы оборонять побережье от посягательств Тер Абанты Кроры. Это случилось очень давно, когда Фардант хотел создать других бессмертных, размножив собственное «я». Но эти планы рухнули, ибо Побег стал не союзником, а ненавистным врагом. В ответном импульсе Тер Абанты Кроры читалась насмешка. Он был силен, не слабее самого Фарданта, так как его небольшой материк почти не подвергся разрушениям в эпоху смуты, и в его горных районах сохранились рудники. Кроме того, материк располагался на экваторе, в зоне максимальной радиации звезды, и сокрушителей Кроры переполняла энергия. Он мог бы послать их по воздуху на побережье, в домен Побега, и уничтожить все, что шевелится на земле и под землей, но вряд ли он это когда-нибудь сделает. Гнилой Побег напоминал Фарданту о былом провале, являлся знаком поражения, символом несбывшихся надежд, и это тешило соперника. Боль для одного, а для другого – развлечение и радость… У Кроры был мстительный нрав и тяга к злобным выходкам. С Даззом Третьим временами удавалось пообщаться. Его материк, немного меньший, чем у Тер Абанты Кроры, лежал на востоке среди океанских вод, в другом полушарии, что делало Дазза самым безопасным конкурентом. Стратегический модуль утверждал, что если захватить центральный материк и домен Кроры, Дазз превратится в младшего партнера и вполне надежного союзника. Но так далеко Фардант не заглядывал. «Да будешь ты благополучен и вечен, – приветствовал Дазз Фарданта и после паузы добавил: – Кажется, последние эксперименты не были успешными?» «Я порождаю одних безмозглых тварей, – с горечью признался Фардант. – Возможно, генетический материал дефектен, но другого на планете нет. Жаль!» «Жаль», – согласился Дазз. Он ничем не мог помочь, как и другие бессмертные – лишь в криогенных камерах Фарданта хранились клетки, пригодные для воссоздания живой органики. Объяснений этому факту не было. Фардант полагал, что древние жители планеты, ставшие его первоосновой, имели склонность к изучению собственных тел и интеллекта. Но у Гнилого Побега сей талант не проявился. Очередная мысль Дазза просочилась сквозь ментальный барьер: «Существа из Внешнего Мира… Ты знаешь о них?» «Какие существа? – Фардант почувствовал волнение. – Посланцы Врага? Или?..» «Мне удалось их сканировать. На Врага не похожи и отличаются от нас – тех, какими мы были. Очень странные… – Дазз Третий снова сделал паузу. – Странные, но живые». Волнение все сильнее охватывало Фарданта – ни один космический странник не приближался к их солнцу и миру тысячи Больших Оборотов. Но мир вместе со своей звездой медленно дрейфовал к границам пропасти, в которую его забросил Враг, и потому не исключалось, что они приблизились к межзвездным трассам и ареалу распространения разумной жизни. Эта жизнь, при всем ее отличии от соплеменников Фарданта, могла послужить бесценным подспорьем в его опытах. «Существа опустились в твоих владениях?» – с трепетом спросил он. «Нет. Корабль… что-то подобное кораблю, но будто бы живое, зависло над океаном у домена Тер Абанты Кроры. Крора велел сокрушителям распылить его». «И это удалось?» – Мысль Фарданта переполнилась горечью. «Нет. Существа улетели. Их корабль велик, но самые зоркие стражи его не увидят – кажется, обшивка поглощает излучения. Мой сканирующий луч был отражен с ничтожной интенсивностью». Ментальный контакт распался. Крора, порождение Темных Владык! Проклятый Крора! Фарданта захлестнула ненависть. Некоторое время он прикидывал, не направить ли своих сокрушителей на юго-запад, чтобы разделаться с Кророй раз и навсегда. Но эта мысль была неразумной, и стратегический модуль ее заблокировал. Скорее всего, сражение кончится тем, что сила Фарданта и Кроры будет подорвана, отпрыски перебиты, подземные убежища разрушены, и в результате их владения разделят Матайма и Гнилой Побег. Все же оптимальное решение – ждать, терпеть, надеяться, не нарушать баланса… Может быть, кто-то из Внешнего Мира снова прилетит?* * *
Огромная серебристая чаша антенны дальней связи повернулась, направив раздвоенное острие излучателя к Провалу. Разглядеть Провал с орбиты комплекса ФРИК «Киннисон» и вообще из Солнечной системы не представлялось возможным – сотни ярких и тусклых звезд скрывали бездну между галактическими Рукавами. Но недоступная глазу черта тем не менее существовала, являясь понятием умозрительным, но важным – границей Земной Федерации. В этом качестве Провал был особенно удобен, так как границы секторов влияния [40] обычно проводили вдоль не подходящих для колонизации естественных объектов. Таких образований в Галактике насчитывалось множество: темные и светлые туманности из разреженного газа, окрестности черных дыр и звезд на стадии сверхновой, районы, бедные стабильными светилами классов G и K, и, наконец, Провалы, разделявшие ветви галактической спирали. За тысячу лет космической эры ближайший к Земле Провал сделался не столько изученным, сколько привычным феноменом: корабли не углублялись в эту ледяную пустоту, но на ее рубеже были десятки процветающих колоний, включая самые древние – Тхар, Роон и Эзат. Но излучатель антенны смотрел не на них. Искусственный разум «Киннисона» нацелил острие в другую точку, к системе двух светил, что были обозначены в земных каталогах как древнеиндийские демоны. Там, вокруг огромного красного Асура, вращался мир Равана, и второе солнце, белый Ракшас [41], взирало на него раскаленным яростным глазом. Не самый благополучный из галактических миров, чье грозное имя «Равана» вскоре сменилось уничижительным «Пекло»… Но что считать благополучием? По вселенским меркам Раване очень повезло, так как на ней появилась жизнь – и не просто жизнь, а разумная. Пожалуй, этим носителям разума было не сладко среди пустынь, гигантских гор и огнедышащих вулканов, но не прошло и трех тысячелетий с момента зарождения цивилизации, как удача снова улыбнулась им. Улыбка была щедрой: земной экспедиционный корабль добрался до Раваны, и младшие братья по разуму очутились под опекой старших. Однако пока что счастья это никому не принесло. Пока, повторил консул Сокольский, всматриваясь в экраны, где в темной глубине, заслоняя звезды, поблескивала серебристая конструкция. Пока, ибо мельницы истории мелют медленно, а первый хлеб, что выпекается в ее горниле, всегда замешан на крови. Невеселая мудрость, но другой гуманоиды не знали – ни бино фаата и земляне, ни терукси и кни’лина, ни осиерцы и хапторы. Возможно, то был их фирменный рецепт прогресса. – Полная готовность, – пророкотало под сводами отсека связи. Консул был здесь один; искусственный мозг «Киннисона» не нуждался в помощи людей, чтобы ориентировать антенну. – Отправляй сообщение, – сказал он. Излучатель антенны окутался яркой дымкой, затем с его заостренных концов сорвалась ослепительная молния. Этот краткий миг едва улавливался глазом – посылка пакета спрессованной информации занимала не более сотой доли секунды. Мощный энергетический импульс рассек пространство, и молния исчезла, чтобы, проскользнув сквозь безвременье Лимба, возродиться во многих парсеках от комплекса «Киннисон» – там, где плыл вокруг Асура спутник связи. Его орбита была согласована с вращением Раваны, так что оба небесных тела, искусственное и естественное, всегда находились по одну сторону от солнца. Компьютер, управлявший станцией, принял сообщение, расшифровал его и отправил на планетарную базу. Затем откликнулся, и эхо-импульс заставил снова вспыхнуть антенну «Киннисона». – Получено подтверждение, консул Сокольский, – доложил мозг. – Ожидается передача с Раваны. Сокольский молча кивнул. Межзвездные контакты в реальном времени являлись делом непростым, если учесть сложность вычислений, необходимых для наведения антенны, и прорву энергии, поглощаемой излучателем. Тем не менее он мог в любой момент связаться с мирами, где находились курируемые группы, принять отчеты и тут же переслать свои советы и инструкции. Это считалось привилегией консула, которой Сокольский обычно не злоупотреблял, помня о нуждах коллег и стоимости дальней связи. Но в этот раз случай был особый. Бледное сияние заволокло антенну. Серебристая чаша как бы всасывала мерцающий над ней туман, то вспыхивавший, то пригасавший, и эта игра теней и света длилась долго, больше четырех минут. Огромный объем информации, подумал Сокольский. Вероятно, с Пекла пересылали результаты визуальных наблюдений. Сияние погасло. – Приступаю к дешифровке, – сообщил интеллект «Киннисона». – Есть запросы на дальнюю связь в ближайшее время? – поинтересовался консул. – Сорок минут связь в вашем распоряжении, консул. Ориентация антенны сохраняется. – Благодарю. Пульт, экраны и часть акрадейтовой переборки внезапно растаяли, словно отсек раскрылся в космическую пустоту. Изображение дрогнуло, поплыло, и Сокольский увидел планету, но не зеленую и голубую Землю, вблизи которой парил «Киннисон», а серо-желтый шар, перечеркнутый редкими грядами облаков. Желтизна пустынь и охра плоскогорий кое-где переходили в темно-фиолетовые и черные тона морей и проливов, похожих на бесформенные кляксы, соединенные тонкими нитями; над пиками хребтов, рассекавших континенты, висела грязная дымка из пыли и пепла, по склонам катились багровые потоки лавы, и там, где раскаленный камень встречался с водами, били фонтаны пара. Этот вид на Пекло с орбитального спутника был знаком Сокольскому и приятных воспоминаний не пробуждал. – Идет визуальная запись, – раздался голос «Киннисона». – Продолжительность – семь минут тридцать две секунды. Горный хребет центрального материка стремительно приблизился, его вершины пронзили розовый купол небес, исчезнув вместе с солнцами, огромным красным и белым, похожим на раскаленную монету, затем между двух отрогов раскрылась пасть ущелья, что выходило на покатый склон. Эта обширная пустошь, заросшая высокой желтоватой травой и скелетообразным кустарником, кишела животными и людьми. Ближе к ущелью стояли сотни возов с огромными колесами и высокими плетеными бортами; на одних громоздились тюки, корзины, связки копий и стрел, другие были прикрыты пологами из кож и пестрой ткани. Перед ними ряд за рядом тянулиськонусообразные палатки, и южный ветер развевал пучки волос на высоких шестах с вплетенными в них медными шариками и дисками. По окраинам пустоши паслись табуны рогатых скакунов, шевелились фигурки людей, рубивших траву длинными широкими клинками или копавших рвы и глубокие колодцы, пылали костры и булькало варево в тысяче котлов. Воины, полуголые или в кожаных доспехах, конные или пешие, носились среди возов и палаток, что-то перетаскивали, запасали воду и траву, ели, спрятавшись от зноя под телегами или укрывшись в тени утесов, двигались сомкнутым строем, выставив пики, или плясали у пылающих огней. Крики и топот, звон меди и рев животных, треск горящего хвороста и хруст срезаемой травы висели над этим станом как грозовая туча. – Здесь Белые Плащи, – пробормотал Сокольский, разглядывая кочевую орду, – Люди Песка, Люди Ручья, Зубы Наружу, Пришедшие С Края и десять-пятнадцать других Очагов… Вся северная степь, клянусь Владыкой Пустоты! Сколько их тут! – Тридцать две тысячи, с ошибкой полтора процента, – заметил искусственный разум. – Желаете знать точнее, консул? – Нет. Точность вполне достаточная. Консул вытер с висков испарину. По масштабам земной старины тридцатитысячная армия казалась небольшой – римляне, гунны, персы, монголы, арабы собирали воинства куда внушительней, не говоря уж о китайцах. Однако для малолюдной планеты пустынь и гор это была огромная сила, способная разрушить поселения и крепости, пожрать их обитателей и пустить на ветер труд десятков поколений. После нашествия варваров оазисы Кьолла будут мертвы, от торговых городов останутся руины, связь с югом континента оборвется, домашние животные одичают или попадут в котел, поля зарастут травой, а корабли сгорят в кострах кочевников. Все пойдет прахом, а прах развеется по ветру… Для Сокольского, вложившего в Равану десятилетия жизни, такая мысль была нестерпимой. Изображение приблизилось и укрупнилось. Теперь перед консулом пылал костер, а вокруг него, мерно раскачиваясь, подтягивая колени чуть ли не к подбородку, плясали воины. Их руки были мускулистыми и длинными, почти до колен, ногти заостренными и кривыми, так что ладонь походила на лапу коршуна или орла. На лицах, узких, как лезвие секиры, с желтоватыми пигментными пятнами на лбу, застыло выражение отрешенности, длинные космы темных волос свисали на грудь, прядями струились по спине, кожа, вымазанная жиром, блестела, в руках покачивались бронзовые топорики. На Пекле, жарком, сухом и бедном древесиной, костры разжигали не для обогрева, а чтобы приготовить пищу, и были те костры невелики. Но для этого масла и топлива не пожалели – пламя в рост человека бушевало и гудело. Ритуальный костер, подумал Сокольский и спросил: – Танец Голода? Я не ошибся? – Нет, консул. Согласно отрывочным наблюдениям за кочевниками, танец Голода выглядит именно так. Пляска означает, что… Сокольский махнул рукой. – Я помню, помню! Большая резня, мясо в котлах и груды костей… Такое не забудешь! Резким движением воины вскинули свое оружие, ударили топором о топор, и бронза протяжно зазвенела. «Шас-га! – разом выдохнули танцующие. – Шас-га! Ррит, Ррит!» Ррит был великим богом Голода, и пляска в его честь казалась вполне уместной, если судить по истощенному виду северян. Кожа обтягивала их лишенные жира тела, мышцы и кости выпирали, зрачки алчно поблескивали, хищный оскал и вытянутые челюсти делали лица похожими на волчьи морды. У этой расы обитателей Пекла губы были короткими, не прикрывавшими зубов, и мнилось, что они постоянно ухмыляются. Ухмылка была плотоядной. – Конец трансляции, – сообщил искусственный разум, и картина исчезла. Однако голопроектор не отключился, и часть стены по прежнему затягивал мерцающий туман. – Что-то еще? – вымолвил Сокольский, устало прикрыв глаза. – Да. Координатор Энджела Престон просит уточнить, когда эксперт Тревельян появится на Пекле. – Мне кажется, через семь или восемь дней. Справься в графике его полета. – Слушаюсь. – Пауза. Затем: – Через семь дней, консул. Согласно расписанию, он прибудет на Равану в двенадцать пятьдесят по времени базы. – Передай это Престон. Нет, не так! – Сокольский поднял веки. – Отправь следующее сообщение: Тревельян будет у вас через семь дней, если не случится ничего непредвиденного.Глава 5. Крушение
Летать на квадропланах Ивару еще не приходилось. Обычно он десантировался в «утке», универсальной транспортной капсуле, одноместной и совсем небольшой, что вполне отвечало целям его посещения той или иной планеты. Фонд Развития Инопланетных Культур не афишировал свою деятельность среди аборигенов, предпочитая изучать их скрытно и влиять на их прогресс тайными путями. Решение вполне разумное, так как объяснить, откуда взялись земляне и чего они хотят, как правило, не представлялось возможным. Даже для лучших умов архаичной цивилизации земные эмиссары были не пришельцами со звезд, а добрыми богами или злыми демонами. Выбор того или другого варианта зависел от теологических воззрений автохтонов и нрава конкретного их представителя, с которым пытались войти в прямой контакт: оптимисты считали землян божествами, а пессимисты – дьяволами. Обе эти ипостаси были не подходящими для эмиссаров, ибо дьявол подозревался в хитрых кознях, а от бога ожидалась масса благ, желательно быстро и задаром. В нетехнологических сообществах религия играла важную роль, но влиять на нее тоже приходилось тайно, не объявляя себя божеством либо пророком. Пророки чаще всего оказывались на костре, в петле или на гладко оструганном колу. По этим причинам Тревельян приземлялся на крохотных «утках», часто спрятанных под оболочку голографического миража, похожих на облако, птицу или клочок небесной синевы – конечно, если небо в пункте назначения было синим. Но с другими оттенками проблем тоже не возникало – фантомные устройства могли создать любую иллюзию. На грузопассажирском квадроплане такой аппаратуры не нашлось, зато корабль был куда просторней одноместной скорлупки, где кроме пилота с трудом помещалась пара ящиков. Форма квадроплана копировала крест: в центре – сфероид пассажирской кабины восьмиметрового диаметра, с четырех сторон – четыре цилиндрических трюма-крыла длиной по двадцать метров. Эти отсеки предназначались для грузов, были просторны и снабжены торцовыми и донными люками, крышки которых могли откидываться, образуя пандусы. Каждый из четырех грузовых трюмов охватывало широкое кольцо гравидвижка, так что в целом аппарат обладал дивной остойчивостью: мог зависнуть в облаках или над грунтом, взлетать и приземляться в сильный шторм и маневрировать в воздухе с изяществом ласточки. Силовой защиты у квадроплана не было, но корпус, как у всех космических транспортных средств, был выполнен из броневого противоударного композита. Еще имелась внутренняя акрадейтовая обшивка, способная к трансформации и изменению молекулярной структуры – на тот почти невероятный случай, если броню пробьет метеорит. В общем, машина казалась такой же простой и надежной, как древний штопор для извлечения пробок. Что до удобств, то их Тревельян тоже оценил во время семичасового перелета к планете. Мягкие кресла в кабине управления, расположенной в верхней части сферы, жилая каюта с душем в нижней, компенсатор инерции, большие обзорные экраны, свежий воздух и музыкальный бар-автомат с напитками – все было не хуже, чем на огромном транспортном корабле. Даже уютнее, ибо скромный размер помещений не порождал чувства одиночества, а в баре, помимо фруктовых соков, нашелся отличный коньяк. Смакуя его под нежные мелодии Вивальди, Тревельян любовался бархатной тьмой Провала и обсуждал с командором детали предстоящей операции. К советам деда стоило прислушаться – с боем или с миром он исследовал сотни планет, тогда как Ивар был не слишком опытен в заатмосферной разведке и орбитальном зондировании. Он был из тех разведчиков, что больше ходят, чем летают; его, как волка, кормили ноги. Когда аппарат завис над северным полюсом в трех планетарных диаметрах, Ивар натянул навигационный шлем и, не отключая бортовой компьютер, взял управление на себя. Предстояли сложные маневры – четыре витка по разным траекториям над неизвестным и, вероятно, враждебным миром. Он собирался облететь планету от полюса к полюсу, затем – в экваториальной плоскости и дважды под углом в сорок пять градусов к планетарной оси, с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад. Командор считал, что четыре витка позволят картировать местность и изучить околопланетное пространство, где могли затаиться сторожевые сателлиты. Правда, тайная стратегия была не самым сильным местом у фаата – скрытности, секретным акциям и терпеливой длительной разведке они предпочитали масштабные сражения и оккупацию планет. Включив локаторы и видеоаппаратуру, Тревельян ушел на первый виток. Возможность внезапной атаки его не тревожила – он находился в тридцати мегаметрах [42] от планеты, и достать корабль с такого расстояния было непросто. Любой объект, имевший массу покоя – боевые ракеты, плазма или поток антивещества, – двигался слишком медленно, что позволяло его заметить и своевременно увернуться. Электромагнитное оружие – к примеру, лазер – было эффективнее на больших дистанциях, но только в пустоте; если стрелять с планеты, часть энергии рассеивалась в атмосфере. Атмосфера же тут была вполне приличная – давление как на Земле в тысяче метров над уровнем моря, двадцать пять процентов кислорода, водяные пары и углекислый газ в следовых количествах, остальное – азот. Типичный состав для землеподобного мира, способного поддерживать жизнь. Каждый виток занял около получаса. Когда облет был закончен, планетарная сфера развернулась над пультом в голографической проекции: обширный континент, закованный на севере в панцирь из снега и льда; к западу, на экваторе – материк поменьше, величиной с Австралию; россыпь островов в океане, один из которых почти не уступал размером западному континенту. Рельеф был пустынный или гористый, но горы показались Тревельяну невысокими; видимо, ветер, дожди и ураганы, несущие песок, сгладили хребты, превратив их в плоскогорья. Кое-где виднелись каменные россыпи, напоминавшие руины городов, и маячили серо-зеленые пятна леса или покрытые лишайником равнины, но изобилия зелени не наблюдалось; всюду на суше преобладали оттенки песка и скал – желтый, коричневый, черный и красный. Изображение планеты медленно вращалось. Сутки вдвое дольше земных, вспомнилось Тревельяну; сутки дольше, год меньше, и наклон планетарной оси практически отсутствует – значит, нет смены сезонов… Ниже планетарного сфероида скользили физико-химические данные: вероятный состав коры, соотношение площади суши и океана, альбедо, диапазон температур на поверхности. Планета была холоднее Земли: на экваторе – двадцать градусов Цельсия, в умеренных широтах – восемь-десять. Однако она поддерживала жизнь и обладала кислородной атмосферой; мир, вполне пригодный как для землян, так и для их врагов фаата. – Искусственные объекты в космосе не обнаружены, – сказал Ивар, покосившись на экран локатора. – Внизу тоже ничего… кажется, ничего… – Он пригляделся к едва заметным пятнам, то ли теням, отброшенным горами, то ли древним развалинам, то ли серому растительному покрову. – Хотя вот эти образования мне подозрительны. Надо бы проверить, но как? «Взгляни на данные о плотности коры, – посоветовал командор. – Фаата не такие болваны, чтобы соорудить базу прямо на поверхности». Мысленно вызвав нужный массив, Тревельян склонился к экрану. Его глаза сузились, ноздри раздулись, словно ощущая запах приключения. – Подземные каверны, – произнес он, – полости с повышенным содержанием органики и металла. Сколько их! Под ледяным щитом на севере… в лесном районе центрального материка… на западном побережье… еще на малом континенте и океанских островах… Дед, это целая инфраструктура! Сотни, тысячи пещер! «А я что говорил! Наверняка ангары для боевой техники, склады, казармы и, разумеется, линии обороны! – Командор на мгновение смолк и призадумался. – Хотя странная история… Наших червяков подбили мощным метателем плазмы, что для фаата не характерно. Как правило, они используют аннигиляторы». – Аннигилятор разнес бы корабль сильмарри в пух и прах, – возразил Тревельян. – Может быть, фаата хотели не уничтожить их, а заставить приземлиться? Взять пленных и… «Зачем им пленные червяки? – прервал его Советник. – Бывало, фаата брали пленных, но исключительно гуманоидов – у них с рождаемостью проблемы, необходим генетический материал. Червяки для этого не годятся, сам понимаешь. К тому же я носом чую, что били не для острастки, стреляли на поражение… Ты уж мне поверь!» Ивар молча склонил голову – не в тех он был чинах, чтобы спорить с дедом по поводу военной тактики. Поднявшись и сняв шлем, он заглянул в передний грузовой отсек с установленным там горным лазером – три его ствола, выведенные наружу вместе с поворотным механизмом, гарантировали приличный сектор обстрела. После этого он направился в левый трюм, проверил, надежно ли закреплены контейнеры с оборудованием, поглядел на трафора, который растекся по полу плоской лепешкой, и возвратился в рубку. Спрятал на груди обруч с памятным кристаллом командора, потом сел, напялил шлем и резко хлопнул по подлокотнику. Страховочные ремни тотчас обхватили тело, а под креслом заверещал компенсатор инерции. «Никак решил спуститься?» – полюбопытствовал дед. – Надо же прояснить ситуацию. Вдруг там не фаата, а дроми или хапторы? Они к нам тоже теплых чувств не питают. «Это верно. Снижайся, парень, только место выбери с умом и помни, что с пятисот километров они тебя достанут. Чем угодно достанут, аннигилятором, лазером, бластером… А корабль у нас не крейсер, не фрегат, а грузовая лоханка без силовой защиты». – Бог не выдаст, свинья не съест, – сказал Тревельян. – Переключу локатор в режим интравизора [43] и проскользну над западным материком. Он небольшой, пересечем минуты за три, просветим полости, сделаем запись… Затем – свечкой вверх, только нас и видели! «Неплохой вариант, – одобрил Советник. – Не забудь, однако, выполнить формальности. Порядок есть порядок». – Разумеется. – Тревельян повернулся к вокодеру, назвал дату, свое полное имя, звание и должность, индекс транспортного корабля и номер рейса. Затем нахмурился в задумчивости, поглядел на локатор и произнес: – По праву первооткрывателя нарекаю эту планету именем Хтон [44]. Основание: многочисленные подземные каверны, обнаруженные при орбитальном зондировании. – Зафиксировано и передано на базовое судно, – произнес бортовой компьютер. – Подключись к лазеру, – распорядился Тревельян. – Если нас атакуют, стреляй на поражение. Все! Идем вниз. Под вой компенсатора он резко увеличил скорость, затем притормозил, и через двенадцать минут судно погрузилось в атмосферу. Последний виток завершился где-то между южным полюсом и экватором, и сейчас квадроплан летел к северо-востоку над беспокойной поверхностью океана. С высоты двух километров она казалась ровной, как отшлифованный серо-зеленый камень, но в приближении виделись огромные валы и брызги летящей по ветру пены. Только колыхание волн оживляло пейзаж – ни кораблей, ни птиц, ни морских обитателей локаторы не засекли. Полная безжизненность этих бескрайних владений воды и ветра угнетала. Вдали появилась темная полоска береговой линии, и Тревельян начал снижаться. Древнее правило военных пилотов – чем ниже летишь, тем безопаснее – было справедливо и на этот раз, а перед теми древними асами имелось преимущество: бортовой компьютер. Не очень разговорчивый и без претензий на особый интеллект, но обладавший нечеловеческой реакцией. Берег приблизился. Стали видны утесы – у их подножий, то вгрызаясь в камень, то отступая назад, ярилась вода. Скалы были голыми – ни мхов, ни лишайников, ни водорослей. – Стерильная планета, – пробормотал Тревельян, делая мысленное усилие. Аппарат взмыл над скалами и заскользил над каменистой равниной, усыпанной черным щебнем. Здесь, однако, была какая-то растительность – над щебенкой торчали кусты с искривленными, изломанными ветвями, лишенные листьев и похожие на тысячи задранных к небу паучьих лап. Ивару почудилось, будто они склоняются вслед кораблю, но картина промелькнула слишком быстро. Небольшой западный континент, который он пересекал сейчас по диагонали, оказался гористым. Береговая равнина поднималась к хребту или краю плоскогорья, рассеченному глубокими трещинами и каньонами; кое-где поблескивала вода, и над стремительным течением горных речек искрились радуги. Решив, что ущелье послужит хорошим укрытием, Тревельян направил машину к ближайшему разлому, откуда потоком струилась вода. В этой реке было нечто странное, и он еще не успел осмыслить странность, как заговорил Советник: «Обрати внимание, малыш: реки не продолжаются на равнине и не стекают в океан. Почва поглощает воду». – Думаешь, под землей водосборник? «Не сомневаюсь. Все нуждаются в пресной водице, даже такие ублюдки, как фаата». Мимо уже проносились стены ущелья и пенистая бушующая река. К обрывистым склонам с расселинами и пещерами цеплялась растительность – все те же кусты-пауки и что-то похожее на карикатурные деревья; их перекрученные стволы с жалкими пучками листьев в безмолвной мольбе тянулись к пролетающему кораблю. Маленькое красное солнце стояло в зените, заливая каньон скудным сумрачным светом. Крестообразная тень квадроплана, прыгая по камням и водным бурунам, скользила внизу. Аппарат вырвался из ущелья и запетлял среди утесов и невысоких гор. Они находились уже километрах в трехстах от побережья и двигались с огромной скоростью; броня квадроплана начала светиться, а складки местности стали неразличимыми, словно ее задернули бурым покрывалом. «Если у подножия гор водный коллектор, то база должна быть поблизости, – заметил призрачный Советник Тревельяна. – Держи ушки на макушке, паренек. Как бы нас не…» Сверкнула молния, и квадроплан подскочил вверх, уходя от огненного жала. Горный лазер в переднем отсеке развернулся, алый трезубец ударил в скалу, взметнулись пыль и камни, затем над осевшей вершиной расцвел фонтан огня. Что-то неясное мелькало в нем, расточаясь в дыму и пламени; ветер подхватывал темные лохмотья, кружил и рассыпал на скалы серый прах. Эта картина, уже отдаленная в реальности на много километров, мерцала на боковом экране, записанная голокамерами корабля. Будто комментируя ее, бортовой компьютер сообщил: – Первая цель поражена. «Что у нас на локаторе? – поинтересовался командор. – Мы уже над базой? Над самым гадючником или еще в защитной зоне?» – Не знаю, дед. Некогда взглянуть. Сцепив зубы, Тревельян замер в объятиях кресла. Шлем раскаленными клещами сжимал череп, пальцы окаменели на подлокотниках, на лице выступила испарина. Они находились в центральной части континента, там, где хаос огромных бесформенных глыб и скал перемежался с пологими горами. Слившись со своим крестообразным аппаратом, Ивар мчался над каменными осыпями, бесплодными склонами, разломами, что змеились тут и там; не сбавляя скорости, он огибал высокие пики и видел, как в них распахиваются щели бойниц. Не руки, а мысль Тревельяна управляла сейчас кораблем, но даже ментальный импульс был недостаточно быстр, и потому коллоидный мозг человека нуждался в помощнике, в холодном стремительном машинном разуме. Для Ивара это было привычным; его эпоха являлась временем прочного союза людей с искусственными интеллектами. – Атака, – произнес бортовой компьютер, и сотни молний настигли квадроплан. Возникло ощущение, что их порождают каждый утес, каждая горная вершина; огненный кокон сомкнулся вокруг корабля, Тревельян, ослепленный яростным блеском, на мгновение прищурился, взвыли компенсаторы, гася инерцию, и сквозь их стоны пробился спокойный голос: – Вторая цель поражена. Третья цель поражена. – Пауза. – Разгерметизация правого трюма. Четвертая, пятая и шестая цели поражены. – Пауза. – Задет кормовой гравитатор. Снижение мощности на шестьдесят процентов. Седьмая цель поражена. – Пауза. – Разгерметизация правого трюма ликвидирована. Поражены цели восемь и девять. Попадание в носовой трюм, гравитатор выведен из строя. Десятая цель пора… «Убирайся отсюда! – Ментальный вопль командора ударил в виски как набат. – Мы в зоне перекрестного обстрела! Двигай к морю! К морю, на максимальной скорости!» «Мы и так уже на максимальной, – отозвался Тревельян. – Быстрее нельзя, сгорим!» Он подавил искушение умчаться вверх, в стратосферу, и выйти в космос, где сопротивление воздуха не сдерживало полет. Подъем занял бы немного времени, но корабль в небе – отличная цель, и поразить ее можно за долю секунды… Помня об этом, Ивар прижимался к спасительной земле и маневрировал, пытаясь укрыться в скалах. Мерный голос компьютера, перечислявшего свои победы и потери, по-прежнему раздавался в рубке: – Шестнадцатая цель поражена. Пробоина в кормовом отсеке, гравитатор выведен из строя. Левый гравитатор поврежден, потеря мощности тридцать процентов. Поражены цели семнадцатая и восемнадцатая. Нарушен баланс двигателей. Восстановление займет… Квадроплан встал на дыбы, послышались треск и скрежет, запахло горящим акрадейтом. Пылающие иглы пронзили мозг Тревельяна, жаркая волна прокатилась по позвоночнику; он заорал, но шлем не сбросил – лишиться ментального управления было смерти подобно. Скорость упала, но все же аппарат выровнялся, перевалил последнюю горную цепь и устремился к проливу, что отделял западный материк от центрального. До моря было километров сто двадцать. – Срезана часть правого трюма, – сообщил компьютер. – Гравитатор необратимо поврежден. Пробита водяная цистерна. Устройство космической связи разрушено, восстановлению не подлежит. Цели для ответной стрельбы не наблюдаются. Плазменные разряды погасли. Раскачиваясь и содрогаясь, квадроплан мчался к морскому берегу. «Будь осторожен, – посоветовал командор. – У побережья может находиться еще один оборонительный пояс». Ивар снизился почти до самой земли и взглянул на пульт. Они лишились передатчика и одного из двигателей, два других тянули процентов на десять номинала, а последний, менее поврежденный, – на семьдесят. Машина, однако, держалась в воздухе и двигалась с прежней скоростью. Ее надежность восхитила Тревельяна. Впрочем, он понимал, что без серьезного ремонта от планеты им не оторваться. Внизу мелькнули прибрежные скалы, развернулась серо-стальная поверхность пролива, и вслед кораблю снова ударили молнии. Квадроплан закачался сильнее. В днище ударила волна, подбросив аппарат. – Попадание в левый трюм, – зазвучал голос бортового компьютера. – Двигатель теряет мощность. Левый гравитатор был последней надеждой Тревельяна – кажется, слишком хрупкой. Он начал поднимать машину, чувствуя, что с каждой секундой она все тяжелее идет вверх. Над морем грудились темные облака, и там, где их подсвечивало солнце, облачная масса казалась пропитанной кровью. Тучи висели высоко, и искалеченный квадроплан не смог к ним подняться. Но все же Ивару удалось разглядесь противоположный берег. «Дотянем до суши?» – спросил командор. – Пожалуй. Найдем уединенное местечко, сядем на грунт, починимся. Если только… – Тревельян вдруг почувствовал, как на лбу выступает холодный пот. – Компьютер, что у нас с грузом в левом трюме? И что с трафором? – Трафор цел, – раздалось в ответ. – Сгорели три контейнера. – Какие? – Продовольствие, напитки и гравипланер, – сообщил невозмутимый голос. – В водяной цистерне что-нибудь осталось? – Нет. Наступило угрюмое молчание. Корабль уже преодолел пролив, и теперь внизу расстилалась дикая бесплодная местность – равнина, засыпанная серой пылью, с глубокими кратерами и оврагами, словно прочерченными гигантским плугом. Иногда этот унылый пейзаж сменял ослепительный блеск серебристой поверхности стекла или металла, некогда расплавленного, а потом застывшего зеркальными озерами. Впрочем, Тревельян не мог поручиться, что видит стекло или металл – блеск слепил глаза. «Похоже, – заметил командор, – нам придется поголодать». – Не нам, а мне, – мрачно уточнил Ивар. – Правда, бар-автомат загружен, но запасов в нем немного. Нужна вода. «Ищи ручей или реку, малыш». – Спасибо за совет. Ремонтный док нам тоже не помешает. Словно в ответ на это замечание компьютер сообщил: – Мощность двигателя падает. Теряем высоту. Слева по курсу вставали горы, а где-то на востоке, как помнил Тревельян, лежал за серой пустыней большой оазис в форме шестиконечной звезды. Туда не дотянуть, мелькнула мысль. Но, очевидно, двигаться к оазису не стоило; там, где зелень и изобилие вод, наверняка есть люди – надо думать, целый гарнизон в подземной базе. Помянув фаата недобрым словом, Тревельян повернул на северо-восток, к горам. – Снижаемся, – отрапортовал компьютер. – Дистанция до грунта восемьсот метров… семьсот пятьдесят… семьсот… Горы вставали стеной с запада на восток и были невысокими – не горный хребет, а его руины, то ли разбитые ковровой бомбардировкой, то ли источенные временем. Пологие увалы тянулись в пустыню, зарываясь в серый песок словно пальцы великана; между ними, среди каменных россыпей, ближе к подножиям утесов что-то посверкивало – слюдяные пластинки или, возможно, кристаллы соли. Либо вода, решил Тревельян, с трудом удерживая аппарат от падения. – Пятьсот метров, четыреста пятьдесят, четыреста… – монотонно бубнил компьютер. Ивар сбросил скорость, потом завис над сравнительно ровной площадкой, почти свободной от камней. Теперь он разглядел, что здесь и в самом деле есть вода – маленькое озерцо, принимавшее крохотный водопад, который прыгал по крутому склону. Изображение на экране дрожало, квадроплан сильно раскачивало – от песка и скал поднимался поток нагретого воздуха. Прежде, при исправных двигателях, такая мелочь не мешала кораблю застыть в полной неподвижности, но сейчас он держался в воздухе чудом. – Данный полетный режим грозит катастрофой, – напомнил компьютер. – Рекомендуется аварийная посадка. До грунта двести восемнадцать метров. Падение с такой высоты… – Ясно, что костей не соберем, – буркнул Тревельян, направляя машину к земле. Взметнув тучи серой пыли, он с лязгом и скрежетом опустился между озерком и трещиноватым барьером увала, снял шлем и вытер ладонью пот с лица. Затем посидел минут пять с закрытыми глазами, чувствуя, как прибывают силы – медицинский имплант под левым ребром принялся за работу, восстанавливая гормональный баланс. «Взгляни на показания локатора», – напомнил призрачный Советник. – Успеется, дед. – Водрузив на голову обруч, Тревельян распорядился, чтобы были взяты пробы грунта, воды и воздуха. Пока трудились анализаторы, он заглянул в левый трюм, сморщил нос – оттуда тянуло запахом горелого, – велел проветрить помещение, потом, шагая по накренившейся палубе, вернулся в кресло, выпил сока и сжевал пластинку концентрата. В пищевом баре-автомате имелся запас продовольствия дней на пять-шесть, но два контейнера с запасом еды и питья были сожжены плазменной струей, пробившей корпус, а вместе с ними сгорел гравипланер. Антенна передатчика исчезла, а сам он превратился в лом. Мозг, к счастью, не пострадал, и полевое оборудование тоже уцелело. На экран высыпали цифры и символы, результаты анализов. Бортовой компьютер докладывал, что воду в этом мире можно пить, воздухом – дышать, и что вирулентной микрофлоры не наблюдается – ничего такого, с чем бы не справился медицинский имплант. Температура тоже была приемлемой – плюс восемь по Цельсию. Ознакомившись с этими данными, Тревельян произнес: – Не так плохо, как ожидалось. Связи у нас нет, зато с водой проблем не будет. Что с кораблем? Подняться можем? – Нет, – сообщил компьютер. – Правый двигатель не подлежит восстановлению, остальные требуют ремонта в стационарных условиях. – Он помолчал и добавил: – В доке. – Где я тебе док возьму? – буркнул Тревельян. – Сам справляйся! – Невозможно, – раздалось в ответ. Потом, словно в утешение, компьютер заметил: – Пробоины в обшивке заращиваются, герметичность восстановлена. Питания по нормативам хватит на четыре дня. – Связь с базовым кораблем отсутствует. Значит, нельзя вызвать другой квадроплан, – добавил Ивар. «Это в любом случае бесполезно. Квадроплан – беспилотный аппарат. Без тебя его собьют, а если лоханка и доберется сюда, так в виде решета. Не советую рассчитывать на помощь». – Спасибо, дед, это звучит очень ободряюще. Встав, Тревельян направился к шлюзу, но Советник опять напомнил: «Локатор. Взгляни на его показания». – Не сейчас. Пока еще светло, я хочу осмотреться. Раздвинулась внутренняя диафрагма, потом открылся люк. Без колебаний Ивар спрыгнул вниз, на почву неведомого мира, и отошел на пару десятков шагов. Под башмаками скрипел песок, сильные порывы ветра холодили кожу, в сумрачном низком небе, прячась за вершины гор, висело багровое негреющее солнце. От скал протянулись длинные тени, свет меркнул и наступала ночь – долгая ночь Хтона, почти равная суткам Земли. Квадроплан лежал у скалистой гряды, что выступала из песка, смыкаясь на севере с горным склоном. Оттуда струился ручей, наполняя озерцо, и, если не считать журчанья воды и посвиста ветра, вокруг царила мертвая тишина. Невысокие горы вставали изрезанной стеной, уходившей на северо-восток и юго-запад, насколько хватало взгляда; кое-где среди коричневых и черных утесов виднелась серебристая растительность, то ли кусты, то ли низкие, приникшие к грунту деревья. С юга к горам подступала пустыня: серый песок, серые пологие барханы, серое блеклое небо и ветер, круживший серую пыль. На своем веку Тревельян повидал немало пустынь, ледяных, холодных или жарких, но эта внушала особое уныние. От нее исходил ментальный запах безнадежности. На миг Ивару почудилось, что щупальца пустыни проникли в его разум и копошатся в голове, точно незримые пиявки, обыскивая память, бесцеремонно роясь в ее кладовых и закромах, высасывая все подряд: лица друзей и знакомых, картины юности, пейзажи Земли и иных миров, где ему довелось побывать, что-то еще, связанное, быть может, с его работой и предстоящей миссией. Было ли это ментальным вмешательством? Несмотря на весь свой опыт и тренировку, он не мог утверждать, что подвергается телепатической атаке; его ни к чему не принуждали, ничего не требовали, и охранявшие сознание барьеры не были нарушены. Вполне возможно, что воспоминания навеял пустынный безжизненный ландшафт – пустыни, степи и морская ширь обладали своеобразным гипнотическим эффектом, связанным с их необъятной безбрежностью. Пожав плечами и отвернувшись от серых пространств, Тревельян направился к кораблю. Он обошел вокруг квадроплана, хмурясь и недовольно посапывая; трудолюбивый ветер заметал песком отпечатки его следов. Машина находилась в самом бедственном состоянии. Она уже не была похожа на крест – половина правого грузового отсека исчезла, а двигатель, что окольцовывал его, расплавился и свисал с корпуса потеками металла и обгоревшей пластмассы. В остальных трюмах темнели пробоины, уже затянутые акрадейтом, броневая обшивка потеряла зеркальный блеск, большие кольца гравидвижков были смяты, и сквозь дыры в кожухах торчали обрывки проводов. Но, как утверждал бортовой компьютер, их можно было починить, найдись где-нибудь в окрестностях ремонтный док, киберы-монтажники и запчасти. В принципе, чтобы выйти в космос и добраться до грузового судна, хватило бы двух движков, но перебрать их вручную казалось невыполнимой задачей. «Крышка нашему корыту, – заметил командор. – Хотя, если собрать из трех движков один, то, может, еще и полетаем». – На одном моторе всю конструкцию не поднять, – возразил Тревельян. «Всю не нужно. Лишнее отрежем. Достаточно оставить пассажирскую кабину и левый грузовой отсек». – А ведь это мысль! Склонив голову к плечу, Тревельян снова уставился на свой летательный аппарат. Квадроплан не был приспособлен для контакта с твердой поверхностью и не имел посадочных штанг, лыж, колес или других упоров. Сейчас машина стояла на зарывшемся в почву сфероиде центральной кабины, упираясь в песок обрубком правого трюма и высоко задрав левый. Кажется, это положение было устойчивым и позволяло откинуть крышку люка в днище. По команде Ивара люк раскрылся, и трафор с заключенным в нем криогенным Мозгом, осторожно переставляя ноги, сошел на грунт. Форма, принятая роботом, являлась походной: туловище в виде широкого блюдца, шесть нижних конечностей и четыре манипулятора с многопалыми кистями. – Вызывали, эмиссар? – проворковал Мозг нежным контральто. – Да. У нас проблемы. Разбит передатчик, и корабль, как видишь, поврежден. Выдвинув два щупальца со зрительными органами, трафор осмотрел машину и заметил: – В самом деле поврежден. Я заключаю, что в ближайшее время мы не сможем вернуться на транспортное судно и, следовательно, опоздаем на Равану. – Это уж как пить дать, – согласился Тревельян. – Но опоздание лишь первая часть проблемы, а другая – как бы не остаться тут навсегда. Впрочем, если ты починишь двигатели… Мозг вытянул манипулятор, отставил палец, превратил его в лазерный резак, в щуп тестера, в отвертку и снова в палец. – Теоретически это возможно, эмиссар. – Его голос сделался густым и басовитым, как у солидного инженера. – В моих базах данных сосредоточены все нужные сведения о гравитационном приводе, а также описания ста сорока двух конструкций с детальными чертежами и технологиями сборки и ремонта. Однако… – Есть сомнения? – поторопил Тревельян. – Есть. Отсутствуют практические навыки, эмиссар. Этот механизм, – Мозг звонко стукнул манипулятором по днищу, – является не монтажным роботом, а универсальным. Другие реакции, иная моторика, а также интеллект, слишком высокий для практической деятельности. Меня создавали, чтобы управлять другими агрегатами, а не подменять их в решении частных задач. Я – технический координатор и в этом качестве способен на… «Ишь, щеки надувает, консервная банка! – возмутился командор. – Тоже теоретик выискался! Ты его, малыш, приструни! Гаечный ключ в зубы, и за работу!» Советник был несомненно прав, и Тревельян, указав на один из двигателей, строго молвил: – Демонтировать, разобрать и собрать! Выполнишь, тогда и появятся нужные навыки. – Он поглядел на тусклое солнце, что садилось за горами, и ощутил неимоверную усталость. Полет и схватка с неведомым врагом отняли столько энергии, что он едва держался на ногах. – Пока ты трудишься, я, пожалуй, вздремну. Вечером все порядочные люди должны ложиться спать, – пробормотал Тревельян, направляясь к люку. Он опустился в кресло, но уснуть ему не удалось. «В третий раз напоминаю: взгляни на данные локации», – раздалось под черепом. Командор отличался упрямством, редким даже для военного человека. Ивар протяжно зевнул. – А подождать нельзя? В конце концов, я тут, и фаата тоже никуда не денутся. «Здесь не фаата, парень. Кто угодно, только не они». – Ты уверен? – Сон слетел с Тревельяна. «Абсолютно. У этих тактика совсем другая. Оружие фаата – не метатель плазмы, а аннигилятор, и если объект не уничтожен, они высылают боевые модули. – Помолчав, командор добавил: – Будь уверен, модули нас бы в клочья разнесли. Ты бы теперь не в кресле дрых, а догорал на том плоскогорье в какой-нибудь трещине. Однако…» – Однако я еще жив, – буркнул Тревельян, поворачиваясь к локатору и включая запись. – Мы сканировали полости на западном материке… Скажи мне, дед, если здесь фаата, что я могу увидеть? «Ангары с боевыми модулями. Центр управления – там должна быть большая сфера, символ власти их предводителей. Отсеки, где держат солдат. Квазиразумное устройство – оно как осьминог с массой щупалец. Батареи аннигиляторов. Возможно, корабль-матку – скорее, не в подземелье, а на поверхности. Эту лохань под землю не спрячешь – пять километров в длину, два в ширину… Есть что-нибудь такое?» – Нет, – сказал Тревельян. Перед ним на мониторе плыли неясные тени, очертания каких-то механизмов, многорукие существа, что суетились в тоннелях и подземных залах, тонкие линии коммуникаций, пещеры со странными машинами, дробившими горную породу. Ничего похожего на боевые модули, формой напоминавшие коробок, никаких подземелий с аннигиляторами, осьминогами и солдатами… К тому же доля органики у наблюдаемых объектов была ничтожно малой, а составлявшие их соединения дистанционному анализу не поддавались. – Кажется, там древние роботы, и крыша у них изрядно того… – промолвил Тревельян. – Агрессивная некросфера, остатки прежней цивилизации… Хотел бы я знать, сколько им лет! «Вот и выясни, – предложил Советник. – Раз они в тебя стреляли, значит, согласно Глику-Чейни [45], устрой- ства весьма примитивные. Найдешь командный центр, перехватишь управление, и вся эта шайка – твоя. У них приличный ИТР [46], так что нашу посудину отремонтируют в лучшем виде». – Пожалуй, что так, – сказал Тревельян и призадумался. Ситуация переменилась радикально: если здесь не бино фаата, старинные враги Земли, разведывать на Хтоне нечего. В Галактике существовали планеты с руинами древних культур, некогда процветавших, но с течением лет склонившихся к закату. Их изучение было делом археологов, а не Звездного Флота и не ФРИК; сам Тревельян занимался цивилизациями живыми, способными к развитию и прогрессу. Этот мир на галактических задворках, обитель спятивших роботов, не представлял для него интереса, и он уже жалел о потерянном времени и неизбежной задержке. Опаздывать на Пекло без веских причин не хотелось, а база фаата у рубежей Федерации была причиной куда как веской. Если же ее тут нет, то что остается? Пустое любопытство?.. Нет, не только, подумал Ивар, вспомнив о сильмарри. Помощь терпящим бедствие – святое дело, и, значит, он выполнял свой долг. Это его успокоило. В конце концов, контакты с сильмарри так редки, что оправдают любое опоздание – и, к тому же, что он мог поделать? Бортовой компьютер реагирует на сигналы бедствия независимо от воли пассажира… Случай экстраординарный, и он был в полном праве осуществить расследование… Собственно, это его обязанность как гражданина Федерации – вдруг на Хтоне оказались бы враги?.. Фаата или, положим, дроми, с которыми сражался дед… Сражался и погиб под яростным светом Бетельгейзе, завещав потомкам: будьте бдительны! Так что Пекло подождет, думал Ивар, уплывая в сон. Подождет… Пекло подождет… Само собой, мало приятного в том, что Серый Трубач перешел горы, но данный факт еще не повод к панике. Разберется он с этим Трубачом, непременно разберется, и никакая задержка тому не помешает… Веки его сомкнулись, дыхание стало тихим и ровным, но он еще не погрузился в беспамятство, пребывая на пороге мира сновидений. Кто-то неощутимый и незримый был рядом с ним, готовясь шагнуть в его грезы и даже странным образом как будто направляя их. Гигантские вершины Поднебесного хребта возникли перед Тревельяном, ринулись вверх, исчезая в серых тучах, вспыхнули над ними два светила, белое и красное, и их лучи, подобные клинкам, вонзились в песок бескрайней равнины. Он снова был на Пекле – мчался на гравипланере, спускаясь с гор, и жаркий ветер овевал его лицо.Глава 6. Воспоминания. Пекло
Гравипланер спускался с огромного пика Шенанди, чья вершина вознеслась над атмосферным слоем, пригодным для дыхания. На этой горе, недоступной местным обитателям, возвели под силовыми куполами базу ФРИК, и там, под светом Асура и Ракшаса, журчала речка с питьевой водой и росли полдюжины сосен, розовый куст, дуб и две березы. В понятиях Пекла – просто рай! В том раю остались старшие коллеги Тревельяна – координатор группы Карел Гурченко, вулканологи Крис Аллен и Кэти Гравина, лингвист и этнограф Такеши Саи и метеоролог Жаннат Азимбаев. Присланный им в помощь юный Ивар Тревельян являлся практикантом Ксенологической Академии в ранге временного наблюдателя. Чтобы получить лицензию и стать полноправным сотрудником ФРИК, ему полагалась стажировка в одном из патронируемых миров, среди которых были места вполне приятные – скажем, Хаймор с теплым бирюзовым океаном или Сакура, где в воздухе, напоенном сладким ароматом, кружились над плодовыми рощами белые мотыльки. Но судьба Тревельяна не баловала – на жеребьевке он вытянул Пекло, мир, в котором не водились мотыльки и не зрели сладкие плоды. И с океаном тут было напряженно – вместо него плескались десятки небольших морей, соединенных множеством проливов. Планер мчался уже над предгорьями, и Ивар, сбросив маску, вдыхал запахи нагретых камней, серы и песка, что приносили ветры пустыни. Позади возвышался окутанный дождевыми тучами и облаками пепла горный хребет, впереди лежала бесконечная бурая равнина, а между равниной и подножиями гор, там, где с утесов текли редкие водные потоки, протянулась цепочка оазисов. Хребет перегораживал Хираньякашипу, центральный материк, от западных проливов до восточных, и за ним, в северных засушливых степях, кочевали длиннорукие варвары-каннибалы. Точных сведений о тех краях не имелось – поговаривали, что там появился великий вождь Серый Трубач, Брат Двух Солнц, объединивший племена кочевников. Дальний юг был заселен какими-то дикарями, тоже еще неведомыми посланцам Фонда, а экваториальная область, температура в которой достигала пятидесяти-шестидесяти градусов, оставалась необитаемой и безжизненной. Там, под жаркими лучами Асура и Ракшаса, клубился над морями пар, ветер вздымал его ввысь, сбивал в тяжелые плотные тучи и нес их на север, к Поднебесному Хребту. Водяные пары смешивались с вулканическим пеплом и пылью, охлаждались у горных склонов, покрытых вечным льдом, и проливались дождями. Дожди питали хоссы, временные реки и ручьи, дарившие жизнь оазисам. Оазисы шли длинной чередой вдоль рубежа пустыни, и этот пояс в десять тысяч километров являлся самымплодородным, самым приспособленным к жизни на всей планете. Земля Кьолл, страна Баронов Подножия Мира… Собственно, слово «кьолл» обозначало владыку оазиса, независимого князя или короля, но земляне считали кьоллов баронами – их владения были слишком малы и не тянули на княжество или королевство. Средний оазис занимал территорию в тридцать шесть квадратных километров и мог прокормить трехтысячное население, включая сотню бездельников – двор и боевой отряд барона. Малая численность этих дружин и бесплодная местность между оазисами не позволяли захватить чужие владения – точнее, захватить и ограбить по временам удавалось, а контролировать и править – нет. Имперская идея была чужда благородным кьоллам; в этом мире еще не родился свой Александр Македонский. Легкая машина Тревельяна повернула на восток. Сейчас он двигался над торговой тропой, соединявшей оазисы и проходившей у кромки утесов; слева поднимались красные и коричневые скалы, справа, в километре-другом от них виднелся край пустыни, обозначенный серовато-желтым оттенком песка. Местность по обеим сторонам торгового тракта была не совсем бесплодной – здесь попадалась кое-какая растительность, слишком корявая и чахлая, чтобы признать ее за настоящие деревья или хотя бы кусты. Вспомнив о соснах и березах, что росли на базе, Тревельян с тоской вздохнул. К местной флоре даже слово «зелень» не подходило – лиственный покров большей частью имел красноватый, бурый и желтый цвета. За час, одолев четыреста двадцать километров, он проскользнул над тремя оазисами. О кьоллах, что правили ими, Ивар ничего не знал – он не успел еще выучить имена и родословные всех владетелей этой земли, хотя с самыми заметными персонами все же познакомился. Разумеется, заочно, в голографической проекции; сведения о них, заботливо собранные Гурченко и его предшественниками, хранились в компьютере базы. Барон Эльсанна правил самым большим оазисом, где обитало тысяч восемь народу, и его замок – или Очаг, как говорили в Кьолле, – имел целых четыре этажа. Барон Икангасса был исключительно волосат: грива волос спускалась до ягодиц, а усы, в общем-то нехарактерные для раванцев, свисали почти до подбородка. Барон Аппакини отличался воинственностью; набрав войско в две сотни бойцов, он грабил соседей и даже ходил на племена пустыни – брать у них было нечего, кроме блох и вшей, зато барона овеяла слава великого полководца. Очагом Янукерре правили два брата, Янукерре-старший и Янукерре-младший, большие женолюбы; в их гареме можно было поглядеть на женщин из торговых городов, на обитательниц Вритры и Раху, и даже, как утверждали Такеши и Гурченко, на девушек с дальнего юга. Гарем обслуживал не только двух баронов, но также их уважаемых гостей – особенно если те заявлялись с подарками. У барона Уммизака был в телохранителях степняк-людоед из-за Хребта, тварь свирепости необычайной, с огромными клыками; утверждали, что он любому перекусывает горло и в три приема отгрызает голову. По сравнению с такими выдающимися кьоллами барон Оммиттаха, в чей домен направлялся Тревельян, был не очень знаменит, хотя и у него имелось хобби – жратва и выпивка. Тушеного удава он проглатывал в один присест и запивал его пятью кружками хмельного пойла. На торговом тракте не встретилось ни караванов, ни одиноких путников. Стоял сезон песчаных бурь, неподходящее время для торговли; начинались они внезапно, длились двое-трое суток и хоронили все живое под тоннами песка. За бурей приходили Сыновья Пустыни, разгребали песок, добивали выживших и брали свою законную добычу – мясо вьючных животных и груз. Людей они, правда, не ели, но выпивали кровь – в пустыне всякая жидкость была драгоценна. Планер Тревельяна летел в сотне метров над землей и не поднимался выше над обитаемыми оазисами. Бесшумный аппарат скрывала завеса, имитирующая облако, и к тому же автохтоны Пекла редко глядели вверх. Птиц на этой планете не водилось, а небо, когда Асур и Ракшас стояли в зените, пылало таким яростным светом, что могло ослепить любопытного смельчака. Что же до ливней, дарующих жизнь Кьоллу, то здесь их не ждали и с нетерпением не посматривали в небеса: всякий знал, что дожди идут в горах, и влага приходит к земле с потоками хоссов. В часе пешего хода от Очага Оммиттахи Тревельян спустился вниз и покинул планер. Жара и тяготение тут же навалились на него двойным грузом: температура была за сорок, а гравитация на треть больше земной. Впрочем, к этому он подготовился, особенно к сухому палящему зною и почти полному отсутствию влаги в воздухе – медицинский имплант быстро восстановил терморегуляцию. Пот, кативший по лицу и спине, высох, обжигающие прикосновения Ракшаса превратились в приемлемое тепло, и лишь непривычная тяжесть напоминала, что он не уроженец этой планеты, а чужак. Обликом он тоже походил на жителя Кьолла: тощее, без капли жира тело, плосковатый нос, низкий лоб, маленькие темные глазки под выступающими дугами бровей, огромный рот и черные густые волосы до плеч. Кэти Гравина, бывшая по совместительству врачом, хорошо потрудилась над его внешностью; когда все закончилось и Ивар взглянул в зеркало, то сам перепугался. Человек, однако, привыкает ко всему – тем более стажер, которому не положено капризничать. Тревельян поправил свисавшую с костлявых плеч хламиду и сделал несколько шагов, убедившись, что ремни сандалий не натирают ноги. Затем он подвесил на плечо фляжку с водой, подпоясался куском веревки и сунул за нее сучковатую ветку дерева сеннши, принадлежность своего ремесла. Он был хишиаггином, служителем Бога Воды Таррахиши, самого почитаемого божества в этих краях. Но уважение, которым пользовался бог, на его адептов не распространялось – если хишиаггин не мог найти сладкую воду, его подвешивали за ноги. Обычно голым и на солнцепеке. На левой руке Тревельяна сверкал широкий, от запястья до локтя, бронзовый браслет, знак посвященного хишиаггина. Его украшали девять маленьких красных гранатов, расположенных в виде руны воды, и грубовато отчеканенные листья сеннши. Кроме того, в браслете был пульт управления приборами, что оставались в планере – передатчиком, настроенным на волну базы, интравизором и компактной, но мощной лазерной установкой. Тревельян нажал на красный камень, и его аппарат, окутавшись туманной пеленой, поднялся в небо. Белесоватая дымка парила у вершин утесов, и когда Ивар тронулся в путь, последовала за ним – облачко, почти незаметное на фоне блистающего неба. Шагал он быстро. От нагретых скал тянуло жаром, их поверхность рассекали трещины, и временами попадались довольно глубокие пещеры с кучками сухого тростника и черными кругами кострищ. Эти гроты служили убежищем путникам, когда Ракшас, знойное белое солнце, поднимался в зенит, и все живое, включая песчаных удавов, искало благословенную тень. В пещерах можно было отсидеться в период бури, если она оказывалась не очень длительной, спрятаться от хищника Четыре Лапы, развести огонь и запечь в углях мясо и плоды дигги. Временами, при очень большом везении, даже случалось спастись от разбойников. Небо над пустыней, от которой Тревельяна отделяли корявые заросли, казалось ясным. Слабое утешение; песчаная буря могла налететь в любой момент, ибо атмосферный фронт на границе предгорий и знойной равнины был неустойчив, и давление менялось с поразительной быстротой. Жаннат Азимбаев, метеоролог, предупреждал, что смерчи возникают внезапно, мчатся со сверхзвуковой скоростью и способны насыпать гору песка за считаные минуты. Поэтому все обитаемые оазисы прятались под защитой горных отрогов, а если скалы были слишком низкими, поверх возводилась стена. За последние десятилетия кьоллы очень усовершенствовались как в строительных работах, так и в ирригации, освоив полезные навыки, внедренные пришельцами с Земли. Но воды для питья – сладкой воды, как ее здесь называли, – все равно не хватало. Ивар шел уже минут сорок. Тропинка полезла вверх, на скалистый гребень, заставив сбавить темп. Несмотря на все технические ухищрения, медицинский имплант и дополнительный слой кожи, Тревельян сильно вспотел; хотя белая звезда уже прошла зенит, ее лучи, вместе с теплом, струившимся от красного светила, выжимали влагу точно губка. Он сделал пару глотков из фляжки и, поднявшись на скалы, остановился, чтобы передохнуть и осмотреться. Впервые он видел Очаг кьоллов не в голографической проекции, а наяву, и в первый раз он должен был вступить в контакт с людьми из патронируемой расы. Это вызывало трепет, граничивший с неуверенностью. Внезапно он понял, сколь велика – поистине огромна! – дистанция между теорией и практикой. Внизу, защищенный двумя горными отрогами, лежал оазис, удел барона Оммиттахи. Формой владения напоминали треугольник – два отрога, западный и восточный, постепенно сходились, а промежуток между их дальними концами перегораживала стена. Удел был небольшим: пять деревушек у самых скал, розоватые поля дигги и местного злака, похожего на просо, пастбища, загоны для скота и сеть нешироких канавок, связанных с речкой, струившейся с гор. Там, где она падала на равнину и разделялась на искусственные протоки, виднелось массивное каменное строение о двух этажах, замок местного феодала. Одним крылом замок упирался в отвесный утес, к другому была пристроена широкая башня с воротами, на плоской крыше поблескивал металл – там расхаживали воины в медных наплечниках и шлемах. По данным Такеши Саи, в Очаге Оммиттахи жили тысячи две народу, но в ближайший год это число сократится – если, конечно, не отыскать новый источник сладкой воды. Обычно этим занимался Гурченко, да так успешно, что слава его облетела все оазисы от западного края до восточного. Но на этот раз поиски возлагались на практиканта. Раздался скрип сандалий, звон металла, и из-за камней выступили два воина: грязные туники до колен, широкие кожаные пояса, шлемы-горшки над гривами нечесаных волос, на плечах – гнутые пластины из позеленевшей меди, за спинами – сарассы. Воняло от них так, что Тревельян невольно сморщился. – Га! – сказал воин, который выглядел повыше и покрепче. – Хишиаггин! Не Ирри, другой. Молоденький! Под именем Ирри в этих местах был известен Карел Гурченко. Его тут уважали; он обладал большим талантом дипломата и тяжелым кулаком. – У него сладкая вода, – молвил воин пониже, впившись взглядом в тревельянову фляжку. Его огромный рот растянулся в ухмылке. – Вот молодое мясо, и вот вода, чтобы его запить… Что скажешь, братец? – Но-но! – Тревельян отступил на несколько шагов и поднял с земли камень. – Прочь с дороги, безмозглые онкка! Я пришел к вашему кьоллу! Воины молча скалились, пожирая его голодными взглядами. С точки зрения цивилизованных гуманоидов, хоть землян, хоть кни’лина или терукси, они казались жутко уродливыми: пасти от уха до уха, сальные пряди волос, низкие лбы, жидкая поросль вокруг почти безгубых ртов. Ивар с сожалением припомнил, что сам выглядит точно таким же. Высокий воин махнул рукой. – Иди, хишиаггин. Мы не жрем всякое дерьмо. А вот водой ты мог бы с нами поделиться. – Как-нибудь в другой раз, – буркнул Тревельян и резво поскакал вниз по тропе. За ним протяжно взвыл сигнальный рог – два стоявших в дозоре мерзавца, хоть и были голодны, о службе не забывали. Впрочем, жители Кьолла уже три столетия не питались человечиной, и потому их регион считался самым цивилизованным на планете. Спустившись вниз, Тревельян перепрыгнул оросительную канаву и направился к замку мимо полей дигги и пастбищ, где под присмотром голых грязных подростков бродили хффа, нелепая помесь осла с козлом. Они усердно поедали желтую колючую траву, оставляя тут и там клочья длинной, свисавшей до земли шерсти, и временами, пронзительно взревывая, тыкали друг друга рогами. Одинокий путник привлек внимание мальчишек-пастухов, тут же решивших поразвлечься: целая банда бросилась к дороге, подбирая на бегу колючки и навоз. Тревельян остановился, погрозил им кулаком, скорчил жуткую рожу и лязгнул зубами. Недоросли замерли – похоже, разглядели браслет хишиаггина. Адепты водяного бога не отличались безобидным нравом и могли, при случае, отходить до крови своим поясом-веревкой. По пути к замку он преодолел еще несколько канав. В них бежала мутная вода с ощутимым сернистым запахом – влага, что проливалась над горами, была основательно смешана с вулканическими испарениями и содержала столько всякой гадости, что уроженец любого мира Земной Федерации протянул бы ноги от нескольких глотков. Но на Пекле эту воду пили и ели взращенных на ней животных и плоды, насыщенные отравой, так как микрофлора в желудках аборигенов нейтрализовала яды. Однако для этого приходилось пить и чистую воду, ту, которую называли «сладкой», полученную из колодцев, естественных скважин и гейзеров. Под оазисами располагались водяные линзы, и хишиаггины умели их находить, но случалось, что вода была плохой, насыщенной солями, или водоносный горизонт залегал слишком глубоко и докопаться до воды не удавалось. В этом случае жизнь хишиаггина была недолгой. Тревельян приблизился к скальному уступу, с которого с шумом падала река, разделяясь затем на водоводные канавы. Перед ним громоздились грубые ступени из базальтовых плит; эта лестница вела к замковой башне и уже распахнутым воротам. Поднявшись, он увидел небольшую процессию, что двигалась ему навстречу: два воина с медными сарассами, два – с рогами хффа на высоких шестах, трое богато одетых мужчин, а за ними – тучный барон Оммиттаха в огромных сапогах, штанах из шерсти хффа и потертой куртке, расшитой тусклым бисером из ракушек. Брови барона срослись на переносице и свисали вниз неаккуратными пучками, маленькие глазки были сонными, под носом топорщились усы длиной в два пальца – признак благородной крови и принадлежности к древнему роду. В левой руке барон держал жбан с местным пивом, а в правой – маринованный плод дигги размером с небольшую дыню. Встав на колено, Тревельян плеснул на баронский сапог из фляжки, что было высшим знаком почтения. – Пусть Таррахиши будет щедр к твоему Очагу, великий кьолл… – Пусть, – согласился Оммиттаха. Потом отхватил крепкими зубами кусок дигги, прожевал, запил из кружки и уставился на Тревельяна, озирая его от сандалий до торчавшего над ушами колтуна. – Ты не похож на Ирри, хишиаггин. Где Ирри? – Я Кахх, его ученик. Ирри послал меня сюда, услышав, что одно из твоих селений скоро лишится сладкой воды. – Почему он не пришел сам? – Охотился в горах, и Четыре Лапы прыгнул на него из-за камней. Теперь Ирри лечит раненую ногу. Сунув диггу одному из приближенных, барон распахнул куртку, почесал короткими толстыми пальцами живот и с сомнением заметил: – Выходит, Кахх, ты ученик… Не знаю, будет ли вода, которую ты найдешь, благословенной. – Будет, – успокоил его Тревельян. – Ирри хорошо обучил меня, великий кьолл. И Бог Воды милостив ко мне. – Лучше бы дождаться Ирри, – пробурчал Оммиттаха, явно собираясь сбить цену. – Мои люди верят, что на него помочился сам Таррахиши. Ирри всегда находил нам сладкую воду. – Я тоже найду. Я же сказал, что Таррахиши милостив ко мне. Он помочился на меня дважды. Барон отхлебнул из жбана. – Так все хишиаггины говорят. Послушать вас, вонючих потомков хффа, так у Таррахиши уже и мочи не осталось, всю на вас излил… – Он принюхался к кружке, но пить не стал и внезапно рявкнул: – Три водных браслета! Тонких, золотых! Согласен? – Нет, великий кьолл. Два широких, как платили Ирри. Серебряные и золотые браслеты сами по себе ничего не стоили, так как на Пекле универсальной валютой была вода. Тонкий золотой браслет из кованой проволоки соответствовал бочонку сладкой воды примерно в тридцать литров, а восемь тонких браслетов равнялись одному широкому. Серебряными браслетами измеряли горькую воду, ту, что текла в горных ручьях и предназначалась, в основном, для полива. Соотношение между горькой и сладкой водой зависело от конъюнктуры, от наполнения потоков и скважин в том или ином Очаге, от времени года и спекуляций торговцев. Местное общество было примитивным, но о ростовщиках-банкирах, называвшихся тольтарра, тут уже знали – правда, в их банках хранились не монеты, а питьевая вода. – Два широких… – задумчиво молвил Оммиттаха и приложился к кружке. – Ученику нужно быть скромнее, Кахх. Пять тонких. – Но я ученик самого Ирри! – Тревельян гордо задрал голову. – Один широкий и три тонких. Только из уважения к тебе, великий кьолл. Барон молча приспустил штаны и показал, как он ценит уважение хишиаггина. Член у него был чудовищный, не меньше, чем у земного жеребца. Воины с сарассами и шестами одобрительно заржали. – Ты мерзок, как те ублюдки, что бегают в пустыне, – сказал Оммиттаха, швырнув на землю пустой жбан. – Ты разгневал меня, хишиаггин! Возможно, я не позволю тебе искать воду в моем Очаге. Возможно, я прикажу закопать тебя в землю или бросить связанным в песок. Солнечные боги Уанн и Ауккат выпьют твою кровь, а мясо достанется змеям. – Тогда люди в твоем Очаге начнут умирать, а женщины будут приносить уродов, – заметил Ивар. Как и предупреждали Такеши с Гурченко, Оммиттаха оказался скуповатым. – Умирать? – Барон поковырял в ухе. – Пусть дохнут! Придет другой хишиаггин, найдет воду, и бабы нарожают здоровых щенков. Это дело нехитрое! – Никто из хишиаггинов не станет искать воду за четыре тонких браслета, – упрямо возразил Тревельян. – Га! Дам один широкий. – Широкий и два тонких, великий кьолл. – Ты торгуешься, как презренный туфан! Широкий и тонкий! Народ туфан обитал в приморских городах западного побережья. Эти прирожденные купцы действительно умели торговаться и были очень жадны. У таких песка в пустыне не выпросишь. – Широкий и тонкий. – Тревельян снова опустился на колено и в знак согласия капнул на сапог барона воды. – Да будет так! Таррахиши слышал нас! Он мог продать свои услуги гораздо дешевле, но стажировку бы тогда не засчитали. Ему полагалось войти в образ служителя Бога Воды, ни один из которых не работал даром или за малую плату; в этом мире искусство хишиаггина ценилось высоко, и многие из них были так же богаты, как ростовщики-тольтарры. Барон рыгнул и подтвердил свое согласие наклоном головы. Затем повернулся к своим приближенным: – Вот Абби, мой тольтарра. Он проводит тебя, хишиаггин. Иди! Тольтарра оказался мужчиной средних лет с бегающими глазками, одетым куда роскошнее Оммиттахи: башмаки, штаны и пояс из пестрой узорчатой кожи песчаного питона, алая рубаха с прорезями на рукавах, отороченных черным шнуром, золотые водные браслеты от запястья до локтя. Но, несмотря на это облачение, достойное вельможи, выглядел он жуликоватым. Вслед за Абби Тревельян спустился с лестницы. В молчании они миновали деревушку, окруженную рощицами дигги и вонявшими навозом загонами для хффа. Деревня, три десятка плетеных хижин и колодец с дремавшим рядом стражником, была пустой; ее обитатели суетились среди корявых, стелющихся по земле насаждений, складывая кучами большие желтоватые плоды. Диггу затем сушили и растирали в муку, или мариновали в каменных бочках, или выжимали масло в давильном чане, а в свежем состоянии пекли, что позволяло избавиться от привкуса серы. В Кьолле дигга считалась важнейшим продуктом, почти таким же ценным, как сладкая вода. Тревельян незаметно нажал один из камешков на своем браслете. Включился интравизор в планере, парившем белым облачком в знойных небесах; прибор сканировал земные недра в поисках грунтовых вод, невидимых рек и заполненных влагой каверн. Вода в подобных линзах часто находилась под давлением, и в этом случае попытки докопаться до нее могли закончиться трагедией: мощный поток, прорвав последнюю преграду, швырял землекопов вверх на пять, на десять или двадцать метров. Было желательно найти такой источник, который лежал бы неглубоко под поверхностью, являлся не слишком буйным, но обильным, дававшим воду на протяжении нескольких лет. Когда деревня осталась позади, Ивар вытащил из-за пояса ветку и сказал: – Во имя Таррахиши! Я готов просить его о милости. В каком селении иссякла вода? – Не в этом, достойный хишиаггин. – Абби, зазвенев браслетами, махнул рукой в сторону колодца. – Здесь еще много сладкой воды, а кончилась она у тех бездельников, что живут на краю Очага. Там мой дом. Если найдешь воду, будешь моим гостем. Тревельян презрительно скривился и потряс веткой сеннши. – Если! Ты сомневаешься, что я могу это сделать? – Какие сомнения, Кахх! – Тольтарра принялся кланяться и делать почтительные жесты. – Разве можно сомневаться в ученике Ирри, которого я отлично знаю! Правда, он никогда не говорил, что у него есть ученик. Времена нынче нелегкие, урожай дигги скуден, хффа отощали, воды повсюду мало, и по дорогам Кьолла бродит столько самозванцев… – Времена всегда нелегкие, – молвил Тревельян. – Что же до самозванцев, то отличить их просто: они не прошли обучения, не взысканы Таррахиши и ничего не умеют. А я – настоящий мастер! Скоро ты увидишь, как я работаю! Абби раззявил широченную пасть. – Га! Увижу, если позволят. Эта загадочная фраза повисла в воздухе. То ли ростовщик на что-то намекал, то ли познания Ивара в языке кьоллов оставляли желать лучшего. Язык он выучил под гипноизлучателем, и считалось, что он владеет местным наречием в совершенстве – но кто мог за это поручиться? Кроме слов, были другие способы общения – интонация, жесты, бессвязные восклицания, а также непонятная ухмылка, бродившая по лицу тольтарры. Похоже, он над чем-то веселился. За плодовыми рощами лежала более пустынная местность, поросшая желтой травой. Здесь, среди куч навоза, бродили хффа, а в дальнем конце пастбища виднелись хижины деревни, приткнувшейся под горным отрогом. Эта скалистая гряда достигала метров тридцати в высоту и, очевидно, служила надежной защитой от песчаных смерчей. Ее рассекали трещины, а в самом низу, чуть выше уровня земли, зияло отверстие большой пещеры. Абби вытянул руку к этой дыре. – Вот мой дом, хишиаггин, и вот селение, в котором иссяк колодец со сладкой водой. Дальше ты пойдешь один. Люди здесь меня ненавидят, считают, что я обязан дать им воду. Но я не так богат, чтобы поить три сотни бакку. Бакку в вольном переводе означало «голодранец». Поморщившись, Тревельян бросил: – Скоро воды хватит всем. Свернув к деревне, он зашагал по лугу, распугивая пасущихся животных и огибая груды вонючего навоза. Отсутствие компании его устраивало – пришла пора пообщаться с планером, и лишние свидетели тут были ни к чему. Оказавшись в середине пастбища, Ивар включил передатчик, поднес к губам браслет и сказал: – Доложить результаты измерений. Безликие голоса приборов заторопились, зашептали. Анализ был завершен, карта водоносного горизонта составлена и привязана к прежнему колодцу, что находился в центре поселка. Питавший его пласт не иссяк, лишь опустился уровень подземных вод, и добраться до влаги можно было в нескольких местах на окраине деревни. Правда, новый колодец придется рыть поглубже, метров на десять-двенадцать вместо восьми, но кьоллы – искусные землекопы и хорошие строители. Стены колодцев они выкладывали из камней, скрепляя их известью и древесными смолами. Кроме близких к поверхности вод, интравизор также оконтурил линзу, что находилась под лугом, прямо под ногами Тревельяна. Но этот обильный и сладкий источник практической ценности не имел: глубина залегания – от сорока до шестидесяти метров, вода под давлением в несколько атмосфер, над линзой – скальные породы, базальт и оливин. Пробиться с медной киркой сквозь эту каменную крышу было нереально, да и ни к чему. Тревельян сориентировался на местности, выбрал подходящую точку в нескольких шагах от деревенских хижин и уверенно направился туда. Его заметили – между домами уже собиралась толпа. Женщины с растрепанными космами, похожие на ведьм, голые дети и подростки, старики, чьи кости грозили прорвать кожу… Ввалившиеся глаза, пересохшие рты, гнилые зубы, ноги в багровых язвах… Мужчин, в это время трудившихся на полях, Ивар не разглядел, но в толпе было пять или шесть уродов – верный признак того, что в чистой питьевой воде тут нуждались не первый год. Встав в выбранном месте и вскинув вверх руку с браслетом, он призвал Таррахиши, умоляя его о милосердии и щедрости. Затем обратился к жителям поселка: – Я Кахх, хишиаггин. Сейчас я вознесу Пять Молений и подкреплю их Пляской Вод, дабы умилостивить великого бога. Надейтесь, люди! Я найду вам сладкую воду, если позволит Таррахиши! Готовьте кирки и мотыги! Толпа молчала, но народ все прибывал и прибывал. С ближних и дальних полей бежали мужчины, такие же тощие, грязные и косматые, как прекрасная половина местного человечества. Еще притащились десятка два стариков и старух, настолько ужасных видом, что Тревельян боялся на них взглянуть. Он начал Первое Моление, затем перешел ко Второму, но зрители не проявляли энтузиазма. Совсем наоборот – они глядели на него с явным подозрением. Никто не повторял за ним слова священных гимнов, никто не впадал в транс, не бился в истерике, не поднимал в надежде взоров к знойным небесам. Но Карел Гурченко, инструктируя Тревельяна, говорил, что поддержка толпы не обязательна, хотя и желательна – чем больше будет криков и визга, тем скорее Бог Воды обратит на хишиаггина свой милостивый взор. Ивар закончил с Третьим Молением, потом с Четвертым и Пятым и закружился в танце. Он высоко вскидывал ноги, вертел задом, подвывал и энергично размахивал сучковатой ветвью сеннши, поводя ею во все стороны света; предполагалось, что во время пляски бог направит его к нужному месту, где ветка опустится, обозначая, где копать колодец. Для пущего эффекта Тревельян раскусил маленькую капсулу, хранимую за щекой, и по его губам и подбородку потекли хлопья беловатой пены. В общем, он старался изо всех сил, точно придерживаясь советов Такеши и Гурченко. Под занавес, издав пронзительный крик, Ивар воткнул ветку в землю и рухнул рядом с ней, демонстрируя полное изнеможение. Затем буркнул: «Finis coronat opus!» [47] – поднялся и приказал: – Копайте здесь! Но толпа по-прежнему безмолвствовала. Одна из женщин подняла горсть вязкого навоза хффа, струйки вонючей жижи потекли меж пальцев; подростки тоже стали собирать навоз и камни, и все это происходило в гнетущей тишине. Наконец старуха с обличьем гарпии ткнула в Ивара костлявым пальцем и завизжала: – Это не Ирри! Это какой-то недоделанный онкка! Слово «онкка» могло трактоваться по-разному в зависимости от тона и экспрессии произношения. Сказанное тихо оно означало личность не самого проворного ума, а если повысить голос, получалось просто глупец или, положим, дурачок. Но сейчас случай был другой, ибо высокий тон и визг определяли крайнюю степень оскорбления. Так что Тревельян не сомневался, что его обозвали кретином. В лучшем случае, придурком. Гордо выпрямившись, он ударил в грудь кулаком и произнес: – Я Кахх, ученик Ирри! – Но не Ирри! – возразила старая ведьма, и тут же в толпе загомонили: – Не Ирри, нет, не Ирри… – Один из тех, что выдают себя за его учеников… – Тоже обманщик… – Найденная им вода не будет сладкой и благословенной… – От этой воды только гниль в животе… – И у баб в утробе тоже… – Ибо самозванцы не угодны Таррахиши… Затем это глухое бормотание перекрыл яростный вопль: «Бей!» – и в Тревельяна полетели навоз и камни. От камней он еще мог увернуться, но дерьмо метали чаще, и эти снаряды были опаснее; Ивар понимал, что если залепит глаза и он потеряет ориентировку, конец окажется печальным – либо растопчут, либо забьют до смерти. Кьоллы, да и другие обитатели Пекла, не отличались милосердием, а эти, из Очага Оммиттахи, забывшие вкус настоящей воды, не уступали свирепостью северным варварам. Камень попал Тревельяну в голову, другой ударил в колено, балахон промок от липкой вонючей жижи, от визга и рева звенело в ушах. Кьоллы надвинулись на него – уродливые фигуры, ощеренные пасти, искаженные лица, стиснутые кулаки… Повернувшись, он бросился бежать. То ли по велению судьбы, то ли по наитию, он мчался к скалам и пещере Абби. Несмотря на высокую гравитацию, он обогнал толпу; эти люди были слишком истощены, слишком иссушены жаждой, чтобы сравняться с ним в силе и резвости. Но ярость и многочисленность делали кьоллов опасными, и что бы ни стало поводом к их злобе, Тревельян не мог их уничтожить. Было так легко послать команду планеру, ударить лазерным лучом, сжечь толпу или хотя бы напугать… Но об этом он даже не думал. Он был ксенологом, стажером ФРИК, а первая заповедь Фонда гласила: не поднимать оружия на братьев меньших. Что-то, конечно, допускалось – камень против камня, меч против меча, стрела против стрелы, но не огненные молнии, не потоки плазмы, не фризеры, не ядовитые газы, не излучатели ментальных волн… Таким оружием сражались лишь равные против равных. Он пересек луговину огромными прыжками, перескочил невысокую изгородь и миновал загон, где в песке дремали откормленные удавы. Мрачный зев пещеры распахнулся перед ним. В ее глубине пылали факелы, а перед входом, сунув ладони за пояс, стоял тольтарра Абби и ухмылялся во весь рот. Слева и справа от него вытянулись шеренги стражников с копьями и сарассами, и было их изрядно, тридцать или сорок человек. Пожалуй, этот отряд мог бы сровнять деревню с землей и перебить всех ее жителей, о чем они прекрасно знали. Оглянувшись, Тревельян увидел, что толпа остановилась перед изгородью. Пылающие яростью глаза погасли, рев превратился в глухое бормотание, и ни одна рука не поднялась, чтобы метнуть камень или зловонный ком навоза. – Вот и ты, Кахх, вот и ты! Успел к самому ужину! – воскликнул Абби. – Ты принял мудрое решение, сбежав ко мне. Презренные бакка, – он покосился на толпу, – постоят, поворчат и уйдут, не посмеют схватиться с моими людьми. Так что ты в безопасности и даже, как я вижу, цел, хотя и перемазался в дерьме. Великая Камма, Богиня Песков! Как ты смердишь, хишиаггин! Твой вид и запах не подобают для трапезы в приличном доме… – Тольтарра поскреб темя, покачал головой и с прежней ухмылкой закончил: – Но я добр и дам тебе горькую воду, чтобы умыться и отчиститься, после чего мы займемся тушеным удавом и пивом. А сейчас отойди подальше и жди, пока не принесут кувшины. Дальше, Кахх! Еще дальше!* * *
Удав был неплох – во всяком случае, Тревельяну удалось разжевать и проглотить несколько ломтей с консистенцией резины. Но мутное пойло, которое здесь называлось пивом, в горло не лезло, хотя, как все курсанты Академии, он прошел особую тренировку и при нужде мог питаться травой, корой, кузнечиками и червяками. Тольтарра Абби жрал так, что кости хрустели на зубах, и поглядывал на гостя с сочувствием – видно, считал, что на его аппетит влияет нервное потрясение. Запив удава парой добрых глотков, он подвинул к Тревельяну блюдо с маринованной диггой. – Крепкое пиво нужно заедать. Кушай, Кахх! Пахла дигга неприятно, выглядела мерзко, но отказываться – значило обидеть хозяина. Ивар закрыл глаза, нашарил скользкий плод и впился в него зубами. На вкус дигга напоминала огурец, замаринованный в серной кислоте. Желудок сразу взбунтовался, но заработал медицинский имплант, вшитый под ребрами, подавив бунт в зародыше. Однако в животе бурчало, глотка горела, и Тревельян глотнул воды из фляги. Потом сказал: – Похоже, ученики Ирри являются в этот Очаг не в первый раз. Сколько их было до меня? – Четверо, и все просили не меньше двух широких браслетов. Первый ничего не нашел и удалился с миром. Второй заставил рыть колодец у скал, копала вся деревня с восхода красного солнца до захода белого, но вместо воды наткнулись на гнездовище змей. Воины Оммиттахи повесили этого хишиаггана на воротах башни. Третий не знал ни одного из Пяти Молений и был с позором изгнан. Четвертого, объявившего себя учеником Ирри, забили насмерть камнями и палками. Он оказался не таким резвым, как ты. Тревельян кивнул. – Да, бегаю я быстро. И я в самом деле ученик Ирри. – Возможно, возможно. Я знаю Ирри, он бывал здесь не раз и кушал диггу с моего блюда. – Отодвинув груду костей, тольтарра рыгнул и вытер пальцы о подол рубахи. – Так ты говоришь, что он лечит раненую ногу? Четыре Лапы бьет когтями как ножом, и раны от них опасные… Значит, у Ирри будет еще один шрам, кроме того, что на спине. – Нет у него шрама на спине, – сердито молвил Тревельян. – Если хочешь меня проверить, Абби, так сделай это поумнее. Тольтарра довольно захихикал и закивал головой. – Верю, верю! Ты – ученик Ирри! Я наблюдал за тобой и видел, что ты все делаешь верно, твои Моления и Танец как у лучших мастеров. И ты похож на Ирри. – Нет, не похож! Ирри глядит на солнца вдвое дольше меня, и его волосы достают до коленей! – Я не о прожитых днях говорю. Вы оба… – Тольтарра хитро прищурился, – вы словно ничего не боитесь. Ничего и никого. Ни кьолла Оммиттахи, ни его воинов, ни разбойников, что прячутся в пустыне, ни даже людоедов за Поднебесным Хребтом. – Чего бояться тому, кто взыскан Таррахиши? – сказал Тревельян. – Стоит мне мигнуть, и бог придет на помощь, и от любых обидчиков останется лишь куча мусора. – Га! Хотел бы я на это посмотреть! Га, га, га! – Разинув пасть, Абби захохотал. – Значит, куча мусора? Но от этих бакку ты удирал очень быстро! – Они не ведают, что творят. Я их прощаю. – Он их прощает! Га! – Тольтарра захлопнул рот и поднялся с обеденной циновки. – Ладно, ученик Ирри. Пойдем, я хочу тебе что-то показать. Они вышли из вырубленной в скале камеры, служившей трапезной, в довольно широкий коридор. Наступило лучшее время суток – белое солнце двигалось на закат, огромное красное еще не коснулось горизонта, и воздух заметно остыл. Тут, в пещере, под многометровым слоем базальта, было не больше тридцати пяти градусов. Абби повел Тревельяна в глубь своего подземного убежища, мимо бочек и корзин с запасами еды, мимо большой пещеры, в которой ночевали стражники, мимо ходов в опочивальни, занавешенных шкурами горных кенгуру, прямо к лестнице с грубыми неровными ступенями. Хозяин и гость спустились вниз, в тесный грот, где горели факелы и стоял на страже рослый воин – судя по обличью, не кьолл, а наемник из людей пустыни. Он протянул тольтарре факел, затем, напрягая мышцы, отворил тяжелую дверь. За ней снова были ступеньки, ведущие к маленькой камере с прорубленным в стене узким и низким проходом. Абби сдвинул закрывавший его щит, и они, склонив головы, перебрались в большую пещеру. Воздух в этом подземелье был сырой, температура не выше двадцати градусов, и Тревельян заметил, как зябко ежится его проводник. С высокого свода со следами обработки срывались и падали капли воды. Внизу, в вырубленных в камне продолговатых бассейнах, тоже поблескивала вода, причем не мутная, как в горных хоссах, а кристально чистая, явно из хороших источников или глубоких колодцев. Насчитав семнадцать емкостей, Ивар решил, что этой водой можно было бы полгода поить всех жителей деревни. Пожалуй, и дольше – тут хранилось кубометров сто пятьдесят. – Ты богатый человек, Абби, – молвил он. – Разве это богатство! – водный банкир пожал плечами. – У Ошши из владения Янукерре три таких пещеры в разных Очагах, а у Загга одна, но величиной намного больше. Да и тут я мог бы держать столько воды, сколько не увезут все хффа кьолла Оммиттахи. Часть моих хранилищ пустует. Присмотревшись, Тревельян увидел, что внутренность бассейнов выложена блестящим металлом. Он таинственно сиял сквозь воду, и пламя факела дробилось в этих зеркалах на множество отражений. – Серебро? – Да, Кахх. Твой учитель посоветовал мне покрыть камень тонкими листами. Сказал, что сладкая вода будет лучше сохраняться. – Он прав. – Ивар поднял взгляд к сводам пещеры. – На твоем месте я бы обшил такими листами потолок. Если, конечно, это тебя не разорит. – Не разорит. Этот металл – не вода и не пища. В предгорьях его много, и он бесполезен. Слишком мягкий для оружия. Тольтарра смолк. Что-то ему нужно, подумал Тревельян, ощущая исходившие от Абби волны нерешительности. Шестое чувство подсказывало Ивару, что Абби, мошенник и хитрец, ищет способ его облапошить. – Если бы ты открыл источник для этих бакку, и Оммиттаха, наш великий кьолл, тебе бы заплатил, то найденное принадлежало бы ему. Треть воды он отдал бы деревне, две трети забрал себе, – произнес наконец тольтарра. – Я знаю. Обычай повсюду таков: кто платит хишиаггину, тот и хозяин воде. – Если ты возьмешь плату из моих рук, и мои люди выроют колодец, хозяином буду я. – Прокляни меня Камма, если не так! Мы вроде бы сошлись на одном широком браслете и одном тонком? – Вы с Оммиттахой, – напомнил Абби, хитро усмехаясь. – А я – не великий кьолл, но всего лишь бедный тольтарра. Ты сам видишь, что мои запасы почти иссякли. – Он махнул в сторону бассейнов. – Какая же твоя цена? – Три тонких браслета. – Так, – сказал Тревельян. – Пришли к тому, с чего начали! – Четыре, больше не могу, клянусь благоволением Таррахиши! Вспомни, Кахх, ведь я тебя спас! Спас, помог отчиститься, накормил и напоил! И подумай еще вот о чем: ты проделал долгий путь и потерял много времени. Неужели уйдешь, ничего не заработав? Что скажет Ирри? – Скажет, что я продешевил, – буркнул Ивар. Он уже не сомневался, что стал жертвой пары проходимцев, Абби и кьолла Оммиттахи. Ярость бакку, доведенных до отчаяния, была для них товаром, отличным поводом вступить в сговор и сбить цену. В Кьолле да и вообще на Пекле это не являлось чем-то удивительным; одни раванцы были глупы и злобны, другие – хитры, но все без исключения не забывали о собственной выгоде. – Четыре тонких, – повторил тольтарра и зазвенел водными браслетами. – Еще дам тебе мешок маринованной дигги. – Сам ее жри, – содрогнувшись, промолвил Тревельян. – Мне надо подумать. Если соглашусь, укажу тебе место на красном рассвете. Ракшас, белое солнце, раньше вставал и раньше садился, чем огромный красный Асур, и потому на Раване были два восхода и два заката. Интервал между восходами двух солнц испытывал прецессию с периодом в сто двадцать тысяч лет, и когда-нибудь, в далеком грядущем, тут вообще не будет ночи, а только белый и красный дни. Но Тревельян искренне надеялся, что ему не придется наблюдать это любопытное явление.– На красном! – Подтверждая договор, Абби омочил палец в воде и провел им по лбу Тревельяна. – Пойдем наверх, хишиаггин. Тут слишком холодно, и моя шкура уже примерзла к костям, а влага жизни не согревает рук и ног… Пойдем, я отведу тебя в опочивальню. Женщину прислать? Есть девки из торговых городов, а еще не очень тощие из местных… Хочешь? – Лучше пришли пива и маринованной дигги, – обреченно сказал Тревельян.
* * *
Ночью он выбрался из пещеры к отхожему месту, яме с брошенной поверх доской, и, сидя там, связался с Гурченко. – Какие впечатления, стажер? – Мрачные. – Из ямы тянуло едкой вонью, и этот запах напоминал о вчерашних неприятностях. – Я, собственно, хочу узнать про некого тольтарру Абби. Он говорит, что с вами знаком. – Знаком, – подтвердил координатор. – Что вы можете о нем сказать? Тишина. Потом в вокодере, что был вмонтирован в браслет, прошелестело: – Тот еще жук. Ты с ним, стажер, поаккуратнее. Если можешь, не входи в контакт. – Поздно. Оммиттаха поручил меня его заботам. – Хмм… И что? – Воду я нашел, но это не вызвало у населения положительной реакции. Навозом забросали, – пожаловался Тревельян. – Сочувствую. Меня тоже забросали… в первый раз. – Зато теперь вы чрезвычайно популярны. Ходят тут всякие… что ни хишиаггин, так ваш ученик… двоих отпустили, одного повесили, другого забили камнями. Я получаюсь пятый. – Если тебя повесят, практику не зачту, – строгим тоном предупредил координатор. – Воду ты нашел? Нашел! Теперь заставь их выкопать колодец. И гонорар получи. Не меньше широкого браслета! – Дают четыре тонких. – Это демпинговая цена. Торгуйся, стажер! Чему тебя в Академии учили? Тревельян слез с доски и отошел подальше от выгребной ямы. – Координатор? – Да? – Можно устроить маленькое чудо? – Не рекомендуется. – Это сработает на ваш авторитет и магический имидж. Я ведь здесь как положено представился, учеником Ирри. И еще объяснил, что мы взысканы Таррахиши и что он на нас обоих помочился, на вас и на меня. – Я сам на тебя помочусь, если нарушишь инструкцию! Никакого самовольства! – Точно, никакого, – подтвердил Тревельян. – Вот, связался, прошу разрешения… такое маленькое чудо… совсем крохотное… сущая безделица… – Он подумал и привел последний довод: – Ученика Ирри не должны забрасывать дерьмом. Ну, а если уж забросали, должен быть адекватный ответ. Минуты две или три в вокодере слышалось только дыхание Гурченко. Потом он хмыкнул и произнес: – Ладно, дьявол с тобой! Чудо так чудо… Расскажи, что собираешься делать. И Тревельян рассказал.* * *
Когда огромный диск Асура начал всплывать над пустыней, Ивар, не прикоснувшись к утренней трапезе (после вчерашней дигги еще бурчало в животе), залез на утес поближе к пещере, подальше от деревни. Он поднялся не очень высоко, так, чтобы снизу не могли добросить камень, и, обнаружив небольшой карниз, встал там и вскинул руки к знойному небу. Отсюда селение просматривалось во всех деталях: убогие хижины, разбросанные на окраине луга, старый иссякший колодец, загоны хффа, которых еще не выгнали на пастбище, и очаги во дворах, сложенные из закопченных камней. В очагах тлел сухой навоз, луг был завален свежим дерьмом, и ароматы от них, смешиваясь с запахами выгребной ямы, грязной одежды и прокисшей дигги, творили столь мощную симфонию вони, что Тревельян едва дышал. Все обитатели селения от мала до велика собрались у крайних домов – видно, народ любопытствовал, что будет делать изгнанный вчера хишиаггин. Вдруг спустится вниз и подойдет поближе? На этот случай были заготовлены дубины и рогатины, камни и все тот же навоз. Абби, водный ростовщик, стоял у входа в пещеру, с надеждой взирая на Тревельяна. Кроме надежды его хитрая рожа сияла довольством – как-никак, он сторговал жреца Таррахиши совсем по бросовой цене. Стражники Абби растянулись цепочкой на границе пастбища и, многозначительно покачивая сарассами, следили за деревенскими бакку, чтобы никто не приближался и не мешал хишиаггину колдовать. Вид уних был суровый. – Начинай! – сказал тольтарра, помахав Тревельяну. – Красное солнце встает. – Служение богу не терпит суеты. Тем более, если мы хотим снискать его благосклонность, – отозвался Ивар и принялся за Первое Моление. Он произносил священные слова не торопясь, ясно и отчетливо, но временами приходилось делать передышку – в те моменты, когда ветер от деревни задувал в его сторону. За Первым Молением последовали Второе и Третье, Четвертое и Пятое, занявшие, с учетом перерывов, около получаса. Затем, испустив последний пронзительный вопль, Тревельян взглянул на браслет и убедился, что планер висит туманным серым облачком над серединой луга и лазерная установка приведена в готовность. Она была настроена на мощный единичный импульс; узкий луч лазера пробьет почву и каменную крышу над водной линзой, а дальше… Дальше ярость Таррахиши могла излиться без помех. На этот раз Пляска Вод, которую исполнил Ивар, была не такой энергичной, как прошлым днем, – он боялся свалиться с узкого карниза. Подпрыгивал он невысоко и не размахивал веткой сеннши, а тыкал ею в сторону луга, подогревая балетное действо криками и завыванием. Однако все ритуальные па были исполнены и зафиксированы камерами планера, так что Гурченко, строгий экзаменатор, не сумел бы ни к чему придраться. Закончив с танцами и слегка запыхавшись, Тревельян перевел дыхание и посмотрел вниз. Жители деревни волновались: кто осенял живот знаками, отводящими дурное, кто с опаской косился на стражей, кто потрясал колом или палкой, кто вопил, что этот онкка, поддельный хишиаггин, найдет не сладкую воду, а горькую и вонючую. Такое случалось – в некоторых подземных источниках вода была насыщена солями и совсем непригодна для питья. Хишиаггины каким-то таинственным образом чувствовали это, но только пожилые, искусные, взысканные удачей и умудренные опытом. Что до молодых, те, бывало, ошибались и могли дожить до зрелых лет, лишь полагаясь на резвость и выносливость в беге. – Где копать? – крикнул водяной банкир, задрав голову. – Мои люди пригонят сотню бакку с мотыгами, и они… – Хвала богам, копать не придется. Таррахиши поможет своему слуге, – сказал Тревельян, вытянул ветвь к середине луга и прикоснулся к камешку на браслете. Сверкнула молния, почти невидимая в свете двух солнц, земля застонала под обжигающим лучом и полыхнула огненными языками, а вслед за пламенем поднялась жуткая черная туча – камень, обращенный в прах и пепел. Туча еще не успела рассеяться, как мощная струя воды с грохотом взметнулась в небо, достав, казалось, до парившего над пастбищем облачка. Давление в подземной каверне было велико, и фонтан ударил на высоту тридцати метров. Затем стремительные потоки обрушились вниз, размывая почву и превращая ее в трясину. Налетевший ветер раскачивал водяной столб, разносил холодные брызги, и на периметр луга хлынул настоящий ливень. Очевидно, это позволило зрителям преодолеть ошеломление и страх; воины Абби и кьоллы из деревни, запрокинув лица и раззявив рты, глотали драгоценную влагу и вопили: «Га, га! Сладкая вода! Благословенная вода! Сладкая вода!» – Мое! – заорал тольтарра. – Мое! Я заплатил! – Еще нет, – откликнулся Тревельян, перекрывая рев разбушевавшейся стихии и не делая попыток спуститься. – Во-первых, платы я еще не вижу, а во-вторых, воды тут хватит всем. Скоро ты в этом убедишься, мой хитроумный приятель. Фонтан бил с прежней неукротимой энергией и силой. Лужа посреди пастбища ширилась, углублялась и росла. Собственно, уже не лужа, а целое озеро! Вода несла сухую траву, навоз, кожурки дигги, клочья шерсти хффа и другой разнообразный мусор; яростные волны, что надвигались на селение, уже никто не назвал бы чистыми и сладкими. Тем более, благословенными. Невиданное дело – наводнение на Пекле! Дождь по-прежнему лил с безоблачных небес, но люди, утолившие жажду, кажется, сообразили: что-то идет не так. Половина луга уже исчезла под бурными потоками, жители деревни начали пятиться, стражники Абби отступили к пещере, а сам тольтарра глядел на озеро и столб воды уже не с вожделением, а с ужасом. – Останови! – взвизгнул он, вытянув руки к Тревельяну. – Останови это, хишиаггин! Мой дом, мое хранилище, мое достояние! Все будет затоплено и уничтожено! – Но ты сможешь пополнить запасы, – сказал Ивар, представляя, как смесь навоза и земли хлынет в бассейны, выложенные серебром. – Ты ведь этого хотел, не так ли? Фонтан – точнее, мощный гейзер – продолжал трудиться, с ревом извергая сотни тонн воды. Дождь не прекращался; Тревельян промок до нитки, со скал текли ручьи и ручейки, почва внизу превратилась в болото, и песчаные удавы Абби, которым изобилие влаги было вредно для здоровья, судорожно бились в мокром песке. Озеро все расширялось и расширялось, и крайнюю хижину селения уже лизнула первая волна, будто пробуя на вкус плетеные тростниковые стены. Тревожно заревели хффа, между домами заметались люди, оскальзываясь и падая в грязь и жидкий навоз. Тревельян почувствовал себя отомщенным. – Кахх! Ты можешь справиться с этим… с этим… – Абби, не зная, как назвать озеро (в языке кьоллов не было подходящего слова), тыкал в сторону водоема пальцем. – Могу, но не хочу, – заявил Тревельян, напрягая голос. – Ты и эти бакку, что живут в деревне, оскорбили Таррахиши. Гнев бога должен излиться. Кто я такой, чтобы ему мешать? В деревне между домами уже бушевала вода, и перепуганные жители тащили детей и добро к возвышенности у скал. Воины Абби тоже полезли на утесы, стараясь, однако, держаться подальше от Тревельяна. Край озера неумолимо надвигался на пещеру – вход в нее был расположен не очень высоко. – Бакку закидали тебя дерьмом, и Бог Воды разгневался! – завопил ростовщик. – Но я-то тут при чем? Я тебя спас и накормил! Как я мог разгневать Таррахиши? – Четыре тонких браслета, – напомнил Тревельян. – Бог не любит жадных. – Я дам тебе шесть! – Абби встал в проеме пещеры и раскинул руки, словно желая защитить свои богатства от воды. – Дам шесть! – повторил он, звеня браслетами. – Га! – Тревельян сплюнул, что было знаком крайнего презрения. – Восемь! Восемь тонких или один широкий! Успокой божественный гнев! – Га, га, га! Первая хижина развалилась под напором воды, и ее тростниковые стены отправились путешествовать по озеру. Хффа с протяжными стонами мчались к скалам вслед за толпой людей. На дороге, за дальней деревней, появились воины во главе с человеком в пестрых одеждах – надо думать, приближенным великого кьолла. Оазис был невелик, и в баронском замке уже услышали шум и, несомненно, разглядели фонтанирующий гейзер. Наверное, Оммиттаха догадался, что обнаружен источник, и теперь решил выяснить, хорошо это или плохо. С одной стороны, целое озеро сладкой воды – хорошо, и даже очень, а с другой, вопли, что доносились до замка, не были криками радости. Вода плеснула на сандалии тольтарры. Он взвизгнул. – Широкий браслет и два тонких! – Ты не со мной торгуешься, а с богом, – напомнил Тревельян. – Сколько ты хочешь? – Тонкие струйки потекли в пещеру, и Абби теперь приплясывал в грязной лужице. – Два широких, как просил вначале? Два широких золотых браслета давали право почти на полтонны воды. Щедрый гонорар! Плата для самых опытных хишиагинов, которых в Кьолле насчитывалось не более десятка. Но Тревельян опять с презрением сплюнул. – Два широких – чтобы найти воду, а успокоить божество стоит подороже. Четыре! Четыре, Абби, и не думай слишком долго! Иначе вся твоя сладкая вода станет горькой! – Ты разоряешь меня! – Еще нет, но это случится очень скоро. Ивар поднес к губам браслет и отдал команду перенастроить излучатель. Затем спустился пониже и поглядел на ростовщика. Тот уже стоял в воде по щиколотку. – Так мы договорились, почтенный Абби? – Да! Да, вымогатель! Чтоб Камма сглодала твои кости! Чтобы твой прах развеялся в пустыне на все четыре стороны! Чтоб ты лишился волос, а твоя печень сгнила в утробе змеи! Чтобы твой детородный орган… – Вот об этом не надо, – сказал Тревельян, протягивая руку. – Я жду, приятель. Оплата принимается вперед. Когда четыре золотых обруча легли в ладонь, он торжественно поднял к небу ветку сеннши и выкрикнул: «Вечером – деньги, утром – стулья!» Эту почтенную цитату он произнес на земной лингве, так что здесь его вопль мог сойти за непонятное, но могущественное заклинание. Паривший в небе планер тут же откликнулся пучком молний, ударивших широким конусом. Вода в центре озера забурлила, вскипела, облако пара взметнулось вверх; лазерные лучи – на этот раз малой мощности – проникли в скальный грунт, расплавили породу, и какое-то время жидкий базальт, остывая и твердея, сражался с водной стихией. Потом канал, просверленный над линзой, закрылся, гейзер исчез, осыпавшись мириадом брызг, вода отхлынула, и только мутное озеро и грязь на его берегах напоминали о недавней катастрофе. Тревельян втянул носом воздух и поморщился – пахло от водоема не очень приятно. – Эту жидкость можно использовать для полива, – заметил он, нацепив браслеты на правую руку. – Состав у нее подходящий, и дигга вырастет отменная. Лишней она не будет, Абби, – твои удавы сдохли, и ты лишился мяса. – С этими словами Ивар снял сандалии, ступил босиком на влажную землю и ухватил ростовщика за локоть: – Теперь пойдем, тольтарра. У нас еще много дел. – Во имя всех богов! Куда ты меня тащишь, хишиаггин? – В селение. Соберем сотню-другую бакка, и я укажу, где копать колодец. Людям нужна сладкая вода, ведь так? Да и тебе она не помешает. Абби тут же воспрянул духом, окинул озеро хозяйским взглядом и зашлепал по мокрому песку, перешагивая через мертвых удавов. Рев гейзера смолк, над лугом и водоемом повисла тишина; только чавкала грязь под ногами да слышалось, как за спиной Ивара причитает ростовщик: – Сладкая вода! Конечно, мне нужна сладкая вода, но посланная гневом Таррахиши тоже не помешает. Я ее продам… за серебро, но продам… ты, Кахх, верно сказал: для полива она годится… можно все поля залить, отсюда и до башни кьолла… он тоже будет доволен – вырастет дигга, вырастут травы, хффа дадут приплод, бакку размножатся… Но без сладкой воды все равно не обойтись! Ты ведь найдешь ее, хишиаггин? Великий кьолл не верил, что ты ученик Ирри, и недоумки-бакку тоже не поверили… но теперь все знают, что ты угоден Богу Вод… найденное тобой поистине благословенно… Моя вода! Это будет моя вода! Я дал тебе четыре браслета, и ты найдешь мне сладкую воду! Когда Тревельяну надоело слушать это бормотание, он обернулся и сказал: – Даром? Я еще в своем уме, приятель! За этот труд ты заплатишь отдельно.Глава 7. Мир близкий, мир далекий
Этот летательный аппарат не походил на образ, переданный Даззом Третьим. Пришельцы из Пустоты, что появились недавно, те, кого пытался распылить Тер Абанта Крора, были многочисленны, и их звездолет напоминал серое дымное облако, повисшее над вулканом. И, по сообщению Дазза, их корабль казался очень странным, будто бы живым, но с его обитателями, тоже, разумеется, живыми, не удалось наладить ментальный контакт. Это означало, что они во многом отличаются от канувших в вечность соплеменников Фарданта и тех галактических рас, с которыми они сражались в древности. Аппарат, летевший с запада, от океанского побережья и домена Побега, выглядел как два скрещенных цилиндра с центральным сферическим ядром. Его очертания являлись вполне определенными, не размытыми, а результат сканирования подтверждал, что перед Фардантом искусственный объект, изготовленный из неизвестного материала. Конструкция тоже была незнакомой – во всяком случае, в памяти Фарданта ничего подобного не обнаружилось. Корабль мчался стремительно, что ограничивало время сканирования, но Фардант все же отметил массу повреждений: корпус, пробитый во многих местах, разрушенные двигатели, потеки вскипевшего металла на обшивке, обгоревшие концы цилиндров. Несомненно, аппарат прошел над континентом Кроры и подвергся атаке его сокрушителей. То, что он уцелел, удивило Фарданта; вероятно, этот объект нелепой формы, плохо приспособленной к полетам в атмосфере, обладал поразительной маневренностью и живучестью. Однако отпрыски Кроры изрешетили пришельца, и, хотя он еще держался в воздухе и двигался с изрядной скоростью, катастрофа была неминуема. Он падал, быстро приближаясь к поверхности планеты у северных гор, и, наконец вышел из зоны визуального сканирования. Какие-то мгновения Фардант Седьмой, задействовав зрительные органы стражей границ, ожидал вспышку взрыва, но в сумрачном небе над горным хребтом не появилось молний и огненных всплесков. Либо этот аппарат не использовал энергию взрывоопасных веществ, либо опустился плавно, избежав полного разрушения. Последняя мысль вдохновила Фарданта. Не полагаясь больше на сканеры, он вытянул на запад ментальный щуп, раскрыл его широким веером и прикоснулся к чужому разуму. Вернее, к нескольким разумам, что находились в точке посадки корабля. Два из них принадлежали живым существам, а третий – искусственному мыслящему устройству, подобному отпрыскам Фарданта, но более сложному, осознающему свое существование и не лишенному индивидуальности. Фардант не смог бы спроектировать интеллект такого уровня, да и не стремился к этому – в конечном счете, все его побеги и вспомогательные модули, даже обладавшие частичной автономией, являлись им самим. Тем не менее он понимал, что существа из Внешнего Мира могли применять другие способы для расширения сознания и памяти – не достраивать свой разум, а создавать независимые от их ментального поля агрегаты. Предки Фарданта тоже шли таким путем, и результат их усилий был налицо: четверо бессмертных на безлюдной планете. Пятеро, если считать с Гнилым Побегом… Но этот последний был не создан заново, а отщеплен Фардантом от собственной личности. Эти соображения промелькнули мгновенно и исчезли, так как казались ему очевидными. Он сосредоточился на разумах, принадлежавших не искусственному устройству, но живым существам. Представить их телесное обличье и особенности физиологии Фардант не мог, но ясно ощутил ментальную мощь и сложность их сознаний. В одно он даже не сумел проникнуть, да и другое имело защиту в виде ментальных барьеров и отражающих чужую мысль экранов. Прикоснувшись ко второму, не столь защищенному разуму мысленной волной и получив едва заметный отклик, Фардант возликовал: чудилось, что уровень этой структуры как раз таков, какого он хотел достичь в своих созданиях. На миг он усомнился в принципиальной стороне эксперимента: восемь тысяч Больших Оборотов, сотни попыток, и в результате – внешне прекрасные, но безмозглые твари! Однако, если использовать пришельца как генетический материал… Он с поспешностью отдернул щуп, чтобы не обнаружить своего присутствия. Ментальная чувствительность пришельца была неизвестной, и взламывать его барьеры пока не стоило – они могли оказаться такими же прочными, как у Матаймы, Дазза или Кроры. Решив, что осторожность не помешает, Фардант Седьмой отключил связь с отпрысками, кроме каналов пограничной стражи, и погрузился в размышления. Вероятность, что одна из звездных рас доберется до его планеты, была невелика, но, конечно, нулю не равнялась. Он знал, что его мир, вместе со своим светилом, дрейфует в пропасти меж галактическими рукавами, постепенно продвигаясь к ее рубежу, к области, где возрастает плотность звезд, среди которых, надо думать, есть обитаемые системы. Возможно, размышлял Фардант, их контролирует Великий Враг, но крайне сомнительно, чтобы его наблюдатели следили за каждым кораблем и всеми межзвездными трассами, которых в Галактике миллионы. Так что по мере дрейфа к краю Провала растет вероятность посещения его затерянной во тьме планеты, случайного контакта или целенаправленной экспедиции. Он мог рассчитать эту вероятность и оценить реальность другого, уже состоявшегося варианта – двойного посещения, встречи двух кораблей. Корабль, о котором сообщил Дазз, и этот второй аппарат, что опустился у северных гор после нескольких Малых Оборотов… Такое событие вряд ли являлось случайным, и Фардант, обдумав ситуацию, сделал правильные выводы: встреча была запланирована. Возможно, это экспедиция двух звездных рас, или первый корабль, поврежденный сокрушителями Кроры, позвал второй на выручку… Но, конечно, не приземлившийся на западе – тот слишком мал для дальних перелетов и, похоже, не вооружен. Это разведчик, решил Фардант, вдруг осознав, что на границе его системы находятся два звездолета чужаков. Если они подобны тем, что строились когда-то его расой, тем боевым кораблям, что составляли Флот Вторжения, лучше их не задевать. Либо они расправятся с бессмертными и их планетой, либо вызовут Великого Врага… То и другое было страшным. «Крора совершил ошибку!» – мелькнула мысль. Крора, порождение Темных Владык! Это означало, что надо торопиться. Установить контакт с двумя живыми разумами, убедить их в своем миролюбии, направить их гнев на Тер Абанту Крору. И надо сделать это первым! Фардант понимал, что те же опасения могут появиться у Матаймы, Дазза и даже Гнилого Побега. Надо спешить! Любой из них без колебаний повернет внешнюю силу, что явилась в мир, против соперников, и никто не пожелает объединиться… Так уже бывало – недаром древние сотворили четверых бессмертных, а не одного. Подключив свой стратегический модуль, Фардант еще раз взвесил ситуацию. Его домен был ближе остальных к месту посадки – или крушения?.. – инопланетного корабля. Летательная машина могла добраться до северных гор за восьмую долю Оборота, но как ее встретят пришельцы – после того, как Крора чуть не уничтожил их? Послать в машине отпрысков? Но Фардант сомневался, что сможет держать их под контролем на далеком расстоянии. Обычные отпрыски тут не годились, как и другие примитивные устройства, и он решил, что должен сформировать Контактера, разумный и почти автономный побег. Запустив его синтез (что требовало примерно такого же времени, как путь к горам), Фардант снова вытянул ментальный щуп, прикоснулся к разумам живых пришельцев и замер в ошеломлении. Один из них по-прежнему прятался за непроницаемым экраном, но у второго защитный барьер был много слабее, чем прежде, процесс мышления замедлился, ритмика жизненных функций упала; чудилось, что существо погибает – может быть, от повреждений, полученных при катастрофе, или по иным причинам. Однако агония не наступила, и вскоре Фардант решил, что наблюдает некий спад активности, странный коллапс, связанный с физиологией пришельца. То был удобный случай проникнуть в его разум, пусть не в глубинные области мозга, но хотя бы в зону, где хранились самые яркие воспоминания – из тех, что оставляют в памяти неизгладимый след. Фардант оживил их ментальным усилием и содрогнулся. Гигантские горные вершины встали перед ним и ринулись вверх, исчезая в серых тучах, вспыхнули в небе два светила, белое и красное, и их лучи, словно удары молний, вонзились в песок бескрайней равнины. Чудовищная, жуткая картина! Но самое страшное было в том, что он словно бы падал – или падал по-настоящему, овеваемый знойным воздушным потоком, устремившись с небес к грозившим смертью раскаленным песчаным холмам. Затем последовали сцены, едва понятные ему, лежавшие на грани осознания. Существо, чей мозг он зондировал, очутилось в примитивном мире, что вызывало удивление: ведь эта раса владела техникой межзвездных перелетов и создавала мыслящих отпрысков! Однако Фарданту явились картины пустынных безводных пространств, убогих строений, жалкой растительности и всевозможных тварей, служивших, видимо, пищей для местных носителей разума. Они обитали на поверхности жаркой планеты, где не было ни дорог, ни транспортных средств, ни взлетных полей, ни механизмов или крупных конструкций, подобных существовавшим когда-то в мире Фарданта. Сами эти существа, мерзкие видом и агрессивные, казались похожими на животных, отличаясь от них лишь скудной одеждой, неразборчивой речью и жалкими орудиями. Ментальная связь с пришельцем, застывшим в коллапсе, передавала большую часть его ощущений, и Фардант, подключив аналитические блоки, быстро разобрался с языком. Этот язык был столь же примитивен, как обитатели планеты, и не содержал почти никакой информации – имевшее смысл тонуло в реве, вое и визге. Кажется, пришелец что-то искал или пытался о чем-то договориться, совершая под громкие вопли непонятные телодвижения. Одним из его последних воспоминаний являлась катастрофа, вызванная энергетическим лучом, ударившим в землю с небес, – единственный знак высокой культуры, доступный пониманию Фарданта. Возможно, подумал он, жаркая пустынная планета – вовсе не прародина пришельца?.. Возможно, перед ним колониальный мир, заселенный в древности и одичавший с течением лет?.. В истории его собственной расы такое иногда случалось. Данных, чтобы сделать это заключение, было недостаточно, и он решил, что проведет сеанс ментальной связи в другой период коллапса. Память пришельца могла открыть пути к его родному миру и к прочим мирам, где побывал этот космический странник, и тогда, быть может, станут ясны его намерения и цель. Фардант, не забывавший ничего, помнил о звездолетах, что затаились где-то во тьме, и об угрозе атаки; его стратегический модуль утверждал: чем больше он получит информации, тем вероятнее мирный контакт с инопланетной силой. К тому же твари, наблюдавшиеся в видениях пришельца, хоть и казались дикими, но походили на предков, создавших самого Фарданта и трех других бессмертных. Вертикальная ориентация тела, парные конечности и их число, кожные покровы и массивный верхний выступ, где размещались органы чувств – все это, за исключением деталей, было таким же, как у предков и у тех созданий, которых синтезировал Фардант. Он уже не сомневался, что с хромосомами пришельца, если тот согласится их предоставить, акт творения будет успешным. Конечно, изученный им язык – примитивное и не очень удобное средство общения, но все же лучше, чем ничего. К тому же оба живых существа, что опустились с гор, обладают способностью к ментальной связи… Так или иначе, с ними удастся договориться! Разорвав мысленный контакт, Фардант полностью переключился на отпрысков, трудившихся над Контактером. Синтез был уже завершен, и его новый органосиликатный побег, заключенный в прочную броню и должным образом запрограммированный, ждал распоряжений. Вложив в его разум всю информацию, полученную от пришельца, Фардант направил отпрыска к летательным машинам. Вскоре одна из них вырвалась из подземелья через раскрытый шлюз и устремилась на север. Тысячи глаз Фарданта следили за ее полетом в ночной темноте, под небесами с россыпью редких звезд, тлеющих на границе космической пропасти.* * *
Консул Юи Сато читал лекцию в Малом Южном Зале Академии. Делал он это во плоти, иными словами – лично, так как во многих вопросах, включая преподавание, являлся строгим консерватором. Никто не мог его убедить, что голограмма, в сущности, ничем не хуже живого профессора, и что вести занятия удобнее из кабинета на станции «Киннисон», не затрудняя себя полетами на Землю. Но, по мнению консула, лекция была не просто передачей информации из профессорских уст в курсантские уши, а действом сакральным, крепившим связь поколений и неформальные контакты. Ему нравилось общаться и с самыми юными курсантами, и с теми, кто был уже стажером, почти сотрудником Фонда; зная их не первый год и выбирая лучших, он пополнял свои исследовательские группы. Важная причина, чтобы не расстаться с Академией и полной учебной нагрузкой… Обычно у консулов ФРИК на это не хватало времени. Ксенологическая Академия не относилась к числу старинных учебных заведений, таких, как университеты Парижа, Пекина или Москвы; она была организована в двадцать пятом веке и тремя столетиями позже передана Фонду Развития Инопланетных Культур, для укрепления кадровой базы. Академия располагалась в Андалусии, в местах благодатных и солнечных, у синих вод Гибралтара, откуда в ясный день можно было разглядеть африканское побережье. Аудиторный корпус, построенный в виде восьмигранной башни, выглядел невысоким: всего шесть этажей, где находились учебные кабинеты, Большой Зал и четыре Малых, ориентированных по странам света. Из окна Южного открывался вид на море и древнюю скалу, которую в давно прошедшие эпохи именовали Столбом Геракла. Сейчас Юи Сато стоял на подиуме у широкого оконного проема, затянутого дымкой силовой завесы. Просторный зал, имевший форму амфитеатра и погруженный в полутьму, казался почти пустым; тут собрались десятка три юношей и девушек в зеленоватой униформе с серебряными нашивками стажеров. Академия не была военизированным учреждением, однако традиции в ней чтили; форма, знак года обучения, кольцо выпускника и некоторые другие раритеты оставались неизменными на протяжении трех веков. – Осиер, – произнес Юи Сато. – Тема сегодняшней лекции – Осиер. Хотя мы продолжаем работать в этом мире, занести его в список побед и успехов пока что нельзя. Курс, который он читал, являлся заключительным, последним перед стажировкой. Официальное название – «Специфика контакта с прогрессируемыми расами в нетиповых условиях» – встречалось только в учебной программе, во всех же иных ситуациях упоминали о «провальном курсе» или, в лучшем случае, об истории неудач и ошибок. Ее полагалось изучать беспристрастно и тщательно, так как цена проваленной миссии была исключительно высока и временами приводила к упадку культур и краху цивилизаций – собственно, к их уничтожению. И консул, призывая будущих специалистов к осторожности, рассказывал о Руинах и Ледяном Аде, о Горькой Ягоде и Пепле, Рухнувшей Надежде и Чертовой Дыре. Имена миров говорили сами за себя, и все они были даны землянами, сотрудниками Фонда – напоминание о неудачах, не подлежащих искуплению. Тема была тяжелой и давалась Юи Сато нелегко. Но сегодня он говорил об Осиере, мире живом и относительно благополучном. К счастью, Осиер не понес ущерба от контактов с земными эмиссарами, но и каких-либо выгод не получил – все попытки прогрессировать его канули, как вода в песок. В оконном проеме за спиной Юи Сато развернулась карта полушарий: огромный восточный материк размером с Евразию и Африку и два небольших на западе, вытянутых по меридиану. Земли запада были безлюдными, восток населяло множество рас, народов и племен, подчиненных централизованной имперской власти. Империя, занимавшая стратегически важный регион в середине континента, в течение нескольких столетий привела к покорности все королевства, княжества, торговые республики и вольные города, всех дикарей на юге и севере, даже морские пиратские кланы и разбойный люд, ютившийся в горных ущельях. При этом индексы технологического и социального развития этой культуры были не очень высокими – не больше, чем у Италии или Франции в эпоху Средневековья. Конечно, полной адекватности не наблюдалось – в одних отношениях Осиер превосходил древние земные страны, в других уступал им, демонстрируя редкое упорство и неприятие новых идей. Так, в Империи не ездили верхом на лошадях и не пытались создать конное войско, хотя экипажи и фургоны были превосходными; суда прибрежных территорий, ходившие под парусами и на веслах, перевозили любые товары, однако пускались лишь в каботажное плавание; металл выплавлялся древними способами, нефть из естественных скважин не разделяли на фракции, соль добывалась из морской воды, а порох и бумага были неизвестны. Зато всю обитаемую часть континента, за исключением тропиков и северных лесов, охватывала сеть дорог, тянувшихся от Западного океана до Восточного, соединявших города и воинские лагеря, снабженных постами охраны и связи, а также конным транспортом для перевозки грузов и состоятельных персон. Остальные, включая отряды солдат, шли по дорогам пешком, ибо лошади стоили дорого, и колесницы полагались лишь военачальникам и благородному сословию. Но, несмотря на мелкие недоработки в техническом плане, Империя осуществила то, что для монголов и китайцев, персов, римлян и арабов было лишь мечтой, – она реально правила миром. Ни врагов, ни конкурентов, ни соперников у нее не имелось, и потому в ее владениях царил порядок. Редкие попытки к бунту тут же пресекались, бунтовщики сгнивали в рудниках, а их вождей вешали быстро и высоко. – В результате мы наблюдаем стагнацию, – вымолвил Юи Сато, закончив с анализом имперских порядков. – Стагнацию или, как минимум, очень замедленное развитие, нетипичное для гуманоидных рас даже в архаическую эру. Наши полевые исследования подтвердили тысячелетнюю неизменность приемов земледелия, строительства и обработки металла, отсутствие тяги к морским экспедициям, постоянство транспортных артерий, стабильность популяции в различных регионах и умелое демпфирование социальных конфликтов. Казалось, ситуация ясна: в отсутствие войн, мятежей и религиозной розни всякий полезный эстап будет воспринят позитивно и быстро охватит весь континент. Но так не получилось. – Даже с последним эстапом? – спросил белокурый юноша с лицом античного Аполлона. Он был терукси [48] и, кроме редкой красоты, ничем не отличался от землян. Девушка, сидевшая рядом с ним, смотрела на красавца с обожанием. Консул кивнул. – Да. Убедившись в тщетности своих усилий, мы решили, что нам противодействует Империя, косная структура, отвергающая новые идеи. Вполне понятно, что насильственное внедрение эстапов исключалось, как и попытка усилить периферийные страны и противопоставить их имперской власти. Несомненно, это вызвало бы гражданскую войну со всеми ее ужасами, и такой вариант был отвергнут. – Повернувшись к карте Осиера, Сато обвел световым лучом западные материки. – Мы избрали другой путь, распространив в одном из осиерских университетов информацию о западных землях, а заодно – о шарообразности планеты. Предполагалось, что моряки, получив эти сведения, пересекут океан и обоснуются на новых континентах, а вслед за ними хлынут переселенцы – все недовольные, сколько их есть в Империи. Обнищавшие дворяне, беглые преступники, безземельные фермеры, пираты, все голодные и сирые… Так, как случилось на Земле после открытия Нового Света. – Проект Гайтлера, – сказал юноша-терукси. – Гайтлера, Сойера, Колесникова и Тасмана. – Правильно. Я вижу, ты, Дайнос, заранее ознакомился с нашей темой. – Сато улыбнулся. – Итак, группа Гайтлера осуществила свой план, после чего мы законсервировали осиерскую базу, удалившись с планеты на пятьдесят лет. Последний эстап был слишком масштабным, и для его реализации требовалось время. Мы считали, что западные земли, после их заселения, станут противовесом Империи, что там сложатся новые государства, более динамичные и воспримчивые к новизне. Это подтолкнуло бы прогресс на всем Осиере. «Но мы снова ошиблись», – подумал консул и смолк. За его спиной карта Осиера сменилась медленно проплывавшими по экрану таблицами, графиками и формулами, математическим обоснованием проекта Гайтлера. Пока курсанты знакомились с этим не требовавшим комментария материалом, Сато размышлял о причинах ошибки. Главными, несомненно, были самонадеянность и гордость. Фонд молчаливо исходил из того, что идея помощи братьям по разуму пришла в голову лишь человечеству Земли, что до нее недодумались другие высокоразвитые расы – ни лоона эо и кни’лина, ни, тем более, дроми, фаата и хапторы. Но Галактика слишком огромна, чтобы в ней отыскался только один народ, склонный к бескорыстному гуманизму, и в результате произошедшее на Осиере стало полной неожиданностью. Там Фонд столкнулся не с косностью средневековой Империи, а с гораздо более серьезной силой, с тайными цивилизаторами, чья мощь равнялась или превосходила могущество землян. Парапримы… Эта загадочная раса полагала, что естественное развитие нельзя торопить – во всяком случае, продвигать вперед с той скоростью, какая выбрана землянами. Противодействие парапримов на Осиере было упорным, и хотя оно не являлось прямой конфронтацией, а носило скрытый характер, все эстапы ФРИК, в том числе план Гайтлера, гасились быстро и эффективно. Нет, Осиер нельзя было отнести к удачам Фонда Развития Инопланетных Культур! – По прошествии пятидесяти лет, – сказал Сато, когда экран за его спиной опустел, – мы направили на Осиер эмиссара. Его задача заключалась в проверке действенности последнего эстапа, но никаких позитивных сдвигов он не обнаружил. Он… Над темноволосой головкой девушки, сидевшей рядом с парнем-терукси, мелькнул световой блик, и Юи Сато не закончил фразу. – Ты хочешь о чем-то спросить, Сельма? – Если позволите, профессор… – Она вежливо приподнялась. – Этим эмиссаром был Ивар Тревельян? – Да, моя девочка. В аудитории загалдели, что на лекциях Сато было редкостью: – Тревельян, социоксенолог… – Тот, кто нашел на Осиере парапримов… – Его наградили Почетной Медалью… – Нет, за Осиер и парапримов – Венком Отваги! – Ошибаешься, Грегор. Он получил Обруч Славы! Я точно знаю! – Он работал на Хайморе и Гелири… – Еще на Пта… – Он… Чей-то голос перекрыл бормотание сокурсников: – Расскажите нам о Тревельяне, профессор! Ведь он учился в нашей Академии, так? Учился у вас? Консул поднес ладонь к лицу, скрывая улыбку. Тревельян был очень популярен среди стажеров вообще и среди девушек в частности; едва ли не каждый выпускник рвался к таким же подвигам в иных мирах, мечтал о приключениях и примерял во сне Обруч Славы или Венок Отваги. Ну, на худой конец – Почетную Медаль. – Я расскажу вам о последней миссии на Осиере, ибо такова тема лекции, – промолвил Сато, когда шум стих. – Но это будет и рассказ про Тревельяна, так как он являлся ее исполнителем и прошел от Восточного океана до Западного. Пересек весь огромный континент в обличье рапсода… Очень занимательная история, из которой, я надеюсь, вы извлечете полезный урок. Над головой Сельмы снова замелькали световые блики. Сато повернулся к ней: – Хочешь еще о чем-то спросить? – Да, профессор. Где Тревельян сейчас? Мы слышали, что он участвовал в Сайкатском проекте, и там случилось что-то нехорошее… Он по-прежнему на Сайкате? Вернее, на станции, построенной кни’лина? – Нет. – Юи Сато сделал жест отрицания. – У Тревельяна срочная миссия на Пекле. По моим сведениям, он приближается сейчас к двойной системе Асур-Ракшас. Но это было совсем не так, о чем, правда, консул не догадывался.Глава 8. Пустыня
Спал Тревельян долго, почти шесть часов, хотя обычно ему хватало четырех. Картины Пекла проплывали перед ним, такие реальные, такие зримые, словно он возвратился к годам своей юности, к первому полету за пределы Солнечной системы и к первому погружению в жестокий дикий мир, один из тех, где будет затем проходить его жизнь. Только в снах или в мнимом бытии, сотворенном компьютерной сетью, можно было вернуться в прошлое, ибо ни земляне, ни другие галактические расы не властвовали над временем, и, кроме древних даскинов, никто не умел шевелить его пласты и поворачивать их вспять. Но даскины давно исчезли из обитаемой Галактики, не поделившись ни с кем своей тайной. Он очнулся в кресле, у пилотской панели своего полуразрушенного корабля. Освещение кабины было отключено, и та же тьма царила на обзорном экране – беспросветный мрак Хтона, в котором не различались земля и небо, горы и растительность, озеро и водопад. На пульте светились только два огонька, не разгонявшие темноты: зеленый подтверждал, что система жизнеобеспечения еще функционирует, а красный, аварийный, – что двигательной секции более не существует. Уставившись на этот крохотный огонек, Тревельян вспомнил о своем распоряжении Мозгу – чинить двигатель – и тоскливо вздохнул. Значит, не удалось… Кажется, управлявший квадропланом компьютер был прав: ремонт возможен только в доке. – Свет, – произнес Ивар, и кабина озарилась неярким сиянием, исходившим от стен. Он потер ладонями лицо, встал и машинально ощупал наголовный обруч. Диадема с вмонтированным в нее кристаллом призрачного Советника была на месте. Разминая суставы, Тревельян несколько раз присел и покрутил руками. Сонные видения еще не совсем покинули его, и он не смог бы сказать, где предпочитает находиться: в залитых светом пустынях Пекла или в темных пустынях Хтона. Любой из этих вариантов обладал своими преимуществами и недостатками: так, на Пекле было жарковато и напряженно с водой, зато там обитали люди, пусть даже такие мерзкие, как тольтарра Абби и барон Оммиттаха; Хтон же являлся планетой прохладной, с изобилием вод, но без людей. Те твари, что суетились в подземельях Хтона, вряд ли имели что-то общее с гуманоидами, с подобными червям сильмарри или с рептилиями дроми. Велев бортовому компьютеру отдраить люк и включить прожектора, он выглянул наружу. Яркий световой поток падал на корпус трафора, будто в недоумении застывшего у кормового движка. Сейчас Мозг имел форму колонны с множеством выступающих из нее гибких щупалец с видеодатчиками, инструментами, захватами, похожими на клешни краба, и миниатюрными анализаторами. Колонна едва заметно покачивалась на четырех голенастых ногах и тихонько жужжала. Рядом с ней, на почве, лежал пластиковый лист с аккуратно разложенными деталями гравидвижка. Их было с дюжину – крохотные трубки, пара блестящих кристаллических зернышек, воронка энерговода, черная коробочка с торчащими из нее контактами и что-то еще. Тревельян оглядел эту выставку и буркнул: – Ну, в чем дело? – Боюсь, практика не согласуется с теорией, эмиссар, – тоном обиженного ребенка отозвался Мозг. – Как вы приказали, я разобрал кормовой гравидвижок, заменил испорченные узлы, взяв их из носового, и снова собрал механизм. Я действовал точно по инструкции, но двигатель не работает, а эти детали, – он вытянул манипулятор к пластиковому листу, – оказались лишними. Но это, видимо, не так. Сейчас я размышляю, куда их пристроить. – Давно размышляешь? – спросил Тревельян. – Два часа тридцать три минуты. Тут что-то не стыкуется, эмиссар. Вот, например, этот модуль… – Трафор приподнял черную коробочку. – Он не предусмотрен инструкцией сборки, и я не знаю, куда его установить. «Знакомый случай, – заметил, пробудившись, командор. – Если сопляк-механик делает ремонт и находит лишние детали, жди взрыва реактора». – Гравидвигатели не взрываются, – вздохнув, произнес Тревельян. «Это, конечно, большое их преимущество, парень. Не взрываются и не работают, верно? – Советник выдержал паузу. – Ну, что будем делать?» – Что собирались. Отправимся в оазис, и если там действительно найдутся роботы, попробуем с ними столковаться. Либо они починят квадроплан, либо дадут другое транспортное средство. Лететь-то всего ничего! Жаль, что нельзя связаться с кораблем и вызвать другой аппарат… – Наморщив лоб, Ивар поинтересовался: – Кстати, какое расстояние до этого оазиса? Ты в курсе, дед? «Около трех тысяч километров к юго-востоку, и все через пустыню, – сообщил командор. – Из нашей железяки механик плохой, но вместо осла она сгодится. Дней пять-шесть, и будешь на месте. Двигайся, малыш, не жди рассвета! Эта ночь будет тянуться еще восемнадцать часов». Тревельян почесал в затылке. – Согласен, время терять ни к чему, но припасов у нас лишь на четверо суток. Надо бы рекогносцировку провести… Тут есть какие-то растения – может, и съедобная живность найдется. – Он повернулся к трафору: – Вот что, приятель, хватит дурью маяться. Собери детали, сложи их в левом трюме и распакуй походное оборудование. Потом возьми нож, бластер и все фляги и вылезай наружу. А я пока умоюсь. – Слушаюсь, эмиссар, – вымолвил Мозг, подхватил лист пластика и ринулся к трюмному люку. Тревельян спустился на грунт и зашагал к ручью и маленькому озеру. Лучи прожекторов подсвечивали дорогу, заставляя частицы песка искриться подобно бриллиантам; над сбегавшим со скалы ручьем повис зыбкий радужный мостик. Ветер стих, и в мертвой гулкой тишине слышалось только журчанье воды. Небо, залитое смолистой тьмой Провала, казалось почти беззвездным; лишь у северного горизонта мерцали искры далеких светил. Где-то там, в безбрежном пространстве, кружилась у двух своих солнц планета Равана, столь же недосягаемая сейчас, как центр Галактики. Встав на колени у озера, Тревельян омыл лицо и шею, попробовал воду на вкус – она была свежей, холодной и прозрачной. Он пил ее из горсти, чувствуя, что медицинский имплант не проявляет активности – значит, никакой заразы и вредных веществ в жидкости не содержалось. – Такая же, как в горных источниках Земли, – сказал Тревельян, вставая. «Хорошо, хоть вода есть, – согласился командор и тут же без перехода добавил: – Кстати, пока ты дрых без задних ног, я ощутил некую ментальную активность. Очень слабую, но я ее засек». Ивар приподнял бровь. – Нас зондировали? «Не нас, а тебя. Я, как-никак, кристаллическая структура и неплохо защищен. У меня встроенный телепатический экран, а твои барьеры естественного происхождения. Во сне их эффективность падает». – Ты в самом деле думаешь, что кто-то шарил у меня в мозгах? – спросил Тревельян, с тревогой припоминая свои сны. «Точно не уверен, ментальное поле было очень слабым. Тебе ведь известно, что встречаются животные-телепаты – а откуда мы знаем, кто тут бродит в окрестностях?» – Не знаем, так сейчас узнаем, – произнес Тревельян и решительно направился к кораблю. У люка уже маячил трафор, растянувший свою синтетическую плоть в большую тарелку с загнутыми краями. В тарелке лежали большой, похожий на мачете нож, ручной лазер, маленькая фляжка и три канистры, каждая на двадцать литров. Сгрузив фляги на землю, Ивар подвесил клинок к поясу, взял в руки бластер и велел бортовому компьютеру выключить прожектора. Затем уселся, скрестив ноги, на круглой платформе и ткнул пальцем направо. – Давай туда. Иди медленно, на малой высоте, у самого горного склона. Осмотримся и поищем живность. Трафор плавно приподнялся и заскользил в полутора метрах над песком. Его движение было беззвучно, как полет бестелесного призрака в астрале; тьма послушно расступалась перед платформой и смыкалась позади, горный склон скользил по правую руку, и кое-где у его подножия торчала скудная поросль, толстые стебли то ли с ветвями, то ли с длинными шипами. Тревельяннеплохо видел в темноте, и ему почудилось, что стебли иногда колышутся или подрагивают, что при полном отсутствии ветра выглядело подозрительным. Вскоре он разглядел каких-то существ, возившихся в зарослях, и хлопнул трафора по упругой оболочке: – Видишь тех тварей? Излови-ка мне одну. Робот приблизился к кустам, стремительно выбросил манипулятор и тут же приподнял его вверх. Зажегся свет, ударивший с края платформы, и Тревельян увидел странное создание, висевшее прямо перед ним: туловище с редкой жесткой щетиной, шесть не очень длинных лап, круглая голова с тремя глазами и парой длинных ушей, вытянутое, как у свиньи, рыльце. Зверь, которого щупальце трафора обхватило поперек туловища, не пытался освободиться, не дрыгал лапами и висел совершенно неподвижно. Кажется, он не догадывался, что его поймали. – Шестилапый трехглазый кролик, – сказал Тревельян. «Скорее, поросенок, – возразил Советник. – Размер подходящий, опять же щетина и рыло…» Ивар кивнул. – Ну, пусть будет кросенок. «Не пойдет, на крысенка похоже. Лучше поролик. – Командор на секунду смолк, потом заметил: – Выглядит довольно аппетитно. Не пора тебе позавтракать?» – Давно пора. – Тревельян поднял бластер, затем, словно передумав, опустил оружие. – На разумную тварь этот поролик не похож – головенка маленькая, извилин явно немного. Никакого любопытства, и интеллект в глазах не мелькает… можно, пожалуй, рискнуть… Мозг, умертви его! – Не могу, эмиссар. Вы забыли о первой теореме психокибернетики. Если это живое существо, я не в состоянии выполнить такой приказ. – Да-да, конечно! Прости, я забыл. Лишать кого-то жизни – моя исключительная привилегия. «Если эта тварь – живая», – с недоверием пробурчал Советник. Бластер в руке Ивара приподнялся, и тонкая лазерная нить прошила череп существа. В ответ – ни крика, ни визга, ни вопля и никаких движений, похожих на предсмертную конвульсию; поролик даже лапой не дрыгнул. Его бессмысленные глаза с прежним равнодушием пялились на Тревельяна. – Интере-есно… – протянул тот. – Выходит, зверюшка-то с фокусом! – Ивар вытащил нож и приказал Мозгу: – Перехвати его за уши и держи крепче. Завтрак отменяется. Вместо него займемся вивисекцией. Нож был непростым – лезвие заточено как бритва, а сплав прочностью не уступал металлокерамике. Таким клинком древесный ствол перерубишь и не заметишь – конечно, если рубить нормальное дерево. Но шестиногий кролик оказался прочнее древесины: Тревельян нанес удар, и лезвие застряло в черепе удивительной твари. С трудом вытащив клинок, он убедился, что глубина ссадины меньше пяти миллиметров и никакой крови в ней не видно. Но на этот раз существо задергало лапами – видимо, инстинкт самосохранения был ему не чужд. – Сейчас поглядим, как ты устроен, – произнес Тревельян и располовинил поролика лазером. Мозг, выдвинув с края платформы пюпитр, опустил на него обе части тушки, от которой пованивало горелым пластиком. Распорядившись добавить света, Ивар принялся разглядывать упругую голубоватую плоть, из которой торчали синие кости и почти незаметные глазом тончайшие трубки с мутноватой жидкостью – видимо, заменявшей кровь. В голове существа не нашлось никаких признаков мозговой ткани, но вдоль позвоночника тянулся белесый жгут толщиною в палец; чего-то похожего на сердечную мышцу тоже не было, но в основании каждой из лап пульсировал звездообразный орган, разгонявший по трубкам мутную жидкость; оставшийся объем тушки занимал морщинистый мешок, разрезанный сейчас надвое, забитый сложной системой все тех же тонких трубок и какой-то темноватой массой – похоже, питательным веществом. Тревельян решил, что мешок заменяет зверьку легкие, желудок и, возможно, другие органы. В голове, под прочной черепной костью, у него обнаружилось нечто подобное шлангу, соединявшего ротовое отверстие с мешком-желудком. Закончив визуальное исследование, Ивар отодвинулся. – Сделай анализ. Манипуляторы трафора зашевелились и, словно гибкие змейки, начали тыкаться в голубоватую мышечную ткань, засасывать жидкость, касаться костей. При нужде Мозг был способен сформировать небольшую аналитическую лабораторию – весьма полезная возможность в походных условиях. Не прошло и минуты, как он доложил: – В основном, эмиссар, кремнийорганика с небольшой добавкой белковых и неорганических компонентов. Мешок заполнен остатками растительности, пищеварительный фермент – синильная кислота, кости – почти чистый силикатный окисел. Присутствуют металлы: железо, платина, медь… – Хватит, – сказал Тревельян. – Кушать его я точно не буду. Даже с имплантом мне этот шашлык не переварить. «Как эта зверюга размножается? – спросил Советник. – Есть какие-то репродуктивные органы?» – Возможно, дед, но я их не нашел. «Ну, и на что это похоже?» – На продукт искусственной эволюции. Наполовину робот, наполовину живое существо. Во всяком случае ясно, что фаата тут ни при чем. «А я что говорил! – От командора пришла ментальная волна удовлетворения. – Примитивная тварь, вряд ли способная к телепатии. Этих монстров тут много, но никаких мысленных импульсов я не ощущаю». – Я тоже, – согласился Тревельян, на мгновение прислушавшись. Затем он сбросил разрезанную тушку на песок и приказал: – Возвращаемся. Возьмем полевой комплект, и в дорогу! Добравшись до квадроплана, он осмотрел обшивку и убедился, что все пробоины закрыты акрадейтом, включая огромную дыру в правом трюме. Затем набрал воды в канистры и флягу, прошел в пассажирский отсек, съел питательный брикет и выпил все, что оставалось в кухонном агрегате, пару стаканов сока и немного коньяка, а остальные брикеты сложил в маленький контейнер. Эти сухие пластинки размером в ладонь могли превратиться в аппетитное жаркое и другие блюда, но лишь при надлежащей обработке в баре-автомате. Тащить с собой такую тяжесть Ивар не собирался, но это его не расстраивало – в полевых условиях он был неприхотлив. Сняв комбинезон, он вытащил скоб, хранившийся в левом грузовом отсеке и уцелевший при всех передрягах, натянул его и тщательно расправил – так, чтобы внутренняя поверхность прилегала к коже. Теперь он выглядел словно легендарный титан – искусственные мышцы скафандра бугрились на плечах, груди, спине, конечностях, а шлем с гребнем видеокамеры напоминал вооружение греческих гоплитов. Скоб не предназначался для работ в пустоте, не был снабжен воздушным фильтром и регенерационным модулем, но его оболочка являлась надежной защитой даже от лазерного луча. Пористая внутренняя ткань регулировала температуру и поглощала все телесные отходы, мышцы позволяли двигаться быстро и неутомимо, блок энергопитания подзаряжался автоматически от солнечного света и любых видов излучений. Большое преимущество в сравнении с кожей-биотом, которую Тревельян носил на Сайкате! Кожа усиливала мышечную активность за счет резервов организма, восполняемых только обильной едой и своевременным отдыхом. К поясу Тревельян подвесил флягу, закрепил бластер у бедра, рассовал по карманам всякие мелочи. Прихватив палатку, контейнер с пайком и запасные батареи, он встал в проеме люка и вызвал бортовой компьютер. – Загерметизируй аппарат и перейди в режим ожидания. Я появлюсь через несколько суток, местных суток. Скажем, через пять, шесть или семь. Твоя задача: ждать и сохранить корабль в целости. Все понятно? – Да, эмиссар, – прошелестело в ответ. – Реакция на внешние воздействия? – Пассивная оборона. Стрелять только при угрозе полного демонтажа. Ивар спрыгнул на землю, и люк закрылся за его спиной. Он начал грузить багаж: палатка, обойма с батареями, три канистры, пищевой контейнер… На платформе трафора для него осталось не так уж много места. – Моя грузоподъемность ограничена, – сообщил Мозг, когда Тревельян уселся на тючок с палаткой. – Перебьешься. Тут тяготение четыре пятых земного, и я не требую, чтобы ты гнал как яхта на Лунной регате. Сорок километров в час меня вполне устроят. Круглая платформа медленно приподнялась и не спеша поплыла прочь от корабля. Они направлялись на восток, в пустыню; тьма окружала их со всех сторон, и даже острое зрение Тревельяна не позволяло разглядеть ту далекую черту, где темное небо смыкалось с темной землей. Обернувшись назад, он увидел лишь неясные очертания утесов, громаду квадроплана с задранным вверх грузовым отсеком и кусты у подножия скал, где шебуршили шестиногие кролики. Под днищем его тарелки тянулась каменистая почва с песчаными проплешинами, а впереди были только мрак и неизвестность. Трафор удалился от горного склона едва ли на сотню шагов, когда в небе зажглась туманная звезда. Огонек, окруженный двойным ореолом, парил в вышине, все больше напоминая опалесцирующее ночное насекомое; его контуры то удлиннялись, то вновь превращались в светлое пятнышко, будто в воздухе танцевал мотылек или жук, высматривая место для посадки. Прищурившись, Тревельян уставился на него, потом велел роботу сбавить ход, включить видеозапись и прозондировать окрестности. – Искусственный летающий объект, эмиссар, – доложил Мозг, вытянув вверх манипуляторы с инфракрасными датчиками. – Форма примерно цилиндрическая, длина шесть с половиной метров, диаметр – около двух. Судя по совершаемым эволюциям и отсутствию ионного выхлопа, аппарат с гравитационным приводом. Последнее Тревельяна не удивило – любая техническая культура довольно быстро отказывалась от винтовых, турбореактивных и ракетных двигателей, которые потребляли ядовитое горючее, загрязняли атмосферу, сверлили дыры в озоновом экране и являлись во всех отношениях ненадежными. В планетарных условиях гравидвижок был так же незаменим, как в космосе; он обеспечивал полную безопасность полета и такую свободу передвижения, какой не обладали корабли на реактивной тяге. – Стой! – велел Ивар. – Остановись и посигналь прожектором. Пусть они поймут, что мы не прячемся. Это было не совсем верно, так как сам он спрыгнул на землю, метнулся в ложбинку среди песчаных дюн и залег там, изготовившись к стрельбе. Процедура первого контакта была разработана до тонкостей, но документ, определявший ее, принадлежал не Фонду, а разведке Звездного Флота. Главный принцип был таким: демонстрировать миролюбие, но держать чужаков на прицеле. Хочешь мира, готовься к войне, говорили латиняне. А древние индейцы майя, обитатели тропических лесов, добавляли: если собрался перешагнуть змею, прижми ей голову палкой. Небесный светлячок пошел вниз, коснулся невидимой почвы, и его сияние поблекло. Чужая машина приземлилась не так далеко от трафора, но разглядеть ее Ивару не удавалось – мешали ритмичные световые вспышки. Затем на их фоне возник темный силуэт и, слегка раскачиваясь, направился к земному роботу. «Похоже, у нас гость, – заметил командор. – Что-то он мне напоминает… Ну, конечно! Чемодан, поставленный на попа! Чемодан с ногами!» Чемоданы Ивар видел только в древних фильмах едва ли не тысячелетней давности, но сравнение оценил. К нему приближалось нечто прямоугольное и плоское, вытянутое вертикально; высота этой конструкции казалась явно больше ширины, ширина – больше толщины, и с обоих боков, посередине корпуса, к ней были приделаны ноги кузнечика с огромными ступнями. Двигался этот монстр тоже как кузнечик, прыгая на два-три метра и каким-то чудом сохраняя равновесие. «Чемодан, но ручки у него нет. Рук и башки тоже», – пробурчал Советник. – Это ничего не значит, – откликнулся Тревельян, приподнимаясь на колени. – Роботы способны к трансформации, а это несомненно робот. Поменьше, чем наш трафор, но в его корпусе хватит места для десятка конечностей. «И для оружия, – добавил командор. – Так что, малыш, не зевай! Бог знает, что упаковано в этом ходячем сундуке!» Тревельян, последовав совету деда, бластер не опустил и велел трафору усилить освещение. Видимо, чужак воспринял это как сигнал остановиться – он замер, похожий на приземистого гнома без рук и головы, но с длинными согнутыми ногами. По его корпусу блуждали световые пятна, нижний торец почти касался песка. Под черепом у Тревельяна прозвучало: «Он хочет потолковать с нашей железякой. Любопытно, с чего начнет? Ставлю свои ордена против пробки от шампанского, что с теоремы Пифагора. В двух случаях из трех начинают с нее». Но чужак заревел. В этих оглушительных воплях, перемежавшихся рыком, скрежетом и карканьем, Ивару чудилось что-то знакомое, будто звучала песня, слышанная сотню раз, но исполняемая по прихоти певца в иной тональности или с непривычным аккомпанементом. Он поднялся с колен, склонил голову к плечу, прислушался и вдруг в изумлении раскрыл рот. То была речь кьоллов, обитателей Раваны! Их грубый неблагозвучный язык, к тому же искаженный, исходивший как бы из металлической глотки чудища, произносившего звуки слишком низко и басовито, с лязгом и грохотом. Но несколько слов он все же разобрал. «Прислан владыкой! – твердил прилетевший монстр. – Хрр… Владыка дарит почет, пищу и воду. Хрр… Владыка шлет благословения… – И снова: – Хрр… Прислан владыкой!» – Это не теорема Пифагора, – произнес Тревельян, шагая к чужому роботу. – Жаль, что я с тобой не поспорил, дед. Хотя, с другой стороны, ни шампанского, ни пробки в наличии не имеется. А то бы пропали твои ордена! «Они и так у тебя хранятся, – сообщил командор. – Лежат в твоем сейфе на Земле, так что о них ты не тревожься, ты сны свои лучше вспомни. Теперь я уверен, что кто-то копался в твоей голове. Что тебе снилось? Пекло?» – Пекло, – подтвердил Тревельян. – В полный рост и весьма отчетливо. О чем думал и беспокоился, то и приснилось… Хотя не исключаю, что сны были вызваны внешним импульсом.«Местный владыка поработал, хмырь, который шлет благословения, – буркнул командор. – Но глубоко он не залез – во всяком случае, до речевого центра не добрался». Ивар кивнул, остановился перед чемоданом-роботом, прочистил горло и, взяв тон пониже, захрипел на диалекте кьоллов: – Ты кто есть? Воин, слуга, посланец? Поведай о своей сущности и сущности владыки. Где он и чего желает? Хочет мира или войны? – Есть посланец и слуга, – раздалось в ответ с жутким акцентом. – Другое… хрр… другое трудно сказать. Мало нужных слов. Не хватает, чтобы обозначить сущность. Хрр… Нет, чтобы передать и понять. – Это не есть мои слова, – пояснил Тревельян. – Это слова других, очень глупых, слова онкка. У меня много своих слов, и я дам их тебе и твоему владыке. – Он повернулся к трафору и похлопал по краю платформы. – Вот мой слуга. Он даст слова, много нужных слов. Пошлет слова прямо в то место, куда идут приказы твоего владыки. Где такое? Покажи! Он имел в виду коммутационный порт. Место, куда идут приказы владыки… Других терминов, чтобы описать это техническое устройство, в языке Кьолла не имелось. В корпусе робота, в самом центре, сдвинулся щиток, обнаружив темное отверстие. – Здесь, – каркнул посланец. – Веления владыки идут сюда. Идут через… хрр… – Он смолк, подбирая нужные понятия. – Идут через длинный, тонкий, похожий на веревку. Ее конец… хрр… должен быть такой конец, чтобы привязать к этому месту. Кабель и специфической формы разъем плюс сигналы определенной частоты и амплитуды, мелькнуло в голове Ивара. Мозг вполне мог справиться с этой задачей. – Мой слуга сделает так, чтобы привязать прочно, – прохрипел он, глядя, как трафор вытягивает в сторону посланца щупальце. Его конец вдруг распался на сотни тончайших нитей; они коснулись разъема, проникли внутрь, расплылись, меняя очертания, приспосабливаясь к чужому устройству. Щупальце, соединявшее двух роботов, вздрогнуло и застыло – сейчас Мозг определял параметры связи и область памяти для передачи данных. Алгоритм этой операции был отработан веками контактов с инопланетными расами и мыслящими механизмами с различным уровнем интеллекта. Прошли две минуты, три, четыре… Наконец раздался голос Мозга: сочным басом он доложил, что информационный канал налажен и для загрузки данных нет препятствий. Что загружать? Земную лингву? – Нет, – покачал головой Тревельян. – Это, пожалуй, лишнее, мы ведь еще не лучшие друзья. Будем общаться на языке хапторов, вариант альфа. «Мудрое решение», – одобрил командор. Языки высокоразвитых рас, даже гуманоидов, имевших сходную физиологию, сильно различались, ибо каждый народ обладал своими культурными традициями, неповторимой историей, уникальным психическим складом, своими представлениями о Вселенной и месте человека в ней, о том, что есть добро и зло, жизнь и смерть, мирское и божественное. Кроме этих отличий, связанных с философией и семантикой, существовал и чисто биологический аспект: устройство гортани, не позволявшее произносить некоторые звуки, выдерживать тональность чужой речи и говорить с должной скоростью. Эти последние трудности разрешались техническим путем или упорной тренировкой, что лишь подчеркивало разницу; войти же в круг понятий чужого языка можно было только в ментальном трансе. Но земные лингвисты давно отметили, что в сфере научных терминов, в том, что касалось физики, химии, математики и даже отчасти биологических наук, языки галактических рас смыкаются более тесно, чем в таких областях, как быт, культура, история, религия, социология. Вполне объяснимый феномен: науки о живой и неживой природе отражали объективную реальность, тот факт, что Галактика одна для всех, как и законы этой части Мироздания. Поэтому вариант альфа, он же технический жаргон землян и кни’лина, фаата, хапторов, дроми и всех остальных был понятнее, чем собственно язык; у любого народа он являлся обезличенным, привязанным не к исторической ретроспективе, не к повседневному бытию, а к категориям более вечным и неизменным. Проще говоря, дважды два повсюду равнялось четырем. Глядя на двух роботов, пересылавшего и разъяснявшего информацию и старавшегося ее принять и понять, Тревельян размышлял над тем, почему он выбрал язык хапторов. Их технический жаргон ничем особенным не отличался от вариантов альфа прочих рас и все же был им назван – с почти бессознательным желанием, чтобы его считали хаптором. Хапторов в Галактике не любили за их высокомерие, воинственность и презрение к другим разумным существам, а земляне, кни’лина и терукси не жаловали их вдвойне: хоть хапторы считались гуманоидами, облик у них был жутковатый. С Земной Федерацией они воевали в двадцать шестом столетии, и война была недолгой, но кровопролитной: после атаки на земные колонии Звездный Флот уничтожил сотни кораблей и сжег десятки баз на границе сектора хапторов. Ненависть тех времен не угасла, подумал Ивар. Контакт с местным владыкой может сложиться неудачно, и если в грядущем проистекут от этого неприятности, пусть они будут не у землян, а у хапторов. Тем более, что скоб очень похож на их боевое облачение. Он отцепил с пояса флягу, сделал несколько глотков воды и взглянул на таймер – его золотистая полоска светилась на запястье. Мозг закачивал данные в чужого робота уже двенадцать минут – видимо, какие-то понятия нуждались в толкованиях и объяснениях. Но потеря времени не тревожила Ивара; главное, что некое могущественное существо выслало к нему парламентера и, вероятно, питает мирные намерения. Владыка дарит почет, пищу и воду… владыка шлет благословения… Хрр! Кто же тогда обстрелял квадроплан над западным континентом? И кто пытался сжечь сильмарри?.. Похоже, владыка тут не один… «Верная мысль, – влез в его думы Советник. – Один стреляет, другой благословляет… Междоусобица! И затеяна не роботами, а силами иной природы – теми, кто способен убивать. Ты для них или враг, или союзник». «Хочешь сказать, что я должен вмешаться в местные свары?» – мысленно спросил Тревельян. «Нет, не хочу. Твое задание – на Пекле, вот и постарайся туда добраться. Ты нуждаешься в помощи, чтобы покинуть эту дыру, и я считаю, что даром тебе не помогут. Узнай, что им нужно, пообещай, обмани и делай ноги». «Обман – недостойное дело», – возразил Ивар. «Обман – военный тактический прием». «Мы, дед, не на войне». «Ты в этом уверен, малыш? Вернись и взгляни на свою посудину. Кажется, сейчас она похожа на заштопанный дуршлаг? Или я ошибаюсь?» Возразить было нечего, и Тревельян решил не ввязываться в споры. Тем более, если смотреть на вещи реально, старик прав: все здесь выглядит подозрительным. Солнце с единственной планетой, заброшенные в тьму Провала… Отсутствие белковой жизни… Подземелья с массой искусственных тварей, произведенных неведомо кем… Чья-то враждебность, столь же непонятная, как миролюбие… Гнетущая пустота, пустые горы и равнины – при том, что технология тут на высоте… Он посмотрел на чужого робота и увидел, как Мозг отдергивает щупальце. Затем послышался голос трафора – на этот раз нежное контральто: – Работа завершена, эмиссар. Можете с ним разговаривать. Заметив, что все еще держит в руках излучатель, Ивар сунул его в зажим у бедра и сказал на альфа-хапторе: – Уточни твой статус. – Контактер. Искусственный отпрыск владыки Фарданта Седьмого. Голос был шелестящим, выговор – ясным, отчетливым, без рева, лязга и хрипенья, и слов, кажется, хватало – все же хапторы являлись цивилизованной расой. – Кто я для тебя и твоего хозяина? – спросил Тревельян. – Существо из Внешнего Мира. Пришедший из Великой Пустоты. Этим термином почти все расы в Галактике обозначали космос, и робот-посланец взял его из альфа-хаптора. Синонимы – межзвездное пространство, космический вакуум – употреблялись реже и несли меньшую смысловую нагрузку. То, что разделяло звезды, было не просто вакуумом или пространством, но Пустотой, Великой Пустотой. Ивар присел на край платформы и оперся на тюк с палаткой. Стоявший напротив Контактер ритмично покачивался между длинных ног, будто плоская гирька часового маятника. Приемный порт был снова спрятан под щитком, и на корпусе робота горели шесть световых пятен – видимо, датчики, воспринимавшие изображения и звуки. – Твой владыка понял верно: я – Пришелец из Великой Пустоты, – сказал Тревельян. – А кто твой господин? Искусственное создание, подобное тебе? – Ответ отрицательный. Он потомок обитателей этой планеты. – Где же они, эти обитатели? Ритм покачиваний сделался чаще. Был ли это способ подчеркнуть эмоции?.. Но голос робота звучал по-прежнему сухо и ясно. – Население этого мира погибло. – Причины? – Недостаток ресурсов, взаимное истребление и вырождение. Владыка даст более подробную информацию. – Владыка – биологический объект? В техническом жаргоне хапторов понятие «биологический» означало «белковая структура». Если вспомнить про шестиногих тварей, данный вопрос нуждался в уточнении – возможно, кремнийорганика была основой местной жизни. – Отчасти биологический, – сообщил Контактер. – Ядро владыки – мозговые ткани нескольких его предков. Но в результате шести обновлений его протяженность и мощь возросли. К основному ядру добавилось много модулей и отпрысков. «Киборг, – проворчал Советник, – проклятый киборг! Никогда не доверял киборгам!» «У нас их просто нет», – напомнил Тревельян. На Земле не сращивали человеческий мозг с механизмами; правда, этот запрет не являлся законом, а носил этический характер. Окинув взглядом темное небо, он подумал, что эта ночь будет длиться еще часов десять, если не больше. Но мрак его не угнетал; ему доводилось бывать на планетах, которые при свете дня выглядели много страшнее безлюдной пустыни Хтона. Взять хотя бы Пекло или Селлу, где чудовищные растения высасывали кровь… Там, на Селле, ночь была самым спокойным временем – во тьме жизнедеятельность хищных джунглей замирала. – Значит, владыка Фардант, твой повелитель, добавил к биологическому ядру много модулей и отпрысков, – произнес Ивар. – В том числе, тебя? Как он тобой управляет? Ментально? – Ответ отрицательный. Ментальная связь с отпрысками невозможна. – Внезапно присев и чиркнув нижним краем корпуса по песку, робот сообщил: – Это полуавтономный агрегат. Создан для контакта с Пришедшим из Пустоты. Создан убедить его в добрых намерениях владыки. – Твой владыка знает, что такое добро и что такое зло? Эти понятия формулировались на альфа-хапторе с предельной ясностью, без разночтений и тумана оговорок, свойственных земным философам. В отличие от этой публики, хапторы не любили копаться в сложных нравственных императивах. – Добро – процветание, победа и изобилие энергии, зло – поражение и разрушение, недостаток ресурсов и коллапс, – произнес Контактер. Затем подумал и добавил: – Владыка Фардант Седьмой есть добро. – Готов согласиться, – отозвался Тревельян. – Но над западным континентом – тем, что лежит за морским проливом, – мой корабль обстреляли. Твой господин об этом знает? – Знает и считает злом. Но его территория не на западе, а на юго-востоке. Там Существо из Внешнего Мира будет в безопасности. – Ритм раскачиваний робота изменился – теперь он был неторопливым и плавным, с большой амплитудой, будто Контактер снова и снова кланялся Тревельяну. После нескольких таких поклонов он сообщил: – Владыка ждет. Здесь плохое место, слишком далекое от стражей границы. Здесь нельзя задерживаться. «Видишь, и граница тут есть, и стражи! – встрепенулся командор. – Этот ящик прав, лучше убраться отсюда. Кончай, парень, лясы точить!» – Что ж, пойдем, – сказал Тревельян и зашагал к летательному аппарату. Шел он легко, хотя временами проваливался в песок по щиколотку – мощные мышцы скоба несли его как на крыльях, словно он был ночной птицей, парившей над безмолвием дюн и камней. Трафор, подсвечивая прожектором и придерживая щупальцами груз, двигался следом, Контактер замыкал их маленькую процессию. Скрип песка под его огромными ступнями был единственным звуком, который улавливали уши Ивара. Внезапно он повернулся и, отыскав взглядом темный прямоугольник Контактера, произнес: – Мой корабль атаковали на западе, а территория владыки Фарданта – на юго-востоке. Значит ли это, что он здесь не единственный властелин? Существуют и другие? Те, у которых свои понятия о добре и зле? – Ответ положительный, – донеслось из темноты. Больше робот не сказал ни слова.
Глава 9. Сражение
Аппарат плыл между темным небом и темной землей словно батискаф в лишенных света океанских глубинах. Это была странная конструкция: решетчатый каркас из какого-то прочного материала, имевший форму огурца, с массивными цилиндрами двигателей на обоих концах. Пространство между ними предназначалось для груза и пассажиров, но эти последние явно не принадлежали к гуманоидам и вообще к живым существам. Люди и им подобные путешествуют сидя или лежа, для чего необходимы кресла, койки или, на худой конец, криогенные саркофаги; если же путники стоят, то под ногами у них пол, а сверху потолок. Здесь ничего такого не имелось; для размещения нижних конечностей существовали небольшие выступы, а верхнюю часть тела удерживали гибкие захваты, прижимавшие пассажира к раме. Этот каркас, состоявший из двенадцати тонких продольных стержней и такого же числа соединенных с ними колец, более всего напоминал древнюю корзину для бумажного мусора, сплетенную из проволоки. Внешняя обшивка отсутствовала, и в пустоты в половину метра можно было бы запросто провалиться, если бы не окружавший машину светящийся силовой экран. Судя по всему, этот воздушный транспорт предназначался для перевозки роботов, и, хотя он был невелик, набивалось их сюда изрядно – Тревельян насчитал четырнадцать подножек и гибких креплений с каждой стороны. Сам он устроился поудобнее в этой пустотелой решетчатой корзине, опустившись на платформу трафора, который цеплялся щупальцами за стержни каркаса. Контактер стоял рядом; большие ступни упирались в подножку, корпус охватывала широкая лента, прижимавшая его к поперечному кольцу. Движение, каким бы стремительным ни был полет, не ощущалось – видимо, силовой экран предохранял от встречного воздушного потока. Казалось, что они висят в черной пустоте, где единственными маяками были мерцавшие на краю Провала звезды. С земли аппарат поднялся плавно, никакого гула двигателей Ивар не слышал и потому заключил, что у машины действительно гравитационный привод. Это вселяло надежду; вероятно, местные обитатели, кем бы они ни являлись, могли помочь в ремонте квадроплана. Их летательный аппарат, несмотря на простоту, был изделием высокой технологии, а значит, у них имелось необходимое производство. И там они собирали не только роботов и транспортные суда, но кое-что еще: на двух поперечных кольцах, более массивных, чем остальные, были закреплены стволы излучателей. Хтон, мертвый мир с точки зрения живого существа, знал войну, и это тревожило Ивара. Война, как его учили, являлась борьбой за некие преимущества, определяемой жадностью, честолюбием, стремлением к власти и славе – в общем, была прерогативой разумных тварей. Если в битвах сражались роботы, автоматические боевые корабли и другие механизмы, за ними всегда стоял разум живых созданий и негативные чувства, ненависть, страх, эгоцентризм, властолюбие. Теоретически можно было представить цивилизацию мыслящих машин, даже вообразить движение их некросферы к прогрессу, но таких прецедентов, как войны, инициированные роботами и только роботами, Галактика не знала. В подобных делах Тревельян, как и другие сотрудники ФРИК, опыта не имел. Но эти местные владыки, интеллекты с массой вспомогательных устройств, которых они называли отпрысками, – являлись ли они в полном смысле некросферой? Контактер упомянул, что исходное ядро Фарданта состоит из нейронных тканей некогда живых существ – значит, его сотворили как симбиоз живого и неживого, как композитную личность. Как киборга? Да, в каком-то смысле, но способного к развитию, не сожалеющего о потере прежних сущностей и тел и, вероятно, стремящегося к некой цели. Какой? И сколько таких владык на Хтоне? Как минимум, два; один оказался врагом, другой предлагает пищу, воду и почет – словом, искреннюю дружбу. «Это твои фантазии, – заметил командор, подслушавший мысли Тревельяна. – Не своди все к черно-белой ситуации враг-друг. Реальность сложнее бинарной логики». «Конечно, – согласился Ивар. – Я лишь пытаюсь выстроить первую модель, самую простую». «Простые модели обманчивы, парень. У нас мало данных, а потому попробуй выяснить что-то еще. Например, о других владыках. Источник информации – перед тобой». «Кажется, он не расположен говорить на эту тему». «Не расположен, ха! Клянусь Великой Пустотой, по временам твоя наивность изумляет! Ты человек, а это значит, что хитрости в тебе побольше, чем у робота. Больше, чем у этого полуавтономного чемодана! Разговори его!» – Гмм… – произнес Тревельян. Потом добавил: – Хрмм! – и перешел на альфа-хаптор: – На юго-востоке я наблюдал зону, покрытую растительностью, и многочисленные полости в земле. Их обнаружили анализаторы моего корабля. Мы летим в этот район планеты? Молчание. – Там находится твой владыка Фардант Седьмой? Опять ни слова. – Это постоянное место его пребывания? Мертвая тишина. – Послушай, – сказал Ивар, – ты утверждаешь, что создан для контакта. Контакт означает общение, то есть двухстороннюю передачу информации. Я сделал немало – научил тебя своему языку, передав массив как минимум в сто тысяч символов, не считая разъяснений. Информация, полученная от тебя, на два порядка меньше. Ты, Контактер, считаешь это нормальным? – Данное устройство действует в рамках полученных инструкций, – прошелестел робот-чемодан. Уровень его псевдопсихики – так кибернетики обозначали «душу» мыслящих устройств – был, очевидно, таким же, как у земных компьютеров среднего класса, и лежал чуть выше порога Тьюринга. Если в подобный агрегат заложить программу персонификации, он будет упоминать о себе в первом лице, использовать местоимение «я» и при аудиоконтактах его не отличишь от человека. Это, тем не менее, не означало, что устройство обладает самосознанием; его «я», «мне», «мое», «меня» генерировалось чисто программным путем. Без надлежащей программы такие искусственные разумы описывали самих себя без помощи личных местоимений, употребляя слова «это устройство», «этот агрегат» и тому подобное. Такая терминология служила знаком ограниченных мыслительных способностей, тогда как более высокий искусственный интеллект мог обрести индивидуальность и осознать себя в полной мере. Но это достигалось не путем внешнего программирования, а в процессе внутреннего развития, в контакте с людьми, в результате долгого воспитания или резких эмоциональных нагрузок. Мозг, увезенный Тревельяном с Сайкатской станции, получил самосознание именно таким путем, став полноценной личностью. Контактер, похоже, был к этому не способен. Ну, не всем танцевать менуэт, кому-то нужно и пол мести, решил Тревельян, вновь подступая к Контактеру: – Твои инструкции запрещают упоминать конечную точку полета? – Ответ отрицательный. – Тогда скажи, куда мы направляемся. – На юго-восток. В ту зону с полостями, которую упомянул Пришедший из Пустоты. Там вместилище владыки Фарданта. – Когда мы к нему доберемся? Робот назвал меру времени хапторов, которая примерно составляла пять с четвертью часов. Ивар довольно кивнул. – Так, уже лучше! А где мы пребываем сейчас? – Вблизи границы. – Эта граница отделяет область Фарданта от земель других владык? – Владыки Фарданта, Пришедший из Пустоты, – почтительно произнес Контактер, дождался, пока вопрос не повторят с необходимым титулованием, и ответил: – Граница отделяет домен владыки от гор и пустыни. – А что за ними? Другие владения? – Ответ положительный. «Разговорился! – возликовал командор. – Дожми его, только осторожно!» Тревельяну хотелось узнать, сколько на Хтоне таких независимых владений, но прямой вопрос был бы, наверное, преждевременным. Он поглядел на таймер, прикинул, что скорость этой проволочной корзинки невелика, но все же километров четыреста они одолели. Значит, граница лежала примерно на таком расстоянии от пункта посадки квадроплана. – Ты говорил, что границу охраняют стражи, – снова начал он. – Они похожи на тебя? – Нет. Это сокрушители. – Кого же они сокру… Над аппаратом промелькнула молния, в воздухе раскатился грохот, и незащищенное лицо Ивара опалило нестерпимым жаром. В яростном блеске на миг высветилась земля, до которой было метров двести-триста, вздыбленные крутые холмы, поросшие странными, похожими на блюдца цветами, огромные плоские камни и темная паутина трещин и оврагов. Затем снова наступила темнота, мнившаяся по контрасту еще более глубокой и беспросветной. Но мрак отступил не дольше чем на секунду; молнии ударили вновь, их длинные голубоватые стрелы протянулись сверху, снизу, со всех сторон, погрузив Тревельяна в жаркое грохочущее пламя преисподней. Он сообразил, что их обстреливают из метателей плазмы и что атака ведется сзади и сверху, где, очевидно, зависли машины врага. Залпы не повредили летательный аппарат; похоже, их не собирались распылить на атомы, а вынуждали приземлиться. Эта мысль была верной – аппарат ринулся вниз, к спасительной земле, где холмы, овраги и скалы сулили убежище. В зыбком свете плазменных вспышек Ивар разглядел, что почва под ними будто вскипела: из трещин, из щелей под каждым камнем хлынули потоки многоруких монстров в блестящих панцирях, из цветочных зарослей высунулись стволы, и ответный залп выплеснул в небо сотни огненных копий. «Попали мы в заварушку! – рявкнул под черепом командор. – Ты уж, парень, не высовывайся! Забейся в щелку и сиди тихо!» Именно это Тревельян и собирался сделать. Какие бы силы ни вступили в битву под небесами Хтона, то была не его война. Платформа под ним заколебалась. – Ваши распоряжения, эмиссар? – тонким голоском спросил Мозг. – Следовать за мной, вести запись и беречь имущество, – распорядился Ивар, поворачиваясь к Контактеру. – Объясни, что происходит. Почему на нас напали? Кто напал? – Матайма или Гнилой Побег. – Видеодатчики на корпусе робота поблекли, ступни подрагивали, словно он готовился бежать. – Но здесь граница, здесь много сокрушителей владыки. Они защитят Пришедшего из Пустоты. – Ну-ну, – сказал Тревельян и лязгнул зубами – их машина резко приземлилась. Но не она одна – с неба пролился дождь извергающих пламя болидов. Эти устройства не уступали величиной его аппарату, но выглядели иначе – плоские змеи или гусеницы с броневым покрытием, безголовые, но с округлыми горбами, откуда торчали стволы метателей. Вал этих монстров ринулся к холмам, а навстречу ему хлынули легионы защитников, чудовищных многоногих жуков, а может, пауков – в мерцающем свете плазменных молний Тревельян не успел разглядеть их как следует. Между кольцами его машины возник проход, он бросился туда, преодолел слабое сопротивление силового поля и помчался вверх по склону холма. Контактер, показывая дорогу, резво прыгал впереди, его безрукое туловище раскачивалось между длинных ног, на задней части корпуса горели световые пятна – очевидно, он ни на секунду не выпускал Ивара из вида. Они поднялись к огромному валуну, придавившему холм, и перед Тревельяном раскрылся зев пещеры. Последние защитники покидали ее, торопясь в битву: грозно растопыренные клешни, когтистые лапы, цилиндры излучателей по бокам, сверкающие панцири. Теперь Тревельян рассмотрел их как следует – они и правда походили на жуков размером с одноместный краулер. «Боевые роботы, – заметил призрачный Советник. – Не такие эффективные, как наши УБРы [49], но для драки годятся. Посмотрим, малыш?» – Непременно, – отозвался Ивар. Мозг, принявший форму торпеды, шмыгнул мимо него в пещеру. – Быстрее, Пришедший из Пустоты, – раздался голос Контактера. – Здесь надежное убежище. – Куда торопиться? Пока нам никто не угрожает. Встав на пороге, Тревельян включил видеозапись и обвел взглядом высокие холмы. Вероятно, это были искусственные сооружения – они тянулись налево и направо, чередуясь в шахматном порядке, так что ложбины в первом ряду перекрывали возвышенности во втором. Со своего места он не мог увидеть, сколь глубока эта линия обороны, но, вероятно, двумя рядами она не ограничивалась. Каменные глыбы, венчавшие холмы, имели разнообразную форму и походили то на шлемы, то на плоские шапки, то на руины древних строений; почти под каждой такой скалой темнело отверстие входа, а прямо над ним торчали стволы метателей. Растительность с блюдцеобразными цветами, которые Ивар заметил сверху, исчезла, но вскоре он разглядел приникшие к земле шары из плотно сжатых лепестков – видимо, то были какие-то устройства для наблюдения, связи или сбора энергии. Пейзаж разительно отличался от пустыни и гор, где совершил посадку квадроплан – не дикая местность, но рубеж, укрепленный по всем правилам местной фортификации. Перед ним, на песчаной равнине, в блеске голубоватых потоков плазмы, шла апокалиптическая битва. Она разворачивалась стремительно; сотни механических бойцов с той и другой стороны стали уже грудами оплавленной керамики или растеклись в пылавшие багровым лужи, но ожесточенная схватка не затихала. Атакующие и оборонявшиеся перемешались на пространстве двух или трех квадратных километров, залпы излучателей сделались реже, и в ход пошли клешни, резаки, когтистые лапы и таранные удары бронированных туш. Ивар видел плоскую гусеницу, что вытянула корпус вверх и жгла из лучеметов многоногого робота; несколько жуков облепили ее снизу, вгрызаясь в неподатливый панцирь. Другая машина из числа нападавших попробовала взлететь, но жуки висели на ней целыми гроздьями; похоже, они добрались до двигателей – летающая гусеница вдруг рухнула с восьмиметровой высоты и взорвалась, похоронив десяток победителей. Такие огненные фонтаны все чаще вспыхивали над массой сошедшихся в схватке чудовищ, наполняя воздух дымом и раскаленными обломками. Сражение не было безмолвным – лязг и скрежет, хищное шипение разрядов, визг резаков и звон столкнувшихся тел временами перекрывались грохотом очередного взрыва. Вместе с огнем и обломками вверх летели тучи песка, и мнилось, что все это механическое воинство старательно закапывается в землю, чтобы там, в недрах Хтона, растерзать врагов и упокоиться на веки вечные. Тревельян был потрясен. Ему приходилось участвовать в схватках и крупных сражениях, но в любом из них бились люди, а значит, существовал предел противоборству: если треть войска пала, враг бежал, если отряд окружили, враг сдавался. Но битва машин не признавала компромиссов и хоть была бескровной, велась до последней капли энергии и до последнего механизма, способного стрелять и двигаться. Жестокое зрелище, подумал Ивар и тут же решил, что мысль неверна: жестокость – прерогатива человека. Не жестокое, нет – просто жуткое. «Ты такое видел, дед?» «Разумеется. – Пауза. – Видел и знаю, что с непривычки можно окочуриться. Когда мы отбивали у дроми Тхар, был сброшен десант вместе с роботами. Наши УБРы против их механических жаб… То еще побоище, малыш! Мне стукнуло двадцать, и я сражался в группе поддержки. Я это видел… И до седых волос не мог забыть!» Поле перед холмами шевелилось как живое. Изломанные полуразбитые механизмы терзали друг друга под покровом наползавшей тьмы; по мере того, как редели вспышки молний, она становилась все более непроницаемой и густой. Тревельян уже не мог различить отдельные машины, ни гусениц, ни жуков. Но атака противника явно захлебнулась. – Думаю, наши одолевают, – сказал он вслух. «Какие наши? Наших тут нет, – проворчал командор. – Тут все кругом чужие. Мерзкие железные ублюдки! Тень других ублюдков – тех, что населяли этот мир!» – Я про жуков, – уточнил Тревельян. – Они, вероятно, стражи границы, упомянутые Контактером. Отпрыски-сокрушители Фарданта. Советник издал ментальный смешок. «Надеюсь, он не идиот и подготовил резервные части». – Что ты имеешь в виду? «Тактику и стратегию, малыш, тактику и стратегию. Враг нанес удар, выманил защитников из укрытий и связал боем. Теперь пора ударить вторично. Если ударят, кто защитит эту фортецию? Есть ли резерв, или граница оголена?» – А ведь в самом деле… – Тревельян хотел почесать в затылке, но пальцы наткнулись на шлем скоба. – Всамом деле, дед! Пойду-ка я побеседую с Контактером. Не пора ли убираться отсюда, пока не поздно… Он повернулся, но в этот миг небо озарили молнии, огненный ливень пал на сражавшихся, не разбирая своих и чужих, и страшный взрыв потряс воздух. Вспышка ослепила Ивара, грохот оглушил его, а ударная волна сшибла с ног и бросила на колени. Он вцепился пальцами в землю. Если бы не скоб, мощный порыв воздуха швырнул бы его в пещерный тоннель и, ломая кости, покатил по каменному полу. Ожил медимплант, насыщая кислородом кровеносные сосуды глаз; сквозь слезы и мелькание темных пятен Тревельян разглядел жидкую пылающую массу, что колыхалась на месте поля боя, и сотни летательных аппаратов, спускавшихся на холмы. Но ни один защитник не вышел им навстречу. «Второй удар, – проинформировал Советник. – Пора уходить, малыш. Точно пора!» Поднявшись с колен, Ивар юркнул в тоннель, ведущий с поверхности в глубь пещеры, и сразу наткнулся на Контактера. Его верный спутник не исчез в безопасных глубинах, а, повинуясь инструкциям и долгу, терпеливо поджидал Существо из Внешнего Мира. За ним маячил трафор, принявший вид усеченного конуса; его верхушка была вогнута, и там, словно в корзине, лежали канистры, тюк с палаткой и прочее имущество. – Вниз! – приказал Тревельян на альфа-хапторе. – Вниз, соратники, да поживей! Наверху припекает! Ты, – он хлопнул по корпусу Контактера, – показывай дорогу! Оказалось, что Контактер может двигаться с изрядной скоростью, прыжками вдвое длиннее прежних. Мозг не отставал; что до Ивара, то могучие мышцы скафандра почти без усилий несли его вперед, а медицинский имплант подбрасывал в кровь адреналина. Они промчались по коридору, что извивался крутыми зигзагами, миновали широкий пандус и очутились в подземном каземате – видимо, служившем арсеналом. Его середина была пуста, вдоль стен тянулись мерцавшие неярким светом порожние ячейки для роботов-жуков, а в дальнем конце зияли отверстия трех тоннелей. Остановившись, Тревельян махнул в их сторону рукой. – Эти проходы ведут в другие камеры? – Да, Пришедший из Пустоты. Все подземные помещения связаны в единую систему. В них обитают стражи границы. – Не вижу ни одного, – сказал Тревельян, покрутив головой. – Атака была внезапной. Кто-то из бессмертных отправил сюда много своих сокрушителей. Ивар нахмурился, его лоб прорезали морщины. – Бессмертных? Во Вселенной нет ничего бессмертного и вечного. – Но повелители этого мира бессмертны, Пришедший из Пустоты. – Ладно, пусть так! – Решив, что разберется с этим попозже, он спросил: – Скоро ли придет подмога? Другие стражи? Контактер закачался между ног-ходулей. – Неизвестно. Это устройство не может получить инструкции от владыки. Враги экранируют связь. «Не рассчитывай на быструю помощь, – посоветовал командор. – Чтобы отбить нападение, собраны большие силы, и думаю, что граница оголена на много километров. Но наверху есть метатели плазмы. Кажется, довольно мощные орудия. Если они задержат десант, ты успеешь смыться». – Вопрос, куда, – пробормотал Тревельян и снова повернулся к Контактеру. – Ты, должно быть, знаешь план подземелий. Есть ли поблизости место, где можно отсидеться? Пол под его ногами ощутимо дрогнул, с потолка посыпались мелкие камни – орудия дали залп. Контактер присел, то ли испугавшись, то ли пытаясь сохранить равновесие. – Если чужие сокрушители блокируют входы и выходы, на поверхность не попасть, – произнес он ровным голосом. – Затем побеги врага начнут обыскивать подземелье. Они двигаются очень быстро и могут прокладывать новые тоннели. Здесь от них не уйти. Новое сотрясение, более мощное, едва не сбило Тревельяна с ног. Возможно, враг ответил ударом на удар, уничтожив защитные батареи. Или они еще действовали?.. Задрав голову, он увидел, что на потолке проступила сетка мелких трещин. – Нужно уходить отсюда, – Ивар двинулся к тоннелям. – Надеюсь, у тебя есть запасной план. Контактеры обычно предусмотрительны. – К северу от укреплений границы лежит древний город, – молвил робот за его спиной. – Его руины занесены песком, но подземная часть и транспортная магистраль должны сохраниться. Не очень надежное убежище, но спрятаться там можно. Обогнув Тревельяна, Контактер прыгнул в средний проход, уходивший в непроницаемую тьму. Едва беглецы очутились под его сводами, как сзади с треском и грохотом рухнул потолок. В воздухе закружилась мелкая пыль, мешая разглядеть дорогу, испуганный трафор ринулся вперед, ударил Ивара под колени, но, выдвинув сиденье, успел подхватить его и спеленать гибкими щупальцами. – Отпусти меня, дурачок. – Тревельян встал на ноги и вытащил из зажима бластер. – Не паникуй и включи прожектор. – Я обязан принять меры к вашему спасению, эмиссар. – Спасай еду и воду. Без пищи я определенно загнусь. – Ивар вскинул оружие и обвел лазерным лучом периметр прохода. В лицо пахнуло жаром. Вновь загрохотали камни, и, окончательно закупоривая тоннель, потекла багровая лава. – Можно шагать побыстрее, – сказал он в спину Контактеру. На время они были в безопасности. В луче прожектора тянулись грубо обработанные желто-серые каменные стены, коридор то шел ровно, то начинал вилять, изгибаясь раз за разом под прямыми углами, иногда попадались глубокие темные ниши и проходы, ведущие к камерам-арсеналам. Дважды им пришлось пересечь заполненные ячейками помещения, но жуков-защитников в них не было – надо думать, они погибли при первой атаке. Разглядывая породу, в которой был вырублен этот подземный лабиринт, Ивар мрачнел все больше и больше – их окружали не прочный базальт или гранит, а слои песчаника. Ему вспоминалось предупреждение Контактера – вражеские машины двигаются быстро и могут прокладывать новые тоннели… Пробить ходы сквозь мягкий песчаник не составляло большого труда. Они свернули в другой коридор, потом в третий и четвертый. Их проводник двигался уверенно – видимо, план лабиринта был впечатан в его память. Кроме прожектора трафора тут не имелось другого света, и Тревельян заключил, что стражи границы в нем не нуждаются. Коридоры казались довольно широкими и высокими, рассчитанными на передвижение масс защитников, но ни одного жука навстречу беглецам не попадалось. Далекие звуки, шорохи и потрескивания, которые улавливал чуткий слух Ивара, шли не из глубин подземной цитадели, а с поверхности – может, орудия еще метали плазму, а может, враг уже сломил защитников, и теперь огромные плоские гусеницы расползались в лабиринте, сокрушая его стены. – Контактер! – Голос Тревельяна гулко раскатился в тоннеле. – Скажи, такие нападения бывают часто? – Ответ отрицательный. Владыки поддерживают динамическое равновесие. Масштабная атака и неизбежные потери ослабят нападающую сторону, и в результате… – Нас преследуют, эмиссар! – трагическим контральто выкрикнул Мозг. – Слева и справа… еще сверху… Мой локатор фиксирует три объекта значительной протяженности. До того, который над потолком, осталось… Свод треснул, и вниз посыпались пыль и щебень. «Излучатель на максимум! К бою!» – рявкнул командор. В луче прожектора засверкали броневые пластины на панцире огромной гусеницы; она протискивалась в щель, и резаки на ее корпусе бешено вращались, перемалывая камень. Контактер шарахнулся в сторону. – Огонь! – сам себе скомандовал Ивар. Тонкий фиолетовый луч перечеркнул панцирь, располовинив врага; передняя часть с грохотом рухнула на пол, задняя застряла в отверстии. Конечно, бластер Тревельяна не мог сравниться с горным лазером, оставшимся на корабле, но все же это было мощное оружие. Десантники Звездного Флота пользовались им в ближнем бою. – Сзади! – завопил трафор. Тревельян обернулся и прожег дыру в броне гусеницы, что лезла из левой стены. Справа песчаник тоже поддался под напором резаков и гигантского корпуса, и он всадил туда весь оставшийся заряд. Потом извлек из рукоятки батарею и заменил на новую. «Круто! Сразу видно, моя кровь! – восхитился командор. – Эх, был бы у нас такой лазер на Сайкате, мы бы живо всех успокоили!» Но вспоминать о сайкатских приключениях времени не оставалось. – Для генерального сражения энергии все равно не хватит, – молвил Ивар и, перешагнув через обломки чужого робота, ткнул Контактера стволом. Затем перешел на альфа-хаптор: – Так мы говорили о неизбежных потерях и их результате… Ну, и каков же он? – Владыка, сохранивший больше сил, уничтожит противника, – отозвался его проводник и вновь запрыгал по коридору. – Значит, это нападение – экстраординарный случай. И чем же оно вызвано? – Пришедшим из Пустоты. Все видели его корабль, все ощутили его ментальную волну, и все хотят его пленить. – Зачем? – У каждого свои причины. Ответ был явно уклончивым, но Тревельян решил не настаивать. Тактику переговоров с инопланетянами, которой придерживался ФРИК, разрабатывали лучшие умы на протяжении столетий, причем учитывалось, что собеседник, даже искусственный разум, может лгать. Ложь была реакцией на нежелательные вопросы, а потому сбор сведений производили большей частью косвенным путем, извлекая истину из намеков, жестов, ментальных импульсов и замечаний, казалось бы, не имевших отношения к делу. С роботами и разумными машинами так получалось не всегда, однако Фонд настаивал на выполнении своих рекомендаций. И был совершенно прав, ибо искусственные интеллекты, включая сервов [50] лоона эо, несли неизгладимый отпечаток разума своих создателей. – Помнится, ты упомянул Матайму и еще одного владыку, – молвил Тревельян, шагая вслед за Контактером. – Владыку со странным именем Гнилой Побег… Кто же из них напал на твоего господина? – Гнилой Побег. – Почему ты так думаешь? – У Матаймы другие сокрушители, и его домен лежит далеко на северо-востоке. А домен Гнилого Побега рядом, на западном берегу. Ближе, чем вместилище владыки Фарданта. – За морем – континент, где обстреляли мой корабль. Может быть, враг пришел оттуда? Кто там обитает? – Тер Абанта Крора. Но эти сокрушители – не его и не владыки Дазза Третьего. – В этом мире пять владык? Трое на большом материке и двое – на малых, за морем? – Ответ положительный, – сообщил Контактер, не прекращая стремительных прыжков. «Наконец-то мы разобрались с местной геополитикой! – От Советника пришла волна довольства. – Выходит, диспозиция здесь такова: население вымерло, завещав территорию пяти киборгам-ублюдкам, что пакостят по мелочи друг другу. А нынче появился ценный фрукт, и все желают поскорей его схарчить… Ну, что скажешь, парень?» «Нормальная гипотеза, вполне приемлемая. – Тревельян вздохнул. – Осталось выяснить сущие мелочи: как Хтон очутился в Провале и в чем моя ценность». «Мозгов у них недостает, – предположил командор. – Кто твой к себе прибавит, тот и будет главный пан». «Есть другие соображения, дед?» «Есть, но только неприличные. Ты с чемоданом на альфа-хапторе толкуешь, а он нюансов не передает… Вдруг тут не владыки, а владычицы, пять изголодавшихся баб! Представляешь?» Но ничего представить Ивар не успел – позади раздался лязг, и, повернувшись, он обнаружил, что за ним ползет полуразбитая гусеница. Видимо, та, что вылезла из правой стенки, мелькнула мысль. Живучая, однако, тварь! Под одобрительное мурлыканье командора он раскромсал ее лазерным лучом. – Мозг, кто-то еще нас преследует? – Вблизи никого, эмиссар, – доложил трафор. – Но в плотной среде мои возможности ограничены. Максимум действия локатора – метров сто – сто пятьдесят. Дальше… – Он в задумчивости принял форму сферы с гигантским, похожим на человеческое, ухом. – Дальше я фиксирую сотни объектов, но не отчетливо. Не могу утверждать, находятся ли они в тоннелях или прокладывают ходы в породе. – Этого достаточно. Молодец! Про запись не забыл? – Запись ведется непрерывно, эмиссар. Итак, роботы врага все же проникли в подземелье… Внезапно Ивар ощутил тяжкое ярмо усталости. Скоб и медицинский имплант трудились исправно, и его ощущение скорее всего не было связано с физиологией, а являлось следствием нервной перегрузки. Тьма нескончаемой ночи, странное создание, служившее ему проводником, полет в беззвездных небесах, губительный блеск молний, жуткая схватка сокрушителей и бегство – все это разом навалилось на него, выжимая, выдавливая последнюю энергию. Мысли стали вялыми, зыбкими, как утренний туман, и казалось, что еще секунда-другая, туман рассеется и в голове воцарится звенящая пустота. Он посмотрел на таймер, убедился, что до рассвета еще пять часов, и подумал: надо отдохнуть. Поесть, выпить воды, поспать… Хотя бы с полчаса – пища и имплант сделают остальное. Тоннель вывел их в просторный зал, стены которого тонули во мраке, если не считать разноцветных светящихся линий, что оконтуривали проходы. Судя по их количеству – десятка три, если не больше – и по тому, что в центре зала смутно угадывались силуэты каких-то огромных машин, это помещение было не арсеналом, а транспортным узлом или пунктом контроля. Здесь Контактер остановился и начал медленно поворачиваться. Пятна видеодатчиков на его корпусе сделались интенсивнее, стали двигаться быстрее, и Тревельян решил, что его спутник осматривается. Наконец робот сказал: – Один из тоннелей ведет к магистрали, что тянется на север до самого города. Расстояние… – Он назвал меру, что соответствовала тремстам двадцати земным километрам. – Очень далеко, – с усталым вздохом признался Тревельян. – Долго добираться. – Нет, если магистраль еще действует. Но это очень древний механизм, Пришедший из Пустоты. Надо проверить, в каком он состоянии. – Ну так иди и проверь, – сказал Ивар, опускаясь на пол. – Пошлешь сигнал моему роботу, и мы придем к тебе. В какой тоннель мы должны нырнуть? Каким он обозначен цветом? – На языке, которому обучили данное устройство, цвет называется парр-ахаша. – Пятый синий у хапторов… синий с сиреневым оттенком… – пробормотал Тревельян и закрыл глаза. – Ну, ты иди, дружок, иди… отправляйся. Сон его был коротким, но глубоким, и приснилась ему Анна Кей, девушка с портрета. Будто стоит он в коридоре у ножек юной красавицы и рассказывает, как слетал на безлюдную планету, где пасутся в кустах шестилапые роботы-кролики, где обитают пять владык со странными именами, и один из них прислал к нему монстра, похожего на чемодан, но, в сущности, неплохого парня; он, Ивар, поднялся с этим созданием в небеса в корзинке из проволоки, а потом, когда их сшибли наземь, долго блуждал в подземелье, где за ними гонялись бронированные гусеницы. В его пересказе история выходила не очень страшная и даже, пожалуй, смешная – Анна то и дело улыбалась. Очнувшись, он поглядел на таймер и выяснил, что сон длился тринадцать с половиной минут. Съев плитку сухого рациона, Ивар выпил воды, вытряхнул последние капли в ладонь, протер лицо и почувствовал себя освеженным. Затем наполнил флягу из канистры и спросил: – Что сообщает наш приятель? – Ничего, эмиссар, – отозвался Мозг. – Если бы пришла информация, я бы вас разбудил. «Странно, – проворчал призрачный Советник. – Чемодан – шустрый парень, за четверть часа десять километров отмахает, а магистраль вряд ли так далеко. Не нравится мне его молчание! Ох, не нравится!» – Мне тоже, – сказал Тревельян, вытащил бластер и двинулся к проходу, помеченному сиреневым. Этот коридор был высоким и просторным, но довольно старым – камень стен кое-где раскрошился, башмаки взметали древнюю пыль, и попадались места с просевшим потолком. Освещения, как и в других тоннелях, не было, но Ивар велел трафору пригасить прожектор, а заодно перейти в боевую форму. Теперь за ним бесшумно скользил выпуклый диск с десятком манипуляторов и торчавшей на кронштейне головкой излучателя. Края диска слабо светились, и этого хватало, чтобы различить дорогу и любые препятствия на расстоянии двадцати шагов. В быстром темпе они одолели метров пятьсот или шестьсот и очутились в естественной полости, заваленной бесформенными глыбами. Пещера была огромна; возможно, отсюда брали камень для облицовки казематов и тоннелей. Ее стены покрывал фосфоресцирующий лишайник, с потолка свисали сосульки сталактитов, на дне струился неглубокий ручей, и на обоих его берегах виднелись какие-то полуразобранные агрегаты – должно быть, останки землеройной техники. Коридор, ведущий в пещеру, превратился в насыпь, пересекавшую пространство от стены до стены и уходившую в темное отверстие в дальнем конце подземелья. Насыпь – точнее, дамба, мощенная большими плитами песчаника, – сохранилась неплохо для старинного сооружения; плиты ее потрескались, в швах между ними и в разломах светился лишайник, но в общем и целом эта дорога была широкой и прямой. В самой ее середине, изогнувшись горбом на плоских камнях, маячила бронированная гусеница. Перед ней застыл знакомый угловатый корпус, уже лишенный ног; нагрудную пластину Контактера сжимали гибкие, длинные, покрытые чешуей щупальца. Пленивший его монстр прикрывался Контактером как щитом, выставив наружу горб со стволами метателей плазмы. И эти стволы глядели прямо Ивару в лицо. Его реакция в скафандре не уступала стремительности боевого робота. Мозг еще не успел осознать грозившей опасности, как мышцы скоба, повиновавшиеся инстинкту, швырнули Тревельяна за край насыпи. Одновременно с этим движением лазерный луч скользнул под сводом пещеры, срезав оружие врага. Затем выстрелил трафор, и гусеница осела на каменные плиты. – Сейчас добьем, – произнес Тревельян, поднимаясь. Он сделал несколько шагов, целясь из бластера, но вдруг хриплый вибрирующий голос заставил его остановиться. – Н-не надо-о… н-не надо-о же-ечь огне-ем… я-аа хочу-у го-оворить… Я! На альфа-хапторе и на любом другом языке это определяло не только разум, но личность с самосознанием. Робот, мыслящая машина или искусственный интеллект, не прошедший воспитательного цикла, свою индивидуальность не осознавали. «Я», прорвавшееся сквозь мучительные хрипы, принадлежало не электронному созданию, а существу. Возможно, такому же призраку, как заключенный в кристалле командор. Тревельян опустил излучатель, но оружие трафора все еще глядело на странную тварь. Трафор обошел ее сбоку и в любой момент мог разрезать пополам. «Кто говорит с нами?..» – мелькнуло у Ивара в голове. Конечно, не робот-гусеница; она послужила лишь передаточным звеном, через которое некто более разумный добрался до блоков памяти Контактера и его речевого центра. Последний орган был, видимо, поврежден – слова звучали хрипло и неотчетливо. «Домен Гнилого Побега ближе, чем домен Фарданта, – напомнил командор. – Наш покойный чемодан сообщил об этом. Жаль, что его продырявили… Я успел к нему привязаться». Кивнув, Тревельян опустился на плоскую плиту и молвил: – Говори. Я слушаю. – Ты, При-ишелец из Внешнего Мира-а… ты – жи-ивой? – Вне всякого сомнения. А ты? – Жи-ивой ча-астично. Отщепленна-ая мозговая ткань дру-угого существа… Фа-арданта… Ивар отметил, что речь становится более внятной. Очевидно, его собеседник учился на ходу, используя Контактера как ретранслятор. – Фардант, – произнес он, сложив руки на коленях. – Это имя мне знакомо. Не знал, что Фардант способен размножаться. Другие владыки – Матайма, Дазз и Тер Абанта Крора – тоже его отщепленная мозговая ткань? – Н-нет. Только я. – Значит, ты – Гнилой Побег. – Это-о… это-о… – Завывания невидимого собеседника смолкли; похоже, он искал нужный термин в альфа-хапторе. Наконец послышалось: – Это позорное прозвище, Пришелец! Фардант, Матайма и другие носят древние имена. Так звали сотворивших их, отдавших им свои плоть и разум в эпоху битвы с Великим Врагом… А я – отщепленный! Отщепенец, изгой… Зови меня Изгоем, если не хочешь умереть! Далекая и очень слабая ментальная волна коснулась разума Тревельяна. Кажется, этот Гнилой Побег, желавший, чтобы его называли Изгоем, сильно гневался. Да что там гневался – он был разъярен! – Кто говорит о смерти? – промолвил Ивар, стараясь излучить максимум дружелюбия. – Ты не стрелял по моему кораблю, а ваши с Фардантом споры меня не касаются. Раса, к которой я принадлежу, не вмешивается в чужие конфликты. У тебя и у меня нет оснований, чтобы враждовать. Я не питаю вражды даже к Тер Абанте Кроре. – Тогда зачем ты здесь? Почему не улетаешь? Это был щекотливый вопрос. Признаваться, что он не может покинуть планету и нуждается в помощи, Ивару не хотелось. Рано или поздно такое признание будет сделано, но не сейчас. Гнилой Побег, убийца Контактера, симпатий ему не внушал. Из всех вариантов ответа он выбрал самый нейтральный: – Мне любопытно. – Ло-ожь! – прогремел гневный вопль. – Ло-ожь! «Этот Стручок не жалеет глотку чемодана, – заметил командор. – Мерзкий тип! Однако стоит его послушать. Он помянул Великого Врага… Это кто же такой?» «Выяснится со временем». – Ивар потер висок, отметив, что концепция лжи Побегу знакома. Затем он произнес на альфа-хапторе: – Ложь или правда, не тебе судить. Ты ничего обо мне не знаешь. – Знаю! Знаю! Хрр… – Слова вылетели с яростным хрипом. – Твой аппарат поврежден сокрушителями Кроры… ты не можешь покинуть наш мир… ты его пленник! И ты отправился к Фарданту! – Какое до этого дело Изгою? Здесь не твой домен, и я иду, куда хочу. К Фарданту, Матайме или Даззу… Только не к тебе. – Ко мне, Пришелец, ко мне! Ты будешь пойман моими отпрысками и приведен ко мне – скоро, скоро! И здесь ты останешься навсегда! – Тебе что-то нужно? – Тревельян прищурился, подумав о возможности поторговаться. – Что-то такое, что я могу тебе дать? – Ничего, Пришедший из Пустоты, мне не нужно ничего. Нужно Фарданту, да поглотит его Великий Враг! Для меня ты – прах и пыль, а для Фарданта – последняя надежда. Недостающее звено! И потому он тебя не получит. «Этот малый сильно не любит родителя, – пробормотал командор. – Такое и у нас бывает. А вот дроми, жабы чертовы, родителя как бога почитают! Хотя детишек в семействе сотни две». – Значит, тобою движет ненависть, – промолвил Тревельян. – Ты собираешься меня пленить и думаешь, что это касается только тебя и Фарданта. Это, Изгой, узкий взгляд на проблему! А широкий таков: ваш мир против нашего. Я прилетел на малом, почти безоружном корабле, но есть у нас и такие, что превратят твою планету в облако плазмы. Мой народ, как было сказано, в чужие конфликты не лезет, но обид не прощает. Обидишь меня – расплатишься жизнью! Плоский корпус Контактера приподнялся в хватке щупалец и грохнул о камни. – Ты снова лжешь, Пришелец! Когда-то в этом мире обитали миллиарды, десятки миллиардов… слишком много, чтобы беспокоиться об одном ничтожном существе. У вас, уверен, так же. Ради тебя не пришлют корабль, ибо ты ничтожен и никому не нужен. Я сделаю с тобой что захочу.Ноздри Тревельяна гневно расширились. Он встал, вскинул лазер и произнес: – Верно тебя назвали Гнилым Побегом! Повторю еще раз: ты ничего обо мне не знаешь, ты не измерил ни величия моего, ни ничтожности, и ты не ведаешь, в чем сила моей расы и какова она. Вдруг ты столкнулся с тем самым Великим Врагом, с которым бились твои предки? Лазерный луч разрезал гусеницу. Щупальца, что обхватили Контактера, бессильно повисли, и его корпус с грохотом рухнул на камни.
Глава 10. Мир далекий, мир близкий
Послание пришло на «Гондвану», когда лайнер, вынырнув из Лимба, набирал скорость для очередного прыжка. Сейчас «Гондвана» находилась в пространственном рукаве длиною в миллиард километров, который использовали корабли множества рас – чаще всего, торговые транспорты лоона эо. Рукав был направлен к северному галактическому полюсу и ограничен с трех сторон газопылевым облаком, обширной туманностью, тянувшейся от края до края на пять с половиной световых месяцев. С четвертой стороны вращались вокруг древнего светила космические глыбы, останки распавшихся в прошлом планет; причина этой катастрофы была никому не известна. Лайнер мог бы включить защитный экран и двигаться прямо в туманности, но среди капитанов и навигаторов это считалось верхом непрофессионализма. Обычно маршрут пролагали сквозь пустоту, сквозь чистый вакуум, и в этом смысле рукав был подходящим местом для разгона: на кубометр – не более трех частиц, залетевших из облака. Астронавты Земной Федерации называли этот объект Тропой Вальдеса – в честь адмирала Сергея Вальдеса, который в молодые годы служил наемником лоона эо. Семь столетий назад, командуя крохотным бейри [51], защищавшим торговое судно, он встретился здесь с тяжелым крейсером хапторов, вступил с ним в бой и протаранил, направив свой кораблик в пасть аннигилятора. Пакет информации, достигший антенн «Гондваны», был отправлен с «Киннисона», базовой станции ФРИК, и предназначался консулу Пьеру Каралису. Консул со своим штатом входил в состав большой экспедиции, чьим назначением являлась звезда Кауза Прима, а целью – контакт с парапримами, народом, еще неизвестным Земной Федерации. Их следы обнаружились на Осиере в период миссии Ивара Тревельяна, что, безусловно, стало открытием века. Цивилизация с высоким индексом развития и, к тому же, весьма гуманная, разделяющая этические принципы Фонда в отношении младших рас! О таком партнере можно было лишь мечтать! Каралису вменялось в обязанность перевести мечты в область реальных действий, совместных проектов, прогрессорских миссий и тому подобного. Впрочем, такие задачи рассматривались как частное дело Фонда, а основным все же являлся контакт с парапримами, включавший дипломатический обмен и заключение дружественных договоров. По давней традиции этим занимались дипломаты и эксперты в области науки и культуры, а доставляла их к месту рандеву эскадра Звездного Флота – обычно тяжелый крейсер в сопровождении двух-трех фрегатов. Было замечено, что боевая мощь землян очень способствует переговорам, которые движутся тем успешнее, чем больше в эскадре стволов и кораблей. Но с парапримами такое не проходило. Этот народ отличался редким миролюбием, а также настойчивостью и упорством; подобное сочетание, да еще кое-какая информация, полученная Тревельяном на Осиере, говорили в пользу их могущества. Вполне возможно, они рассматривали людей как младшую расу, которую стоит слегка вразумить и направить на путь истинный, дабы земляне не кичились своим стремительным прогрессом, своей наукой, техникой и своими пушками. Пушек парапримы вообще не желали видеть и потому земных экспертов, дипломатов и консула ФРИК отправили не на военном корабле, а на почти безоружном лайнере. Правда, очень внушительном: три километра в длину, двадцать палуб с прогулочными галереями, масса оборудования плюс экипаж и экспедиционный корпус – без малого тысяча сто человек. Просторное судно! Каралису отвели на третьей палубе апартаменты, достойные консула, – в этих коридорах, каютах, лабораторных отсеках и залах для совещаний можно было потеряться. Тем более, что штат его миссии состоял лишь из девяти сотрудников, восьми живых и одного призрака. По всем прогнозам, самым щекотливым в будущих переговорах являлся вопрос об Осиере (его, вытеснив землян, прогрессировали парапримы, с чем Фонд мириться не желал), и потому в группу Каралиса включили специалистов по осиерскому проекту. Если говорить точнее, двух бывших помощников Гайтлера, авторов плана миграции с восточного материка на западный, глобального эстапа, который с треском провалился. Сойер, один из них, был еще жив, и консул назначил его своим заместителем; второй, Колесников, недавно умер и, перебравшись из бренной плоти в памятный кристалл, сделался Советником Каралиса. Обычно консул и его Советник общались ментально, но сейчас Колесников был подключен к преобразователю – устройству, что позволяло ему видеть, слышать и говорить. Этот прибор, шток с навершием для кристалла и датчиков изображений и звуков, являлся частью пульта связи в кабинете Каралиса. Пульт и часть переборки над ним заволакивал туман, предвестник трансляции послания; Каралис и Сойер, сидевшие в креслах, молча всматривались в эту серебристую пелену. – Пьер, – раздался знакомый голос Сокольского, затем, сменив туманную дымку, возникло его лицо. – Есть новости, Пьер. Помнишь тот корабль, что отправлен с Сайката к Раване? Тот, с которым вылетел Тревельян? – Сокольский сделал паузу. – К нам пришло сообщение бортового компьютера. Стандартный рапорт, запись, что высылается в случае сигнала бедствия: координаты, принадлежность судна, запросившего помощь, причины аварии и все такое. Похоже, Тревельяну пришлось задержаться. Сейчас он в Провале. – Это что за Тревельян? – прищурив выцветшие глаза, спросил Сойер. С годами он сделался забывчив, а годы его были немалые. – Помнится, был этакий шустрый парнишка в Академии… вроде бы слушал у меня какой-то курс… Но вот какой? – Внеземные культуры и их история, – гулким басом напомнил Колесников. – Ты ему внеземные культуры читал, а я – психологию гуманоидных рас. Теперь этот парнишка знаменитость. Кавалер Венка Отваги! И парапримы, к которым мы летим… Советник смолк, ибо в этот момент изображение Сокольского исчезло, сменившись мрачной тьмой Провала. Потом с левой стороны выплыла звезда, тусклый красноватый диск, похожий на круглую дыру, прорезанную в черной завесе, а справа – видимо, оттуда, где находился земной корабль, – вспыхнул свет прожекторов. Их лучи скользнули по серой бесформенной массе с выпирающими тут и там буграми и замерли на широком коническом холмике. Внезапно его вершина стала вытягиваться в длинное толстое щупальце, точно странный объект хотел слизнуть с небес Провала красную звезду. Сойер ахнул. – Сильмарри! Клянусь своим последним днем, судно сильмарри! – Ты не ошибся, старина, – пробасил Колесников, поворачивая навершие с глазком видеодатчика к Каралису. – Твое мнение, Пьер? Если бы меня спросили, я бы сказал, что этот Тревельян на редкость везучий малый! – Контакт с сильмарри – необычный случай, – согласился консул, прикидывая, насколько это задержит Тревельяна. – Я такого вообще не помню, – заметил Сойер. Глаз видеодатчика уставился на него. – Не помнишь, потому что стар! Старый пень! Я говорил тебе, подключай искусственную память или перебирайся ко мне! Я теперь не забываю ничего! – И Колесников стал перечислять, кто, когда и где повстречался с сильмарри и чем завершились эти рандеву. Каралис слушал, не перебивая. Список был коротким, а Колесников нуждался во внимании, ибо перешел в призраки недавно и не вполне освоился в новой своей ипостаси. Случалось, что в первые годы призраки бывали слишком разговорчивы. – Им нужна вода, – произнес Сойер, щурясь и глядя на скользившее под кораблем сильмарри текстовое сообщение. – Им нужна вода, и они связались с нами… Подумать только, с нашим земным судном! – Наш транспорт просто оказался ближе, – вымолвил консул. – Но я согласен с тем, что факт сам по себе замечательный, и с тем, что Тревельяну повезло. – Каралис вздохнул. – Но как бы ни вышло нам боком это везение! Он помог сильмарри, переслал им цистерны с водой, а после ринулся на планету… смотрите, у этой звезды есть спутник… тоже любопытный факт… Но зачем Тревельян туда отправился? Что ему там надо? – Может быть, об этом мы еще узнаем. – Сойер по-прежнему глядел на экран, где вместо корабля сильмарри появился крестообразный аппарат земного происхождения. – Послание еще не закончено. Если нашлась причина для задержки, о ней, вероятно, сообщат – или бортовой компьютер, или сам Тревельян. Но заместитель Каралиса ошибся: мелькнули последние строки рапорта, блестящий крестик квадроплана канул в темноту и растворился в ней, как крупинка соли в океанских водах. На фоне серебристой мглы вновь возникло лицо Сокольского. – Ивар улетел, не оставив сообщения. – Сокольский с озабоченным видом потер висок. – Я информировал Сато и Ортегу, и мы решили, что отлучка недолгая, два-три дня, максимум – неделя. На столько он может задержаться, если возникла необходимость. – Пауза. Лицо отдалилось, и теперь было видно, что консул стоит в отсеке связи «Киннисона». – Но мы обеспокоены, Пьер. Все это выглядит странно – и экспедиция Ивара, и звезда с планетой, словно заброшенные в Провал, и вызов сильмарри… Возможно, он что-то узнал у них?.. Что-то требующее срочной проверки?.. Если он не отзовется в ближайшие дни, мы пошлем корабль. – Сокольский сделал прощальный жест. – Сообщи свое мнение, Пьер. Легкого тебе пути. Всем, кто меня слышит: легкого пути и удачи. Он улыбнулся, исчез с экрана, и вместе с ним растаял серебристый флер. Каралис и Сойер переглянулись, потом консул махнул рукой, приказывая повторить трансляцию. Они просмотрели запись до середины, когда в вокодере раздался голос капитана: – Приветствую, Пьер. Вы изучили сообщение? – Да, Иштван. – Что-то касается нас? Нашей экспедиции и парапримов? – Нет, капитан. Внутреннее дело Фонда. – Принял к сведению. Будет ответ? – Не сейчас. Нам нужно посовещаться. Но после очередного прыжка я хотел бы установить контакт с «Киннисоном». – Хорошо. Я распоряжусь, чтобы связисты это учли. Вокодер тихо щелкнул, и они опять повернулись к экрану. Там, освещенный прожекторами, маячил корабль сильмарри, и тусклая красная звезда висела над ним словно кулак, поднятый для удара.* * *
Нападение было внезапным, но не представляющим опасности. Пять или шесть сотен прилетевших с запада сокрушителей не могли взломать оборону на дальнем рубеже – тем более, что стратегический модуль стянул туда силы из всех подземных камер, что находились поблизости. Гнилой Побег сильно рисковал – эта атака сулила не выгоды, а распыление ценных ресурсов и неизбежные потери, которые его ослабят. Впрочем, действия Побега не подчинялись логике; временами им управляла ненависть, толкая его на выходки злобные, бессмысленные, безрассудные. В этот раз он мог бы сильно навредить, уничтожив аппарат с пришельцем, но машина опустилась на границе и Контактер увел прилетевшего из Пустоты в тоннель, под защиту орудий и боевых отпрысков. Убедившись в этом, Фардант Седьмой велел стратегическому модулю завершить сражение и, отключив свой мозг от вспомогательных блоков, погрузился в раздумья. Он анализировал данные, посланные Контактером на пути от гор к границе. Сведения казались ему неполными, ибо ментальная связь с самым совершенным из побегов была невозможна – их разум (скорее, система команд, внедренных в память) генерировал слишком слабые волны, и потому приходилось использовать примитивный и долгий обмен на базе энергетических импульсов. Но все же посланец Фарданта отправил ряд сообщений, и самое важное из них было посвящено средству коммуникации в том мире, откуда прилетел чужак. Он, безусловно, был существом, а не искусственным созданием. С эпохи, когда мир Фарданта населяли миллиарды, ныне обратившиеся в прах, с тех самых времен помнилось ему, что исчезнувшие соплеменники, странствуя среди звезд, искали жизнь. Не только потому, что живое тянется к живому; возможно, это главное, но существовали и другие, не столь романтические причины. Любая населенная планета была сокровищем, считалась миром, годным для колонизации; раз атмосфера, тяготение, земная твердь и воды не враждебны жизни, то подойдут и существам, явившимся с другой звезды. Местных обитателей уничтожали или, уменьшив в числе, сгоняли, как диковинные экспонаты, в резервации, а мир их занимала раса победителей. И шла она от планеты к планете, двигалась вслед за Флотом Вторжения, пока однажды не раскололись небеса… Фардант Седьмой заблокировал эти жуткие воспоминания. Пусть прошлое не страшит, не пугает, а способствует пониманию настоящего; вот он, бессмертный владыка погибшего мира, столкнулся с расой, которая тоже ищет жизнь, чужую жизнь – ищет, чтобы ее покорить, ибо другая цель бессмысленна. Об этих поисках говорили вопросы существа, не допускавшие двойного толкования: кто твой господин?… где обитатели этого мира?.. твой повелитель – биологический объект?.. Пришелец надеялся встретить живых, а отпрыска Фарданта считал машиной, такой же, как его собственный спутник, искусственный разум, обучивший Контактера языку. Язык!.. Этот новый язык!.. Он был поразительным, ибо включал терминологию галактической расы, настолько сложную и разветвленную, что часть абстракций осталась непонятной. Совершенное средство общения, отличное от скудного набора слов, который Фардант извлек во время коллапса из памяти пришельца… Значит, сделанный им вывод верен: примитивный мир, явившийся в воспоминаниях, был так же чужд для звездного странника, как и планета пяти владык, заброшенная в пустоту Провала. В чем он сам признался Контактеру, сказал на убогом наречии: это не мои слова, это слова других, слова глупцов… Тот мир – не прародина пришельца! Но что он делал среди населявших его дикарей? То же, что делали предки, подумал Фардант. До столкновения с Врагом, до катастрофы, они решали, какую расу стереть с лица Вселенной, какую сохранить, но низвести до уровня животных или оставить в разумной фазе как полезных слуг. Выбор зависел от результатов разведки и изучения потенции к развитию; слишком перспективных уничтожали, дабы не иметь проблем в грядущем. Вероятно, звездный странник занимался такими же исследованиями и потому… Связь со стратегическим модулем внезапно восстановилась, и Фардант осознал, что на границе катастрофа. Его отпрыски-стражи, оставив подземелья, уже добивали врагов, но в следующее мгновение над полем боя сомкнулись черные тени и с неба хлынул огненный поток. Не меньше тысячи новых сокрушителей, проинформировал стратегический модуль, пока защитники твердынь Фарданта и те машины, с которыми они сражались, горели под ударом плазмы и оседали вниз, сплавляясь в единую массу с песком. Гибель сотен стражей Фардант воспринимал как боль, хотя его мозг и вспомогательные агрегаты не знали болевых ощущений; страдание, однако, порождалось не физиологией, а чувствами потери и совершенной ошибки. Гнилой Побег его перехитрил! Это казалось невероятным – больше того, нестерпимым! Молнии плазменных метателей, оборонявших рубеж, пронзили небо, и враг нанес ответный удар – по входам в тоннели, по стволам орудий и побегам-наблюдателям. Затем картины схватки начали гаснуть в сознании Фарданта, словно долгая ночь планеты слизывала их огромным черным языком. Он еще успел заметить, как часть атакующих приземлилась и как машины Гнилого Побега стали зарываться в почву; он ощутил, что Контактер и пришелец спускаются вниз, под защиту каменных сводов и метателей; услышал слова звездного странника, велевшего показывать дорогу… Потом связь пропала. Сокрушители Побега накрыли район схватки полем помех. Не мешкая, Фардант отправил на границу сокрушителей с другого рубежа. Эта вторая оборонительная линия располагалась за внешним периметром, гораздо ближе к нему, чем центральные подземелья, и боевые побеги могли добраться до врагов за двадцатую долю Малого Оборота. Но все-таки не мгновенно! Двадцатая часть – время недолгое, однако пришелец мог умереть еще быстрее. Приняв неотложные меры, Фардант Седьмой обратился к тайному смыслу происходящего. Ему казалось, что атака не связана с Пришедшим из Великой Пустоты, но теперь он не был в этом уверен. Случайное совпадение или целенаправленный акт? Он обсудил ситуацию со стратегическим модулем. Не было сомнений, что сокрушители Побега, даже прорвав периметр, не одолели бы второго рубежа: в своем домене Фардант располагал намного большими силами, чем его противник. И все же Гнилой Побег решился нанести удар… решился, несмотря на потери, понимая, что атаку отразят, что из десятка его сокрушителей вернутся один или два… Означало ли это, что он желал пленить пришельца? Но для чего? Зачем? Повод есть у каждого из владык, признался себе Фардант. Пусть Матайма, Крора и Дазз Третий не разделяют его стремлений к возрождению жизни, но разве нет других причин? Корабль из Внешнего Мира двигался быстрее, чем любой летательный аппарат… не исключалось, что он обладал каким-то оружием… он мог перемещаться в Пустоте… он пролетел над доменом Кроры и, поврежденный, все же не погиб… наконец, у пришельца был спутник, искусственный разум высокого уровня, кладезь ценной информации… Захвативший их получит преимущество. Может быть, такое огромное, что из пяти владык останется один. Фардант Седьмой еще обдумывал эту мысль, когда экранировка над периметром была снята. Вытянув ментальный щуп, он прикоснулся к защитным экранам Гнилого Побега и ощутил торжество и ненависть. Перед ним возник пришелец – в каменоломне, на дороге, что вела к древнему городу; путь звездному страннику преграждал сокрушитель, его башня с плазменными метателями исчезла, полуразбитый корпус распластался на каменных плитах. Но боевая машина еще функционировала, и в ее щупальцах висел Контактер. Его речевой центр находился под контролем Побега. «…если не хочешь умереть!» – воспринял акустический блок, один из тысяч неподвижных датчиков, связанных с Фардантом. Звездному страннику угрожали, но он не боялся. Он говорил, что не хочет враждовать даже с Тер Абантой Кророй, повредившим его космический корабль. Он пытался переубедить Побега, но это было невозможно. Побег впал в ярость. Обычное для него состояние, когда ментальное поле над западным берегом дрожало, сотрясалось и свивалось смерчами, как воздух во время песчаной бури. Бред искалеченного разума… Он не желал ни знаний, ни технической информации, ни преимуществ над соперниками, ровным счетом ничего; им владела лишь одна идея: отнять пришельца у Фарданта. «…да поглотит его Великий Враг! Для меня ты – прах и пыль, а для Фарданта – последняя надежда. Недостающее звено! И потому он тебя не получит!» Вопль неуправляемого гнева, подумал Фардант Седьмой, слушая, как пришелец пререкается с Побегом и грозит ему гибелью. Затем сверкнула молния, Контактер, освободившись из захвата щупалец, с грохотом рухнул на камни, и голос Побега смолк. Мощность энергетического разряда была огромной – у существа из Внешнего Мира нашелся все же веский аргумент! Обогнув расплавленного отпрыска, странник зашагал к тоннелю, ведущему в древний город. Распорядившись, чтобы подготовили другого Контактера, Фардантвернулся к размышлениям. Пришелец говорил о силе своей расы, о кораблях, способных превратить планету в пар, он угрожал, и это подтверждало прежний вывод: новое племя, как предки Фарданта, распространялось в космосе, исследуя Галактику в поисках обитаемых миров, захватывая их, уничтожая сопротивлявшихся. Новое! Фардант не верил, что это существо – Великий Враг; тот, кто расправился с Флотом Вторжения, с предками и их планетой, не нуждался в кораблях и не имел телесного обличья. Но и в этом случае опасность была реальной и меньше не становилась – молодая раса могла распылить Фарданта и весь его мир с тем же успехом, что и древний противник. Он решил, что существо со звезд нужно держать в заточении – так же, как собирался сделать Гнилой Побег. Однако Побегу пришелец был нужен живым, как артефакт, ускользнувший от Фарданта, как знак торжества и победы, как символ причиненного страдания. Фардант Седьмой преследовал другие цели. Он помнил о корабле, доставившем пришельца и затаившемся где-то у тусклой звезды, что согревала его планету; помнил, что пришелец мог обратиться за помощью, и что ждать ее недолго, если звездный корабль вооружен и несет экипаж. Стратегический модуль подсказывал: реакция будет стремительной! Но если за странником никто не прилетит, он не должен вернуться на корабль и в свой мир, ибо в этом опасность. Он останется здесь, в убежище Фарданта, и не обязательно живым; ткани и органы хранятся в криогенных камерах многие тысячи Оборотов. Неиссякаемый источник для попыток воссоздать разумных тварей! Затем мысли Фарданта Седьмого направились в другую сторону. Недостающее звено, сказал Побег… Слова, исторгнутые гневом, но в них была сокрыта истина: гены пришельца необходимы, чтобы планета стала обитаемой, и чтобы он, Фардант, обрел бойцов, способных размышлять и действовать, а также подчиняться его воле. Однако чудилось Фарданту, что смысл сказанного более глубок: пришелец – то, что стоит между ним, бессмертным владыкой, и теми существами, что формируются в биологических чанах. Он создавал их, уничтожал и снова создавал… Девятьсот сорок четыре раза за восемь тысяч Больших Оборотов! Он пытался пройти путем долгой, очень долгой эволюции, но ему чего-то не хватало. Знаний? Опыта? Удачи? Животворной искры в древних клетках? Или переходного звена – того, что явилось в его мир из Пустоты? Он вытянул ментальный щуп, коснулся разума пришельца и понял, что тот устал – так, как может уставать подвластный времени живой организм. Даже у существ, произведенных им, энергетический обмен был много сложнее, чем у обычных отпрысков, и факторы, влиявшие на жизнедеятельность, с трудом поддавались учету. Что он станет делать? – подумал Фардант, не прерывая телепатического контакта. Как идет процесс восстановления? Что ему нужно для этого – влага, тепло, питательные вещества? Вдруг Фарданту показалось, что ментальный барьер звездного странника истончается и слабеет, словно он выпадал из окружающего мира. Ощущение росло и крепло, подтверждая, что это существо вновь погружается в свой странный коллапс, ныряет в неподвижность и малую смерть, лишенную действий, чувств и осознания реальности. Особая жизненная фаза, догадался Фардант, время релаксации, когда связь организма с внешней средой минимальна. Он осторожно проник за барьер и едва ощутимым импульсом направил мысль пришельца в прошлое. Картины, явившиеся ему на этот раз, отличались от мира знойных пустынь и гигантских гор; солнце было теплым и ласковым, растительность – буйной и пышной, и среди древесных крон блистала и переливалась синяя поверхность океана. Пришелец беседовал на непонятном языке с мохнатой тварью, напоминавшей животное, однако способной к членораздельной речи – самый удивительный факт, отмеченный Фардантом. Когда беседа завершилась, пришелец встал, сделал какие-то жесты верхними конечностями, потом направился к морскому берегу и ожидавшему там аппарату. Машина взлетела, звездный странник начал что-то говорить, но слова, как и прежде, остались непонятными, так как язык не был похож на переданный Контактером. Фардант не смог – вернее, не успел – его расшифровать; сеанс был слишком кратким, а обсуждавшиеся проблемы – явно непростыми.Глава 11. Воспоминания. Осиер
Робот Побега и мертвый Контактер остались позади. Тревельян шел к тоннелю в дальней стене, чувствуя, как напряжение капля за каплей покидает его. В скобе он двигался уверенно и быстро, почти не прилагая физических усилий, и все же ощущал усталость. Ее не мог превозмочь медицинский имплант, вживленный слева под ребрами, так как усталость была не телесной, связанной не с утомленными мышцами, а с потрясением разума и чувств. Конечно, существовали лекарства, способные заглушить ее на время, тормозившие нервные реакции, лишавшие тонкости восприятия и потому применявшиеся редко. Человек мог восстановить душевное равновесие иначе, древними и эффективными способами, к числу которых относились медитация и сон. В них и нуждался Тревельян. Он слишком мало спал; тринадцать минут – недостаточно, чтобы вернулась привычная ясность ума и острота ощущений. У входа в тоннель Ивар остановился, снял с платформы трафора канистру и выпил воды. Подумал, стянул шлем, плеснул холодную струйку на голову и шею. Отдыхать было нельзя; где-то в переходах и залах подземного лабиринта блуждали, разыскивая его, боевые роботы. Возможно, тварь, поймавшая Контактера, подала сигнал, и в пещеру уже торопится стая сокрушителей… Он вздохнул и повернулся к Мозгу: – Нас преследуют? – Никого на грани восприятия, эмиссар. «Кажется, оторвались», – пришла мысль Советника. Ивар кивнул. – Хорошо. Двигаемся дальше. Поищем магистраль, ведущую к старому городу. Надеюсь, там можно будет укрыться и передохнуть. Они вступили в тоннель. Очевидно, это было такое же старинное сооружение, как дамба и проложенная по ней дорога; поверхность стен и потолка хранила следы землеройных машин, в полу зияли трещины и выбоины, кое-где встречались груды осыпавшихся мелких камней, перемешанных с обломками древних агрегатов. Здесь царили тьма и мертвая тишина. Трафор, снабженный гравиприводом, бесшумно плыл в воздухе, мягкие подошвы скафа не шаркали и не скрипели, и Тревельян не слышал даже собственных шагов. Точно призрак, он двигался вслед за световым пятном прожектора, огибая каменные завалы и кучи мусора. В кучах, видимо, копались, разыскивая и выбирая ценное сырье – Ивар видел лишь бесформенные куски пластика и керамики, но ни одной металлической детали. Останков прежних обитателей планеты тоже не попадалось, ни костей, ни черепов, ни каких-либо предметов, напоминавших украшения или одежду. Шли быстро, в полном молчании. Командор, казалось, о чем-то размышлял, но лишь невнятный отзвук его мыслей доносился до Тревельяна. Думал ли он о нынешнем их положении или погрузился в прошлое? Какие картины всплывали в памяти предка? Ему было о чем вспомнить; в 2310 году, юным энсином, он высадился на Тхар, а после семьдесят с лишним лет бороздил пространство, водил корабли и десанты, сражался с дроми, бился с хапторами, горел и замерзал, а в промежутках между битвами залечивал раны. Еще не забывал о женщинах и произвел потомство, достойное героя… Да, воспоминаний у него хватало! Впереди появилось неяркое зарево. Через сотню шагов проход оборвался на полукруглой площадке, сделанной будто бы из голубоватого, слабо светившегося фарфора, покрытого толстым слоем пыли. Подошвы Тревельяна потревожили ее, материал засветился сильнее, а за Иваром протянулась цепочка отливавших бирюзой следов. Площадка висела над пропастью, черным пространством, падавшим вниз на неведомую глубину; в стенах этого огромного колодца зияли темные круглые пасти тоннелей. Едва Тревельян ступил на голубую поверхность, как в воздухе зажегся яркий луч и откуда-то из-под площадки всплыла конструкция, похожая на широкое тупоносое суденышко с матовым колпаком. Капсула – несомненно, транспортное средство – замерла там, где начинался луч, уходивший в один из тоннелей; средняя часть колпака сдвинулась, и Тревельян разглядел восемь кресел с вогнутыми сиденьями. Он уставился на них во все глаза – то были первые предметы, принадлежавшие вымершей расе и говорившие о внешнем виде исчезнувших существ. – Они могли сидеть, – пробормотал Ивар. – Судя по размерам капсулы и кресел, рост поменьше, чем у нас, и сложение, вероятно, более субтильное… Гуманоиды? «Задницы не похожи, – отозвался командор. – Гляди, сиденья как блюдца! Нижняя часть, должно быть, требовала особой упаковки. Может, хвост у них имелся?» Усмехнувшись, Тревельян хмыкнул и приказал трафору: – Залезай! Груз поставишь между кресел, сам ложись поверх и форму прими подходящую. Не выключай гравитатор – возможно, для этой машины ты тяжеловат. – Слушаюсь, эмиссар! – Мозг, вместе с багажом, ринулся в капсулу. «Транспортный узел тут или пересадочная станция, – заметил Советник. – Эта голубая платформа – перрон, а от него шли силовые лучи ко всем тоннелям. Сейчас, надо думать, лишь одна магистраль сохранилась, та, что к древнему городу. И сколько мы там будем куковать?» – До рассвета, – сказал Ивар. – Надеюсь, к тому времени владыка Фардант разберется с владыкой Гнилым Побегом и пришлет за нами еще одну летающую корзинку. – Он втиснулся в кресло – оно было хоть странной формы, но удобным – и хлопнул по колену: – Поехали! Словно повинуясь этой команде, колпак закрылся, и капсула, набирая скорость, нырнула в тоннель. Изнутри ее верхняя часть оказалась прозрачной, но любоваться было нечем – быстрое движение смазало желто-серый камень стен в однотонную полосу, вид которой действовал усыпляюще. Тревельян опустил веки и расслабился. Погружаясь в сон, он чувствовал, как едва заметный ментальный импульс касается сознания, осторожно скользит, не пытаясь проникнуть в глубинные слои, но будто спрашивая: что ты покажешь на этот раз?.. в какие миры уведешь?.. в какие пропасти и бездны?.. Он сонно улыбнулся и подумал: «Земли, приятель, ты не увидишь. Ни Земли, ни Гондваны, Роона, Ваала и других наших планет. Вот крейсер могу показать! Тяжелый крейсер с дюжиной аннигиляторов! Или что-нибудь жуткое – хищные деревья Селлы, кратеры на Горькой Ягоде, тундру Ледяного Ада… Такое, от чего волосы дыбом и мороз по коже – если, конечно, то и другое у тебя имеется». Улыбка таяла на губах Ивара, мысли текли неторопливо, как волны в ласковых морях Гондваны. Ни угрожать, ни пугать ему не хотелось, для передачи же полезной информации было рановато, так как подобный акт требует доверия. Он вспомнил Осиер – не странствия по городам и дорогам, по рекам, джунглям и горам, а тот последний день, когда он встретился с Аххи-Секом, Великим Наставником и эмиссаром парапримов. Вспомнил зеленый остров среди синих вод, пальмы, что окружали полянку с хижиной, яркое солнце и звучный рокочущий голос собеседника. Недолго длилась их беседа, и, похоже, во мнениях они не сошлись… Но толковали как специалисты, как два разумных существа, обеспокоенных одной проблемой и ищущих пути к ее решению. Пусть смотрит, подумал Ивар, уплывая в сон. Пусть! Ничего не поймет и будет озадачен… вроде влез в чужую голову и подсмотрел, а что к чему – неясно… Нет причин торопиться и откровенничать. Как сказал премудрый Аххи-Сек, быстро и много – не значит хорошо. Сон, завладевший Тревельяном, унес его на Осиер. Дальние дороги, тайны, битвы, приключения и очаровательные женщины… Хоть кончилось все это неудачей, миссия была приятная. Во всяком случае, куда приятней, чем драма на Сайкате.* * *
Последний эстап, план Гайтлера не сработал. Это стало ясно уже тогда, когда Тревельян крутился на орбите, изучая планетарную поверхность. На восточном материке жизнь так и кипела; там стояли города, тянулись меж ними дороги, плыли по рекам галеры, парусники и грузовые плоты, вздымали пыль торговые караваны, зеленели поля и фруктовые рощи, а кое-где даже шла война, что было, в общем-то, не характерно для центральной Империи и окружавших ее государств. А вот на западе, за океаном – тишина! Ни струйки дыма над поселением, ни корабля в гавани, ни лодки на реке, ни охотников в степях западных континентов, переполненных всякой живностью… Это означало, что все усилия Фонда Развития Инопланетных Культур опять ушли водой в песок. Хотя последняя попытка, оформленная в виде учения о шарообразности мира, считалась теоретиками ФРИК самой масштабной и самой надежной за двести восемнадцать лет присутствия на планете. Тем не менее Тревельян приземлился и, повинуясь долгу, обследовал населенный материк от Княжеств Архипелага и королевства Хай-Та, лежавших на востоке, до западных пиратских гаваней Шо-Инга. Путешествовал он под видом певца Тен-Урхи из Братства Рапсодов, цеха уважаемого и грозного, так как его мастера, кроме услаждения почтенной публики, стояли на страже справедливости и обращались с мечами столь же ловко, как с лютнями и флейтами. С компанией этих лихих молодцов Ивар вырезал шайку барона-разбойника в Этланде, потом отправился на север, в Манкану, где бунтовал один из князей – может, хотел переплыть океан, да не пускали имперские власти?.. Гипотеза не подтвердилась, и он собрался двинуться на запад, в имперскую столицу Мад Аэг, но тут его пленили работорговцы, и был он закован в цепи, отвезен в дикий южный край и продан вождю какого-то варварского племени. Разделавшись с ним, Ивар месяца два выбирался из джунглей, сражался со всяким зверьем, блуждал в лесах и плыл по рекам, пока не достиг центральных провинций Империи у внутреннего моря Треш. И тут он встретил Хьюго Тасмана. Тасман, сотрудник ФРИК, был оставлен на Осиере для поддержки плана Гайтлера: предполагалось, что он подтолкнет заморскую экспедицию и при нужде финансирует ее или даже возглавит, сыграв роль местного Колумба. Что он и попробовал сделать, но успеха не достиг: все его усилия блокировались, любые попытки кончались крахом, и наконец стало ясно, что в этом мире Фонд столкнулся с таинственным противодействием. В конце концов Тасман лишился связи с осиерской базой ФРИК, и его сочли погибшим. Он прожил в Империи полстолетия, разбогател, обзавелся семейством, собрал огромную библиотеку, привык к неспешному существованию и уже не хотел возвращаться в лоно суетливой земной цивилизации. Не хотел и не мог, так как был предупрежден: не покидать Осиер и под угрозой смерти не разглашать его загадок. С такими предупреждениями Ивар уже встречался и сам их получил. Похоже, они исходили от Братства Рапсодов, от его Великого Наставника и иерарха Аххи-Сека: овальная пластина величиной в ладонь с изображением событий будущего – в двух вариантах, благополучном и более печальном, который последует с неизбежностью, если не выполнить волю главы рапсодов. Надо признать, этот Аххи-Сек был отличным прорицателем! Гадал он явно не на кофейной гуще, а более надежным способом, имея мощный прогностический компьютер или другую технику, еще неведомую на Земле. Так ли, иначе, но к осиерским автохтонам он не относился, являясь некой внешней силой – возможно, таким же посланцем небес, что и прогрессоры ФРИК. После многих приключений, добравшись до Княжеств Шо-Инга и пиратских гаваней, Ивар его разыскал: обителью Аххи-Сека являлся остров в Западном океане, скрытый голографической завесой от любопытных глаз. От глаз, но не от сканеров на орбитальном сателлите, кружившем над Осиером уже не первый век. Тревельян связался с компьютером местной базы Фонда, велел расконсервировать спутник, определить координаты островка и составить его описание; затем нанял суденышко в одной из гаваней Шо-Инга и вышел в океан. Плавание, его последнее странствие на Осиере, было удачным, и спустя несколько дней, преодолев зону невидимости, он высадился на берег. Тогда, не сейчас… В данный момент он спал, втиснувшись в узкое кресло древней машины, спал в подземелье безлюдного мира, затерянного в пустоте, спал и видел сон, подробный, яркий, возродивший в памяти канувшую в прошлое реальность. Она была так не похожа на унылый Хтон с его владыками-киборгами! Она обволакивала Тревельяна тихой музыкой, в которой шепоты моря сливались с шелестом пальмовых листьев и шорохом песка. Волны влажными языками вылизывали пляж, сияло полуденное солнце, покачивались на ветру деревья, и вся эта картина навевала такой покой, такую умиротворенность, что даже сердце начинало биться тише, словно желая попасть в такт мерному рокоту волн. Прихватив лютню с вмонтированным в нее прибором связи, Ивар ступил на берег, сделал первые шаги. Крохотная волна ринулась следом, затем отползла с шипением, наполнив водой отпечаток его башмака. Алый краб пробежал по песку, плюхнулся в эту импровизированную ванну. Воздух пах морем и свежей зеленью. Над кронами пальм кружили птицы, но кроме деревьев ничего не поднималось к небесам, ни струйки дыма, ни мачты с антенной, ни иного сооружения. – Благодать! – произнес Тревельян. – Покой, как на нашем острове, где база. Осиерская база ФРИК, законсервированная на половину столетия, тоже располагалась на острове, но в Восточном океане, в тысячах километров от обители Аххи-Сека. Призрачный Советник, чей имплант сидел у Ивара в виске, недоверчиво забормотал: «Может, тут все закопано в землю, парень. Может, сверху благодать, а снизу – плазменные батареи, бомбы и дивизия боевых роботов. Чужаки есть чужаки… Так что ты не расслабляйся и про дроми не забывай! Про хапторов и кни’лина тоже!» «Не думаю, что они здесь побывали, дед. Не их почерк». Тревельян пересек полоску пляжа и, оглядевшись, зашагал по тропинке, проложенной сквозь пальмовую рощицу. Под ногами была влажная почва, но не утоптанная, а довольно рыхлая, будто ходил здесь один человек и не слишком часто. Земля даже сохранила его следы – правда, неясные, так что понять можно было одно: ходили тут босиком, и пятка у ходившего была круглая, а пальцы на ногах – довольно длинными. Может, и не пальцы вовсе, а щупальца, и в этом случае пришелец, выдававший себя за Аххи-Сека, не был гуманоидом. Чтобы успокоиться, Ивар считал шаги. Их оказалось семьдесят шесть, а семьдесят седьмой уже пришелся на поляну, в дальнем конце которой, под деревьями виднелась хижина не хижина, бунгало не бунгало, а некая постройка с решетчатыми стенами, заплетенными густой цветущей лозой, крытая сверху пальмовым листом. Стены ее казались вроде бы пластиковыми и стояли не прямо, а с наклоном внутрь; ни двери, ни окон не было, а вместо них зиял в передней стене широкий проем, занавешенный циновкой. Кровля выдавалась далеко за периметр домика, образуя навес, поддерживаемый то ли столбиками, то ли тонкими деревцами с гладкой коричневой корой. Тревельян приблизился, стараясь не дышать и ступать потише. Под навесом кто-то был – там, у низенького столика, похожего на мебель из страны Хай-Та, стояли пара табуретов и плетеное кресло-качалка, колыхавшееся взад-вперед, взад-вперед и чуть слышно поскрипывающее. Над спинкой торчал волосатый затылок, и, вероятно, сидевший в кресле знал о присутствии незваного гостя, но не обращал на него ни малейшего внимания. Скрип-скрип, скрип-скрип… И снова: скрип-скрип… Сделав еще десяток шагов, Ивар сглотнул слюну и замер с выпученными глазами. В качалке расположился не человек, не хаптор, не дроми или кни’лина. Несомненно, то был пац! С пацами он уже встречался; эти местные приматы водились в осиерских лесах умеренного пояса и в южных джунглях, представляя собой нечто среднее между гориллами и шимпанзе. От земных обезьян они отличались уродством, редкой неопрятностью, буйным нравом, острыми клыками и той же тягой к падали, какая свойственна гиенам. Впрочем, ели они все подряд, не брезгуя своими сородичами и даже людьми; человека стая пацев могла сожрать минут за пять. Пац! – с невольным отвращением подумал Тревельян. Правда, не совсем такой, как в осиерских джунглях – шкура не рыжая, не бурая, но сероватая и к тому же не грязная, а сияющая чистотой, шерсть лежит волосок к волоску. Затем Ивар обратил внимание, что лоб у этого четверорукого довольно высок, челюсть не столь массивна, взгляд вполне осмысленный и на лапах не когти, а, скорее, ногти. И от него не воняло – во всяком случае, с двух метров не ощущалось никаких мерзких запахов. Однако то был пац! Стопроцентный пац! Вцепившись нижними лапами в край стола, он покачивался в своем кресле, будто более важного дела в мире не существовало. Тревельян глядел на паца, пац глядел на Тревельяна. Скрип-скрип, скрип-скрип… Так продолжалось пару минут, затем Ивар пожал плечами, решив, что перед ним прирученная тварь, четырехлапый слуга Аххи-Сека. Пацев иногда ловили и дрессировали, хотя этот процесс требовал терпения и крепких палок. Отвернувшись от зверя, он шагнул к проему, занавешенному циновкой, и громко позвал: – Почтенный Аххи-Сек! Великий Наставник! – Подождал немного, вслушиваясь в тишину, затем произнес: – Извини за вторжение, но, думаю, двум посланцам небес есть о чем поговорить. Например, о ситуации на Осиере и, если желаешь, о дружбе между нашими звездными расами. – Снова тишина. – Ну, не хочешь говорить о дружбе, побеседуем о чем-нибудь еще. Я могу рассказать тебе о «Пилигриме», одном из наших кораблей, и его молекулярных деструкторах. Что скажешь, почтенный Аххи-Сек? Это тебя интересует? – Ни в малейшей степени, – раздался звучный голос за его спиной. – И здесь, двуногий, нет другого Аххи-Сека, кроме меня. Тревельян стремительно обернулся. Пац смотрел на него и скалил зубы. Зубы, не клыки! Клыков у этого создания, кажется, не имелось. – Вижу, ты немного удивлен? – Назвавшийся Аххи-Секом говорил на диалекте центральных имперских провинций без малейшего акцента. – Стыдно, мой юный друг! Тен-Урхи, местного рапсода, еще можно было бы понять, но для Ивара Тревельяна, представителя звездной расы и – как ты сказал?.. – посланца небес, это непростительно! Это доказывает, что вы, двуногие, высокомерны и слишком горды. Настолько обуяны гордыней, что считаете вправе явиться в чужой мир и переделывать его по собственному разумению, уподобляясь богам из ваших собственных легенд и сказок. Ускоряете то, подталкиваете это… Быстрее, еще быстрее, совсем быстро! Чтобы ваших двуногих собратьев здесь и в других мирах стало больше, стало совсем много, миллиарды и миллиарды! Чтобы всякий клочок океана и суши были под контролем, чтобы ваши машины плодились, как блохи в собачьей шкуре, чтобы эти… как их?.. молекулярные деструкторы целились в каждую живую тварь. – Он прекратил раскачиваться и закончил: – Но быстро и много не значит хорошо. Как следует из вашей собственной истории, быстрый прогресс не увеличивает счастья. Уже на середине этого монолога Тревельян пришел в себя и уселся на табурет. Напряжение покинуло его, лицо разгладилось, дыхание стало ровным. Он был слишком опытным исследователем, чтобы дивиться обличью чужака, услышанным речам или внезапному повороту событий. И еще он был доволен, если не сказать больше – с этим существом можно было говорить, а значит, и договориться. Самое страшное, когда говорить не пытаются, а сразу стреляют из деструкторов, плазменных пушек, лазеров и прочей смертоносной машинерии. Но данный случай явно был другим. К счастью! Дождавшись, когда Аххи-Сек замолчит, Ивар произнес с мягкой улыбкой: – Не судите, и судимы не будете… Полагаю, это относится и к двуногим, и к четвероруким. Что до высокомерия и удивления, показавшихся тебе обидными, то ты, почтенный, не прав. Просто в лесах этой планеты водятся существа, не очень разумные, но отдаленно похожие на вашу расу, и я, сказать по правде, был ошеломлен. Прими мои извинения, если это показалось тебе оскорбительным, и перейдем к делу. Раскрыв внушительную пасть, Аххи-Сек издал утробное уханье, означавшее, по-видимому, добродушный смех. – Это уже лучше, гораздо лучше, Ивар Тревельян! Ну, к делу, так к делу. Хочешь сравнить наши позиции? Не имею возражений. Начнем, пожалуй, с хронологии. – Да, формально это самый важный фактор. Итак, сколько времени Осиер находится под вашим патронажем? – Более восемнадцати веков. И замечу, что последние два столетия, с тех пор как вы сюда добрались, были для меня довольно хлопотливыми. – Восемнадцать веков! – Тревельян, изумленный, покачал головой. – И все это время именно ты… – Нет, не только я. Мы долговечны, но и для нас это немалый срок. Я – пятый Хранитель этого мира. Если угодно, пятый Аххи-Сек, Великий Наставник и глава Братства Рапсодов. Того самого, к которому ты решил присоединиться. – Созданному вами? – Реформированному, скажем так. Организация существовала еще до нас, в глубокой древности. На благо Осиера мы расширили ее функции, усилили влияние и приспособили к своим целям. – И эти цели?.. Аххи-Сек почесал волосатую грудь. – Полагаю, те же, что у вас, разница только в понятии счастья. В вашем обществе его видят в прогрессе технологии, в накоплении материальных благ, во власти над природой, наконец, в той власти, которая практически адекватна насилию. Для нас счастье нечто другое. – Просьба уточнить, Хранитель. – Язык Осиера не слишком подходит для этого, да и ваш, боюсь, бедноват. Мало выразительных средств, не хватает терминов, не говоря уж о жестикуляции и звуковой гамме… Однако я – эксперт по двуногим, я знаю вас лучше моих сородичей и попытаюсь объяснить. – Его мимика была не совсем понятна Тревельяну – вероятно, Аххи-Сек задумался. Потом сказал: – Жизнь в гармонии с миром – это подойдет? – Вполне. Но мы тоже к этому стремимся. – Вы стремитесь еще ко многому другому и хотите получить все побыстрей, тогда как гармония – результат медленного и долгого, очень долгого развития. Мы, четверорукие, предусмотрительны и терпеливы, а вы, двуногие, слишком суетитесь там, где надо ждать, и ваша суетливость всегда оборачивается кровью. Взять хотя бы ваши действия тут, на Осиере… Все эти паровые машины, горючие жидкости, сплавы с добавкой хрома и никеля, зрительные трубы, седла, бумагу… все, что вы предлагали местным мастерам, купцам и нобилям… Чтобы стабилизировать обстановку, мне пришлось изрядно потрудиться, иногда даже проявить жестокость, а этого я не люблю. Нам, всей моей расе, это не нравится! – Не вижу, что опасного в бумаге и седлах, – нахмурившись, буркнул Ивар. – Начнете с бумаги, кончите порохом, начнете с седел, кончите боевой кавалерией! – Такие последствия просчитывались, Хранитель. Мы удержали бы контроль за ситуацией. У нас достаточно опыта в других мирах. Аххи-Сек вытянул над столом переднюю лапу, оказавшуюся чудовищно длинной, и прикоснулся к плечу собеседника. – Да, Ивар Тревельян, опыта у вас достаточно, но этот мир открыли не вы, и не вам его контролировать. Поэтому уходите и не мешайте. Демонтируйте вашу базу в Восточном океане, уберите спутники… Пусть все тут идет неторопливо, шаг за шагом, и свершается в свой черед. – Слово первооткрывателя священно, – со вздохом согласился Ивар. – Я уважаю твое мнение и доведу его до старших коллег, а те – до лидеров нашей планеты. Но, вероятно, понадобится еще не один обмен информацией, ибо вы знаете о нас много, а мы о вас – мало. К тому же не будем забывать, что Осиер населяют наши двуногие братья. Иными словами, люди, а не… Он запнулся, и Хранитель, весело оскалившись, закончил: – …не пацы, не обезьяны, так? Что ж, вы можете следить за нашей работой, находясь здесь в качестве частных лиц. Люди имеют право жить с людьми, никто против этого не возражает. Вот и живите на Осиере, наслаждайтесь его красотой, охотьтесь в его лесах, плавайте по его морям, пейте его вина, любите его женщин… Но живите так, как живут обитатели этого мира, не пытаясь его переделать, живите, как живет твой друг Хьюго Тасман. – Которого ты приговорил к заключению! Прямо скажем, не очень дипломатичный акт! С большими последствиями для нашей чистой и горячей дружбы! – Можно ли чувствовать себя заключенным, когда тебе подарен целый мир? Если бы твой друг хотел улететь с Осиера, хотел по-настоящему, он, наверное, это бы сделал. – Несмотря на твои пророчества и угрозы? – вкрадчиво молвил Тревельян, вдруг ощутив, что их переговоры близятся к главному вопросу. А был он таким: кто сильнее?.. – и оставался пока неясным. В конце концов, деструкторы, аннигиляторы, метатели плазмы и боевые роботы – детские игрушки в сравнении с предвидением будущего. – Пророчества временами выполняются по той причине, что в них желают верить, – заметил Аххи-Сек. – Готов согласиться с этим. – На губах Тревельяна мелькнула коварная улыбка. – Я тоже получил от тебя предсказания, но не поверил ни одному из них. И вот я здесь, перед тобой! – Не поверил… – с явной насмешкой протянул его мохнатый собеседник. – Как было сказано, иногда верят, и пророчество исполняется. Но бывает и так: не верят, а оно все равно исполняется. От судьбы, мой друг, не уйдешь! Вспомни, что я тебе предсказал! Улыбка Тревельяна стала торжествующей. – Предлагались два варианта: или я немедленно убираюсь с планеты, или закончу жизнь в темнице, в каменном мешке. Но я не убрался, и я – на твоей базе… Ни то, ни другое не исполнилось! – Ты в этом уверен? Разве ты не улетишь через несколько дней на своем корабле? И разве это не один из предложенных вариантов? – Оскал Аххи-Сека был много шире поблекшей тревельяновой улыбки. – Видишь ли, мой дорогой рапсод, «немедленно убраться» – это твоя интерпретация. На самом деле, если бы ты попробовал убраться немедленно, то как раз очутился бы в том каменном мешке, где просидел бы до самой кончины. Другой и более приемлемый вариант развития событий таков: ты, преодолевая некоторые трудности, все же находишь меня, мы беседуем, и ты улетаешь. Что и случится в скором будущем. «Ловко вывернулся! – раздался беззвучный голос командора. – Браво! Хитрый черт!» – Казуистика, – сказал Тревельян, – элементарная казуистика! Фокусы, чушь, ерунда! Попытка перевернуть ситуацию с ног на голову! У нас, у двуногих, это называют так: делать хорошую мину при плохой игре. Тебе понятен смысл этого выражения? – Понятен. – Аххи-Сек уже не ухмылялся, и его маленькие глазки под выпуклыми дугами надбровий смотрели пронзительно и остро. – Вы, двуногие, искусны в своем ремесле, мы, четверорукие, в своем… С этого острова я могу послать ментальный сигнал любому из моих помощников на континенте. Отправить без всякого напряжения, прямо отсюда. – Он коснулся лба. – Сигнал воспримут как словесное послание или как вещий сон, и это одна из граней моего искусства. Есть и другая… Ты, Ивар Тревельян, улетишь с Осиера, но жизнь твоя будет продолжаться, так? Хочешь увидеть ее конец? Он растопырил над столом поросшие шерстью пальцы, приподнял ладонь, и под ней блеснуло что-то металлическое, округлое, небольшое. Овальная пластинка! Медальон с изображением-пророчеством! Он лежал оборотной стороной кверху, и картины не было видно. Тревельян мог поклясться, что мгновением раньше стол был пуст. – Переверни, если хочешь узнать свою судьбу, – предложил Хранитель. – Умрешь ли ты, как говорится у вас, в своей постели, или будешь убит в каком-то из чужих миров, погребен под снежной лавиной или в океанской бездне, сожжен на костре или в огне вулкана, распят, как один из ваших пророков, пронзен копьем, обезглавлен, растерзан диким зверем… У тебя опасная профессия, Ивар Тревельян, и никакой из этих вариантов исключить нельзя. Где и как придет к тебе смерть? Ни ты не знаешь, ни я. Пока! Но стоит перевернуть эту пластинку… «Запугивает, чучело волосатое!» – буркнул командор, но Тревельян знал, чувствовал, что это не так. Не запугивает, но предупреждает! Ему вдруг стало ясно, что перед ним не обманщик, не искушенный в казуистике хитрец, а существо с даром предвидения, который, может быть, являлся нормой для четвероруких или чем-то таким же удивительным и редким, как телепатия у человека. Так ли, иначе, но Аххи-Сек не играл с ним; просто хотел, чтобы ему поверили и в будущем, при дальнейших контактах, не забывали, что его раса не беззащитна. Ведь в конечном счете побеждает не тот, чьи пушки крупнее калибром, а умеющий предвидеть, куда упадут и где разорвутся снаряды. Ивар поглядел на пластинку и сказал: – Мы не будем ее переворачивать. Знание, которое ты предлагаешь, слишком тяжело и горько и не доставит удовольствия ни мне, ни тебе. Сойдемся на том, что я тебе верю и беру свои слова обратно – те, насчет казуистики и фокусов. Вполне возможно, все происходит именно так, как ты предсказал. Огромные губы Аххи-Сека дрогнули, в глазах сверкнул веселый огонек. – С тобой приятно иметь дело, Ивар Тревельян. Для двуногих ты на редкость толерантен. – Профессия обязывает, – скромно заметил Тревельян, наклонившись к лютне с устройством связи. – Компьютер! Миссия завершена, можешь выслать скиммер. – Он поднял голову и объяснил: – Сюда прилетит воздушное судно и приземлится на берегу. Мне пора уходить, Хранитель. Я рад нашей встрече и сожалею, что она не состоялась раньше. Ты и я, да и эксперты с нашей базы потратили много усилий и времени. А зря! Аххи-Сек провел над столом ладонью, и медальон исчез. Совсем человеческим жестом он покачал головой. – Ничего не бывает зря, мой юный друг. Проходит время, тратятся усилия, и туманное становится определеннее и яснее. Вы для нас были незнакомцами, и, думаю, преждевременный контакт не принес бы пользы. Тебя я тоже хотел изучить, понаблюдать за тобой, поразмыслить… Вы, люди, такие разные! – Понаблюдать, – выхватил слово Тревельян, вспомнив, что есть еще неясные вопросы. – Я уверен, что ты за мной следил. Но как? – Существует много способов. Я собираю информацию со всего обитаемого континента, и не только от созданий, наделенных разумом, но и от других живых тварей. Временами данные приходят прямо из мозга человека, с которым установлена ментальная связь, но не всегда, не всегда… Если говорить о тебе, Ивар Тревельян, то я не знал и не знаю, о чем ты думаешь, что чувствуешь, только – где находишься. Примерно, так как ментальный сигнал не поддается точной локации на больших расстояниях. Я…Он говорил, и Тревельян, посматривая на него, чувствовал, как поддается магии ровного звучного голоса. Физиономия Хранителя уже не казалась ему жуткой звериной мордой, густая короткая шерсть выглядела словно одеяние, под которым бугрились могучие мышцы, огромные лапы стали руками, а глаза – о, глаза были так выразительны, так спокойны и мудры! Не Великий Наставник сидел перед ним, не иерарх Братства Рапсодов, не тайный властитель Осиера, а такой же, как он, посланец со звезд. И делить им было нечего, и не о чем спорить. Тревельян поднялся, протянул руку и ощутил крепкое дружеское пожатие. Ладонь Аххи-Сека казалась горячей – видимо, температура тела была у него выше человеческой. – Я знаю этот ваш земной обычай, – молвил он. – Раскрытая рука – значит, в ней нет оружия… Так? – Так, – подтвердил Тревельян и протянул ему свою лютню. – Вот, возьми. Здесь передатчик, и, если захочешь, ты можешь связаться с компьютером базы, послать сигнал и запросить любую информацию. И еще… – Он тронул струны, и лютня отозвалась тихим аккордом. – Еще здесь хранятся песни, все песни Осиера и Земли. Жаль, что я тороплюсь и не могу спеть тебе их сам. – Да будет твой путь легок, Ивар Тревельян. Вы, двуногие, всегда торопитесь, – сказал Хранитель, растягивая свой огромный рот. Кажется, это означало добродушную усмешку.
* * *
Скиммер приземлился у бухты и снова взмыл в воздух вместе с Тревельяном. Повинуясь приказу, машина кружила в вышине, и на ее экранах остров был ясно виден – желтый песок, зеленые пальмы и темная фигурка под деревьями с запрокинутой головой и нечеловечески длинными руками. Одна из них поднялась, начертила в воздухе круг, затем коснулась груди. Вероятно, сердце у Аххи-Сека тоже было слева. – Прощай, Хранитель, – тихо произнес Тревельян, потом вызвал компьютер базы. – Слушаю, наблюдатель Тревельян. – На этой планете есть еще один человек. Тебе известно об этом? – Да. Хьюго Тасман, сотрудник Фонда, лингвист и доктор экспериментальной истории. Но он не выходит на связь. Ни одного сеанса примерно за пятьдесят местных лет. – Все же попробуй до него достучаться. Скажи, что вызывает Ивар. Прошла минута, другая, третья… Летательный аппарат по расширяющейся спирали поднимался над островом. Когда небо потемнело и в нем вспыхнули звезды, Тревельян услышал: – Ивар, ты? Это Хьюго. Есть новости? – Как не быть. Работа закончена, я возвращаюсь на базу, а через несколько дней здесь появится «Пилигрим». – Помолчав, он добавил: – Ну, и что ты об этом думаешь, Хьюго? Тишина. Скиммер, пронзив атмосферу, шел по огромной дуге, что нависала над половиной планеты, от Западного океана до Восточного. Тасман откашлялся. – Нет, Ивар, нет. Лети один, коллега. Я… Понимаешь, нельзя прожить половину столетия без привязанностей, без обязательств, без друзей, без возлюбленных… Я не могу их покинуть, не могу и не хочу. – Он вздохнул. – Наверное, Ивар, я уже больше осиерец, чем землянин. Когда-нибудь я умру, и надо мной споют погребальные гимны, тело сожгут на костре, а прах бросят в реку, чтобы он доплыл до Границы Мира… Так и должно быть. Я остаюсь. – Долгих лет тебе, Хьюго. Надеюсь, ты еще не скоро поплывешь к Границе. – И тебе желаю того же. Может быть, когда-нибудь увидимся. – Может быть. Тасман отключился. – Прав Хранитель, прав, – произнес Тревельян. – Если бы он хотел улететь с Осиера, он бы это сделал. Но здесь так спокойно, а наш мир так суетлив! Яркая звезда сияла над скиммером, ее изумрудный луч колол глаза. Тревельян прищурился, всматриваясь в темноту, усеянную яркими разноцветными искрами, словно ожидая, что вот-вот среди них возникнет «Пилигрим», вынырнувший серебряной рыбкой из безвременья Лимба. Но этого, конечно, случиться никак не могло; у Вселенной свои законы, и движение звездных лайнеров, даже таких, которым любая дорога коротка, сообразуется с ними. Придется подождать, провести на базе пару дней… Ну, ничего, будет время для отчета! Непростой документ… никто ведь в Фонде да и на всей Земле не ожидал, чем обернется эта миссия… Среди сорока двух рас, известных землянам, разумные четверорукие приматы еще не попадались. К тому же такие мудрые, такие терпеливые… Скиммер мчался над огромным континентом, и где-то внизу в стремительном темпе проносились города и страны, мелькали горы, реки, леса и поля. Удзени, Шо-Инг, Тилим, Сотара, Кольцевой хребет и Семь Провинций у моря Треш, Этланд, Княжества Архипелага… Веки Тревельяна опустились. «Что мне чудится и что происходит в реальности? – думал он. – Я сплю и лечу в каком-то аппарате… Но где и в каком? В скиммере, парящем над Осиером, или в чужой машине, в подземельях Хтона? Может быть, в них я и останусь? Может, здесь и сгниет моя плоть, а кости смешаются с песком и камнями? О том известно лишь Аххи-Секу, параприму и Великому Наставнику… Если бы он перевернул пластинку с предсказанием, я бы тоже знал… знал, где и как закончу жизнь… Вернуться к нему? Так хочется узнать… узнать наверняка…» Машину ощутимо тряхнуло, и он проснулся. Неяркий свет бил в глаза, затхлый воздух наполнил легкие, клубы пыли вихрились над голубой поверхностью платформы. Позади темнел зев тоннеля, но направляющий луч уже погас. «Прибыли. Тихо тут, как на кладбище, – заметил командор. Сделал паузу и добавил: – Тебя, малыш, опять сканировали. Что-то интересное приснилось?» – Смотря для кого, – сказал Тревельян и полез из аппарата.Глава 12. Древний город
Два часа сна вернули Тревельяну бодрость. Есть не хотелось, но он заставил себя проглотить сухой паек, запив его водой из фляги. Завтрак получился не очень изысканный, но Ивар, как любой разведчик-наблюдатель, умел не обращать внимания на мелочи. За годы странствий ему довелось приобщиться к кухне многих рас, где встречались блюда почти несъедобные, но только по первому впечатлению – при некоторых усилиях можно было справиться даже с пла, колючими ядовитыми червями, любимым кушаньем туземцев с Хаймора. Медицинский имплант, расширявший возможности человеческого метаболизма, позволял переваривать такое, о чем не поминают в приличной компании, особенно за столом. Закончив с едой, Ивар, сопровождаемый трафором, зашагал по платформе. Крохотные смерчи пыли клубились у его колен, напоминая, что дорогу в древний город не посещали тысячи лет; свечение поверхности под ногами было тусклым, но позволяло обойтись без прожекторов. Голубоватая лента платформы уходила вдаль на километр, и, вероятно, в прежние времена здесь приземлялись сотни машин. Теперь транспортный узел был безлюден и пуст. Высокие своды над перроном пересекали трещины; неподвижный, лишенный запахов воздух казался неживым. «Унылое местечко, – пробормотал командор. – Зато удаленное. Подходит, чтобы отсидеться». Тревельян молчал. Тишина и пустота подавляли его, внушая мысль о тщетности существования. Могло ли такое произойти с Землей? С Солнечной системой и всей Земной Федерацией? С множеством миров, заселенных за девять столетий космической экспансии? Эта проблема оставалась загадкой для самых великих умов, какие породило человечество, и контакты с инопланетянами не сделали ее яснее. Цивилизации хапторов и кни’лина, дроми, фаата, терукси и других известных рас были сравнительно молоды и находились в поре расцвета. Поглотят ли их мрак и забвение? Когда это случится? И ждет ли Землю та же участь?.. Кто мог ответить на этот вопрос? Несомненно, мудрые даскины, правившие в древности Галактикой, но никто не знал, куда они исчезли миллионы лет назад. Возможно, лоона эо? Возраст их цивилизации был не таким почтенным, как у даскинов, но все же насчитывал пятьсот или шестьсот веков. Но если у лоона эо имелось что сказать, они не спешили делиться этим знанием с молодыми расами. Не потому ли, что было оно горьким?.. Молчание наскучило Советнику. «Наш покойный чемодан сказал, что этот город примерно в трехстах километрах к северу от границы. Мы добирались сюда пару часов. У посудины, что нас везла, скорость небольшая». – Имеет ли это значение? – молвил Тревельян. «Имеет. Их воздушные аппараты тоже не очень быстрые, но могут добраться сюда за час. Я говорю о роботах Стручка». – Надеюсь, Фардант их прикончит. Всех или почти всех. «Нам хватит и дюжины, – буркнул командор. – Здесь тихо, но ты, парень, все же поглядывай по сторонам». Совет былне лишним. Ивар сменил батарею в бластере, огляделся, но не заметил никакой угрозы. Ровным счетом ничего, кроме высоких сводов, пыльной поверхности и цепочки собственных следов. – Есть какие-нибудь движущиеся объекты? – спросил он, обернувшись к трафору. – Нет, эмиссар, – отозвался его спутник. – Но мы находимся в ста сорока восьми метрах от поверхности. Я не могу сканировать воздушную среду. Кивнув, Тревельян ускорил шаги. Ему хотелось отыскать что-то вроде лифта, гравитационной шахты или обычной лестницы, чтобы подняться наверх. Это давало определенные преимущества, возможность держать под контролем воздух и земные недра. Перрон вывел его в большой квадратный зал, откуда разбегались десятки тоннелей. Цветных пометок или каких-либо надписей он не увидел, но одни проходы шли горизонтально, другие – под заметным наклоном вниз, а третьи – вверх. Осмотрев их, Ивар выбрал самый широкий, направленный к поверхности. Пол здесь тоже светился голубым, своды поднимались на высоту нескольких этажей, и пыли было поменьше. Ему почудилось, что кожи коснулся слабый ток воздуха – вероятно, этот коридор имел сообщение с внешним миром. Спустя несколько минут Тревельян убедился, что выбор правилен. Уже не тоннель, не коридор был перед ним, а широкая эспланада, постепенно уходившая вверх, озаренная голубоватым свечением стен и пола. Слева и справа в шесть ярусов тянулись просторные галереи, отделенные то рядами колонн, то ажурными решетками и витражами, то дымчатыми или янтарными пластинами какого-то материала, заполнявшего проемы. К галереям вели прозрачные цилиндры подъемников и странные лестницы со ступеньками в форме серпа; от нижнего уровня эспланады ответвлялись улицы-коридоры, а между ними, в открытом взгляду пространстве, лежал вековечный мусор. Целые горы непонятного хлама, в котором нельзя было выделить ни единого предмета, что-то похожее на обломок посуды или статуэтки, на деталь прибора, обрывок листа с изображением или хотя бы кости прежних обитателей. Можно было подумать, что эти мусорные кучи извергла какая-то гигантская мясорубка, работавшая десятилетиями или веками; кучи, груды, холмы расползлись, заполняя галереи, просачиваясь между решеток и колонн, выхлестывая на улицу серыми пыльными языками. «Тут здорово потрудились, – заметил командор. – Очень, очень давно – хлам кажется слежавшимся и запахи отсутствуют. Или ты что-то ощущаешь?» – Ничего, – ответил Тревельян, втягивая носом воздух. Затем остановился и велел трафору покопаться в нескольких мусорных кучах. Спустя полчаса Мозг доложил, что возраст исследуемых объектов девять тысяч лет плюс-минус столетие и что, как ожидалось, здесь не имеется ни крошки металла или иных ценных веществ. Только пластик множества видов, мелкие каменные частицы, пыль, а еще соли и окислы кальция – возможно, останки скелетов тех созданий, что населяли город в древности. Следы утилизации, подумал Ивар. Очевидно, Хтон, ни сейчас, ни в прежнем своем состоянии, не был богат рудами и минералами, и все полезное сырье подвергалось многократной переработке. Окинув подземелье взглядом, он решил, что этот город, несмотря на разруху и непривычный вид, все-таки красив. Галереи и колоннады, многоцветные узорчатые витражи, решетки и лестницы, сводчатый потолок и таинственный голубоватый свет делали его похожим на пещеру гномов, на сказочное царство, созданное в недрах земли и потом заброшенное – от того ли, что род строителей пресекся, или по иной, не доступной пониманию причине. На планетах Земной Федерации подземных убежищ, тем более, городов, давно не возводили, так так терраформирование позволяло приспособить к человеческим нуждам любой не слишком гостеприимный мир и жить в нем под светом солнца. Люди не зарывались в землю – скорее, стремились подняться над планетой, окутать ее шлейфом заатмосферных поселений, энергетических станций и научных комплексов. Эта тенденция ширилась и нарастала век от века, знаменуя превращение землян в истинно космическую расу, привязанную к искусственным сооружениям в пустоте, а не к планетарной тверди. Но древние подземные города, укрытые в скалах или горных хребтах, еще существовали как забавный анахронизм – большей частью, на Земле и Луне. В некоторых Ивар побывал – в Гималайском научном комплексе и в старинной Лунной базе космофлота, врезанной в кратер у Моря Дождей. Однако этот город отличался от них, как отличается причудливый, украшенный перламутром ларец от строго функционального контейнера; его спроектировали для жизни миллионов обитателей, которым он должен был дарить красоту и радость. Здесь они и упокоились, подумал Тревельян, глядя на холмы мусора. Недостаток ресурсов, взаимное истребление и вырождение, как проинформировал Контактер… Но что послужило причиной катастрофы? Агрессия из космоса? Великий Враг, напавший на планету девять тысяч лет назад? В недоумении он сдвинул брови и наморщил лоб. Экспансия землян в Галактику началась не так давно, однако о событиях последних двадцати, даже тридцати тысячелетий, о самых масштабных катаклизмах и разрушительных войнах, о гибели цивилизаций и культур в ветвях Ориона и Персея земные историки знали. Чем-то поделились лоона эо, что-то выведали служившие им наемники, часть информации пришла от кни’лина, дроми и даже от фаата в эпоху Войн Провала; остальное было результатом археологических раскопок, астрономических исследований и компьютерного моделирования. В общем и целом недавний период галактической истории не являлся тайной, и в нем не нашлось бы никого, кто мог претендовать на роль Великого Врага. Тем более за девять тысячелетий до настоящего времени, когда даже бино фаата, одна из самых агрессивных рас, еще не вышли в космос! Покачав головой, Тревельян снова зашагал вверх по эспланаде. Возможно, подумалось ему, Хтон сокрушили пришельцы из другой галактики? Или флот, прилетевший сюда с древних шаровых скоплений, из Магеллановых Облаков либо с другого края галактического диска? Чушь, ерунда! Если б такое случилось в сравнительно недавнем прошлом, лоона эо были бы в курсе. Вне всякого сомнения! Во все времена главной заботой этих мудрецов и тихих ксенофобов являлась космическая безопасность, так что Великий Враг не ускользнул бы от глаз их сервов-наблюдателей. Скорее всего, с этим Врагом секрета нет, а есть несоответствие масштабов: то, что казалось великим обитателям Хтона, для древней мудрой расы было мелкой неприятностью. Стены подземелья раздвинулись, свечение пола сделалось ярче, свод взмыл на высоту доброй сотни метров, став гигантским куполом. Ивар вышел на площадь. Окружавшие ее колоннады, портики, витражи и резные решетки отличались особой изысканностью и несмотря на истекшее время неплохо сохранились. Если не считать груд вездесущего мусора, все выглядело так, словно через секунду-другую пустые пространства затопят мириады горожан, грянет веселый праздник, и мертвая тишина сменится возгласами, смехом, музыкой и шелестом одежд. Это чувство оказалось таким сильным, что Тревельян замер на половине шага, потом тряхнул головой, отгоняя наваждение, и решительно направился к центру площади. Там высились изваяния. Четыре обнаженные фигуры, взявшись за руки, застыли на невысоком постаменте; светлый цвет камня, видимо мрамора, подчеркивал грациозность их тел, изящество поз и красоту спокойных лиц. Эти создания казались более хрупкими, чем люди, и не такими высокими, но в остальном как будто не отличались от землян, кни’лина, терукси и прочих гуманоидов. Правда, половые органы у них отсутствовали, но это могла быть вольность художника, не пожелавшего изображать низменную сторону натуры. Потрясенный, Ивар обошел вокруг скульптурной группы, всматриваясь в прекрасные черты и ощущая себя слишком большим, неуклюжим и громоздким. Вот какими они были! – кружилось у него в голове. Не гномами из подземелий, а эльфами! Чудными существами, словно бы сотканными из воздуха и солнечных лучей! Шумно вздохнув, он подозвал трафора, велел ему сделать запись, потом отвел взгляд от изваяний и уставился в пол. Он повидал множество рас и был достаточно опытен, чтобы не связывать обличье с внутренней сутью инопланетян. Особенно если они походили на людей! Еще в Академии, юным курсантом, он усвоил, что в сходстве таится ловушка: чувства и разум воспринимают чужих как близких родичей, приверженных тем же обычаям, что и земляне, прошедших тот же путь и обладающих близким ментальным складом. Но это было не так. Внешнее подобие и даже сексуальная совместимость еще не означали психологического сходства; красота не являлась признаком добродетели, уродство – эквивалентом гнусных намерений и омерзительных душ. Бино фаата были красивы, но холодны и жестоки, и Земля сражалась с ними долгие десятилетия; кни’лина тоже не слишком отличались от землян, но видели в них не братьев по разуму, а отвратительных ублюдков – по крайней мере, до проигранной войны. А вот с обитателями Хаймора все обошлось благополучнее, хоть походили они не на людей, а на помесь дельфина с осьминогом. – Эльфы! – пробормотал Тревельян, снова вглядываясь в статуи. – Может, эльфы, а может, дьяволы… Да и эльфы разные бывают… Он не мог отделаться от мысли, что где-то видел почти таких же созданий – не в реальности, не живьем, но в голографических фильмах и записях. Возможно, когда учился в Академии? На лекциях по внеземным культурам? Их читал Сойер, и там была масса иллюстративного материала… такие попадались физии, что мороз по коже! А эти, напоминающие эльфов… «Что уставился? – спросил командор, ловивший отзвук его размышлений. – Не узнаешь? Ну, немудрено! Лицом к лицу с ними никто не встречался. Ни единый человек за восемь сотен лет. – Помолчав, он добавил: – Ты на рожи-то не пялься, ты на руки их взгляни! Взгляни и пальцы пересчитай!» Тревельян так и сделал. Кисти были узкими, как и ступни ног, и вид их заставил его вздрогнуть. Четырехпалые! К тому же похожи на людей, но более миниатюрные и без видимых признаков пола… – Не может быть! – пробормотал он в изумлении. – Лоона эо! Но как… откуда?.. Невероятно! Их раса процветала десять, и двадцать, и тридцать тысяч лет назад… Они не строили подземных городов, не подвергались нападению и уж во всяком случае не истребляли друг друга! Мудрый древний народ, на редкость мирный, хотя и склонный к ксенофобии… И потом, их планеты: Куллат, Арза, Файо, Тинтах и другие – совсем в другом галактическом секторе. «Возможно, здесь была их дальняя колония», – заметил призрачный Советник. – Здесь, в Провале? Вряд ли. Десять-двенадцать тысячелетий назад они колонизировали планеты вблизи своей метрополии. Они никогда не забирались в Провал! «Это могло случиться раньше. Скажем, какая-то очень древняя экспедиция. Нашли этот мир, заселили его, размножились, как тараканы, а потом их кто-то прихлопнул». – Если бы так случилось, – возразил Тревельян, – они не бросили бы соплеменников без помощи. Либо эвакуировали всех с Хтона, либо возродили бы планету… И в чем я точно уверен, они не стали бы создавать кибернетических владык и поощрять эволюцию роботов. «У лоона эо есть сервы. Может, их рук дело? Сервам необходимы хозяева. Лишившись живых хозяев, они сконструировали Фарданта и всю остальную шатию-братию». – Очень сомнительно, дед. Я же сказал, они своих не бросают, а сервы для них тоже свои. Девять тысячелетий прошло… – Ивар задумчиво потер висок. – За это время они могли много раз сюда добраться, сервов послать или наемников, и навести порядок. Планеты так просто не теряются, даже в Провале! «Клянусь Владыками Пустоты! Что за детская наивность! – рявкнул командор. – Вдруг у них были осно- вания потерять и навсегда забыть! Что мы знаем об их древней истории, парень? Что? Вот ты говоришь, эта раса процветала десять, и двадцать, и тридцать тысяч лет назад… А пятьдесят? А сто? Ты ведь знаешь о генетических опытах кни’лина, лысых ублюдков! И о том, что творят с наследственностью бинюки [52]! Не исключаю, что этот мир использовали для того же. Эксперимент закончился плохо, воспоминания о нем мучительны, даже позорны, и их постарались изъять из памяти и архивов. Только и всего!» Выслушав эту отповедь, Тревельян поджал губы. Нет, что-то здесь было не так! С одной стороны, дед прав, о древней истории лоона эо не известно ровным счетом ничего. Но с другой… Как-то не верилось, что эта раса – пусть в далеком прошлом! – творила неблаговидные дела. Даже сто тысяч лет назад они были слишком тихими, слишком цивилизованными и наверняка защищенными не хуже, чем теперь, когда их охраняют земные наемники. Что за Великий Враг мог угрожать их отдаленной колонии? Да и зачем им этот мир, заброшенный во тьму Провала? Они давно уже не селились на планетах, а обитали в астроидах [53]. «Может быть, мы оба ошиблись?..» – мелькнула мысль у Тревельяна. Конечно, внешнее сходство велико, но на этих статуях нет надписи «лоона эо». Четыре пальца на руках и ногах? Слишком слабый довод! Все гуманоиды пятипалые, но это не значит, что люди, кни’лина и терукси – одно и то же. Был, однако, признак, который встречался лишь у лоона эо, только у них во всей Галактике: при внешнем человеческом обличье они не имели органов размножения, характерных для гуманоидных рас, и делились на четыре, а не на два пола. Статуй тоже четыре, подумал Тревельян и, сопоставив одно с другим, снова пустился в обход скульптурной группы, всматриваясь в лица и фигуры и соображая, кто есть кто. На первый взгляд, нелегкое занятие! Половые различия у этой расы казались не столь заметными, как у людей, но все же он выделил женщину и мужчину: они стояли спина к спине, и женщина была маленькой и хрупкой, а мужчина – самым рослым, хотя мускулатурой и шириною плеч похвастать он не мог. Между ними – две переходные формы, полумужчина и полуженщина, как их обозначали на Земле; у лоона эо имелись свои названия для промежуточных полов, но Ивар их не помнил. В этом выборе лица подсказывали больше, чем фигуры и рост – генотип каждой формации был передан выразительно и ясно, с потрясающим мастерством. «Конечно, если знать, что ищешь», – пробормотал Тревельян, в десятый раз осматривая статуи. «Закончил экспертизу? Убедился?» – с ехидством спросил Советник, но Ивар, не ответив ничего, придвинулся ближе к изваяниям и махнул трафору, приказывая сделать еще одну запись. Облаченный в скоб, он выглядел рядом с этими существами легендарным титаном. Затем Тревельян пересек площадь и двинулся дальше по эспланаде, меж колонн и лестниц, наполовину заваленных мусором. Он шел в глубокой задумчивости, вспоминая, что ему известно про лоона эо, про Куллат, их материнский мир, и сервов, их слуг-биороботов. Мозг мог бы выдать полную справку, но Ивар сомневался, что узнает нечто новое, особенно о древних временах. Хронологическая шкала Галактики – в том, что касалось разумных созданий – уходила в минувшее на жалкие тысячи лет, и никто не ведал, что творилось за ее пределами, какие бушевали страсти и разыгрывались драмы на подмостках Великой Пустоты, под занавесом мрака, украшенным блестками звезд. События миллионолетней давности все еще оставались тайной – тайной на Земле и в других мирах, где появились цивилизации, столь юные по меркам Мироздания, что голоса их походили на неразумный писк младенца. Те, кто постарше, лоона эо, метаморфы либо парапримы, могли, пожалуй, рассказать о прошлом нечто занимательное, но не спешили с этой миссией – от того ли, что знание было опасным или способным настроить кого-то против них. Что до сильмарри, споривших древностью рода с даскинами, то они не владели речью и, очевидно, не имели понятий о прошлом, настоящем и будущем. Решив, что загадки Хтона разъяснятся при свидании с Фардантом, Ивар ускорил шаг и через несколько минут очутился под открытым небом. Долгая ночь подошла к концу, на востоке медленно разгоралась заря, и темнота уступала место предрассветному сумраку. Проспект, последний участок которого был завален рухнувшими колоннами и стенами, вывел Тревельяна к площади, также засыпанной щебнем и песком. Миновав гигантские полуразрушенные врата, он поднялся на песчаный холм с торчавшими тут и там обломками каменных и пластиковых конструкций, отыскал ровную плиту на вершине бархана, встал на нее и огляделся. Бури, пески и минувшие тысячелетия еще не стерли город с лица планеты. В каньонах между серых дюн еще угадывались улицы, в провалах – площади, в холмах – останки колоссальных зданий, и ветер, пересыпавший прах и пыль, иногда открывал следы былого великолепия – камень, покрытый резьбой, голубую светящуюся панель, пол с фрагментом мозаики, серпообразные лестничные ступени или цоколи колонн, украшенных геометрическим узором. Развалины тянулись во все стороны света, насколько видел глаз, уходили к горизонту волнами дюн, скрывавших руины, и в полумраке картина выглядела точно застывший морской пейзаж с обломками кораблекрушения. «Мегаполис! – заметил командор. – Миллионов десять тут обитало или двадцать. В технологических мирах, как утверждает статистика, такие города не единичны. Значит…» – Значит, население планеты было не меньше, чем на Земле в двадцатом или двадцать первом веке, – закончил Тревельян. – Тоже непонятная деталь. Подобный демографический взрыв у лоона эо никогда не наблюдался. «Бог с ней, с их демографией, малыш. Дам тебе тактический совет: лучше убраться из этих развалин. Возможно, наш Стручок сообразил, куда ты скрылся, и послал вдогонку своих тварей». – Резонно, дед. С этими словами Ивар уселся на платформу трафора и велел двигаться на север. Северное направление казалось ему ничуть не хуже всех остальных, и ближайшая городская граница могла находиться там с той же вероятностью, как на юге, западе и востоке. Скорее всего, до нее было километров пятьдесят. Трафор, вновь принявший форму тарелки, скользнул с холма и запетлял среди барханов, неизменно выбирая тянувшиеся к северу улицы-ущелья. Если не находилось нужных, он, взлетев на гребень песчаной горы, замирал на секунду, отыскивая оптимальный путь среди холмов, развалин и осыпей мелкого щебня. Самый подходящий транспорт для пересеченной местности, подумалось Тревельяну; небольшой, подвижный и разумный. Правда, скорость в этих нагромождениях камня и песка оставляла желать лучшего, зато курс выдерживался с точностью. Небо серело и светлело. Порыв ветра бросил Тревельяну в лицо горсть колючих песчинок. Неторопливая заря долгих суток Хтона окрасила горизонт желтым и розовым. Еще не свет, но уже намек на него… На дне ущелий появилась растительность – такие же стебли с длинными шипами, как в месте посадки квадроплана, и странные образования, похожие на раскормленных и свившихся в клубок змей. Среди них шныряли уже знакомые Ивару шестилапые трехглазые кролики и твари поменьше, то ли ящерицы в чешуе, то ли насекомые в хитиновых панцирях. Он решил, что вся эта скудная фауна обязана своим происхождением Фарданту; вряд ли на Хтоне водились когда-нибудь звери из кремнийорганики, с синильной кислотой вместо пищеварительного сока. Ветер сделался сильнее. Теперь его порывы срывали с гребней дюн серые песчаные языки, кружили их в воздухе, свивали в небольшие смерчи. Трафор пытался их избегать, но временами ливень из песка и мелких камешков задевал Тревельяна. В скобе это не представляло опасности, только пришлось опустить на лицо прозрачную маску. Признаков городской окраины все еще не замечалось, холмы были так же высоки, завалы из камней и пластика встречались с прежней регулярностью, и улицы-каньоны не стали уже или мельче. Но Тревельян обратил внимание, что кроме стеблей с шипами и узловатых змеевидных растений появилось нечто похожее на траву – сизые пучки, торчавшие из трещин и щелей. Шестилапых кроликов и мелкого зверья вроде бы прибавилось; они мельтешили среди растительности и, как показалось Ивару, зарывались в песчаный грунт. Возможно, появление травы и большего числа животных являлось знаком, что город скоро кончится? Взглянув на таймер, Тревельян прикинул, что двигается больше часа – значит, позади осталось километров сорок-пятьдесят. Самое время выбраться из этих руин! Рассвет неторопливо сменял ночную тьму, ветер усиливался. Еще не ураган, но очень похоже на бурю, которая приходит с началом дня; огромные пространства пустынь, остывшие за ночь, нагревались утренним солнцем, что нарушало равновесие воздушных масс. Тревельян был знаком с этим явлением и знал, что оно характерно для планет с более длительным суточным циклом, чем на Земле. В таких мирах линия терминатора, разделяющая ночь и день, медленно ползла по континентам и океанам, гоня перед собой штормовые ветры – и, очевидно, Хтон не был исключением. Насколько сильной будет буря?.. Скорее умеренной, чем разрушительной, подумал Ивар, вспоминая наблюдения с орбиты. Но сейчас он находился не в кабине квадроплана, а перед ураганным фронтом. Порывы ветра раскачивали трафор, бросали из стороны в сторону как сухой листок, канистры с водой подпрыгивали на платформе, колотя Тревельяна то в спину, то по ногам, по маске струился песок, в ушах звучала песня бури – пронзительный свист на фоне шелеста и шороха. Трафор выпустил щупальца и, обхватив пассажира за пояс, нырнул в каньон, где ветер был слабее. Ивару показалось, что эта улица-ущелье открывается в пустоту – в ее дальнем конце он уже не видел развалин. Но уверенности в том не было – перед глазами, затрудняя обзор, колыхалась серая песчаная пелена. Сквозь вой и шелест долетел голос Мозга: – Эмиссар, атмосферные условия ухудшаются. С сожалением сообщаю, что не могу выдерживать курс. – Переждем, – распорядился Тревельян. – Ищи каменную плиту, ровную и достаточно массивную, чтобы ее не сдуло. Там я раскрою палатку. Подходящее место нашлось в седловине между двух холмов. Буря уже разыгралась вовсю, ветер ревел и стонал, то сдувая покров с развалин, то засыпая их грудами песка, в воздухе метались вихри, подобные гротескным танцующим фигурам. Последнее, что видел Тревельян, было краем солнечного диска, что поднимался на востоке – тусклый красный серпик чуть просвечивал сквозь завесу из пыли и песка. Определенно, Хтон не являлся местом, где можно в тишине и покое любоваться утренней зарей. Отыскав инициирующую клавишу, Ивар надавил ее и сбросил палатку наземь. Она была изготовлена из акрадейта, биопластика, поглощавшего влагу, мусор, пыль и любые отходы и способного к трансформации – конечно, не направляемой разумом, как в случае Мозга, а заданной программно. Соприкоснувшись с каменной плитой, палатка растеклась тонким слоем, выпустила вниз поросль корней, а вверх – двойные стены защитного купола. Мгновение, и на плите воздвиглось прочное убежище с раскрытым входом; Ивар скользнул внутрь, за ним полетел багаж, а вслед за багажом вкатился трафор, принявший сферическую форму. Входной проем тут же исчез, отрезав их от пляшущих смерчей, от пыльного воздуха, от пронзительного воя и стонов урагана. Тревельян лег на бок, вытянул ноги, поднял маску с лица и облегченно вздохнул. Потом пробормотал: «Что есть счастье? Медоносные мотыльки, порхающие в человеческой душе…» По крайней мере, так утверждала Книга пророка Йездана. Они просидели в убежище часа полтора, пока бушевал ураган и красное светило медленно всплывало на востоке. Прозрачные стены палатки подрагивали и колыхались, сбрасывая груз песка, ветер наметал песчаные валы, тут же развеивая их серой пылью, небеса светлели, принимая оттенок охры, потом небо вдруг заволоклось тучами и хлынул дождь. Каждая капля, ударившая в купол, порождала крохотную вспышку; биопластик запасался энергией, извлекать которую из воды было легче, чем из песчинок и пылевых частиц. Энергия питала корни, прорастающие в грунт; пронизав плиту основания, они уходили в склоны холмов, и ветер, не в силах сорвать палатку, лишь бесновался и выл за прочным куполом. Тревельяну быстро наскучило созерцание смерчей и дождевых струй, и он все-таки запросил у Мозга данные о лоона эо, но, как и ожидалось, ничего полезного, связанного с древней историей расы, в них не обнаружил. Они с Советником обсудили ряд гипотез, признав их в конечном счете спорными либо недостоверными, однако эта дискуссия, хоть и оказалась бесплодной, помогла скоротать время. Буря ярилась над древним городом, но Тревельян чувствовал себя в безопасности. Вряд ли сокрушители Гнилого Побега рискнут летать в такую погоду, а если доберутся подземным путем, то как им отыскать Пришельца из Великой Пустоты? Площадь города – минимум десять тысяч квадратных километров, заполненных руинами; найти здесь кого-то, даже используя радары, задача не простая. Но посланец Фарданта его разыщет, в этом Ивар не сомневался. Фардант поддерживал с ним ментальную связь и, вероятно, был искуснее Побега в таких вопросах. Наконец ураганный фронт сдвинулся к западу, потянув за собой сизую пелену облаков, ветер стих, и небо приняло обычный розовато-желтый тон. Ивар вылез из палатки, сложил ее и, погрузив багаж, уселся на платформу трафора. Они двинулись в путь по ущелью, что вело на север, и вскоре развалины остались позади. Теперь Тревельяна окружала пустыня: серые песчаные барханы, пространства, засыпанные мелким щебнем, редкие скалы и чахлая растительность. Мегаполис, оставшийся на юге, походил на разрушенный временем горный хребет – руины тянулись вдоль всей линии горизонта и на расстоянии выглядели как природный феномен. Велев трафору остановиться, Тревельян слез с платформы и, разминая ноги, несколько раз присел. Затем поднял лицо к небу. Небеса казались низкими, мрачноватыми, и тусклый солнечный шар, висевший над самым горизонтом, не слепил глаза, даже не заставлял прищуриться. Подумав, что утро на Хтоне такое же безрадостное, как вечер, он решил, что подождет здесь посланцев Фарданта. Скорее всего, явится новый Контактер в летательной машине, похожей на корзинку. Не самый удобный транспорт, но за неимением лучшего… – Эмиссар! – Зов Мозга прервал его размышления. – Обнаружены движущиеся объекты. Приближаются с востока. Расстояние три тысячи двести метров. Три тысячи сто… три тысячи ровно… две девятьсот… две… – Хватит, – прервал его Тревельян. – Тип объектов и сколько их? – Машины… кажется, крупные сухопутные машины. Количество – семь экземпляров. Возможно, это роботы. Из-за дальних барханов появились темные черточки. Они приближались довольно быстро, раскачиваясь на ходу. – На сокрушителей Побега не похожи, – сказал Тревельян. – Не похожи, эмиссар. Они гораздо больше, и ориентация корпуса у них вертикальная. – Как у Контактера. – Присев на платформу, Ивар кивнул. – Это за нами, дед. Думаю, Фардант отправил пеших посланцев. Летать во время бури рискованно. «Но они идут не с юга, а с востока», – заметил командор. – Видимо, обошли развалины. В городе большим наземным машинам трудно перемещаться. «Ну-ну», – молвил Советник и смолк. Роботы шагали прямо к ним – очевидно, Тревельян попал в зону действия их локаторов. Черточки превратились сначала в серые, под цвет песка, цилиндры, затем в башни, увенчанные полусферами; основания башен были закреплены на треножниках, и три ноги или толстые лапы размеренно двигались, попирая песок. Роботы шли плотной группой и выглядели издалека точно семибашенная цитадель, которая, неизвестно зачем, решила погулять в пустыне. Шагающие машины приблизились, и Тревельян осознал, как они огромны – с десятиэтажный дом высотой, с верхней полусферой в двенадцать или больше метров в поперечнике. Нижние конечности были короче корпуса, но тоже массивными, толстыми и мощными; они сгибались в двух местах, и каждый шаг сопровождался лязгом и грохотом. Полусфера, торчавшая над башней, как шляпка гриба, несла целую батарею; в вертикальных прорезях виднелись раструбы метателей, орудийные стволы и что-то еще, непонятное, но наверняка смертоносное. Двигательный механизм-треножник заканчивался гигантскими ступнями, а с нижнего края полусферы спускались манипуляторы, сейчас плотно прижатые к обшивке. Серьезная техника!.. – мелькнуло в голове у Тревельяна. Фардант, наученный горьким опытом, отправил за ними не Контактера, а целый боевой отряд, который мог отбиться от сокрушителей Побега. Бесспорно, это было свидетельством высокой ценности Пришельца из Великой Пустоты. «Триподы, – молвил командор. – Подобные машины строили у нас в двадцать первом веке. Думали, чем робот больше, тем он страшнее. Если память мне не изменяет, такая штука называлась МОКР, мобильная крепость или попросту мокрец». – И что же? – спросил Ивар, глядя, как шагающие башни расходятся, окружая его со всех сторон. Последний трипод направился прямиком к нему. Песок под ступнями гиганта со скрипом проседал, и за машиной тянулась цепочка овальных следов. «А ничего, – отозвался командор. – Слишком крупные боевые роботы в атаке неэффективны. В пустынях либо на каменистом грунте еще туда-сюда, но в горах или, положим, в болоте их можно использовать лишь как опорный оборонительный пункт. Помнится, выпустили два десятка таких мокрецов, а через год-другой разобрали на металлолом». – Эти не из металла, эти из пластика, – произнес Тревельян, разглядывая внушительную башню. «Так и наши были не из металла, – сообщил командор. – Броня утяжелит такую огромную конструкцию. Их покрывали… – Советник вдруг замолчал и после секундной паузы поинтересовался: – Как думаешь, что эта дура будет делать?» Ивар пожал плечами. – Что положено роботу-посланцу. Вступит в контакт, доложит о прибытии и передаст привет от владыки Фарданта. А потом… Закончить он не успел – многопалые манипуляторы вытянулись на всю длину, сгребли его вместе с трафором и швырнули в открывшийся люк. Люк захлопнулся со звоном, и Тревельян очутился в темноте.Глава 13. Гиганты
Скафандр спас Тревельяна от ссадин, ушибов и более серьезных ран. Его швырнули с такой невероятной силой, что он мог сломать позвоночник или разбить черепную коробку, не говоря уж о том, что клешни робота с легкостью раздавили бы незащищенное тело. Понятия, сколь хрупок человек, у этой твари явно не имелось, и пока Ивар ворочался во тьме, пытаясь найти свои руки и ноги, в душу его просочились сомнения. Был ли этот трипод из гвардейцев Фарданта? Он вел себя иначе, чем первый посланник, и тут могли быть всякие причины. Возможно, боевые роботы не так разумны, как отпрыск-контактер, и лишены устройств воспроизводства речи; возможно, их функция – охрана и защита, а не беседы с инопланетным существом; возможно, блоки их памяти слишком малы для размещения языка, даже такого несложного, как альфа-хаптор. Перебирая эти гипотезы, Тревельян подтянул ноги к животу, обхватил колени и оперся спиной о нечто твердое – видимо, о стену. Она раскачивалась вместе с полом – робот, в чьем брюхе он сидел, двигался куда-то по пескам пустыни, в сопровождении приятелей-конвойных. Огромная башня корпуса то подпрыгивала вверх, то опускалась вниз вместе с тревельяновым узилищем. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз… «Похоже, малыш, мы попались, – сказал командор. – Была в старину такая пословица: попался, как кур в ощип… или во щи?.. Кстати, ты знаешь, что такое щи?» – Знаю, дед. Не такой уж я невежда. – Тревельян вытянул руку, коснулся гладкой поверхности, сообразил, что это трафор, и раздраженно буркнул: – Чего ждешь? Сам догадаться не можешь? Свет давай! – Прошу прощения, эмиссар, – послышалось нежное контральто. – Эта тряска плохо повлияла на мои интеллектуальные контуры. Но я уже приноровился. Включились два прожектора. Осмотревшись, Тревельян выяснил, что находится в крохотной каморке, большая часть которой была занята его трафором. Похоже, это узилище делали наспех: стены, пол и потолок, собранные из листов пластика, казались перекошенными, и в них зияли щели и отверстия, одни размером с ноготь, а другие – с ладонь. На полу удалось бы вытянуться во весь рост, но с большим трудом; при попытке встать видеокамера на шлеме уперлась в потолок. Трафор занимал одну из стен, распластавшись по ней плоским блином и придерживая манипуляторами багаж. Ничего не потерялось, все было на месте: палатка, запасные батареи, контейнер с сухим пайком и канистры с водой. – Вот что, друг мой, – сказал Тревельян, обращаясь к Мозгу, – принимайся-ка ты за работу. Этот прожектор подними повыше, к потолку, другой пусть светит слева, имущество сдвинь в угол, а сам перебирайся на пол и изобрази мне что-нибудь вроде сиденья. Оно должно быть со спинкой и подлокотниками… Так, хорошо! – Он уселся и добавил: – Желательно амортизировать тряску. – Постараюсь, эмиссар. Мозг уловил ритм движений трипода, и раскачивания прекратились. Погрузившись в синтетическую плоть, Ивар сидел с закрытыми глазами, вспоминая свой уютный транспортный корабль, его просторные палубы, жилые отсеки, кают-компанию с камином и мебелью из настоящего дерева, бассейн в спортивном зале и широкий коридор с портретами прежних пассажиров. Неплохо бы там очутиться, поболтать минутку с Анной Кей и даже с экологической инспекторшей… потом поплескаться в бассейне, съесть отбивную под чесночным соусом и запить коктейлем «пять сестер», смешанным по рецепту кни’лина… потом поразмышлять, с чего начнется его миссия на Пекле… Серый Трубач перешел горы… Серьезное событие! Очень серьезное! Пожалуй, тут… «Перестань, – проворчал командор. – Мы пленники, малыш! И волокут нас черте куда по этой гнусной пустыне… Пора за дело приниматься». – Пора, – со вздохом согласился Ивар. – Мозг! – Слушаю, эмиссар. – Средства наблюдения в порядке? – В полной готовности, эмиссар. Голокамеры, локатор, интравизор, датчики для измерения полей и все остальное… Что я должен делать? – Видишь дырки в потолке? Введи в них несколько контактных нитей с лазерами, локатором, видеодатчиками и протяни до наружной обшивки. Думаю, если прожечь в ней маленькие отверстия, эта махина не заметит… Пристроишь камеры где-нибудь под верхним колпаком. Мне нужен круговой обзор. – Будет исполнено. Серебристые щупальца-нити взмыли над головой Ивара и потянулись вверх, к потолку. Не прошло и десяти минут, как Мозг сообщил, что отверстия в обшивке проделаны и аппаратура наблюдения выведена наружу. Стены заволокло мерцающим туманом, затем появилось голографическое изображение местности: пустыня с барханами, скалами и серыми песками, тусклое красное светило и шесть триподов, окружавших машину с пленником. Их гигантские ноги вздымались и опускались, башни-корпуса покачивались в мерном походном ритме, амбразуры были открыты и орудийные стволы торчали в них, словно редкая щетина на голом черепе. Городские развалины уже исчезли за холмами, и мнилось, что на планете нет ничего, кроме песка, камней и редких пятен растительности. Солнце висело над самым горизонтом; долгий день Хтона только начинался. – Курс? – спросил Тревельян. – Северо-восток, эмиссар, – доложил трафор густым басом, ориентируясь по солнцу. – Примерно сорок два градуса к линии экватора. «Не туда идем. – От Советника нахлынула ментальная волна тревоги. – Полагалось обогнуть город с востока и двигаться на юг, к большому оазису. Таким маршрутом мы к Фарданту не доберемся!» – Значит, роботы не его. – Признав этот факт, Ивар почувствовал облегчение. В Книге Йездана было сказано, что будущее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки. В данной ситуации большого ума для этого не требовалось. «Наш покойный чемодан говорил, что северо-восточная часть континента принадлежит Матайме. Вывод, малыш, очевиден». – Да, – согласился Тревельян, озирая окрестности. – Но что мы могли поделать? Удирать от этих гигантов рискованно. Получили бы плазмой в корму. «Кто это мы? – ворчливо поинтересовался командор. – Твоя ошибка, парень! Зря высунул нос из города! В развалинах нас бы не нашли. Ну, ладно, ладно… Сидим мы тут, как Иона в чреве китовом, и в этом есть свои преимущества. Ты про Иону помнишь?» – Что за экзамен, дед? То щи, то Иона… Ты Советник, так советуй! «Совет простой: перехватить управление». – А дальше как, почтенный предок? Ни рычагов, ни контрольной панели, ни навигационного шлема… Мне с этой машиной не совладать. «Тебе и не надо, – сообщил командор. – Я этим делом займусь. Имплантируй мой кристалл в жестянку, и пусть он…» Взволнованный голос трафора прервал его: – Прошу прощения, достойный ньюри… – К командору Мозг относился с подчеркнутым уважением, именуя его «ньюри», как требовали традиции кни’лина. – Еще раз прошу простить это недостойное устройство… К нам приближаются воздушные объекты. Четыре, согласно показаниям локатора. – На что похожи? – быстро спросил Тревельян. – На гусениц Побега или машину, в которой прибыл Контактер? – Выясню в ближайший период времени, эмиссар. Дистанция слишком велика, но аппараты летят быстро. Гигантские мокрецы тоже что-то ощутили. Темп их ритмичных движений изменился; машина Тревельяна внезапно замедлила ход, остальные продвинулись метров на триста-четыреста и замерли, будто совещаясь. «Интенсивный обмен радиосигналами», – доложил Мозг. Он длился не дольше нескольких секунд, потом одна из огромных башен втянула лапы треножника и опустилась на песок. Другие стали расходиться, занимая позиции в вершинах правильного пятиугольника, окружавшего центральный трипод. Этот маневр производился слаженно и четко, но был непонятен Тревельяну; ему казалось, что в схватке наземных машин с воздушными все преимущества на стороне последних. Пять триподов остановились, треножники под их днищами начали вращаться, огромные лапы слились в зыбкий круг, и к небу, окутывая башни, взметнулись тучи грунта. Пленивший Тревельяна робот тоже всколыхнулся и словно бы начал оседать под мерное гудение; вершины окружающих барханов поползли вверх, почва приблизилась, серые холмы отрезали линию горизонта. «Зарываются в землю, – пояснил командор. – Ну, стратеги, ну, хитрецы! Сюрприз готовят неприятелю!» На колпак машины обрушилась груда песка, видеокамеры ослепли, но Мозг тут же приподнял их на тонких гибких нитях, восстановив обзор. Взгляду Тревельяна открылась пустыня: прямо под камерами трафора – невысокий холмик, а дальше – камни, барханы, пески и цилиндрическая башня, торчавшая на равнине, как вытянутый в небо перст. Ее навершие неторопливо поворачивалось, стволы смотрели в зенит и было их не меньше трех десятков. – Что это значит, дед? Ловушка? – спросил Тревельян. «Она самая. Приманка на виду, пять мокрецов в засаде, а наш, с особо ценным грузом, вовсе вне игры. Берегут тебя, парень! Очень ты нужен их хозяину! Может, плюнем на Фарданта и двинемся к Матайме? Не все ли равно, черт или дьявол!» – Про Фарданта я хоть что-то знаю, а о Матайме ничего. Знакомый черт лучше незнакомого, – произнес Ивар и ткнул в подлокотник пальцем. – Мозг! Определился с воздушными объектами? – Еще немного, эмиссар. Через полторы минуты они попадут в зону видимости, и я сравню изображение с данными локатора. Они похожи на известный вам аппарат, но есть отличия. В южной части небосклона всплыл над ближними холмами темный вытянутый силуэт, за ним – еще три. Они казались более плотными, более вещественными, чем та дырявая корзинка, в которой летал Контактер. Хотя очертания были почти такими же. – Ясно, – сочным баритоном молвил трафор. – Аппараты знакомой модели, но с экипажем. В них боевые роботы, эмиссар. Устройство, что контактировало с вами, а потом погибло, называло их сокрушителями. «Вот и спасательная экспедиция, – заметил командор. – Целый эскорт за нами выслали, однако поздновато. Сейчас от этих бойцов пух и перья полетят».Летательные машины развернулись, став едва заметными кружками на фоне солнечного диска, и выбросили сноп ослепительных лучей. Одинокая башня ответила шквалом огня; видимо, ее метатели были мощнее, но цель, первая из атакующих машин, перемещалась слишком быстро. Не будучи экспертом в области вооружений, Тревельян, однако, знал, что в таких поединках маневренность и скорость обработки данных важнее грубой силы; в конечном счете торжествовал победу тот, кто лучше целился и мог ускользнуть от вражеского удара. Впрочем, метатели плазмы, как и старинные ракеты, лазеры, фризеры и свомы [54], не относились к серьезным средствам истребления и в планетарном масштабе не могли тягаться с геофизическим оружием, аннигиляторами, деструкторами и кибервирусами [55]. Трипод оборонялся, нападавшие падали в стремительном пике, избегая плазменных струй, перечеркнувших небеса. Четыре машины пронеслись над башней, плюнули веером молний, и песок у подножия гиганта начал плавиться. Его огромный корпус накренился, обшивка треснула, но батареи в верхней полусфере по-прежнему вели огонь. Противник, однако, был слишком юрким – Тревельяну казалось, что ни одна из воздушных машин не задета. Он слышал, как шипит пронзенный плазмой воздух, и различал потрескивание остывающего песка. Если не считать этих звуков, битва вершилась в полной тишине. Эскадрилья атаковала опять – вероятно, оружие воздушных аппаратов и заполнявших их сокрушителей было эффективнее на близкой дистанции. Шипение воздуха сделалось пронзительным, над почвой, закрывая башню, взметнулись клубы дыма, и кусок обшивки с грохотом рухнул вниз. Молния задела борт одной из машин, на землю полетели обугленные механизмы, в которых Ивар узнал жуков-сокрушителей Фарданта. Башнеподобный корпус трипода наклонился еще сильнее. Молнии огненной короной ветвились и дрожали вокруг его купола. «Они стараются не сжечь его, а повалить, – пришла мысль от командора. – Правильная тактика!» – Почему? «Потому, что мы с тобой можем оказаться в этой штуке. Фардант хочет заполучить тебя живым». – Я в этом не уверен, – отозвался Ивар, наблюдая, как башня медленно клонится к земле. Ее орудия еще стреляли, купол вращался, стволы двигались вверх-вниз, отыскивая цель, однако трипод был обречен: из трещин в обшивке били багровые струи, что-то горело, расточаясь желтоватым дымом, и часть метателей прекратила огонь. Камни и песок у подножия башни превратились в лавовое озерцо, над которым дрожал раскаленный воздух, и не было сомнений, что температура там адская. Пожалуй, решил Тревельян, скафандр его бы защитил, нооставался верный шанс задохнуться – воздушных регенераторов в скобе не имелось. Будь он сейчас внутри погибающего мокреца, Фардант получил бы труп с сожженными легкими. Но, возможно, это устраивало владыку? Или битва велась по другой причине, никак не связанной с Пришельцем из Великой Пустоты? На миг Ивар прикоснулся к ментальной матрице Советника и ощутил обуревавший того азарт. Видимо, зрелище схватки напомнило деду те времена, когда он вел десантников в атаку, пилотировал истребители, командовал фрегатами и крейсерами – словом, был человеком, а не призраком в памятном кристалле. Ему хотелось принять участие в этом сражении, драться на любой стороне и с любым результатом, ибо не результат, а процесс был важен для него. Старый боевой конь, подумал Тревельян; услышал звук трубы и бьет копытами. Башня рухнула. Вверх взметнулись брызги лавы, оседая алыми каплями на броне титана. Его орудия смолкли, колпак раскололся, из пробоин валил дым, собираясь в густое облако, щупальца бессильно распластались по земле. Машины сокрушителей Фарданта нависли над ним, словно грифы-падальщики над телом мертвеца; сквозь решетчатые конструкции виднелись темные силуэты роботов-жуков. «Сейчас, – зашептал командор в голове Тревельяна, – сейчас…» Роботы зашевелились. Первый жук спрыгнул на панцирь трипода. Из-под его резака веером полетели искры. Тревельян затаил дыхание. «Огонь!» – выкрикнул командор, и, словно повинуясь его приказу, пять башен восстали над серыми песками. Яростное пламя хлестнуло из их раскрытых амбразур, потоки плазмы переплелись в воздухе, вспухли ярким оранжевым шаром, заставив Ивара прикрыть глаза. Когда он поднял веки, плазменный шар уже погас, и буйный вихрь, порожденный взрывом, играл бесформенными обломками, то подбрасывая их к небу, то кружа над песком, то с грохотом швыряя на корпус разбитого трипода. Ни воздушных машин, ни жуков-сокрушителей в окрестностях не наблюдалось – только дым и пепел, камни и прах, черные обгорелые хлопья да остывающая лава. Пленитель Тревельяна тоже зашевелился и стал выбираться на поверхность. Вершины холмов резко ухнули вниз, со всех сторон раскрылся горизонт, и поле битвы казалось теперь небольшим пятачком, заваленным останками машин и стекловидными глыбами спекшегося камня. Лапы треножников пришли в движение, камеру наполнил негромкий рокот, кресло под Иваром качнулось, барханы и скалы поплыли назад. Шесть гигантов шагали в прежнем направлении, седьмой остался лежать в груде обломков, и ветры уже заметали его песком. «Полководцы у этого Фарданта редкие ослы, а сам он олух, – пробурчал командор. – Никакого понятия о тактике и стратегии! И думаю я, что все вояки здесь того же уровня». – Ну, к Матайме это не относится, – отозвался Тревельян. – Как-никак, нынче он в победителях. «Ты не понимаешь, малыш. Ловушка-то была элементарной!» – И что отсюда следует? «С одной стороны, ее не распознали, а с другой, ничего хитрее не понадобилось. Это знак малого опыта и полного застоя стратегической мысли. Если тут воюют, то дальше пограничных стычек дело не идет. Оборонительная доктрина, дохлый номер! Могу утверждать это с гарантией – иначе за тысячи лет один из владык взял бы верх над остальными. – Сделав паузу, командор испустил ментальный вздох и добавил: – Я бы тут развернулся! Эх, развернулся! Я бы обороняться не стал! Первым делом нанес бы упреждающий удар по всем укрепрайонам, из-под земли бы нанес, из старых городов, при воздушной поддержке, для устрашения потенциального противника. Потом раздавил бы Поганого Стручка, обосновался на побережье и приготовил всякие сюрпризы – роботы-субмарины, боевые платформы в ближнем космосе, систему электронного подавления и батареи фризеров и свомов. И тут пошла бы у нас глобальная война! Что ни день – атаки и битвы, фланговые обходы и «котлы», сражения на суше, в море и воздухе! Я бы им показал, как нужно воевать!» – Что за людоедские мысли, дед! – возмутился Тревельян. – Ну ты даешь! Что за кровавый агрессор! «Я – боевой офицер Звездного Флота! – раздался в ответ ментальный рык. – Ты с кем разговариваешь, недоумок! Агрессор, людоедские мысли… Где ты тут людей увидел, где унюхал кровь, хотелось бы мне знать! Кругом одни тупые роботы да кролики трехглазые! А если так, отчего не поиграть? В оловянных солдатиков или в роботов, жуков, мокрецов и гусениц… – Он сбавил тон и горестно пробормотал: – Дьявол! Что мне еще остается?» Обидевшись друг на друга, они упорно молчали с полчаса. Солнце Хтона застыло над горизонтом, ветер гнал по пустыне мелкий песок, заметая следы огромных роботов, голограмма вокруг Тревельяна мерно покачивалась в такт шагам трипода. С каждой минутой он уносил пленника все дальше от фардантовых владений и от корабля, оставшегося у подножий гор. Шли третьи стандартные сутки после приземления, и долг требовал поторопиться, все чаще намекая, что социоксенолог Ивар Тревельян, разведчик-наблюдатель Фонда, кавалер Почетной Медали, Венка Отваги и Обруча Славы, летел вовсе не в этот унылый мир, заброшенный во тьму Провала. Долг шептал, что его ждут совсем в другом месте, на знойной планете с двумя солнцами, где обитали не роботы, а люди. Правда, не очень приятные, склонные к резне, кровопролитию и людоедству, что было только дополнительной причиной для поспешности. Наконец Ивар произнес: – Если я верно понимаю, ты хотел подключиться к нашему триподу и захватить управление? Это отличная мысль! «Еще бы, – проворчал, оттаяв, командор. – Давай-ка займемся делом, паренек. Предупреди жестянку. Мне придется взять под контроль часть его оперативных блоков. Надеюсь, обойдется без соплей и визга». – Мозг, – произнес Тревельян, стягивая шлем. Сиденье под ним слегка дрогнуло. – Слушаю, эмиссар. – Я подключу к тебе ньюри Советника. – Сняв наголовный обруч, он сдвинул пластинку, закрывавшую кристалл. – Нужно добраться до разума трипода. Цель – полное подчинение. Мой достойный предок будет руководить тобой. Обычно Мозгу не нравилось вмешательство в его мыслительные процессы, но сейчас обошлось без возражений. Даже наоборот – он пробормотал что-то о высокой чести, о том, что послужит ньюри Советнику как самому Йездану, после чего в подлокотнике кресла раскрылся канал. Ивар опустил туда кристаллик, и крохотное зернышко исчезло в изменчивой плоти трафора. Затем раздался голос командора – на этот раз не телепатический, а вполне реальный; он использовал речевые центры робота. – Я на месте, малыш. – Хорошо устроился? – Словно младенец в люльке. Приступаю к операции. Тонкие нити взметнулись к стенам и потолку, исчезнув в голографическом мираже. Тревельян знал, что происходит: сквозь трещины и отверстия в переборках контактные нити тянулись дальше, к механизмам и управляющим блокам трипода, к оружию и датчикам восприятия, к его памяти, хранившей функциональные программы и повеления Матаймы. Эта шагающая крепость могла погибнуть в битве или победить, но не предать владыку – во всяком случае, на трипода не влияли ни убеждения, ни угрозы, ни обещания благ. Существовал единственный способ, чтобы привести его к покорности, – прямой контроль над разумом. Точнее, над заменявшим его программным блоком. – Что там внутри? – спросил Тревельян. – Искусственные мышцы, как в твоем скобе, только огромные. Скелета нет, несущая конструкция – панцирь. Сейчас я возьму пробу… – Командор смолк, но тут же сообщил: – Кремнийорганика, как и ожидалось. – Источник энергии? – Сами мышцы и вязкая тягучая среда, в которую они погружены, что-то вроде протоплазмы. Это аккумулятор огромной емкости, и от него заряжается оружие. Других энергетических источников я не нашел, но и этого хватит, чтобы шагать и стрелять. Забавная технология! Мокрецы были устроены иначе, однако способ для нас не новый. Помнится, еще лет шестьсот назад… Огромная башня покачнулась. – Ты давай поаккуратнее, – сказал Тревельян. – Первая нить с анализатором – в блоке управления. Сейчас я подключу другие каналы, и мы с жестянкой обшарим его память. Держись! Может слегка потрясти. Робот внезапно остановился, инерция швырнула Ивара вперед, но он успел вытянуть ноги и упереться в переборку. Пять гигантов, сопровождавших его пленителя, тоже замерли, словно в недоумении; ветер засыпал песком их огромные ступни, орудийные колпаки вращались, стволы смотрели в небо, целясь в незримого врага. Но небеса, как и земля, были пустынны. – Я притормозил мокреца, чтобы зря не дергался, – сообщил командор. – Защиты от внешнего проникновения нет, вскрывать пароли не пришлось, но в башке у него интересного мало. Примитивный разум, ниже порога Тьюринга. Та-ак… Функциональный модуль: движение, ориентация в пространстве, ремонт, управление оружием, курсоуказатель и что-то наподобие радаров… Модуль оперативных программ – ну, с ним все ясно! Могу подтвердить, что этих гвардейцев послали за нами и что хозяин их – Матайма. Стратегический модуль… Здесь три-четыре хитрости, вроде той, с засадой… элементарные приемы… я говорил, что военная мысль тут в застое… Что еще? А, связь! Коммуникация! Хочешь с ним пообщаться? – Не имею желания, – откликнулся Ивар. – Впрочем, узнай, для чего я понадобился Матайме. Любовь и дружбу предлагает? А что взамен? – Вот об этом никакой информации. Я же сказал, пустая башка, интересного мало… Правда, кое-что есть – наш урод командует другими лоботрясами. Он у них за сержанта. – А ты так сможешь? – Хмм… В стандартном режиме – без сомнения, но в необычной ситуации… Не знаю. Надо попробовать. Тревельяна подбросило вверх, потом в одну сторону, в другую и снова к потолку. Он судорожно вцепился в ручки кресла. Голографическое изображение, которое транслировал Мозг, тоже скакало и прыгало, но все же Ивар различил, что пять огромных машин топчутся на месте, нелепо изгибают лапы, задирают их, раскачиваются и вроде бы пытаются кружиться. Вскоре один гигант остановился, и движения остальных сделались менее сумбурными. Потом замер второй трипод, и кресло под Иваром тут же стало покачиваться в мерном ритме: та-тати-та, та-та-та. Машина, в которой он сидел, и три другие танцевали; их пляска была неуклюжей, но, очевидно, командор так не считал. – С четырьмя я могу справиться, а два олуха лишних, – заявил он с явным удовлетворением. – Может, расстрелять их на месте? Нет, подождем! Вдруг пригодятся. Где-то вверху, над головой Тревельяна, послышался тихий шелест. – Что ты делаешь теперь, дед? – Вращаю локатор. Ориентируюсь и выбираю маршрут. Сейчас отправимся к Фарданту. Курс – на юго-запад. Построиться в колонну по одному! Выше головы, парни! За мной! Нас ждут великие дела! Роботы дружно повернулись и, ускоряя ход, затопали по пескам. Шли они не так, как раньше, а синхронно поднимая и опуская конечности, словно солдаты в парадном строю. В раскрытых амбразурах темнели орудия, вихрилась пыль вокруг гигантских ног, мерно покачивались башни-корпуса, солнечные блики играли на макушках полусфер. Каски, сапоги, стволы… – мелькнуло в голове у Тревельяна. Карикатурное воинство гигантов на марше… В вокодере трафора каркнуло – дед прочистил несуществующее горло, – потом раздался свист. Марш десантников, узнал Ивар. Похоже, его предок был доволен, даже счастлив. Наверное, как говорилось в Книге Йездана, в его душе сейчас порхали медоносные мотыльки. Солнце, тусклый красный мячик в голографической проекции, светило Тревельяну в левую щеку. Иногда оборачиваясь, он видел пятерых триподов, шагавших след в след за его машиной, и вспоминал, что машина теперь в самом деле е г о. Немаловажный факт! Он явится к Фарданту не просителем, а победителем, на собственном транспорте и при оружии. Позиция сильнее прежней, так что можно смириться с потерянным временем и нервотрепкой, которую учинил Побег. Только вот Контактера жаль… Ивар вздохнул и велел трафору включить сделанную в городе запись. Безусловно, эта скульптурная группа станет сенсацией, подумалось ему, причем гораздо большей, чем встреча с сильмарри. Номады космоса далеки от людей и прочих рас, что обитают во Вселенной, а о лоона эо знают все. Мудрый народ, но необщительный, замкнутый и потому таинственный… Каждый факт их истории ценен – тем более, что об этой планете, заброшенной в Провал, они могли и сами позабыть. Но когда-то тут находилась их процветающая колония или, что тоже не исключено, материнский мир, древний мир исхода. Быть может, здесь, под песками пустыни – неоспоримые свидетельства того, что не Куллат являлся их прародиной, а Хтон, откуда они переселились еще в эпоху даскинов. Так случается нередко – улетевшим в новые миры дается шанс, а тех, кто остался, инертную массу домоседов, ждут вырождение, гибель и забвение… Он смотрел на четыре фигуры, разглядывал их не спеша, то приближая, то отдаляя изображение, изучал их лица и позы, спокойные, грациозные и в то же время полные экспрессии и жизни. Мастерство скульптора восхищало его; поистине нечеловеческий дар, недосягаемое совершенство для землян, скованных физиологией собственной расы. Два пола, женщины и мужчины, а все остальное – уродство, давно изжитое отклонение… Но тот, кто создал эти статуи, мог сочетать в себе оба начала, и значит, выйти за границы, дозволенные человеку. Вздрогнув, Ивар приложил к вискам ладони и энергично потер лоб. Эти мысли уже приходили к нему! Точно, приходили! Вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах, он не смог, но был уверен, что размышлял о существе, о мастере лоона эо, творившем неземную красоту. Это первое воспоминание потянуло за собой второе: теперь ему казалось, что он уже видел эти четыре фигуры, в таких же позах, на таком же постаменте, из того же камня, светлого мрамора, но не белого, а с золотистым оттенком. Видел! Когда? Ясно, что не в последние годы, раз в памяти не сохранилось подробностей! Где? Само собой, не в тех мирах, что патронируются Фондом, не на планетах хапторов, не на Горькой Ягоде, не на космической станции кни’лина… В музеях Земли, Венеры или Марса?.. Возможно, на Гондване?.. Там, в городах отдыха, на улицах и площадях, масса всяких статуй, и есть среди них инопланетные, весьма почтенной древности… – Хорошо идем, – раздался голос командора. – Первый, то есть сержант, отслеживает направление, второму и третьему я велел следить за небом, четвертому… Нет, так дело не пойдет! – перебил он сам себя. – Первый, второй… Не годится! Нужно им присвоить имена. Так сказать, боевые клички. У тебя есть соображения? – Ровным счетом никаких, – сказал Тревельян, погруженный в собственные мысли. Ему казалось, что если он видел эти статуи, то не на Гондване и не на Земле. Марс и Венера тоже отпадали, а на планетах лоона эо и в их астроидах он никогда не бывал. Где же тогда?.. В голографической записи? В сети Ультранета?.. Во сне?.. – У первого имя есть, будет у нас Сержантом, – молвил призрачный Советник и на секунду задумался. – Остальным дадим боевые прозвища. Знаешь, как-то попалась мне старинная винтовка… редкая вещь, пулевое оружие, начало двадцать первого века… Вот в ее честь и назовем. – Это как же? – поинтересовался Тревельян. – Винтовка одна, а мокрецов, не считая Сержанта, у нас пятеро. – Одна-то одна, зато деталей много. Это было сложное устройство, не то что лазер. Штык, затвор, приклад, обойма, пуля… Так и назовем. Группа, отдаю приказ зафиксировать имена в порядке движения в колонне: первый – Сержант, второй – Штык, третий… – Командор перечислил клички и дождался подтверждения. Потом велел: – Стоп! Справа по курсу непонятный объект. Пуля, произвести разведку! – Что за объект? – встрепенулся Ивар. – Ложбина, а в ней какие-то обломки. Сейчас я прикажу трафору дать это место крупным планом. В голографической картине, окружавшей Ивара, раскрылось окно. Теперь он мог следить за Пулей, шагавшим к подозрительному углублению, и разглядывать валявшийся там корпус разбитой машины. Вероятно, это был трипод, наполовину засыпанный песком и будто бы обглоданный – в куполе и обшивке зияли дыры, оружие исчезло, от треножника с лапами-ходулями осталась только красноватая пыль. – Похож на наших бойцов, – заметил командор. – Давно тут лежит. Я бы сказал, не первое десятилетие. Пуля внезапно остановился. Стволы орудий в его куполе пошли вниз и глядели теперь на останки собрата. – Хмм… – пророкотало в вокодере. – Что-то странное творится, малыш… Сообщение от Пули: двигаться дальше опасно. Сейчас я попробую уточнить. Наступила тишина. Ивар разглядывал лощину, соображая, что на природную складку рельефа она не походит, а выглядит точно округлая яма или воронка с осыпавшимися краями. В центре, где находился разбитый трипод, ее глубина составляла метров восемь-десять. – Я опросил Пулю и Сержанта, – произнес командор. – Понять их нелегко, три извилины в мозгах и те прямые… Сообщают, что в этой ямине таится что-то живое и неприятное. Надо бы проверить. Больше знаешь, дольше проживешь. Повинуясь его приказу, Пуля шагнул к воронке и начал спускаться вниз. Грунт проседал под его тяжестью, и Тревельяну показалось, что от ступней гиганта растекаются песчаные волны. Затем в них стали появляться крохотные углубления с черными точками посередине, словно кто-то буравил песок, стараясь выбраться наружу. Их было все больше и больше, и наконец земля вокруг треножника разверзлась и закипела. Мириады крохотных тварей потоком хлынули из невидимых нор, облепили треножник, ринулись вверх, карабкаясь по обшивке огромной башни, вгрызаясь в пластиковую броню. Пуля покачнулся, его орудия ударили длинными струями огня, но легионы врагов, неисчислимых, как дождевые капли, ползли и ползли из песка. Треножник уже превратился в большой шевелящийся ком, и первые темные струйки достигли купола с орудиями. – Микророботы, – произнес Советник. – Что-то подобное есть у хапторов, а вот у нас… Нет, не помню, производилось ли такое оружие. Если и было, то недолго. Кибервирусы эффективнее. Пуля раскачивался все сильнее и сильнее. Из бойниц его купола выплескивал огонь. – Мозг! – позвал Тревельян. В ответ что-то пискнуло. – Не понимаю тебя. В чем дело? – Прошу простить, эмиссар. – Голос трафора казался чуть слышным. – Достойный ньюри занял мой речевой аппарат. Я сформировал дополнительный, но он не очень совершенен. Желаете отдать приказ? – Ты ведешь запись? – Да, как вы распорядились. Записываю все существенные эпизоды. – Хорошо. Продолжай в том же духе. Ноги Пули подломились, разъехались, и он грузно опустился на песок, раздавив днищем останки погибшего робота. Вероятно, крохотный враг уже терзал искусственные мышцы, поддерживающие корпус трипода. Темные ручейки струились на самый верх башни, к орудийному куполу, но батарея еще продолжала стрелять. – Этого бойца мы потеряли, – сказал Тревельян. – Все равно он лишний. Новая информация дороже. – Кресло под Иваром заколыхалось, словно командор ворочался в теле трафора. Потом он сказал: – Сержант утверждает, что эти мураши – не оружие. Форма кремнийорганической жизни, распространенная на всех материках. Они пожирают энергию и ценное сырье, в первую очередь металлы, а их тела перерабатываются владыками. Это утильщики, парень. Думаю, на месте схватки Стручка с Фардантом их сейчас полным-полно. – Наверное, такие же потрудились в древнем городе, – отозвался Ивар. – Но здесь не домен Фарданта, здесь пустыня. Кому подчиняются эти твари? Кому служат?
– О том Сержанту неизвестно. – Одичавшая ветвь? – Возможно. – Пуля рухнул под напором крохотных созданий, его метатели смолкли, и командор произнес: – Мир праху твоему, солдат. Родина тебя не забудет. – Затем, оставив похоронный тон, он отдал приказ: – Вперед, бойцы! Шагом марш! Нас ждут славные сражения! – Это какие же? – с тревогой осведомился Ивар. – Будем прорываться через периметр. Ты не забыл, что на границе целый укрепрайон? Хода до него три часа с половиной, и скоро нас засекут радары или местный аналог подобных устройств. То есть могут засечь, но у наших гвардейцев имеются средства противодействия, генераторы помех. Надеюсь, сможем подобраться на дистанцию прямой видимости. Сержант бодро пылил по равнине, за ним мчались Штык, Затвор, Приклад и Обойма, и солнце, красный плод в желтоватом небе, отсвечивало в их куполах. Ивар потянулся к контейнеру с пайком, сжевал сухую плитку, запил водой и молвил: – Слушай, дед, а без драки нельзя? Скажем, я вылезу наружу и прогуляюсь вдоль границы… У сокрушителей наверняка есть связь с Фардантом. Они запросят инструкций и либо пропустят нас, либо придется ждать летательную машину. Мы, в конце концов, цивилизованные существа, и потому… – Ха! – Советник изобразил нечто похожее на фырканье. – В Галактике, знаешь ли, силу ценят больше цивилизованности! – В Галактике сейчас мир. – Сейчас! А что было девять-десять тысячелетий назад, когда разрушили эту планету? Клянусь Владыкой Пустоты, была война! Не забывай, что Фардант и все остальные владыки – пришельцы из прошлого и что они воюют до сих пор. Значит, мы должны продемонстрировать силу и решимость. Мирная тактика плохо скажется на нашем имидже. – Мы доказали силу и решимость, пролетев над континентом Кроры, – возразил Тревельян. – Мы сожгли два десятка сокрушителей, а сами уцелели. – Хорошее начало, мой мальчик. Повод продолжить в том же духе! – рявкнул командор, и в этих словах ощущалась железное упорство. Его не переубедить, подумал Ивар. Предку хотелось поразмяться, и Хтон был для него самым подходящим местом, чтобы поиграть в солдатики. Он, вероятно, уже предвкушал, как будет штурмовать границу, вести перестрелку с батареями Фарданта и биться с сокрушителями врукопашную. Небезопасное развлечение! – Нас могут подстрелить, – напомнил Тревельян и услышал в ответ: – Не дрейфь! Положись на меня, сынок! Роботы быстрым маршем двигались к границе, солнце багровой черепахой ползло по небосводу, и, кроме барханов, скал, редких растений да странной живности, смотреть было не на что. Мысли Ивара вновь повернули к заброшенному городу, к изваяниям и древней истории лоона эо. При всем различии историй галактических рас и менее продвинутых цивилизаций, еще не вышедших в космос, было в них нечто общее: каждая складывалась из множества крохотных фактов, облетавших с ее древа точно листья под ветрами времен. Но древесные ветви, то есть память о крупных событиях, не засыхали и не опадали, являясь источником новых побегов, мифов, сказок и творчества гениев. Возможно ли, чтобы лоона эо забыли о катастрофе, постигшей планету? О крушении целого мира? Нет, никогда! Это событие казалось не просто крупным, а чудовищно бедственным. Такое не забывается, размышлял Тревельян, одновременно пытаясь вспомнить, где он видел эти четыре фигуры. Но его старания были тщетными. – Приближаемся к границе домена. Пока нас не засекли, – сообщил командор. – Хорошо бы подобраться километра на четыре. На земле для плазменных метателей это самая эффективная дистанция. Ивар кивнул. Поток плазмы и лазерный луч неизмеримо превосходили по дальности и мощности старинную артиллерию, но распространялись прямолинейно и не годились для навесной стрельбы. Эти средства поражали только видимую цель, и основной ареной их применения являлся космос. – Надеюсь, там есть высокие барханы, – бормотал призрачный Советник. – Барханы очень бы пригодились… холмы, овраги, ямы… любые естественные укрытия… Успех операции – скрытность, внезапность и натиск… еще чуть-чуть обмана… Ну, обмануть этих придурков – дело невеликое! На горизонте замаячили вершины скалистой гряды, уходившей на восток и запад сколько видел глаз. Рубеж, понял Ивар и распорядился приблизить изображение. На маленьком экране возникли утесы в пятнах лишайника, плоская каменная плита, нависшая над дырой пещеры, дальние скалы и поросль знакомых, похожих на блюдца цветов. Они тянулись широкой полосой вдоль укрепления, их чашечки были повернуты к солнцу и отсвечивали серебром. Застывшая статичная картина, нигде ни намека на движение. – Цветы, дед, – промолвил Тревельян. – Откуда тут цветы? И зачем? – Спрошу Сержанта. – Секундное молчание, затем раздалось: – Это не оружие и уж во всяком случае не цветы. Накопители энергии. Видишь, глядят на светило… Наверное, у каждого владыки поля таких тарелок. Они не умеют подпитываться из Лимба. Сержант повернул направо, а за ним – вся колонна огромных бойцов. – Нужно выбрать позицию, пока нас не увидели, – объяснил командор. – Если преодолеем периметр, им нас не достать. Сержант утверждает, что наши мокрецы пошустрее жуков. Вскоре они добрались до возвышенности, где скальный щит, лежавший под пустыней, выходил наружу. Тут встречались большие каменные глыбы, заметенные песком, дюны были круче и почти скрывали колпаки триподов, а между возвышенностью и границей домена простирался ровный участок, подходящий для продвижения гигантских машин. Командор сообщил, что место здесь удобное, и принялся расставлять свое войско за холмами, одновременно просвещая Ивара насчет прицельного огня и стрельбы по площадям, ковровых и точечных ударов, фронтальных атак, обходов с фланга и окружения. Наконец четыре трипода поджали лапы и встали на грунт за песчаными холмами, а пятый, Обойма, полез на склон, перевалил через гребень и начал спускаться на равнину. – Разведка боем? – спросил Тревельян. – Вот именно. Обойма у нас пятый лишний, так что его судьба – погибнуть с честью и славой. Но не без пользы: мы засечем огневые точки и накроем их залпом. Как я тебе объяснял, у прицельной стрельбы огромное преимущество перед ударом вслепую; если знаешь, куда палить, то… Сухой шелест наэлектризованного воздуха прервал его. Фиолетовые стрелы молний метнулись от утесов, и трипод, стремительно шагавший к укреплениям, ответил из всех стволов. Какое-то время ему удавалось избегать прямых попаданий, но он был слишком огромен и слишком заметен на ровном, как стол, песке. Линия утесов озарилась сотнями огней, потоки плазмы стали гуще, и Тревельян услышал, как шипит раскаленный камень и как воздух с резким хлопком заполняет пустоту. Молнии настигли Обойму, и на мгновение его корпус засветился, точно чудовищный фонарь, плывущий над равниной. Купол трипода вспыхнул, орудия ударили в последний раз, пробив в скалах широкие бреши, затем броня вспучилась и лопнула с оглушительным грохотом. – Ничего не скажешь, лихой молодец! Прошел почти половину дистанции, – заметил командор. – Ну, с богом! Начнем артподготовку. Занять позиции по боевому расписанию! Захватить цели в назначенных секторах! Огонь! Четыре машины поднялись на своих треножниках, и Тревельян ощутил, как дважды содрогнулся корпус Сержанта. Залп! И снова залп! Широко шагая, его машина поднялась на холм вместе с другими триподами, и веера молний вновь развернулись перед ними. Скалы на другой стороне равнины затянуло дымом, колонны пламени взметнулись к небесам, грохнул взрыв, и командор заревел: – Вперед, ребята! Прицельный огонь по флангам! Двигаться на максимальной скорости! Следующие секунды слились для Тревельяна в миг неимоверной тряски, громовых раскатов и ослепительного блеска огненных стрел, коловших зрачки. В трафоров не стреляли – видимо, батареи, оборонявшие периметр на острие атаки, были разбиты первыми залпами или завалены камнем в рухнувших казематах. Должно быть, ширина полосы уничтожения составляла несколько километров – лишь где-то далеко, на западе и востоке, посверкивали вспышки выстрелов. Развернувшись цепью, Сержант, Штык, Затвор и Приклад мчались к бреши, пробитой Обоймой в скалах. Ее затягивало облако пыли и дыма; эта пелена колыхалась на ветру и медленно оседала вниз, разбрасывая темные клочья. До рубежа оставалось полсотни метров, когда на равнину хлынули сокрушители. Их было немного, сотни две или три; возможно, часть погибла под огнем или была засыпана в подземельях. С высоты они казались маленькими многоногими жучками: жвалы растопырены, из отверстий корпуса выглядывают резаки, и ствол излучателя, будто хобот, торчит из пасти. Четыре трипода врезались в толпу защитников, раздался хруст, полетели осколки панцирей, обломанные клешни, из куполов на вершинах башен ударили яркие лучи. Внезапно треножник Штыка стал рассыпаться – пара отрезанных ступней потонула в массе роботов-жуков, уцелевшая конечность треснула и подломилась в суставе. Гигант покачнулся и рухнул на сокрушителей Фарданта. Из дыр в его броне вырвалось пламя, но метатели продолжали стрелять – одни плавили песок и панцири врагов, другие палили в небеса. – Ходовая часть у них – самое уязвимое место, – спокойно молвил командор. – Но в ближнем бою штука полезная. Такими лапами топтать и топтать… Превратив половину защитников в обломки, уцелевшие триподы ворвались в брешь. Стремительно промелькнули обугленные склоны утесов и руины подземных камер с разбитыми сводами; тут и там виднелись осыпи потемневших от жара камней и торчащие из них конечности жуков, куски панцирей и скрученные стволы орудий. Огромные машины замедлили ход, пробираясь в теснине, потом скалы отступили, и взгляду Ивара открылась равнина, засаженная энергетическими цветами. Все они были одной высоты, с чашечками, повернутыми к солнцу, и оттого казались фалангой воинов, прикрывших голову и плечи серебристыми щитами. Триподы, перестроившись в колонну, двигались теперь быстрее, ломая хрупкие стебли и топча лепестки. Широкая просека тянулась за ними, но погони Тревельян не замечал – то ли сокрушителей осталось мало, то ли пройденный рубеж был не последним на пути к оазису. Откинувшись в кресле, Ивар промолвил: – В домене Фарданта есть, наверное, и другие подземные крепости. Еще он может послать летательные машины… Как бы не сожгли нас ненароком, дед! Второй схватки нам не выдержать. – Десант не отступает, – буркнул командор. Потом, видимо, собрался с мыслями и проворчал: – Больше не надо драться. Мы доказали свою решимость и твердость духа, а потому, если нас атакуют, сделаешь что собирался – вылезешь наружу и помашешь белым флагом. – Нет у меня флага, тем более белого, – сообщил Тревельян. – Нечем мне махать. – Мысленно помашешь, и тебя поймут. Поймут! Хозяин здесь головастый. Ты посмотри, что творится! Встречают нас как дорогих гостей! Цветы задвигались, расступились, освобождая триподам дорогу, и замерли на обочинах словно почетная стража. Темная полоска рассекла бескрайнее серебристое поле, как бы указывая направление и обещая, что помех в пути не будет. Она вела точно на юг.
Глава 14. Мир далекий, мир близкий
Консул Мохаммед Ортега сидел перед своим шале на склоне Конгура [56]. Отсюда, с высоты семи километров, открывался потрясающий вид: на западе – Памир, на востоке – пустыня Такла-Макан, на юге – гигантские вершины Гималаев. Север закрывали покрытые снегом горные отроги, а за ними, на плодородной равнине, лежал древний город Кашгар, откуда, согласно семейным преданиям, происходила одна из ветвей рода Ортеги. Другая, которой он был обязан своей фамилией, переселилась на Тхар из Испании, из Мадрида. Но в Испании – да что там в Испании!.. – в любой другой части света не нашлось бы гор, которые могли сравниться с Гималаями и подарить то ощущение свободы, безграничного простора и разреженного воздуха, которое было привычным для Ортеги. Он родился под светом Беты Молота, в суровом мире, где пейзажи пустынь, хребтов и плоскогорий разнообразила только экваториальная жилая зона. В Обитаемом Поясе Тхара зеленели леса и луга, текли ручьи и реки и даже водилась кое-какая живность, но термометр редко показывал больше двадцати по Цельсию. Основное пространство этой планеты занимали камни и заросли мхов, холодные океаны и ледяные озера, но, несмотря на это, Тхар отличался дикой первозданной красотой. Правда, людей не баловал – без импланта дышать его разреженным воздухом было тяжело. Имплант вживлялся всем уроженцам Тхара, и в атмосфере, считавшейся нормальной на других планетах, они носили маски или выбирали для жизни высокогорный район – обычно не ниже пяти-шести километров над уровнем моря. Разумеется, имплант можно было удалить, и, разумеется, никто этого не делал, кроме служивших в космофлоте. Имплант и шрам над левой грудью являлись почетным отличием тхаров, знаком, что выделял их среди обитателей Федерации, напоминанием о героическом прошлом. О том, как Тхар отбили у фаата, о Войнах Провала, бушевавших полтора столетия, об оккупации планеты флотилией дроми и бесславной гибели захватчиков. Этим гордились, это не забывали и, хотя с тех пор прошло немало лет, почитали давние традиции. Согласно одной из них, предназначением старшего сына в каждой семье являлась воинская служба, и служили тхары, в основном, в десанте – там, где бьются с врагами грудь о грудь, где не жалеют крови, ни своей, ни чужой, и умирают без жалоб и стонов. Встречались среди этих бойцов и выдающиеся флотоводцы, и было их не меньше, чем в мирах, превосходивших Тхар населением раз в десять. Сам Ортега был из младших сыновей, свободных в выборе занятий, но и он подчинялся обычаю: где бы ни работал тхар-мужчина, контакты со Звездным Флотом, если в том была нужда, возлагались на него. Мудрое правило! Каждый тхар имел, как минимум, трех офицеров-родичей и знал едва ли не с пеленок, как вести дела с военными, о чем уместно их просить и где лежит граница дозволенного. Консул Мохаммед Ортега не являлся исключением, и потому связь Фонда с космофлотом была его прерогативой. От шале, изящного домика из акрадейта, долетел хрустальный перезвон. Ортега поднялся, прихватил легкое кресло и зашагал к веранде. Под его башмаками похрустывал снег, прохладный ветер шевелил волосы, в безоблачном синем небе висело солнце и горные пики дремали в покое и тишине. Очень похоже на Тхар! Такова Земля, подумал он; бесконечно разнообразная планета-мать, где найдутся любые пейзажи, любые картины. Что такое Гондвана, Сакура, Роон, Ваал, Высокая Гора и даже Тхар? Всего лишь ее отражения в зеркале Вселенной… – Адмирал на связи, – мелодичным голосом сообщил дом. – Откуда желаете говорить, консул? С веранды или из кабинета? – С веранды. – Ортега поставил кресло у перил и сел. – Кофе, чай, тецамни, пхара? [57] – Вино. Бокал красного вина. Ярко-синий прямоугольник неба между столбиков веранды исчез, сменившись приятной глазу полутьмой. В ее глубине угадывались мерцающие на стенах картины, высокий потолочный свод, шкафы, диваны и наклонная столешница с панелью – над ней медленно вращался шар Земли, окутанный шлейфом разноцветных огоньков. Рядом с этой голограммой, держа на ладони бокал с вином, стоял человек с широкой мощной грудью уроженца Тхара. – Адмиральский салон на флагмане «Запад», – произнес дом. Протянув руку, Ортега коснулся своего бокала. – Со встречей, брат. За тебя! – Со встречей, младший. За тебя! Они проделали традиционные жесты: бокал идет к левой стороне груди, потом к правой и, наконец, к губам. Пить полагалось до последней капли. – Благополучен ли ты? – спросил старший брат. – Вполне. Я отдыхаю. Тут, в горах, такое солнышко… Я разомлел, как сиренд [58] на теплых камнях. Брат усмехнулся. – Ты отдыхаешь… Однако есть проблемы? – Проблемы есть всегда, Керим. Но сразу переходить к проблемам было бы невежливо, и потому Мохаммед Ортега, консул ФРИК, и Керим Рамон Ортега, адмирал, начальник Стратегического штаба, поговорили о женах, дочерях и сыновьях, о братьях, сестрах и их многочисленном потомстве, вспомнили Тхар и решили, что надо как-нибудь слетать в Мертвую Лощину, поохотиться на каменных дьяволов. Затем консул Ортега сказал: – Есть просьба к Флоту, брат. Один из наших специалистов отбыл с Сайката к двойной системе Асур-Ракшас. Транспортный корабль ГР-15/4044, рейс через Хаймор и Горькую Ягоду… Если позволишь, я отправлю тебе всю информацию о маршруте корабля и нашем сотруднике. У него задание чрезвычайной важности. – Отправляй, – произнес адмирал. Затем воцарилась тишина; Ортега-старший изучал полетный лист и досье Тревельяна, Ортега-младший любовался заснеженными склонами и ледниками, сверкавшими на солнце точно застывшие реки. Маленький робот-слуга снова наполнил его бокал. Лоб адмирала прорезали морщины. Кажется, он был удивлен. – Ваш сотрудник встретился с сильмарри? Редкая удача, клянусь Великой Пустотой! – Когда он представит отчет, я перешлю материалы в штаб Флота, – пообещал Ортега. – Благодарю. Это будет любопытно. Вдвойне любопытно – ведь рандеву состоялось в Провале, у неизвестного нам светила. И там есть планета! – Адмирал всматривался в бегущие по экрану кадры записи. Морщины на его лице стали глубже. – Этот мир сравнительно недалеко от Гаммы Молота и значит, входит в сферу интересов Федерации. Я вижу, Тревельян, ваш сотрудник, решил его исследовать? И каковы результаты? Ортега пожал плечами. – Пока никаких. Покидая корабль, он не оставил сообщения – очевидно, считал, что справится за день или два. Но прошло более трех суток, как мы в неведении. Сокольский обеспокоен. Мы все обеспокоены, брат. Мы полагаем, что с Тревельяном что-то случилось. – Судя по досье, он из тех парней, которым палец в рот не клади, – заметил адмирал. – Но происшествие странное, согласен! Этот мир в Провале… неведомая планета… непонятная задержка… Можно думать, что ваш сотрудник встретился с каким-то противодействием, а это уже по нашей части. Ортега кивнул. Ему было известно, что Звездный Флот старается контролировать миры на границе Провала, как обитаемые, так и еще не заселенные. Провал не являлся неодолимым препятствием, и хотя земные корабли еще не побывали в Рукаве Персея, путь через бездну был проложен. Причем не раз и не два! Фаата это доказали, атакуя дальние колонии землян. Не говоря уж о том, что много столетий назад они захватили планеты Гаммы и Беты Молота и отправили в Солнечную систему боевой флот. – Пожалуй, стоит послать туда крейсер, – произнес адмирал. – Крейсер? Это, наверное, слишком, – отозвался Ортега. – Подошло бы что-то более мобильное – корабль, который может добраться в нужное место за пару суток. Мы ограничены временем, брат. – Тогда отпадают внутрисистемные базы и даже та, что на Рооне, самая близкая к Провалу. Ни с одной из них в точку с этими координатами, – адмирал коснулся экрана, – не долететь за сорок восемь часов. Жди! Я проверю, что у нас имеется поблизости. Он провел ладонью над пультом, и вместо земного шара с огнями заатмосферных станций возник прозрачный золотистый столб, в котором неторопливо кружили темные глифы. Эти значки остались непонятными Ортеге, но цель и смысл поиска он представлял. Часть эскадр Звездного Флота была сосредоточена на базах, другие эскадры и корабли находились в движении, в учебных походах, на патрулировании и расчистке трасс или, как говорилось в космофлоте, в квадранте «икс» с задачей «игрек». Эпоха считалась мирной, но мир поддерживали бдительность, труд и почти неистощимые ресурсы десятков миров, входивших в Земную Федерацию, ибо недавние враги, став партнерами, еще не сделались друзьями. Тысячи военных кораблей бороздили пустоту, и адмирал Ортега разыскивал среди них суда, локализованные у границ Провала. Их глифы поднимались вверх в голографическом столбе и застывали, точно паучки в янтарной массе. Наконец Ортега-старший произнес: – Фрегат «Ниагара». Доставил дипломатическую миссию в сектор терукси, на Дингана-Пхау, и идет теперь к роонской базе. Командир – Марк Дарлан. Молодой офицер, но превосходный навигатор. Может быть в нужном районе через сорок два часа, но надо поторопиться со связью. Если корабль уйдет в Лимб и прыгнет, время будет потеряно. Консул Ортега поднял бокал. – Не буду мешать тебе, брат. За камни Тхара! – За его воды и поля! Они выпили, и видение адмиральского салона погасло. Задумчиво поглаживая тонкую ножку бокала, Ортега распорядился вызвать коллег. Лица Андрея Сокольского и Юи Сато явились перед ним; оба – в обрамлении цветов, струящейся воды и свежей зелени. Они сидели у фонтана в парке станции «Киннисон». Пьер Каралис, четвертый в их консульской группе, находился слишком далеко и в данный момент был недоступен для связи. – Флот нам поможет, – сказал Ортега. – Я договорился. Они отправят в Провал «Ниагару». Сокольский потер висок сухими пальцами. – Не помню крейсера с таким названием. Из нового пополнения? – Это не крейсер, фрегат. Но он сейчас в выгодной позиции, так что доберется к Тревельяну менее чем за двое суток. – Хорошо, – заметил Юи Сато. – Скорость сейчас важнее силы. Ортега усмехнулся. – Присутствие силы не исключается. Насколько я знаю брата… гмм… адмирала Ортегу… он в течение недели подтянет к этому квадранту пару крейсеров с роонской базы. Адмирал – человек предусмотрительный. – Это больше, чем мы могли ожидать. – Мы здесь ни при чем, Андрей. Разумеется, Тревельяна найдут и выручат, если он жив, но главная задача флота – быть в курсе всего, что происходит у границ. Или может произойти… Звезда с планетой в Провале – это нечто новое. Возможно – угроза, возможно – удобный форпост, еще одна база на опасном рубеже… Все это не проблемы Фонда. Думаю, для нас там нет работы. Там некого прогрессировать и некого спасать. – Согласен, – промолвил Сокольский. – Светило – древний красный карлик, старше Солнца на сотни тысячелетий. Змея, пережившая свой яд… Если там была когда-то жизнь, время ее похоронило. – Похоронило, – эхом отозвался Юи Сато.* * *
Расчет был верен – из воинства Побега не уцелело и четверти. Когда подтянулись отряды со второго рубежа, темный период суток уже кончался, но предрассветная буря еще не началась. Стратегический модуль использовал время разумно: нанес удар с поверхности земли и с воздуха, отправил сокрушителей в подземные ходы и принялся уничтожать бродивших там врагов. Ни один отпрыск Побега не ускользнул из подземелья, а те, что сражались в небе и среди утесов, тоже были бы разбиты, но помешала буря. Их остатки унеслись на запад с ураганом, но сколько долетело до укрытий?.. Вероятно, немногие; прорваться сквозь фронт переменного давления и обогнать наступающий день смогли бы отпрыски с полным ресурсом, а не растратившие энергию в сражении. Фардант Седьмой торжествовал. Потерянное Гнилым Побегом стало его приобретением: крохотные поглотители уже поднимались из нор, вгрызаясь в обломки и расплавленные корпуса, извлекая из них крупицы металлов, кремнийорганику и другое ценное сырье. Боевых отпрысков восстановить нетрудно, если есть ресурсы, а утилизация погибших много проще, чем добыча металла из истощенных рудных жил. И потому, дождавшись восхода солнца, Фардант отправил на границу новые армады поглотителей, а с ними – стражей и рабочие побеги; назначением последних было копать и строить, разбирать завалы, возводить укрытия и чинить то, что поддавалось ремонту. Этот труд он возложил на вспомогательные модули, освободив свое центральное ядро. Данная часть его сущности продолжала наблюдать за звездным странником, улавливая едва ощутимый отзвук чувств и мыслей. Ментальное эхо было слабым, но позволяло выяснить, где находится пришелец – правда, с невысокой точностью. Чужак последовал совету Контактера и перебрался в древний город, бродил там среди руин, разглядывал следы былого величия и, вероятно, думал о потоке времени, что за недолгий срок смывает все: разумных существ и сотворенное ими, мечты и надежды, плоть и кровь, даже галактики и звезды. Впрочем, Фардант не был уверен, что угадал мысль Пришедшего из Пустоты. Насколько долговечен звездный странник? Может быть, период его жизни столь же краток, как и у предков Фарданта, а значит, они по-разному воспринимают время. Хотя девять или десять тысяч Оборотов, прожитых Фардантом, являлись всего лишь мгновением в галактических масштабах, он считал себя бессмертной сущностью и не сомневался, что конец его так же далек, как тепловая смерть Вселенной. Если, конечно, он переживет Великого Врага и прочих властителей, Дазза, Матайму и остальных. Телепатическая нить, протянутая к пришельцу, внезапно напряглась и дрогнула. Возбуждение, решил Фардант, сильное возбуждение, но не только – что-то еще, странное и непохожее на известные ему эмоции. Как и другие владыки, он сохранил способность чувствовать; все они знали ярость и гнев, тоску и горечь, разочарование и злобу – то, что пришлось испытать их предкам, когда мир погибал, содрогаясь в конвульсиях ужаса. Память об этом хранилась в генетическом коде и порождала ощущения; отзвук прошлого был как рев трубы, будивший ненависть к врагам. Источником других эмоций, торжества победы или страха поражения, являлся спор, борьба, которую они вели веками; эти суррогаты счастья и горя, жалкие их аналоги, тоже были знакомы Фарданту, но чувств Пришедшего из Пустоты он не понимал. Не гнев и ненависть, не страх, не радость… Что?.. В скудном спектре эмоций Фарданта отсутствовало удивление. Он зафиксировал момент, когда пришелец оказался на поверхности. Затем пришла буря. Подождав, пока не утихнет ярость урагана, Фардант отправил воздушные машины с сокрушителями. Он послал их с внутренней границы, которая была гораздо ближе к пустынным землям и городским руинам, чем его оазис; отпрыски могли добраться до цели за сороковую часть Малого Оборота. Ментальная нить, соединявшая со звездным странником, не прервалась, и это означало, что он пережил ураган и находится где-то неподалеку от развалин. Слабые телепатические импульсы, приходившие к Фарданту, подсказывали: его недостающее звено не двигается и ждет. Это была разумная тактика; очевидно, пришелец хотел, чтобы его нашли и доставили к владыке. Затем случилось нечто странное. Та же непонятная эмоция: не гнев, не страх, не радость, а какое-то иное чувство, вспыхнувшее и угасшее как проблеск молнии. Импульсы стали более частыми, и Фардант ощутил, что Существо из Внешнего Мира удаляется на северо-восток – туда, где лежит домен Матаймы. Определить позицию точнее не представлялось возможным, но с курсом не было сомнений, и Фарданта охватили тяжкие предчувствия. Он велел своим отпрыскам поторопиться. Машины прибавили скорость и, миновав границу, понеслись над северной пустыней. Регистрирующие органы побегов передавали информацию Фарданту; он чувствовал стремительность полета, упругое сопротивление воздуха и порожденный трением жар. В зрительных центрах мелькали песчаные холмы, утесы и камни, пятна растительности, но восприятие этой картины было иным, нежели у человеческого существа: оттенки цвета и тепло ассоциировались со звуками, с симфонией шелестов и скрипов, пронзительным писком и резкой барабанной дробью. Внизу возник цилиндр под округлым колпаком, и звуки сделались сильнее; теперь Фардант ощущал, что поисковые лучи, отражаясь от песка и корпуса объекта, звучат по-разному. Опознав в цилиндрической башне готового к бою врага, он вызвал стратегический модуль и возложил на него управление. Справиться с этим гигантом казалось не труднее, чем с сокрушителями Побега; тысячелетний опыт напоминал, что у него более мощные метатели, но перевес четыре к одному и атака с воздуха гарантировали победу. Победу, но не жизнь пришельца, захваченного отпрыском Матаймы! Только это беспокоило Фарданта; он чувствовал, что звездный странник где-то рядом, но скрывавший его ментальный барьер был почти непроницаем. Летательные машины атаковали, стараясь расплавить камни и песок у вражеского треножника и повалить огромную башню. Это стало бы лучшим исходом, самым безопасным для пришельца; Фардант полагал, что он защищен от перегрева и сумеет выжить. Впрочем, его гибель не являлась катастрофой – труп, даже ничтожные фрагменты тканей вполне подходили для будущих опытов. Главное, быстрей доставить их в гипотермические камеры. Гигантский сокрушитель рухнул, подняв фонтан огненных брызг. Воздушные машины снизились, отпрыски Фарданта были готовы спуститься на грунт, и в это мгновение пять башен восстали из песка. Затем Фардант почувствовал обжигающие удары плазмы, а вслед за ними пришли тишина, темнота и забвение. Он попытался активировать своих сокрушителей и понял, что все они погибли. То была ловушка! Хитрость Матаймы! Матайма не походил на Дазза, Тер Абанту Крору и самого Фарданта. В каждом из них воплотились черты предков-творцов, даровавших им разум: Дазз унаследовал идею непротивления и бегства и покинул бы гибнущий мир, будь у него такая возможность; Крора, потомок Темных Владык, мечтал о безраздельной власти над планетой и еще о том, чтобы отомстить Великому Врагу; в замыслы Фарданта тоже входили власть и месть, но главным все же являлось создание жизни. Правда, в этом он не слишком преуспел, сотворив Побега, ставшего врагом, и несколько тысяч безмозглых тварей. Что до Матаймы, то цель его оставалась неведомой. Наследник Нелюдимых, одной из групп, боровшихся в древности за выживание, он был хитер, недоверчив и замкнут, как и положено слабейшему. Возможно, Фардант мог раздавить его, мог послать в его домен тысячи сокрушителей, взломать оборону Матаймы и сжечь его вместе с отпрысками… Возможно, он смог бы это сделать, если бы не Крора! Опасность вторжения с запада была вполне реальной. Фардант ощутил бессильную ярость. Отдернув нить, соединявшую его с пришельцем, и превратив ее в ментальный щуп, он потянулся на северо-восток, к барьеру, окружавшему разум Матаймы. Непроницаем и холоден, как всегда, но будто бы чего-то ожидает… Возможности вступить в переговоры? «Пришелец, Существо из Пустоты… – Мысль ударила в ментальный щит как сгусток плазмы. – Зачем он тебе?» Молчание. «Он пролетел над доменом Кроры и остался жив, но аппарат его разбился. В северных горах – одни обломки. Там нет оружия». Тишина. «Считаешь, он выдаст какие-то секреты? Нечто, дающее преимущество? Но это произойдет не сразу. Раньше мои сокрушители встанут у твоих границ». Снова нет ответа. Похоже, угроза не испугала Матайму. Телепатические импульсы тонули в его ментальном щите и гасли, как звезды на восходе солнца. «Верни его, – просигналил Фардант. – Верни, если хочешь уцелеть!» На этот раз Матайма отозвался. Пришедшая мысль была угрожающей и ясной: «Твой домен ближе всех. Когда пришелец будет мой, я начну с тебя». Справившись с приступом гнева, Фардант попытался нащупать Пришедшего из Пустоты. По его расчетам, тот должен был удалиться на значительное расстояние, но, видимо, гигантские отпрыски Матаймы, пленившие звездного странника, не спешили. Фарданту чудилось, что они шагают все медленнее и медленнее и что его недостающее звено все еще поблизости от городских руин. Он собрался отправить на поиск крупный отряд сокрушителей, но ментальное эхо вдруг подсказало, что гиганты возвращаются. Это было непонятно. К тому же они двигались не к городу, а ближайшим маршрутом к границе домена. Для человека непонятное – источник удивления, но подобной эмоции Фардант не знал. То, что не удавалось понять, запускало в его сознании другой механизм – впрочем, тоже свойственный человеку: генерацию предположений. Их спектр в данном случае был узок: или Матайма, испугавшись, все же решил избавиться от чужака, или замыслил какую-то хитрость. Второе вероятнее, думал Фардант; отпрыски Матаймы шли под защитой поля помех, незримые для стражей границы и средств дальнего обнаружения. Он мог проследить за ними лишь по ментальной ауре пришельца, но этот способ не отличался точностью. Он ждал, надеясь, что гиганты скоро попадут в зону прямой видимости и можно будет уточнить, какая из гипотез справедлива. Ветер стих, солнце медленно ползло в зенит, рабочие побеги трудились, поглотители грызли металл, наблюдатели следили за пустыней. Истекла десятая часть светлого времени, и ожидаемое произошло – отпрыск Матаймы возник у дальних рубежей, но только один и без пришельца. Фардант велел его уничтожить. Затем, вызвав стратегический модуль и передав ему управление боем, он погрузился в размышления, очнувшись лишь тогда, когда на стражей границы обрушились гиганты-сокрушители. Один из них нес в своем чреве звездного странника, и, выяснив это, Фардант решил, что обе его гипотезы ошибочны. Матайма ничего не замышлял и не желал вернуть недостающее звено – он, вероятно, терялся в догадках, не понимая, что случилось с его отпрысками. Его создания шли не туда, куда приказано, и делали то, чего не позволял их ограниченный разум… Они подчинялись уже не Матайме, а Пришедшему из Пустоты, и, догадавшись об этом, Фардант ужаснулся. Как он захватил контроль над сокрушителями? Куда он направляется? И что намерен делать? Пока Фардант искал ответы на вопросы, чужак, миновав границу домена, ступил на его территорию.Глава 15. Воспоминания. Посольские Купола
Поля, засеянные энергетическими цветами, тянулись на добрую сотню километров. За ними снова лежала пустынная местность: пологие низкие барханы, серый песок, редкие скалы и груды камней под мрачным желтоватым небом. Иногда Тревельяну чудилось, что в каменных глыбах проступают знакомые очертания стен и лестниц, колонн и фундаментов, но древние руины убегали назад так быстро, что он не успевал их рассмотреть. Да и стоило ли этим заниматься? Время поджимало, а раскопки – дело долгое, трудоемкое и непростое. К тому же Ивар полагал, что в этих развалинах нет ничего, кроме камней и обломков пластика. Возможно, под ними были подземные камеры, как в древнем городе, и в них – изваяния, барельефы и другие артефакты, нечто такое, что проливало свет на прежних обитателей, их жизнь и трагический конец, но все это – забота грядущих экспедиций и специалистов-археологов. Он мог бы помочь им, припомнив, где и когда увидел статуи лоона эо, но этот эпизод не торопился просыпаться в памяти. Казалось, его занесло тысячелетними песками – такими же, что покрывали Хтон. Солнце поднялось в зенит, когда навстречу стали попадаться ручьи, питавшие озера, и скалы покрупнее, собранные плотными группами и окруженные полями энергоцветов. Была тут и другая растительность, теснившаяся к водоемам и больше похожая на земную, чем шипастые стебли и деревья-змеи: кустарник с перистой, как у папоротника, листвой, травы с метелками длинных зеленых хвоинок и колыхавшиеся на слабом ветру гибкие ленты, произраставшие на толстых белесоватых стволах. В этих лесах, пронизанных скудными лучами солнца, водилась какая-то живность – в озерах что-то булькало, а на кустах Тревельян разглядел мохнатые шары величиной с кулак, со множеством глаз и конечностей. – Проклятое паучье племя, – заметил командор. Подключенный к зрительным органам трафора, он видел больше подробностей, чем Тревельян. – Пауки, клянусь Великой Пустотой! Я слышал, что в далеком будущем, когда оскудеет наша планета и Солнце начнет гаснуть, только они и останутся на Земле. Пауки… ну, еще тараканы и крабы. – Может быть, – отозвался Тревельян. – Но это случится не за десять тысяч, а через миллионы лет. Этот мир был процветающим и живым еще недавно – в геологических масштабах, разумеется. – Синдром ускоренного старения? Отчего бы? – Понятия не имею. Но я с тобой согласен: примерно так же будет выглядеть Земля через сотню миллионов лет. Или через миллиард. Мышцы у Ивара затекли. Хотелось размяться, но он лишь вздохнул и мысленным усилием включил режим массажа. По оболочке скафандра от шеи до пят побежали волны, заставляя тело расслабиться; он закрыл глаза и представил, что лежит в бассейне, в теплой, пахнущей морем и солью воде. Сейчас проплывет метров двести, примет душ и пообедает: телятина под грибным соусом, отварной картофель, сливовый пудинг, сухое красное вино и книлинский коктейль… Потом прогуляется по кораблю, поболтает с милой Анной Кей или найдет собеседника посерьезнее – скажем, портрет Обо Коиче, специалиста по скифам, гуннам и монголам. И обсудят они, что делать с Серым Трубачом, Братом Двух Солнц, Стражем Очага, Взирающим на Юг, с этим кровавым деспотом и людоедом… Глядишь, Обо Коиче что-то и присоветует… Верно сказано в Книге Йездана, подумал Тревельян: у нас есть только то, что мы теряем. Потом, разумеется, сожалеем об утерянном… Что ему не сиделось на корабле, в безопасности, уюте и хорошей компании? Зачем он потащился в эту гнусную пустыню? Любопытство… склонность к авантюрам и любопытство… А ведь Йездан, книлинский мудрец и провидец, говорил и такое: у протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли… Так и получилось! Что сейчас в его руке? Древняя пыль этого мира да четыре взбесившихся киборга… ну, еще те статуи… статуи, конечно, ценная находка… припомнить бы, где он их видел и когда… – А вот и жучки, – произнес командор. – Выстроились как почетный караул и нас не трогают. Тут наверняка укрепленные позиции, вторая линия обороны. Они миновали очередную группу утесов, окруженную полосой растительности. На скалах в одинаковых позах застыли сокрушители Фарданта: стволы метателей смотрят вверх, лапы согнуты, резаки и клешни втянуты в отверстия корпусов. Демонстрация мирных намерений, решил Ивар, чувствуя слабое давление в затылке, будто невидимая ладонь гладила его по волосам. Что-то пыталось проникнуть в его разум, кто-то стучался в мозг, разыскивая щелку в ментальном барьере; эти попытки были настойчивыми, но осторожными. – Вон из моей головы, – пробормотал он на альфа-хапторе. Очевидно, мысль была воспринята: незримая ладонь исчезла, словно огромный многоногий спрут отдернул щупальце. Наступил полдень. Солнце стояло в зените, ветер стих, температура за бортом, как сообщил командор, достигла плюс десяти по Цельсию. Сержант и его подчиненные бодро пылили среди пологих дюн, огибая каменные россыпи и перешагивая мелкие ручьи. Чудилось, что равнина бесконечна; ее серый окоем сливался с желто-серым небом, и кроме редких скал с пятнами зелени ничто не привлекало взгляда. Веки Ивара сомкнулись. Он засыпал, мерно покачиваясь в кресле, погруженный в изменчивую плоть трафора; спинка за его плечами подалась назад, под головой сформировался валик, скоб продолжал трудиться, массируя тело. Крохотный ментальный щуп коснулся его сознания, оставшись незамеченным; Тревельян пребывал уже за гранью яви. Годы, словно облетающие листья, уносились ветрами времен, и с каждым вздохом он все глубже погружался в прошлое, в юность, не столь уж далекую по нынешним меркам Земли, но, как и в древности, канувшую безвозвратно. Ему снова было восемнадцать лет, он снова учился в Академии, и на его зеленоватой униформе блестели нашивки первокурсника.* * *
Летом, после второго семестра, его учебная группа отправилась на Луну. Это было традицией; юным ксенологам полагалось пройти стажировку в дипмиссиях инопланетных рас – по крайней мере, близких к гуманоидам, способным дышать смесью азота и кислорода, с водно-солевым метаболизмом, не исключающим прямые контакты с людьми. С конца двадцать второго века все дипломатические представительства находились на Луне, в особом регионе на окраине Моря Дождей, где в древности приземлилась русская ракета с луноходом. Там, под скалами, выстроили базу космофлота, а на поверхности – астродром, служивший пристанищем для боевых крейсеров в течение трех столетий. Поодаль, в кратере Кеннеди, были пробиты шахты глубиной восемьдесят и диаметром сто двадцать метров, а в них смонтированы цилиндрические многоэтажные конструкции; верхние части подземных башен, прикрытые прозрачными полусферами, торчали наружу, и с них открывался великолепный вид на астродром с крейсерами. Посольские Купола – так называлось это место, объявленное экстерриториальным, – предназначались для инопланетных дипломатов; день за днем они могли любоваться на флот землян, пересчитывать корабли и пушки и делать соответствующие выводы. Правда, многие из семнадцати Куполов долго пустовали: в Первом Куполе с 2185 года расположилась миссия лоона эо (конечно, представленная сервами), а следующий, Третий, был заселен книлинскими дипломатами почти через век. С тех пор прошло немало времени. Теперь весь кратер и часть примыкавшей равнины были накрыты силовым колпаком, который удерживал воздух, регулировал погоду и обеспечивал суточный ритм, привычный для землян. Подземная база превратилась в музей, на взлетном поле, сильно сократившемся в размерах, тоже возвышался музейный экспонат – крейсер «Оберон» на ракетной тяге, а самая ценная из древностей, русский луноход, очутилась посреди городской площади. Город Кеннеди разросся и выплеснулся на равнину, став первым лунным мегаполисом, где в условиях искусственного тяготения обитали миллионы жителей. В Море Дождей росли вязы, дубы и буки сказочной толщины и высоты, лес полукольцом пересекала магистраль, уходившая в тоннели в гребне кратера и проложенная так, что все семнадцать Посольских Куполов располагались вдоль нее. Кроме Куполов, музея, города и лесных угодий были тут другие диковины и чудеса: участок девственной лунной почвы с отпечатками колес лунохода [59], озера и теплые целебные источники, заповедник с древними формами жизни, чьим украшением были эпиорнисы [60], и огромный мемориал, посвященный Сражению у Марсианской Орбиты [61]. Словом, в Кеннеди было на что посмотреть, и город не зря считался такой же туристической Меккой, как станции над кольцами Сатурна, Порт Бурь в венерианском океане, Долина Первопоселенцев на Фарсиде, рядом с Олимпом [62], и старинная база космофлота во Внешнем кометном облаке [63]. Но Ивару, равно как и его сокурсникам, любоваться чудесами было некогда – каждому полагалось отслужить определенный срок в шести Посольских Куполах, у дроми, хапторов, кни’лина, лоона эо, лльяно и терукси. Порядок определялся жребием, а срок – системой счисления, принятой у тех или иных межзвездных рас; система же, согласно общей галактической закономерности, зависела от количества пальцев. Кни’лина, дроми, терукси и хапторы были пятипалыми, и стажировка в их Куполах длилась десять суток; еще восемь – у лоона эо с их восьмеричной системой счисления, и двенадцать – у лльяно, кисть которых, вдобавок к пяти пальцам, имела рудиментарный палец-коготь. Считали, что такая практика полезна для совершенствования в языках, освоенных под гипноизлучателем, но это являлось формальной причиной, шитой белыми нитками, – так, например, никакое внушение не позволяло овладеть речью лльяно или дроми. Истинный повод состоял в другом: в проверке будущих ксенологов на совместимость с инородной жизнью. Десять суток у терукси или восемь в Первом Куполе могли считаться отдыхом, но остальные дни и ночи были из разряда тяжких испытаний, и это касалось всего, начиная от запаха чужаков, их пищи, нравов и обычаев, и кончая самой грубой прозой – такой, как посещение удобств. С другой стороны, если будущий ксенолог не в силах ужиться с высокоразвитыми расами, то как он вынесет контакт с народом диким, примитивным, кровожадным и совершенно непохожим на землян? Так что стажировка в Куполах являлась и своеобразным экзаменом, определявшим профпригодность. Двенадцать дней у лльяно Ивар пережил без проблем. Речь этой расы была недоступна голосовым связкам гуманоидов, и с лльяно общались на искусственном языке, созданном лоона эо, их давними торговыми партнерами. Общение Ивара не тяготило, он даже не видел обитателей Купола, поскольку лльяно, существа нелюдимые, в прямой контакт с ним не вступали и отдавали распоряжения по внутренней связи. Он трудился на одном из нижних ярусов, превращенном в ферму, выносил навоз и чистил стойла кротких пухлых тварей, напоминавших поросят с рудиментарными ножками. У лльяно они служили пищей, мясо потреблялось в сыром виде, без соли и специй, и исключений для Ивара не делали, так что он его тоже ел – сначала с отвращением, но через несколько суток притерпелся. Следующим был Купол дроми, где Тревельяна ждали десятидневные мучения. Нижние конечности дроми сгибались не так, как у землян, конфигурация тела тоже отличалась, а кроме того они, подобно деревьям, росли всю жизнь, достигая в преклонных годах гигантского размера. По этим причинам мебель и другое оборудование, включая санузлы, не слишком подходили для людей, даже молодых и гибких, освоивших все позы йоги и гимнастику у-шу. Пища дроми тоже была не подарок, как и мерзкая вонь их тел и одежд, пропитавшая ярусы Купола снизу доверху, но приходилось терпеть. Зато унизительных работ на Ивара не возложили. Десять дней он слушал лекции Мастера Переговоров [64], посвященные войнам дроми с Земной Федерацией в двадцать четвертом и двадцать пятом веках. Войны дроми проиграли, но если верить Мастеру, то было шествие от победы к победе, наполнившее космос трупами землян и обломками их кораблей [65]. У терукси и кни’лина, очень близких людям по физиологии, Ивар отъелся и отдохнул. Вежливые дипломаты терукси ему сочувствовали, зная, что перенес гуманоид, побывавший у лльяно и дроми, и практика в их Куполе пролетела как сказочный сон: Ивар ел и спал, вел приятные беседы и занимался национальными видами спорта – жонглированием и метанием ножей. У кни’лина ему пришлось похуже. Миссию держал клан похарас [66], не воевавший с Землей, но все кни’лина, за редким исключением, не благоволили людям, считая их волосатыми варварами. Что до похарас, то они отличались болезненной гордостью, церемонностью, религиозностью и были строгими вегетарианцами – правда, кухня у них оказалась выше всяких похвал. Десять дней, проведенных в их Куполе, Ивар посвятил знакомству с изысканными блюдами и священной Книгой Начала и Конца, творением книлинского пророка Йездана. Предпоследний этап стажировки пришелся на хапторов и стоил ему года жизни. Хапторы считались гуманоидами, но их внешний облик был далек от идеала красоты: заостренные уши, глаза с вертикальным зрачком, лысый шишковатый череп, огромная пасть с клыками и шея что бревно. Среди этих высоких мощных чужаков Тревельян ощущал себя карликом, о чем ему не давали позабыть, как бы случайно подталкивая, пихая, наступая на ногу, тыкая пальцем или локтем под ребра. Все это сопровождалось гнусными ухмылками и ухающим хохотом. Хотя хапторы проиграли Пятилетнюю войну и были вынуждены сотрудничать с Федерацией, это не сказалось на их эгоцентризме и врожденной агрессивности: себя они полагали великими воинами, а прочие расы – мразью. Исключением являлись лишь лоона эо, снабжавшие хапторов установками для планетарных работ. К лоона эо – а точнее, к сервам – Ивар и перебрался после десятидневных мучений. К счастью, кости ему не сломали и не отшибли почки, а синяки и ссадины были не в счет – под действием медицинского импланта они исчезали за пару часов. Приблизившись к Первому Куполу, Тревельян встал перед входной мембраной, глядя в темный зрачок видеокамеры. За прозрачной стенкой виднелся кустарник с мелкими золотистыми листьями и цветами всех оттенков радуги, от синего до алого; заросли были такими плотными, что взгляд тонул в них как в темноте пещеры. Голография, подумалось ему. Для реальности это выглядело слишком красивым. Система идентификации опознала Ивара, мембрана растаяла, и он вдохнул аромат свежей зелени. Кустарник не был миражом. Его стебли изогнулись, освобождая проход, нежные запахи окутали Тревельяна; он вступил в золотисто-зеленый тоннель, сделал дюжину шагов и замер в изумлении. За поясом растений лежала просторная площадка, обставленная в стиле далекой древности: мягкие диваны и кресла, обтянутые шелком, бюро с гнутыми ножками, круглые столы из ореха, часы с сияющим бронзовым маятником, мраморный камин, вазы севрского фарфора и парящие в воздухе хрустальные люстры. Ошеломленный, Ивар коснулся ближайшего кресла – его резная спинка тоже не являлась иллюзией, а была твердой и восхитительно гладкой. – Зал для дипломатических приемов, – раздалось за его спиной. Он резко повернулся. Перед ним стоял серв, самый совершенный биоробот во Вселенной. Он был почти неотличим от человека, хрупкого и невысокого – сервов изготовляли по образу и подобию тех существ, с которыми им предстояло контактировать. Это создание в безукоризненном темном фраке словно сошло со старинной гравюры: дипломат, каким его представляли в прошлых веках, в девятнадцатом или двадцатом столетии. Но человеком он не являлся, хотя обладал интеллектом много выше границы Тьюринга. – Рад заглянуть в твои глаза, – произнес серв традиционную формулу приветствия. – Я исполняю обязанности Второго Регистратора. Это была высокая честь – Ивара, юного курсанта, встречало второе лицо в Куполе лоона эо. Он протянул руку, ощутил пожатие сухих прохладных пальцев и пробормотал: – Я тоже рад. Меня зовут Ивар Тревельян. Скажи, Регистратор, эта обстановка, камин, часы и люстры – все это сделано недавно? На Земле или в ваших астроидах? – Второй Регистратор, – поправил серв. – Эти предметы сделаны вашими мастерами, но не в последние века. Здесь все подлинное: диваны бидермейер, комоды и бюро ампир, столы и кресла чиппендейл. Все это приобретено в тот год, когда мы поселились в Куполе. Приличный срок, – подумал Тревельян; сервы переехали с Плутона на Луну в давние времена, еще в конце двадцать второго столетия. Его удивление прошло – он вспомнил, что лоона эо большие ценители искусства и платят за приглянувшийся товар с царской щедростью. По слухам, в их астроидах хранились шедевры и редкости с сотен обитаемых планет, начиная с погребальных сосудов кни’лина и кончая колоссальными абстрактными полотнами, изделием айхов. Серв глядел на него. Его зрачки были синими, как море в теплый полдень, шевелюра цвета бронзы лежала волосок к волоску. – Чем ты занимался в других Куполах, Ивар Тревельян? – спросил Второй Регистратор на мелодичном языке лоона эо. – Например, у хапторов? – Переводил дипломатический документ, – произнес Тревельян, потирая еще не рассосавшийся синяк на боку. – Ноту с протестом по поводу маневров Звездного Флота в районе системы Ригеля. Это… – Я знаю, – мягко вымолвил Регистратор. – Триста тридцать парсек, голубой гигант, радиус в тридцать шесть раз больше, чем у вашего Солнца. Хапторы очень недовольны? – Да. – Что еще ты делал? Перечислив свои обязанности у лльяно, дроми, кни’лина и терукси, Ивар с облегчением вздохнул. Все плохое и хорошее было уже позади, стажировка подошла к концу, и последние восемь дней обещали стать самыми приятными. Этот золотой кустарник с яркими цветами… эти прекрасные изделия древних мастеров… этот чарующий аромат… От него слегка кружилась голова. – Чем ты желаешь заняться в нашем Куполе? – поинтересовался серв. Этот вопрос Ивар обдумал заранее и потому ответил без колебаний: – Запретными Товарами. Их ассортиментом, воздействием на человека и… хмм… причинами, по которым наложен запрет. – Ты говоришь о гипноглифах? – Не только. Статуэтки, Зеркала Преображений, эрца и прочие медикаменты. Еще покрывала, живые коврики и те музыкальные шары… Как вы их называете? – Коум, – сказал Второй Регистратор, – мы называем их коум. – Он поднял взгляд к потолку. За гранью Купола сияло бирюзой искусственное небо с белыми перьями облаков, наплывавших со стороны кратера. Серв совсем по-человечески покачал головой. – Твое желание кажется мне странным, Ивар Тревельян. Другие стажеры этой темы не касались. – Меня влечет запретное. – Ну что ж… Вы, гуманоиды, неравнодушны к тайнам и секретам, особенно чужим… Случается, вы сами их изобретаете. – На лице серва мелькнуло что-то похожее на улыбку. – Ты хочешь изучать Запретные Товары? Изучай! Только в пределах допустимого. Напоминаю, что, пока ты в Куполе, на нас лежит ответственность за твое здоровье. Апартаменты, в которых поселили Тревельяна, были удобными и просторными, пища – отменной, воздух – душистым и сладким, точно в преддверии райского сада. Он мог бродить по всем шестнадцати ярусам подземной башни, включавшей, как и другие Купола, сотни залов, кабинетов, складов и технических отсеков, так что обойти их за восемь дней казалось невозможным. Разумеется, сервы не ели, не пили и не нуждались в сне, но то была скрытая часть их жизни, которая не выставлялась напоказ; на многочисленных раутах, встречах и переговорах они вели себя как люди. В их складах хранилось все, что требовал дипломатический протокол: вина и фрукты, одежда и мебель, посуда, украшения и образцы товаров, включая сувениры и подарки. Штат миссии состоял из сорока послов-Регистраторов, нескольких десятков слуг и двухсот работников, лишенных индивидуального обличья и меньше походивших на людей, чем дипломаты и слуги. С работниками Ивар почти не сталкивался – они обладали полезным свойством не мозолить глаза и появляться лишь в случае необходимости. О его повседневных нуждах заботились слуги, а руководство учебным процессом было возложено на Тридцатого Регистратора, который в местной табели о рангах являлся помощником атташе по культуре. Не такая важная персона, как Второй, решил Тревельян, знакомясь со своим наставником. Вместо фрака тот носил комбинезон с небрежно распахнутым воротом и короткими рукавами. Глаза у него были серыми, рот – маленьким и пухлым, а светлые соломенные волосы торчали в художественном беспорядке. Это подкупало. – Как мне тебя называть? – спросил Ивар. – Тридцатый, – раздалось в ответ. – Должно быть, ты часто общаешься с людьми. – Правильное заключение. Моя задача – контакт с молодежью. Дети, подростки, юноши, девушки… Те, кто на заре жизни приходит в наш Купол, влекомый любопытством или тягой к знанию. – Возможно, тебе подошло бы земное имя. Олаф, Али или Сергей звучит лучше, чем Тридцатый. Серв улыбнулся, растянув пухлые губы. – Это была бы иллюзия, Ивар Тревельян, иллюзия того, что мы с тобой подобны. Но я – не человек, даже не продукт естественной эволюции. Тридцатый Регистратор лучше соответствует моей сущности. Кроме того, имя мне дали Хозяева. Я не вправе его изменить. Хозяева… Лоона эо… Наверное, он прав, подумал Тревельян, смена имени нежелательна. Нужно помнить, что Тридцатый отличается от человека, отличается в главном, как и остальные сервы: у них есть Хозяева, а у людей их нет. – Приступим, – перешел к делу Ивар. – Покажи мне предметы вашего экспорта, а после них – Запретные Товары. Я знаком с ними только по названиям. Согласно кивнув, Тридцатый включил голографический проектор. Лоона эо торговали со всем Рукавом Ориона и еще с половиной Галактики – большей частью миниатюрными, размером с песчинку чипами для устройств с искусственным интеллектом. Кроме того, гигантскими агрегатами, способными обогатить атмосферу кислородом, очистить океаны и сушу от мусора и переработать его в плодородный грунт; такие планетарные ассенизаторы были очень популярны у хапторов и дроми. Еще поставлялись оборудование для терраформирования девственных планет, космические станции всех назначений, кроме военного, медицинская техника, редкие лекарства, безалкогольные вина и мед с Тинтаха, экзотические фрукты, украшения и ткани. Оружие лоона эо не продавали никому, и попытки собрать из чипов мозг боевого робота или иной машины уничтожения успеха не имели – чипы рассыпались в пыль. Но кроме всех этих изделий и земных плодов, в трюмах их торговых кораблей хранилось и кое-что другое, игрушки или вещицы для развлечений, а может, для шалостей и фокусов. Если так, то эти фокусы и шалости казались странными, не подходящими для прочих рас, а для гуманоидов особенно – по той причине, что ментальный дар у них встречался редко, и разум не очень ладил с подсознанием. Что до самих лоона эо, то были они телепатами, а игры телепатов опасны для других существ, ибо раскачивают их неустойчивую психику. Среди предметов с неясным назначением попадались статуэтки, перенимавшие через месяц-другой облик и нрав владельца, бывшие как бы его вторым «я», крохотным, но достаточно разумным, чтобы вести беседу, сочувствовать, радоваться, утешать. Некоторым такой компаньон скрашивал одиночество и дефицит общения, заменяя семью и друзей; человек настолько привыкал к нему, что, лишившись статуэтки, мог погибнуть в тоске и печали. Покрывала или Ткани Забвения отличались сказочной красотой, переливами алых и золотых или синих и серебряных оттенков; набросивший их на голову мог парить над землей и водами, погружаться в морскую бездну, проходить сквозь скалы и летать среди звезд во всех галактических ветвях. Следствием таких сеансов были провалы в памяти – вплоть до полной амнезии. Были еще зеркала, с виду обычные, но позволявшие манипулировать миром зазеркалья и изменять собственный облик, делая его смешным, уродливым или прекрасным. Эта забавная игра вела к тому, что глядевший в Зеркало Преображений тоже менялся в лучшую или в худшую сторону, а в какую именно, никто не мог предвидеть. Эрца и другие снадобья действовали на людей как мощные депрессанты, подавляя инстинкт самосохранения и вселяя тягу к суициду. Музыкальные шарики коум наигрывали мелодию в течение двух-трех секунд, но этот мотив преследовал человека до гробовой доски. Светильник в виде коврика с изысканным рисунком вызывал галлюцинации; мнилось, что узор оживает, срастается с телом и заставляет мышцы дергаться в бешеной пляске. Однако самым опасным считался гипноглиф, артефакт с сильнейшим психотропным действием, который погружал глядевшего в транс. Как и в случае коума, гипнотический эффект наступал через несколько секунд, лишая воли и способности к сопротивлению, а иногда – памяти и разума. Гипноглифы имели форму чаш, экранов, ваз или предметов неопределенных очертаний, сиявших и искрившихся, точно бриллиант в потоке света, и на одни из них можно было смотреть часами, а другие вели к быстрому коллапсу нервной системы и смерти. Они завораживали гуманоидов всех известных рас, не поддавались копированию, ничего не излучали и не нуждались в энергии. У землян, кни’лина, терукси и хапторов это был самый Запретный Товар из всех запретных, но все-таки его ввозили, ввозили тайком, ибо гипноглиф обладал массой ценных применений, интересующих спецслужбы. С этими опасными предметами Ивар знакомился не в натуре, а по голограммам, представлявшим внешний вид и данные об их воздействии на человека. Был ли у сервов Запретный Товар? Лежал ли он в какой-то тайной кладовой в их Куполе, в контейнерах за семью замками? Вопрос оставался открытым. Тридцатый заявил, что соблюдение земных законов является для сервов доминантным и что его коллеги не балуются контрабандой. Это с одной стороны, а с другой – в Куполе хранился весь ассортимет товаров, кроме самых крупных и громоздких. Впрочем, незаконный ввоз тех или иных изделий был проблемой таможни и Тревельяна не волновал. Зачем они лоона эо – вот интригуюшая тайна! Какое у них назначение? Игры и фокусы или что-то посерьезнее? Вдруг лоона эо, такие мудрые, миролюбивые, а на самом деле полные коварства, готовят заговор, ментальный геноцид? За год в академических стенах Ивар растерял простодушие юности; как утверждали его наставники, доверчивость – большой порок, несовместимый с работой ксенолога, который обязан учитывать не слова и намерения, а только реальные факты. Мирный контакт с лоона эо насчитывал восемь веков, на их планетах жили люди, их охраняли земляне-защитники, и все это было неоспоримым фактом, основой для доверия. Насколько полного? Тут Тревельян сомневался – как-никак, Запретные Товары все же попадали в Федерацию, и значит, уважение к ее законам не являлось безусловной доминантой. На седьмой день он задал эти вопросы Тридцатому. Они сидели в пищеблоке, похожем на обычное кафе: четыре столика под полосатым тентом, раздаточный автомат, увитые зеленью решетки, а за ними – голографический морской пейзаж. Кафе находилось на первом ярусе, который вместе со вторым предназначался для гостей; здесь были зал для совещаний, бассейн, прогулочные палубы, пункты питания и жилые каюты. Ивар ел, Тридцатый делал вид, что ест – его челюсти мерно двигались, перетирая крохотный кусочек мяса. Над морем-миражом сияло призрачное солнце, и легкий теплый ветерок гнал к берегу барашки пены. Тридцатый отодвинул тарелку. Съеденного им не хватило бы, чтобы насытить младенца. – Ты спрашиваешь, зачем Хозяевам гипноглифы? Зачем зеркала, покрывала и музыкальные шарики? Я знаю об этом столько же, сколько ты, Ивар Тревельян. Ивар приподнял брови. – Может ли такое быть? Ты их доверенный слуга. – Но с ограниченными функциями. Я родился… был изготовлен в астроиде Парзанг вблизи Куллата и там же прошел обучение. Со мной занимались другие сервы и еще Хозяин по имени Дайар. Я бы хотел его увидеть… он был так терпелив и добр… – Взгляд Тридцатого затуманился. – Мой ранг – Помощник, и я владею знанием, необходимым для службы в этом качестве. Сервы высшего ранга знают больше. – Например, Второй Регистратор? – Скорее, Первый. Возможно, он сумеет ответить на твои вопросы. Если захочет. – Если захочет? Странная формулировка для робота! – Мы не роботы, Ивар Тревельян, мы создания с искусственным интеллектом. Ты еще молод, но должен понимать разницу. Мы обладаем свободой воли – конечно, в определенных пределах. Они помолчали. Физиономия серва была непроницаемой. Тревельян задумчиво разглядывал вазу с фруктами. Лунные персики и сливы достигали невероятной величины. – Завтра моя практика кончается, – наконец промолвил он. – Можно ли увидеть Первого? – Можно. Он хочет поговорить с тобой. Дать напутствие. – Когда? – Сейчас. – Большая честь, – произнес Тревельян. Честь в самом деле была большая – Первый Регистратор являлся главою миссии и полномочным послом лоона эо в Земной Федерации. – Скажи, Тридцатый… это напутствие… его получают все стажеры? – Нет. Только самые любопытные. Серв улыбнулся. Странная улыбка, подумал Ивар: живет на губах, но не в глазах. Глаза казались скорее печальными. – Куда я должен явиться? – В парк. – На третий уровень? Парк был разбит ниже гостевых ярусов и, как помещение под верхним куполом, тоже предназначался для дипломатических приемов. Он занимал весь третий этаж, немногим более гектара. Голова серва качнулась в жесте отрицания. – Нет. Спустись на шестнадцатый ярус. – Разве там тоже есть парк? – Есть, – сказал Тридцатый и поднялся. – Должно быть, совсем небольшой, – пробормотал Ивар, стараясь не отстать от провожатого. Шестнадцатый, самый нижний из подземных ярусов, во всех Куполах считался техническим; там находились система жизнеобеспечения и утилизации отходов, резервуар с водой и аварийные запасы воздуха. Они вошли в голубоватые морские волны. Мираж простирался на шесть или семь шагов, и сразу за ним темнела стена Купола с проложенной вдоль нее дорожкой. Тридцатый повернул направо, приложил ладонь к гладкой поверхности, и она бесшумно раздалась. За стеной зияла пропасть – как чудилось Ивару, бездонная. Иллюзия, решил он, вспомнив, что башня заглублена в лунный грунт всего на восемьдесят метров. – Лифтовая шахта, – пояснил его спутник. – Она ведет в парк. Спускайся, Ивар Тревельян. Шахта была гравилифтом – самым обычным, если не считать того, что ее проложили в наружной стене. Видимо, имелись причины для такой секретности, и, подумав об этом, Ивар ощутил невольный трепет. Он медленно поплыл вниз в потоке теплого воздуха. В его воображении рисовались тайные ходы в рыцарских замках, ведущие то ли к несметным сокровищам, то ли к плененным драконам, то ли в спальни прекрасных принцесс. Потом он с удивлением заметил, что стены лифтовой шахты стали отдаляться и наконец исчезли вовсе; теперь он плавно опускался в пустоте, заполненной белесым туманом, словно пролетал через облако. Голова у Тревельяна вдруг закружилась, темные точки фонтаном брызнули в глаза, в уши ударил гром барабанов. Он прищурился и судорожно сглотнул. Грохот и точки пропали с той же внезапностью, как появились, белая пелена разошлась, и Ивар увидел внизу зеленый ковер, расшитый цветными блестками. Через минуту он приземлился на поляне, в густой траве, у начала извилистой тропы. Вокруг стояли деревья неведомых пород с гладкими серыми и коричневыми стволами, струился в воздухе цветочный аромат, посвистывали птицы, и где-то недалеко журчал и пел ручей. Гигантская лифтовая шахта над ним уходила в бесконечность, и в ней с торжественной неторопливостью вращались облака. В самом деле парк, подумалось ему. Парк! И какой огромный! Видимо, иллюзия… Он зашагал по тропинке, ожидая, чтовот-вот проникнет в голографический мираж и упрется в стену, но все вокруг было настоящим – и земля под ногами, и высокие деревья с серебристой и золотистой листвой, и изумрудная трава, и яркие огромные цветы, и птицы, похожие на мотыльков, и скалы, заросшие мхом, и маленькие водопады, что прыгали среди камней. Все это казалось соединенным, связанным в некое сакральное единство, в чарующую гармонию райского сада, которой можно восхититься, но не описать тому, кто этого не видел, – ибо такая красота лежала за пределом слов. Тревельян сошел с тропинки, прикоснулся к узким золотистым листьям и древесному стволу, потрогал замшелый бок валуна, прислушался к птичьему свисту. Ощущения были реальными, но разум с этим никак не соглашался: диаметр Купола – сто двадцать метров, а он, если считать по прямой, отшагал как минимум двести. Чудо! Но в чудеса ему не верилось. Вернувшись на тропу, Ивар сделал еще десяток шагов и остановился, морща лоб и озираясь. Цивилизация лоона эо была предметом лекций, которые читали в Академии, однако не на первом курсе. Систематических знаний он не имел, но, движимый любопытством, добрался как-то до «Двух эволюций» Стефана Лемини [67] и теперь пытался вспомнить то, что сообщалось в примечаниях. Он размышлял минуту или две, затем потер висок, довольно хмыкнул и пробормотал: – Молекулярный сканер-копировщик! Дьявольщина! Он в самом деле существует! Это устройство в Федерации считали гипотетическим, так как ни один земной специалист его не видел. Описание Лемини, составленное по устным сообщениям наемников, служивших у лоона эо, не отличалось полнотой, а иногда казалось сомнительным и противоречивым. Копировщик якобы был предназначен для изменения масштаба неорганических структур и работал в двух режимах, преобразуя большие формы в малые и малые в большие. По отрывочным сведениям, он являлся основой технологии лоона эо, так как позволял продуцировать крупные конструкции из небольших объектов и при нужде осуществлять обратную свертку зданий, космических станций, громоздкого оборудования и даже участков местности. Однако, как утверждали источники Лемини, живые существа, включая растительность, не поддавались масштабированию; молекулярная перестройка вела их к гибели. Неверные данные, думал Ивар, оглядывая сад, что простирался во все стороны насколько видел глаз. В реальности он занимал, должно быть, несколько квадратных метров, но все тут было живым, деревья и травы, цветы и кусты, птицы, насекомые и сам Тревельян, превращенный в лифтовой шахте в крохотную мошку, столь малую, что капля воды мнилась ему озерцом, а камешек – утесом. Он усмехнулся и продолжил путь. Он был гостем в чудесной стране эльфов, где любая гора или скала, роща или поле могли поместиться на его ладони. Правда, не сейчас. Попетляв среди деревьев и скал, тропа вывела его к площадке, засыпанной гравием. Ее окружали кусты, похожие на небольшие кипарисы с плотными фиолетовыми кронами, дальше кольцом вздымались заросли голубоватых елей, и оттого площадка напоминала амфитеатр. Посередине, на плоской мраморной плите, Ивар увидел изваяния: четыре нагие фигуры, взявшись за руки, застыли под бессолнечным небом, глядя на крохотный мир, служивший им убежищем. Светлый камень подчеркивал грациозность их тел, изящество поз и прелесть спокойных лиц; они казались более хрупкими, чем люди, и не такими высокими, но в остальном как будто не отличались от землян. Лоона эо, понял Ивар, созерцая фигуры в благоговейной тишине. Их красота завораживала, и он не сразу заметил серва, стоявшего поодаль словно часовой у врат святилища. Поклонившись, Тревельян произнес слова приветствия, выслушал ответ и, поглядывая на статуи, направился к Первому Регистратору. Это создание имитировало своих Хозяев, а не людей Земли: такое же грациозное и хрупкое, как мраморные лоона эо, с нечеловечески огромными глазами, маленьким ртом и шапкой золотых волос. С его плеч спадала мантия, руки с узкими кистями покоились перед грудью, и вид их зачаровал Тревельяна: все остальные сервы были пятипалыми, но этот не скрывал своей инопланетной природы. – Статуи, – промолвил Ивар, – статуи… Они прекрасны! Первый склонил голову. – Да. Символ того, что мы здесь были, и мы здесь есть. – Но почему вы их прячете? Такая красота достойна, чтобы… Его прервали плавным движением рук. – Символы бывают явными и тайными. Не нужно торопиться, Ивар Тревельян. Скрытое сейчас станет со временем очевидным. Над изваяниями закружилась стайка птиц, таких крохотных, что в человеческих ладонях поместился бы целый десяток. Казалось, что они хотят приземлиться на каменные плечи и головы, но что-то их оттолкнуло; птицы умчались с негодующим щебетом. – Ты задавал вопросы одному из нас, – сказал Первый Регистратор. – Ты спрашивал о том, что у других не вызывало интереса. Или, возможно, они хотели бы узнать, но смущение и боязнь их остановили – ведь ответы не всегда приятны. Ты все еще желаешь с ними ознакомиться? Тревельян покраснел. – Конечно. Наверное, я слишком безрассуден. – Сделав паузу, он спросил: – Это плохо или хорошо? – В мире есть много такого, что не подпадает под вашу бинарную систематику. Оно просто есть. И есть другие феномены – то, что кажется сейчас плохим и даже страшным, но в перспективе такая оценка неверна. Следует судить по результату. – Ты говоришь о Запретных Товарах? – Да. Ты спрашивал, зачем они лоона эо? И раз ты желаешь это знать, я отвечу: лоона эо они не нужны. Вы считаете их игрушками? Пусть так! Но это игрушки для вас. – В чем же их смысл? – В изменении. Конечно, перемены любят не все, и когда-то они тоже боялись… – Первый поглядел на статуи. – Но они преодолели страх. Теперь ваша очередь. Странный серв, мелькнуло у Тревельяна в голове. От него веяло силой и властностью, несовместимыми со статусом слуги – тем более, искусственного существа. Он вел себя не так, как остальные биороботы, и не так говорил; лоона эо были для него «они», хотя другие называли их Хозяевами. – Наша очередь… – медленно протянул Ивар, чувствуя, как холодеет спина. – Очередь изменяться? Как? И зачем? Я не понимаю! – Разве это такая уж сложная мысль, Ивар Тревельян? Малые и несмышленые в детстве, вы с возрастом изменяетесь, вы учите своих потомков, даете им книги и полезные игрушки. Разве сам ты не станешь умнее через год, или два, или через десять лет? Станешь, непременно станешь! Все, что растет, с неизбежностью меняется… Меняются люди, меняются их жизнь и культура, их цивилизация. Вы строили храмы из камня и дерева и плавили железо… потом пересекли океан, нашли и заселили новые континенты… потом отправились в космос, встретились с другими расами… Со временем вы забыли про голод и болезни, вражду и тяжкий труд… Разве это не перемены? И разве вы теперь не спрашиваете, куда двигаться дальше? То ли в Рукав Персея и в центр Галактики, то ли в глубины собственного разума? – Ты хочешь сказать… – начал Тревельян и прикусил язык. Истина открылась ему словно проблеск огня во тьме; внезапно он понял, что связь людей друг с другом, то, что объединяет их и цементирует род человеческий – язык и телесное сходство, общая родина, память о прошлом и тысяча других вещей, – все это может сделаться глубже, крепче и надежнее. Если бы люди умели передавать эмоции и мысли без всяких технических средств, делиться ими, ничего не скрывая, не обманывая, не страшась непонимания… если бы этот драгоценный дар был не только у землян, но у всех народов, обитающих в Галактике… если бы они могли общаться так, как это делают лоона эо, без слов, без примитивных сотрясений воздуха… и если бы кто-то, желая подтолкнуть развитие ментального искусства, дал им… Что? Набор игрушек? Пособие по телепатии? Самоучитель мысленной связи? Тренировочные снаряды, подумал Ивар. Небезопасные, как всякий предмет, связанный с экстремальным усилием… Взять хотя бы кольца или брусья – на них гимнаст покажет чудеса, а человек неподготовленный сломает шею. Возможно, ушибется или вывихнет сустав, а вот прыжки с трамплина – вещь посерьезнее. Однако прыгают… и каждый когда-нибудь прыгает в первый раз. Тут Ивар обнаружил, что Первый следит за ним с улыбкой. – Тренировочные снаряды, – произнес серв, хотя вслух эти слова сказаны не были. – Мне нравится. Очень точная аналогия. – Выходит, мы должны сделаться такими же? – пробормотал Тревельян, поворачиваясь к каменным фигурам. – Но этого не может быть! Люди не похожи на лоона эо! Их общество и культура древнее наших на порядок или на два, у них другая физиология, другое устройство мозга… Я знаю, я читал! Они ведь даже не гуманоиды! У нас два пола, а у них – четыре, и размножаются они иначе, при помощи ментальной конъюгации! – Такими же вы не станете, Ивар Тревельян, ибо у каждой расы свой путь, своя судьба. Что же до различий и этой ментальной конъюгации… – Первый с иронией фыркнул. – Не так уж они велики, эти различия. Конечно, у лоона эо ментальный способ зачатия, а у вас… гмм… несколько более примитивный, но все же, все же… – Да? – Ивар навострил уши. – Все же был случай, когда человек, земной мужчина, и женщина лоона эо породили дитя. Ты слышал о Сергее Вальдесе? – Адмирале Вальдесе? – Брови Тревельяна приподнялись в изумлении. – Разумеется, слышал! Он сражался с дроми… Но это было так давно! Шесть или семь столетий назад! – Давно для вас, но не для нас, – заметил серв. – Лоона эо, сын Вальдеса, еще жив. – Прости, но этого не может быть! Конечно, лоона эо очень долговечны, но человек Земли не может… – Может, Ивар Тревельян. Перед войной с дроми Вальдес служил в Защитниках лоона эо и полюбил их женщину. Вы бы сказали, что это очень романтическая история… [68] – Первый Регистратор усмехнулся. – Она была изгоем, ее заставили покинуть астроид, так как… Впрочем, это не важно. Женщина по имени Занту была изгнанницей и очень одиноким существом. Телепат, вне общества себе подобных, обречен на муки, на страдания, которые я не сумею тебе описать… он видит, слышит, говорит, но остальные, все, кто рядом с ним, слепы, глухи и немы… Теперь о Вальдесе. Его послали Защитником на торговое судно Занту, и там они повстречались. Вальдес обладал ментальным даром, врожденной способностью, что проявляется у вашей расы очень редко. В своем роде он тоже был изгоем. – Серв смолк, потом добавил: – Можешь представить дальнейшее. Тревельян внимал Регистратору с раскрытым ртом. Возможно, будь он старше и опытнее, эта история показалась бы ему чем-то вроде сказки о Лейли и Меджнуне, но ученый скепсис еще не успел отравить его юную душу до самых корней. В восемнадцать лет он еще верил в реальность легенд, пусть не умом, но чувством, пусть не всегда, но временами, и эта святая вера, еще не растоптанная ксенологией и прочими науками, шептала, что все услышанное – правда. Поразительная, невероятная, но правда! И, словно желая окончательно его добить, Первый Регистратор вымолвил: – Когда началась война, Вальдес оставил службу у лоона эо и вернулся в космофлот. Он был уже женатым человеком – кажется, так у вас говорят?.. – и его семья обосновалась на Тхаре. Земная женщина стала матерью его детей, подарила ему дочь и сына, а у них были свои дочери и сыновья. Ты, Ивар Тревельян, их потомок. – Не может быть! Я веду свой род от Тревельяна-Красногорцева, командора Звездного флота! – Снова – не может быть… – тихо повторил серв. – Ты говоришь это не первый раз, и я снова отвечу: может! В тебе и в любом из вас, живущих ныне, сокрыта память о многих людях. Бывает так, что она просыпается, но вы не в силах понять значение и смысл этих снов, вы даже не знаете, откуда они к вам приходят. Возможно, память прошлого проснется и в тебе… или не проснется никогда… Но знай: капля крови Сергея Вальдеса – в твоих жилах. Поэтому ты здесь. – Чтобы услышать о нем, о Запретных Товарах и будущем, уготованном человечеству? – хмурясь, спросил Тревельян. – Но все это, должно быть, тайны и секреты, секреты и тайны… Что случится, если я расскажу о них? – Расскажешь, но не сейчас. Скоро, совсем скоро ты позабудешь о нашей встрече и вспомнишь о ней в зрелости, в годы, когда к человеку приходят опыт и мудрость. Тогда тебе будет ясно, кому рассказать, что рассказать и о чем умолчать. – Ты уверен, что все именно так и случится? – Да, Ивар Тревельян. Испытано на многих. – Выходит, я не единственный… – Ивар запнулся, – не единственный избранник? – Думать так было бы наивно. Великие результаты достигаются медленными и терпеливыми усилиями многих людей. Медленными и терпеливыми, Ивар Тревельян! – Серв отступил к цоколю в середине площадки и прикоснулся к сплетенным рукам двух статуй. Казалось, что его кисть тоже высечена из светлого мрамора. – Прощай! И пусть твоя жизнь длится, пока не исчезнут пятна на лунах Куллата. Это была ритуальная фраза прощания, означавшая вечность. Молча поклонившись, Тревельян шагнул к тропинке, ведущей к гравилифту, но вдруг обернулся и бросил последний взгляд на каменные фигуры и застывшего рядом Регистратора. Потом спросил: – Кто ты? Ты не похож на серва. – Не похож, – услышал Ивар. Но вопрос остался без ответа. – Для чего ты существуешь? В чем твоя цель? – В служении. – В служении лоона эо, твоим Хозяевам? Первый Регистратор улыбнулся, взглянул на мраморные изваяния, затем на Тревельяна и сказал: – Просто в служении. У меня нет Хозяев.Глава 16. Оазис и подземелье
Когда Тревельян проснулся, солнце стояло на ладонь ниже зенита, а впереди, за серыми песками пустыни, виднелось нечто зеленое, клубившееся над горизонтом подобно низким изумрудным облакам. Сержант, Затвор и Приклад бодро топали в южном направлении, из-под огромных ходуль разлетался песок, и зелень становилась все ближе и ближе. – Приближаемся к оазису, – сказал командор и, помолчав, добавил: – Пока я сижу в нашей железяке, ментальный нюх у меня слабоват. Однако полагаю, что в твоей голове снова шарили. Этот Фардант совсем обнаглел! Я бы его… – Нет, – произнес Тревельян, – нет. Никаких угроз и никаких претензий, а только самая искренняя благодарность. Он зондировал мозговую кору слабыми импульсами, как бы раздражая иглой нейронные цепочки, и это привело к снятию блокады. В общем, дед, мне кое-что припомнилось. Можно сказать, я получил доступ к очень ценной информации. – Вот как? Почему же сейчас, а не прежде? Он ведь тебя не впервые зондирует. – Прежде я об этих материях не размышлял, не пытался оживить воспоминания. А тут одно сошлось с другим – мои попытки и ментальная игла Фарданта. – Тревельян полез в контейнер и убедился, что тот наполовину пуст. Правда, запас воды был еще приличный. – Скажи-ка, дед… – Вытащив пищевую пластинку, он впился в нее зубами. – Жил в твои времена славный воин, адмирал Сергей Вальдес… Мы с ним случайно не в родстве? – В родстве, – подтвердил командор. – Ты чем слушаешь, парень? Я стараюсь, рассказываю о своих потомках, твоих предках, а у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает! – Не вылетает. – Ивар покончил с сухим пайком и глотнул воды. – Просто я запутался в твоих супругах и возлюбленных. Вроде бы я от старшего сына происхожу, от Павла Тревельяна-Красногорцева? А Вальдесы тут при чем? – При том, что матерью Павла и первой моей женой была Ксения, дочь адмирала Вальдеса. Мы с ней встретились на Тхаре в 2310 году, когда отбили планету у дроми. Я был молод, а она – еще моложе… Очаровательная девушка, но очень тощая. Видишь ли, колонисты вели партизанскую войну, прятались на плоскогорьях и с питанием у них было плоховато – ящериц ели и этих… как их… каменных дьяволов. Так что представь: десантируюсь я на Тхар с командой УБРов, посылаю их в атаку, и вдруг… Чувствуя, что командор сейчас ударится в воспоминания, Тревельян хлопнул по подлокотнику и сказал: – Извини, дед. Я, собственно, хотел убедиться, что мы Вальдесам не чужие. Если так, то и другое, что мне во сне привиделось, имеет отношение к реальности. – Значит, сон в руку. Ну и что он тебе напомнил? Ивар начал рассказ о Куполе лоона эо и Первом Регистраторе, а триподы тем временем, оставив позади пески, вступили в холмистую местность. Склоны холмов и извилистые лощины между ними покрывала уже знакомая растительность: кусты, похожие на папоротник, деревья с листьями-лентами и метельчатые травы. Было что-то еще, переплетенное с кустарником так плотно, что форму листьев и стволов не разглядишь, и были камни, заросшие мхами, неглубокие ручьи, скрытые зеленью развалины и живые твари, разбегавшиеся в панике из-под лап триподов. Огромные башни плыли над лесом, мерно двигались конечности, с хрустом ломая ветви и стволы, втаптывая кроны в почву, и следом за тремя гигантами тянулась широкая просека. Когда Тревельян закончил свою историю, они удалились от края оазиса километров на тридцать. – Ты вспомнил, – произнес Советник, и это было не вопросом, а утверждением. – Тот странный серв сказал: вспомнишь в зрелости, в годы, когда к человеку приходят опыт и мудрость… Они к тебе действительно пришли? – Я надеюсь. Во всяком случае, теперь я знаю, кому об этом рассказать. – Ивар задумчиво уставился на холмы и висевшее над ними солнце – на него можно было смотреть не мигая. – Зеркала, гипноглифы, покрывала и остальные дары… Я думаю, только близким можно поведать об их назначении. Я рассказал тебе и расскажу своим детям. – Когда они будут. – Да. Разумеется. Они помолчали. Спустившись с пологого берега, Сержант форсировал узкую мелкую речку, Затвор и Приклад шагали за ним, втаптывая в землю кусты и травы. Взметнулись веера брызг, солнце окрасило капли багрянцем. Вода была на удивление прозрачной, и сквозь нее просвечивали похожие на бурых змей водоросли и крупная серая галька. За рекой лежало бескрайнее поле энергоцветов, расступившихся перед триподами. – Серв, который говорил с тобой, этот Первый Регистратор… Кто он, как ты думаешь? – раздался голос командора. – Понятия не имею. Одно могу сказать: на серва он не похож. С вершины нынешних знаний и опыта это было для Ивара очевидным. Возможно, с течением лет он так и не разжился мудростью, но накопил изрядный опыт; ксенолог Тревельян, один из лучших сотрудников Фонда, оценивал события шире и глубже, чем юный курсант. – Ходят слухи… – осторожно начал командор и тут же поправился: – Ходили слухи в мое время, будто за нами и другими расами кто-то следит, метаморфы приглядывают или иные твари. Есть такая информация в архивах космофлота, и высших офицеров с ней знакомили – затем, чтобы какой-нибудь придурок-капитан не пальнул туда, куда палить не след… Будто обличье у этих наблюдателей любое, и сидят они в Земной Федерации, и на планетах кни’лина, и в мирах дроми и хапторов – словом, повсюду, где имеется активность в космическом масштабе. Но они не метаморфы. Мы называли их Владыками Пустоты. – Это фольклор, дед, чистый фольклор, – сказал Тревельян. – Не будем измышлять гипотез, а примем к сведению твердые факты. История с Запретными Товарами сейчас нам не важна – тем более, что я ее услышал, но подтверждений никаких не получил. Может, Первый посмеялся над любопытным курсантом… А вот изваяния! Их я видел собственными глазами, и были они точно такие, как в разрушенном городе. – И что отсюда следует? – Тот странный серв сказал: статуи – символ того, что мы здесь были, и мы здесь есть. Значит, и здесь они были. – Кто? – Лоона эо, разумеется! Статуи – знак, который подтверждает их присутствие на Хтоне. Это был их мир, одна из заселенных в древности планет! Я признаю, что есть необъяснимые вещи – архитектура города и эта ужасная катастрофа, вырождение, деградация, и то, что лоона эо забыли о своей колонии… Может, мы ошиблись с датировкой? Если городским руинам не девять тысяч лет, а, скажем, пятьдесят, тогда… – Не о том ты думаешь, парень, – прервал его Советник. – Готов согласиться, что здесь их древняя колония, но это научный факт, а нам интересны другие вопросы, практические! Как столковаться с Фардантом? Если столкуешься, он тебе все объяснит, а заодно и наше корыто починит. Вот об этом ты и поразмысли. Дед был абсолютно прав. Как говорилось в Книге пророка Йездана, если нужно точить клинок, не время выбирать узоры на погребальном кувшине. Молча согласившись с этим, Тревельян решил, что с Фардантом он как-нибудь столкуется. Ситуация на Хтоне была неустойчивой – похоже, каждый властелин мечтал о всепланетной гегемонии, однако боялся, что в случае свары с одним соперником другие ударят в спину. Пришелец из Великой Пустоты мог изменить положение дел, поскольку в памяти трафора хранились данные о сокрушительном оружии, аннигиляторах, кибервирусах, деструкторах и боевых роботах. Но делиться этой опасной информацией Ивар не мог даже ради спасения жизни. Чем еще соблазнить Фарданта? Или напугать? Или предложить в обмен? Он раздумывал над этим ближайший час, пока триподы пробирались через поле и ровную местность, покрытую лесом. Похоже, растительность была возобновленной после катастрофы, что говорило в пользу Фарданта: то ли он вырастил лес из эстетических соображений, то ли нуждался в клетчатке и растительных белках. Под весом триподов почва проминалась, и, приблизив изображение ям, Ивар заметил, что в них копошатся насекомые, такие же, как сожравшие Пулю. Но эти вели себя благопристойно, в бой не кидались, не грызли пришельцев, а мирно закусывали листьями и травами. Вероятно, монстры, обитавшие в пустыне, были их одичавшими сородичами, и значит, эволюция на Хтоне продолжалась. Но был ли этот процесс естественным? Или Фардант множил и множил силикатных тварей вроде трехглазых кроликов? Надо бы притормозить и сделать анализы, подумал Тревельян, но тут раздался отчаянный писк трафора. Слов он не разобрал, однако чуть не вылетел из кресла – Сержант вдруг замер, и вслед за ним остановились Приклад и Затвор. – Препятствие, – сообщил командор. – Какое? Впереди расстилалась бескрайняя равнина, поросшая травой, гладкая, как стол, и будто бы не таившая никакой опасности. Солнце повисло на полпути к горизонту, но долгий день Хтона еще не кончался – до наступления сумерек было семь или восемь часов. Травы стояли неподвижно и с высоты казались зеленоватым ковром, расстеленным по тщательно выровненной поверхности. Зелень, однако, выглядела не так, как на Земле, Гондване или любой из терраформированных планет – изумрудные оттенки перемежались с серыми и фиолетовыми, образуя причудливый узор. – Согласно данным локатора, перед нами полость, – произнес Советник. – Прямо под этой травкой. – Обогнем ее, дед. – Это вряд ли, парень. Она протянулась в обе стороны на много километров, а глубина… – Командор чертыхнулся. – В общем, дырка дьявольски глубокая. Несомненно, один из объектов, которые мы наблюдали с орбиты. – Думаешь, приехали? – Подождем, увидим. Затвор и Приклад поспешно отступили, заняв позиции на флангах и прикрывая тыл перекрестным огнем. Их щупальца пришли в движение, стволы метателей под колпаками зашевелились; одни теперь глядели в небо, другие – на травянистое поле, лес и просеку, пересекавшую его будто разверстая рана. Понаблюдав с нарастающим беспокойством за этими приготовлениями, Ивар промолвил: – Ты вот что, дед… ты отмени боевую тревогу. Я понимаю, тебе хочется подраться, но мы тут не за этим. Сам сказал, нужно потолковать. – Толковать лучше под прикрытием орудий, – буркнул командор, однако втянул стволы и захлопнул амбразуры. Земля ощутимо дрогнула и раздалась под напором неведомой силы. Среди зеленых трав темнела трещина; ее края расходились все дальше и дальше, словно чьи-то незримые руки скатывали часть ковра. В сумрачной глубине открывшейся пропасти посверкивали огоньки, маячили контуры циклопических машин, мерцала голубоватая мгла, двигались тени, то угловатые, огромные, то небольшие, пересекавшие пространство во всех направлениях. Эта картина потрясала! Тревельян ждал, затаив дыхание и глядя, как одна из теней неспешно всплывает вверх, превращаясь в уже знакомую корзинку, сплетенную из проволоки. Летательный аппарат приподнялся над бездной, скользнул к треножнику Сержанта и завис у его гигантской ступни. Слабое сияние, окружавшее машину, померкло, звенья каркаса раздвинулись, и на траву сошел Контактер. – А вот и наш чемодан с ногами! – с искренней радостью воскликнул Советник. – Жив, курилка! Пожалуй, я дам салют в его честь! Стволы Сержанта задвигались, и Тревельян торопливо сказал: – Отставить! Давай-ка, дед, ставь мокрецов на консервацию и полезай обратно в обруч. Тут у нас, похоже, пересадка. – Сначала тебя надо высадить. – Тон у командора был недовольный; видно, в обруч ему не хотелось. – О багаже не беспокойся, подберем. Иллюзия внешнего мира погасла, и на миг Ивар очутился в полной темноте. Потом переборка раздвинулась, в камеру хлынул свет, а с ним возникло щупальце, аккуратно прихватило Тревельяна поперек груди и повлекло наружу. Он опустился в трех шагах от Контактера. Следом за ним выпорхнул трафор, тащивший груз; над его платформой покачивался нитевидный отросток с искоркой маленького кристалла. Спрятав его в обруч и проверив, что ментальная связь восстановилась, Ивар повернулся к посланнику Фарданта. – Приятно видеть тебя снова, Контактер, – произнес он на альфа-хапторе. Фактически этот робот являлся тем же самым, которого он встретил у северных гор. В отличие от людей мыслящие машины более идентичны; объем информации, определяющий их память, может быть передан на расстоянии и вложен в чистый искусственный мозг. Тревельян не сомневался, что личность прежнего Контактера сохранилась в новом его издании – вероятно, лишь за исключением тех минут, когда сокрушители Побега прервали его связь с Фардантом. Он ошибся. Голос, ответивший ему, был тем же самым, негромким и шелестящим, но речь звучала по-иному, властно и уверенно. Ивар заметил, что промежутки между словами стали короче, сами слова произносились быстрей и, кроме того, исчезли паузы; существо, говорившее с ним, владело альфа-хаптором в совершенстве и не нуждалось в инструкциях со стороны. – Утверждение: здесь не Контактер. В данный момент – не частично автономное устройство. В языке Пришедшего из Пустоты есть нужное понятие – терминал связи. Я, Фардант Седьмой, использую отпрыска, чтобы общаться с Пришедшим. Это мой терминал. – Понятно, – молвил Тревельян, преодолев секундное ошеломление. Робот переступил ногами-ходулями, корпус его покачнулся. Казалось, он разглядывает огромных триподов, застывших у края пропасти. – Здесь сокрушители Матаймы. Вопрос: они подчиняются тебе? Вопрос: как ты этого добился? – Примитивные машины. Было нетрудно взять их разум под контроль. – Вопрос: как ты это сделал? – Объясню позже, владыка Фардант. Сейчас я хочу спросить… Раздался резкий шипящий звук, похожий на приглушенный вопль сирены с низкочастотной составляющей. У Ивара заныли зубы. Потом он услышал: – Время твоих вопросов не пришло. Я буду спрашивать, ты – отвечать. – Возражаю! Мы оба будем спрашивать, и оба отвечать. Мы – равновеликие стороны. – Вопрос: Пришедший в этом уверен? – Да. Ты властвуешь над частью этого мира, я представляю могучую цивилизацию. – Мое могущество реально. Твой статус ничем не подтвержден. Твоя летательная машина не функционирует. Ты не можешь покинуть планету. «Сообразительный поганец, – заметил командор. – Похоже, желает нас схарчить». Речь Фарданта продолжалась: – Твой корабль – на границах этой звездной системы. Помощь не пришла. Первый вывод: ты не имеешь связи с кораблем. Второй вывод: на корабле нет живых существ, обеспокоенных твоей безопасностью. Термин языка, описывающий корабль: автоматический зонд. Третий вывод: ты в моей власти. Альфа-хаптор не допускал намеков, разночтений и словесных игр. Ситуация была понятной: Тревельяну угрожали. Или, как минимум, ставили на место. – Выводы неверны, – промолвил он, глядя, как по корпусу робота скользят световые пятна датчиков, воспринимавших изображения и звуки. – Первое: я могу связаться с кораблем, но в этом нет пока необходимости. Второе: корабль автоматический, но обладает интеллектом. В отличие от твоих слуг, это полностью автономное устройство. Корабль может послать сюда летательные машины без моих приказов. Третье: я мог бы отправиться к Матайме или Гнилому Побегу, но я пришел к тебе. Таков мой выбор. – Вопрос: почему? – Потому, что твой посланец сказал нужные слова. – Перейдя на язык кьоллов, Ивар прохрипел: – Владыка дарит почет, пищу и воду… Владыка шлет благословения… – Он вернулся к альфа-хаптору. – Еще одно обстоятельство, которое нужно учесть. Эта звездная система движется к границе Провала, к нашему сектору влияния и оживленным космическим трассам. Ее уже посетили два корабля, и вероятность дальнейших контактов неизбежна. Лучше, если мы будем союзниками, а не врагами. Тех, кто проявит враждебность, мы покараем, а обещавший мне почет станет повелителем планеты. – Нуждается в подтверждении, – произнес Фардант и смолк. Очевидно, сейчас он взвешивал pro и contra или, как говорилось в Книге Йездана, размышлял о том, что к большой дороге ведет множество тропинок, и все они извилисты. Пропасть позади него скрылась под облаком голубоватого тумана, и Ивар больше не мог разглядеть огней и контуров гигантских механизмов. – Вид и способ подтверждения мы можем обсудить, – сказал он. – Но для этого нужна информация о природе владыки и его целях. Необходим взаимный обмен данными. Что ты мне ответишь? – Ответа пока не имеется. Мои вспомогательные модули анализируют такую возможность, но к однозначному решению еще не пришли. – От корпуса робота отстыковался невидимый прежде манипулятор и лег на запястье Тревельяна. – Вопрос: это твой внешний телесный покров? То, что называется кожей? – Нет. Это защитная оболочка. – Перехватив цепкое щупальце обеими руками, Ивар скрутил его в узел. – Есть еще вопросы? – Ответ положительный. Вопрос: проясни свою сущность? Она состоит из трех компонентов? Два из них – твои отпрыски? «Это он про тебя, меня и нашу железяку, – буркнул командор. – Ну, представь нас, парень. Заодно поясни, кто тут отпрыск, а кто предок». Но вдаваться в проблему их родства Ивар не собирался. – Все три сущности – независимы и наделены самосознанием, – пояснил он. – Я – живое существо, и со мной еще один разум, обитавший когда-то в смертной плоти. Чтобы сохранить его опыт и знания, его ментальную матрицу перенесли в кристалл, и теперь он мой помощник и советник. Третье создание – искусственный интеллект, подобный твоим отпрыскам-слугам. – Структура аналогична моей, но более проста, – произнес Фардант. – Я обладаю мозгом из живых клеток и дополнительными модулями, такими же, как твой советник. Еще имеется периферия – рабочие и боевые побеги. Разница в том, что все они – часть моей сущности. Но на планете есть другие независимые разумы. Слишком много для этого мира. – Думаю, ты прав. Гнилой Побег тут явно лишний, – отозвался Ивар и, помолчав, продолжил: – Мы обменялись информацией, владыка Фардант. Значит ли это, что ты пришел к какому-то решению? – Некогда этот мир был населен существами, подобными Пришедшему из Пустоты. Два фактора определяли их решения: что давалось и что требовалось взамен. Вопрос: чего ты требуешь? Прекрасный язык этот альфа-хаптор, мелькнуло у Тревельяна в голове. Впрочем, альфа-версии других языков были не хуже – все они отлично подходили для торговли. – Я назначу небольшую цену, владыка Фардант. Я должен узнать о катастрофе и Великом Враге – что здесь случилось, когда и по какой причине. Это обязательное условие – Враг, уничтоживший твой народ, может грозить моему. Я не откажусь взглянуть на твою обитель и твоих отпрысков, если захочешь их показать по своему желанию и доброй воле. Я расспрошу тебя о древнем городе, в котором прятался от сокрушителей Побега… Это все. – Вопрос: тебе нужна только информация? – Информация – главная ценность. Но если хочешь оказать мне мелкую услугу, пошли рабочих отпрысков к северным горам. Моя машина для полетов в пустоте повреждена Тер Абантой Кророй. Пусть отпрыски займутся ее восстановлением. Этот искусственный разум, – Ивар хлопнул по платформе трафора, – объяснит, что нужно сделать. Фардант молчал, но движение световых пятен ускорилось, и от туловища робота стали один за другим ответвляться гибкие стержни манипуляторов. «Хватай бластер! – рявкнул под черепом командор. – Он готовится к атаке!» Но Тревельян не шевельнулся. – Было сказано, что у тебя есть связь с кораблем. Было сказано, что корабль может прислать летательные машины, – раздался шелестящий голос Фарданта. – Вопрос: зачем восстанавливать поврежденный аппарат? – Мне обещан почет, и это будет его знаком, – объяснил Тревельян. – Разбитое по злому умыслу необходимо починить. И быстро! В конце концов, Фардант Седьмой – не Тер Абанта Крора. Чем-то вы должны отличаться! Световые пятна замерли, образовав узор в виде ромба. – Я дам информацию и пошлю работников и стражей к твоей машине. Но ты к ней не вернешься. Не в данный момент времени. Ты выполнишь то, что обещал. Ивар поднял взгляд к небу. Там висело тусклое солнце и плыли на запад облака. – Я уже что-то обещал? – Было сказано: на планете есть другие независимые разумы, и их слишком много для этого мира. Ты с этим согласился. – Разумеется, владыка Фардант. Ты получишь компенсацию. Это непременное условие добрых отношений. Итак, чем мы займемся сейчас? Ромб из световых пятен распался. Они снова блуждали по корпусу робота. – Иди в воздушную машину. Ты спустишься вниз и будешь говорить со мной. Твой отпрыск пусть останется здесь.* * *
Летательный аппарат пронизал голубоватое облако. Свет его был неярок, но Тревельяну показалось, что он находится в огромной шахте или колодце, чьи стены усеивали отверстия пещер. Одни из них были темными, в других мелькали огоньки и маячили гротескные фигуры, то безголовые, то с множеством конечностей, то с телами, подобными туловищам змей или драконов в блестящей чешуе. Они двигались неторопливо и плавно среди огромных машин, временами исчезая в бездонном чреве того или иного агрегата и появляясь вновь, но будто бы в ином обличье – возможно, их перестраивали или полностью разбирали, чтобы сложить из частей другие механизмы. Ивар решил, что видит работников, но кроме них попадались боевые роботы-стражи, уже знакомые, напоминавшие жуков, и более крупные, хотя не такие гиганты, как сокрушители Матаймы. Их можно было узнать по стволам метателей, торчавшим из раскрытых амбразур, мощным жвалам, резакам и хищной стремительности, с которой они скользили по отвесным стенам шахты. Раз или два встретилось нечто похожее на черную реку – этот поток с неестественной медлительностью стекал из темного отверстия, исчезая в подставленной снизу воронке чудовищной величины. Какая-то вязкая жидкость?.. – подумал Тревельян. Однако то был не расплав смолы или чего-то подобного, а мириады мелких тварей, таких же, как съевшие Пулю насекомые-ассенизаторы, добытчики сырья на истощенной древней планете. Машина летела вниз по широкой спирали, и взгляду открывались все новые ходы и полости, галереи и карнизы, усеянные работниками и солдатами Фарданта. Гигантский муравейник в планетной коре, изрытой за многие тысячелетия; место, совсем не похожее на древний город и на любую обитель разума, какие попадались Тревельяну во время путешествий среди звезд. Эта клоака, полная имитирующих жизнь монстров, была такой же странной, как корабль сильмарри и даже еще более чужой – все-таки сильмарри являлись не роботами, а живыми существами, пусть необычными, но порождавшими себе подобных и уходившими в вечную тьму, как все другие галактические расы. Здесь, в этом подземелье, ничто не рождалось и не умирало, здесь перерабатывали сырье, штамповали блоки, узлы и детали, собирали и производили. Ивар, как всякий землянин, вырос в окружении машин, привык общаться с ними и воспринимать как часть естественной среды, но мир, где были только машины, одни машины, казался бессмыслицей. Не жизнь, но ее тень, кладбище, где бродят призраки былого… Вспомнив, что трафор со всеми его приборами остался на поверхности, он выдвинул над шлемом камеру и включил запись. Масштабы производства впечатляли, как и мысль о том, что эта шахта наверняка не единственная. Согласно наблюдениям с орбиты, полости под континентами Хтона тянулись на сотни киломеров. – Чем заняты твои слуги? – спросил Тревельян, повернувшись к отпрыску Фарданта. – У каждого своя программа, – прошелестел тот. – Поглотители добывают сырье. Стражи готовы отразить врага. Работники воспроизводят новые формы. Есть побеги, распределяющие энергию, есть те, что наблюдают за внешним миром и поддерживают связь. В твоем языке есть термин, описывающий это состояние: гомеостаз. – Кто управляет им? – Часть сущности, не занятая общением с тобой. Разум, сосредоточенный в модулях, дополняющих центральный мозг. Функции управления распределены между ними. Вдруг пробудился командор и забормотал, перебивая мысли Тревельяна: «Спроси, кто командует стражами. Спроси, спроси, спроси…» «Дед, перестань!» Но тот не унимался. Временами он был на редкость упрям. – Я наблюдал битвы стражей с сокрушителями Побега и Матаймы, – вздохнув, произнес Ивар. – Ты вел эти сражения сам? Или твой модуль? – Вопрос: зачем Пришедшему эта информация? Ивар снова вздохнул. – Битвы были проиграны. Ты неважный полководец, владыка Фардант. Они достигли дна колодца. Машина перешла в горизонтальный полет и двигалась теперь в пространстве, напоминавшем космос в миг творения: глубокая бархатная тьма, и ни единого лучика света. Возможно, это был тоннель, столь же огромный, как шахта, но оценить его размеры Тревельян не мог. Они летели рядом с титанической стеной, и ореол силового поля, окружавшего их аппарат, позволял разглядеть то бугристую каменную поверхность, то участок, залитый темным стекловидным веществом. – Имеется модуль, который управляет сокрушителями, – внезапно произнес его спутник. – Стратег, в терминах твоего языка. «Генерал!» – возликовал Советник, и Тревельян, удивленный, поинтересовался: «Чему ты радуешься, дед?» «Открылась генеральская вакансия, малыш. Я ведь до генерала не дослужился… А тут есть шансы!» Шелестящий голос снова нарушил тишину. – Ты сказал: битвы были проиграны. Возможно, Стратег неэффективен. Он не смог бы взять под контроль сокрушителей Побега и Матаймы. Возможно, он нуждается в замене. – Пауза. Потом: – Возможно, эта сущность, Фардант Седьмой, тоже должна быть модифицирована. Возможно, настало время Фарданта Восьмого. – Попробуем обойтись без этих радикальных перемен. Возможно, Фардант Седьмой неважный полководец, но мудрый политик, и мы с ним придем к консенсусу, – сказал Ивар. – Теперь вопрос: куда мы направляемся? – В место, где есть необходимые тебе условия. Пища, вода, свет, температурный режим, удаление отходов. – Ты знаешь о таких вещах? – Ответ положительный. Когда-то этот мир населяли существа, подобные Пришедшему из Пустоты. Я знаком с процессами их жизнедеятельности. «Тут он слегка не прав, – заметил командор. – Хотя, если не вдаваться в детали, чем ты не лоона эо? Похож, определенно похож! Две руки, две ноги, а сверху – голова!» Тревельян зевнул. – Кроме пищи и удаления отходов моя жизнедеятельность требует сна. В этот период я не могу активно функционировать. – Вопрос: такой период скоро наступит? – Да. Участки стены, покрытые стекловидной массой, стали прозрачными, затем в их глубине вспыхнул неяркий свет, и Тревельяну явились пещеры, заполненные механизмами. Воздушный и наземный транспорт, рабочие и боевые отпрыски, метатели плазмы всех форм и размеров и агрегаты, чье назначение он не мог представить и понять. Там сверкали плоские блюдца энергоцветов, сложенные штабелями, там свешивались с потолка сталактиты из мелких тварей-поглотителей, блестела броня легионов стражей, и их растопыренные щупальца грозили незримому врагу. Там высились гигантские комбайны для горных разработок, с серпообразными жвалами для измельчения породы, там змеились кабели, подобные раздувшимся удавам, стояли чаны или саргофаги размером с дом, покрытые узорами инея. То был огромный арсенал, хранилище армий машин и роботов, дремлющих в подземельях и ожидавших приказа владыки. По его велению они, как сказочные джинны, могли разрушать и строить, уничтожать и созидать. «Хвастает, показывает свою силу, – буркнул командор. – Все это древний хлам, малыш, хлам и старье! Плевка аннигилятора не стоит! Хотя, если использовать с толком, Стручки и Матаймы хвост подожмут. А коль не подожмут – отрубим! Я бы за это дело взялся. Солдаты есть, нужен лишь толковый генерал». «Ты это всерьез, дед? – спросил Тревельян. – Мечтаешь о генеральской вакансии?» Ответ пришел без слов. То была сложная и откровенная эмоция, какими командор не часто баловал потомка; Ивар ощутил тоску, яростную жажду деятельности, бессильный гнев существа, лишенного телесного обличья, и что-то еще – скрытое, тайное, неназываемое, понятное не разуму, но сердцу. Жертвенность? Стремление помочь? Отцовскую любовь? То покровительство, которое старший и более опытный дарит младшему? Чувство своей полезности?.. Пока он пытался разобраться, командор заговорил: «Покарать владык, проявивших враждебность… Мы дали это обещание, но как его исполнить? Надеюсь, ты не захочешь вооружить Фарданта чем-нибудь действительно опасным?» «Нет. Разумеется, нет». «Ну и что ты намерен делать? Фардант требует подтверждения, и это его право. Что ты ему предложишь? Что, кроме меня?» «Ты не предмет для торговли, ты мой родич. Почтенный предок». «При чем тут торговля, парень? Долг родичей – помогать друг другу! Вспомни, Серый Трубач перешел горы, и значит, ты должен спешить, должен вернуться на корабль. Ты нуждаешься в помощи Фарданта, а у него свой интерес. – Он испустил ментальный смешок и пробурчал: – Поверь, я не пропаду, оставшись здесь. К тому же, какое-никакое, а развлечение…» Тревельян не отозвался. По прежнему опыту он знал, что деда не переупрямить. Возможно, предложенное им решение – самоелучшее… Возможно! Если у Фарданта нет других интересов, кроме всепланетной гегемонии… если он примет стратега со звезд… и если… Он ощутил чужой ментальный импульс, коснувшийся сознания и отраженный барьером. Это происходило инстинктивно; защитная реакция нетелепата, оберегавшего свой разум от вторжения извне. – Твой язык неудобен для коммуникации, – зашелестел голос Фарданта. – Можно общаться иначе, на уровне сознаний. К этому способны только живые существа. Ты живой, Пришедший из Пустоты. – Живой, – подтвердил Тревельян. – Но я не могу контактировать мысленно без специальных приспособлений. Для моего народа это невозможно. И долго будет невозможным, подумал он. Долго, как бы ни старались лоона эо изменить ситуацию и человеческую природу! Пока что их Запретные Товары убивают или сводят с ума. Всех гуманоидов! Людей, кни’лина, хапторов, терукси… Тот странный серв из сказочного сада говорил: разве вы не спрашиваете, куда двигаться дальше – в центр Галактики или в глубины собственного разума? Жизненно важный вопрос! И когда-нибудь будет получен ответ, но не в ближайших поколениях… Вспомнив про серва, Запретные Товары и Посольский Купол лоона эо, Ивар собрался спросить о статуях, но не успел: снова зазвучала речь Фарданта. – Я касался твоего сознания, Пришедший, – в той фазе, которую ты называешь сном. Я видел живых, но непохожих на тебя существ и наблюдал картины бытия, но большая их часть мне непонятна. Вопрос: в чем смысл этих образов? – Мой народ исследует Галактику. Мы ищем миры, породившие жизнь и разум. – Вопрос: с какой целью? Вы хотите отнять у других разумных их планеты? – В этом нет необходимости. Галактика огромна, и места хватит всем. Мы странствуем среди звезд, движимые любопытством и гордостью. – Последние термины мне непонятны. – Любопытство – стремление познать новое, увидеть невиданное, прикоснуться к тайному. Гордость – чувство удовлетворения достигнутым. То и другое – сильнейшие эмоции, подгоняющие прогресс. Воздушный аппарат сбросил скорость и начал снижаться, плавно скользя вдоль стены с пещерами-хранилищами. По корпусу робота блуждали световые пятна. Возможно, это означало, что Фардант пребывает в задумчивости. Наконец он сказал: – Причины, названные тобой, иррациональны. – Верный вывод. У моей расы сильное иррациональное начало. И вот доказательство: я здесь, хотя должен находиться совсем в другом месте. – Веки Ивара отяжелели. Он бросил взгляд на убегавшую вверх стену и спросил: – Мы скоро будем там, где я смогу отдохнуть? – Ответ положительный. – Фардант помедлил, затем произнес: – Я передам тебе информацию, которую ты желаешь получить. Передам от разума к разуму, без специальных приспособлений. Это возможно в период сна. Вопрос: ты согласен? – Стоит попробовать, – промолвил Тревельян. – Определенно стоит! Мне не хотелось бы терять время зря. – Вопрос: стоит попробовать – это знак согласия? – Да. Машина нырнула в ответвление гигантского тоннеля. Света здесь тоже не было, но ощущение замкнутого пространства сделалось сильнее. Без трафора и его приборов Ивар не представлял, на какой находится глубине. Вероятно, она измерялась километрами. – Где сейчас мой робот? – спросил он. – Летит к северным горам вместе с рабочими побегами, – послышалось в ответ. Плотный сгусток тьмы возник перед машиной, что-то зашуршало, заскрипело, и Тревельян почувствовал, что его тянет в сторону движения – вероятно, аппарат не был оборудован компенсатором инерции. Машина тормозила. Затем мелькнул свет, прутья летающей корзинки раздвинулись, и отпрыск Фарданта спрыгнул на каменный пол. – Мы в нужном месте, Пришедший из Пустоты. Они очутились в цилиндрическом отсеке, похожем на длинную трубу шестиметрового диаметра. Впереди и сзади Ивар увидел переборки с круглыми крышками люков и источники света над ними, то ли шары, то ли пятна на потолке. Если не считать летательной машины, отсек был абсолютно пустым. – Шлюзовая камера? – спросил он, но не дождался ответа. Его проводник резво поскакал к люку, массивная крышка сдвинулась, и в лицо Ивару пахнуло влагой, теплом и специфическими запахами плохо убранного хлева. Перед ним открылся просторный и скудно освещенный зал – свет падал сверху, от центрального пятна, и дальние стены терялись в полумраке. Кроме запахов, пришли звуки; где-то журчала вода, гудел нагнетающий воздух механизм и слышались шарканье и неясное бормотание. Тут и там бесшумными тенями скользили роботы, не похожие на знакомых Тревельяну жуков, работников и прочих слуг Фарданта, но не они приковали его внимание. Он увидел людей. Людей, не лоона эо! Нагих людей, мужчин и женщин.Глава 17. Владыка Фардант
Небо раскололось. Чудовищная трещина рассекла его яркую синеву от северного горизонта до южного, открыв бездонную пропасть, в которой не было звезд. Солнце исчезло, и вместе с ним погасли огоньки заатмосферных станций и портов, скрылись два естественных спутника планеты, белесые призрачные полумесяцы, видимые даже днем. На станциях и спутниках был сосредоточен Флот Вторжения, мириады больших и малых дисков, транспорты с боевой автоматикой, шагающие и летающие сокрушители, заряды ядовитой плесени, комплекс геопланетных катастроф и зеркала, способные испарить океан потоком отраженной энергии. Несокрушимая мощь, плод многовековых усилий! Все провалилось в небытие. Края трещины расширялись и уходили за горизонт, накрывая тьмой планету, отсекая ее от Вселенной, от жизни, света и тепла, от тысяч близких и далеких звезд. Небо сделалось черным гигантским тоннелем, прорезавшим Галактику; то была дорога в никуда, путь наказания, жестокой вечной кары. Планета падала в этот колодец неисчислимые годы, что складывались башнями геологических эпох. Время замерло, тишина сковала мир, ужас перехватывал дыхание. Многие погибли от страха, но в грядущих кровавых веках их участь казалась счастливой. Крылья смерти милостиво прикоснулись к ним, избавив от мук и унижений, от генетического вырождения и потери разума… Да, им в самом деле повезло! Тоннель или колодец, что мнился бесконечным, имел, однако, дно. Падение кончилось, мрак сменился мутной желтизной, небо снова стало небом, но не прозрачным и синим, как прежде, а розовато-серым, будто в луже жидкой грязи растворилась кровь. Солнце потускнело, покраснело, а в ночных небесах пролегла широкая темная лента, потеснившая звезды; лишь по ее краям виднелись жалкие пригоршни огоньков, далеких, как воспоминания о прошлом. Прошлое полнилось величием и горделивыми надеждами, настоящее – мрачной убийственной тоской. Одряхлевшее солнце и одинокий мир перед холодным ликом светила… В какие бездны их забросили? Какую уготовили судьбу? Прозябание, забвение, упадок… Великий Враг не уничтожил их, но заключил в темницу. В узилище, где вместо стен – пустота, а вместо стражей – мрак и холод… Цивилизация рухнула. Люди, однако, выжили – один из десяти, сотни миллионов из миллиардов. Слишком большое число для метрополии, которая существовала за счет других миров, захваченных в минувшие эпохи; без космических станций и флота, без рудников на спутниках и астероидах, без сырья, что доставлялось с планет-колоний, без энергетических зеркал и генераторов Лимба, мир, подвергнутый наказанию, мог прокормить немногих. Борьба была неизбежна. И неизбежен был раскол. Люди из Флота Вторжения первыми признали этот факт – те из них, кто находился на планете в миг катастрофы. Изгнав население с западного континента, они объявили себя Темными Владыками и создали армию машин-убийц, не таких совершенных, как прежде, но все-таки способных уничтожить огромные людские массы. Им помогли эпидемии, голод, энергетический кризис и истощение почв. Через тысячу лет от человечества Хтона остались прах и кости.* * *
Ментальный сеанс завершился, и Тревельян открыл глаза. Он лежал на спине в дальнем углу сумрачного зала и смотрел в потолок, но не видел ни высоких сводов, ни светового пятна; перед ним плыли картины тотальной резни, изувеченные тела, горы скелетов и черепов, монстры, рожденные женщинами – теми, что еще могли рожать. Странствуя среди звезд, он нагляделся всякого, но кровожадные дикари Сайката и людоеды Пекла, не говоря уж о хищных, но неразумных тварях, не внушали ему подобного ужаса и отвращения. Возможно, в войнах, что вели цивилизованные расы, масштаб побоищ был не меньшим, но их скрывала броня кораблей и облако плазмы, что расплывалось после удара аннигиляторов. Там смерть была быстрой, а здесь – долгой и мучительной агонией; там погибали бойцы, а здесь – все, от мала до велика. «Очнись, – раздался ментальный шепот командора, – очнись! Ты ведь такое уже видел! На Пепле, Рухнувшей Надежде, Горькой Ягоде и еще в десятке мест! Чему ты удивляешься?» «Я не удивляюсь, – отозвался Тревельян. – Я горюю». Он сел, вдохнул едкий запах экскрементов и поморщился. Рядом, будто охраняя его, стоял Контактер. – Кто ты сейчас? Частица владыки Фарданта? – Ответ положительный. – В ментальной передаче я видел груды костей, но в городе их нет и нет в пустыне. Где кости? Они сохраняются тысячелетиями! – Ядовитая плесень. Особый вид оружия против живых существ, – пояснил Фардант. – Плесень уничтожила тела и кости, съела растения и животных. Потом умерла. – А те леса, что мне встретились? И твари, обитающие в них? Откуда все это? – Сконструировано заново или восстановлено мной из сохранившегося генофонда. Так же, как существа, что обитают здесь. Это клоны, копии жителей планеты. Но они неразумны. Приподнявшись, Тревельян посмотрел на бродивших в отдалении мужчин и женщин и сказал: – Их надо почаще мыть. – Не надо. Эксперимент был неудачным. Скоро я их уничтожу. Одно из существ приблизилось к ним. Это была девушка, на вид лет восемнадцати-двадцати; насколько Ивар мог разглядеть, от его соплеменниц она отличалась не больше, чем женщины фаата, кни’лина и терукси. Лицо ее казалось бессмысленным, как у младенца, с губ текла слюна, ноги были перепачканы засохшими фекалиями. Судя по коротким светлым волосам на голове и лобке и ногтям, грязным, но еще не очень длинным, ее извлекли из клон-саргофага пару месяцев назад. Тревельян отвел глаза и снова повернулся к отпрыску Фарданта. – Кто был первым из владык? Ты? – Матайма. Нелюдимые, так называлась группа с центрального материка, ушли на северо-восток, где горы, холод и ледяные пустыни были защитой от Темных. Они клонировали мозг из собственных нервных тканей и возложили на него функцию обороны. Эффективное решение. Живой мозг не требуется программировать, только указать цель и источник ресурсов. Отпрыски Матаймы превосходили машины Темных, и те создали Крору. Другие группы населения тоже нуждались в руководстве и защите. Так появились Дазз и я, первый Фардант. – Какую цель определили тебе? – Выживание. Расширение домена. Власть над планетой. Воспроизводство жизни. – И ты создал Побег. Гнилой Побег, который тебя ненавидит. – Это случилось давно и было ошибкой. Кивнув, Ивар вытянул ноги и снова лег на спину. Скафандр принялся массировать его мышцы. Светловолосая девушка не уходила, смотрела на него, раскрыв рот и издавая протяжные звуки: «гыы… гыы-гы-ыии…» По ее ногам стекала струйка мочи. «Похоже, ты ей нравишься», – заметил командор. Тревельян не ответил. Он размышлял над ментопередачей, пытаясь увязать друг с другом ряд поразительных фактов: то, что жители Хтона оказались гуманоидами, а вовсе не лоона эо, и то, что их расу сгубили неведомые враги, и то, что этот акт, бесчеловечный и жестокий, носил характер наказания. Были и другие странности. Если расправа свершилась девять-десять тысяч лет назад, память о таком событии не могла исчезнуть – по галактическим меркам срок был недостаточный, чтобы могилы поросли травой забвения. Пусть не терукси, не кни’лина, но хапторы и дроми знали бы про эту катастрофу и сами устрашились бы Великого Врага! Но такая информация отсутствовала. Может быть, Хтон с его солнцем швырнули в Провал с другого конца Галактики? С такого далекого места, что ни одна из рас, известных землянам, там никогда не бывала?.. Командор снова ожил, подбросив тему для раздумий: «Их солнце… солнце и небо… Солнце было звездой класса G, а теперь это поганый красный карлик. И рефракция [69] изменилась. Голубое небо стало мутно-желтым. – Он смолк, но Тревельян не произнес ни слова, чувствуя, что мысль деда еще не завершилась. – Клянусь Владыкой Пустоты! Можно взорвать звезду, направить поток антиматерии и превратить ее в сверхновую, но состарить на миллионы лет… Я такого оружия не знаю!» Массаж прекратился, и Ивар сел, опираясь спиной о стену. К первой девушке приблизилась еще одна, затем подошел парень с пустыми глазами, такой же грязный и вонючий, как его соплеменницы. Гыгыкая и дружно пуская слюни, троица пялилась на Тревельяна. – Есть вопрос, – промолвил он. – Произошедшее трактуется в ментальной записи как акт возмездия и вечной кары. Возмездия за что? В чем провинились твои предки? – В уничтожении других разумных, – послышалось в ответ. – Ты сказал, что твой народ исследует Галактику, движимый любопытством и гордостью. Повторяю: это иррациональные категории. Естественная причина экспансии – захват. Санация жизненно важных территорий в интересах доминирующей расы. Это делалось в крупных масштабах – сотни звездных систем, сотни населенных миров. Были попытки остановить экспансию, были предупреждения. Но существа, обитавшие здесь, считали, что они сильны. Ты видел их флот. – Видел, – подтвердил Ивар. – Но кто пытался их остановить? Кто их предупреждал? – Тот, кто их уничтожил. Великий Враг. – Другая галактическая раса? – Ответ отрицательный. Не общность существ, а одно существо. Возможно. Точные данные отсутствуют. – Как оно выглядело? – Великий Враг не имеет облика. – Фардант сделал паузу и снова повторил: – Возможно. Тревельян ощутил, как по спине, от поясницы к лопаткам, ползет волна холода. На мгновение мысли его смешались, взор заволокло туманом, и медицинский имплант, решив, что он близок к обмороку, добавил в кровь гормонов. Сказанное Фардантом было невероятно и страшно: этот древний разум утверждал, что во Вселенной – или, по крайней мере, в Галактике – есть Абсолют, необоримая сущность, что взвешивает деяния разумных тварей, карает за грехи и награждает праведных. Награда, вероятно, заключалась в дозволении жить и продлевать свой род, а кара… Кару он уже видел: расколотое небо, трещина от горизонта до горизонта, бездонная пропасть и падение в холод и мрак. «Что, парень, штаны уже мокрые? – рявкнул командор. – Не дрейфь! Броня крепка, и звездолеты наши быстры!» «Не хорохорься, дед. Ты понимаешь, что тут произошло?» «Разумеется. Плохие парни устроили массовый геноцид, не вняли предупреждениям, и кто-то их прихлопнул. Как бог черепаху! Должно быть, постарался сам Владыка Пустоты… Ну и получили по заслугам! Нам-то что переживать?» «Мы тоже воюем, – сказал Тревельян. – Мы дрались с фаата и дроми, с хапторами и кни’лина. Нас тоже могут прихлопнуть, как черепаху». Призрачный Советник хмыкнул. «Мы оборонялись и не воевали с мирным населением. Это во-первых, а во-вторых, не было нам предупреждений. Не было! Мы – хорошие парни! Или ресурс безобразий и мерзостей, отпущенный нам, еще не исчерпан. Или бобик давно сдох. Такое ведь тоже возможно, а?» Что-то мелькнуло перед лицом Тревельяна. Щупальце… Манипулятор с гибкими длинными захватами… Он поднял голову. Отпрыск Фарданта тянулся к нему, световые пятна на корпусе робота блуждали и кружились, словно крохотные кометы. – Ты не реагируешь на мое присутствие, – послышался шелестящий голос. – Вопрос: ты – в состоянии сна? – Нет. Я говорил со своим Советником. – Вопрос: ваши сознания связаны? – В какой-то степени. Он очень опытен, и для меня его помощь неоценима. – Вопрос: я могу с ним общаться? – Только в том случае, если внедрить его ментальную матрицу в твою структуру. Вращение световых пятен прекратилось. Очевидно, это означало, что Фардант задумался. К трем существам, глазевшим на Ивара, добавились другие, и запах фекалий и мочи стал заметнее. В этой небольшой толпе то и дело возникали стычки и раздавался яростный визг. – Мой Советник – великий воин. Это он захватил сокрушителей Матаймы, – сказал Тревельян. – Он бился с врагами на планетах и в космосе вдвое дольше срока моего существования. – Значит, вас ведет не только иррациональное начало, – заметил Фардант, и в его тоне Ивар почувствовал удовлетворение. – У вас есть враги. Вы боретесь с ними. Я хочу о них узнать. – Лучше, если об этом расскажет мой Советник. Я подумаю, как обеспечить между вами связь. В толпе началась потасовка. Это походило на грызню в стае гиен – существа, сбившись кучей и рухнув на пол, беспорядочно размахивали конечностями, царапались, кусались и выли так, что у Тревельяна заложило уши. Он поднялся, шагнул к ним, кто-то вскрикнул, заметив его, и драчуны замерли. Потом они стали расползаться, по-прежнему на четвереньках, не поднимаясь на ноги, выворачивая шеи и испуганно глядя на Ивара. Страх, один из первых младенческих инстинктов, подумалось ему. Страх, голод, обида, боль, злость… Еще любопытство – то иррациональное начало, которого Фардант не понимал. – В древнем городе я видел статуи, четыре фигуры из камня, – не оборачиваясь, произнес он. – Мне показалось, что это обитатели твоей планеты, но теперь я уверен, что ошибся. Они другие… совсем другие… Ты знаешь, откуда эти изваяния? – Ответ отрицательный. Все полезные ресурсы городов давно утилизированы. Мои отпрыски их не посещают. – Принято к сведению, – нахмурившись, пробормотал Тревельян. – Остался только один вопрос: когда случилась катастрофа? Когда Великий Враг наказал твоих предков? Сколько времени прошло с тех пор? – Неизвестно. Я существую более девяти тысяч Больших Оборотов. Предположение: катастрофа случилась раньше. В моей памяти сохранилась галактическая карта той эпохи. – Ты можешь ее показать? Прямо сейчас? Отпрыск не ответил, но от светового пятна на его корпусе вдруг протянулся яркий луч. Одна из девушек – может быть, та, что первой приблизилась к Тревельяну – в ужасе завопила, и остальные подхватили ее крик. Их бормотание и вопли гасли под высоким сводом, стены подземелья таяли и словно раздвигались, тусклый свет сменился непроглядным мраком. Затем во тьме проступили искорки звезд, и Ивар ощутил, как замирает сердце. Эта картина была ему знакома! – Портулан даскинов [70], – вымолвил он. – Жизнью клянусь! Это Портулан даскинов! Гигантская спираль блистала и светилась перед ним: ветвь Стрельца, ближайшая к ядру Галактики, ветвь Ориона, на краю которой затерялось Солнце, и за Провалом, за холодной мрачной бездной в четыре тысячи парсек – самая внешняя ветвь, Рукав Персея. Этот звездный остров был невероятно велик и разнообразен: сто миллиардов светил, облака разреженного газа, темные, лишенные космических тел области, черные дыры и цефеиды, туманности с протозвездным веществом, огромные раскаленные солнца, голубые, белые, желтоватые, извергающие в пустоту океаны энергии, звезды золотистые и оранжевые, порождавшие жизнь на своих планетах, красные и белые карлики, красные и желтые гиганты и чудовища вроде Ригеля и Бетельгейзе, светившие в сотни тысяч раз сильнее, чем земное Солнце. Ивар видел древние шаровые скопления, висевшие выше и ниже галактического диска, гроздья звезд, собравшихся в плотные кластеры, Магеллановы Облака, Гиады, Плеяды и сам сияющий светом центр Галактики. Это было сказочное зрелище! И хорошо знакомое любому жителю Земли и всех ее колоний. «Портулан даскинов, – подтвердил командор. – И это значит…» «…что даскины – их Великий Враг!» Вспомнив, как над Хтоном раскололось небо, как мир провалился в черный тоннель, Тревельян в ужасе вздрогнул. Даскины! Конечно, лишь даскины могли такое сотворить! Даскины, древние повелители Галактики! И кем бы ни были эти таинственные существа, они не сомневались в собственном праве карать и миловать, судить жестоко и быстро. Неприятная мысль! Больше того – страшная! «Не поддавайся эмоциям, – заметил призрачный Советник. – Представь, что они защищали других, и их жестокость – вынужденная мера. Фардант ведь сказал – были предупреждения, были… Так или иначе, все случилось очень давно; теперь даскинов нет и беспокоиться о них не стоит. К тому же они, в определенном смысле, проявили милосердие». «Милосердие? О чем ты говоришь?» «А ты еще не понял? Они зашвырнули эту звездную систему в будущее, за миллионы лет от собственного времени. Вот почему состарилась звезда… Планету, думаю, прикрыли защитным полем в момент переноса – он, вероятно, небезопасен для живых существ. Словом, Хтону дали шанс! Могли ведь отправить в прошлое и погубить наверняка. В ту эпоху, когда Вселенная была пронизана жестким излучением, гибель стала бы неизбежной. – Он помолчал и добавил: – Успокойся, малыш. Не нам судить даскинов». Дед был прав. «Не нам судить даскинов…» – мысленно повторил Тревельян, всматриваясь в сияющую спираль с мириадами звезд и думая о том, что понять и судить можно равных, но не тех, кто повелевает пространством и временем. Или сам является стихийной силой, которая для прочих звездных рас скорее природный феномен, чем акт разумного вмешательства… Галактика начала таять, и сквозь ее призрачную мглу проступили стены, потолок со световым пятном и скорчившиеся человеческие фигурки. Почти машинально Ивар потянулся к шлему, проверил, что камера работает, и все увиденное им записано. Все увиденное и все услышанное, каждая фраза и каждая картина… Некая мысль билась в его сознании. Обратившись к Советнику, он попытался выразить ее в словах: «Если все случилось так, как ты сказал, в этом должен быть какой-то смысл. Что-то еще, кроме шанса на выживание. В Галактике далекого прошлого жизни нет, а в будущем – мы… мы, земляне, а еще кни’лина, дроми, хапторы и остальные… Возможно, виновных отправили к нам, и мы обязаны решить их участь? Уничтожить Хтон или возродить его?» «Возможно, и так, – согласился командор. – Еще один веский довод к необходимости тут задержаться. Не тебе, разумеется, а мне». Голографическая Галактика исчезла. Казалось, отпрыск Фарданта втянул мираж с миллионами солнц, сменив его реальностью. – Вопрос: ты беседуешь со своим Советником? – услышал Тревельян. – Да. Показанное тобой нуждалось в обсуждении. Мы сделали важные выводы. Важные скорее для тебя, чем для меня. – Вопрос: какие? – Об этом ты обязательно узнаешь, но сейчас я хочу осмотреться. Хочу поглядеть на живых отпрысков, которых ты наплодил. Как ты с ними общаешься, владыка Фардант? – Никак, – послышалось в ответ. – У них нет разума. Я уже говорил, что скоро их уничтожу.* * *
Убежище было просторным. Определить его площадь и точные очертания Тревельян не смог – стены плавно изгибались, образуя широкие впадины и гроты, – но, очевидно, периметр подземелья составлял не меньше трех-четырех километров. В одних местах стены расходились, в других пещера суживалась, и там темнели десятки ниш, выстланных мягким пористым пластиком. Ивар решил, что это помещения для сна, но ошибся – сопровождавший его Контактер утверждал, что фаза такой релаксации не свойственна живым побегам. В ниши их помещали после акта творения, когда способность держаться на ногах и двигаться еще не пробудилась. За нишами-колыбелями струился поток шириной в четыре шага и глубиной по колено, предназначенный не для питья, а для купания и других гигиенических целей. Но с гигиеной здесь оказалось напряженно – живые фардантовы отпрыски еще не дозрели до цивилизованных привычек и, справляя нужду, не церемонились. Был, однако, механизм, не позволявший загадить пещеру – по временам в воздухе сгущался туман, и сильные струи воды смывали нечистоты. Обитателям подземелья это не нравилось – попавшие под дождь разбегались с воплями и визгом. Около спальных ниш находилась кормушка, ряд сосков, выступавших на гладкой стене. Из них сочился вязкий сладковатый сироп, который можно было слизывать, и, отведав угощение, Тревельян убедился, что оно утоляет голод и жажду. Его медицинский имплант не возражал против этой пищи, и значит, метаболизм предков Фарданта и клонов, произведенных от них, не слишком отличался от человеческого. Населявшие пещеру существа питаться сами не умели. Ощущение голода вызывало у них беспокойство, они начинали хныкать и повизгивать, и это являлось сигналом для роботов – оголодавшего хватали, тащили к кормушке и тыкали лицом в сироп. Эта процедура тоже сопровождалась воплями и визгом. Ивар насчитал тридцать семь созданий, двадцать пять женщин и двенадцать мужчин, бродивших в подземной полости. По словам Фарданта, они являлись представителями расы, когда-то населявшей Хтон – в том смысле, что были восстановлены из клеточной ткани предков и идентичны им в физиологическом отношении. С психикой дела обстояли иначе. Видимо, Фардант не понимал, что разум не относится к тем функциям организма, которые возникают автоматически, как потребность в пище, движении, дыхании; физическая адекватность была для него признаком адекватности умственной. Чтобы добиться того и другого, он произвел несколько сотен экспериментов, затратив на них восемь тысяч лет; он создавал множество клонов и, убедившись в отсутствии разума, уничтожал их без колебаний. Вероятно, Фарданта Первого, исходный мозг, ориентировали на борьбу и гегемонию над миром, не заложив понятий о воспитании и тех заботах, в каких нуждаются живые существа в пору младенчества и юности. Может быть, таких понятий у предков Фарданта вовсе не имелось – все же их цивилизация не походила на земную. Тревельян пытался найти отличия, всматриваясь в физиономии клонов, отыскивая черты надменности и злобы, генетической связи с погибшим некогда народом. Но лица их оставались бессмысленными, как у фарфоровых кукол, взгляды – пустыми, и с губ срывалось только невнятное бормотание. Однако он помнил, что эти недоумки – наследники жестокой расы, не знавшей жалости, и что список погибших по вине их предков наверняка обширен и кровав. Расправа даскинов тоже казалась безжалостной, но был ли это акт возмездия и справедливой кары? В понятиях людей – возможно, но владыки пространства и времени не подчинялись человеческим императивам. Если не возмездие, то что? – думал Тревельян, разглядывая обитателей пещеры. Внезапно время остановилось и прыгнуло назад, вернув его в Посольский Купол на Луне; он снова увидел серва рядом с мраморными изваяниями, снова услышал его голос: есть то, что кажется сейчас плохим и даже страшным, но в перспективе такая оценка неверна. Следует судить по результату. «Результат еще не очевиден, но это не возмездие, – вдруг произнес командор. – Не возмездие, клянусь Владыкой Пустоты! Просто они решили остановить зарвавшихся придурков». «Не внявших их предупреждениям, – добавил Ивар. – Но знаешь, что меня смущает?»«Да?» «Фардант сказал, что даскины – не раса, не общность существ, а одно существо, не имеющее обличья. Как это понимать? Я, дед, не верю в бога». «Я тоже. Но что мы знаем о даскинах? И что мы знаем о боге?» О боге – ничего, молча согласился Тревельян, ровным счетом ничего. Единственный неоспоримый факт, что его не нашли по ту и по эту стороны Мироздания, ни в хаосе Лимба, ни в реальной Вселенной. Никто не нашел. Ни люди, ни хапторы, ни кни’лина, ни остальные расы. Хотя поручиться за сильмарри нельзя. Он стоял у кормушки, глядя, как роботы с мягкими суставчатыми лапами пытаются пристроить голодного клона к соску. Тот сопротивлялся, заходился криком, а другие существа, восемь девиц и шесть парней, радостно гыкали и пускали слюни – акт кормления их определенно веселил. К стене с сосками они явились вслед за Тревельяном; куда бы он ни двинулся в этой пещере, они ходили стайкой по пятам, словно цыплята за наседкой. Кажется, он тоже стал для них развлечением. Командор сменил тему, оставив домыслы о боге: «Статуи лоона эо в заброшенном городе… Что ты теперь думаешь о них? Как они могли здесь появиться? И зачем? Как символ того, что здесь побывали сервы? Но с какой целью? Для чего им эта дыра?» «Не знаю, дед, не знаю, – отозвался Ивар. – Могу лишь повторить сказанное Первым Регистратором в их Посольском Куполе: символы бывают явными и тайными. Скрытое сейчас станет со временем очевидным». Затем, повернувшись к отпрыску Фарданта, он спросил: – Ты в самом деле собираешься уничтожить эти клоны? Почему? – Они бесполезны, Пришедший из Пустоты. Подготовлен очередной эксперимент. Необходимо жизненное пространство для размещения других разумных. Более перспективной популяции. – Стоит ли затевать новый эксперимент, когда не завершен старый? Какой в этом смысл? Ты получишь таких же лишенных разума существ. – Неправильное заключение. Они будут разумны, так как в эксперимент включен дополнительный фактор. Недостающее звено. Ты! – Дьявол! Только этого не хватало! – пробормотал Тревельян на земной лингве и снова перешел на альфа-хаптор: – И как ты собираешься меня включить? Снимешь копию с моей ментальной матрицы? – Такая технология мне неизвестна, Пришедший. Я буду действовать иначе: возьму образцы твоих тканей и расшифрую молекулярный код. Если удастся совместить жизненную первооснову твоей расы и моих предков, то… – Ты ошибаешься, владыка, сильно ошибаешься, – прервал собеседника Ивар, вытянув руку к кормушке и клону, что с воплями бился в лапах роботов. – Видишь эту безмозглую тварь? Результат будет точно таким же! Здоровая глотка, отличный пищеварительный тракт и примитивные инстинкты, но ни искры разума! Разум нужно программировать, и это занимает годы. Два Больших Оборота, чтобы услышать первые слова… пять или шесть, чтобы речь стала осмысленной… пятнадцать или двадцать, чтобы разум окончательно сформировался… Только тогда ты сможешь говорить с ними как со мной! Через много лет упорного труда! – Время значения не имеет, – произнес Фардант и замолчал. Световые пятна на корпусе его отпрыска вновь образовали ромб; очевидно, он размышлял, взвешивая и оценивая новую идею. Длительность ее реализации явно не волновала Фарданта; масштаб его жизни и отношения со временем были другими, чем у людей. Наконец он прошелестел: – Есть вероятность, что это решение будет эффективным. Мои предки поступали иначе, но их технология утеряна. Я пытался ее восстановить. Результат – Гнилой Побег. Где-то была допущена ошибка. – Световые пятна дрогнули и расползлись. Шелестящий голос сделался настойчивей. – Для программирования разума необходим алгоритм. Ты можешь его сообщить? Передать с помощью ментальной связи или объяснить на своем языке? – Нет. Этот процесс слишком сложен, – сказал Тревельян. – Но я могу тебе помочь. Могу и хочу, понимаешь? – Он сделал паузу, надеясь, что Фардант уловит разницу между возможным и желаемым. – Ты требовал подтверждения, и ты его получишь. Я тороплюсь и должен скоро покинуть твой мир, но я оставлю здесь Советника, великого воина и мудреца. Он знает, как программировать разумных и как их защитить. Никто не причинит вреда тебе и им, ни Матайма и Гнилой Побег, ни Дазз и Крора. Скорее всего, через год-другой ты вычеркнешь их имена из памяти. «Отличная речь! – одобрил командор. – Только запомни, мой мальчик, я не намерен куковать здесь до Страшного Суда. Ты сказал, год-другой? Этого вполне достаточно, чтобы навести порядок. Я буду ждать. Прилетишь и заберешь меня». «Прилечу и заберу, – подтвердил Тревельян. И, помедлив секунду, добавил: – Мне будет тебя не хватать, дед. Особенно на Пекле». В воздухе сгустилась белесая мгла, хлынул дождь, смывая нечистоты в сливные отверстия, открывшиеся в полу. Клоны с визгом разбежались. Капли колотили по шлему и скафандру Ивара, от башмаков с веселым бульканьем текли ручейки. Он запрокинул голову, подставив лицо прохладным струям. Хотелось сбросить надоевший скоб, сорвать одежду и, как в далекой юности, пуститься в пляс под дождем. – Я нашел нужное понятие в твоем языке, – произнес отпрыск Фарданта. – Я благодарен. Ты отдаешь мне самое ценное – часть собственного разума. – Это еще не весь мой дар. То изображение Галактики, которое ты мне показывал… Такой она была очень давно, не тысячи, а миллионы лет назад. Может быть, десятки миллионов… Мы с Советником думаем, что Великий Враг перебросил твою планету в будущее. Мир изменился, владыка Фардант, и это не удивительно – все меняется со временем, что-то возникает, что-то умирает и исчезает… Враг, уничтоживший вас, тоже исчез. – Вопрос, – промолвил Фардант, – вопрос к Пришедшему: значит, мне никто не угрожает? В его голосе Ивару почудилась едва заметная вибрация, словно бы ветер всколыхнул шелестящие травы. Волнение?.. Надежда?.. Чувство облегчения?.. Это не исключалось; видимо, новость поразила Фарданта. – Никто, – ответил он и мысленно добавил: – «Никто, кроме хапторов, кни’лина, дроми и нас самих. Ну, с этим надо примириться». Дождь перестал, облако под сводом пещеры рассеялось, и световое пятно засияло, точно омытое струями ливня. Оно было не красным, а золотистым – вероятно, имитировало прежнее солнце Хтона. – Иди за мной. Я жду тебя в убежище, – произнес отпрыск Фарданта. – Ты собирался предложить способ общения с Советником. Ты говорил о его внедрении в мою структуру. Вопрос: как? – Технически это несложно. Подготовь контактное гнездо из материала, проводящего нервные импульсы. Небольшое, размером с мелкий камешек. Лучше всего, если ты внедришь Советника в свой стратегический модуль. Мудрость и воинское искусство – основа стратегии. Они направились в дальний конец подземелья, к массивному люку, но не к тому, что вел в шлюзовую камеру, а к другому, за колыбелями-гротами и кормушкой. В тусклом свете, падавшем с потолка, раскрылся коридор или, возможно, вытянутое в длину помещение, заставленное большими саргофагами. Их темные стенки заиндевели, ледяной воздух обжигал горло. Криогенный блок, сообразил Тревельян. – Хранилище генетического материала, владыка? – Ответ положительный. Предки, создавшие меня, вложили телесную ткань в устройства глубокого холода. В твоем языке есть термин: банк. Здесь генетический банк, Пришедший. Другого на планете нет. – В этом твое большое преимущество, – заметил Ивар. Потом спросил: – Что с моей летательной машиной? Как продвигается работа? – Я ее контролирую. Твой отпрыск объяснил, какие поврежденные части следует изъять, и это уже сделано. Сейчас мои побеги восстанавливают двигатель. Только один, но твой отпрыск утверждает, что этого достаточно. Когда машина поднимется в воздух, отпрыск направит ее к тебе. – Пауза. – Скоро ты сможешь улететь, Пришедший из Пустоты. Скоро, через восьмую долю Малого Оборота. Это хорошо. – Почему? – Тобой интересуются, Пришедший. Гнилой Побег, Матайма, Крора. Все, кроме Дазза. Я чувствую их ментальные импульсы. – Снова пауза. – Стабильность нарушена. Нет Великого Врага, есть просто враги. Если они объединятся… «Это к лучшему. Разом всем перекроем кислород, – заметил командор и вдруг рявкнул: – Оррудия к бою! Десант, на палубу! В атаку, паррни! Вперред, на аборрдаж!» Тревельян попытался урезонить деда. «Какой абордаж, какая палуба? Здесь нет кораблей! Ни морских, ни космических». «Будут», – пообещал командор и смолк.
Шеренги обледеневших саргофагов кончились. В торцовой стене зияла узкая щель – только-только протиснуться боком в скафандре. Камера над шлемом Тревельяна бесшумно вращалась, фиксируя обстановку. – Если они объединятся, – повторил фардантов отпрыск, – я не смогу задержать их на границе. У них больше сокрушителей. – Советник говорит, что воюют не числом, а уменьем и что нет повода для беспокойства. Теперь это его заботы. – Ивар шагнул к проходу, оглянулся на провожатого, но тот был недвижим. – Разве ты не идешь со мной? – Терминал останется здесь и будет ждать тебя, – послышалось в ответ. – Иди! Иди и принеси мне Советника! Нырнув в щель, Ивар очутился в узком коридоре, проложенном сквозь толщу стены. Тут не было световых пятен, но свет брезжил где-то вдалеке, туманный и мерцающий, как бы профильтрованный сквозь матовое стекло. Он ускорил шаги, желая быстрей миновать эту крысиную ловушку; его не покидало ощущение, что стены вот-вот сдвинутся, раздавят скоб, а тело превратят в кровавую кашу. Под ногами гулко грохотали металлические пластины, и воздух тоже пах металлом – вероятно, убежище Фарданта строили на совесть, окружив его барьером из брони. Он вышел из тоннеля, и стена сомкнулась. Цилиндрический зал, напоминавший внутренность барабана, был невелик сравнительно с пещерой клонов – метров десять-двенадцать в диаметре и столько же в высоту. Пол, как в коридоре, покрывали металлические пластины, а все остальное казалось отлитым из хрусталя или какого-то прозрачного опалесцирующего материала. Неяркое сияние возникало в его глубине, высвечивая голубоватую жидкость и парившие в ней образования, белесые губчатые структуры, похожие на гигантских, размером со слона медуз, но перевернутых, направленных куполами к полу. Поверхность этих образований ритмично подрагивала, щупальцы торчали вверх, распускаясь на концах гроздьями более тонких нитей. Их были тысячи; нити пересекались и переплетались, сливались друг с другом или тянулись к потолку, образуя сложный трехмерный узор. «Неаппетитный вид. Точно клецки в синем бульоне, – молвил командор. – Делать, однако, нечего; назвался карасем, пожалуй на сковородку». Внезапно помещение заполнил голос – не шелестящий, а мощный и гулкий, наплывавший со всех сторон ударами набата: – Ты видишь мои вспомогательные модули, Пришедший. Они погружены в питающий раствор. – А где ты сам? – полюбопытствовал Тревельян. – Наверху. Прямо над тобой. Он запрокинул голову, всмотрелся в то, что распласталось за прозрачной преградой потолка, и опустил глаза. Картина была впечатляющей. Такое до смерти не забудешь, подумалось ему. Сердце трепетало в груди пойманной птицей, и медицинский имплант, встревожившись, отмерил дозу успокоительного. Голос загрохотал снова: – Подойди к стене и встань против самого крупного модуля. Это Стратег. Контактное гнездо для Советника подготовлено. Ивар повиновался. Наблюдая, как одна из нитей медленно тянется к хрустальному стеклу, он снял шлем вместе в камерой, положил его на пол и прикоснулся к обручу кончиками пальцев. Обруч был гладким, как кожа любимой женщины. «До встречи, дед». «До встречи, мой мальчик. Да будет милостив к тебе Владыка Пустоты. – Помолчав секунду, командор добавил: – Передай привет нашей железяке. Скажешь, что я велел за тобой присматривать». Белесая нить присосалась к стене и начала двигаться в прозрачной субстанции подобно червяку, прокладывающему ход. Червяк полз неторопливо, окруженный неярким сиянием. Ивар снял обруч, сдвинул защитную пластинку и вытряхнул на ладонь маленький кристаллик. На мгновение чувство огромной потери охватило его; он словно бы стал беззащитным ребенком, которого бросили взрослые, стал малышом, потерявшимся где-то в неизвестности и позабывшим дорогу домой. «Холодно… как холодно…» – пробормотал он сквозь зубы и не получил ответа. Ментальная связь прервалась. Нить прошла сквозь стену. На самом ее конце виднелся желобок, будто бы выстланный белым мягким бархатом с крохотными ворсинками. – Контактное гнездо, – громыхнул Фардант. – Положи в него Советника. – Сейчас, – прошептал Тревельян, – сейчас… Ему понадобилось несколько секунд, чтобы превозмочь волнение. Затем, ухватив кристаллик двумя пальцами, он поднял глаза к потолку и произнес отчетливо и громко: – Мне вспомнился Гнилой Побег, владыка. Ты создал его очень давно, не так ли? Ты бы мог добавить вспомогательный модуль к своей структуре, стать Фардантом Вторым, или Третьим, или Четвертым, но ты создал его. Независимую личность! Почему? Почему ты это сделал? Пауза. Гулкая тишина. Затем: – Разве это важно, Пришедший из Пустоты? Кристаллик согрелся в пальцах Тревельяна. – Важно, поверь мне. Может быть, самое важное из всего, о чем мы говорили, о чем спрашивали друг друга. Важно! Голос Фарданта сделался тише. Казалось, что в нем звучат нотки неуверенности. – Мой спектр эмоций ограничен. Иррациональное мне чуждо. То, что ощущаешь ты, что важно для тебя, мне может показаться непонятным. И все же, все же… Снова пауза. Долгое напряженное молчание. Казалось, что существо, висевшее над головой Тревельяна, глубоко вдохнуло воздух и не спешит его выдохнуть. Наконец послышалось: – Временами я чувствую себя одиноким. Одиноким, потерянным, позабытым, словно бы выпавшим из реального бытия… Это странное ощущение, Пришедший. Тебе оно знакомо? – Да, – сказал Тревельян, – да. Конечно, знакомо, владыка Фардант, как и любому, кто живет, страдает, чувствует. Но больше ты не будешь одинок. Он опустил кристалл в контактное гнездо.
Эпилог
Транспорт ГР-15/4044 дрейфовал рядом с «Ниагарой», боевым фрегатом Звездного Флота. В сравнении с массивной тушей грузового корабля фрегат казался небольшим – триста двадцать метров в длину, сорок – в ширину. По бокам серебристой сигары выступали башни аннигиляторов, тянулся от носа до кормы гребень энергоприемника, а над ним поблескивала антенна дальней связи – параболоид, сотканный из хрустальных нитей. Он медленно вращался, и мысли Тревельяна текли в такт его плавному кружению. Ивар сидел в рубке транспорта перед обзорными экранами. Отсюда, с дальней границы звездной системы, солнце Хтона выглядело рубиновой каплей на фоне бархатистой тьмы; чудилось, что некий вселенский ювелир желает похвастать своим сокровищем, явив его человеческому взору. Там, около красного светила, мчался по своей орбите невидимый Хтон, уносил частицу жизни Тревельяна – точно так же, как другие миры забрали себе его дни и месяцы, оставив только память. Но память была крепкой. – Не ожидал, что вы появитесь так быстро, – произнес он, не спуская взгляда с далекой звезды. –Знаете, Марк, очень приятно, когда о тебе беспокоятся, но все же я чувствую себя виноватым. Прислать фрегат из-за столь незначительной персоны… Тем более, что поводов к тревоге ровным счетом никаких. Марк Дарлан, командир «Ниагары», усмехнулся. – Не обольщайтесь, Ивар. Фрегат как раз соответствует вашему рангу координатора. Будь вы консулом ФРИК, сюда прислали бы крейсер. – Ну, и на том спасибо. Откуда вы идете? И куда? – С Дингана-Пхау на Роон. Доставили дипломатическую миссию в сектор терукси, и оказалось, что к вам мы ближе всех. Дистанция одного прыжка… Кроме того, я уже летал в Провале. Фигура Дарлана парила в воздухе, закрывая переборку и часть массивного кожуха АНК [71]. Он находился в рубке своего корабля, присутствуя рядом с Иваром лишь визуально – молодой и бравый офицер Звездного Флота с нашивками коммандера [72]. На фрегатах, согласно давней традиции, летали такие вот орлы из капитанского резерва, занимавшие со временем мостик крейсера. Не все, разумеется, – крейсеров было меньше, чем фрегатов, – однако насчет Дарлана не приходилось сомневаться. «Этот будет капитаном крейсера, – подумал Ивар, – даже коммодором – хватка есть! Возможно, и в адмиралы выйдет». – Мной получено предписание, – сообщил Дарлан. У его плеча закружился световой цилиндр с темными значками глифов. – Я должен определить астрономические характеристики данной системы, но это – вторая из моих задач; первая – оказать вам помощь. С применением силы, если возникнет такая необходимость. – А если не возникнет? – Тогда получить от вас информацию и действовать по обстановке. Собственно, по вашему совету. Тревельян заворочался в кресле, устраиваясь поудобнее. До появления «Ниагары» он успел принять душ, поплескаться четверть часа в бассейне, переодеться и отобедать: салат, бифштекс, яблочный пирог и красное вино. Чувство сытости было столь же восхитительным, как ощущение чистого тела и легкой одежды. – Совет будет таким: отправляйтесь на свою базу, – произнес он. – Я перешлю вам свои видеозаписи – все, что зафиксировано мной и моим роботом, плюс краткие комментарии. Ознакомьтесь с этими материалами и передайте их в штаб Флота и Консулат ФРИК. Иного сейчас не требуется. На лице коммандера Дарлана мелькнула тень разочарования. – Вы уверены, Ивар? – Абсолютно, Марк. – Ни с кем не надо воевать? Никаких силовых акций? Никаких превентивных ударов? Даже разведка не нужна? – Не нужна, – подтвердил Тревельян. – На первом этапе вполне достаточно моих наблюдений. Их рассмотрят, обсудят, проанализируют и, я надеюсь, пришлют хорошо подготовленную экспедицию. Вероятно, с военным эскортом. – А вы сами, Ивар? Что вы намерены делать сейчас? – Отправиться на Пекло. Срочная миссия, Марк, и я уже опаздываю. Закончим беседовать, и я перейду в режим разгона. Коммандер с минуту размышлял, поглядывая на световой цилиндр с инструкциями, затем произнес: – Изучение ваших материалов требует времени. Положим, я сделаю это в ближайшие часы и выясню, что должен что-то предпринять. Возможно, понадобится ваша консультация, а вас тут не будет. Поэтому скажите, Ивар, что здесь произошло? Ваши выводы? Интегрированное заключение? Я могу его услышать? Тревельян почесал в затылке. – Не хватало только, чтобы вы сочли меня фантазером… Понимаете, друг мой, выводы и заключения – это слова, а видеозапись – конкретные факты. Если первое предшествует второму, это может привести к непониманию. Особенно если мы говорим о событиях почти невероятных. Брови его собеседника приподнялись. – Вы боитесь за свою репутацию? – Нет. Скорее за ваш рассудок. Коммандер Дарлан негромко рассмеялся. – Напрасные опасения! Ну, Ивар, признавайтесь! Во что вас угораздило вляпаться? – Нас, – подчеркнул Ивар, – не меня, а нас, все земное человечество. У этой звезды обитала гуманоидная раса, современная даскинам и уничтоженная ими миллионы лет назад. Опасные существа… я не о даскинах, а об этих гуманоидах… очень опасные! Воинственные и, вероятно, очень жестокие. Даскины решили, что они нарушают равновесие в Галактике, и расправились с ними – перебросили в нашу эпоху. Люди в результате вымерли, но осталось несколько киборгов, и у каждого – целый арсенал. В основном, метатели плазмы и боевые роботы. Челюсть у Дарлана отвалилась. Он пошевелил губами, потом глубоко втянул воздух, припечатал рот ладонью и опустил веки. Наступила тишина, но Ивар будто бы слышал, как его собеседник считает, стараясь успокоиться: десять, девять, восемь, семь… шесть, пять, четыре, три… два, один, ноль… Ключ на старт! Глаза коммандера раскрылись. – Какого дьявола!.. Вы меня разыгрываете, координатор Тревельян? – произнес он тоном, не сулившим ничего хорошего. – Я предупреждал… Плохо, когда слова опережают факты, – со вздохом заметил Ивар. – Ну ничего, ничего… Посмотрите запись, поверите, успокоитесь. Я отправляю вам все материалы. Он отдал приказ бортовому компьютеру, над передатчиком метнулись и тут же исчезли неяркие сполохи. Пакет информации ушел на «Ниагару», и были в нем пустыни Хтона, рассветная буря и городские руины, утесы с провалами пещер, сумрачные подземелья и орды сокрушителей, воздушные машины, гигантские роботы Матаймы и арсеналы Фарданта, его живые отпрыски и сам огромный мозг, паривший в вышине над цилиндрическим залом. И было пока необъяснимое: четыре мраморные статуи на широкой площади, среди мусорных куч. Вспомнив об этом, Тревельян откинулся на спинку кресла и произнес: – Последний комментарий: в одном из городов планеты я обнаружил скульптурную группу, изображающую лоона эо. Находка особой ценности. Прошу обратить внимание. Коммандер уставился на него со странным выражением – видно, решал, верить или не верить чудесам. Наконец морщины на его лбу разгладились, губы шевельнулись, и Тревельян услышал: – Прошу извинить мою несдержанность. Сказанное вами меня поразило. Ну, вы понимаете, Ивар… Все это так необычно… Даскины, путешествия во времени, киборги с их арсеналами роботов и люди… Такие же, как мы? – Их идентичность земному человечеству или отличия от оного установят специалисты, – сказал Ивар. – Но, если судить по внешнему виду… – Погодите! Вы ведь сказали, что люди вымерли! – Несколько экземпляров сохранилось. В этом-то и проблема, Марк! На планете имеется генетическое хранилище, и, в принципе, можно восстановить эту расу. Но нужно ли? – Тревельян сделал паузу. – Мне кажется, что Древние не зря отправили их к нам, есть тут какой-то умысел… Они – гуманоиды, и мы – гуманоиды… значит, нам решать их судьбу. – Такой вопрос вне моей компетенции. – Дарлан поднялся и отступил в глубь рубки. Теперь стали видны экраны, залитые тьмой Провала, изогнутый подковой пульт и сидевшие перед ним офицеры. – Это вне моей компетенции, – повторил коммандер. – Вы правы, Ивар, и я последую вашему совету: отправлюсь с докладом на Роон. Ивар тоже покинул кресло и, прощаясь, склонил голову. – Это разумное решение. Желаю успешного полета. До встречи, Марк. – До встречи, Ивар. Голограмма растаяла. До встречи, подумал Тревельян. До встречи, Марк, до встречи, Ивар… Так распрощались они с дедом… Что делает сейчас его Советник? Чем занят? Вспоминает ли о нем?.. Он подавил чувство горечи. – Ваши инструкции, эмиссар? – спросил бортовой компьютер. – Начать предполетную подготовку. Затем продолжить рейс по штатному расписанию. Справившись с приступом тоски, он спустился с мостика, вышел в коридор палубы «А» и остановился у портрета Анны Кей. Она улыбнулась ему, протянула руку. Ветер взметнул ее платье, зашелестел в листве жасминовых кустов. – Ивар! Наконец-то! – Я вернулся, моя красавица, вернулся, как обещал. Прошло лишь несколько дней. – Я этого не заметила. Ты ведь знаешь, я оживаю только тогда, когда ты рядом. – Знаю. Они помолчали. Потом Анна спросила: – Как прошла твоя экспедиция? Все в порядке? – Нет. Мне пришлось оставить на планете нечто бесценное… своего родича и друга. Рот девушки удивленно округлился. – Разве ты летишь не один? Кроме тебя, я никого не видела. – Он не совсем человек, – пояснил Тревельян. Анна вздохнула. – Я тоже не совсем человек. Могу я его заменить? – Нет, девочка. Понимаешь, каждый из близких дарит нам что-то свое, один – покровительство и мудрость, другая – сочувствие и любовь. Каждый дарит свое, и потому близкие незаменимы. Ее ресницы опустились, милое личико стало грустным. – Жаль… Но я сделаю, что смогу. Ты ведь найдешь меня на Земле? Ты обещал, что отправишься туда, когда закончишь свою миссию. – Отправлюсь, – произнес Тревельян. – Непременно отправлюсь. Пол под его ногами чуть заметно дрогнул, прозвучали и затихли звуки знакомой мелодии. Тревельян слушал их, склонив голову к плечу. Предполетная подготовка завершилась, и корабль начал разгоняться.* * *
В сотнях миллионов километров от транспорта ГР-15/4044, на Хтоне, глубоко под землей, новый Стратег Фарданта Седьмого сообщил владыке: «Они приближаются. Идут двумя колоннами: придурки Гнилого Стручка – с запада, Матаймы – с северо-востока. «Шестерок» Кроры пока не видать. Этот, скорее всего, атакует с воздуха, но до рассветных штормов ему к нам не добраться». «Каков план действий?» – спросил Фардант. «Я велел расконсервировать часть арсеналов. Эти силы мы сосредоточим на внутреннем рубеже в виде двух ударных группировок. Длина фронта – от двадцати до тридцати километров. В твоих мерах это будет…» «Неважно. Я хочу понять другое. Ты перебрасываешь сокрушителей на внутренний оборонительный рубеж. Почему не на внешний? Там два пункта возможной атаки. Эти позиции нужно усилить». «Нет. Войска с внешней границы отведены и ожидают моего приказа в подземных убежищах. В пунктах соприкосновения с врагом осталась только артиллерия. Этого достаточно, чтобы имитировать оборонительные меры». «Но тогда чужие сокрушители прорвутся в домен!» «Конечно. Так и задумано». «Прежде такого никогда не случалось. Я не понимаю твоих действий, Советник». Молчание. Гулкая тишина. Потом: «Скажи, владыка, тебе известен термин «котел»? Что ты знаешь про фланговые удары, атаку с тыла и окружение? Ничего? Ну, тогда положись на меня. Ни один ублюдок от нас не уйдет». Когда все было кончено, и ветер начал заметать песком обломки поверженных машин, Советник молвил: «Это была простая операция. Вот когда я встретил дроми у Бетельгейзе, три корабля против целой флотилии… Впрочем, не будем отвлекаться. Я сформировал штурмовую группу, машины и сокрушители готовы. Итак, с кого начнем? С Кроры, отродья Темных Владык, или с этого мерзавца в океане – как его?.. Дазз Третий?.. Или желаешь сначала добить Стручка и Матайму?» В книге Йездана Сероокого, пророка кни’лина, сказано: ничто не свершается без греха. И сказано еще: чем больше свершение, тем больше грех. Но не грешат лишь те, кто упокоился в погребальных кувшинах.Приложение Галактические расы, упомянутые в романе
Даскины, или Древние – древняя высокоразвитая раса, владевшая Галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества даскинов, их цели и мировоззрение тоже неизвестны, однако в Галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся: древняя карта Галактики (так называемый Портулан даскинов), останки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах, и так далее. Считается, что информация о Лимбе и контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от даскинов. Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в Рукаве Ориона (в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие). Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуруких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около двух тысячелетий служили лоона эо в качестве Защитников, затем были вытеснены с этой позиции людьми. Неоднократно воевали с Земной Федерацией (начиная с XXIV века). Кни’лина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в Рукаве Ориона. Обликом подобны людям Земли; отличия незначительны – отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм (не могут питаться мясом), не способны давать потомство с землянами. Имеют многочисленные колонии примерно в шестидесяти-восьмидесяти звездных системах, а также мощный боевой флот. Воевали с Земной Федерацией (клан ни) в XXVII—XXVIII веках и потерпели поражение. В настоящее время между Федерацией и обществом кни’лина установлены культурные и дипломатические связи, однако их прочность сомнительна. Лоона эо – раса псевдогуманоидов, одна из древнейших и наиболее высокоразвитых в Галактике. Обликом подобны людям Земли – с поправкой на меньший рост, изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства: у лоона эо четыре пола (мужчины, полумужчины, полуженщины, женщины, причем только последние способны к зачатию и рождению детей), зачатие же (инициирование женской яйцеклетки) осуществляется ментальным путем (органов размножения, обычных для гуманоидов, у лоона эо не имеется). Лоона эо – телепаты, хотя способны к обычному способу общения и имеют звуковую речь. Их сектор в Рукаве Ориона состоит из ядра (Розовой Зоны), где находятся материнский мир Куллат и древние колонии (Файо, Арза и другие), и Внешней или Голубой Зоны, где сосредоточено около двадцати планет (Харра, Тинтах, Данвейт и другие), которые были заселены в более поздние времена (10—12 тысяч лет назад). В настоящую эпоху лоона эо покинули планеты и переселились в астроиды, искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика-Чейни. Для защиты своего галактического сектора лоона эо нанимают расы-Защитники, из которых известны две: дроми, а до них – хапторы. С конца XXI века Защитники вербуются в Земной Федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Данвейте. Лоона эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество; дипмиссия, представленная сервами, существует в Посольских Куполах на Луне с 2097 года. Лльяно – негуманоиды, к контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов; редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных лоона эо. Точное местоположение сектора лльяно не установлено; вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами лоона эо, в направлении южного галактического полюса. Лльяно – закрытая раса, контактирующая в основном с лоона эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор неясен. Внешний вид лльяно: мохнатые создания с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями (по свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей). Метаморфы или протеиды – негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному изменению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способны к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами, хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. Космической экспансии не осуществляют, населяют только свой материнский мир, чьи координаты неизвестны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличье аборигенов, но тайно (в силу своей природы практически неуловимы). Достоверные контакты с метаморфами за последнюю тысячу лет исчисляются единицами. Однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с бино фаата и последующих Войн Провала. Осиерцы – автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК) и цивилизации парапримов. Параприматы или парапримы – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название (пара – греч. «возле», «около»). Первый контакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа безусловно миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмарри – резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком (если он существует). Как и даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25—30 млн. лет). Внешне похожи на гигантских червей (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытых белесоватой кожей; могут вытягивать тела до 12—15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разреженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствует на своих кораблях по всей Галактике (один из примеров так называемой «кочующей цивилизации»). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер; их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ. Малоконтактны и, как правило, не агрессивны, но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в XXVIII веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание терукси, которым представителями Земли были переданы Портулан даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру Дингана-Пхау, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в Рукаве Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата. Фаата (бино фаата) – гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в Рукаве Персея, который отделен от Рукава Ориона (от земного сектора) Провалом, где практически нет звездных систем. Агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне: в 2088 г. их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительные разрушения (после чего последовала операция возмездия и четыре Войны Провала, затянувшиеся в общей сложности на 125 лет). В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от кни’лина, способны давать с землянами потомство (выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению). Раса фаата делится на касты, причем высшая (правящая) обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные (работники, солдаты, пилоты, самки – продолжательницы рода) относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют Связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С Земной Федерацией бино фаата контактируют крайне редко. Хапторы – гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличаются от земного стандарта, чем у кни’лина, бино фаата, терукси и осиерцев (несовместимы с людьми в сексуальном отношении; искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособного потомства). Колонизировали и заселили несколько сотен миров в Рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру Галактики, чем Земная Федерация. Примерно три с половиной – две тысячи лет назад являлись Защитниками лоона эо, затем их сменили дроми, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расами. Внешний облик: высокие (около двух метров), крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника – полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком. Человеческим эталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с Земной Федерацией в XXVI веке, были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.БЕСКОНЕЧНАЯ ДУЭЛЬ, или ЧУВСТВО ПРОТИВ РАЗУМА
Пусть боги смотрят безучастно На скорбь земли – их вечен век, Но только страстное прекрасно В тебе, мгновенный человек!Валерий Брюсов
В ПОИСКАХ ПЕРВОНАЧАЛ
О том, сколь глубоко уходит корнями в историю проблема, которой посвящен наш сегодняшний разговор, судить не возьмусь. Бытует версия, будто первыми – около сорока тысяч лет назад – вздели дубины во имя священного бремени прогрессорства наши пращуры-кроманьонцы; объектом же их неустанных стараний являлись более дальние родичи Homo Sapien Sapiens, неандертальцы, мир их праху. А поскольку об одном из эпизодов этой горестной эпопеи поведал в повести «Наследники» лауреат Нобелевской премии 1983 года Уильям Голдинг, то вышеприведенный пассаж от литературы нас никоим образом не уводит. И все-таки – бог с ними, с корнями; они могут зарываться хоть в центр Земли, оставаясь для нас невидимыми и неощутимыми. Так что давайте лучше сосредоточимся на древе, которое они питают. Причем с того момента, когда над поверхностью, раздвинув сырые комья, проклюнулся первый росток. Впрочем, сперва все-таки о почве. Надо сказать, она была на совесть вспахана и отменно унавожена. Начали это деятели Просвещения (иные утверждают, что стояли они на плечах титанов позднего Возрождения; утверждают, наверное, справедливо, только сейчас для нас с вами это не суть важно, а потому условно примем за точку отсчета XVIII век). Их труды продолжили творцы Промышленной революции – XIX столетия, Века машин. Кстати, о веках. Ни один из них еще не начинался ни в годы, по общепринятому счету заканчивающиеся двумя нулями (во что искренне верит большинство), ни в те, что завершаются нулем с единицей (в чем убеждена высоколобая компонента ортеговских масс). Казалось бы, какая, в конце концов, разница, что XX век наступил летом четырнадцатого года, а приход его приветствовал не феерический лондонский фейерверк, но сараевские выстрелы студента-хорвата Гаврилы Принципа? Увы, магия чисел, эта незаконная дщерь любви к арифметике, властно влечет легковерных, хотя и умеет злоехидно над ними подшутить. Вот, например, в 1492 году сотни тысяч (по другим подсчетам – даже миллионы) европейцев пребывали в ожидании очередного конца света. Истово верующие раздавали нажитое неимущим, ложились во гробы и вперяли алчущий взор в небеса, ожидая, когда же те наконец разверзнутся. Основание к тому было у них самое что ни на есть наисерьезнейшее: согласно византийской хронологии, ведущей отсчет от сотворения мира, кое, как известно, имело быть 1 сентября 5508 года до Рождества Христова, лето Господне 1492-е знаменовало собой завершение седьмого тысячелетия. Увы, конец света, как нетрудно догадаться, так и не наступил. Зато (ирония милленаризма!) благородный адмирал Моря-Океана и вице-король всех новооткрытых земель дон Кристобаль Колон, генуэзец на службе короны Арагона и Кастилии, осчастливил мир открытием заокеанского материка, получившего позже название Нового Света… Девятнадцатое же столетие, нам сейчас наиболее интересное, оказалось чрезвычайно протяженным – историки спорят, что именно положило ему начало: то ли победа тринадцати колоний в Войне за независимость, обернувшаяся рождением Соединенных Штатов Америки, то ли созыв в Париже Генеральных Штатов, обернувшийся Великой Французской революцией (кое-кто, правда, усматривает в обоих событиях теснейшую взаимосвязь и даже взаимообусловленность; впрочем, не стоит углубляться в эти историософские дебри – хоть и маячат они на горизонте, однако далеко в стороне от нашего пути). Да и вообще, интерес представляет не столько сама по себе презревшая хронологические рамки привольная раскинутость XIX столетия, сколько его дух – ведь никто и никогда не входит в следующий век, очищаясь в новогодье до состояния tabula rasa [73]; напротив, в полном соответствии с цицероновым omnia mea mecum porto [74], весь доставшийся по наследству и своим горбом нажитый скарб мы рачительно прихватываем с собой. Кстати, о Французской революции. Помимо первым делом приходящих на память доносов и гильотин, введения в обиход столь родного нам оборота «враг народа», массовых убийств аристократов, священников и просто случайно под руку попавших, а также всяческих комитетов общественного спасения и якобинских клубов, было еще два новшества, причем из числа самых ранних. Во-первых, это собственный революционный календарь, знаменовавший вступление в принципиально новую эру и полный отрыв ото всего остального мира; а во-вторых – собственная религия, культ Разума, коему надлежало заменить собой упраздненное христианство. На последнем следует остановиться особо, ибо родилась идея отнюдь не на пустом месте – она закономерно завершала век Просвещения, эпоху, сотворенную богониспровергающими усилиями Вольтера, Руссо, Дидро и иже с ними. Попытка заменить классическую религию неким секулярным, светским суррогатом (к этому предмету по ходу разговора нам еще предстоит возвращаться!) оказалась, прямо скажем, слишком радикальной, а потому, естественно, провалилась. Однако в каком-то смысле она предвосхитила процессы, определившие одну из генеральных линий развития всего XIX века: неуклонно нарастающий атеизм рождал в умах и душах торичеллиеву пустоту. Даже слыхом не слыхавшие о Тургеневе соглашались с базаровским тезисом, что природа не храм, но мастерская, однако в мастерской этой почему-то неудержимо тянуло молиться. А поскольку свято место пусто не бывает, в новой базилике без ссор и свар поселились разом две конфессии секулярной религии Разума – религия искусства и религия науки. Нет Бога, кроме Прогресса, а художник с инженером – пророки его. Человек-творец занял место святых, блаженных и великомучеников: по аналогии с христианскими страстотерпцами появились «мученики науки». Их житиям посвящались произведения бурно расцветшей биографической литературы – книги об ученых, изобретателях, художниках и политиках (тоже ведь творцы от социологии, политологии et cetera) [75]. (Кстати, на Западе этот жанр до сих пор почитается наиболее престижным: выпустить хорошую биографию для писателя – то же, что дюжину романов, поскольку сие суть труд чуть ли не евангелиста.) Обожествленный прогресс обещал Царство Божие на земле – причем даже не в очень отдаленной перспективе. Как писал Саша Черный:ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Впрочем, росток проклюнулся, не дожидаясь этого – в 1889 году путешествие во времени совершил Хэнк Морган – уроженец Хартфорда, что в штате Коннектикут, великий умелец (ну вылитый Сайрес Смит!), настропалившийся ладить все самое что ни на есть передовое и прогрессивное – «ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки»; прораб, под чьим неусыпным надзором вкалывали на оружейном заводе две тысячи человек. Замечу, ему даже не понадобился аппарат Путешественника по Времени, похожий на велосипед, только украшенный кристаллами горного хрусталя и оснащенный рычагами управления от гусеничного трактора. Хэнка просто двинули по башке классическим «тупым предметом», вследствие чего он и провалился в VI век, оказавшись прямехонько в Камелоте – стольном граде доброго короля Артура. Дальше пересказывать не стану: кто же не читал блистательного марктвеновского романа! Отмечу главное: Хэнк Морган оказался первым в истории фантастической литературы прогрессором. Недрогнувшей рукой он основал в королевстве логров службу погоды; протянул телеграфные и телефонные линии; понастроил заводы и фабрики; завел газеты; сформировал из благородных рыцарей отряды самокатчиков, а иных даже превратил в сэндвичменов, рекламирующих зубную пасту и жевательную резинку; основал школы (разумеется, с прикладным уклоном) и даже собственный Вест-Пойнт – словом, за уши втащил страну из тьмы раннего Средневековья аккурат в преддверие просвещенного и оснащенного двадцатого столетия. Казалось бы, здесь и сказке конец. Да не тут-то было. Разговор только начинается. Начнем с того, что Марк Твен, выпуская в свет «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», оказался новатором дважды, ибо в равной мере заложил основы идей прогрессорства и альтернативной истории (пусть даже сами эти термины были введены в обиход много позже). Впрочем, с последней все не так просто. Формально основоположником альтернативно-исторического подхода считается британский историк и социолог сэр Арнольд Дж. Тойнби (1889—1975), по иронии судьбы родившийся как раз в год опубликования «Янки…» – его знаменитое эссе «Если бы Александр не умер тогда» увидело свет в Англии в 1969 году (у нас – десятью годами позже). Однако к тому времени счет литературным «еслиадам» уже давно шел на сотни, что лишний раз доказывает неоспоримый тезис: наука куда чаще идет по следам изящной словесности, чем это принято считать. Но роман Марка Твена является не только краеугольным камнем – он еще и стоит наособицу. Подход всех прочих «еслибистов» един: возьмем некую точку бифуркации, которыми полна история, и посмотрим, что получится, если развитие пойдет не по реализовавшемуся, а по некоему гипотетическому пути. Не то у Марка Твена: он сознательно запустил Хэнка Моргана не в реальную Британию VI века, а в легендарное Артурово королевство логров: чтобы сделать эксперимент подлинно чистым, писателю нужна была сугубо условная страна. То есть Марк Твен избрал, так сказать, не арифметический, как остальные авторы альтернативно-исторических сочинений, но алгебраический метод. Далее. Марк Твен привел своего героя-прогрессора к финалу весьма печальному – историческая среда в конце концов отторгла все его новации, как отторгает живой организм пересаженную ему чужую ткань. Причем этот мудрый вывод дался автору очень и очень нелегко. С одной стороны, писатель прекрасно помнил, чем обернулась механическая прялка плотника Джеймса Харгривса, его милая «дженни», для отчаявшихся «братьев» юродивого подмастерья Неда Лудда. А значит, и понимал, что ни положение всесильного Босса, правой руки могущественного самодержца, ни разнообразные чудеса промышленного изготовления не помогут Хэнку Моргану в одночасье изменить устои общества и судьбы страны. Перед мерным ходом истории доброй старой Англии позитивный мастеровой из Новой Англии оказывается бессилен. История продолжает угрюмое течение свое, а люди заботятся, чтобы об этом младшем брате инженера Сайреса Смита и на синь-пороху памяти не осталось бы. Но печальный вывод этот – при всей его правдивости – не хочется принимать. И потому в памяти остаются лишь страницы с описаниями триумфов янки, тогда как финал наше сознание инстинктивно отторгает. Что ни страницу открываем вновь – перечитываем с удовольствием любую, но только не финал. И вопреки истине готовы настаивать, будто Марк Твен написал гимн предприимчивости и мастеровитости рабочего человека. Почему? Да потому, что автор добр к своему герою, как намытарившийся дед ко внучонку. Его заботами янки чист душою, невинен в помыслах, действует открыто, действует потому, что не может не действовать, а на исповеди ему каяться не в чем, разве что в мелком скрытничестве ради удовольствия простецкой шутки. Король и королевство ему подарены легендарные, легендарны (но притом общеизвестны) и остальные персонажи книги. Этим повествованию придается соразмерная условность, тогда как автор оказывается беспредельно свободен в обращении с действующими лицами. И свободу свою употребляет на рисование необидных шаржей, ни в чем не ущемляя чести своего героя. В итоге получается, что Марк Твен оказался первооткрывателем, положившим на карту все пределы мира, – этаким Магелланом, Амундсеном и Пири в одном лице. Причем, обозначив границы, он выявил и самую что ни на есть сердцевинную суть как исторического процесса, так и прогрессорства. Казалось бы, прочим здесь делать нечего. Ан нет! Границы-то на карту положены, но в обозначенных ими пространствах сплошь белые пятна. В конце концов, даже зная, что Земля – это шар (а для самых умных – трехосный геоид), что в центре ее ядро, закутанное в мантию, слоем Мохоровичича отделенную от коры, даже зная все это, повторяю, можно открывать Рифейские горы и Аральское море, ничуть не ощущая ущербности от масштаба своих деяний. Да и не в масштабе дело – в порыве. Помните, как писал Александр Гумбольдт: «Я умру, если не увижу Каспийское море!» Не на карту положу, не глубины да солености измерю, но – если не увижу. И разве удивительно, что сыскалось превеликое множество желающих отправить в просторы пространства и времени собственных героев-прогрессоров? Мудро или не мудро, но – порыв…И ПОШЛИ ОНИ, СОЛНЦЕМ ПАЛИМЫ…
В мои намерения ни в коем случае не входит полный обзор фантастики, посвященной прогрессорству, – это задача для солидной монографии сродни двухтомному труду Анатолия Федоровича Бритикова. И не по плечу мне такое, и жанр не позволяет. Так что предупреждаю: помимо романа Михаила Ахманова, который вы только что прочли, я ограничусь упоминанием лишь тех авторов и произведений, которые субъективно представляются мне наиболее значимыми для предмета этого послесловия (что, замечу, далеко не всегда связано с несомненными художественными достоинствами: речь идет в первую очередь об идеях и тезисах, а не об их литературном воплощении). Прежде всего следует отметить различия в отношении к героям, отправляющимся с высокой миссией в галактические дали и в бездны времени. О первых – только хорошее, ибо несут они младшим братьям по разуму полные короба разумного, доброго и вечного. Жаль только, впрок этот товар шел представителям иных космических народов исключительно редко. Причем на память в этой связи всякий раз приходят «шедевры» советской фантастики ранних шестидесятых годов прошлого века, вроде приснопамятной «Гриады» Александра Колпакова, романа Леонида Оношко «На Оранжевой планете» или повести Константина Волкова «Марс пробуждается» (сомневаюсь, знакомы ли эти названия даже самым ярым нынешним любителям НФ). На страницах этих произведений свет социализма озаряет стонущие под гнетом миры, а идея вселенской революции неизбежно торжествует над дремучими заблуждениями и эксплуатируемых, и эксплуататоров, ибо учение Маркса, как известно, правильно уже потому, что оно верно. Переломить эту традицию залихватской козьмакрючковщины смогли только братья Стругацкие – их незабываемая повесть «Трудно быть богом», на которой выросли уже два, если не три поколения, которую мы читали и перечитывали, передумывали и переживали. Похоже, в отличие от всех нас Стругацкие восприняли в марктвеновском «Янки…» именно трагически-безысходный финал – при всей легкости их письма, приключения благородного дона Руматы Эсторского лишены залихватской лихости похождений Хэнка Моргана. Не сравниваю: разные, совсем разные это книги, сопоставимые не более, чем «Гамлет» и «Дон-Кихот». Впрочем, шекспировскую трагедию с романом Сервантеса таки сопоставляли – да еще как… И снова, казалось бы, все сказано. Перечитайте диалог Руматы с доном Кондором в Пьяной Берлоге. (Помните: «Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился – и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Горан Ируканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи».) Перечитайте разговор Руматы с мятежным Аратой Горбатым (Помните: «Вы ослабили мою волю, дон Румата. Раньше я надеялся только на себя, а теперь вы сделали так, что я чувствую вашу силу за своей спиной. Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой. А теперь я заметил, что берегу себя для других боев, которые будут решающими, потому что вы примете в них участие… Уходите отсюда, дон Румата, вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите. Либо дайте нам ваши молнии, или хотя бы вашу железную птицу, или хотя бы просто обнажите ваши мечи и встаньте во главе нас».) Перечитайте разговор с достопочтенным доктором Будахом. (Помните: «Будах тихо проговорил: «Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными… или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой». – «Сердце мое полно жалости, – медленно сказал Румата. – Я не могу этого сделать».) Все продумано, все прочувствовано. Выработан кодекс: в отличие от Хэнка Моргана, прогрессор – во избежание культурного шока – фигура теневая, неявная, серый кардинал, чьи действия подчинены высоким замыслам, недоступным пониманию окружающих. Правда, Антон-Румата и его коллеги вроде бы не совсем прогрессоры – скорее, пестуны, в чью задачу входит кого-то оберечь, иного спасти, третьего поддержать, хотя лишь тех, чьи деяния явным образом способствуют прогрессу цивилизации. Но так или иначе, а вывод обжалованию не подлежит. Печальная дилемма: либо уйти и не вмешиваться, либо загонять в счастье железным кулаком. Впрочем, Стругацкие же и обжаловали. Зерно было посеяно еще в ходе второй беседы прогрессоров в Пьяной Берлоге, когда дон Кондор произнес: «При чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры». Эти меры – не для прогрессора Антона; его отчаянный и кровавый финальный бросок – от безнадежности, бессилия и, может быть, от подсознательного приятия законов, по которым живет мир Арканара; это поступок дона Руматы, в котором Антон растворился без следа. Чрезвычайные меры – это уже Максим «Обитаемого острова». Как-то один из младших коллег заметил мне, что для его поколения культовыми фигурами, на которых они вырастали, были сперва булычевская Алиса, а позже – Максим братьев Стругацких. Вот ведь как – он, а не Румата, чего я внутренне ожидал. А ведь именно с ним на смену рефлексии, до разрыва груди напряженному чувству, пришло действие, порою (не у самих Стругацких, разумеется, – у пошедших, в меру разумения и таланта, по их стопам; таковых предостаточно, и вряд ли есть смысл перечислять) заметно опережающее мысль. Высокая трагедия уступила место крутому боевику. Исключения из этого правила – вроде «Волчьей звезды» Марии Галиной – достаточно редки, хотя тем приятнее. Самое интересное из них, правда, принадлежит не кому-либо из отечественных авторов, а британско-ланкийскому фантасту Артуру Кларку – я имею в виду черный монолит из «Космической одиссеи 2001 года», едва ли не единственный пример прогрессорства, безупречного с рациональной, научной, инженерной точки зрения, но как раз по этой причине не вызывающий ни малейших эмоций. Это удачный проект, но в нем ни на гран трагедии, ни намека на сердце и душу. К числу подобных исключений относится и ахмановский цикл об ИвареТревельяне – из него пока вышли три книги: «Посланец небес», «Далекий Сайкат» и «Недостающее звено». Цикл, кстати, прекрасно иллюстрирующий, зачем (но не почему – о том предстоит разговор особый) в таком обилии разбредаются прогрессоры по пыльным тропинкам далеких планет. Причина, замечу, все та же, по которой не удерживается в памяти финал «Янки…»: не смириться душой. И, хлебнув для храбрости «за успех нашего безнадежного дела», вновь и вновь авторы пытаются нащупать в неразрешимом противоречии спасительную брешь, слабину, которая позволила бы найти удовлетворительное решение. Михаил Ахманов поставил это дело на широкую ногу. Он творит фантастическую сагу, по масштабу близящуюся к азимовскому «Основанию», населяя ее самыми разными звездными расами и вписывая человечество в сложную систему галактических взаимосвязей, среди которых прогрессорство – лишь одна из граней, хотя и весьма немаловажная. Подозреваю, что в первоначальном плане серии прогрессорства вообще не предусматривалось или же оно намечалось этаким неприметным боковым побегом, однако впоследствии автор не сумел-таки устоять перед сладким соблазном. В его модели будущего делом братской помощи развивающимся расам занимается Фонд развития инопланетных культур (ФРИК), разработавший собственные (то бишь авторские) теории, методики, терминологию… И сотрудники Фонда – уже не рефлектирующие пестуны, а прогрессоры в полном смысле слова, ибо главной своей целью видят ускорение развития примитивных инопланетных обществ («примитивных» в данном контексте означает достигших по нашим меркам уровня не более высокого, нежели земное Средневековье, именуемого у Ахманова «порогом Киннисона»; тезис, может быть, и спорный, но согласимся с правилами игры). Основой их деятельности является введение в обиход инопланетных народов эстапов или ЭСТП – элементов социального и технического прогресса. (Замечу в скобках, что любовь к подобным аббревиатурам и вообще фантастической терминологии вкупе с некоторой холодностью стиля выдает в Ахманове скорее последователя Ивана Ефремова, нежели братьев Стругацких.) Примерами подобных эстапов могут служить идеи о шарообразности материнской планеты или о возможности одомашнивания животных, а на более поздних исторических этапах – проект паровой машины или ткацкого станка. Запомним это. А пока обратимся к самому, пожалуй, любопытному с точки зрения нашей темы эпизоду – одиннадцатой главе («Воспоминание. Осиер»). Диалог прогрессоров – Тревельяна и Аххи-Сека, представляющих две различные цивилизации, – доказывает, что герои (а значит, и автор) понимают всю неоднозначность своей деятельности. Вот об этой неоднозначности и пришел черед поговорить. Не «зачем», а «почему» – не о декларируемых целях прогрессорства, но о природе этого стремления.О ЧЕМ МОЛЧАТ ПРОГРЕССОРЫ
Однако сперва придется разобраться с самим прогрессом. Что он, собственно, такое есть? Если обратиться к «Российскому энциклопедическому словарю», можно узнать, что «Прогресс (от лат. progressus – движение вперед) – направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно говорить применительно к системе в целом, отдельным ее элементам, структуре развивающегося объекта». Однако чтобы понять, что такое совершенствование, нужно знать, что есть совершенство. Прогресс, полагал русский философ, профессор Николай Васильевич Устрялов (1890—1937), по природе своей есть понятие телеологическое: он имманентен идеалу и обусловлен целью. Развиваться свойственно не только добру, но и злу. Следовательно, теории прогресса не обойтись без осознания этих основных этических категорий, в противном случае она лишится определяющего критерия. Но и критерий этот в свою очередь должен быть обоснован критически – этический догматизм столь же неподходящ для философской постановки темы прогресса, сколь бесплоден для нее этический скептицизм. Цель прогресса еще в XIX столетии определил английский философ, социолог и юрист Джереми Бентам (1748—1832): наибольшее счастье наибольшего числа людей. Однако, отмечал Устрялов, «помимо своей неуловимой неопределенности и своего этически двусмысленного значения всеобщее безоблачное счастье есть заведомая невозможность». Понимая это, Бентам и ввел в свою формулу ограничитель: раз уж всеобщее абсолютное счастье невозможно, пусть реализуется хотя бы возможно более полное счастье большинства. Но как быть при этом с меньшинством? Можно ли жертвовать во имя счастья большинства человеческой личностью? В итоге счастье как цель прогресса становится уже не главенствующим, а подчиненным элементом этической системы. Одним из примеров эстапа, как вы помните, Ахманов приводит ткацкий станок. Но в начале разговора мы уже упоминали «дженни» – механическую прялку, созданную английским плотником Джеймсом Харгривсом и названную им в честь любимой жены. Технический прогресс? Безусловно. Последствия? Луддитские бунты, кровь и нищета… Шарообразность Земли? Но открытие новых континентов вело к их ограблению, к уничтожению целых народов и культур, к расцвету пиратства… Нет, тысячу раз прав был жюльверновский Робур: «Прогресс науки не должен обгонять совершенствования нравов». А поскольку технический прогресс (как учит наш, земной опыт) стремителен, значит, его бы не подгонять, а притормаживать впору. Но… Вся беда в том, что прогресс оказался не объективным процессом, который надлежит наблюдать и изучать, а субъектом той секулярной религии, о которой я уже упоминал вначале. Иерархами и апостолами этой религии стали творцы – ученые, художники; пылкими проповедниками – философы и писатели. Но еще ей нужны были миссионеры – их-то роль и взяли на себя прогрессоры. Мы стремимся развивать иные расы, ускорять чужой прогресс, искренне веруя, будто правы, будто знаем, как надо. Вера же не нуждается в обоснованиях, черпая их в самой себе. С этой точки зрения любопытно, что беседа Тревельяна и Аххи-Сека скорее напоминает не договор дипломатов о разделе сфер политического влияния, а спор церковных иерархов, кому окормлять данную территорию и для кого она является традиционной. Ибо дело не в том, что это нужно нам, а в том, что это нужно им. Им, с которыми мы щедро готовы поделиться светом своей истины. Правда, канонерки на заднем плане все равно присутствуют, но, слава богу, молча. И не они являются главным аргументом. Всякий раз, как речь заходит об ускорении чьего-то развития, мне сразу же вспоминается блистательный рассказ Пола Андерсона «Поворотный пункт». Джорильцы, примитивный вроде бы народишко с какой-то галактической окраины, оказались слишком способными учениками. И что же с ними делать? Растить себе конкурентов – пусть даже в не слишком ближней перспективе? И решение находится. Разговаривая с местной девчушкой по имени Миерна, герой рассказа размышляет: «Любой житель планеты, если захочет, сможет посетить Землю. А захочет большинство. Я уверен, что Совет одобрит наш план. Ведь он единственно разумный. Если не можешь превзойти… Строго говоря, дорогая ты моя малышка, ну и грязную же шутку мы с тобой сыграем! Подумать только – вырвать тебя из этой патриархальной дикости и швырнуть в горнило гигантской бурлящей цивилизации! Ошеломить нетронутый мозг всеми нашими техническими штуками и бредовыми идеями, до которых люди додумались не потому, что умнее, а потому, что занимались этим немного дольше вас. Распылить десять миллионов джорильцев среди наших пятнадцати миллиардов! Конечно, вы клюнете на это. Вам с собой не совладать, да и соблазн велик. А когда вы, наконец, поймете, что происходит, будет поздно отступать, вы окажетесь на крючке. Но я не думаю, что вы сможете сердиться на нас за это. Ты станешь земной девочкой. Конечно, когда ты вырастешь, тебя ждет место среди тех, кто правит миром. Ты сделаешь колоссально много для нашей цивилизации и будешь пользоваться заслуженным признанием. Все дело в том, что это будет наша цивилизация. Моя и… твоя». Андерсон прекрасно просчитал ситуацию как политик – здесь все логично. Но чего ради, спрашивается, ускорять развитие всех тех бесчисленных народов, с которыми имели дело все прогрессоры всей НФ? Растить себе грядущих союзников? Кстати, в ахмановский мир такое вполне вписалось бы – там полно войн, союзов, дипломатии… Но века спустя (а на меньшие сроки счет не может идти) политическая ситуация может разительно перемениться. Ну кому могло прийти в голову в XVII веке начать прогрессировать каких-нибудь аборигенов атолла Мидуэй, если бы таковые существовали, чтобы обрести союзников в предстоящей Второй мировой? Нет! Прогрессоров ведет идея альтруистическая, чуждая расчету. А такая может основываться только на вере. Пусть даже глубоко скрываемой. Но вот что любопытно. Все это справедливо лишь по отношению к тем прогрессорам, кто устремляется в представимые и даже вовсе не представимые дали пространства. А вот со временем – дело принципиально иное. Ускорять развитие будущего бесперспективно: грядущее по определению развитее нас. Правда, уэллсовский Путешественник по Времени с таким тезисом не согласился бы, но правила, как известно, исключениями крепки, да и модно было сто с лишним лет назад рассуждать о закате цивилизации вообще и Европы в частности (впрочем, многие любят предаваться этому занятию и теперь). Следовательно, остается изменять прошлое, чтобы улучшить наше настоящее. Логично? Но не тут-то было! Только попробуйте – и на вас разом обрушится какая-нибудь организация вроде андерсоновского Патруля времени. Или же против вас и вовсе восстанет сама природа. Прошлое неприкасаемо. Потому что оно – наше прошлое. Если его изменить – изменимся мы. Или на нашем месте вообще окажутся какие-то другие, чего допустить, натурально, никоим образом нельзя. Там не то что Вторую Пуническую войну переиграть в пользу Карфагена нельзя, на какую-то бабочку наступить – и то смертельно опасно (помните «…И грянул гром» Рэя Брэдбери?). Классический пример ахмановского эстапа – одомашнивание животных. И как тут не вспомнить великолепную повесть Чэда Оливера «Звезда над нами», герой которой завозит лошадей в доколумбову Америку, чтобы к моменту появления Кортеса всадники не казались тамошним индейцам сказочными чудовищами. На другой планете такое не только сошло бы с рук – великим прогрессором нарекли бы, орден на грудь повесили как спасителю целого народа от геноцида. А здесь? Соответствующие спецслужбы мигом спроворили киллера, который всей славной затее и положил конец. Причем герою даже до некоторой степени сочувствуя. Мол, оно, может, и не хуже бы получилось, только прошлое – оно наше, а потому – табу. Вмешательство в прошлое даже с самыми что ни на есть благими целями – никакое это не прогрессорство, это уже (термин, введенный в обиход английским фантастом Джоном Уиндемом) хроноклазм. Кстати, не потому ли Марк Твен запустил своего янки не в реальное, а в сказочное прошлое, что предчувствовал появление такой точки зрения? Двойной стандарт, скажете? Не без того. И все-таки мы с замиранием сердца (если написано талантливо) или просто не без любопытства следим за приключениями очередных прогрессоров в очередной книге. Почему? В чем непреодолимое обаяние этого жанра? Только ли в щедрости душ героев, всегда готовых на подвиг во имя чистого альтруизма? Не помню уже, у кого читал я, как мальчишки тридцатых годов прошлого века по десятку раз бегали в кино смотреть «Чапаева» – все не умирала надежда, что в следующий раз герой, может быть, выплывет. По-моему, с прогрессорами то же самое. И у авторов, и у читателей не умирает надежда найти выход, преодолеть обреченность всех усилий, столь четко обозначенную еще Марком Твеном. И сегодня, прекрасно зная, что прогресс чаще всего приводит не к возможно большему счастью возможно большего числа людей, а к появлению бедуина с водородной бомбой, я все равно зачитываюсь книгами о прогрессорах. Подпитываю собственную пошатнувшуюся и почти уже безверную веру в позитивное знание и поступательное движение истории и вопреки всему верю, что Чапаев все-таки выплывет. И вдруг это случится в следующем ахмановском романе? Что же, ждать осталось недолго. А не повезет – можно и еще…Андрей БАЛАБУХА
Михаил АХМАНОВ МЕЧ НАД ПРОПАСТЬЮ
Пекло (Равана) – четвертая планета двойной звездной системы NG-0455/56881 (красный гигант Асур, белый карлик Ракшас). Общее описание: землеподобный мир, открытый экспедицией Сокольского-Шенанди в 2892 году (Марсианский университет). Имеет пять обитаемых материков: самый крупный центральный – Хира или Хираньякашипа (протяженность в широтном направлении 13 800 км, в меридиональном – 11 280 км), и более мелкие Вритра, Шамбара, Раху и Намучи (размеры от 4 400 до 9 550 км в поперечнике). Суша, с учетом многочисленных островов, занимает 63% планетарной поверхности, Мировой океан представлен внутренними морями, которые соединяются проливами. Из-за недостатка влаги планета весьма засушлива, климат жаркий, местность большей частью имеет характер пустынь, полупустынь, степей и бесплодных гор. Отмечена активная вулканическая деятельность. Флора и фауна небогатые, почти все виды растений и животных окультурены. Планета населена гуманоидами нескольких рас (точное количество неизвестно), чей уровень развития соответствует раннему Средневековью. Вследствие недостатка удобных для обитания земель между племенами и народами происходят постоянные конфликты; население чрезвычайно воинственно и недружелюбно. С 2901 года Пекло (Равана) находится под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур. Период обращения планеты вокруг оси: 28,37 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг доминирующего светила (Асур): 748 суток. Естественный спутник: Гандхарв. Тяготение: 1,3 земного. Состав атмосферы: см. раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты: см. раздел «Галактические координаты землеподобных планет».Большой Звездный Атлас, издание седьмое, Земля-Марс.
Пролог
Мир – это песок и трава.Пословица шас-га, народа степных кочевников Раваны
Битсу-акк пел Долгую Песню. Песня посвящалась подвигам вождя, великого Брата Двух Солнц, и Серый Трубач слушал ее с удовольствием. Его деяния послужили темой для множества Долгих Песен, сложенных битсу-акками, но эта рассказывала о главном подвиге, о том, как он нашел Спящую Воду. Воистину то был дар великих богов! Каких именно, вождь размышлял уже немало дней, ибо каждого бога полагалось чтить, благодарить и задабривать по-особому. В этом нелегком выборе он мог довериться только самому себе; колдуны-ппаа общались лишь с духами предков и с Демонами Ветра, Котла или Огня. Были прежде колдуны, умевшие говорить с великими богами, с Баахой и Рритом, но таких теперь не найти – даже Сувиге из Мечущих Камни речь великих была непонятна. Так что их волю провидел только он, Серый Трубач, владыка севера, Страж Очагов, Взирающий на Юг. Только он мог разговаривать с богами; это являлось его священным правом и его обязанностью. Камму, Богиню Песков, насылающую бури, в степи страшились, но не уважали – она была самкой, а значит, низшим и презренным божеством. Светлый Бааха и дети его Уанн и Ауккат хоть и смотрели на землю, но обитали в небесах и к людским делам были равнодушны. Так что после долгих размышлений вождь решил, что Спящая Вода послана Рритом, великим Богом Голода, которого нужно кормить жертвенной кровью, иначе он сожрет весь мир. Еще Рриту нравилось взирать на битвы и воинские пляски. Битвы были впереди, а пока Трубач велел воинам своей охраны разложить поблизости костер и танцевать у огня с боевыми выкриками. Это зрелище радовало его не меньше, чем песня битсу-акка. Певец был из племени Зубы Наружу, с пастью до ушей и сильным громким голосом, будившим эхо в ущелье и ближних скалах. За скалами возвышались горные пики, неприступная стена, подпиравшая мутное желтоватое небо, точно такое же, как над северными степями и пустынями. Однако земля здесь была другой, с изобилием ручьев и трав, кустов и невиданных прежде высоких деревьев с толстыми стволами. Рогатые скакуны охотно поедали их листву вместе с тонкими ветвями, ветки потолще годились для костров, а из древесины можно было сделать массу полезных вещей, колеса для повозок, шесты для жилищ, древки копий, миски, щиты, дубинки и лестницы. Серый Трубач подумал, что никогда не покинет эти благодатные, полные сокровищ края. Кроме воды и растений тут наверняка найдутся люди, а это означало, что Очаги и их божества, даже вечно голодный Ррит, будут сытыми. Насчет людей вождь не сомневался – некоторые из них, звавшиеся туфан и, по слухам, умевшие ходить по воде в больших деревянных посудинах, бывали в северной степи и торговали с его народом. Широко разевая рот, битсу-акк пел о том, как вождь отправился в набег на непокорное племя Живущих В Ущельях, как враги пытались скрыться от него в огнедышащих горах, как он преследовал их вместе со своими воинами, как затряслась земля, обрушились скалы и раскрылась в горном склоне щель, ведущая во тьму. Испуганные воины не пожелали туда идти, и вождь отправился один, проскользнул, как пустынный удав, среди каменных стен и очутился в огромной пещере. В дальнем ее конце сияла ниспадающая сверху вниз завеса, словно широкий водный поток, какого не видел никто в северной степи и даже в предгорьях, где встречались питаемые ручьями мелкие озера. Но этот поток не струился подобно ручью, а был неподвижен, и вождь, коснувшись его, не омочил руки. По виду то была вода, но будто спящая – не текла, не журчала, не утоляла жажду. Зачем она здесь?.. – подумал вождь, сел на камень перед завесой и обратился к богам, к Баахе, Богу Двух Солнц, к детям его Уанну и Ауккату, к Камме, Богине Песков, и Рриту, великому Богу Голода. И боги послали ему видение: в урочное время скользнули за Спящей Водой полупрозрачные картины и явился облик мира по южную сторону гор. Того мира, где обитали торговцы туфан и другие, пока еще неведомые, племена. Серый Трубач ухмыльнулся. Он знал, что в песне, сложенной про этот его подвиг, правды столько же, сколько мяса в песчаной крысе, голодавшей целую луну. На самом деле подземный грот со Спящей Водой обнаружил пастух из племени Живущих В Ущельях и поведал о чудной находке соплеменникам. Два или три смельчака отправились в пещеру, после чего старейшины, уверившись, что чудо в самом деле существует, послали гонца в становище Мечущих Камни к Серому Трубачу. Вождь пришел, поглядел на туманные картины, выслушал побывавших у Спящей Воды, а затем повелел своим воинам перебить племя Ущелий, чтобы не болтали лишнего. Зарезали всех, даже самок с детенышами, и пировали четыре дня, пока мясо не начало протухать. Пастуху же, нашедшему пещеру, вождь оказал великую милость, съев его печень и сердце. Произошедшее стало знаком для догадливых певцов, которых вождь возил с собой, так как был он мудр и помнил: правда не то, что случилось, а то, что предстало в рассказах о случившемся. В этом состояла высшая справедливость, доступная только разуму предводителя; только он, Брат Двух Солнц, беседует с богами и знает, где истина, а где ложь. Важно ли, что пастух, помет хромого яхха, нашел чудо Спящей Воды? Нет, ибо ничтожный лишь разинет пасть, хлопнет по коленям в удивлении и начнет болтать о найденном, тогда как вождю боги подскажут, что делать с находкой и есть ли в ней польза или вред. И потому пусть поют Долгие Песни, пусть спешат воины на трубный зов вождя! А когда они придут, серое станет красным! Поправив рогатую корону на макушке, вождь приподнялся и оглядел свое становище. Здесь собрались воины многих Очагов: Белые Плащи, Люди Песка, Люди Ручья, Люди Молота, Зубы Наружу, Пришедшие С Края, Сыновья Ррита, Полоса На Спине и, разумеется, его родное племя Мечущих Камни. Три непокорных Очага: Детей Яхха, Гудящих Стрел и Песчаных Крыс он уничтожил, добираясь к вершинам власти, а также вырезал по той или иной причине мелкие кланы вроде Живущих В Ущельях. Все они пошли в котел, насытив преданных и верных, но в последние годы, когда врагов в степи не осталось, к кострам племен вернулся Ррит. Можно было бы забить для пропитания тысячу-другую самок, но бог подсказал лучший выход – он, видно, тоже оголодал и жаждал крови. Скрестив ноги, вождь сидел на шкуре яхха, спиной к глубокому каньону, выходящему на горный склон. Это обширное пространство, заросшее кустами и желтоватой травой аш, тянулось до самой низины, и тут сгрудились десятки тысяч людей и животных. Перегораживая выход из ущелья, стояли возы с высокими колесами и плетеными бортами; в них были навалены связки стрел и запасных древков для копий, бурдюки и упряжь, лестницы и кожи, запасные шатры и сушеное мясо. За линией возов начинался лагерь: тысячи крытых шкурами конических палаток, шесты с пучками шерсти и волос, с лентами и бубенцами, что отмечали стан того или иного Очага, собранное аккуратными штабелями оружие, кипящие котлы, окруженные группами воинов. Не всем удалось выжить во время опасных странствий в горах, и потому пропитания на первые дни хватало; что до будущего, то вождь рассчитывал найти здесь достаточно пищи. Он уже отправил на запад и восток отряды разведчиков. Дальше палаточного лагеря, у переходившей в пустыню низины, паслись табуны яххов и виднелись фигурки множества людей, резавших кустарник и траву, рывших колодцы, таскавших бурдюки с водой и топливо к кострам. Вода здесь нашлась в невиданном изобилии: горькая – в ручьях, текущих с гор, и сладкая – в подземных источниках. Кочевники засушливых степей знали, как докопаться до сладкой воды и обустроить водоносную яму. Десять или двадцать таких колодцев могли напоить Очаг и его стада, но войско Трубача было огромным, и он велел долбить землю без передышки, днями и ночами. Вода важнее пищи; без воды скакун не проживет и треть луны, а воин без скакуна годится только в котел. Битсу-акк как раз пел о котлах, о великом пиршестве, в котором победители съели Живущих В Ущельях. Это было правдой, венчавшей Долгую Песнь, как рукоять венчает клинок, и Серый Трубач, сделав одобрительный жест, швырнул певцу кости с остатками мяса. Тот поймал подачку на лету, но есть не стал, хотя из пасти капала слюна – прерывать песню считалось знаком крайнего неуважения. Глотка у него была здоровая, голос легко перекрывал шумы, доносившиеся из лагеря, крики и топот, звон бубенцов и оружия, рев животных и треск горевших в кострах ветвей. Самый большой костер гудел и пылал шагах в пятидесяти от шатра владыки, и там, раскачиваясь в мерном ритме, двигались вокруг пламени воины. Первым – Ка-Турх, Держатель Шеста, старший телохранитель, а за ним – лучшие бойцы из Мечущих Камни, те, кому Трубач велел потешить Ррита. Их свирепые лица, обтянутые сероватой кожей, походили на черепа, космы темных волос свисали на грудь, прядями струились по спине, в длинных мускулистых руках сверкали бронзой боевые топоры. Сделав несколько шагов, они подбрасывали оружие в воздух, исторгая при этом боевой клич: «Шас-га! Шас-га!» Воины танцевали Пляску Голода, и их оглушительный вопль сливался с голосом битсу-акка. «Через половину луны я поведу их вдоль гор, – подумал Серый Трубач. – Дам Рриту вдоволь крови и напьюсь сам. Ибо сказано: кровь – напиток вождей!» Долгая Песнь завершилась, и он бросил битсу-акку еще одну кость. Тот не глядел на повелителя – взгляд в упор считался вызовом. Уткнувшись носом в землю, певец пробормотал слова повиновения: – Если повелишь, буду грызть камень, пока он не станет песком… – Грызи мясо, – сказал вождь. – Мясо дает силу, а сила тебе пригодится. Ты многое увидишь и обо всем увиденном расскажешь в Долгих Песнях. – Расскажу, – пообещал битсу-акк, делая жесты покорности, – расскажу, Брат Двух Солнц. Отпустив его, Серый Трубач поднял глаза к небосводу. Там сияли его небесные родичи: маленькое, но ослепительно яркое белое солнце Ауккат и огромный красный Уанн, более тусклый и не такой горячий. Ауккат уже садился за линию далеких песков, Уанн, подобный гигантскому щиту в руках Баахи, еще плавал над пустынными далями, окрашивая их в цвет крови. Это показалось Трубачу добрым знаком.
Фонд Развития Инопланетных Культур (ФРИК) является сравнительно новым институтом в системе научных учреждений Земной Федерации. Фонд был создан после того, как завершился долгий период войн с бино фаата, хапторами, дроми и кни'лина, знаменовавший приобщение Земли к семейству галактических цивилизаций. В задачу настоящей монографии не входит анализ причин этих кровопролитных конфликтов; достаточно отметить, что по их окончании на Земле и в колониальных мирах нашлись силы для многих мирных инициатив и проектов, одним из которых явился ФРИК. Целью этого института стало оказание помощи примитивным и слаборазвитым цивилизациям, большей частью пребывающим на архаической стадии (примерные земные аналоги: каменный век, античность, Средневековье). Данная помощь бескорыстна и имеет своим назначением как развитие технологии, так и возникновение гуманных социальных структур в сообществах меньших «братьев по разуму»; иногда для ее описания используют термин, возникший еще в двадцатом веке, – прогрессорство. Эту свою функцию ФРИК выполняет обычно втайне, создавая базы в местах, недоступных аборигенам обитаемых планет, и посылая в эти миры подготовленных эмиссаров. Тактика и стратегия ФРИК основана на отрасли знания, созданной в последние два века и названной ксенологией архаических культур инопланетных миров (КАК ИМ). В связи с аббревиатурой этой новой науки специалисты Фонда иногда шутят по поводу своих задач: КАК сделать так, чтобы ИМ было хорошо. Это непростая проблема; отметим, что земное прогрессорство далеко не всегда ведет к позитивным результатам.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 1. История вопроса.
Глава 1. Пик Шенанди
В не столь отдаленном прошлом, когда юный практикант Ивар Тревельян стажировался на Раване, местная база ФРИК была сравнительно скромной: небольшой лабораторный корпус, несколько домиков для персонала миссии, искусственная речка и парк, состоявший из шести сосенок, двух берез, дуба и розового куста. За прошедшие годы многое переменилось. На месте незатейливых строений поднялась хрустальная башня о шести этажах, похожая на замок лоона эо [76], слева и справа от нее располагались ангары для киберов и транспортной техники; речка наполняла широкий бассейн с проточной водой, облицованный гранитом; парк, который украшали беседки и копии античных статуй, был теперь достоин своего названия – в нем росла как минимум сотня деревьев, в том числе – хтаа с Роона и цветущая кайсейра с Данвейта. Еще здесь имелась прелестная лужайка для пикников, ядовито-зеленый колючий кактус, гондванская хвойная пальма и три скамейки из настоящего дерева – вероятно, сооруженные каким-то заскучавшим умельцем. Если вспомнить о духоте и зное, царивших на этой неприветливой планете, база была настоящим раем, снабженным к тому же гравитационной установкой. Это являлось большим удобством – не всякому понравится жить при тяготении на треть больше земного. Тревельян добрался сюда на грузовом корабле, чтобы принять руководство миссией Раваны – или Пекла, как неофициально называли этот мир. Вообще-то после трудов праведных на Осиере и Сайкате [77] ему полагался отдых, но местная ситуация была критической: Серый Трубач перешел Поднебесный Хребет, считавшийся неприступным, и со дня на день мог обрушиться со всем своим воинством на города и страны, находившиеся под патронатом ФРИК. Для разрешения этой проблемы миссия нуждалась в опытном координаторе, не планетологе или этнографе, а человеке, способном вплотную заняться дикарями шас-га и, при нужде, снять с их предводителя голову. Ивар Тревельян, социоксенолог и разведчик-наблюдатель Фонда Развития Инопланетных Культур, кавалер Почетной Медали, Венка Отваги и Обруча Славы, как раз являлся таким специалистом. Во всяком случае, так полагали члены Консулата ФРИК и непосредственный шеф Тревельяна консул Юи Сато. По пути с Сайката Ивару пришлось задержаться в Провале [78], у светила, не описанного в Звездном Атласе и других компьютерных базах. Там была странная планета, мир неведомых существ, уничтоженных даскинами, но не лишенных надежды на возрождение, ибо гены этой расы сохранились и сохранился искусственный разум, способный активировать биологическую ткань. Правда, сей биоморф [79] нуждался в руководстве, и Тревельян оставил ему компаньона, своего спутника и дальнего предка, чей интеллект был заключен в памятном кристалле [80]. Печальное событие! Предок являлся его неизменным спутником во многих странствиях и, хоть не обладал телесной оболочкой, был мудрым собеседником, умел ободрить и снабдить советами. Жаль, что пришлось с ним расстаться… Жаль! Это с одной стороны, но с другой – на базе Раваны Ивару не грозило одиночество, как на Сайкатской станции среди кни'лина, и собеседников тут оказалось хоть отбавляй. Здесь обитали настоящие люди – по крайней мере девять из двенадцати. Да и трое инженеров-терукси, входивших в штат миссии, ничем не отличались от землян. Транспорт, доставивший Тревельяна, ушел вчера, и прошлый день он посвятил ознакомлению с раванской базой. Четверо из штата миссии были его сокурсниками, закончившими Ксенологическую Академию, и с ними он встречался год, или десять, или двадцать лет назад. С Энджелой Престон, планетологом и экс-координатором, он когда-то крутил роман, ее заместитель этнограф Юэн Чин учился на параллельном потоке, а супруги-океанологи Петр и Лейла Исаевы были его старыми друзьями, и в их доме под Самаркандом он гостил не раз. С остальными, почти с каждым, включая трех терукси, Ивар быстро нашел контакт; он обладал счастливой способностью внушать симпатию людям, да и нелюдям тоже – дар, совершенно необходимый для ксенолога. На это утро он назначил общий сбор и совещание. Для таких мероприятий предназначалась аудитория на первом этаже, но, по мнению Ивара, ее строгая обстановка и изобилие экранов привели бы к лишнему официозу – скажем, к необходимости надеть мундир. Поэтому встретились в его апартаментах: Энджела и Юэн Чин присутствовали здесь лично, остальные – в голографическом виде. Штат миссии состоял из групп: шесть планетологов (двое из них занимались вулканами и двое – океаном), три этнографа и три инженера-терукси – эти последние были специалистами по терраформированию и управлению погодой. Обычно люди трудились в разных концах планеты, возвращаясь изредка на базу, но сейчас здесь присутствовали все. Положение казалось слишком серьезным; никто не знал, куда двинутся кочевники, какие города и веси они начнут жечь и громить. Орда Серого Трубача была сравнительно небольшой, тысяч тридцать всадников, но для малонаселенной Раваны это являлось огромным войском. Трубач мог разделить свои отряды, обрушиться на Кьолл и порты востока и запада, мог даже захватить корабли и с помощью мореходов ядугар и туфан перебраться на другие континенты. Тревельян предпочитал не рисковать, пока не выяснит задачи и пункты дислокации каждой из исследовательских групп. – Начнем, – сказал он, когда последний участник совещания вулканолог Пардини возник из серебристого тумана голограммы. – С вас, Джакомо, и начнем. Где вы в данный момент работаете? – В центральном районе хребта, координатор. – Пардини вызвал карту и обозначил место лагеря. – Я там с Маевским и Веронезе. Они изучают планетарную кору, состав магмы в кратере Рыжего Орка и газовые выбросы, а я веду наблюдения за его активностью. Это, знаете ли, прелюбопытнейший вулкан… под ним – возможно, в оливиновом поясе – ртутное озеро… во всяком случае, я полагаю… На эти темы Пардини мог распространяться бесконечно, и Тревельян, слушая его, поглядывал на двух планетологов, Йозефа Маевского и Анну Веронезе. Маевский – смуглое лицо, ястребиный нос, пронзительные маленькие глазки под густыми бровями – походил на престарелого пирата, но, несмотря на внешность, был добрейшим стариком и на досуге занимался светоживописью. Что до рыжей зеленоглазой Анны, то она блистала юностью и красотой. На совещание девушка явилась в бикини – лежала в шезлонге под гондванской пальмой, грациозно изогнувшись и попивая манговый сок. Было незаметно, чтобы ее угнетало расставание с Рыжим Орком, огненной лавой и раскаленными тучами сернистых газов. – Благодарю, Джакомо, – молвил Тревельян, когда вулканолог иссяк. – Вам, а также Йозефу и Анне, придется побыть здесь. Отложите ваши исследования. Центральный район слишком близок к стану шас-га. Пардини всплеснул руками. – Но они не могут проникнуть на эту территорию! Высота минимум девять тысяч метров, разреженный воздух, потоки лавы и ядовитые пары в атмосфере… Там невозможно дышать, даже имплант не помогает! Мы работаем в скафандрах! – Утихомирься, Джакомо, – сказал Маевский. – Ивар прав. – Но я хотел бы понять, что нам угрожает! – Неизвестность, – отозвался Тревельян. – Мы не знаем, как Серый Трубач и его банда преодолели горы. Пока это не выяснится, вы трое останетесь здесь. Анна Веронезе отодвинула бокал с соком и улыбнулась ему. Она явно предпочитала бикини скафандру. – Этот довод перевешивает все остальные, – строго вымолвила Престон. – Я имею в виду нашу неосведомленнось о маршруте кочевников. Напомню, что все группы отозваны на базу по распоряжению Консулата. Энджела была яркой брюнеткой с синими глазами, и за двадцать лет, прошедших со времени студенчества, почти не изменилась. Тревельян остался для нее другом юности, но, похоже, о былом романе она не хотела вспоминать. Как и сам Ивар; даже в молодые годы Энджела казалась ему слишком серьезной, а он предпочитал девушек с более легким характером. – Теперь послушаем океанологов. – Его взгляд переместился к сидевшим рядом Лейле и Петру. – Если не ошибаюсь, ваш лагерь – на Безымянном архипелаге? – На архипелаге Исаевых, – поправила Лейла. – Мы, Ивар, первыми высадились там, и по традиции он носит наше имя. Там четыре островка: Петр, Лейла, Зульфия и Гюльчетай. – Ничего не имею против традиций, – пробормотал Тревельян. – А кто такие Гюльчетай и Зульфия? Петр ухмыльнулся. – Наши дочери, конечно! Старшей восемнадцать, младшей – пять… Время бежит, Ивар! – Поздравляю от всей души. – Тревельян уставился на бывших сокурсников. Надо же, две дочери!.. – мелькнуло в его голове. И старшей уже восемнадцать… Да, Петр прав, время бежит! Бежит, а у него, кроме наград, почетных венков и обручей, ничего! Хотя, если разобраться, если припомнить всех женщин, даривших его благосклонностью, то, может быть… Лейла прервала его мысль. – Наш архипелаг в Южном океане, Ивар, очень далеко отсюда. От Поднебесного Хребта нас отделяет все пространство Хиры, а это Кьолл, пустыня и прибрежные плоскогорья. Семь тысяч километров по суше, две тысячи по морю… – Я понял, Лейла. До вас эта шайка не доберется, так что возвращайтесь на свой архипелаг. Кстати, чем вы там занимаетесь? – Очень интересным делом, – откликнулся Петр. – Понимаешь, рыболовство в этом мире не очень развито, а при скудости местных пищевых ресурсов океан – великое сокровище. Если его освоить, выйдет великолепный эстап! [81] Ну а мы… как бы это сказать попроще… мы выясняем, что из океана можно выловить и съесть, не рискуя жизнью. В нем полно ядовитых тварей, но кое-что… В общем, приходи вечером, пальчики оближешь! – Непременно приду, – пообещал Тревельян, поворачиваясь к Юэну, главе этнографов. – Что за дела у тебя, дружище? Помнится, ты занимался торговыми культурами. – Да, ядугар и туфан, они перспективнее Кьолла. Теперь у меня есть помощник. – Юэн Чин кивнул на Тулунова. – Мой практикант, стажер Академии… Он уже побывал в Негерту и Саенси. Как видишь, ему легко гримироваться. Юный стажер Инанту Тулунов взирал на Ивара с благоговением – примерно так, как мусульмане в старину глядели на священную Каабу. Он был эскимосом почти чистой крови, что само собой казалось удивительным – смешение народов и рас в колониях и на Земле редко позволяло выделить древние генетические линии. Инанту в этом смысле повезло – узкоглазый, плосколицый и темноволосый, он в самом деле походил на представителей народа туфан. У тех, конечно, волос было побольше, кожа посмуглей и внешность позвероватее, но полное сходство являлось делом косметики, а не биопластики. – Нам, думаю, придется посидеть на базе… – начал Юэн Чин, однако Нора Миллер, еще один этнограф, прервала его. – Вам, а не нам. Я работаю на континенте Раху и не вижу повода прерывать свои исследования! – Да, доктор, само собой! На Раху вы можете лететь хоть сейчас! – воскликнул Тревельян, отлично сознавая, что на Норе Миллер его власть координатора кончается. Во-первых, эта худощавая дама за восемьдесят отличалась крутым характером и редкостным упрямством, а во-вторых, была крупнейшей фигурой во многих областях, специалистом по археологии, этнографии, антропологии и лингвистике, профессором и доктором едва ли не всех планетарных университетов Земли, Венеры, Марса, а также систем Сириуса, Проциона и альфы Центавра. Имелись также «в третьих» и «в четвертых», но все причины и поводы рассматривать не стоило – хватало того, что на отдаленном континенте Нора Миллер будет в полной безопасности. Конечно, от дикарей Трубача, но не исключалось, что туземцы Раху сами решат, четвертовать ли ее или обезглавить. Доктор Миллер выключила свой голопроектор и исчезла. Пожав плечами, Тревельян обратился к инженерной группе, в которой было трое: Джикат Ду, Теругга и Кафингар Миклан Барахеш. Все – терукси, очень красивые мужчины внушительного роста и телосложения. Внешне они ничем не отличались от землян, да и в генетическом смысле тоже; их метаболизм был практически адекватен человеческому, и скрещивание рас давало вполне жизнеспособное потомство. – Ваши эксперименты надо приостановить, коллеги. Особенно те, которые проводит Кафингар Миклан Барахеш. Этот инженер-терукси был специалистом по управлению погодой, изучавшим проблему орошения Кьолла с помощью искусственных дождей. Джикат Ду и Теругга занимались терраформированием. Кафингар мягко улыбнулся. – Называйте меня Кафи, координатор. Мы восприняли земной обычай сокращать длинные имена. Если позволите… – Он пригладил светлые мягкие волосы, падавшие волной на левое плечо. – Возможно, я сумел бы справиться с нашими затруднениями. В горах, у вулканов, и в Великой Южной Пустыне есть мои установки. Великолепно говорит на земной лингве, отметил Тревельян. Приятный человек, улыбчив и контактен, как все терукси. Правда, его соплеменники Джикат и Теругга улыбок не расточали, что, вероятно, объяснялось запретом, наложенным на их исследования. – У вас есть предложение, коллега Кафи? – поинтересовался Тревельян. – Да, координатор. Думаю, я мог бы загнать этих дикарей шас-га обратно в северную степь. – Каким же образом? – Скажем, устроив песчаную бурю. Землетрясение тоже подойдет… потоки лавы, выброс вулканических бомб, удушающее облако сернистых газов… Если хотите, я даже могу вызвать циклон направленного действия. – Мы это уже обсуждали, Кафи, – с мягкой улыбкой произнесла Энджела Престон. – Я ведь тебе объясняла, что любые меры, повлекшие массовую гибель разумных существ, негуманны и потому исключены. – Помилуй бог, как говорят у вас! – воскликнул специалист по управлению погодой. – Нужно ли из-за этого тревожиться, Энджи? Ведь шас-га – каннибалы, почти животные! И они идут на Кьолл! Да они его просто съедят! – Тем не менее Энджела права, – возразил Тревельян. – Способ, который вы предлагаете, по сути аналогичен применению оружия. Если бы все решалось так примитивно, сюда прислали бы не меня, а боевой фрегат. – Он отступил к хрустальной стене, коснулся ее плечами и, оглядев своих сотрудников, произнес: – Вот что, коллеги… Похоже, скоро мне придется отлучиться, так что я назначаю заместителями Энджелу и Юэн Чина. Океанологи и доктор Миллер пусть возвращаются в свои лагеря, остальных прошу оставаться на базе. Можете заняться анализом собранных материалов или принимать солнечные ванны… – Тут Ивар покосился на планетолога Веронезе, соблазнительно изогнувшуюся под гондванской пальмой. – Вы должны быть здесь не только потому, что это гарантирует вашу безопасность. Возможно, мне потребуется помощь… возможно, в помощи будет нуждаться Кьолл или поселения на западе и востоке… Но что бы ни случилось, я рассчитываю на вас. – Повернувшись к стене, за которой висели два солнца, белое и алое, он закончил: – Пока все. Работайте, отдыхайте, наслаждайтесь прохладой, видом деревьев и запахом зелени… Энджела и Юэн, прошу уделить мне еще немного времени. Нужно поговорить. Девять голограмм погасли одна за другой. В просторной комнате остались трое.* * *
Небо за прозрачной стеной было темным – пик Шенанди поднимался в стратосферу, и здесь, на высоте шестнадцати километров, воздух практически отсутствовал. Но на территории базы дышалось свободно – накрывавший ее силовой экран удерживал живительный газ и предохранял от жесткого излучения Асура и Ракшаса. Первое из этих солнц являлось красным гигантом, чей диск казался раза в четыре больше светила Земли, второе, горячий белый карлик, выглядело ослепительным прожектором, подвешенным на невидимой нити. В этой двойной звездной системе доминировал Асур; Равана обращалась вокруг него за 748 суток, а сутки, если измерять их относительно красного солнца, состояли из двадцати восьми с половиной земных часов. В данный период астрономической истории сутки, отсчитанные по восходам Ракшаса, были почти такими же, но белое солнце раньше вставало и раньше садилось, так что день на планете был в среднем на 77 минут длиннее ночи. Два восхода и два заката порождали в атмосфере красочные эффекты, но наблюдать их на пике Шенандине представлялось возможным; тут висели в темных небесах алое и белое светила да виднелась редкая россыпь далеких звезд. – Что ты намерен делать? Собираешься загнать шас-га обратно в степь? – раздался голос Юэн Чина, и Тревельян оторвал взгляд от неба и струившихся внизу облаков с торчащими над ними горными вершинами. Зрелище было великолепным, и не верилось, что под облачным покровом царят духота и жуткий зной. – Загнать обратно? – повторил он. – Да, разумеется, но не сейчас. В данный момент у нас другая задача. – Чтобы вернуть их на прежнее место, надо понять, каким образом они преодолели горы. Нам это не удалось, – промолвила Престон, и Ивару показалось, что в ее голосе сквозит напряжение. Он кивнул, подумав, что Энджела всегда отличалась прагматизмом и ясностью мышления. Без этих качеств ей не доверили бы пост координатора, и не ее вина, что ситуация на Пекле накалилась. У каждого свои задачи, и специалисту по вулканам трудно разобраться в психике и побудительных мотивах диких племен. – Да, ответ на этот вопрос – первостепенная проблема, – подтвердил Тревельян. – Считается, что перебраться через Поднебесный Хребет невозможно. В одних местах – активная вулканическая деятельность, потоки лавы, трещины в почве и ядовитые облака в ущельях и на склонах гор. В других, более спокойных в этом отношении, неприступные скалы и перевалы, лежащие на высоте восьми-двенадцати километров. Нам известно, что контакты между степью и более цивилизованными районами за хребтом все же происходили, но осуществлялись по морю и были очень редкими. Никто не мог представить, что с севера явится целое войско… Но раз это случилось, значит, произошли изменения. Какие? В горах открылся разлом после сильного землетрясения?.. Шас-га отыскали цепочку пещер, соединяющих северный и южный склоны?.. Или в районе какого-то перевала, расположенного на доступной высоте, заткнулся вулкан?.. – Нет, Ивар, нет. – Энджела покачала головой. – Такие феномены мы бы не пропустили. Все эти предположения обсуждались не раз, и все они – ты уж не обижайся – лежат на поверхности. – Никаких обид, – сказал Тревельян и вызвал карту центрального континента. Она раскинулась в воздухе, точно серо-желтое покрывало, пересеченное темным барьером гор. На Пекле имелись пять материков, занимавших добрых две трети планетарной поверхности, так что водные бассейны были представлены в основном проливами, мелкими и очень солеными внутренними морями и двумя небольшими океанами у полюсов. Пекло открыла и исследовала экспедиция Сокольского-Шенанди, и, по решению ее координаторов, солнца Асур и Ракшас, планета Равана, естественный спутник Гандхарв и континенты Хираньякашипа, Вритра, Шамбара, Раху и Намучи получили названия, взятые из древнеиндийской мифологии [82]. Самый крупный материк, Хираньякашипа или Хира, превосходил по площади земную Евразию вместе с Африкой и распадался в меридиональном направлении на несколько зон. На севере – степи и пустыни, в которых кочевал народ шас-га; эта обширная равнина была ограничена горами, что поднимались от западного моря до восточного. В центральной части этот Поднебесный Хребет достигал десяти-шестнадцати тысяч метров; такие огромные высоты плюс крутые склоны гор, разреженный воздух и обилие вулканов делали его неодолимым препятствием для кочевников севера. Хребет задерживал облака, заставлял их проливаться дождями и порождать ручьи, орошавшие южный склон. Правда, вода была плохой, насыщенной сероводородом и другими примесями, но все же ее хватало для поддержания жизни в сотнях оазисов, находившихся между предгорьями и экваториальной пустыней. Их цепочка тянулась почти на четырнадцать тысяч километров, и в этом поясе, получившем название Кьолл, а также в торговых городах восточного побережья и поселениях западного, был центр местной цивилизации. К югу лежала Великая Пустыня, где бродили разбойничьи племена, и там, в районе экватора, стоял невыносимый зной. Местность постепенно повышалась, и пески сменял камень плоскогорий, выходивших к Южному полярному океану гигантскими обрывами. Там тоже обитали какие-то дикари, очень немногочисленные и пока не изученные эмиссарами ФРИК. Что неудивительно – Фонд трудился на Пекле только шесть десятилетий, и основное внимание в этот период уделялось странам Подножия Мира, то есть баронствам Кьолла и центрам морских народов туфан и ядугар. Теперь все усилия земных цивилизаторов были под угрозой. Раз кочевники проникли на южную сторону хребта, от Кьолла и прибрежных городов останутся одни руины, а от их населения – груды костей. – Они примерно здесь. – Тревельян коснулся точки на востоке горной цепи. – Когда-то я бывал в этих местах, искал сладкую воду в обличье хишиаггина. Их лагерь между двумя владениями – барона Оммиттахи и этого… как его… – Волосатого Инкагассы, – подсказал Юэн Чин. – Инкагасса давно скончался от старости и обжорства, но Оммиттаха жив-живехонек. Только сильно одряхлел. Тревельян в задумчивости уставился на карту. – Полагаю, Серый Трубач разграбит эти оазисы и, возможно, ряд соседних. Этому мы не успеем помешать. Чтобы подобраться к Трубачу и внедриться в его окружение, мне нужно дней двадцать. Но главное – выяснить, как он проник к Подножию Мира… Это тоже требует времени. – Отправишься в степь? Ты уверен, что это хорошая идея? – спросила Энджела Престон. Теперь в ее голосе звучала тревога. – Других кандидатур пока не имеется. Шас-га нашли проход, войско перебралось в южные предгорья, но в степи остались их женщины, дети, стада и какое-то количество мужчин – пастухи и воины, не успевшие к общему сбору. Надо проследить миграцию запоздавших. Очевидно, они будут стягиваться к проходу в горах. – Это можно сделать с помощью спутника, – заметил Юэн Чин. По правилам ФРИК, любой патронируемый мир снабжался сателлитом наблюдения и межзвездной связи, на орбите Пекла тоже имелась такая станция. Тревельян об этом не забыл. – Я уже подключился к спутнику, Юэн. Я привез с собой Мозг, устройство с искусственным интеллектом, и сейчас он анализирует передвижения групп кочевников. Думаю, к красному закату все будет завершено. Утром я возьму флаер и вылечу в степь. А сейчас… – Ивар почесал в затылке. – Кто у вас занимается биопластикой? Мне нужно сделать лицо и поставить пару имплантов – боевой и дополнительный медицинский, для быстрой адаптации. – Этим займусь я сам, – промолвил Юэн Чин. – Твою плоть, дружище, я никому не доверю. Таким красавцем тебя изображу! Степные дамы будут в восторге! Этнограф ухмыльнулся, и Тревельян ответил ему кислой улыбкой. Женщин он любил, но от степных дам, как и от всех прочих обитательниц Пекла, его слегка подташнивало. Сказать, что они были уродливы, значило сделать им комплимент, причем весьма изрядный. В его карьере ксенолога были моменты, когда приходилось странствовать по раскаленным пустыням, окунаться в ледяные воды, пить жуткое пойло, закусывать инопланетными червями или чем-то совсем уж противным земному метаболизму, но с такими неудобствами справлялся медицинский имплант. Однако на женщин – там, где они попадались, – действие импланта не распространялось. Женщин Ивар предпочитал изящных, симпатичных и, желательно, чистых. Таких, как милая Анна Кей, с чьим изображением он познакомился на транспортном судне во время полета к Раване. – Пойду подготовлю аппаратуру, – сказал этнограф. – Это не займет много времени. – Подожди. Во время моего отсутствия пусть делами миссии управляет Энджела. Ты, Юэн, будешь на связи со мной. И еще одно… Твой практикант Инанту достаточно опытен, чтобы послать его в торговые города? – У туфан, как я тебе сказал, он бывал не раз. Что нужно сделать? – Проверить их боеспособность. Городские укрепления, численность и состав гарнизонов, вооружение и все такое… Заодно пусть поищет шас-га и выяснит, откуда они взялись. Помнится мне, что у туфан и кьоллов есть рабы-северяне. – Это ему по силам, – сказал Юэн Чин, поднимаясь. Они с Престон направились к дверям, но у порога Энджела вдруг остановилась и спросила: – Что с тобой произошло на пути к Раване? Мы получили сообщение от Консулата, что ты задержишься в Провале на несколько дней. Были какие-то неприятности?– Нет, – ответил Ивар и насупился, вспомнив о своем потерянном спутнике и предке, славном командоре Тревельяне-Красногорцеве. – Никаких неприятностей, Энджи, только сложности… Будет время, расскажу. С тихим шорохом сдвинулась дверь, и он остался в комнате один.
* * *
Четвертый этаж башни был жилым. Ниже находились лаборатории, выше – резервные помещения, а на самом верху – солярий, бассейн и небольшой цветник. В круглом холле жилого этажа тоже имелись растения – огромный куст генетически модифицированных пионов. Повинуясь неведомому для Энджелы ритму, на нем распускались то белые, то розовые, то багряные цветы, наполняя воздух нежным, приятным ароматом. Сейчас куст выбросил белые бутоны, самые любимые. Энджела остановилась, чтобы полюбоваться ими. В холл выходили восемнадцать дверей личных апартаментов, и столько же в запасе на пятом этаже; при необходимости штат миссии можно было увеличить втрое. «Такую группу мне не доверят», – подумала Энджела. Собственно, нынешний персонал ей не доверили тоже… Обидно! Хотя справедливо. Вздохнув, она направилась в свой жилой отсек. Там, у прозрачной стены, выходившей на запад, сидел Кафингар Миклан Барахеш, и лучи Ракшаса золотили его длинные волосы. В его глазах было столько нежности, что сердце Энджелы замерло. Он поднялся и обнял ее. – Ты расстроена, моя чатчейни? Чатчейни – маленькая пушистая птичка с его родины… Так мужчины-терукси обращаются к возлюбленной. Энджеле нравилось это слово, как и губы Кафи, искавшие ее губ. – Нет, – пробормотала она, задохнувшись от поцелуя, – нет, милый… Конечно, она была расстроена, и Кафи, с присущей терукси чуткостью, это заметил. Она не справилась, и Юи Сато прислал Ивара… Не кого-нибудь, а Ивара Тревельяна, словно, не подозревая о том, хотел напомнить ей о сделанной ошибке. Все могло повернуться иначе, будь она в те годы уступчивей – возможно, у них с Иваром было бы сейчас пять сыновей или хотя бы две дочери, как в семье Исаевых… Но юности присущ максимализм. Все или ничего! Ничего и не осталось… Теплые губы Кафи напомнили ей, что это совсем не так. Улыбнувшись, она села в широкое кресло у окна, и Кафи, как обычно, устроился рядом. – Почему он здесь? Именно он? – спросил Кафингар. Энджела знала, что его вопрос не продиктован ревностью, ибо терукси не были знакомы с этом чувством; просто ее возлюбленный понимал – что-то здесь не так. – Ивар один из лучших разведчиков Фонда, – произнесла она. – Неудивительно, что его отправили к нам. Его опыт и решительность… Энджела смолкла. Кафи взял ее ладонь, принялся перебирать и поглаживать тонкие пальцы. Эта ласка успокоила ее. – У вашего Фонда много опытных и решительных разведчиков, – произнес он. – Чем Ивар лучше других? – Не лучше – удачливей, – сказала Энджела. – Ты ведь слышал про Осиер? Слышал, что он отыскал там парапримов? – Новую расу, которая, как и мы, занимается прогрессорством? Да, знаю. Кажется, к ним направили корабль с эмиссаром ФРИК? – Направили, но дело не в этом. Подумай, часто ли мы находим цивилизации чужих?.. Я думаю, для этого нужно особое везение. – Ну, вы нашли нас, – возразил, подумав, Кафингар. – Нашли чужаков-терукси. – Вы не чужаки. – Энджела прильнула к его плечу. – Ты мне не чужой. Может ли быть иначе? Наступила тишина, прерываемая лишь тихим дыханием и звуками поцелуев. Наконец Энджела прошептала: – Я догадываюсь, почему его прислали… я заглянула в архивы миссии… Он был здесь, Кафи, был! Давно, совсем юным… таким же стажером, как Инанту… Я об этом не знала. Это случилось после того, как мы разошлись и очень обиделись друг на друга. – Ты и сейчас обижена на него, чатчейни? – Нет, конечно, нет! Если на что и обижаться, так на судьбу… мы были такими молодыми, такими глупыми… – К счастью для меня. Вы, земляне, нашли терукси, а я, недостойный, нашел свою любимую, – с нежностью произнес Кафингар. Потом спросил: – Значит, Ивар здесь стажировался… И что же дальше? – Сейчас, когда мы беседовали в его отсеке, он упомянул, что знает район у владений Оммиттахи и Кадда, наследника Инкагассы. У него есть опыт, ему знакомы местные условия… и он не раз имел дело с дикарями… даже с такими жуткими, как эти шас-га… – Голос Энджелы дрогнул. – Он хочет к ним отправиться. Представляешь, полететь в пустыню к этим убийцам, этим людоедам! Я такое и представить не могу! – У тебя другая специальность, – напомнил Кафингар. – Ты планетолог. – А ты? Ты бы смог? Он отбросил прядь волос с плеча и совсем по-земному покачал головой. – Вряд ли. Мое занятие – погодные установки. Вот если бы вы разрешили устроить небольшой ураган… ну, совсем-совсем крохотный… Улыбнувшись, Кафингар Миклан Барахеш махнул рукой.Подавляющая масса населения Земной Федерации положительно относится к деятельности ФРИК и готова нести связанные с нею финансовые затраты. У большинства людей создание Фонда ассоциируется с концом противоборства Земли с ее галактическими соседями; они, не вникая глубоко в суть происходящего, оценивают Фонд по декларируемым его руководством принципам. Однако среди политиков и специалистов, в первую очередь историков и ксенологов, не существует столь однозначного мнения. На Руинах, Горькой Ягоде, Рухнувшей Надежде и в ряде других миров Фонд потерпел сокрушительное поражение, попытавшись прогрессировать цивилизации, находившиеся на уровне двадцатого века Земли. Результатом этих катастроф явилось представление о Пороге Киннисона, которое будет рассмотрено в дальнейшем. Но даже с учетом этого нового знания, прогрессорство считается рискованным делом; в нем искусство и личные качества эмиссара преобладают над точными расчетами. К сожалению, мы не можем дать уверенный прогноз различных вариантов развития инопланетной цивилизации, а значит, не в состоянии предвидеть, приведут ли наши действия к положительным или отрицательным результатам. Все теоретические построения специалистов лишь вуалируют простой факт: мы приходим в архаический мир, мы видим, что его обитатели несчастны, и мы пытаемся им помочь.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 2. Феномен прогрессорства.
Глава 2. Встречи
Ракшас – белое солнце – опустился за горный хребет, гигантский диск красного Асура неторопливо погружался в облака, подсвечивая их кровавыми лучами. Интервал между закатами двух светил, как и между их восходами, испытывал прецессию с периодом сто двадцать тысяч лет, и в отдаленной перспективе ночь на планете должна была исчезнуть, сменившись чередованием красных и белых дней. Когда от Асура остался только алый серпик над пеленою туч и небо потемнело, Ивар отправился в гости. Далеко идти не пришлось – до дверей апартаментов Исаевых было ровно двадцать шагов. Большая комната носила явный след женской руки: на стенах – гобелены с изображениями цветущих яблонь и персиковых деревьев, на полу – ширазский ковер, мягкие оттоманки завалены подушками, восьмиугольный низкий столик украшен орнаментом, вязью арабских письмен. «Хвала Аллаху, господу миров», – прочитал Тревельян и, подумав, что вещь, вероятно, старинная, опустился на диванчик. Трапеза была великолепной: водоросли со вкусом грибов, местные трепанги, тушенные в собственном соку, какая-то рыба из южных морей с нежным розоватым мясом, таявшем на языке, устрицы величиной с ладонь и охлажденный фруктовый шербет. Отведав всего понемногу, Тревельян огладил лицо ладонями и, запинаясь – древнеузбекский он помнил не очень хорошо, – пробормотал благодарность хозяйке дома. Лейла порозовела от удовольствия. – О твоих подвигах на Осиере мы наслышаны, из центра нам послана справка, – произнес Петр. – Но сейчас ты прилетел с Сайката, верно? – Отчасти. С Сайкатской Исследовательской Станции, – уточнил Тревельян. – Это сателлит, подвешенный над планетой, база комплексной экспедиции. – Кажется, совместный проект с кни'лина? – спросила Лейла. – Я слышала, там, на Сайкате, две расы враждующих гуманоидов, и ФРИК желает их развести, переселив одно из племен на другой материк. – Ну, моя девочка, до гуманоидов им далеко, это не гуманоиды, а примитивные гоминиды каменного века. Группа кни'лина начала исследования, а меня послали ревизором – предполагалось, что я проверю их рекомендации и подготовлю почву для прибывающей через пару месяцев миссии ФРИК. Дело казалось несложным, однако… – Однако? – повторила Лейла, когда молчание затянулось. Ивар вздохнул. – Среди кни'лина начались склоки. Поначалу я думал, что сцепились кланы похарас и ни, но ситуация была сложнее. Я не сразу врубился, и многие из них погибли. – Погибли!.. – Лейла в ужасе всплеснула руками. – Да. Злопамятный народец… Они сводили давние счеты, а на сайкатских дикарей им было наплевать. – Ты в этом не виноват, – молвил Петр. – Не виноват, – подтвердил Тревельян. – Но все равно неприятно. Он отхлебнул шербета и снова вздохнул. Шербет казался похожим на один из напитков кни'лина – они были великие мастера по составлению коктейлей из фруктовых соков. – То-то я смотрю, что ты какой-то грустный, – сказал Петр. – Беспокоишься как там, на станции? – Нет. Специалистов кни'лина – тех, кто остался в живых, – заменили, прилетела земная группа, и сейчас там командует Роберт Щербаков. Он назначен координатором. Лейла подлила Ивару шербета, пробормотав: – Но все же ты печален… – Есть немного. – Тревельян вздохнул в третий раз. – Меня отправили на Пекло в транспортном корабле, маршрутом через Хаймор и Горькую Ягоду. Последние прыжки пришлись на Провал, и я очутился у звезды, не описанной в Атласе. Там была планета… Хтон, как я ее назвал… дыра дырой, но я решил на нее заглянуть. – Почему? – спросила Лейла. – Были причины, детка. – Авантюрист… – буркнул Петр. – Не такой уж авантюрист! Я нашел древние руины, обследовал их, вступил в контакт с биоморфами Хтона и вызвал боевой корабль. Сейчас там фрегат Звездного Флота. Полагаю, вслед за ним пришлют большую экспедицию. Темные глаза Лейлы вспыхнули, рот приоткрылся. – Там было что-то интересное, Ивар? Очень опасное? – прошептала она. – Опасное? Нет, не слишком. На Хтоне обитали человекоподобные существа, современные даскинам [83] и очень агрессивные. Даскины решили, что они нарушают мир в Галактике, и расправились с ними. Как именно, я не готов объяснить… В общем, население вымерло, но остались несколько киборгов-биоморфов и генетическое хранилище, так что можно клонировать эту расу. Разумеется, под нашим контролем. – Даскины!.. – Глаза Лейлы округлились. – Черт побери! – воскликнул Петр, в изумлении уставившись на Тревельяна. – Но это еще не все, – продолжил Ивар. – В разрушенном городе мне попалась скульптурная группа, изображавшая лоона эо. Четыре существа, взявшись за руки, стоят на пьедестале из гранита… Я видел такой же памятник в Посольском Куполе у сервов [84] – давно, когда проходил там стажировку. Серв, показавший мне статуи, заметил: это знак, что мы здесь побывали… Выходит, когда-то они и до Хтона добрались… Но зачем? Это мертвый мир в бездне Провала! Зачем, почему, с какой целью?.. Не спрашивайте меня, я не знаю ответов. Супруги переглянулись. – Ответы когда-нибудь появятся, – произнесла Лейла. – Сейчас важнее факты. Найденный тобою древний памятник – большое открытие. – Несомненно, – подтвердил ее муж. – Ты можешь гордиться, Ивар! – Я горжусь, – сказал Тревельян и опять вздохнул. – А почему вид такой тоскливый? С кем разделить печаль, если не с друзьями?.. – подумалось Ивару. Он выпил шербета, откинулся на подушки и произнес: – На Хтоне мне пришлось оставить своего спутника. Мой дед… точнее, мой далекий предок по отцовской линии, командор Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, погибший когда-то в битве с дроми… Без него мне как-то неуютно. – Теперь я понимаю… твой призрачный Советник… [85] – кивая темноволосой головкой, протянула Лейла. – Но для чего ты его оставил на этом Хтоне? – Я ведь сказал, что там есть киборги-биоморфы, а у каждого – целый арсенал боевых роботов. Они враждуют, Лейла! Бьются так, что камни в песок рассыпаются, песок лавой течет, а лава дымом в воздух уходит! Бессмысленное, бесконечное побоище… А мой старик – великий полководец! Он их живо в чувство приведет! Что до меня… ну, я подожду. Закончим с Серым Трубачом, вернусь на Хтон, проверю, какой порядок дед навел. Да и этими статуями нужно заняться. Петр похлопал Тревельяна по плечу, Лейла с сочувствием вздохнула, поднялась и принесла чай и блюдо со сладкими пирожками бармак, приготовленными по древнетатарскому рецепту. «Друзья есть друзья», – умиленно подумал Ивар, наворачивая пирожки. – Я вам поведал массу интересного, – произнес он с набитым ртом. – Теперь вы мне что-нибудь расскажите. – Например? – поинтересовался Петр. – Ну, скажем, про юного стажера Инанту… Что он за парень? Крепкий? Инициативный? Не пугливый? Есть для него задание… Юэн его рекомендует, но я хочу и вас послушать. – Очень милый мальчик, – сказала Лейла. – Этого мало, – заметил Тревельян. Петр усмехнулся. – Паренек достойный, но авантюрист. Похож на одного нашего друга-приятеля… Ты заметил, как он на тебя глядит? – Заметил. – А знаешь почему? Ты – его герой! Так сказать, эталон и образец для подражания! Он кристаллы с твоими отчетами до дырок протер! Ивар очистил блюдо, запил шербетом и молвил: – Приятно знать, что растет достойная смена. Пирожки, кстати, восхитительные… А что вы про нашего доктора скажете, про Нору Миллер? Мне показалось, что дама слегка резковата. Лейла потупилась, Петр хмыкнул. Затем произнес: – Пунктик у нее – хочет записи даскинов расшифровать, собирает о них информацию. Погоди, разошлют по базам твои материалы об этом Хтоне, она в тебя вцепится – клещом вцепится, не оторвешь! Очень странная особа… я бы сказал, однобокая, не как иные. – Тут он ласково поглядел на Лейлу. – Ни семьи, ни детей, ни друзей, ни даже приличной внешности. Только наука на уме. – Ясно, – сказал Тревельян. – Таких в старину называли… э-э… зеленый чулок. Или желтый?.. Ну, неважно. Когда вы летите на свой остров? – Завтра. – Лейла щелкнула пальцами, и из кухонной ниши вылез маленький робот с новым блюдом пирожков. – Могли бы и сегодня, но очень хотелось с тобой посидеть. – Я это ценю. – Ивар потянулся к блюду и, взглянув на яркие гобелены, заметил: – В Самарканде сейчас весна… сады цветут, настоящие яблони… прелесть! Я слышал, у вас там высадили деревья бон с планет терукси? – Высадили, – подтвердил Петр. – Это ты к чему? – У терукси тоже красиво, и экология на уровне… Утром я в отчеты заглянул, в материалы терраформистов. Вроде бы они свои дела закончили месяца три назад, а все не улетают. Это отдельная команда, не из ФРИК, так что им здесь торчать? Лейла хихикнула. – Есть причины… – Конечно, есть. Инанту на меня глядел, а Кафингар – на Энджелу… причем с обожанием, клянусь Великой Пустотой! Ну, его я понимаю. А коллеги что же? Что им тут сидеть? Пекло – неприятный мир… – У терукси очень развита мужская солидарность, – пояснил Петр. – К тому же Кафи в их группе старший, а уважение к старшим у них в крови. Они будут сидеть на Пекле столько, сколько пожелает Кафингар. Ивар кивнул, и беседа переключилась на другие темы, на дочерей Исаевых, их поместье под Самаркандом и воспоминания юных лет. Когда Тревельян покинул гостеприимных хозяев, была середина ночи; свет в холле померк, на жилом ярусе царила тишина, и в огромном хрустальном окне сияла редкая россыпь звезд и плыл зеленоватый диск Гандхарва. Остановившись у куста пионов, благоухавших сладко и тревожно, он всмотрелся в висевшие рядом зеркала. Прошло часов шесть, как Юэн Чин запустил процессы биотрансформации, и внешность Ивара начала меняться: лицо становилось более узким, словно его сдавливали с обеих сторон, рот и зубы делались крупнее, кожа – смуглее, а постепенно удлинявшиеся волосы уже достигали плеч. К утру он примет облик шас-га, воина Белых Плащей или Пришедших С Края, не столь ужасных видом, как Зубы Наружу. Но так или иначе обличье у него станет устрашающим. Тревельян пощупал импланты: медицинский – под ребрами, и боевой – в указательном пальце. Кроме того, в плече сидело устройство для голографических иллюзий, имевшее защитную функцию – обмануть и отпугнуть. Импланты уже прижились; надавливая на них, он чувствовал лишь упругое сопротивление мышечной ткани. Почти инстинктивно он коснулся виска, где прежде сидел кристаллик с личностью командора, и вздохнул, не ощутив привычной ментальной связи. «Дед сейчас командует легионами на Хтоне… – мелькнула мысль. – Мозг, искусственный интеллект, вывезенный с Сайката, его, конечно, не заменит, хотя помощник он неплохой. Помощник, и только… Многого ему не хватает – юмора, человечности, тепла…» Заслышав шорох, Ивар обернулся. Одна из выходивших в холл дверей сдвинулась, и в проеме маячила тонкая женская фигурка. Свет, падавший из жилого отсека, пронизывал полупрозрачное одеяние, и платье не скрывало почти ничего, ни длинных стройных ног, ни мягких очертаний плеч и талии. Девушка пристально глядела на него. Пряди рыжих волос падали на грудь, пальцы теребили их, перебирали, в зеленых глазах затаилась лукавая усмешка. В горле у Тревельяна пересохло. Цветочный аромат туманил голову, полумрак, царивший в холле, навевал грешные мысли. Он откашлялся, шагнул к женщине и произнес: – Бессонница, Анна? Одолевают мечты о грохоте вулкана и шорохе ползущей лавы? Под эти звуки лучше спалось? Она сморщила носик. – Не люблю спать в одиночестве – по крайней мере в те дни, когда я без скафандра. Зайдешь? Предложение было соблазнительным, но Ивар лишь покачал головой. – Мне нужно еще поработать. И потом… Девушка перебила его: – Работа, работа! Все вы помешаны на работе! Для работы есть Поднебесный Хребет, и Кьолл, и пустыня, и весь этот мерзкий мирок, а здесь нужно отдыхать! В этом месте мы не ксенологи и планетологи, не сотрудники Фонда и не герои-первопроходцы, а просто мужчины и женщины! – В общем-то ты права, – ответил Тревельян, поразмыслив. – Но напомню: я сказал «и потом». – А что потом? Анна Веронезе раскраснелась и была чудо как хороша. Пару секунд чувства Тревельяна сражались с сознанием долга. Долг победил. – Завтра я собираюсь в степь, и Юэн уже облучил меня в биотроне. Начались изменения… – Он придвинулся ближе, позволив свету упасть на лицо. – Неужели ты хочешь проснуться утром и увидеть в своей постели жуткого шас-га? – Это было бы интересно, – заметила Анна. – Насколько я знаю местную биологию, у шас-га, кьоллов, туфан и так далее все устроено, как у людей. Запах, правда, неприятный… Но ты ведь будешь не настоящим шас-га, а чистым или хотя бы не очень грязным. Она потянулась к Тревельяну, но тот отступил на пару шагов. – Очень сожалею, моя прелесть… искуплю при первой возможности… клянусь своим погребальным кувшином… [86] Девушка рассмеялась. – Не бойся, я не стану гоняться за тобой по всей башне и будить уснувших коллег. Я тебя где-нибудь подстерегу… у пальмы или в бассейне. – Договорились, у пальмы, – сказал Тревельян, отступая к дверям своих апартаментов. Но Анна, сделавшись вдруг серьезной, пошла за ним. – Подожди, Ивар, подожди… Я не за тем тебя поджидала, чтобы затащить в постель… то есть это не исключается, совсем нет… – Ее щеки вспыхнули. – Но я хочу спросить… – Да? – Ивар остановился. – Я восемь лет в системе ФРИК, двадцать месяцев на Пекле, но у тебя гораздо больше опыта. Скажи, зачем мы здесь? Здесь и в других мирах, где людям Земли вовсе не место? Какой в этом смысл? «Хороший вопрос!» – подумал Тревельян. Было время, когда он сам его задавал и, доискиваясь ответа, терзал своих наставников, копался в старых книгах и современных ученых трудах, спорил с сокурсниками и учителями. Какой в этом смысл?.. Слишком мягкая формулировка, выбранная теми, кто опасается спросить иначе: какое у нас право? Почему мы лезем в жизнь других миров, пусть не столь совершенных, как наш? Кто просил нас о помощи? Кто выдал мандат на изменение их судеб? И если уж мы этим занимаемся, откуда известно, что наши усилия – к добру?.. Это не касалось споров с равными по мощи. Подобные конфликты разрешала война, или искусство дипломатов, или толерантность и терпение, но, во всяком случае, противоборствующие стороны осознавали ситуацию и могли защититься. Любая звездная цивилизация владела боевыми флотами, крепостями и сотнями колонизированных миров, мощной технологией, неисчерпаемым демографическим ресурсом, но главное – самосознанием расы и исторической перспективой. Собственно, она уже не являлась чем-то отдельным, обособленным от своих партнеров, а входила в галактический клуб, существовала в русле межзвездной политики и развивалась, с учетом угроз или благ, проистекающих от соседей. Но те, кто не имел иного оружия, кроме клинка и топора, кто поклонялся небу и солнцу, льдам и камням, кто жил в нереальном мире, полном богов и демонов, – те были поистине беззащитны. Вести их за собою, как детей?.. Но дети-то чужие, и права усыновить их нет ни у кого. Девушка смотрела на Тревельяна, и ее взгляд был настойчивым и тревожным. «Что я могу ответить?..» – подумал он и произнес: – Ты спрашиваешь о том, что неподвластно логическому анализу. Зачем мы здесь? Какой в этом смысл?.. А есть ли смысл в жизни вообще и в чем он заключается? С какой целью мы родились и копошимся в этой галактической ветви, расселяемся среди звезд, деремся то с фаата, то с дроми, то с кни'лина? В чем смысл нашего существования? Не проще ли, появившись на свет, сразу вытянуть ножки? Вселенной от этого ни холодно ни жарко, и в ней не прибавится ни зла, ни добра. Анна Веронезе замотала головой. Взметнулись рыжие локоны, сверкнули изумрудные глаза, рот упрямо сжался. – Ты отвечаешь вопросом на вопрос. Это нечестно! – А честно задавать мне такие вопросы? Я не Господь Бог, я даже не консул Фонда! – Помолчав, Ивар тихо промолвил: – Мы хотим творить добро. Удается не всегда, но мы стараемся. Другого ответа у меня нет. – Мы творим добро, исходя из собственных понятий, – сказала Анна. – Вот, например, эти шас-га, что прорвались за хребет… Положим, ты загонишь их обратно, спасешь побережье и Кьолл, но ведь когда-нибудь они вернутся! Вернутся, Ивар! Мы закроем один проход, они найдут другой… или схватят купцов туфан и приплывут на их кораблях в Негерту и Саенси… или придумают что-то еще… Чтобы избавиться от этой угрозы, ты должен их уничтожить, как предлагал Кафингар! Но будет ли это благом и добром? Для Кьолла – разумеется, а для самих шас-га? Тревельян пожал плечами. – Такие дилеммы возникают постоянно и разрешая их, мы должны исходить из конкретной ситуации. Я с тобой согласен: появится другой Серый Трубач и поведет свои племена за горы… Наша задача – сделать это вторжение не слишком разрушительным. Мы здесь больше полувека и все это время занимались Кьоллом и приморскими народами. Теперь нужно цивилизовать степняков. Возможно, лет через сто, когда шас-га снова доберутся до Кьолла, они хотя бы не будут людоедами. – Большое достижение, – то ли насмешливо, то ли серьезно сказала девушка и направилась к своей двери. – Спокойной ночи, Ивар. Когда-нибудь мы закончим этот разговор. Тревельян хмуро глядел ей вслед. Вспомнился ему Осиер, где он, странствуя в обличье местного рапсода, встретил хранителя той планеты и ее странной цивилизации, вполне архаичной, однако не поддававшейся усилиям ФРИК. Эта встреча являлась, несомненно, самым важным из его открытий: чтобы найти собратьев по разуму, неведомый доселе галактический народ, нужна особая удача. Хранитель был парапримом – так назвали эту расу на Земле – и, в сущности, таким же прогрессором, как Ивар и его коллеги. Но свою задачу он видел в другом: не развивать Осиер ускоренными темпами, а защитить от внешних воздействий – прежде всего от землян. Были у него претензии к Фонду, были! И к Фонду, и ко всей человеческой расе! Может быть, справедливые? «Вы настолько обуяны гордыней, – сказал параприм, – что считаете, будто вправе явиться в чужой мир и переделывать его по собственному разумению. Вы занимаетесь этим, уподобляясь богам из ваших собственных легенд. Ускоряете то, подталкиваете это… Торопите, торопите! Быстрее, еще быстрее, совсем быстро! Чтобы ваших собратьев здесь и в других мирах стало больше, стало совсем много, миллиарды и миллиарды! Чтобы всякий клочок океана и суши были под контролем, чтобы ваши машины плодились, как блохи в собачьей шкуре…» Что-то еще он говорил, что-то насчет кораблей и оружия, а потом произнес: «Быстро и много – не значит хорошо. Как следует из вашей собственной истории, быстрый прогресс не увеличивает счастья». «Это верно, – подумал Тревельян. – Верно, если вспомнить, что творилось на Земле в двадцатом веке, да и в двадцать первом тоже». Дверь его отсека сдвинулась, он вошел и встал у прозрачной стены, глядя на зеленоватый диск, висевший в небе. Лучи Гандхарва тонули в плотном слое облаков, порождая в них нефритовые отблески, и это было сказочно красиво. Не хотелось думать о том, что под ними лежат жаркие безводные равнины, такие огромные, что Гоби, Сахара и все другие древние пустыни Земли закрыли бы лишь небольшую частицу этих пространств. Тревельян стоял, вспоминая слова Петра и Лейлы, заботливо укладывая в памяти все услышанное: об Инанту, пареньке достойном, но авантюристе, о Норе Миллер – зеленом или, возможно, желтом чулке, без семьи, детей, друзей и даже без приличной внешности, о терукси Кафи, страстно влюбленном в Энджелу, и его компатриотах. Если добавить сюда рыжего планетолога Веронезе с ее темпераментом и сомнениями, то кое-что полезное он о коллегах узнал. Конечно, не из пустого любопытства, а потому, что старший группы должен знать своих людей – тем более что он покинет базу, и что случится тут в его отсутствие, ведомо лишь Владыкам Пустоты. До сих пор Энджела справлялась, но ситуация теперь другая, момент опасный, и лучше не спускаться вниз с высот Шенанди. Здесь надежное убежище, и надо полагать, что Престон и Юэн Чин присмотрят за коллективом… особенно за Пардини… чтобы не удрал к своим вулканам… – Зеркало! – произнес Тревельян, и голопроектор послушно развернул серебристую поверхность от пола до потолка. Метаморфоза, как обычно бывает на заключительном этапе, ускорилась, и теперь его лицо все больше походило на жуткую маску индейского идола: дубленая кожа с серым пепельным оттенком, растянутая до ушей пасть и зубы, словно клыки вампира. Оглядев свою физиономию, Ивар довольно хмыкнул и направился в кабинет. Здесь парила в воздухе огромная белесоватая тарелка. Ее края свисали вниз тонкими фестонами и колыхались, будто у медузы, поверхность шла буграми и впадинами, и это означало, что Мозг мыслит с особой интенсивностью. Почему он принимал ту или иную конфигурацию, оставалось для Ивара загадкой; возможно, еще не привык к своему новому обличью, и эксперименты с телесными формами его развлекали. Мозг был создан и запрограммирован кни'лина для управления Сайкатской Исследовательской Станцией, но после случившихся там трагедий его решили заменить земным компьютером. Ивар подобрал бесхозное имущество и распорядился, чтобы искусственный интеллект поместили в корпус трафора, робота-трансформера. Это было милосердным актом с его стороны – кни'лина не церемонились с мыслящими устройствами, и Мозг, скорее всего, попал бы на свалку. Трафор выдвинул видеодатчик и приветствовал хозяина бравурной мелодией. Потом произнес, выбрав для общения сочный баритон: – Отлично выглядите, эмиссар. Ваши зубы просто восхитительны! Они станут еще больше? – Поговори у меня! – буркнул Тревельян. – Что с анализом? Закончил? – Да, эмиссар. Сейчас я выбираю для вас подходящих спутников. – Не для вас, а для нас. Ты отправишься со мной. Наступила пауза. Секунды через три-четыре, что было для быстродействующего Мозга изрядным временем, он вкрадчиво заметил: – Стоит ли брать меня в пустыню к дикарям? На Хтоне мы выяснили, что в полевых условиях я совершенно бесполезен. Тогда как здесь, на базе, при обработке поступающей информации… – С информацией подождем, – сказал Тревельян. – В пустыне мне твои извилины не нужны. Там мне понадобится транспортное средство. Трафор издал странный звук, похожий на завывание ветра в каминной трубе. – Со всем уважением, эмиссар… Я способен выполнять более интеллектуальные задачи. – Это от нас не уйдет, но есть моменты, когда практика важней теории. Так что готовься, дружок, в дорогу. Сейчас изучим местность, потом я лягу спать, а ты свяжись с компьютером базы. Зафиксируй образ рогатого скакуна и все его повадки. Тебе придется имитировать эту тварь. – Слушаюсь, – с оттенком тоски произнес Мозг и развернул карту северной пустыни. То была огромная территория, протянувшаяся в широтном направлении на тысячи километров, но населенная редко – все кочевавшие здесь Очаги шас-га не превышали четверти миллиона особей. Впрочем, на Пекле всего-то миллиона три обитателей, даже считая со зверолюдьми с континента Раху. Голографическая схема висела в воздухе, и на ней тут и там горели желтые огоньки. Каждый соответствовал группе шас-га, Очагу или семейному Шесту, наблюдаемому со спутника, кружившего над Пеклом, с которым Мозг находился в непрерывной связи. Одни огоньки были неподвижны, обозначая пункты стоянок, обычно привязанные к колодцам или естественным водоемам, другие, неторопливо перемещавшиеся, показывали маршруты племен или отдельных семей, кочевавших в степных просторах. Их мельтешение казалось таким же хаотическим, как танец молекул в газе, но доверять первому впечатлению не стоило – анализ маршрутов мог выявить некую тенденцию, центр притяжения всех или части странствующих по пустыне групп. Именно это интересовало Тревельяна. – На карте данные, полученные со спутника за последние восемь дней, – сообщил Мозг. – Кроме мобильных объектов показаны стойбища и лагеря пастухов. Я уберу их. Неподвижные огни погасли. Их было сравнительно немного; остальные, тысячи желтых точек, блуждали в пустыне, вновь и вновь повторяя свои движения, в соответствии с восьмидневным циклом. На первый взгляд их пляска казалась бессмысленной, но Ивар знал, что люди каждого Очага обычно кочуют в строго определенном районе, в границах родовых земель. Раньше вторжения на чужие пастбища приводили к яростным схваткам, но Серый Трубач покончил с междусобной борьбой; с виновными и неугодными он расправлялся сам. – Ты выявил какую-то закономерность? – спросил Тревельян, наблюдая за кружением огней. – Да, эмиссар. Часть мобильных объектов локализована в одной из шестидесяти двух областей, которые, вероятно, соответствуют племенным территориям. Их я тоже уберу. Две трети блуждающих огоньков исчезли, но их оставалось еще достаточно, от полутора до двух тысяч, как прикинул Тревельян. Маршруты, однако, по-прежнему выглядели непредсказуемыми. Одни шас-га бродили у северных рубежей огромной пустыни, другие вроде бы пересекали центральные равнины, третьи сосредоточились на юге, в предгорьях Поднебесного Хребта. – Я сделал выборочную проверку, использовав телескопы спутника, – сообщил Мозг. – Есть группы воинов, есть такие, что перегоняют стада или людей – вероятно, женщин, и есть путешествующие. Судя по тому, что они везут с собой, это кузнецы, чародеи, лекари, мастера, изготовляющие луки, и тому подобные искусники. Как показал прогноз, большая часть маршрутов закончится у стойбищ или мест торговли, где встречаются несколько племен. Все подобные пункты привязаны к водным источникам. – Я знаю, – сказал Тревельян. – Дальше. – Мной выделены триста девятнадцать объектов, чьи передвижения имеют общий градиент. Рассмотрим их, – сказал Мозг, и созвездия огней мгновенно проредились, а цвет их сменился с желтого на красный. – Показываю прогнозируемые маршруты. Все они ведут к определенной области горного хребта, геологически стабильной, без явных следов подвижек планетной коры. Из алых точек выплеснули стрелки и потянулись к Поднебесному Хребту, пересекавшему материк от восточных до западных морей. Затем Мозг пометил район схождения маршрутов – это плоскогорье лежало к северо-западу от пика Шенанди, на изрядной дистанции, и никогда не посещалось. Во всяком случае, в архиве базы сведений об этом не было, и картирование местности велось только со спутника. Вероятно, оно считалось не очень интересным и безопасным в тектоническом смысле – вулканы здесь отсутствовали, зато плоскогорье изобиловало ущельями, каньонами и пещерами, недоступными для изучения с орбиты. Тревельян задумчиво смотрел на алые точки и стрелки, что тянулись к плоскогорью. – Вот куда они идут… любопытно… – пробормотал он. – Ты можешь определить величину области, к которой двигается вся эта орава? – Да, эмиссар. С учетом возможной ошибки – около ста шестидесяти квадратных километров. – Прилично! Месяц будешь шарить среди трещин и пещер в поисках прохода… если там есть проход… – Но у вас, кажется, другие планы? – напомнил Мозг. – Вы говорили, что хотите присоединиться к группе кочевников, которая идет к проходу и находится сейчас вблизи гор. Могу предложить четыре варианта. – Валяй, – сказал Ивар. – То есть излагай. Я слушаю. – Две группы воинов, в каждой около сотни шас-га, достигнут интересующего вас района через три и пять дней соответственно. Они двигаются с северо-востока. – Не пойдет. Воины обычно злы, голодны, и всякий чужак для них – еда. К тому же туповаты, много от этих онкка [87] не узнаешь… Нет, мне нужен кто-топоинтеллигентнее! – Есть ремесленник. Делает колокольчики для рогатых скакунов… мне, наверное, такой тоже придется носить… – печально произнес Мозг. – Я выберу тебе самый красивый, – пообещал Тревельян. – Так что у нас с этим мастером колокольных дел? – Он значительно дальше, чем воины. Приближается с севера, будет в нужном пункте через двадцать-двадцать пять суток. С ним идут помощники и слуги, восемь шас-га из Людей Молота. – Двадцать или больше дней… Столько Серый Трубач не усидит на месте… – пробормотал Тревельян. – Ну, кто там у нас еще? – Колдун. Большоя свита, и в ней шас-га из разных Очагов. Они идут с северо-запада и окажутся на плоскогорье через десять-двенадцать суток. – Колдун! Вот это годится! – Ивар повеселел. – И время подходящее, хватит для адаптации! Даешь колдуна! – Вы считаете, что у него интеллект выше, чем у колокольного мастера? – с сомнением вымолвил Мозг. – Мои познания в сфере колдовства ограничены, поскольку у кни'лина нет подобных суеверий. Но я справился в компьютере базы и понял, что колдуны – опасный народ. – Бог не выдаст, свинья не съест, – произнес Тревельян на древнерусском. – Пойду-ка я спать, а ты давай работай. Преображайся в скакуна. – Если позволите, эмиссар… один вопрос… – Да? – Этот вождь кочевников, Серый Трубач… Странное имя, вы не находите? – Не имя, а титул, – пояснил Ивар. – Взгляни на меня – видишь, моя кожа сероватого оттенка? Пески пустыни здесь тоже серые, и этот цвет у шас-га считается священным. Ну а Трубач… – Разинув пасть, он испустил трубный вопль. – Так предводитель сзывает воинов на битву, и чем громче он орет, тем больше у него бойцов. Серый Трубач не просто вождь, он великий властитель, каких в степи давно уже не было. Но мы его укоротим. – Надеюсь, – буркнул трафор и свернул карту. Тревельян отправился в спальный отсек, осмотрел, раздевшись, свое лицо и тело и остался доволен. Потом включил тихую музыку и уснул. Приснилась ему Анна, но не рыжий планетолог Веронезе, а юная Анна Кей, когда-то летевшая на том же транспорте, который доставил Ивара на Равану. Там была целая галерея голограмм бывших пассажиров, готовых пообщаться с одиноким странником, и Анна показалась Ивару приятнее всех – может быть, он даже в нее влюбился. Тридцать два года назад она отправилась с Ваала на Данвейт вместе с группой экскурсантов, студентов Ваальского колледжа древней истории. Девятнадцать лет, нежное светлое личико, белокурые локоны и тонкая изящная фигурка… Очаровательная девушка! Беседуя с ней, Ивар забывал, что, в сущности, говорит с машиной, с корабельным компьютером, запечатлевшим ее облик и голос. Когда-нибудь он ее разыщет… непременно разыщет… А пока она являлась в снах, улыбалась Ивару, говорила с ним, но, пробудившись, он не мог припомнить ни слова.Кимбел Киннисон, один из основателей ФРИК и его первый консул, являлся выдающимся ксенологом, чьи заслуги столь значительны, что его сознание увековечено в памятном кристалле (см. биографию в Приложении 1). Проанализировав неудачи, постигшие Фонд на Руинах, Горькой Ягоде и в других мирах, вступивших на технологическую стадию, Киннисон обогатил теорию прогрессорства понятиями о интравертных и экстравертных культурах. Первые не обладают истинным представлением о Вселенной и существуют в сфере религиозно-мифических понятий – так, например, собственная планета, небесные светила и силы природы представляются им божествами либо продуктом волеизъявления единого Бога-Вседержителя. Такие архаические культуры, подобные земному Средневековью и античности, в принципе допускают вмешательство со стороны ФРИК, ибо все непонятное, загадочное воспринимается ими как действия божества, как посланные им испытания или как козни дьявола. Сталкиваясь с прогрессорами высшей цивилизации, они не испытывают культурного шока и, при разумной модификации их религиозных догматов, хорошо поддаются воздействию извне. Культуры второго, более высокого уровня уже обретаются в реальном мире, то есть имеют верные понятия о планетах, звездах и Галактике; как правило, они стоят на пороге технической революции или уже вступили в нее и активно используют все ресурсы своей планеты, даже находящиеся в удаленных местах. Подобные культуры, лишенные защитной оболочки мифологем, могут осознать и правильно идентифицировать внешнее воздействие. К тому же они весьма прагматичны и стараются обратить любое действие ФРИК к выгоде той или иной страны, того или иного социального слоя. Результатом обычно является общепланетная война, глобальная катастрофа и всеобщая гибель. Технологический, социальный и психологический уровень, разделяющий два типа описанных выше культур, называется Порогом Киннисона. Культуры, превосходящие этот порог, нельзя прогрессировать.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 3. Порог Киннисона.
Глава 3. Северная степь
Занимался белый рассвет, и лучи Ракшаса стремительно слизывали с небес последние звезды. Они были немногочисленными – Асур и Ракшас находились вблизи Провала, гигантской бездны, разделявшей две галактические ветви, Рукав Ориона с Солнечной системой и Рукав Персея, где лежали владения бино фаата, древних врагов человечества. Провал являлся главным украшением ночей Раваны – длинная полоса тьмы, окаймленная по краям редкими светящимися точками. Но все же их было больше, чем в небе Хтона, где, в компании киборга-биоморфа, остался командор. Вспомнив о нем, Тревельян вздохнул и прищурился – первые лучи белого светила слепили глаза, зной становился все злее и сильнее, заставляя медицинский имплант выбрасывать регулирующие теплообмен гормоны. Небо быстро блекло, приобретая серовато-желтый оттенок, от скал протянулись длинные тени, и ветер, предвестник утра, пробудился и начал гонять туда-сюда вихри пыли и песчинок. Ивар сидел на камне среди огромной, простиравшейся от горизонта до горизонта пустоши, и наблюдал, как трафор преображается в рогатого скакуна. Это было чудище устрашающего вида размером с крупного буйвола, с такой же темной, лишенной шерсти кожей и парой остроконечных рогов. На этом сходство с земным травоядным кончалось. Скакун имел плоскую морду, словно бы сдавленную сверху и снизу, массивные челюсти с довольно острыми зубами, ноздрю, в которую можно было засунуть кулак, и пару маленьких глазок, горевших дьявольским огнем. Толстые мощные ноги переходили в когтистые ороговевшие пальцы, шея выглядела слишком короткой по сравнению с туловищем, зато хвост был длинным и свисал едва ли не до земли. Словом, тот еще монстр! Однако не без достоинств: жрал все, от листьев и веток до протухших дохлых крыс, пил раз в пять-шесть дней и обладал невероятной выносливостью. За арабским жеребцом он, пожалуй, не угнался бы, но верблюда обставил бы безусловно. Мозг, получивший информацию от компьютера базы, с усердием лепил рогатую тварь. Широкий круп, лоснящаяся кожа, бугры могучих мышц, внушительные клыки, глаза с кровавым отблеском и рога метровой длины… Скакун фыркнул и прошелся перед Иваром, загребая когтями песок и подбрасывая его в воздух; похоже, ждал похвалы и восторгов. Тревельян покосился на флаер, висевший высоко над ними и замаскированный под облако. Затем сказал: – Так дело у нас не пойдет. Ты слишком хорош, приятель. – Разве это плохо, эмиссар? – низким утробным голосом отозвался трафор. – Плохо. Любой мелкотравчатый предводитель захочет тебя отобрать, а этот колдун или шаман – тем более. Ты такой сытый, упитанный, крупный… Наверняка тебя отнимут, а меня съедят. На всякий случай, чтобы не пытался вернуть свое добро. – Ваши пожелания, эмиссар? – Нужно что-то поскромнее, – сказал Тревельян, почесывая грудь. Сам он облачился в драные штаны из шкурок песчаных крыс и дырявые сапоги. На потертом кожаном поясе висел медный топорик с позеленевшим лезвием, в сапог был заткнут щербатый обсидиановый нож, а торба с прочим имуществом тоже видала виды – заплата на заплате. Выглядел он, как нищий пастух самого захудалого Очага, возмечтавший сделаться воином. Мозг снова принялся трудиться. Зрачки его погасли, мощные мышцы стали усыхать, кожа обвисла широкими складками, на спине выступил хребет, один рог словно бы обломился, другой укоротился, хвост повис измочаленной веревкой. Теперь он выглядел старой скотиной, которая если куда и довезет седока, так только к собственной могиле. – Вот теперь хорошо, – промолвил Ивар. – Теперь на тебя даже песчаная крыса не позарится. Кстати, не забудь, что ты должен есть и справлять естественные надобности, а при этом использовать хвост. – Слушаюсь, эмиссар! – рявкнул трафор и тут же продемонстрировал, что все повадки здешних скакунов им усвоены. Тревельян шарахнулся в сторону – у рогатых монстров была привычка крутить хвостом, разбрызгивая мочу и навоз в радиусе пяти метров. У трафора это получилось очень натурально. Дождавшись окончания процесса дефекации, Ивар нацепил на рога скакуна три колокольчика, взгромоздился ему на спину и стукнул каблуками по ребрам. Трафор неторопливо зарысил на юго-восток, туда, где в бескрайнем просторе двигалась группа кочевников, сопровождавших колдуна. Тревельян рассчитывал догнать их к красному закату. Вокруг него лежала полупустыня-полустепь. Камни, песок, корявые деревья и кусты, редкая сухая трава и снова песок и камни… Тоскливый, унылый и мрачный пейзаж! Над неприветливой землей дрожал раскаленный воздух, жара усиливалась, свет делался все ярче и безжалостней – на востоке вставал огромный красный диск Асура. Казалось, что в этом знойном аду не выживет ни единая тварь, однако какие-то существа здесь водились: шуршали среди камней змеи, из нор высовывались ящерицы, а вдалеке завывала стая песчаных крыс. Эти, несмотря на небольшой размер, являлись злобными и опасными хищниками, похожими на мохнатого поросенка с крысиной мордой и острыми, как шило, зубами. Вообще же о флоре и фауне севера Хираньякашипы, а также о населявшем его народе прогрессоры ФРИК знали немногое. На протяжении шестидесяти лет их усилия были сосредоточены на Кьолле и приморских городах, лежавших к югу от огромного хребта. Эти земли тоже не казались раем, но все же, по сравнению с северной пустыней и другими регионами засушливой планеты, могли считаться благодатной территорией. Обитавшие здесь народы продвинулись дальше всех по пути цивилизации – во всяком случае, они уже не ели своих соплеменников, а занимались земледелием и скотоводством. Кьолл, Земля Подножия Мира, представляла собой цепочку оазисов, протянувшихся от моря до моря с южной стороны хребта. Оазисы были невелики, в среднем тридцать-сорок квадратных километров, и в каждом правил независимый барон-владетель с дружиной в сотню воинов. Его подданные выращивали диггу, мучнистый плод, из которого пекли лепешки и гнали пиво; диггу также солили, мариновали и потребляли сырой. Еще разводили пустынных удавов, кабанов с рогами и хффа, местный аналог то ли овец, то ли коз или ослов. Наряду с мясом, шкурами, пивом и мукой из дигги важным продуктом торговли являлась сладкая вода, извлеченная из подземных скважин и не содержавшая вредных примесей, как в горьких ручьях, текущих по склонам хребта. Кьоллы постигли искусство возведения жилищ и крепостей, знали золото, серебро и бронзу и даже имели некое подобие письменности – пучки разноцветных веревок с узелками, напоминавшие кипу древних инков. Прибрежные народы были более продвинутыми. Туфан на западе жили в настоящих городах, где правила торговая аристократия, плавали вдоль побережья на галерах и торговали со всеми, начиная от каннибалов шас-га и кончая дикарями и разбойниками южных пустынь. Ядугар, обитавшие на восточном побережье, промышляли пиратством, добирались на своих боевых челнах до других материков и грабили жителей Шамбары и Вритры. Социальная структура их общества была такой же, как у кьоллов и разбойников южных пустынь: племя или Очаг, состоявший из нескольких сотен или тысяч особей, возглавлялся вождем, бароном или князем, который обладал абсолютной властью и воинской силой. У туфан правили советы торговых олигархов; в мирное время они обходились немногочисленными городскими стражниками, а в случае войны нанимали ландскнехтов. Возможно, южане могли бы выставить не меньшее войско, чем у Серого Трубача, но объединить баронов, купцов и пиратских князей не смог бы сам Бааха, Бог Двух Солнц, которого чтили повсюду. Что касается народа шас-га, то было известно, что он состоит из семи или восьми крупных Очагов, таких, как Белые Плащи, Мечущие Камни и Зубы Наружу, и нескольких десятков мелких. Они являлись особым этносом, не походили внешне на кьоллов, туфан и ядугар, имели свой язык, распадавшийся на ряд наречий, и традиции, присущие кочевой культуре. Обитая в скудном регионе, отгороженные от прочего мира морями и горным хребтом, они выживали благодаря рогатым скакунам и собственной свирепой жизнестойкости. В пустыне очень много места, но мало воды и мало еды… За воду сражались, а ели абсолютно все, включая своих соплеменников. Слово «шас-га», давшее имя степному народу, в разных случаях являлось возгласом удивления, недоверия или торжества, а также боевым кличем. Еще оно обозначало клокочущий рычащий язык кочевников, которым Тревельян владел в совершенстве. Когда-то, будучи юным стажером Ксенологической Академии, он трудился на Раване, и эта практика включала десяток местных языков, обычаи и нравы основных племен, а также навык перевоплощения, столь необходимый ксенологу. В те минувшие дни он работал в Кьолле под видом хишиаггина, искателя сладких подземных источников, жреца Бога Воды Таррахиши. С шас-га Ивар в те дни не встречался, ибо бытовало мнение, что через горы им не перебраться, и значит, они не угрожают кьоллам и приморским городам. Но их язык он изучил в гипнотическом трансе, а во время полета к Пеклу постарался оживить это знание, используя Мозг в качестве собеседника. Горло после таких экзерсисов болело ужасно, но сейчас, когда завершилась биотрансформация, он мог реветь и рычать не хуже любого шас-га. Внезапно Ивар ощутил, что под ним уже нет костлявой спины скакуна. Подброшенный сильным толчком, он секунду парил в воздухе, потом рухнул вниз, едва успев извернуться и приземлиться на ноги. Трафор задрал плоскую башку, невозмутимо наблюдая за его курбетами. – Ты что себе позволяешь, драная шкура! – рявкнул Тревельян. – Ты меня сбросил, гниль песчаная! – Действую согласно инструкции, осваиваю повадки скакунов, – раздалось в ответ. – Известно, что они норовисты и непредсказуемы. Я отрабатываю эмоцию испуга. – И чего же ты испугался? – Тревельян отряхнул штаны. Вместе с песком из меха выпала горсть местных кровососов, то ли блох, то ли вшей. – Их! – Трафор мотнул головой. Шагах в двадцати сидели пять песчаных крыс и скалили острые зубы. – Необоснованная реакция. Чего их бояться? – заметил Тревельян, подбирая камень. – Не бояться надо, а радоваться… обед сам прибежал… Он метнул свой снаряд, угодив в голову самой крупной крысы. Зверек свалился, собратья тут же вцепились в него, но Ивар отогнал их пинками. Затем вытащил нож, освежевал добычу и принялся уминать сырое жесткое мясо. За время странствий в чужих мирах ему доводилось питаться жуками и червями, травой, корой и подозрительными фруктами, так что крыса с Пекла была не худшим вариантом. Брезгливостью он не страдал, а что до переваривания съеденного, тут оставалось рассчитывать на медицинский имплант. Время шло к красному полудню. Два светила висели над головой, изливая на песок и жалкую растительность знойные лучи. В мутной желтоватой пелене небес плавало маскировавшее флаер облако, а пониже кружились песчаные вихри, вздымаемые ветрами. На четыре стороны света лежала плоская равнина, пустыня без края, без предела, и лишь на юге, в дальней дали, неясными призраками угадывались силуэты гор. Тревельян усердно жевал, вспоминая вечер с Петром и Лейлой, а еще – пирожки бармак, приготовленные хозяйкой. Нежные, тающие во рту… Человеческая еда! Память о ней помогала справиться с крысой. Он закончил свою трапезу, огляделся и пробормотал: – Тут самому бы в пирог не попасть в виде начинки… Но это было лишним опасением – шас-га пирогов не пекли.* * *
В это время флаер Петра и Лейлы, друзей Тревельяна, кружил над Безымянным архипелагом, затерявшимся в Южном океане. Впрочем, два последних раванских года он носил имя супругов Исаевых, и Петр подумывал о том, не назвать ли в честь своей семьи весь Южный океан. Обозначения «южный» и «северный», «западный» и «восточный» были, в сущности, безликими; в каждом мире, гда у Южного полюса было свободное водное пространство, его называли Южным океаном. С течением лет эта стандартная топонимика заменялась чем-то более ярким и характерным, и новое имя давали первопроходцы доселе неизученной территории. Так что Петр был в полном своем праве. Он сидел с женой в пассажирской кабине, наблюдая за эволюциями флаера; аппарат двигался по сигналам маяка к их лагерю на острове Петр. Лейла вздохнула. – Вчера Ивар был таким грустным… – Да, не похоже на него, – согласился Петр. – Зато рассказывал он интересные вещи. Про эту планету… как ее?.. Хтон?.. – Хтон, – подтвердила Лейла, – Хтон, где Ивар оставил своего предка. И теперь тоскует. Петр усмехнулся. – Тоскует, дорогая, но думаю, не по этой причине. Что предок?.. Вернут ему предка в целости и сохранности. Другое дело, что на этом Хтоне масса всяких тайн… руины древних поселений, народ, погибший от руки даскинов, враждующие друг с другом биоморфы, статуи лоона эо… Для ксенолога – просто клад! Он бы с этого Хтона десять лет не вылез! Сидел бы там, копался в милых сердцу тайнах и, глядишь, раскопал бы что-то серьезное вроде парапримов… Однако его послали к нам. Потому он и печален. – Ивар – человек долга, – сказала Лейла. – Верно. И сейчас он не на Хтоне, а в северных степях, среди людоедов шас-га… Пусть Владыки Пустоты пошлют ему удачу! Они замолчали. Под флаером, на фоне серо-стальных океанских волн, вставали острова: Петр, Лейла, Зульфия, Гюльчетай… Архипелаг Южного океана был уникальным местом в этом мире пустынь и сухих степей: здесь веяли влажные ветры, шли дожди и щедрость вод с избытком тепла порождали буйную растительность. Четыре острова, разделенные неширокими проливами, сверху казались букетами из желтых, багряных и алых цветов. Их окаймляли утесы, ленты белоснежного песка и серые, розовые и коричневые скальные плиты. На одной из них стоял надувной купол временного лагеря Исаевых, а у берега покачивался на мелкой волне плот-лаборатория. Флаер пошел вниз и замер над почвой. Откинулись люки грузового отсека и пассажирской кабины, и два кибера, похожие на серебристых пауков, скользнули на каменную поверхность. Лейла выбралась вслед за ними, вдохнула влажный морской воздух, подняла к небу лицо. Белый Ракшас стоял в зените, красный Асур висел над восточным горизонтом, и от каждого светила тянулась по морю яркая световая дорожка. Зной был жесток, больше сорока градусов, но имплант и свежий океанский ветер помогали переносить жару. За спиной Лейлы поднимался лес – не кустарник и жалкие корявые деревья, как на материке, а стройные золотистые стволы вчетверо-впятеро выше человеческого роста. «Вот мы и дома», – подумала она, прислушиваясь, как Петр распоряжается в грузовом отсеке, командуя роботам: это нести сюда, то – туда. Океанские острова в зоне пассатов были самым благодатным и самым безопасным местом на планете: ни хищников, ни ядовитых гадов, ни кровожадных людей, вообще никаких живых существ, кроме мелких грызунов и ящериц. Зато море кишело жизнью: сотни видов моллюсков и рыб, коралловые замки и подводные леса, пещеры, в которых прятались какие-то таинственные обитатели, плавучие острова, то ли животные с множеством щупалец, то ли морские растения, твари, похожие на черепах, но никогда не выходившие на берег… Океан, по мнению Лейлы, нуждался в более пристальном изучении; она надеялась, что вскоре на Пекло доставят разведчиков-дельфинов и работа пойдет втрое быстрей. Дельфины гораздо сообразительнее киберов. Из флаера вылез Петр, потянулся, поглядел на море, приставив ко лбу ладонь, и молвил: – Красота! На Шенанди тоже неплохо, но тесно. А здесь – простор! Лейла с улыбкой повернулась к мужу. – В пустыне, милый, тоже места хватает. – В пустыне дикари, песчаные бури, кровопролитие и прочие неприятности. Нет, я не завидую Ивару! – Он покачал головой. – Хорошо, что мы океанологи. – Почему? – Мы имеем дело не с людьми, а с неразумными рыбами. Это гораздо проще. – Вспомни Хаймор, – сказала Лейла, – Хаймор, где обитают амфибии, очень толковый морской народ. Через триста-четыреста лет они ничем не уступят людям. Вспомни, как ты пытался открыть им тайну огня и развел костер на плоту из сухих водорослей… Они поглядели друг на друга и рассмеялись.* * *
Караван колдуна Ивар догнал еще до красного заката. Сначала на горизонте появилась темная черточка, распавшаяся вскоре на точки, мелкие и побольше. Затем стало ясно, что мелкие точки – всадники, а более крупные – фургоны на огромных колесах, влекомые четверками рогатых скакунов. Возов оказалось с полдюжины, а всадников – десятка три, но Ивар не разглядел среди них шамана – вероятно, тот путешествовал с комфортом, на телеге. Когда фигурки людей и скакунов стали ясно различимыми, от процессии отделились пятеро и поскакали навстречу Тревельяну. В свой черед он двинулся к ним, разглядывая всадников и прислушиваясь к звону колокольцев и неразборчивым воплям шас-га. То были, несомненно, воины, а не пастухи – все с копьями и топорами, щитами и луками; кроме того у каждого имелся длинный шест с веревочной петлей. Их крики показались Ивару знакомыми, и через минуту он различил, что всадники дружно вопят: «Хар-рка! Хар-рка!» На их языке это слово означало числительное «один», но могло использоваться и в переносном смысле, который был не очень понятен Тревельяну. В памяти Мозга хранилось больше данных о местном наречии, чем в его голове, и, подумав об этом, он наклонился к шее скакуна и тихо произнес: – Они кричат «один». Странный возглас при виде незнакомца, ты не находишь? – Но вы в самом деле один, – заметил трафор. – Конечно, если не считать меня. – У слова «хар-рка» есть еще какие-то значения? – Если есть, то они не содержатся в моей базе данных, эмиссар. – Сделай экстраполяцию, используя слова со сходной семантикой. Я хочу знать, что нужно этим парням. Кажется, они… Тугая петля захлестнула горло Тревельяна, едва не сбросив его наземь. Он ухватился левой рукой за шест, правой выхватил топорик и рассек сухую деревяшку. Затем приложился обухом ко лбу напавшего шас-га – не убил, что запрещалось всеми директивами ФРИК, но сделал приличную отметину. Всадник мешком свалился на песок, а Ивар, увернувшись еще от пары шестов, ткнул одного кочевника топорищем в живот, а другого схватил за ремень, стащил со спины скакуна и швырнул на землю. Двое оставшихся атаковали его с оглушительным ревом, но тут выручил трафор – переднего наездника ударил рогами и опрокинул вместе со скакуном, а верховое животное заднего лягнул, попав в причинное место. Пятеро шас-га валялись на земле, кто держался за голову, кто за колено или ребра, а Ивар с видом победителя неторопливо двигался к каравану. Процессия остановилась, воины, подняв копья вверх, взирали на пришельца с любопытством, из повозок высунулись длинноволосые женщины и голые грязные ребятишки, а с переднего фургона сошел на землю важный пожилой толстяк в белом плаще. Точнее, его накидка из змеиной кожи когда-то была белой, но от времени и осевшей на ней пыли посерела, а кое-где и почернела. Шаман, решил Ивар, присматриваясь к толстяку. На вид ему было лет двадцать пять, то есть за пятьдесят – с учетом того, что год Раваны вдвое превосходил земной. Если не считать упитанности, очень редкой среди шас-га, он казался обычным кочевником пустыни: длинные, почти до колен, мускулистые руки, пальцы с ногтями, похожими на когти хищной птицы, сероватая кожа, желтые пигментные пятна на лбу, космы темных волос, узкое лицо с вытянутыми челюстями и короткие губы, не прятавшие внушительных зубов. Сам Тревельян был худ и жилист, но в остальном выглядел точно так же. Рога скакунов, тащивших возок шамана, были украшены пятью колокольцами и столько же побрякивало на его плаще. Оружия он при себе не имел: очевидно, его защитой были воины, охранявшие столь важную персону. Среди них Тревельян разглядел Белых Плащей, Зубы Наружу и шас-га других племен, опознать которые ему не удалось. – Твой Очаг и Шест? Твое имя? – спросил колдун резким каркающим голосом. – Говори, приблудное мясо! – Я из Белых Плащей, – сообщил Тревельян, спрыгивая на песок. – Зовут Айла, а что до моего Шеста, то я его забыл. Давно скитаюсь по пустыне… очень давно. – Ты не похож на Белого Плаща, – с сомнением произнес шаман. – Не так сидишь на яххе, не так дерешься, и одежда у тебя другая. – Значит, я не Белый Плащ, – отозвался Ивар. – Может быть, я из Людей Песка или из Мечущих Камни. – Приблудное мясо! – повторил толстяк и выпятил нижнюю губу, что было знаком презрения. Его охрана глядела на Ивара, как стая волков на жирную овцу. Было ясно: шевельни колдун пальцем, и чужака растерзают вмиг. Пятеро воинов, сброшенных Тревельяном наземь, поднялись и, свистом подзывая скакунов, ковыляли обратно к каравану. – Мое мясо слишком жесткое, – сказал Тревельян и положил ладонь на топорик. – Твоим людям не по зубам. Шаман оскалился. – Мясо есть мясо! Но пока я тебя слышу [88], ибо ты – ловкий боец. Победил пятерых! – Эти воины – кал песчаной крысы, – пренебрежительно заметил Ивар. – Если бы я пожелал, сердце и печень любого были бы в моем животе. – Много мнишь о себе, приблудный! И еще это! – Колдун ткнул коротким пальцем в сторону трафора. – Это! Колокольцы! Три! Разве ты – вождь? Причину его возмущения Ивар не понял, но на всякий случай важно приосанился: – Сколько хочу, столько вешаю! Могу взяться за топор, и все увидят, что я не хуже любого вождя! Шаман снова оскалил зубы. Похоже, он усмехался. – Я тебя беру, Айла. Один приблудный уже есть среди моих людей, так будет и второй… Живи и служи! – Что дашь за это? – Еду и воду. И самку… Чего еще нужно? «И правда, чего?..» – подумал Тревельян, делая знак согласия. Но его наниматель еще не закончил свою речь. – Я – Киречи-Бу, могущественный ппаа, взысканный духами гор и песков. Коснусь тебя, и станешь ящерицей, или змеей, или кучей праха… Такова моя сила! И великий Брат Двух Солнц, Взирающий на Юг, об этом знает и, перед тем как ступить в Спящую Воду, вспомнил про меня. Прислал своих людей, велел идти за ним, и я пошел, ибо все должны слушать зов великого. Ты будешь служить мне, а я – ему… Служи верно и будешь сыт. В нужном месте оказался, решил Ивар. Слегка согнув колени, он пробормотал традиционную фразу покорности: – Мой лоб – у твоих подошв, Киречи-Бу. – Сними два колокольца и езжай за повозками, – сказал шаман и полез обратно в свой фургон. Как было велено, Ивар колокольцы снял, оставив один-единственный, потом пристроился в конце каравана, и процессия двинулась в путь. Рядом с ним ехал на заморенной кляче щуплый шас-га, безоружный, лохматый и такой тощий, словно его не кормили с рождения. Видимо, он принадлежал в Белым Плащам – на его плечах болталась накидка, еще более грязная, чем у шамана Киречи-Бу. Ребра этого всадника грозили прорвать кожу, длинные руки казались тонкими, как две палочки, из прорех штанов выглядывали костлявые колени, губы пересохли, глаза слезились. Трудно было представить более жалкое существо. – Ты Белый Плащ? – спросил Тревельян. – Какого Шеста? И как тебя зовут? – Хрр… – послышалось в ответ. – Б-лый Плщщ… хрр… Похоже, он умирает от жажды, решил Ивар, вытащил из мешка кожаный бурдючок и протянул тощему. – Пей! Тот присосался, разом ополовинив бурдюк. Затем произнес с изумлением и вполне разборчиво: – Брат! Ты разделил со мной воду! Да будут милостивы к тебе Бааха и дети его Ауккат и Уанн! – И к тебе тоже, – отозвался Ивар. – Отдай-ка бурдюк, пока он вконец не опустел… Ну, раз ты напился, то можешь говорить. Ты кто такой? – Тентачи, Шест Перевернутого Котла, битсу-акк, – сообщил его собеседник. Битсу-акк дословно означало «Блуждающий Язык» или попросту «трепач» – так у шас-га назывались певцы и сказители. Как развлечение их песни стояли на третьем месте после еды и кровавых побоищ. – Ты служишь этому ппаа? Нашему хозяину? – Тревельян ткнул пальцем вперед, где покачивался в своей повозке толстый колдун. – Мой родитель продал меня Киречи-Бу за пару сушеных змей, совсем маленьких, – понурившись, произнес Блуждающий Язык. – Сказал, что я не пастух, не воин, и даже на самку мне не залезть, а если залезу, так потомство будет хилое. Только и умею, что драть глотку… Такие Шесту не нужны. Зачем скакуну третий рог? – А Киречи-Бу ты зачем? Певец опечалился еще больше. – Он подарит меня великому Брату Двух Солнц. Говорят, владыке нравится слушать Долгие Песни… Только я таких не пою. Узнают об этом, обрежут волосы для веревок, а меня сунут в котел. – Волосы у тебя и правда длинные, а от остального навара немного, – утешил его Тревельян. Потом спросил: – Скажи-ка мне, Тентачи, почему хозяин велел мне колокольцы снять? – Должно быть, в твоем Очаге другие обычаи, чем у Белых Плащей. У нас три колокольца – знак вождя, а два – великого воина. – Я и есть великий воин, – заметил Ивар и нацепил на рог скакуна еще один колокольчик. Потом принялся осторожно расспрашивать Тентачи, выясняя, что вопили напавшие на него воины. Он вдруг засомневался в своем лингвистическом даре, подумав, что язык кочевников относится к группе ситуационных [89], и значит, одно и то же слово можно толковать десятком способов. Вскоре он выяснил, что в одиночку по степи не странствуют, что всякий шас-га передвигается лишь со своим Шестом, Очагом или отрядом воинов, и потому вопль «хар-рка!», которым его приветствовали, означал не столько «один», сколько «добыча». Или, если угодно, бесхозное мясо. Обогатившись этими сведениями, Ивар поскреб макушку, поймал пару-другую насекомых, раздавил их и поглядел на небо. Там плыло вслед за караваном одинокое облачко, скрывавшее флаер. Жаркий Ракшас уже исчез на западе за краем равнины, Асур оседлал горизонт, и под его алыми лучами цвет пустыни переменился с серого на коричневый. Зной стал не таким яростным, порывы ветра улеглись и уже не кружили в воздухе песчаные смерчи, но продвижение каравана сопровождалось тучей пыли, летевшей из-под колес и ног скакунов. Горы, видневшиеся на юге, были уже не туманным призраком, а каменной стеной с вершинами, курившимися дымом или сиявшими ледяным убранством. Казалось, что этот гигантский барьер Поднебесного Хребта замыкает не пустыню, а все Мироздание. – Значит, Долгих Песен ты не поешь, – произнес Тревельян, поворачиваясь к своему спутнику. – Жаль! Хотелось бы время скоротать. Ну, раз нет долгих, спой короткую. Тентачи вытащил из-под накидки маленький барабанчик, ударил в него костяшками пальцев и затянул фальцетом:– Мудрая песня, – одобрил Тревельян. – Но не думаю, что она порадует нашего владыку. С такими песнями тебе, и правда, дорога в котел либо на вертел. Вождям надо петь что-то воинственное, о врагах, битвах и победах. – Есть и такое, брат, – произнес Тентачи и снова заголосил:
– Стоп, – сказал Ивар. – Это у нас получается не о битвах, а о жратве, так что давай лучше про природу. Слова «природа» в шас-га, конечно, не было, но имелось два десятка обозначений для степи с травами, степи с кустами, голой степи, степи каменистой и тому подобного, а также для степей, небес и гор, понимаемых как единое целое, как вотчина Баахи, Бога Двух Солнц, и Каммы, Богини Песков. Можно было считать, что этот термин обозначает мир, природу или Вселенную. Блуждающий Язык выбил дробное стаккато на коже барабанчика.
Шкуры на заднем возке раздвинулись, появилась чья-то рука, и в певца полетел увесистый ком навоза. – Публика благодарна и награждает аплодисментами, – пробормотал Ивар на земной лингве. Оставшийся до привала час он размышлял о том, что шас-га не такие уж дикие – вот и певцы у них есть, и песни, и даже какой-то аналог поэзии с философическим уклоном. Вчера похоже на сегодня, сегодня – на завтра… так проходит жизнь… Мысль, что жизнь не вечна, что время пожирает ее день за днем, свидетельствовала об определенном интеллекте, особой избранности Тентачи среди его примитивного племени. «Жаль, если такой человек окажется в котле, – подумал Ивар. – Придется как-то обезопасить его от посягательств соплеменников… Поэт, носитель устной традиции – не мясо для жаркого, да и мяса в нем, по правде говоря, на один зуб…» Караван остановился на ночлег. Разожгли крохотные костры, распрягли скакунов, приготовили варево из трав, коры и вяленых тушек змей, ящериц и крыс, мужчины поели, самки и детеныши вылизали остатки. Но ппаа Киречи-Бу решил поужинать поплотнее, и для него забили ребенка. Тревельян ушел в темную степь. Его вывернуло.
Оценивая состояние того или иного архаического общества, ФРИК пользуется тремя основными показателями: индексами социального и технологического развития (ИСР, ИТР) и движущим пассионарным импульсом (ДПИ). Две первые величины отсчитываются в десятибалльной шкале, причем максимальный показатель 10 соответствует высокоразвитой цивилизации земного типа. ДПИ измеряют в стобалльной шкале, где за 100 принят пассионарный импульс монгольских племен в эпоху Чингисхана. Можно думать, что такие оценки не лишены субъективизма, но разработанный ФРИК метод прецедентов и тщательный сбор информации делают их весьма точными. Воздействие на инопланетную культуру обычно производится путем внедрения элементов социального и технологического прогресса (ЭСТП). Это могут быть идеи (например, о сферичности планеты), технические приемы (способы выплавки стали, книгопечатания и т.д.), простые механизмы (сверло, ветряная мельница, ткацкий станок), протекционизм (помощь перспективным лидерам с одновременной нейтрализацией их противников) и тому подобное. Как правило, согласованный комплекс ЭСТП приводит к нужным результатам, хотя известны случаи, когда усилия Фонда были тщетными. Это всегда связано с противодействием других галактических культур, и классическим примером такой ситуации является неудача на Осиере – который, как выяснилось, патронируется расой параприматов. Впрочем, можно ли назвать неудачей столь великое открытие? Ведь мы обнаружили народ, превосходящий нас по уровню развития и, что самое важное, миролюбивый и расположенный к длительным контактам.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 4. Терминология ФРИК.
Глава 4. Лайнер «Гондвана»
«Гондвана», гигантский пассажирский лайнер, дрейфовал в системе Каузы Примы бок о бок с кораблем параприматов. На земной взгляд эта конструкция выглядела странновато: ни определенных очертаний, ни ясно различимой оболочки, ни сходства с какой-либо геометрической формой. Нечто мерцающее, расплывчатое, с разбросанными тут и там темными ядрами, будто повисшими в светящемся облаке, сквозь которое виднелись звезды… Такой обязательный элемент, как разгонная шахта, не просматривался, и оставалось лишь гадать, каким образом парапримы странствуют в Лимбе [90]: с помощью контурного привода [91] или другим, неведомым землянам, способом. Оружия на чужом корабле не имелось, как и на «Гондване». Всякие средства уничтожения и разрушения парапримы очень не жаловали, так что на первое дипломатическое рандеву был отправлен пассажирский лайнер, а не эскадра тяжелых крейсеров, сопровождаемых фрегатами. Это являлось непременным требованием парапримов: никакого оружия, никаких деструкторов, аннигиляторов, киберистребителей и боевых роботов. Они полагали, что высокоразвитые существа могут и должны договориться без демонстрации силы – тем более что делить им нечего. Спорный вопрос касался не экспансии в Галактику, не новых колоний, не торговых или военных интересов, а проблемы сугубо мирной – можно сказать, даже благородной и гуманной: методов прогрессорства. Ибо парапримы занимались тем же, что и Фонд Развития Инопланетных Культур, но делали это иначе, с гораздо меньшими самонадеянностью и напором. «Гондвану» и одно из темных ядер судна парапримов соединяла пуповина переходного модуля, в середине которой круглился шар временной станции с залом переговоров и отсеками для отдыха. На свой корабль чужаки землян не пригласили; те, соблюдая паритет, ответили тем же. В результате консул Пьер Каралис, глава дипломатической миссии ФРИК, беседовал с братьями по разуму при нулевой гравитации и не очень комфортной температуре – парапримы любили тепло, и в зале было градусов тридцать. В прозрачном куполе этого помещения пылало зеленоватое око Каузы Примы, под ним, в самой середине, торчала поросль голопроекторов и прочей вспомогательной техники, а у стен находились прикрепленные к полу кресла. Для людей – обычные «коконы» [92], для их партнеров – широкие плетеные сиденья, имевшие сходство с гамаками. По левую руку от Каралиса сидел Сойер, его заместитель, справа высилось цилиндрическое устройство с памятным кристаллом умершего недавно Колесникова. Он был великолепным специалистом, обладавшим в новой своей ипостаси неограниченными резервами памяти, и потому Каралис взял его с собой в качестве Советника. В креслах напротив располагались два параприма. На любой встрече их было ровно столько же, сколько людей, будто они предугадывали заранее число земных переговорщиков. Каралис не мог отделаться от мысли, что так оно и есть. На Земле он тщательно изучил материалы Тревельяна, первым вступившего в контакт с парапримами, и обнаружил в тех отчетах один пугающий нюанс: похоже, эта раса знала, как прогнозировать грядущее. Может быть, не в подробностях, не в деталях, но с числом своих делегатов они не ошиблись ни разу. – Сегодня мы выбираем тему для дискуссии, – произнес Антрацит, подняв неимоверно длинную руку. – Не сочтите за обиду, но нам хотелось бы поговорить о ваших неудачах и их катастрофических последствиях. Есть ли возражения, партнеры? – Нет, – сказал Каралис. – Что касается ваших неудач, – он подчеркнул слово «ваших», – то мы о них не знаем, но надеемся получить информацию по этому вопросу и обменяться мнениями. – Разумеется, – заверил его Белый Воротник. – Мы не всегда и не везде добивались успеха, и не собираемся этого скрывать. Но сегодня займемся анализом ошибок, допущенных Фондом. – На чужих ошибках полезно учиться, – басовито буркнуло из вокодера, подсоединенного к кристаллу Колесникова. – Полезно и, главное, приятно. Николай Ильич Колесников при жизни был резковат, и, кажется, теперь эта черта усилилась. Но на все его шпильки парапримы отвечали только вежливым оскалом, означавшим улыбку. – Ледяной Ад, – произнес Белый Воротник, и в луче голопроектора закружился оледеневший сфероид планеты. – Цивилизация гуманоидов, стоявших на пороге эры электричества… При вашем тайном содействии они совершили быстрый скачок в математике, химии, ядерной физике, инженерии. Обогащение урана, производство плутония, первые атомные энергостанции и неуклюжие, но весьма эффективные боевые заряды… Плюс разобщенность их стран, безнравственность правителей и невежество ученых… Так? Сойер опустил голову. Каралис кивнул; его горло жгло огнем, словно он наглотался чудовищного пламени, что бушевало некогда над тем несчастным миром. – В результате – всеобщая гибель и постъядерное оледение, – сказал Антрацит. Он изъяснялся почти без акцента – после нескольких первых встреч оба параприма быстро освоили земную лингву. У них имелись длинные сложные имена, которые запомнил только Колесников. Каралис звал их про себя Антрацитом и Белым Воротником; первый – с черной, как ночь, шерстью, у второго вокруг шеи и под горлом шла белоснежная манишка. Они были четверорукими созданиями, напоминавшими с первого взгляда крупных обезьян Земли. Второй и более пристальный взгляд улавливал отличия: короткая гладкая шерсть лежала волосок к волоску, изящные плавные жесты не походили на резкие движения горилл и шимпанзе, лоб был высоким, челюсти – не такими огромными, пальцы – длинными и гибкими. И от них приятно пахло. – Руины, – молвил Белый Воротник, и видение Ледяного Ада сменилось другой планетой. – Перенаселенный мир с довольно развитой технологией и высоким темпом размножения. Эти существа, отличные от вас и от нас, страдали от голода и эпидемий – не все, но очень многие. Вы стимулировали биохимические исследования – кажется, это был последний ваш эстап [93]?.. – и на Руинах начали производить искусственную пищу и препараты от болезней. Последовал всплеск рождаемости, затем – истребительная война. Выйти в космос они не успели. – Теперь о другом погибшем мире, который вы называете Горькой Ягодой, – продолжил мрачный перечень Антрацит, но Сойер прервал его: – Горькая Ягода, Пепел, Рухнувшая Надежда – мы помним о них! Да, это нашинеудачи… Мы не знали, что нельзя работать с мирами за Порогом Киннисона… Но, с другой стороны, они могли самоуничтожиться и без нашего воздействия. – Вы в этом уверены? – спросил Белый Воротник. – Вы способны заглянуть в грядущее? – А вы? – откликнулся Каралис. Парапримы сморщились, будто в нерешительности или в раздумье. Их мимика и жесты были очень похожи на человеческие, и это облегчало общение. – Иногда нам это удается, – сказал Антрацит. – Не обладая подобным знанием, мы не рискнули бы вмешиваться в развитие младших рас. Следует предвидеть, что для них плохо, что хорошо и чем обернутся наши лучшие намерения. – Вы делаете долгосрочные прогнозы с помощью компьютеров? – поинтересовался Колесников. – Что при этом используется? Оценка рисков, альтернативный исторический анализ, синергетика, стратегия игр? [94] – Нет. У нас имеются аналоги этих математических дисциплин и устройства, подобные вашим компьютерам, но мы считаем, что искусственный разум уступает живому мозгу в прогностических способностях. В вашем языке есть термин… умение приходить к правильным результатам без логических рассуждений… – Интуиция, – пробормотал Каралис, – интуиция… Мы можем лишь позавидовать вашей чудесной способности, партнеры, если она в самом деле столь безошибочна и точна. Наши знания о будущем все-таки строятся на компьютерных расчетах. – Но прогноз будущего – некорректная задача, – возразил Белый Воротник. – Нельзя учесть всю гигантскую совокупность фактов, необходимых для точного математического расчета. В то же время малые флуктуации в исходных данных ведут к непредсказуемым результатам. – Он помолчал, потеребил шерсть на груди, потом пригладил белый мех. – Мы познакомились с тем, что называется у вас литературой. Я вспомнил песенку… детскую песенку о кузнице, в которой не нашлось гвоздя, чтобы подковать верховое животное… кажется, лошадь… И что случилось из-за этой мелочи? – Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, – гулким басом сообщил Колесников. – Да, случилась большая неприятность! Но мы теперь умнее, чем двести лет назад. Мы не пытаемся влиять на экстравертные культуры, на тех, кто осознал свое место во Вселенной. Мы занимаемся исключительно архаическими мирами. – Но ускоряя их прогресс, вы не застрахованы от ошибок. Есть лишь одна причина для оправдания подобных действий: минимизация жертв. Социальный и техногенный прогресс общества ведет к неизбежным потерям: разумные существа гибнут в войнах и катастрофах, во время социальных потрясений и опасных экспериментов, умирают от голода и болезней. Вмешательство извне оправдано, если оно сокращает количество жертв. – Существенно сокращает, – добавил Антрацит. – Но вы не умеете предугадывать подобные риски. – Нам намекают: не суйся со свиным рылом в калашный ряд, – буркнул Колесников. Он произнес это на русском, но, вероятно, смысл был понятен парапримам – оба оскалились в улыбке. – Есть ситуации и Cитуации, – сказал Сойер. – Иногда вмешательство необходимо, к какой бы культуре, интравертной или экстравертной, ни относился прогрессируемый мир. В истории нашей планеты были такие случаи. – Вы испытали чье-то влияние? – спросил Антрацит. Кажется, он выглядел удивленным. – Не уверен, что это можно так назвать. – Каралис запрокинул голову и прищурился – зеленоватые лучи Каузы Примы кололи глаза. – Влияние?.. Нет, скорее своевременная помощь… Это произошло девять веков назад, при столкновении с расой фаата. Их флот вторгся в Солнечную систему, и хотя мы уже имели боевую космическую технику, перевес был на стороне противника. Возможно, нас бы уничтожили. – Кто же вам помог? Кто это сделал? – с явным волнением произнес Белый Воротник. – Эмиссар метаморфов, пребывавший в нашем мире в качестве наблюдателя. Организм этих созданий способен к глобальной перестройке, – сообщил Каралис. – Они могут принять облик гуманоида, дроми, лльяно или подобного вам существа и потому практически неуловимы. Но Гюнтер Фосс – так звали того метаморфа – не скрывался и вступил в контакт с нашими службами. В архиве Звездного Флота есть упоминания о нем. Парапримы переглянулись. – Нам ничего не известно об этой расе, – промолвил наконец Белый Воротник. – Рад оказаться вам полезным. – Каралис усмехнулся. – Но про лоона эо вы, вероятно, знаете? – Да. С ними мы поддерживаем торговые контакты. – Лоона эо тоже пытались влиять на нас. Среди предлагаемых ими товаров есть странные устройства, опасные для гуманоидов: гипноглифы, Зеркала Преображений, снадобье эрца и звучащие шары… как же они называются?.. – Коум, – подсказал Колесников, – они называются коум. Мы запретили ввоз таких предметов и потому, возможно, еще живы. Даже не сошли с ума. Парапримы одновременно кивнули, то ли соглашаясь с подобным решением, то ли приняв информацию к сведению. Потом Антрацит промолвил: – Это создание… метаморф… он действовал в согласии с нашей традицией. Несомненно, его раса обладает опытом и мудростью. Мы хотели бы с ней связаться и просим вашего содействия. – Тут мы ничем не можем помочь. Метаморфы приходят и уходят, ни у кого не спрашивая разрешения, – сообщил Каралис, а Колесников мстительно добавил: – Поищите на своих мирах. Уверен, они и вас не обошли вниманием. Наступила тишина. Антрацит и Белый Воротник сидели неподвижно, закрыв глаза, и, надо думать, обменивались мнениями – эта раса была способна к мысленной связи. Зеленоватые лучи звезды струились сквозь прозрачный купол, шерсть парапримов, не носивших одежды, отливала изумрудными бликами, мышцы гибких длинных конечностей чуть заметно трепетали. Каралис и Сойер, соблюдая протокол, старались не разглядывать их, но Колесников не стеснялся: все шесть видеодатчиков его цилиндра таращились на инопланетян. Он, несомненно, фиксировал каждый их жест и каждое слово, а в периоды молчания пытался расшифровать поток ментальных импульсов. – Продолжим, партнеры, – сказал Антрацит, поднимая темные кожистые веки. – Мне кажется, вы что-то хотите спросить? – Да, – откликнулся Сойер. – Упоминались некие традиции… ваши принципы прогрессорства, если я верно понял… Могли бы вы их изложить? – Разумеется. – Антрацит обхватил нижние конечности верхними и принялся раскачиваться в своем сиденье-гамаке, согласуя ритм речи с этими движениями. – Наблюдение, только наблюдение… долгое, тщательное, терпеливое наблюдение… никаких попыток ускорить естественный прогресс… никаких эстапов и передачи технологии, даже самой безобидной… никакого протекционизма тем или иным группам населения… никаких сведений географического или космогонического характера… – Вдруг он замер и вытянул в сторону землян длинную конечность. – Вмешательство допустимо, но в одном и только одном случае: при угрозе общепланетной катастрофы. Так, как сделал наблюдатель метаморфов, о котором вы рассказали. – Это означает, что из прогрессоров мы станем наблюдателями и хранителями, – сказал Сойер. – Именно так, – согласился Антрацит. – Не изменять быстро и непредсказуемо, а оберегать от несчастий. Не толкать силой в неведомое будущее, а следить за естественным процессом, помогая лишь в случае крайней необходимости. Такова наша концепция. – Я доведу ее до сведения Консулата, – вымолвил Каралис. – Вы желаете продолжить обсуждение наших… гмм… провалов и ошибок? – Нет. Об этом сказано достаточно, и мы не хотим усиливать то ощущение вины, которое вы испытываете. – Белый Воротник щелкнул пальцами, вызывая гравиплатформу. – Чем мы займемся в следующий раз? Ваша очередь сделать предложение. – Осиер, – сказал Каралис. – У нас имеются разногласия по Осиеру. Хотелось бы с ними разобраться. – Нет возражений. Ваш коллега Ивар Тревельян будет участвовать в дискуссии? Это было бы полезно. Хранитель Осиера высокого мнения о нем. – К сожалению, Тревельяна нет на нашем корабле. Он выполняет очередную миссию, далеко отсюда. Очень далеко. – Разве с ним нельзя связаться? – В принципе, можно, но поддерживать непрерывную связь на таких огромных расстояниях затруднительно. Боюсь, капитан нашего лайнера на это не пойдет. – Техническую часть мы берем на себя, – промолвил Антрацит. Сделав прощальные жесты, парапримы скользнули друг за другом на подплывшую платформу и направились к выходу.Глава 5. Саенси
Есть три занятия, достойных мужа: торговля, торговля и еще раз торговля.Пословица народа туфан
Инанту Тулунов, практикант Ксенологической Академии, неторопливо брел вдоль рядов шумного пестрого базара. Здесь были палатки из шкур и грубой парусины, навесы, что держались на шестах, более капитальные строения из необожженного кирпича, кособокие прилавки, открытые солнечным лучам, и просто разложенные на земле товары. Посуда и оружие, древесина и кипы широких листьев для крыш, обувь и одеяния, маленькие слитки металлов, кольца, ожерелья и браслеты, кожи и шкуры, плоды дигги – свежие, соленые и маринованные, кувшины с пивом, сушеное мясо пустынных удавов, мясо и мех горных кенгуру, животные – хффа и рогатые свиньи, хищник Четыре Лапы в прочной деревянной клетке, драгоценная вода в глиняных сосудах, повозки, корабельные снасти и, разумеется, невольники – словом, тут было все. Вопили торговцы и покупатели, жуткими голосами завывали хффа, бранились стражники, разнимая дерущихся, звенели клинки, шелестели одежды, топали сотни ног, поднимался дым над харчевнями, пахло нагретым камнем, морем, едой, от куч отбросов несло вонью. В Саенси, торговом городе народа туфан, Инанту был не в первый раз. Здесь его знали под именем Ловкач – у туфан имена походили на клички и могли меняться в зависимости от обстоятельств. Так, один из приятелей Инанту звался Мордастым, а когда потерял ступню в схватке с дикарями из южной пустыни, превратился в Колченогого. Инанту получил свое имя – весьма почетное, по мнению туфан, – ввиду особых успехов в торговых делах, хотя крупными операциями не занимался, а шустрил по мелочи. Считалось, что он водит небольшие караваны с горшками, украшениями и одеждой в Землю Кьолл и всегда возвращается с выгодой, с мешочком широких водяных браслетов или с сосудами сладкой воды [95]. Инанту и правда был оборотистым малым, но базой его купеческой удачи все же являлась золотая проволока из запасов Юэн Чина. Инанту уже навестил пару десятков своих приятелей – торговцев тканями Зоркого Змея и Кривозуба, арматора Соленого, хозяина гончарной мастерской Рожу-в-Глине, Брюхо, державшего пивной склад, и остальных знакомцев. К одним пожаловал в лавку, других повстречал в торговых рядах, с третьими, как с Колченогим и Трясучкой, перебросился словом в харчевне матушки Отвислой Губы, где подавали рыбу с лепешками из дигги. В каждом из этих мест его принимали с искренним радушием: будучи нацией мореходов и торговцев, туфан отличались любопытством и обожали слушать страшные истории, особенно под пиво и соленую рыбку. Инанту приятелей не разочаровал – новости у него были страшнее некуда. Он будто бы вернулся из дальнего похода на запад, в земли кьоллов, которым в этот раз возил не плащи и посуду, а наконечники для стрел и копий. Товар, в общем-то, неходовой, так как у баронов, владык оазисов, дружины были небольшие, где пятьдесят, где сто бойцов, и для них кьоллы сами делали оружие, приобретая лишь бронзовые мечи особой закалки. Но теперь стрел и копий понадобилось больше – орды страшных дикарей шас-га из северных пустынь сумели как-то перебраться через горы, и воинов в их войске больше, чем жителей в Саенси, Негерту и Киите, если считать всех и каждого, от мала до велика. Их, этих жутких людоедов, ведет вождь Серый Трубач, и нет сомнений, что кьоллов они размечут и сожрут, а после выйдут к побережьям, и тут наступит конец народам туфан и ядугар. Точно наступит, если магистраты городов не сложатся и не наймут такую армию, какой еще не видели в этих краях. Надо набирать солдат, строить валы, копать рвы и ставить частоколы, надо призвать всех ближних баронов с их отрядами, и надо готовить корабли, чтобы уплыть в земли востока, если кочевники одолеют. Инанту внимали с ужасом, ибо о шас-га в прибрежных городах было известно – по временам плавали их мореходы на север и покупали там рабов, страшных видом своим, и силой, и кровожадностью. Из них получались отличные телохранители – конечно, после долгой и весьма опасной дрессировки. Этим доходным ремеслом занимались немногие – бывало, что дрессировщиков съедали. Базарная площадь выходила одним краем к бухте, полной кораблей, и здесь вдоль побережья тянулись доки, верфи, склады и причалы, и над каждым строением реял по ветру знак владельца – тряпка с какой-нибудь надписью, сухие стебли бамбуковой травы, окрашенные в разные цвета, или пучок волос. С другой стороны поднимался холм с цитаделью, обнесенной кирпичными стенами, – там жили самые богатые судовладельцы и купцы, там находились казармы стражей, святилища богов, здания суда, магистрата и подземелье городской темницы. По склонам холма карабкались без порядка и разбора усадьбы, обнесенные стенами из глины, лачуги, хижины и мастерские, с грудами мусора под каждым забором, с трубами над кузницами и гончарными печами, с тощими хффа, бродившими тут и там в бесплодных поисках травы. В общем, Саенси являлся обычным средневековым городишком, каких на Земле в былые эпохи насчитывались тысячи. Но в скудном мире Раваны таких поселений было десятка три, так что Саенси мог считаться оплотом местной цивилизации. Первый раз Инанту обошел торжище с белого восхода до красного полудня, задерживаясь где на несколько минут, где на полчаса, а в харчевне – так на целый час. Во время второго круга он прислушивался к разговорам; ближе к гавани еще болтали о торговых делах, но в середине базара и в стороне, ближней к городским окраинам, уже полз слушок о дикарях шас-га, преодолевших горы и поедающих в данный момент кьоллов, с их диггой, хффа и рогатыми свиньями. Говорили, что некий туфанский купец был зажарен и съеден со всем своим караваном, что сотни оазисов выжжены дочиста, что людоеды выйдут к побережью через пару дней и что ведет их предводитель Серый Барабан или, возможно, Кровавый Трубач. Говорили, что Саенси обречен, если великий Бааха, Бог Двух Солнц, или Камма, Богиня Песков, или Бог Воды Таррахиши не спасут город каким-то чудом. Говорили, что на богов надежда слабая, ибо они коль и влезают в дела людей, так непременно с пакостью: то неурожай устроят, то падеж скота, то бурю песчаную пошлют, а вот теперь – кочевников шас-га; может быть, с той целью, чтоб извести под корень всех настоящих людей. Еще толковали о бездействии власти, о том, что не посланы гонцы в другие города, не собрана воинская сила, и о том, что богатеи уплывут за море, а остальным дорога одна – к людоедам в котел. Словом, паника ширилась, а вместе с нею – недовольство, граничащее с бунтом. Инанту сделал третий круг, а на четвертом, когда белое солнце стало садиться, взяли его под руки, оттеснили в проулок за полуразвалившимся храмом Баахи, прислонили к ветхой глиняной стене и врезали пару раз коленом пониже живота. Инанту захрипел, согнулся, выблевал рыбу, лепешки и пиво из кабака Отвислой Губы, но медицинский имплант помог справиться с болью. Его обидчики были дюжие молодцы, но не разбойные людишки, а стражи при исполнении: на каждом – кожаный нагрудник, у поясов – кинжалы, а в лапах – увесистые палки. Пожалуй, Инанту одолел бы этих четверых, но драка в его планы не входила. Он добивался совсем другого результата. Стражники расступились, давая дорогу важному мужчине в бронзовых доспехах. У всех обитателей Пекла кожный эпидермис был толще, чем у землян, являясь естественной защитой от излучения двух светил; по этой ли причине или по какой-то иной усы и бороды у них считались редкостью, хотя обилие волос на голове буквально изумляло. Те, кому повезло с усами либо с бородой, холили их и берегли, ибо такая растительность считалась знаком благородного происхождения. Воин в доспехах был усат и бородат: усы – по три волосины, борода – четыре. Но во всем остальном он выглядел очень солидно: рожа плоская, как у всех туфан, шея бычья, темные буйные пряди до пояса, мускулистые руки и пронзительный взгляд. Важная личность в Саенси! Командир городской стражи по имени Тяжелый Кулак. – Смутьяна – ко мне! – произнес он утробным голосом, и стражи толкнули Инанту поближе к начальнику. – Я тебя знаю! – рявкнул тот, осмотрев задержанного. – Ты – Ловкач, трахни меня Бааха! Ловкач, мелюзга базарная! Вернулся, значит, из Кьолла со всякими байками… Ты зачем народ пугаешь? – Чтоб мне сладкой воды не пить! – Инанту изобразил глубокое почтение. – Чтоб мои товары буря унесла, а меня засыпали пески пустыни! Чтоб на меня помочился шелудивый хффа! Клянусь, в речах моих ни слова лжи! Шас-га по эту сторону гор, и ведет их… Тяжелый Кулак отвесил ему оплеуху. Потом произнес с сожалением: – Будь моя воля, я бы тебе забил рыбью кость в ноздрю. Однако… – Повернувшись к стражникам, он сделал повелительный жест: – Тащите его! Наверх! Инанту потащили, да так быстро, что базарная круговерть замелькала как в калейдоскопе. Он едва успевал перебирать ногами, хоть и старался изо всех сил: идущий сзади Тяжелый Кулак награждал его то пинком, то тычком, то ударом по шее. Стражи вознесли Инанту на холм, мимо лачуг и завалов мусора, мимо мастерских, откуда воняло кожами или тянуло запахом дыма, мимо храма Таррахиши и цистерны с водой – вокруг нее, позванивая водными браслетами, сгрудились женщины, мимо кузниц, где грохотали молоты, мимо вопящих хффа и разбегавшихся с дороги рогатых свиней. За стеной, что ограждала крепость на вершине, было потише и почище, но дома стояли в том же беспорядке – до понятия улиц туфан еще не доросли. Эстапы, дарованные ФРИК этому племени, градостроительства не касались, а были направлены на расширение ассортимента товаров, черчение карт, развитие письма и счета и повышение надежности морских и сухопутных перевозок. Специалисты Фонда полагали, что торговля – лучший двигатель прогресса. Стражи и Инанту, подгоняемый Тяжелым Кулаком, обогнули массивные башни казарм, миновали усадьбу купца Нос-Набок и дом лекаря, служивший аптечной лавкой, вышли на небольшую площадь и направились к зданию ратуши. То есть ратушей этот длинный двухэтажный особняк был в представлении Инанту, а у туфан он прозывался Средоточие Власти. Топоча сандалиями, они поднялись по наружной лестнице без перил и ввалились в просторную залу, где стояли сундуки с городской казной и широкие скамьи, попавшие сюда не иначе как с отплававшей свое галеры. На этих сиденьях, отполированных задами гребцов, восседали три персоны с жидкими усами и бородками: правитель Саенси Смотрящий Искоса, глава торговой гильдии Руки к Себе и верховный жрец Баахи, а также его божественных детей Уанна и Аукката. Жрец носил имя Рожденного-в-Ночь-Полной-Луны, особо счастливый час, сулящий долгую жизнь, что в его случае оправдалось: по земному счету Рожденному перевалило за восемьдесят. Был он беззубым и выглядел точно Кощей из детских сказок. – Вот оно, это дерьмо песчаной крысы. Зовут Ловкач, – молвил Тяжелый Кулак и подтолкнул Инанту к владыкам города. Потом подумал и добавил: – В торговых рядах у меня тридцать стражей с длинными палками. – Палки – лучшее средство для успокоения страстей, – прошамкал жрец. – Особенно длинные, – согласился Руки к Себе, поглаживая ус. Но правитель молчал, сверля Инанту мрачным взглядом. Точнее, смотрел он куда-то вбок, но Инанту все равно казалось, что на него нацелен дальнобойный лазер. Впрочем, кроме неприятных чувств он испытывал удовлетворение, ибо цели своей достиг, добрался до городской верхушки. В обычных обстоятельствах его бы к ратуше близко не подпустили, а тут доставили честь по чести, хотя не без урона – в паху у него еще побаливало. Смотрящий Искоса заговорил: – Пустобрех – хорошая пища для рыб. Может, закопать его в песок во время отлива? – Мясо зря пропадет, – не согласился Руки к Себе, прозванный так за исключительную жадность. – Я бы бросил его своим удавам. Сожрут, если нарубить помельче. У жреца на этот счет предложений не нашлось. Он прищурился и сказал, что пора зажечь факелы. Вместо окон в зале имелись два широких проема, выходивших на запад и восток. В западном висел огромный шар Асура, уже коснувшийся нижним краем далеких песков, в восточном на тусклый небосвод лениво выползал Гандхарв, естественный спутник Раваны. Инанту, сделав жесты почтения, вытянул руку на восток и произнес: – Не успеет луна дважды усохнуть и снова сделаться полной, как людоеды с севера будут у городских стен. Пусть утроба Каммы поглотит меня, если я лгу! Наступила тишина. В зале бесшумно двигались слуги с факелами, закрепляли их в кольцах на стенах, и наконец яркое пламя разогнало полумрак. Огни отразились в медных крышках сундуков, набитых водяными кольцами, но Инанту знал, что главные сокровища не здесь, а в огромных подвалах ратуши, где хранились цистерны со сладкой водой. За эти богатства можно было нанять воинов – не такую большую армию, как у Серого Трубача, но все же, если возвести валы и частоколы, Саенси мог обороняться многие месяцы. Даже перейти в наступление, если поддержат другие города… Их отряды было несложно переправить в Саенси по морю. – Когда ты вернулся? – спросил Смотрящий Искоса.
– Сегодня, владыка, на восходе Аукката, – ответил Инанту, продолжая делать почтительные жесты. – Где был? – В оазисах у Подножия Мира. – Он назвал баронов, чьи владения были близки к лагерю Трубача. – И ты видел там войско северных людоедов? – Если бы я увидел шас-га, то остался бы в их животах, – сказал Инанту. – Кьоллы предупредили меня о нашествии. Они напуганы. Они… – Что ты видел сам? – прервал его Руки к Себе. – Развалины на месте деревень, обобранные поля, источники, где не осталось ни капли воды. Еще кости людей и животных. Целые груды костей и черепов. – Спаси нас Бааха! – Жрец стал чертить в воздухе знаки, отвращающие зло. – Но, может быть, это кьоллы воюют друг с другом? – Кьоллы не едят людей, почтенный, – напомнил Инанту. Затем повел речь о валах, частоколах и рвах, наемных солдатах и запасах оружия, но его прервали: Смотрящий Искоса кивнул начальнику стражи, и тот отвесил Инанту оплеуху. Похоже, здесь не нуждались в советах. – Врет, клянусь Баахой! – сказал Тяжелый Кулак, примериваясь к другой Инантовой щеке. – Прежде чем схватить это отродье хффа, я дал понюхать палку его дружкам. Они признались, что Ловкач вез кьоллам стрелы да копья. Ничего, думаю, не продал и вернулся в Саенси с байкой про дикарей – вдруг напугаются и товар раскупят. Ловкач – он Ловкач и есть! – Начальник стражи с надеждой уставился на правителя. – Так что с ним делать? Закопать в песок, скормить удавам или кость забить в ноздрю? Смотрящий Искоса в сомнении запустил пальцы в волосню и почесал макушку. Жрец просипел ему в ухо: – Слова, что рыба в море – скользкие. Что еще есть у этого Ловкача? Какие доказательства? Доказательств у Инанту было сколько угодно. Он полез за пояс и вытащил наконечник стрелы, закопченный бронзовый колокольчик, верхушку рога скакуна, снесенного ударом секиры, кусок челюсти с огромными зубами и другие предметы, которыми его снабдил Юэн Чин. Шагнув к лавке, Инанту разложил это добро и произнес: – Вот, смотрите, мои владыки! Это я нашел на пепелищах. А что до моего товара, – тут он метнул презрительный взгляд в сторону Кулака, – то все ушло с хорошей прибылью. – И он хлопнул по сумке, подвешенной к поясу и полной водяных браслетов. – Колоколец… – задумчиво вымолвил Руки к Себе. – Стрела и колоколец… Я плавал на север и видел такое. Стрела точно людоедская, а колокольцы они вешают на свою рогатую скотину. А это, – глава гильдии коснулся обломка рога, – это с их скотины срублено. Мечом или топором. Правитель ощупал стрелу, рог и колокольчик, потом взял челюсть шас-га, поднес ее к глазам и бросил обратно на лавку. На его щеках проступили синюшные пятна – похоже, Смотрящий Искоса был напуган. – Среди дикарей есть жуткие уроды, – пробормотал он. – Один из их Очагов… Как называется?.. – Зубы Наружу, – подсказал Руки к Себе дрогнувшим голосом. – Пожалуй, удавов пока отменим. Этого, – правитель ткнул пальцем в Инанту, – в яму, чтобы народ не мутил. Ты, Тяжелый Кулак, пошлешь разведчиков на запад и гонцов к Великим Кьоллам [96], к тем, что поблизости. Пусть гонцы их расспросят. Сколько мы можем купить у них солдат? – Сотни четыре, – хмурясь, буркнул Тяжелый Кулак. – У меня двести бойцов, и еще столько же наймем среди городской голытьбы. В дружинах Великих Кьоллов – тех, что близко к городу, – тысяча. Можно поискать в пустыне… Народец там дикий, биться строем не умеет, зато кровожадный. Камни и дротики бросают метко. – Это все? – спросил Смотрящий Искоса. – Все. – Помилуй нас Бааха! – проблеял жрец. – Двух тысяч не будет, даже если кьоллы придут! – Нужно слать гонцов в другие города, – сказал Руки к Себе. – Нас съедят и до них доберутся. А посему… Продолжения дискуссии Инанту не услышал – стражники потащили его прочь, прогнали вниз по лестнице и повели по пустынной площади. Асур уже исчез за горизонтом, и темноту разгоняли лишь бледные лучи Гандхарва. Его диск висел в небе над морем, отделявшим Хираньякашипу от Намучи, над восточным берегом огромного континента, над горным хребтом и городами туфан, обреченными на разграбление и погибель. Вдоль Поднебесного Хребта, через все земли кьоллов, шел торговый тракт, так что кочевники могли достигнуть побережья дней за шестьдесят, а если поторопятся, то и еще быстрее. Узилище, куда вели смутьяна, находилось рядом с казармами, но попасть в него Инанту не желал – на эту ночь у него были совсем другие планы. Покинув площадь, он очутился в темном проходе на задах какого-то поместья, и тут стражи, притормозив, вцепились в его сумку. Пока они с руганью рвали ее друг у друга и подбирали рассыпавшиеся браслеты, Инанту мог бы убежать, но в паху еще побаливало, а мстительность была ему отнюдь не чужда. Ткнув пальцем с боевым имплантом поочередно каждого стражника и оставив их валяться под забором, он прихватил несколько браслетов и покинул городскую цитадель. Разряды импланта были не смертельными, лишь парализующими, но до белого рассвета стражи не очнутся. К этому времени он окажется далеко – в Фартаге, Негерту, Киите или еще в каком-нибудь из двух десятков прибрежных городов. Здесь дела он завершил; осталось только выбраться из Саенси, вызвать висевший в небе флаер и перебазироваться в другое поселение туфан. Но судьба сулила иначе. Проходя по замершему в этот час базару, Инанту услышал некий звук – то ли рычание, то ли зубовный скрежет, а может, то и другое разом. Он огляделся и сообразил, что находится в той части торжища, где продавали невольников: своих же собратьев туфан, и кьоллов из ближних и дальних оазисов, и дикарей из южной пустыни, и мужчин и женщин народа хеш, обитавшего за морем, и даже ядугар с далекого западного побережья Хиры. Перед ним темнела повозка с клеткой, а в ней на вонючей соломе скорчилось длиннорукое нагое существо; свет луны падал на страшную рожу с пастью от уха до уха и огромными зубами. Человек – если то был человек! – медленно сжимал и разжимал кулаки, словно пытался задушить кого-то невидимого. На шее у него поблескивал медный ошейник с приклепанной к обручу цепью. Рядом с повозкой был шатер работорговца. Инанту вытащил браслеты, запрятанные в поясе, позвенел ими и сказал: – Да будет с тобой милость Баахи, хозяин. Вылезай, дело есть. Откинулся полог, из шатра выполз крепкий детина, встал и уперся взглядом в переносицу Инанту. Хоть был он туфан, но выглядел настоящим разбойником: в руках поблескивает топор, за поясом – ножи, а с плеча свисают кожаные ремни. – Услышу ли я твое почтенное имя? – спросил Инанту. – Не Проси, – буркнул детина. – А ты кто? – Ловкач. Торгую с кьоллами. – Я тоже, – сказал работорговец чуть подружелюбнее. – Чего ты хочешь, Ловкач? – Откуда у тебя шас-га? – Инанту кивнул в сторону клетки. – Привезли по морю? – Нет, у кьоллов купил, у владетеля Уммизака. На что уж свиреп Уммизак, а с этим ублюдком не справился, продал мне. А я, дурной онкка, купил. Себе же в убыток. – Опустив топор, Не Проси со вкусом зевнул и почесался. – Дикая тварь! Бить надо, учить надо, а дикий никому не нужен. Не берут! Боятся! «Купил у Уммизака! Интересная новость! – подумал Инанту. – А как очутился у кьоллов этот северянин? Если морем не привезли, то значит, нашел проход в горах?.. Ту дыру, которую на базе ищут, да найти не могут?.. Любопытно! Очень любопытно!» Он даже вспотел от возбуждения. Потом снова побренчал браслетами и произнес: – Дикая тварь, говоришь? Ну, я бы его взял. Один браслет. Тонкий, золотой. Не Проси ухмыльнулся, бросил топор на землю и раскрыл ладонь. – Сюда клади, Ловкач. Можешь все мне отдать, тебе не понадобятся. Загрызет! – Я тоже зубастый, – сообщил Инату. – Дашь один браслет за дикаря, и другой – за ошейник с цепью. Медь нынче недешева. Так? – Так. – Инанту протянул два тонких браслета. Хотя в небе висела луна, Не Проси произнес ритуальную фразу: – Видят Бог Двух Солнц и дети его Уанн и Ауккат: было мое, стало твоим. Забирай ублюдка! Инанту выволок свое приобретение из клетки, намотал конец цепочки на руку и двинулся прочь с торжища. Вскоре город остался позади – темный холм и темная гавань с дремлющими кораблями и рыбачьими лодками. Глухо рокотали волны под сумрачными небесами, скрипел под ногами влажный песок, и с востока, с моря, тянуло соленым ветром. На западе, за грядой барханов, поросших чахлой травой, лежала пустыня. Три земные Сахары могли уместиться в ней и еще хватило бы места для Гоби и Калахари. Остановившись в уединенном месте, у кромки соленых вод, Инанту вызвал флаер и задрал голову, всматриваясь в ночное небо. Прошла минута-другая, и летательный аппарат, скрытый голографической завесой, беззвучно приземлился на песок. В этот момент цепочка звякнула и ослабла; Инанту едва успел повернуться, выставить палец и ткнуть в живот прыгнувшего на него шас-га. Потом затащил бесчувственное тело в кабину и стал размышлять: вернуться ли на пик Шенанди и сдать пленника Престон и Юэн Чину или провести дознание самому. «Тревельян бы не колебался, – мелькнула мысль. – Ивар Тревельян всегда действовал самостоятельно…»
Важным инструментом ФРИК является теория оценки рисков. Эта отрасль зародилась еще в конце двадцатого века, а в двадцать первом, по мере совершенствования математического аппарата и всемирной компьютерной сети, ее применяли для прогнозирования природных и техногенных катастроф. Но постепенно возникло и укрепилось мнение, что возможности теории рисков гораздо шире, что ее можно – и следует – использовать в сферах политики, социального развития, военной стратегии, ксенологии и контактов с инопланетными расами. Сейчас эта точка зрения является общепринятой. Мы не будем затрагивать всех перечисленных выше областей, но разберем гипотетический пример, связанный с деятельностью ФРИК. Предположим, что некая архаическая культура представлена рядом государств уровня средневековой Франции, а также племенными союзами менее развитых народов (номады степей и пустынь, обитатели лесных зон, горных районов и т.д.). Если прогрессировать одно государственное образование, то оно вскоре начнет доминировать над другими странами, и результатом явятся войны, подавление торговой конкуренции и, не исключено, – геноцид. Более разумно внедрять эстапы во всех перспективных странах, но рост их благосостояния и могущества может вызвать, с одной стороны, экспансию в менее развитые области планеты и уничтожение коренного населения, а с другой – прилив варварских орд. В истории Земли имели место оба прецедента: падение Римской империи, Византии и Китая, колонизация Америки, Австралии и Сибири, нашествия гуннов, монголов и арабов. Без оценки рисков того или иного, но равно нежелательного сценария событий нельзя получить оптимальное решение. Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 5. Инструментарий ФРИК.
Глава 6. Северная степь
Путешествие было неторопливым и монотонным. Вздымая пыль, вращались огромные, в рост человека, колеса повозок, неспешно перебирали ногами скакуны, дремали всадники, позвякивали колокольцы, медленно и почти незаметно приближалась гигантская горная цепь, закрывая южный небосклон. Всходило белое солнце, всходило красное, зной обрушивался на пустынную степь, лучи обоих светил, подобно огненным стрелам, падали на песок, на скудную растительность, травы, кусты и невысокие деревья, на людей и животных. Температура поднималась до пятидесяти градусов, жаркий воздух расплавленным свинцом вливался в легкие, и даже привычные к жаре шас-га висели на спинах скакунов, точно проколотые бурдюки. К красному закату становилось немного прохладнее, и воины выбирали место для ночлега. Самки разжигали скудный костер, подбрасывали в него комья сухого навоза, варили пищу, мясо крыс и ящериц с зернами диких злаков. Киречи-Бу наделял своих спутников водой: мужчинам – десять глотков, самкам – пять, детенышам – три. Затхлая вода воняла бурдючной кожей, но все-таки считалась сладкой, без сернистых примесей – вероятно, ее добыли из колодца или подземного источника. Впрочем, горькую воду жители Пекла тоже могли пить – благодаря особой микрофлоре в их желудках такая влага частично усваивалась организмом. В группе, сопровождавшей ппаа, было семнадцать мужчин, считая с Тревельяном и сказителем Тентачи, девять самок и пара дюжин детенышей – эти то возникали, то исчезали, то попадали на вертелэт, и потому не поддавались точному учету. Отряд оказался разноплеменным – видно, услугами Киречи-Бу пользовались многие Очаги. Сам шаман, его помощник Птис, Тентачи и четверо воинов принадлежали к Белым Плащам; среди остальных Ивар опознал Людей Песка, Людей Ручья и Пришедших С Края. Женщины – точнее, самки, ибо на шас-га их называли так же, как самок животных, – не носили знаков племени, но различались по виду; несомненно, шаман приобрел их в разных Очагах или получил в дар за свои колдовские манипуляции. Что до детенышей, то они являлись просто живым мясом и рано или поздно должны были попасть в утробу колдуна. Днем Киречи-Бу, невзирая на жуткую тряску, спал в своем фургоне. Пробуждался он в тот час, когда белое солнце шло к закату, творил охранительные закляиья и, приподнявшись, осматривал хозяйским взглядом караван. Этот момент показался Тревельяну благоприятным для беседы, и вечером третьего дня он оставил свое место в конце процессии и подъехал к возку колдуна. Вероятно, это считалось большим самовольством – заметив его, шаман с неодобрением буркнул: – Что явился, мясо приблудное? В котел захотелось? Тревельян покосился на сидевших в повозках детенышей и скрипнул зубами. – У тебя полно мяса для котлов. Я же хочу узнать, долгой ли будет моя служба. – Долгой. Будешь грызть камень у моих подошв, пока он не станет песком, – сообщил колдун. – Даже когда мы приедем в лагерь великого Брата Двух Солнц? Я собирался вступить в его войско. Киречи-Бу махнул рукой в сторону гор. – Езжай, Айла! Езжай один, крысиная моча, и делай, что пожелаешь. Но если остаешься здесь, служи мне. У великого вождя много воинов и слуг, а у меня четырех ладоней не наберется. – Он поднес к носу Ивара растопыренную пятерню. – Если уйдешь, возьму твой бронзовый топор. Я кормлю тебя третий день и даю воду. И я оставил тебя в живых. Пока. Ивар покорно склонил голову, решив, что вспоминать о сбитых им наземь всадниках не стоит. Вместо этого он пробормотал: – Зачем мне от тебя уезжать? Ты ппаа, и только ты знаешь, как одолевают неодолимое… Я говорю о горах. Человек в них подобен песчинке в пальцах Баахи. Кто защитит его, кто проведет по огненным склонам и перевалам, где нельзя дышать? Только ты, могущественный ппаа, повелитель демонов! Как и ожидалось, Киречи-Бу надулся от важности. – Хурр! А ты, приблуда, не так глуп! Понимаешь, где кости, а где печень! Сунешься в горы без меня, и тебе придет конец! На этих самых огненных склонах и перевалах, где нельзя дышать! Но мы туда не пойдем. Гонцы Великого открыли мне другую дорогу. Не Бааха властвует над ней, а Ррит. Он поведет нас через Спящую Воду. Об этой воде уже упоминалось, вспомнил Тревельян. Ледник? Может быть и так, но ледники Поднебесного Хребта лежат на границе стратосферы, где без скафандра не выживешь. Подземная пещера с оледеневшими стенами? Но ширина хребта составляет от двухсот до трехсот километров, и столь протяженное – поистине гигантское! – подземелье было бы замечено с орбиты. На спутнике, что обращался у Пекла, имелись интравизоры и масса других приборов для изучения планетарной коры. Собственно, даже сейсмологическая разведка позволяла обнаружить такой необычный феномен. Изобразив удивление, Ивар сказал: – Разве вода может спать? Вода течет по земле ручьями. Если вычерпать ее из колодца, он снова наполнится, и значит, под землей вода тоже не спит. Дети Баахи дарят тепло, Ррит – голод, Камма – песчаные бури, но сна воде они не даровали. Колдун насупился. – Кто ты такой, Айла, чтобы размышлять о дарах богов? Отправляйся на место, дерьмо песчаной крысы, и успокой свою печень! Шас-га, в силу своих гатрономических пристрастий, были неплохо знакомы с анатомией, но главным органом считали не мозг, не сердце и не желудок, а именно печень. Печень, по их понятиям, являлась вместилищем всех достоинств, силы, отваги и, конечно, разума. Совет успокоить печень означал, что размышления о божественном – не для крысиного дерьма. Отправившись в конец каравана, Тревельян попробовал расспросить о спящей воде певца Тентачи. Но эти расспросы лишь вызвали у Блуждающего Языка приступ вдохновения. Он ударил в свой барабанчик и пропел:– То, что он когда-нибудь проснется, – буркнул Ивар и замолчал.
* * *
Кафингар Миклан Барахеш, специалист по управлению погодой, мрачно уставился в серебристую глубину экрана, в котором, словно в зеркале, отражалось его лицо: твердо очерченные губы, идеальной формы нос, ровные дуги бровей, высокий лоб, обрамленный длинными светлыми прядями. Он был очень красив – и на взгляд землян, и в представлении терукси, – так что поводов для уныния вроде бы не имелось. Кроме того, он обладал несокрушимой верностью в любви, острым умом, чувствительной душой и нежным сердцем. Что еще нужно, чтобы составить счастье женщины? Милой Энджи, его чатчейни?.. Но ее слова звучали в ушах Кафингара похоронным песнопением. Ивар хочет к ним отправиться… полететь в пустыню к этим убийцам, этим людоедам… к жутким дикарям шас-га… А ты? Ты бы смог? Тогда он улыбнулся и ответил: нет, мое занятие – погодные установки. Но в занятии ли дело! Между землянами и терукси, подобными, казалось бы, во всем, существовали отличия психологического свойства. Обитателям Земли, не всем, но очень многим, казалось естественным отождествлять себя с профессией. На вопрос «кто ты?» они отвечали так, словно не было у них ни детей, ни семей, ни родителей, ни возлюбленных. Кто ты? Офицер Космического Флота… Кто ты? Планетолог, сотрудник ФРИК… Кто ты? Философ с кафедры гносеологии Первого Марсианского университета… Кто ты, кто ты? Врач, кибернетик, учитель, солдат… инженер, специалист по погодным установкам… Так он ответил Энджи, и это был ответ землянина. Но он не землянин! Кафингар поднялся и зашагал по своей просторной лаборатории, чьи пульты и модули связи соединяли его с атмосферными пушками на тридцати шести горных вершинах Поднебесного Хребта. Коснувшись пары клавиш, он мог вызвать ураган в пустыне, проливной дождь и потоп в оазисах кьоллов, бурю у западного или восточного побережья, шквальные ветры над плоскогорьями дальнего юга. Великая мощь! Но это его не радовало. А ты? Ты бы смог? – спросила Энджи. И он спрятался за своими погодными установками… Он, мужчина! Кафингар семьи Миклан рода Барахеш! Терукси ощущали себя в первую очередь мужчинами и женщинами, членами своей семьи, наследниками рода. В женщинах ценились преданность и мягкость, добрый нрав и умение руководить мужчинами, оберегать их от неразумных порывов и неосуществимых желаний. Красота не считалась особым достоинством, ибо все терукси были хороши собой, но дар очарования, изящества и прелести, которым обладают немногие из женщин, стоял в шкале их предпочтений очень высоко. Что до сильного пола, то в его представителях искали твердость, отвагу и мужество. Мужчине полагалось оберегать свою семью: в древности – мечом и копьем, а в нынешние цивилизованные времена – иными действиями, в число которых входили благородная жертвенность, верность долгу и смелость. Можно сказать, что мужчины-терукси были тем эталоном рыцарства, который на Земле существовал лишь в сентиментальных пьесах и дамских романах. Там, где землянин, свершая подвиг, прикидывал шансы на успех и размышлял, как добиться победы, терукси действовал без колебаний и раздумий, шел с открытым забралом, руководимый инстинктом защитника. И этот инстинкт подсказывал Кафингару Миклану Барахешу, что его любовь под угрозой. Он знал о чувствах, связывавших в юности его возлюбленную с Тревельяном, но не ревновал; не прошлое, а лишь настоящее имело значение. Но знал он и другое: ничто не смывают воды забвения, ничто не проходит бесследно, и отголосок сильных чувств не исчезает, а остается в памяти на годы и десятилетия. Энджи будет их сравнивать, его и Тревельяна, сравнивать подсознательно, хочется ей того или нет. Это касалось не внешности, не обаяния, не сердца и ума, но истинно мужских достоинств: упорства, твердости, отваги. Того, что делает из мужчины героя. «Она будет сравнивать, – подумалось Кафингару. – И в чью пользу окажется это сравнение?..» – А ты? Ты бы смог? – пробормотал он и стукнул кулаком по пульту погодной установки. Боль отрезвила его. Кафингар снова уселся в кресло перед экраном и вызвал изображение со спутника. Перед ним был стан шас-га: скакуны, шатры, повозки и толпы диких воинов. Тут и там пылало под котлами пламя, мчались, потрясая топорами, всадники, ветер трепал пучки волос и колокольцы, воздетые на шестах, по окраинам лагеря рубили желтую траву, тащили ее к кострам и палаткам. В отдалении двигались по торговому тракту, что шел у подножия гор, два отряда, один на восток, другой на запад, в каждом по пятьсот дикарей – видно, их отправили разведать местность. Кафингар послал команду на спутник, и картина укрупнилась. Теперь он мог разглядеть лица воинов, страшные серые маски с торчащими зубами, больше похожие на морды хищников, чем на обличье человека. Сверкали глаза, покачивались копья в непропорционально длинных, перевитых жилами руках, волосы грязными нечесанными космами падали на плечи… Как он их ненавидел! Эти существа пожирали подобных себе; женщины – красота жизни, и дети – ее цвет и радость, были для них всего лишь источником живого мяса. Он отказывал им в праве считаться людьми, пусть примитивными и несовершенными. Люди в этом мире – кьоллы, ядугар, туфан, хеш, жители Вритры, Раху, Шамбары, но не звери шас-га. К тому же из-за них сюда прислали Тревельяна, и Энджи утратила лидерство… Кафингар, как и два его соотечественника, не относился к персоналу ФРИК, но вполне разделял идеалы Фонда. Помощь младшим братьям по разуму являлась великим гуманным проектом, и земляне, уделявшие ему ресурсы, средства и внимание первоклассных ученых, были достойны уважения и даже восхищения. Воистину они, как говорилось у терукси, заменяли мутные воды чистыми, не получая взамен ни благодарности, ни платы… Однако некоторых их принципов Кафингар не одобрял, полагая, что действиям ФРИК не хватает последовательности. Прогресс не обходится без жертв, и вопрос, кому помочь и кем пожертвовать, должен решаться в пользу более развитой, более перспективной культуры. Мешающих ей необязательно уничтожать, но если нет другого выхода… Этих людоедов, причинивших горе Энджи и хлопоты другим землянам, он бы уничтожил, если бы не запреты ФРИК. Но он не мог засыпать их песком, смыть ядовитым сернистым ливнем, не мог даже использовать бластер или лазерный хлыст – любое подобное воздействие исключалось. Однако никто и ничто не запрещало Кафингару сразиться с ними равным оружием и доказать свою отвагу. Для этого требовалось лишь очутиться в нужном месте в подходящий момент… в такой момент, когда его помощь необходима… Он снова встал, покинул свою лабораторию и направился к складу, где хранились этнографические коллекции.* * *
Главными после Киречи-Бу считались его помощник Птис и Кадранга, старший из воинов, оба – Белые Плащи. Птис был хитрой лисой, как и полагалось ассистенту колдуна; вероятно, при его содействии творились всяческие чудеса, принесшие славу хозяину. Поболтать он любил, в отличие от неразговорчивого Кадранги, но ни тот, ни другой и словом не обмолвились, куда направляется караван. Тревельяну казалось, что старший из воинов этого не ведает, но за Птиса он ручаться бы не стал – проныра мог пролезть в любую щель и пользовался у шамана большим доверием. Однако расколоть его не удалось, и Тревельян принял в качестве гипотезы, что путь через горы известен только Киречи-Бу. Это означало, что колдуна придется хранить и беречь как зеницу ока – без него вся операция была бессмысленной. Во всяком случае, сопряженной с потерей времени; исчезни колдун, и Тревельяну пришлось бы внедряться в другую группу – скажем, к специалисту по колокольчикам. На красном рассвете пятого дня он подъехал к Птису и пожелал ему полный котел еды. Кормились шас-га впроголодь, и люди Киречи-Бу не были исключением: ели раз в день, перед приходом ночи, и ели скудно – не зря у кочевников говорилось, что у костров всякого Очага сидит Ррит, божество голода. Так что пожелание Тревельяна было добрым, хотя полный котел еды мог Птису лишь присниться. Помощник шамана осклабился, облизнул губы и сказал, что, если найдется у Айлы котел с мясом, он согласен на любую половину. Затем добавил, что до вечерней еды далеко, а прошлую трапезу его брюхо уже позабыло. – Далеко, – согласился Ивар, – но до стана великого вождя еще дальше. Будем ли мы там через двадцать закатов Уанна? Или через тридцать? Или не доедем и пропадем в горах? – Не пропадем, – утешил его Птис. – Киречи-Бу – мудрый ппаа и знает, где надо ехать по траве, а где – по песку. – Там не трава и песок, там огромные камни, – возразил Тревельян, вытянув руку на юг. – Куда же мы едем? – Туда, куда смотрят рога наших яххов, – раздалось в ответ. Затем Птис поведал, что Серый Трубач собирает великих колдунов со всей степи, чтобы те расспросили духов, куда направить войско, на восход светил или на закат. Где больше добычи и больше еды, туда и нужно двигаться, но Ррит такого не подскажет, Рриту нравится, когда шас-га сидят голодными. Это была полезная информация, и Тревельян ее запомнил. Вероятно, Брат Двух Солнц был сейчас в положении буриданова осла: с обеих сторон лежали земли, являвшиеся в местных понятиях богатыми и плодородными. Когда над степью опустилась ночь и Тревельян, после скудного ужина, прилег рядом с повозками, колокольцы на рогах его скакуна тихо зазвенели. То была одна из позывных мелодий, и, прислушавшись к ней, Ивар понял: на базе что-то приключилось. Поднявшись, он взгромоздился на спину трафора, ударил его пятками в бока и поехал в темную степь. – Ххе? – окликнул его стороживший лагерь воин. В разных обстоятельствах это слово могло трактоваться как «Что?», «Зачем?» или «Почему?», но сейчас оно означало «Куда?» Не запрещение, а скорее ленивый интерес – часовому было скучно. – Покормить отродий Каммы, – буркнул Тревельян и двинулся прочь от лагеря. Шас-га не мылись от рождения до смерти, но кое-какие санитарные правила соблюдали: облегчаться рядом с жилищем не полагалось. Фекалии пожирались мерзкого вида червями, обитавшими в песке. Согласно поверьям кочевников, эти твари родились от соития Каммы с тройкой демонов или младших божеств: Духом Котла, Духом Огня и Духом Ветра. Когда тлевший в лагере костер превратился в едва заметную алую точку, Ивар спрыгнул на песок и спросил: – Кто на связи? – Юэн Чин. Вы, эмиссар, назначили его своим заместителем. – Я помню. Разверни-ка экран и дай изображение. Будучи универсальным агрегатом, трафор мог выполнить эту команду множеством способов. Он разинул пасть – так, что челюсти встали вертикально, а язык и зубы превратились в серебристую поверхность; затем выдвинул из левого рога передатчик, а из правого – фонарь. Световой луч упал на лицо Ивара, и тут же в серебристой глубине возникла человеческая фигура. Фоном ей служили просторное окно и темное небо, в котором висел бледный диск Гандхарва – на пике Шенанди, расположенном к востоку, царила глухая ночь. – Вижу тебя, Ивар, – произнес Юэн Чин и сделал несколько шагов. Теперь на экране была только голова этнографа, и казалось, что трафор собирается его проглотить. Тревельян взмахнул рукой, приветствуя коллегу. – Что случилось, Юэн? Неприятности у Исаевых? Или – спаси Владыка Пустоты! – у Норы Миллер? Он беспокоился за этих троих, находившихся вдали от базы. Остальные были в полной безопасности в своем заоблачном дворце. Голова Юэн Чина качнулась. – Нет, с ними все в порядке. Неприятность, если можно так сказать, произошла с моим практикантом. Как мы с тобой договорились, я отправил его в Саенси, Негерту и другие города туфан. Задача была такая: добраться до высших магистратов, предупредить их о вторжении шас-га и, желательно, напугать посильнее, чтобы они раскошелились на оборону. Он это сделал – по крайней мере в Саенси. Но это не все. Понимаешь, он… – этнограф запнулся, – он инициативный юноша. Только опыта ему не хватает. Опыта и осторожности. – Инициативный – это хорошо, – сказал Тревельян, вспомнив беседу у Исаевых и собственную юность. – Ну, что он натворил? – В Саенси ему попался невольник шас-га, совсем еще дикий. Работорговец утверждал, что этот кочевник куплен месяца три назад у кьоллов. У барона Уммизака, если говорить точнее. Тревельян насторожился. Очаг Уммизака был недалеко от лагеря Серого Трубача – собственно, первый оазис к востоку от стана кочевников. Этот шас-га, угодивший в баронскае лапы, мог оказаться лазутчиком, посланным на разведку территорий за Хребтом, и если так, он должен знать о проходе и о загадочной Спящей Воде. Ценный информатор! Конечно, если Инанту смог привезти его на пик Шенанди. – Дальше, Юэн. Я слушаю. – Инанту его купил, а когда дикарь попытался напасть, использовал имплант и вызвал флаер. Хотел доставить на базу, но тут ему в голову пришла другая идея. Дождался, когда пленник очнется, и… – …решил допросить, – произнес Тревельян, отметив, что сам он сделал бы именно так. – Этот крысиный кал на него снова бросился, да? Надеюсь, до смерти не загрыз? – К счастью, нет, хотя успел прокусить сонную артерию. Медимплант остановил кровотечение, и сейчас оба на базе. Киберхирург заштопал Инанту, а шас-га мы поместили в криогенный модуль. – После паузы Юэн промолвил: – Думаю, практиканта нужно наказать. Пусть сидит на базе, а к туфан я слетаю сам. – Это ты зря. Не набив синяков, не научишься, – возразил Тревельян. – Пусть парень работает. А этого шас-га… – Он призадумался на секунду. – Отправите его ко мне, но не сейчас, а через пару дней, когда мы будем поближе к горам. Ночью пришлете, по моему пеленгу. Попробую с ним столковаться и нанять в проводники. Надоел мне этот шаман со своими прихвостнями! Да и кормежка у него хуже некуда… Сегодня мне досталась пара крысиных хвостов… костей много, мяса мало. – Прислать тебе жареную курицу? – заботливо осведомился Юэн Чин. Ивар сглотнул слюну. – Не надо. Перебьюсь! Нельзя выходить из образа. – Тогда у меня все. – Передавай привет коллегам. Конец связи. Экран погас, пасть трафора захлопнулась. Тревельян печально вздохнул и пощупал свой впалый живот. Перед его мысленным взором текли, струились, сменяя друг друга, соблазнительные картины: то курица на вертеле, то пирожки Лейлы, то полные чистой воды бассейны, то милая улыбка Анны Кей, его попутчицы на дороге к Пеклу. Видно, он начал ее забывать – в ее лице проступали черты Анны Веронезе и других женщин, которых он когда-то знал, даже красавицы Ифты Кии с Сайкатской станции. Еще виделись ему теплое море и пальмы Гондваны – мира покоя и всевозможных радостей, где так приятно отдыхать. После Сайката он собирался в отпуск на Гондвану, да вот не выпала судьба… Море, пальмы, солнечные пляжи, карнавалы, вино и прелестные девушки… Все мимо, все! Но, как говорится в книге Йездана Сероокого, мудреца кни'лина, у каждого своя чаша с ядом… Если отвлечься от этих видений, он пожелал бы сейчас очутиться не у тарелки с курицей, не на Гондване и даже не у ножек милой Анны Кей. На Хтон, где остался его предок-командор, – вот куда его тянуло неутоленное любопытство! На Хтон, к тайнам древней планеты, к ее разрушенным городам и странным обитателям, к изображению лоона эо, неведомо как попавшему в забытый мир… Он видел его так ясно, так отчетливо! Четыре мраморные фигуры на пьедестале из гранита, такие же, как в Куполе сервов на Луне… Правда, имелось отличие: там, в Посольском Куполе, был еще чудесный сад и всезнающий серв-биоробот. Он не ответил на все вопросы, но, возможно, это и к лучшему – ведь юный Ивар Тревельян мог не понять каких-то мудрых истин. Однако человек взрослеет, терпит поражения, празднует победы и набирается ума; в конце концов, к нему приходит осознание того, что в мире нет простых ответов. Взять хотя бы ситуацию на Пекле: можно истребить шас-га, но разве это ответ? Можно оставить все как есть, пожертвовать кьоллами, народами туфан и ядугар… Но это тоже не будет ответом. Тревельян снова вздохнул и хлопнул трафора по тощему крупу. – Поехали обратно, друг мой. Вернемся к нашим хлопотам. – Минуту внимания, эмиссар… Прежде я не рискнул нарушить ваши размышления… Ивар нахмурился – Мозг говорил с ним голосом Анны Кей, как бы желая подчеркнуть, что речь пойдет о чем-то важном. Странно звучал ее голос в этой темной бескрайней пустыне – словно эхо, долетевшее с Земли или с подобной Земле планеты, где живут такие девушки, как Анна Кей. – Что ты хочешь мне сказать? – спросил Тревельян. – Еще на базе я доложил вам результаты рекогносцировки. Наша группа приближается к горам, за нею – колокольный мастер и другие караваны, а впереди – два воинских отряда. Пять дней, как мы в степи. Воины шас-га должны уже находиться у самых гор. – Разумеется. Свяжись со спутником, когда он будет проходить над нами, и уточни диспозицию каждой группы. – Я сделал это днем, эмиссар. Один отряд достиг интересующего нас плоскогорья и движется в каньонах среди утесов, так что наблюдать за ним с орбиты затруднительно. Но другой остался на месте. Аппаратура спутника фиксирует лишь небольшие перемещения. – Возможно, они кого-то поджидают, – сказал Тревельян. – Но за пять последних дней к ним никто не присоединился. Вблизи нет никого, кроме нашего каравана. – Значит, ждут нас и прочих отставших. Я не доверяю мошеннику Киречи-Бу. Он утверждает, что гонцы Трубача описали ему дорогу через горы, но так ли это? Может быть, наш великий вождь поступил умнее: тайну прохода не открыл, но оставил в предгорьях отряд с надежными проводниками. – Не исключается, эмиссар, – произнес Мозг с оттенком обиды. – Мое дело – доложить. Он смолк, а Ивар погрузился в раздумья. С Трубачом ушла шестая часть взрослого населения степи – как минимум половина боеспособных мужчин. Но, очевидно, были еще воины, мастера и прочий люд, желавший присоединиться к войску, и Брат Двух Солнц против такого пополнения не возражал. Но как это сделать? Слать гонцов в каждый Очаг, ко всякой мелкой группе? Слишком расточительно! А вот заслон около прохода был бы в самый раз. Поставить там сотню воинов – пусть перехватывают отставших и ведут по тайному пути… может, с завязанными глазами, но это не проблема, трафор запомнит дорогу… К тому же есть запасной вариант – пленник, взятый в Саенси. С удовлетворением кивнув, Тревельян сел на своего скакуна и отправился в лагерь. Часовой, сидевший у костра, дремал, пофыркивали яххи, объедая кору с чахлых кустов, и сквозь затянувшие небо тучи проглядывал призрачный диск Гандхарва. Тучи были не дождевыми, а пыльными, что служило знаком близости к горам и множеству вулканов, извергавших пепел и ядовитые испарения. «Отличная маскировка для флаера», – подумал Тревельян, пытаясь найти то облачко, за которым прятался его аппарат. Но в темноте это было пустым занятием. Он слез на землю и лег около огромного колеса повозки, рядом с певцом Тентачи. Тот заворочался, пробормотал: «Рогатый скакун несет меня…» – и снова засопел. «Настоящий поэт, даже во сне сочиняет стихи, – подумалось Ивару. – Племя, где есть такие самородки, нельзя уничтожать». С этой мыслью он уснул.Деятельность ФРИК является, в сущности, экспериментом над чужими разумными расами. Не касаясь моральной стороны подобных опытов, отметим, что в чисто техническом плане они оправданы, если такого же свойства эксперимент произведен в прошлые века над нашей цивилизацией и если он увенчался успехом. Иными словами, если само земное человечество нашло позитивные пути в грядущее. В начале текущего тысячелетия это считалось неясным. Военное противостояние народов и стран, религиозная нетерпимость, экологический кризис и другие бедствия были, в принципе, преодолимы с развитием науки и технологии. Но можно ли верить в их непрерывный прогресс? Не подошли ли мы к границам познания? Способны ли мы создать целостную научную картину мира и осмыслить свое место в нем? Эти тревожные вопросы проистекали из разобщенности научных дисциплин, возникшей еще в XIX веке и, разумеется, не отвечавшей уровню знаний о человеке и природе, достигнутому через двести лет. Ответом на эти вызовы явилось развитие таких междисциплинарных областей, как системный анализ, теория хаоса и синергетика, занявших центральную позицию в естественно-научной парадигме XXI и XXII столетий. Особенно важна синергетика – теория самоорганизации, описывающая возникновение новых свойств у целого, состоящего из множества взаимодействующих объектов. В настоящее время синергетика, наряду с оценкой рисков, является одним из основных инструментов ФРИК, который позволяет…Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 5. Инструментарий ФРИК.
Глава 7. Побоище
Через пару дней караван приблизился к плоскогорью. Пустынная степь была по-прежнему ровной, плоской и унылой, как стол без всяких признаков еды, но на юге поднялась каменная стена, рассеченная трещинами, каньонами и редкими ручьями горьких вод. Стена вставала над пустыней внезапно, без всяких предисловий в виде отдельных скал и валунов, и чудилось, что преодолеть ее нельзя – до верхнего края было метров триста, а кое-где и все пятьсот. Но при ближайшем рассмотрении нашлись в ней довольно широкие ущелья, такие, что в них могла бы втиснуться повозка, не говоря уж о всадниках. Дно этих образований поднималось вверх, и, возможно, какие-то трещины вели на плоскогорье или дальше, к горам. Гор Тревельян уже не видел – их заслоняли обрывистые склоны, от которых на равнину падала густая тень. Караван двигался в этой тени, вдоль пронзающих небо утесов, защищенный от света и жара висевших на юге солнц. Здесь было прохладнее и легче дышалось, здесь росли деревья и кусты, но то, что Ивар считал благом, пугало остальных. Привычные к зною шас-га мерзли, кутались в плащи и с тревогой озирали небосвод, лишенный божественного присутствия Уанна и Аукката. Пыльные тучи над головой исчезли, ибо вулканы остались западнее, и в вышине ветер гнал лишь клочья серых облаков. Те, что пониже, тянулись к востоку неторопливо, сопровождая караван, и среди них Ивар мог различить свое облачко, белесую иллюзорную мглу, скрывавшую флаер. За ним, будто привязанные, плыли еще с десяток, погуще и потемнее. В этот день Киречи-Бу не спал в фургоне, а, усевшись рядом в возницей, разглядывал каньоны и утесы да шептал заклятия, требуя помощи у Гхарра, Духа Ветра, и Хатта, Духа Камней И Скал. Наблюдая за ним, Ивар усомнился в прежнем своем мнении насчет мифических гонцов вождя – похоже, они таки добрались до шамана и дали ему необходимые инструкции. Ппаа явно что-то искал – а что он мог искать, кроме тайной дороги через горы? Этот путь начинался в каком-то приметном ущелье, но куда он вел, Тревельян не мог себе представить. Через перевалы, где нет воздуха, где царствуют смерть, тишина и жуткий холод? Нелепость! В обледеневшую пещеру, что протянулась под хребтом на сотни километров? Еще нелепее! Однако он дождался, когда спутник выйдет в зенит, и прошептал в ухо трафору команду: связаться с сателлитом и просканировать местность. Результаты, как и ожидалось, были отрицательными: уйма пещер, но ни одной глубже трех-четырех километров. Постепенно его охватил охотничий азарт вместе с чувством острой неудовлетворенности, едва ли не обиды. Вероятно, в этот день или на следующий он разберется с загадкой прохода и с тайной спящей воды – разберется, когда попадет в нужное место, ткнется в него носом. Но это равнялось поражению. Это означало, что его разум и опыт ничего не могут подсказать, что, предприняв эту вылазку и следуя за колдуном, он просто расписался в собственном бессилии. Вспомнив о предке-командоре, он вновь ощутил свое одиночество; был бы с ним Советник, вместе что-нибудь бы да придумали, мелькнула мысль. Но дед находился на Хтоне, в нескольких парсеках от него. Тени медленно ползли к обрыву, делались короче и светлее, затем, когда миновали оба полудня, белый и красный, снова стали удлиняться. Трафор вдруг замедлил шаги, его уродливая голова откинулась назад, прозвенели колокольцы, и Тревельян прижался щекой и ухом к шее скакуна. Кто-то на пике Шенанди хотел с ним пообщаться, прямо сейчас, не дожидаясь темноты. Он закрыл глаза, пытаясь различить тихий голос. – Ивар! Это Энджела. Ты меня слышишь? – Да.Трафор улавливал ничтожные колебания воздуха кожей, но шептать было труднее, чем говорить нормально. Отсутствие видеосвязи тоже являлось неудобством; как всякий человек, Ивар предпочитал глядеть на собеседника. – Ты можешь подождать до ночи? – спросил он. – Ты занят? – Нет, но вокруг полно народа. Впрочем, это нам не помешает. Говори. Что приключилось? – Кафи исчез. Ты меня слышись, Ивар? Кафи исчез! В ее голосе звучала тревога – больше того, отчаяние. – Вы обыскали базу? – Это не нужно. Анна его видела, встретила случайно у ангара. Он сказал, что хочет проверить одну из своих погодных установок. – Нарушение дисциплины! – нахмурившись, молвил Тревельян. – Что было велено? Всем, кроме Миллер и Исаевых, сидеть на базе! Ехавший рядом Тентачи с удивлением уставился на него. – Что ты бормочешь, Айла? – Молюсь богам. – Ивар выпрямился и перешел на шас-га: – Скалы… эти скалы и камни внушают страх. – Послушай новую песню, что пришла ко мне, и успокой свою печень. – Битсу-ак ударил в барабан и пронзительно запел:
– Молитва в одиночестве лучше успокаивает печень, – сказал Тревельян, перемещаясь подальше от повозок и всадников. – Энджи, я снова могу говорить. К какой установке он полетел? Вы ее проверили? – Проверили все, даже послали роботов. Его там нет, Ивар, и он не включил маяк и не выходит на связь. Второй день! В ее голосе слышались слезы. Тревельян почесался – как всех шас-га, его донимали мелкие кровососы. – Вот что, Энджи… Я понимаю твои чувства, но постарайся не паниковать. Ты – координатор! – Уже нет. – Неверное заключение. Я сделаю свое дело и уйду, а ты останешься. Если увидят, как ты рыдаешь у передатчика, это… это, как говорили предки, подрыв авторитета. – Мне все равно. – Энджела всхлипнула. – Ивар, постарайся его разыскать! Я знаю… чувствую… он полетел к тебе. В эту проклятую пустыню! – С чего бы? – удивился Тревельян. – Что он тут забыл? Лопасть от своего погодного вентилятора? Или какую-то шестеренку? Тяжкий прерывистый вздох. Кажется, переживания Энджелы Престон были глубокими и трагическими. – Нет, свою гордость. Боюсь, я сама его подтолкнула, навела на мысль о соперничестве с тобой. Эти терукси так ранимы, так привержены кодексу чести… ну, ты же знаешь… – Не знаю и знать не хочу! – рявкнул Тревельян, но тут же смягчился. – Терукси – продвинутый народ и в сферу моих интересов не входят. Я специалист по дикарям. Если Кафингар здесь появится, обещаю, что его не съедят. Мы побеседуем, а потом я отошлю его на базу. – Спасибо, Ивар, – сказала Энджела. – Ты не представляешь, как много значат для меня твои слова… слова верного друга… Спасибо, милый! Я отключаюсь. – Нет, погоди! Дружба дружбой, а служба службой! Энджела Престон, помощник координатора, объявляю вам выговор за ротозейство. Занесите в свой послужной файл. – Что такое «выговор»? – в растерянности спросила Энджела. – Проконсультируйся у Юэна. Он этнограф и разбирается в древних наказаниях. Связь прервалась. Тревельян снова почесался и заметил: – Что делает с людьми любовь! И с женщинами, и с мужчинами… Где мне искать этого гордеца-терукси? У нее, видишь ли, предчувствие… А если он полетел не ко мне? – Желаете, эмиссар, повторить сканирование со спутника? – предложил Мозг. – Не стоит. Если он здесь, то объявится. – Ивар оглядел степь, полюбовался пляской песчаных смерчей, запрокинул голову, посмотрел на небо и серые клочья облаков. Потом произнес: – Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Свяжись-ка, друг мой, с Исаевыми и доктором Миллер. Хочу убедиться, что с ними все в порядке. – Все в порядке, – подтвердил трафор через минуту. – Оба океанолога в плавучей лаборатории, а доктор Миллер просила не мешать. У нее эксперимент – кормление зверолюдей. – Бог ей в помощь, – молвил Тревельян и направился к каравану.
* * *
Доктор Нора Миллер в самом деле была занята – кормила малышей. Зверолюди были пигмеями ростом чуть побольше метра, и она называла их «малышами» – тем более что своим обличьем, мягкой пушистой шерсткой и невинными мордочками они походили на добродушных лемуров. Правда, бесхвостых, на удивление резвых и не лазавших по деревьям, которых на континенте Раху не имелось. Это был каменистый пустынный материк размером примерно с Австралию, лежавший немного южнее экватора; даже на скудном жарком Пекле он отличался особой скудостью и нестерпимым зноем. От любого побережья Раху тянулась на пару тысяч километров безводная и безжизненная пустыня, а в центре материка торчала древняя горная цепь, подобная кривым растрескавшимся зубам в ископаемой челюсти. Эта возвышенность не шла ни в какое сравнение с Поднебесным Хребтом, зато в тектоническом плане район был спокойный, а редкие источники воды – довольно чистыми, без примесей серы и тяжелых металлов. Вода поступала из расселин в скалах и, породив озерцо либо ручей и окружающий их оазис, вновь пряталась под землю. Каждый оазис поддерживал жизнь семейства из двадцати-тридцати особей; питались зверолюди всем, что росло, плавало и бегало, начиная от травы и кончая местным аналогом жаб, и тщательно следили за размерами популяции, ибо пищевые ресурсы были ограничены. В горах обреталось около тысячи таких колоний, отделенных друг от друга изрядным расстоянием, иногда в несколько десятков километров. В этой части света зверолюди являлись доминирующей жизненной формой, а от существ более сильных и хищных их охраняли пустыня и океан. В одном из стойбищ карликов Миллер развернула полевую лабораторию: жилой и рабочий купола, склад с продуктами и оборудованием, флаер, гравиплатформа и три универсальных кибера. Никакой защиты, кроме роботов, у нее не имелось – зверолюди были дружелюбными созданиями, не склонными к насилию и воровству. Нашарив в контейнере тюбик с жидким шоколадом, она выдавила по капле в протянутые к ней ладошки. Юный Моцарт слизнул лакомство мгновенно, более мудрый Шекспир ел обстоятельно и неторопливо, растягивая удовольствие на целую минуту. Затем сказал: – Оно слаще травы. Оно радует, хотя его цвет не очень красив. Большая Белая делает сладкое коричневое сама? Большой Белой малыши называли Миллер, чья кожа, защищенная медимплантом от солнечных ожогов, сохраняла естественный цвет. Что до самих зверолюдей, то они обходились без имен, окликая друг друга соответственно обстоятельствам: «Ты, пьющий воду!» или «Ты, который у кустов!» Нора Миллер давала им имена для собственного удобства; Моцарт был Моцартом потому, что напевал мелодии, похожие на звон воды в ручье и шорох листьев, а Шекспир оказался хорошим рассказчиком. Оба, как и другие члены семейства, откликались на придуманные Миллер имена, но между собой звали соплеменников по-прежнему. Ты, который ест сладкое коричневое… – Хочу еще! – заявил Моцарт. Шекспир сорвал травинку местного сахараноса и в раздумье уставился на нее. Затем настойчиво повторил: – Делаешь сладкое сама? – Нет, это делают другие люди, – сказала доктор Миллер. – Я плету слова с малышами. «Плести слова» означало «говорить» и считалось у зверолюдей важным искусством. Шекспир отвесил в знак согласия губу, но с травинкой не расстался, а продолжал изучать стебелек. – Если долго варить траву в горшке, будет сладкое? – Будет, – кивнула Миллер, в который раз удивившись понятливости карликового народца. – Хочу! – Моцарт дернул рукав ее комбинезона. – Мы ведь решили: ты и тот, кто с травой, отведете меня в пещеру к водопаду, и я дам вам много коричневого сладкого. Фраза была непростой, так как содержала напоминание об обещанном и условие, при котором Моцарт и Шекспир могли рассчитывать на целый тюбик шоколада. Но, излагая свою мысль, доктор Миллер обошлась без упрощений – язык пигмеев позволял общаться на темы и более сложные, чем обмен услуги на лакомство. На этом языке она могла бы объяснить причины разрушения гор и появления воды в источниках, описать шарообразность мира и даже поведать о задачах ФРИК, ибо понятий для таких бесед вполне хватало. Ее подопечным были доступны разговоры не только о пище, но о вещах отвлеченных, таких, как добро и зло, красота и уродство, жизнь и смерть, прошлые и будущие времена. Их словарный запас казался не менее обширным, чем у шумеров и египтян, древнейших из земных цивилизаций. Поразительно! С точки зрения быта, племя выглядело примитивным, и Миллер, опытный этнограф и лингвист, оценила бы их словарь в две-три сотни понятий. Есть-пить, сидеть-лежать, копать-бросать и так далее, как у туземцев Андаманских островов в двадцатом веке… Но поиски пищи, изготовление орудий и размножение отнюдь не исчерпывали их мир. Были странные легенды и предания, сложные брачные обряды и сексуальные игры, стойкое пристрастие к чистоте, целая система троп и тропинок, соединявших оазисы, обычай странствовать за сотни километров, чтобы найти подходящую пару и произвести потомство, ритуал борьбы за лидерство и многое другое, присущее скорее культурам, вступившим если не в железный, то в бронзовый век. Но пигмеи вполне обходились рубилами из кремня и палками-копалками. – Завтра. Мы пойдем к водопаду завтра или в другой день, – сказал Шекспир, поглядывая на соплеменников, бродивших в мелком ручье. Одни тянули сеть, искусно сплетенную из тростника, другие били рыбу заостренными палками. Это получалось у них очень ловко. – Тогда сладкое будет завтра. Миллер спрятала тюбик. Шекспир и Моцарт проводили его тоскливыми взглядами – они обожали шоколад. Эти двое были самыми сообразительными в семье и, по мнению Миллер, самыми отчаянными и храбрыми. Их смелость состояла не в том, что они ее не боялись – Большая Белая не внушала страха ни самкам, ни детенышам. Причина для такой оценки была другая: Шекспир и Моцарт, пара непосед, облазили окрестные горы, побывав даже у водопада, куда пигмеи старались не ходить. Пока что Миллер не разобралась, с чем это связано, с реальной опасностью или каким-то обычаем вроде табу, но горела желанием попасть в таинственное место. Доводы у нее были веские: сахар, шоколад и сладкий сок. Моцарт сложил губы трубочкой и принялся насвистывать печальную мелодию. Шекспир разгладил мех на груди и произнес: – У водопада не всегда интересно. Мы придем, Большая Белая посмотрит и скажет: ничего нет, за что давать коричневое сладкое? Нужно идти туда в день, когда в водопаде сияет радуга. А это время еще не наступило. – Когда же оно наступит? – Я узнаю. – Как? – Я это чувствую. Мы все чувствуем. – Шекспир махнул лапкой в сторону ручья и шалашей на его берегу. – Чувствуют живущие здесь и живущие вдалеке. Потом тот, кто хочет, идет в пещеру к водопаду. Еще одна загадка, отметила Миллер. Язык, обычаи, а теперь еще вот это… Чувствую! Чувствую, когда в водопаде сияет радуга! А до этого водопада, если верить малышам, три или четыре дня пути… Возможно, такая чувствительность, несвойственная другим расам Пекла, объяснялась происхождением зверолюдей. Доктор Миллер полагала, что они не являются автохтонами, то есть коренными жителями планеты, и для такой гипотезы имелись основания. Планомерных раскопок на Пекле еще не вели, но первичный палеонтологический обзор был составлен, и эволюцию кьоллов, хеш, шас-га и остальных проследили вплоть до исчезнувших ныне местных обезьян. Однако эти ископаемые гоминиды, как доказали генетические исследования, не были предками зверолюдей. Пушистые пигмеи появились здесь внезапно и очень давно – может быть, прожили на Раху сотни тысяч или миллионы лет, совсем при этом не изменившись. На побережье и в пустыне нашли их черепа и кости очень почтенного возраста; видимо, когда-то они жили у моря и в речных долинах, в краях изобильных и плодородных, но по мере пересыхания материка им пришлось отступить в горную местность. Что касается этой катастрофической засухи, то она объяснялась либрацией планетарной орбиты, неустойчивой в системе двух солнц. Несомненно, Равана знавала лучшие времена, и когда-нибудь они опять наступят, через двадцать-тридцать тысячелетий. Кто же переправил сюда малышей? Нора Миллер видела в этом руку даскинов, древних повелителей Галактики. Причину их исчезновения не знал никто, но их артефакты сохранились и были весьма заметными, от подпространственных тоннелей в Лимбе до странных квазиживых устройств в необитаемых мирах ветвей Ориона и Персея. Переселение разумной расы, с какой бы целью его ни затеяли, было вполне в духе даскинов – им, вероятно, нравились масштабные проекты. Во всяком случае, предки Шекспира и Моцарта никак не могли добраться до Раваны своим ходом. Миллер поражалась их сообразительности, но понимала, что дистанция от рубил и палок-копалок до звездолетов слишком велика. Изучая их язык, легенды и места обитания, она мечтала наткнуться на следы даскинов – пусть неясные, почти стертые временем, но все же заметные для опытного наблюдателя. Этот таинственный водопад… возможно, там найдутся какие-то новые артефакты… даже надписи… Вздохнув, она вытащила тюбик и сняла с него крышку. Шекспир и Моцарт с радостным верещанием протянули к ней пушистые лапки.* * *
В тот день Киречи-Бу не нашел дороги. Вероятно, он нуждался в подкреплении сил и вечером велел забить не детеныша, а молодую самку, но съесть ее не смог, поделился со своими ближними, Птисом и Кадрангой. Пожирая голень убитой, Птис скалился и бросал на Тревельяна благодарные взгляды – хоть не котел с мясом ему достался, но все же что-то перепало. Отвернувшись от этого жуткого зрелища, Ивар обгладывал хвост ящерицы, в котором мяса было много меньше, чем костей. Умом он понимал, что обычаи шас-га – результат скудости пищевых ресурсов и вечной угрозы голодной смерти. Скакуны были не очень плодовиты и из-за отсутствия сочных трав и изобилия воды доились плохо; животный мир пустыни включал змей, ящериц и крыс; убогая растительность могла одарить лишь жесткой травой, корой и листьями кустарника. Поэтому ели все, рассматривая соплеменников первым делом как источник пищи. Понимая это разумом, Тревельян, однако, едва справлялся с бунтующими чувствами. При его обширном опыте, вхождение в образ автохтона примитивной расы не составляло проблем; на Осиере он мог прикинуться осиерцем, в Кьолле – кьоллом, на Сайкате – троглодитом-дикарем. Кем угодно, только не тварью, поедающей себе подобных! Зная основательно историю, он знал и то, что человек на такое способен, что, доведенный голодом до отчаяния, он превращается в зверя, и что бывало так не раз, в период Столетней войны, в эпоху Реформации и даже в цивилизованном двадцатом веке, щедром на войны и другие бедствия. Но это мнилось теоретическим знанием о временах давно прошедших, тогда как практика была перед глазами: он видел расчлененный труп, слышал смачное чавканье и вдыхал запах обгорелой плоти. Анна Веронезе, вспомнил Ивар, Анна Веронезе и ее сомнения. Зачем мы здесь? – спросила она. Вопрос, конечно, риторический, но если задавать его, так именно в данный момент. Очень, очень своевременно – взглянуть на каннибалов и спросить: зачем мы здесь?.. Чего хотим?.. Cпасти росток цивилизации от сокрушительного набега дикарей? Но разве есть сомнения, что эти людоеды-дикари не превратятся с течением лет в другой росток – возможно, более сильный и перспективный? И это значит, что, ограничивая их, уничтожая пусть не людей, не народ, но его устремления, Фонд противодействует прогрессу… «Если бы мы могли предвидеть будущее!.. Если бы!.. – с тоской подумал Тревельян. – Предвидеть точно, во всех деталях, так, чтобы свести баланс приобретений и потерь, спасенных и погибших… Но коль нам это недоступно, то, быть может, прав Аххи-Сек, Хранитель Осиера? «Вы хотите получить все, – сказал он, – получить побыстрее, тогда как гармония – результат медленного и долгого, очень долгого развития. Вы слишком суетитесь там, где надо ждать, и ваша суетливость всегда оборачивается кровью…» Ивар представил, как Аххи-Сек сидит под пальмами у своего бунгало, на в общем-то мирном Осиере, и наблюдает за ростом самосознания масс, за естественной поступью прогресса и приближением гармонии. Сюда бы его!.. – мелькнула мстительная мысль. Подсчитал бы, скольких еще убьют и съедят, тоже бы засуетился! Или хотя бы дал дельный совет… Он лег на землю, закрыл глаза и заставил себя думать о другом. О тайне Спящей Воды, о пленнике шас-га, которого привез Инанту, и о терукси Кафингаре, пропавшем в степи без следа. Где он, что с ним?.. С этой мыслью Тревельян заснул.* * *
Их путешествие продолжалось. За белым рассветом последовал красный, лучи светил нагрели камни и песок, ветер затеял пляску пыльных смерчей, облака – светлое, прятавшее флаер, и несколько темных, – все так же тянулись вслед за караваном. Громыхали колеса повозок, топотали скакуны, текла, уходила на запад иссеченная каньонами и трещинами стена плоскогорья, и чудилось, что облака и низкое желто-серое небо цепляются за ее края. Унылый пейзаж, угрюмая земля, вечно неизменная и страшная, как нравы живущих здесь людей… Скакавший впереди Кадранга вдруг вскинул топорик и завопил, веля остановиться, – из ущелья, метрах в ста пятидесяти от каравана, выезжали всадники, сбиваясь плотной кучкой. Небольшой отряд, как показалось Ивару, дюжина или чуть больше воинов. Опознать их племенную принадлежность он не смог – расстояние было изрядным, и тень, падавшая от каменной стены, скрадывала детали. – Вот и наши проводники, – шепнул Тревельян, склонившись к шее своего скакуна. – Выходит, дружок, зря ты беспокоился. Но оказалось, что не зря. Встревоженный шаман приподнялся в возке, что-то крикнул старшему воину, и три-четыре слова донеслись до Тревельяна: «…мясо… тухлое мясо… бей!» Он ударил пятками в бока скакуна, поравнялся с Птисом и спросил: – Кто такие? Разве это не воины великого вождя? – Ххе? – выдохнул Птис, что в данном случае, наверное, значило «С чего бы?» – Воины Брата Двух Солнц по ту сторону гор, а эти – казза, тухлое мясо! Поджидают тех, кто едет к Спящей Воде, и, если могут, берут их жизни. Но нас больше, Айла, и мы сильнее. – Оскалившись, он погладил живот. – На закате все они будут в наших котлах! Термин «казза» переводился как «тухлятина» и означал грабителей, но не тех, кто действует благородно, атакуя чужой Очаг и убивая всех без разбору, а нападавших исподтишка, из засады или другим нечестным способом. Правда, понятия о честности и благородстве были у шас-га очень растяжимыми. Какой способ честный, а какой нет, обычно определяли победители, закусывая плотью побежденных. Кадранга крутанул топором над головой, рявкнул, сзывая воинов. Киречи-Бу, заметив Тревельяна, распорядился: – Вперед, сын хромого яхха! Убъешь меньше троих, сниму с твоей скотины оба колокольца! Езжай и дерись! Пора отслужить за мою воду и мясо! – Мясо было костлявым, вода – затхлой, и ты не дал мне обещанной самки, – произнес Тревельян. – Не знаю, стоит ли мочить мой топор в крови твоих врагов. Ввязываться в схватку Ивару не хотелось – он соображал, как бы остаться с колдуном и присмотреть, чтобы того не пришибли. Все-таки этот жирный мошенник был единственным ключиком к тайне. Киречи-Бу зарычал, лязгнул огромными зубами. – Клянусь Рритом и его бездонной пастью! Или ты будешь сражаться, или я съем твою печень еще до заката! – Черт с тобой, ублюдок, – пробормотал Тревельян и направился к Кадранге. – Мог бы и без драки обойтись, превратить этих казза в червей или ящериц… Что тебе стоит? Старший воин снова взревел и, размахивая топором, помчался к вражескому отряду. Шас-га поскакали за ним, на ходу разворачиваясь в шеренгу и испуская дикие вопли. Брякали колокольцы на рогах скакунов, столбом вздымалась пыль, сверкали лезвия секир, подрагивали копья и ветер выл и визжал в ушах. «Со стороны, должно быть, выглядит внушительно, даже устрашающе, – подумал Ивар. – Хотя на атаку польских гусар не похоже». Враги внезапно развернулись и дали деру. С минуту Тревельян глядел на крупы и тощие хвосты их скакунов, подскакивал на спине трафора и недоуменно хмурился. Что-то здесь было не так! Какая-то хитрость или уловка?.. Возможно! Если казза не хотели драться, к чему им покидать ущелье? Караван проехал бы мимо и удалился восвояси… – Назад! – выкрикнул он. – Назад, Кадранга! Нас заманивают дальше от возов! Мозг утверждал, что в группе, которая идет с востока, сотня воинов, а в этом отряде было двенадцать-тринадцать. Значит, есть и другие, решил Тревельян, поворачивая скакуна. Они находились уже в паре километров от повозок, их скрывало облако пыли, и Ивар не мог разглядеть, что там творится. Атака сбилась. Перестав вопить, Кадранга ткнул своего яхха кулаком в шею и вскинул вверх топор, приказывая остановиться. Он был достаточно опытным воином, чтобы преодолеть неистовство погони и тягу к кровопролитию: с одной стороны, казза явно двигались быстрее на свежих скакунах, с другой – слишком удаляться от охраняемого объекта не полагалось. Всадники сбились в кучу, загомонили; одни, потрясая топорами и копьями, выкрикивали угрозы удирающим врагам, другие с мрачным видом глядели им вслед – надежда на сытный ужин исчезла. – Возвращаемся, – буркнул Кадранга. – Айла верно сказал: эти потомки крыс задумали хитрость. Да проклянет их Бааха и дети его, Уанн и Ауккат! Со стороны каравана вдруг раздался звон оружия, послышались яростные вопли и панический рев яххов. Пыль и тени, падавшие от скал, по-прежнему скрывали повозки, но Тревельян уже сообразил, что там кипит побоище – очевидно, другая группа казза расправлялась с детенышами и самками. «А заодно и с колдуном», – подумал он, холодея. Защищать того было некому – кроме шамана, с караваном остались лишь двое мужчин, Птис да Тентачи. Их храбрости Ивар не доверял, у этой парочки языки были куда острее ихножей. Воины погнали скакунов во весь опор, снова зазвенели колокольцы, раскатился над степью дикий выкрик: «Шас-га! Шас-га!» Оглянувшись, Тревельян заметил, что вражеские всадники тоже повернули и быстро догоняют их отряд. Это было неприятным открытием; очевидно, казза решили, что у них в котлах есть место и для воинов. Ивар склонился к шее трафора, прошептал: «Прибавь-ка ходу, приятель», и выхватил из ременной петли топорик. Его скакун, на вид неказистый и дряхлый, мог обогнать любую тварь в степи. Сжимая коленями его бока, он чувствовал, как ходят под обвисшей кожей могучие искусственные мышцы, слышал посвист ветра и мерный ровный топот – похоже, трафор обзавелся копытами вместо когтистых лап. За считаные секунды они оставили позади Кадрангу с его отрядом, но Ивар знал, что не успеет, – много ли нужно времени, чтобы прикончить самок, детенышей и толстого колдуна?.. Пара минут – конечно, если шаман не превратит всех казза в червяков. Но рассчитывать на это не приходилось. Слева из ущелья вырвались всадники, человек тридцать, и поскакали наперерез Тревельяну. «Ловко! – подумал он с нарастающей яростью. – Те, что убегали, ударят с тыла, эти – с фронта, возьмут Кадрангу в клещи и порубят всех… А с караваном другие разберутся. Если разбойников около сотни, на караван им хватит топоров, ножей и рук…» В следующий момент он врезался в атакующую группу. Острие копья чиркнуло по шее, два воина попытались зажать его с боков, но трафор разметал их, свалил на песок вместе с яххами. Жуткая рожа возникла перед Тревельяном; он пустил в ход топор, нанес молодецкий удар по лбу загородившего дорогу скакуна, услышал, как хрустнула кость, как завопил падавший всадник. Топор в его левой руке вертелся, подобно крыльям мельницы; Ивар наносил удары то обухом, то концом топорища, отталкивал врагов ногами и даже успел ужалить двух врагов разрядом импланта. Впрочем, в конной схватке это оружие было почти бесполезно – тут приходилось полагаться на скорость и мощь скакуна да на свою реакцию и силу. Сбив наземь дюжину всадников, он прорвался сквозь заслон, и тут что-то догнало его, ударило в затылок – да так, что помутилось в голове. «Камень, – подумал он, ощупывая кровоточащую рану. – Чертов камень из пращи! Только этого не хватало!» К счастью, копна волос смягчила удар, а медимплант тут же принялся за дело: остановил кровь, ввел заживляющие препараты, ускорил регенерацию. За те немногие минуты, что Тревельян мчался к окутанным пыльным облаком возам, мысли его обрели прежнюю ясность и четкость. Он понимал, что не справится с полусотней дикарей, если не пустит в ход какие-то уловки, а их запас был не так уж велик. Можно послать команду флаеру, ударить молнией из излучателя, но это способ нежелательный; подобные меры среди наблюдателей ФРИК считались свидетельством непрофессионализма. Можно включить имплант, создающий иллюзии, явиться в образе дракона или иного чудища, взять на испуг… Но что потом? Что он скажет Киречи-Бу, Кадранге, Птису, как объяснит такое превращение? Конечно, если шаман и его слуги останутся в живых, если их странствие продолжится… «Тоже плохой вариант», – подумал Ивар и хлопнул трафора по шее. – Ты молодец, дружок. Лихо распихал рогатых! – Рад стараться, эмиссар, – послышалось в ответ. – Сейчас мы снова вступим в схватку. Можешь не церемониться с этими казза. Бей и топчи, только не выходи из образа! – Окажу вам всемерное содействие, эмиссар. Но вы же знаете: я не способен убивать [97]. – Я помню о твоих недостатках, – буркнул Тревельян и вытащил нож из сапога. Они нырнули в пыльное облако, висевшее над караваном. Трафор ударил грудью рогатого скакуна, отшвырнув его вместе со всадником, поднялся на дыбы и обрушил передние копыта на круп другой животины. Потом на мгновение замер, высматривая, кого еще толкнуть или лягнуть без слишком серьезных последствий. Тревельян использовал этот момент, чтобы перепрыгнуть на ближайшую повозку и оглядеться. Трудно было понять, закончилась ли резня или еще продолжается. Десятки фигур метались в пыли, убегали, догоняли, падали, поднимались; кто-то истошно орал, кто-то стонал в предсмертной агонии, резкие голоса мужчин сливались с криками детенышей и самок, ревом животных и треском кожаных полотнищ, прикрывающих возы. Часть нападавших тащила добычу, мертвые тела и бурдюки с водой, к своим скакунам, другие шарили под телегами, искали спрятавшихся, тыкали копьями, перекликались; третьи были заняты ловлей тех немногих, кому повезло ускользнуть, – гонялись за ними с петлями на длинных шестах, арканили и волочили к каравану. Не обнаружив Киречи-Бу, Ивар решил, что тот, возможно, жив и где-то укрылся. Он спрыгнул на землю и зашагал вдоль линии повозок, щедро раздавая удары ножом и топором, а при случае пуская в дело свой имплант. За его спиной слышались испуганные вопли – там бушевал трафор, расталкивая вражеских скакунов и сшибая всадников наземь. Четыре воина, распознав в Тревельяне чужака, атаковали его с оглушительным ревом. Успев уклониться от копья, он ударил нападавшего ногой в колено, отбросил в сторону, выронил нож и ткнул второго шас-га пальцем в ребра. Тот обмяк, пораженный разрядом импланта, но двое оставшихся прыгнули на плечи Ивару – видно, хотели взять его живьем. Рухнув на землю, он стукнул одного по голени, другого – топорищем в пах, поднялся, занес топор и замер на секунду, всматриваясь в лица побежденных. Они корчились от боли, но даже проблеска страха не было в их глазах – только ярость, только ненависть, только неутолимый голод. Топор опустился дважды. Где-то в глубине пыльного облака вдруг заорали, загремели оружием, и целая толпа повалила к Тревельяну: ощеренные пасти, космы грязных волос, страшные лики, подобные маскам демонов. Он обернулся – сзади тоже подступали воины с ножами и длинными копьями. С медных наконечников капала кровь, и губы у многих тоже были окровавлены; у одного с пояса свисала кость с остатками розовой плоти. «Плохой конец», – мелькнула мысль. Его рука потянулась к импланту, но превратиться в дракона или огромного осьминога Ивар не успел: обе толпы сомкнулись, и он оказался на земле, придавленный десятком вонючих потных тел. Силясь приподняться, задыхаясь, он ворочался под этой грудой, бил шас-га разрядами и ощущал, как что-то острое, нож или копье, вонзается в спину, как чьи-то руки сомкнулись на горле, а чьи-то пальцы давят на глаза. Гнев и избыток адреналина удвоили его силы; стряхнув врагов, он начал подниматься, но тут же рухнул под накатившим с неба громом. «Звуковой генератор», – подумал Тревельян. В небесах ревело так, что он едва не оглох. Его противники, зажимая уши, падали и катались по песку, а сверху опускалось темное облако, нависало над караваном, над мертвыми и живыми людьми, над телегами и метавшимися в ужасе скакунами. Потом из облака явился человек, будто выпрыгнул из темной мрачной тучи, – рослый мужчина в шлеме, какие делают кьоллы, с широкой бронзовой секирой у бедра. Он был обнажен по пояс, и его оружие, браслеты, штаны и сапоги тоже показались Ивару кьолльского происхождения – во всяком случае, степные всадники такого не носили. Грохот внезапно смолк, и спустившийся с неба воин, подняв секиру, шагнул к толпе разбойников. Ивар, стоя на четвереньках, глядел на пришельца в изумлении. – Акт второй, действие первое, – вырвалось у него. – Наш Кафи собственной персоной! Ну наконец-то! Орел! Прям-таки Геракл! Казза пятились, охваченные страхом, Кафи с грозным видом наступал на них. Блестело лезвие секиры, вздулись мышцы на сильных руках, и чудилось, что из глаз вот-вот вылетят молнии. «Сейчас он кого-нибудь зарубит, – понял Тревельян. – Зарубит и получит копьем в живот, когда эти твари очнутся…» Не обращая внимания на кровь, что текла по спине, он вскочил, забрался на повозку и выкрикнул, напрягая голос: – Гхарр! Демон Ветра Гхарр спустился с небес! Гхарр, великий воитель, идет мне на помощь! Вы, потомки хромого яхха, кал песчаных крыс! Все вы умрете под его топором! А ваши кости и мясо он развеет по пустыне! Пронзительные вопли ужаса были ему ответом. Толпа стремительно редела, воины бросали оружие и разбегались, прыгали на спины скакунов, колотили пятками в их бока, исчезали в вихрях пыли. Кафингар, опустив секиру, взирал на эту панику в полном ошеломлении. Что он видел сейчас, что думал об увиденном? Для неподготовленного человека зрелище было чудовищным: кровавые лужи на песке, растерзанные тела, вскрытые животы, откуда вырвана печень, детеныши – нет, дети! – с разбитыми головами или насаженные на копья… Яххи, запряженные в повозки, уже успокоились, только с шумом выдыхали воздух через огромные ноздри, и если не считать этих звуков да посвиста ветра, вокруг царила тишина. Тишина кладбища. Тревельян слез с повозки и направился к своему избавителю. Тот нерешительно поднял секиру. «Не узнает меня», – догадался Ивар. В самом деле, признать его в обличье шас-га было трудновато. – Спокойно, Кафи. Чужих здесь нет. Услышав земную лингву, Кафингар с облегчением перевел дух. – Это вы! Никогда бы не подумал! Вы похожи… похожи… – …на дьявола, – закончил Тревельян. – Со звуковым генератором вы хорошо придумали, в ушах до сих пор звенит… – Он повернулся. – Взгляните, что там с моей спиной? – Колотая рана под правой лопаткой. Вы весь в крови, Ивар! Вам надо… – У меня имплант, и через пару часов все будет в порядке. – Ивар заметил, как из-под телеги высунулась чья-то голова. – Приложите ладонь к ране, а еще подуйте или плюньте на нее. Сделайте вид, что вы меня исцеляете. – Зачем? – Чтобы оказать мне покровительство. За нами наблюдают, а я объявил вас Гхарром, Духом Ветра. Для инженера погодных установок должность самая подходящая. – Духом Ветра? А!.. То-то они разбежались! Вероятно, этот Гхарр – серьезная тварь! – Еще бы, – подтвердил Ивар. – К тому же возлюбленный Каммы, великой Богини Песков. – Можно передать это Энджеле? – поинтересовался Кафингар, старательно врачуя его раны. – Непременно. Вы с ней чудесная пара. Кстати, она за вас тревожится. – Будет мне нагоняй, – пробормотал Кафи. – Не будет. Вы меня спасли, и я вам очень благодарен. Передайте это Энджеле. – Тревельян постарался, чтобы его слова звучали искренне. – Где вы раздобыли свое… гмм… снаряжение? Шлем, топор и все остальное? – На складе этнографических коллекций. Я взял вещи, которые представлены в нескольких экземплярах. Надеюсь, Юэн Чин не обидится… – Кафи плюнул Тревельяну на спину. – Что еще я могу для вас сделать? – Поддержать свое реноме и эффектно удалиться. Ваш флаер прямо над нами? – Да. – Желаю вам доброго пути. – Тревельян отступил на несколько шагов, повалился на колени и завопил на шас-га: – Благодарю, властитель ветров! Мой лоб у твоих подошв! Если прикажешь, буду грызть камень, пока он не станет песком! Буду есть навоз яххов и пить мочу песчаных крыс! Буду… Темная туча накрыла его. Когда она исчезла, вместе с ней испарился Кафингар – только виднелось в небе облачко, летящее к горам. Тревельян встал и приступил к осмотру каравана. Все детеныши были перебиты, но три самки спаслись под телегами, а вместе с ними – Птис, помощник шамана. На Ивара он косился с почтительным ужасом – вероятно, разглядел пришедшего на помощь Духа Ветра. Тревельян велел ему разыскать мех с водой и плеснуть на спину и затылок. Увидев его раны, Птис запричитал, но тут же смолк в изумлении – все порезы затягивались прямо на глазах, синяки и ссадины исчезали. Вскоре нашелся Киречи-Бу – лежал в своем возке с перерубленной шеей и вспоротым животом. Из-под трупа колдуна выполз Блуждающий Язык, огляделся, пересчитал мертвых и запел:Тревельян бросил на него мрачный взгляд, и Тентачи умолк. Случившееся не располагало к песням, а гибель колдуна была просто катастрофой. Теперь Ивар мог рассчитывать лишь на пленника Инанту или на Птиса – конечно, если тот представлял, куда двигаться и где искать проход. Подъехал Кадранга с двумя окровавленными всадниками и сообщил, что их совсем уж было одолели, но тут примчалась толпа поганых крыс, вопивших про духов и демонов. Казза, что дрались с Кадрангой, тоже побежали, но не забыли прихватить убитых воинов и скакунов. Затем Кадранга почесал живот и добавил: духи духами, а жрать хочется всем. До белого заката они таскали трупы, осматривали повозки (только одна была в исправности), проверяли запасы воды и разбирались с яххами – двух израненных животных Кадранга велел забить и содрать с них шкуры. Он явно претендовал на роль вождя и отмахивался от Птиса и Тентачи, которые, опасливо поглядывая на Ивара, пытались поведать старшему воину о Демоне Ветра, изгнавшем врагов. Тревельян работал наравне со всеми и обдумывал ситуацию. Она казалась не столь уж безнадежной; если отыскать проход в горах, он мог явиться в лагерь степняков под видом шамана, преемника почившего Киречи-Бу. Наконец свет Ракшаса померк, женщины запалили огонь под котлом – к счастью, с останками яхха, а шестеро мужчин уселись в круг рядом с уцелевшей повозкой. Кадранга сказал, махнув рукой в сторону погибших: – Много мяса. Пропадет. – Пропадет, – согласились два его воина. – Жаль! Мясо обычно резали тонкими полосками и сушили на раскаленных камнях, но трупов было слишком много, четыре десятка. Плюс пара скакунов, которых еще не успели разделать. – Киречи-Бу убит, – произнес Кадранга. – Останемся здесь, будем есть и сушить мясо. Потом вернемся в Очаг Белых Плащей. – Нет, – возразил Тревельян. – Завтра, когда взойдет Ауккат, поедем в стан великого вождя. – Поезжай, если хочешь, отродье ящерицы, – молвил Кадранга, презрительно выпятив губу. – Все поедут и будут служить мне. – Ивар кивнул подручному шамана. – Ты видел. Скажи ему, Птис. И ты, Тентачи. Глаза у них забегали – Кадранга мог свернуть шею Птису одной рукой, а другой вырвать сердце битсу-акка. Наконец, набравшись мужества, Птис пробормотал: – Видел, ххе! Видел такое, от чего печень моя съежилась, а кровь стала жидкой! Казза убили Киречи-Бу и многих самок, когда пришел Айла и стал сражаться с ними. Его бы тоже прикончили, но явился с неба грозный дух, сам Демон Ветра Гхарр, прогнал разбойников и простер руку над Айлой. Так было! – Было, клянусь Баахой! – поддержал Тентачи. – Дух не только простер руку, но излечил мои раны, – добавил Тревельян и повернулся спиной к сидящим. – Смотрите, где их след? Даже шрамов не осталось! А били камнем и копьем! Кадранга разинул пасть, загоготал, а с ним – и оба воина. – Я не знаю, чем и как тебя били, приблудный. Ты врешь, и врут эти потомки хромого яхха! Даже Киречи-Бу, великий колдун, не мог вызвать демонов, а только слушал их голоса. – Он не мог, а я могу. Демон Ветра дал мне силу, и теперь такого колдуна, как я, нет по ту и по эту сторону гор, – сообщил Тревельян и уставился на Кадрангу немигающим взглядом. – Говоришь, Киречи-Бу был великим колдуном? Как же он позволил разрезать свое брюхо и отрубить себе голову? Почему не превратил разбойников в червей или крыс? Почему не призвал Пена, Духа Котла, Потику, Духа Огня, Хатта, Духа Камней, и Гхарра, Духа Ветра? – Ивар выдержал паузу. – Не призвал, потому что духи его не слушали! – А тебя, значит, слушают, – произнес Кадранга и потянулся к топору. – Сейчас проверим! Прикоснувшись к импланту справа под ребрами, Тревельян нажал на него и превратился в хищника Четыре Лапы. Зверь был не очень велик, размером с земного леопарда, но обладал устрашающими клыками и когтями, чудовищной силой и невероятной подвижностью. Тварь была редкой и на континенте Хира водилась исключительно в горах. Обычно Четыре Лапы питался мелкими травоядными, но людьми отнюдь не брезговал. Пять шас-га с испуганными воплями отшатнулись от Тревельяна. Кадранга выронил топор, воины бросили ножи, Птис обмочился и завыл, пуская изо рта слюну, а Тентачи уткнулся лицом в землю – так же, как самки, варившие мясо. Они застыли, парализованные ужасом. Пожалуй, воины смогли бы прикончить свирепого зверя, но лишь обычного, не оборотня. Оборотень внушал им гораздо больший страх. Ивар вернулся к прежнему обличью и спросил: – Хочешь стать ящерицей, Кадранга? Или пустынной змеей? Или крыса тебе больше нравится? Старший воин склонился перед ним. – Мы – твои слуги, Айла. Очаг начинается с вождя, Шест – с первого среди мужчин… [98] Ты – наш вождь, Айла! Куда ты нас поведешь, туда мы пойдем, что дашь, то мы съедим. – Я тебя слышу, – ответил Ивар ритуальной фразой. – Сегодня я дам вам мясо яхха. Ешьте его и ложитесь спать. Но Птис пусть останется. С ним разговор еще не закончен. Тентачи, Кадранга и воины отползли к костру, стараясь не глядеть на Тревельяна – взгляд в упор считался у шас-га вызовом. Птис, пораженный страхом, негромко подвывал – помощник шамана разбирался в чудесах лучше воинов, и потому настоящее чудо поразило его до самой печенки. Ивару пришлось взять его за плечи и как следует встряхнуть. – Ты можешь найти ущелье, куда мы должны повернуть? – спросил он. – Ты знаешь дорогу через горы? К этой… как ее… Спящей Воде? – Посланцы Брата Двух Солнц открыли путь только Киречи-Бу, – промолвил Птис, дрожа всем телом. – Я буду служить тебе, Айла, и слушать твой голос, но дороги великого вождя мне неведомы. Может быть, он знает слово, такое слово, что горы расступаются перед ним… Может быть! Но когда посланец шептал в ухо Киречи-Бу, я не расслышал заклятия. «Не врет, – подумал Ивар, – боится и потому не врет». Его лицо омрачилось, и Птис, уловив этот знак неудовольствия, припал к песку, бормоча: – Мой лоб – у твоих подошв, хозяин… – Твой нос – в твоей заднице! – рявкнул Тревельян и стукнул кулаком по земле. Дав выход гневу, он успокоился и приказал: – Иди к котлу и ешь. Придется мне снова вызвать демонов – думаю, Гхарра и Хатта. Гхарр летает высоко, а Хатт – повелитель камней и скал… Они укажут мне дорогу. После красного заката, когда он улегся рядом со своим скакуном, прозвенели колокольцы и включился передатчик. Прижавшись щекой к шее трафора, Ивар слушал тихий голос Энджелы Престон – она говорила, что Кафингар вернулся, шептала слова благодарности, и были они как нежная мелодия после рева и рычания шас-га. Ивар ответил, сказал ей то, что она надеялась услышать: что Кафи – мужчина редких достоинств и отваги, настоящий рыцарь и герой. Еще сказал, чтобы прислали пленника, которого привез Инанту, – сегодня же, срочно, в эту ночь. Потом убедился, что маяк на флаере включен, и велел трафору разбудить его через четыре часа.
Глава 8. Набег
К чему дорога, если она не ведет к еде?Пословица шас-га
Пять сотен вооруженных всадников двигались на восток по тракту, протянувшемуся вдоль Поднебесного Хребта. По левую руку от них гигантской стеной вставали горы, справа лежала пустыня, необозримое пространство серого песка, барханов и каменных россыпей, тонувшее в знойном желтоватом мареве. Пустыня казалась еще более бесплодной, жаркой и страшной, чем засушливая северная степь; здесь не было ни трав, ни кустов, ни водоемов и никаких признаков жизни, никакого движения, если не считать песчаных вихрей. Вершины дюн словно курились, ветер вздымал мелкую пыль, кружил ее в воздухе и временами бросал в лица всадникам. Они, привычные к ветру, песку и зною, не отворачивались; длинные космы свисавших до пояса волос служили защитой для глаз, ноздрей и рта. В отряде были отборные воины из Очага Мечущих Камни. Люди этого племени, самого многочисленного и сильного в северных степях, славились искусством пращников; они умели швырять камни с помощью ремня, особой палки или просто руками. В отличие от стрел и дротиков камней повсюду хватало, и, если постараться, они ломали кости и разбивали головы с тем же успехом, что топоры и дубины. Большое преимущество! Тем более что о дубинах и топорах Мечущие тоже не забывали. Дорога, по которой двигался отряд, шла от западного побережья Хиры до восточного, от страны пиратов ядугар до городов купцов туфан. Нужен был год, чтобы одолеть такое расстояние пешком, но на яххах это удалось бы сделать вчетверо быстрее. Разумеется, если не тащить с собой повозки, но и они не слишком тормозили воинство шас-га. Сейчас за колонной Мечущих Камни катились сорок телег на огромных колесах, и потому воины ехали неторопливо. Звенели бубенцы на рогах скакунов, громыхали камни в сумках, подвешенных к перевязям, перекликались впереди дозорные, тысячи ног топотали по плотной земле, иссушенной светилами и слежавшейся до твердости гранита. По обочинам дороги росла трава, у скалистой стены – погуще, а со стороны пустыни – совсем чахлая. Иногда из трещины в скалах струился ручей с горькой водой, пересекал дорогу и, рассыпавшись мелкими лужами, исчезал в песках. Здесь растительность была обильнее – кроме трав имелись колючие заросли, знакомые шас-га и звавшиеся у них кусты-торчком. У ручьев вставали над травой и зарослями стволы в три человеческих роста, вспарывали почву мощными корнями, тянули к небу ветви с мелкими розоватыми листьями. Удивительное зрелище для степняков – на севере такие большие деревья не росли. Мелкие оазисы попадались довольно часто. Крупные были редкими, но все же на огромном расстоянии от западных до восточных берегов их насчитывалось несколько сотен. В этих землях, орошаемых падавшими с гор ручьями и реками, жил народ, не похожий на шас-га. Слабые люди; воинов среди них оказалось немного, а те, кто не умел сражаться, сооружали каменные стены, растили невиданные плоды и разводили скот. Легкая добыча! И богатая! Каждый обитаемый оазис мог прокормить войско шас-га в течение восьми дней. Плоды, животные и человеческие трупы – все годилось в пищу, а кроме того, нашлись в оазисах и водные запасы, причем вода была не горькой, а сладкой. Добывали ее обычным способом, из колодцев, но в невиданном для северян изобилии. Отряд миновал высокую длинную стену. Она отгораживала от пустыни большой оазис, ближайший к лагерю шас-га, – тот, который разграбили первым. Края стены упирались в отвесные горные склоны, и шла она широким полукругом, защищая от песка и ветра пастбища, поля, хижины нескольких маленьких деревушек, паутину водоносных канав и сложенную из темного камня башню, где обитал местный владетель со своими воинами. Сейчас башня была разрушена, голые поля и пастбища вытоптаны, деревни сожжены, а во внешней стене зияли проломы. Оазис был мертвее мертвого, и налетавший из пустыни ветер забрасывал песком развалины жилищ, ирригационные канавы и плодородную землю. Но колодцы со сладкой водой степняки не разорили, накрыли их сверху плетеными стенами хижин и придавили плетенки тяжелыми камнями. Вода в этом мире являлась сокровищем. Великий вождь велел беречь колодцы. Куда бы ни двинулось войско, на запад или на восток, людям и яххам нужна вода. Много воды! Повеления Великого выполнялись со всей строгостью, ибо своевольных ждал котел.
* * *
Великий вождь, Брат Двух Солнц, Страж Очагов, Взирающий На Юг, привстав на носках, набрал в грудь воздуха. Трубный звук сорвался с его губ – не столь громкий, как тот, которым он сзывал воинов на битву, но ясно различимый на расстоянии двухсот шагов. Повторив дважды этот глас, Серый Трубач уселся перед своим шатром и смежил веки. Прошло недолгое время, раздался топот, а затем – голоса: – Здесь Лиги-Рух, повелитель. Мой лоб у твоих подошв. – Ххе! Здесь Кушта, вождь. Прикажи, и я буду грызть камни! Кушта начальствовал над левым крылом войска, Лиги-Рух – над правым. Оба носили титулы Опоры Очага и были преданными слугами. Конечно, пока руки вождя лежали у каждого на горле. – Воины ушли? – спросил Серый Трубач, не раскрывая глаз. – Пять сотен Мечущих Камни – на восход Уанна и Аукката, – сказал Кушта. – Семь сотен Белых Плащей и Пришедших С Края – на закат божественных светил, – произнес Лиги-Рух. – Хурр! Когда вернутся? – Когда Уанн уйдет за край земли, – в один голос ответили военачальники. Значит, еды хватит еще дней на пятнадцать, решил Трубач. За прошедшие годы, покоряя одни Очаги и истребляя другие, он хорошо усвоил, на чем держится власть. Три монолита лежали в ее основе: пища, вода и жестокость. Он носил много титулов, намекавших на его связь с богами, но, в сущности, его нужно было бы звать Владыкой Воды И Пищи. Что до жестокости, то даже Ррит, Бог Голода, не мог сравниться с ним. – Что в лагере? – спросил Серый Трубач. – Воин из Людей Молота подрался с воином Зубы Наружу, – доложил Кушта. – Обоих – в котел. Что еще? – У пастухов Людей Песка сбежал яхх. – Виновных – в котел. Дальше! – Доносит старший сотни из Белых Плащей. Воин говорил, что нужно идти на восход светил, а не на закат, ибо до туфан ближе, чем до ядугар, – вымолвил Лиги-Рух и, помолчав, добавил: – Умный! Веки Трубача поднялись, и Лиги-Рух с Куштой вздрогнули под пронзительным взглядом вождя. Он медленно произнес: – Умные мне не нужны. Мне нужны храбрые, сильные, верные и покорные. Говорившего – в котел! Лбы военачальников стукнулись о землю у его ног. Несколько мгновений Трубач разглядывал их, затем произнес: – Мы пойдем на восход. Скоро. Такова моя воля! Идти придется много дней, и если мы не найдем пищу и воду, у наших костров сядет Ррит. Воины должны быть терпеливы. Должны верить, что нас ведут боги и духи. – В котлах много места, – пробормотал Лиги-Рух. – Для тех, кто не верит. – Так, – согласился вождь. – Но даже попавший в котел должен верить в предначертание богов. Я буду говорить с богами, а наши великие ппаа спросят демонов. Воины пусть смотрят и слушают. – Мудрое решение, – молвил Кушта. – Три великих ппаа уже здесь. Сувига из Мечущих Камни и еще двое, из Людей Ручья и Людей Песка. Духи скажут им то, что ты повелишь. – Но нет еще Киречи-Бу, ппаа Белых Плащей, – напомнил Лиги-Рух. – Будем ждать? – Два дня, – распорядился Серый Трубач, – ждать два дня. Если он опоздает, я съем его печень. Можете идти. – Кровь вождю! – произнесли Кушта и Лиги-Рух, а затем побежали к своим скакунам и воинам охраны, скучавшим в отдалении. Серый Трубач, прищурившись, посмотрел на висевшие в небе светила и снова закрыл глаза. Свет солнц ослеплял, их величие подавляло, напоминая, что если он и считается их Братом, то всего лишь младшим. С закрытыми глазами легче думалось. Он пойдет туда, где восходят Уанн и Ауккат. Ближние оазисы разгромлены, но знатоков дорог и троп убивали не сразу, а после долгой беседы, вставив одним кол в задницу, а у других медленно сдирая кожу со спины. Никто из них не знал речь шас-га, но среди воинов нашлись понимавшие торговый жаргон туфан, и это позволило столковаться с пленными. Теперь вождю было известно, что Спящая Вода вывела войско ближе к стране туфан, и что до нее примерно сорок или пятьдесят дневных переходов. Он собирался подтвердить свое решение волей духов и богов, а затем идти на восход, двигаться от оазиса к оазису, от одного источника пищи к другому. Здесь оказалось так много еды и воды! Много мяса и сытных плодов, много травы и топлива, много горьких ручьев и сладких колодцев… Видно, Ррит, Бог Голода, явил свою милость Очагам степи, даровав им это изобилие! До Трубача донеслись вопли и предсмертный хрип – в лагере карали провинившихся. Открыв глаза, он прислушался к этим звукам и снова посмотрел на небо, определяя время по положению светил. «Отряды уже в оазисах», – мелькнула мысль. Затем ему вспомнилась поговорка, гласившая, что мир – это песок и трава. Так было на севере, за горами, но в новом мире, лежавшем перед Трубачом, прежняя мудрость не годилась. – Мир – это власть, – пробормотал он. – Моя власть! Власть над всеми землями от заката до восхода!* * *
Завиднелась стена, и всадники ускорили бег скакунов, оставив позади неторопливо пыливший обоз. Горы здесь отступали, образуя ряд пологих террас, по которым катила воды небольшая речка. Террасы и прилегающая к ним равнина были тщательно возделаны: внизу – паутина водоносных канав и канавок, прорезающих поля дигги, мучнистого плода, уже знакомого кочевникам, а выше, на лугах с желтой травой, пасутся под присмотром мальчишек мохнатые длинноухие хффа. Оазис казался больше и богаче предыдущего, разоренного в прошлый набег: шесть поселений с непременными колодцами в круге сплетенных из лозы домов, много людей и скота, несколько кузниц и гончарных мастерских с дымящимися трубами, а на самой верхней террасе – укрепленное жилище местного владетеля, две приземистые башни, которые соединяло длинное каменное строение. Все это пространство от нижних полей до башен было заглублено в отвесный склон хребта, зажато высокими неприступными отрогами, а от пустыни отгорожено длинной покатой стеной. Ее возвели из крупных глыб, лежавших в основании, из битого камня и глины – внушительное крепкое сооружение, которое, очевидно, начинали строить предки, а закончили потомки. Стена защищала посевы от ветров и песчаных бурь, но не от нападения: ни частокола, ни площадок для лучников, ни тысяч бойцов, чтобы оборонять ее по всей длине, тут не имелось. Ловкий воин мог забраться по выступающим камням до самого верха, а кроме того, в стене были ворота. Отряд шас-га быстро перестроился: три сотни начали растягиваться вдоль стены, две поскакали к воротам. Это препятствие, собранное из массивных досок и брусьев, могло спасти оазис от бродивших в пустыне дикарей, но шас-га были искусными воинами; ворота не могли задержать их надолго. Но обитатели оазиса думали иначе и подготовились к обороне. На верху стены тут и там поблескивали шлемы, щиты и секиры воинов, и рядом с каждым толпился десяток-другой поселян, вооруженных дубинами, кольями и заостренными шестами; под гром набата из хижин выбегали мужчины и женщины, они торопились к защитной стене; ворота спешно подпирали изнутри толстыми бревнами, разжигали костры, чтобы метать в атакующих пылающие ветки, из укрепления на верхней террасе появился небольшой отряд в доспехах – очевидно, дружина владетеля. Грохотали медные била, скрипело дерево, орали и перекликались люди, потрескивая, занимался огонь, и в этом хаосе звуков временами слышался то звон тетивы, то рев испуганного животного, то особенно громкий возглас или лязг клинка, который поспешно тянули из ножен. Вероятно, местные жители, побывав на пепелище соседей, представляли, что их ждет. Отряд, направлявшийся к воротам, внезапно притормозил и сбился плотной массой. Воины освобождали из ременных петель топоры, вытаскивали ножи, раскручивали веревки с крюками; им предстояло лезть на стену и сражаться в ближнем бою. Остальные всадники испустили боевой клич и стремительно ринулись к стене. Они мчались в двадцати-тридцати шагах от укрепления, и пращи со свистом рассекали воздух над их головами. Град камней с убийственной точностью обрушился на защитников; ломались кости, трещали черепа, гулко грохотала бронза, попав под удар снаряда, стонали раненые, молча падали пораженные насмерть, и временами камень чиркал о камень, выбивая искры. Дружинников с луками, мечами и секирами было на стене десятков шесть, и их перебили прежде всего; толпы ремесленников и крестьян, не умевших сражаться даже своим жалким оружием, не представляли угрозы для нападавших. Устрашенные люди отхлынули за гребень стены, вой и плач женщин смешался с криками мужчин, а камни все продолжали сыпаться с неба. Теперь они реже находили цель, но всякий, пытавшийся подняться и бросить дротик в страшного врага, падал с разбитым черепом. Мечущие Камни не промахивались; растянувшись вдоль каменного барьера и уже не опасаясь ни огня, ни стрел и копий, они следили, не мелькнет ли над стеной кто-то из защитников. Налетевший из пустыни ветер трепал их волосы, пыль посыпала плечи, но ветер и пыль не могли погасить жадного блеска глаз, скрыть оскал зубов. Там, за стеной, их ждали пища и вода. Ударил барабан, и две резервные сотни неспешно зарысили к укреплению. Взметнулись веревки с крюками, заскрежетали о камень, самые нетерпеливые поднялись на спины яххов и, найдя щели в грубой кладке, быстро поползли по наклонной стене. Одолев преграду в четыре человеческих роста, они прыгали вниз и, орудуя ножами и топорами, пробивались к воротам. Бревна, подпиравшие створки, рухнули, калеча вцепившихся в них защитников, сдвинулся в медных пазах тяжелый запорный брус, заскрипели петли, и дикая орда ворвалась в оазис. Скакуны проложили дорогу сквозь толпу, сбивая с ног, топча и протыкая рогами не успевших увернуться. Вздымались и опускались топоры в руках всадников, свистели камни, брызгала кровь, стон и крик неслись над полями дигги, порождая эхо среди скал. Был белый полдень, светила обдавали жаром землю и воду, над канавами поднимался влажный туман, воняло потом, мочой и растерзанной плотью. Желто-серое небо висело так низко, что, казалось, пики Поднебесного Хребта больше не подпирают его, а, проткнув мутную пелену, тянутся к огромному красному Уанну и белому раскаленному Ауккату. Небо падало на землю, падало столько раз, сколько отлетело во тьму небытия человеческих жизней. Передовой отряд, рассеяв толпу, мчался к застывшей на нижней террасе дружине владетеля. Вернее, к ее остаткам; половина оружных воинов полегла от камнепада на стене, и те, которых вел к воротам вождь, стояли в нерешительности, соображая: то ли драться, то ли бежать обратно к башням, затворить двери и метать с высоты копья и дротики. Но яххи двигались быстрее, чем мысли в головах дружинников. Первый рогатый скакун взобрался по косогору, пал, пронзенный копьями, и засучил ногами в кровавой луже. Его всаднику меч вошел в живот, но за ним лезли другие шас-га, напирали на щиты и копья, били по шлемам со спин скакунов, ловили петлей на шесте оборонявшихся и, поймав, волочили по земле, будто растаскивая кучу хвороста. В этом коротком свирепом бою Мечущие Камни впервые отдали кровь за кровь, жизнь за жизнь: одиннадцать из них погибли под мечами и секирами, трое были ранены, ибо враги, зная, что бежать некуда, дрались с упорством загнанных в ловушку крыс. Шас-га, разъярившись, прикончили воинов, зарезав даже предводителя, которого полагалось пленить и привезти Брату Двух Солнц для допроса. Меж тем в ворота уже тянулись последние группы шас-га, за ними въезжали повозки, и это было знаком, что впереди тяжелый труд. Захватить оазис и перебить дружинников – самое легкое дело, но теперь предстояли главные хлопоты: обыскать деревни, согнать скот и пленных, забить тех, кто не мог идти, нагрузить телеги мясом и плодами, собранным оружием, шкурами, тканями – всем, что найдется в башнях вождя и хижинах бывших его рабов. Кроме того, укрыть колодцы со сладкой водой, разбить ворота и разрушить стену в трех-четырех местах, дабы сосед из другого оазиса не вздумал за ней укрепиться. Большей частью эти работы выполнялись пленными, но среди них надо было отобрать знавших торговый жаргон, пути к побережью, места разлива вод, пещеры и ущелья, в которых можно укрыться от песчаной бури. Держатель Шеста [99], начальствующий над отрядом, велел построить пленных, осмотреть их и найти говоривших на жаргоне. Этим занялись двое Стоящих у Стены со своими воинами; раненых и слишком юных рубили на месте и тащили трупы к телегам, откликавшихся понятными словами выводили из строя и гнали к Закрывающему Полог, который их допрашивал. Закрывающий был битсу-акком и привык запоминать Долгие Песни из множества строф; и сейчас, слушая пленников, он тоже сочинял Долгую Песнь, которую пропоет великому вождю. Песнь о дороге на восток, о владениях, что встретятся по пути, о людях, что их населяют, о повелителях Очагов и их дружинах. Слово за словом откладывалось в памяти битсу-акка; неразговорчивых пленников жгли головней, слишком болтливых резали, и так, капля за каплей, наполнялся сосуд с известиями для вождя. Когда управились с работой, красный полдень давно миновал. По дороге уже тянулись к лагерю груженые возы, скот и толпы пленников, догорали хижины в деревнях, воины пекли над огнем тела убитых и торопливо насыщались. Еще с жадностью пили воду – здесь она была приятнее, чем в местах обитания Мечущих Камни. Прошло недолгое время, и последний десяток шас-га покинул оазис. Его поля и пастбища были затянуты дымом, над вытоптанной землей гулял ветер, края канав осыпались, перекрыли ток воды, речка разлилась и впервые за много десятилетий дотянулась до пустыни. Где и умерла, поглощенная песками.Глава 9. Киит
Если не можешь сражаться, беги и прячься. Хочешь надежно спрятаться – прячься на корабле и плыви туда, где море шире.Пословица народа туфан
Инанту Тулунов летел к восточному побережью на гравипланере. Эта машина была поменьше самого крохотного из флаеров: два прозрачных крыла, двигатель величиной с кулак, небольшое сиденье, приборная панель и силовая защита. При таких малых размерах планер успешно маскировался не тучами и облаками, а клочком сизой дымки, едва заметной в желто-серых небесах, что являлось полезным свойством – в тех краях, куда направлялся Инанту, тучу и облако могли принять за чудо. Вблизи Киита, самого южного из городов туфан, пустыня подступала к берегу, и дувший с юга ветер гнал морские испарения до Поднебесного Хребта, не позволяя им пролиться ливнем. С гигантского горного склона Инанту скатился словно на санях по снегу, завис над дорогой, пролегавшей у подножия хребта, и повернул на восток. Летел он невысоко, метрах в двухстах над землей, и мог сколько угодно разглядывать Великую Южную Пустыню, безлюдный тракт и оазисы Кьолла. Те, что были ближе к лагерю кочевников, спешно готовились к обороне: сотни мужчин и женщин таскали камни, укрепляли ворота и стены, несли к ним вязанки копий и стрел, в кузницах гремели молоты, а у баронских замков дружинники натаскивали поселян в боевых искусствах. На скалах и высоких террасах курился дым над жертвенными кострами, и там Инанту замечал фигурки жрецов, кружившихся в танце и тянувших хриплыми голосами священные песнопения. Похоже, жрецы молились всем, кто мог спасти и защитить: Камме, Богине Песков, Таррахиши, Богу Воды и, разумеется верховной троице – Баахе с его солнечными потомками Уанном и Ауккатом. Тревожная картина! Как правило, жизнь в Кьолле текла спокойно, если не считать свар между баронами. Зрелище всеобщей озабоченности было для Инанту непривычным. До Раваны он посещал только цивилизованные миры и потому, изучая место своей стажировки, его географию, природные условия и этнос, пытался отыскать земные аналоги и сопоставить с ними свои наблюдения. Что вполне понятно: происходившее в собственном мире за последние тридцать тысяч лет любой человек, а тем более специалист-этнограф, знает в больших подробностях, чем историю хапторов или кни'лина. На Земле тоже были страны с единым языком, но раздробленные на мелкие владения, были торговые города и фиорды с гнездившимися в них пиратами, была евразийская степь, откуда волна за волной накатывались кочевые народы, сокрушая империи запада и востока. Но все же, за редким исключением, прямых аналогий не находилось. Щедрые своим разнообразием земные континенты давали больше возможностей скрыться, пересидеть лихо в лесах, болотах и горах или вообще уйти в такие края, куда насильник не дотянется. На Пекле это было невозможно. Здесь, в отличие от Земли, не имелось маршрутов влево и вправо, а были только вперед и назад. «Линейный мир, – думал Инанту, мчась над оазисами Кьолла. – Линейный, как Древний Египет: отойдешь от нильского берега на чуть-чуть – и помирай в пустыне, хочешь, в Нубийской, а хочешь, в Ливийской. И так шестьсот километров, от Асуана до Дельты… ни налево, ни направо не двинешься, а только вверх или вниз по течению… Другой пример – империя инков на тихоокеанском берегу. На западе – море, на востоке – горы, и направлений опять-таки два, на север либо на юг. Масштабы, правда, посолиднее, чем у египтян: ширина прибрежной полосы – сотня километров, а длина – все четыре тысячи. Но, опять же, от своих властей или недобрых пришельцев спрятаться труднее, чем в джунглях и тайге…» Кьолл тоже являлся линейным миром, зажатым между неприступными горами и пустыней, да еще разорванным на клочки. Каждый такой клочок существовал за счет скудных источников горькой и сладкой воды, был ограничен песками и скалами, так что все население Кьолла равнялось двадцатой части от египетского [100]. Города ядугар и туфан походили на кьолльские оазисы, только вытянутые вдоль побережья; с одной стороны их подпирала пустыня, с другой – плескались моря, хоть неширокие, но довольно бурные. Инанту понимал, что такие линейные структуры особенно ранимы при всяких бедствиях, как природных, так и создаваемых людьми; двигаясь в узкой полосе обитаемых земель, неприятель мог полностью выбить коренных жителей и уничтожить плоды их многолетних трудов. Правда, у морских народов имелся выход: уплыть к другим материкам и спасти хотя бы часть населения. Примерно восемь-десять процентов, по подсчету Юэн Чина. Внизу промелькнуло разоренное владение, стена с проломами, полные мутной жижи арыки, пепелища на месте домов, и Инанту подумал, что кьоллам, в отличие от ядугар и туфан, плыть некуда. Они не могли даже объединиться, создать небольшую армию из двух-трех тысяч опытных солдат – ни один оазис не прокормил бы такое воинство. Но если бароны востока уйдут к туфан – уйдут вместе людьми, стадами и урожаем дигги, – шанс оборониться все же есть. Во-первых, Трубач не найдет пропитания в опустевших землях, а во-вторых, города туфан укреплены и выходят к морю – значит, можно перебрасывать на кораблях продовольствие и воинскую силу. Инанту рассчитывал, что его визит в Саенси – тот решающий эстап, который переломит ситуацию. За несколько минувших дней весть о набеге могла уже добраться до Фартага, Ниммы и даже до Негерту. До Киита – вряд ли… Хотя кто знает? При попутном ветре галеры туфан проходили под парусом и веслами сто пятьдесят километров от белого рассвета до красного заката… Если гонцы плывут днем и ночью, и если недавний шторм не сбил их с пути, они черезсутки-двое увидят Киит. Планер миновал лагерь кочевников, скопление шатров и повозок, людей и животных, бурлившее, как закипающий котел. Инанту был бы не прочь тут задержаться, но превозмог это желание. За лагерем бдительно следили приборы спутника, так что ценность его наблюдений равнялась нулю – любопытство, и ничего более. «Где Тревельян?.. Не здесь ли?..» – подумалось ему, но разыскать координатора в этом хаосе было невозможно. К тому же Тревельян сейчас – шас-га, такой же, как тысячи мельтешивших внизу фигурок. Связаться с ним?.. Но по какому поводу?.. Еще решит, что он, Инанту, напрашивается на благодарность за поимку того дикаря… Или отругает за непрофессионализм… Инанту пощупал еще заметный шрам на шее, буркнул: «Чертов вампир!» – и полетел дальше. Первое пепелище к востоку от лагеря было совсем недавно владением барона Уммизака. Теперь ветер, врываясь в проломы в стене, заносил его песком, кружил пыль и прах среди сгоревших хижин, печных труб и развалин башни. Следующий оазис тоже лежал в запустении и разоре. Пролетая над ним, Инанту попытался вспомнить имя владетеля, но не смог – в Кьолле имелось сотни три баронов, и, разглядывая их в видеозаписи, он отличал лишь самых выдающихся. Самых толстых, самых уродливых, самых жестоких или тех, у кого росли усы и борода, что вообще-то было для кьоллов нехарактерным. Он миновал несколько владений, где, готовясь к обороне, тоже суетился народ. Но в семистах-восьмистах километрах от лагеря Трубача все было спокойно: сельский люд трудился на полях, воины на стенах не торчали, и по дороге шли караваны купцов. То ли весть о шас-га сюда не добралась, то ли ей не поверили, то ли сочли, что так далеко злодеи не продвинутся… «Опасное заблуждение! – подумал Инанту. – Кочевники могли нагрянуть в эти края через десять дней, а если поторопятся, то и еще быстрее». Не долетев до моря и северных городов туфан, он повернул на юго-восток. Теперь планер мчался над Великой Южной Пустыней, и дремавшие внизу песчаные равнины и серые дюны сменялись то бескрайними россыпями щебня, то невысокими трещиноватыми скалами, то сплошным монолитом – там, где древние, давно исчезнувшие вулканы растеклись по земле потоками огненной лавы. В пустыне гуляли смерчи, иногда небольшие, в рост человека, но временами – километровой высоты, черные, грозные, страшные. Силовой экран защищал Инанту от ветра и песка, а заодно и от зноя – температура по Цельсию была за пятьдесят, а южнее, в экваториальной зоне, жара стояла такая, что свертывался и горел белок. На экваторе импланты не спасали, там приходилось облачаться в скафандр, но посещался тот район довольно редко и лишь планетологами. Для этнографов там работы не имелось по причине полного безлюдья, а палеонтологи и археологи, если и появлялись на Пекле, выбирали для раскопок более приятные края. Хотя, разумеется, понятие «приятный» было здесь весьма относительным.
В первые годы, когда база ФРИК на Шенанди еще обустраивалась, земляне сочли южную пустыню необитаемой. Ошибочное мнение! Лет через пять-шесть наблюдатели, трудившиеся в Кьолле, выяснили, что в областях у торгового тракта живут дикари, немногочисленные, зато опасные и почти неуловимые. Они кормились воровством и убийством, но в оазисы, как правило, не лезли, предпочитая грабить караваны и мелких торговцев, странствующих небольшой компанией. По словам кьоллов, немногие выжили после встречи с ними, ибо к жертвам своим они подбирались незаметнее, чем хищник Четыре Лапы. Этот народ, скорее всего, не походил на шас-га ни видом, ни обычаями, но сходство кое в чем имелось: как и шас-га, они пожирали любую тварь, от ящериц до человека. Впрочем, в силу скудости ресурсов каннибализм на Пекле был весьма распространен. Срезав юго-восточный край пустыни, Инанту приземлился среди прибрежных скал. Красное солнце стояло в зените, ослепительный белый диск Ракшаса виднелся чуть ниже, и по морю тянулись две дорожки, алая и серебристая. Море тут было не шире Средиземного где-нибудь между Францией и Алжиром, и за солеными водами лежал материк Намучи, населенный племенами хеш. У всех крупных морских бассейнов на Раване поверхность выглядела темно-серой с фиолетовым отблеском, и поэтому казалось, что море угрюмо хмурится. Шумный рокот волн и посвист ветра усугубляли это впечатление. Вызвав Юэн Чина, Инанту доложил, что находится у склада-18 и приступает к следующей фазе операции. Включив инфракрасный сканер, он убедился, что живых тварей крупнее ящериц и крабов здесь нет. Тогда он покинул свою машину, тут же взмывшую в небеса, и направился к искусственной пещере в скалах, одному из хранилищ со всякой всячиной, которые были разбросаны по континентам планеты. Вход маскировался щитом из пластика, неотличимым от скалы, покрытым наслоениями соли и мелких ракушек. Инанту нажал завиток на своем браслете, пластиковая крышка сдвинулась, вспыхнули светильники. Вдоль стен квадратного помещения ряд за рядом громоздились контейнеры, в центре висели над каменным полом резервный гравипланер и неуклюжий баркас местного производства – такой, какие брали на борт галеры туфан. Посудина, рассчитаная на шесть человек, могла идти под парусом и веслами и, в случае гибели корабля, была единственным спассредством. Но на этом баркасе имелся гравидвижок. Инанту вытащил невесомое суденышко из пещеры и, спустив на воду, отрегулировал тяготение на четверть земного. Мачту поднимать не стал, к веслам тоже не прикоснулся; запустил двигатель и направил баркас сначала в открытое море, а потом вдоль берега. Шел кораблик быстро, перелетая с волны на волну, а над ним плыла в небе туманная дымка, скрывавшая планер. Инанту находился сейчас между Буррой, ближайшим к Кииту портом на севере, и скалой, где стоял Киит. Подобно некоторым древним финикийским городам, его возвели на крохотном островке километрах в трех от берега; за проливом лежала пустыня, раскаленный солнцами песок, но морские воды защищали остров от ее знойного дыхания. Баркас приближался к Кииту со скоростью шестьдесят узлов, и спустя недолгое время между небом и морем возникла темная точка. Она росла и росла, превращаясь сначала в пятнышко, затем – в треугольник, и, наконец, в почти правильный пологий конус, напоминавший крохотный вулкан. Но это образование было не вулканом, а лишь вершиной подводной горы, утесом, что поднимался над морской поверхностью метров на триста. С восточной стороны в горе зияла широкая трещина – дар богов, природная гавань, а склоны рассекали ступени террас, связанных лестницами и галереями, застроенных множеством домов, лавок, мастерских, храмов и торговых складов. На вершине скалы стояло святилище Зиттана, Морского Бога, а над ним торчал маяк – башня в семь этажей, крытая золотистой бронзой. Инанту не приходилось бывать в Киите, но он знал, что площадь островка – полтора квадратных километра и что его обитатели живут за счет торговли, солеварения и морского промысла. Мясо, мука из дигги, топливо и металлические изделия большей частью завозились и шли в обмен на товары Киита – соль, рыбу и рыбью кожу, а также украшения из раковин, кораллов, жемчуга и бирюзы, за которой отправлялись экспедиции в пустыню. Но главным сокровищем острова были источники сладкой воды – их хватало на пятнадцать тысяч жителей и на несколько сот пришлых мореходов. Население Киита не росло; лишних детей и подростков продавали или топили в море. Пришло время поднимать мачту и распускать парус. Сделав это, Инанту пошарил под кормовой банкой, извлек маленький цилиндр гравидвижка и швырнул его за борт. Баркас сразу осел в воде, скорость упала; теперь суденышко двигалось по воле ветров и волн, как любой корабль на этой планете. Инанту осмотрел свои запасы, состоявшие из пустого бочонка для воды, щербатого медного ножа и рваных штанов, подпоясанных задубевшим от соли ремнем. Потом проверил, что синяки и ссадины, нанесенные с помощью грима, выглядят как настоящие, что корка засохшей крови на плече вполне правдоподобна, и что его губы даже на ощупь кажутся воспаленными и потрескавшимися. Закрепив руль и убедившись, что ветер гонит баркас к острову и шнырявшим в проливе рыбачьим лодкам, он лег на спину и погрузился в транс. Выглядел он точь-в-точь как потерпевший крушение туфанский мореход, что могло быть правдой – не прошло и трех дней, как здесь, у побережья, штормило. Он ждал минут пятнадцать или двадцать. Потом где-то поблизости заорали, плеснула под веслами вода, стукнулись о борт крючья багров, заскрипели друг о друга доски. Инанту приоткрыл один глаз. Пара плоских рож склонилась над ним, кто-то третий спускал парус, четвертый уже обшаривал баркас, а в лодках, притершихся с обоих бортов, раздавались голоса советчиков. «Рыбаки, – довольно подумал он, открывая второй глаз. – Рыбаки, спасители!» Правда, эта братия разглядывала его без всяких намеков на сочувствие. – Чрево Зиттана! – буркнул первый рыболов. – Похоже, живой! – Бросим в море, будет дохлый, – заметил второй. – Только вот браслетец сниму. Он потянул с руки Инанту браслет и испуганно ойкнул, получив слабый парализующий удар. – Заговоренная штуковина! А парень, видать, колдун! – Колдунов топить положено. В воду его, в воду! – Сперва в поясе пошарьте, – посоветовали с лодки. Инанту почувствовал, как чьи-то жесткие пальцы ощупывают пояс. – Нет там ничего. На прикорм пойдет, рыбья шелупонь! – А посудина у него хороша, – сказал первый рыбак, схватив Инанту за ноги. – Хороша, – согласился второй, приподнимая Инанту за плечи. – Ну, взяли! Плоть – морю, кости и зубы – камням, волосы – волне! «Похоронный обряд, ритуальная фраза», – подумал Инанту и испустил жалобный стон: – Люди… во имя Баахи… воды, воды!.. Гонец я, не колдун… гонец из Саенси… корабль разбился… к правителю меня… Над бортами возникли еще четыре рожи. – Что он болтает? – спросил кто-то. – К правителю меня!.. Быстро!.. – захрипел Инанту. – Вести… важные вести… будет вам награда… Воды! Дайте мне воды, отродья хффа! К его губам поднесли кожаный мех и позволили сделать пару глотков. Кажется, при обещании награды у рыбаков проснулась совесть. – В гавань! – сказал Инанту, приподнимаясь. – В гавань и на берег! Там стражей позовете. Пусть несут меня к Крепкому Парусу. Крепкий Парус являлся старшиной городских магистратов, правивших в Киите. Как утверждал Юэн, его отличали здравомыслие и государственный разум. Присмирев при имени правителя, рыбаки вздернули на мачту парус и взялись за весла. – А велика ли награда? – полюбопытствовал один. – Каждому по золотому браслету, – предположил другой. Инанту потянулся к меху, глотнул теплой, пропахшей кожей воды и сообщил: – Живы останетесь, вот вам и награда! Страшные вести я принес, спаси нас Бааха и дети его! Дикари идут! Людоеды из-за гор! Лица рыбаков посерели. Они навалились на весла, обогнули мыс и вошли в гавань, где теснились корабли, три-четыре десятка киитских галер и суда из ближних городов. Инанту облегченно вздохнул – галеры со знаком Саенси среди них не было. Он мог без боязни играть роль посланца. Его сдали с рук на руки городским стражникам. Что до спасителей-рыбаков, то они, бросив баркас, с воплями ринулись к причалам, оглашая недобрые вести. Инанту, которого стражи тащили вверх по лестницам, видел, что у кораблей и доков сбивается толпа, слышал тревожный гул голосов и хриплый вой раковин – владельцы кораблей сзывали свои команды. Казалось, шас-га уже стоят за проливом и готовятся к переправе, чтобы сожрать всех жителей Киита. Такая обеспокоенность вдохновила Инанту. В Саенси все вышло по другому: Тяжелый Кулак – кость ему в ноздрю! – счел его смутьяном и лгуном, да и городские магистраты, Смотрящий Искоса и Руки к Себе, тоже доверием не порадовали. Но Киит, очевидно, бдительности не терял и был готов к любому бедствию. Скорее всего, это объяснялось его удаленностью; в стране туфан Киит считался таким же форпостом, как лагерь римских легионов где-нибудь в Дакии или Британии. Дюжие стражи вознесли Инанту на самый верх утеса, где стояли жилища местных нобилей, храм Зиттана и маячная башня. По дороге он не забывал стонать, закатывать глаза и жаловаться на голод, жажду, раны и ушибы, поминая время от времени богов, спасших его от свирепости волн и морских чудовищ. Стражам это надоело. Один из них ткнул Инанту дубинкой и велел захлопнуть пасть, другой добавил по шее и пробурчал, что боги уже утомились от его нытья. Его поволокли в святилище. За неимением лишнего места храм служил в Киите судебной палатой, ратушей и канцелярией, где хранились тысячи кипу [101] – кодекс торговых договоров, отгруженных и принятых товаров, пошлин с чужих кораблей, выданных ссуд и наложенных штрафов. Инанту втолкнули в эту канцелярию, длинное узкое помещение с пучками веревок, что свешивались со стен и потолка будто водоросли в подводной пещере. Из соседнего зала доносилось гнусавое пение – кажется, там молились Зиттану или справляли какой-то обряд. Старший страж сунулся в дверной проем, забормотал вполголоса, и пение смолкло. Послышались тяжелые шаги, и в канцелярию вошел мужчина в тунике из рыбьей кожи, с длинным, окованным бронзой посохом – видимо, символом власти. «И правда крепкий парус», – подумал Инанту, глядя на бычью шею, мощные бицепсы и широкие плечи правителя. При небольшом росте фигура его казалась квадратной, длинные волосы струились по спине и груди, но, в отличие от магистратов Саенси, он был безусым и безбородым. За ним семенил жрец – не такая развалина, как Рожденный-в-Ночь-Полной-Луны, а молодой и довольно юркий. Инанту, кряхтя и причитая, стал делать знаки почтения. – Смотрящий Искоса, правитель Саенси, говорит моим языком: да будет с тобой, почтенный, милость Баахи. Пусть умножатся твои богатства, пусть не иссякнет вода в твоем городе, пусть его камни будут крепкими, а море – изобильным. И пусть дела твои будут удачны, что бы ты ни задумал, а твои корабли… Крепкий Парус прервал его нетерпеливым жестом. – Я вижу, гонец, твое плавание удачным не стало. – Да, – сокрушенно признался Инанту. – Киит далеко от Саенси, а путь труден и опасен. Корабль наш разбила буря, в лодке спаслись я и двое гребцов, и нас носило по морю от белого восхода до красного заката. Один из гребцов вскорости свалился за борт, ослабев от ран. – Где же другой? Инанту потупился. – Ты не выглядишь истощенным, – заметил жрец. – Ты его съел? – Пришлось, достопочтенный. Мне нужны были силы… Слишком важную весть я вез. – Боги тебя простят, если весть в самом деле важная. – Жрец принялся творить священные знаки. – Умершие в море да упокоятся в утробах своих спутников… Так повелел Зиттан, и слово его снимает вину с терпящих бедствие. Но надо провести очистительные обряды. – Непременно, – согласился Инанту. – Но прежде – весть: шас-га прорвались через горы и разоряют Кьолл. Несколько владений уже погибли. Крепкий Парус отставил посох и провел широкой ладонью по лицу, что было жестом печали. – Я тех гор не видел, но слышал, что они неприступны. Однако нет преград человеческой злобе, жадности и голоду… когда-нибудь это должно было случиться… Много ли их, гонец? – Вдвое больше, чем жителей Киита. – И куда направляются эти отродья взбесившихся хффа? – Никто не знает, правитель, но они ближе к морю восхода, чем к морю заката. Жрец в ужасе вскинул руки. – Будем молиться, чтобы они пошли не к нам, а к ядугар! – Съедят ядугар, придут сюда, – возразил Крепкий Парус, доказав, что он в самом деле государственный муж. – Пролив им не помеха. Захватят лодки в Бурре и явятся к нам. Сколько у нас есть времени, гонец? – Две или три луны, – прохрипел Инанту. – Две или три, если шас-га отправятся к восходу. Из Саенси придет другой корабль. Может, тогда скажут точнее. Правитель поглядел на Инанту, бросил стражам: «Дайте ему воды!» – и тоскливо вздохнул. Потом его лицо посуровело; он стоял, опираясь на посох, и ворочал головой, осматривая крепкие стены святилища, каменные плиты пола и многие тысячи веревок с нанизанными ракушками – летопись двухвековой истории Киита. Снаружи, сквозь узкий проем, открывавшийся к морю, доносился ропот людских голосов – должно быть, все население города ринулось к храму. Принесли воды, и Инанту напился. Жрец, перестав бормотать молитвы, спросил: – Доводилось ли тебе, посланец, видеть этих шас-га? Так ли они страшны, как рассказывают люди с севера? – Я видел только рабов, купленных в степи. Умелые воины, дикие и кровожадные! – Инанту машинально коснулся шрама на шее. – Еще видел владения кьоллов, где ветер разносит пепел и песок. Там не осталось ни человека, ни хффа, ни плода дигги – все сожрано или увезено. Жрец вздрогнул. – В наши края не привозили рабов из этих степных дикарей. Правда ли, что у них есть огромные твари с рогами? Что они садятся на этих чудовищ и сражаются, не слезая с их спин? – Правда, – подтвердил Инанту. – Только длинным копьем можно прикончить такую тварь. Еще стрелой, но лук должен быть очень мощным. – Каким богам поклоняются дикари? – Одни боги – те же, что у нас: Камма, владычица песков, Бааха, повелитель неба, и дети его Уанн и Ауккат. Но есть у них свои демоны, и самый свирепый из них Ррит, Бог Голода. – У дикого племени и бог дикий, – произнес жрец, повернувшись к морю. – Зиттан, Зиттан! Спаси наш город, укрой его за морскими волнами! Камма, пошли бурю на воинство врагов! Бааха, повели своим сыновьям сжечь их, а кости смешать с землей! Он начал бормотать проклятия, и это длилось до тех пор, пока Крепкий Парус не стукнул посохом о камень. – Половина Уха! – рявкнул правитель. – Слушаю твой зов! – откликнулся старший стражник. Мочки на левом ухе у него в самом деле не хватало. – Поставь людей у пирсов, и чтобы ни один корабль, наш или чужой, не вышел из гавани без моего приказа. Всех, кто приплывет к нам, задерживать. Кииту понадобится много кораблей. – Он подумал секунду и добавил: – Пришлешь ко мне старшин стражи и мужей торгового сословия. Я скажу, что им делать. Иди и выполняй с усердием! Стражники бросились вон. Инанту выслушал эту краткую речь с открытым ртом. Ему казалось, что Крепкий Парус озаботится оружием и наемниками, прочностью городских укреплений, состоянием казны и запасами на случай осады. Но, вероятно, все эти вещи правителя не занимали. Он оценил ситуацию лучше сотрудников ФРИК и думал не о борьбе, а о спасении. В этих южных краях, далеких от Кьолла и городов туфан, вербовать наемников было негде, а к тому же Киит не имел укреплений – его защищали вода и лежавшая за ней пустыня. Но сейчас эта защита стала эфемерной. – Пусть Бааха укажет тебе верный путь, – пробормотал Инанту. – Скажи, что ты хочешь делать? И что я должен передать Смотрящему Искоса? – Передать? – Крепкий Парус мрачно усмехнулся. – Что пожелаешь, посланец. Но я бы не советовал тебе возвращаться в Саенси. Да и как ты вернешься? Корабли из Киита не поплывут на север, только на восток. Поплывут через море, к другой земле. – К народу хеш, – в некотором ошеломлении уточнил Инанту. – Да, к хеш. Они слабее нас, и мы прогоним их с побережья, из долин, где есть вода. Ты, – правитель коснулся плеча Инанту, – принес в Киит весть об опасности, и я перед тобой в долгу. Корабли не заберут всех, но для тебя место найдется. Сказав это, Крепкий Парус зашагал к выходу – видно, решил поговорить с народом. На пороге он обернулся, бросил взгляд на Инанту и произнес: – Если не можешь сражаться, беги и прячься. Хочешь надежно спрятаться – прячься на корабле и плыви туда, где море шире.
В этой и последующих главах будут рассмотрены чрезвычайно важные проблемы, связанные как с самим фактом существования Фонда, так и вытекающие из его деятельности. Одной из этих проблем является гегемония в Галактике, которая достижима двумя принципиально разными путями: военным и мирным. Военный – в высшем своем выражении – отнюдь не сводится к боевым операциям в космосе и на планетах; такая стратегия хоть и возможна на начальном этапе соперничества и противоборства, но в дальнейшем неизбежно признается слишком жестокой, разрушительной и антигуманной. Современная доктрина военной гегемонии означает, что боевые средства одной из рас настолько значительнее и мощнее вооруженных сил любых потенциальных противников, что борьба с этой расой бессмысленна и равнозначна самоликвидации. Иными словами, разумная демонстрация силы и мощи гегемона сдерживает тех, кто желал бы бросить ему вызов или затеять локальную войну с равным по боевым возможностям или более слабым соседом. Достижение галактической гегемонии мирным путем гораздо более предпочтительный вариант, чем…Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 6. Деятельность ФРИК – заявка на гегемонию?
Глава 10. Северная степь
Трафору не пришлось его будить – Ивар проснулся сам. Он лежал, всматриваясь в мрак Провала, обрамленный россыпью редких звезд, слушал, как свистит ветер в скалах и фыркают яххи, поедая кустарник, принюхивался к сладковатому запаху трупов – на жаре они разлагались с невероятной быстротой. Но вряд ли тела погибших успеют сгнить и смешаться с песком – судя по осторожным шорохам и пискам, над ними уже трудилась компания крыс, пустынных удавов и ящериц. У возов, где улеглись выжившие после вчерашней резни, царила тишина; при всех своих недостатках шас-га, как и другие расы Пекла, во сне не храпели. Часовой в эту ночь не был выставлен, но Ивар полагался на бдительность и чуткие датчики трафора. Встав, он хлопнул его по шее, велел проследить, чтобы крысы не добрались до спящих, и зашагал в темную степь. Невидимое в ночном небе облако, скрывавшее флаер, поплыло за ним, посылая в пространство сигнал маяка. Где-то над горами мчался сейчас другой аппарат, отправленный с пика Шенанди, он нес Тревельяну проводника, и на секунду Ивар задумался, кто прилетит: Энджела?.. Инанту?.. Юэн Чин?.. Кто-то из вулканологов?.. Может быть, зеленоглазая Анна Веронезе?.. Лучше бы не она: не хотелось предстать перед девушкой в нынешнем мерзком обличье. Ивар отошел от лагеря примерно на километр и, скрестив ноги, опустился на землю. Теперь он слышал лишь шелест сухой травы да шорох песка, пересыпаемого ветром. В восточной части небосклона повис ущербный Гандхарв, едва заметный тонкий серпик; света от него в эту ночь было не больше, чем от горсти гаснущих углей. Тревельян все же различил питона, бесшумно и быстро проползшего шагах в двадцати; тварь, вероятно, спешила попировать на свежих трупах. У шас-га и южнее, за горами, такие питоны считались лакомством. Животный мир Раваны не отличался изобилием, и почти всех тварей, дававших мясо, кожу или мех, одомашнили еще до появления землян. В Кьолле, а также у народа хеш на континенте Намучи, были хффа и рогатые свиньи, питоны и некоторые виды грызунов; на западном и восточном побережьях разводили тех же питонов, хффа, свиней и сухопутных крабов; у шас-га имелись яххи, единственные верховые животные на всей планете. Дикую фауну представляли змеи, ящерицы, песчаные крысы и хищник Четыре Лапы; в горной местности водились кенгуру Пантена, названные в честь открывшего их зоолога. Они, однако, не относились к сумчатым и походили на земных кенгуру лишь мощными задними лапами и способностью перемещаться прыжками. По мнению палеонтологов, копавшихся на Пекле, древние фауна и флора были гораздо разнообразнее, но засуха привела к вымиранию и редукции множества видов. Люди, однако, уцелели, хотя и сократились в числе. Сквозь шелест травы и шорох песка прорвался тихий мелодичный звук. Тревельян встал. На землю опускался клочок тьмы, бесформенный и непроницаемо темный, будто оторвавшийся от небосвода. Голографическое облако зависло перед Иваром и вдруг растаяло; вспыхнул прожектор, сдвинулся люк, и из кабины флаера, вытянув гибкие манипуляторы, полезли киберы. Они несли спящего шас-га, аккуратно придерживая его за плечи и под коленями. Следом появился мужчина в комбинезоне, он оглядел Тревельяна и довольно произнес: – Отличная маскировка, Ивар. Такое в страшном сне не приснится. – Твоими трудами, Юэн. Они обнялись. От Юэн Чина пахло базой, знакомым благоуханием свежей одежды, чистого тела и зелени. О собственных ароматах Тревельян старался не задумываться. Впрочем, его приятель-этнограф, в силу своей профессии, брезгливостью не страдал. – Вот, получай. Минут через двадцать он очнется. – Юэн кивнул на дикаря, которого роботы уложили на песок. Потом добавил: – О твоих новостях мы знаем, схватка была заснята с флаера Кафингара. Он теперь у нас герой! – Omnia vincit amor [102], – сказал Тревельян и ухмыльнулся. – Как Энджела? Довольна? – Цветет точно майская роза. In puris naturalibus… [103] – ответил Юэн Чин. – Видишь, я тоже не позабыл латынь! – Есть другие новости, кроме ботанических? – Да. Серый Трубач послал отряды в ближайшие оазисы. Уничтожены четыре владения, два на востоке и два на западе. – Это я знаю, я сносился со спутником. Трафор обеспечивает связь. – Ивар поглядел на спящего шас-га. – Если этот парень не подведет, я скоро буду в лагере. Как думаешь, Трубач еще не двинется с места? Этнограф покачал головой. – Боюсь тебя разочаровать. Где бы ни был этот тайный проход, перебираться через горы нужно дней десять-двенадцать, если не больше. В войске Трубача десятки тысяч людей и животных, и они уже съели все окрест. Он отправится в путь не сегодня, так завтра и пойдет на восток. К туфан ближе, чем к ядугар, и он об этом уже знает. Мы наблюдали за пытками пленников. – Плохо! Опаздываю! – Тревельян покусал в раздумье нижнюю губу. – А что туфан? Готовятся к обороне? – Северные города попробуют отбиться. Но Киит и, очевидно, Бурра избрали другую тактику. Хотят переплыть море и основать колонии на берегах Намучи. – Эти данные точны? – Абсолютно. Инанту побывал в Киите. Лицо Тревельяна омрачилось. – Тоже плохо. Ты ведь понимаешь, к чему это приведет? – К уничтожению хеш. Так всегда случается в эпохи великого переселения народов: сильные давят на более слабых, те – на слабейших… Но что мы можем сделать, Ивар? Даже если ты доберешься до стана Трубача? – Тревельян не ответил, и Юэн Чин с горечью произнес: – Наша вечная проблема: КАК сделать, чтобы ИМ было хорошо, не убивая и не принуждая… – Мы попробуем, – сказал Тревельян, – мы попробуем. Иначе зачем мы здесь? Зачем мы здесь? – спросила у него Анна Веронезе. Ответа не было – во всяком случае, точного, ясного и убедительного. Прогрессорство, как всякое сложное деяние, порождало много вопросов, не позволяя разрешить их немедленно, в тот же миг, когда они возникли. В двадцатом и двадцать первом веках ситуация была похожей и более страшной, ибо касалась не Пекла, не Осиера и не Хаймора, а самой Земли, единственной планеты, где обитало человечество. Экологический кризис, глобальное потепление, недостаток энергоресурсов, оружие ядерное, химическое, биологическое, климатическое, космическое… Враждующие народы, раздробленный мир и войны, войны, войны… Оргия самоуничтожения! Что это было? Агония гибнущей цивилизации или родовые схватки, в которых рождался новый мировой порядок?.. В ту далекую эпоху никто не знал ответа, ясного и убедительного. Ответило время. Время всегда отвечает, но при одном условии: те, кому адресованы ответы, либо есть, либо их уже нет. Юэн Чин отступил к флаеру, махнул, прощаясь, рукой. – Удачи тебе, Ивар. Да хранят тебя Владыки Пустоты! – Я тебя слышу, – ответил Тревельян ритуальной фразой шас-га. – Пусть твоя печень будет спокойна. Аппарат, окутавшись облачной дымкой, исчез в ночных небесах, а Ивар опустился около пленника. Его будущий проводник был худ, но жилист: торс, бедра, голени и длинные, до колен, руки были перевиты мускулами, под сероватой кожей проступали ребра и суставы, огромные кисти казались драконьими лапами. Вероятно, этот дикарь отличался изрядной силой, и, разглядев его как следует, Тревельян решил, что Инанту повезло. Лицо пленника, как у всех степняков, было узким, с внушительной пастью и крупными зубами, с застывшим выражением свирепости – рожа дьявола или дьявольского подручного в аду; длинные пряди волос достигали пояса, но шерсти на шее и между лопаток не имелось. Значит, не из клана Полоса На Спине, решил Ивар, и не из племени Зубы Наружу – у тех клыки посолиднее. Белый Плащ?.. Мечущий Камни?.. Но те обитают посреди степи, далеко от гор, а Пришедшие С Края – еще дальше, у границ безлюдной зоны… Откуда же этот лихой молодец? Из Людей Песка, Людей Ручья или Людей Молота?.. Нахмурившись, Тревельян пожал плечами. Он разбирался в племенных отличиях, касавшихся одежды и оружия, жилищ и телег, повадок езды и духов-покровителей того или иного Очага, но этот тип был безоружным и голым, если не считать повязки на бедрах. Старая, драная, вонючая, из кожи крыс… Слишком мало для выяснения племенной принадлежности. Дикарь вдруг зашевелился, ухватил огромными лапами песок, швырнул горстями в стороны. Потом сел, поворочал головой, оглядываясь, и заметил Тревельяна. Глаза его хищно сверкнули, мышцы напряглись; он подобрал под себя ноги, изготовившись к прыжку, и ощерил пасть. Покрепче Кадранги будет, мелькнула мысль у Ивара. В свой черед он с угрозой оскалил зубы. Но нападения не последовало. Шас-га поглядел на темное небо, хлопнул ладонью по песку и прохрипел: – Йргык? – Похоже на то, – ответил Тревельян. – А ты – Страж Йргыка? – Может быть. – Хурр! – Степняк резко выдохнул воздух. Кажется, он не был удивлен. «Крепкий парень», – подумал Тревельян. У шас-га не имелось понятий о душе и загробной жизни, о чем-то похожем на царство теней Аида или, тем более, на преисподнюю и рай. У них не было даже кладбищ – точнее, каждый сам являлся ходячим кладбищем для умерших или убитых соплеменников. Правда, их окончательная смерть наступала не в миг гибели, а в момент поедания плоти – прагматический вывод, ясный любому, ведь куча обглоданных костей никак не могла сложиться в скелет и обрасти мясом. Однако в редких, очень редких случаях труп оставался несъеденным людьми или зверьем, и тогда лишившийся жизни попадал в Йргык, на Темные Равнины Одиночества, где бился с их Стражем. Одолев пришельца, Страж его съедал, а если не мог с ним совладать, пришелец становился новым Стражем и хоронил предыдущего в собственном чреве. Так что при любом исходе схватки должный порядок был восстановлен. Шас-га уставился на Тревельяна. Теперь он глядел на него, не как охотник на добычу, а так, как воин озирает воина перед смертельным поединком. Сражаться полагалось без оружия; здесь, на Темных Равнинах, победу несли не нож, топор или копье, а сила, ловкость и свирепость. Они одновременно поднялись и отступили друг от друга на несколько шагов. – В Йргыке будет новый Страж, – сказал дикарь. – Когда крысы начнут летать по небу, – ответил Тревельян. Он неплохо видел в темноте, но не мог припомнить, обладает ли его противник ночным зрением. Вполне возможно, что такие исследования вообще не проводились. В том, что касалось физиологии шас-га и их отличий от других народов Пекла, зияли изрядные пробелы. Дикарь прыгнул. При повышенном тяготении Раваны это казалось рекордным прыжком – без разбега, метра на четыре. Тревельян шагнул в сторону, подставил ногу, и шас-га ткнулся головой в песок. Падение его не обескуражило: присев и упираясь кулаками в землю, он ловил каждое движение врага. Похоже, ночная тьма ему не мешала. Уложить его имплантом?.. Но честный бой имел свои преимущества – закончив схватку, можно будет допросить шас-га. Схватка продлится минуты, а парализующий разряд погрузит его в беспамятство до рассвета… Мысль промелькнула в сознании Ивара, когда дикарь снова ринулся в атаку. Упав на спину, Тревельян воткнул ему ногу в живот и перебросил через себя. Как всякий разведчик, он хорошо владел древним боевым искусством. Советы деда, на которые тот не скупился, тоже были не лишними. Хроники подтверждали, что дед был мастером рукопашного боя и один на один справлялся с дроми и хапторами. Противник пропахал в песке заметный след. Поднявшись, он помотал головой, протер от песчинок глаза и буркнул: – Сожри тебя Ррит! Ты бьешься неправильно! – Как умею, – сказал Тревельян и врезал ему под ребра. Солнечное сплетение у местных гуманоидов находилось там же, где у людей, и шас-га захрипел и согнулся, пытаясь вдохнуть. Он пришел в себя удивительно быстро – то ли был живуч и крепок от природы, то ли нервный центр, защищенный мышцами, был не слишком уязвим. Не исключалось, что он притворялся – ответная атака едва не застала Ивара врасплох. Огромные лапы стиснули его затылок, у горла лязгнули челюсти, но он ударил врага коленом в пах и обхватил правой рукой за шею. Удушение – отличный прием против шустрых гуманоидов. С дроми, судя по рассказам деда, так не получалось, шея у дроми была понятием символическим. Ивар давил и давил, чувствуя, как расслабляются мышцы шас-га. В горле у его противника хрипело и булькало, ступни скребли по песку, из прокушенной губы струилась кровь. Наконец он обмяк в захвате Тревельяна, дернул раз-другой ногами и затих. Опустив его на землю, Ивар нащупал пульс – тот бился редко, но вполне отчетливо. Тело побежденного выгнулось дугой. Он со свистом втянул воздух, сплюнул кровь и пену и заворочался, пытаясь сесть. – Живой, крысиная моча, – сказал Тревельян, ухватив его за волосы. – Дрался ты неплохо, но в Стражи Йргыка не годишься. Слабоват! Шас-га смотрел в небеса бестрепетным взглядом. Ни страха, ни сожаления не было в его глазах; казалось, он смирился со своей участью. – Нас двое, а смерть одна, – послышался его сиплый голос. Этой ритуальной фразой он признавал свое поражение. – Смерть подождет, – промолвил Тревельян. – Ты еще жив, и здесь не Йргык. Сядь, воин, и оглянись по сторонам. Сейчас ночь, и потому темно. Но здесь не Темные Равнины. – Не Йргык?.. – Равнодушие таяло в глазах пленника; теперь он казался ошеломленным, даже испуганным. – Но я помню… помню летающую повозку и колдуна туфан… Он одолел меня каким-то волшебством, но есть не стал… туфан, рыбья кровь, не едят своих и не едят чужих… Бросил мертвым в летающей повозке, и значит, я попал в Йргык. Разве может быть иначе? – Может. – Ивар дернул его за волосы и заставил сесть. – На всякого туфанского колдуна найдется ппаа посильнее. Я, Айла из Белых Плащей, сбросил повозку с небес, смешал ее прах с землей, а колдуна туфан отдал песчаным крысам. Тебя решил пощадить. Конечно, ты приблудное мясо, но мне пригодишься. – Ты – ппаа? – Глаза степняка расширились. – Да. И мне повинуются демоны. Хочешь на них взглянуть? – Тревельян прикоснулся к импланту, но шас-га спрятал лицо в ладонях. – Ну, не хочешь, так не надо… Назови свое имя и Очаг. – Дхот-Тампа из Живущих В Ущельях. Последний из них. Зачем я тебе, ппаа Айла? – На мой караван напали казза, и хотя я уничтожил их, вызвав демона, они перебили много людей, – пояснил Ивар. – Мне нужны воины и слуги. Еще мне нужен проводник. Прежнему, знавшему путь к Спящей Воде, распороли брюхо. Но я думаю, ты этой дорогой проходил. – Проходил, – признался Дхот-Тампа, и Тревельян с облегчением вздохнул. – Как еще я мог перебраться к тем отродьям Каммы, что называют себя кьоллами? Только через Спящую Воду. – Отведешь меня к ней? – Для чего? «Задает вопросы, – подумал Ивар. – Вроде бы пришел в себя, а слов покорности не говорит и на службу не просится. Странно! Одному в степи не выжить… Или его племя близко? Эти Живущие В Ущельях?.. Судя по названию, они обитают у самого Хребта…» – Я должен попасть к Брату Двух Солнц, чье войско сейчас за горами, – сказал он. – И я очень спешу. Вождь меня ждет. Физиономия Дхота вдруг переменилась. Насколько Ивар разбирался в мимике шас-га, она выражала сейчас изумление и злобную радость, какая бывает на лике дьявола, поймавшего грешную душу. Дхот-Тампа повалился в ноги Тревельяну и забормотал: – Мой лоб у твоих подошв, хозяин… Повели, и буду грызть камень, пока он не станет песком… Я – твой слуга! Я отведу тебя к Спящей Воде, а ты возьмешь меня в лагерь этого ублюдка! Возьмешь в его шатер, когда он тебя призовет! Ублюдок – древнее земное слово, никак не подходившее шас-га, не имевшим понятий о законных и незаконных потомках. На самом деле Дхот сказал «нидда сижж ад'хру темми рирр'ни яхх», что означало «рожденный в несчастливый день из дерьма хромого яхха», то есть высшую степень оскорбления. Получалось все же «ублюдок», коль родительница – не самка, а зловонная куча навоза. Ухватив Дхота за плечи, Тревельян потянул его вверх, всмотрелся в искаженное ненавистью лицо. – Ххе! Выходит, у тебя счеты с Великим Вождем… Ну-ка рассказывай! – Проклятый нидда вырезал наш род, перебил без всякой вины, – снова забормотал Дхот-Тампа. – Пещера со Спящей Водой открылась Кайни, пастуху, но он был молод и перепугался колдовства. Пришел к старикам, и те велели Ошу-Ги узнать, нет ли там какого зла… бывает злое от демона Хатта – скалы раздвигаются, и из трещин ползет ядовитый дым… бывает желтый дым, а бывает невидимый, но убивающий живое… «Сернистые испарения и углекислый газ», – подумал Ивар и кивнул: – Дальше! Кто такой этот Ошу-Ги? – Ппаа, самый сильный в нашем Очаге. Он пошел в пещеру, а с ним – я и Тукки, лучшие из воинов. Долго там пробыли, глядели, и ппаа делал разные вещи… Он мог сказать: что непонятно, то зло… Но Ошу-Ги сказал иначе: вот чудо, ниспосланное богами! И старейшины послали к ублюдку гонцов, желая войти к нему в милость. Он пришел и перебил Очаг, и нет больше Живущих В Ущельях… – Почему он это сделал? – Откуда мне знать? Я сражался с Мечущими Камни, а потом бежал к Спящей Воде и очутился у кьоллов, порази их Ррит вечным голодом! Они учили меня палкой и плетью, пока я не загрыз двоих… Тогда надели цепь и продали купцу туфан, а от него я попал к колдуну с летающей повозки. И хоть он был сильнее, я пустил ему кровь! – Тут Дхот-Тампа огляделся и озабоченно спросил: – Ты уверен, что это не Йргык? Может, все-таки ты Страж, а не ппаа Айла из Белых Плащей? – Уверен. Подумай сам, я ведь тебя не съел. Там горы, – Ивар показал на юг, – а там – повозки, яххи, мои слуги и трупы убитых. Стая крыс пожирает их. Пойдем! Теперь ты мой воин, я дам тебе мясо и воду, но потребую послушания. Дхот снова завелся насчет камней, которые будет грызть, но Тревельян прервал его, сказав: – Я знаю, ты хочешь отомстить Трубачу. Не спорь, я знаю! Посмотри сюда! – Он широко развел руки и оттопырил большие пальцы. – Вот его глотка, а вот – твои зубы! Держись подальше от него, пока я не скажу. – А ты скажешь? Скажешь? – Лицо Дхота опять перекосилось гримасой ненависти. – Придется, – со вздохом молвил Тревельян. Они зашагали к повозкам, и по дороге Ивар думал, что вот теперь одной заботой меньше – нашелся проводник. Возможно, и от другой заботы он избавился – Дхот не только проводник, но и орудие убийства. Хотя какая разница, своей ли рукой убиваешь или чужой, которую направил?.. Мысли были горькими, и снова вспомнил он про Анну Веронезе. Зачем мы здесь? – спросила Анна. Зачем? – повторил про себя Тревельян, и ответил: для чего угодно, только не для убийств.* * *
Анна сидела в шезлонге, подставив лицо солнечному свету и теплу. Сквозь защитный купол Ракшас казался серебристым кружком, а цвет Асура был ближе к розовому – если прищурить глаза, чудилось, что в небе повис огромный круглый пион. Его лучи-лепестки окутывали сад и жилую башню и превращали воду в бассейне в алое вино. Уютное место, спокойное и красивое, очень подходящее для размышлений. А поразмыслить есть о чем… По другую сторону бассейна Джикат Ду и Теругга перебрасывались клинками, стараясь отбить их или поймать за рукоятку. Древняя воинская игра-поединок, все еще популярная у терукси… Но в прошлом клинки были стальными, а теперь из пластика, который увечьем не грозил, даже не резал кожу. Не поединок – игра… Иллюзия! «Как все здесь – наши сосны и березы, наше жилище и мы сами, – подумала Анна. – Мы тоже иллюзия, мы чужаки, краткий миг в истории Раваны. Как появились, так и уйдем… Этот мир существовал до нас, и жизнь его будет длиться после нас, по своим законам, которые никто не в силах изменить. Никто и ничто, кроме времени». В систему ФРИК она пришла совсем еще юной, исполненной романтических грез. Странствовать по архаичным мирам, смирять циклоны и вулканы, вести меньших братьев к вершинам прогресса, спасать и помогать, карать зло и сеять добро – это казалось таким возвышенным и грандиозным! А кроме того, дарило ощущение всемогущества – ведь старший брат имел неоспоримое право распоряжаться судьбами тысяч и миллионов, поскольку ему было известно, что для них лучше, а что – хуже. Теперь, спустя восемь лет и пять прогрессорских миссий, романтика поблекла, и Анна уже сомневалась в чистоте своих девичьих помыслов. Что направляло ее в те годы, какая мечта? Возможно, не инстинкт мудрого и сильного, желавшего спасти обездоленных и слабых, а всего лишь стремление поиграть в богов? Примериться к роли Геры, Афины или Маат, египетской богини справедливости? Джикат и Теругга метали клинки, делая это с изяществом, присущим их народу. Они не смотрели в сторону Анны, но девушка знала, что эти двое стараются для нее, желают привлечь внимание, ищут знака благосклонности, но ничего не требуют. Ненавязчивый флирт, вполне в стиле терукси… Их мужчины обладали не только грацией и красотой, но также нежностью чувств, верностью и рыцарским обхождением, столь милым женскому сердцу. На Земле еще сохранились древние обычаи, там еще дарили женщинам цветы и целовали руки, но терукси делали это всегда – преклонив перед избранницей колено и ожидая ее решения. Анна понимала Энджелу – с таким мужчиной, как Кафингар Миклан Барахеш, можно было прожить жизнь в согласии и любви. Понимала, но не завидовала и не мечтала, чтобы Теругга или Джикат преклонили перед ней колено. Вот если бы это был Тревельян… пусть даже в страшном облике шас-га… Что-то случилось с ней на Пекле – возможно, этот скудный дикий мир давил на нее, заставляя испытывать чувство безысходности, или она вступала в зрелый возраст, когда игры в богов непривлекают и хочется чего-то иного, более серьезного – выполнить свое предназначение, найти любовь, родить ребенка… Прежние миссии тоже были нелегкими, особенно для усмирителя вулканов, который, спасая поля и города, трудится на грани гибели, в грязи и дыму, рядом с потоками лавы, под раскаленными камнями. Но, сражаясь с природным катаклизмом, она защищала людей или тех, кто был подобен людям, кто испытывал такой же страх перед стихиями, как жители древних Помпей. Она не решала, кого и как убить, чтоб выжили другие, более достойные – или, возможно, те, кто причислен к достойным старшими братьями. С этой дилеммой она столкнулась лишь на Пекле, с задачей, не поддававшейся логическому анализу… Так утверждал Тревельян, и что бы он ни сделал, как бы ни поступил, она и все остальные члены миссии отвечали за его решение. Теругга повернулся к ней и одарил нежной улыбкой. Джикат, изловчившись, бросил клинок, заставив его со свистом вращаться в воздухе. Лезвие чиркнуло по плечу Теругги, отлетело и воткнулось в землю. Поражение? Очевидно. Теругга явно был огорчен – он отступил, хмуря брови и вытирая со лба испарину. Теперь Анне улыбался Джикат – его зеленые глаза сияли, и чудилось, что в них отражаются два светила, алое и серебристое. Видный мужчина Джикат, да и Теругга ему не уступит. Но, кроме улыбок, приятной беседы и плотских удовольствий, ждать от них нечего. Слишком мало, подумалось Анне. Годится, чтобы отвлечься, отдохнуть, но сейчас ей нужно другое. Нужен совет. Когда человек на распутье, когда он разуверился в себе и в деле, которым занят, хочется поговорить с кем-то опытным и мудрым. С тем, кто постарается тебя понять. Несмотря на молодость, Анна знала, что мужчины бывают хорошими советчиками. Такова природа людей: в беде и сомнении женщине нужен мужчина, мужчине – женщина, ибо в них воплощены стремящиеся друг к другу стихии, разум и чувство, сила и красота. В мире нет ничего теснее и крепче их связи, соединения душ, слияния тел, счастья близости. Близкий – значит неравнодушный… Только близкому можно довериться, только от близкого принять совет. Жаль, что Тревельян пробыл на Шенанди так недолго… Жаль! Это заставило ее поторопиться… Может быть, зря: доверие и близость не любят спешки и не приходят с первым поцелуем, даже с обещанием чего-то большего. Нужно время – пусть не такое огромное, как для перемен на Пекле, но все же не минуты и не часы. Вот Джикат и Теругга об этом знают и ведут осаду месяцами, ненавязчиво, но упорно… Бросили игру, плещутся в бассейне, машут ей, зовут… Помахав им в ответ, Анна подумала: Тревельян вернется. Вернется, что бы ни случилось. Найдет ли проход в горах, смирит ли дикарей, спасет ли Кьолл или потерпит поражение, но он вернется. Если победителем, надо его вознаградить, если побежденным, надо утешить. А награда мужчины и его утешение – в руках женщины.* * *
Утром Ивар нацепил на рога трафору пять колокольцев – как-никак, Айла являлся теперь великим чародеем и предводителем отряда, пусть совсем небольшого. Он приказал снять самый ценный груз с поврежденных повозок, бурдюки с водой, сушеное мясо, факелы, пропитанные смолой, и запасное оружие. С наступлением белого рассвета они двинулись в путь, бросив две повозки из трех и оставив на месте сражения всякий ненужный хлам и полуобглоданные тела. Но крысы, ящерицы и змеи продолжали трудиться, и не было сомнений, что ни один погибший не попадет в Йргык. Караван неторопливо двигался вдоль скалистой стены плато, но теперь Ивар ехал в голове процессии, рядом с Дхот-Тампой. С восходом Ракшаса его проводник уверился, что не попал в потусторонний мир, приободрился и начал узнавать дорогу. Не так давно Живущие В Ущельях обитали в этой местности, каждый Шест – в своем каньоне, у своего источника воды, и Дхот иногда мрачнел и бормотал сквозь зубы: «Всех вырезал, ублюдок, никого не осталось, никого… Длинные Копья… Те, Кто Из Пещер… Дети Хатта… Дети Потики… Полосатые Змеи…» Видимо, Дхоту вспоминались семьи его Очага, перебитые Серым Трубачом. Тревельян подумал, что вождю хотелось сохранить тайну прохода через горы, и это стало поводом к уничтожению племени. Но не исключались и другие резоны: борьба за лидерство в степи наверняка была жестокой и кровавой, и Трубач мог не доверять соплеменникам Дхота. Самки, оставшиеся в живых, Кадранга и двое его воинов отнеслись к появлению проводника с полным равнодушием, словно к очередному чуду, свершенному ппаа Айлой. Их мышление было конкретным и незатейливым: если колдун мог призвать на помощь Демона Ветра или превратиться в страшного хищника, что ему стоило извлечь из тьмы это приблудное мясо?.. Тентачи, наделенный более живым воображением, тут же стал расспрашивать пришельца, кто он и какого Шеста и Очага, но наткнулся на стену мрачного молчания. Птис не заговаривал с Дхотом, но подозрительно косился на него – может быть, каким-то образом признал в нем Живущего В Ущельях. Но о своих домыслах не вымолвил ни слова. Трафор двигался в обычном для яххов рваном ритме, отталкиваясь задними ногами, выбрасывая передние и замирая на миг. Скачок, пауза, скачок, пауза… Покачиваясь на его спине, Ивар боролся с искушением расспросить проводника. Теперь ему было известно, что пастушонок по имени Кайни нашел пещеру со Спящей Водой и что колдун Ошу-Ги и пара воинов видели там некое чудо. Долго пробыли, глядели, и ппаа делал разные вещи, сказал Дхот… И еще сказал, что перебрался к кьоллам – порази их Ррит вечным голодом! – через Спящую Воду… Что, однако, не объясняло суть и смысл этой Воды. Какое-то природное явление? Ледник? Подземное озеро? Гейзер, который дремлет, а временами просыпается? Но если пещера пролегла под всем Хребтом, ни льды, ни воды не могут перенести мгновенно на другую сторону, за сотни километров. Будь Дхот даже выносливей верблюда, он шел бы много дней или, возможно, плыл с водным потоком, в полном мраке, среди грозящих гибелью камней… Это казалось нереальным. Либо он умер бы от истощения, либо расшибся о скалы, либо беглеца нашли бы и прикончили. Получалось, что Дхот прошел сквозь Спящую Воду и тут же очутился по южную сторону Хребта. Как? С помощью телепортации? «Почти забытое понятие, но феномен знакомый, – подумал Тревельян. – В нынешнюю просвещенную эпоху его называют переходом через Лимб или проколом континуума, и это базовый принцип межзвездной транспортировки. Разгонная шахта длиной в километр, кольца гравидвижков, генераторы и криогенный мозг, способный рассчитать точки входа и выхода из Лимба… Все вместе – контурный привод [104], который есть на любом корабле – теорию смотри в трудах по нелинейной динамике, двадцать второе столетие… Кстати, как доказано в этих трудах, феномен прокола реализуется у черных дыр, но Пекло хоть и дыра, однако не той физической природы. Пекло – планета, мир с ничтожной гравитацией, здесь естественный прокол – нелепость! Значит, установка? Чья?» Внезапно Ивар ощутил холодок в спине и дрожь под сердцем. Это было не признаком страха, но ожиданием неких чудес, таившихся среди гор и ущелий, предчувствием невероятного; если бы он знал дорогу, то ринулся вперед со всей возможной скоростью. Он запрокинул голову, потом осмотрел свой маленький караван. Небо над краем плато изменяло цвет, оповещая о восходе красного солнца, и тени, падавшие на равнину от скал, уже начали заметно раздваиваться. Белая тучка, скрывавшая флаер, послушно плыла за караваном, переговаривались воины, скрипели колеса телеги, покрикивала на животных женщина-возница, звенели бубенцы на рогах скакунов, Птис, задремав, уткнулся в шею яхха, что-то бормотал под нос Тентачи. Медленно, неторопливо, они приближались к тому, что было чудом и для примитивных обитателей Раваны, и для пришельца со звезд. «Ибо есть пришельцы и Пришельцы», – подумал Ивар. Желание потолковать с Дхотом о Спящей Воде исчезло. Бессмысленная затея! Если там, в пещере, хранится некий артефакт, созданная кем-то установка, как шас-га ее опишет, что о ней расскажет? Ничего такого, что Тревельян не смог бы сам вообразить, но эти домыслы, как и рассказы Дхота, будут, скорее всего, ошибкой. Ивар знал, что в обитаемых мирах и на орбитальных станциях нет устройств, подобных контурному приводу. Значит, он столкнулся с чем-то небывалым, очень древним, спрятанным в недрах земли от досужего взгляда… О такой вещи нельзя судить по словам дикаря. Дхот почтительно коснулся его локтя. – Здесь, ппаа Айла. Здесь жили Те, Кто Прыгает По Камням. Мой Шест. Ущелье было не шире прочих – пять-шесть повозок могли проехать в ряд. На скальной стене – изображение яхха, грубый рисунок, выбитый совсем недавно – должно быть, опознавательный знак. Дно ущелья утоптано и укатано, кое-где видны следы колес. Кругом – ни травинки, ни кустика; голая земля, с которой убраны камни. Чьи-то руки сложили их по обочинам, у подножий утесов. Тут прошла армия, подумал Тревельян и махнул рукой. – Поворачиваем! Сюда! Они с Дхотом свернули в ущелье. Наклонившись к шее скакуна, Ивар прошептал: «Снимай! Все нужно зафиксировать». В ответ раздался звон бубенцов. Дорога была ровной, не поднималась, не опускалась и на протяжении двух километров шла довольно прямо. Стены ущелья казались более высокими, чем при взгляде с равнины; в них темнели отверстия пещер, иногда встречалась трещина с рваными краями или следы обвала – пологий склон, усыпанный щебнем и более крупными обломками. Но в середине ущелья камни почти не попадались – путь явно расчистили, сделав его удобным для всадников и телег. Следы, оставленные войском, были заметны повсюду: старые рваные бурдюки, поломанные корзины, засохший помет яххов, обрывки веревок, сплетенных из травы, и множество костей – в основном, человечьих. Дхот не обращал на них внимания – должно быть, эти скелеты и черепа не являлись останками его соплеменников. – Здесь росли деревья и трава, – буркнул проводник, озираясь. – Ничего нет. Сожрали Шест, сожрали траву… Отродья Каммы! Чтоб опустели ваши котлы! Чтоб передохли ваши самки! Чтоб… Он еще шептал проклятия, когда дорога вильнула, огибая утес с раздвоенной вершиной. Место казалось обитаемым, по крайней мере в прошлом: по склону утеса шла широкая тропа, выходившая к отверстиям пещер, а внизу темнели угли старых кострищ, стояла печь для выплавки меди и громоздилась изрядная куча мусора, кости, клочья шкур и кожи, обломки кремня, мелкие ветви и прутья – все, что накапливается годами у человеческого жилья. Поодаль виднелась полуразрушенная стена, сложенная из крупных камней, – видимо, там держали яххов. – Мой Шест, – угрюмо молвил Дхот-Тампа. – Здесь есть вода? – поинтересовался Тревельян. – Источник в пещере. Мало воды, но нам и яххам хватало. Когда не хватало, резали лишних самок и щенков. Дхот произнес это спокойно, будто речь шла о обыденном деле. Губы Тревельяна сжались. Сглотнув застрявший в горле ком, он напомнил себе, что Дхот, в сущности, ничем не отличается от Киречи-Бу, Кадранги, Птиса и прочих бывших и нынешних его спутников. То есть разница, конечно, имелась, но не на уровне гастрономических пристрастий. Караван обогнул скалу. За ней ущелье сужалось, его стены выглядели более крутыми и обрывистыми, и на них, на недоступной высоте, прилепились мелкие кустики таша. Стало мрачнее и темнее; вершины утесов стиснули полоску желтовато-серого неба, и чудилось, что они вот-вот сомкнутся, окончательно отрезав свет. Разговоры за спиной Тревельяна смолкли. Теперь слышались только звон колокольцев, скрип тележных колес да шорох поступи яххов. Внезапно Тентачи ударил в свой барабан и завопил пронзительным голосом:– Я ее вырву, крысиное семя! – пообещал Кадранга. – Вырву, если не захлопнешь пасть! – В священном месте нужно ехать тихо, – добавил Птис. – Здесь владения Хатта. Нельзя его гневить. – Хатт бросает камни и трясет землю… – шепнул воин по имени Тойла-Ац. – Если он шевельнется, скалы рухнут на нас, – поддержал его приятель, которого звали Иддин. Женщины, ехавшие в повозке, взвыли. Боятся, все боятся, понял Тревельян и окинул свой отряд суровым взором. – Вы, глупцы, помет шелудивого яхха! Тут до нас прошло столько воинов, сколько песчинок в пустыне! И ничего плохого с ними не случилось! – С теми воинами был великий вождь, Брат Двух Солнц, – тихо произнес Тойла-Ац. – А с вами – я, великий ппаа! Меня слушают Гхарр и Хатт, Пен и Потика! Вперед, и поживее! Ударив пятками в бока скакуна, Ивар догнал Дхот-Тампу. Тот не испытывал страха – видно, был привычен к горам и теснинам. Вид ущелья изменился, склоны прорезало множество трещин, мелких, крупных и таких больших, что удалось бы проехать всаднику, а иногда – втиснуться телеге. Разломы, загроможденные грудами рухнувших сверху камней, показались Тревельяну свежими. Он мог бы выяснить это точнее, использовав датчики трафора, но заниматься чародейством на виду у спутников не хотелось. Он повернулся к Дхоту. – Часто ли здесь трясется земля? – Раз в две-три луны. Трескаются скалы, сыпятся камни… Мы, Живущие В Ущельях, этого не боялись. У нас мир с Хаттом. Мы дарили ему мясо всех чужаков, пойманных в степи, а он давал нам ти'нур. Не очень много, но нам хватало. «Ти'нур – медь… Видимо, тут есть месторождение», – подумал Ивар, кивая. Эта область, удаленная от вулканов Поднебесного Хребта, была в сейсмическом отношении одной из самых спокойных. Волны землетрясений докатывались сюда слабым отзвуком, способным сотрясти скалу и сбросить несколько каменных глыб. Всего лишь шалости Хатта! Но одна из них открыла проход к Спящей Воде. – Здесь я бежал от врагов. – Дхот вытянул длинную руку. – Вижу, путь теперь расчищен, но тогда было много камней. На яххе не проедешь, а без яхха меня не догнать. Мечущие бросают камни, но бегать по камням не умеют. Слева и снизу в скальной стене открылся широкий пролом. Наезженная дорога сворачивала к нему, спускаясь на пять-шесть метров и пропадая в глубоком бархатном мраке. Скудный свет, царивший на поверхности, делал темноту в пещере почти осязаемой, подобной пластине угля. Тревельян велел остановиться и зажечь факелы. Вход в пещеру был достаточно высок и широк, чтобы могла проехать телега, запряженная парой рогатых скакунов. С пылающим факелом в руке он спустился в подземелье вслед за Дхотом и осмотрел поверхность стен. Над ними потрудилась вода – камень выглядел сглаженным, будто отшлифованным, и в то же время бугристым и неровным. Очевидно, то было русло подземного потока, точившего скалы сотни тысяч или миллионы лет и исчезнувшего в глубокой древности – сейчас тут не нашлось ни капли влаги. Пробитый водами ход тянулся вниз, в вязкую непроглядную тьму, и казался дорогой в преисподнюю. Похоже, грешники прошли здесь толпами – всюду валялись сгоревшие факелы, комья навоза, обрывки веревок и прочий сор. Вернувшись к пролому, Ивар окликнул спутников и велел заезжать. Полдюжины огней осветили подземелье, и шас-га, разглядев оставленный воинством след, успокоились; несомненно, им предстояло идти по дороге, проложенной великим вождем. Птис принялся творить заклятия, какие были ему известны, Тентачи затянул Долгую Песнь, что прославляла Брата Двух Солнц, но Дхот, яростно оскалившись, ткнул битсу-акка рукоятью факела. – Ждать здесь, – распорядился Тревельян. – Я посмотрю, что там впереди. Ты, Дхот, со мной. Едем! Долго ехать им не пришлось – через сотню или чуть больше метров сухое русло расширилось, став просторным гротом, и в его стене возникло неяркое свечение. «Промоина, – подумал Ивар; – течение размыло непрочную породу, соединив две полости: эту, в которой бушевал поток, и ту, вторую, где находится источник света». Подняв факел, он двинулся к этой дыре, осмотрел ее, заметил след отбойника и молота и догадался, что проход недавно расширили – так, чтобы можно было проехать верхом, не склоняя головы. Его скакун сделал несколько шагов, и Ивар, задохнувшись от волнения, очутился в идеально круглом зале, среди светившихся стен, под высоким гладким куполом.
Достижение галактической гегемонии мирным путем гораздо более предпочтительный вариант, чем вооруженная борьба. Фактически это означает, что раса, надежно защитившись от внешней агрессии, распространяет свое влияние через научные, культурные, дипломатические и торговые контакты, охватывая все более крупный пространственный ареал. Если подобные контакты могут доказать превосходство упомянутой выше расы, уникальность предлагаемых ею культурных ценностей, изделий и технологических решений, ее способность воздействовать в положительном смысле на прогресс других галактических народов, то такая раса неизбежно признается гегемоном. Ее крах – например, в результате межзвездной войны – никому не выгоден; она переходит в разряд «табу», становится «неприкасаемой» и правит не силой оружия, а на основе преобладания в интеллектуальной сфере и наличия партнеров, заинтересованных в контактах с ней. Если рассмотреть деятельность ФРИК под этим углом зрения, неизбежен вывод: прогрессируемые культуры со временем превратятся в союзников Земли, обеспечив ей локальную гегемонию в весьма значительном секторе пространства. Процесс перерастания этой гегемонии в общегалактическую кажется вполне естественным – тем более если вспомнить о наших прошлых победоносных войнах с бино фаата, дроми, кни'лина и хапторами. Ибо гуманные акции и мирное влияние на внеземные сообщества и культуры возможны лишь после эпохи противоборства, доказавшей жизнеспособность расы. Говоря иначе, чтобы нести в Галактику мир, добро и справедливость, необходимо устранить факторы, мешающие этому процессу. Мнение, что в данный момент мирным гегемоном являются лоона эо, ошибочно, так как…Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 6. Деятельность ФРИК – заявка на гегемонию?
Глава 11. Спящая Вода
Бесспорно, этот зал не являлся творением природы, и определение «пещера» к нему совсем не подходило. Круглая камера диаметром метров тридцать, высокий куполообразный свод, тщательно отшлифованные поверхности стен и пола – все это не могло быть создано слепой игрой стихий. Пол, казавшийся запорошенным пылью цельным монолитом, носил знаки чужого присутствия: на широкой полосе, что вела от промоины к середине зала, пыль стерли тысячи ног, но по ее краям виднелись кое-где отпечатки подошв и лап скакунов. У линии, пересекавшей центр зала, следы обрывались, и граница обрыва была различимой, даже ясно видимой – к ней спускался с потолка прозрачный занавес, словно бы сотканный из множества хрустальных струй и струек. Эта висевшая в воздухе конструкция походила на застывший водопад, на плавный, неуловимый глазом полет воды, рухнувшей с высокого уступа в пропасть, туда, где в грохоте и пене ей предстоит соприкоснуться с рекой. Но здесь падение было беззвучным, не порождавшим волн и всплесков; край занавеса просто касался пола или, возможно, проникал в него. От экрана – а Ивар не сомневался, что перед ним экран, – исходило ровное слабое свечение, не мешавшее разглядеть другую половину зала. Она казалась точно такой же, как та, где находился Тревельян, лишь на полу не было пыли. – Спящая Вода… – раздался сзади благоговейный шепот Дхота. – Спящая Вода… Ивар спрыгнул со спины трафора и, хлопнув его по крупу, отправил бродить вдоль стен и прозрачной завесы. Блок фиксации его помощника вел непрерывную запись, анализаторы в рогах, хвосте и языке могли прояснить состав материала, сканер ощупывал стены, пол и потолок незримым лучом, определяя их толщину, фактуру и наличие скрытых полостей. Мозг трудился, не мешая человеку любоваться необычным зрелищем. Тревельян поманил к себе Дхота. – Что вы увидели, добравшись сюда? Эту пещеру и Спящую Воду? – Да, ппаа Айла. Но скоро она проснется. – Что-то изменилось с тех пор, как ты здесь побывал? Дхот-Тампа огляделся.– Тогда под ногами была пыль, а в пыли – следы Кайни. Теперь их нет. Здесь прошло много людей и яххов. Скакун Дхота стоял неподвижно, с тупым равнодушием взирая на прозрачную завесу. Трафор делал анализы – прислонился к стене, лизнул ее, чиркнул рогом по камню. Затем, неторопливо переступая, подошел к экрану и попытался его боднуть. Кажется, это не удалось. Тревельян снял с пояса топорик. – Спящая Вода прочнее скалы, – заметил Дхот, наблюдая, как Ивар безуспешно старается просунуть сквозь завесу топорище. – Ошу-Ги бросил копье, и наконечник погнулся. – Что еще делал Ошу-Ги? – Снова бросил копье, когда Вода проснулась. Оно упало на той стороне. Я подобрал его, когда очутился в Кьолле. – На той стороне был Кьолл? – уточнил Ивар. – Были скалы, кусты и трава, больше травы, чем здесь. Был ручей с горькой водой… Я не знал, что это Кьолл, пока меня не поймали. – Ты не боялся перебираться на ту сторону? – Нет. Ошу-Ги швырнул копье, потом велел Тукки идти и наловить ящериц. Он стал бросать их сквозь Воду, и мы все видели, что ящерицы живы. «Этот Ошу-Ги был толковым парнем, – подумал Тревельян. – Жаль, что его убили! Из него мог получиться местный Ньютон или Архимед…» Свечение усилилось. – Сейчас, – прошептал Дхот-Тампа, – сейчас Вода оживет… Гигантский экран подернулся рябью. Дыхание Дхота стало тяжелым и прерывистым. Похоже, кроме ряби, он ничего не мог заметить, но Тревельян, чьи чувства отличались большей остротой, видел мгновенно сменявшиеся картины, чередование которых было стремительным – доля секунды, и прежний пейзаж сменялся новым. Горы и пустыни, заросли таша, деревья мфа с желтой листвой и деревья сеннши, похожие на пальмы, моря и плоскогорья, выжженные светилами, вулканы с шапками дыма и мрачные ущелья, оазисы кьоллов, города туфан, поселения народа хеш… Одно из видений казалось знакомым – будто бы такой же круглый зал, такой же купол с ниспадающей завесой, такое же мягкое свечение и что-то еще, тоже знакомое, но не успевшее запечатлеться в памяти. Нахмурившись, Ивар потер лоб, однако фантомы уже растаяли, сменившись видом Кьолла: ущелье с вытоптанной травой, водные струйки, бьющие из расщелины, два источающих жар светила в мутных небесах. Местность была похожа на описанную Дхотом, но теперь выход из ущелья перегораживали телеги с высокими колесами и плетеными бортами, а дальше, за повозками, начинался лагерь, разглядеть который во всех подробностях было нельзя. Тревельян видел только верхушки конических шатров, шесты с пучками волос и клубы дыма, что застилали горизонт. – Лагерь, – сказал он. – Стан Серого Трубача. – Шелудивый нидда! – отозвался Дхот. – Я пущу ему кровь! Я вырву его печень! Я раздроблю ему кости! Я… – Ты будешь держать зубы подальше от его горла. Иди и приведи остальных. Бормоча проклятия, Дхот исчез. Ивар поманил к себе трафора. – Что мы имеем, друг мой? – Немногое, эмиссар. – Мозг отозвался нежным контральто. – Материал стен и пола – обычный камень, осадочные породы. Образование в центре зала – силовое поле, которое не поддается идентификации. Во всяком случае, мне это не по силам. – Как тебе это зрелище? – Тревельян вытянул руку к зыбкой ткани экрана. – Несомненно, искомый лагерь. Сравнение видеосъемки со спутника с данной картиной позволяет сделать определенный вывод. Там, за линией возов, – тысячи животных и людей. – Помолчав, трафор добавил: – Если их можно считать людьми. – Это люди, – сказал Тревельян, – люди, и потому я не знаю, что с ними делать. Мы нашли проход, хотя совсем не такой, как ожидалось, и теперь перед нами другая задача: как переправить всю эту компанию обратно в степь. – Возможно, с помощью такого же экрана? – Не называй этот артефакт экраном. Назначение экрана – визуальная связь между людьми или между человеком и машиной. Здесь же нечто иное, более сложное – устройство для перемещения материальных объектов. Врата, ведущие от одной точки в реальном пространстве к другой. – Портал через Лимб? – Да. И нам неизвестно, проницаем ли он в обе стороны. – Это можно проверить, эмиссар. – Это нужно проверить! Когда мы окажемся на другой стороне, зафиксируй точку выхода. Проверка будет простой – я брошу камень и посмотрю, что с ним случится. – Другие распоряжения, эмиссар? – Перешлешь всю информацию на базу и вызовешь мой флаер – нечего ему болтаться за горами. – Тревельян в раздумье покусал губу. – Еще передай, что в ближайшую ночь – скажем, в три часа по времени Шенанди – я объявляю общий совет. Присутствовать должны все, включая доктора Миллер и Исаевых. Обсудим положение дел в связи с обнаруженным артефактом… Кстати, ты определил его возраст? – Не очень точно, эмиссар. – В голосе Мозга прозвучали виноватые нотки. – Я не обнаружил в стенах, полу и куполе какие-либо устройства, но поверхность камня обработали очень давно, миллионы лет назад. Исходя из общих соображений, ни одна космическая раса нашей эпохи, включая лоона эо, не смогда бы спроектировать такой портал. Он кажется древним. – Очень древним, – уточнил Тревельян. При мысли насколько древним он вновь почувствовал, как замирает сердце и ползут по спине ледяные мураши. Никто не знал, когда даскины покинули Галактику и какая бездна лет миновала с эпохи их владычества – миллион, или десять, или сто миллионов. Представить подобный срок – тяжкое испытание для разума, ибо мысль не может опереться на какие-то события, пусть легендарные, как Троянская война, или мифические, как гибель Атлантиды, но все же сравнимые по давности с человеческой жизнью. Людям мнится, что древность – то, что было тысячелетия назад, а все лежащее за гранью их цивилизации расплывается в огромные протяженности геологических эр, когда время будто бы вовсе не существовало. Кости ящеров – не слишком веский аргумент в пользу того, что время в прошлом никуда не подевалось и не зависит от человека – во всяком случае, не такой весомый, как пирамиды и древние папирусы. С даскинами было иначе. Костей от них не осталось, зато во многих мирах, обитаемых или безлюдных, на астероидах и в атмосферах протозвезд, подобных Юпитеру, нашлись другие, более реальные следы. Среди них был контурный двигатель, завещанный младшим расам, был Портулан Даскинов – древняя карта Галактики, были устройства для ликвидации отходов, споры странных тварей, способных к телепатическому общению, и всевозможные другие артефакты, которые с равным успехом могли оказаться детскими игрушками, творениями искусства или военной техникой. Теперь к ним кое-что добавится, решил Тревельян, всматриваясь в пейзаж за гранью портала. Если разобраться, этот миг был историческим, сулившим такие перемены, каких не представить и не объять человеку, пусть даже видавшему виды разведчику ФРИК. Его сознание могло бы помрачиться от этих великих перспектив, но он вцепился в одну, пусть не самую важную мысль: больше не будет кораблей. Никаких кораблей, ни лайнеров, ни боевых крейсеров, ни грузовозов! Шагать через порталы от звезды к звезде, идти из мира в мир – что может быть легче и доступней! Конец флаерам и «уткам» [105], стратопланам и гравилетам, десантным ботам и челнокам-подкидышам! Шаг, и ты переместился из Парижа в Мельбурн, другой, и ты уже на Марсе, третий – на Осиере, Сайкате, Гондване или в метрополии хапторов Харшабаим-Утарту… «Впрочем, хапторы вряд ли обрадуются, – подумал он с усмешкой. – А вот доктор Нора Миллер – та будет просто счастлива! Для археолога и этнографа, помешанного на даскинах, найти доселе неизвестный артефакт – оправдание жизни и многих лет упорных поисков. Возможно, он уступит ей честь открытия… Хватит с него Обручей Славы и Венков Отваги… [106]« Заскрипела повозка, затопали яххи, послышались резкие голоса шас-га, и он очнулся.
* * *
Гравиплатформа Норы Миллер плыла среди невысоких скал, следуя руслом давно пересохшей реки. Долина была примечательная: некогда речной поток размыл каменистые берега с залежами гранатов и вымостил цветными камешками дно. Конечно, их не касалась рука гранильщика, но даже в природном состоянии они сверкали и сияли под лучами двух светил, висевших в раскаленных небесах. Пурпурные альмандины, кроваво-красные пиропы, оранжевые и желтые спессартины, зеленые и розовые гроссуляры, травянистые демантоиды… [107] Речное русло казалось сокровищницей индийского раджи, чьи богатства, покинув плен истлевших сундуков, выплеснулись на свободу. – Красное, – сказал Шекспир, сидевший справа от Норы Миллер. – Красиво! Красные камни – осколки, упавшие с большого солнца. Они долго летят сюда, день и ночь, день и ночь. Ночью они светятся. «Звезды?.. Метеоритный дождь?..» – подумала Миллер, но спросила о другом: – Почему большое солнце шлет эти красивые красные камни? – Хочет нас порадовать, – объяснил Моцарт, сидевший слева от нее. – А маленькое солнце не хочет и потому не шлет камней? – Шлет. Есть места, где осколков белого солнца много, – сообщил Шекспир и принялся описывать эти камни – скорее всего, горный хрусталь. Миллер слушала его с интересом, записывая все сказанное. Этот разговор не просто развлекал ее – она изучала логические способности зверолюдей, их дар фантазии и импровизации. – Кроме красных осколков здесь встречаются желтые и зеленые, – промолвила она. – Но в небе только два солнца. Желтого и зеленого нет. Откуда же камни такого цвета? Шекспир и Моцарт задумались. Они обладали интуитивным мышлением и, как убедилась Миллер, могли устанавливать связи между отдаленными фактами. Их гипотезы были не всегда верны, но довольно забавны. – Сейчас в мире два солнца, – сказал Шекспир. – Но, может быть, в далекие, очень далекие времена их было четыре? Потом желтому и зеленому стало скучно, и они улетели, чтобы поглядеть на других людей, не похожих на нас. – Он поднял пушистую головку, заглядывая Миллер в лицо. – Большая Белая, ты плетешь слова так, будто в твоем мире только одно солнце. Какого оно цвета? – Желтое. – Вот видишь – желтое! Оно могло улететь отсюда к тебе, а зеленое отправилось еще куда-то. И теперь только камни напоминают о них. – Солнца просто так никуда не улетают, – заметила Миллер. – Это невозможно. – Почему? В мире все меняется, – возразил Шекспир. – Меняется, но не исчезает. Когда-то здесь была река, и Большая Белая, взглянув на нее, подумала бы: вот река, полная воды. Но воды теперь нет, нет желтого солнца, нет зеленого, зато остались камни. В основе мысль была абсолютно верной. Нору Миллер поразило, что Шекспир высказал ее почти такими же словами, как в «Метаморфозах» Овидия: «Omnia mutantur, nihil interit» [108]. Эта формулировка предвосхищала закон сохранения энергии и материи. У Моцарта имелось свое мнение насчет камней. – Их цвет мог измениться, – произнес он. – Камень, если полить на него воды, темнеет, потом светлеет. И трава… цвет травы тоже другой, когда она высыхает. – Ты умный. Вы оба умные, – сказала доктор Миллер, вытащив из рюкзака тюбик с шоколадом. Ее малыши заслуживали поощрения. Пусть даже эта пещера с водопадом окажется чистой выдумкой, шоколад они получат – столько, сколько смогут съесть. Долина резко пошла вверх. Когда-то здесь были речные пороги, вода ярилась и бурлила, обтачивая валуны до зеркального блеска; сейчас они торчали серыми слоновьими тушами среди разноцветной гальки. Близилось самое жаркое время дня: белый карлик Ракшас прошел зенит, гигантский красный Асур висел над головой расплавленным горнилом. Имплант, спасавший Миллер от жары, духоты и солнечных ожогов, трудился на пределе, и она ощущала, как по спине стекают струйки пота. Платформа взлетела над порогами, и малыши, расправившись с шоколадом, в восторге завизжали. Им нравилось летать, и они не испытывали страха перед высотой. Цепкие пятипалые лапки с коготками, гибкое тельце, изрядная сила и врожденный дар ориентироваться – все было приспособлено к жизни в горах, к лазанью по камням и скалам. Их физиология полностью гармонировала со средой обитания. – Нужно опуститься, – сказал Шекспир, когда они преодолели пороги. – Почему? Запустив пальцы в мех на затылке, Шекспир почесался и объявил: – Дальше идем, не летим. Мы всегда идем к пещере с водопадом. Это знак почтения. – Знак почтения, – эхом откликнулся Моцарт. Платформа приземлилась на широкой и довольно ровной каменной плите. Доктор Миллер сошла с нее, присела, разминая ноги, вытерла испарину со лба. Шекспир держался рядом, ухватившись за рукав комбинезона, Моцарт резво поскакал к тропе, что шла вдоль высохшего русла. Вероятно, взятый им темп не соответствовал почтению к святыне, и Шекспир окликнул торопыгу: – Ты, убежавший вперед! Вернись! Моцарт вернулся, пристроился к Большой Белой с другой стороны. Они очутились посреди исчезнувшего потока, под обжигающими лучами светил; путь, проложенный рекой в скалах, сиял и переливался перед ними мириадом красных, зеленых и желтых огней. Доктор Миллер была в сомнении – ей не хотелось покидать транспортное средство почти в сорока километрах от лагеря. На платформе находился довольно объемистый груз – тяжелый контейнер с приборами, в рюкзаке лежали пищевые капсулы, тубы с водой и соком и кое-какое снаряжение, а контрольная панель позволяла связаться с базой или вызвать из лагеря роботов. С другой стороны, в этих горах ей ничего не грозило, ни хищные звери, ни ядовитые гады, ни извержения вулканов. «В конце концов, – подумала она, – можно оставить маяк у этой пещеры с водопадом и вернуться к ней в любое время». Эта мысль ее успокоила; раскрыв контейнер, она достала обруч с голокамерой и плоский диск маяка, рассовала по карманам тубы с шоколадом и водой, потом спросила: – Идти далеко? – Близко, – сообщил Моцарт и, втянув губы трубкой, просвистел нечто ободряющее. – Большая Белая не устанет. Вдохнув обжигающий воздух, Нора Миллер двинулась к тропе. Галька скрипела и шелестела под ее ногами. За поворотом долины перед ними открылся просторный карниз, висевший метрах в пятнадцати над высохшей рекой. Тропа поднималась к нему зигзагом, и, преодолев ее, Миллер увидела площадку в обрамлении коричневых и серых скал, между которыми зияло отверстие грота. Он был высоким и широким, но слишком мелким, чтобы именоваться пещерой, – солнечные лучи свободно скользили по задней стене, высвечивая каждый выступ, каждую трещинку в камне. И, разумеется, никакого водопада здесь не было. Доктор Миллер взглянула на грот и утесы, надеясь обнаружить что-то любопытное – скажем, иероглифы, рисунок фигуры в скафандре или, на крайний случай, пробитую лазером дыру. Но ничего такого не нашлось, и она промолвила с разочарованным вздохом: – Где же водопад? Я не вижу здесь воды. Или те, кто остался без шоколада, пошутили? Концепция юмора, в отличие от лжи, была зверолюдям знакома. Но Шекспир ответил с полной серьезностью: – Вода будет, Большая Белая. – Только ее нельзя пить, – проверещал Моцарт. – И к ней нельзя приближаться. Пусть Большая Белая встанет здесь. – Шекспир показал на край обрыва. – Отсюда хорошо видно, – добавил Моцарт. – Будет радуга, будет вода, и в ней – много других мест. Скоро. Я это чувствую. – Других мест? – Миллер нахмурилась. – Об этом вы мне не рассказывали. Что это за места? – Другие, – повторил Шекспир, а Моцарт поинтересовался: – Сколько у тебя коричневого сладкого? – Вам хватит, – буркнула Миллер и сунула каждому по тюбику с шоколадом. Моцарт тут же присосался к лакомству, а более обстоятельный Шекспир сказал: – Сейчас. Смотри, Большая Белая. Будет красиво. Отверстие грота вдруг затянулось радужной пеленой, подобной северному сиянию. Мгновение краски текли и мерцали, алое переходило в фиолетовое, зеленое – в синее, желтое – в голубое, поражая контрастом и яркостью оттенков; затем цветные переливы исчезли, пелена сделалась прозрачной и будто бы сотканной из множества водных струек. Эта завеса, в самом деле напоминавшая застывший водопад, рождалась из камня и пропадала в нем, отделяя пещеру от знойной долины, от речного русла и скал, от неба с пылающими в нем светилами; она казалась границей между явью и тем таинственным миром, что приходит в снах и тает с пробуждением. Еще секунда-другая, и в прозрачной глубине медленно, плавно поплыли картины: роща деревьев мфа на океанском берегу, степь с пожухлой травой и стадом пасущихся яххов, пустыня и оазис за каменной стеной, приткнувшийся у Поднебесного Хребта, снова пустыня, сожженное солнцами плоскогорье – видимо, где-то на экваторе, город среди морских волн и плывущие к нему галеры, деревушка хеш – убогие хижины, обложенный камнем колодец, пастух и стадо рогатых свиней… Глаза Норы Миллер широко раскрылись. Словно зачарованная, она сделала шаг к гроту, потом другой, третий, четвертый… Сзади, на самом краешке карниза, тревожно заверещали малыши: «Не ходи… нельзя, Большая Белая… назад, назад…» Она их не слышала. Сейчас она даже не пыталась осмыслить явившийся ей феномен, а думала только о приборах, оставшихся на платформе. Как работать без оборудования?.. – мелькнула мысль. Ну, хотя бы провести визуальный осмотр этого чуда… сбросить маяк… изучить пещеру и записать увиденное… Вытащив диск маяка, доктор Миллер направилась к гроту с твердым намерением осмотреть его и поискать голопроекторы, источник этих поразительных картин. Перед ней был горный пейзаж, широкое ущелье с обломанными кустами и вытоптанными травами; в дальнем его конце что-то виднелось – повозки, или жилища, или просто изгородь, сплетенная из гибких ветвей. Она сделала последний шаг, проскользнула сквозь незримую завесу и исчезла. Два маленьких существа, оставшихся на карнизе, горестно взвыли.* * *
Проход сквозь Спящую Воду был неощутимым. Первой на другую сторону перебралась повозка с женщинами, за ней – шесть всадников, возглавляемых Кадрангой, и, наконец, сам Тревельян. Даже для человека, привыкшего странствовать в Галактике, прыжок из сумрачного подземелья в знойный день, под яркое сияние светил, мнился волшебством. Сердце Ивара билось глухо и неровно, но медицинский имплант помог совладать с волнением. Шас-га особых эмоций не проявили – для них чудо было всего лишь чудом, а не наследием древней загадочной расы. Махнув рукой, Тревельян велел спутникам двигаться к лагерю Трубача, спрыгнул на землю и подобрал пару увесистых камней. Перед ним был горный склон, очень крутой и уходивший ввысь на сотни метров; лучи Асура и Ракшаса освещали его от подножия до остроконечного пика, воткнувшегося в мутные небеса. Вероятно, стороннему наблюдателю показалось бы, что караван возник прямо из скалы, то ли вынырнув из нее, то ли материализовавшись в воздухе у самой ее поверхности. Никаких следов портала Ивар не заметил, но, возможно, он был невидимым для глаз и земных приборов. – Я засек точку выхода, эмиссар, но чисто визуально, – молвил трафор. – Она перед нами. Полагаю, нижний обрез экрана синхронизирован с уровнем почвы у скального подножия. – Что твои сканеры? – спросил Тревельян. – Ничего. Никаких показаний. Гравитация в норме. Излучения – обычный фон. Спектральные аномалии во всем доступном мне диапазоне отсутствуют. Прикажете использовать лазер? – Нет. Применим способ попроще. – С этими Ивар метнул свои снаряды, убедился, что камни не исчезли, а ударились о скалу, и проворчал: – Значит, врата односторонние… Ну ничего! Мы всегда можем вернуться к ним на флаере. – Флаер будет над нами через одиннадцать минут, – доложил Мозг. – Информация на базу передана – все видеозаписи и приказ общего сбора в три часа по ночному времени Шенанди. Другие распоряжения, эмиссар? – Подставляй спину. Поедем к нашим людоедам. Те не спешили, и Тревельян нагнал всадников и телегу через несколько минут. За телегой, в хвосте процессии, тащился хмурый Дхот, а впереди, расправив когда-то белые плащи, двигались Кадранга, Иддин и Тойла-Ац. За ними – Птис, громко молившийся Рриту, и битсу-акк Тентачи, колотивший в свой барабан и распевавший очередную песню. Их хриплым резким голосам аккомпанировали скрип колес, мерный топот яххов и далекие шумы, что слышались из лагеря. Ущелье было коротким, и до шеренги возов в его конце оставалось примерно с километр. Ивар уже ощущал запахи тысяч людей и животных, сгрудившихся на небольшом пространстве: дым костров, вонь фекалий и отвратительный смрад горелой плоти. Подъехав к Дхоту, он сказал: – Ты, приблудное мясо, теперь Белый Плащ. Не забывай об этом, когда окажемся в лагере. Зубы Дхота лязгнули. – Я – из Живущих В Ущельях! – Скажешь так, тебе разрежут брюхо, и в твоих кишках будет гулять ветер. Провялишься день-другой и попадешь в котел. А ты ведь, помнится, собрался Трубача загрызть? Или я ошибаюсь? Дхот-Тампа с угрюмым видом сделал жест согласия. – Верно, ппаа Айла, теперь я Белый Плащ. Ты мудр, а я – червяк, отродье Каммы. Усмехнувшись, Тревельян собрался было сказать, что доволен его послушанием, но тут в воздухе засвистели камни и стрелы, а перед скакуном Кадранги воткнулось в землю копье. Из-за скал, что громоздились по краям ущелья, высыпали всадники и пешие воины, повозка остановилась, Птис и Тентачи смолкли, а Кадранга заорал во всю глотку, призывая хозяина. Стукнув трафора пятками, Ивар двинулся в голову процессии. Лучников и пращников было сотни две, большей частью из Мечущих Камни, но нашлись среди них и Белые Плащи, и Пришедшие С Края, и Зубы Наружу. Вероятно, пограничная застава, решил Тревельян и, вспомнив о разбойниках-казза, молча согласился с тем, что ущелье нуждается в охране. Мало ли кто мог проникнуть в лагерь через завесу Спящей Воды! В степи, кроме мастеров, колдунов да отставших воинов, хватает лихих людей, и среди них наверняка есть такие, чей счет к Великому Вождю не менее кровав и долог, чем у Дхота… К нему приблизился Птис и торопливо зашептал в ухо: – Тут воины нашего Очага… Наверное, их послали, чтобы встретить Киречи-Бу и проводить с почетом… Вон тот, на яххе с тремя бубенцами, младший вождь, Закрывающий Полог… Имм-Айдар его имя… – Пусть проводят с почетом меня, – сказал Тревельян. – На моем яххе – пять бубенцов. Он выехал вперед, спешился и, расправив плечи, положив ладонь на обух топора, важно зашагал навстречу воинам. Закрывающий Полог тоже слез со спины яхха и уставился на прибывших; видно, одни были ему знакомы, а другие – нет. Тревельян сделал жест приветствия. – Да будут боги благосклонны к Брату Двух Солнц, Стражу Очагов, Взирающему На Юг! Он ждал, я спешил. Теперь я здесь. Веди меня к нему. Имм-Айдар прищурился и отвесил нижнюю губу, что было знаком откровенной неприязни. – Кто ты? И почему говоришь за этих людей? – Он ткнул пальцем в сторону всадников и телеги, затем почесал в промежности и рявкнул: – Ты какого Очага, крысиный помет?! – Все тут Белые Плащи, а я – их великий ппаа, – сообщил Тревельян, в свой черед щурясь и выпячивая губу. Его спутники молчали; то ли полагались на своего предводителя, то ли общаться с Закрывающим Полог им было не по чину. – Ппаа Белых Плащей – Киречи-Бу, – произнес Имм-Айдар, оглядывая Тревельяна. – Ты на него не похож. Нет, не похож! Не больше, чем тощая змея на откормленного яхха. Говоришь, ты Белый Плащ? Но прежде я тебя не видел. Видел вот этих! – Его длинная рука протянулась к Птису и Кадранге. – Эти, я знаю, слуги Киречи-Бу. А где он сам? Тревельян оскалил в ухмылке зубы. – По ту сторону гор, в животах крыс. Конечно, если они не побрезговали тухлятиной. Имм-Айдар погрузился в раздумье, но длилось оно недолго. – Говорить будешь ты. – Он показал на Птиса, очевидно, припомнив, что тот – помощник колдуна. – А этому, который выдает себя за ппаа, разбить башку. Два воина ринулись к Тревельяну, он ткнул их боевым имплантом, и когда шас-га свалились наземь, произнес: – Здесь говорю я. Слушай, Закрывающий Полог, и запоминай! По ту сторону гор нам встретились казза, напали и убили многих. Киречи-Бу был плохой колдун, не смог превратить их в крыс или ящериц, и они проткнули ему брюхо. Нет больше Киречи-Бу, есть я, ппаа Айла! Я призвал Гхарра, Духа Ветра, и он расправился с тухлым мясом. Я истинный ппаа Белых Плащей, я тот, кого слушают демоны! И ты уже видел мою силу. – Тут Ивар пихнул ногой одного из сраженных шас-га, а потом добавил: – Я могу превратить весь твой отряд в стаю крыс, но не сделаю этого. Воины принадлежат великому вождю, а не глупцу Имм-Айдару. Белые Плащи, что окружали Закрывающего Полог, загомонили и с опаской попятились – похоже, речь Тревельяна их впечатлила. Что до самого Имм-Айдара, то он перестал щуриться, подобрал губу и покосился на своих бойцов, лежавших у ног колдуна. Те уже хрипели и шевелились – разряд, которым Ивар их стукнул, был не очень силен. – Что еще ты умеешь, Айла? Всех превращать в крыс не надо, но этих двух я тебе отдам. – Имм-Айдара снова почесался – должно быть, его донимали блохи, – призадумался и буркнул: – Нет, не отдам! В котел пойдут, трусливые черви! Превращай другое! – Как пожелаешь, – сказал Ивар. – Пусть зажгут факел. Мне нужен огонь. Он выдернул волос из своей лохматой гривы, сжег его в пламени и закружился, размахивая руками, подвывая и невнятно бормоча. Много лет назад, юным практикантом, он странствовал в Кьолле под видом хишиаггина, искателя сладкой воды, а это занятие требовало особых движений, танцев и молитв. По старой памяти он обращался к Таррахиши, богу ручьев и рек; процедура была внушительной, а молитвы кьоллов, непонятные шас-га, могли изображать заклятия. Покончив с представлением, Ивар вытянул руку к трафору. – Ты был яххом, а будешь стаей крыс! Больших песчаных крыс с острыми клыками! Таково мое желание! Подобрав ноги и жалобно звеня бубенцами, трафор пал на землю. Его шкура пошла складками, в которых исчезали голова, рога, хвост, конечности; плоть его сделалась текучей, как мягкая глина, и через миг вместо скакуна ворочалась среди вытоптанной травы бурая бесформенная туша. Воины Имм-Айдара взвыли и в страхе отшатнулись, их предводитель замер с раскрытым ртом, и даже спутников Тревельяна, повидавших немало чудес, пробрало: кто свалился с яхха, кто закрыл ладонями лицо, кто, выпучив глаза, поминал Бааху, дарителя жизни. Метаморфоза шла к концу: из бесформенной массы полезли пять отростков, быстро превращаясь в крыс, соединенных хвостами, – расщепляться на части трафор, при всем своем искусстве, не умел. Зато крысы получились большими, величиной с кабана, и каждая держала в зубах колокольчик. Их зубы устрашали: они были так велики, что челюсти крыс не смыкались. Имм-Айдар очнулся от столбняка. – Сожри меня Ррит! Ты великий колдун, Айла! Я расскажу о виденном Брату Двух Солнц, а они подтвердят! – Он махнул в сторону воинов. – Эй вы, дети хромого яхха! Уберите факел! Если ппаа сожжет свои волосы, все вы превратитесь в крыс! – При нужде я могу обойтись без огня и волос, – заметил Ивар, повернулся к крысам и щелкнул пальцами. Пронзительно запищав, они опять слились в бесформенную массу, из которой тут же воздвигся яхх – но не прежняя дряхлая тварь с отвисшей шкурой, а полный сил могучий скакун. На его рогах блестели бронзовые бубенцы, хвост стоял торчком, на шее бугрились мышцы, а ширина крупа чуть уступала телеге. «Не может без фокусов! Жаль, дед далеко – он бы тебе показал, как шутки шутить», – подумалось Ивару. Затем он взгромоздился на спину скакуна и, не обращая внимания на Закрывающего Полог, повел свой маленький караван в лагерь. Белые Плащи, тридцать или сорок всадников, окружили их, но предусмотрительно держались в отдалении. Тревельян решил, что Птис прав: эти воины из родного Очага – почетный эскорт, поджидавший Киречи-Бу в ущелье. Видно, колдун был в фаворе у Великого Вождя – может, за прежние услуги или за будущие, а может, за то и другое. О прошлых Ивар не знал, но о будущих догадывался: всякий деспот нуждается в поддержке духов и богов, желательно единогласной. Пришла пора подумать, что новый шаман наворожит вождю и какие явит чудеса, чтобы войти к нему в доверие. Пребывая в раздумьях, Тревельян не заметил, как сбоку пристроился Имм-Айдар. – Брат Двух Солнц повелел отвести тебе лучшее место в середине стана, где живут другие ппаа, – произнес Закрывающий Полог. – Там большой шатер для тебя, два шатра для твоих слуг, трава для яххов, котел и много мяса. Ты доволен, ппаа Айла? – Брат Двух Солнц велик и мудр, – отозвался Тревельян. – Он знает, кому дать полный мяса котел, а кого в него отправить. Но ты, Имм-Айдар, был со мною непочтителен. Ты назвал меня крысиным пометом и велел разбить мне голову. И хотя устрашился потом, не сказал: мой лоб у твоих подошв, великий ппаа. Ты виноват! Рожа Закрывающего Полог посерела, плечи поникли. – Ты скажешь об этом Великому Вождю? – пробормотал он. – Нет, я ничего не скажу, и вождь не пошлет тебя в котел. Но держись от меня подальше, Имм-Айдар, держись подальше, не то… – Ивар на миг призадумался, вспоминая подходящую угрозу, и закончил: – Не то твоя печень насытит меня, а твое сердце будет в моем животе. Часовые, дежурившие на выходе из ущелья, откатили воз, и караван ппаа Айлы проследовал в лагерь.Глава 12. Демон
Съеденного не потеряешь.Пословица шас-га
Серый Трубач наблюдал, как кормят демона. Демон явился вчера, на белом закате, и Мечущие Камни, охранявшие ущелье, его схватили. При этом не обошлось без борьбы и нескольких покалеченных, но никто не погиб, хотя демон отчаянно сопротивлялся и вопил. Его связали, доставили в лагерь и сунули в клетку, где у вождя обычно хранилось свежее мясо – в последнее время пленные кьоллы из разгромленных оазисов. Над клеткой поставили шатер, дабы не смущать людей жутким видом демона. Его стерегли шесть воинов из личной охраны Трубача, самых бесстрашных и крепких духом. В общем демон походил на шас-га, туфан и кьоллов, но казался тем ужаснее – отличия тоже были велики, делая сходство уродливым, непонятным и омерзительным. Слишком большие глаза, слишком длинные ноги без пальцев, а руки такие, что не достают колен; маленький рот с мелкими зубками, на голове – не волосы, а короткая светлая шерсть, странной формы нос и уши… Вроде бы все есть и все на месте, но не такое, как у шас-га и даже у живого мяса, каким являются туфан и кьоллы. Самым мерзким была кожа – гладкая и совершенно белая, если не считать пятен грязи. Возможно, не кожа, а одеяние?.. Однако ни проткнуть, ни разрезать, ни содрать его с демона не удалось. За плечом великого вождя, Брата Двух Солнц, хрипло дышал Сувига, вызванный этим утром из своих шатров. Старый верный Сувига, один из ближайших к Трубачу людей… Он не начальствовал над воинами, как Лиги-Рух и Кушта, но был не менее полезен своим изворотливым умом и опытом на редкость долгой жизни. Сувига, ппаа Мечущих Камни, считался советником вождя, хотя в прежние годы таких понятий, как «совет» и «советник», у шас-га не имелось. Но время идет, меняя то и это и убеждая, что перемены неизбежны. Власть над Очагом дается силой и свирепостью, но, чтобы править всеми Очагами, необходимы хитрость и благоволение богов. О демонах и духах тоже забывать нельзя, особенно если они приходят к людям с непонятной целью. Сувига – большой знаток духов и демонов, и потому он здесь. – Что скажешь? – спросил Серый Трубач, с отвращением разглядывая демона. – Этот белый из мелких духов, – вынес приговор советник. – Ни ветры, ни пески, ни огонь ему не подвластны, иначе он сжег бы или развеял по пустыне наших воинов. Слабый демон! Только и сумел, что сломать троим руки и ноги. – Хурр! Может быть, он посланец Потики, Гхарра или Хатта? Или самого… – Трубач поднял глаза к небу, где сияли солнца, его старшие братья. – Посланец Баахи? Не думаю, повелитель. Бааха могуч и не шлет гонцов, с которыми могут справиться люди. А демоны… – Сувига призадумался. – Если бы этот белый пришел от Хатта, Гхарра или Потики, даже от Пена, Духа Котла, они явили бы свое могущество. Не говоря уж о Ррите. – Да, Ррит не из его покровителей, – согласился Серый Трубач. Существа, обуянные Рритом, испытывали голод, а белый дух есть не хотел. Воины совали в клетку мясо на копьях, сырое или слегка поджаренное, но демон с мерзким визгом отталкивал самые лакомые куски. Даже печень и сердце его не соблазнили. – Мелкий дух, – повторил Сувига, творя охранительные знаки. – Наверное, из отродий Каммы. Она их наплодила во множестве и бросила в песках, бессильных и никому не нужных. Этот, думаю, из таких. У него даже сущности нет – видишь, между ногами гладкое место… ни самец, ни самка, а ничтожный белый червь. – Но он появился прямо из скал – может быть, из пещеры, что на той стороне. Не дух ли он Спящей Воды? Старый колдун снова задумался. Мысли его были открыты Трубачу; Сувигу тревожила немилость повелителя. Он, самый опытный из ппаа, был обязан разобраться с демоном и пояснить, нужны ли жертвы и какие. Демон тем временем забился в угол клетки и скорчился, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом. Воины переглянулись, не зная, что им делать. С обрубков тел, насаженных на копья, капала кровь, а запах мяса возбуждал их жадность. – Можете съесть сами, если он не хочет, – приказал вождь. Потом велел стражам удалиться и повернулся к Сувиге. Пппа, бормоча заклятия, старался расшевелить демона колдовскими словами, но тщетно. Добился он только одного – демон начал трястись и завывать. – Я спросил, но не услышал, – произнес Серый Трубач. Это было предупреждением; вождь не привык долго ждать ответов. Даже от Сувиги и даже в столь нелегком деле, как выяснение сущности демона. Возможно, Сувига уже слишком состарился, растерял былую мудрость и годится лишь в котел?.. Другие колдуны были помоложе, но Пу из Людей Ручья и Кизз-Лит из Людей Песка все же не могли равняться с Сувигой в чародейном искусстве. Правда, появился Айла из Белых Плащей, и о нем рассказывают невероятные истории… Надо его позвать, решил Серый Трубач, слушая Сувигу. Тот пытался объяснить, что белый дух никак не связан со Спящей Водой, но речь старика была неуверенной. Вождь прервал его. – Раз явился демон, пусть не имеющий силы, это знак. Пусть он отродье Каммы, но я не хочу, чтобы Камма разгневалась и засыпала моих воинов песком. Я должен знать, каких она требует жертв. – Я узнаю. Прикажи, и я буду грызть камень, пока он не станет песком… – пробормотал Сувига, с тоской глядя на демона. Тот поднял голову, в свой черед уставился на колдуна и вождя и погрозил им кулаком. Жест понятный и непочтительный. Было ясно, что заклинания Сувиги ушли, как моча в песок. Демон их не боялся и раскрывать свою сущность не спешил. Бросив на него последний взгляд, Серый Трубач вышел из шатра и окинул взглядом лагерь. За половину луны стан сделался обширнее – появилось живое мясо, тысячи пленных и тысячи животных, невиданных по ту сторону гор. Пленники сидели за колючей изгородью, дожидаясь, когда их отправят в котел, а животные, хффа и рогатые свиньи, бродили вместе со скакунами вдоль дороги, объедая траву и кусты. Собственно, все уже было съедено, а деревья, которые назывались в Кьолле сеннши и мфа, стали золой и прогоревшими углями. «Завтра, – подумал вождь, – завтра я спрошу богов и духов, в какую сторону идти. Все великие ппаа здесь, и даже Белый Плащ успел добраться вовремя. Пусть не Киречи-Бу, зато молодой и сильный. Надо призвать его и проверить. Или он совладает с демоном, или лишится кожи. А заодно и печени». Обернувшись, Серый Трубач посмотрел на Сувигу, и взгляд его был столь страшен и тяжел, что колдун, упав на колени, ткнулся лицом в песок. – Ты знаешь, что Киречи-Бу убили? – Да, повелитель. – У Белых Плащей новый ппаа по имени Айла. – И это мне известно. – Он прошел сквозь Спящую Воду вчера, когда мои братья-светила стояли высоко. За ним явился демон – не сразу, когда Уанн уже повис над краем земли. Может быть, демон следил за Айлой? Может быть, Айла знает, что ему нужно? – Спросить об этом у Айлы, повелитель? – Не надо спрашивать. Приведи его к демону и посмотри, что будет. – Исполню, Брат Двух Солн! Сувига приободрился и резво пополз на коленях в сторону. Но вождь его окликнул. – Завтра мы будем вопрошать богов и демонов. Знают ли Пу и Кизз-Лит, что должны ответить духи? – Что надо идти на восход светил, к стране, где живут туфан. Их мясо уже даровано шас-га. – А новый ппаа Белых Плащей об этом знает? – Если не знает, духи ему скажут, – прошептал Сувига, сообразив, что допустил ошибку. Единогласие колдунов было на его совести. – Какой-нибудь зловредный дух, – тут вождь метнув взгляд на шатер с клеткой, – может шепнуть новому ппаа не те слова. Если он их услышит, то жизнь его закончится в котле. – Я понял, великий вождь. – Скажи Айле об этом, когда поведешь его к демону. Над нами властвует Ррит, а на других богов и духов нельзя полагаться. Только съеденного не потеряшь. Ткнувшись пару раз лицом в землю, Сувига отполз подальше, поднялся и заковылял к своим шатрам.
* * *
Для четырех великих колдунов отвели угол на краю лагеря. Их стан окружали повозки, которых у Пу и Кизз-Лита было по четыре, а у Сувиги целых шесть, ибо во всех Очагах народа шас-га он считался старшим и наиболее опытным. Пу и Кизз-Лит имели по одному помощнику и по два десятка слуг, а у Сувиги слуг больше тридцати и еще два помощника. Шатры каждого ппаа стояли у его возов, а в середине стана, в самом неудобном месте и к тому же объеденном скакунами дочиста, последнего, четвертого колдуна поджидал неказистый шатер и еще пара поменьше, для слуг. Это было справедливо. Кто приходит последним, нюхает пустой котел, гласила поговорка. Но Киречи-Бу вообще не пришел, а остался в степи с распоротым брюхом. Вместо Киречи-Бу у Белых Плащей был теперь другой колдун, про которого Имм-Айдар, недоумок, трахнутый Баахой, расказывал жуткие истории. Если верить в них, получалось, что этот Айла превращает в крыс и ящериц любую тварь, даже целое войско, а всякий разгневавший его мигом упадет на землю и забьется в корчах. Все это подтверждали воины Имм-Айдара, такие же недоумки, как он сам. Сувига им не верил. Сувига был мудр и знал: всякий Очаг возвеличивает своих шаманов и вождей. Однако, поговорив с Имм-Айдаром, он велел слугам присмотреть за новым ппаа. У того была одна повозка, а людей – шестеро, и походили они на отродий шелудивого яхха. Пили и ели с жадностью, потом завалились спать, что казалось неудивительным после дальней дороги и странствий по темным подземельям. Но Айла не лег, а сел на своего скакуна и объехал лагерь, разглядывая, как доложили Сувиге, воинов и яххов, захваченных пленных и скот, возы с оружием и бурдюки с водой, костры, котлы и даже обглоданный кустарник. А ночью он отправился в пустыню, пробыл там долго, почти до белого рассвета, и какое творил колдовство, о том неведомо. Люди Сувиги за ним не поехали, зная, что по ночам из пустыни не всякий раз вернешься. Но Айла вернулся и отдыхал теперь в своем убогом шатре. Сувига откинул полог, вошел и сел на потертую шкуру. Айла не поднялся, чтобы приветствовать его, молча глядел на гостя, не делая знаков почтения. Ничего примечательного в ппаа Белых Плащей не имелось: не стар, но и не очень молод, тощ и костляв, как всякий шас-га, с широкой пастью, крупными зубами и прядями темных волос, достигавшими поясницы. Таких в десятке ровно десять, подумал Сувига, но тут Айла поймал его взгляд, и старый колдун содрогнулся. Зрачки у этого ппаа были, как острия клинков, как разящие копья, и глядел он пугающе, словно мог распоряжаться жизнью и смертью тысяч людей. Взгляд, присущий избранным, великим вождям и родичам богов… Так смотрел Серый Трубач, но в глазах Айлы чудилось еще и другое, лежавшее за гранью понимания Сувиги и недоступное словам. Нужных слов у шас-га не было, но если бы они нашлись, Сувига сказал бы, что глазами Айлы глядит на него бесконечность. Колдун Белых Плащей первым нарушил молчание: – Ты – Сувига из Мечущих Камни. Чего надо? Старый ппаа оскалился и выпятил губу. Похоже, здесь его не ждали, и гостем он был нежеланным. – Я – Сувига, присланный к тебе Братом Двух Солнц. Слушай его волю, помет хромого яхха! Лицо Айлы не дрогнуло. Он щелкнул пальцами и, когда в шатер просунулся слуга – угрюмый, как пустыня ночью, – приказал: «Воды!» Гостю поднесли бурдюк, в котором что-то еще плескалось. Пару лун назад эта вода была сладкой, но теперь провоняла кожей и годилась разве что для крыс. Сувига глотнул, скривился и бросил бурдюк. – Что хочет от меня Великий Вождь? – молвил Айла. На этот раз он говорил почтительнее и даже коснулся лбом земли. – Хочет, чтобы ты взглянул на демона. Глаза Айлы блеснули. – Демон? Здесь появился демон? – Да. Может быть, прошел вслед за тобой через Спящую Воду. – Где он сейчас? – В клетке рядом с шатром Брата Двух Солнц. – Ххе! Что ж, я могу на него посмотреть, – сказал Айла после недолгой паузы. – Не только посмотреть, но распознать его сущность. Иначе – клянусь утробой Каммы! – жизнь твоя закончится в котле. Эти слова вождя Сувига произнес с особым удовольствием – ппаа Белых Плащей ему решительно не нравился. Но тот, не обращая внимания на угрозу, начал вставать, пробурчав: – Идем! Идем, старик, посмотрим на демона. – Сиди! – велел Сувига. – Что еще? – Завтра Брат Двух Солнц и мы, четыре ппаа, будем вопрошать богов и духов. Принесем жертвы и узнаем, куда нам двигаться, на восход солнц или на закат. – Мне об этом уже сказали. Я готов. Я спрошу у Гхарра, Потики и… – Можешь не стараться, – оборвал Сувига. – Демоны шепнули мне, что нужно идти на восход. Ты должен это повторить. Айла задумчиво уставился на него, почесал в голове, выудил из волос насекомое и раздавил ногтями. Затем произнес: – Я повторю то, что скажут духи. – Если твои слова не понравятся повелителю, ты точно окажешься в котле, – предупредил Сувига. Возможно, так было бы лучше, подумалось ему. Наглый, молодой и, похоже, хитрый… Этот Айла мог стать опасным соперником! Колдун Белых Плащей презрительно оскалился. – Не тревожься, старая шкура. Котел мне еще не приготовлен, даже ветви для костра не собрали. Поднявшись, он шагнул к выходу.Мнение, что в данный момент мирным гегемоном являются лоона эо, ошибочно, поскольку они упустили свой шанс. Хотя лоона эо производят уникальные устройства и имеют обширные торговые связи почти со всеми известными космическими расами, их политический вес в масштабах Галактики невелик. Это связано с замкнутостью их общества, с тем, что по неясным причинам физиологического, психического или исторического свойства лоона эо воздерживаются от прямых контактов с любыми разумными существами. Эта функция возложена на сервов, великолепных андроидов, созданных лоона эо как некий демпфер между их народом и всей остальной Галактикой. Сервы воспроизводят сами себя, вырабатывают различную продукцию торгуют – разумеется, с пользой для своих хозяев, а также представляют их в других мирах как посланники и дипломаты. Согласно теореме Глика-Чейни (Первая теорема психокибернетики) сервы неспособны к действиям военного характера, однако они активно участвуют в обороне звездного сектора лоона эо, привлекая к этой задаче инопланетных наемников. Некоторые исследователи склонны считать сервов высокоразумной искусственной расой, созданной пусть не эволюционным, а технологическим путем; другие возражают, справедливо указывая, что всякая раса независима и обитает в специфической культурной среде, тогда как сервы подчинены лоона эо и не имеют собственной культуры. Но никто не оспаривает оценки сервов как биороботов с высоким интеллектом, наделенных к тому же самосознанием. Если говорить о гегемонах прошлого, то ими безусловно являлись даскины или так называемые Древние. Обсуждение связанных с ними вопросов и проблем будет продолжено в восьмой главе, а здесь и сейчас заметим, что, к сожалению, неизвестно, как даскины осуществляли гегемонию, мирным или военным путем. Однако не подлежит сомнению, что оба эти варианта были им доступны – во всяком случае, в техническом плане.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 6. Деятельность ФРИК – заявка на гегемонию?
Глава 13. Лайнер «Гондвана»
Зеленоватые лучи Каузы Примы струились сквозь хрустальный потолок, делая зал переговоров похожим на подводную пещеру – где-нибудь на Адриатике, в чистом, пронизанном солнцем море. Вспомнив о далматинских берегах, родине предков, консул Пьер Каралис вздохнул; конечно, «Гондвана» имела массу удобств, но вместить в нее целое море, прибрежные скалы, уютные городки и рощи реликтовых сосен не было никакой возможности. Зато не возбранялось любоваться экзотическими картинами: зеленым диском местного светила, россыпью далеких звезд и светящейся мглой, что окружала корабль парапримов. – Мы собирались обсудить проблему Осиера, – сказал Антрацит, разглаживая черный мех на животе. – Ваш коллега Ивар Тревельян будет участвовать в дискуссии? Мы обеспечим связь с ним, если вы сообщите координаты мира, в котором он сейчас находится. Каралис и Сойер переглянулись. Колесников, третий представитель ФРИК, пребывавший из-за отсутствия телесной оболочки в памятном кристалле, связался с Пеклом в шесть ноль-ноль по корабельному времени. Как сообщила Энджела Престон, Тревельян был сильно занят. Место, где он находился, как и его задача, к дискуссиям не располагали. – Вынужден извиниться, – промолвил Каралис. – В данный момент Ивар Тревельян недоступен для общения. Теперь переглянулись Антрацит и Белый Воротник, сделав это совсем по-человечески. Потом Антрацит произнес: – Не сочтите за вмешательство в ваши дела… Он выполняет… как у вас говорится… секретную миссию?.. Тайный проект в каком-то мире, неизвестном нам? И это не подлежит разглашению? Каралис хлопнул по металлическому цилиндру, стоявшему рядом с его креслом. Это устройство, содержавшее гравидвижок, голосовой вокодер, видеокамеры и датчики, обеспечивало Колесникову автономность и постоянный контакт с бортовым компьютером «Гондваны». – Николай Ильич, нас подозревают в сокрытии данных. Пожалуйста, перешли партнерам координаты Пекла и всю информацию об этом мире и связанных с ним проектах ФРИК. – Сделано, – гулким басом сообщил Колесников. – Ситуация там непростая. Пусть партнеры с ней ознакомятся и, быть может, что-то посоветуют. Антрацит и Белый Воротник заерзали на своих широких сиденьях и вдруг закрыли лица ладонями. Что означает этот жест, Каралис не понял. Парапримы были эмоциональными существами, но всегда держались с подчеркнутым достоинством и даже несколько надменно. Наступило неловкое молчание. – Мы чем-то обидели вас? – спросил Сойер. – Вы – нет. Источник обиды исходит от нас. Оскорбительное недоверие… – пробормотал Белый Воротник. – Недоверие и непонимание… Существа нашей расы любопытны. Хранитель Осиера рассказывал про Ивара Тревельяна. Нам хотелось увидеть его и поговорить с ним. – Такая возможность еще представится, – пообещал Каралис. – Если парня не съедят, – добавил Колесников. Его чувство юмора было мрачноватым. Руки парапримов разом упали на колени, темные глаза уставились на землян из-под валиков надбровных дуг. – Съедят? Что это значит? – поинтересовался Белый Воротник. – Это шутка, – произнес Сойер. – Но, говоря по правде, коллега Тревельян сейчас в сложном положении. Он пытается замирить несколько воинственных племен, одно из которых – каннибалы. Снова повисла пауза. Парапримы застыли, глядя в пол – может быть, общались друг с другом ментально или размышляли о несовершенстве гуманоидов, склонных к людоедству. – Ужасно, – сказал наконец Антрацит и повторил: – Ужасно! Убийство разумных существ – великий грех, но поедание себе подобных… – Он зябко поежился и передернул плечами. – Это отвратительно! Мы не рискнули бы контактировать с таким племенем. Слишком велики моральные издержки. – Значит, мы не получим от вас толкового совета, – подвел итог прагматичный Колесников. – Ну и ладно. Так как до Тревельяна не добраться, мы предлагаем отложить проблему Осиера. Есть другие вопросы, интересные для обсуждения. – Предлагайте. Сегодня вы – инициаторы дискуссии. Тему выбрал Сойер, но предлагать ее должен был Каралис, консул ФРИК и руководитель делегации. Убедившись, что партнеры успокоились, он произнес: – Мы хотели бы обменяться мнениями о даскинах. Полагаю, вам известно об этих древних существах? – Да, – подтвердил Антрацит. – Но эта проблема скорее в компетенции историков и археологов. Что до нас с вами, то мы занимаемся не далеким прошлым, а настоящим. Напомню, мы патронируем расы, которым нужна наша поддержка и покровительство. – Уроки прошлого полезны, – заметил Сойер. – Несомненно. В прошлом – корни настоящего, но где среди них питающий ветку, на которой мы сидим? – Власть, – произнес Каралис, – власть над Галактикой. Если верить мифам и легендам, Древние ею обладали. Белый Воротник оскалил зубы в подобии улыбки и фыркнул. – Мы не стремимся к власти. Этот урок не для нас. Сойер улыбнулся в ответ. – Речь идет не вообще о власти, а о гегемонии над Галактикой. Но данный термин нужно уточнить. Что он означает для вас? Парапримы оживились, и Каралис подумал, что все же их удастся втянуть в дискуссию. Слово за словом, вопрос за вопросом… Сойер, читавший лекции в Ксенологической Академии, был мастером подобных провокаций. – Власть над Галактикой – бессмыслица, – сказал Антрацит. – Дело не в том, что Галактика слишком огромна – в принципе, можно вообразить устройство, позволяющее перемещаться без кораблей, мгновенно достигая любого мира… – Портал, – подсказал Сойер, – межпространственный портал. – Да, выберем этот термин, – согласился Антрацит. – Доступность любой точки в Галактике через систему порталов способна удовлетворить любопытство, но власть – нечто совсем иное. Власть доминирующей расы ведет к влиянию в ее интересах, означает некую цель и, безусловно, выгоду. Но в чем состоят интересы, выгода и цель? В контроле за торговыми путями? Во взимании дани с покоренных народов? В захвате их ресурсов, источников энергии и сырья? В их порабощении или ликвидации, чтобы очистить место для своих переселенцев?.. Все это возможно, если мы говорим о равных по силе соперниках, но для гегемона, чей уровень намного выше, такие цели кажутся наивными. Гегемону не нужны рабы – роботы гораздо эффективнее. Гегемону не нужны чужие ресурсы и планеты – владея высочайшей технологией, он может добывать сырье в любом месте Галактики, преобразовывать миры и селиться где угодно. Ему не нужна дань, так как любые изделия, кроме собственных, он сочтет неуклюжим примитивом. И ему, конечно, некого бояться. – Иными словами, гегемон замкнут в собственном совершенстве, изолирован от более слабых и не столь высокоразвитых культур, – заметил Сойер. – Он может свершить все желаемое без насилия над другими расами; значит, его власть не имеет цели и потому бессмысленна. – Именно так, – произнес Белый Воротник. – Когда-то даскины обитали в Галактике и, образно говоря, властвовали над Великой Пустотой, туманностями, звездами и безлюдными мирами. Но примитивный разум той эпохи был им неинтересен. Властвовать над дикарями?.. Нонсенс, как говорят у вас. – Мы придерживаемся другого мнения, – промолвил Каралис. – Мы считаем, что власть даскинов являлась таковой в полной мере, хотя и с иными целями, чем названные вами. Разумеется, им не были нужны чьи-то ресурсы и планеты, то есть материальное выражение власти; их гегемония предполагала то же самое, чем занимаемся мы, но в более крупных масштабах. – Любопытная мысль! – Белый Воротник подпрыгнул на своем сиденье, но Антрацит, более спокойный, произнес: – Пожайлуста, уточните. – Они патронировали младшие расы – те, что находились на архаической стадии в ту далекую эпоху, – сказал Сойер. – Но, вероятно, это лишь часть их усилий. Они стремились поддерживать некое равновесие в Галактике и пресекали попытки захвата чужих миров. Если экспансия определенной расы несла опасность для соседей, даскины карали агрессора. – Эти слухи нам знакомы. Они распространяются в виде легенд и преданий, но есть ли доказательства? – возразил Антрацит. – Вы намекаете, что можно было бы использовать опыт даскинов, уроки прошлого… Но в чем они состоят? Согласитесь, миф нуждается в подтверждении. На цилиндре мигнул огонек – Колесников наводил справки в базе данных «Гондваны». Потом раздался его басистый голос: – Это не миф, коллеги, а вполне обоснованная научная гипотеза. Согласно принятой у нас классификации, артефакты, оставшиеся после Древних, отнесены к категориям А и Б. Категория А: передаваемые от одной цивилизации к другой, такие, как Портулан Даскинов и контурный привод. Категория Б: случайно обнаруженные на планетах и в космическом пространстве. Примеры: сеть тоннелей в Лимбе, агрегаты для планетарной санации, астроинженерные сооружения на протозвездах, споры и зародыши всевозможных устройств, в том числе обладающих зачатками интеллекта. Наличие артефактов категории А доказывает, что контакты между даскинами и другими расами – не выдумка. – Это косвенные свидетельства, – отозвался Белый Воротник. – Но есть и прямые, совсем недавнего происхождения, – возразил Колесников, выдвинув повыше штангу с вокодером. – Пьер, из Консулата пришла информация о той планете в Провале, где побывал Тревельян. Той самой, куда отправился Ортега. Ты знакомился с записью? – Разумеется. Хочешь переслать ее партнерам? Не возражаю. – Глядя, как мигают на цилиндре огоньки, Каралис пояснил: – Обнаружен мир, подвергшийся воздействию даскинов. Очень интенсивному, должен заметить. Сейчас там работает наша экспедиция. Антрацит повел рукой, и перед ним прямо из воздуха возникла небольшая овальная пластинка. Приемное устройство, решил Каралис; очевидно, данные, посланные на корабль парапримов, выводились на этот крохотный дисплей. – Очень интересно, очень! – произнес Белый Воротник спустя минуту. – Не сомневайтесь, мы изучим ваш материал во всех подробностях. В этом мире есть какие-то новые артефакты Древних? – Пока неизвестно, – сказал Сойер. – Но я абсолютно уверен, что мы еще не все нашли. Может быть, даскины оставили нам нечто такое, что в корне изменит ситуацию. Я имею в виду противодействие кризисам и катастрофам, обычно связанное с крупными жертвами. – Вы говорите – оставили? – Антрацит в задумчивости потер череп, и этот его жест не походил на человеческий – обе ладони двигались от затылка ко лбу, приминая шерсть. – Что значит – оставили? Есть случайные находки, есть идеи и конструкции, переданные из мира в мир, пришедшие к нам из далекого прошлого… С этим я готов согласиться. Но то и другое – всего лишь разрозненные артефакты давно погибшей цивилизации. – Может быть, может быть… Но существует и другая точка зрения. – Сойер поднял голову, и под лучом Каузы Примы его зрачки сверкнули двумя изумрудами. – Карта Галактики и контурный привод, переданные через миллионолетия… споры странных тварей, квазиживые существа, машины для санации планет, заваленных мусором… червоточины в Лимбе, целый лабиринт, еще не изученный нами… Есть ли в этом какой-то смысл? С чем мы имеем дело, с разрозненными артефактами или с продуманной до мелочей системой? Возможно, с завещанием? Этот термин вам понятен? – Да, – ответил Антрацит. – Но завещание должно быть кому-то адресовано. Кто наследник? – Вы. Мы. Лоона эо, дроми, хапторы, сильмарри – все, кто живет в эту эпоху, – с улыбкой произнес Сойер. Наступила тишина. На миг Каралис ощутил неотвратимую поступь времени, мерное скольжение секунд, что уходили с каждым вздохом, с каждым трепетом сердца, отделяя настоящее от прошлого, прокладывая путь туда, где еще ничего не свершилось, ничего не было сказано и сделано. «Гондвана» и корабль парапримов, соединенные переходным модулем, плыли вокруг звезды, и вместе с ними двигался этот подобный гроту зал, погруженный в мягкое зеленоватое сияние, – летел сквозь пространство и время и нес с собой еще непонятные, тайные зерна будущего. Но прозвучит слово, наполнит смыслом бег мгновений, и зерна прорастут. – Мы с вами – наследники, но это только гипотеза, – произнес Пьер Каралис, консул ФРИК. – Как ее проверить? Вряд ли даскины явятся к нам c объяснениями… Но важна не сама гипотеза, а ее последствия и то ощущение связи с далеким, очень далеким прошлым, которое поддержит нас. – Он посмотрел на парапримов, и те согласно склонили головы. – Вы обладаете интуитивным даром предвидеть грядущее… вы сказали об этом на прошлой встрече… Используйте свою способность. Перед нами – два глобальных варианта: либо мы первые прогрессоры в Галактике, либо продолжаем чей-то труд. И если это нам известно, изменится ли будущее? – Сложный прогноз, – пробормотал Антрацит. – Но интересный, – добавил Белый Воротник. – Мы попытаемся. На нашем корабле есть… Внезапно он замолчал, потом прикоснулся к глазам и вытянул длинную руку вверх. Но не туда, где сияла Кауза Прима, а к темной бездонной пустоте, расшитой искорками звезд. «Тьма, – подумал Каралис, – мрак. Символ неведомого грядущего».Отметим, что секторы влияния галактических рас не смыкаются между собой, но разделены весьма обширными необитаемыми областями. Эти «ничейные зоны» играют роль пространственного буфера, чье назначение, во-первых, предохранить сектор от внезапной атаки и, во-вторых, обеспечить, при необходимости, дальнейшую экспансию и расширение занятого той или иной расой региона. Существование подобных зон вполне логично, так как границы секторов являются неопределенным и слишком зыбким понятием, не всегда признаваемым заинтересованными сторонами. Реальную топологию любого сектора можно представить в виде сложной трехмерной фигуры, вершины которой являются самыми дальними из освоенных звездных систем. Но что расположено между ними, то есть на ребрах, гранях и в их ближайших окрестностях? Разумеется, другие звезды, до которых владеющая сектором раса еще не дотянулась, а значит, ее права на эти территории сомнительны. Буферные зоны позволяют избегать конфликтов, связанных с подобной ситуацией. Но патронируемые ФРИК миры расположены не только в земном секторе и около его эфемерных границ – известно, что 47% таких планет находится в ничейной зоне, иногда в непосредственной близости к рубежам кни'лина, дроми или хапторов. Хотя присутствие миссий Фонда в обитаемых мирах с архаической культурой нельзя рассматривать как их колонизацию, но в то же время это присутствие – свершившийся факт, который можно счесть недружественной акцией. Здесь мы вступаем на дипломатическое поле, стараясь убедить противную сторону в своих мирных намерениях и, по возможности, сделать цивилизаторский проект совместным. К сожалению, это удается не всегда, так как многим расам чужды понятия гуманизма и бескорыстной помощи.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 7. ФРИК и межзвездная дипломатия. Совместные проекты.
Глава 14. В лагере Серого Трубача
Место, которое им отвели в стане колдунов, Ивару не понравилось – его шатер торчал посреди голой вытоптанной площадки, окруженный кучами сухого навоза и грудами отбросов. У периметра стана, ближе к возам, чадили костры, и откуда бы ни подул ветер, к Тревельяну несло дымом и кухонной вонью. Обещанный же Имм-Айдаром большой шатер оказался тесной юртой, державшейся на семи шестах и крытой драными шкурами песчаных крыс. Рядом стояли еще два, совсем убогие – для слуг и самок, а между ними кипело в котле подозрительное варево. Ивар не пожелал к нему даже принюхаться, дождался, когда его люди утолят голод, и поехал осматривать лагерь. Для начала сделал круг у стоянки и убедился, что жилища Пу и Кизз-Лита гораздо просторнее, а шатер главного колдуна Сувиги просто роскошный, на тринадцати шестах, покрытый пологом из кожи яххов. – Кажется, нас тут не уважают, – пробормотал Тревельян. – Никаких удобств, кроме дырявых шкур да старого котла! – В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин, – утешил его трафор. То было изречение Йездана Сероокого из священной книги кни'лина, весьма подходившее к случаю – конечно, если заменить кувшин котлом. Решив, что он свое еще возьмет, Тревельян направился к дороге. Здесь, на границе лагеря, паслись скакуны и скот из кьолльских оазисов, длинноухие хффа и рогатые свиньи. Растительность в предгорьях и вдоль торгового тракта была объедена на много километров в обе стороны; яххи и хффа догрызали траву и кору с кустов, а свиньи расправлялись с корнями. Ивар подумал, что хрупкая экология этих засушливых мест восстановится не скоро – ветры пустыни уже заносили песком выпасы и жалкие струйки ручьев. По дороге непрерывной чередой тянулись повозки, шли с востока и запада, доставляя из ближних оазисов воду в огромных бурдюках, топливо и съестное. Подобно саранче, шас-га опустошили окрестность и, словно ненасытная стая саранчи, готовились двинуться к новым, еще не тронутым землям, сулившим пищу и добычу. На краю лагеря торчала изгородь из колючих ветвей, вдоль нее разъезжали всадники, а по другую сторону забора, на выжженной светилами площадке, сгрудились пленники, тысячи две или три истощенных кьоллов. Сухие губы, запавшие глаза, посеревшая кожа, припорошенная пылью… В основном мужчины – детей и женщин, как менее выносливых, первыми отправляли в котлы. У загородки громоздился вал из трупов, а те, кто был еще жив, лежали на земле в позе покорности, согнувшись и обхватив колени руками. От этой толпы несло смертным ужасом и жутким смрадом. Отчаяние и чувство бессилия охватили Тревельяна. Что бы он ни делал, как бы ни спешил, какие бы меры ни предпринял, эти люди были обречены. Он мог уничтожить шас-га, сжечь из лазеров, сделать выкупом за пленных – но разве обменивают жизнь на смерть?.. Он мог связаться с Кафингаром и приказать, чтобы лагерь засыпали тонны песка, похоронив и виноватых, и безвинных – но справедливо ли это деяние?.. Он мог судить, карать и миловать – но кого?.. Весы Фемиды были неподвижны. Скипнув зубами, он проклял Спящую Воду и пастушонка Кайни, нашедшего ее, проклял старейшин Живущих В Ущельях и колдуна Ошу-Ги, проклял даскинов с их дьявольскими соблазнами. Потом пробормотал магическую формулу, дарованную ФРИК своим эмиссарам: я здесь чужой, я наблюдатель, я не поддамся эмоциям, ибо в этой борьбе нет ни правых, ни виноватых. Наблюдатель, но не судья… Зачем мы здесь? – спросила Анна Веронезе, и он ей ответил: чтобы творить добро. Значит, все-таки не наблюдатель, а хранитель и спаситель. Но кого хранить, кого спасать?.. Ивар покинул загон с невольниками. Мрачные мысли одолевали его; он размышлял о том, что нет с ним командора и не у кого спросить совета или хотя бы облегчить душу. Правда, в этой ситуации лучшим советчиком стал бы не дед, склонный к крутым решениям, а мудрец Аххи-Сек, осиерский хранитель. Но так ли он нужен, так ли необходим?.. Ведь Ивар догадывался, какой совет был бы получен от параприма. Йездан Сероокий сказал: ничто не свершается без греха. А мудрец Аххи-Сек добавил бы: сверши греховное, убей немногих, дабы жили тысячи и тысячи. Стань предводителем этого воинства и уведи его в края, где оно не наделает бед, не причинит разорения – лучше всего туда, откуда явились эти люди, в степь за высокими горами. Уведи их, а пещеру со Спящей Водой затвори на семь замков и залей поверх расплавленным камнем. – Уведи! Легко сказать, уведи! – буркнул Тревельян, всматриваясь в парившее вверху облачко. – Как же их увести, если портал односторонний? На флаере перевозить? За десять лет не управишься! Он ехал среди палаток и повозок, шестов с бубенцами и хвостами яххов, старых кострищ и тех, где над огнем висели котлы, среди сотен воинов, сновавших туда-сюда с поклажей или разгружавших телеги; другие спали прямо на земле, хлебали варево или точили оружие, либо, собравшись в тесный круг, слушали песни сказителей. Блуждающих Языков в войске было множество, и их пронзительные голоса временами перекрывали рев животных, шелест точильных камней, звон и лязгметалла. Здесь собрались воины двадцати степных племен, но Ивар узнавал лишь тех, кто относился к самым могущественным и крупным кланам: приземистых мускулистых Людей Молота и смуглых Людей Песка, Мечущих Камни с пращами у поясов, свирепых Сыновей Ррита, Зубы Наружу с их огромными челюстями, Белых Плащей в накидках из змеиной кожи, Пришедших С Края, чьи лица были светлее, а плечи поросли темным пушком. Перед Тревельяном расступались, хотя вряд ли кто-то знал о появлении в лагере нового ппаа – вероятно, принимали за вождя средней руки, нацепившего пять колокольцев на рога скакуну. Да и скакун после недавних превращений выглядел лучше некуда; всякому было понятно, что на такой животине ездит вождь или прославленный боец. Миновав толчею, Ивар оказался у широкой прогалины, что отделяла стан от перекрывших ущелье повозок. Здесь он уже проезжал с Имм-Айдаром, но всадники эскорта заслоняли вид, и разглядеть прогалину как следует не удалось. Теперь перед ним открылась покатая луговина, где бродили десятка три откормленных яххов и, на небольшом холме с плоской вершиной, были разбиты шесть шатров: огромный, крытый шкурами горных кенгуру, и пять поменьше, но тоже весьма просторных. Над большим шатром шесты с бубенцами, хвостами и рогами возносились в таком изобилии, что Тревельян догадался: здесь обитает великий вождь, Брат Двух Солнц и Страж Очагов. Под шестами замерли рослые воины из Мечущих Камни – вероятно, телохранители владыки. Чуть дальше виднелось большое черное пятно, след отпылавшего костра; там стоял на камнях огромный котел, и к нему нескончаемой вереницей тянулись люди, тащили хворост и бурдюки с водой. Тревельян слез со спины яхха, поглядел, как заливают воду в котел, потом, вытянув руку, ухватил за волосы пробегавшего мимо шас-га. Рожа у того была устрашающей: узкая, как клин, с пастью от уха до уха и губами, не закрывавшими внушительных зубов. – Ты, отродье Каммы, стой! Воин, узрев важную персону, хрипло выкрикнул: – Хурр! Мой лоб у твоих подошв. Прикажи, и я буду… – С камнями подождем. Я Айла, ппаа Белых Плащей, и я хочу знать, что делают эти люди. – Тревельян ткнул в сторону огромного котла. – Великий вождь готовится к пиру? Позовет лучших воинов и каждому даст печень кьолла? Зубы Наружу уставился на него с удивлением. – Ты с яхха свалился, ппаа Айла? Через день, на красном рассвете, великий вождь будет вопрошать богов и духов. А пир… будет пир, но не для нас, для Ррита. – Тут без меня не обойдется, – пробормотал Тревельян, выпустив прядь сальных волос. – Иди, зубастая нечисть. Я доволен и не превращу тебя в ящерицу. Ослепительный Ракшас скрылся за барханами, и небо потемнело. Гигантский диск Асура казался провалом в огненную преисподнюю, а облака, скользившие по его челу, – лестницей для грешных душ, которых ждут пламя, смола и вилы дьяволов. Из пустыни налетел жаркий ветер, над шатрами и повозками заклубилась пыль, и далеко на юге вспыхнули зарницы и встали черные столбы от земли до небес – должно быть, там бушевала песчаная буря. Лагерь начал затихать; опорожнялись последние котлы, разгружались последние телеги, пастухи сгоняли животных ближе к скалам, подальше от опасных песков. Тревельян направился к своему жилищу, лавируя среди палаток, шестов с бунчуками и лежавших на земле людей. Колокольцы на рогах трафора зазвенели. Мелодия была не похожа на сигналы связи – видимо, скакун желал что-то сообщить хозяину. Ивар наклонился, прижал ухо к мощной шее и услышал: – За нами следят, эмиссар. Двое. – Кто? – Люди Сувиги. Я зафиксировал всех в том месте, где разбиты ваши шатры. Эти двое тащились за нами сначала к торговому тракту, потом через весь лагерь к ставке вождя. И теперь едут по пятам. – Пусть едут, – шепнул Тревельян. – В пустыне мы от них избавимся. – Мы направляемся в пустыню, эмиссар? – Не сейчас, ночью. Если помнишь, у нас сеанс связи с базой. – Я ничего не забываю. Они вернулись в стан колдунов. Там было тихо – все попрятались в шатры и под телеги, хоть как-то защищавшие от носившейся в воздухе пыли. Пыль скрипела на зубах, забивалась в ноздри, и с каждым порывом ветра ее становилось все больше и больше. Ивар осведомился о прогнозе на ближайшие сутки и узнал, что, по наблюдениям со спутника, на экваторе и в прилегающих районах бушует ураган, но к Поднебесному Хребту он не продвинется. Знойный ветер, вздымавший пыль и песок, был слабым отголоском бесновавшегося на юге самума. Спутники Ивара, привычные к таким передрягам, безмятежно спали. Кадранга, Тойла-Ац и Иддин развалились в одном из шатров, другой занял Птис, а Тентачи и Дхот-Тампа легли у хозяйского жилища; битсу-акк – с барабаном в изголовье, а Дхот, как положено воину, с топором у правой руки. Во сне он скрипел зубами – должно быть, видел горло Серого Трубача и примерялся, как бы в него вцепиться. Самки спали под телегой, сделав свою работу: котел был вычищен, шкуры в хозяйском шатре выбиты, и на одной из них лежал бурдюк с водой. Тревельян напился и сплюнул – вода отдавала горечью и затхлой кожей. Но все же о нем позаботились, и он решил, что нужно придумать женщинам имена – скажем, Лаура, Беатриче и Кармен. Вообще-то им не полагалось даже кличек, и в Шестах – то бишь семьях шас-га – они являлись коллективной собственностью взрослых воинов-мужчин. В лагере женщин было немного, большей частью при кострах и котлах, и никаких гаремов, даже у военачальников и великого вождя, Ивар не заметил. Это его не удивляло; в давние годы, во время практики на Пекле, он выяснил, что удовольствие от секса у местных автохтонов очень скромное и не играет той важной роли, что у землян, терукси или осиерцев. К контактам между полами здесь относились, как к сугубо утилитарному занятию, цель которого – продолжение рода. Сидя между тихо сопевшим Тентачи и скалившим зубы Дхотом, Ивар следил, как кроваво-красный диск Асура медленно и торжественно опускается за край земли. Зрелище было великолепным: над вершинами барханов вспыхивали и гасли алые отблески, небосвод с каждой минутой темнел, солнечный диск, сначала огромный и яркий, превратился в половину круга, затем в нависший над горизонтом сегмент и, наконец, в багряную гусеницу, чье тело укорачивалось, утоньшалось, съеживалось, пока не исчезло совсем. Тьма легла на пустыни и горы Раваны, на земли кьоллов и морские берега, на лагерь и торговый тракт; лишь слабые огни редких костров пытались бороться с мраком. Тревельян прикрыл глаза, инициируя ночное зрение; через секунду-другую он уже мог различить контуры шатров и повозок, нагретых солнцем и испускавших розоватый свет. Тогда он поднялся, сел на спину яхха и направился прямиком в пустыню. Две тени скользнули за ним, но задержались у границы лагеря – кто попадал в пустыню ночью, мог там и остаться, заблудившись в бескрайних песках или угодив на ужин к местным каннибалам. Тревельян, оглядываясь с гребней барханов, ехал до тех пор, пока на севере не исчезли едва заметные искорки костров. Он спешился, вызвал флаер и, под защитой силового поля, вытряхнул из волос и одежды песок. Затем достал из грузового отсека контейнеры с сухим рационом и водой, вскрыл их, поел и приказал трафору развернуть экран побольше. Между рогами яхха что-то закопошилось, вылез, прорвав кожу, гибкий отросток с голокамерой на конце, сверкнул неяркий луч, и, заслонив флаер, повисла серебристая поверхность. Мгновение, и в ее глубине всплыли лица Энджелы Престон, Юэн Чина, Маевского, Пардини и остальных коллег Тревельяна, собравшихся в зале совещаний. – Приветствую вас. Рад тебя видеть, Энджела, – промолвил Ивар. – Все здесь? Начнем, если вы готовы. Кто желает высказаться?* * *
Сообщение, посланное трафором, пришло на базу в дневные часы, так что к белому закату его успели просмотреть, поудивляться, обсудить увиденное и даже подготовить несколько рекомендаций. Поиск артефактов исчезнувшей цивилизации не входил в задачи ФРИК, но любая находка творений даскинов была событием чрезвычайным и не зависящим от того, как она свершилась. Обычно случай и удача давали сто очков вперед целенаправленным усилиям, если не касаться гигантских комплексов на протозвездах, заметных с дальней дистанции. Изучением древних сооружений и прочих феноменов, связанных с даскинами, занимался Исследовательский корпус Флота, привлекавший, по мере нужды, университеты и независимые ученые сообщества. Первым делом определялось, сколь опасен найденный объект, ибо, вступив в контакты с другими расами, люди быстро сообразили: самая безобидная на первый взгляд штуковина, доставленная из чужих миров, может оказаться смертоносной. Хапторы носили украшения в виде диадем со встроенным ментоусилителем – его воздействие на человеческий мозг было непредсказуемо. Кни'лина, не переносившие спиртного, пили коктейли и соки с добавкой веществ, которые блокировали у землян сфинкстер зрачка и функцию мочеиспускания. Среди товаров лоона эо попадались напоминающие шелк ткани, вызывавшие стойкую амнезию, снадобья-депрессанты, что, подавляя природный инстинкт, вселяли тягу к суициду, гипноглифы, способные погрузить человека в губительный транс, и другие предметы, красивые и необычные, однако с гарантией летального исхода или умопомешательства. Детские игрушки, если сравнивать их с творениями даскинов! Человек мог пить или не пить кни'линские коктейли, смотреть на гипноглиф или не смотреть, носить или не носить диадему хапторов и одеяние из шелков лоона эо, мог даже погибнуть из-за собственного безрассудства, что, в конце концов, являлось его личным делом. Проблемы с устройствами даскинов были гораздо серьезнее, ибо касались не человека, а человечества. Скажем, при запуске машины, известной как Большой Ассенизатор, могла возникнуть черная дыра, а потому до испытания любых объектов требовалось догадаться, как их остановить. Трудная, почти неразрешимая задача! Ведь если не нажата кнопка «пуск», не проверишь, сработает ли кнопка «стоп». Нередко установки Древних несли опасность, иногда непредсказуемую, так что использовать их без должного опыта не стоило. Это был как раз тот случай, когда азарт и любопытство не доводят до добра. Но нет правил без исключений – вернее, есть две категории людей, одна из которых подчиняется правилам, а для другой они необязательны. Дискуссия, разгоревшаяся на базе, это подтвердила. Участвовали в ней не все – доктор Миллер была в отлучке, а Исаевы трудились на океанском шельфе. Стажер Тулунов также отсутствовал, летел к берегам ядугар, но смог присоединиться к коллегам – его флаер находился в зоне видимости спутника. Из-за излучения двух светил слой Хевисайда на Раване оказался очень мощным, и бурные флуктуации ионизированного газа так искажали радиосигналы, что дешифровка становилась проблематичной. Стандартный метод связи в подобном случае был разработан давно: над полушариями планеты подвешивали пару спутников, способных достать лазерным лучом любую точку на поверхности. Для сообщения спутников друг с другом на их орбиту выводились ретрансляторы, и этот комплекс обеспечивал не только связь, но также служил для навигации, поиска сигналов маяков и наблюдений за объектами в исследуемом мире. Схема применялась и в нескольких упрощенных вариантах – так, на Раване спутник был один, но вращался быстро, обегая планету примерно за полтора часа. Спутник обеспечивал связь с приемно-передающими устройствами гравиплатформ, флаеров и прочих технических средств, транслировавших сигналы вызова на личные комбраслеты [109]. Период молчания составлял не больше сорока минут, если работавшие в поле люди находились в своих лагерях или в их окрестностях. Пять человек и трое терукси сидели в парке у бассейна, рядом с экраном, развернутым над кустами алых и белых роз. На экране маячила физиономия Инанту; широко раскрыв глаза, он слушал коллег, и его полные губы подрагивали от возбуждения. Новости с базы настигли стажера в трех тысячах километров от побережья ядугар, скрасив монотонность путешествия. – Воздержусь от оценок и прогнозов, – первым заговорил Маевский, старший по возрасту среди собравшихся. – Воздержусь, но замечу: теперь наше присутствие на Раване полностью оправданно. Удастся ли нам остановить шас-га или нет, мы в любом случае в выигрыше. Даже если наша миссия завершится крахом. – Считаете, что эта Спящая Вода важнее жизни сотен тысяч автохтонов? – с долей сарказма поинтересовался Пардини. – Нет, Джакомо, не считаю. Но прогрессорская миссия – дело ФРИК, а портал, несомненно, касается всех и каждого, и не только на Земле. – Маевский бросил взгляд на терукси. – Эта находка может изменить развитие цивилизации… многих цивилизаций, если мы решим поделиться ею с другими расами. Энджела Престон поправила волосы. – Йозеф, вы решили не делать оценок, однако… – Маевский ответил экс-координатору смущенной улыбкой. – Но в принципе я с вами согласна: портал – нечто большее, чем распря среди туземцев и наша попытка справиться с ней. Это несопоставимые вещи – хотя бы потому, что миллиарды граждан Федерации ничего не знают о Пекле, кьоллах, шас-га и возникших проблемах… может быть, слышали краем уха, но и только – мы ведь одна из сотен миссий ФРИК… Но каждый новый артефакт даскинов – новость чрезвычайной важности. Тем более пространственный портал. – Почему бы не использовать его для решения наших проблем? – спросила Анна Веронезе. Волнение, добавившее блеска глазам, сделало ее еще привлекательнее. Джикат Ду и Теругга не спускали с девушки глаз. – Потому, – молвил Юэн Чин, – что существует предписание, как действовать в данной ситуации. Мы обязаны составить отчет, приложить к нему видеозапись и отправить материалы в Исследовательский корпус и руководству Фонда. Напомню, что изучение таких объектов собственными силами запрещено. – Но это уже произошло! – воскликнул Пардини. – Тревельян переместился с помощью портала, а до него это сделали местные жители! Они прошли портал без неприятных последствий, тридцать с лишним тысяч шас-га и множество рогатых скакунов… Что это такое, если не изучение? Маевский приподнял брови. – Спокойнее, Джакомо, спокойнее… инструкции затем и писаны, чтобы слегка поприжать энтузиастов и романтиков. Возможно, наш случай – особый, и мы их уже нарушили… что случилось, то случилось… Но если мы решим продолжить в том же духе, то скажи мне, как действовать?.. В пещере, где побывал Ивар, односторонние врата. С севера на юг можно попасть, а обратно – нет! Воцарилась тишина. Терукси молчали с присущим им тактом, ибо, не являясь сотрудниками ФРИК, могли участвовать в дискуссии лишь с правом совещательного голоса. Юный Инанту тоже безмолвствовал, понимая, что слово стажера – последнее. Его физиономия переместилась в угол экрана, затем возникло серое пространство океанских вод, каменистый берег с надувным плотом, буйная растительность красных и желтых тонов и покатая стена жилого купола. Петр и Лейла Исаевы, еще нагие, но уже без искусственных жабр, сидели рядом на плоту. Их тела лоснились – защитная пленка не успела высохнуть. – Потрясающе! – Лейла всплеснула руками. – Мы уже посмотрели запись. Это ущелье, подземные ходы и пещера с порталом… Невероятно! Ну, Ивар всегда что-нибудь отыщет… Такой везунчик! Петр казался спокойнее. – Вы собрались для обсуждения перспектив? Есть какие-то здравые мысли? – Целых две, – сказала Престон. – Одни считают, что нужно соблюдать инструкцию, другие, что для формальностей нет причин, коль инструкция уже нарушена. – Уже нарушена… – повторил Петр. – Это как понимать? – Ивар ведь уже прошел через врата, – пояснил Маевский. – Да, разумеется. Понимаю. – Исаев растер плечи и грудь, сгоняя с них защитную пленку. – Прошел, верно. Но инструкции пишутся не зря. Их надо выполнять. – В данном случае это нелепость, – возразил Пардини, и Анна тут же подхватила: – Мы можем вернуть шас-га назад! Конечно, если найдем врата, ведущие с юга на север. – Вероятно, есть и такие, – сказала Лейла. – Дорог, по которым можно двигаться только в одну сторону, не бывает, это нелогично. Я согласна с Анной: нужно искать, а когда найдем, проверить. – Что мы знаем о логике даскинов и о том, куда ведут врата? – Исаев нахмурился. – Войдешь в портал на Пекле и окажешься в Ледяном Аду, а там без скафандра холодновато… Я бы тебя, милая, не пустил, так что не рвись искать и проверять. Супруги заспорили, а Юэн Чин, повернувшись к терукси, спросил: – Какое мнение у инженерной группы? – У нас говорят: камни на дороге доблести ранят ноги, но выбравший ее возвысится духом, – произнес Кафингар. – Мы готовы к поиску. Возможно, наше оборудование позволит его ускорить. Джикат Ду и Теругга молча склонили головы. Они тоже предпочитали дорогу доблести – тем более что путь был указан дамой сердца. Анна Веронезе одарила их чарующей улыбкой. Юэн Чин подмигнул Престон. – Похоже, Энджи, мы в меньшинстве – ты, да я, да Петр… А что скажет наш практикант? – Я тоже готов, – откликнулся Инанту. – К чему, юноша? – Ну это… искать и проверять… Я готов, клянусь Великой Пустотой! Может быть, мне вернуться, старший? – Нет. У тебя есть задание, его и выполняй, – сказал Юэн Чин. – Я хочу знать, что происходит у ядугар. Инанту сделал большие глаза. – А вдруг даскины явятся к нам? Сами, через этот портал? – Тогда я тебя предупрежу. Когда практикант отключился, Маевский, задумчиво потирая свой ястребиный нос, промолвил: – Наш юный коллега высказал дельную мысль: а вдруг они явятся к нам через этот портал? И что мы будем делать, друзья мои? – Поручим переговоры доктору Миллер, специалисту по даскинам, – предложил Петр Исаев. – Кстати, где она? Случай-то у нас неординарный, могла бы показаться, уважить коллектив… – Ее кибер сообщает, что она в поле, – сказала Энджела Престон. – Думаю, к ночи появится.* * *
Однако Нора Миллер не появилась, и Тревельян это сразу заметил. Энджела сидела между Кафингаром и Юэн Чином, над плечом Юэна виднелось прелестное личико Анны, а рядом с нею – два терукси; слева от этой группы расположились Маевский и Пардини. Физиономия стажера, загримированного под туфан, маячила в левом верхнем углу, лица Петра и Лейлы Исаевых – в правом. Все были здесь, все на месте, кроме доктора Миллер, и о причинах ее отсутствия можно было лишь гадать. Занята каким-то срочным делом? Или хочет выказать пренебрежение координатору? Или считает, что ее зверолюди, мохнатый народец с Раху, важнее всех других проблем – вторжения шас-га, гибели Кьолла, защиты городов туфан? Важнее даже, чем портал даскинов в пещере Поднебесного Хребта?.. Он вспомнил, что говорили о Миллер супруги Исаевы, и покачал головой. Нет, эти причины – нелепость! Характер у нее нелегкий – можно сказать, отвратительный – но на такую приманку, как артефакт даскинов, она бы клюнула. Что там клюнула, понеслась бы со всех ног! Пунктик есть пунктик… Так где же она? Ивар размышлял об этом, слушая Йозефа Маевского. Почтенные годы – а вулканологу было уже за сто – делали Маевского своеобразным рупором миссии; возраст одарил его опытом, спокойствием и той особой силой, что позволяет влиять на коллег человеку, не занимающему каких-либо постов и должностей. – Не сомневаюсь, Ивар, что вид этой Спящей Воды привел ваш разум и чувства в смятение, – произнес старый вулканолог. – Вы были потрясены, не так ли? Чудо, истинное чудо, я понимаю… поиски прохода через горы завершились столь неожиданно и странно! Вы обнаружили портал, которому миллионы лет, и позабыли, что согласно положению о таких находках… Об инструкции, запрещавшей использование установок даскинов, Тревельян, говоря по чести, даже не вспомнил. В том подземелье у Спящей Воды он ощущал себя охотником на редкостную дичь, путником, добравшимся до вожделенной цели… Маевский был совершенно прав, но сейчас, слушая его лукавые речи и понимая, что ответное слово сохранится в записи и станет оправданием, Ивар, однако, не хотел участвовать в предложенной игре. Впрочем, сыграть он мог, но только по собственному разумению. – Простите, Йозеф, но обстоятельства были иными, – сказал он, выслушав Маевского. – Не скрою, я волновался, но не настолько, чтобы забыть о предписаниях Консулата. Я нарушил их в здравом уме и твердой памяти, ибо так сложилась ситуация. Я находился у портала не один, а с группой аборигенов, считавших меня предводителем, и все они знали, что Серый Трубач прошел через Спящую Воду с войском шас-га. Что мне оставалось делать? Развернуться и уйти? Это было бы совсем нелепо. – Он помолчал и твердо добавил: – Решение мною принято, и хватит об этом. Как действуем дальше? Я вас слушаю. – Мы подготовим меморандум для Консулата, – сказала Энджела. – Готовьте, но пока не отсылайте. Не вижу причин торопиться. Без отчета о наших дальнейших шагах меморандум будет неполным. Какие еще у вас рекомендации? Ивар взглянул на Юэн Чина. Его приятель-этнограф являлся человеком обстоятельным, он, вероятно, уже подвел итоги и суммировал мнения коллег. – Большинство полагает, что нужно перейти к активным действиям, – промолвил Юэн Чин. – Искать в предгорьях Поднебесного Хребта портал, ведущий на север, и в случае успеха провести через него кочевников. – Мы исходим из того, – добавил Пардини, – что на Пекле не один портал, а целая система. Цель, с которой создана эта транспортная сеть, нам неизвестна, но вряд ли даскины ограничились единственной веткой и только на этом континенте. – Согласен, – кивнул Тревельян. – Подобная мысль мне тоже приходила в голову. У Спящей Воды я видел череду картин… они менялись стремительно, но я уверен, что это были виды различных мест, причем на разных материках. – Думаете, поиски нужно начать с того подземелья, где вы побывали? – спросил Маевский. – Несомненно. Мой трафор не нашел в пещере чего-то похожего на контрольный пульт, но обследовать ее все-таки стоит. Пошлем группу из трех-четырех специалистов, и вы ее возглавите… Нет возражений, Йозеф? – Вулканолог сделал знак согласия. – Возьмите наших инженеров, пусть изучат весь пещерный комплекс… вдруг мы поймем, как управлять этой машинерией… роботы тоже пригодятся… И вызовите доктора Миллер. Насколько мне известно, она обладает полезной информацией о Древних. Где она сейчас? – Еще не вернулась в свой лагерь, – пояснила Энджела. – Отсутствует уже восемнадцать часов.– Такое раньше случалось? – Да, Ивар. Если она пошла в другое поселение зверолюдей, то может задержаться на двое-трое суток. – Пошла пешком? – уточнил Тревельян. – Точно не знаю. Я осмотрела ее лагерь через сканеры спутника – там все в порядке, но гравиплатформы нет. Впрочем, она могла ее где-то оставить и дальше двигаться пешком. – Разве у нее нет комбраслета? – Конечно, есть. Но она… – Энджела поджала губы, – временами она немного увлекается. Большой научный темперамент… на двоих хватит. Лейла рассмеялась, Анна Веронезе хихикнула, и Тревельян решил, что Нора Миллер не слишком популярна у женской части миссии. Похоже, это ее никак не задевало. На Раху, среди своих карликов, неагрессивных и добродушных, она была в полной безопасности; медимплант заботился о ее здоровье, а случись что-то серьезное, от киберов пришел бы тревожный сигнал. Скорее всего, она не застряла в какой-нибудь трещине и не разбилась, упав со скалы… Проверить, однако, не мешало. – Юэн, ты можешь общаться со зверолюдьми? – Ну… более или менее. – Слетай на Раху и убедись, что с Миллер все в порядке. Если ее нет в лагере, расспроси туземцев – куда пошла, когда и зачем. Найдешь ее, возвращайтесь вместе на Шенанди. Она интересуется даскинами… Так пусть поможет Йозефу. Покосившись на своего стажера, Юэн Чин вдруг ухмыльнулся и пробормотал: – Никаких проблем, дружище, через восемь часов она будет здесь. Я скажу ей, что через портал лезут даскины и нам нужен переводчик. Анна Веронезе снова хихикнула и бросила на Тревельяна томный взгляд. Он оценил этот подвиг; внешность его была омерзительной, но не смутила девушку – Анна, похоже, могла разглядеть его душу и нежное сердце под жутким обличьем шас-га. «Это ей зачтется», – подумал Ивар, но одарить Анну улыбкой не рискнул – улыбка обнажала зубы, а они выглядели уж очень страшными. – Есть еще вопросы? – Позвольте мне, координатор… – Кафингар Миклан Барахеш оторвался от созерцания профиля Энджелы и привстал с кресла. – Если будет найден способ управления порталами либо необходимый нам портал, ведущий на север, и если он будет не очень далек от армии шас-га, каким образом вы заставите их пройти через это устройство? Ведь кочевники увидят свою степь, а это весьма несоблазнительное зрелище. «Кафи не сотрудник Фонда и не знает приемов обольщения», – подумалось Тревельяну. – Кочевники увидят то, что мы пожелаем, – произнес он вслух. – За вратами можно создать любую иллюзию, прерии со стадами бизонов, пейзаж Гелири с высокими травами, хоть дворец Гаруна аль Рашида. У нас есть голографические проекторы и целая куча кристаллозаписей. – Да, конечно, – терукси смущенно улыбнулся. – Я как-то не сообразил… Показать им райский сад и увести куда угодно… Распрощавшись и велев погасить экран, Ивар уставился в темноту, слушая, как за силовой защитой завывает ветер и шелестит песок. Уу-вессти, уу-вессти, уу-вессти – неслось над пустыней. Увести куда угодно, повторил он про себя и покачал головой. Можно увести, но для этого необходим другой водитель, не тот, что занимает шатер вождя. От того надо избавиться. Или копьем проткнуть, или шею свернуть, или, по местной традиции, наладить в котел… Убить своей рукой или натравить Дхота… Мысли были неприятными, но других вариантов Ивар не видел и потому вернулся в лагерь в мрачном настроении. Исчезновение Норы Миллер тоже не улучшило настроения, как и вид спящего воинства шас-га, над которым висело облако смрадных испарений. Бросив скакуну охапку веток и травы, Тревельян забрался в свой шатер, лег на драные шкуры и проспал до красного рассвета. Утром он высунулся из палатки, подозвал Птиса, Дхота и Кадрангу и спросил, доставлена ли свежая вода и пища и что прислали им для пропитания, кьолла или, скажем, рогатую свинью. Выяснив, что припасов нет и не предвидится, Ивар поглядел на их голодные рожи и отправил разыскивать старшего ппаа Сувигу. Очевидно, вопрос снабжения автоматически не решался, и щедроты вождя, обещанные Имм-Айдаром, не проливались без напоминаний. Вскоре вернулся Дхот и доложил, что Сувигу не нашли – колдун, крысиная моча, у великого вождя, у проклятого нидды, которого он, Дхот-Тампа… Тут зубы Дхота многозначительно лязгнули, и Тревельян велел ему убираться, но далеко не уходить, посматривать, не возвратится ли Сувига. Прошло минут пятнадцать или двадцать, и Дхот, дежуривший рядом с шатром, пробормотал: – Здесь он, ппаа Айла. К тебе идет. – Пусть идет, – отозвался Тревельян. Сдвинув полог, старый колдун, сопя и кряхтя, залез в шатер и опустился на устилавшие землю шкуры. Он был довольно увесист для шас-га – не такой толстый, как Киречи-Бу, но все же весьма откормленный; наверное, его костер Ррит посещал нечасто. Лицо Сувиги несло приметы возраста: оно казалось шире из-за отвисавших щек, пигментные пятна на лбу потемнели, волосы посеклись и в пасти не хватало половины зубов. Но он все еще выглядел бодрым – сидел в привычной позе, выпрямив спину, скрестив ноги и сложив на коленях длинные руки. Кисти с узловатыми толстыми пальцами напоминали лапы хищной птицы. Тревельян глядел на Сувигу, не делая знаков почтения. Пристальный взгляд у шас-га считался угрозой, и к тому же он с неприязнью оттопырил губы. В их шаманском ремесле этот старец был соперником, намного обошедшим конкурентов, и значит, дорога к великому вождю лежала через его труп. Возможно, эта мысль отразилась на лице Тревельяна – Сувига вздрогнул и стиснул пальцы в кулаки. Ивар сильнее оттопырил нижнюю губу и произнес: – Ты – Сувига из Мечущих Камни. Чего надо? Старик оскалился. Пользуясь языком жестов, он отвечал угрозой на угрозу, презрением на презрение. – Я – Сувига, присланный к тебе Братом Двух Солнц. Слушай его волю, помет хромого яхха! Пришедшего от вождя нужно было принимать с почетом, поднести воды и сделать знак повиновения. Тревельян окликнул Дхота, и тот сунул колдуну бурдюк с протухшей водой, которую набрали в колодце по ту сторону гор. Похоже, это не доставило Сувиге радости – глотнув, он скривился и швырнул бурдюк на землю. Тревельян, отвесив низкий поклон, спросил: – Что хочет от меня великий вождь? – Хочет, чтобы ты взглянул на демона. Неожиданная новость! Ивар считал, что ему даруют аудиенцию – все же колдун сильного клана Белых Плащей являлся важной персоной, не последним человеком в лагере. Наверняка Трубач нуждается в его услугах на завтрашнем обряде, мелькнула мысль. Но при чем тут какой-то демон? Вроде бы с духами и богами надо разбираться завтра, на красном рассвете… Или тот воин Зубы Наружу что-то напутал?.. Или Сувига подстроил каверзу?.. Или вождь желает проверить нового ппаа?.. Не спуская глаз со старика, Ивар промолвил: – Демон? Здесь появился демон? – Да. Может быть, прошел вслед за тобой через Спящую Воду. – Где он сейчас? – В клетке рядом с шатром Брата Двух Солнц. Кажется, речь шла о реальном существе. Духа в клетку не посадишь, решил Тревельян. Кого же они изловили, эти шустрые шас-га? Кьолла, жреца Таррахиши? Эти служители Бога Воды отличались своеобразной внешностью и особым талантом устрашать людей дикими воплями и гипнотической пляской. Почти уверившись в том, что демон – хишиаггин, жрец Таррахиши, он пробурчал: – Ххе! Что ж, я могу на него посмотреть. – Не только посмотреть, но распознать его сущность, – уточнил задание Сувига. И с явным удовольствием добавил: – Иначе – клянусь утробой Каммы! – жизнь твоя закончится в котле. «Долг старых – пугать молодых», – подумал Ивар. То было изречение Йездана Сероокого – правда, слегка перефразированное. Подобрав под себя ноги, он начал подниматься. – Идем! Идем, старик, посмотрим на демона. Но Сувига вытянул длинную руку и прохрипел: – Сиди! – Что еще? – Завтра Брат Двух Солнц и мы, четыре ппаа, будем вопрошать богов и духов. Принесем жертвы и узнаем, куда нам двигаться, на восход солнц или на закат. Вот мы и дошли до сути, пронеслось у Тревельяна в голове. Он уже не сомневался, что попавший в клетку демон – только предлог и что Сувига пришел совсем с другими целями. Похоже, слушать богов и духов без инструкции не полагалось. Важно приосанившись, он произнес: – Мне об этом уже сказали. Я готов. Я спрошу у Гхарра, Потики и… Сувига его перебил. Оскалился, лязгнул зубами и буркнул: – Можешь не стараться. Демоны шепнули мне, что нужно идти на восход. Ты должен это повторить. Ивар задумался. Решение двигаться на восток казалось разумным; видно, Трубач выпытал у пленников, что берега туфан поближе, а восточные оазисы – пообильнее. Пойдут ли шас-га на запад или на восток, в любом случае несколько владений кьоллов подвергнется разорению, пострадавших будет тем больше, чем более долгими станут поиски обратного портала. Но, предположим, армия направится к востоку, а портал окажется на западе? Если вообще его разыщут… Правда, у Маевского были сутки, чтобы обследовать пещеру самым детальным образом, а за сутки сделать можно многое… Подумав об этом, Ивар ответил уклончиво: – Я повторю то, что скажут духи. – Если твои слова не понравятся повелителю, ты точно окажешься в котле, – предупредил Сувига, но Тревельян презрительно выпятил губу: – Не тревожься, старая шкура. Котел мне еще не приготовлен, даже ветви для костра не собрали. Поднявшись, он покинул шатер и взгромоздился на спину скакуна. Белый ослепительный Ракшас висел над восточным горизонтом, алый диск Асура больше чем наполовину вылез из-за края земли. Прошло часа четыре с окончания сеанса связи; вероятно, группа Маевского уже трудится в подземелье, а Юэн Чин летит над пустынями Раху… Ивар прислушался к колокольцам, но они звякали невпопад, подчиняясь рваной рыси трафора. Никаких сообщений пока не приходило. Скакун Сувиги поравнялся с ним. Они ехали через проснувшийся лагерь; всюду суетились воины, сворачивали палатки, грузили в телеги котлы, оружие и прочее имущество, запрягали яххов и гнали их к дороге. Там вытягивалась длинная нить обоза, и Тревельян заметил, что головы животных смотрят на восток. Очевидно, вождь не сомневался в результате гадания. – У моих людей нет воды, – сказал Тревельян, покосившись на Сувигу. – Пищи тоже нет. – Зачем скакуну третий рог? [110] – послышалось в ответ. – Ты и твои люди молоды, вам хватит той воды, что вы привезли с собой. Я пробовал, хорошая вода! А захотите есть, забьете своих самок. – У нас плохие шатры. В них больше дыр, чем шкур. – Песок вам не повредит. На Пекле всюду было жарко, и шатры, палатки и другие убежища служили защитой не от холода, а от пыли и песчаных бурь. Но приличный шатер являлся делом престижа. – Я – ппаа Белых Плащей. Великий ппаа! – напомнил Тревельян. Сувига ухмыльнулся, разинув огромную пасть. – Пусть Белые Плащи подарят тебе шатер, раз ты их ппаа. А велик ты или мал, я скоро увижу. Совладаешь ли ты с тем демоном? Или попадешь в котел? – Одарив меня, Белые Плащи оскорбят щедрость владыки и навлекут его гнев. Я не желаю зла своему Очагу и не приму от них даже потертой шкуры, – молвил Тревельян. – А демон… Трудно ли справиться с демоном! Каждый великий ппаа может такое. Но тебе, Сувига, это не удалось. Лицо колдуна потемнело. Он бросил на Ивара ненавидящий взгляд и прошипел: – Твои слова – пища для червей… И сам ты скоро станешь пищей! Дальше они ехали в полном молчании. Миновав границу лагеря, яххи взобрались на холм, где стояли большие шатры и огромный котел с водой. Тревельян заметил, что вокруг него навалены вязанки хвороста и громоздятся кучи сухого навоза. Между шатрами бродили воины, охранявшие ставку вождя, но Серый Трубач не появлялся – должно быть, отдыхал или, в тиши и покое, лелеял великие замыслы. Прижавшись к шее трафора, Ивар спросил, нет ли каких новостей, но колокольчики звякнули коротко и резко. Новостей не было. – Туда! – Сувига грузно спрыгнул на землю и показал на отдельно стоявшую палатку. Там, у завесы из шкур, сидели шестеро Мечущих Камни, резали ножами плод дигги и жевали сочную мякоть. Шагая вслед за старым колдуном, Ивар тревожно хмурился. Нет сообщений от Маевского – ну, неудивительно, работа только началась… Но почему молчит Юэн? Он, надо думать, уже в лагере Миллер… Если ее там нет, можно спросить у зверолюдей, куда она делась… Что вообще с ней могло приключиться?.. Его томили дурные предчувствия. Люди так просто не исчезают – тем более в тот момент, когда они нужны! Завидев колдуна, стражи почтительно уткнулись носами в землю. Сувига по-хозяйски откинул полог и буркнул, не глядя на Тревельяна: – Иди, Белый Плащ. Демон тут, а котел – там! – Приоткрыв в ухмылке пасть, он вытянул руку к огромной емкости, но Ивар в ту сторону не глядел; остановившись на пороге, он впился взглядом в клетку из прочных кольев, связанных веревками. В дальнем ее углу, обхватив колени, сидела доктор Миллер, и яркие лучи Ракшаса скользили по измученному лицу женщины.
Следует признать, что лоона эо, хапторы и дроми – неподходящие партнеры для цивилизаторских проектов. Лоона эо замкнулись в своих космических поселениях; фактически они являются интровертной расой, создавшей буфер из сервов и наемников между своими мирами и галактическим сообществом. Хапторам чужды понятия гуманизма, покровительства и бескорыстной помощи, равным образом как и сама идея партнерства. Хотя их психика недостаточно изучена и еще является предметом для дискуссий, сделанные выше выводы признаются большинством ментоксенологов. Сотрудничество с дроми в рамках ФРИК также лишено перспектив; дроми – заложники своего способа размножения, который определяет их этику, мировоззрение и цели (см. подробнее: Ричард Клейст «Сексуальная практика негуманоидных рас», раздел «Дроми»). Если не касаться пока неосуществимых вариантов (сильмарри, лльяно, фаата, протеиды и другие расы, с которыми не установлен контакт), можно рассчитывать на сотрудничество с терукси, кни'лина и параприматами. Физиология и психика терукси настолько близки к земным стандартам, что ФРИК уже включает специалистов этой расы в свои экспедиции и миссии (Хаймор, Гелири, Равана и др.). С кни'лина осуществляется важный проект на Сайкате (см. отчеты ФРИК за последнее десятилетие), который начался не очень удачно, но благодаря усилиям сторон близок к завершению. Что касается параприматов, то они обещают стать весьма ценными союзниками – конечно, при согласовании этических позиций. Как выяснилось в ходе Осиерской Дискуссии (см. Приложение 12), это вполне реально.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 7. ФРИК и межзвездная дипломатия. Совместные проекты.
Глава 15. Обряд
Сувига взирал на демона с отвращением. – Белый, как червь – из тех червей, что жрут помет людей и яххов, – произнес колдун. – Белый и страшный. Ноги без пальцев, а в рот кусок мяса не просунешь. Думаю, отродье Каммы. Миллер была в белом комбинезоне и белых облегающих сапожках. Лицо бледное, короткие светлые волосы стоят торчком, одежда и обувь перемазаны засохшей грязью… Выглядит не лучшим образом, отметил Тревельян, но не похоже, чтобы перепугалась или смирилась. – Это не отродье Каммы, ты ошибаешься, старик, – сказал он, приближаясь к клетке. – Таких огромных червей не бывает. – Черви – белые, и этот – белый, – стоял на своем Сувига. – Разве только черви белые? – возразил Тревельян. – У облаков тоже белый цвет, и они плавают между землей и солнцами, детьми Баахи. – Хочешь сказать, что этот дух спустился с неба? – Отвислые щеки колдуна снова потемнели. – Не верю, нет! Ты глуп, как ящерица, и ничего не смыслишь в демонах! – Я-то смыслю, а ты, безрогий яхх, только вопишь да лязгаешь зубами. Говорю тебе, это небесный демон! Миллер сидела в своем углу, не глядя на Тревельяна и Сувигу, но караульные с интересом следили за их перебранкой. Наконец один из воинов – должно быть, старший – выплюнул непрожеванную диггу и бодрой рысью направился к большой палатке. За Трубачом, подумал Ивар, лихорадочно соображая, как бы выручить коллегу – и не просто выручить, а извлечь из этого максимум пользы. Взглянув на небо, он убедился, что флаер, скрытый облаком, висит над прогалиной. Волшебная палочка была на месте, готовая явить любые чудеса. Сувига бубнил свое, поддерживая реноме знатока демонов: – Белый демон совсем слабый, а небесные духи сильны! Могут наслать такой ветер, что песок застрянет в глотке, могут вызвать из горы огонь и дым, могут забросать землю горячими камнями! А этот белый чудес не явил. Огонь и ветер, дым и камни ему не повинуются. – Не явил, но вдруг явит, – заметил Тревельян. – Демонов лучше не злить. Даже мелкий дух способен выпить твою кровь и сожрать печень. Полог большого шатра откинулся, и в темном проеме возникла фигура, увенчанная тиарой из рогов с висящими на них бубенцами. Этот кочевник был обнажен до пояса и невысок – или выглядел невысоким сравнительно с длиною рук, мощью торса и шириною плеч. Темные волосы падали на грудь, под сероватой кожей бугрились мышцы, огромный приоткрытый рот – вдвое больше, чем у людей Земли, казался капканом с двумя рядами зубьев. Вождь, решил Тревельян, наблюдая за властной осанкой шас-га и его неторопливыми движениями. Можно было начинать спектакль. – Ты не веришь, что это небесный дух? – сказал он, поглядывая на шагавшего к палатке Трубача. – Хурр! Тогда спроси его, Сувига. Спроси, откуда он явился и зачем. Ты великий ппаа и должен понимать речи демонов! – Этот ничего не говорит, – буркнул колдун. – Я слышу шипение и визг, а не слова. – У демонов слова другие, чем у людей. – Тревельян ухватился за колья клетки, поднатужился и раздвинул их. – Сейчас я с ним поговорю. Серый Трубач, звеня колокольцами, приблизился к ним, и караульные, пав ниц, пробормотали: «Кровь – вождю! Мой лоб у твоих колен, повелитель!» Тревельян и Сувига тоже опустились на колени. Оглядев их, вождь властно махнул рукой. – Делайте свое дело. Ты – Айла из Белых Плащей? – Его взгляд воткнулся в Тревельяна, как раскаленное острие. – Говори с демоном! Хочу посмотреть, что ты умеешь. Предводитель шас-га был немолод, но крепок телом и, вероятно, не жаловался на здоровье. Он мог прожить еще десяток местных лет – больше двадцати по земному счету – и привести в запустение и хаос все обитаемые районы континента. Ивару доводилось встречать таких владык в примитивных мирах; жестокие и хищные, они излучали ауру власти и уверенность в собственной непогрешимости. – Прикажи, и я буду грызть камни, – молвил Тревельян и, сделав щель между кольями шире, полез в клетку. Миллер встрепенулась, стиснула кулаки и уставилась на него. Ивар понимал, что она видит: не коллегу и координатора, а жуткого обличьем людоеда-дикаря. Он осторожно шагнул к женщине. Миллер вскочила, развернулась вполоборота к нему и приняла боевую стойку. Как все разведчики ФРИК, она отлично владела приемами самозащиты. – Прочь, животное! Не подходи! Сказано на кьолле, отметил Тревельян. Она не владела языком кочевников, но понимала, что обращаться к ним на земной лингве бессмысленно. – Успокойтесь, Нора, – произнес он, совершая магические жесты, пристойные колдуну. – Это я, Тревельян. Не нужно обращать внимания на мою внешность. – Ивар?.. – Ее руки опустились, в глазах вспыхнула надежда, но тон остался сварливым. – Ну наконец-то! Я тут ночь просидела, и вечер, и утро! В этой клетке! В жутких условиях! Среди вонючих каннибалов! Где вы были, черт побери? – Развлекался в гареме, – пояснил Тревельян. – Потом завтракал. Устрицы, перепела, гондванские фрукты, вино с Тинтаха… Сами понимаете, было не до вас. Доктор Миллер поперхнулась, прокашлялась и опустила глаза. – Простите, Ивар, сейчас я буду в норме… простите… Я так рада вас видеть… Понимаете, я попала сюда… – Потом, Нора, потом.Сейчас встаньте на колени и обнимите мои ноги. Я – великий чародей, а вы – небесный дух, которого мне нужно усмирить. Поскорее, моя дорогая. Серый Трубач следит за нами. – Для небесного духа я, пожалуй, грязновата, – заметила Миллер и бухнулась на колени. Отличный профессионал, она быстро адаптировалась к ситуации и могла изобразить что угодно, от унижения до праведного гнева. Позади раздались изумленные вопли стражей. Серый Трубач и Сувига молчали, но как бы по-разному: в молчании вождя ощущался интерес, в безмолвии шамана – страх и зависть. Вероятно, ему уже чудились котел и нож, которым разделывали трупы. – Вы, крысиное семя, закрыть пасть! – вдруг рявкнул Трубач. Наступила тишина, и вождь, уже спокойнее, промолвил: – Дух покорился Айле. Что он говорит? – Жалуется, повелитель, – сообщил Тревельян на языке шас-га. – Встретили его плохо, без почета. А ведь он – небесный посланец! – Чей? Ивар воздел руки к небесам и склонил голову. – Самого Баахи и твоих сияющих родичей, Брат Двух Солнц. Он послан к тебе с важной вестью. – Сделав паузу, Тревельян коснулся плеча женщины и сказал: – Поднимайтесь, Нора. Вождь готов принести извинения. – Демон хочет жертву? – спросил Серый Трубач. – Нет, великий вождь. Он хочет вернуться на небо, но не может. Ему нельзя возвращаться, пока не исполнена воля Баахи. Он должен что-то сказать тебе. – Почему не сказал? – Он старался, очень старался. Ты, повелитель, верно сделал, когда привел к нему ппаа. Ппаа умеют слушать демонов. – Тут Ивар выпятил губу, оскалился в ухмылке и, бросив взгляд на Сувигу, добавил: – Конечно, настоящие ппаа. Предводитель шас-га задумался. Никто не ведал, где блуждают его мысли, никто не решался нарушить их движением, словом или каким-нибудь звуком. Все замерли: воины, сбившиеся в кучку у шатра, Сувига со взором обреченного, Тревельян, стоявший в почтительной позе, и даже белый дух, посланец самого Баахи. Возможно, Трубач пытался узнать у богов, зачем они послали демона, чья речь ясна лишь настоящим колдунам, – ведь боги могли бы все сказать ему, избраннику, сказать что угодно и на понятном языке. Но не сказали. И сейчас – если Трубач действительно их спрашивал – боги по-прежнему хранили молчание. Вождь шевельнулся. Звякнули бубенцы на короне с рогами, окаменевшее лицо Трубача дрогнуло, ноздри раздулись, пальцы стиснули торчавший за поясом нож. – Айла! – Мой лоб у твоих колен, повелитель. – Говори с демоном. Узнай, зачем его прислали мои светлые родичи. – Как прикажешь, великий. – Тревельян, сделав знак почтения, повернулся к доктору Миллер. – Нора, мы можем обменяться впечатлениями, но в двух словах – этот рогатый тип ждать не любит. Прежде всего объясните, как вы очутились здесь? Глаза женщины затуманились. – О, Ивар, Ивар… это немыслимо, невероятно… вы не поверите… – Отчего же, – сказал Тревельян, – поверю. Мир полон чудес, моя дорогая. Миллер кивнула. – Вы правы. И одно из чудес я нашла на Раху – некий древний артефакт. Я полагаю, что это… – …портал даскинов. Второй, Нора, вы нашли второй, так как первый – здесь, в горах. Кочевники прошли через него, а я – вслед за их воинством… Счастлив разделить с вами честь открытия! – Ивар попытался улыбнуться, но женщина вздрогнула – земная мимика на лице шас-га выглядела устрашающей. Он захлопнул пасть и произнес, с осторожностью двигая губами: – Итак, доказано, что на Пекле целая система порталов. Маевский уже работает у найденного мной и нуждается в вашей помощи. Сейчас мы покинем шатер, я вызову флаер, и вы улетите на базу. Там вас введут в курс дела. Вперед, Нора! Вылезайте из клетки, глядите на небо и что-нибудь говорите. Или пойте, или читайте стихи. Сойдет за молитву Баахе. Под взглядами вождя и стражей они покинули шатер. Миллер шла, запрокинув голову, вытянув руки к светилам, и монотонно бормотала: – При обследовании территории на Раху вблизи поселка три дробь восемнадцать была обнаружена ниша в скале, которая является объектом религиозного поклонения местных жителей. От стойбища зверолюдей к скале ведет русло пересохшей реки, азимут шесть с половиной градусов, примерная дистанция тридцать-тридцать два километра. В определенные периоды в нише возникает свечение – вероятно, силовое поле неизвестной природы, способное передавать визуальную информацию с удаленных пунктов планетарной поверхности. Можно предположить, что в этих пунктах находятся такие же устройства, как… – Это что ж такое будет? – спросил Тревельян, подавая команду флаеру. – Это будет статья в «Анналах ксенологии», – раздалось в ответ. – Или лучше послать заметку в «Журнал даскинов»? Как вы считаете? – Еще не знаю, но восхищаюсь вашей преданностью науке. Кстати, где ваш комбраслет? – Содрали и растоптали во время драки, – сообщила Миллер. – Когда я вышла из портала, дикари набросились на меня. Я, конечно, защищалась, и в результате… – Я понял, Нора. Можете не продолжать. – Глядя на белое облако, неторопливо плывущее к земле, Ивар опустился на колени и перешел на шас-га: – Великий вождь, дух предупреждает: ждите знамения от светлого Баахи. Завтра. Бааха пошлет его завтра, когда мы будем вопрошать богов и демонов. Серый Трубач оскалил зубы и гневно уставился на Сувигу. – Ты, протухшее мясо! Я говорил: раз явился демон – это знак! И он не отродье Каммы! Ты, гнилая шкура, не можешь слушать духов! – Кстати, о мясе и шкурах, – произнес Ивар, не поднимаясь с колен. – У меня плохой шатер, повелитель, и нет ни мяса, ни воды. Все мое достояние разграбили казза, когда я спешил явиться на твой зов. И они убили Киречи-Бу, моего почтенного наставника. – Об этом я знаю, – молвил вождь. Черты его снова застыли; отвернувшись от Сувиги, он следил за облаком, которое падало с небес, не выказывая ни удивления, ни страха. Его уверенность в собственной избранности и близости к богам была неколебимой; в конце концов, если боги не говорили прямо с ним, они отправили посланца, чтобы явить свою волю. И если старый шаман не смог разобраться в их велениях, они прислали другого, более умелого. Однако слово богов предназначалось ему, владыке и повелителю, а ппаа был лишь орудием в его руках – таким же, как нож или топор. «Увидим, что ты запоешь завтра, – с ноткой злорадства подумал Тревельян. – Завтра увидим, кто здесь Брат Двух Солнц и кому благоволит Бааха. Боюсь, что не тебе!» Облако опустилось на склон холма, и он, вытянув руки к скрывающей флаер иллюзии, сказал: – Идите, Нора. И, прошу вас, сразу же свяжитесь с базой или с Юэн Чином. Он в вашем лагере и, подозреваю, сходит с ума от беспокойства. – Я сделаю это. – Доктор Миллер помедлила, потом, выдавив улыбку, произнесла: – Спасибо, Ивар. Хмм… Пожалуй, я бы и сама выпуталась, но все равно спасибо. Она исчезла за голографической завесой, и спустя мгновение облако плавно двинулось вверх. Проводив его взглядом, Тревельян поднялся. Воины замерли с разинутыми ртами, от Сувиги воняло – похоже, он опорожнил кишечник, но Серый Трубач был невозмутим; только его глаза жестко поблескивали да чуть потемнели пигментные пятна на лбу. – Демон ушел на небо, – вымолвил вождь. – Хурр! Я доволен, Айла. Ты получишь все, о чем просил. Когда я буду говорить с богами, ты встанешь ближе всех. – Грызу камень у твоих ног, повелитель. Хорошо, что ты сейчас доволен, но будешь ли доволен завтра?.. Перед тем как уйти на небо, демон сказал… сказал то, что я боюсь повторить. – Говори! Тревельян посмотрел на огромный котел с водой, на кучи топлива, наваленные у камней, подпирающих емкость, и тихо произнес: – Знамение, предсказанное демоном… то, что случится завтра… дух сказал, что оно будет страшным.* * *
Днем, до самого красного заката, Тревельян ездил по лагерю, разглядывал воинов разных племен, фиксировал в записях их облик и говор, особые знаки на одежде и убранстве скакунов и те символы, которые каждый Очаг носил на шестах, – рога и хвосты, колокольцы и кожаные ленты. Шас-га, конечно, еще не являлись единым народом, хоть их объединял язык, а также образ жизни, обычаи и верования. Даже оседлые племена не сразу осознают свою общность, и бывает так, что ощущение единства, принадлежности к чему-то большему, нежели клан или полис, вообще не приходит или является слишком поздно, перед лицом смертельной угрозы. Так было в Элладе и стране майя, в Британии и Иберии, у германцев, кельтов и славян, у многих обитателей Земли, бывших народами только в глазах лингвистов и историков. Кочевники еще в большей степени хранят свою племенную особость, ибо пространства, разделяющие их, значительнее, чем у пахарей и строителей городов. Но временами, как случалось на Земле и в других мирах, является местный Атилла, харизматическая личность с удачливой судьбой, и собирает под свой бунчук орды воинов. И идут они разорять и грабить, жечь и убивать, а потом оседают на завоеванных землях, смешиваются с их прежними жителями и дают начало великим народам – или не дают и начего не приносят, кроме уничтожения и столетней тьмы. Как угадать, какой исход вероятнее?.. – размышлял Тревельян. И еще думал о том, что Серый Трубач несомненно обладает харизмой, и это делает его намного опаснее. Он разыскал больших вождей, носивших титулы Опоры Очага или Держателя Шеста, тех, что украшали скакунов пятью, шестью или семью бубенцами. Таких нашлось не очень много, так как армия шас-га была гораздо меньше полчищ, которые водили Кир, Тимур и Чингисхан. Эти вожди знали о новом великом ппаа, и знали их воины, ибо слух среди кочевников был подобен пламени в сухой степи. Перед Тревельяном расступались и шептали за его спиной, что этот колдун повелевает невиданными чудищами, что Пен, Потика, Гхарр и Хатт ему покорны, что из отродий Каммы он делает людей, а человека может превратить в любую тварь, что яхх под ним – не яхх, а огромная крыса, и что, подъезжая к Спящей Воде, он перебил в одиночку толпы разбойников, съел их печень и высосал мозг из костей. В этих слухах чудились отзвуки истины, того, что поведали стражи улетевшего на небо демона и болтливые люди Имм-Айдара; наверняка языки Тентачи и Птиса тоже поработали на этой мельнице. Так что Опоры и Держатели встречали Айлу с большим почтением и подносили сладкую воду – столько воды, что к красному закату его живот раздулся и намекнул, что лишнюю жидкость пора бы вывести. Ивар сделал это, удалившись за ближайшие барханы, а затем поднялся на песчаный холм и осмотрел засыпающий лагерь. Шатры и палатки были убраны, припасы и имущество погружены, на дороге, сколько видел глаз, тянулись возы, а перед ними, ближе к Тревельяну, сгрудились стада хффа и свиней под присмотром кьоллов. Рабов и скотину стерегли всадники, разъезжавшие на границе пустыни между кострами; в кострах горел сухой помет, наполняя воздух дымом и вонью. Верховых яххов загнали в лагерь, и воины ложились спать прямо на землю, рядом со своим оружием и скакунами. От этого скопища тысяч людей и животных распространялся слитный гул и тянуло отвратительным едким смрадом, более сильным, чем запах горящего навоза. Странное чувство охватило Тревельяна – он будто бы ощущал себя частицей этой массы провонявших потом тел, этого воинства, готового обрушиться на кьоллов, затем – на туфан и ядугар, и пожрать их, как стая оголодавших крыс. Объезжая лагерь, он выполнял стандартную акцию ФРИК: для захвата власти над ордой нужно было показаться воинам и полководцам. Его появление среди разноплеменных отрядов будило домыслы и слухи, его слова и вид подстегивали недовольных, рождая мысль о том, что у богов, возможно, есть другой избранник, столь же могучий, как Серый Трубач, или еще могущественнее. В ближайшие дни, после пары чудес, эта идея укоренится, и в нужный миг Айла, великий ппаа, станет великим вождем Айлой, новым Трубачом… Конечно, если понадобится. А сейчас он делал то, что полагалось делать в данных обстоятельствах, но погружение в ментальную ауру тысяч и тысяч шас-га не прошло бесследно; в каком-то смысле он соединился с ними, как соединяется песчинка с песчаным холмом. «Иначе и быть не могло, – подумал Ивар, – чтобы возглавить этих Гогов и Магогов, чтобы вернуть туда, откуда они вышли, нужно стать одним из них. Или хотя бы казаться таковым. Он ударил пятками в бока трафора и повернул в пустыню. Сообщение о том, что Нора Миллер благополучно добралась до базы, пришло после красного полудня; часом раньше отозвался Юэн Чин, доложил, что Миллер с ним связалась и он возвращается на пик Шенанди. Маевский тоже прислал три слова: «Ищем. Пока ничего». Это отсутствие успехов не слишком ободряло – Ивар предпочел бы вопрошать богов и духов, твердо зная, куда вести шас-га, на запад или на восток. Без этого знамение лишится той направляющей силы, которую он собирался вложить в задуманный спектакль; боги, как всегда, отделаются недомолвкой вместо ясных четких повелений. Он и к такому варианту был готов, но все же рассчитывал на Маевского, на Нору Миллер и общую их удачу. Вдруг что-нибудь да откопают! Правда, Йездан Сероокий сказал: у протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли… Отъехав километров на десять в глубь пустыни, Тревельян дождался полной темноты и велел трафору связаться с базой. Оказалось, что там дежурят трое – Престон, Кафингар и возвратившийся недавно Юэн Чин; Маевский взял с собой двух инженеров-терукси, но Анна Веронезе и Пардини не вынесли искуса любопытства и напросились в экспедицию. Нора Миллер тоже отправилась к ним. Новости на пик Шенанди не поступали. Выяснив это, Тревельян переключился на группу Маевского. Йозеф возник на маленьком экране, который трафор выдвинул прямо из холки. Лицо планетолога было сумрачным. – Не нашли, – произнес он, поглаживая подбородок. – Никаких признаков контрольной панели или чего-то в этом роде. Мы сделали видеозаписи, попытались просветить стены интравизором, сканировали каждый миллиметр поверхности… Безрезультатно, Ивар. Мы не знаем, что за устройство генерирует поле и как включается механизм переноса. – Есть какие-нибудь идеи? – спросил Тревельян. – Идеи, друг мой, всегда имеются. Я думаю, что наскоком мы не справимся с этой проблемой, нужны специалисты и хорошо подготовленная экспедиция. А вот Миллер… – Маевский на секунду запнулся, – Миллер считает, что мы ищем то, чего нет. Мы исходим из своей логики, а она такова: есть действующий механизм – значит, должен быть контрольный модуль, кнопки, клавиши, сенсоры, экраны, контактный шлем… Но это наша человеческая точка зрения, а даскины – не люди. Нора считает, что их техника управляется иначе. Тревельян поскреб в затылке. – Как? – Прямым мысленным воздействием – если угодно, телепатически. Биотоками мозга – только, видите ли, мозги у нас разные… Но можно попытаться. На базе хватает контактных шлемов. Такой шлем являлся ментоусилителем, соединявшим человека с интеллектуальными устройствами. Искусственный мозг высокого уровня, подобный трафору с Сайкатской станции, мог управлять кораблем, целым орбитальным поселением или компьютерной сетью, мог быть вживлен в робота или в памятный кристалл, и слияние с этим мозгом позволяло решать задачи, непосильные человеческому разуму. Тревельян имел опыт работы с контактными шлемами, да и сам процесс телепатической связи не был для него сакральной тайной – Советник-командор общался с ним именно этим способом. Но любые ментальные устройства, придуманные людьми, соединяли их с интеллектом, пусть искусственным и не похожим на живой коллоидный мозг, однако принадлежавшим человеческой цивилизации – или, в крайнем случае, гуманоидам вроде кни'лина, подобным людям. Но даскины на людей не походили. Внешний вид, физиология и психика Древних были такой же «вещью в себе», как и причина, заставившая их удалиться из Галактики. – Использовать шлем запрещаю, – сказал Тревельян. – Сдвинутые по фазе нам здесь не нужны. – Пожалуй, Ивар, вы правы, – согласился Маевский. – Не будем рисковать и продолжим свои штудии обычными методами. В стене пещеры есть разлом, трещина, через которую прошли кочевники, вы со своими спутниками и моя группа. Попробуем пробить там скалу и добраться до внешней защитной оболочки. Не знаю, что это даст, но попробуем. И еще одно… – Он сосредоточенно прищурился. – Есть другие идеи, Йозеф? – Не идеи, скорее прецедент. Что вам известно о Красном Пятне [111] на Юпитере? – То же, что всем: это один из входов в гигантский лабиринт, межзвездную транспортную сеть даскинов в Лимбе. Такие входы обычно расположены на протозвездах, и по этой причине… – Тревельян вдруг смолк, почесался – насекомые донимали – и произнес: – Считаете, есть аналогия между этим астроинженерным сооружением и нашей находкой? – Ну, в конце концов, то и другое – система подпространственной транспортировки. Разница только в масштабах. Там – предположительно вся Галактика, а у нас – поверхность планеты. – И что это нам дает? Насколько мне известно, ни один корабль или зонд не погружался в Красное Пятно. Межэвездная сеть Древних не исследована. – Вы ошибаетесь, Ивар. Была одна попытка в двадцать четвертом столетии, в период войны с дроми. Очень таинственное предприятие, должен заметить, – экспедиция Вальдеса-Лайтвотера… Я попробую отыскать их отчеты. – Это какой же Вальдес? – с любопытством спросил Тревельян. – Адмирал Сергей Вальдес, уроженец Тхара? – Он родился не на Тхаре, а на Земле, – уточнил Маевский. – Но речь не о нем, а о его сыне Марке Вальдесе. Именно Марк возглавил ту экспедицию, и с ним был Кро Лайтвотер и два других участника, чьи имена неизвестны. Подозреваю, они не являлись людьми. – Хмм… Интересно… – пробормотал Ивар. Он ничего не знал про эту экспедиции, хотя Вальдесы были его предками – вероятно, были, если верить деду-командору. Шесть веков назад – а может быть, шесть с половиной – Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев сочетался браком с Ксенией Вальдес, младшей сестрой того самого Марка, и от их первенца Павла Тревельяна Ивар вел свою родословную. Опять же, если верить деду, который был женат четырежды, не считая фронтовых подруг и других амурных приключений. Впрочем, эти семейные предания к делу не относились, и Тревельян, пожав плечами, произнес: – Бог вам в помощь, Йозеф. Сообщите, если найдется какая-то зацепка. С этими словами он отключился, но в лагерь поехал не сразу – сидел в жаркой вязкой тьме пустыни, глядел на редкие звезды и размышлял. Какая-то мысль порхала в сознании, как мотылек у пламени свечи, но робкий летун к огню не приближался и рассмотреть себя во всех подробностях никак не давал. Мерещилась Тревельяну Спящая Вода, но не в ту минуту, когда открылся портал сквозь хребет, а перед этим мгновением; чудились ему картины и пейзажи, сменявшие друг друга так стремительно, что он едва воспринимал увиденное. Вулканы в шапках дыма и бесплодные пустыни, заросли кустарника и деревья мфа с желтой листвой, серая поверхность моря и плоскогорья, выжженные светилами, горы, скалы и мрачные ущелья, оазисы страны кьоллов и города туфан, где в гаванях теснились корабли, а еще – круглый зал и купол с ниспадающей завесой, сиявшей так же ровно и мягко, как Спящая Вода… Что-то полагалось разглядеть в том зале, что-то заметить – и он, быть может, почти разглядел и заметил, но не успел зафиксировать. Так бывает со снами; в миг пробуждения помнятся они отчетливо и ярко, но если не повторить их мысленно, не пройти по ним шаг за шагом, они исчезают, словно унесенные ветром ночные тени. – Не могу вспомнить, – буркнул Тревельян, – не могу, клянусь Владыкой Пустоты! Надо будет снова наведаться в пещеру… – Я к вашим услугам, эмиссар, – напомнил о себе Мозг. – Я умею воскрешать воспоминания. Что вам угодно? – Что, что… Если бы я знал, что!.. – Насупившись, Ивар поднялся. – Поехали в лагерь, дружок. Надо выспаться, завтра у нас трудный день. Завтра мы явим волю богов этим потомкам песчаной крысы! – В раздражении он стукнул по колену кулаком и добавил вполголоса: – Спаси Бааха их грешные души, а о телах я позабочусь.* * *
Под огромным котлом пылало яростное пламя. Вода кипела и булькала, черный дым то поднимался к небесам, то, повинуясь порыву ветра, облизывал землю жаркими темными языками. Телохранители Трубача подносили и швыряли в огонь корзины и старые шкуры с сухим навозом, древесные ветки и колючий кустарник. Вокруг костра, утопая в дыму, мерно двигались полунагие воины, тешили Ррита пляской, подпрыгивали, вращали топоры и через каждые пять шагов испускали грозный вопль. Тысячи голосов вторили ему. «Шас-га!» – неслось над предгорьями и торговым трактом, «Шас-га!» – отдавалось эхом в ущельях и скалах, «Шас-га!» – звенело в ушах. Этот рев катился в пустыню океанским валом, и чудилось, что он достигнет берегов континента, перехлестнет морские проливы, долетит до Вритры, Намучи, Раху, Шамбары и даже до тех далеких островов, где в тишине и покое трудились Петр и Лейла Исаевы. На холме, поодаль от котла, стоял лицом на юг Серый Трубач в рогатой короне. За ним теснились ближние к владыке люди: Кушта, Лиги-Рух и четверо других вождей, носивших титулы Опоры Очага, десяток битсу-акков – им полагалось воспеть великое событие, телохранители и колдуны – старый Сувига, Пу, Кизз-Лит и Тревельян. Перед ними, затопив прогалину и растянувшись до самой дороги и рубежа пустыни, бурлило войско – лес взлохмаченных голов, острия копий, шесты со знаками отрядов и племен. Все были здесь: Белые Плащи, Люди Песка и Люди Молота, Люди Ручья и Мечущие Камни, Зубы Наружу, Пришедшие С Края, Сыновья Ррита и другие кланы. Узколицые, серокожие, с длинными, почти до колен руками, с пальцами, похожими на когти хищной птицы, с космами темных волос, они казались карикатурой на людей: лоб с пигментными пятнами, слишком большие рты, слишком короткие губы, не закрывающие зубов, слишком мощные челюсти, и у некоторых по хребту тянется полоска шерсти. Кроме уродливой внешности были у шас-га и прочих местных обитателей другие отличия от землян: иное устройство голосовых связок, единственная, но очень крупная почка, плотный кожный покров, который защищал от солнечного излучения, особая микрофлора в кишечнике, что позволяло утилизировать воду и пищу с повышенным содержанием солей. В общем-то мелочи, если вспомнить о разнице между людьми и хапторами. Было утро; Ракшас уже поднялся и залил светом горы и пустыню, гигантский красный диск Асура наполовину вылез над краем земли. День выдался тихим, жаркий южный ветер дул порывами, и по небу плыли к горам облака, чтобы пролиться дождем над огнедышащими вулканами и напитать ручьи и реки горькой водой. Небо было желтовато-серым, тучи – цвета пепла, цвета угля и остывшей лавы, и лишь одно облачко, неподвижное и крохотное, отливало белизной. Флаер, одолженный доктору Миллер, вернулся и висел теперь над холмом точно бабочка, запрятанная в кокон. Серый Трубач простер руки к небесам, и степное воинство, в последний раз выдохнув: «Шас-га!» – замерло в молчании и тишине. Пляска у костра прекратилась, подносившие топливо швырнули в огонь последний хворост и корзины, шаманы, вожди и певцы повернулись к восходившим солнцам. Их владыка расправил плечи, напряг мускулы, со свистом втянул жаркий воздух и, раскрыв необъятную пасть, запрокинул голову. Мощный трубный звук вырвался из его горла, и тишина треснула и раскололась как хрупкое стекло. У шас-га сильный голос считался для вождя обязательным – в схватке между Очагами вожди старались перекричать друг друга и ободрить своих воинов. Наверняка Трубач был самым голосистым в северной степи, подумалось Тревельяну. Самым громким, самым хитрым и самым безжалостным… Асур, вслед за Ракшасом, поднимался над землей, а вождь, жадно втягивая воздух, снова и снова исторгал все тот же хриплый грозный вопль. Его лицо потемнело, пигментные пятна налились кровью; в этот миг он не слал свои отряды в битву, но призывал небесных богов. Бааха, Бог Двух Солнц, и дети его Уанн и Ауккат обитали в высоких сферах, и только вождь мог привлечь их внимание к людям и земным заботам. Другое дело, Ррит – этот всегда являлся незваным, садился у костров и пожирал жизни воинов, детенышей и самок. Ррит наверняка уже был здесь, сидел у огромного котла в окружении духов и ждал положенной жертвы. Когда Асур всплыл в знойное небо, Серый Трубач принялся выкрикивать свои вопросы божествам. Они раскатились над пустыней, сменив призывный трубный вопль, и тысячи шас-га слушали владыку в почтительном молчании. Куда направить войско, к утреннему лику солнц или к вечернему?.. Где небесные братья пошлют удачу, в стране туфан или в стране ядугар?.. Защитят ли земного родича и слуг его от голода, даруют ли мясо, сладкую воду и траву для яххов?.. Позволят ли сломать хребты врагам, вырвать у них печень и сердце, разрушить селения и захватить колодцы?.. Сокрушить стены, которыми они огородились, вытоптать поля и сжечь шатры, выпить кровь их предводителей?.. Гремел хриплый голос Трубача, двигались в небесах светила, бурлила вода в огромном котле, а воины из Мечущих Камни уже гнали к костру нагих пленников. Должно быть, сотни две или три; кого полагалось бросить в кипящую воду, кого столкнуть в огонь, сломав перед тем хребет и ноги, кого освежевать на раскаленных камнях. Боги любили разнообразие – особенно Ррит, который жрал вареное и печеное, жареное и сырое. Сняв свою корону, Серый Трубач вытер вспотевший лоб. Потом подал знак колдунам приблизиться, ибо духи и боги, предвкушая трапезу, уже могли заговорить. Считалось, что главных богов слышит владыка, а тех, что помельче, – колдуны, но это распределение функций, возникшее с приходом к власти Трубача, еще не сделалось обычаем. В прежние годы только ппаа общались с богами и духами и знали их волю – на радость собственным желудкам, ибо Очаг кормил их и поил, и ставил им шатры, и пригонял им жирных яххов. Но времена изменились не в лучшую сторону для ппаа – новый вождь, как было всем известно, конкурентов не терпел. Впрочем, колдуны могли услышать глас богов, но лишь такой, который не расходится с мнением владыки. Сувига первым ринулся к вождю, но Тревельян оттолкнул его и прошипел: – Сказано Великим: когда буду говорить с богами, ты, Айла, встанешь ближе всех. Не лезь вперед, старая шкура! Он подошел к Трубачу и встал в двух шагах от владыки, на виду всего степного воинства. Сувиге пришлось занять позицию подальше; он принялся шептать проклятия, но сник под взглядом Тревельяна. Пу из Людей Ручья и Кизз-Лит из Людей Песка без возражений пристроились за старым колдуном; эти двое знали свое место. – Ты обещал знамение, – произнес Трубач, повернувшись к Ивару. – Не я, владыка, а небесный демон. – Краем глаза Тревельян следил, как воины выбирают первую жертву. – Думаю, знамение близится. И придет оно от Баахи и его детей. – Ложь! – прохрипел Сувига. – Не будет никакого знамения! И тот дух – не от Баахи, а отродье Каммы! – Разве ты не видел, как демон уходит на небо в белом облаке? – возразил Тревельян. – Или ты не веришь собственным глазам? – Камма любит обманывать. Камма… – начал колдун, но Серый Трубач оборвал их препирательства, рявкнув: – Закройте пасти, крысиная моча! – Он провел ладонью по лицу, отбросил назад волосы и уже спокойнее заметил: – Слова богов еще не пришли ко мне. Это было предупреждением: раз боги не говорят с великим вождем, то и колдунам не полагалось их слышать. – Боги и духи голодны, – сказал Сувига. – Они примут жертву, и ты услышишь их, Великий. Воины тащили к котлу молодого парня, он вырывался и пронзительно кричал. Похоже, пленные кьоллы сообразили, что за конец их ждет, – в толпе раздались стоны и вопли. Смерть не пугала пленников, но каждый понимал: лучше погибнуть от копья и секиры, чем от огня и кипящей воды. Пора, решил Тревельян. Шагнув вперед, он вскинул руки, принял позу взывающего к небесам и испустил трубный звук, столь же громкий, как зов великого вождя. – Слушайте, воины! Жертва не угодна богам! Бааха изгнал Ррита и говорит мне: люди – плохая трапеза для богов! Он хочет мясо животных! И посылает нам знамение! Реакция Трубача оказалась мгновенной: он сделал знак телохранителям, и те, вскинув ножи и топоры, бросились к Тревельяну. Но было поздно – от белого облака уже протянулся лазерный луч, ударил в котел, испарив воду, и разметал огонь. Испуганные крики шас-га и кьоллов перекрыло шипение ионизированного воздуха; молнии снова и снова били по кострищу, по раскаленным камням, котлу и земле, вверх летели головешки и снопы искр, жаркий пар растекался по вершине холма, заставляя людей отпрянуть. Пленные кьоллы смешались со стражами, и охваченная ужасом толпа ринулась к первым рядам войска. Внезапно гром и шипение воздуха стали не слышны – вопль, исторгнутый тысячей глоток, и рев животных заглушили все другие звуки. Все пришло в смятение: падали бунчуки с рогами и бубенцами, кричали воины, пятясь назад или рухнув на землю и прижимаясь к ней, дабы не видеть страшного зрелища, ревели яххи, напирая на повозки и опрокидывая их, а за дорогой, на краю пустыни, метались в панике свиньи и хффа. Ауккат и Уанн, светлые дети Баахи, висели в небе, равнодушно взирая на эту картину. Они казались двумя глазами божества: один был маленьким, белым и ослепительно ярким, другой – огромным, цвета крови. До окружения вождя пар не докатился, рассеявшись в воздухе, но все, певцы и колдуны, военачальники и стражи, лежали ниц. Трубач присел и скорчился, обхватив голову руками, – видно, его тоже пробрало. Рогатая тиара валялась у колен вождя. Когда молнии перестали буравить воздух и белое облако поднялось ввысь, Ивар поднял ее, отряхнул от песка и сунул вождю. – Дурное предзнаменование, Великий, но худшего, однако, не случилось, – молвил он. – Бааха продырявил котел и разметал огонь, но все мы живы. Он не тронул ни тебя, ни меня, ни воинов, ни яххов, ии даже пленных кьоллов. А мог бы разом изничтожить всех! – Хрр… – Вождь прочистил горло, нахлобучил корону и поднялся. – Что это значит, Айла? Бааха разбил котел, не принял жертву… Чем мы его прогневали? – Он не желает, чтобы люди ели людей и поклонялись Рриту, – пояснил Тревельян. – Прежде Ррит был могуч, но теперь Бааха сильнее, и мы должны ему повиноваться. – Сильнее? Теперь? Почему? – На севере у нас были скакуны, которые медленно плодятся и не могут прокормить шас-га. Но в этой южной стране есть хффа, свиньи и змеи, которых кьоллы умеют разводить. И еще они умеют выращивать диггу. Власть Ррита кончится, если пленные будут живы. Это был эстап, способный изменить жестокие обычаи кочевников. Влияние через религию, перемены в божественных догматах, смягчающие прежний образ жизни, считались у эмиссаров ФРИК важной деталью прогресса. В архаических мирах религия была тесно связана с этикой, с системой правил нравственного поведения, определявшей, что разрешено, а что является табу. Собственно, религия касалась всех других сторон, включая брак и семью, наследование власти, образование, развитие технологии и знаний о Вселенной. Таким образом, она являлась могучим средством воздействия на прогресс и оставалась им, пока не входила в противоречие с другими факторами – например, с пандемией чумы, от которой бог не защитил людей. Религиозные новации были уместны в ту эпоху, когда появлялась материальная база для перемен, нечто влияющее на сферы быта и, в первую очередь, на производство пищи. В этом смысле вторжение шас-га давало отличный повод к изменениям в их пантеоне, где Ррит, Бог Голода, и Бааха, Повелитель Солнц, до сих пор выступали на равных. Теперь Бааха стал сильнее, ибо, если использовать язык, привычный Тревельяну, пищевая база степняков расширилась. Серый Трубач прищурился, посмотрел на солнца и молвил: – Воля Баахи и его детей священна. Но я спрашивал их, куда идти моим воинам, в страну туфан или в страну ядугар. Они ничего не сказали. Что это значит? – Разве не сказали? – Тревельян простер руки к небесам. – Они говорят, что ты можешь идти куда пожелаешь, на восход или на заход божественных светил. Веди своих воинов куда угодно, но пусть они не едят ни кьоллов, ни туфан, ни ядугар. Вот повеление Баахи, вождь! Разве ты не слышишь его голос? Предводитель шас-га лязгнул зубами. – Ты смеешь сомневаться, ппаа? Я слышу, слышу! Бааха говорит со мной, ибо я – великий вождь! Мы пойдем по дороге кьоллов в страну туфан и сделаем тех и других своими пленниками! Мы не съедим их, раз такова воля Баахи, но заберем их воду, их скот, их земли и жилища. Тех, кто сопротивляется, убьем! – Вождь уставился на Ивара грозным взглядом. – Мои братья говорят: у непокорных надо вырезать печень. Или ты слышишь что-то другое, ппаа Айла? – Нет, – с тяжелым вздохом ответил Ивар, – нет. Я, мой повелитель, слышу то же самое. Тем, кто не покорится, нужно вспороть живот, выпустить кишки и вырвать печень. Как же иначе?Глава 16. Страна ядугар
Пива слишком много не бывает.Пословица народа ядугар
«Жаль, как жаль!..» – думал Инанту Тулунов, мчась в своем флаере к западным океанским берегам. На базе и в лагере кочевников такие события, а он – здесь, летит над бесплодной пустыней в тысячах километров от пика Шенанди, от стана Трубача и от загадочной пещеры! Если бы не это задание Юэн Чина, он, разумеется, напросился бы к Маевскому в команду… Шутка ли, портал! Портал даскинов! В Академии читали курс по артефактам этой древнейшей цивилизации, и Инанту, обладавший прекрасной памятью, мог перечислить их все, с местами и датами находок. Часть была сделана людьми за десять столетий полетов в космос, но многие устройства нашли кни'лина, фаата, хапторы или вообще неведомые землянам расы. Про эти народы пока ничего не знали, но весть об их открытиях передавалась из мира в мир, и не имело значения, был ли при этом контакт временным или постоянным, носил ли характер торговли, культурного обмена или войны. Рано или поздно любая информация о даскинах становилась всеобщим достоянием, так как использовать ее и сохранить в секрете никакая раса не могла. Причины к тому были разными, от находок таких же устройств другой, более контактной цивилизацией до планетарных катастроф, вызванных попытками разобраться с древним артефактом. Инанту не сомневался, что в ближайшие десять-двадцать лет о портале узнают все обитатели Рукава Ориона, и значит, имена открывших это чудо прославятся в космическом масштабе. К славе он был неравнодушен – как по причине юных лет, так и в силу душевного склада. Что скрывать, временами снились ему Венки Отваги, Обручи Славы и другие почетные регалии. Под днищем флаера лежала пустынная местность, которую кьоллы назвали Ку'Пеллшиар, Земля Без Воды И Травы. Здесь не было оазисов, и западный конец торгового тракта тянулся между предгорьями и песками на добрых триста километров без всяких признаков жилья. К тому же севернее этого района дымились вулканы, временами сотрясая почву и заволакивая дорогу сернистыми испарениями, хотя языки лавы до нее все-таки не доходили. В общем, путь из кьоллов в ядугар был здесь неприятнее и сложнее, чем на востоке, где у границ страны туфан имелось множество оазисов. С одной стороны, это было неплохо, так как гиблые пространства ограждали Кьолл от прибрежных соседей, ибо ядугар, не в пример туфан, являлись скорее разбойниками, чем купцами. С другой – торговля с ними все же велась, они поставляли древесину, рабов с Вритры и Шамбары, медь, олово, рыбу, соль и жир морских животных. Последний оазис на западе, владение барона Тунухшина, разбогател на этой торговле и начал превращаться в город, что для кьоллов, народа сельского и разделенного на небольшие фратрии, было совсем не характерно. Торговые караваны шли по Пеллшиару десять-пятнадцать дней, пробираясь от одного источника воды к другому, и Инанту пролетел над тремя такими экспедициями. Хотя путь между берегами Хиры был очень долог, случалось, что туфан добирались до ядугар и даже имели шанс вернуться обратно – надо заметить, с изрядной прибылью. Юэн Чин, посещавший западный берег, обычно маскировался под туфанского купца Крепкая Шея и даже имел среди паваши (так звались у ядугар морские ярлы) приятеля по имени Сесс. К нему он и послал практиканта. В другое время это принесло бы Инанту массу удовольствия, поскольку он имел склонность к приключениям и опасным авантюрам. У ядугар он еще не бывал, а о них поговаривали всякое – людей они, правда, не ели, но обожали развлекаться с чужеземцами. Иногда подвешивали за ноги на дереве сеннши, иногда бросали в воду к зубастым акулоидам или скармливали ракам с полуметровыми клешнями, иногда практиковались в метании секир, сшибая с темени чужака горшок с мочой. В общем, список ядугарских игрищ, с которым Юэн Чин ознакомил стажера, был весьма велик, разнообразен и привлекателен – во всяком случае, для молодого человека, желающего сделать имя в ксенологии. Но задание шефа уже не вдохновляло Инанту, и он размышлял лишь о том, как бы перебраться поскорее в ту пещеру, где обнаружился портал даскинов. Вдруг он поймет, как с ним совладать, и удостоится похвал координатора! Пространства Пеллшиара кончились, и завершились его мечты. Инанту снизил скорость, и теперь его флаер казался с земли гонимым ветром облачком. Местность уже не выглядела унылой и бесплодной – сначала появилась трава, потом кустарник таш, а за ним, ближе к морскому берегу, рощи деревьев сеннши. Деревья были высокими и мощными, с прямыми стволами и пучком желтой листвы, болтавшимся на самой макушке; пальмы – не пальмы, но что-то похожее и совершенно незаменимое для постройки жилищ и кораблей. Сеннши отличались неприхотливостью, им хватало влаги, принесенной ветрами с океана, и они росли в стране туфан и в стране ядугар, а также на берегах Вритры, Намучи и Шамбары. Без этого природного ресурса не было бы на Раване ни судов, ни лодок, ни морских народов, ибо из кустарника таш, произраставшего почти везде, можно сладить воз, лук или копье, но вот корабль из него не сделаешь. Тракт упирался в скалу у морского берега. Здесь находилось капище ядугар: несколько высеченных из базальта истуканов хмуро взирали на дорогу и грозили пришельцам огромными каменными дубинами. Очевидно, эти статуи изображали морских демонов или иных каких-то чудищ – лапы у них были перепончатыми и когтистыми, а по спинам тянулись плавники. Но Бааха и солнечные боги, а также Камма, Богиня Песков, у ядугар тоже почитались, что было неудивительным: рядом – знойная пустыня, а в небе – два палящих солнца, два глаза божества. Над капищем поднимался дымок – должно быть, жрецы готовили трапезу или приносили жертву. У подножий идолов тракт раздваивался: короткая дорога шла на север, к горам, более длинная, ведущая к югу, петляла между рощами сеннши и изрезанным берегом, огибая многочисленные фиорды. Около них и лежали поселения местного народа. Городов, крепостей и замков у ядугар не имелось, каждый вождь жил в усадьбе вместе со своей дружиной, рабами и женщинами, развлекался грабежом, жрал и пьянствовал, а в промежутках ловил рыбу и морского зверя. Инанту повернул на юг, пролетел над тремя извилистыми фиордами и, добравшись до четвертого, завис в воздухе. Внизу виднелось поселение: четыре больших дома из вертикально вкопанных неошкуренных стволов, между ними – очаг и утоптанная площадка с колодцем, за домами – сараи и мусорные кучи, в которых копалось стадо свиней. Дома поставили квадратом метрах в тридцати от берега; там, на больших валунах, были настланы бревна, и у этих мостков покачивались лодки и два корабля со сложенными мачтами. С обеих сторон причала стояли идолы – на сей раз не каменные, а грубо вырезанные из дерева. Судя по описанию Юэн Чина и карте, хранившейся в памяти флаера, это была обитель паваши Сесса. Усадьба, однако, казалась почти безлюдной: два раба приглядывали за свиньями, несколько женщин возились у очагов, а на мостках, у кораблей, дежурил страж. Кроме длинного крюка с заточенным концом у него имелся большой горшок, откуда он прихлебывал бурую жидкость. Выбрав скрытное место в ближайшей роще, Инанту приземлился, вытащил мешок с подарками и мех с водой, отправил флаер в небо и зашагал к мосткам. Тишина и отсутствие жителей настораживали; он слышал только визг свиней да шелест волн, лизавших камни. «Если корабли у причала, – думал Инанту, – значит, Сесс не отправился в набег и рыбу тоже не ловит, но если бы даже ярл был в море, здесь остались бы невольники и женщины, не один десяток человек. Где же люди? Уведены врагами? Не похоже! Враги бы разорили дома, забрали корабли и все припасы, оставили кучи трупов, а в усадьбе – полное спокойствие… Не похоже на внезапную атаку!» Конечно, Сесс мог совершать какой-то обряд в присутствии всех домочадцев, но идолы торчали у мостков, и никаких других изваяний либо алтарей Инанту не заметил. Решив наконец, что разберется на месте, он ускорил шаги и через несколько минут добрался до причала. – Ха, туфан! – воскликнул страж, оторвавшись от питья. Как все люди морского народа, он был низкорослым, но мускулистым и широким в плечах; вокруг его пояса колыхалась юбка из рыбьей кожи с нашитыми на нее медными бляшками, и такой же нагрудник защищал верхнюю часть торса и живот. Воин потянулся за крюком, взмахнул им, целясь Инанту в шею, но не попал. Должно быть, это усилие было чрезмерным – не удержавшись на ногах, страж рухнул на бревенчатый настил. Инанту отобрал у него крюк, толстое древко из ветви таша с приделанным к нему остроконечным бронзовым серпом. Отбросив оружие подальше, он поднял воина и прислонил к деревянному идолу. Эта статуя была не очень искусной, но в качестве опоры вполне годилась.
– Т-туфан, – повторил часовой и отхлебнул из горшка для подкрепления сил. – Чего прринес, т-туфан? Чего у т-тебя в котомке? Пьяный, догадался Инанту. И выпил немало – горшок величиной с ведро был пуст наполовину. От него тянуло неприятным запахом – ядугар гнали пиво из морских водорослей. – Я пришел к паваши Сессу, – сказал он. – Тревожные вести из страны… Икнув, воин обхватил левой рукой идола, а правой плеснул пива в жуткую деревянную рожу. – В-выпей, пррародитель… А ты, т-туфан, затнись и выверрни котомку. Легче б-будет обрратно топать. – Здесь подарки для паваши Сесса, – с достоинством произнес Инанту. – Ткань из Саенси, два браслета, нож и гребень для расчесывания волос. Их посылает твоему владыке… Страж снова прервал его. – К-какому владыке? М-мы –ссвободный наррод! М-мы… Решив, что слова бесполезны, Инанту врезал стражу в челюсть. Тот поворочал головой, бросил взгляд на пришельца, потом – на крюк, но, вероятно, убедился, что туфан – не из слабых, а до оружия не добраться. Глаза его приняли осмысленное выражение. Продолжая цепляться за идола, он попытался выпрямиться и пробормотал: – Т-ты чего, т-туфан? Сесс тебе н-нужен? Ну, так иди к Сессу! – Где он? – П-по дорроге иди, к п-поляне. Большая такая п-поляна… Т-там Сесс и ост… ост… остальные. А я – здессь! Я занят. В-видишь, пиво еще н-не кончилось! Воин с натугой поднял горшок, но Инанту потянул емкость к себе. – Что Сесс делает на поляне? Отвечай, трахнутый Баахой! – Т-тоже пьет. Потом дрраться б-будет. – С кем? – С п-паваши Дахом. В г-гостях у нас этот Дах… п-поспорил с Сессом… ежели расспить г-горршок, кто кого уложит… Все хотят п-посмотреть. П-поляна большая, м-места для дрраки много… Молча повернувшись, Инанту зашагал к дороге. В спину ему полетел крюк, но рука у бросавшего была нетвердой, и острие воткнулось в землю. Пробормотав проклятие, Инанту пустился бегом, оставив позади причал и усадьбу. Слева от дороги – большая редкость для этого мира! – тянулся лес, справа скалы и огромные валуны перемежались с галечными пляжами, а дальше сияла под лучами светил морская поверхность. Было жарко, под пятьдесят по Цельсию, и медицинский имплант, спасая Инанту от перегрева, ввел в кровь нужные снадобья. Он убавил шаг, вытер испарину со лба и принялся вспоминать, что Юэн Чин говорил о ближних соседях паваши Сесса. Вроде усадьба этого Даха стояла к югу от Сессовой, и вроде отличался Дах большой драчливостью… скандалист и выпивоха, но боец отменный… как бы не отхватил Сессу буйную голову… Поляна открылась через полчаса быстрой ходьбы. Очевидно, ее не раз использовали для пикников и ристалищ – трава была вытоптана, на опушке леса торчали пеньки, а у самого тракта темнело выжженное пятно, след огромного кострища. Народ на поляне – сотни три, не считая детей, – стоял кольцом, так что Инанту мог разглядеть только загривки и спины. У воинов Сесса и Даха спины были крепкими и мускулистыми, да и у женщин из усадьбы тоже выглядели основательно, а вот рабы с Шамбары, Вритры и Намучи таким сложением похвастать не могли. В другое время Инанту уделил бы им особое внимание, так как аборигены с малых континентов, не считая хеш, жителей Намучи, были на восточном побережье редкостью, но сейчас он спешил – возможно, в это мгновение Сесса кромсали крюком на части. Рев и выкрики, что поднимались над толпой, подхлестнули его – похоже, схватка была в самом разгаре. Он направился туда, где сгрудились невольники, и начал пробираться к середине круга, расталкивая темнокожих обитателей Шамбары, тощих хеш с выпирающими хребтами и ребрами, хилых туземцев с Вритры и каких-то зубастых монстров – не иначе как дикарей из Южной пустыни. Действовал он энергично, но огрызаться рабы боялись – или скорее были увлечены захватывающим зрелищем. В центре плотного кольца из человеческих тел звенели бронзовые крючья, слышалось тяжелое дыхание и шарканье ног, стучали, сталкиваясь, древки, и временами раздавался яростный рык, будто пара зверей сцепилась в смертельной драке. Вскоре Инанту добрался до первых рядов. Перед ним, посреди пустого пространства, размахивая крючьями, бились два крепыша, похожих как братья-близнецы. Оба примерно одного возраста и одинаково мощного сложения, оба в коротких юбках с медными бляхами, с гривами нечесанных волос, босоногие, потные и окровавленные. Но, пожалуй, их сходство было мнимым – лишь маска свирепости делала одного бойца зеркальным отражением другого, но в первый момент Инанту не смог их различить. Потом заметил пояс из бронзовых пластин, туфанское изделие и, несомненно, дар Юэн Чина; значит, владелец пояса был Сессом, а его противник – Дахом. Спустя еще минуту до него дошло, что битва – и не битва вовсе, а так, пародия. Видимо, Сесс и Дах одолели не один горшок хмельного пойла, и были те горшки немалыми! Бойцы ревели жутко, но удары большей частью сыпались в пустоту и, кроме случайных порезов, иного ущерба ни тот, ни другой противнику не нанес. Правда, эти царапины и ссадины сильно кровоточили, но поединщиков это не смущало; покачиваясь, они продолжали шаркать босыми ступнями в пыли, кружить, размахивать своим оружием, целиться в горло, в грудь, в живот, попадая в землю или стукая с грохотом о древко противника. Ноги у них заплетались, и временами, когда крюк сцеплялся с крюком, они напряженно замирали, стараясь сохранить равновесие. Пот, смешанный с пылью и кровью, размалевал их тела багрово-серыми потеками, вздутые животы, в которых булькало пиво, мешали двигаться быстрее, и юбка у Даха была разрезана спереди – видно, Сесс чуть не угодил в причинное место. Схватка продолжалась еще минут семь или восемь, потом Сесс отступил на несколько шагов, приподнял непослушными пальцами край юбки и обильно помочился. Дах сделал то же самое. Кажется, это придало противникам энергии; они уставились друг на друга выпученными глазами, взревели, ринулись одновременно в атаку и, столкнувшись, рухнули на землю. Из-за поднявшейся пыли было неясно, кто кого душит или кромсает крюком, но спустя недолгие секунды поединщики расползлись в разные стороны и сделали попытку встать. Этот момент Инанту счел подходящим для выполнения своей миссии. Растолкав стоявших впереди, он вышел на открытое пространство, поднял руки к небу и воскликнул: – Ради Баахи, остановитесь! В Кьолл пришли людоеды шас-га из-за высоких гор! Их великое множество, все с копьями, луками и топорами, все едут на спинах рогатых чудовищ, и остаются за ними только кости съеденных людей да развалины домов. Я это видел! И я говорю вам: готовьтесь сразиться с ними или бежать на своих кораблях! В толпе недовольно зашумели – схватка ярлов была интереснее нашествия каких-то людоедов из-за высоких гор. Что до Сесса и Даха, то вожди поднялись и уставились на Инанту. Потом Дах прохрипел: – Туфан! Туфан, чтоб меня сожрали морские демоны! – Туфан, – подтвердил Сесс. – Ты кто такой, туфан? – Купец по имени Ловкач, из города Саенси, – откликнулся Инанту. – Но сейчас я пришел не с восточного берега, а из страны кьоллов. Мы там торговали… я и Крепкая Шея, твой друг, паваши. Он посылает тебе дары и предостережение. Он… – Дары! – воскликнул Сесс. – Дары – это хорошо! Давай-ка их сюда, туфан. – Выхватив у Инанту мешок, ярл повернулся к рабам и приказал: – Пива! Пива мне и отважному Даху! И побыстрее, рыбьи дети! Принесли пиво. Сесс ополовинил горшок, вытряхнул подарки на землю и принялся их разглядывать. Дах почесывал спину крюком. В толпе галдели – зрителям хотелось поглядеть на схватку. Дары тоже вызвали их интерес, но меньший – мешок был небольшим, предназначался Сессу, и вряд ли он стал бы делиться подарками с дружиной. – Хороший нож, – заметил Сесс, поднимая бронзовый кинжал туфанской работы. – И ткань хороша, и браслеты… Но мало! Почему Крепкая Шея сам не пришел? – Он сейчас у кьоллов, – сообщил Инанту. – Следит за дикарями из северной степи. Вдруг они повернут к вам, в страну ядугар? Дах, отхлебнув пива, произнес: – Ха, дикари!.. Ты что про них бормочешь, туфан? Инанту повторил. На этот раз сказанное дошло до вождей – видно, от пива в мозгах у них случилось просветление. – Шас-га, говоришь? – буркнул Сесс, примеряя браслеты. – Сюда идут? Пусть! Мы им вывернем утробы! – Намотаем кишки на причальный столб, – добавил Дах. – Сдерем шкуры с их рогатых чудищ! – Да и самих дикарей разделаем и бросим на поживу крабам! – Истинно так! Сесс потряс крюком, и толпа ответила дружными воплями. Всякий народ, с которым сталкивались ядугар, был для них добычей; мысль, что сами они превратятся в добычу, в их головах не умещалась. – Этих дикарей слишком много! – в отчаянии выкрикнул Инанту. – Их больше, чем ядугар на этом побережье, считая с женщинами и детьми! Они съедят и вас, и ваших крабов! Сожрут ваших свиней и ваших рабов, спалят дома и корабли и выпьют пиво! – Кто выпьет наше пиво? – с грозным видом промолвил Сесс. – Эти ублюдки из-за гор? Ты чего-то не понял, Ловкач. Здесь живут не трусливые кьоллы и туфан, здесь страна ядугар! – Мое дело предупредить, как я обещал Крепкой Шее. – Инанту поклонился ярлам. – Я принес дары и сказал то, что вы слышали. Могу я удалиться? – Удаляйся. – Сесс милостиво взмахнул рукой и подобрал валявшийся на земле крюк. – Катись к морским демонам, а мы продолжим. Уберите дары! Я не желаю, чтобы Дах испачкал их своей кровью! Снова протолкавшись сквозь ряды невольников, Инанту углубился в лес и вызвал флаер. За его спиной звенела бронза, орали мужчины, визжали дети и женщины, но эти звуки становились все тише и тише, затухая среди древесных стволов и густого подлеска. Он шел неторопливо, размышляя о том, что если даже ярлы прикончат друг друга, их воины, женщины и рабы услышали весть о страшных пришельцах, и значит, она разнесется в ближайшее время по усадьбам и берегам фиордов. Использовав формулу распространения слухов, Инанту подсчитал, когда это случится, – при данной демографической плотности, частоте контактов, площади обитаемой территории и других привходящих величинах. Дней через сорок-пятьдесят всем в стране ядугар будет известно о грядущем нашествии, но этот срок можно сократить, совершив еще один визит в их края – скажем, в южные области, если Юэн Чин позволит. Но, возможно, это не понадобится… вдруг он, Инанту, выяснит, как управлять порталом даскинов… Примерно в полукилометре от поляны его догнали трое, то ли из людей Даха, то ли из дружины Сесса. Заступили дорогу, и один, поигрывая увесистой палицей, сказал: – Куда торопишься, туфан? Инанту остановился. – Что вам нужно, достойные воины? – Как что? Ты нас обидел, туфан! Принес дары паваши, а про нас забыл. – У меня только две руки и одна спина, – сказал Инанту. – Я не мог принести дары для всех домочадцев паваши Сесса. – Для всех и не надо, но нас ты должен одарить, – промолвил воин. – Иначе мы тебя подвесим на древесной ветви. – Но у меня ничего нет! – Есть. Твоя одежда, твой пояс, твой нож и бурдюк с водой. А если тебя потрясти, то и браслеты найдутся. Ты ведь в Кьолле торговал… Где же прибыль? Они не отвяжутся, понял Инанту. Драться ему не хотелось, и он внезапно прыгнул в сторону и пустился бежать. Ноги у него были длиннее, чем у приземистых ядугар, имплант подпитывал мышцы гормонами и кислородом, так что в резвости и выносливости он дал бы грабителям сто очков вперед. Они его не догнали, потеряли в чаще, и через несколько минут Инанту уже плыл над землей в белом пушистом облаке.
Глава 17. Поход
Очаг начинается с вождя.Пословица шас-га
Армия тянулась по дороге нескончаемой чередой. Серый Трубач, окруженный стражами, ехал впереди, сразу за ним двигались отряды Мечущих Камни и Белых Плащей, двух многолюдных племен, что составляли центр войска. Дальше покачивались на спинах яххов Люди Песка и Люди Ручья, Зубы Наружу и Люди Молота, Пришедшие С Края, Сыновья Ррита, Полоса На Спине и другие кланы, которых вели Кушта и Лиги-Рух. В хвосте последней шеренги скрипел колесами обоз, сотни телег с грузом палаток и шкур, стрел и копий, бурдюков с водой и корзин с припасами. По обе стороны от него всадники гнали толпы пленных и стада свиней и хффа, новую пищу, дарованную Баахой. Вздымалась пыль, ревели животные, стонали взятые в неволю люди, перекликались сторожевые шас-га, носились вдоль тракта посыльные, мчась то к голове колонны, то к последним отрядам воинства или к обозу. Армия Трубача шла на восток, а ее предводитель, сидя на могучем скакуне, глядел на небо и пытался услышать голос богов. Слышал ли он его прежде? Конечно, Ррит говорил с ним, но так, как и с другими шас-га, с воинами, самками и самым жалким из детенышей, ибо голос Ррита был ясен всем – голос пустой утробы, жажды, сосущего голода и ослабевших мышц. Прежде, размышляя над таинством Спящей Воды, Трубач решил, что это благодеяние Ррита, что тот смилостивился над племенами степи и, открыв дорогу через горы, дал им в пищу кьоллов, туфан и всех других людей, какие встретятся в этом краю. Но, кажется, он ошибался – Рриту жалость неведома, и жестокий бог отступился от шас-га лишь по велению Баахи. Здесь, за горами – как сказал Айла, ппаа Белых Плащей, – Бааха и дети его Уанн и Ауккат были сильнее Ррита и доказали свою мощь знамением. Таким страшным, что даже у него, великого вождя, печень сжалась и остановился ток крови… Но все же он – Брат Двух Солнц, божества небес дали ему власть, власть над шас-га, а значит, над всем обитаемым миром. Такое даруется лишь избраннику богов, их родичу, и никому другому! Почему же он не различает голоса Баахи?.. Почему Бааха говорит не с ним, а с этим Айлой, чье имя не слышали в степи, чей вид не внушает трепета?.. Почему? И кто этот Айла? Возможно, Блуждающий Язык богов, их битсу-акк, посланный великому вождю для толкования знамений?.. Хорошо, если так, решил Трубач. Однако Айла умен, куда умнее старого Сувиги, а слишком умные опасны. Умный не может быть преданным, ибо желает возвыситься, и нет предела этому желанию. Но вождь в Очаге – один! И с него начинается Очаг! В красный полдень войско миновало разоренный оазис, самый ближний к покинутой стоянке. Проломы в стенах, что отгораживали оазис от пустыни, были занесены песком, песок лежал на полях и пастбищах, на руинах селений и на берегах ручья с горькой водой, песок засыпал и оросительные канавы. Выше по склону, в предгорьях, обломанным зубом торчала башня, где обитал прежний хозяин этих земель. Но колодцы, укрытые плоскими камнями и обломками хижин, сохранились, и воины вычерпали их до дна. К закату белого светила передовые отряды достигли второго оазиса. Здесь царило такое же запустение, но остатки стены все же давали защиту от ветра, а колодцы переполняла сладкая вода. Серый Трубач отправил посыльных с приказом сворачивать с дороги: место было подходящим для ночлега. Воины не разгружали телег, не высекали огонь, не воздвигали шатров – ложились на землю рядом с яххами, грызли сушеное мясо и пили воду. Отряд за отрядом покидал торговый тракт и, вливаясь в проломы, исчезал за длинной каменной стеной. За всадниками катились телеги и шла живая добыча, но этой части воинства Трубач велел остаться на дороге. Он слез с яхха и поднялся на песчаный холм, наблюдая, как подтягивается обоз, как стражи сгоняют плотнее стада и толпы пленных, как невольники – те, что покрепче, – носят воду из канав и ручьев. Красное солнце садилось, и в сумраке массы людей и животных выглядели расплывчатыми; чудилось, что у стены подрагивает и шевелится гигантская песчаная змея. Вождь думал, что телеги и пленные делают войско медлительным, и потому слабых рабов нужно забить и бросить в пустыне, раз уж Бааха не дозволяет насытиться их плотью. Что до обоза, то пусть он идет под охраной тысячи воинов и разбивает ночью отдельный лагерь. Впереди владения кьоллов с каменными стенами, и там придется задержаться. Воины перебьют врагов и соберут добычу, а это требует времени. Обоз успеет их догнать… Сзади раздался шорох, скрип песка, и в то же мгновение чье-то тело обрушилось Трубачу на спину, чьи-то пальцы стиснули его шею, чьи-то зубы впились в загривок. Резким движением плеч он стряхнул нападавшего и повернулся, нашаривая рукоять ножа. Неясная тень маячила в полумраке; человек присел, почти слившись с серой песчаной поверхностью, и, кроме сверкающих глаз да смутных контуров фигуры, вождь не видел ничего. Ему подумалось, что эта тварь – из диких жителей пустыни, которых так боялись в Кьолле, ибо они кровожадны, вечно голодны и умеют подкрадываться к жертвам, как стая бесплотных духов. Шесть стражей стерегли покой вождя, и даже ящерица мимо них не проскользнула бы… Но этот – этот сумел! – Ты, рожденный в несчастливый день из дерьма хромого яхха, – раздался голос нападавшего. – Сейчас ты умрешь! Не дикарь из пустыни, отметил Серый Трубач, кто-то из своих. Тайный враг? Или ничтожный убийца, подосланный недоброжелателем?.. Он отпустил рукоять бронзового клинка. Захватить живым это тухлое мясо и выпытать, кто его хозяин… Человек прыгнул, сбил Трубача с ног, и они покатились по склону бархана, терзая друг друга скрюченными пальцами. «Нидда, проклятый нидда!..» – хрипел противник, подбираясь к горлу вождя. Он был очень силен, и спустя немногие мгновения Трубачу стало ясно, что живым его не возьмешь. Не нашлось бы в степи бойца, равного великому вождю, и годы не уменьшили его мощи, но он понимал: одно дело – убить, и совсем другое – пленить. Пленить!.. Это тухлое мясо его растерзает!.. У горла вождя щелкнули зубы, и он больше не колебался: вонзив большие пальцы в глаза врагу, стал отгибать его голову назад. Человек пронзительно завопил, когтистая пятерня прошлась по спине Трубача, оставив взбухшие кровью ссадины, но крик тут же оборвался; хрустнули шейные позвонки, и тело противника обмякло. Встав на ноги, Трубач наступил на его труп и пробормотал: «Иди в Йргык, крысиная моча! На Темные Равнины!» К нему с топотом мчались телохранители. Все шестеро рухнули на колени, уткнулись лицами в песок и, чувствуя свою вину, забормотали: – Мой лоб у твоих подошв, Великий! Прикажи… прикажи… прикажи… – Я вас не слышу, – равнодушно промолвил Трубач, повернулся к лагерю и испустил долгий призывный вопль. Над разбитой стеной заклубилась пыль, из-за каменных руин вылетели всадники с факелами – десяток, два десятка, три… Первым на огромном буром скакуне мчался Ка-Турх, Держатель Шеста, старший охраны, – верный, преданный и не слишком умный. Однако же не глупец, о котором говорят: печень в половину кулака, да и та в заднице. Спрыгнув со спины яхха, Ка-Турх бросил взгляд на повелителя, потом на стражей, лежавших у его ног, и, наконец, на труп с выдавленными глазами. – Кто? – спросил Серый Трубач. Взяв у воина факел, Ка-Турх склонился над мертвецом. – Одет как Белый Плащ, владыка, но не из них. Ноги короткие и сильные, привык лазать по скалам… пятна на лбу небольшие, кожа светлая – значит, из людей пещер и гор… Похож на Живущих В Ущельях. Вождь сделал знак согласия. – Похож. Решил, что может помериться силой с Братом Двух Солнц. – Трубач коснулся царапин под лопаткой, поглядел на измазанную кровью ладонь и приговорил: – Тело бросить здесь. Пусть жрут крысы и ящерицы. – А с этими что? Прикажешь в котел, Великий? – Ка-Турх помахал факелом над лежавшими воинами. – Нет. Бааха велел, чтобы в котлы бросали другое мясо. – Вождь на мгновение задумался. – Снять кожу. С живых! Потом вырвать печень. Стражей утащили. Яхх вождя фыркал и звенел бубенцами, чуя свежую кровь. Направив его к лагерю, Серый Трубач расслабился и опустил веки. Он был доволен. Он испытывал это чувство всякий раз, проявляя свою власть и силу – власть вождя и силу воина. Внезапно он подумал, что небесные боги все же говорят с ним, но не словами шас-га, а на своем божественном языке. Иначе откуда это ощущение всемогущества?.. Голос Ррита слышат все, он побуждает людей бежать к котлам и драться из-за пищи, но глас Баахи – нечто иное, доступное лишь избранным. Бааха дарует силу и уверенность, стремление к великой цели и вызывающую трепет мощь – то, что не выразить словами. Пусть! Для слов есть певцы и колдуны. Вождям не нужны слова. Серый Трубач возвращался в лагерь, чувствуя, как голос бога звучит в нем и наполняет от макушки до пят.
Бросив взгляд на феномен прогрессорства в масштабах Галактики, мы видим, что одним расам эта гуманная идея чужда, тогда как другие – например, параприматы и земное человечество – не только ее разделяют, но и реализуют на практике. Однако закономерен вопрос: является ли подобная деятельность изобретением этих народов? Не было ли в прошлом аналогичного прецедента, некой causa prima [112], подтолкнувшей какую-то звездную цивилизацию к вмешательству в процессы развития тех миров, которые мы называем архаическими? Это не академический вопрос, так как с ним связаны два существенных обстоятельства. Во-первых, нам не безразлично, имелось или нет такое воздействие на Земле (эта проблема активно дискутировалась в XX–XXI веках, но достоверного решения не получила). Во-вторых, если какая-то древняя цивилизация занималась прогрессорством, мы можем приобрести бесценный опыт, оценив результаты ее усилий. Если мы обнаружим объекты прогрессорского вмешательства, то сравнение прошлой и нынешней ситуаций подскажет, насколько целесообразна и разумна сама идея ФРИК, следует ли нам вести работу в этом направлении или свернуть ее, предоставив «меньших братьев» их судьбе. Пока веских доказательств подобной деятельности не обнаружено – за одним важным исключением. Возможно, даскины…Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 8. Аналоги ФРИК в прошлом.
Глава 18. Дорога на восток
Тревельян ехал в повозке, запряженной двумя сильными яххами. Повозка, новые шатры, припасы и скакуны были даром владыки – или, если угодно, платой за переговоры с белым демоном. Все это добро привезли вчера, а нынешним утром, после огненных знамений, к нему добавились еще один воз, шкуры горных кенгуру для постели, бронзовый котел и дюжина воинов почетной стражи. Воз, шкуры и котел Тревельян принял с благодарностью, а стражей отослал, сказав, что владыке они нужнее, а бедному ппаа не прокормить стольких бездельников. Войско вышло в путь, едва улеглась суматоха, причиненная блеском молний и оглушительным громом. Шас-га были людьми простыми, живущими в согласии с природой и принимавшими как должное любые катаклизмы; огненная лава, туча пепла, песчаная буря или иное свидетельство гнева богов пугали их столько времени, сколько длились, питая затем лишь скудную фантазию рапсодов, слагавших Долгие Песни. Ярость Баахи иссякла, а вместе с ней улеглось смятение и наступил порядок; молнии никого не сожгли, великий вождь и остальные предводители были живы, а из-за пары перевернутых телег беспокоиться не стоило. Вождь натянул свою рогатую корону, занял место впереди и велел трогаться; лапы яххов взметнули пыль, зазвенели бубенцы, заскрипели колеса, и отряды всадников потекли на восток бесконечной рекой. Ивар сидел в фургоне на тюках с кожами, служивших покрытием шатру. У ног его скорчился Тентачи, Птис правил, дергая ремни, привязанные к рогам яххов, две другие телеги пылили следом, а за ними ехали четверо воинов, Кадранга, Иддин, Тойла-Ац и Дхот. Обоз двигался неторопливо, но без остановок и задержек; телега за телегой, упряжка за упряжкой тянулись по неширокому тракту между отвесными скалами и пустыней. Сзади маячили жутковатые морды яххов, спереди – их широкие крупы, покачивались рога, покрикивали погонщики, и так минута за минутой, час за часом, под палящими солнцами, в потоках ветра, несшего из пустыни песок. Монотонное движение убаюкивало, расслаблялись мышцы, закрывались глаза, пыль, проникая сквозь завесу волос, оседала на потной коже хрупкой темной коркой. Возможно, эта сонная неторопливость являлась тем, в чем нуждался сейчас Тревельян; он чувствовал, как напряжение после утреннего спектакля покидает его, как уходит тревога и возрождается уверенность. Каким-то непостижимым образом он чувствовал, что сумеет повести эту массу людей, воинственных шас-га и пленников, куда угодно, на запад или на восток, даже в гибельную пустыню, и они пойдут за ним, не ведая сомнений. Откуда-то он знал, что миссия закончится успешно и принесет немалую пользу для будущего ФРИК – какую именно, покажет время. Это предчувствие было сильным, словно занавес грядущего отдернулся на миг, явив ему то, что еще не свершилось, но обязательно свершится. «Осталось только выяснить, как управляется портал», – мелькнула мысль. Подумав об этом, Ивар заворочался на своем тюке, отвел с лица волосы и сплюнул – горло забила пыль. Тентачи, сидевший у его ног, коснулся барабана. Змеиная кожа загудела под быстрыми пальцами. – Великий ппаа! – пробормотал певец. – Хурр, – согласился Тревельян, протирая глаза. – Наш хозяин – великий из великих, – уточнил Птис и гикнул на яххов. – Хурр! – Да, великий из великих, повелитель духов и демонов, – произнес Тентачи, поглаживая рокочущую кожу. – Хурр… – Тревельян с блаженным видом почесался. – Сам Бааха говорит с тобой! – Сам Бааха, прародитель солнц, – поддержал Псис. – А с Киречи-Бу говорили одни мелкие демоны, да и то лишь когда он нажрется и задремлет. Он заставлял меня слушать свое бормотание, будто это речи духов… Но я слышал только, как бурчит у него в животе. – Киречи-Бу – ничто против нашего хозяина, – заметил Тентачи, презрительно отвесив губу. – Бааха посылает знамения лишь могучим и мудрым, умеющим их толковать. Не тем глупцам, у которых печень в пятке. – Ты прав, битсу-акк. – Птис сделал жест одобрения. – Только могучим и мудрым! Тревельян потянулся, разминая мышцы, и промолвил: – Хурр! Как приятно слушать правду! Говорите еще, и я позволю вам облизать котел, когда съем мясо. Птис был поглупее и потому начал прославлять хозяина, но Тентачи уловил иронию и заткнулся. Подождав, когда Птис иссякнет, он робко произнес:– Это знамение, ппаа Айла… это страшное знамение… Я сложил о нем песню. Хочешь послушать? – Песня длинная или короткая? – поинтересовался Ивар. – Короткая, великий ппаа. – Ладно. Если короткая, пой. Битсу-акк ударил в барабан.
– Неплохо, совсем неплохо, – одобрил Тревельян. – Твой дар расцветает, Тентачи. Надеюсь, ты еще сочинишь Долгую Песню. – Дар? – Блуждающий Язык недоуменно сморщился. – Не понимаю, хозяин. Дар – это нож или котел, вода или мясо… А у меня ничего нет. – Есть. Умение складывать песни – тоже дар. Дар богов. Некоторое время Тентачи переваривал эту мысль. Потом сказал: – Хочу спросить, ппаа Айла. Дозволишь ли? – Я тебя слушаю. – Когда Баахой было послано знамение, ты сказал, что светлый бог не велит есть кьоллов, туфан и ядугар. Шас-га тоже нельзя есть? Ни самок, ни детенышей, ни погибших воинов? – Да. Бааха запрещает питаться людьми. – Кто же будет есть покойников? Крысы, змеи и черви? Это против обычая, великий! Это поношение для мертвых воинов! – Обычаи меняются, если такова воля бога. Чтобы звери не съели убитых, их нужно закапывать в землю. – Но если убитых не съедят люди или звери, их тела сохранятся и все убитые попадут в Йргык! Подумай, хозяин, что тогда случится! Темные Равнины Одиночества переполнятся, и попавшие туда будут сражаться, ибо каждый захочет стать Стражем Йргыка! И там, в Йргыке, победители все равно станут есть побежденных! Как же так? – Хм, – промолвил Тревельян, – хмм… Йргык! Этот момент он упустил из вида. Религиозные воззрения шас-га определенно нуждались в более серьезной реформе! Тентачи был прав: табу на поедание людей превращало Темные Равнины в поле кровопролитной битвы, где всякая схватка кончалась запретной трапезой. Не очень привлекательный сюжет – драться даже после смерти и все-таки быть съеденным! Прочистив горло, Тревельян изрек: – Я спрошу об этом у Баахи. Он милостив и, наверное, приготовил другое место для убитых и умерших. Место, где не надо сражаться, где у каждого будет хороший шатер, крепкий яхх и котел с мясом животных. Я даже знаю, что ответит Бааха… – Он на секунду призадумался. – Бог повелит, чтобы мертвые отправлялись на равнины, где много травы и воды, в место, над которым светят солнца и сияют звезды, где нет песчаных бурь и нет вражды среди людей. Сложи об этом песню, Тентачи, и пусть она будет длинной. – Я постараюсь, ппаа Айла. Ты расскажешь мне об этих равнинах? – Непременно, – пообещал Ивар. – А сейчас я хочу размятся. Проедусь вдоль дороги. Он перебрался на спину трафора и погнал его на восток, к голове колонны. Армия шас-га растянулась вместе с обозом на добрых пятнадцать километров, продвигаясь по тракту и рядом с ним, где у обочин песок был плотнее либо выходили на поверхность плоские скальные плиты. Обоз отставал от войска, поскольку по обе стороны от линии телег гнали скот и толпы пленных. Невольники-кьоллы были слишком истощены, чтобы поспевать за верховыми яххами, а рогатые свиньи, не слишком приспособленные к долгим переходам, тоже замедляли движение. Однако Тревельян не видел ни человеческих останков, ни павшей скотины. Люди и животные в этом мире были выносливей, чем на Земле, и расставались с жизнью неохотно, только под ударом топора или в результате многодневной жажды. Минут через двадцать Ивар нагнал последние отряды всадников. Его появление не прошло бесследно: узкие серокожие лица с огромными ртами повернулись к нему, приоткрылись пасти, воины загомонили, привставая на спинах яххов, вытягивая длинные руки. Вид ппаа Белых Плащей воскресил память о знамении богов, об утреннем чуде, внушившем ужас, к которому колдун Айла имел прямое отношение. – Не стоит их разочаровывать, – пробормотал Тревельян, склонившись к шее трафора. – Ну-ка, дружок, покажи, на что мы способны! Трафор отозвался перезвоном бубенцов, и вскоре Ивар ехал на гигантской крысе с острыми, как шилья, зубами. Спустя недолгое время под ним оказался зверь Четыре Лапы, тоже огромной величины, затем – горный кенгуру, снова уступивший место крысе. По шеренгам всадников прокатился гул, яххи шарахнулись от страшного чудища, взревели и принялись крутить хвостами, разбрасывая по сторонам навоз. – Кончай свои фокусы, – сказал Тревельян, направив скакуна в пустыню. – Есть сообщения от Маевского? – Нет, эмиссар. Прикажете связаться? – Трафор принял свой обычный вид. – Не нужно. Нет информации – значит, нет и успехов. – Прищурившись, Ивар посмотрел на алое солнце. – Асур уже в зените… Скоро доберемся до разоренных оазисов… Хотел бы я знать, что от них осталось! Осталось немногое: защитная стена с зияющими проломами, руины замка, колодцы с водой и занесенные песком поля. В толпе пленных, которых гнали мимо оазиса, поднялся горестный вой; не было для кьоллов большего несчастья, чем видеть гибнущую землю и водоводные канавы, забитые грязью и обломками жилищ. Тревельян, однако, подумал, что разрушения не слишком серьезны – ирригационную систему можно восстановить, прорехи в стенах залатать, жилища отстроить, а поля и пастбища очистить от песка. Что бы ни натворили кочевники, труд многих поколений не уничтожишь за часы или дни; медленное многолетнее наступление пустыни было опаснее ярости варварских орд. К вечеру войско достигло второго оазиса и расположилось на ночлег. Костров не разжигали, ели мясо, высушенное на горячих камнях, пили воду, распределенную старшинами, спать ложились рядом с телегами и скакунами. Трапеза у шас-га была занятием почти священным – тот, кто пропустил ее, оставался без еды и воды от заката до заката. Спутники Ивара не забывали об этом и сгрудились у повозки с припасами, ожидая, когда хозяин осчастливит их пищей, питьем и мудрым словом. Птис был здесь, и Тентачи со своим барабаном, и Кадранга, предводитель воинов, и Тойла-Ац с Иддином, и три женщины; все стояли, раскрыв рты и пуская слюну. Но Дхота Тревельян не досчитался. – Где он? – Припадаю к твоим подошвам, великий ппаа. Я правил повозкой и не глядел назад, – доложил Птис. – И я припадаю. – Тентачи вытер с губ слюну. – Но я не видел Дхота. Я складывал Долгую Песню о равнинах, где много травы и воды. Женщины шас-га красотой не блистали, зато были послушными и работящими, справлялись с упряжкой яххов не хуже Птиса. Куда подевался Дхот, они тоже не знали. – Ехал с нами, – сказал Кадранга. – Позади нас, – уточнил Тойла-Ац. – Ехал, пасть не разевал, а потом его не стало. – Ххе! Захочет жрать, придет, – добавил Иддин. Но Дхот-Тампа не появился – ни в эту ночь, ни на следующее утро.
* * *
Перед восходом белого солнца с Иваром связался Маевский, просил разрешить ментальное зондирование пещеры, говорил, что Миллер не видит иного выхода и что он сам наденет шлем. Было ясно, что обычные методы не привели к успеху и вряд ли приведут – похоже, даскины не нуждались в контрольных пультах, голографических панелях и сенсорных переключателях. Эта раса опередила землян не на века, на тысячелетия – во всяком случае, так казалось Тревельяну. Слушая тихий голос Маевского, он вспоминал свою высадку на Хтоне, биоморфа Фарданта и то, что хранилось в его бездонной памяти – сведения о существах, не имевших космических станций, роботов и боевых кораблей, лишенных зримого обличья, но обладавших всемогуществом. Когда-то – должно быть, миллионы лет назад, – они покарали жителей Хтона, перебросив их мир и их звезду в Провал и в далекое будущее – в современную эпоху. Страшная кара! Гибельная для живых созданий, неприспособленных к странствиям во времени! Время стирает память о случившемся с нами, сказал Йездан Сероокий, мудрец кни'лина. Но память о Хтоне была жива. – Я запрещаю ментальный зондаж, – сказал Тревельян. – Слишком опасное дело, Йозеф. Возможно, Миллер права, но я запрещаю. – Мы привезли контактный шлем, – сказал Маевский. – Если передумаете… – Не передумаю. Будем осторожны, Йозеф. Даскины это даскины. – Владыки Пустоты… – задумчиво промолвил планетолог. – Нет. Владыки пространства и времени. Связь прервалась. Ивар сидел среди спящих шас-га, привалившись спиной к колесу повозки. В темном небе висела половинка луны – Гандхарв был на ущербе и выглядел в эту ночь чашей из зеленоватого стекла, отлитой в небесных мастерских. С юга, со стороны пустыни, налетел ветер, бросил в лицо песок, взъерошил Тревельяну волосы. Казалось, что ночь тянется целую вечность и будет тянуться до скончания веков. Где же Дхот?.. Мысль скользнула по краю сознания и исчезла. Сейчас он думал о другом. Тихо прозвенели колокольчики. – Ваши приказания, эмиссар? – раздался чуть слышный голос трафора. – Шшш… Не мешай, дружок. Я вспоминаю. Вспоминаю Хтон. – Могу я помочь? – Не нужно. Я ничего не забыл. Чудилось Ивару, что он опять на Хтоне, в подземной крепости Фарданта – лежит окоченевший и неподвижный в сумрачном зале под высокими сводами. Не дремлет, однако видит сон – реальный, как любые картины, приходящие в ментальном трансе, и от того особенно жуткий. Сон о расколотых небесах. …Небо раскололось. Чудовищная трещина рассекла его яркую синеву от северного горизонта до южного, открыв бездонную пропасть, в которой не было звезд. Солнце исчезло, и вместе с ним погасли огоньки заатмосферных станций и портов, скрылись два естественных спутника планеты, белесые призрачные полумесяцы, видимые даже днем. На станциях и спутниках был сосредоточен Флот Вторжения, мириады больших и малых дисков, транспорты с боевой автоматикой, шагающие и летающие сокрушители, заряды ядовитой плесени, комплекс геопланетных катастроф и зеркала, способные испарить океан потоком отраженной энергии. Несокрушимая мощь, плод многовековых усилий! Все провалилось в небытие. Края трещины расширялись и уходили за горизонт, накрывая тьмой планету, отсекая ее от Вселенной, от жизни, света и тепла, от тысяч близких и далеких звезд. Небо сделалось черным гигантским тоннелем, прорезавшим Галактику; то была дорога в никуда, путь наказания, жестокой вечной кары. Планета падала в этот колодец неисчислимые годы, что складывались башнями геологических эпох. Время замерло, тишина сковала мир, ужас перехватывал дыхание. Многие погибли от страха, но в грядущих кровавых веках их участь казалась счастливой. Крылья смерти милостиво прикоснулись к ним, избавив от мук и унижений, от генетического вырождения и потери разума… Да, им в самом деле повезло! Тоннель или колодец, что мнился бесконечным, имел, однако, дно. Падение кончилось, мрак сменился мутной желтизной, небо снова стало небом, но не прозрачным и синим, как прежде, а розовато-серым, будто в луже жидкой грязи растворилась кровь. Солнце потускнело, покраснело, а в ночных небесах пролегла широкая темная лента, потеснившая звезды; лишь по ее краям виднелись жалкие пригоршни огоньков, далеких, как воспоминания о прошлом. Прошлое полнилось величием и горделивыми надеждами, настоящее – мрачной убийственной тоской. Одряхлевшее солнце и одинокий мир перед холодным ликом светила… В какие бездны их забросили? Какую уготовили судьбу? Прозябание, забвение, упадок… Великий Враг не уничтожил их, но заключил в темницу. В узилище, где вместо стен – пустота, а вместо стражей – мрак и холод… «Так было на Хтоне, – подумал Тревельян, – и дело тут не в воздаянии за грехи хтонийцев, слишком агрессивных и упрямых, а в факте свершившегося. Швырнуть звезду с планетой через горы времени, за миллионы лет, перенести в Провал меж галатическими рукавами… Чудовищное деяние! Не в этическом смысле, ибо мораль и этика даскинов – terra incognita [113], а в самом прямом. Чудовищный всплеск энергии, чудовищная сила, чудовищная власть над Мирозданием…» Но портал – это тоже власть, мелькнула мысль, ибо возможность свободного перемещения в пространстве – огромный импульс для любой цивилизации, великий эстап, дарующий могущество, меч, протянутый людям над пропастью времени… На этом фоне проблемы ФРИК выглядели очень скромными – можно сказать, локальными. В конце концов, Фонд Развития Инопланетных Культур являлся лишь одним из многих земных институтов, созданных для галактических исследований, и его задача была довольно узкой: способствовать прогрессу примитивных рас… Размышляя об этом, Ивар задремал, и приснилось ему, что он опять стоит перед Спящей Водой и смотрит на картины, плывущие в хрустальной глубине портала. Скалы и лес, пустыня и степь, океаны и реки, поселения на всех пяти материках и тот таинственный зал, в котором мелькнуло нечто знакомое… Но что? Во сне ему мнилось, будто он понимает сущность и смысл увиденного или сейчас поймет, сделав великое открытие, что между Раваной и Хтоном протянется нить, и, прикоснувшись к ней, он выяснит связи между двумя мирами и непременно найдет дорогу к истине. Он различил чей-то тихий голос, прозвучавший рядом, и понял сказанное: «Смотри! Вот символ того, что мы здесь были и мы здесь есть!» – но не увидел лица говорящего. Странно, подумалось ему, голос слышен, но нет обличья, словно беседуешь с тенью или с каким-то созданием, что прячется в Спящей Воде. Он придвинулся к порталу и произнес: «Кто ты? Для чего существуешь? В чем твоя цель?» «В служении», – ответили ему. «В служении твоим хозяевам?» – переспросил Ивар во сне, и вдруг ему почудилось, будто он уже знает, что ему скажут, а этот разговор уже происходил когда-то, но не в этом мире – может быть, на Хтоне или на Земле, на Луне или на Марсе. И потому не удивился, услышав в ответ: «Просто в служении. У меня нет хозяев». Взошедший Ракшас уколол его жарким лучом, и сновидение прервалось.* * *
На следующий день войско миновало еще один разоренный оазис и в шестом часу, считая от белого полудня, приблизилось к владениям барона Эльсанны. Об этом правителе Ивару было кое-что известно – еще с тех пор, как он проходил стажировку на Пекле и знакомился с информацией о владыках Кьолла. Ее собрал Карел Гурченко, бывший в те годы координатором миссии и шефом юного стажера Тревельяна, – ксенолог, который славился точностью данных и объективностью мнений. В картотеке Гурченко упоминались сотни две имен, и о каждом бароне он составил целый меморандум: возраст, нрав и внешность (с обязательными снимками), происхождение и родословная до пятого колена, величина оазиса и его водные ресурсы, размеры сельскохозяйственных угодий, число дружинников и подданных и тому подобное. Эти ценные заметки дополнялись более поздними экспедициями, и, оказавшись на базе, Тревельян их просмотрел. Хотя со времен его стажировки прошло немало лет, Эльсанна был жив и бодр; он находился сейчас в тех же годах, что Серый Трубач, и значит, совмещал энергию с житейским опытом. В картотеке сообщалось, что он правит богатым и крупным оазисом с десятком поселков и восемью тысячами жителей, с большими стадами хффа и свиней, с фермами, где разводили песчаных удавов, и обширными полями дигги. Его замок, возведенный в предгорьях, имел шесть башен, каждая в четыре этажа, и по этой причине Эльсанну звали Шестибашенным. У него была сильная дружина, сто шестьдесят бойцов, но, по данным Гурченко, Эльсанна отличался миролюбием. Говоря по правде, военачальник он был никакой, и Тревельян решил, что у его владений кочевники долго не задержатся. Но он ошибся. На стене, огораживавшей оазис с юга, стояли сотен шесть воинов в доспехах и тысячи три простого люда с вилами и топорами; ворота изнутри завалили камнем, стену укрепили, и поверх нее теперь тянулся частокол, где из бревен, где из жердей, а где из плетеных загородок. Такое изобилие дерева в почти безлесном краю удивило Тревельяна, но, забравшись на бархан, он разглядел оазис с высоты и понял, что хижины в селениях разобраны, а их стены, стропила, подпорки и крыши превратились в защитную изгородь. За стеной стояли в готовности другие отряды, через оросительные канавы были переброшены мостки, чтобы подтягивать без помех подкрепления, поля и пастбища казались голыми – вероятно, животных загнали в ущелья и горные пещеры. Замок, расположенный километрах в четырех от внешней стены, тоже имел внушительный гарнизон – на плоских кровлях башен блестели медь и бронза, но сколько там воинов Ивар, подсчитать не мог – расстояние было слишком большим. Однако не оставалось сомнений, что полководец в этой твердыне опытный, из тех, кто взялся за меч не сегодняшним утром. Войско шас-га текло по дороге и строилось перед длинной стеной, вне досягаемости камней и стрел. Тревельян видел великого вождя верхом на крепком яххе – тот выбрал позицию перед воротами, и его окружали военачальники, телохранители и посыльные. Несколько гонцов помчались к пылившему вдали обозу, и длинная лента телег начала с шумом и скрипом останавливаться. Покинувшие дорогу отряды двигались в стройном порядке: одни занимали места на крыльях армии, другие – перед фронтом,третьи – в тылу, на склонах песчаных холмов. В центре темнела масса всадников, разделенная на тысячи и сотни – Мечущие Камни и Белые Плащи. Теперь, когда все степное воинство стояло у стены, изготовившись к атаке, шансы защитников уже не казались Ивару реальными. Как ни крути, кьоллов было меньше раз в пять-шесть, а опытных воинов среди них – лишь сотен восемь. Опытных в сравнении с мирным людом – дружинники, конечно, бились в сварах, случавшихся между баронами, но с таким врагом, как шас-га, встречаться им не доводилось. Он вызвал пик Шенанди, чтобы посовещаться с Юэн Чином. – Я у владений Эльсанны Шестибашенного. Здесь целая армия кьоллов, Юэн, пять-шесть тысяч бойцов. Как ты оцениваешь ситуацию? Они беседовали без видеосвязи, но Тревельян представлял, как его друг-этнограф задумчиво морщит лоб. – В принципе, положительно – это первый случай, когда бароны Кьолла объединились. Мы наблюдаем за ними через спутник. В последние дни из оазиса гнали на восток стада, а с ними уходили женщины, дети и часть мужчин. На запад, к Эльсанне, двигались вооруженные отряды из семи баронств. Небывалое дело, Ивар! Прежде эти владения были автономны и не помышляли о союзе. – Опасность объединяет, – заметил Тревельян. – У тебя есть еще данные? – Есть. Вероятно, в разгромленных оазисах кто-то выжил, укрывшись в горах и оросительных канавах. Затем беглецы добрались до Эльсанны и подняли тревогу. Барон отправил на запад лазутчиков, и те осмотрели руины и взяли под наблюдение лагерь шас-га. Я так предполагаю… очень трудно отследить людей в гористой местности, но Эльсанна наверняка провел разведку. – Согласен. Но, похоже, сейчас командует не он. – На снимках виден человек, похожий на Аппакини, – сказал Юэн Чин. – Аппакини? Он еще жив? – Жив, хотя довольно стар. Ну, может это и к лучшему… прыти меньше, опыта больше. Среди баронов Кьолла Аппакини славился воинственностью и в самом деле был неплохим полководцем; с дружиной в две сотни бойцов он грабил ближние оазисы и даже ходил походом на дикарей пустыни. Вероятно, в старости он уже не рвался к подвигам и не ссорился с соседями. Такой человек мог управлять крупным войском. – Кто еще с ним? – Наследники Инкагассы, братья Янукерре, Покки и еще трое, которых ты не знаешь. Все привели к Эльсанне свои дружины и боеспособных мужчин. Это положительный фактор. – Да, – согласился Тревельян. – Но шансов на победу у них нет. Трубач разгромит это войско, а затем пройдет по беззащитным владениям, как чума. Уже сейчас между западным и восточным Кьоллом полоса развалин в двести километров, а будет в пятьсот. В любом случае это скажется на торговле. – Что мы можем сделать? – мрачно буркнул этнограф. – Все зависит от Маевского, а у него результатов нет. Они помолчали. Потом Тревельян сказал: – У Йозефа есть контактный шлем, и он просит разрешить сканирование. По мнению Миллер, это единственный путь к успеху. Но я ему отказал. – Понимаю, Ивар. План авантюрный и слишком опасный. Значит, мы пожертвуем владением Эльсанны… – Придется. – Сделав паузу, Тревельян добавил: – Я бы сам нахлобучил этот проклятый шлем, но будет ли польза? Ментальная связь с чужими расами – штука не слишком надежная. Правда, я имею кое-какой опыт… – Это даскины, Ивар. О каком опыте ты говоришь? – молвил Юэн Чин. – Может быть, пора отправить сообщение в Консулат и Исследовательский корпус? Помощь специалистов нам не помешает. – Отправляйте, если в ближайшие два дня ничего не изменится. Что слышно у туфан и ядугар? Твой практикант вернулся с западного побережья? – Да. Ядугар пьют и веселятся, но непосредственной угрозы для них пока нет. Туфан, по наблюдениям со спутника, действуют активно. Одни города вербуют наемников и укрепляют стены, другие готовятся к бегству в Намучи. Тревельян вздохнул. – Будем надеяться, что до этого не дойдет. – Будем надеяться, Ивар. Они прервали контакт. Внизу от обоза к передовым шеренгам мчались сотни всадников, везли щиты, связки стрел и запасные луки. Спешившись, Белые Плащи принимали этот груз. Каждый щит, плетеный из стеблей травы аш или веток кустарника, прикрывал четырех шас-га – двое тащили его, двое стреляли из луков. Щиты были прочными, но сухими, и лучники кьоллов могли бы их поджечь. Тревельян, однако, сомневался, что они умеют метать огненные стрелы. Три линии Белых Плащей, не меньше трех тысяч воинов, растянувшись по фронту, двинулись к стене. На флангах ехали всадники из Мечущих Камни, раскручивали пращи – вероятно, Трубач хотел перебить побольше врагов перед решительным штурмом. На стене засуетились, сверкнули шлемы и острия копий, послышались команды; кто-то бросил камень в наступающих шас-га, но он не долетел на добрых полсотни метров. Белые Плащи замерли – теперь между ними и стеной было пустое пространство шириною в половину полета стрелы. Оба отряда всадников неторопливо просочились в этот коридор. Над частоколом вблизи ворот поднялся шест с лентой змеиной кожи. Знак лучникам, решил Тревельян; кьоллы сразу начали стрелять, но лучников у них оказалось немного и были они не слишком искусны. Их снаряды втыкались в щиты, сшибли наземь два десятка всадников, ранили скакунов; яххи взревели, но все перекрыл пронзительный и грозный вопль: «Шас-га! Шас-га!» Он еще не успел отзвучать, как Серый Трубач, запрокинув голову, подал сигнал к атаке. Его мощный голос раскатился над пустыней и войском, и все пришло в движение: Мечущие Камни помчались вдоль стены, один отряд поближе к преграде, другой подальше, Белые Плащи вскинули луки, и на защитников обрушился град камней и стрел. Стрелы летели густо, били в любую щель, падали с неба за частокол; камни расшибали плетеные загородки, и вместе с обломками к подножию стены стали валиться тела убитых. Вой и стон поднялись среди кьоллов, но Тревельян почти не различал их голоса; свистели стрелы, звенели бубенцы, топотали лапы яххов и слитный воинственный клич степного племени взмывал к небесам. Всадники промчались вдоль стены и отступили. Новая волна степняков хлынула к оазису – шли фланговые отряды из Людей Песка, Людей Ручья и Людей Молота. В отличие от земных фортов и замков, стены в Кьолле не были отвесными, а наклонялись под углом пятнадцать-двадцать градусов к вертикали, а между слагавшими их глыбами хватало впадин и щелей. Эти стены строили для защиты от песка и ветра, и человек мог забраться на них с большим успехом, чем на обрывистую скалу. Встав на спины скакунов, шас-га метали веревки с крючьями, лезли наверх по камням, оглушительно вопили, наваливались на бревна и жерди частокола, стараясь опрокинуть их на защитников. Там, где плетеные загородки были разбиты пращниками, степные воины поднялись на стену, оставив под ней пробитые копьями и стрелами тела. Зазвенели мечи и топоры, вспыхнули в свете солнц бронзовые лезвия, и потекли к стене новые отряды: кьоллы – из глубины оазиса, а со стороны пустыни – Зубы Наружу и Полоса На Спине. Со своего песчаного холма Тревельян видел, как вокруг Трубача мечутся посыльные, как взлетают бунчуки с хвостами яххов, посылая все новых и новых воинов на стену. Там шла резня, мелькали клинки и секиры, с воплями падали люди, сотрясался частокол – в тех местах, где бревна еще держались, давая защитникам зыбкое укрытие. Кьоллы сопротивлялись упорно; белое солнце уже склонялось к закату, когда первые группы шас-га стали спускаться со стены в оазис и разбирать завал у ворот. Вероятно, Аппакини – если он был еще жив – понял, что внешнюю стену не удержать: взвыли горны, и кьоллы начали отход, разрушая за собой мосты над арыками. В первый миг столкновения их были тысячи, отступали же сотни – правда, на стене еще сражались, и среди полуголых шас-га можно было различить воинов в доспехах и медных шлемах и облаченных в туники крестьян. – Ты все записываешь? – спросил Ивар, коснувшись шеи трафора. – Да, эмиссар. Тремя камерами: панорама, ближний план и отдельные эпизоды. – Помолчав, Мозг с ноткой грусти промолвил: – Жаль, что с нами нет вашего родича. Ему нравятся батальные сцены. – Это не батальная сцена, это гнусная реальность, – молвил Тревельян. – Там люди убивают людей. – Непостижимо для разума моего уровня. Такое я наблюдал на Сайкате, но там одни примитивные существа уничтожали других, столь же примитивных. Хтон был полем битвы кибернетических устройств… Но здесь, как вы верно заметили, сражаются люди. Безусловно люди, ибо у них есть язык, зачатки искусства и технологии, и вид их подобен вашему. Зачем же им убивать друг друга? – Так устроены гуманоиды, дружок. Наши проблемы в древности и сейчас можно было бы решить миром, но первый наш порыв – насилие, первая мысль – не поделиться, а отнять, первая реакция на чужака – страх и недоверие. Что поделаешь, наследие эволюции… ты видел на Сайкате ее раннюю зарю… Нелегко изжить тысячелетние инстинкты. – Но вы сумели это сделать, – сказал трафор. – Ведь я неспособен к убийству, а я – ваше детище. Я имею в виду не землян, не кни'лина, а людей вообще. Настоящих людей. – Мы вложили в тебя лучшее, что есть в нас, – ответил Тревельян. – Но существует темная сторона, и она перед нами. – Он показал на стену, где кочевники резали кьоллов. Ворота рухнули, когда Ракшас коснулся гряды песчаных дюн. Белые Плащи, вновь оседлавшие яххов, ворвалась в оазис, но отступающие кьоллы были уже за широкой оросительной канавой, пересекающей землю от края до края. Этот заполненный водой ров с убранными мостками остановил атакующих; они собирались спуститься к воде по крутому откосу, однако посыльные вождя их остановили. «Правильное решение, – подумал Тревельян, – до захода Асура замок не взять, а вести осаду в темноте бессмысленно». Понаблюдав, как группы беглецов исчезают в крепости Шестибашенного Эльсанны, он стукнул пятками в бока скакуна и произнес: – Похоже, на сегодня отвоевались. Едем к Трубачу. Поздравим его с великой победой. Трафор спустился с холма. Воины резервного отряда почтительно расступились перед Тревельяном; некоторые покидали яххов и падали ниц, шепча слова покорности: «Мой лоб у твоих подошв». Он проехал у подножия стены, заваленного телами кьоллов, и миновал ворота. Их створки были перемазаны кровью. На одной лежал воин с разрубленным черепом, около другой бился, издыхая, яхх – меж его ребер торчало копье, а в шее, сразу за рогами, засел дротик. Наклонившись, Ивар коснулся его пальцем, дал разряд посильнее, и скакун затих. Штаб Брата Двух Солнц обнаружился неподалеку от ворот, у первой же поперечной канавы, где стояли несколько повозок. Кроме телохранителей и гонцов тут были Кушта, Лиги-Рух и другие Опоры Очага, шаман Сувига и дюжина битсу-акков, коим полагалось воспевать деяния великого вождя. В этот час победы Трубач был доволен и милостив – на костре, разложенном у канавы, пеклись свиные туши, и охрана раздавала полководцам и певцам куски полусырого мяса. Тревельян спрыгнул со спины скакуна и преклонил колени. – Кровь вождю! Что прикажет мне Великий? В горле Трубача заклокотало – он смеялся. – Ешь – вот что я прикажу! – Он сделал знак, и телохранитель поднес Ивару свиную ногу. – Ешь, ппаа! Того, кто ест, не достанет ярость Ррита! Делая жесты почтения и благодарности, Тревельян принялся жевать. Красное солнце садилось, и в сгущавшихся сумерках тут и там вспыхивали костры. Воины черпали воду из сохранившихся колодцев, резали свиней и раненых яххов, насыщались с торопливой жадностью, но ни один из них, как показалось Ивару, не прикоснулся к мертвецам. Он подумал, что старый обычай так просто не уходит; быть может, шас-га не нарушили волю Баахи, ибо великий вождь и великий ппаа глядели на них, и виноватый мог расстаться с кожей. Трубач раздавал мясо и приказы: – На рассвете ты, Лиги-Рух, поведешь своих воинов и разрушишь жилище вождя. Убей там всех! – Он ткнул пальцем в замок Эльсанны. – Кушта, пусть Зубы Наружу обыщут склоны гор, найдут животных и погонят их к обозу. Тебе, Гхот, и Людям Молота я велю собрать ножи, клинки и копья. У этих песчаных крыс много меди и бронзы! Еще у них есть одежда, что защищает от удара топора… Ее возьмите тоже. Убитых… – Вождь повернулся к Ивару. – Айла! Что делать с убитыми? – Закопать в песок, повелитель. Всех – и кьоллов, и наших воинов. – Темные Равнины переполнятся, – с сомнением пробормотал Сувига. – Нет. Воины оживут в другом месте – там, где много травы и воды. На Темных Равнинах окажутся только наши враги, и Страж Йргыка их перебьет. Старый колдун оскалился. – Откуда ты знаешь? – Я вижу, боги и духи по-прежнему с тобой не говорят, – презрительно бросил Тревельян. – Иначе ты знал бы тоже. В глотке Серого Трубача опять захрипело, забулькало – похоже, перепалка колдунов его забавляла. Отсмеявшись, он вытянул длинную руку к одному из вождей. – Ты, Ду-Аш! Ты и твои Люди Песка зароете мертвых! Жаль, что столько мяса пропадет, зато Камма будет довольна. – Он снял свою рогатую тиару, почесался и водрузил убор на место. – Ка-Турх, пусть ставят мой шатер. Мы пробудем здесь день или два. – Как повелишь, владыка! – отозвался старший стражи. Он гаркнул на телохранителей, и те заметались, разгружая возы с шатром. Опоры Очага, получив приказы и взгромоздившись на скакунов, поехали к своим отрядам. Сытые певцы куда-то исчезли, и лишь Сувига, мрачно посматривая на Ивара, не уходил – должно быть, надеялся, что вождь одарит его особым знаком милости. Но от свиней остались кости и рога, мясо кончилось, а с ним и благоволение владыки. Он поглядел на старого ппаа, потом – на Тревельяна, и зевнул. Раскрылась огромная пасть, сверкнули зубы, и под лучами заходившего Асура зажглись алые точки в глазах. – Останься, Айла. Вождь повернулся спиной к Сувиге и зашагал к шатру, растущему прямо на глазах. Тревельян шел следом. – В войске есть замыслившие злое, – внезапно произнес Серый Трубач. – Один осмелился напасть. Помет хромого яхха! Я выдавил ему глаза и сломал хребет. Тревельян вздрогнул. Дхот, Дхот!.. Где ты сейчас, Дхот?.. Лежишь в песках, и твое мертвое тело терзают крысы и ящерицы… Дхот-Тампа, слишком торопливый мститель… Сделав знак сожаления, он промолвил: – Это случилось вчера, повелитель. Помет хромого яхха, о котором ты говоришь, – он из Живущих В Ущельях. Последний в их Очаге. – Ты знал? Откуда? – Камма сказала. Ей ведомо все, что было и будет в пустыне. Вождь поднял руку, и его пальцы легли на горло Тревельяна. Ногти у шас-га были когтистыми, острыми; они прокололи кожу, и по шее заструилась кровь. – Ты знал и не сказал! – Мог ли я лишить тебя радости, владыка? Ты жив, а умышлявший злое мертв… Ты его убил. Ты выдавил ему глаза и сломал хребет… Что дороже радости победы? Хватка Трубача ослабла. – Об этом Камма тоже сказала? – Да, Великий Вождь. В том, что случилось, не было для тебя опасности. – Хурр! – Он опустил руку и уставился в лицо Тревельяна, о чем-то размышляя. Потом сказал: – Ты прав, Айла. Сегодня мы убили многих, и моя радость велика. Вчера я убил одного, но радость была еще больше. – Боги послали тебе две победы и пошлют еще, – пообещал Тревельян. – Ты будешь побеждать, а потом уйдешь на равнины, где много травы и воды, и Бааха сделает тебя их повелителем. Навечно! – Но пока я еще не ушел, я еще здесь, и могу содрать шкуру с любого, даже с ппаа Белых Плащей. – Вождь ткнул Ивара в грудь. – Этого не случится, Айла, если ты поговоришь с Баахой. Тот, кто напал на меня… Я хочу знать, был ли он один или есть другие, что замышляют зло. Бааха скажет тебе их имена и подарит мне новую радость. Я разрежу им животы и пущу туда крыс… или велю закопать их с мертвецами… или вырву им печень… Иди, Айла! У тебя много времени. Придешь в мой шатер на рассвете. – Ночью светлый бог спит, – осторожно произнес Тревельян. – Тогда спроси у Каммы, у Потики или Гхарра. Ты лучше знаешь, у кого спросить! – Слушаю твой зов, великий вождь. Я спрошу. Прыгнув на спину скакуна, Тревельян направился к воротам, а оттуда – в обоз, к своим оголодавшим спутникам. Красное солнце село, погасли багровые зарницы, в небе зажглись редкие звезды, в стане шас-га, что раскинулся на дороге и в землях оазиса, вспыхнули костры и факелы. На стенах и башнях замка тоже виднелась россыпь алых точек – защитники твердыни не спали, готовились к грядущей битве и неминуемой гибели. Ветер, дувший с юга, стих, и необозримое пустынное пространство лежало перед Тревельяном, словно мгновенный снимок морской поверхности: застывшие волны барханов и темные провалы между ними. После трапезы все, кроме Тентачи, улеглись спать. Битсу-акк сидел, не смыкая глаз, робко поглядывал на Ивара; барабан чуть слышно рокотал под его пальцами. – Что не спишь? – спросил Тревельян. – Думаю, хозяин. В прошедшие дни я видел так много… Схватку с казза, Спящую Воду, лагерь огромного воинства и битву… Много, много! – Певец растопырил пальцы, поглядел на них и сказал: – Хватит на десять Долгих Песен! Конечно, если я смогу их сложить. – Это будут песни о сражениях и смерти? – Нет, великий ппаа, нет. О сражениях поют все битсу-акки, это привычно, как… как… – Тентачи огляделся, – как повозка, или яхх, или шатер. Я бы спел о чудесном, о Духе Ветра, что явился нам по ту сторону гор и избавил от казза, о подземелье, где мерцает Спящая Вода, и о знамении Баахи. Но сначала я должен сложить песню о тех местах, куда мы уйдем из этого мира. Ты обещал рассказать, хозяин… – Он с надеждой уставился на Ивара. – Те равнины с водой и травой… Что еще там есть? – Есть горы, – молвил Тревельян, – есть реки и леса, есть водопады и ручьи. Это хорошее место, Тентачи. Когда придет твой срок отправиться в эти края, ты не должен бояться. – Не буду. – Певец кивнул. – Но расскажи еще, великий ппаа! Реки, горы, ручьи… Какие они? Я хочу их увидеть… не глазами, а здесь! – Он коснулся лба. – Вообще-то у меня есть дело, – произнес Тревельян. – По велению вождя мне нужно потолковать с духами, и для этого я удалюсь на всю ночь в пустыню. Но раз ты просишь… Слушай!Ивар читал Мильтона на древнеанглийском, а закончив, принялся переводить на шас-га. Это было нелегким занятием, но энтузиазм слушателя его подбодрил: глаза Тентачи сияли, губы беззвучно шевелились, пальцы отбивали на барабане ритмичную дробь. Он находился сейчас в том загадочном трансе, в котором пребывают поэты в миг творения; он повторял за Иваром слова, но не те, что слышал – то была другая песня, не спетая когда-то на Земле, а рождавшаяся сейчас под иным небом, иными звездами. Но говорилось в ней о Рае. Тревельян смолк и поднялся. – Я увидел, увидел… – тихо шепнул Тентачи. – Это чудо, мой повелитель! Мелькнувшее в словах стало явью и снова превратилось в слова… Чудо, чудо! – Так бывает, – заметил Тревельян. – Я рассказал бы больше, но наступила ночь, и мне пора вызвать демонов. Я вернусь к восходу Аукката. С этими словами он сел на скакуна и направился в пустыню.
Возможно, даскины занимались прогрессорством, но этот вывод скорее связан с бытующими в Галактике преданиями, чем с конкретными фактами. В самом деле, если Галактика находилась под контролем даскинов, как утверждают легенды, то их влияние на другие, не столь высокоразвитые, цивилизации кажется очевидным. Их вмешательство могло состоять не только в передаче каких-либо знаний (вспомним о Портулане Даскинов, контурном приводе и т.д.), но и в иных формах; например, они могли являться арбитрами в спорах или внешней силой, препятствующей экспансии слишком агрессивных рас. Во всех подобных случаях активное прогрессорское воздействие неизбежно. К сожалению, нам неизвестны объекты такого воздействия – кроме, возможно, Хтона, куда направлена экспедиция ФРИК и Исследовательского корпуса. Результаты еще не обнародованы, и потому нет смысла их обсуждать. Однако мы вправе коснуться гипотезы Сато-Ортеги, возникшей под влиянием тех предварительных материалов, которые собрал ксенолог И.Тревельян, первооткрыватель Хтона. Эта гипотеза связывает исчезновение даскинов из пределов Галактики непосредственно с их прогрессорской деятельностью, которая, по мнению Сато и Ортеги, не увенчалась успехом. Авторы гипотезы упоминают «стыд поражения и вину», отмечая при этом, что такие категории, скорее всего, были неведомы даскинам, и причина их исчезновения или перехода в латентную фазу лежит гораздо глубже. Согласно Сато и Ортеге, она связана с осознанием тщетности своих усилий и психологическими ограничениями, диктовашими даскинам те или иные методы вмешательства.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 8. Аналоги ФРИК в прошлом.
Глава 19. Портал даскинов
Мелькнувшее в словах стало явью… – повторял Ивар, удаляясь от дороги, от воинского стана и разоренного оазиса. В этом была некая подсказка, будившая воображение, какой-то смысл, неведомый певцу, однако ясный Тревельяну. Что-то он должен понять, что-то связанное с порталом даскинов, хотя Тентачи такого не говорил и не имел представления о Древних и их порталах; для него этот феномен был – и оставался – чудом, Спящей Водой. Но – мелькнувшее в словах стало явью… Мелькнувшее?.. Что?.. Внезапно он понял: дело не в словах, а в образах, в картинах. В тех, что явила Спящая Вода… Пейзажи мест на всех континентах, виды гор, лесов, степей, поселений туфан и кьоллов, хеш и остальных племен… Все это стремительно мелькало, когда он смотрел на Спящую Воду, и это были, несомненного, точки выхода, пункты, в которые можно переместиться из пещеры. Каталог планетарной транспортной сети, ожидающий указаний: останови картину, шагни в портал и попадешь куда желаешь. «Тривиальное соображение, – подумал Ивар, – ясно, что портал в пещере настроен на точку выхода за Поднебесным Хребтом, но пассажиру предлагают и другие варианты. Проблема в том, как выбрать нужный, как сделать врата двусторонними и передвинуть их в любое место на планете… Возможно, тот управляющий модуль, что они ищут, не в подземелье у Спящей Воды, а у другого портала? Транспортная сеть обширна и, должно быть, включает сотни врат… Если так, нужно заняться точками выхода – хотя бы теми, где вероятность обнаружить модуль больше…» Эта идея завладела им, и Тревельян решил было связаться с Маевским, чтобы ее обсудить, но память вдруг подсказала новую мысль. Он огляделся. Огни лагеря уже исчезли, вокруг простиралась темная пустыня, холмы песка и уходившие к югу такыры, засыпанные мелким щебнем. В небе маячил бледный серп Гандхарва, бросая на вершины дюн неяркие лучи. На миг Тревельяну почудилось, что он опять на Хтоне; Хтон тоже был миром пустынь, однако не знойных, как здесь, а холодных. – Стой, – сказал он, хлопнув трафора по шее. – Остановись, друг мой, и вызови флаер. Нам понадобится экран с большим разрешением. – Слушаюсь, эмиссар. Ивар спрыгнул на песок. Прошло минуты две или три, и рядом, подняв облачко пыли, беззвучной тенью приземлился флаер. Над летательным аппаратом возникло серебристое сияние, потом световая колонна раздалась в стороны и, заслоняя унылый пустынный пейзаж, перед Тревельяном повис огромный экран. – Сделай поменьше, – велел он. – Два на три метра хватит. Светлый прямоугольник сжался. Он походил на тоннель, прорезанный в ночном сумраке; казалось, что он идет до самой луны, поглощает ее и тянется дальше, к границам Провала. – Связь с базой, эмиссар? Или с группой почтенного ньюри [115] Маевского? – спросил Мозг. – Связь пока не нужна. – Тревельян уселся на песок и поднял лицо к экрану. – Я хочу просмотреть твои записи – те, что сделаны в пещере. – Какой-то определенный фрагмент? – Да. Изображения, что появлялись в силовом поле портала. Ты ведь их фиксировал? – Разумеется, эмиссар. Как в первый раз, эти картины промелькнули стремительно: скалы и горные хребты, дымящиеся вулканы и темные ущелья, бесплодные пустынные пространства, знойные плоскогорья, заросли таша, деревья сеннши и мфа, моря и проливы, города туфан с гаванями, полными кораблей, поселения хеш и пейзажи Раху, где обитал карликовый народец, оазисы кьоллов с башнями в предгорьях… Был среди этих видений круглый зал, подобный пещере в недрах Поднебесного Хребта, с сияющей завесой, что струилась сверху хрустальным ливнем, точно таким же, как Спящая Вода. И было в этой просторной камере… – Ну-ка, повтори медленнее, – распорядился Ивар, ощутив внезапный озноб. – Меня интересует этот зал. Что ты о нем думаешь? – Я считаю, что это еще одна распределительная станция сети, полный аналог подземелья, лежащего под местными горами. Есть лишь один дополнительный штрих… – Изображение застыло, потом начало неторопливо и плавно поворачиваться, позволяя рассмотреть завесу Спящей Воды, округлые стены, высокий купол и нечто белое, гладкое, мерцающее отраженным светом. – Вот дополнительная деталь, которой не было в нашей пещере, – вымолвил трафор. – Изваяния! Такие же, как на Хтоне. Помните их, эмиссар? – Помню ли я! Еще бы! – пробормотал Тревельян. Стараясь справиться с волнением, он сделал глубокий вдох, стер со лба испарину и укоризненно произнес: – Этот поразительный реликт… эти статуи… Ты мог бы проинформировать меня о них пораньше. – Конечно, я разумное существо, однако не человек, – с достоинством отозвался трафор. – Личная инициатива – мое слабое место, эмиссар, и вы об этом знаете. Вы приказали сделать запись, и я это исполнил. Команды анализировать изображение не поступало, вследствие чего я… – Ты прав. Мои извинения. – Ивар хлопнул его по спине и уставился на скульптурную группу. Четыре обнаженные фигуры, взявшись за руки, застыли на невысоком постаменте; светлый цвет камня, видимо, мрамора, подчеркивал грациозность их тел, изящество поз и красоту спокойных лиц. Лоона эо! Четверо лоона эо: мужчина и женщина – напротив друг друга, а между ними – представители двух других полов, полумужчина и полуженщина. Эти создания выглядели более хрупкими, чем люди, и не такими высокими, но в остальном как будто не отличались от землян, кни'лина, терукси и прочих гуманоидных рас. Не отличались?.. – подумал Тревельян. Ошибочное впечатление! Разница, конечно, была – такая же, как между человеком и грациозным эльфом, сотканным из лунных лучей, солнечного света и тумана. Отблеск ровного сияния Спящей Воды падал на мраморные фигуры, и казалось, что они движутся в медленном плавном танце.У Тревельяна на миг перехватило дыхание. Он видел эти статуи дважды – недавно, в разрушенном городе на Хтоне, и много лет назад, когда проходил стажировку в Посольском Куполе лоона эо на Луне. В нем, разумеется, никаких лоона эо не было, а только их представители-сервы, сотрудники дипмиссии, пусть не совсем живые существа, зато приветливые и общительные. Сервы считались самыми совершенными биороботами в Галактике, высшей ступенью искусственного интеллекта, и кое-кто из земных ксенологов рассматривал их как новую расу, хотя и зависимую от лоона эо, но вполне разумную. Сервы вели переговоры, вербовали наемников, летали на торговых кораблях, покупали и продавали; словом, занимались делами, не слишком интересовавшими их хозяев-интравертов. Ксенологи связывали самоизоляцию лоона эо с их ментальными талантами, с наличием третьей сигнальной системы, считая, что телепатам неуютно в обществе созданий, умеющих лишь говорить и слушать. И, в подтверждение этой гипотезы лоона эо, словно нуждаясь в равных партнерах, старались век за веком пробудить ментальный дар у гуманоидных рас. Было ли это прогрессорским воздействием?.. Весьма возможно! Во всяком случае, ряд артефактов лоона эо влиял на психику столь странным, столь радикальным образом, что их ввоз на Землю запретили. Но именно этими Запретными Товарами интересовался юный Ивар Тревельян. Волшебные статуэтки и зеркала, музыкальные шарики коум, Ткани Забвения и гипноглифы – гипноглифы, что чаровали гуманоидов всех известных рас! Это было чудо! Непонятное и опасное, но – чудо! Он жаждал объяснений и получил их, хотя они были не совсем понятными. Ивар, однако, остался доволен. Он был из тех романтиков, не чуждых прагматизма, которые полагают: лучше что-то, чем ничего. Нижний этаж Посольского Купола отвели под сад внушительных размеров, хотя было неясно, как он помещался в керамической башне диаметром сто двадцать метров, заглубленной в лунный грунт. В этом саду – или скорее парке – росли высокие деревья невиданных пород, журчали ручьи и щебетали птицы; дорожки тянулись словно в бесконечность, бежали мимо скал, цветущего кустарника и водопадов и приводили к просторным полянам. Ивар блуждал по этому саду, пока не добрался до площадки, где высились изваяния, те же четыре фигуры на невысоком постаменте, эльфы из белого мрамора… Они были так грациозны, так прекрасны! Он глядел на них словно завороженный, не обращая внимания на стоявшего рядом серва. Но вскоре очнулся; серв был слишком важной персоной, чтобы не замечать его присутствия. Сам Первый Регистратор, глава дипмиссии и полномочный посол лоона эо на Земле! Тревельян прищурился, отдавшись воспоминаниям. Пустыня, окружавшая его, внезапно исчезла, растаяли контуры темных барханов, скрылись небеса с тонким серпиком Гандхарва; ветер бросил ему в лицо гостку пыли, но он был неподвижен. Он находился сейчас не здесь, а в Посольском Куполе, в волшебном саду, на той поляне, где высились статуи; он пребывал в своем прошлом и смотрел в лицо Первому Регистратору.
* * *
У этого серва были такие огромные глаза! Внешностью он походил на лоона эо, а не на людей Земли: такое же грациозное и хрупкое создание с маленьким ртом, зрачками цвета бирюзы и шапкой золотых волос. С его плеч спадала мантия, руки с узкими кистями покоились перед грудью, и вид их зачаровал Тревельяна: все остальные сервы имитировали обликом землян и были пятипалыми, но этот не скрывал своей инопланетной природы. – Статуи, – промолвил Ивар, – статуи… Они прекрасны! Первый Регистратор склонил голову.– Да. Символ того, что мы здесь были и мы здесь есть. – Но почему вы их прячете? Такая красота достойна, чтобы… Его прервали плавным движением рук. – Символы бывают явными и тайными. Не нужно торопиться, Ивар Тревельян. Скрытое сейчас станет со временем очевидным. Над изваяниями закружилась стайка птиц, таких крохотных, что в человеческих ладонях поместился бы целый десяток. Казалось, что они хотят приземлиться на каменные плечи и головы, но что-то их оттолкнуло; птицы умчались с негодующим щебетом. – Ты задавал вопросы, – сказал Первый Регистратор. – Ты спрашивал о том, что у других не вызывало интереса. Или, возможно, они хотели бы узнать, но смущение и боязнь их остановили – ведь ответы не всегда приятны. Ты все еще желаешь с ними ознакомиться? Тревельян покраснел. – Конечно. Наверное, я слишком безрассуден. – Сделав паузу, он спросил: – Это плохо или хорошо? – В мире есть много такого, что не подпадает под вашу бинарную систематику. Оно просто есть. И есть другие феномены – то, что кажется сейчас плохим и даже страшным, но в перспективе такая оценка неверна. Следует судить по результату. – Ты говоришь о Запретных Товарах? – Да. Ты спрашивал, зачем они лоона эо? И раз ты желаешь это знать, я отвечу: лоона эо они не нужны. Вы считаете их игрушками? Пусть так! Но это игрушки для вас. – В чем же их смысл? – В изменении. Конечно, перемены любят не все, и когда-то они тоже боялись… – Первый поглядел на статуи. – Но они преодолели страх. Теперь ваша очередь. Странный серв, мелькнуло у Тревельяна в голове. От него веяло силой и властностью, несовместимыми со статусом слуги – тем более искусственного существа. Он вел себя не так, как остальные биороботы, и не так говорил; лоона эо были для него «они», хотя другие называли их Хозяевами. – Наша очередь… – медленно протянул Ивар, чувствуя, как холодеет спина. – Очередь изменяться? Как? И зачем? Я не понимаю! – Разве это такая уж сложная мысль, Ивар Тревельян? Малые и несмышленые в детстве, вы с возрастом изменяетесь, вы учите своих потомков, даете им книги и полезные игрушки. Разве сам ты не станешь умнее через год, или два, или через десять лет? Станешь, непременно станешь! Все, что растет, с неизбежностью меняется… Меняются люди, меняются их жизнь и культура, их цивилизация. Вы строили храмы из камня и дерева и плавили железо… потом пересекли океан, нашли и заселили новые континенты… потом отправились в космос, встретились с другими расами… Со временем вы забыли про голод и болезни, вражду и тяжкий труд… Разве это не перемены? И разве вы теперь не спрашиваете, куда двигаться дальше? То ли в Рукав Персея и в центр Галактики, то ли в глубины собственного разума? – Ты хочешь сказать… – начал Тревельян и прикусил язык. Истина открылась ему, словно проблеск огня во тьме; внезапно он понял, что связь людей друг с другом, то, что объединяет их и цементирует род человеческий – язык и телесное сходство, общая родина, память о прошлом и тысяча других вещей – все это может сделаться глубже, крепче и надежнее. Если бы люди умели передавать эмоции и мысли без всяких технических средств, делиться ими, ничего не скрывая, не обманывая, не страшась непонимания… если бы этот драгоценный дар был не только у землян, но у всех народов, обитающих в Галактике… если бы они могли общаться так, как это делают лоона эо, без слов, без примитивных сотрясений воздуха… и если бы кто-то, желая подтолкнуть развитие ментального искусства, дал им… Что? Набор игрушек? Пособие по телепатии? Самоучитель мысленной связи? «Тренировочные снаряды, – подумал Ивар. – Небезопасные, как всякий предмет, связанный с экстремальным усилием… Взять хотя бы кольца или брусья – на них гимнаст покажет чудеса, а человек неподготовленный сломает шею. Возможно, ушибется или вывихнет сустав, а вот прыжки с трамплина – вещь посерьезнее. Однако прыгают… и каждый когда-нибудь прыгает в первый раз». Тут Ивар обнаружил, что Первый следит за ним с улыбкой. – Тренировочные снаряды, – произнес серв, хотя вслух эти слова сказаны не были. – Мне нравится. Очень точная аналогия. – Выходит, мы должны сделаться такими же? – пробормотал Тревельян, поворачиваясь к каменным фигурам. – Но этого не может быть! Люди не похожи на лоона эо! Их общество и культура древнее наших на порядок или на два, у них другая физиология, другое устройство мозга… Я знаю, я читал! Они ведь даже не гуманоиды! У нас два пола, а у них – четыре, и размножаются они иначе, при помощи ментальной конъюгации! – Такими же вы не станете, Ивар Тревельян, ибо у каждой расы свой путь, своя судьба. Что же до различий и этой ментальной конъюгации… – Первый с иронией фыркнул. – Не так уж они велики, эти различия. Конечно, у лоона эо ментальный способ зачатия, а у вас… гмм… несколько более примитивный, но все же, все же… – Да? – Ивар навострил уши. – Все же был случай, когда человек, земной мужчина, и женщина лоона эо породили дитя. Ты слышал о Сергее Вальдесе? – Адмирале Вальдесе? – Брови Тревельяна приподнялись в изумлении. – Разумеется, слышал! Он сражался с дроми… Но это было так давно! Шесть или семь столетий назад! – Давно для вас, но не для нас, – заметил серв. – Лоона эо, сын Вальдеса, еще жив. – Прости, но этого не может быть! Конечно, лоона эо очень долговечны, но человек Земли не может… – Может, Ивар Тревельян. Перед войной с дроми Вальдес служил в Защитниках лоона эо и полюбил их женщину. Вы бы сказали, что это очень романтическая история… [116] – Первый Регистратор усмехнулся. – Она была изгоем, ее заставили покинуть астроид, так как… Впрочем, это неважно. Женщина по имени Занту была изгнанницей и очень одиноким существом. Телепат, вне общества себе подобных, обречен на муки, на страдания, которые я не сумею тебе описать… он видит, слышит, говорит, но остальные, все, кто рядом с ним, слепы, глухи и немы… Теперь о Вальдесе. Его послали Защитником на торговое судно Занту, и там они повстречались. Вальдес обладал ментальным даром, врожденной способностью, что проявляется у вашей расы очень редко. В своем роде он тоже был изгоем. – Серв смолк, потом добавил: – Можешь представить дальнейшее. Тревельян внимал Регистратору с раскрытым ртом. Возможно, будь он старше и опытнее, эта история показалась бы ему чем-то вроде сказки о Лейли и Меджнуне, но ученый скепсис еще не успел отравить его юную душу до самых корней. В восемнадцать лет он еще верил в реальность легенд, пусть не умом, но чувством, пусть не всегда, но временами, и эта святая вера, еще не растоптанная ксенологией и прочими науками, шептала, что все услышанное – правда. Поразительная, невероятная, но правда! И, словно желая окончательно его добить, Первый Регистратор вымолвил: – Когда началась война, Вальдес оставил службу у лоона эо и вернулся в космофлот. Он был уже женатым человеком – кажется, так у вас говорят?.. – и его семья обосновалась на Тхаре. Земная женщина стала матерью его детей, подарила ему дочь и сына, а у них были свои дочери и сыновья. Ты, Ивар Тревельян, их потомок. – Не может быть! Я веду свой род от Тревельяна-Красногорцева, командора Звездного Флота! – Снова – не может быть… – тихо повторил голубоглазый серв. – Ты говоришь это не первый раз, и я снова отвечу: может! В тебе и в любом из вас, живущих ныне, сокрыта память о многих людях. Бывает так, что она просыпается, но вы не в силах понять значение и смысл этих снов, вы даже не знаете, откуда они к вам приходят. Возможно, память прошлого проснется и в тебе… или не проснется никогда… Но знай: капля крови Сергея Вальдеса – в твоих жилах. Поэтому ты здесь. – Чтобы услышать о нем, о Запретных Товарах и о будущем, что уготовано человечеству? – хмурясь, спросил Тревельян. – Но все это, должно быть, тайны и секреты, секреты и тайны… Что случится, если я расскажу о них? – Расскажешь, но не сейчас. Скоро, совсем скоро ты позабудешь о нашей встрече и вспомнишь о ней в зрелости, в годы, когда к человеку приходят опыт и мудрость. Тогда тебе будет ясно, кому рассказать, что рассказать и о чем умолчать. – Ты уверен, что все именно так и случится? – Да, Ивар Тревельян. Испытано на многих. – Выходит, я не единственный… – Ивар запнулся, – не единственный избранник? – Думать так было бы наивно. Великие результаты достигаются медленными и терпеливыми усилиями многих людей. Медленными и терпеливыми, Ивар Тревельян! – Серв отступил к цоколю в середине площадки и прикоснулся к сплетенным рукам двух статуй. Казалось, что его четырехпалая кисть тоже высечена из светлого мрамора. – Прощай! И пусть твоя жизнь длится, пока не исчезнут пятна на лунах Куллата. Это была ритуальная фраза прощания, означавшая вечность. Молча поклонившись, Тревельян шагнул к тропинке, ведущей прочь с поляны, но вдруг обернулся и бросил последний взгляд на каменные изваяния и застывшего рядом Регистратора. Потом спросил: – Кто ты? Ты не похож на серва. – Не похож, – услышал Ивар. Но вопрос остался без ответа. – Для чего ты существуешь? В чем твоя цель? – В служении. – В служении лоона эо, твоим хозяевам? Первый Регистратор улыбнулся, взглянул на мраморные статуи, затем на Тревельяна и сказал: – Просто в служении. У меня нет хозяев.
* * *
Видения растаяли, и Тревельян очнулся. Мерцающий экран, а за ним – пески и камни, камни и пески… пустыня и удушающий зной… Долгая ночь Раваны накрыла его черным плащом, и до рассвета было еще далеко. Он поднялся. Налетел порыв ветра, и колокольчики на рогах трафора тихо зазвенели. – Сверни экран, дружок, и полезай в флаер. Полетим к Маевскому. – Есть идеи, эмиссар? – Пожалуй. Доберемся до пещеры и Спящей Воды, проверим. Экран над флаером погас. Сдвинулись створки грузового отсека, и трафор, превратившись в толстого червя, скользнул в машину. Тревельян устроился в пилотском кресле, дал голосом команду навигатору; флаер стремительно взмыл в темное небо, вышел за пределы стратосферы и лег на курс. В течение сорока минут они описывали огромную дугу над горами, то застывшими в ледяной тишине, то грохочущими, огнедышащими, плюющими лавой и дымом. Ивар успел утолить жажду и съесть сухой паек, потом связался с Маевским и предупредил, что скоро будет у входа в подземелье. Внизу громоздились горные пики, грозили его машине огненные жерла, растекались пропитанные серой тучи; вверху застыл серп Гандхарва, похожий на сабельное лезвие в обрамлении редких звезд. – Могу я сопровождать вас в пещеру, эмиссар? – раздался голос трафора. Сейчас он говорил нежным вкрадчивым контральто. – Я подумаю, – отозвался Тревельян. – Видишь ли, мне предстоит очень деликатное дело. – Я незаменимый помощник в деликатных делах, – сообщил трафор. – У меня тонкая чувствительность и очень высокий интеллект, которые сочетаются с безусловным повиновением и дисциплиной. Против этого даже ваш достойный предок не стал бы возражать. – Предок… да… – вздохнул Тревельян. – Предок мне бы сейчас пригодился. – Конечно, я не могу его заменить на сто процентов, но все же мое содействие… – снова начал Мозг, но Ивар велел ему заткнуться. Его аппарат снижался над плоскогорьем, изрезанным трещинами и каньонами. Тревельян мрачно насупился – этот пейзаж не вызывал приятных воспоминаний. Где-то неподалеку, в степи у подножий скал, разбойники напали на караван Киречи-Бу, и где-то здесь остались кости колдуна, его людей и мертвых яххов. Здесь приземлился флаер с Дхот-Тампой, здесь, в преддверии Йргыка, они бились, и здесь ему была поведана история о мертвом племени Живущих В Ущельях… Теперь Дхот тоже мертв. Эти равнины по обе стороны гор просто усеяны трупами! Флаер проник в ущелье.Впереди и внизу вспыхнули прожекторы, и Тревельян увидел чуть мерцающий купол силовой защиты, темную трещину в скале, а рядом с ней – два жилых модуля, транспортный бот, группу людей и нескольких киберов. Позади модулей виднелись раскрытые контейнеры с оборудованием, стол, пластиковые кресла, кухонный агрегат, грузовой флаер и еще четыре поменьше. Судя по всему, Маевский здесь прочно обосновался. Машина нырнула в проход, раскрывшийся в силовом барьере, и зависла над каменистой почвой. Трафор, превратившись в диск, выбрался из грузового люка, за ним вылез Тревельян, и его сразу окружили участники экспедиции. Взгляд Ивара скользил по их взволнованным лицам: Маевский, Пардини, Нора Миллер, как всегда, суровая, Анна, как всегда, прекрасная, стажер Инанту Тулунов, инженеры Теругга и Джикат Ду. На пике Шенанди трое, автоматически отметил он – Юэн, Энджела и Кафи. Еще Петр и Лейла – те на своих островах… Его охватило странное ощущение – казалось, он непременно должен знать, где сейчас каждый человек. Но не только это: еще увериться, что все в безопасности, что им ничего не грозит, и потому руководитель может быть спокоен. «Взрослеешь, – сказал бы дед. – Взрослеешь, мужаешь и готовишься взвалить на плечи груз командирских забот…» «Уже взвалил», – с усмешкой подумал Тревельян. Командор был прав, хоть находился очень далеко отсюда. Говорили все разом: – Координатор, наконец-то!.. – Полагаю, вы отправитесь в пещеру? Я хотела бы… – Кафингар просил передать вам привет… – Вы что-то придумали, Ивар? Я должна знать… я… – Старший, старший! Возьмете меня с собой?.. – И меня! Вам будет нужен инженер? Мы с Джикатом готовы… – Не шумите! Дайте ему сказать!.. – Тише, тише! Инанту, Джакомо, меньше энтузиазма! Не отдавите координатору ноги… – Повторяю, Тревельян, я должна… – Нам пригодятся роботы. Тут есть один агрегат… – Отлично выглядите, Ивар! Ка-акие зубки! Ка-акой рот! Прямо создан для поцелуев! Увернувшись от Анны Веронезе, Тревельян сказал: – Всем внимание! – Возгласы его коллег стихли. – Йозеф, вы просматривали запись тех картин, что появляются в портале? Я имею в виду режим замедленной трансляции. – Разумеется, – кивнул Маевский. – Этим занималась Нора. – И что скажете, доктор? – Двести тринадцать эпизодов, координатор. Несомненно, это точки входа-выхода, разбросанные по всем материкам и островам планеты, у самых интересных объектов. Через такой портал на Раху недавно я переместилась к вашим людоедам у Поднебесного Хребта. Думаю, эти врата функционируют раз в несколько суток. Мои малыши… то есть зверолюди… утверждали, что… – Простите, Нора, количество и диспозиция врат сейчас меня не волнует. Здесь, под этими скалами, – Тревельян показал на трещину, – базовая станция, но есть и вторая, такой же обширный зал с Падающей Водой… Вы его как следует рассмотрели? Миллер смущенно моргнула. – Нет… пожалуй, нет… Я заметила, что он идентичен нашему подземелью, и значит, не слишком интересен. Маевский с задумчивым видом нахмурился. – О! Это мысль! Полагаете, что раз здесь нет органов управления, то, возможно, что-то найдется в другой камере? – Возможно, – подтвердил Тревельян. – Я собираюсь в нее заглянуть, коллеги. Один. Пока один. – Но как вы туда попадете? – спросил Пардини. – Пейзажи сменяют друг друга с такой быстротой… Я замерял: каждое видение фиксируется двести семьдесят семь миллисекунд. В эту дверь нельзя проскочить. – Я постараюсь. – Как насчет связи? – деловито произнес Маевский. – Да, конечно, браслет мне не помешает. И еще шлем. Дайте мне контактный шлем. – Но вы же сами запретили… – Запретил вам. У координатора есть кое-какие привилегии. Инанту молча протянул Тревельяну комбраслет, снятый с собственного запястья, Теругга подал шлем, сверкавший полированным металлом. – Оружие? – В руках Джиката вдруг появился мощный бластер. – Оружие мне не понадобится, – сказал Тревельян, шагнув к трещине. – Не беспокойтесь, я вернусь через пару часов… ну, через три, в крайнем случае. Мой робот пойдет со мной. Вперед, приятель! У входа в подземелье он обернулся. Коллеги, все семеро, стояли плечом к плечу и глядели на него. Инанту – восхищенно, Маевский и оба терукси – одобрительно, Пардини – с тревогой, а в зеленых глазах Анны Веронезе читалось обещание. Что до Норы Миллер, та смотрела хмуро, даже с неудовольствием; ей, конечно, до смерти хотелось отправиться с ним. Тревельян лязгнул зубами, сделав вид, что хочет ее укусить, растянул в улыбке огромный рот и скрылся в подземелье. Трафору не пришлось включать прожекторы – дорогу освещали подвешенные в воздухе световые шары. К тому же киберы расчистили путь, убрали кости и мусор, расплавили торчавшие из пола камни, так что идти было легко, и при желании Ивар мог бы проехаться на трафоре. Но он шел неторопливо, прижимая к груди шлем и размышляя, будет ли от него какая-то польза. Пардини сказал, что фантомы пейзажей сменяются примерно за четверть секунды – значит, весь цикл занимает минуту. Это совпадало с наблюдениями Тревельяна, но практической пользы в них не было никакой: за четверть секунды в дверь и правда не проскочишь. Нужно остановить картину – но как?.. Поиски клавиш, кнопок или сенсоров оказались тщетны, голосовая связь тоже отсутствовала – да и на каком языке общаться с устройством, что управляет вратами?.. «Пожалуй, Миллер права, – подумал Тревельян, – без ментальных фокусов не обойдешься. С дедом вышло бы проще и надежнее – командор, в силу своей бестелесной природы, мог сканировать ментальные поля. Но где он, дед, где?.. Нет деда… Верно сказано у Йездана Сероокого, книлинского мудреца: у нас есть только то, что мы теряем…» Трафор, скользивший впереди, выдвинул щупальце с вокодером и поинтересовался: – Инструкции, эмиссар? – Будешь вести запись и наблюдать. Ни во что не вмешивайся. – Ивар помолчал и добавил: – Что бы ни произошло, никаких активных действий. – Можете на меня положиться, эмиссар. А что может произойти? – Понятия не имею. Они миновали дыру в стене и очутились в подземной камере. Высокий купол, гладкие стены, занавес Спящей Воды и мягкое сияние, струившееся под сводами зала… Тут ничего не изменилось, лишь исчезли мусорные кучи да шагах в двадцати от врат была подвешена голографическая камера. Ивар остановился рядом с ней, глядя на серебристые струи, падавшие с потолка и исчезавшие в гладком полу. Надо думать, присутствие живого существа активизировало какой-то скрытый механизм – не прошло и двух минут, как в глубине хрустальной завесы побежали, понеслись стремительно знакомые пейзажи, потом возникло ущелье у покинутого лагеря шас-га, истоптанная, заваленная отбросами земля, пятна от прогоревших костров и вдалеке – очертания едва заметных дюн. Видимость была неважной – слабый свет Гандхарва не мог разогнать ночную тьму. Тревельян сосредоточился, закрыл глаза, представил мысленно картину такого же зала, купол, взметнувшийся ввысь, застывший водопад и четыре фигуры из белого мрамора. Не обладая сильным ментальным даром, он все же не был новичком в таких делах; основам обучали в Академии, а дальше все зависело от личных талантов и практики. Пожалуй, главным являлся момент погружения в транс, способность выскользнуть из реальности и обратиться мыслью к чему-то другому, иногда удаленному на много светолет; затем вообразить этот объект или, возможно, личность контактера и передать сообщение. Бытовые и промышленные установки, транспорт и оружие давно уже управлялись биотоками, либо напрямую, либо с помощью контактных шлемов-усилителей, но ментальная связь от разума к разуму все еще была загадкой. Очень немногие люди владели мощным даром телепатии, и почти всех таких умельцев подбирала Секретная служба Звездного Флота. – Ну, – произнес Тревельян, не открывая глаз, – что ты видишь? Есть изменения? – Никаких, эмиссар, – откликнулся Мозг. – Настройка прежняя. Могу я узнать, что вы делаете? – Активирую третью сигнальную систему, – буркнул Ивар и сделал новую попытку, опять безуспешную. Он поднял веки, уставился на ночной пейзаж в портале и недовольно промолвил: – Черт, не выходит! То ли сигнал слабый, то ли мозги у даскинов устроены совсем иначе… Может быть, здесь какая-то блокировка? – Он повертел в руках шлем – надевать его не хотелось, но, видно, придется. – С другой стороны, – продолжил вслух Тревельян, – система должна улавливать любые сигналы, в том числе слабые. Или не должна? Он задумался, но ответа на свой вопрос не обнаружил. У земной науки даже понятия не имелось о ментальных талантах даскинов; вдруг их слабые сигналы превосходят возможности гомо сапиенс?.. Не такой уж он сапиенс, этот гомо – даже в сравнении с парапримами, не говоря о даскинах!.. Паранормальные способности людей развивались медленно, хотя за последнюю тысячу лет, в связи с появлением психокибернетики, некоторый прогресс все же был достигнут. «Натянуть шлем?.. – подумал Тревельян, вздыхая. – Видно, без этого не обойтись… Но если придет ответный импульс, усиленный шлемом, последствия будут фатальными». – Эмиссар, – раздался голос Мозга, – однажды вы вступили в ментальную связь со мной. Помните? Это было еще на Сайкатской станции. – Разве такое забудешь? – сказал Тревельян. – В ментальном плане ты… гмм… очень достойная личность. – Благодарю. Я проанализировал воспоминания о том контакте и пришел к определенным выводам. Они касаются мощности сигнала, эмиссар. На фоне обмена информацией были периоды сильных всплесков. Я имею в виду ваши ментальные импульсы. Временами их мощность резко возрастала. Тревельян насторожился. – В самом деле? Когда же ты это фиксировал? – В момент, когда вы высказывали желание. Это человеческий термин. Я воспринимаю ваши желания, как подлежащие выполнению команды. – Команды… – повторил Ивар, коснувшись виска. – Желания и команды… что-то в этом есть, дружок. Сейчас я ведь не высказал желания, я только представил вторую камеру с порталом и этим монументом… Пожалуй, надо уточнить, чего я, собственно, хочу. Подержи-ка это. – Он протянул шлем трафору, поймавшему ментальный усилитель гибким щупальцем. – Сделаем еще одну попытку. Сезам, откройся! Джинн, исполни мое желание! Привычным усилием воли он погрузился в транс. В неуловимый миг реальность, окружавшая Ивара, словно раздвоилась: он видел зал со Спящей Водой и его мысленное отражение – другую станцию с вратами и изваянием лоона эо. Эту картину нужно было передвинуть так, чтобы она легла на падавший сверху занавес, так, чтобы два потока Спящей Воды соединились и один зал казался продолжением другого. Он сделал это и внезапно понял, каким будет следующий шаг: две удаленные точки соприкоснулись, и их контакт нужно зафиксировать. Желание, оформленное в команду… мысленный приказ, который воспримет неведомое устройство… воспримет обязательно, ибо именно в этом – его назначение и смысл. Он пожелал. – Получилось, эмиссар! – Голос трафора был преисполнен торжества. – Мои поздравления! Получилось! Ивар открыл глаза. Завеса, делившая зал на две половины, будто растаяла, исчезла вместе с ущельем, грудами мусора и брошенным лагерем шас-га; теперь перед ним открылось сумрачное подземелье с высоким куполом и гладкими стенами. В скудном свете, струившемся от врат, он мог рассмотреть эту вторую станцию во всех подробностях, и тут же понял, что она не была отражением первой. Ни трещины в стене, ни голокамеры, парившей над полом, ни трафора с десятком щупальцев… Безлюдье, тишина и пустота! Конечно, если не считать изваяний, что высились сбоку от врат. – Я иду туда, – сказал Тревельян. Слова прозвучали точно хрип; от волнения перехватило горло, жаркая волна ударила в голову. Через миг он успокоился – медицинский имплант восстановил баланс, поглотив избыток адреналина. – Я иду, – повторил он и сделал шаг к невидимой сейчас завесе. – Мне остаться здесь? Или сопровождать эмиссара? – с надеждой поинтересовался трафор. – Останься и продолжай записывать. Думаю, видеосвязь не нарушится. – Ивар замер у границы, разделявшей подземелья, потом решительно шагнул вперед и обернулся. Теперь перед ним была первая станция: стена, в которой зиял пролом, висевшая в воздухе голокамера и плоский диск его помощника. Десяток манипуляторов трафора поддерживали сканеры и записывающую аппаратуру, десяток глаз следил за Тревельяном, и это успокаивало. Убедившись, что визуальная связь сохранилась, Ивар приблизился к скульптурной группе. Тела и головы статуй были слегка развернуты, и казалось, что они глядят друг на друга, но в то же время не выпускают наблюдателя из поля зрения. Чувствуя себя незваным гостем, Тревельян обошел вокруг пьедестала, всмотрелся в прекрасные лица, встретил взгляд каждой фигуры; женщина смотрела ласково, будто желая его подбодрить, но черты остальных застыли в безмятежном покое. Протянув руку, он коснулся тонкой четырехпалой кисти, вздрогнул и отступил на шаг – ему почудилось, что мрамор ожил под его ладонью, наполнился мягкостью и теплом. – Такие похожие на нас, – вырвалось у Ивара, – и такие непохожие… Он отошел еще дальше и остановился там, глядя на статуи и словно бы чего-то ожидая. Собственно, он мог уйти, вернуться к первой станции, вызвать Маевского, Миллер и остальных коллег. Они исследуют это подземелье, явятся сюда с роботами, инструментами и приборами, проверят крепость стен, сканируют их интравизором и, может быть, поймут, как управлять даскинской машинерией. Они придут, и через недолгое время зал наполнится голосами людей, шипением лазеров, лязгом, стуками и шорохами; забегают роботы, потащат то и это, поднимутся вверх световые шары и дюжина камер, и чьи-то руки прикоснутся к статуям – пусть бережно, пусть осторожно, но руки будут не его… Мысль об этом казалась кощунственной. – Не для нас сделано, – вслух произнес Тревельян. – Или все-таки для нас? Вроде бы такой подарок от старших братьев младшим: если найдете, берите и пользуйтесь… Пахнет чудом? Ну и что с того! Вселенная полнится чудесами, и жизнь тоже. Вот предок мой Сергей Вальдес, служивший в Защитниках… Если верить тому серву… Не спуская глаз со статуй, он принялся вспоминать услышанное много лет назад в Посольском Куполе, рассказ о земном мужчине и женщине лоона эо по имени Занту. То, что Вальдес в нее влюбился, не казалось странным, если она была похожа на эту каменную красавицу; красота чарует и властвует над всеми, над терукси и землянами, кни'лина и обитателями Осиера – может быть, даже над хапторами… Однако серв утверждал, что Вальдес и Занту породили дитя. Вот это было настоящим чудом! Хоть Ивар не являлся специалистом по лоона эо, но, как любой ксенолог, твердо знал, что половые признаки, обычные для гуманоидов, у них отсутствуют, и эта раса воспроизводит потомство при помощи ментальной конъюгации. Правда, если верить серву, были у Вальдеса некие таланты, и потому… Что-то изменилось, прервав его воспоминания. Свет, исходивший от Спящей Воды, внезапно померк, тень накрыла мраморные изваяния, и Тревельян, повернувшись к порталу, уже не увидел ни плавающей в воздухе голокамеры, ни трафора, ни подземелья, в котором остался его помощник. Тьма затопила врата, беспросветная тьма, в которой кружились, ворочались, сталкивались какие-то серые массы, неимоверно огромные, безжизненные и страшные, как видение ада. Ужас сковал Тревельяна; ему чудилось, что он погружается в Лимб, тонет в этой изнанке Вселенной, где нет ни времени, ни пространства, ни тепла, ни света, а только мрак и холод. И хоть земные корабли летали в Лимбе почти тысячелетие, зрелище было не для человеческих глаз и чувств, таких беззащитных без корабельной брони, приборов, роботов и силовых полей. Впрочем, люди привыкают ко всему; быть может, пройдет какое-то время, и фантомы Лимба станут для них обычными, как грозовые тучи. Но будут ли они тогда людьми?.. Мысль исчезла и унесла с собой атавистический ужас. Тревельян вздохнул, вытер со лба испарину, сглотнул застрявший в горле ком. Мрак, затянувший врата, раздался, точно его полоснули ножом, что-то вспыхнуло, засияло, и гибкая фигура скользнула в светлую прореху, которая все ширилась и ширилась, оттесняя серые чудовищные глыбы, мертвые звезды или космические облака, что ворочались во тьме портала. Но Ивар уже не смотрел на них; сейчас он видел только серва, копию Первого Регистратора. Те же огромные глаза и золотые волосы, тот же крохотный рот, руки с узкими четырехпалыми кистями, хрупкое изящное сложение… И платье то же, что он носил когда-то, – облегающий комбинезон и мантия, падавшая до пола широкими складками. – Ивар Тревельян. Ты здесь, Ивар Тревельян, – промолвил серв. Это не было ни вопросом, ни приветствием, а лишь констатацией факта, знаком того, что Ивара узнали в облике шас-га. – Первый Регистратор… – Ивар слегка склонил голову. – Я не ошибся, ты – Первый Регистратор? То создание, с которым я встретился много лет назад? – Та сущность, которую ты встретил так недавно, – уточнил серв. – Сущность воплощена в нескольких телах, подобных этому. Можешь считать меня Первым Регистратором. – Рад тебя видеть. Но наша первая встреча – там, на Луне, в Посольских Куполах… Разве она произошла недавно? Или для тебя время течет по другому? – Нет. Значит, меньше. – Первый окинул Ивара пристальным взглядом. – Ты изменился, Ивар Тревельян. – Да, друг мой. Я уже не тот юноша, что расспрашивал тебя о Запретных Товарах. По лицу серва скользнула улыбка. – Они тебя все еще интересуют? – Товары?.. Нет, пожалуй, нет. Есть множество других вещей, более важных и интригующих – скажем, произошедшее на Хтоне и то, что может случиться здесь, с людьми этого мира. И есть вопрос, на который я не нашел ответа. – Вопрос? Какой же? Он знает, знает!.. – подумал Тревельян. Но это существо хотело, чтобы вопрос был задан вслух – возможно, дабы исключить неправильное толкование. Ивар вытянул руку к монументу. – Когда-то ты сказал: вот символ того, что мы здесь были и мы здесь есть… Но зачем? Для чего? С какой целью? А главное, к беде или благу? Мы ведь тоже здесь, на Раване и в других мирах, породивших жизнь и разум… Мы пытаемся помочь, спасти обитателей этих планет от собственной их злобы и жестокости, научить тому и этому, оградить от ошибок, которые сами наделали в прошлом, но мы не знаем, к добру ли это или к таким несчастьям, каких не случилось бы без нас. Вот причина для вопросов и сомнений! Иные в нашей среде полагают, что неразумных нужно пестовать и направлять, другим это кажется бесцельным, поскольку усилия наши порой уходят, как вода в песок. И мы спрашиваем: зачем мы здесь?.. Для чего?.. И по какому праву?.. Серв слушал его, совсем по-человечески кивая головой. Лицо его стало задумчивым, лоб прорезали морщины – очевидно, он имитировал мимику землян. – Есть вопросы и Вопросы, Ивар Тревельян. На одни я могу ответить, другие же остаются вам как повод для размышлений. Вы сами должны решить, зачем вы здесь и по какому праву. Но не сейчас, не сейчас… может быть, через сто ваших лет или через тысячу. Ищите ответы сами, ибо мы их не знаем. Мы пытались… пытались давным давно… – Глаза Первого померкли. – Вы и мы… Мы с вами не очень похожи, но сходство все же существует – вы, как и мы, стремитесь изменить мир к лучшему. А что в мире дороже и ближе для нас, чем разум?.. И потому попытки были, есть и будут. Даже если они оборачиваются жестокостью… как на Хтоне… – Жестокостью от бессилия? От того, что нет других решений? – спросил Тревельян и услышал: – Да. Наступила тишина. Ивар глядел на серва, уже понимая, что перед ним не биоробот, а существо неимоверно древнее, странник, пришедший из давних времен, что его облик и статус слуги лоона эо – всего лишь фантом, изменчивая маска. Мысль о прожитых им годах устрашала. Любая разумная тварь в Галактике, подобная людям или вовсе не похожая на них, относилась к той же эпохе, к тому же моменту, что и он, Ивар Тревельян, и миллиарды других созданий, обитающих у самых дальних звезд. Но Первый явился в их Вселенную из другой геологической эры, и он не перепрыгнул через время, а прожил миллионы лет день за днем, год за годом, век за веком. Бездна опыта, Монблан воспоминаний… Человеческий разум не смог бы их вместить, но Первый не был человеком. – Вы пытались… – медленно произнес Тревельян, – вы пытались, но потерпели поражение. Вы поняли это, когда основным аргументом стала сила. Другого решения вы не нашли. Что же дальше? – Теперь ваша очередь. Мы уступаем вам место. – Кому – вам? – Всем вам. – Серв раскинул руки, будто желая обнять Мироздание, и уточнил: – Людям и тем, кого вы зовете дроми, фаата, кни'лина, и всем остальным. Вам, наследникам! – Тяжкая ноша, – сказал Тревельян. – Влиять на жизнь целых рас, судить, карать и миловать, зная, что в прошлом не нашли ответов… Вы не нашли их и удалились из Галактики, оставив нас в сомнениях и страхе. – Это не так, – откликнулся Первый и бросил взгляд на статуи. – Разве мы удалились? Мы здесь! – Вы – лоона эо? – Нет. Они лишь раса-посредник, удобное прикрытие. Их сервы могут быть похожи на людей, на дроми, или хапторов, или на самих лоона эо… И этих слуг так много, миллиарды и миллиарды! – Первый помолчал и вдруг усмехнулся: – Среди твоих соплеменников, Ивар Тревельян, есть очень мудрые люди. Один из них сказал: где умный человек прячет камень?.. На прибрежном пляже среди других камней… Где он прячет лист?.. В лесу, в листве деревьев… Мы – тот камень и тот лист. Мы здесь, и мы готовы помогать. – Отрадно, – промолвил Тревельян, – отрадно и очень кстати. У нас возникли кое-какие затруднения. Он повернулся к порталу. Мрак и серые массы, ворочавшиеся во тьме, сменило ровное голубоватое сияние; казалось, что врата открыты в небесную синь где-нибудь над Гавайями или морским побережьем Гондваны. Где находится это место? На планетах лоона эо или в каком-то неведомом мире в сотнях или тысячах парсек? Возможно, это иллюзия? Или некая щель в пространстве, тайное убежище даскинов? Попасть бы туда!.. – мелькнула мысль. Но дела на Раване еще не закончены. Первый проследил за взглядом Ивара. – Тебя интересует сеть тоннелей в Лимбе? Кажется, вы называете это так? – Он на мгновение замер, будто вслушиваясь в призрачный шепот ментальных полей, в беззвучные телепатические голоса, обволакивающие планету неощутимым и невидимым покровом. – Вы ищете устройство управления тоннелями, – вымолвил Первый через недолгое время. – Ищете то, чего нет. Мы не используем ментальные усилители и другие механизмы, похожие на ваши. Сеть… она отчасти живая и контролируется иначе. Прямо отсюда. – Коснувшись виска, он вытянул к вратам четырехпалую кисть. – Это мне ясно, – произнес Тревельян. Голова у него кружилась, голубая пустота притягивала, точно магнит; несколько шагов, и он мог окунуться в сияющую бездну. – Мы находили ваши устройства на других планетах, но там не было порталов. Этот мир – особенный? – В каком-то смысле. Сюда переселили расу… – Первый смолк на мгновение, подбирая нужный термин. – Вы называете этот народ малышами, карликами, зверолюдьми. Их миру грозила гибель, их развитие остановилось, и мы переправили карликов сюда. Условия жизни здесь суровы, и это могло подстегнуть их прогресс. Сеть тоннелей позволяла им добраться до любого места на планете. В ту эпоху здесь не было других разумных. Значит, это случилось сотни тысяч лет назад, отметил Тревельян. Предки кьоллов, шас-га и других племен бегали в те времена на четвереньках. Стараясь не глядеть на врата с зияющей в них пропастью, он сказал: – Ваш эксперимент закончился неудачей. – Вынужден согласиться. Эта раса деградировала. Печальный исход, но не единственный, когда мы… – Первый запнулся. – Ты сказал: усилия наши порой уходят, как вода в песок… Очень точное сравнение. «Любопытные данные для Миллер, – подумал Тревельян. – Для Консулата тоже, хотя с такой дилеммой прогрессоры Земли еще не сталкивались. Бросить ли целую расу на гибель или переселить в другой мир, с неясными последствиями этого деяния?.. Хороший вопрос!» Он откинул волосы с лица и сказал: – Мы хотим использовать ваши тоннели. Это возможно? – Да. Я научу тебя этому. Вы, люди, способны усвоить большой объем информации в гипнотическом трансе. Если позволишь, нечто подобное произойдет с тобой. Ты бы назвал это настройкой. – Не возражаю, – молвил Тревельян и закрыл глаза. Но тут же снова открыл их, чтобы спросить: – Сколько времени займет настройка? Я должен вернуться в лагерь шас-га до белого рассвета. – Вернешься в срок. – Первый отступил к вратам, и налетевший из бездны ветер всколыхнул его мантию. – Просьба, Ивар Тревельян. У меня есть просьба. – Я готов ее выполнить, чего бы ты ни попросил. – Ты занят существами, что вторглись из-за гор в пустыни юга… я знаю, я понял твою тревогу… они уничтожают тех, кому вы оказали покровительство… Но в этом мире есть и другие разумные. – О ком ты говоришь? – О малышах, которых мы сюда переселили. Будьте к ним милосердны. У нас не получилось… Но, может быть, получится у вас? Он уходил, таял в голубизне портала, растворялся в светлом бирюзовом мареве. – Погоди! – воскликнул Тревельян. – Ты ведь собирался научить меня! Научить, как… – Разве ты не умеешь? – донеслось до него. – Разве ты еще не научился? Прислушайся к себе, Ивар Тревельян, прислушайся к себе… Это так просто… Первый исчез, и теперь портал заполняло только голубое сияние. Ивар повернулся к этой призрачной завесе, что-то щелкнуло в его сознании, открылась некая дверца или, возможно, сомкнулись прежде разъединенные синапсы. Он сделал мысленное усилие, такое естественное и простое, и свет за вратами померк. Теперь там была знакомая камера с трещиной в стене и видеоприбором, парившим под высоким куполом. Трафор распластался большой лепешкой на полу и проявлял знаки беспокойства: его манипуляторы и щупальцы дергались, оболочка подрагивала, а из ее верхней части вырос усеянный глазами горб. – Получилось! В самом деле, просто, – сказал Тревельян и шагнул сквозь занавес Спящей Воды.Глава 20. Хтон
Ничто не свершается без греха.Изречение из «Книги Начала и Конца», которую приписывают Йездану Сероокому, мудрецу кни'лина
Когда крейсер «Урал» начал облет планеты, трое из пяти биоморфов, обитавших в ее недрах, были уничтожены. Теперь на центральном континенте остался лишь домен Фарданта Седьмого, и в том была заслуга его военного Советника. Это создание, одолженное Фарданту живым Пришельцем из Великой Пустоты, оказалось искусным стратегом и опытным тактиком; его мастерство в части засад, внезапных атак и окружения врага не оставляло желать лучшего. Теперь Фардант знал, что такое фланговые удары, «котлы», ковровое бомбометание и обходы с тыла. Когда колонны роботов Матаймы и Гнилого Побега ринулись в домен, преодолев первый оборонительный рубеж, Советник заманил их на песчаную равнину, где не было естественных укрытий, и нанес удар с воздуха. Поднялись тысячи машин, все, что Фардант хранил в своих арсеналах, и результат был убийственным: сверкали плазменные молнии, грохотали взрывы, плавились камни и песок, пылал пластик, растекался жидкими лужами металл. Покончив с агрессором, воздушная армада двинулась на северо-восток, к убежищу Матаймы, не ожидавшего такой стремительной атаки. Оборонялся он упорно, но Советник велел перебросить к его цитадели роботов-бурильщиков; те проложили ходы внутрь убежища, затем сокрушители Фарданта добрались до трубопроводов с питательным раствором и загрузили в них парализующий яд. Матайма, противник осторожный и опасный, был уничтожен, но оставался еще Гнилой Побег – на западе, у берегов морского пролива. Скальная платформа в этой местности состояла из рыхлых пород, и мощные направленные взрывы разрушили защитный купол над крепостью Побега. Фардант ощутил его предсмертный вопль, всколыхнувший ментальное поле планеты: в нем были только ненависть и злоба. Эти две победы обеспечили ресурсами план дальнейших операций. Залежи руд на центральном континенте давно истощились, но уничтоженные армии Матаймы и Побега были источником металла, подлежащего переработке. Фардант собирался пустить сырье на орудийные стволы, воздушные машины и корпуса сокрушителей, но Советник решил иначе. В нескольких подземельях развернули комплекс, производивший гигантские снаряды с автономным управлением; это оружие стерло в пыль все плазменные метатели Тер Абанты Кроры, что находились на поверхности его материка. Затем Советник послал туда тридцать тысяч сокрушителей, и Крора, порождение Темных Владык, отправился в небытие. Дазз Третий, владевший островом в Южном океане, сопротивляться не рискнул; «ракеты» – устройства, придуманные Советником – могли сровнять его земли с морскими волнами. Получив от него заверения в покорности, Фардант впервые ощутил себя владыкой мира. Теперь ничто не мешало клонировать живые существа, населявшие в древности планету, заняться восстановлением биосферы и даже отстроить на поверхности пару городов. Но, как говорил Пришелец из Великой Пустоты, мир Фарданта являлся лишь песчинкой среди множества планет и планетоидов, населенных живыми существами – весьма опасными, ибо они умели странствовать от звезды к звезде в огромных кораблях и обладали сокрушительным оружием. Когда такой корабль приблизился к владениям Фарданта, его биологическая структура вышла из равновесия с внешней средой; можно сказать, он ощутил шок, ужас и панику. Но Советник его успокоил, объяснив, что эти новые пришельцы – не жабы, не рогачи, не плешаки [117], а настоящие люди, то есть существа благожелательные и гуманные. Правда потом добавил, что рыпаться все-таки не стоит.
* * *
Экспедиция, стартовавшая с военной базы на Рооне, ближайшей к Провалу между Рукавами Ориона и Персея, была большой и превосходно оснащенной. Лайнер «Рене Декарт», принадлежавший Звездному Флоту, являлся кораблем-разведчиком, и в его просторных отсеках, салонах и лабораториях разместились специалисты Исследовательского корпуса, большая группа университетских ученых и представители ФРИК. «Декарта» сопровождали транспортное судно с тяжелым оборудованием и воинский эскорт, крейсер «Урал» и три фрегата. Еще один фрегат, «Ниагара», посланный на выручку Тревельяну, нес дежурство на планетарной орбите уже в течение трех недель, наблюдая за центральным материком и другими областями Хтона. Происходившие там события были весьма любопытны, но Марк Дарлан, командир «Ниагары», получил директиву не вмешиваться в местные разборки и ждать облеченных властью лиц. Ими являлись шеф научной экспедиции Присцилла Хименес, консул ФРИК Мохаммед Ортега и адмирал Чон Леунг. Его крейсер облетел планету в меридиональном и широтном направлениях, сканируя поверхность с развалинами городов и следами сражений, а также недра Хтона, где имелись огромные полости. Убедившись, что боевая активность отсутствует, адмирал разрешил высадку группе контактеров, возглавляемых Ортегой. Их прикрывал десантный отряд: тридцать опытных коммандос, дюжина роботов и бронетехника с эмиттерами защитных полей. Не встречая противодействия, группа спускалась к центральной зоне материка. Этой областью, согласно отчетам Тревельяна, владел биоморф Фардант и, по данным тех же отчетов, она считалась сравнительно безопасной. Еще в воздухе Ортега и два сопровождавших его специалиста заметили шестиугольник, обозначенный зелеными огнями; истолковав этот знак, как приглашение к посадке, Ортега велел приземляться. Гэндзо, один из его помощников, имевший квалификацию психокибернетика, соединился с искусственным мозгом-транслятором, готовясь переводить; ксенолог Климов, второй помощник, включил записывающую аппаратуру. Первым опустился десантный бот. Площадка, освещенная тусклым солнцем и зелеными огнями, была тщательно выровнена; грунт – прочная скала – мог выдержать тяжесть бота без помощи гравитаторов. Выбравшись наружу, десантники охватили периметр защитными экранами, расставили кибернетических стражей, разбились на группы по три человека и выдвинули за силовой барьер патрули. Сверху их движения казались стремительными, словно на площадке и вокруг нее бегали шустрые жучки в блестящей броне; боевые скафандры и импланты позволяли людям соперничать в скорости с роботами. – Полная готовность, консул. Можете садиться, – раздался голос Боба Бейкера, командира десантников, и корабль Ортеги плавно пошел вниз. В отличие от бота, напоминавшего заостренный снаряд с выступами орудийных башен, в распоряжении консула был квадроплан [118], судно с прекрасной остойчивостью и вместительными трюмами. Квадроплан завис в полуметре над почвой, выдвинул пандус из левого трюма, и мозг-транслятор, массивный яйцеобразный аппарат, осторожно сполз на землю. Ортега и его спутники тоже покинули корабль и зашагали к краю площадки, где стоял Бейкер – огромный, закованный в сверкающие доспехи. Транслятор, включив гравидвижок, поплыл следом за ними. – Пустынная местность, – озираясь, заметил Климов. – Похоже на плоскогорья Гоби. Камни, песок, тишина и никакого движения. – Под этой равниной – пустота, – напомнил Гэндзо, поправляя контактный шлем. – Согласно показаниям локаторов, там, в глубине, – лабиринт из пещер, тоннелей и вертикальных колодцев. Мой малыш утверждает, – он кивнул на мозг-транслятор, – что протяженность этой структуры – более сорока километров. Они помолчали, глядя на унылую равнину. Затем Бейкер, движимый чувством ответственности, спросил: – Ваши распоряжения, консул? Прикажете обследовать территорию? – Нет. Подождем. Долго ждать не пришлось: зашуршал песок, его серо-желтые гряды начали расползаться в стороны, и в земле раскрылась темная щель – не очень большая, но достаточная, чтобы пропустить двухместный флаер. Из дыры полезли многоногие роботы-пауки, а за ними – странная конструкция: прямоугольный плоский корпус, длинные ноги, приделанные с боков, огромные ступни и никакого признака рук и головы. Подпрыгивая и раскачиваясь, агрегат направился к людям. – Отпрыск Фарданта, Контактер, или Посредник, – заметил Климов. – Тревельян сообщал о таком устройстве. Как мне помнится из его отчетов, он ограничился передачей Фарданту альфа-хаптора [119] в самой упрощенной версии. Хватит ли этого, консул? – Посмотрим, – сказал Ортега. – При нужде воспользуемся транслятором. Тревельян, невольный узник этого мира, не решился обучить Фарданта земному языку. Язык высокоразвитой расы не просто средство общения, язык передает информацию о ее военном и техническом потенциале, физиологии, психике, религии и массе других вещей, не предназначенных для чужаков. Тревельян поступил разумно – в тех обстоятельствах, в которых очутился. Но ситуация изменилась, и Ортега мог, используя транслятор, загрузить в блоки памяти Фарданта земную лингву. Хоть в полном объеме! Молекулярные деструкторы, аннигиляторы и боевые команды «Урала» были гарантией полной безопасности. Подскакивая и вихляя, Контактер приблизился к людям и замер в трех шагах от Ортеги. Бейкер приподнял ствол метателя, нацелившись в корпус, по которому блуждали зеленоватые пятна. Его десантники взяли на прицел топтавшихся у дыры пауков. – Приветствую великого Фарданта, – сказал консул на альфа-хапторе. – Мы – друзья существа из Великой Пустоты, которое недавно побывало на твоей планете. Мы пришли с миром и готовы к сотрудничеству. – С миром – это хорошо, – пробурчал Контактер. – Тяжелый крейсер и четыре фрегата – веский довод, чтобы заявлять о мире. – Затем, едва сохранив равновесие, он ткнул ногой в сторону Бейкера. – Ты, парень, опусти эту штуку. Нечего целить мне в живот. Контактер изъяснялся на чистейшей земной лингве. На миг все четверо онемели, затем Климов произнес: – В отчетах Тревельяна сообщается, что он оставил здесь кристалл с призрачным Советником. Его далекий предок… какой-то офицер Звездного Флота… – Какой-то! Я для тебя какой-то, сопляк! – рявкнул Контактер, обладавший, видимо, отличным слухом. – Я коммодор Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, герой битвы у Бетельгейзе! А нынче – правая фардантова рука! – Помолчав, он добавил: – Грмм… и левая тоже. Консул сделал знак приветствия. – Рад встретиться с вами, Олаф. Или вы предпочитаете другие свои имена?.. Я – Мохаммед Ортега, консул ФРИК. Мои помощники: Петр Климов, ксенолог, и Оя Гэндзо, психокибернетик. А это… – Лейтенант Бейкер, – буркнул десантник. Ступни Контактера с лязгом сомкнулись. Покачавшись взад-вперед, он снова расставил длинные ноги и опустил корпус на землю. – Никаких Олафов, Ортега, никаких Питеров и Карлосов. Обращайтесь ко мне «командор», я привык к этой кличке. А ты, лейтенант… Как стоишь перед старшим по званию? Ну-ка, оболтус, доложи по всей форме! Десантник вздрогнул, отсалютовал тяжелым излучателем и вытянулся во фрунт. – Роберт Юсуф Бейкер, лейтенант Десантного корпуса! Дивизия «Ваал», сто тридцатый батальон, рота «Б»! Мое задание: обеспечить безопасность группы контакта! – Уже лучше, парень, уже лучше. А почему у тебя воротник расстегнут? И пояс не на месте? Положено, чтобы пряжка была точно у пупа, а у тебя на палец выше. На целый палец, говорю! – Ну дает! – прошептал Климов. – Старая школа, – заметил Гэндзо. Лицо Бейкера побагровело. – Это невозможно, коммодор! Со всем уважением, невозможно! Пряжка, пояс, воротник… Откуда? Я ведь в боевом скафандре, а в нем нет… – Хочешь поспорить? – прорычал Контактер. – Запомни, лейтенант: если старший по званию говорит, что у тебя выросли рога, не нужно щупать лоб, чтобы в этом убедиться! Нужно верить! Малейшее сомнение в словах начальника ведет к сомнению в его приказах, а это уже проигранный бой. Ты понял, недоумок? – Так точно, понял! Агрегат вытянул ноги, со скрежетом потер ступню о ступню и сообщил: – Не обессудь, парень, так уж меня учили лет пятьсот-шестьсот назад. Боеспособность Флота превыше всего… – Пятна на его корпусе собрались в зеленый кружок и вспыхнули ярче. – Теперь перейдем к делу, консул Ортега. Фардант, мой… грмм… повелитель, установил контроль над этим миром. Он не возражает против археологических изысканий, равно как и строительства орбитальной базы, если Флот намерен здесь обосноваться. Однако есть определенные условия. – Я слушаю, – сказал Ортега. – Фардант намерен восстановить популяцию живых обитателей планеты. У него имеется древний генетический банк, и он уже клонировал сотню-другую особей. Ему нужна помощь в их… грмм… воспитании. Он полагает, что люди справятся с этим лучше, чем роботы. – Принято, командор. Есть другие пожелания? – Да. Энергетические и сырьевые ресурсы Хтона истощены. Необходимо их восстановить. – В составе экспедиции есть специалисты по терраформированию. Они этим займутся. – Тогда последнее. Здесь четыре фрегата, и любой из них долетит до Раваны за несколько дней. Моя миссия на Хтоне завершена, и я хочу отправиться к внуку. – Разумеется, командор. Уверен, что адмирал Леунг не откажет в вашей просьбе. Сообщите, где вы находитесь. Я полагаю, в подземной крепости Фарданта? – Нет, консул, я здесь. Пластина над световым пятном сдвинулась. За нею, в неглубоком отверстии, покоился маленький кристаллик, оплетенный серебристой паутиной проводов. Один за другим они начали вспыхивать и сгорать, пока не остался последний – тонкая ниточка, еще соединявшая коммодора с Хтоном. Сделав шаг и сняв перчатку, Ортега бережно прикоснулся к кристаллу кончиком пальца. – Будьте осторожны, консул, – прошелестели едва слышные слова, – будьте осторожны. Вспыхнула и сгорела последняя нить.На первый взгляд сотрудничество различных рас не является проблемой, ибо торговые связи между ними уже охватили значительную часть Галактики. Однако напомним, что цель торговли – выгода, а это слишком зыбкая почва для гуманитарных разработок и совместных проектов. Они нуждаются в более прочном основании, каким могло бы стать взаимодействие в сферах науки и культуры. Но отношения такого рода установились у землян лишь с терукси, хотя можно надеяться, что в этот союз войдут парапримы и кни'лина. В данном случае не столь важны перечисление рас и прогнозы благоприятного развития контактов, сколько основная мысль: торговое партнерство лежит слишком далеко от прогрессорских миссий. Причина ясна – в отличие от прибыльной торговли такие миссии требуют больших затрат.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 9. Сотрудничество в Галактике – возможно ли оно?
Глава 21. Архипелаг Исаевых и другие места
– Наши острова… – со вздохом произнесла Лейла, укладывая в контейнер одежду. – Жаль покидать их… Зачем они понадобились Ивару? Архипелаг лежал восточнее, чем обнаруженный в горах портал даскинов, и здесь, над островами, уже занимался белый рассвет. Первые лучи Ракшаса скользили по серо-стальной морской поверхности, прокладывая блестящую дорожку, и налетевший бриз шелестел в траве и древесных кронах. В этом жарком климате деревья, овеваемые влажными ветрами, быстро росли и, отжив свое и рухнув на землю, так же быстро разлагались, питая новую поросль, кусты и травы. Пожалуй, архипелаг был самым ярким, самым пестрым местом на планете: желтая, оранжевая, багряная листва, розовые, серые, коричневые утесы с прожилками кварца, белый песок, синие и зеленые водоросли, тянувшие к солнцам тонкие стебли. Других островов в южных морях не имелось, только отмели да пара десятков бесплодных скал. – Жаль отсюда уходить, – повторила Лейла. – Здесь так красиво… Я думала, когда-нибудь мы привезем сюда девочек. – Лучше съездим с ними на Багамы или Канары, – утешил ее практичный Петр. – Хотя я бы лег под цветущим персиком в нашем саду и пролежал там неделю или две… Конечно, если ты не возражаешь, дорогая. Роботы сворачивали жилой купол, тащили оборудование и приборы с плота-лаборатории, потом выпустили из баллонов воздух, и плотосел, превратившись в плоский круглый блин. Петр следил, чтоб ничего не забыли, делал пометки на экранчике, развернутом у запястья: эхолоты, гравиметры, костюмы акванавтов, легкая складная мебель, тенты, банки с морской живностью, коллекции минералов, добытых на шельфе, скутеры, посуда, камеры для подводных съемок… Все это исчезало в грузовом отсеке флаера. Флаер у них был большой, и эвакуация лагеря шла быстро. – Вернемся на Шенанди, а куда потом? – спросила Лейла, захлопнув контейнер. Робот подхватил его и понес к флаеру. – Возьмем большой плот и перебазируемся в океан, к подходящему шельфу, – сказал Петр. – К пятой отмели, к седьмой или четырнадцатой, где глубины двадцать-тридцать метров. Встанем на якорь, продолжим работу… Не огорчайся, милая. – Продолжим, – согласилась Лейла. – Но там не будет рощи, и лужаек с травой, и ручьев, и пляжа с мягким песком… Она оглянулась на деревья. Восходивший Ракшас прятался за ними, наполняя рощу щедрым светом. – Там будет море, – промолвил Петр. Через четверть часа они поднялись в воздух. Флаер покружил над островами – сверху они выглядели точно четыре корзинки, полные цветов, две побольше, две поменьше. Затем машина вышла в стратосферу и легла на курс к пику Шенанди. Петр затенил кабину – свет Ракшаса был слишком ярок. – Ты отправил Йозефу голограммы? – спросила Лейла. – Те снимки, что ему нужны? – Да. Поляна, заросшая травой, излучина речки и роща сеннши и мфа на заднем плане… Красивый вид! Как в раю. – Как в раю, – повторила Лейла.* * *
В ущелье, ведущем к порталу даскинов, ночь еще не кончилась. Йозеф Маевский и шесть его коллег сидели у стола за жилым куполом, всматриваясь в сотканный голопроектором пейзаж. Поляна, заросшая травой, излучина речки и за нею – роща деревьев мфа и сеннши… Трава сияла блеклым золотом, полноводный ручей струился по каменистому руслу, деревья были редкой на Раване высоты, в четыре человеческих роста. На фоне темных скал картина казалась окном, распахнутым в сказочную страну. – Это сработает, – произнес Пардини. – В прибрежных районах континентов есть приятные места, но все они населены. Архипелаг гораздо предпочтительнее. – Мы могли бы использовать земные голограммы, – сказал Инанту. – Степь в предгорьях Алтая или заповедник у Килиманджаро… На Гондване и Ваале тоже найдутся подходящие пейзажи. Маевский покачал головой. – Нет, такие виды не подходят. Цвет растительности, Инанту, подумай об этом! Для Ваала, Земли и Гондваны характерна зеленая гамма, а здесь травы и деревья желтоватые и красноватые. Непривычный оттенок отпугнет, вызовет недоверие. А эта картина – настоящий рай! – В местном представлении, – добавила Анна Веронезе и вздохнула. – Конечно, мы их обманем… мы обманщики, а это нехорошо… Покажем рай и переправим в ту же пустынную степь, где ни воды, ни травы. Они могут не добраться до колодцев – просто перемрут от жажды. – У них есть запасы воды и пищи, – возразил Маевский. – С пищей проблем не будет, скота у них много, но воды, и правда, может не хватить. Ну, мы им поможем. – Он кивнул Джикату. – Ваше слово, инженер. Терукси коснулся проектора, и речка с рощей сменились видом гор и степи. Местность к северу от Поднебесного Хребта картировали со спутника; тянувшиеся на запад и восток плоскогорья, рассеченные ущельями, резко обрывались к равнине, похожей на застывший серый океан. Пепельная поверхность выглядела с высоты совершенно безжизненной. Изображение скачком приблизилось, и теперь можно было разглядеть лощину с покатыми склонами. На склонах торчали пучки сухой травы и колючий кустарник, под которым сновали крысы – видимо, охотились на ящериц и мелких грызунов. – По обе стороны от хребта есть подземные водяные линзы, – сказал Джикат Ду. – Под этой впадиной большой резервуар пресной воды, хватит на целое озеро. Мы с Теруггой пробьем лазерами несколько скважин, и вода начнет поступать на поверхность. Это не займет много времени – на наших флаерах мощные установки. – Лучше проделать шурфы до рассвета, – добавил Теругга. – Очевидно, вода в линзе под давлением, и из скважин ударят фонтаны. Страшноватое зрелище! Но по опыту мы знаем, что через несколько часов фонтаны опадут. – Этот план согласован с координатором? – осведомился Пардини. Маевский кивнул. – Разумеется. Есть только один минус: вода – редкость в этих краях, так что конфликтов не избежать. Особенно между крупными кланами. – Постараемся, чтобы хватило всем, – сказал Джикат. – Их тридцать тысяч… даже больше, считая с пленными, – напомнила Анна. – И еще животные, скакуны, хффа и свиньи… Они тоже нуждаются в воде. Теругга с улыбкой повернулся к девушке. – Озеро будет большим, Анна. В ваших мерах запас воды – около трети кубического километра. – Солидно! – заметил Пардини. – А что с минеральным составом? – Пробьем первую скважину, узнаем. Маевский встал. – Ну, не будем медлить, друзья мои! Пусть наш инженерный корпус займется озером, а тебя, Джакомо, я попрошу развесить голопроекторы. Перекроем миражом всю местность перед лощиной, поднимем в воздух четыре камеры, две в центре и по одной с каждой стороны. Инанту и я останемся здесь, свернем лагерь и проследим, чтобы киберы замуровали проход к порталу. – Что делать нам? – спросила Анна, бросив взгляд на Нору Миллер. Та не произнесла ни слова, сидела с хмурым видом, уставившись в маленький экранчик комбраслета. – Девушки могут вернуться на базу, – сказал Маевский. – Возьмите двухместный флаер и отправляйтесь. Не возражаете, Нора? Пожав плечами, Миллер фыркнула. Видимо, то был знак согласия.* * *
– Ориентация антенны завершена, – доложил компьютер спутника. – Жду команду на запуск. Отсек межзвездной связи находился в подвале башни, был небольшим и полностью изолированным от внешнего мира. Голос с орбиты звучал здесь, словно гулкие удары колоколов. Поморщившись, Юэн Чин уменьшил громкость и положил ладонь на сиявший ровным светом стартовый пентальон. – Команду подтверждаю. Пуск! Сателлит, торивший путь над Хирой, чуть заметно содрогнулся. Фиолетовая молния сорвалась с антенных стержней, мощный всплеск энергии пробил границу, что отделяла Лимб от Вселенной, и растворился в пустоте. Там, в загадочной изнанке мира, не было ни холода, ни тепла, ни времени, ни расстояний; сигнал распространялся мгновенно и, если его нацелили с необходимой точностью, попадал в приемное устройство, преодолев дистанцию в сотни светолет. Перед мысленным взором Юэн Чина возникла станция «Киннисон», центр галактической связи Фонда, огромный комплекс, висевший в пространстве между Землей и Луной. Посланное сообщение уже добралось до приемной антенны и попало в дешифратор; еще две-три минуты, и… – Прием подтвержден, – сообщил спутник. – Дальнейшие действия? – Можно отключаться. Пентальон исчез, погасли экраны, голографическая панель настройки связи растаяла в воздухе. Вспыхнул свет, и Юэн Чин повернулся. Энджела и Кафингар сидели рядом, и рука терукси обнимала плечи женщины. «Красивая пара», – подумал он. Кафи был синеглазым и светловолосым, Энджи – яркой брюнеткой, и контраст их лиц, темных и золотистых локонов, казался Юэну видением из древней сказки. – Наш отчет уже в Консулате, – сказал он. – Представляю их удивление! – Они отправят сюда экспедицию. Не только Фонд, Исследовательский корпус тоже развернется, пришлет корабли, людей, оборудование… сотню археологов, сотню специалистов по даскинам… – Энджела вздохнула. – Прощайте, покой и тишина! Этот мир уже не будет прежним. Кафингар усмехнулся. – Покой?.. Тишина?.. Ну, если не считать вулканов, песчаных бурь и нашествия варваров, у нас тут очень тихо и спокойно. – Я говорю о людях, – молвила Энджела. – Множество новых людей… Кажется, я от этого уже отвыкла. – Тогда улетим ко мне, чатчейни. Дингана-Пхау не такая населенная планета, как ваша Земля, там столько мест для уединения… Будем гулять по голубым лугам, купаться в бирюзовом море и плавать среди коралловых атоллов. – Чем я займусь на Дингана-Пхау, милый? Там ведь нет вулканов! Глаза Кафингара смеялись. – Почему же нет? Пара-другая найдется. Если захочешь, я даже устрою извержение… специально для тебя. «Никуда они не улетят, – подумал Юэн Чин. – Людям свойственна тяга к чудесному; не зря же век за веком сочинялись сказки, воображались миры, которых не было и нет, строились замки из песен и слов, являлись в сновидениях боги… Не зря! То было предощущение реальности, в которой мы сейчас живем, Вселенной, полной чудес и загадок. Вот одно такое чудо – портал даскинов… Уйти от него в голубые луга и бирюзовые моря?.. Чушь, нелепость! Никто не уйдет, ибо память о чуде, к которому лишь прикоснулся, но не отведал его вкус, обратится ядом и отравит жизнь». Внезапно вспыхнула панель настройки, засветился экран, и протяжный звук сигнала нарушил тишину. – Нам отвечают? – спросила Энджела с удивлением. – Не слишком ли быстро? Кто на связи, Юэн? Консул Сокольский? – Это не Земля, не «Киннисон». Пьер Каралис, борт лайнера «Гондвана», повторный вызов. – Юэн Чин, прищурившись, следил за бегущими по экрану символами. – Он далеко от нас, очень далеко, в системе Каузы Примы. Это сколько же светолет?.. пятьсот?.. шестьсот?.. – Шестьсот двенадцать, – уточнила Энджела. – В прошлый раз я говорила с Колесниковым. Им нужен Ивар – то есть не им, а парапримам, с которыми у них переговоры. Сделаем так: пошлем на «Гондвану» наш отчет и добавим, что Тревельян освободится примерно через пару дней. – Нужно вернуть ему нормальный вид, – напомнил Юэн Чин, кодируя сообщение. – Парапримы могут перепугаться. Они и так о нас невысокого мнения. – Откуда ты знаешь? – Ивар рассказывал. Он встретился с одним из них на Осиере. Замигал стартовый пентальон, потом раздался гулкий голос спутника: – Цель – Кауза Прима… Начинаю ориентацию антенны… – И, спустя минуту: – Ориентация антенны завершена. Жду команду на запуск. – Команду подтверждаю, – произнес Юэн Чин и коснулся сиявшей ровным светом поверхности.* * *
Полет проходил в молчании. Доктор Миллер и Анна Веронезе сидели рядом в тесной кабине флаера, но были далеки, как два галактических Рукава. Женщины вообще не жаловали Нору Миллер, и к тому имелись веские причины. Еще с доисторических времен женщины ценили красоту и мучились из-за пороков лица и тела; эта пытка длилась тысячелетиями, до появления биопластики, паратаксиса и генной инженерии. Теперь красота или хотя бы пристойная внешность были доступны всем; привести фигуру в соразмерность с лучшими моделями, подправить губы или грудь, добавить ногам длины и стройности, а прическе пышности не составляло проблемы. Женщины не понимали, как можно этим пренебречь, остаться тощей, длинноносой, бледной и сутулой. Вызов?.. Но кому?.. Мужчинам?.. Нет, скорее женщинам, ибо такое пренебрежение намекало, что ум превыше красоты. Красотой мог одарить специалист по биопластике, а ум – он от Бога, и нет ни прививки гениальности, ни эликсира таланта. «Нет, и не жаль!..» – думала Анна, разглядывая сквозь колпак кабины россыпь редких звезд, окаймлявших Провал. Она вовсе не была глупышкой и понимала, что седьмых небес, где обитают такие фанатки знания, как Нора Миллер, ей не достичь и даже к ним не приблизиться. Но стоит ли об этом сожалеть?.. Хотя, с другой стороны, гармония ума и тела всегда привлекала мужчин – вернее, привлекало тело, а ум восхищал и удерживал. Вот если бы остаться при своем обличье и позаимствовать у Норы капельку ума!.. Совсем немного, столько, чтобы Тревельян… Миллер вдруг заерзала в кресле и пробурчала: – Паршивец! Он нам всего не сказал! Даже мне! Скрывать информацию от коллеги… Очень, очень недостойно! – О чем вы, Нора? – А вы как думаете? Разумеется, о Тревельяне! – Он вас обидел? – с внезапным интересом спросила Анна. – Обидел? При чем тут обиды? Что за вздорная мысль! Я говорю об иных вещах, моя дорогая, о сокрытии научных сведений. Вспомните, что он сказал, вернувшись из пещеры… Вы можете вспомнить? Это ведь было совсем недавно! Похоже, она намекала, что волос у Анны долог, а ум короток – ну, не ум, так память. Анна насупилась. – Простите, я не страдаю амнезией. Координатор сказал, что удалось проникнуть к другому порталу, где, вероятно, находится главная станция. Там обнаружился модуль контроля, и теперь он может управлять вратами на всей поверхности планеты. Еще сказал, что с Трубачом и его ордой нужно разобраться побыстрее. Шас-га будут штурмовать замок кьоллов во владениях Эльсанны. Если они вырежут защитников… Доктор Миллер замотала головой. – Эльсанна, Трубач, шас-га, кьоллы… Мелочи, мелочи! И вы, голубушка, плохо запомнили, что сказал координатор. Найден не модуль контроля, а способ контроля, и это совсем другая ситуация. – Вы так считаете? – Я не считаю, я знаю! – Бледные щеки Миллер окрасились румянцем. – Вы планетолог, милочка, и должны понимать, что модуль – техническое устройство, а способ – это совокупность операций. Если угодно, алгоритм, но какой? Об этом он не сказал ни слова! Даже мне! Миллер возмущенно фыркнула и умолкла. Ее интерес к Тревельяну был иного рода, чем у Анны; он подогревался жаждой информации, а не стремлением к близости. «Не соперница», – подумала Анна и, успокоившись, промолвила: – Будьте снисходительны, Нора, он ведь торопился. Вернется на базу, и мы все узнаем. – Сомневаюсь, – пробормотала Миллер. – Что-то он выведал такое, о чем не хочет говорить. И не скажет! – Покраснев еще больше, она отвернулась от Анны, будто желая спрятать лицо, и спросила: – Вы не догадываетесь, что он скрывает? Возможно, вы… Анна расхохоталась. Кажется, доктор Миллер полагала, что вулканолог Веронезе связана с координатором столь тесными узами, что может рассчитывать на откровенность даже в служебных делах. Мнение лестное, но – увы! – беспочвенное. – Простите, Нора, не сердитесь… я не над вами смеюсь, над собой… Координатор не удостоил меня своим доверием. Между нами произошел серьезный разговор, но он не имеет отношения к даскинам и порталу. – Однако произошел, – заметила Миллер. – Могу я узнать, о чем? Она шла к своей цели с упорством кибера. Проглотив резкий ответ, Анна призналась: – Меня мучают сомнения. Понимаете, Нора, я не уверена, что наша работа так благородна и полезна, как утверждается в уставе ФРИК и как нас убеждали в Академии. То есть цели, безусловно, благородны, но вот полезность… Все хорошо, пока мы учим, помогаем и внедряем мельницы и ткацкие станки или способствуем книгопечатанию. Но это ли главное? Хотим мы того или нет, нам приходится вмешиваться в местные конфликты и решать, кого мы поддержим, а кого накажем, кто прав, кто виноват… В результате мы подменяем естественный процесс развития моделированием истории, взяв собственное прошлое за образец. Последствия такого вмешательства неясны, и наши действия могут быть губительны… – Почувствовав волнение, Анна смолкла, глубоко вздохнула и сказала: – Об этом мы говорили с Тревельяном. Собственно, я спросила: зачем мы здесь?.. Здесь и в других мирах?.. – Вопрос глобальный и потому наивный, – откликнулась Миллер. – Ну, не стоит огорчаться, моя дорогая, все глобальные вопросы таковы. Что есть пространство и время? В чем цель существования Вселенной? Почему она то расширяется, то сжимается? Если Вселенная конечна, что лежит за ее границами? И, наконец, главная проблема минувших веков: стоит ли Земля на трех слонах или на спине черепахи? – Она сухо рассмеялась. – Может быть, со временем узнаем… Но обратите внимание: с черепахой и слонами все уже ясно, но вопросов меньше не стало. Больше они не произнесли ни слова. Однако до самого конца пути Анну не покидало ощущение, что ее собеседница права – и, вероятно, не только в том, что проблема слонов и черепахи так или иначе разрешилась. Что-то Тревельян нашел в даскинских подземельях, что-то такое, о чем не собирался сообщать коллегам. Что-то услышал или увидел?.. Встретился с кем-то или с чем-то удивительным?.. «Представим, – думала она, – что врата соединяют Равану с тысячью других миров и даже с другими Галактиками, с огромной сетью подпространственных тоннелей, что пролегли в необозримых далях. Кто мог явиться из этих пространств?.. Наверняка не чудовище, не жуткий монстр, ведь Тревельян, вернувшись, выглядел таким спокойным, таким… – она поискала нужное слово, – умиротворенным… С кем же он встретился? И о чем говорил? Только об управлении порталами? Или пытался выяснить еще какие-то вопросы? К примеру тот, что был для нее самым главным: зачем мы здесь?.. что мы творим?.. чем завершатся наши усилия – добром или бедой?.. Он бы спросил об этом, – решила Анна, – спросил бы обязательно. Вдруг он повстречался с некой силой, с мудрецами, сотворившими тоннели и порталы, – может быть, с самими даскинами? Он спросил бы их… Но получил ли ответ?..»Уже на протяжении тысячи лет мы знаем, что Вселенная пульсирует, сжимается и расширяется, и на фоне этих глобальных перемен идут другие, не столь масштабные процессы: кластеризация Галактик, рождение и гибель звезд, формирование планет и, наконец, появление жизни, а в ряде случаев – и разума. Но роль этого последнего фактора в общей картине мира до сих пор неясна. Возникает ли разум спонтанно или это закономерное явление? Каковы его возможности – например, способен ли он охватить ментальным полем всю Вселенную или ее значительную часть? Что произойдет в случае такого объединения и сотрудничества многих высокоразвитых рас? Не являются ли циклы сжатия и расширения Метагалактики своеобразным эволюционным процессом, который должен привести, после ряда неудачных попыток, к полному контролю разума над слепыми силами природы? И если это свершится, какая потом произойдет метаморфоза, каким будет мир, управляемый не только физическими законами, но также волей разумных созданий?.. В рамках заявленной темы все это может показаться слишком глобальным, фантастическим и потому далеким от конкретных задач. Но данная точка зрения изменится, если предположить, что прогрессорство является первым этапом – или скорее прелюдией – к упомянутому выше полному контролю. Ведь в конечном счете смысл наших усилий заключается в выравнивании потенциалов существующих рас и всемерном ускорении этого процесса.Абрахам Лю Бразер «Введение в ксенологию архаических культур». Глава 9. Сотрудничество в Галактике – возможно ли оно?
Глава 22. Владение Эльсанны и его окрестности
Гандхарв скрылся за горизонтом, Ракшас еще не взошел, и поэтому в пустыне царила душная вязкая тьма. Песок и камни, впитавшие дневной жар, медленно остывали, и это сопровождалось шелестом и потрескиванием, казавшимися голосами тысяч и тысяч потерянных душ. Возможно, эта иллюзия была не столь уж невероятной; если когда-то Равану населяли зверолюди, то под слоем песка могли сохраниться развалины их поселений, орудия, предметы быта и, разумеется, могилы. Сколько лет прошло с тех пор? Об этом стоило бы расспросить Первого Регистратора, но разговор с ним был слишком кратким и посвященным более важной проблеме. Археологи, которые скоро появятся здесь, выяснят возраст костей и руин, и это позволит датировать эру даскинов. Хотя, в определенном смысле, их эпоха не закончилась; они все еще были здесь и повсюду, затаившись в миллиардных толпах биороботов. Осознание этого факта потрясло Тревельяна. Он ехал по темной мрачной пустыне, покачиваясь на спине скакуна, и пытался совладать с волнением. Но, вероятно, уровень стресса все же был не очень высок, и медимплант, сочтя его естественным человеческим чувством, не отозвался дозой успокоительного. Оно и к лучшему, есть ситуации, когда человеку стоит поволноваться. Колокольчики на рогах трафора зазвенели, потом раздался его бархатный голос: – Мне кажется, эмиссар, что вы возбуждены. – Еще бы! – сказал Тревельян. – Как тонко чувствующее создание, я ощущаю струйку ваших ментальных флюидов. – Рад за тебя, дружок. – Ваши эмоции носят характер радостного изумления. – Хмм… Пожалуй, так. Голос трафора стал совсем уж вкрадчивым: – Насколько мне известно, людям присуща особая форма снятия возбуждения. – Это ты о чем? – Не о том, что вы подумали. Я имею в виду не физиологический аспект, а интеллектуальный, то есть обмен мнениями. Не желаете ли поделиться со мной? «И правда, – подумал Ивар, – поделиться очень хочется. Был бы тут дед, было бы с кем потолковать и, как заметил Мозг, обменяться мнениями». Но дед далеко, и когда они встретятся, ведают лишь Владыки Пустоты… Он знал, что никому не расскажет про даскина и их разговор – во всяком случае, ни одной живой душе. Вздохнув, Тревельян промолвил: – Ты хитрец и любопытник. Но должен заметить, что человеческую природу ты постиг. – Это комплимент? – Да, если тебе угодно. Скажи, что ты видел, оставшись в первом подземелье? – Вас, эмиссар, в течение двухсот двадцати с половиной секунд. Затем в портале возникла Спящая Вода, и вы исчезли из зоны наблюдения. Где же вы были? – Оставался во втором подземелье, но не один. Мне явилось существо… не знаю, откуда, из каких заатмосферных высей… Словом, это был даскин. Может быть, какая-то иная форма, связанная с их цивилизацией, но безусловно разумная – гонец, посредник… И он преподнес мне дар: сделал что-то, и теперь я могу управлять порталами. – О! Потрясающе! Невероятно! – с энтузиазмом воскликнул трафор. – Как жаль, что я не смог зафиксировать это событие! На кого же он был похож? – Только не на себя самого. Он выглядел как серв, копирующий облик лоона эо. Он сказал, что сущности даскинов – или, возможно, одна-единственная сущность – таятся среди биороботов, как листья в лесу или камни на морском побережье. Очень подходящее укрытие… Сервы летают во все концы Галактики, что позволяет наблюдать и… – …вмешиваться? – Нет, только наблюдать и, в очень редких случаях, что-то подсказывать. Такую тактику прогрессорства они избрали, когда активные воздействия зашли в тупик. Вероятно, у них имеется что-то подобное этике, и в конце концов они решили, что силовые методы неприемлемы. – Но мы ими пользуемся, эмиссар. – И будем пользоваться, пока не придумаем что-то иное. Они на нас надеются… – Тревельян почесал в затылке и добавил: – Надеются, что мы окажемся умнее. Мы – их наследники. – Люди? – Не только. Они считают наследниками всех – дроми, людей, хапторов, фаата… может быть, даже сильмарри, лльяно, метаморфов и другие странные народы. Нам предстоит сделать то, что им не удалось: сложить из кусочков мозаики цельную картину. – Это важные сведения, эмиссар, – сказал Мозг, поразмыслив. – Важные. Вот и держи их при себе. – Таково ваше пожелание? – Не пожелание, приказ, – строго промолвил Тревельян. – В книге Йездана сказано: самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает… Так что не будем торопиться, друг мой. Замолчав, он подумал, что надо бы проверить свой новообретенный дар. Так или, иначе, но опыт в подземелье был первым и единственным, а повторяемость опытов – основа науки. Пусть то, что Первый Регистратор сделал с ним, не требовало новых доказательств, но обрести уверенность в своих талантах было бы неплохо. Особенно для чародея, посланца богов.Тревельян представил степь у плоскогорья, то место, где он повстречался с Дхотом, и врата раскрылись перед ним. Зрелище не слишком впечатляющее: он находился почти на том же меридиане, и за вратами был такой же мрак, как в южной пустыне. Но на востоке, над страной туфан, Ракшас уже взошел, так что попытка дотянуться до Саенси оказалась вполне успешной. Солнце брызнуло Ивару в глаза, он прищурился и несколько секунд рассматривал город, где у подножия стен и в гавани суетились толпы народа. Затем наведался в Нимму, Фартаг, Негерту и другие поселения; там повсюду возводились башни, укреплялись стены, ковались клинки и наконечники пик, маршировали кьоллы-наемники и ополченцы. Вскоре он научился передвигать врата мысленным усилием, менять их форму и размер и открывать то ближе, на расстоянии протянутой руки, то дальше. Из любопытства Ивар заглянул в восточную область Великой Пустыни, на экватор, где ветры кружили серую пыль над раскаленными камнями. Самое гиблое место на планете… на сотни километров – ни источника воды, ни признака каких-либо растений, ни змей, ни ящериц, ни крыс… В небе – яростный Ракшас, у горизонта – всплывающий диск Асура, два гневных божественных зрачка, испепеливших все живое… Он мог бы отправить шас-га в это царство смерти, или в жерло вулкана, или на вершины гор, где нечем дышать, где холод убивает жизнь. Он мог отправить их куда угодно, хоть в центр Галактики, хоть на Юпитер, хоть на планету Селла, где хищные растения пьют кровь и пожирают плоть. Куда угодно… Мысль обожгла, точно стальной клинок. И этот клинок был в его руках… «Нет, неверно, – подумал Ивар, – то, что держишь в руках, можно потерять, можно уронить, можно выбросить, а этот меч впечатали в мое сознание. Меч, протянутый над пропастью времени…» Над краем земли заиграли первые сполохи рассвета. Спустившись с песчаного холма, Тревельян подъехал к оазису и, лавируя среди телег, костров и спящих воинов, направился к шатру Брата Двух Солнц.
* * *
Вождь насыщался, рвал крепкими зубами полупрожаренное мясо, красные струйки текли по его подбородку и щекам. Телохранитель Ка-Турх, почтительно согнувшись, подносил повелителю лучшие куски, выбирая их из котла. У центральной подпорки, державшей шатер, замерли двое Мечущих Камни: пасти разинуты, губы в слюне, на свирепых лицах – нетерпеливое ожидание. Котел был велик, и объедки доставались стражам. Трубач вытер щеки прядью волос и жестом приказал убрать еду. – Ты пришел, Айла. На рассвете. Хурр! Ивар ткнулся носом в землю. – Кровь вождю! Я пришел на рассвете, по твоему желанию, Великий. Ночью я говорил с богами, и они… Подняв голову, Тревельян бросил взгляд на стражей и старшего телохранителя. Божественные откровения их, кажется, не занимали, они принюхивались к содержимому котла. Брат Двух Солнц ковырял в зубах когтистым пальцем. – Что сказали боги, Айла? – Их повеления не для ушей воинов. Сказанное ими услышит только великий вождь. – Это верно. – Серый Трубач рыгнул, потянулся к бурдюку с водой, сделал несколько глотков. – Иди, Ка-Турх, и пусть твои воины тоже уйдут. Идите, но оставайтесь поблизости. Айла назовет имена. С названных им вы сдерете кожу. С любого, кем бы он ни был. – Мой лоб у твоих подошв, – пробормотал Ка-Турх и сделал знак воинам. Те живо подхватили котел и убрались из шатра. Старший телохранитель двинулся вслед за ними. Поднявшись, Тревельян задернул тяжелый полог из шкур горных кенгуру. В шатре стало сумрачно, свет сочился только в отверстие у вершины центрального столба. На лицо владыки кочевников легли тени, и его сероватая кожа приобрела цвет пепла, смоченного водой. Волосы падали на мощные плечи Трубача, струились по обнаженной груди и спине, похожей на выпуклый щит. Он сидел вполоборота к Тревельяну и казался спокойным, но это было спокойствие хищника, готового к прыжку. – Ты говорил с Каммой? – произнес Трубач. – Нет, повелитель, с самим Баахой. – Разве не было сказано тобой, что светлый бог спит по ночам? – Было. Но ради тебя он пробудился. Ты его потомок, Брат Двух Солнц… Мог ли он спать, когда тебе грозит опасность? Кулаки вождя сжались, мышцы напряглись. – Бааха назвал имена? – Он благоволит тебе, и потому… – начал Тревельян. – Имена! – Пальцы вождя стиснули его плечо. – Зачем они, Великий? Бааха говорит: убьешь тех, кто замышляет зло, появятся новые. И потому он указал место, где зло не коснется тебя. Ты будешь жить там и править той землей, и все живое будет покорно твоей воле и твоему зову. – От берегов туфан до берегов ядугар лежат многие земли, – недовольно произнес Трубач. – Я хочу править всеми, а не одной из них. – Но это очень богатая земля, великий вождь, лучше всех других. Посмотри, что даровал тебе Бааха! В сумраке шатра вспыхнуло овальное оконце, налилось светом, раздвинулось, заслонив стену между боковыми шестами. Там, на островах Исаевых, уже наступил белый полдень; там сияли под лучами солнц рощи деревьев сеннши и мфа, золотились высокие травы, журчал ручей, даже целая речка, огибавшая поляну, мелькали среди стволов юркие маленькие грызуны. Можно было представить, что этот изобильный край простирается так далеко на запад и восток, на юг и север, что не объехать его на быстром скакуне за многие, многие дни, и всюду – чистые сладкие воды, луга с сочными травами, деревья невиданной высоты и масса животных. Иллюзия, фантом… Самый большой остров был километра четыре в поперечнике, самый малый – километр. Впрочем, для одного человека достаточно. Трубач замер, разглядывая залитый светом пейзаж. В сравнении с оазисами кьоллов остров выглядел сказочной страной, а если вспомнить о степях шас-га, так просто раем. Эта картина переливалась желтыми, алыми, багряными красками у самого плеча великого вождя; он мог бы вытянуть руку, сорвать пучок травы, вдохнуть ее запах. Мог, но не сделал этого. – Что это, Айла? – Его голос звучал низко и хрипло. – Дорога в страну, куда ты можешь уйти. Ты пришел сюда через Спящую Воду, и это такой же путь, но в другое место. Бааха открыл его тебе. – Хурр! Хорошее место, – сказал Трубач после недолгого раздумья. – Но я не вижу здесь кьоллов и их Очагов, обнесенных стенами. И туфан я тоже не вижу. Где скот? Где люди? Кого я буду убивать? – Люди и скот – за этими деревьями, – пояснил Тревельян. – Много людей и много скота. Хочешь их увидеть? Тогда иди через Спящую Воду и проверь. Брат Двух Солнц покосился на Ивара и встал, будто желая измерить высоту открывшегося прохода. Казалось, сейчас он вытянет руки, раздвинет траву, шагнет на поляну, и ловушка захлопнется. Но что-то внушало ему сомнение. Очевидно, он был слишком осторожен и хитер. – Я пошлю Ка-Турха. Он проверит, – сказал Трубач. Ивар тоже поднялся. Теперь они были рядом, и за спиной вождя, в рамке из полутьмы, сияла сказочная картина. – Лучше тебе посмотреть самому, – произнес Тревельян. – Взор вождя острее глаз воина. Он толкнул Трубача изо всей силы, и тот, прорвав завесу портала, покатился по земле, подминая стебли золотистой травы. Секунду-другую Ивар глядел в его ошеломленное лицо, потом вытащил из-за пояса нож, швырнул следом и, пробурчав: «Держи, ублюдок, пригодится!» – захлопнул врата. Сияющий мир исчез, и под кровлей шатра вновь сгустился сумрак, прорезанный падавшим сквозь верхнее отверстие лучом. Он походил на серебряный меч, который воткнули в землю. Тревельян прислушался, но снаружи все было тихо. Опустившись на подстилку из шкур – там, где минутой раньше сидел повелитель степного воинства – он нашарил у стены рогатую корону, нахлобучил ее, потом снял и усмехнулся. Нет, он не будет копировать облик Трубача! Биотрансформация возможна только на базе, а наложение голографического фантома слишком ненадежный способ… На время он станет новым Трубачом! Или хотя бы его заметителем. – Ка-Турх! Сюда, Ка-Турх! Полог откинулся, и телохранитель, шагнув в шатер, преклонил колени. – Приказывай, владыка! Если повелишь, буду… Он смолк и уставился на Тревельяна. Мимика шас-га не слишком отличалась от человеческой, и было заметно, как почтение, написанное на лице стража, сменяется растерянностью. – Где Брат Двух Солнц, Айла? – Великий ппаа Айла, – поправил его Тревельян. – Повтори, крысиная моча. – Великий ппаа… – буркнул Ка-Турх. – Ты, великий ппаа, здесь, а где великий вождь? – Отправился к светлому Баахе, приказав, чтобы все Очаги, все воины шли за ним, по той дороге, которую я укажу. Все, кроме тех, кто замыслил злое. Они расстанутся с кожей, Ка-Турх, как повелел владыка. Собери своих воинов, и пусть они будут наготове. – Воины здесь. Но как им подняться к небу, где живет Бааха? – Не твоя забота, Ка-Турх, – молвил Тревельян, превратившись на мгновение в зверя Четыре Лапы. – Я поведу вас, и пока мы не встретим Брата Двух Солнц, я – твой вождь. Те, кто сомневается, мне не нужны. Нужны верные и послушные. Поднявшись, он покинул шатер. Огромный красный диск Асура маячил над горизонтом, и от горных вершин, скал и башен крепости протянулись двойные тени. Стан шас-га полнился движением, ревом животных, криками людей и звоном оружия. Разъезды всадников уже направились в предгорья – видимо, в поисках скота; часть пленных согнали к оросительным канавам, заставив наводить мостки из разобранного частокола, другие копали ров под внешней стеной и сбрасывали в него трупы; большой отряд под командой Лиги-Руха скопился в середине оазиса – этим, как приказал великий вождь, предстояло перебраться через канавы и штурмовать замок Эльсанны. На его стенах мелькали воины, блестела бронза шлемов и щитов, вздымались копья; похоже, защитники не собирались сдаваться без боя. Ка-Турх выполз из шатра на четвереньках, не смея поднять на Ивара глаза – вдруг ппаа Айла снова превратится в жуткого зверя. Тревельян велел ему собрать охранников, плотно окружить шатер, а внутри расставить два десятка стражей с топорами и дротиками. Потом он поднес ладони ко рту, набрал воздуха в грудь и затрубил. Получилось не хуже, чем у великого вождя. Оглушительные звуки прокатились над оазисом, над стеной, пустыней и забитой возами дорогой, и гул многотысячной орды умолк. Голос вождя не звал в атаку, но требовал внимания; воины замерли, повернувшись к шатру владыки и одинокой фигуре перед ним. Кьоллы, трудившиеся у рва и канав, прекратили работу, остановились всадники, рыскавшие в предгорьях, а в замке Эльсанны ударил барабан – видно, там решили, что начинается атака. Ивар затрубил снова, в иной тональности, посылая зов предводителям войска. Потом бросил Ка-Турху: «Иди за мной» – и возвратился в шатер. Там, как было велено, стояли Мечущие Камни с топорами и дротиками наготове. – Повинуйтесь, и будете живы и сыты, – сказал им Тревельян. – Сегодня, если будет нужно, вы убьете тех, кого я назову. Такова воля богов и великого вождя. Он опустился на подстилку, сложил руки на коленях и приготовился ждать. Через несколько минут снаружи затопотали скакуны, послышались звон бубенцов, резкие голоса людей и шум, какой производят всадники, спрыгивая на землю. Полог отдернулся; первым вошел Кушта, предводитель левого крыла, за ним – Лиги-Рух, предводитель правого, Гхот из Людей Молота, Ду-Аш из Людей Песка и еще четверо. Под куполом шатра зашелестело в полумраке: – Кровь вождю… – Слушаю твой зов, Великий… – Мой лоб у твоих подошв… – Если повелишь… – …буду грызть камень… И снова: – Кровь вождю… Кровь вождю… Потом Ду-Аш пригляделся, толкнул локтем Лиги-Руха и произвел странный звук, будто провели напильником по жестяному листу. Приветствия разом смолкли, и наступила тишина; ее нарушали только возбужденное дыхание военачальников да шарканье ног. Наконец Лиги-Рух сказал: – Где Брат Двух Солнц, Страж Очагов, Взирающий На Юг? Мы слышали его зов, и мы пришли. Но где он? Почему, Айла, ты сидишь на его месте? – Вы пришли по моему зову, – промолвил Тревельян. – Великий Вождь гостит у светлого Баахи и своих небесных родичей. Они открыли ему путь в другую страну, лучше, чем эта. Там нет песка и не бывает бурь, там много травы для скакунов, много деревьев, много еды, а вода в ручьях – сладкая, и не нужно рыть колодцы. Вождь повелел мне отвести вас в эту землю. Кушта выступил вперед. – Я знаю, что ты, Айла, могучий ппаа, ты говоришь с богами и духами, можешь превратить любого в крысу или сжечь в огне, который бьет с небес. Я знаю, и другие тоже знают, мы это видели! Но ппаа – не предводитель Очага. Разве ты умеешь вести в бой воинов? Ведаешь, сколько им надо пищи и воды, стрел, камней и копий, повозок с запасами и шатрами? Кто учил тебя взбираться на стены и рубить врагов топором, резать глотки и пронзать животы? Разве ты был Закрывающим Полог или Держателем Шеста? Не был, и мы об этом не слышали. Ты ппаа, и воины не пойдут за тобой! «В чем-то он прав», – подумал Тревельян, а вслух промолвил: – Хорошая речь, Кушта. Насчет крыс и небесного огня ты верно говоришь, а вот с животами и глотками ошибся. Я мог бы выпустить тебе кишки, но зачем?.. Не будем спорить. Ты веди воинов, а я покажу дорогу. Кушта переглянулся с Лиги-Рухом, оглядел замерших у стен воинов и сказал: – Мы должны перебить отродий Каммы, которых не дорезали вчера. Потом ты покажешь дорогу. – Нет. Закопаем погибших и выйдем в путь. Брат Двух Солнц велел торопиться. – Он велел убить всех кьоллов, засевших за стенами! – Кушта повернулся к другим предводителям. – Разве не так? Мы все слышали! Тревельян презрительно выпятил губу. – Молчи, потомок хромого яхха! Вождь может приказать одно, потом – другое, на то он и вождь! И знаешь, каким было его последнее повеление? – Ивар выдержал паузу и рявкнул: – Повтори, Ка-Турх! Память у телохранителя была отличной – во всяком случае, на приказы владыки. Он без запинки отбарабанил: – Айла назовет имена. С названных им вы сдерете кожу. С любого, кем бы он ни был! – Какие имена? – вздрогнув, поинтересовался Гхот. – Имена непокорных, – объяснил Тревельян, положив ладонь на рогатую тиару. – Имена тех, кто умышляет зло. Тех, кто прячет за спиной нож и думает, что рука Брата Двух Солнц ослабела. Сегодня они лишатся кожи. Он сделал знак Мечущим Камни, и воины, подняв оружие, шагнули вперед и сдвинулись теснее. Восемь вождей, носивших титул Опоры Очага, не помышляя о сопротивлении, рухнули на землю и уткнулись лбами в пыль. Похоже, они решили, что Серый Трубач пустился на некую хитрость, затеяв чистку среди соратников. Наверняка такое уже бывало, и великий вождь не раз отделял плевелы от зерна, верных от неверных, горькую воду от сладкой. «Знакомый сценарий, – подумал Ивар, – Трубачом, королем, императором всегда становится самый хитрый и безжалостный». – Сегодня имена не будут названы, – промолвил он. – Идите и собирайтесь в дорогу. Но помните: богам все известно, и шкура любого из вас может повиснуть на острие ножа. Военачальники, пробормотав слова покорности и вытирая холодный пот, поспешно удалились. Ивар велел разбирать шатер, грузить на телеги шесты и шкуры и запрягать яххов. Наблюдая за этой операцией, он размышлял над тем, кому достанется жилище Трубача, а заодно его рогатая корона. Куште? Лиги-Руху? Гхоту?.. Вакансия Великого Вождя освободилась, и хоть вожди помельче об этом еще не знали, борьба между ними неизбежна. Может быть, конец междоусобице положит новый Брат Двух Солнц или племена разойдутся по своим уделам и, как прежде, начнут бесконечные схватки за воду, пищу и траву. «Будущее покажет», – подумал Ивар, забравшись на спину скакуна. В крепости Эльсанны загрохотал барабан, потом, будто барабанщики пришли в недоумение, удары сделались тише и реже и, наконец, смолкли совсем. Армия шас-га покидала оазис, отряды воинов потянулись к дороге, взвихрилась пыль, и длинная колонна всадников поползла на восток. За ней двинулся обоз, сотни телег, стада и тысячи невольников. На восток, на восток, в чудесную страну, где нет песка и не бывает бурь, где много травы для скакунов, много деревьев, много еды, а вода в ручьях – сладкая, и не нужно рыть колодцы…* * *
Во главе воинства ехали Кушта, Лиги-Рух и Гхот – Ивар уступил им эту почесть, взяв на себя обязанности разведчика. Сопровождаемый Тентачи, он отправился вперед, обогнал колонну на пару километров и теперь не спеша трусил по дороге, высматривая нужное ущелье. Шас-га, как все примитивные народы, были привержены традициям и не любили перемен; новое встречалось с недоверием, а иногда – со страхом. Однажды они прошли через Спящую Воду, и тот первый портал находился в пещере, в глубоком разломе, значит, ожидавший их переход требовал такого же антуража. Искать пещеру в намерения Тревельяна не входило, но какой-нибудь каньон, достаточно широкий для повозок, оказался бы очень кстати. Ему не хотелось открывать врата прямо на дороге; это действо должно было свершиться в той торжественной обстановке, какую придают волшебству скалистые склоны гор и уходящие к небесам вершины. К счастью, в южных предгорьях Хребта хватало каньонов и ущелий, но самое подходящее, если судить по снимкам, переданным спутником, было еще впереди. Тревельян рассчитывал добраться к нему в красный полдень. Поглядывая на горы и безлюдный тракт, он размышлял о последствиях вторжения, которое закончится с часа на час и станет из бедственной катастрофы фактом истории. На чашу весов – ту, где складывались несчастья, – легли разгромленные оазисы, тысячи убитых и угнанных в неволю, вытоптанные поля и похищенный скот. К этим жертвам и убыткам добавлялось препятствие в торговых связях между Востоком и Западом, ибо местность вдоль тракта, и так не слишком гостеприимная, обезлюдела на несколько дней пути. Но у весов имелась вторая чаша с веским грузом позитивных перемен: консолидация кьоллов, их союз с туфан и осознание теми и другими грозящих с севера опасностей. Со временем оазисы заселят, ирригационная система будет восстановлена, возобновится торговля и, возможно, в Центральном Кьолле появится большое княжество, центр, объединяющий страну. Что до северных степей, то и там намечался прогресс, хотя кровавые схватки между Очагами и борьба за власть, по мнению Ивара, неизбежны. Но пищевая база кочевников расширялась за счет новых видов животных, а невольники-кьоллы могли приохотить их к земледелию – по крайней мере в окрестностях озера, сотворенного Джикатом и Теруггой. Не будут лишними и три-четыре эстапа, подумал Тревельян; скакунов можно использовать для пахоты, земли оросить и высадить в качестве ветрозащитных полос кустарник и деревья. Возглас Тентачи прервал его размышления. – Взгляни, хозяин! Там, на скале! Дорога огибала невысокий утес, и на его вершине стоял и грозно скалил зубы зверь Четыре Лапы. Огромные клыки блестели в раскрытой пасти, в глазах горел яростный блеск, когти терзали камень; похоже, хищник считал пришельцев своей добычей – и людей, и скакунов. Чем-то он напомнилТревельяну Великого Вождя: как и Трубач, он мнил себя владыкой над землями и населявшими их живыми существами. Яхх Тентачи в ужасе взревел, но из белого облака, плывшего в небе, ударила ослепительная молния. Камень у лап зверя рассыпался мелким щебнем, хищник отпрянул и исчез за скалами. – Ты могучий ппаа, – почтительно произнес Тентачи. – Но почему ты его не убил? «Трубача я тоже не убил, – подумалось Ивару. – По той же причине: нет смысла в убийстве, когда можно решить вопрос другим путем». Но вслух он сказал: – Тот светлый край, где много травы и воды, то место, куда отправляются мертвые, оно не для всякого. Сначала боги расспросят о твоей жизни и твоих деяниях, взвесят и оценят их, и если ты творил бесполезные убийства, был жесток и жаден, тот край не для тебя. Пойдешь на Темные Равнины, на съедение Стражу Йргыка. Певец призадумался. Потом спросил: – Что будет, если я скажу богам неправду? – Бааха видит ложь яснее, чем мы – эти скалы и эту дорогу, – ответил Тревельян. – Солгавший ему даже до Йргыка не доберется. Его сожгут Уанн и Ауккат, а Гхарр развеет пепел над пустыней. Тентачи ударил в барабан и пропел: – Вот истина, истина, божественная истина! – После чего обычным голосом произнес: – О многих тайнах ты поведал мне, хозяин, и сейчас я узнал еще одну. Чем измерить мою благодарность?.. Ничем! Но я слагаю Долгую Песнь… я прославлю в ней тебя и спою о краях, куда мы отправимся после смерти. Это будет песня о великом ппаа Айле, о Светлых и Темных Равнинах и о том, как попасть в край света и избегнуть тьмы. – Чтобы закончить эту песню, ты должен остаться в живых, – заметил Тревельян. – А потому прими совет, Тентачи: когда пройдешь через Спящую Воду, уезжай, и поскорее. Оставь воинов и вождей, не ищи у них милости, а отправляйся к своему Шесту и Очагу. Надеюсь, там тебя никто не тронет. На лице Тентачи изобразилось недоумение. – Почему? Почему я должен уехать, хозяин? – Потому, что вожди будут драться за стада, за лучшие земли и за власть. В этих битвах легко сложить голову. – Но власть принадлежит великому вождю! – Уже нет, Тентачи, уже нет. Я сказал, что он у светлого Баахи, но я не говорил, что он вернется. Тот, кто ушел к Баахе, не возвращается назад. Лицо Тентачи было спокойным. – Хурр! Пусть Брат Двух Солнц останется там, куда попал, – произнес битсу-акк. – Я сожалею о нем не больше, чем о дырявой шкуре, сломанном шесте или куске гнилого мяса. Но ты, хозяин, ты!.. Разве ты не станешь новым Трубачом? Это ведь так просто, так легко! Спусти с неба огонь или сотвори другое чудо, и все будут грызть камни у твоих подошв! – Просто и легко не значит правильно, – ответил Ивар, вытягивая руку в сторону открывшегося ущелья. – Тебе сюда, Тентачи. Езжай и помни мой совет. И еще помни: ты должен закончить Песню о Светлых и Темных Равнинах. Не только закончить, но и спеть ее во всех Очагах. Битсу-акк повернул скакуна. Он не произнес ни слова, только склонил голову, и его барабан вдруг зарокотал глухо и печально. Фигурка всадника удалялась, делалась все меньше и меньше на фоне скал и обрывистых склонов. С запада накатывался топот, а вместе с ним – облако пыли, скрип колес, звон оружия, гул тысяч голосов. Шас-га шли в страну обетованную. – Прощай, певец, прощай, друг мой… – шепнул Тревельян и открыл врата. Утесы в дальнем конце ущелья внезапно исчезли, и в небе вспыхнула вторая пара солнц. Под их лучами серебрилось озеро, и от его берегов до той границы, что отделяла иллюзию от реальности, желтел и волновался под ветром ковер из сочных трав. Вдали виднелась темная полоска леса, и на равнине тут и там стояли рощи и отдельные деревья мфа и сеннши; их огибала излучина реки, и ее воды были так прозрачны, что не мешали разглядеть цветную гальку дна. Над этим чудным краем нависло сероватое, с оттенком охры небо, такое же, как всюду на Раване, но в нем, как обещание дождя, парили облака. – Сам Бааха не узнает, где здесь правда, а где ложь, – молвил Тревельян, любуясь этой картиной. Ему показалось, что битсу-акк, ставший совсем крохотным, вскинул, торжествуя, руки и погнал яхха прямо к миражу. Далекий грохот барабана долетел до Ивара, но теперь он звучал не глухо и печально, а с ликованием. Первые шеренги всадников свернули в ущелье, и шум сделался сильнее. Очаг за Очагом, отряд за отрядом они ехали мимо Ивара, едва замечая его, приподнимаясь на спинах скакунов, вытягивая шеи; ехали с воплями восторга, зачарованные открывшимся впереди миражом. Белые Плащи, Люди Песка, Люди Ручья, Люди Молота, Мечущие Камни, Зубы Наружу, Пришедшие С Края, Сыновья Ррита… Странно, но они уже не казались Тревельяну уродливыми; он словно не видел длинных рук, огромных ртов, кожи цвета серого гранита, свирепых узких лиц, пигментных пятен, вытянутых челюстей и пальцев, похожих на когти хищной птицы. Все-таки это были люди, пусть не похожие на терукси и землян, на фаата и кни'лина, но уж никак не страшнее хапторов. Может быть, они даже перестанут есть других людей, как повелел Бааха, и через тысячу-другую лет назовут своих щенков детьми, а самок – женщинами… «Может быть, – думал Тревельян, – это случится через несколько веков, и он увидит перемены, пусть не сам, а глазами своего потомка, если его разум будет сохранен в памятном кристалле…» Но, говоря по правде, на такую честь он не рассчитывал. Войско заполнило ущелье от края до края, за ним гнали стада хффа и рогатых свиней и шли тысячи невольников. Пыль сделалась гуще, крики – громче, рев животных – оглушительней. Ивар погнал скакуна дальше от дороги и поднялся на песчаный холм. Ущелье, словно огромная пасть, уже поглотило всадников, и, вероятно, многие из них прошли через портал. Что происходит там, у озера, по другую сторону гор?.. Исход шас-га снимали с нескольких точек, группа Маевского – с флаеров, спутник, висевший над Хирой, – с поднебесья. Ивар мог связаться с сателлитом, вызвать картину на малый экран, но распылять внимание не хотелось. Он следил за приближавшимся обозом. Цепочка телег начала изгибаться, поворачивая вслед за стадами; вопили погонщики, ревели тягловые яххи, иногда возы задевали друг друга, что-то падало с них, хрустело и ломалось под колесами. Но, против ожидания, мелкие неурядицы не превратились в хаос – возможно, из-за того, что ущелье было довольно широким, а земля – утоптанной людьми и скакунами. Тревельян уже не видел стад и пленных кьоллов, только повозки, что грохотали меж отвесных стен и пропадали в голографической завесе, раскинувшейся позади портала. И хоть она была соткана из иллюзий, все до единого фантомы принадлежали этому миру: большое озеро в степи, пышные травы, река и деревья с островов Исаевых, небо с облаками, плывшими сейчас над Южным океаном. Последние телеги, скрипя и раскачиваясь, катились по ущелью. Красное солнце прошло зенит, белое висело над западным краем земли, обжигая песок и скалы знойными лучами. Тревельян слез со спины скакуна, велел послать команду флаеру; белое облачко опустилось, закрыв яростный глаз Ракшаса. В тени было почти прохладно, не больше сорока градусов. – Серый Трубач перешел горы… – послышался вдруг тихий шепот трафора. – Что? – Ивар оторвал взгляд от исчезавших во вратах повозок. – Вы часто это повторяли, эмиссар, и в вашем голосе звучало беспокойство. Серый Трубач перешел горы… На губах Тревельяна мелькнула улыбка. – Теперь он перебрался через океан и отдыхает от государственных забот на лоне природы. Думаю, он уже изучил территорию и понял, что с острова не сбежать. Возможно, проголодался и ловит рыбку или ищет орехи в лесу. Или любуется пейзажем. – Вынужден вам возразить, – сказал трафор. – Такое смирение не в его характере. Но Тревельян лишь пожал плечами. На дороге и в ущелье, медленно оседая, клубилась пыль, и от куч навоза, оставленного скакунами, тянуло густым острым запахом. Зато вокруг царила тишина – ни криков людей, ни грохота повозок, ни рева, ни скрипа, ни шороха. Шас-га вернулись туда, откуда пришли. Ивар снова улыбнулся и закрыл врата.Эпилог
Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки.«Книга Начала и Конца» Йездана Сероокого, пророка и мудреца кни'лина
Нагой человек сидел на камне, погрузив ступни в воду. Волны накатывались одна за другой, щекотали кожу, облизывали щиколотки, но, казалось, он этого не замечает; его взгляд был прикован к серо-стальной поверхности моря. Никогда он не видел столько воды, даже вообразить не мог, что где-то существует такое огромное пространство, занятое водами и лишенное тверди. Правда, эти воды были бесполезны – слишком горькие и непригодные для питья. Поднявшись, он побрел вдоль кромки прибоя. Он уже знал, что этот клочок земли можно обойти от белого рассвета до красного полудня, даже двигаясь неспешным шагом. Здесь росли трава и деревья, имелись речка, питаемая подземным источником, камни и скалы на побережье и масса мелких грызунов, годившихся в пищу. Волны выбрасывали на берег и оставляли в лужах странных тварей, которых тоже можно было есть. Вскоре он убедился, что Ррит, Бог Голода, не посещает этот край – очевидно, даже не ведает о его существовании. За неширокими проливами виднелись другие острова, но плавать он не умел и отказался от мысли до них добраться. Собственно, слова «плавать» в его языке не было, как и многих других слов, таких, как «море», «остров», «лодка», «плот», «волна». В дни своего величия он слышал о людях туфан и ядугар, ходивших по водам как по суше; иногда Очаги, что жили на востоке и западе, встречались с ними, торговали или убивали пришельцев. В прошлом это не вызывало у него интереса, так как он рассчитывал, что придет к туфан и ядугар по суше и захватит их земли и богатства. Но боги не допустили этого. Им самим хотелось править миром, и уступить свою власть человеку они не пожелали. Когда он думал об этом, его охватывала ярость. Дубиной из дерева сеннши он начинал молотить по стволам, траве и песку, или швырял камни, убивая грызунов; он должен был чувствовать, что на этом клочке земли, пусть совсем крохотном и безлюдном, он – повелитель, владыка над жизнью и смертью. Но приступы гнева проходили, случались реже и реже, и с каждым днем он все сильнее погружался в сонное безразличие. Вид океанских просторов, тихий шелест трав и рокот волн способствовали этому. Время стирает память о случившемся с нами, сказал Йездан Сероокий, мудрец кни'лина.
* * *
На другом конце мира другой человек ехал по степи на рогатом скакуне. Он не торопился, у него был крепкий яхх, бурдюк с водой, запас сушеного мяса и дротик – а что еще нужно для странствий? Еще был барабан на ремне, переброшенном через холку скакуна, и человек то и дело касался его, выбивая торжественный мерный ритм. Под эти звуки он шептал и бормотал, а временами пел во весь голос, распугивая ящериц и крыс. В такие моменты его глаза сверкали, грудь расширялась и костлявые плечи с узлами мышц выглядели основательней и шире. Как повелел мудрый, теперь потерянный хозяин, он не задержался по другую сторону Спящей Воды. Было ясно, что здесь привычная степь, а на юге – непроходимые горы, и, после краткого мига удивления, он понял: так должно быть, именно так, а не иначе. Ведь чудесный край, что явился ему, а также вождям и воинам его народа, был лишь иллюзией, посланной Баахой, видением мест, куда человек попадет после смерти, если не будет слишком жаден и жесток. Но люди, прошедшие сквозь волшебную завесу, остались живы и, значит, не могли очутиться на Светлых Равнинах до срока, до времени. Хозяин сказал: попавшие к Баахе назад не возвращаются, а люди были здесь, все Очаги, все огромное войско вместе с пленными и остальной добычей. Степь выглядела знакомой, если не считать большого озера, которого, как помнилось ему, прежде не существовало. Это изобилие воды само по себе было чудом, и сперва он решил, что озеро тоже мираж, такой же, как травы и высокие деревья. Но оказалось, что вода реальна и вкусна, сладкая вода, не горькая, и заполняющая не малый колодец, а огромное пространство. Выяснив это, он оглянулся, увидел, что вожди и первые отряды всадников уже миновали иллюзорную завесу, и вспомнил повеление хозяина. Тогда он набрал в бурдюк воды, сел на яхха и погнал его на север, к стойбищам Белых Плащей. Он ехал и, вспоминая рассказы ппаа Айлы, пел Долгую Песню о Светлых и Темных Равнинах. Он и представить не мог, что творит Коран и Библию своего мира, великое сказание о том, что праведно, а что грешно. Может быть, через много-много лет его песни превратятся в заповеди, станут священными, будут высечены на гранитных плитах, а про их творца скажут: вот великий пророк, с которым говорили боги… Этого он не знал и об этом не думал, он просто пел. Пел о равнинах, где растут деревья и травы и журчит вода, о месте, над которым светят солнца и сияют звезды, о крае, где нет песчаных бурь и нет вражды среди людей. Он пел, и песня была длинной.* * *
Под утро Тревельян проснулся. Что-то шевельнулось в его сознании, какая-то смутная мысль всплывала из глубин, обычно недоступных разуму, и он, пытясь уловить ее, облечь словами, вдруг понял: это не мысль, это зов. Точнее, телепатический импульс, знак, что кто-то думает о нем. Импульс пришел издалека – он затруднялся определить, с какого расстояния. Всякому дару нужна тренировка, чтобы он возрос и расцвел, но свои способности к ментальной связи Ивар не торопился обнародовать. С порталами все было ясно, он мог заниматься этим делом, открывать и закрывать врата, не ущемляя прав своих коллег, не нарушая той суверенной территории, которой являлись их мысли и память. С ментальной связью ситуация другая – случайно влезешь в чью-то голову, узнаешь что-то лишнее, да еще и засекут тебя, как неловкого воришку. Взять хотя бы Нору Миллер… Она и так дулась на Ивара, и он совсем не жаждал приобщиться к ее мыслям. Итак, импульс пришел наверняка с космической дистанции, ибо сигналы от людей, собравшихся на базе, к нему не поступали. Проверив этот факт, Ивар окончательно проснулся. Он сел на широком ложе, закрыл глаза, глубоко вздохнул и с первой же попытки погрузился в транс. С каждым разом это давалось ему все с большей легкостью, как человеку, который, превозмогая страх, снова и снова прыгает в пропасть и убеждается, что для боязни нет причин – гравитатор на месте и в полном порядке. «Кто там еще, черт побери? – раздался беззвучный, но такой знакомый голос. – Старина Фардант? Так мы с тобой уже распрощались… Или есть проблемы?» «Ровным счетом никаких, – сообщил Тревельян. – Дед, это ты? До чего же я рад тебя слышать!» Наступило ошеломленное молчание. Потом командор осведомился: «Ты где-то поблизости, паренек? В системе Хтона?» «Нет, на Пекле». «На Пекле?.. Но, клянусь реактором, с такого расстояния…» «С какого пожелается, – прервал его Ивар. – Видишь ли, я повстречался здесь с неким созданием… существом… ну, это долгая и непростая история, и я расскажу ее тебе при встрече. Мне кое-что подарили, дед. Наверное, даже больше, чем я способен сейчас осознать». Несколько секунд командор размышлял. Для него это было изрядным временем – скорость реакций кристаллической структуры, вмещавшей его личность, превосходила показатели коллоидного мозга. «Приятно получать подарки, особенно такие, – наконец заметил он. Значит, ты на Пекле… А я – на борту «Ниагары». Меня отвезут к тебе, малыш. Старт примерно через сутки». «Нет необходимости, – сказал Тревельян. – Я сам приду. Это будет гораздо быстрее». «Еще один подарок?» – осведомился дед. «Все тот же. Связь, перемещение и, может быть, что-то еще… Пока не знаю, но со временем мы разберемся. – Помолчав, Ивар добавил: – Я мог бы появиться на «Ниагаре» прямо сейчас, но вид у меня не очень презентабельный. Я был у шас-га, и нужно какое-то время, чтобы вернуть себе прежний облик. Ты подожди, дед. В любом случае я буду у вас раньше, чем через сутки». «Добро. Смотри, не заблудись по дороге». «Теперь это невозможно», – сказал Тревельян и отключился. Спрыгнув с постели, он вызвал зеркала и начал придирчиво осматривать свое лицо и тело. Пигментные пятна на лбу исчезли, но кожа еще хранила сероватый оттенок; физиономия сделалась шире, но рот и зубы еще казались великоватыми; ногти и волосы были уже не такими длинными, челюсти словно усохли, но до привычного стандарта еще не дотягивали. Руки… Да, руки – почти человечьи, до середины бедра, как и положено высокоразвитому гуманоиду… Из-за этого Ивару чудилось, что руки у него коротковаты. Впрочем, в три-четыре ближайших часа адаптация завершится. «До чего приятно стать самим собой», – подумал он, натягивая одежду. Потом, встав перед зеркалом, отдал салют своему изображению и произнес: – Прощай, Айла. Да хранят тебя Бааха и дети его Уанн и Ауккат. Дел с утра было много. Вместе с Энджелой, Юэном и Маевским он занялся отчетами, потом просмотрел запись исхода – так, как это выглядело со стороны степи, перемолвился словом с Исаевыми, разрешил Пардини вернуться к кратеру Рыжего Орка, ускользнул от Анны Веронезе, желавшей поплескаться с ним в бассейне, и, ознакомившись с наблюдениями Инанту, похвалил стажера за оперативность. Их беседу прервал Юэн Чин – антенна межзвездной связи на спутнике приняла сигналы с Каузы Примы. Консул Каралис желал говорить с Тревельяном. Спускаясь в отсек в подвале башни, Ивар ожидал, что связь будет символьной – как правило, этот экономичный режим применяли в случае переговоров на далеких расстояниях. Но, к его удивлению, над панелью настройки развернулся экран с полноцветным изображением: Каралис и Сойер сидели в салоне «Гондваны», а за креслом консула торчал цилиндрический агрегат с вокодером и парой подвижных видеокамер. – Это Колесников, – пояснил Каралис, кивнув на цилиндр. – Ты ведь, Ивар, помнишь Николая Ильича? – Учителей не забывают, – отозвался Тревельян, вежливо склонив голову. – Приветствую вас, старшие. Надеюсь, мой вид… – Вид у тебя вполне человеческий, – буркнул через вокодер Колесников. – Немного постарел… Но это случается со всеми. – Не постарел, а возмужал, – с улыбкой произнес Сойер. Оба они были профессорами Академии, оба учили юного курсанта Ивара, и видеть их было приятно. К тому же ему оказали высокую честь: видеосвязь на большой дистанции требовала гигантской энергии, и все же они явились лично. Перед ним были люди, а не символы на экране. – Обратимся к нашим проблемам, – сказал Каралис. – Ты, вероятно, в курсе, что мы ведем переговоры с парапримами? Точнее, с частью их миссии. Их двое, и они специалисты по контактам с архаическими расами. Наши коллеги, проще говоря. – Как их зовут? – спросил Тревельян, вспомнив премудрого Аххи-Сека. Это было осиерское имя Хранителя, а настоящего тот так и не назвал. – С именами у нас напряженно, – сочным басом заметил Колесников. – Один черный, как смоль, и мы называем его Антрацитом, у второго белая опушка на шее, и он отзывается на имя Белый Воротник. Этого тебе достаточно? Тревельян кивнул. – Вполне. Чем могу быть полезен? Пригладив волосы нервным движением, Каралис произнес: – Мы должны обсудить проблему Осиера. Вопрос щекотливый, ибо там мы столкнулись с противодействием прогрессоров-параприматов. Ты – наш главный эксперт, и в этом пункте, – консул усмехнулся, – в этом единственном пункте мы не расходимся во мнении с парапримами. Эти двое тебя знают. Им говорил о тебе осиерский Хранитель. – И, как я понимаю, рекомендации были наилучшими, – добавил Сойер. – По их настоянию ты должен принять участие в дискуссии. – Сколько она продлится? – поинтересовался Тревельян. – Обычное время переговоров – от трех до пяти часов. На этот раз скорее пять, чем три или четыре. Ивар взглянул на панель настройки, на мерцающий экранчик таймера. Беседа длилась несколько минут, но энергозатраты на поддержание канала прямой связи были чудовищными – их наверняка хватило бы, чтобы стереть Поднебесный Хребет в мелкую пыль. Вероятно, генератор Лимба на «Гондване» посылал в антенну процентов семьдесят предельной мощности. – Я готов, – промолвил он. – Но позвольте спросить: мое участие настолько важно, что «Гондвана» откроет канал на весь этот срок? – Не «Гондвана», – пояснил Каралис. – Сейчас мы общаемся с тобой через передающую систему парапримов, которая будет поддерживать канал во время дискуссии. Пять часов, или десять, или целый месяц, им безразлично. У них нет ограничений по энергозатратам. Вокодер Колесникова хрипло заклекотал – кажется, Николай Ильич смеялся. – Мы тут спорим, – заявил он, справившись с приступом веселья. – Пьер и Мартин считают, что наши… гмм… коллеги совершенно искренни и идут на любые затраты, чтобы поговорить с тобой. А вот у меня другое мнение. – Он сделал паузу, но никто, похоже, не собирался его перебивать. – Ты уж прости, дружок, но я считаю, что здесь обошлись бы без тебя. Нам хотят продемонстрировать возможности… степень могущества, если угодно. Причина мелкая, но подходящая. Мол, у вас, двуногих землян, аннигиляторы и деструкторы, крейсера и фрегаты, а мы вот можем открыть канал на шестьсот светолет и пообщаться с неким Тревельяном. Пять часов, или десять, или целый месяц, как заметил Пьер… Впечатляет, правда? – Правда, – согласился Тревельян. Разумеется, сказанное Колесниковым не являлось фактом, то была лишь гипотеза, но исключать ее не стоило. Определенно не стоило! Как ни крути, но парапримы добились кое-какого эффекта, удивив земных партнеров; с умыслом или без оного, они показали, кто есть кто, и довод был достаточно весомым. Тут Ивару вспомнилась таинственная власть над временем, которой они обладают, их медальоны с предсказаниями судеб и еще не свершившихся событий, виденные им на Осиере. Это тоже казалось поразительным. Невероятным, честно говоря! «Ну, у двуногих тоже найдется чем удивить», – подумал он и усмехнулся. Потом спросил: – В каком часу начнется дискуссия? Согласовав этот срок, они с Каралисом прервали связь. По бортовому времени «Гондваны» встреча намечалась на 14.00, когда над пиком Шенанди вспыхнут звезды. Удачно, решил Тревельян: во-первых, до вечера он разберется с делами, а во-вторых, метаморфоза завершится, зубы и челюсти примут нормальный размер и пропадет странное ощущение, будто он может, не наклоняясь, почесать колено. Он поднялся наверх, продолжил беседу с Инанту Тулуновым, потом со вкусом пообедал в компании коллег, рассмотрел и утвердил план текущих мероприятий, посовещался с тремя терукси, наметившими пункты для новых озер и водных артерий в степи, снова встретился с Исаевыми, чтобы обсудить их работу и выбрать место для плота, который станет базой в Южном океане. Закончив с этим, Ивар начал размышлять, как помириться с доктором Миллер. Это была непростая задача, поскольку поведать ей или кому-то другому о свидании с даскином он не желал. Но все же Первый Регистратор поделился кое-какой информацией о зверолюдях, полезной для Миллер, и Тревельян, улучив момент, стал излагать ее в виде гипотезы. Смысл его предположений сводился к тому, что карликов переселили на Равану с помощью порталов, и в этом случае на любом континенте можно найти их следы – конечно, если сканировать поверхность интравизором и, обнаружив стойбища, произвести раскопки. Нора Миллер загорелась, ее глаза блеснули, и хмурое лицо прояснилось. Вцепившись в Тревельяна, она стала требовать то и это, это и то, а прежде всего – доступ к интравизорам на спутнике, землеройную технику и киберов, пригодных для раскопок. Ивар обещал все – плюс как минимум трех археологов, которые будут трудиться под ее началом. Они составили заявку, послали ее в Консулат, и Нора Миллер впервые ему улыбнулась. Так, в трудах и заботах, проходило время, пока не начал склоняться к закату Ракшас, а за ним – огромный диск Асура. Тревельян вернулся в жилой отсек, распаковал мундир, надел его и полюбовался своим отражением в зеркалах. Ткань плотно облегала его фигуру, сверкали золотые и серебрянные символы, Почетная Медаль, Венок Отваги, Обруч Славы, но место на мундире оставалось – на тот случай, если его наградят еще чем-то почетным и славным. Серый оттенок кожи исчез, рот не выглядел хищной пастью, пропорции лица восстановились, и руки уже не казались слишком короткими. Он снова был Иваром Тревельяном, координатором Раванской миссии, обычным земным человеком. Обычным?.. Он покачал головой, чувствуя, как оживает рассекающий пространство меч, что затаился в его сознании, будто в невидимых ножнах. До назначенного срока оставалось несколько секунд. Он открыл портал, всмотрелся в потрясенные лица Каралиса и Сойера, увидел, как парапримы всплеснули в изумлении руками, и улыбнулся. Потом шагнул с вершины Шенанди под свет сиявшей в безмерных далях зеленоватой звезды.Приложение. Галактические расы, упомянутые в романе
Даскины, или Древние, – высокоразвитая раса, владевшая Галактикой несколько миллионов лет назад и затем исчезнувшая по неизвестной причине. Облик, язык, социальное устройство общества даскинов, их цели и мировоззрение тоже неизвестны, однако в Галактике остались артефакты, позволяющие судить об их технологии. К числу таких артефактов относятся: древняя карта Галактики (так называемый Портулан Даскинов), останки различных астроинженерных сооружений, споры квазиразумных мыслящих устройств, обнаруженные во многих мирах, и так далее. Считается, что информация о Лимбе и о контурном двигателе, которым пользуются все галактические расы, также поступила в древности от даскинов. Дроми – негуманоиды, создавшие свою звездную империю в Рукаве Ориона (в котором расположена Земля и материнские планеты других народов, имеющих высокое технологическое развитие). Происходят от земноводных, обликом похожи на гигантских двуногих и двуруких жаб. Отличаются высокими темпами размножения, что ведет к необходимости осваивать и заселять все новые и новые миры. Весьма агрессивны. Около двух тысячелетий служили лоона эо в качестве Защитников, затем были вытиснены с этой позиции земным человечеством. Неоднократно воевали с Земной Федерацией (начиная с XXIV века). Кни'лина – гуманоидная раса, сектор влияния которой расположен в Рукаве Ориона. Обликом подобны людям Земли; отличия незначительны – отсутствие волосяного покрова, несколько другой метаболизм (не могут питаться мясом), неспособны давать потомство с землянами. Имеют многочисленные колонии примерно в шестидесяти-восьмидесяти звездных системах, а также мощный боевой флот. Воевали с Земной Федерацией (клан ни) в XXVII–XXVIII веках и потерпели поражение. В настоящее время между Федерацией и обществом кни'лина установлены культурные и дипломатические связи, однако их прочность сомнительна. Лоона эо – раса псевдогуманоидов, одна из древнейших и наиболее высокоразвитых в Галактике. Обликом подобны людям Земли – с поправкой на меньший рост, изящное телосложение и красоту, отвечающую высшим земным стандартам. Их определение как псевдогуманоидов связано с процессом воспроизводства потомства: у лоона эо четыре пола (мужчины, полумужчины, полуженщины, женщины, причем только последние способны к зачатию и рождению детей), зачатие же (инициирование женской яйцеклетки) осуществляется ментальным путем (органов размножения, обычных для гуманоидов, у лоона эо не имеется). Лоона эо – телепаты, хотя способны к обычному способу общения и имеют звуковую речь. Их сектор в Рукаве Ориона состоит из ядра (Розовой Зоны), где находятся материнский мир Куллат и древние колонии (Файо, Арза и другие), и Внешней, или Голубой, Зоны, где сосредоточено около двадцати планет (Харра, Тинтах, Данвейт и другие), которые были заселены в более поздние времена (10–12 тысяч лет назад). В настоящую эпоху лоона эо покинули планеты и переселились в астроиды, искусственные космические города с пониженной гравитацией, где созданы условия для комфортной жизни. Лоона эо долговечны, миролюбивы и не склонны к прямым контактам с другими расами, хотя ведут широкую торговлю предметами своей высокой технологии. Все дипломатические и торговые связи осуществляются через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика-Чейни. Для защиты своего галактического сектора лоона эо нанимают расы-Защитники, из которых известны две: дроми, а до них – хапторы. С конца XXI века Защитники вербуются в Земной Федерации, и им разрешено селиться на Тинтахе и Данвейте. Лоона эо – первая раса, с которой Земля установила мирный контакт и сотрудничество; дипмиссия, представленная сервами, существует в Посольских Куполах на Луне с 2097 года. Лльяно – негуманоиды, к контактам с другими расами не склонны. Возможно, это связано с их речью, звуки которой невоспроизводимы для гуманоидов; редкое общение с ними производится с помощью искусственных языков, созданных лоона эо. Точное местоположение сектора лльяно не установлено; вероятно, он лежит в сотнях парсек за мирами лоона эо, в направлении южного галактического полюса. Лльяно – закрытая раса, контактирующая в основном с лоона эо, хотя предмет торговли между ними до сих пор неясен. Внешний вид лльяно: мохнатые создания с округлыми формами и четырьмя или шестью конечностями (по свидетельству очевидцев, они похожи на небольших упитанных медведей). Метаморфы или протеиды – негуманоидная раса, предположительно мирная, обладающая даром к радикальному изменению внешнего облика, метаболизма и физиологии. Также способны к телепатическому обмену и телепортации. В силу этих особенностей редко пользуются искусственными устройствами, хотя имеют межзвездные корабли и некое подобие систем с искусственным интеллектом. Космическую экспансию не осуществляют, населяют только свой материнский мир, чьи координаты не известны. В качестве эмиссаров-наблюдателей присутствуют во многих секторах, принимая обличье аборигенов, но тайно (в силу своей природы практически неуловимы). Достоверные контакты с метаморфами за последнюю тысячу лет исчисляются единицами. Однако известно, что эта раса оказала помощь Земле в период первых сражений с бино фаата и последующих Войн Провала. Осиерцы – автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК) и цивилизации парапримов. Параприматы, или парапримы, – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название («пара» – греч. «возле», «около»). Первый контакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа безусловно миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет пока неизвестно, но есть надежда на плодотворные контакты в будущем. Сильмарри – резко отличаются от всех галактических народов обликом, психологией, способом размножения, технологией и языком (если он существует). Как и даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25–30 млн лет). Внешне похожи на гигантских червей (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытых белесоватой кожей; могут вытягивать тела до 12–15 метров. Питание кожное, нуждаются лишь в разреженной кислородной атмосфере. Области постоянного поселения не имеют, не привязаны к каким-либо мирам или звездным системам, а странствует на своих кораблях по всей Галактике (один из примеров так называемой кочующей цивилизации). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер; их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Каждый корабль занят семейной группой, иногда достигающей тысячи существ. Малоконтактны и, как правило, не агрессивны, но при попытке уничтожить их корабль проявляют способность к активной защите и нападению. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в XXVIII веке, причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание терукси. Представителями Земли им были переданы Портулан Даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру Дингана-Пхау, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в Рукаве Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата. Фаата (бино фаата) – гуманоидная раса, создавшая свою звездную империю в Рукаве Персея, который отделен от Рукава Ориона (от земного сектора) Провалом, где практически нет звездных систем. Агрессивная цивилизация, основанная на ментальном симбиозе с квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые применяются на всех уровнях производства и управления. Фаата были первой галактической расой, с которой столкнулись земляне: в 2088 году их огромный звездолет, несущий сотни боевых модулей, вторгся в Солнечную систему и произвел на Земле значительные разрушения (после чего последовала операция возмездия и четыре Войны Провала, затянувшиеся в общей сложности на 125 лет). В части физиологии и метаболизма фаата подобны людям Земли и, в отличие от кни'лина, способны давать с землянами потомство (выяснено в результате экспериментов по искусственному осеменению). Раса фаата делится на касты, причем высшая (правящая) обладает ментальными способностями и считается полностью разумной, тогда как остальные (работники, солдаты, пилоты, самки – продолжательницы рода) относятся к частично разумным. Большими группами населения, обитающими на материках колонизированных миров, управляют Связки, несколько наиболее опытных особей высшей касты, полностью контролирующих существование низших каст. Ряд из них выведен искусственно, и их физиология значительно отличается от человеческой. С Земной Федерацией бино фаата контактируют крайне редко. Хапторы – гуманоидная раса, чья физиология и внешний вид гораздо сильнее отличается от земного стандарта, чем у кни'лина, бино фаата, терукси и осиерцев (несовместимы с людьми в сексуальном отношении; искусственное осеменение не позволяет получить жизнеспособного потомства). Колонизировали и заселили несколько сотен миров в Рукаве Ориона, пространственно более близких к ядру Галактики, чем Земная Федерация. Примерно три с половиной-две тысячи лет назад являлись Защитниками лоона эо, затем их сменили дроми, что привело к длительному и кровавому столкновению между этими расами. Внешний облик: высокие (около двух метров), крепкого телосложения, кожа плотная, темная, вдоль позвоночника – полоска меха, волосы на голове отсутствуют, выше висков – шишки, напоминающие рога, уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком. Человеческим эталонам красоты не соответствуют. Физически очень сильны, расчетливы, жестоки, агрессивны, с пренебрежением относятся к другим расам. Воевали с Земной Федерацией в XXVI веке, были разгромлены, после чего последовал мирный договор и установление дипломатических отношений.Михаил Шавшин ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО (Фантастика Михаила Ахманова)
«Читая, ты должен основательно продумывать, чтобы прочитанное обратилось в твою плоть и кровь, а не было сложено в одной памяти, как в каком-нибудь словаре».Эразм Роттердамский
Основная масса нынешней российской фантастики неприхотлива, неизобретательна и не склонна к изящным находкам в области отечественной словесности. Собственно, зачем? «Пипл и так все схавает». Чего проще! Взял расхожий зубодр-р-робительный и мор-р-рдобойный сюжет, скажем, сразу из нескольких голливудских боевиков, кое-как его скомпоновал, причесал, если есть на то дар божий, хотя можно обойтись и без дополнительного напряга, что в большинстве случаев и происходит, потому что этого самого дара-то как раз и нет. Вот и все. Боевичок-с готов к употреблению. Желательно также подпустить в текст побольше кровушки, завалить свободное от диалогов пространство трупами, а главного героя, натурально, обугрить титаническими мускулами, это самое главное, ведь в голове-то у него, по большому счету, одна извилина, и та от фураж… прошу прощения… от шлема. А как же иначе? Если там окажется вместилище нормального человеческого сознания, то надо будет еще изобретать его переживания и мысли, а разве такое возможно, если и своих-то нет. Голое действие, господа, голое действие. Драйв. И побольше. Например, так: «…Дог принялся за правую кисть руки. Чтобы кровь сильно не хлестала и не заливала место разреза, он перетянул руку жгутом. Сложнее всего было разобраться с сочленением кисти с рукой. Руки Дога скользили в еще теплой крови, мешая крепко схватить руку и довершить начатое. Наконец это ему удалось, и он, поднатужившись, с хрустом отделил одну кисть. Достал небольшой чемоданчик и положил ампутированную конечность в маленький медицинский холодильник, в которых обычно перевозят имплантанты. – Ух, парень, ну и намучаюсь я с тобой, – сказал Дог, перетягивая вторую руку новым жгутом. – А ведь мне еще тебе голову отрезать нужно…» [В. Кумин «Наемник» («Лениздат», 2006 г.). Не путать с «Наемником» Михаила Ахманова (издательство «Крылов», 2002 г.) Женщин и слабонервных просим не вздрагивать и не ронять текст на пол. Как принято говорить в «ящике», оставайтесь с нами! Приведенный отрывок не имеет никакого отношения к творчеству Ахманова, и возьму на себя смелость утверждать, что и иметь не может. Не тот автор и не та литература. Впрочем, виноват, есть и у уважаемого Михаила Сергеевича и драки, и смертоубийства. Конечно, есть. Как же без них! Большинство читателей любят непобедимых хитроумных героев и лихо закрученный сюжет. Без них любое произведение кажется им слишком пресным и скучным. Их тоже можно понять, и уж о всяком случае, их мнение следует учитывать. По крайней мере издателям. Что они и делают, как правило, с большим перебором. Отсюда и лавина низкопробных книг, затопивших рынок. Они продаются гораздо лучше, они более востребованы, ведь контингент их поглотителей составляет основной объем читающей публики. Не так уж это и плохо, ведь люди все же берут в руки книги, а не орудия разрушения или нападения на себе подобных, и всегда остается шанс, что рано или поздно (лучше бы, конечно, пораньше) им попадется уже совершенно иная литература, которая заставит их изменить свое отношение к миру, а не просто поможет скоротать время. Ведь для любого думающего и уважающего себя, а не просто пишущего с целью зарабатывания денег, автора крутой сюжет не является самоцелью, он ему нужен всего лишь как инструмент, чтобы в результате явить то, для чего, собственно, он и старался достучаться до сердец читателей, – свои мысли, свои эмоции, свое мироощущение. Все остальное – от лукавого. Если его героям в процессе осуществления каких-либо благих намерений приходится сталкиваться с негативным противодействием, то тут уж схватка добра со злом становится неизбежностью. Иначе никак не получается. Главное тут помнить, что достижение цели не оправдывает любых средств, и что совсем необязательно заливать страницы реками крови для того, чтобы увлечь читателя. Это можно сделать и другим способом. Например, присутствием тайны, которую открывшему книгу интересно было бы разгадать. Яркий пример тому – творчество братьев Стругацких, где кроме тайн и интригующих сюжетов наличествует еще великолепный русский язык. Михаил Ахманов, на мой взгляд, придерживается того же направления, которое тщательно разработали некогда мэтры отечественной фантастики. В его романах всегда есть тайна, есть также и захватывающие приключения, раздумья и сомнения героев, озвучивающих авторскую позицию, удалые поединки и, естественно, более массовые сражения, иные миры и даже легкая эротика. Словом, его герои живут полнокровной жизнью, а не являются ходячими функциями, как в большинстве произведений боевой фантастики. Это и неудивительно, ведь Ахманов начинал как переводчик, имея за плечами уже весьма значительный жизненный опыт, и не где-нибудь, а в хитромудрой Стране Советов, а также практику ученого-физика и бережно хранимую с юности любовь к литературе. Начинал с адаптации (именно с адаптации, а не с лобовых переводов) на русский язык романов мало кому известного англичанина Джеффри Лорда, творца агента МИ-6 Ричарда Блэйда, вволю порезвившегося на просторах неизвестных нам измерений. Этот шустрый разведчик настолько понравился читателям, а следовательно, и издателям (при тогдашнем-то полупустом рынке), что Ахманову было предложено и далее переводить сериал и самому написать некоторое количество романов в рамках этого цикла. Так что экс-физику пришлось в течение двух-трех лет трудиться над судьбой британского агента, не только и не столько придерживаясь стиля его родителя, но и по возможности постоянно придумывая что-то новое и в теперь уже своем герое, и в обстоятельствах, его сопровождающих. Впрочем, за это время Ахманов приложил руку еще и к переводам Филипа Фармера, Энн Маккефри, Стерлинга Ланье, Альфреда Ван-Вогта, Эрика Рассела, Айзека Азимова. Естественно, подобное начало литературного процесса не могло не сказаться на дальнейшем творчестве. Результат, как говорится, воспоследовал. Героические черты непотопляемого агента одной из спецслужб Ее Величества часто проглядывают во многих главных персонажах последующих книг Ахманова. Таков, например, бывший сержант спецназа Кирилл Карчев из романа «Скифы пируют на закате». Таков и Дик Саймон, лучший ученик четырехрукого Наставника воинов Чочинги с планеты Тайяхат, суперразведчик Разъединенных Миров человечества из дилогии «Тень ветра. Тень Земли». В эту компанию органично вписывается и наемник Дарт, Дважды Рожденный, герой книги «Солдат удачи», для которого нет преград ни в море, ни на суше. Ну, ему-то, впрочем, сам Бог велел, ведь он в первой жизни не кто иной, как Шарль д'Артаньян, да-да, тот самый, именно тот, искусныймушкетер, дослужившийся до маршала Франции и досадно погибший на поле боя. Несомненным родственником Блэйда является и Ивар Тревельян, представитель Фонда Развития Инопланетных Культур, буквально только что рожденный Михаилом Ахмановым для последней серии книг, издаваемых «Эксмо». В таких излюбленных персонажах автора нет ничего предосудительного, наоборот, они подкупают открытостью, честностью и мужеством, ловкостью и умением находить выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Их неукротимое стремление к цели, несмотря на происки всевозможных недругов и злопыхателей, греет читательскую душу, и Ахманов это прекрасно знает. Но, позволю себе слегка повториться, не в этом суть. Настоящий герой и должен быть привлекательным и, как минимум, вызывать доверие. Книги же Ахманова не только о приключениях тела. Смотрите глубже. Возьмем для начала первую по хронологии появления на свет дилогию «Скифы пируют на закате. Странник, пришедший издалека». Романы-то совсем не о захватывающих скитаниях проводника Кирилла вкупе с состоятельными клиентами в иных реальностях, а об угрозе земному человечеству, неожиданно появившейся из глубин Вселенной, угрозе тихой и неумолимой, и о том, как подобную коллизию можно разрешить. К тому же экспансия двеллеров-метаморфов, украдкой проникающих в обитаемые миры, несет гибель не только землянам, но и всем остальным разумным существам, попавшим в пределы досягаемости Великого Плана Сархата. Стоит ли говорить о том, что положительные герои, конечно же, вычислят супостата и проникнут в самое его гнездовище. Вот тут-то как раз читателя и поджидает дилемма, выражающая основной смысл повествования: «И потому – либо атака и уничтожение, либо надежная оборона… Или передавить волков прямо в логове, или сделать так, чтобы овцы остались целы, и волки не голодны… Первая точка зрения казалась очевидной, однако звездный странник не был уверен в ее правильности. Временами он думал об этом странном народе метаморфов как о явлении редкостном и уникальном, и в силу этого достойном изучения – а ведь уничтоженное нельзя познать и изучить. Уничтожение стало бы необратимым действием, детищем силы, но не разума, и мудрость Телга советовала избегать таких крайних мер». Ощущаете разницу? Не покрошить, не ведая сомнений, супротивника в капусту, как это делается в большинстве произведений, заполонивших рынок, а остановиться и подумать. А чего, собственно, мы этим добьемся, окромя удовлетворения справедливого гнева? Может, действительно, прежде чем что-то натворить, надо бы немного и поразмыслить? В таком подходе и заключается второй смысловой уровень романов Михаила Ахманова. Есть еще третий и четвертый, занимающие автора гораздо больше, но об этом несколько попозже. Обратимся ко второй дилогии «Тень Ветра. Тень Земли». Казалось бы, все предельно просто. «Младший брат» Ричарда Блэйда непобедимый агент Дик Саймон, в совершенстве овладевший неземной техникой боя воинов, живущих в лесах его родного мира, перемещается с планеты на планету, блестяще выполняя задания разведуправления Разъединенного Человечества. Но, встречаясь с врагом лицом к лицу, он никогда не превышает «пределов допустимой обороны», проще говоря, его ответ неизменно адекватен входящим обстоятельствам, потому что он всегда помнит слова Наставника: «Взгляни вокруг, и ты увидишь земли мира и земли войны; землями мира владеют женщины, в них мужчина – гость, который, возмужав, уходит, дабы растратить свою силу, свершая предначертанное. Женщин влечет покой, мужчин – борьба, и в том отличие меж ними, и следуют они своим Путем, и пока вершится так, нет у них поводов для споров и ссор, ибо дороги их разные…<<…]>…Небесный Свет и Четыре Звезды сияют над теми, кто ходит по землям мира, и не нужны им ухищрения и тайны, ибо нет у них врага… <<…>>…Воин не боится крови, воин умеет убивать! Каждый тай из молодых, идущих в лес (в земли войны. – Примечание мое, М.Ш .), вскоре узнает об этом… <<…>> …стань тенью ветра, ибо невидимый ветер все-таки можно ощутить, тогда как тень его незрима и неощутима. Сделай это – и нанеси удар!» Иными словами, всему свое время. Если тебе навязывают войну, ты должен поступить так, чтобы победить быстро и эффективно, без излишней жестокости, если же ты попадаешь в земли мира, у тебя не должно быть недругов. Этого принципа Дик Саймон придерживается свято, в какой бы мир он ни попал. Это внешняя фабула. Герой борется против агрессивных противников прогресса. Своего апогея действие достигает, когда Дик попадает на Старую Землю. Именно в этот момент (не раньше и не позже) и обнажается замысел автора. В начале Эпохи Разъединения человечество покинуло свою колыбель, и на Земле остались только те, кто из каких-то своих, сугубо корыстных соображений не пожелал уйти вместе со всеми. Кто же это? Самое дно земного сообщества – националисты, сепаратисты, террористы, властолюбцы, обычные уголовники и иже с ними. Замечательный получился террариум. Гротескная пародия на ныне существующие взаимоотношения. Представьте себе, что с лица планеты исчезли все сдерживающие силы в лице цивилизованных государств и правительств. И получите то самое, о чем и поведал Ахманов. Русские националисты ведут перманентную войну с аналогичными украинскими хлопцами. Кавказские княжества гордо восседают на вершинах, свысока взирая на все это копошение. С востока якобы, по сообщениям чудом сохранившихся местных радиостанций, надвигается орда кочевников. С чего бы им надвигаться, ведь в оставленной Сибири земли предостаточно! Что, им делать больше нечего? Все кому не лень переплыли Атлантику и обосновались на остатках Американского континента. Образовали, значит, там свое самостийное государство. У власти, натурально, уголовники и живодеры. Все воюют против всех. Славная картинка! И, естественно, никому и в голову не приходит озаботиться попытками восстановить хотя бы минимальную связь с удалившимися в космос земляками. Зачем? Все довольны, кроме угнетенного большинства, которому и нос нельзя высунуть. Расправа будет короткой и жестокой. Тоталитаризм. Вот эти-то остатки человечества, попавшие на задворки истории, и пытается вернуть Дик Саймон в лоно цивилизации. Сами понимаете, небезуспешно. То есть, по сути, самостоятельно решить свои земные проблемы люди не в состоянии. Да и не хотят. В основном те, которые сверху. Сразу вспоминается анекдот о двух возможностях обустроить Россию: первая – фантастическая: мы на своем горбу ее вывезем, а вторая – реалистическая: нам помогут инопланетяне. Такая вот диспозиция. Запомните ее, мы к ней еще вернемся. Герой романа «Солдат удачи» Дарт – лихой рубака по определению. И все его приключения – это почти типичные похождения мушкетера в лучшем смысле этого слова. Но опять же не в нем дело. За спиной предприимчивого наемника стоит старая, мудрая, «потерявшая себя» цивилизация. В своем развитии ее представители пропустили «момент истины» и с помощью подобных Дарту пытаются нащупать хотя бы краешек смысла изрядно поднадоевшей им жизни: «В нынешнюю эпоху Жатвы мы знаем столь многое, что знания обременяют нас… <<…>> …Разумеется, новые знания всегда большая ценность, но ищем мы не только – или не столько – их. Скорее мы хотим представить, как жили Темные, к чему стремились, куда ушли и по какой причине… <<…>> …мы, анхабы, – древняя раса, достигшая полного благополучия и счастья, а также изрядного долголетия. В результате нас немного, и по прошествии времен мы потеряли вкус к опасностям реальной жизни. Может быть, наш путь кончается?.. <<…>> …хотим мы того или нет, каждому из нас придется приобщиться к Великой Тайне Бытия – но лишь в мгновение смерти. Тогда, и только тогда, нам станет ясно, куда мы уходим, куда ведет посмертный путь и существует ли он вообще…» Именно в этом основная мысль романа, служащая трамплином для всего остального действия. Самого же Дарта, мечтающего вернуться на Землю, ведет любовь. И при чтении романа возникает очень сильное ощущение, что любовь-то уж в самую первую очередь имеет отношение к Тайнам Бытия. Это, если хотите, стремление Духа. А приключения тела отходят на второй план. Арсен Измайлов, центральный персонаж книги «Я, инопланетянин», вообще наполовину землянин и на другую половину – пришелец-наблюдатель. Арсен волею обстоятельств возглавляет экспедицию ООН, исследующую Анклав – обширную зону изуродованной неизвестно чем земной поверхности, с которой исчезла не только страна под названием Афганистан, но и все ее жители. Естествоиспытателям необходимо установить причину катастрофы – носит ли она космический характер или имеет сугубо земное происхождение. В результате оказывается, что линейных истоков катаклизмов в природе не бывает. Все в этом мире взаимосвязано. «Бушует ненависть… – произнес я, вытянув руку на запад. – Там она бушевала много лет, волны ее текли к эоиту и извергались в космос, в ноосферу Вселенной, струями зла. Представь занозу под ногтем – крохотная, а болит… Ее выдернули, и ранка сейчас исцеляется. <<…>> Всего лишь инстинктивная реакция вселенской ноосферы. <<…>> Во всех бедах, которые постигают человека, виновно его неразумие и непочтительность к предкам – так, кажется, у Конфуция?.. <<…>> …лишь любовью спасется мир». Весьма прозрачный намек, не правда ли? Приоритеты расставлены, пора делать выводы. Мы, и только мы, и в самую первую очередь, виноваты в том, что происходит вокруг нас… Вот вам и обычный фантастический роман, по самую макушку полный приключений! А между строк, как ни крути, припрятана мысль, только ради которой, по-моему, уже стоило бы его прочитать. Многие ли произведения в современной отечественной НФ могут похвастать столь целенаправленными сентенциями? Или возьмем хотя бы насквозь ироничное описание не очень-то и веселых, если приглядеться, обстоятельств «литературного негра» Кима в романе под названием «Кононов варвар». Веселенькая такая книжечка о бескомпромиссной борьбе мягкого интеллигента, правда, сохранившего в сердце рыцарскую честь, со злокозненным хапугой, прямо-таки олицетворяющим определенную часть уже народившейся и вставшей на ноги российской буржуазии. А все из-за прекрасной дамы… И не сносить бы ему головы, причем в абсолютных ста процентах из такого же количества возможных, если бы, опять же, не вмешательство инопланетянина, запросто модифицирующего его в нужный момент в непобедимого и не знающего пощады к врагам киммерийца Конана, на жизнеописаниях которого и съел, как говорится, собаку главный герой. К слову, и благородство писателя Кима также оказывает смягчающее действие на свирепый нрав древнего воина, как-никак их сознания сосуществуют в одном и том же ментальном пространстве. Не таком уж и большом, если подумать. И какой же из всего этого следует вывод? Да тот же самый, что и в предыдущем романе. «Лишь любовью спасется мир…» Мне кажется, что эта книга – одно из лучших творений Михаила Ахманова. Проглатывается на едином дыхании, оставляя после прочтения теплое чувство сопричастности к победе справедливости над тем, чему, в общем то, не должно быть места вокруг нас… Если, конечно, мы сами этого достойны. Второе произведение, на мой взгляд (подчеркиваю, что это очень частное мнение), выпадающее из общего ряда романов, которые мы здесь рассматриваем, – книга «Заклинатель джиннов», только что испеченная «Лениздатом» (2006 год), хотя и написанная несколько лет назад. Это глубоко личностное повествование о судьбе незаурядного физика Сергея Невлюдова, волею случая наткнувшегося на разум, зародившийся в глубинах мировой электронной сети. Не искусственный интеллект, придуманный кем-то, нет. Именно разум, возникший спонтанно, в результате неведомых человеку флуктуаций и усложнений топографии самой информационной системы. Это дитя сети, действительно, подобно малому ребенку, пытающемуся на ощупь исследовать окружающий его огромный и непонятный мир. И слава богу, что (натурально, волею автора) в воспитателях и учителях у него оказывается порядочный человек, а не, скажем, отмороженный благоустроитель «прекрасного нового мира». Можете представить себе, что из этого всего могло бы получиться… Совершенно роскошное поле для любых мысленных экспериментов! Ахманов же с помощью подобного фантастического приема решает абсолютно определенную задачу: что надо сделать для того, чтобы человечество в ходе своей жестокой эволюции не уничтожило самое себя. И, надо сказать, находит. Может быть, это решение неоднозначно. Может быть, кому-то оно совсем не понравится. Но это будет уже выбор читателя, а не автора. Ахманов в своих предпочтениях весьма определен – будущее должно принадлежать достойным. Вообще-то роман «Заклинатель джиннов» является как бы прологом к уже упоминавшейся здесь дилогии «Тень Ветра. Тень Земли», где создатель Пандуса (т.е. «звездных врат» между различными мирами) Сергей Невлюдов упоминается неоднократно. Но я бы все ж таки рассматривал его отдельно, потому что в дилогии – свои приоритеты, а в «Заклинателе…» – полностью другие. А теперь остановимся на двух книгах, которые сам автор считает самым значительным своим трудом. Речь пойдет о романах «Среда обитания» и «Ливиец». Спору нет, такой сцепки антиутопии и прямой ее противоположности, то есть, натурально, утопии, в рамках одного двухзвеньевого цикла мне, честно говоря, припомнить не удалось. Во всяком случае, в отечественной фантастической литературе, имеющей давние традиции в этих жанрах, что нисколько не сказалось на количестве произведений, когда-либо опубликованных в пределах интересующей нас темы. Из самых значительных «наших» антиутопий только что закончившегося столетия можно припомнить только роман «Мы» Евгения Ивановича Замятина, написанный еще в двадцатые годы, да «Час Быка» Ивана Антоновича Ефремова, увидевший свет в конце шестидесятых. Вот, собственно, и все! Если, разумеется, не считать таковыми же «Чевенгур» Андрея Платонова, «Невозвращенец» Александра Кабакова или, скажем, «Москва 2042» Владимира Войновича. Все-таки антиутопия – это произведение о чем-то, происходящем на очень значительном удалении во времени, в далеком будущем, если начинать отсчет с сегодняшнего дня, а не буквально завтра по меркам истории. Тут, правда, есть смягчающие обстоятельства. В социалистическое лихолетье творить на эту тему, мягко говоря, очень не рекомендовалось, и благодарность автору варьировалась от высылки до «десяти лет без права переписки», т.е. расстрела. На выбор. Естественно, вышестоящих инстанций, а не самого автора. В новейшие же времена подобные темы, видимо, никому неинтересны. «Не до грибов, Петька!» Не коммерческая это литература! Но с другой-то стороны, большую часть коммерческой продукции литературой уж никак назвать нельзя… О чем и свидетельствует приведенный в начале статьи фрагмент… А жаль!.. Что же до утопии, то тут отечественной словесности повезло значительно крупнее. Много случилось у нас всевозможных утопий – от набившего еще в школе оскомину «Четвертого сна Веры Павловны» уважаемого Николая Гавриловича Чернышевского и унылых творений целой плеяды наивных романтиков 20-х годов (В. Итин «Страна Гонгури», Я. Окунев «Грядущий мир. 1923–2123», Э. Зеликович «Следующий мир» и т.д. Все указанные здесь произведения, да и неуказанные тоже, очень точно в свое время охарактеризовал прекрасный российский критик Всеволод Ревич: «Господа сочинители, вам самим не хотелось бы удавиться от тоски в вашем совершенном мире?») до взорвавшей фантастику конца пятидесятых «Туманности Андромеды» уже упомянутого Ивана Антоновича Ефремова и великолепной панорамы грядущего Аркадия и Бориса Стругацких, названной ими «Возвращение. Полдень ХХII век» (впрочем, сами братья не считали свое детище утопией, они просто описывали «Мир, в котором НАМ ХОТЕЛОСЬ бы ЖИТЬ и РАБОТАТЬ, – и ничего более»). Можно, безусловно, вспомнить еще пару-тройку книг второй половины ХХ века о будущих временах, как то: «Каллисто» и «Гость из бездны» Георгия Мартынова или «Люди, как боги» Сергея Снегова. Но поскольку эти авторы не озаботились живописанием хоть сколь-нибудь развернутых картин из жизни грядущих поколений, то, ей-богу, причислять их к означенному жанру как-то рука не поднимается. А современным литераторам сия тема неинтересна. По вышеозначенным причинам. Так же как, смею предположить, и сегодняшнему массовому читателю, которому утопия, равно, как и ее антипод, «что телеге – пятое колесо». Нельзя же, право, считать такими произведениями описания многочисленных потасовок на галактических просторах! Там же «кроме мордобития никаких чудес»… Именно поэтому Михаил Ахманов шел на известный риск, решившись, по нынешним временам, ступить на довольно зыбкую почву сочинений, более интересных ему самому, чем обширной аудитории. Впрочем, эксперимент удался, если судить по тиражам дилогии «Среда обитания. Ливиец», опубликованной «Эксмо». Как-никак три переиздания… А может, уже и четыре?.. Так о чем бишь спич? В первом романе население нашей планеты в прямом смысле слова загнано под землю. Да к тому же еще и все люди, а также то, что является средой их обитания, уменьшено во много раз. До такой степени, что обычная крыса кажется обитателям подземного мира апокалиптическим чудовищем. Кому и зачем понадобился столь бесчеловечный эксперимент? Все объяснения – в эпиграфах каждой главы. Некогда, на заре времен, то есть, по сути, буквально в первой половине ХХI столетия (ну, в наши дни – чего греха таить!) прыткий социолог Поль Брессон, видимо, за очень приличную сумму (предположение мое. – М.Ш. , иначе как объяснить подобный головоломный кульбит? Хотя, с другой стороны, злых гениев, нисколько не сомневающихся в своем праве «облагодетельствовать» земное сообщество и навязать ему «единственно верное» решение, в истории человечества всегда хватало. Этика в таких случаях всегда побоку) предоставляет Комитету Безопасности Римского Клуба свой «Меморандум», из которого следует, что сохранить Homo sapiens как вид можно только эдаким жестоким способом. А сама верхушка экономической элиты, натурально, не озаботившись элементарным здравым смыслом (видимо, не по уму им сложные этические проблемы), принимает сей опус как руководство к действию. Я думаю, чтобы упрятать всех – и согласных, и несогласных – под верхний слой дерна, наврать надо предостаточно! И тем не менее все сходит с рук, и земляне на пять-семь веков оказываются подземными жителями. Чтобы вполне представить, как им там всем существуется, надо прочитать книгу. Собственно, это и называется антиутопией. Во втором романе, описывающем время, на пять тысячелетий (!) отстоящее от подземной одиссеи, положение давным-давно исправлено, поименовано Эпохой Большой Ошибки, всем сестрам роздано по серьгам, и человек, естественно, заслуженно обрел то, чего достоин, как образ и подобие Бога. Он абсолютно свободен, он бессмертен, он живет во многих мирах сразу. Чтобы хоть как-то понять нам сегодняшним его движущие мотивы и психологию, в ткань повествования неназойливо вводится (и способ этот является классическим еще со времен Герберта Уэллса) наш современник Павел Лонгин. Причем он не просто помещается там, чтобы изумленно открывать рот и потрясаться грандиозностью свершений, на его плечи автором взваливается тяжкое бремя принятия одного из самых неудобных решений за всю историю землян, отнюдь не потому, что сами люди отвыкли от не всегда приятной процедуры выбора, а потому, что он теперь волею таинственных и необъяснимых процессов оказался частью Ноосфератов, непостижимых Галактических Странников, благожелательно оказывающих помощь любым поднявшимся достаточно высоко в своем понимании окружающего их мира биологическим разумным существам. Будущее, «увиденное» Ахмановым, нельзя назвать полностью бесконфликтным уже только на том основании, что проблема выбора в нем остается, причем выбора часто нелегкого. Взять хотя бы «погружения» в прошлое тех людей, которые занимаются практической историей и к которым относится главный герой романа Андрей по прозвищу Ливиец. Ведь им каждый раз приходится умирать, а иногда даже очень мучительной смертью, несмотря на то что в тела древних обитателей Земли засылается всего лишь психогенный носитель личности историка. Эмоции-то и боль остаются самыми что ни на есть настоящими! В этой книге еще много чего можно найти, вплоть до изменившегося рисунка созвездий. В общем, если в двух словах, то грядущее более непостижимо, чем мы в состоянии себе представить, а потому не будем заниматься пересказом и оставим все так, как это представил себе автор. Достаточно того, что Человек имеет право на такое будущее. Если захотите подробностей – прочтете. И в завершение нашего небольшого обзора обратим внимание на сериал, являющийся как бы отдельной частью жизни Михаила Ахманова. Это последняя по времени его работа. Сериал делится автором на две совершенно самостоятельных части, каждая из четырех томов, к тому же публикуемых двумя разными издательствами. Первая часть под общим заголовком «Пришедшие из мрака» представляет собой сагу о войне. Это романы «Вторжение», «Ответный удар», «Бойцы Данвейта» и «Темные небеса». Бесспорно, тут мы имеем дело с издательским проектом, уже только потому, что никогда ранее Ахманов не интересовался крупномасштабными боевыми действиями. Его это ни в коей мере не беспокоило. Конечно, война – явление привлекательное для основной массы читателя (а также зрителя) и, соответственно, для издателя (и продюсера), который на этом делает деньги. Иначе наши крупнейшие (и более мелкие) производители не заваливали бы рынок соответствующей продукцией. К великому прискорбию (гордиться тут нечем!), мы не уникальны. То же касается и западных издательств и кинокомпаний, взять хотя бы «фабрику грез» по имени «Голливуд», выпекающую забойные, поражающие воображение многочисленными жестокими побоищами и головоломными спецэффектами блокбастеры в неимоверных дозах. Кстати, наши (даже только что проклюнувшиеся) молодые авторы с удовольствием берут все это на вооружение. Почему бы и нет? Потребителю нравится! Это парадоксально, но факт. Никто из них, то бишь потребителей, не пожелал бы собственной персоной идти в лобовую атаку или отсиживаться в промозглых окопах (разве что при условии полной безопасности и очень недолгого времени), там ведь и убить могут, а вот читать (или наблюдать) за этим в комфортном и теплом местечке доставляет какое-то противоестественное удовольствие. Острых ощущений в жизни мало, что ли? Или это еще глубже, на уровне Фрейда? На словах-то мы все борцы за мир! А может быть, так происходит потому, что война уже сидит у нас в генетической памяти, почти как жизненно необходимый инстинкт? Ведь по подсчетам некоторых заинтересованных специалистов, с 3200 года до новой эры и по 1964 год эры нашей мирными были всего лишь 392 года. Получается, что беспрерывная кровавая схватка – это перманентное состояние человечества. Но, судя по всему, этого могло бы и не быть, если бы не упорное стремление всевозможных вождей и лидеров наций к постоянному переделу собственности. Иными словами, по очень точному определению немецкого военного историка Карла фон Клаузевица, «война есть просто продолжение политики другими средствами». Только так можно объяснить тотальное поощрение батальной темы. Я могу понять серьезных писателей, которые при обращении к материалу жестоких битв находят в нем немыслимые экстремумы человеческих эмоций и анализируют причины трагических событий истории. Их книги являются драмами в лучшем смысле этого слова, и создаются они для того, чтобы люди могли осознать всю бессмысленность и антигуманность подобной ипостаси политики. К слову, Герберт Уэллс, в 1897 году написавший «Войну миров», имел в виду нечто совсем другое, чем многочисленная армия его последователей. Не безобразные марсиане, полосующие обезумевших землян тепловыми лучами, виделись ему, а жуткий призрак надвигающегося на Европу совершенно реального апокалипсиса, далеко превзошедшего по результатам самые смелые пророчества заглянувшего в будущее англичанина. И когда авторы, имя которым легион, используют войну в качестве приманок и развлечений для смутного ума, остается только развести руками. Вместо того чтобы поднимать читателя (зрителя) до уровня понимания и сопереживания, его бесхитростно заваливают горами трупов, неумело, но навязчиво живописуя всевозможные физиологические страсти (см. фрагмент в начале этого текста). Помнится, в середине семидесятых годов прошлого века безусловным чемпионом по количеству убиенных был очень популярный тогда Джеймс Хедли Чейз. Куда ему до нынешних! И по статистике мертвых тел, и по анатомическим натюрмортам. Мистер Чейз безнадежно отдыхает. Именно поэтому надо отдать должное Ахманову, как, в данном случае, безусловно ангажированному автору, он сумел довольно достойно преодолеть поставленный барьер. Все эти агрессивные маневрирования на просторах нашей Галактики в борьбе за жизненное пространство он сделал хоть и основным действием, но все же оно воспринимается всего лишь как фон для серьезного разговора о судьбах звездных цивилизаций и взаимоотношениях между ними. Ведь не так важно, что люди Земли уничтожили суперкрейсер коварных пришельцев, вторгшихся в пределы Солнечной системы, естественно, с чисто захватническими намерениями, только после получения помощи от инопланетного наблюдателя, сколько интересно, чем же все-таки руководствовался таинственный эмиссар, защищая чужую, в общем-то, для него культуру («Вторжение»). Не так существенно, что земляне обнаружили и ликвидировали форпост завоевателей, сколь интригующе описание психологии и жизненных коллизий Пола Ричарда Конкорана, потомка двух рас, и его неотлучного спутника-метаморфа («Ответный удар»). Имеет значение не то, что человечество, пожалуй, самая драчливая раса в обозримой части Вселенной, и что взять звездную крепость или хитроумно обмануть вероломного врага для него – раз плюнуть, а то, в каких взаимоотношениях находятся люди, обитающие за пределами своего земного мира, с другими жителями освоенных пространств Галактики («Бойцы Данвейта»). Стоит обратить внимание не на обстоятельства очередной победы наших далеких потомков над зарвавшимся врагом, а на возможность договориться, понять друг друга представителям, казалось бы, абсолютно противоположных по духу цивилизаций – рептилоидов, жестко запрограммированных на захват жизненного пространства, и землян, отстаивающих свои, совершенно непонятные их оппонентам, ценности («Темные небеса»). Вот что главное у Ахманова. Весь остальной антураж – для удовольствия не шибко квалифицированного читателя и в полном соответствии с издательскими пожеланиями. К уже сказанному, видимо, необходимо добавить, что война – понятие чисто человеческое либо относящееся к епархии некоторых, подчеркиваю, всего лишь некоторых биологических цивилизаций, еще не достигших уровня выхода на звездные дороги, потому что вся энергия и помыслы в этом случае должны отвлечься от внутренних междоусобиц и быть направлены на решение одной общей задачи – освоения новых, неведомых доселе пространств. Иначе никаких средств не хватит для поддержания столь грандиозного предприятия. Если же подходить к понятию «война» с точки зрения высокого разума, пусть даже беспредельно холодного, то ничего, кроме преступного растранжиривания отнюдь не беспредельных ресурсов – и материальных, и энергетических, а также очень, видимо, ценных жизненных, – война не несет. Всех результатов, являющихся конечной целью любых боевых действий, можно достичь гораздо более эффективными способами, к тому же не прибегая к неоправданному и безумному расточительству. Именно так действуют двеллеры-метаморфы в дилогии Ахманова «Скифы пируют на закате. Странник, пришедший издалека». Так что давайте придерживаться принципа Оккама и не изобретать себе лишний раз устрашающие космические армады, с которыми следует биться насмерть, равно как и самого врага. Тем более там, где его быть не может. Поэтому следует заметить и то, что первая часть «звездных войн», происходящих в ХХI–XXIII веках, служит как бы необходимым прологом ко второму действию, которое разворачивается много лет спустя и повествует о работнике Фонда Развития Инопланетных Культур, ксенологе Иваре Тревельяне. Здесь, натурально, становится более интересно, потому что герой этот не кто иной, как прогрессор, причем потомок людей, некогда отстоявших интересы Земли и позволивших ей занять достойное место в галактическом содружестве. Собственно, сам термин «прогрессор» некогда придумали братья Стругацкие, заменив этим словом не очень-то им нравившееся понятие «kulturtreger», что в буквальном переводе с немецкого означает «несущий культуру», хотя и последнюю категорию они упоминали в своих произведениях некоторое количество раз. Прогрессор – человек, явно или неявно вмешивающийся в устав чужого монастыря, правда, с благородной целью «спрямить историю», т.е. помочь иной цивилизации избежать в своем развитии излишних жертв. Тема эта не является открытием Стругацких, потому как до них в отечественной фантастической литературе были и А. Богданов с «Красной звездой» (1908 год), и А. Толстой с «Аэлитой» (1923 год). Но указанные писатели по мелочам не разменивались. Уж если ломать, так ломать! Даешь мировую революцию! Братья-соавторы же подошли к этому вопросу более тонко и совсем с другой стороны. Если вмешательство, то только незаметное, заранее просчитанное и несущее семена будущих гуманистических перемен. «Из всех решений всегда выбирай самое доброе». В большинстве же случаев – осторожное, ненавязчивое наблюдение. Правда, в первом же своем «прогрессорском» романе «Трудно быть богом» Аркадий и Борис Стругацкие несколько усомнились в этичности подобных деяний и обозначили зачатки полностью проявившейся впоследствии проблемы. И сами авторы, и их волею большинство населения Земли относятся к «прогрессорству», мягко говоря, с неодобрением. Уж больно эта деятельность располагает к возможности случайной ошибки, что и произошло, например, в Арканаре. Именно здесь происходит разговор Антона-Руматы с умницей Будахом, который в результате и расставляет все точки над <MIB>«i»: «…Тогда, господи, сотри нас с лица земли и сделай заново более совершенными… или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой«. Проблема достигает апогея в „Жуке в муравейнике“, где руководитель КОМКОНа-2 Рудольф Сикорски вынужден пойти на безжалостное убийство, терзаемый мыслью о том, что „Странники могут прогрессировать Землю“. Вот так! Ни больше, но и никак ни меньше! Если мы сами считаем, что помощь нашим меньшим братьям – дело вполне пристойное, то почему же нас так ужасает мысль, что мы тоже можем подвергнуться подобному влиянию? Решение этических уравнений – одна из самых сильных сторон в творчестве Стругацких. Именно поэтому в том же романе они заставляют Максима Каммерера думать следующим образом: «Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю Прогрессоров… <<…>> …Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к Прогрессорам я не оригинален. Это неудивительно: подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен, либо они меня, либо я их… <<…>> …Для нормального землянина это звучит дико…» В заключительной же части «каммереровской» серии – романе «Волны гасят ветер» – главный герой, скорее всего, вообще приходит к заключению, что прогрессорство вовсе не обязательно, потому что рано или поздно, но любая цивилизация, либо какая-то ее часть, сама выходит на уровень второго порядка и превращается в сообщество чисто космическое, цели и задачи которого могут никак не пересекаться с интересами обитателей планет. Это лирическое отступление понадобилось для того, чтобы лучше понять позицию Михаила Ахманова, в какой-то мере тоже являющегося учеником братьев Стругацких. А посему проблема вмешательства посторонних лиц в ход развития цивилизаций, попадающих в сферу влияния этих самых лиц, ему интересна, и весьма немало. Главный герой его романов «Посланец небес», «Далекий Сайкат», «Недостающее звено» и «Меч над пропастью времени» Ивар Тревельян (наконец-то мы к нему вернулись!) принимает посильное участие в «спрямлении истории». Тут автор открывает нюансы, не рассмотренные мэтрами отечественной фантастики, вполне вероятно, по причине увлечения ими сугубо человеческими этическими проблемами. Имеется в виду конкуренция между прогрессорами разных миров. В первой книге они поначалу даже и не подозревают о существовании друг друга. Вернее, наши земные не подозревают и с удивлением обнаруживают, что все их изящные ходы пропадают втуне, никак не влияя на скорость продвижения подопечных по извилистым дорогам эволюции общества, а те, которые пришли раньше, с усмешкой наблюдают за их потугами, потому как считают, что методы соперников абсолютно неприемлемы. Когда же они, наконец, встречаются лицом к лицу, то ничего друг другу не доказывают. Каждый остается при своем. «Четверорукие предусмотрительны и терпеливы. Двуногие отважны и упрямы. Кто из них прав?» Сделать вывод предоставляется читателю. Во второй книге Тревельян сталкивается с хитроумными кни'лина, занимающимися не столько прогрессорством, сколько преследованием своих собственных целей, а именно: попыткой дискредитации землян перед лицом галактического сообщества. Уж очень насолили им в свое время обитатели Солнечной системы. Очевидно, что здесь «привнесение культуры» используется в сугубо утилитарных и корыстных задачах. Стоит ли говорить о том, что доблестный эмиссар ФРИК, конечно же, пресекает иезуитские планы затаившихся недоброжелателей? В книге третьей отважный ксенолог озабочен тайной воинственных обитателей древней планеты не менее древней звезды, дрейфующей по краю Провала, пустого пространства между Рукавами Галактики. Агрессорами оказываются искусственные интеллектуальные системы, миллионы лет назад сконструированные аборигенами, тогда же и изничтожившими друг друга в бессмысленной бойне. Какие великие цели при этом преследовались – вопрос второй, а первый заключается в том, как остановить тупо тиражирующийся процесс искоренения всего живого? Естественно, полномочному представителю ФРИК он оказывается по плечу, равно как и проникновение в секрет совершенно невозможной по меркам землян эволюции найденной планеты. А в заключительном романе Ивару Тревельяну несказанно везет – разумеется, как исследователю – он впрямую выходит на загадку очень давних обитателей Вселенной, некогда, на заре времен, когда и человека, как вида, еще не существовало, решавших помимо прочих своих вопросов и проблему допустимого вмешательства в ход истории попавшихся им на пути разумных сообществ. Эти самые могущественные из известных в нашей Галактике существ так и не смогли разобраться с этикой прогрессорства и в результате поступили весьма экстравагантным способом – перебросили источники своих затруднений в будущее… Как выяснилось, для того чтобы далекие наследники древних звездных рас, то есть мы с вами и другие заинтересованные носители разума, попытались найти, возможно, совершенно иные способы разрешения оказавшихся непреодолимыми для них конфликтов. Грубо говоря, доисторические дяденьки (и тетеньки) из аналога Фонда Развития Инопланетных Культур зашли в тупик и переложили все с больной головы на здоровую. Хотя, безусловно, сие деяние гораздо гуманнее, чем полное уничтожение строптивых и неутомимых в своей злобе подопечных. Таким образом, круг замкнулся. А все вопросы остались в прежнем виде вполне нерешенными. Хотя наши отдаленные потомки все-таки сделали маленький шажок вперед: они определили так называемый порог Киннисона, он же – предел развития внеземных культур, до которого на них еще можно оказывать целенаправленное воздействие с целью «спрямления истории». Как правило (по Ахманову), это цивилизации, не вышедшие за стадию античности или Средневековья. Стало быть, мы с вами, если исходить из вышеизложенного, можем спать спокойно. Даже при нашем нынешнем уровне развития вмешательство извне, как того опасался Рудольф Сикорски из бессмертного «Жука в муравейнике», нам не грозит. И слава богу… А посему слегка расслабимся и неспешно вспомним, о чем говорилось в самом начале. Вспомнили? О том, что в книгах Михаила Ахманова есть еще и третий, и четвертый слои. Безусловно, все его романы остросюжетны и авантюрны, поэтому любителей просто читать с целью приятно провести время просим не беспокоиться и чрезмерно не акцентировать на этом внимание. Тем же, кому интересно копнуть поглубже, предлагается немного (а может, и серьезно) подумать вот над чем: а) практически во всех рассматривавшихся произведениях тщательно выписаны сообщества братьев наших по разуму. В дилогии «Скифы пируют на закате. Странник, пришедший издалека» это миры Амм Хаммат (родина амазонок), Фрир Шардис (территория Большой Игры), Телг (отечество Наблюдателя Ри Варрата, спутника Скифа) и, наконец, формация двеллеров-метаморфов, построивших вокруг своей звездной системы сферу Дайсона. В мини-цикле «Тень ветра. Тень Земли» – Тайяхат, планета четырехруких воинов и одновременно место обитания довольно большого количества людей, где и воспитывался главный герой Дик Саймон, а также Миры Разъединенного Человечества, на каждом из которых с момента Исхода творится собственная история. В романе «Солдат удачи» дается развернутая панорама цивилизации анхабов и довольно подробное описание нескольких народов, обитающих на поверхности искусственного космического сооружения, созданного некогда специально для них. Книга «Я, инопланетянин» позволяет заглянуть в реальность Уренира, родного мира наблюдателя Ассенари, слившегося на Земле с личностью Арсена Измайлова, и кроме всего прочего подумать над переходом уставших от биологической жизни представителей древнейших народов Галактики в газоплазменное состояние, являющееся новым уровнем существования разума. Обратите на это внимание, как на второе (первое было в финале «Солдата удачи»!) проявление в произведениях Ахманова темы Вечных Тайн Бытия. Она получает развитие в «Ливийце», где уже обстоятельно выписывается сообщество Ноосфератов, то есть некий единый, но тем не менее дискретный разум, идущий по пути «эволюции второго порядка», учитывая классификацию братьев Стругацких, представленную в меморандуме Бромберга. В «Кононове варваре» прием переноса личности наблюдателя в сознание земного человека снова повторяется, правда, пришелец теперь уже из ядра Галактики, и соответственно технологии исследования культур у него несколько другие. А уж в последних серийных романах Михаил Сергеевич входит во вкус и раскрывает перед читателем целый веер всевозможных цивилизаций, от бино фаата, кни'лина, сильмарри, дроми, лльяно, хапторов и лоона эо в первом цикле «Пришедшие из мрака» до обитателей Осиера, Сайката, Пекла и таинственных даскинов, повелителей Вселенной, в повествованиях о космическом ксенологе Иваре Тревельяне; б) почти во всех произведениях Ахманова описывается будущее, от совсем близкого (относительно времени написания книги) до весьма отдаленного (исключение составляют лишь «Кононов варвар» да «Заклинатель джиннов», где действие происходит буквально сегодня), причем будущее не апокалиптическое с нагнетанием всевозможных страстей, которое нравится изображать основной массе нынешних авторов, а завтрашний (или послезавтрашний) день людей, достойных созданного ими общества. Ну, и какой же из всего этого можно сделать вывод? Может, Ахманову просто нравится конструировать различные миры и всевозможные обстоятельства, чтобы разнообразить сюжет или (и это уже самая тривиальная мысль) в совершенно утилитарных целях увеличивать объем текста (ведь чем больше количество знаков, тем соответственно выше и уровень выплачиваемого гонорара, что известно любому, даже начинающему литератору)? По-моему, дело здесь все-таки несколько в другом, хотя и предыдущие соображения учитываются абсолютно всеми авторами. Иные миры интересуют Ахманова не сами по себе, а как варианты развития разнообразных культур, позволяющих рассмотреть множество вопросов, с неумолимой неизбежностью встающих перед любой цивилизацией, пытающейся обойти наиболее острые негативные моменты своей эволюции с тем, чтобы достичь именно того будущего, в котором ее отдельным представителям будет и жить комфортно, и где каждый может реализовать себя с максимальной эффективностью (вспомните формулировку Стругацких). Действительно, как будет развиваться общество, если, скажем, в ключевых узлах управляющих им структур окажутся люди, которым улыбнулся Бог? Везунчики. Родившиеся в рубашке. Фартовые ребята. Именно таким доверяются административные посты в мире Большой Игры («Скифы пируют на закате. Странник, пришедший издалека»). А почему, собственно, знания древних могущественных повелителей Мироздания доверены не существам, уже вышедшим на звездные дороги, а довольно первобытному обществу амазонок (там же)? Потому что уровень женской нравственности гораздо выше или прекрасные всадницы просто воспринимают реальность несколько иначе? Истинно ли утверждение, что ежели убрать внешних врагов и завистников, а заодно предоставить достаточную территорию, то эволюция отдельного народа пойдет без экстремальных всплесков и сугубо вверх («Тень Ветра. Тень Земли»)? Можно ли надеяться на успешный выход из тупика, если цивилизация уже проскочила момент наивысшей эффективности для реализации своих возможностей («Солдат удачи»)? Для чего вообще наблюдатели направляются в другие миры, если культура, их пославшая, знает ответы на многие вопросы, еще даже и не вставшие перед обитателями тех сообществ, куда попадают исследователи («Я, инопланетянин», «Кононов варвар»)? Ведь не из простого же любопытства?.. Если достаточно результативная организация, состоящая из людей неглупых и целеустремленных, к тому же снискавшая заслуженную популярность среди народа, занимается совсем не тем, что декларирует, можно ли считать, что она добьется успеха там, где даже «боги бессильны» («Посланец небес»)? Действительно ли две могущественные культуры, обживающие Мироздание, могут питать друг к другу непреодолимое неприятие («Далекий Сайкат»)? Что может интересовать пришельцев у нас на Земле (практически все романы Ахманова)? Мы сами (генерируемые намимысли, произведения искусства, эмоции и т.д.) или дороги, которые мы выбираем? Кстати, самое время (в этом контексте) сказать и пару слов о будущем, создаваемом творцом современной утопии. Не интересует его завтрашний день сам по себе, его занимают пути и обстоятельства, к нему ведущие (наглядный пример тому – развитие человечества в дилогии «Среда обитания. Ливиец»). А разве не заманчиво выявить факторы и векторы, ускоряющие эволюцию и заодно вполне безопасные для ее течения? Если у читателей возникают подобные вопросы, значит, автор писал свои книги не зря. Мир вокруг нас многополярен и изменчив и может образовывать множество развилок, ведущих к грядущему, рождающемуся сегодня и превосходящему, скорее всего, все наши нынешние представления о нем. Ведь даже реальность, в которой мы существуем сейчас, далеко не всегда и не во всем такова, как некоторым из нас (а может быть, и нам всем) кажется. Так что любой житель нашей планеты, а уж тем более писатель-фантаст или ученый, для решения проблем, в великом множестве порождаемых как всем обществом, так и отдельными его представителями, просто обязан хотя бы изредка подниматься на иной уровень мышления и думать «не как человек», а несколько по-другому. Как? Это уже совершенно самостоятельный вопрос, не имеющий отношения к теме данного текста и всецело зависящий от позиции автора того или иного произведения. В конкретном случае – Ахманова. Именно поэтому стоит отметить еще один, довольно значительный, на мой взгляд, нюанс в творчестве Михаила Сергеевича. Во многих своих романах он вплотную подступается к так называемым Вечным Тайнам Бытия, чеканная формулировка которых придумана еще в глубокой древности: «Кто мы, откуда пришли и куда идем?» Другими словами: существует ли Бог (Высший Разум, Великий Сущий, Владыка Мироздания – синонимов можно подобрать сколь угодно много – суть одна), есть ли жизнь после смерти, в чем смысл существования? Каковы граничные условия перехода биологического носителя разума на путь эволюции второго порядка (опять формулировка Стругацких)? Роман «Ливиец» – наиболее наглядный пример ахмановского подхода к этой проблеме. И все же точки над соответствующими буквами не расставлены. Видимо, потому, что Ахманов был и остается не только писателем, но еще и ученым, единомышленником всемирно известного астрофизика Карла Сагана, большую часть жизни посвятившего поиску внеземных цивилизаций. Как и Саган, он предпочитает категорию «знаю» категории «верю», и последний маленький шажок ему мешает сделать тривиальная научная добросовестность, потому что Вечные Тайны Бытия нельзя увидеть, потрогать руками и произвести их тщательные приборные замеры. Увы! Действительно нельзя. Раз уж даже «информация» (термин, известный ныне любому, начиная с детсадовского возраста) является для нас понятием неопределенным, то что уж говорить о Вечном! Хотя, с другой стороны, если уважаемый Михаил Сергеевич вполне представляет себе некую сущность, внезапно возникшую в трудновоспринимаемой топологии Всемирной сети и обладающую всеми атрибутами Бога («Заклинатель джиннов»), то почему бы не пойти дальше? Меня все-таки не оставляет надежда дождаться его книг, посвященных, если и не полностью, то хотя бы в существенной части объема, именно Вечным Тайнам Бытия. А вас? В качестве небольшого заключения не могу не сказать о том, что Михаил Ахманов – автор не только фантастических романов, но еще и множества исторических, приключенческих и научно-популярных книг, которые сами по себе могут представлять для читателя не меньший интерес. И если их хотя бы пролистать, выбирая созвучные своим мысли автора, то может возникнуть несколько иное впечатление. Но нас-то с вами интересует в основном фантастика, не правда ли? Поэтому пожелаем привлекшему наше внимание писателю новых книг и новых мыслей, помня при этом, что действительность не всегда такова, какой кажется, и всегда есть простор для разбега и взлета.
Михаил Ахманов Консул Тревельян
Часть 1 Арханг
Глава 1 Пещерный город Рхх Яхит
Ивар Тревельян, социоксенолог и лучший полевой агент Фонда Развития Инопланетных Культур[120], кавалер Почетной Медали и множества других наград, поднялся на четыре задние лапы, а шпорами двух верхних стал чесать брюхо под грудным панцирем, у самого детородного органа. Жест для архов несомненно оскорбительный, и все в «Обломанных усах» это понимали. И хозяин заведения Кьюк, и гвардейцы, сидевшие у низких каменных столов, и жавшиеся к стенам горожане, и даже безмозглые самки, что разносили снедь и пойло. В норе мгновенно воцарилась тишина. Гвардейцы разом вытянули хоботки из чаш с подсоленной водой, прочая публика прекратила трещать и жужжать, самки опустились на все шесть конечностей, прижались к полу и замерли. Тревельян продолжал чесаться, направив глазные антенны на Чиу Кхата. Тот, раздвинув и с треском сомкнув жвалы, проскрипел: – Ты труп, Хес Фья! Когда с тебя сдерут панцирь, я съем твое мясо и высосу мозг! – Я твоим мясом побрезгую. Ты, лжец, несъедобная падаль, пойдешь на корм червям, – ответил Тревельян и шевельнул усами в сторону помойной ямы, зиявшей в углу заведения. – Ррху! – Издав вопль ярости, Чиу Кхат встал и двинулся в обход стола к оскорбителю, грозно постукивая жвалами. Его хоботок метался между ними, как гибкая коричневая змейка. – Не здесь! – в ужасе заверещал хозяин Кьюк. – Не здесь, туа па! Я не хочу собирать с пола осколки ваших панцирей! Не хочу, чтобы стражи подвесили меня за усы! Дословно «туа па» означало «из первого помета» – титул, которым награждались по праву рождения только благородные. Поединки между ними, особенно со смертельным исходом, были не то что под запретом, однако не поощрялись, а Кьюк отвечал за все, что творилось в его кабаке. Другое дело, верхний карниз – там противники могли свести счеты без всякого ущерба заведению. – Не здесь так не здесь. Можно и выйти. – Тревельян, лязгнув жвалами, полез на террасу. Чиу Кхат, стуча в знак вызова шпорой о грудной панцирь, заторопился следом. Гвардейцы обеих рот из охраны Великой Матери тоже покинули каменную нору. Они отличались раскраской спинных гребней, синих и желтых, и было их побольше тридцати, так что насчет городских стражей и возможных помех беспокоиться не приходилось. Синие и желтые, ударные части столичного войска, жили не очень мирно – за оборот Арханга вокруг звезды случалась пара сотен схваток с членовредительством и даже летальным исходом. Желтые принадлежали к благородным севера, синие – юга, семьи тех и других враждовали из-за престижа своих Матерей, контроля над Соляным Путем и угодий, где плодились яйценосные птицы и съедобные черви. В любой архаической культуре этого хватило бы для свар и драк, но архи к тому же были существами неуживчивыми и склочными, предпочитавшими решать конфликты с помощью окованных железом шпор. Их любимая поговорка гласила: «У кого шпоры длиннее, тот и прав». Самые длинные шпоры росли у благородных первого помета, и в целях безопасности именно их сословие выбрали для ментальной инкарнации. Метод был новым и очень многообещающим, но, как выяснилось недавно, аппаратура возврата срабатывала не всегда. Карниз, нависавший над пещерным городом Рхх Яхит, был широким и длинным. Сюда выходили норы кабаков и щели спаривания, а над ними зияли отверстия тоннелей, ведущих к воинским казармам и арсеналам, к складам драгоценной соли, обиталищам Мужей и покоям самой Великой Матери-Королевы. За истекшие века камень тут отшлифовали миллионы когтистых лап и хитиновых панцирей, и кое-где он блестел, словно черное зеркало. Превосходное место для поединков чести! Пробудился Командор, ментальный Советник[121] и предок Тревельяна, и, пользуясь зрением Хеса Фья, обозрел окрестности. Затем, оценив шпоры и жвалы Чиу Кхата, посоветовал: «Нижние лапы подсеки и как споткнется, в брюхо бей. Брюхо, оно на вид помягче. Упадет, глазные стебли вырви. Так и завалим гада шестиногого!» «Мы, дед, сейчас такая же шестиногая тварь», – напомнил Тревельян. «Мы в любом обличье люди, – проворчал его Советник. – И если этот Хес Фья, таракан усатый, дал нам убежище, он тоже человек. Мы за него в ответе. Во всяком случае, на время вахты, пока мы в его черепушке». В свой черед Тревельян оглядел противника, прикидывая, что Чиу Кхат у желтых из лучших бойцов и выглядит постарше – значит, хитиновая броня у него прочнее, жвалы больше, зато он не слишком быстр и поворотлив. Так что к советам деда стоило прислушаться – военная карьера Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева, коммодора Звездного Флота, началась в десанте, и толк в драках он знал куда лучше Ивара. Гвардейцы, клацая когтями задних лап по камню, образовали круг – половина синих, половина желтых. Хес Фья, приютивший Тревельяна, был южанином, Чиу Кхат – желтым с севера, а предметом спора являлась соль. Чиу Кхат утверждал, что, пока ее везут от южных соленых озер за вотчиной клана Фья, в ней появляются мелкие камешки и песок, что портит качество товара. Это было правдой – соблюдая выгоду, торговцы Фья подмешивали камешки для веса, но не более двадцатой части. Двадцатой, а не пятой, как заявил Чиу Кхат! Наглая ложь, обвинение в воровстве! Тревельян понимал, что Хес Фья не может оставить без ответа подобную напраслину: семейная честь в гвардии блюлась строго. Вперед выступил Шат Сута, капитан синих. – Схватка до первой трещины в панцире? – проскрипел он. – Или бой до смерти? – До смерти! – Чиу Кхат снова грохнул шпорой о броню. Его зрительные антенны шевельнулись, нацелившись на Тревельяна. Затем он вытянул к противнику верхнюю конечность, расставил три гибких пальца под острием шпоры и рявкнул: – Мать твоя тху! У народа яхитов это было самым грязным оскорблением – даже намек на скрещивание рас, яхитов и обитавших на других материках тху и шетан, считался верхом неприличия. К тому же Чиу Кхат помянул святое, Мать рода Фья, и теперь поединок не мог завершиться трещиной в панцире. Сообразив это, Шат Сута стукнул когтями нижней лапы о камень. – Тогда демоны с вами! Начинайте, черви помойные! – Капитан на миг задумался, растопырил усы и прошипел: – Рота проигравшего встанет в дозор, когда спустится тьма. Начинайте! Вперед! Противники ринулись друг на друга и, сцепившись всеми шестью конечностями, с яростным жужжанием и скрежетом покатились по земле. Для архов – обычное начало схватки, но совсем не входившее в планы Ивара; просто инстинкты Хеса Фья превозмогли советы Командора. Лишь на один миг, но его хватило, чтобы более массивный Чиу Кхат подмял Тревельяна под себя и нацелился жвалами на глазные стебли. Брюхо под грудным панцирем и зрительные антенны были у архов самым уязвимым местом, и в бою защитой им служили кольчуги и каски, хранившиеся вместе с оружием в арсеналах. Но поединок чести – не битва с вражеской ордой, тут защитой являлась лишь природная броня, а оружием – только жвалы, когти и окованные металлом шпоры. Ивар попытался сбросить врага, но не вышло – тот, вцепившись в конечности пальцами и когтями, упорно прижимал его к каменной поверхности террасы. Жвалы Чиу Кхата щелкали, стригли воздух у зрительных стеблей Тревельяна; свои антенны Чиу Кхат отогнул к основанию головы, стараясь уберечь их от ответных выпадов. В свой черед Хес Фья, упираясь спинным гребнем в землю, старался дотянуться до глаз противника – инстинктивная реакция арха любого сословия, что в уличной драке, что в поединке. Пронзительный скрежет грудных пластин и лязг челюстей сливались с возбужденным верещанием окружавших их гвардейцев: желтые издавали звуки торжества, синие, подбадривая соратника, били когтями о камень. «Твоя левая нижняя лапа, – раздался бестелесный голос Советника. – Он держит ее не так крепко. Ну-ка врежь ему в помидоры!» Этот эвфемизм, мало подходивший к детородным органам архов, в остальном казался не лишенным смысла. Извернувшись, Тревельян рывком освободил лапу от хватки врага и нанес удар – не очень сильный, так как размахнуться он не мог, зато в чувствительное место. Чиу Кхат зашипел от боли, привстал на передних конечностях, и Тревельян тотчас ткнул его шпорой верхней лапы, стараясь попасть под панцирь. Не попал – железное острие заскрежетало по хитину, – зато отбросил противника в сторону и выпрямился в полный рост. Чиу Кхат, тоже поднявшись на задних лапах, приготовился к новой атаке. Гвардейцы, встопорщив спинные гребни, издали боевой клич. За их спинами Ивар видел толпу охочих до зрелищ горожан, сбежавшихся из соседних кабаков, и шестерых блюстителей порядка – их шлемы и пики торчали над головами и гребнями прочих архов. Судя по раскраске панцирей, заменявшей в этом мире одежду, они относились к страже нижних карнизов и не имели желания лезть в дела благородных туа па. Над толпой тянулся к небу склон с темными зевами тоннелей, а выше, за свинцовыми тучами, просвечивало размытым пятном крохотное солнце Арханга, висело низко, рядом с утесом над обителью Матери-Королевы. Вскоре светило скроется за скалистыми вершинами, на городские террасы падут тьма, снег, туман и холод, и жизнь в городе замрет. Хотя архи, в отличие от насекомых, были существами теплокровными, ночью их активность снижалась, и, если не считать караульных, они старались не вылезать из нор. «Поторопись, – снова прошелестел бесплотный голос Командора. У нас есть другие дела, кроме драк с тараканами. Кончай с ублюдком!» Чиу Кхат вскинул передние лапы, целясь шпорами в Тревельяна, рявкнул: «Ррху!», и ринулся в атаку. По всем гвардейским понятиям, его противнику нужно было сделать то же самое, но Ивар резво отступил к краю террасы и вытянул нижнюю конечность. Хитин заскрежетал о хитин, Чиу Кхат, не ждавший такого коварства, споткнулся, откинулся вбок, пытаясь удержаться на ногах, и шпора Ивара тут же вонзилась ему в живот под самой грудью. Следующий удар, нанесенный с размаха, пришелся в голову – железное острие с треском пробило лобный щиток, полетели осколки хитина, брызнула белесая жидкость, и жвалы Чиу Кхата бессильно повисли. Однако то был еще не конец – архи обладали потрясающей живучестью, и к тому же под их спинным гребнем прятался крупный нервный узел, в сущности второй мозг, тоже способный выполнять функции мышления и координации движений. Именно в этом нервном центре нашли прибежище Тревельян и его Советник, похитив тело, разум и все сословные привилегии благородного Хеса Фья. Правда, специалисты по инкарнации пользовались более научными терминами, говоря о временном метемпсихозе, ментальной блокировке и замещении сознания носителя. Но в нынешней повестке дня вопрос терминологии не стоял, дело касалось других проблем. Тревельян подпрыгнул, оседлал спину Чиу Кхата и резко ударил шпорами средних лап с обеих сторон под гребень. Средние лапы, более длинные и сильные, чем верхние, у этой расы предназначались для войн и грубых работ, вроде переноски тяжестей и копания нор в земле. Гибких пальцев на них не было, только когти, зато шпоры походили на два хорошо заточенных клинка. Под их напором спинной панцирь треснул, плоть раздалась, шпоры проткнули нервный узел, и Чиу Кхат молча рухнул на землю. Тревельян оставил его, приподнялся на задних лапах и, щелкая жвалами, затянул песнь победы. Слова – точнее, лязг, скрежет и взвизги – пришли сами собой; то было инстинктивное знание Хеса Фья, которым Ивар мог располагать так же уверенно, как его лапами, пальцами и когтями. Гвардейцы слушали песнь в торжественной тишине, но горожане стали расходиться – переваливали за край террасы и быстро ползли вниз по отвесной стене, торопясь добраться засветло до жилых нор и мастерских. Размытый отблеск солнца уже коснулся скалы, небо потемнело, в воздухе закружились первые снежинки. На нижнем ярусе, граничившем с холмистой равниной, пастухи загоняли в стойла многоногих мохнатых шошотов; их недовольный рев долетал до верхнего карниза. Песня кончилась. Гвардейцы желтой роты полезли к тоннелям казарм – им как проигравшей стороне предстояло нести охрану этой ночью. Синие остались. – Достойная была схватка, – промолвил капитан Шат Сута и пнул труп когтистой лапой. – Что будешь делать с мясом? – К червям его! – буркнул Тревельян. С некоторыми обычаями архов он решительно не мог смириться, хотя весь его опыт ксенолога подсказывал, что в этом скудном мире каннибализм неизбежен. – К червям… столько отличного мяса… – проскрежетал капитан. – Так не годится. Кьюк, поди сюда! Сквозь поредевшее кольцо гвардейцев протиснулся хозяин заведения. За ним – два тощих работника из шестого помета. – Ободрать панцирь, разделать мясо и вымочить в пойле. Приготовить к восходу солнца, – велел Шат Сута под одобрительный скрежет синих. – Будет сделано, туа па, – почтительно отозвался Кьюк и шевельнул усами в сторону помощников. Те, зацепив труп железными крючьями, потащили его в пещеру. В глубине сознания Тревельяна ожил Командор и пробормотал невнятно: «Sic transit gloria mundi…»[122]. – Наступает тьма. В казармы! – распорядился капитан. Гвардейцы шустро полезли вверх, дружески похлопывая Тревельяна жвалами, подталкивая в спинной гребень. Возможно, клан Фья и правда мошенничал, слишком разбавляя соль, но сегодня их родич отстоял честь семьи, а заодно и синей роты. Как это скажется на порученной миссии, Ивар пока не мог сообразить, но его акции явно выросли. Не исключалось, что Шат Сута возьмет его в помощники, сделав своим адьютантом. Гвардейцы ввалились в широкий зев тоннеля, где уже стояли на страже двое желтых. Полость, что открывалась в дальнем его конце, была примером строительного искусства архов: довольно ровные стены и пол, сводчатый потолок, подпертый квадратными колоннами, и масса ходов, ведущих к спальным норам, арсеналам и источникам воды, к покоям Мужей и самой Великой Матери. Каждый такой тоннель можно было перекрыть железной решеткой, что падала сверху и крепилась цепями к скальному основанию. Кое-где на стенах торчали закопченные штыри с подвешенными к ним каменными плошками – в них горел жир, вытопленный из червей и сдохших от старости шошотов. Скудное освещение, но архи неплохо ориентировались в полумраке. Тревельян поднялся к проходу, в котором обитала рота синих, пополз, перебирая всеми шестью лапами, в быстро редевшей толпе сотоварищей и свернул в свою камеру. Как обычно, здесь царила полная темнота. С одной стороны от входа кучей громоздились шлемы, доспехи и оружие, с другой – стояла каменная бадья с пойлом – ее регулярно наполняли водой и засыпали соль. По гвардейским меркам, рассол был так себе, примерно средней крепости, но для утренней опохмелки годился. Вытянув усы, Ивар на ощупь добрался до сплетенного из паутины гамака. Половина синих отсыпалась после дежурства, и три гвардейца, с которыми он делил жилую нору, тоже спали: Хау и Оси Шиха – почти беззвучно, а Тоса Фиута по прозвищу Кривая Шпора, как всегда, донимали ночные демоны; он ворочался, скрипел челюстями и царапал стену. Эти трое считались ветеранами, славными бойцами, и Хес Фья, молодой и еще не свершивший заметных подвигов, был не очень ко двору в их логове. Впрочем, после схватки с Чиу Кхатом ситуация могла перемениться. Сложив лапы на груди и животе, Тревельян покачивался над полом, чувствуя, как холодеет воздух и как, повинуясь инстинкту, стремительно гаснет сознание Хеса Фья. Этот процесс погружения в сон был уже знаком Ивару – за четырнадцать дней он привык к телу и реакциям арха, хотя с физиологией носителя разобраться не успел. Временами его одолевали странные желания – хотелось выбрать самку попригляднее, из прислужниц Королевы, вскочить на нее и… Впрочем, дальнейшее неважно. Кроме тайных желаний Хеса Фья, Тревельян ознакомился с его социальным статусом и окружением, с прежней жизнью на юге и службой в городе, обследовал едва ли не все городские норы, гроты и пещеры, лавки, мастерские, кабаки, покои Мужей Королевы и даже щели спаривания, коснулся ментальным щупом мириадов архов, обитавших в этом крупном поселении континента Яхит. Все такие действия являлись частью его работы, в каком бы обличье он ни пребывал, привычном человеческом или в виде разумного псевдоэнтомона с планеты Арханг. Он трудился упорно, вкладывая в розыски все свое умение и опыт, но не нашел ровным счетом ничего. Ни следа, ни намека, ни малейшей зацепки! Раздался скрежет – Тос Фиут снова царапал камень окованной железом шпорой. Темнота не позволяла разглядеть стену над его гамаком, но, вероятно, ее покрывали ямы и борозды. Еще немного, подумалось Ивару, и он продолбит ход в соседнюю камеру. «Похоже, успехи у нас скромные, – беззвучно молвил Командор. – Проще говоря, никаких». «Никаких, – согласился Тревельян. – Вот что, дед, свяжусь-ка я с Брайтом, пусть забирает нас. Мы возвращаемся». «Насовсем?» «Нет, на время, пока наш подопечный спит. Я хочу отдохнуть и подумать». «Думать можно и здесь», – ворчливо заметил Советник. «Слишком много рук и ног, и слишком мало пальцев. Еще когти, жвалы, шпоры и соленая водица вместо коньяка… Все это мне мешает». «Коньяк, это я понимаю, – отозвался Командор с заметным сожалением – его ментальной сущности не все удовольствия были доступны. – Коньяк с Гондваны, в хрустальной рюмке на серебряном подносике… И чтобы подносик тот не клешни держали, а пальчики девы неземной красы… хорошо бы из терукси[123], у них такие попадаются прелестницы… – Он смолк на мгновение, вздохнул и пробурчал: – Ну что, возносимся?» «Как душа в рай», – сказал Тревельян. В воздухе, в тысяче трехстах метрах над пещерным городом Рхх Яхит висела небольшая установка, ментальный ретранслятор. Его прозрачные стержни, два из которых были направлены вниз, к планете, а два – к звездным небесам, озарились на долю секунды розовым сиянием и тут же погасли. Импульс, вместивший две человеческие души, был принят и послан дальше – туда, где кружилась над Архангом станция Сансара, исследовательский центр Отдела инкарнации ФРИК.Глава 2 Станция Сансара
Очнулся Ивар в непроглядной темноте, казавшейся живой – во всяком случае, кто-то или что-то нежно массировало его кожу, и волны этих прикосновений раз за разом пробегали от темени до пяток и кончиков пальцев. Воздух, поступавший через маску, что закрывала нос и рот, казался свежим, насыщенным кислородом, и своего веса Ивар почти не ощущал, пребывая в чем-то вязком, непрозрачном, сковывающем движения. Как утверждали инкарнологи, возврат в собственное тело, как и переселение в чужое, вызывал стресс даже у самых опытных испытателей, и Тревельян не был исключением: он заворочался, забился, пытаясь поднять руки, содрать маску и выбраться из тесного гроба, в который его заключили. Но шевелиться по-настоящему он не мог, не удавалось согнуть конечности, повернуть голову, даже растопырить пальцы. Мгновенный ужас охватил его, но тут сознания достиг беззвучный шепот Командора: «Не дергайся, голубь сизый. Лежи и будь паинькой». Это было как глас Божий во мраке преисподней, и Тревельян сразу успокоился. Теперь он знал, что облачен в особый скафандр и плавает вместе с кучей датчиков, проводов и трубок, подводящих воздух и питание, в черной как смола компенсирующей жидкости. Наполненный ею саркофаг был звеном сложной системы жизнеобеспечения, сохранявшей тело, пока в нем отсутствует душа. Тихо прошелестев, сдвинулась крышка, в глаза брызнул свет, и Тревельян зажмурился. Когда он поднял веки, над ним уже склонялась носатая густобровая физиономия Юрия Брайта. Инкарнолог обхватил его плечи, помог сесть, осторожно снял с лица маску. Глубоко втянув воздух, Ивар потер лицо ладонями и оглядел приемную камеру. Его встречали двое – кроме Брайта, тут был еще Якуб Риша, глава секции ксенологов. В отсутствие Тревельяна он считался руководителем работ, но дел у него было немного – все исследования пришлось остановить. Заработали насосы, уровень темной жидкости начал понижаться. Ивар терпеливо ждал, пока Брайт закончит возиться с трубками, датчиками и шлангами, потом оперся о край саркофага и спрыгнул на пол. – С прибытием, Ивар, – промолвил Риша, широко улыбаясь. – С прибытием, шеф, – эхом отозвался инкарнолог, подставив Тревельяну легкое пластиковое кресло. – Сядьте, отдышитесь. Как самочувствие? Ивар вскинул руки, пошевелил ступнями. – Точно в дом родной вернулся. Все по мерке скроено и отлично сшито. – Душу не обманешь, – со вздохом произнес Брайт и принялся дезактивировать швы скафандра. – Душа знает, что ей приуготовлено: две ноги, две руки, и на каждой – пять пальцев. Хотя лоона эо могли бы возразить[124]. – Так мы их не привлекаем к этим экспериментам, – сказал Тревельян, освобождаясь от скафандра. – Ни к этим, ни к каким-либо иным. Он повернул голову и бросил взгляд на второй саркофаг, расположенный ближе к округлой стене приемного отсека. Установка работала – мигали огоньки, чуть слышно постукивали насосы, прогоняя воздух и питательный раствор, вмонтированный в крышку таймер отсчитывал время. Пятьдесят восемь земных суток, двадцать два часа, четыре минуты, сорок шесть секунд… уже сорок семь… сорок восемь, сорок девять… В саркофаге покоился Винсент Кораблев – то есть, конечно, не сам Винс, а его тело. Превосходно тренированное, мускулистое, покрытое легким загаром, не тело, а мечта! Но, к сожалению, без души. Если говорить точнее, без комплекса сложнейших нейронных связей, отвечающих за сознание индивида, его память, опыт, эмоции и профессиональные навыки. Все это затерялось где-то на Арханге, а планета была огромной, больше Земли, больше материнских миров кни’лина, дроми, хапторов и прочих рас, известных человечеству. Четыре обитаемых материка, два покрытых льдами, тысячи островов и гигантский океан… Вот и ищи где хочешь! Риша перехватил взгляд Тревельяна, и его улыбка померкла. – Ничего? – Пока ничего. Ивар поднялся, развел руки, хмыкнул, будто удивляясь, что их только две, а не четыре, и шагнул к переборке, за которой была душевая кабина. Приемный отсек с округлыми белыми стенами и высоким потолком сиял чистотой и полнился теплом и светом. Так непохоже на мрачные норы и пещеры архов, на щели-мастерские, где долбили камень и ковали металл, на лабиринт переходов и камер, служивших обителью первопометным, на стойла шошотов, на ямы для разведения червей, на заведение Кьюка, где архи-мясники трудились сейчас над трупом его недавнего противника… Впрочем, подумал он, на Раване[125] было ничем не лучше, даже еще неприятнее. Архи – не люди, и если желают пожирать себе подобных, какой с них спрос?.. А вот кочевники шас-га с Раваны были вполне гуманоидами, но занимались тем же самым. Людоеды, настоящие людоеды! Насупившись, Тревельян лязгнул зубами – звук был похож на скрежет жвал. Затем снова оглядел отсек и буркнул: – Перемена, конечно, разительная, но к хорошему привыкаешь быстро… «Верная мысль, – отозвался Командор. – Так что у нас дальше в программе, малыш? Ополоснуться и по коньяку? Потом штабных крыс пропесочим?» Якуб Риша словно подслушал Советника – вызвал робота, велел притащить комбинезон, а после осведомился: – Собрать народ, Ивар? Посовещаемся? – Непременно, Куба, но не сейчас. Я хочу отдохнуть и подумать. – Он включил воду, теплые струйки забарабанили по плечам и спине, и Тревельян фыркнул от наслаждения. – Вы идите, коллеги, идите, я тут сам справлюсь. Встретимся в павильоне… скажем, через три часа. Вскоре он сидел в своем жилом отсеке, просматривая поступившие сообщения. Большей частью они были подписаны Юи Сато, консулом ФРИК, и не отличались разнообразием – консул беспокоился, как идет спасательная операция. Этот вопрос они могли бы обсудить при личной встрече – Ивар без труда переместился бы к станции «Киннисон», что висела между Землей и Луной, – но в данный момент сказать ему было нечего. К тому же он не любил демонстрировать дар, которым его удостоили на Раване; об этом и так ходили всякие слухи, иногда самые странные и нелепые. Несомненно, дар был получен не для того, чтобы звонить о нем на всех углах и прыгать резвой блошкой по Галактике. И потому все депеши консула Сато, посланные эмиссару Тревельяну, были внимательно прочитаны. Затем эмиссар вызвал связиста Ивана Семенова и велел передать на станцию «Киннисон», что поиски полевого агента Кораблева ведутся непрерывно, но пока без заметных успехов. Покончив с этим, Тревельян открыл сейф и вытащил блестящий металлический контейнер размером в два кулака. Он нуждался в отдыхе, в недолгом забытьи, освежающем разум и чувства, и для этого был особый способ – непростой, довольно опасный, но очень эффективный. Временами Ивару мнилось, что возможность устраивать такие фокусы – приложение к дару, полученному на Раване; не исключалось, что были и другие побочные следствия, о которых он еще не подозревал. Он поднес к контейнеру ладонь и сосредоточился. «Опять за свое! – недовольно проворчал его призрачный Советник. – Смотри, парень, доиграешься!» «Я в полной безопасности, дед, – мысленно отозвался Тревельян. – Клянусь душами всех дроми, отправленных тобой в Валгаллу». «В безопасности, ха! Салага наивная! Я, знаешь ли, повидал кучи всяких штуковин, придуманных на погибель людям, и вот что я тебе скажу, малыш: эта из всех самая мерзкая! Лончаки куда хитрее жаб, рогачей и плешаков[126], они такое придумают, что моча враз посинеет! Остерегись! Остерегись, говорю! Втянешься, тут тебе и конец!» – Ты мешаешь мне сосредоточиться, – буркнул Ивар вслух. – И не надо оскорблять наших звездных соседей. Умолкни, старый ксенофоб! Но дед совсем разошелся. «Ксенофоб! Надо же, ксенофоб! Мы чем с тобой занимаемся, парень?.. Ксенологией инопланетных культур! А какая же ксенология без ксенофобии? Мы, конечно, всех их любим, даже дроми, жаб зеленых… Так любим, что целоваться готовы, но только через намордник! Вот ксенофобия в разумных дозах и есть этот самый…» Советник бубнил что-то еще, однако Ивар уже не прислушивался. Он послал ментальный импульс, и футляр раскрылся, словно цветок под лучами солнца. Но солнце сияло в нем самом – небольшой предмет, искрившийся и сверкавший мягкими гипнотическими переливами красок. Эта вещица в ореоле радужных сполохов казалась такой прекрасной, такой чарующей и чудесной, что глаз не отвести! От лицезрения этой красоты к горлу подступало удушье, и чудилось, что сердце, сделав последний удар, замрет и остановится навеки. Собственно, так и случалось со всеми гуманоидами, людьми, терукси, кни’лина, хапторами – со всеми, кто имел несчастье взглянуть на гипноглиф[127]. Не спуская глаз со сверкающего чуда, Тревельян сделал мысленное усилие, и сжимавшие горло тиски исчезли. Сердце билось медленно, но ровно, ласковое сияние окутывало его, он купался в волнах блаженного покоя – ни тревог, ни забот, ни памяти о прошлом, ни планов на будущее. Существовал только миг бесконечной протяженности, миг, когда время заснуло или, во всяком случае, сделало передышку на своем пути от начала Вселенной к ее далекому, но неизбежному концу. Пребывая в этом безвременье, Ивар Тревельян не ощущал холода или тепла, не чувствовал палубу под ногами, а как бы парил в сияющей пустоте, свободной от сил тяготения, от любых полей и частиц, кроме всепроникающего света. Свет являлся главной субстанцией, доступной его чувствам, но было здесь что-то еще, едва ощутимое и как будто не мертвое, а живое – возможно, даже разумное. Это загадочное нечто появлялось не сразу, и Тревельян пока не решался вступить с ним в контакт. Шепот… невнятный шепот тысяч, миллионов голосов… Что за существо пыталось достучаться до его разума, поговорить с ним, или этих созданий было столько, сколько ангелов на острие иглы?.. Появление таких неясных звуков – скорее, ментальных импульсов – оставалось для Тревельяна рубежом, перешагнуть который он считал преждевременным. Сделав еще одно мысленное усилие, он вышел из транса и запечатал контейнер. Сияние погасло, но теперь он чувствовал себя, словно после долгого, приятного и освежающего сна. Никаких следов усталости, мысли были ясными, тело – бодрым, и память о мрачных подземельях архов больше его не тревожила. Через несколько часов он снова окажется там, снова будет искать и, если придет нужда, померится шпорами с любым противником. Снова и снова, пока не будет найден полевой агент Винс Кораблев… «Это верно, это по-нашему, – одобрил его Командор. – Десант своих не бросает!» Не слушая его, Тревельян задумчиво смотрел на металлический футляр. Гипноглиф достался ему на орбитальной станции, кружившей около Сайката, примитивного мира, который уже несколько лет изучала совместная экспедиция кни’лина и землян. На Сайкатской станции двое пали жертвами сверкающей игрушки, самой опасной из числа Запретных Товаров[128], а сколько упокоилось до этого, о том ведали лишь Владыки Пустоты. Иутин, генетик-кни’лина, клялся, что уничтожил его, но это было ложью; Ивар отнял гипноглиф и вывез его тайком, в нарушение законов Федерации. С другой стороны, оправдание у него имелось – кто знает, в чьи руки мог попасть этот смертоносный артефакт и сколько народа прикончить. Впрочем, он понимал, что гипноглиф предназначен вовсе не для этого. А для чего?.. Дарить бодрость, заменять сон или длительный отдых, если умеешь с ним обращаться?.. Покачав головой, Тревельян спрятал капсулу в сейф и пробормотал: – Возможно, я забиваю гвозди микроскопом… «Чем ты недоволен? – мрачно отозвался Командор. – Вылез из этой мышеловки, сплюнь и радуйся. В другой раз отдых может затянуться. Так что помни про бесплатный сыр». – Дед, эту штуку не за тем придумали, чтобы травить людей и прочих любопытных гуманоидов, – возразил Тревельян. – Мне кажется, гипноглиф – такое устройство, что позволяет проникнуть… Он смолк. «Куда?..» – Не знаю, пока не знаю. Придет время, выясним. «Не свихнись, пока выясняешь. Кстати, про коньяк не забудь. Где коньяк, спрашиваю? У тебя что, уже отшибло память? В данный момент мы – люди, и нам необходим коньяк!» Вздохнув, Тревельян повернулся к раздаточному автомату, набрал код и подождал, пока в раскрывшемся окне не возникла рюмка. Сами по себе тактильные и вкусовые ощущения деду не передавались, но ментальный результат – легкое, туманившее разум опьянение – он воспринимал. Предок и ментальный Советник Тревельяна командовал некогда тяжелым крейсером «Паллада» и эскадрой Седьмой флотилии, сражался с кни’лина, хапторами и дроми[129], совершил немало подвигов, был отмечен боевыми наградами и пал смертью храбрых в возрасте девяноста двух лет на мостике своего корабля. Он погиб в той знаменитой битве у звезды Бетельгейзе, когда три земных крейсера разгромили армаду дроми, доказав всем врагам Федерации, что в Галактике появилась могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Но до славной своей гибели старик летал и дрался более семи десятилетий, горел в потоках плазмы, замерзал на ледяных астероидах, командовал десантами, был ранен восемь раз и женат четырежды – словом, накопил огромный опыт, и потому его разум, в знак почета и благодарности, сохранили в памятном кристалле. Впрочем, отдых в Колумбарии Славы не мог прельстить такую личность, и уже много лет Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев состоял в ментальных Советниках у своего далекого потомка, сопровождая его во всех опасных авантюрах. У полевых агентов и эмиссаров ФРИК, полагавших, что одна голова хорошо, а две – лучше, это являлось обычной практикой. Снова вздохнув, Тревельян выпил коньяк. Это был не самый подходящий напиток после гипнотического транса, но разве он мог отказать своему компаньону?.. Учитывая его нынешнее состояние, удовольствий у деда было не так уж много. «Хорошо, – пробормотал призрачный Советник, – хорошо… Повторим, малыш?» – Хватит. Словно извиняясь, Ивар коснулся виска с имплантом, крохотной капсулой с кристалликом. При нужде капсулу можно было извлечь, поместив ее затем в какой-нибудь самоуправляющийся агрегат, обладающий подобием разума и механическими эффекторами. Очень полезный фокус, если учесть, что полевая ксенология являлась занятием непростым и временами весьма опасным. В последний раз Тревельян и его Советник прибегли к нему на Хтоне, планете биоморфов, сводивших давние счеты в разрушительных междоусобицах. Там им пришлось расстаться – Ивар улетел на Равану, а Командор, возглавив воинство роботов, занялся наведением порядка и так в этом преуспел, что силы Флота заняли Хтон без единого выстрела[130]. Затем деда вернули Ивару, доставили с почетом на боевом фрегате «Ниагара». «Коньяк лучше, чем твоя блестящая штуковина, – настаивал Советник. – Глотнешь, и ты уже в крейсерском режиме, реактор на холостом ходу, орудийные башни опечатаны, а мысль течет привольно, блуждая среди звезд. Так говорил коммандер Раков, один из первых моих начальников, большой любитель принять на грудь. Так вот, по его утверждению…» – Умолкни, дед, – прервал Командора Тревельян, – умолкни и не беспокой меня. Я должен подумать. Он поднял взгляд к экрану с объемной схемой станции. Четыре яруса, ангар с орбитальными катерами, порт для стыковки с лайнерами и огромная антенна межзвездной связи… Тут и там на схеме мерцали огоньки; одни пребывали в покое, другие двигались по коридорам и палубам, ползли от диспетчерской к лабораторным отсекам, перемещались то к жилому сектору, то к кают-компании, столовой, трюмам нижнего яруса или пункту визуальных наблюдений. Тридцать семь огоньков, тридцать семь человек в экипаже, не считая пропавшего Винса… Инкарнологи, полевые агенты, техники, врачи… Станция Сансара была немаленькой – конечно, не такой огромной, как искусственный планетоид, круживший над Сайкатом, но, с другой стороны, люди не нуждались в таких просторных помещениях, как кни’лина. Тревельян руководил этим исследовательским комплексом уже четыре месяца, после возвращения с Раваны и короткого отпуска, проведенного на Земле. Собственно, он являлся первым эмиссаром Фонда, которому доверили столь необычный проект, связанный с перемещением сознания в тела инопланетных существ, к тому же еще и негуманоидов. Риск и мера ответственности были высоки, но Тревельян понимал, что стоит у начала нового перспективного метода, способного изменить всю тактику изучения чужих миров. В случае планет, чье население в какой-то степени походило на людей, эти вопросы были давно отработаны: полевой агент трудился в привычной среде обитания, мог принять облик автохтона с помощью несложных средств, изучить язык и систему жестов, питаться местными продуктами и воздействовать на чуждую цивилизацию с помощью традиционных для ФРИК эстапов[131]. Земная и патронируемая культуры могли иметь разные понятия о красоте, справедливости, нравственном императиве и жизненных целях, но, в конце концов, у их представителей было две руки и две ноги, а также пальцы, голова и шея, что очень облегчало взаимопонимание. Изучать же и прогрессировать существ, наподобие архов, до сей поры казалось невозможным – хотя бы потому, что посланец Фонда не мог принять их облик и работать скрытно, как требовали методики культурной индукции и межзвездные соглашения на этот счет. Теперь ситуация изменилась – агент получал возможность внедриться в тело негуманоида-автохтона, на время подменив его разум своим, и действовать с полной свободой, не думая о непривычности среды и особенностях чужой физиологии. Разумеется, существовали нюансы морального порядка – как-никак это внедрение было насильственным, и Судьи Справедливости[132] могли оспорить право Фонда на подобный акт, похоронив инкарнологию навеки. Но до Судей дело еще не дошло – прежде полагалось убедиться, что метод надежен и безопасен для людей. Тревельян задумчиво потер висок. Что-то не складывалось в этой истории с Винсом Кораблевым… В течение первых двух месяцев агенты-испытатели не раз уходили в разные поселения планеты, побывав на Яхите, Тху и Шете, трех обитаемых континентах, и даже на Хархе и Фийе, лежавших у южного и северного полюсов. Срок первых экспедиций равнялся двум-трем суткам, затем его увеличили до десяти-пятнадцати дней. Все шло по плану, аппаратура инкарнологов работала отлично, проблем ровно никаких, и Тревельян уже собирался начать масштабные эксперименты: длительное внедрение полевых ксенологов с детальным исследованием физиологии архов и выбором подходящих им эстапов. Затем Винс не вернулся на станцию, и вся работа была парализована. Конечно, Ходковский и Хабблтон рвались его искать, но Тревельян запретил, решив, что займется этим сам и в одиночестве. Оба оставшихся у него агента были опытными людьми, но все же особых ментальных талантов у них не имелось; как и Винс Кораблев, они могли застрять на планете, лишь усугубив ситуацию. Итак, пользуясь правом старшего, Ивар посетил Рхх Яхит и провел в нем поиск. И что же?.. Ничего, признал он с горечью. Архи нередко дрались друг с другом, поединки и набеги на соседей были у них обычным занятием, но внезапная кончина Винсу не грозила – в разум испытателей встраивался контур безопасности, который срабатывал в миг гибели носителя. Этого не случилось; значит, Винс – точнее, его сознание, его индивидуальность, – все еще пребывал на Арханге. Возможно, не в Рхх Яхите? Возможно, его захватили в плен в какой-то потасовке и увели в другое поселение?.. Это означало, что зону поисков нужно расширить. Ментальный дар Тревельяна не был безграничным – он мог просканировать сотню-другую архов в ближайшем окружении, но на материке Яхит их обитало больше миллиарда. Придется странствовать из города в город, из одной пещерной крепости в другую, подумал он. И сколько это займет времени?.. «Лет пятьдесят, – сообщил Командор. – У нашего Хеса Фья усы отсохнут. Тараканы столько не живут». Это было верно, но для поисков в сотнях городов Ивар не нуждался в услугахХеса Фья, он мог каждый раз подселяться к другому носителю. Правда, и в таком случае операция будет непозволительно долгой… не пятьдесят лет, а, скажем, пять… Арханг – огромная планета, а материк Яхит вдвое больше земной Евразии. Оставив эту идею, он вызвал по внутренней связи Якуба Ришу, своего заместителя. – Куба, будь добр, собери руководителей секций через десять минут в беседке. Я хочу видеть всех наших медиков и инкарнологов. И, конечно, полевых агентов. – Технический персонал, Ивар? – спросил Якуб. – Их тоже звать? – Нет, не нужно. Только руководителей и специалистов. Агнес скажи, что я буду рад ее лицезреть. Саму Агнес и кого-нибудь из ее девушек. – А точнее? Пару секунд Ивар размышлял, потом произнес: – Лолиту. Пусть будет Лолита. У нее очень выразительные глаза. – Не только глаза, – с усмешкой заметил Якуб и отключился.* * *
Павильоном или просто беседкой на станции именовался круглый зал с куполообразным потолком, расположенный на верхней палубе, между кают-компанией и оранжереей. Его стены увивала зелень, свод имитировал земное небо, и, в зависимости от местного времени, здесь царил солнечный день или мягкий полумрак лунной ночи. Легкие кресла и столики, расставленные на мозаичном полу, и раздаточный автомат в неглубокой нише были единственным убранством зала. Тревельяну беседка очень нравилась – она походила на жилища кни’лина, почти лишенные мебели, но полные воздуха и света. Когда он появился в зале, Агнес Велестри, глава секции жизнеобеспечения, и черноокая Лолита, диетолог, уже суетились в нише, разливая кофе и чай. Риша и два полевых агента, Габор Ходковский и Эд Хабблтон, помогали девушкам, таскали чашки к столам. В креслах расположились пятеро: инкарнологи Юрий Брайт и Ольга Сигрид Хаменлинна, старший пилот Мансур Мадурай, врач Ханс Аппель и нейрофизиолог Фархад аль Хамадани. За исключением Фархада, все были в комбинезонах, обычной рабочей одежде на станции. Нейрофизиолог, почтенный старец, носил белоснежный бурнус, и его смуглое, иссеченное морщинами лицо оттеняли падавшие на плечи седые волосы. Он был втрое старше Ивара, но, несмотря на возраст, сноровки не потерял и мог потягаться в скорости и точности с любым киберхирургом. – Всем привет, – произнес Тревельян и опустился в кресло. – Так как мой вояж в Рхх Яхит пока безуспешен, считаю нужным обсудить дальнейшие действия. Что мы предпримем? Должны ли мы расширить зону поисков и в какой степени? Или сосредоточиться на визуальных наблюдениях? Еще раз проверить исправность аппаратуры? Возможно, использовать дублирующий ее комплект? Наконец, запросить помощи? – Разве что у даскинов… – пробормотал Мадурай. – Придется обойтись без них, – строго заметил Ивар. – Я имел в виду Консулат. На моем столе семь запросов от Юи Сато. – Помолчав, он добавил: – Прошу высказываться. Брайт и Хаменлинна переглянулись. Потом старший инкарнолог сказал: – За аппаратуру мы ручаемся. Нет необходимости тратить время на дополнительные проверки. Если бы мы уловили сигнал от Винса… самый слабый ментальный сигнал… мы извлекли бы его личность без всяких проблем. Однако… – Брайт развел руками. Тревельян поглядел на него, затем уставился на Ольгу Хаменлинну. – Полагаете, причина связана с какими-то особенностями человеческого организма? С чем-то таким, что присуще именно Винсенту Кораблеву? – Вопрос вне нашей компетенции, – ответила Ольга Сигрид, чуть порозовев. – Но напомню, шеф, что до этого случая Винсент трижды уходил на Арханг и возвращался в полном здравии. – Нет у него никаких особенностей, – проворчал Фархад аль Хамадани. – Порог нервных реакций в норме, превосходная вазомоторика и очень неплохая восприимчивость к ментальному сигналу… Во всех смыслах здоровый юноша. – Благодарю, старший. – Тревельян склонил голову. – Если аппаратура исправна, обсудим другой вариант. Архи большие драчуны. Возможно, Кораблева захватили в плен и утащили в другой город? В зале повисла тишина. Слышались только стук чашек о блюдца и бульканье воды в раздаточном автомате. Наконец Якуб Риша сказал: – Нельзя исключить такое развитие событий. Но, Ивар, в силах ли ты провести поиск в каждом городе, на дистанции тысяча, две или три километров от Рхх Яхита? Это займет очень много времени. Хотя… – Хотя, – подхватил Брайт, – мы можем совместить наземный поиск с обычным вызовом через ментальный ретранслятор. У нас четыре таких устройства и четыре резервных. Если установить их на катерах и перемещать от города к городу, мы охватим значительный ареал, причем довольно быстро. – Три, – уточнил пилот Мадурай. – У нас только три катера. – Пусть три! Одни поселения будем сканировать с воздуха, в других проведем наземный поиск. Кроме шефа, у нас еще два испытателя. – Мы готовы! – Габор Ходковский приподнялся с места. – Мы уже два месяца сидим без дела! – Ну, не совсем так, – заметил Хабблтон. – Ты, например, ухаживаешь за Ольгой, а я – за Лолитой. Правда, к служебным обязанностям это не относится. Ольга Сигрид залилась румянцем, черноокая Лолита стрельнула глазками в сторону Ивара, явно намекая, кто ей симпатичен. Вздохнув, Тревельян позвенел ложечкой о чашку и произнес: – Считаю знаки внимания нашим девушкам очень важным делом. Самым важным после поисков Винса… А потому давайте прикинем, за какое время можно изучить территорию в радиусе двух и четырех тысяч километров от Рхх Яхита. Разумеется, с использованием всех наших сил и средств. – Шестьдесят суток в первом случае и около года во втором, – сообщил через некоторое время Якуб Риша. Брайт и Мадурай, взглянув на свои коммуникаторы, дружно кивнули. – Срок не такой уж большой для глобального поиска, – произнес Ходковский. Ханс Аппель, медик экспедиции, откашлялся. – Небольшой, но нельзя забывать, что тело Кораблева уже два месяца в саркофаге. Если речь пойдет о годе, нужно подвергнуть его гибернации. Фархад аль Хамадани внезапно поднялся, прошествовал к нише, принял из рук Лолиты крохотную чашечку с особо заваренным крепчайшим кофе, отхлебнул и зажмурился от наслаждения. Потом открыл глаза и молвил: – Молодежь, молодежь… Все бы вам летать туда-сюда, бомбить и мусорить по площадям… Все бы суетиться, а не поразмышлять с усердием, где сокрыта истина… Но сказано в одной из древних книг Земли: у вас – ваша вера, у меня – моя вера![133] С этими словами почтенный старец снова пригубил кофе и вернул чашечку Лолите. Густые брови Брайта сошлись на переносице. – И какая же ваша вера? – спросил он, не скрывая иронии. – Как я понимаю, вы против глобального поиска… Так поделитесь мудростью с нами! Какое у вас предложение? – Предложений нет, а есть напоминание, мой юный друг, переселяющий разумы. Не следует думать, что мы, люди, – Фархад обвел собравшихся широким жестом, – узнали все о физиологии и нервной деятельности архов, погостив недолго в их телах. Это не так. Мы многое еще не представляем. Например, их генетику и подробности размножения. А ведь он прав, подумал Ивар, уткнувшись взглядом в пол. Прав! Внешняя сторона процесса была вроде бы изучена: в каждом городском поселении и в цитаделях каждого рода имелась самка-Мать, которую оплодотворяли избранные самцы. Этот акт был публичным, и его считали большим, даже грандиозным праздником. В последующие два-три года Мать приносила несколько пометов, и первый из них, не очень многочисленный, являлся местной элитой – самые крупные и жизнеспособные самки и воины-самцы. Второй и третий пометы формировали не столь благородные слои социума: классы торговцев, солдат, умелых мастеров, начальников над рабочей силой и вполне разумных, но не способных к размножению самок. Пометы с четвертого по шестой можно было считать местным простонародьем: работники, добывавшие пищу и соль, ходившие за скотом и птицами, носильщики, строители, ремесленники, слуги. Остальные пометы – а их случалось до десяти-двенадцати – давали существ неполноценных, большей частью слабых и почти безмозглых; эти сразу шли на мясо. Иерархическая вертикаль была жестокой, хотя в биологии жестокости нет места, ее заменяет целесообразность. – Ваше мнение, шеф? – Брайт коснулся руки Тревельяна, и он вскинул голову. Все смотрели на него. Смотрели кто с тревогой, кто с надеждой, будто ожидая, что сейчас он скажет пару фраз, и слова его будут решением. Но произнес он совсем другое: – Мы в тупике, коллеги. Я согласен с почтенным Фархадом: у нас слишком мало данных. Поэтому я вернусь в Рхх Яхит и буду продолжать полевые исследования. Все! Совещание закончено. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Закончить-то вы закончили, да ни к чему не пришли, – беззвучно молвил Командор. – А я вот имею продуктивную гипотезу! Ты и сам мог бы догадаться. Но вы, работнички Фонда, гордый народ… Профессионалы, несущие светоч разума иным мирам! И на этом пути – ни сомнений, ни поражений! Ха!» Тревельян поморщился. «Хватит издеваться, дед. Давай, выкладывай». «И выложу! Я думаю, у твоего Винса просто поехала крыша. Трижды побыл архом, и повезло ему вернуться, а на четвертый раз мозги перекосило! Может, водицы соленой перепил, или отшила шестиногая красотка, или еще какой стресс… Случается! И сидит твой полевой агент в какой-нибудь щелке тараканьего сознания, сидит там и почти не дышит… Ни дозваться, ни доискаться…» «Нелепость! Это невозможно! – отрезал Тревельян. – Невозможно потому, что…» Раздался шорох, и он поднял веки. Его коллеги разошлись, павильон опустел, и только рядом сидела, подперев кулачком щеку, черноокая Лолита, диетолог станции. Сидела и смотрела на него с тоской и нежностью – так, как смотрят женщины, провожая близких в дальний путь. В дорогу, которая, возможно, никуда не приведет и никогда не кончится. Очень выразительные глаза, подумал Тревельян и улыбнулся девушке. – Вы ничего не ели, Ивар, – промолвила Лолита. – Хотите, я что-нибудь принесу? – Нет, милая. Я скоро уйду, а в саркофаг лучше ложиться с пустым желудком. В городе архов я… то есть мой носитель… в общем, скоро мы позавтракаем. – Там хорошо готовят? Ивар подумал о червях, о птичьих яйцах и останках Чиу Кхата, которые – не отвертишься! – придется съесть, подумал об этом и содрогнулся. Но ответил бодро, глядя в черные очи девушки: – У архов потрясающая кухня. Правда, некоторые блюда островаты, но в целом… хмм… в целом похожи на китайскую еду. Или на итальянскую. – Где вы живете? Эд Хабблтон показывал мне записи… – Лолита передернула плечиками, – показывал город, эти жуткие темные норы и пещеры… Но архам они, наверное, кажутся уютными, да? – Именно так, – подтвердил Тревельян. – У меня очень уютная норка и три отличных соседа. – Ваши друзья? – Друзья? Ну, в какой-то степени… скорее, соратники… Я при них вроде д’Артаньяна, попавшего к трем мушкетерам. Милое личико девушки озарилось улыбкой. – А гвардейцы кардинала там тоже есть? – Разумеется, – молвил Тревельян, подумав о роте желтых. – Очень похоже на Францию в период позднего Средневековья. Схватки, набеги, поединки… словом, приключения. – И королева? Королева тоже есть? – Королева у них самая главная. Правда, на балах не танцует, не носит алмазных подвесок, а большей частью спит. – Поднявшись, Ивар коснулся тонкого запястья девушки. – Ну, мне пора. Когда вернусь… вернусь с Винсом… ты приготовишь настоящий пир. Салат с креветками, осетрина, торты и гусь в яблоках… Найдется в наших запасах гусь? – Сколько угодно, – сказала Лолита, потупив взор. – И гусь, и все остальное… что пожелаете, Ивар. Кивнув, Тревельян покинул беседку. Через сорок минут, облаченный в скафандр, он уже лежал в саркофаге и слушал, как чавкают насосы, нагнетая темную жидкость. Брайт ободряюще хлопнул его по плечу, сдвинулась крышка, отрезая свет, потом раздался мелодичный перезвон стартового сигнала. Снова на Арханг, снова к Хесу Фья, успел подумать Ивар. Прошло какое-то время. Он вроде бы пребывал в забытьи, не в силах понять, закончилось ли перевоплощение. Сигнал все еще слышался, но казалось, что это вовсе не звон, а гулкие тяжкие удары, сотрясавшие саркофаг, компенсирующую жидкость и тело Тревельяна. «Что-то случилось на станции?..» – мелькнула мысль. Но он уже был в другом месте.Глава 3 Нападение
Удары громом отдавались в голове, и Тревельян сообразил, что колотят по железному билу, висевшему перед тоннелями казарм гвардейцев. Внезапно грохот прекратился, зато где-то совсем рядом взревел капитан Шат Сута: – К оружию, черви помойные! Явите доблесть, выползки с юга! Ханг Аррх атакует! Ивар пулей выскочил из гамака. Хау и Оси Шиха уже вооружались, гремя доспехами, Тос Фиут по прозвищу Кривая Шпора со свистом втягивал соленую водичку из каменной бадьи. Пойло в ней не переводилось – Тоса днем и ночью мучили демоны, и был лишь один способ, чтобы заглушить их голоса: хлебнуть и прикончить любого, кто под лапу попадется. Слушая рев капитана, Ивар сомкнул жвалы, усы и зрительные антенны, просунул голову в отверстие кольчуги и, пустив в ход четыре верхние конечности, расправил доспех – так, чтобы он прикрывал брюхо и спинной гребень. Надеть шлем было труднее, но обошлось, рефлексы Хеса Фья не подвели. Под защитным снаряжением валялась в углу каморки груда смертоносного железа. Тревельян вытянул два тесака и следом за Хау и Шихой выбрался в коридор. Позади гремел оружием Кривая Шпора, скрежетал жвалами и шипел проклятья. Прошло не более пяти минут, и гвардейцы синей роты, перекликаясь и молодецки ухая, заполнили тоннель от решетки у входа до дальнего тупика. Ивара пару раз хлестнули усами по шлему, кто-то ткнул его в бок средней лапой. Несомненно, то были знаки приязни и уважения – весть о его поединке с Чиу Кхатом и славной победе уже распространилась среди синих. Раздалась команда «К стене!», и бойцы, лязгая железом, начали строиться в две шеренги. Оси Шиха встал рядом с Тревельяном, место более рослых Тоса Фиута и Хау было в голове отряда. – Слава твоим шпорам, – негромко проскрежетал кто-то из гвардейцев за спиною Ивара. – Пустить Чиу Кхата на мясо… Давно пора! Капитан синих, в кольчуге, но без шлема, с палицей и огромным топором в передних лапах, прошелся вдоль шеренги. Затем, ударив топорищем о пол и лязгнув жвалами, сообщил: – Твари из Ханг Аррха ползут к нижним ярусам. Мы защищаем верхний карниз, желтая рота встанет в тоннелях. Без моей команды не спускаться! Именем Великой Матери! Ослушнику выдеру усы! С этим напутствием гвардейцы выбрались наружу. Солнце уже маячило тусклым пятном за свинцовыми облаками, но слой ночного снега на городских террасах еще не растаял. Холмистую равнину тоже покрывал снег, и из этой белесой дали ползли к городу Рхх Яхит колонны атакующих, ясно различимые с высоты. Два отряда на флангах, а между ними с шумом и грохотом двигался самый многочисленный – там, вероятно, шли благородные воины и крупные солдаты второго помета. Еще дальше, почти незаметный в дымке, что струилась над равниной, тащился обоз – сотни шошотов с поклажей и телеги на огромных колесах. На нижних ярусах Рхх Яхита были видны толпы защитников – солдаты городской стражи и согнанные в помощь архи второго и третьего пометов. Синие растянулись вдоль карниза. Большинство с тесаками, но Тос Фиут и Хау, самые рослые и мощные, выбрали топоры. Эти двое и Оси Шиха были лучшими бойцами, и сам капитан относился к ним с почтением, даже к Хау, потерявшему семейное имя, так как весь его род истребили дикари из южных лесов. Хау прозвали Каменный Лоб, но эту кличку он не любил, считая ее оскорбительной, и даже прикончил пару-другую насмешников. Утвердившись на краю карниза, Тревельян огляделся и выяснил, что за их четверкой – заведение Кьюка, и сам Кьюк с двумя помощниками маячит у входа в «Обломанные усы» с длинным вертелом в верхних лапах. Кьюк, принадлежавший к третьему помету, уступал солдатам ростом, но не сноровкой – разделывать мясо ему приходилось чуть ли не каждый день. Подумав об этом, Ивар вспомнил Чиу Кхата, мокнущего сейчас в соляном растворе, и решил, что нет худа без добра: по случаю драки утренняя трапеза отменилась. Пробудился Командор, спросил, что за головорезы атакуют город, откуда они взялись и где находится Ханг Аррх, их гнусная нора. Но об этом у Тревельяна были смутные понятия – густая облачность над планетой препятствовала орбитальному картированию. Мнилось ему, что Ханг Аррх – крупный центр где-то на востоке, давний враг, но о прочем память носителя молчала. Хес Фья был не очень силен в местной географии. Зазвенела кольчуга, Тос Фиут вытянул мощную лапу, царапнул шпорой его шлем и прохрипел: – Усы! – Что – усы? – Втяни усы, безмозглый, если не хочешь их лишиться. «Полезный совет, – добавил Командор. – Твой приятель, хоть и пьян, а дело понимает». От Фиута, и правда, несло соленой водицей. Соль в метаболизме местного биоценоза служила важным элементом обмена веществ; обычно ее потребляли в умеренных дозах, а в неумеренных, особенно в водном растворе, она влияла на архов так же, как алкоголь на человека. Соль являлась расчетным средством и синонимом благополучия, из-за нее велись войны, ее добывали, прятали в самых глубоких пещерах и тщательно охраняли. Тот, кто контролировал Соляные Пути, ведущие от южных озер, всегда был в прибыли; остальные выменивали соль на краску, металл, различные изделия, мясо, скот и птичьи яйца. Тос Фиут снова зазвенел кольчугой, постучал по собственному шлему. – Демоны… опять демоны… хотят меня сожрать… пойло… где пойло?.. – Не время пить, время драться, – заметил Хау. Его голос был похож на скрежет напильника по жести. – Демоны трусливы, они боятся острого железа, – добавил Оси Шиха. – Разобьешь панцирь врага, и демоны отступят. – Я разобью трижды три! – Тос Фиут грохнул обухом топора о камень террасы. – Трижды три и еще столько же! Пусть их Мать плодит ублюдков! Я убью их всех! «Разошелся парень, – прошелестел Советник. – Кстати, что у него с головой? Шизофрения или белая горячка?» «Не знаю, – отозвался Тревельян. – Их раса как будто не страдает психическими расстройствами. Но это неподтвержденная информация». Войска Ханг Аррха приблизились к первому городскому уровню, раздался оглушительный рев, с обеих сторон полетели камни, глыбы льда и нечистоты. Пользы от этого не было никакой – камень не мог пробить хитиновый панцирь, а тем более железную кольчугу. Обмен метательными снарядами просто давал выход ярости и злобе. «Взгляни на их построение, малыш. Соображают, тараканы! – молвил Командор. – Ставлю свой мундир с орденами против капли соленой водички, что они готовятся к прорыву. Фланговые отряды завяжут бой, а та колонна, что в центре, полезет к вам. У тебя в метателе плазмы полный заряд? Пока лезут, половину можно скосить!» «Какой метатель, дед? Откуда? У меня только эти железки», – напомнил Ивар, позвенев своими тесаками. Звон, похоже, был воспринят как проявление боевого духа – капитан, шагавший вдоль ротного строя, одобрительно лязгнул жвалами. Поднялся ветер, в воздухе закружились, заплясали снежинки. На мгновение в разрыве между туч сверкнуло солнце, озарив равнину серебряным светом. Холмы, запорошенные снегами, низкое серое небо, тысячи странных нечеловеческих существ, копошившихся внизу… Эта картина будила в памяти что-то знакомое. Сайкат, Равана, Осиер?.. Горькая Ягода?.. Нет, решил Тревельян, скорее похоже на пустынные пространства Хтона. Только там обитали не живые существа, а мириады роботов… На нижних ярусах уже кипела битва. Вздымались топоры и тесаки, слышался хруст панцирей и скрежет тысяч лап по камню, бойцы то вставали в полный рост, желая нанести удар, то ползли вперед по трупам павших. Как предсказывал Советник, сражалась часть вражеского войска, не самая грозная – солдаты без шлемов и кольчуг, такие же, как в городской страже Рхх Яхита. Что до отряда избранных воинов, те сбились в плотную кучу и замерли, точно стая хищников перед стремительным броском. – Ррху! Ррр-хуу! Оглушительный вопль ярости долетел до верхнего карниза, и закованная в железо орда ринулась на штурм. Под ее напором строй защитников дрогнул и распался; одни были убиты, других отшвырнули в сторону, третьих придавила тяжесть промчавшихся над ними бойцов. Миг, и склоны пещерного города покрылись множеством фигурок. Они упорно лезли вверх, карабкались с террасы на террасу, не обращая внимания на лавки, мастерские и жилые норы обитателей Рхх Яхита. Вверх, вверх, к покоям Королевы-Матери, к пещерам Мужей, к складам драгоценной соли… Хес Фья был молод и, возможно, еще не участвовал в крупных сражениях, но его родовая память рисовала Тревельяну страшные картины: разоренный город, толпы пленных, которых гонят на убой, и враги, терзающие плоть Великой Матери. С ее смертью и с гибелью самок первого помета, способных заменить ее в будущем, город архов тоже умирал, иногда на долгие, долгие годы. Потом приходили жители из более мелкого поселения, когда-то не замеченного врагами, Мать их рода становилась Королевой и одаряла свое племя обильными пометами. Умножившись в числе, собрав союзников из ближних цитаделей, они уходили в набег, мстили за поражение, и на континенте снова появлялся разоренный город. Возможно, думал Тревельян, пришельцы из Ханг Аррха тоже мстят, согласно понятиям архов о справедливости. Мстят или просто желают ограбить Рхх Яхит. Он поднял тесак и снес голову солдату. Слева и справа от него залязгало железо, огромный топор Тоса Фиута грохнул по шлему воина, разрубив металл; Хау ударил другого бойца и столкнул труп с карниза. Оси Шиха, как и Тревельян, вооружился тесаками, но лезвие застряло в кольчуге противника; бросив тесак, Оси ткнул шпорой в прорезь шлема. Набежали новые враги, семеро солдат в легких доспехах, которых вел первопометный в пластинчатом панцире. Фиут сцепился с ним, с лезвий топоров брызнули искры, шпоры средних лап пытались продавить броню. Четыре солдата облепили Хау, свалив его с ног, их короткие клинки скребли по его кольчуге и шлему. Еще двое бились с Шихой, а Ивару достался один противник, зато сильный и верткий – может быть, солдат из тех, что покрупнее, или молодой туа па. У него тоже были тесаки, и пока Тревельян старался проткнуть ему брюхо, Оси Шиха зарубил обоих врагов. Наконец верткий лишился лапы, а затем головы, и Шиха с Иваром поспешили на помощь Хау. Тот, бросив топор, ворочался под телами солдат, которых было уже не четверо, а шесть или семь, бил их шпорами, рвал усы и зрительные стебли. Кто-то уже не двигался, кто-то, не замечая опасности, с яростным воем гремел палицей по шлему Хау. Ивар и Шиха прикончили всех. «Славная битва, малыш, – прокомментировал Советник. – Враг повержен, и ты сберег усы. Действуй дальше в том же духе». Тос Фиут, поставив лапу на труп врага, ревел песнь победы. Пожалуй, преждевременно – во многих местах противник прорвался на террасу, и несколько первопометных в тяжелом вооружении пытались взобраться к верхним тоннелям. Не очень разумная затея – там их поджидали желтые и их капитан Хите Сута. Но, как уже знал Тревельян, архами во многих случаях руководил не трезвый расчет, а жадность, ярость и, разумеется, голод. Воинство, подступившее к Рхх Яхиту, шло по заснеженным равнинам немало дней и изголодалось по мясу и соли – это вместе с яростью было главным в ментальных излучениях орды. Ивар ощущал импульсы голода так же ясно, как тяжесть оружия в лапах и резкие порывы ветра. – Туда! Бей, бей! – прохрипел за его спиной капитан, вытянув мощную лапу с палицей к толпе сражавшихся. Шат Сута был по-прежнему без шлема, его усы стояли торчком, жвалы скрежетали и щелкали. С доспехов капитана стекала белесая жидкость, клочья чужой плоти висели на шипах палицы, и походил он сейчас на жуткого демона – возможно, из той своры, что терзала Тоса Фиута. Там, куда он тянул свое оружие, кружилась яростная свалка, гремело железо, мелькали топоры и тесаки, и в провал за краем карниза сыпались десятки трупов. Ринувшись за Шат Сутой, Ивар и трое его соратников плотным клином рассекли толпу. Среди бойцов Ханг Аррха здесь не было солдат, только благородные первого помета, и дрались они отчаянно, стараясь пробиться к стене с зиявшими в ней тоннелями. Похоже, то была особая команда, которую вел рослый арх с чудовищными шпорами на средних лапах. Завидев его, капитан издал гневный вопль и в знак вызова швырнул на землю палицу и топор. Вражеский вождь тоже бросил секиру, ударил шпорами о доспех и прошипел что-то непотребное. Они сошлись в кольце своих бойцов, на опустевшем пятачке, но схватка была недолгой: неведомо как в лапе Суты появился острый штырь, и капитан всадил его врагу в щель забрала. Потом подхватил свое оружие и рявкнул: – В топоры! Сбросить с карниза трупоедов! – Ррху! – ответили гвардейцы, оттесняя врагов к провалу. – Ррху! Ррр-хуу! Опять загремело, залязгало железо, вниз снова посыпались живые и мертвые. Треть синей роты уже легла бездыханно, и со стены стали спускаться на помощь желтые – не все, ибо охрану тоннелей никто не отменял, но в достаточном количестве. Из щелей и нор, выходивших на карниз, полезли их обитатели, кто с ножом, кто с топором или дубиной; исход битвы был ясен, и теперь каждый хотел помочь героям-гвардейцам, а заодно разжиться мясом и прочими трофеями. У входа в «Обломанные усы» Кьюк с помощниками добивал какого-то солдата – шестипометные его держали, а Кьюк деловито тыкал вертелом. Другие архи копались в грудах трупов, тоже добивали раненых, оттаскивали убитых к стене, срывали шлемы и кольчуги; все было ценностью, и оружие воинов, и сами их тела. Обозрев остатки своей гвардии, капитан Шат Сута проскрипел: – Кто еще хочет рубить и колоть, может развлечься. Кто хочет свежего мяса, тот его получит. На нижние карнизы, хата шис! Бей трупоедов! Хата шис – те, кто служат, – было еще одним названием благородной касты, даже еще более почетным, чем туа па. Такое от капитана-сквернослова в синей роте слышали редко, чаще он поминал тухлое мясо, помойных червей, птичье дерьмо и безусых выползков. Вдохновленные гвардейцы перебрались за край карниза и потекли к нижней террасе. Она была во всю длину завалена телами в искореженных доспехах, и никто не шевелился в этом хаосе битого железа, переломанных лап, треснувших панцирей и застрявших в шлемах и кольчугах секир и тесаков. Не останавливаясь, цепь синих и желтых поползла дальше, к первому ярусу, где еще кипела схватка; там городская стража и ополченцы сражались с солдатами Ханг Аррха, а неподалеку темным пятном среди белых снегов виднелся обоз. Неплохая добыча, даже если все припасы были по дороге съедены. Оттеснив ополченцев, гвардия ударила по остаткам вражеского воинства. Свежего мяса хватало, и потому пленных не брали, рубили всех, кто не успел сбежать. Было таких немного, и ждали их скитания в бескрайней степи и неминуемая смерть: долгая – от голода или быстрая – в клыках хищников. Когда вышли к обозу, к телегам и лежавшим в снегу шошотам, солнце уже поднялось в зенит. Невидимый диск светила пятном маячил за облаками, снег таял, и над равниной стояла туманная мгла. За гвардейцами тащились толпы горожан и ополченцев, архи второго и третьего пометов со своими работниками и слугами – они, похоже, считали обоз законной добычей, наградой за доблесть в схватке с врагом. Но у капитана было на сей счет иное мнение. Он стукнул обухом топора по колесу ближайшей телеги и проревел: – Собственность Великой Матери! Назад, черви помойные! На карнизах полно мяса! Сдирайте панцири и жрите, а то, что здесь, не про вас! С ворчанием и недовольным скрежетом толпа откатилась. Шат Сута осмотрел гвардейцев, фиксируя взгляд на тех, кто не лишился лапы, усов или другой части тела, затем вытянул зрительные стебли к Тревельяну: – Ты, Хес Фья! Ты шустрый, Чиу Кхата завалил! А потому станешь дозорым у телег! И чтобы камешка не пропало! – Я шустрый, – согласился Ивар, – но телег много, а шошотов еще больше. За всем не усмотреть. – Кхх… много… – Капитан ненадолго впал в задумчивость. – Много, да. Хау, Тос Фиут и Оси Шиха! Останетесь здесь. Если полезет кто из города, разбейте башку. Вот и будет у вас мясо! Шат Сута развернулся и повел уцелевших гвардейцев наверх, к казармам и покоям Великой Матери. А также к заведениям, где можно было выпить соленой водицы и съесть мясных червей, не говоря уж о таком деликатесе, как птичьи яйца. Четверо стражей остались при обозе.* * *
Миновала середина дня, из туч посыпались первые снежинки, ледяные порывы ветра закружили их над холмами. Арханг был холодной планетой, и ноль по Цельсию воспринимался здесь как вполне умеренная, даже комнатная температура. Но с ее понижением – а ночью случалось до минус сорока – на архов нападала сонливость. Их физиология все еще была предметом споров для биоксенологов Фонда: с одной стороны, они походили на насекомых в хитиновых панцирях и размножались посредством маток-цариц, как муравьи или пчелы, а с другой – они не откладывали яиц, принадлежали к живородящим тварям, и, кроме внешнего, у них имелся внутренний скелет. Необычные существа! С целью их предварительной классификации биологи сошлись на том, что они принадлежат к особому классу псевдоэнтомонов, виду «арх миракль»[134], и могут считаться условно теплокровными. Неясно, что под этим подразумевалось – крови, как таковой, у архов не было. Существовал лишь один способ борьбы с ночной вялостью и сонливостью – мясная пища, богатая солью. Обитатели Арханга могли долгое время голодать, но обычно ели часто и помногу, особенно по вечерам, когда понижение температуры стимулировало аппетит. Час этот наступил с той же неизбежностью, с какой в любом мире день сменяется ночью, а ночь – днем. Четверо стражей сошлись в кружок и сняли доспехи. – Вот и награда за нашу доблесть! – злобно прошипел Оси Шиха. – Ни еды, ни отдыха… Вся честь – сторожить добро трупоедов из Ханг Аррха! – Теперь это добро Великой Матери, – напомнил Хау, поводя усами с явным раздражением. – Но пожрать не мешает. Я голоден! – Демоны! – лязгнув жвалами, откликнулся Тос Фиут. – Демоны что-то шепчут… шепчут, что им нужно пойло… Мне тоже! Тревельян ничего не сказал – в этот миг он слушал советы Командора. «Держись от них подальше, – шелестел бесплотный голос. – Ублюдки голодны и желают выпить, а у вас ни пойла, ни мяса. В такой ситуации ищут крайнего. Ты меня понял, мальчуган?» «Не ворчи, дед. У нас боевое братство, один за всех и все за одного. Словом, честь по чести», – возразил Ивар. Но Командор не унимался: «Видали мы таких братков! Подальше держись, говорю! Так, чтобы не зацепили шпорой!» Хау встал на задние лапы, вытянулся в полный рост и направил глазные антенны в сторону обоза. Хау был тугодум, однако на память не жаловался. – Много телег, а шошотов еще больше… За всем не усмотреть… Это он сказал? – Теперь стебли Хау были направлены на Тревельяна. – Он, – подтвердил Оси Шиха. – И потому мы здесь? – Истинно так. Здесь, без отдыха и без мяса. – И без пойла, – с горечью добавил Тос Фиут. – А могли бы сидеть в «Обломанных усах», – подвел итог Хау, пристально глядя на Тревельяна. «Вот ты и крайний, – сообщил Командор. – С нас-то взятки гладки, раскочегарим реактор и вспорхнем в небеса, а твоего Фьюшку эти молодцы съедят. Что станет вечным твоим позором!» Основания к такому выводу имелись: во-первых, Ивар обнаружил, что сотоварищи обступили его, отрезав дорогу к бегству, а во-вторых, начало темнеть. Известно, что в темноте творятся самые черные дела. – Мясо мы найдем, есть у нас мясо! – рявкнул Хау, придвигаясь ближе к Тревельяну. – Топоры при нас, разделать недолго! А с пойлом как? Где пойло взять? – Пойло! – лязгнув жвалами, повторил Тос Фиут Кривая Шпора. – Пойло! Демоны! Пойло! Ивар попытался отступить, но его кольнули чем-то острым пониже спинного гребня. Сзади стоял Оси Шиха с клинками в обеих лапах и облизывался. Собственно, ни языка, ни губ у него не имелось, но облизнуться он все же мог, выставив хоботок, которым втягивась пища. – Не дергайся, тухлое мясо, – негромко прожужжал Оси. – Проколю насквозь, от хребта до брюха. «Бей тесаком промеж жвал, – посоветовал дед, – бей и беги! Этого уложишь, а параноик-алкаш и второй бычара тебя не догонят. Ты тут самый шустрый!» Но Тревельян остался на месте, хотя тесаков из лап не выпустил. – Вот что, достойные туа па, я тоже голоден и хочу выпить. Желаете ссориться, я готов, мне тоже недолго разделать мясо, – молвил он, почесывая шпорой под грудным панцирем. – Но у нас есть шошоты. Шошот – это очень много мяса. Вчетвером за ночь не съесть. – Они теперь принадлежат Великой Матери, – с сомнением произнес Хау. – А кто их считал? – возразил Тревельян. – Шошотом больше, шошотом меньше… Шкуру, кости и остатки мяса закопаем. Наступила тишина. Три гвардейца напряженно размышляли, обдумывая это предложение. Потом Оси Шиха проскрипел: – Честь первородных хата шис… Не нанесем ли мы ей ущерба? На страже стоим, добро охраняем… и шошотов, и телеги… Тревельян хлопнул тесаком по животу. – А это мясо разделать честь дозволяет? Я ведь тоже принадлежу Матери-Королеве… и я, и вы трое. – Верно, – подтвердил Оси после недолгой паузы. Среди трех сотоварищей Тревельяна он был самым сообразительным и разговорчивым. – Верно, но очень хочется жрать. – Очень, – согласился Хау. – Жрать и пойла! – простонал Кривая Шпора. – Шошоты – мясо, а с пойлом как? – подвел итог Оси Шиха. – Тогда поищем на возах, – предложил Тревельян. – Может, и соль найдется. Хау в сомнении пошевелил усами. – Соль… откуда? Эти трупоеды пришли сюда голодными. – Это так, воины не ели, даже первопометные, – сказал Тревельян. – Но у воинов есть командиры, а у этих всегда что-то припрятано. Стоит поискать. – Кхх… тоже верно… – в задумчивости произнес Оси Шиха. – У нас и у желтых первый кусок – капитанам. Так и должно быть. Они оба Сута из правящей семьи, их род всех благороднее в наших землях. В Ханг Аррхе, хоть там одни трупоеды, тоже есть высшие и низшие, и что положено одним, не положено другим. Таков порядок! Оси любил порассуждать об отвлеченных материях, но Хау надоели разговоры. Он стукнул древком топора о землю и прохрипел: – Темнеет! Пойдем к телегам. Телеги были собраны из грубых деревянных досок, перехваченных железными скрепами. Никаких хитростей, ни рессор, ни тормозов, ни пологов, просто большие ящики, водруженные на огромные колеса, тоже деревянные. Было их не меньше сотни. Рядом с возами дремали шошоты, на их мохнатые спины и бока падал снег, не скрывая, однако, того, как отощали животные. Иногда один из зверей раскрывал пасть, и равнина оглашалась тоскливым голодным воем. Большая часть телег оказалась пустой, некоторые несли груз запасных доспехов и оружия – большая ценность для города Рхх Яхит. Еще нашлись краски пяти цветов и бухты толстых веревок – очевидно, чтобы вязать пленников, еще упряжь для шошотов, немного хвороста и котлы, в которых растапливали снег. Наконец Хау, шаривший в возах с похвальным усердием, издал протяжный вопль, и три остальных искателя прямиком направились к нему. Воз был побольше остальных, на шести колесах, и в нем обнаружилась бадья с засоленным мясом, корыто с птичьими яйцами и пара бочонков с пойлом. Несомненно, личный запас предводителя, который валялся мертвым на какой-то террасе Рхх Яхита либо, что не исключалось, пополнил меню «Обломанных усов» или другого кабака. При виде такой роскоши три гвардейца возбужденно зашипели, бросили оружие и полезли в телегу. Тревельян не отставал от них, стараясь не думать, чье мясо находится в бадье. Впрочем, голод не тетка, и долго он не размышлял. Зубов у архов не имелось, и они употребляли только мягкую пищу и жидкости, втягивая их хоботками. Лучшей, самой деликатесной едой считались яйца больших нелетающих птиц или, возможно, стрекоз – на Арханге разница между насекомыми и прочей фауной была весьма размытой. Оголодавшие воины набросились на яйца, запивая их рассолом из бочонка, потом принялись за мясо, и Тревельян с облегчением понял, что это не плоть мыслящей твари, а мясные червяки. Тоже деликатес, если черви хорошо откормлены. Трапезничали на ощупь, в полной темноте. Хау жадно урчал, поглощая мясо, Тос Фиут больше булькал, то и дело присасываясь к бочонку, Тревельян и Оси Шиха, не забывая о мясе и пойле, затеяли дискуссию о привилегиях. Ивар пытался доказать, что все разумные создания равны, а потому недопустимо, чтобы кто-то сладко ел и пил, а остальные страдали от голода. Что до Оси, он стоял на том, что сословные различия и последствия оных проистекают из самой природы архов: в любом семействе Мать и ее Мужья – наверху, под ними – доверенные слуги, вроде капитанов синих и желтых, затем прочие туа па и, наконец, пометы низших, от солдат и торговцев до презренных работников. Таков порядок, и если его нарушить, мир будет поколеблен или совсем перевернется. Что же касается голодных врагов, которых вел на Рхх Яхит их предводитель, то это полезный обычай: голодные злы и дерутся с большей доблестью, чем сытые. Спор длился, пока не закончилось мясо, но еще раньше Ивар понял, что Оси абсолютно невосприимчив к идеям демократии. «Не трать времени на этого ублюдка, он ярый монархист, – заметил Командор. – Подрывную работу нужно вести среди недовольных, они порох революции». «Я не собираюсь устраивать здесь революций, – отозвался Тревельян. – Кстати, это запрещено уставом Фонда. Мы действуем путем терпеливых усилий и медленных перемен». «Устав я уважаю, но этих тараканов не мешало бы встряхнуть. Вспомни, мой мальчик, заветы предков о революции: верхи не могут, низы не хотят, и положение народа хуже обычного. Как здесь с этими предпосылками?» «Никак, дед. Для местных условий такая мудрость не годится. Тут и верхи, и низы выходят из чрева Великой Матери, и номер помета определяет статус особи. Биологическая иерархия гораздо жестче, чем социальная». «Однако…» – начал призрачный Советник, но Тревельян его прервал: «Сейчас мы не трудимся над эстапом, который толкнул бы это общество на стезю прогресса. Напомню, что у нас локальная задача: розыск пропавшего испытателя. Мы ищем Винса Кораблева». Командор отличался упрямством, и, возможно, у этой беседы было бы продолжение, но тут в темноте раздался тихий шорох. Скрипнула пустая бадья – кажется, Хау ее отодвинул, потом начал шарить лапами по днищу воза. Его массивный силуэт почти сливался с мраком, но смутные очертания Ивар все-таки мог различить. Похоже, Хау искал свой топор. Шорох послышался снова. – Подбираются к обозу, – тихо прожужжал Оси и слез с телеги. – Пусть подбираются, – откликнулся Хау. – Мы все уже съели. – Но не все выпили. Целый бочонок остался. – Это верно. Пошли, проверим. Тревельян, схватив тесаки, тоже спустился на заснеженную землю. Тос Фиут попробовал встать, опираясь о бортик возка, но рухнул в пустое корыто и просипел: – Демоны не пускают… пойла отведали, не шумят, но не пускают… лапы… лапы, как не свои… – Оставайся, – буркнул Хау. – Справимся. «Окосел ваш Кривая Шпора, – заметил Советник, призадумался и добавил: – Небеса черные и голубые! Сколько в Галактике странного, сколько чудес! Кни’лина, черти лысые, спиртного не пьют, считают ядом… У лончаков тинтахское вино, вроде без алкоголя, а хлебнешь, и мозги набекрень… Но если б услышал я в былые годы, что найдется тварь, косеющая от соленой водички! Casus improvisus[135], как говорили латиняне!» Под болтовню Командора Ивар пробирался между возами, ориентируясь по щелканью жвал идущего впереди Хау. Щелк, щелк, щелк… Обычный прием гвардейцев в случае ночного боя, чтобы не потеряться в темноте и не проткнуть соратника. Кажется, Хау не тревожился о том, что, кроме Ивара и Оси, кто-то может его услышать. Поднявшись на задние лапы и слегка покачиваясь, он топал вперед, словно танк, вооруженный вместо пушки топором. В темноте зазвенели клинки, Хау выкрикнул: «Ррху!», – и рубанул своей секирой. Справа, где двигался Оси, тоже раздалось яростное шипенье, потом лязг металла о металл и предсмертный вопль. Смутная тень метнулась к Тревельяну, он пропустил нападавшего мимо себя, кольнул тесаками по обе стороны спинного гребня и добавил шпорой в бок. Прямо за спиной взревел шошот, стал приподниматься, осыпав Тревельяна снегом, и это спасло его от острого штыря – второй противник то ли поскользнулся, то ли принял его в темноте за шошота. Ивар с размаха ударил правым клинком, ощутил, что лезвие застряло в грудном панцире, и нанес еще один удар, по нижним лапам. «Хррр…» – прохрипел его враг и повалился ничком. – У меня трое, – щелкнув жвалами, сообщил Хау. – Двое, – откликнулся Тревельян. – У меня столько же, но один в доспехах. – Было слышно, как Оси Шиха ворочает мертвые тела, царапая шпорой о кольчугу. – Первопометный и с ним солдат, но не из города. Трупоеды! Зачем вернулись? – Это сбежавшие в степь, – произнес Тревельян, вытаскивая клинок из грудного панциря. – А вернулись они для того, чтобы взять шошотов. Иначе до Ханг Аррха не добраться. – Тогда и другие могут напасть, – заметил Оси. – Придется стеречь шошотов и телеги. – Постережем, – без особой радости согласился Хау. – Мяса теперь много. Они разошлись. Хау и Оси заняли позиции со стороны равнины, Тревельяну достался ближний к городу пост. Мнилось ему, что отсюда до первого яруса Рхх Яхита не более двух километров, но ни единый знак не намекал, что за пологом тьмы прячется большое поселение, одно из самых крупных на планете. Архи пользовались огнем в кузницах и при выплавке металла, а для освещения нор и пещер – редко, в особых случаях, и потому город был темен и молчалив. Ни звуков, ни мерцания огней, ни звезд на небе, затянутом тучами. Тучи и низкая облачность являлись главной помехой для визуальных наблюдений с орбиты и с автоматических зондов. Кроме того, никак не удавалось проследить за отдельным архом; все они на человеческий взгляд казались похожими, точно сонмище пчел, термитов или муравьев. Традиционные способы, пометкакакой-нибудь особи радиоактивной краской или внедрение микропередатчика, были бесполезны, так как жизнь обитателей Рхх Яхита и других поселений протекала большей частью под землей, в норах и пещерах. В результате выбор носителя становился случайным делом: ретранслятор подвешивали над толпой первопометных, когда те появлялись из нор, и ментальный импульс не имел прямого и точного адресата. Стрельба по площадям, как было сказано старым мудрым Фархадом аль Хамадани… Размышляя над этим, Ивар чувствовал смутное беспокойство, как всякий профессионал, желающий выполнить свою работу наилучшим образом. Возможно, думалось ему, выбор объекта пересадки надо усовершенствовать – с тем, чтобы агент не попал в дефектную по каким-то параметрам особь. Возможно, как говорил Фархад, физиология архов, а особенно – их психокосмос, мир побуждений, тайных желаний и подсознательных инстинктов, нуждался в более тщательном исследовании. Наконец, не стоило исключать, что хотя архи с их двойным мозгом очень подходили для апробации новой методики, сам Арханг, в силу геофизических и атмосферных условий, был слишком сложной средой, где традиционные способы контроля не работают. Тревельян не сомневался, что на Осиере, Раване и в других гуманоидных мирах много проще дотянуться до любого жителя планеты и изучить его во всех подробностях. Прошло несколько часов. Мрак постепенно отступал – равнину по-прежнему заливала тьма, но небо на востоке уже начало светлеть. Арханг был лишен небесных красот, не распускали тут крылья алые зори, не садилось солнце в багряном пламени заката, преобладали краски серые, белесоватые или чуть подернутые охрой, но неизменно угрюмые. Впрочем, архов это не волновало. Местные понятия о красоте отличались от человеческих, и, возможно, самым прекрасным зрелищем был здесь бочонок с пойлом. Вспомнив о бочонке, Тревельян дождался восхода, оглядел карнизы Рхх Яхита, где пока ничто не шевелилось, и решил, что нужно проведать спящего соратника. Эта мысль добралась до Командора, и он выразился в том смысле, что Фиут, конечно, крепкий парень, но белая горячка не таких крутила и ломала. Может, он упал с возка и замерзает в снегу или намылил веревку и хочет повеситься, а может, вовсе копыта откинул. Надо, надо проведать! Десант не бросает своих! Но мрачные ожидания не оправдались – Тос Фиут спал себе в телеге и даже жвалами не щелкал. Видно, ночевка на свежем воздухе пошла ему впрок – ночной холод отогнал демонов, выморозив их на время или навсегда из головы Фиута. Ивар отложил тесаки, залез в телегу, убедился, что бочонок пуст, разве что капля осталась на донце, и перевернул сотоварища на брюхо. Архи спали именно так, на животе, подобрав под себя четыре нижние лапы и уложив голову между верхними. Спать на спине мешали гребни, поза на боку тоже была не очень естественной, но Тос Фиут лежал именно так, привалившись к бортику телеги. Бортик был сбит из трех широких, грубо обтесанных досок. Солнце уже взошло, света хватало, и Тревельян, растопырив глазные антенны, уставился на доски. Дерево покрывали царапины, и что-то чудилось в них знакомое, что-то такое, чему на Арханге места нет – ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем. «Рисунки?..» – подумал он. Нет, в изображение как-то не складывается, на узоры тоже не похоже, да и какие узоры у архов?.. Не украшают они узорами ни стены жилищ, ни предметы быта, ни, тем более, повозки… Что-то вроде карты?.. Возможно, с маршрутом от Ханг Аррха до Рхх Яхита?.. В телеге военачальника она была бы к месту, но Ивар знал, что архи карт не чертят – во всяком случае, никто из полевых агентов не сообщал об этом их умении. «Ты глазки-то в кучку собери, – посоветовал Командор. – Не видишь разве? На буквы похоже, на земную лингву[136]. Вроде бы «В» и вроде бы «И»… А что там дальше? Больно коряво написано, никак не разберу…» Но Тревельян разобрал и замер, будто громом пораженный. ВИНС, ВИНС… И снова: ВИНС, ВИНС, ВНС… Точно вопль о помощи…Глава 4 Ханг Аррх
– Похоже, мы сбились с пути. Нужно взять севернее, – сказал Тревельян. Потом немного подумал и добавил: – Или южнее. Мансур Мадурай, пилот экспедиции, только хмыкнул. Они, оба в человеческой ипостаси, сидели в креслах-коконах[137] и в то же время мчались над поверхностью планеты. Шлем полного контакта связывал Мадурая с зондом-разведчиком, летевшим так низко, что покрывающий равнину снег клубился в потоках воздуха. Тревельян мог видеть то же, что и пилот, но не вмешиваться в управление – для полета над холмистой местностью его квалификации не хватало. Сейчас он был только наблюдателем. Их аппарат двигался от Рхх Яхита на восток, где, как предполагалось, лежала земля врагов и соперников. Следы прошедшего по равнине воинства сначала казались заметными – колеи от телег, почва, утоптанная множеством лап, груды костей на месте ночлегов, обгоревшие ветви и даже брошенный за ненадобностью дырявый котел. Но в сотне километров от города явные знаки, скрытые прошедшим временем и снегом, стали постепенно исчезать. Теперь под аппаратом простиралась унылая степь, кое-где поросшая лесом, с торчавшими тут и там скалами, пересеченная редкими водными потоками, что покрывались ночью льдом и не всегда оттаивали за день. Самыми надежными ориентирами здесь были цитадели знатных архов и небольшие поселения с угодьями, где разводили птиц и червей. Но эта обитаемая зона тяготела к Рхх Яхиту, а между владениями его Великой Матери и Ханг Аррхом лежал пустынный дикий край и бродили стаи хищников, помесь ящеров с гигантскими скорпионами. Оставалось только удивляться, как враги, странствуя под беззвездным небом, находили верный путь. – Думаю, все-таки надо взять южнее, – промолвил Тревельян. Он нервничал, и для этого были две причины: во-первых, поиск Ханг Аррха затягивался сверх ожиданий, а во-вторых, его тревожил Хес Фья, оставшийся под присмотром деда. Нельзя сказать, чтобы Ивар не доверял героическому предку, однако мучили его сомнения. В прежней жизни Командор имел тягу к рискованным приключениям, но тогда эту склонность умеряли привычка к дисциплине, высокий воинский пост, ответственность за подчиненных и боевые корабли. В нынешнем своем статусе Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев не отвечал даже за собственные мысли – тем более что воспринять их мог лишь потомок-симбионт. Оставалось надеяться, что он пожалеет Хеса Фья и не втравит его в какую-нибудь авантюру. Зонд мчался над заснеженной пустыней. Внизу стая ящеров гонялась за птицами. Летать по-настоящему эти создания не умели, но, раскинув куцые крылья, могли планировать при сильном ветре. Птицы отнюдь не являлись беззащитной дичью – четыре лапы с мощными когтями и шпорами делали их достойным противником в схватке с хищной тварью. – Мансур, держи южнее, – повторил Тревельян. – Южнее, севернее… – недовольно пробормотал пилот. – Пожалуй, я сделаю несколько кругов над местностью, а вы, шеф, понаблюдайте, что внизу творится. Сейчас утро, а к полудню снег растает. Вдруг обнаружатся какие-то следы. Аппарат снизился, распугивая птиц и ящеров. Тревельян озирал покрытую снегами степь, но следов разумной жизни не видел: ни колеи от телег, ни костей, ни кострищ, ни дырявых котлов. Только сцены охоты оживляли унылый пейзаж – ящеры драли птиц, птицы терзали ящеров… Ничего интересного. С полчаса Мадурай кружил над холмами, то зависая над каким-нибудь местом, то уворачиваясь от каменных глыб на вершинах, от деревьев и обледеневших скал. Полет на малых высотах требовал особого искусства и отличной реакции, но Мансур Мадурай был пилотом от бога. Возможно, талант достался ему в наследство от предков, ловких и предприимчивых – среди них, по словам Мансура, встречались шерпы-скалолазы и воинственные всадники-раджпуты. Убедившись, что круговой поиск ничего не дает, Тревельян вздохнул и вызвал на лицевую пластину шлема карту материка Яхит. Ее смонтировали по снимкам, сделанным сквозь облака, изображение было размытым, но на востоке явно маячили горы. Не исключалось, что Ханг Аррх лежал в отрогах этой горной цепи, в недрах отвесного обрыва с пещерами и норами. Во всяком случае, все крупные поселения архов, какие удалось найти, располагались у гор и были похожи друг на друга: девять, двенадцать или пятнадцать террас, внизу – стойла для птиц и шошотов, выше – жилища, склады и мастерские, а над самым верхним карнизом – норы первопометных и обитель Королевы-Матери. – Летим на восток, к горному хребту, – распорядился Тревельян. – Потом вдоль него на малой скорости. Я хочу осмотреть отроги в полосе триста-четыреста километров. Возможно, город там. – В горы так в горы, – промолвил Мадурай, поворачивая их маленький аппарат и поднимаясь к тучам. Затем добавил: – Будем на месте минут через двадцать и пройдем над предгорьями с юга на север. Устроит, шеф? – Вполне. На этот раз удача им улыбнулась – после недолгих поисков они обнаружили город, причем довольно крупный. В отвесной стене, падавшей от скалистых вершин до лесных зарослей на равнине, было двенадцать террас и множество темных ходов, ведущих в глубь горного массива. По карнизам сновали жители, курились дымы над мастерскими, лес рассекала дорога, тут и там – ямы с мясными червями, а в загонах на первом ярусе Тревельян увидел птиц и стадо шошотов. Город как город, только какой?.. Сидя в рубке управления и связи, названия не спросишь. Понаблюдав за поселением некоторое время, он решил, что это Ханг Аррх. Первопометных на верхней террасе сотни три, солдат с зеленой полосой вдоль гребня не больше тысячи, а где остальные? Остальные полегли у Рхх Яхита, только тут еще не знают о поражении. Узнают, когда явятся мстители, перебьют немногочисленных защитников, а прочих горожан сделают живым мясом, чтобы не отощать на обратной дороге. Скудный мир, свирепые нравы и никаких понятий о милосердии… Ничего, подумал Тревельян, справились на Раване, справимся и здесь. Он снял шлем, освободился от кокона и произнес: – Благодарю, Мансур. Подвешивай ретранслятор, мы нашли нужное место. – Будет сделано, шеф. Тревельян покинул рубку связи. В соседнем отсеке его поджидали Якуб Риша, Брайт и оба полевых агента, Ходковский и Хабблтон. На экранах, что тянулись широким кольцом по стенам, висело изображение города – его передавали датчики зонда. – Полагаю, это Ханг Аррх, – сказал Тревельян. – Сейчас Мансур выбросит ретранслятор, и мы поищем Винса. Юра, иди подготовь свою технику. Кивнув, инкарнолог торопливо удалился. Изображение на экранах чуть дрогнуло – зонд отстрелил ретранслятор. Крохотный аппаратик в гравиподвеске, покачиваясь в воздушных потоках, начал спускаться к городу. Скальная толща и любые другие барьеры не были препятствием для ментального импульса, но нацелить его полагалось так, чтобы активная зона охватила все террасы и подземелья Ханг Аррха. – Прямая наводка, – раздался голос Мадурая. – Прибор готов к работе. – Во имя Владык Пустоты… – пробормотал Эд Хабблтон. – Пусть нам повезет… Все четверо уставились на экраны, будто душа Винса Кораблева могла промелькнуть там зримым призраком. Текли секунды, но Брайт молчал. Тишина, повисшая в отсеке, уже не казалась знаком надежды – скорее, разочарования. Минута… вторая… третья… Потом: – Я не могу его вытащить, шеф. Не могу, если он в этом городе. – Вероятно, его здесь нет, – сказал Риша хмурясь. – Но мы не можем быть в этом уверены. – Не можем, – согласился Тревельян. – Но гипотезу надо отработать до конца. Если Винс здесь, то он, разумеется, знал о военной экспедиции в Рхх Яхит и догадывался, что мы ищем его там. Тогда письмена на доске – послание… Он сообщает, где находится, и ждет помощи. – Вопрос, как он туда попал, как и зачем, – промолвил Ходковский. – Есть разные причины – например, с целью предотвратить набег с последующей бойней, – откликнулся Хабблтон. – Или в Ханг Аррхе таится нечто важное, такое, о чем ему удалось узнать, что требует быстрого вмешательства… Он мог отправиться туда с торговым караваном или в одиночку. Расстояние между городами всего семьсот двадцать километров. Там, где прошла армия, пройдет и один арх с парой шошотов. Риша пригладил волосы и прищурился с задумчивым видом. – Что ж, такое возможно, но причина должна быть веской. Напомню, мы не имеем связи с вами, с полевыми агентами, когда вы на планете. Поэтому существует инструкция – не покидать зону действия ретранслятора. Строгая инструкция! – Он поднял палец. – Если Винс в Ханг Аррхе, то он ее нарушил. – Все это домыслы, а истинной причины мы не знаем, – возразил Ходковский. – Но мне кажется, что надо рассмотреть и другую гипотезу, даже две. Эти выцарапанные знаки могут иметь случайное сходство с нашим алфавитом, и тогда в них не больше смысла, чем в марсианских каналах, увиденных Скиапарелли. И второе: если надпись реальна, она может не иметь отношения к Ханг Аррху. – В таком случае, кто ее сделал? – поинтересовался Риша. – Тос Фиут в пьяном сне? – Эта мысль приходила мне в голову, – сказал Тревельян. – Я прозондировал Фиута… собственно, не в первый раз, как и других гвардейцев. Могу утверждать, что с психикой у него не все в порядке – вероятно, из-за пристрастия к горячительному. Но в остальном… – Он пожал плечами. – Убежден, что Винс к нему не подселился. – А если бы и подселился! – Риша в свой черед пожал плечами. – Если бы подселился, то почему мы не можем его вернуть? Снова повисла тишина. Затем Тревельян промолвил: – Причина непонятна, но ретранслятор не в состоянии его извлечь. Отсюда вывод: раз план «А» не сработал, переходим, как и было предусмотрено, к плану «Б». Я отправляюсь в Ханг Аррх на поиски. Он сделал знак прощания, вышел в коридор и направился к отсекам инкарнологов.* * *
Странное ощущение, подумал Тревельян, шевеля всеми шестью лапами и ерзая по каменному полу. Лапы на месте, жвалы тоже, усы и зрительные органы в порядке… Голод и жажда не гнетут, в отхожее место не тянет. Есть желание с кем-нибудь подраться? Безусловно, нет. Какая-то угроза? Тоже нет. Но странное чувство не отпускало. Он прикоснулся к разуму носителя и едва не подпрыгнул от неожиданности. Самка! Первопометная самка из служителей Матери-Королевы! Удача, решил Тревельян. Не просто удача – большая удача! До сей поры ни одному агенту так не повезло. Самец, будь он из трижды благородных, не мог попасть в обитель Королевы, в закрытую, можно сказать, священную часть пещерных городов. Самцам туа па полагалось беречь покой Великой Матери и защищать ее в случае набегов. Те, кто дожил до преклонных лет, не оставались без дела, заведуя складами соли и продовольствия, оружия, краски и других товаров; из них комплектовались стража Соляного Пути и хранители арсенала. Королеве служили только самки, и одна из них становилась новой владычицей, когда прежняя умирала. Эту придворную даму звали Сафу Тхик. Она носила титул «передающей слово», и, покопавшись в ее сознании, Ивар решил, что она обладает развитым интеллектом и отличной памятью. Как и положено при такой работе. Сейчас он находился в темной каморке, затерянной в глубинах пещерного комплекса. Темнота ему не мешала; он – точнее, Сафу Тхик – помнил, что, кроме гамака и выдолбленной в стене полки с нехитрой утварью, здесь нет ничего примечательного. Место для отдыха и сна, но он не нуждался ни в том, ни в другом. Его переполняли энергия и любопытство. Он выбрался в коридор, скудно освещенный плошкой с пылающим жиром. Коридор был очень широк, вдвое шире, чем ходы в казармах, по которым могли перемещаться в ряд пять бойцов в доспехах. Свод тоже не оставлял желать лучшего – высокий и слегка закругленный, он тонул в тенях. Коридор ветвился, его пересекали другие тоннели, столь же просторные, с редкими огнями, едва разгонявшими тьму. Но Тхик, видимо, знала каждую щель в этом лабиринте и двигалась уверенно. Куда? Ивар не пытался это выяснить, только пошевеливал глазными стеблями, разглядывал коридоры и камеры, пандусы, ведущие вверх и вниз, и сновавших в подземелье самок. Винса среди них не нашлось. Ментальный дар подсказывал, что за стенами множество других существ, малых и больших, но их разум был разумом архов, столь же чуждым человеку, как сознание лльяно или дроми. С дроми хотя бы удавалось говорить, но скрежет, жужжание и щелканье архов были не по силам человеческому горлу. Внезапно Тревельян понял, куда торопится, куда спешит. К выходу из лабиринта, наружу, к городским террасам! О существе, в которое внедрился Винсент, можно было утверждать с определенностью, что это первопометный самец. В Ханг Аррхе он мог находиться где угодно, даже в яме для живого мяса, но только не в покоях Великой Матери. Сафу Тхик вдруг замерла, подогнула лапы и распростерлась на каменном полу. Тревельян не подавал такой команды – вероятно, то была подсознательная реакция, чувство более сильное, чем разум. Он расставил глазные антенны, чтобы увеличить угол зрения, и приподнял их над лобным щитком. Слева от тоннеля открывалась просторная камера с полом, устланным слоями мягкой белесоватой паутины. По ее углам горели плошки с жиром, пламя отражалось в изогнутых медных пластинах, так что в камере было довольно светло. Потолок круто уходил вверх, образуя купол, подобный виденному Тревельяном в древних соборах Земли. В дальнем конце зияли отверстия трех или четырех проходов – в них то и дело появлялись самки, тащившие сосуды с едой и питьем. Посреди камеры лежало на паутинном ковре нечто огромное, столь неопределенных очертаний, что Ивар не сразу осознал природу этого существа. Затем отдельные детали, расплывшийся гребень, гигантское брюхо и торчавшие из-под него чудовищные лапы, сложились в цельную картину. Королева! Собственной персоной! Великая Мать Ханг Аррха питалась, жадно всасывая мягкую плоть мясных червей. К ее хоботку подносили все новые сосуды, лапы самок тихо топотали по ковру, потрескивал жир в светильниках, но эти звуки перекрывались мощным чмоканьем, бульканьем и сопеньем. Чудилось, что здесь работает какая-то старинная машина с паровым котлом или качающий воду насос. Ни один ксенолог еще не наблюдал за этой гекатомбой, и Тревельян наслаждался зрелищем с энтузиазмом первооткрывателя. Потом что-то щелкнуло в его сознании, и бесплотный голос напомнил: «Хватит, парень! Дело тут долгое, она будет жрать, пока не поседеешь. Ступай к выходу! У тебя другая задача». Вряд ли то был Командор – скорее, некое эхо памяти, отзвук того, что он мог бы сказать. Тем не менее Ивар очнулся и последовал совету, решив, что время не ждет, а по дороге можно увидеть еще немало интересного. Так и получилось. Вскоре он набрел на пещеру с сотнями новорожденных, ползавших среди корыт с едой под присмотром самок. Судя по внушительным размерам шпор, это были первопометные – видимо, Королева Ханг Аррха недавно принесла потомство. Здесь Тревельян задержался, чтобы оценить размеры популяции. Приплод был обильным, архи росли быстро, и он решил, что теперь у города будут новые защитники вместо убитых в Рхх Яхите. Не исключалось, что целью их неудачного похода являлся вовсе не грабеж, а переселение на запад, то есть типичная миграция, вызванная демографическим давлением. Если так, подумал Тревельян, это объяснит конфликты между городами, ибо население растет, а удобных для обитания мест не прибавляется. Решив поразмышлять над этим позже, он двинулся по коридору и попал в обширный склеп с тремя самцами. Крупные создания, вдвое и даже втрое больше любого арха благородных кровей, но все же не такие гигантские, как Мать-Королева. Эти не питались, а вроде бы дремали, но когда он собрался пересечь их камеру, один защелкал, засипел, требуя внимания. – Ххаа, ххаа… Приблизься, передающая слово. Ивар выполнил приказ, прижался брюхом к полу и почтительно заверещал: – Ты тот, чья шпора над любой жизнью… Ты оплодотворяешь Великую Мать… Ты тот, кто роняет плодоносное семя… Ты… – Не стучи зря жвалами и отвечай, – проскрежетал самец. – Прислал ли Шус Кута гонцов? Есть ли известия из западного края? В памяти Тхик нашелся Шус Кута – он был предводителем войска, нагрянувшего в Рхх Яхит. Несомненно, его труп уже разделали на мясо или швырнули в яму к помойным червям, как и тела всех его воинов. Сафу Тхик об этом не ведала, Тревельян же знал доподлинно, но огорчать собеседника ему не хотелось. С прежним почтением он ответил: – Известий нет, Плодоносный Муж. Ни известий, ни гонцов. Молчание. Потом самец недовольно щелкнул и повелел: – Придешь после нового восхода. Если не будет гонца, пусть на запад отправятся девять хата шис. Пусть они узнают, захвачен ли город у Соляного Пути. Тхик поджала усы, что было знаком повиновения, и двинулась дальше, но у входа в тоннель Ивар ее притормозил. Ему показалось, будто в этих самцах есть что-то странное или, скорее, некое отличие от гвардейцев и других первопометных архов. Он замер, глядя на них и пытаясь разобраться в своем предчувствии. Размеры?.. Конечно, но странность не в этом. Хес Фья, его носитель, не видел Мать и ее Мужей в своем родовом гнезде, а уж с Королевой Рхх Яхита и подавно не встречался. Однако он знал, как все обитатели любого поселения, что самцы-Мужья огромны, а Мать еще крупнее, и мяса, соли и воды ей нужно больше, чем десятку воинов. Нет, ни размер, ни прожорливость не относились к числу новостей. Он продвинул ментальный щуп в сознание самца, говорившего с Тхик, потом коснулся двух других разумов. Эти создания жили дольше обычных архов, и, кажется, один из них был очень старым и доживал последние дни. Несомненно, они обладали изрядным опытом и привычкой к власти, но изучать их память Тревельян не стал – это требовало времени. В будущем, при удачном раскладе, кто-то из его агентов мог внедриться в такое существо, исследовать его воспоминания и получить массу полезных данных. Внедриться, и… Стоп, сказал он себе. Внедриться? Куда именно? Разве только в головной мозг, так как второй мыслящий центр, нервный узел под спинным гребнем, у этой троицы словно бы отсутствовал. Отсечен искусственно? Нет, разумеется, нет – делать лоботомию архи еще не научились. Выходит, атрофировался естественным путем… Интересно, почему?.. Отложив вопрос на потом, Тревельян развернулся и побежал по коридору. На выходе из этого тоннеля была железная решетка, у которой дежурили гвардейцы; решетку сдвинули, и он проник в огромный зал с колоннами, преддверие подземного лабиринта. В его стенах виднелось множество ходов, которые наверняка вели к казармам, арсеналам, складам красок, соли, продовольствия и к водному источнику. Очень похоже на пещеру в Рхх Яхите, решил Тревельян, отметив, что первопометных здесь немного, и гребни местной гвардии раскрашены синими и белыми полосками. Он выбрался наружу, и скудный свет дня на миг ослепил его, заставив попятиться в полутьму пещеры. Перед ним лежала верхняя терраса, широкая и почти пустая – бродили тут три-четыре десятка первопометных, а из других сословий и вовсе никого. Похоже, военная экспедиция отняла у Ханг Аррха много сил – как обычно бывает, в поход ушли самые крепкие и молодые. Тревельян прошел до конца карниза в одну сторону, повернул, прошел в другую. Самцы, завидев Сафу Тхик, почтительно топорщили усы, ожидая распоряжений местной власти, но Ивар только пощелкивал жвалами, и ему уступали дорогу. Не обнаружив ничего интересного, он перебрался на нижние ярусы, пробежал мимо лавок, мастерских, жилых щелей и нор, зондируя их обитателей. Быстро, быстрее, еще быстрее! На поиски в Рхх Яхите ушло больше двух недель, а этот город он не мог осматривать так же долго и тщательно. Но если Винс здесь, он его найдет. Эта надежда не покидала Тревельяна, однако были и поводы для сомнений. Возможно, думал он, Винс отправился в Рхх Яхит вместе с войском как пленник из вражеского города?.. Или как перебежчик и проводник?.. В походе ему было бы проще добраться до возка и оставить надпись… Но, с другой стороны, зачем царапать доски, если он и так уже двигался в Рхх Яхит?.. На всякий случай, для гарантии?.. Нет, с логикой это не вяжется. К чему надпись, если ты на прежнем месте?.. И зачем вообще его покидать?.. В штурме города Винс не участвовал и не попал в число убитых, в этом была у Тревельяна полная уверенность. Миг гибели – миг освобождения: срабатывал защитный модуль, и душа возносилась в рай, то есть на станцию, к собственному телу. А раз не вознеслась, значит, агент Кораблев еще пребывает в аду, в преисподней Арханга. Он мог бы освободиться, прикончив носителя, но не исключалось, что были к этому препятствия морального или иного свойства, не говоря уж об инструкции, запрещавшей причинять вред ментальному симбионту. Размытое солнечное пятно уже висело над западным краем пустыни, когда Тревельян добрался до самого нижнего яруса. Здесь была городская клоака: стойла шошотов и птиц, которые чистили редко и без большого усердия, рвы с червями, куда валили гнилое мясо, фекалии и прочие отходы, свалка ржавого железа, ямы для пленных чужестранцев и провинившихся горожан. Трудились здесь шестипометные под присмотром надзирателей из покалеченных солдат – кто без лапы, кто без глаза или жвал, кто с битым и кое-как сросшимся панцирем. Но с копьями и железными штырями эти инвалиды управлялись ловко и не скупились на тычки и пинки. Туа па, тем более самки благородного сословия, были здесь редкими гостями. Сюда спускались, чтобы выбрать шошотов перед дальней дорогой и снарядить повозки, принять особо ценный груз или сунуть в яму знатного пленника из чужих первопометных. Еще встречали врагов, атакующих город, как случилось недавно в Рхх Яхите, бились с ними, добивали или падали сами под ударами секир. Кроме таких событий, нижний уровень жил как бы отдельно от города, подтверждая мудрость латинян: suum cuique[138]. Завидев Сафу Тхик, местная публика припадала к земле, демонстрируя покорность, боясь пошевелить усами и дернуть лапой. За нею увязались шестеро солдат, но от этой почетной охраны Тревельян избавился, грозно щелкнув жвалами и приказав им убираться. Оставшись в одиночестве, он заглянул в пещеры, куда загоняли на ночь шошотов и птиц, – ничего, кроме клочьев шерсти и холмов фекалий. Он осмотрел свалку железа, разбитых сосудов и грязной свалявшейся паутины – там, сортируя мусор, ползали среди обломков шестипометные. Разумеется, среди них не было Винса. Он пробежался мимо длинных извилистых канав, заполненных жидкой грязью – в них кишели черви, крохотные прожорливые существа, несъедобные, но очень полезные, служившие ассенизаторами во всех поселениях архов. Рядом с канавами вздымались горы костей и гниющего мяса, торчали тут и там лапы, жвалы, переломанные шпоры и усы, валялись высохшие грудные и лобные панцири. То было городское кладбище, куда стаскивали все, что не годилось в пищу архам, но червей вполне устраивало. За помойными рвами, в дальнем краю нижней террасы, тянулись ямы с пленниками. Последняя надежда, подумал Тревельян, зондируя их одну за другой и убеждаясь, что ямы набиты битком, но сидят там только архи, местные либо какой-то непонятной принадлежности. Ямы, похожие на колодцы, были перекрыты ржавыми железными решетками и выложены прочным камнем; ковырять и царапать его не стоило, только шпоры обломаешь. Он приблизился к одной из них, заглянул внутрь и в ужасе дернул усами – от лежавших на дне созданий веяло ненавистью и смертельной злобой. Злоба, ненависть и голод, три жутких демона, витали над ямой, не позволяя забыть, что в ней всего лишь живое мясо. В крайней и самой большой ямине держали архов, каких Тревельян еще не встречал. Они не были похожи на крупных коричневых яхитов – заметно мельче, панцири темные, почти черные, и спинные гребни ближе к голове как бы раздвоены. Решетка над их ямой с края просела, так что Ивар, встав над этой щелью, мог разглядеть узников во всех подробностях. Он решил, что перед ним шетаны, обитатели Шета, и тут было о чем поразмышлять. Три населенных материка, Шет, Тху и Яхит, разделялись океанскими водами, и расстояние между их берегами составляло от трехсот до тысячи километров. Что до яхитов, то их мастерство в плавании по водам не очень впечатляло – они умели переправляться через реки на плотах, но ни морских, ни речных судов не строили. Похоже, шетаны продвинулись дальше – ведь без корабля не попасть на Яхит… «Не местные ли это колумбы?..» – с внезапной тоской и жалостью подумал Тревельян. Совершили подвиг, переплыв через море, причалили к неведомой земле, высадились и попали в плен к яхитам… Разумеется, не здесь, а на восточном побережье – там, за горными хребтами и пустынями, тоже есть города… Очевидно, пленители разделили мореходов и продали в другие поселения как некую диковину – в яме было девять шетанов, а это маловато для команды корабля. Что с ними будет?.. Съедят?.. Заморят голодом?.. Бросят помойным червям?.. Он вдруг почувствовал, как в него кто-то вцепился. Опустив глазные стебли, Ивар увидел шетана – тот стоял на спинах двух других пленников, и пальцы его верхних конечностей железной хваткой сомкнулись на лапе Сафу Тхик. «Чего он хочет?..» – мелькнула мысль. Что это? Просьба о помощи? Мольба о пощаде? Еще один мореход быстро взобрался наверх по телам своих собратьев и с яростью тряхнул решетку. Ржавые пруться заскрипели, подались, вниз полетело несколько обломков, и щель, у которой стоял Тревельян, сделалась шире. Внезапно он понял, чего хотят пленники – не помощи, не пощады, только есть, есть, есть!.. Их терзал голод, но осознание этого пришло слишком поздно – его схватили за обе нижние лапы и тянули в яму. Где-то за спиной раздался лязг металла, послышались скрежет и топот солдат, но Ивар уже летел вниз вместе с вцепившимися в него шетанами. Его ударили шпорой под грудной панцирь, потом острые жвалы вонзились в живот. «Зря я отказался от охраны», – думал Тревельян, пока его рвали на части.Глава 5 Снова Рхх Яхит
«Уж очень ты доверчив и неосторожен, – молвил призрачный Советник. – И что самое удивительное, не вникаешь в исторический опыт нашей далекой, но любимой родины. А надо бы! Ты ведь ученый! Должен помнить все прецеденты и действовать соответственно!» «Ты о каких прецедентах, дед?» – поинтересовался Тревельян. «Как о каких! Кука съели? Съели! Магеллана съели? Съели! Еще Беринга, Крузенштерна, Миклухо-Маклая и этого английского пирата… Дрейк он или Генри Морган?.. Нет, все-таки Дрейк». «Ты, дед, погорячился. Кука, может, и съели, а с остальными ничего подобного. Каждый принял свою судьбу, но без ножа и вилки». «Пусть так, но тобой-то точно пообедали! Кстати, тоже без ножа и вилки!» «Не мной, а Сафу Тхик, – возразил Тревельян, горестно поджимая усы. – Жаль ее… Хорошая была девочка… старательная… Mea culpa! Mea maxima culpa!»[139] «Вот что я тебе скажу, парень, – произнес Командор после недолгой паузы. – Искренне скажу, от всего сердца, как офицер офицеру… Ты, братец, гуманист и потому безнадежен». «Во-первых, я не офицер, – начал Тревельян, – я никогда не служил в Звездном Флоте…» «А зря! Там бы тебя научили уму-разуму!» «Не перебивай. Во-вторых, я и правда гуманист, ибо любая моя миссия требует понимания, сочувствия и даже жертвенности. Понимание – вообще императив нашего времени! Даже старым заскорузлым воякам пора это усвоить!» Против ожидания, Командор не обиделся. «Ты не прав, голубь мой сизый, я тоже в своем роде гуманист. Видишь ли, гуманизм – понятие размытое и непростое. Вот, предположим, бился ты с дроми, прикончил десяток и обнаружил, что один еще дышит. Можно его лечить, хотя непонятно как, а можно пристрелить, чтобы не мучился. Это два разных полюса, ты на одном, я на другом, но мы оба – гуманисты. Соображаешь?» «В таких делах консенсуса нам не достигнуть», – подумал Ивар. Разница между ним и почтенным предком проистекала из смены парадигм, случившейся в последние столетия. Тревельяну Галактика мыслилась бескрайним полем для открытий и, разумеется, приключений, не всегда безопасных, однако не связанных с применением силы – во всяком случае, в масштабах, соизмеримых с жизнью или смертью любой из галактических рас. Командор же являлся продуктом тех веков, когда Земная Федерация боролась за выживание, когда отгремели четыре Войны Провала[140], а вслед за ними – долгие и кровавые сражения с дроми. Героическая эпоха, но жестокая; самым веским аргументом в спорах был аннигилятор, самой правильной политикой – недоверие. Но времена изменились. К счастью, изменились, думал Тревельян, озирая низкое, затянутое тучами небо и холмистую равнину под каменной стеной Рхх Яхита. День только разгорелся, он стоял на страже в одном из проходов к арсеналам и казармам, и дежурить здесь предстояло до вечера. В полном одиночестве, если не считать ворчливого предка. Прежде охрану на всех постах несли вдвоем, но в результате набега численность обеих рот сильно уменьшилась, и к тому же капитан Шат Сута увел сорок гвардейцев в поход к дальним поселениям. Всюду подрастали молодые туа па, искавшие почетной службы в Рхх Яхите, но вакансии в гвардии освобождались не каждый день, а только после хорошей потасовки с множеством трупов. Случай был как раз такой, молодежь могла продвинуться на ниве чести, и Ивар не сомневался, что капитан синих вернется с пополнением. Его отряд ушел прошлым утром, еще до того, как Тревельян, закончив с неудачными розысками, снова вселился в Хеса Фья. Носитель был цел и невредим, ел, пил и нес службу под присмотром Командора и уже считался ветераном, вкусившим вражеской плоти и крови. Крови – в фигуральном смысле, а с плотью ситуация была реальной, но уточнять подробности Тревельяну не хотелось. Что съедено, то съедено и забыто. Вернулся он в мрачном настроении, ибо поиски зашли в тупик. Конечно, в Ханг Аррхе он узнал кое-что новое и, вероятно, важное, но все эти сведения о Королеве и ее супругах могли бы добыть полевые агенты при непрерывных и планомерных исследованиях. Однако их работа, как и прежде, была парализована, а у сотрудников на станции Сансара новых идей не возникло. Явный провал, усугубляемый муками совести из-за погибшей Сафу Тхик… Гордость Тревельяна тоже страдала, так как смерть носителя, то есть существа, опекаемого высшим собратом по разуму, не делала ему чести. Одно утешение, что Тхик сожрали местные колумбы-аргонавты, а не какая-то шваль… Некоторое время он размышлял о шетанах, об их корабле, затерянном где-то у восточных берегов, о перспективах мореходства на планете, пытаясь прикинуть план исследований в этом направлении. Потом бросил; не об этом надо было думать, а о загадочной надписи на тележных досках и Винсенте Кораблеве, взывающем о помощи. Винс, как и судно шетанов, где-то затерялся, но найти его было куда труднее, чем корабль или какой-нибудь город. Чтобы изучить географию морей и континентов, существуют карты, но есть ли карта географии разума? Винс, Винс… Где ты, Винс?* * *
Вечером, сменившись с дежурства, Ивар сидел в заведении Кьюка. Понятие «сидеть» не относилось к буквальному смыслу слова, так как архи в силу особенностей анатомии сидячих поз не принимали. Они могли стоять на двух нижних лапах или на четырех, а для отдыха, сна и приема пищи опускались на все шесть конечностей и, значит, скорее, лежали на брюхе, чем сидели. Поэтому «сидеть» в данном случае означало «пребывать». Разумеется, не только пребывать, а еще пить, закусывать и вести беседу. Ели архи вечером, единожды в день, и, как правило, большой компанией – солдат со своим отрядом, мастер с подмастерьями, торговец с работниками и приживалами. То был древний инстинкт, повелевавший сбиваться в кучу во время трапезы: чем больше куча, тем меньше риска, что чужаки отнимут еду. Гвардейцы столовались в кабаках на верхней террасе, для чего их владельцев снабжали солью и мясом с королевских складов. Как пополняются запасы, как ведется торговля, как взимают налоги и есть ли такая система вообще, Тревельян пока не разобрался. Собственно, к поискам Винса это не относилось, и он полагал, что агенты, работая в нормальном режиме, соберут все данные за пару месяцев. Только где он, этот нормальный режим?.. Солнце шло на закат, сизые тучи висели над равниной, ветер кружил первые снежинки. Как всегда, гвардейцы синей и желтой рот собрались на трапезу в «Обломанных усах». Кто посасывал из чаши соленую воду, кто жужжал и скрипел, вспоминая недавнюю битву и свершенные подвиги, кто тянулся хоботком к мягким мясным червям. Черви были свежие, еще живые, и норовили удрать со стола, но тщетно – самка-прислужница с ножом и колотушкой не дремала. Другие шестипометные таскали пойло, возились у больших корзин с червями и, под присмотром Кьюка, засыпали в бочку с водой драгоценную соль. Тревельян расположился у низкого каменного стола рядом с Хау. Тос Фиут и Оси Шиха тоже были здесь, а еще Ки Фаш, гвардеец из синих. В схватке с трупоедами из Ханг Аррха ему пробили секирой грудной щиток, но хитиновая броня уже срасталась, и скоро на месте разлома останется только бугристый шрам. Регенерация у архов шла с поразительной скоростью. – Шат Сута ушел, – сообщил Оси, недовольно лязгнув жвалами. – Ушел без нас. – Хрр… – прохрипел Тос Фиут, не отрываясь от пойла, а Хау заметил: – В помойную яму его. Ушел и ушел. – Ушел на юг, в крепости наших семейств, – пояснил Оси. – Мне бы хотелось встретиться с родичами. Я без них не тоскую, но все же… – Вытянув хоботок, он присосался к червю, потом добавил: – Выпить бы с моими однопометными… пройтись по знакомым карнизам, заглянуть в родные норы… самок пощекотать… «Да он в элегическом настроении! – удивился Командор. – Прям-таки поэт! Есенин!» Тревельян промолчал. Он занимался тем, что в сотый раз зондировал Фиута. Кривая Шпора был уже пьян, но сосал водицу с прежней энергией, и ментальные импульсы его мозга становились все менее отчетливыми. Нервный узел под спинным хребтом тоже отключался, и к тому же Ивара не покидало чувство, что этот орган у Фиута не очень развит. Возможно, природная аномалия, мутация или следствие беспробудного пьянства, размышлял он, продолжая зондировать соратника. Ничего! На миг его охватило отчаяние. Ребус с посланием на тележных досках казался неразрешимым – в Ханг Аррхе Винса не было, и в Рхх Яхите тоже. Куда же он делся?.. И кто процарапал на доске его имя?.. Тем временем Оси и Ки Фаш вступили в спор: каждый хвастал, что из его цитадели вышли самые доблестные воины и было их столько, что хватит на целую роту. Хау следил за беседой с интересом, а Кривая Шпора никак не реагировал, сосал и сосал пойло и временами скрипел жвалами, посылая проклятия демонам. Они по-прежнему терзали Фиута, но если у него и была душевная болезнь, то затаилась она так глубоко, что Ивар не мог добраться до ее причин и следствий. Тос Фиут, непревзойденный боец, казался нормальным во всех отношениях, кроме истории с демонами; не исключалось, что он их придумал, чтобы оправдать свой грех. Пил он вдвое больше, чем любой гвардеец. Разногласия между Оси и Ки перешли в активную фазу: Оси уже грозил оппоненту шпорами, а Ки свирепо фыркал и размахивал тяжелой чашей. Зная, чем кончаются такие споры, Тревельян вмешался, напомнил, что доблестным южанам не к месту ссориться, ибо произойдет потеря чести на радость желтой роте. А потому не лучше ли признать, что семьи Шиха и Фаш – обе достойны почета, выпить и перейти к другим делам? Например, к событиям загадочным, случившимся недавно на восточных берегах. Оси, не лишенный любопытства, разом остыл и направил на Тревельяна глазные антенны. – Восточный берег? Это очень далеко. Никто там не бывал. – Никто, кроме торговцев солью, – сказал Тревельян, дав свободу фантазии. – Важные торговцы из второпометных. Я с ними говорил. – И что они рассказали? Тревельян на мгновение задумался – в языке яхитов не было слов «лодка» или «корабль», равно как «парус», «мачта» и «весло». После недолгой паузы он шевельнул усами и промолвил: – Рассказали, что по воде приплыла огромная телега без колес. По большой воде, что на краю наших земель. – Телеги не плавают в воде, – возразил Ки Фаш, и Хау щелкнул жвалами в знак согласия. Но Оси Шиха обладал воображением, что у архов бывало нечасто. Подумав с минуту, он изрек: – Дерево плавает в воде. Телега деревянная, значит, может плавать. Даже без колес. – Подумал еще и спросил: – Но кому нужна такая телега? – Шетанам, – пояснил Ивар. – В телеге было полно шетанов. Они вылезли на восточный берег и попали в плен. – Никогда не ел шетанов, – заметил Хау. – Тху ел. Вкусные! Материк Тху находился к юго-западу от земель яхитов и был более теплым и щедрым, с плодородными почвами, дремучими лесами и богатой фауной. Габор Ходковский, побывавший там, сообщал, что тху занимаются земледелием, и у них даже есть что-то похожее на ветряные мельницы. Широкий пролив между континентами усеивали острова. Иногда море замерзало, и яхиты, пробираясь от острова к острову, устраивали охотничью экспедицию в далекий изобильный край. – Торговцы, что об этом рассказали… Где они? – спросил Оси Шиха, в удивлении поводя усами. – Не расскажут ли чего еще? – Нет, не расскажут. Убиты во время набега, – отговорился Тревельян. – И я думаю, пленных шетанов тоже нет. Думаю, их съели. И тут Оси его потряс. Привстав на задних лапах и печально свесив усы, он проскрипел: – Кхх! Нехорошо! Повидавшие мир должны жить и рассказывать нам об увиденном! Иначе как мы узнаем про земли востока и запада, севера и юга? Как узнаем, что в них можно встретить, с кем сражаться, где добыть краску, соль, металл и другие полезные вещи? Пленив этих шетанов, я бы не стал их есть, я бы их послушал. Съеденное быстро уйдет к помойным червям, а услышанное запомнится надолго. «Вот, – прокомментировал Советник, – вот разумный арх! Не то что эта пьянь Кривая Шпора! Да и другой твой приятель тоже невеликого ума… Одно слово, Каменный Лоб! Все бы ему жрать да жрать!» «Когда мы стерегли обоз, Оси тоже не возражал мною полакомиться, – напомнил Тревельян. – Но спорить не буду – когда он сыт, с ним можно разговаривать. Хотя…» Закончить он не успел – раздался яростный вой, о стену разбилась каменная чаша, и ее осколки забарабанили по спинному гребню.Целились не в него, то был случайный промах. За соседним столом два гвардейца, синий и желтый, рухнули на пол, царапая друг друга шпорами, а третий – кажется, синий – вырвал у прислужницы колотушку, размахнулся и врезал подоспевшему Кьюку меж усов. – Не здесь, туа па! – привычно заверещал хозяин, топорща глазные стебли. – Во имя Великой Матери, не здесь! Жужжа и щелкая, драчуны выкатились на карниз, за ними толпой последовали гвардейцы, увлекая Тревельяна с товарищами. Однако до смертоубийства дело не дошло – словно из-под земли вырос Хите Сута, капитан желтых, и велел прекратить безобразие. В обеих ротах осталось сотни четыре бойцов, слишком мало, чтобы вышибать мозги друг другу, и запрет на поединки выполнялся со всей строгостью. Гвардейцы потянулись к норам казарм. Они ползли по отвесной каменной стене, исчезали в темных отверстиях тоннелей, и когда исход завершился, там возникли фигурки стражников. Последний свет, пробившийся сквозь тучи, падал на пустынные террасы Рхх Яхита, на унылую холмистую равнину и скопище телег в том месте, где находился стан чужого воинства. Повозки были пусты – все ценное перетащили на городские склады, шошотов загнали в стойла, а лишних прирезали. Их жесткое мясо уже вымачивалось в чанах с подсоленной водой. Ивар остался на карнизе в одиночестве. Стоял, глядел на меркнущие тучи, на равнину и обоз, размышляя, не спуститься ли туда, не осмотреть ли еще раз возок с посланием. Но был ли в этом смысл? Интуиция подсказывала ему, что он упускает нечто важное, не связанное с надписью на досках, с городами архов и даже с их природой, так и не познанной до конца. Что же именно? Чего он не заметил? Смутное чувство, никак не желая оформиться в слова, терзало Тревельяна. Он не привык отступать. Пробудился призрачный Советник. «Топчешься на месте. А знаешь, отчего, голубь мой? – Пауза. – Могу намекнуть». «Так намекни», – сказал Тревельян. «В мозгах все дело, юноша, в мозгах. От соленой водицы в них никакого просветления. Вернись на станцию, отдохни, девушкам улыбнись, прими коньячку, тогда и появятся мысли. Хочешь, побалуйся с этой штукой, с гипноглифом, будь он неладен… Я даже против этого не возражаю. Не могу смотреть, как ты мучаешься… то есть не смотреть, а ощущать». «Ты, дед, когда шел в бой, тоже коньяком лечился?» – полюбопытствовал Тревельян. «Нет, ромом, он покрепче будет. Экипажу – по глотку, а стрелкам – двойная порция, чтобы палец на гашетке не дрожал. – Снова пауза. Потом: – А нет ли у нас на станции рома?» «У нас есть все, кроме новых идей», – промолвил Тревельян, печально опустив усы. Дед не отставал. «Идеи! Для идей человеческий разум нужен!» «И коньяк», – ехидно добавил Ивар. «Смейся, смейся! Думаешь, разум весь с тобой? Думаешь, ничего не застряло в извилинах? Там, на станции?» «Ничего, – убежденно сказал Тревельян. – Я не очень представляю тонкости инкарнации, но, как уверяют специалисты…» «Жвалы у них не щелкают, у твоих специалистов! Возьми, например, нас с тобой… Два вполне самостоятельных разума, но когда твою сущность извлекают из извилин, я переселяюсь тоже. Из памятного кристалла, заметь! Твои специалисты это могут объяснить?» «Полагаю, дело в особой настройке приборов», – возразил Тревельян, но призадумался. Кристаллик с призрачным Советником он носил уже многие годы и временами чувствовал, что не только имплант является звеном, что связывает их. Имплант, в конце концов, техническое устройство, а связь с дедом коренилась на более глубоком уровне, эмоциональном, почти подсознательном. Пожалуй, Советник стал частью его личности, вторым «я», независимым и всегда готовым к спорам. «Ты мог бы это проверить», – напомнил о себе Командор. «О чем ты? Что проверить?» «Не отвлекайся. Я говорю о твоей комплектности. Весь ли ты здесь или что-то потеряно? Мы в нервном узле Хеса Фья… Но может ли этот орган вместить весь разум человека? Тем более столь необычный, как у тебя? Вдруг это в принципе невозможно?» Уместное напоминание, решил Тревельян. Только он мог искать и найти пропавшего агента, ибо дар, полученный на Раване, позволял внедряться в чужие разумы. С телепатией, с чтением мыслей это не было связано – скорее, он ощущал ауру эмоций и желаний, весь спектр чувств от светлой радости до голода и злобы. Но этим дарованное ему не исчерпывалось. «Вот-вот, – буркнул Советник, – про то и разговор. Ты ведь умеешь открывать портал и прыгать, так? На любое расстояние, хоть от звезды к звезде, хоть от стола к постели? Ну, давай! Кажется, ты хотел взглянуть на телегу… Можно ползти на своих шести, но это тараканий способ. Не проще ли переместиться? Так, как тебя научили даскины?» «Открыть портал? Это не проблема», – молвил Тревельян, фиксируя взгляд на скопище повозок за первым ярусом. Рассекающий пространство меч таился в его сознании, будто в невидимых ножнах, и на мгновение ему почудилось, что этот клинок, творение древней расы, сейчас оживет и разрежет ткань Мироздания, позволив шагнуть вниз, на равнину, которую уже заметали снега. Это ощущение было сильным, очень сильным – он даже поднял конечность и попытался согнуть ее, забыв, что это лапа арха, а не человеческая нога. Но портал не открылся. Потрясенный, он замер на краю карниза, едва не упав в пропасть. На секунду он осознал себя архом, будто лишился не только облика, но и своей человеческой сущности и стал странным существом, полуживотным-полунасекомым, с шестью лапами, жвалами и длинными усами. Ментальный голос Командора заставил его очнуться. «Не получается? Ну, я предупреждал… Что бы там ни переносили эти твои инкарнологи, это меньше, чем Ивар Тревельян. Меньше, чем Винс Кораблев, Габор Ходковский и Эд Хабблтон… Оттолкнись от данного факта и действуй». «Ты, пожалуй, прав, – откликнулся Тревельян, выйдя из оцепенения. – Пожалуй, мне стоит вернуться на станцию, отдохнуть и все обдумать. Ты готов, дед?» «Я-то готов, но не забудь про нашего родного таракана. Ему спать давно положено, а он еще не спит и может без нас растеряться. Лучше его в отсек отконвоировать и в койку уложить». «И в этом ты прав», – сказал Тревельян, направляясь к стене над террасой. Он добрался до входа в тоннель, прошмыгнул мимо стража и растаял в темноте прохода.* * *
Через час с четвертью, вынырнув из недр саркофага, освежившись под душем и перекусив, Ивар сидел в своей каюте. На станции, как и в Рхх Яхите, царили ночь и тишина. В приемной камере дежурила Ольга Сигрид Хаменлинна, невозмутимая, как ее скандинавские предки. Ивар велел ей никого не тревожить – какие, мол, совещания ночью?.. – но дежурство не прерывать. Собственно, так и полагалось по инструкции, когда на планете пребывал агент – в данном случае, Винс Кораблев. Открыв сейф, Тревельян вытащил контейнер с гипноглифом, посмотрел на него и сунул обратно. Сейчас он не нуждался в покое, даруемом непостижимой игрушкой лоона эо, – голова его была ясной, он ощущал прилив энергии и знакомое охотникам чувство близости добычи. Добыча – или, если угодно, разгадка – манила его, то мелькая в дебрях фактов, то погружаясь в темный омут домыслов; и если согласовать одно с другим, дикая местность превращалась в парк с кудрявыми рощами и ясными светлыми озерами. Он думал о том, что инкарнология – новая наука, и здесь, как бывает всегда в сферах неизведанных и до конца не познанных, может случиться такое, чего заранее не предусмотришь. Например, эффект Грановского, ментальный маяк, позволяющий после первого контакта вновь и вновь возвращаться в разум носителя… Специалисты пока не объяснили данный феномен, равным образом и то, почему связь исчезает через некоторое время. Этот период составлял от трех-пяти дней до месяца и, вероятно, зависел от индивидуальных особенностей человека и его симбионта. Все, что инкарнологи могли сказать по этому поводу, сводилось к сакраментальной фразе: мозг равновелик Вселенной, и загадок в нем не меньше. Вот и еще одна: в обличье арха Ивар терял паранормальную способность перемещаться сквозь пространство. Он не мог проникнуть в тот таинственный континуум, где даскины разместили сеть своих порталов, позволявших с равным успехом шагать от звезды к звезде или, как выразился дед, от стола к постели. Но телепортация – если назвать ее так – была лишь одним из дарованных ему талантов. Помимо этого, он обладал способностью входить в бессловесный контакт с любым инопланетным существом, считывать эмоции, проникать в сознание ментального партнера и даже в какой-то степени исследовать его мозг. Но, переселившись в арха, сохранил ли он в полной мере этот дар?.. Чего стоили его поиски, зондирование тысяч и тысяч существ, если проникновение в их разумы было недостаточно глубоким?.. Что он пропустил, где и когда ошибся?.. «Хватит заниматься самоедством, – беззвучно произнес Командор. – Ты знаешь, что делать». «Знаю, – подтвердил Тревельян. – Я должен спуститься на Арханг в своем человеческом облике. Я должен продолжить поиск. Но теперь я знаю, с кого начинать». Он поднялся и вышел из каюты. Двумя палубами ниже находился отсек со специальным оборудованием, какое могло понадобиться при высадке на планету с пригодной для дыхания атмосферой. Если не считать иглометов с парализующими иглами, здесь не было оружия, здесь хранились легкие скафандры, термокомбинезоны, скобы[141], лазерные резаки, бинокли-дальномеры, газоанализаторы, маски с фильтрами, не пропускающими чужеродную микрофлору, и прочее в том же духе. Ивар облачился в комбинезон с подогревом, натянул сапоги и шлем, оснащенный передатчиком и прибором ночного видения, сверху набросил плащ-невидимку[142]. Затем повозился минуту, прилаживая на шее обруч транслятора – без него он мог произнести на языке архов лишь пару фраз, да и то с риском повредить горло. Закончив приготовления, он вызвал по внутренней связи Ольгу Сигрид Хаменлинну. – Надеюсь, не спишь? Будь готова принять Винса. – Сейчас? – ответила инкарнолог в недоумении. – Вы ведь на станции, шеф? И как же вы его нашли? – Я на станции, но отправляюсь на планету. Винса примешь через… хм, я не знаю точного времени. В ближайшие часы, скажем так. Разбуди Ришу, Брайта и ваших инженеров, пусть еще раз проверят оборудование. – Отправляетесь на планету? Я должна вас переслать? – Недоумения в голосе Ольги стало еще больше. – Не должна. Я собираюсь посетить Рхх Яхит в своем естественном обличье. – Спуститесь на челноке? – Нет. Молчание. Потом изумленное: «А-а!» – и Тревельян понял, что сейчас рождается еще одна легенда. Минует год-другой, и от границ Провала до миров терукси будет ходить история о чудо-ксенологе, перебравшемся на Арханг без челнока, без десантного катера, без экраноплана, вообще без транспортных средств и посадочных модулей. Захотел, щелкнул пальцами, и уже на месте… Разумеется, Ольга была в курсе слухов, что ходят о нем. Теперь добавится что-то новое. Ивар вздохнул и произнес: – Не могу сказать, в каком состоянии будет Винсент. Вызови в приемную камеру Ханса Аппеля, и пусть почтенный Фархад тоже там будет. Вдвоем врач и нейрофизиолог быстрее разберутся. – Да, шеф. Сделаю, шеф. Прервав связь, Тревельян представил каменную стену Рхх Яхита под беззвездным небом. На мгновение яркая вспышка заставила его прищуриться, затем охватили мрак и холод. Свет, тьма… Миг, когда портал распахнулся перед ним и вновь соединил края разорванной Вселенной, был неощутим. Он стоял на верхнем городском карнизе, перед ним чернели отверстия нор, из туч сыпали снежные хлопья, и яростными порывами налетал ледяной ветер. Тьма и холод быстро отступили: включился термокостюм, согрел его, лицо прикрыла пластина ночного визора; теперь он видел так же ясно и отчетливо, как днем. Картина была знакомой, но глаза человека воспринимали ее иначе, чем антенны симбионта – чудилось, что скалистый кряж с пещерным лабиринтом вздымается вверх бесконечно, пронзая вершинами облака, или, возможно, не облака висят над ним, а такие же горы источенного ходами камня. Тревельян моргнул, иллюзия исчезла, и его взгляд потянулся к тоннелю, что вел в казармы. До входа было метров двести, но он различил крохотную фигурку стоявшего там часового – жвалы с острыми кончиками, разведенные в стороны глазные стебли, секиру в верхних конечностях. Неощутимая доля секунды, и он очутился среди каменных стен, за спиною стража. Он знал, чего ожидать, и все же шок был неизбежен. Тоннель, казавшийся прежде таким широким, таким просторным… Сейчас Ивар чуть не упирался в свод макушкой и, растопырив локти, мог коснуться стен. Пещера за тоннелем, огромная, величественная, с высоким потолком, что тонул во мраке – теперь скромных размеров залец с грубыми, кое-где кривоватыми колоннами и множеством темных дыр, ведущих в глубь горы, в проходы лабиринта. А главное – доблестный туа па, что несет охрану! Грозный воин в железном доспехе, с секирой, с окованными металлом шпорами!.. Он доставал Ивару до колена и выглядел неуклюжим подземным карликом, пародией на сказочного гнома. Но у земных гномов, как помнилось Тревельяну, топоры были все же побольше, а сами гномы – ростом повыше. Однако этот жестокий народец являлся разумным и попадал в сферу интересов ФРИК. Тревельян, конечно, не надеялся дожить до времен, когда архи покинут подземелья, возведут небоскребы, проложат железные дороги и устремятся к звездам. Но увидеть на этой планете поля, стада и изобилие пищи он твердо рассчитывал, надеясь, что в этом дивном будущем тут перестанут есть своих сограждан, особенно тех, что приплыли, на свое несчастье, из-за моря. «Что за мрачные мысли? Ты и до небоскребов доживешь, – обнадежил его Командор. – Подселишься ко мне, когда придет твой час, а кристалл достанется внукам… Как-нибудь уживемся вместе». «Ужились бы, но я не того масштаба личность, чтобы попасть в Колумбарий Славы, – возразил Тревельян. – У меня, дед, твоих заслуг не имеется и внуков тоже». «Все впереди, голубь мой, все впереди. Но о внуках или хотя бы о детишках пора побеспокоиться. С меня бери пример! Пять сыновей, шесть дочек, а ведь дома я бывал раз в год по обещанию. Служба! А ты ведь у нас крейсером не командуешь». Вздохнув, Тревельян надвинул капюшон плаща. «Не командую. У меня небольшая исследовательская станция, тридцать семь сотрудников, и одного я потерял. Давай-ка его отыщем». С этими словами он пересек зал с колоннами и углубился в тоннель, где почивала синяя рота. В его стенах зияли щели, ведущие к спальным норам, и из них не доносилось ни звука. Идти пришлось согнувшись, но капюшон все равно задевал камни, что торчали тут и там из неровного потолка. В узком проходе плащ, в общем-то, был бесполезен – повстречай он здесь гвардейца, тот бы мимо не прошел, а уткнулся прямо в колени Ивара. Но архи спали, и просыпаться среди ночи было не в их правилах. Отсчитывая щель за щелью, он нашел нужный закуток, ползком протиснулся в него и услышал хрип и скрежет Кривой Шпоры. Камера оказалась крохотной, два с половиной на два метра; слева – гамаки Хау и Хеса Фья, справа – Оси и Тоса Фиута. Тревельян сел на пол – выпрямиться тут он не мог – и уставился на своего ментального симбионта. Впервые он видел его со стороны и решил, что Хес Фья изящен и даже красив – само собой, по местным меркам. Сейчас он чувствовал глубокую связь с этим молодым архом, не мысленную, а эмоциональную, ту нерасторжимую связь, что возникает между отцом и сыном или иными близкими родичами. Они с Хесом Фья так отличались друг от друга, так разнились по внешнему облику, физиологии, привычкам и культуре породивших их рас, что в Галактике не нашлось бы еще столь непохожих созданий. Но это не имело значения. В конце концов, кто ближе существа, соединенного с тобой не только разумом, но и общими чувствами?.. «Не забывай про меня, – ревниво проворчал Командор. – Я ведь не шестилапый таракан. Я тоже был человеком, и я твой предок». «Прости, дед», – откликнулся Тревельян, повернул голову к другой стене и вздрогнул. Архи, жители подземелий, обладали острым зрением, но тьма, царившая в спальных норах, не позволяла разглядеть ровным счетом ничего. В этом не было нужды; Хес Фья и его соратники ориентировались на ощупь и точно знали, где свалены доспехи и оружие, где их гамаки и где бадья с пойлом. Но сейчас мрак не являлся помехой, и Тревельян отчетливо видел стену над гамаком Тоса Фиута. Камень покрывали глубокие царапины, казавшиеся на первый взгляд хаотическими, но он мог поклясться, что различает знаки земного алфавита. Не такие ясные, как на тележных досках, они повторялись много раз – корявые, неуклюжие, перечеркнутые случайным движением шпоры. Тревельян глядел на них, словно паломник, узревший в Святой Земле гроб и саван Спасителя. «ВИНС, – было процарапано на стене. – ВИНС, ВИНС, ВИНС…» Вопль о помощи, точно как на досках. «Нашлась потеря, – прокомментировал Советник. – Вот ирония судьбы! Чуть не месяц у тебя в приятелях ходил, рядом спал, ел и чуть нашего Хеса не слопал! Ладно, с этим проехали… Но что же он Винса-то не отпускает? На кой ему человечья душа? Поносит демонов, а сам не отпускает!» Тревельян не ответил – он погружался в сонный разум Тоса Фиута. Проникновение было более глубоким, чем прежде, и он впервые ощутил, что с этим архом происходит странная метаморфоза. Его нервный узел почти атрофировался, и даже во сне Тос Фиут пребывал в состоянии стресса – значит, гормональный баланс был нарушен, то ли по причине болезни, то ли из-за того, что соль он потреблял в немереных дозах. Либо первое, либо второе, либо неведомое третье, четвертое, пятое и десятое… Диагноз казался невозможным, так как о болезнях архов на станции Сансара знали не больше, чем о точной дате конца Вселенной. Чувствуя свою беспомощность, Тревельян не пожелал этим заниматься и приступил к глубокому сканированию спинного мозга. Непростая задача! Связь нервного узла с основным мыслящим центром почти прервалась, что сделало ментальный канал слишком узким и нестабильным. Стараясь уловить слабые импульсы и разобраться в их смысле, Ивар вдруг осознал, что спектр излучений ему знаком. Где-то он сталкивался с подобной картиной, и чудилось ему, что это было совсем недавно, если не вчера, то несколько дней назад. Но где?.. Где и когда?.. Он с легкостью бы это выяснил, будь у него время для таких воспоминаний. Но сейчас он погружался все глубже и глубже в хаос разума Тоса Фиута, пробиваясь сквозь его сонные кошмары, сквозь пласты минувших лет, сквозь гнев и гордость, ненависть и страх. Тос Фиут боялся демонов и ненавидел их – но, возможно, демон был всего один?.. Чуждая сущность в гибнущих клетках мозга… Второго мозга, напомнил себе Тревельян, и ему опять показалось, что он уже видел похожий ментальный узор. «Это вряд ли, – буркнул Командор. – Где видел, у кого? Тут у нас типичный случай делириум тременс, а у людей такие болячки давно не встречаются. На вашей станции и пьющих-то нет. – Пауза. Потом он добавил: – Конечно, если не считать меня». Тревельян промолчал, слушая, как скрипят и щелкают жвалы Тоса Фиута. Слабый, едва заметный импульс коснулся его разума, потом пришли другие ментальные волны, и он решил, что сознание арха не было их источником. Чья же аура пробилась к нему, чей призыв он услышал?.. Дрожь сотрясла Тревельяна, струйки холодного пота потекли по спине. Теперь, настроившись на нужную волну, он различал эти импульсы яснее, он понимал их смысл. То молила о помощи человечья душа, взывала безмолвно из могилы умирающего мозга, с крохотного острова, что сокращался с каждым днем и вскоре должен был совсем исчезнуть – а с ним исчез бы Винсент Кораблев, человек, посланец земной цивилизации. Его мысли были недоступны Ивару, он ощущал только ужас – долгий, долгий ужас существа, погребенного в темнице чужого тела. – Бедняга, – вырвалось у него, – бедняга… Сейчас он не думал о том, что случившееся может похоронить проект на Арханге и поставить крест на всей инкарнологии. Научные соображения его не волновали, равно как и провал миссии, которой он руководит. Мелочи, пустяки! Люди – любой из них! – были гораздо важнее. В сущности, все гигантское здание Земной Федерации, все ее институты и органы власти, ее флот, метрополии и колонии в самых далеких мирах, вся эта титаническая структура держалась на главном и очень несложном принципе: десант своих не бросает. Распространенный на все человечество он означал, что жизнь каждого члена общества священна, и никто – какое бы несчастье ни случилось – не останется без помощи. Тревельян сосредоточился. В этот миг он сам был каналом, соединившим Винса Кораблева с аппаратурой инкарнологов. Путеводная нить начиналась в нервном узле Тоса Фиута и вела в приемную камеру, к саркофагу с телом, лишенным души. Легкий ментальный толчок, и разум Винса, покинув свою преисподнюю, вознесся в небеса. Скрежет жвал прекратился. Сон архов был очень крепким, но, вероятно, Тос Фиут также ощутил некий внутренний толчок. Он заворочался в гамаке, вытянул глазные стебли и, ничего не увидев в темноте, стал ощупывать Тревельяна усами. – Во имя Великой Матери и помойных червей! Кто здесь? – Один из знакомых тебе демонов, – сказал Ивар, и транслятор превратил его слова в серию треска, скрипа и жужжания. – Ты пришел, чтобы мучить меня? – Нет, я хороший демон. Тот, кто мучил, мною изгнан. Больше он не станет тебе досаждать. Усы скользнули по капюшону и плащу Тревельяна. – Кхх… Хороший демон… Ты очень большой и очень гладкий. Хочешь пойла? Там, в углу, бадья. Полная. Ты велик, но нам с тобой хватит. – Мы, демоны, не любим пойло. Мы пьем солнечный свет и закусываем ветром. – Но как тебя почтить? – Тос Фиут сполз с гамака, поднялся на задних лапах и довольно щелкнул жвалами. – Демона нет… совсем нет… ты его прогнал… За это я должен оказать тебе почет! – Я бы хотел договориться иначе, – промолвил Тревельян. – Когда станешь владыкой в Рхх Яхите, окажи почет Хесу Фья. Он помог мне с твоим демоном. Один я бы не справился. Он представил свою каюту на станции Сансара и исчез в раскрывшемся портале.Глава 6 Станция Сансара
Винсент Кораблев, умытый и накормленный, парил над кольцом аппарата воздушного массажа. В медотсеке станции это было одним из самых простых устройств: пациента подвешивали в невесомости и обдували в определенном ритме сильным потоком воздуха, а чтобы он не улетел к потолку, щиколотки охватывал ремень из мягкого пластика. По мнению доктора Аппеля, такая процедура являлась отличным способом для снятия стресса и восстановления душевного равновесия. Затем он собирался погрузить Винса в гипнотический сон с установкой на морские прогулки – яхта, безбрежная синь океана, фрукты, коктейли и общество приятной девушки. Тревельян как облеченное властью лицо против снов не возражал, но только после беседы с испытателем. С этой целью в лазарет были вызваны Якуб Риша, старший инкарнолог Юрий Брайт и почтенный Фархад аль Хамадани. Он и начал разговор. – Полагаю, Винсент, случилось что-то неожиданное? Такое, чего вы не могли представить и отреагировать с нужной быстротой? – Да. – Потоки воздуха усилились, мешая Винсу говорить. Он переждал секунду-другую и повторил: – Да, именно так. Носитель был под полным контролем, работа шла по плану, и никаких осложнений не предвиделось. Как вам известно, инкарнологи перемещают нас в спинной узел симбионта, напрямую связанный с головным мозгом. Через нейропроводящие пути мы контролируем оба центра, то есть практически все поведение носителя. Но в одну из ночей – в последнюю, когда я еще сохранял контроль, – связь с основным мозгом прервалась. Резко, внезапно! И это означало… Лицо Винсента исказила гримаса страдания, и Брайт закончил вместо него: – Это означало, что ты не только потерял контроль, но и лишился ментальных ресурсов, необходимых для обратного перемещения. – Да, – хрипло выдавил испытатель. – Что нам делать в такой ситуации? – спросил Тревельян после недолгой паузы. – Вернее, можем ли мы так настроить приборы, чтобы возвращение гарантировалось в любом случае? – Нет, шеф. Необходим определенный потенциал мозга носителя, его энергетические ресурсы. – Брайт пожал плечами. – В ином ракурсе процесс возврата не рассматривался – ведь наш посланец контролирует симбионта и, значит, распоряжается всеми ресурсами в ментальной сфере. – Это так, – подтвердил аль Хамадани. – Но не будем обсуждать очевидное и вернемся к нашей проблеме. Вы сказали, Винсент, что связь прервалась резко и внезапно. Можете уточнить, на что это было похоже? – На атаку, стремительную атаку или на удар. Миг, и я оглох, ослеп и потерял связь с двигательным аппаратом. Затем нервный узел начал день ото дня сокращаться, нервные ткани погибали, словно пораженные раком или какой-то неведомой болезнью… Я понял, что время мое истекает, и попытался прорваться к головному мозгу. Отчасти это удалось – на подсознательном уровне, когда носитель спал, перебрав соленого пойла… Но реального контроля я не достиг – я даже не знаю, что делал Тос Фиут в таком состоянии. – Царапал шпорой стену и доски, писал твое имя, – произнес с улыбкой Риша. – Твои попытки завладеть сознанием симбионта очень его пугали. Он решил, что в него вселились демоны. – Вполне справедливое заключение, – согласился нейрофизиолог, разглаживая полы своего белоснежного бурнуса. – Мы для них демоны и пока еще не доказали, посланы ли мы Аллахом или Иблисом. Что до ощущений Винсента, то они похожи на внезапный и очень сильный выброс гормонов, аналогичных, в случае человеческого организма, адреналину и другим кортикостероидам. У нас это происходит в момент опасности, страха, бегства, борьбы, после чего организм возвращается к равновесию. Я хочу сказать, что у человека такие эпизоды локальны и кратковременны, они не ведут к существенной эндокринной перестройке или тем более к отмиранию каких-либо органов. Но архи – не люди… – Аль Хамадани с задумчивым видом поднял взгляд к потолку. – Отнюдь не люди… И мне пока неясно, с чем связан такой гормональный удар… В чем его причина? Болезнь ли это или естественное развитие особи?.. Возможно, мутация?.. – Кажется, я могу прояснить этот вопрос. – Тревельян взял почтенного старца под ручку и повлек к выходу. – Но давайте оставим Винса в покое, и пусть наш доктор покажет ему счастливые сны. Яхта, море, девушка, вино… Как утверждает мой предок, – тут он коснулся виска, – лучше только две девушки или три. Вместе с Ришей и Брайтом они перебрались в небольшой холл, где стояли диванчики и росла пальма с ворсистым пузатым стволом. Усадив Фархада аль Хамадани на диван, Ивар опустился рядом и промолвил: – В ближайшие дни я подготовлю отчет о посещении Ханг Аррха, города, что лежит на востоке, и в нем будет представлена подробная информация. Но кое-какими соображениями я готов поделиться прямо сейчас. Итак… – Он посмотрел на пальму, чей ствол был похож на шкуру шошота. – В упомянутом городе мне удалось проникнуть в покои местной королевы и ее супругов. Очень крупные особи – возможно, в пять или в десять раз больше первопометного арха. Королева… нет, о ней потом. Что же касается самцов-производителей… – Погоди! – Риша в изумлении уставился на Тревельяна. – Ты об этом не рассказывал! Ты только упомянул о шетанах, сожравших твоего симбионта! Если ты видел Великую Мать, то это первое такое наблюдение! Хотя бы два слова… Что она делала, Ивар? – Кушала. Аппетит у ее величества отличный. Самки подносили мясных червей, и я думаю, что это пиршество тянулось целый день. – Тревельян сделал паузу. – Теперь о принцах, ее супругах. Тут ситуация интереснее – у них атрофирован нервный узел под спинным гребнем. Головной мозг несомненно больше, чем у первопометных архов, ведь они отличаются крупными размерами. Их мозг способен выполнить все функции, которые у других особей требуют двух мыслящих аппаратов: центрального и периферийного. Последний за ненадобностью отмирает. – И вы считаете, – начал нейрофизиолог, в возбуждении накручивая на палец прядь седых волос, – считаете, что с этим Фиутом, носителем Винсента, происходит то же самое? Метаморфоза, после которой он превратится в самца-производителя? – А разве это не очевидно? Тос Фиут очень крупная особь и, похоже, продолжает расти. Его нервный узел атрофируется. Потребность в пойле – точнее, в соли – может быть признаком такой гормональной перестройки. Соль наверняка катализатор данного процесса. Тревельян смолк, но теперь, перебивая друг друга, заговорили три его собеседника. – Поразительно! Наш испытатель угодил в… в… – Угодил в существо на стадии преобразования и роста. – В будущего принца, почтенный Фархад! Вот уж повезло! – Ну, это везение со знаком минус. Мог исчезнуть, как пылинка, смытая дождем. Если бы не Ивар… – Но почему лишь некоторые самцы претерпевают подобную метаморфозу? Почему не все? – Нет потребности в большом числе производителей. Такова природа архов. – Хм, природа! Это, почтенный Фархад, нельзя считать ответом! Нужно выяснить биохимический механизм, проследить наследственность, ибо доминатный признак может передоваться… – Юрий, я полагаю, что наследственность тут ни при чем. Скорее, мутация… Случайный фактор, который проявляется у одного из десяти или ста тысяч первопометных. Что же касается биохимии, с этим мы разберемся. – Разберемся, – подтвердил Риша. – Есть гипотеза, а как ее проверить – дело техники. Завтра мы обсудим новый план работ, а затем… Тревельян поднялся. – Можете обсудить прямо сейчас, а я, простите, отправлюсь к себе. Что-то я устал, друзья мои, в сон клонит… Вдруг мне тоже приснится яхта в синем море и красивая девушка… Он вышел в коридор, своды которого имитировали летнее земное небо. У арки, что вела в блок питания, стояла черноокая диетолог Лолита, глядела на него с нежностью и улыбалась. Тревельян улыбнулся в ответ, потом сделал строгое лицо и проследовал мимо. – Ивар! – окликнула его девушка. Не шеф, но Ивар – значит, вопрос неслужебный, отметил он и обернулся. – Вы сказали, что когда вернетесь с Винсом, будет пир. Салат с креветками, осетрина, торт и гусь с яблоками… Я все приготовлю, и Агнес мне поможет. Сегодня к вечеру или завтра? – Сегодня рановато, Винсент еще не пришел в себя, – произнес Тревельян. – Завтра… Пожалуй, завтра будет в самый раз. – Какие подать вина? Белое с Гондваны к осетрине, а к гусю что-то покрепче? Коньяк, шотландское виски? Есть «Доля ангелов» десятилетней выдержки. – На твое и Агнес усмотрение. Я знаю, что вы, девочки, коллектив не подведете. – А… – начала Лолита, но Тревельян кивнул ей и быстрым шагом направился к своей каюте. «Идиот! – прошипел Командор. – Она же тобой интересуется! Можно сказать, авансы делает! Такие выразительные глазки! Такая фигурка! А ты – мимо, да еще с каменной рожей!» «Я здесь старший, – не без грусти ответил Тревельян. – Я не могу заводить интрижку со своей сотрудницей. Это было бы не комильфо». «Не комильфо ему! – возмутился призрачный Советник. – Ну, иди сны смотри, раз живая лапочка тебе не комильфо!» Тревельян так и сделал. И приснилось ему, будто он плывет на яхте по синему морю Гондваны, плывет под солнечными небесами, не знающими ненастья и бурь, и с ним на судне Хес Фья, его ментальный симбионт. А потом возникла на палубе черноокая Лолита с подносом, и были на том подносе салат с креветками и белое вино для него, а для Хеса Фья – миска с мясными червями и бадья соленой воды. Что же до управления их корабликом, то этим занимались шетаны, ловко лазали по мачтам и реям, ставили паруса, а один их них даже посвистывал в боцманскую дудку. Потом Лолита щелкнула пальцами, с неба свалился тушенный в яблоках гусь, и чей-то голос произнес: «Таких дурацких снов я у тебя еще не видел. Хватит, парень, подъем! Не то разжалую в рядовые шестого помета!» Ивар проснулся, зевнул, спустил ноги на пол и проборчал: – Вот неугомонный старик! Подсматривает, да еще и будит… На самом интересном месте! Так я и не отведал гуся! «Будет тебе гусь, – пообещал Командор. – Расстарается твоя черноглазка». Однако не получилось.* * *
Не успел Тревельян допить кофе, как в блоке питания возник связист Иван Семенов и шепнул на ухо шефу, что его требуют. Требовать мог только Юи Сато, консул и один из руководителей ФРИК. Депеша в его адрес ушла вчера, и в ней сообщалось, что Винсент Кораблев извлечен из разума носителя и пребывает в нормальном здравии, однако к работе будет допушен только через две недели, после отдыха и лечения. Также эмиссар Тревельян информировал консула, что отставание от плана в такой ситуации неизбежно, но через три-четыре месяца его удастся ликвидировать. С почтением… Конец связи. Шагая вслед за Семеновым в отсек межзвездной связи, Ивар гадал, что его ждет, поздравления Консулата или суровая укоризна. С одной стороны, Винсент найден лично им, и это несомненная заслуга, но с другой, тот же Винсент был потерян и едва не погиб на Арханге. Хотя ситуация с метаморфозой Тоса Фиута не предусматривалась планом и инструкциями, это не имело значения – как руководитель Тревельян нес полную ответственность за свой штат, за жизнь и благополучие каждого сотрудника. Возможно, он поторопился с началом работ на планете… возможно, как советовал почтенный Фархад, стоило изучить архов подробнее… «Не занимайся самоедством, – прошелестел Командор. – Этот Юи Сато тебя уважает. Получишь наряд на камбуз, и не более того». Как сказал Семенов, послание пришло под личным паролем консула. Поэтому, усевшись в кресло перед экраном связи, Тревельян приложил ладонь к пентальону дешифратора, ввел нужные коды и прочитал:ПЕРЕДАЙТЕ ДЕЛА ЯКУБУ РИШЕ. ВЫ СРОЧНО ОТЗЫВАЕТЕСЬ С АРХАНГА НА СНЕЖНУЮ ПАСТЬ. ТАМ ОБНАРУЖЕН СТАСИС – ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО С ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ. ВАМ ПОРУЧАЕТСЯ РУКОВОДСТВО КОМИССИЕЙ В СОСТАВЕ: НИШИКУАНДРА (ПАРАПРИМ), ПЕРВЫЙ ВЕТЕР (КНИ’ЛИНА), ХИЙАР ИРТ (СЕРВ В РАНГЕ РЕГИСТРАТОРА). КОНСУЛЬТАНТ – АРХЕОЛОГ ЖАНКАТ БРИНГАР (ТЕРУКСИ). ВАША ЗАДАЧА: ВСКРЫТЬ СТАСИС В СЛУЧАЕ ЕДИНОГЛАСНОГО РЕШЕНИЯ КОМИССИИ. ПОДПИСЬ: ЮИ САТО, КОНСУЛ ФРИК. P.S. ИВАР, В СЛУЧАЕ ВОПРОСОВ Я НА СВЯЗИ.Вопросы, разумеется, имелись. Фонд не вел работы на Снежной Пасти, так как помогать там было некому – на планете царила ядерная зима. Видно, ее обитатели, от которых и скелетов не осталось, устроили себе Армагеддон, взорвав столько бомб или чего-то на них похожего, что экосистема их мира была разрушена до основания, материки и океаны скрылись под покровом туч, морские и речные воды вымерзли, как и влага в атмосфере, опустившаяся затем на планету в виде снега. Снега поглотили все сущее, наступил ледниковый период – глобальный, в отличие от природных климатических изменений. С той поры миновали тридцать два тысячелетия, покров туч развеялся, радиация упала до нормы, но, если не считать нескольких видов микроорганизмов, планета была безжизненной. На ней трудилась большая экспедиция археологов – с помощью бурильных установок они пробивали толщу льда в поисках следов погибшей цивилизации. Трагедия Снежной Пасти была не первой из известных Тревельяну – попадались в Галактике мертвые миры, чьи обитатели не выдержали экзамен на разумность. Собственно, Хтон, где он побывал, тоже являлся подобным миром. Но стасиса с живым существом там не было. – Стасис, хранилище времени… – задумчиво произнес он вслух. – Эти несчастные со Снежной Пасти достигли немалых успехов… в технологии, я имею в виду… научились создавать стасисное поле… Но выжить им это не помогло… Впрочем, рано делать такие заключения – в стасисе могут оказаться тысячи оплодотворенных яйцеклеток. Это был бы удачный расклад! «Удачный для кого? – проворчал Командор. – Для этих недоумков? Тоже мне, межзвездная солидарность! Сгинули, туда им и дорога! Не нужно баловаться с бомбой на своей планете! Космос велик… Могли, например, устроить войнушку с дроми и извести жаб под корень. Нам бы меньше хлопот…» – Напомню, дед, мы тоже чуть не сгинули, – сказал Тревельян. – В двадцатом веке, когда дрались друг с другом, и в двадцать первом тоже, когда прилетели фаата. Могли нас запросто прикончить, да случай помог[143]. Так что не греши на межзвездную солидарность. – С этими словами Ивар ткнул клавишу вокодера и спросил: – Семенов, что у нас со связью? Устойчивая? – Как египетские пирамиды, – раздалось в ответ. – Кодируйте депешу, шеф. Готов отправить. Пальцы Тревельяна коснулись сенсоров клавиатуры. Текст, который он набирал, появлялся на экране, чтобы до шифровки его можно было дополнить и исправить.
ПО ПРАВИЛАМ ФРИК РУКОВОДСТВО КОМИССИЕЙ ТАКОГО УРОВНЯ…– написал Тревельян, подумал, выбросил три первых слова, и его пальцы опять забегали по клавишам.
РУКОВОДСТВО КОМИССИЕЙ ТАКОГО УРОВНЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКИХ ЗВЕЗДНЫХ РАС, ТРЕБУЕТ СТАТУСА, КОТОРОГО Я НЕ ИМЕЮ. ОСВЕДОМЛЕН ЛИ ОБ ЭТОМ КОНСУЛАТ? Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ ОСТАТЬСЯ НА АРХАНГЕ.Поставив точку, он включил шифратор и произнес: – Отправляй, Иван. – Приложите руку к пентальону, шеф. – Да, разумеется. Палуба под его ногами чуть заметно содрогнулась, когда мощный всплеск энергии пробил границу Лимба[144]. Антенна межзвездной связи десятикратно превосходила станцию размерами, и если взглянуть на весь комплекс снаружи, он выглядел как скромных размеров цилиндр, на одном из торцов которого раскрывался гигантский цветок с множеством стержней-эмиттеров. Антенна была ориентирована на базу «Киннисон», центр галактической связи Фонда, висевший в пространстве между Землей и Луной. Связь через Лимб, как и перемещение кораблей с контурным приводом[145], осуществлялась практическм мгновенно. Тревельян знал, что Юи Сато уже читает его послание. Прошло минут семь или восемь, и связист сказал: – Ответная депеша, шеф. Тревельян тут же отправил ее в дешифратор. На экране появилось:
НЕОБХОДИМЫЙ СТАТУС У ВАС ИМЕЕТСЯ. ВЫ ИЗБРАНЫ ПОЛНОМОЧНЫМ КОНСУЛОМ ФОНДА. P.S. ПОЗДРАВЛЯЮ, ИВАР. РЕШЕНИЕ БЫЛО ЕДИНОГЛАСНЫМ.Тревельян замер. По правде говоря, он пребывал в некотором ошеломлении. Беззвучный голос Командора вывел его из ступора. «Наконец-то ты продвинулся в чинах, малыш! Консул Фонда, надо же… В наших флотских понятиях – адмирал… Отметить полагается, как ты считаешь? Банкет для высшего комсостава, ты, при кортике и всех регалиях, внимаешь здравицам подчиненных и ловишь восхищенные взоры дам. После выходишь к экипажу на смотровую палубу, а там выстроились две тысячи гавриков, и все при параде, от лейтенантов до поваров… Выходишь, значит, и держишь речь, что-нибудь насчет служения Отчизне до последней капли крови…» «Размечтался! – оборвал его Тревельян, питавший большую неприязнь к официальным торжествам. – Никаких банкетов и никаких построений!» «Твои коллеги все равно узнают, так что без рюмки коньяка не обойдется, – заметил дед. – У вас сегодня гусь, салат и прочие деликатесы адмиральской кухни… Вот и отметите оба события». «Коллеги узнают о том, что я отправляюсь на Снежную Пасть и меня заменит Якуб. Это все! И лететь я должен срочно! То есть немедленно!» «Ты уверен?» «А это мы сейчас узнаем». И Тревельян послал новый запрос:
В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО ПРИБЫТЬ НА СНЕЖНУЮ ПАСТЬ?Ответ был таким, как ожидалось:
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. КОМИССИЯ УЖЕ СОБРАЛАСЬ И СЕЙЧАС ИЗУЧАЕТ МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АРХЕОЛОГАМИ. АРХАНГ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДАЛЕН ОТ СНЕЖНОЙ ПАСТИ, И ПОЭТОМУ КОНСУЛАТ НЕ ПОСЫЛАЕТ ЗА ВАМИ КОРАБЛЬ. МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО ВЫ ОБОЙДЕТЕСЬ СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И СДЕЛАЕТЕ ЭТО БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ.– Намек понял, – сказал Тревельян вслух. – Увы! Гусь, салат и коньяк отменяются. Покинув отсек, он заглянул в свою каюту и сложил в сумку кое-какое имущество, не забыв футляр с гипноглифом. Потом связался с Ришей и попросил собрать коллег в блоке питания, самом просторном помещении на станции. Прощание было теплым, отчасти грустным, но недолгим – у сотрудников ФРИК имелись высокие понятия о дисциплине. На прекрасных глазах Лолиты выступили слезы, но Тревельян шепнул ей в утешение, что до конца Вселенной еще много, много лет и в будущем они обязательно встретятся – правда, не уточняя, где и когда. Затем, обнявшись с мужчинами и расцеловав женщин, он вернулся в свою каюту. Его сопровождал только Якуб Риша – отныне руководитель проекта и станции Сансара. Конечно, Ивар мог бы перебраться на Снежную Пасть с любой палубы, из любого отсека, но к своему жилищу он привык и к тому же собирался сказать Якубу пару напутственных слов. Он повесил сумку на плечо и в последний раз оглядел каюту – стол с вращающимся креслом, пульт связи, над которым мерцал экран с изображением Арханга, койку, застеленную клетчатым шотландским пледом, стены с двумя репродукциями древних художников, Рериха и Рокуэлла Кента. Скромная обитель, зато уютная. «Скромная, – согласился призрачный Советник, подслушав его мысли. – Но теперь ты консул и можешь рассчитывать на что-то пошикарнее. Вот, к примеру, адмиральский блок, который я занимал на «Палладе»… дубовая мебель, кресла натуральной кожи, бронзовые канделябры и постель… какая постель!.. ракетодром, а не постель!.. хоть вдоль ложись, хоть поперек!..» Он пустился в воспоминания, но Тревельян не слушал, думая о связи времен и пытаясь представить тот грозный корабль, о котором толковал дед. Та «Паллада» была наполовину выжжена в страшной битве под Бетельгейзе, и дубовая мебель, кресла натуральной кожи и постель-ракетодром сгорели вместе с половиной экипажа. И Командор тоже горел, горел заживо в боевой рубке, но не отступил – его орудия били по врагу, его бойцы сражались и гибли на своих постах, защищая жизнь и честь Федерации. Теперь батареи крейсера смолкли навек, ибо он удостоился высшей награды – именем его больше не был назван ни один корабль. Крейсер ушел непобежденным в Великую Пустоту, прах погибших развеяли под алым светом Бетельгейзе, а душа и разум его командира остались впамятном кристалле. Риша положил руку на его плечо. – О чем задумался, Ивар? – О героях, Якуб. О тех, кто плывет и летит в неизвестность, преодолевая океан или межзвездную пустоту… Об этих колумбах-шетанах, что сидят в яме в Ханг Аррхе, если их еще не съели… Наверняка есть и другие в городах восточного побережья… Нужно о них позаботиться. Не дело есть первопроходцев! – Мы это сделаем, Ивар. Для этого мы здесь. Рукопожатие Якуба было крепким. Кивнув на прощание, он покинул каюту, и створки двери сомкнулись бесшумно и быстро, словно торопясь отрезать Тревельяна от станции Сансара, от проекта инкарнологов и холодной сумрачной планеты Арханг. Все это осталось в прошлом, а в будущем ждали другой мир, другие проблемы и другие тайны. На секунду он замер в неподвижности, затем привычным мысленным усилием вызвал портал и сделал первый шаг. Вспышка света, мгновение тьмы… Щель в ткани пространства раздалась перед ним и закрылась за его спиной.
Часть 2 Снежная пасть
Глава 7 Погибший мир
По геофизическим параметрам Снежная Пасть – или просто Снежная, как называли планету археологи, – являлась почти полным аналогом Земли. Сутки – двадцать три с половиной часа, год – триста пятьдесят семь суток, тяготение – 0,98 g, радиус планетарного сфероида – 6200 километров, в атмосфере двадцать четыре процента кислорода. Звезда тоже не очень отличалась от земного Солнца – класс G по шкале Герцшпрунга – Рессела[146], и Снежная была третьей планетой в семействе из дюжины крупных небесных тел, вращавшихся вокруг светила. Когда-то в этом мире имелись два больших материка и сотни островов, крупных и мелких – все, предположительно, густонаселенные, хотя глубинное зондирование не позволило обнаружить остатки городов. Они были стерты в пыль, а затем погребены под слоем льда и снега, который достигал двух-трех километров в умеренной и полярной зонах и километра на экваторе. Здесь археологи и обустроили свой городок, очистив от льда небольшой остров. Конечно, теперь окружали его не морские воды, а цепь ледяных утесов, сверкавших днем, точно стены из чистого сапфира, а на восходе и закате казавшиеся рубиновыми. Это выглядело очень красиво, но любоваться чудесным зрелищем приходилось в термокостюме, а то и в скафандре с подогревом – температура держалась минус сорок, и естественное таяние льдов еще не началось. Когда-нибудь начнется, обнадежили Тревельяна археологи – скажем, через пару тысяч лет. Партия, трудившаяся в системе Снежной, была очень велика – более восьмисот специалистов, считая с теми, кто исследовал местную луну в надежде найти следы космических поселений. Пока вместе с археологами работали геофизики и техники бурильных установок, но среди ожидавших своей очереди нашлись бы, пожалуй, любые умельцы – от историков искусства до лингвистов и кибернетиков, способных расшифровать любой письменный документ. Тревельяна это очень вдохновляло – он подозревал, что в комиссии не обойдется без пререканий и споров, что достичь консенсуса будет нелегко, и для этого понадобятся консультанты. Здесь их был воз и маленькая тележка. Но главный консультант стояла сейчас рядом с ним – доктор археологии Жанкат Брингар, женщина-терукси потрясающей красоты. Волнистые пепельные волосы Жанкат прятались под шлемом, но Тревельян мог любоваться ее прелестным личиком и обтянутой комбинезоном изящной фигуркой. Он и любовался – исподволь, стараясь не обнаружить всю глубину своего интереса. В партии, кроме землян и кни’лина, было не меньше четверти терукси, и все они, мужчины и женщины, выглядели превосходно, как и любой их соотечественник. Счастливая раса, где красота являлась эталоном… Но и в этом сонме богинь и богов Жанкат Брингар сияла, как редкая жемчужина среди янтаря и кораллов. Ивар снова покосился на нее и едва не утонул в огромных зеленых глазах – пожалуй, еще более выразительных, чем у Лолиты. – Вы прибыли на «Пегасе», консул? – спросила Жанкат, выговаривая слова земной лингвы с очаровательным акцентом. – Кажется, «Пегас» лег на орбиту у Снежной четыре часа назад? «Пегас» являлся одним из шести исследовательских судов, прикомандированных к экспедиции. Кроме них, над планетой висел «Идальго», большой транспортный корабль. – До последнего дня я работал на Арханге, довольно далеко отсюда, – сказал Тревельян. – «Пегас» за мной не заходил. В этом не было нужды. – О, простите! – Жанкат округлила глаза, став еще более прелестной. – Вы консул, и у вас, конечно, свой корабль… Наверное, яхта? – Еще какая! – откликнулся Тревельян. – Четыре палубы, бассейн, оранжерея, адмиральский салон, а в нем – дубовая мебель, кресла натуральной кожи, бронзовые канделябры и… – Он смолк, решив, что постель упоминать еще рано, и вздохнул. – Замечательная яхта, доктор Брингар! Называется «Иллюзия». – Хотелось бы на нее взглянуть, – промолвила прелестный археолог. – Кстати, называйте меня Жанной. Мне нравится это земное имя. Тревельян склонил голову. – Ивар. Для вас всегда Ивар и только Ивар, не консул. Жанкат – нет, Жанна! – улыбнулась. Улыбка красила ее необычайно. – Боюсь, Ивар, всегда не получится. На заседаниях я не смогу вас так называть, ведь в комиссии у нас ньюри Первый Ветер из клана ни[147]. На Снежной больше сорока кни’лина, но все – похарас, с ними все же проще. А эти ни… Они такие ревнители официоза и протокола… – Верно, – согласился Тревельян, вспомнив свои приключения на Сайкате. – Но я надеюсь, что мы найдем время для менее официальных встреч. – На вашей яхте, – подсказала Жанна, продолжая мило улыбаться. – Увы! – Тревельян опять вздохнул. – Яхту пришлось отправить на Тхар, ибо первый помощник капитана собралась рожать. Она с Тхара, и, по их традиции, женщины рожают только на родной планете. – Тут Ивар принял озабоченный вид и добавил: – Надеюсь, они успеют… В крайнем случае, корабельный врач подвергнет роженицу гибернации. – Какой интересный обычай! – воскликнула Жанна, распахнув зеленые глаза с ресницами невероятной длины. – Ну, ничего, ничего, можно подождать, пока ваша яхта не вернется. Как говорят у нас, самое приятное в удовольствии – его ожидание. – Мудрая мысль, – подтвердил Тревельян. Он собирался развить эту тему, но Жанна коснулась его руки и молвила: – Давайте помолчим и посмотрим. Солнце садится. Они стояли на открытой террасе у длинного двухэтажного корпуса, собранного из стандартных модулей. В этом строении, самом крупном в поселке археологов, размещался штаб экспедиции, и здесь имелись рабочие кабинеты, удобный конференц-зал, жилые отсеки и даже небольшой зимний садик. Часть помещений, рассчитанных на кни’лина, были просторными и обставленными согласно требованиям их расы, а парапримат Нишикуандра мог разместиться в саду, среди цветущих роз, магнолий и олеандров. На время работы комиссии корпус предоставили в полное распоряжение Тревельяна. Он прибыл сюда пару часов назад и успел познакомиться только с профессором Трозом, главой археологов, и его помощницей Жанной Брингар. Профессор, пообещав всяческое содействие, вскоре удалился в свой жилой модуль на окраине поселка, ибо дело шло к вечеру, члены комиссии отдыхали, и никаких заседаний в этот день не предвиделось. Самое время, решил Тревельян, чтобы взглянуть на чудесный закат и побеседовать с прелестным консультантом. От здания штаба до ледяной стены было километра четыре. Голубоватые утесы нависали над расчищенной территорией, и казалось, что маленький остров заключен в сосуд из драгоценного сапфира с бирюзовой крышкой безоблачных небес. Но вот край солнца коснулся ледяных вершин, они вспыхнули алым, потом багряным, и жаркий рубиновый цвет поплыл к подножию стены, вытесняя синее и голубое. В трещинах краски были более глубокими, пурпурными и багровыми, выступы и острия пылали розовым и оранжевым, и по обе стороны от светила раскинулись красные с золотом крылья вечерней зари. Закат длился около четверти часа, и все это время Тревельян и его спутница молчали, зачарованные сказочным зрелищем. Потом солнце скрылось за барьером льдов, краски погасли, и небо, знаменуя конец феерии, задернул темный занавес с искрами звезд. – Таких чудес больше нигде не увидишь, ни на одной планете Галактики, – с мечтательным видом сказала Жанна. Затем, словно очнувшись от наваждения, добавила: – Должна ли я теперь поведать, с какого конца едят суимбри? То есть ввести вас в курс дела, как говорится на Земле? Плод суимбри, произраставший в ее родном мире, походил на очень длинный фиолетовый огурец, с одного конца сладкий, с другого – горьковато-терпкий. В пищу шла только сладкая часть, и с непривычки можно было ошибиться. – Сегодня ни слова о делах, – сказал Тревельян. – Сегодня я хочу полюбоваться красотой, что встретил здесь. После Арханга это будет нелишним. – Там было очень плохо? – с сочувствием спросила Жанна. – Отвратительно. У меня появились лапы с когтями и шпорами. Целых шесть. – О, как интересно! Еще интереснее, чем ваш корабль! – Консультант была явно заинтригована. – Хотелось бы взглянуть! Тревельян поморщился. – Не стоит, милая Жанна. Боюсь, я бы вам не понравился. В этих широтах ночь наступала стремительно. Небо потемнело, сонм звезд расцветил его черный полог, и, словно отражая небесные огни, вспыхнул свет в домиках поселка. Порыв ледяного ветра обжег лицо Ивара. Температура наверняка была не меньше сорока. – Поздно. Вам пора отдохнуть, – сказала Жанна Брингар, и Тревельяну показалось, что в ее голосе звучит нотка сожаления. – Увидимся завтра. К какому часу я должна появиться? С минуту Тревельян размышлял. Серв Хийар Ирт, представитель лоона эо, был биороботом и, в силу своей природы, вообще не нуждался в отдыхе. Кни’лина, насколько помнилось ему, жили в том же суточном ритме, что и земляне, так что в этом смысле проблем с Первым Ветром не предвиделось. Зато парапримы спали долго, и их трапезы, как и гигиенические процедуры, тоже занимали изрядное время. Их шерстяной покров требовал тщательного ухода, и это считалось очень интимной услугой внутри семейной группы. «Кто же будет расчесывать шерсть Нишикуандре?..» – мелькнула у Ивара паническая мысль. Не должен ли он как глава комиссии озаботиться этим вопросом?.. Возможно, параприм привез с собой каких-то роботов?.. Или тут необходима помощь живого существа?.. Гордецы кни’лина отпадали сразу, но среди людей и терукси тоже не найдешь желающих на роль куафера… Тут Тревельян припомнил, что Нишикуандра уже трое суток на Снежной, и, значит, проблема как-то решена. Успокоившись, он сказал: – Парапримы неторопливы. Думаю, начнем заседание в полдень. – Я не опоздаю, Ивар. Сверкнули ровные зубки, взметнулись ресницы. Она повернулась с изяществом танцовщицы и ушла. Тревельян глядел ей вслед, пока фигурка Жанны не исчезла за ближним строением. Раздался ментальный вздох Командора. «Какая красотка! И ты ей, кажется, понравился». «Возможно», – согласился Тревельян. «Ну, так не щелкай клювом, малыш! Или опять не позволяет субординация?» «Субординация тут ни при чем. Я возглавляю комиссию, но никому не начальник. Тем более женщине из другого мира». «Рад это слышать. – Командор сделал паузу. – В мои времена об этих терукси ничего не знали. Их ведь недавно нашли?» «Сравнительно недавно, – подтвердил Тревельян. – Очень дружелюбная раса и подобная нам практически полностью. Кое-кто из антропологов уверен, что у землян и терукси были общие предки». «А отличия есть?» «Зубов у них на два меньше и какие-то лишние косточки в позвоночнике… А так полная норма: сердце слева, печень справа, две почки, пять пальцев и углеводный обмен на инсулиновой основе». «Выходит, эта красотка могла бы родить тебе наследника?» – спросил дед после недолгих размышлений. «Прецеденты уже имеются, – сообщил Тревельян, пожав плечами. – Я же говорю, люди как люди». Он вернулся в здание штаба, снял в шлюзе термокостюм и пошел наверх, в свой жилой блок на втором этаже. Помещение это было весьма скромным и явно не рассчитанным на консула ФРИК: небольшая спальня с гипноизлучателем над постелью и кабинет со стандартным оборудованием. Имелись здесь и более просторные покои, но их занимал ньюри Первый Ветер со своими секретарями и помощниками. Кни’лина были неприхотливы в быту, в их жилищах почти не имелось мебели, но обычай коно[148], личного пространства, соблюдался со всей строгостью, так что каждому из них требовалось раз в пять больше места, чем терукси или землянину. Тревельяну оставалось лишь утешаться мечтами о мифической яхте «Иллюзия». Он устроился в кабинете – сел к терминалу, раскрыл экран и вызвал информацию о стасисе. Это устройство – монолитный бетонный куб в недрах крупного острова в южном полушарии – обнаружили семью месяцами раньше при локации с орбиты. Месяц ушел, чтобы пробить шахту и докопаться до находки сквозь трехкилометровый слой льдов и скальные плиты, еще два потребовались на расчистку рабочей территории и возведение над объектом прочного купола. Археологи полагали, что найдена капсула времени – возможно, с посланием, с документами, видеозаписями и другой информацией. Все это не нуждалось в особых способах хранения – вполне хватило бы небольшой камеры, заполненной инертным газом. Как раз такая полость и была выявлена с помощью интравизора, но ее окружали какие-то смутные тени – возможно, приборы консервации с энергетической установкой. Прожгли в бетоне шурф, ввели анализатор и обнаружили, что камера заключена в стасисное поле. То был первый этап истории, а на втором к делу подключилась группа биологов и врачей, присланных с Земли. Стасис сохранял нетленной любую живую материю и почти не требовал притока энергии извне – любой радиоактивный материал с большим периодом полураспада мог поддерживать поле в течение тысячелетий. Жизненные процессы в стасисе замирали полностью, и чтобы запустить их снова, требовались витализатор, комплекс особых лекарств и помощь реаниматоров. В этом заключался недостаток метода сравнительно с обычной гибернацией, и в большинстве миров, известных человечеству, стасис использовали редко. Несомненно, решил Тревельян, жители Снежной отправили эту посылку в грядущее, попав в отчаянную ситуацию. Надежда, что ее разыщут и распакуют должным образом, была такой мизерной, такой эфемерной! Однако разыскали, и, по мнению медиков, проблем с распаковкой не предвидится. Бетонная оболочка над капсулой времени уже была снята, витализатор подготовлен, и кто бы ни оказался в стасисе, его вернут к жизни. Разумеется, если решение комиссии будет единогласным. В этом Тревельян почти не сомневался.* * *
Они собрались в конференц-зале ровно в полдень. Сквозь высокие окна, выходившие на юг, струился яркий солнечный свет, вдали блистала аметистом и сапфиром ледяная стена, и разноцветные крыши домиков поселка, разбросанных весьма хаотически, добавляли оживления этой картине. Временами со взлетной площадки на окраине поднимался квадроплан[149] или орбитальный челнок, тут и там виднелись люди в термокомбинезонах, шли торопливо, с деловым видом, иногда собирались кучкой у блока питания и что-то обсуждали, размахивая руками. Несомненно, главным поводом к разговорам был ожидавшийся вердикт комиссии и надежда, что стасис не сегодня-завтра вскроют. «Собственно, что же еще с ним делать?.. – мелькнула мысль у Тревельяна. Оставить грядущим поколениям как памятник своей нерешительности, даже трусости?..» В зале было жарковато – парапримы любили тепло. Они устроились в плетеных гамаках, подвешенных к потолку: Нишикуандра слева от Ивара, а за ним две его самки с корзиной яблок и бананов. Все с серой шерстью, лежавшей волосок к волоску, темноглазые, длиннорукие, высоколобые, похожие на огромных игрушечных обезьян, сделанных для детишек-великанов. По правую руку от председателя, шагах в пяти, сидел на подушке Первый Ветер в роскошном малиновом камзоле с украшениями из перьев на плечах, а еще дальше, у самого окна, расположился его помощник Второй Дым – этот был облачен в скромный коричневый сайгор[150]. У другого окна, соблюдая дистанцию коно, маячила хрупкая фигурка серва, посланца затворников лоона эо. Тревельян смотрел на это существо с большой симпатией, ибо Хийар Ирт оказался так похож на знакомца с Раваны, словно у того народился за минувшее время брат-близнец. Ранг у Хийара Ирта был не столь высоким – просто Регистратор, зато Хозяева (так сервы именовали лоона эо) сделали его пятипалым. Это являлось бесспорным знаком внимания к членам комиссии – как-никак все они, не исключая параприма, были гуманоидами. Для Тревельяна приготовили кресло у колонки терминала, рядом с большим керамическим сосудом, полным цветов. Цветы показались ему незнакомыми – крупные лиловые лепестки, изящные, сложной формы соцветия на ниспадающих стеблях с длинными узкими листьями. Пахли они сладко и тревожно – но, быть может, этим ароматом тянуло от Жанкат Брингар, сидевшей неподалеку, по другую сторону терминала. Ее длинное, до пят, платье переливалось лиловым, как и цветы, пряди пепельных волос падали на спину, и над лбом сиял изумруд в серебряном обруче. «Цирцея, нимфа!..» – думал Тревельян, но головы не поворачивал и на Жанну не глядел. У консульского статуса были преимущества и были недостатки; в частности, не мог консул пялиться на женщину, словно она не человек вовсе, а вазочка с конфетами. А вот Нишикуандра, хоть и являлся четвероруким параприматом, смотрел на Жанну с явным удовольствием и растягивал губы в улыбке. Его раса очень ценила красоту. – Приветствую почтенных братьев по разуму на Снежной, – произнес Тревельян. – Всем ли ясна наша задача? Может быть, имеются вопросы? – Он коснулся клавиатуры, и в дальнем конце зала вспыхнуло изображение: шестигранная, похожая на гроб капсула под защитным куполом. Ее окружали какие-то механизмы, и рядом суетилась команда техников и врачей. – У меня вопросов нет, – отозвался Первый Ветер, вздернув голову, лишенную волос. Он превосходно говорил на земной лингве, но, судя по надменному виду, вовсе не считал землян и терукси братьями по разуму, а уж парапримов и подавно. Не братья и сестры, а волосатые пожиратели падали… Правда, параприматы тоже не ели мяса, но шерсти у них было предостаточно. – Задача понятна. – Хийар Ирт совсем человеческим жестом склонил голову. У него было лицо печального эльфа: бледная кожа, маленький округлый подбородок, крохотный рот и широко распахнутые синие глаза. Тревельяну казалось, что он ощущает струящиеся от серва теплые волны приязни. Нишикуандра вытянул длинную руку за спину, и самка вложила ему в ладонь очищенный банан. Параприм сунул его в огромную пасть, прожевал и молвил гулким басом: – Мой народ не пользуется таким устройством. – Он повернулся к экрану и пробормотал: – Сстассисс, сстассисс… забавные звуки… сстассисс… Как его выключить, достойный консул? – Я не знаю, но у нас есть консультант. – Ивар улыбнулся своей прекрасной даме. – Прошу вас, доктор Брингар. – Поле исчезнет, если отсоединить блок питания. Взгляните на этот голубой цилиндр… – Грациозно приподнявшись, Жанна включила лазерную указку. – В нем изотоп урана с периодом полураспада двести пятьдесят тысяч лет. Выход энергии ничтожен, но для поддержки стасиса ее хватает. – Благодарю, – пробасил Нишикуандра. Затем умял второй банан и поинтересовался: – Вы просвечивали этот шестигранный ящик своим прибором?.. кажется, интравизор, да? – Медики были против. Они считают, что излучение может повредить биологический объект. – Разумно, – согласился параприм и перевел взгляд на председателя. – Мое слово для достойного консула: пусть вскрывают. Первый Ветер поморщился – кажется, параприм и его вопросы раздражали представителя кни’лина. Сложив руки на коленях, он пробормотал: – Мы не знаем, что в этом контейнере… Возможно, вирусы, гибельные для всего живого?.. Наверняка известно лишь одно: экология планеты и ее цивилизация были уничтожены. – Вы против, ньюри? – спросил Тревельян. – Нет, я тоже считаю, что нужно вскрыть стасис. Это дар прошлого, и нельзя им пренебречь… Но хочу напомнить, что сказано в Книге Начала и Конца[151]: самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает. Ивар покосился на экран: техники и бригада реаниматоров под командой Пьера Сазонова терпеливо ждали, все облаченные в скафандры, с целым батальоном роботов наготове. С профессором Сазоновым из Марсианского университета Тревельян уже встречался и доверял ему полностью – его считали светилом в физиологии инопланетных гуманоидов. Одно время профессор даже работал в научном корпусе ФРИК. – Мы действительно не знаем, что в контейнере, но меры предосторожности приняты. – Теперь Тревельян смотрел в окно, на толпу, что начала собираться перед зданием штаба. Толпа становилась все гуще – археологи тоже ждали решения комиссии. Он заметил, что земляне и терукси стоят плотной кучкой, кни’лина же – по отдельности, и каждого окружает как минимум метр пустоты. – Купол над контейнером герметичен? – спросил Первый Ветер. – Да, – подтвердила доктор Брингар. – При необходимости можно затопить его жидким азотом или прожечь плазмой. То или другое, по усмотрению комиссии. Первый Ветер сделал жест согласия. – Если так, пусть вскрывают. – Ваше мнение, Регистратор? – Тревельян повернулся к серву. – Пусть вскрывают, – повторил тот слова кни’лина. – Не имею ни вопросов, ни возражений. – Присоединяюсь к решению коллег и подтверждаю, что это решение принято единогласно, – произнес Тревельян. Потом добавил: – Ведется запись. Фиксируется все, что было и будет сказано здесь, а также действия специалистов, вскрывающих стасис. Каждый из нас получит копию. А теперь… – Он коснулся терминала, включив дальнюю связь. – Профессор Сазонов, вы слышите и видите меня? – Да, консул. – Приступайте. Три члена комиссии смотрели на экран, на капсулу времени, окруженную роботами, а Тревельян глядел на своих коллег. Они оказались здесь не случайно, у каждого имелся некий резон, явный или тайный, и он об этом знал – во всяком случае, догадывался. Снежная Пасть, затерянная на дальних рубежах земного сектора, была гораздо ближе к метрополии и колониям кни’лина, чем к Солнечной системе и планетам, заселенным людьми, так что оба клана, ни и похарас, имели все основания присутствовать здесь. Вот явная причина! Однако есть и тайная, думал Тревельян. Некогда их раса стояла на грани гибели, и теперь они желают знать, что произошло на Снежной, космический ли катаклизм, как на их родине, или нечто иное – скажем, коллапс цивилизации. Интерес болезненный, но вполне понятный. Парапримами, если не вдаваться в тайные причины, двигало любопытство. Они не скрывали эту свою особенность, как и желание участвовать в земных проектах, связанных с помощью расам, погрязшим во тьме невежества. Правда, их концепция прогрессорства не совпадала с методикой ФРИК; считая землян слишком нетерпеливыми, они отвергали активное вмешательство и даже постепенную и осторожную передачу знаний. Их собственные цивилизационные проекты, во всех отношениях очень гуманные, были рассчитаны на века, даже на тысячелетия. Фонду эти сроки казались слишком затянутыми и нереальными, как и другие соображения парапримов, но сами они стали свершившимся фактом. Первая встреча произошла недавно, во время миссии на Осиере[152], и теперь приходилось учитывать, что в Галактике появилась еще одна раса прогрессоров. Раса могущественная, но мирная, ибо, в отличие от землян, хапторов, кни’лина и прочих двуногих, параприматы не знали экологических катастроф, голода, войн и любых форм насилия. И мнилось Тревельяну, будто с самого первого контакта, с той осиерской миссии, четверорукие решили присматривать за людьми – как бы те не сотворили какой-нибудь глупости. Возможно, решение было разумным – ведь мудрецы их расы имели загадочную способность, дар предвидеть будущее. Что до Хийара Ирта, тут пришлось ограничиться гипотезами. Лоона эо, его Хозяева, поддерживали связи и торговали с половиной Галактики, но исключительно через сервов, совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика – Чейни[153]. Собственно, то была искусственная раса, созданная Хозяевами, не желавшими покидать свои чудесные и безопасные миры. Лоона эо любили развлекаться – может быть, поэтому был прислан Хийар Ирт?.. Произведения искусства, экзотическая флора и фауна, необычные явления природы, сохраненные в записях, тоже привлекали этих добровольных затворников, щедро плативших за любые редкости. Если приоткроется тайна погибшего мира, это сулит что-то новое – возможно, статуи, картины, книги и особенно ценившиеся в мирах лоона эо фильмы. Достаточная причина, чтобы послать Регистратора… Но не исключались и тайные соображения – правда, уже не связанные с лоона эо. Древние, думал Тревельян, Древние, даскины… Они покинули Галактику в очень далекие времена – возможно, когда по Земле еще бродили динозавры, – но до этого их власть и могущество не оспаривал никто. Они правили среди звезд, они награждали и карали, они сотворили систему порталов, и следы их присутствия, их механизмы, странные полуживые твари и другие артефакты иногда попадались космическим странникам на давно необитаемых планетах. Их цель была понятна – мир и стабильность в Галактике, но как они выглядели, почему удалились и где пребывают сейчас, обсуждалось лишь на уровне зыбких гипотез. По одной, их наследниками – точнее, информаторами – были лоона эо, самая высокоразвитая цивилизация в Рукавах Ориона и Персея; по другой, они поручили Галактику неким Владыкам Пустоты, тайно наблюдающим за молодыми расами. Легенды об этих всемогущих существах – возможно, последних даскинах – бытовали у хапторов, фаата, дроми, у всех космических рас, известных Земной Федерации, и даже у лльяно, у которых не было ни городов, ни кораблей, ни желания их строить. Кто они, Владыки Пустоты?.. Сказка, миф или реальность?.. Пожалуй, на этот вопрос Тревельян ответить бы смог, и ответ был положительным. Первый Регистратор, пришедший к нему на Раване в облике серва… создание, открывшее ему портал… тот, кто научил его странствовать среди звезд без кораблей, сделав доступной всю Галактику… Кто он? Даскин? Может быть… Согласно легендам, они умели принимать обличье любого существа, давно забыв о собственном природном естестве… Однако не исключалось, что Первый Регистратор не был даскином, а относился к тем посвященным, кто наследовал им, либо был оставлен в Галактике по их желанию – оставлен, чтобы выбрать достойных наследников. У хапторов, как помнилось Тревельяну, ходило такое предание… Так ли, иначе, но Первый Регистратор был причастен к тайнам Древних и, по каким-то неведомым причинам, таился среди сервов. Возможно, не в одиночестве?.. Возможно, Хийар Ирт из той же компании, и облик серва лишь маскировка?.. Он не успел додумать эту мысль. – Питание стасиса отключено, – донеслось с экрана. – Поднимаем крышку саркофага. Подхватив тяжелую шестиугольную плиту, роботы сдвинулись на край площадки. Сверху, покачиваясь и изгибаясь, опустился щуп с утолщением на конце – в нем поблескивали линзы видеокамер. Теперь в поле зрения было нечто темное, продолговатое, заполнявшее саркофаг, точно пористая пена. – Похоже на защитную оболочку, – раздался голос оператора, и тут же Тревельян услышал крик: – Осторожнее! Отозвать роботов! Вытащим сами! Кричал Сазонов. Пятеро медиков бросились к саркофагу, обступили его, и теперь Тревельян видел только их плечи и головы в защитных шлемах. Они что-то делали – быстро, стремительно, со сноровкой людей, привыкших спасать человеческую жизнь. Их голоса звучали с экрана: – Витализатор! – Включен. – Контакт к сердцу, два на виски и два к ступням… – Сделано. – Ввожу цереброн… два кубика… Дышит? Есть мозговая активность? – Нет. – Еще два кубика… Полная мощность на витализатор! – Сделано. – Есть реакция зрачков? – Не вижу… Нет, появилась! – Теперь кислород! Кислород и массаж сердца! Аккуратнее, Серж! – Да, профессор. Кажется, задышал… – Продолжать кислород. Кубик сенситива в сонную артерию… Пульс? – Двенадцать ударов в минуту. – Давление? – Пятьдесят на тридцать… Может, это для них норма? – Не знаю. Адреналин! – Сколько? – Не знаю. Минимальную дозу… – Он сто сорок секунд под излучением. Отключим витализатор? – Не знаю. Нет, не отключайте… еще минута… Первый Ветер зашевелился, перья дрогнули на его плечах. Лицо кни’лина было недовольным. – Кто у них там? Ничего не вижу… Эти тупоумные перекрыли весь обзор! Почему не докладывают? Жанна возмущенно фыркнула. Тревельян раскрыл было рот, соображая, как ответить строго и соблюсти при том вежливость, но не успел – послышался басистый голос параприма: – Эти целители спасают жизнь разумного существа. Сейчас больше ничего нам знать не надо. Черты Первого Ветра исказились в гримасе неприязни, но он промолчал. Текли минуты. Сидевшие в конференц-зале слышали только краткие реплики медиков да тихое жужжание невидимого прибора. Люди трудились на дне ледяной шахты, роботы стояли поодаль, все еще держа в манипуляторах крышку саркофага. Видимо, оператор-кибернетик забыл отдать им нужную команду. Наконец один из реаниматоров выпрямил спину, обернулся, и Тревельян увидел лицо Сазонова. Его виски блестели от испарины. – Это человек. Насколько можно судить без детальных анализов, обмен веществ обычный, скелет и мышечные ткани не отличаются от стандарта гомо сапиенс. Человек! Он без сознания, но дышит. Сейчас мы перенесем его в восстановительный модуль. – Благодарю, – сказал Тревельян. – Прошу информировать о ваших дальнейших действиях. Что-то еще? – Да. В ногах у него находится какое-то устройство. Небольшая панель, хорошо сохранившаяся. Наш кибернетик думает, что в нем записи. – Можете отослать нам этот артефакт? – Разумеется, – промолвил врач и исчез с экрана. Теперь там виднелись фигурки медиков, осторожно извлекавших из саркофага нагое человеческое тело. Тревельян почувствовал, как разрядилось напряжение, владевшее членами комиссии. Первый Ветер, поправив воротник камзола, откинулся на пятки, удобнее располагаясь на подушке, Нишикуандра протянул длинную конечность за очередным бананом, и даже на невозмутимой физиономии Регистратора мелькнуло нечто похожее на облегченную улыбку. Глаза прекрасной Жанкат Брингар сияли, и Ивар почти физически ощущал струившиеся от нее волны теплой нежности. Как все терукси, она была очень эмоциональна. – Что ж, – произнес Тревельян, – сегодня мы трудились недолго, но получили крайне важную информацию. Ее следует обдумать, так что я распускаю наше собрание. Устройством, про которое сообщил доктор Сазонов, займутся эксперты. – Он повернулся к Жанне: – В штате экспедиции много технических специалистов. Прошу вас выбрать самых опытных. Она склонила головку в ореоле пепельных волос. – Да, консул, непременно. Серв и кни’лина направились к выходу, за ними переваливался Нишикуандра со своими спутницами. Жанна на миг остановилась у двери. «Идем, – сказали ее глаза Тревельяну, – идем! Разве ты не видишь, как я прекрасна? Хочешь узнать вкус моих губ? Хочешь прикоснуться к моим плечам, поцеловать шею? Хочешь? Хочешь?..» «Еще как хочу», – подумал Тревельян, но остался на месте. Жанна обиженно нахмурилась и исчезла. «Так и будешь клювом щелкать?» – осведомился Командор. «Дед, я здесь не для амурных приключений. Меня, между прочим, работать послали». «Одно другому не мешает. Тем более что труды твои на сегодня закончены». «Ошибаешься». Тревельян приблизился к окнам, взглянул на толпу у здания. Люди расходились – должно быть, им уже сообщили последние новости. «Ошибаешься, дед, – повторил он, – моя работа только начинается. И первое, что я должен сделать, – свыкнуться с мыслью, что обитавшие здесь люди уничтожили свой мир. Ведь скоро я буду говорить с одним из них… Человек ли он или чудовище? Разумное ли существо или безжалостный монстр?» «Не знаю, – проворчал призрачный Советник. – Но хлопот у тебя с ним будет предостаточно». Так и получилось.Глава 8 Рыцарь Времени
Пришелец из прошлого был невысоким, изящным и двигался с грацией танцора. Серые глаза под темным росчерком бровей, бледная кожа, длинные светлые волосы, мягкие черты лица… Юноша, совершенно неотличимый от уроженца Земли или какой-нибудь земной колонии с не очень жарким климатом… Глядя на него, Тревельян подумал, что за четыре дня Сазонов и его реаниматоры проделали огромную работу – молодой человек казался бодрым и полным сил. Только в глазах его стыла печаль, когда он смотрел в окно на ледяной панцирь, покрывший некогда цветущую планету. Комиссия собралась в том же зале, к обстановке которого добавился серебристый цилиндр кибертранслятора. Прибор, посланный из прошлого, содержал руководство по изучению языка, что, несомненно, говорило о практической сметке отправителей. Они рассчитывали, что их посланец встретится с разумными существами, и проблема общения будет первой после его реанимации. Руководство составили опытные лингвисты, что позволило запрограммировать транслятор в течение тех же четырех суток. Это время Тревельян посвятил беседам с коллегами и контактам с медиками, а вечера – прогулкам с очаровательной Жанной. Но дальше этого дело не шло – кажется, милый археолог была на него обижена. Он оглядел сидевших в зале: Нишикуандра и две его самки с корзиной, на этот раз полной ананасов… Первый Ветер и Второй Дым, оба облаченные в парадную одежду – Ветер в лиловом камзоле, Дым в темно-синем… серв Хийар Ирт, хрупкий и тонкий, словно сказочный эльф… Жанкат Брингар была сегодня в строгом зеленоватом платье, и, гармонируя с ее одеянием, в керамическом сосуде стояли зеленые ветви сосны. Реанимированный юноша, сидевший рядом с серебристым цилиндром, тоже озирался, разглядывая членов комиссии, и когда его взгляд скользил по семье парапримов и лицу Регистратора, к Ивару катилась волна благоговейного изумления. Вероятно, пришелец не ожидал, что встретится с существами, не похожими на людей. Но в его ментальном спектре не было ни страха, ни недоверия. – Начнем, коллеги, – сказал Тревельян, потянулся к панели терминала и включил транслятор. Потом сказал: – Приветствую гостя из прошлого. Он среди нас, среди разумных существ, отстоящих на многие тысячи лет от его времени… Воистину это на грани чуда! Из транслятора донеслось нечто плавное, мелодичное; гость сложил руки крестом перед грудью и пропел в ответ. Затем раздался звучный голос кибера: – Благодарность безмерна. Не надеялся снова жить… Ты, декаи унго, властитель с благородным лицом, сказал мудрое слово: это чудо! Чудо, что я жив, и чудо, что я вижу вас, властители звезд, таких непохожих, но равно озаренных светом мысли. Я потрясен! – Хорошая речь, от души и сердца, – промолвил Нишикуандра. – Полагаю, когда-то этот мир был населен достойными людьми. Первый Ветер кисло усмехнулся: – Не стоит забывать, что эти достойные люди устроили ядерную катастрофу. Прав наш божественный пророк: у протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли! А здесь даже пыли не осталось, только льды и снега. Пришелец из прошлого выслушал пение транслятора, потом его голова поникла. – Это верно, – произнес он, и хотя сказанное требовало перевода, печаль, прозвучавшая в его голосе, была понятна всем. – Это верно, и потому я, Найт Ракасса, отправлен к вам от людей Декаи Таилу и от своего суонча с мольбой о помощи. Вы мудрые владыки звезд, повелители времени и пространства… Вы прилетели в наш мир, когда он давно уже погиб, но в вашей власти это изменить. Снизойдите же к нашей глупости, нашему невежеству и несчастью! Спасите нас! Он наклонился вперед и снова скрестил руки перед грудью – вероятно, то был жест почтения. В его глазах блестели слезы. Очень эмоциональный человек, решил Тревельян. Молодой, искренний и очень несчастный. – Я посланец отчаяния и смерти, – с тоской сказал Найт Ракасса. – И я посланец надежды. Мне уже сообщили, сколько времени прошло. Наш мир сделал больше тридцати тысяч оборотов… Огромный, огромный срок! Но я бы ждал еще и еще, ждал и надеялся, что увижу мудрецов со звезд, тех, что прилетят когда-нибудь на Декаи Таилу. – Он сделал паузу. – И вот вы здесь. Декаи Таилу, Светлый Мир, вот как они называли свою планету, подумал Ивар, выслушав перевод. Лучше, чем Снежная Пасть, но не очень отвечает ситуации. Он поймал взгляд Нишикуандры. Параприм смотрел на юношу с сочувствием и болью; не приходилось сомневаться, что, будь в его власти, Снежная бы вмиг зазеленела, покрылась лесами, городами и дорогами, а миллиарды ее обитателей тотчас восстали бы из праха. Но это была лишь фантазия, неосуществимая мечта – леса давно сгорели, от городов не осталось ни камня, и атомные взрывы развеяли в пыль плоть и кости погибших. – Ты сказал, что отправлен к нам с мольбой о помощи, – молвил Тревельян, чувствуя, что душа его полна горечи. – Чего же ты хочешь от нас, Найт Ракасса? И чего хотели те, кто отправил тебя в будущее? На что они надеялись? – Люди моего суонча думают… думали, что вы придете к ним сквозь время, лишите силы владык и спасете невинных. Слишком много зла накопилось в мире… слишком много мелл-паа и горючего симхалла, который мы не можем ликвидировать… не знаем, как сделать это безопасным способом – так, чтобы планета не погибла. Киберпереводчик трижды запнулся – похоже, некоторые слова не поддавались однозначному толкованию. В таких случаях транслятор пользовался терминами исходного языка, со временем уточняя их смысл. – Никто в Галактике не умеет двигаться назад по времени, – процедил сквозь зубы Первый Ветер. – Прошлое есть прошлое, оно неизменно, и попавший в погребальный сосуд останется там навсегда. Твои сородичи ошиблись, мы не можем вам помочь. – Он огладил безволосый череп и добавил: – Собственно, помогать некому. Все давно мертвы. Кровь отлила от щек юноши, когда транслятор завершил выпевать мелодию из долгих мягких звуков. Прижав к лицу ладони и сгорбив плечи, Найт принялся что-то шептать, но так невнятно и глухо, что киберу пришлось переспрашивать снова и снова. Члены комиссии ждали, слушая их диалог, похожий на песню в два голоса. Первый Ветер нетерпеливо хмурился, Хийар Ирт с бесстрастным лицом подпирал стену, Нишикуандра замер, прикрыв глаза морщинистыми веками. Ивар почти не сомневался, что его четырехрукий коллега пытается прозреть грядущее. Иногда парапримам это удавалось. – Вы прилетели со звезд, но не в силах странствовать сквозь время? – наконец спросил гость из прошлого. – Вы не можете вернуться со мной в мир до катастрофы? Не можете спасти тех, кто ждет вас? – Никто не ждет, – сухо заметил Первый Ветер. – Было сказано мной: все давно мертвы. Все, кроме тебя. – Все мертвы… – с печалью повторил Тревельян. – Не совсем так, ньюри Первый Ветер, – для Найта Ракассы они живы. Наш гость расстался со своими соотечественниками и своим миром только четыре дня назад. Расстался с планетой, которая еще не погребена под льдами, и с людьми, что с ужасом видят, как надвигается катастрофа… Да, они погибли… Но ему нужно смириться с этой мыслью. – Он повернулся к юноше: – Мне жаль, что мы не оправдали твоих надежд… твоих и твоего народа. Мы странствуем среди звезд, мы можем растопить льды и снова сделать Декаи Таилу живой, но не в нашей власти изменить то, что уже случилось. Первый Ветер вздернул голову, украшения из перьев закачались на его плечах. – Такое в принципе невозможно! Если бы разумные создания стали манипулировать прошлым, переделывая его к своей выгоде и желанию, во Вселенной воцарился бы хаос! Но хаоса мы как раз не наблюдаем. Мир подчиняется логике и физическим законам, следствия вытекают из причин, будущее – из прошлого, плод зреет и опадает, живое гибнет и вновь возрождается… Этого никому не изменить. Веки Нишикуандры приподнялись. – Я бы не был так уверен, – произнес он гулким басом. – Нет, я совсем не уверен! Устройство мира гораздо сложнее, чем полагает наш друг ньюри с перьями… или лучше сказать, оперенный?.. – Он ухмыльнулся, раскрыв огромную пасть. – Что говорить о будущем, если мы не знаем даже настоящего – я имею в виду, в полном объеме. Кто скажет, что творится сейчас у голубого солнца на другом краю Галактики? Какое там было прошлое, что за настоящее и какое будущее ждет это светило и обитающих там существ?.. Нам это неизвестно. Зато мы знаем другое: в будущее ведут разные пути. У Первого Ветра было такое выражение, словно он откусил плод суимбри с горького конца. Бросив неприязненный взгляд на параприма, он пробормотал: – Настоящее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки… даже тот, кто с четырьмя руками… Но не будем вдаваться в философские споры о будущем и дорогах, что ведут к нему. Есть более насущная проблема – что делать с этим? – Первый Ветер кивнул в сторону Найта и добавил: – Думаю, наша комиссия полномочна в решении его судьбы. – Нет. Судьбу Найта Ракассы определит только Найт Ракасса. – Поднявшись, Тревельян приблизился к юноше и, словно защищая его, положил ладонь на хрупкое плечо. – Ты согласен пообщаться с нашими экспертами? Расскажешь им про свой мир и больше узнаешь о нашем… Не отчаивайся, Найт! Твой народ погиб, но ты не последний человек в Галактике. Ты не будешь одиноким. Он распустил собрание – Найта уже ждали медики, укрепляющие процедуры, обед и послеобеденный отдых. Члены комиссии разошлись. Тревельян тоже направился в коридор и встал у окна, глядя на солнце, висевшее над сверкающими пиками. Вид был чудесный, из оранжереи тянуло теплом и сладким ароматом цветов, но ледяная тяжесть легла ему насердце. Он представил этот мир опять живым, полным трав и деревьев, с реками и океанами, с землей, свободной от снегов, с множеством крупных и мелких тварей, обитающих в лесу и в поле, и с одним-единственным человеком на планете, с Найтом Ракассой, пришельцем из прошлого. С Рыцарем Времени, преодолевшим тысячелетия, чтобы спасти свой народ… Жизнь у него была бы невеселая! О такой сказано у Йездана, пророка кни’лина: жизнь – смех полоумного в пустоте… – Нельзя ему тут оставаться, – прошептал Тревельян. – Если пожелает, на Землю увезу или на Гондвану… Непременно увезу! «Дело, – согласился Командор. – Нечего парню киснуть да тосковать среди этих поганых льдов и снегов. На Землю его давай, на Землю, и в Звездный Флот определи! Для десанта он мелковат, а для пилота-истребителя в самый раз». «Возможно, ты прав, – мысленно промолвил Ивар. – На Флоте у нас не затоскушь. Наряд на камбуз, потом отправят драить гальюн, и тоски как не бывало». Из здания вышла Жанна Брингар, милый археолог-консультант. Остановилась, обернулась и встретила его взгляд. «Будь я владыкой времени, – подумал Ивар, – вернул бы миг, когда она звала… Миг, когда ее глаза говорили: иди, иди ко мне!.. Разве ты не видишь, как я прекрасна? Хочешь узнать вкус моих губ? Хочешь прикоснуться к моим плечам, поцеловать шею? Хочешь? Хочешь?..» Он вздрогнул – тяжелая рука опустилась на его плечо. Даже не рука – мощная шерстистая лапа. – Размышляешь о судьбе нашего гостя? – прогудел Нишикуандра. От него пахло фруктами, цветами и свежей зеленью. – Да, – кивнул Тревельян. – Здесь ему оставаться не стоит, слишком мрачные воспоминания… Увезу его на Землю. Параприм приоткрыл рот, его губы растянулись в усмешке. Пасть у него была такой, что в нее влезли бы оба кулака Тревельяна. – Не ты ли сказал: судьбу Найта Ракассы определит только Найт Ракасса?.. Впрочем, не беспокойся – с ним все будет хорошо. – Ты видел это в своих прозрениях? – Видел, – подтвердил Нишикуандра. – Видел его, видел будущее этого мира и кое-что еще. – Заметив, что Ивар смотрит на Жанну Брингар, параприм покачал головой. – Красивая девушка, очень красивая, но не для тебя. Как говорите вы, земляне, не в этой жизни. – А что для меня? – спросил Тревельян. Его сердце вдруг гулко стукнуло и будто бы на миг остановилось. – То, что ждет тебя в грядущем, что неизбежно и неминуемо, – с важным видом произнес параприм. – И на этот счет не беспокойся, свое получишь. Что суждено, то суждено! – Не слишком подробная информация, – буркнул Тревельян. – Что ж, и за нее спасибо. Коснувшись в знак прощания мягкой шерсти параприма, он зашагал к своим апартаментам.* * *
Прошел день, затем второй. Утром третьего Ивар вызвал с отчетом специалистов, занимавшихся с Найтом Ракассой. Явились двое: молодой долговязый физик Всеволод Рудин и лингвист-социолог Делла Джин Деверо, крохотная темнокожая дама, закутанная в сари от шеи до пят. Ее тонкие запястья украшали коммутационные браслеты в виде серебряных змеек с подвесками, на груди сверкал вокодер, крупный зеленый гранат, в ушах покачивались серьги – видимо, тоже какие-то устройства, имевшие отношение к лингвистике. Несмотря на свой экзотический вид, Делла Джин Деверо считалась одним из ведущих специалистов экспедиции. Правда, до пробуждения Найта Снежная Пасть не баловала ее открытиями и вообще какой-либо работой. Тревельян пригласил экспертов в свой кабинет, где физик уселся в кресло, а Делла Джин расположилась на диванчике. Браслеты позванивали при каждом ее движении, кристалл вокодера и камни в серьгах разбрасывали по стенам множество световых зайчиков. Прямо индийская княгиня, супруга раджи, подумал Ивар, исподтишка любуясь гостьей. – Что с Найтом? – спросил он, наконец, решив, что пора перейти к делу. – Скучает? Тоскует? – Осваивается, – нежным сопрано произнесла лингвист. – Не зря его выбрали для такого безумного проекта – он молод, и у него высокая степень адаптабельности. К тому же контактный, очень контактный. Хотя льды и холод не доставляют ему удовольствия… – Она передернула плечами. – Как, впрочем, и мне. Тревельян кивнул и повернулся к физику. – Чем порадуете – или, скорее, огорчите? Удалось выяснить, что здесь произошло? – Наш подопечный не был свидетелем катастрофы, его поместили в стасис за несколько дней или даже месяцев до печального события, – сказал Рудин. – Но его клан… – Не клан, суонч, – поправила Делла Джин. – Группа людей, не связанных родством, но объединенных общими интересами. Они носят одно и то же второе имя, в данном случае – Ракасса. Ближе всего к суончу такие понятия, как общественный институт, организация, союз. Ракасса небольшая группировка – двести тридцать тысяч членов. – Небольшая? – Тревельян приподнял бровь. – Да, консул, если учитывать, что на Декаи Таилу обитали двенадцать миллиардов человек. В некоторых суончах насчитывалось до пятидесяти и более миллионов. – Ясно. Всеволод, пожалуйста, продолжайте. Физик обхватил колени длинными руками. – Ладно, пусть будет суонч… Так вот, Ракасса считали, что катастрофа неизбежна, поэтому и отправили гонца в будущее. У них не было средств, чтобы добраться до звезд, – только примитивные корабли с термоядерным двигателем. По словам Найта, они едва начали осваивать свою солнечную систему, выяснив, что здесь нет других миров, пригодных для обитания. Сбежать в космос не получилось бы. – Дальше, – сказал Тревельян. – Какую опасность они предвидели? Конфликт между странами их планеты? Ядерную войну? – У них не было стран в политическом и территориальном значении этого слова, – опять вмешалась Делла Джин. – Мне еще не совсем понятно, транслятор идентифицировал слишком мало терминов… Кажется, группировки, владеющие определенными производствами и умениями, распространялись по всей планете, так что в каждом городе нашлась бы добрая сотня суончей. Безусловно, между ними были трения, как-то связанные со сроком жизни и понятием… понятием… Она коснулась браслета, зазвенели подвески, затем голос Найта Ракассы произнес: «Мелл-паа… мелл-паа, измененные…» – Да, мелл-паа, другая раса, народ или мощная группа, имеющая некие интересы, непопулярные среди остального населения. Я еще не разобралась. – Обсудим это в другой день, когда у вас будет больше ясности. Продолжайте, Всеволод. – Не буду вдаваться в социологию и структуру их общества, это, консул, не моя сфера, – промолвил Рудин. – Давайте вернемся к технологии. Наш гость не очень в ней силен, но кое-что удалось выяснить, и данные находят подтвержение у археологов. Обитатели Снежной, – физик бросил взгляд в сторону окна, – не швыряли друг в друга ракеты с ядерными зарядами. Если бы такое произошло, под ледяным щитом было бы множество кратеров, а также руины древних поселений, что не наблюдается. Мы видим другое: все искуственные сооружения, растительность и слой почвы стерты в прах – надо полагать, испарились в плазменном облаке, окутавшем планету. – Это возможно? – спросил Тревельян. – Да. Население было очень большим, так что они применяли эффективный, но опасный способ получения энергии – термоядерный синтез гелия из атомарного водорода. Для этого использовался катализатор – симхалл, как называет его Найт. Теоретически такой процесс нам известен, но ни одна разумная раса не прибегала к подобной технологии. – Почему? Это оружие? Физик пожал плечами. – Зависит от цели и намерений. Можно локализовать процесс, и, если это сделано в блоке реактора, мы получим источник энергии. Но если локальный синтез возбужден в каком-то месте планетарной поверхности, это оружие, причем сокрушительное. Контролировать такую реакцию гораздо труднее, процесс неустойчив и имеет тенденцию распространиться в соседние области, а затем и на всю планету. Проще говоря, вспыхивает атмосферный водород, и тогда… – Рудин сморщился и махнул рукой. – Тогда, консул, всему конец! Глобальная реакция не прекратится, пока не выгорит катализатор. А картина после нее будет в точности такой, какую мы наблюдаем на Снежной. Смуглое личико Деллы Джин побледнело. – Владыки Пустоты! Они сожгли свой мир… просто сожгли планету… – прошептала лингвист в потрясении. Ее браслеты отозвались похоронным звоном. – Именно так. Хотя, если позаботиться заранее, нейтрализовать катализатор не очень сложно. Нет, не сложно… – Физик с грустью усмехнулся. – Если бы у нас нашлась машина времени… пусть даже совсем примитивная, вроде описанной у Герберта Уэллса… – Если бы нашлась, то что? – спросил Тревельян. – Ну, достаточно вывести на орбиту небольшой генератор с излучателем, собрать который я берусь за пару дней. Устройство направит поток энергии из Лимба в нужные точки поверхности, инициируя распад симхалла – с полной гарантией, независимо от его состава и структуры. Конечно, хранилища и все живое, что в них найдется, тоже будут уничтожены, но полагаю, это невысокая цена. – Что-то подобное уже делали? – Ивар откинулся на спинку кресла, не спуская с физика глаз. – Я имею в виду этот поток энергии из Лимба и последствия, описанные вами. – Делали и делают. Как, вы думаете, перезаряжаются метатели плазмы на наших кораблях?.. Там, конечно, техника сложнее… много сложнее… собрать боевой генератор я бы не рискнул… – И не надо. Все равно у нас нет машины времени, и вряд ли кто-нибудь ее создаст. – Прикрыв глаза, Тревельян с минуту размышлял, укладывая в памяти все, что рассказали Деверо и Рудин. Затем проговорил: – Благодарю вас обоих. С тем, что здесь произошло – я имею в виду физический аспект, – мы разобрались. Мои поздравления, Всеволод! Жаль, что у Деллы успехов меньше. – Социолингвистика сложнее физики, – заметила Делла Джин, грациозно соскользнув с дивана. Они направились к выходу. Черноволосая головка лингвиста едва доставала Рудину до груди. Рядом эта пара была похожа на длинноногого журавля и пеструю птичку из райского сада. Дверь закрылась. Тревельян, устроив подбородок в ладони, глядел в туманный экран терминала. Мрачные видения плыли перед ним: опустошенные миры, покрытые льдом океаны, развалины городов, диск бледного солнца над опаленными скалами, ядовитый песок, что светится по ночам, безлюдье пустыни и тишина, кладбищенская тишина… Ледяной Ад, Руины, Пепел, Горькая Ягода, Рухнувшая Надежда – планеты, где Фонд совершил ошибку, допустив, чтобы их обитатели истребили друг друга либо задохнулись в собственных отходах. Но за катастрофу на Снежной Фонд не нес ответственности, здесь ошибка свершилась так давно, что в те времена на Земле кремневый нож считался вершиной прогресса. Слабое утешение, думал Тревельян. Сохранить планету, спасти ее жителей, помочь им выбраться из тупика, одарить технологией звездной эпохи – вот достойная цель! Это было бы так замечательно, так чудесно! В определенном смысле, искупление прошлых ошибок – таких, как Руины и Горькая Ягода… Но не сам ли он сказал: у нас нет машины времени, и вряд ли кто-нибудь ее создаст?.. Да, сказал, но разве это не лукавство?.. Когда-то, в далекие, очень далекие времена, Древние расправились с Хтоном, забросив планету и ее светило в будущее, в Провал меж галактических ветвей, во тьму и холод пустоты… Планету и звезду! За сотни тысяч или миллионы лет! Бесспорно, даскины властвовали над временем! Он видел это, он ведь был на Хтоне! «Мы оба там были, – напомнил о себе Командор. – И когда я вспоминаю этот гнусный мирок, мне хочется выпить. Есть тут коньяк? Или хотя бы виски?» «Не знаю», – ответил Ивар, с досадой поморщившись. Старик мешал его раздумьям. «Уверен, что есть! Археологи – народ пьющий… круто пьющий, так с давних пор повелось… они…» – Дед что-то забормотал, но Тревельян уже отключился. Надо посоветоваться, мелькнула мысль. Поговорить с Хийаром Иртом, с Регистратором – вдруг он привез с собой что-то подходящее… темпоральный толкатель, хронореверсор, блок временной дисторсии или нечто в этом роде… Тут вспомнилось Тревельяну, что серв по большей части молчал, не задавал вопросов и мнений своих не высказывал. Как это понимать?.. Не было ли это молчание слишком многозначительным?.. Возможно, Регистратор выжидает, когда к нему обратятся за помощью?.. Подумав об этом, Ивар отодвинул кресло, поднялся и вышел в коридор. Секунду-другую он соображал, где разместили Хийара Ирта – то ли в крохотном отсеке у оранжереи, то ли в противоположной стороне, в одной из кладовых для экспонатов, пока пустующих. В силу своей андроидной сущности серв не нуждался в иных удобствах, кроме наличия воздуха; собственно, он и дышал-то раз в минуту. Регистратор у зимнего сада, рядом с парапримами, вспомнил Тревельян и направился было к оранжерее, но тут открылась дверь в апартаментах Первого Ветра, и в коридор выскользнул Второй Дым, его секретарь и помощник. Не приближаясь к Ивару, он присел и развел руки в стороны, что считалось знаком приветствия, особого уважения или почтительной просьбы. Тревельян ответил тем же; обычаи кни’лина, к которым он приобщился на Сайкатской станции, еще не выветрились из его головы. – Достойный ньюри консул не спешит? – осведомился секретарь, снова приседая. – Не спешит, – подтвердил Тревельян. – В Книге Начала и Конца сказано: торопливость не пристала благородному мужу. – Моя тень не закрывает вам дорогу? – Если и закрывает, я не посмею на нее наступить, – ответил Тревельян в лучших традициях кни’линской вежливости. Второй Дым отступил на несколько шагов, увеличив расстояние между собой и Иваром до пяти метров. Его колени все еще были согнуты, но руки он простер к распахнутой двери. – Ньюри Первый Ветер хочет встретиться с ньюри консулом. Нижайше прошу проследовать и удостоить беседой. Если, конечно, ньюри консул пожелает. – Отчего же не пожелать. Встреча с хорошим человеком – утренняя радость![154] Тут Ивар покривил душой – Первый Ветер был ему не очень симпатичен. Павлин, напыщенный павлин! Но это мнение не отменяло дипломатию и вежливость. Так что он проследовал и очутился большой комнате, почти лишенной мебели. На стене – голограмма: стебель с мелкими алыми цветами в хрустальной вазе; слева – низкий пустой столик с подушкой, справа – такой же стол, и за ним восседает на пятках Первый Ветер. При виде гостя он приподнялся, раскинул руки и склонил голову. – Прошу садиться, ньюри консул. Тецамни, апаш, пактари? Может быть, курзем?[155] – Эти деликатесы всегда вызывали у меня восторг, но сейчас я не голоден. Пожалуй, только тецамни, – промолвил Ивар, опускаясь на подушку. Он измерил взглядом дистанцию до стола соратника по комиссии – никак не меньше восьми метров. Коно в самом почетном варианте, когда даже дыхание собеседников не смешивается. Первый Ветер сделал знак секретарю. Тот исчез во внутреннем помещении и появился вновь с большим овальным подносом, который плыл за ним по воздуху на уровне плеча. Пока Второй Дым, двигаясь неторопливо и плавно, расставлял бокалы, над которыми вился душистый пар, и тарелки с солеными травками и орехами, гость и хозяин молчали. Наконец важная процедура завершилась: Первый Ветер отхлебнул горьковатый напиток, Тревельян последовал его примеру и, как полагалось, восторженно закатил глаза. Тецамни в самом деле был заварен мастерски, в лучших традициях клана ни. – Эта встреча, ньюри консул, слишком задержалась, – произнес Первый Ветер, ерзая на подушке. – А зря, зря! В нашем собрании лишь мы двое принадлежим к человеческой расе. Вы, обитатель Земли, и я, увидевший свет на Йездане… Пора бы нам обменяться мнениями по некоторым вопросам. Без посторонних. – И что же вы хотите мне сказать как человек человеку? – полюбопытствовал Тревельян, перейдя на язык кни’лина. Он владел им в совершенстве. – Если разжег костер, смотри, куда улетают искры – так заповедано Серооким в его священной Книге. Сожалею, но сейчас искры летят не в ту сторону. Не от вас ко мне, как можно было бы надеяться, а к волосатому монстру, чья пасть шире подушки под моим седалищем. Хорошо ли это? – Нехорошо, – кивнул Тревельян, испытывая острую неприязнь к собеседнику. «Не просто павлин, а павлин – интриган и эгоцентрист!» – подумалось ему. Но вслух он сказал: – Однако я прошу ньюри уточнить свои желания. Они, в конце концов, тот ветер, что несет искры. – Именно так. – Первый Ветер поиграл бокалом, отодвинул сосуд, придвинул снова, погладил гладкое стекло и, наконец, промолвил: – Это существо из стасиса, Найт Ракасса… Что с ним делать? Вряд ли он захочет провести жизнь здесь, среди льдов, снегов и тягостных воспоминаний… Вы согласны? – Да. – Как наш глава вы могли бы посодействовать, чтобы комиссия направила его в тот мир, где он приобщится к цивилизации. Разумеется, не к четвероруким и не к роботам лоона эо, а на планету подобных ему людей. На Землю, Йездан либо одну из ваших или наших колоний. – Разумная мысль, – согласился Тревельян. – Но должен разочаровать вас – комиссия таких полномочий не имеет. Ее задача выполнена, цель достигнута, работа завершена. Мы, четверо ее членов, больше не представляем свои миры и вышестоящие институты, пославшие нас, и не имеем права принимать совместные решения. Первый Ветер с удивленным видом пожевал губами и прищурился. – Вы, ньюри консул, отлично владеете языком моих предков. Если бы не избыток волос, вы могли бы сойти за аристократа-похарас или ни из самых высших… Ваше произношение безупречно! Но в данный момент я вас не понимаю. – Вопрос, поставленный перед комиссией, был таков: вскрывать или не вскрывать стасис. Мы разрешили его в полном согласии, достигнув тем самым поставленной перед нами цели. Все остальное уже не касается нашего собрания. Разве не так? Кни’лина, особенно из клана ни, были большими формалистами, инструкции вышестоящих считались у них святыней. Минуту-другую Ивар с интересом наблюдал, как борьба в душе Первого Ветра отражается на его лице: недоумение, понимание и, наконец, досада. – Вынужден согласиться, ньюри консул, – прошелестел он. – Давать совместные рекомендации мы более не можем. Но это открывает путь к частным инициативам, не правда ли? Вы не будете возражать, если Найт Ракасса улетит на Йездан? Конечно, по собственной воле? «Пожалуй, хватит мучить этого павлина!» – усмехнувшись, решил Тревельян. Он поднял бокал, сделал несколько глотков тецамни и закусил соленой травкой. Затем произнес: – Вы хотите знать, что случилось в этом мире, и надеетесь, что Найт Ракасса поведает вам о каких-то тайнах, связанных с катастрофой. Я понимаю, ньюри, понимаю… Я ксенолог, и история Йездана мне известна. Было время, и ваша цивилизация стояла на краю гибели… Отсюда интерес к подобным проблемам – я бы сказал, несколько болезненный. Первый Ветер безмолвствовал, только по щекам его катались желваки. Почетный знак воина – рана, нанесенная в бою пронзившей грудь стрелой. Но никто не любит вспоминать, как ее вырезали… Это изречение из Книги Начала и Конца относилось к любому кни’лина. Они панически боялись любых катастроф, но гордость не позволяла признаться в этом. У Тревельяна, сидевшего на пятках, занемели ступни, пришлось сесть, скрестив ноги. Эта поза тоже дозволялась этикетом, хотя ее считали несколько вульгарной. – Сегодня утром ко мне явились эксперты, те, что работают с этим несчастным юношей, – промолвил он. – Физик выдвинул очень правдоподобную гипотезу случившегося катаклизма… собственно, не гипотезу, а теорию, подтвержденную фактами и расчетами. Он знает, что здесь произошло. – Знает? – Первый Ветер дернулся на своей подушке. – Да. Вы получите полную информацию по этому вопросу. Клянусь погребальными кувшинами моих предков! Его собеседник перевел дух. Потом с явным облегчением буркнул: – У вас нет таких кувшинов. Ваши жилища пусты и не помнят прежних хозяев-предков[156]. – Ошибаетесь, ньюри, предки всегда с нами, – сказал Тревельян, прикоснувшись к виску. – По крайней мере один из них со мной и имеет счастье лицезреть и слушать вас. Но вернемся к нашему делу. Вы все еще хотите, чтобы Найт Ракасса полетел на Йездан? Звук, изданный Первым Ветром, казался таким же резким и отрывистым, как щелканье жвал архов-яхит. Лицо его приняло задумчивое выражение, уголки рта опустились, взгляд уперся в бокал с тецамни. – Поразмыслив… да, по зрелому размышлению, я полагаю, что в этом нет необходимости. Пусть отправляется на Землю. Он больше похож на вас, чем на меня. – Первый Ветер огладил голову, лишенную волос. – Наверное, он трупоед, а поедание мяса так отвратительно и безнравственно! Чем бы мы стали его кормить?.. – Курземом, – сказал Тревельян, – в этом блюде много белка. Но раз проблема исчерпана, не будем к ней больше возвращаться. Хочу спросить вас, ньюри Первый Ветер… Вопрос умозрительный, из области фантастики… может быть, совсем нелепый… – Он побарабанил пальцами по столу. – Представим, что в нашей власти пропутешествовать в прошлое, спасти этот мир, сохранить его флору и фауну, его города и все остальное, что создано людьми… разумеется, и самих людей Декаи Таилу. Всех соплеменников Найта, целую разумную расу! Как бы вы к этому отнеслись? Первый Ветер содрогнулся – кажется, он был не на шутку перепуган. – Йездан милостивый, сохрани нас от этого! И мой народ, и вашу Федерацию! Последствия были бы ужасны! – Но почему, ньюри? Тень промелькнула по лицу Первого Ветра. Он сказал: – Тридцать два тысячелетия назад эта раса владела ядерной технологией… мощной технологией, раз они смогли уничтожить свой мир… возможно, они стояли на пороге космической эры… А что в эти времена творилось на вашей Земле, достойный консул? – Хмм… – протянул Тревельян, – хмм… Думаю, мои предки охотились на мамонтов и жгли костры в пещерах. – На Йездане было то же самое. Дикари, дикари и в вашем мире, и в моем! – Разволновавшись, Первый Ветер отхлебнул тецамни. – А эта раса – к счастью, уже не существующая! – за тридцать две тысячи лет достигла бы чудовищной мощи, став гегемоном в нашем секторе Галактики! Они изобрели бы контурный двигатель, получили бы Портулан даскинов[157] и распространились по всей галактической ветви! Они заняли бы все планеты, где находятся в данный момент наши колонии, и сделали бы это давным-давно! Они захватили бы Йездан и Землю! Боюсь, что наши цивилизации просто не возникли бы! При этой мысли я готов уйти в вечерний цвет![158] – Резонно, – согласился Тревельян. – Но не надо волноваться, ньюри. Повторю сказанное раньше: у нас нет машины времени, и вряд ли кто-нибудь ее создаст. – Это стало бы настоящим бедствием, – произнес Первый Ветер, заметно успокоившись. – Хронопарадоксы, темпоральные петли, удвоение путешествующих, конфликты, связанные с изменением реальности… Наконец, войны, где сражения идут не только в пространстве, но и во временном континууме, простираясь на тысячи и миллионы лет… Жуткая перспектива! – В самом деле, – кивнул Тревельян и допил тецамни. – Желаю вам, ньюри, утренних радостей и благодарю за мудрые слова. Сведения, обещанные мной, вам передадут. Второй Дым, приседая и кланяясь, проводил его к выходу. Вернувшись в свой отсек, Ивар связался с лингвистом Деллой Джин, потребовал прислать ему материалы по языку погибшей расы и загрузил их в гипноизлучатель в спальне. Сказанное Первым Ветром не являлось для него новостью, однако он решил не торопить встречу с Регистратором – прежде стоило разобраться с ситуацией в мире Найта Ракассы, с этими суончами, мелл-паа и остальной терминологией, пока неясной. Тридцать с лишним тысячелетий – огромный срок, достаточный, чтобы любая цивилизация погибла, истощив свой пассионарный импульс, либо поднялась к невиданным вершинам прогресса. Или – или… Может быть, Нишикуандра знал, какой из двух вариантов верен, но, кажется, параприм не торопился поделиться информацией. Тревельян не владел мистическим даром предвидения, однако в его распоряжении были логика, компьютеры и немалый опыт. Поговорить с Найтом, не дожидаясь новостей от Деллы Джин, и самому составить прогноз… Разумно, решил он. Только беседовать с гостем нужно на его языке, а для этого есть излучатель с мнемонической записью. Перед такой процедурой рекомендовалось отдохнуть и очистить сознание. Натянув термокостюм, Ивар вышел на свежий воздух. Близился вечер, солнце висело над ледяной стеной, но еще не коснулось ее, и феерия красок была впереди. Вероятно, это зрелище не могло наскучить – жители поселка покидали дома и прогуливались по улицам, то и дело посматривая на небо и ледяные утесы. Тревельян слышал смех, людские голоса и скрип снега под ногами; откуда-то донеслась мелодия – нежный напев флейт и скрипок. Он остановился у террасы штабного здания, там, где несколько дней назад встретил Жанну Брингар. Текли минуты, солнце садилось, льды вспыхнули алым, рубиновым и багряным, затем погасли. Тревельян запрокинул голову – звездное небо здесь тоже радовало красотами. Система Снежной лежала гораздо ближе к Гиадам, чем Земля, и здесь, на фоне звездного скопления, пылал яркий оранжевый глаз Альдебарана. Часть Гиад входила в буферную зону, разделявшую земной и кни’линский сектора, и за ними можно было разглядеть неяркую звездочку, солнце Йездана. Порыв холодного ветра обжег щеку Ивара, принес знакомый аромат. Он обернулся – перед ним стояла Жанна Брингар. Лукавый взгляд, нежная улыбка… Кажется, она больше не сердилась на него. – Где ваша яхта, Ивар, – та, что ушла на Тхар? – промолвила прелестный археолог. – Мне помнится, четыре палубы, бассейн, оранжерея и палисандровая мебель в адмиральском салоне… Ваша «Иллюзия» еще не вернулась? – Мебель в салоне дубовая, еще кожаные кресла и бронзовые канделябры, – напомнил Тревельян и вздохнул. – Увы, яхты моей еще нет. Иллюзии так скоро не возвращаются. – У меня в жилом модуле нет такой роскоши, – сказала Жанна. – Кресла из пластика, душ и цветок в вазе вместо оранжереи… Еще кухонный комбайн, совсем маленький… Не беда, что вашей яхты здесь нет. Если вы заглянете ко мне, я сделаю чай и что-нибудь приготовлю. Тревельян смотрел на Жанну, Жанна смотрела на него. Он едва не потонул в ее чудных зеленых глазах. Вынырнуть было непросто. «Иди! – посоветовал Командор. – Иди, нечего клювом щелкать!» «Сказано парапримом – красивая девушка, но не для меня. Не в этой жизни…» – откликнулся Ивар. «Плюнь на эту волосатую образину! Что вспоминать его болтовню, когда девица сама в руки просится! Такая красотка!» Но Тревельян лишь покачал головой. В эту ночь его ждали гипноизлучатель и запись чужого языка, который он собирался освоить. Жанна прикрыла глаза длинными ресницами, повернулась резко, фыркнула и зашагала к домикам поселка. Ивар с тоской глядел ей вслед. Не в этой жизни, крутилось в голове, он словно наяву слышал басистый голос параприма. Не в этой жизни… Верить?.. Не верить?..Глава 9 Серв Хийар Ирт и параприм Нишикуандра
Изучение языков в гипнотическом трансе, обычно во время сна, для опытного ксенолога было делом несложным. Слова и целые фразы, термины, метафоры и эвфемизмы, фонетика и письменные символы, если такие имели место, – все это укладывалось в памяти быстро и с полной надежностью. После такой процедуры понять чужую речь не составляло труда, если звуки издавались в диапазоне человеческого восприятия. Но вот говорить самому… Тут возникала проблема, связанная с речевым аппаратом, ибо уроженец Земли не мог убедительно хрипеть и щелкать, рычать и скрежетать, шипеть и лязгать, так как возможности гортани вкупе с легкими, губами и языком были ограничены. Поэтому никто не пытался освоить звуковую речь негуманоидов, тех же дроми или лльяно, не говоря уж о сильмарри. Общение с некоторыми человеческими расами тоже требовало усилий – не всякий мог произнести хотя бы пару слов на шас-га, гортанном лающем наречии кочевников Раваны. Но с обитателями Декаи Таилу, почившими много тысячелетий назад, таких сложностей не возникло бы – их язык был напевным, мелодичным, приятным для восприятия на слух и вполне доступным для горла землянина. Пробудившись утром, Тревельян исполнил пару арий, поведав самому себе о несчастной любви к очаровательной деве-терукси и злобном параприме, лишившем его надежды на счастливый брак или хотя бы легкую интрижку. Затем он натянул термокомбинезон и отправился к медицинскому модулю на окраине поселка. Там, под присмотром Пьера Сазонова и его врачей, обитал Найт Ракасса, Рыцарь Времени. По дороге Ивар пытался сообразить, почему он думает о Найте как о рыцаре. Конечно, поступок этого юноши был благородным и жертвенным – он отправился в путь без возврата, хотя мог прожить в своем мире много лет. Его соплеменники считали катастрофу неминуемой, но ни один из них не предсказал бы в точности, когда она наступит. Найт Ракасса вполне мог здравствовать долгие годы, встретить любовь, родить детей, сделаться главой семейства или даже своего суонча… Однако он принес это в жертву ради химерической надежды – пробиться сквозь горы времени к тем, кто может спасти его народ. Воистину рыцарский поступок! Но в нем ли дело?.. Только ли в нем?.. Пустившись в область свободных ассоциаций, Тревельян вдруг припомнил, что имя гостя созвучно слову «рыцарь» на одном из старых земных языков[159], бытовавших еще до введения лингвы. Когда-то он неплохо знал английский тысячелетней давности, но с той поры пришлось изучить так много инопланетных наречий! Пожалуй, не меньше сорока… даже пятидесяти… Но английский, оттесненный в дальний угол памяти, не был забыт. Найт! Рыцарь! Найт оф тайм! Довольно усмехаясь, Тревельян поднялся на террасу медицинского блока и проник внутрь сквозь шлюзовую камеру с асептическим излучателем. За шлюзом были процедурная и приемный покой – восьмиугольная зала с кабинетами за прозрачными стенами и крохотным фонтанчиком в центре. Кабинеты пустовали, и только в столовой чудилось какое-то шевеление. Туда Тревельян и направился. Найт завтракал в компании молодого светловолосого врача. Завтрак был впечатляющий – яйца, ветчина, блинчики, свежий хлеб, соки и фрукты. Вероятно, медики считали, что для восстановления сил их пациент нуждается в обильном питании. Найт, похоже, не возражал, налегая на ветчину и яйца. «Мясоед, точно мясоед!» – подумалось Ивару. Такой не приживется у кни’лина… Впрочем, этот вопрос уже не стоял. Сдвинув прозрачную переборку, Тревельян шагнул в столовую. Молодые люди вскочили. Врач поперхнулся, закашлялся, проглотил кусок и смущенно забормотал: – Консул… простите, консул… меня не предупредили… простите еще раз… – Никаких проблем, – сказал Тревельян, присаживаясь к столу. Он придвинул к себе блюдо с блинчиками, налил сока и поинтересовался: – Кофе есть? – Да, конечно… для вас и для меня… Найту кофе не нравится. Я сейчас… – Врач начал приподниматься. – Не суетитесь, юноша, успеется с кофе. Как вас зовут? – Ланселот Бродерик Свенсон, диетолог и физиотерапевт. – Из команды Сазонова? – Да, консул. Медик-стажер. – С Земли? – С Тхара, но учился в Париже. – Хорошо. Кажется, вы подружились с нашим гостем. – Тревельян повернулся к Найту и произнес, старательно выпевая чужие слова: – Ты отлично выглядишь. Ланселот рассказывал тебе о Земле? О нашей родной планете? Найт вскинулся и замер с раскрытым ртом. – Ты говоришь на моем языке, декаи унго? Без прибора, который переводит наши речи? Тревельян поморщился – «декаи унго» означало «светлый властелин». Слишком пышный титул для консула ФРИК. – Да, в трансляторе уже нет необходимости. Теперь нам проще общаться. – Он разрезал блинчик, подцепил вилкой, прожевал. – Так что же, Найт, рассказывали тебе о Земле? – Рассказывала маленькая женщина – та, что изучает слова. Ваша планета удивительна и так отличается от моего мира… моего прежнего мира… У вас нет мелл-паа, никто не скрывает лицо, и все живут очень долго. Термин мелл-паа имел несколько значений в зависимости от контекста – особые, другие, отмеченные, не похожие на остальных. Но опыт подсказывал Тревельяну, что за дословной трактовкой может скрываться что угодно – целый народ, раса завоевателей, социальный класс или узкая правящая группа. – В твоем мире были обычные люди и мелл-паа? – спросил он. – Каких же больше? – Обычных, властитель. Но мелл-паа тоже много, и они разные. – Найт отставил тарелку с ветчиной и принялся перечислять: телли-тархат, сетам-седум, иг-фатха, грони-о-гро, юл-акашага, тенти-то-уррен… Изумление охватило Тревельяна. Смысл сказанного он понимал, но смысл без интерпретации – пустое место. Телли-тархат – длинноносые… сетам-седум – птичьи глаза… иг-фатха – без ушей… И дальше – губа за губой, высоколобые, те, что под маской, и прочее в том же роде. – Ты называешь суончи? Сообщества людей, не похожих на остальных? – Да, властитель, это суончи измененных. Их семнадцать, и они владеют всем на планете. – Например? – Машины, дороги, здания, источники воды и разного сырья, энергостанции, запасы симхалла и пищи, оружие… Остальные существуют потому, что мелл-паа нуждаются в слугах, работниках и солдатах. Но людей все больше и больше, а работников нужно все меньше. Их заменяют неживые устройства… автоматы, роботы, кибернетические системы, как называется это у вас. Планетарные корпорации в перенаселенном мире, подумал Ивар. Корпорации, чья власть беспредельна, ибо нет стран и границ между ними, нет законов, кроме выгодных правителям, и нет силы, что может им противодействовать. Или все-таки есть?.. Например, суонч Ракасса, пославший Найта в будущее… Он спросил об этом, но юноша покачал головой. – Ракасса – суонч людей знания. Все, что у нас есть, – наш разум, наши руки и совсем немного машин… Мы хотим спасти планету, но другие суончи, не мелл-паа, тоже владеют знанием, и они вооружены. Не так хорошо, как измененные, но если в борьбе применят симхалл, мир будет уничтожен. – Найт бросил тоскливый взгляд в окно, на ледяные утесы, что окружали поселок. – Видимо, это и случилось… Врач Ланселот принес кофе, наклонился к Тревельяну и шепнул: – Горькие воспоминания тревожат пациента. Не надо его волновать. Почтительно прошу вас, консул. – Позабывший прошлое останется без будущего, – ответил Ивар изречением из Книги Начала и Конца. – Пусть вспоминает. Не затем мы его пробудили к жизни, чтобы погрузить в нирвану. «Пусть вспоминает, иначе мне не разобраться, – подумал он, глядя на чашечку с кофе. – Где причина конфликта?.. В архаических мирах и в тех, где социальная структура отстает от технологии, всегда есть повод для борьбы – ненависть и зависть к властным и богатым. Но здесь не только это, не только… Стремление к власти и богатству – сильный побудительный стимул, но ужас перед всепланетным катаклизмом смиряет страсти и накал борьбы. Кому нужны власть и богатство, если погибнет все население?.. Нет, здесь что-то другое, некий инстинктивный посыл, когда ненависть берет верх над страхом. Бесспорный случай изменения доктрины, и звучит она так: пусть все умрут, но «это» не достанется никому! Что «это»?.. Не власть и богатство, а более мощная мотивация… Делла Джин говорила о сроке жизни… Вот и причина!» Взгляд Тревельяна вновь вернулся к юноше. – Ты перечислил суончи ваших владык мелл-паа, но что означают их названия? Например, телли-тархат, длинноносые… Почему их так прозвали? – У них длинные носы, – пробормотал в недоумении Найт и отмерил на пальцах. – Вот такие… – А грони-о-гро? Губа за губой? – У них верхняя губа подвижная, гибкая и полностью прикрывает нижнюю, – пояснил Найт. – Хмм… – протянул Тревельян. – По-моему, это уродливо. – Измененные так не считают, для них главное – отличие, такое отличие, которое нельзя имитировать с полной надежностью. У людей каждого их суонча своя внешность, они не похожи на остальных жителей Декаи Таилу, на простых… – Секунду Найт колебался, потом добавил: – Может быть, кроме тенти-то-уррен… Их лиц никто не видел, они носят маски. – Это искусственная метаморфоза? Какая-то операция для изменения внешности? – Когда-то так и было… давно… Теперь отличия от других людей закреплены на генетическом уровне. У нас, светлый властитель, хорошие медики и биологи, целых четыре крупных суонча… – Найт посмотрел на Ланселота Бродерика Свенсона и вдруг улыбнулся. – Но здесь еще лучше! Я очень им благодарен. – Перестань называть меня властителем, я не урод с длинным носом и отвислой губой, а нормальный человек, – сказал Тревельян. – Обращайся ко мне… как бы это попроще… Трев, консул Трев. Этого достаточно. Итак, в чем отличия мелл-паа от других людей… – Ивар вытянул руку и принялся загибать пальцы. – Они владели средствами производства в вашем мире… им принадлежала власть, как гражданская, так и военная… они озаботились особой внешностью… Что еще? – Долгая жизнь, – промолвил Найт. – Долгая и почти без старческих немощей… Но процедуры, продляющие жизнь, очень сложные, только для мелл-паа, и это привело к большому недовольству. Все хотят жить долго и не стареть. – Долго… – повторил Тревельян. – Как долго? – Сто, даже сто двадцать лет, декаи унго… то есть консул Трев. – У нас, друг мой, ты проживешь гораздо дольше. Значит, появились недовольные… Это я понимаю – многие готовы бороться за жизнь свирепо и бескомпромиссно… или всем, или никому… Что же сделали ваши владыки? – Стали сокращать население, уничтожая в первую очередь суончи недовольных. Я уже говорил, что лишние работники не нужны. Одних стерилизовали, отказав им в праве иметь детей, других вытравили ядовитыми газами или перебили… Население уже стало меньше на четверть. – На Декаи Таилу обитали перед катастрофой двенадцать миллиардов, – промолвил Тревельян. – Значит, было шестнадцать? И четверть уничтожили? Четыре миллиарда? – Это правда, консул Трев. – Чудовищно… Как убили этих людей? Тех, кто не был отравлен? Щеки юноши побледнели, взгляд уперся в стол. – Большинство сожгли… даже праха не осталось… – пробормотал он дрогнувшим голосом. – Сожгли с помощью симхалла… То есть локальной термоядерной реакции, подумал Ивар. Рудин прав – они использовали катализатор как оружие. Вслух же он спросил: – Тебе известно, где хранился симхалл? Наши ученые провели орбитальную разведку, чтобы выяснить, где под льдами лежат материки и острова, горы, моря и океаны. Можешь показать хранилища на карте? – Их очень много, больше тысячи, – сказал Найт. – Десяток я покажу, но остальные… про остальные знали Ялонг, Кеним, Ильсани и другие наши старшие. Но зачем тебе это, консул Трев? Симхалл давно сгорел… сгорел вместе с людьми и планетой. – Зачем, зачем… – Тревельян поднялся. – Я очень любопытен, юноша, любопытен и осторожен. До того, как мы очистим планету от льдов, неплохо бы выяснить, где началась реакция – вдруг там таится что-то опасное. – Сделав знак прощания, он шагнул к двери, потом остановился и промолвил: – Могут быть и другие причины… конечно, могут быть… кто знает… Даже Владыки Пустоты не всеведущи.* * *
Не всеведущи, зато всемогущи, думал он, направляясь к зданию штаба. Мы, люди, тоже умеем больше, чем знаем. Астрономы, физики и философы все еще спорят о природе Лимба и о том, что происходит с мертвой и живой материей при погружении в хаос за границами Вселенной, но эти споры не мешают кораблям летать, погружаться в квантовую пену, преодолевая в единый миг гигантские дистанции. Умеем, но не знаем… Правда, контурный привод изобрели не на Земле, это знание кочует из мира в мир, как и Портулан даскинов, как и легенды о прежних владыках Галактики… Неторопливо шагая мимо домиков поселка, Тревельян вспоминал события тысячелетней давности, когда фаата, пришельцы-гуманоиды из Рукава Персея, вторглись в Солнечную систему. Для них это кончилось крахом – огромный корабль, приземлившийся во льдах Антарктиды, потерял управление, его экипаж погиб, боевые модули, атаковавшие города на всех пяти материках, рухнули с небес. Давняя история, темная, загадочная, непонятная…[160] Но так или иначе, Земля получила в дар бесценную информацию – генератор для погружения в Лимб был скопирован с двигателей вражеского корабля, и в конце двадцать первого века земной звездолет посетил планеты Альфы Центавра. В следующем, 2096 году состоялся контакт с лоона эо – корабль, управляемый сервами, достиг Плутона и принес еще один подарок, Портулан даскинов, древнюю карту галактических цивилизаций. После этого было исследовано космическое пространство в радиусе тридцати парсеков от Солнечной системы и основан ряд колоний у ближайших светил. Так началась звездная экспансия человечества… Людям с Декаи Таилу не так повезло, размышлял Тревельян. Будь у них контурный привод и карта даскинов, они могли бы улететь с гибнущей планеты, пусть не все, пусть сотня или тысяча – улететь, прихватив с собой генетический материал, миллионы зигот. И сейчас в Галактике найдутся миры, пригодные для жизни и не занятые Федерацией и ее соседями, а в прошлом их было больше, гораздо больше. Если отправить переселенцев в дальние дали, за много светолет от сектора кни’лина, это никому не повредит. Расстояние – самая прочная стена, самая надежная преграда, и преодолеть ее можно лишь по взаимному согласию. Да и то, если разыщешь партнеров для мирного контакта или врагов, чтобы затеять войну… Тревельян усмехнулся и пробормотал на староанглийском: – Good fences make good neighbours…[161] Так оно и есть. Теперь бы нам еще машину времени раздобыть, пусть самую завалящую! «Редкая штуковина! – с явной насмешкой молвил Командор. – И где же, голубь сизый, ты будешь искать такое чудо?» «Там, где водятся чудеса», – отозвался Ивар, поднимаясь на террасу. Заглянув в свои апартаменты, он снял комбинезон, вышел в коридор и твердым шагом направился к зимнему саду. Рядом с прозрачной переборкой, за которой виднелся цветущий куст жасмина, быланеприметная дверца с надписью: «Для служебного пользования». Обычно тут парковались похожие на пауков роботы-уборщики, но сейчас этот отсек служил жилищем Регистратору – благо в туалете и ванной серв нуждался не больше, чем в кровати, шкафах, стульях и прочей мебели. – Постоялец дома? – спросил Тревельян, но дверь никак не отреагировала. Видимо, это была обычная, самая простая дверь, без опознавателя и других хитростей, связанных с кибернетикой. Тревельян подождал минуту и повторил вопрос, но дверь по-прежнему молчала. Тогда он деликатно стукнул костяшками пальцев по гладкой пластиковой поверхности и, приоткрыв дверь, поинтересовался: – Регистратор, вы у себя? Могу я войти? Никакого ответа. Пожав плечами, Ивар перешагнул порог. Помещение было крохотным, два метра на полтора. Стены, пол и потолок забраны белым пластиком, у потолка висит люминесцентный светильник. В стенах у самого пола – четыре ниши с кабелями питания, наверняка для роботов-уборщиков. Мягкий свет, тишина, пустота… – Должно быть, он куда-то вышел, – пробормотал Тревельян, словно желая оправдать свое присутствие. Но чувства подсказывали иное – ему мнилось, будто в крохотном закутке кто-то есть, кто-то незримый и неслышимый. Он снова позвал Регистратора, затем, раскинув руки и ощупывая пустоту, двинулся к стене напротив входа. Три шага. Теперь он чуть не упирался носом в белый пластик. Прямо перед его лицом маячило отражение светильника. Вдруг оно мигнуло, как бы подавая сигнал, и расплылось радужными кольцами. – Что за чертовщина! – шепнул Ивар в недоумении, сразу же подумав, что чертовщины тут не больше, чем в дарованных ему умениях. Странствия сквозь порталы Древних тоже никак не являлись обычным занятием – скорее, трансцендентный феномен, чем привычная реальность. Он сделал еще один шаг, прошел через стену и очутился в очень знакомом месте, в копии зала-беседки на станции Сансара. Пол здесь тоже украшала мозаика, потолок имитировал земное небо в ясный день, сверху свисали зеленые плети лозы, но вместо глухих переборок были поддерживающие свод тонкие изящные колонны. Меж них открывался взгляду живописный берег моря – скалы, сапфировая гладь с висевшим в зените солнцем, пальмовая рощица, а за нею – здания, подобные хрустальным пирамидам. Гондвана, не иначе, решил Тревельян, шагнул к плетеному креслу и уселся. Напротив, в гамаке, подвешенном к колоннам, возлежал в небрежной позе параприм Нишикуандра и скалил зубы в улыбке. Серв Хийар Ирт тоже находился здесь, но, по своему обыкновению, предпочитал стоять, хотя кресел в беседке хватало. Некоторое время Тревельян глядел на них, прикидывая, где эти типы спрятали машину времени – возможно, под мозаичным полом или в одной из хрустальных пирамид?.. Регистратор был невозмутим, как прибрежные скалы, зато Нишикуандра скалился все шире с видом дядюшки, который сейчас преподнесет подарок любимому племяннику. – Ну, явился наконец, не замылился, – молвил он гулким басом. – Кажется, так у вас говорят? – Не так, но это неважно. – Ивар вытянул ноги и с наслаждением вдохнул теплый морской воздух. – Приступим, друзья мои. Или есть другие предложения? – Что меня изумляет в людях, так это ваша торопливость. – Нишикуандра извлек из пустоты очищенный банан. – Ты мог бы для начала удивиться, спросить, где находишься и как сюда попал, затем что-нибудь съесть и выпить стаканчик сока. «Сока! – возмутился Командор. – Сам его пей, образина мохнатая! Давай-ка, парень, спроси у этого клоуна чего покрепче!» Но Тревельян покачал головой и буркнул: – Спасибо, но я не голоден и пить не хочу. Удивляться тоже. – Консул знает, что он мой гость в этой иллюзорной реальности, – ровным голосом произнес Хийар Ирт. – Не стоит забывать, что он уже вел дела с моими… гмм… коллегами. Вряд ли он удивится, попав в складку пространства, даже столь уютно обставленную. – Вам обоим виднее, – сказал параприм, сунул в пасть банан, прожевал и вытащил из воздуха второй. – Я понимаю, что у вас давние и очень тесные контакты. Лоона эо завели любимчика, а? Или наш друг любимчик даскинов? Регистратор будто не расслышал сказанного. Он слегка поклонился Тревельяну, и на его лице грустного эльфа промелькнуло почтительное выражение. – Хозяин Хийар поручил мне оказывать вам, достойный консул, всемерную помощь. Любую, какая потребуется. Ивар нахмурился. – Хийар? Что за Хийар? Это же ваше имя, Регистратор! – Меня зовут Хийар Ирт, и первая часть имени – знак того, что я близок к Хозяину Хийару. Кстати, вашему родичу, консул Тревельян. Брови Ивара приподнялись. – Вот как? У меня есть родич среди лоона эо? Никогда не слышал! Разве такое возможно? Я имею в виду физиологический аспект. – Возможно, – молвил серв. – Думаю, изучив старинные хроники своей семьи, вы найдете тому подтверждение[162]. Сам я не вправе касаться тех материй, что связывают моего Хозяина с людьми. – Не вправе так не вправе, – проворчал Тревельян, не поверив ни единому слову. Родич, надо же! Среди существ с четырьмя полами и ментальным способом размножения! Пожалуй, проще скрестить пингвина с кенгуру или ворону с черепахой! «Ошибаешься, мальчик мой, ошибаешься…» – раздался беззвучный шепот Командора. Тревельян не ответил – его мысли были заняты другим. – О какой помощи идет речь? – произнес он. – Я имею в виду проблемы, возникшие на Снежной. Вы можете отправить меня в прошлое? Меня и Найта Ракассу? – В любой момент, когда вы пожелаете, – раздался голос серва. Удивления Тревельян не испытал – не больше, чем очутившись в этой беседке у иллюзорного моря. Некто, пусть не всеведающий, но всемогущий, мог оказать ему помощь, реальное содействие, так стоило ли лезть с вопросами?.. Вернуть планету к жизни, спасти ее народ – великая цель, такая великая, что любопытничать не к месту. Если что его и удивляло, так это присутствие Нишикуандры. Связь с Владыками Пустоты была личной тайной Ивара, делом секретным и почти интимным. К чему свидетель, да еще и параприм?.. – Мне нужно все обдумать, – сказал Тревельян после недолгого молчания, – обдумать и подготовиться. Наши специалисты могут собрать генератор для нейтрализации опасных веществ, симхалла и, возможно, еще каких-то ядов. Мне обещали, что это займет два-три дня. Вы можете отправить нас вместе с этой установкой? – Конечно, – подтвердил Регистратор. – Но есть ли нужда в вашем присутствии? Устройство выполнит миссию в автономном режиме, если запрограммировать его должным образом. – Не получится. Надо направить излучение в определенные точки, туда, где хранят вещество. Это сотни ареалов, и наш гость не знает их координат. Знают вожди его суонча… Мне придется разыскать их и завершить программирование на месте. – Тревельян снова помолчал. – Там, куда ударит излучение Лимба, все будет уничтожено. Полный распад молекулярных связей. – Это так, – молвил Хийар Ирт. – Способ несколько варварский, зато надежный. Ничего лучшего мы не можем предложить. «Кто «мы»?» – подумал Тревельян. Лоона эо или Владыки Пустоты, наследники даскинов?.. Возможно, это «мы» было лишь фигурой речи, обозначавшей не группу существ, а некий галактический интеллект, распределенный между телами-носителями. Но, как Ивар решил про себя, вопросов он задавать не будет. Вопросы, конечно, имелись, но на другую тему. – Эта трансформация прошлого как-то повлияет на будущее и настоящее? – поинтересовался он. – Мы собираемся произвести эстап глобального масштаба – только так я могу расценить спасение планеты и ее цивилизации. Что после этого произойдет? Что случится с теми, кто сейчас на Снежной? Возможно, никакой экспедиции не будет, и все археологи останутся в своих родных мирах? Или они вообще исчезнут из реальности? – Сделав паузу и поразмыслив пару минут, Ивар добавил: – И где, вернувшись, окажусь я сам? На станции Сансара у Арханга или в возрожденном мире Декаи Таилу? – Мне это неизвестно. – Серв совсем человеческим жестом развел руками. – Мы не провидим грядущее и можем лишь предполагать, каким оно будет при логическом учете факторов, подверженных переменам. Их очень много, и потому точные ответы получить нельзя. На период времени в тридцать тысяч лет достоверность прогноза незначительна, и он не касается судеб отдельных персон. Но… – Но?.. – повторил Тревельян, с грустью подумав, что его затея близка к провалу. Как бы ему ни хотелось спасти соплеменников Найта, какой бы благородной и гуманной ни была эта миссия, он не мог рисковать жизнями сотен людей. Первый Ветер был прав, когда говорил о хронопарадоксах, темпоральных петлях и прочих опасностях изменения реальности. Пусть на Земле, Йездане и в других населенных мирах все останется по-прежнему, но что произойдет на Снежной?.. Что станет с каждым из археологов? Например, с очаровательной Жанной Брингар? – Мы не знаем событий грядущего, – произнес Хийар Ирт, – но в Галактике есть существа, которым это доступно. Они обладают уникальным даром видеть еще не свершившееся. Один из их расы здесь. Регистратор перевел взгляд на Нишикуандру, и тот довольно ухмыльнулся. – Удивляешься, как я попал в вашу компанию? Не стоит, не стоит… У нас троих свои особые умения, достойный консул: я вижу будущее, а Регистратор может отправить тебя в прошлое… Каждому свое! – Какие же умения у меня? – спросил Тревельян, не сдержав ответной улыбки. – Ты, консул, прирожденный авантюрист. Слишком торопливый, безапелляционный, слишком уверенный в собственной правоте… Однако удача к тебе благосклонна, и это выше моего разумения. Ты делаешь глупости, но все получается, как надо. – Мое желание спасти Декаи Таилу тоже глупость? – Да, в каком-то смысле. Прошлое связано с настоящим и будущим мириадами нитей, цепями причин и следствий, гигантским количеством троп, по которым движутся события Вселенной… Что тут можно изменить? Ничего! Только подстроиться к тому, что случилось или должно случиться. – Из этих темных и загадочных речей следует вывод, что ты сторонник детерминизма, – произнес Тревельян. – Не имею никаких возражений. Но мне хотелось бы услышать что-то поконкретнее, в плане тех вопросов, что я задал. Могу я на это надеяться? – Можешь. – Параприм разгладил шерсть на груди и, задрав левую нижнюю конечность, со вкусом почесался под мышкой. – Будь уверен, реальность не изменится, все останется на своих местах – люди, события, планеты и солнца… С чего бы ей меняться?.. По глупой прихоти какого-то человечка?.. Много чести, как у вас говорят! – Хмм… яснее не стало… – протянул Ивар. – Можно ли еще попроще? – То есть для полных недоумков, – подытожил Нишикуандра. – Ну, пожалуйста… Мир таков, каков он есть, потому что ты совершил путешествие в прошлое и сделал то, что до́лжно сделать. Теперь понятно, консул? Еще вопросы есть? – Нет. – Тревельян повернулся к Регистратору. – Благодарю за содействие, Хийар Ирт, благодарю вас и моего неведомого родича. Пожалуй, наш друг Нишикуандра заслужил корзину бананов… Пусть получит, а меня отправьте обратно. – Без проблем, достойный консул, – молвил серв и щелкнул пальцами. …Тревельян стоял, уткнувшись носом в стену из белого пластика. В ней отражался световой диск, висевший под потолком, но цветных разводов вокруг пятна света не было. Стенка казалась прочной – чтобы это проверить, Тревельян постучал в нее кулаком. Что с ним случилось? Наваждение? Минутный сон со странным сюжетом?.. Та беседка, море и пальмы, серв и параприм… Было это или не было?.. «Было, – подтвердил призрачный Советник, – еще как было! Не хотелось тебе мешать, иначе я бы сказал пару ласковых этой макаке! Издевался ведь над нами, над всем человечеством! И недоумки мы, и торопыги, и любимчики даскинов! Ну, любимчики, и что?.. Слюна от зависти капает?» «Он не по злобе, дед, – отозвался Ивар. – Такое у парапримов чувство юмора». «Их планеты далеко, но нашли бы их со временем, – заметил Командор. – Дроми нашли бы, или фаата, или хапторы… боевой флот, я имею в виду… Вот был бы им юмор! Мы, однако, всех утихомирили, заплатив за это кровью. Уважать нужно, а не стебаться!» – Если бы не уважали, не получилось бы у нас контакта, – произнес вслух Тревельян, шагая к своему отсеку. Там он вызвал физика Рудина и распорядился о срочном начале работ над генератором Лимба. Это, похоже, не вызвало удивления – Рудин лишь улыбнулся и спросил: «Связались с привидением Уэллса, консул? Обещает вам машину времени? – Вроде того, – пробормотал Ивар, – вроде того… Но не один Уэллс об этом писал, есть и другие фантасты. Толпы, толпы привидений сочинителей… Можно выбирать. «Чем закончится это странствие?..» – подумал он с внезапно накатившим ужасом. Верить ли предсказанию параприма?.. В какой мир я вернусь, в какую Вселенную?.. И вернусь ли вообще?.. Впрочем, сказано Йезданом Серооким, мудрецом кни’лина: человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти.Глава 10 Декаи Таилу
Консул Ивар Тревельян и Найт Ракасса, Рыцарь Времени, стояли на мозаичном полу беседки, нависавшей над прибрежными утесами. Отсюда, как и раньше, открывался приятный вид: с левой стороны – пальмовая роща и здания, будто отлитые из хрусталя, с правой – сине-зеленая ровная морская гладь под небом с редкими облаками. Даже солнце висело в прежней позиции, точно в зените, и очертания облаков тоже не слишком изменились. Возможно, в этой складке пространства, спрятанной неведомо где, действовали свои законы: здесь царило вечное лето, бежавшие к скалам волны повторяли друг друга во всех подробностях, а время вообще не двигалось вперед. У одной из колонн, что поддерживали кровлю, маячила хрупкая фигурка Регистратора, и рядом с ним висел над полом шар с торчавшим сбоку параболоидом антенны. Металлический корпус этого устройства казался тусклым, носившим следы торопливой и не очень аккуратной обработки, но антенна выглядела безукоризненно – вероятно, ее сняли с какого-то прибора. Сочленение антенны с корпусом тоже не оставляло желать лучшего – то был пластичный манипулятор робота, способный изгибаться под любым углом. – Уже скоро? – прошептал Найт, вытирая испарину на висках. Выглядел он бледноватым, чему не приходилось удивляться: одно дело, пропутешествовать в грядущее во сне, в забытьи стасисного поля, и совсем другое – мгновенный перенос на тридцать с лишним тысяч лет. Каким образом, не совсем понятно; установок, похожих на машину времени, в беседке и вокруг нее не наблюдалось. Хотя кто ведал, как выглядит темпоральный агрегат! Поистине, это могли знать лишь Владыки Пустоты. – Скоро, – сказал Тревельян и ободряюще похлопал юношу по плечу. – Сейчас обсудим кое-какие мелочи, и в путь. Куда вы нас отправите, Регистратор? Надеюсь, не в океан и не в снега полярной зоны? – Генератор Лимба, – серв бросил взгляд на шар, – можно забросить в космос, на орбиту с параметрами, которые вы сообщили. Что до вас и вашего спутника… Куда вы собираетесь переместиться? Город, безлюдная местность, какой-то пункт на планете? Тревельян вытянул левую руку. Его запястье охватывал широкий браслет с таймером и несколькими кристаллами – информационное и связное устройство из снаряжения десантников и астронавтов. С его помощью можно было вступить в контакт с любым кружившим над планетой сателлитом – в данном случае, с роботом, чтобы запрограммировать излучатель для удара по нужным точкам. Но у прибора на запястье Ивара имелись и другие функции. Над его ладонью возникло изображение: сфероид планеты в сетке меридианов и параллелей, два огромных континента, перечеркнутых линией экватора, и множество островов в северном и южном полушариях. Только контуры суши в мировом океане, никаких иных подробностей; археологи не ведали, где в этом мире реки, горы, города и другие сооружения или особенности рельефа. Все было стерто в пыль в атомном горниле. – Выбирай, – сказал Тревельян Найту. – Куда нам нужно попасть? Может быть, на остров, где тебя упаковали в стасис? – Остров Тарил, там одно из укрытий моего суонча, – произнес юноша, глядя на Регистратора. – Скажи, властитель со звезд, сейчас я там, на острове? Я сплю в стасисном поле либо готовлюсь уйти из жизни? Я еще существую или… или уже мертв? – Вы не мертвы, но уже четыре дня находитесь в стасисе, и камера, куда вас поместили, запечатана, – спокойно молвил Хийар Ирт. – Это наиболее подходящий момент для перемещения. Мы выбрали его вместе с досточтимым консулом. Не тревожьтесь, удвоения личности не случится. – Но я уже на Тариле… – со страхом шепнул Найт, бледнея до мраморной белизны. – Можно выбрать что-то другое, город, где есть наши убежища, Гархав, Сайнет или Алкадду… лучше Сайнет, там Ялонг Ракасса, наш старший… – Тебе виднее, – заметил Тревельян. – Напомню, мне нужно переслать координаты хранилищ симхалла, а после… после пообщаться с твоими старшими – так, на всякий случай. Хорошо бы попасть туда, где мы займемся нашими делами в покое и безопасности. – Сайнет, – решившись, произнес юноша и ткнул пальцем в изображение планеты. – Здесь, консул Трев, недалеко от экватора, на берегу залива… Сайнет! Сфера, висевшая над запястьем Ивара, исчезла, сменившись более подробной картой побережья. Залив был похож на трехпалую кисть; вероятно, здесь в море впадала река, но сканеры археологов не нашли ее русла под льдами. – Укажи точнее, – распорядился Тревельян. – Так достаточно, Регистратор? – Да. – Хийар Ирт сложил руки на груди. – Для возвращения вам нужно только пожелать… вам, консул, не вашему спутнику. Вы это умеете – ментальный импульс, и вы окажетесь здесь спустя секунду после старта. – А в прошлом? Сколько времени может пройти в прошлом? – Сколько угодно. – По лицу Регистратора скользнула улыбка. – Но прошу вас, консул, не оставайтесь там на всю жизнь. Вы нужны здесь. Внезапно узоры мозаичного пола расплылись, цвета – желтый, зеленый, коричневый – перемешались, словно безумный художник водил по мозаике огромной мокрой кистью. Кисть двигалась все быстрее и быстрее, заставляя узоры вращаться, превращая пол в серую воронку гигантского мальстрема, и Тревельян – совсем крохотный, меньше мошки, меньше песчинки – закружился, подхваченный водоворотом. На миг у него перехватило дыхание, он услышал чей-то стон, потянулся к Найту, бывшему где-то близко, совсем рядом, и обхватил его за плечи. Теперь они кружились вместе и падали, падали в бездонную воронку, падали бесконечно, века, тысячелетия, или, возможно, миллионы и миллиарды лет, возвращаясь к огненному мгновению Большого Взрыва, породившего Вселенную. В глазах у Тревельяна полыхнуло. Был ли это в самом деле первый миг творения?.. Он не успел поразмыслить об этом – что-то твердое ударило в подошвы, пространство залил свет, слева, справа и перед ним вознеслись громады зданий, множество звуков и запахов наполнило воздух. Он втянул его полной грудью, протер кулаком глаза и шепнул: – Прибыли… Кажется, прибыли!* * *
Перед ним лежала площадь. Ее ровная поверхность была ограничена многоцветными башнями и призмами, словно подпирающими небо. В вышине громоздились облака, но не светлые и пушистые, как в иллюзорном мире Регистратора, а грязновато-желтые, тяжелые, впитавшие испарения цивилизации, что расползлась по суше и океанам планеты. Свет солнца, профильтрованный тучами, был неярок, и на площади горели фонари или нечто им подобное – высокие стержни, мерцающие то розовым, то синим, то зеленоватым. Тут и там взгляд привлекали небольшие строения, павильоны или, возможно, торговые лавки, раскрашенные вызывающе и ярко; между ними фланировала пестрая толпа, гул голосов висел в воздухе, невидимые оркестры выводили незнакомые мелодии, похожие на птичий посвист. Охватив картину единым взглядом, Ивар всмотрелся в гуляющих на площади и ощутил, как по спине ползут холодные мурашки. Они, эти люди… – Нужно спуститься вниз, консул Трев, – с тревогой молвил Найт Ракасса. – Мы попали на ярус мелл-паа. Здесь нам нельзя… здесь запретная территория… – Подожди, я хочу их разглядеть. – Потянув за собой юношу, Тревельян отступил в тень огромной башни. – Невероятно! Просто невероятно! Ты говорил мне, но увидеть воочию… Мимо прошла девушка в юбке до пят, но с обнаженным торсом. Ее юбка тоже переливалась то розовым, то синим и зеленым, соски маленьких острых грудок свисали почти до пояса, плоская переносица казалась шире ладони, глаза оттянуты к ушам. Сетам-седум, птичьи глаза, решил Тревельян. За девушкой шагала целая компания, семь или восемь мужчин и женщин с носами длиной в ладонь, и среди них – тенти-то-уррен в широкой расписной маске, закрывающей лицо и шею. Затем он увидел двух старцев юл-акашага – их лысые головы поднимались над бровями точно шляпы-котелки, на огромных выпуклых лбах змеились овраги морщин. Старики, однако, выглядели бодрыми, и Тревельян припомнил, что срок жизни у мелл-паа больше столетия. Люди в пестрых разноцветных одеяниях текли мимо него нескончаемым потоком, одни без ушей, другие с чудовищными губами, потом опять длинноносые, высоколобые, в масках или с плоскими лицами и круглыми птичьими глазами… Люди?.. Скорее, монстры, уроды, жертвы своего эгоцентризма и высокомерия. – Идем, консул Трев, идем! – бился около уха голос Найта. – Ты еще наглядишься, наглядишься… У Ялонга в убежище экраны с выходом в трансляционную сеть… можно связаться с каналами мелл-паа… у них есть программы для развлечений… Увидишь! Но Тревельян, изумленный и устрашенный, не двигался с места. Очевидно, площадь и окружающие улицы были подняты над планетарной поверхностью, и с высоты он различал голубовато-серую морскую гладь – море просвечивало вдалеке, между башен и зданий-призм. Что-то там виднелось, что-то двигалось – корабли?.. плоты?.. возможно, машины, летевшие очень низко, над самыми волнами?.. Дышалось тяжело – здесь, вблизи экватора, воздух был жарким и влажным. Правда, зноя он почти не ощущал – под легким просторным балахоном тело обтягивала тонкая прозрачная пленка биологического стимулятора. Ивар взял с собой только два устройства – связной браслет и эту искусственную кожу; она подхлестывала физическую активность и скорость реакций, а ее внутренний слой поглощал все выделения организма. – К нам идут красные стражи, – прошептал Найт Ракасса. – Думаю, здесь убивать не будут, погонят вниз. А вот там… Их коричневые балахоны, одежда простых людей, созданная по описаниям Найта, резко отличались от ярких вычурных нарядов мелл-паа. Должно быть, их вид привлек внимание охранников – двое в красной униформе шагали к ним, сжимая в руках серебристые изогнутые жезлы, напомнившие Ивару какой-то музыкальный инструмент. Но музыкой тут не пахло – эти изогнутые штуковины определенно были оружием. – Что внизу, под этой площадью? – спросил он. – Другая площадь, почти такая же – световых столбов поменьше, мусора побольше. Но красные уже нас заметили… мы не успеем добраться до лифтов… – И не надо. Обхватив юношу за пояс, Тревельян открыл портал и вместе со спутником переместился на нижний уровень. Света тут и правда оказалось немного, и не было бездельной публики, зато бесконечной чередой ползли машины, похожие на гигантских черепах. Воняло фекалиями и выхлопными газами, из машин временами сыпались то ржавые обломки, то влажные комья какой-то дряни, то серая шелуха и обгорелый пластик. На щербатом камне мостовой поблескивали лужи в цветных разводах, в них что-то булькало, насыщая воздух мерзким кислотным запахом. Редкие прохожие в коричневых и серых балахонах жались к стенам зданий, обходили лужи стороной. – Вывозят мусор. В городе тридцать два миллиона, – произнес Найт, кивая в сторону машин. Внезапно он широко раскрыл глаза и замер, уставившись на мусоровозы и булькающие лужи. – Но мы ведь на нижнем ярусе, консул Трев! А только что были на верхнем! Как мы здесь очутились? – У меня есть специальное приспособление, – ответил Ивар и запрокинул голову. В вышине, в сотне с лишним метров над землей, маячила изнанка верхнего яруса – перекрестья титанических балок, огромные трубы, пучки проводов, какие-то непонятные механизмы. Кое-где эта картина дополнялась вертикальными решетчатыми конструкциями – вероятно, шахтами лифтов. «Декаи Таилу… – недовольно проворчал Командор. – Светлый Мир, говоришь? Наверху ублюдки с перекошенными рожами, внизу сущая помойка… Пропади они пропадом! Нашел кого спасать, благодетель трахнутый!» Тревельян не ответил – стоял, озирался, глядел то на поток машин-черепах, то на кипящие лужи и людей в мешковатых балахонах. Хрупкие, невысокие, бледные, однако люди как люди – глаза и уши у всех на месте, губы и носы нормальной формы, лбы тоже, и некоторые женщины изящны и вполне милы… Не красавицы, как прелестная Жанна, но если их приодеть и отмыть… Вздохнув, он покосился на свой браслет, на таймер и зеленый мерцающий камешек – робот, управлявший излучателем, что уже кружил над планетой, сообщал о готовности к приему информации. Где-то в этом огромном городе прятался Ялонг Ракасса. Пора бы отыскать его и расспросить насчет хранилищ, а потом… Найт дернул его за край одеяния. – Скажи мне, консул Трев… Ты и другой человек, лысый с перьями, говорили, что странствовать во времени нельзя. Однако мы здесь, в прошлом! Мы в моем мире, и до вашей реальности – тридцать с лишним тысяч лет! Как это получилось? – После поговорим, – сказал Тревельян. – Сейчас нужно добраться до Ялонга. Где он? – Внизу, в тайном убежище суонча. Мы можем туда перескочить? С помощью твоего приспособления? – Боюсь, что нет. Я должен знать, как выглядит место финиша, представить его хотя бы в общих чертах. Это какой-то дом? Есть в нем что-то особенное? Колонны, окна, двери, цвет и фактура стен? Что его окружает? – Подземные тоннели, – ответил юноша. – Убежище на нижних ярусах, где обитает половина жителей Сайнета. Так проще затеряться. – Затеряться… – повторил Тревельян. – В этом есть необходимость? – Когда я уходил в стасис, старшие говорили, что наш суонч и несколько других скоро уничтожат. Может быть, уже приговорили… Мы готовились к этому заранее. Многие наши люди спасаются на Тариле. – Тот остров, где тебя нашли? – Да, консул Трев. Там большие пещеры, и, кроме нас, никто про них не знает. Но в городах тоже есть убежища… здесь, а еще в Никате, Гархаве, Тинно, Алкадду… – Пусть это останется тайной, – произнес Тревельян. – Сейчас мы в Сайнете. Веди! Послушно кивнув, Найт зашагал к решетчатой конструкции у ближайшего здания. Это в самом деле оказался лифт с открытой платформой, висевшей на тросах и собранной из потемневших полос металла – кажется, алюминия. На исцарапанном полу различались какие-то надписи и нанесенные полустершейся краской знаки, угол платформы занимала стойка с двумя рукоятями и лампой, что раскачивалась на длинном стержне. Пахло тут не очень приятно – мочой, гнилью и жженым пластиком. Найт повернул одну из рукояток, и платформа с протяжным скрипом двинулась вниз. Она ползла неторопливо, минуя ярусы, что громоздились друг над другом в огромном подземелье. Уходили вдаль скудно освещенные тоннели, забитые людьми и колесными экипажами, иногда появлялся цех завода или фабрики с бесконечными шеренгами станков, хаосом транспортных линий и толпами мужчин и женщин в одинаковых одеяниях, змеились трубопроводы, кабели и воздуховоды, слышался рокот машин, перекрывавший человеческие голоса, что-то лязгало, скрежетало, и временами шахта лифта начинала раскачиваться и трястись. Вниз, вниз, мимо мрачных коридоров, мимо неисчислимых скопищ людей с бледными лицами, мимо сумрачных пространств с машинами, вагонетками, транспортерами, мимо грохота и гула, мимо запахов пищи и пота, металла, пластика и несвежих одежд, мимо равнодушия, безнадежности и отчаяния. Тревельяну казалось, что он спускается в бездонную преисподнюю. – Слишком много народа… – пробормотал Найт. – Наверху всем не хватает места… – Мелл-паа уничтожают лишних, – откликнулся Ивар с кривой усмешкой. – Думаешь, это правильно? – Нет, конечно же, нет… убийство – великое преступление, нужно иначе… Но как? Как!.. Тревельян промолчал. Вопрос не из тех, что решаются в лифте, скользящем в смрадную клоаку. По сравнению с ней город архов, где он недавно жил и странствовал, казался примитивной норой, выкопанной троглодитами. Хотя, конечно, подземелья Хтона были еще грандиознее… Но Хтон – наследие галактической культуры, а здесь еще не добрались до звезд… Но доберутся, решил он, поглядев на другой камешек в браслете, мерцающий алым огоньком. Доберутся! Иначе в этом его путешествии, невероятном, сказочном полете сквозь века, не больше смысла, чем в детских фантазиях. Затем ему пришла мысль, что не под льдами надо искать на Снежной города, а под землей – вдруг что-то сохранилось. Наверху все стерто в пыль и прах, но здесь могли остаться какие-то артефакты… предметы искусства, машины, убранство помещений, видеозаписи… еще миллионы тонн костей… Впрочем, подумал Ивар, при самом удачном раскладе катастрофы не случится, планета будет жить и в грядущем встретит не археологов, а дипломатическую миссию с Земли. Найт дернул рукоятку, и платформа замерла. Сойдя с нее, они очутились в довольно обширной камере – из нее разбегались в узкие проходы множество покрытых влагой труб и силовых кабелей. Вдали что-то погромыхивало и булькало, слышались стук и урчание механизмов, воздух был не то чтобы свеж, но по́том и экскрементами не пахло. Технический уровень, догадался Тревельян. Коллекторы, насосы, трубопроводы, системы энерго– и водоснабжения… Окинув подземелье быстрым взглядом, он не обнаружил здесь людей. Вероятно, не было нужды в их постоянном присутствии, так как у перекрестья труб виднелись многорукие истуканы – надо думать, местные роботы. На их корпусах мигали огоньки, верхняя часть с обзорным устройством медленно вращалась. Кроме этого, Ивар не заметил никаких движений. – Мы пойдем вдоль синей трубы, помеченной таким знаком, – сказал его провожатый, рисуя в воздухе нечто похожее на древний китайский иероглиф. – Этот трубопровод должен привести нас к убежищу… должен, я хорошо помню… Любая из синих труб на этом ярусе тянется до узла очистки… Нам нужно добраться до него. – Что там очищают? – спросил Тревельян. – Воду, взятую из моря и опресненную воду. В любом из наших городов вода используется много раз… пять, шесть… – Найт озирался, рассматривал знаки на трубах, смахивал ладонью пыль – под нею все казалось одинаково серым. – Вот нужная труба, консул Трев! Идем! Они углубились в один из проходов. Здесь было сумрачно и сыро, свет падал от неяркой люминесцентной полоски, бежавшей вдоль каменного свода, под башмаками что-то похрустывало, и каждый шаг взметал облачко пыли. Трубы, закрепленные на стенах и потолке в несколько рядов, то тянулись ровно, то изгибались, сворачивая в поперечные коридоры, и Найт всякий раз изучал их окраску и полустершиеся знаки. Синяя труба, их ориентир, пересекла входы в десяток узких тоннелей, каждый раз взмывая к самому потолку и снова опускаясь, затем повернула в более широкий проход с нишами в стенах. В нишах замерли роботы, по полу был проложен рельс, и люминесцентная полоса вверху светилась ярче – очевидно, здесь проходили главные коммуникации. Добравшись сюда, Найт сказал с довольным видом: – Галерея Кубар-Идд, она проложена до самого Никата… Мы правильно идем. Тревельян покосился на своего спутника и молча кивнул. Они с Найтом блуждали в мрачных катакомбах подземелья уже более двух часов. Сам Ивар не ощущал усталости – искусственная кожа под его одеянием позволяла двигаться хоть целые сутки, сохраняя бодрость. Другое дело Найт – юноша казался утомленным, щеки его ввалились, на висках выступила испарина. Похоже, тысячелетний сон в стасисе не прибавил ему здоровья. – Отдохнем. – Ивар опустился на трубу полуметрового диаметра, пролегавшую внизу стены. – Не будем торопиться. Сядь и расскажи мне что-нибудь. – Что, консул Трев? – Там, в стасисе, ты видел сны? Сознавал ли течение времени? – Сны? – Взгляд Найта уперся в пол, брови сдвинулись, на лбу наметилась морщинка. – Не помню… Кажется, я словно бы утонул, ушел в пучину забвения и пустоты… Ни холода, ни тепла, ни чувств, ни мыслей… – Он вздрогнул и поднял голову. – Нет, одна мысль была! Я думал, что непременно вернусь сюда, в свой мир… вернусь со всемогущим властелином, прилетевшим со звезд. Так и получилось. Но… – Но?.. – повторил Тревельян после недолгого молчания. – Тот же вопрос, консул Трев. Было сказано тобой, что странствовать во времени нельзя, но мы вернулись в прошлое. Значит, все-таки можно? – Наверное. – Тревельян коснулся плеча юноши. – Поверь, Найт, я не обманывал тебя, я сам удивлен. Ты ведь помнишь, что нас, тех, кто говорил с тобой, было четверо – четверо, и двое не похожи на людей. Они… – Пятеро, – перебил Найт. – Еще женщина, очень красивая женщина. Тоже человек. – Да, разумеется. – Прелестный образ Жанкат Брингар явился Тревельяну и тут же померк. – Время не подвластно людям, но есть в Галактике другие существа, более древние, более мудрые. Тот, кто отправил нас сюда, владеет знанием, до которого тысячи лет… может быть, миллионы… – Он похож на человека, но не человек, – задумчиво произнес юноша, скрестив руки перед грудью. – Но есть нечто такое, что роднит его с людьми, с лучшими из нас: сочувствие и готовность помочь. Не каждый человек на это способен. – Не каждый, – молвил Тревельян и поднялся. Они продолжили путь по тоннелю, шагая мимо застывших в нишах роботов, мимо узких коридоров с трубами и жгутами проводов, мимо вентилей, коллекторов и стоек, на которых перемигивались огоньки. Тоннель сделался еще шире, и теперь по его оси бежала пара рельсов – второй вывернул из какого-то темного прохода. Вероятно, то были монорельсовые дороги, но ни вагонеток, ни других экипажей не попадалось. Через часа полтора стены тоннеля разошлись в стороны, потолок взмыл вверх, пол опустился, и путники сошли по лестнице в просторный зал. Здесь стояли гигантские цилиндры ректификаторов, к ним тянулись со всех сторон окрашенные синим и зеленым трубы, в воздухе висел туман едких испарений. Свист выпускаемого газа смешивался с резким стуком насосов, гудели вытяжные вентиляторы, в прозрачных колоннах булькала очищенная вода – на взгляд Тревельяна, все еще мутноватая, неприятного белесого оттенка. Казалось, что в этом зале нет ничего, кроме работающих механизмов, но тревожное предчувствие вдруг охватило Ивара – он замер на половине шага, огляделся, но не увидел ни людей, ни роботов охраны. Возможно, на Декаи Таилу вообще не имелось боевых кибернетических систем – их производство было сложным и весьма энергоемким. – Мы почти на месте, – сказал Найт Ракасса, вытирая пот со лба. Затем он вытянул руку к металлической плите, выступающей над полом. – Нужно сдвинуть этот люк и спуститься ниже. Помоги мне, консул Трев. – Я сам. Для меня это нетрудно. Плиту Ивар сдвинул с легкостью, хотя она весила добрый центнер. Всмотрелся в неясные отпечатки на ее поверхности, хмыкнул и произнес: – Люк недавно открывали. Это подозрительно. – Нет. Ялонг и другие, что скрываются здесь, часто выходят на поверхность. – Зачем? – Для сбора сведений. Еще им нужна еда. – Понятно. Ну, давай спускаться. Они миновали узкую лестницу с потертыми пластиковыми ступеньками. Внизу находилась круглая камера с десятком дверей и небольшим бассейном посередине. Бассейн, тоже круглый, диаметром метра два, был полон воды, а на его дне поблескивала стеклом и металлом какая-то сложная конструкция. – Анализатор, – пояснил Найт. – Здесь помещения для тех, кто следил когда-то за качеством очистки – в давние, очень давние времена… Теперь это делает анализатор, и никто сюда не спускается. Только люди нашего суонча. Но где же они? Юноша оглядел камеру с таким видом, будто в ней чего-то не хватает. В его глазах вспыхнули тревожные огоньки. – Странно… Где часовые?.. Они всегда тут были… Ялонг за этим следил… – С ним что-то случилось. Что-то нехорошее, – произнес Тревельян. Склонив голову к плечу, он стоял у лестницы, пытаясь разобраться в хаосе ментальных импульсов. Здесь были люди, почти за каждой дверью, и от одних тянуло волнами хищного торжества, как от стаи волков, загнавших, наконец, добычу. Другие ощущения были страшными: бессильная ненависть, безнадежность, мука и ожидание смерти. Странная смесь, подумалось ему. Явный признак трагедии, какого-то кровавого конфликта, где есть победившие и проигравшие, палачи и жертвы. Последних, кажется, скрутили в бараний рог. Ивар отошел от лестницы, сделал несколько шагов и остановился у бассейна. Найт повернул к нему бледное лицо. – Что происходит, консул Трев? Ты думаешь… Пять или шесть дверей с грохотом распахнулись, выплеснув фигуры в красной униформе, с уже знакомым оружием, похожим на музыкальные инструменты, и клинками у пояса. Их было больше десятка – крепкие парни с угрюмыми лицами, не мелл-паа, а обычные люди. Хватит на целый оркестр, решил Тревельян, разглядывая солдат. Четверо отрезали его от лестницы, остальные заняли позицию у стен, держа серебристые жезлы на сгибе руки. Их командир, тощий мужчина в мундире с золотым шитьем, вышел вперед. На голове – ежик светлых коротких волос, тонкогубый рот, безжалостные серые глаза… Вместо ушей – едва заметные перепонки. Иг-фатха, безухий мелл-паа, понял Ивар. Острый взгляд безухого скользнул по лицу Найта, затем остановился на Тревельяне. Догадаться, кто из них старший, было нетрудно. – Попались! – пропел иг-фатха, и голос его был подобен флейте. – Попались, нейи льо хузем! Ну, сейчас поговорим, поговорим! Жизнь не обещаю, но легкую смерть придется заработать! «Ишь разошелся, поганец! – проворчал Командор. – Вбей его в землю, парень! По самую макушку!» Найт, бледнея и стискивая кулаки, уставился на безухого. – Где Ялонг Ракасса?! – выкрикнул он. – Что вы с ним сделали? Где остальные наши люди? – Где? – Тонкие губы офицера растянулись в усмешке. – Скоро узнаешь, узнаешь, где! Двери! Откройте двери! Один из красных распахнул дверь напротив лестницы. Там была узкая длинная комната, залитая резким светом ламп. На полу валялись в лужах крови люди – голые, с распоротыми животами, содранной кожей, переломанными конечностями, с лицами без глаз и багровым провалом на месте рта. Семь человек – шестеро мертвых, но седьмой, с грудью, исполосованной ножом, и выдавленными глазами, был еще жив. – Этого сюда! Сюда! – велел мелл-паа, и слепца вытащили из комнаты. Он скорчился на полу, поджимая ноги и дрожа всем телом. Найт побелел еще больше. Губы его тряслись, голос звучал прерывисто и тонко. – Ял-лонг… это т-ты, Ял-лонг?.. – Мальчик… кто-то из наших мальчиков… – прохрипел изуродованный человек. – Зря ты сюда пришел… Придется… – он выплюнул сгусток крови, – придется умереть… Постарайся… быстро… не говори им ничего… – Скажет, скажет! – буркнул офицер. – Ты, Ялонг Ракасса, упрямая тварь, но не все у вас такие. – Взгляд иг-фатха снова уперся в зрачки Тревельяна. – Хочешь легкой смерти? Тебе и твоему приятелю? Хочешь? Хочешь, нейи льо хузем? Не заговоришь, снимем с молодого шкуру, медленно-медленно, а тебе придется слушать и смотреть, слушать и смотреть. – Он оскалился. Острые зубы и бледное лицо делали его похожим на вампира. – Послушаешь, посмотришь, потом возьмемся за тебя. Нейи льо хузем дословно переводилось «те, чей срок отмерен» – идиома, обозначавшая живущих недолго. Похоже, в устах мелл-паа это было ругательством. Дед взъярился. Он был лишь разумом в памятном кристалле, бестелесной сущностью, но нрав его не претерпел изменений. Нрав, привычки и богатый лексикон коммандера Звездного Флота. «Сучонок недорезанный! Хмырь безухий! В гальюн его, мордой в парашу! Что молчишь, голубь сизый? Матку ему выверни и на яйца натяни! Да поживее!» Однако Тревельян безмолвствовал. Он старался дышать мерно и ровно, дышать ртом, но висевший в воздухе запах крови и растерзанных тел по-прежнему щекотал ноздри. Спокойствие не оставило его; в мирах, где сила и жестокость торжествовали над милосердием и разумом, он, случалось, наблюдал жуткие картины и привык не поддаваться гневу. Сейчас его мысли текли стремительно, как полет корабля, что разгоняется до скорости света перед прыжком через Лимб. Он думал о Ялонге и о том, успеет ли помочь умирающему; думал, как обезопасить Найта в неизбежной схватке; прикидывал, что за оружие у красных – пулевое?.. лучевое?.. – и хорошо ли владеют им солдаты. Он знал, что убить придется всех. Это не радовало, но и не вызывало особых сожалений; смерть – возмездие для палачей. – О чем я должен тебе рассказать? – Тревельян уставился на безухого и напряг мышцы, чтобы активировать кожу. – О ваших монстрах, жирующих на верхнем уровне? О тех, кого мелл-паа загнали в подземелье? Или про то, как и когда все вы подохнете? – Место! – пропел офицер, и теперь в его голосе звучали не флейты, а грохот литавр и рык басовых труб. – Скажи про место, где затаился ваш суонч! Место, место, место! На каких островах, в каких горах вы прячетесь! Говори, говори! – Он повелительно махнул солдатам. – Ну-ка беритесь за молодого! С пальцев начнем! С пальцев, с пальчиков! Трое красных направились к Найту, обнажив клинки. Сталь хищно поблескивала в ярком свете ламп. – На пол! Сюда! – Тревельян подтолкнул юношу к стенке бассейна. – Лежи и не шевелись! Шагнув к безухому, он перебил горло мелл-паа ребром ладони, потом ударил солдата в висок и выхватил нож из ослабевших пальцев. Глаза безухого закатились, голова повисла, точно срубленная топором; падая, он разинул рот, но не выдавил ни звука. Тело иг-фатхи еще содрогалось в агонии, когда труп солдата рухнул на него. Клинок стремительно мелькал в руках Тревельяна. Укол… перебросить в другую руку… снова укол… Хлынула кровь из рассеченных артерий, и двое красных, еще не потерявшие голос и жизнь, пронзительно вскрикнули. Отшвырнув их, Ивар ринулся к лестнице. Его движения были неуловимы, удары сокрушительны; комната наполнилась хрустом костей, предсмертными хрипами и металлическим звоном упавшего оружия. Бесполезного,ибо разбираться, как стрелять из этих серебристых жезлов, было не ко времени. Ментальный рык Командора: «Бей супостатов! Бей! Бей!» – подбадривал Ивара. Огненный разряд вспорол воздух рядом с его головой. Выстрел пришелся в лестницу – ступеньки вспыхнули, потянуло едким дымом горелого пластика. Тревельян тенью скользнул вдоль стены, пересчитывая врагов. Рядом с бассейном валялись офицер мелл-паа и трое красных, еще четверых он прикончил у лестницы… По другую сторону – шесть солдат, и у них лучеметы… рассредоточились и готовы стрелять… с этими будет нелегко… лучемет – страшное оружие… Снова ослепительная молния, за ней – вторая, на этот раз от бассейна. Тревельян, едва не задев макушкой потолок, прыгнул к стене напротив лестницы. Там два врага оседали на пол: один – с развороченной грудью, другому выстрел сжег бедро до самого колена. Найт, прячась за трупами, целился из лучемета в третьего – Ивар видел его согнутую спину и руки, перемазанные чужой кровью. Хоть и велел он юноше не шевелиться, помощь пришла своевременно: человек в коже был силен и быстр, но не быстрее смертоносного луча. Мелькнули запоздавшие разряды – кто-то стрелял в Тревельяна, кто-то в Найта. Упал еще один красный; его голова превратилась в обугленную головешку. Тревельян приземлился у стены за бассейном, свернул шею одному солдату и переломил хребет другому. Потом метнул нож с такой силой, что лезвие вонзилось в шею врага почти по рукоять. Меньше минуты, подумал Ивар, расслабив мышцы. Меньше минуты, и все мертвы… Четырнадцать трупов, четырнадцать прерванных жизней… Но прервать жизнь палача – грех невеликий. «Лихо ты уродов причесал… Молодец! Хвалю! – раздался беззвучный голос деда. – Моя кровь! Я любил помахать кулаками… Помню, в бытность на «Свирепом» сцепились мы как-то с дроми. Не в пространстве, а в рукопашной сошлись на мелком планетоиде… Вроде на пятой луне Карфагена…» Старик пустился в воспоминания, но Ивар заблокировал ментальную связь; про битву на пятой луне он слышал раз пятьдесят. – Найт, ты цел? Не ранен? – Нет, консул Трев. – Юноша поднялся, озирая заваленную телами комнату. – Мы их убили, да? Убили всех? – Всех, – подтвердил Тревельян. Он глубоко втянул воздух и закашлялся – горела лестница, наполняя помещение едким дымом, расплавленный пластик вязкими сосульками стекал вниз. Не задохнуться бы в этой дыре… С этой мыслью он ткнул пальцем в сторону бассейна. – Найт, набери воды и залей лестницу. Я посмотрю, что с Ялонгом. Пока я еще на ногах. Как всякий инвертор мышечной активности, кожа в случае энергичных действий отнимала много сил. Реакция была не мгновенной, но неизбежной; впрочем, сон и калорийная пища весьма способствовали восстановлению. Опустившись на колени у изуродованного тела, Тревельян накрыл ладонью лоб Ялонга. Минуту, другую, третью он старался уловить хотя бы слабую ментальную волну, хотя бы единичный импульс, подтверждающий, что мозг еще жив, что мысль и чувство еще не покинули вместилище разума. Пустота, молчание, мертвая тишина… Ялонг Ракасса был уже там, куда попадают подвижники и рыцари света, – может, у ног Христа, может, в обители Йездана Сероокого. Не исключалось, что где-то еще; в этом мире наверняка были свои великие боги, дарующие покой и мир мертвым героям. «Отмучился… – пробормотал Командор. – Видно, достойный был человек, несгибаемый… Да будут милостивы к нему Владыки Пустоты!» Подошел Найт, сел рядом, приложил пальцы к шее Ялонга, пытаясь нашупать пульс, потом вскинул взгляд на Тревельяна. Тот покачал головой. – Мертв, и мы не в силах ему помочь. Разве что расскажем людям твоего суонча, как он умер и как умерли другие… Но до тех, кто жив, еще нужно добраться. Есть у тебя предложения? Найт молчал, морщил лоб, думал. – Найдется ли в убежище изображение Тарила, вашего острова? – спросил Тревельян. – Взглянув на него, я могу туда перебраться. Конечно, вместе с тобой. – Нет, консул Трев. Никаких намеков… Ялонг был очень осторожен. – Ты можешь описать Тарил? Есть у него какие-то особенности? Найт передернул плечами. – Я был там только однажды, в день, когда ушел в стасис. Остров как остров… Довольно большой, скалистый, бесплодный… Не очень заметный среди других островов. Таких в Южном океане десятка три или четыре, да и в Северном тоже. – Хмм… Обыскивать все подряд дело долгое… – промолвил Ивар и поглядел на свой браслет, на зеленый мерцающий кристаллик. Казалось, он подмигивает ненавязчиво и лукаво, не торопит, но напоминает: время движется, а ты бездействуешь, достойный консул. Ну, не совсем, не совсем… Четырнадцать трупов, вот и вся твоя работа… Вздохнув, Тревельян произнес: – Ялонг собирал информацию в Сайнете. Бесполезное занятие, если не передать ее соратникам… Как он связывался с островом и убежищами в других городах? – Не знаю, – с виноватым видом сказал Найт Ракасса. – Связывался, да… Но точно не отсюда, и я не знаю, каким образом. Понимаешь, консул Трев, я был занят, очень занят… Меня, Адара и Шагаба готовили к дальней дороге и не посвящали в тайны суонча. Многое известно только старшим. Тревельян покивал, чувствуя, как наваливаются голод и усталость. – Это разумно, вполне разумно… Что ж, зайдем с другой стороны. Помнится, ты говорил, что тут есть экран с выходом в общепланетную сеть. Где это устройство? – В жилище Ялонга. – Найт вытянул руку к одной из закрытых дверей. – Экраны есть повсюду, на верхних уровнях и в подземельях… слова владык текут с экранов… – Слова их мы слушать не будем, а вот на кое-какие пейзажи стоит взглянуть, – сказал Тревельян. – Но не сейчас. Нам надо поесть и отдохнуть. Здесь найдется пища? – Да, конечно. Идем! За одной из дверей нашлась кладовая с сотнями жестяных контейнеров – они грудой лежали на полу, сброшенные с полок, некоторые пустые, другие раздавленные, но уцелевших тоже хватало. Видимо, здесь хозяйничали солдаты, что-то искали – часть полок была отодрана от стены и переломана. Найт вытащил из груды плоскую банку, вскрыл ее, и они принялись насыщаться мясом с незнакомыми Ивару овощами. Большая банка, но они опустошили ее в пять минут. – Еще, – сказал Тревельян. – Мне нужны углеводы. – Это подойдет? – Найт протянул ему контейнер с пористой желтоватой массой. Тревельян попробовал, пробормотал: – На кекс похоже… – и быстро расправился с содержимым. Голод немного отступил. Юноша, наблюдая, как он ест, скрестил руки перед грудью и произнес почтительно: – Никогда не видел, чтобы человек сражался с таким искусством… Ты великий боец, консул Трев! – Не такой уж великий. – Наклонившись, Тревельян поднял еще одну банку с кексом. – Обычно я не делаю трупы из живых людей… Убеждать лучше словами, а не кулаками. – Прикончив вторую порцию, он сказал: – Теперь нужно поспать. Очень недолго, минут пятнадцать. Где я могу расположиться? – Пойдем. Они вернулись в помещение с бассейном и, перешагивая через тела солдат, добрались до дверей, помеченных вязью разноцветных иероглифов. В камере висел едкий запах горелого пластика. Еще пахло кровью и смертью. – Жилище Ялонга, – сказал Найт, распахнув двери. Небольшая комната носила следы торопливого, но тщательного обыска: перевернутый стол, стены с сорванной обшивкой, койка, с которой стащили постельное белье, изрезанный ножами матрас… По полу разбросаны бумаги, кассеты с пленкой, одежда, какие-то мелочи… Экран, о котором говорил Найт, валялся около кровати – овальная пластина в две ладони с уходившим в стену кабелем. – Что они искали? – спросил Тревельян. – Любые сведения о моем суонче, – отозвался Найт. – Где наши убежища, каким оружием мы владеем, какими машинами и транспортом… – Помолчав, он добавил: – Не все покорны мелл-паа, есть суончи, что борются с ними много лет, и они вооружены, хорошо вооружены, даже снарядами с симхаллом. Мелл-паа живут долго, и это вызывает зависть… – Хорошая причина, чтобы устроить Армагеддон. – Ивар опустился на койку и закрыл глаза. – Ты тоже отдохни, Найт. Дел предстоит еще много. Он медленно уплывал в сумрак забвения. Странные картины мерещились ему: то Шат Сута, капитан синих, арх, но с человеческой головой безухого иг-фатха, то армии роботов с планеты Хтон, попавшие каким-то чудом на Равану, то Сайкатская исследовательская станция – он бродил по ее коридорам, выслеживая жуткого киборга-убийцу. Потом видения стали приятнее – явились ему черноокая Лолита и милый археолог Жанна Брингар. Девушки смотрели на него с любовью, согревшей сердце Тревельяна, но вдруг раздался басистый голос: «Не для тебя! Не в этой жизни!» – и они исчезли, словно вспугнутые птицы. «Найдутся другие, – утешил его Командор. – Поверь, найдутся! Crede experto…[163] Я был женат четыре раза». – «Не нужны мне другие, – сказал Тревельян. – Мне бы одну отыскать – ту, единственную…» – «Все в свое время, – раздалось в ответ, но он не мог понять, кто ему отвечает, дед или параприм Нишикуандра. – Все в свое время! А сейчас делай свое дело и не борись с судьбой. Это может привести к большим неприятностям». Ивар очнулся и сел, спустив ноги с постели. Усталость покинула его, он чувствовал прилив энергии, кожа ритмично подрагивала, массируя мышцы. Потянувшись к браслету, он включил таймер и выяснил, что отдых длился семнадцать минут. Затем оглядел комнату. Разбросанные на полу бумаги и кассеты были бесценным материалом для археологов, как и любые свидетельства прошлого Декаи Таилу. Что-то прихватить с собой? Но что? Кассет много, не меньше сотни, а в балахоне даже нет карманов… Он встал, наклонился и вытащил из груды бумаг довольно большую шкатулку. Пожалуй, скорее, ларец из светлого дерева с тонкой резьбой на крышке – листья, стебли, цветы в узорном орнаменте. Ларец был легким, почти невесомым. Тревельян открыл его. Перед ним возникло изображение юной женщины, объемная цветная голограмма. Волосы распущены, на губах – безмятежная улыбка, глаза сияют счастьем… Дочь или жена Ялонга, подумал он и опустил крышку ларца. Все же кто-то был счастлив в этом жутковатом мире… Вернув шкатулку на место, он отправился в центральную комнату. Здесь ничего не изменилось – трупы, кровь, едкие резкие запахи, лестница с тремя сгоревшими ступеньками, темные отметины на стенах – там, куда ударили разряды. Найт, скрестив руки перед грудью, стоял на коленях у тела Ялонга и что-то шептал – может быть, молитву. Услышав звук шагов, он обернулся. – Мы не можем оставить его здесь, консул Трев, его и других замученных… оставить в этой мерзости, рядом с врагами… – Не можем, – согласился Ивар. – Какие погребальные обряды приняты на Декаи Таилу? Сожжение? Похороны в земле или в океане? Возможно, в космосе? – В космосе?.. Нет, консул Трев, мы не отправляем в космос своих мертвецов. Сожжение… да, сожжение подойдет. – Тогда нам придется потрудиться, – сказал Тревельян, поднимая с пола серебристый жезл. – Здесь больше десятка разрядников… Надеюсь, их энергии хватит. Работа была неприятной, но быстрой – лучевое оружие в этом мире оказалось столь же эффективным, как земные бластеры, оно превращало плоть и кости в маленькую кучку праха. Вспомнив о ларце, Тревельян принес его, и останки семерых погибших упокоились под голограммой женщины с распущенными волосами. Не исключалось, что она сама уже пребывала в тех пространствах, куда улетают души умерших, и, значит, Ялонг Ракасса встретился с ней, Ялонг и шесть его соратников. Достойный памятник для них, думал Тревельян, глядя на ее лицо и счастливую улыбку. Он захлопнул ларец и вручил его Найту. – Держи. Возьмем его с собой. – Ты уже знаешь, как нам добраться до Тарила? – с надеждой спросил юноша. Тревельян пожал плечами. – По воздуху, раз нет другого способа. У вас ведь найдутся быстрые и надежные воздушные суда? Их, должно быть, показывают по общепланетной сети, сами корабли и стартовые поля, откуда они взлетают и где приземляются. Пойдем к экрану, друг мой. Я должен взглянуть на них и выбрать место для перемещения – такое, где меньше охранников. Желательно, поближе к Тарилу. Найт, прижимая к груди шкатулку, растерянно уставился на него. – Да, консул Трев, на Декаи Таилу есть воздушные корабли, быстрые и надежные, и есть множество мест, откуда они взлетают. Ты хочешь увидеть подходящее и туда переместиться… Я понимаю, понимаю… Но я не могу управлять воздушным судном! Я никогда этого не делал! – Не проблема, – сказал Тревельян. – Была бы лошадь с телегой, а возчик найдется. Как сказано у Йездана Сероокого, мы способны на гораздо большее, чем думаем.Глава 11 Путь к Тарилу
Угонять самолеты, а также флаеры, авиетки и космические корабли Тревельяну еще не доводилось. Но, как советовал дед, он компенсировал отсутствие опыта напором и нахальством, подкрепляя и то и другое оружием и кулаком. Это сработало. Когда Тревельян приставил серебряный жезл к горлу пилота и объяснил свои намерения, тот без споров распахнул люк летательной машины и полез внутрь. Возможно, пилот был изумлен и перепуган, когда угонщики свалились ему на голову словно ниоткуда; возможно, не надеялся на охрану – взлетное поле было безлюдным, и лишь вдали, километрах в двух, маячили какие-то строения. Но не исключалось, что захват воздушных судов был здесь в порядке вещей – ведь на планете, в сущности, шла гражданская война, в которой людей уничтожали миллионами. Так ли, иначе, пилот не стал сопротивляться, поднял машину и вывел ее на нужный курс. Корабль, на взгляд Ивара, выглядел странноватым – не вертолет, не орнитоптер и, разумеется, не аппарат на гравитационной тяге. Формой эта машина напоминала ската – овальная, плоская, с утолщением вдоль оси, переходившим в длинный гибкий хвост. Широкий корпус создавал при разгоне подъемную силу, кабина пилота и грузовой отсек находились в центральном утолщении, а что было по бокам и сзади, оставалось лишь гадать – очевидно, двигатели и баки с горючим. В полу – люк и два небольших иллюминатора, у бортов – дюжина сидений, жестких и очень неудобных, над ними тянулись с обеих сторон узкие люминесцентные полоски. Минимум комфорта, оглушительный рев турбин, холод, вибрация и спертый воздух… Но летала эта машина хорошо и почти так же быстро, как земные стратопланы. Полет предстоял долгий. Южные берега континентов Декаи Таилу были густо населены, в огромных аэропортах взлетали и садились сотни кораблей, и всюду, на защитных стенах, на крышах, у взлетных полос, Тревельян видел батареи ракет, стволы лучеметов, солдат в красном и других охранников, особых, в синей униформе. Пожалуй, он и здесь нашел бы подходящий транспорт, но ему не дали бы взлететь, сожгли на земле или перекрыли полосу разгона. Когда на экране мелькнул порт в холодном северном краю, пришлось на нем остановиться – далеко, зато место безлюдное, вокруг тундра, ни городов, ни деревень. На планете с огромным населением таких мест было немного – полярные зоны, пустыни близ экватора да еще острова в высоких широтах. Выбор невелик: что показал экран, туда Ивар и переместился. Он не ведал, принадлежит ли это взлетное поле мелл-паа либо какому-то обычному суончу, и у Найта на сей счет тоже не имелось никаких соображений. Им предстояло пересечь материк и углубиться в Южный океан – почти сутки в воздухе, как сказал пилот. Они сидели в грохочущей тряской коробке, где можно было говорить, лишь приблизив губы к уху спутника. На коленях Тревельяна покоился серебряный жезл, Найт прижимал к груди ларец с прахом Ялонга и его товарищей. Внизу клубились облака, завивались в прихотливые спирали, громоздили один туманный замок на другой, и Тревельян, глядя в иллюминатор, видел в их разрывах землю, будто бы покрытую сероватым пушком. Цветущие мхи, подумал он, – вероятно, в северном полушарии Декаи Таилу стояло лето. Двигалось ли что-то в этой полярной пустоши, была ли тут какая-то жизнь?.. С высоты он не мог ничего разглядеть, кроме монотонного серого покрова. Воздушная машина пронеслась над тонкой черточкой реки, и на ее берегах, далеко-далеко, Тревельян увидел город. Бесформенная клякса, расползшаяся на много километров к северу и югу… Над ней стояла плотная мгла – дымили огромные трубы, колеблемые ветром черные столбы поднимались в небо, над дальней частью города вроде бы шел дождь, но грязный, бурый, словно влагу в облаках смешали с пеплом и выплеснули вниз. Река – похоже, широкая, полноводная – тоже отливала желтовато-бурыми оттенками и, дугой пересекая город, несла воды к Северному океану. Этот пейзаж Ивар разглядывал не больше десяти секунд; потом тучи сомкнулись, отрезав мрачное видение. – Город, – произнес он, склонившись к Найту. – Олонг, – отозвался Рыцарь Времени. – Промышленный центр телли-тархат. – Длинноносых? – Да, консул Трев. Шахты, карьеры, выплавка металлов и химические производства… Когда-то здесь трудились миллионы работников. – Что с ними произошло? – Уничтожены за ненадобностью. – Судорога исказила лицо юноши. Овладев собой, он добавил: – Город велик, но теперь в нем немного людей – красные стражи и те, кто следит за машинами. Длинноносые и другие мелл-паа здесь не живут. – Почему? Найт пожал плечами. – Холодно. Еще грязный воздух, грязная река… Дважды на город нападали. – Кто? – Суончи Патан, Сеграх, Вишшари и другие. С высоты незаметно, но половина города – руины и кучи мусора. – Однако шахты и производства работают? – Да, консул Трев. Они хорошо защищены. Тучи снова на миг разошлись. Ивар успел разглядеть изрытую землю, терриконы, холмы пустой породы, мачты энергоприемников, паутину дорог, по которым ползли длинные змеи платформ, загруженных рудой. Эта картина нагоняла еще большую тоску, чем ледяные просторы Арханга. Облака в очередной раз закрыли землю. «Пилот у нас не прост, – пришла внезапно мысль Командора. – Не прост!» «Ты о чем?» – спросил Тревельян. «Будь внимательнее, голубь сизый. Он ведь к городу не полетел, держался в стороне». «И что?» Но дед смолк, испустив ментальное подобие вздоха. Тревельян опять склонился к уху юноши. – Ты говорил, что тебя и еще двоих готовили к дальней дороге… – Адара и Шагаба, консул Трев. – Да, я помню их имена. Почему выбрали вас? – Мы молоды, крепки телом и духом, а еще… – Найт на мгновение задумался. – Ильсани, наш наставник, считал, что мы одарены особым качеством: не боимся неведомого и не питаем отвращения к иным формам жизни. Ведь в конце пути… если путь когда-то кончится… там мы могли бы встретить существ, совсем не похожих на людей. «К счастью, не встретили, – пробормотал Командор. – Ни сильмарри, ни дроми, чертовых жаб! С этими договориться было бы не просто!» «С хапторами и фаата тоже», – согласился Тревельян, а вслух произнес: – Готовились трое, но послали тебя. Для этого была какая-то причина? – Была. Адар не выдержал, решил, что если мы погибнем, лучше умереть со всеми, с нашим миром и нашими людьми. – Грудь Найта поднялась в прерывистом вздохе. – Когда я очнулся и увидел эти безжизненные льды… когда тот человек, лысый с перьями, сказал, что ничего нельзя исправить… я понял Адара, консул Трев. Есть вещи пострашнее смерти. – Есть. Одиночество, бессилие и вечное чувство вины… – Помолчав, Тревельян продолжил: – А что с Шагабом? Он тоже не выдержал и отказался? – Нет. Он только пожелал проститься с матерью и сестрами. Его убили в Алкадду во время облавы. – А ты? Тебе ни с кем не хотелось проститься? – Мои близкие давно мертвы, – сказал Рыцарь Времени, опустив голову. – Они жили в том городе, в Олонге… Не спрашивай, что с ними случилось. Мне тяжело вспоминать. Облака под летательным аппаратом поредели, и теперь Ивар мог разглядеть землю с уходившими вдаль дорогами, нитками трубопроводов и гигантскими мостами – большие реки попадались все чаще. Они достигли средних широт, где находилось множество крупных и мелких поселений, окруженных сельскохозяйственными угодьями и зонами различных производств. Здесь, как и в Олонге, дымили трубы, над городами висела пелена желтовато-бурого смога, по монорельсовым путям тянулись длинные составы с цистернами и платформами, и повсюду торчали мачты энергоприемников. Еще он видел нацеленные в небеса ракеты и стволы излучателей, здания казарм, отряды марширующих солдат и боевые машины, что ползли по дорогам, словно стаи решивших переселиться черепах. Но вскоре эта картина смазалась, превратившись в скопище серых, желтых, зеленых пятен – их аппарат пошел вверх, и детали пейзажа стали неразличимыми. «Правильно действует», – пробормотал Советник, смотревший на землю глазами Ивара. Но к чему относилась эта реплика, Тревельян не понял. «О ком ты, дед?» «О нашем пилоте. Молодец!» «Ты так считаешь? Почему?» Пол под ногами Тревельяна наклонился. Похоже, воздушная машина взбиралась в стратосферу. Помолчав, дед произнес нравоучительным тоном: «Тут тебе не Осиер и не Арханг, тут, мальчик мой, техническая цивилизация. Ракеты видел? Стоят батарея за батареей… Система противовоздушной обороны, не иначе… у каждого города, у важных предприятий и транспортных узлов… От них лучше держаться подальше. Парень так и делает». И правда, подумал Тревельян, выбираясь из тесного сиденья. Не исключалось, что пилот заботится о собственной безопасности, но были возможны и другие варианты. Сунув серебряный жезл под мышку, он кивнул Найту. – Загляну к пилоту, потолкую с ним. Как думаешь, он служит мелл-паа? – Не обязательно. У других суончей тоже есть воздушный транспорт. – Хмм… Тем более есть повод побеседовать. Кабина оказалась тесной, загроможденной приборами, зато грохот двигателей был здесь не таким оглушительным. Из нее открывался неплохой обзор – иллюминаторы в кабине пилота были много шире, чем в грузовом отсеке. Внизу, по курсу, Тревельян видел пеструю поверхность земли, частью скрытой облаками, вверху горели в темном небе звезды. Он решил, что аппарат поднялся километров на тридцать или еще выше. Развернув кресло, пилот уставился на Ивара. У него было худощавое лицо с впалыми щеками, серые глаза и коротко остриженные светлые волосы. Губы, уши, нос – все на месте и вполне нормальных очертаний. Выглядел он не очень юным – пожалуй, лет на сорок. – Назови свое имя, – сказал Тревельян. – Шайг Нилинна. – Голос пилота звучал спокойно, в нем не ощущалось ни обиды, ни агрессии. – Нилинна – твой суонч? – Да. – Чем занимается? Теперь Ивар почувствовал, что пилот удивлен. Впрочем, в исходивших от него ментальных волнах по-прежнему не было враждебности. – Разве ты не знаешь? Нилинна – это воздушные перевозки. По всему свету, от полюса до полюса. – Суончи мелл-паа вас тоже нанимают? – Нет. У декаи унго хватает своих машин. Не замечать нас – вот вся их милость. Он насторожился, подумалось Тревельяну. Подождав немного, он сказал: – Поверь мне, Шайг Нилинна, я не люблю длинноносых, безухих и прочих уродов. Очень не люблю. Будь моя воля… – Вскинув оружие, он сделал вид будто прицеливается. Пилот безмолвствовал. Молчал он долго, минуты четыре. Потом, словно решившись, произнес: – Я еще не слышал твое имя. Может быть, ты из суонча Вишшари или Сеграх, что сражаются с владыками, а может, ты служишь декаи унго и ждешь, чтобы я сказал неосторожные слова. Тревельян опустил оружие. – Меня зовут Трев Ракасса. – Ракасса, – с явным облегчением повторил пилот, показав в усмешке зубы. – И ты, Трев Ракасса, желаешь добраться до архипелагов в Южном океане… Но до какого острова, я пока не знаю. – Остров Тарил. Случалось там бывать? – Нет. – Шайг щелкнул клавишей, и на экранчике у его локтя высветилась карта с тремя десятками островов, потом побежали какие-то символы. Пилот глядел на них, хмурил брови, барабанил пальцами по колену. Когда экран погас, он молвил: – Там всюду скалы и горы. Не уверен, что смогу посадить свою машину. Что будем делать, Трев Ракасса? – Лететь, куда я велел. А когда прилетим, мой спутник укажет подходящее место. – Согласен. Надеюсь, я смогу не только приземлиться, но и взлететь. «Хороший парень, – заметил Командор. – Ты его отпустишь?» «Это, дед, не мне решать. Остров – тайна суонча Ракасса… Пожалуй, у них пилот и останется. Навсегда». Шайг прикоснулся к рычагам, и аппарат пошел вниз по крутой дуге. Стоя за его спиной, Тревельян наблюдал, как приближается поверхность планеты – уже не усеянная городами и заводами, не покрытая сеткой дорог, а мертвая, пустая. Ветер взметал огромные смерчи пыли, и это было единственным движением, какое он мог различить; рыжие пылевые облака носились над плоской, как стол, равниной, безжизненной и безводной, словно Марс в давние, давние годы, еще до пришествия людей. Правда, в отличие от Марса, тут был воздух. – Почему мы спускаемся? – спросил Тревельян. – Сберегаем энергию. Там разреженный воздух и нет опоры. Шайг Нилинна ткнул пальцем вверх. – А зачем поднимались? – Чтобы пролететь над северным промышленным поясом. В нашем суонче всегда так делают, Трев Ракасса. Владыкам не нравится, когда нейи льо хузем летают над их городами. – Пилот выровнял машину, бросил взгляд вниз и сообщил: – Здесь можно спуститься. Здесь самая безопасная трасса, над пустыней, выжженной симхаллом. Ни городов, ни жизни, ни людей… Район локального конфликта, подумал Тревельян, глядя на кружившие внизу вихри и вспоминая слова физика Рудина. Вот так все и начиналось… то в одном месте, то в другом… А после вспыхнул атмосферный водород, и все закончилось – очень, очень быстро… куда быстрее, чем на Руинах и в Ледяном Аду… Можно сказать, с самоубийственной скоростью… Он горько усмехнулся и сделал шаг назад, собравшись покинуть пилота, но тот внезапно произнес: – Мы долетим до твоего острова, Трев Ракасса, долетим непременно, я обещаю. Поверь мне, я тоже не люблю длинноносых, безухих и остальных декаи унго, что правят нашим миром. Очень не люблю! Будь моя воля, я поселил бы их в этой пустыне, и пусть ядовитая пыль сделает их еще уродливее. Понадобилось еще семь часов, чтобы пересечь континент. Летательная машина то поднималась, чтобы миновать населенные зоны, то скользила над равнинами, засыпанными рыжей пылью. День склонился к вечеру, наступила ночь. Путники перекусили – в кабине пилота нашлись вода и сухие пайки. Шайг Нилинна, включив автоматику, немного подремал, пробудившись к тому времени, когда они достигли побережья. Здесь стояли огромные города, планетарные мегаполисы – Никат, Гархав, Сайнет, Алкадду и десятки других, где власть мелл-паа была непререкаемой и твердой. Пилот снова поднял машину к стратосфере. Стоя у его кабины, Ивар всматривался то в бледное зарево над городами, то в яркие созвездия вверху. Где-то там, под звездами, кружил маленький спутник, напоминая о себе мерцающим зеленым огоньком. Как и сам Ивар Тревельян, он проделал путь в пространстве и времени, чтобы спасти планету, но без человека был бессилен. «Гордишься? – спросил призрачный Советник. – Ну-ну… Герой, орел, спаситель цивилизации…» «Нет повода для гордости, – подумал Тревельян, возразив то ли деду, то ли себе самому. – Я всего лишь орудие, живой инструмент той силы, что правила Галактикой, а теперь ищет достойных наследников своего могущества и власти. Не просто их найти, ибо власть опьяняет, и, получив ее, ничтожные, жестокие и глупые становятся тиранами. Но и те, что более разумны, могут поддаться искушению решать все за всех, считая истину своей прерогативой. Это не наш путь, если мы достойны властвовать в Галактике. Не возгордиться, не геройствовать, не отвергать сомнение… не творить суд карающий и скорый, ибо поспешность – враг справедливости… помнить, что мудрое слово сильнее оружия…» Он вернулся в грузовой отсек, лег на пол рядом со спящим Рыцарем Времени и тоже уснул. Уснул в грохочущем чреве воздушного судна, что мчалось на юг над темным океаном.* * *
Наступил и миновал полдень. Казалось, их машина застыла между небом и морем: вверху – угрюмая пелена туч, внизу – серая поверхность океана. Монотонность этой картины нарушали только острова, стремительно убегавшие к северу: большие, поросшие лесом, с прибрежными городами и бухтами, где теснились у пирсов корабли; острова поменьше, но тоже населенные, иногда застроенные от края до края фабричными корпусами, с множеством платформ на шельфе; крохотные клочки суши, голые, скалистые и необитаемые – там, очевидно, не имелось никаких богатств, кроме соленых вод и камня. Затем, в более высоких широтах, стали встречаться целые архипелаги, где никто не жил; у неприветливых берегов, окруженных рифами и шхерами, бушевали волны, вершины мрачных гор купались в облаках, склоны были изрезаны ущельями и затянуты туманом. Кое-где лежал снег, напоминая, что в южном полушарии царит зима. «Бесплодный край, пристанище изгоев…» – думал Тревельян, взирая на эти унылые картины. Не верилось, что на одном из таких островов суонч Ракасса оборудовал убежище, переправив туда тысячи – возможно, десятки тысяч человек. Он принялся расспрашивать Найта, и тот пояснил, что на Тариле целый лабиринт естественных пещер, уходивших в глубь скального массива, что работы над убежищем длились больше века, и за этот срок в подземельях родилось и выросло шесть поколений. «Чем они питаются?» – спросил Тревельян и услышал в ответ, что рыба в океане еще не перевелась, а в пещерах хватает гидропонных баков. Их аппарат летел низко, метрах в ста пятидесяти над волнами. Если не считать рассеянных тут и там скалистых островов, море было пустынным, дремлющим под плотной пеленою облаков; временами солнечный луч пробивался сквозь них, заставляя водную поверхность сверкать и искриться. Дальше к югу стали попадаться льдины, потом небольшие айсберги, проплывавшие под воздушной машиной, словно стая причудливых белых птиц. Шайг Нилинна заглянул в грузовой отсек и, повысив голос, предупредил: – Ваш остров близко, Трев Ракасса. Пусть юноша встанет за моей спиной, чтобы я мог направить корабль к нужному месту. Найт кивнул и поднялся, по-прежнему прижимая к груди ларец с прахом Ялонга. – В горах есть ущелье, очень узкое и почти незаметное. Дальний конец уходит в расщелину среди скал, и там ровная дорожка для посадки. Ориентир – гора с двумя зубцами, словно два растопыренных пальца. Я покажу. – Узкое и незаметное… – повторил Шайг, хмурясь и задумчиво поглаживая впалую щеку. – Насколько узкое? – В четыре раза шире твоего корабля. Если ты умелый пилот, то сядешь там. – Я сяду даже на лысину юл-акашага, – промолвил Шайг Нилинна. – Я обещал, что мы доберемся до острова, и это будет сделано. Лететь нам осталось примерно… Из облаков ударила молния, едва не задев воздушную машину. Там, где она коснулась воды, взметнулся столб раскаленного пара. Льдины закачались, затанцевали на волнах, ближайший айсберг накренился, и с его вершины слетело несколько огромных глыб. – Держитесь! – выкрикнул пилот. – Держитесь! Нас атакуют! «Атакуют! – эхом отозвался Командор. – Нас атакуют! И где же тут аннигилятор? Где лазерные батареи, фризеры и метатели плазмы? Чем мы вмажем по рогам?» Пилот был уже в кабине, и его руки лежали на рычагах. Найт, выронив шкатулку, вцепился в спинку кресла, Тревельян стоял рядом, глядя на небо в переднем иллюминаторе. Там застыли облака, подсвеченные солнцем, похожие на вязкий розовый кисель. Из туч вывалились два треугольных остроносых аппарата. Они падали вниз, прямо на корабль Шайга, их фюзеляжи отливали серебром, поблескивало остекление кабин, сзади тянулись белесоватые хвосты. – Следили за нами… – бледнея, прошептал Найт. – Птицы смерти телли-тархат… или сетам-седум… у них есть такие же машины… Снова с небес упала молния, пролетев за кормой их воздушного судна. – На борту есть оружие? – спросил Тревельян, обхватив Найта за пояс и высматривая подходящий остров. Под ними был архипелаг – хаос льда, воды и камня, лабиринт из сотен островов и островков. Он мог переместиться на любой из них. – Оружия нет, – отозвался пилот. – Но это не значит, что мы беззащитны. Внезапно корабль окутала плотная темная пелена. Заложив вираж – так стремительно и резко, что Найт и Тревельян присели, чтобы удержаться на ногах, – Шайг бросил аппарат в небеса, к клубившимся над ними тучам. Пол наклонился, машина встала почти вертикально, двигатели взревели, в грузовом отсеке что-то покатилось от борта к борту, грохоча и подпрыгивая. Мгла затянула иллюминаторы. Под прикрытием этой завесы, извергая черный дым, воздушная машина мчалась вверх, вверх, вверх, невидимая для преследователей. Чего они хотели?.. Возможно, лишь уничтожить корабль по каким-то неясным Ивару причинам, но это казалось ему нелепостью. Скорее, то был патруль, следивший за движением в безлюдной части мира, искавший тайные укрытия суончей – тех, что сражались с владыками или хотели спрятаться от них. И в этом случае… Он прикрыл на миг глаза. «Место! – звучал в голове рев безухого иг-фатха. – Скажи про место, где затаился ваш суонч! Место, место, место! На каких островах, в каких горах вы прячетесь! Говори, говори!» «Остров… – подумал Тревельян, – остров где-то здесь, совсем близко…» Он пополз назад, в грохочущее чрево корабля, и лег там на спину, обхватив ногами стойку сиденья. Потом поднес к лицу браслет и с силой надавил зеленый камешек. Пол под Иваром затрясся – должно быть, корабль пронизывал облака. Затем что-то ударило в левый борт, и к нему долетел едва слышный голос пилота. Кажется, Шайг ругался, проклиная телли-тархат и всех остальных властителей планеты. Тонкий зеленый лучик проник в глаз Тревельяна, соединившись со зрительным нервом. Грохот и тряска сразу исчезли, а вместе с ними – грузовой отсек, тамбур перед кабиной и скорчившаяся на полу фигура Найта. Теперь он видел только черный полог Великой Пустоты с искорками звезд, планетарную полусферу и ослепительно яркое солнце. – На связи, – сообщил робот, управлявший излучателем. Примитивное устройство с немногими функциями; главной его задачей было наведение на цель. Робот, однако, мог говорить и воспринимать голосовые команды – для удобства программирования. – Зафиксируй мое положение, – распорядился Тревельян. – Выполнено, – доложил лишенный эмоций голос. – Что наблюдаешь? – Три воздушных аппарата над морской поверхностью. – Опиши их форму. – Один в виде эллипсоида, два треугольных. – Эллипсоид не трогать. Треугольные распылить. Выполняй! – Неудобная позиция для поражения цели. С учетом расходимости пучка могу уничтожить все аппараты. Выполнять? – Дьявол! – выругался Тревельян. – Не понял, – сообщил робот. – Выполнять? – Нет! Когда позиция для поражения треугольных станет удобной? – Через шесть минут двенадцать секунд. – Вот тогда и выполнишь. Конец связи. Зеленый лучик погас, и Ивар поднялся на ноги. «Шесть минут! – недовольно проворчал призрачный Советник. – Через шесть минут вас на фарш пустят и скормят местным креветкам! Что за дурная манера летать без оружия!» Не отвечая, Тревельян направился в кабину. Темная мгла уже не закрывала иллюминаторы, и в них мерцали звезды – видимо, их корабль, оторвавшись от преследователей, кружил в стратосфере. Далеко внизу виднелось мутноватое покрывало облаков, и оттуда временами били молнии, напоминая, что враг не дремлет и спускаться небезопасно. Но Ивара это не встревожило. Шесть минут, подумал он, только шесть минут… Шайг, однако, был мрачен. – Птицам смерти сюда не забраться, слишком для них высоко, но и к морю нас не пускают, – буркнул пилот. – К тому же левый двигатель поврежден и работает в половину мощности. На одном моторе тут не продержишься, и если они не улетят… – Шайг захлопнул рот и помрачнел еще больше. – Почему они нас атаковали? – спросил Тревельян. – Какой в этом смысл? Пилот злобно оскалился. – Не ищи смысла там, где его нет! Что мелл-паа пожелают, то и делают! – Он со свистом втянул воздух и вроде бы успокоился. – Мы, Нилинна, нейтральный суонч, и обычно наши корабли не жгут. Но мы не летаем в этих широтах. Не знаю… Может быть, это запрещено. – Что-то вдруг изменилось, и через секунду Тревельян понял: рев двигателей сделался тише. Волна вибрации прошла по корпусу судна, и оно стало заваливаться на бок. – Левый мотор спекся, – бесстрастно произнес пилот. – Мы падаем. Прямо под излучатели. – Иди вниз, – сказал Тревельян, посматривая на таймер в браслете. – Но не торопись. – Не торопись! – Шайг фыркнул. – Постараюсь, Трев Ракасса! Очень постараюсь! Корабль опускался, накренившись и подрагивая, словно смертельно раненное живое существо. Ивар ощутил, как пальцы Найта вцепились в его локоть. – Если мы погибнем, консул Трев… если погибнем, хочу, чтобы ты знал… – Теплый воздух его дыхания щекотал ухо Тревельяна. – В моей жизни было немного радостей, и одна из них – встреча с тобой. – Мы не погибнем, Найт. – Он постарался, чтобы его слова звучали уверенно. – Не погибнем! Отыщи ларец с прахом Ялонга. Нельзя оставлять его здесь. Возьми ларец и возвращайся ко мне. Быстро, друг мой! – Сделаю, консул Трев. Найт исчез в грузовом отсеке. Тревельян снова покосился на таймер. Оставалось три минуты сорок шесть секунд. Спуск замедлился – вероятно, их аппарат вошел в более плотные слои атмосферы. Внизу висело облачное марево. Его поверхность приближалась, и Тревельян видел, как на фоне туч кружат две мошки, блистающие серебром. – Скоро они смогут нас достать, – произнес пилот и выругался. – Поставишь завесу? – спросил Тревельян. – Нет. Запасы газа кончились. Две минуты тридцать пять секунд… Перед мысленным взором Ивара возник спутник-излучатель, неторопливо ползущий по орбите. Он поднимался над горизонтом, и, вероятно, управлявший им робот уже нащупал цель. – Не подходи близко к их машинам, – сказал Тревельян пилоту. Тот повернул голову, оскалил зубы в невеселой усмешке. – Они прикончат нас издалека, Трев Ракасса. Им нет нужды приближаться – осколки моей машины могут повредить их птиц. Вернулся Найт с ларцом. Тревельян обхватил его за плечи. «Удастся ли переместить двоих?..» – мелькнула тревожная мысль. Люди Декаи Таилу были невысокими, и вряд ли Найт и Шайг весили больше шестидесяти килограммов… Тут он вспомнил, как в портал, открытый им на Раване, прошла целая армия – вспомнил об этом и успокоился. Минута три секунды… Мутная облачная мгла стремительно надвигалась, а серебристые мошки уже обрели размер и форму, напоминая теперь крохотные остроконечные треугольники. Они кружили выше туч, на довольно большом расстоянии друг от друга. Ударят с обеих сторон, подумал Ивар, и в тот же миг сверкнули молнии. Слепящие разряды пролетели мимо. Двадцать пять секунд, отсчитывал Тревельян, двадцать четыре, двадцать три… До застывшей облачной поверхности было метров пятьсот – возможно, меньше. Молнии ударили опять, и корабль содрогнулся. Свист воздуха и стон искореженного металла перекрыл надсадный рев – похоже, двигатель доживал последние мгновения. Пилоту удалось выровнять машину – они не падали камнем вниз, а планировали с большой скоростью. Освещение в грузовом отсеке погасло, и оттуда тянуло ледяным ветром. Двенадцать секунд, одиннадцать, десять… Снова яростный блеск молний, потом – вонь горелого пластика, скрежет и хрипы, свет, ворвавшийся в пробоины… Двигатель смолк. Они неслись над самыми облаками, примерно на той же высоте, что и атакующие аппараты. Тревельян видел один из них – маленькая серебристая птица маячила в отдалении, готовясь нанести последний удар. Четыре секунды, три, две, одна… Серебряная птица вздрогнула и рассыпалась пылью. В следующий миг они погрузились в облака. Холодно, сыро и очень неуютно… Листы обшивки отрывались один за другим с пронзительным визгом. В кабине и грузовом отсеке – в том, что от него осталось, – плавали клочья влажного белесого тумана. Они падали. Свистел ветер, воняла горящая проводка, стрелки безжизненных приборов застыли, сеть трещин покрыла иллюминаторы. – Что это было? – спросил Шайг. – Я видел… ясно видел… птица не взорвалась… с чего бы ей взрываться?.. Просто раз, и… – Он щелкнул пальцами. – Секретное оружие суонча Ракасса, – пояснил Тревельян, подмигивая Найту. – Действует так, как ты сказал: раз, и… Прилетим на Тарил, узнаешь подробности. – Уже прилетели, – мрачно заметил пилот. – Остров под нами. Разбитая машина падала на прибрежные утесы. Остров был обширен, скалист и бесплоден. Охватив его единым взглядом, Тревельян заметил горную вершину с двумя зубцами, похожими на растопыренные пальцы, бушующий у берегов прибой, снег на склонах гор, хаос ущелий и трещин, каменные осыпи и центральный пик, что возносился к хмурым тучам. Ни струйки дыма, ни проблеска огней… Любой бы поклялся, что эта земля необитаема и видит людей не чаще, чем раз в столетие. – Сейчас грохнемся, – промолвил Шайг Нилинна. – Так грохнемся, что кости долетят до полюса. Но это быстрая смерть. Зевнуть не успеешь, а уже среди предков. – Предки подождут, они терпеливы, – сказал Тревельян, стиснув левой рукой плечи юноши, а правой ухватив пилота за пояс. – Мы еще поживем, друзья мои. Поживем и полетаем среди звезд. Он открыл портал. Вспышка света, мгновение тьмы… Утопая по колени в снегу, они стояли на склоне горы с двумя зубцами.* * *
– Ваша Земля и ее великая цивилизация… – начал старый Ильсани, почтительно скрестив руки перед грудью. – Нет на Земле никакой цивилизации, – прервал его Тревельян. – Мои предки сейчас бегают в шкурах, охотятся на мамонтов и вытирают сопли кулаком. – Нет, так будет, – гнул свое Ильсани. – Будет, – согласился Ивар. – Когда съедят всех мамонтов и придумают носовые платки. Ильсани прищурил глаза, от их уголков побежались морщинки. Кажется, он развеселился. – Ты еще молод, консул Трев, и еще не ощутил груз прожитых лет… А эти годы дарят мудрость, заставляя на многое взглянуть иначе. – Он выпрямил согнутую спину и, запрокинув голову, уставился в ночное небо. – Так ли важно, что твой народ станет великим через бездну времени? Главное, это случится! Вы будете странствоватьсреди звезд, заселите безлюдные планеты, встретитесь с разумом, непохожим на ваш, и сумеете договориться с этими созданиями. Это обязательно произойдет – ведь ты здесь, в нашем мире! И ты сам сказал, что тебе и Найту помогли другие, не люди, не совсем люди… Стали бы они помогать тебе, если бы не было веры в ваш земной суонч и его великое предназначение! – Ильсани снова усмехнулся. – Думаю, я прав, ваша цивилизация существует… пусть только в генах дикарей, не знающих, как утираться платками… Надеюсь, носы у них обычные? Такие, как у тебя и у меня? И глаза на нужном месте? – С носами и глазами порядок, уши тоже есть, – подтвердил Тревельян. – Люди, как люди, только волосатые. Но волос со временем станет меньше. «Не спорь со стариком, он верно рассуждает, – шепнул призрачный Советник. – Мы уже великий народ. Великий! Знаешь ли, парень, мамонта завалить дело совсем не простое». Ильсани и правда был стар и мудр. По крови он не принадлежал к суончам владык, унаследовав дар долгожительства от собственных предков. Его спина и плечи согнулись, волосы поредели, лицо иссекли морщины, руки были тощими, ноги слабыми, но разум оставался ясным. В суонче Ракасса его считали самым уважаемым наставником. В подземельях Тарила Ивар пробыл два дня. Этого хватило, чтобы осмотреть гигантский лабиринт сверху донизу, восхититься жизнелюбием и стойкостью его обитателей, разделить пищу изгоев, послушать, как поют их девушки, и даже выйти с рыбаками в море на ночной лов. Разумеется, главное он тоже сделал, сообщив излучателю координаты целей. Зеленый огонек в его браслете уже не мигал, а горел ярко и ровно, подтверждая, что информация принята, и спутник, круживший над планетой, выполняет свою задачу. Где-то на Декаи Таилу, в неведомых Тревельяну краях, сейчас дрожала земля, рушились стены, падали своды и рассыпались пылью хранилища симхалла. Наверняка не все, но хотя бы самые крупные, о которых знали в суонче Ракасса… Гарантий, что это приведет к успеху, не было никаких – раз технология сохранилась, уничтоженные запасы можно возобновить. Но восстановление производства требовало сил и времени, нескольких лет или даже десятилетий, и изгои Тарила получали отсрочку. Тревельян не знал, пойдет ли это им на пользу. Он мог лишь надеяться. Его принимали как дорогого гостя, как спасителя и посланника великого народа. Найт, конечно, гостем не был, но появление юноши еще больше потрясло людей – немногие верили, что странствие сквозь время завершится и Найт Ракасса снова будет жить. Он мог провести в стасисе сотни тысяч лет, а когда энергия иссякнет, превратиться в горстку праха… Его отправили в путь без возврата – акт отчаяния и ужаса перед грядущей гибелью! – отправили в никуда, но он вернулся! Вернулся с человеком со звезд, посланцем великой цивилизации!.. На Тариле Найт Ракасса не был гостем – он был героем. Скоро спутник выполнит свою работу, думал Тревельян, потом самоликвидируется, и это означает, что эстап завершен. ЭСТП, элемент социального и технического прогресса, по классификации ФРИК, самое масштабное воздействие за всю историю Фонда… И, говоря по совести, идущее вразрез с заветом его основателей, предупреждавших, что прогрессировать высокоразвитые культуры крайне опасно. На многих планетах, достигших уровня Земли двадцатого или девятнадцатого века, это вело к социальным потрясениям, ядерной войне и полному уничтожению цивилизации, слишком рано получившей доступ к опасному знанию. Но ситуация на Декаи Таилу, несомненно, являлась исключением из правил – этот мир сам уничтожил себя, без помощи космических пришельцев, так что любой эстап был здесь уместен. Хрестоматийный случай, решил Тревельян, миссия, которая войдет в учебники – конечно, если все закончится успешно. Старый Ильсани терпеливо ждал, не мешая его раздумьям. Слабый свет луны и звезд изливался на горный склон, рассеченный глубоким ущельем – на дне его была пробита шахта, в которой спал в стасисном поле Найт Ракасса, Рыцарь Времени. Найт номер один, а номер второй, бодрствующий, находился тут, рядом, и с грустью глядел на Ивара. Им обоим не хотелось расставаться, но каждый знал, что принадлежит своей эпохе и своему племени. Это не порождало отчуждения – только печаль, светлую печаль разлуки. Скрестив руки перед грудью, Тревельян поклонился старику. – Прости меня, Ильсани, зря я прервал твою мысль. Так что ты хотел сказать? Про нашу Землю и ее великую цивилизацию? – Тот народ велик, который дает, не требуя платы и иного возмещения, – произнес Ильсани. – Дает от чистого сердца, помогая обездоленным и уступая слабым… Я хочу, чтобы вы это помнили. И если мы встретимся… встретимся в том далеком далеке, куда ты сейчас уйдешь… пусть мы станем друзьями, а не врагами. Кивнув, Тревельян снял браслет, отщелкнул алый камешек и вложил его в ладонь старика. – Еще один наш дар, Ильсани. Вы поместили в стасис устройство для обучения языку… Здесь такой же принцип записи. Прочитать будет несложно. – Что в нем? – Ильсани осторожно прикоснулся к кристаллу. – Описание межзвездного движителя… Физика Лимба – так называется область хаоса, окружающая нашу Вселенную… Еще древняя карта Галактики – на ней указаны обитаемые миры… – Тревельян помолчал. – Я не знаю, когда случится катастрофа, но надеюсь, что у вас будет время с этим ознакомиться и построить космический флот. Вы – суонч знания, такое вам по силам… Улетайте туда! – Он вытянул руку к звездному небу, к скоплению Гиад. – Улетайте подальше, так далеко, как сможете, чтобы не вступать в споры с существами, что когда-нибудь населят планеты у ближайших звезд. Некоторые из них полны гордыни и самомнения, воинственны и опасны… Остерегайтесь их, Ильсани. Это все, что я могу сказать. – Спасибо, – тихо произнес старик. – Спасибо, консул Трев Ракасса, наш брат… Мы последуем твоим советам. Наступило молчание. Втроем они стояли на краю обрыва, глядя вниз, туда, где над шахтой с саркофагом сгустился мрак. Тревельян не узнавал окрестностей, ни этого ущелья, ни горы с двумя вершинами, ни центрального пика – должно быть, жар чудовищного взрыва расплавил камень, а время и льды довершили разрушение. Но спустя тысячи лет явятся на этот остров люди, пробьют ледяной панцирь, доберутся до саркофага и вернут к жизни хрупкого сероглазого юношу с длинными светлыми волосами. Вернут… Или это уже случилось?.. Юноша – вот он, живой и здоровый! Тревельян прикоснулся к его плечу. – Когда у вас будут корабли, ты улетишь на одном из них. Может быть, ты станешь капитаном или главой всей вашей экспедиции… Я верю в это. – Он немного помолчал и произнес: – Ты улетишь, друг мой Найт, и в то же время останешься на Декаи Таилу. Или не останешься – не исключаю, что ты исчез из саркофага, как только мы здесь появились. Кто знает! Хронопарадоксы – область загадок и чудес… Но того, что случилось, из времени уже не вычеркнуть. – Не вычеркнуть, – повторил Найт. – Ни тебя, ни меня, ни нашей встречи, консул Трев. Тревельян обнял его, потом еще раз поклонился Ильсани и отступил от обрыва. Сейчас под его ногами была земля Декаи Таилу, не Снежной Пасти, а еще живой планеты. Ее земля, а вокруг – ее море и воздух… Что он увидит, вернувшись? Что его ждет? И кто? «Не тяни, – проворчал Командор. – Долгие проводы, лишние слезы…» Верно, подумал Тревельян. Что там сказал Хийар Ирт?.. Для возвращения нужно только пожелать… ментальный импульс, и снова дома, в своем времени… через секунду после старта… Он пожелал.* * *
Вид из беседки был прежним: по левую руку шелестит пальмовая роща и сверкают отлитые из хрусталя здания, по правую расстилается сине-зеленая морская гладь под небом с редкими облаками. Солнце в прежней позиции, точно в зените, неторопливые волны облизывают берег с камнями и живописными утесами. Ароматный воздух, тишина и благостный покой… «Что-то сейчас на Снежной!» – подумал Тревельян, озираясь. Регистратора в беседке не было. Вероятно, он посчитал свою миссию завершенной и удалился с присущей сервам скромностью. Подождав недолгое время, Ивар сделал шаг по мозаичному полу, затем второй и очутился в знакомом закутке около оранжереи. Сердце его билось неровно, и Командор, ощутив его волнение, беззвучно произнес: «Иди! Что бы ни случилось, хуже не будет». – Утешил! – отозвался Тревельян, направившись к выходу. Большое окно в коридоре было, как пейзаж, написанный легкими мазками акварели. Уткнувшись лбом в прозрачный пластик, Ивар замер, изучая открывшуюся картину; взгляд скользил от ближних предметов к горизонту, к ясным небесам, и возвращался обратно, чтобы вновь пуститься в странствие. На переднем плане – площадь перед штабным зданием, затем россыпь домиков под разноцветными крышами, медицинский блок, где жил Найт Ракасса, небольшой астродром, где виднеются несколько флаеров и орбитальный челнок… Вдали – сверкающие на солнце стены льда, голубоватые утесы, что нависают над расчищенной территорией, словно поселок заключили в сосуд из драгоценного сапфира под бирюзовой крышкой безоблачных небес… Все, как прежде, будто его погружение в прошлое – фантом, мелькнувший на грани яви и сна. «Ну, я же сказал, что хуже не будет», – заметил Командор. Ивар безмолвствовал, разглядывая поселок, льды и застывшее в небе солнце. Все напрасно, мелькнула мысль, напрасно! Они опять накопили симхалл – столько, чтобы истребить друг друга и свою планету! Еще одна раса, канувшая без возврата в Великую Пустоту… ничего не осталось, исчез даже их посланник, растворившись в прошлом… Ничего! Мысль о Найте отдавала горечью. За спиной Тревельяна кто-то зашаркал, засопел, и на его плечо опустилась волосатая лапа. – Что грустишь? – раздался басистый голос Нишикуандры. – Кажется, у тебя было маленькое, но очень интересное приключение… Чем же ты недоволен? – Приключение… – скривившись, пробормотал Тревельян. – Думаешь, я там развлекался? Я провел эстап от начала и до конца! И что же? – Он стукнул по оконному пластику. – Гляди! Ничего не изменилось! Ровным счетом ничего! Параприм почесал мохнатую грудь. – Изменилось, не изменилось… Откуда тебе об этом знать? Хотя ты такой… такой шустрый и попрыгучий… Можешь отправиться в другой конец Галактики и выяснить, как там обстоят дела у голубого солнца. Вдруг оно стало розовым. Тревельян невольно улыбнулся. – В другой конец? Мне нечего там делать, так что не давай пустых советов. Лучше скажи, великий провидец, когда-нибудь я узнаю, что случилось с Найтом и его сородичами? – Когда-нибудь мы узнаем все обо всем. Или не успеем узнать, покинув этот мир в неведении, – важно произнес Нишикуандра и в свой черед постучал по окну. – А пока… Теперь ты гляди! Гляди внимательно! Видишь эту красавицу? Думаю, вам стоит повидаться. Выяснить отношения, как говорят у вас. Ивар посмотрел в окно. Из штабного здания вышла Жанна, обернулась, вздернула головку, и их взгляды встретились. – Иди к ней, – негромко пробасил Нишикуандра. – Ты сказал, не для меня… не в этой жизни, – откликнулся Тревельян. – Я сказал!.. Сказал!.. – Параприм недовольно дернул щекой. – Во-первых, я могу ошибаться… Во-вторых, говорилось о ваших судьбах – их нити пересеклись, но не сплелись… Жизнь вместе не проживете, а в остальном – воля ваша! Ну и, в-третьих, наконец… Когда вы, люди, нас слушали?.. Беги, догоняй! – Меня уже здесь нет, – молвил Тревельян и бросился к выходу. Жанна не успела пересечь площадь, как он уже был рядом. Он выскочил в легком комбинезоне, на улице стоял мороз, но холод и ледяной воздух его не страшили. – Я иду домой, – сказала Жанна. – Позвольте вас проводить, дорогая. – Не позволю. И не называйте меня дорогой! Вы уделяете мне так мало внимания… Это оскорбительно! Но Тревельян не отстал. – Сожалею, что вы так решили. Дела, дела, милая Жанна, они мешают радостям жизни… Можно их проклинать, но меньше дел от этого не становится. Взметнулись ресницы потрясающей длины, сверкнули зеленые глаза. Жанна смотрела на него с насмешкой. – И что теперь с этими делами? Решили отложить их и предаться маленьким радостям? Тревельян вздохнул. – Моя работа здесь завершилась. Завтра я отправлюсь на Землю, чтобы представить коллегам отчет, и, возможно… – тут он вспомнил слова параприма, – возможно, нити наших судеб больше не пересекутся. Я хочу, чтобы вы знали: я не искатель мелких радостей. Встретить вас было счастьем… большим счастьем. Она оттаяла и улыбнулась. – Вот как! А я думала… – Что? – спросил Тревельян. – Что вам неприятно ко мне прикоснуться. Я ведь не земная женщина. – Предрассудки! – с жаром воскликнул Ивар. – Я не встречал девушки прекраснее! По крайней мере среди гуманоидов! Щеки Жанны порозовели. – С негуманоидами у вас тоже есть опыт? – спросила она. Вспомнив Арханг, Королеву-Мать и странные желания Хеса Фья, Тревельян пожал плечами. – Пока удавалось воздержаться, но я ксенолог. Помните, при первой нашей встрече я говорил про Арханг… Есть новые методы… не очень приятные, милая Жанна, и потому не будем о них вспоминать. – Вы прямо мученик науки, – с сочувствием промолвила она. – Но мы уже пришли, Ивар. Вот мой жилой модуль. Домик выглядел очень уютно. Тревельян потоптался в снегу, с надеждой глядя на закрытую дверь. Там наверняка тепло, подумал он, чувствуя, как коченеют ноги. – Ах! – сказала Жанна. – Вы совсем замерзли и посинели… Вам надо обогреться, но я не знакома с земными обычаями. Вдруг одинокой девушке нельзя пригласить в свой дом мужчину? Ее глаза смеялись. Да что там – в них прыгали чертики! Не только прыгали, а кувыркались, дразнили, обещали! И Тревельян, заметив это, обнял ее, прижался заледеневшими губами к теплой щеке, поцеловал и, не выпуская Жанну из объятий, сделал шаг к ее домику. – Вы ловелас и соблазнитель, – прошептала она. – Я буду сопротивляться! – Очень? – Нет, немножко. Чтобы соблюсти приличия. С этими словами Жанна Брингар повела рукой, и дверь плавно отъехала в сторону. В домике было тепло. Даже жарко.Часть 3 Гондвана
Глава 12 Взморье. Жилая зона Брасерия
На Гондвану Ивар прилетел после странствия к триподам, занявшего, ни много ни мало, целых восемь месяцев. Он нуждался в отдыхе, полагая, что тут он забудет о смрадных болотах, кишевших ядовитыми гадами, о раскаленных песках пустынь, свирепых ураганах и недружелюбных обитателях планеты Ку. Его последняя миссия выдалась непростой – триподы были известными интриганами и славились на всю Галактику коварством. Едва ли не каждый из них мог улыбнуться до ушей и всадить в спину нож. В систему Гондваны Ивар добрался на пассажирском лайнере «Полярная звезда», рейсом с Земли, где провел неделю за составлением отчетов. Гондвана была планетой счастья, покоя и беззаботного отдыха: вино, экзотические фрукты, морские круизы, пляжи с золотым песком, прогулки в горах и лесах, подобных ухоженному парку, гостеприимные отели, и в каждом – просторная терраса, где вечерами играет оркестр и под усыпанным звездами бархатно-черным небом кружатся в танце пары. Как раз то, в чем нуждался Тревельян после холодных пустынь Арханга, странствия к триподам и приключений на Снежной Пасти, тоже не очень радостных. Прежде он бывал на Гондване пять или шесть раз и неплохо познакомился с этим чудесным миром, где теплый аметистовый океан омывал берега тысяч островов и двух причудливой формы континентов. Его излюбленным местом стала Брасерия, курортная зона у моря Пасифик. Кроме живописных скал, пляжей и рифов с пестрыми рыбками, здесь были густые леса, тянувшиеся на сотни километров к северо-востоку до гор Лиловых Зорь. В лесах росли огромные деревья, похожие на земные эвкалипты, и водилась масса всякого зверья – впрочем, довольно безобидного, если не считать тигровых котов. Но они обычно охотились в горах и людей избегали. С «Полярной звезды» спустили челнок, который доставил Тревельяна прямиком в Брасерию. Пролетая над морем, он любовался переливами фиолетового, синего и голубого и размышлял о том, как повезло Федерации с этой планетой. Гондвана, названная в честь земного материка, не нуждалась в терраформировании, ибо ее воды и воздух отвечали стандартной норме, как и сила тяжести, длительность суток и период обращения вокруг звезды. Но разница с Землей все же имела место – этот девственный и некогда безлюдный мир выглядел таким ухоженным, словно сам Господь, за отсутствием человека, решил позаботиться о нем и сотворить в Галактике подобие рая. Здесь не было опасных хищников, не было землетрясений и вулканов, бури, штормы и наводнения случались редко и не носили разрушительного характера – словом, экология напоминала хорошо отлаженный механизм, как и подобает райскому Эдему. Чудесный мир, однако никаких следов разума! Приматы, которые могли бы со временем взобраться на высшую ступень эволюции, на Гондване отсутствовали, и кости, хоть отдаленно похожие на человеческие, в раскопах не попадались. Не было даже лемуров и мелких обезьянок; эту нишу занимали белки, древесные прыгуны, длиннохвостые снифы и еще десяток видов грызунов, обитавших в древесных кронах. Мир, столь подходящий для людей, в каком-то смысле являлся загадкой, так и не раскрытой до конца. Загадки же, размышлял Тревельян, более всего влекут в миг появления, когда они внезапны и тем интересны удивленному уму. Но Гондвану нашли восемь столетий назад, в суровую эпоху, когда Земная Федерация вела нескончаемые войны, сначала с фаата, потом с дроми, кни’лина и хапторами. Трудные времена, не слишком подходящие для научных изысканий! Ксенобиологи решили, что Гондвана редкий, но вполне естественный феномен, и на том успокоились. В прошлом здесь находился госпиталь и лечебно-восстановительный центр Звездного Флота, теперь же вся планета стала местом отдыха, самым популярным курортом в пространстве Федерации. Этот благодатный мир привлекал не только землян – частыми гостями были здесь терукси, и даже гордецы кни’лина не обходили его вниманием. Челнок завис над Брасерией. В огромных иллюминаторах пассажирского салона Тревельян видел высокие хрустальные конусы и ступенчатые пирамиды отелей, россыпь хижин и бунгало на морском берегу, беспредельную синь океана и яхты, скользившие по водам, как стая чаек. С другой стороны, за отелями и развлекательными комплексами, начинался лес, уходивший темно-зелеными волнами к горному хребту. Над лесом парили разноцветные авиетки. Ивару казалось, что он уже слышит звуки музыки и ощущает ароматы моря и цветов. – Идем на посадку, – сообщил пилот по громкой связи. – Со всем уважением, консул… Пусть ваш жираф ляжет на пол и побережет голову. Шея длинная, вдруг ударится. – Это для него не критично, – отозвался Тревельян. – Он ведь не совсем жираф… то есть совсем не жираф. Ничего общего, кроме внешней формы. – Ну, вам виднее, – буркнул пилот, примериваясь к посадочной площадке. Она была небольшой, рассчитанной на авиетки и флаеры, а вовсе не на орбитальный челнок. Летел Тревельян в одиночестве, но это не было связано с его консульскими привилегиями. С ним в салоне находился трафор[164] – точнее, искусственный интеллект самого высшего класса, помещенный в конструкцию трафора. Еще не так давно этот Мозг, искусное творение кни’лина, управлял Сайкатской космической станцией, но после серии убийств и других свершившихся там печальных событий его признали негодным и собрались списать в утиль. Тревельян его похитил, вывез тайком главный мыслящий блок и выбрал для его размещения подходящего робота-мимикра. Конечно, эта экспроприация являлась не очень приличным поступком, но, с другой стороны, он утешался мыслью, что спас разумное существо от очень незавидной участи. Мозг побывал с ним на Хтоне и Раване, а последние месяцы оставался в его жилище на Земле, где редактировал и уточнял кое-какие записи, приберегаемые для будущих мемуаров. Занятие довольно нудное для высокого интеллекта, так что Мозг напросился к Тревельяну в спутники, чтобы обогатиться новыми впечатлениями. Во многих случаях он был хорошим помощником – правда, слишком рассудительным и пугливым. Заднюю часть салона освободили от кресел, и там, поджав под себя ноги и упираясь головой в потолок, сидел трафор. У него были маленькие рожки, огромные грустные глаза, пятнистая шкура и длинная шея – все, что положено жирафу. Хребет прикрывала попона с парой подвешенных к ней багажных сумок. Пилот медленно и осторожно приземлил катер на посадочной площадке. Трафор, подняв на Ивара печальный взгляд, вздохнул. – С вашего разрешения, консул… Не изменить ли мне обличье? У этого зверя все такое длинное, такое неуклюжее… Я мог бы сделаться… – Мозг на секунду задумался. – Ну, например, верблюдом. – Ни в коем случае, – молвил Тревельян. – Ты еще плохо разбираешься в человеческой психологии. Верблюды вызывают у нас неприязнь или насмешку, а жираф – инстинктивную симпатию. Верблюд плюется, а жираф красив и вполне безобиден. – Жирафы лягаются, – возразил Мозг. – Я ознакомился с их повадками, загрузив в память энциклопедию земных животных. – А ты не лягайся. – Тревельян шагнул к раскрывшемуся люку. – Возможно, в облике тигра или льва я был бы представительнее и компактнее, – робко произнес трафор за его спиной. – Нечего народ пугать. Будешь жирафом, – отрезал Ивар. Он спустился на землю Гондваны, втянул ноздрами благоуханный воздух и радостно улыбнулся. Отпуск! Две недели без забот и тревог! Обычно его встречал робот-носильщик, но в этот раз у края площадки выстроилась под цветущими кустами целая делегация: средних лет терукси в майке и шортах, два похожих на пауков носильщика и три андроида – синий в желтую полоску, желтый с розовыми звездочками на грудном панцире и зеленый с белой опушкой у плеч. При виде Тревельяна эта троица сыграла бравурный марш, затем терукси выступил вперед и церемонно поклонился. – Борхадш Келдаим, распорядитель Брасерии, к вашему услужению. Приветствую, достойный консул! Вас ожидают солнечные дни, исполненные водных процедур и приятственных трапез. Мои в том полные заверения! – Я тоже рад вас видеть, – откликнулся Тревельян и бросил взгляд на андроидов. – А это что за клоуны? – Покорные слуги вашего дома, – пояснил Борхадш Келдаим. – Синий, чтобы следить за чистотой, желтый, чтобы готовить калорийное питание, а зеленый – для мелких поручений. Почтительно вопрошаю: где ваш багаж, консул? Вещи, сумки, контейнеры, портфели? – Распорядитель щелкнул пальцами, и носильщики приподнялись на суставчатых конечностях. – Сейчас они… О!.. Оуу!.. Из катера вылезал трафор. Он просунул голову в люк, за головой последовали шея и туловище, но попона с сумками застряла и свалились обратно в салон. Встав на ноги, трафор выпустил щупальце из-под хвоста, подцепил попону с багажом и закинул на спину. Затем вздернул голову вверх и огляделся. Он был не просто жирафом, а очень крупным жирафом. Его голова возвышалась метрах в семи над землей. – Оуу!.. – снова простонал распорядитель, отступая на два шага. – О, какое чудище! Монстр! Ест мясо? Опасный? – Нет, – сказал Тревельян. – Мой секретарь и помощник, существо вполне разумное. Ничего не ест, энергоресурс рассчитан на несколько месяцев. Успокоившись, Борхадш Келдаим опять поклонился – на этот раз трафору. – Молю извинить, так как именовал вас чудищем и монстром, будучи в редком поражении… Галактика огромна, и в ней столько существ, удивляющих видом! Не всегда уясняю, кто разумен, кто нет… В прошлые дни я видел очень странное, шерстистое и с зубами… Оказалось, тоже цивилизованный. Почти. Затем Борхадш осведомился, не затруднит ли консула небольшая прогулка, и сделал приглашающий жест. Вслед за ним гости покинули площадку. Пробудился Командор, заворчал довольно: «Встреча по первому разряду, мой мальчик, достойная встреча… Все, как положено: построение, приветствие, почетный караул… И на «Полярной звезде» к тебе со всем уважением… Неплохо в консулах, а?» «Не вспоминай о чинах, – отозвался Тревельян. – Я здесь не консул, я вольная птица. Бездельник-отдыхающий!» «Однако встретили с оркестром», – возразил дед и смолк. Должно быть, погрузился в воспоминания – во время войн с дроми ему тоже доводилось бывать на Гондване. Распорядитель возглавил шествие, за ним шагал Тревельян с носильщиком-жирафом, разноцветные слуги дома замыкали процессию, а пауков Борхадш отослал. Они двигались к морю по тропке, обсаженной невысокими пальмами. Солнце сияло, дул ласковый ветерок, в небе плыли белые облака, и где-то вдали, за башнями Брасерии, шелестел ветвями лес. Дорожка бежала вдоль берега – здесь, за полосой золотистого песка, стояли среди цветущих олеандров и магнолий жилые бунгало, разделенные бассейнами и террасами кафе и кабачков. Слышались визг и смех ребятишек, плескавшихся в воде, голоса взрослых, звуки музыки; вдруг звонко щелкнули паруса, и от пирса, уходившего в море, отплыла трехмачтовая яхта. Голова трафора покачивалась над кронами пальм. Его заметили – это было ясно по смолкнувшим голосам и детским крикам, тут же сменившимся возгласами восторга. К тропинке начал сбегаться народ, терукси и люди с Пограничных Миров глазели на жирафа в изумлении, кто-то из более сведущих пытался объяснить, что такие звери водятся на Земле или, возможно, на планете Африка. Толпа росла, шум сделался оглушительным, в воздух вспорхнули видеокамеры, малыши карабкались на плечи взрослых, ребятишки постарше протягивали трафору розовые гондванские бананы. Мозг задрожал, съежился, его огромное тело пошло складками, шея пригнулась к земле. Наконец он сунул голову под мышку Ивара и в ужасе прошептал: – Ньюри консул, что им нужно? Распорядитель сказал, что я – чудовище… Эти люди хотят меня прикончить? – Нет, они радуются. – Тревельян коснулся жирафьих рожек. – Они проявляют симпатию, о которой я тебе говорил. Многие, особенно дети, никогда не видели такого зверя. – Это не повод, чтобы совать мне под нос переспелые фрукты, – буркнул трафор и вновь задрал голову на недосягаемую высоту. Миновав бунгало, кабачки и бассейны, распорядитель свернул к лесу. Тревельян удивился – обычно ему предлагали хижину под пальмами или скромный номер в одной из башен Брасерии. Дождавшись, когда отстанет толпа любопытных, он притронулся к плечу Борхадша и спросил: – Куда мы идем, друг мой? Разве мое бунгало не на этом берегу? – Для консула есть более достойное жилище, – промолвил терукси, делая изящный жест правой рукой, а левую простирая к Тревельяну. – Вот оно! Вилла «Утренняя свежесть», украшение Брасерии! Впереди, над темно-зелеными кронами, что-то переливалось и поблескивало. Приблизившись, Тревельян узнал похожие на огромные зонтики деревья хтаа с Роона, одной из планет Гаммы Молота. Они росли плотным широким кольцом, их мощные ветви переплетались в вышине, пространство между стволами закрывал пестрый занавес лиан. Борхадш раздвинул плети, покрытые листьями и крупными лиловыми цветами, и пришедшие очутились на площадке внутри древесного кольца. Посреди нее высился замок лоона эо – разумеется, миниатюрная копия, но столь же прекрасная, как дворцы на Тинтахе и Данвейте. Замок, отлитый из нетускнеющего серебра, словно явился из сказки. Шесть башенок с хрустальными окнами и тонкими шпилями тянулись к небу, обрамляя центральную часть в форме шестигранника; вдоль второго этажа шел балкон, его поддерживали изящные, хрупкие на вид колонны, и за их шеренгой виднелись врата с узором из серебряных прутьев. К ним вела лестница с пологими ступеньками, и с одной ее стороны журчал и пел фонтан, а с другой – стояло изваяние: четыре фигурки, четыре лоона эо разных полов, взявшись за руки, плясали в тишине и безмолвии нескончаемый танец. Этот монумент – тоже, конечно, копия – был Ивару знаком: он видел его в Посольском Куполе[165] лоона эо и в других местах и даже догадывался о сакральном смысле статуй. В древности, когда эти затворники еще странствовали среди звезд, пляшущие фигурки были знаком их присутствия на той или другой планете. «Здесь их поставили люди, но кто знает?.. – думал Тревельян, – возможно, лоона эо прилетали на Гондвану и приготовили для себя этот чудесный мир. Приготовили, а потом забросили, решив вернуться навсегда в свои космические поселения». Борхадш прервал мысли Ивара, сообщив с радушной улыбкой: – Вот жилище для самых уважаемых гостей. Я пребываю в твердой надежде, что вы еще не раз почтите его своим драгоценным присутствием. – Возможно, – сказал Тревельян, озираясь, – возможно. Мне тут нравится. Они вступили в просторный холл. Его стены и потолок украшало мозаичное панно, изображавшее зеленые стебли тростника с длинными широкими листьями. Казалось, что люди, уменьшившись внезапно до крохотных размеров, попали в заросли густой травы. – Слева – трапезная и кухня, справа – бассейн для омовений, – пояснил распорядитель. – Опочивальня и ваш кабинет на втором этаже, на третьем – гостевые покои, если вам будет угодно пригласить друзей. Или подруг, – добавил терукси, немного подумав. – А что в башенках? – полюбопытствовал Тревельян. – Гравилифты, и наверху – обзорные площадки. Восхищающий вид на море, пляжи и Брасерию. Если пожелаете разглядеть что-нибудь поближе, на каждой площадке есть телескопический инверсор. – Замечательно! Сегодня я искупаюсь, пообедаю и снова искупаюсь, а завтра… – Ивар поднял глаза к потолку, где скрещивались зеленые листья, – завтра – в лес! Возьму авиетку и доберусь до гор. – Авиетка, флаер и наземный глайдер – на стоянке позади дома, – уточнил Борхадш. – Но почтительно прошу: будьте осторожны в горах и в лесу предгорий. Говорят, тигровые коты размножились сверх всякой меры. В Лиловых Зорях им уже мало места, спустились в лес, поедают свинозайцев и рогатых сусликов, даже бобров. На людей не нападают, однако… – Не беспокойтесь, друг мой. На всякого тигрового кота найдется настоящий тигр, – молвил Тревельян, хлопнув трафора по мускулистой шее. – Ну, почти настоящий. Если угодно, будет у нас крокодил, лев или медведь. Не пропадем! – Тогда я в спокойствии, достойный консул. Желаю хорошего отдыха. С этими словами Борхадш Келдаим удалился, а Тревельян начал отдыхать. Правда, его планы несколько изменились: посетив пляж и искупавшись, он решил повременить с лесной прогулкой. Рядом с синими морскими волнами было столько соблазнов! Особенно после мерзкой планетки Ку и ее нелюбезных обитателей! Здесь же бродили длинноногие девушки в бикини, а иные и вовсе нагишом, разрисованные водостойкими красками под наяд или русалок; те, что родились на Марсе, были грациозны и хрупки, барышни с Ваала – изобильны плотью, женщины знойной Киренаики – смуглы, а прочие, с Земли, Центавра, Новой Эллады и с сотни других миров, тоже являли столь чудное разнообразие, что облик очаровательной Жанны Брингар окончательно померк в памяти Ивара. Конечно, здесь были и другие мужчины приятной внешности, были красавцы-терукси и горделивые кни’лина, но притягательность консула ФРИК являлась фактом, не подлежащим сомнению. Купаясь в море, Тревельян заметил, что за ним плывет десяток наяд и русалок, и впятеро больше глазеют на него с яхт, катамаранов и даже с зависших в воздухе флаеров. Похоже, весть о его появлении всколыхнула Брасерию – во всяком случае, ее женскую половину. Покинув теплые ласковые воды, он вернудся в свой шезлонг – как и прежде, под взорами целой стайки девушек. Правда, они не спешили знакомиться – пять или шесть красавиц уселись поблизости в изящных позах, другие, стреляя глазками, гуляли вдоль берега или кружили около шезлонга. В свой черед Ивар разглядывал их, пытаясь угадать возраст темнокожей брюнетки и зеленоглазой нимфы с рыжими кудрями. Трудная задача! Волновая медицина творила чудеса: в пятьдесят можно было выглядеть на семнадцать, отрастить волосы до пят, изменить цвет глаз и обзавестись бархатной кожей любого оттенка. Тревельян же, помня о своих годах (ближе к сорока, чем к тридцати), уже не увлекался юными девицами, предпочитая женщин постарше и поумнее. Брюнетка, судя по уверенным движениям и взгляду, могла быть его ровесницей, а вот рыжая?.. Ничего не скажешь, хороша, но глазки наивные, решил Ивар и уже собрался знакомиться с брюнеткой, но тут из ближнего бара вышла девушка и направилась прямиком к нему. Вслед за нею плыл по воздуху поднос с напитками. На девушке были синяя юбка до середины бедра и синий топик, с плеча свисал чехол с биноклем, большим и довольно тяжелым, как показалось Тревельяну. Поднос спланировал к его шезлонгу. – Лимонный шербет для консула, – объявила девушка. – Еще вино. Местное розовое. Другие пожелания будут? Ивар уставился на нее с изумлением. – Вы трудитесь в баре, прелестное видение? Разве там не роботы? – Не тружусь. Зашла по случаю, – буркнула девица, окинув грозным взглядом брюнетку, рыжую и остальных красоток. – Ну-ка брысь отсюда! Консул хочет спокойно отдохнуть! – В самом деле? – осведомился Тревельян, глядя вслед разбегавшимся девушкам. – В самом деле, – подтвердила синяя юбка и, скрестив ноги, уселась рядом на песок. – Нечего вам глазеть на этих коров. Лучше пейте свой шербет. Но Тревельян все еще разглядывал ее. Невысокая, сероглазая, с точеной фигуркой и гривой каштановых волос, она выделялась в беззаботной толпе отдыхающих, как стальной клинок среди серебряных ложек и вилок. Мышцы под загорелой кожей были крепкими, глаза смотрели твердо, и сидела она так, словно могла вскочить в любую секунду и ринуться в бой. Ее ладонь лежала на футляре с биноклем. – Боеготовность налицо, – сказал Тревельян. – Думаю, Звездный Флот, десант. В таком случае прошу доложить имя, звание, возраст и корабль приписки. Сверкнули в улыбке белые зубы. – Алиса Виктория Браун, двадцать восемь лет. Но я не десантник, я из Коллегии Несогласных[166]. Здесь на практике. – О! Из Коллегии! – произнес Тревельян, удивляясь все больше и больще. – Полагаю, будущий Судья Справедливости? – Нет, консул. Я по другой части. – И в чем состоит ваша практика? Алиса Виктория Браун пожала плечами. – Так… Разное. Отведайте шербета, консул. – Лучше вина. Выпьем за нашу встречу. Они осушили по бокалу розового. Тревельян определенно ощущал, что явление Алисы Виктории отнюдь не случайность, но зондировать человека, тем более – молодую женщину, было бы плохим началом для знакомства. Немного поколебавшись, он спросил: – Где вы живете, Алиса? Она махнула рукой в сторону хижин. – Неподалеку. Бунгало «У двух магнолий». – Удобное? – Вполне. Холл, спальня, веранда, ванна и ионный душ. – Ванна… – задумчиво повторил Тревельян. – А у меня целый бассейн и свободные комнаты для гостей. Не желаете переселиться? Алиса посмотрела на него строгим взглядом. – По-моему, консул, вы слишком торопитесь. – У меня есть жираф. – Слышала. Настоящий? – Нет. Трафор. – Это неинтересно. Сегодня он жираф, а завтра черепаха или слон. Они помолчали. Алиса прищурилась, взглянула на белые паруса, скользившие над морской гладью, и сказала: – Мы могли бы покататься на яхте. Завтра. – Чудесная мысль, – согласился Тревельян. – И еще. Можете обращаться ко мне на «ты». – И ко мне тоже. – Тревельян потянулся к бутылке и налил в бокалы вино. – Нет, – промолвила Алиса. – Что – нет? – Хватит вина, и я буду говорить вам «вы». – Но почему?! – Так положено. Вы – консул ФРИК, а я только практикантка Коллегии. Алиса поднялась, повесила на плечо футляр с биноклем и зашагала в сторону жилых хижин. Ивару почудилось, что она едва заметно кивнула рыженькой, и та, будто получив разрешение, придвинулась ближе к нему. Темнокожая брюнетка тоже не дремала, но Тревельян на них не смотрел, провожая взглядом Алису Викторию Браун. Он выпил вино, покосился на ее бокал, полный до краев, и пробормотал: – Владыки Пустоты! Ну и загадочная девица! «Еще какая загадочная, – согласился призрачный Советник. – Клянусь аннигилятором, в футляре она не бинокль носит. Там штучка потяжелее!» «Какая?» – спросил Тревельян. «Смотришь, а не видишь! Приходится за тебя глядеть! – ворчливо отозвался дед. Потом снизошел и добавил: – Лучемет у нее в футлярчике. Судя по его размерам, портативная модель, однако приличной мощности». «Так уж и лучемет!» – усомнился Ивар. «Ставлю свои ордена против крысиной задницы, – ответствовал Командор. – Бластер я в любой упаковке разгляжу! Будь уверен! Кстати, время уже обеденное. Не пора ли нам выпить что-то покрепче этой розовой бурды?» – Пора, – вслух сказал Тревельян и, встав с шезлонга, направился в свой дворец. Там его поджидал трафор, слонявшийся с унылым видом между фонтаном и изваянием лоона эо. Зеленый робот для мелких поручений неотступно следовал за ним, пытаясь расчесать жирафью шерсть гребнем на длинной рукояти. Трафор лениво уворачивался. – Скучно, – сообщил он хозяину. – Местные информканалы забиты легкой музыкой, сплетнями и предложениями знакомств. В планетарной сети – список карнавалов, биеннале и конкурсов красоты. На межзвездной волне – переговоры между лайнерами и сообщения о рейсах. Ни грана пользы для пытливого ума! – Раскладывай пасьянс, – посоветовал Ивар. – А завтра… нет, послезавтра мы отправимся в лес, и ты примешь другое обличье. Все же развлечение! – Как пожелаете, консул. И в кого я должен превратиться? Тревельян на секунду задумался. – Медведь подойдет? Или тигр? – Лучше тигр. Что медведь?.. Медведь к нам приходил недавно. Не совсем медведь, но очень похож – лохматый и зубастый. Горит желанием с вами пообщаться. Я сказал, что сегодня у консула неприемный день. Завтра он снова явится. «И здесь не дают покоя, – проворчал Командор. – То девица с бластером, то лохматый медведь… Что ему нужно? Штоф с медовухой?» – У этого существа ко мне какое-то дело? – спросил Тревельян. Мозг покивал в знак согласия, и тогда он спросил снова: – Ты его идентифицировал? – Виноват, консул! В моей памяти нет сведений о подобной расе. – А говоришь, скучно! Найди! Чтобы утром я знал, кто он и откуда! – распорядился Тревельян и проследовал в трапезную, где желтый робот накрыл стол к обеду. Трапеза включала девять блюд, фрукты и шесть сортов напитков, так что в конце обеда они с Командором погрузились в блаженную дремоту. Ближе к вечеру Ивар очнулся, сбегал на пляж, поискал Алису Викторию, но безуспешно. Зато брюнетка и рыжая оказались на месте и сопроводили его в море, будто почетная охрана из двух нереид. Плавали обе великолепно и во всем другом были достойны внимания, но сердце Тревельяна молчало – вернее, билось не для них. Вернувшись домой, он поднялся на башенку, настроил инверсор и оглядел Брасерию с высоты. Бунгало «У двух магнолий» обнаружилось после недолгих поисков; магнолии были на месте, домик тоже, а вот Алиса – нет. «Веселится в каком-то баре или клубе?..» – подумал Тревельян и перевел раструб прибора на пирамиды и конусы отелей. Из толпы, что прогуливалась между ними, инверсор выхватывал сотни лиц, сотни стройных женских фигурок, иногда попадались девушки с каштановыми волосами, но Алисы не было и здесь. Осмотрев заведения, доступные взгляду, он развернулся к темнеющим морским просторам, к яхтам, что плыли к берегу или уходили в океан. Он осмотрел их палубы и мачты и даже резвившихся в море дельфинов. Безрезультатно! Алиса не нашлась и там. «Ищешь малышку с бластером? – осведомился Командор. – Поверь моему опыту, такие девицы не теряются. Она сама тебя найдет – не далее как завтра». «Завтра будет завтра, а сегодня я хотел пригласить ее к «Одноногому Пью» или в «Альгамбру», – сказал Тревельян. – Или даже в «Гранд Метрополь»! Гулять так гулять! Консул я или не консул?..» «Успеешь еще порезвиться, – буркнул дед. – А сегодня вот мое слово: полюбуйся закатом и иди спать. Советник я или не советник?..» Закат над гондванским океаном выглядел иначе, чем во льдах Снежной Пасти, но был не менее великолепным. Выключив телескоп, Тревельян в немом изумлении смотрел на игру золотистых и розовых красок, потом перевел взгляд на небо. Там загорались звезды – а их в небесах Гондваны было втрое больше, чем на Земле. Благословенный мир, чудесный парадиз! Все тут есть, все прекрасно, и только людей не хватало… Но теперь они здесь и могут восхищаться этой красотой и радовать своим присутствием планету. Поистине теперь Гондвана мир без недостатков! Усмехнувшись, Ивар шагнул в шахту лифта и спустился вниз, в свою опочивальню.Глава 13 Гость издалека
Разбудили его рано. Край солнца только-только показался над башнями Брасерии, когда робот для мелких поручений сунул голову в спальню и пропел мелодичным контральто: – К вам посетитель, достопочтенный консул. Желаете его принять? Или откажете в аудиенции? – Кто таков? – спросил Тревельян, приподнявшись на ложе и протирая глаза. – Тот, кто приходил вчера. Какие будут распоряжения? – Вынеси к фонтану столик и пару кресел. Еще фрукты и прохладительные напитки. Гостю скажи, что я скоро буду. Робот исчез, а Тревельян отправился в ванную. Потом натянул шорты, сунул ноги в сандалии и спустился в холл. У лестницы его ждал трафор – шея вытянута вверх на всю длину, глаза прикрыты. Вероятно, он подключился к планетарной сети. – Пойдешь со мной, – велел Тревельян. – Давай, дружок, шевели копытами. Во дворе их поджидало некое существо, коренастое и лохматое, метр с четвертью ростом. В одежде гость не нуждался, так как шерсть его была густой и очень длинной – пряди, свисавшие ниже колен, волочились по земле, а голову окружал колтун бурых нечесаных волос. На лице шерсти было поменьше, и росла она клочьями, обрамляя крохотные глазки, черные широкие ноздри и мощные челюсти, вытянутые, как у плотоядного зверя. Верхние конечности существа выглядели толстыми и короткими, пальцы кончались острыми когтями. Несмотря на малый рост, посетитель отнюдь не казался мелким и слабым – скорее, он напоминал небольшого, но широкого в кости и довольно упитанного медведя. – Каксказано Борхадшем, странное, шерстистое и с зубами… Вот я и сподобился увидеть лльяно… – тихо пробормотал Ивар и повернулся к своему жирафу. – Это ведь лльяно? Я не ошибаюсь? – Лльяно, – подтвердил Мозг, тоже шепотом, и выдал координаты звездной системы и ее название. Больше ничего – об этой расе знали немногое, и самым важным было то, что лльяно не миф, что все же они существуют. Их мир находился в тысячах светолет от Земли, за секторами дроми, лоона эо и хапторов, в направлении центра Галактики. К другим планетам лльяно не летали, не стремились к развитию технологии и, судя по имевшимся данным, вели весьма примитивный образ жизни. Ходили слухи, что они каннибалы и мясом инопланетных пришельцев тоже не брезгают. Гость ткнул в Тревельяна когтистым пальцем. – Ты есть самый главный-важный? – промолвил он гулким раскатистым басом. – Самый-самый? Оченно самый? «Большой начальник ему нужен, – заметил Командор. – И кажется мне, не для приятных бесед. Погляди, пасть у него какая! И зубы! Руку отхватит и не подавится!» Зубы и правда были внушительные. – Нельба-люба вещать – иди к главный-важный! Мой ходить-бродить вперед и в обрат – нет важный! Есть один-другой человеки, и все веселиться, – заявил лльяно, делая шаг к Ивару. Тот отступил – пахло от гостя не очень приятно. Затем медленно и внятно произнес: – Я очень самый-самый главный-важный. Я готов тебя выслушать. Кто ты? Лльяно запустил лапу в колтун на голове и почесался. – Мой быть Ловушник, быть Строгальщик, теперь быть старый. Теперь Говорильник с человеки. – Что ж, поговорим, – молвил Тревельян и показал на столик с фруктами и напитками. – Хочешь присесть? Робот вынес стол и кресла к фонтану. Струйки воды вздымались вверх, рассыпались мириадами сверкающих на солнце капель и с мелодичным плеском падали в бассейн. Но, кажется, это зрелище гостя не прельщало. Он снова почесал в голове и сообщил: – Вода! Мокрая! Мой такое не обожать. – Я прикажу передвинуть столик. Попробуй фрукты, выпей соку и… Издав трубный звук, Говорильник замахал лапами. – Мой не кушать траву! Мой хотеть другое! – Он поглядел на Тревельяна, потом на трафора. – Ты – человеки. Этот – не человеки. Можно есть? Жираф резво перепрыгнул фонтан и прижался за ним к земле. Вероятно, он просигналил роботам – все трое выскочили во двор и построились шеренгой у фонтана. – Не надо его есть, – сказал Тревельян. – Он не совсем живой и сделан не из мяса. Раз ты не хочешь фруктов, перейдем к делу. У тебя какая-то просьба ко мне? – Нильхази не просить. Мой по их велению – Совещатель! Нет, Огласитель… Или лучше другой – Объявитель и Вещатель, вот! От человеки к человеки, так верно! Вон отсель! Тревельян нахмурился. – Не понимаю. Скажи еще раз. – Вещатель человеки – вон отсель, – охотно повторил Говорильник. Смутные речи, темные слова, подумал Ивар. Разбираться с ними можно долго, а в наших сегодняшних планах – Алиса Виктория и яхта. Без всяких Вещателей и Говорильников. Уловив эту мысль, дед посоветовал: «Гони его в шею! Ишь разошелся, тварь лохматая! Вон отсель! Это как понимать?» «Еще не знаю, но надеюсь выяснить, – мысленно откликнулся Тревельян. – Только не сейчас. Нужно провести подготовительную работу». Он прошелся между изваянием лоона эо и фонтаном, взял со стола виноградную гроздь, отщипнул пару ягод, съел и поднял задумчивый взгляд к ясному утреннему небу. Потом сказал вслух: – Мне нужно обдумать то, что ты провещал, Говорильник. Приходи утром через два дня, и мы снова побеседуем. Возможно, на твоем родном языке. – Я мочь болтать-трендеть с любой человеки без родимый язык, – гордо сообщил Говорильник и удалился. Со спины он был похож на стог сена, который слегка поворошили вилами. – Мозг, – позвал Тревельян, и жираф высунул голову над бортиком бассейна. – Вот тебе задание: преодолеть языковый барьер. Срок два дня – с учетом того, что завтра мы отправляемся в лес, где ты должен меня охранять. – Но это невозможно, почтенный консул! Я уже просканировал всю информацию о лльяно и утверждаю с полным основанием, что их язык неизвестен! – Проведи более широкий поиск. Лоона эо торгуют с этой расой, и, значит, их сервы как-то общаются с лльяно. Наверняка существует альфа-язык[167]. Осталось найти его и изучить. Для этого у тебя достаточно времени. Распорядившись, Ивар сел к столу, велел подать два яйца всмятку и принялся завтракать. Едва он успел выпить кофе, как над браслетом связи возникла головка Алисы Виктории. Девушка ожидала консула у причала, на яхте «Синий скат». Тревельян встал, ополоснул руки под струей фонтана, прихватил плавки и направился к морю. Чудесный выдался денек! Нацепив искусственные жабры, они плавали среди рифов и ярко окрашенных водорослей, а вернувшись на свой кораблик, любовались морскими просторами и бирюзовым небом, ели свежую рыбу и устриц, запивая их терпким вином. В такой счастливый час было нетрудно забыть про знойную Равану с ее пустынями и дикими номадами, про мертвые льды Снежной Пасти и Хтон, где армии роботов сражались в бесконечных битвах, про космическую станцию над Сайкатом и убийц-кни’лина. А главное – про триподов и мерзкую планетку Ку! Но не все воспоминания Ивара были такими мрачными – он рассказывал девушке о чудесах Осиера и его великой империи, о суровом Арханге, о парапримах и загадочных сильмарри. Алиса слушала с горящими глазами, но о себе и своей службе в Коллегии не говорила ничего. Тревельян заметил, что футляр с биноклем – или, возможно, с бластером – она держала под рукой, а талию девушки стягивал пояс с кинжалом. В море, когда они спускались к рифам, рядом кружили шесть дельфинов береговой охраны, живые торпеды с лазерными гарпунами у плавников. Вызвала ли их Алиса или морские стражи охраняли всех ныряльщиков?.. Спрашивать Ивар не стал; таинственность придавала девушке еще больше очарования. Возвратившись на берег, они условились встретиться вечером в «Гранд Метрополе», самом шикарном заведении Брасерии, где играл оркестр и можно было потанцевать. Предвкушая эти удовольствия, Тревельян отправился в свой замок, но, не сделав и десяти шагов, почувствовал, что за ним наблюдают. Ментальная волна была такой отчетливой, что он невольно замер, потом обернулся, и шедшая следом девица едва не сбила его с ног. Могла бы и сбить – она была выше Ивара на голову, шире в плечах и отличалась богатырской статью. Дитя Ваала, безошибочно определил он, и, чуть склонив голову, представился: – Ивар Тревельян. Кажется, нам по дороге, милая валькирия? – По дороге, – буркнула девица. – Только вы пойдете впереди, а я – за вами. Тревельян приподнял бровь. – Лучше рядом со мной. И еще я хотел бы услышать твое имя. – Катерина Васнецова. Рядом не положено. – Почему? – Объект должен полностью находиться в зоне видимости, – раздалось в ответ. – Ну, раз так… – Тревельян сделал шаг, потом обернулся и спросил: – Здесь еще такая рыженькая крутилась… рыженькая, а другая – смуглянка с темными локонами… Где они и как их зовут? Катерина Васнецова засопела и принялась накручивать на палец прядь волос. Похоже, она была в смущении. – Отвечай! – велел Тревельян. – Я консул, меня надо слушаться. – Рыжая – Марго, смуглая – Анна. Их зона ответственности – пляж, – пробормотала Катерина Васнецова. Подумала недолго и добавила: – Считается, что нас не должны замечать. – Тебя разве не заметишь! Ты девушка видная, – промолвил Тревельян. – А вот вчера и сегодня утром никого из ваших вроде бы здесь не было. Я говорю не о пляже, а об этой дороге. – Были, – сообщила Катерина и засопела совсем уж обиженно. – Я никому не скажу, – пообещал Тревельян. – Иди за мной и не выпускай объект из вида. Будет желание кофе выпить или там сока – заглядывай. Он повернулся и зашагал к своему серебряному замку. – Не положено, – послышалось сзади. «Молодая еще, неопытная – посочувствовал Командор. – Ничего, обучат! Как думаешь, она из местных секьюрити или из какой-то службы ФРИК?» «У нас нет охранных подразделений, – заметил Тревельян. – Все эти девицы – Алисины, а вот кто она сама, не скажу. У Судей Справедливости есть свой штат, причем на любой случай. Может, они набирают в охрану только девушек?..» «Сомневаюсь», – ответил дед и смолк. Очутившись у замка, в кольце деревьев хтаа, Ивар с полчаса бродил от изваяния к фонтану и от фонтана к изваянию, размышляя то о загадках Алисы Виктории, то о Говорильнике лльяно. Потом вызвал робота для мелких поручений и велел приготовить вечерний костюм: светлые брюки и рубашку с символом ФРИК, золотой спиралью на фоне Галактики.* * *
От хрустальной призмы, основного корпуса «Гранд Метрополя», уходили вниз, к морю, семь открытых террас. Шесть верхних были обширны и предназначены для танцев, нижняя, нависшая над прибрежными утесами, вмещала только пару столов и мягкие диваны. Ее кровлю поддерживали витые янтарные столбики, густо оплетенные лианами, их гибкие плети тянулись вверх, и спускавшаяся к террасе лестница казалась зеленым тоннелем, прорубленным в джунглях. Занавес листвы и цветов, а также экран, гасивший шум и звуки музыки, будили чувство уединения и уюта. Отсюда открывался великолепный вид на море: аметистовая поверхность, мерцавшая синими и голубыми искрами, простиралась до горизонта, над нею низко висел солнечный диск, и по обе стороны от него сияли розовым светом крылья-облака. «Чудесный мир, пленительное зрелище!» – думал Тревельян, стоя у парапета, окружавшего террасу. Конечно, на Земле тоже были приятные уголки, но в любом из них помнилось, что это лишь малая часть, заповедник среди гигантских мегаполисов и древних городов, среди дорог земных и небесных, индустриальных пейзажей, научных центров, всего, что создано людьми за шесть тысячелетий. Гондвана же была другой – гостеприимная планета-праздник, где человек мог вернуться в эпоху безбрежных лесов, непуганых животных и океанов, чьи воды бороздят лишь парусники. Командор, подслушав его мысли, испустил ментальный вздох. «Да, благословенный край и не чужой для нашей семьи… Линда, третья из моих жен, трудилась тут в «Лиловом Вереске», в госпитале Звездного Флота… Красавица! Волосы золотые, глаза зеленые, губы, как спелые вишни, и лебединая шея… Я к ней попал в виде подгоревшего фарша в дырявом скафандре. Ничего, заштопала и приголубила, двух дочек мне родила и сына… Но ты не от них, ты по линии первой моей супруги, той, что с Тхара». «Я помню, – мысленно промолвил Тревельян. – Ксения, мать Павла, моего предка. Однако в толк не возьму, по какой причине вы с ней расстались». «Тоже красавицей была, но стерва изрядная, – сообщил дед. – Линда, та куда мягче». «Но ты и Линду бросил. Почему?» «Потому, что шла война, недоумок! Столетняя война с дроми, с проклятыми жабами! Не мог боевой офицер прятаться за женской юбкой! Я сражался, и ты это знаешь!» – Ну, не злись, не злись, – вслух сказал Тревельян. – Я понимаю, дед. Война безжалостна… За его спиной зашелестела листва, и он обернулся. По лестнице спускалась на террасу женщина – точь-в-точь как описал Командор: волосы золотые, глаза зеленые, губы, как спелые вишни, и лебединая шея. Длинные стройные ножки ступали не спеша, будто предлагая полюбоваться ими, звонко цокали каблучки, развевался за плечами шарфик, едва прикрывавший роскошную грудь. За красавицей шли трое молодых людей, землянин и два терукси, высокие молодцы приятной внешности. Один из терукси бережно нес в ладонях крохотную собачку. Женщина остановилась напротив Тревельяна и склонила головку к плечу. Свет вечернего солнца озарял нежную кожу шеи и плеч, тонкие пальцы играли шарфиком, золотые пряди трепетали под легким морским ветерком. По губам красавицы скользнула улыбка, взметнулись ресницы потрясающей длины, и Тревельян оцепенел. Эта женщина была ему знакома! Несомненно, знакома, но когда и при каких обстоятельствах они встречались, Ивар припомнить не мог. Странно! На память он не жаловался. Пробудился призрачный Советник. «Видели мы эту бабенку, видели! Но где, и я не вспомню. Что-то с ней не так… определенно не так…» Алые губы шевельнулись. – Ньюри Ивар… Какая приятная неожиданность! Сейчас вечер, но встреча с вами воистину утренняя радость! Она говорила на языке кни’лина, наречии клана похарас, и с первым же звуком голоса Тревельян ее узнал. Ифта Кии! Ифта Кии, аристократка с Йездана, одна из немногих выживших после убийств на Сайкатской космической станции! Тогда уцелели лишь Ифта, ботаник Третий Вечерний и несколько техников и служителей. «Она, – подтвердил Командор. – Но была безволосой, как все кни’лина, а теперь с волосами. Шикарные кудряшки! Сняла с кого-то скальп? Или это парик?» По лицу женщины скользнула гримаска неудовольствия. Она перешла на земную лингву: – Вы меня не узнаете, Ивар? – Узнаю, моя прекрасная ньюри. Но ваша внешность так разительно переменилась… – Надеюсь, к лучшему?.. Вам нравится? – Она погладила золотистую прядь. – Ваша медицина творит чудеса… Теперь я совсем как земная женщина… – Вы и прежде были очаровательной, – сказал Тревельян. – Я в восторге. В том, что касается женщин, я лишен предрассудков. Ифта Кии шагнула к нему, и он ощутил пьянящий аромат ее духов и кожи. Три ее спутника застыли у лестницы, бросая на Ивара ревнивые взоры. – Если вы в восторге, то, может быть, навестите меня или увезете к себе? Прямо сейчас?.. И мы продолжим с того момента, на котором остановились. Ифта Кии была любовницей Джеба Ро, аристократа-похарас, главы сайкатской миссии. Она относилась к женщинам, для коих мужчина – опора и законная добыча, и после гибели Джеба Ивар чуть не попал в ее сети. К счастью, до постели у них не дошло, но Ифта была не из тех, кто тормозит на полпути. Ее изумрудные очи распахнулись, нежная ладошка легла на грудь Тревельяна, другой рукой она обняла его за шею. – Кажется, ньюри, в вашем клане вы стали одним из вождей? Мои поздравления… Теперь вы – человек власти… Я всегда знала, что будет так… И еще знала, что вы очень, очень привлекательный мужчина! – Мужчина, да не твой! – раздалось с лестницы. – Убери от него руки! Быстро! Алиса Виктория Браун, оттолкнув терукси с собачкой, ступила на террасу. Ее глаза метали молнии, кулаки были сжаты, и казалось, что сейчас она прыгнет на красавицу-похарас и растерзает в клочья. Юноша – не тот, что с собачкой, а землянин – заступил ей дорогу, и она резким движением сбила его с ног. – Прочь! Не то – клянусь Великой Пустотой! – я тебе челюсть сверну! «Вот это девушка! – восхищенно пробормотал Командор. – Вот это по-нашему! Теперь левой ногой под ребро, а правой – по яйцам!» Собачка, будто подслушав совет деда, в ужасе завизжала. Парень-землянин валялся на полу, оба терукси отступили, но Ифта Кии не пожелала выпустить добычу. Крепче вцепившись в Тревельяна, она бросила на Алису надменный взгляд. – Кто-то здесь лишний, вы не находите, милая ньюри? Как говорится в книге Сероокого, у каждого своя чаша с отравой… Так удалитесь и выпейте яд с достоинством. Но, похоже, Алиса ее не слушала. Активировав комм-браслет, она громко и ясно произнесла: – Пост номер четыре, нападение на консула! Женщина-кни’лина с модифицированной внешностью. Изъять и депортировать в двадцать четыре часа. В тот же миг из-за перил, окружавших террасу, выпрыгнула Катерина Васнецова, а за ней – еще одна крепкая валькирия с Ваала. Подхватив Ифту Кии под локотки, они оторвали ее от Тревельяна, приподняли и понесли к лестнице. Трое парней ринулись следом, и Алиса им не препятствовала. Устроившись на диванчике, она с удовольствием слушала вопли Ифты Кии: «Мшаки![168] Грязные мшаки! Отпустите меня! Отпустите! Чтоб треснули кувшины ваших предков! Чтоб вам курземом подавиться!» Крики становились все тише и тише и, наконец, смолкли. Алиса повернулась к Тревельяну. – Вас нельзя на минуту оставить! – сурово молвила она. – К вам тут же липнут женщины! А ведь свидание у вас со мной! – Липнут, – со вздохом признался Ивар и потер висок с кристаллом. – Это у меня наследственное. – Ладно, проехали. Ваша пассия… как ее… – Ифта Кии. – Про какой кувшин она вопила? – Погребальный, – пояснил Тревельян. – Кувшин с прахом предков для кни’лина священный предмет. Они очень красивые, расписаны синими узорами. – А курзем и мшак что такое? – Курзем – блюдо из мясных грибов, мшак… Нет, не будем вспоминать о мшаке. Лучше я закажу ужин. Когда стол украсили тарелки, бокалы и графинчик с вином, Тревельян снова вздохнул и произнес: – Эта несчастная женщина… я говорю про Ифту Кии… не стоит ее депортировать. – Почему? Ивар нежно погладил твердую маленькую руку. – Обстоятельства, обстоятельства… Мы с ней встретились на космической станции – сайкатский проект, совместная миссия нашего Фонда и группы ученых кни’лина. Проект дружественных рас… такой гадючник оказался… Вряд ли ты об этом слышала. Информация не засекречена, но те, кто в курсе событий, не любят о них вспоминать. – Расскажите! – тут же потребовала Алиса. – Расскажу, но сначала об Ифте Кии. Она была сильно перепугана… там, на станции, ни и похарас гибли один за другим, мы сжигали их тела и набивали кувшины прахом и костями… Ифте в кувшин не хотелось. Она пришла в мой отсек, просила помочь, просила ее защитить. Она очень боялась. – И вы, наверное, знали, как ее утешить, – с хмурым видом заметила Алиса, но руки не отняла. Тревельян пожал плечами. – Не так, как ты воображаешь. Я дал ей гипнофильм про Гондвану. Она плавала на яхте, а в это время в каком-то закоулке станции две стервы-кни’лина пускали друг другу кровь. Ифта была на Гондване… была там в снах и захотела сделать их явью… Понимаешь, это ее мечта – жить без забот, в безопасности, и чтобы рядом крутились юные красавцы. Не суди ее строго, она слабая… – Ладно, договорились, – буркнула Алиса. – Пусть не лезет в зону моей ответственности, и все будет в порядке. Закончив с ужином, они отправились на верхнюю террасу, потанцевать. Оркестр играл старинные вальсы, пары плавно кружились под усыпанным звездами небом, девушка в объятиях Ивара казалась такой близкой, такой желанной… На ней было платье, не закрывавшее плеч, мерцающее то изумрудными, то золотыми искрами, в волосах – высокий гребень, на шее – ожерелье. Приглядевшись, Тревельян сообразил, что это украшение собрано из обточенных клыков какого-то зверя, и клыки изрядные, длиной с мизинец. Вернувшись к своему столику, выпили вина. Щеки Алисы порозовели, смотрела она уже не с прежней суровостью и даже раз-другой улыбнулась Тревельяну. «Все же у нас свидание, – решил он, – свидание, а не эскорт важной персоны по злачным местам». Его взгляд снова потянулся к ожерелью и стройной шейке Алисы. – Внушительные зубы, – промолвил он. – Чей-то подарок? Какого-то отважного охотника? Алиса прикоснулась к украшению. – Клыки каменных дьяволов. Я сама их прикончила. Двадцать семь тварей. Эта девушка – кладезь тайн и загадок, подумал Тревельян, а вслух сказал: – Каменные дьяволы водятся на Тхаре. Опасные хищники, если не ошибаюсь. – Не ошибаетесь, – подтвердила Алиса и, вызывающе сверкнув глазами, добавила: – Я с Тхара. Мы не новые переселенцы, моя семья живет там восемь веков. Это многое объясняло. Тхар был суровой планетой с очень немногочисленным населением, но его сыновей и дочерей знали и ценили всюду. Лучшие офицеры Звездного Флота, разведчики новых миров, самые стойкие бойцы, искусные следопыты… Павел Тревельян, сын Командора и предок Ивара, тоже родился на Тхаре. – Знакома ли ты с одним молодым человеком? – спросил Тревельян. – Ланселот Бродерик Свенсон, диетолог и физиотерапевт… Он тоже с Тхара. – Ланс – мой троюродный кузен, – сообщила Алиса. – А что? – Ничего. Хороший юноша… Мы с ним познакомились на Снежной Пасти. – Он снова наполнил бокалы и сказал: – Завтра я собираюсь в лес. Говорят, тигровые коты размножились сверх всякой меры… Ты, я вижу, храбрый охотник и должна меня сопровождать. Никаких замен. На замену я не соглашусь! Анна, Марго, Катерина очень приятные девушки, но лес есть лес, и без тебя я не буду там в безопасности. – Уже имена выведал… Я и говорю, женщины липнут, как мухи к меду… – пробормотала Алиса Виктория. – Эти девицы из местной службы переданы на время в мое подчинение. И надо заметить, таких растяп я еще не встречала. – Правильно, – поддержал Тревельян. – А я – консул! Если уж меня охраняют, то эскорт должен быть высшего качества! Так что насчет прогулки в лес? Алиса призадумалась, потом сказала: – Завтра прибывает Судья Справедливости, и мне нужно ее встретить. Если не будет других дел, я вас разыщу. Включите маяк на флаере и не тревожьтесь из-за котов. С ними без вас разберутся. Последние фразы Ивар пропустил мимо ушей – визит Судьи казался ему куда интереснее. Статус Судей был чрезвычайно высок; они разрешали споры между всеми известными расами, и даже негуманоиды дроми подчинялись их решениям. Судья Справедливости мог посетить любую звездную систему, если там сложилась критическая ситуация, если возник конфликт между хапторами и дроми, землянами и кни’лина либо иными цивилизациями и народами. Но на Гондване все было тихо. Восемь столетий покоя и тишины под властью Земной Федерации. – Кто она, твоя Судья? – спросил Тревельян. – Кто и зачем летит на Гондвану? Хочет здесь отдохнуть и развлечься? – Ее зовут Елена Градская, и она не любит отдыхать, – сообщила Алиса. – Прочее – вне моей компетенции. Встретитесь с Судьей, спросите сами. – Я с ней встречусь? – полюбопытствовал Ивар. – Возможно. Но предупреждаю: ваше обаяние на нее не подействует. «А на тебя?..» – хотел спросить Тревельян, но не решился. Спал он опять в одиночестве.Глава 14 Лес и взморье
Авиетка была рассчитана лишь на двух пассажиров, и потому Ивар взял четырехместный флаер. К сожалению, кресло рядом с ним пустовало, и никаких сообщений или напутствий от Алисы Виктории он не получил. Таинственная охотница с Тхара исчезла, так что компанию ему составил трафор, разлегшийся на задних сиденьях. Огромный тигр с янтарными глазами выглядел очень внушительно, и Мозг, чтобы войти в образ, то и дело раскрывал клыкастую пасть и хищно облизывался. Морское побережье двух больших континентов Гондваны и некоторые острова имели сходство с земными субтропиками – здесь находились жилые зоны, и сюда век за веком завозили растительность с Земли и других планет: пальмы, магнолии, сосны, дубы, деревья хтаа и сотни, тысячи видов кустарников и цветов. Но лес, над которым мчался флаер, был гондванским эндемиком, где все, от гигантов фойо до мха и мелкой травинки, осталось таким же, как до пришествия людей. Фойо одним напоминали эвкалипты, другим – секвойи, но были крупнее земных деревьев – их вершины возносились в небо на триста-четыреста метров, а обхват ствола мог соперничать с мощной башней средневековой крепости. Они начинали ветвиться высоко над землей, чудовищные ветви тянулись вверх и в стороны, скрещивались, наслаивались, и свет, прошедший сквозь многометровую толщу крон, казался зеленоватым и тусклым, как у морского дна. Тем не менее его хватало для кустов, подлеска, трав и мха; все это цвело и плодоносило в тени древесных исполинов, одаряя пищей грызунов, насекомых, птиц и ящериц. Трафор с хрустом потянулся на заднем сиденье. – Вчера я посвятил день поискам альфа-языка лльяно. Пришлось связаться по спецканалу с Марсианским университетом и с базами данных Харры, Тинтаха и Данвейта… Угодно ли консулу заслушать мой доклад? – Угодно. Валяй, – сказал Тревельян. – Я нашел и освоил нужную нам версию. Если этот зубастый-мохнатый завтра явится, проблем не будет. Уверен, что смогу переводить. – Похвально! Ты незаменимый помощник! – Слушаю с удовольствием, ньюри консул. Ваш достойнейший предок тоже так думает? Ивара Мозг почитал как хозяина и спасителя, но к Командору относился просто с безграничным пиететом. Как-никак, базовое программирование его сущности выполнили кни’лина, а у них предков окружал ореол непогрешимой мудрости и святости. «Он хочет твоей похвалы», – передал Тревельян деду. «Раз хочет, пусть получит. Хвалю!» – буркнул призрачный Советник и вновь погрузился в свои мысли. – Мой предок рад твоему усердию и поздравляет с успехом, – произнес Тревельян. – Но ты обещал мне доклад, а пока мы имеем лишь краткую информацию. Итак, ты освоил альфа-лльяно… Что дальше? – Это не все, достойный консул, не все! Я убедился, что этот язык разработан лоона эо и применяется сервами в торговых сношениях. Их корабли посещают лльяно не реже чем три-четыре раза в год. – Известный факт. Мы знаем, что сервы летают к лльяно с определенной периодичностью и торгуют с ними. Просунув голову на переднее сиденье, трафор попытался изобразить улыбку. Выглядело это устрашающе. – Да, торгуют, хозяин. А вот чем? Что является предметом обмена? – Хмм… – Тревельян задумался. – Кажется, сведений об этом нет… точно нет! Сервы торговых тайн не раскрывают. – Он посмотрел вниз, на темно-зеленые кроны, скользившие под флаером волна за волной, и произнес: – Ситуация не очень понятная. Лоона эо – самая цивилизованная раса из всех известных нам в Галактике. Философы, эстеты, гедонисты… Лльяно они могут дать многое, но что получают взамен?.. Загадка! Лльяно примитивны и не являются в торговле равным партнером. – Есть мнение, достойный консул, что эта тайна раскрыта. – Мнение? Чье? – Мое, – скромно сообщил трафор. – Я произвел семантический анализ альфа-языка и выяснил, что в нем превалирует группа характерных терминов. Несомненно, они имеют отношение к торговому обмену, намекая, что сервы привозят лльяно и что получают от них. – Любопытная мысль, – согласился Тревельян, поглядывая, как встают над лесом высокие скалы. То были предгорья хребта Лиловых Зорь, а сам хребет маячил огромной стеной на горизонте. – Так что же это за термины? Несколько примеров, если тебя не затруднит. – Ни в малейшей степени, почтенный ньюри. Итак: гребешки различных величин и форм, чесалки, стригальные ножницы и машинки, устройства для выпрямления волос, химикаты, чтобы вымачивать шерсть, сушилки и так далее. – Ты хочешь сказать, что лльяно торгуют шерстью каких-то животных? – Нет, ньюри, своей собственной. В альфа-языке есть шестьдесят три понятия, обозначающих шерсть разной фактуры, цвета и длины. Все они относятся к волосяному покрову лльяно. – Трафор почесал передней лапой за ушами и добавил: – Я еще не разобрался, почему лоона эо так ценят эту шерсть. Возможно, она хороша для набивки кресел и диванов?.. – Или они вяжут из нее пуловеры, – предположил Тревельян. – Но как бы то ни было, твоя гипотеза имеет право на жизнь. Хмм… Кресла, диваны, матрасы, свитера… Что еще? Шапочки и шарфики… Когда придет наш мохнатый гость, мы попробуем внести ясность в это дело. Заметив прогалину, поросшую мхом, Ивар приземлил флаер. Среди яркой зелени леса она казалась открытой раной – мох цвел мелкими алыми цветами. Упругие стебли хлестали Тревельяна по коленям – как и деревья в этом лесу, мох был гигантским. Консул вступил под сень огромных фойо. Их стволы с бугристой сероватой корой мощными башнями уходили вверх, и там, в пронизанной солнцем воздушной чаще, кто-то возился и вскрикивал, шуршал и стрекотал. Иногда древесный прыгун стремительной тенью планировал с ветки на ветку, или зверек замирал среди листвы, рассматривая человека глазами-бусинками; иногда стайка птиц в ярком оперении с писком и щебетом проносилась над головой. Тут и там среди трав высились холмики у нор свинозайцев, а сами грызуны, похожие на поросят с длинными ушами, шныряли в кустах, с хрустом ломая сочные стебли. С ветвей фойо свешивались лианы, усеянные синими, желтыми, красными соцветиями, над ними кружились пчелы и жуки, иногда величаво пролетал королевский туап – бабочка с крыльями величиной в ладонь. «Первозданная красота рая!» – подумал Тревельян, замедляя шаги. Тигр, озиравшийся с опаской на прыгунов и свинозайцев, тоже остановился и сел рядом. «Дед, – позвал Ивар, – дед, ты был в таком лесу?» «Не мешай, – отозвался Командор. – Не мешай, я вспоминаю». «Этот лес?» «Нет, наш с Линдой дом на базе Флота. Четыре больших острова у Восточного материка и между ними – внутреннее море… Бирюзовое море, если мне не изменяет память… Дом стоял на берегу. Хорошо бы туда съездить». «Съездим, если пожелаешь». «Буду благодарен», – сказал дед и смолк. Он нечасто благодарил Тревельяна, больше брюзжал, поучал и ругался, используя такую лексику, что не все слова были понятны. Но это не вызывало раздражения. С момента гибели Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева прошло больше пяти столетий, на Земле и в других мирах жили сотни две его потомков, но из всех Командор выбрал Ивара и странствовал с ним по Галактике много лет. Чем не повод для гордости?.. Внезапно в лесу сделалось тихо. Свинозайцы резво попрятались в норы, смолк стрекот белок и прыгунов, и даже птицы вспорхнули повыше и спрятались в древесных кронах. Падавший сверху зеленоватый свет был по-прежнему ровным и мягким, но это лишь подчеркивало тишину и тревожную напряженность. Тревельян оглянулся, потом завертел головой, но ничего опасного вроде бы не замечалось. Он стоял у ствола, широкого и надежного, как крепостная башня. Гигантские корни выпирали из земли подобно хребтам уснувших драконов, мох пятнал их алыми каплями, с нижних ветвей струился дождь лиан. Покой, молчание, неподвижность… Прикрыв глаза, он сосредоточился, стараясь уловить ментальные волны птиц и животных, и тут же поймал отчетливый импульс. Какой-то крупный хищник приближался к нему, и, похоже, зверь был в ярости. Ивар поднял веки. Прямо напротив него присел на задних лапах тигровый кот: бешеные янтарные глаза, оскаленная пасть, хвост, хлещущий по бокам. Он не смотрел на человека – человек на Гондване для любого хищника являлся табу. Его взгляд был устремлен на трафора. Нечто полосатое, да еще и с клыками! Подходящая зверюга, чтобы сорвать злость! Тигр выглядел вдвое крупнее, но, кажется, это кота не беспокоило. – Что мне делать, консул? – Трафор попытался спрятаться за спину Тревельяна. – Что мне делать? Он сейчас прыгнет! – Может, представишь каменного дьявола с Тхара? – посоветовал Ивар. – Вдруг он испугается! Трафор начал преображаться: тигриная морда раздалась в стороны, клыки стали вдвое больше, лоб и шею покрыли чешуйки, хребет выгнулся дугой, из него полез костистый гребень. Но кота это не остановило. Грозно зарычав, он попытался зайти Тревельяну за спину. – Хозяин, он не боится! У вас есть какое-нибудь оружие? – Ты мое оружие, – сказал Тревельян. – Ты должен меня защищать. Ну-ка покажи ему зубы! – Я только этим и занимаюсь! Без всякого результата! – Тогда пусть он куснет раз-другой и убедится, что ты несъедобен. – Будет больно! Не забудьте, что я сложный агрегат, обладающий нервной системой! Не хочу, чтобы меня кусали! – Ррр… – вмешался в их диалог тигровый кот. – Ррр… Ррау! В землю в трех шагах от Тревельяна ударила молния, и зверь отскочил. Затем в воздухе сверкнул второй разряд, сверху посыпались листья, и кот, недовольно рявкнув, ринулся в кусты. Дрогнул полог лиан, появилась девичья ручка с увесистым бластером, а за нею – и Алиса Виктория собственной персоной. На ней был охотничий наряд: высокие сапожки, лосины, кожаная куртка и шляпа с пером. – Вижу, к вам липнут не только женщины, но еще и кошки, – молвила Алиса, засунув бластер в висевший на плече футляр. – Во-первых, это был кот, кот-самец, – возразил Тревельян. – Во-вторых, ко мне претензий не имелось, он хотел подраться с трафором. Кажется, он был очень раздражен. – Раздражен? С чего бы? – пробормотала Алиса, бросив на спутника Ивара любопытный взгляд. – Ваш робот вел себя агрессивно? Трафор, вновь принявший тигриное обличье, замотал головой. – Мой интеллект не позволяет проявлять агрессию. Пусть достойная ньюри вспомнит про закон Глика – Чейни. – Верно. – Алиса кивнула головой. – Но тогда в чем дело? Надо бы выяснить. Она вытащила из кармана овальный медальон, щелкнула крышкой, и над маленьким экраном вспыхнул остроконечный синий маркер. Биоискатель армейского образца, сообразил Тревельян. Прибор, которым пользуются разведчики, десант и прочие спецподразделения. – Я посадила авиетку рядом с вашим флаером, – сообщила Алиса. – Хотите вернуться? Или прогуляетесь со мной? – С удовольствием. Кого мы будем искать? – Еще не знаю. Что найдем, то и наше. Они зашагали от ствола к стволу, огибая древесные корни и поглядывая на синюю стрелку, которая то разгоралась ярче, то чуть пригасала. Трафор плелся следом, опасливо сторонясь шнырявших у кустов свинозайцев. Лес снова ожил – над головой порхали птицы, белки и прыгуны шуршали в листве, длиннохвостые снифы, похожие на земных коала, раскачивались на лианах. – Судья уже на Гондване? – спросил Тревельян после недолгого молчания. – Ты ее встретила? – Да. Она в «Лиловом Вереске», на базе Флота. Просила вас разыскать. Ей нужна помощь опытного ксенолога. – Вот как! Что я должен делать? Лицо Алисы стало непроницаемым. – Судья вам сообщит. Тревельян вздохнул. – Ты девушка, полная тайн! Сказала, что практикантка, но я не очень понимаю, чем ты занимаешься. Выслеживаешь тигровых котов? Или консулов ФРИК? – Я помощник Судьи по внешним связям. Что поручат, тем и занимаюсь. Иногда консулами, иногда котами. Для практики. – И это все? – Нет. Я охраняю Судью и других лиц, причастных к расследованию. Если Судья решит, что они нуждаются в охране. – Не знаю, к чему я причастен, но твои откровения не радуют, – сказал Тревельян. – Я рассчитывал на теплую дружбу без всяких судейских указаний. – Одно другому не помеха, – послышалось в ответ. – Разве мы не катались на яхте? И разве я не вырвала вас из хищных лапок той расфуфыренной кни’лина? Они вступили в зону предгорий, и ровная местность сменилась невысокими скалами. Синяя стрелка вела их в лабиринт ущелий, где гиганты фойо не росли, зато появились разлапистые хвойные деревья, напоминающие земные пинии. Тревельян прикинул, что до места посадки флаера теперь километров семь или восемь. Но возвращаться не было нужды – он мог вызвать летательный аппарат прямо сюда, в любой из этих каньонов, или переместиться к нему. – Мы идем по следу вашей кошки, – сообщила Алиса. – В окрестностях есть другие коты, но прибор фиксирует не только их. Что-то движется среди скал. Не очень крупное, однако… О! За поворотом ущелье расширилось, и здесь, под кронами хвойных деревьев, лежали три мертвые кошки. К ним тянулась цепочка крупных муравьев – точнее, насекомых, схожих с муравьями. Их спинки отливали зеленью, ножек было не шесть, а восемь, но по своим повадкам они не отличались от земных аналогов. Биоискатель выдвинул метровый щуп. Алиса провела им над телами животных. – Самки, прайд вашего кота. Думаю, дело было так: их прикончили, а кот сумел удрать, но напугался и разозлился. Муравьи не успели их объесть, значит, убиты недавно, и не из нашего оружия. Мозг разрушен. Похоже на удар ультразвуком. – Не из нашего оружия… – в удивлении повторил Тревельян. – Что ты имеешь в виду? На Гондване высадился тайный десант пришельцев, ненавистников кошек? – Кошки – частный случай, – сказала Алиса Виктория. – Этот лес и горы за ним, а также другие леса, моря, океаны, долины рек и все остальное – саморегулирующиеся экологические системы. Однако со временем где-то накапливаются ошибки, и такой биоценоз нужно корректировать извне. Иначе говоря, заранее предусмотренным внешним воздействием. Такая необходимость возникает нечасто, раз в пятьсот или тысячу лет, и это значит, что здесь запущен очень совершенный механизм саморегуляции. А потому… – Вот что, – прервал ее Тревельян, – ты мне лекций по экологии не читай, я этот курс прослушал и сдал, когда ты еще пешком под стол ходила. Ты мне внятно скажи, что тут происходит, и зачем Судья пожаловала на Гондвану. – Да, консул. Простите, консул. Слушаюсь, консул. – Алиса вдруг стала само смирение. – Внятно это будет так: тигровые коты слишком размножились, и лишних уничтожают. Мы, люди, тут абсолютно ни при чем. Активировалась некая система внешней биорегуляции… система, запущенная очень, очень давно. Задолго до того, как мы нашли Гондвану. Ивар окинул взглядом мертвых кошек, потом деревья и скалы и наморщил лоб. – Остальное додумать нетрудно. Система пробудилась, ее эффекторные звенья – вероятно, киберы – стали отстреливать котов, и тут возникла проблема посерьезнее. Мы, люди! Оказывается, на островах и в прибрежных зонах живут незваные пришельцы, и их куда больше, чем котов, – миллионов шестьсот, я полагаю. Не только живут, но еще нарушают экологический баланс… завезли дельфинов и всякие свои деревья и кусты, настроили дома, причалы, энергостанции и дороги… в воздухе летают, в море на яхтах катаются… Непорядок! Нужно сообщить куда следует! И что же, сообщили? – Несколько месяцев назад были зафиксированы искажения подпространственного континуума, – промолвила Алиса. – Так бывает при кодированной передаче через Лимб. – Значит, межзвездный конфликт у нас назревает, потому Судья и явилась, – подвел итог Тревельян, снова озирая лес и горы. – Скоро прилетят хозяева всей этой роскоши, чтобы с нами поквитаться… Судья, конечно, необходим… как же в таких делах без Судьи… Все должно быть по-честному, по справедливости – кто первый, тот и прав… Скажет Судья, чтоб мы убирались с Гондваны – уберемся, куда нам деваться… Алиса слушала, обиженно поджав губы. Потом сказала: – В ваших словах, консул, звучат неприязнь и насмешка. Отчего же? Вспомните, сколько споров уладили Судьи, споров, которые могли закончиться губительной войной! Их решения не всегда были в пользу Федерации, хоть сами Судьи – люди, но тем выше ценность их вердиктов! Судьи – пример того, что наша раса способна пренебречь сиюминутными интересами во имя высшей справедливости! Разве не так?.. У них нелегкая судьба, их жизнь – раздумья и сомнения, но их авторитет… – …бесспорен, – закончил Тревельян. – Теперь ты читаешь мне лекцию по социальной динамике. Не стоит, моя красавица, тут я сам специалист. Но сейчас, – признал он со вздохом, – сейчас я не ксенолог и не консул, а просто человек, и мне жаль терять Гондвану. Кто бы ее ни сотворил, мы живем здесь восемь столетий и тоже внесли свой вклад. Мы добавили жизни этому миру, той жизни, которую он не знал! И это не только люди, терукси, кни’лина… Мы, двуногие без перьев, уйдем, а вот дельфины могут не согласиться. – Не будем предугадывать решение Судьи, – заметила Алиса, пряча свой прибор. – Вызовем сюда флаер и авиетку? Или вернемся в лес, к поляне с нашими машинами? – Я бы прогулялся, если ты не спешишь. – Не спешу. Здесь чудесный лес. На Тхаре такого нет. Они отправились в обратный путь. Шли в молчании. Трафор уже не шарахался от лесной живности, но старался держаться поближе к Ивару. Алиса притихла и, кажется, о чем-то напряженно размышляла. Тревельян же думал о своем – вспомнив о зубастом и мохнатом визитере, пытался сообразить, чего хочет этот Говорильник с человеками. Что-то в его словах было понятно, а что-то – не совсем. Вот, к примеру: Нельба-люба вещать – иди к главный-важный… Ясно, к кому идти, а кто такой Нельба-люба?.. Вождь лльяно, приславший Говорильника?.. Нет, вряд ли – он сказал, что явился по велению нильхази в качестве Объявителя от человеки к человеки. Кто же эти нильхази, люди или лльяно?.. По семантике фраз должны быть людьми, но стоит ли в этом случае опираться на логику и семантический анализ?.. Говорильник мог все переврать или неверно выразить мысль… Хотя заключительный пассаж не вызывает сомнений: вон отсель! Вон с Гондваны?.. Если учесть рассказанное Алисой, то именно так! Вскоре появятся хозяева, а вперед они выслали посланника… И что это значит?.. Акт вежливости?.. Или угроза?.. Алиса смущенно хихикнула, прервав его раздумья. – Консул, можно вопрос? – Спрашивай. – Вы назвали меня красавицей… Вы так в самом деле считаете? Или это всего лишь фигура речи? Тревельян замер на половине шага, потом обнял девушку и склонился к ее лицу. Губы Алисы Виктории были мягкими и покорными, ее тело вдруг сделалось беззащитным и хрупким, словно растеряв былую ловкость и мощь. Что-то шепча, она прижалась к Тревельяну. «Ивар, Ивар…» – расслышал он, снова целуя девушку. «Фамильное обаяние все-таки действует. Рад за тебя», – заметил пробудившийся Советник. «Не подглядывай, дед. Прекрати! Это неэтично!» «Зато интересно», – буркнул Командор и исчез. Несколько минут Алиса и Ивар стояли обнявшись, потом девушка оттолкнула его. В ее глазах прыгали чертики. – Что вы себе позволяете, консул! – Только то, что мне разрешено, – сказал Тревельян. – Кстати, напоминаю, что меня зовут Иваром. Консул это должность, а Ивар… – Я улавливаю разницу, – промолвила Алиса, усмехнулась и приложила палец к губам. – Надеюсь, вы не будете вспоминать о случившемся при Судье? И не будете смотреть на меня таким… таким обволакивающим взглядом? Да еще и улыбаться? – В официальной обстановке ньюри консул всегда серьезен. – Просто совсем другой человек, уверяю вас, – подал голос трафор. – Могу ли я рассчитывать, что мы вернемся к цивилизации? Разумеется, если вы завершили выяснение отношений. – Каков наглец! – пробормотала Алиса и направилась в сторону летательных аппаратов. Когда Тревельян залез в свой флаер, а тигр улегся на заднем сиденье, она помахала рукой. – Я полечу за вами, консул. Мы можем говорить по дороге. Или мы уже выяснили отношения?.. Но до этого было еще далеко, и Тревельян, мчась над лесом, вслушивался в тихий голос Алисы Виктории. Она вспоминала о родине, о Тхаре. Суровый мир Окраины, форпост на самой границе Провала… Бывать там Ивару не доводилось, однако, в силу своей профессии, он знал об этой планете, казалосьбы, все: от параметров орбиты до истории освоения. Но Алиса рассказывала о Тхаре своего детства, и это было гораздо интереснее.* * *
Как и прошлый раз, Говорильник пожаловал на рассвете, так рано, что позавтракать Тревельяну не удалось. Спустившись в холл, он велел роботам поставить стол и кресла под деревьями, подальше от фонтана, затем хлопнул трафора по пятнистой шее. – Идем. Будешь переводить. – Минуту, досточтимый консул. – Мозг, снова в обличье жирафа, повернул к хозяину голову с огромными грустными глазами. – Кажется, мой вид наводит этого мохнатого-зубастого на нехорошие мысли. Можно ли мне принять другую форму? Более подходящую для работы? – Принимай, – сказал Тревельян, и его помощник мгновенно преобразился. Теперь он был похож на большую белесоватую тарелку, парившую в воздухе. Края тарелки свисали вниз тонкими фестонами и колыхались, как у медузы, с боков вытянулись стебли – два со зрительными органами и еще один с подобием губ. В таком странном сопровождении Ивар направился к выходу. Говорильник не удостоил трафора вниманием. В этот раз он сидел в траве, напоминая бурый пригорок с торчавшим наверху влажным черным носом. Крохотные глазки поблескивали сквозь завесу длинных волос. – Сядь в кресло, – сказал Тревельян. – Тебе будет удобнее. – Предпочтение так, – раздалось в ответ. – Ты, главный-важный, подумать? Оченно напугаться? – Подумать, но не напугаться. Мой оченно храбрый, – сообщил Ивар. – Все пугаться нильхази. Он – ууу! – теперь сердитый. Он… – Пока не надо про нильхази, я хочу больше узнать о тебе. Ты был Ловушник, был Строгальщик, а нынче Говорильник с человеки. Что все это значит? Что ты делал на своей родине? Лльяно встряхнулся, словно пес, вышедший из воды. Запах не самый приятный, подумалось Тревельяну. Отступив к деревьям, он сел в кресло, стараясь уловить ментальную волну Говорильника. Похоже, тот был в недоумении. – Ловушник есть Ловушник, Строгальщик есть Строгальщик, – буркнул гость. – Разве ты не понимать? Ивар повернулся к своему переводчику. – Попробуй растолковать мои вопросы. Пусть он хотя бы немного расскажет о своей родине. Трафор вытянул стебель с голосовым аппаратом, его плоть пошла буграми и впадинами, и это означало, что Мозг мыслит с особой интенсивностью. Внезапно он пронзительно взвизгнул и заголосил в тональности колоратурного сопрано. Выслушав, лльяно разразился такими же трелями и руладами. Так они выпевали минут десять, потом трафор сказал: – Планету покрывают леса, а там, где нет деревьев – камни, скалы, лед и снег. Климат прохладный, но количественная оценка не представляется возможной, для этого нет слов. Мохнатый-зубастый прежде был охотником, ставил ловушки, потом резчиком по дереву. Когда он состарился – а ему больше восьмидесяти лет, – он изучил языки небесных пришельцев, и теперь он Говорильник. Ведет переговоры с сервами, с нильхази, со всеми, кто прилетает к ним. Это очень почетное занятие. – Кстати, о сервах, – молвил Тревельян. – Проверь-ка свою гипотезу. Чем лльяно с ними торгуют? Новая порция визгов и фиоритур. Наконец концерт завершился, и трафор произнес с торжествующей ноткой: – Я был прав, почтенный консул, они торгуют собственной шерстью. Еще деревянными изделиями. Они очень искусные резчики. – Хорошо. Пожалуй, я удовлетворил свое любопытство. Желтый андроид с розовыми звездочками на панцире принес Тревельяну кофе, два рогалика и сливки. Сделав глоток, он обмакнул рогалик в сливки и принялся жевать. – Говорильник чего-нибудь хочет? Может быть, сосиску или окорок? – Никак пожелания. Мой сыт. Мой дают мясо везде. – Везде – это как? Расспроси его подробнее, – велел Тревельян помощнику. Повизжав недолгое время и выслушав ответ, трафор доложил: – Он здесь уже около месяца. Живет в лесу, так ему привычнее. В любом кабачке и ресторане, где есть мясные блюда, его кормят. Но, конечно, не за столиком, а так, чтобы не видели посетители. Мясо потребляет сырым. – Ну, у каждого свои вкусы, – сказал Тревельян, вспомнив про червей Арханга. – Теперь поговорим о нильхази. Они тебя прислали, Говорильник? – Истинно так, – подтвердил гость и помахал когтистой мохнатой лапой. – Нильхази бывать у нас часто. Такой человеки, как ты, бывать оченно редко. Ждал, ждал, и Нельба-люба явиться. Без веры ко мне, что мой Объявитель… Мой болтать-трендеть долго-длинно, Нельба-люба все без веры. Но взять с собой. – Кажется, он пытается рассказать, как улетел со своей планеты. – Тревельян добавил в чашку из кофейника. – Вот что, друг мой, пошли запрос в центр регистрации полетов. Кто побывал в системе лльяно за последние месяцы? Какому ведомству принадлежит корабль? Что за цель у этой экспедиции и кто ее руководитель?.. Давай, трудись! – Запрос отправлен. Еще распоряжения, ньюри консул? – Пока хватит. – Ивар повернулся к Говорильнику: – Итак, тебя прислали нильхази и повелели сказать главному-важному: вон отсель! С этой планеты, так? – Тоже истинно, – подтвердил Говорильник. – Нильхази узнать, что человеки здесь, и оченно гневиться. А когда они в раж, нехорошо. Шкура дорога, а мочь без нее остаться. Тревельян нахмурился. – Это угроза? Ну, мы еще посмотрим, кто с кого шкуру спустит! – Когда нильхази явиться… – начал мохнатый гость, но вдруг смолк и призадумался, почесывая колтун на голове. Потом молвил: – Есть один-другой мудреный слово, который мой знать. Такое слово ваших человеки… Имей длинный ложка, если захотеться пообедать с дьявол… Но мой вспоминать другое. – Он оскалился и дернул себя за волосы. – Вот, вспомнить! Нильхази явиться и показать человеки, куда рак зимовать! «А что же дед молчит?..» – подумал Тревельян. Самое время ему проснуться и завернуть что-нибудь по-командорски, так, чтоб трава завяла, а с деревьев листья посыпались… Однако безмолвствует! Он потянулся к разуму Командора и обнаружил, что тот не видит и не слышит ровным счетом ничего. Дед вспоминал. Кажется, он вернулся в счастливое время, когда здесь, на Гондване, был его дом, его семья, красавица-жена, две дочери и сын. Ивар увидел их лица, потом – уютный коттедж у Бирюзового моря, белое двухэтажное здание с башенкой, корпус боевого робота около двери и орудийный лафет, служивший скамейкой. Смотреть дальше он не стал, удалился тихо, не мешая родичу. Его взгляд упал на мохнатое существо, сидевшее в траве. – Твое поручение выполнено. Ты пришел к главному-важному и передал слова нильхази. Что ты будешь теперь делать? – Мой ждать. Нильхази явиться, показать человеки зимний рак, а мой увезти обратно. Или оставить тут. Тут хорошо, есть лес и многое мясо. – Не будет нас, не будет и мяса, – сказал Тревельян. Потом, отставив чашку с недопитым кофе, пробормотал в задумчивости: – Нильхази… никогда не слышал о нильхази… любопытно бы на них взглянуть… – Такое мочь, – произнес лльяно, поднимаясь на ноги. Он начал копаться в шерсти, отыскивая что-то под мышкой, и наконец вытащил кожаный мешочек. В нем было маленькое резное изваяние из светлого дерева – нагая женщина с распущенными волосами, чуть изогнувшая гибкий стан. Губы женщины улыбались, руки были вскинуты над головой, словно она кружилась в вечной пляске, и от облика ее веяло безмятежным счастьем. Тревельян оцепенел. Где-то он видел это лицо, эту улыбку на губах счастливой юной женщины… не совсем такой, как эта, но похожей… «Впрочем, – мелькнула мысль, – выражение счастья делает людей похожими, словно они натянули одинаковые маски». Две или три минуты он в изумлении разглядывал маленькое чудо, не пытаясь взять статуэтку из когтистых лап лльяно, даже не прикасаясь к ней. Потом прочистил горло и выдавил: – Это… это и есть нильхази?.. – Истинно. – Они люди? Такие же люди, как мы? – Ты, главный-важный, плохо слушать. Мой, когда быть здесь, прояснился понятно: мой – Объявитель и Вещатель от человеки к человеки! От таких человеки, – лльяно сунул статуэтку в руки Ивара, – к таким человеки, как ты есть. Теперь ты доходяга? – Теперь дошло, – подтвердил Тревельян, лаская гладкое дерево. – Могу я оставить эту вещицу себе? – Мочь. Я сделать еще. Я быть ловкий Строгальщик. Гость развернулся и побрел к выходу. Казалось, среди травы неторопливо двигается копна сена. Ивар повертел подарок в руках, удивляясь искусной работе. Лапы лльяно выглядели такими грубыми, неуклюжими; он с трудом мог представить, как мастер держит резец в своих когтистых пальцах. Но богатый опыт подсказывал: увиденное часто отличается от сути, и первое мнение не всегда бывает верным. – Взять хотя бы парапримов, – произнес он вслух. – Волосатые, четверорукие, и пасть от уха до уха… Орангутанги! А ведь разумнее людей… во многих отношениях разумнее! Трафор за его спиной издал тихий звук, будто хрустальные колокольчики зазвенели. – Пришел ответ, ньюри консул. Желаете ознакомиться? – Желаю. Что там у нас? – Торговый корабль с Миров Окраины. Посетил систему лльяно пять месяцев назад, следуя за караваном сервов. Точная цель не указана, но есть намеки. Вероятно, хотели выяснить, чем сервы обмениваются с лльяно и можно ли пристроиться к этой торговле. – Кто капитан? – Глеб Нелюбин. – А! Нельба-люба! Указано ли, что он увез аборигена? – Да, с его согласия и по настоятельной просьбе. Высадил в порту Перекресток-18, испросив для него статус почетного гостя Федерации. Из этого порта нетрудно добраться до Гондваны. – Что ж, – сказал Тревельян, – с этой частью истории мы разобрались. Пора заняться нильхази. Не нанести ли визит Судье? Кажется, она хотела встретиться со мной. Почему бы не сейчас? Словно подслушав его, звякнул браслет на запястье, и голос Алисы Виктории произнес: – Доброе утро! Почтенный ньюри консул уже позавтракал? – Ньюри консул пьет кофе, – сообщил Тревельян. – Хочешь присоединиться? – Как-нибудь попозже. Сегодня у досточтимого ньюри консула встреча с Судьей. Она ждет вас на базе Флота «Лиловый Вереск» в тринадцать ноль-ноль по местному времени. Я посылаю за вами катер. – Не нужно. Доберусь своим транспортом. – Вы не успеете, – молвила Алиса с легким раздражением. – База на архипелаге у Восточного материка. Флаер летит сюда шесть часов. Тревельян потянулся к кофейнику. – Кто сказал, что я полечу на флаере? При чем тут флаер? У меня способ совершенно иной. – Должно быть, ковер-самолет, – язвительно заметила Алиса. – Вот об этом, моя красавица, ты узнаешь, когда я стану для тебя Иваром. Что до консула, то у него свои секреты, – сказал Тревельян и выключил связь. Он выпил еще одну чашку кофе, доел рогалики и вернулся в опочивальню. Здесь висел в шкафу его мундир, серый с серебром, с эмблемой Фонда на левом плече. Облачившись, он приказал роботу для мелких поручений отыскать небольшой контейнер и, когда это было сделано, спрятал в него статуэтку женщины-нильхази. – Дед, – вслух позвал Тревельян, – дед, проснись. Отправляемся в «Лиловый Вереск». «Дом на берегу моря, – отозвался Командор, – белый дом с башенкой и продырявленным УБРом[169] у порога. Там еще скамейка… стальная…» – Я знаю. Видел. Прижав контейнер локтем, он закрыл глаза и вызвал портал.Глава 15 Судья Справедливости и другие лица
Дом был точно таким, как в воспоминаниях деда. Белый двухэтажный особняк с башенкой, похожей на стартующий крейсер, с террасой, выходившей в сад. В саду росли яблони, слива и странные деревья с сизыми плодами величиной с два кулака. Тревельян не сразу понял, что это смородина-мутант, завезенная с Земли шесть веков назад. Слева от высокого крыльца лежал на каменном постаменте корпус боевого робота. Досталось ему изрядно: в металлокерамическом панцире зияли дыры, грозные клешни были погнуты, метатель плазмы разрезан пополам. С другой стороны, на скамье из орудийного лафета, сидели Командор и его красавица-супруга с младенцем на коленях, а рядом с главой семейства – две девочки десяти и двенадцати лет. Живая голограмма: Командор что-то рассказывал жене, та улыбалась, девчушки хохотали. На двери дома блестела серебряная табличка. Ивар приблизился и прочитал: «Музей коммодора Звездного Флота, героя Галактики Олафа Питера Карлоса Тревельяна-Красногорцева. 2290 г., Земля – 2382 г., система Бетельгейзе». «Надо же, музей! Великая Пустота! Никогда бы не подумал! – пробормотал дед. Потом шепнул: – Малыш, встань у скамейки. Хочу на Линду посмотреть и ребятишек… Все так и было… Только не помню я, в каком году…» Не торопились, смотрели долго – здесь, на островах, в другом часовом поясе, еще не наступил полдень. Затем дед распорядился идти в дом. Комната слева от холла когда-то была гостиной, и на ее стенах сверкали в прозрачных футлярах ордена. Великое множество наград, след промелькнувшей жизни Командора… Орден «Пояс Ориона» с кометами, два «Меча Ганнибала» – им награждали полководцев, «Орден Фронтира» трех степеней, «Орден Провала», орден «За спасение соратника на поле боя», три медали «За личное мужество», медаль «За штурм Тхара», медаль «Голубая Зона»… Еще восемь почетных знаков ранений, знак отличия десантников «Триарий», знак отличия пилотов «Лимб», который выдавался за пятьсот прыжков… Много наград, но не все – Тревельян знал, что часть их не сохранилась. «В мой кабинет, голубь сизый, – велел Командор. – Второй этаж, под башней». Кабинет был просторен, едва ли не в треть этажа. Стены и потолок обшиты потемневшим от времени дубом, под окнами – огромный стол, а при нем кресло, в котором Ивар опознал старинный пилотский ложемент. У стола – терминал древнего компьютера, рядом – шкафы с книгами и сотней модулей-термосов; в них, при абсолютном нуле, хранились магнитные записи. Стена напротив шкафов была увешана оружием, какого Тревельян в жизни не видел и даже представить не мог, что где-то, кроме гигантских земных музеев, еще сохранились подобные редкости. Тут были дамасская сабля, испанская шпага, меч устрашающего вида, метательные ножи фейдао и кодзука, китайский палаш дан-гайн, секиры, копья и арбалеты. Рядом висело огнестрельное оружие: пара мушкетов, фузея с толстым стволом, винтовки, автоматы и пистолеты от кремневых до многозарядных. «Моя коллекция, – с гордостью молвил Командор. – По завещанию, все отошло Линде. Ничего не продано, не потеряно, все сохранилось… Вот женщина! Зря я с ней расстался! Зря!» – Теперь поздно сожалеть, – произнес Ивар и ткнул пальцем в один из стволов. – Это что такое? «Русский автомат «калаш», а справа от него – американская винтовка «М16». Ты выше взгляни, выше! Вот жемчужина коллекции! Винтовка Мосина[170], подлинный экземпляр 1891 года! Я раздобыл ее на Марсе, у одного старика – он держал бар в предгорьях Фарсиды. Папаша Эмиль его звали… Пил у него ром из тхарского пьяного гриба, увидел и выменял на свою форму полного коммодора… китель с серебряными «спиралями», штаны с лампасами, фуражку, сапоги… Ей, малыш, больше тысячи лет!» – Она стреляет? – полюбопытствовал Тревельян. «Пять веков назад стреляла. Хочешь попробовать? Обоймы – в нижнем ящике стола». Секунду Ивар колебался, потом покачал головой. – Соблазнительно, но нельзя нарушать порядок. Все же здесь военная база. «Законсервированная, – уточнил дед. – Ладно, не будем ворон пугать… Тебе куда нужно добраться?» – В штаб базы. В бывший штаб. «Выйди из дома, стань к морю спиной и увидишь, как над лесом игла поблескивает, а на ней – набалдашник вроде тарелки. Это штаб и есть. Но пешим ходом не добраться, до него километров двадцать пять». – Я и не собираюсь пешим, – сказал Тревельян, спускаясь вниз по скрипучей деревянной лестнице. Он постоял недолго у скамейки, поглядел на деда и его семью, затем переместился к огромной игле бывшего штаба. Вокруг царили безлюдье и тишина, ветер с моря гнал сухие листья по песчаным дорожкам, солнце отражалось в хрустальных стенах здания мириадом ярких отблесков. Игла была высотой метров шестьсот, и, вероятно, под ней имелся не один вместительный бункер. «Куда мне?..» – подумал Тревельян, включая наручный браслет. Связное устройство молчало, но через минуту из-под сводов арки на первом этаже выпорхнула Алиса Виктория. Вид у нее был очень рассерженный. – Консул! Во имя Владык Пустоты! Что же вы творите, консул! Почему связь отключена? – Я находился в месте, где меня нельзя беспокоить. Ни меня, ни моего спутника. Глаза Алисы метнули молнию. – Спутника?.. Спутницу, вы хотите сказать! Женщину! Не та ли блондинка-кни’лина опять к вам прилипла? И чем вы занимались? Ивар перехватил контейнер левой рукой и прикоснулся к виску. – Здесь памятный кристалл с личностью моего далекого предка. Он был великим воином, Алиса… Он погиб в битве с дроми шесть веков назад, сгорел на мостике своего крейсера… Здесь стоит его дом. – Тревельян вытянул руку в сторону морского берега. – Дом, в котором он когда-то жил и где теперь собраны его ордена, его оружие, его записи… Дом, хранящий память о его семье… нашей семье… Мы там были. – Сделав паузу, Ивар произнес: – Я отключил браслет. Сказано в книге Йездана Сероокого: не тревожь старца, когда ему снятся сны о прошедшей юности. Сердитое выражение на лице девушки сменилось растерянностью. – Простите, Ивар… я не знала… я думала, вы сейчас над океаном, в трех часах лета от островов… Думала, что вы не успеете к сроку, и Судья будет недовольна… – Я тебя прощаю, – сказал Тревельян, – прощаю, ибо ты впервые назвала меня по имени. А Судья… с ней мы как-нибудь договоримся. – Он ткнул в клавишу браслета. – Без десяти час… Если лифты в этом небоскребе быстрые, мы появимся точно в срок. Они вошли в огромный вестибюль, украшенный голограммами боевых кораблей, потом в залитую голубоватым сиянием шахту. Поток воздуха подхватил их, понес вверх, развевая пряди каштановых волос Алисы. Тревельян смотрел на девушку, и вдруг вспомнились ему Снежная Пасть, Жанна Брингар и параприм Нишикуандра. Что сказал четырехрукий о прекрасной терукси?.. Красивая, но не для тебя… не в этой жизни… И тогда он спросил: а что для меня? Что? Будто наяву, послышался Ивару басистый голос Нишикуандры: то, что ждет тебя в грядущем, что неизбежно и неминуемо! На этот счет не беспокойся, свое получишь. Что суждено, то суждено! Тревельян не мог оторвать глаз от девушки. Его сердце вдруг гулко стукнуло и будто бы на миг остановилось. Прав Нишикуандра: что суждено, то суждено! И не нужно спорить с судьбой, это плохо кончается! Лифт мчался наверх. За прозрачными стенами стремительно мелькали пустынные залы и безлюдные коридоры. – Как вы сюда добрались? – спросила Алиса. – Вызвали свой орбитальный челнок?.. В ковер-самолет мне как-то не верится. – Правильно, что не верится, – согласился Тревельян. – Зачем мне ковер? Кто нынче летает на этих скопищах пыли и блох? Лично у меня сапоги-скороходы. Мягкий порыв искусственного ветра вытолкнул его и Алису в обширное круглое помещение с множеством мониторов и мерцающих экранов. Тарелка наверху иглы, координирующий центр, догадался Тревельян. Здесь их поджидали двое: высокая худощавая женщина в длинном, почти до пят, фиолетовом платье и мужчина в мундире офицера Флота, но без знаков различия. Ивар положил контейнер в ближайшее кресло, пригладил волосы, одернул френч с золотистой эмблемой и представился: – Ивар Тревельян, ксенолог, консул Фонда. – Елена Градская, Судья Справедливости. Со мной коллега Кро Лайтвотер из Секретной Службы, – промолвила женщина звучным низким голосом. – Мне очень повезло, что вы оказались на Гондване, консул. Ксенолог вашего опыта и ранга – незаменимый консультант. Великолепное контральто, подумал Тревельян и склонил голову. – Рад посодействовать, Судья. Тем более что вы отправили за мной такого очаровательного посланца. Судья бросила на Алису строгий взгляд. – Если она затеет с вами роман, я ее уволю. Все-таки я отвечаю за своих сотрудников, а тут последствия непредсказуемы. Тяжелая рука у этой девушки, и она очень ревнива. К тому же метко стреляет. – Полезная информация. Я буду осторожен. – Ивар отвернулся, чтобы не смущать девушку. – Перейдем к нашей проблеме, Судья? – Да, конечно. Думаю, вы знакомы с мнением ксенологов Хейне и Абаренкова, с их гипотезой Чужого Рая? Они полагают, что Гондвана создана в качестве убежища или места отдыха для какой-то неведомой расы… вернее, создается, ибо этот процесс пока еще не завершен. Аргументы у них веские, они изучили все, что связано с регулируемой эволюцией на Гондване. Наклон планетарной оси, распределение водных бассейнов и суши, ориентацию горных хребтов, защищающих от бурь континентальные равнины, особенности животного и растительного мира. Их вывод таков: кто-то готовит для себя эту благодатную планету. Работа начата тысячелетия назад, и сейчас все природные процессы вошли в естественное русло и движутся сами по себе. – Помолчав, Судья добавила: – Что не исключает необходимости в корректировке, которую проводят от случая к случаю. – О Чужом Рае мне известно, и я думаю, что это уже не гипотеза, – сказал Тревельян, посматривая на коллегу из Секретной Службы. Кожа Кро Лайтвотера отливала бронзовым оттенком, черты были резкими, словно его лицо высекли из гранита, в темных волосах – ни намека на седину. Он словно бы не имел возраста, но в то же время Ивару казалось, что этот человек очень, очень стар. Насколько? С учетом омолаживающих процедур люди доживали до двухсот, даже до двухсот двадцати, но двумя столетиями жизнь Кро Лайтвотера явно не исчерпывалась. Похоже, он был древнее тех деревьев, что высадили на Гондване первые поселенцы. «Удивляешься? – безмолвно произнес Советник. – Ну-ну! А я вот сразу его узнал! Кро Лайтвотер, индеец-навахо Светлая Вода, из высших чинов Секретной Службы… Когда-то летал с твоим предком Вальдесом, отцом моей супруги с Тхара… Может, и с самим Полом Коркораном летал, когда Тхар у фаата отняли…[171] Кто ведает!» «С Коркораном? Но ведь это было…» – начал Тревельян. «Давно было, а он все живет и живет! Так что ты, голубь, к нему со всем почтением», – пробурчал Командор и смолк. Тем временем Судья Елена Градская подвела Ивара к столу, на котором лежал двухметровый питон с серебристой кожей и головой странной формы – будто лилия раскрыла лепестки, выпустив меж них тонкое жало. – Взгляните, консул, – промолвила она. – Чужой робот или подобное роботу устройство, регулирующее популяцию тигровых котов. Об их уничтожении узнали три-четыре месяца назад, и это вызвало интерес экологов, а затем и Секретной Службы. Был обезврежен ряд таких устройств, и теперь ведется поиск базы, где они скрывались семь или восемь столетий. Кро Лайтвотер коснулся головы серебристого питона. – Вернее, нескольких баз на континентах, островах и, возможно, под водой, на океанском дне. Это, консул, распределенная сеть, которая охватывает всю планету. Удивительно, но серьезные изыскания на Гондване до сих пор не проводились, лишь эпизодические раскопки… Несомненное упущение! У него был тихий глуховатый голос, и слова он выговаривал с почти неуловимым акцентом. Видно, он знал и помнил множество древних языков, бытовавших на Земле и в колониях до создания лингвы. Ивар все еще пытался угадать его возраст, но, кажется, это было пустым занятием. Наступила тишина. Градская и Кро Лайтвотер словно ждали чего-то от Тревельяна, но он молча взирал на робота, разлегшегося на столе. Насколько помнилось ему, ни одна из известных рас не делала такие устройства, считая форму змеи эргономически невыгодной. Исполнительные механизмы и датчики внешней среды всегда группировались вокруг управляющего центра и генератора, которые у боевых роботов защищала броня, а в остальных случаях – прочный корпус. Но, возможно, этот робот не был боевым?.. Слишком длинный и тонкий, а значит, слишком уязвимый… Зато пролезет в любую щель и дыру… Любопытно взглянуть, как он двигается… – Кажется, наш гость не удивлен, – наконец промолвила Судья. – Вам уже попадались эти киберустройства? – Тревельян продолжал безмолвствовать, и за него ответила Алиса: – Вчера мы наткнулись в лесу на мертвых кошек… Наверное, там был похожий змей, но мы его не видели. Они скользят, как тени! – Даже в Лихие Столетья, когда мы сражались с фаата и дроми, у нас не было таких роботов, – негромко произнес Кро Лайтвотер. – В те века в Солнечной системе производили много оружия, а трофейные образцы изучали очень тщательно… Но ничего подобного я не помню. – Хмм! – Тревельян прочистил горло. – Разумеется, не помните! Это робот нильхази, а с ними мы не воевали. Вообще не контактировали! – Нильхази? Что за нильхази, консул? Градская в удивлении взглянула на Ивара, но он, не ответив Судье, шагнул к креслу, поднял свой контейнер и перенес на стол. С тихим шелестом поднялась крышка, Тревельян запустил руку внутрь, вытащил резное изваяние и водрузил его рядом с серебряной змеей. Полюбовался на статуэтку, затем молвил: – Правда, хороша? Будто сейчас оживет и пустится в пляс… Рекомендую, девица нильхази! Истинная, неподдельная! Вероятно, ее соплеменники скоро будут здесь. Глаза Елены Градской расширились. С минуту она рассматривала статуэтку, потом прикоснулась к ней, тонкие пальцы пробежали по головке женщины, по распущенным волосам и гибкому стану. – Откуда это у вас? Как к вам попало это изображение? – Нильхази часто посещают систему лльяно, и одного из них отправили к нам в качестве посланца, – пояснил Ивар. – Это существо – Говорильник, как он себя называет, – сейчас на Гондване. Он попал в пространство Федерации на торговом корабле с Миров Окраины, капитан Глеб Нелюбин. По словам Говорильника, нильхази очень разгневаны и требуют, чтобы мы покинули Гондвану. Полагаю, к нам уже мчатся их боевые корабли. Лоб Судьи прорезали морщинки. – У вас, консул, больше информации, чем у меня, – молвила она после недолгого молчания. – Вы действительно отличный специалист! – Это у него наследственное, – сказал с улыбкой Кро Лайтвотер. Потом хлопнул Тревельяна по плечу и произнес загадочную фразу: – Не всякая птица долетит до середины Днепра… Ты, сынок, долетишь! И раз ты такой прыткий, скажи, что нам теперь делать. Мы с Судьей нуждаемся в твоем совете. Рука у Лайтвотера была тяжелой, но Тревельян, вспомнив слова деда – ты к нему со всем почтением! – лишь выдавил кривую усмешку. Потом сказал: – Нильхази подготовили мир, отвечающий земным стандартам, и это значит, что они очень похожи на людей. На нас, на фаата, терукси, кни’лина… Представим, что сделают люди в подобном случае? Скорее всего, начнут с угроз и демонстрации силы. Лайтвотер кивнул. – Согласен. Гуманоиды никогда не отличались миролюбием. Меня всегда удивляло ваше стремление к вооруженным конфликтам… Некий генетический дефект, я полагаю. Он сказал – ваше стремление, подумалось Тревельяну. Сказал так, словно бы не относился к человеческой расе… С другой стороны, кто из людей смог бы прожить тысячу или больше лет?.. Такое и представить невозможно! «Правильная мысль, – подтвердил призрачный Советник. – Он не человек, но существо, прожившее с нами долгие, долгие столетия. Не знаю, кто он и откуда, но времени очеловечиться ему вполне хватило». «Биоробот лоона эо? Сделанный по особому заказу?» – предположил Тревельян. «Нет, точно нет. В годы моей жизни поговаривали, что этот тип из метаморфов. Приставлен следить за Землей и сопредельной территорией. Чтобы мы не взорвали самих себя, а заодно и всю Галактику», – сообщил Командор и вновь погрузился в молчание. Тем временем Судья Елена Градская мерила зал от стены к стене, шагала мимо мерцающих экранов с опущенной головой, явно о чем-то размышляя. Вдруг она замедлила шаг, повернулась к мужчинам и бросила: – Это и есть ваш совет? Начать с угроз и демонстрации силы, ибо гуманоиды не отличаются миролюбием? – Ну, пальнуть раз-другой не помешало бы, – сказал Тревельян, переглянувшись с Кро Лайтвотером. – Нильхази, по словам Говорильника, весьма высокомерны. Хорошая порция плазмы лишь подтвердит ваш статус. Градская резко остановилась и вскинула голову. – Статус не укрепляют с помощью силы и угроз. Я – Судья Справедливости! Я человек, но действую в интересах всех разумных галактических народов! Их поддержка и вера в мои решения – вот мой статус! – Но эта новая раса ничего о вас не знает, – заметил Кро Лайтвотер. – Возможно, консул прав, и залп аннигиляторов окажется не лишним. Судья пожала плечами. – Старый спор, Лайтвотер, спор между Коллегией и вашей Службой… Не будем к нему возвращаться. Я и мои соратники считаем, что справедливость сильнее оружия. – С этими словами она повернулась к Тревельяну: – Благодарю вас, консул, вы сообщили мне важные сведения. Если в дальнейшем понадобится ваша помощь, могу ли я на вас рассчитывать? – В любой момент, когда пожелаете, – с поклоном ответил Ивар. – Я оставлю вам статуэтку нильхази… Вдруг пригодится. Он направился к лифту. Сзади послышались легкие шаги – его догоняла Алиса Виктория. – Я вас провожу. Не знаю, как вы сюда добрались, но я должна убедиться, что вы в безопасности и вернулись в Брасерию. – Не смею возразить, – сказал Тревельян и, раскрыв шахту лифта, пропустил девушку вперед. В его ушах вновь прозвучал басистый голос параприма: то, что ждет тебя в грядущем, неизбежно и неминуемо! Не спорь с судьбой!* * *
Через три минуты они вновь очутились в вестибюле огромного здания. Вздымавшийся над ними свод мерцал голубоватым светом, на стенах застыли голограммы боевых кораблей и лица их капитанов – они глядели на Ивара, будто спрашивая, достоин ли потомок славы предков. Пол Ричард Коркоран, адмирал Флота Окраины, казался строгим и суровым; коммодор Врба, изгнавший фаата с Роона и Тхара, щурил глаза из-под фуражки с серебряной галактической спиралью; Сергей Вальдес смотрел задумчиво, и за его спиной маячила громада «Урала», тяжелого крейсера Седьмой Флотилии. Тревельян повернул голову и встретил взгляд Командора: молодой, лет тридцати, не больше, он, гордо выпятив грудь, стоял на мостике своего корабля, фрегата «Свирепый», и на его мундире сияли капитанские «кометы»[172]. Алиса Виктория дернула Ивара за рукав. – Собираетесь здесь ночевать, консул? Прямо на полу, в компании голограмм? Он не успел ответить, как сзади раздался негромкий голос: – Не торопи его, девочка. На этих голограммах лица его пращуров. Вполне подходящее общество для любого из Тревельянов и Вальдесов. Ивар обернулся – к ним шагал Кро Лайтвотер, Вождь Светлая Вода, и в уголках его губ пряталась усмешка. – Алиса Виктория Браун, рождена на Тхаре, служит в Коллегии Несогласных… – произнес он. – Ты из достойной семьи, милая. Передай привет своему прадеду Гранту, мы с ним знакомы. А сейчас, если не возражаешь, я хотел бы остаться с консулом наедине. Алиса раскрыла и тут же захлопнула рот. Несомненно, имелись у нее возражения, но не тот был случай, чтобы их обнародовать. Кивнув, она направилась к выходу. Порыв ветра, залетевшего в зал, взлохматил ее волосы. – Хорошая девушка, – сказал Кро Лайтвотер, глядя ей вслед. – Гордая и немного строптивая, но хорошая. На твоем месте, Ивар… Впрочем, советов давать не буду, сами разберетесь. – Он заглянул в лицо Тревельяна. Его темные глаза были, как два колодца вечности. – Ты знаешь, с кем говоришь? Догадался, кто я такой? – Мне подсказали, – молвил Ивар, прикоснувшись к виску. – Здесь личность моего предка, того, что погиб на «Палладе»… А тут, на стене, его изображение. Две тысячи триста двадцать третий год, когда он стал капитаном «Свирепого». – Тот еще был сорвиголова… – Лайтвотер на миг опустил веки, словно к чему-то прислушиваясь. – Не могу связаться с ним, но ты скажи, что я его помню. Помню, как и всех остальных… Я ничего не забываю. – Он вас слышит, Вождь, слышит и видит. Мои глаза – его глаза. – Я рад. Жаль, что другие личности не сохранились… Литвин, Врба, Пол Коркоран, Вальдес… – Взгляд Лайтвотера скользнул по стенам зала. – Теперь они лишь память в моем сердце… Но вернемся к делам, сынок. Что ты думаешь про нашу Судью? – То же, что про остальных Судей их Коллегии. Справедливость их ремесло, но эту категорию они понимают иначе, чем мы, обычные люди… Понимают глубже, шире, в масштабах Галактики, и временами их решения кажутся странными, слишком суровыми и жесткими… – Тревельян взглянул на входную арку, за которой сияли безоблачные небеса, и со вздохом признался: – Боюсь, как бы она не отдала Гондвану нильхази. Конечно, они оказались здесь первыми и хорошо потрудились… Но было бы обидно потерять такой прекрасный мир! – К тому же близкий к Земле, а значит, имеющий стратегическое значение, – добавил Кро Лайтвотер и тоже вздохнул. – Судьи, Судьи… Прежде о таких говорили: взысканы Богом и небесами… Мы не спорим с их вердиктами, так что здесь и сейчас высшая власть – Елена Градская. Как она скажет, так и будет… Но признают ли ее решение нильхази – особенно неблагоприятное для них? Для этой расы, доселе неведомой нам, Судья Справедливости – пустой звук. – Это возможный вариант, очень возможный, – согласился Ивар. – Так что же вы предлагаете? – Я вызвал боевой корабль. – Лайтвотер поднял глаза вверх. – Он уже здесь, на орбите Гондваны. Тяжелый крейсер «Эскалибур» под командой капитана Павленко. Аннигиляторы, истребители, десант… словом, все, что полагается. Судья об этом не знает. Так что мы не беззащитны, но… – Но?.. – повторил Тревельян. – Хотелось бы обойтись без стрельбы. В крайнем случае, пальнуть раз-другой, как ты сказал, и, разумеется, не по живой цели. Но демонстрация силы не главное. Их надо удивить, и ты мне в этом поможешь. У тебя получится. Тревельян приподнял бровь. – Вы на что намекаете? – Ходят слухи, что тебе дарован очень полезный талант, – произнес с усмешкой Кро Лайтвотер. – Сам я не могу прыгать от звезды к звезде, но если наш крейсер будет недалеко от кораблей нильхази, у меня тоже получится. Так что предлагаю объединить усилия. – У вас имеется конкретный план? – Как говорят мои соплеменники-навахо, у старого лиса по три выхода из любой норы… Для начала сделаем так… – Он прошептал несколько фраз в ухо Тревельяна, сделал паузу и добавил: – «Эскалибур» контролирует систему вплоть до внешнего астероидного пояса. Нам сообщат, когда появятся чужие корабли. Павленко опытный командир. Муха между пальцев не проскочит! – Ивар глубоко втянул воздух. Пахло авантюрой, и этот аромат щекотал его ноздри. – Я готов, Вождь. – Тогда иди. – Кро Лайтвотер подтолкнул его к выходу. – Иди к своей девушке. Должно быть, она заждалась. – Тревельян покинул здание. Снаружи по-прежнему царило безлюдье, ветер с моря играл сухими листьями, и на песчаной дорожке, в сотне шагов, маячила фигурка Алисы. Он направился к ней. «Старый лис… – пробормотал Командор. – И правда лис! Не то что муха, комар меж пальцев не проскочит!» «Это ты про Павленко?» «Что за Павленко? Не знаю я никакого Павленко! Я о Лайтвотере толкую! – Дед испустил ментальный вздох. – Талант… стратегический талант… Повезло, что он на нашей стороне!» Против ожиданий, Алиса взглянула на Тревельяна благосклонно. – Кончили секретничать? Тогда полетим. Я вызвала флаер. – Для меня? – Для нас обоих. Я же сказала, что провожу вас до Брасерии. Секунду Ивар размышлял, всматриваясь в серые глаза девушки. В них отражалось солнце – два ярких крохотных солнышка Гондваны. – Сними заказ, милая. Нам не нужен флаер. Помнишь, что я говорил? У меня есть сапоги-скороходы. Она посмотрела вниз, на его башмаки. – Не вижу никаких сапог. На вас, консул, обычная обувь. – Сапоги – это метафора. Если позволишь… Ивар шагнул к девушке и крепко обнял ее. Алиса замерла, он почувствовал, как напряглись и расслабились ее мышцы. Прядь волос щекотала его щеку, губы девушки были так близки, что он ощущал ее дыхание. – Вы не слишком торопитесь, консул? – пробормотала она. – Ты это уже говорила при нашем знакомстве. Возможно, я тороплив, но есть дела, которые нельзя откладывать. Вспышка света, мгновение тьмы… Они стояли перед серебряным замком, в кольце деревьев хтаа. Вдали возвышались над полоской леса башни Брасерии, с побережья долетал едва слышный звук голосов, иногда перебиваемый музыкой. Алиса судорожно вздохнула и отстранилась. – Ивар, как… как у вас это получается?.. – У тебя, – поправил Тревельян. – Пусть у тебя… Это… это невероятно! – Ее глаза вдруг потемнели. – Ты – человек? Ты в самом деле человек? – От макушки до пят, – заверил Тревельян и поцеловал ее в губы. Из окна высунулась морда жирафа, а за нею – его бесконечная шея. – С возвращением, ньюри консул! Надеюсь, все у вас благополучно? – Вполне. Вели-ка желтому обед подавать! Видишь, у нас гостья! – Слушаюсь! Устрицы, фрукты, вино, прохладительные напитки… Что еще? – Еще – побыстрее, – распорядился Тревельян. Морда исчезла. – Ваш… твой трафор… – промолвила Алиса. – Он снова стал жирафом… – На Гондване должен быть хотя бы один жираф, пусть даже не совсем настоящий, – сказал Тревельян. – Детишкам радость, и не только им. Прилетят нильхази, посмотрят на него, удивятся… может, он их рассмешит… Вот и шаг к взаимопониманию. – Ты добрый. – Алиса приподнялась на носках и вернула ему поцелуй. – Добрый, а добро нуждается в защите. Это я обеспечу. Взявшись за руки, они неторопливо шли к лестнице с пологими ступеньками. С одной ее стороны журчал и пел фонтан, с другой – четыре лоона эо плясали бесконечный танец. – Кажется, у нас наметился роман, – произнес Ивар. – Похоже на то, – согласилась Алиса Виктория. – Не боишься, что Судья тебя уволит? – Найду другое занятие. Есть у меня знакомый консул, которому нужны помощники. – Это дельная мысль, – согласился Тревельян. – Мой предок, мой жираф и я… В нашей компании только женщины не хватает. Дверь с узором из серебряных прутьев распахнулась перед ними.Глава 16 Система Гондваны. Нильхази
В эту ночь Тревельяну снились радостные сны. Почему-то он часто просыпался, но, услышав тихое дыхание Алисы или коснувшись щекой ее плеча, снова падал в сон, и приходили к нему счастливые видения. Будто они с Алисой странствуют по Осиеру, едут в карете, запряженной парой шошотов, а с обеих сторон весело скачет почетная стража, гвардейцы-яхит с мечами и пиками, но не в шипастых железных панцирях, а в раскраске под арлекинов. Дорога же тянется с земли в небеса, в голубоватую мглу, и там, окруженные тигровыми котами, водят хоровод девушки-нильхази, все красавицы, как статуэтка Говорильника, а в середине их кольца танцуют вальс Судья Елена Градская и Вождь Светлая Вода. «Прям-таки звездное братство народов, – думал во сне Тревельян, с умилением глядя на эту картину. – Сейчас и мы с Алисой спляшем, а после отправимся в «Гранд Метрополь», на жаркое из мясных червей…» Ресторан таился где-то в голубом мареве, но, вероятно, был близко – Ивару чудилось, что он различает смех, голоса и звон посуды. Этот звон слышался все отчетливее и сильнее, пока не стал подобным тревожному набату – звенели уже не тарелки и рюмки, грохот был таким, будто колотили в медные котлы. Пробудившись, Тревельян сел в постели и открыл глаза. Рядом заворочалась Алиса, пробормотала: – Что тут у нас? Дроми атакуют? Или хапторы? – У нас тревога, – сказал Ивар, быстро натягивая одежду. – Не уверен насчет хапторов и дроми, но кто-то к нам прилетел. Вставай, счастье мое, нас ждут великие дела. Грохот прекратился, и над связным браслетом возникла крохотная фигурка мужчины в синей флотской форме. – Лейтенант-коммандер Крауз, третий помощник на крейсере «Эскалибур»! – бодро доложил он. – От капитана корабля – консулу Тревельяну: они здесь! Консул желает, чтобы за ним выслали челнок? – Не нужно, – отозвался Ивар. – Через пару минут консул будет у вас на борту. «Третий помощник!.. – заворчал дед. – Третий, крысиная задница! А первый где штаны протирает?.. С консулом первый должен общаться или сам капитан! Этот… как его… Павленко!» «Хватит мне третьего, – возразил Ивар, обуваясь. – На корабле, должно быть, боевая тревога… Командиры заняты!» «Тревога не отменяет субординации! Ты, голубь мой, этого так не спускай! Третий помощник… тьфу! Такие в мои времена вахту несли между камбузом и гальюном!» – Не брюзжи, дед, – вслух сказал Тревельян. – Отправляемся на военный объект. Может, дадут тебе покомандовать… Тряхнешь стариной! – Это куда ты отправляешься? – Алиса, розово-смуглая, прелестная, вылезла из-под одеяла. – На какой еще военный объект? И почему без меня? – Ты, любовь моя, должна оборонять наше гнездышко от инопланетных захватчиков, – сказал Тревельян и был таков. «Ох, она тебе пропишет! – донеслась мысль деда. – Ох, и пропишет! Нрав, как у Ксении, первой моей жены… Та тоже с Тхара была…» Но Тревельян уже находился в огромной рубке боевого корабля. В странствиях по Галактике случалось ему летать на крейсерах и фрегатах, ибо Звездный Флот не отказывал в помощи эмиссарам ФРИК. Зрелище было привычным: впереди – изогнутый подковой пульт, где трудились пилоты и навигаторы, сзади – капитанский мостик с дюжиной кресел-коконов, по стенам и над пультом мерцают экраны, большие, средние и совсем крохотные, величиной в две ладони. Запахи и звуки тоже казались знакомыми: пахло бодрящим хвойным ароматом, негромко переговаривались люди у пульта, массивный куб АНК[173] выводил тихую журчащую мелодию. Появление Тревельяна вроде бы никого не удивило – ни один из офицеров не обернулся, и только паривший у потолка диск вытянул в его сторону щупальце с блестевшим на конце глазом. – Приветствую на борту «Эскалибура», консул! Прошу на мостик, – раздался за спиной чуть хрипловатый голос. Ивар шагнул к возвышению в торце рубки, какая-то сила мягко приподняла его, опустив затем в объятия кресла. Он тут жеподнялся, чтобы пожать руку невысокому коренастому мужчине с серебристыми «кометами» на лацканах френча. – Павленко, капитан этой посудины, – представился офицер. – А это коммандер Ибис, первый помощник, и коммандер Зан, глава секции вооружения. Ну, с почтенным Кро Лайтвотером вы знакомы. Надеюсь, вы проскочили Лимб в добром здравии? «Очень достойные парни», – одобрил Командор. Ибис и Зан щелкнули каблуками, Лайтвотер улыбнулся. – Не смущайся, Ивар. О твоих… о наших способностях тут известно. Разумеется, не всякому, но тем, кому положено. – Я не смущаюсь, – ответил Тревельян. – В Лимбе было холодновато. Может быть, потому, что еще не завтракал. – Полетный рацион! – произнес Павленко, и подлокотник ближайшего кресла раскрылся, выдвинув тонкий длинный шланг. – Садитесь, консул, и перекусите. Мы начинаем маневрирование. Шланг осчастливил Ивара теплым густым пюре из корабельного синтезатора. Сделав три-четыре глотка, он решил, что наелся, и, отключив устройство питания, надвинул на голову шлем, висевший на спинке кресла. Переговаривались навигаторы и пилоты: – Объект за вторым астероидным поясом, направление два, четыре, шесть, ноль, дистанция одиннадцать и три астрономической единицы[174]. – Вижу. Увеличение на монитор. Уточнить дистанцию. – Есть уточнить. Одиннадцать, два, девять, два. – Лейтенант, прошу крупнее… еще крупнее… так… Выглядит, точно сферическое пылевое облако. Анализ?.. – Металл, керамика, пластик, газы, вода, живая субстанция… Интегральный состав примерно аналогичен любым кораблям известных рас. – Поражающие средства? – Дистанция слишком велика, коммандер. – Изображение – на мостик. В самом крупном масштабе! Перед Тревельяном раскрылся голографический экран. На фоне угольно-черного полога тьмы, щедро прошитого звездами, маячила ребристая сфера; тусклые отблески мчались по ее поверхности, свет пробивался откуда-то изнутри, словно конструкция была не целостной, а состоящей из отдельных элементов. Разглядеть другие подробности не удавалось – даже мощные сканеры крейсера представляли на таком расстоянии лишь общий вид объекта. «Сблизиться на пять мегаметров и врезать из аннигилятора, – посоветовал дед. – А если нужен язык с трофеями, диспозиция другая: залп из плазменных орудий, атака истребителей и десантирование на борт сквозь проломы в броне. А там бей по голове и вяжи пленных… если, конечно, у них есть головы». – Сходим с орбиты, – раздался голос капитана. – Аналитикам, группе контакта и секции связи: продолжать наблюдения. – Так точно, командир. Новый пакет данных – примерно через восемь минут. – Приготовиться к маневру, – снова произнес капитан. – Навигатор? – Курс проложен. Готов к маневру. – Двигательная секция? – Готов к маневру. – Полевая защита? – Готов к маневру. – Пилотам: маневр разрешаю. Пуск разгонных двигателей! Кресло сразу ожило, плотно охватило туловище Тревельяна, оставив свободными руки и ноги. Он скосил глаза направо, потом налево: коммандер Зак исчез с мостика, но капитан, первый помощник и Кро Лайтвотер сидели в таких же креслах-коконах. Внизу, на экранах, горевших над пилотским пультом, кружились звезды, текли нескончаемой чередой; на мгновение промелькнули светлый диск Гондваны, какая-то сложная конструкция с пристыкованным к ней лайнером, зеркало антенны дальней связи, и снова заструилась звездная река. Прошло несколько минут, наполненных тихим пением АНК и шелестом вентиляции. Потом чей-то голос произнес: – Мы на курсе, капитан. Идем в плоскости эклиптики[175]. – Полная мощность на разгонные движки. Аналитическая секция, что у вас? – Выявлена структура объекта: центральное ядро, окруженное более мелкими образованиями. Можно предположить, что в центре – крупный корабль. Очень крупный, капитан. Диаметр от двух до пяти километров. Уточняем. – Продолжайте наблюдения. Связь и группа контакта, они что-нибудь передают? – Пока молчание во всем диапазоне. – Что на Гондване? – Все орбитальные и наземные службы работают в обычном режиме. Они не видят объект. Слишком далеко. – Не видят, и ладно. Хоть паники не будет, – пробормотал Павленко и добавил строгим командирским голосом: – Маневр завершен. Отбой! Кресло выпустило Тревельяна. Он встал, избавился от шлема и бросил взгляд на экраны внизу. Звезды там были неподвижны, словно приклеенные к черному бархату огоньки, и ничего не намекало, что корабль с огромной скоростью мчится в пространстве. За спиной Ивара Кро Лайтвотер спросил: – Где мы их перехватим, капитан? – Между первым астероидным поясом и газовым гигантом. Примерно через пять с половиной часов. – Средств убеждения у нас достаточно? Капитан захохотал. Смех у него был сочным, басовитым. – Средства убеждения! Хо-хо! Первый раз слышу, чтобы так называли наш боекомплект! – Пушки! – уточнил первый помощник коммандер Ибис. – Пушек у нас хватает. Кроме того, на борту бригада десантников с боевыми роботами и четыре эскадрильи истребителей. Как положено по штатному расписанию. – Я удовлетворен, – промолвил Кро Лайтвотер. – Но напомню: мы не на войну собрались, а на переговоры. Желательно мирные. Оба офицера склонили головы. Похоже, главным здесь был Вождь Светлая Вода. – Я бы прогулялся, если капитан позволит, – сказал Тревельян. – Давно не летал на боевом корабле… Время у нас еще есть, пять с половиной часов. – Четыре, – заметил Павленко, бросив взгляд на таймер. – При сближении с объектом я объявлю боевую тревогу. Пока гуляйте, консул. Раскрылся шлюз, и Тревельян вышел в коридор. То была палуба «А», где, кроме главной рубки, находились жилые отсеки старших командиров, кают-компания, медблок, комплекс активного отдыха с бассейном и адмиральские апартаменты – на тот случай, если на борту окажется командующий флотилией. На стенах здесь висели живописные и голографические картины, потолок имитировал голубое небо, а в стенных нишах виднелись затянутые мембранами входы в гравилифты. Сделав несколько шагов, Тревельян остановился. Казалось, коридор уходит в бесконечность – в дальнем его конце пол и потолок сливались, и оттуда тянуло свежим запахом зелени. Должно быть, оранжерея, подумал Тревельян и направился к ближайшему лифту. «Бассейн! Оранжерея! Цветочки-василечки! Груши-бананы и прочий виноград! Вот этого не одобряю! – проворчал призрачный Советник. – На боевом корабле такая роскошь не нужна. Помывка в душе через день, свежие носки, рюмка шнапса к обеду и соленый огурец. Вполне достаточно». «При чем тут огурец?» – полюбопытствовал Тревельян. «Для поднятия боевого духа. Хорошая закуска», – объяснил Командор. У лифта их догнал юноша в парадной форме, отдал салют и представился: – Лейтенант-юниор Юзеф Крашевский! Послан для сопровождения! Куда пожелаете, консул? – Сопровождай, – согласился Ивар. – А желаю я подняться на смотровую палубу. Лифт был скоростным, и через несколько секунд они очутились в обширном пространстве, под куполом, заполненным яркими звездами. Смотровая палуба, верхний уровень «Эскалибура», пустовала – по боевому расписанию здесь могли пребывать только ремонтные роботы, но где они прячутся, Тревельян не знал. Он прищурился, взглянул на знакомые созвездия Гондваны, потом опустил голову. Под его ногами, невидимые глазу, но ощутимые для ментального восприятия, уходили вниз ярусы гигантского корабля – палуба за палубой, отсек за отсеком, коридор за коридором. Батареи ракет и плазменных орудий, камеры боевых роботов, трюмы с наземными машинами десанта, силовые генераторы защитных полей, лазерные и криогенные установки, порты для отстрела челноков и истребителей и оружие главного калибра – аннигиляторы, способные испарить море и сравнять с землей горный хребет… Керамическая броня, контурный двигатель для прыжков в Лимбе, маршевые гравидвижки для маневров, разгона и полетов в атмосфере, замкнутый цикл жизнеобеспечения, трехтысячный экипаж и неограниченный радиус действия… «Эскалибур» воплощал силу и мощь Земной Федерации, и ни один корабль других галактических рас не мог сравниться с этим гигантом или противостоять ему. При этой мысли Тревельян ощутил мгновенный всплеск гордости, тут же сменившийся смущением и раскаянием. Он, ксенолог Фонда, понимал не хуже Судей Справедливости, что сила не решает ничего, лишь несет разрушение и гибель. Были, были в Галактике существа посильнее людей, властители времен и пространств, были и сгинули, так и не добившись спокойствия и мира среди звезд. Даскины, древние Владыки Пустоты… Он знал, что они не предание и не мифические существа, что Галактика еще полна их скрытой мощи, он верил, что они ему помогут – так, как помогли на Раване и на Снежной Пасти. Он ощущал себя их наследником, но повторять их ошибки не собирался. Сила не решает ничего… Есть иной путь, хотя и более трудный – терпение, понимание, убеждение… В этом он был солидарен с Судьей Еленой Градской. Ивар долго стоял на смотровой палубе, глядел на звезды, размышлял, слушал воркотню деда и пытался представить, где сейчас его таинственные покровители и чем они заняты. Возможно, Первый Регистратор следит за ним из астрала или из четвертого измерения, любопытствуя, как его ученик выдержит очередной экзамен?.. Может ли он посодействовать, утихомирить нильхази?.. Это не исключалось – ведь совсем недавно, на Снежной Пасти, помощь была оказана, и ситуация разрешилась хоть не вполне счастливо, но и не столь печально, как могло случиться. Мысль о тайной поддержке придавала уверенность, но все же Ивар больше полагался на собственное разумение и план Лайтвотера. Вождь Светлая Вода был, в некотором смысле, представителем той же загадочной силы, что стремилась поддержать равновесие в Галактике. Гулкий звук раскатился над палубой. Сигналы прозвучали трижды, заметались в пустом пространстве, снова и снова отражаясь от стен и потолка. Непроизвольно вздрогнув, Тревельян повернулся к молодому офицеру. – Боевая тревога, – сказал лейтенант-юниор. – Вам нужно вернуться в рубку. – Да, разумется. Они спустились на палубу «А». На огромных экранах поста управления висел ребристый шар, и теперь можно было рассмотреть исходящие из его центра световые вспышки, ритмичные и яркие, словно мигал гигантский стробоскоп. Это излучение скрывало от взгляда корабль нильхази, но окружавшая его структура различалась ясно – Ивар видел многослойную сферу из сотен и сотен ячеек, озаренную импульсами света. Кажется, она медленно вращалась, поблескивая серебристым металлом. – Они нас обнаружили, – сказал Кро Лайтвотер. – На связь не выходят, однако тормозят. Это хорошо. Вдруг договоримся без кровопускания! Кресло-кокон приняло Ивара в свои прочные объятия. На мостике и в рубке царила напряженная тишина – пилоты и навигаторы что-то делали у огромного пульта, первый помощник Ибис сидел с закрытыми глазами, в надвинутом до бровей шлеме – должно быть, отдавал распоряжения. По лицу капитана скользили блики света от мигавшего на экранах изображения – склонив голову к плечу, он к чему-то прислушивался и шептал в шарик вокодера внутренней связи. Тревельян натянул шлем, и тишина тотчас взорвалась множеством голосов. Навигаторы сообщали о темпах сближения – до корабля нильхази было меньше сотни мегаметров, и он стремительно тормозил. Пилоты вели «Эскалибур» чуть выше уровня эклиптики – это позволяло ударить сразу из двух аннигиляторов, чьи массивные стволы тянулись вдоль днища корабля. Секция вооружения рапортовала о готовности батарей, из аналитического центра шли доклады наблюдателей, слышались резкие команды офицеров-десантников и переговоры пилотов истребительных эскадрилий. Ивар настроился на частоту группы контакта – там снова и снова пытались связаться с чужаками. Вслед за галактическими позывными Земли звучал приятный женский голос: девушка-оператор говорила на торговом жаргоне лоона эо, самом известном языке общения межзвездных рас. Несомненно, он был знаком нильхази – торговые караваны сервов добирались чуть ли не до галактического ядра. – Мы на дистанции поражения. – Ивар узнал голос коммандера Зана. – Аннигиляторы готовы к залпу. – Не стрелять, – распорядился первый помощник. – Продолжаем сближение до трех мегаметров. – Желательно ближе, – произнес Кро Лайтвотер. – Ближе нельзя. При ударе аннигиляторов окажемся в зоне взрыва. – Надеюсь, дело до этого не дойдет. Мы постараемся. Не так ли, Ивар? – Вождь Светлая Вода повернулся к Тревельяну. – Постараемся, даже согрешив при нужде, – пробормотал тот. – Впрочем, ничто в мире не свершается без греха. – Поучение Йездана Сероокого? – Лайтвотер усмехнулся. – Ну, грех обмана я возьму на себя, чтобы не случился грех убийства. «Он возьмет! – пробормотал Командор с явным одобрением. – На нем уже столько понавешано, что Каину не снилось! Ходили слухи, что в эпоху Вторжения он расправился с фаата, а после…» Внезапно на одном из экранов заплясало яркое пятно. С минуту световой кружок выделывал петли и восьмерки, потом замер в самом центре, затмив ближайшие звезды. – Их поисковый луч, – произнес коммандер Ибис. – Нащупали нас радаром. В шлеме зазвучал взволнованный голос девушки-оператора: – Они отвечают, капитан! На торговом жаргоне! Отвечают! – Включите транслятор, – велел Павленко. – Информацию передавать только мне и старшим офицерам. Вероятно, Тревельян относился к этому кругу – в вокодере его шлема послышалась речь чужака, тянувшего каждое слово, будто выпевавшего арию старинной оперы, полной обвинений и угроз. Перевод был ему не нужен, торговый жаргон он знал в совершенстве, как и десяток других языков галактических рас. – Кораблю, несущему оружие… подвергнетесь санации вместе с тварями, захватившими мир/планету/территорию… были предупреждены… достаточный срок/время, чтобы покинуть/оставить/исчезнуть… теперь поздно… теперь возмездие/наказание… И снова: – Кораблю, несущему оружие… Выслушав перевод три раза, капитан с возмущением бросил: – Он называет нас тварями! И собирается наказать! – Тварь в данном случае термин, обозначающий живое существо, – пояснил Тревельян. – Он не несет уничижительного смысла. Не надо воспринимать его как оскорбление. – А угрозы санации? Это что такое? – Санация – принятый в торговом жаргоне эвфемизм, адекватный понятию «уничтожение», – со вздохом признался Ивар. – Спорить не буду, это угроза. «Ублюдки! – буркнул Командор. – Сейчас мы их санируем по полной… Костей не соберут!» – Да, это угроза, неприкрытая и несомненная, – подтвердил Светлая Вода. – Но все же попробуем договориться, призвав на помощь хитроумие и разум. Мой вокодер подключен к внешнему передатчику? – Подключен, как и связное устройство консула. – Хорошо. – Лайтвотер скрестил руки на груди, обтянутой прочной пленкой кокона. Потом он заговорил, и Тревельян поразился, как мелодично звучит в его устах сухой невыразительный жаргон торговцев. Как и нильхази, он тянул каждый звук, выпевал каждое слово; его способность к звукоподражанию была великолепной. – Кораблю, пришедшему в эту звездную систему… Мы не желаем применять оружие. Мы люди, существа, подобные вам. Мы просим о встрече. Готовы ли вы принять нашего посланца? Едва Лайтвотер вымолвил первое слово, передача с корабля нильхази прекратилась. Все ждали ответа в гнетущей напряженной тишине. Чудилось, что время на мгновение остановило бег: молчание, окаменевшие лица, застывшие фигуры у пульта, застывшее изображение на экранах. Внезапно сфера, висевшая в тысячах километров от крейсера, вспыхнула, точно рождественская елка, и стала уменьшаться. Тревельян решил, что корабль удаляется, но это было не так – внешняя оболочка конструкции, окружавшей его, распалась на крохотные звенья, сотни искорок, сверкавших в лучах далекого солнца. Этот ливень ринулся к «Эскалибуру», и тишина сразу взорвалась десятком голосов: – Атака! Время сближения двести семнадцать секунд! – Следы органики отсутствуют, устройства беспилотные. Ориентировочно от шестисот до восьмисот. – Аналитическая секция подтверждает: там нет живых созданий. – Вывожу изображение на экраны. Конфигурация треугольная, в центре ядерный заряд. – Энерговооруженность на уровне семнадцать единиц. Вероятно, торпеды. – Семнадцать единиц… Солидно! – сказал коммандер Ибис. – Полная мощность на щиты! Маневр уклонения, капитан? – Нет. Расстреляем из орудий, а проскочившие пусть горят на щитах. – Павленко повернулся к Тревельяну. – Скажите, консул, сколько сейчас народа на Гондване? – Думаю, миллионов шестьсот. – Шестьсот… – повторил капитан, глядя, как несется к его кораблю смертоносный рой. – Шестьсот, и всех под санацию… Эх! Велика Галактика, а отступать некуда! – Он вскинул голову и рявкнул: – Секция вооружения! Огонь! Крейсер вздрогнул – раз, второй, потом палуба под ногами ритмично затряслась. То были не сильные толчки, какие случаются при ударе аннигилятора, а мгновенные резкие содрогания – очевидно, били из орудий, выбрасывая в пространство потоки плазмы, стальные шарики, кристаллы льда или что-то еще в том же роде. Тревельян не очень разбирался в вооружении крейсера, но пушек, как сказал коммандер Ибис, и правда хватало: летящие к «Эскалибуру» искры гасли одна за другой. На полупрозрачном экране, вспыхнувшем около мостика, висел объект, похожий на треугольную звездочку – его острые края загибались, в середине блестящий металл сменяло что-то темное, едва заметное на фоне космического мрака. Внизу бежали цифры – таймер отсчитывал секунду за секундой: 52, 51, 50, 49… – Форма, как у сюрикена, – произнес Кро Лайтвотер. – Такая метательная пластинка… сюрикен сампо, треугольный… Когда-то я довольно ловко их кидал… – Хотите получить его на память? – спросил капитан. – Нет, благодарю. Не собираю коллекций. На экране мелькало: 18, 17, 16, 15… – Все же пропустим эту штуковину. – Капитан что-то шепнул в вокодер. – Любопытно взглянуть, что будет. 5, 4, 3, 2, 1… Яркая вспышка на границе защитного поля, и «сюрикен» исчез. Еще десяток вспышек – сгорали другие устройства, пропущенные корабельными батареями. – Думаю, демонстрация была впечатляющей, – промолвил капитан Павленко и покосился на Кро Лайтвотера. – Атака отражена, и мы никого не убили… Судья Градская будет довольна. – Мы ничего ей не скажем об этих успешных стрельбах, – отозвался Кро Лайтвотер. – Вероятно, наши будущие камерады тоже промолчат, чтобы не терять лицо… Кстати, что там у них происходит? – Служба наблюдения, доклад, – приказал капитан, и в шлеме Тревельяна послышалась быстрая скороговорка: – Был сброшен внешний слой сферы. Под ним просматриваются еще четыре формации с объектами иного вида – возможно, там пилотируемые корабли. Интенсивность свечения усилилась. Можно ожидать новой атаки. – А вот это нам ни к чему, – заметил Светлая Вода. – Крови меж нами быть не должно, кровь – такая занятная субстанция, что вопиет к мщению и новой крови… Сейчас я с ними пообщаюсь. – Он склонился к шарику вокодера и пропел на торговом жаргоне: – Нападение не нужно/бессмысленно, наше оружие мощнее, чем у вас. Предлагаю говорить/беседовать/спорить. К вам отправляется посланец. – Корабль с существом/посланцем будет уничтожен, – донеслось в ответ. – Уничтожен/взорван/сожжен/распылен. – Кто сказал, что ему нужен корабль? Уверен, ничего не придется взрывать/распылять, – молвил Вождь Светлая Вода и протянул Тревельяну обруч с передатчиком дальней связи. – Надень, Ивар. Будет любопытно взглянуть на этих упрямцев. Надо же, какие несговорчивые! Присоски обруча легли на лоб и затылок. Он выглядел, как украшение, – золотая диадема с узором из сверкающих камней. Тревельян помотал головой и убедился, что передатчик держится прочно. – Вы должны подняться? Разблокировать кокон? – спросил первый помощник Ибис. – Спасибо, коммандер. Нет необходимости. – Он улыбнулся Лайтвотеру, закрыл глаза и в последний миг услышал: – Я жду, Ивар. Да хранят тебя Владыки Пустоты!* * *
Свет, тьма и снова свет… Он находился в огромном сферическом помещении, где, казалось, не было ничего, ни пультов с мигающими огнями, ни мониторов и экранов, ни иных устройств, привычных на космическом корабле. Он словно бы повис у верхнего полюса сферы, но гравитация здесь была нормальной, и под ногами ощущалась твердая опора. Приглядевшись, Тревельян сообразил, что площадка внизу прозрачна и что в этом отсеке – рубке?.. центре управления?.. – разбросано множество других площадок, где призрачными тенями маячат хрустальные колонны и что-то еще, изогнутое, свернутое, скрученное подобно ленте Мебиуса. Вид непривычный, решил он, но все же не корабль сильмарри, а нечто более подходящее для гуманоидов. Сами гуманоиды тоже присутствовали – десятка три созданий в ярких просторных одеждах возились у колонн и перекрученных структур. Ивар глубоко вдохнул воздух, отметил, он свеж и пахнет чем-то незнакомым, но приятным, и двинулся к краю площадки. Странно, но его шаги отозвались грохотом в гигантском зале, десятки лиц повернулись к нему, десятки взглядов будто бы прожгли его насквозь. Миг, и перед ним возникла женщина – тонкая, стройная, точно статуэтка Говорильника. Впрочем, не такая юная и беспечная, как воплощенный лльяно образ – у этой дамы были резкие черты, морщинки у губ и глаза разъяренной тигрицы. Она пропела короткую фразу и тут же перешла на торговый жаргон: – Кто ты и как сюда попал? – Посланец, я – посланец, – молвил Тревельян. – Вам сообщили, что я приду. – Но твой корабль… небольшой корабль/судно для перемещения в пустоте… Где он? – Нет корабля. Я был там, – Тревельян махнул рукой, – а теперь я здесь. Но если хотите что-то взорвать/распылить, я пошлю сигнал, и к вам отправят зонд. Автоматическое устройство без пилота. Лицо женщины окаменело, глаза расширились, лоб прорезала морщинка. Ивар ощутил ее гнев, ее изумление и испуг. Чувства казались сильными, яркими, и он воспринимал их без труда – вероятно, нильхази были очень эмоциональными существами. – Не двигайся, чужак, пальцем не шевели! – выкрикнула она. – Услышал/понял. – Тревельян прижал ладони к обручу передатчика и замер в неподвижности. Потом осведомился: – Дышать можно? – Можно оглянуться. Делай/поступай, как я говорю! Он повернулся. Сзади стояли четверо мужчин-нильхази, и каждый держал на сгибе локтя серебристую трубку с изогнутой рукоятью. Все невысокие, стройные, светловолосые… Что-то в этих людях чудилось знакомое – в их изящных фигурах, в певучем голосе женщины и в том, как держали оружие мужчины. Наверняка излучатели, подумал Тревельян. Плохо, но еще не смертельно. Опустив руки, он взглянул в лицо женщины. У нее были серые глаза. Серые, глубокие, безжалостные. – У меня нет оружия, и я не желаю причинить/доставить вам неприятности. Я, Ивар Тревельян, хочу говорить с теми, кто имеет власть на корабле. Я пришел/явился сюда, потому что сам обладаю властью среди моего народа. Это первая причина, но есть и вторая. Я тот, кто встречался с лльяно, вашим посланником, и выслушал его слова. – Я, Ун-Синити, обладаю здесь властью, и теперь я знаю, что твой народ был извещен/предупрежден, – промолвила женщина. – Но планету, принадлежащую нам, вы не покинули. Тревельян пожал плечами. – Это не просто. На планете сотни миллионов жителей, и не все умеют, как я, свободно перемещаться в пустоте. Чтобы вывезти их, нужно время. И нужны доказательства, что этот мир в самом деле принадлежит нильхази. Слов/утверждений недостаточно. Кажется, Ун-Синити так не считала. Внезапно Ивар ощутил ее ярость; она уже не испытывала ни страха, ни удивления, лишь затуманивший разум гнев. На мгновение ему почудилось, что сейчас она взмахнет рукой, и в спину вонзятся раскаленные лучи. Прыгнуть?.. Места в этой огромной сфере было предостаточно… Никто не поймает человека, которому открыт портал даскинов… Он решил не поддаваться малодушию. Вождь Светлая Вода не увидит, как он мечется здесь, играя с нильхази в пятнашки! Кроме того, преследователи могли перестрелять друг друга, а это было совсем ни к чему. Кровь не должна пролиться! «Миролюбивый ты мой… – пробормотал дед. – Знаешь, что я тебе посоветую?.. Эта баба – стерва и нормального обхождения не понимает. Покажи-ка ей зубы, малыш! А лучше покажи клыки!» – Не делай того, о чем пожалеешь, Ун-Синити, – сказал Тревельян. – Меня нелегко убить, но если это случится, придут другие, не такие терпеливые, как я. Хочешь на них посмотреть? Ментальным усилием он активировал нужный канал связного устройства. Изображение возникло прямо в воздухе, у верхнего купола сферы – огромный экран, соединивший корабль нильхази с «Эскалибуром», с палубой десанта – в ракурсе передачи она казалась широким и бесконечно длинным тоннелем. Там, шеренга за шеренгой, стояли бойцы в бронированных скафандрах – каждый с метателем плазмы на плече, с лазерными резаками, пристегнутыми к поясу. Свет играл в пластинах шлемов, делая лица почти невидимыми; мелькали то сурово стиснутые губы, то настороженные глаза под резким росчерком бровей. В тяжелом вооружении люди выглядели исполинами; чудилось, что эта армия гигантов сейчас хлынет с экрана, затопит зал и, сметая все на своем пути, ринется на палубы и в отсеки корабля. Вероятно, реакции нильхази были подобны привычным для Тревельяна: он видел, как побледнела Ун-Синити, как померк яростный блеск ее глаз. Сферическая рубка заполнялась народом, мужчины и женщины в ярких одеждах замерли, в молчании глядя на экран, но Ивар ощущал их эмоции – страх, накрывший толпу мрачной тенью. Страх и удивление – впервые нильхази встретили расу, которая не уступала им в могуществе. – Мы можем больше не говорить/общаться, – произнес Тревельян, – не обсуждать свидетельства ваших прав, не искать разумного решения. Вы угрожаете, вы напали первыми, и мы ответим вам. Не уничтожим ваш корабль, но захватим его, пленим экипаж, вскроем ваши навигационные устройства, чтобы выяснить, откуда вы пришли. Пошлем флот к вашим планетам и тогда поговорим. Ты этого хочешь, Ун-Синити? Помрачнев, женщина сделала жест, будто отталкивая Тревельяна от себя. Он оглянулся. Четверо стражей стояли в растерянности, опустив оружие. Она заговорила. – Ты, Ивр-Трев, показал своих воинов, но я не знаю, где они – возможно, до них десять солнц и столько пустоты, что нам ее не измерить. Ты говоришь, что они могут ворваться в мой корабль и захватить его. Но как они сюда придут/перенесутся? Ты был там, – взгляд Ун-Синити метнулся к экрану, – был там или в каком-то другом месте, и теперь ты здесь… Но ты сказал, что не каждый из твоего народа умеет перемещаться в пустоте. – Воины умеют, – ответил Ивар, тоже подняв глаза к экрану. – На то они и воины. Лицо Ун-Синити вдруг изменилось, и Тревельян не сразу понял, что она усмехается. Вызов и недоверие, решил он, прозондировав ее эмоции. – Как было сказано тобой, слов/утверждений недостаточно, – с насмешкой промолвила женщина. – Недостаточно, и потому я приглашу одного из воинских командиров. – Тревельян кивнул и прикоснулся к обручу на голове. – Вождь, ваш выход. Миг, и рядом с ним возникла огромная фигура. Кро Лайтвотер выглядел очень импозантно в боевом скафандре, увешанном оружием. Над его плечами торчали стволы метателя плазмы и портативного фризера, к бедрам были пристегнуты клинок и саперная лопатка, с пояса свисали лазерные ножи, газовые гранаты и пара бластеров. На взгляд Тревельяна, он походил на Фальстафа, если бы этот шекспировский герой облачился в скафандр десантника, вдруг переместившись из эпохи мечей и кинжалов в эру космических битв. Но тем, кто не слышал имени Шекспира, Вождь Светлая Вода мог показаться богом войны. Откинув лицевую пластину шлема, Лайтвотер рявкнул: – Затруднения/проблемы, носитель власти? – Абсолютно никаких, – откликнулся Тревельян. – Но я буду благодарен, если ты поприсутствуешь здесь и встанешь за моей спиной. С лязгом и грохотом Лайтвотер встал на одно колено и опустил голову. – Слушаю и повинуюсь! Желает ли носитель власти, чтобы я санировал/распылил этих крыс? – Он покосился на вооруженных стражей. – Нет, пока нет. Я думаю/уверен, что это почетная охрана. Знак уважения к моему рангу. – Если так, пусть живут. – Лайтвотер поднялся и заслонил Ивара от четырех нильхази. Ун-Синити взирала на эту сцену с приоткрытым от изумления ртом. «Чисто человеческая эмоция, – подумал Тревельян. – Они отличаются от нас не больше, чем терукси, – может быть, они еще ближе к земным стандартам». Тут ему вспомнилась Жанна Брингар, очаровательный археолог со Снежной Пасти, и он незаметно вздохнул. У него была своя теория насчет контактов между гуманоидными расами – он считал, что взаимопонимания легче всего достичь в постели. Метод действовал безотказно и был уже опробован на кни’лина, терукси, женщинах Осиера и дамах приятной внешности с других миров. Снизу, с площадок, заполненных чужаками, долетел ропот. Он становился все громче и громче, напоминая многоголосые причитания хора в греческой трагедии – похоже, экипаж корабля не желал оставаться безмолвным статистом. Тревельян вслушивался в мелодичные голоса, не понимая сказанного, но улавливая суть и смысл – нильхази явно не хотели драться. Драться, проливать кровь, страдать от ран, умирать… Перспектива плена их тоже не вдохновляла. Он в упор взглянул на Ун-Синити. – Так что ты выбираешь? Будем говорить/обсуждать? Или сражаться, как дикари, не понимающие силы слова? Будем воевать, уничтожая друг друга, будем взрывать корабли и космические станции, жечь города, санировать планеты? Что ты выбираешь, Ун-Синити? – Будем говорить, – произнесла она, и ее голос уже не звучал, как песня, а был сухим и хриплым. – Я, Ун-Синити, старшая на этом корабле, буду говорить с тобой, носитель власти Ивр-Трев. Я покажу тебе хроники древних времен, тех времен, когда, после долгих поисков, мы нашли планету, теперь захваченную вами. Ты сможешь взглянуть на хранителей, на те устройства, что были оставлены здесь – много, много лет они трудились, чтобы сделать этот мир снова пригодным к жизни. Мы прилетали сюда не часто, но существуют записи всех наших посещений, и в них указано, когда здесь были наши корабли и чем занимались их экипажи. Ты увидишь растения и животных с наших миров, что находятся очень далеко, и ты поймешь… – Прости, – сказал Тревельян, – все эти доказательства ты предъявишь другому человеку – женщине, которая ожидает тебя на планете. Она будет говорить с тобой, не я. Ун-Синити сдвинула брови, ее лоб прорезала морщинка. – Но ведь ты – носитель власти! – Власть имеет много уровней, и тот, что назначен мне, не самый высокий. Я лишь помогаю начать разговор, но решения… решения принимает та женщина. У нее гораздо больше власти, столько, что ее признают другие звездные народы. Если она скажет, что мы должны покинуть планету, так и будет сделано. Ун-Синити продолжала хмуриться. – Почему? Я не понимаю… Почему у этой женщины так много власти? – Она обладает особым даром – судить по справедливости, – промолвил Тревельян. – Она видит то, что другим недоступно. Она из моего народа, но будет говорить с тобой как нильхази с нильхази. Я так не умею. Поэтому она Судья, а я лишь ее посланец. Он окинул взглядом огромный сферический отсек, полный людей и призрачных механизмов, и сделал прощальный жест. Свет, тьма и снова свет… Они с Кро Лайтвотером стояли на мостике «Эскалибура». – Миссия была успешной? – спросил капитан Павленко. – Вполне. – Светлая Вода отщелкнул крепления шлема. – Они готовы к переговорам, и остальное – дело Судьи. – Мы должны сопроводить их к Гондване? – Хмм… Это было бы нелишним. Но держитесь в отдалении, капитан. Судья – святая женщина, и я не хочу, чтобы она знала о боевом корабле, который патрулирует эту звездную систему. Но если что-то до нее дойдет… Будем считать, что вы очутились здесь случайно – скажем, по пути к Полярной звезде. «Нашел святую! – проворчал Командор. – К счастью, Судья у нас крепкий орешек и этой стерве Ут-Синити не уступит! Я на это очень надеюсь… В ином случае куда девать мой музей с орденами и древним оружием?» «Для музея я найду место, – успокоил его Тревельян. – Академия астронавтики, где ты учился, подойдет? Хочешь, я с ними свяжусь?» Но дед продолжал ворчать: «Не о том заботишься, парень! Разберемся как-нибудь с музеем, что-нибудь придумаем… может, не придется его переносить… Ты соображай, как с девушкой своей помириться! Хорошая малышка… Опять же, с Тхара, как первая моя жена… Что ты ей скажешь? Что?» «Скажу, что спасал Гондвану от космических агрессоров». «Без нее? Ну, она тебе пропишет!» «Пропишет, – согласился Тревельян. – Может, обидится и уйдет… Что поделаешь! Как сказано в книге Йездана Сероокого, у нас есть только то, что мы теряем». «Там еще и другое сказано, – напомнил дед. – Сказано у твоего Йездана: храни, что имеешь». Тревельян лишь вздохнул. Это было неоспоримой истиной. – Благодарю за помощь, Ивар, – раздался голос Кро Лайтвотера. – Возвращайся в Брасерию. Надеюсь, мы еще встретимся. – Встретимся непременно, Вождь. Свет, тьма и голубые вечерние сумерки…Глава 17 Снова Гондвана
В Книге Начала и Конца Йездана Сероокого, пророка кни’лина, сказано: та женщина хороша, которая ни в чем не упрекает своего мужчину. Была ли Алиса Виктория знакома с этим изречением или нет, Тревельян не ведал, но поступила она именно так: ни слова упрека он не услышал. Вернувшись в свой серебряный замок, он застал Алису на веранде, где она вела ученую дискуссию с трафором. Предметом спора было понятие личного пространства у кни’лина, то есть промежутка в несколько шагов, куда не имеет права вторгаться другой индивидуум – никто, кроме слуг, медиков и очень близких лиц. Трафор утверждал, что этот обычай, называемый коно, закрепился в генетике кланов ни и похарас, сделавшись, по сути, непререкаемым психофизиологическим велением. Алиса возражала, полагая, что обычай, сложившийся в одной социальной формации, теряет силу в другой, где таких запретов нет. Вот, например, некая Ифта Кии – не только волосы отрастила, но еще и вешалась на шею консулу… Прошел вечер, прошла ночь. Утром, едва Ивар и Алиса сели завтракать под сенью деревьев хтаа, явился гость, зубастый и лохматый. От угощения отказался, устроился в траве, извлек ножик и деревяшку и начал с усердием строгать. Потом заметил: – Тут все теплый… лес теплый, земля, трава… Много мяса. Приятственно! Мой тут остаться. Когда нильхази прилететь, мой просить такой награда. – Они уже прилетели, – сказал Тревельян. Алиса бросила на него удивленный взгляд, но промолчала. Говорильник тоже вроде бы удивился. – Они прилететь? И ты еще живьем? – Живее некуда. Вчера я побывал на их корабле. Алиса едва не подавилась булочкой. – Оченно странно, – буркнул Говорильник, продолжая резать и строгать. – Ты, главный-важный, просить у нильхази пощада? Так есть? – Нет. Я беседовал с женщиной по имени Ун-Синити. Приятная дама, старшая на их корабле… Мы обсуждали некоторые аспекты космического права. – Оууу! – провыл в изумлении Говорильник, отложив на секунду нож. – Оууаоуоу! – Ох! – сказала Алиса. – После нашей беседы, – промолвил Тревельян, искоса поглядывая на свою подругу, – Ун-Синити согласилась встретиться с Судьей. Я убедил ее, что наш спор разрешится по справедливости. Но Судье необязательно об этом знать… я имею в виду мою встречу с нильхази. – Ты делать великий дело. – Лльяно вновь принялся за работу. – Мой народ назвать бы тебя волшебный Уговоритель-Заклинатель. – Так есть, – согласился Тревельян. – Иначе какой же я главный-важный? Некоторое время они молчали. Ивар прихлебывал кофе, лльяно трудился над своей деревяшкой, Алиса Виктория нервно теребила край скатерти. Вид у нее был озадаченный: долг повелевал сообщить Судье ценную информацию, любовь шептала, что делать этого не стоит. Явное противоречие интересов, подумал Тревельян, отодвинул чашку и поцеловал подругу в губы. Веский аргумент! Глубоко вздохнув, Алиса промолвила: – Я ей не скажу. Но чтобы это было в первый и последний раз! Тревельян обнял ее плечи. – Девочка моя, этого я не в силах обещать. Фонд, конечно, не Секретная Служба, но и у нас бывают миссии, о которых я даже во сне не проболтаюсь. Алиса пристально уставилась на него. – А если проболтаешься? Я имею в виду во сне? – Подушке ведомы все тайны мужа и жены… Так сказал Йездан, мудрец кни’лина, и он был прав. Я вижу только один выход: ты должна сменить мундир. Знаешь, я как раз подыскиваю секретаршу. – Секретаршу! Фи! – Алиса поморщилась. – Консулу положена секретарша. Это очень ответственная должность, – объяснил Тревельян. – Кстати, весь опыт нашей цивилизации доказывает, что лучшие секретарши получаются из жен. Главная задача на таком посту – контролировать шефа, а кто справится с этим лучше супруги? Она всегда рядом… а у тебя еще и бластер под рукой… Алиса снова вздохнула. – Ты недаром стал консулом. Ты и правда волшебный Уговоритель-Заклинатель! – Работа такая. Думаешь, просто общаться с дикарями Раваны? Или с шестиногими архами? Скажешь не то и не так, и тут же схарчат… Воистину язык – друг мой, а слово – броня и оружие! Выслушав его, Алиса принялась с задумчивым видом загибать пальцы, шепча про себя: «Первое… второе… третье… и это тоже обязательно… и еще…» – Что ты подсчитываешь, ласточка моя? – спросил Тревельян. – Вспоминаю мамин совет. Она говорила: когда влюбленный мужчина захочет на тебе жениться, выдвигай условия. Выдвигай непременно, даже если будешь любить его больше жизни. – Твоя матушка – мудрая женщина. – Мудрая, с соколиным глазом и крепкой рукой, – сказала Алиса. – Она научила меня стрелять. Даже каменные дьяволы удирают от нее, поджавши хвост… Так вот, консул, первое: наша постель лишь для двоих, и эти двое сейчас здесь. – Заметив, что Ивар колеблется, она добавила: – Ты уж извини, что я такая старомодная. Тхар – это не Земля и не Гондвана. – Договоримся, что это условие касается только гуманоидов, – сказал Тревельян. – Если я стану дроми, архом или… – Тут он бросил взгляд на лльяно, который сосредоточенно орудовал ножом. – А такое возможно? – Вполне. Видишь ли, появляются все новые методы исследования… Как-нибудь я расскажу тебе о них… Ну, что у нас второе? Но тут их разговор прервало жужжание авиетки. Темно-синий аппарат приземлился у фонтана, сложил крылья, и из кабины вылез Борхадш Келдаим, распорядитель Брасерии. Сразу было заметно, что он в растрепанных чувствах – руки дрожат, ноги заплетаются, и в глазах тревожный блеск. – Приветствую достойного консула и вас, прекрасная девица с серыми очами… – Его взгляд наткнулся на лльяно. – Вас тоже, шерстяное с зубами… Консул, вы уже слышали новости? – Смотря какие, друг мой, – молвил Тревельян. – Только что я предложил руку и сердце прекрасной девице с серыми очами… Это новость? – Несомненно… поздравляю вас… как говорится у землян, от всей моей душевной составляющей… – в растерянности забормотал Борхадш. – Но я имею в виду нечто другое. Вы, влюбленные, упиваетесь счастьем и, вероятно, отключили канал общепланетных новостей. А там… – Он застонал, прижав ладони к вискам. – Даже упиваясь счастьем, я держу руку на пульсе событий. Для этого у меня есть помощник, – сказал Тревельян и повысил голос. – Трафор! Что у нас нового в данный момент? В окно холла высунулась голова жирафа. – Начались переговоры Судьи Справедливости с полномочным представителем нильхази, чей корабль лег на орбиту Гондваны прошлой ночью. Ньюри Судья изучает доказательства. Возможно, она признает их весомыми. Даже наверняка, как сообщили час назад. – Весомыми! – с трагическим жестом воскликнул Борхадш. – Весомыми! Это значит, мы должны убраться с Гондваны! С этой чудесной, восхитительной, гостеприимной планеты, лучшей в Галактике! И я потеряю свою должность! – Не волнуйтесь вы так, – с сочувствием произнесла Алиса. – Судьба переменчива, должности теряют и должности находят… Хотите чашечку кофе? – Хочу! – Распорядитель выпил кофе залпом. – Бездонно извиняюсь, что беспокою и тревожу вас – тем более, в счастливый день брачевания… На Гондване сейчас пребывают несколько значительных персон, но самые важные – Судья Справедливости и вы, достойный консул… – Он главный-важный, – уточнил лльяно, не отрываясь от работы. – Можно сказать и так, – кивнул Борхадш. – Я подумал, что вы могли бы встретиться с Судьей и сообщить ей, что Брасерия и вся Гондвана в панике… Пляжи и рестораны опустели, никто не катается на яхтах, все запланированные экскурсии отменены, детки и женщины рыдают, мужчины тоже льют скупые слезы… Неужели мы покинем этот мир? – Я очень сочувствую деткам и всем остальным, но никто не может повлиять на решение Судьи Справедливости, – молвил Тревельян. – Никто, – подтвердила Алиса, наливая Борхадшу еще одну чашечку кофе. – Однако, – Тревельян поднялся, – я все же переговорю с Судьей. Чуть позже, ибо мне нужно подготовиться, снестись с коллегами на Земле, спросить совета, надеть парадный мундир с регалиями и все такое. Но обещаю, что я с ней – встречусь. – Нескончаемая благодарность. – Распорядитель сложил руки перед грудью и поклонился. – Я уношусь слегка успокоенный. Когда авиетка взлетела, Тревельян сказал: – Ну, так на чем мы остановились, милая? Какие будут еще пожелания? Алиса подняла взгляд к небу. – Дай вспомнить… А, вот что! Я хочу быть твоей спутницей, хочу быть рядом во всех твоих экспедициях! Во всех, даже если ты превратишься в дроми или лльяно! – Рядом не получится, у тебя еще нет нужного опыта, а ксенология – дело тонкое и временами опасное, – заметил Ивар. – Ты можешь стоять за моей спиной сбластером на изготовку. Но стрелять только по моему приказу. – Согласна, – кивнула Алиса. – Тогда считай, что ты принята в нашу компанию. Дед тебя одобрил. – Тревельян прикоснулся к виску. – Он говорит, что ты – славная малышка и очень хорошенькая. Вполне в его вкусе. Глаза Алисы округлились. – Он меня видит? – Конечно. Он… – Ууу! – вдруг произнес лльяно, поднялся из травы и протянул Алисе свою деревяшку. Нет, уже не мертвый кусок дерева, а портрет, вырезанный с поразительной точностью и искусством: головка Алисы, широко распахнутые глаза, прядь волос у щеки, затаенная на губах усмешка… Чудесная вещица, решил Тревельян, лаская взглядом то деревянное изваяние, то оригинал. – Дар! – Говорильник вновь уселся в траве. – Главный-важный нравиться? И его женщина тоже? – Очень нравится! Очень! – воскликнула Алиса. – Спасибо! Как мне тебя отблагодарить? – Для хороший Строгальщик нет другой спасибо, только нравиться, – сообщил их мохнатый гость. – Строгальщик не работать за шерсть, мясо и всякий предмет, только за добрый слова. Мой стать Говорильник, помогать мой народ… Но здесь Говорильник не надо, для люди не надо, нильхази не надо… Сделаться снова Строгальщик? – Это отличная мысль, – согласился Тревельян. – Кому ни достанется Гондвана, нам или нильхази, такого искусного мастера здесь будут почитать. Кстати, о Гондване… – Он взглянул на Алису. – Дорогая, ты могла бы испросить для меня аудиенцию у Судьи? Конечно, она занята на переговорах, но вдруг вспомнит о скромном консуле, всегда готовом дать совет. – И что же ты ей посоветуешь? – спросила Алиса. – Пока не знаю, это зависит от обстоятельств, – ответил Ивар, поднимаясь. – Как сказал один мой знакомец, призову на помощь хитроумие и разум, а еще госпожу Удачу. Бывает, она благосклонна ко мне… Вдруг снова одарит милостью…* * *
Под глазами Елены Градской залегли серые тени, щеки поблекли, морщинки у рта сделались глубже и рельефнее. На ее лице лежала печать усталости, отягощенной сомнениями; Тревельяну даже почудилось, что она стала меньше ростом – возможно, начала сутулиться. Нелегок хлеб Судей Справедливости, подумал он; за каждый свой вердикт они платят высокую цену. Градская встретила его у входной арки здания-иглы, встретила сама, что можно было считать знаком особого уважения. Вероятно, она ощущала вину – прошло четыре дня, как Ивар попросил о встрече, но время у нее нашлось только сейчас. Бывший штаб Флота и прилегающая территория уже не выглядели безлюдными – теперь народа здесь хватало, на посадочных площадках теснились авиетки и флаеры, роботы разгружали только что приземлившийся квадроплан, тащили ящики с каким-то оборудованием. Судья повела Тревельяна на второй ярус, где тоже было многолюдно: в заполненных приборами отсеках царила деловая суета, мерцали экраны, негромко перекликались операторы, слышался мерный гул установок. – Идет расшифровка их языка, – пояснила Судья. – Скоро мы начнем программировать транслятор, а пока общаемся на торговом жаргоне. Но он так примитивен! Впрочем, за неимением лучшего… Она открыла дверь, и Тревельян очутился в ее кабинете. – Прошу садиться, консул. Кофе, чай, фруктовый сок? – Спасибо, ничего, – промолвил Ивар, оглядывая скромное убранство комнаты. Стол с терминалом, вокодер местной связи, пара кресел, светильники у потолка, шкафы, заполненные памятными кристаллами… За окном ветер с моря треплет кроны пальм. Около терминала – статуэтка: красавица-нильхази, застывшая в вечном танце. – Они очень пластичны и грациозны, – заметила Судья, перехватив его взгляд. – Говорят, словно поют, даже на этом убогом жаргоне. Вечером у меня очередная встреча с Ун-Синити, главным их представителем… Хотите поприсутствовать? – Нет, – поспешно отказался Тревельян, – нет! – Отчего же? Мне кажется, вы любопытны… – Градская метнула на него проницательный взгляд. – Я готова принять любой совет, любую помощь… даже ту, о которой я не знаю и не узнаю никогда. – Против совета – никаких возражений, но мое личное присутствие было бы ошибкой, – пояснил Ивар. – С одной стороны, я не должен вмешиваться в вашу беседу, так как вы, Судья, лучше знаете, что сказать и о чем спросить. С другой… Представьте, что я сижу в углу, не говоря ни слова. Что подумает ваш партнер… как ее?.. Ун-Синити? Кто таков этот молчун? Охранник?.. Наблюдатель тайной службы?.. Лицо, контролирующее Судью?.. В любом случае это будет воспринято как знак недоверия. – Резонно, – согласилась Градская и добавила после паузы: – Ваши предусмотрительность и осторожность поистине восхищают! – Я ксенолог и чаще Судей имею дело с другими расами, – сказал Тревельян. – К нильхази у меня профессиональный интерес. Я не спрашиваю о вашем решении… скорее всего, вы еще не вынесли вердикт… Я только хочу знать, что вам уже известно про этот народ. Их физиология и психика?.. Их социальное устройство и технологический уровень?.. Их древняя и современная история?.. И, наконец, на чем основаны их претензии на Гондвану? Чем больше я буду знать, тем точнее окажутся мои советы. Судья вздохнула. – Ун-Синити ведет себя очень сдержанно, и на большинство ваших вопросов у меня нет ответов. Что же касается Гондваны, то я готова признать, что нильхази были здесь первыми. Их записи, датировка посещений и прочие свидетельства бесспорны… Они вложили огромные средства в терраформирование планеты, и это случилось шесть тысячелетий назад. Мы пришли на готовое, так что, по справедливости, я должна отдать им этот мир. – Она помолчала, глядя на статуэтку женщины-нильхази. – Предвижу, что мое решение будет очень, очень непопулярным… Это мучает меня, но поступить иначе я не могу. Понимаете, Ивар, не могу! – Что ж, так тому и быть, – сказал Тревельян. – Популярны ваши решения или нет, они должны быть выполнены… Но вернемся к нильхази. Они хотят колонизировать Гондвану? Переселиться сюда и стать нашими довольно близкими соседями? Создать свой анклав в пространстве Федерации? К его удивлению, Судья покачала головой. – Нет, и это самое странное. Гондвана имеет для них, скорее, символическое значение, не связанное с колонизацией или использованием планеты для отдыха и туризма. Они не собираются здесь что-то строить, они хотят, чтобы все осталось так, как было до пришествия землян. Их требования таковы: снести все наши здания, демонтировать орбитальные конструкции и весь этот мусор сбросить на солнце. Я попытаюсь договориться, чтобы здесь остались дельфины и завезенные нами животные и птицы… Они уже согласны не уничтожать растительность в прибрежных зонах – земные сосны, дубы и все остальное. Несколько минут Тревельян размышлял. Символическое значение… Это перекликалось с такими понятиями, как мистическое, сакральное, божественное… Возможно, Гондвана – религиозный центр нильхази?.. Планета, где пребывает их Великий Дух, по неведению оскверненная землянами?.. Это многое бы объясняло. – Место культа? – задумчиво произнес он. – Мир, который должен оставаться девственным в силу религиозных причин? – Не совсем. Ун-Синити поведала мне, что в глубокой древности, примерно тридцать тысяч лет назад, их материнская планета погибла. Обстоятельства гибели неизвестны – кажется, была война с применением столь разрушительных средств, что наступило глобальное оледенение. Затем что-то случилось… что-то покрытое мраком тайны… Так ли, иначе, но их предкам – не всему населению, а лишь малой части – удалось покинуть умирающий мир. Они бежали в панике и горе, устрашенные, негодующие, отчаявшиеся… бежали и нашли Новую Родину. – И забыли о старой? – спросил Тревельян. Что-то забрезжило в его сознании – что-то, еще не оформленное в связные мысли. – Не забыли, но с течением лет информация о материнской планете была утеряна. Остались мифы, легенды, предания… Когда они обустроились на новом месте – а это заняло тысячи лет, – их межзвездные корабли начали искать Старую Родину. – Планету примерно с теми же параметрами, что наша Земля и другие обитаемые миры, но пребывающую в стадии оледенения, – продолжил Тревельян. – Они нашли Гондвану шесть тысячелетий назад, когда египтяне еще не воздвигли пирамиды… Высадились здесь и решили, что это их Старая Родина. Елена Градская кивнула. – Именно так, консул, именно так. Они растопили льды, доставили со своих планет животных и растения и принялись налаживать экологический цикл. То, что увидела здесь наша первая экспедиция, – их труд, работа их автоматических систем, теперь большей частью дезактивированных. Но Ун-Синити указала, где сосредоточены эти роботы. Ее информация уже проверена. Тревельян стиснул голову руками. Его предчувствие никак не желало перелиться в слова – возможно, по той причине, что он ощущал эмоции сидевшей напротив женщины. Ее сомнения, ее решимость, ее мужество и гордость… Он понял, что суд уже состоялся. – Столько усилий… Очистить планету от льдов, наполнить водой океаны, моря и реки, создать атмосферу, пригодную для дыхания… – Его взгляд обратился к окну, к пальмам и бирюзовому небу Гондваны. – Отрегулировать климат, вырастить леса, заселить мир дикой жизнью, сделать его раем… Зачем все это, если они не хотят переселяться? – У них есть Новая Родина, очень далеко отсюда, – пояснила Судья. – А Старая… Ее возрождение – долг перед предками. Дань уважения тем, кто положил начало их расе. Пробудился Командор. «Кажется, ты начинаешь испытывать симпатию к этим нильхази… Я прав?» «Прав», – подтвердил Тревельян. «Тогда вспомни, голубь мой, что они собирались санировать Гондвану. И сделали бы это, да мы им не по зубам!» «Не знаю, что они сделали бы. Уничтожить сотни миллионов разумных существ… Не могу в это поверить! Скорее, они заставили бы нас уйти. Изгнали силой». «Тоже не лучший вариант», – пробормотал призрачный Советник и смолк. Елена Градская пошевелилась. – Кажется, вы о чем-то размышляете, Ивар? Ищете решение? Она очень наблюдательна, подумал Тревельян, еще не зная, что ответить. В следующий миг он понял, что предчувствие его не обмануло – он, наконец, поймал ускользающую мысль. – Ун-Синити не сообщила вам координаты Новой Родины? – ответил он вопросом на вопрос. – Пока нет. Я стараюсь не поднимать эту тему. – Отчего же? Они находятся в пространстве Федерации и, несомненно, представляют, что в нескольких парсеках от Гондваны расположены другие населенные миры. Мы вправе получить адекватную информацию, пусть не очень точную… Мне бы это очень помогло. – Я попытаюсь, – сказала Судья. – Не могу ничего обещать, но попытаюсь. Доверие… – Она помолчала. – Нам еще не хватает доверия… – Доверие должно быть взаимным, – промолвил Тревельян и распрощался.* * *
Градская связалась с ним рано утром. Утром – по времени Брасерии, а на архипелаге у Восточного материка еще царила ночь. Выглядела Судья утомленной, и Тревельян понял, что встреча с Ун-Синити только что закончилась. – Я не задавала прямого вопроса, поинтересовалась лишь вектором полета от Гондваны к их мирам. – Градская устало помассировала виски. – Они где-то в направлении Гиад, далеко за сектором кни’лина… Этого достаточно? – Вполне, – ответил Тревельян и направился было на второй этаж, в кабинет, но вовремя сообразил, что трафор там не поместится. Так что он остался в просторном холле и велел своему помощнику проделать некоторые расчеты. Судья терпеливо ждала. Ее изображение, висевшее над браслетом-коммуникатором, было крохотным, величиной с ладонь, и Ивар перевел его на большой экран. Взгляд Градской скользнул по стенам, украшенным мозаикой, по имитирующему небо потолку, по лестнице из застывшего серебра, что вела наверх, и остановился на жирафе. Ее глаза удивленно расширились. – Вы путешествуете с этим животным? Великовато для домашнего любимца! – Шшш… – Тревельян приложил палец к губам. – Прошу, Судья, не называйте его животным, он этого не любит… Перед вами искусственный разум, заключенный в конструкцию трафора. Разум очень совершенный, обладающий самосознанием, в полном смысле личность… Сейчас он делает расчеты, чтобы подтвердить мою гипотезу. Сверху спустилась Алиса. При виде Градской на ее щеках заиграл румянец, губы дрогнули – кажется, она была в смущении. – А, вот вы где, милая моя! А я гадаю, почему вы испросили отпуск в столь ответственный момент! – Лицо на экране повернулось к Ивару. – Мои поздравления, консул! Но если вы ее обидите, я вас… Какие кары ждали Тревельяна, осталось неизвестным – в этот момент трафор издал негромкое жужжание. – Я завершил анализ, ньюри консул. Вероятность шесть девяток после нуля… Полагаю, вы правы. – Правы в чем? – Тон Судьи мгновенно изменился – теперь ее голос выдавал владевшее Градской напряжение. – Нильхази ошиблись, Гондвана не их Старая Родина, – сказал Тревельян. – Сходство геофизических условий в данном случае не имеет значения, ибо все планеты, подходящие для гуманоидов, примерно одинаковы. Наша Земля, Гондвана, Тхар, Роон, миры Голубой Зоны[176] – Харра, Тинтах, Данвейт, Харшабаим-Утарту, метрополия хапторов, Йездан, материнский мир кни’лина и их колонии… Тяготение и атмосфера, климат и температурные условия, время обращения вокруг светила, наличие воды – все эти характеристики близки к стандартным. Коридор Жизни, как называют это подобие экологи… Так что остается лишь один признак – глобальное оледенение. Землеподобных планет, полностью покрытых льдами, в Галактике немного, и для нильхази сей параметр стал решающим. Я, однако, убежден, что на Гондване это вызвано естественными причинами, а не ядерной войной. Кстати, радиоактивный фон здесь в норме. С минуту Судья размышляла. Ивар видел, как сжались ее губы и прорезалась глубокая морщинка над переносицей. Кажется, она была разочарована. – Это все, консул? Боюсь, вашу гипотезу нелегко доказать… Мой партнер по переговорам решит, что это хитроумная увертка. – Не все. Есть альтернативный вариант. – Он сделал знак трафору. – Будь добр, продемонстрируй. В воздухе раскрылся второй экран, и Тревельян услышал восхищенный вздох Алисы. Пустошь шириной в несколько километров обрамляли голубоватые утесы льда, и казалось, что эта территория заключена в сосуд из драгоценного сапфира с бирюзовой крышкой безоблачных небес. Прошла секунда-другая, край заходящего солнца коснулся ледяных вершин, они вспыхнули алым, потом багряным, и жаркий рубиновый цвет поплыл к подножию стены, вытесняя синее и голубое. В трещинах краски были более глубокими, пурпурными и багровыми, выступы и острия пылали розовым и оранжевым, и по обе стороны от светила раскинулись красные с золотом крылья вечерней зари. Градская смотрела на это зрелище как зачарованная. Текли минуты, Тревельян и обе женщины молчали, любуясь сказочной феерией, потом солнце скрылось за барьером льдов, краски погасли, и небо, знаменуя конец спектакля, задернул темный занавес с искрами звезд. – Где это?.. – прошептала Судья. – Что за мир, в какой звездной системе? – Снежная Пасть, – пояснил Тревельян. – По всем параметрам землеподобный мир, однако покрытый льдами. Там работает большая партия археологов… Не стану вдаваться в подробности их открытий, но точно установлено, что Снежная была обитаема, что аборигены практически идентичны землянам и, вероятно, нильхази и что тридцать с лишним тысяч лет назад на планете разразилась катастрофа. Все искусственные сооружения были разрушены и стерты в прах, следы цивилизации полностью исчезли, жители, несомненно, вымерли – кроме тех, кто успел сбежать. В воздух поднялись радиоактивные тучи, окутали планету непроницаемой пеленой, и наступила ядерная зима. Она продолжается по сию пору. – Вы так живо описали случившееся в этом мире, словно были там, – произнесла Судья со вздохом облегчения. – Был. Я прилетел на Гондвану со Снежной, где находился по заданию Консулата. И я… Впрочем, это неважно. Он едва не проговорился о своем путешествии в прошлое, в мир Декаи Таилу, исчезнувший в потоке времени. Вряд ли Судья поверила бы в эту историю – для людей Земли и прочих рас Галактики время все еще являлось незыблемой крепостью, и неизменное прошлое лежало в фундаменте ее стен. Но знание было иной категорией, отличной от веры. Теперь он знал, знал точно, что суонч Ракасса построил звездные корабли, что Найт и его сторонники улетели с гибнущей планеты, нашли новую обитель и продолжили свой род. Значит, путешествие в их мир не было напрасным! И вот он встретился с их потомками… В определенном смысле эти нильхази были порождением собственных его трудов и удачи. Нильхази, повторил Ивар про себя, вспоминая уже полузабытый им язык. Нильхази… Нейи льо хузем, те, чей срок отмерен… Воистину прав был Нишикуандра, сказавший, что в будущее ведут разные пути… Он поднял взгляд на Елену Градскую. Судья терпеливо ждала. – Снежная Пасть – их Старая Родина, – произнес Тревельян. – Планета лежит далеко от Гондваны, на границах пространства Федерации. С нее их предки бежали в направлении Гиад и забрались дальше, чем мир Говорильника, миновав по пути сектор кни’лина… Только в те времена не было такой звездной расы – кни’лина еще с деревьев не слезли. – Перешлите мне все материалы по Снежной, – промолвила Судья. Ее глаза сияли, морщинки разгладились, и ни следа утомления не было на лице. – Все, что есть в вашем распоряжении. И если вы можете что-то добавить… – Могу. Во-первых, мой трафор рассчитал их примерный маршрут. Во-вторых, радиоактивный фон на Снежной Пасти несколько повышен, и данные замеров я тоже вышлю. А в-третьих… в-третьих, скажите им, что Старая Родина называлась Декаи Таилу. Прошло много времени, язык изменился, но вдруг они поймут… – Спасибо, консул Тревельян. – Елена Градская подняла руку в салюте. – Благодарю вас от имени Коллегии Несогласных. Буду ходатайствовать о награде. Вы достойны Почетной Медали Федерации! – У меня есть такая медаль, и свою награду я уже получил, – произнес Тревельян и бросил взгляд на Алису. – Сказано у Йездана Сероокого: не тяни две руки к благам мира, хватит одной. Судья усмехнулась, кивнула и исчезла с экрана. «Две медали лучше, чем одна. Зря ты отказался, – заметил Командор. – Я вот ничем не могу тебя наградить, но тоже благодарен. Ты отстоял Гондвану… Нетрудно перенести музей, а куда денешь воспоминания? Над ними то единственное небо, те звезды, что помнят тебя и твою женщину… Воспоминания привязаны к земле, к деревьям, камням и морю, их не перенесешь… Жаль, жаль, что я не могу тебя наградить!» «Ты тоже моя награда, – ответил Тревельян. – Твои советы бесценны». «Приятно слышать… Как думаешь, дело с этими нильхази теперь закончено?» «Не совсем. Они ошиблись, но их труд, вложенный в Гондвану, так же реален, как право первопоселенцев. За нами долг, и я уже догадываюсь о решении Судьи. Она предложит компенсацию, обязав Землю восстановить Старую Родину нильхази. Скажем, справиться с оледенением и другими геофизическими проблемами». «Что ж, это справедливо, – буркнул дед. – Но Снежная и сейчас хороша. Вместе с тобой я любовался красками заката… Красота! И ты встретил там красивую женщину, эту малышку-терукси…» «Ни слова о ней! Храни свои воспоминания, а мои оставь в покое!» «Не хочешь обижать свою подругу? Даже в мыслях?» «Не хочу!» «Ну-ну… – проворчал Командор. – Что делает любовь с разумным человеком! С таким бравым парнем! Вот и я, когда встретил Линду в «Лиловом Вереске»…» Дед смолк. Тревельян заметил, что Алиса, склонив голову к плечу, смотрит на него. В ее глазах мелькали искорки, и было непонятно, сердится ли она или хочет рассмеяться. – Ньюри консул общался со своим почтенным предком? – Да, милая. – И о чем же вы беседовали? – Мы обсуждали изречение Йездана, которое я привел Судье. Помнишь: не тяни две руки к благам мира, хватит одной… – Это мудро, ньюри консул. – Да. Но дед не согласен. Он такой упрямец, ласточка моя… – Тревельян обнял Алису Викторию, прижался щекой к ее щеке и прошептал: – Он говорит, есть такие блага, которые нужно держать обеими руками.Эпилог
В глубокой древности один из мудрецов нильхази, чье имя позабылось с течением лет, сказал: тот народ велик, который дает, не требуя платы и иного возмещения. Дает от чистого сердца, помогая обездоленным и уступая слабым… Я хочу, чтобы мой народ это помнил. И если через горы времени он встретит людей, рожденных под иными звездами, пусть станет им другом, а не врагом.Приложение 1 Галактические расы, упомянутые в романе
ДАСКИНЫ, или ДРЕВНЯЯ РАСА. Названия «даскины» или «Древние» фигурируют в языках всех известных галактических рас. Даскины являлись наиболее мощной и высокоразвитой цивилизацией, которая, согласно легендам, распространила свое влияние на всю Галактику и таинственно исчезла несколько миллионов лет назад. Облик, физиологические особенности, происхождение даскинов не известны; не сохранилось данных о их культуре, целях, образе жизни, размерах популяции, социальном устройстве и причинах, побудивших их покинуть Галактику. Тем не менее даскины не являются порождением фантазии более поздних рас, ибо сохранился ряд общеизвестных артефактов, позволяющих судить об их научных и технологических достижениях. Из них наиболее значительными являются контурный двигатель и так называемый Портулан даскинов, карта Галактики, доставленная на Землю сервами лоона эо. Затем необходимо отметить гигантские астроинженерные сооружения на протозвездах (в частности, на Юпитере), которые, очевидно, являются вратами межзвездной транспортной сети, встроенной в структуру Лимба. На многих планетах, ныне безлюдных, находили и находят до сих пор различные устройства даскинов неясного назначения: ассенизационные агрегаты, споры квазиразумных тварей, способных, при надлежащем развитии, к ментальному контакту, зев-цветок (прототип контурного привода) и т. д. Хотя даскины удалились из Галактики (и, возможно, вообще из нашей Вселенной), существует предание, что они оставили здесь эмиссаров – Владык Пустоты, существ своей или другой древней расы.ДРОМИ. Название расы пришло из языка лоона эо. Самоназвание неизвестно и, очевидно, не может быть воспроизведено звуками земной лингвы. Галактические координаты сектора дроми: OrY57/OrY64, Рукав Ориона. Материнский мир – Файтарла-Ата, координаты OrY60.08.72, число колонизированных планет – около восьмидесяти. Технологическая цивилизация уровня B3, владеющая контурным приводом, который, вероятно, получили от лоона эо. Происходят от земноводных Фартайлы, в процессе эволюции сохранили когти, клыки и чешуйчатую зеленоватую кожу. Половые различия отсутствуют, одна и та же особь может выступать в качестве самки и самца. Размножаются, откладывая мелкие, похожие на икру яйца, из которых затем выходят личинки, быстро минующие цикл развития во взрослую особь. Данный период аналогичен земному понятию детства, и в это время масса тела личинок интенсивно увеличивается. Однако взрослые дроми продолжают расти, хотя не так быстро, и в старости достигают массы в 150–200 кг. Живут 45–50 лет, но малый жизненный срок компенсируется чрезвычайной плодовитостью; оценка их популяции – 350–400 млрд особей. Очень агрессивны. Социальная структура – клановая, подчинение старейшинам и вождям кланов заложено на генетическом уровне. На протяжении двух последних тысячелетий служили Защитниками лоона эо, у которых позаимствовали некоторые технические достижения и приемы. Контракт между лоона эо и дроми был разорван в 2099 г., когда на смену дроми пришли наемники с Земли.
КНИ’ЛИНА – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора кни’лина: OrZ15/OrZ82, Рукав Ориона. Материнский мир – Йездан, координаты OrZ65.17.02. Гуманоидная раса с физиологией, чрезвычайно близкой к земному стандарту; сексуально совместимы с людьми, но, в отличие от бино фаата, браки не дают потомства (причина неясна из-за нежелания кни’лина касаться этого вопроса). Технологическая цивилизация уровня В6, в основных чертах сходная с земной. Горды, воинственны, высокомерны. Желания тесно контактировать с Землей не проявляют, однако держат на Луне небольшую дипломатическую миссию. Краткая история. В древнюю эпоху Йездан, материнский мир кни’лина, имел один спутник, затем планета захватила второй, крупный астероид, что привело к катаклизмам, упадку цивилизации и, как следствие, к жестоким войнам и всепланетной эпидемии губительной болезни. С целью борьбы с недугом большая часть населения была генетически преобразована в два крупных клана Ни и Похарас и два десятка мелких. В настоящее время единственный материк Йездана представляет собой зоны влияния Ни и Похарас и примыкающих к ним родственных кланов; имеются два органа управления, координирующий центр Хорада и около пятидесяти колоний, представляющих главную военную и экономическую силу расы. Оценка популяции – 25 млрд, из них на Йездане – 2 млрд. Темп размножения примерно такой же, как у земного человечества. Основные отличия от землян: безволосы, строгие вегетарианцы (землян презрительно называют «волосатыми» и «пожирателями трупов»), обладают исключительно тонким обонянием, привержены ряду обязательных традиций в части одежды, питания, этикета.
ЛООНА ЭО – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора лоона эо: OrY38/OrX05, Рукав Ориона. Материнский мир – Куллат, координаты OrX01.55.68. Вблизи Куллата находятся Файо, Арза и другие миры так называемой Розовой Зоны, освоенные и заселенные лоона эо в глубокой древности (предположительно 50–80 тысячелетий назад). Внешняя, или Голубая, Зона включает порядка двадцати планет – Харра, Тинтах, Данвейт и т. д., – колонизированных в более поздние времена (10–12 тысяч лет назад). Технологическая цивилизация уровня A1, наиболее высокого среди известных рас. Псевдогуманоиды; при внешнем облике, подобном человеческому, существуют глубокие физиологические различия между лоона эо и гуманоидной ветвью (люди, фаата, кни’лина и прочие). Происхождение неизвестно, темп и способ размножения в деталях не ясны; число полов – четыре. Оценить размеры популяции не представляется возможным. В психическом плане лоона эо интроверты, абсолютно не склонные к личным контактам с другими разумными существами. Однако они поддерживают активные торговые связи со множеством цивилизаций, используя для этого сервов, весьма совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика – Чейни. Миролюбивы и, вероятно, очень долговечны. В настоящее время покинули планеты, включая материнский мир, и обитают в астроидах, искусственных космических поселениях. Социальная структура неизвестна. Для обороны своего галактического сектора нанимают расы-Защитники (достоверно известны две: дроми, а до них – хапторы). С 2097 г. Защитники вербуются в Солнечной системе и других мирах Земной Федерации. Первый контакт с сервами лоона эо произошел на Плутоне, в 2096 г.
ЛЛЬЯНО – точное самоназвание расы неизвестно, так как звуки языка лльяно невоспроизводимы для гуманоидов. Общение с ними возможно с помощью трансляторов и искусственных языков лльяно-А и лльяно-Б, разработанных лоона эо. По этим языкам раса и получила свое название. Галактические координаты звездной системы лльяно в точности не установлены; предположительно, она находится в нескольких сотнях парсек за зоной влияния лоона эо, в направлении южного галактического полюса. Также неизвестны детали, касающиеся их технологического развития, общественных структур, религиозных представлений, способов воспроизводства, численности и так далее. Лльяно – закрытая раса, поддерживающая, как предполагается, длительные контакты только с лоона эо, хотя предмет торговли или иного интереса между ними до сих пор не выявлен. Вся информация, касающаяся лльяно, получена от земных наемников, сопровождавших в их сектор торговые караваны. Согласно описаниям очевидцев, лльяно выглядят как мохнатые твари с округлыми формами (по выражению одного из наемников, «напоминают небольших упитанных медведей»). Также установлено, что лльяно – хищники; практически не пользуются огнем, предпочитают мясную диету, пищу добывают в процессе охоты. Возможно, у них нет запрета на поедание разумных существ.
МЕТАМОРФЫ, ИЛИ ПРОТЕИДЫ (самоназвание расы неизвестно). Галактические координаты сектора и материнского мира этих загадочных существ неизвестны. Также нет достоверной информации об их технологическом уровне, хотя предполагается, что он высок (не ниже B8-B9). Негуманоидная раса, чьи представители обладают способностью к радикальному изменению внешнего обличья и, вероятно, метаболизма и физиологии. В качестве эмиссаров (наблюдателей?.. разведчиков?..) присутствуют на многих мирах, но, в силу своей природы, практически неуловимы. Единственный надежно зафиксированный случай контакта эмиссара-метаморфа с земным сообществом относится к 2088 г. (эпоха Вторжения). В этот период эмиссар развил активную деятельность, чтобы побудить вооруженные силы Земли к сопротивлению бино фаата и в конечном счете их уничтожению. Но эта акция фактически была выполнена самим эмиссаром: когда фаата приземлились, он доставил на борт их судна контейнер с микророботами, биомеханическим аналогом насекомых, которые осуществили утилизацию тканей квазиразумного устройства, управлявшего звездолетом агрессоров. Его уничтожение привело к гибели всего экипажа фаата. Хотя причины враждебности метаморфов к бино фаата до сих пор не установлены, нет оснований сомневаться в самом этом факте. Примечание. Хотя во время Войн Провала эмиссар метаморфов явно себя не проявил, существует мнение, что некоторая ценная информация получена Секретной Службой при его участии. Возможно, он внедрился в эту Службу и занимает в ней достаточно высокий пост. Проверка этой гипотезы запрещена руководством Службы. По выражению одного из ответственных лидеров Службы, «не надо нервировать курицу, несущую золотые яйца». Известные физиологические показатели метаморфа подтверждают, что он способен к изменению черт лица, роста, веса, цвета кожи и фигуры в рамках человеческого обличья. Также обладает возможностью телепортации объектов весом до ста килограммов в пределах Земли и до нескольких граммов – на космические расстояния (вероятно, через Лимб). Все лица, контактировавшие с эмиссаром, отмечают, что он абсолютно достоверно имитировал человеческое поведение и эмоции; никто не сомневался, что перед ним человек. Однако подобная толерантность, как и помощь в противоборстве с фаата, не означают, что эмиссар протеидов и его народ испытывают дружеские чувства по отношению к земному человечеству. Можно сделать осторожный прогноз, что они, по крайней мере, не враждебны людям. Об остальных движущих мотивах и психологических характеристиках этой расы ничего не известно.
НИЛЬХАЗИ. Гуманоидная раса, в недавнее время вступившая в контакт с Земной Федерацией. Нильхази имеют высокоразвитую технологию, способны к дальним межзвездным перелетам. Находятся в стадии изучения.
ОСИЕРЦЫ. Автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Римской империи. Находятся под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур и цивилизации парапримов.
РАВАНИТЫ. Автохтоны планеты Равана (также известна как Пекло), населенной несколькими расами: номады шас-га, оседлые кьоллы, ядугар, туфан и другие. Планета засушлива, климат жаркий, население редкое и очень воинственное; конфликты между разными народами и племенами постоянны, уровень централизации и технологии низкий (например, в сравнении с Осиером). Планета находится под патронажем Фонда Развития Инопланетных Культур.
ПАРАПРИМАТЫ, или парапримы, – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название (пара – греч. «возле», «около»). Первый контакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа, безусловно, миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет известно, но миссии Земной Федерации их пока не посещали. Тем не менее контакты развиваются весьма плодотворно; намечен ряд совместных проектов.
СИЛЬМАРРИ. Название расы пришло из языка бино фаата. Самоназвание неизвестно, не может быть воспроизведено звуками земной лингвы и, вероятно, вообще не существует. Раса сильмарри не имеет зоны влияния, не привязана к определенному сектору, а странствует на своих кораблях по всей Галактике, являя пример кочующей цивилизации (единственный феномен такого рода). Происхождение и материнский мир сильмарри неизвестны, но, по косвенным данным, они, как и даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25–30 млн лет). Технологический уровень сильмарри трудно оценить, хотя их корабль в 2125 г. посетили и обследовали земные ксенологи (в период спячки экипажа, предшествующей размножению). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер и не имеет аналогов среди техносфер других галактических рас, знакомых с контурным приводом. Распространено мнение, что их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Достоверные данные о физиологии и способе воспроизводства сильмарри отсутствуют. Внешне они подобны огромным червям (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытым белесоватой кожей, причем их тела настолько гибки, что могут вытягиваться на 12–15 метров. Питание кожное, нуждаются в разреженной атмосфере (до 5 % кислорода). Примерная оценка их популяции: несколько миллионов кораблей, в каждом из которых находится семейная ячейка – 500–1000 особей. Социальная структура, если таковая имеется, неизвестна. Абсолютно не контактны и, как правило, не агрессивны; их отношение к другим разумным существам полностью определяется позицией этих существ. Одни расы (кни’лина, хапторы, лоона эо) не препятствуют движению сильмарри в пространстве и даже почитают их, называя «отринувшими твердь планет», «галактическими странниками» и т. д.; с ними у сильмарри не происходит конфликтов. Дроми и, особенно, бино фаата стремятся уничтожить их корабли, и в такой ситуации сильмарри демонстрируют способность к активной защите и нападению.
ТЕРУКСИ. Гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к землянам (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в XXVIII в., причем за последние два столетия отношения развивались исключительно в мирном русле. Этому способствовало некоторое технологическое отставание терукси, которым эмиссарами Земли были переданы Портулан даскинов, контурный привод и ряд других агрегатов и устройств. Терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру Дингана-Пхау, обозначая тем самым границы своего сектора влияния. Он расположен в Рукаве Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата.
ТРИПОДЫ. Очень далекий мир, до которого добрались только четыре экспедиции (последнюю возглавил известный ксенолог Ивар Тревельян). Результаты исследований в данный момент обрабатываются.
ФААТА (БИНО ФААТА) – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора бино фаата: PsW127/PsW188, Рукав Персея. Расположение материнского мира неизвестно; число захваченных планет в Рукаве Персея – предположительно, от ста до трехсот. Технологическая цивилизация уровня B7, основанная на симбиозе гуманоидов фаата с искусственными квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые используются на всех уровнях производства и управления. Цивилизация фаата насчитывает три фазы, разделенные периодами катастроф (Затмений). Настоящий период (Третья Фаза) характеризуется развитием мощной военной техники, агрессивностью и активной экспансией в Рукаве Персея. Попытка вторжения в Рукав Ориона – в частности, в Солнечную систему – была пресечена в результате вооруженного конфликта в 2088 г., захвата Роона, Тхара и Эзата в 2135 г. и последующих Войн Провала в 2135–2261 гг. Фаата двуполы и относятся к гуманоидным расам Галактики; способны давать потомство с людьми Земли и, очевидно, с кни’лина. Отличия от людей: нервный узел на спине (в основании шеи), периодический выброс половых гормонов (период туахха), больший срок жизни, до тысячи лет у фаата высшей касты, и их способность к ментальному общению. Размножаются при помощи искусственного осеменения женщин касты кса, другие женские особи потомства не дают. Темп размножения медленный; оценка популяции – 2–3 млрд особей. Используют в своем секторе трудовые ресурсы покоренных рас (аэры, троны, п’ата), о которых практически ничего не известно. Социальная структура – кастовый патронат. Большими группами населения, сосредоточенными на планете или на материке, управляют Связки, пять-восемь наиболее старых и опытных особей, полностью контролирующих все сферы жизни. Представители высшей касты, имеющие ментальный дар (собственно бино фаата), считаются полностью разумными, представители остальных каст – частично разумными (тхо). Некоторые низшие касты тхо (кса, олки, «рабочие», «пилоты») выведены искусственно, и их физиология больше отличается от человеческой, чем у высших каст.
ФААТА ТРОРИ. Данный термин происходит из языка фаата (фаата’лиу). Известно, что фаата обозначают собственную расу как «бино фаата», или «полностью разумные», тогда как гуманоиды, подобные им внешне и обладающие сходной в общих чертах физиологией, называются «бино тегари», что можно с определенной натяжкой перевести как «чужие разумные», «другие разумные» или «не совсем разумные, однако не тхо». Существует, однако, третья категория разумных гуманоидов, которая обозначается как «фаата трори». Дословный перевод: «с каплей фаата» – не разъясняет ситуацию и требует комментариев. Под «каплей» в данном случае имеется в виду кровь фаата – точнее, их гены, переданные гуманоиду иной расы в результате межвидового скрещивания. Вопрос о том, есть ли фаата трори (то есть метисы) среди современного земного населения, пока остается открытым. Циркулирует слух о земных астронавтах, попавших в эпоху Вторжения на борт инопланетного корабля и ставших жертвами соответствующих биологических экспериментов, но эти сведения засекречены.
ХАПТОРЫ – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора хапторов: OrY77/OrY81, область Рукава Ориона, более близкая к ядру Галактики, чем территория Земной Федерации. Материнский мир – Харшабаим-Утарту, вторая планета системы Утарту, светило – звезда класса Солнца, координаты OrY80.35.16. Хапторы относятся к гуманоидным расам Галактики, но их внешний облик и физиология гораздо сильнее отличаются от земных стандартов, чем, например, аналогичные параметры кни’лина, фаата, терукси, осиерцев и т. д. Хапторы – замкнутая, не стремящаяся к контактам раса, и хотя об их существовании на Земле узнали еще в период Второй и Третьей Войн Провала (XXII–XXIII вв.), достоверной биологической и социальной информации в те годы получить не удалось. Во второй половине XXIII в. в различные службы космофлота начали поступать сведения от наемников лоона эо – в основном военного характера: описания боевых кораблей, вооружения, тактических приемов. Также выяснилось, что до того, как дроми стали Защитниками лоона эо, эту функцию выполняли хапторы, примерно три с половиной – две тысячи лет назад. В начале новой эры (по земной хронологии) контракт между лоона эо и хапторами был разорван, и последних в качестве Защитников сменили дроми. Это привело к долгому конфликту между этими расами, который до сих пор находится в довольно активной фазе. Следует, однако, отметить, что хапторы никогда не вели боевых действий против транспортов лоона эо и тех дроми, которые, собственно, охраняли эти корабли до появления землян; их войны с дроми носили и носят характер столкновения двух могущественных звездных империй. С лоона эо хапторы продолжают интенсивно торговать. Установлено, что хапторы обладают существенно отличным от человеческого хромосомным набором, что они не совместимы с людьми в сексуальном плане и что оплодотворение in vitro не позволит получить жизнеспособное потомство. Внешность и поведение хапторов свидетельствуют об их происхождении от древних гоминидов, несколько отличных от земных разновидностей (питекантроп, синантроп и другие). Вероятно, предками хапторов были агрессивные хищные существа, склонные к мясной диете и, вероятно, каннибализму. От них хапторы унаследовали мощное телосложение, плотную кожу и полоску меха вдоль хребта. Голова покрыта ороговевшей кожей, волос нет, по обе стороны лба – шишки (небольшие конические выступы), уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком глубоко утоплены в глазных впадинах. Человеческим эталонам красоты облик хапторов не соответствует. Хапторы двуполы, их женщины вынашивают потомство в течение пятнадцати земных месяцев и за репродуктивный период способны принести десяток младенцев (в среднем – трое-четверо). Срок жизни – около девяноста стандартных лет, оценка популяции – 50–60 млрд особей, темп размножения несколько больший, чем у земного человечества. Устройство гортани у хапторов и землян не слишком различается, что способствует взаимному освоению языков и появлению не только кибернетических, но и живых переводчиков. Технологическая цивилизация хапторов (уровень В6) в отдельных деталях обладает сходством с земной (орбитальные базы, военная техника, терраформирование планет, транспортные средства, энергетика, экспансия в космос). В настоящее время они имеют более двухсот планетарных колоний, ряд из которых густо населен. Искреннего желания контактировать с ЗемнойФедерацией не проявляют, однако согласились предоставить аккредитацию земным дипломатам на Харшабаим-Утарту. Психологический портрет: хапторы отличаются жестокостью, коварством, властолюбием, но весьма расчетливы и способны держать чувства под контролем разума.
Приложение 2 Хронология событий
2054 г. – создание ведущими державами планеты Объединенных Космических Сил (ОКС).14 мая 2088 г. – официальная дата начала Вторжения; звездолет бино фаата встретился у орбиты Юпитера с крейсером «Жаворонок» и уничтожил его.
3 июня 2088 г. – сражение у Марсианской Орбиты, в ходе которого была уничтожена часть Третьего флота Объединенных Космических Сил Земли (флотилия под командой адмирала Тимохина).
7 июня 2088 г. – приземление звездолета фаата в Антарктиде и его гибель.
22 сентября 2088 г. – рождение Пола Ричарда Коркорана (2088–2167); место рождения – Лунная база ОКС.
2095 г. – первая звездная экспедиция, достигшая прыжком через Лимб планет Альфы Центавра.
2096 г. – контакт с лоона эо; корабль, управляемый их сервами, опускается на Плутон. Человечеству передан в дар Портулан даскинов – карта Галактики.
2097 г. – строительство базы лоона эо на Плутоне (вербовочный пункт) и посольского комплекса на Луне. Начало вербовки земных наемников, которых переправляют на планеты Голубой Зоны.
2099 г. – лоона эо разрывают контракт с дроми, их прежними Защитниками. Земные наемники впервые сталкиваются с дроми в сражениях.
2095–2122 гг. – исследовано космическое пространство в радиусе тридцати парсек от Солнечной системы, основан ряд колоний у ближайших звезд. Начало звездной экспансии человечества.
2125 г. – операция возмездия «Ответный удар». Флотилия земных крейсеров под командой коммодора Врбы достигает колониальных миров бино фаата на границе Провала, в системах Беты и Гаммы Молота (Роон, Тхар, Эзат), и изгоняет фаата. Коркоран участвует в этой экспедиции в качестве капитана фрегата «Коммодор Литвин».
2134–2152 гг. – Первая Война Провала, в которой коммодор, а затем адмирал Пол Коркоран командовал Флотом Окраины, защищавшим дальние колонии Земли.
2100–2150 гг. – на Земле получена информация о некоторых галактических расах и их Зонах Влияния (хапторы, кни’лина и т. д.). В одних случаях эти сведения переданы сервами лоона эо, в других являются результатом случайных контактов земных и инопланетных кораблей в дальних экспедициях.
2164–2182 гг. – Вторая Война Провала.
2167 г. – гибель Коркорана в бою при обороне звездной системы Роона и Тхара. Флот Окраины возглавил адмирал Вентури.
2182–2185 гг. – строительство и ввод в эксплуатацию Посольских Куполов вблизи Лунной базы ОКС.
2201–2240 гг. – Третья Война Провала, наиболее длительная и кровопролитная. Иногда ее называют Сорокалетней Войной.
2234 г. – рождение Сергея Вальдеса (2234–2318), правнука Коркорана, унаследовавшего его ментальный дар.
2253–2261 гг. – Четвертая Война Провала. Закончилась разгромом бино фаата. Вальдес восемь лет сражается в этой войне, проходит путь от энсина до коммандера, второго пилота крейсера «Рим».
2262 г. – лоона эо начинают вербовать земных ветеранов, вышедших в отставку после Четвертой Войны. Борьба с дроми становится более активной и приобретает наступательный характер. Вальдес, ветеран Четвертой Войны Провала, служит наемником на Данвейте (Голубая Зона сектора лоона эо) в 2262–2266 гг.
2266 г. – крупная операция на рубеже сектора лоона эо (Голубая Зона, Данвейт), в результате которой земными наемниками была отбита одна из захваченных дроми космических цитаделей.
2274–2305 гг. – период первых вооруженных столкновений Земной Федерации с Империей Дроми.
2284 г. – у четы Вальдесов родился на Тхаре сын Марк (Марк Вальдес, 2284–2456). Дочь Ксения родилась там же спустя четыре года.
2290 г. – на Земле (Англия, Корнуолл) родился Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев (2290–2382), получивший прозвище Командор.
2306–2452 гг. – войны с дроми, затянувшиеся почти на полтора столетия, и первые боевые столкновения с хапторами и кни’лина.
2308–2310 гг. – оккупация флотом дроми систем Беты и Гаммы Молота, партизанская война на Тхаре. Освобождение Тхара, в котором участвуют Марк Вальдес и Командор.
2311 г. – в Земной Федерации создана Коллегия Несогласных и институт Судей Справедливости. Через четыре столетия эта структура выступит инициатором создания ФРИК (Фонда Развития Инопланетных Культур).
2312 г. – рождение Павла Тревельяна-Красногорцева, сына Ксении Вальдес и Командора, от которого ведет происхождение Ивар Тревельян.
2318 г. – гибель адмирала Вальдеса и его жены Инги Вальдес на крейсере «Урал» при отражении атаки дроми на Данвейт (Битва у Голубой Зоны).
2319 г. – Марк Вальдес становится Судьей Справедливости.
2352 г. – операция «Врата Галактики», в которой принимают участие Марк Вальдес и Командор.
2382 г. – гибель Командора на крейсере «Паллада» в сражении с дроми у Бетельгейзе. Имплантация личности Командора в памятный кристалл.
2574–2578 гг. – война с хапторами (Пятилетняя Война).
2600–2603 гг. – первая дипломатическая миссия в мире хапторов.
2693–2705 гг. – война с кни’лина (с кланом Ни).
2701 г. – резня на Таго, эпизод войны с кни’лина, когда их гарнизон на планете Таго был полностью уничтожен земными десантниками.
2726 г. – создание Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК).
2726–2755 гг. – разработка принципов деятельности ФРИК, создание теории Киннисона, организация Академии ФРИК и процесса обучения, первые опыты по ускорению развития инопланетных рас.
2850–2950 гг. – эпоха мира, времена Ивара Тревельяна.
Михаил Ахманов Защитник
© Ахманов В., 2014 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014* * *

* * *
Штат миссии ФРИК на планете Лиана-Секунда: Ивар Тревельян, консул Фонда Развития Инопланетных Культур, глава миссии Алиса Виктория Браун, его жена, полевой агент ФРИК Инанту Тулунов, полевой агент ФРИК Нильс Захаров, инженер-инкарнолог пха Сигеру’кшу, ксеноархеолог и палеонтолог, хаптор, благородный тэд’шо из правящего клана Кшу Хутчи’гра, его старший ассистент, хаптор Шиза’баух, его младший ассистент, хаптор Обна Шета Тренгар, провидица-терукси, гость миссии Сирад Ултаим, ее спутник и помощник, терукси, гость миссии Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев по прозвищу Командор, предок и призрачный Советник Тревельяна (на борту экспедиционного судна «Дельфин»). Трафор Гундобальдо, искусственный интеллект (на борту экспедиционного судна «Дельфин»).Пролог
«Тир» двигался в третьем поясе конического построения из двухсот кораблей. Если придерживаться точного счета, их было сто девяносто шесть: контейнеровозы и транспорты, корабли разведки, суда с гигантскими излучателями, автономные жилые модули и боевые крейсеры – на случай недружественных контактов, когда демонстрация силы полезнее доводов разума. Флагман – на острие конуса, за ним первый пояс из трех кораблей, второй из пяти, третий из семи и так далее до пояса тринадцатого, в котором шли двадцать семь эмиттеров, способных окружить непроницаемым для излучения полем даже сверхновую звезду. Все вместе – Мобильный Флот Корпуса космической защиты и терраформирования. Корпус располагал и другими службами – одни охраняли Землю, Солнечную систему и обитаемые миры, задачей других являлись масштабные проекты, связанные с переустройством планет и их спутников. Однако Мобильный Флот считался самым крупным и мощным и был предназначен для быстрого реагирования в опасных ситуациях. «Тир», тяжелый крейсер с двумя аннигиляторами, находился с внешней стороны походного конуса, так же, как пять других боевых кораблей: «Мемфис», «Сидон», «Ниневия», «Троя» и «Фивы». В середине их кольца летел транспорт за номером 43/664, судно без экипажа, чьи трюмы были набиты контейнерами с водой, продовольствием и сжиженным газом. Названия транспорт не имел – эта честь принадлежала лишь функциональным единицам флота, имеющим экипаж. В Звездном Флоте, структуре военной и очень обширной, корабли именовали по-разному: выбиралось что-то подходящее из истории Земли, используя детали ее поверхности, континенты, горы, реки и озера или определения вроде «Свирепый», «Стремительный», «Неуловимый». Но судам Корпуса, по давней традиции, присваивались названия древних городов, большей частью уже исчезнувших с лика колыбели человечества. Этот обычай был связан с первыми кораблями космической защиты «Рим» и «Вавилон», распылившими некогда падавший на Землю астероид. Экипаж «Тира» отдыхал, вахту в его просторной рубке несли пятеро: навигатор, связист, два пилота и второй помощник капитана лейтенант-коммандер Байрон Стилк[177]. Предстоящий маневр был несложным; расчеты велись на флагманском корабле, а крейсеру, так же, как всему походному конусу, полагалось следовать назначенным курсом. В рубке царила тишина, в воздухе веяло свежим запахом хвои. Навигатор и один из пилотов угощались кофе, Стилк поглаживал щеки и размышлял о том, не пора ли побриться или все же отпустить бородку. Последнее уставом не запрещалось, но Йен Скворцов, капитан «Тира», бороды не одобрял. Над пультом связи заплясали неяркие световые отблески. – Курсовые данные от флагмана, – доложил связист. – Курс загружен, – произнес навигатор Шан Го, отставив пустую чашку. – Приступаю к маневру, – откликнулся пилот. Стилк поднял глаза к экранам в передней части рубки. На одном виднелись, заслоняя искорки звезд, ближние соседи в третьем поясе, крейсеры «Троя» и «Мемфис», и угловатый корпус транспорта; на двух других – корабли второго и четвертого поясов. Их позиции относительно «Тира» не изменились, и это значило, что весь походный конус синхронно развернулся, направив свое острие к южному полюсу Галактики. Через несколько секунд пилот сообщил: – Начинаем разгон. Переход в двенадцать ноль четыре по бортовому времени. – Примерно в двух парсеках от системы Лиан, – добавил навигатор, вызвав на свой пульт данные из Звездного Атласа. – Судя по расчетам, это будет последний скачок. – Система Лиан… – Стилк коснулся шеи под челюстью, чувствуя, как щетинки покалывают ладонь. – Совсем близко к фронту потока… Скажите, Шан, там есть обитаемые миры? – Вторая планета с какими-то странными существами, – промолвил навигатор, всматриваясь в скользившие по экрану строчки. – Никогда не слышал о них… Здесь пометка, что информация уточняется. На этой Лиане-Секунде сейчас исследовательский отряд, наши и хапторы. Миссия ФРИК, я полагаю[178]. Лейтенант-коммандер меланхолически кивнул. – Ну, скоро они увидят великолепный фейерверк… как говорится, небо в алмазах… Кстати, их предупредили? – Разумеется, – отозвался связист. – Корпус послал сообщения всем, кто ведет работы в зоне риска. Далекий сектор, очень далекий, и тут, собственно, никого нет, кроме этой экспедиции. – И обитаемой планеты, – произнес навигатор Шан. – Очевидно, мы должны прикрыть светило Лиан и три соседние звезды. Дальнейшее распространение потока никому не угрожает. Он стремится в пустоту. – В Великую Пустоту, – уточнил Байрон Стилк, обратив взгляд к угольно-черному пятнышку на экране. Там, между галактическими рукавами Ориона и Персея, зиял Провал, пространство без планет и звезд шириною в четыре тысячи парсек. Представив эту бездну, Стилк невольно вздрогнул и пробормотал: – В Провале поток будет двигаться чуть ли ни полтора миллиона лет… Огромное время! Мы, вероятно, уже покинем эту Галактику и улетим куда-то, вслед за даскинами. Навигатор усмехнулся. – У вас, лейтенант-коммандер, богатое воображение. Я бы не рискнул делать прогнозы на столь отдаленный срок. То ли улетим, то ли… Ожил вокодер внутренней связи. – Капитан – старшему вахтенному офицеру. Доложить обстановку. Стилк подтянулся, стряхнул невидимую пылинку с лацкана синего с серебром мундира и отрапортовал: – Приняли курс от флагмана, капитан. Идем к точке перехода. До скачка тридцать семь минут. Какие будут распоряжения? – Прекратить болтовню в рубке, – буркнул капитан Скворцов и отключился.Глава 1 Харшабаим, лагерь экспедиции. Паршивец Тза
Лиана-Секунда – мир лльяно, вторая планета звездной системы NG-0604/78447 (светило Лиан, красновато-оранжевая звезда). Общее описание: землеподобный мир, пригодный для обитания всех гуманоидных рас. Отчасти изучен лишь в последние три-четыре десятилетия хапторами и представителями Земной Федерации; до этого посещался исключительно торговыми караванами лоона эо. Суша планеты состоит из трех материков: Харшабаим, Ххе и Ххешуш (названия даны хапторами). Харшабаим, огромный населенный континент, простирается от умеренных широт Северного полушария до умеренных широт Южного, материки Ххе и Ххешуш необитаемы, невелики и тяготеют соответственно к Южному и Северному полюсам. Богатая флора и фауна (см. раздел «Животный и растительный мир землеподобных планет»). Основные элементы планетарной поверхности – горы и поросшие лесами равнины умеренной, субтропической и тропической зон. Пустыни и степи редки. В полярных областях Ххе и Ххешуша – ледники. Население Харшабаима однородно и составляет от семидесяти до ста миллионов особей. Городов нет; небольшие общины лльяно обитают в деревнях около источников пресной воды. Их технология примитивна, но уровень культуры – в том, что касается ряда искусств – весьма высок. Период обращения планеты вокруг оси: 28,4 стандартного часа. Период обращения планеты вокруг светила: 210 местных суток (2/3 земного года). Естественные спутники: пять. Месяцы отсчитываются по обороту наиболее крупной луны (45 местных суток). Тяготение: 1,07 земного. Состав атмосферы: см. раздел «Атмосферы землеподобных планет». Координаты: см. раздел «Галактические координаты землеподобных планет».Большой Звездный Атлас, издание седьмое, Земля-Марс.
* * *
Ивара Тревельяна разбудили визгливые крики. Он лежал на узкой походной койке, недовольно щурился и слушал, как за защитным барьером вопят: – Выходи, безволосый! Выходи, и я проткну твое брюхо копьем! Сдеру с тебя шкуру и натяну на барабан! Скормлю твой труп ночному молчаливому! Пропляшу танец победы на твоих костях! На соседней койке зашевелилась Алиса Виктория. Зевнула, села, спустив на пол точеные ножки, и промолвила: – Тза! Вот негодяй! Выспаться не дает! – Зато нас приобщают к местной ненормативной лексике, – сказал Тревельян. – Ты только послушай, дорогая! Какие изысканные оскорбления! Потянувшись к пульту, он включил экран. За едва заметным мерцанием защитного барьера, на фоне ярко-зеленой травки и усыпанных белыми цветами кустов, подпрыгивала и кувыркалась мохнатая фигурка. В левой лапе Тза сжимал копьеметалку и дротик с костяным наконечником, правой делал непристойные жесты. За ремнем, охватывающим торс, трепетало алое перо, знак вызова на поединок. – Хххфу паршивый! Выходи, смердящее мясо! Сделаю ожерелье из твоих зубов! Тза вопил на альфа-лльяно, который в селении Хх'бо татор ракка знали даже дети. Кроме здоровой глотки, он мог похвастать лишь нахальством и ловкостью в танцах, но, как все молодые охотники, рвался к подвигам. Согласно поговорке лльяно, его шерсть была не длиннее когтя и ум тоже. Ивар отвел глаза от экрана, решив, что смотреть на Алису куда приятнее. Очаровательное зрелище – любимая жена в полупрозрачной ночной сорочке! За два года он так и не нагляделся, хотя к новому своему положению семейного человека привык вполне. У Алисы был твердый характер, и она умела поддерживать у мужа полезные привычки. – Что он привязался к бедному Сигеру'кшу? – Алиса опять зевнула, прикрыв губы ладошкой. – Почему не к тебе, не ко мне, не к Нильсу или Инанту? И потом, есть ведь и другие хапторы[179]! – Сигеру самый крупный из нас, – пояснил Тревельян. – Он выше меня на голову и выглядит куда мощнее Хутчи и Шизы. Тза полагает, что если кого вызывать, так сильнейшего бойца. Больше мускулов, больше славы. Алиса запрокинула руки за голову и потянулась, упругие груди просвечивали сквозь тонкую ткань сорочки. Она вроде бы не смотрела на Тревельяна, но глаза ее вдруг заблестели, губы изогнулись в лукавой улыбке, и прядь волос упала на обнаженное плечо. То была игра влюбленной женщины, ритуал соблазнения, повторявшийся утром или вечером, а иногда и днем. Алису, уроженку Тхара, воспитывали строго и соблюдая правила, она всегда шептала: Нет, нельзя, не время, милый… Но через пару минут выяснялось – да!.. самое время!.. можно и даже нужно!.. Тревельян находил это очаровательным. Два года – срок небольшой, и его все еще не оставляло чувство, что их медовый месяц не закончился. Может быть, не закончится никогда. Но визг и вопли лльяно были неподходящим аккомпанементом для любви. Улыбка Алисы растаяла, она вздохнула и сердито покосилась на экран. – Сигеру его ладонью прихлопнет! – Если догонит, – сказал Ивар. – Кажется, это пятый вызов… Нет, уже шестой! И всякий раз Тза бросается в кусты как кролик, верещит и мчится в лес. Искать его в зарослях деревьев хх'бо очень проблематично. Алиса пожала плечами. – И какой же ему профит от трусливого бегства? – Это ты считаешь, что бегство трусливое. В понятиях лльяно все не так – Тза бежит в лес, чтобы выбрать подходящее место для схватки, а противник не желает его догнать и прекращает погоню. Значит, противник – трус! Тза вызывает его снова и снова, повышая свой рейтинг в племени. Сбросив сорочку, Алиса принялась натягивать комбинезон. Ивар не спускал с нее глаз. – Кажется, я понимаю, – сказала она. – Лльяно не воины, а охотники. Воину для схватки нужно ровное пустое место – арена, как для гладиаторов. Воин в поединке хочет показать искусство владения оружием… Но у того, кто охотится в лесу, другие инстинкты, для него противник не враг, а добыча. Нужно его обмануть, подкрасться, напасть из засады, заманить в капкан… – Она вдруг фыркнула. – Представь, как Сигеру ворочается и пыхтит в ловчей яме! А негодяй Тза пляшет вокруг нее танец победы! – Ты верно уловила суть, милая тхара, – промолвил Тревельян и тоже начал одеваться. – Ты у меня умница… – бормотал он, застегивая пояс. – Из тебя, Алиса Виктория Браун, выйдет отличный полевой агент… В чем я не сомневаюсь, ибо твой наставник – сам консул Фонда… Ты у нас еще получишь Венок Отваги и Почетную Медаль! Я их вручить не смогу, это было бы чистым протекционизмом, но есть ведь и другие консулы… Пьер Каралис, например, или Юи Сато… Тза, продолжавший надрываться, выкрикнул: – Где ты, гнилая плесень? Я жду, и когти мои остры! Выходи, криворогий! – Это он зря! – буркнул Тревельян и стал торопливо обуваться. – Нельзя так непочтительно упоминать рога! Хапторы в этом отношении очень уязвимы, а Сигеру'кшу особенно! Как-никак, он благородный тэд, член одного из правящих кланов, и… Где-то в глубине здания базы раздался утробный рев. Звуки были столь громкими и неразборчивыми, что Тревельян не понял ничего, хотя языком хапторов владел в совершенстве. Натянув на запястье комм-браслет, он выскочил из спальни, бросился к выходу, но не успел: мерцание защитного поля погасло, раздался негромкий щелчок, и в Тза полетели иглы. К счастью, рука у Сигеру'кшу тряслась от ярости, и в лльяно он не попал – залп пробуравил почву левее. Тза порскнул в кусты, хаптор ринулся за ним, затрещали ветки, посыпались на землю белые соцветия, раздался пронзительный визг, перекрытый гневным рыком. – Убьет, если догонит, – мрачно пробормотал Тревельян, предвидя дипломатические осложнения. Он оглянулся – все обитатели станции были здесь, собравшись за его спиной: Инанту Тулунов, полевой агент, Нильс Захаров, инженер-инкарнолог, и два ассистента Сигеру'кшу, молодые археологи Хутчи'гра и Шиза'баух. Разумеется, и Алиса Виктория Браун, тоже полевой агент и супруга главы миссии. Нильс зевал с невозмутимым видом, стараясь держаться подальше от Алисы, с которой пребывал в состоянии конфронтации. Смуглые щеки Инанту порозовели, он выглядел явно обеспокоенным; что до хапторов, те, отвесив челюсти, жадно посматривали на пролом в кустах. Похоже, им не терпелось броситься вслед за благородным тэдом и помочь ему в ловле обидчика. – Стоять! – приказала им Алиса на альфа-хапторе. – Расслабьтесь, пасеша. Сигеру'кшу справится сам. Рты ассистентов захлопнулись. По предыдущему опыту им было известно: если Алиса велит стоять, то надо стоять, а если приказано прыгать на одной ножке, надо прыгать. Ее власть над этими гигантами была поразительной – тем более что в обществе хапторов, сугубо мужском, женщины и их мнения ценились не больше прошлогоднего снега. – Если он прикончит Тза, у нас будут неприятности, – промолвил Инанту Тулунов, щуря узкие глаза. – Если позволите, консул, я сбегаю в лес, послежу, как бы чего не случилось. Но Тревельян покачал головой. – Нельзя, это будет для них оскорбительно. Сигеру'кшу не нужна помощь в деле чести, а если ты спасешь Тза, он тоже не будет благодарен. Это подорвет его репутацию отчаянного смельчака. «Сложная ситуация! – мелькнула мысль в голове консула. – И чем дальше, тем больше сложностей! Особенно если Сигеру'кшу всадит в наглеца парализующие иглы…» Прямые контакты, в отличие от тайного и незаметного влияния, нередко вели к обидам, ссорам и всяким осложнениям. Минут через пять кусты раздались, и из них, сопя и отдуваясь, выбрался Сигеру'кшу, огромный, голый до пояса и босой. На его на плечах и груди бугрились могучие мышцы, к потной сероватой коже прилипла сбитая листва, за ремнем, поддерживающим короткие штаны, торчала рукоять игломета. Несомненно, он бросился в погоню, выскочив из постели, но шишки на его безволосой голове прикрывали серебряные колпаки с протянутой между ними цепочкой. Шишки, а точнее, «ге», то есть рога, были гордостью хапторов, а их размер и украшения – знаком высокого сана. – Хрр… Удрал, хашшара безрогая! Чтоб его синие черви съели! – рявкнул Сигеру, со злостью стукнув кулаком о кулак. Казалось, сейчас от него посыпятся искры, воспламенив кустарник и сухую траву. Археолог подтянул штаны, наклонился, вытащил из босой ступни колючку и буркнул: – Попался бы мне этот увертливый поганец! Хохо'гро, шинге шеге![180] Тревельяну эти идиомы были непонятны, но Хутчи'гра и Шиза'баух, явно восхищенные, разом склонили головы и пробормотали: – Аха! Воистину так, тэд'шо! Затем Хутчи, старший ассистент, приложил ладонь к подбородку в знак почтения и поинтересовался: – Желаешь, чтобы мы поймали этого куршута и содрали с него кожу? Или достаточно вырвать его мерзкий язык и переломать лапы? Но благородный тэд уже остыл и, взвесив последствия такой экзекуции, сделал жест запрета. – Хес! Нет, не надо. Мы кихха[181], и мы должны копать. Копать, копать и разглядывать найденное! Нельзя, чтобы этому мешала рознь с мелкими поганцами. – Повернувшись к Тревельяну, хаптор уставился на него с высоты своего роста и добавил: – Я верно говорю, харша ашинге? В данном случае это означало «главный безрогий», формальное обращение к главе миссии. Так что Ивар кивнул и с облегчением произнес: – Разумеется, пха'ге. Наше дело копать, копать и разглядывать. Ты прав, лишние сложности нам ни к чему.* * *
Впрочем, здесь, так же, как в других местах, без сложностей не обходилось. Обычно Фонд Развития Инопланетных Культур содействовал прогрессу архаических цивилизаций и рас, не обладавших развитой технологией, совершая это путем внедрения эстапов – элементов социального и технического прогресса. Эстап мог носить различные формы: это могла быть идея о шарообразности планеты или способ отсчета времени, мысль о преимуществе земледелия перед охотой и собирательством, проект ветряной мельницы, парового двигателя или соображения о том, что поедать своих сородичей неэтично даже в ритуальных целях. Со временем идея, подброшенная правильно и осторожно, приносила плоды; автохтоны начинали лепить горшки и варить мясо, добывать руду, строить города и отправляться в дальние странствия, чтобы найти свободные земли. При этом они были уверены, что всего добились сами – ибо, согласно уставу ФРИК, помощь оказывалась тайно, без явного контакта с прогрессируемой расой, и сотрудник Фонда работал на планете как настоящий «агент под прикрытием». Такие контакты не обходились без проблем, ибо не все гуманоиды были похожи на землян, и в подобных случаях приходилось использовать биотрансформацию, метод длительный и не очень приятный. Однако в последние годы был достигнут успех в перемещении разума на другие носители, неважно, естественные или искусственные, лишь бы они обладали достаточной емкостью и могли вместить человеческое сознание. Прежде такой процесс, известный уже пять столетий, считался делом уникальным и состоял в переносе личности в памятный кристалл со сложной структурой: роль нейронов в нем играли стереосенситивные молекулы, объединенные в трехмерную паутину. В эти кристаллы вмещалось сознание людей, имевших, в силу их гениального дара или накопленного опыта, особую ценность для ноосферы Земли. Этих обитателей Пантеона Славы привлекали к различным проектам в качестве советников и руководителей. До недавних лет Ивару был имплантирован подобный кристалл с личностью его предка, коммодора Звездного Флота Питера Тревельяна-Красногорцева, героя войн с дроми. Фонд с пониманием относился к такому содружеству своих агентов с ментальными Советниками – это избавляло от одиночества в дальних странствиях и было весьма полезно в критической ситуации. Но нынче предок Ивара находился не в телесной плоти своего потомка, а в управляющем модуле «Дельфина», корабля Фонда, кружившего около Лианы-Секунды. На него возлагались функции капитана и пилота; кроме того, в подчинении коммодора был экипаж, несколько универсальных роботов и Мозг, искусственный интеллект, вывезенный Тревельяном с Сайкатской станции. Он выполнял роль наблюдателя и орбитального разведчика. Универсальный и быстрый способ перемещения разума являлся достижением инкарнологии, новой отрасли практической менталистики, возникшей всего десятилетие назад. Процесс был несложен: человека помещали в защитный модуль системы жизнеобеспечения, где хранилось его тело в бессознательном состоянии, тогда как разум, с помощью аппаратуры инкарнологов, мог быть внедрен, причем с довольно большого расстояния, в мозг инопланетного существа. Конечно, при этом мышление туземца-носителя подавлялось, разум незваного гостя доминировал, что вызывало вполне понятные этические проблемы. Тем не менее метод был испытан в мире Арханга, в условиях, абсолютно враждебных земному человеку и, собственно, любому гуманоиду. Архи, псевдоэнтомоны, подобные огромным насекомым, обитали в пещерных городах над ледяными пустынями, и заставить их прогрессировать без помощи достижений инкарнологии было бы крайне затруднительно. По этой причине первое испытание метода провел лично Ивар Тревельян, с честью выполнив одну из самых рискованных миссий Фонда[182]. Затем процедура была усовершенствована – теперь сознание переносили в искусственные тела, копирующие внешний облик представителей той или иной разумной расы. Это позволяло тайно присутствовать в любом мире, среди любых существ, как бы они ни отличались от землян и вообще от гуманоидов. Тайно! Но на Лиане-Секунде в этом не было нужды. Экспедиция землян и хапторов пребывала здесь в прямом контакте с местным населением – более того, воздействие на лльяно и передача им каких-то полезных идей в задачу экспедиции не входили. Только изучение планеты и ее аборигенов, палеонтологические, археологические и этнографические исследования, первичное картирование материков (разумеется, с орбиты) и подготовка базового лагеря, станции, способной принять в будущем еще два-три десятка специалистов. Но явный контакт отнюдь не облегчал проблемы. Подобно всем агентам Фонда, Тревельян привык растворяться среди туземцев, ощущать себя одним из них, действовать по законам, принятым в их обществе, и не заботиться о дипломатии. Но здесь он был не лльяно, а хххфу, то есть Пришельцем с Небес, таким же, как другие земляне, хапторы, нильхази и торговцы-сервы, не раз посещавшие этот мир. Безусловно, по уровню развития лльяно были архаической расой, но особого свойства: благодаря контактам с сервами, они знали о размерах и шарообразности своей планеты и об истинной природе звезд, о других мирах и населяющих их народах, способных летать в пустоте с чудовищной скоростью. Случалось даже, что астронавты брали лльяно с собой, и одного из этих странников Тревельян пару лет назад встретил на Гондване. Для лльяно многое было привычным, и с давних времен не считалось чудесами. Изучение, но не воздействие… Раскопки, походы в лес и к морским берегам, наблюдения за жизнью лльяно, долгие беседы с их старейшинами, сбор коллекций… Нетипичная миссия для ФРИК, и потому ее возглавил консул, самый удачливый и молодой в руководящем синклите. Тем более что против хапторов, своих коллег, он не имел никаких предубеждений.* * *
После завтрака и краткого обсуждения дневных планов Ивар отправился в деревню. Несмотря на утренний час, уже стояла жара, но с моря задувал свежий ветер, умерявший зной. Лагерь экспедиции разбили в низких широтах, в самом центре Харшабаима, огромного континента, превосходившего по площади земные Евразию, Африку и Австралию, взятые вместе. Здесь царило вечное лето, тогда как в умеренных зонах климат был намного более суровым, хотя температура ниже минус пяти по Цельсию не опускалась. Цепочка внутренних морей у экватора делила Харшабаим на две части, северную и южную; их соединяли широкие перемычки, иногда гористые или рассеченные речными долинами. Происхождение столь причудливого рельефа пока оставалось неясным; возможно, в давние времена на материк рухнул астероид, развалившийся на дюжину осколков над экваториальной зоной, и моря – следы древних кратеров. Согласно другой гипотезе, причиной мог быть дрейф континентов, связавший две части Харшабаима в единое целое, сделавший полуострова сухопутными перемычками, а заливы – пресными морями, лишенными выхода в Мировой океан. Так или иначе, эти водные бассейны с течением лет обмелели, превратившись в эстуарии полноводных рек, а их берега поросли деревьями хх'бо, став весьма удобным местом для обитания лльяно. С запада на восток эта область тянулась по обе стороны экватора на тридцать тысяч километров. Тропа, по которой шел Тревельян, рассекала рощицу местного бамбука хх'вадда, из которого лльяно мастерили копья и топорища, а из более крупных экземпляров – фляги, чаши и котлы. Долгое «хх» в их языке означало «растение», и к этому добавлялось нечто, определявшее свойства дерева или куста, цветка или травы. Хх'бо – дерево для жилья, хх'вадда – для копий и дротиков, хх'тта – для земляных орехов, а кустарник хх'пззр – место, где обитает ттх'пззр, крупный подземный варан… «Тхх» – «охота» или «зверь, подходящий для охоты», после чего следует его название… Очень простой и конкретный язык, но совершенно непригодный для человеческой гортани; в нем было пятьдесят два согласных звука и только три гласных, которые отдаленно походили на «а», «о» и «у». Невысоко в небе проплыло «летающее крыло», флаер хапторов, доставленный на планету «Дельфином». Сигеру'кшу вместе с ассистентами, Инанту и Алисой отправлялся на раскоп… В распоряжении миссии было несколько наземных и воздушных аппаратов, но пришлось взять этот флаер – земной транспорт не очень подходил для хапторов. Запрокинув голову, Ивар полюбовался на алые солнечные отблески, игравшие на корпусе машины, и вздохнул. На миг представилась ему Алиса – сидит, поджав ноги, в огромном кресле, в котором можно поместить трех девушек ее комплекции… Сегодня летели недалеко, на третий раскоп, находившийся на южном берегу Моря Тысячи Островов. Он снова зашагал по тропинке. Заросли бамбука кончились, и впереди замаячило селение Хх'бо татор ракка – Место, где много хх'бо, или просто Ракка, как называли его члены миссии. Деревня была многолюдной – полторы тысячи взрослых и несколько сотен детей разного возраста. От лесного массива ее отличали только струившийся к небу дым костров, немногие рукотворные строения, мостики над ручьями и дорожки, протоптанные между гигантскими деревьями. Плоское, слегка приподнятое, похожее на пень основание хх'бо было окружено мощным частоколом ветвей, смыкавшихся в вышине, их покрывали ветки поменьше и широкие прочные листья, так что дерево напоминало башню, полую внутри. Это пространство, разгороженное на ярусы, служило жилищем для семейной ячейки из четырех, пяти или шести взрослых лльяно и их малолетних отпрысков. Места хватало – даже десять человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить основание хх'бо. Деревня встретила Тревельяна тишиной, прохладой, запахами шерсти, жареного мяса и каши из земляных орехов. Охотники уже отправились в лес, мастера сидели под своими навесами, жены тех и других кормили детишек у речной заводи, где пылали костры – это место называлось «там, где вода и огонь». Почти никого не встретив, Ивар добрался до большой площадки «там, где танцуют», находившейся в центре селения. Ее окружали девять складов с шерстью и навес на прочных столбах, крытый листьями хх'бо, который играл роль галереи местного творчества и выставки товаров. Здесь хранились сотни больших и малых фигурок, вырезанных с великим тщанием из кости и древесины разных пород, сплетенные из шерсти циновки, кожаные сумки и пояса, украшенные орнаментом из раковин, куски янтаря, в котором застыли навеки мелкие, но жутковатые твари, вымершие миллионы лет назад. Перед этим собранием редкостей и сокровищ расположились на травяных подстилках старые мастера, самые уважаемые лльяно в поселении. Им перевалило за сотню местных лет, но шерсть их была густой и мягкой, с темени и висков свисали пряди длинных, тщательно расчесанных волос, на лицах, заросших пушком, блестели крохотные глазки, приоткрытые мощные челюсти обнажали острые зубы. Их было шестеро – секстет старейшин, похожих на копны серого, бурого и желтоватого сена, перевязанного ремнями. Все упитанные, плотные, но невысокие – сидя, они доставали Ивару до пояса. Он опустился на землю рядом с ними и произнес: – Радуюсь, видя почтенных мастеров. Длинной вам шерсти, прочного дерева и свежего мяса. – И твоя шерсть пусть будет длинна, а когти остры, – отозвался на альфа-лльяно старый Шарбу. Его брат, тоже Шарбу, вытянул верхнюю конечность, поросшую бурым мехом, и в знак приязни потрепал рукав гостя. «Вот у кого когти острые, – мелькнуло у Ивара в голове. – Острые и прямые, словно пять маленьких кинжалов, а пальцы короткие – удивительно, что они так искусны в плетении и резьбе!» Хахт, другой мастер, тоже с бурой шерстью, отложил деревяшку, которую ковырял ножом, и осведомился: – Сыт ли ты? Что ты ел на закате и на восходе? – Сыт, – ответил Тревельян. – У меня есть мясо с моей планеты, сочное и вкусное. А что ели вы? Шарбу-первый облизнулся. – Оууу-аа! В ловчую яму попал тхх'окл, тоже сочный и вкусный. – И жирный! – с энтузиазмом добавил Шарбу-второй. – Такой жирный, что мы не жарили мясо, а съели все, что принесли охотники. Тхх'окл, как и тхх'пззр, был животным для охоты – в отличие от шорро, «ночных молчаливых», смертельно опасных хищников. Впрочем, тхх'окл, крупный олень с пятнистой, словно у леопарда, шкурой, тоже не относился к безобидным тварям – попадать ему на рога не стоило. Рахаш, полировавший камнем фигурку какого-то зверя, промолвил на земной лингве: – Ты, Увва, старший-главный в свой дом. Ты ходить сюда и говорить уважительно. Тхх'окл мы съели, но остался ттх'руу. Тоже оченно вкусный! Ты его укусить и в брюхо? Всюду, где побывал Тревельян, предложение пищи считалось знаком доверия и почета. Вероятно, то было вселенским законом, единым и нерушимым для всей Галактики; не зря же Йездан Сероокий, легендарный пророк кни'лина, сказал: еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым. Есть черепаху тхх'руу Ивар не собирался, но отказ сформулировал с отменной учтивостью: – Мое брюхо переполнено. Лопнет, если проглочу хоть кусочек. – Тогда ты не напрягаться, – сказал Рахаш. – С брюхо надо сберегательно. Брюхо – вихрь жизненной сила. Рахаш был в селении одним из четырех Говорильников, владевшим языками землян, хапторов и нильхази. Пусть не в совершенстве, но все-таки его было можно понять, так же, как путника-лльяно, с которым Ивар встретился на Гондване. Правда, тот знаток языков не выглядел таким ухоженным и чистым, как старейшины Хх'бо татор ракка, и от него тянуло неприятным запашком. Вполне понятно! Кто на Гондване стал бы его вычесывать, выбирать репейники из шкуры и острить когти? Гондвана была планетой отдыха для землян и дружественных рас, там занимались парусным спортом, пили вино, танцевали и купались в теплом море. Лльяно представлял там не больший интерес, чем медведь в зоопарке. Они поговорили о погоде, об охоте и статуэтках, над которыми трудились Хахт, Рахаш и братья Сукур, самые старые из мастеров, чьи шкуры отливали желтизной. Сукур-второй позволил Ивару коснуться своих инструментов: десятка ножей причудливой формы, пилок, стамесок, шильев и сверл. Все из синеватой блестящей субстанции – видимо, из сплава, произведенного в астроидах за сотни парсеков от Лианы-Секунды. Несомненно, торговля с сервами лоона эо процветала. Появились две юные самочки с гребнями, пристроились за спинами старейшин и начали вычесывать им шерсть. У каждой – набор гребешков из разноцветного пластика, частых и покрупнее, тоже доставленных сервами. Гребни и приспособления для резьбы являлись важной частью товарооборота; их выменивали на шерсть, янтарь, фигурки и кожаные изделия. Не прекращая беседы, Тревельян следил за работой самочек. «Искусные куаферы, – подумалось ему, – не просто стараются, а делают дело с благоговением, будто священный обряд». Разумных рас, покрытых шерстью, в Галактике было немного; пожалуй, кроме лльяно он знал только одну – четырехруких парапримов, чья цивилизация в ряде моментов превосходила земную. Уровень культуры этих существ был исключительно высок, но и они отдавали должное ритуалу вычесывания. Несомненно, этот акт имел и эротический оттенок – вычесывали друг друга лишь члены одной семейной группы парапримов. Наконец с разговорами о погоде и охоте было покончено, и Тревельян издал звук внимания, стараясь имитировать его как можно тщательнее: – Оууу-аа! Хочу сказать о важном. – Мы слушаем, – произнес Шарбу-первый, а Рахаш даже откинул с уха длинную прядь волос. – Тза, – промолвил Ивар, и обе самочки тут же зашлись булькающим смехом. Кажется, Тза был не очень популярен у женского пола. – Тза, – повторил он, – приходит к моему жилищу и оскорбляет моих друзей. Говорит такие слова, что я не могу повторить. Старейшины отложили инструменты и переглянулись. – Он молод и потому непочтителен, – сказали в один голос братья Сукур. – Его шерсть не длиннее когтя, – добавил Шарбу-первый. – А коготь мелкий и тупой, как лезвие испорченного ножа, – поддержал брата Шарбу-второй. – Он еще бегает на четвереньках, – добавил Хахт. – Стоит ли главному-старшему обижаться на глупца? – подвел итог Рахаш. Тревельян поскреб живот, что было знаком недовольства. – Я не обижаюсь. Но в моем доме живут такие существа, как я, и другие, большие безволосые, с шишками на голове. Они очень, очень гордые. Не прощают обид. Боюсь, шкура Тза не слишком прочно держится на его костях. Старейшины снова обменялись взглядами и перешли на свой язык: Рахаш завизжал, зафыркал, остальные ответили ему руладами в тональности колоратурного сопрано. При всем желании Ивар не мог понять, о чем они толкуют, но, кажется, спор был жаркий. Что до девиц с гребешками, те, не отрываясь от своих трудов, продолжали хихикать. Их смех напомнил Тревельяну звуки, какие издает закипающий чайник. Спустя изрядное время Рахаш сказал на земной лингве: – Пять тонкий палка по хребтине. Ты удовольствован? Ивар задумчиво поглядел вверх, на темно-зеленую листву деревьев хх'бо. – В моем доме живет моя самка. – Знаем, – подтвердил Шарбу-второй. – Очень хорошая. Носит сладкий-черный для ффа'тахх. Шкура тут, – он коснулся головы, – словно у наших дочерей. – Она очень умная и понимает альфа-язык, – сказал Тревельян. – Понимает все слова Тза. Нехорошо! Совсем непочтительно! Старейшины снова принялись совещаться, повизгивая и стуча по земле рукоятями ножей. Кажется, на сей раз их мнение было единодушным. – Пять толстый палка, – наконец предложил Рахаш. Тревельян обвел взглядом навесы с тюками шерсти. Судя по их количеству, сервы могли появиться в любой момент. – Прилетят те, кто торгует, дает за шерсть ножи и гребни. Прилетят, а Тза примется скакать у их корабля и вопить: безволосые! Проткну вам брюхо копьем! Сдеру шкуру и натяну на барабан! Паршивые хххфу, смердящее мясо! Пропляшу танец победы на ваших костях! Скажет так, они обидятся и улетят. Навсегда! И не будет больше ножей и гребней. Челюсти у старейшин отвисли, когтистые лапы затряслись. Потом Рахаш с размаха всадил в землю стамеску и разразился яростным воем: – Оууаоуоу! Голова без ума! Отродье большой молчаливый! Двадцать толстый палка! – Тридцать короткошерстному! – взвизгнул Шарбу-второй. Мастера закивали, мгновенно осознав выгоды толерантности. – Нет, – промолвил Ивар, – тридцать и даже двадцать палок слишком много. Тза протянет ноги,никогда не поумнеет и шерсти с него не получишь. Вот десять – в самый раз! И палка должна быть такой толщины. – Он поднял руку с двумя сомкнутыми пальцами. – Такая, и не больше! Осмотрев его ладонь, Рахаш сделал знак согласия и повторил: – Такая, как ты показать. Мы уважительно к тебе, к твой самка и твой друг большой безволосый с шишками. Никто его не обижать! – Это мудро, – сказал Тревельян и поднялся. – Безволосый не очень ловок, но он сильнее ночного молчаливого. Наступит на Тза ногой, будет шкура с мелкими костями. Лучше уж десять палок! С этими словами он повернулся и зашагал к окраине селения. Стайка ффа'тахх, уже вкусивших утреннюю трапезу, увязалась следом. Дословно ффа'тахх означало «те, кто бегает на четвереньках», то есть попросту дети – они и впрямь в первые годы жизни перемещались в основном на четырех конечностях. Малыши у лльяно были на редкость милые, похожие на медвежат в пушистых шубках, с почти лишенными волос мордашками. Десять или двенадцать, ворча и повизгивая, плотно окружили Ивара, вцепились в штанины и заверещали: – Шшккл, шшккл, шкклл! Сладкий-черный дай! Шшккл! Оууу-аа! – Дай, дай, дай! Шшккл, сладкий-черный! Он знал, что Алиса таскает маленьким лльяно шоколад. Это не было нарушением правил – их метаболизм не слишком отличался от человеческого, и знакомец Ивара на Гондване ел земную пищу без неприятных последствий. Сладкое лльяно любили. Памятуя об этом, Ивар взял с собой шоколад и сейчас принялся ломать плитку, оделяя малышей вожделенным лакомством. Они отстали только на лесной опушке, у рощицы хх'вадда. Миновав заросли гладких желтых стволов, Тревельян очутился на морском берегу, вблизи здания базы. Он неторопливо зашагал к приплюснутой серебристой полусфере, связанной щупальцами тоннелей с ангаром, складом экспонатов и хозяйственными блоками, но вдруг замер, подняв взгляд к лазурным небесам. Предку хотелось поговорить. При жизни Питер Тревельян-Красногорцев по прозвищу Командор был человеком общительным; переместившись в памятный кристалл, он не избавился от этой привычки. «Чем занят, мальчик мой?» «Решаю дипломатические проблемы». «Успешно?» «Разумеется. Десять толстых палок по хребтине», – сообщил Ивар и принялся рассказывать деду про наглеца Тза и приговор старейшин. Хотя Командор находился в двенадцати мегаметрах от планеты, это не было помехой для ментальной связи. Дистанция не космическая; на таком расстоянии они могли общаться столь же свободно, как если бы памятный кристалл оставался в виске Тревельяна. Выслушав его, дед с минуту раздумывал над услышанным, потом заметил: «В каждом племени есть молодые дураки. Помню одного энсина – вырастил гребень из волос на голове и покрасил его зеленым и розовым. Едва не отставили с Флота». «И что с ним было дальше?» – полюбопытствовал Ивар. «Дураки либо умирают по-глупому, либо избавляются от дурости. Этот сделался умнее. – Пауза. – Погиб с честью на «Палладе», рядом со мной. Сгорел у орудийной панели. – Дед испустил ментальный вздох. – Даже горсти праха не осталось…» Предок Ивара командовал в былые годы тяжелым крейсером «Паллада», сражался в эпоху звездных войн с кни'лина, хапторами и дроми, совершил немало подвигов, был отмечен боевыми наградами и пал смертью храбрых пять веков назад на мостике своего корабля. Он погиб в знаменитой битве у звезды Бетельгейзе, когда три земных крейсера разгромили армаду дроми, доказав врагам Федерации, что в Галактике появилась могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Но до славной своей гибели старик летал и дрался более семи десятилетий, горел в потоках плазмы, замерзал на ледяных астероидах, командовал десантами, был ранен восемь раз и женат четырежды – словом, накопил огромный опыт. Он являлся незаменимым советником для Тревельяна, но не это было главным. Любовь, уважение, благодарность… еще забавлявшая их игра в деда и внука, хотя их разделяла половина тысячелетия… Но об этом они никогда не говорили. – Надеюсь, Тза тоже поумнеет, – вслух промолвил Ивар. – Десять толстых палок очень способствуют вразумлению. «Вполне, – согласился дед. Потом спросил: – Где твоя боевая подруга? Хотелось бы на нее полюбоваться. Она так похожа на Ксению…» Ксения была первой супругой Командора, и от их сына Ивар вел свой род. Она родилась на Тхаре, так же, как жена Ивара, и, по данным местных архивов, пребывала там во все свои года, даже в период оккупации флотом дроми[183]. «Алиса на раскопе, – сообщил Тревельян, – на третьем раскопе, вместе с Инанту и хапторами. Можешь на нее взглянуть. Корабельная оптика в твоем распоряжении». В первые дни у деда с Алисой были проблемы. Выбор Ивара он одобрял и очень рассчитывал на скорое потомство, а вот Алиса Виктория полагала его лишним довеском к семейному счастью. Женщине с Тхары, планеты строгих нравов, трудно мириться с тем, что в любимом человеке живет еще одно сознание, тайный свидетель ласк, поцелуев и прочих интимных моментов. Хотя Ивар мог по своему желанию прервать контакт с памятным кристаллом, Алису не покидало чувство, что за ней надзирают и подглядывают. В общем, имплант удалили, и отношения наладились. Командор, однако, обид не затаил – как человек, проживший долгую жизнь, он обладал изрядным опытом, и женские причуды его не раздражали. Больше того, за минувшие годы Алиса стала ему дорога – не потому, что волею судеб оказалась женой далекого потомка, но по иным причинам. Ему нравились люди твердого нрава, отчаянные и своевольные, он любил храбрецов и сам был таким, а рыбак рыбака видит издалека. Словом, он ощущал в Алисе родственную душу. – Ты можешь на нее взглянуть? – вслух спросил Тревельян. – Что она делает? Копается в пыли тысячелетий вместе с роботами? Разбирает и пакует экспонаты? Или учит Сигеру, как вести раскопки? Командор послал ему ментальную усмешку. «Нет, голубь мой. Я велел Мозгу настроить оптический приемник и вижу теперь, что работнички наши притомились. Супруга твоя сидит над ямой рядом с хаптором, вытирает пот со лба, а рогатый кавалер наливает ей воду. То есть я надеюсь, что в бутылке вода, а не кхашаш, который рогачи гонят из брюквы». – У них там прямо рай… лев рядом с ягненком, и оба пьют из одного ручья… – тоже усмехнувшись, произнес Ивар. – Вот только кто у нас лев, а кто – ягненок? «А ты не знаешь?.. – ехидно буркнул дед. – Два года женат, мог бы догадаться».Глава 2 Раскоп номер три
Хотя хапторы принадлежат к гуманоидным расам Галактики, их облик сильно отличается от земных стандартов. Их предками были агрессивные хищные существа, склонные к мясной диете и, возможно, каннибализму. От них хапторы унаследовали мощное телосложение, плотную толстую кожу и полоску меха вдоль хребта. Голова покрыта ороговевшей кожей, волос нет, по обе стороны лба – шишки («рога»), уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком глубоко утоплены в глазных впадинах. Хапторы обладают существенно отличным от человеческого хромосомным набором, несовместимы с людьми в сексуальном плане, и оплодотворение in vitro не позволяет получить жизнеспособного потомства. Однако их метаболизм сходен с земным в части усвоения белковой пищи, углеводного обмена и реакции на алкоголь. Хапторы двуполы, их женщины вынашивают потомство в течение пятнадцати земных месяцев. Средний срок жизни индивидуума – около девяноста стандартных лет. Психологический профиль: хапторы отличаются эгоцентризмом, жестокостью и властолюбием, но весьма расчетливы и способны держать чувства под контролем разума. Таковы естественные качества этой расы, создавшей некое подобие империи, которая управляется кланами благородных тэдов. Однако за три последних столетия нравы хапторов смягчились в результате активных контактов с Земной Федерацией, кни'лина, терукси и другими гуманоидами. Импульс, полученный извне их культурой и наукой, воздействовал на мировоззрение хапторов: они уже не хотят выглядеть жестокими воинственными дикарями. Эти благотворные перемены начались в 2600–2603 годах, когда на материнскую планету хапторов Харшабаим-Утарту прилетела первая земная миссия. Без изменения осталось лишь одно: их непрошибаемое упрямство.Ю. Зорин, П. Блай, К. Шаур «Основы ксенологии», обновленный базовый учебник по соответствующей специальности, глава «Теория контакта», раздел «Хапторы», пятое издание.
* * *
Алиса и Сигеру'кшу устроились в пластиковых креслах под тентом, у холма, на котором приземлилось «летающее крыло». К их ногам взбегала прочная лестница с перилами, ведущая на дно раскопа. Он представлял собой квадратное углубление двести на двести метров; слой плодородной почвы здесь был полностью снят, глина, лесс и камни удалены на три человеческих роста, тысячи тонн породы переброшены в море, где образовался новый островок. Всю работу проделали восемь автономных механизмов с гигантскими ковшами и бурильными трубами, сотня гравиплатформ и тридцать универсальных роботов. Последние следили за тем, чтобы не пропустить каких-либо ценных находок, но ничего достойного внимания тут не оказалось. Зато дно раскопа выглядело интереснее: черный монолит, спрессованный давлением огромной массы и верхних почвенных слоев. Он резко отличался от рыхлых стен, окрашенных в желтые тона, и больше всего походил на уголь. Сейчас внизу, в жаре и пыли, трудились Инанту и помощники археолога с десятком роботов. Они сверлили грунт, брали пробы и тащили их к экспресс-лаборатории. Нудное занятие, совсем не для начальства, так что Сигеру'кшу посиживал спокойно в кресле и ждал результатов. От тента текли потоки прохладного воздуха, на столике высилась большая фляга с газированной водой, рядом лежали браслет связи и полевая сумка Алисы. Воду археолог заботливо подливал в стакан собеседницы, внимательно следившей за ходом работ. Карьер и окружившие его механизмы были перед ней как на ладони. Удивительное зрелище! Ничего похожего на раскопки в других местах, на материке и самом крупном острове. Там, под буйной зеленью и слоем почвы с переплетающимися корнями, лежали глина, песок или бурый лесс; в грунте попадались ископаемые кости, а в самом северном раскопе, в зоне умеренного климата, нашли древнее стойбище лльяно среди окаменевших деревьев хх'бо. Там были предметы из пластика и металла, гребни и ножи, и это означало, что сервы посещают Лиану, как минимум, двенадцать тысячелетий. Но уже в те времена существовали прочные связи между поселениями, система товарообмена и даже некое подобие дорог. Сервы приземлялись на острове в море, у берега, где воздвигли станцию, и везли товары в Ракку, а оттуда они расходились по всему континенту. Сигеру'кшу был очень доволен, сделав это открытие. Прищурившись, Алиса смотрела то на отвесные стены раскопа, то на темную массу под ногами. Четырехрукие роботы, за которыми приглядывали Хутчи и Шиза, высверливали керн за керном и загружали их в чрево экспресс-лаборатории, Инанту Тулунов работал с интравизором, просвечивая слой за слоем плотный грунт. Над карьером вздымались клубы черной пыли, оседавшие в безветренном воздухе на людей, на блестящие панцири роботов и замершие на краю огромной ямы механизмы. Комбинезон Алисы тоже покрывала пыль, но рыжая – след утренних трудов, когда экскаваторы расширяли южную сторону карьера. – Пей воду, – сказал Сигеру'кшу. – Вы, земляне, такие нежные и хрупкие… В жару вам надо много пить. Самкам особенно. Алиса сделала несколько глотков. Затем спросила, покосившись на раскоп: – Что это? Есть какие-то соображения, пха'ге? Пха'ге, то есть двурогий, было почтительным обращением к благородному тэду. Сигеру довольно запыхтел, поскреб темя между шишками и, приоткрыв пасть, уставился на Алису. – Что? – промолвила она. – Моя прическа не в порядке? – Не имею знать, поко. У нас нет таких украшений. Поко означало «первая жена», самая главная в гареме. Весьма высокий ранг с точки зрения хаптора-мужчины. Алиса стряхнула пыль с волос. Затем поинтересовалась: – Отчего же ты так смотришь? – Радуюсь твоей любознательности. Обычно самки – безмозглый сосуд греха. Алиса возмущенно фыркнула: – Я не безмозглая! И я не самка, а женщина! – Я говорю о наших самках, – уточнил Сигеру и примирительно похлопал руку Алисы своей огромной лапищей. – Ты спросила, что это? Рад еще больше. Приятно отвечать на простые вопросы. Аха! Не требует напряжения. – У тебя есть гипотеза? – Не гипотеза, а точное знание. Здесь… На его запястье пискнул комм-браслет, раздался голос Инанту: – Нашел, высокий тэд! В юго-западном углу! Археолог повернулся, кресло жалобно скрипнуло под его тяжестью, зазвенела серебряная цепочка на голове. – Что там, кихха? – Какая-то емкость, пха. – Алиса видела, что Инанту пристально всматривается в экран интравизора и крутит верньеры. – Предмет яйцевидной формы в два человеческих роста. Внутри что-то жидкое, густое… Определяю плотность… примерно консистенция смолы… – Глубина залегания? Мера, которую Инанту назвал на альфа-хапторе, равнялась шестнадцати метрам. – Надежно закопали! – буркнул Сигеру'кшу и стал распоряжаться: – Спустить вниз машину-кихха… одну достаточно… Расставить роботов, пусть снимают, сверху подвесить камеры… Еще контейнер побольше с упаковочной пеной… И вон из ямы! Его помощники засуетились. Вниз по отлогому откосу сполз огромный экскаватор, выдвинул по команде Инанту трубу, опустил ее стоймя на черную поверхность. Несколько гравиплатформ выстроились в очередь; первая из них, чуть покачиваясь, всплыла к верхнему концу трубы. Четыре робота окружили механизм, разом отстрелив видеокамеры, и справа от археолога повисли в воздухе полдюжины экранов. – Ты сказал, пха, не гипотеза, а точное знание, – напомнила Алиса. – Аха. – Сигеру сделал утвердительный жест, потом вытянул руку в сторону карьера. – Здесь, поко, опустился корабль. Очень, очень большой! Сжег деревья, кусты, плодородную почву и всей тяжестью надавил на грунт, вмял угли в глину и песок. Когда улетал, еще раз ударил плазмой. Поэтому все черное. Алиса измерила взглядом глубину раскопа. – Кажется, это случилось давно, миллион или больше лет назад. Глина затянула это место, а сверху опять выросли деревья. – Ты умная, – произнес археолог и, обратив взгляд к раскопу, рявкнул: – Я сказал, все наверх, ленивые хашшара! Живее! Апама'шака! – Он снова повернулся к Алисе и оскалил зубы, что означало улыбку. – Давно, поко, очень давно! Не один миллион, а три или пять! Иногда десять! Я такое видел прежде, раскапывал, наблюдал… Теперь не удивляюсь. По спине Алисы пробежал холодок. – Три, пять или десять миллионнолетий… – медленно повторила она, пытаясь осмыслить бездну прошедших лет. – Значит, в глубокой древности… когда Галактикой владели… – Ее голос замер. Сигеру'кшу издал утробный звук довольства. – Вижу, знаешь, знаешь! Древние! Даскины! Конечно, даскины! Их корабль опустился здесь и что-то оставил. Сейчас посмотрим, какой дар нам приготовили! Хутчи, Шиза и Инанту выбрались из карьера. В руках у Хутчи'гра был пульт управления экскаватором, Инанту тащил интравизор с коническим раструбом. Все трое были в черной пыли, покрывавшей их лица и комбинезоны. – Начинаем! – Сигеру хлопнул ассистента по спине. – Запускай машину! Хутчи, склонив шишковатую голову, принялся набирать команды. Раздался басовитый гул, потом труба начала вращаться, вгрызаясь в неподатливый черный монолит. Она кружилась все быстрее и быстрее, гул сменился пронзительным скрежетом, сотряслась земля, из верхней оконечности трубы хлынул поток измельченного грунта. Несколько минут эта масса с грохотом падала на гравиплатформу, затем ее сменил другой погрузчик; первая платформа направилась к морю, затем вторая, третья, четвертая. Труба полностью исчезла в скважине, и экскаватор тут же пристроил к ней еще одну. Они бешено вращались в объятиях силового поля, и временами скрежет становился оглушительным – сверло резало каменные глыбы. Над машиной и платформами стало расплываться темное облако, вскоре принявшее грязно-рыжий цвет; черный слой был пройден, под ним находился все тот же лесс, перемешанный с камнями. Алиса, не спуская глаз с раскопа, дернула Инанту за рукав: – Что там, как ты думаешь? Инанту мечтательно сощурился. У него была забавная внешность – раскосые узкие глаза, пухлый рот, высокие скулы и ежик коротких черных волос. Эскимос почти чистой крови, что само по себе казалось удивительным – смешение народов и рас в колониях и на Земле редко позволяло выделить древние генетические линии. Он был совсем молод, стажировался на Пекле, в экспедиции, которой руководил Тревельян[184], а на Лиану прилетел уже в ранге полевого агента. Губы его шевельнулись, и сквозь грохот и вой Алиса расслышала: – Не знаю и догадаться не могу, но мне хотелось бы, хотелось… – Что? Чего ты хочешь? Инанту вздохнул. – Статую даскина в полный рост… или портрет в позолоченной раме… или видеозаписи, сохранившие их облик, жилища, города… Это было бы здорово! Но думаю, там ничего такого нет. Там какая-то жидкость. Алиса пожала плечами. Инанту, так же, как ее супруг, был неисправимым романтиком. – Приближаемся к объекту, – сказал Сигеру'кшу, посматривая на экраны. – Осторожнее, Хутчи! Заденешь, когти вырву! Старший ассистент приложил лапу к подбородку. – Подведу плавно, тэд'шо. Не тревожься, цепочка на рогах не зазвенит и в брюхе не екнет. – Это ты про мое брюхо? – спросил археолог и с горестным видом выпятил губу. – Дерзишь, пасеша! В прежние времена тебя бы вскрыли, а мясо бросили синим червям! Что происходит с этими щенками… – проворчал он минуту спустя. – Нет в них истинного страха и почтения… Все точно кхашашем упились… грубые, а вдобавок еще и ленивые… Но Хутчи'гра его не слышал – склонившись над пультом, он прикасался к клавишам толстыми пальцами, будто наигрывая неслышимую мелодию. Земля уже не тряслась, гул и скрежет сменились негромким шуршанием, облако пыли стало прозрачным и исчезло. Лавина грунта тоже иссякла, и теперь на платформу неторопливо струился ручеек глинистых комков и камней. Наконец помощник археолога ткнул очередную клавишу, и из скважины полезли трубы, прячась под корпусом механизма. – Готово, тэд'шо. – Вытягивай, раз готово, – распорядился Сигеру'кшу. Его маленькие глазки под выступающими надбровьями азартно сверкнули. Экскаватор плавно переместился к стене карьера, а к шурфу скользнули роботы с портативными гравитаторами. Снова поднялась пыль, заволокла пробитое отверстие, но на экранах был виден темный зев шахты и что-то округлое, гладкое, медленно ползущее к свету. Вскоре верх находки приподнялся над землей, сверкнул корпус крупного эллипсовидного предмета, будто бы собранного из множества блестящих граней, с его боков посыпались струйки песка. Безликий голос робота сообщил на земной лингве: «Высота три и шесть, диаметр в широкой части один и семь, вес шесть двести». Очевидно, речь шла о метрах и килограммах. Сигеру'кшу заплясал у лестницы, что вела в раскоп, замахал руками, точно крыльями и завопил: – Осторожнее! Приподнять над грунтом и в контейнер! В контейнер его! Что там снизу? Тоже круглое? Тогда пустить пену и зафиксировать днище! Живее, щенки ленивого куршута! – Зачем живее? – едва слышно пробормотал Шиза'баух. – Лап нет, не убежит… Роботы опустили сверкающее яйцо в контейнер, оно покачнулось, но тут же брызнула пена, заливая основание находки. Контейнер был для нее маловат – верхушка торчала наружу, словно лысое темя великана. – Сюда! – Археолог топнул, взметнув рыжую пыль. – Сюда, ко мне! – Он замотал головой, и цепочка между колпаками на рогах тревожно зазвенела. – Такое мы еще не находили! Желаю видеть, осмотреть, исследовать! Желаю… В возбуждении он перешел с альфа-языка на речь хапторов, которая была для Алисы набором рева, скрипа и рычания. Роботы подвели под контейнер гравиплатформу. Приподнявшись, она полетела у самого дна раскопа, достигла лестницы, плавно пошла вверх и опустилась вместе с грузом на землю. Сигеру'кшу нетерпеливо откинул стенки контейнера, засопел, зафыркал, ткнул пальцем в пену и убедился, что она застыла. Потом, подпрыгивая и что-то невнятно бормоча, археолог стал кружить около находки, озирая ее со всех сторон. Блики света, отраженного ячеистой оболочкой, скользили по его физиономии, челюсть отвисла, дыхание стало бурным, и Алиса догадалась, что сейчас он не видит ничего, кроме этого огромного яйца. Взглянув на остальных своих спутников, она поняла, что Инанту и молодые хапторы в таком же восторженном трансе: глаза блестят, подрагивают пальцы, а на висках выступила испарина. Отступив к столу, она подняла свою сумку и повесила на плечо. – Сверху люк, – произнес Инанту. – Я разглядел что-то вроде выступающего ободка. – Люк, – подтвердил Хутчи. – Я тоже вижу. Определенно люк! Или крышка! Сигеру'кшу замер и потянулся к сверкающей поверхности. – Не надо этого делать, пха'ге, – негромко сказала Алиса. – Позовем роботов, и пусть они обследуют этот предмет. Но археолог уже наложил на яйцо свои огромные лапы и принялся его ощупывать. Ничего не случилось. – Ррр… Роботы не заменят личных впечатлений… К тому же роботы его касались… касались без всяких последствий и вреда… – Он обернулся к Хутчи'гра. – Люк, говоришь? Или крышка? Снизу не разглядеть… Подвесь камеру и выведи изображение на экран! На вершине и впрямь обнаружился люк странных очертаний, похожий на распластанную медузу. Никаких знаков, скважин, рукоятей – просто клякса, обведенная чуть выступающим ободком. «Вращать эту крышку нельзя, форма не позволяет», – подумала Алиса. Видимо, Сигеру пришел к тому же мнению. Почесав темя, он распорядился: – Пригоните сюда роботов с резаками. Вскроем на уровне моего роста. Если люк с замком, желательно его не повредить. Ценный материал для изучения. – Может, не стоит торопиться, пха? – промолвила Алиса. – Законсервируем, вывезем в твой мир, в твою лабораторию… Там удобнее работать с этой штукой. Археолог мрачно воззрился на нее. – Удобнее там, где я один, без соперников и конкурентов! Без вмешательства завистников и глупцов! Без надзора ублюдков из Куршутбаима![185] – Он перевел дух и прорычал: – Не порть день моей славы, поко! Это дар судьбы, дар Древних, и я его не отвергну! Пожав плечами, Алиса отступила еще на пару шагов. «Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает, – мелькнуло у нее в голове. – Одна из максим Йездана Сероокого, пророка кни'лина…» Ивар часто вспоминал эти изречения, записанные в Книге Начала и Конца… Лестница загрохотала под ногами роботов. Три универсальных механизма поднялись наверх, выслушали приказ Сигеру'кшу и принялись за дело. Первый выдвинул из корпуса лазерный резак, второй и третий, растопырив манипуляторы, устроились по обе стороны объекта – на тот случай, если он покачнется. Сверкнул тонкий синеватый луч, вонзился в ячеистую поверхность и побежал неторопливо, описывая круг – небольшой, размером с две ладони. Его движение сопровождали струйки дыма и едва слышное шипение. Никаких едких запахов – вероятно, оболочка была не пластиковой, а из металла или керамики. – Хорошо поддается, – заметил Инанту, вытаскивая из кармана портативный анализатор. – Сейчас выясним элементный состав… Хмм, бор, азот и больше ничего… странная комбинация… – У нас будет кусок оболочки, – отозвался археолог. – На базе исследуем структуру. Я думаю… Он замер с раскрытым ртом. Луч описал полный круг, вырезанная часть отвалилась, и робот ловко подхватил ее средним манипулятором. В отверстии было темно. «Мрак, точно в ночных небесах над Тхаром», – подумала Алиса. Ее родной мир находился на краю Провала, лишенный звезд и света бездны между двумя галактическими рукавами; небо Тхара не радовало ярким зрелищем. – Странно, – промолвил Инанту. – Внутри жидкость, должна течь… Правда, субстрат очень вязкий… Сигеру'кшу вытянул руку, вознамерившись сунуть ее в отверстие, однако в последний момент разум победил любопытство. Отодвинувшись от яйца, археолог повернулся к роботу и приказал: – Сунь туда лапу. Не эту, верхний манипулятор… вот так… Теперь покрути конечностью… взболтай эту дрянь… Алиса расстегнула сумку. Ее жизнь до встречи с Тревельяном была разнообразной и полной приключений – на Тхаре она служила в патруле, защищавшем фермы от каменных дьяволов, затем прошла подготовку в Звездном Флоте, стажировалась в командах десантников, работала в Коллегии Несогласных[186], оберегая безопасность и покой Судьи Справедливости. В неожиданных ситуациях она реагировала очень быстро, с бесстрашием и скоростью, присущей уроженцам Тхара. Робот еще не вытащил гибкое щупальце, а она уже стояла шагах в тридцати от яйца, напротив отверстия, вырезанного в оболочке. Струя темной жидкости с силой ударила в нагрудный панцирь, заставив робота покачнуться. Он отступил, потеснив Сигеру'кшу; его нижние конечности вдруг оказались в липкой вязкой субстанции, которая начала пухнуть, пузыриться, клокотать и подниматься все выше и выше. Прошло не больше двух секунд, а темный субстрат уже затопил робота по грудь, взметнулся волной, рухнул на стенки контейнера и, пробив их, разлился по траве. Его объем стремительно рос, будто воздух или земля питали этого странного монстра; вверх потянулись толстые отростки, сначала бесформенные, но тут же начавшие принимать вид каких-то чудищ с разверстыми пастями. Челюсть у Сигеру'кшу отвисла, он сделал шаг назад, его ошеломленные помощники застыли, прячась за спинами роботов. Вытащив из сумки излучатель, Алиса перевела оружие на среднюю мощность. Потом сказала: – Всем отойти подальше. Я буду стрелять. Археолог не сдвинулся с места, и тогда, послав в небо первый заряд, она крикнула: – Сказано, отойдите! Живее, хохо'гро, шинге шеге! Смысла этих идиом она не знала, но, кажется, подействовало. Хутчи и Шиза очнулись, подхватили Инанту за руки и бросились к холму, а их руководитель отступил на целых пять шагов. Ближайший отросток уже тянулся к нему, выбросив два других, более тонких и подозрительно напоминавших лапы. Алиса окатила темную субстанцию потоком плазмы. В воздух поднялся дым, смрадный и такой густой, что поверхность яйца с прорезанным в ней отверстием на мгновение скрылась в черной туче. Она выстрелила снова, по траве, поглощенной массой разлившегося вещества, и по сломанному контейнеру. Плазменный заряд сжег не только растительность и вязкую жидкость, но и почву под ними, обнажив слой смешанного с глиной песка. Тянувшиеся вверх отростки съежились и опали, превратившись в дым и пепел, порыв ветра, налетевшего с моря, закружил его маленькими смерчами и бросил в карьер. Алиса придвинулась ближе к их странной находке, выжигая короткими импульсами пятна темного субстрата. Дым рассеялся. Она огляделась, покачивая ствол излучателя на локте согнутой руки, и вдруг заметила, что остатки вещества вытягиваются, становятся тоньше и, как безголовые черные змейки, ползут к разбитому контейнеру и яйцу. Они покинули корпус робота и заросли травы, добрались до выпуклого ячеистого бока и шустро полезли вверх, исчезая в круглом отверстии. Алиса подняла свое оружие, прицелилась в ближайшую змею, но тут раздался рев Сигеру: – Не стреляй, поко ашинге! Во имя Устоев, не стреляй! Пусть останется для анализов! Ты поняла, поняла? Это… это нечто чудесное! Не инертный конгломерат, а организм! – И он едва нас не сожрал, – заметила Алиса, опуская в сумку излучатель. Потом взглянула на пыль, которую кружил ветер, и добавила: – Верно сказано в Книге Начала и Конца: у протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли! – Для знания нет запретов! – рявкнул Сигеру'кшу и ткнул толстым пальцем в сторону своей находки. – Дырку заварить! Немедленно! Ты! – Он стукнул робота по загудевшему панцирю. – Иди, куршут ленивый! Делай, что я велел! Топча переломанный контейнер, робот придвинулся к яйцу и закрыл отверстие кружком, все еще находившимся в его средней конечности. Вспыхнул лазерный луч, редкие капли металла – возможно, керамики?.. – начали стекать по оболочке. Молодые хапторы подошли ближе. Шиза'баух, тащивший под мышкой Инанту, опустил его на оплавленный песок. Встряхнувшись, тот осведомился: – Заберем эту штуку с собой, пха? – Нет, бросим в море, – недовольно буркнул археолог. – Я так понимаю, что заберем. Подать новый контейнер? – Разумеется. И пусть роботы отнесут его к флаеру. Осторожно! Вы, три недоумка, проследите! Когда Алиса и Сигеру остались одни, хаптор снял серебряные колпаки с протянутой между ними цепочкой и уложил их на огромную ладонь. – Твоя награда, поко. Почетный символ клана Кшу. Бери, у меня есть другая пара! – Награда? – Ресницы Алисы взметнулись. – За то, что я нас спасла? – Не нас, а ценную находку. – Сигеру покосился на «летающее крыло» и своих помощников, грузивших контейнер в трюм. Затем поскреб левую шишку и произнес: – Хотя, кто знает, как бы обернулось дело… О том известно лишь Владыкам Пустоты… Думается мне, что этот организм быстро растет, захватывая газы воздуха и органику из почвы. Если бы ты промедлила, он бы добрался до моря, до воды… Хорошая питательная среда для всеядной твари! Алиса приняла подарок, полюбовалась на орнамент, выбитый по окружности чашевидных колпаков, и сказала: – Благодарю, пха, я очень тронута. Но у меня нет рогов… Я не могу носить это на голове. – Найдешь другое место, – проворчал археолог, скользнув взглядом по ее груди. – Но те слова, что ты произнесла… – Хохо'гро? – с невинным видом поинтересовалась Алиса. – Аха! Да, это и другое… – Кажется, Сигеру'кшу был смущен. – Очень плохие слова! Не подходят для нежной маленькой поко! – Но ты их произнес! – Когда? – Сигеру очень натурально удивился. – На станции, когда Тза от тебя убежал! Археолог поскреб правую шишку. – Неужели? Наверное, я был весьма разгневан. Благородные тэд'шо не говорят таких слов… хррр… обычно не говорят. – А ленивые хашшара и куршуты? Такое можно? – с любопытством спросила Алиса. – Можно. Иногда! Куршут, это… – Сигеру пошевелил пальцами, – это такая тварь наподобие ваших собак. А хашшара – мелкая скотина. Есть еще шупримаха и кних, но они покрупнее. – Очень интересно! – Алиса опустила в сумку колпачки с цепочкой. – Твои истории, пха, расширяют мой кругозор. Я слышала, что материки Лианы названы хапторами, и эти слова – Харшабаим, Ххе, Ххешуш – тоже что-то означают. Не мог бы ты их истолковать? Сигеру'кшу гордо выпятил грудь. – С радостью, поко, с превеликой радостью! Это ведь я их так назвал, во время первой своей экспедиции! Пойдем к флаеру, и я тебе расскажу… Они стали подниматься на холм. С него открывался чудесный вид на южную акваторию Моря Тысячи Островов – к песчаному берегу катились лазурные волны, клочки суши, разбросанные по водной поверхности, цвели и зеленели, над ними метались стайки пернатых, а подальше, в проливах, можно было разглядеть водоплавающих птиц, белых, огромных, похожих на гигантских лебедей. Островов в этом море было намного больше тысячи, и теперь к ним добавился еще один – куча песка и земли из раскопа, сваленная метрах в двухстах от берега. Но за месяц, истекший с начала работ, в грунте уже проросли семена, и рукотворный островок покрылся зеленоватым пухом. Алиса залюбовалась этой картиной, но Сигеру'кшу по сторонам не смотрел, топал вверх по склону, почесывал то безволосый череп, то живот и с важностью гудел на альфа-хапторе: – Видишь ли, поко, твои и мои сородичи стали исследовать этот мир совсем недавно. Чтобы предотвратить споры и раздоры, было заключено соглашение: люди дают имена космическим объектам, а хапторы – крупным массивам суши. Так появились Лиана-Прима, Лиана-Секунда, Терция, Кварта и все остальное, а на поверхности Лианы – Харшабаим, Ххе и Ххешуш. Я уже говорил, что эти названия даны мною?.. Хес! Да, говорил… Так вот, «харша» означает «главный, самый превосходный», а «баим» – место; получается Харшабаим – Главное Место… конечно, главное… так издревле называлась наша планета, а теперь и этот материк… – Он остановился, перевел дух и бросил взгляд на флаер. Потом заорал: – Крепите контейнер, отродья куршутов! В трюме скобы и зажимы! Крепите надежнее, ползучие потомки шад'кула! – Шад'кула? – переспросила Алиса. – Синего червя, – пояснил археолог. – Черви питаются трупами и всякой падалью, но живое мясо тоже едят. В прошлом использовались для пыток и казни. Теперь отменили, а жаль! Так о чем я говорил? – О Харшабаиме, пха'ге. А что значат Ххе и Ххешуш? – Ххе – задница, а Ххешуш – дырка в заднице, – сообщил Сигеру'кшу, не спуская глаз с трюма. Брови Алисы приподнялись. – Странные названия для материков! Я бы даже сказала, эпатирующие! – Вы, уроженцы Ашингебаим, цените в названиях красоту, даете планетам и континентам имена божеств, древних героев, памятных для вас поселений и стран, – промолвил Сигеру. – Вы слишком… хррр… как это говорится?.. романны… нет, романтичны. Мы не такие. Мы, поко, реалисты. Видим – задница, так и называем. Покачав головой, Алиса промолвила: – Ххе и Ххешуш… Неужели все так плохо? – Хуже не придумаешь. Поверь мне, я там бывал. Ххе – лед, снег и скалы, а на Ххешуше и скал нет, только ледяной панцирь огромной толщины. И холод, жуткий холод! – Ну, это меня не пугает, – сказала Алиса. – Я родилась на холодной планете. Сигеру'кшу лишь фыркнул в ответ. Они поднялись к флаеру, и археолог полез в трюм – проверить, надежно ли закреплен контейнер. Затем он перебрался в салон, сел в кресло пилота, оглядел своих помощников и молвил: – Вы трое завтра отправитесь в раскоп. Еще раз пройти с приборами всю площадь, и если что-то найдется, не копать, а сообщить мне. Повторяю: не копать, а сообщить! Ясно? – Ясно, тэд'шо, – откликнулся Хутчи. – А если ничего не найдем? – В этом случае раскоп подлежит консервации. Укрепить стены, дно залить пеной, поставить над ямой силовой купол. Технику перевезти на раскопы два и четыре. – Большой труд, пха! Долгий! – с унылым видом заметил Шиза. – А роботы зачем? – ядовито осведомился его начальник. – Я, конечно, понимаю – невелик толк, когда ленивые пасеша погоняют ленивцев из пластика и железа. Поэтому определимся со временем: на эту работу даю вам четыре дня. – Снова оглядев Инанту и своих ассистентов, он добавил: – Четыре дня не желаю вас видеть! Буду занят! И не суйте свои рога в лабораторию! С этими словами Сигеру'кшу коснулся клавиши автопилота, и флаер взмыл в воздух. Алиса, забравшись в кресло у иллюминатора, смотрела на земли и воды, что расстилались внизу. Кресло было огромным, как все остальное в салоне – консоль управления с клавиатурой и массивными рычагами, крышки откидных столов, плоские светильники у потолка и люк трехметровой ширины. Огромным, тяжеловесным, рассчитанным на комплекцию хапторов и совершенно лишенным изящества и красоты. Смотреть вниз было гораздо приятнее. Они летели к станции на западном берегу Моря Тысячи Островов, и путь был недолгим, всего сто тридцать километров над лазурными водами, лабиринтом архипелагов и полями цветущих водорослей. Прошло несколько минут, флаер скользнул ближе к морской поверхности, затем промчался над самым крупным островом у западного побережья. В центре его, в кольце прибрежных скал, темнело овальное пятно астродрома, топорщились силовые мачты энергостанции, а вдали, на самом краю, мерцал серебристой рыбкой посадочный модуль с «Дельфина». Астродром, служивший всем космическим странникам, был построен сервами лоона эо еще в незапамятные времена; теперь, кроме их торговых караванов, здесь, хоть и не очень часто, приземлялись корабли хапторов, нильхази и землян. Место уединенное и недоступное любопытным лльяно – они не имели ни лодок, ни плотов, не рыбачили и вообще не любили воду. Показался песчаный берег, и «летающее крыло» опустилось еще ниже. На мгновение аппарат завис над куполом станции, затем медленно спланировал к пятачку посадочной площадки, гулко вздохнули амортизаторы, открылся люк, и в его проеме сверкнуло заходящее солнце. Подхватив сумку, Алиса направилась к выходу, чувствуя, как сильно колотится сердце – гораздо сильнее, чем в те секунды, когда она жгла вылезшую из яйца тварь. К опасности она давно привыкла, к любви – нет. В этом таился некий глубинный смысл, осознаваемый ею не разумом, но сердцем: любовь умирает, когда становится привычкой. Ивар стоял у ангара. Он всегда встречал ее, даже если они расставались на пару часов. Вздохнув, Алиса спрыгнула на землю и шагнула к нему.Глава 3 Лес. Ночная охота
Рождение двух, иногда трех однополых потомков является генетической особенностью лльяно. Статистические исследования не выявили случаев появления на свет единственного детеныша – очевидно, подобная ситуация невозможна физиологически. Сестры/братья одного помета считаются в некотором смысле целостным существом, носят одинаковое имя и выбирают одно и то же занятие. Такие близнецы брачуются с другой парой или тройней, образуя семейную ячейку. Наиболее распространенный вариант семьи 2–2. Группы 2–3, 3–2 и 3–3 встречаются гораздо реже (5–6 %). Связи между членами группы очень сильны, лидером обычно является самка (альфа-самка), но ее власть ограничена семьей; вопросы, касающиеся всего поселения, разрешают старейшие самцы. Самки занимаются детьми, обустройством жилища (древесной хижины хх'бо), приготовлением пищи и некоторыми ремеслами (плетение циновок, сумок и корзин). Что касается самцов, их делом является охота, а в более зрелом возрасте – резьба по дереву и кости, изготовление оружия, ловушек для животных, ремней, кожаных нагрудников и музыкальных инструментов.Отчет экспедиции Тревельяна – Сигеру'кшу.
* * *
– Сюда, консул. Номер первый, как обычно, – Нильс Захаров, инженер-инкарнолог, стоя у пульта управления, помахал рукой и включил приятную мелодию. Затем указал на сиденье под большим прозрачным колпаком. – Ваша супруга может занять соседний ложемент. Алиса уселась, положив на колени излучатель. Нильс хихикнул, и она бросила на инкарнолога строгий взгляд. – Что смешного, юноша? – Так она обычно называла Захарова, хотя тот был на год или два ее старше. – Здесь бластер вам не пригодится, молодая тхара. – Я знаю. Это не для меня, а для вас. Видите, оружие в кобуре с наплечными ремнями? Вам нужно надеть их на моего лльяно. – Слушаюсь, тхара. Будет исполнено, тхара. Взгляд Алисы стал ледяным. – Попрошу без фамильярностей, инженер. Для вас я не тхара, а полевой агент. Нильс схватил кобуру, сунул ее за пояс и, не сказав ни слова, надвинул на Алису прозрачный колпак. Щелкнули замки у пола, заклубился компенсирующий газ, скрыл ее фигурку в облегающем трико и шлеме с контактными гнездами. «Раньше было куда сложнее», – подумал Тревельян. Саркофаг, заполненный жидкостью, маска, скафандр, множество датчиков, трубок, проводов… В течение немногих лет, прошедших с его работы на Арханге, инкарнология двигалась вперед семимильными шагами. Теперь экспедиция располагала двадцатью точными подобиями лльяно, имитациями, которые использовались как носители – в каждом был кристалл, матрица, способная принять разум человека или хаптора. – Вам, консул, тоже что-нибудь приготовить? – спросил Нильс. – Метатель плазмы или аннигилятор? – Браслет связи и камеру, еще дротики и нож, – распорядился Тревельян. – Все-таки на охоту идем. За очень опасной тварью! – Тогда я выберу нож поострее, – произнес инкарнолог, опуская над сиденьем Ивара колпак. Успев вдохнуть газ четыре раза, Ивар погрузился в приятную дремоту, а затем в крепкий сон. Ни мыслей, ни сновидений – полное и безраздельное беспамятство… Очнулся он в ярко освещенном отсеке, вдоль стен которого тянулись хрустальные цилиндры с застывшими в них фигурами лльяно. Поверх плотного меха на Иваре были нагрудник с поясом, с ремня свисал длинный нож в ножнах, за спиной – колчан с дротиками. Он пошевелил непривычно короткими ногами, поправил обруч с камерой на голове, хлопнул когтистой ладонью о ладонь и шагнул на пол. Рядом раскрылся еще один цилиндр, и мохнатое существо с висевшим у пояса излучателем уставилось на него крошечными темными глазками. – Ивар, это ты? – Голос звучал невнятно, должно быть, Алиса еще не привыкла к новой телесной сущности и речевому аппарату лльяно. Он вытянул руку с комм-браслетом на запястье и прикоснулся к ее плечу. – Разумеется, я. Как тебе наша амуниция? Уютно в ней? Алиса потопталась на месте, отбросила пряди волос, свисавших с висков. – Мои ноги… кажется, я их лишилась… – Это не твои ноги, а лапы лльяно, – сказал Ивар. – Ничего не поделаешь, коротковаты, но скоро ты привыкнешь, дорогая. Надо лишь больше двигаться. Они покинули отсек. У выхода их поджидал Нильс Захаров, казавшийся для невысоких лльяно настоящим гигантом. – Все в порядке, консул? – Да, благодарю. Адаптация идет нормально. Вернемся на рассвете. Тревельян помахал ему рукой. Снаружи сгущались сумерки. Солнечный диск до половины скрылся за лесом, с моря задувал прохладный ветер, и ползли редкие облака. Над куполом станции мелькнула быстрая тень, за ней вторая, третья… Птицы-рыболовы отправлялись к воде за пропитанием. Их клекот и пронзительные вопли разорвали тишину. Ангар, в котором находилась различная техника, включая роботов и имитации лльяно, выходил к посадочной площадке. Они прошли мимо «летающего крыла» хапторов, мимо двух легких авиеток и амфибии, похожей на большую черепаху, мимо гравиплатформ, уложенных в высокий штабель, и ящиков с запасным оборудованием. За ящиками был возведен отдельный модуль из прочного пластика, служивший лабораторией. В ееузких, напоминавших бойницы окнах все еще мерцали отблески света – похоже, Сигеру'кшу трудился не покладая рук. За пару последних дней он не заглядывал в жилой комплекс базы даже во время обеда. В силовом поле открылся проход. Рука об руку Ивар и Алиса миновали коридор, обозначенный огнями, и свернули к лесу. Как бывало обычно, они двигались по тропе, проложенной от станции до поселка в роще бамбука хх'вадда. Тревельян уже не в первый раз перемещался в тело лльяно и особых неудобств не испытывал, но Алиса, не имевшая такого опыта, спотыкалась и что-то неразборчиво ворчала. Охота на большого молчаливого или шорро, как его называли туземцы, была занятием опасным, и она не пожелала отпускать супруга без защиты. Ивар не спорил; за недолгое время их семейной жизни он уже привык к тому, что Алиса Виктория стоит за его спиной с излучателем наготове. В этом имелись и плюсы, и минусы, но выбирать не приходилось – Алиса умела настоять на своем. – Не торопись, я еще не научилась справляться с нижними конечностями, – промолвила она, уже гораздо отчетливее. – Шаг стал коротким, и когти цепляются за траву… Удивительно, что при таком телосложении лльяно хорошие охотники! Охота требует ловкости, быстроты и точности удара, а эти существа медлительны и неуклюжи. – Прости, милая, это ты неуклюжа, – возразил Тревельян. – Лльяно очень подвижны, и молодые охотники гонят зверя на четвереньках, перемещаясь с изрядной скоростью. А точность броска!.. Я видел, как Шасса-второй сбил птицу с пятидесяти шагов. – Должно быть, птичка была величиной с бегемота, – заметила Алиса и опять споткнулась. Тревельян галантно поддержал ее, ухватив за ремень. – Нет, птица совсем небольшая, с два кулака. Выдающийся результат! Алиса засопела. Ивар, постранствовав в разных телах, весьма непривычных для человека, ее понимал – она все еще ощущала себя земной женщиной и не спешила отдаться на волю инстинктам. Сам он был сейчас лльяно и двигался с привычной ловкостью. Ни трава, ни корни, пересекавшие тропу, ему не мешали. – Не понимаю, Ивар, – сказала Алиса. – Нет, не понимаю! – Чего же, счастье мое? – К чему нам эти имитации? Я имею в виду – здесь, на Лиане? Землеподобная планета с хорошим климатом и привычной для нас экологией… тепло, светло и сколько угодно кислорода… Мы даже можем есть местные продукты! Чудовищ здесь нет – не считая твари, что откопал Сигеру'кшу… Почему бы ни вести работы в своем естественном обличье? Всегда и везде, в любое время суток? С минуту Тревельян размышлял, умерив шаги и стараясь, чтобы жена за ним поспевала. Он привык к таким вопросам, их задавали и другие разведчики ФРИК – разумеется, молодые. Хоть консулом он сделался недавно, но понял с первых же дней: его обязанность, возможно, главная – учить. – Есть ситуации, тхара, когда облачиться в чужие тела, почувствовать их особенности – самый простой и разумный выход. Лльяно не возражают против визитов в их деревню, мы можем наблюдать их быт, приобретать товары, даже охотиться с ними, но только не сейчас, не в ночное время. – Почему? Какой-то предрассудок? – Нет, соображения самые практические. Видишь ли, это не обычная охота. Большой молчаливый растерзал взрослого лльяно, унес двух детишек и сожрал их. Такое случалось и прежде, поэтому в деревне знают: шорро будет ходить и ходить к ним, если его не прикончить. Полная аналогия с тигром-людоедом где-нибудь в Индии, в девятнадцатом веке… Так что мы не за добычей идем, а убивать. – Я бы сама его выследила и убила! – Алиса прикоснулась к рукояти бластера. – Нет, это дело лльяно. Очень опасное! И потому они не хотят, чтобы мы, в своем человеческом обличье, им мешали. Мы слишком большие и неловкие, мы плохо видим ночью, мы наступаем на ветки и шумим, и охотники не услышат, как подкрадывается шорро… Таковы их резоны. – Боюсь, я и в этой шкурке буду шуметь, – пробормотала Алиса, снова споткнувшись. – Скоро привыкнешь. Во всяком случае, охотники не против, чтобы мы, сделавшись лльяно, сопровождали их. Большая удача! Можно провести здесь год, два или пять и не встретить большого молчаливого. А это боковая ветвь разумной расы и… Алиса вдруг остановилась. – Владыки Пустоты! Я поняла, отчего мне так неудобно! Нильс, черная душонка! Он перенес меня в тело самца! Ну, я ему выдам, когда вернемся! Тревельян похлопал ее по мохнатому плечу. – Успокойся, милая моя тхара, Нильс не виноват. Все наши имитации лльяно – самцы, так что выбор ограничен. Кроме того, будь ты самкой, тебя не взяли бы на охоту, да еще ночью. Самки лльяно жарят мясо и плетут коврики. Впереди уже виднелась опушка леса. Небеса начали меркнуть, вспыхнули первые звезды, затем взошла Желтая луна, самая крупная, потянув за собой четыре малых, отливавших серебром. «Чарующее зрелище», – подумал Ивар, любуясь сиянием лун и Млечного Пути. Лиана находилась ближе к ядру Галактики, чем любая планета Земной Федерации или сектора хапторов, и звезд в ее небе было не перечесть – во всяком случае, никто из посетивших мир лльяно такими подсчетами не занимался. Заросли бамбука остались позади. Листва огромных хх'бо зашелестела над ними, кроны, ветви и толстые стволы, тянувшиеся из чудовищных пней, отсекли небесное сияние. Для человеческих глаз тут царила тьма, но зрение лльяно было более острым – Ивар различал оттенки серого, темного, черного и двигался уверенно. Алиса уже не спотыкалась, не фыркала и шла за ним быстрым легким шагом. Они обогнули селение, вышли к ручью с переброшенными над водой мостками и встали у дерева, похожего на вытянутую кверху гигантскую корзину. Алиса связала на затылке пряди, падавшие с висков, и теперь вертела головой. – Где они? Ты их видишь, Ивар? – Тихо, ласточка, тихо, – прошептал он. – Охотники уже здесь. Мы увидим их, когда они захотят.* * *
Хищники в лесах Лианы – те, что искали добычу по ночам, – не рычали, не ревели, не шипели и большей частью двигались бесшумно. В отличие от «тхх», животных для охоты, лльяно называли этих тварей «ночными молчаливыми», описывая их во всех подробностях, ибо каждый был по-своему опасен. Крылатый молчаливый относился к птицам, имел мощный клюв, лапы с когтями и рудиментарные шпоры на крыльях; он планировал на голову жертвы и первым делом выклевывал глаза. Вонючий молчаливый походил на длинноногого волка с крокодильей зубастой пастью, но главным его оружием были не клыки и челюсти, а струя зловонной мочи – вероятно, ядовитой, так как, вдохнув этот смрад, любой зверь валился замертво. Хвостатый молчаливый, размером с кошку, обитал на деревьях и отличался не силой, но ловкостью и невероятной свирепостью. Эта тварь была стайным животным, легко впадала в ярость и любила кровь; стая из сотни таких вампиров могла обглодать оленя за полчаса. Шестилапый молчаливый, помесь бронированного краба с пауком, селился в скалах у воды, питался рыбой и водоплавающими птицами, но лльяно тоже не брезговал, вызвав у них стойкую неприязнь к морю и широким рекам. На него, однако, охотились – хитиновые шипы этих чудищ очень подходили для наконечников копий. Но самым опасным был шорро, большой молчаливый. Огромный, мохнатый, весивший вшестеро больше лльяно, он обладал зачатками разума и относился к боковой ветви эволюции, породившей автохтонов Лианы-Секунды. На Земле гигантопитеки вымерли в далекую эпоху, но здесь нечто подобное сохранилось, став ночным кошмаром, бесшумным, ненасытным, смертоносным. Обычно шорро бродили в джунглях и горах, собираясь группами только в сезон спаривания, пожирая лесных тварей и более слабых сородичей, когда такие попадались. Но бывало, что одинокий самец, облюбовав селение лльяно, считал его своим охотничьим угодьем, а жителей – добычей. Шорро двигались бесшумно, обходили ловчие ямы, убивали, ломая шею или позвоночник, и были ненасытны – иногда появлялись в деревне дважды за ночь. Но с этим бедствием лльяно умели справляться. Предок у них и у большого молчаливого был общий – плотоядная тварь, лазавшая по деревьям и питавшаяся птичьими яйцами и мелкими зверьками. Пути эволюции разошлись два или три миллиона лет назад: лльяно спустились с деревьев, начали размышлять и говорить, делать топоры и копья, плясать у костров и торговать с небесными пришельцами; у шорро главным достижением стало подобие речи – рев, ворчание и два десятка невнятных воплей. Но дальше они не продвинулись. Из-за своего аппетита, как считал Тревельян; когда постоянно хочется есть, не до разговоров. Он подумал: пища в той же степени формирует речь и разум, что и умение трудиться. В этом смысле был понятен интерес, который проявляли к лльяно хапторы – при всех отличиях между этими расами, та и другая произошла от хищных плотоядных существ. В пищевом рационе лльяно и хапторов мясо являлось основным продуктом, и их метаболизм, процессы расщепления белков и жиров, были практически идентичными. Ивару вновь вспомнилась максима Йездана из Книги Начала и Конца: «Еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым». Это не совсем отвечало истине, ибо одних пища соединяла, других разделяла, и временами отторжение было столь глубоким, что оборачивалось неприязнью и презрением. Кни'лина и парапримы мяса не ели, и даже мысль о поедании животных была для них отвратительна. Но парапримы держали это мнение при себе, а кни'лина не стеснялись его декларировать в весьма обидном смысле для землян, называя их мшаками[187] и пожирателями трупов. …Послышалось тихое ворчание, и Тревельян оглянулся. Из-за ствола хх'бо выступила фигура лльяно, затем появился весь охотничий отряд: два брата Шасса, два брата Ханнто и три брата Уттур. Лучшие, самые опытные следопыты и бойцы, все с тяжелыми копьями на ремнях, с топорами и ножами у поясов. Уттур-третий, предводитель, оглядел Ивара и Алису и произнес: – Длинной вам шерсти и острых когтей. Ты, Увва, зря взял дротики. Шорро быстрый, дротиком не попасть. – Копьем, наверное, тоже, – возразил Тревельян. – Копья для другого. Молчаливый бросится на нас, я и Шасса будем держать копьями, а Ханнто сзади ударит топором. Он говорил о братьях, как говорят о единой личности, это Ивару было понятно, но не роль, что отводилась им с Алисой. Обхватив ее за плечи, чтобы подчеркнуть их общность, он спросил: – Что буду делать я? – Держаться подальше, – буркнул третий Уттур и зашагал вперед. Остальные потянулись за предводителем. Последним, пропустив Тревельяна и Алису, двигался Шасса-второй, держа наготове копье с длинным металлическим наконечником. Ивар бывал в поселке в своем естественном обличье и в ипостаси лльяно, но это не вызывало ни вопросов, ни удивления, ни страха. Туземцы повидали разных существ, прилетавших с небес: сервов, хапторов, землян, нильхази, и с этими гостями на Лиане появлялась их техника: роботы всевозможных форм, летающие и наземные экипажи, механизмы, способные двигаться и даже говорить. В первые же дни Ивар выяснил, что все существа и все искусственные создания были для лльяно живыми, но делились на разумных хххфу и таких, у которых шерсть не длиннее когтя. Лльяно были прагматиками, чье мировоззрение питалось из двух источников, повседневного опыта и достижений галактической культуры. Опыт подсказывал, что в их мире одни обладают разумом, а другие неразумны, хотя бегают, летают, издают множество звуков и не очень стремятся попасть разумным на обед. Отсюда вытекало, что у небесных гостей ситуация схожая, что они привозят с собой животных с твердой шкурой, не съедобных, но очень полезных в другом отношении. Пришелец-хххфу мог забраться в такую железную тварь, и она начинала двигаться и говорить его голосом, мог передать свое «я» неразумному механизму, и в этом не было ничего удивительного. Имелись, конечно, и другие возможности: пришелец мог переселиться в существо, во всем подобное лльяно, с мягкой шерстью и когтистыми лапами. Но зачем? С какой целью? Ответ прост: в таком виде удобнее ходить в лесу, охотиться и выслеживать шорро. – Увва, – тихо произнес шедший сзади Шасса-второй. Обернувшись, Тревельян увидел, что зубы его оскалены, клочья шерсти на лице трясутся и мелко дрожат широкие черные ноздри. Шасса смеялся – можно сказать, хохотал. – Есть повод для веселья? – спросил Ивар. – Может, ударим в барабан и спляшем на радостях? – Плясать будем, когда убьем большого молчаливого, – ответил Шасса-второй, – но я веселюсь. Вспоминаю вчерашний день, время заката, и веселюсь. – А что было вчера на закате? – полюбопытствовал Тревельян. – Развели костер – там, где танцуют. Притащили Тза. Рахаш молвил слова наказания. Взяли палку. Хорошая палка, толстая! – Ноздри Шассы-второго задергались еще сильнее. – Тза вопил громче ттх'кута, попавшего в западню! – Оууу-аа! Я расскажу об этом большому безволосому, – пообещал Тревельян. – Скажу, что обидчика наказали. Кто это сделал? В чьих лапах была палка? – Его родительницы Суххут. Рашах сказал: била его щенком, пусть бьет и теперь. Десять палок! Она закончила, и Рахаш добавил еще две от себя. – Отрадно слышать. – Тревельян порылся в залежах древней мудрости и произнес: – Ухо щенка – на его спине. Они уже удалились от селения на три-четыре километра. Вокруг, точно сторожевые башни, высились хх'бо, огромные плоские пни в кольце могучих стволов. Пни и стволы выглядели черными, остальное – листья и лианы, свисающие с ветвей, длинные тонкие деревья хх'арр, колючий кустарник, травы и заросли гигантских мхов – были окрашены в разные оттенки серого, розоватого, белесого. Вытянутые вверх корзины хх'бо казались невысокими в сравнении с диаметром пней, не больше двадцати с лишним метров, но густая листва на боковых ветвях почти закрывала небо. Редко, очень редко попадался случайный разрыв, в котором сияли яркие звезды или круглый диск одной из серебряных лун. Лучшие следопыты, первый Шасса и первый Уттур, покинули цепочку охотников и двигались теперь по обе стороны от нее, изучая почву, траву и деревья. «Ищут следы», – подумал Тревельян, вслушиваясь в лесные шорохи. Никаких звуков, кроме тихого шелеста листвы, ни птичьих трелей, ни визга маленьких зверьков, обитающих в древесных корнях… Ночь Лианы полнилась тишиной, и в ней, подобно теням, скользили хищники, высматривая замершую в ужасе добычу. Кто-то следил за ними, и ощущение опасности, пришедшее к нему, было отчетливым и острым. Кажется, Алиса его разделяла – она вцепилась в шерсть на спине Тревельяна и вытащила из кобуры излучатель. – Ивар… – Ее голос был едва слышным. – Ивар, милый, я не смогу стрелять… я не чувствую оружие… не чувствую так, как надо… Кисть не похожа на нашу, коготь мешает, и мне не дотянуться до спуска… – Попробуй средним пальцем, он длиннее указательного, – сказал Тревельян. Ничего другого он не мог посоветовать – руки лльяно были меньше человеческих, и земное оружие для них не подходило. Тихо зашелестела крона ближайшего хх'бо. Шорохи были едва слышными – чудилось, что какие-то мелкие твари пробираются среди листвы, царапая когтистыми лапами кору. – Хвостатый молчаливый, – прошептал Шасса-второй. – Три зверя. – Нападут? – Ивар коснулся рукояти ножа. – Нет. Нас больше. Поищут легкую добычу. – Шасса склонил к плечу лохматую голову, прислушался. – Убежали. Не опасно. Стаи нет. Справа раздался негромкий писк, словно кто-то задел случайно тонкую гитарную струну. Предводитель насторожился, затем повернул в сторону звука, к зарослям гигантских мхов. Их высокие стебли были переломаны и растоптаны, сбитые белые цветы покрывали траву, и на этом белесоватом фоне виднелись бурые пятна. Первый Шасса, следопыт, склонился над ними. – Сок жизни, – произнес он на альфа-языке, выпрямляясь. Так лльяно называли кровь. – Щенки, – сказал Ханнто-второй. – Щенки, – согласился первый Уттур. – Здесь он съел двух щенков, а до того убил Кша. «Очевидно, – подумал Ивар, – это лльяно, ставший жертвой большого молчаливого. Шорро разделался с ним на рассвете, сутки назад». – Теперь Кша и щенки не улетят на Желтую луну, – печально молвил Уттур-третий. – Мы больше их не увидим. Никогда! Лльяно сжигали своих покойников на больших кострах. Считалось, что дым несет их на Желтую луну, где обитали пращуры, коротавшие время в занятиях художеством. Каждая статуэтка, вырезанная ими, превращалась в младенца-лльяно, а статуэток было ровно столько, сколько умерших улетало с дымом. Но Кша и два детеныша попали вместо погребального костра в брюхо шорро. – Кша ходил у ловчих ям, – буркнул Ханнто-первый и вытянул руку. – В той стороне! – Большой молчаливый умен, – произнес Шасса-второй. – Знает, что к ямам придут охотники и будет их немного, один, два или три. Больше не надо, чтобы проверить ямы. Шорро спрятался и ждет. Второй Уттур поднял копье. – Я тот, кто заглянет в ямы. Идите за мной, но не близко. Затем он скользнул в лесной сумрак и исчез. Остальные ждали, не трогаясь с места. Шерсть на их плечах и спинах стояла дыбом – знак крайнего возбуждения. – Он пошел один, – шепнула Алиса. – Что это значит, Ивар? – Приманка, тхара, приманка. Хищник набросится на него, и мы должны успеть на помощь. Иначе… Предводитель издал тихий звук, и шесть охотников растянулись шеренгой. Они шли молча и бесшумно – едва заметные тени в ночном лесу, похожие на небольшие кучи сухой травы. У поясов покачиваются ножи и топоры, копья на ремнях торчат над головами, их лезвия чуть поблескивают… Ивар и Алиса тронулись следом. Алиса теперь держала излучатель обеими руками, прижимая ствол к плечу – наверное, так ей было удобнее. Посматривая на нее, Тревельян решил, что инстинктивная память плоти возобладала над человеческими привычками – она вполне освоилась с новым телом, двигалась уверенно и, конечно, смогла бы размахнуться и ударить копьем или клинком. Но со стрельбой из бластера дело обстояло хуже – у лльяно таких инстинктов не имелось. Они шли за Шассой-вторым, крайним в цепочке охотников. От лиан, спадавших с ветвей, и лишайника, что карабкался по древесным стволам, тянуло гниловатым запашком, мягкие стебли мха бесшумно стелились под ноги, в сумрачном воздухе плыло белесое облако, то ли семена растений, то ли крохотные мотыльки. Затем деревья хх'бо вдруг расступились, открыв неширокую прогалину, и Тревельян услышал робкое журчание воды. Вслед за охотниками они преодолели ручей, струившийся в заболоченном овраге, и тут Шасса оглянулся, вытянул руку и указал на что-то в мокрых мхах. След огромной лапы, пятипалой, страшной, когтистой… Поправив наголовный обруч с видеокамерой, Тревельян бросил рядом нож, наклонился и снял отпечаток крупным планом. В полутора метрах нашлись еще следы, и он их тоже зафиксировал. Совсем свежие – это было понятно без объяснений лльяно. Чудовище прошло здесь час или два назад, так что они двигались верной дорогой. За прогалиной деревья росли не так часто, между ними лежала паутина звериных троп, а в разрывах крон тут и там виднелось звездное небо. Тревельян различил на земле следы оленей ттх'окл и древесных кабанчиков ттх'кут – вероятно, днем животные шли сюда на водопой. Ловчие ямы лльяно были где-то поблизости. Возможно, второй Уттур уже добрался до них. – Милый, встань за мной, – тихо промолвила Алиса. – Я могу стрелять. Я приспособилась. – Тхара никогда не сдается. – Тревельян вытащил из колчана пару дротиков. – Напомню, ласточка моя, важно не выстрелить, а попасть. – Я попаду. Я… Пронзительный визг раскатился над лесом. Не слово, не возглас страха, лишь тонкий вой, который лльяно издают в миг опасности. – Уттур! – выкрикнул Тревельян и бросился вслед за охотниками, стараясь не потерять из вида спину второго Шассы. Тело лльяно, такое неуклюжее, странное, даже нелепое, на взгляд длинноногих землян, было идеально приспособлено к перемещению в лесу. Сам того не осознавая, Ивар бросил дротики и мчался сейчас на четвереньках огромными скачками, ловко огибая стволы деревьев и перепрыгивая через выступавшие из почвы корни. Мохнатая шкура защищала его от сучьев и ветвей, короткие лапы работали, как четыре мощных поршня, ноздри жадно втягивали воздух, дыхание было сильным и ровным. В своем естественном обличье он отличался подвижностью и быстротой, но понимал, что все же не сумеет угнаться за бегущим лльяно – разве что обернувшись гепардом. Эта мысль промелькнула и исчезла. Он выскочил на пятачок между тремя деревьями хх'бо, где с визгом и рычанием перекатывалась груда мохнатых тел, сокрушая стебли высоких мхов и пятная их кровью. Один охотник лежал в стороне без движения, вывернув шею и вцепившись в обломок копья, другие обломки от древков и топорищ усеивали землю, тут и там поблескивали металлические наконечники. Очевидно, план Уттура-третьего – держать шорро копьями, а сзади ударить топором – провалился, и теперь итог схватки решали когти, клыки и клинки. Вытащив свой нож, Ивар подступил к сражавшимся. Но нанести удар он не смог – перед ним мелькали спины, загривки и головы лльяно, а большой молчаливый ворочался где-то внизу, ломал кости, рвал охотников зубами и когтями. На миг высунулась лапа толщиной с бревно и сразу исчезла – с такой быстротой, что Ивар не успел моргнуть. Он кружил рядом, выбирая момент для атаки и чувствуя, что шанса может не представиться. Лльяно и их противник были сейчас хищными тварями, глухими к голосу разума; звать их бесполезно, а лезть в эту кучу – самоубийственно. За его спиной треснули сухие ветви, и, оглянувшись, он увидел Алису. Она задержалась – кажется, бежала на двух ногах, не выпуская из передних лап оружие. Вид у нее был самый решительный. – Придурки! – бросила она, поднимая бластер. – Тварь их всех задерет! Или искалечит! Ну, я сейчас… Ослепительная молния сверкнула в лесном сумраке. Алиса целилась в крону хх'бо, и, учитывая размеры древесного гиганта, было невозможно промахнуться. Сверху посыпались сучья и листья, за ними рухнула крупная ветвь, накрывшая лльяно и большого молчаливого. Вероятно, удар оказался чувствительным – охотники, бросив своего врага, ринулись в стороны и завертели головами, высматривая новую опасность. – Оууу-аа! – во всю мощь глотки провыл Тревельян. – Отойдите, гнилая плесень! Отойдите, мы будем стрелять! Ни топоров, ни копий у лльяно не осталось, только ножи. Все были окровавлены, но лишь один, первый Ханнто или второй, ковылял с трудом – похоже, тварь сломала ему ногу. Рухнувшая ветвь зашевелилась, шорро отбросил ее и поднялся на дыбы. Он был страшен и огромен, на голову выше Сигеру'кшу, и весил, должно быть, больше четверти тонны. Плечи, покрытые рыжей шерстью, бугрились мышцами, из приоткрытой пасти капала смешанная с кровью слюна, маленькие глазки под лобным валиком горели яростью, пятипалые лапы с длинными когтями походили на две корзины, и в каждой мог уместиться лльяно. В ребрах большого молчаливого торчал наконечник копья, на другом боку и лапах виднелись кровоточащие порезы, но казалось, что эти раны его не беспокоят. Шорро был полон злобной энергии и сил. Повернувшись стремительно и бесшумно, он отбросил третьего Уттура и навис над Ханнто со сломанной ногой. – Стреляй! – крикнул Тревельян. – Стреляй, тхара! Алиса выстрелила и промахнулась. Шорро прыгнул к ней, преодолев за два скачка девять или десять метров, взмахнул лапой, отшвырнув Алису к дереву, прижал ее к стволам хх'бо и распахнул клыкастую пасть. Сердце Ивара замерло. На мгновение он позабыл, что ей ничего не грозит, что тело ее – под колпаком в отсеке базы, и, если имитация выйдет из строя, Алиса тут же вернется в свою плоть, к истинному своему обличью. В тот миг это казалось неважным; разум уступил эмоциям, и Тревельяну мнилось, что зверь сейчас убьет его жену. Он подскочил к шорро и ткнул чудовище ножом в бедро – выше было не достать. В узкую щель между стволами хх'бо просунулись чьи-то мохнатые лапы, обхватили Алису и потянули на плоский круглый пень. Шорро двинул ногой, выбив нож из пальцев Тревельяна, и он покатился по земле, пересчитывая ребрами твердые корни. Лльяно куда-то исчезли, он не видел ни Алисы, ни охотников, и на крохотной поляне вместе с ним остался только большой молчаливый. «Сейчас он свернет мне шею», – подумал Ивар, запустив руку в колчан. Там было еще четыре дротика. Жалкое оружие, но если удачно метнуть… Голос Алисы остановил его: – Брось колчан, Ивар! Сюда! Скорее! Он прижался к дереву, и кто-то, содрав с плеча колчан и вцепившись в шерсть, потащил его в щель между стволами. В следующий момент он очутился на плоском пне хх'бо, в окружении древесных побегов, прочных и несокрушимых. Челюсти шорро лязгнули у самого лица, к горлу потянулась когтистая пятерня, и Тревельян отскочил назад. Пень был велик, метров пять в диаметре, а в узкие щели зверь пробраться не мог, разве что просунуть лапу. Глубоко вздохнув, он огляделся. Алиса, Шасса-второй, Уттур-первый и Уттур-третий… Другой Шасса и оба Ханнто нашли убежище в соседнем хх'бо. Ивар еще раз пересчитал своих спутников. Получалось, что мертвый охотник, тот, кому шорро сломал шею – второй Уттур. «Не успели…» – мелькнула мысль. – Излучатель, – сказала Алиса, потирая лапами грудь. – Я так треснулась о дерево, что выронила излучатель… Валяется во-он у того корня! – И я безоружен, ни ножа, ни дротиков, – промолвил Ивар, ощупывая обруч с камерой на голове. – Копий у нас тоже нет, издалека мы шорро не достанем. – Он уставился на предводителя Уттура-третьего. – Что будем делать? Вылезем и подберем ножи, если успеем? Или сразу навалимся кучей? – Надо расправить шерсть, – сказал Уттур и опустился на задние лапы в середине пня. Эта идиома означала потребность в отдыхе. – Шорро может уйти, – отозвался Тревельян. – Придется снова его искать. Уттур помотал лохматой головой. – Не уйдет. Будет бродить рядом долго, долго, будет стеречь… Не уйдет. – Мы выйдем, когда шерсть расправится, – произнес второй Шасса. – Мы его убьем. – Подумал и добавил: – Или он нас. – Вот это больше похоже на правду, – заметила Алиса и повернулась к Тревельяну. – Милый, моя шерсть в порядке. Может, я вылезу и подберу бластер? – Нет. – Ивар поглядел на большого молчаливого, маячившего за древесными стволами. Зверь поводил головой, и было заметно, что он в полной готовности сцапать первого, кто вылезет наружу. – Почему нет? – Тон у Алисы был недовольный. – Потому, что тела лльяно – не истинный наш облик, мы уступаем им в ловкости и скорости. Молчаливый очень быстр. Ты и шага не успеешь сделать. – Но если его отвлечь… – Не фантазируйте, полевой агент! – строго произнес Тревельян. – У нас имеются другие возможности. – Какие? Он покосился на браслет связи. Самое простое – вызвать Нильса и приказать, чтобы инкарнолог вернул их на станцию. Здесь останутся два безжизненных тела и шесть охотников лльяно… Но есть и другой вариант: он мог открыть портал, схватить Алису в охапку и мгновенно перебраться в любое место на планете. Ивар старался не использовать этот свой дар – о нем и так ходили всякие слухи, часто весьма далекие от истины. Но в безвыходном случае… «Впрочем, – подумал Ивар, – ситуация не критическая. Лльяно изранены и безоружны, и ясно, что даже всей компанией им с молчаливым не совладать. Бросить их тут нельзя, это верная погибель. Значит, попросим помощи». Шорро наклонился над телом Уттура-второго и вскрыл его живот одним движением когтистой лапы. Вырвал внутренности, сунул в пасть, прожевал и облизнулся. Переломил хребет о колено и принялся сдирать кожу вместе с шерстью – неторопливо и аккуратно. Вцепился зубами в бедро, отодрал кусок мяса и проглотил целиком. Расколол череп ударом кулака и с чавканьем высосал мозг. Охотники за спиной Ивара заскулили, и ему вспомнилось, что большой молчаливый умен. То, что он делал, было рассчитано на зрителей – похоже, шорро решил, что враги не выдержат, покинут убежище и в ярости набросятся на него. При таком раскладе событий конец был очевиден. – Не могу на это смотреть… – глухо пробормотала Алиса и скорчилась, уткнувшись головой в колени. – Возвращайся на базу, – сказал Тревельян. – Поднимешь Инанту и молодых хапторов. Возьмите авиетку и оружие. Жду вас здесь через сорок минут. – Но ты… – Со мной ничего не случится. – Он ткнул когтем в браслет, послав сигнал вызова. – Нильс, забери Алису. Быстро! – Слушаю, консул, – раздался голос инкарнолога. – Слушаю и выполняю. Имитация Алисы мягко повалилась набок. Выглядела она мертвее мертвого – глаза закатились, пасть приоткрыта, язык вывален, на шерсть стекает слюна. Предводитель Уттур уставился на неподвижное тело и пробормотал: – Твой брат, Ивва, на Желтой луне. Большой молчаливый ударил его очень сильно. – Нет, – возразил Тревельян. – Мой родич расправляет шерсть и скоро вернется. И тогда мы убьем большого молчаливого. Сосредоточившись, он позвал: «Дед! Где ты, дед?» «На экваториальной орбите, – откликнулся Командор. – Слежу за вашими приключениями. Твоя камера работает отлично». «Я отослал Алису». «Вижу. Есть свободное тело, не так ли? Можно немного размяться». «Ты справишься с этой тварью?» Пауза. Камера на голове Ивара смотрела на имитацию лльяно, и он догадывался, что Командор оценивает сейчас ее боевые возможности. На «Дельфине», так же, как на станции, была смонтирована аппаратура для перемещения, а поскольку дед не имел телесного обличья, корабль мог отправить его сюда быстрее, чем глаз моргнет. Командор ответил после недолгого молчания: «Постараюсь, голубь мой. Хотя этот комок вонючей шерсти не очень подходит для драки с чудищем. Его бы на швабру намотать да палубу драить… – Ментальный вздох. – Ну, что есть, то есть…» Имитация зашевелилась, втянула язык и захлопнула рот. Спустя пару секунд Командор поднялся на ноги, вытянул лапу в салюте и присел, разминая мышцы. Сложностей с телом лльяно у него не было – на «Дельфине» имелись запасные копии, и временами дед использовал их для прогулок по кораблю. – Вот и я, – сообщил он на альфа-лльяно, и хотя голос остался прежним, таким же, как был у Алисы, что-то изменилось в повадках и движениях имитации, в том, как новый ее хозяин держал голову, как поводил плечами, как отбрасывал со лба длинные пряди волос. Резко, быстро, решительно! Не Алиса Виктория стояла перед Иваром, а воин минувших веков, десантник и командир Звездного Флота, сражавшийся с дроми, кни'лина и хапторами. Великий боец! Хотя Алиса, если ее разозлить, тоже была не подарок. Эта мысль заставила Ивара улыбнуться – конечно, про себя, так как лицевые мышцы аборигенов для улыбок не подходили. – Я в твоем распоряжении, дед, – произнес он, но его родич и Советник только махнул когтистой лапой. – Сиди тут и не рыпайся, малыш. И эти парни пусть тоже мне не мешают. – Он бросил взгляд на охотников. – Прям-таки медвежата, швабры мохнатые! Хоть «Утро в сосновом лесу» рисуй! Почесав живот под кожаным нагрудником, он сделал шаг к щели между стволами. Шорро перестал жрать и с надеждой уставился на добычу. Его нижняя челюсть отвисла, обнажая клыки размером с палец. – Людоед, – сказал Командор, – натуральный людоед! Ишь, губы развесил! Ну, сейчас я тебя устаканю! Большой молчаливый подобрался. Ивар видел, как шерсть на его плечах встала дыбом, как подрагивают широкие ступни, сминая мягкий лесной грунт. На поляне вокруг шорро было разбросано оружие, ножи, обломки топоров и копий, а метрах в пяти-шести, под выступающим корневищем, поблескивал бластер Алисы. Но дед не обращал на него внимания. Внезапно он ринулся к щели по другую сторону хх'бо и выскользнул наружу. Теперь между ним и зверем торчала несокрушимая башня пня, и шорро застыл на миг, словно бы призадумавшись, куда прыгнуть, где ловить добычу, слева или справа. Замешательство было недолгим: большой молчаливый прыгнул, а Командор вернулся под защиту дерева, мгновенно пересек пень, оттолкнув с дороги третьего Уттура, и опять пролез между стволами. Он очутился на поляне, и через долю секунды в его руках сверкнули клинки – нож Алисы и нож Ивара. Зверь был уже рядом – мохнатая глыба, нависшая над маленькой, припавшей к земле фигуркой лльяно. Молчаливый двигался с поразительной скоростью; чудилось, что его могучее тело состоит не из мышц и костей, а из какой-то гибкой упругой субстанции, стремительно перетекающей с места на место. Он наклонился над Командором, растопырил над ним когтистую пятерню, но тот проскользнул между ног чудовища, ударив его в пах ножом. Здесь не было костей, и лезвие вошло на всю длину, лишь рукоять торчала снаружи. Гигант покачнулся, скорчился, задрал вверх огромную голову и взвыл. Звук был тонким и пронзительным, словно плач ребенка, и чуткое ухо лльяно различало в нем ярость, угрозу и боль. Очевидно, боль была страшной – шорро прижал лапы к низу живота и рухнул на колени. Его вопль нарушил мертвую лесную тишину, но длился недолго – Командор прыгнул на спину чудовища, просунул нож под нижнюю челюсть и перерезал ему горло. Вой смолк, сменившись тихими всхлипами и клокотанием крови. Большой молчаливый повалился в мох и пару раз дернул лапами. Затем его глаза остекленели. Ивар обнаружил, что стоит на краю пня между двух стволов и прижимается к ним плечами. Шасса-второй и оба Уттура были рядом, а в соседнем дереве хх'бо виднелись фигуры первого Шассы и братьев Ханнто. Они молчали, наблюдая за тем, как Командор чистит клинок о траву и вытирает окровавленные руки. Потом третий Уттур, предводитель, сделал жест почтения и молвил: – Твои когти остры, Увва. Острее, чем ножи, которые привозят тощие хххфу. Ты великий охотник! – Не я… – начал было Тревельян и тут же сообразил, что лльяно воспринимают обе имитации, его и Командора, как братьев, то есть как единую личность. – Мы отнесем мертвого шорро туда, где танцуют, – сказал Шасса-второй. – Бросим его на землю к ногам старейшин и матерей. И ты, Увва, спляшешь танец победы. – Но не в этот день, – возразил Ивар. – Сначала я заберу шорро в свое жилище. Хочу посмотреть, как он устроен. – Твоя добыча, – согласился Шасса и спрыгнул с пня. Потом, не глядя на Тревельяна, пробормотал: – Нет и не было слышавших крик большого молчаливого… Теперь я слышал, и Уттур, и Ханнто… Я не забуду. Вспомню на Желтой луне и расскажу предкам. Кажется, он был потрясен. Остальные охотники бродили среди деревьев, собирая оружие, и только Уттур-первый, склонившись над растерзанным телом брата, что-то шептал ему на ухо. Подобрав излучатель, Тревельян сунул его за пояс. Близился рассвет; небо в разрывах крон стало светлеть, звезды померкли, и первые птичьи трели нарушили лесную тишину. Словно аккомпанируя им, откуда-то сверху послышался шелест – в воздухе над деревьями кружила авиетка. – Твоя боевая подруга, – сказал Командор, почесывая шею. – Примчалась, голубка, а здесь все кончено… Такое разочарование! Ивар вытянул руку, коснулся заросшего шерстью плеча. – Спасибо, дед. Ты избавил нас от больших неприятностей. – Не преувеличивай, мой мальчик. Большие неприятности всегда впереди. Они помолчали, глядя на спускавшуюся авиетку. – Задержишься? – спросил Тревельян. – Алиса будет рада на тебя взглянуть. – В этой амуниции? В вонючей бурой шерсти? – Командор дернул клок волос, торчавших из-под нагрудника. – Нет уж! Лучше я останусь незримым и бестелесным. Милым дамам я привык являться в мундире и при всех орденах. – Тебе виднее, – согласился Ивар. – Ты был женат четыре раза, а я всего лишь жалкий дилетант. – Ничего, образуешься, – буркнул его Советник и улегся на спину. – Скажи кораблю, пусть меня забирает. Устал! Находиться в этакой мохнатой швабре никакого удовольствия! «Дельфин» откликнулся на вызов, и тело лльяно у ног Ивара расслабилось. Командор ушел в свою небесную обитель, оставив на земле пустую оболочку.Интерлюдия Мобильный Флот
«Карфаген», флагман Мобильного Флота, не относился к боевым кораблям. Он нес огромную антенну межзвездной связи, приборы дальней разведки, локаторы и вычислительные устройства – все, в чем нуждались адмирал Лодо, его штаб и экипаж, чтобы руководить будущей операцией. «Карфаген» двигался на острие походного конуса, а перед ним, на дистанции сотен мегаметров, летели беспилотные зонды. Часть из них уже соприкоснулась с потоком, извергнутым из галактического ядра в далекой древности, когда на Земле обитали не люди, а, в лучшем случае, племена пещерных троглодитов. Этот выброс раскаленного газа двигался неторопливо, на два порядка медленнее, чем лишенные массы покоя фотоны, однако успел пройти тысячи парсеков и, вероятно, уничтожить несколько десятков звезд. Если кто и знал об этом, то не лоона эо и ни одна из рас гуманоидов; быть может, лишь сильмарри да Владыки Пустоты наблюдали за такими катастрофами. Адмиральский салон на «Карфагене» располагался около оранжереи, и за прозрачной переборкой в дальнем его конце виднелись ветви пиний с длинными иглами, широкие листья пальм и синеватые кроны марсианских эвкалиптов. На стенах отсека, вытянутого в длину, висели полотна тысячелетней древности, не голографические изображения, а копии картин, написанные маслом – Сислей, Дега, Ренуар, Моризо… Адмирал Лодо, сам незаурядный живописец, обожал импрессионистов. Особенно ему нравились пейзажи Моне, то скрытые за дымчатым полупрозрачным флером, то блистающие буйством ярких красок. Он неизменно садился в кресло рядом с одной из таких картин, утверждая, что вид цветущих кустов сирени или пруда с поникшими ивами дарит покой и просветляет разум. Сегодня он устроился у «Водных лилий», выполненных в сине-зеленой гамме с ярко-алыми пятнами цветов. Напротив, за небольшим овальным столом, сидели его заместители – коммодор Влад Моррисон, специалист по энергетической защите, и коммодор Илона Симбирцева, астрофизик. На висках женщины, под прядями темных вьющихся волос, поблескивали импланты. – Зонды в потоке. От шести мы уже получаем телеметрию, – сказала Симбирцева, коснувшись поверхности стола. – Вот первые данные, адмирал. В воздухе повис экран, закрывший одно из лучших творений Сислея. Лодо поморщился, потом бросил взгляд на лилии, и его лицо просветлело. – Расходимость пучка? – спросил он. – Не отличается от нашего прогноза. В сечении примерно эллипс с отношением осей три к одному… взгляните, адмирал, точная форма – в верхней части экрана. – Я вижу, коммодор. – Без мер противодействия поток достигнет солнца Лиан через тридцать семь стандартных суток. Еще три звезды, более дальние, окажутся на его периферии и могут со временем вспыхнуть. Три сверхновые – слишком много для планет системы лльяно… Скорее всего, они будут выжжены, даже если их светило не взорвется. – Иными словами, нам надо перекрыть протуберанец полностью, – со вздохом произнес Лодо и покосился на экран. – Фронт действительно эллипсовидный… значит, нам хватит половины эммитеров. Схема размещения готова? – Да, адмирал, – произнес Моррисон, в свой черед прикоснувшись к столу, служившему сенсорной панелью. Вспыхнул второй экран. В его темной глубине застыло нечто багровое, вытянутое – плотная светящаяся масса, от которой отходил более тонкий хвост, протянувшийся, как мнилось, в бесконечность. Это была реконструкция, результат сотен снимков газового выброса, сделанных зондами. Он надвигался из галактического ядра на обитаемый мир, и одна мысль об этом делала картину устрашающей и зловещей. Двое мужчин и женщина в молчании разглядывали космический пейзаж, затем, будто сговорившись, перевели глаза на пруд с ярко-алыми пятнышками лилий. Синее… зеленое… земное… Это успокаивало. – Похоже на гигантскую комету, – сказал Моррисон. – Или на дракона, – отозвался адмирал. – На дракона, пожирающего звезды… А в наших руках, если использовать аналогию, щит Персея, отражающий его атаку… И мы это сделаем! – Лодо опять повернулся к экрану. – Что у нас со схемой, коммодор? И с монтажом поглотителей? – Монтаж завершен. Вот несколько вариантов схемы. Пару минут Лодо разглядывал сменяющиеся на экране изображения, затем произнес: – Третий вариант кажется мне самым надежным. Разместим эмиттеры в двух поясах: семнадцать по периметру потока и десять в центре, чтобы перекрыть область с максимальной концентрацией газа. Думаю, справимся… Как считаете, коллеги? – Если не будет сюрпризов, – заметил Моррисон. – Каких? – Взгляд адмирала обратился к Симбирцевой, но та лишь пожала плечами. – Физика галактического ядра до сих пор является загадкой. Надо признать, мы не очень продвинулись за последнюю тысячу лет… Будто вспоминая, она коснулась импланта над ухом, и на миг ее глаза затуманились. – Теперь нам известно, точно известно, что в центре Галактики – черная дыра, поглощающая материю. Существует несколько теорий, которые описывают данный процесс. Если при этом возникают центробежные силы, какая-то часть газовой субстанции – наверняка очень небольшая – может быть выброшена из ядра, и мы видим гигантский, по нашим меркам, протуберанец. Случайная флуктуация, адмирал, и совершенно непредсказуемая. К тому же… Она замолчала. – Продолжайте, – сказал Лодо. – Ни одна из упомянутых теорий не объясняет два важных факта: плотность и частоту потоков. Плотность гораздо выше, чем в рассеянных газовых облаках, а частота выбросов… – Женщина снова пожала плечами. – Об этом ничего нельзя сказать. Мы, адмирал, молодая цивилизация, и этот поток – первый, который мы наблюдаем. Его обнаружили в двадцать четвертом веке, в эпоху войн с дроми, и оставили без внимания. Тогда казалось, что он стремится к Провалу и не угрожает обитаемым мирам. – Известным в то время, – уточнил адмирал. – Да. Наши корабли не проникали дальше Голубой Зоны[188]. Мир лльяно и множество других оставались terra incognita, землей неведомой. – Но теперь мы знаем о лльяно. Не только знаем, но и способны их защитить, – промолвил адмирал и озабоченно нахмурился. – На Лиане-Секунде ведет работы экспедиция ФРИК… Надо отправить им депешу. Пустьзнают, что Флот в зоне дислокации и что мы разворачиваем защитный комплекс. – Разумно, – согласился Моррисон. – Через три часа антенна будет в рабочем состоянии. Я отдам приказ сектору межзвездной связи. – Хорошо. На этом закончим. – Лодо кивнул, и экраны погасли. Потом адмирал промолвил, вздохнув: – Сюрпризы, сюрпризы… Сколько операций на моей памяти, и ни одна не обошлась без сюрпризов… Как говорили латиняне, insperata accidunt magis saepe quam quae speres…[189]Глава 4 Лагерь экспедиции. Орбита, экспедиционное судно «Дельфин»
Даскины или Древние, как их называют в большинстве обитаемых миров, создали некогда цивилизацию чрезвычайно высокого уровня, доминирующую в ту эпоху в Галактике. Сведений об их облике не сохранилось, о культуре даскинов и образе жизни не известно почти ничего, но, как полагают многие эксперты, их главной целью являлось поддержание стабильности среди разумных галактических рас. О величии их технологии можно судить по астроинженерным сооружениям глобального масштаба и различным артефактам, весьма странным, а иногда и опасным. Вопрос, почему они покинули Галактику и куда удалились, до сих пор открыт, хотя существует множество мифов и гипотез по этому поводу – в том числе легенды о Владыках Пустоты, оставленных Древними для надзора за молодыми цивилизациями. Помимо того, они одарили нас бесценным наследием – галактическими картами (так называемым Портуланом даскинов) и контурным приводом, который позволяет свободно странствовать среди звезд. Следы их присутствия обнаружены на сотнях планет и тщательно изучаются.«Сравнительная космология», раздел «Даскины».
* * *
Яркий свет падал на консоль проектора поля, развернутую под острым углом. Устройство позволяло создать локальный силовой кокон небольшой протяженности и обычно использовалось для проведения опасных экспериментов. Сейчас на консоли, под едва заметным силовым пузырем, кувыркалась черная тварь размером с кролика, то вытягиваясь шнуром и снова собираясь плотной массой, то отращивая тонкие щупальцы или крохотные ветвистые рога, то подпрыгивая на внезапно появившихся ножках. Тварь пребывала в непрестанном движении, то и дело натыкаясь на силовой экран, будто стремилась любой ценой вырваться на свободу. Три повисшие в воздухе видеокамеры фиксировали со всех сторон ее прыжки. – Теперь самое удивительное, – промолвил Сигеру'кшу с видом заправского фокусника. – Вытяни руку, пха. Вытяни и растопырь пальцы. «Пха» у хапторов обозначало цифру два, но в то же время являлось сокращением от «пха'ге», «двурогий», почтительного, а в данном случае дружеского обращения к благородным персонам. Прочие личности, хоть и снабженные парой шишек на голове, именовались «пасеша'ге» или просто «пасеша» – «однорогий». Тревельян поднес руку к консоли. Черная тварь тотчас замерла, но не надолго, на одно мгновение. Затем она стала меняться: из основной массы вылезло щупальце, на его конце вздулся шар величиной с кулак, и темную поверхность прорезали щели, разделившие шар на пять частей. Собственно, он уже не был шаром, а представлял собой нечто угловатое, с выступами, впадинами и отдельным отростком, торчавшим сбоку. Рядом с ним поднялись еще четыре, более тонких и длинных, а структура, отпочковавшая их, была теперь плосковатой и слегка изогнутой, с мягкими округлыми очертаниями и линиями, похожими на морщинки. – Рука, – сказал Тревельян. – Точнее, ладонь, но черная. – Еще не все. Жди, – раздался за его спиной голос археолога. Темное подобие ладони начало светлеть. Она была уже не черной, а серой с желтизной, желто-розоватой, розовой и, наконец, приняла естественный цвет. На запястье появились чуть заметные вены и волоски, линии на ладони и фалангах пальцев сделались рельефнее. – Оно реагирует на форму и цвет, – прогудел сзади Сигеру. – Но не на движения, тут у него свой умысел. Может вытянуть отросток и вцепиться тебе в горло… Поэтому я окружил образец силовым полем. – Оно?.. – переспросил Ивар. – Хохо! Протоплазма. Вещество из бочки, которую мы откопали. – И Сигеру махнул рукой в сторону контейнера с огромным блестящим яйцом. – Я вырезал в ней отверстие, взял пробу, а дырку заварил. Контейнер тоже накрыт полем. На всякий случай. Хохо очень активная субстанция. Тревельян отодвинулся от консоли, и щупальце с ладонью сразу потемнело и втянулось в черную массу. – Хохо… так ты назвал артефакт Древних… – задумчиво промолвил он. – Мы беседуем на альфа-хапторе, и в нем нет такого слова. Не могу посягнуть на твое право первооткрывателя, мой дорогой друг и коллега, но, насколько мне известно, в твоем родном языке хохо означает нечто неприятное. – Просто дрянь! – пояснил археолог и разразился утробным смехом. – Дрянь! Но очень, очень забавная! – Ты сделал анализ? – Конечно! Десять, двадцать, сто анализов! Оболочка – нитрид бора[190], а черная субстанция – кремнийорганика, но с весьма странными свойствами. Я тебе еще не все показал… Вот, взгляни! Сигеру'кшу приблизил физиономию к консоли. Для этого ему пришлось согнуть колени и скорчиться – устройство не предназначалось для созданий столь гигантского роста. Проектор поля и остальное лабораторное оборудование были изготовлены в Земной Федерации; хапторы не производили таких сложных и миниатюрных установок. Черная тварь снова начала меняться и через несколько секунд явила изумленному Ивару лицо хаптора. Сероватая кожа, огромный рот, маленькие запавшие глазки, рога на безволосом черепе… Все было на месте – вплоть до колпаков, прикрывавших шишки, и цепочки между ними. Однако копия оказалась поменьше, чем голова Сигеру – массы хохо на консоли не хватило. – Поразительная мимикрия! – произнес Тревельян, когда археолог выпрямился. – Как ты думаешь, пха, зачем Древним такой странный субстрат? Возможно, чтобы запечатлеть некие жизненные формы? Или для создания предметов искусства? – Гипотез не измышляю, – буркнул Сигеру. – А факты таковы: в прошлом здесь приземлился корабль, сжег почву, примял грунт огромной тяжестью, с корабля выгрузили контейнер с хохо и надежно закопали. А я его нашел, клянусь Устоями! Впрочем, это не совсем моя заслуга. – Помнится, раскопки начались еще в твою предыдущую экспедицию, – заметил Тревельян. – Но как ты обнаружил место приземления? Ведь глобальное зондирование планеты не делалось, это огромный труд… Тебе повезло? – В каком-то смысле. Я был здесь три года назад, был недолго, сорок дней или чуть больше. В это время прилетели сервы, обычный торговый караван. За шерстью и резными статуэтками. Ивар кивнул. – Я знаю, что их интересует. – Сервы нас побаиваются, – сказал Сигеру'кшу и смолк. – И это мне известно. Вы такие большие! – Аха! Да! Им не понравилось, что я разбил лагерь рядом с селением. Они сказали, что есть интересное место для раскопок на южном морском берегу, и я туда перебрался. Дали мне точные координаты. – Вот как… Я этого не знал. Сигеру весело оскалился. – Я умею вести дела с сервами! Потолковал с ними и отправился на южный берег. В тот раз у меня не было машин-кихха и другой тяжелой техники. Шурф прокопали вручную – до оплавленного слоя. Я понял, что тут опустился корабль. Большое судно! Огромное! Очень давно! – Огромное… странно… – пробормотал Тревельян. – Такой космический транспорт не приземляется на планетах. Если нужно что-то выгрузить или погрузить, есть катера, посадочные модули, квадропланы… Так, во всяком случае, у нас, у вас, у кни'лина и всех остальных. Сигеру почесал лоб под правой шишкой. – Что тебя удивляет? Это не хапторы и не земляне. Это даскины, пха! – Их техника космических перелетов была более совершенной, чем у нас. Зачем опускать на грунт огромный корабль? – Вероятно, привезли что-то очень большое, – предположил археолог. – Что? Миллион таких бочек? – Ивар покосился на контейнер с древним артефактом. – Хес! Нет! – Сигеру сделал знак отрицания. – Что-то большое и цельное. Такое, что не поместится в шаттле. – Значит, одну гипотезу нам все-таки измыслить удалось, – сказал Тревельян и усмехнулся. – Прилетели и выгрузили что-то большое… Очень полезный результат нашего совещания! Его тревожила некая мысль. Он знал о даскинах гораздо больше, чем Сигеру'кшу, он даже встречался с существом, которое – быть может! – являлось их эмиссаром в Галактике[191]. Истинным Владыкой Пустоты, затаившимся среди неисчислимого множества сервов, биороботов лоона эо… От него – или каким-то иным путем, неведомым самому Ивару, он получил способность перемещаться среди звезд, используя порталы даскинов, их древнюю тайную сеть, впечатанную в пространство Лимба[192]. Щедрый дар! Бесценный! Но было и кое-что еще, связанное с ним или, возможно, с наследственностью Тревельяна, с чередою предков, способных к ментальному восприятию. И сейчас это чувство подсказывало, что в лаборатории витают неясные флюиды – будто накрытая полем тварь ждала какого-то действия или приказа. – Что с тобой, пха? – Сигеру, приоткрыв рот, уставился на Тревельяна. – Ты очень сосредоточенный… Словно куршут, мечтающий о кости с куском мяса. – Хочу провести еще один эксперимент. – Тревельян придвинул сиденье к консоли, к черной протоплазме, метавшейся под силовым колпаком. – Посмотрим, как сейчас она изменится… если это вообще произойдет. Он закрыл глаза и представил мшака. Мшак, обитавший на Йездане, был примерно размером с крысу; морда сильно вытянута, пасть с мелкими острыми зубами, длинный хвост и шкура цвета ржавого железа. Неприятное существо, всеядный падальщик с мерзким запахом… Кни'лина мшаков не жаловали, но истреблять отнюдь не собирались, полагая, что лучше живой зверь, чем кучи отбросов. В лесах Йездана мшаки питались трупами животных, а на городских свалках пожирали любую органику, от мясных грибов до сгнивших фруктов. Археолог что-то пробурчал, и веки Тревельяна поднялись. Вид у Сигеру был озадаченный – на консоли расположился натуральный мшак. Рыжий, с тонким хвостом-прутиком и черными бусинками глаз, но без ушей. Ивар не помнил, какие у мшака уши. – Апама-шака! Как ты это сотворил? – Мысленно, – произнес Тревельян и следующие десять минут разлекался метаморфозами, превращая мшака в ящерицу, в серого пушистого кота и крохотную копию каменного дьявола, хищника, что водился на Тхаре. Сигеру'кшу следил за ним в благоговейном молчании. Наконец Ивар отодвинулся от консоли, встал и задумчиво промолвил: – Это вещество чувствительно к ментальному воздействию. Возможно, строительный материал и накопитель энергии. Зачем его сюда привезли?.. Зачем хранили миллионы лет в прочной оболочке и вдобавок закопанным в землю?.. Есть ли на планете другие тайники с подобной субстанцией?.. И если ее каким-то образом использовали, удастся ли найти следы и понять ее назначение?.. Масса вопросов, мой благородный друг! Один другого интереснее! – Я подумаю над этим, – сказал Сигеру'кшу, потирая лоб огромной ладонью. – Я подумаю.* * *
Вечером Тревельян и Алиса отправились к морскому берегу и волнам, лизавшим мелкий красноватый песок и обросшие водорослями камни. Алиса хотела искупаться. День у нее выдался тяжелый – возилась то с киберхирургом, то с диагностом, исследуя труп большого молчаливого. Хоть он и считался добычей Ивара, но на следующий день нужно было доставить его в селение и положить у костра, в котором сгорит второй Уттур. Предки с Желтой луны увидят, что он погиб не зря, что за него отомстили, и примут охотника с почетом. Еще их порадуют танцем победы, и пропустить это действо Ивар не мог: во-первых, ему тоже полагалось танцевать, а во-вторых, подобных танцев он еще не наблюдал и собирался зафиксировать каждое движение аборигенов. Что за твари обитали в морских глубинах, еще подлежало изучению – лльяно, не потреблявшие рыбы, были на сей счет плохим источником сведений. На всякий случай небольшую бухточку около станции отгородили силовой завесой, чтобы купаться без помех. Для защиты от шестилапой помеси краба с пауком Алиса прихватила бластер, который достался Тревельяну; он сидел у прибрежных утесов, озирая песок и кусты, пока супруга плескалась в море. Небо еще не начало темнеть, пляж просматривался из конца в конец, а километрах в трех от береговой черты маячил остров со взлетно-посадочным полем. Как всегда, волнения вод не наблюдалось – среди узких проливов и шхер ветру было не разгуляться. Алиса подплыла к берегу, ступила на мокрый песок. Тревельян смотрел, как идет она к нему: лицо поднято к небесной синеве, волосы падают на обнаженную грудь, кожа блестит в лучах вечернего солнца, движения легки, стремительны и грациозны. За ней тянулась цепочка следов, и волны, тихо шурша, ползли и ползли к ее ногам, омывая их и заравнивая песок. Отложив излучатель, Ивар набросил на плечи Алисы полотенце. Она благодарно улыбнулась, села рядом и промурлыкала: – Вода чудесная, милый! Хочешь окунуться? – Нет. Я вспоминаю. – Да? И о чем же? – О Гондване, тхара, где мы встретились. И тоже у моря. Спустя минуту Алиса сказала: – Ты был такой важный… Я боялась к тебе приблизиться… – Боялась? Я этого не заметил, – произнес Тревельян, усмехаясь. – Но я и правда очень важное лицо. Я консул Фонда Развития Инопланетных Культур! Галактический прогрессор! – И около тебя вертелось столько женщин… – Тоже правда. Я чрезвычайно обаятельный. Алиса покосилась на него и хихикнула. – Но я всех отшила. Марсианок, барышень с Земли, Ваала и Киренаики и ту наглую ведьму кни'лина… Всех! Брюнетку, что пялилась на тебя, и рыжую с зелеными глазками! – Ты их помнишь? – поразился Тревельян. – Разумеется! Надо вспоминать о своих победах, это повышает самооценку! – Алиса гордо задрала носик. – А что помнишь ты? Тревельян обнял ее, привлек к себе и зашептал в ухо: – Там, на Гондване, ты принесла мне лимонный шербет… Ты была в синем топике, а на плече висел чехол с биноклем… Но никакого бинокля в нем не оказалось – дед сразу вычислил… Излучатель, там был излучатель… – Верно. – Алиса кивнула. – Мне поручили тебя охранять. Вечер неторопливо сменялся ночью. Оранжевое солнце Лианы садилось за лесной массив, с моря подул прохладный ветер, волны уже не шелестели, а негромко рокотали у берега. Вспыхнули первые звезды, затем в небе раскинулось яркое великолепие Млечного Пути с пылающим в зените галактическим центром. «Вид, который вселяет умиротворение…» – решил Тревельян, но тут же вспомнил об угрозе, таившейся в ночных небесах. Поток раскаленного газа приближался к Лиане и ее светилу, выброс галактического ядра, уничтожавший звезды на своем пути, испущенный миллионы лет назад… «Не в ту ли эпоху, когда в этом мире приземлился корабль Древних?.. – подумалось ему. – Совпадение?.. Или…» Теплые губы Алисы коснулись его губ, и мысль ушла. Но Ивар знал, что она не потеряна, она вернется. «Еще не спишь, паренек?» Беззвучный голос Командора… Совсем некстати! Тревельян оторвался от губ Алисы. – Прости, ласточка… дед вызывает… Дай мне минуту. Инстинктивно он поднял глаза к темнеющему небу. Где-то там, точно над маяком астродрома, висел «Дельфин», совершая оборот вместе с планетой, за двадцать восемь с половиной часов. «Я не сплю. Хочешь мне что-то сообщить?» «Иначе я бы тебя не потревожил. Депеша от наших защитничков: они на позиции. Мастерят свои экраны». В Звездном Флоте к Корпусу защиты относились с иронией. Их боевые корабли, в случае необходимости, были вспомогательным формированием Флота, его вторым эшелоном, с успехом оборонявшим Пограничье во время Столетней войны[193]. Однако ни один флотский офицер, начиная с юных энсинов, не считал себя ровней чинам Корпуса. Звездный Флот либо сражался, либо готовился к сражениям, а Корпус ведал мирными делами, преобразованием планет и их защитой от астероидов и нестабильных звезд. «Ну, раз они на позиции, мы можем не беспокоиться», – заметил Тревельян. «Надеюсь», – отозвался дед и резко прервал связь. – Что-то срочное? – спросила Алиса. – Нет. Сообщение от Мобильного Флота. Они ставят защитные экраны. – И больше ничего? – Ничего. – Тревельян подумал и добавил: – Кажется, дед был рассержен. Алиса вздохнула. – Из-за меня, конечно. Я перед ним виновата… – Она вздохнула снова и принялась перебирать край полотенца. – Я вас разделила, тебя и его… Теперь он гневается. – Ерунда! Он тебя любит. Он говорит, что ты похожа на Ксению, его первую жену. Она, кстати, тоже была с Тхара. – Тревельян поднялся и потянул Алису за собой. – Идем, милая. Похолодало, и скоро появятся шестилапые. Разумеется, ты их перестреляешь, но лучше встретить ночь на станции. Там тепло и никаких чудовищ. Они направились к зданию базы. Над морем стала подниматься Желтая луна, за ней выкатились четыре малых. Луны, так же, как их вращение вокруг планеты, были загадкой – в естественном состоянии пять небесных тел, даже очень небольших, не могли находиться на близких орбитах и двигаться с такой синхронностью. Несомненно, это были астероиды, изъятые из пространства и размещенные у Лианы примерно на вдвое меньшей дистанции, чем земная Луна. Их изучение Тревельян отложил на потом, когда в штате станции появятся геолог и астрофизик. – Он мог бы передать мне привет… все же я его родственница… – промолвила Алиса. – Скажи, я действительно похожа на тхару, его жену? У тебя есть ее изображение? Я хочу посмотреть! – Ксения Вальдес умерла пять столетий назад, и ее портретов я не видел. Вернемся домой, я постараюсь их найти, – пообещал Тревельян. – Но можешь, ласточка, довериться деду и в словах его не сомневаться. У него на женщин глаз наметанный. Тот еще был ловелас! И если нынче он разозлился, то не на тебя. Я бы почувствовал… Клянусь, не на тебя!* * *
Командор в самом деле был раздражен. Переместившись из ячейки панели управления в одного из роботов, он стоял перед пультом дальней связи, расставив нижние конечности и упираясь передними в края экрана. Вид был таким, словно он собрался вырвать монитор из пульта, а потом открыть люк и зашвырнуть его куда-то в пустоту, подальше от корабля. Впрочем, это было иллюзией – выполняя роль капитана, он относился с трепетом к любому корабельному имуществу. На пульте переливались огни, сигнал вызова, а на экране маячило судно, похожее на суповую ложку – овальный, слегка вогнутый в середине корпус с длинной рукоятью, в которой, без сомнения, помещалась разгонная шахта контурного привода[194]. Детали этой конструкции были ясны, но с подобными судами Командор не встречался, хотя повидал всякое, от дредноутов дроми до сдвоенных истребителей хапторов. То, что он не мог опознать тип корабля, раздражало, но злился он по другой причине: сектор Лиан был объявлен запретным для всех видов космического транспорта. Разумеется, кроме «Дельфина», пребывающего у второй планеты с согласия Корпуса и ФРИК. Если щиты удержат газовый выброс, работа экспедиции продолжится; если нет, ее члены вернутся на «Дельфин» и улетят с пути потока. Собранные ими материалы станут памятью о лльяно, их искусстве и образе жизни, их планете и ее трагической судьбе. Также планировалась эвакуация тех аборигенов, которых удастся оповестить и собрать, для чего в составе Флота были пассажирские модули с катерами и шаттлами. – Куда лезет этот урод? – пробормотал Командор вслух, обращаясь то ли к самому себе, то ли к своему спутнику, к Мозгу, принявшему обличье хаптора. – Скажи мне, куда он прется? Дать бы по рогам, так пушек нет! Ни одного паршивого метателя! Понимаешь? Мозг промолчал, а Командор с отвращением уставился на панель астронавигационного комплекса. Рядом с ней – на нормальном корабле! – грозно сверкали консоли управления оружием, метателями плазмы, аннигиляторами или, на худой конец, торпедами и свомами[195], средством древним, но весьма эффективным. На «Дельфине» оружия не было. Зато рубка казалась очень просторной. Огни вызова упорно продолжали мигать. По идее, полагалось бы связаться с консулом ФРИК, главой экспедиции, но Командор счел это неуместным. Интимные моменты личной жизни нельзя откладывать и прерывать – а он, сообщая о депеше, застал голубков именно в этот момент, что было совсем беспардонным вмешательством. Ну, о Корпусе много не скажешь – встали на позицию, и пусть себе стоят. К сведению принял, любовь продолжается… Другое дело – неопознанное судно в запрещенной зоне! Тут вопросов тьма: кто, откуда, с какой целью, кем разрешено, есть ли на борту оружие, сколько членов в экипаже?.. Это отвлечет надолго, и прощай, любовь! Нельзя мешать парню, нельзя… Будь он хоть трижды главой и консулом! Мозг деликатно пискнул, что совсем не вязалось с его внушительной массой и обличьем, скопированным с Сигеру'кшу. Уже несколько лет он сопутствовал Тревельяну в его экспедициях и считался если не агентом ФРИК, то, по крайней мере, важным консультантом. Что неудивительно – он владел всеми языками обитаемой части Вселенной, мог извлекать массу полезных данных из планетарных сетей и даже получил личное имя от Алисы. Изъяв этот искусственный интеллект с Сайкатской космической станции, Тревельян снабдил его плотью трафора[196], что обеспечило Мозгу автономность и вариации формы и внутренней структуры. Обычно он принимал вид конуса или цилиндра, иногда – редкого животного, но в данный момент был хаптором. Несомненно, это являлось знаком уважения к их расе и лично к Сигеру'кшу. – Если мне будет позволено, ньюри капитан… – начал Мозг. Командор, пользуясь речевым аппаратом робота, рявкнул: – Просто капитан! Без этого «ньюри»! Сто раз тебе было сказано! Сайкатскую космическую станцию и интеллект, некогда управлявший ею, создали кни'лина. «Ньюри» у их расы являлось почетным обращением к вышестоящим и в дословном переводе означало «познавший истину», «лицо, разрешающее споры» или просто «эксперт». Все эти термины относились к сложному этикету чинопочитания, которому Мозг и его создатели кни'лина следовали не только в силу привычки, но с искренним желанием и душевным трепетом. Командор, однако, этикетом пренебрегал и требовал порядка, принятого в Звездном Флоте. – Капитан! – повторил он чуть потише. – Если мы с этим разобрались, перейдем ко второму вопросу, Ну, так что ты хочешь сообщить? Докладывай! – К нам приближается судно терукси, – произнес трафор. – Полагаю, личная яхта, из чего можно сделать вывод о статусе ее владельца и других путешествующих персон. Очень важные личности! – Хоть бог Саваоф со всеми ангелами! – буркнул Командор. – Никто не должен здесь появляться! С этими словами от ткнул манипулятором клавишу на пульте. Тотчас ожил экран, и на нем появился юный красавец в золотых кудрях. Кожа нежная, губы алые, глаза синие, взгляд томный… Все это, плюс серьги и ожерелье из крупных сапфиров, внушало Командору отвращение. Взгляд красавца обратился к трафору. Он удивленно моргнул, потом склонил голову и с почтением произнес на альфа-хапторе: – Приветствую великого тэд'шо, обладателя благородных рогов и могучих мускулов! Могу ли я представиться блистательному? – Представься мне, парень, – сказал Командор. – И говори на земной лингве, если она тебе известна. – Но вы же робот! – воскликнул златовласый юноша. – А я вижу в вашей рубке живого пха'ге! – Это я живой, а он – жестянка! – прорычал Командор. – Здесь экспедиционный корабль ФРИК, и я его капитан! – ФРИК? – Брови красавца приподнялись в недоумении. – Что это значит? – Земная Федерация, Фонд Развития Инопланетных Культур, корабль «Дельфин»! А ты кто таков? И почему лезешь в запретную зону? Юноша снова поклонился, сделав это с редким изяществом. – Сирад Ултаим – спутник, секретарь и Оберегающий Обны Шеты Тренгар, корабль «Полночь». Мы перехватили предупреждение вашего Мобильного Флота и в курсе опасности, которой грозит галактический выброс. Но Обна Шета Тренгар пожелала сюда прилететь и высадиться на планете. Как вы понимаете, для нее нет запретных мест. – Не понимаю, – произнес Командор. – Кто ей разрешил? Адмирал Лодо? А может, сами Владыки Пустоты? – Она не нуждается в разрешениях. Я же сказал, она – Обна Шета Тренгар! – Первый раз слышу. И он, кажется, тоже. – Командор направил левый глаз на трафора. – Что? Что вы сказали? – Юный терукси взмахнул ресницами, его рот изумленно округлился. – Обну Шету Тренгар знает вся Галактика! Вы проявляете неуважение! Вы робот, тупой и наглый робот! Позовите человека, хаптора, землянина, кого угодно, но живого человека! Я желаю с ним говорить! Терпение Командора лопнуло. Не обращая внимания на терукси, он повернулся к трафору и спросил: – Гундик, тебе удалось разглядеть их посудину? Эта лоханка вооружена? – Нет, нью… то есть, капитан. В такой корабль технически невозможно встроить орудия. – Тогда слушай мой приказ: расстрелять поганца торпедами! – У нас нет торпед, капитан. – Нет, – с сожалением подтвердил Командор. – Зато есть зонды. Шарахнем зондом, подпортим ему красоту! Я покажу этому ублюдку, кто тут тупой и наглый! Сирад Ултаим, по-прежнему маячивший на экране, на миг онемел. Потом, всплеснув руками, выкрикнул тонким голосом: – Вы нам угрожаете? Грозите оружием Обне Шете Тренгар? Ее мирному короблю? Это беспрецедентно! Ужасно, невежливо, недопустимо! Мы находимся в свободном космосе! – В свободном, – нехотя подтвердил Командор, сознавая свое бессилие. – Так чего ты хочешь, сладкий мой? Зачем связался с нами? Раз твоей Бубне Шайте закон не писан, пусть садится на планету или убирается к чертям. От меня-то что нужно? Вид у юного красавца был оскорбленный – видимо, шутить с именем Обны Шеты не полагалось. Он насупился, свел брови на переносице и со злостью прошипел: – Ваш экспедиционный корабль на орбите, и значит, внизу есть научная станция и группа исследователей. Мы хотим приземлиться около них, как можно ближе. Любезная просьба сообщить координаты. Более нам ничего не требуется. Если бы Командор мог скрипнуть зубами, он бы это сделал. Выпустил бы пар с большим удовольствием! Но зубов не было – ни у Командора, ни у робота, в котором он пребывал. Ни зубов, ни торпед, ни плазменных орудий… Он гневно покосился на экран, лязгнул щупальцем о щупальце и велел кораблю выслать координаты.Глава 5 Селение Хх'бо татор ракка. Астродром, терукси
Искусство является одним из важнейших признаков цивилизации. Сразу оговоримся, что это признак важный, но не обязательный; дроми не создали искусства в нашем понимании, и далеко не каждая культура способна творить так называемые «тексты вымысла» – иначе говоря, устные или письменные художественные произведения. Лльяно в этом смысле не обделены фантазией, о чем свидетельствует цикл преданий о Желтой луне, поговорки и устные истории, которые можно отнести к сказкам и басням. Одним из ярких проявлений их творческого начала является музыкальная, песенная и танцевальная традиции. У них имеется семнадцать видов барабанов и не установленное, но весьма большое число духовых инструментов, дудок, свирелей, флейт и рожков. Мелодии и песни передаются из поколения в поколение, изменяясь и обогащаясь; они непривычны для слуха гуманоидов, но чрезвычайно своеобразны. Музыка, песня и танец являются целостным актом, лишенным всякой сакральности и таинственности, зато приуроченным к определенному событию: особо удачной охоте, победе над врагом, появлению хххфу (небесных гостей), выгодному товарообмену или обряду прощания с усопшим. Ряд проявлений подобного творческого триединства был зафиксирован нами на памятных кристаллах. При этом члены экспедиции сами принимали участие в соответствующем действе, что встречало у аборигенов одобрение, переходившее в некоторых случаях в восторг.Отчет экспедиции Тревельяна – Сигеру'кшу.
* * *
Костер был огромным и ярким, так что тело второго Уттура скрывали дым и языки пламени. «Оно и к лучшему, – подумал Тревельян, – труп растерзан большим молчаливым и выглядит ужасно». Впрочем, лльяно это не беспокоило – они сплясали танец прощания под жуткий грохот барабанов, визг дудок и рев рожков, а затем братья Сукур, самые старые в селении, поднесли к куче хвороста огонь. Уттур-первый, Уттур-третий и их самки исполняли в это время прощальную песню, которую стоило послушать – такие фиоритуры и трели сделали бы честь любой певице на Земле и в ее окрестностях. Музыка, правда, не соответствовала и заглушала голоса Уттуров, но все подробности действа фиксировались, и Тревельян мог пропустить запись через селектор, выделив нужный звуковой ряд. Он сидел под навесом в окружении старейшин. В деревню с ним отправились Инанту, Алиса и Шиза'баух, который имел поручение от благородного пха'ге – взглянуть на Тза и, при случае, добавить пару затрещин. Тза, однако, валялся в семейном гнезде и выглядел довольно жалко после проведенной экзекуции. Так что хаптор трогать его не стал, ограничившись снимками для отчета шефу. Пламя вздымалось к ночным небесам, плоть Уттура-второго догорала, а сам он уносился сейчас вместе с клубами дыма к предкам на Желтую луну. Сотни обитателей Хх'бо татор ракка обступили площадку, подбадривая музыкантов и танцоров визгом, топотом и скрежетом когтей. Мертвого шорро бросили на землю около костра, и оставалось лишь гадать, что за участь его ожидает – то ли насадят череп на копье, то ли, содрав кожу, натянут ее на барабан. Ритуальное поедание трупа также не исключалось. Богатый опыт контакта Ивара с примитивными расами нашептывал, что один из этих исходов неминуем. – Их танец похож на пляски кьоллов, которые я видел на Раване, – произнес Инанту за его спиной. – В самом деле? – отозвалась Алиса. – Но кьоллы все же люди, и ноги у них длинные. – Они танцуют вприсядку, сильно сгибая шею, спину и колени. Это ритуальный обряд, моление о воде, просьба послать дожди… Такая поза говорит об их ничтожности перед ликом богов и стихиями. – А что потом? – Потом приносят жертвы. Кровавые! Каме – Богине Песков, Таррахиши – Богу Воды и верховной троице – Баахе с его потомками Уанном и Ауккатом. Такое, скажу тебе, зрелище… с души воротит! Тревельян с трудом сдержал усмешку. Некогда он был главой миссии на Раване, и Инанту трудился в этом жарком засушливом мире под его руководством.[197] Первое приключение, первая экспедиция стажера ФРИК, после которой он стал полноправным агентом… Неудивительно, что у юноши сохранились такие яркие воспоминания! Алиса тихо вздохнула. – Равана… столько разных культур, столько народов… кьоллы, туфан, ядугар, шас-га… Крепости, города, загадочные подземелья, бароны-разбойники, грозные короли… Хотелось бы мне там побывать! – Здесь тоже интересно, – утешил ее Инанту. – Здесь никаких опасностей, кроме этого монстра. – Алиса кивнула на труп большого молчаливого. – С ним легко справиться, если бы лльяно не капризничали и взяли меня на охоту в нормальном виде… То есть я хочу сказать, в облике человека. Один выстрел из бластера, и нет проблем! – Простое решение не есть самое верное, – важно произнес Инанту. – Сказано в Книге Начала и Конца: «Остерегайся очевидного!» И еще сказано: «Торопливость не пристала благородному мужу». Тут Ивар не выдержал и фыркнул, окончательно развеселившись. Алиса была полевым агентом пару лет, а Инанту – чуть больше трех, но делился мудростью с новичком, как настоящий ветеран планетарной разведки. Изречения Йездана он процитировал в точности так, как это делает некий Ивар Тревельян, консул Фонда. Говорильник Рахаш, сидевший слева от Ивара, молвил на земной лингве: – Мой не знать, что твой сказать. Какой слово? Мой прошений повторить и означать. – Это не слово, это звук радости, – объяснил Тревельян и перешел на альфа-лльяно: – Я доволен, что шорро мертв, что он не успел сожрать Уттура, и тот, хоть и не совсем целый, улетел на Желтую луну. – Все довольны, Увва, – подтвердил Шарбу-второй, сидевший справа. – Уттур расскажет предкам об этой охоте и о тебе, и предки тоже порадуются. Этот старейшина относился к пришельцам с небес с особой симпатией. Он был искусным резчиком, его работы поражали изяществом и мягкой пластикой, и Тревельян с Алисой не скрывали восхищения. Это льстило Шарбу. Мастера Лианы, так же, как художники в любом из галактических миров, ценили одобрение. Погребальный костер догорел, угли рассыпались пеплом, но тут же зажглись другие костры в разных концах площадки, и один, самый большой, в ее середине. Смолкли посвист дудок и трубный рык рожков, но барабаны били и гремели по-прежнему. Теперь тональность мелодии изменилась, удары падали громче и чаще, сотрясая воздух. Звуки были непривычными для человеческого уха – мнилось, что каждый барабан из семнадцати их видов бьет в своем ритме, никак не согласуя его с остальными инструментами. Но переплетение гулкого грохота, звонких ударов и резких щелчков порождало некое настроение, и чем больше Тревельян прислушивался к этой варварской какофонии, тем яснее ощущал, как его охватывают радость бытия и торжество. Шарбу-второй прикоснулся когтистой пятерней к его колену. – Танец победы, Увва. Твой танец. – Пусть танец начнут охотники, – предложил Тревельян. – Я должен посмотреть, чтобы плясать так, как пляшут они. – Так не получится, ты ходишь только на задних лапах, и они слишком длинные, – сказал Шарбу. Подумал и глубокомысленно добавил: – Это не значительно! Пляшут не лапы и не брюхо, пляшет голова. Танец здесь! – Он поскреб мохнатый затылок. – Здесь вихрь жизненной силы! «Философ!» – подумал Тревельян и усмехнулся. – Помнится, Рахаш говорил, что этот вихрь все же в брюхе. – Рахаш знает твой язык не лучше, чем шерсть на собственной спине. Надо понимать верно. Вихрь в брюхе от еды, вихрь в голове от разговоров, от песен и танцев. Когда делаешь это, – Шарбу изобразил жест резчика, снимающего стружку, – вихрь тоже есть. Очень, очень сильный! Охотники уже плясали у большого костра, то опускаясь на все четыре конечности, то высоко подпрыгивая, переворачиваясь в воздухе, шлепая лапой о лапу и мотая головами. Уттур-третий, предводитель, два брата Ханнто, первый Шасса и первый Уттур, лучшие следопыты, и Шасса-второй, который мог попасть в птицу с пятидесяти шагов… Топорщилась шерсть на загривках, пряди спадавших с висков волос метались будто длинные ленты, лязгали зубы, глаза горели торжеством. Темп был стремительный, и рокот барабанов, грохотавших будто бы вразнобой, подстегивал движения танцующих. Внезапно за спиной Тревельяна раздался шорох, потом азартный возглас, и его тхара выскочила на площадку. Тут же расступившись, охотники включили ее в свой хоровод между первым Ханнто и первым Уттуром, и Алиса принялась кружиться и прыгать, почти не уступая в скорости лльяно. Ее серые глаза сверкали, волосы рассыпались по плечам, и на миг Тревельяну почудилось, что здесь, в сотнях парсек от Земли, пляшет под деревьями хх'бо красавица-нимфа в компании маленьких лохматых фавнов. Они промчались вокруг костра – раз, другой, третий, – потом Алиса взмахнула руками, словно собираясь взлететь, и бросила ему манящий взгляд. Ивар поднялся, чувствуя, как бурлит кровь и что-то похожее на опьянение кружит голову. – Вихрь жизненной силы… – пробормотал старый Шарбу. – Вихрь, вихрь… Иди, Увва, танцуй! Как можешь и как хочешь. И он танцевал, пока солнце не скрылось за деревьями, пока не вспыхнули звезды, пока не смолк грохот барабанов и не погасли костры.* * *
В сутках Лианы-Секунды насчитывалось примерно двадцать восемь с половиной стандартных часов, которые делились между днем и ночью на равные доли. Членам экспедиции это было на руку – людям хватало для сна трети темного времени, хапторы спали немного больше, но все же рабочий период оказывался длиннее, чем на Земле или Харшабаим-Утарту. Обычно ложились в начале седьмого ночного часа и вставали с зарей, так что Тревельян не удивился, когда, возвращаясь на станцию, услышал бестелесный голос деда. «Консул не занят великими делами? Я не помешал?» «Нет. Мы были в селении и сейчас направляемся домой». «Где твоя боевая подруга?» «Рядом. Вцепилась в мою руку и еле идет». «Вот как?.. Не ты ли ее утомил?..» «Дед, оставь эти неприличные намеки. Мы резвились вполне невинно, танцевали с лльяно у костров. Я, кстати, тоже еле ноги волочу». «Значит, и ты утомлен. Ну, сейчас взбодришься!» Тревельян забеспокоился. «У тебя что-то серьезное?» «Как сказать… Взбодришься, обещаю!» Бамбуковая роща кончилась, они вышли к морскому берегу. Впереди сиял свет над зданиями базы, отблески скользили по куполу защитного поля, заставляя его переливаться то голубым, то синим, то фиолетовым. «Пожалуй, я лучше сяду, – заметил Ивар. – Если у тебя такие бодрящие новости, то лучше их выслушать не на ногах». Вероятно, Алиса, прижавшаяся к его плечу, почувствовала, как он напрягся. Ее рука скользнула к поясу, к кобуре с бластером. Ночью берег был небезопасен – из скал выбирались на охоту шестилапые. – Что, милый? Что случилось? – Ничего ужасного, просто дед желает пообщаться. – Тревельян остановился, и шагавшие за ними Шиза'баух и Инанту тоже притормозили. – Так, друзья, – произнес он, выбрав подходящий камень, – идите-ка домой, а я тут посижу, побеседую с предком. Кажется, нам нужно кое-что обсудить. – Обсуждайте, – промолвила Алиса, вытащив излучатель, – обсуждайте, а я пригляжу, чтобы тебя не съели. Шестилапые бегают быстро и тихо. – За силовым барьером как-то спокойнее, – сказал Инанту. – Давайте вернемся на станцию, шеф. Не все ли равно, где говорить с нашим капитаном! Там даже удобнее и… Но Шиза'баух ухмыльнулся, взвалил Инанту на плечо и, что-то проворчав, потрусил на свет станции. Ивар опустился на гладкий, нагретый солнцем валун. Алиса стояла сзади, и он ощущал тепло ее тела и ровный сильный ментальный поток, струившийся к его разуму. Он не мог сказать, о чем она думает, но чувствовал, как его омывают волны покоя и любви. – Шиза'баух, – вдруг промолвила она. – Он решил, что мы хотим уединиться, и утащил Инанту… Такой деликатный для хаптора! – А мы хотим? – спросил Тревельян. – Эти пляски действуют очень возбуждающе! – Там видно будет, – сказала Алиса. – Пока что у тебя разговор с дедом. Передай привет ему и Гундобальдо. Гундобальдо – так она называла трафора. Насколько помнилось Ивару, то было старинное испанское или итальянское имя, слишком вычурное и давно забытое. Но на Тхаре чтили традиции старины. На Тхаре обитали потомки испанцев, переселившиеся туда семь или восемь столетий назад, и в жилах Алисы наверняка текла их кровь. – Передам, – промолвил он и поднял лицо к усыпанному звездами небу. – «Привет тебе и Мозгу от Алисы. – Пауза. – Ну, я тебя слушаю. Ты как будто собрался меня подбодрить». «Взбодрить, а это совсем другое дело, – уточнил Командор. – У нас гости, мой мальчик. Жди завтра утром. Сядут на острове до полудня». «Караван сервов, я полагаю? С торговой миссией?» «Нет, терукси. Щеголь в сережках и с ним важная особа, Обна Шета Тренгар. Это тебе что-нибудь напоминает?» «Ровным счетом ничего, – ответил потрясенный Тревельян. – Зачем они прилетели сюда? Что им нужно в опасной зоне?» «Вот завтра и узнаешь. Со мной они говорить не пожелали, рыло у меня железное, а им человека подавай, да еще из начальников. Думаю, консул их устроит. Так что готовься, голубь сизый! – Сделав паузу, Командор излучил импульс явного недовольства. Потом добавил: – Еще просят передать, чтобы на острове их встретили. Сесть-то они сядут, но у них нет ни глайдера, ни авиетки, а багаж, похоже, немаленький». Он прервал связь, оставив Ивара в полном ошеломлении. Терукси! Здесь, на Лиане-Секунде! Этот мир был так далек от центров цивилизации, от трасс пассажирских лайнеров и торговых путей, что сюда добирались лишь сервы, посланники лоона эо, да редкие научные экспедиции. «Возможно, – подумал Тревельян, – это еще одна группа исследователей?.. Но такие миссии обычно согласовывались с ФРИК, а никакой информации от Консулата не поступало». Он махнул рукой. Ладно, завтра разберемся! В любом случае места на станции хватит – больше половины жилых отсеков не заняты. – У деда новости? – спросила Алиса. – Да. К нам летят терукси, дорогая. Цель визита неизвестна, но они хотят, чтобы мы встретили их на астродроме. Завтра утром, с флаером. Алиса кивнула. – Встретим. Мне терукси очень симпатичны, они такие красивые и обходительные… Хапторы у нас уже есть, пусть будут еще и терукси. Для разнообразия. – Только этого нам не хватало, – мрачно буркнул Тревельян и поднялся. Его мучили нехорошие предчувствия.* * *
Учитывая слова Командора о багаже гостей, полетели на флаере хапторов, вчетвером – Ивар, Алиса, Хутчи'гра и Шиза'баух. Залитый утренним солнцем астродром был пуст, лишь в северном конце высился катер с «Дельфина», на вид довольно неуклюжий, с большим отсеком для грузов и тяжелой техники. Флаер приземлился с южной стороны взлетно-посадочного поля, около мачт энергостанции и круглой тарелки космического маяка. Других сооружений тут не имелось, ни пристанища для путников, ни кафе, ни отеля или хотя бы продовольственного склада. Астродром строили сервы, не нуждавшиеся в таких излишествах. Зато покрытое керамикой поле было идеально гладким и просторным, рассчитанным на приземление целого каравана судов, которые нес гигантский торговый корабль. Тревельян и его спутники покинули флаер. День обещал быть знойным – на небе ни облачка, солнце палит, и от нагревшегося покрытия астродрома тоже тянуло жаром. Хутчии Шиза, расстегнув комбинезоны, пили кислый сок из огромных бутылей, по их широким лицам катился пот. Алиса, спрятавшись в тени под стеной энергостанции, следила за плавным вращением антенны маяка – эта ажурная конструкция возвышалась на добрую сотню метров. Тревельян стоял поблизости, всматривался в лазурное небо и размышлял о том, что понадобилось терукси на Лиане. Он уже почти убедил себя, что к ним летит научная экспедиция, пусть даже не согласованная с Фондом. Почему бы и нет?.. Лльяно – существа забавные, с самобытной культурой, уникальным искусством резьбы и другими ремеслами… Вполне достаточно, чтобы вызвать интерес у любого этнографа. «Ждешь?» – пришла мысль Командора. «Разумеется. Они уже сошли с орбиты?» «Да. Будут минут через десять. Голубок мой железный за ними присматривает». «Гундобальдо?» «Кому Гундобальдо, а по мне так жестянка жестянкой, – проворчал дед. Потом сообщил: – Заходят на посадку. Сейчас увидишь их корыто». В зените сверкнула серебристая точка. Три-четыре минуты, и она превратилась в вытянутое веретено с утолщением с одного конца. Еще через несколько мгновений судно зависло над посадочным полем и начало медленно опускаться. Простейший маневр, и его, похоже, выполняла автоматика. Тревельян оглянулся. Алиса и оба хаптора стояли за его спиной, с любопытством рассматривая корабль. «У тебя видеокамера при себе?» – спросил дед. «Конечно». – Ивар поправил обруч на голове. «Так включи! Любопытствую взглянуть на терукскую девицу, на Обну Шету. Секретарь ее сказал, что всей Галактике известна, а мы с тобой про эту цацу не слышали. Надо бы посмотреть!» Тревельян включил запись. Судно терукси, напоминавшее большую ложку, висело метрах в двадцати над астродромом. Бесшумно выдвинулись сферические опоры, аппарат, рассекая воздух, пошел вниз, порыв теплого ветра взъерошил Ивару волосы. Затем раздался шелест – опоры соприкоснулись с керамической поверхностью. Корабль был невелик, меньше, чем посадочный модуль «Дельфина», но выглядел очень изящным: эллипсовидный корпус плавно переходил в трубу разгонной шахты, серебристую поверхность оттеняли серые и оранжевые зигзаги, верхнюю часть накрывал прозрачный купол – очевидно, там находилась обзорная палуба. «Игрушка, а не корабль!» – подумал Тревельян и тут же услышал ментальный шепот деда: «Яхта… мелкая лоханка для прогулок бездельников… шныряют туда-сюда, суются в запретные зоны да еще нахальничают…» – Чудный кораблик! – промолвила Алиса. – Очень красивый! На таком и должны путешествовать терукси. Они точно сказочные эльфы… Сказочные эльфы на сказочном корабле. Из корпуса потянулась лестница, сдвинулся сегмент обшивки над ней, и через секунду темный проем озарил свет. Там стояли двое, мужчина и женщина. Корабль приземлился метрах в восьмидесяти, и с этого расстояния черты их были неразличимы; Ивар видел только белые пятна лиц, фигуры и яркие одеяния гостей. Он двинулся к прилетевшим. Алиса шла рядом, на ее лице застыло выражение восторга, улыбка не сходила с губ. Сзади топали Хутчи и Шиза. Терукси начали спускаться. Теперь Ивар разглядел, что мужчина молод или кажется таковым – не муж в зрелых годах, а златовласый юноша лет двадцати пяти, в алом, украшенном вышивкой камзоле. Затем его взгляд сосредоточился на женщине. Она была высокой, стройной, гибкой; одухотворенное лицо поразительной красоты, поток черных блестящих волос до колена, платье, сверкающее изумрудными сполохами. Она двигалась с врожденной грацией танцовщицы, гордо несла головку, увенчанную диадемой, и смотрела по сторонам так, будто ей принадлежал весь мир – этот остров с прибрежными утесами, море и небо, окружавшие его, и, без сомнения, все живые существа, что обитали здесь. В данный момент – хапторы, Алиса и сам Тревельян. «На научную экспедицию они не похожи», – мелькнула мысль. Затем Ивар покосился на Алису и обратил внимание, что она больше не улыбается. Кажется, при виде красавицы-брюнетки симпатий к терукси у нее поубавилось. Склонив голову, он произнес: – Ивар Тревельян, глава миссии, консул Фонда Развития Инопланетных Культур. Мы находимся здесь с ведома земного Корпуса защиты, спасающего этот мир от уничтожения – я имею в виду выброс из галактического ядра, о чем вам, видимо, известно. – Сделав паузу, Ивар добавил: – Могу я узнать ваши имена и цель визита в запретную зону? Взгляд женщины скользнул по хапторам, по Алисе, потом она стала молча рассматривать Тревельяна. На ее щеках и лбу поблескивали изумрудные, в тон платья, звездочки, с шеи свисало искусной работы ожерелье. У нее были огромные черные глаза – два омута, в которых, вне всякого сомнения, утонуло множество мужчин. Ивару мерещилось целое кладбище, заполненное могилами несчастных, сгоревших на костре любви. Кажется, осмотр удовлетворил брюнетку. Величественно кивнув головой, она молвила сочным контральто: – Обна Шета Тренгар. Цель визита я сообщу позже. Имя моего спутника и секретаря – Сирад Ултаим, Оберегающий. Сказано это было так, что становилось ясно: оберегать во всей Вселенной можно лишь одно сокровище – саму Обну Шету Тренгар. Тревельян снова бросил взгляд на Алису. Следов восторга он не заметил – ее лицо окаменело, губы плотно сжались, глаза мерцали льдом. – Твои спутники, консул, хапторы и эта женщина, – произнесла красавица на отличной земной лингве. – Это слуги? – Нет. К вашему сведению, Обна Шета… – начал Тревельян, но его прервали. – Обращайся ко мне «досточтимая». – Брюнетка сложила руки перед грудью, потом плавно развела их, будто демонстрируя свою красоту и прелести. – Досточтимая, консул, и никак иначе. – Милорд консул, – в свою очередь уточнил Тревельян. – Так вот, слуг мы не держим, для этой цели имеются роботы. Перед тобой, досточтимая, молодые археологи пха Хутчи'гра и пха Шиза'баух. Дама рядом со мной – моя супруга леди Алиса Виктория. Обращайся к ней «благородная», она принцесса из Королевского Дома Тхара. Обна Шета снова кивнула – с таким видом, будто ей поднесли очень кислый лимон. Потом со вздохом заметила: – Слуги-роботы… я к этому не привыкла, но покоряюсь обстоятельствам… Кстати, робот с экспедиционного судна беседовал с нами очень непочтительно. Я бы даже сказала, нагло! Стоит его разобрать. «Ведьма, – донеслось до Ивара, – как есть ведьма! Волос долгий, черный, глаз дурной… встречались мне такие… Ты, парень, с ней поосторожнее!» Тревельян в ответ лишь усмехнулся. Затем объяснил: – Он не робот, досточтимая, а мой предок, пожелавший для удобства использовать тело робота. Адмирал и великий герой Галактики! Шесть веков назад он одержал победу над армадой дроми и выиграл войну, защитив вас и нас от очень печальной участи. Так что будьте с адмиралом вежливы. Если бы не ратные его труды, Земля и Дингана-Пхау стали бы мирами дроми. Обна Шета с достоинством скушала второй лимон, повернулась к Сираду Ултаиму и произнесла одно-единственное слово: – Багаж! – Да, разумеется! – Юноша засуетился, бросив на хапторов умоляющий взгляд. – Пха Хутчи'гра и пха Шиза'баух мне помогут? Четыре больших контейнера и сундуки… один я не справлюсь… – Помогут, ибо их доброта столь же огромна, как телесная мощь, – сказал Тревельян, кивая молодым хапторам. – Вижу, у вас нет ни роботов, ни гравиплатформы? – Нет, милорд консул. Досточтимая не любит механизмы. Ей требуется контакт с живыми людьми. Шиза подогнал флаер к люку корабля гостей, и хапторы, под руководством Сирада, принялись перетаскивать багаж. Контейнеры были так тяжелы, что Шиза и Хутчи несли их вдвоем, крякая и отдуваясь от натуги. Кроме этих четырех ящиков были еще вещи помельче – термосы с замороженными продуктами, емкость с вином, климатизатор с освежителем воздуха, ковры и странной формы футляры, как будто от музыкальных инструментов. Тревельяна, наблюдавшего за взмокшими хапторами и бесконечной чередой предметов, перемещавшихся с корабля в грузовой отсек флаера, мучили дурные предчувствия. Похоже, Обна Шета Тренгар собиралась обосноваться на станции всерьез и надолго. – Что у нее там? – пробормотала Алиса. – Наряды? Украшения? Косметика? Ванна из нефрита и люстры с хрустальными подвесками? Ивар, посматривая на датчик, мерцавший на запястье, молвил примирительно: – Пусть тащит свое барахло. Видишь, огонек зеленый… никаких источников энергии… оружия у них нет. – Но где мы это разместим? – У нас много места. Жилые отсеки свободны больше чем наполовину. Алиса с подозрением уставилась на супруга. – Что-то ты очень щедр, дорогой! И очень благожелателен! Эта красотка уже тебя пленила? Тревельян вздохнул. – Я пленен другой женщиной. Навеки! Навсегда! – Не сомневаюсь, – сказала Алиса, хлопнув по кобуре у пояса. – Но если она положит на тебя глаз, я ее пристрелю. Мы, принцессы из Королевского Дома Тхара, ужасно ревнивы! Пока хапторы трудились, а Ивар с Алисой беседовали, Обна Шета Тренгар стояла поодаль на самом солнцепеке, обратив к небу лицо в зеленых звездах, щуря глаза и раздувая ноздри изящного носика. Мнилось, она к чему-то принюхивается и делает это без удовольствия. Но ничем нехорошим или тем более отвратительным на астродроме не пахло – в теплом воздухе витали ароматы морской воды и нагретых солнцем скал, а с близкого берега ветер доносил свежие запахи трав и деревьев. Внезапно женщина стиснула виски кончиками пальцев и замерла. Веки ее опустились, лицо смертельно побледнело, кровь отхлынула даже от губ, мгновением раньше таких алых и манящих. Хриплый протяжный стон вырвался из ее груди, потом она что-то быстро и неразборчиво забормотала и начала падать. Тревельян бросился к ней и подхватил на руки. – Перегрелась! Точно перегрелась! – крикнул он Алисе. – Ну и чудеса! Похоже, у нее нет медицинского импланта! – К флаеру неси. Скорее! – велела его супруга. – К последнему креслу в салоне подключен диагност. Оставь ее там, а я запущу блок для землян. Терукси те же люди… что нам годится, то и ей на пользу. Но тут подскочил Сирад Ултаим, замахал руками, выкрикнул: – Нет, благородная, этого не нужно! Пройдет! – У нее солнечный удар, – сказал Тревельян, всматриваясь в бледное, как мел, но по-прежнему прекрасное лицо Обны. – Это само собой не проходит. Надо сделать инъекцию. – Нет, милорд консул! Никаких солнечных ударов, никаких инъекций! Мы же не дикари, на Дингана-Пхау всем вживляются импланты! – Юноша совсем разволновался, его щеки покраснели. – Положите ее в кресло, и больше ничего не делайте. Она скоро очнется. Ивар поднялся в салон, Сирад шел следом на ним. Тело женщины в руках Тревельяна было мягким, безвольным, беззащитным. Он вдохнул нежный аромат ее волос и кожи. – Но что с ней? Мы обязаны знать, Сирад! Тем более, если это повторится! – Повторится, и еще не раз, – успокоившись, промолвил юноша. Он вытащил причудливый сосуд с вином, поднес к лицу Обны Шеты, и ее ноздри затрепетали. Не открывая глаз, женщина сделала два-три глотка. Спрятав вино, Сирад объяснил: – Она провидица, милорд консул. Она блуждает в мирах, нам недоступных, и что-то здесь ощутила. – Что? – Ивар опустил Обну Шету в кресло. – Не знаю, милорд консул. Очнется, расскажет… Если захочет. Хапторы кончили возиться с багажом. Сирад Ултаим, запечатав люк корабля, устроился около своей подопечной. Она все еще пребывала в беспамятстве, но Тревельяну показалось, что щеки ее розовеют. Флаер поднялся в воздух. Лететь до станции было недолго, считаные минуты. – Что с ней? – тихо спросила Алиса, сидевшая рядом с Иваром. – Что сказал тебе Сирад? – Утверждает, что она провидица. Этот дар встречается у парапримов, но среди людей… – Он пожал плечами. – Никогда не слышал о чем-либо подобном! Вернемся на базу, свяжусь с Мозгом. Пусть наведет справки. – Провидица? – Алиса встревожилась. – Вдруг она может и мысли читать? – Этого даже я не умею, – успокоил жену Тревельян. – Хотя о твоих мыслях иногда догадываюсь. Протянув руку, он нежно пригладил ее растрепанные волосы. В сказанном была лишь половина правды – он мог зондировать чужой разум и знал, что если просчитать эмоции, нетрудно понять и мысли. Но такой акт был бы безусловно неэтичным. – С дедом ты общаешься без слов, – напомнила Алиса. – Это другое, моя милая тхара. Ментальная связь, а не чтение мыслей, и мы, конечно, используем слова. Впрочем, я могу передать ему зрительные образы и другие чувства… Знаешь, сегодня он следил за нашей встречей с терукси. – Тогда я спокойна, – промолвила Алиса и закрыла глаза. – Дед наставит тебя на ум. Чтобы, значит, без всяких шалостей. «Кажется, она ревнует», – подумал Тревельян и вдруг ощутил, как нечто легкое, неуловимое пытается проникнуть в его разум. Украдкой, незаметно, почти без усилия… слабый, очень слабый ментальный импульс… слабый, но коварный… Он повернулся и увидел, что Обна Шета смотрит на него. Зрачки женщины были расширены, тьма затопила глаза, зубки прикусили нижнюю губу. Поймав его взгляд, она чуть заметно усмехнулась. «Ведьма! – снова прозвучал в сознании шепот Командора. – Ведьма, да еще припадочная! Таких в старину жгли на костре…»Глава 6 Лагерь экспедиции. Провидица
Первый контакт с расой терукси состоялся в 2797 году, когда фрегаты Звездного Флота «Лунный свет» и «Солнечное пламя» исследовали сектор Провала, граничащий с системами Беты и Гаммы Молота. «Лунный свет» приземлился на Дингана-Пхау, материнском мире терукси, что было воспринято его обитателями с огромным энтузиазмом. Повод к нему, как вскоре выяснилось, несомненно был: в физиологическом отношении гуманоиды терукси стоят ближе всех к земному человечеству (сходный облик, аналогичный метаболизм, близкие ментальные характеристики, способность к скрещиванию с земной расой). Характерной чертой первого соприкосновения цивилизаций стали рапорты офицеров «Лунного света», пожелавших остаться на Дингана-Пхау (восемь из двадцати шести; капитан рапорты не принял и взял этих членов команды под стражу). Причиной столь необычного поведения явился облик женщин и мужчин терукси – они отличаются удивительной красотой. В настоящее время многие из них живут на планетах Земной Федерации (в основном, благоустроенных, типа Гондваны) и нередко вступают в брачные союзы с представителями нашей расы. В то же время существует ряд отличий между терукси и земными людьми. Они гораздо менее агрессивны (в Звездном Флоте не служат и никогда не служили), более чувствительны и эмоциональны, особенно в сфере личных отношений (известны случаи самоубийств, когда брачный союз распадался по желанию земного партнера). Можно утверждать, что терукси прирожденные эмпаты, хотя этот дар значительно варьируется у разных лиц. В отдельных случаях эта способность к восприятию чувств и эмоций очень сильна, и такие персоны окружены у терукси большим уважением. Как утверждают сами эмпаты такого уровня, они способны к предвидению будущего, но не слишком четкому, только в эмоциональном плане. Впрочем, этот их дар весьма сомнителен.Марианна Алферова «Терукси. Обретение рая».
* * *
Жилая часть станции представляла собой полусферический купол, достаточно просторный для размещения группы из тридцати-сорока человек. В центре находилось помещение круглой формы, называвшееся то салоном, то залом для совещаний, то, по флотской традиции, кают-компанией. Его обегал кольцевой коридор, по внешнему периметру которого располагались сдвоенные и одинарные жилые отсеки. Сдвоенные были предназначены для семейных пар, и один такой отсек, кабинет и спальню, сейчас занимали Ивар с Алисой. В другом, с убранной переборкой, обитал Сигеру'кшу, которому, с учетом его габаритов, требовалось больше места. Кроме жилых помещений, к кольцевому коридору примыкали медицинский блок, кладовые для мелких экспонатов и разного имущества и два шлюза: первый выходил к поляне и кустам, покрытым белыми цветами, второй – к ангару, лаборатории и хозяйственным постройкам. Купол был стандартным жилищем исследователей планет земного типа и только одним нюансом отличался от подобных убежищ: часть санитарных модулей и мебель в соответствующих помещениях были рассчитаны на хапторов. Терукси заняли отсеки у второго шлюза: Обна Шета Тренгар – два двойных, куда с трудом поместилось ее имущество, Сирад Ултаим – одинарный, рядом с провидицей. От комнат членов экспедиции их отделяли кладовые и несколько пустовавших помещений. При нужде, шлюз и коридор можно было перекрыть силовыми щитами, полностью изолировав гостей. Скорее всего, эта предосторожность не являлась столь уж необходимой, но попытка проникнуть в его разум беспокоила Ивара. Вряд ли Обна Шета была ведьмой и отправлять ее на костер даже в мыслях не стоило, однако человек с телепатическим даром представлял опасность. Вселившись в свои покои, Обна Шета пожелала предаться отдыху, затем принять ванну и позавтракать. Пришлось срочно собрать еще одного киберповара, в чьи камеры Сирад загрузил привезенные с собой продукты. Затем юноша, с помощью хмурого Нильса, распаковал багаж, расстелил в комнатах провидицы ковры, подключил климатизатор и занялся мебелью. Обстановка в жилых отсеках была спартанской, и походные койки, предназначенные для людей, Обна Шета забраковала, так же, как широкие кровати хапторов, хранившиеся в кладовой. Пришлось развернуть ее собственное ложе с гравиподвеской и блоком приятных сновидений. Вся эта суета заняла какое-то время, но Ивар с Алисой провели его с толком в лаборатории Сигеру'кшу. Инанту, Хутчи и Шиза улетели на четвертый раскоп, где обнаружилось кладбище местных динозавров, чтобы выкапывать и заливать упаковочной пеной огромные скелеты. Хлопоты по устройству гостей были возложены на Нильса Захарова, который по совместительству считался комендантом базы. Нельзя сказать, что инкарнолога это порадовало. Солнце уже миновало зенит, когда Обна Шета пожелала встретиться с милордом консулом и благородным пха Сигеру'кшу. Оба руководителя экспедиции устроились за круглым столом из прозрачного пластика, Алиса и Нильс сели в кресла у стены, Сирад Ултаим распылил в воздухе приятно пахнувшую эссенцию. Вдохнув ее, Сигеру скривился и лязгнул зубами. Он выглядел недовольным – Ивар с трудом извлек его из лаборатории, где археолог занимался играми с черной хохо. Проблема состояла в том, чтобы сымитировать какое-нибудь животное – например, куршута, – а затем убедиться, что существует как наружное, так и внутреннее сходство, что все органы, метаболизм и обмен веществ переданы правильно. Но, кажется, такие тонкости были протоплазме не под силу – пока мимикрия ограничивалась лишь внешним обличьем. Раздался дробный перестук каблучков, и Обна Шета Тренгар вплыла в комнату, словно огненный феникс. На ней был пурпурный блузон с широким поясом и кружевной накидкой, длинные стройные ноги обтягивали алые слаксы, на черных волосах – рубиновая диадема, на запястьях – браслеты чеканного золота, щеки – в розовых узорах. Ивар приподнялся и отвесил вежливый поклон, Алиса фыркнула, а Сигеру'кшу равнодушно поскреб темя за левой шишкой. Туалеты дам его не впечатляли. Провидица опустилась в кресло, расправив накидку, словно птичьи крылья. Сейчас она походила на сказочную фею, слетевшую с космических высот к недостойным ее красоты мужчинам – возможно, лишь к одному из них, ибо взгляд Обны Шеты был направлен на Тревельяна. Он вежливо улыбнулся и произнес на альфа-хапторе, слушая, как стрелы Амура свистят над его головой: – Мой друг и коллега пха Сигеру'кшу, ксеноархеолог и нобиль из правящего клана. Он приветствует досточтимую по своему обычаю, поглаживая голову за левым рогом. – Хрр… Аха! – молвил Сигеру, отвесил челюсть и перестал чесаться. – Так приятно попасть в столь изысканное общество! – прощебетала Обна Шета. – Милорд консул, высокий тэд, а на орбите – адмирал, герой Галактики… Да, еще благородная принцесса… принцесса из Королевского Дома Тхара! О! – Она в притворном восторге закатила глазки. – Должна признаться, я устала от демократии, торжествующей повсюду. Вот древняя кровь, древние титулы – совсем другое дело. Это так впечатляет! – Демократия царит отнюдь не везде – у хапторов монархическая форма правления, – сказал Тревельян и, чувствуя, что Алиса сейчас взорвется, поспешно добавил: – Но к делу, досточтимая! Чему мы обязаны счастьем видеть тебя и юного Сирада Ултаима? Здесь, на планете, населенной существами примитивными, весьма неприглядного обличья? И к тому же в опасной зоне! – Ах, эта зона! – провидица небрежно повела рукой. – Что в ней опасного? Ваш земной флот ставит защитные экраны, чтобы перенаправить поток… Мы под надежной защитой, милорд консул. Что до местных дикарей, то они меня совершенно не интересуют. Я видела их изображения – обличье и правда жуткое. К тому же сообщали, что они каннибалы, готовые съесть даже пришельцев из космоса. Это правда? – Они едят не всех, – подала голос Алиса. – Только женщин, и только брюнеток. Как мы установили, это связано с генетической дисфункцией гипоталамуса и правого полушария головного мозга. – Такие сложные слова, моя дорогая принцесса! – Обна Шета снова отмахнулась. – Я не разбираюсь в науке. Скажу больше, при моих занятиях лишняя информация только вредит. Начинаешь раздумывать над увиденным, строить гипотезы, искать аналогии, а это совсем ни к чему. Что пришло, то пришло… Говорить нужно о том, что видишь, и не пытаться понять, это искажает восприятие. В конце концов, что такое грядущее?.. Тень во мраке, искра в залитых солнцем небесах… Все так смутно, неопределенно… Как различить то, что будет? И будет ли оно наверняка или будет возможно?.. Или же оно… – Хохо'гро! – рявкнул Сигеру. – Ты, хашшара безрогая, знаешь слишком много слов! Тебе задан простой вопрос: что ты тут делаешь? Ты и твой мелкий куршут? Вот и отвечай! К удивлению Тревельяна, Обна Шета не обиделась, даже бровью не повела. Кивнула Сираду, тот поднес ей вина в хрустальном бокале, сделала пару глотков и откинулась в кресле. Потом, прикрыв глаза, она заговорила лишенным эмоций голосом, будто читая давно привычную молитву: – Я стараюсь объяснить, тэд'шо, стараюсь подготовить вас к тому, что будет сказано. Знаю, это почти бесполезная попытка… вы все равно пожелаете знать, в чем смысл видения, спросите, как я его понимаю, а толковать фантомы грядущего, как я уже сказала, не имеет смысла. Во всяком случае, для меня… Повторю еще раз: что пришло, то пришло… Думайте вы, а я лишь поведаю о своих предчувствиях. Ивар смотрел на ее лицо, внезапно изменившееся и словно поблекшее. Щеки женщины запали, под неплотно сомкнутыми веками просвечивала белизна, длинные пряди черных волос разметались по багровой кружевной накидке. «Ведьма?.. – подумал он. – Нет, скорее пифия или новая Кассандра… И, возможно, с такой же несчастной судьбой…» Острая жалость пронзила его. Он тихо промолвил: – Мы готовы выслушать тебя, Обна Шета Тренгар. Говори! Глаза провидицы раскрылись, но чудилось, что она не видит сидевших в зале. Взгляд ее был устремлен к высокому своду купола, за которым сияло в лазурном небе оранжевое солнце. – Временами я отправляюсь в странствия, – медленно и тихо проговорила она. – Без всякой цели, без места назначения, с одним или двумя спутниками, чей долг – заботиться обо мне. Приятно плыть среди звезд, плыть в Великой Пустоте, вдали от людей, их тревог, забот и назойливых вопросов… Так я отдыхаю… отдыхаю, пью вино и предаюсь мечтам… В этот раз мне захотелось приблизиться к центру Галактики, вот почему мы оказались здесь. – Внезапно ее голос, звучное контральто, обрел силу. – Да будет вам известно, что я не владею своим даром! Дар владеет мной, так точнее! Я могу закрыться… могу не видеть и не слышать… Это благо, иначе можно было бы сойти с ума… Но когда я смотрю на мир, смотрю по-настоящему – сканирую, как говорите вы, люди науки – видения приходят ко мне, и я не властна их остановить. Женщина замолчала. В комнате повисла тишина. Даже Сигеру'кшу перестал ерзать в своем огромном кресле. Тишина длилась и длилась, пока ее не нарушил звонкий голос Алисы: – Ты уловила что-то важное? Что-то такое, из-за чего решила связаться с нами? Вытянув руку, провидица пропустила между пальцев прядь густых волос. Потом отхлебнула из бокала. – Да. Этому миру грозит страшная опасность. Скорее всего, он будет уничтожен. – Выбросом из ядра? – спросил Тревельян. – Но Мобильный Флот ставит щиты, так что… Подняв руку, Обна Шета прервала его. – Ничего не могу сказать о выбросе и о вашем флоте, милорд консул. Возможно, причина кроется совсем в другом… я просто не знаю… Я предупредила – не нужно задавать мне вопросы… Слушайте, что я говорю. Это солнце и этот мир будут уничтожены. Но есть вероятность иного исхода, более благоприятного. Я ощущаю присутствие мыслящей массы, огромного существа со странным разумом – таким, который я не могу осознать и даже представить. Всемогущая тварь, и это меня пугает… пугает, но я должна разобраться. Именно поэтому я здесь. Сигеру'кшу заворочался в кресле и ворчливо пробормотал: – Тут два покрытых льдом материка и большой континент с реками, горами и лесами, который изучен весьма подробно. Где эта огромная тварь, женщина? Она тебе приснилась? – О том, что мне приснится, я поведаю на следующий день. Завтра, благородный пха! – Обна Шета поднялась одним быстрым гибким движением. – Сейчас я устала. Хочу на воздух, к морю! Шум волн меня успокаивает. Поманив к себе Сирада, она шагнула к выходу, потом остановилась и посмотрела на Тревельяна. Он вновь почувствовал слабый, едва заметный ментальный импульс – словно кто-то постучался в мозг. «Пророчество Кассандры, – мелькнула мысль. – Верить или не верить? Над Кассандрой тяготело проклятие, ей не поверили… В результате для Трои все кончилось очень плохо…» Терукси вышли. Он повернулся к инкарнологу и сказал: – Присмотри за ними, Нильс. Если тебя не затруднит прогулка у моря с дивной красавицей. Инженер вздохнул. – Не затруднит. Будем дышать свежим воздухом, слушать шум волн и беседовать о видениях и призраках. Может, Летучего голландца встретим или графа Дракулу… Так что бластер я на всякий случай прихвачу. Усмехаясь, Нильс вышел из комнаты. – Не поверил, – сказала Алиса, сморщив носик. – Ну, что с него взять… инженер, человек практичный. С воображением плоховато. Сигеру'кшу прочистил горло и с любопытством уставился на нее. – А как считаешь ты, поко? Ты среди нас единственная женщина, хорошо бы тебя послушать… Я знаю, что мнения землян и землянок обычно не совпадают. Другая… как это у вас говорится?.. да, другая сексуальная ориентация. Алиса захихикала. – Наверное, ты имел в виду разную половую принадлежность… Ну, неважно! В главном, пха, ты прав: я воспринимаю провидицу иначе, чем мужчины. – Земные мужчины, – уточнил археолог. – У нас, хапторов, иные эталоны красоты. На мой взгляд, она мелковата и ноги тощие. – А у меня? – тут же спросила Алиса. – Хрр… Наши самки все же выглядят поосновательнее… – задумчиво произнес Сигеру и вдруг рыкнул: – Ты смеешься, поко! Хочешь меня смутить, да? – Совсем немножко, пха. Но вернемся к нашей гостье. Мужчины видят ее красоту, а я – неуверенность и беззащитность. И, чтобы это скрыть, она ведет себя вызывающе. – Не понимаю, – буркнул Сигеру. – Ты, поко, очень, очень умная… А я – кихха, простой кихха. Мне надо попроще. Алиса соединила ладони перед грудью. – Ладно, будет попроще. Вспомни, что она сказала: я не владею своим даром, но дар владеет мною! Представим, что дар и в самом деле есть, что это не обман и не иллюзия… Я думаю, видеть будущее временами страшно, а говорить об этом людям еще страшнее. Не каждый поверит – а, поверив, вряд ли будет благодарен! И потому она защищается, как может, разделив свою душу надвое: вот провидица Тренгар, а вот – красотка Обна Шета в нарядах и украшениях. Трудно быть провидицей, даже трагично, но Обна Шета, другая грань натуры, горда своим предназначением. Строит великую личность и мечтает, чтобы о ней узнала вся Галактика. – Я этого не разглядел, – произнес Сигеру'кшу, потирая лоб огромной пятерней. – Я вижу обманщицу в пестрых тряпках, которая свалилась нам на рога. Эти ее пророчества… страшная опасность, всемогущая тварь… Чушь! – Одну тварь мы уже откопали, – напомнила Алиса. – Но не всемогущую! Хохо! Скачет под силовым колпаком, строит рожи! А где нечто огромное и разумное? Где?.. Харшабаим исследован, а Ххе и Ххешуш – во льдах, и кроме льдов там ничего не… Внезапно он захлопнул рот и уставился на прозрачную столешницу, словно она была макетом или картой ледяного континента. Его руки протянулись к середине стола, когтистые пальцы с силой царапнули поверхность, но прочный пластик не поддался. Он попробовал снова. Казалось, его огромные лапы – две машины-кихха, которые пытаются взломать вечные льды. Тревельян, подняв брови, минуту-другую наблюдал за этими манипуляциями. Затем произнес: – Я с большим интересом слежу за вашей дискуссией. Ты, тхара, ласточка моя, как всегда, на высоте… беззащитность, двойственность натуры, тяжкая доля провидицы… Очень богатая мысль! Но и сомнения Сигеру мне понятны – этот мир он изучил основательно и никаких огромных тварей не обнаружил. Или сейчас тебе что-то вспомнилось, друг мой? – Вспомнилось, пха, – произнес археолог, и его обычно грохочущий голос был на редкость тихим. – Недавно я рассказывал тебе о сервах, прилетевших во время моей прошлой экспедиции – о сервах, которые сообщили про место, где приземлялся корабль даскинов. Я перевел туда лагерь и начал копать… пробил шурф до обгоревшего слоя… Ивар кивнул. – Да, эта история мне уже знакома. – Я вспомнил, что еще говорили сервы. Держаться подальше от северного континента! От Ххешуша! А почему? Там только снега и льды! – Толщина покрова три-четыре километра, – уточнил Тревельян и, помолчав, добавил: – Думаешь, стоит провести детальное зондирование с орбиты? – Не помешало бы, – проворчал археолог. – Ладно, так и сделаем. А сейчас, пока гости гуляют, вернемся в лабораторию. Милая, ты с нами? – Разумеется, – сказала Алиса и поднялась.* * *
Вечером, связавшись с Командором, Ивар велел провести зондирование северного материка. Потом дал задание Мозгу – поискать информацию о провидцах-терукси и выяснить ее достоверность. Трафор был настоящим кладезем всевозможных сведений, хранившихся в его огромной памяти, и, обладая аналитическим талантом, умел находить связи между на первый взгляд разнородными фактами. Очень полезная способность! За годы, минувшие с сайкатского вояжа, Тревельян ее оценил и даже привязался к Мозгу, ни разу не пожалев об этом своем приобретении. У Гундобальдо, как назвала его Алиса, был лишь один недостаток: он слишком усердно заботился о собственной безопасности. Дед утверждал, что он просто трусоват, но Ивару казалось, что эту гипертрофированную осторожность заложили творцы-кни'лина, считавшие искусственный интеллект устройством дорогим, а потому не предназначенным к различным авантюрам. Так или иначе, но трафор, ознакомившись с бытом и нравами лльяно, не пожелал спуститься на планету. Причины чисто психологические: обладая нерушимой плотью, он все же опасался, что его примут за животное и попытаются съесть. Задание оказалось несложным, и вскоре Мозг прислал несколько трактатов о терукси, выделив места, относившиеся к их провидческому дару. По его мнению, эта информация была сомнительной, проистекавшей не из доказанных случаев и фактов, а, скорее, из авторских фантазий. Ивар, однако, стал просматривать солидный труд Марианны Алферовой, члена комиссии по культурным связям с терукси – ее считали самым авторитетным специалистом в данной области. Он добрался уже до триста сорок второй страницы, когда за спиной у него что-то зазвенело. Алиса… Почти нагая, в чем-то полупрозрачном, мерцающем, обернутом вокруг талии… Ее упругие груди прикрывали два чеканных серебряных колпачка, соединенных цепочкой – она и звенела. Алиса придерживала их руками, ее глаза блестели, волосы цвета спелого каштана разметались по плечам. Грациозная, прекрасная, родная… В горле у Тревельяна пересохло. – Ну как? – осведомилась она, изогнув стан. – Очаровательно! – Ивар выключил книгу и попытался сглотнуть. – Колпаки… Откуда, тхара? Это же украшение хапторов! – Сигеру подарил. Сказал, что хоть шишек у меня нет, но я найду им применение… Красиво, правда? Кивнув, он протянул к ней руки. Снова раздался звон – колпачки упали, покатились по полу, а ладонь Алисы легла на его плечо. Ее прикосновение было таким трепетным, таким ласковым… Он прижался щекой к ее коже, потом прильнул губами к розовому соску, чувствуя его манящую упругость. «Ради таких мгновений стоит жить…» – мелькнула мысль. В ту ночь они любили друг друга долго и нежно. Наверное, эти часы стали бы для Ивара драгоценным воспоминанием, чудесным мгновеньем, которое хочется повторить снова и снова – ибо что на свете чудеснее любви?.. Чудеснее таинства слившихся губ и тел, тихого шепота, стонов, журчашего смеха, аромата ее волос, пальцев, ласкавших его лицо… Он помнил бы об этом годы, десятилетия, целую вечность… Вспоминал бы каждый раз, обнимая любимую, заглядывая в глаза, касаясь ее руки… Он говорил бы ей – помнишь ту ночь на Лиане?.. помнишь, как звенело серебро?.. помнишь, как сияли над нами звезды и луны, как кружился небосвод, приближая зарю?.. Так могло быть, но так не стало. В какой-то миг он внезапно почувствовал, что в его объятиях не Алиса, а другая женщина. Он не видел ее в темноте, но почему-то знал, был совершенно уверен, что ласкает черноволосую красавицу-терукси, слышит ее протяжные стоны, ее дыхание, бурное, прерывистое, ощущает запах ее тела, сладость ее губ. Иллюзия, мираж, но какой реальный! Он понял, что любовный жар ослабил его защиту, впустив в сознание фантом, ментальный призрак Обны Шеты. Это было так неожиданно, что он ощутил не гнев, не злость, но разочарование и чувство безмерной потери. Сказочная ночь уже не принадлежала им с Алисой, их эмоции разделяла незваная гостья, словно вампир подкравшаяся к его разуму. Он мог нанести ответный удар, сильный и жестокий, но решил не делать этого – просто восстановил свои ментальные барьеры, избавившись от наваждения. Алиса снова была с ним и, кажется, ничего не почувствовала. Ивар поцеловал ее, шепнул: «Спи, милая» – и закрыл глаза. Вскоре он уснул, но чувство разочарования осталось.* * *
Стоя перед консолью проектора поля, Обна Шета смотрела на черную тварь, метавшуюся под силовым колпаком. Лицо женщины было мрачным – похоже, увиденное ей не нравилось и даже внушало отвращение. Понаблюдав за тварью несколько минут, она повернулась к металлическому яйцу, наполненному протоплазмой, опустила веки и замерла. Ее облачение – на этот раз голубая, расшитая золотом туника и вплетенные в волосы синие ленты – делало Обну Шету похожей на изящную аметистовую статуэтку. Вчера к ужину она явилась в розовом и серебристом. Тревельян пытался представить, сколько у нее нарядов и что произойдет, когда они закончатся. Возможно, Обна Шета Тренгар покинет Лиану, оставив в покое его, Алису и всю их экспедицию?.. Веки провидицы поднялись, и она, брезгливо скривив губы, молвила: – Я не понимаю… Не мертвое, но и не живое, не машина и не существо… Творение странного разума, которому нет места во Вселенной! – Я и говорю – хохо! Дрянь! – с довольным видом рыкнул Сигеру. Идея привести Обну Шету в лабораторию принадлежала ему. Он надеялся, что гостья, если она обладает хоть каким-то ментальным даром, сможет сказать нечто полезное о загадочной находке. Но лицо провидицы было застывшей маской отчуждения и неприязни. Кажется, рассчитывать на ее помощь не приходилось. Покосившись на контейнер с протоплазмой, Тревельян спросил: – Возможно, содержимое сосуда и есть та всемогущая тварь? Мыслящая масса, присутствие которой ты ощущаешь? – Нет. Напомню милорду консулу, что я говорила про огромное существо, создание планетарного масштаба. А это… – Она небрежно повела рукой в сторону яйца, – это всего лишь черная субстанция. Знать не желаю, где вы ее раздобыли и зачем показываете мне! Я хочу уйти! Но Тревельян был настойчив. – Это не живое и не мертвое что-то излучает? Ментальные импульсы, я имею в виду? – Нет. Не излучает, но поглощает мысленные образы. Как губка воду… Это неприятно. Мне чудится, что в ее присутствии я теряю свой ментальный дар. – Он у тебя настолько сильный, что я не вижу повода для тревоги, – заметил Ивар и усмехнулся. – Очень сильный! Особенно по ночам. Обна Шета оживилась и бросила на него лукавый взгляд. – В самом деле? Милорд консул остался доволен? – Дальше некуда, – буркнул Тревельян. – Но обсудим это потом, досточтимая. Сейчас я хочу знать про монстра, о котором ты толкуешь. Где он находится? Возможно, подо льдами, на северном материке? Есть ли связь между этим существом и тварью в контейнере? Красавица-терукси пожала плечами. – Не знаю, но постараюсь выяснить. Со временем, милорд консул, со временем. Ибо мой дар непостоянен, иногда сильнее, иногда слабее. – И от чего это зависит? Снова лукавый обещающий взгляд… – От эмоций, разумеется. Положительные эмоции усиливают мою способность. Сигеру'кшу кивнул головой, цепочка на его рогах зазвенела. – Если так, женщина, мы будем кормить тебя мясом с кровью, фруктами и другими лакомствами. Я даже готов поделиться с тобой своим кхашашем… Этого достаточно? – Еда не вызывает у меня нужных эмоций, – сказала Обна Шета и облизнула губки розовым язычком. Она уже не глядела на бак с протоплазмой и консоль, а откровенно уставилась на Ивара. – Нет, не вызывает, – повторила она. – Но есть другие способы, более приятные. Нельзя сказать, чтобы такая откровенность смутила Тревельяна. К красивым женщинам он был всегда неравнодушен, они отвечали ему взаимностью, а уж что маячило в конце, постель или легкий флирт, определяли их желания, нрав и темперамент. Любил ли он кого-то?.. Скорее нет, чем да, но нравились ему многие. Вспоминать о них было приятно, и не исключалось, что Обна Шета Тренгар украсила бы перечень его побед. Само собой, в былые времена… Что можно бравому полевому агенту, то не годится консулу… К тому же он был женат и вполне счастлив. Щеки Обны Шеты порозовели, в глазах появился опасный блеск. Нравы терукси, как помнил Ивар, были весьма свободными, и такие понятия, как инцест и адюльтер, в их языке отсутствовали. В мире терукси считалось, что тяга между мужчиной и женщиной, пусть ведущая хотя бы к мимолетной связи, процесс естественный и неизбежный, никак не ограниченный тем, что на Земле назвали бы долгом, обязательством или нежеланием обманывать другого партнера, постоянного и, разумеется, любимого. Те из них, кто жил на планетах Федерации, могли усвоить другую точку зрения, более близкую к традициям землян, но большинство терукси просто не понимали, что такое святость брачных уз. Несомненно, Обна Шета относилась к их числу. – Бесполезная попытка, – со свойственной хапторам прямотой подвел итог Сигеру. – Ничего нового мы не узнали. Сильный дар, слабый дар… Хохо'гро! Иди, женщина! Придешь, когда будет что сказать. Брови Обны Шеты сошлись у переносицы. – Я здесь по твоей просьбе, а не по своему желанию, – сухо обронила она и выпорхнула из лаборатории во двор. Тревельян вышел следом. – Тебе не стоит обижаться на Сигеру'кшу, досточтимая. У хапторов другие представления о вежливости. – Вспомнив о ночном мираже, он усмехнулся и добавил: – И у тебя – тоже. Но похоже, красавица уже забыла про археолога, его лабораторию и черную тварь под силовым колпаком. Приблизившись к Тревельяну, она коснулась ладонью его груди, закрыла глаза и подставила губы. Потом прошептала: – Не зови меня досточтимой… Сегодня, завтра и в другие дни я для тебя лалели, а ты мой лалегун… Понимаешь, что это значит?.. «Еще бы не понять!» – подумал Ивар. Мгновенное видение мелькнуло перед ним: Обна Шета корчится на земле, а над ней, сжимая нож, стоит Алиса. Он даже разглядел, как струится кровь с клинка, пятная голубую тунику… Возможный вариант, но нежелательный. Он шепнул в перламутровое ушко Обны Шеты: – Лалели и лалегун нуждаются в уединении. Не будем же мы обниматься посреди посадочной площадки… Здесь жарко и вокруг машины, которые ты так не любишь… Я отведу тебя в другое место, тихое, прохладное и уютное. В место, где нам никто не помешает… – Там есть постель? – спросила Обна Шета, сладко потянувшись. Ивар видел, как под тонкой тканью туники колышатся ее груди. – Постели там нет, но есть кресла, – пообещал он. – Очень удобные. Это тебя устроит? – Да, – нежно выдохнула Обна Шета. – Да, да, да! Большое мягкое кресло ничем не хуже постели! Они пересекли площадку. Тревельян подвел ее к ангару, набрал код, и дверь бесшумно отъехала в сторону. Вспыхнули световые шары, сверкнули крышки вертикальных саркофагов, застывшие в них существа уставились на вошедших черными блестящими глазками. У дальней стены возвышался стеллаж с различным снаряжением, ремнями, нагрудниками, колчанами и ножами. То был отсек, в котором хранились имитации лльяно. Женщина вздрогнула и в страхе прижалась к Ивару. – Что это? Препарированные экспонаты? Чучела? Они так ужасны, так чудовищны! Но все же жаль, что вы убили этих существ… – Успокойся, мы никого не убивали, и здесь не экспонаты, – сказал Тревельян. – Мы называем их копиями или имитациями. Они во всем подобны лльяно, кроме разума. Их мозг – точнее, кристалл с особой структурой – абсолютно пуст. – Но какой же в этом смысл? – Обна Шета глядела на него с недоумением. – Мы создали технологию переноса человеческого разума в кристалл. При нужде я могу превратиться в лльяно, а тело, хранящееся в консервирующем газе, будет ждать моего возвращения. Очень удобный способ для более тесного контакта с аборигенами. Глаза Обны Шеты широкораспахнулись. – И это может сделать любой? Любой человек? – Конечно. Ты, я, твой Сирад или хапторы… Поговори с Алисой, она расскажет тебе о своих впечатлениях. Женщина снова вздрогнула и покачала головой. – Мне всегда казалось, что ваша наука ужасна… любая наука… Она провела ладонями по груди и животу, коснулась стройных бедер. – Стать дикой тварью, зубастым мохнатым уродом… расстаться со своей плотью… добровольно… Только сумасшедший пойдет на это! – Поверь, я вполне нормальный человек, – молвил Тревельян, осматривая Обну Шету с головы до ног. – Но я понимаю, что с таким телом, как твое, расставаться не хочется. Даже на секунду! Она одарила его чарующей улыбкой. – Хочешь изучить это тело поближе? Где то мягкое большое кресло, о котором ты говорил? – В следующей комнате, – сказал Ивар и отворил дверь в отсек инкарнологии. Здесь стояли четыре широких ложемента, а в углу находился пульт-фантомат, управлявший пересылкой разума. Усадив Обну Шету в кресло, Тревельян шагнул к пульту и провел рукой над модулем включения. Послышался звон, вспыхнули яркие разноцветные огоньки, в воздухе повисла схема устройства, раскрылся экран с видом отсека, где хранились имитации. Огоньки весело перемигивались в такт какой-то древней мелодии, негромкой, но весьма энергичной. Нильс Захаров полагал, что она снимает напряжение у его клиентов. Черноволосая красавица захлопала в ладоши. Ее голубая туника распахнулась от плеч до пояса, явив пышную грудь с алыми вишенками сосков. – Восхитительно! Мы будем любить друг друга в сиянии этих огней, под звуки музыки! Это земной обычай, да? Мне он нравится, мой лалегун! – Не будем торопиться с любовью. – Тревельян, не отступая от пульта, помотал головой. – Как говорят кни'лина, любовь слишком серьезное занятие, чтобы предаваться ему впопыхах… Сейчас мы поговорим. – Мы пришли сюда не для разговоров, милорд консул! – Обна Шета капризно надула губки. – Определенно не для разговоров! Сбросив тунику, она уютно устроилась в кресле. Блики света скользили по ее золотистой коже, словно лаская нагие плечи, груди, бедра. Желание переполняло ее. «В другие времена… – подумал Ивар. – В другие времена!..» Эта мысль не вызвала ни сожалений, ни порыва страсти. Он помнил одно: эта женщина опасна. – Ошибаешься, досточтимая. Будь благоразумна и выслушай то, что я скажу. Знаю, ты пыталась меня зондировать… и еще… – Он чуть не скрипнул зубами, вспомнив минувшую ночь. – Еще ты подсматривала за мной и Алисой! Возможно, ты незнакома с земными обычаями, но это не оправдание. У нас так делать нельзя. – Ты почувствовал? Удивительно! – Брови женщины приподнялись. – А мне казалось… – Неважно, что тебе кажется. Я, в некотором смысле, тоже экстрасенс, – произнес Тревельян. – Знай, что твои фокусы не пройдут незамеченными. Выражение ее подвижного личика вдруг изменилось – теперь она сердито глядела на Ивара, нахмурившись и прикусив губу. Пожалуй, в этот миг она была не легкомысленной Обной Шетой, а провидицей Тренгар, полной властного достоинства и зарождавшегося гнева. Она не привыкла, чтобы ей противоречили. «Вот она, двойственность натуры, – подумал Тревельян. – Но где истинная суть, и где маска?..» – Если снова попытаешься зондировать меня или любого члена экспедиции, будешь выслана отсюда, – предупредил он. – Так быстро, что не успеешь собрать свои наряды. Резким движением она натянула тунику на плечи. Обна Шета исчезла, теперь перед Иваром была провидица Тренгар. Кажется, очень разгневанная. – Вышлешь меня? Уверен, что это получится? – Она пренебрежительно скривила рот. – Пустая угроза! Ты не поднимешь мой корабль в воздух, даже не войдешь в него! Корабль подчиняется только мне, а я желаю находиться в этом мире! И я здесь останусь! Останусь и буду делать все, что мне угодно! Такова моя привилегия! – Ее щеки покраснели, глаза метали молнии. – А сейчас я уйду! Уйду, мой драгоценный лалегун! – Я не твой лалегун, и ты не уйдешь. – Тревельян щелкнул пальцами над пультом, и на кресло Обны Шеты надвинулся колпак. С минуту он смотрел, как женщина с яростью бьет кулачками в твердую прозрачную поверхность и безмолвно разевает рот, потом включил связное устройство и произнес: – Верно, мне не поднять твой корабль, а войти в него я могу лишь с помощью лазера. Но есть другое решение проблемы: я перенесу твой разум в имитацию лльяно и отправлю эту особь в их селение. Посидишь там до поры до времени. Лльяно за тобой приглядят. – Ты не посмеешь! – выкрикнула Обна Шета. – Не посмеешь! – Я вынужден пойти на это, чтобы сохранить твою жизнь, – пояснил Тревельян. – Если ты попробуешь подключиться к одному из хапторов, будешь наверняка убита. За свою жену тоже не могу ручаться… Поэтому, как глава миссии на Лиане-Секунде, я вынужден изолировать тебя, Обна Шета Тренгар, гражданка Дингана-Пхау. Я имею на это все полномочия. Разумеется, изоляция будет временной, до того момента, когда ты решишь покинуть этот мир. Он занес руку над пультом. – Не-ет! – раздался панический вопль. – Нет, нет, нет! Склонив голову, Ивар слушал ее крики. Конечно, он заманил ее в ловушку, что было деянием не очень благородным, но совесть его не тревожила. Чужой разум свят; это не место для игрищ кого-то, владеющего паранормальным даром. Он вызвал на экран изображение лльяно из соседнего отсека. Голова, покрытая бурой мохнатой шерстью, приоткрытая пасть с острыми зубами, темные глаза без проблеска мысли… Женщина побледнела, ее губы затряслись. Не Обна Шета была сейчас перед Иваром и не провидица Тренгар, а перепуганное существо, в ужасе взиравшее на имитацию лльяно. – Нет… – прошептала она. – Прошу, не делай этого… – Так мы договорились? Провидица кивнула. По ее щекам струились слезы. – Никаких попыток зондирования, – произнес Тревельян. – Ты согласна? Новый кивок. Он знал, что она не обманет – терукси не умели лгать. – Будешь сотрудничать с нами? – Я постараюсь… постараюсь… – Ее голос был тихим и тусклым. – Хорошо. Рад, что мы достигли взаимопонимания. Он провел рукой над пультом. Колпак поднялся, затем погасли огоньки, исчез экран и смолкла музыка. Обна Шета выбралась из кресла. Ноги ее подгибались, на щеках блестели слезы. – Тебе нужно умыться, – сказал Тревельян. – Тут есть санитарный блок. Идем, я отведу тебя. Слабая улыбка скользнула по губам Обны Шеты. – Ты не запрешь меня снова, милорд консул? В этом блоке? – Просто консул или, если угодно, Ивар. Не беспокойся, моя красавица, там нет замка. Он ждал у дверей тридцать или сорок минут – совсем недолго для женщины, пережившей столь сильное потрясение. Наконец, она вышла, оперлась на руку Тревельяна и попросила отвести ее в жилой отсек. Когда они пересекали площадку, Обна Шета тихо шепнула: – Ты был жесток со мною, Ивар… слишком жесток… – У меня не было другого выхода. Она помолчала. Затем продолжила: – Мне не пришлось бывать на Земле и в других мирах вашей Федерации… Но мне говорили, что у людей странные обычаи. Слишком суровые, на взгляд терукси. – Возможно, – ответил Тревельян. – Я сейчас читаю труд одной женщины, эксперта по культурным связям с Дингана-Пхау. Она утверждает, что у вас там просто рай. Все друг друга любят, и никаких семейных сцен и ревности. Он не был уверен, что Обна Шета его поняла – возможно, она не имела понятия о ревности и семейных сценах. В молчании они добрались до жилого купола и ее отсека. Здесь, перед дверью, она заглянула в лицо Тревельяна и, печально вздохнув, промолвила: – Вы, люди, слишком жестоки… У нас всегда принимают любовь, считая ее радостью… А вы стараетесь сломать и подчинить. – Снова вздохнула и прошептала: – Вино… мне надо выпить вина… – Наша жестокость – дурная наследственность от предков, – сказал Тревельян. – Ничего с этим не поделаешь. Чтобы стало понятней, я пришлю тебе кристалл с записью. Просмотри ее. – Что там? – Сочинения нашего древнего автора из самых великих… «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Гамлет»… И еще одна забавная история… Называется «Укрощение строптивой».Интерлюдия Мобильный Флот
Маневр был завершен: семнадцать дисковидных эмиттеров поля разместились по периметру потока, десять повисли в центре наружного кольца, там, где плотность газовой струи будет максимальной. Жилые модули, транспорты и контейнеровозы были собраны в плотный рой на безопасном удалении от экрана; рядом с ними дрейфовала боевая эскадра, двенадцать тяжелых рейдеров со вспомогательными судами. Там находился и флагман «Карфаген», нацеливший свои антенны и локаторы на фронт приближавшегося выброса. Перестроение Флота и инспекция эмиттеров была задачей коммодора Моррисона, главы сектора энергетической защиты. Сейчас он плыл в своей прозрачной капсуле мимо гигантских кораблей, мимо чашевидных излучателей, направленных к полюсу Галактики, принимая доклады управляющих ими искусственных интеллектов. Силовой экран еще не был инициирован, но через несколько дней барьер защитного поля перекроет зону в сотни мегаметров, и Великая Пустота озарится огнем. Моррисон представлял это очень ясно: бушующий океан плазмы, струи раскаленного газа, отброшенные во тьму, алые световые короны вокруг излучателей, ритмичное колыхание щита в такт циклам отражения и поглощения. В начальной стадии эмиттеры возьмут энергию из Лимба, затем поток снабдит их нужными ресурсами: что-то отразится экраном и уйдет в пустоту, что-то экран передаст поглотителям. Энергии в потоке хватало – по пути из ядра он уничтожил десятки звезд и мог взорвать еще столько же. – Восьмой – инспектору, – прозвучал сухой холодный голос искусственного интеллекта. – Все системы в норме. Рапортую о готовности. – Восьмой, рапорт принят, – отозвался коммодор. Он мог бы сейчас не мчаться в холоде и мраке, облетая кольцо излучателей, мог сидеть в рубке «Карфагена», куда передавались рапорты, но это было слишком буднично и скучно. Ему нравилось видеть рабочие модули собственными глазами. Это дарило ни с чем не сравнимое ощущение: как древний полководец перед битвой, он осматривал строй своих воинов. Воинов-гигантов, обитающих в пространстве, – тяжесть этих огромных дисков проломила бы кору любой планеты. Он выслушал остальные доклады и после семнадцатого велел пилоту переместиться к середине кольца. Еще десять сообщений… Все в порядке, осталось лишь послать команду на включение экрана… Его маленький шаттл направился к «Карфагену». Плотный рой, окружавший флагман, сиял огнями и был многослойным: в центре – суда, несущие экипаж, за ними грузовые корабли, транспорты, зонды-разведчики и огромные угловатые модули спасателей – на тот случай, если придется эвакуировать население Лианы. Не все, но хотя бы часть… Это было бы самым печальным исходом, и Моррисон старался не думать о такой возможности. Над роем висели двенадцать крейсеров, спрятанных во тьме, точно кулак, готовый для внезапного удара. В дальних походах боевые эскадры неизменно сопровождали Флот – как правило, с превентивной целью. Перемещение большого числа кораблей всегда вызывало тревогу, а у кого и по какому поводу, ни один стратег не брался предсказать. Флот пересек несколько секторов влияния[198], и, разумеется, все расы, известные Федерации, от дроми до лоона эо, были предупреждены о его задачах и маршруте. Но кроме известных цивилизаций, чьи корабли странствовали в Великой Пустоте, имелся шанс столкнуться с чем-то незнакомым и, скорее всего, враждебным. Галактика так велика, так безбрежна! Портулан даскинов[199], включавший сведения о множестве культур, устарел на миллионы лет – достаточное время, чтобы старое сгинуло, а новое народилось. В космос вышли расы, неведомые прежде, и говорить с ними о мире было надежнее под защитой аннигиляторов. Моррисон вспомнил о недавнем инциденте у Гондваны. В этой системе, давно заселенной людьми и считавшейся одной из жемчужин Федерации, появились гуманоиды-нильхази, раса, о которой умалчивал и Портулан, и архивы Земли, хапторов, кни'лина и парапримов. Их претензии на Гондвану были бесспорны и подкреплялись силой – вооруженный корабль навис над миром почти с миллиардным населением. Конфликт удалось разрешить Судье Справедливости, но полномочия Судьи нильхази признали не сразу. Этому весьма способствовал «Эскалибур», тяжелый крейсер, направленный Флотом в систему Гондваны[200]. На пульте пилота перемигнулись огни, затем ожил вокодер: – Адмирал Лодо – коммодору Моррисону. Доложить результаты инспекции. – Рабочие модули в норме. Полная готовность, – ответил Моррисон. – Я возвращаюсь, адмирал. – Жду. Совещание в шестнадцать ноль-ноль по бортовому времени. – Пауза. Затем Лодо произнес: – У нас проблемы, Влад. Hannibal ad portas[201].Глава 7 Жилой модуль базы. Орбита, экспедиционное судно «Дельфин»
События, произошедшие на Лиане-Секунде, общеизвестны и отражены в том разделе отчета, который посвящен исключительно им и содержит подробные видеоматериалы и их анализ. Однако следует отметить, что еще ранее предпринимались попытки локализации загадочного феномена и выяснения его природы. В экспериментах участвовала некая Обна Шета Тренгар, провидица-терукси, чей корабль, в силу неясных обстоятельств, приземлился на планете. В этом пункте выводы и оценки авторов отчета расходятся. Пха Сигеру'кшу считает, что никакого внечувственного дара у вышеуказанной персоны не имеется и что успех исследований связан с решительными мерами, предпринятыми главой экспедиции – а именно, со вскрытием ледового панциря на материке Ххешуш. По мнению же консула Тревельяна, Обна Шета Тренгар оказала экспедиции неоценимую помощь. Консул Тревельян также отмечает побочный, но важный результат данных экспериментов: реальность ментального дара у некоторых представителей расы терукси. Это явление, которое прежде мифологизировалось, теперь следует считать надежно установленным научным фактом.Отчет экспедиции Тревельяна – Сигеру'кшу.
* * *
– Яничего не ощущаю, – сказал Тревельян, открывая глаза. Собственно, закрывать их при дальнем зондировании не требовалось, но так было легче сосредочиться. Две женщины смотрели на него: Обна Шета Тренгар, сидевшая в кресле по другую сторону стола, и Алиса Виктория. Алиса стояла рядом, положив ладонь на его плечо, и сейчас, выйдя из транса, он чувствовал мягкое давление ее пальцев. Кажется, она была обеспокоена. – Надо подумать, – промолвила Обна Шета, играя ожерельем из желтых камней. – Причины могут быть разными – например, ты неспособен воспринять эманацию внечеловеческого разума. Такого, который не принадлежит разумному существу, в нашем понимании… ни дроми, ни хаптору, ни лоона эо… нечто совершенно особенное, уникальное, чему мы не имеем определений. – Мне приходилось контактировать с сильмарри, – возразил Тревельян. – Коллективный разум и, бесспорно, нечеловеческий… Но кое-что я смог уловить. – Нечеловеческий – значит, не принадлежащий гуманоиду, то есть существу нашего вида. Дроми или те же сильмарри… – Провидица шевельнулась, и по ее платью цвета чайной розы побежали золотистые сполохи. – Я говорю о другом. Внечеловеческий – значит, лежащий вне нашего опыта и наших знаний. – Но ты его ощущаешь. – А ты – нет. Странно, не так ли? – Будто поддразнивая Ивара, она облизнула губы розовым язычком. – Я вообще не понимаю природу и происхождение твоего дара. «Еще бы ты понимала!» – подумал Тревельян. Бесспорный факт – работать с порталами даскинов его обучило существо, затаившееся среди биороботов лоона эо. Он знал это точно, так как раньше у него не имелось склонности перемещаться от звезды к звезде, от планеты к планете без корабля с контурным приводом и даже без скафандра с запасом воздуха. Однако дар внечувственного восприятия – точнее, его происхождение – оставался для Ивара загадкой. Возможно, этим талантом его наделил Первый Регистратор, тот же самый псевдосерв, но не исключалось, что дело в его собственном генетическом коде, в капле крови фаата, унаследованной от далеких предков[202]. Существовал и промежуточный вариант: Первый Регистратор мог лишь пробудить способность, заложенную в генетике. Свои таланты он не афишировал, а потому эксперимент с Обной Шетой проводился в приватном порядке, в его жилом отсеке и в присутствии только любимой супруги. От нее у Ивара не было секретов – как говорил Йездан, мудрец кни'лина, подушке ведомы все тайны мужа и жены. – Есть один способ, – сказала Обна Шета, щуря свои прекрасные глаза. – Мы используем его при обучении тех, кто наделен врожденным даром. Наставник должен проторить тропу для неофита, по которой тот следует за учителем. В трансе их разумы сливаются… Можем попробовать. Алиса чуть слышно фыркнула. Ей совсем не нравилось, что Ивар будет с кем-то сливаться, пусть даже мысленно. – Я не ученик, – промолвил Тревельян. – Покажи, как ты действуешь, и этого хватит. – Увидим, хватит или нет. – Разгладив платье на коленях, Обна Шета любовалась переливами бледно-желтого и золотого. – Сейчас я войду в транс и постараюсь нащупать разум этой твари. Понадобится несколько минут… может быть, половина часа в земных мерах… Вы оба должны следить за мной. Если я буду словно спящая, значит, все в порядке, и ты можешь идти за мной. Если начну дрожать и метаться, верните меня к яви как можно быстрее. Она откинулась на спинку кресла и вытянула ноги в изящных золотистых туфельках. – Помнится, на астродроме ты сильно побледнела и лишилась чувств, – заметил Тревельян. – Это были знаки неблагополучия? – Нет. Я сказала: если начну дрожать и метаться… или если из носа пойдет кровь. – Я понял, досточтимая. В добрый путь. – Не досточтимая, нет… – прошептала провидица немеющими губами. – Обна Шета… просто Обна Шета… Ее глаза закрылись, щеки начали бледнеть, кровь отлила от губ и шеи. Она не лишилась своей красоты, но теперь это было очарование существа, замороженного в гибернаторе лет на тридцать-сорок. – Опасные эксперименты, – сказала Алиса. – Она выглядит точно Белоснежка в гробу. – Пока тревожиться не стоит, – откликнулся Ивар, наблюдая за провидицей. – Согласен, выглядит она не лучшим образом, зато спокойна. Они ждали. Прошло минут десять. – Третий день, – вдруг промолвила Алиса. – Третий день она у нас, и за это время сменила семь туалетов. – Разве? – усомнился Тревельян. – Я могу припомнить только четыре. – Мужчины… что вы видите… – Алиса Виктория небрежно повела рукой. – Интересно, для кого она наряжается? – Думаю, для Нильса. Он очень симпатичный парень. – Как же! Нильс ее боится! – Ты не права, клянусь! Нильс ей симпатизирует! Алиса окинула взглядом лежавшую в кресле женщину, ее платье с золотистыми бликами, ожерелье из цитринов на стройной шее, золотые узоры на щеках, черные волосы, что расплескались по груди и плечам. Осмотрела ее и вынесла вердикт: – Кокетка! – Спорить не буду, – сказал Тревельян. – Но она изменилась к лучшему. Она готова сотрудничать, не надувает больше щеки и уже не требует, чтобы ее называли досточтимой. Помнится, ты говорила о двойственности ее натуры… Будем считать, что она повернулась к нам лучшей своей стороной. – Возможно, ты прав. – Алиса кивнула. – Но что-то подсказывает мне, что подругами мы не станем. Дыхание Обны Шеты было размеренным, лицо – спокойным, хотя пугающая бледность не исчезла. Подождав еще немного, Тревельян произнес: – Я отправляюсь, ласточка. Последи, чтобы никто нам не мешал. Это не займет много времени. Он сделал несколько глубоких вдохов и погрузился в транс. Мгновение, и мир перестал существовать; исчез жилой отсек, в котором они находились, постройки станции, морской берег, лес и вся планета. Он ощущал чужие разумы – два совсем близко, рядом, другие подальше, разумы Алисы и Обны Шеты, Нильса, Инанту, хапторов и лльяно. В бездне, полной сияния, они казались яркими огнями; Ивар мог прикоснуться к любому, слиться с ним, ощутить не мысли, но чувства, ту ментальную ауру, что делает личностью каждое существо. Бездну, точно струны или нити паутины, пронизывали импульсы, и даже не касаясь огней, он считывал их с легкостью: любовь и тревога – Алиса; сильное напряжение – провидица Тренгар, всплеск любопытства – Сигеру'кшу, трудившийся сейчас в лаборатории, сотни обыденных желаний, чувства голода или сытости, радость удачной охоты, удовольствие, с каким мастер глядит на свое творение – этим тянуло от лльяно. Разумы, тысячи, миллионы разумов на планете, и больше ничего; сонм огней, пылающих в ментальном пространстве, но ничего чужеродного и странного. Никакой огромной твари с внечеловеческим сознанием. Огонек Обны Шеты разгорался все ярче. Тревельян чувствовал, что от ее разума тянется нить, будто не имевшая конца – она растворялась в сияющей пустоте, нарушая гармонию связей. Необычная ситуация! Нити были ментальными каналами и обрываться не могли; любая связь, формируемая сознательно или интуитивно, имела источник и адресата. В принципе, многих адресатов, покольку источник мог контактировать с группой других разумных существ, даже со всем сообществом в Галактике. Конечно, то был бы исключительный случай, с которым Тревельян не сталкивался никогда. Он прикоснулся к разуму Обны Шеты. Кажется, она пыталась с кем-то связаться, но канал, открытый ею, в самом деле не имел конца. Однако тянулся он не в пустоту – что-то там было, огромное, дремлющее, не похожее на огонь иного разума, на яркое пламя, каким представлялся пусть чуждый, но могучий интеллект. Тревельян скользнул вдоль нити, переброшенной провидицей, и светлую бездну сменила тьма. Мрак не казался однородным – нечто медленно и лениво ворочалось в темноте, тут и там вспыхивали и гасли тусклые искры, между ними метались слабые, едва ощутимые импульсы, но эти связи не были стабильными, их рисунок выглядел переменчивым и зыбким. «Мыслящий хаос?.. – подумал Тревельян. – Или не мыслящий, а только имитирующий мысль?..» Внезапно он понял, отчего не смог добраться сам до разума этой твари, до того, что служило ей как бы разумом. Всякое существо, обладающее интеллектом, живое или искусственное, подобное Мозгу с Сайкатской станции, осознавало себя как личность, неповторимую и уникальную. Огни, пылавшие в ментальной бездне, были не маяками интеллекта, знаний, памяти, но символом «я», искрой самосознания, что вспыхивает в младенческие годы, разгорается в зрелости и гаснет со смертью. Воспринимая это как данность, он не представлял иного. Даже Мозг, не живой, но творение живых разумных, подчинялся такому порядку вещей, так же, как любой искусственный разум, превосходящий порог Глика-Чейни[203]. Но иное существовало – разум или подобие разума, не имевшее самосознания. Покинув мрак, скрывавший эту тварь, он глубоко вздохнул и вынырнул из транса. Алиса смотрела на него. Ее глаза были огромными, в дрожащих ладонях поблескивал инъектор. – Как долго! – прошептала она. – Больше часа! Я уже хотела… – Все в порядке, милая. – Ивар приподнялся в кресле, бросил взгляд на Обну Шету и пробормотал: – Упорная, однако! Бьется, как рыба об лед! А там, как сказано у Йездана, пустота, лишенная души… Попробую ее извлечь. На мгновение погрузившись в транс, он коснулся сознания провидицы и оборвал нить, не имевшую конца. Обна Шета пришла в себя не сразу – как было и при первом сеансе на астродроме, ей понадобилось минут пятнадцать. Наконец, щеки ее порозовели, глаза открылись, и женщина слабым голосом попросила вина. Выхватив бокал из рук Алисы, она принялася жадно глотать, расплескивая напиток. – Я не смогла… – Голос Обны Шеты, сильный и звонкий, сейчас походил на хрип. – Не смогла… Это существо не отзывается… – И не отзовется, – сказал Тревельян. – Но я бы не назвал его существом. Искусственная тварь Древних, лишенная самосознания… Вероятно, ее доставили сюда на корабле миллионы лет назад, и теперь она гниет под льдами Ххе или Ххешуша… О чем с ней говорить? Что спрашивать? Рот провидицы приоткрылся. Кажется, она была потрясена. – Ты… Тебе удалось? – Разумеется. Благодарю за помощь и проложенную мне дорогу. Теперь я могу достучаться до этого монстра – во всяком случае, мысленно. – Он коснулся виска и помахал кистью в воздухе, словно показывая, как сделает это. – Могу достучаться, но похоже, толковать с ним не о чем. Под льдами не всемогущий повелитель мира, а жалкая тварь без собственного «я»… К тому же без целостного локального сознания… Насколько я понял, у него полиморфный разум. – Что это значит? Объясни! – потребовала Обна Шета. – Множество элементов, из которых формируются временные структуры для решения тех или иных задач. Принцип, давно известный нашим кибернетикам, – сообщил Тревельян. – Но то, что мне пришлось наблюдать… – Он пожал плечами. – Стабильных структур больше нет, сплошной хаос случайных связей! Прошло очень много времени, и я думаю, что эта разумная машина просто испортилась. Провидица долго молчала, то массируя виски, то отхлебывая вино из бокала. – Налить еще? – спросила Алиса. – Да, благородная… Или можно звать тебя по имени? – Она сделала большой глоток и, не дожидаясь ответа, повернулась к Тревельяну. – Ты сказал, что говорить с этим монстром не о чем… Пусть так! Но мы могли бы узнать, зачем он тут появился. Зачем его привезли и с какой целью? Мои видения ничего не говорят о прошлом, но будущее меня тревожит… А ты… Разве тебе неинтересно? «Она уже поучает меня, как проводить исследования», – подумал Тревельян и усмехнулся. – Очень интересно! Мы изучим этот феномен, но боюсь, что сам он не расскажет, кто его привез и для чего. Ты, Обна Шета, пыталась вступить с ним в ментальную связь… С кем или с чем? С набором хаотических структур, случайным образом меняющих конфигурацию? Это бесполезно, так что мы пойдем другим путем. Губы Обны Шеты дрогнули. Кажется, она собиралась задать вопрос, но Алиса успела первой. – Ты хочешь добраться до этой твари? Раскопать ее и провести полевые исследования? – Да, тхара. Сначала сканирование с орбиты, локализация места и глубины залегания, потом вскроем лед, возьмем пробы, сделаем анализы… Все как положено. – Там очень холодно, – сказала Алиса. – Холодно, – подтвердил Ивар. – Сильные ветры и частые бури. Лед чрезвычайно прочный, особенно нижние слои. Они находятся под колоссальным давлением. – Будем бурить? – Нет, взрывать. Бомбардировкой с орбиты. – Как? На «Дельфине» нет ни лазеров, ни ракет со взрывчаткой. Ивар на секунду задумался. Потом сказал: – Дед что-нибудь сообразит. Очень надеюсь. Сжавшись в кресле, Обна Шета следила за их разговором. «Земляне куда практичнее нас, – мелькнуло в ее голове. – Практичнее, решительнее, смелее… Может быть, поэтому они и создали свою звездную империю, расселившись на множестве миров, а терукси живут лишь на Дингана-Пхау… Алиса вздохнула. – Дед сообразит! Взрывы и бомбардировка – его любимое занятие! – Конечно, – подтвердил Ивар. – Как-никак, он офицер Звездного Флота. Старый конь борозды не испортит.* * *
Разумеется, дед Тревельяна не отказался бы что-то взорвать или разбомбить. К сожалению, его возможности были ограничены – оружия на борту «Дельфина» не имелось. Вскрыть ледовый панцирь в три километра толщиной мог аннигилятор, метатель плазмы крупного калибра или торпедный залп, но все это являлось теорией; на практике же у Командора были зонды-разведчики и детралекс, мощная взрывчатка для горных работ. Так что пришлось исхитряться. Он начал с изменения параметров орбиты, чтобы пролететь вокруг Лианы-Секунды в меридиональном направлении. В высоких широтах Северного полушария стоял день, солнце маячило на беззвездном небе, ветер гнал тучи и кружил снег. Когда «Дельфин» завис над полюсом, Командор просканировал ледовый щит Ххешуша, получив неясную картинку какой-то структуры в центральной области материка. Хотя «Дельфин» располагал комплектом сканеров, рассчитанных на широкий диапазон частот, изображение получилось размытым – гигантская медуза более восьмисот километров в поперечнике, слившаяся по краям со скальной породой и прикрытая слоями льда. Она казалась выпуклой – толщина ледяного покрова в центральной части была меньше, чем у периметра образования. В лед над этим куполом Командор и собирался ударить. Сейчас, переместившись в копию лльяно, согнув короткие ноги и отбросив на спину пряди бурых волос, он сидел в шлюзовой «Дельфина», там, где находились обоймы с зондами. Шесть обойм по пять зондов в каждой. Эти небольшие аппараты, имевшие форму стрелы, предназначались для изучения светила и спутников Лианы-Секунды. Они могли двигаться с приличной скоростью, брать пробы твердых, жидких и газообразных субстанций и были нашпигованы массой приборов, от навигационного компьютера до передатчика и визуальных устройств. Если не считать компьютера, вся эта начинка была теперь лишней. Трафор тоже был здесь – трафор, четыре универсальных робота, длинный ящик и груда цилиндрических контейнеров в дальнем углу. Серую поверхность каждого цилиндра опоясывала надпись крупными красными буквами: «Внимание, детралекс! Опасное содержимое! Взрыватели хранить отдельно!» – Приступим, камерады, – сказал Командор и помахал шерстистой лапой роботам. – Первый и второй, достать зонды из этой обоймы. Третий и четвертый, тащите сюда ящик и контейнеры. – Сколько? – прогудел один из роботов. – Пять, дубина! В обойме пять зондов – значит, нужны пять контейнеров! Не мог сообразить, а? Робот не ответил, направившись вместе с сотоварищем к груде цилиндров. Другая пара принялась вытаскивать из обоймы трехметровые стреловидные зонды, закрепляя их на палубе с помощью магнитных держателей. – Вскрывай, – велел Командор Мозгу. – Сначала выпотроши его. Все убрать, кроме навигатора! Ну, управление двигателем тоже не трогай… Остальной хлам вон! – Да, капитан. Слушаюсь, капитан. Гундобальдо, принявший форму вопросительного знака, склонился над зондом. Из его плоти вылезли тонкие гибкие щупальцы с клешнями и два манипулятора потолще. Что-то негромко щелкнуло, и корпус аппарата раскрылся. Мозг запустил щупальцы внутрь, начал копаться там, отрастил зрительный орган на длинном стебле и тоже засунул его в чрево зонда. Минут через пять он принялся вытаскивать отсоединенные модули. Командор прикрикнул на роботов: – Что стоите, бездельники? Блоки собрать и складировать в трюме, на стеллажах для мелочей! Казенное имущество как-никак! Уложить аккуратно и вернуться сюда! Собрав модули, роботы удалились. – Теперь бери бочонок с детралексом и заталкивай внутрь, – распорядился Командор. – Должен влезть, я проверял. – Помещается, капитан, – подтвердил трафор. – Достань из ящика взрыватель и вставь в бочку… Не сюда! Отверстие в днище! Так… Кабель от взрывателя подключи к навигатору… Запрограммируй координаты… Точно Северный полюс… Хорошо. – Командор покрутил головой. – Где эти лодыри-железяки? Все еще в трюме? Ко мне, немедленно! Явились роботы, вставили зонд в обойму и замерли, ожидая дальнейших приказов. Операция повторилась четырежды, затем Командор приказал подготовить аппараты к пуску. Визуальные средства наблюдения были ориентированы на Ххешуш, и висевшие в воздухе экраны показывали безжизненную ледяную пустыню, которую ураганный ветер устилал хлопьями снега. – Отстрелить первый зонд! – распорядился Командор. Спустя двенадцать минут над материком сверкнуло багровое пламя, поверхность льда раскололась и вспучилась по краям, в небо взлетел гигантский столб пара, затмивший солнце, яростные ветры закружили белесые клочья, растаскивая их на четыре стороны света. От кратера в месте взрыва побежали зигзаги трещин, между ними лед встопорщился рваными складками, с неба падали огромные глыбы, разбиваясь о материковый щит. Он уже не выглядел плоской, засыпанной снегом равниной, его покрывали торосы, холмы и огромные горы льда. Командор довольно хмыкнул. Потом произнес: – Капитан – кораблю. Сообщить параметры воронки. – Глубина в центре – примерно пятьсот пятьдесят метров, диаметр верхней части кратера около семнадцати километров. Уточнить? – Не нужно. Три зонда в кратер. Не сразу, а с перерывом в тридцать секунд. Эти взрывы, прогремевшие в недрах ледового панциря, были не такими зрелищными – вверх взлетали только фонтаны пара, которые становились все ниже и ниже. После четвертого фонтана – скорее даже фонтанчика – корабль сообщил, что до условной точки, горба образования, осталось менее трехсот метров. Командор велел подорвать пятый заряд в воздухе над дном воронки. Медуза никак не реагировала на предыдущие взрывы, на сотрясение ледяного панциря и удары глыб, что рушились обратно в кратер, но все-таки жечь ее огнем и рвать на части явно не стоило. Последний зонд проломил ледяную перемычку, но до горба не добрался – осталось еще метров двадцать или двадцать пять. – Сущая мелочь, – проворчал Командор, озирая чудовищный кратер. Его стены в трещинах и выступах сияли на солнце, точно скопище зеленоватых алмазов. – Мелочь! Можно пробить ручным лазером, – добавил он, поднимаясь на задние лапы и осматривая Мозг и роботов. – Операция завершена, камерады. Выношу благодарность всем участникам! И еще… Что-то нужно сделать еще, да память меня подводит… В сопровождении трафора он направился в рубку, но на жилой палубе вспомнил о завершающем моменте, замер на половине шага, остановился и буркнул: – Капитан – кораблю! Составить акт на списание пяти зондов. – Причина, капитан? – осведомился корабельный разум. – Научные исследования, конечно. Скажем… хмм… анализ распространения ударных волн в коре планеты. Так и зафиксируй. Порядок есть порядок, и начинается он с правильно оформленной отчетности. В рубке Командор покинул своего носителя-лльяно и перебрался в памятный кристалл, поджидавший его в особой нише пульта. Чудилось, что он устал и должен отдохнуть, но, разумеется, это было всего лишь иллюзией.Глава 8 Ххешуш, тварь в кратере. Харшабаим, жилой модуль базы
Самым поразительным из достижений даскинов является не контурный привод, не их знаменитый Портулан и уж во всяком случае не странные квазиразумные твари или руины поселений миллионнолетней давности, которые обнаружены в тех или иных мирах. Бесспорно, наиболее великолепное из их творений – гигантская астроинженерная конструкция, система порталов и тоннелей между ними, пронизывающая всю Галактику. Вероятно, даскины пользовались каким-то аналогом звездных кораблей лишь для перемещения крупных грузов, во всех же остальных случаях свободно странствовали как в Великой Пустоте, так и на планетах, населенных или необитаемых. К сожалению, эта транспортная сеть все еще остается закрытой для человечества и других рас, достигших цивилизованного состояния в последние пять-десять тысячелетий. Что, собственно, мы знаем о ней? Самая надежная информация касается крупных узлов сети, расположенных на протозвездах, типа Юпитера. Но исследования Красного Пятна и аналогичных образований пока не дали конкретных результатов. Однако ряд записей (кстати, не всегда доступных современным историкам) подтверждает факт использования узла на Юпитере в военных целях в период долгого кровопролитного противостояния с дроми. Этот эпизод датируется 2352 годом, когда Марк Вальдес сумел провести боевую флотилию через узел Красного Пятна и доставить ее к Файтарла-Ата, материнскому миру дроми. Впрочем, являясь Судьей Справедливости, он запретил уничтожать данную планету, что представляется в наши дни гуманным и вполне обоснованным решением. Дело, однако, не в вердикте Судьи Вальдеса, а в том, с чьей помощью ему удалось проникнуть в узел Красного Пятна. До сих пор это остается тайной. Остальные сведения недостоверны, не подтверждаются документами и несут явный отпечаток так называемых «космических легенд». Например, упоминается некий сотрудник ФРИК, будто бы способный открывать порталы в любом месте и перемещаться с их помощью на любые расстояния. Мы не будем называть имя этого выдающегося ученого, чтобы не повредить его репутации. В конце концов, он не виновен в том, что о его жизни и профессиональной деятельности распускают всякие слухи.Гуитторе Санчес«Артефакты Древних»
* * *
Втермокостюме Ивар был похож на изваяние из серого гранита, какие встречаются на древних кладбищах Земли. На вид костюм имел фактуру камня, но движений не стеснял, плотно облегая тело и голову и выпячиваясь валиком над плечами. В этом утолщении находились энергоблок, аптечка с питательными капсулами, регенератор дыхательной смеси и другие приборы, связанные с датчиками на запястьях и визоре шлема. У пояса были закреплены термоизлучатель, лазерный резак и бластер в кобуре. Для космического вакуума это облачение не годилось, но в жидкой или газообразной среде обеспечивало надежную защиту. Привлекать внимание к своей вылазке Тревельян не хотел, и поэтому провожали его только Алиса и Инанту Тулунов. Так было задумано, но в последний момент во двор из жилого модуля выскользнула Обна Шета, а за нею – Сирад Ултаим. Наступили сумерки, свет угас, и, возможно, по этой причине провидица облачилась в темное. Платье – цвета дубовой коры с бордовыми прожилками, волосы спрятаны под черной кружевной накидкой, на шее – ожерелье из коричневых топазов, излучающих слабое сияние. Секретарь плелся за нею: в одной руке – сосуд с вином, в другой – хрустальный бокал. – На север? – спросила провидица чарующим контральто. – Изучать феномен? Брать пробы, делать анализы? Полевые исследования, мой герой? Ивар не ответил. Румянец на лице Обны Шеты и ее неуверенные движения выглядели подозрительно. Сосуд с вином был пуст на треть. Не обращая внимания на терукси, Алиса сказала: – Не торопись, милый, и будь осторожен. Не все приходит сразу – есть сегодня, и есть завтра. Тревельян улыбнулся. Перед полетом на Лиану его жена перечитала книгу Сероокого в четвертый раз. Йездан, конечно, был прав: для того, кто торопится сегодня, завтра может вообще не наступить. – Я вернусь к седьмому часу ночи, – промолвил он. – Исследования в мою задачу не входят, это всего лишь разведка. Сирад Ултаим, прижав к груди бутыль, в недоумении захлопал глазами. – К седьмому часу, милорд консул? Но полюс так далек! За это время до него не добраться! Ни флаером, ни авиеткой, ни… – Консулу не нужен флаер, – оборвал его Инанту. И после краткой паузы добавил: – У консула свой способ. Отсюда, и прямо туда. – Прямо, – повторила Обна Шета, делая мелкие шажки. Ноги у нее заплетались. – Не получается прямо… Еще вина, Сирад! Бокал она держала вполне уверенно. «Притворяется? – подумал Ивар. – Но с какой целью?..» Впрочем, у него не было времени и желания разгадывать тайны женской души. За несколько последних лет он не раз контактировал с соплеменниками Обны Шеты и знал, что красота – не единственное их сокровище. Этот народ отличался на редкость искренним и благородным нравом, мужчин-терукси считали верными партнерами во всяком деле, женщинам было чуждо кокетство и притворство, и ни те, ни другие не испытывали тяги к вину. Вывод напрашивался сам собой: Обна Шета – очень необычная терукси. По характеру она скорее напоминала высокомерных кни'лина. Он посмотрел на Алису и попрощался с ней взглядом. – Доброй дороги, консул, – произнес Инанту. – Туда, а главное, обратно. «На все воля Владык Пустоты», – мелькнуло у Ивара в голове. Открыв портал привычным усилием, он исчез за непроницаемой завесой мрака.* * *
Тьма мгновенно сменилась сумрачным светом. Негреющее солнце висело в зените, по небу плыли тучи, ветер с воем кружил снежные хлопья, сек лицо ледяными крупинками. Холода Тревельян не ощущал, но мешали порывы ветра, налетавшего с такой силой, что он не мог раскрыть глаз и только щурился. Надвинув визор шлема, он выбрал место под защитой торосов и огляделся. Перед ним зияла гигантская воронка, выбитая взрывами в ледяном щите материка. Ее крутые неровные склоны уходили вниз, но дна он не мог разглядеть – его затягивало белесоватое искрящееся марево. Зонды, посланные с орбиты, проделали этот кратер лишь несколько часов назад, но вечная метель Ххешуша уже готовилась его похоронить, засыпать и сровнять с поверхностью равнины. Правда, ветрам и снегам требовались для этого годы или даже десятилетия – все-таки воронка достигала двух километров в глубину, а ее дальний край был вообще не виден. – Разошелся старик… Орел! – пробормотал Тревельян, озирая стены кратера. Он запрокинул голову, всмотрелся в низко нависшее небо и поднял руку в салюте. Но там, за тучами, за пронизанной холодом и светом атмосферой, уже не было ни Командора, ни «Дельфина» – корабль, согласно регламенту, вернулся к орбите над экспедиционной базой. Прячась от ветра за торосами, Ивар зашагал к самому краю провала. Внепространственный переход, особенно на короткие дистанции, получался точнее, если точка финиша была в поле зрения. Странствуя в порталах Древних, Ивар выяснил, что это не являлось необходимым условием – он мог попасть в нужное место, представив его в воображении, без деталей и подробных координат. Это подходило для путешествий среди звезд или прыжков с планеты на планету, но при дальности в два километра лучше увидеть, куда попадешь. Спускаться в кратер на своих двоих он не собирался, это было бы чистым безумием. Ветер выл и свистел в ушах, упорно толкая его в пропасть. Сосредоточив взгляд на мареве, плававшем у дна воронки,Ивар мгновенно переместился вниз, не удержался на ногах, упал и заскользил по льду, подминая небольшие снежные сугробы. Попавшаяся навстречу ледяная глыба позволила ему затормозить. Он лег на спину, прислушался, потом встал на колени и стряхнул с костюма снег. Здесь царили тишина и полумрак, не было слышно завываний ветра, только сыпались сверху снежные хлопья. Кратер уходил к небу точно огромный перевернутый конус; стены его пересекали трещины, тут и там виднелись карнизы и ледяные выступы, опасно нависавшие над дном. Задерживаться здесь явно не стоило. Расчехлив термоизлучатель, Ивар начал плавить лед, спускаясь все ниже и ниже в густом вязком облаке пара. На холоде пар тут же превращался в льдинки, оседавшие на спине, плечах и визоре шлема, что мешало разглядеть ледяную кашу под ногами. Скорее всего, дышать этой смесью пара и льда было невозможно, но регенератор справлялся, подавая чистый воздух. Неприятная работа! К счастью, она заняла не больше часа. Отверстие шахты вверху сделалось едва заметным, когда, взглянув на датчик движения, Ивар понял, что углубился метров на двадцать. Теперь под ним была бугристая поверхность, напоминающая скалу – серая, с вкраплениями более темных фрагментов, от которых разбегались десятки извилистых нитей. Расчистив пространство в несколько шагов, он выключил излучатель тепла и потянулся к лазерному ножу. Ему чудилось, что за этой субстанцией, подобной каменной оболочке, находится обширная каверна, заполненная газом или, возможно, жидкостью. Стоило на нее взглянуть, чтобы не очутиться в слишком агрессивной среде – хотя ментальное чувство подсказывало, что озера с плавиковой кислотой его не ожидают. Прорезав бугристый покров, прочный, но довольно тонкий, он поднес к отверстию датчик анализатора. Воздух, всего лишь воздух… Довольно теплый – прибор показывал плюс восемнадцать по Цельсию. В этой полости не было темноты – стены слабо флуоресцировали, и Тревельян разглядел огромную пещеру со множеством входов в тоннели, светившихся то ярче, то слабее. Эти пульсации подчинялись медленному ритму, будто бы где-то в глубине неторопливо и плавно билось сердце огромного существа. Понаблюдав за игрой света несколько минут, Ивар спрыгнул вниз. Полость была обширна, но невысока – где два, где три человеческих роста. Снова покосившись на датчик, он сдвинул визор шлема и вдохнул заполнявший пещеру воздух. Пахло неприятно, чем-то затхлым, горьковатым. Он поморщился и решил, что удивляться не стоит – пещеру, тоннели и все остальные пустоты в этом гигантском образовании не проветривали миллионы лет. Кажется, это вообще не допускалось – подняв взгляд к своду, Ивар увидел, как закрывается прорезанное им отверстие. Пожав плечами, он зашагал ко входу в один из самых широких тоннелей, за которым, если верить ментальному чутью, тоже находилась полость, но гораздо крупнее. Оценить ее размеры он сейчас не мог.* * *
– Где он?.. – Обна Шета вздрогнула от неожиданности и прижала ладони к щекам. – Он был тут и вдруг исчез… Или я чего-то не заметила?.. Вино… да, вино… Но голова у меня еще не кружится! – Милорд консул рядом с нами, досточтимая, – промолвил Сирад Ультаим. – Наверняка еще здесь! Это костюм, особое снаряжение разведчика, делает его невидимым. Но тактильное чувство не обманешь… Молодой терукси вытянул руку и принялся ощупывать воздух. Инанту и Алиса глядели на него, один с насмешкой, другая с холодным интересом. Прижимая к левому боку бокал и сосуд с вином, Сирад бродил по площадке, точно сомнамбула – мелкими шажками, с застывшим от напряжения лицом и растопыренными пальцами. Наконец, Алиса сказала: – Возможно, тот, кого ты ищешь, забрался в нашей спальне под кровать. Хочешь проверить? – Еще можно заглянуть в холодильник, но я бы не советовал, – произнес Инанту. – Консул… о, консул! – Лицо полевого агента вдруг стало восторженным. – Ему не нужны корабли, авиетки и флаеры! Он умеет сам перемещаться в любое место на планете, даже странствовать среди звезд! Я был тому свидетелем! На Раване, где мы отразили натиск диких кочевников-людоедов! Консул открыл портал и отправил дикарей обратно в их степи! А еще мы с ним… – Хватит! – перебила его Алиса. – Я-то верю, что вы оба – герои и полубоги, а вот другим об этом знать необязательно. Но было поздно – Обна Шета уставилась на нее, закусив от любопытства нижнюю губу. – Этот юноша не шутит? Слух меня не подвел? Твой лалегун странствует среди звезд… Удивительно! Кажется, этот дар называют телепортацией? – Не вижу причин для удивления… у тебя свои таланты, у него – свои, – пробормотала Алиса. – Ты, Обна Шета, предсказываешь будущее. Что может быть чудеснее? Провидица по-прежнему не спускала с нее глаз. – У будущего много вариантов. – Обна Шета склонила на миг черноволосую головку, словно к чему-то прислушиваясь. – Так, я его нашла! Милорд консул сейчас тяжко трудится, пробивает шахту во льдах… И пока он этим занят, пойдем ко мне, благородная леди из Дома Тхара. Пойдем, выпьем вина и поговорим о будущем, которое может стать очень приятным. Алиса кивнула. – Что ж, поговорим. Но если верить тебе, ничего приятного нас не ждет. Ты заявила, что этому миру грозит уничтожение. Так? Я верно повторяю твое пророчество? – Да, но сейчас я имею в виду не мир, а только нас с тобой. Что бы ни случилось с планетой, мы отсюда улетим и позабудем о ее обитателях, живых или мертвых. – Промолвив это, она кивнула своему Оберегающему: – Еще вина и второй бокал. В мою комнату, Сирад. Секретарь исчез, а за ним – Инанту. Женщины медленно направились к жилому модулю, и Алиса вдруг обнаружила, что пальчики Обны Шеты скользнули в ее ладонь. Склонившись к ней, провидица шепнула: – Твой супруг умеет странствовать среди звезд… Поразительный дар и очень опасный! Ты не боишься, что однажды он улетит от тебя и не вернется? – Узы любви не разрежет клинок и не расточит время, – ответила Алиса. Брови Обны Шеты приподнялись. – Древнее земное изречение? – Нет, мудрость кни'лина. – И ты веришь этому? – Йездан Сероокий никогда не ошибается. Ты знакома с его Книгой? – Даже не слышала. Я не нуждаюсь в чужой мудрости, у меня хватает своего ума. – Провидица распахнула дверь. – Входи, благородная! Разделить с собеседником мысли и вино – вот истинная мудрость! Алиса переступила порог и замерла. Скромный приют полевого агента стал чертогом королевы или, как минимум, наследной принцессы: яркие ковры и накидки с неземными узорами на креслах, светильники в бронзе и серебре, огромное ложе под балдахином в соседнем отсеке с установкой для счастливых сновидений, красочные голопроекции на стенах и множество приборов и приборчиков неведомого назначения. Хотя Обна Шета относилась к роботам с опаской, кое-какие киберы здесь все же были – из тех, что чистят одежду, приводят в порядок ногти и волосы и помогают одеваться. Не универсальные механизмы, а, скорее, устройства для интимных услуг. «Очень изящные, – решила Алиса, – в их конструкции ощущалась рука незаурядного художника-терукси». – Их сделал Тераи Контар, один из моих возлюбленных, – небрежно промолвила Обна Шета. – Дар лалегуна… Но я не вернулась к нему. Надоел! Она сбросила туфли и в грациозной позе расположилась на диване. Рядом был стол с портом связи, типовое оборудование жилого отсека, но сейчас его украшали тончайшая скатерть из паутинного шелка, хрустальные бокалы и два сосуда с вином. «Необычные изделия, – подумала Алиса, разглядывая их. – Не бутылки, не кувшины, а нечто изогнутое спиралью, сияющее оттенками алого и розового». Провидица налила вина. – Пей! Это нектар тинтахской лозы…[204] Отлично раскрепощает сознание. – Предпочитаю держать сознание при себе и в натуральном виде, – заметила Алиса. Ивар говорил ей об этом напитке – что именно, она не помнила, но, кажется, людям это снадобье не очень подходило. Оно не относилось к числу Запретных Товаров[205], но могло вызывать странные галлюцинации. – Как хочешь. А я выпью… – Обна Шета осушила бокал в три глотка. – Тинтахский нектар стимулирует мысль… Я даже могу дотянуться до твоего милорда консула. – Ты поддерживаешь с ним контакт? – спросила Алиса. Ее голос был холоден – эта идея ей совсем не нравилась. – Нет, я всего лишь ловлю отражение его эмоций. Очень, очень слабое… никаких попыток коснуться его разума… Он запретил. – Провидица вздрогнула, щеки ее побледнели. – Если я нарушу запрет, он превратит меня в чудовище. – В чудовище? – Алиса следила, как винная капля ползет по стенке бокала. – Значит, в чудовище… Интересно! Об этом он мне не рассказывал. – И я не буду, – пробормотала Обна Шета, опять содрогнувшись. – Вы, земляне, так жестоки и суровы… Я вас не понимаю. На Дингана-Пхау любой мужчина, любая женщина внемлет призыву любви… всегда, всегда… Капля сорвалась. – На этот зов он уже откликнулся, – отчеканила Алиса. – И, между нами девушками говоря, откликается снова и снова. С большим усердием! – Поэтому я захотела встретиться с тобой. У женщин чувства сильнее разума, и мы, в отличие от мужчин, склонны к экспериментам. – Вздохнув, Обна Шета добавила: – Мы были бы так счастливы втроем… Ведь ваши законы этого не запрещают? «Вот змея!» – подумала Алиса, но вслух произнесла: – Втроем, вчетвером или с целым гаремом, на кровати или под кроватью… Как будет угодно! Законы Федерации личной жизни не касаются, просто нет таких законов. Но есть мнения, есть обычаи, разные в разных мирах. Вот тут, подруга, тебе не повезло! Я с Тхара, а у нас… Внезапно голова Обны Шеты запрокинулась, взгляд на миг остекленел. Ее пальцы судорожно терзали ожерелье, рот приоткрылся, словно она пыталась сделать глубокий вдох, но не могла протолкнуть воздух в легкие. Вскочив, Алиса встряхнула ее, поднесла к губам бокал, но вино лишь пролилось на платье. – Что с тобой? Позвать Сирада? – Нет, – сказали ее глаза. – Что ты увидела? Ивар? С ним что-то случилось? Провидица всхлипнула и наконец вдохнула воздух. – Я его не чувствую… шок… будто меня отшвырнули… внезапно и со страшной силой… Я больше его не чувствую!* * *
Коридор, по которому шел Тревельян, явно не относился к инженерным сооружениям. Он не был прямым, но плавно изгибался то в одну, то в другую сторону и не имел ни пола, ни потолка – просто тоннель овального сечения, напоминавший внутренность огромного шланга. Пожалуй, термины «коридор» или «тоннель» к нему не слишком подходили, ибо разум связывал их с неким геометрическим порядком, который здесь не наблюдался. Через несколько минут Ивару стало казаться, что он странствует по внутренностям гигантского существа, по кишке или опустевшему кровеносному сосуду. Однако никакой перистальтики или других признаков жизни он не замечал – слабо светящаяся поверхность была неподвижной, испещренной тонкими нитями и небольшими вкраплениями, похожей по фактуре на камень. Проход круто спускался вниз и, по расчетам Тревельяна, должен был вывести его к другой, более обширной полости. Взглянуть на нее, осмотреться, зафиксировать картину в памяти и шагнуть в портал… Достаточно для первой разведки. Больше ему не нужно воевать с ветром, холодом и льдом, он сможет попасть в то же место образования, откуда вернется на базу. «Однако, – размышлял Тревельян, – при масштабных работах необходим опорный пункт, площадка для приземления флаеров, тяжелая техника, роботы и купол, где можно укрыться от холодов. Лучше всего разбить лагерь на дне кратера или в пещере под ним… запах не очень приятный, зато тепло…» Еще он думал о природе существа, в чьих недрах странствовал в данный момент. На станции, при первом ментальном контакте, ему показалось, что тварь мертва или вообще не была живой, а является руинами какого-то механизма. Несомненная ошибка! Пробитое им отверстие закрылось, и это, вкупе со свечением стен, явный признак жизненной активности. Возможно, остаточной, но в прошлом это устройство или существо обладало колоссальной потенцией к развитию и усложнению структуры. Такую огромную массу нельзя доставить на корабле; значит, привезли зерно, своеобразную зиготу, и поместили там, где есть условия для роста. Высадились на экваторе у моря, но лучше подошел полярный материк… Почему?.. Что общего у этих мест?.. В чем нуждался зародыш?.. В воде, в огромном, чудовищном количестве воды! – внезапно понял Ивар. Не обязательно в жидкой фазе, лед тоже годился… Опять же такую огромную конструкцию лучше выращивать там, где последствия для планетарной экологии будут менее заметными. Выкачав воды морей на экваторе, она превратила бы тот район в пустыню – ни лесов с деревьями хх'бо и хх'вадда, ни охотничьих угодий… «А это приговор для разумной жизни», – мелькнула мысль. Согласно данным Сигеру'кшу, раскопавшего древние стойбища, предки лльяно появились именно в экваториальной зоне, в благоприятной среде с изобилием пищи. Тварь даскинов могла все это уничтожить, но ее переместили на другой континент, в место, где больше пользы и меньше вреда. «С последним ясно, – решил Тревельян, – а польза-то в чем? Может, тварь сожрала лишний лед, остановив глобальное оледенение? Или это механизм регулировки наклона оси? Или двигатель для изменения орбиты? Или какой-то эксперимент, давно завершившийся и не имеющий к Лиане никакого отношения?..» Впереди стало разливаться сияние. Ивар ускорил шаги, приблизился к выходу из тоннеля, и внезапно перед ним распахнулось пространство, полное света и воздуха. Он стоял на склоне утеса из той же сероватой субстанции, что отделяла внешние полости и коридоры от нависшего над ними льда. Вверху – бессолнечное, но яркое небо цвета бирюзы, внизу – все оттенки малахита: зелень сочная и светлая, зелень темная и почти переходящая в черноту. Лес?.. – подумал Ивар. Безбрежный лес Лианы в чреве космического монстра?.. Или фантом, мираж?.. Он начал спускаться. У него еще было время, хотя и немного. Он успеет осмотреть деревья, вдохнуть запах листвы и убедиться, что это не иллюзия. Кора огромного хх'бо была грубой, шершавой и совершенно реальной на ощупь. От пня отходили десятки стволов, тянулись вверх, переплетались ветвями, но шелеста листьев Ивар не слышал – здесь царила мертвая тишина. Деревья выглядели крупнее, чем в поселке лльяно, и стояли как бы по отдельности, среди трав и зарослей цветущего мха; между ними проглядывало небо с застывшими в яркой лазури клочьями облаков. Внизу – ни опавшей листвы, ни сухих веток и никаких следов животных. Птиц и насекомых тоже нет, отметил Тревельян, озирая эту картину. Зачарованное царство, и только! Но изменения здесь были – протоптанная им дорожка в траве и мхах. Растения, смятые башмаками, так и не выпрямились, приникли к почве, словно жизненная сила покинула их или устрашило вторжение чужого существа. Срезать стебель или ветку?.. Тревельян вытащил нож, подбросил его в ладони и сунул обратно. Интуиция подсказывала, что этот странный мир – или подобие мира – не стоит пробуждать от сна. Он оглянулся. Путь, пройденный им, вел от каменной громады к лесу, но скала со скрытым в ней тоннелем оказалась не единственной. Этот утес выступал из стены, напоминавшей горный кряж; его вершины словно подпирали небо, тонули в его синеве – верный знак того, что небеса иллюзорны. Да и горы, если присмотреться, тоже не были горами – скорее, некой конструкцией с торчавшими поверх нее образованиями. Они не суживались кверху, как горные пики, а походили на неправильной формы цилиндры, рассеченные глубокими трещинами. – Загадочный пейзаж, – проронил Тревельян. – Ну, пройдемся по лесу, посмотрим… Место хоть и унылое, но для опорного пункта подходит. Его голос разорвал тишину, и лес ответил негромким шорохом. Что-то двигалось за деревьями, но так стремительно, что он не смог разглядеть ни очертаний этого механизма или существа, ни понять, куда оно направляется. Ивар отступил к утесу, так, чтобы между ним и лесной опушкой было метров тридцать-сорок. Это пространство покрывала трава, очень короткая, с темно-зелеными, почти черными стеблями. Такой растительности на Лиане он никогда не видел. За деревьями снова что-то мелькнуло. Он уловил блеск – как будто металлический, отброшенный длинным корпусом машины, петлявшей между деревьями. Или то было нечто живое?.. «Если так, – решил он, – габариты у этой твари внушительные». Ни к бластеру, ни к лазерному резаку его рука не потянулась. На всех стадиях своей карьеры, от полевого агента до консула ФРИК, он отдавал предпочтение мирным контактам. Оружие не решало проблему, а создавало новую – особенно, если прикончишь разумную тварь, похожую видом на жуткого монстра. Такие в Галактике встречались – скажем, архи с их жвалами и шпорами или сильмарри, похожие на огромных червей. «Внешность обманчива», – думал Тревельян, всматриваясь в лесную опушку. В воздухе сверкнуло, и на заросшую травой прогалину выпрыгнул дракон. Без крыльев, но в блестящем чешуйчатом панцире, с когтистыми мощными лапами и вытянутой головой на длинной гибкой шее. Пасть его была разинута, наружу торчали клыки, топорщился колючий гребень над глазами. «Меньше слона, но больше носорога», – машинально отметил Ивар и отступил еще на несколько шагов. Сканировать тварь было легко – угроза, жажда убийства и самый минимум мозгов. Кости и зубы таких чудовищ Сигеру'кшу нашел в раскопе под номером два, в умеренной зоне Харшабаима. Там, в лесах и степях, обитали эти существа, но в глубокой древности, миллионы лет назад. Затем исчезли без следа – как считал Сигеру, в эпоху метеоритной бомбардировки континента, изменившей климат, и образования морей у экватора. Впрочем, не исключалось, что их уничтожили протолльяно или та ветвь их популяции, что породила большого молчаливого. Пригнув голову, дракон скользнул вперед. Двигался он совершенно бесшумно. – Я тебя не трогаю, – промолвил Тревельян. – Иди своей дорогой, зубастый мой. Хочешь, налево, хочешь, направо. А я пойду в другую сторону. Придвинувшись ближе, дракон показал клыки. Очевидно, он не был настроен на мирный лад. Попытки ментального контакта тоже оказались бесполезными. – Ну, как знаешь, – буркнул Тревельян. – Тогда расклад такой: тушу отдам Сигеру, а из зубов сделаю ожерелье для любимой. Согласен? Тварь взвилась в воздух. Прыжок был мощным, стремительным, и не приходилось сомневаться, что зверь достал бы Ивара с двадцати шагов. Импульс излучателя ударил дракона под костистый гребень, сжег голову, шею и половину туловища. Но не обугленные останки упали в траву – хлынул черный дождь, и на земле возникли лужицы темной вязкой жидкости. Они дергались, колыхались, ползли одна к другой и, соединившись, вспучились над травой невысоким горбом. Еще две или три секунды, и горб превратился в дракона, но вполовину меньшего, чем прежний. Тревельян сжег и его, а потом прошелся по земле лучом бластера, уничтожив каждую черную каплю. Сделав это, он уставился на деревья и задумчиво пробормотал: – Иллюзия, все-таки иллюзия… зверь, слепленный из хохо, из протоплазмы… А кто его сотворил?.. Возможно, лес тоже фантом? То есть подделка? Был лишь один способ это проверить. Снова вскинув бластер, Ивар прицелился в ближнее дерево и нажал на спуск. Стволы и листва мгновенно исчезли, пень взорвался черным фонтаном, огромная лужа протоплазмы расплылась на месте хх'бо. Ее было гораздо больше, чем в контейнере, найденном Сигеру'кшу. По субстанции перекатывались волны, вздымались вверх и опадали темные отростки, принимая форму то древесных стволов, то неведомых тварей – возможно, обитавших в просторах Харшабаима миллионы лет назад. Не приближаясь, Тревельян наблюдал за этим коловращением. Ему уже было ясно, что лес, со всеми его деревьями, мхами и кустами, тоже бутафория, имитация древней жизни Лианы, вылепленной самими даскинами или их устройством, заброшенным на планету. Черная масса собралась в округлый ком. Тревельян ожидал, что сейчас возникнет дерево, но сгусток колыхался и подрагивал, будто пребывая в нерешительности. Внезапно он распался на дюжину или более частей, как если бы незримый скульптор решил создать вместо огромного хх'бо целую рощу деревьев поменьше. Теперь метаморфоза шла очень быстро: отрастали конечности, вытягивались шеи, сгустки на их концах раскрывали глаза, разевали пасти, тела покрывались чешуей. Минута, и стая клыкастых тварей ринулась к Ивару. – Так мы не договаривались, – промолвил он. – Но намек понимаю: я здесь нежеланный гость. «Пора уходить», – мелькнула мысль. Привычным усилием он попытался открыть портал. Без результата. Он попробовал вызвать станцию, затем Командора. Связи тоже не было.* * *
Алиса спала неспокойно. В условленный час Ивар не вернулся, и Обна Шета снова и снова повторяла, что не чувствует его эманации, хотя ни расстояние, ни ледяная оболочка не были помехой для ментальных импульсов. Наконец, Алиса ушла, оставив провидицу наедине с тинтахским вином. Свернувшись калачиком в кресле в своем отсеке, она принялась решать проблему: сказать о случившемся Сигеру'кшу или дождаться утра. Сигеру был вторым руководителем экспедиции, и что бы ни произошло в любой час ночи или дня, ему полагалось об этом знать. Это – с одной стороны, а с другой – он очень не любил, когда его будили, ибо, по мнению хапторов, здоровый сон священен и прерывать его можно лишь по одной причине – для посещения удобств. Она обхватила плечи руками, обежала взглядом отсек, досадливо сморщилась и закрыла глаза. Без Ивара их семейное гнездышко казалось таким пустым и неуютным! Что она скажет Сигеру?.. Что она может сказать?.. Ивар обещал вернуться к седьмому часу ночи, но мог и продлить свой вояж в силу каких-то обстоятельств. Не повод для паники! Даже если он задержится до утра… Экипировка у него надежная, он опытен и осторожен, о чем Сигеру хорошо известно. Что до видений и предчувствий Обны Шеты, то хаптор в них не верил, считая все это пустопорожней болтовней. Правда, был один тревожный факт: никаких контактов по обычной связи, ни с базой, ни с кораблем. Он мог бы предупредить в случае задержки… Подняться на ледяной щит и… Внезапно она поняла, что ждать от него сообщений бессмысленно. Будет ли Ивар на поверхности льда или в выбитом взрывами кратере, связываться с базой или с кораблем ему не нужно – он просто откроет портал, сделает шаг и окажется там, где пожелает. В рубке «Дельфина», здесь, на станции, в любом обитаемом или безлюдном мире или на спутнике Киннисон, в штаб-квартире Фонда, кружившей по орбите около Замли… Обычная связь ему не нужна. С этой мыслью Алиса задремала. Разбудили ее скрип и шарканье, доносившиеся из кольцевого коридора. Звуки были негромкими, но вполне различимыми; чудилось, что кто-то двигается неуверенной походкой и скребет при этом по полу. Алиса покинула кресло, сделала шаг к двери, затем вернулась, вытащила из сумки излучатель, проскользнула в коридор и онемела. Три лльяно направлялись к ней. Аборигены, всегда такие ловкие и быстрые, сейчас шли как-то странно – волочили ноги, царапали когтями пол и походили на троицу инвалидов. Однако ран, крови или иных повреждений она не заметила. Первая ее мысль была связана с защитным полем, хотя его отключение казалось невозможным. Взглянув на комм-браслет, она поняла, что барьер функционарует нормально, и значит, проникнуть на станцию лльяно не могли. Ни лльяно, ни ночные хищники, ни другие твари, сколько их есть на планете. Но они находились здесь, прямо перед ней! Она надавила клавишу тревоги, и браслет на ее запястье ответил алым огоньком. Затем вскинула излучатель и громко сказала: – Стоять! Не двигаться! Но три мохнатых существа по-прежнему шли к Алисе и что-то невнятно бормотали. Вслушавшись, она, к своему изумлению, различила слова: – Песашш… захкаточный песашш… илюссия… итди дорохой… наллево… мехсто уылое… – Стоять! – повторила Алиса, и тут коридор наполнился людьми. Все обитатели станции были здесь – Сигеру'кшу, его помощники, Нильс, Инанту и оба терукси. Завидев лльяно, Обна Шета взвизгнула, Инанту изумленно поднял брови, а археолог зевнул, уставился на пришельцев и рявкнул: – Клянусь Устоями! Эти как сюда попали? Защита ведь действует! – Действует, – подтвердил Нильс Захаров, пристально разглядывая гостей. – Отключение защиты – событие удивительное, но, кажется, мы столкнулись с еще более невероятным фактом. Шагнув к лльяно, он ухватил крайнего за шиворот. «Песашш… друхкую столлону…» – довольно внятно произнес пришелец и попытался цапнуть руку Нильса. Не удалось. Инкарнолог приподнял его над полом, и теперь короткие ноги существа болтались в воздухе. Два других лльяно замерли, бормоча: «Песашш… песашш… илюссия… кхто сохтворил…» – Что это значит? – спросила Алиса, бросив на инженера строгий взгляд. – Твои шутки? Признавайся! – Не шутки, а необъяснимое явление, – отозвался инкарнолог. – Это не лльяно, а копии, имитации, те, что в ангаре. Но я свою аппаратуру не включал и никого под колпак не усаживал. Поэтому и говорю: необъяснимый случай! – Их можно инициировать с корабля, – заметил Инанту. – Можно, – согласился Нильс. – Но на корабле два разумных существа, Командор и трафор, а здесь три мохнатика. И на наших коллег с «Дельфина» они не похожи. – Хрр… – произнес Сигеру. Потом громче: – Хррр! Нильс, не выпуская из рук копию лльяно, повернулся к археологу. – Какие будут приказания, пха? Я вижу, полевой агент Браун явилась с излучателем… Расстреляем этих недоумков? – Нет. Нельзя портить ценное оборудование. – Сигеру'кшу почесал левую шишку. – Составь отчет о происшествии и верни на место этих мелких. Но предварительно дезактивируй их. – А как мне это сделать? – поинтересовался инкарнолог. – Открутить им головы? Я не знаю, чей в них разум и куда его перенести. Внезапно имитация, которую он держал, прекратила дергаться и извиваться и повисла точно пустой мешок. Две другие копии повалились на пол. – Проблема решена, – констатировал археолог. – Отнесем их в ангар. Я тебе помогу. Он сунул двух лльяно под мышки, развернулся и направился к выходу. Нильс пожал плечами, взвалил лльяно на плечо и шагнул вслед за археологом. Инанту Тулунов задумчиво хмурился, Хутчи и Шиза зевали. Похоже, им не терпелось вернуться в койки. – Пха Сигеру, подожди! – крикнула Алиса. – Выслушай меня! Ивар… – Да, поко? – Археолог обернулся. – Ивар не вернулся к седьмому часу, как пообещал. – Наверное, занят. Вернется попозже. – Обна Шета была в контакте с ним, и связь внезапно прервалась. – Не в контакте, – уточнила провидица. – Я лишь старалась уловить эхо его эмоций. Я не… – Контакт прервался, и Ивара нет, – упрямо повторила Алиса. – Я беспокоюсь! Что-то случилось с ним… что-то нехорошее… Сигеру'кшу бросил имитации на пол, поскреб темя и изрек: – Ждем до десятого часа. Если не вернется, летим на Ххешуш. – Эти существа что-то пытались сказать. – Склонившись над копией лльяно, Алиса заглянула в темные зрачки, пустые и бессмысленные. – Может быть, Ивар их оживил? Подает нам знак? – Это невозможно, технически невозможно! – Нильс Захаров помотал головой. – Нельзя транслировать разум на другой носитель без соответствующего оборудования! Чудес не бывает, агент Браун! Вздернув подбородок, Инанту с усмешкой покосился на инкарнолога. – Консул Тревельян сам по себе чудо! Он может все! На Раване, когда мы сражались с людоедами, консул… – На Раване он еще не был консулом, – заметила Алиса. – Все равно! Он… – Так, ашинге, закончили дискуссию! – прорычал Сигеру'кшу и топнул ногой. – В десять вылетаем. Берем излучатели, лазерные ножи, двух роботов и вылетаем! Я сказал! Он наклонился и, подхватив имитации лльяно, твердым шагом двинулся к выходу во двор. – Какой решительный мужчина… – восхищенно прошептала Обна Шета, глядя на огромную спину хаптора. – Обожаю таких! С ним хоть в солнечный пламень, хоть в полярные льды! – На полюс с нами ты не полетишь, – сказала Алиса. Глаза провидицы недоуменно округлились, губы дрогнули. – Но почему? Почему, благородная? Я предвижу, что ты и милорд консул нуждаетесь в помощи… моей помощи… – Обойдемся! – отрезала Алиса. Развернулась и пошла в свой отсек.* * *
Стая драконов прижала его к скале. Он понимал, что жечь их нельзя – каждое дерево в лесу могло превратиться в дюжину таких же тварей, а лес тянулся на десятки, если не на сотни километров. «Сомнительно, что монстры могут его сожрать, а затем переварить, – размышлял Тревельян, озирая клыкастые пасти, колючие гребни и лапы с кривыми когтями. – В конце концов, эти существа были слепками из протоплазмы, и пищеварительный тракт, так же, как прочие органы, у них, скорее всего, отсутствовал. Чувства голода в их ментальной эманации тоже не замечалось, только угроза и бессмысленная животная ярость. Жрать не станут, просто в клочья разорвут, – решил он. – Плохое утешение!» Склон утеса за спиной выглядел крутым и труднопроходимым – тут и там из плоти скалы торчали остроконечные образования, похожие на камни. Метнув для острастки в воздух молнию, Тревельян полез наверх. Отверстие тоннеля, по которому он добрался до этой огромной полости, слабо фосфоресцировало в сотне метров над его головой. Оно было не единственным – в скале зияли и другие проходы, ведущие неведомо куда, в другие пещеры гигантского подземелья или, возможно, к накрывшему его ледяному панцирю. На середине пути Ивар обернулся – твари, изгибая шеи и туловища, цепляясь за камни когтистыми лапами, ползли за ним по пятам. Они двигались не так быстро, как он, и не пытались прыгать на крутом скалистом склоне, но преследовали его с упорством оголодавших волков. Хотя голод их явно не терзал, в этом Тревельян был уверен. Его не просто изгоняли как непрошеного гостя, его пытались убить. Кто? Кто тут хозяин?.. Он не сомневался, что мозгов у этой стаи не хватит на чайную ложку, даже на горчичное зерно. Монстрами кто-то командовал. Монстрами, лесом, облаками в небесах и всем остальным, что находилось в этом мире, ибо превращение дерева в драконов было знаком разумной активности. Тревельян поднялся ко входу в тоннель, окинул взглядом бессолнечное небо, лесную чащу, что тянулась до самого горизонта, и ползущих за ним тварей. Их когти скрежетали по камням, тела извивались среди остроконечных глыб, сверкала чешуя, топорщились гребни. «Совсем как настоящие», – подумал он. Затем, прикинув расстояние до ближайшего зверя, решил, что минута-другая у него найдется. Не закрывая глаз, отправив часть сознания на стражу, он скользнул в ментальную пропасть транса. Сияющая бездна открылась ему, пустая и совсем не похожая на картины, виденные раньше: ни огней чужих разумов, ни мысленных импульсов, ни отзвука эмоций, ровным счетом ничего. Казалось, Вселенная вымерла, и в ее просторах нет больше ни единого разумного существа, только пылающие звездные костры, мертвый мусор льда и камней, газовые облака и раскаленные или холодные сфероиды планет. Тревельян понимал, что это не так, что тварь, в чреве которой он находится, экранирует ментальные волны, и все же пустота, безмерная и безграничная, заставила его содрогнуться. Свет отделял его от мрака плотной стеной. Разорвав этот хрупкий барьер, он прошел по уже знакомому пути и погрузился в темноту. Как было и в первый раз, ему открылось нечто огромное, дремлющее, сонм черных пятен и тусклых мерцающих искр, зыбкий переменчивый рисунок нечеловеческого разума. Хаос, хаос! Ни мыслей, ни эмоций, ни воспоминаний, ни осознания своей индивидуальности… Он вспомнил сказанное Обне Шете после первого контакта: тут, подо льдами, не всемогущий повелитель мира, а жалкая тварь без собственного «я»… Но что-то изменилось – вращение искр на периферии как будто стало интенсивнее, и несколько пятен уже не выглядели сгустками беспросветного мрака. Тварь по-прежнему дремала, но какая-то часть ее странного мозга вышла из забвения или готовилась к этому. «Что неудивительно», – подумал Тревельян. Перед ним был распределенный разум, конгломерат многих сущностей или мыслящих кластеров, которые слагались по мере нужды из более элементарных единиц и рассыпались снова, выполнив свою задачу. Какую? Он задал этот вопрос, не ожидая ответа, но вдруг его коснулась слабая ментальная волна. Ни удивления, ни проблеска интереса или желания вступить в контакт – только краткий импульс, пришедший словно бы от механизма, исполняющего некую функцию. Задача – охранять, понял Тревельян, и тут же уловил серию импульсов, уточняющих это понятие. С ним общалась охранная система, безликая и вечно бодрствующая частица спавшего под льдами монстра. Его изгоняли, и в этом послании было что-то еще – возможно, угроза, что отказ подчиниться ведет к неминуемой гибели. Он находился там, где существу из внешнего мира не полагалось пребывать, в месте, не созданном для живых, да и для мертвых тоже. Сообщить, что он не представляет опасности?.. Это было бы ложью; он проделал отверстие во внешнем панцире, уничтожил дракона, сжег остатки протоплазмы и всадил заряд в дерево. Он опасен, конечно опасен! Пришелец с лучевым оружием и массой других устройств, тоже далеко не безобидных… Подумав об этом, Ивар ответил: «Удаляюсь» – и прервал контакт. Драконы застыли среди камней, будто изваяния из блестящего металла. Их челюсти были сомкнуты, глаза закрыты, вся стая уткнулась головами в землю. – Я ошибся, – промолвил Тревельян. – Мне казалось, что ты гниешь под льдами, что разума в тебе не больше, чем в куче сухой листвы… Признаю, ошибся! Мог бы и раньше догадаться… То, что сделано даскинами, времени неподвластно. – Сделав паузу, он добавил: – Но почему ты спишь? Как тебя разбудить? И что тогда случится? Ни лес, ни горы и небо ему не ответили. Ивар подождал с минуту и стал подниматься ко входу в тоннель. Перед тем как войти в него, он обернулся и бросил последний взгляд на залитые светом просторы, на лес и склон горы, лежавший под ногами. Стая драконов исчезла – ни клыкастых пастей, ни когтистых лап, ни встопорщенных гребней. Вместо них на склоне высилось дерево хх'бо.Глава 9 Ххешуш, ледяной щит континента. Орбита, экспедиционное судно «Дельфин»
Выдержки из меморандума Хейли-Чавеса, 2088 год.
I. Как выяснилось в процессе вооруженного конфликта с бино фаата в текущем году и, в первую очередь, во время схватки, поименованной в дальнейшем Сражением у Марсианской Орбиты, Объединенные Космические Силы (ОКС) Земли оказались неспособными отразить целенаправленную и упорную агрессию из космоса. При этом мы не усматриваем ошибок как в своих общих действиях, так, в частности, в тактике боя, который адмирал Тимохин дал пришельцам. Его результат, полное уничтожение двенадцати боевых кораблей, то есть половины Третьего флота, было бы невозможно изменить концентрацией большей огневой мощи, более успешным маневрированием или ударом лазеров вместо предпринятой Тимохиным ракетной атаки.
II. Уточним ситуацию, перечислив основные моменты разыгравшейся трагедии. Крейсер «Жаворонок» был уничтожен в районе Юпитера при первом столкновении с бино фаата. Случайно в живых остались лейтенант-коммандер Павел Литвин и двое его подчиненных, лейтенанты Абигайль Макнил и Рихард Коркоран, плененные пришельцами. Коркоран затем погиб в процессе биологических экспериментов, Макнил же усыпили и подвергли искусственному оплодотворению. Цель этой операции вполне ясна: скрестить фаата и человека Земли и вывести гибридную расу слуг (возможно, воинов). Литвину удалось выбраться из заключения. С помощью найденного им прибора, происхождение которого ему неизвестно, он вступил в контакт с квазиразумным интеллектом (компьютером?.. живым существом?..), выполнявшим на корабле функции управления. Большая часть информации о бино фаата получена Литвиным от этого устройства (существа). После разгрома Третьего флота звездолет фаата направился к Земле и беспрепятственно приземлился в Антарктиде, в районе южного полюса. (Предположительно пришельцы нуждались в большом количестве воды). Параллельно со сбором льда звездолет отстрелил несколько десятков боевых модулей, занявших позиции над крупными земными городами. Литвин, скрывавшийся вместе с Макнил в одном из тоннелей, где была проложена линия коммуникации квазиразумного интеллекта, утверждает, что перед ним материализовалось существо в облике человека, который представился эмиссаром неведомой землянам звездной расы и предложил свои услуги. Им было телепортировано некое устройство, уничтожившее квазиразум, после чего звездолет прекратил функционирование в качестве целостной системы, его экипаж погиб, а отстыкованные модули взорвались, причинив разрушения ряду населенных пунктов. Литвину и Макнил удалось спастись. III. Безусловно, в ближайшие годы ситуация переменится. Изучение корабля фаата уже сейчас дало мощный импульс всем отраслям науки и технологии и вскоре выведет нас на галактический уровень знаний, а это означает, что через пять-десять лет мы уже не будем беззащитны перед любой агрессией, кто бы ни явился ее источником, бино фаата или другие обитатели Галактики. Мы уже заложили серию новых кораблей, способных исследовать ближайшие звезды, мы начали строительство баз на орбите Плутона и запустили более пятидесяти автоматических зондов-разведчиков к границам Солнечной системы.
IV. Особое примечание. Лейтенант Макнил (девятый месяц беременности) в настоящее время помещена в госпиталь Лунной базы ОКС. Интроскопия показала, что ожидается мальчик, по официальной версии – сын погибшего Рихарда Коркорана, с которым Макнил состояла в связи. Согласно желанию матери, он будет назван Полом Ричардом (в честь Павла Литвина и своего предполагаемого отца). В дальнейшем, если ребенок окажется жизнеспособным, он будет находиться под наблюдением Секретной службы ОКС.Архив Объединенных Космических Сил, ныне – Архив Звездного Флота. Меморандум командующего Первым флотом адмирала Орландо Чавеса и командующего Вторым флотом адмирала Джозеф Хейли, представленный в Совет безопасности ООН в сентябре 2088 г., через три месяца после Вторжения бино фаата.
* * *
Очутившись в кратере, Тревельян открыл портал – на малую дистанцию, только до льдов, покрывавших Ххешуш. Можно было бы перебраться из этой гигантской ямы прямо на базу или в любое иное место, но Ивар хотел проверить, вернулась ли его чудесная способность, дар даскинов. В одной из прошлых экспедиций, очутившись в теле арха, он тоже лишился дара к перемещению, но там повод был другой, не внешняя блокировка, а потеря активности мозга, внедренного в чужую плоть[206]. Тот случай научил его осторожности. Верно сказал Йездан Сероокий: тот, кто взвешивает свои поступки, живет дважды – за себя и за неразумного собрата, коему не хватило мудрости и терпения. Портал открылся. Ментальный барьер тоже исчез, но о его причинах и действии стоило поразмышлять – в теории считалось, что телепатическая связь не поддается экранировке. Вот только погода для размышлений была неподходящей – ураган с яростью набросился на Ивара, оттесняя его к торосам. Вечная метель Ххешуша засыпала снегом термокостюм и визор шлема. Он вспомнил об Алисе и своих коллегах, о ласковом прибрежном ветерке, о жарком солнце над Морем Тысячи Островов и о своем обещании вернуться к седьмому часу ночи. Обещание сдержать не удалось – по времени станции уже близился полдень. «Пора возвращаться», – решил Тревельян, но не успела эта мысль воплотиться в действие, как лед под ним содрогнулся. Не устояв на ногах, он рухнул в сугроб и лежал на спине, глядя, как пляшут и раскачиваются торосы. С их верхушек срывались ледяные глыбы, хлопья снега бешено кружили в морозном воздухе, и со всех сторон слышался протяжный скрип – вероятно, новые трещины пересекали равнину. «Дед?.. – подумалось ему. – Неужели дед швырнул еще одну порцию взрывчатки?..» Но это было невозможно – «Дельфин» находился сейчас над экватором, и Командор, разумеется, знал о разведке Ивара на Ххешуше. К тому же ничего не взрывалось, не сверкал огонь, и колыхания почвы шли изнутри, словно под ледяным щитом ворочалось нечто чудовищно огромное. «Пробуждается тварь? Не его ли визит стал тому причиной, и чего ожидать в ближайшую минуту? Должен ли он уйти или…» В нескольких сотнях метров от него лед с грохотом расступился, и в воздух выстрелил фонтан черной вязкой жидкости. Против ожидания, она не опала и не расплескалась по снегам, а вытянулась колонной с шаровидным утолщением на верхушке. Шар внезапно раскрылся, разбросав во все стороны змееподобные щупальцы или узкие длинные лепестки – они шевелились, трепетали, скрещивались, формируя какое-то странное устройство, развернутое к небесам. Одновременно цвет протоплазмы начал меняться, чернота словно сползала в лед, уступая место яркому металлическому сиянию. Ивару казалось, что высокий штырь, поддерживающий оконечную конструкцию, довольно тонок, но бушевавший над Ххешушем ураган не мог его поколебать. Сверкающая колонна пронизывала снежные вихри и тянулась вверх, словно грозящее небу копье. Сплетение на его конце медленно и плавно повернулось. Один оборот, другой, третий… Воздух над ним дрожал, и что-то незримое отталкивало снежные хлопья. Новый оборот… «Антенна, – понял Ивар, – антенна или нечто на нее похожее. Лоцирует небесную сферу… Что-то ищет?.. Сигнал из Великой Пустоты или корабль даскинов?.. Зря! Нет уже тех кораблей и нет их хозяев. Хотя, если вспомнить Первого Регистратора…» Память явила ему на миг хрупкое грациозное существо с нечеловечески огромными глазами, маленьким ртом и шапкой золотых волос. С плеч спадает мантия, руки с узкими четырехпалыми кистями скрещены перед грудью, облик дышит покоем и достоинством… Кем он был, этот давний знакомец, открывший ему порталы Древних?.. Кем угодно, только не сервом! Прятался среди миллиардов биороботов, как травинка в поле, каклисток в лесу… Тревельян прогнал видения. Реальность была интереснее – возможно, он первым среди людей наблюдал, как действует устройство канувших в вечность даскинов. Камеры, закрепленные на шлеме, фиксировали все происходящее. Несомненно, эта запись станет сенсацией! Вращение конструкции прекратилось. Она по-прежнему смотрела в небо, но замерла, будто пребывая в нерешительности. Тревельян, все еще лежа в снегу, не спускал с нее глаз. Метель завывала над ним, в ушах свистел ветер. Что-то прикоснулось к его сознанию. Чувство было неясным, смутным, но он понял, что не мысль Обны Шеты долетела до него, а сигнал иного разума, создания нечеловеческой природы. Его о чем-то спрашивали, но не охранный кластер, уже знакомый, а другая структура, которая, видимо, сформировалась в последние минуты. Сигнал был связан с отсчетом времени – вернее, с его пороговой величиной, служившей вехой для какого-то деяния. «Пора?..» – спрашивала частица огромной твари, таившейся подо льдом. И снова, с упорством механизма: «Пора?.. Пора?..» «Требует команду на пробуждение», – решил Ивар. Любопытство подталкивало его к утвердительному ответу и, случись такое лет десять назад, он сказал бы «да» без всяких колебаний. Но за эти годы, как говорили в древности, много утекло воды, много миров явилось его глазам и разуму, много сменилось обличий, и многие люди и существа, не относившиеся к роду людскому, те, которых он знал, которым верил, оставили след в его душе. Он уже был не полевым агентом, он отвечал за нечто большее, чем попытка направить к прогрессу то или иное архаичное сообщество. Разумеется, прогресс – это прекрасно… Но задача консула не только его подтолкнуть, но спасти цивилизацию от ошибок, связанных с прогрессом, а мир, где она зародилась – от гибели в глобальной катастрофе. «Ответить «Да»?.. И что последует?.. Чего ожидать от непонятной твари величиною с континент?..» «Спи дальше, – передал он. – Оставайся в покое, спи и жди». Что-то похожее на вздох донеслось до Ивара. Устройство и поддерживающий его шток потемнели, превратились в черную жидкую субстанцию и исчезли под ледяным панцирем. Ветер засыпал отверстие снегом. Тревельян поднялся на ноги, протер визор шлема. С неба наплывало негромкое гудение, в сумраке нескончаемой метели мелькнул угловатый силуэт. Над ним кружил флаер, большая машина хапторов. «Алиса, – подумал он, – Алиса и Сигеру'кшу. Прилетели!» Аппарат спускался, сильные потоки воздуха от двигателей сражались с ветром, отбрасывали снег. Под тяжестью опор затрещали ледяные глыбы, потом вспыхнул прожектор и пятно теплого света накрыло Тревельяна. Распахнулся люк, наружу выбрались две огромные фигуры в термокостюмах и, приминая снежный покров, заковыляли к нему. – Пха в порядке? – осведомился Хутчи'гра, протягивая мощную руку. – Ветер, – произнес Шиза'баух. – В такой ветер, пха, нужно сидеть дома и пить кхашаш. Подхватив Тревельяна, они потащили его к открытому люку.* * *
В большом кресле, рассчитанном на хапторов, хватало места для двоих. Закрыв глаза, Ивар наслаждался ласковым теплом и ароматом, исходившими от Алисы; ее волосы щекотали шею, ладонь лежала на его груди. Кажется, ей все еще не верилось, что он цел и невредим. – Считаю, что спасательная операция прошла успешно, – прогудел Сигеру'кшу. – Наш харша ашинге доставлен прямо в руки своей поко… Чего еще желать? Подняв веки, Ивар обнаружил, что Сигеру взирает на него с насмешкой. Определенно с насмешкой! Нижнюю челюсть отвесил, зубы выставил, маленькие глазки закатил, да еще ковыряет пальцем в ноздре! В отношениях между полами хапторы были прагматиками, предпочитая переходить к делам телесным без лишних нежностей. – Хрр… Чего еще желать? – повторил археолог. – Разве что рассказа, где харша побывал и что делал. Конечно, если поко ему позволит. – Может быть, подождем до базы? – пробормотал Тревельян, не выпуская Алису из объятий. Сигеру'кшу уставился на них с сомнением. – До базы… хрр… Там поко схватит тебя и поведет в ваше жилище на утешительные процедуры… А я сгоревший в нетерпении! Так у вас говорят, верно? Я сгоревший, так же, как эти бездельники Хутчи и Шиза! – Он оглянулся на своих помощников и потребовал: – Рассказывай, что видел! Мы хотим знать! – Я тоже, милый, – шепнула Алиса в ухо Ивару. – Мы на Ххешуше, – добавил Сигеру, вытаскивая палец из ноздри и начиная чесать загривок. – Самое подходящее место! Близко к объекту исследований. Если пожелаем, спустим вниз роботов, они эту тварь на куски разрежут. Нам ведь нужны образцы? Нужны или нет, харша ашинге? Тревельян вздохнул. – Резать нельзя. У этого существа будут возражения… очень веские, я полагаю. Может так встряхнуть планету, что горы сдвинутся и моря разольются. Лучше уж обойтись без образцов. Снова вздохнув, он приступил к рассказу. За иллюминаторами «летающего крыла» по-прежнему бушевала метель, засыпая машину снегом, и временами люди и хапторы слышали тонкий разбойничий посвист ветра, треск льдов и грохот, с которым ураган сталкивал торосы. Было нелегко поверить, что внизу, в трех-четырех километрах, дремлет в тишине и покое зачарованный лес, оберегаемый от пришельцев драконами, давно исчезнувшими на Лиане-Секунде. Но записи видеокамер подтверждали, что этот скрытый мир так же реален, как ледяные равнины Ххешуша. Челюсть у Сигеру'кшу, как бывало и прежде, отвисла, но теперь от удивления. Он даже перестал чесаться и лишь иногда поглаживал то левую, то правую шишку. Хутчи и Шиза тоже распахнули рты – мимика хапторов была небогатой, и главное место в ней занимала раскрытая пасть с набором внушительных зубов. В зависимости от ситуации, это могло означать почтительное внимание, улыбку, радость или угрозу – в последнем случае верхнюю губу вздергивали, обнажая клыки. Лица жены Тревельян не видел – она прижималась щекой к его груди, и только взволнованное дыхание подсказывало, что Алиса не пропускает ни слова. Он смолк. На экране, висевшем в воздухе, застыла последняя картина: странная, отблескивающая металлом конструкция, обращенная к небу. Внезапно ее очертания расплылись, она потемнела, превратилась в жидкость, потекла в пробитое во льдах отверстие и исчезла. – Хохо, – произнес Сигеру'кшу. – Такое же, как мы нашли в бочке на третьем раскопе. Значит, там, – он ткнул пальцем вниз, – все сделано из этой дряни? – Не все, – ответил Тревельян. – Основная масса образования состоит из другого вещества, похожего на камень. Наружный панцирь, горы, тоннели в них… Разумется, они не каменные, это чисто внешнее сходство. Наверное, кремнийорганика или что-то подобное… Пятна и зерна в основной структуре могут быть нервными центрами, прожилки – нервными путями. Но это не более чем гипотеза. Археолог поднял задумчивый взгляд к потолку кабины. Затем спросил: – А хохо? Что такое хохо? Ты догадался? – Строительный материал, пха. Протоплазма, чувствительная к ментальному воздействию. Можно вылепить живую тварь, растительность или нужный механизм, а после вернуть ее к прежней форме. Вероятно, хохо завезли сюда в каком-то количестве, и она… – Она размножилась, – сказала Алиса. – На раскопе, когда протоплазма полезла наружу, ее объем увеличивался стремительно. Она поглощала все… траву, почву, камни, пластик… Я думаю, наша находка – вещество в активной фазе, и потому его захоронили в очень прочном контейнере. – В активной… А та, что внизу, уже наелась и теперь стабильна… Может кого-то сожрать, лишь обернувшись зверем… – пробормотал Сигеру'кшу, моргая и почесывая темя. – Я говорил тебе, харша ашинге, что твоя поко очень умная? Говорил?.. Так вот, это вас, землян, погубит! Умная самка – нарушитель Устоев, она ужаснее взорвавшейся звезды! Сначала сулит всякие радости, просит украшений, богатых одежд, нянчит щенков, но как только дотянется до власти, это конец! Гибель цивилизации! Глобальная катастрофа! Алиса хихикнула. – Хорошо, – промолвил Тревельян, – я доведу твое мнение до Совета Федерации. Но лучше бы в письменной форме и с примерами из истории. У нас в Совете, пха, очень недоверчивые люди. Шиза'баух поерзал в кресле, приподнялся, издал низкий горловой звук – правда, не такой устрашающий, как рычание его шефа. – Будет ли мне позволено спросить, тэд'шо? Этот сосуд, что мы откопали… контейнер с хохо… зачем он? Оставлен в месте посадки и зарыт в землю… Его могли бы взять на Ххешуш, однако бросили… Почему? – Не бросили, а спрятали, – уточнил Ивар и пожал плечами. – У меня нет ответов на все вопросы. Этот контейнер мог быть лишним или запасным… Возможно, протоплазма в нем дефектна… Или он предназначен для чего-то другого… Не знаю, Шиза! Не знаю и не буду спрашивать. Если тварь проснется и мы войдем в контакт с нею, появятся другие проблемы, более серьезные. – С одной мы уже столкнулись, – промолвила Алиса. – Прошлой ночью ожили имитации, три поддельных лльяно из хозяйства Нильса, забрались в жилой купол, что-то бормотали, перепугали наших гостей… Твоя работа, милый? Ты хотел подать нам какой-то знак? Тревельян удивленно покачал головой. – Нет, тхара. Нельзя активировать имитации одним лишь мысленным усилием, и к тому же я был в зоне, не пропускавшей ментальные сигналы. – Нельзя активировать… – повторила Алиса. – Вот и Нильс об этом толковал. А они взяли и ожили. – Без моей помощи. Мы так не умеем, но у нашего большого друга… – Ивар повернулся к иллюминатору, – возможности шире. Поэтому не стоит его задевать. Не нужно резать его шкурку, сверлить в ней дыры, жечь строительный материал и пытаться добыть образцы. Только ментальный контакт! Очень осторожный! Разумеется, если он пожелает, а я и досточтимая Тренгар поймем его речи. В салоне повисло молчание. Лишь ветер выл и свистел за бортом флаера, и отголоски его бессмысленной ярости нарушали тишину. Прошли две-три минуты, и Сигеру'кшу поскреб левую шишку. Затем фыркнул: – Тренгар! Как говорят у вас, провыто псом на ветер… Эта самка терукси затуманила твой разум, пророча беды и несчастья! Не слишком ли много осторожности? Это может замедлить нашу работу. – Мы столкнулись с тем, чего не понимаем, – терпеливо ответил Тревельян. – Если подвести итог, информация будет очень скудной: в прошлом Древние доставили сюда некое устройство, цели которого нам неизвестны, так же, как неизвестно его состояние по прошествии многих лет. Мы даже не знаем, машина ли это или разумное существо. Укоренившись подо льдами, устройство разрослось и теперь является объектом планетарного масштаба. В данный момент оно дремлет, ожидая какого-то сигнала. Так стоит ли торопить события? – Подумай, пха… – Археолог с недовольным видом почесал правую шишку. – Подумай, не мы, а кто-то другой добьется успеха, похитит нашу славу… Ожидание ведь может затянуться. – Конечно. На годы, десятилетия, века… Друг мой, я разделяю твое нетерпение, но что нам делать? Ты побывал на многих мирах, твой опыт не меньше моего… Тебе известно что-то о подобном случае? Находил ли кто-нибудь устройство даскинов размером с континент, способное производить эффекторы из этой черной жижи? Даже общаться с нами, принимать и посылать ментальные сигналы? На сей раз Сигеру лишь захлопнул пасть и махнул рукой, не желая больше спорить. В хапторах странным образом сочетались решительность и прагматизм, не позволявший торопиться в неясной ситуации. Они были упрямы и в то же время расчетливы, что делало их нелегким противником во время Пятилетней Войны[207]. Но Сигеру'кшу все же был ученым, и его доминантной чертой являлась тяга к знаниям. На этом пути не стоило спешить, даже если слава первооткрывателя достанется другому. Алиса зашевелилась, подняла головку, ее пальцы коснулись щеки Тревельяна. Он ощутил теплое дыхание жены – будто бабочка парила над его лицом. – Кажется, мы нуждаемся в совете, – молвила она. – Разве у нас нет Советника? Там, на корабле? Свяжись с ним, дорогой. Он не провидец, как болтушка Обна Шета, но его мнению можно доверять. – Она тебе по-прежнему не нравится? – Ивар усмехнулся. – Змея! – вынесла вердикт Алиса. – Ведьма, змея и бесстыдница! Как-нибудь я тебе расскажу, что она мне предлагала! Расскажу, но не сейчас. И она опять спрятала лицо на груди Тревельяна.* * *
«Тварь… чудовище… монстр… – пробормотал Командор. Разумеется, не вслух – пребывая в виде кристалла в командном центре корабля, он общался с Тревельяном мысленно. – Что-то такое я слышал… Вспомнить бы, когда и где…» «Может быть, в одном из миров, где приземлялся твой корабль? – спросил Тревельян. – На Тхаре или Рооне? Или на Ваале?» «Нет. Точно не там». «Кто-то говорил тебе об этом?» «Говорил, иначе откуда у меня информация! Только вот какая?..» «От дроми? От захваченных пленных?» – не унимался настырный потомок. «Опять же нет. Я их в плен не брал, мой мальчик, я их жег и резал. Да и о чем с ними толковать? Жабы![208] Шипят и квакают!» Тишина. Потом: «Твои соратники могли тебе рассказать… Вспомни, дед!» «Вот что, голубь сизый, не мешай! – рявкнул в ответ Командор. Я вспомню, вспомню! Только заткнись и не лезь с подсказками!» Считалось, что перенос разума в кристалл освежает память, позволяя без труда представить все, что индивидуум пережил за дни и годы телесного существования. Так, вероятно, и было, когда человека готовили к перерождению врачи Пантеона Славы[209], в хрустальном дворце у вод Адриатики, под благостный шелест яворов и пиний. Дама преклонных лет могла вспомнить все подробности детства и юности, умирающий гений – свои научные свершения, полководец – битвы, парады и маневры, великий художник – каждый мазок написанных им картин. Для этого имелись медикаменты и технические средства, однако главным был покой, покой и время для раздумий, когда отторгающий плоть человек вспоминает пережитое, укладывая в сознании свой бесценный багаж. Но предок и призрачный Советник Тревельяна перебрался в кристалл совсем при других обстоятельствах, уже не человеком, а, в сущности, его останками. Тогда, пять с лишним столетий назад, он был не в лучшем виде – без обеих ступней, левая рука, плечо, бедро и поясница обуглены до кости, но медицинский имплант поддерживал жизнь; как говорили потом очевидцы, умирая, он командовал сражением еще семь или восемь минут. «Паллада» шла на острие атаки, и во время перезарядки аннигиляторов, когда защитное поле ослаблено, дроми сумели его пробить – плазменный язык, слизнув орудийную башню и антенны дальней связи, добрался до рубки. Пилоты и навигаторы, чье место было у пультов, сгорели заживо, а мостик, где стоял Командор, растекся лужицей металла. Однако резервный пост уцелел, так что ему оказали помощь. Он скончался на руках своих офицеров – как тогда отметил в бортовом журнале старший врач «Паллады»: «от внутренних повреждений, несовместимых с жизнью». Медблок крейсера сильно пострадал, но, к счастью, сохранилось оборудование для сканирования мозга, новейший по тем временам и очень точный агрегат. Это устройство позволяло снять копию памяти, хотя, в общем-то, предназначалось для других задач, для исследования нейронных тканей перед сложными операциями. Тем не менее копию удалось снять и отправить на Землю с посыльным корветом. Тело Командора, по традиции, было захоронено в пространстве и сгорело в фотосфере Бетельгейзе. Копию памяти в те годы фиксировали в молекулярном коллоиде, объем которого был весьма велик, но с течением лет технология совершенствовалась, и на смену коллоиду пришли кристаллы. В таком кристалле Командор пребывал до сей поры. Учитывая обстоятельства перерождения Командора, не стоило удивляться частичной зыбкости его воспоминаний. Последнее, что сохранилось в его памяти, – треснувшая обшивка крейсера, звезды в черном провале и обугленные трупы пилотов и навигаторов у разбитого пульта. Не лучший старт для того, чтобы отправиться в жизнь вечную, хоть и без тела. Впрочем, все виденное и слышанное им рано или поздно являлось для обозрения – разумеется, если постараться. «Тварь, чудовище, монстр…» – повторил он, прикидывая, когда и где мог слышать о таком создании. В те времена, когда командовал крейсером, а затем эскадрой?.. Нет. Тогда он был при высоких чинах и хороших связях; узнав о чем-то необычном, он связался бы с Секретной службой, выяснил подробности, и это наверняка бы не забылось. До «Паллады» он летал на фрегате «Свирепый», сначала первым помощником, потом капитаном. Корабль-разведчик новой серии, зона контроля – Тир и Карфаген, миры системы Сириуса… Тоже нет. В те годы… – он ощутил, как подступает горечь, – да, в те годы у него была Паола-Моника… Из женщин, даривших его благосклонностью, самая верная и любимая… Она служила офицером связи на «Молниеносном» и погибла в бою… Редко, как редко они встречались! Он помнил каждое сказанное ими слово, крохотный отсек на борту фрегата, лицо своей спящей подруги, прикосновение ее руки… Но о чем-то таинственном и необычном они не говорили. «Койот»?.. На этом транспорте он летал довольно долго, болтался в Провале у Беты и Гаммы Молота, охранял Роон и Тхар, где жила первая его супруга Ксения Вальдес. Тоскливые годы, неудачный брак… Они расстались, когда «Койот» вошел в состав Седьмой флотилии, базировавшейся на Элладе. Потом была Битва у Голубой Зоны, в которой дроми уничтожили большую часть кораблей, включая флагман «Урал». Его транспорт, предназначенный для десантных операций, нес истребители; отстрелив их, «Койот» столкнулся с вражеским дредноутом, проломил его обшивку, и Командор повел своих людей на абордаж. В том бою он был трижды ранен: сломанные ребра, ожог бедра, токсическое поражение гортани. Лечился на Земле, на Новой Элладе и Гондване, а на Тхар не завернул… не хотел встречаться с Ксенией… Не то, не то! Возможно, когда его послали стажером на «Урал»?.. Или в первом боевом полете, когда отбили Тхар у дроми?..[210] Опять не то! Он листал череду своих лет, как страницы книги, вспоминая своих женщин, корабли, на которых служил, солнца, гревшие ему спину, планеты, чей воздух вливался в его легкие. Эллада, Ваал, Киренаика, Тхар, Роон, Гондвана, Марс, Астарта, Эзат… Список был длинным, и в конце его лежало самое давнее, юность, годы учебы в Академии, практика на Венере и спутниках Юпитера. Академия Звездного Флота, Гибралтарский филиал… Сине-зеленые волны, древние камни набережной, веера растрепанных пальм, утес, который венчает старинная крепость… Стройные смуглянки на улицах городка, кабачки, откуда тянет терпким винным запахом, ветер с моря, вкус соли на губах, улыбка незнакомой девушки… Он вспомнил.* * *
«Академия, мальчик мой, Академия. Вот где это было. Семинар по истории Звездного Флота. Необязательный к посещению, но я решил его не пропускать». «И о чем там говорили?» – спросил Тревельян. «О меморандуме Хейли-Чавеса. Знаешь про такой документ?» «Разумеется. – Ивар нажал клавишу комм-браслета, включив голосовую связь. – Я не один, дед, со мной Алиса и хапторы. Мы на полюсе, у ямы, с которой ты расстарался. Если можно, говори вслух». «Можно. Через корабельный вокодер. Сейчас я возьму на себя управление связью». Оборвав ментальный контакт, Ивар произнес: – Моему предку вспомнилась одна давняя история, очень, очень давняя… То, что случилось больше восьми столетий назад. Во времена, когда мы только начали осваивать Солнечную систему. Сигеру'кшу отвесил челюсть и удивленно моргнул. – Хрр… Это как-то связано с нашей проблемой? – Еще не знаю, но события тех лет важны для нас. – Тревельян почувствовал, как вздрогнула Алиса. – Тогда мы впервые столкнулись с космической агрессией и не смогли ее отразить. Часть нашего флота уничтожили, погибло много людей, разрушения на планете были огромны… – Ты говоришь о бино фаата? Об эпохе Вторжения? – прошептала Алиса. – Да, моя тхара. Нам помогли… оказали помощь при весьма загадочных обстоятельствах. Можно сказать, то был эстап, подтолкнувший земное человечество к звездам. – Ивар задумчиво нахмурился. – Я не исключаю, что таким эстапом было само нападение фаата. В результате мы получили контурный привод. – Фаата… – пробормотал Сигеру'кшу. – Существа, подобные вам, харша ашинге… Мне помнится, они обитают по другую сторону Провала, в галактической ветви… Как вы ее называете? – Рукав Персея[211], подсказала Алиса. – Аха. Раса, о которой известно очень немногое. Пока никто не пересек Провал. – Кроме них. Они атаковали Землю, потом пытались закрепиться в окрестностях Солнечной системы, но не получилось – у нас уже был сильный флот. Но воевали мы с ними долго. Археолог фыркнул. – Война – естественное состояние гуманоидов, произошедших от плотоядных обезьян! Вы воевали, мы воевали… возможно, еще будем воевать… Но вернемся к нашей проблеме, харша. Ты говорил о давней, очень давней истории. При чем тут она? – Мой предок и Советник напоминает об одном документе той эпохи. После Вторжения Хейли и Чавес два адмирала Космических Сил Земли подвели итог событий. Их меморандум хранится в архиве Флота, и пару веков назад его рассекретили. Наверное, в памяти корабля или трафора, моего помощника, есть соответствующая запись. Я могу запросить. – Не нужно, – раздался гулкий голос, – не нужно, камерады. Меморандум только ниточка… А то, к чему она ведет, гражданским лицам неизвестно. Ивар улыбнулся. – И ты поведаешь нам эти военные тайны, дед? Отлично! Только говори потише. Командор умерил мощь искусственного голоса. – Звездолет бинюков был огромен – размером с астероид, и не из самых мелких. Он и сейчас торчит на южном полюсе. Памятник Вторжения и нашей победы. – Верно, – подтвердила Алиса. – Я была в Антарктиде и видела его… многие видели… И что тут секретного? – Не перебивай, женщина! – рявкнул Командор. – Повторяю, звездолет, как может видеть всякий недоумок, огромен, и это вызывает сложности при маневрировании. Миллионы тонн массы покоя… а бинюки опустили корабль во льдах, не отклонившись от вертикали! Проломили лед, встали на материковую плиту, стабилизировали ее колебания! Как? С нынешней техникой и мы сумеем приземлить большую массу, но это требует усилий… люди, компьютеры, энергощиты, установки с гравигенераторами… Фаата без этого обходились. Опять же – как? Он замолчал. В салоне флаера было тихо, лишь за бортом выл и ярился ураган. Тревельяну казалось, что в стонах ветра он различает невнятные слова – будто жаловался пришелец из астральных бездн, не желавший, чтобы с него срывали покровы тайны. Снова раздался голос Советника, и иллюзия исчезла: – Есть досье Секретной службы, а в нем – отчеты Литвина, офицера, попавшего в плен. Он утверждал, что корабль по сути живое существо, что им управляли три-четыре фаата высшей касты, бывшие в ментальной связке с некой квазиразумной тварью. Не такой, как наши мыслящие агрегаты – похоже, то был биологический организм, считавший бинюков своими симбионтами. Стоило его уничтожить, и корабль погиб, умер вместе со всем экипажем. Так вот… – Командор сделал паузу. – Записано со слов Литвина, что такие твари и их зародыши встречаются в необитаемых мирах, где побывали когда-то Древние. Чаще за Провалом, камерады, в другом галактическом рукаве, куда мы пока не добрались. Это универсальный механизм даскинов, способный к росту и развитию, к мысленным контактам и выполнению любых задач… Бинюки их разыскивают и дрессируют. – Ты хочешь сказать, что наше чудище того же сорта? – промолвил Тревельян. – Предположение не бесспорное, но интересное… Осталось связаться с нашей тварью и выяснить, какая у нее задача. – Он на секунду задумался, потом спросил: – А в досье Секретной службы нет ли информации, как дрессируют этих тварей? Литвин об этом не упоминал? Послышались странные булькающие звуки – кажется, Командор смеялся. – Вспомни, голубь мой, что сказано у Йездана… умный был парень, хоть из плешаков… И сказал он так: у каждого своя чаша с ядом. – Снова булькающие звуки. Затем: – Так вот, эта чаша – твоя. Связь прервалась. Тревельян вздохнул и покосился на Сигеру'кшу – тот сидел молча, сложив на коленях огромные лапы, мерно втягивая и выдыхая воздух. – Что ты думаешь, пха? Насчет подобных тварей у фаата? Сигеру качнул головой. – Твой предок велик и мудр. Так велик, что ты можешь начинать Ритуал Памяти[212] прямо с него. Он сказал то, что сказал, и теперь, харша, у нас есть рабочая гипотеза. – Археолог смолк. Затем повернул голову и распорядился: – Хутчи, Шиза, мы летим домой, на базу! Поднимайте флаер! Молча, тихо, не мешая мне и харша ашинге! Мы с ним будем в задумчивости… то есть в размышлении. Аппарат взлетел в затянутое тучами небо. Они поднялись выше облаков, солнце брызнуло в иллюминаторы, и всюду, над головой Алисы и Ивара, над пультом, где сидели молодые хапторы, и у потолка над креслами, вспыхнули маленькие радуги. Сигеру'кшу сощурился на них, моргнул и произнес: – Яд во всяком познании, харша, и твой предок об этом напомнил. Горькая, горькая чаша… Но эту мы разделим на двоих.Интерлюдия Мобильный Флот
– Боевая тревога! Доложить о готовности! – произнес капитан Йен Скворцов, оглядывая рубку с высоты мостика. Шесть пилотов, два навигатора, два оператора связи и второй помощник Байрон Стилк… Первый – на дублирующем посту, спрятанном под слоями броневой обшивки и защитными полями. Все, как положено по штатному расписанию: люди – в коконах-ложементах[213], над пультами пылают алые огни, рядом с мостиком – группа техников в скафандрах и ремонтные роботы. По краям главного экрана зажглись мониторы внутренней связи. Секция управления огнем… секция жизнеобеспечения… секция маневренных двигателей… служба наблюдения… дивизион УИ…[214] десантная бригада и боевые роботы… госпитальный отсек… Рапорты заняли не больше тридцати секунд. – Принято, – сказал капитан. – Полную мощность на аннигиляторы! Металлические нотки в его голосе намекали, что тревога не учебная и что в ближайшее время «Тир» вступит в схватку с неприятелем. Боевое прикрытие Мобильного Флота разворачивалось по широкой дуге: в центре – «Тир», «Троя», «Фивы» и «Мемфис», на левом фланге – «Херсонес», «Сидон», «Ниневия» и «Сузы», на правом – «Спарта», «Ушмаль», «Чичен-Ица» и «Толлан». С тыла и со стороны галактических полюсов эскадру прикрывали фрегаты, а за ними мерцал гигантский энергетический щит, раскинувшийся в пространстве на несколько мегаметров. Его поверхность озарялась яркими вспышками – разреженный газ, предвестник потока, сгорал в защитных полях. – Мы на позиции, капитан, – доложил лейтенант-коммандер Стилк. – Есть сообщения от наблюдателей? Что они видят? – раздалось с мостика. – Включаю обзор. Цель – в первом верхнем октанте. Направление ноль, шесть, четыре, дистанция три и восемь. В углу главного экрана распахнулось окно. Автоматические зонды-разведчики, висевшие в миллионе километров от «Тира» и других крейсеров, передавали визуальную картину: три сферы, застывшие на фоне угольно-черного полога тьмы, расшитого яркими звездами. Разумеется, их неподвижность была иллюзией – хотя чужие корабли тормозили, они все еще приближались на большой скорости. – Никогда не видел таких аппаратов, – вымолвил лейтенант Туровски, старший пилот. Навигатор Шан Го вознамерился пожать плечами, но в коконе это было невозможно. – Что удивляться! Каждые семь-восемь лет мы открываем обитаемую планету. – Обитаемую и архаичную, а в данном случае проблема другая, – возразил пилот. – Наш противник умеет странствовать в Великой Пустоте. И, похоже, занимается этим не первое столетие. – Запросить флагман? – Связист Бхатнагар покосился на капитана. – Возможно, там имеются какие-то данные или предположения? – Хотя бы гипотетические, – добавил Байрон Стилк. Капитан Скворцов нахмурился и прикрикнул: – Разговоры в рубке! – Затем промолвил, слегка понизив голос: – Напоминаю, камерады: мы выполняем боевую задачу. Гипотезы и все остальное – прерогатива командования. Границы окна, раскрывшегося на большом экране, сдвинулись, поползли вверх, вниз и в стороны. Теперь можно было разглядеть детальнее один из чужих кораблей – многослойную сферу из множества мелких элементов, озаренную импульсами света. Эта слоистая структура медленно вращалась, и под ней угадывался серебристый блеск центрального ядра. – Расстояние? – спросил капитан. – Два и четыре, в прямой видимости зондов. – Навигатор, включить отсчет дистанции, – распорядился Скворцов. Внизу экрана медленно поплыли цифры. Холодный голос автомата произнес: – Два и три… – Потом: – Два и два… два и один… два ноль… – Они в зоне поражения! – отчеканил второй помощник. – Стреляем? – Нет. Ждем команды. В рубке повисла тишина. Она нарушалась лишь голосом автомата, отсчитывающего расстояние: – Один и девять… один и восемь… один и шесть… один и шесть… один и шесть… Дистанция без изменения, – сообщил автомат и смолк. На консоли операторов связи заплясала цветная радуга глифов[215]. – Сообщение флагмана: контакт с чужими кораблями установлен, – доложил связист. – Намерения мирные. Приказ: оставаться на позиции, но не атаковать. – Отмена боевой тревоги, – скомандовал капитан, освобождаясь от кокона. Танец радужных огней не прекратился, и он недовольно произнес: – Ну что там еще? Выслать к ним делегацию с хлебом и солью? Или с букетом майских роз? – Флагман сообщает, что принадлежность кораблей установлена. Это нильхази! Раса, с которой Федерация уже вступила в контакт, но вроде бы недавно… – Офицер-связист, тоже раскрыв кокон, повернулся к капитану. – Нильхази! Никогда о них не слышал! – Не слышал, и ладно. Главное, стрелять не пришлось, – буркнул Йен Скворцов, выбравшись из кресла. Он спустился с мостика, покинул рубку и зашагал по коридору палубы «А», бормоча под нос: – Стреляем, стреляем… тысячу лет без малого, а все стреляем… пора бы и прекратить…Глава 10 Селение Хх'бо татор ракка. Берег моря, караван сервов
Обращаем внимание искусствоведов и посетителей нашего Музея, что на четвертом подземном ярусе открыта новая постоянная экспозиция: «Искусство аборигенов Лианы-Секунды». Экспозиция включает более трехсот статуэток, вырезанных из кости, янтаря и эндемичных древесных пород, произрастающих на этой далекой планете. Представлены различные формы жизни Лианы-Секунды (животные, птицы, насекомые, растения), фигурки туземцев лльяно и сцены их быта, портреты представителей некоторых рас, посещающих мир лльяно (земляне, хапторы, нильхази, сервы лоона эо). Мастерство, с которым выполнены эти изображения, потрясает – некоторые скульптуры бесспорно являются шедеврами. К ним относятся: портрет земной женщины (предположительно, уроженки Тхара), серия из шести статуэток танцующих девушек-нильхази, фигура «Умирающий монстр» (опасный хищник, раненный охотниками-лльяно), фигура «Дракон» (ископаемый ящер, реконструкция), портрет хаптора тэд'шо, фигуры «Бегущий олень» и «Пляска лльяно», исполненные редкой экспрессии, и многое другое. Несомненно, интерес вызовет многофигурная композиция, изображающая деревню лльяно: два десятка миниатюрных хх'бо (особые растения, в которых обитают туземцы) и более четырехсот крохотных фигурок лльяно, женщин, детей, охотников и мастеров. В экспозиции также представлены инструменты и оружие аборигенов, изделия из кожи, шерсти, тростника, предметы быта, таксидермические экспонаты (птицы и животные), голографические снимки и видеозаписи. Все перечисленные материалы предоставлены Фондом Развития Инопланетных Культур.Бюллетень Музея Галактического Искусства, выпуск 0411233, раздел «Скульптура примитивных народов», подраздел «Лиана-Секунда».
* * *
Едва успело взойти оранжевое солнце Лианы, как над лесом взвился столб белого дыма. Дым был густой и поднимался в небеса выше самых высоких деревьев хх'бо; оставалось лишь удивляться, как лльяно добились такого эффекта. Спустя десять минут Командор, наблюдавший с орбиты за материком, сообщил, что такие же дымные столбы замечены во всех близких к Ракке поселениях. Затем дымы начали распространяться в более широком ареале обитания, и Тревельян догадался, что это сигнал. Какой? Предупреждения об опасности? Или лльяно сзывали соседей на общий сход и праздник?.. Он потянулся к ментальным импульсам твари на северном материке. Как было и прежде, чуть заметные следы активности, кружение смутных теней во мраке… Монстр Древних спал, ничем не обнаруживая своего присутствия в мире лльяно – не тряслась земля, не ходили волны по морю, и утренний ветер, как всегда, был тихим и прохладным. «Возможно, – думал Тревельян, – дед прав, это такое же странное создание, как разум, управлявший кораблем фаата, но тревожить его и проявлять любопытство не стоит. Будут другие экспедиции, будут другие цели и задачи, а пока… Как говорили латиняне, quieta non movere – не трогать того, что покоится». Дымы по-прежнему тянулись к небесам. По сообщениям с «Дельфина», их уже было больше тысячи. Повинуясь вращению планеты, линия терминатора скользила на запад материка, и селения лльяно встречали рассвет, салютуя солнцу и небу дымными столбами. В Ракку был послан Инанту Тулунов. Вернувшись, он доложил, что в деревне ждут сервов с их торговым караваном, но неясно, каким образом туземцы об этом узнали. Антенны дальней связи среди деревьев не торчат, с неба ничего не опустилось, нет ни катера с экипажем, ни зонда-автомата, и все же старейшины уверяют, что караван на подходе. Сервы приземлятся на острове, и произойдет это в ближайшую ночь или под утро. Почему? А потому, что так бывало всегда. Выслушав Инанту, Ивар хмыкнул и с недовольным видом уставился в небо. Затем проворчал: – Проходной двор, а не планета! Терукси нас уже осчастливили, теперь жди новых гостей! Сервов! Именно сейчас, когда надвигается поток! – Гости здесь мы, а не они, – заметила Алиса. – Сервы летают сюда тысячи лет, а наша экспедиция… Какая по счету, дорогой? – Седьмая или восьмая, – ответил Тревельян. – Но мы ведь не торгуем, а ведем исследования! Сигеру'кшу тоже оглядел лазурный небосвод, почесывая то левую шишку, то правую. – Кстати, харша, о торговле и исследованиях. Мы увлеклись раскопками и не собрали этого… как сказать?.. экспонаты-деревяшки, да?.. Их статуи, изваяния, памятники, монументы… Я верно говорю?.. На складе пусто, а после сервов ничего не останется. Выгребут! Я такое уже видел! – Верная мысль, – произнес Ивар и велел грузить транспортный модуль товарами для обмена. Он собирался посетить деревню, взяв с собой Тулунова и Хутчи'гра в качестве помощников, но за ними увязалась Обна Шета. Странное желание! Она панически боялась лльяно, но, кажется, решила расширить свой кругозор, полагая, что в случае необходимости трое мужчин ее защитят. Так и отправились: Ивар, Инанту и Хутчи шли пешком, а провидица восседала на гравиплатформе, между ящиками с товарами и контейнерами для экспонатов. По случаю похода в лес она облачилась в сапоги, изумрудную блузу и шафрановые брючки, а на шею повязала зеленый шарф. Раскраска ее щек и лба тоже была зеленой, с узорами под малахит. В деревне царило оживление. По центральной площадке – «там, где танцуют» – сновали сотни взрослых лльяно, женщины, охотники и мастера, тащили к складам шкуры и тюки с шерстью, кожаные изделия, коврики, сумки с янтарем и статуэтки из дерева и кости. Под ногами у них вертелись и прыгали на четвереньках малыши, оглашая воздух пронзительным верещанием. Тут и там горели костры, на которых жарилось мясо, а посреди площадки была навалена куча листьев, коры и ветвей незнакомого Тревельяну растения. В куче понизу пробивались языки огня, а вверх уходил плотный столб белесого дыма. Несколько молодых лльяно подносили ветви и листья в больших корзинах, и среди них Ивар заметил паршивца Тза. Похоже, тот уже оправился от порки. – Торговля – двигатель прогресса, – изрек Инанту, озираясь по сторонам. – Особенно торговля в условиях конкуренции. Мы успели первыми, и потому лучшее будет нашим. – Когда в Ракку доберутся жители окрестных деревушек, хватит на всех, – отозвался Ивар. В отличие от Инанту, он представлял ничтожность их торговой операции. Выменять три-четыре сотни статуэток для музеев Харшабаим-Утарту и Земли, отыскать самые изящные, самые необычные и выразительные вещи, нагрузить одну платформу… Сервы же торговали со всеми крупными селениями материка и вывозили шерсть, янтарь, изделия из дерева и кожи в трюмах гигантских лайнеров. Главный предмет торговли был установлен не так давно. Им оказалась шерсть лльяно – тонкая, но очень прочная, легко поддающаяся обработке и окраске. Туземцы вычесывали ее на протяжении всей своей долгой жизни, так что запасы этого товара были поистине неисчерпаемы. Другой вопрос, зачем гедонистам лоона эо, существам изысканным и привередливым, понадобилась шерсть – они, как правило, приобретали произведения искусства, картины, книги, фильмы, редких животных и уникальные творения природы[216]. Их интерес к янтарю и резным статуэткам был вполне понятен, но шерсть?.. Мнения земных ксенологов по данному поводу сильно расходились. Одни считали, что лоона эо в самом деле используют шерсть, но для чего – оставалось тайной. Трудно представить, чтобы в стабильной среде астроидов кто-то нуждался в свитерах, шерстяных рубашках или теплых пледах. Другие считали, что шерсть лоона эо не нужна, а их торговля с Лианой-Секундой – цивилизационный проект, подобный деятельности ФРИК, нечто вроде эстапа, который должен подтолкнуть общество лльяно к развитию. Так или иначе, но сервы закупали шерсть, обменивая ее на гребни и щетки, ножи, наконечники копий и инструменты для резьбы. Ивар остановил транспортный модуль у навеса, крытого листьями хх'бо, где обычно восседал секстет старейшин. Сейчас тут обнаружились двое – Говорильник Рахаш и Шарбу-второй: Шарбу перебирал статуэтки на полках, Рахаш прохаживался взад-вперед, иногда покрикивая на юнцов, подносивших к костру ветви и сучья. – Длинной вам шерсти и прочного дерева, – молвил Тревельян на альфа-лльяно. Это было одним из возможных приветствий, уместным перед торговлей – в конце концов, главными предметами обмена являлись деревянные изделия и шерсть. Шарбу махнул ему когтистой лапой, а Говорильник с важным видом произнес: – Радуюсь, Увва, глядя на тебя и твоих ффа'тахх, Онту и Утча. Их шерсть свисает до колен, а твоя – до земли. В данном случае «ффа'тахх» – «тот, кто бегает на четвереньках» – не имело уничижительного смысла; Рахаш всего лишь обозначил, что спутники Ивара молоды. Затем он уставился на Обну Шету, сморщил нос и буркнул на земной лингве: – Ты, Увва, привести другой свой самка? Не похож на тот, что ходить к нам. Я потрясательно изумиться. Этот самка, как плесень на дереве хх'бо. – Тут Рахаш щелкнул зубами и уточнил: – Очень, очень зеленый плесень. – Что он себе позволяет? – заверещала Обна Шета, резво соскочив с платформы. – Это вонючее животное! Этот мохнатый урод! Ему не нравится, как я одета? – Рахаш, досточтимая, делает тебе комплимент, – пояснил Инанту Тулунов, переглянувшись с Хутчи'гра. – Лльяно просто обожают цвета и оттенки зеленой гаммы. Сравнить кого-то с плесенью, это выражение крайнего восторга. Ты же слышала, что он сказал – изумлен и потрясен! Провидица фыркнула, Хутчи весело оскалился, а Рахаш, подергав волосы, свисавшие с висков, промолвил: – Я Говорильник, и я в понимании. Ффа'тахх Онту играть слова, как совсем малые играть палочкой, камешком, орешком. Молодой! Пусть забавляться! Он поманил Шарбу, и тот, обхватив Тревельяна за пояс, направился с ним к полкам, забитым статуэтками из дерева и кости. – Большой дым. Далеко видно, – сказал Тревельян, бросив взгляд в сторону костра. – Большой, – согласился Шарбу. – Большой, чтобы послать вести. Скоро спустятся с неба хххфу ата. Всем надо знать. Хххфу ата – тощие пришельцы, так лльяно называли сервов. В сравнении с плотными мускулистыми аборигенами биороботы и правда казались сборищем субтильных личностей, которых ветер качает. Но двигались сервы шустро и физические работы, хотя и не очень тяжелые, выполняли без проблем. – Откуда ты знаешь, что хххфу ата скоро прилетят? – спросил Тревельян. – Они послали какой-то знак? Шарбу молча откинул циновку у одного из столбов, поддерживающих кровлю навеса. Под ней было круглое хрустальное оконце – вероятно, вершина врытого в землю механизма. Рассмотреть его Ивар не мог – за прозрачной преградой сейчас металось фантомное пламя, похожее на настоящий костер. Ярко-рыжие языки плясали будто бы в пустоте, свивались кольцами и спиралями, тянули огненные острия к хрустальной крышке и снова опадали. «Маяк, – понял он. – Маяк, который сервы уподобили огню, чтобы было для лльяно понятным». – Оууу-аа! – протянул второй Шарбу. – Когда горит, хххфу ата близко. Ночью спустятся на землю. Ночью или утром. – Будете торговать? – Много дней, Увва. Придут много охотников и мастеров. Нам – ножи и гребни, хххфу ата – шерсть, кожа и дерево. Тревельян окинул взглядом пространство под крышей из листьев хх'бо. Земля, устланная циновками, примитивные полки между столбами, а на них – сотни, тысячи резных фигурок… Из кости, из дерева разных пород, из янтаря… Их тщательно отполированная поверхность поблескивала, формы статуэток были строги и изящны, и чудилось, что эти изображения зверей, насекомых, птиц и разумных существ сейчас оживут. Поистине, лльяно были великими искусниками! – Прилетят хххфу ата, все заберут, и мне ничего не достанется, – сказал он. – Могу я что-то обменять? – Выбирай! – Шарбу подтолкнул его к полкам. – Но ты должен дать нам хороший товар. Есть у тебя ножи и гребни? – Нет. Мои товары лучше, гораздо лучше. Таких в Ракке еще не видели. В глазах Шарбу сверкнуло любопытство. – Такая вещь, чтобы убивать большого молчаливого? Бросать в него молнии? – Нет. Если помнишь, шорро мы прикончили ножом, – ответил Ивар. Затем он позвал Тулунова и Хутчи'гра, прошелся вдоль полок и приступил к отбору экспонатов. Фигурки, изображавшие животных и пернатых всех пород: пятнистый олень тхх'окл, черепаха ттх'руу, огромные водоплавающие птицы тхх'фата, коллекция хищников, «ночных молчаливых» – волки с крокодильей пастью, шестилапый бронированный краб, статуэтки шорро… Деревья хх'бо с устроенными в них жилищами, целый поселок с крохотными фигурками женщин, охотников и мастеров, бытовые сценки, семьи лльяно – двое братьев, две сестры, их жены, и шестеро малышей… Звездный корабль сервов, изображения биороботов, гуманоиды всех рас, что посещали Лиану-Секунду – нильхази, земляне, хапторы… Выбор был богатым. Хутчи'гра принес пустые контейнеры, и через двадцать минут их крышки уже не закрывались. – Это, это и это… – Тревельян снимал с полок одну фигурку за другой, а за ними, во втором ряду, обнаружились новые. – Потом это и… – Он склонил голову, разглядывая крылатого молчаливого с мощным клювом и растопыренными лапами. – И это тоже. Да, непременно! – Контейнеры полны, – доложил Инанту. – Разгрузим товар из ящиков. Ты подсчитал, сколько фигурок мы взяли? Полевой агент коснулся браслета на запястье. – Триста восемьдесят четыре. В ящики войдет штук двести, если не заливать упаковочной пеной. – Зальем на станции, а сейчас… – Ивар протянул руку к чудесной статуэтке, изображавшей девушку-нильхази. Но дотянуться не успел – снаружи послышались крики, потом раздался пронзительный визг. – Кто-то влип в историю… Кажется, наша провидица, – озабоченно произнес Инанту и выскочил из-под навеса. Тревельян, Шарбу и Хутчи'гра поспешили следом. Толпа малолетних сорванцов обступила Обну Шету. Ффа'тахх уже стащили с нее шарф, разодрав его в клочья. Теперь, вереща и повизгивая, они цеплялись за блузку и брючки, подпрыгивали, царапали коготками сапоги, и края штанин над коленями уже превратились в живописные лохмотья. Провидица пыталась вырваться и визжала без передышки, но громкие вопли малышей заглушали ее голос: – Дай, дай, дай! Оууу-аа! Дай, дай! Сладкий-черный! Шшккл, шшккл, шкклл! – И снова: – Оууу-аа! Дай, дай, дай! – Они меня съедят! – простонала Обна Шета, завидев Тревельяна. – Разрежут на части и сварят! – Не сварят, – успокоил ее Тревельян. – Им хочется шоколада. Он в ящике, рядом с которым ты сидела. – Но я не могу! Не могу достать! Меня не пускают и царапают! А этот, – она ткнула пальцем в Рахаша, – только скалит зубы! И у него такие огромные клыки! Рахаш действительно веселился, его широкие черные ноздри подрагивали, лязгали зубы и мелко тряслись свисавшие с висков пряди волос. «Пожалуй, непривычному человеку улыбка лльяно может внушить опасения», – решил Ивар и произнес: – Хутчи, Инанту, вскрывайте ящики! Первым тот, что с шоколадом! Мелким по плитке, а досточтимой – воды или сока, если найдется! И посадите ее на платформу, подальше от этих разбойников! Закончив распоряжаться, он повернулся к Рахашу и Шарбу: – Cладкий-черный шшккл – подарок для ффа'тахх. А на обмен – вот это! Ивар вытащил из ящика котелок, походную модель с вечной батарейкой в днище – вода в нем нагревалась без огня. За котелком последовал свернутый в рулон гравимостик, который можно было раскинуть над ручьем, музыкальная шкатулка, игравшая сотню мелодий – все с грохотом барабанов и литавр, пояс со множеством кармашков для инструментария, несколько линз-зажигалок в разноцветной оправе, тюбик с универсальным клеем и дюжина напильников, которыми хапторы полировали когти. Он демонстрировал каждую вещицу и объяснял ее назначение, предлагая Шарбу и Рахашу тут же опробовать товар. Котелки, линзы и мостики были признаны весьма полезными, от клея старейшины отказались, пояса, удобные в работе, оценили довольным ворчанием, а шкатулка и напильники привели обоих лльяно в полный восторг. Теперь торговля шла под рев барабанов и гулкие удары литавр – стороны выясняли, сколько поясов и линз, котелков, напильников и прочего добра надо отдать за статуэтки. Торговались лльяно с азартом, но Ивар им не уступал. Недаром сказано у Йездана: «Продешевивший утром, встретит вечер за пустым столом». Разумеется, Ивару Тревельяну, консулу Фонда Развития Инопланетных Культур, кавалеру Почетной Медали и множества других наград, пустые столы не грозили – ни утром, ни днем, ни вечером. Однако торговался он яростно, ибо это было полезным уроком для Инанту Тулунова, молодого агента и его ученика. В будущем Инанту предстояли самостоятельные миссии, и где бы он ни очутился, ему полагалось не терять лицо, не допускать, чтобы его обманули. На сей счет у Йездана тоже было изречение: «Глупец, обманутый мошенником, теряет не деньги, а честь». К полудню торговые дела завершились, и Ивар, отказавшись от угощения, тронулся со своими помощниками в обратный путь. Довольный и немного усталый, он шел впереди, временами оглядываясь на платформу, груженную контейнерами и ящиками. Все они были набиты под завязку, и теперь предстояло рассортировать фигурки, составить каталог, выделить часть хапторам, упаковать образцы и залить их быстротвердеющей пеной. Обна Шета сидела на ящике, взирала с горестным видом на исцарапанные коленки, прихлебывала апельсиновый сок и приходила в себя. За платформой шагали Инанту и Хутчи'гра. Последний тащил под мышкой фигурку хаптора, не пожелав расстаться с ней даже на пару минут – изваяние было похоже на него как две капли воды. Они покинули лес и углубились в бамбуковые заросли. Теперь по обе стороны тропинки вздымались высокие стебли хх'вадда, и платформа, следуя за Иваром, пригибала молодую поросль или с треском ломала не желавший согнуться ствол. Над бамбуковой рощей раскинулось бирюзовое небо, в вышине застыл оранжевый солнечный диск, и от него плыли к земле потоки зноя. Ивар слышал, как за спиной вздыхает провидица – должно быть, она изнывала от жары. Но кроме солнца кружил за голубыми небесами корабль, хоть и невидимый с земли, однако такой же реальный, как роща, лес и тропа под ногами. Они еще не выбрались из зарослей, когда Командор напомнил о себе: «Занят, мой мальчик?» «Свободен. Я на прогулке». «Боюсь испортить тебе удовольствие. Видишь ли, у нас тут…» «Если ты про сервов, то я уже знаю, – перебил Тревельян. – Туземцы сообщили, в их деревне имеется маяк. Говорят, что гости приземлятся ночью или поутру… В самом деле? Ты их видишь?» Ментальный импульс, пришедший от Командора, был полон удивления: «Еще бы не видеть! Ну и здоровая лоханка, клянусь Великой Пустотой! В их корыто крейсер влезет с потрохами… два крейсера, три крейсера… Словом, они на прямой видимости. Идут к планете малым ходом, не спешат». «Свяжись с Мобильным Флотом, сообщи». «Уже связался. Поток ударил в экраны, так что у них своих заморочек хватает. А что до сервов, то они с Флотом в контакт не вступали и разрешения не запрашивали». Тревельян пожал плечами. «Какие разрешения! Они летают всюду, где хотят. Привилегия лоона эо и всех, кто им служит. Ну, ты понимаешь…» «Понимаю, – недовольно буркнул дед. – Чертовы лончаки, высшая раса! А у нас по лишнему пальцу на руках и ногах, и размножаемся мы самым примитивным способом![217] Вот если бы…» Сзади раздался тревожный крик Инанту. Повернувшись, Ивар увидел, что провидица лежит на спине, зелень на ее лице расплылась, голова запрокинулась и безвольно свисает с ящика. Кажется, сознание покинуло Обну Шету. «Извини, дед, тут проблема с нашей гостьей. – Ивар остановил транспортный модуль, подвесив его над землей. – Позже свяжусь». Отшвырнув статуэтку, Хутчи ринулся к женщине и подхватил ее на руки. – Сюда! – Инанту с усилием сдвинул контейнер, освободив место на платформе. – Клади ее сюда! Что с ней? Консул, она без чувств! Тревельян прикоснулся к щеке провидицы – щека была холодной, как лед. Глаза Обны Шеты закатились, она дышала мелко и часто, как если бы ей не хватало воздуха. На лбу женщины выступил пот, губы конвульсивно подергивались, лицо походило на жуткую маску, высеченную из зеленого камня. Она пыталась что-то сказать, потом ее бормотание стихло, рот сомкнулся, только едва заметно подрагивали ноздри. – Жарко! Самый солнцепек… – бормотал Инанту. Он возился с аптечкой, пристегнутой к поясу, руки его тряслись, защелка никак не поддавалась. – Ну, сейчас мы ее полечим… – Успокойся, агент, – произнес Ивар, вслушиваясь в тихое дыхание провидицы. – Никаких аптечек и инъекций! Она в трансе, и мы такое уже наблюдали. Я, Алиса, Хутчи… – Наблюдали, – подтвердил хаптор, кивая. – На острове, где сел ее корабль. – А раз наблюдали, то будем действовать как тогда – оставим ее в покое. – Тревельян поднял голову и прищурился на солнце. – Сирад, ее Оберегающий, сказал, что терукси не дикари, что на Дингана-Пхау всех снабжают имплантами… Значит, жара ей не повредит. Не больше, чем нам. Щелкнув пальцами над комм-браслетом, Ивар рысцой припустил к станции. Платформа, ускоряя ход, потянулась следом, затрещали стволики хх'вадда, брызнул желтоватый сок из сломанных листьев и стеблей. Минута-другая, и морской простор распахнулся перед ними, запахло солью и водорослями, прохладный ветер остудил разгоряченную кожу. Обозначая входной коридор, замигали огоньки в защитном барьере, транспортный модуль плавно скользнул во двор и замер по команде Тревельяна. Сирад и Алиса, поджидавшие у жилого купола, бросились к платформе. – Что случилось, дорогой? – То же, что и раньше. – Ивар поднял Обну Шету, пристроив ее головку на плече. – Придет в себя, расскажет нам о своих видениях… Возможно, таких ужасных, что Галактика содрогнется. – Он повернулся к Сираду. – Долго она будет без сознания? Полчаса, час? Юноша пожал плечами. – Не знаю, милорд консул. Иногда транс бывает долгим… И в такое время досточтимой нельзя мешать. – Отнесу ее в жилой отсек, – решил Тревельян и направился к куполу. Алиса шла рядом, перебросив через руку длинные волосы Обны Шеты и с тревогой посматривая на нее. Сейчас красавица-терукси выглядела не лучшим образом – пот размыл краску на лице, зеленые струйки затекли на шею, сделав женщину похожей на труп, восставший из могилы. Дверь сдвинулась, Ивар перешагнул порог, огляделся и присвистнул: – Чертог Шахразады! Только фонтана не хватает… фонтана и пары евнухов! – Досточтимую сюда, на постель… – Сирад Ултаим кивнул на просторное ложе и сообщил: – У нас на корабле есть фонтан, милорд консул. Фонтан, бассейн, оранжерея… А что такое евнухи? Особые роботы для водных процедур? – Да, – сказал Ивар, опуская Обну Шету на кровать. – Они льют в бассейн ароматическое масло, бросают лепестки роз и поют тонкими голосами. – Изысканно и романтично! – восхитился Оберегающий. – В земных обычаях столько очарования, столько поэзии и… – Хватит болтать! – оборвала его Алиса. – Идите отсюда! Оба вон! Я ее раздену и сниму грим с лица. Что за ужас! Страшная, будто утопленница… брюки порваны, колени в ссадинах… – Тебе помочь? – с невинным видом спросил Тревельян. Но супруга отрезала: «Справлюсь!» – и вытолкала его и Сирада за дверь.* * *
После заката, в третий ночной час, Алиса разыскала Тревельяна в лаборатории, где он с Сигеру'кшу, Инанту и молодыми хапторами сортировал привезенные из Ракки статуэтки. Каждую снабжали чипом-ярлыком, составляли описание и, уложив в контейнер, заливали упаковочной пеной. Эти контейнеры были предназначены для обычных экспонатов, но у дальней стены высились шесть цилиндров из прочной керамики, с кольцами генераторов силовой защиты. В них хранился опасный груз – активная протоплазма в объеме нескольких литров. Остальную хохо из третьего раскопа Сигеру уничтожил – разрезал сосуд с черной субстанцией и сжег ее мощным лазером. Шесть образцов, отобранных им, планировалось доставить для исследования на Землю и Харшабаим-Утарту. Некоторое время Алиса наблюдала за работой мужчин, затем поманила Тревельяна пальчиком. – Она очнулась. Хочет тебя видеть. – Зачем? – Хочет, – упрямо повторила Алиса. – Ты ведь не откажешь женщине в скромной просьбе? С тоской оглядев столы и пол, заваленные фигурками, ряд пустых контейнеров и тубы с пеной, Ивар пробормотал: – Кажется, вы все же подружились… Не ожидал, моя дорогая… Никак не ожидал! Провидица была бледна и слаба. Однако ее личико уже не походило на зеленую маску, в глазах мерцал огонек, расчесанные волосы под сеткой с мелким жемчугом темной волной падали на ложе. Губы слегка подкрашены, на висках и скулах – россыпь серебристых звездочек… «Алиса постаралась», – понял Тревельян. Обна Шета что-то прошептала, но он не расслышал и наклонился к ней. – Я была там… была у него… – Ее слова перемежались прерывистыми вздохами. – Он так одинок… так безмерно одинок и несчастлив… – Кто? О ком ты говоришь? Женщина всхлипнула. Она не смотрела на Ивара – ее взгляд был устремлен в потолок, но вряд ли она видела свет горевших там плафонов. – Те, кому он обязан жизнью, исчезли, растворились в Великой Пустоте… он теряет себя, уже не помнит, кто он и зачем… Друг, ему нужен друг… друг, советчик, близкое существо… нужна любовь, как всем нам… Ее губы продолжали шевелиться, но голос стих. Тревельян переглянулся с Алисой. – Бредит?.. Это не похоже на видения грядущего. На лбу Алисы пролегла морщинка. – Она позвала тебя – значит, ты должен услышать то, что услышал. – И какой в этом смысл? Мне казалось, что она осчастливит нас новым пророчеством… что-нибудь о катастрофе, ожидающей Лиану, о том, что солнце закатится, моря выйдут из берегов и мир будет уничтожен… – Тревельян вздохнул. – Очевидно, запас таких видений истощился. То, что я услышал – сентиментальный бред. Его супруга передернула плечами. – Тебе решать, милорд консул. Я же думаю, что это не слова провидицы, а голос Обны Шеты. Женщины, которая что-то ищет, но пока не нашла… Может быть, любовь? – Не нашла, и потому желает забраться к нам в постель, – буркнул Тревельян, глядя на красавицу-терукси. Ее веки опустились, дыхание стало ровным, на щеках заиграл румянец. Обна Шета спала, и кажется, сны ей снились приятные. – Пятый час ночи, – промолвила Алиса. – Пойду прогуляюсь, – сказал Ивар и поцеловал ее. На пороге он обернулся – Алиса сидела рядом со спящей провидицей и улыбалась ему. К скалам у морского берега он не пошел – оружия у него не было, а шестилапые ночные твари бегали быстро и тихо. Он остановился на поляне, у кустов, усыпанных белыми цветами; отсюда был виден темный простор вод с лунными дорожками, смутные тени островов вдали и угловатые очертания прибрежных утесов. В небе висела Желтая луна, за нею вытянулись в линию четыре серебристых, а выше пылал Млечный Путь с ярким пятном галактического центра. Звезды разлетались от него, словно искры огромного костра, застывшего над окутанной мраком планетой. Внезапно под Желтой луной вспыхнула гроздь едва заметных огоньков. Они неторопливо покатились вниз, к земле, наливаясь алым и багряным, делаясь все ярче и ярче – десятки, сотни искр, каким-то чудом сорвавшихся с небес. Это не походило на метеоритный дождь, ибо в падении огней не замечалось ни хаоса, ни случайности – наоборот, гроздь разделилась на цепочки, скользившие в вышине параллельно одна другой и, как стая перелетных птиц, словно бы искавшие место для отдыха. Они двигались беззвучно, и Тревельян не слышал грохота рассекаемой атмосферы и рева двигателей. Никаких звуковых эффектов, только плавное парение огней над морем, искр, спускавшихся вниз, к островам. – Прилетели… – прошептал он, зачарованный небесным фейерверком. «Куда они денутся! – тут же отозвался дед. – Прилетели! Корыто длиной в пятнадцать километров и сотни посадочных модулей. Одно слово, караван! Главная лоханка висит под нами и мечет икру. Похоже на сброс десанта, когда мы брали Тхар в триста десятом… – До Тревельяна долетел ментальный вздох. – Давно это было, мой мальчик… шесть столетий утекли…» – Они опускаются, – сказал Тревельян, глядя, как небеса над астродромом озарились мягким розоватым светом. – Сколько же их, дед! И правда сотни! «Двести восемьдесят шесть по точному счету, – сообщил Командор. – А что за товар привезли? Ты в курсе?» «Гребешки и щетки, чтобы расчесывать шерсть. Еще кое-какие инструменты». «Гребешки! – восхитился Советник. – Почти три сотни посадочных модулей, и все с гребешками! Это сколько же приходится на каждого мохнатика?» «Не так уж много, – заметил Ивар. – Население планеты почти сто миллионов, а гребни и щетки для лльяно – предмет первой необходимости. Шерсть нужно содержать в порядке». Яркие огни, соблюдая очередность, неторопливо двигались вниз – первая цепочка, вторая, третья… В небе над морем играли золотые и алые радуги, мягкий свет сливался с лунными дорожками, поверхность воды мерцала то изумрудом, то сапфиром. В этот миг Тревельян забыл о твари на северном материке, о странном трансе и словах провидицы, даже о губительном потоке, что надвигался на планету. Впрочем, поток его не слишком беспокоил – где-то там, в черной космической бездне, висели огромные эмиттеры, жгли пыль и газ, защищая Лиану-Секунду и всю систему лльяно. Последние огоньки скрылись за скалами, окружавшими астродром, но зарево в небе не померкло, а разгорелось с новой силой. Ивар представил сотни кораблей на посадочном поле, раскрытые люки, груды ящиков с товарами, сервов, что суетятся вокруг, лучи прожекторов, серебристый блеск металла… Фантазии, фантазии! С металлом наверняка – лоона эо почти не применяли железо, алюминий, медь, титан. О том, как и из чего созданы их корабли, было известно не больше, чем о производствах, фабрикующих биороботов. Или сервов все же не собирали на конвейере?.. Они так походили на живых… живые разумные существа и очень дружелюбные… Ментальный голос Командора разрушил очарование. «У тебя проблемы с ведьмой терукси? Что там случилось днем?» «Она потеряла сознание, – пояснил Тревельян. – К ночи очнулась, но несла полную чушь. Чушь, хотя Алиса находит в этом какой-то смысл. – Помолчав, он добавил: – Она меня удивляет». «Ведьма?» «Нет, Алиса. Она ее сразу невзлюбила». «Это понятно. Твоя подруга с Тхара, а там привержены традиционным ценностям». «Невзлюбила, – повторил Тревельян, – а теперь жалеет. Ходит, как за лучшей подругой… умывает, одевает… Объясни мне, почему?» Наступило молчание. Потом Командор произнес: «Женщины! Я был женат четыре раза, и что я знаю о них?.. Ровным счетом ничего… Лучше я расскажу тебе, как мы отбили Тхар у дроми, и как я встретил Ксению, твою семнадцать раз прабабку. Хочешь?» «Нет. Ты уже рассказывал». Снова тишина. Потом: «Я навел телескоп на остров, где приземлились сервы. Их там что мурашей… бегают, скачут… Хочешь взглянуть? Я могу подключиться к твоему коммуникатору». Тревельян вздохнул. «Давай. У сервов много тайн, но все же меньше, чем у женщин». Он щелкнул пальцами, подвесил в воздухе экран и долго-долго всматривался в открывшуюся картину.Глава 11 Харшабаим, сервы
Традиционно материал о сервах не включается в учебники ксенологии, ибо эта научная дисциплина имеет целью описание разумных рас. Сервы же воспринимаются нами как биомеханические устройства, пусть сложные и внешне копирующие лоона эо, но все же как нечто подобное земным роботам-андроидам. Чтобы детальнее разобраться с этой проблемой, обратимся к базовым сведениям о лоона эо. Напомним, что контакты с живыми представителями этой расы исключительно редки и обычно связаны с экстремальными обстоятельствами. Лоона эо – раса интровертов, они тщательно избегают встреч с любыми разумными существами, вызывающими у них панический ужас. Этот народ, высокоразвитый в технологическом отношении и обладающий огромными ресурсами, предпринял ряд особых мер, цель которых – сохранить свою изоляцию и безопасность. Покинув планеты, они переселились в астроиды, в максимально защищенные от любых катаклизмов космические поселения, где и пребывают до сих пор. Они нанимают другие расы – как правило, многочисленные и воинственные, – для охраны своей среды обитания. Известно, что такими Защитниками некогда были хапторы, затем дроми; последние восемь веков эту функцию выполняют наемники из Земной Федерации. Наконец, они торгуют со множеством обитаемых галактических миров, отправляя свои караваны за сотни и тысячи световых лет. Торговые и дипломатические контакты они поддерживают через сервов, совершенных роботов, всецело преданных своим хозяевам. Сервы обладают достаточным разумом для решения любых задач, кроме одной: поскольку их интеллект превосходит границу Глика-Чейни, они неспособны к актам насилия и не могут использоваться в качестве боевых роботов. Именно так, в терминах «хозяева-слуги», описывались до сих пор в земных источниках взаимоотношения лоона эо и сервов. Мы собираемся нарушить эту традицию, впервые рассмотрев сервов как разумную расу, пусть даже – гипотетически! – искусственного происхождения. Длительный срок взаимодействия с сервами-дипломатами в Посольских Куполах[218] на Луне дает к этому все основания; в этой связи мы можем сослаться на ряд выдающихся личностей, оставивших мемуары о подобных контактах. Все эти лица отмечают не только разумное поведение сервов, но также их миролюбие, благожелательность и чрезвычайно уважительное отношение к землянам. Наши оппоненты отмечают, что это может быть связано с конструктивными особенностями биомеханизмов, чье назначение – контактировать с представителями земного человечества. Мы, однако, убеждены, что проблема подлежит более широкому рассмотрению, и потому…Ю. Зорин, П. Блай, К. Шаур «Основы ксенологии», обновленный базовый учебник по соответствующей специальности, глава «Теория контакта», раздел «Лоона эо», подраздел «Сервы», пятое издание.
* * *
Пришел день, и зарево над астродромом погасло, сменившись победным солнечным сиянием. С рассветом все обитатели станции, четверо землян, трое хапторов и гости-терукси, были уже на берегу: Тревельян и Сигеру устроились на камне у самой воды, Алиса, Нильс и остальные бродили по пляжу, наслаждаясь утренней прохладой и поглядывая на остров, что темнел за узким проливом. Над Раккой уже не поднимался дымный столб, и, по сообщению с «Дельфина», в других селениях костры не жгли – очевидно, новость распространилась на весь континент. Сейчас лльяно в каждой деревне занимались срочными делами – тащили на площадь для танцев резные фигурки, коврики, янтарь и шерсть. Сотни тысяч фигурок, сотни тысяч тонн шерсти… Не верилось, что все это можно собрать, переправить на корабль и увезти к далеким солнцам, в астроиды лоона эо. Но сервы, кажется, не ведали сомнений. – Смотрите! – воскликнул Нильс, вытянув руку к острову. – Поднялись! Прямо как пчелы из гнезда! Целый рой! Тревельян приподнялся, включив камеру в наголовном обруче. Над скалами и морем взмывали фонтаны серебряных искр, формируя плотный сверкающий эллипсоид. Не космические шаттлы, что приземлились ночью, а тысячи атмосферных машин – вероятно, на гравиприводе. Мгновение они висели в воздухе, в самом деле напоминая пчелиный рой, и вдруг разошлись широкими веерами на четыре стороны света. Их полет был неторопливым, бесшумным и плавным – те, что направились к западу, скользнули над людьми и хапторами всего лишь в сотне метров. Ивар успел разглядеть череду вытянутых овальных аппаратов, блеск обшивки и прозрачных кабин, днища с похожим на киль выступом; армада проплыла в вышине и скрылась за лесом точно сказочный флот эльфов или фей. – Ни один не опустился! – с обидой проронила Алиса Виктория. – Похоже, нас игнорируют, – добавил Инанту. – А почему? В торговле мы им не конкуренты! Обернувшись, Тревельян увидел, что его сотрудники и гости уже не бродят по берегу, а собрались у камня, рядом с начальством. Все были здесь, даже Обна Шета. Сегодня она облачилась в багряную накидку поверх алого платья и выглядела, словно пышная роза среди скромных фиалок. На лице – ни следа вчерашних тревог; глаза горят, тонкие ноздри трепещут, в волосах сияют рубины. – Они боятся, – произнес Сигеру'кшу на земной лингве. – Они разглядели меня и моих пасеша и боятся. Они – как это выразить?.. – не источают расположения к хапторам. – Это верно, – согласился Ивар. – Отчего же? – Алиса придвинулась ближе к Тревельяну. – Ведь хапторы не воевали с их хозяевами, а были их Защитниками! Правда, очень давно. Археолог погладил череп между рогами в серебряных колпаках, зазвенела цепочка, сверкнул свисавший с нее фиолетовый камень. – Есть легенда, поко, – важно вымолвил он, – легенда о Владыках Пустоты, и ты ее знаешь. Даскины, повелевавшие Галактикой, куда-то скрылись, исчезли из нашего пространства-времени, а по какой причине, нам неведомо. К чему они стремились, как выглядели и куда ушли?.. Загадка! На разных мирах мы находим только обломки их машин, находим удивительных тварей, и одного такого монстра мы обнаружили здесь… – Сигеру'кшу раскрыл пасть и так глубоко втянул воздух, что в горле у ного заклокотало. – Хрр… Но не об этой твари я говорю, а о даскинах! Они исчезли, но оставили существ, что наблюдают за нами, судят тайно наши деяния, могут проникнуть в наши мысли и способны уничтожить любой народ в Галактике. Уничтожить или возвеличить… Они – Владыки Пустоты! Мантия Обны Шеты всколыхнулась, она небрежно повела рукой. – Это суеверие! Были Древние, была великая цивилизация, и мы теперь копаемся в ее руинах… Руины! Вот все, что нам оставили. Нет никаких Владык Пустоты! – Ты так думаешь, досточтимая? – произнес Инанту. – Что питает твою уверенность? – Они бы от меня не скрылись, – с гордым видом сообщила провидица. – Я бы услышала их! Я могла бы с ними говорить! Я, Обна Шета Тренгар! – Ты женщина, чей язык долог, а ум короток! Слушай, что я говорю, или уходи! – выкрикнул Сигеру'кшу. Но успокоился и продолжил: – У хапторов нет бога и нет пророка, как это сложилось у ашинге, у землян или кни'лина, нет того, что называют теологией, нет молитв, обрядов и священных книг. Этого нет, но есть вера… многие верили и верят в тайных Владык Пустоты, особенно в клане Хшак, и в прошлом это заменяло религиозную доктрину. Верили, что они существуют, а кто слишком громко сомневался, отправлялся на корм шад'кул, то есть синим червям… Верили, что раса, вступившая с Владыками в контакт, станет избранной, получит огромное могущество и власть над всей Галактикой… Верили, но не знали, как связаться с ними. Самонадеянных провидцев у нас нет. – Сигеру бросил ядовитый взгляд на Обну Шету. – И тогда возник еще один миф, странный и опасный, миф о лоона эо, которые будто бы знают, как связаться с Владыками. – Знают тайный код или сигнал, скрытый от других народов, – подхватил Тревельян. – Вот настоящее суеверие! И в результате хапторы пытались пленить лоона эо, полагая, что все особи этой мудрой расы могут связаться с Владыками. Об этих предрассудках у нас писали… Николь Беранже в «Мифах Галактики», Майкл Киш в «Философии космической эры» и, как помнится мне, другие авторы. Но лоона эо недосягаемы в своих астроидах, они не странствуют среди звезд и не вступают в прямые контакты. Пленить лоона эо невозможно. – Однажды это удалось. Удалось! – произнес Сигеру'кшу и смолк с загадочным видом. Тревельян удивленно поднял брови. – Неужели, пха? И когда же это случилось? – Века три назад, вскоре после войны, которую у вас называют Пятилетней[219]. Шаххаш'пихи… это имя тебе ничего не говорит? – Нет. – Ивар покачал головой. – Шаххаш'пихи, ветеран войны, офицер Куршутбаима и вождь мелкого клана… очень власть полюбивший и злопамятный… Он поймал лоона эо и пытался выяснить у него, как связаться с Владыками. Но тщетно – пленник погрузился в транс, и все меры… хрр… воздействия на телесную сущность были бесполезны. В результате Шаххаш'пихи погиб при неясных обстоятельствах, а лоона эо освободили[220]. – Поймал лоона эо! – в один голос воскликнули Алиса Виктория и Инанту. Потом Алиса спросила: – Но как ему это удалось? Не миф ли твоя история? – Нет, поко. Тот лоона эо был очень странным существом, он покинул свой астроид, а почему и зачем – неизвестно. Не миф! Все правда, поко, истина, бессомнительный случай! Куршутбаим провел расследование, и в его архивах сохранились записи. – Сигеру'кшу лязгнул зубами и шумно вздохнул. – Теперь сервы нас не любят и боятся. Так есть, и так, наверное, будет до скончания времен. – Но все-таки они решились нанести нам визит. Наконец-то! – промолвил Нильс, всматриваясь в остров, темневший за полосою вод. – Никогда не видел сервов… в реальности, я хочу сказать… Они в самом деле похожи на лоона эо? Никто ему не ответил. Сверкающий аппарат возник над вершинами скал, спустился ниже и направился к берегу. Его движение напоминало полет листка, несомого сильным и ровным ветром; чудилось, что он составляет единое целое с воздушной средой, бирюзовым небом и солнечными лучами. Он плыл у самой воды, над мелкими, тихо рокочущими волнами, и за ним скользила тень, полупрозрачная и едва заметная. – Кажется, и правда к нам, – произнес Ивар, поднялся с камня и оправил свой комбинезон с эмблемой Фонда на левом плече, золотой спиралью на фоне Галактики. – Алиса и Обна Шета, подойдите ко мне, мужчины пусть встанут за нами. Говорить буду я. Остальные молчат и не делают резких жестов, чтобы они не встревожились. Улыбаться и демонстрировать зубы тоже не советую. – Он покосился на Шиза'бауха, разинувшего пасть, и добавил: – Девушки могут принять изящные позы – сервы ценят красоту и грацию. Маленькая машина бесшумно опустилась на песок, с тихим звоном приподнялся верх кабины, выглянуло бледное большеглазое личико. «Смотрит, изучает», – подумал Тревельян, отправив импульс дружелюбия и ощущения покоя. Затем произнес на торговом жаргоне: – Рад заглянуть в твои глаза, друг мой. Счастье видеть тебя равно твоей благосклонности. Это было самым теплым приветствием, какое он мог измыслить. Вполне возможно, сервы, летавшие в столь далеких от Земли краях, никогда не встречались с людьми, а значит, могли опасаться их не меньше, чем хапторов. К тому же серв-торговец – не дипломат из Посольских Куполов, созданный для контакта с земным человечеством. Те даже внешне копировали не лоона эо, а людей. – Человек! – внезапно раздался тонкий хрустальный голос. Серв покинул свой аппарат, уставился на Тревельяна и его спутниц и произнес в явном изумлении: – Люди! Мужчины, женщины! И хапторы! – Научная экспедиция, – сообщил Тревельян. – Мы изучаем быт, нравы и искусство лльяно и не намерены мешать вашим торговым операциям. Не нужно нас опасаться. – Я знаю. Там, где люди Земли, там безопасность и мир. – Серв покосился на хапторов и склонил голову. – Я тоже рад встретиться с вами взглядом. Простите, что был невежлив и сразу не приветствовал вас с должным почтением. Моя вина выше лун Куллата. – Он приложил к груди узкую четырехпалую ладошку и представился: – Первый Помощник Торговца с корабля «Айлил». – Почему не сам Торговец? – недовольно пробормотала Алиса. – Зато этот такой хорошенький! – отозвалась Обна Шета. – Глаза и ресницы… ах, какие ресницы! Интересно, может ли он… – Нет! – отрезал Тревельян. – В этом смысле сервы бесполезны! И, ради Великой Пустоты, замолчите обе! Серв и впрямь был хорош: огромные серые глаза, вытянутые к вискам, тонкие черты лица, хрупкая грациозная фигурка. Поверх облегающего комбинезона – мантия из легкой ткани, отливающей то темно-синим, то лазоревым. Длинные светлые волосы падали на плечи, серебряный обруч охватывал их, над ухом поблескивал крохотный шарик – должно быть, записывающий прибор. «Несомненно, важная личность, – решил Тревельян. – Хотя и не такого высокого ранга, как Первый Регистратор, с которым я встречался в былые дни». Он назвал свое имя и имена спутников. Потом промолвил: – Вы прилетели в неподходящее время, Помощник. Местное светило со всеми его планетами оказалось на пути газового потока, выброса из галактического ядра. Правда, мы приняли меры, чтобы его отразить, операция пока идет успешно, и я надеюсь, будет успешной и впредь. – Ивар сделал паузу. – Но все же этот мир объявлен зоной повышенной опасности. Вам известно об этом? Серв никак не отреагировал – лишь взметнулись веера ресниц да чуть потемнели глаза. В ментальной волне, пришедшей от него, не замечалось страха, только доброжелательность, безмятежный покой и слабый отзвук тревоги, когда он посматривал на хапторов. Кажется, он уверен, что Лиане-Секунде ничего не грозит – ничего такого, что стоило бы упоминания. – Вы знаете об этом? – повторил Тревельян. – Конечно, угроза гипотетическая, и я полагаю, наш флот справится с нею. Но все же… Помощник Торговца взмахнул руками, его мантия взметнулась, вспыхнув голубыми искрами. – Мы посещаем этот мир тысячи лет. Задолго до того, как я увидел свет и тьму, мы уже были на планете лльяно, исполняя волю и приказ Хозяев. Здесь ничего плохого не случается – никогда, никогда! Тихий мир, спокойный, неизменный, с ясным небом и теплым солнцем… И так будет, пока не истает время и не расточатся звезды. Последняя фраза означала вечность или столь большой период времени, что его конец был неопределенным. Такого оптимизма Тревельян не разделял, твердо зная, что всему на свете, от звезд и планет до живых созданий, отмерен срок, который можно исчислить, не ссылаясь на вечное и неизменное. Ему казалось, что сервам это понятнее, чем людям и хапторам – ведь их жизнь была очень долгой, и значит, они видели больше перемен, происходящих в любом из обитаемых миров Галактики. Или это их не интересовало, как факт, не связанный с существованием Хозяев?.. В астроидах лоона эо ничего не менялось, ни в астроидах, ни в Розовой Зоне, ни на торговых кораблях, и это могло породить у сервов странные иллюзии. Вечное и неизменное относились к философским категориям, и для обсуждения таких вещей, а также иллюзий больше подходил Первый Регистратор, а не Помощник Торговца. Решив не спорить с ним, Ивар произнес формулу пожелания успеха и осведомился, не хочет ли гость осмотреть станцию? Серв бросил взгляд на хапторов, моргнул и жестом сожаления приложил к груди обе ладошки. – Моя благодарность равна вашей доброте, Ивар Тревельян. Но теперь, когда я выразил свое почтение, я должен вернуться к каравану, к другим Помощникам и Надзирающим За Грузами. Континент велик, а нас не так много… Обязанность каждого – выполнять свою работу. – Полностью согласен, – сказал Тревельян. – Надеюсь, друг мой, увидеть тебя перед отбытием, когда вы сострижете шерсть со всей планеты. Маленький аппарат умчался к острову. Люди и хапторы, собравшись тесной кучкой, смотрели, как серебристый корпус скользит над тихими водами, словно пытаясь обогнать собственную тень. На лицах женщин застыло мечтательное выражение, словно им явился сказочный эльф или наследный принц из царства фей. Глаза Алисы Виктории увлажнились, на губах играла улыбка, Обна Шета поглаживала край своей багряной мантии и что-то тихо шептала. «Не робот, живой… совсем как живой…» – различил Тревельян. Сигеру'кшу шумно перевел дух. – И все же они нас боятся! Этот кирицу'ххе косился на меня… думал, прыгну и разорву его на части! Хрр… Кибер, дурацкая кукла, хохо'гро! – Не называй его так! – возмутилась Обна Шета. – Он прелесть, милашка, а вовсе не кибер! И одет очень изысканно… его плащ… Что это за ткань? Я хочу такую накидку! Хочу! – Она вцепилась в локоть Тревельяна. – Лучше два, для меня и для твоей супруги, милорд консул. Ей этот цвет будет к лицу! – Два не обещаю, – сказал Ивар. – Но когда этот парень снова появится, мы его разденем. Как насчет комбинезона? Он тебе тоже приглянулся? Провидица фыркнула, но руку Тревельяна не выпустила. Оранжевое солнце Лианы неторопливо ползло в зенит, нагревая песок и прибрежные скалы. Утренний ветер стих, море казалось голубоватым зеркалом, на небе – ни облачка, только парят в вышине крылатые хищники-рыбоеды. Временами то один, то другой камнем падал вниз, выхватывая из воды добычу. Становилось жарко. Ивар ощутил, как знойный воздух сушит горло и на висках выступает испарина. – Надо бы душ принять, – пробормотал Инанту, вытирая струйки пота. – И выпить что-то освежающее, – добавил Сирад Ултаим. – Апельсиновый сок, – поддержала их Алиса. – Ополоснемся, сядем в кают-компании, просмотрим записи, поговорим… Ты ведь, милый, не забыл включить камеру? – Разумеется, дорогая. Все включено, и ничто не забыто. Обняв Алису за плечи, Тревельян направился к станции. Несмотря на зной и духоту, жизнь казалась ему прекрасной: слева – сероглазая красавица-шатенка, справа – брюнетка с темными, как ночь, очами. Нежная плоть под ладонью, блеск женских глаз, чарующий аромат, улыбка, в которой обещание… Все, как в былые времена где-нибудь на Гондване или в венерианской зоне отдыха… безоблачное небо, солнце, море и две прелестные девушки… Мигнули и погасли огоньки в защитном поле, раскрылась дверь жилого купола, прохладный воздух остудил кожу. В эту секунду Ивар почувствовал: что-то не так. Алиса, прижимаясь к нему, шла легким шагом танцовщицы, но движения Обны Шеты вдруг замедлились и стали неуверенными. Провидица тяжело обвисла на его руке, и, заглянув в ее лицо, он увидел, как женщина бледнеет. Ее зрачки закатились, из прокушенной губы выступила капля крови. – Сигеру! Пха Сигеру! – крикнул Тревельян. – У нее опять приступ! Помоги мне! Скорее! Шагнув к нему, археолог обхватил Обну Шету огромными лапами и взвалил на плечо. Затем пробормотал: – Не самка, а средоточие несчастий… хашшара безрогая… Куда ее? В медблок? – В ее комнату, – распорядилась Алиса, властно отстранив подскочившего Сирада. – Не мешай, я сама о ней позабочусь! Иди в зал, пей сок и не путайся под ногами! И вы, остальные… – Она оглядела мужчин. – Консул отправится со мною, а вы займитесь своими делами! Всем ясно? Вздернув носик, она с решительным видом направилась к покоям провидицы. Ивар шел за нею, стараясь не отставать, сзади топотал Сигеру'кшу. Обна Шета свешивалась с его плеча словно мешок, набитый опилками. – Ее обмороки становятся слишком частыми, – произнес Тревельян в затылок Алисе. – С чего бы? Конечно, у нее имплант, но нет ли в том естественных причин?.. Свяжусь-ка я с трафором, с нашим Гундобальдо… Пусть поищет данные о физиологическом цикле женщин-терукси… – А смысл какой? – не оборачиваясь, ответила его супруга. – Не в циклах дело, и ты это прекрасно знаешь. Лучше послушай, что она скажет, когда очнется. – Ты права, тхара, – кивнул Тревельян и после паузы добавил: – Как всегда, моя ласточка. Сигеру'кшу удалился, пожелав безрогой хашшара увидеть в снах охапку сена. Ивар и Алиса остались у постели провидицы. Она лежала на спине с закрытыми глазами, ее дыхания не было слышно, но кажется, щеки начинали розоветь. Вдруг веки Обны Шеты дрогнули, ресницы поднялись, и она тихо, но отчетливо проговорила: – Вина… дайте мне вина… Подойдя к столу, Алиса наполнила бокал тинтахским. Первый же глоток сотворил чудо: Обна Шета приподнялась, обхватила запястье Алисы и, вытянув губы трубочкой, жадно всосала вино. – Еще! Она осушила второй бокал. Капли алого вина текли по подбородку, пятнали платье. – Ивар… Ты здесь, милорд консул… ты и твоя жена… Вы так добры ко мне… жаль, если придется вас покинуть… – Не покидай, не надо, – сказала Алиса. – Знаешь, я уже почти смирилась с твоим присутствием. – Но он зовет меня, и это зов любви… Он сказал, что я ему нужна, что он исполнит все мои желания, станет таким, как я захочу… Он хотел бы унести меня в простор Галактики, где мы будем странствовать вечно, вечно, от звезды к звезде, от планеты к планете… будем любить друг друга и искать тех, кому он обязан жизнью… Алиса Виктория пожала плечами. – Если так, отправляйся с ним и странствуй в свое удовольствие. Мы тебя не задерживаем, Обна Шета Тренгар. В чем проблема? – Он не может улететь, – шепнула провидица. – Его долг… Он обязан находиться здесь, пока его не отпустят. Бросив взгляд на Тревельяна, Алиса многозначительно приподняла брови. – Значит, пока не отпустят… Кто? – Его владыки… его повелители… «Опять сентиментальные бредни?.. – подумал Ивар, вслушиваясь в шепот провидицы. – Нет, не похоже… Не бредни и не видения грядущего, а нечто иное – контакт с чужеродным существом, обитающим то ли на планете, то ли в каких-то астральных сферах». Догадаться, кто это, было нетрудно. Он сосредоточился и перебросил ментальную нить к северному континенту. Ивар шел по знакомому пути, ожидая увидеть хаос черных пятен и тусклых огней, мерцающих на периферии нечеловеческого разума, огромной твари без мыслей, без эмоций, без собственного «я», брошенной здесь даскинами. На мгновение тьма окутала его и тут же взорвалась фонтаном искр, летевших будто бы из пустоты. Яркий всплеск, за ним другой, третий… Где-то за вращением этих световых потоков находилось ядро, которое Ивар не разглядел – вспышки слепили его, затрудняя поиск. Что несли эти сигналы?.. Он попытался разобраться в смеси импульсов, найти нечто такое, о чем говорила Обна Шета. Безуспешно! Отзвук эмоций он мог уловить, но смысл?.. Что это было – сожаление?.. угроза?.. торжество?.. Возможно, страх одиночества и тяга к контакту?.. Либо призыв, на который кто-то должен был откликнуться – призыв, оставшийся без ответа?.. Ивар оборвал связь. Кажется, его транс длился минут двадцать или больше:провидица уже погрузилась в сон, а Алиса, сидевшая в изголовье постели, смотрела на него, то стискивая, то разжимая кулачки. Ее глаза были огромными. – Что ты видел, Ивар? Что почувствовал? – Он пробудился, тхара. Наш приятель с северного континента. – Тревельян провел по лицу ладонью, будто желая стереть ментальные фантомы. – Он бодрствует – весь или значительная часть его разума. Причина мне непонятна. Когда мы улетали с Ххешуша, эта тварь спала. – Он бодрствует и посылает ей видения? – Алиса бросила взгляд на Обну Шету. – Это не исключено. Но зачем? – Ивар покачал головой. – Я не смог получить ясного ответа. Неясного, впрочем, тоже. Алиса сплела пальцы на колене. Губы ее дрожали, в глазах билась тревога. – Хочешь снова уйти в транс? Связаться с ним? – Нет, милая, не хочу. Думаю, это бесполезно. Я не умею читать мысли, а на эмоциональном уровне он не поймет моих вопросов, а я – его ответов. Такая информация слишком расплывчата и неконкретна. – Но Обна Шета его понимает. – Или ей так кажется. – В свой черед он посмотрел на спящую женщину. Затем произнес: – Нужно говорить с ним. Говорить! Вспомни, что сказано у Йездана: нет прочнее моста, чем сложенный из слов. – Говорить? Но как? Ты фантазируешь, милый! – Немного фантазии не помешает. – Тревельян взял ее руку, погладил пальцы и, снимая напряжение, поцеловал ладонь. – Идем, тхара! Наша великая провидица спит, и мы тоже нуждаемся в отдыхе. Что ты мне предлагала? Сядем в кают-компании, выпьем сока, посмотрим записи… Но главное, поговорим! Есть о чем, не так ли?* * *
В седьмом часу ночи Тревельян покинул свой жилой отсек. Алиса спала, разметав по ослепительно белой подушке каштановые локоны, спали хапторы и люди, кольцевой коридор был тихим и пустым. Осторожно ступая, он добрался до второго шлюза и вышел во двор. Не включая свет, оглядел небо с сияющим потоком Млечного Пути, вдохнул прохладный ночной воздух и зашагал к ангару. Створки ворот разошлись перед ним. Блок, где хранились копии лльяно, встретил Ивара мягким мерцанием световых панелей и гулкой тишиной. Вдоль стен поблескивали хрустальные цилиндры с застывшими в них фигурами, пасти копий были приоткрыты, глаза широко распахнуты, и казалось, что вся компания манекенов взирает на пришельца с каким-то хищным интересом. На всякий случай Тревельян вызвал двух роботов и заблокировал двери. Потом пробормотал: – Ну, любезные, пусть будет ваша шерсть длинна, а когти остры… Кто тут у нас самый шустрый? И самый разговорчивый? Тишина была ему ответом. Впрочем, иного он не ожидал. Связь! Нужно установить связь! Ментальная нить соединила его с разумом древней твари. Некоторое время Ивар всматривался в открывшуюся картину, в потоки импульсов-искр, что вспыхивали в темноте, блуждая среди сгустков мрака. На этот раз он смутно разглядел ядро – точнее, бесформенное световое пятнышко, порождавшее искры и словно направлявшее их движение. Другой активности пока не замечалось. Большая часть этого странного разума по-прежнему дремала, только один из мыслящих кластеров бодрствовал. Самый главный, воспрянувший от сна по сигналу тревоги?.. Или его пробуждение было делом случая?.. Не пытаясь угадать, Ивар послал видение: отсек с неподвижными мохнатыми лльяно, блеск прозрачных цилиндрических контейнеров, а в середине их круга – изображение человеческой фигуры. Пятнышко света, которое он счел разумной сущностью, ответило яркой вспышкой и фонтаном огней. «Кажется, любопытство», – решил Тревельян, уловив неясную эмоцию. Затем он представил другие картины: раскрытый контейнер, копия, что спускается из него, шлюз жилого купола и коридор с тремя псевдолльяно, ковыляющими навстречу Алисе. – Прошлый раз ты до них добрался, – промолвил Тревельян. – Значит, можешь, если захочешь. Ну так приходи, поговорим! Несколько слов тебе уже известны, а другие я подскажу. Он ждал, озирая содержимое цилиндров. Два универсальных робота застыли за его спиной. Их лицевые панели с выступающими по бокам сенсорами были бесстрастны, будто отшлифованные водой и ветром валуны. Ивар ждал. В какое-то мгновение ему почудилось, что в зрачках одной из копий мелькнул и погас огонек. Однако манекен не шевельнулся и с места не сдвинулся. «Предположим, – думал он, – тварь желает общаться не с ним, а только с провидицей-терукси. Я мог бы послать ее изображение, ее визуальный облик, но это ничего не даст – тот, с кем он пытался говорить, воспринимал ментальный спектр Обны Шеты, а его не подделаешь. К тому же не исключалось, что ее слова о зове любви, исполнении желаний и вечных странствиях в Галактике всего лишь фантазии мечтательной натуры. Реальность могла быть иной – возможно, это создание питает к Обне Шете не больше интереса, чем к лунам в здешних небесах». Невольно Ивар представил эти спутники Лианы – Желтую луну, что первой восходит над горизонтом, и четыре серебристых, тянущихся вслед. Видение было таким отчетливым, словно он находился не в ангаре, а под открытым небом. Лунный караван мелькнул в его сознании, проплыл над головой и с тихим шелестом растаял в темноте. С шелестом?.. Стенка контейнера сдвинулась, и псевдолльяно ступил на пол отсека. Его глаза мерцали, когтистые лапы вцепились в шерсть на бедрах. Он покачивался, с трудом сохраняя равновесие. – Песашш… – проскрипело существо, пытаясь то ли опробовать голос, то ли справиться с непослушной глоткой. – Песашш, пессаш, пейзаж… унылое место… кто сотворил?.. кто, кто?.. – Я, – произнес Тревельян в радостном возбуждении. – Место мое, и все здесь сделано мною. Кстати, не такое уж оно унылое. Ожившая копия слушала, уставившись на него маленькими блестящими глазками. – Сотворил, сделал, выполнил, произвел… – снова раздался скрежет, так непохожий на певучую речь лльяно. – Творец, творящий, творитель… Владыка? Тот, кто вернулся? Подтверждение? – Подтверждения нет. Здесь владыка, но не вернувшийся. Новый владыка, – сообщил Ивар. – Говори со мной. Кто ты? – Существо, создание, творение. – Пауза. – Это существо может говорить. – Пауза. – Обладает словами. – Откуда? Узнал от меня? – Отрицание. Другая связь, соединение, контакт. Узнал от другой связи. Много слов. – Пауза. – Но слова не такие. «Другая связь – Обна Шета, понял Тревельян. – Разговорчивая! И что она ему наговорила?..» – Не такие слова. Требуется уточнение, – произнес он. На секунду или две псевдолльяно замер, словно в раздумье, потом запрокинул голову и испустил протяжную трель. Хлынули звуки – бурный стремительный поток, в котором слово догоняло слово, сливалось с ним, превращая сказанное в невнятную скороговорку. Не улавливая смысла, Тревельян, однако, понял, что слышит речь терукси. Разумеется, терукси! Родной язык Обны Шеты, запечатленный в ее сознании… – Хватит! – промолвил он. – Я пойму другие слова, если ты будешь говорить медленнее. Скажи, в чем твоя цель? Зачем ты здесь? – Цель, – повторило существо, опять на земной лингве. – Цель, долг, назначение… Защита. Защита и сохранение жизни. – Защита от чего? Тишина. Потом: – Нет терминов. Нет информации. Другие знают. Тревельян снова коснулся сгустков мрака, среди которых сияло светлое пятнышко. Его мысль была властной и мощной. – Я – владыка, новый владыка, – произнес он вслух. – Новый Повелитель Пустоты! Это понятно? – Подтверждение, – послышалось в ответ. – Вот мой приказ: я желаю выяснить, почему требуется защита? Спроси у других, если не можешь ответить сам. – Другие в стазисе. Активировать их? «Слишком рискованно», – подумал Ивар. Панорама Ххешуша раскрылась перед ним; он снова увидел, как под могучим напором трескается лед и взмывает в воздух фонтан черной жидкости, превращаясь в грозящее небу копье. Слишком рискованно! В конце концов, есть масса угроз для планетарной жизни, понятных и давно известных: оледенение, вулканы, падающие астероиды, а теперь еще и поток… Можно не любопытствовать, не осложнять ситуацию. – Активировать не нужно. Приказ отменяю, – промолвил он. – Конец связи. Глаза манекена погасли, он беззвучно повалился на пол. – Убрать на место, – велел Тревельян роботам. – Останьтесь здесь и наблюдайте. Если кто-то зашевелится, из ангара не выпускать, а сообщить мне. Он вышел во двор и бросил взгляд на небо. Пять лун плыли в вышине, словно странники на Млечном Пути, пересекающие из конца в конец звездную реку.Глава 12 Поселение лльяно и берег моря около лагеря. Орбита, экспедиционное судно «Дельфин»
У людей дар внечувственного восприятия настолько редок, что этот феномен даже в наши дни порождает множество легенд и слухов. Самая распространенная версия связана с давними событиями, со Вторжением в Солнечную систему корабля фаата. Представители их высшей касты являются телепатами (хотя этот факт до сих пор не подтвержден), и капля их крови могла повлиять на земной генофонд. В этом уверены некоторые историки, считающие, что фаата проводили эксперименты над пленными людьми, цель которых – создание гибридной расы слуг, работников и воинов. Это тоже сомнительный факт; возможно, паранормальные таланты связаны не со Вторжением, а с другими, вполне естественными причинами – например, с редкой генетической аномалией. Если у земного человечества такую способность нужно рассматривать как флуктуацию, то у расы терукси она проявляется заметнее и чаще. Как выше упоминалось, терукси – прирожденные эмпаты с широкой вариацией внечувственного дара у разных лиц. Иногда этот феноменальный талант ведет к формированию устойчивых мыслеобразов, способных преобразовывать реальность. Если бы у носителей дара был некий материал, чувствительный к ментальным излучениям, они могли бы овеществить структуры, сложившиеся в их сознании – иными словами, «вылепить» любой предмет, техническое устройство и даже живое существо. Разумеется, это никогда не проверялось – за отсутствием веществ, способных к сложной трансформации под воздействием чувств и мыслей.Марианна Алферова«Терукси. Обретение рая».
* * *
День выдался неспокойный и хлопотливый. Над станцией и морем кружили серебристые машины, мчались с грузом к острову, словно птицы в гнездо, снова взлетали, сбивались в стайки и тянулись на все стороны света. Не прошло и двух часов, как с астродрома поднялись космические шаттлы, поплыли за бирюзовые небеса, туда, где поджидал их огромный торговый корабль. Конвейер, протянувшийся от поселений лльяно до орбиты, работал точно, быстро, безостановочно. Ивару помнилось, что сервы не нуждаются в отдыхе и сне, но никто не знал, когда и как восполняют они энергию. Возможно, она текла к ним вместе с солнечными лучами и светом звезд?.. Или они черпали ее из хаотических флуктуаций Лимба?.. Или каждый из них, родившись и увидев свет и тьму, получал заряд энергии, которого хватало на всю их долгую жизнь?.. Сейчас эти тайны не волновали Ивара. Торговый обмен между лльяно и сервами был редким событием, которое еще никто не наблюдал, и значит, его полагалось изучить, запечатлеть и описать. Независимо от прочих обстоятельств! Тварь с Ххешуша могла подпрыгнуть до небес и расплескать моря, но задач экспедиции никто не отменял. В Ракку отправились утром – Сигеру'кшу со своими ассистентами и Тревельян с Алисой и Инанту. В деревне царило оживление, мастера и охотники тащили из-под навесов шерсть, статуэтки и шкуры, а шесть старейшин занимались подсчетом имущества и товаров, полученных в обмен. На площадке для танцев четыре хххфу ата, тощих пришельца, разгружали с помощью юрких киберов свои машины, выкладывая контейнер за контейнером – они уже громоздились штабелями в рост человека. Еще один пришелец о чем-то спорил с Говорильником Рахашем – похоже, речь шла о качестве товара. Дискуссия была жаркой, ибо Рахаш верещал, подпрыгивал, выдергивал клочья шерсти с живота и совал их серву под нос. Братья Шарбу и братья Сукур вели себя спокойно, пересчитывали статуэтки и тюки, отмечая их зарубками на палочках, а Хахт, раскрыв контейнер, изучал инструменты, ножи для резьбы, пилки, молоточки, сверла. Все были при деле, все, кроме пушистых ффа'тахх, встретивших Алису радостными воплями. Оставив ее в толпе малышей, исследователи приступили к съемке. Инанту, Сигеру и его помощники, держась подальше от сервов, обошли площадку для танцев, развешивая тут и там камеры – часть парила в воздухе, другие были скрыты в листве хх'бо. Тревельян фиксировал процесс торговли крупным планом, стараясь запечатлеть содержимое вскрытых контейнеров. В общих чертах предметы обмена: щетки, гребни, чесалки и всевозможный инструмент, не были тайной, но точный список и систематика могли пригодиться. Дождавшись, когда Рахаш перестанет визжать и прыгать, Ивар приблизился к спорщикам. Серв, пятый в компании хххфу ата, очевидно был из младших Помощников Торговца – его плащ переливался желтым и оранжевым, скреплявшая его застежка сияла, будто крохотное солнце. Приложив к груди узкую ладошку, он произнес: – Счастлив встретить твой взгляд, Ивар Тревельян. Живи вечно! Живи, пока не исчезнут пятна на луне Куллата! – Тебе известно мое имя? – Как всем на корабле. Всем, от Торговца до последнего из Надзирающих За Грузами. Первый Помощник сказал, что ты человек с Земли. Ивар всмотрелся в бледное лицо серва. Оно было абсолютно бесстрастным. – Что еще сказал Первый Помощник? – Что тебя что-то беспокоит… кажется, выброс из галактического ядра… – Ресницы серва чуть дрогнули. – Нет повода для тревоги, Ивар Тревельян. Здесь ничего плохого не случится. – Ты повторяешь слова Первого Помощника. Ты в этом уверен? – Так говорит Торговец, и так говорят Хозяева, – раздалось в ответ. – Торговец… интересно… Могу я его повидать? – Он на орбите, принимает грузы. Ты можешь подняться к нему, Ивар Тревельян, и спросить о том же. Но я… – Серв сделал паузу. – Я и каждый из нас знает, что ты услышишь от Торговца. Он тоже повторит слова – слова Хозяев. А сказанное ими – истина. – Я в этом не сомневаюсь, – молвил Тревельян и произнес формулу благодарности, принятую у лоона эо: – Да будет моя жизнь выкупом за твою! Я не поднимусь на орбиту и не стану тревожить Торговца. У него и так много дел… шерсть, шкуры, статуэтки… – Он бросил взгляд на Говорильника Рахаша – И упрямцы-лльяно. – Наши разногласия урегулированы, – сообщил серв в желто-оранжевом плаще. – Рад за вас. Как говорят кни'лина, торговля смягчает сердца, если приносит выгоду. С этими словами Ивар повернулся и зашагал к Алисе. Кажется, запас шоколада иссяк, и малыши оставили ее в покое.* * *
На станцию они возвратились в третьем ночном часу, когда небо усеяли яркие звезды. С наступлением темноты подул свежий ветер, изгнавший память о дневной жаре, духоту сменила приятная прохлада, и на морском берегу дышалось легко и свободно. В экваториальной зоне Лианы это время было лучшим для отдыха и прогулок. А после утомительного дня, проведенного в Ракке, отдых был совсем не лишним. Инанту и хапторы решили поужинать и отправиться на покой, Тревельян с Алисой остались у моря. Они сидели на камнях, там, где приземлился вчера Первый Помощник Торговца – на песке еще можно было различить следы его маленьких ног. Пять лун плыли над ними, в вышине сиял центр Галактики, от утесов протянулись причудливые тени. Среди скал что-то топотало и шуршало – кажется, шестилапые, покинув норы, вышли на охоту. Прислушавшись к этим звукам, Алиса вытащила из сумки бластер и положила на колени. – Удивительно, – сказал Тревельян, – столько лет я странствовал в одиночестве, а теперь не в силах этого представить. Я привык, что ты рядом, что ты обнимаешь и защищаешь меня… Это расслабляет. Я теряю бдительность, тхара. Ветер взвихрил волосы Алисы, прядь коснулась его щеки. – Ты был не один, а со своим Советником, – заметила она. – Конечно, он не может тебя обнять, не может защитить, зато мысли у вас общие. Мысли и секреты, – добавила Алиса со вздохом. – О чем ты говоришь, дорогая? Сказано у Йездана: «Подушке ведомы все тайны мужа и жены…» Других у меня нет. – В самом деле? А куда ты отлучился прошлой ночью? Думаешь, я не заметила? Теперь вздохнул Тревельян. – Это не секрет, моя тхара. Я как раз собирался тебе рассказать… Я говорил с нашим знакомцем с северного континента. Глаза Алисы широко распахнулись. – Говорил? Как? Ментально? – Нет, через порт голосового контакта, через псевдолльяно. Таким же образом, как в ту ночь, когда копии забрались в жилой модуль. Помнишь? – Да, Ивар. Но они бормотали что-то неразборчивое. – Теперь он лучше владеет языком – земной лингвой, я имею в виду. На терукси, кажется, общается свободно. Сказал, что Обна Шета его обучила. Он называет ее Другая Связь. – А ты, значит, не другая… – Алиса погладила его по щеке. – Ты – первая и главная… – Умница. – Тревельян усмехнулся. – Твоя шерсть длинна и когти остры… Я и впрямь Первая Связь, но насчет главной не уверен – у нашей провидицы контакт с ним теснее и, так сказать, интимнее. Кстати, чем она занималась днем, когда мы были в Ракке? Спрошу у Сирада. Ивар потянулся к комм-браслету, но Алиса накрыла его ладонь своей. – Не нужно. Я связалась с Сирадом и Нильсом на обратном пути. – И что они говорят? – Обна Шета велела не входить в ее комнату и не звать к обеду. Сирад опасается, что едва ли ни весь день она провела в трансе. – Лоб Алисы прорезала морщинка, глаза потемнели. – Ивар, это ненормально. И это меня беспокоит. Тревельян заглянул в лицо жены. – Ты очень добра к ней, хотя сначала она тебе не понравилась. В чем причина? Женская солидарность? Или ты видишь в ней то, чего я не замечаю? Алиса только передернула плечами. Потом вытянула руку с бластером, ослепительный разряд пронзил воздух, и подобравшийся к ним шестиног свалился на камни. – Не хочешь, не отвечай, – сказал Тревельян. – Что до Обны Шеты, то я уверен в одном: наш знакомец не желает ей зла. Скорее всего, она вообще не интересует это создание… во всяком случае, тот мыслящий кластер, что воспрянул к жизни. Все эти разговоры о безмерном одиночестве, о жажде дружбы и любви и странствиях в Галактике могут оказаться нелепой фантазией. – Ты так думаешь? Почему? – Я говорил с ним. Интеллект этого монстра выше порога Тьюринга, и он не может причинить вред разумному существу. У него есть долг, цель, назначение – защита и сохранение жизни. Думаю, для этого даскины и привезли его сюда. Однако… Излучатель Алисы снова плюнул молнией. Вняв предупреждению, шестиноги скрылись в тени скал. – Долг… Обна Шета что-то говорила о долге… Пожалуйста, продолжай. – Это полиморфный мозг, дорогая. Сейчас, кроме охранной, активирована еще одна структура – та, с которой я беседовал, и она согласна выполнять мои приказы. Возможно, это единственная частица разума, способная общаться с нами… я имею в виду живых и мыслящих созданий. Но есть и другие элементы, командный модуль, хранящий понятие о цели, банк памяти, исполнительные эффекторы и бог знает что еще. – Тревельян смолк, взирая на Желтую луну, неторопливо скользившую по небосводу. Потом сказал: – Я не знаю, что случится при их пробуждении, не знаю, смогу ли ими управлять, не знаю, что понимается под защитой. Мысль даскинов непостижима, мудрость велика, а милосердие им неведомо… Однажды они выбросили из потока времени целую звездную систему[221]. – Чтобы ее защитить? – спросила Алиса. – Нет, чтобы наказать ее обитателей. И в этом случае жизнь, биологическая жизнь, погибла. Алиса Виктория поежилась, словно была не у теплого моря, а в ледяной пустыне. – Эта тварь на Ххешуше… Как ты ее представляешь? В каком обличье? – Угольно-черные пятна, застывшие во тьме, – их ощущаешь только ментальным зрением… круговорот едва заметных искр… очень слабый обмен сигналами… Но структура, с которой я общался, выглядит иначе: светлое образование, яркое и фонтанирующее огнями. Возможно, эта часть полиморфного разума пробудилась после моего визита или наша провидица ее растревожила. Она ведь барышня настырная! – Пятна, искры, образования… – повторила Алиса. – Так видишь ты. А Обна Шета?.. Что видится ей?.. Может быть, принц на белом коне? – Блистающий Принц, так будет точнее, – промолвил Тревельян с улыбкой. – Его Блистательность и Другая Связь… Отличная парочка для странствий в галактических просторах! – Не вижу причин для сарказма. – Алиса тоже бросила взгляд на Желтую луну. – Ивар, мне вспомнилась твоя история про мозг, управлявший когда-то Сайкатской станцией. Искусственный интеллект, но без личности, без собственного «я»… вместо «я» – «это создание», «это устройство»… Кажется, так он говорил? – Да. Но к чему ты клонишь? – Теперь это наш Гундобальдо, наш робот-трансформер. Но, в сущности, уже не робот… Он провел с тобой и с Командором годы и годы, он стал вашим спутником и теперь сознает свою индивидуальность. Он больше не «это устройство»… Он захотел получить имя, и я его дала. Ты понимаешь, что это значит? – Алиса глубоко вздохнула. – Милый, он очеловечился! Вот тебе новая теорема психокибернетики! – Не буду спорить, – согласился Тревельян. – Однако, ласточка моя, формирование новой психики долгий и тонкий процесс. Как ты сказала, на это ушли годы и годы, ибо быстрее младенец, даже кибернетический, не станет личностью. Нужен длительный контакт с людьми, а Принц знаком со мной и Обной Шетой лишь несколько суток. – Ну и что? – Щеки Алисы раскраснелись, глаза сверкали от возбуждения. – Вспомни, с чем мы имеем дело… или с кем… Это не наш Гундобальдо, это творение даскинов! Чья мысль непостижима, а мудрость велика! – Но милосердие им неведомо… – напомнил Ивар и поднялся. – Знаешь, дорогая, теперь это тревожит и меня. Что ему нужно от Обны Шеты? Что за иллюзии он шлет ей? Хочет превратиться из чудовища в человека? Но зачем?* * *
Командор и призрачный Советник Тревельяна, перебравшийся в корпус универсального робота, стоял в рубке, разглядывая изображение на мониторе. В семидесяти километрах от его корабля – можно сказать, на расстоянии протянутой руки – висела цилиндрическая конструкция с распахнутыми, ярко освещенными шлюзами. Около них роились малые шаттлы: одни, задержавшись на пару секунд перед шлюзом, ныряли внутрь, другие, покинув судно сервов, неслись к планете стайкой серебристых пчел. Лиана-Секунда маячила на экранах нижнего обзора – огромный зеленовато-синий шар с белесыми пятнами облаков, перечеркнутый линией терминатора. Пчелы-корабли то взмывали с его поверхности, то падали вниз, и этот хоровод не прекращался ни на мгновение. – Шесть тысяч семьсот пятнадцать рейсов с момента выхода на стационарную орбиту, – послышался мелодичный голос за спиной Командора. Со скрипом повернув голову, он посмотрел на плоский диск, распластавшийся по задней стене рубки. Диск украшали десяток глаз на тонких стебельках и речевой орган с пухлыми губами. – Нечем заняться, бездельник? Ворон считаешь? – Никак нет, ньюри капитан. Я… Лязгнув конечностью по плечу робота, Командор прорычал: – Капитан! Только капитан, без ньюри! Обращайся по уставу! Сколько раз тебе говорить, жестянка безмозглая! – Со всем уважением, нью… то есть капитан! Я не жестянка, я Гундобальдо! – с достоинством произнес трафор. – И я не считаю ворон, а веду статистику. Количество рейсов и тоннаж грузовых модулей позволят вычислить полный вес товара, принятого на борт. На этом базируется оценка важных показателей, объемов торговли и обменных операций, цены, уплаченной за единицу груза, и так далее. А это, в свою очередь… – Закрой рот или что там у тебя имеется, – уже спокойнее предложил Командор. – Гундит и гундит… целый день гундит… Не зря тебя назвали Гундобальдо! Мозг что-то обиженно чирикнул на языке кни'лина, почти забытом призрачным Советником. Затем сообщил: – Гундобальдо – древнее земное имя, капитан. Очень, очень романтическое! Гундобальдо, Гуитторе, Дезидерио, Мальволио… Почтенная ньюри Алиса сказала, что это шекспировские имена, и я, получив одно из них, приобщаюсь к высокой поэзии. – Хорошо хоть, она не назвала тебя Джульеттой, – заметил Командор и перенес внимание на экраны. Грузовые модули по-прежнему мельтешили около шлюзов, снова напомнив ему пчел, тащивших в улей мед со всей планеты. Их звездный улей был огромен, больше солидного астероида. Прикинув его размеры, Командор пробормотал: – Что за корыто! Подходящая будет перинка, если набить его шерстью! Трафор тут же откликнулся – кажется, он отчаянно скучал и жаждал пообщаться. – Думаю, капитан, такой гигантский лайнер послан сюда с определенным умыслом. Обычно торговые суда лоона эо гораздо меньше, от пятисот до тысячи метров в длину. А в этом можно увезти не только шерсть, но и население целой планеты. – Ты думаешь! – Голова Советника опять развернулась на сто восемьдесят градусов. – Ну-ну… И что ты выдумал? – Термин «выдумка» тут не подходит, ибо посетившая меня идея есть результат логического анализа, – важно произнес трафор. – Это, капитан, мой врожденный дар, конструктивная особенность мозга. Сопоставляя разнородные факты и на первый взгляд случайные события, я могу сделать неожиданный вывод – такой, который вскрывает глубинный смысл происходящего. Ньюри консул Тревельян очень ценит мой аналитический талант. Как-то мы с ним… – Отставить воспоминания! У меня своих хватает, – строго проронил Командор. – Докладывай по существу. Трафор собрал зрительные стебли в пучок. Десять темных круглых глаз уставились на Командора. – Как вам известно, этот мир под угрозой. Если защитный экран не сдержит ярость потока, через пять-шесть дней он обрушится на солнце и планеты. Воздушная оболочка Лианы будет сорвана, поверхность сожжена, воды испарятся, жизнь погибнет, и от расы лльяно останутся прах и пепел. Другой сценарий – вспышка звезды, которая, получив энергетический импульс, превратится в сверхновую. Но результат будет таким же, даже еще более ужасным. – Мне известно другое – экран надежен, и операция идет вполне успешно, – проворчал Командор. – Ты сам себя пугаешь, недоумок. – Совсем не пугаю. Лично мне и нашей экспедиции ничего не угрожает, мы уйдем от выброса в один прыжок. Но лльяно, лльяно, капитан!.. Их судьба достойна сожаления! – Трафор содрогнулся и закатил все десять глаз. – Представьте на секунду, что экран пробит и смертоносный газ устремился к планете… Выход один – бегство, срочная эвакуация! В составе Флота есть транспортные корабли, но всех лльяно не спасешь – может быть, тысячную часть… Всей мощи Федерации не хватит, чтобы за несколько дней вывезти сто миллионов существ из тысяч поселений! Они погибнут! – Гундобальдо испустил пронзительную трель, его глаза увлажнились, кожа пошла складками. – Трагедия, ужасная трагедия! И тут появляются сервы… – Считаешь, это связано с эвакуацией? – Такой вывод очевиден, достойный капитан. Они появились у Лианы на огромном лайнере, где хватит места всем и каждому. Они послали на планету сотни модулей, а сколько их на корабле?.. возможно, тысячи… Они разлетелись по всему материку, сервы в любом поселении, сервы и машины с товаром. Избавиться от него, погрузить лльяно и поднять на орбиту… если не всех, то хотя бы треть или четверть. Командор покрутил головой. Шейные суставы робота поскрипывали и явно нуждались в смазке. – Подстраховка, – промолвил он. – Что ж, вполне возможно… лончаки – народ пугливый, а потому предусмотрительный… И они не одиноки – нильхази тоже прислали спасательную экспедицию, три здоровые посудины. Наши их чуть не сожгли, но обошлось, торчат сейчас в расположении Флота… – Вот как! Я не знал, – откликнулся трафор. – Нижним чинам положено не знать, а исполнять, – сообщил Командор. – Я в постоянном контакте с флотской службой связи, депеши приходят дважды в день, депеши и видеозаписи потока… Адмирал называет его драконом, хотя, по-моему, это просто мусор, газ и пыль… В общем, если нильхази здесь появятся, не надо удивляться. – Сложив конечности на грудном панцире, он недовольно буркнул: – Нильхази! Тоже мне спасители миров и звезд! В мои времена о них никто слыхом не слыхивал! Трафор дернулся, вытянул речевой орган и заверещал: – Даю справку, капитан! Нильхази появились в системе Гондваны около двух лет назад, что едва не привело к локальному конфликту[222], который мог перерасти в… – Отставить! – распорядился Командор. – Какие справки? Ты что же, позабыл? Я – свидетель и участник той истории с нильхази! Мы оба, ты и я, находились на Гондване! Разумеется, вместе с Иваром, – добавил он чуть потише. Затем покрутил головой, прислушался к скрипу и произнес: – Надо бы память тебе освежить, и лучший способ – пара нарядов на камбуз или чистка гальюна. Но для нас с тобой это – увы! – неактуально… А потому займешься моей амуницией. Чтоб ничего не скрипело! Смазку заменить, шейный механизм подрегулировать! – Так точно, капитан! Будет исполнено, капитан! Трафор соскользнул со стены, собрался в шар и отрастил четыре гибких щупальца.* * *
Ивар пробудился на рассвете, в час, когда начали меркнуть звезды и стал наливаться розовым светом западный небосклон. Он лежал на спине, не открывая глаз, стараясь удержать видения, еще плывшие под веками. Он находился сейчас на грани сна и яви, в той зыбкой полудреме, когда узревший нечто странное может осмыслить картину и, сделав усилие, не позабыть ее, оставить в памяти. Усилие необходимо, ибо сны коварны; стоит вернуться к реальности, и они исчезают, будто утренний туман. Что же он видел? И был ли это сонный морок, игра утомленного разума или что-то иное? Возможно, ментальное вмешательство?.. Он лежал, не двигаясь, размышляя над этой мыслью, прислушиваясь к своим ощущениям, пока слабый импульс извне не заставил его содрогнуться. Сон?.. Если так, то этот сон приснился не ему. Образы, пришедшие к Тревельяну, казались не только странными, но и чужими. Образы, чувства, мечты – фантомный мираж, что вторгся в его сознание с ментальной волной. И ее источник очевиден: кроме своего Советника лишь с двумя существами в этом мире он вступил в мысленную связь, проложив тропу к их разумам. А у всякой тропинки два конца, два, и Обна Шета однажды прошла по этой дороге… даже забралась к нему в постель… Впрочем, Тревельян не был уверен, что приобщился к снам или помыслам провидицы. Чьи импульсы он уловил? Только ли Обны Шеты? Сейчас она пребывала вне реальности, в пространстве сновидений, где ментальные узоры женщины-терукси и мыслящего кластера с Ххешуша переплелись в клубок, соединились нераздельно и прочно. Что это было? Слияние сознаний?.. Телепатическая контаминация?..[223] Удивительный феномен, однако известный земным ксенологам: такой контакт между лоона эо давал начало новой жизни без обычных для людей биохимических метаморфоз. Так могли бы размножаться ангелы или святые, но ни к тем, ни к другим Обна Шета не относилась. «Каким же будет результат этого ментального союза?» – подумал Тревельян. В мелькнувших видениях грезился ему черный ком вещества, найденного Сигеру, из которого под льдами Ххешуша был слеплен целый мир, обитель псевдожизни. Субстанция содрогалась и бурлила в мучительных конвульсиях, выбрасывала вверх тонкие стебли – одни мгновенно опадали, другие переплетались между собой, образуя что-то смутно знакомое: ствол из множества нитей с пятью отростками и темным пульсирующим сгущением в верхней части. Это образование постепенно светлело, наливалось алым, и алый цвет, подстегнутый пульсацией, поплыл от него во все стороны, окрашивая нити. В свой черед, они претерпевали изменения – часть становилась толще, другие начали ветвиться, протягиваясь из главного ствола в отростки, четыре длинных и один сферический, венчавший всю структуру. Пятно под ним уплотнялось, продолжая мерные биения, алые нити слегка подрагивали, черная протоплазма исчезла без следа. Тревельян уже не сомневался в том, что видит сердце и кровеносную систему человека; тут и там возникли смутные тени других органов, с каждой секундой обретая привычные очертания. Как зачарованный, он следил за этой метаморфозой, за тем, как формируются кости и мышцы, черепная коробка, ткани лица и кожный покров. Синтез завершался, и в облике новорожденного уже проглядывали знакомые черты: безусловно, он был похож отчасти на Тревельяна, а еще на Первого Помощника Торговца: нежная матово-бледная кожа, серые огромные глаза и светлые волосы до плеч. Остальное выглядело иначе – мощная атлетическая фигура была явно списана с Сигеру'кшу, хотя и с некоторыми поправками. «Парень хоть куда! Красавец!» – решил Тревельян, усмехнулся и открыл глаза. Свет утренней зари наполнял жилой отсек, и только тихое дыхание Алисы нарушало тишину. Ее лицо было безмятежным – если она и видела сны, то свои, никак не связанные с мечтами Обны Шеты. «С мечтами?.. – пожалуй, не совсем так, подумалось Ивару. – Мечты овеществились, и теперь мыслящий кластер превратился из ментального объекта в нечто более плотное и зримое». Последствий такой метаморфозы Тревельян не мог предугадать, но в ее реальности не сомневался, и это его тревожило. – Блистающий Принц… – тихо прошептал он, – ты явился, Блистающий Принц… И что тебе нужно от Обны Шеты? От нашей Обны Шеты?Интерлюдия Мобильный Флот
Щит, затмевая звезды, полыхал синим пламенем. С обзорной палубы «Карфагена» он казался огромным оком, направленным к галактическому ядру – словно невидимый гигант высматривал опасность, грозившую Вселенной. Время от времени плотность потока возрастала, и защитный барьер озарялся ярко-голубыми сполохами, напоминая в эти минуты сказочный сад, в котором расцветали лилии с длинными, прихотливо изогнутыми лепестками. Зрелище было красивым и страшным – энергия, бушевавшая в пустоте, могла уничтожить звезду вместе с планетной системой. Собственно, так случалось уже не раз, когда поток встречал на своем пути светило, близкое к центру Галактики. Адмирал Лодо покосился на своих спутниц. Удивительно, но Ут-Хатори и Илона Симбирцева были похожи, как две сестры, – обе темноволосые, сероглазые, с резким росчерком бровей и складкой над переносицей. Их сходство подчеркивалось выражением, с которым женщина нильхази и женщина Земли смотрели на действо, разыгравшееся в небесах: лица сосредоточенные, угрюмые, глаза потемнели, губы плотно сжаты. Ут-Хатори выглядела старше, и, возможно, Симбирцева в свои шестьдесят годилась ей во внучки или правнучки. Этого Лодо не знал – контакт с нильхази установили недавно, и срок их жизни, численность популяции, общественное устройство, язык и остальные подробности были пока неизвестны. Считалось, что в их социуме главенствуют женщины, но эту гипотезу еще предстояло проверить. Так или иначе, но когда Ут-Хатори предложила встретиться, Лодо вызвал коммодора Симбирцеву и не прогадал: женщина нильхази обращалась к Илоне как к главной, называя ее сестрой, а Лодо, кажется, считала ее помощником и консультантом. Что до ранга самой Ут-Хатори, то он не отвечал ни капитанскому, ни адмиральскому, а определялся более пышным титулом «Носитель власти» в эскадре из трех звездных кораблей. Во всяком случае, так это звучало на торговом жаргоне, хотя были в нем и другие слова, обозначавшие старшего на космическом судне. Ут-Хатори явилась на борт «Карфагена» со свитой советников и стражей, но решила оставить их в адмиральском салоне и подняться на смотровую палубу. Кажется, ей было что сказать коммодору Симбирцевой. Две женщины и мужчина стояли под хрустальным сводом, защищавшим палубу от холода и тьмы Великой Пустоты. Здесь не было экранов; то, что видели их глаза, творилось воочию. Синий свет, так непохожий на солнечное сияние, выбелил их лица, сделал глубокими морщинки у губ, окружил голубоватыми тенями веки. Они молчали, пока Лодо не нарушил тишину. – Чудовище, пожирающее звезды, убийца миров, – произнес он, запрокинув голову. – Но мы его остановили. Ут-Хатори окинула адмирала холодным взглядом, словно негодуя, что он заговорил. Потом повернулась к Симбирцевой. – Не остановили, сестра. Горят газ и мелкая пыль, но в глубине потока скрываются крупные тела. Огромные, больше ваших и наших кораблей! Астероиды, массивные глыбы металла и камня. Ваш силовой экран их не удержит. Голос Ут-Хатори был мелодичным и мягким, она будто выпевала слова торгового жаргона. «Чистое меццо-сопрано», – подумал адмирал. По лбу Илоны пролегли морщинки. – Вы уверены? Но как такие объекты попали в галактический выброс? Я полагаю, сестра, что протуберанец может нести лишь газы и пылевые частицы. – Не подлежит сомнению, что вначале так и было – газовое облако, выброшенное в пустоту гигантским катаклизмом. Как сказал твой советник, оно двигалось, уничтожая звезды и миры, и те планеты, что обладали твердью, превращались в пыль. Но не все. Некоторые попали в периферийную зону, где поток слабее, и не были разрушены полностью. Остались крупные обломки. – На мгновение Ут-Хатори прикрыла глаза веками. Потом сказала: – Мы зондировали выброс на протяжении нескольких световых дней. Информация достоверна. – Если обломки пробьют экран, мы распылим их из аннигиляторов, – произнес адмирал. – Они слишком велики и многочисленны. Их рой полетит к системе лльяно, и предсказать дальнейшее невозможно. Если хоть один обрушится на планету, жизнь будет уничтожена. Лодо помрачнел, тени на лице Симбирцевой стали резче и глубже. Будучи астрофизиком, она хорошо представляла последствия столкновения: ураганы и цунами, пробудившиеся вулканы, тучи пепла в атмосфере, а затем – ядерная зима. Это – в лучшем случае, а в худшем – планета под ударами крупных астероидов треснет, словно орех, и развалится на части. – Есть предложения? – спросила Симбирцева. – Есть, сестра. Мы отправимся к планете и примем на борт ее обитателей – всех, кто поместится. Для этого нас послали Великие Матери. – Упомянув о них, Ут-Хатори почтительно сложила руки перед грудью. – Ваши транспортные суда должны лететь с нами, и ваши боевые корабли – тоже. Пусть попытаются аннигилировать часть астероидов на дальних подступах к системе. – Мы обдумаем это предложение, – хмурясь, заметил адмирал. Пусть Ут-Хатори была носителем власти, но Мобильным Флотом распоряжался только он. И только он отвечал за успех операции. Черты женщины нильхази застыли, губы не дрогнули. Она смотрела на Симбирцеву и как будто не слышала слов адмирала. – Скажи ей, – промолвил он на земной лингве, – скажи, что у нас есть Великие Отцы и куча инструкций, куда посылать корабли и какие им ставить задачи. Нильхази в этих инструкциях не упомянуты. Так что впредь мы будем действовать, сообразуясь с волей Отцов и собственным разумом. Илона усмехнулась. Дипломатия не была ее сильной стороной, и слова она подбирала очень осторожно. – Достойная сестра понимает, что есть приказы тех, кто выше нас. Мы должны связаться с ними и сообщить о предложении нильхази. Это требует времени. Лицо Ут-Хатори по-прежнему было непроницаемым. Она заговорила, и в ее голосе, таком мелодичном и певучем, вдруг прорезались жесткие сухие нотки: – Думайте, люди Земли, думайте и советуйтесь. Но не забудьте, что мы и вы – старшие расы Галактики и на нас лежит забота о меньших существах, о тех, кто беззащитен перед бедствием. Кто, кроме нас, их спасет, кто протянет руку помощи? Раньше это были Древние, были Владыки Пустоты, но где они теперь?.. Где их мощь, всеведение и разум?.. Где их чудесные устройства, способные зажечь и погасить звезду?.. Ничего не осталось, люди Земли. Их нет, но есть мы. Мы и вы. Она повернулась и ровным шагом направилась к распахнутому лифту. – Мы помним об этом, – произнес Лодо ей вслед. – Помним, и вот доказательство. Словно подтверждая сказанное, щит, мерцавший в вышине, озарила яркая вспышка.Глава 13 Лагерь экспедиции. Ххешуш, Блистающий Принц
«Мне еще рано писать мемуары. Возможно, лет через семьдесят, окруженный детьми и внуками, я предамся этому занятию. Устроюсь в саду под кронами яблонь где-нибудь на Тхаре или Гондване и буду диктовать, заполняя памятный кристалл словами и картинами, – и так день за днем, неделя за неделей. Внуки и внучки рассядутся кругом, внимая воспоминаниям деда, а моя любимая Алиса Виктория принесет нам кувшины с соком, выжатым из свежих яблок. Принесет и потребует, чтобы выпили при ней, ибо сок полезен старикам и детям. Сто чертей в реактор, как говорит мой предок! Неужели когда-нибудь я превращусь в старика, а моя Алиса – в старушку?.. Если так, из нее получится самая прелестная, самая милая старушка во Вселенной. Но это случайная мысль, а сказать я хочу о другом: Никогда не вел дневников, ничего не писал, кроме научных статей, докладов и отчетов. В этом не было нужды; я помню все, что случилось в моих экспедициях, помню в мельчайших подробностях или могу припомнить – как любой язык, который усвоил в молодые годы. Профессиональная память! Она для меня – рабочий инструмент, не менее важный, чем записывающий кристалл или установка инкарнологов, позволяющая изменять обличье. Но произошедшее вчера я все же решил записать. В моей жизни были странные встречи, граничащие с чудом, и до сих пор я полагал, что самое удивительное – контакты с Первым Регистратором. Это существо или искусственное творение не только пробудило мой дар к телепортации – это, я думаю, меньшее из сделанного им. Уверен, его подарок мне бледнеет в сравнении с тем, что он сказал о нас, обо всем земном человечестве: вы, люди – новые Владыки Пустоты. Дорогого стоят эти слова! Я вспоминаю о них в минуты тоски, уныния и неуверенности, я слышу его тихий мелодичный голос, и эта память придает мне сил. Мы – Владыки! И мы отвечаем за все, что происходит в Мироздании! Повторю опять: я считал эту встречу самойудивительной, и так было до вчерашнего дня. Теперь моя оценка чудесных событий несколько изменилась. Первый Регистратор был рожден – или, возможно, сотворен – в далеком прошлом, к чему я никак не причастен; я не наблюдал акт его создания и не знаю, кем были те, кому он обязан жизнью. С Принцем все получилось иначе. Он возник на моих глазах – вернее, в моем ментальном видении, но сущность его и цель были непонятны. Человек или псевдочеловек?.. Безобидная тварь или чудовище?.. Монстр, способный сокрушить планету?.. Я был обязан разобраться с этим, и потому…»Фрагмент из личных записок Ивара Тревельяна. Опубликован не был.
* * *
Он ничего не сказал Алисе о своих видениях. Ни Алисе, ни Сигеру'кшу, ни помощникам и ассистентам. Обсуждать случившее с Обной Шетой он тоже не испытывал желания. С одной стороны, она была причиной обуревавшей Ивара тревоги, с другой, он чувствовал себя обязанным провидице – без нее самый важный феномен на Лиане-Секунде остался бы в забвении. Взвешивая первое и второе, он еще не пришел к определенному выводу. Как часто бывает, вред и польза разделялись слишком тонкой гранью, и впоследствии их роли могли перемениться. «Остерегайся очевидного», – говорил пророк кни'лина, и это означало, что только будущее определит, где полновесные зерна и где гнилые. Ни Алисе, ни Сигеру, ни другим обитателям станции… Но утаить от Советника что-то серьезное было так же невозможно, как от собственной души. Выслушав Тревельяна, дед разразился проклятиями, а успокоившись, пробормотал: «Ведьма… говорил тебе, ведьма… Мало, что всех взбудоражила, еще и гомункула сотворила! Ну, что будешь делать, голубь сизый?» Тревельян пожал плечами. «Думаю, надо его навестить. С целью приватных переговоров». «В яму на Ххешуше отправишься?» «Придется». Командор испустил ментальный вздох. «Я бы с этой тварью тоже побеседовал, да аргументов мало – одни зонды со взрывчаткой… Но в скором времени будет здесь кое-что посерьезнее. Наш адмирал, сокрушитель дракона, отправил сюда корабли, транспорты и крейсеры». Ивар встревожился. «Это еще зачем? Неполадки с защитным экраном?» «Нет. Нильхази объявились, знакомцы наши. Три корыта, вроде бы спасательная экспедиция. Требуют совместных действий в планетарном пространстве – так, на всякий случай… В общем, уговорили Лодо! А щит… Что с ним будет, с этим щитом? Как стоял, так и стоит». «Как стоял, так и стоит… – повторил Тревельян и перевел дух. – Это хорошая новость, дед. Можно сказать, отличная!» «Вот и я о том же. Ты пообщайся с этой тварью, подергай за усы, выясни, чем дышит… Будешь в сомнении, так вылезай из ямы, а мы в нее пальнем. Во имя покоя и процветания лльяно! Как-никак, они теперь под нашим патронатом, и всякие чудища в их мире не нужны». «Палить – это слишком», – возразил Тревельян, получив в ответ краткую сентенцию: «Аннигилятор, мой мальчик, решает все проблемы». С тем Командор и отключился. Ближе к полудню тучи затянули небо и хлынул дождь. На открытых пространствах континента ливни были сокрушительными: вода струилась стеной, размывала почву, превращая ее в липкую грязь, переполненные ручьи и реки выходили из берегов. В лесах, под кронами деревьев, особых бедствий не наблюдалось – листва хх'бо задерживала потоки, а воду, что падала на землю, с жадностью поглощали огромные корни и мхи. Лльяно, не любившие дождей, отсиживались в своих древесных жилищах, ели, спали и слушали сказания о предках, обитающих теперь на Желтой луне. Обычно ливень шел не дольше суток, и мох после него поднимался в рост человека. Покинув жилой купол, Тревельян, стараясь двигаться потише, проскользнул во двор. Здесь было сухо – станцию защищал энергетический экран, но что-то увидеть за его пределами казалось невозможным. Пелена дождя скрывала лес и море, даже близкие кусты, в небе висели тучи, и ни один корабль сервов не поднялся с острова. Наверняка Помощники Торговца и Надзирающие За Грузами сейчас сидели в шаттлах и, подобно лльяно, развлекались анекдотами и сказками – если не о собственных предках, то о своих Хозяевах. Усмехнувшись при этой мысли, Ивар растворил двери ангара и направился на склад полевой амуниции. Там он натянул термокостюм, подвесил к поясу бластер и лазерный резак, прикрепил датчики к запястьям и визору шлема. Бросив взгляд на контейнеры, шкафы и полки, он на секунду призадумался, потом решил, что термоизлучатель не нужен – в крайнем случае, ход на дне ямы можно расчистить резаком. Льды Ххешуша всплыли перед его мысленным взором, льды, торосы, сумрачный свет и огромная воронка на засыпанной снегом равнине. Видение было ярким и отчетливым; а в следующий миг, когда он шагнул в портал, оно превратилось в реальность. Он очутился там же, где в первый раз – на дне ямы, выжженой взрывами в ледовом панцире. В сотнях метров над ним ревел ураганный ветер, кружили вихри и профильтрованный облаками тусклый свет падал на пустынные поля Ххешуша. Пробитый Иваром шурф до половины завалило снегом и обломками льда. Он потянулся к лазерному резаку, но вдруг подумал, что место здесь ничем не хуже мира, затаившегося под его ногами. Все здесь было реальным, лед и снег, холодный воздух, ветер, облака – пусть унылая, тоскливая, но неизменная картина. А внизу, в обители псевдожизни, деревья могли обернуться драконами, травы – скопищем ядовитых пауков, и не исключалось, что горный хребет рассыплется в пыль и с фальшивых небес хлынет кислота. Эти страхи не слишком пугали Тревельяна, но почему-то ему казалось: там, где он пожелает, с ним и будут говорить. Опустив веки, он сосредоточился. Доля секунды, и бездну с ярким пятном и вращением искр сменило лицо человека, похожего на него – не копия, но облик брата или близкого родича. Волосы были другими, светлыми, но твердая линия рта, выпуклый высокий лоб, чуть выступающие скулы, форма носа – все это принадлежало Тревельяну. Его потомок или предок мог иметь такую внешность, почти такую же, если бы не глаза – большие, с непривычным разрезом, вытянутые к вискам… Нечеловеческие глаза! Ментальный импульс коснулся сознания. Мысль Ивар уловить не мог, но с эмоциями разобрался без труда: его приглашали. Вежливо, дружелюбно и настойчиво. – Нет, не стану я спускаться, – произнес он вслух. – К тебе залезешь, так назад не вылезешь – с транспортировкой будут проблемы. Хочешь говорить, приходи сюда. Молчание. Потом морозный воздух всколыхнулся, подернулся туманом, начал уплотняться и темнеть, обретая форму человеческой фигуры. Происходило это быстро – Тревельян едва успел отступить к стене кратера. «Портал! – мелькнула мысль. – Вот как выглядит перемещение, если наблюдать со стороны… делаешь шаг, и…» Додумать не пришлось. Существо, возникшее из пустоты, было чуть выше Ивара и шире в плечах. С плеч до самых щикотолок спадал плащ, отливающий то темно-синим, то лазоревым – точь-в-точь такой, как был у Первого Помощника Торговца. Пришелец кутался в свою мантию, Ивар не видел ни рук, ни ног, но, кажется, ступни его были голые. Он спокойно стоял на обжигающем холодом льду, и в его светлых волосах уже поблескивали первые снежинки. Прошла минута, две, три… Ивар, не мигая, уставился в серые огромные глаза. «Блистающий Принц, – крутилось в голове, – существо, слепленное из черной жижи… воплощение женских грез…» – Ты смотришь и пытаешься понять, кто перед тобой, – раздался звучный голос. – Сейчас, Ивар Тревельян, я человек. Человек! Мужчина. – Тебе известно мое имя? – пробормотал Тревельян. – Откуда? – Она сказала. Ей захотелось, чтобы я походил на тебя. Прости, если это тебе неприятно. Ивар пожал плечами. – Внешность человека в некотором смысле достояние общества. Всякий, кто видит его, может приобрести такое же обличье. Наши медики очень искусны, брат. Брат! Слово вылетело как бы само собой. Странно! Ни братьев, ни сестер у Тревельяна не имелось, и он никогда не сожалел об этом. Был Командор, была Алиса, были коллеги и друзья… Вполне достаточно для человека, чья жизнь проходит в вечных странствиях. Брат! Какое хорошее слово! Какое теплое! Пришелец склонил голову. – Благодарю. Сотворив меня, Другая Связь не сказала, что я могу стать твоим братом. – Лучше называй ее Обной Шетой, ей это будет приятно, – заметил Тревельян. – Говоришь, она тебя сотворила?.. Я верю этому, зная о ее талантах, широте души, отличном вкусе и прочих достоинствах. Сотворила, и что же дальше? Поведай мне, как мужчина мужчине и брат брату: что тебе нужно от нее? Глаза Блистающего Принца вспыхнули, щеки порозовели. – Я ее люблю! – Прекрасное чувство! – откликнулся Ивар, ничуть не удивленный. – Обна Шета – умница и красавица, достойная самой пылкой любви. Как я понял, в ваши планы входит вечное путешествие по Галактике. Не смею возражать! Хотя Обна Шета находится здесь под моим покровительством и защитой, я не могу препятствовать зову страсти и соединению любящих сердец… – Ивар сделал паузу. – Ее корабль ждет на астродроме. Когда вылетаете? Лицо пришельца исказила судорога. Он закусил губу – точно, как пребывающий в растерянности человек, его глаза погасли, лоб покрылся испариной. «Борение чувств и горечь печали, – отметил Ивар, анализируя его ментальную волну. – Словом, полный раздрай». – Я не могу… не могу улететь… – с тоской промолвил Принц. – Я должен оставаться тут и сделать… сделать… защитить… – Что? – спросил Тревельян, раздувая ноздри. – Что сделать? От чего защитить? Голова Принца запрокинулась, взгляд метнулся к серому небу. Казалось, он пытается что-то вспомнить – его губы снова дрогнули в мучительной судороге, в горле булькало и хрипело. «Блок?.. – подумал Ивар. – Ментальный блок, не позволяющий говорить?.. Или он просто забыл?..» – Я только часть… часть, встроенная в систему… Я был частью среди многих частей и остался ею – даже теперь, когда мне дарована иная сущность… – Его невнятное бормотание оседало в воздухе кристалликами льда. – Я не могу улететь и не могу сказать… Не могу без тех, что дремлют внизу подо льдами… Вместе мы знаем, вместе можем действовать… Но не я, не я! Мое назначение – связь с другими разумными, если будет в том нужда… Так повелели Творцы! – Тех Творцов уже нет в Галактике, давно нет. – Тревельян глубоко вздохнул, избавляясь от напряжения. – Творцы теперь другие. – Я помню, – с тоской произнес его собеседник, – помню, о чем мы говорили в прошлый раз. Ты сказал, что Творцы исчезли, и ты – новый Владыка. Но что это меняет? – Многое. Я могу даровать тебе свободу. Улетай! Ты человек, и выбор за тобой. – Вскинув руку к небесам, Ивар повторил: – Улетай, братец! А те, что дремлют там, внизу, пусть продолжают дремать. До скончания Вселенной! – Человек… я – человек… – Чудные глаза Принца закрылись и распахнулись вновь. – Но у человека есть обязанности – у тебя, у меня, у других людей… Разве ты, брат мой, свободен от этого? Разве ты смог бы уйти, бросив беззащитных? Смог бы отринуть свое назначение?.. Никогда, никогда! – Он покачал головой. – Нелегко быть человеком, и теперь я это понимаю. «У него нет ментального блока, – подумал Ивар, – и он не страдает провалами памяти – нельзя забыть то, чего не знал. Он – устройство связи с другими разумными… был таким устройством, пока Обна Шета не превратила его в человека. В прошлом, в далеком прошлом, этот кластер запрограммировали, внедрив приказ о воле Творцов – не покидать и защищать планету. Теперь, после свершившейся метаморфозы, команда для искусственного мозга стала императивом для человека, целью и смыслом его существования. Так в чем же разница и есть ли она?.. Конечно, есть: подчинение приказу, тупое и бездумное, превратилось в сознательный выбор. Выбор между любовью и долгом… то, что порождает смятение души… то, что делает человека человеком…» – Ты прав, – сказал Тревельян, – прав, и я не буду больше тебя мучить. Последний вопрос: там, внизу, целый мир – небо, облака, растительность, животные… Для чего все это? Чтобы поддерживать плазму в активном состоянии? Принц покачал головой. – Нет. Чтобы реальность стала более живой и привлекательной. Под льдами только холод и тьма, тьма и холод… Даже в прежнем моем состоянии не очень приятный пейзаж. Но при избытке воды плазма растет стремительно, запасает энергию, и из нее можно создавать что угодно – дерево, траву, живую тварь… – Он запнулся. – Человека тоже, если кто-то сильно пожелает. – Плазма текуча и изменчива, – промолвил Ивар. – Желаю тебе держать форму и навсегда остаться человеком. Хотя бы ради Обны Шеты. Открыв портал, он сделал шаг и очутился под крышей ангара, на складе полевой амуниции.* * *
Струи дождя по-прежнему били в защитный экран, и каждая капля воды перед тем, как соскользнуть на землю, вспыхивала на мгновение алмазной искрой. Полдень уже миновал, но караваны туч все еще тянулись в вышине, наползали со стороны моря, строили в небесах причудливые замки и дворцы. Но ненадолго; башни и стены рушились, меняли форму, превращаясь то в лица бородатых великанов, то в чудовищных зверей с раскинутыми по небу крыльями. Эти метаморфозы напомнили Ивару черную субстанцию, из которой был слеплен подземный мир. Как сказал его недавний собеседник, для приятности и оживления пейзажа. Не покидая двор, Тревельян глядел на падавшие с неба потоки и размышлял о его сущности. Часть, встроенная в огромную систему, контактный кластер, чье назначение – связь с обитателями планет… Пожалуй, этот фрагмент артефакта Древних, пусть лишенный индивидуальности, приближался к человеческим представлениям о разуме и эмоциональной сфере. Шанс обрести собственное «я» был для него вероятным, более высоким, чем у других частиц полиморфного мозга, и вот результат – Блистающий Принц… Пока безымянный, но имя пусть дает провидица… Или у деда позаимствовать? Олаф Питер Карлос… целых три… может поделиться… – О чем это я?.. – вслух промолвил Тревельян. – Об именах?.. Что за чушь! Но мысль о Принце уже соединилась с Командором, и словно наяву он услышал хриплый голос деда: «Меморандум Хейли-Чавеса… Есть досье Секретной службы… Фаата высшей касты в ментальной связке с некой квазиразумной тварью… встречаются в мирах, где побывали когда-то Древние… бинюки их разыскивают и дрессируют…» «Фаата! – подумал Ивар в мгновенном озарении. – Вот что они делают! Ищут кластеры, способные к контакту! Ищут и дрессируют… Но что еще дед говорил об этом досье?..» Он повернулся к шлюзу жилого купола и произнес: – Встречаются в мирах, где побывали Древние, большей частью за Провалом… Что ж, пора туда наведаться! Давно пора! В жилом блоке царила тишина. Ивар направился в свой отсек, но Алисы Виктории не было ни в спальне, ни в кабинете. Он вышел в кольцевой коридор и заглянул в кают-компанию. Там обнаружились Нильс Захаров и Сирад Ултаим. Они сидели у стола над большой доской, расчерченной сложными узорами, и двигали разноцветные фигурки. «Игра, – решил Тревельян, – какая-то игра терукси – шитль-шатль или что-то в этом роде. А где же Алиса?» Он вернулся во двор, пересек его и растворил дверь лаборатории. Там кипела работа: на полу был разложен скелет местного динозавра – очевидно, из раскопа номер два, и Сигеру'кшу занимался его реконструкцией. Шиза'баух подносил кости из груды, сваленной в углу, Хутчи'гра, ползая на коленках, пристраивал их в нужное место, а Инанту Тулунов скреплял быстротвердеющей пеной. Сам Сигеру устроился на прочном табурете и, почесывая шишки, давал указания. Увлеченные делом исследователи даже не заметили Тревельяна. Он задержался на пару минут, с интересом наблюдая, как Сигеру погоняет ленивых пасеша, детей беззубых куршутов, и покинул лабораторию. Алисы здесь тоже не было. Нет там и нет тут… Оставалось только одно место. Ивар остановился у двери Обны Шеты, склонил голову к плечу и прислушался. Тишина… Впрочем, это ничего не означало – шумоизоляция в жилом куполе была превосходной. Он активировал вокодер внутренней связи, затем произнес: – Здесь, милорд консул, глава экспедиции. Где моя супруга леди Алиса из Королевского Дома Тхара? – Благородная леди занята, – раздался голос провидицы. – Занята, хмм… – Тревельян почесал в затылке. – Могу я войти? – Нет. У нас девичьи посиделки. – Весьма сожалею. Кстати, я побывал на Ххешуше и кое с кем повстречался. Молчание. Потом: – Можешь войти, милорд консул. Дверь открылась, и он переступил порог. Алиса и Обна Шета, обнявшись, сидели на диване. Алиса – в чем-то полупрозрачном, воздушном, в наряде палевых оттенков, явно из гардероба провидицы. Обна Шета была в зеленом, ее опоясывал шарфик цвета морской волны, в черных волосах сверкала изумрудная диадема. На лице – ни серебряных звезд, ни зеленых узоров, щеки мокры от слез. Глаза Алисы тоже подозрительно блестели. – О чем грустим? – спросил Тревельян, опускаясь в кресло. Алиса Виктория провела под глазами кружевным платочком. – Обна Шета скоро покинет Лиану, а она так привязалась к нам… Я ее утешаю. – Могу я включиться в этот процесс? – поинтересовался Ивар. – На севере нашу гостью помнят, любят и ждут. Обещают осыпать поцелуями и носить на руках по всему Млечному Пути. Вдоль и поперек. Обна Шета тоже достала платочек и вытерла мокрые щеки. – Как он, Ивар? Понравился тебе? – Ее голос прозвучал по-детски тонко и беспомощно. – Очень представительный мужчина! Настоящий кавалер, но пока без имени. Питер тебя устроит? Или лучше Карлос? – Ромео, – сказала Обна Шета, вытирая покрасневший носик. – Только Ромео! Помнишь, ты посоветовал мне прочитать Шекспира… Я это сделала, и вижу теперь, что страсти земных людей сильнее, чем у терукси. Мой Ромео – мужчина Земли! – Это я уже понял, – сказал Тревельян. – Немного от серва, немного от хаптора, но в общем и целом твой возлюбленный – землянин. И такой упрямый! Я пытался уговорить его, убеждал отправиться с тобой в простор Галактики… Но он не может. Долг превыше всего! Алиса и Обна Шета переглянулись. – Долг! – заметила одна. – Главный мужской недостаток! – Они не понимают, что есть лишь один долг – перед своей женщиной, – шмыгнув носом, добавила другая. – Вот и я о том же, – сообщил Тревельян. – Улетайте, и тут воцарятся мир, покой и порядок. Мы продолжим изучение лльяно, лльяно будут торговать с сервами, а тот, кто спит, никогда не проснется. Чудная перспектива! – Но, с другой стороны, – промолвила Обна Шета, подняв томный взгляд к потолку, – преданность обязательствам украшает мужчину. Долг исполнен, и любовь – награда герою… Это так романтично! – Это как взрыв в серых буднях, – поддержала ее Алиса. – Экстаз, освежающий чувства! Восторги первых дней, пережитые заново! Тревельян тяжело вздохнул. – Кажется, только что мы выяснили, что главный долг мужчины – перед любимой женщиной. Теперь вы говорите совсем иное. Милые девушки, это нелогично! – Фи! – Провидица погладила щечку Алисы. – Смешно, не правда ли, дорогая? Где он ищет логику? – Даже самые мудрые из мужчин уверены, что есть только их логика, – заметила Алиса Виктория. – Вот хотя бы Йездан… Он сказал: За горами – горы… А там, может быть, не горы, а озеро с пляжем или банановая роща. – Какая замечательная мысль! – восхитилась Обна Шета. – Намек, что в мире все неоднозначно и сложно… Нет, я не буду просить Ромео, чтобы он сегодня же улетел со мной. Пусть выполнит свой долг! Иначе он будет ощущать вину и душевный надлом… Мне этого не нужно! Я хочу чистой любви, без отрицательных эмоций! «Мне с ними не справиться», – решил Тревельян и поднялся. – Простите, что нарушил ваши посиделки. Чувства мои освежились, и теперь я удаляюсь в поисках экстаза и восторгов первых дней. Алиса хихикнула. – Зачем искать, милый? Просто подожди до вечера. С этим обещанием он и покинул гнездышко провидицы. Остановился у ее двери и пробормотал: – Значит, дорогая, жизнь наша – будни… Да еще серые! Ну-ну! Посмотрим, что ты скажешь, когда отправимся в Провал. У фаата тебе скучать не придется! Но эта мстительная мысль не согрела Ивара. Стоя в коридоре, он размышлял над тем, что все его старания избавиться от Принца, а заодно от Обны Шеты были безуспешными. Ромео выполнит свой долг, тварь с Ххешуша воспрянет от сна, и чем это кончится для мира лльяно, пока неясно – может быть, рухнут горы и расплескаются моря, а возможно, все обойдется мелким дождиком. Такая неопределенность тревожила Ивара. Заверения сервов, что здесь ничего не случается, он в расчет не принимал, зная по собственному опыту, что беды приходят, когда не ждешь. Сказано у Йездана: «Будущее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки…» Сейчас знаки были явными – можно сказать, не прятались в тени. Мог ли он что-то сделать? Вздохнув, Ивар покачал головой и произнес: – Принимайте неизбежное, как песок принимает воду… Это тоже было записано в Книге Начала и Конца.Интерлюдия Мобильный Флот
Астероид был огромен. По массе и диаметру он превосходил Цереру[224], и значит, его полагалось зачислить в тот класс небесных тел, который именовался «малые планеты». Возможно, эта глыба была частью твердого ядра газового гиганта – поток сорвал с него оболочку, раздробил сердцевину и увлек крупные и мелкие осколки в своем полете к краю Галактики. Не исключалось и другое происхождение астероида – он мог являться обломком мира, подобного Венере и Земле, спутником планеты или телом, блуждавшим некогда в межзвездной пустоте. Так или иначе, но щит его не удержал. Половина крейсерской эскадры ушла в систему Лиан вместе с транспортами и кораблями нильхази. Шесть оставшихся боевых единиц висели сейчас над астероидом, обстреливая его поверхность. Шесть крейсеров, двенадцать аннигиляторов… Они могли вскипятить море или разрушить горный хребет, но цель была слишком огромна. Кратеры, выбитые взрывами, достигали двадцатикилометровой глубины – всего лишь два процента диаметра малой планеты. Чудилось, что шесть мошек вьются рядом с каменным чудищем, жалят толстую шкуру, а для него всесокрушающий удар энергии подобен укусу комара. Камень сопротивлялся равнодушно, но упорно. Капитан Йен Скворцов, наблюдая с мостика за вспышками на обзорном экране, морщился и тихо бормотал проклятия. Их запас был велик – Скворцов летал на кораблях Звездного Флота два десятилетия, дослужился до коммандера, а затем открылась вакансия в Корпусе, и «звезды» на его комбинезоне сменились «кометами»[225]. Он командовал крейсером не первый год, здесь его лексикон тоже изрядно пополнился, но сейчас он чувствовал, что начинает повторяться. Плохой знак! Говоривший о том, что он устал, просидев на мостике запеленутым в кокон около шести часов. Бой с реальным противником столько не длился – максимум тридцать-сорок минут. После чего враги дрейфуют в пустоту в виде газового облачка или сам летишь туда в той же консистенции. Но живых врагов здесь не было, вместо них – огромный астероид, который крейсеры пытались расколоть, а затем сжечь мелкие обломки. Крупные собирались обстрелять торпедами, направив их в сторону от системы Лиан, к звездам, лишенным планет. Для «Тира» и других кораблей эта операция опасности не представляла, но могла продлиться несколько часов или даже суток. Капитан Скворцов выбрался из кокона, присел, разминая затекшие ноги, и бросил взгляд на таймер. Его вахта кончалась. – Служба наблюдения! Что у нас? – Сыр с дырками, командир, – донеслось из вокодера внутренней связи. – Но уже появились трещины, довольно глубокие. – Покажите. Поверхность астероида на обзорном экране приблизилась. Там бушевал ад – аннигиляционные удары испаряли камень, струи огня летели в пустоту и гасли в черной бездне. Это происходило в полной тишине, и казалось, что гигантские кратеры взрываются сами собой. Между ними уже пролегла паутина трещин. Рявкнула сирена, означавшая конец вахты, и на мостике появился коммандер Берзинь, первый помощник капитана. Навигаторы, пилоты и связисты его смены заполнили рубку. Шарканье, шелест раскрывающихся коконов, негромкие слова приветствий… Берзинь отсалютовал. – Все в порядке, капитан? – Более или менее. – Скворцов с трудом подавил зевок. Затем потянулся, расправил плечи и, добавив в голос бодрости, произнес: – Вахту сдал! – Вахту принял. Берзинь покосился на кресло с коконом и вздохнул. Ему предстояло сидеть тут шесть часов, томиться в боевом снаряжении, хотя никакой схватки не намечалось, и вражеские корабли не поливали «Тир» огнем и не забрасывали ракетами. Однако порядок есть порядок! Полагалось, чтобы при стрельбах вахта была упакована по уставу. – Отдыхайте, капитан, а я продолжу наше скучное занятие. Кстати, на обед сегодня уха, салат из мидий и лососевые стейки. Рекомендую! Приняв душ, Скворцов распорядился, чтобы обед доставили в его каюту, перекусил и заснул. Разбудила его тихая трель вокодера. Он обладал хорошим ощущением времени и тем, что опытные капитаны называют «чувством корабля», слиянием со своим судном. То и другое подсказывало, что второй помощник Стилк еще не принял вахту у Берзиня, и значит, он проспал часа три или четыре. При запуске торпед палуба и переборки слегка вибрировали, но сейчас этого не замечалось – вероятно, продолжался обстрел из аннигиляторов. «Если нет торпедных залпов, проклятый камень еще держится…» – подумал капитан, зевая. Зачем же его разбудили?.. – Слушаю, – буркнул он, повернувшись к вокодеру. – Раздолбили булыжник? Или нет? – До вахты Стилка закончим, – раздался взволнованный голос первого помощника. – Но, капитан… – Что там еще на нашу голову? Докладывайте, коммандер! – Сообщение от флагмана: щит прорван еще в трех местах. Крупные тела, такие же, как это… А за ними – рой астероидов помельче, от километра-двух до тридцати. – Напророчили нильхази… Чтоб их перекосило вдоль и поперек! – пробормотал Скворцов и начал торопливо одеваться.Глава 14 Селение Хх'бо татор ракка
Подчеркнем, что в определенный момент сложилась уникальная ситуация: на планете присутствовали одновременно сервы, нильхази, хапторы и люди Земли (см. также Примечание). Наблюдения за лльяно позволили выявить реакцию автохтонов на каждую из рас, что безусловно является очень важным фактором. К людям они относятся со снисходительным дружелюбием, считая столь неуклюжих существ плохими охотниками и мастерами (в данном случае речь идет об их традиционных ремеслах). В клановой иерархии лльяно высшая ступень отведена именно мастерам, затем следуют самки и охотники (второй уровень), а за ними – подростки и дети (третий уровень). Наши наблюдения позволили выяснить, что людей Земли они относят к ступени между первой и второй, признавая искусство землян в создании всевозможных механизмов. Но гораздо важнее другое – аборигены подсознательно включили людей в свою клановую структуру, отлично при этом понимая, что люди в их мире – хххфу, пришельцы. Пришельцы, но не чужаки! Это чрезвычайно интересный феномен, который нуждается в дальнейших исследованиях. Возможно, он связан с тем, что именно люди (консул Тревельян и полевые агенты Тулунов и Браун) посещали лльяно в виде носителей-имитаций. Хапторы, в силу своей физической мощи, вызывают у лльяно восхищение. Вопрос включения их в клановую структуру пока неясен, но следует отметить один любопытный факт. Общество лльяно не знает войн и вооруженных конфликтов в любой форме, как внутриплеменных, так и между поселениями. Однако не исключаются поединки, причина которых не разногласия или неприязнь, а демонстрация силы, отваги и ловкости (заметим, что такие ристания никогда не ведут в серьезным травмам или, тем более, к смертельному исходу). Хапторы – по крайней мере, один из них (пха Сигеру'кшу) – были включены как равные в сферу этой традиции. При этом всегда соблюдался ритуал вызова, включавший оскорбления и боевой танец. Нильхази безусловно выпадают из местной клановой структуры, к ним относятся настороженно, как к чужакам, контакты с которыми нежелательны. Причина может состоять в высокомерии нильхази, но нам представляется, что ситуация сложнее. Мы не исключаем попыток с их стороны к неким цивилизационным проектам, которые провалились, оставив у лльяно чувства неприязни и недоверия. Сведения о таких проектах крайне смутные, и надо думать, их осуществляли не у Моря Тысячи Островов, а в других областях континента. Но аборигены что-то об этом помнят и очень неохотно общаются с нильхази. Зато сервы пользуются их абсолютным доверием. Это неудивительно, ибо с посланцами лоона эо лльяно торгуют тысячелетиями, извлекая из этих контактов несомненную выгоду. Все, что сказано сервами, является для лльяно истиной, ведь сервы никогда не обманывали их, ничего не требовали и не оказывали ни малейшего давления. Аборигены относятся к ним, как к живым существам, и, вероятно, не подозревают об искусственном происхождении сервов. Но их инородность, их отличие от людей, хапторов и нильхази все-таки ощущается; несмотря на длительность контактов, сервы не включены в клановую структуру и по сей день остаются хххфу ата – «тощими пришельцами». Они чужаки, но такие, с которыми можно иметь дело, продолжая традицию предков, обитающих ныне на Желтой луне. Примечание. Женщина и мужчина терукси (Обна Шета Тренгар и Сирад Ултаим) в этом перечне не указаны, поскольку аборигены относились к ним как к людям Земли. С другой стороны, лльяно проводят четкую границу между землянами и нильхази. Этот любопытный факт наводит на раздумья – ведь по физиологии и внешнему облику нильхази столь же близки к землянам, как и терукси. Возможная причина заключена в их пренебрежительном поведении, в том, что они считают лльяно существами примитивными, даже дикими.Отчет экспедиции Тревельяна – Сигеру'кшу.
* * *
Утром из деревни примчался гонец, посланный Рахашем, юноша по имени Шога. За его ремнями колыхались перья вестника, на копье тоже трепетало перо, и он исполнил надлежащий танец перед защитным барьером. В отличие от хулигана Тза, этот юноша был хорошо воспитан: закончив пляску, выкрикнул имя Тревельяна и с почетом проводил его в деревню. Пятый ярус хижины Рахаша, поднятый на двадцать метров от гигантских древесных корней, слегка продувался ветром. Листья, закрывающие этот покой с боков и сверху, выглядели более мелкими, чем у основания хх'бо, и помост держался на ветвях не толще шеи хаптора. В помосте из гладких досок зияло отверстие, в которое Ивар протиснулся не без труда. Вниз вела покрытая резьбой лесенка, которую в любом музее Федерации сочли бы достойным экспонатом. Пять таких лестниц соединяли ярусы жилища с землей, и каждую украшал особый орнамент, геометрический, цветочный или изображавший фантастических зверей. Каморка на пятом ярусе была совсем крохотной и служила Рахашу спальней и чем-то вроде кабинета. К ветвям он подвесил свитки коры с письменами, самые ценные инструменты и несколько корзин, сплетенных из лыка. Корзины заменяли полки, но что в них хранилось, Ивар не знал. Под ветвью с инструментами лежала спальная циновка, напротив был складной столик, а при нем – подушка, набитая шерстью. На ней Тревельян, почетный гость, и сидел, скрестив ноги и опираясь спиной на один из древесных стволов. – Нильхази! – промолвил Говорильник Рахаш, дергая свисающую с виска прядь волос. – Оченно, оченно надоедливый! Он снова дернул себя за волосы и поскреб живот, что было знаком крайнего недовольства. Шаттлы нильхази уже не раз приземлялись в Ракке и многих других поселениях, пытаясь склонить их жителей к эвакуации. Катастрофа неизбежна, планета погибнет под ливнем каменных глыб, пугали они, но это вызвало лишь насмешки, а потом – ожесточение. Такие мрачные пророчества в дни оживленной торговли с сервами были совсем ни к чему – тем более что сервы не собирались улетать с планеты. Их присутствие подтверждало, что на Лиане ничего плохого не случится и что нильхази – паникеры и лжецы. Это в лучшем случае, а в худшем попытка вывезти часть населения казалась делом подозрительным, даже преступным. Так считали старейшины лльяно, не интересуясь каменными глыбами, блуждающими в небесах. Они просто верили сервам, а нильхази – нет. – Желтый хххфу ата сказать: хотение нильхази нет плохое, только доброе, – произнес Рахаш, все еще почесывая живот. – И еще сказать: нильхази взволноваться попусту. Бездельно! Пре… преув… преувличенно! Для них капля воды – потопление, искра – великий огонь! Он изъяснялся на земной лингве – вероятно, полагал, что так его речи лучше дойдут до Тревельяна. Ничего не отвечая, тот старался вспомнить сообщения, полученные Командором от адмирала Лодо. Ситуация оценивалась как неясная, не поддающаяся прогнозу: щит прорван астероидами, но есть надежда, что крейсеры Мобильного Флота справятся с этой проблемой. В ином случае на Лиану обрушится град камней, и предугадать последствия не мог никто – или жизнь на планете будет уничтожена, или континент украсит дюжина воронок, сгорят несколько лесных массивов, и дело с концом. Обна Шета утверждала, что катастрофы, предсказанной ею ранее, не случится, и Тревельян был склонен верить ей, ей и Ромео, Блистающему Принцу. Если добавить к этому заверения сервов, все, пожалуй, было не так уж плохо. Он не собирался покидать планету, и другие члены экспедиции – тоже. – Желтый хххфу ата еще сказать… – снова начал Говорильник. – Оууу-аа! – прервал его Ивар. – Хватит об этом Желтом! Лучше говори, чего ты хочешь от меня? Серв, упомянутый Рахашем, был тем самым младшим Помощником Торговца в желто-оранжевом одеянии, с которым Ивар беседовал в Ракке несколько дней назад. Он повторял сказанное Торговцем, а тот – слова лоона эо: здесь не случалось ничего плохого и никогда не случится. «Возможно, так, но что питает их уверенность?» – размышлял Тревельян. Лоона эо, древняя мудрая раса, они ведали множество тайн, но не спешили открывать их людям… Впрочем, о тайне Лианы, о Принце с северного континента, Ивар знал намного больше, чем сервы и их Хозяева. Рахаш перешел на альфа-лльяно. – Увва, пусть твоя шерсть окрасится в солнечный цвет… Помоги нам! Нильхази спускаются с неба каждый день, бродят среди жилищ, мешают торговать, пугают самок и ффа'тахх небесными камнями, потопами и пожарами… Очень, очень надоели! Нехорошо, если охотники ткнут кого-нибудь копьем. – Нехорошо, – согласился Тревельян. – Совсем плохо! – Хххфу ата сегодня не прилетели, – с печальным видом добавил Говорильник. – Тоже не хотят их видеть, а шерсти еще многие тюки, много шерсти, кож и резного дерева… Куда мы их денем, Увва? Куда? Рахаш горестно взвыл. Несомненно, торговля была для него важнее, чем все небесные камни вместе с потопами и пожарами. Над кроной дерева мелькнула неясная тень, послышался свист рассекаемого воздуха, сильный порыв ветра сорвал несколько листьев с вершины хх'бо. Рахаш взвыл снова. – Вот они! Явились, потомки вонючих тварей! Они здесь, а хххфу ата нет! Желтый сказал: ждите, они уйдут, мы снова будем в торговище! Оууаоу! Мы ждали, ждали! День ждали, два, три… Больше не хотим! – Сочувствую, – сказал Тревельян. – Но как я могу вам помочь? – Твоя шерсть длинна и когти остры… Ты главный-старший! Ты бросаешь огненные копья! Ты убил ночного шорро! Скажи нильхази, чтобы убирались вон! Скажи, что небесные камни, если они есть, падут им на головы! Скажи, что придет твой друг, большой безволосый с шишками, и свернет им шеи! Ивар вздохнул. Спорить с нильхази ему совсем не хотелось. – Боюсь, что угрозы бесполезны, так же, как доводы разума. Нильхази отличаются упрямством… Но я попробую, Рахаш. Попробую, во имя нашей дружбы и твоего спокойствия. Однако ты должен мне помочь. – Всенепременно и содейственно, – произнес Говорильник, снова перейдя на земную лингву. – Как? – Пусть охотники будут рядом со мной. Близко, но так, чтобы их никто не видел. С копьями и ножами. – С копьями и ножами! И обязательный в топорах! – добавил Рахаш, оскалив зубастую пасть в ухмылке. Ивар протиснулся в лаз, спустился на четвертый ярус, а затем на нижние, до самого пня огромного хх'бо, где самки Рахаша готовили еду. Пожелав им длинной шерсти, он преодолел последнюю лестницу, что вела к земле, и очутился между двух корней, выпиравших из почвы, словно драконьи хребты. Вокруг было тихо и безлюдно – кажется, все обитатели Ракки попрятались в своих жилищах. Большой дисковидный аппарат нильхази завис над площадкой, где лльяно обычно танцевали и били в барабаны. Сейчас она тоже была безлюдной, ни охотников, ни мастеров, ни торговцев-сервов, только громоздятся под навесами тюки с шерстью да из сарая со статуэтками смотрят деревянные лики зверей и фантастических чудищ. В центре пустого пространства, под диском, с которого спускался трап, стояли четверо, девушка и трое крепких парней. Молодые, высокие, светловолосые и, как заметил Тревельян, слегка растерянные. Волна недовольства, исходившая от незваных гостей, казалась такой же сильной, как острые запахи шерсти, листвы и дерева. Ивар направился к ним. Второй раз в жизни он видел нильхази, и память о первом контакте была не слишком приятной[226]. Возможно, на сей раз… Шагах в пяти от них он остановился и замер, потрясенный. Парни его внимания не привлекли, но девушка, девушка!.. Такие красотки попадаются нечасто. Стройный стан, изящная фигура, тонкие черты, глаза цвета грозовых облаков, маленький яркий рот, очаровательные ямочки на щеках… Ее белокурые волосы были уложены в высокую прическу, и их удерживал обруч с блистающим глазом видеокамеры. Один локон спускался к груди, полуобнаженной и столь совершенных очертаний, что Ивар не мог отвести от нее взгляда. Не очень скромное поведение, но чудилось, что красавица ничего не замечает. – Землянин! – произнесла она звонким мелодичным голосом. – Почему ты здесь? По какому праву? Мы ведь условились, что земляне не будут высаживаться со своих кораблей! Она отлично говорила на земной лингве и, кажется, была возмущена. Тревельян с усилием отвел взор от ее груди, сглотнул и напомнил себе, что он женатый человек. Затем представился: – Ивар Тревельян, консул Фонда Развития Инопланетных Культур. Я не с корабля Мобильного Флота, я возглавляю миссию, которая находится здесь уже несколько месяцев. Его титул внушал почтение на сотне планет, но девушка лишь презрительно скривила губы. «Не так уж она и красива, – решил Тревельян. – Носик длинноват, щечки слишком пухлые и взгляд неласковый…» Но мысли эти он оставил при себе, вежливо склонил голову и поинтересовался: – С кем имею честь? – Аният, координатор одной из спасательных групп. У твоей миссии есть корабль? – Разумеется. Экспедиционное судно ждет нас на орбите. – Улетайте отсюда. Через три-четыре дня начнется метеоритная бомбардировка, и на планете не выживет никто. Улетай, землянин, беги ради своего спасения! Твоя миссия закончилась, и началась наша. – А именно? – спросил Тревельян. Координатор Аният оглянулась на своих спутников, гордо сверкнула глазами, приосанилась и молвила с высокомерным видом: – Мы – Защитники Жизни, ее опекуны! Разве это тебе не известно? Здесь обитает дикая раса, неразумная, неблагодарная, тупая, но все же мы обязаны ее спасти. Ты мешаешь! «Определенно она портит впечатление, когда кривит губы, – подумал Тревельян. – И взгляд… взгляд такой, будто пытается шилом проткнуть. Пожалуй, не хватает женственности, хотя грудки… ммм… грудки вполне ничего». – Ты не в курсе дела, – строго произнес он. – Мир лльяно находится под патронатом Фонда, и я его представитель. Это значит, что я решаю, кому здесь можно находиться, а кому нельзя, какие миссии будут проведены, а какие нежелательны. Статья двенадцать-прим Межзвездного Кодекса! Она определяет мои права! – Тут Ивар сдвинул брови и повысил голос: – От имени ФРИК и обитателей Лианы-Секунды я накладываю запрет на ваше присутствие в этом мире. Сообщи мое решение своим старшим, и более не беспокойте лльяно! Он понятия не имел о статье двенадцать-прим и мифическом Межзвездном Кодексе, но был готов поклясться, что девица этого тоже не знает. Она растерялась, но лишь на секунду, затем снова воткнула в Ивара острый, как шило, взгляд. – Подозрительная личность с неясным статусом… Возможно, контрабандист… Смеет угрожать эвакуаторам… Пойдешь на мой корабль для дознания. – И не подумаю. – Пойдешь! Она кивнула своим спутниками и что-то прощебетала. Двое крепких молодцов шагнули к Ивару, третий наставил на него серебристую трубку. Вид у них был очень решительный. – Не горячитесь, молодые люди. Стойте на месте и спрячьте оружие, – сказал Тревельян. За его спиной, будто явившись из-под земли, выросла шеренга мохнатых приземистых существ. Братья Ханнто были здесь, и первый Шасса, и третий Уттур, и еще полсотни лльяно. Шасса-второй вынырнул из-за тюков с шерстью, нацелив копье в пришельцев; первый Уттур возник у сарая, раскачивая метательный топорик. Это свершилось внезапно и в полной тишине. Затем шеренга начала раздаваться, растягиваться, и вскоре нильхази очутились в кольце охотников. Вид у лльяно был устрашающий – шерсть на загривках дыбом, зубы оскалены, в когтистых лапах топоры и копья. Девушка побледнела, трое мужчин замерли, и волна страха обрушилась на Тревельяна. Нильхази были очень эмоциональны; похоже, они уже ощущали, как острые лезвия кромсают их тела. – Местное население приветствует опекунов-эвакуаторов, благодарит за труды и готово проводить вас с почетом, – молвил он. – Только не пытайтесь сопротивляться, а тем более стрелять. У лльяно молниеносная реакция. – Мы не преступники, – пробормотала Аният. – Мы не убиваем диких и слабых, мы их защищаем. – В этом нет нужды. Здесь уже есть Защитник. Девушка испепелила Тревельяна взглядом. – Ты? Считаешь себя их защитником? – В какой-то степени. Но речь не обомне, а о том, что мир лльяно под защитой даскинов. Древние Владыки Пустоты, спасающие, защищающие и карающие… Слышали о них? Лица нильхази помертвели. Кажется, теперь они испугались по-настоящему. – Древние давно мертвы… – тихо прошептала Аният. – Мертвы или исчезли из нашей Галактики… Навсегда… – Исчезли, – согласился Тревельян. – Однако остались их устройства, и одно из них – в этом мире. Разумный механизм под льдами северного материка… Он защищает планету. Он, а не вы. – Откуда ты знаешь? – Знаю. Я вступил с ним в ментальный контакт. – Я должна поверить… как говорят у вас… на слово? Ивар пожал плечами. Затем окинул взглядом круг вооруженных охотников. – Твоя проблема, Аният. Лльяно просили, чтобы я запретил вам появляться в их селениях, и я это сделал. Что до устройства даскинов… Не советую вам проверять мои слова. Это создание не любит чужаков. Девушка в ярости закусила губу. Секунду-другую она как будто колебалась, не зная, на что решиться, потом благоразумие все же пересилило гнев – Аният молча повернулась и зашагала к трапу. Трое мужчин шли за ней. Трап поднялся, утащив с собой всех нильхази, свет в проеме погас, люк задвинулся, и дисковидный корабль со свистом взмыл в небо. – Могла бы попрощаться или хоть улыбкой одарить, – сказал Тревельян. – Что за девица без улыбки? Пусть собой хороша, а все равно мегера. «Правильно, – подтвердил Командор. – Женщина без улыбки, что крейсер без орудий. Эта белобрысая соплячка ничего не понимает. Пустила бы в ход главный калибр, и ты, глядишь, был бы с ней поласковее. Или я не прав?» «Ты всегда прав», – ответил Ивар и огляделся. Охотники исчезли, как сквозь землю провалились. На кустах и деревьях не дрогнула ни единая ветвь, ни один листок не кружился в воздухе. Площадь снова была пуста, только у сарая маячил Рахаш, подпрыгивал в восторге и делал знаки благодарности. – Ну, ты доволен? – спросил Тревельян. – Оченно! – отозвался Говорильник. – Когда тощий хххфу вернуться и торговать, буду удовольствован совсем. – За этим, думаю, дело не станет, – обнадежил его Тревельян и покинул деревню. Командор, следивший за его переговорами, был тут как тут. «Толчея на орбите, голубь мой. Нильхази со своими лоханками, транспорты Флота и боевые корабли… Крейсеры за облаком Оорта, бьют по камешкам, стараются, только все наверняка не распылить. Долетят до вас, и будет светопреставление. Иными словами, карачун». «Это ты к чему, дед?» «А к тому, что Анютка белобрысая права – надо бы вам на судно подняться. Вам безопаснее, мне спокойнее». «Сервы с планеты не улетели», – сказал Тревельян после недолгой паузы. «Сервы! Случись что, их починят, а если ремонтировать нечего, так невелика потеря. У тебя на станции не сервы, а живые люди». «Я помню, дед, но уходить мы не хотим. Это было бы позорное бегство». Молчание. Потом: «Надеешься на своего Ромео?» «Он не мой, а Обны Шеты. Если же разобраться… – Ивар на секунду замолчал, – если разобраться, я пребываю не в надежде, а в полной уверенности. Подумай сам: часть этого устройства, машины Древних, преобразовалась, став человеком. Поразительно! Разве это не говорит о возможностях всей системы? Создать живое существо труднее, чем сгенерировать защитные экраны в космосе». «Ну, насчет того, человек ли он, я бы поспорил», – пробурчал Командор. «Человек! Телом и разумом человек! Способный любить и жертвовать любовью во имя долга. Это ли не свидетельство человечности?» «Пусть его человечность проверяет Обна Шета, – заметил Командор. – Если будут плоды их союза, это меня убедит. Вот дерево, похожее на яблоню, а что на самом деле, узнаем по осени». «Такой критерий годится не всегда. Вспомни историю с моим предком, с Сергеем Вальдесом. Родился от яблони плод, но совсем не яблоко»[227]. Дед не стал спорить и замолк. Ивар выбрался на берег из бамбуковых зарослей. Перед ним лежало море – изумрудные воды, острова, похожие на корзины с цветами, стайки белых птиц, качавшихся на волнах. За нешироким проливом виднелись утесы, что окружали астродром, и над ними – тонкие, едва заметные штрихи силовых мачт энергостанции. В воздухе – ни одной машины сервов. В бирюзовом куполе, накрывшем мир, только облака и птицы, и трудно поверить, что за этой голубизной плывут космические корабли, кружатся другие планеты и в ледяной пустоте сияет мириад далеких солнц. Где будет каждый из этих миров, каждое солнце через сотню тысяч лет или через миллион?.. Что с ними случится за такой огромный срок?.. Возможно, какие-то звезды погаснут, какие-то станут сверхновыми, и жизнь на их планетах, если она там была, закончится в холоде и мраке или в огненной купели… Возможно, вылетит дракон из сердца Галактики, сожжет звезды, расколет планеты и понесет груду обломков дальше, на гибель другим мирам… Все возможно, и такие катастрофы нельзя предвидеть, нельзя предсказать… «Однако предвидели и предсказали, – подумал Тревельян. – Предвидели! Этот поток из галактического ядра, взрывы сверхновых звезд, губительные излучения – все, все исчислено в далеком прошлом Владыками Великой Пустоты! Для чего, с какой целью? Теперь это ясно, – думал он, – всматриваясь в голубые небеса. Катаклизмы, угрожавшие планетам, где появятся жизнь и разум, надо было предотвратить, а там, где это невозможно, поставить на стражу Защитника. Спасителя цивилизации, пусть даже такой непритязательной и скромной, как эта, у лльяно… Не механизм, а почти разумное существо, свято покорное долгу, но способное думать и творить, даже изменяться, если потребуют обстоятельства… Сколько таких созданий спят сейчас в мирах Галактики?.. Спят миллионнолетним сном, чтобы пробудиться в миг опасности?..» – Один из них в вашем мире, – сказал Тревельян облакам и волнам. – Он здесь, и провидение послало ему женщину с чудесным даром, ту, что может изменять реальность по собственному усмотрению. Да, капризную, да, ветреную и тщеславную, но совсем не глупую. И поэтому она сознает, что без любви ее жизнь, как погребальный сосуд кни'лина, в котором только прах и пепел[228]. Наверное, она много лет искала достойного человека, пока не решила, что сотворит его сама. Что тут можно возразить?.. Ее желание, ее право… Как говорил Йездан: «Пусть узы их любви не разрежет клинок и не расточит время». «Браво! Прекрасная речь, мой мальчик! – одобрил Командор. – Я замечаю, что в статусе консула ты сделался красноречивым». «Положение обязывает. Volens nolens[229], дед, – ответил Тревельян. – Кстати, не пора ли отправить доклад адмиралу Лодо? Я имею в виду, о грядущих событиях. Чтобы он не слишком удивлялся». «Отправлю. Про Ромео тоже сообщить? Про нашего принца-гомункула?» «Нет, это лишнее. Не будем шокировать адмирала. Проинформируй его, что на северном материке планеты мы обнаружили защитный комплекс Древних. В ближайшее время он будет активирован и предпримет действия, которые мы не в силах предсказать. Необходима осторожность». «Это все?» «Все. Зашифруй и отправь немедленно». Он направился к станции. Здесь, у цветущих кустов, его поджидали Алиса Виктория и Сигеру'кшу. Вид у них был встревоженный. – Ты рано ушел, – промолвила Алиса. – Очень рано, – уточнил археолог. – Зачем из деревни прислали гонца? – Да, этого щенка в перьях? – У лльяно что-то случилось? – Проблемы, ашинге? Они нуждаются в помощи? Тревельян поглядел на милое личико Алисы и улыбнулся. Что за красавица! Без сомнения, белобрысая Аният не стоила ее мизинца. – Хватит вам петь на два голоса! Я рано ушел и сделал многое – прогнал из деревни нильхази. Надеюсь, вообще с планеты. Ресницы Алисы взлетели двумя пушистыми веерами. – Ты встречался с нильхази, дорогой? С такими же, что прилетали на Гондвану? – С еще более назойливыми. Из сообщений с «Дельфина» мы знаем, что они проводят здесь спасательную операцию. Однако так всем надоели, что Рахаш попросил их изгнать. – Хрр… нильхази… – произнес Сигеру, задумчиво почесывая рога. – Еще одна разновидность ашинге… Я с ними не встречался, но слышал, что они похожи на кни'лина, терукси и землян. Говоришь, назойливое хохо'гро? Но Лиана под нашим покровительством! Ты предъявил им… как это называется?.. да, свой мандат? Свои бумаги с печатями, консульский знак, доверенность клана Кшу и остальные свидетельства власти? – А как же! – Ивар кивнул с самым серьезным видом. – Все было предъявлено в должный момент, включая мои регалии и ордена. – И что? – Они перепугались, пха. Буквально позеленели от страха. – Это хорошо. Для них хорошо, не для нас. – Теперь археолог чесал живот. – Мы давно ни с кем не воевали, соскучились и только ждем повода, чтобы размяться. Думаю, они это понимают. Наш непобедимый флот в любое мгновение… Алиса похлопала Сигеру по спине. – Пха, не надо про флот и войну. Ивар же сказал, они зеленые от страха. А кроме этого было ли что-то еще? – Было, – промолвил Ивар. – Данные, поступившие на «Дельфин», подтверждаются: метеоритный рой достигнет планеты через три-четыре дня. Так сказала Аният, их старшая. – Женщина? – строго спросила Алиса. – Женщина, но очень мерзкая! Похожа на щуку – тощая, длинная и зубастая, – молвил Тревельян, стараясь не прислушиваться к ментальному хохоту деда. Археолог прищурил глаза, всматриваясь в небо. Белые хлопья облаков наплывали с севера, обещая ночной ливень. – Три-четыре дня… это значит, что рой на подходе к системе Лиан… Ударит по светилу, будут выбросы и вспышки… ударит по планетам, полетят брызги и осколки… – Он повернулся к Тревельяну. – Где там наш защитник, тварь с Ххешуша? Когда проснется? Жаркое подгорает! Пора тушить огонь! – Пора, – согласилась Алиса. – Ожидание так нервирует… Хочешь, милый, я спрошу у Обны Шеты? Тревельян покачал головой. – Не нужно, я могу сам с ним связаться. И я уверен, он знает лучше нас, как действовать и когда. Теперь все они смотрели на небо, на фронт медленно плывущих облаков, на птиц, паривших в вышине, и яркий ало-оранжевый солнечный диск. Внезапно над скалами, что окружали астродром, вспыхнула искорка, за нею взмыл целый фонтан серебристых точек и разделился на струи, потянувшиеся на все четыре стороны света. Машины пронеслись высоко над волнами, сверкающие и бесшумные, точно колесницы эльфов, и исчезли за лесом. – Полетели торговать… – прошептала Алиса. – Как будто нет опасности и ничего не случится… – Случится, милая, – сказал Тревельян. – Может быть, сегодня вечером, а в ночь – наверняка. Случится! Только бы не пропустить! Думаю, зрелище будет потрясающее!Глава 15 Смерть дракона
События на Лиане-Секунде доказывают, что Древние разместили в Галактике ряд защитных устройств, пребывающих в латентном состоянии, но готовых пробудиться в случае угрозы. Под угрозой в данном случае понимается катаклизм галактического масштаба – прежде всего, взрывы сверхновых звезд и потоки губительных излучений. Более локальные феномены, падение астероидов и комет на обитаемые планетные тела, столь случайны, что вряд ли Древние, при всем своем могуществе, могли их предвидеть. В настоящее время известны два таких случая: столкновение астероида с Землей, которое привело к гибели динозавров, и захват второй луны Йезданом, материнским миром кни'лина, что едва не погубило жизнь на их планете. Однако катастрофа на Земле случилась семьдесят миллионов лет тому назад, и весьма сомнительно, что в столь далеком прошлом цивилизация даскинов уже существовала и, тем более, охватывала всю Галактику. От бедствия на Йездане нас отделяет неизмеримо меньший срок, всего три тысячелетия, и в тот момент Древние уже покинули Галактику. В качестве рабочей гипотезы можно считать, что даскины не прогнозировали события такого рода, а сосредоточились на более масштабных эпизодах, угрожающих множеству звездных систем. В сущности, поставленная ими задача заключалась в регулировании крупных галактических катастроф. Возникают вопросы: следует ли предпринять усилия для поиска упомянутых выше защитных устройств?.. В каких секторах и областях Галактики можно их обнаружить с наибольшей вероятностью?.. На первый вопрос я склонен ответить положительно, так как даже эпизодические и неполные контакты с мыслящими агрегатами даскинов могут принести бесценные сведения об их цивилизации. Что касается второго вопроса, то наиболее подходящий регион лежит за Провалом в Рукаве Персея, в зоне обитания бино фаата. Полагаю, что отправка туда хорошо оснащенной экспедиции была бы весьма целесообразна.Докладная записка, представленная Иваром Тревельяном в Консулат ФРИК.
* * *
Хотел он того или нет, но пропустить ничего не смог бы. Ночью привиделся Тревельяну сон, будто лежит перед ним покрытая снегом равнина, громоздятся торосы, яростный ветер кружит снежную пыль, а над этим безрадостным пейзажем нависли хмурые небеса. Северный материк… «Знакомая картина», – подумал он во сне, ожидая, что сейчас увидит огромную воронку, пробитую в ледяном панцире. Но кратер, похоже, остался где-то за горизонтом или вообще не был предусмотрен сценарием сна. Вместо этого белесая равнина внезапно дрогнула, вверх взметнулись сорванные с торосов глыбы, по льду побежали глубокие трещины. Фонтан черной протоплазмы ударил в серое небо, вытягиваясь титанической колонной; сфера на ее конце раскрылась, выплеснув сотни длинных узких лепестков, начавших мгновенно ткать параболоид антенны. Эти устройства поднимались всюду и, пронизывая бушующую метель, разворачивали огромные чаши к плотной пелене облаков. Десятки, сотни, целый лес антенн, как чудилось во сне Тревельяну. Они уже не были черными, а обрели металлический блеск, и над ними зазмеились молнии. Сон?.. Он пошевелился, сел, раскрыл глаза и потянулся к комбинезону. Видение, однако, не исчезло, а стало еще четче и яснее. Сквозь него смутно просвечивала обстановка жилого отсека – кровать Алисы, дверцы шкафа, голографические снимки на стене. Сейчас реальность мнилась ему миражом, ее заслоняла ментальная картина, посланная с полюса планеты. Всматриваться сразу в то и другое было непривычно, но Ивар не пытался экранировать свой мозг – происходившее на Ххешуше казалось важнее, чем все, что он мог увидеть на станции. «Кроме Алисы», – подумал он и прикоснулся к ее щеке. – Вставай, тхара! Наш Принц уже трудится, ломает льды на Ххешуше, собирает молнии! Вставай! Сквозь приходящие к нему картины Ивар разглядел обеспокоенное лицо жены. Она начала поспешно одеваться. – Включить сигнал тревоги, дорогой? – Не надо, тхара. Просто разбуди коллег и наших гостей. Я буду ждать вас на поляне, у первого шлюза. Он выбрался в коридор. Молнии, что сверкали над чашами антенн, соединились в четыре огромных пучка и ударили в тучи над континентом. Вероятно, энергия была гигантской – на льды и снега обрушился ливень, небо очистилось, и теперь в нем висел только бледный призрак солнца, окруженный кольцами гало. «Четыре энергетических потока, четыре луны…» – мелькнула мысль. Почему-то он был уверен – или ему подсказали, что энергия предназначена лунам, всем, кроме Желтой? Она являлась естественным спутником, но что такое остальные?.. Защитные механизмы, подвешенные над планетой?.. «Ты понял правильно», – пришел ответ. Держась за стену, Ивар добрался до шлюза и покинул станцию. Небеса пылали. Яркое сияние разливалось от горизонта до горизонта, затмевая звезды, и теперь он видел две картины, наложенные одна на другую: бьющие из льдов потоки энергии и море с островами, озаренное небесным светом. Свет исходил из четырех источников, будто растянувших над миром переливавшийся синим и фиолетовым плащ. Ему казалось, что это сияние удаляется, плывет от Лианы в Великую Пустоту, захватывая все больше и больше пространства. Но возможно, это была иллюзия. – Хрр… – послышалось за его спиной. – Кажется, он продвигает защитный экран или нечто подобное к границам системы… Вместе с лунами, я полагаю. Алиса тихо вздохнула. – Какое фантастическое зрелище… Не правда ли, мальчики? Мальчики загомонили. В их хоре Тревельян различал тенор Сирада, резкие выкрики молодых хапторов и голос Инанту Тулунова. Обернувшись, он встретился взглядом с провидицей – на ее лице застыла восторженная улыбка, губы были полуоткрыты, на щеках играл румянец. Чудилось, она что-то разглядывает, но не зарево, охватившее небо, не берег моря и не острова. – Что ты видишь, Обна Шета? Полярный материк и столбы огня? Она покачала головой. – Нет, милорд консул, он посылает мне другие картины. Я вижу, вижу… Он стоит над льдами и снегами и простирает руки к звездам… Огромная фигура в синем плаще, спадающем с плеч… Он окружен сиянием, молнии срываются с его пальцев, пронзая небо, потоки молний, уходящих в бесконечность… Над ним раскинулся огненный полог, и этот огонь движется во все стороны, летит стремительно, неотвратимо… Огромные камни сгорают в нем, как мошки в пламени свечи… исчезают без следа, не оставив горсти праха… Он – словно рыцарь, что бьется с драконом, спасая мир – может быть, всю Вселенную… Он прекрасен! Прекрасен и могуч! «Очень поэтично», – решил Тревельян и усмехнулся. Так же, как он, Обна Шета видела происходящее на Ххешуше, но в другом, более героическом варианте. Что ж, всякий мужчина хочет порисоваться перед возлюбленной! Это еще раз подтверждало, что Ромео – человек, со всеми слабостями, присущими роду людскому. Ибо сказано Йезданом Серооким: «Ничто не свершается без греха!» Ивар закрыл глаза, и теперь перед ним проносились только ментальные картины. Он находился в глубоком космосе, на границе звездной системы, обращенной к центру Галактики. Там, отделяя солнце и планеты от зоны Оорта, повисло голубоватое облако, новосотворенная туманность, простиравшаяся во все стороны. Ивар не видел лун и потоков энергии, что струились с Лианы, лишь эту дымку и рой бесформенных каменных глыб, летевших из Великой Пустоты. Слегка пульсирующий туман будто проглатывал их – и огромные астероиды, и мелкие камни, и пылевые частицы. Ни вспышек, ни огня, о котором говорила Обна Шета, и никаких иных эффектов; просто, попав в голубую мглу, камни исчезали, словно в бездонном колодце. Он уже поглотил голову дракона и теперь втягивал в себя его длинное туловище, по три мегаметра каждую секунду. «Еще сутки, – подумал Тревельян, – и дело дойдет до хвоста». Где-то на самой периферии его восприятия маячили корабли. Одна группа – крейсеры Мобильного Флота, еще недавно дробившие астероиды. Теперь их орудия бездействовали, эскадра медленно дрейфовала под защитой туманности, будто признав, что есть во Вселенной более мощная сила, чем аннигилятор. Другая группа, три сферических корабля нильхази и земные транспорты, висела над планетой, но ни один лльяно не ступил на борт спасательных судов. Возможно, они дремали в хижинах хх'бо или, подобно коллегам Ивара, любовались небесным фейерверком, не думая о том, чтобы покинуть свой привычный мир. Такой изобильный, благоустроенный и так хорошо защищенный… «Дед, – позвал Тревельян, – дед, ты ведешь запись?» «Три зонда висят над полюсом, – доложил Командор. – Еще три я отправил к границам системы, пусть зафиксируют этот цирк. Если удастся, сниму параметры защитного поля. Тут я не один стараюсь, на крейсерах тоже пашут, аж пар идет. – Он сделал паузу, потом промолвил: – Как ты думаешь, в чем тут фокус? Это не аннигиляция, нет ни вспышки, ни жесткого излучения, а камни исчезают… Почему?» «Подпространственная транспортировка, дед. Он их куда-то перебрасывает – может быть, в межгалактическую пустоту. А облако… Ты видишь голубую дымку?.. Это огромная щель, дыра, пробитая в ткани континуума. Портал! Вроде тех крохотных, что я открываю для личного пользования. Но масштабы тут другие». «Вижу, что другие, – буркнул Командор. – У облака поперечник несколько световых часов, больше, чем от Солнца до Плутона… Не дыра – дырища!» Камни все так же исчезали в голубоватой пропасти. Иногда какая-нибудь глыба будто наплывала на Тревельяна, и он мог разглядеть игру теней и света на рваной иззубренной поверхности астероида. Вероятно, этот эффект зависел от Принца – изображение то приближалось к нему, то удалялось, словно передающий ментальные образы хотел продемонстрировать и картину в целом, и ее отдельные фрагменты. Трансляция видеоряда шла непрерывно, но временами Ивар чувствовал нечто иное – отзвуки владевших Принцем эмоций. «Вполне человеческих, – решил он, – гордость, торжество и ощущение свободы, безмерной свободы, какая даруется птице, покинувшей клетку». Связь с Командором возобновилась. «Нильхази упаковали чемоданы, – сообщил дед. – Маневрируют, сходят с орбиты. Спасители наши! Храни от них Владыка Пустоты!» «Думаю, они обижены, – заметил Тревельян. – Жаль! Федерации не нужен повод для конфликта». «Конфликт – не стихийная сила, с которой мы не можем совладать, – отозвался его Советник. – Конфликты разрешаются Судьей Справедливости. Или аннигилятором», – добавил он, помолчав. «Вот и Сигеру о том же – мол, хапторы соскучились, давно не воевали… Только этого нам не хватает! Мы…» «Погоди, – прервал его дед. – Сообщение от адмирала Лодо. Срочное! Сейчас я с ним разберусь». Пальцы Алисы скользнули в ладонь Тревельяна, и он открыл глаза. – Очнись, милый! Куда ты спрятался? Я здесь! – Прости, ласточка. Деловые переговоры. – С Принцем? – Нет, с дедом. Мобильный Флот прислал сообщение, но что в нем, я еще не знаю. Должно быть, глифы… Дед расшифрует. – Надеюсь, у них все в порядке, – сказала Алиса Виктория, прижавшись щекой к плечу Тревельяна. – Никаких проблем, да? – Никаких, – подтвердил он. – Газообразную часть потока и пыль они сожгли, крупные объекты пропустили, но их сейчас уничтожает Принц. Дело сделано. Могут отправляться домой.* * *
Но адмирал Лодо так не считал. Сидя под полотном Сислея, изображавшим заснеженный сад, он всматривался в экраны, повисшие в воздухе. Они закрывали большую часть противоположной стены и прозрачную переборку, за которой находилась оранжерея. Сияние защитного поля уже погасло, и сейчас шел демонтаж эмиттеров. Огромные установки медленно плыли на фоне звезд, образуя кольцо походного конуса, антенны и жерла излучателей прятались в шлюзах, сдвигались броневые пластины, двигатели маневра выбрасывали в пустоту неяркие струи огня. Но на самом большом экране виднелось другое изображение – заполняющая пространство голубая мгла и рой каменных глыб, бесследно исчезавших в этом тумане. Трансляция с крейсера «Толлан», дрейфовавшего в системе Лианы, велась уже восемь часов, и все это время Лодо и два его заместителя провели в адмиральском салоне. – Интересно, возможен ли прыжок в Лимбе сквозь это образование? – произнес коммодор Моррисон, разглядывая голубую дымку. – Риск велик, и лучше не пытаться, – откликнулась коммодор Симбирцева. – Я не имею понятия, что это такое. – Риск? Какой риск? Можно отправить беспилотный транспорт, – сказал Моррисон. – Их у Лианы два десятка. Вполне можем одним пожертвовать. – Это авантюра, Влад. – Не авантюра, а попытка исследования. Еще несколько часов, с роем будет покончено, и эта аномалия исчезнет. Надо хотя бы замерить градиент и плотность энергии… – Прыжок в Лимбе таких сведений не даст. – Зато позволит выяснить связь феномена с зоной квантового хаоса. – Подумав пару секунд, Моррисон добавил: – Возможно. – Возможно, да, возможно, нет, – отпарировала Симбирцева. – Повторяю, я… мы не имеем понятия, что это такое. Пробой континуума? Поле диссипации? Энергетический экран или темпоральная воронка? Выбирайте, что понравилось. Моррисон с сожаленим пожал плечами и вздохнул. – Что ж, Илона, не буду спорить. Риск велик, вы правы… Так что соберем корабли, встанем в походный ордер, и домой! Лодо окинул заместителя суровым взглядом. – С чего вы так решили? Ни в коем случае! – Простите, адмирал? – Флот отправится к месту дислокации, но без нас. «Карфаген» пойдет в систему Лианы. Возможно, с эскортом из пары крейсеров… Взгляните! – Лодо вытянул руку к экрану. – Там новая технология, нечто такое, чем мы не обладаем! У нас на борту специалисты, прекрасные лаборатории, центры опытного производства и моделирования. Кому разбираться, как не нам? Моррисон тут же воспрянул духом. – Согласен, адмирал! Запустим сейчас беспилотник и… – Нет. – Разве вы не хотите исследовать этот феномен? – Важна причина, а не следствие, – сказал Лодо. – Феномен – не эта темпоральная воронка, поле диссипации или что там еще. По данным экспедиции ФРИК, истинный феномен находится на Лиане – некое устройство Древних, защитный комплекс на северном материке. Вот наша цель, коллеги. Этим мы и займемся. Тонкая звенящая нота повисла в воздухе. Распахнулся еще один экран, на нем возникло лицо лейтенанта из секции связи. – Депеша, адмирал. Носитель власти Ут-Хатори хочет проститься с вами и коммодором Симбирцевой. Ее корабли покидают Лиану. – Редкий знак внимания, если вспомнить о гордости нильхази, – промолвил адмирал. – Пошлите ответ немедленно. Мы желаем Ут-Хатори доброго пути и успехов в ее благородном занятии. Разумеется, надеемся на новую встречу и будем ждать ее с нетерпением. Что-нибудь в таком роде, лейтенант. – Слушаюсь. Будет исполнено. Экран потемнел, но тут же вспыхнул снова – Лодо соединился с отсеком управления, где несла вахту группа пилотов и навигаторов. Там перемигивались огоньки, зажигались и гасли голограммы, плыли изображения кораблей и трехмерные схемы походного конуса. Старший офицер следил за его построением, отдавая короткие команды, прочие трудилсь у пультов. – Рассчитать курс к Лиане-Секунде и собрать корабли на ее орбите, – произнес адмирал. – Затем флот отправится домой. Весь флот, кроме «Карфагена». Мы остаемся.* * *
К вечеру голубая дымка в небесах исчезла. Тревельян провел этот день в обычных делах – разбирал коллекции, занимался вместе с Сигеру'кшу отчетом, гулял с Алисой по морскому берегу и разглядывал кораблики сервов, сновавшие над лесом и морем. Видения от Блистающего Принца больше не приходили – кажется, он решил, что адресат в курсе событий и в информации не нуждается. После ужина они с Алисой заглянули к провидице. Ее отсек уже не был похож на чертоги Шахразады: яркие накидки и ковры, безделушки и светильники, внушительный гардероб с платьями, обувью и накидками – словом, все, кроме ложа, находилось в контейнерах и сундуках. Сама Обна Шета, в изящном лиловом комбинезончике, сидела на краю постели. Взглянув на нее, Ивар понял: она уже в небесах, мчится вместе с Принцем в просторах Галактики, вкушая всякий день нектар любви. Или, возможно, всякий час. – Так не хочется покидать вас, милорд и благородная леди, однако… – Обна Шета потянулась с томным видом, – однако время пришло, и тут ничего не поделаешь. Долг Ромео выполнен, он свободен, и мы улетаем. Улетаем, но вечно будем помнить вас. – Я польщен, и моя супруга – тоже, – сказал Тревельян, склонив голову. – Есть, однако, вопрос насчет долга. Долг – понятие растяжимое… Предположим, через пару миллионов лет что-нибудь опять случится. Кто спасет Лиану в этом случае? Сможет ли устройство на Ххешуше действовать без Защитника, то есть без командного блока? Опустив веки, провидица склонила головку к плечу, словно к чему-то прислушиваясь. Затем произнесла: – Ромео говорит, нет повода для беспокойства. Ставший человеком улетает, но копия остается. Копия, то, что ты называешь командным блоком… Она здесь, она дремлет, но ждет… – Внезапно по губам Обны Шеты скользнула улыбка. – Ромео сказал: пройдет недолгое время, и мы сами сможем это сделать, сможем защитить любой мир в Галактике… Мы, люди… Мы, новые Владыки Пустоты… – Тут он прав, мы сможем, – согласился Ивар. – Если не в этом столетии, так в следующем. Провидица поднялась, окинула взглядом свое имущество. Ее постель начала сворачиваться: стойки балдахина пошли вниз, прибор счастливых снов утонул в мягкой обивке, и через несколько секунд ложе превратилось в аккуратно упакованный тючок. Обна Шета нахмурилась с озадаченным видом. – Ивар… милорд консул… эти милые молодые люди, хапторы и Нильс с Инанту… Они помогут все это погрузить? – С огромным удовольствием, – сказал Тревельян. – Но стоит перевести твой корабль с астродрома поближе к станции, на берег моря. Пусть Сирад возьмет авиетку и… Она покачала головой. – Я уже не нуждаюсь в услугах Оберегающего. Мой Ромео… в его власти очутиться где угодно… Он сам приведет «Полночь» к морскому берегу. – Очень хорошо. А что нам делать с Сирадом? Как я понял, он лишился должности, не так ли? – Сирад отправится на Дингана-Пхау, и в этом ты, милорд, ему поможешь. Он получит награду и будет жить в почете. – Обна Шета гордо вскинула темноволосую головку. – Ведь он служил мне, провидице Тренгар, и служил хорошо! – Разумеется, – пробормотал Ивар. – Такая честь! Уверен, на Дингана-Пхау его встретят с оркестром. Алиса, молча слушавшая их, вдруг шагнула к Обне Шете, обняла ее, прижалась щекой к щеке. Женщины замерли, черные локоны смешались с прядями цвета спелого каштана, руки переплелись. Кажется, Алиса Виктория что-то шептала провидице, но так тихо, что Тревельян не расслышал ничего. Может быть, посвящала Обну Шету в тайны семейной жизни. Они отступили на шаг, продолжая держаться за руки. – Прощай, подружка, – сказала Алиса. – Прощай, благородная принцесса, и будь счастлива, – послышалось в ответ. – Не нужно меня провожать. Прошу, не нужно… Боюсь, я заплачу!* * *
Но, конечно, они ее проводили. Серебристый кораблик с легким гулом завис над берегом, помигал на прощание прожекторами, потом прыгнул вверх и растаял в темных небесах. Снова тишина, только рокочут волны да вскрикивают ночные птицы… Ночь была темнее, чем обычно, и по морской поверхности тянулась только одна световая дорожка. Тревельян запрокинул голову. В небе сияла только одна луна, Желтая, на которой обитали предки лльяно. Конечно, она не могла покинуть этот мир, оставив его население без места последнего приюта. Четыре других спутника исчезли, зато звезд прибавилось – целый сияющий сгусток плыл в вышине в окружении мерцающего света. Алиса вздохнула. – Улетели… Такой необычный союз – женщина терукси и мужчина, созданный по ее желанию… Что с ними будет, Ивар? Как сложится их жизнь? – Надеюсь, тхара, скучать им не придется, – сказал Тревельян. – Постранствуют всласть в Галактике, а после могут приземлиться на Гондване. Очень подходящее место для влюбленных и всяких чудаков. – Да, Гондвана… – Алиса мечтательно прищурилась. – Там я встретила тебя… Влюбленным ты еще не был, но чудаком – это точно! – Неправда! Едва встретив твой взгляд, я… Что он хотел сказать, в чем поклясться, осталось неизвестным – поцелуй Алисы был свеж и сладок. Спустя некоторое время она опять промолвила со вздохом: – Улетели… – Одни улетели, другие прилетели, – заметил Тревельян. – О чем ты, милый? Он показал на новое созвездие, сиявшее в небесах. – Мобильный Флот, дорогая. Корабли адмирала Лодо на нашей орбите. Может быть, не все останутся, но Лодо уж точно никуда не улетит. Я с ним не встречался, но дед навел справки. Человек осторожный, но весьма упорный! Кихха, как сказал бы наш Сигеру! Любит задавать вопросы и копаться в разных проблемах! – И эта проблема – там? – Алиса бросила взгляд на север. – Там. Только я не уверен, что ему удастся что-то раскопать. – Разве ты ему не поможешь? – Помогу, но не здесь, не на Лиане-Секунде. Нужна экспедиция, дальняя разведка за Провалом, в зоне обитания фаата… Корпус защиты для Фонда – первый союзник в этом деле. У нас нет боевых кораблей, а у Корпуса есть. Что же до нашего приятеля на северном материке… Тревельян закрыл глаза, сосредоточился и протянул ментальную нить к Ххешушу. Там, как прежде, царила тьма, и нечто огромное, дремлющее, лениво ворочалось в беспросветном мраке, разбрасывая тусклые искры. Эти крохотные огоньки вспыхивали и гасли хаотично, бессистемно, не образуя устойчивой структуры, и лишь с большим напряжением Ивар ощущал метание импульсов в зыбкой непроницаемой мгле. Титан, сразивший чудище из ядра Галактики, снова погрузился в сон – возможно, на миллионы лет. «Пусть спит, не надо его беспокоить, – подумал Тревельян. – Он сделал больше, чем было задумано – спас лльяно и одарил любовью женщину. Вряд ли Древние, при всем своем могуществе, могли это предвидеть… Так что пусть спит! Конечно, у адмирала Лодо будут вопросы, и когда-нибудь он получит ответ. Но не сейчас! В другое время и в другом месте».Приложение 1 Галактические расы, упомянутые в романах сериала
АРХИ – автохтоны планеты Арханг, находящейся под патронатом Фонда Развития Инопланетных Культур (в частности, на Арханге впервые проводились эксперименты в области инкарнологии). Мир с кислородной атмосферой, но с высокой гравитацией (1,7g), холодная планета красной звезды, превосходящая Землю размерами. Период оборота вокруг светила – около трех стандартных лет. Имеются водные бассейны (реки и моря, большую часть планетарного года покрытые льдом) и шесть материков: Яхит, Тху, Шет (все три обитаемы), Ут – малонаселенный материк в Южном полушарии, Фийе и Харх (необитаемые материки на Северном и Южном полюсах). Архи безусловно не относятся к гуманоидам и классифицируются в настоящий момент как псевдоэнтомоны (т. е. мнимонасекомые). Внешне они действительно напоминают жукоподобных созданий с шестью конечностями, хитиновой броней, усами, жвалами и хоботком для всасывания пищи. При этом они теплокровны, имеют два мозга (в голове плюс спинной ганглий) и двуполы (но потомство производит только мать-королева). Размер крупной особи – примерно по колено человеку. Архи обитают в пещерных городах, пребывающих в состоянии непрерывной войны. Уровень развития соответствует раннему земному Средневековью: жесткая автократия, деление общества на касты, неприязнь к чужакам, воинственность. Производство сосредоточено в ремесленных цехах. Можно выделить три расы, каждая из которых обитает на своем материке: яхиты, тху или тхуиты, шетаны. Поедание сородичей, а тем более представителей другой расы не считается каннибализмом. ДАСКИНЫ, или ДРЕВНЯЯ РАСА. Названия «даскины» или «Древние» в том или ином виде фигурируют в языках всех известных галактических рас, достигших уровня межзвездных перелетов. Даскины являлись наиболее мощной и высокоразвитой цивилизацией, которая, согласно легендам, распространила свое влияние на всю Галактику и таинственно исчезла несколько миллионов лет тому назад. Облик, физиологические особенности, происхождение даскинов неизвестны; равным образом не сохранилось достоверных данных об их культуре, целях, образе жизни, размерах популяции, социальном устройстве и причинах, побудивших их покинуть Галактику. Тем не менее даскины не являются порождением фантазии, ибо сохранился ряд артефактов, позволяющих косвенно судить об их научных и технологических достижениях. Наиболее известными являются контурный двигатель и так называемый Портулан даскинов, карта Галактики, доставленная на Землю сервами лоона эо. Затем необходимо отметить гигантские астроинженерные сооружения на протозвездах (в частности, на Юпитере), которые, очевидно, являются вратами межзвездной транспортной сети, встроенной в структуру Лимба. На многих планетах, ныне безлюдных, находили и находят до сих пор различные устройства даскинов неясного назначения: ассенизационные и защитные агрегаты, споры квазиразумных тварей, способных, при надлежащем развитии, к ментальному контакту, зев-цветок (прототип контурного привода) и т. д. Хотя даскины удалились из Галактики (и, возможно, вообще из нашей Вселенной), существует предание, что они оставили здесь эмиссаров – Владык Пустоты, существ своей или другой древней расы, надзирающих за молодыми цивилизациями.ДРОМИ. Название расы пришло из языка лоона эо. Самоназвание неизвестно и, очевидно, не может быть воспроизведено звуками земной лингвы. Галактические координаты сектора дроми: OrY57/OrY64, Рукав Ориона. Материнский мир – Файтарла-Ата, координаты OrY60.08.72, число колонизированных планет – около восьмидесяти. Технологическая цивилизация уровня B3, владеющая контурным приводом, который, вероятно, получен от лоона эо. Происходят от земноводных Фартайлы, в процессе эволюции сохранили когти, клыки и чешуйчатую зеленоватую кожу. Половые различия отсутствуют, одна и та же особь может выступать в качестве самки и самца. Размножаются, откладывая мелкие, похожие на икру яйца, из которых затем выходят личинки, быстро минующие цикл развития во взрослую особь. Данный период аналогичен земному понятию детства, и в это время масса тела личинок интенсивно увеличивается. Однако взрослые дроми продолжают расти, хотя не так быстро, и в старости достигают массы в 150–200 кг. Живут 45–50 лет, но малый жизненный срок компенсируется чрезвычайной плодовитостью; оценка их популяции – 350–400 млрд. особей. Очень агрессивны. Социальная структура – клановая, подчинение старейшинам и вождям кланов заложено на генетическом уровне. На протяжении двух последних тысячелетий служили Защитниками лоона эо, у которых позаимствовали некоторые технические достижения и приемы. Контракт между лоона эо и дроми был разорван в 2099 году, когда на смену дроми пришли наемники с Земли.
КНИ'ЛИНА – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора кни'лина: OrZ15/OrZ82, Рукав Ориона. Материнский мир – Йездан, координаты OrZ65.17.02. Гуманоидная раса с физиологией, чрезвычайно близкой к земному стандарту; сексуально совместимы с людьми, но, в отличие от бино фаата и терукси, браки не дают потомства (причина неясна из-за нежелания кни'лина касаться этого вопроса). Технологическая цивилизация уровня В6, в основных чертах сходная с земной. Горды, воинственны, высокомерны. Желания тесно контактировать с Землей не проявляют, однако держат на Луне небольшую дипломатическую миссию. Краткая история. В древнюю эпоху Йездан, материнский мир кни'лина, имел один спутник, затем планета захватила второй, крупный астероид, что привело к катаклизмам, упадку цивилизации и, как следствие, к жестоким войнам и всепланетной эпидемии губительной болезни. С целью борьбы с недугом большая часть населения была генетически преобразована в два крупных клана – Ни и Похарас – и два десятка мелких. В настоящее время единственный материк Йездана представляет собой зоны влияния Ни и Похарас и примыкающих к ним родственных кланов; имеются два органа управления, координирующий центр Хорада и около пятидесяти колоний, представляющих главную военную и экономическую силу расы. Оценка популяции – 25 млрд., из них на Йездане – 2 млрд. Темп размножения схож с человеческим. Основные отличия от землян: безволосы, строгие вегетарианцы (землян презрительно называют «волосатыми» и «пожирателями трупов»), обладают исключительно тонким обонянием, привержены ряду обязательных традиций в части одежды, питания, этикета.
ЛООНА ЭО – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора лоона эо: OrY38/OrX05, Рукав Ориона. Материнский мир – Куллат, координаты OrX01.55.68. Вблизи Куллата находятся Файо, Арза и другие миры так называемой Розовой Зоны, освоенные и заселенные лоона эо в глубокой древности (предположительно 50–80 тысячелетий назад). Внешняя, или Голубая Зона включает порядка двадцати планет – Харра, Тинтах, Данвейт и т. д., – колонизированных в более поздние времена (10–12 тысяч лет назад). Технологическая цивилизация уровня A1, наиболее высокого среди всех известных рас. Псевдогуманоиды; при внешнем облике, подобном человеческому, существуют глубокие физиологические различия между лоона эо и гуманоидной ветвью в Галактике (люди, фаата, кни'лина, терукси и остальные). Происхождение неизвестно, способ размножения в деталях не описан; число полов – четыре. Оценить размеры популяции не представляется возможным. В психическом плане лоона эо интроверты, абсолютно не склонные к личным контактам с другими разумными существами. Однако они поддерживают активные торговые связи со множеством цивилизаций, используя для этого сервов, весьма совершенных биороботов с интеллектом выше порога Глика-Чейни. Миролюбивы и, вероятно, очень долговечны. В настоящее время лоона эо покинули планеты, включая материнский мир Куллат, и обитают в астроидах, искусственных космических поселениях. Социальная структура неизвестна. Для обороны своего галактического сектора нанимают расы-Защитники (достоверно известны две: дроми, а до них – хапторы). С 2097 года Защитники вербуются в Солнечной системе и других мирах Земной Федерации. Первый контакт с сервами лоона эо произошел на Плутоне, в 2096 году.
ЛЛЬЯНО – точное самоназвание расы неизвестно, так как звуки языка лльяно невоспроизводимы для гуманоидов. Общение с ними возможно с помощью трансляторов и искусственных языков альфа-лльяно и бета-лльяно, разработанных лоона эо, по которым поименованы звездная система, планета и раса. Однако, в связи с трудностью произношения (очень долгое «л» в слове «лльяно»), их светило в земных каталогах упоминается как Лиан, а его вторая планета, место обитания лльяно – Лиана-Секунда. Лиан, красновато-оранжевая звезда класса К, находится в 386 парсеках за зоной влияния лоона эо, в направлении южного галактического полюса; координаты OrJ77.22.07. Кроме Лианы-Секунды, звездная система включает миры Лиана-Прим, Лиана-Терция и Лиана-Кварта (все для жизни непригодны). Еще половину столетия назад Лиана-Секунда посещалась лишь торговыми караванами лоона эо, и источником информации о лльяно были немногочисленные земные наемники, сопровождавшие торговцев-сервов. По описаниям очевидцев, лльяно похожи на мохнатых тварей с округлыми формами (по выражению одного из наемников, «напоминают небольшихупитанных медведей»), являются хищниками и предпочитают мясную пищу; все это в дальнейшем подтвердилось. Неверной оказалась оценка их культурного и общественного уровня – то, что лльяно будто бы не пользуются огнем, занимаются исключительно собирательством и охотой и временами поедают себе подобных, а также инопланетных странников. За три-четыре последних десятилетия Лиану-Секунду посещали частные экспедиции хапторов и некоторых коммерческих компаний Земной Федерации. Точное число этих визитов не установлено, но хотя они не преследовали научных целей, многие мифы о расе лльяно удалось развеять. Комплексное изучение планеты провела миссия Тревельяна – Сиггеру'кшу, выяснившая, что лльяно владеют лишь простейшими технологиями (изготовление охотничьих приспособлений и предметов быта, постройка жилищ), однако считать их примитивными существами было бы ошибкой. Их достижения в сфере искусства – песенное творчество, резьба по дереву, плетение ковров и т. д. – весьма незаурядны и свидетельствуют о довольно высоком интеллектуальном уровне. Их общины, обитающие на главном материке планеты (континент Харшабаим), в основном сосуществуют в мире, конфликты редки и не носят глобального характера. Торговые отношения с сервами лоона эо устойчивы и зиждятся на взаимовыгодном обмене: шерсть и предметы искусства на изделия из металла и пластика. В физиологическом отношении лльяно занимают промежуточную ступень между гуманоидами и негуманоидами. Они происходят от созданий скорее хищных, чем обезьяноподобных, делятся на два пола с обычным способом размножения. Социальная структура как таковая отсутствует, община формируется из независимых полигамных семейных ячеек, в которых главенствующую роль играют самки. Связи между партнерами по браку очень сильны и длятся от ранней юности до смерти. Срок жизни значителен – до двух веков в местном летоисчислении (около 120–130 земных лет). Население планеты (по оценке Сиггеру'кшу) – от семидесяти до ста миллионов особей.
МЕТАМОРФЫ, или ПРОТЕИДЫ (самоназвание расы неизвестно). Галактические координаты сектора и материнского мира этих загадочных существ неизвестны. Также нет достоверной информации об их технологическом уровне, хотя предполагается, что он высок (не ниже B8-B9). Негуманоидная раса, чьи представители обладают способностью к радикальному изменению внешнего обличья и, вероятно, метаболизма и физиологии. В качестве эмиссаров (наблюдателей?.. разведчиков?..) присутствуют на многих мирах, но, в силу своей природы, практически незаметны и неуловимы. Единственный надежно зафиксированный случай контакта эмиссара-метаморфа с земным сообществом относится к 2088 году (эпоха Вторжения). В этот период эмиссар развил активную деятельность, чтобы побудить вооруженные силы Земли к сопротивлению бино фаата и, в конечном счете, их уничтожению. Но эта акция фактически была выполнена самим эмиссаром: когда фаата приземлились, он доставил на борт их судна контейнер с микророботами, биомеханическим аналогом насекомых, которые осуществили утилизацию тканей квазиразумного устройства, управлявшего звездолетом агрессоров. Его уничтожение привело к гибели всего экипажа фаата. Хотя причины враждебности метаморфов к бино фаата до сих пор не установлены, нет оснований сомневаться в самом этом факте. Примечание. Во время Войн Провала эмиссар метаморфов явно себя не проявил, однако существует мнение, что некоторая ценная информация получена Секретной службой при его участии. Возможно, он внедрился в эту Службу и занимает в ней достаточно высокий пост. Проверка данной гипотезы запрещена руководством Службы. По выражению одного из ее ответственных лидеров, «не надо нервировать курицу, несущую золотые яйца». Известные физиологические показатели метаморфа подтверждают, что он способен к изменению черт лица, роста, веса, цвета кожи и фигуры в рамках человеческого обличья. Также обладает возможностью телепортации объектов весом до ста килограммов в пределах Земли и до нескольких граммов – на космические расстояния (вероятно, через Лимб). Все контактировавшие с эмиссаром отмечают, что он абсолютно достоверно имитировал человеческое поведение и эмоции; никто не сомневался, что общается с человеком. Однако подобная толерантность, так же, как помощь в противоборстве с фаата, не означают, что эмиссар протеидов и его народ испытывают дружеские чувства по отношению к земному человечеству. Можно сделать осторожный прогноз, что они, по крайней мере, не враждебны людям. Об остальных движущих мотивах и психологических характеристиках этой расы ничего не известно.
НИЛЬХАЗИ. Гуманоидная раса, в недавнее время вступившая в соприкосновение с Земной Федерацией (первый контакт произошел на Гондване). Галактические координаты сектора нильхази неизвестны, и расположение их материнского мира – тоже, но он находится в том же Рукаве Галактики, что и Земля. Нильхази обладают высокоразвитой технологией (предположительно уровня В5-В6), способны к дальним межзвездным перелетам. Физиологически очень близки к земному стандарту. Срок их жизни, численность популяции, общественное устройство, язык и остальные подробности также пока неизвестны. Считается, что в их социуме главенствуют женщины, но эту гипотезу еще предстоит проверить. Находится в стадии изучения. Краткая история. Высказано предположение, что раса нильхази произошла от колонистов, покинувших планету Декаи Таилу незадолго до полной гибели ее населения, наступившей в результате ядерной эимы. Это случилось в глубокой древности (примерная датировка событий – тридцать тысяч лет). Подтверждением данной гипотезы является изучение Декаи Таилу (ныне мир известен как Снежная Пасть), которое проводилось экспедициями землян, терукси и кни'лина. В частности, на этой планете была обнаружена капсула времени с древним обитателем Декаи Таилу.
ОСИЕРЦЫ. Автохтоны планеты Осиер, подобная землянам гуманоидная раса, пребывающая в периоде длительного средневекового застоя. Высокими технологиями не обладают, уровень знаний примерно сравним с эпохой расцвета Pax Romana (в Европе – I век до н. э.). Планета изобильна, богата водой, плодородными землями и полезными ископаемыми. Большая часть ее населенного и очень обширного материка находится под контролем империи, распространившей свою власть от западного до восточного океана. В данный период времени над Осиером установлен совместный патронат Фонда Развития Инопланетных Культур и цивилизации парапримов.
РАВАНИТЫ. Автохтоны планеты Равана (также известна как Пекло), населенной несколькими расами: номады шас-га, оседлые кьоллы, ядугар, туфан и другие. Планета засушлива, климат жаркий, население редкое и очень воинственное; конфликты между разными народами и племенами постоянны, уровень централизации и технологии низкий (например, в сравнении с Осиером). Планета находится под патронатом Фонда Развития Инопланетных Культур.
ПАРАПРИМАТЫ, или ПАРАПРИМЫ – высокоразвитая цивилизация четвероруких существ, внешним видом напоминающих шимпанзе, вследствие чего они получили указанное название (пара – греч. «возле», «около»). Первый контакт осуществлен на Осиере (в текущую эпоху), и пока о парапримах известно немногое. Эти существа безусловно миролюбивы и гуманны; в отношении младших рас проводят ту же культурологическую и прогрессорскую политику, которой занимается ФРИК. Местоположение их планет известно, но миссии Земной Федерации их пока не посещали. Тем не менее контакты развиваются весьма плодотворно; намечен ряд совместных проектов.
СИЛЬМАРРИ. Название расы пришло из языка бино фаата. Самоназвание неизвестно, не может быть воспроизведено звуками земной лингвы и, вероятно, вообще не существует. Раса сильмарри не имеет зоны влияния, не привязана к определенному сектору, а странствует на своих кораблях по всей Галактике, являя пример кочующей цивилизации (единственный феномен такого рода). Происхождение и материнский мир сильмарри неизвестны, но, по косвенным данным, они, так же, как даскины, относятся к древнейшим расам Галактики (примерный возраст – 25–30 млн. лет). Технологический уровень сильмарри трудно оценить, хотя их корабль в 2125 году посетили и обследовали земные ксенологи (в период спячки экипажа, предшествующей размножению). Технология сильмарри носит ярко выраженный биологический характер и не имеет аналогов среди техносфер других галактических рас, знакомых с контурным приводом. Распространено мнение, что их корабли – живые существа, способные проникать в Лимб и адаптированные к перемещению в космическом пространстве. Достоверные данные о физиологии и способе воспроизводства сильмарри отсутствуют. Внешне они подобны огромным червям (до 6 метров в длину, 1,5 метра в диаметре), покрытым белесоватой кожей, причем их тела настолько гибки, что могут вытягиваться на 12–15 метров. Питание кожное, нуждаются в разреженной атмосфере (до 5 % кислорода). Примерная оценка их популяции: несколько миллионов кораблей, в каждом из которых находится семейная ячейка из 500–1000 особей. Социальная структура, если таковая имеется, неизвестна. К контактам интереса не проявляют. Как правило, не агрессивны; их отношение к другим разумным существам полностью определяется позицией этих существ. Одни расы (кни'лина, хапторы, лоона эо) не препятствуют движению сильмарри в пространстве и даже почитают их, называя «отринувшими твердь планет», «галактическими странниками» и т. д.; с ними у сильмарри не происходит конфликтов. Дроми и особенно бино фаата стремятся уничтожить их корабли, и в такой ситуации сильмарри демонстрируют способность к активной защите и нападению.
ТЕРУКСИ. Сектор влияния пока не определился. Материнский мир – Дингана-Пхау, третья планета системы Дингана-Тер, светило – несколько более яркая звезда, чем земное Солнце, координаты OrV43.22.16. Технологическая цивилизация уровня В4. В настоящее время терукси активно исследуют звездные системы, ближайшие к их материнскому миру, обозначая тем самым границы своего будущего сектора влияния. Эта область находится на границе Рукава Ориона, у Провала, ближе к ядру Галактики, чем земные колонии Эзат, Тхар и Роон (системы Беты и Гаммы Молота), что делает терукси незаменимыми союзниками в случае нового вторжения фаата. Терукси – гуманоиды, раса которых стоит ближе всех к земному человечеству (почти аналогичный облик, сходный метаболизм, близкие ментальные характеристики, способность к скрещиванию с земной расой, жизнеспособное потомство). Земная Федерация впервые установила связь с терукси в 2797 году, когда фрегаты Звездного Флота «Лунный свет» и «Солнечное пламя» исследовали сектор Провала, граничащий с системами Беты и Гаммы Молота. За два минувших столетия контакты развивались исключительно в мирном русле, чему способствовало некоторое отставание терукси в сфере космических технологий. Эмиссарами Земли им были переданы Портулан даскинов, детальная информация о контурном приводе и ряд других агрегатов и устройств. Врожденное миролюбие свойственно терукси. История их цивилизации почти не знает войн, что, вероятно, связано с их повышенной эмоциональностью. Перспектива собственных страданий и страданий других существ способна привести их в ужас. Однако, в отличие от кни'лина, терукси не вегетарианцы. Красота их женщин и мужчин и вообще высокий статус прекрасного общеизвестны. В настоящее время от тридцати до сорока миллионов терукси постоянно обитают в мирах Федерации. Отмечается, что брачные союзы между землянами и терукси особенно прочны, и доминирование в потомстве признаков той или иной расы примерно равновероятно.
ТРИПОДЫ. Очень далекий мир за бездной Провала, информация о котором получена от бино фаата (во время их войн с Земной Федерацией). Предположительно одна из колоний фаата в Рукаве Персея.
ФААТА (БИНО ФААТА) – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора бино фаата: PsW127/PsW188, Рукав Персея. Расположение материнского мира неизвестно; число захваченных планет в Рукаве Персея – предположительно от ста до трехсот. Технологическая цивилизация уровня B7, основанная на симбиозе гуманоидов фаата с искусственными квазиразумными созданиями, наследием даскинов, которые используются на всех уровнях производства и управления. Цивилизация фаата насчитывает три фазы, разделенные периодами катастроф (Затмений). Настоящий период (Третья Фаза) характеризуется развитием мощной военной техники, агрессивностью и активной экспансией в Рукаве Персея. Попытка вторжения в Рукав Ориона – в частности, в Солнечную систему – была пресечена в результате вооруженного конфликта в 2088 году, захвата Роона, Тхара и Эзата в 2135 году и последующих Войн Провала в 2135–2261 годах. Фаата двуполы и относятся к гуманоидным расам Галактики; способны давать потомство с людьми Земли и, очевидно, с другими гуманоидами, исключая хапторов. Отличия от людей: нервный узел на спине (в основании шеи), периодический выброс половых гормонов (период туахха), больший срок жизни, до тысячи лет у фаата высшей касты, а также их способность к ментальному общению. Размножаются при помощи искусственного осеменения женщин касты кса, другие женские особи потомства не дают. Темп размножения медленный; оценка популяции – 2–3 млрд. особей. Используют в своем секторе трудовые ресурсы покоренных рас (аэры, троны, п'ата), о которых практически ничего не известно. Социальная структура – кастовый патронат. Большими группами населения, сосредоточенными на планете или на материке, управляют Связки, пять-восемь наиболее старых и опытных особей, полностью контролирующих все сферы жизни. Представители высшей касты, имеющие ментальный дар (собственно бино фаата), считаются полностью разумными, представители остальных каст – частично разумными (тхо). Некоторые низшие касты тхо (кса, олки, «рабочие», «пилоты») выведены искусственно, их физиология больше отличается от человеческой, чем у высших каст.
ФААТА ТРОРИ. Данный термин происходит из языка фаата (фаата'лиу). Известно, что фаата обозначают собственную расу как «бино фаата», или «полностью разумные», тогда как гуманоиды, подобные им внешне и обладающие сходной в общих чертах физиологией, называются «бино тегари», что можно с определенной натяжкой перевести как «чужие разумные», «другие разумные» или «не совсем разумные, однако не тхо». Существует, однако, третья категория разумных гуманоидов, которая обозначается как «фаата трори». Дословный перевод: «с каплей фаата» – не разъясняет ситуацию и требует комментариев. Под «каплей» в данном случае имеется в виду кровь фаата – точнее, их гены, переданные гуманоиду иной расы в результате межвидового скрещивания. Вопрос о том, есть ли фаата трори (то есть метисы) среди современного земного населения, пока остается открытым. Циркулирует слух о земных астронавтах, попавших в эпоху Вторжения на борт инопланетного корабля и ставших жертвами соответствующих биологических экспериментов, но эти сведения засекречены.
ХАПТОРЫ – точно установленное самоназвание расы. Галактические координаты сектора хапторов: OrY77/OrY81, область Рукава Ориона, более близкая к ядру Галактики, чем территория Земной Федерации. Материнский мир – Харшабаим-Утарту, вторая планета системы Утарту, светило – звезда класса Солнца, координаты OrY80.35.16. Хапторы относятся к гуманоидным расам Галактики, но их внешний облик и физиология гораздо сильнее отличаются от земных стандартов, чем, например, аналогичные параметры кни'лина, фаата, терукси, осиерцев и т. д. Хапторы – замкнутая, не стремящаяся к контактам раса, и хотя об их существовании на Земле узнали еще в период Второй и Третьей Войн Провала (XXII–XXIII вв.), достоверную биологическую и социальную информацию в те годы получить не удалось. Во второй половине XXIII века в различные службы космофлота начали поступать сведения от наемников лоона эо – в основном военного характера: описания боевых кораблей, вооружения, тактических приемов. Также выяснилось, что до того, как дроми стали Защитниками лоона эо, эту функцию выполняли хапторы, примерно три с половиной – две тысячи лет назад. В начале новой эры (по земной хронологии) контракт между лоона эо и хапторами был разорван, и последних в качестве Защитников сменили дроми, что привело к долгому конфликту между этими расами, который до сих пор находится в довольно активной фазе. Следует, однако, отметить, что хапторы никогда не вели боевых действий против транспортов лоона эо и тех дроми, которые, собственно, охраняли эти корабли до появления землян; их войны с дроми носили и носят характер столкновения двух могущественных звездных империй. С лоона эо хапторы продолжают интенсивно торговать. Установлено, что хапторы обладают существенно отличным от человеческого хромосомным набором, что они несовместимы с людьми в сексуальном плане и что оплодотворение in vitro не позволяет получить жизнеспособное потомство. Внешность и поведение хапторов свидетельствуют об их происхождении от древних гоминидов, несколько отличных от земных разновидностей (питекантроп, синантроп и другие). Вероятно, предками хапторов были агрессивные хищные существа, склонные к мясной диете и, вероятно, каннибализму. От них хапторы унаследовали мощное телосложение, плотную кожу и полоску меха вдоль хребта. Голова покрыта ороговевшей кожей, волос нет, по обе стороны лба – шишки (небольшие конические выступы), уши заостренные, глаза с вертикальным зрачком глубоко утоплены в глазных впадинах. Человеческим эталонам красоты облик хапторов не соответствует. Хапторы двуполы, их женщины вынашивают потомство в течение пятнадцати земных месяцев и за репродуктивный период способны принести десяток младенцев (в среднем – трое-четверо). Срок жизни – около девяноста стандартных лет, оценка популяции – 50–60 млрд. особей, темп размножения несколько больший, чем у земного человечества. Устройство гортани у хапторов и землян не слишком различается, что способствует взаимному освоению языков и появлению не только кибернетических, но и живых переводчиков. Технологическая цивилизация хапторов (уровень В6) в отдельных деталях обладает сходством с земной (орбитальные базы, военная техника, терраформирование планет, транспортные средства, энергетика, экспансия в космос). В настоящее время они имеют более двухсот планетарных колоний, ряд из которых густо населен. Искреннего желания контактировать с Земной Федерацией не проявляют, однако согласились предоставить аккредитацию земным дипломатам на Харшабаим-Утарту. Психологический портрет: хапторы отличаются жестокостью, коварством, властолюбием, но весьма расчетливы и способны держать чувства под контролем разума.
Приложение 2 Хронология событий
2054 г. – создание ведущими державами планеты Объединенных Космических Сил (ОКС). 14 мая 2088 г. – официальная дата начала Вторжения; звездолет бино фаата встретился у орбиты Юпитера с крейсером «Жаворонок» и уничтожил его. 3 июня 2088 г. – сражение у Марсианской Орбиты, в ходе которого была уничтожена часть Третьего флота Объединенных Космических Сил Земли (флотилия под командой адмирала Тимохина). 7 июня 2088 г. – приземление звездолета фаата в Антарктиде и его гибель. 22 сентября 2088 г. – рождение Пола Ричарда Коркорана (2088–2167); место рождения – Лунная база ОКС. 2095 г. – первая звездная экспедиция, достигшая прыжком через Лимб планет Альфы Центавра. 2096 г. – контакт с лоона эо; корабль, управляемый их сервами, опускается на Плутон. Человечеству передан в дар Портулан даскинов – карта Галактики. 2097 г. – строительство базы лоона эо на Плутоне (вербовочный пункт) и посольского комплекса на Луне. Начало вербовки земных наемников, которых переправляют на планеты Голубой Зоны. 2099 г. – лоона эо разрывают контракт с дроми, их прежними Защитниками. Земные наемники впервые сталкиваются с дроми в сражениях. 2095–2122 гг. – исследовано космическое пространство в радиусе тридцати парсеков от Солнечной системы, основан ряд колоний у ближайших звезд. Начало звездной экспансии человечества. 2125 г. – операция возмездия «Ответный удар». Флотилия земных крейсеров под командой коммодора Врбы достигает колониальных миров бино фаата на границе Провала, в системах Беты и Гаммы Молота (Роон, Тхар, Эзат) и изгоняет фаата. Коркоран участвует в этой экспедиции в качестве капитана фрегата «Коммодор Литвин». 2134–2152 гг. – Первая Война Провала, в которой коммодор, а затем адмирал Пол Коркоран командовал Флотом Окраины, защищавшим дальние колонии Земли. 2100–2150 гг. – на Земле получена информация о некоторых галактических расах и их Секторах Влияния (хапторы, кни'лина и т. д.). В одних случаях эти сведения переданы сервами лоона эо, в других являются результатом случайных контактов земных и инопланетных кораблей в дальних экспедициях. 2164–2182 гг. – Вторая Война Провала. 2167 г. – гибель Коркорана в бою, при обороне звездной системы Роона и Тхара. Флот Окраины возглавил адмирал Вентури. 2182–2185 гг. – строительство и ввод в эксплуатацию Посольских Куполов вблизи Лунной базы ОКС. 2201–2240 гг. – Третья Война Провала, наиболее длительная и кровопролитная. Иногда ее называют Сорокалетней Войной. 2234 г. – рождение Сергея Вальдеса (2234–2318), правнука Коркорана, унаследовавшего его ментальный дар. 2253–2261 гг. – Четвертая Война Провала. Закончилась разгромом бино фаата. Вальдес восемь лет сражается в этой войне, проходит путь от энсина до коммандера, второго пилота крейсера «Рим». 2262 г. – лоона эо начинают вербовать земных ветеранов, вышедших в отставку после Четвертой Войны. Борьба с дроми становится более активной и приобретает наступательный характер. Вальдес, ветеран Четвертой Войны Провала, служит наемником на Данвейте (Голубая Зона сектора лоона эо) в 2262–2266 гг. 2266 г. – крупная операция на рубеже сектора лоона эо (Голубая Зона, Данвейт), в результате которой земными наемниками была отбита одна из захваченных дроми космических цитаделей. 2274–2305 гг. – период первых вооруженных столкновений Земной Федерации с Империей Дроми. 2284 г. – у четы Вальдесов родился на Тхаре сын Марк (Марк Вальдес, 2284–2456). Дочь Ксения родилась там же, спустя четыре года. 2290 г. – на Земле (Англия, Корнуолл) родился Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев (2290–2382), получивший прозвище Командор. 2306–2452 гг. – войны с дроми, затянувшиеся почти на полтора столетия, и первые боевые столкновения с хапторами и кни'лина. 2308–2310 гг. – оккупация флотом дроми систем Беты и Гаммы Молота, партизанская война на Тхаре. Освобождение Тхара, в котором участвуют Марк Вальдес и Командор. 2311 г. – в Земной Федерации создана Коллегия Несогласных и Институт Судей Справедливости. Через четыре столетия эта структура выступит инициатором создания ФРИК (Фонда Развития Инопланетных Культур). 2312 г. – рождение Павла Тревельяна-Красногорцева, сына Ксении Вальдес и Командора, от которого ведет происхождение Ивар Тревельян. 2318 г. – гибель адмирала Вальдеса и его жены Инги Вальдес на крейсере «Урал» при отражении атаки дроми на Данвейт (Битва у Голубой Зоны). 2319 г. – Марк Вальдес становится Судьей Справедливости. 2352 г. – операция «Врата Галактики», в которой принимают участие Марк Вальдес и Командор. 2382 г. – гибель Командора на крейсере «Паллада» в сражении с дроми у Бетельгейзе. Имплантация личности Командора в памятный кристалл. 2574–2578 гг. – война с хапторами (Пятилетняя Война). 2600–2603 гг. – первая дипломатическая миссия в мире хапторов. 2693–2705 гг – война с кни'лина (с Кланом Ни). 2701 г. – резня на Таго, эпизод войны с кни'лина, когда их гарнизон на планете Таго был полностью уничтожен земными десантниками. 2726 г. – создание Фонда Развития Инопланетных Культур (ФРИК). 2726–2755 гг. – разработка принципов деятельности ФРИК, создание теории Киннисона, организация Академии ФРИК и процесса обучения, первые опыты по ускорению развития инопланетных рас. 2797 г. – первый контакт с расой терукси. Их материнский мир Дингана-Пхау обнаружен фрегатами Звездного Флота «Лунный свет» и «Солнечное пламя» во время изучения области, граничащей с системами Беты и Гаммы Молота. 2831 г. – первый контакт с расой парапримов. Состоялся на Осиере, одной из населенных планет, патронируемой ФРИК. 2842 г. – первый контакт с расой нильхази. Их корабль появился у Гондваны, что едва не привело к вооруженному столкновению. 2800–2950 гг. – эпоха мира, времена Ивара Тревельяна.Приложение 3 Некоторые термины и выражения хапторов
Кшу – правящий клан, на который возложены внешние сношения в империи хапторов. Ему подчинена служба разведки Куршутбаим (дословно – «Место псов»). Хочара – клан, который занимается промышленностью и торговлей между колониями хапторов и иными мирами (кроме лоона эо). Хшак – еще один правящий торговый клан, но торгует он исключительно с лоона эо. Ппуш – клан, формирующий вооруженные силы в масштабах всей империи хапторов; на него также возложено ведение войн. Устои – кодекс, определяющий поведение хапторов. В определенном смысле считается священным. Аха, хес – да, нет. Харшабаим – Главное Место, название мира хапторов (харша – главный, высшая степень превосходства, баим – место). Ашингебаим – так хапторы называют Земную Федерацию (дословно – Место Безрогих). Тэд'шо – высокий тэд, нобиль из правящего клана. Поко – первая жена в семействе, особо почитаемая самка. Ге – рог (шишка на голове хаптора). Пха'ге, пха – двурогий, почтительное обращение к тэду. Пасеша'ге, пасеша – однорогий, обращение к простолюдину. Поскольку у простолюдинов тоже два рога, это обращение прежде имело уничижительный смысл. Ашинге – безрогий. В прошлом – кличка землян, которая со временем стала их обозначением, принятым в дипломатии. Шуча – волосатый, презрительная кличка землян. Ххе – задница. Шуш – дырка, отверстие. Ххешуш – дырка в заднице. Кирицу'ххе – узкозадый, презрительная кличка землян и других гуманоидов, уступающих хапторам размерами. Хохо – дрянь. Хохо'гро – дерьмо. Шинге шеге – рога обломаю. Кхашаш – алкогольный напиток, спирт, который хапторы гонят из различных корнеплодов. Апама'шака – дословно «вывернуть мозги» – препарат хапторов, резко снижающий их физическую и нервную активность. Выражение используется в качестве ругательства. Куршут – аналог собаки, охотничий и боевой зверь с тонким нюхом. Шупримаха – основные сельскохозяйственные животные, очень крупные, с длинной шерстью, толстыми ногами, бивнями и небольшим хоботом. Кних – верховое животное из той же зоологической группы, что и шупримаха. Отличия: чуть меньше размером, шерсть густая, но короткая, бивни небольшие, хобота нет, ноги тоньше и длиннее, чем у шупримаха. Хашшара – мелкий скот, аналог коз и овец. Под этим названием объединяются все мясо-молочные животные, которые не выше пояса взрослого хаптора. Шад'кул – синий червь.Приложение 4 Максимы из Книги Начала и Конца Йездана Сероокого, пророка кни'лина
Все снега тают, когда приходит время.* * *
Узы любви не разрежет клинок и не расточит время.* * *
Не все приходит сразу – есть сегодня, и есть завтра.* * *
Любовь между женщиной и мужчиной слишком серьезное занятие, чтобы предаваться ему впопыхах.* * *
Есть два вида пустоты: просто пустое, и пустота человека, лишенного души.* * *
Тот, кто взвешивает свои поступки, живет дважды – за себя и за неразумного собрата, коему не хватило мудрости и терпения.* * *
Продешевивший утром, встретит вечер за пустым столом.* * *
Торговля смягчает сердца, если приносит выгоду.* * *
Глупец, обманутый мошенником, теряет не деньги, а честь.* * *
Нет прочнее моста, чем сложенный из слов.* * *
Не тревожь старца, когда ему снятся сны о прошедшей юности.* * *
Опасны лишь те мысли, что переходят в дела.* * *
Мир состоит из тьмы и света. И человеческая душа – тоже.* * *
Та женщина хороша, которая ни в чем не упрекает своего мужчину.* * *
Принимайте неизбежное, как песок принимает воду.* * *
Подушке ведомы все тайны мужа и жены.* * *
Не тяни две руки к благам мира, хватит одной.* * *
Если разжег костер, смотри, куда улетают искры.* * *
Позабывший прошлое останется без будущего.* * *
Все в этом мире мы получаем на время – плоть, душу, женщину.* * *
Торопливость не пристала благородному мужу.* * *
Почетный знак воина – рана, нанесенная в бою пронзившей грудь стрелой. Но никто не любит вспоминать, как ее вырезали.* * *
У протянувшего руку к запретному знанию да будет она полна пыли.* * *
У нас есть только то, что мы теряем.* * *
Лицом к лицу – лица не увидать.* * *
Клинок существует, чтобы поддерживать в мире справедливость.* * *
Религия – лишь платье истинной веры.* * *
Способность дивиться чуду жизни – вот что питает корень человеческой души.* * *
Потомство человека – его тень, протянувшаяся в грядущее.* * *
Самые гибельные дары – те, о которых даритель не подозревает.* * *
За горами – горы.* * *
Зверь всегда рядом с вами.* * *
Нельзя долго смотреть в глаза слугам, детям и животным – это их пугает.* * *
Жизнь – смех полоумного в пустоте.* * *
Жизнь – долина созидания и разрушения души.* * *
Можно не верить в бога, но нужно его любить.* * *
Человек не выбирает места для своего появления на свет, не дано ему выбрать и день своей смерти.* * *
Того назову мудрецом, чьи душевные муки не видны миру.* * *
Мы способны на гораздо большее, чем думаем.* * *
У каждого есть своя чаша с ядом.* * *
Цена утреннего дома высока.* * *
Время стирает память о случившемся с нами.* * *
Ничто не свершается без греха.* * *
Кто наточит клинок против зла мира?* * *
Нагими приходим мы в этот мир, и нагими должны поклоняться божеству.* * *
Нет свободы без закона.* * *
Храни, что имеешь.* * *
Остерегайся очевидного.* * *
Десять сильных не победят миллионы слабых.* * *
В начале жизни человеку нужны циновка и чаша для еды, а в ее конце – погребальный кувшин.* * *
Будущее бросает тень перед собой, но не каждый способен прочесть его знаки.* * *
Желающий судить безгласного – сам преступник.* * *
Мертвые не должны занимать место, предназначенное для живых.* * *
Долг перед мертвыми вечен.* * *
Уважай смерть, ибо пред тобой погибшая Вселенная.* * *
Хороший человек – утренняя радость.* * *
Редки люди утренней радости.* * *
Что есть счастье? Медоносный мотылек, который порхает в ваших душах.* * *
Еда и питье – вот узы, соединяющие каждого с каждым.* * *
Тоска по родине, если разделить ее на двоих, становится радостью встречи.* * *
Нет бури, которая ломает все деревья.* * *
Долг старых – лгать молодым.Mихаил АХМАНОВ ТЕНЬ ВЕТРА
Все события этого романа вымышлены – кроме войн России с Чечней, Британии с Аргентиной и некоторых других общеизвестных фактов, зафиксированных в хрониках Старой Земли и случившихся более четырехсот лет тому назад, до Эпохи Исхода.Автор
Моему сыну посвящаю
Пусть в его Ожерелье Доблести не будет крысиных клыков и пусть, когда наступит его время, смерть придет к нему на рассвете.
Пролог
Чочинга, Наставник воинов из клана Теней Ветра, был умудрен годами и опытом, и все его речи воспринимались Диком Саймоном как Поучения. Над ними стоило поразмышлять, ибо в каждом таился скрытый смысл, не всегда понятный Дику, – по причине юных лет и того, что сам Чочинга, не являясь в полном смысле человеком, рассуждал по-своему, не так, как люди Правобережья. Он говорил на языке тайят, аборигенов Тайяхата, и вначале Дику приходилось переводить его слова, заменяя примеры и сравнения иными, более знакомыми. Вскоре Дик овладел языком и начал лучше понимать Наставника, но эта привычка сохранилась, и многое из сказанного Чочингой он запомнил не дословно, а в вольном переложении на русский или английский. Например, Поучение о ветре и его тени. – Есть ли у ветра тень? – спрашивал Чочинга и отвечал: – Ветер всего лишь движение воздуха, он прозрачен, он – невидимка среди других природных сил, и нельзя узреть его ни днем ни ночью. В том отличие ветра от света и темноты, от потоков дождя и снежных вьюг, от солнечных и лунных лучей, от облаков, от молний и жаркого пламени, от земной тверди и текучих вод. Призрачным фантомом проносится ветер над землями и морями, и только клочья сорванной с волн пены, дорожная пыль да сухие листья, взметнувшиеся вверх, только рябь на воде, шорох трав и трепет древесных ветвей отличают его стремительный полет. Но это – последствия, а не причина; не сам ветер, а лишь его отзвук, видимый результат, порожденный действием незримой силы. Да, ветер незрим, но не бесплотен. Он вызывает ощущение ласки или угрозы, то гладит, будто девичья ладонь, то встает непроницаемой стеной, то навевает прохладу, то обжигает огнем, то леденит, терзая холодными когтями. Ветер чувствуешь всем телом, ощущаешь его запах и вкус, слышишь голос. Многие запахи и вкусы и великое множество голосов, ибо ветер с равным усердием разносит ароматы цветущего луга и миазмы трясин, запахи камня и металла, живой и мертвой плоти, мокрой травы и раскаленного солнцем песка; на вкус он бывает сладким и терпким, соленым и горьким – смотря по тому, летал ли он в поле с медвяной травой, над жерлом вулкана, дыхнувшим серой, или над океанскими водами. Столь же различны его голоса: умеет он щебетать и свистать, завывать и рычать, грохотать и шептать, реветь и звенеть, прикидываясь то певчей птицей, то разъяренным гепардом, играть на свирели, бить в барабаны и трубить в рожки. Таков ветер! И всякий звук и запах, рожденный в любой из щелей, куда способен он пролезть, проникнуть, прорваться, он подхватывает и разносит всюду, добавляя новые ноты к мелодии всемирного оркестра, где сам он – и певец, и музыкант, и инструмент. Он многолик и временами прикидывается робким тружеником, несущим облака, вращающим крылья ветряков, раздувающим лодочный парус; в такие мгновения он ровен и тих, либо силен и устойчив – и, казалось бы, не замышляет бунта. Однако не верь ему! Его терпеливое усердие обманчиво! Наступит время, и ветер превратится в ураган, нагонит тучи, переломает мельницы, потопит лодки и явит истинную суть свою – суть мятежника и сокрушителя, непокорного и дикого, не знающего преград, сомнений и сожалений. Хитрого, коварного мятежника! Он выберет самый удобный миг для нанесения удара, а до того будет красться, шептать, убаюкивать, напевать… Все, как положено великому обманщику, невидимому, но ощутимому, призрачному, но обладающему голосом, вкусом и ароматом, – по крайней мере в тот момент, когда он желает явить свое незримое, но грозное присутствие. Однако коль присущи ему такие качества, коль способен ветер напомнить о себе касанием и вкусом, звуком и запахом, то отчего бы не иметь ему тени? Или хотя бы эха…Часть I. КРАЙ ДЕМОНОВ
Глава 1
– Дик! Нет ответа. – Дик! Нет ответа. – Ди-и-ик! Куда ты подевался, дрянной мальчишка? Ди-и-ик! Ди-и-ик! Пронзительный вопль тетушки Флори летит над аккуратными домиками в шапках алых черепичных кровель, над палисадниками и дворами в цветущих яблонях и зарослях крыжовника, несется над берегом и городской окраиной, взмывает, отражаясь от древних кремлевских стен, над куполами собора, синими в золотых звездах. Еще пара таких рулад, и весь Смоленск сбежится на выручку Дику Саймону, гадая, чем же он сегодня отличился – затеял ли поход в баньяновую рощу, сунул ли нос в логова рогатых кабанов, наладился слезть по бельевой веревке с какой-нибудь из крепостных башен или искупаться в Днепре – но не в огороженных и безопасных заводях, а непременно там, где под крутыми берегами мечут яйца шестилапые кайманы. Любая из этих затей считалась весьма опасной – и визит за Периметр к баньянам, где обитали мелкие, но свирепые кабанчики, и спуск с башен, сложенных из старого растрескавшегося кирпича, и купание в неположенных местах, где водились не только кайманы, а также гигантские хищные жабы и пресноводные спруты. Но разве мысль о риске и опасности способна остановить десятилетнего дьяволенка? Ну а в том, что Ричард Саймон сродни дьяволу, сомнений не было. Дьявол постоянно подзуживал его, однако он же и берег свое белокурое вихрастое отродье, так что всякая новая экспедиция обходилась без существенных потерь и лишь добавляла Дику славы в глазах мальчишек. Для этой буйной орды он, несомненно, являлся героем – что бы ни думали на сей счет родители да старшие братья. – Дик! Ди-и-ик! Ди-и-ик! Где тебя носит, висельник? Голос у тетушки Флори был резким и визгливым, как циркулярная пила, и вопить она могла часами. Когда терпение соседей иссякало, дюжина-другая мужчин, прихватив ружья, мачете и гепардов, отправлялась на розыски Дика. Успех этой операции никто не гарантировал, поскольку юный дьяволенок мог скрываться не только в роще, в кедровнике, на крепостной стене или у речных берегов, но также среди скал и пещер к югу от города, на любой из окрестных ферм или на станции монорельса, около взлетной площадки и ангаров авиазавода “Кентавр” или в тростниковых зарослях, что тянулись вдоль заболоченных оврагов, ложбин и ручьев. Охотничьи гепарды славились неутомимостью, длинными ногами и превосходным чутьем, однако спасательным партиям случалось возвращаться без предмета поисков, хотя и не с пустыми руками. Дика не было, зато соседи приносили десяток рогатых кабанчиков, битую болотную птицу или пару кайманов, чьи спинки и хвосты, провяленные в коптильне, считались деликатесом. Так что определенную пользу от этих вылазок за Периметр все же нельзя было отрицать – равно как и упрекать гепардов в нерадивости. Гепарды, звери трудолюбивые и честные, делали все, что умели и могли, но коль след терялся в болоте или на речном берегу, они начинали беспокоиться, топорщить шерсть и недовольно скулить – воды и сырости они не жаловали, как их земные аналоги. Разумеется, им не удавалось настигнуть Дика и когда он прятался в каком-нибудь фермерском джипе “Саламандра” или в грузовом трейлере, что было испытанным способом всех мальчишеских побегов за Периметр. Что же касается иных видов транспорта, то до вертолетов Дик, к счастью, еще не добрался, но пару недель назад укатил на монорельсе в Новый Орлеан. Этот город был расположен в дельте Миссисипи, много южней Бахрампура – а тот, в свою очередь, стоял на Развилке, где Днепр и Ганг, соединившись, единым потоком стремили воды к Средиземному Проливу. Туда беглец не доехал – его сняли на перегоне Смоленск – Чистополь, в сотне лиг от Бомбея. Выглядел он весьма огорченным. Почему-то он вбил себе в голову, что в Орлеане объявился Саймон-старший, вынырнув ненадолго из дремучих Левобережных лесов, – а Дику так хотелось повидать отца! Л и га – единица расстояния, принятая ООН, наряду с километром, в качестве одной из международных мер; составляет около 4,6 км. – Ди-и-ик! Ди-и-ик! Тетушка Флоренс, старшая из трех сестер Филипа Саймона была женщиной незамужней, верующей и весьма крепкой духом и телом, как все в их семействе, происходившем, согласно преданию, из мормонской Юты. Являясь сторонницей строгих воспитательных мер, она не жалела для Дика подзатыльников и колотушек, а завершив очередную порку, стучала согнутым пальцем ему в темя, попутно вопрошая Господа и Иосифа Смита «Иосиф Смит – основатель мормонского вероучения, нашедший в 1827 году в штате Нью-Йорк золотые листы с Книгой Мормона.», за что те послали рабе своей такое наказание. Но Дик, звавший тетушку про себя Костяным Пальцем, все же любил ее. Подобно всякому юному существу он еще не представлял, как обойтись без любви – той, которую ребенок ждет от взрослых и которую дарит им. На кого же еще он мог излить свою любовь, кроме суровой тетушки Флори? Конечно, он любил отца, но Филип Саймон, ксенолог и этнограф, двенадцать месяцев в году пропадал в джунглях Левобережья, среди тайятских племен; разумеется, он любил мать, но эта любовь уже стала воспоминанием четырехлетней давности. Мать, высокая златовласая и синеглазая красавица, временами являлась ему в снах, но сны те приходили все реже и реже; а иногда Дик видел, как ласковое мамино лицо плывет, дрожит, меняется, уступая непреклонным чертам тетушки Флори. Мать его, урожденная Елена Стахова, была отсюда, из Смоленска, и тут, на радость или горе, встретилась с отцом. Филип Саймон, обожавший свою Элен, звал ее Еленой Прекрасной, и совместная их жизнь полнилась бы счастьем, а не горестями, да судьба повернула иначе. Дику стукнуло шесть, когда отец возвратился с Левобережья в одиночестве, мрачный, как грозовая туча; вернулся и сказал, что теперь у Дика нет мамы, а есть только тетушка Флоренс. Пожалуй, Флоренс Саймон, переселившаяся к брату лет десять назад, могла бы быть и подобрей с племянником. Но, обделяя его лаской, она компенсировала этот грех неусыпными заботами. Вот и сейчас: – Ди-и-ик! Ди-и-ик! Куда ты запропастился, наказание божье? А божье наказание тем временем уносили быстрые воды Днепра. Дик спускался вниз по течению на самодельном плотике изполудюжины бревен, связанных старой веревкой. Кроме плавсредства, у него имелись компас, мешок с сухарями и багор, позаимствованный у соседа, рыбака дяди Феди; а еще был перочинный нож, отцов подарок, и зажигалка. Экипированный таким образом. Дик твердо решил на сей раз добраться до Нью-Орлеана, до региональной ксенологической базы, где – по непроверенным слухам – пребывал сейчас Саймон-старший. Прозрачные речные воды покачивали плотик, и мысли мальчика тоже кренились то туда, то сюда, следуя ритму этих мерных и плавных качаний. С одной стороны, рассуждал он, жаль, конечно, тетушку Флори; хоть пальцы у нее костяные и совсем не похожи на мамины мягкие ладошки, но, в сущности, она желает ему лишь добра. И потом, она такая старая! Ей уже пятьдесят! И придется ей жить в одиночестве, хоть и в уютном коттедже, в большом городе, да без мужчины, который спас бы ее цветы и грядки от набега рогатых кабанов, а ее саму – от вредных пятнистых жаб, змей и клыкастых крыс… Конечно, рядом соседи, Федор-рыбак, и Пал Палыч с авиазавода, и вертолетчик Сташек, и другие… Они тетку в обиду не дадут, одолжат, на крайний случай, гепарда, если случится крысиное нашествие… Однако какой гепард заменит мужчину в доме?… С другой стороны, думал Дик, достойно ли мужчины маяться до седых волос при теткиной юбке и теткином огороде? Вроде бы седины он в своих волосах пока не замечает, так ведь это – пока, и потом, волосы у него от природы светлые, как созревшая кукуруза… А временами от теткиных воплей да поучений можно враз поседеть и не заметить. Нет, такая жизнь не для него! Настоящий мужчина должен владеть оружием (тут он покрепче стиснул увесистый багор), должен странствовать и сражаться – как отец! И он, Дик Саймон, уже достаточно взрослый, чтобы помогать отцу, ходить с ним в джунгли Левобережья, как делала раньше мама… Она говорила, что за отцом нужен глаз да глаз, что он без царя в голове. и когда-нибудь сломает шею в этих своих тайятских лесах… А вышло-то совсем наоборот… Дик шмыгнул носом, отметив, что, как всегда, думает о маме на русском. Это получалось будто бы само собой: мысли об отце и тетушке Флори складывались в английские слова, но стоило вспомнить о матери, как что-то щелкало за ушами, и один язык сменялся другим, краткое делалось долгим, твер-дде – мягким, напевным, звонкое – глуховатым. И это казалось столь же естественным, как восходы солнца или луны: отец был всегда “дад”, а мать – мамой, мамочкой… А как же иначе, решил Дик; ведь на английском “мамочка” не скажешь! Снова шмыгнув носом, он принялся взвешивать все “за” и “против” своего побега. С одной стороны, с другой стороны… Разумеется, тетке Флоре будет тоскливо, но Смоленск город большой и безопасный; во всяком случае, гризли и саблезубы по улицам не бегают, а слишком нахального рогача можно отогнать метлой или палкой… А вот отцу нужен помощник! Верный спутник, чтоб стоять с ним спина к спине у мачты, против тысячи – вдвоем, как поется в старой пиратской песне… Стоять и отбиваться сверкающим мачете от кабанов-носорогов, от грифонов и ядовитых змей, от полчищ тайятских воинов на шестиногих скакунах… Дик не знал и не ведал, где та мачта, которую будут защищать они с отцом, но не сомневался, что она сыщется – как и дикие звери, и грозные бойцы-тай, и блестящие стальные мачете. Душа его жаждала подвигов и приключений, так что с каждой пройденной лигой мысль о тетушке и долге перед ней отступала, таяла, редела, как рассветный туман, пока не испарилась вовсе. Не такой уж она была беззащитной, его тетушка Флори! Могла взвалить на плечи и унести шестилапого каймана… само собой, дохлого… Тут пара таких тварей, вполне живых и весьма шустрых, увязалась за плотиком Дика. С полчаса они маячили с обеих сторон, присматриваясь и принюхиваясь к добыче и щелкая челюстями, похожими на огромные птичьи клювы; затем, набравшись храбрости, ринулись на приступ. Мачты на плоту не имелось, и не было ни широкой отцовской спины, ни блистающего острого мачете, так что Дик, встав на среднее бревно, подальше от краев, принялся работать своим багром. С днепровскими шестилапыми он имел дело не раз и не боялся их; он знал, куда бить – и бил с точностью и силой, поразительной для десятилетнего мальчишки. Когда над головой Дика завис поисковый “фламинго”, с одним кайманом было покончено, а его напарник, истекавший кровью, обратился в позорное отступление. Но если судить по гамбургскому счету, эту схватку Дик Саймон проиграл: шестилапые порвали веревки, бревна начали расходиться, а раненый зверь привлек внимание своих сородичей. Минут за пять стая покончила с ним и бросилась к плотику – однако Дик уже висел на лесенке под округлым брюхом вертолета, вцепившись в ступеньку левой рукой. В правой он сжимал багор и, размахивая им, оглашал земли и воды воинственными воплями. Своей цели Дик добился – приехал отец и забрал его, а тетушка Флори осталась одна в уютном коттедже на смоленской окраине, среди яблоневых садов, грядок с редиской и цветущего жасмина. При расставании тетушка всплакнула, и грусть ее показалась Дику искренней; впрочем, он полагал, что она быстро утешится, обратившись к Святому Писанию, Книге Мормона и другим божественным предметам. Смоленск, населенный большей частью русскими, был городом православным, однако жили в нем и поляки-католики, и буддисты; имелась и Мормонская община – небольшая, но крепкая, объединявшая три дюжины семейств, потомков тех, кто переселился некогда из Штатов и с Южмерики. Община строила школу и молитвенный дом напротив часовни Георгия Победоносца, так что тетушка Флори могла целиком отдаться полезным общественным хлопотам. Что же касается мужской части семейства Саймонов, то путь ей выпал в Орлеан, куда отец с сыном отправились не монорельсом, не вертолетом или наземным глайдером, и уж, конечно, не с помощью Пандуса, а способом древним и романтичным – на корабле. Этот большой тримаран совершал ежемесячные рейсы от Финской губы и полушведского-полурусского городка Выборг по Неве до Ладожского Разлива, а оттуда – вниз по Днепру, мимо русско-польского и индийского регионов, мимо Развилки, за которой великая река носила уже иное имя, Миссисипи. Рейс завершался на Лазурном Взморье, у Пролива, где стоял Новый Орлеан – самый крупный, самый шумный и блистательный из городов северного полушария, а значит, и всей планеты. В южной ее полусфере не было ничего – ни земли, ни поселений, ни вечных льдов, только огромный океан с немногочисленными коралловыми островками. В орлеанском ксенологическом центре Саймоны не задержались. Старший Саймон не любил городского многолюдья, я Дика переполняли мечты о чудесах тайятских гор и лесов, гигантской территории, превосходившей Правобережье раз в десять-пятнадцать – в точности никто не ведал, поскольку спутники над Тайяхатом еще не летали. Однако было известно что освоенный край всего лишь западная оконечность гигантского материка, разделенного на две неравные части столь же гигантским водным потоком. Континент этот был единственным и названия не имел, но большой тропический остров за Средиземным Проливом по старой памяти именовали Африкой. Там водились шерстистые мастодонты, мечехвостые игуаны, страусы о четырех ногах, огромные пауки и муравьи, а также зубастый реке, местная разновидность тиранозавра, – и потому на южный остров без крайней нужды соваться не стоило. Впрочем, опасные твари Запроливья не входили в сферу научных интересов Филипа Саймона. Он был не зоологом, а ксеноэтнографом, работником Исследовательского Корпуса ООН, и занимался вопросами иерархии в разумных сообществах – в их взаимосвязи с религией, технологией, социальной динамикой, искусством и, разумеется, биологическими аспектами проблемы. Физиология и биология являлись весьма важными факторами, представляя собой, в сущности, тот фундамент, который определял специфику всей теологической, философской и социальной надстройки, все обычаи, традиции, культы, писаные и неписаные законы. Эта посылка была очевидной еще в Эпоху Разъединения, в тот великий исторический период, когда заработали первые трансгрессоры и человечество устремилось к звездам. Но в те времена подобные выводы и заключения носили характер гипотез, подкрепленных одним-единственным примером – развитием земной цивилизации, земной культуры и земных религий. Однако с тех пор ситуация изменилась. Собираясь прояснить ее в еще большей степени, отец и сын Саймоны погрузили свои пожитки в вертолет. Затем их маленькая дюралевая “пчелка”, окрашенная в цвет небесной бирюзы, поднялась и, негромко жужжа, воспарила над Дельтой – запутанным переплетением голубоватых и серых водных потоков, заросших камышами и непролазными джунглями. Это дикое опасное место разительно отличалось от ухоженных земель, простиравшихся к западу. Там, на Лазурном Взморье, кедровые леса перемежались с апельсиновыми рощами, полями маиса и пшеницы, с табачными и хлопковыми плантациями; там плодоносили яблони и персиковые деревья, наливался сладким соком виноград, шелестели на теплом ветру растрепанные кроны кокосовых пальм. И там, меж лазоревым заливом и широкой серебристой лентой главного рукава Миссисипи, лежал Нью-Орлеан – огромный город, блистающий огнями, где жило, наверное, не меньше миллиона человек. Это число казалось Дику чудовищным, он даже не пытался его представить и осмыслить. Но отец утверждал, что есть города и побольше Орлеана – в Штатах, Европе, России, Китае и Южмерике, даже на Аллах Акбаре и Сельджукии. В конце концов, Тайяхат был всего лишь Колониальным Миром с двумя десятками поселений и относительно невысоким статусом, хотя и повыше, чем у Миров Присутствия и Каторжных Планет. Голубая машина неторопливо плыла на северо-восток, пересекая Дельту; дальше потянулись густые леса, чередовавшиеся с живописными скалами и холмами. Кое-где синели озера, а в распадках, среди усыпанных радужной галькой берегов, струились ручьи, но Дик не слышал их звонких песен – негромкий мерный рокот двигателя перекрывал, все иные звуки. Они делали не больше пятидесяти лиг в час, и тому имелись по крайней мере две причины. Во-первых, как гласили Договорные Браслеты меж людьми и тайят, в Левобережье полагалось передвигаться тихо и спокойно и уж, во всяком случае, не носиться в небесах будто посыльные четырехкрылые орлы; а во-вторых, повышенная гравитация не способствовала стремительным полетам. Саймоны, колонисты уже не первого поколения, ее не замечали, но мотор “пчелки” чувствовал и на скорости в сотню лиг начинал кашлять и задыхаться. Час тянулся за часом. Дик, налюбовавшись зелеными деревьями и прогалинами, где паслись кабаны-носороги, успел поесть, поспать и снова поесть. Затем, поглядывая вниз, он принялся размышлять о новом своем жилище в женском поселке Чимара, о лагерях воинов, упрятанных под лесной сенью, у ристалищных полян и выпасов, где бродили шестиногие скакуны, о странных тайятских обычаях, не дозволявших нарушать мир в окрестностях женских деревень, тогда как во всех иных местах отхватить врагу палец или ухо почиталось великой доблестью. Отчего так? И зачем сражаются туземцы? Отец говорил, что у них нет ни денег, ни городов, никакого богатства, нет даже племен и вражды из-за земель или охотничьих угодий… Стали б они драться из-за этого! Тут каждому отпущено по квадратной лиге, два Смоленска можно выстроить! И повсюду тепло, всюду есть звери – звери-добыча и звери-друзья вроде скакунов, гепардов и танцующих питонов… Интересно б на них взглянуть, на этих змеюк… Отец говорил… Филип Саймон коснулся его растрепанных волос. – Взгляни туда, парень! Не вниз, а прямо по курсу! – Облака, дад? Какие темные! – Не облака. Это горы, сынок, огромный хребет Тисуйю, что начинается на севере и тянется до южных морей. А западный склон зовется Тисуйю-Амат, что значит Проводы Солнца. Сегодня мы вместе его проводим… ты и я… и, наверно, Чочинга. Он… Но Дик о Чочинге слушать не захотел, а, уткнувшись носом в прозрачную преграду колпака, пожирал глазами встающие впереди горы. Внизу они были зелеными, укутанными в покрывало леса, скрытыми вуалью горных лугов; выше простирался камень, темный или серый, изборожденный багровыми и сизыми рубцами, черными провалами ущелий и красно-фиолетовыми росчерками выступавших на поверхность скальных жил. Жилы походили на молнии, сверкнувшие в грозовой туче, – только и туча, и молнии были на самом деле все тем же камнем, твердым камнем, взметнувшимся ввысь и словно подпиравшим небеса. А чтоб не запачкать их багряными и темными оттенками, вершины гор оделись в лед – чистый, голубовато-прозрачный, вставший стеной между всеми рассветами и закатами, какие только разгорались и гасли в этом мире. Дик облизнул пересохшие губы. – Дад! А что за этими горами, дад? Там? – Его рука потянулась к хрустальным пикам, словно он жаждал коснуться их и ощутить обжигающий холод горных ледников. Отец негромко рассмеялся. – Ты еще не видел того, что з д е с ь, а хочешь узнать, что там! Но я скажу тебе… Здесь – лес, в лесу – звери и боевые тайские кланы, а выше, в Тисуйю-Амат, селения тех, кто слишком юн или слишком стар для сражений… Или в принципе не любит драк, понимаешь? И такие же поселки там, за хребтом, где лежит плоскогорье Тисуйю-Цор, Утреннее Солнце… А за ним снова леса и степи, холмы да горы – и так, я Думаю, до самых морских берегов. Есть там огромная река величиною с Днепр, но немногие видели ее – лишь те, кто подружился с тайят и смог пройти по их землям. – Я увижу, – сказал Дик, – увижу! И подружусь со всеми тайями! Отец подмигнул ему. – Конечно, подружишься, хоть это и непросто! Первым делом ты не должен ошибаться, когда называешь их. Все они – тайят, люди; тай – человек-мужчина, тайя – человек-женщина. А Тайяхат, где мы живем рядом с ними, – Мир Людей… Ну, и ты понимаешь, сынок, раз они нас сюда пустили, значит, считают людьми. И что же, по-твоему, отсюда следует? Дик насупил брови, запыхтел, но вопрос оставался ему непонятен, и Саймон-старший с серьезным видом пояснил: – Мы должны быть людьми, парень. Людьми, достойными уважения в глазах тай и тайя. Нам надо показать, что мы не уступаем им ни в чем… Понимаешь? Я говорю не о наших машинах и зданиях в сорок этажей, не о Пандусе, вертолетах и монорельсовой дороге, не о ружьях, глайдерах и телевизорах, а о вещах, которые ценят тайят. Ты не должен им уступать, Дик! Хоть, по их мнению, мы с тобой калеки, но… – Оборвав фразу, Филип вдруг приобнял сына за плечи и воскликнул: – Подлетаем! Еще полчаса – и мы дома. Так что не упусти случая полюбоваться на Чимару с высоты. Совет того стоил. Голубая машина крохотной жужжащей мошкой вилась перед каменным ликом с едва различимыми чертами – гигантским, морщинистым, темным, исполосованным шрамами осыпей, рубцами трещин, причудливыми провалами пещер. Это чело одряхлевшего титана венчал ледяной шлем о трех зубцах, похожий на выщербленную королевскую корону, украшенную хрустальными подвесками ледников. Два крайних спускались особенно низко, до широких плеч-перевалов, превращаясь там в бурные потоки; сверкающими пенными серпами они падали с отвесных склонов, вгрызались в каменные ребра, прыгали и грохотали среди скал, взметая в воздух мириады брызг, рождавших семицветную радугу. Гигант в льдистом шлеме с руками-водопадами как бы сидел, опираясь на пятки и выдвинув колени вперед, а образованный ими уступ шириной в четыре лиги высился над большим озером, куда стекали горные воды. Озеро показалось Дику безлюдным, на карнизе, на коленях великана, он увидел крохотные хижины, пылавшие перед ними костры, деревья, запутанный узор тропинок и ручьев, фигурки людей и животных – и все это было словно выткано на травянистом изумрудно-зеленом ковре. Вертолет с тихим рокотом снижался. Мимо них проплыл прижатый к шее подбородок с веером трещин, расходившихся от него подобно бороде, затем потянулась необозримая выпуклая грудь в иссеченных каменных доспехах. Там, где кончались эти гранитные латы, шла неглубокая, но заметная впадина, похожая на втянутый живот и пестревшая в самом низу пятнами мхов и отверстиями пещер. Видимо, некоторые из них были обитаемы – Дик разглядел приставленные к ним лестницы и галереи на деревянных подпорках, что нависали друг над другом в три-четыре яруса. Отец коснулся клавиш автопилота и, приостановив спуск, начал возиться в кресле, стягивая башмаки и комбинезон. Кресло было узким, и Филип Саймон, крупный мужчина, скорчился в нем, точно рыболовный крючок, застрявший в коряге. Наконец он разделался со всеми “молниями” и застежками, облегченно вздохнул и, подмигнув сыну, распорядился: – Снимай рубаху и штаны. Там, внизу, тебе хватит плавок. А хочешь, бегай голышом! Дик не заставил просить себя дважды. Он с восторгом глядел, как отец достает две кожаные ленточки, отливавшие сероватым жемчужным блеском. Одной из этих повязок Саймон-старший перетянул собственные золотистые волосы, другую пристроил на лоб Дику. Кожа была мягкой и оставляла ощущение гладкости и тепла. – А перья, дад? Перья будут? Как у индейцев? – Нет. Воины тай не носят перьев, а только цветные повязки, знак клана. – И какой наш клан? – Пальцы Дика коснулись упругой ленточки. – Теней Ветра, сынок. Это сильный и почитаемый клан, у него семнадцать мужских поселков, и в каждом живут две или три сотни молодых мужчин. Чочинга, мой друг и великий воин, тоже из этого клана. Дик в восторге подпрыгнул на сиденье. Он – вождь? Грозный вождь, как Чингачгук Великий Змей? Как Текумсе и Оцеола? – Нет, парень, Чочинга не вождь, хоть власти у него побольше, чем у иного вождя. Он – Наставник, Учитель боевых искусств, помнящий все обычаи и ритуалы – как говорить с врагом и с другом, как биться в поединке, как праздновать победу и оплакивать поражение… Это очень важно для тай. У них, видишь ли, нет богов, зато… Но Дик перебил отца. Религия его не занимала, а вот к Наставнику Чочингё, учителю боевых искусств, он внезапно ощутил жгучий интерес. – Он будет меня тренировать? Правда, дад? Ты его попросишь? Филип Саймон взъерошил светлые волосы сына. – Будет учить, если ты ему приглянешься. Если он решит, что из тебя получится толк. Если ты будешь с ним почтителен. И, конечно, если обучишься языку тайят. Как учиться, не зная языка? Он ткнул клавишу на пульте, и вертолет, негромко урча, продолжил снижение. – Твой друг Чочинга самый главный в Чимаре? – спросил Дик, кося глазом на приближавшиеся деревья, разбросанные меж ними строения и причудливую вязь соединявших их тропинок. – Не самый главный, но, наверно, самый уважаемый среди мужчин. Чимара – женский поселок, и тут правят женщины. У каждой есть дом, свой очаг, сестра-икки, мужья и дети. И все им подчиняются – так, как ты… гм… подчинялся тете Флори. Но мальчики, когда вырастут, могут спуститься в лес и жить в мужском поселке. Не все, конечно, а те, кто пожелал стать воином какого-нибудь клана. – Теней Ветра? – Теней Ветра или Звенящих Вод, Извилистого Оврага или Горького Камня – в женском поселке это не важно. Я тебе говорил, что здесь, на склонах Тисуйю-Амат, никто не нарушает мира, не поднимает оружия. Сражаются там, в лесу! И только там имеет значение, из какого ты клана. Обычно юноша идет в тот клан, который избрали его деды и отцы или старшие братья… – Отцы? – Дик недоуменно сморщился. Братьев, по его разумению, могло быть много, а уж дедов никак не меньше и не больше двух – но отец, само собой, один. Насколько он знал анатомию, больше просто не требовалось! Филип Саймон усмехнулся: – Понимаешь, сынок, тайят почти как люди и все же не совсем люди. Выглядят иначе и обычаи у них иные… К примеру, у каждого мальчишки обязательно есть брат-близнец, у каждой девочки – сестра, а еще два отца и две матери – родившая мать, сита, и вторая мать, теита. Что же касается отцов… хм-м… тут, видишь ли, дело такое… "Пчелка” мягко приземлилась, смолк негромкий шелест винтов, и Саймон-старший прервал рассуждения на щекотливую тему. Дик, которого сжигало нетерпение, разблокировал дверцы со своей стороны, спрыгнул вниз и огляделся. Их бирюзовый аппарат стоял на лужайке, заросшей густой короткой травой, щекотавшей босые пятки. Прямо перед Диком, шагах в двадцати, вздымался к небу отвесный горный склон с зиявшей в нем пещерой; вход в нее обрамляли отесанные столбы, меж коих свисала широкая плетеная циновка; Значит, пещера служила жилищем, решил Дик, рассматривая украшавшие завесу узоры в виде переплетенных змей. Справа, промеж двух огромных деревьев с листьями как растопыренная пятерня, виднелся фасад просторной хижины, поднятой на сваях. Вдоль нее тянулась веранда, на которую вела лестница, а сверху нависала кровля, поддерживаемая резными деревянными подпорками. На одной из них, выдававшейся над крышей метра на полтора, полоскался флаг ООН – голубое поде с десятью золотистыми кольцами и шестнадцатью звездами, символом Большой Десятки и Независимых Миров. Заметив этот флаг, а также алюминиевые стол и кресла в одном конце веранды и груду ящиков – в другом, Дик сообразил, что эта хижина будет его новым жилищем – на год, на два или на все пять, пока отец не разберется со всеми секретами аборигенов. По левую сторону поляны, за редкой порослью желтоватых коленчатых стволов, похожих на земной бамбук, виднелись кровли других хижин, не таких больших, как отцова, но тоже весьма просторных – не меньше, чем коттедж на днепровском берегу, где тосковала сейчас в одиночестве тетушка Флори. Кое-где над крышами вился дымок, и нос Дика улавливал незнакомые, но вкусные запахи – там что-то жарилось, варилось и пеклось, и это “что-то” походило на пирожки с мясом и на медовые коврижки. Решив, что с голоду здесь не помрешь, Дик покосился на отца, ожидая, когда тот скомандует разгружать машину. Но Саймон-старший не торопился. Он стоял неподвижно, руки его были согнуты и чуть разведены, голова откинута назад, а широкие крепкие плечи и спина будто оделись золотой паутиной солнечных лучей. Небесный Свет, как называли туземцы свое светило, клонился к закату и блестящим медным щитом висел над лесами и прозрачной озерной гладью, что оставалась где-то внизу, у ног гранитного воина в льдистом шлеме, с могучими руками-потоками. Вокруг царила тишина – только какие-то птицы или зверьки попискивали в листве послышался отдаленный мерный гул падающей воды. Внезапно полог, скрывавший вход в пещеру, отодвинулся, и в глубине, озаренной неярким светом, возникла высокая темная фигура. Человек, стоявший на пороге, был огромен и похож на многорукого индийского демона или на древнего титана, одного из отпрысков Земли и Небес, которых эллинские боги низвергли в Тартар. Так, по крайней мере, говорилось в прочитанных Диком книжках, но в них речь шла о земных титанах. В Тайяхате же были свои сказки, и этот великан – нагой, если не считать обвившего бедра изумрудного змея, – скорей отправил бы в Тартар Юпитера со всем его божественным потомством. На мгновение Дику сделалось страшно; он шагнул поближе к отцу и приник плечом к теплой коже под ребрами, не спуская глаз с надвигавшегося исполина. Дик, разумеется, знал, как выглядят люди тайят, он видел их на снимках, в телезаписях и видеофильмах, но сейчас впервые постиг простую истину: фильмы и снимки лгут. Лгут! Разве могли они передать это ощущение мощи и свирепой уверенной силы, эту грацию движений – легких, стремительных и в то же время плавных? И блеск янтарных глаз, и чуткое подрагивание ноздрей, и взвихрение антрацитовой, подобной львиной гривы? И этот запах… Сильный, непривычный, но приятный… Запах меда и горьковатых трав… – Чочинга, – сказал отец. Ладонь его легла на плечо Дика, пальцы сжались. – Чочинга, атэ имозу ко тохара зеггу. Ко тохара! Великан поднял руки – все четыре руки, мощные, в буграх узловатых мышц. Яростный блеск зрачков угас, дрогнули широкие брови, полные яркие губы растянулись в улыбке. Совсем как человек, промелькнуло у Дика в голове. Да, совсем как обычный человек, только очень большой, с четырьмя руками и здоровенным питоном вместо пояса, уточнил он. Теперь этот гигант не внушал ему боязни, скорее – симпатию и благожелательное любопытство. Чочинга запел. Для Дика это не явилось неожиданностью; он помнил, что, согласно Ритуалу, мужчина-тай приветствует друга Песней Приветствия и Представления, а врага – Песней Вызова. Голос у Чочинги оказался под стать фигуре – сильный, глубокий, но резковатый. Руки его мерно двигались в такт протяжной мелодии; он простирал верхнюю пару перед собой проводил ладонями нижней по бокам, поглаживал блестящее змеиное тело, потом с неторопливостью вытягивал пуки вверх и в стороны, показывая то на небеса, то на яркий солнечный диск, то на старшего Саймона, то на Дика. Змей, обвивавший чресла Чочинги, был неподвижен – может, дремал а может, просто не интересовался людскими делами. Наконец хозяин, встречающий гостя, закончил приветствие, и гость откликнулся ответной песней. Голос у отца, решил Дик, получше, чем у Чочинги; пусть не такой громкий, зато приятный и мелодичный. Раньше отец любил петь – когда была жива мама. Чочинге, вероятно, отцов голос тоже нравился. Он слушал, полуприкрыв веки, а когда песня завершилась, шагнул к гостям, подхватил Дика под коленки, поднял повыше и пальцами верхних рук стал перебирать его волосы, касаться ушей, висков и щек, будто хотел не только разглядеть, но и ощупать странного двурукого детеныша. А Дику чудилось, что перед ним как бы два человека: первый держит его, а второй, спрятавшийся за спину первого, гладит по голове и дергает за уши. Внезапно Чочинга расхохотался, подбросил Дика вверх, поймал и резким сильным движением швырнул в траву, Перекатившись, Дик поднялся, бросив вопросительный взгляд на отца. Может, взрослых тут приветствовали песнями, а тех, кто поменьше, – тычками? – Сделай так, – произнес Филип Саймон, снова сгибая руки и слегка разводя их, точно готовясь оттолкнуть стоявшего перед ним великана. Дик повторил этот жест, прислушиваясь к рокочущему басу Чочинги и голосу отца, неторопливо переводившему сказанное. – Он говорит, что ты воспитанный юноша, почтительный к старшим. Он говорит, что ты умеешь падать и подниматься. Он говорит, что всякий может упасть под вражеским ударом, но это не беда. Главное, вовремя подняться. Встать и отрезать врагу уши. Или пальцы – что тебе больше понравится. Пальцы даже лучше, так как их косточками украшают боевое ожерелье, Шнур Доблести. Еще он говорит, что ты можешь пройтись по Чимаре и даже вступить с кем-нибудь в почетное единоборство, только без оружия. Не режь чужих ушей и пальцев – здесь этого делать нельзя. – Не очень-то и хотелось, – отозвался Дик, имея в виду уши и пальцы. – Я лучше займусь “пчелкой” и перетащу все добро в дом. – Тут он скосил любопытный глаз на змея, обвивавшего талию Чочинги, дернул отца за руку и громким шепотом поинтересовался: – А что у него на поясе, дад? Танцующий питон? А почему он зеленый? И почему он спит, а не танцует? – Не любит плясать в одиночку, – с непонятной усмешкой заметил отец и подтолкнул Дика к машине. – Ну, решил потрудиться, так трудись! Они с Чочингой исчезли в пещере, а Дик, откинув дверцу багажного отсека, начал перетаскивать ящики и коробки к ступенькам, ведущим на веранду. Между делом он поглядывал на деревья с пятипалыми листьями – там шебуршился и попискивал кто-то невидимый, возможно, птица или маленький зверек. Груза в вертолете было немного: консервы, сублимированные концентраты, кофе и чай (все – китайского производства), видеокамера с запасными кассетами, тючок с бельем и одеждой, школьный компьютер класса “Демокрит”, с которым Дику полагалось общаться три-четыре часа в день, аптечка и всякие мелочи – вроде книг, мыла, зубных щеток, блокнотов, карандашей и “вопилок”, плоских коробочек размером с ладонь, с прорезью для ремня. Их полагалось носить в период странствий в лесах, и отец утверждал, что их боятся даже саблезубые кабаны и медведи-гризли. Дик повертел “вопилку” в руках, соображая, что на оружие она все-таки не походит. На то оружие, которое виделось ему в мечтах: русские автоматические винтовки “три богатыря”, американские “сельвы” с откидным прикладом и барабаном на сотню патронов, финские высоковольтные разрядники “похьела” и газовые гранаты типа “Синий Дым”. Не было в багажном отсеке и холодного оружия – ни знаменитых японских клинков “самурай”, ни арабских сабель с Аллах Акбара, ни бразильских мачете, ни даже тех дешевых поделок, что штамповались в Черной Африке и на Гаити. Надо полагать, решил Дик, что отцов арсенал со всякими забавными штучками находится в доме, и там есть ружья, пистолеты и клинки, а может, что-нибудь посерьезней вроде финских или русских лучеметов. Все-таки отец прожил в тайятских лесах целое десятилетие и вряд ли гулял безоружным среди саблезубов, грифонов, пятнистых жаб и прочей нечисти. Интересно бы взглянуть на его боевые припасы, мелькнула мысль у Дика, и он совсем уж вознамерился провести в доме инспекцию, как вдруг почувствовал, что на него смотрят. Он резко обернулся. В десяти шагах, сбившись плотной кучкой, стояли ребятишки два паренька и две девочки, не отличавшиеся от него ни ростом, ни возрастом. Рук у них, само собой, было побольше, но Не это показалось Дику самым удивительным. Оба мальчишки, с растрепанными на манер вороньих гнезд лохмами, были похожи друг на друга как пара патронов из одной обоймы, и то же самое относилось к девчонкам – только у одной темные волосы падали на плечи, а другая заплела их в косичку и обернула вокруг головы. Мальчишки и этим не отличались, но на плече того, что стоял впереди, устроилась птица. Великолепная птица! Совсем небольшая, с воробья, однако невероятной красоты: алая, с золотистой грудкой и золотистым хохолком. Хвост ее расходился словно крошечный веер и блистал всеми оттенками утренней зари. Ребятишки были стройными, длинноногими и абсолютно голыми, так что Дик без труда убедился, что ниже пояса они во всем подобны его смоленским приятелям и подружкам. Мальчишка с птицей выглядел, пожалуй, покрепче и позадиристей остальных; девочки казались более тонкими, с хрупкими плечиками и проступавшими под смуглой кожей ребрами. У обеих уже начали наливаться груди, а внизу живота темнел шелковистый короткий пушок. Дик, будто зачарованный, не сводил глаз с этой четверки. Птица, конечно, была замечательной, подробности анатомического строения тай и тайя – весьма интересными, а уж сходство их лиц казалось сущим волшебством! До сих пор он не встречался с близнецами, а тут-целая куча! Можно сказать, толпа! И парни тебе, и девчонки… восемь ног, шестнадцать рук… Было ли это случайностью? Дику припомнились отцовы объяснения, что у всякого тайя есть брат, у всякой тайи – сестра, а еще у них четыре родителя… Четыре! С одной стороны, вроде неплохо, но с другой, если все родичи похожи на тетушку Флоренс, то… Девочка с распущенными волосами выступила вперед, коснулась теплыми ладошками его груди, а другой парой рук сделала уже знакомый Дику жест приветствия. Ее милое личико расплылось в улыбке, но остальные трое глядели недоверчиво, а паренек с птицей – даже мрачно и вызывающе. – Чия, – прощебетала девочка, – Чия! – Она полуобернулась и показала левой нижней рукой на сестренку, потом на лохматого мальчишку с птицей и его брата. – Чиззи. Чиз-зи! Цор, Цохани. Цор умма Цохани. Чия икки Чиззи. Сиран шевара? Тонкие пальчики требовательно забарабанили по груди Дика, и он назвался. – Ди-ик, – протянула Чия, поглядывая на него со странной жалостью, – Ди-ик, Дик! – Глаза у девочки казались бездонными, черными и блестящими, а ресницы – такими, что тень от них падала на щеки. Меж плечевыми суставами верхней и нижней пары рук темнели трогательные ямочки, коленки были исцарапаны, и по левому бедру тянулся едва заметный шрамик. – Ди-ик! – передразнил мальчишка с птицей, видимо – Цор; потом надменно вскинул лохматую голову, поискал что-то взглядом в листве и вдруг рассмеялся. – Пинь-ча! Дик – пинь-ча! Золотисто-алый воробей на его плече протестующе чирикнул, вторая девочка, с косой, ткнула Цора локотком в бок и принялась что-то гневно выговаривать ему, но мальчишка не слушал – тянул руку к крыше веранды и радостно вопил: – Пинь-ча! Сайд этори пинь-ча, калавау тере! – Пинь-ча? Что еще за пинь-ча? – повторил Дик, в недоумении уставившись на черноглазую Чию. Она потупилась, тяжело вздохнула – будто в чем-то была виновата перед гостем, и махнула тонкой рукой, показывая вверх. Дик обернулся и поднял взгляд. На кровле веранды, под пятипалыми листьями, у самого флагштока с голубым знаменем, сидел маленький рыжеватый зверек, похожий то ли на белку, то ли на обезьянку с вытянутой любопытной мордочкой. Пожалуй, больше на белку: ушки у него были остроконечными, хвост – изогнутым и пушистым, а крохотные темные глазки поблескивали как две бусинки. И было у этого зверька всего четыре конечности, а не шесть лап и не шесть ног, как у всех прочих обитателей Тайяхата. Только четыре, как у самого Дика. Ладошка черноокой Чии еще лежала на его груди. Он сбросил хрупкие теплые пальцы, затем решительно отодвинул девочку и шагнул вперед. Конечно, у этого тайского паренька вдвое больше кулаков, но можно ли считать, что они крепче и увесистей? Дик в том сомневался, а всякое сомнение он привык проверять опытом. На долю секунды лицо Саймона-старшего явилось перед ним, и Дик услышал строгий голос: “Ты не должен им уступать! Не должен уступать ни в чем!” И тут же рокочущий бас Чочинги напомнил, что схватка должна быть честной и что в Чимаре нельзя резать противнику пальцы и уши. – Эй, лохматый! Отдай-ка братишке воробья! С воробьями я не дерусь, – сказал Дик, сжал кулаки и ринулся в битву. КОММЕНТАРИИ МЕЖДУ СТРОК – У твоего сына сердце бойца, – сказал Чочинга, разглядывая катавшихся в траве мальчишек. Голова его одобрительно качнулась, дрогнули темные пряди, походившие на львиную гриву, на полных губах заиграла улыбка. Широкая смуглая физиономия вдруг утратила привычное выражение свирепости; теперь он выглядел не воином, победившим в сотнях поединков, а тем, кем был на самом деле, – наставником и учителем. Ладонь Чочинги огладила изумрудное тело змея, и тот, вдруг очнувшись от спячки, приподнялся и стал раскачиваться, уставившись мерцающими глазками на поляну, откуда неслись громкие боевые выкрики и визг девчонок. – Пожалуй, Цор уступит твоему ко-тохаре, – Чочинга пощекотал питону нижнюю челюсть. Массивная, тупо срезанная змеиная голова застыла над его плечом, потом раздался негромкий свист, и питон, высунув гибкий длинный язык, лизнул шею хозяина. – Да, твой сын одолеет Цора, – повторил Чочинга, – но он еще не обучен всем положенным Ритуалам. Ему надо получить дневное имя – ведь он уже вырос и не может обходиться одним утренним. Еще ему надо усвоить правила Оскорблений и не лезть в драку, пока не сказаны все нужные слова. Еще… – Наставник задумчиво прищурился, – еще, я думаю, таинство огня и ножа… да, цехара ему определенно пригодится… как и приемы схватки с клинком и щитом, с клинком и копьем, с двумя клинками и двумя копьями… Видишь, Золотой Голос, сколь многое должен постичь твой сын! – Так обучи его, Крепкорукий, – откликнулся Филип Саймон. – Обучи во имя нашей дружбы – так, как ты учишь Теней Ветра, потомков твоих родичей. И присматривай за ним, пока он не вырастет и не сможет стать моим спутником в лесах и горах. Чочинга усмехнулся. – Это случится быстрей, чем тебе кажется, брат мой. Юные воины растут словно трава под теплым дождем… Не успеешь дать ему дневное имя, как он уже хочет девушку, хочет нож и копье и рвется свершать подвиги в боях и на Полянах Поединков… Юности свойственна торопливость, но зрелые люди, подобные нам с тобой, должны относиться к этому снисходительно. Ведь юность проходит, брат, и память о ней согревает нас в дни печальной старости. – Да пребудут с тобой Четыре алых камня. Четыре яркие звезды и Четыре прохладных потока, – сказал Саймон, поглядывая на поляну и развернувшееся там сражение. – Твоя старость еще далеко, и я надеюсь, что ты сохранил свои силы. Сохранил достаточно, чтоб справиться с моим сыном. Боюсь, брат, у тебя будут заняты все четыре руки! – Ничего. Ничего! Он мне поможет, – Чочинга погладил тугие змеиные кольца. – Он научит твоего тохару, как сделаться тенью всех ветров, что проносятся над Тайяхатом, как бегать стремительно и неслышно, как прятаться на деревьях, в траве и среди скал. А до той поры, пока твой сын не научится этому, будет ходить в синяках. Так что не тревожься, мы присмотрим за ним – я и мой змей! – Гулко хлопнув в ладоши, Наставник заглянул в лицо Саймона. – Но кажется мне, ты хочешь спросить еще о чем-то? Говори, и пусть я умру в кровавый закат, если просьба твоя не будет исполнена! – Я бы желал, чтоб его научили словам тайят. Не знающий их – чужой в Чимаре, а я не хочу, чтоб мой сын считался здесь чужим. Может, одна из твоих мудрых и прекрасных жен… Ниссет или Най… Чочинга махнул рукой – вернее, двумя руками сразу. – Пусть мои жены, мудрые и прекрасные, правят домом, пекут лепешки и жарят мясо. Твоего сына обучат без них… Чия обучит! Кажется, он ей понравился. – Кажется, – кивнул Саймон и ухмыльнулся. Схватка на поляне прекратилась, бойцы разошлись по разным углам, и черноглазая Чия, свернув из травы жгут, вытирала Дику спину.Глава 2
Дик бежал под густыми кронами пятипалых деревьев, мчался на север, к водопадам, стараясь укрыться от бивших с неба обжигающих стрел. У стволов, под непроницаемым пологом мощных, покрытых густой листвой ветвей, царили прохлада и полумрак; на прогалинах же утреннее солнце светило в глаза, жгло нагие плечи, выжимало испарину из разгоряченной кожи. К счастью, лес на северной окраине поселка был густым, и поляны встречались редко – одна на две-три сотни шагов. Можно было бы и обогнуть их, но Дик торопился – Учитель, наверное, допел свою песню, отмерявшую время, а значит, Каа был готов устремиться в погоню. С каждым днем песни Чочинги делались все короче, и фора, положенная Дику в этой игре, все сокращалась и сокращалась. Правда, и бегал он теперь быстрее – ни один четырнадцатилетний мальчишка-тай не мог за ним угнаться. Дик полагал, что им мешают лишние руки, но его приятели из Чимары вовсе так не думали. Совсем наоборот! В драке четыре кулака надежней двух, в чем Дику пришлось не раз убедиться на собственном опыте. Цор, его вечный соперник из клана Горького Камня, бывал особенно настойчив, но уступал Дику в ловкости, хитрости и быстроте. Это сводило преимущества Цора к нулю; как говорил Учитель, неважно, сколько рук у человека, если пользуешься ими с толком. И хоть Цор любил подраться, их схватки обычно кончались ничьей – что и доказывал объективный подсчет синяков, царапин и ссадин. Лес начал редеть, солнце принялось палить сильнее, на висках Дика выступила испарина, тяжелый нож в костяных ножнах больно колотил по бедру. Рев водопадов впереди становился все отчетливей, пока шум и грохот не заполнили весь мир, не ударили в уши кузнечными молотами. Теперь под ноги ему легла каменистая осыпь с острой щебенкой, коловшей босые ступни. Тем не менее он помчался быстрей; эта часть дороги была самой неприятной – во всяком случае, для него. Каа одолевал ее с легкостью, хоть полз на брюхе. А может, и не на брюхе – по словам отца, у изумрудных питонов имелись рудиментарные конечности, почти невидные под кожей, но позволявшие где надо приподняться и не порвать чешую об острый камень или сухую ветвь. Так ли, иначе, но Каа ползал с потрясающей быстротой, а чутьем не уступал гепардам, и скрыться от него удавалось не всякий раз. Собственно, звали его не Каа, однако Дик, три года назад начитавшийся Киплинга, дал питону это имя. Почему бы и нет? Разве сам он – не Маугли в диких джунглях? И разве Учитель Чочинга не похож на медведя Балу?… А его жены – на заботливых матерей-волчиц?… Вот лишь Багира здесь отсутствовала. Конечно, Чия могла б сыграть эту роль, ибо волосы и глаза у нее были черными, а движения – гибкими, как у пантеры. Но характером она совсем не походила на грозную царицу джунглей – плакала, когда Дик дрался с Цором, Цохани и другими мальчишками, сердилась и не разговаривала с ним по несколько дней. Отец объяснял это по-своему, утверждая, что доминантой поведения тайятских женщин являются мир, неизменность и покой, – а было б иначе, так мужчины перерезали бы друг друга еще в незапамятные времена. Дик вытер со лба испарину, сунул нож – чтоб не болтался – под широкий поясной ремень и полез по камням к водопаду. Согласно условиям игры, он не имел права спускаться лес, но ему дозволялось сколь угодно блуждать по западным склонам Тисуйю и лезть вверх хоть до самых снегов и плоскогорья. Последний маршрут казался ему более привлекательным, так как за альпийскими лугами шло нагромождение скал и огромных камней. Спрятавшись меж валунов, он мог следить за Каа, переползавшим луговину, и вовремя забиться в какую-нибудь щель. Правда, эта тактика выручала не всякий раз: во-первых, изумрудного змея было трудно разглядеть среди зеленой травы, а во-вторых, Каа лазал поскалам не хуже самого Дика. Вблизи ревущих яростных вод тело мальчика охватила приятная прохлада. Зрелище казалось ему изумительным: за спиной, на широком уступе, лежал поселок, а впереди грохотал тысячеструйный водопад, прыгал с утеса на утес, рычал и бесновался, порождая мириады дрожащих призрачных радуг. Пожалуй, в ширину он был не меньше, чем Днепр у Развилки, и всякий человек, потрясенный его гигантской мощью, счел бы поток неодолимым. Всякий, только не Дик и не мальчишки из Чимары; уж им-то хорошо были известны все тропки, ведущие на другую сторону и скрытые от чужих глаз туманной завесой воды. Эта дорога была весьма опасной, так как приходилось пробираться по скользким камням, но Дик одолевал ее не впервые и не испытывал тревоги. Вступив на знакомую тропу, он вскоре скрылся под грохочущей водной завесой. Теперь справа от него шла мокрая черная скала, слева и сверху выгибался широкой стеклянистой аркой водопад; солнце, просвечивающее сквозь воду, казалось расплывчатым розовым диском. Здесь было не жарко – водопад, рожденный ледником, нес с собой знобящий холод горной вершины. Снег на высоких пиках Тисуйю не таял, ибо уходили они к самым небесам, а отчетливой смены сезонов на Тайяхате не наблюдалось – планетарная ось была почти перпендикулярна экватору. Половину лиги меж каменной и воднойстенами Дик одолел минут за тридцать. Дальше начиналась луговина с короткой густой травой, сменявшейся кое-где завалами гранитных глыб. Округлые торчали будто щиты, гигантских, черепах, плоские тянулись серыми языками-потоками, а ребристые напоминали спинные гребни неведомых чудищ, задремавших на солнце, но готовых в любой момент вскочить и разинуть клыкастые жаркие пасти. Среди камней торчал багровый колючий кустарник, каким обсаживали в Чимаре загоны для скакунов, но здесь, неухоженный и дикий, он служил убежищем для змей и клыкастых крыс. Крыс, тварей наглых и неприятных, Дик не боялся, но змеи, особенно ядовитые, внушали ему почтение. И потому он устремился вверх, к скалам, стараясь держаться подальше от темно-красных узловатых кустов. Ему удалось преодолеть луговину, когда за спиной, едва различимые за ревом воды, послышались тявканье и азартное рычание. Дик проскользнул в извилистую трещину меж двух валунов, пал на землю, отдышался и осторожно приподнял голову. Вдалеке, среди зеленой травы, подпрыгивали два желто-багряных шарика, а за ними струилась изумрудная полоска, точно подгоняя их или пытаясь настичь. Удача! Редкостная удача! Гепарды Учителя, озорные Шу и Ши, увязались за питоном, и можно было прозакладывать оба уха и все десять пальцев, что они от Каа не отстанут. А значит, хитрый старый змей не подкрадется невидимым, не свалится вдруг со скалы, не промелькнет изумрудной молнией среди трав, не врежется носом в ребра… Ох уж этот нос! Один его удар – и схватку можно считать проигранной! Если дело дойдет до схватки… Лучше бы перехитрить Каа и спрятаться понадежней… Как полагается Тени Ветра, невидимой, неслышной и неощутимой… Почесывая пальцами левой ноги икру правой, Дик в который раз стал размышлять об изумрудном Каа и прочих шестиногих и шестилапых обитателях Чимары. Все они – и скакуны с ветвистыми рогами, и быстрые гепарды, и охотничьи либо посыльные орлы, и питоны, и алые певуны с золотистой грудкой, и медоносные птицы, – все они проходили по разряду животных-друзей, соединенных с человеком Ритуалом Кровной Связи. Это значило, что на них нельзя охотиться и что они имеют законное право жить в поселке либо окрест него, на деревьях, в загонах или прямо в хижинах. Но они не считались человеческими слугами и помощниками, как гепарды Правобережья, в городах и на фермах землян; для народа тайят они были равноправными партнерами, столь же Разумными – на свой, разумеется, манер, – как и сами люди, животные стерегли и охраняли, несли послания или груз, делились целебным медом, яйцами и шерстью, а человеку полагалось любить их и защищать, лелеять и холить. Отец, называвший эти отношения эквивалентным симбиозом, говорил, что тайят не отделяют себя от природы и животного мира и не числят людей владыками мироздания. Для них все живые существа были равны; иное дело, что одних считали друзьями, а других – врагами. Враги, медведи и кайманы, крысы и жабы, грифоны и двадцать видов хищных всеядных кабанов, являлись законной добычей, с которой можно было содрать шкуру и снять мясо с костей. Или отрезать уши, если речь шла о человеке из враждебного клана. Внезапно Дик привстал и выглянул из своего убежища, напряженно всматриваясь в траву. Шу и Ши, вынюхивая его след, метались посередине луговины, от одних колючих зарослей к другим, а изумрудная полоска в точности повторяла их движения. Как привязанная! А такого быть не могло! Каа, обладавший тонким нюхом, скорее полз бы впереди… Да и двигался он побыстрей гепардов… Он был великим бойцом, этот Каа, умудренным годами, хитрым и многоопытным, совсем не похожим на легкомысленных Шу и Ши. К тому же его опыт и хитрость складывались с хитростью и опытом Учителя, что приводило к самым невероятным результатам. И сейчас Дик уверился, что за хвостами Шу и Ши волочится сухая змеиная кожа, наверняка привязанная Чочингой, а сам Каа – пять метров стальных мышц, два зорких глаза плюс нос-кувалда – затаился где-то поблизости. Быть может, за его спиной! Если так, прятаться не имело смысла. Сообразив это, Дик привстал, задумчиво поскреб коленку и огляделся, составляя в уме диспозицию грядущей схватки. Пожалуй, стоит дать бой во-он у тех камней, поросших багряными колючками… Кусты прикроют спину, так что Каа придется танцевать перед ним, а не вокруг… И солнце будет светить в затылок, а не в глаза… К тому же можно отступить в кустики и передохнуть, если пляски Каа затянутся… Он поднялся, отцепил тонкий метровый ремешок, привязанный к ножнам, и размотал его. Эта плетка была единственным оружием, какое допускалось в предстоящем поединке. Собственно, даже и не оружием, а чем-то вроде кисточки с краской – кончик ремня покрывал липкий белый порошок, оставлявший на змеиной чешуе заметные отметины. Для этого, конечно, приходилось хлестать со всей силы. Раскрутив ремень над головой. Дик с боевым воплем выскочил из расщелины и устремился к заветным кустам. Еще на бегу он заметил, что верхушки колючек подрагивают, будто в зарослях возится стая клыкастых крыс, но это его не смутило. Крысами займутся Шу и Ши; да и вряд ли хоть одна высунет хвост из кустов, пока гепарды рядом. Он занял боевую позицию спиной к камням и солнцу и вновь завопил – громко, вызывающе. Гепарды, золотисто-желтые, в багровых разводах, устремились к нему, волоча за собой сухую змеиную шкурку, а в стороне, метрах в тридцати, возникла над травами широкая морда Каа. Убедившись, что хитрость уже ни к чему, он перестал прятаться, выгнул туловище двумя высокими горбами и словно перетек, перелился по земле. Секунда – и блестящие змеиные кольца уже свиваются и развиваются в шести шагах от Дика, а воздух полон негромким шелестящим гулом. В отличие от земных питонов, Каа в такие моменты не шипел и не свистел, а как бы рокотал, испуская звук, подобный шуму летящего вертолета. Примчавшиеся вслед за ним гепарды сели, вывалив розовые языки, и приготовились наслаждаться зрелищем. Ши, с алой маской вокруг глаз, изогнулся и лязгнул зубами, содрав с хвоста травяную бечевку; Шу избавился от привязи, наступив на нее лапой. Сидя, звери напоминали земных кенгуру: четыре пары задних ног скрылись в траве, а передние были аккуратно сложены вдоль оранжевого брюшка. Каа, не обращая на них внимания, танцевал; его крохотные зоркие глазки были прикованы к Дику. Огромное туловище питона то вздымалось под углом вверх подобно нацеленному в небо копью, то выписывало восьмерки, изящные эллипсы и параболы, то изгибалось волнами, острыми или покатыми, походившими на горные пики или морские валы под легким ветром. Эта пляска и сопровождавший ее тихий рокочущий гул завораживали; движения, временами плавные, временами – стремительные и угрожающие, не позволяли предвидеть, откуда и как будет нанесен удар. А их в арсенале Каа насчитывалось немало! Коронным являлся выпад головой, сокрушительный хук, способный проломить ребра; но были и боковые удары, и обвивы, и подсечки спиной либо хвостом, а также хитрые подножки, сопровождаемые столь могучими толчками, что Дик прямо-таки взмывал в воздух. Словом, в схватке Каа стоил дюжины Цоров и Цохани взятых вместе, поэтому пару-другую отметин на его боках уже полагалось считать победой. Мерный рокот сменился более высоким и резким звуком. То был явный вызов, и Дик, как положено воину-тай, в свой черед приступил к Ритуалу Оскорблений. Губы его растянулись в пренебрежительной усмешке, пальцы левой руки зашевелились, в правой свистнула плеть. Еще в этот момент полагалось хлопнуть себя ладонями по ягодицам или показать из-под колена кулак, но на подобные обидные жесты рук у Дика уже не хватало. И потому он перешел к словесным оскорблениям. – Ты, травяной червяк! Я отсеку твои уши и брошу их крысам! А пальцы твои будут гнить в выгребной яме! Конечно, у Каа не имелось ни пальцев, ни ушей – во всяком случае, таких, какие можно было бы отрезать и швырнуть в крысиную нору. Однако Ритуал требовал непременного упоминания о пальцах и ушах, так что Дику приходилось следовать общепринятым канонам. За четыре года жизни в Чимаре он постиг, что сей обычай, как и другие традиции тайят, отнюдь не являлся пустой прихотью. Местные аборигены были сугубыми рационалистами, не обожествляли ни ветров, ни гор, ни звезд, ни солнца, не приносили жертв и не имели понятий о молитвах, загробном мире и отпущении грехов – как и о всемогущих существах вроде злого дьявола и доброго бога. Религия заменялась у них Ритуалами, определявшими правила Почитания Предков, Представлений и Приветствий, Празднеств, Поединков и Битв – и, разумеется, Оскорблений. Во всем этом, однако, не было ничего мистического, трансцендентного или колдовского. Предков почитали оттого, что всякому живому человеку приятно сознавать, что о нем вспомнят после смерти; Песни Представления, Прощальные Дары и Шнур Доблести служили напоминанием о родословной и свершенных воином подвигах; Ритуал Цамни определял правила игр и всевозможных искусств вроде плетения циновок и кузнечного ремесла; своим Ритуалам подчинялись сражения и схватки, празднества и оплакивание погибших, семейная жизнь и тонкие связи, объединявшие человека и животных-друзей. Оскорбительным телодвижениям и словам отводилось важное место в этом неписаном кодексе – таким путем противника лишали уверенности либо приводили в ярость. Кроме того, реакция на обиду и угрозу могла многое поведать о темпераменте воина, о его характере, выдержке и упорстве. Впрочем, все это относилось к людям, а не к питонам пятиметровой длины. Дик, однако, продолжал изощряться в оскорблениях. – Зеленая падаль! Скоро твой позвоночник повиснет на моем Шнуре Доблести! Я сокрушу твои ребра, пробью череп, выдеру зубы, набью шкуру гнилой травой! Чтоб сдох ты в кровавый закат! Чтоб ты лишился всех пальцев! Пусть высохнет кровь на твоих клыках! Пусть… Каа сделал стремительный выпад, Дик отскочил, его ремень впустую свистнул в воздухе, гепарды в волнении взвыли. Новая атака! Дик опять промазал, тогда как жесткая змеиная чешуя прочертила алый след над его коленом. Ши заскулил – судя по всему, он являлся болельщиком Дика; Шу, торжествующе встопорщив усы, поскреб задней лапой живот. Огромный питон поднял верхнюю часть тулова над травой, согнул шею, уподобившись знаку интеграла, и уставился на противника холодным завораживающим взглядом. Удар! Дик подпрыгнул, живая зеленая колонна мелькнула под ногами, кончик хвоста задел щиколотку. – Чтоб не дожить тебе до дневного имени. Мокрица! – выругался он. Но Каа оставался бесстрастен; такие проклятия его, само собой, не задевали. Если же говорить о людях, а не о змеях, то утреннее имя человек обретал в возрасте пяти-шести лет, и давали его старшие родичи, а до того малыш звался просто одним из первых или вторых сыновей. Дневное имя подросток получал от Учителя – к примеру, Дик был назван Две Руки и с именем этим мог прожить до старости, если будет сопутствовать ему боевая удача. Достигнув же преклонных лет, он удостоится права избрать вечернее имя, с коим всякий воин-тай отправлялся в Погребальные Пещеры, оставив родичам Прощальные Дары. Каа, друживший еще с дедом Чочинги, мог бы похвастать целым набором вечерних имен, ибо век его был долог, как тени высочайших вершин Тисуйю-Амата. А посему он не обиделся на глупого человечьего детеныша, но лишь свернул тело упругой восьмеркой, приоткрыл пасть с внушительными клыками и ринулся в новую атаку. На сей раз удача Дика не обошла – питон промазал, зато ремешок оставил четкую белую отметину на его хребтине, в полутора метрах от головы. Ши и Шу разом взвыли: один – горестно, другой – с явным торжеством. Но в следующую секунду их вопли перекрыло хриплое грозное рычание, и Дик, обернувшись, с ужасом увидел, как из колючих багровых зарослей вылезает саблезуб. Вероятно, он охотился там на крыс – его морда, похожая на кабанью, была перемазана алым, а с клыков, длиной в ладонь и загнутых книзу, тоже срывались красные капли. Жесткая щетина за ушами стояла дыбом, крохотные глазки злобно сверкали, и под нижней челюстью, уродливой, точно проржавевшая крышка сундука, свисали сосульки вязкой желтоватой слюны. Хоть Дик и не встречался прежде с подобными тварями, но эти угрожающие симптомы были вполне понятны: голодный и злой кабан мог впасть в яростное неистовство, когда нет различий меж понятиями “пища” и “враг”. Пожалуй, и в таком состоянии его удалось бы отпугнуть “вопилкой”, но кто же берет с собой “вопилку”, отправляясь к водопадам? Только не Дик Саймон, Тень Ветра! Впрочем, здесь, почти у самого селения, не было никаких опасных тварей… Однако саблезуб на мираж никак не походил, и не было сомнений, что за пару минут он стопчет и самого Дика, и обоих гепардов. От такого чудища не убежишь! На вид кабан отличался массивностью и грузностью, но мог потягаться в проворстве с шестиногими скакунами – само собой, на ровном месте, поскольку в зарослях скакун ему и вовсе не соперник. Так что вся надежда была на Каа, хоть в сравнении с саблезубом он принадлежал другой весовой категории – тянул килограммов на сто пятьдесят, а кабан – на добрых шесть центнеров. И выглядел несокрушимым, словно танк. Все эти мысли молниеносно промелькнули в голове Дика, а в следующее мгновение он уже стоял в боевой позиции, согнув спину и напружинив ноги. Нож, его единственное оружие, был плохой защитой от саблезуба и никак не мог заменить ни большого копья цухидо, ни тяжкой секиры томо, коими полагалось сражаться с таким чудовищем. С другой стороны, битва могла вестись без правил, ибо саблезуба не охранял закон Кровной Связи. Если навалиться всей компанией… Они навалились. Не успел кабан выскочить из зарослей, как Шу и Ши повисли у него на задних ногах, а Каа, прекративший свои танцы, нанес сильный удар в бок, покачнувший саблезуба. Нож Дика прочертил кровавую полосу по жесткой шкуре, но атака была такой стремительной, что всадить клинок поглубже ему не удалось. Дик отскочил. Гепарды тоже прыгнули в разные стороны. Зрачки их мерцали боевым огнем, хвосты были задраны вверх, но из разверстых пастей не вырывалось ни звука – игры кончились, начался бой, а в бою полагалось хранить молчание. Каа застыл, свернувшись широким кольцом в траве его голова чуть заметно раскачивалась, будто питон выбирал, куда нанести новый удар. От рева разъяренной бестии у Дика заложило в ушах. Зверь поводил огромной головой, из-под широких когтей-копыт летели комья земли, пропитанная кровью слюна свисала с губ. Он явно не мог решиться, кого же терзать сначала – то ли наглого человечка с ножом, то ли зубастых проныр-гепардов, то ли огромную змею, чьи удары были посерьезней зубов и ножа. Правда, и эти удары не мнились саблезубу столь уж опасными – его ребер, будто вырубленных из камня, питон проломить не мог. Однако Каа все же попробовал, нацелив новый удар под самое ухо. Нос у него был крепкий, но череп врага – еще прочней; и Дик в свой черед убедился в этом, пытаясь вонзить лезвие меж крохотных, пылавших бешенством глазок. Ши висел слева, на средней ноге кабана, Шу – справа, на задней, а питон, слегка ошеломленный своим последним выпадом, подсек передние. Совместными усилиями они свалили противника, но тот с гневным ревом взбрыкнул, мотнул головой, страшные челюсти лязгнули у самого запястья Дика, а через мгновение мальчик уже парил в небесах, подброшенный страшным ударом. Дыхание у него пресеклось, руки и ноги одеревенели. Он решил, что умирает; вершины недалеких скал вертелись перед ним, а еще выше, в небесной голубизне, отплясывало огненную сарабанду солнце. Казалось, прошла целая минута, пока ему удалось вздохнуть, пока мир перестал дрожать и кружиться, вновь сделавшись устойчивым и прочным. Всхлипнув, Дик приземлился на ноги и машинально вытер нос – боль в боку терзала раскаленными клещами, по щекам текли слезы. Он знал, что не должен плакать, ибо Учитель Чочинга говорил в своих наставлениях так: день не видит слез воина, ночь не слышит его рыданий, и лишь в краткий миг рассвета могут увлажниться его глаза. Но должен он оплакивать только павших друзей и родичей, а не свои обиды и раны. Друзья и родичи – то бишь Каа с двумя гепардами – были еще живыми, а потому Дик закусил губу и пощупал справа, под мышкой и пониже. Ребра оказались в целости, но под ними наливался багрово-сизым цветом чудовищный синяк, и вид его странным образом успокоил Дика. В былые годы тетка Флори лечила этакое наложением серебряной монетки, но здесь понадобился бы целый поднос – и одна мысль об этом подносе, полном льда и приятно холодящем, придавала бодрости. Дик покосился на саблезуба, перед мордой коего, отвлекая, метались Шу и Ши, пробормотал: “Ну, тварь, держись!…” – и начал отыскивать взглядом Каа. Питон смотрел на него вопросительно, ожидая команды, точно в их пестрой компании именно Дик был старшим и от его решения зависело, лягут ли они костьми на этом зеленом лугу или вернутся домой с победой и честью. Глаза у Каа тускло мерцали, пасть приоткрылась, а перед ней метался узкий и длинный язык, будто змей хотел прошептать: вспомни!… Вспомни, что не клинок в руке, а я – главное твое оружие! Я, Каа! Я, могучий и стремительный! Я, живое копье и прочный аркан! Вспомни о том и скажи, что делать! Он вспомнил. Губы Дика сложились трубочкой, раздался резкий повелительный свист – один из многих приказов, каким обучал его Наставник, – и в тот же миг они с питоном ринулись к кабану. Теперь Каа не старался ударить; быстро скользнув в траве, он обхватил хвостом средние ноги саблезуба, а клыками вцепился в складку на отвисающем животе. Новый свист, и челюсти гепардов сомкнулись у зверя на ушах, когти впились в толстую, заросшую бурой щетиной кожу; кабан яростно мотнул головой, но сбросить эти живые капканы не смог. Дик Саймон по прозвищу Две Руки, воин из клана Теней Ветра, уже сжимал коленями его шею, заносил широкий длинный нож – и ярость пела в его душе, холодная ярость бойца, впавшего в транс цехара. Ярость, как утверждал Учитель, скует из воды топор, свяжет из травы копье, и отец говорил о том же, хоть и совсем другими словами – про биохимию, гормоны и адреналин. Слова были разными, а суть – единой, и сводилась она к тому, что всякое чувство полезно, если умеешь им управлять, если ты господин, а не раб своего гнева. Дик помнил от этом – памятью тела, не разума. И оттого ярость не кружила ему головы, а удесятеряла силы, текла, как положено, от плеч к пальцам, переливалась в рукоять ножа, горячим потоком струилась по клинку. В этот миг, растянутый магией цехара, он ощущал и видел все: скрученное восьмеркой тело змеи, сковавшей саблезуба, бешеный высверк кабаньих зрачков, смертельную мощь челюстей, готовых сомкнуться на брюхе Шу, и стиснутый меж коленями горб каменных мышц. Эта живая броня прикрывала шейные позвонки, столь же каменно-твердые и прочные, соединенные упругими дисками хрящей, – панцирь, прятавший нить жизни, такой же хрупкой и уязвимой, как у любого живого существа. Теперь Дик знал, куда ему нужно нанести удар. Нож опустился, проткнул толстую кожу загривка, прорезал плоть, преодолел пружинистое сопротивление хрящей – прочных, твердых, но уступивших гневному напору стали. Дик почувствовал, как содрогнулось тело саблезуба, и в ту же-секунду, будто нож разрушил магическое заклятие, возобновился стремительный бег времени. А его оставалось мало – ровно столько, чтоб убраться от этой полумертвой туши, не погубив ни себя, ни гепардов, ни древнего змея Каа. Он знал, что эти трое сейчас повинуются ему и без команды не отпустят кабана – так и будут держать, пока тот не растопчет их в предсмертной агонии. У друзей-животных были свои понятия о жизни, о смерти и долге перед человеком. Пронзительно свистнув, Дик прыгнул – вверх и в сторону, перекувырнулся, встал на ноги. Кабан с протяжным ревом бил копытами в землю, оседая на круп, но Каа уже выскользнул из-под массивного тяжелого тела; раскачиваясь на хвосте, он холодно разглядывал умирающего врага. Ши, победно завывая, кругами носился в траве, а Шу зализывал царапину на брюхе – видать, свел-таки знакомство с пастью саблезуба. Дик подошел к нему, присел, раздвинул густой подшерсток и убедился, что знакомство оказалось не слишком близким. Шу облизал ему потный лоб шершавым жарким языком. – Ты хороший парень, – сказал Дик, – и доблестно сражался. Пусть когти твои будут остры, зубы – крепки, а пасть всегда полна мяса. При упоминании о мясе Шу воодушевился и лизнул Дика в нос. Ревнивый Ши, прекратив выписывать в траве пируэты, положил морду на плечо мальчика, потерся о щеку и взвизгнул, требуя своей доли похвал. Дик произнес нужные слова – не оттого, что так диктовалось Ритуалом Кровной Связи, но из любви и уважения. Впрочем, уважение было основой любого Ритуала, и даже оскорбляя врага – достойного врага, а не хищную тварь вроде саблезуба, – полагалось не забывать об этом. Дик повернулся к неподвижной чудовищной туше кабана. Зрачки зверя остекленели, шерсть на загривке опала, и огромные клыки длиной в ладонь казались теперь совсем нестрашными – так, просто два заостренных желтоватых колышка, торчащих среди кровавой пены. Дик шагнул к сокрушенному им гиганту, но Ши и Шу, панически взвыв, заступили путь. Долг их был еще не выполнен, и оба гепарда минут пять трепали уши кабана, покусывали рыло и принюхивались, пока не убедились, что зверь мертв. Только тогда Дик был допущен к своей добыче и к своему клинку. Он с усилием вытащил нож, осмотрел его и двумя резкими сильными ударами отсек кабаньи уши. Это входило в победный ритуал, являясь одновременно напоминанием победителю, призывом к осторожности и благоразумию. Осторожность и хитрость значили не меньше, чем отвага и телесная мощь; недаром многие из поучений Чочинги начинались со слов – побереги свои уши. Но саблезуб, вероятно, не имел такого мудрого Наставника, как Чочинга Крепкорукий, и теперь ему предстояло расстаться не только с ушами. Ибо Учитель говорил: отрезав врагу уши, не забудь про печень. Печень Дику была не нужна, он понимал это высказывание в переносном смысле, а потому, найдя увесистый булыжник, принялся вышибать саблезубу клыки. Каа следил за ним крохотными блестящими глазками, и никто не мог бы сказать, чего в них больше – одобрения или насмешки. Он был древним существом, слишком умудренным жизнью и слишком гордым, чтобы ластиться или выпрашивать похвалу, как непоседливые Шу и Ши. Дик знал об этом. – Ты прости, – негромко сказал он питону, орудуя своим булыжником, – прости, что я обзывал тебя травяным червем. Так полагается перед схваткой, понимаешь? На самом же деле ты – великий боец! И если б не твоя помощь, я бы сегодня лишился печени. – Тут он низко склонил голову и добавил ритуальные пожелания: – Да будут прочными твои зубы и целыми – уши! Пусть голос твой летит до Небесного Света, и пусть расстанешься ты с жизнью в самый прекрасный из дней, какие сияют над Тисуйю-Аматом! Каа довольно заурчал и обнял хвостом ноги Дика. Возвращались они верхним путем, ибо Дику захотелось наведаться в один приятный уголок повыше в скалах, где водопадные струи продолбили глубокую выемку среди гранитных плит. Очутившись в этой природной ванне, он с облегчением вздохнул: его синяк под действием холода уже не горел огнем, а лишь напоминал о себе тупой ноющей болью. Вскоре и она затихла – поток, струившийся с горных вершин, был целебным, врачующим в равной степени недуги тела и души. Последнему способствовал прекрасный вид – на Чимару, млевшую под жарким солнцем, на озеро, таинственно мерцавшее внизу, на лес, что изумрудным кольцом обнимал синие воды и тянулся на запад, до Миссисипи и Днепра, до Правобережья и шумных земных городов, казавшихся Дику теперь миражами или сном далекого детства. Здесь, в Тисуйю-Амат, они с отцом были единственными потомками землян, а за три минувших столетия, быть может, еще десяток их соплеменников удостоился чести повидать Чимару. Место это не являлось священным – священных мест прагматики-тайят не имели вовсе, – но было как бы озарено харизмой удачи, благополучия и покоя. Тайят, весьма ценившие постоянство и неизменность, не желали видеть здесь суетливых чужаков, их машин, их железных летающих птиц и даже их животных – ни друзей и ни врагов, а так, прислужников, либо живое ходячее мясо. Об этом ясно говорилось в Договорных Браслетах: пришельцы живут в Правобережье по своим обычаям и законам, а в тайятских лесах обычаи – тайятские, и каждый, кто хочет прогуляться на левый берег, должен такое право завоевать – ножом, мечом или копьем. Избытка желающих не наблюдалось, поскольку четыре руки и воинское мастерство были вескими доводами в пользу тай. Вдобавок к этим своим достоинствам они отличались невероятным упрямством. Арбалет нравился им больше карабина, посыльный орел мнился надежнее радиофона, а язык они признавали только свой, игнорируя все попытки обучить их русскому, английскому или санскриту. В равной степени игнорировались имена, даваемые им пришельцами, – фохенды, четырехрукие демоны, мангусы или ракшасы. Их солнце называлось Тисуйю или Небесным Светом, луна – Тенью Тисуйю, звезды – Искрами Небесного Света, мир – Тайяхатом, и в этом мире они звались тайят, и никак иначе, и были не демонами, но людьми; а кому сие не нравилось, мог проваливать хоть в рай, хоть в ад, хоть в галактическую пустоту. Но люди – те, что с двумя руками, – предпочли остаться и договориться. Тайяхат был найден индийцами еще в Эпоху Великого Разъединения и практически сразу включен в межзвездную транспортную сеть. С высоты двух-трех лиг он немногим отличался от Старой Земли, России, Колумбии, Европы или любого другого из десятков кислородных миров, отысканных и исследованных за пятьдесят лет Исхода. Как и повсюду, тут были океан и суша, огромный материк, напоминавший очертаниями земную Евразию, были зеленые леса – тайга в умеренном поясе и джунгли – в жарком, были горные хребты, высокие вершины и ледники, засушливые или плодородные плато, были степи, холмистые или ровные, как стол, были реки, озера и внутренние пресные моря. А еще изобилие всякой жизни, на суше, в воздухе и в водах, а также – разумные существа, что являлось не столь уж большой редкостью, ибо в период Исхода земные экспедиции трижды вступали в контакт с примитивными инопланетными культурами. Но Тайяхат оказался “тяжелым” миром. Тяготение здесь было на четверть мощнее земного, и, дабы скомпенсировать сие обстоятельство, эволюции пришлось даровать всякой живой твари лишнюю пару ног, рук, лап или крыльев. В остальном же, если не считать шести конечностей и более внушительной мускулатуры, животные Тайяхата разительно походили на земных. Многих можно было бы считать домашними – например, охотничьих гепардов и рогатых скакунов с шестью голенастыми ногами, весьма напоминавших канадского лося, – ибо туземцы-тайят разводили их с незапамятных времен и опекали с редкостной заботой. Другие создания, похожие на крокодилов, медведей, оленей, антилоп и кабанов, являлись дичью или охотниками – в зависимости от ситуации и собственных аппетитов. Особенным разнообразием могло похвастать семейство кабанов, всеядных тварей, чьи габариты и темперамент варьировались в весьма широких пределах. Рогатые кабаны были небольшими и драчливыми, любили яйца, орехи и сладкие фрукты; длинноногий кабан обитал в степях, охотился на антилоп и по своим повадкам мог считаться местным аналогом волка; кабан-носорог ел земляные плоды и редко прикасался к мясному – за исключением разве лишь медоносных птиц; огромный кабан-саблезуб был опасным хищником и жрал всех, кого мог одолеть, начиная от медведей-гризли и кончая крысами. Водились в южных тайятских джунглях животные совсем экзотические – вроде мастодонтов с мягкой шерстью метровой длины, ядовитых мечехвостых ящериц-игуан, гигантских страусов и их ближайших хищных родичей – грифонов, нелетающих, но скачущих с поразительным проворством; обитали на юге забавные и безобидные жирафы-кенгуру о четырех ногах и с неким подобием руколап, чудовищных размеров насекомые, а также реликты давно минувшего времени – вроде зубастого рекса и плезиозавров. Особенностью здешних змей являлась пестрота раскраски и наличие рудиментарных конечностей, а птицы делились на два больших семейства: одни, подобно страусам и грифонам, были двукрылыми и четырехпалыми, у других же имелась только пара лап, зато крыльев – вдвое больше. В отличие от высоколобых земных специалистов, охотники-тай не разделяли животных на классы, семейства, виды и подвиды. Их классификация была гораздо проще и практичней: звери опасные, вроде саблезубов и медведей, считались врагами, безобидные – законной добычей, а редкостные и красивые – наслаждением для глаз. И в полном соответствии с этой табелью о рангах они сражались с кабанами, гигантскими жабами и стаями клыкастых крыс, охотились на антилоп и оленей и приваживали к своим поселкам медоносных птиц, золотисто-алых канареек-певунов, белочек пинь-ча и больших питонов, превосходных сторожей, способных управиться с любым ядовитым гадом. Сами же аборигены тоже были явлением уникальным – по нескольким причинам сразу. Во-первых, имея понятие о земледелии и скотоводстве, они не занимались всерьез ни тем ни другим, предпочитая охоту и сбор лесных плодов, – и, что любопытно, отнюдь не голодали. Во-вторых, им были известны металлы; они вырабатывали сплав золота с серебром, мельхиор, бронзу и отличную булатную сталь. Но хоть их оружие было превосходным, а кубки и блюда – выше всяких похвал, они не чеканили монет, не копили сокровищ, а понятия “ценный” и “дорогой” являлись для них синонимом прекрасного или чего-то редкостного, с чем связаны воспоминания минувших дней. В-третьих, на всем огромном материке жил один народ, не разделенный на племена и нации, на княжества и королевства, о коих тайят не ведали ни теперь, ни в эпоху глубокой древности. Но, несмотря на это, они воевали – вернее, свирепо сражались друг с другом, подчиняясь определенным правилам и кодексу поединков и битв. В-четвертых, у них не было ни религии, ни храмов, ни жрецов и владык любого ранга – ни наследственных монархов, ни вождей, избранных демократическим путем. Власть, однако, была, и ее в одних обстоятельствах осуществляли женщины, а в других – мужчины. Наконец, существовали “в-пятых”, “в-шестых” и так далее – весьма основательный список загадок и тайн, буквально за-вороживший земных биологов, ксенологов и этнографов из Исследовательского Корпуса. А посему с народом тайят был заключен договор, согласно которому пришельцам даровалась западная окраина материка, обширное пространство площадью в пять земных Франции; и на эту территорию в последнее десятилетие Исхода были переброшены трансгрессорным каналом два десятка земных городов. Индийцы, первооткрыватели, отправили сюда Бахрампур, Тхан и Пуну; Штаты и Россия, проявившие живейший интерес к тайятским секретам, – часть Нового Орлеана, Смоленск и дюжину городов помельче; Европа, была представлена поляками, населявшими Гданьск, а Выборг и нижнее течение Невы считались совместным русско-шведским регионом. Как и повсюду, люди давали привычные названия озерам, рекам, заливам и горам, и вскоре на картах Правобережья возникли Днепр и Ганг, Миссисипи и Лазурное Взморье, Ладожский Разлив и Финская Губа – и многое другое, ставшее с течением лет таким же привычным и естественным, как повышенная гравитация и шестилапое зверье. За три последующих века население Правобережья достигло четырех миллионов, но еще задолго до этого Тайяхат получил статус Колониального Мира – что являлось, разумеется, чистой условностью. На девять десятых он все-таки принадлежал фохендам, четырехруким демонам-ракшасам, и этим отличался от остальных Колоний и Протекторатов ООН – таких, как Сингапур, Галактический Университет, Таити, Дальний Берег или Полигон. Здесь человеческие поселения были, в сущности, лишь базой – обширным научным и аграрно-промышленным комплексом, чье назначение состояло не в колонизации и глобальном терраформировании планеты, а в ее исследовании. Самый же лучший способ исследования, как полагали эксперты ООН, сводился к тому, чтоб сделать ее своей родиной – если не целиком и полностью, как Южмерику и Россию, Колумбию и Китай, Европу и Уль-Ислам, то хотя бы частично. Реальным следствием сей политики явилось то, что люди жили на Тайяхате четвертый век, с успехом плодились и размножались, привыкнув к повышенному тяготению, и для многих из них – переселенцев десятого, двенадцатого или пятнадцатого поколений – мир этот был привычным и родным. Разумеется, речь шла о Правобережье – и, конечно, его обитатели в подавляющем большинстве уже не вспоминали, что живут здесь благодаря любопытству кучки биологов и ксенологов из Исследовательского Корпуса. Кучка, правда, была внушительной – нью-орлеанский и смоленский ксенологические центры насчитывали по двадцать тысяч сотрудников, и еще столько же трудились в филиалах и на биостанциях Лазурного Взморья, Запроливья и Финской Губы. Все шло своим чередом: прибавилось людей, прибавилось специалистов, прибавилось и знаний. Не только о природе Тайяхата, но также об упрямых тайят, никак не желавших сменить арбалеты на карабины, а посыльных орлов – на ра-диофон и компьютерную связь. Как выяснилось со временем, они являлись великими рационалистами, способными дать сто очков форы землянам, подверженным многим миражам вроде технического прогресса, национальной гордости, идеи всеобщего равенства и религиозно-философскому поиску смысла жизни. У тайят не было религии, ибо они не испытывали страха перед неизбежной кончиной и не нуждались в утешении; они твердо знали, что уйдут в Ничто, и сей факт воспринимался ими хоть и без радости, но и без всякой трагической окраски. Столь же неоспоримым был для них и тот факт, что жизнь по сути своей проста и не должна усложняться ничем, что не приносило бы удовольствия или прямой и ясной пользы. Людям нужны кров, одежда, пища и некий дополнительный интерес: женщинам – семья и дети, детям – игры, мужчинам – подвиги и слава, а всем им – Ритуальный Кодекс, возможность блеснуть изысканной речью, острым словцом и знанием традиций. Чего ж еще?… И в соответствии с этой жизненной тезой, тайят не стремились объять необъятное подобно человечеству Старой Земли, зато были избавлены от социальных потрясений, экологических катастроф и расовой ненависти, а вместе со всем этим – от президентов и правительств, гангстеров и чиновников, полицейских и генералов, шпионов и террористов, нищих и проповедников, сулящих бедным рай на земле или в небесах – смотря по тому, была ли их доктрина марксистской, христианской, мусульманской или неокапиталистической. Тайят прекрасно обходились без этого – как и без сотен различных наречий, без множества враждующих племен и поползновений захватить чужое – дом, пастбище, имущество, землю. Идея о владении землей казалась им нелепостью. Земля просто была и в равной степени принадлежала всем – и людям, и животным, и растениям. На лучших и красивейших землях, откуда человек изгнал зверей-врагов, строились женские поселки, и там, в покое и безопасности, мог жить всякий – со своими женами и детьми или с братом, самым близким из кровных родичей. Жаждущие воинских подвигов уходили в лес, объединялись в кланы, избирали военных вождей и обитали в мужских лагерях, совершенствуясь во владении оружием, вступая в схватки и единоборства, приобретая и теряя. Приобретением были слава и Шнур Доблести с костяшками пальцев побежденных, потерей – те же пальцы, уши или жизнь. Каждому свое, считали тай, и говорили: боевая секира рубит кости, а топор – поленья. Одним из их неразгаданных секретов была некая странность процесса воспроизводства – странность, разумеется, лишь с точки зрения пришельцев-землян. В физиологическом смысле тайят казались во всем подобными людям, если не считать лишней пары конечностей; секс доставлял им такое же удовольствие, а роды были столь же неприятными и мучительными. Но рождались у них всегда однополые близнецы, и с вероятностью сто к одному женщина приносила потомство единожды за весь репродуктивный период. В результате численность их популяции оставалась почти неизменной и, как полагали ксенологи, не превышала шестидесяти-семидесяти миллионов, хотя континент мог прокормить вдесятеро большее население. У этой аномалии были весьма важные последствия. Каждый тай имел брата, каждая тайя – сестру, и это казалось им столь же естественным, как смена дня и ночи. Брат или сестра были самыми близкими родичами, с коими расставались лишь на пороге Пещер Погребений; братья-близнецы всегда избирали в жены сестер, жили с ними в полигамном браке, и дети их считались общими. В тайской семье из четырех партнеров у ребенка было два отца и две матери – сита и теита, родившая мать и вторая мать. Иных различий – не считая самого факта рождения – меж ними не делалось. Что касается числа “четыре”, то его полагали приносящим удачу и, желая выказать приязнь, говорили: да пребудут с тобой Четыре алых камня. Четыре яркие звезды и Четыре прохладных потока. Сестры, хозяйки в домах тайят, отходили в Вечность почти одновременно, но мужчинам-воинам случалось терять братьев. Это было великим горем, но если брат пал в бою в расцвете зрелости, горе все-таки считалось не таким страшным; оставшийся в живых завершал свой путь не в одиночестве, а с женами и детьми. К тому же он мог мстить за смерть брата на Поляне Поединков, что само по себе служило немалым утешением. Совсем иной была ситуация, когда один из близнецов погибал в детстве – не от болезней, коих тайят практически не знали, но по случайной причине. Осиротевший всю жизнь носил клеймо несчастного, отмеченного злой судьбой; такой мужчина или такая женщина не могли завести семью, и век их обычно был короток. Подобное происходило, но редко, очень редко, и тех, кто лишился в детстве сестры или брата, звали “ко-тохара” – неприкаянными. И потому, во мнении тайят, пришельцы со Старой Земли являлись существами ущербными и несчастными. Мало того, что все они страдали врожденным увечьем, отсутствием двух рук; мало того, что жизнь их была суматошной и бесцельной, не сулившей ни воинской славы, ни покоя; мало того, что им приходилось подчиняться сотням нелепых законов и глупых ритуалов, – кроме всех этих бед, судьба лишила их близкого родича. Одни из них были в полном смысле неприкаянными, другие имели сестер или братьев, но не таких, как “умма” или “икки”, увидевших свет мгновением позже или раньше; и лишь ничтожному меньшинству был дарован более счастливый жребий. Но и эти близнецы заводили каждый свою семью, расставались со своими икки и умма, то ли не понимая, то ли не желая знать, что теряют самых близких людей на свете. Странные создания! Настолько странные, что лишь немногие из них были способны думать так, как думают тайят. Это, разумеется, не добавляло им конечностей и братьев, но хотя бы приближало к настоящим человеческим понятиям… И если этот человек – мужчина, если он мог сразиться с воином-тай и выиграть схватку, если такое происходило не один раз, то полагалось считать его почти своим. А если к тому же некий воин – из тех, что потеряли родичей, – признает его за брата, то… … Каа ткнул Дика носом, напоминая, что время течет, что в животе пусто, а неразделанный саблезуб тухнет под жарким солнцем, так что прожорливые Ши и Шу – не говоря уж о благородном змее! – не смогут слопать ни куска. Дик, размышлявший о Чочинге и своем отце, поднялся, стряхнул с тела прохладные капли и свистнул игравшим неподалеку гепардам. Пробираясь меж камней, они стали спускаться к поселку, и Дик, оставив мысли о загадках человечества Земли и Тайяхата, предался сладким мечтам. Он победил саблезуба! Великий подвиг, что ни говори… Такое не снилось ни Цору, ни Цохани, ни остальным парням, промышлявшим за водопадами крыс, жаб да рогачей… Наставник будет доволен, отец – горд, а Чия наверняка поплачет, поволнуется, а потом уведет его куда-нибудь подальше от Чиззи и остальных любопытных девчонок, чтоб расспросить о битве, разглядеть страшные клыки и коснуться ладошкой его ран… Эта мысль – о тонких теплых пальчиках Чии, о похвале Учителя и радости отца – будоражила Дика куда сильней, чем сознание собственной ущербности. “Сражайся так, словно у тебя четыре руки”, – говорил Чочинга, и был безусловно прав. Само собой, брата ему не хватает, отец – один-единственный, мать-сита умерла, а вместо теита – тетушка Флори… Ну и что с того? Что с того, что он – ко-тохара, неприкаянный и несчастный? Так считают тайят, но у людей с Земли свои обычаи, а он все-таки земной человек! Хотя, говоря по правде, уже немного тай… Или совсем не немного? Насколько? На четверть или наполовину? И не превратится ли он в тайя совсем, спустившись в лес, в воинский лагерь Теней Ветра? Не превратится, решил Дик, покосившись на свои руки. Хотя бы потому, что в Правобережье слово “ко-тохара”, заимствованное из тайятского, имеет совсем иной смысл. Так называют сына, старшего и единственного, наследника имени предков, – а разве он не последний мужчина в роду Саймонов? Ричард Саймон Две Руки, сын Филипа Саймона Золотой Голос и Елены Прекрасной! Неплохо звучит… Дик ухмыльнулся и ускорил шаги. Вечером, когда его спина согнулась под грузом славы, он не выдержал, сбежал из поселка вместе с Чией к пропасти – туда, где горный склон черно-бурой стеной обрывался вниз, к прозрачным озерным водам. Учитель хвалил его умеренно, в похвалах отца звучала тревога, а вот соседи восторгались искренне и от души. В основном тайя, хозяйки жилищ: во-первых, потому, что саблезуб, гуляющий в окрестностях Чимары, мог натворить всяких бед; а во-вторых, кабанье мясо считалось деликатесом, и каждый понимал, что Саймоны, со всей семьей и зверьем Наставника, не съедят его даже за месяц-Мысль эта была правильной, и когда Чулут, сын Чочинги, кликнул клич, три десятка мужчин тут же собрались за водопады, разделывать кабана. Этим они и занимались до самого вечера, подбрасывая лакомые кусочки Шу и Ши. Вообще-то у Чочинги и его погибшего брата Чу было две дочери и два сына. Дочери давно хозяйничали в собственной хижине, и сыновья тоже были женаты – но Чулут, кузнец и оружейник, жил в Чимаре, а Чоч, великий мастер метать копья и рубить секирой, большей частью пропадал в лесах, поддерживая боевую семейную славу. Дик как-то видел Чоча и убедился, что сын Наставника – бравый воин: уши и пальцы целы, а Шнур Доблести свисает до колен. Закат, пылавший над лесом, стал меркнуть, и на смену ему сквозь зубчатые горные вершиныпроскользнула луна – бледно-серебристая, с темным пятном у левого края, похожим на распластавшую крылья птицу. На западе – там, где солнце утонуло в зеленой лесной чаще, – зажглись самые первые и самые яркие искры Небесного Костра. Черная пропасть меж ними казалась бездонной, но Дик знал, что вскоре ее заполнят столпотворение звезд, калейдоскоп цветных огней и туманные призрачные спирали газовых облаков. Ночи Тайяхата были тихими, теплыми и чарующе прекрасными. Он сидел в траве у самого обрыва, а Чия стояла на коленях позади, крепко прижавшись к нему. Две ее ладошки лежали у Дика на поясе, а верхняя пара рук теплым полукольцом обхватывала ребра; подбородок девушки упирался в плечо, щека касалась его щеки, и твердые маленькие груди прижимались к лопаткам. Пожалуй, тетушка Флори сочла бы такую позу несколько вольной, но здесь, в тайятских землях, были свои понятия о нравственности. Чия обнимала его, потому что он был ей приятен, и физический контакт являлся в таком случае естественным и необходимым продолжением их дружбы. Дружбы, не более! Все остальное придет или не придет, смотря по тому, чем кончится дружба. Скорее ничем, подумал Дик, ведь у него нет брата, а Чия не может расстаться с Чиззи. В конце концов, кто он ей? Друг… Приятель… Неприкаянный с Правобережья… Почти калека… А Чиззи – сестра! И Чиззи нравятся Цор с Цохани, а еще – Сотанис и Сохо из Клана Звенящей Воды, из тех, что носят голубые повязки, украшенные бирюзой… Жаль, что у него нет брата! – Было страшно, Ди? – шепнула девушка. Чия не любила звать его дневным именем, словно оно подчеркивало ущербность Дика и обидную разницу меж ними. – Страшно? Нет… пожалуй, нет. Не хватило времени пугаться. Дрался, думал, как пришибить эту тварь, а потом… – Дик наморщил лоб, припоминая, – потом разозлился и вроде бы впал в цехара… – Без огня и ножа? – в ее голосе прозвучало удивление. – Разве такое бывает? – Бывает. Учитель как-то сказал, что нож и огонь – луна и солнце, серебряное и золотое, холодное и жаркое… И все это мы носим с собой, всегда, в собственном сердце… Конечно, если глядеть на клинок и пламя, быстрее войдешь в транс, но умелый воин и без этого обойдется. – Ты будешь умелым воином, если захочешь, – сказала Чия, помолчав. – Только вернись из леса, Ди… вернись… И пусть Четыре звезды озаряют дорогу, которой ты возвратишься ко мне. Путь в никуда, подумал Дик, но вслух ничего не сказал, а только погладил хрупкие пальчики Чии. – Ну, говори! – потребовала она. – Говори же! Значит, ты не испугался, и это хорошо… Это правильно… Ведь даже женщины знают – от саблезуба не убежишь, надо драться или лезть на дерево. Или на скалу… А разве за водопадом мало больших камней? И к чему было драться? Ты мог бы… – Не мог, – он покачал головой. – Не успел бы добежать. А если б успел, так погибли бы Шу и Ши, а с ними – змей Учителя… Что ж ты думаешь – они стали бы драться за меня, а я – прятаться? Хорошо? Правильно? – Тут Дик чуть-чуть передразнил Чию и со вздохом добавил: – Цор бы смеялся… Сказал – вот ушли человек, змей и два шестилапых охотника, а вернулся один пинь-ча… – Да, Цор смеялся бы, – в свой черед вздохнула Чия. – И Цохани, его умма, тоже бы насмешничал и хохотал… Они не любят, когда я с тобой провожаю солнце. – Обоим уши оборву! – с чувством пообещал Дик. – Две жабы, а мнят себя орлами… Вот Сотанис и Сохо хоть и не моего клана, а люди как люди… Серьезные и первыми в драку не лезут… Оч-чень положительные юноши! – Ты так думаешь? – с сомнением спросила Чия. – Уверен! На твоем месте… То есть я хочу сказать – на вашем месте, твоем и Чиззи, я постарался бы с ними подружиться. Они не сбегут в лес – ну, может, сбегут, да ненадолго. Знаешь, Сотанису нравится резать дерево и шлифовать камни, а Сохо учит ловчих зверей, здорово учит! Они у него на задних лапах бегают… Сам видел! Девушка промолчала. Над ними, расправив широкие крылья, взмыл орел и вдруг метнулся вниз, к утопавшим во тьме лесу и озеру, стремительно превращаясь в расплывчатый темный силуэт. Несет послание, мелькнуло у Дика в голове. Чия, будто очнувшись, шепнула ему в ухо: – Не хочу слушать о Цоре, о Сохо и Сотанисе… Говори про другое! Рассказывай! Там, за водопадами, ты играл с танцующим змеем… А после? Что случилось после? Историю схватки и славной своей победы Дику пришлось излагать уже не единожды, но сейчас замешательство охватило его; не хотелось бы, чтоб Чия думала, будто он хвастает и привирает. Он вдруг с пронзительной ясностью осознал, что любое событие, случай, деяние, факт можно описать совсем по-разному – так, что будут они восприниматься со слезами или смехом, станут трагедией или комедией, фарсом или драмой. На миг могущество слов, произнесенных либо написанных, поразило его; еще не понимая, он сделал сейчас одно из великих открытий, какие свершаются в юности, на пороге, отделяющем мальчика от мужа. – Мы танцевали, я и Каа… – пробормотал Дик. – Мы бились у зарослей красной колючки, и я нанес первый удар… пометил ему шкурку… а потом хотел достать еще… И вдруг вылез этот! – Он коснулся клыков, болтавшихся на шее, на тонком ремешке, – первой своей добычи, первого из украшений Шнура Доблести. Чия, наклонившись и прижав теплую щеку к его щеке, тоже провела по ним ладошкой. Пальцы у нее были теплыми и нежными. Наступило молчание. Казалось, Чия больше не собирается расспрашивать его, будто два клинка из твердой гладкой кости уже поведали о том, что ей хотелось знать. О челюстях, щелкнувших у самого запястья Дика, о комьях земли, летящих из-под когтей-копыт, о свисающей с морды зверя окровавленной слюне, о яростном сопении и злом, недобром вы-сверке алых зрачков… Что тут еще сказать, подумал Дик. Он жив, а саблезуб – мертв, и это самое главное. Жизнь принадлежит сильным, как утверждает Учитель. Заметив, что ему не хочется говорить о битве за водопадами, Чия сменила тему: подняв личико вверх, принялась расспрашивать о небе без воздуха и облаков, где пылают Искры Тисуйю, и о том, как перебраться с одной Искры к другой – не на железных ли птицах, подобных “пчелке”, принесшей Ди в Чимару? Дик объяснил, что вертолеты в пустоте не летают и что до Искр не доберется даже большой корабль, космолет с ионным двигателем, поскольку Искры далеки и лететь пришлось бы целое столетие. “Зачем же нужен этот ко-аппль?” – спросила Чия. “Ну, например, -. сказал Дик, – чтоб странствовать с планеты на планету в любой из обитаемых солнечных систем. Ведь Искры Небесного Света не одиноки – около них кружат миры, похожие и не похожие на Тайяхат, и есть среди них такие, что слеплены из раскаленных каменных глыб или холодного тумана, только плотного, вроде воды. Но воду эту нельзя пить, так как она и не вода вовсе, а жидкий водород, из коего делают топливо для термоядерных реакторов. А чтоб возить топливо к энергоцентралям на спутниках, нужны корабли, и блок-контейнеры, и много всяких других машин, которые плавают в водородном океане и называются сепараторами, обогатителями, компрессорами и еще по-всякому, так что каждое из этих слов длинней питона Каа, если мерить его от носа и до кончика хвоста”. "Выходит, – спросила Чия, – нет таких железных птиц, таких ко-апп-лей, чтоб долетели от нас до самой близкой Искры Тисуйю?” – “Выходит, нет, – подтвердил Дик. – Никто еще – ни страны Колумбии и Европы, ни Россия, ни Южмерика, ни Китай – не построил корабль с квантовым приводом, который мог бы преодолеть межзвездное пространство и отправиться, скажем, на Старую Землю. Да и к чему такой звездолет? Ведь есть Пандус, а для него все миры лежат на расстоянии шага… ну, не шага, так десяти шагов… И если хватает энергии, то можно перемещать города, леса и даже целые горы, как делалось в Эпоху Исхода… И можно попасть куда угодно, хоть в населенный мир, где есть станции межзвездной связи, хоть в совсем дикий, где никто еще не бывал. Так, как когда-то земные разведчики попали на Тайяхат…” "Тайяхат – не дикий мир, – гордо возразила Чия, – Тайяхат – Мир Людей! Или кому-то кажется, что тай и тайя – дикари? Кому-то, кто бродит среди Искр Небесного Костра, забыв про свою родину?” Дик поспешил ее успокоить, и Чия, сменив гнев на милость, поинтересовалась, зачем же нужны ко-апп-ли, которые возят топливо к этим рее-тто-рам? Если можно попасть куда угодно, забрав с собой целую гору? Если из мира в мир ведут дороги длиною в десять шагов? И если ходить по этим дорогам так же просто, как по тропинкам вокруг Чимары? Это был хороший вопрос, но ответа Дик не знал. Почти в каждом мире Большой Десятки имелся космический флот, хотя, казалось бы, необходимости в том не было никакой – сквозь устье Пандуса могли проскользнуть не то что горы, а целые астероиды размером в полсотни лиг. Однако всюду строили корабли – разумеется, не в Колониях, а в Стабильных Мирах, и сей факт казался Дику необъяснимым. Во всяком случае, его учебный компьютер не давал объяснения – ни в курсе общей истории, ни в обзорах развития техники, межзвездного транспорта и связи, ни в лекциях о политическом устройстве Разъединенных Миров. Надо будет спросить у отца, отметил Дик, в задумчивости поглаживая свисавшие с шеи клыки саблезуба. Странное чувство – быть может, вызванное вопросами Чии, – охватило его. Он сидел тут, на краю огромной террасы, словно мошка на колене гиганта, – сидел и поглядывал в темную пропасть внизу и в бескрайнее небо, усыпанное яркими искрами звезд и мнившееся в этот поздний час кубком черного хрусталя, опрокинутым над землями и водами. Тьма под ногами, где бродили в лесу шестилапыё чудища, где воины сотни кланов выслеживали друг друга, принадлежала Тайяхату; небеса с пылающими узорами созвездий – Разъединенным Мирам. Он пребывал меж этих двух реальностей, и каждая заявляла на него свои права, и право каждой мнилось неоспоримым. Так кто же он? Будущий воин-тай, носитель Шнура Доблести, или потомок землян, мальчишка, чье место рядом с учебным компьютером? Примирить два этих мира было куда сложней, чем справиться с саблезубом. Возможно, они не желали заключать перемирия, а каждый хотел забрать Дика себе, завладеть им полностью, и каждый манил его своими собственными миражами. Здесь, на Тайяхате, была родина; были отец, Чочинга, тетушка Флори, была память о матери, были закаты и рассветы над горным хребтом, которые он встречал с Чией. Но бездна вверху, баюкавшая в темных своих объятиях мир, который он считал родным, и мириады других миров, куда человек успел или еще не успел добраться, напоминала, что Вселенная велика, а Тайяхат лишь крошечная ее частица. Там, в вышине, вращались у разноцветных солнц планеты, десятки планет, обитаемых и вполне достижимых, и где-то средь них плыла Земля, Мир Исхода, еще не забытый, не ставший легендой, но недоступный, а потому загадочно-притягательный и влекущий с особой силой. Где же она. Земля? Где золотое земное Солнце? Дик откинул голову, всматриваясь в темные тайяхатские небеса, однако они молчали. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК – Вчера ты опять была с ним? – спросила Чиззи. – Да. Ответ Чии прозвучал коротко и сухо; она явно не желала обсуждать подробности. Чиззи, сложив под грудью нижнюю пару рук, а верхней обхватив себя за плечи, потянулась. Кожа ее отливала светлой бронзой, стан и запястья были тонкими, бедра и ягодицы – крепкими, округлыми, налитыми. Не девочка – юная девушка в поре наступающего расцвета… Не поднимая глаз на сестру, свое зеркальное отражение, Чия знала, что выглядит точно такой же. Они были как два бутона на ветке дерева сино, как Два цветка, что встречаются лишь парами, превращаясь со временем в плоды – чуть удлиненные, сочные, с бархатистой кожицей и сросшимися черенками. – Ты – моя икки, – сказала Чиззи с ноткой легкого осуждения. – Ты должна брать меня с собой. – Должна, – согласилась Чия. – Но ты же знаешь, у Ди нет брата. – Нет. Он – ко-тохара… – Это не правильно, неверно! Ди мне объяснял… У нас – ко-тохара, а у них – старший сын, единственный, как Свет Небесный, как Тень Тисуйю… У них ведь все иначе, икки! – Но мы-то у нас, а не у них, – возразила практичная Чиззи, и Чие пришлось признать, что сестра права. – У них свои обычаи, у нас – свои. И мы – разные. Если б у Ди был брат, они все равно не могли бы подарить нам детей. Чия нахмурилась. – Откуда ты знаешь? Чиззи, дразнясь, высунула кончик розового языка. – Знаю, вот!… Спрашивала у Саймона Золотой Голос! – И что он сказал? – Сначала он долго смеялся,. – А потом? – Потом тоже смеялся. А посмеявшись, вздохнул, погладил мне спину и сказал: время мчится словно ловчий зверь, один плод зреет, другой – стареет. Чия нахмурилась еще больше. – И это все? – Нет, не все! Он сказал, что есть медоносные птицы, а есть певчие, и могут они любиться друг с другом, но птенцов не будет. Он хотел объяснить почему, но я не поняла… – Не поняла про птиц? – молвила Чия. – Нет, с птицами-то все понятно… А вот отчего птенцов не будет? – Чиззи наморщила гладкий лоб. – Хочешь, спроси ты… Ты ведь умнее меня. Чия покачала темноволосой головкой. – Не спрошу. Зачем? Главное сказано: мы – медоносные птицы, а они – певчие. – Или наоборот. – Или наоборот. Чиззи помолчала, потом, искоса взглянув на сестру, лукаво улыбнулась. – А вот с Цором и Цохани мы одной породы! Что скажешь? – Скажу, что Ди отрежет им уши! А зачем нам мужья без ушей? – Сделав паузу, Чия потерла висок, словно что-то припоминая, и продолжила: – Мне больше нравятся Сохо и Сотанис… Они такие серьезные и первыми в драку не лезут. Они не сбегут в лес – ну, может, сбегут, да ненадолго. И ты знаешь, икки, Сотанис режет дерево и шлифует камни как настоящий мастер, а Сохо учит ловчих зверей… Хорошо учит! Они у него на задних лапах бегают – Ди сам видел! Чиззи кивнула. – Я же говорю, ты умнее меня. Ты выберешь так, как будет лучше нам обеим. Сохо с Сотанисом красивые и спокойные… Глаза у них словно полированный черный камень, а волосы темны, как ночной водопад. – Глаза цвета неба еще красивей, – со вздохом сказала Чия. – Синие глаза и золотые волосы… Таких ни у кого нет, только у Ди… – Синие глаза? Не уверена, что это красиво, – заметила Чиззи. Но у Чии на сей счет было свое мнение.Глава 3
Ичегара, боевая секира с коротким древком, была тяжела, будто один из каменных пиков Тисуйю-Амат. Дик, стараясь не сбить дыхания, осторожно подвел левую руку с топором к Фуди, перехватил древко правой и вытянул ее на всю длину. Теперь левая рука отдыхала, но, провисев все утро вниз головой, с увесистым грузом, он менял руки все чаще и чувствовал, что вот-вот запросит пощады. Однако нужные слова никак не приходили на ум, а когда приходили, то не могли сорваться с языка, и это было правильно: воин не должен просить о снисхождении. Он висел на древесной ветке рядом с отцовской хижиной, пустой и темной, так как Саймон-старший недели две назад отправился в Орлеан – сдать отчеты и доложиться на семинарах своей секции. Дик, как бывало не единожды, остался при Чочинге и его женах, Ниссет и Най. Ниссет кормила его, Най поила, а Наставник заботился о том, чтобы все съеденное и выпитое не задержалось у Дика в животе. Сейчас Чочинга сидел на пороге своей пещеры, тянул долгую заунывную песню, отмерявшую время, изредка прерывая ее поучениями и внимательно посматривал на ученика. Ученик болтался меж небом и землей словно переспевший плод в коричневой кожуре. Щиколотки его обхватывала плетенная из травы веревка, привязанная к одной из длинных прочных ветвей, и над ним, защищая от солнца, шелестели огромные листья шоя, похожие на растопыренную пятерню. Среди них умостился пинь-ча, старый Диков знакомец, взиравший на него с искренним состраданием, – видно, зверек не мог сообразить, за что же большой четырехрукий, живущий в пещере, мучает его приятеля. Но Дик догадывался, что главные мучения впереди. У дерева шой была еще одна ветвь, голая и безлистная, и Чочинга давно намекал, что на ней тоже придется повисеть, – на самом солнцепеке, с двумя топорами в вытянутых руках. Стен в пещере Наставника было не видно под всяким смертоносным оружием, и Дику оставалось лишь гадать, о каких топорах речь, – кроме ичегары, имелись еще канида, вдвое увесистей и шире, и большая секира томо, с парой лезвий, копейным острием и древком толщиной с голень. Тут, в тени, Чочинга подвешивал его уже месяцев шесть, с того самого дня, как Дик сразился с саблезубом за водопадами. Сначала висеть приходилось пятнадцать минут по утрам и вечерам, позже – с рассвета до полудня, зато лишь три раза в неделю. В такие дни Дику давали яйца медоносных птиц и кобылье молоко, смешанное с горьким древесным соком, будто он был женщиной на сносях. Впрочем, диета, как и упражнения, пошли ему впрок: он вытянулся, почти догнав отца, и в самых неожиданных местах начали наливаться мышцы. – Ууу-ааа-оооу-иии-ааа-оооу… – монотонно тянул Чочинга, а над плечом его раскачивалась изумрудная змеиная голова. Наставник и его змей бдительно следили за Диком в четыре глаза, но последний месяц поправлять его уже не приходилось. Он висел как полагается – полностью расслабившись, и только рука со стиснутым в ней топором была напряжена в привычном усилии. Наставник говорил, что висящий должен уподобиться мешку с мягкой шерстью, в которую воткнули копье: мешок отдыхает, копье настороже, мешок спит, копье бодрствует. В том-то и заключался весь фокус! Сила, конечно, важна, но в бою побеждают стремительность и точность удара. А если противники равны умением и быстротой, то выиграет опять-таки не сила, а искусство сберечь ее, не растратив попусту, и вложить в решающий удар. Тут все едино – бьешься ли ты с оружием или врукопашную, со щитом или без него, с ножом длиною в ладонь иди с тяжелой секирой. Главное – научись отдыхать! Стой, жди, падай, двигайся, уклоняйся, и пусть тело твое будет расслабленным, словно мешок, набитый мягкой шерстью; но в то мгновение, когда наносится удар, мышцы твои пусть станут тетивой, мечущей стрелу. Однако не все мышцы: если бьешь легким клинком, напрягай кисть, если колешь копьем – кисть и предплечье, если рубишь секирой – руку и мускулы спины… Только одну руку, остальные пусть отдыхают… Вздохнув, Дик переложил ичегару из правой руки в левую. Других запасных конечностей у него не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть. – Ууу-ааа-оооу-иии-ааа-оооу… – пел Наставник, и, повинуясь тягучей мелодии, Каа склонял голову то влево, то вправо, уставившись на Дика темными колючими зрачками. Пару минут Дик представлял себя спелой сочной грушей из садика тетушки Флори, такой же мягкой, как мешок с шерстью; затем начал вспоминать один забавный древний фильм, сохранившийся с Эпохи Исхода или с еще более ранних времен. Речь там шла о благородных рыцарях-джедаях, спасавших Галактику от чудищ и всяких плохишей, а самый главный воитель проходил курс боевых наук у таинственного Наставника с неведомой планеты. Тот Наставник был крохотным существом и на вид совсем не походил на Чочингу, но методы их представлялись Дику почти адекватными. Чем тяжелей, тем лучше! А потому носись по острым кольям босиком, бегай по раскаленным углям, постигай таинства цехара, сражайся с питоном, пока семь потов не сойдет, гнись дугой в песчаной яме, держи булыжник меж колен, виси, как спелая груша… Не собирается ли Чочинга сделать из него джедая? Прервав заунывный мотив, Наставник хлопнул ладонью о колено, чтоб привлечь внимание Дика. – Пока уши твои на месте, Две Руки, внимай и запоминай – и ты, быть может, сохранишь их целыми. – С этой традиционной формулы начинались все поучения Чочинги. – Вот путь Смятого Листа, скрывающий силу твою и умения: должен ты сделаться жалким и тощим, как полумертвый червяк, копошащийся в гнилых листьях. Ноги твои должны быть согнуты, спина – сгорблена, руки – свисать до колен, голова – опущена, взгляд уперт в землю… И хорошо, если пальцы твои будут дрожать, глаза – слезиться, а с нижней губы потечет слюна. Запомни, ты – смятый растоптанный лист среди зеленых и сочных; ты слышишь Ритуальные Оскорбления, но не подвластен гневу; ты видишь жест угрозы, но не отвечаешь на него… – Тут Чочинга задумчиво приставил палец к носу. – Нет, можешь ответить! Можешь обмочиться, и пусть слюны потечет еще больше, а пальцы будут дрожать еще сильней! Ты понял? Ты должен выглядеть таким жалким, будто на твоем Шнуре Доблести нанизаны одни крысиные клыки! – Зачем? – пробормотал Дик, стараясь держать ичегару параллельно земле. Пинь– ча, таращивший на него темные глазки-бусинки, сочувственно пискнул. – Затем, что воин без хитрости как стрела без перьев – может, улетит далеко, а цели не найдет. У хитрости же много дорог… Есть путь Теней Ветра: никто не должен разглядеть тебя, а ты видишь всех, ты прячешься среди скал и деревьев, трава не шуршит под твоими ногами, тело не испускает запахов, кожа покрыта лиственным соком и обсыпана землей… Есть путь Звенящих Вод, когда кости твои становятся жидкими, и ты не падаешь, а проливаешься дождем, не бежишь, не прыгаешь, а течешь и струишься подобно ручью… А кто может изловить ручей? Кто может нанести ему рану? – Чочинга сделал многозначительную паузу. – Есть путь Горького Камня и Холодных Капель, путь Серого Облака и Извилистого Оврага, путь Горной Лавины и Шепчущей Стрелы… Сколько кланов, столько хитрых путей! И путь Смятого Листа говорит: стань жалким червем, не показывай своей силы, ибо разгадавший ее враг уже наполовину выиграл сражение. Тебе понятно, сын Саймона? – Понятно, – отозвался Дик, переложив топор из руки в руку. Если он ухитрялся довисеть до самого конца, не выронив секиры, то разрешалось перерезать веревку лезвием, в противном случае он должен был развязывать узел, изогнувшись как тот самый червяк, про которого толковал Чочинга. Не слишком приятное занятие! Но за последний месяц он уронил топор только однажды, когда Учитель выплеснул ему на спину кувшин ледяной воды. – Ууу-ааа-оооу-иии-ааа-оооу… – тянул Чочинга, и звуки эти отдавались у Дика в голове, заставляя вспомнить и осмыслить сказанное поучение. Он повторил его трижды, переведя на русский и английский, размышляя над хитростями тайятских кланов и думая о времени, когда Чоч, сын Чочинги, придет за ним, чтоб отвести в лес, в лагерь Теней Ветра. Не так уж долго ждать – месяцев девять или десять! А пока он постранствует с отцом… может, в Левобережье, а может, они поднимутся на восточное плато, где тоже есть женские поселки… Или пойдут на север, осмотрят копи в ущелье Бинитар и кузницы при них… Обязательно пойдут, если отпустит Учитель… Пока что отец, отправляясь в свои лесные экспедиции, Дика с собой не брал, но в окрестностях Чимары, на мирных землях, они ходили вдвоем, пробираясь горными тропами от одного женского поселения к другому. Филип Саймбн относился к числу немногих специалистов-землян, допущенных на склоны Тисуйю, и работы у него всегда хватало. Последние три-четыре года он посвятил демографии: пробирался к самым дальним поселкам, подсчитывал, сколько в них женщин в репродуктивном возрасте, сколько мужчин занимаются ремеслом и живут с семьями, а сколько спустились в лес, дабы украситься Шнурами Доблести. Особенно он любопытствовал насчет местностей, где рождаемость была выше, чем в других поселках; он утверждал, что там, где рождается больше мальчиков, больше мужчин предпочитают связать судьбу с каким-нибудь из боевых кланов, а это означало, что лишь единицы из них доживут до сорокалетия. Видимо, в тайят-ском обществе действовал некий социальный инстинкт, регулирующий численность популяции, но механизм его был совершенно не изучен – как и причины пробуждения в тайят особой воинственности. Во время одного из этих походов, когда Дик прожил в Чи-маре месяцев шесть или семь, отец привел его к ущелью за южными водопадами. Там гигантская трещина рассекала склон Тисуйю, гранитные стены круто обрывались вниз, а на дне, среди травы и колючих алых кустов, громоздились рваные каменные обломки, одни – величиною с глайдер, а другие – не больше футбольного мяча. Каньон расширялся к западу, напоминая формой наконечник тайятского копья цухи-до, и у самого его устья хаос каменных глыб исчезал, будто остановленный деревьями – не очень высокими, но толстыми, с мощными корявыми стволами и густой листвой. Слева от них серебрился водоем, и озерный берег, как показалось Дику, был расчищен от камней, сложенных поодаль изогнутым, заросшим колючкой валом. Отец остановился на краю обрыва и долго глядел вниз. Дик ждал, посматривая на него в недоумении, – брови Саймона-старшего сдвинулись, на лбу и у самых губ пролегли глубокие складки, и чудилось, будто он постарел разом лет на двадцать. Смятый Лист, сказал бы Дик теперь, но тогда боевые хитрости аборигенов были ему неведомы, и он просто подумал, что отец чем-то огорчен. – Там, в ущелье, заброшенный лагерь Быстроногих… Был когда-то такой клан, вырезанный Холодными Каплями… Мы с твоей мамой спускались туда. – Филип Саймон помолчал, наматывая на палец прядь светлых волос. – Спускались, осматривали Поляну Поединков на берегу озера, загон для скакунов, кузницы, колодцы, развалины хижин… Там очень много змей, – добавил он с запинкой. – Каких змей, дад? Вроде танцующего питона Чочинги? – Нет, сынок. Совсем крохотные змейки, длиной в ладонь. Очень странные, не боятся ультразвука, о чем мы не подозревали… – Заметив, что Дик не понимает, отец объяснил: – Животные Тайяхата и многих других миров обычно не выносят высокочастотных звуковых колебаний – вроде тех, что излучаются нашими “вопилками”, – он коснулся плоской коробочки на поясе. – Это звуковой эмиттер, и такие же, только более мощные, стоят на башенках Периметра вокруг Смоленска и пригородных ферм. Человек этих звуков не слышит, а звери пугаются… Но не все, сынок, не все… Те змейки не боялись… и были они очень ядовитыми… и очень быстрыми… Такими быстрыми, что я не успел… Отец смолк, обнял Дика за плечи и прижал к себе с такой силой, будто боялся, что сын сейчас спрыгнет в змеиное ущелье. Они простояли так с четверть часа, не разговаривая и лишь рассматривая обрывистые склоны, поросшие кустарником в мелких белых цветах, и кипенье зелени внизу, скрывавшей разгромленный стан Быстроногих. Потом отец отпустил Дика и глухо пробормотал: – Ты запомни это место… И еще запомни: не тот враг страшен, что прет в лоб, а тот, что прячется за углом. – Ты сказал поучение, дад? Как Чочинга? – Дик отвернулся, размазывая слезы по щекам. – Поучение? Может быть… Если б я мог дать тебе столько поучений, сын, чтоб хватило на всю твою жизнь! Но поучать отец не любил, поучения были прерогативой Чочинги, и он изрекал их в таких количествах, будто в самом деле собирался снабдить ими Дика на всю последующую жизнь. Как нанести оскорбление и как ответить на него, когда горевать и когда веселиться, как оказать другу почет и как устрашить врага, как поминать предков, как найти пищу в горах и в лесных дебрях, как раствориться среди трав, зарослей и камней, стать невидимым и неслышимым, песчинкой меж гор песка, листком в древесной кроне… Как говорить с животными, предлагая им мир или бой, как отвести угрозу и успокоить хищника, когда напасть, когда схитрить, где удариться в бега, а где – стоять насмерть… Разумеется, все поучения подкреплялись практикой, и если Чочинга толковал о ножах, не приходилось сомневаться, что их надо будет метать и жонглировать ими в воздухе, представив, что рук у тебя не две, а четыре или даже шесть. Равным образом не делалось скидок и снисхождений, когда речь шла о копьях, дротиках и бумерангах, о мечах и топорах, о луках и арбалетах, и о Большом Сагатори, классическом поединке в четыре раунда – с двумя клинками и двумя щитами, с двумя щитами, клинком и копьем, с четырьмя клинками, с двумя клинками и двумя секирами. Иногда Дик испытывал тягостное недоумение, пытаясь представить, где и когда пригодятся ему эти искусства. Приятно, если твой дротик летит в цель, а гибкий изогнутый клинок-мотуни поет в руке и рассекает падающий лист на шестнадцать частей… Приятно! Годится, чтоб поражать девушек и сделать карьеру в цирке! Но вот Ритуал Оскорблений и Угроз… Предположим, станет он не циркачом, а ксенологом, как отец, и объявится у него начальник – вроде толстого лысого Джеффри Айвора, шефа орлеанской базы… И однажды Шеф призовет его на ковер, начнет возить носом, показывать пятый угол и стряхивать пыль с ушей – но вполне корректно, вполне цивилизованно, как водится меж ученых людей… И что он сделает? Что скажет? Чтоб ты лишился всех пальцев, лысая жаба! Чтоб сдох ты в кровавый закат! Чтоб твою печень сожрал шестилапый кайман! Чтоб… Дик ухмыльнулся, представив лицо Джеффри Айвора, милейшего джентльмена и обладателя трех докторских дипломов. Ухмылка его была так широка, что он чуть не выронил секиру. В следующее мгновение он вдруг осознал, что песня Наставника смолкла, зато пинь-ча верещит и мечется по ветке с такой скоростью, будто хочет догнать свою тень. Затем Дик услышал знакомый стрекот “пчелки”, а вскоре и разглядел ее в разрывах листвы – лазурный силуэт под призрачным зонтиком винтов, зависший в бирюзовых небесах. Машина плавно пошла к земле, гул сделался громче, напоминая боевое урчание Каа, над поляной пролетел стремительный теплый ураган, взвихрились сухие травинки, а пинь-ча, ужаснувшись, прыгнул вниз и в поисках спасения вцепился Дику в волосы. – Дад! – завопил Дик, выпуская нагретое солнцем древко секиры. Филипп Саймон спрыгнул в траву”задрал голову вверх, нашел взглядом сына и поинтересовался: – Давно висишь, парень? – С рассвета. – Осторожно пошарив рукой, Дик выдрал пинь-ча из волос и перебросил на крышу веранды, к флагштоку с голубым вымпелом ООН. Зверек, не любивший вертолетов, царапался и панически верещал. – С самого рассвета, – повторил Дик, глядя, как встает Учитель, делая жесты приветствия и почтения, как изумрудный змей свивает кольца у его колен, как, медленно опускаясь, плывут в воздухе бурые ниточки травы. Кивнув, отец повернулся к Чочинге: согласно обычаю, пришедший из леса, равно как и спустившийся с небес, считается гостем и первым слушает песнь хозяина, даже если прибыл он в свой собственный дом, в свою семью и к своим женам. Это являлось мудрой традицией тайят – делать праздник из каждой встречи; ведь никто не мог сказать, удастся ли свидеться вновь. Чочинга запел, и Дик, вспоминая ту первую песню, что звучала здесь годы и годы назад, улыбнулся, подумав: бежит время… Тогда он был глух и нем и видел не Учителя Чочингу, а сказочного исполина или демона, владыку змей… И такими же загадочно-непонятными были Чия и Чиззи, Цор и Цоха-ни, пинь-ча и ало-золотистая птица-певун, что сидела у Цора на плече… Но время все расставило по своим местам: Учитель был теперь Учителем, Чия – задушевным другом, Цор – соперником. Может, врагом. Но что гораздо важнее, теперь Дик понимал каждое слово в песне Чочинги, и все эти слова обрели для него вес и смысл, значение и цель. Он мог бы сам продолжить песню с любой строфы, как если бы вдруг обратился в пожилого воина-тай, Наставника клана Теней Ветра. Он больше не был чужаком. Учитель пел: Я – Чочинга, носивший дневное имя Быстрей Копья, Я – Чочинга, чье имя вечера Крепкорукий, Я – Чочинга, чьи отцы Чах Опавший Лист и Чеуд Потерявший Сына, Я – Чочинга, чьи матери Хара Гибкий Стан и Хо Танцующая В Травах, Я – Чочинга из клана Теней Ветра, Наставник воинов, Я – Чочинга Несчастный; брат мой Чу пал от ножа Звенящих Вод, Я – Чочинга Счастливый; брат мой Саймон стоит на пороге. Конечно, если б эта песня предназначалась воину чужого клана, Чочинга не стал бы поминать свои несчастья и радости, но пустился в перечисление побед, убитых врагов, отрубленных пальцев и отрезанных ушей, украшавших его Шнур Доблести. А под занавес он непременно спел бы о том, что его уши и пальцы целы и что за сорок лет сражений и поединков он не потерял ни ногтя, ни волоска. Но такую Песню Вызова поют перед боем, дабы устрашить врагов, а сейчас Чочинга встречал друга. Он закончил приветствие, отец ответил глубоким сочным баритоном, а после они уселись меж обрамлявших вход в пещеру резных деревянных колонн и начали делиться новостями. Дик висел вниз головой, посматривая то на валявшуюся в траве секиру, то на застывший посреди поляны вертолет, то на веранду с креслами и столом, где серебрился плоский квадрат его учебного компьютера. Отец прилетел, и все вдруг переменилось: хижина больше не выглядела темной и пустой, сухая ветвь на самом солнцепеке уже не была мрачным напоминанием о завтрашних муках, а яйца с кобыльим молоком казались вполне приемлемой пищей. Да что там яйца! В эти мгновения Дик готов был простить даже глупого пинь-ча, по чьей вине уронил секиру. Отец больше слушал, чем говорил, ибо новости с Правобережья Чочингу не слишком интересовали. Наставник же пустился в долгие перечисления, кто из воинов и какого клана посетил Чимару, у кого прибавилось украшений в Шнуре Доблести, а у кого убавилось пальцев либо ушей и кто, по достоверным слухам, отправился в Погребальные Пещеры. Огласив весь перечень, Чочинга сообщил, что ученик его здоров и бодр, ест за троих, спит как медведь в сухой сезон, и хотя клинки его еще не окрасились кровью, но этот торжественный день не за горами. Нет, не за горами! Ибо в учебных схватках – разумеется, с оружием, но без ритуала членовредительства – Две Руки одолел Хенни умма Хадаши, Сохо умма Сотанис и Цигу умма Цат. С Хенни он бился секирой и длинным клинком, с Сохо – двумя клинками, а Цигу поверг ударами копья и щита, наставив ему синяков от печени до загривка. Славный был поединок! Из тех, что греют сердца Наставников и отцов! Рассказывая об этом, Чочинга повысил голос, ибо хвалить и ругать ученика считалось в равной мере делом полезным. Хвалы, как и ругань, побуждают усердие; усердие – источник ошибок и достижений, а те, в свою очередь, служат поводом для порицаний и похвал. Так замыкался кольцом педагогический метод Чочинги, исполненный глубокой мудрости, – ведь во все эпохи и во всех мирах кнут и пряник весьма способствовали ученью. Что Дик и познал на собственном опыте. Когда взрослые наговорились, отец покосился на него и будто бы невзначай произнес: – Ну, вот я и вернулся, крепкорукий брат мой… Может, по такому случаю снимешь моего сына с ветки? – Не знаю, не знаю… – Чочинга, прищурившись, взглянул на солнце и покачал головой. – Время вроде бы вышло, однако топор он уронил. Неуклюжий парень! И слишком нетерпеливый. Удивляюсь, как он справился с Хенни, Сохо и Цигой! Это было совсем нелегко, отметил Дик, напрягая по очереди мышцы плеч, груди, живота и бедер. Подобный массаж тоже являлся одним из умений, коими ему полагалось владеть. Раньше, повисев минут двадцать, он чувствовал, как кровь приливает к затылку, но теперь научился справляться с этим ощущением. Сердце его стучало ровно, дыхание не сбивалось, и без тяжелой ичегары он мог бы висеть на дереве шой с рассвета до заката. Но Чочинга больше не собирался испытывать его терпение – ладонь Наставника поднялась и с гулким шлепком рухнула на колено. По этому знаку Дик сложился в поясе, вытянул руки, подтянулся и, оседлав ветвь, вступил в поединок с хитроумными узлами. Ему понадобилось целых три минуты, чтоб выиграть эту схватку; затем он спрыгнул вниз и с торжествующим воплем бросился к отцу.Случалось, время играло с Диком Саймоном в странные игры. Иногда оно шло с удивительной медлительностью, плелось неспешно и нехотя, и день казался длинным, точно изумрудное туловище питона Каа, а всякое дело – будь то еда или сон, тренировки или поединки, занятия с компьютером или прогулка с Чией – представлялось будто бы погружением в вечность. Иногда время ускоряло ход и даже неслось галопом, так что те же самые события, уроки и трапезы, поход за водопады или танец на раскаленных углях и головоломные прыжки в песчаной яме делались соразмерными с тем внутренним отсчетом часов, минут и секунд, который Дик инстинктивно вел про себя. Но бывало так, что время словно проваливалось куда-то, уподобляясь водным потокам, грохочущим на окраинах Чимары. Вот струя ударила о верхний уступ; миг – и она уже на нижнем, но в это неуловимое мгновение вместился целый месяц или целый год… И лишь взирая на два уступа, меж коих был совершен стремительный прыжок, сообразишь: вот – прошлое, вот утро, когда возвратился отец, а вот – настоящее, вот нынешний день, не отмеченный ничем значительным и серьезным. Но куда же девалось все остальное? Все, чему полагалось быть между “сегодня” и “вчера”? Или, если обратиться к событиям глобальным, между текущей эпохой и Эпохой Исхода? Дик размышлял над этими загадками с компьютером на коленях, просматривая лекцию по сравнительной истории медиевальных времен и современной эпохи. Перед ним на плоском экране сменялись карты, схемы и чертежи, сопровождаемые текстом; иногда “Демокрит” снисходил до устных объяснений, и его негромкий бас звучал внушительно и уверенно, как и положено голосу педагога, знающего все обо всем – или хотя бы многое о многом. Дик устроился на веранде, прямо на полу, наслаждаясь вечерней прохладой, а рядом с ним сидела Чия, склонившаяся над кучкой прутьев и сухой травы. Пальцы ее порхали розовыми мотыльками, что-то перевязывали, сплетали, закрепляли, но окончательный замысел оставался пока неясным – то ли кувшин, то ли высокая корзинка с ручкой, приделанной сбоку. Монитор на коленях Дика мигнул, затем басистый голос “Демокрита” принялся комментировать очередную схему. На ней была представлена многоцветная карта Земли с обозначением стран и Спорных Территорий – последние были закрашены в полоску, обычно в два, но кое-где в три и даже в четыре оттенка. Судя по тому, что треть материков пестрела полосками, спорить на Старой Земле любили и делали это с размахом, так что конфликт охватывал целые государства и длился веками. Взять, к примеру, Соединенные Штаты: вся страна была Спорной Территорией между неграми и белыми, а кое-где в их противоборство вмешивались индейцы и лати-нос. В восточном полушарии картина выглядела еще печальней, и Дик, обозрев ее, в немом изумлении уставился на полуостров Крым, отмеченный полосками четырех цветов. Ткнув в него пальцем, он запросил пояснений, и “Демокрит” начал негромко перечислять те основания, какие имелись у греков, татар, украинцев и русских, чтоб считать эту землю своей, и только своей; а значит, все прочее население – захватчиками, агрессорами и узурпаторами. Нескончаемое перечисление дат, войн и договоров вскоре наскучило Дику, и он нажатием клавиши вернул урок в нормальное русло. Теперь карта окрасилась в цвета Большой Десятки, а под ней зажглись названия и параметры планет, избранных для основного потока эмиграции. Все эти миры были землеподобными; гравитация колебалась в пределах трех-пяти процентов от стандартной, состав атмосфер, климат, энергетический баланс и соотношение воды и тверди тоже почти не отличались от земных. Что же касается названий, то и они большей частью были земными, привычными. Мир, где доминировала Россия, Россией и назывался, хотя имелось в нем еще с десяток стран – Монголия и Болгария, Индия и Армения, Балтия, Казахстан, Белоруссия и даже Эфиопия. ИСУ, индекс социальной устойчивости, для России не опускался ниже восьми единиц, и значит, весь этот зоопарк жил в добром согласии – в отличие, например, от Аллах Акбара, заселенного арабами, где Ирак до сих пор не мог поделить дары Всевышнего с Саудовской Аравией, Сирией, Палестиной и Ливаном. Китай, как и Россия, дал название целой планете и считался ее несомненным лидером; фактически тот же порядок был принят в Мусульманских Мирах Сельджукии и Уль-Ислама, где главенствовали Турция и Иран. Южмерика пребывала под мощным прессингом бразильцев и аргентинцев, миры Европы и Колумбии исповедовали демократические идеалы (не мешавшие, впрочем, сохранить все конституционные монархии), а в Черной Африке и Латмерике царил изрядный разброд, отражением коего являлись локальные беспорядки – правда, не столь сокрушительные, как на Земле, ибо в новых мирах места хватало всем. К тому же Конвенцией Разъединения запрещались внешние войны, и данный закон не являлся пустым звуком. На этот случай Совет Безопасности ООН располагал множеством средств, тайных и явных, вроде разведки с широкой агентурной сетью и дивизий Карательного Корпуса. Переварив эту информацию. Дик нажал кнопку “пауза” и скосил глаз на Чию. Случалось, она проявляла интерес к картинам, мелькавшим на экране “Демокрита”, когда было на что поглядеть. На странных животных с четырьмя лапами, на деревья с иголками вместо листьев, на невиданные цветы и плоды, на спортивные состязания, танцы и пляски, на авторалли и парусную регату… Но заводские корпуса, космолеты и роботы, схемы, карты и формулы не привлекали ее внимания – как и сам компьютер, казавшийся Чие вещью полезной, но лишенной красоты и, следовательно, столь же прозаической, как циновка или глиняный горшок. Иное дело – искусство цамни, древний ритуал плетения из прутьев, тростинок и травы! Пальцы Чии двигались в мерном ритме, оплетая сложный каркас золотистыми полосками тростника, кое-где чередовавшимися с алыми травяными стеблями. Конструкция была очень сложной, и теперь Дик видел, что это не кувшин: с одного бока вроде бы гладко – лишь внизу торчит непонятный отросток, а с другого свисают четыре отростка покороче, под ними – еще два, странно изогнутых и уплощенных, а наверху – что-то круглое, похожее на небольшой мяч размером в два кулака. Глядя на Чию, он решил, что человеку такого в жизнь не сотворить, просто рук не хватит. Хорошо подготовленный двурукий боец мог выстоять в схватке с мужчиной-тай, но не тягаться с их женщинами в искусстве плетения – тут любой сородич Дика выглядел бы инвалидом. Вздохнув, он вернулся к сравнительной истории и в следующие полчаса выяснил несколько любопытных фактов. К примеру, насчет ООН, Организации Обособленных Наций, чья власть в заселенных людьми мирах была весьма велика, хоть и не бесконечна. ООН регулировала политические конфликты, занималась поиском новых планет и обменом информацией, финансировала дорогостоящие исследования медиков, ксенологов и социологов, выступала арбитром в спорах, а временами и карала – торговыми санкциями либо вооруженной рукой, поскольку в составе ее имелись пять видов полиции. Карательный Корпус и части быстрого реагирования. Кроме того, была разведка,были группы по борьбе с террористами, Транспортная Служба ООН, персонал, охранявший станции Пандуса, и Служба Управления Протекторатами, Колониальными и Каторжными Мирами. Все это “Демокрит” изложил своим проникновенным басом, высвечивая на экране поясняющие схемы и чертежи; но первым делом было сказано, что в Эпоху Исхода, три с половиной столетия назад, аббревиатура “ООН” расшифровывалась иначе – Организация Объединенных Наций. Вероятно, решил Дик, в те времена люди не додумались еще до простой мысли, что истинное объединение возможно только после разделения, размежевания и разрешения всех взаимных претензий. А претензий, конфликтов, споров и драк на Старой Земле было столько, что даже Пандус прогнулся бы под их тяжестью. Еще он узнал, что в современном мире существуют три Ирландии – штат в США, независимое государство и целая планета, а также три Сицилии, две Басконии, пяток Сингапуров и две Колумбии. С Колумбиями пришлось разбираться, так как прежде он полагал, что есть лишь одна Колумбия – мир, куда отправились его американские родичи вместе с британцами, канадцами, японцами, израильтянами и дюжиной других народов и племен. В целях восстановления исторической справедливости эта планета была названа Колумбией, а не Америкой и считалась сейчас самым высокоразвитым миром среди членов Большой Десятки. Была, однако, и другая Колумбия – государство Старой Земли, перебравшееся вместе с Бразилией, Аргентиной, Чили и Перу в Южмерику. Значит, подумал Дик, Америго Веспуччи все-таки обошел Колумба: последний мог зачислить на свой счет одну страну и одну планету, а в честь пронырливого Америго были названы целых два мира, Южная и Латинская Америки. Правда, Латмерика не давала поводов для гордости – туда отправили страны с неустойчивыми режимами вроде Кубы, Гаити и Сальвадора, коих Бразилия с Аргентиной наотрез отказались включить в Южмериканскую Конфедерацию. Урок заканчивался, но Дику хотелось разобраться еще с одним вопросом – с тем, как обстоят дела на Старой Земле, покинутой его предками, но, несомненно, существующей где-то на окраине Галактики, в районе Сириуса или Центавра. Он вызвал перечень обитаемых планет, но среди них – поразительное обстоятельство! – Земли не оказалось. Тут были миры Большой Десятки, полномочные участники ООН, были шестнадцать Независимых Миров, входивших в ООН с правом совещательного голоса, были пять Протекторатов, тридцать четыре Колониальных Мира и почти пятьсот Миров Присутствия; перечислялись даже все восемь Каторжных Планет, начиная с Колымы и кончая Сицилией-3 и каким-то неведомым Дику Тидом. Земли, однако, не было; и на запрос по этому поводу разговорчивый “Демокрит” откликнулся таинственно и кратко: “ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ”. На колени Дика упала тень, экран засветился чуть ярче. Он поднял голову. Рядом стоял отец – высокий, светловолосый, в набедренной повязке нуа-то, расшитой силуэтами бегущих оленей и ливнем настигающих их стрел. Такие одеяния носили все в Чимаре, но женщинам больше нравился цветочный узор, изображение плодов или переплетающихся трав и листьев, как на повязке у Чии. Саймон-старший опустился на пол, скрестив длинные ноги. – Что-то ты припозднился сегодня. Есть не хочешь? – Сын отрицательно помотал головой. – Ну, а над чем размышляешь? – Да вот… – Дик в задумчивости оттопырил нижнюю губу, подергал ее пальцами – была у него такая привычка. – Удивляюсь, дад… Удивляюсь, как все случилось… – Все? Что – все? Брови Филипа Саймона приподнялись, и Дик поспешил пояснить: – Я говорю об Эпохе Разъединения, об Исходе и о том, что случилось после. Когда люди бросили Старую Землю, ушли с нее, забрав свои фабрики и города, машины и книги, животных и птиц и все, что было ценного в прежнем их доме… Адом остался неведомо где, покинутый, заброшенный и позабытый… Почему? – Тут нет никаких “почему”, – откликнулся отец. – С чего ты взял, что Земля забыта? – Ее нет в перечне. – Дик кивнул на экран, где, завершая список Каторжных Миров, светились две надписи, его запрос и ответ “Демокрита”: “ЗЕМЛЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ” – “ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ”. Отец негромко рассмеялся, и Чия, оторвавшись от своей работы, бросила на него вопросительный взгляд – видно, думала, что Дик отмочил какую-то шутку. – Прости, девочка, – Филип Саймон перешел на тайятский, – мы говорим по-своему, ибо нет у тай и тайя таких слов, чтоб рассказать о мире людей с Правобережья. Я имею в виду – рассказать о том, что спрашивает Две Руки. Чия поморщилась – как обычно, когда Дика звали дневным именем. Даже отец не должен был этого делать! И потому ответ ее прозвучал с непривычной резкостью. – Слова, которых нет у нас, просто не нужны! Мужчина-тай может оскорбить врага, может поведать о своей отваге и умениях, а женщина – о любви, и всякий тай и тайя споют песни Тринадцати Ритуалов. Чего же еще, Золотой Голос? Ты думаешь, где больше слов, больше ума? Вовсе нет! – Тут она посмотрела на Дика и после секундной паузы добавила: – А есть такие вещи, о которых не скажешь словами… и лучше о них не говорить. Пальцы Чии возобновили свою стремительную пляску, а Саймон-старший хмыкнул и спокойно произнес: – Я-то с этим готов согласиться, девочка, но большинство двуруких думают иначе. Им нужны особые слова – чтоб объяснить, как устроен мир, как действует этот ящик на коленях Дика, показывающий разные картины, как движется наша железная птица, которая умеет летать без крыльев. Эти слова нужны нам, как оружие воину, который отправился в лес за почетом и славой. Тот, кто их не знает, беззащитен в наших лесах, и хоть его не убьют, он не сыщет в них ни славы, ни почета. – Почет и славу добывают клинком, а не словами, – сказала Чия. – И словами тоже, малышка, – отец погладил ее плечико с продолговатой трогательной ложбинкой меж суставами правых рук и повернулся к Дику. – Что же тебя смущает, сын? О Земле и на Земле написано больше, чем во всех Разъединенных Мирах. Земля – наша давняя родина, мир, в котором жили наши предки. Ты можешь прочитать о ней все – о ее истории и географии, о растениях и животных, о населявших ее людях, их языках и обычаях… Дик упрямо мотнул головой. – Я хочу выяснить, что творится на Земле сейчас. А “Демокрит” играет со мной в молчанку! Брови Филипа Саймона приподнялись. С минуту он размышлял задумчиво посматривая на сына, потом произнес: – Так ты хочешь знать, отчего в твоем компьютере лишь исторические сведения о Земле и нет текущей информации? Ее к сожалению, нет ни у кого, сынок. Земля – Закрытый Мир. – Закрытый? – О таких мирах Дик не слышал и потому насторожился, будто охотничий гепард у крысиной норы. От этого слова – и от того, как произнес его отец, – попахивало некоей загадкой. Возможно, тайной! – Закрытый Мир?, – медленно повторил он, не спуская глаз с невозмутимого лица Саймона-старшего. – Кто же его закрыл, дад? И что это значит – Закрытый Мир? – Виновники мне не известны, – Филип Саймон пожал плечами. – Может быть, есть сведения в архивах ООН… или других ведомств… Не знаю! А Закрытым Миром, согласно принятой классификации, называют планету, где блокирован канал межзвездной связи. Блокирован трансгрессор, понимаешь? То есть канал был, а затем исчез, потому что… – … разрушены станции Пандуса? – предположил Дик, изумляясь все больше и больше. – Нет. Пусть станции разрушены, взорваны и стерты в порошок – это неважно. Неважно, так как устья Пандуса могут раскрыться вблизи тяготеющих масс величиной с астероид, не то что с планету! И никакие станции для этого не нужны. Во всяком случае, так утверждают специалисты, и я не вижу повода им не верить. Перед Исходом нигде не было никаких станций – нигде, кроме Земли; тем не менее удалось отыскать и исследовать сотни миров, выбрать из них наилучшие и перебазировать промышленные объекты и города. Эти исследования и поиски, как ты знаешь, идут до сих пор, и любой человек с планетарной лицензией в кармане может отправиться в девственный, но безопасный мир и вкушать там полное одиночество… А может переехать с семьей, со всеми родичами и друзьями, с компаньонами и родичами компаньонов… Дик кивнул. Такие планеты, еще не получившие колониального статуса, назывались Мирами Присутствия, и население их составляло от одного до нескольких тысяч человек. Там не было стационарных Пандусов, но и такие миры входили в систему Транспортной Службы и посещались ее эмиссарами раз в месяц или раз в год – как того требовала планетарная лицензия. И никаких проблем с каналами связи! Пандус работал всегда и везде, и длилось это уже три столетия, с Эпохи Исхода! – Ты хочешь сказать, – Дик поднял взгляд на отца, – что эта… эта блокировка – точно замок, повешенный кем-то на дверь? Дверь заперта, и нельзя войти? – Вполне уместная аналогия – дверь заперта и нельзя войти, – с расстановкой произнес Филип Саймон. – А как ты понимаешь, природа не вешает замков и не запирает дверей на засовы. Иное дело – люди! – Люди, которые там остались? Там? – повторил Дик, подчеркнув это слово, дабы не возникло сомнений, что речь идет о Земле. – Но почему? Для чего? И кому это нужно? – Почему, для чего… – Саймон-старший пожал плечами. – Не знаю! Не знаю, сынок, и думаю, что немногие смогли бы тебе ответить. Я не сотрудник Транспортной Службы и не эксперт ЦРУ, я изучаю аборигенов Тайяхата – их обычаи, ритуалы, их искусство, их взгляд на мир. И мне приятно это делать. Каждый должен заниматься тем, что доставляет ему радость, ты согласен? И если загадки Земли влекут тебя больше секретов тайят, попробуй раскрыть их… Не сейчас, конечно, – когда подрастешь и поумнеешь. – Я хотел бы сделаться ксеноэтнографом, как ты, и жить на Тайяхате, – сказал Дик, помолчав. – Как я!… Я – этнограф, и потому ты тоже хочешь стать этнографом… Мне кажется, не очень веская причина, а? Я был бы доволен, если б ты нашел иную дорогу, свою. – Филип Саймон покосился на Чию и, понизив голос, добавил: – А о тай и тайя ты знаешь больше моего, сынок. Ты пришел к ним в десять лет, а я – в тридцать, и пути у нас были разными. Мой – кровавым… Он помрачнел, и Дику стало ясно, что на сегодня разговор окончен. Не нравилось отцу вспоминать, какими тропами попал он в Чимару и скольких воинов-тай лишил жизни, чтоб приняли его как равного к равным. Вероятно, не утешала его мысль, что все свершенное можно счесть научным подвигом, что нет других дорог в тайятских лесах и что дружба Чочинги стоит всей пролитой крови. И, кажется, он полагал, что гибель матери Дика в том змеином ущелье была воздаянием – жертвой, которую взял с него Тайяхат, или карой за излишние настырность и любопытство. Так ли, иначе, но он не рассказывал сыну, где повстречался с Чочингой и чем заслужил его уважение – вместе с правом поселиться в Чимаре. По-видимому, это была непростая история, но теперь Саймон-старший не держал в своем доме ни клинков, ни секир, и его Шнура Доблести Дик не видел ни разу. Чия закончила свой труд и подняла в ладонях фигурку сидящего гепарда с вытянутым хвостом и растопыренными передними лапами. Это был, несомненно, Ши – грозный маленький охотник, сплетенный из травы и тростника, с алой маской вокруг глаз, оранжевым брюшком и желтой спинкой. Полюбовавшись своим художеством – и дав время насладиться обоим Саймонам, – Чия поставила фигурку на пол. – Небесный Свет гаснет… Мы проводим его? Приглашение, разумеется, касалось Дика, и он тотчас вскочил на ноги. – Проводим! Если Чиззи не увяжется за нами. Загадочная улыбка скользнула по губам девушки. – Сотанис показывает ей свои шлифованные камни, а Сохо прыгает вокруг – совсем как те звери, которых он научил ходить на задних лапах. Я думаю, моя икки очень занята. – Отлично, – сказал Дик, подмигнув отцу. – Сотанис и Сохо – хорошие парни. Почти как я! Они убежали, а Филип Саймон глядел им вслед и думал, что сын его становится взрослым и желания у него уже взрослые – например, провожать солнце вместе с девушкой… С прелестной девушкой, хоть у нее четыре руки и геном весьма отличен от человеческого… А другая девушка любопытствует, может ли Дик осчастливить ее потомством… И приходится объяснять ей про птиц медоносных и певчих, что могут любиться друг с другом, но не вить гнезда и не высиживать птенцов… А что еще тут скажешь? Что неадекватность цитоплазматической наследственности ведет к невозможности зачатия? Ну, это все ненужные слова, как утверждает малышка Чия! В данном случае Саймон-старший не собирался спорить с ней, ибо есть вещи, о которых не скажешьсловами, – и лучше о них не говорить. Он усмехнулся и пробормотал: – Время мчится словно ловчий зверь, один плод зреет, Другой – стареет… Губы Чии были сладкими, как нектар медоносных птиц темные локоны рассыпались по груди и плечам, и Дик с юной жадностью целовал их-и эти локоны, и губы, и маленькие напряженные соски, и руки, обнимавшие его и в то же время гладившие по лицу, касавшиеся щек, затылка, шеи… Высокая трава колыхалась над ними, но шорох ее заглушали тихие стоны Чии и шум крови в висках. Кровь стучала лихорадочным набатом, будто Наставник Чочинга отбивал стремительный ритм прыжков в песчаной яме, грохоча клинком по обуху секиры. Однако Дик, уже изведавший таинства любви, понимал, что торопиться здесь нельзя, что девушка, приникшая к нему, – не соперник в поединке и что связывает их не страстное желание победить, а просто страсть. Он хотел, чтобы Чии было хорошо – так, будто качают ее Четыре ласковых потока, и Четыре звезды, спустившись к самым травам, гладят кожу своими теплыми лучами. Жаль, что у него так мало рук! Сам он мог гладить ее шелковистые бедра или тугие чаши грудей, обнять ускользающе-гибкий стан или… Впрочем, он уже понимал, что руки – не самое важное; когда происходит э т о, не думаешь, где твои руки и ноги и где голова – по-прежнему при тебе или уплыла куда-то в одном из потоков, а может, просто растаяла в нем? Растаяла так же, как он сам растворялся в упругой и нежной девичьей плоти, сливаясь с ней, чувствуя ее восхитительный трепет и зная, что он – желанный, единственный, любимый… Прежде такого не было. Он мог обнять Чию и подивиться гладкости ее плеч, мог прикоснуться к соскам, алевшим крохотными вишнями, мог взять ее на руки и пронести по скользким камням под сумрачной завесой водопада… Мог, мог! И может сейчас… Только почувствует не удивление, а трепетную нежность, и восторг, и что-то еще, чего не выскажешь словами – ни по-тайятски, ни по-русски, ни по-английски… Как все изменилось! Прежде они сидели здесь, в траве, глядели на яркие Искры Тисуйю и рассуждали о мирах, безлюдных или населенных, что вращаются в неизмеримой дали вокруг своих светил… Прежде!… Когда это было? Год, полгода назад? Как недавно! И как давно… Чия вскрикнула, застонала, выгнулась под ним дугой, прижимая голову Дика к груди. Он поцеловал ее – бережно, осторожно, чтоб не оставить синяков на нежной коже. Нравы тай и тайя были вольными, и никто их за это не поминал, но слишком отчетливый след ночных утех мог бы вызвать насмешки и расспросы. Конечно, у подружек, а не у взрослых – взрослые считали, что молодежи до брака полезно перебеситься. Но и тут был свой нюанс, о коем Дику приходилось не забывать. Всякий видимый знак любви на теле Чии мог обидеть Чиззи – ведь они, в конце концов, были близняшками, и полагалось им, согласно обычаю, все делить пополам. Даже его, неприкаянного ко-тохару! Для тайя это казалось вполне естественным, а Дик был полон сомнений. Странно! Ведь Чия и Чиззи были так схожи… И все-таки он различил бы их в самый темный ночной час, ибо одна будила желание, а другая… Словом, что касается другой, он больше полагался на Сохо и Сотаниса. Приподнявшись на коленях, Чия ловко обернула вокруг бедер расшитое листьями и травами полотнище. Глаза ее блеснули в серебристом свете поднимавшейся луны, и Дику почудилось, что они влажные – будто девушка плачет или с трудом сдерживает слезы. Он прижался щекой к ее колену, чувствуя, как тонкие пальцы Чии блуждают в волосах. – Жаль, – сказала она. – Жаль, что ты уйдешь, Ди. – В лес? – Нет. Уйдешь совсем. Уйдешь, и мы расстанемся… Навсегда! Он приподнялся, всматриваясь в ее лицо, смутно белевшее в полумраке. – Почему ты так решила? – Потому что всякая птица летит к своему гнезду… Нет, не говори ничего, помолчи! – Дик хотел возразить, но она прижала пальцы к его губам. – Помолчи и послушай, что я скажу. Любовь должна приносить плоды. Если их нет, из жизни уходит радость, а кому нужна жизнь без радости? Но я свою радость сохраню… тут и тут… – Одна ладошка Чии леглана грудь, другая коснулась век. – И ты сохрани! Не забывай меня и не жалей ни о чем. Что было, то было, а то, чего не может быть, не исполнится и не свершится. Это она о детях, подумал Дик. Конечно, у них не могло ыть детей – с той же нерушимой определенностью, с какой он не мог обзавестись братом или вырастить две новые руки. свои шестнадцать лет Дик, пожалуй, смирился бы с этой Дои, но ни один из тайских его ровесников подобного мнения не разделял. У них, как говорил отец, продолжение рода являлось социальным инстинктом таким же устойчивым, как миролюбие женщин и воинственность мужчин. Разумеется, Чия была права – он улетит в свое гнездовье, ей останутся воспоминания, и дети, и верная ее икки, и мужья… Или Сохо с Сотанисом, или Цор с Цохани, или Цига с Цатом… Это казалось несправедливым, но это было так, и не стоило об этом говорить. И все же он произнес слова, в которые сам не верил, хоть слышал их не раз – от тетушки Флори и богомольных ее приятельниц; слова древнего утешения, понятного людям, но неведомого в тайятских лесах и горах. Наверное, он сказал их для того, чтоб крепче запомнилась эта ночь – и сама ночь, принесенные ею радости. – Расставшиеся на земле соединятся на небесах, – шептал Дик. Чия улыбнулась, перебирая его волосы. – Что это значит, Ди? Как можно соединиться в небе воздуха и облаков, где пылают Искры Тисуйю? Там слишком холодно и неуютно! Он попытался растолковать ей о загробном мире, о добром божестве и райских кущах, что служат обителью для любящих сердец, о том, что после смерти они превратятся в бестелесных призраков, и будет совсем неважно, сколько у кого рук, ног или голов: главное, что они любят друг друга и не хотят расставаться. Но если судьба разлучила их на земле, они встретятся в небесных чертогах – и там жизнь их и любовь будут вечны. А чертоги эти – вовсе не то холодное небо без воздуха и облаков, что простирается меж звезд, а совсем иные Небеса, Рай, Парадиз, Эдем, прекрасный мир, населенный духами и другими загадочными, но добрыми существами. Никто не знает, где он находится, но туда нельзя долететь на космическом корабле или шагнуть через Пандус; туда попадают лишь одной дорогой – сквозь врата смерти, когда человек сбрасывает земные узы и свою телесную оболочку. Дик изложил все это на одном дыхании, слегка бессвязно, так как его познания в божественных предметах, несмотря на все труды тетушки Флори, оставляли желать лучшего. Чия его не поняла. Вернее, ей было ясно, что он пытается ее утешить, но мысль о загробном существовании никак не укладывалась в ее хорошенькой головке. Тайят являлись рационалистами и твердо знали, что за порогом Погребальных Пещер их ждут тлен, пустота и вечное забвение. В отличие от людей Земли, они не строили иллюзий и не предавались несбыточным мечтам и ценили вещи реальные, ясные и зримые – жизнь, победу, любовь. Их Рай, их божественный Парадиз находился тут, на мирных зеленых склонах Тисуйю. И Чия была готова это доказать – не словами, которым она не слишком доверяла, а совсем иначе. Гораздо убедительней думал Дик, целуя ее твердые маленькие груди. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Чоч, великий воин клана Теней Ветра, пришел из лесов к отцу своему Чочинге Крепкорукому. После того, как были спеты Приветственные Песни и Чоч рассказал о славных своих победах над воинами Извилистого Оврага и Гремящей Расселины, о резне, учиненной среди Звенящих Вод, с коими Тени Ветра враждовали уже шесть поколений, о том, сколько бойцов прибавилось в его лагере, какими искусствами они владеют и от каких Наставников пришли, – после всего этого их беседа повернула в иное русло. Оба тай, старый и молодой, сидели на циновках в пещере с высоким сводом; на стенах ее тускло поблескивали клинки и боевые топоры, мерцали острия пик и дротиков, неясными тенями маячили щиты, луки со спущенной тетивой, связки стрел и метательных ножей. В углу, прислоненный к стойке для тяжелых секир томо и копий цухи-до, находился самый большой из щитов – овальный, в рост человека, с тремя стальными остроконечными рогами. На этих рогах висел Шнур Доблести хозяина – внушительное ожерелье, где косточки фаланг и диски, выпиленные из черепов и ребер, соседствовали со звериными клыками. Шнур был длинным, и если б Чочинга набросил его на шею, он спустился бы до самых колен. У Чоча еще не было такого огромного почетного ожерелья, но все шло к тому, что он не отстанет от отца. – Скоро молодой ко-тохара, получивший имя Две Руки, спустится в лес, – промолвил Чочинга, поглаживая змеиную голову, что мерно раскачивалась у его груди. Питон считался полноправным членом их семейного совета – ведь он был тарще всех в роду Чочинги, и воины трех поколений танце-али с ним, оттачивая свое боевое мастерство. Век его был лог как струи водопада, что сбегали с горных вершин к есному озеру. Скоро Дик Две Руки спустится в лес, – повторил Чочинга. – Ты, Чоч, будешь его Наставником. Ты будешь следить за ним и учить его, пока он не возьмет первую кровь. Чоч согласно склонил голову. Присматривать за учениками Чочинги было одним удовольствием – с ними мог потягаться не всякий зрелый воин, и они быстро брали первую кровь и первую жизнь. Правда, у этого Дика, сына Саймона с Правобережья, было лишь две руки, но Чоч полагал, что он себя в обиду не даст. – Я обучил его всему, – произнес Чочинга. – Он может биться мечом и копьем, рубить секирой, метать ножи и стрелы и погружаться в транс цехара, он может провисеть на дереве, пока Небесный Свет, поднявшись над горами, не спустится в лесную чащу, он знает все Тринадцать Ритуалов и пути всех кланов – Смятого Листа и Звенящих Вод, Четырех Звезд и Холодных Капель, Горького Камня и Быстроногих. И он, конечно, знает наш путь – путь Теней Ветра. Я поучал его: стань словно эхо тишины, стань мраком во мраке, стань травой среди трав, птицей среди птиц, змеей среди змей. И он стал таким. Хорошо! Я доволен. – Хорошо, – откликнулся Чоч и огладил свое ожерелье. Диски из черепов Звенящих Вод были совсем еще свежими – как и фаланги пальцев, добытых в схватках с кланами Расщелины и Оврага. – Если ты не ошибся, отец, – а я не помню, чтоб ты ошибался хоть однажды, – этот ко-тохара станет великим воином, из тех, кому светят Четыре звезды и кто умирает на рассвете. – Станет, – подтвердил Чочинга, лаская шею своего питона, – станет. Но не в наших лесах! На лице Чоча отразилось недоумение. – Думаешь, он… – Он уйдет. Он не останется с нами, как брат мой Саймо, убивший воинов Звенящих Вод – тех, что убили Чу, моего умма и твоего отца. Но он – наш! Он – тай, хоть прожил в Чимаре втрое меньше Саймона. А Саймон так и не сроднился с нами. Чочинга смолк, задумчиво кивая в такт каким-то своим мыслям. Чоч, подождав приличное время, решился нарушить тишину. – Прежде ты не говорил мне этого, отец. – Прежде ты был слишком молод, сын. Но близится время, когда я, сделав каждому родичу Прощальный Дар, уйду в Погребальные Пещеры, а ты поселишься здесь и будешь новым Наставником. Наставник же должен понимать людей и знать, как из помыслов и побуждений рождаются поступки. Вот брат мой Саймон Золотой Голос,… Что сказать о нем – сильный человек, забравший жизнь у многих, – не сохранят его Четыре камня и Четыре звезды! Но пришел он к нам в зрелых годах, а потому остался человеком с Правобережья остался им, и будет им, и умрет им! Он понял, зачем мы спускаемся в лес и убиваем, – понял, но не принял этого. И потому, свершив положенное, остался в Чимаре и спрятал свой Шнур Доблести под циновкой. – А Две Руки, его сын? – спросил Чоч, внимавший родительской мудрости с должным усердием и почтением. – Вот ученик мой Две Руки… – неторопливо молвил Чочинга. – Что же сказать о нем? Он не взял еще крови и жизни ни у кого, кроме хищного зверя… Но он пришел к нам юным, как бутон цветка, и распустился тот цветок в моих ладонях. И хоть он уйдет от нас, он – тай! Он тай, и будет им, и умрет им! Ибо понятно ему многое, о чем не ведает брат мой Саймон, его отец. – Что же? – спросил Чоч, морща лоб в раздумье. Чочинга усмехнулся. – Например, прелесть наших девушек… А теперь он должен познать мужскую силу, изведать вкус победы и стать воином. Просто воином, сын мой, – великим он будет в ином месте, коль доживет до твоих лет и сохранит свои уши и пальцы. – Чочинга сделал паузу и покосился на Шнур Доблести, висевший на овальном щите. – Ты, Чоч, мой сын, и ты был лучшим из моих учеников. Ты знаешь, что воин должен биться мечом и копьем, рубить секирой, метать ножи и стрелы и погружаться в транс цехара, должен висеть на дереве, пока Небесный Свет, поднявшись над горами, не спустится в лесную чащу, должен ведать все Тринадцать Ритуалов и пути всех кланов… Но ты знаешь, что это – не главное. А что – главное? Что? Ответь, сын мой. – Воин должен убивать! Чоч стукнул кулаком о колено, и, будто в подтверждение этих слов, раздался негромкий свист изумрудного питона. – Я хорошо учил тебя, – с довольной улыбкой произнес Чочинга. – Воин не боится крови, воин умеет убивать! Каждый тай из молодых, идущих в лес, вскоре узнает об этом. И я говорю: пусть Две Руки научится убивать, пусть кровь не высохнет на его клинках и пусть его Шнур Доблести свисает до колен! Снова наступило молчание, и длилось оно столько мгновений, сколько нужно бойцу, чтоб метнуть в цель четырежды четыре ножа. Затем Чоч произнес: – Ты очень заботишься об этом ко-тохаре… Почему отец мой? Наклонившись, Чочинга положил верхнюю пару рук на мощные плечи сына. – Пока уши твои на месте, внимай и запоминай – ибо наступит время, и ты возвратишься из леса к женам своим и умма Чулуту, повесишь свое ожерелье на щит, прислонишь к стене копье и сядешь здесь, на циновке Наставника. А Наставник, как я говорил, должен понимать людей, и первым из них – себя самого. Подумай же, сын мой, что ищем мы, к чему стремимся, путешествуя из тьмы во тьму, из материнского лона в Пещеры Погребений? Все просто, так просто! Для женщин дороги любовь и дети, для мужчин – почет и слава. Где ищет их молодой воин? В лесу, и слава его – убитые враги и враги побежденные, коим даровал он жизнь, отрезав палец или ухо. Но когда воин стар и мудр, когда потерял он счет убитым врагам, когда ожерелье его волочится по земле, в чем его слава? В чем гордость его и почет? В учениках, сын мой, в его учениках! Придет день, и Две Руки вернется в Правобережье – а может, ему суждено пройти другой тропой, из тех, что ведут к Искрам Небесного Света… Кто предскажет сейчас его судьбу? Он вернется в свой мир и будет жить со своими людьми, но будет меж них тенью ветра, разящим клинком – самой высокой травой среди трав, самой быстрой змеей среди змей, Самой могучей птицей среди птиц. И удивятся люди, и спросят: почему ты таков? И он ответит: потому, что старый тай Чочинга был моим Наставником… Есть ли большая слава для меня? И больший почет? Он смолк. Чоч, крепко стиснув широкие отцовские запястья, всмотрелся в лицо Чочинги, свел на переносье густые брови и произнес: – Пусть копье твое летит до Небесного Света! Ты все сказал, отец мой? Все, что должен я знать о тебе, о себе и о юном воине Две Руки? Чочинга усмехнулся и прикрыл глаза. – Нет, конечно же, нет! Я не сказал самого главного – что люблю его. Как тебя, Чоч, как твоего умма Чулута, как твоих сестер и ваших детей.
Глава 4
Лику Саймону снились сны. Последний, предутренний, был особенно ярким, хотя и беззвучным – будто знакомый видеофильм, который смотришь в десятый или в сотый раз, пывернув рукоятку громкости на ноль и заранее предугадывая все реплики актеров. Но реплик в том сне было немного. Он видел первый свой бой, видел поляну в лесу, широкую прогалину, спускавшуюся к медленным темным речным водам; берег реки порос корявым кустарником хиашо, а с других сторон вздымались над поляной огромные деревья чои, с бурыми могучими стволами, которые и трем воинам не обхватить. Еще выше, над деревьями, травами и рекой, нависало бирюзовое небо, и яркий диск Тисуйю застыл в нем круглым ослепительным зрачком, словно некий любопытный демон рассматривал все творившееся на поляне – там, где другие демоны лязгали сталью и оглашали воздух боевыми криками. Но воплей и звона клинков Дик не слышал. Он помнил, однако, что схватка свершилась в полуденный час и что Теней Ветра под водительством Чоча было ровно сорок, а Холодных Капель – почти вдвое больше, но воины Чоча мчались на скакунах, а враги их были пешими и скорее всего не ждали нападения. Еще он помнил, как перекатывались меж колен сильные мышцы его скакуна, как мчался навстречу пологий речной берег, заросший непроходимым хиашо, а перед зеленой стеной кустарника прыгали и потрясали оружием десятки фигур в пятнистых плащах, схваченных под грудью плетенными из стальных колец боевыми поясами. Он врезался в эту плотную рычащую и ревущую массу, ударил мечом и топором, кого-то сбил с ног, кого-то поднял на рога скакун, кто-то метнул в него дротик, целясь в лицо, и он прикрылся широким лезвием секиры. Воин с дротиками рухнул под ударом Чоча – Чоч, как помнилось Дику, мчался справа, а слева скакал Читари Одноухий, в полном снаряжении о кара, то есть с двумя длинными копьями и двумя изогнутыми клинками, расширявшимися на конце. Уха Читари лишился в молодые годы, но с тех пор в воинском искусстве преуспел, и былая потеря лишь прибавляла ему свирепости. Всадники прорубили широкую просеку в толпе, и Дик знал – знал сейчас, а не тогда, во время боя, – что этот первый натиск стоил его клану шестерых. Холодных Капель было перебито втрое больше, и они стали отступать: неопытные бросились к деревьям чои, где конный всегда нагонит пешего, поскольку чои не любят тесноты и глушат любой подлесок, а умудренные опытом нашли укрытие в кустарнике, куда ни один скакун не полезет, как его ни понукай. Часть отступивших заняла оборону, грозя раздвоенными лезвиями пик, а остальные принялись прорубать тропинку в зарослях хиашо, чтоб выбраться к реке. Это было не трусостью, а точным расчетом: в поле и в редколесье пеший против всадника не устоит, а в кустах на скакуне не проедешь – тут нужно спешиться и принять бой на равных, на узкой тропе, где в ход пойдут не мечи и секиры, а рукавицы с когтями и ножи. Капель оставалось все-таки больше, чем Теней, и был у них шанс если не выиграть схватку, так отбиться с честью. Стремительность нападения ошеломила Дика; ни тогда, ни позже не мог он сказать, сразил ли кого-нибудь во время той первой атаки или лишь погремел железом о железо. Вроде бы меч и топор были чистыми, без крови… Он не помнил. Умение все замечать, заложенное в нем уроками Наставника, пришло потом, проявилось, точно картина на видеопленке, опущенной в необходимую среду. Но тогда он не помнил – и значит, приходилось считать, будто первую кровь он взял в кустах хиашо, среди упругих ветвей, сплетенных и сросшихся так, что не было места размахнуться и нанести удар. Тени Ветра спрыгивали с теплых спин скакунов, вытягивались цепочкой вдоль зарослей, не спешили – каждый выбирал противника, а кое-кто пел уже боевую Песню Вызова или изощрялся в оскорблениях. Чоч подтолкнул Дика к кустам, губы его беззвучно зашевелились, как полагается во сне, но сказанное тут же всплыло из неких глубин памяти, и Дик услышал – или будто услышал – хриплый рев сына Чочинги: "Твой! Этот – твой! Возьми крысу!” Вражеский воин – два щита, меч и двузубое копье – изумленно уставился на Дика. Наверное, не встречались ему досель двурукие, а если и встречались, то не такие – не с тяжкой секирой, не с быстрым клинком и не в серой повязке Теней Ветра. Дик, чтоб рассеять его недоумение, дрыгнул ногой, будто давая пинка невидимой крысе, грозно ощерился и запел. Сейчас, пребывая во сне и понимая это, он как бы повторил свою песню, слово за словом, фразу за фразой, – повторил на тайятском, непроизвольно подергиваясь и кривя рот. Для оскорбительных жестов конечностей у него не хватало, и оттого приходилось скалиться, дергать щекой и скрипеть зубами. Он пел: Я – Дик, носящий дневное имя Две Руки, Я – Дик, чей отец Саймон Золотой Голос, Я – Дик, чьи матери Елена Прекрасная и Флоренс Костяной Палец, Я – Дик, чей Наставник Чочинга Крепкорукий, Я – Дик из клана Теней Ветра, воин, убивший саблезуба! Песня была совсем короткая, так как, если не считать победы над кабаном, он еще никаких подвигов не свершил, и не числилось за ним ни отрубленных пальцев, ни отрезанных ушей, ни иных нанесенных врагам увечий. Противник, кажется, это понял и, не отвечая на песню (что было самым тяжким оскорблением), сплюнул Дику под ноги и неторопливо, с оттяжкой, ткнул копьем. Целился он пониже пупка, повыше колена, и удар этот был позорным, будто намекавшим Дику, что он – чужак, не защищенный обычаями и ритуалами; не воин-тай, а пятнистая жаба, с которой не взять ни пальцев, ни ушей. Лунным лучом блеснул меч, и Дик вновь пережил то мгновение, когда древко в руках противника распалось. Враг не успел ни отдернуть копье, ни отбить удар, ни прикрыться щитами, ни выбросить навстречу атакующему свой длинный прямой клинок: Две Руки, Тень Ветра, был уже рядом, промелькнув меж гибких ветвей как самая гибкая ветвь, пролетев над ними птицей, проскользнув змеей… Это свершилось помимо сознания Дика; ноги его сами ведали, куда ступить, мышцы – где расслабиться, где окаменеть в мгновенном усилии. Время вновь выкинуло свой старый фокус, провалившись в никуда, растворив ту долю секунды, что разделяла прошлое и настоящее. Казалось: вот он стоит перед кустом хиашо, вот тянется к нему двузубое копье, вот падает перерубленный наконечник… А в следующий миг он был уже в зарослях, с мечом, прижатым к бедру, с секирой наперевес – так, чтоб ударить топорищем пониже щитов, повыше кольчужного пояса. Он ударил. Конец древка пришелся в подреберье, отшвырнув противника назад. Впрочем, не слишком далеко – кусты не пустили. Воин Холодных Капель повис на них, выронив оружие, и был он на вид скорее мертв, чем жив. Но Дик не сомневался, что ему еще рано в Погребальные Пещеры. С трудом он выволок бесчувственное тело из кустов, бросил в траву и огляделся в поисках Чоча. Он помнил, как огляделся, но сейчас – быть может, потому, что видел все происшедшее во сне, – время опять растворилось, и Дик внезапно очутился в плотном кольце воинов-тай. Разгоряченные битвой, они махали руками, крутили в воздухе клинки и кричали, кричали, кричали… Дик не слышал ни слова, но знал, что они кричат. Досматривать сон ему не хотелось. Он застонал, желая вырваться из омута сновидений, но прошлое крепко вцепилось в него, не отпускало, держало мертвой хваткой. Он должен был все увидеть и пережить; увидеть еще раз, пережить снова, ужаснуться и шагнуть за ту грань, где ожидала его последняя метаморфоза, где Дик Саймон, сын Филипа Саймона, превращался в тайского воина Две Руки из клана Теней Ветра. И сейчас, пребывая в сонном забытьи, он смирился с этим – как смирился тогда, на заваленной трупами поляне, у медленных темных вод лесной реки. Он стоял, возвышаясь над побежденным и стискивая в кулаке нож – особый нож, ритуальный клинок тимару, короткий, узкий и заточенный до бритвенной остроты. Он стоял, слушал и ждал. Чего же? Чуда? Что пленник, валявшийся перед ним без сознания, внезапно вскочит и, перепрыгнув через кусты хиашо, обернется рыбой и скроется в реке? Или взлетит в небеса, точно посыльный орел с четырьмя крылами? Или… – Режь! – ревели воины. – Режь! Режь!! Режь!!! – Режь, – сказал Чоч, повелительно вытягивая руку. Он нагнулся и взмахнул ножом. "Мы должны быть людьми, парень, – говорил отец. – Людьми, достойными уважения тай и тайя. Нам надо показать, что мы не уступаем им ни в чем… Понимаешь? Я говорю не о наших машинах и зданиях в сорок этажей, не о Пандусе, вертолетах и монорельсовой дороге, не о ружьях, глайдерах и телевизорах, а о вещах, которые ценят тайят. Ты не должен им уступать, Дик! Хоть мы, по их мнению, калеки…” Глаза Дика открылись. Отцовский голос, будто комментируя беззвучные миражи и подводя им итог, еще звучал раскатистыми переливами, но врата в мир сновидений уже захлопнулись. Над ним белел потолок, в распахнутое окно вливался свежий утренний воздух, и где-то вдали вызванивали к заутрене соборные колокола. Он был в Смоленске, в коттедже на речном берегу, окруженном яблонями и кустами крыжовника, и от тайятских лесов его отделял широкий быстрый поток и невидимый барьер Периметра. Он был в своей комнате, лежал в своей постели – впервые за семь последних лет. Сейчас, в первый момент пробуждения, ему казалось, что в нем уживаются разом три Дика. Первый был десятилетним мальчишкой, буйным и непоседливым, коего пестовали суровые руки тетушки Флори; второй – подростком и юношей, жившим в Чимаре, учеником Чочинги, возлюбленным темноглазой Чии; третьим был Дик Две Руки, воин Теней Ветра, возвратившийся из тайятских лесов. Собственно, уже не Дик, а Ричард Саймон, чей Шнур Доблести лишь на ладонь не доставал пояса. И висели на этом ожерелье отнюдь не крысиные клыки! Сей факт мог ужаснуть Дика-мальчика и Дика-юношу, но Ричард Саймон относился к нему спокойно. Вот только эти сны… Проклятые сны… Там, в лесах, он не видел снов. А может, видел, да не запомнил… Во всяком случае, они не доставляли ему неприятных переживаний. Он задумался, глядя в невысокий беленый потолок и чувствуя, как два первых Дика стремительно уменьшаются, отступают в прошлое, исчезают. Он вновь был Ричардом Саймоном, цельной личностью, воином и мужчиной, хоть по законам своей расы едва достиг совершеннолетия. Но возраст измеряется не годами, а опытом. Когда-то – тысячелетие назад! – отец спросил, твердо ли его намерение спуститься в лес. Отец не пытался его отговорить или подтолкнуть к определенному решению, он лишь сказал: тебе жить с людьми, сынок, все-таки с людьми, а не с тайят. Ты должен сделаться настоящим человеком… Он, Дик-юноша, ответил: “Прежде, чем сделаться человеком, я хочу стать настоящим тай”. Что ж, он добился своего… Несомненно, лес был рубежом, разделявшим не только два мира, но и жизнь Ричарда Саймона. Теперь он понимал это с пронзительной ясностью и, размышляя о том, что потерял и что приобрел, почти не испытывал сожалений. Правда, потери значили, что он все-таки не сделался настоящим тай – ведь они не теряли ничего. Утраты же Дика Саймона доказывали, что он в какой-то части, пусть малой, но весьма ощутимой, остался человеком. Он лежал в своей постели, в уютном домике на берегу Днепра, вспоминая мир утерянный и мир приобретенный. Первый из них располагался на склонах Тисуйю-Амат, что означало Проводы Солнца, и на огромном плоскогорье Ти-суйю-Цор, простиравшемся на востоке – и, возможно, в иных местах, где были селения вроде Чимары, где распорядок жизни, спокойной и мирной, был подчинен велениям женщин. Женщины царили там: юные девушки избирали себе супругов, жены и матери правили в доме, а достигнув зрелых лет, во всем селении… Разумеется, в том смысле, в котором раса тайят понимала слово “править”, придуманное людьми. Для них власть не была самоцелью, а лишь средством для сохранения извечного распорядка, неизменного и нерушимого, как гранитные пики хребта Тисуйю. Мужчин в женском мире уважали, и дозволялось им многое. Они могли любить своих жен, могли охотиться и заниматься ремеслом, могли наставлять молодых в искусствах и ритуалах, во всех умениях, какими сами обладали, не исключая воинского. У юношей тоже были свои права – выбрать Наставника и обучиться мастерству, к которому влекло их сердце. Тем, кто избирал путь воина, даже разрешались поединки – с оружием, но, разумеется, без крови. Ушей и пальцев в этих схватках не резали, а отбирали клановую повязку и носили ее пару дней у пояса как свидетельство победы. Такими были правила игры в первом из миров тайят, принятые мужчинами без возражений. В женских поселках, на мирной земле, они не помнили обид, оскорблений и своих потерь, что бы ни было ими утрачено – пальцы, уши или близкий родич, брат-умма либо отец. Казалось, в каждом из них был запрятан некий рубильник, своевременно опускавшийся и замыкавший контур терпимости, едва лишь они попадали в мир женщин, за ту невидимую границу, что разделяла воинские стойбища и деревни на склонах Тисуйю-Амат. Но они были реальностью, эти боевые лагеря сотни воинственных кланов, – как и весь второй мир, принадлежавший мужчинам и приравненный древней традицией к тайятским лесам. Мирные земли располагались наверху, в горах и предгорьях; лес был внизу, и в нем шла нескончаемая кровавая битва. Эти два измерения, столь чуждые друг другу, почти не соприкасались, однако продолжали существовать в каком-то странном, но неразрывном и цельном единстве. Для тайят оно представлялось естественным и само собой разумеющимся, но человек, даже возросший в Чимаре, не мог его воспринять. Вернее, не воспринять, а перейти из одного мира к другому с той скоростью, что была доступна аборигенам. У человека тоже имелся рубильник, замыкавший контуры терпения в миролюбия, но сей механизм срабатывал гораздо медленней чем требовала ситуация. И в этом было еще одно различие между двурукими и четырехрукими обитателями Тайяхата. Ричард Саймон поднялся с постели одним гибким неуловимым движением. Лицо его было спокойно. Коротко остриженные светлые волосы, широковатые славянские скулы, твердый подбородок – наследие англосаксонских пращуров, глаза неопределенного оттенка, временами казавшиеся серыми, временами – синими, как море на закате… Несомненно, он был красив, но, кроме внешней красоты, правильных черт и крепкого мощного тела, ощущалась в нем некая победная уверенность, та аура достоинства и силы, что так приятна женщинам, всегда чарует и покоряет их. Он еще не догадывался об этом; он был еще очень молод и не знал женщин – земных, разумеется. В углу, уложенная заранее, громоздилась плотно набитая дорожная сумка. Ричард раскрыл ее, покопался среди рубашек, белья и кассет свидами Чимары, вытащил нож в кожаных ножнах и свечу в тайятском подсвечнике из рога скакуна. Чиркнув зажигалкой, запалил свечу, поставил на пол, рядом наискось воткнул обнаженный нож и уселся перед ними в позе лотоса. Дыхание его стало размеренным и едва слышным, тело расслабилось, взгляд перебегал с блестящего серебристого лезвия на трепетный огненный язычок, с ножа на свечу, со свечи на нож, пока не застыл, обратившись куда-то вглубь, к пространствам, где не было ни света, ни тьмы, а лишь успокоительный и не мешавший раздумьям сумрак. Древнее таинство цехара могло вершиться без стали и огня, олицетворявших холод и жар, лунный и солнечный свет. Но Ричард, погружаясь в медитацию, привык использовать свечу и нож, как делали все в его клане. Назначение медитации могло быть различным: отдых, концентрация сил перед долгим походом, стремление понять себя или других людей, птиц или животных – любое существо, пусть не способное говорить, но обладающее чувствами и крохой разума. Применяли цехара и с иными целями, не столь невинными: он подстегивал метаболизм, обмен веществ и выброс специфических гормонов, дважды и трижды ускорявших жизненный цикл. Конечно, не надолго – но времени хватало, чтоб опытный боец успел перерезать глотки дюжине противников. Но сейчас Ричард не готовился к бою и не желал вступать в беседы со своим скакуном или охотничьим гепардом, оставшимся в Чимаре. Сны растревожили его, а в этот день предстояло совершить весьма далекое путешествие в сорок с чем-то парсеков – он точно не помнил глубину и протяженность той бездны, что разделяла Тайяхат и Колумбию. Правда, путь будет быстрым, очень быстрым, но на Колумбии все не похоже на Тайяхат – другие запахи, другой воздух, другая земля и даже тяготение другое… Иной мир! Мир, где раскинулись сотни мегаполисов, и каждый из них размером с Орлеан или Бахрампур, а города вроде маленького Смоленска насчитываются тысячами… Там говорят на двадцати языках – на французском и английском, арабском и японском, на иврите и бенгали, на итальянском, корейском и бирманском… Там множество городов, известных ему по рассказам отца, по книгам и видеофильмам, – Нью-Йорк, Рим, Милан и Лондон, Оттава и Токио, Мадрас и Мельбурн, Калькутта и Лос-Анджелес, Кейптаун, Дели, Рангун, сказочная Венеция и сказочный, воспетый Киплингом Мандалай… Однако предстоящий вояж скорей вдохновлял Ричарда Саймона, чем тревожил. Вот сны – другое дело… Сны являлись напоминанием о тех временах, когда он был Диком и руки его еще не обагрила кровь. Он погрузился в цехара, чтоб успокоиться и поразмыслить. А лучший час для такого занятия – рассветный; счастливый час, когда все кажется легким, и даже прощание с жизнью мнится не трагедией, а чем-то вроде сборов в далекий путь, в странствие к тем мирам, что закрыты для Пандуса и еще никем не созданных звездолетов… Правы тайят с их благим пожеланием: пусть придет к тебе смерть на рассвете! Но думать о смерти ему было рано. Он размышлял о жизни, о последних семнадцати месяцах, проведенных в лесу. Как– то, еще в период ученичества у Чочинги, он попытался выяснить, почему мужчины-тай спускаются в лес и в чем смысл той вечной неутихающей войны, что ведется кланами из века в век, из поколения в поколение. Возможно, отец объяснил бы ему это лучше, но Дик всегда стремился к первоисточнику; в конце концов, Саймон-старший был лишь сторонним наблюдателем, а Чочинга -участником драмы, что разыгрывалась в лесах Тайяхата. Сказанное Учителем он запомнил навсегда. Мир зиждется на равновесии меж жизнью и смертью, объяснял тот; мир подобен реке с плавным течением, где убыль должна в точности замещаться прибылью, дабы не случилось разлива или губительного оскудения вод. Это первый из законов: сколько пришло, столько должно уйти, и уйти быстро, так как водный поток нельзя остановить. Но есть и второй закон, состоящий в том, что слабый уступает место сильному, а сильный – сильнейшему. И это справедливо, говорил Чочинга, ибо речные воды должны оставаться ясными и прозрачными, не замутненными примесью ила и грязи. Но поддерживать свой поток в чистоте могут лишь сильные и сильнейшие – а мужчины-тай как раз таковы. Сила бродит в них точно перегретый пар под крышкой котла, и пар этот необходимо выпустить – но так, чтоб не разнес он всего котла. Вот почему есть лес и есть женские селения, есть земли войн и земли перемирий, и есть свой срок и для того и для другого. И, спустившись в эти земли войн, Ричард Саймон убедился, что Наставник говорил правду. Многие, очень многие мужчины Тайяхата были слишком сильны, чтоб заниматься лепкой глиняных горшков или плетением циновок; и многие из них хотели стать сильнейшими. Не для того, чтоб властвовать и устрашать, но ради почетного права считаться лучшим” первым, искуснейшим среди искусных. Это тоже являлось игрой с определенными законами, в которых Дик разобрался не сразу. Вначале ему казалось, что все тут воюют против всех; он не мог уловить разницы кланов и понять, какой является враждебным, какой принадлежит к временным или постоянным союзникам, а кто поддерживает нейтралитет. Чочинга говорил ему об этом, но, в отличие от наставлений в воинском мастерстве, сказанное не подкреплялось практикой и было для Дика лишь мертвым перечнем имен и фактов. Но он по крайней мере запомнил эти факты и имена, а теперь сухие комментарии Учителя вдруг обрели цвет, объем, вкус и запах. Теперь он на собственном опыте убеждался, что каждый из кланов имеет свои секреты, свое излюбленное оружие и свой Путь, – и Пути их были различными, как повадки зверей и полет птиц в бирюзовом небе Тайяхата. Звенящие Воды отличались необычайной гибкостью движений, низкой стойкой и точными сильными ударами, подобными тем, что любил наносить Каа, зеленый питон Учителя; воины Извилистого Оврага резко изгибали конечности, так что не всякий мог предугадать, в какую точку целят их секиры и короткие изогнутые ножи; Смятые Листы были отменными хитрецами, способными убедить противника, что нет у них сил даже помочиться – а затем вдруг перейти в стремительную и неотразимую атаку; бойцы Горького Камня считались лучшими пращниками и метателями дротиков на всем континенте, Холодные Капли искусно владели длинными двузубыми пиками, Быстроногие в резвости не уступали скакунам, а клан Четырех Звезд таил особое умение – отбивать клинок и стрелу голой рукой. Впрочем, все Пути Кланов являлись тайными, но секрет, разумеется, был заключен не в проявлениях внешних и видимых, а в том, какими способами достигался необходимый результат. Лишь великим искусникам вроде Чочинги было открыто тайное, и знали они, как странствовать по чужим дорогам, не забывая и собственного Пути. Путь же Теней Ветра заключался во многих умениях: в том, как расслаблять мышцы – для отдыха или чтоб выскользнуть из захвата в рукопашном поединке; в том, как скрыться с глаз противника – прыгнуть, прилечь на землю, метнуться змеей, обойти со спины, стать невидимым на мгновение, а после продлить этот миг, сделавшись отблеском лунных лучей в быстрых водах; в том, как нанести удар, вложив в стремительное движение ровно столько силы, сколько нужно, чтоб добиться своего – ранить, прикончить, оглушить, продемонстрировать превосходство. Впрочем, основой основ все-таки являлась быстрота. Те, кто прошел обучение у Чочинги, умели двигаться с поразительной скоростью, присутствуя будто бы в трех местах разом: и перед противником, и за его спиной, и в некотором безопасном отдалении, где не могли их настичь ни секира, ни копье. Они действительно уподоблялись тени ветра, ибо невидимый ветер все-таки можно ощутить, тогда как тень его незрима и неощутима. Но удары этих призрачных теней были смертоносными. Ударов – не приемов, а именно ударов – насчитывалось три. Первый – удар на поражение, приводивший к молниеносной смерти, который полагалось наносить в сердце, в горло, в висок, в затылок или спинной хребет. Прочие области тоже не были под запретом, но считалось, что убийство двумя или тремя ударами говорит о недостаточном мастерстве победителя. Убивать надо было быстро и сразу, не продлевая агонии противника, дабы он не испытывал ни телесных, ни душевных мук. Второй тип удара демонстрировал превосходство над врагом, для чего полагалось нанести ему ранение. Раны у воинов-тай не рассматривались как признак доблести, и любой шрам в их глазах был лишь свидетельством неуклюжести и неумения защищаться. Самым позорным считался рубец на животе, над пахом; о таких бойцах говорили, что их детородный орган висит на кончике вражеского клинка. Наконец, был милосердный удар, которым противника оглушали, дабы, оставив его в живых, отрезать полагавшийся трофей – палец, ухо или то и другое вместе. Такая потеря не считалась позорной, и редкий боец, доживший до сорока, мог похвастать всеми пальцами и ушами. Если мог, то это свидетельствовало о великом искусстве и немалой удаче, о том, что этот воин – сильнейший среди сильных, достойный сделаться Наставником. Титул Наставника ценился превыше прочих, и в каждом клане их было десятка два или три; а таких, как Чочинга, со Шнуром Доблести до колен, не больше дюжины на весь огромный материк. Выбор между тремя ударами, между смертью, позором или контрибуцией, также подчинялся строгим правилам. Молодых близнецов-умма, впервые спустившихся в лес, почти никогда не убивали; им полагалось вернуться через год-другой в женские селения, завести семью, зачать потомство, после чего их долг перед родом считался исполненным. Теперь они могли избрать мирное занятие либо спуститься в лес за воинской славой или смертью; теперь в их Песне говорилось не только о старших родичах и побежденных врагах, но и о том, что стали они отцами. А значит, воды в реке прибыло, и пора ей убывать… Под неусыпным надзором Чоча Дик разобрался с подобными тонкостями и заодно уяснил, что Холодные Капли, Звенящие Воды, Быстроногие и еще три десятка кланов числятся в традиционных врагах Теней Ветра, Четыре Звезды – в давних союзниках, с Парящими и Горькими Камнями заключено перемирие, а остальные воинские братства обитают слишком далеко и пребывают в состоянии нейтралитета. Уяснил он и другие нюансы, связанные лично с ним. Во-первых, он был обязан поддерживать реноме Чочинги и честь называться его учеником; а это значило, что уши его и пальцы – особо лакомый трофей для воинов враждебных кланов. Во-вторых, каждый палец являлся для Дика драгоценностью, так как было их не двадцать, а только десять, и, лишившись двух-трех, он мог превратиться в калеку. Потеря же уха, не входившая для тай в список уродств, совсем иначе выглядела в человеческих глазах (хотя ее, разумеется, можно было компенсировать протезом). В-третьих, обычай, не поощрявший гибели молодых, на Дика Саймона не распространялся. Он, двурукий ко-тохара, не мог оплодотворить тайятскую женщину а потому был бесполезным, как сухая ветвь на цветущей яблоне. Или как мутная струйка в широком и чистом потоке… А это значило, что лес был для него не тренировочной ареной, но местом битвы – жестокой, не признающей компромиссов, заставлявшей держаться в постоянном напряжении. К счастью, он уцелел, сохранив и пальцы свои, и уши. Он был прирожденным бойцом, расчетливым, выносливым и сильным, но и противники были выносливы, искусны и сильны – как правило, сильней его. Однако вскоре Дик догадался, в каком умении превосходит их и как две руки способны справиться с четырьмя. Его спасали лишь быстрота и ловкость – отцовское наследие, врожденный дар, взлелеянный мудрым садовником и распустившийся пышным цветом в тайятских лесах. И когда он покинул их, его Шнур Доблести падал на грудь, а длинные клыки саблезуба касались пояса. Спустя несколько часов Ричард Саймон стоял под прозрачным колпаком передвижного модуля, нацелившегося тупой безглазой мордой в стену. Стена, обрамленная со всех четырех сторон серебристым прямоугольником Рамы, была покрыта росписями в древнерусском стиле, представлявшими богатую историю Смоленска – строительство Никольских врат и башни Веселуха, битвы с литовцами, татарами и полчищами Бонапарта, освящение церкви Михаила-Архангела и крестный ход в Успенском соборе. Сам собор, блистая куполами над нежной зеленью стен, красовался напротив, за дорогой, круто спадавшей к речному берегу, и Дик, оглядываясь, видел его в широченном разлете входной арки трансгрессорной станции. Рядом с аркой, в углу, отведенном провожающим, стояли отец, тетушка Флори и еще с десяток человека сопровождении офицера Транспортной Службы; лицо Саймона-старшего было хмурым, а несгибаемая тетушка на сей раз плакала, утирая слезы крохотным кружевным платочком. Заметив, что Ричард смотрит на нее, она шевельнула пальца ми, нарисовав в воздухе крохотный крестик. Модуль едва заметно дернулся – в хвостовую часть загружали багаж. Процедура оказалась недолгой, так как путников, не считая Ричарда, было всего двое: белокурая девушка лет двадцати, которую звали Алиной, и представительный сухопарый джентльмен, изъяснявшийся с явным британским акцентом. Каждый из них прихватил по сумке, но у британца имелся еще живой багаж – чета охотничьих гепардов в клетках которые транспортники сейчас размещали в грузовом отсеке под вопли и рев перепуганных зверей. Британец озабоченно хмурился; как понял Ричард из пары фраз, коими сей господин обменялся с офицером Службы перед посадкой, он вез гепардов в Ковентри – то ли в зоопарк, то ли в поместье какого-то лорда, страстного любителя охоты на кроликов и лис. Блондинка Алина тоже выглядела озабоченной, но совсем по другому поводу. Ричард ее не знал, хоть Смоленск и небольшой город; а может, видел когда-то, но время в юности течет совсем иначе, чем в зрелых годах: сам он за семь лет превратился в мужчину, а девчушка стала женщиной – весьма соблазнительных форм, с миловидным личиком и пухлыми сочными губами. При посадке в модуль Ричард поддержал ее за локоток и тут же был вознагражден ослепительной улыбкой. Затем в течение двух минут они представились друг другу, перешли на “ты” и приняли твердое решение повидаться в Штатах или в Канаде. Не так уж много во всей этой Колумбии смолян, с коими можно вспомнить детство и поболтать на русском! Когда контуры грядущей встречи определились, Алина начала выспрашивать, какую гимназию окончил новый приятель и чем занимается сейчас. Ричард отвечал уклончиво – мол, грыз науки дома, на пару с компьютером, а затем, победив в конкурсе, получил учебный грант в Грин Ривер. Все это являлось чистой правдой – и стипендия, и городок Грин Ривер в штате Орегон, где был солидный университет, вот только насчет конкурса он приврал. Точнее, слегка исказил факты. Конкурс ему пришлось пройти, но не в Смоленске и не в Орлеане, а в тайятских лесах, где он и удостоился свидетельства победы – шнура с нанизанными костяшками. Этот шнурок открыл ему путь в такое заведение, где гранты сплошь казенные и налогообложению не подлежат. Возможно, Алине хотелось узнать подробности о таинственном заведении в Грин Ривер и о том, сколь далек Грин Ривер от Монреаля, где девушка собиралась подвизаться в качестве манекенщицы, но тут над модулем сомкнулся прозрачный колпак, и она начала бледнеть. В последующие минуты, пока техники озабоченно сновали вокруг модуля, а в багажный отсек запихивали клетки с орущими гепардами, щеки Алины сделались белыми как мел, и Ричард снова взял ее под руку. Она боялась! Она трепетала, взирая в ужасе на огромный прямоугольник Рамы, на стену, украшенную фресками, – такую прочную, надежную и в то же время эфемерно-зыбкую, будто раскрашенное полотнище из газовой кисеи. Еще немного, и полотнище исчезнет, сорванное яростью незримых вихрей энергии, а Рама тускло засветится, оконтурив устье Пандуса, – провал в бездну, в темноту, в ледяной мрак… Ричард вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежали холодные мурашки, и оглянулся на отца. Тот чуть заметно кивнул, а тетушка Флори снова принялась возить под глазами платком и рисовать в воздухе крестики. Ричард скривился. Дьявольщина! Что с того, что он впервые ступит на Пандус? Не страшней, чем резать уши да выпиливать колечки из черепов… К тому же он твердо знает, что нет никаких бездн и никакой тьмы, а есть виртуальный трансгрессорный тоннель в пространстве, и будет он багровым… нет, скорее алым или оранжевым – ведь до Колумбии больше сорока парсек! А вот если отправиться в другую галактику, то Пандус станет синим, фиолетовым или в самом деле черным… Интересно, прошел ли уже хоть один разведчик по черному Пандусу? Или… Девушка прижалась к нему, шепнула: – Скорей бы уж! Ноги не держат! – А если б пришлось идти? – Идти? Почему идти? – она недоуменно хлопнула ресницами. – Отец рассказывал, если груза и пассажиров немного, они идут, просто идут сквозь устье, – объяснил Ричард и покосился в сторону джентльмена из Ковентри. – Так что модуль подали не нам, а ему… Верней, его гепардам. Иначе пришлось бы катить клетки на тележке… Представляешь? До самой Колумбии, сотню с гаком световых лет! Он пытался развеселить Алину, но та лишь зябко передернула плечиками. – Подумаешь, невидаль… гепарды… – Шестилапые, – уточнил Ричард, выпустив ее локоток и обнимая за талию. -Таких на Колумбии днем с огнем не сыщешь. А ведь и правда не сыщешь, внезапно подумал он, вспомнив о маленьком Ши, сплетенном из травы и тростника, что покоился сейчас в его сумке. Гибкая девичья талия под рукой и горьковатый аромат духов Алины также напомнили ему о Чии, о днях, когда солнце вставало над снежными пиками Тисуйю, неторопливо карабкалось вверх, а потом спускалось в леса, будто маня и приглашая: идите, торопитесь меня проводить! А в полдень небо над Чимарой сияло такой же голубизной, как над крестами и маковками Успенского собора… Что, разумеется, не удивительно: Левобережье – Тайяхат, и Правобережье – Тайяхат, один мир, одна планета… Кто-то, быть может, счел бы ее краем злобных кровожадных демонов, но для Дика Саймона она являлась родиной. Родиной! Единственной и неповторимой! А среди демонов были у него враги, были друзья, и даже возлюбленная… Были! Но – в прошлом. До того, как он спустился в лес. А когда вернулся… Это походило на состояние после легкого транса цехара, когда в кровь еще поступает адреналин, когда мышцы еще напряжены и готовы к действию, глаза высматривают скользящие тени в траве и древесных кронах, а руки тянутся к поясу, к топорищу секиры, или шарят за плечом – то ли выдергивая дротик из тугой связки, то ли в поисках клинка. Разумом он понимал, что находится в мирных землях, где не воюют и не льют кровь, но само по себе это знание было бесплодным, ибо мысленно он оставался в лесу. Разум говорил одно, чувства – другое, а когда разум спал, являлись сны. И в них Ричард Саймон снова бился на лесных полянах и речных берегах, атаковал и отступал, подкрадывался к врагам, пел Песню Вызова на поединок и, повергнув противника наземь, сносил ичегарой височную кость, чтоб выточить маленький желтый кружок, символ своей победы… Он, воин-тай, возросший в руках Чочинги, не предавался мучительным раздумьям подобно своему отцу, и кровь убитых не тяготила его совесть; он просто не мог остановиться. Он продолжал воевать: днем – в воображении, ночью – в снах. – Это пройдет, – сказал отец. – Мы, люди, не способны мгновенно переключаться, как тайят. Нам, чтоб позабыть прошлое, нужны не минуты, не дни, а месяцы или годы. Но это пройдет, ибо со временем проходит все, даже сама жизнь. Пройдет, сынок! Только не надо возвращаться в лес. – А куда? – спросил Дик: – Куда я должен идти и где я найду мир? – К людям, – ответил отец. – Мира ты не найдешь, но найдешь свое место в мире. Скоро тебе восемнадцать… Кажется, ты собирался стать ксенологом? Нет, теперь ксенология Ричарда не привлекала. Что бы он ни говорил отцу, сам он уже не сомневался, что не ищет ни мира, ни покоя. Ксенология казалась ему слишком тихим, слишком академическим занятием; теперь он предпочитал не изучать, а действовать. Действовать! Несомненно, лес пробудил в нем доселе скрытую склонность к опасным авантюрам, к противоборству с обстоятельств ми и людьми, к риску и приключениям… Это был крепкий напиток, но Ричард Сай-мон, однажды распробовав его, не собирался отставлять бокал в сторону. Вот только сны, сны… Они не так тяготили Дика, как напоминали об утраченном, о двух реальностях Тайяхата, которые он потерял. Жизнь в Чимаре казалась пресной, а лес… Пожалуй, он вернулся бы туда, но лес все-таки был тайятским. Чочинга, его Наставник, сказал: “У всякого племени есть свой лес и свое место для битвы. У вас, двуруких, тоже. Ищи, и ты найдешь!” Разумеется, он был прав, как и отец, тоже говоривший о поисках. Лес двуруких, где могли бы найти применение все таланты Ричарда Саймона, безусловно, существовал, и сейчас он направлялся прямиком в эти дебри. Правда, не сражаться, а учиться, но перспектива битв, погонь и всевозможных авантюр была не за горами. Не он ли, Дик Саймон, первым пройдет по черному Пандусу?… Или отправится к Закрытым Мирам, пока неведомым ему?… Быть может, к Земле?… Чтобы начать охоту за тайнами… К счастью, тайн в мире имелось великое множество, и одна из них маячила прямо перед глазами Ричарда, вверху стального обода Рамы. Там, отчеканенные в металле, блестели буквы “С”, “М” и “Н” – с широким росчерком, свивавшимся в кольцо. Сергей Михайлович Невлюдов, творец пространственной трансгрессии… Он не оставил ни записей, ни дневника, ни книг, ни статей – только файлы с расчетами и формулами, разосланные по сотням адресов… Не было даже его фотографий, тех примитивных плоских изображений, какие делались в начале двадцать первого столетия, и потому Рама была украшена не его портретом, а его факсимиле. Судьба Невлюдова тоже являлась тайной; сверкнув подобно метеору, он канул в неизвестность и угас, как отгоревшая звезда. Дверцы грузового отсека захлопнулись, заставив вздрогнуть Алину, вой гепардов стих, и джентльмен из Ковентри вздохнул с явным облегчением. Пошарив в кармане, он извлек табакерку и огромную трубку с изогнутым чубуком, неторопливо набил ее и произнес по-русски: – Юная леди не возрашать? Юная леди слабо кивнула. Выглядела она так, будто не в Монреаль собралась, а на тот свет, где одним назначено бренчать на арфах, а другим – купаться в горячей смоле. Явные признаки недуга, особой болезни, называвшейся страхом перед Пандусом. Многие были подвержены ей и потому предпочитали перебираться из мира в мир в гибернационных камерах. – Ты не волнуйся, – сказал Ричард, – это совсем не страшно. Ты даже не заметишь, как мы пройдем порог. Вдохнешь здесь, а выдохнешь уже в Нью-Йорке. Британец, окутанный клубами дыма, кивнул с одобрением. – Так! Ошшень верно сказано: вдохнуть здесь, выдохнуть там. Или наоборот. Кому как нравится. – А потом? – пробормотала Алина. – Что потом? – Потом, – Ричард покрепче обнял ее, чувствуя, как девушку бьет крупная дрожь, – потом ты отправишься в свой Монреаль, а я – в Грин Ривер. Но прежде мы посидим где-нибудь, выпьем кофе и проверим, правда ли, что мороженое в Нью-Йорке не хуже смоленского. Или ты не любишь мороженое? – Люблю… Но я не о том, Дикки, не о том… Как я узнаю, что я – это я? Джентльмен из Ковентри расхохотался. – Юная леди ошшень мерри… ошшень веселая, я хотел сказать. Мы сейчас превратиться в облако из крохотных атом, снова стать собой и идти на паспортный контрол. Там юная леди узнать, кто она есть. Если она – не она, контрол не пропускать! – Британец снова рассмеялся, с интересом поглядывая на Ричарда. – А вы, юный сэр, ехать в Грин Ривер? В какой Грин Ривер? Айрлэнд? Острэйлиа? – В тот, что в Орегоне, – объяснил Ричард. Он упорно говорил на русском, ибо звук русской речи был сладок для него. Подумав, он добавил: – Буду учиться в университете. Факультет общественных наук… депатмент комьюнити сайенс. – О! Тот Грин Ривер! – джентльмен из Ковентри, пыхнув трубкой, значительно поднял брови. – Известный место! Я слышать, там не только юнивесити… там Мемориал Аддингтон… и еще… Как это по-русски?… Да, штаб-квартира ЦРУ. – Одно другому не мешает, отозвался Ричард. Техники Транспортной Службы исчезли, серебристая рама вдруг вспыхнула и замерцала неярким флуоресцентным свечением, затем раздался звуковой сигнал. Гепарды в грузовом отсеке, предчувствуя что-то необычное, панически взвыли Ричард, по-прежнему прижимая к себе девушку, обернулся и помахал рукой отцу. Затем покрытая фресками стена растаяла, и на мгновение перед тупорылой кабинкой модуля открылась мрачная черная пропасть. В следующий момент мрак исчез, словно где-то за спиной включили батарею мощных прожекторов. Штурман-компьютеры смоленской и нью-йоркской станций синхронизировали частотные каналы, и теперь окаймленная Рамой пустота мерцала оранжевым светом и как бы чуть заметно пульсировала, будто глотка гигантского дракона, изготовившегося пожрать добычу. В этой глотке имелся язык, ровная наклонная поверхность, которая светилась ярче призрачных стен и сводов, – если только всю эту конструкцию, сотворенную игрой энергетических полей, можно было сравнить с неким коридором или тоннелем. Скат, подобный протянувшемуся в бесконечность Пандусу, начинался у нижнего края Рамы и уходил в оранжевый туман, слегка вибрируя и подрагивая, будто и в самом деле был живым, нетерпеливо поджидавшим очередную жертву. Тихо заурчал двигатель, и модуль покатился вперед, к эфемерному оранжевому коридору. Алина взвизгнула, звери в багажном отсеке завыли, джентльмен из Ковентри пробормотал проклятие и задымил, как древний пароход на Миссисипи. Яркое оранжевое свечение разлилось перед глазами Ричарда, затопив и поглотив весь мир. Так он и отбыл на Колумбию, в свой Грин Ривер в штате Орегон, – в сизом табачном дыму, обнимая трепетный девичий стан и прислушиваясь к вою гепардов за спиной. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК На кольцевом балконе, опоясывающем тренировочный зал, неподалеку от блестевшей металлом лестницы, стояли двое мужчин. Оба – крупные, рослые, в серых форменных комбинезонах, со знаками различия инструкторов Учебного Центра в петлицах. Один был темноглазым мрачноватым шатеном под сорок; полные губы, смуглая кожа и большой крючковатый нос выдавали его семитское происхождение. Шевелюра другого пылала огнем, щеки были веснушчатыми и бледными, а свернутый набок нос свидетельствовал, что его владельцу не раз приходилось испытывать и отражать тяжкие удары судьбы. К тому же на подбородке у рыжего красовался изрядный шрам, оттягивавший губу, отчего улыбка получалась кривоватой и насмешливой, как бы с легким оттенком превосходства. Но мрачного шатена эти улыбки не раздражали то ли он от природы был флегматиком, то ли точно знал, что если рыжий приятель над кем и посмеивается, так не над ним. – Сколько ему? Ты ведь уже просматривал его файл-досье? – спросил рыжий, разглядывая широкоплечего полунагого парня на одном из боевых помостов. – Восемнадцать без трех недель, – отозвался шатен. – Привез его Грег Биксби, вместе с двумя шестилапыми монстрами… Вернее, привез-то он монстров, а парня сопровождал так, на всякий случай. Диковатый парнишка, скажу я тебе, и тоже в своем роде монстр. – Шатен угрюмо сдвинул густые брови и, поразмыслив минуту, добавил: – Ну, в тех краях, откуда он родом, все чуть-чуть диковатые. Зато в инициативе им не откажешь! Взять хотя бы этого… Совсем мальчишка, а сопляком его не назовешь, верно, Дейв? Говорили мне, будто Леди Дот его вызвала, а она не стала б ворожить сопляку. Дот – она Дот и есть… Точка! Не подъедешь, не подкопаешься… У такой сам архангел Гавриил протекции не дождется. – Гавриил, может, и не дождется, а Сатана – непременно, – ухмыльнулся рыжий Дейв и тут же возбужденно зашептал, дергая приятеля за рукав: – Ты погляди, Барух, что он творит! Вот это прыжки! Рост у парня приличный и вес в норме, а легкость, как у плясуна! Только не хотелось бы мне сплясать с ним джигу… Быстрыми точными ударами широкоплечий гонял спарринг-партнера из угла в угол. Было заметно, что бьет он не в полную силу – даже не бьет, а лишь обозначает удар. Руки его мелькали пропеллером, и казалось, что их не две, а значительно больше – может, четыре, а может, и все шесть. Двигался он в невероятном темпе, но никакой усталости не проявлял, что весьма удивляло – ведь он бился уже час и доламывал третьего противника. А партнеры его отнюдь небыли новичками. – Фантастическая реакция, – вполголоса пробормотал рыжий. – За ударом не уследишь… Только тень мелькает А эти прыжки!… У него что там приделано к заднице? Реактивный двигатель? – Прямая кишка, в точности как у нас с тобой, – меланхолично заметил шатен. – Не нужен ему двигатель, Дейв, – тут он весит на четверть меньше, чем в своих краях. Так отчего бы парню не прыгать? И ты бы запрыгал, сбросив двадцать лет и сорок фунтов. – Весит меньше, говоришь? Он что, с Тайяхата? – Оттуда. И прямиком сюда, – Барух с мрачным видом ткнул пальцем вниз, где на пятнадцати помостах шли спарринговые схватки. Потом он немного поразмыслил, потер ястребиный нос и сообщил: – Предполагается, что я буду его шеф-инструктором. Каково, а? Ну и монстр мне достался! Тайятский дикарь! – Раз твоя очередь таскать каштаны, так таскай, – рыжий сделал забавный жест, будто подкидывая на ладони нечто горячее, обжигающее. – Не все ж тебе возиться с ублюдками с Европы и Китая! Из них выйдут эксперты да чиновники, а этот будет агентом… Настоящим полевым агентом, оперативником… Ты только погляди на него, Барух! Вот это реакция! Гоняет Длинного Пата Сильвера как овцу на скотобойне! Ну, супермен!… Барух кисло усмехнулся: – Знаешь, Дейв, за три последних тысячелетия евреи столько раз имели дело с суперменами, что научились их остерегаться. Вот и я… гм-м… не то чтоб опасаюсь, но колеблюсь… Супермены – не по моей части. Это понятие американское, и я так полагаю, что с любым кандидатом в супермены лучше разбираться американцу-янки или, скажем, какому-нибудь техасскому рейнджеру. А мне больше нравятся парни с Китая. Никаких неприятностей, плюс дьявольская работоспособность. И еще у них очень развито чувство долга и уважения к вышестоящим. – Не всегда, отнюдь не всегда! – возразил рыжий. – Сейчас я тебе кое-что расскажу… – Он покосился на помост, где Длинный Сильвер, притиснутый к канатам, ушел в глухую оборону. – Так вот, дело было в Нью-Йорке, в Китайском квартале. Забрел туда еврей из Бруклина и сунулся в одно неподходящее заведение… – Я-то не из Бруклина, – прервал рыжего Барух, – я из Ашкелона, Дейв. А там евреи поумней бруклинских, и ни один не станет лезть в неподходящее заведение. А заодно – слушать твои техасские побасенки. – Ха побасенки! Какие побасенки! Этот случай я сам наблюдал, должен признаться, что… Длинный Сильвер с грохотом рухнул на помост. Его широкоплечий противник сделал неуловимое движение ногой, и в горле рыжего заклокотало. Удар был нацелен в висок и был безусловно смертельным, – но в самый последний момент широкоплечий чуть приподнял ступню и перепрыгнул через поверженного соперника. Затем, спустившись с помоста, он принялся невозмутимо массировать предплечья. – Это он показывает, что мог бы сделать с Сильвером… Ну, бестия! – в голосе Баруха слышалось невольное восхищение. Рыжий Дейв прочистил горло, ухмыльнулся и потянул приятеля за рукав. – А скажи-ка мне, Барух, ты сейчас при деньгах? Ежели при деньгах, так я мог бы тебя выручить – как того бруклинского еврея в китайском заведении. Ставь дюжину “Коммандос”, а в придачу я забираю монстра… то бишь твоего тайятского дикаря. Заберу со всем имуществом и потрохами! Ты говорил, при нем еще пара шестилапых? Их тоже возьму! Мрачноватый Барух покачал головой. – Этих не надо. Грег привез их своему приятелю, помешанному на охоте, так что забот у тебя будет поменьше. С другой стороны, дюжина “Коммандос”… – Шатен, что-то прикидывая, выпятил губы, приласкал горбинку на носу и предложил: – А на полудюжине не сойдемся? – Не сойдемся, Барух! Дело не в том, что я желаю тебя ободрать, но полдюжины – оскорбление моего реноме. За полдюжины я не продаюсь! Дюжина – еще куда ни шло… и чтоб высший класс, три звезды, а не горлодер из “Катафалка”! – Рыжий ухмыльнулся, скривив рот. – Ну, Барух, по рукам? – Черт с тобой, вымогатель! Дюжина так дюжина… – Шатен пошарил в кармане, отыскивая бумажник, и пробормотал: – Верно сказано: где техасец спустит штаны, там гиена не присядет… – Это точно! – Рыжий ловко выхватил из пальцев Баруха сиявшую голографическими разводами кредитку и помчался лестнице. Его каблуки загрохотали по металлическим ступеням, лязгая, словно гусеницы древнего танка. Спустившись вниз, он на полной скорости обогнул пару помостов, где шли учебные схватки, подскочил к широкоплечему и одобрительно хлопнул его по мускулистой спине. – Дейв Уокер, твой шеф-инструктор! Приветствия мы опустим. Считай, что я пожелал тебе здоровья, удачной карьеры, успехов у девочек и все такое… Где тебя поселили, парень? С видом на реку или на кладбище? Прекратив растирать плечи, юноша оглядел рыжего. – Ты – мой Наставник? – Я – тот дьявол, который будет сосать твою кровь днем и ночью целых пять лет. А потому обращайся ко мне с почтением и не забудь прибавить “сэр”. Парень тяжело вздохнул. – Значит, все-таки Наставник… – Согнув руки, он слегка развел их в стороны и вдруг улыбнулся с едва заметной иронией: – Да будут прочными твои щиты и целыми – уши, сэр Наставник! Пусть не высохнет кровь на твоих клинках и пусть смерть придет к тебе на рассвете! – Насчет ушей ты верно сказал, а вот со смертью не торопись, приятель, – откликнулся рыжий. – Я против рассвета ничего не имею, но мы, видишь ли, трудимся в сумерках, и умирать нам положено в полумраке. Согласно уставу! Ты понял? – Понял. – Сэр!… – Понял, сэр! Рыжий уже по-хозяйски ощупывал его бицепсы, тыкал жестким пальцем в живот, хмыкал, разглядывая твердую мозоль, протянувшуюся от запястья до кончика мизинца. Наконец, закончив осмотр, он снова хлопнул парня по спине. – Вроде годишься! Из нашей конюшни жеребчик! И дерешься неплохо, совсем неплохо… Ну, теперь поглядим, как у тебя с мозгами. … Как выяснилось в два ближайших месяца, с мозгами у Ричарда Саймона тоже было все в порядке.Часть II. НОВЫЙ ЭДЕМ
Глава 5
Ричард Саймон, агент-стажер первого года обучения, замер навытяжку перед массивным столом, поедая глазами начальство. Вся остальная мебель в этом кабинете – и обтянутые кожей кресла, и стальные сейфы с чеканными гербами на дверцах, и хромированные стеллажи с бумагами, книгами и контейнерами для дисков – тоже была массивной, основательной, исполненной если не имперского величия, так явного намека на всемогущество и силу. Конечно, ООН не являлась империей, а ее многочисленные службы не могли претендовать на роль имперских министерств, однако каждая из них обладала изрядной толикой власти, весьма высоким статусом, квалифицированным и преданным персоналом, а также практически неисчерпаемыми финансовыми ресурсами. Все это вместе взятое отражалось как в зеркале в кабинете главы Учебного Центра ЦРУ, который был, разумеется, одним из самых высокопоставленных чиновников надправительственных структур. Вид на безбрежный залитый солнцем океан тоже соответствовал обстановке. Три корпуса Учебного Центра были развернуты вдоль Серебристой бухты широкой дугой: южный выходил к университету, к реке Грин Ривер и городку с одноименным названием, северный – к Мемориалу Аддингтон и кладбищу героев космоса, центральный же гляделся тысячами окон прямо в океанские просторы и небесную синеву. Тут, на Колумбии, небо имело другой оттенок, чем простиравшееся над Тайяхатом, но было таким же ярким, огромным, необозримым и величественным. Это величие вполне подходило к служебным апартаментам Эдны Хелли. Но Саймон не мог любоваться океаном и небом, так как глаз на затылке пока не отрастил, невзирая на все старания своих инструкторов. Он стоял лицом к столу, широкому и пустому, если не считать компьютерной клавиатуры и чашечки селектора, похожего на диковинный голубой тюльпан с хрупким и тонким стеблем. Женщина, сидевшая за столом, тоже казалась тонкой и хрупкой, но Ричард знал, что это впечатление обманчиво и создается массивностью мебели и титаническими размерами кресла. На самом деле Эдна Хелли, носившая прозвище Леди Дот, почти не уступала ему ростом, хоть и была поуже в плечах. Сейчас ее серые зрачки буравили Ричарда с равнодушием пары стальных сверл. Он буквально чувствовал, как они впиваются в плоть, как рвут ее с хищным шипением, выбрасывая фонтанчики крови и костной стружки. Впрочем, до стружки дело еще не дошло, но призрак неминуемой расправы уже обретал некую пугающую телесность. – Что пили? – холодным тоном поинтересовалась Леди Дот. – “Коммандос”, я полагаю? Ричард сглотнул и доложил: – Никак нет, мэм. Ром “Фидель”, мэм. А девушки – “Нежную страсть”. – Значит, были еще и девушки? – зловеще протянула Леди Дот, как будто в представленном ей рапорте сие обстоятельство обошли полным молчанием. – Девушки на могильной плите под кубинский ром… Я полагала, агент-стажер, что вы отличаетесь большей фантазией. На кладбище принято потреблять что-то другое, подходящее к ситуации, – скажем, “Вечное блаженство” или ватиканский эликсир. – “Блаженство” и эликсир мне не по карману, мэм. Средства не позволяют, – отрапортовал Ричард. – К тому же сам я не пью спиртного. – Верно, не пьете… – Голос Хелли сделался еще более ледяным, сухие губы сжались, напомнив Ричарду тетушку Флоренс. Что-то было между ними общее – то ли в этой манере поджимать губы, то ли в скупых движениях рук с длинными костлявыми пальцами. Но, разумеется, Леди Дот представляла собой куда более опасное издание его смоленской тетки. – Значит, не пьете, – повторила она. – Не пьете, однако приняли участие в пьяном дебоше среди святых могил! Святых для всякого цивилизованного человека! – Тут глаза Леди Дот полыхнули адским пламенем, и Саймон ощутил, что стальные сверла уже подбираются к его печенке. – Я не говорю об этих двух бездельниках, Друаде и Тирасисе, – продолжала Эдна Хелли, – и я не в претензии к вашим канадским подружкам, но вы, стажер Саймон!… Вы!… Клянусь, я была о вас лучшего мнения! И я жду объяснений! Всю эту речь она произнесла ровным, лишенным эмоций голосом, расставляя восклицательные знаки одним лишь движением бровей. Под занавес к бровям присоединился палец, нацеленный Ричарду прямиком в висок. Затем в наступившей тишине будто бы щелкнул затвор пистолета, и он услышал: – Я жду, стажер Саймон! Жду! – Тирасис и Друад – мои соседи по жилому блоку, мэм, – выдавил стажер Саймон. – Девушки приехали ко мне… три девушки из Монреаля… и Друад с Тирасисом… – Он смолк, наблюдая, как зрачки Леди Дот из буравчиков превращаются в жерла гаубиц. Казалось, они вещали: ну и аппетит у вас, агент-стажер! Местных шлюх вам уже не хватает, приходится выписывать из Монреаля! Оптом, по три за раз! Ричард судорожно сглотнул. – Вы понимаете, мэм, я не мог лишить соседей столь приятного общества. Мы отправились на прогулку… Девушки желали посмотреть Мемориал… Ну, и… Сейчас, под прицелом двух пушечных стволов, Ричард Саймон с отчетливой ясностью понял, что его Шнур Доблести вскоре украсится крысиными клыками. Наставник Чочин-га говорил: хрустнешь сучком в лесу – получишь стрелу в зад. Дейв Уокер, шеф-инструктор, формулировал этот тезис с большим изяществом, утверждая, что всякое следствие имеет свою причину. Эти причинно-следственные связи надлежало экстрагировать из хаоса, из той паутины, сплетенной из вероятностей и случайностей, какую являл собой мир; экстрагировать и прослеживать до логического конца, дабы не схлопотать неприятности. Крысиный клык в ожерелье был самой меньшей из них, стрела в позвоночник или пуля в лоб – самой крупной, а меж двух этих полюсов находился обширный список всяких бед, выволочек, разносов, проваленных заданий, рухнувших карьер и не свершившихся надежд. Но сколь часто, размышлял Саймон, весь механизм причин и следствий запускается игрою случая, ничтожной флуктуацией в мире хаоса, легким трепетом вероятностных нитей! Их встреча с Алиной была, конечно, случайностью, а вот дальнейшее случайностью не назовешь. Ни койку в его жилом блоке, ни постель в ее монреальском гнездышке, несравнимо более мягкую и удобную… Ни просьбы Тирасиса и Друада – полушутливые, но настойчивые – привезти им пару канадских козочек с во-от таким выменем! Алина, добрая душа, привезла… И все кончилось бы тихо-мирно, так как контакты с девушками отнюдь не возбранялись и даже поощрялись, но тут козочкам пришла мысль осмотреть Мемориал., Вполне логичная, между прочим! Кто же, побывав в Грин Ривер, не заглянет на кладбище Аддингтон?… Вот и заглянули! Все остальное было элементарным следствием из вышеназванных причин, и Ричард мог лишь корить себя за непростительное простодушие. В конце концов, он отучился в Центре без малого год и стал наполовину профессионалом! Ну, не наполовину, так на треть… Вполне достаточно, чтоб вычислить всех коз и всех козлов в округе! Разумеется, у Тирасиса нашлась фляжка с ромом, а у Поля Друада с его пылким галльским темпераментом – три бутылки “Страсти”. Разумеется, их полагалось распить не в “Катафалке”, а только на могильных плитах, устроив затем маленькое шоу: канадские звезды в белье “филипс”, в чулках “голден лайт” – и ничего, кроме чулок и белья! Чулки, впрочем, уже свалились с прелестных манекенщиц, и Поль подбирался к белью, но в этот миг их компанию застукали. Так что шоу не закончилось оргией в ближайших зарослях, о чем Ричард Саймон, предпочитавший секс спиртному, искренне сожалел. От Леди Дот, само собой, не приходилось ждать ни сочувствия, ни снисхождения, ни пощады. У нее имелся рапорт администрации Аддингтон, а в Северном жилом блоке уже освободилась пара помещений – Друад с Тирасисом были подвешены к позорному столбу, распяты, отчислены и высланы из Грин Ривер. Друад вроде бы собирался вернуться домой, в Бордо, а вотТирасис… Палец Эдны Хелли шевельнулся, будто она выбирала местечко поаппетитней, куда стоило всадить пулю. Поговаривали, что она была отменным стрелком и во время Третьего Гаитянского Путчаразделалась с телохранителями Монтеги, а также с самим мятежным генералом и тремя его наложницами. Сейчас Ричард был готов этому поверить – как и прочим страшноватым байкам о подвигах неуловимой Леди Дот. – Вам хоть известно, стажер, чье захоронение вы осквернили? – Теперь ее палец нацелился Ричарду под пятое ребро. – Разумеется, мэм… Там же было написано… – Рада, что вы преуспели в грамоте, – Эдна Хелли поджала губы, снова сделавшись похожей на тетку Флоренс. – Так вот, вы развлекались на могиле Джека Кэбота, астронавта НАСА, который первым совершил посадку на Ганимед. – Мне помнится, он там и остался, – пробормотал Ричард. – Прах не нашли, корабль – тоже, и в могиле захоронена только фотография. Так что мы не устраивали половецких плясок над его костями. Леди Дот нахмурилась. – А! Значит, вам было известно, что погребение – символическое? Потому вы его и выбрали? – Так точно, мэм! Это было чистым враньем. На самом деле одну из монреальских подружек Алины звали Фелисией Кэбот, и она утверждала, что незадачливый покоритель Ганимеда ее предок. Впрочем, могла попасться и другая могила… Но Саймону казалось, что ни один из тысяч космических первопроходцев, захороненных в Аддингтоне, не возражал бы, если б три прелестные девушки станцевали над ним канкан. Им это было б приятней, чем торжественно-мрачные церемонии с возложением венков и долгими речами. К несчастью, мнением Ричарда Саймона, как и самих покойников, никто не интересовался. – Символическое погребение… – протянула Леди Дот, и лицо ее не то чтоб смягчилось, но стало слегка задумчивым. Зрачки уже не казались жерлами гаубиц или буравчиками, но были теперь похожи на шляпки гвоздей, а в уголках рта обозначились крохотные морщинки. – Символическое погребение… В рапорте об этом не сказано… Что ж, я готова признать, что тут имеются кое-какие смягчающие обстоятельства… Явного святотатства не случилось… – Ее взгляд обрел прежнюю остроту, насквозь пронизав Ричарда. – Возможно, агент-стажер, я не отчислю вас. Возможно… Это будет зависеть от результатов нашей дальнейшей беседы. Ричард выслушал это не дрогнув лицом, но в глубине души преисполнился сомнений. Казалось невероятным, чтоб Леди Дот чего-то не знала! А если знала, то почему смягчающие обстоятельства всплыли сейчас, а не в миг расправы с Друадом и Тирасисом? И почему с ним, Диком Саймоном, вообще толкуют, а не вышвыривают вон с крысиной челюстью на шее? Выходит, он как-то выделен… и, быть может, удостоится пощады… Но почему, почему? Конечно, Тирасис и Друад были сильно под хмельком, а он – трезв, как Четыре прохладных потока… Или тут другая причина? Так и не разобравшись с этой загадкой, Ричард Саймон мрачно уставился на носки своих форменных башмаков. Тем временем Леди Дот повернулась к клавиатуре, и крышка стола вдруг вспыхнула голубоватым матовым свечением. Прекратив созерцать башмаки и вытянув шею, Ричард увидел, как на экране разворачивается его досье – дюжина фотографий в различных позах, отпечатки пальцев и ретины, файл психофизиологических характеристик и еще какие-то данные – цифры, схемы, кодированные обозначения и слова, слова, слова… Во имя Четырех звезд, он никогда не думал – даже не мог представить, – что о нем собрано столько информации! За неполных девятнадцать лет! Леди Дот, не выключая экрана, откинулась в кресле и обозрела Ричарда с головы до ног. – Вы не пьете. Почему? Это был сложный вопрос, мучавший Саймона в течение всех проведенных в Грин Ривер месяцев. Вокруг все пили, можно даже сказать, упивались, а он предпочитал спиртному молоко, кофе и чай. В Соединенных Штатах, на щедрой разгульной Колумбии, это воспринималось как глупое чудачество, но он не мог себя переломить. Тайят не потребляли алкоголя, отец тоже следовал их примеру, а учебный компьютер “Демокрит” мог преподать лишь элементарные уроки по части ректификации спирта – само собой, в курсе химии. Разумеется, Ричард знал, что этот спирт, разлитый в бутылки с цветными наклейками, называют водкой и джином, бренди и коньяком, ромом и виски, а в некоторых случаях – вином; но лишь здесь, в Грин Ривер, ему предстояло постичь всю глубину и смысл сего элемента человеческой культуры. После двух-трех неудачных опытов он решил к нему не приобщаться, разработав подходящую легенду. Ее он и выложил Леди Дот. – Я не пью по религиозным соображениям, мэм. Я, видите ли, мормон. В горле Эдны Хелли что-то булькнуло, словно она подавила смешок. – Мо-о-рмон! Вот как! – Она коснулась какой-то строки в досье, тут же вспыхнувшей алым. – По мужской линии вы действительно происходите из Мормонской семьи, из Юты – не из нынешней Юты, а той, оставшейся на Земле… Но по женской – вы из православных русских, а они пьют все, кроме ослиной мочи. – Так ведь по женской, а не по мужской! – отозвался Саймон. – Женщины не пьют, мэм… я хотел сказать – много не пьют, даже у русских. А я вдобавок уродился в отца. – В отца? Вы так полагаете? – Леди Дот сделала паузу и вдруг задумчиво протянула: – Значит, в отца… С вашим отцом я встречалась… встречалась, агент-стажер… Ричард невольно насторожился. Он был готов прозакладывать оба уха и все десять пальцев, что в сверливших его глазах промелькнули тени неких ностальгических воспоминаний. Это было потрясающим открытием; он и представить не мог, что непробиваемая Леди Дот знакома с его отцом. – Ваш отец не питал и не питает склонности к религии, – сообщила ему тем временем Эдна Хелли. – Он такой же мормон, как я – папа римский или святая великомученица Елизавета. И вы не мормон. Вы пьете кофе! И чай! Горячий чай! К тому же вас вырастил человек… м-мм… точнее, человекообразное существо, лишенное всех и всяческих религиозных понятий! – Она погрозила Ричарду пальцем и добавила тоном ниже: – Не пытайтесь заморочить меня, стажер. Ложь – великое искусство, которым вам придется овладеть – в свое время и под руководством опытных наставников. А сейчас запомните, что агент Центрального Разведуправления должен научиться пить – что угодно, с кем угодно и где угодно. Хоть. в церкви, хоть на кладбище! Пить, не пьянеть и не встревать в глупые истории. Это тоже искусство, мой дорогой, и пусть Уокер вас научит. Кстати, я накладываю на него взыскание… – Длинные сухие пальцы Леди Дот пробежали по клавиатуре. – На него и, разумеется, на вас… Ричард щелкнул каблуками и незаметно перевел дух. Крысиные клыки, позорное изгнание миновали его, и теперь он был готов принять любую кару. Положим, накачаться до бровей и сплясать канкан на стойке “Катафалка”… Или пройтись по всем учебным лабиринтам, где рвутся капсулы с “хохотуном” и с “поцелуем Афродиты”, от коих сперва веселишься, а после плачешь да блюешь желчью и кровью… Или вскрыть компьютерный сейф-калейдоскоп, от чего происходит верчение в голове и дрожь в коленках, а перед глазами все двоится и троится, будто приложили тебя по затылку топором, чтоб без помех отрезать палец… Все эти пытки он вынес бы с честью, так как, овладевая приемами Смятого Листа, Звенящих Вод и прочих кланов, подвергался столь же тяжелым и унизительным испытаниям. Но Леди Дот – не Наставник Чочинга, мелькнуло у Ричарда в голове; она – человек цивилизованный, а значит, способна придумать пакости еще похлеще. Ожидая вынесения приговора, он размышлял о ее прозвище – конечно, неофициальном, не являвшемся служебным псевдонимом и не занесенном ни в какие файлы. Собственно, означало оно “точка” и считалось как бы косвенным свидетельством того, что Эдна Хелли умела расставлять точки над всеми “i” и не промахиваться по мишеням. Но Ричард Саймон, владевший тремя языками, воспринимал это прозвище во всем его многообразии, с удивлением отмечая, что оно годится повсюду и везде – как хорошо разношенный башмак, который можно натянуть и на левую, и на правую ногу. Леди Точка – на английском, а по-русски – дот, блиндаж или капонир, оснащенный парой пушечных стволов… На тайятском же “доот”, произнесенное с легким придыханием, означало “серый”, а этот оттенок был у Эдны Хелли излюбленным: серые глаза, серые волосы, серый форменный мундир и серая шляпка-шлем, положенная женскому персоналу Службы. Шляпка, кстати, тоже напоминала бетонный колпак дота, в чем Ричард усматривал чуть ли не перст судьбы. Со всех точек зрения Леди Дот была не просто точкой, а точкой Долговременной, Огненосной и весьма Труднодоступной. Расшифровав таким образом ее кличку, Ричард успокоился и стал ждать, когда дот откроет огонь на поражение. Эдна Хелли тем временем изучала его досье. – Успехи ваши весьма похвальны, – наконец буркнула она. – Очень неплохо, очень… Вождение глайдеров и прочих транспортных средств – балл “а”… летали на “ведьмах”, “ифритах” и “бумерангах”… отлично летали… Теперь методы скрытного десантирования – парашют, реактивная капсула, дельтаплан, акваланг-балл “а”… стрельба, подрывное дело, взлом электронных средств защиты – балл “а”… та-ак… боевая подготовка… хм-м… ну, здесь выше всяких похвал… кости ломать вы умеете… А что у нас с теоретическими дисциплинами?… Хм-м… Политология… структура служб ООН… связь… межзвездная транспортировка… Неплохо, но не блестяще, агент-стажер! Особенно что касается последнего предмета! Или вам не известно, что Пандус – основа основ современной цивилизации? – Известно, мэм, – откликнулся Ричард. Упрек был, безусловно, справедливым. Если не считать снов, повторявшихся с путающей регулярностью, месяцы, проведенные в Учебном Центре, почти изгладили воспоминания о тайятских лесах. Саймон, однако, подметил, что практика для него целебней теории. Успокоение наступало быстрей, если он бегал, стрелял, сражался на боевом помосте, гнал в автомобиле или прыгал с реактивным ранцем в океан, дабы затем высадиться на берег, обманув команду захвата и хитроумного Дейва Уокера. Все эти дела, служившие испытанием ловкости и физической силы, напоминали о детских годах и о Наставнике Чочинге, тогда как любой теоретический курс большей частью погружал Ричарда в прострацию; Правда, это не мешало ему сравнивать поучения Наставника с рекомендациями и советами преподавателей, но сравнение было не в пользу последних. Чочинга выражался куда яснее и называл все своими именами: смерть – смертью, а не ликвидацией, бегство – бегством, а не тактическим отступлением, муку – мукой, а не выжиманием информации путем болевого воздействия. Голос Эдны Хелли вернул Ричарда к реальности. – Вы будете заниматься всеми теоретическими дисциплинами, агент-стажер, пока не добьетесь оценки “а”. В первую очередь – межзвездной транспортировкой и Эпохой Исхода. Вы должны знать, какие проблемы стояли перед человечеством в ту эпоху, как они были разрешены и что мы имеем в результате. Кроме того, я полагаю, вам полезно заняться языками. Испанский, португальский и арабский не покажутся вам слишком большой нагрузкой? – Нет, мэм, – пробормотал Ричард. На испанском и португальском говорили в Южмерике и Латмерике, а также, само собой, в государствах, занимающих Иберийский континент Европы. Арабский считался основным языком всех стран Аллах Акбара, но был принят и в двух других Мусульманских Мирах, ибо на нем с правоверными говорил святой пророк. Так что Ричарду Саймону возразить было нечего. – Разумеется, – сказала Леди Дот, – вам предстоит тяжко трудиться, пока вы не добьетесь впечатляющих успехов в этих языках. А потому – никаких увольнений и никаких девиц из Монреаля, равно как из Нью-Йорка, Лондона, Рима и иных населенных пунктов этой планеты. Вам ясно, агент-стажер? Ричард с мрачным видом подтвердил, что ему все ясно, после чего был помилован и отпущен. Но не успел он переступить порог, как резкий голос Леди Дот заставил его обернуться. – Русский – один из ваших родных языков? – Так точно, – отрапортовал Ричард, томимый неясным, но тягостным предчувствием. – Тогда вам будет нетрудно изучить украинский. Через полгода вы должны говорить на нем в совершенстве. Сама я, к сожалению, не сталкивалась с украинским, но, как утверждают эксперты, это изумительный язык. Звучный, напевный, богатый… – Разрешите вопрос, мэм? – произнес Саймон, дождавшись паузы. Глава Учебного Центра одарила его подозрительным взглядом. – Вопрос? Ну, спрашивайте, агент-стажер. – Почему украинский, мэм? Почему не шведский, не суахили и не китайский? – Потому, – она многозначительно свела брови, – что на украинском говорят на Земле. Возможно, говорят… Мы так предполагаем… – Рука Леди Дот шевельнулась, указывая Ричарду на дверь. – Идите, стажер, и не задавайте лишних вопросов. Есть русская пословица – о любопытном, коему прищемили нос. Она известна на Тайяхате? – На Тайяхате советуют беречь уши, мэм, – ответил Саймон, покидая Кабинет. Вышел он в коридор в полном обалдении. Конечно, навесили ему преизрядных трудов, лишив к тому же увольнений и женского общества, но эти несчастья Ричарда не волновали. Труд есть труд: выполнишь, что положено, искупишь проступок, заслужишь похвалу, а все, что узнаешь, останется с тобой. И языки, и хроника Исхода, и все остальное и прочее, что полагалось выучить на высший балл. Равным образом не печалился агент-стажер насчет девиц из Монреаля и других населенных пунктов. Алина была не первой и не последней его пассией, так как девушек и в Центре хватало. Взять хотя бы Долорес, бразильянку с Южмерики, смуглую и знойную, как летящий над пустыней самум… С такой красоткой португальский выучишь за неделю! Но вот украинский… С ним была связана некая тайна, Ричард принюхивался к ней словно гепард к следам клыкастых крыс. Закрытый Мир Земли и украинский язык? Какая между ними связь? На лекциях по медиевальной истории ничего такого не говорили… Вроде бы не говорили… Или он прослушал? Помнилось ему, что в двадцать первом веке, в столетии Исхода, отношения меж Россией и Украиной были напряженными и спорили они о сотне различных вещей – о территориях и границах, о продвижении НАТО на Восток и о нефти, что текла на Запад, о кораблях и ядерном оружии, о старых долгах и новых субсидиях, что сочились скупым ручейком из Америки и Европы. Спорили с такой яростью, будто забыли о единых своих корнях и общих предках, о тяжком кровавом пути, пройденном вместе; спорили, не вспоминая о древнем своем достоинстве и о своих народах, но лишь прикрываясь их именами. Пандус разрешил эти споры и проблемы: Украина вместе с Польшей, Чехией и Литвой отправилась на континент Славению, в мир Европы, а Россия разделила свою новую планету с кавказцами, прибалтами и азиатами. И воцарился мир! Нечего делить – не о чем спорить… Все Стабильные Миры исповедовали этот принцип. Старая история закончилась, новая началась с начала. Так ли это, размышлял Ричард, спускаясь в лифте с административного этажа. Сейчас меж Россией и Украиной мир да покой, ибо пса и кошку разделяют три десятка светолет, но что таилось в самой истории их разделения? В том, что произошло столетия назад, в ту эпоху, когда Сергей Невлюдов еще не обнародовал своих открытий? Теперь Ричард был твердо уверен, что не читал и не слышал на лекциях о каком-нибудь историческом казусе, о событиях и фактах, разъяснивших бы загадочные речи Леди Дот. О Земле и других Закрытых Мирах говорили немногое, а писали и того меньше; никто не отрицал их существования, но истина была столь же недосягаемой, как и сами эти миры. Быть может, никаких истинных сведений вообще не было? Да и как их получишь, если блокирован Пандус? Однако – Земля и украинский язык… Ричард Саймон вышел из лифта на третьем подземном этаже, где находился спортивный комплекс, так и не разрешив этой загадки. Тайна по-прежнему волновала его, как и недавний разговор в высоком кабинете, и мышцы откликнулись привычной реакцией на эмоциональную нагрузку. Он ощутил их трепет, толчки крови в висках, готовность действовать, выплеснуть вовне нерастраченную мощь. Будто бы Дик Две Руки снова попал в тайятский лес и сейчас заскользит меж древесных стволов зыбкой тенью, помчится, разыскивая соперника, чтобы спеть ему песню голосом, ритуальными жестами и клинком… Такие приступы еще случались, но Саймон знал, как с ними совладать: секс, поединок или успокоительная медитация снимали стресс. Рассмотрев все эти возможности и отвергнув первую и третью, Ричард твердыми шагами пересек облицованный мрамором вестибюль. По обе стороны от входа в тренировочный зал высились изваяния каких-то древних героев с огромными мускулами, тоже мраморные, трехметровой высоты, на кубических пьедесталах, украшенных бронзовыми табличками. Ему пришла в голову мысль, что он так и не удосужился узнать, кто же стоит здесь в почетном карауле, взирая на поколения юных бойцов. Ричард остановился, подошел к одной статуе, потом к другой, прочитал надписи на табличках: левый колосс изображал Милона Кротонского с быком на плечах, правый – Арнольда Шварценеггера в позе дискобола. Два с половиной тысячелетия разделяли их, но оба смотрели на Ричарда Саймона с одинаковым вызывающим выражением мраморных лиц, будто говоря: мы – были, ты – есть… Так покажи, каков ты! Он шагнул в зал, к боевым помостам, на ходу расстегивая “молнии” комбинезона. – Решил поразмяться, парень? После выволочки? Тяжелая ладонь опустилась на плечо Ричарда, и он резко обернулся. Перед ним стоял Дейв Уокер, собственный его наставник, дьявол и ангел-хранитель в одном лице. Лицо, как всегда, было бледным, веснушчатым, со свернутым носом, и рыжие лохмы обрамляли его словно огненные языки белую эмалированную кастрюльку. На губах инструктора блуждала кривая усмешка. – Поразмяться? Хорошая мысль, сэр, – пробормотал Ричард, стягивая комбинезон и осматривая помосты в поисках достойного соперника. На крайнем разминался Селим, тридцатилетний турок с Сельджукии, полевой агент, весивший ровно центнер, но быстрый, как атакующая рысь. К тому же он имел еще одно достоинство – перед схваткой старался выполнить весь традиционный Ритуал Оскорблений – разумеется, в своей турецкой манере. И сейчас, заметив Ричарда, Селим скорчил свирепую рожу, напряг мышцы на левой руке, а кистью правой потряс у чресел. Мол, иди сюда, сосунок, я тебе вдую! Это мы поглядим, кто кому вдует, решил Ричард, повернулся к Уокеру и произнес: – Я наказан, сэр. Никаких увольнений и никаких девочек; полгода зубрить четыре языка и запивать спиртным. Вместе с вами, шеф-инструктор, до полного посинения. – Какие языки? – облизнувшись, деловито осведомился Уокер. Ричард доложил, и кривая ухмылка инструктора сделалась еще шире. – Испанский пойдет у нас под текилу, распорядился он, – португальский, разумеется, под ром, украинский – под горилку, а вот арабский… Дьявол, они же ничего не пьют! – Как насчет шербета? – подсказал Ричард. – Пополам с джином, – уточнил Уокер, хохотнув. – Как прикажете, сэр. Согласно полученным распоряжениям, я должен пить все, кроме ослиной мочи. – Что ж ты ослов обижаешь, парень? – Все еще усмехаясь, Уокер потер шрам на нижней губе. – Чем они хуже верблюдов или макак? Пить так пить! – Насчет верблюдов и макак распоряжений не было, сэр. Но есть кое-что еще. – Да? – Вас тоже наказали. Вынесли взыскание. Ухмылка Уокера завяла. Впрочем, он отличался немалой стойкостью ко всяким жизненным передрягам и потому лишь спросил: – Какое взыскание, стажер? Устное или в персональный файл? Поставлено на вид или – упаси Аллах! – отмечено несоответствие? – Не знаю, – Ричард пожал плечами. – Отчего бы вам не узнать самому? Прямо у нашей Леди? Его наставник недовольно скривил рот. – Учишь тебя, учишь, а все – дикарь! Без толка и понятия! Ты пошевели мозгами, парень! Кто же спрашивает у начальства, какое взыскание наложили? Если найдется такой болван, то будет ему и в персональный файл, и несоответствие по всем статьям, и коленом под задницу – без льгот и пенсии! Ричард с деланной наивностью округлил глаза. – Правда, сэр? А я-то думал, что в нашей конторе не доживают до пенсии… – Много думаешь, парень… много, но плохо, раз твой шеф получает взыскания, – буркнул Уокер. И добавил тайятское проклятие, коему научился у Ричарда: – Чтоб ты лишился всех пальцев! Иди-ка к Селиму. Пусть оборвет тебе уши и выбьет дурь! Минут через тридцать, когда Селим лежал бездыханный, а из Ричарда вышла вся дурь вместе с томившим его напряжением, он устроился на скамье у помоста, бок о бок со своим инструктором. Уокер вроде бы подобрел – наверное, прикинув, что науку о зеленом змие будет преподавать стажеру за казенный счет, с совместной проработкой всех учебных пособий. – Сэр… Уокер кивнул, разрешая говорить. – Один вопрос, сэр… Где я могу найти материалы о Земле? – Загляни в свой учебный компьютер. Свяжись с архивом ЦРУ. Ты что, разучился жать на клавиши? – Жму, но ничего полезного не выжать. История, история и опять история с географией… А что сейчас? Хмыкнув, Уокер искоса взглянул на него. – Земля – Закрытый Мир. Информация о Закрытых Мирах засекречена. Ее архив не выдаст. – Засекречена? От кого? От меня? От вас? От Леди Дот? Мы же сотрудники ЦРУ! – Я – сотрудник ЦРУ, а ты – леденец на палочке, – уточнил Уокер. – Ты стажер и будешь стажером еще лет пять, пока не дадут тебе статус полевого агента. А до тех пор ты… – … сопляк и полное дерьмо, – закончил Ричард. Это была одна из игр, которую он вел с Дейвом Уокером, следуя пути Смятого Листа: представиться дурачком и выудить что-нибудь интересное. Но Уокер был хитер, точно змей Каа, и редко попадался на крючок. Впрочем, отчего ж не попытаться? И Ричард, скосив глаза в сторону, задумчиво протянул: – Говорят, что кое-кто побывал на Земле. Даже отчет составил. На украинском… На том самом, который я буду изучать под горилку. Шрам на губе шеф-инструктора дрогнул, краешек рта пополз вниз, и Ричард Саймон узрел знакомую кривую усмешку. – Скажи-ка, парень, слышал ли ты о парагвайской корриде? Нет? Только об испанской да мексиканской? Ну, должен заметить, что Парагвай – это тебе не Мексика и не Иберия. Народец там, видишь ли, не просто горяч, а бешеного темперамента, работы на дух не выносит, а любит совмещать приятное с еще более приятным. Ты послушай, что они придумали, эти паразиты… Уокер откинулся назад, прикрыл глаза, и Ричард понял, что сейчас услышит очередную техасскую побасенку. Неважно, пойдет ли речь о Парагвае, о Египте или о городе Ташкент на планете Уль-Ислам, – басня все равно останется техасской, и будет в ней мораль, иногда ясная, а временами – скрытая… Ричард любил слушать эти истории, напоминавшие ему поучения Чочинги. – Значит, так, – начал Уокер, поглаживая шрам на подбородке. – Представь большую площадку вроде футбольного поля; с одной стороны – загоны для быков, а с другого края, метрах эдак в ста пятидесяти – помост со ступеньками. На помосте сидит красотка, и одежды на ней, сам понимаешь, почти никакой; сидит она, значит, и сверкает голыми ляжками. А от загонов бегут к ней по очереди мужики, и все как один – в красном. Ну, а вдогонку за парнями пускают быков… Фору дают, но небольшую, а бычки там резвые и свирепые, и рога у них, что вилы: хорошо, коль под задницу подцепит, а если под ребра? Словом, бегут мужики, и кто добежит до той голой телки и заберется на помост, тот и выиграл. Ну, а кто не добежит… – Уокер с печальной миной склонил голову, будто прислушиваясь к мелодии похоронного оркестра. – А что делает добежавший? – с интересом спросил Ричард. – Прыгает на девушку? – Это уж как она позволит, – откликнулся шеф-инструктор. – Но не было случая, чтоб красотка отказала герою… С другой стороны, и героев не больно много… Я же сказал – бычки в Парагвае резвые. И вот на одной из таких коррид уложили они ровно дюжину парней, а тринадцатым вызвался бежать техасец из Браунвуда… Уж не знаю, как и зачем он туда попал – то ли фальшивые доллары приволок, то ли еще какую контрабанду… В общем, бежать-то он решился, но сказал, что вначале желает поглазеть на своего быка – чтобы, значит, переброситься с ним парой слов. И в самом деле, подошел он к загородке и прошептал что-то быку на ухо, а потом припустил в поле – в красном плаще и красной шапке, но даже не сняв сапог со шпорами. И что ты думаешь?… – Уокер сделал многозначительную паузу. – Добежал-таки, стервец! Собственно, дошел не торопясь и присосался к красотке, а бык ковылял за ним в двадцати шагах, развесив губы и вытянув хвост. Представляешь? – Еще как! – откликнулся Ричард. – Ну, потом начали у техасца выпытывать, что ж он такое шепнул быку. Техасец секрет выдавать не хотел, но когда подступили к нему с дубинками и ножами, – а народец в Парагвае, как было сказано, горячий! – пришлось ему объясниться. Я, говорит, бычку нашептал: “Не торопись, парень! Будет мне телка, будет и тебе!” Фыркнув, Ричард покосился на помост. Турок Селим уже оклемался и теперь сидел, привалившись спиной к канатам, и мрачно подсчитывал синяки. Сейчас он был похож на участника парагвайской корриды – из тех несчастливцев, коим так и не удалось добежать до телки. Уокер пригладил рыжую шевелюру. – Вот и ты, стажер, не торопись. Не торопись! Бега твои будут еще долгими, и ты не спеши меня догонять… Меня и всех остальных, кто знает больше, а может, меньше. Все мы участвуем в забеге, и гонятся за нами всякие беды, болезни и раны, и коль не догонят они нас, так попадем мы в объятия красотки на помосте. А у нее уж и ящик сколочен, и крышка сдвинута, и черные бантики висят по краям… Так что не торопись! Ричард кивнул, подумав, что для его шеф-инструктора жизнь была парагвайской корридой, но в сущности все это мало чем отличается от тайятских лесов. Какая разница, где и с кем вступить в состязание – здесь, на боевом помосте, в лесу четырехруких воинов или в поле, где мчатся резвые бычки с остроконечными рогами… Оружие разное и разный противник, но суть одна: победа или поражение. Так что слова Уокералишь подтверждали сказанное Чочингой: у всякого племени есть свой лес и место для битв. У вас, двуруких, тоже. Ищи и найдешь! Кажется, он нашел. Свежий морской ветерок крался к скамье Ричарда. Временами, будто предлагая поиграть, он налетал сильным порывом, шелестел листвой и страницами книг, разложенных на скамейке, овевал прохладой разгоряченную кожу. С протяжным свистом он кружил над плоской кровлей жилого блока, засаженной магнолиями, и одуряющий аромат больших белых цветов перебивал принесенные им с моря соленые терпкие запахи. Если прищуриться и глядеть только на солнце, можно представить, что находишься где-то на склонах Тисуйю, сидишь под деревом шой с огромными пятипалыми листьями и ждешь, когда мягкая ладошка Чии коснется твоего плеча… Но Чия осталась в прошлом – как и весь мир Тайяхата, хоть и не уступавший Колумбии яркостью красок, однако не столь ухоженный и безопасный. Тайяхат был таким, каким сотворили его стихии, а Колумбия в определенном смысле являлась творением человеческих рук, придавших ее континентам и островам если не полностью земные, то отчасти приближенные к ним формы. Еще в Эпоху Исхода этот мир подвергся терраформированию, и теперь два его материка, Новый Свет и Старый, напоминали слипшиеся вместе Америки и Африку с Евразией, с огромным Австралийским архипелагом, лежавшим меж главных континентов. Такая ситуация была отнюдь не редкой. В Правобережье, в родных для Ричарда краях, земные имена давали рекам и озерам, долинам и горам, а на планетах Большой Десятки стремились повторить земную географию – пусть не в подробностях и дета-, лях, но в общих чертах. Человек по природе своей консерватор и не ищет нового, если доволен привычным и прежним. И потому мир, раскрывшийся перед Ричардом с вершины двухсотметровой жилой башни, гораздо больше походил на Землю, чем Тайяхат с его повышенной гравитацией и шести-лапым экзотическим зверьем. Как на Земле, текла здесь к океану в зеленых берегах спокойная речушка Грин Ривер; как на Земле, стояли за ней корпуса древнего университета, тянулись кварталы уютных домиков и вилл, маячили небоскребы городского центра с посадочными вертолетными площадками; как на Земле, обнимали речную долину холмы с разбросанными тут и там зданиями – комплексом Центрального Разведуправления, его штаб-квартирой, перебазированной сюда из Лэнгли еще в медиевальную эпоху. Даже кладбище Аддингтон было земным: земной камень лежал на могилах, носились над ними земные голуби и воробьи, и прах ушедших в небытие героев стерегли земные кипарисы. И все это называлось Америкой, все это было Соединенными Штатами, лежавшими, как на Земле, между Мексикой и Канадой, между одним океаном и другим. Но океанов в этом новом мире было только два, Атлантический и Колумбийский. Мир, покой, тишина… Воздух, пронизанный солнечным светом, золотистый песок у синих океанских вод, поросшие соснами холмы, маленький городок, дремлющий за рекой… Вертолеты, парящие в небесах будто стайка разноцветных пестрых мотыльков… Глайдеры на дорогах… Промышленные комплексы под землей… Станки и роботы, роботы и станки – по сотне на каждого человека… Рай! Новый Эдем! Самый благополучный, самый могущественный, самый богатый из всех Разъединенных Миров! Ричард пошарил за спиной. Пальцы его сомкнулись на горлышке бутылки из темного толстого стекла; она была горячей, нагретой солнцем и едва не обжигала ладонь. Пить теплое бренди в такую жару… Лучше удавиться! Но приказ есть приказ: пей, стажер! Пей и закусывай! Ром – португальским, текилу – испанским, джин – арабским, а бренди – историей медиевальных времен… Самым мерзким из этих напитков была текила, и потому успехи Саймона в испанском оставляли желать… Он отхлебнул глоток, поморщился и возвратился к чтению. Монументальный том “Хроник преобразованного мира” надлежало освоить за месяц, и Ричард уже добрался до середины. Он мог бы двигаться и побыстрей, но наука пополам с горячительным усваивалась хуже – даже регулярные медитации не позволяли сохранить ясность в мыслях, а лишь неудержимо клонили в сон. Ричард, однако, не сдавался, полагая, что кровь предков с материнской стороны рано или поздно явит свою магическую силу. "Хроники” были трудом увесистым и капитальным, где всякая проблема, технологическая либо историческая, трактовалась с гораздо большей подробностью, чем в лекциях незабвенного “Демокрита”. И Саймон был уже не мальчишкой; ум его, любознательный от природы, приобретал все большую протяженность и глубину – вполне достаточную, как он надеялся, чтобы вместить премудрости “Хроник”. В них утверждалось, что в Галактике более ста миллиардов звезд, и примерно пятая часть из них имеет спутники с планетарными массами, сложенные из твердых пород и, как правило, окруженные атмосферой. Разумеется, землеподобных миров было гораздо меньше – ведь в соответствии с диаграммой “спектр-светимость” значительная часть звезд относится к красным карликам или гигантам, а также к высокотемпературным светилам классов О и В «Диаграмма “спектр-светимость" – диаграмма Герц-шпрунга – Ресселла, связывающая спектральный класс звезды с ее светимостью. Основных спектральных классов насчитывается семь: О, В, A, F, G, К, М; началу этой последовательности соответствуют звезды с температурой поверхности 30 000-50 000 градусов (класс О, голубые гиганты), а концу – звезды с температурой около 3 000 градусов (класс М, красные карлики). Солнце – желтая звезда класса G.», сравнительно с коими Солнце Земли – точно свеча рядом с мощным прожектором. Имеются также кратные звездные системы, состоящие из двух, трех либо четырех самосветящихся объектов, в которых планетарные тела движутся по сложным траекториям, – и в результате сильного перепада давлений и температур такие миры не способны поддерживать жизнь. Бертрам Дьюдени, автор “Хроник”, полагал, что число землеподобных планет не слишком велико – от одной до десяти на каждый миллион звездных систем, обладающих спутниками (в примечаниях говорилось, что эта статистика вытекает из исследований, проведенных с помощью трансгрессора). Тем не менее, если даже исходить из самых пессимистичных оценок, таких миров в Галактике было порядка двадцати тысяч. Сама собой напрашивалась гипотеза, что по своим физико-химическим свойствам и способности поддерживать жизнь они распределены по нормальному закону и, таким образом, немного отличаются от Земли в лучшую либо худшую сторону. Но тот же закон нормального распределения предсказывал, что отыщется сравнительно небольшое число планет, которые, при общей их землеподобности, должны быть много лучше или много хуже Земли. “Если угодно, это математическое доказательство существования рая и ада, – писал Дьюдени, – а мы, конечно, в Эпоху Разъединения искали рай. И рай был найден – причем не в единственном числе! Мы знаем сейчас около полусотни таких благоприятных планет, причем двадцать шесть из них, заселенных во второй половине двадцать первого столетия, упоминаются в классификации ООН как Большая Десятка и Независимые Миры. Таким образом…” Ричард снова отхлебнул из бутылки. Жгучий напиток опалил гортань, прокатился по пищеводу, а через пару секунд в желудке запылал пожар. Пойло, выданное за казенный счет, было дешевым, резким и крепким; гнали его в Мичигане, и потому называлось оно “Пять Великих Озер”. Зажмурив глаза, Ричард подумал, что с одним озером он бы справился, но пять – это уже многовато. Как бы не потонуть! Душу Ричарда терзали воспоминания о тех спокойных временах, когда Чочинга подвешивал его к древесной ветви и гонял по раскаленным угольям, а Ниссет и Най, жены Наставника, поили кобыльим молоком, смешанным с птичьими яйцами. Тот еще был коктейль! Но мичиганское зелье казалось Ричарду еще омерзительней. Он обреченно вздохнул и перешел к очередному разделу, где говорилось о Пандусе и проблемах межзвездной транспортировки. Теория трансгрессии или мгновенных пространственных перемещений; практическим следствием коей явился Пандус, была разработана в двадцать первом веке Сергеем Невлюдовым, петербургским физиком, не проявлявшим прежде никаких признаков гениальности. Его ранние работы не сохранились, но бытовало мнение, что он занимался компьютерным моделированием молекулярных структур и их классификацией – то есть вещами, столь же далекими от теории единого поля и геометрии пространства, как холодильник от ядерного реактора. Однако он каким-то чудом изобрел трансгрессор, создав необходимую теорию, исполнив все сложнейшие расчеты и доведя их до практической конструкции. Результат в 2004 году был передан через компьютерную сеть в сотни научных центров, и это неоспоримо доказывало, что Невлюдов считал свое открытие принадлежащим всему человечеству, а не одной лишь России. Затем он исчез, оставив весь научный мир в недоумении и потрясении. Какие духи, джинны или космические пришельцы одарили его идеей Пандуса, являлось тайной за семью печатями на протяжении последних четырех столетий. Специалисты, техники, историки и политики, считали Пандус самым значительным достижением человеческой цивилизации. Суть теории Невлюдова заключалась в развитии представлений об истинной геометрии пространства, основы которой были заложены еще Лобачевским, Риманом, Минковским и Эйнштейном. Он доказал – разумеется, математически, – что при определенных условиях две геометрические точки могут быть совмещены; расстояние между ними как бы исчезает, и любой объект, будь то живое существо или бездушная каменная глыба, можно перенести из пункта А в пункт Б мгновенно, затратив некую энергию на сам процесс совмещения. Дистанция переноса была неограниченна, но при небольших расстояниях, до сотен тысяч километров, трансгрессорный переход оказывался экономически невыгодным и неспособным конкурировать с такими транспортными средствами, как самолет, монорельс или глайдер-электромобиль на воздушной подушке. Зато что касается звезд… Ричард пропустил пару страниц с критикой неверных представлений о Пандусе, бытовавших среди неспециалистов. Все это он знал: что Пандус не имеет ни малейшего отношения к телепортации и телекинезу и что человека, шагнувшего в его устье, вовсе не разбирают по винтикам на этой стороне и не собирают на т о и. Дело было сложней и заключалось в определенном искривлении пространства сильным электромагнитным полем, причем весь процесс распадался на две стадии: первую, поисковую, когда поле вытягивалось длинным щупом или тоннелем, позволявшим обнаружить тяготеющую массу; и вторую, когда подобный трубе коридор мгновенно охлопывался, соединяя стартовую и финишную точки. Затем – единственный шаг, и вы в неведомых мирах! Эта картина взволновала Ричарда, и он почти инстинктивно отхлебнул из бутылки. На сей раз жидкость из “Пяти Озер” показалась ему вполне сносной – во всяком случае, не таким омерзительным зельем, как мексиканская текила. При мысли о ней он сплюнул и снова углубился в книгу. Итак, согласно теории Невлюдова, вначале формировался гибкий щуп, нечто вроде поискового луча, коим можно было сканировать окрестности любой звезды – разумеется, с помощью штурман-компьютеров, ориентирующих луч в необходимом направлении. Успешность сканирования определялась многими факторами, и в частности, массой искомых объектов, ибо планетарные тела можно было обнаружить с гораздо большей легкостью, чем астероид диаметром в лигу. Но это обстоятельство зависело лишь от точности ориентации луча и чувствительности приемных устройств; что же касается принципиальной стороны, то поисковый луч мог отыскать песчинку на расстоянии сотни парсек. И если песчинка (или планета,которая тоже являлась крошечной песчинкой Мироздания) была разыскана, щуп тут же схлопывал-ся, превращаясь в кольцо или Раму, не имевшую толщины,” но достигавшую в двух плоскостных измерениях любого заданного масштаба. Ею можно было накрыть пчелиный улей или целый город, сотню пчел или сотню человек – накрыть и перенести в мир иной, затратив должную энергию, весьма немалую, если речь шла о солидной и оснащенной техникой экспедиции. Однако эти затраты не превышали разумных величин, так что Исследовательский Корпус на стадии Разведки отправлял ежегодно по тридцать-сорок групп, укомплектованных всеми мыслимыми средствами – вплоть до громоздких вездеходов, энергостанций, бронированных убежищ и морских лабораторий с батискафами и подлодками. Затем наступила очередь городов. Как выяснилось, расход энергии значительно снижался, если переходной тоннель поддерживали с обоих направлений, с точки старта и с точки финиша. Таким образом, всякий новый мир, представлявший хоть какую-то ценность, был потенциальной строительной площадкой – и, после монтажа соответствующих устройств, мог принять миллиарды тонн полезных грузов по вполне приемлемой цене. Это позволяло транспортировать не только вездеходы и батискафы, но целые города со слоем почвы и скальным основанием. Это позволяло перенести лес, озеро или реку со всей прилегающей территорией, передвинуть горный хребет – либо вышвырнуть его на космическую свалку, освобождая место для поселений, равнин или рукотворных морей. Это было, разумеется, чем-то большим, нежели новый способ преодоления пространств – без космолетов и ракет, ионных двигателей или фотонной тяги; это было дорогой к иным мирам и в то же самое время давало возможность преобразовать их, благоустроить и заселить. Без чудовищных затрат и жертв, так как человек мог отправиться к звездам со всеми своими богатствами, накопленными за тысячелетия. И это не являлось оружием. Конечно, Пандус, как едва ли не всякое изобретение, можно было использовать в военных целях. Например, перебросить в мир противника эскадру боевых межпланетных кораблей, обрушить на него ракеты и новомодные фризерные бомбы, либо целую гору или астероид. Имелся, однако, простой, но эффективный способ защиты от внешней агрессии: высокочастотный сигнал, модулированный особым образом и излучаемый во всех направлениях. Эта помеха препятствовала точной ориентации поискового луча, который нащупывал лишь протяженный и непроницаемый сферический барьер, но не породивший его источник. Сравнительно маломощные передатчики, упрощенный аналог радиотелескопов, могли прикрыть всю звездную систему на расстояние двух-трех светолет, блокировав каналы Пандуса и любую попытку проникновения извне. Подобные устройства разработали давно, еще в Эпоху Исхода, и теперь почти каждый из Разъединенных Миров обладал необходимыми оборонительными средствами. В том был заключен еще один, весьма глубокий смысл, отражавший современную доктрину равновесия: межзвездные транспортные линии находились под эгидой ООН, но планетарные власти могли перекрыть их в любой момент. Такие случаи бывали – правда, не в развитых и густонаселенных звездных системах. Земля, закрытая неведомыми силами в конце Эпохи Разъединения, считалась классическим примером, но были и другие миры, куда не дотягивалось щупальце Пандуса. Дьюдени, автор “Хроник”, их не называл, ограничившись лишь констатацией факта; зато целый Параграф посвящался способам проникновения в Закрытые Миры. Ричард, временами прихлебывая из бутылки, прочитал его с великим интересом. Способов имелось всего два, и ни один из них не был реализован на практике. Во-первых, делались попытки (пока безуспешные) пробить сферу помех высокоэнергетическим импульсным лучом; но если б это удалось, то возникала проблема стабилизации связи. Проще говоря, на сколько секунд, минут или часов можно совместить стартовую и финишную точки? Этот вопрос касался не только ученых, но также разведчиков и военных: чтоб перебросить боевые корабли, нужны мгновения, но что потом? Даже мощный флот, оторванный от базы, мог проиграть битву – или, наоборот, выиграть ее, но слишком дорогой ценой. Тактика выжженной земли была абсолютно неприемлема для Карательных Сил ООН, и эту точку зрения разделяли все планетарные стратеги, кроме откровенных “ястребов”. Второй способ заключался в переброске флотилии или кораблей-разведчиков на границу сферы помех. В таком случае им пришлось бы преодолеть расстояние в два световых года, что было в настоящий момент нереальным: самый скоростной из существующих кораблей затратил бы на такое путешествие целый век. Тут оставалось лишь рассчитывать на перспективу, на появление фотонных двигателей и звездолетов, способных добраться в любую точку Галактики. Над этой проблемой трудились во многих мирах, где –явно, а где, быть может, тайно. И сделать тайное явным было одной из задач ЦРУ. "Пять Озер” существенно обмелели, когда Ричард добрался до конца главы. Читал он быстро и вскользь, так как многое было ему известно из лекций “Демокрита” и нынешних его преподавателей, а кое в чем он мог положиться даже на собственный скромный опыт. Помнилось ему – еще со смоленских времен, – что Пандус выглядит будто наклонный тоннель в серебристой Раме, дальний конец которого заволакивает мгла; и чем большее расстояние необходимо преодолеть, тем дальше смещается в фиолетовую часть спектра оттенок этой дымки. Большинство Разъединенных Миров лежали в красном или оранжевом диапазоне, желтый примерно соответствовал центральным областям Галактики, зеленый – ее самым далеким спиралям, а темно-синяя гамма – внегалактическим объектам. По длине волны, излучаемой активированным Пандусом, можно было определить финишный мир, если принять стартовый за условное начало координат. Такой точкой в системе Транспортной Службы являлся Нью-Йорк, где под зданием древней штаб-квартиры ООН был установлен реперный Пандус, совмещенный со спектроанализатором, измерявшим длины волн с чрезвычайно высокой точностью. Штурман-компьютеры всех прочих трансгрессо-ров имели банк данных и навигационные программы для корректировки реперных отсчетов в соответствии с расстоянием до Колумбии. Эти же устройства ориентировали поисковый луч и осуществляли схлопывание тоннеля. Все это Ричард Саймон знал, а потому с сознанием выполненного долга отложил “Хроники”. Все пять “Великих озер” единодушно показали дно, и казалось странным, что сам он почти не захмелел – только перед глазами маячила изумрудная дымка, словно он собирался шагнуть в устье Пандуса и перенестись на другой конец Галактики. Но туман этот к звездным странствиям отношения не имел, а являлся всего лишь листвой магнолий, темневшей и мрачневшей с каждым мгновением, по мере того, как солнце тонуло в океанских водах. Был поздний вечер; сад на кровле жилой башни опустел, по его дорожкам поползли роботы-уборщики, и только в дальнем углу, на теннисном корте, еще раздавались азартные выкрики и тлели ранними звездами огоньки сигарет. Ричард встал, обогнул скамейку, шагнул к краю крыши. Отсюда можно было разглядеть тянувшуюся к востоку цепочку холмов и корпуса Разведуправления, высокие или приземистые, затаившиеся в распадке или на склоне или седлавшие с гордостью гребень холма подобно старинным рыцарским замкам. И под одним из них, под каким-то из зданий, таилось в земных глубинах обширное помещение с высоким сводом, бетонными стенами и серебристым прямоугольником Рамы. Служебная станция Пандуса… Место, откуда агенты – настоящие агенты, не стажеры! – отправляются в путь… Ричард никогда не видел ее, но представлял почему-то совсем не такой, как в Смоленске, – не озаренной светом, не разукрашенной арками и фресками, а облаченной в суровый серый бетон, в полумрак, в тьму амбразур, откуда хищно выглядывают стволы огнеметов, эмиттеров и скорострельных “хиро-сим”. Пожалуй, он не сумел бы объяснить, отчего представляет станцию именно так, а не иначе, но инстинктивно ему казалось, что дела серьезные должны вершиться в сумраке и тишине. А ЦРУ занималось только серьезными делами. КОММЕНТАРИИ МЕЖДУ СТРОК В комнате, разделенные длинным узким столом, сидели двое. Свет был неярок, и лицо женщины казалось смазанным, будто обозначили его тремя-четырьмя мазками небрежной кисти: вот – общий контур, вот черточка – рот, еще одна – глаза и брови, а под конец – серый завиток, изображающий прическу. Мужчина, бледный и рыжеволосый, устроился под световым плафоном, но и его черт было не различить – длинные пряди свисали на лоб, прикрывали уши и щеки. Впрочем, эти двое пришли сюда не любоваться друг на друга. – Запись включена, – сказала женщина. – Говорите. – Удовлетворительно, – произнес мужчина, – вполне удовлетворительно. Это общая оценка, но если коснуться физических показателей, то они превосходны. Идеальное здоровье, сила, гибкость и быстрота. Редкое сочетание! Плюс поразительная выносливость и уникальная техника борьбы – с любым оружием или без оного. Женщина кивнула. – Вы же знаете, откуда он и кто был его воспитателем. – Конечно, мэм. Знаю, но не перестаю изумляться. – Изумление оставьте при себе. Итак, физические показатели превосходны, но ваша общая оценка – удовлетворительно. Почему? – В соответствии с вашим приказом, мэм, мы, отбирая контингент для этого… гм-м… проекта, вначале ориентируемся на физические данные. Но это лишь необходимое условие, недостаточное. Все остальное – психология… – мужчина неопределенно пошевелил пальцами. – А психология, в отличие от стрельбища и боевого помоста, не дает сразу ясных ответов. Их надо ждать какое-то время – год, два или три. А что я вижу сейчас? Умен, упрям, уверен в себе – хорошо! Мечтателен и несколько наивен – плохо! Любит женщин, но не теряет головы – хорошо! Пьет с отвращением – плохо! Контактен, но не поддается чужому влиянию, стремится к славе и успеху – хорошо! Не жесток – плохо! – Сделав паузу, рыжеволосый криво усмехнулся. – В целом выходит удовлетворительно, мэм. – Не жесток? – Лоб женщины покрылся морщинами. – Да у него же руки по локоть в крови! Потому он здесь, а не за рекой в гуманитарном колледже. Это его ожерелье… – Ожерелье, мэм? Из костяшек пальцев? Впечатляющая штучка! Пока он резал свои трофеи, кровищи не по локоть натекло, а до бровей! Но вспомните, к т о был его противником? Женщина нахмурилась. – Вы хотите сказать, шеф-инструктор, что фохенды – не люди? – Помилуй бог! Я, мэм, не расист, я – добропорядочный чиновник ЦРУ… вы же меня двадцать лет знаете… Я хотел только подчеркнуть, что наш подопечный убивал мужчин – и не просто мужчин, а воинов, равных ему во всем, кроме количества рук. Разве это убийство? Убийство – прикончить слабого. Женщину. Старика. Ребенка… – Это уже патология, Дейв. В таком случае он был бы непригоден для наших целей. – Патология? Но вы сами, мэм… На Гаити… Глаза женщины вдруг стали темными и бездонными, как дульный срез пистолета “амиго”. – Я выполняла свой долг! – отрезала она. – И потом, я – женщина! Значит, имею право убивать женщин. Тем более потаскух. – Выходит, сам я и потаскуху прикончить не могу? – искренне удивился рыжий. – Оч-чень своеобразная точка зрения! Но спорить не смею, мэм. Я лишь намекнул на сложность моей задачи. – Я вам ее не навязывала. Предполагалось, что его будет курировать Барух Нахим. Барух – человек уравновешенный и спокойный. А вы – ковбой! Вы сами влезли в это дело! И что же теперь? Не знаете, как объездить жеребца? Рыжеволосый ухмыльнулся и оглядел комнату. Она называлась Первой Совещательной и была такой же узкой, как стол, протянувшийся меж торцевыми стенами. Окон в ней не имелось, зато на двух длинных стенах висели портреты мужчин в штатском и в мундирах. Одежды их были разными, но лица великих разведчиков, независимо от мест службы (коими могли оказаться ГПУ или ФБР, МИ-б или КГБ, Сюртэ Женераль или Моссад), отличались одинаковым сосредоточенно-хмурым выражением. Напротив, прямо над головой женщины, висел портрет генерала Вернона Келла «Верном Келл-руководил более четверти века управлением МИ-5, британской службой контрразведки», при всех регалиях и орденах. Рыжий подмигнул ему и сказал: – Объездить жеребца, мэм, невелик труд и никакого риска. Только мой-то – не жеребец! В той дыре, откуда он родом, есть шестилапые монстры – вроде гепардов, но покрупней и позубастей. Вот это – он! Охотничий зверь, мэм! И где такого натаскаешь? – Хм-м… Латмерика подойдет? – Вполне. Или Аллах Акбар. Не зря же парень зубрит арабский! – Или Аллах Акбар, – повторила женщина, согласно кивнув. – Но не сейчас, ковбой, не сейчас. Вы правы, психология не дает быстрых ответов, их надо ждать. И мы подождем. Они помолчали, затем рыжеволосый осторожно спросил: – А как дела у других кандидатов? Я слышал, их трое, мэм? – Другими кандидатами занимаются другие инструкторы, – отрезала женщина. – Не стройте из себя болвана, Уокер! Сядете в мое кресло – будете задавать вопросы! Рыжий покорно склонил голову. – Прошу прощения, мэм… Это все мое техасское любопытство. Вы знаете, как-то раз в Дель-Рио, на самой мексиканской границе… – Историю, как любопытный техасец съел койота, я уже слышала. Жаль, что не наоборот! – Женщина погрозила рыжему длинным сухим пальцем. – Вы повторяетесь, Уокер! – Еще раз прошу прощения, мэм! Я, собственно, хотел сказать, что парня, съевшего койота, звали Клыкастый Дик. Неплохая кличка, верно? Женщина, задумавшись, подняла взгляд к потолку, затем покачала головой. – Мне не нравится. Слишком в ковбойском стиле и не отвечает ни внешним данным, ни внутреннему содержанию. – Кстати, каким именем звали его фохенды? – Оно очень длинное, мэм. Дик Две Руки из клана Теней, Ветра, сын Саймона Золотой Голос. – Выбросьте все, кроме тени и ветра. Это подойдет. Зафиксируйте псевдоним в компьютере. В файле стажеров второго года обучения. Позже я заверю его своим шифром. – Слушаюсь, мэм! Свободен, мэм? – Нет. – Казалось, женщина колеблется. – Значит, у фохендов его звали сыном Саймона Золотой Голос? А что еще он рассказывал вам об отце, Уокер? Выкладывайте, и со всеми подробностями! Хоть я и родилась в Огайо, но тоже любопытна. Ничуть не меньше техасцев.Глава 6
День начался неудачно. А закончился еще хуже. Потянулось с ночи, которую Саймон провел не у себя, а в постели Долорес Чинта, смуглой черноглазой бразильянки, преподававшей в Центре португальский и испанский. Она была лет на семь постарше его, отличалась огненным темпераментом и обожала синеглазых мускулистых парней – желательно блондинов шестифутового роста. Ричард вполне соответствовал всем этим требованиям, и потому их дружба с Долорес крепла изо дня в день, из ночи в ночь. За пятнадцать месяцев он вполне освоился с испанским и португальским, а также превзошел все тонкости и деликатные приемы, коим опытная и страстная любовница может научить юного неофита. При всем том Долорес, не в пример ревнивой манекенщице Алине, была женщиной широких взглядов и не возражала против занятий Ричарда арабским с Курри Вамик, агентом-стажером из Ирака. Полное имя Курри было Курратул-Айн, и значило это “услада взоров”. Но взорами у них с Ричардом Саймоном дело не ограничилось, так что теперь он постигал арабский в темпе вальса. Разумеется, тогда, когда не занимался португальским. Вчерашние занятия были очень плодотворными и завершились в три пополуночи. Затем он уснул, прижавшись щекой к полным золотистым грудям Долорес; уснул и увидел сон, не тревоживший его уже побольше года. Первая серия разворачивалась как бы на планете Колумбия, у морского побережья, канадского или японского, куда ему предстояло десантироваться с “летающего крыла”, чтоб уничтожить ракетную базу на тренировочном полигоне. Обычное учебное задание, думал Ричард, вглядываясь в скалистые берега, поросшие соснами да елями, и размышляя, где ждет его Дейв Уокер с молодцами из группы перехвата. В лесу? Или среди прибрежных утесов? Или на периметре объекта? Скорее всего и здесь, и там, и тут… Он понимал, что видит сон, но даже во сне мысль о хитроумном техасце не покидала его, заставляя тревожно хмуриться. База внизу была как на ладони – торчала среди деревьев россыпью серого и серебристого. Колючая проволока, пункт. управления, решетчатая полусфера радиолокатора, пусковые шахты, направляющие аппарели… Сорок ракет класса “Розовый Дьявол” на эстакадах, по пятнадцати “Вельзевулов” и “Огненных Мечей” в шахтах… Еще – дюжина СИГов, самонаводящихся импульсных гаубиц-лазеров, носивших выразительное название “Содом и Гоморра”… В общем, штатный ракетный комплекс “Ариман”, ячейка ракетной сети “Валь-халла” либо “Апокалипсис”, какие использовались в высокоразвитых Стабильных Мирах – разумеется, лишь с целью космической обороны. Задача агента-стажера Саймона заключалась в том, чтоб вывести из строя системы управления оружием с помощью “вопилок”. Эти “вопилки” совсем не походили на те, которые пугали ультразвуком змей да рогатых кабанов на Тайяхате; они предназначались для создания помех и начисто вырубали вражескую электронику. Размер их не превышал песчинки, но от такого песочка, подброшенного куда следует, “Ариман” становился полным импотентом: приходи и бери тепленьким. Едва Ричард подумал о своем задании, как “крыло” исчезло, а он взвился в воздух, подброшенный ударом катапульты. Затем началось стремительное падение – вероятно, его выбросили не с парашютом, а с ракетным ранцем и посадка предполагалась не на сушу, а прямиком в морские воды. Как бывает во сне, этот этап операции куда-то провалился, и Ричард вдруг обнаружил, что крадется вдоль темных отвесных утесов, что его комбинезон и шлем покрыты соленой влагой и что в руках он сжимает цилиндр метателя. Он выстрелил, целясь в нависший над ним карниз; серая тонкая нить, разматываясь, сверкнула на солнце, стрела с негромким стуком впилась в камень, и цилиндр тут же потянул Ричарда вверх. Он полез на скалу, быстро перебирая ногами и крепко стиснув рифленый ствол метателя в левой руке; правую оттягивал “рейнджер”, снаряженный, конечно, не боевыми патронами, а шариками с “хохотуном”. Ричард лез и прикидывал, как перевалится через гранитный гребень, как выставит над камнями шлем – чтоб пощекотать нервы ребятам Уокера; как – ежели они начнут стрельбу – обойдет их с фланга, даст две-три очереди и ринется в лес; а коль стрелять не будут, значит, проморгали его высадку или шеф-инструктор задумал какую-то гадость. В таком случае надо будет полежать с полчаса да обозреть окрестности, сделавшись травой среди трав или камнем среди камней… Или мраком во мраке, или отпечатком ступни на воде… Как учил Чочинга… А после змеей ускользнуть в сосняк… в чащу, в кусты, в подлесок… только его и видели… Но когда он поднялся наверх, на скалы, сосен и елей там не было, и не было бойцов Карательного Корпуса ООН, нынёшних его противников в игре, не было рыжего Дейва Уокера – и, разумеется, не было базы. Начиналась вторая серия сна: перед ним раскинулся тайятский лес из неохватных деревьев чои, а в промежутках меж ними Ричард узрел гряду каменистых холмов, подобных гигантским пням – столь крутыми были их склоны, а вершины казались срезанными косой. Он сразу узнал это место; а за ответом на вопрос “где?” явился и второй ответ – “когда?”. Именно тогда он пробыл в лесу восемь месяцев и ожерелье его потяжелело, спустившись ниже груди; именно тогда Чоч, сын Чочинги, уже не старался прикрыть его от ударов и он точил клинки дважды в день, на рассвете и на закате, – и не было дня, чтоб они не окрасились кровью… Как и у тех каменных пней, в сотне лиг от мирной земли Чимары… Их было трое – Читари Одноухий, Ченга Нож и Дик Две Руки; трое воинов в серебристо-серых повязках Теней Ветра, трое лазутчиков, искавших вражеский стан. Но вместо врагов они наткнулись на друзей – почти друзей, ибо с кланом Горького Камня было заключено перемирие. Мысль о перемирии мелькнула у Дика, едва он разглядел наголовные повязки Горьких Камней; перемирие – значит, их не убьют, как загнанных крыс, не проткнут дротиками, не прикончат снарядом, пущенным из пращи. Этот клан носил свое имя не зря: его бойцы умели метать камни, и были те камни воистину горькими для их врагов. Но Тени Ветра считались друзьями – почти друзьями. Впрочем, сие не означало, что их отпустят с миром, спев Песню Приветствия и наделив дарами. Но схватка – если дойдет до схватки – будет почетной, один на один, с равным оружием, и победителя отпустят и не станут ему мстить. Все-таки друзья, не враги… Толпа Горьких Камней раздалась, и вперед выступил их предводитель. Дик его не знал. Вероятно, этот воин родился не в Чимаре, но был человеком заслуженным вроде Чоча, сына Чочинги: пальцы и уши целы, а Шнур Доблести свисает ниже чресел. Он запел; звали его Циваром Дробителем Черепов, и на своем веку он свершил не один славный подвиг. Читари, старший из трех лазутчиков, ответил – спокойно и с достоинством, без оскорбительных намеков и жестов. Ченга тоже казался невозмутимым, только оглаживал пояс, за которым торчали рукояти полудюжины метательных ножей. Глядя на воинов, Дик тоже сделал бесстрастное лицо, хоть не терпелось ему узнать, кому выпадет честь сразиться первым. После обмена Песнями Цивар произнес: – Странное шепнули мне как-то Четыре звезды – про воина из земель двуруких, такого же доблестного и умелого, как наши воины. Будто бы молод он, но отважен и ловок и обучен самим Наставником Чочингой – да придет к нему смерть на рассвете! Не поверил я и решил поглядеть. – Гляди! – сказал Читари и вытолкнул Дика вперед. Цивар усмехнулся. – Вижу двурукого ко-тохару в повязке Теней Ветра. Вижу, что он молод. Вижу за его поясом клинки. Больше не вижу ничего! – Шнур видишь? – спросил Читари. – Ожерелье? – Цивар сощурил глаза. – Маленькое ожерелье… незаметное… Кто из вашего клана дал ему такое поносить? Или не нашлось побольше? Это было уже оскорблением, но Дик молчал – все, что надо, скажет Читари, на правах старшего. – Маленький Шнур, – согласился Одноухий, – совсем маленький, незаметный. Можно сделать его длиннее. Ну, у кого завелись лишние пальцы? – И он с мрачным видом оглядел толпу Горьких Камней. – Ха, пальцы! Кто говорит о пальцах! – Цивар пренебрежительно махнул всеми четырьмя конечностями. – Мой Наставник был таким же мудрым, как Чочинга, и он говорил: отрезав пальцы, не забудь про печень. – Сам будешь резать, великий воин? – поинтересовался Читари и бросил на Дика такой взгляд, будто уже считал его покойником. – Нет! Я же сказал: хочу посмотреть. Резать будет он! И тогда из шеренги Горьких Камней выступил Цор. Время в лесу и для него не прошло даром: сделался он могуч и крепок, как молодое дерево шой, – с выпуклыми мышцами, что скрывали ложбинку меж плечевых суставов, с толстой шеей и длинными мускулистыми ногами. Но не эти перемены, вполне естественные и неизбежные, поразили Дика, а то, как Цор снарядился для схватки. Не взял он щита, не натянул боевых рукавиц, не прихватил палицы, которой можно было б не убить, а оглушить; только четыре клинка нес он, четыре длинных сверкающих лезвия, и это значило, что бой будет смертельным. – Или ты проткнешь ему глотку, или Чоч доберется до моей, – пробормотал Читари, разглядывая Цора. – Ты уж постарайся, Две Руки! Дик кивнул, делая шаг вперед. Его мечи с тихим шелестом выскользнули из ножен – такие же длинные и блестящие, такие же смертоносные, как у противника. Два против четырех… Они с Цором не любили друг друга. Соперничали во всем: кто прыгнет дальше и заберется повыше, кто поднимет камень потяжелей, кто кому намнет бока да наделает синяков – на тренировочной арене или втихую, где-нибудь у водопадов, за скалами. Превозносили своих Наставников (Цор обучался у Цаба, хорошего воина, но не столь знаменитого, как Чочин-га), хвалились силой и знанием тайных приемов, пели оскорбительные Песни, придумывали обидные клички… Дрались из-за Чии – чем дальше, тем чаще, хоть о причине этих побоищ не говорили никому. Цор, пожалуй, был посильнее, а Дик – увертливей, так что вел в счете все-таки он. И полагал, что сейчас поставит точку в их затянувшемся соревновании. Они сходились. Сон разворачивался с поразительной реальностью. Дик снова видел, как разгораются в зрачках Цора яростные огоньки, как подрагивают острия его мечей; два были вскинуты вверх, два – опущены, и рукояти прижаты к бедрам. Он поймал чей-то ненавидящий взгляд, на мгновение скосил глаза и усмехнулся. Цохани умма Цор… Торчит за спиной Цивара, стиснув в каждой руке по дротику… В отличие от Дика – того Дика, что сближался с Цором, – Ричард Саймон знал, чем закончится их схватка и что произойдет потом. Не самое приятное из воспоминаний, но, как говорится, с чужого ожерелья свой палец не снимешь… А ожерелье было чужим и находилось в руках того, кто посылает тревожные воспоминания и сны. Схватка во сне, как наяву, была короткой. Долгими бывали учебные бои, когда оттачивалось мастерство владения оружием и проверялось, крепок ли сердцем будущий воин. Но если бились насмерть, а не затем, чтоб размяться или заполучить трофей, все решалось в два-три удара. Или в один – стремительный, как бросок змеи. Сейчас, превзойдя все хитрости фехтовального искусства двуруких, Ричард Саймон понимал, что тай сражаются иначе. По крайней мере не так, как европейцы в Средневековье и в эпоху Возрождения; их техника была сродни восточной, достигшей совершенства еще тогда, когда понятия “Запад” и “Восток” относились к Старой Земле и не являлись пустым звуком. Ожидание, маневр, выпад… Смерть! В этом искусстве японские самураи были куда лаконичней гвардейцев кардинала и мушкетеров короля. Они, сошлись на расстояние пары шагов и окаменели. Время тянулось точно питон, скользящий среди трав; и каждая травинка была секундой, и каждая отделяла миг прошедший от грядущего мгновения, жизнь от смерти, свет от тьмы. Все те же знакомые Дику шутки времени: то оно замрет, застынет ледяной глыбой, то ринется вскачь подобно яростному водопаду… Сверкнули клинки, коротко лязгнула сталь, метнулись тени. Каа, питон, завершил свое бесконечное скольжение, последняя секунда истекла, один из бойцов был мертв, другой – жив. Оба меча Дика подрагивали над распростертым безжизненным телом, словно цветы на серебристых стеблях: левый торчал меж ребер, правый пронзил гортань. Потом раздался гневный вопль, и Дик увидел, как Цохани вскидывает дротик. С этого момента синхронизация яви и сна распалась. В реальности предводитель Горьких Камней сшиб Цохани наземь, придавил коленом, вырвал оружие. Но во сне брат убитого Цора успел метнуть копье, и оно полетело к Ричарду Саймону, и был его полет стремителен, неудержим и смертоносен, и Ричард – каким-то шестым или десятым чувством – понимал, что не успеет уклониться от удара. Чудилось, будто дротик метнул ему в самое сердце тайятский лес; и казалось, что лес, ощутив чужака, околдовал его, сделал беспомощной и неподвижной мишенью. Копье летело, а он ждал, ждал, ждал… Это ожидание было страшнее смерти. Ричард пробудился с зубовным скрежетом и с явным предчувствием, что день сегодняшний сложится неудачно. Так оно и получилось. Или сон подействовал на него, или разнежили ночные игры с прелестной Долорес, только был он тем утром рассеян, а предмет занятий рассеянности не допускал. Искусство грабежа требует полной сосредоточенности, а коль капканы на пути грабителя настраивал Кастальский, так лучше не шутить с судьбой. Кастальский, тихий лысоватый человечек, принадлежал к той же породе инструкторов-хитрецов, что и Дейв Уокер. Правда, хитрости у него были иного свойства, не техасские, а компьютерные, но любая из них могла перетряхнуть мозги или подвесить за ребро. С этой мыслью агент-стажер Ричард Саймон натянул шлем коммуникатора, а инструктор Кастальский ввел задачу и исходные установки. Сегодня агенту-стажеру полагалось ограбить банк. Любой, по собственному усмотрению; чем больше унесешь и чем надежней заметешь следы, тем выше результирующий балл. В этом состязании компьютер был ему верным союзником и непримиримым врагом: одни программы работали на Ричарда, другие сопротивлялись грабежу, а весь спектакль шел в театре, имитировавшем региональную Инфор-Сеть Соединенных Штатов. В ее гигантский лабиринт Ричард сумел пробраться без труда – лишь раздался тонкий писк звуковых сигналов да полыхнули багровым заревом предупреждающие надписи. Эти фразы, которые он лицезрел пару минут, беспрерывно мигали, требуя сообщить пароль доступа, фамилию, адрес, номер банковского счета и кучу других сведений, коими Ричард отнюдь не собирался делиться с электронными стражами. Затем вопросы сменились списком карательных мер; самой легкой из них являлся штраф в сотню кредиток, самой тяжкой – трехмесячная ссылка в Каторжный Мир. Впрочем, это Ричарда Саймона не пугало: чтоб наказать, надо поймать! А он был сейчас не человеком, не личностью – с документами, подданством и всем прочим, что полагалось иметь благонадежному гражданину; по сути дела, он являлся призраком, точнее, тенью призрака, неощутимо торившей свой путь среди пестрых указателей Инфор-Сети. Инфор-Сеть представлялась Ричарду чудовищной трехмерной паутиной, развешанной в сияющей пустоте. Нити-проходы переплетались, скрещивались, прихотливой узорчатой вязью заполняли пространство; их пересечения подмигивали разноцветными огоньками. Было нетрудно вообразить, что находишься в огромном сооружении, среди коридоров, комнат и камер, втиснутых в некое подземелье, напоминавшее кносский лабиринт. Здесь бродили свои минотавры, подстерегавшие неосторожного путника рядом с ловушками и капканами, у волчьих ям, опускных решеток и бездонных пропастей. Впрочем, Ричард их не боялся; он считал себя достаточно ловким и осторожным. Вот только эти проклятые сны… С уверенностью, рожденной опытом предыдущих тренировок, он ринулся вперед. В проходе, который Ричард преодолевал со скоростью мысли, не ожидалось ничего неприятного, ничего страшного; то была широкая магистраль, доступная любому. хакеру-новичку. Еще четырежды его запрашивали насчет кода доступа, но фединг-нейтрализатор успешно гасил тревожные сигналы; он все еще оставался тенью в эфемерном мире теней. Он был отлично экипирован, вооружен и готов к схватке в любой момент, но пока что активные средства взлома и уничтожения не требовались; битва была еще впереди. Внезапно необозримое пространство раскрылось перед ним – подобие просторного зала со множеством врат, дверей и проходов, ведущих к другим частям Инфор-Сети. То был региональный центр, каких насчитывалось около трех десятков; узел, где перекрещивались сотни неощутимых и невесомых нитей трехмерной паутины. Здесь Ричард также бывал не раз и знал, чего ожидать в каждом из многочисленных ответвлений. В некоторые можно было проникнуть с легкостью – в те, что вели в книгохранилища, к техническим каталогам открытого доступа, к безобидным фильмотекам и собраниям музыкальных записей. Вход в другие врата требовал оплаты, а кое-где желающему прогуляться по инфор-коридорам полагалось представить целый ворох свидетельств насчет психической вменяемости, социального статуса, возраста и дееспособности. Иронически хмыкнув, Ричард миновал шеренгу этих полузапретных дверей. Сегодня его целью являлись не порнофильмы, не записи менторитмов, вгоняющие в транс, не рецепты патентованных лекарств и не секреты местных политиков, канувших в вечность два столетия назад. В свое время Кастальский велел ему ознакомиться с содержимым каждого такого тайника – не любопытства ради, а для полезной практики; и теперь взлом охраняющих их запоров не представлял проблемы. Даже без дешифратора он смог бы вскрыть любой электронный замок. Дальше! Дальше! Дальше начинались дела посерьезней – ряд надежно блокированных дверей и узких извилистых ходов, снабженных всевозможными ловушками. В этих коридорах-артериях в лихорадочном ритме бился пульс делового мира Колумбии; здесь хранились настоящие сокровища – не деньги, не золото, не бриллианты, но то, что заменяло их: колонки цифр с кодовыми значками. Вся эта часть Инфор-Сети сама по себе была гигантской сетью, сплетенной невероятных размеров пауком, которому Ричард жаждал учинить небольшое кровопускание. Совсем крохотное и почти незаметное, если соотнести его с тем объемом драгоценной влаги, что циркулировала в жилах вселенной оборотных средств, кредитов и ссуд. Фактически он и собирался взять ссуду, только безвозвратную. Такую ссуду, чтоб заслужить у Кастальского балл “а”. Коротко звякнул дешифратор, и врата в Империю Финансов растворились, разъехавшись в стороны двумя светящимися полосками. Алые буквы неощутимой преградой повисли перед ним – очередной запрос пароля, идентификатора банка и номера счета. “Будет тебе и счет, – с неожиданной злостью подумал Ричард, вдавливая клавишу фединга, – будет! Но-в нужное время и в нужном месте!” Он постарался успокоиться; операция вступала в самую решающую фазу. Он находился сейчас в некоем подобии светового тоннеля с многочисленными люками, украшенными эмблемами и надписями; за каждым из них таились пещеры Али-Бабы, но стерегли их не сорок разбойников, а электронные монстры с невероятным нюхом, живучие и смертоносные, как зубастый реке с Тайяхата. Подобравшись к одной из этих дверей, он снова включил дешифратор. Чейз– Комптон Манхаттан Банк… Не самый крупный, но вполне подходящий для его целей. Респектабельность, безупречная репутация, проверенная временем надежность… Как раз то, что нужно! Прозвонил дешифратор; магическое “сезам” было найдено, и двери растворились подобно диафрагме фотокамеры. На один крохотный миг, но Ричарду хватило его, чтоб проскользнуть внутрь, в ларец с сокровищами, в храм невероятного богатства. Он замер, выбирая дальнейший путь, и вдруг на него рухнула темнота. Ловушка! Во мраке возникли зеленые искорки. Они устремились к нему, растягиваясь, формируя решетчатый каркас, охватывая нарушителя плотной клеткой, грозя неизбежным допросом. Выходит, дешифратору еще надо потрудиться… Хитрец Кастальский предусмотрел еще один пароль, перекрывавший вход в хранилище, и найти его требовалось побыстрее. Ричард подключил дополнительные модули, удвоил, утроил скорость поиска; зеленая решетка светилась перед ним, преграждая путь. Мгновения тянулись как века. Лицо Ричарда окаменело, зрачки следили за вязью цифр, стремительно мелькавших в призрачном окошке дешифратора. Сейчас он ничего не мог поделать, разве лишь сбежать; сейчас крохотная отмычка-микросхема сражалась за него, перебирая миллионы чисел, прокладывая дорогу к богатству и победе. Долгожданный звон! Зеленые линии решетки дрогнули, расплылись, исчезли, и тут же в него ударила бело-фиолетовая молния. Защита, к счастью, устояла, но активные средства атаки требовали незамедлительных мер. Не менее активных! Его пальцы заплясали по призрачным клавишам, управлявшим деструктором-распылителем. Сжечь! Уничтожить! Развеять облаком хаотических сигналов! И – что самое важное! – замести следы. В этой игре, напоминавшей битвы в тайятских лесах, ему не грозило физическое уничтожение. Но яростные молнии, хлеставшие оборонительный щит, могли обратиться в путы, пленить его призрачное “я”, ринуться по проложенному им следу, будто свора гепардов, почуявших крыс… И если б этим электронным демонам сопутствовал успех, он не отделался бы тремя месяцами! О нет! Проникновение в святая святых каралось куда серьезней – ссылкой в Каторжный Мир на пять или восемь лет! И, разумеется, нулевым баллом, который вывел бы ему Кастальский. Ричард дрался, как загнанный в угол рогатый кабан, распыляя белые клинки молний, рассеивая федингов тревожные сигналы.Сражение происходило в полной тишине, словно странный беззвучный шторм, бушующий под непроницаемо-темным небом. Краем глаза он видел, что дешифратор, вмонтированный в шлем, трудится по-прежнему, пытаясь найти третью кодовую комбинацию. Видимо, этот пароль был последним. Если удастся его раскрыть… Удалось! Сверкающие молнии погасли, и Ричард помчался, вперед, сквозь призрачные колонки цифр, дрожащих в голубоватой пустоте. Перечень депозитов, текущих и накопительных счетов, дневной оборот, данные по филиалам, какие-то листинги, справки, отчеты… Это его не интересовало. Налоги, межбанковский кредит, брокерские операции… Дальше! Дальше! Быстрее! Символы прихода и расхода… Перечисления! Резко ударив по клавише, он активировал эту позицию и принялся с лихорадочной поспешностью набирать коды своих условных счетов. Их выдал Кастальский – около двадцати, на обоих колумбийских материках и в разных странах, начиная от Австралии и кончая Канадой; инструктор был человеком предусмотрительным. Ричард Саймон – тоже, и потому на каждый счет он брал сравнительно немного, сто или Двести тысяч, указывая времена предстоящих переводов с разбросом в пять-десять минут – так, чтобы вся процедура завершилась в течение двух часов. Виктория! Победа! На экране один за другим стали загораться сигналы подтверждения. Ричард подумал о том, что сейчас, пробившись к цели, мог выкачать не один десяток миллионов… Соблазн был велик; на долю секунды пальцы его дрогнули, готовые добавить пару нулей в сумму очередного перевода, но вместо этого он запустил программу-вирус, которой полагалось уничтожить все следы его вмешательства. Разумный берет немного, чтобы тот, кого обчистили, не грохнул во все колокола… Впрочем, что означает немного? Поколебавшись, Ричард отослал на свой токийский счет триста тысяч, а в банк “Каир Коммерс” – пятьсот. Тут его и шарахнуло! Вероятно, сумма в половину миллиона являлась запретной – чем-то вроде триггера реле, включавшего хитроумную ловушку. А ловушка была знатной – “калейдоскоп” на пятьдесят цветов и сто оттенков, от кружения коих у Ричарда помутилось в голове. Он, однако, успел выбраться, зажмурив глаза и тыкая клавиши вслепую, но когда инструктор снял с него шлем, под веками продолжалось мельтешение ярких пятен, а под черепом грохотали отбойные молотки. Кастальский оглядел его, с обидной грустью пробормотал, что жадность фраера сгубила, вывел оценку “Ь” и выпроводил из класса. К счастью, свое резюме инструктор произнес на русском, и коллеги Ричарда, Маблунга Квамо и ГримДервин, сказанного не поняли. Впрочем, сейчас им было не до ехидных замечаний Кастальского; каждый грабил свой банк. На подгибавшихся ногах Ричард выбрался в коридор и только тут сообразил, что через час у него стрельбы. Стрелять же после “калейдоскопа” все одно что глядеть на конкурс красавиц по телевизору: слюна течет, а зуб неймет. Вдобавок и глаза разбегаются. Ричард поднялся на крышу жилого блока, отыскал уединенный уголок, шуганул прибиравших там роботов и двадцать минут предавался медитации, вдыхая сладкий аромат магнолий. Зрение восстановилось, руки и ноги вроде бы не дрожали, но последствия перенесенного шока были еще заметны – в затылке покалывало и в горле першило. Стараясь не обращать внимания на эти зловещие симптомы, он поехал на лифте вниз, добрался до вестибюля тренировочного комплекса, украшенного статуями древних героев, свернул в Зал Стрельб и доложил о прибытии. Тут была уже вся его учебная команда: светловолосый Ферди Ковач из Чехии, Европа; Лаик Идрис из Объединенных Эмиратов, Колумбия; Маблунга Квамо с Черной Африки и щеголеватый Грим Дервин с Мирафлорес, одного из Независимых Миров. Дервин выглядел бодрячком, а Квамо, рослый чернокожий парень, косил глазом и дергал щекой – не иначе как тоже хлебнул неприятностей у Кастальского. Кроме пяти стажеров, были здесь инструкторы – и, разумеется, Дейв Уокер, рыжий, энергичный и бледнолицый, в неизменном сером комбинезоне. Взглянув на Ричарда, он покачал головой и буркнул: – А ты, похоже, вчера в “Катафалке” засиделся? Ручонки-то не дрожат? – Никак нет, сэр! – ответствовал Ричард согласно уставу и отправился на позицию. Стрельбы, как и различные виды единоборств, считались в Центре важнейшим элементом подготовки. На то он и был Центром, а не академией, не университетом и не колледжем. Имелось у него длинное официальное название, но немногие использовали его, а говорили просто – Центр. Точно так же, как вышестоящее заведение называли Конторой, по давней традиции, сохранившейся еще с тех времен, когда ЦРУ располагалось в Лэнгли и не имело никакого отношения к ООН. У Конторы было множество агентств и отделений во всех мирах, но Учебный Центр был один – здесь, в Грин Ривер, на океанском побережье Орегона. И учили в нем на совесть. Университеты и колледжи могли готовить будущих юристов и полицейских, технических экспертов и аналитиков, тактиков и стратегов, но полевые агенты – жилы и мускулы ЦРУ – обучались в Центре. Только так, и никак иначе! Агентам полагалось стрелять быстро и метко. Из карабинов и винтовок, из пулеметов и разрядников, из пистолетов, огнеметов, автоматов всех систем. Из всего, что может выпустить пулю, ампулу с газом или лазерный луч. Сегодня стреляли из штатного оружия: пистолетов “амиго” и “коммандо”, пистолета-пулемета “рейнджер” и облегченного автомата “сельва”. Для разминки стреляли стоя, затем – на бегу, в прыжке и кувырке, стараясь поразить темные и светлые диски, которые летели со всех сторон, и световые контурные мишени, возникавшие на стенах. Временами свет начинал мигать или отключался вовсе, и тогда палили по звуку – диски в полете посвистывали, а все прочее, что полагалось изрешетить, гудело, звенело или хихикало. Ричард был не в форме и отстрелялся препаршиво, едва на зачет. Как и Маблунга Квамо, еще один грабитель-неудачник. Дервин тоже выступил не лучшим образом, из чего следовал вывод, что грабеж, даже компьютерный, вреден для здоровья. А вот что касается водных процедур, то они пользительны и успокаивают нервную систему. Это доказали Идрис и Ковач, которым с утра пришлось одолеть пару лиг в бассейне, имитировавшем полярный океан. Правда, лед в нем не плавал, но вода была шесть градусов по Цельсию, а над поверхностью тянуло знобящим ветерком. Сдав свои пистолеты и пулемет, Ричард собрался в столовую подкрепиться, да не тут-то было. Его инструктор не дремал: пресек пути отступления, поставил по стойке “смирно” и, криво ухмыляясь, начал доискиваться, отчего это агент-стажер не может попасть в блюдце, какое бы и младенец описал? Может, агента-стажера замучил геморрой? Или встретился он в темном углу с призраком Аллена Даллеса? А может, то был не Даллес, а тень Берии или папы Мюллера? То-то ручонки у стажера дрожат! Покорно выслушав все эти издевательства и подначки, Ричард буркнул: – День неудачный, сэр. А в неудачные дни даже папа Мюллер никого не пытал и не вешал. – Неудачный? – поразился Дейв Уокер. – Это почему же он неудачный? Кофе утром пересолил? Или на Леди Дот нарвался? – Нарвался, – сказал Ричард. – На “калейдоскоп” у Кастальского. – Та-ак… Ну, это следствие, а не причина. Причиналежит глубже! И сейчас мы ее раскопаем. Пытка продолжалась до тех пор, пока Ричард все не выложил – и про сны, и про дротик, брошенный Цохани, и про страстную Долорес, и про свои занятия португальским, растянувшиеся чуть ли не до рассвета. Шеф-инструктор слушал его с полной серьезностью и сочувственно кивал, а затем выразился в том смысле, что женщины – источник всяких бед, но без них не обойтись, а значит, и беды неминуемы. Что же касается данного случая, то агент-стажер давно не мальчик и мог бы различить следствие и причину. Причина – сексуальные излишества, и ведут они к тяжким снам, непростительным промахам и общей моральной деградации. А посему… Тут Уокер прекратил читать мораль, глубоко задумался (быть может, вспоминая о собственных излишествах), а спустя три-четыре минуты произнес: – Послушай-ка одну историю, парень. Жили в оклахомском городишке Понка-Сити две сотни уродливых баб и красавица Мэриен. Как-то прошел слух, что Боб изнасиловал Мэриен; ну, Боба, разумеется, повесили. Затем повесили Дика, Джона и Питера – за то же самое. А после наступила очередь Майка, Шервуда, Гарри и Фрэнка… Словом, дело шло к тому, что в Понка-Сити совсем не останется парней. Но тут приехал к ним техасец и сказал: повесьте Мэриен! Мэриен повесили, и теперь в Понка-Сити тишь, гладь да Божья благодать. И какой отсюда вывод? – Женщина – сосуд греха, – брякнул Ричард, томясь и ощущая сосущую пустоту в желудке. – Это только половина правды, причем не самая важная, – наставительно сказал Уокер. – А вся правда в том, что надо ликвидировать причину, а не следствия. И коль придется тебе вешать Мэрией, намыль веревку получше. Ричард щелкнул каблуками. – С Мэрией я еще не знаком, сэр! Прикажете начать с Долорес? – Ну, не так резво, парень! У нас же не Понка-Сити! Если б мы вздернули всех, с кем Долорес переспала… Дейв Уокер ухмыльнулся каким-то своим мыслям и шагнул к выходу. Ричард последовал за ним, пообедал, провел еще один сеанс медитации и, возвратившись к себе, обнаружил на столике у дверей запечатанное диск-письмо. Разумеется, от отца, из дома, затерянного среди звезд; на Колумбии писем давно не писали и не наговаривали на памятный диск, общаясь лишь с помощью Инфор-Сети, компьютерных экранов и оптоволоконных линий связи. Отцовские письма Ричард слушал только в своей комнате, расположившись в кресле у письменного стола, в крышку коего был вмонтирован универсальный терминал. Над столом были развешаны стереоснимки – вид на Чимару и водопады с высоты, улыбающийся отец в обнимку с Чочингой, щу и Ши, занятые какими-то охотничьими делами, милое личико Чии – не девушки, еще девочки. Пониже фотографий стоял на полке маленький гепард, сплетенный из тростника, а рядом с ним поблескивали метательные клинки и ритуальный нож тимару, узкий и наточенный словно бритва – хоть сейчас отхватывай палец. Вот и все тайятские раритеты не считая почетного ожерелья, которое хранилось в столе в запертом ящике. За три года Ричард продемонстрировал этот трофей лишь однажды, шеф-инструктору Уокеру – да и то по его настойчивой просьбе. Он сел в кресло, вытянул длинные ноги и подумал, что сегодняшний день получается не из самых худших. С одной стороны, приснился тягостный сон, и врезало по мозгам “калейдоскопом”, и отстрелялся плохо; зато с другой – отцовское письмо… Письмо, разумеется, было важнее любых огорчений и тягостных снов. Особенно если вести в нем добрые… Но добрых вестей он не дождался. День все-таки был неудачным, вроде крысиного клыка в ожерелье, торчавшего среди почетных трофеев. Отец сообщал, что сам он жив и здоров, как и тетушка Флори; что Чия месяц назад разродилась девочками, по такому случаю Сохо с Сотанисом закатили пир на всю Чимару; что живот у Чиззи тоже округлился и прибавление семейства случится месяца через три; что Чоч недавно приходил в Чимару и ожерелье его стало еще длинней; что вечерние зори над Тисуйю-Амат по-прежнему прекрасны, а два потока все так же несутся с гор в белой пене и радужном блеске. Но Чочинга, Наставник, занимаясь с внуками идемонстрируя им приемы с тяжелой секирой канида, споткнулся и подвернул ногу. А подвернув, упал на колени, и хоть поднялся сам, даже не опираясь на топор, но стал с того дня задумчив и мрачен. Это было печальным известием, ибо тай, воины и Наставники воинов, не жили долго, утратив привычную стремительность и резвость. Кузнец, горшечник или ткач могли умереть дряхлыми и немощными, но к Наставникам боевых искусств это не относилось. Они уходили в Погребальные Пещерь много раньше, уходили по собственному желанию – ибо кто нуждается в Учителе, если тот утратил мастерство? Выключив терминал, Ричард посмотрел на фотографии – быть может, впервые – задумался о возрасте Чочинг Прежде Наставник казался ему могучим и вечным, как горные хребты, вздымавшиеся над Чимарой, но сейчас он вдруг осознал, что Чочинга немолод и вовсе не вечен. Taияxaтские годы были чуть подлинней колумбийских, а Учитель старше отца лет на пятнадцать или шестнадцать. Получалось, что ему уже под семьдесят. Или за семьдесят, если считать по стандартным колумбийским годам… Не слишком преклонный возраст для человека мирной профессии, но у Чочинги совсем другое ремесло. И Ричард с грустью понял, что в скором времени Наставник пришлет ему Прощальные Дары. День был окончательно испорчен. А если так, куда деваться человеку вечером? Разумеется, туда, где можно развеять тоску и печаль. И Ричард отправился в “Катафалк”. Если встать лицом к океану, то справа от северного жилого корпуса, за широкой площадью и цветником, за шеренгами серебристых елей, лежало кладбище Аддинггон. Тут были похоронены герои космоса, люди разных национальностей, но большей частью те, чьи потомки жили на Колумбии, – американцы и англичане, канадцы и австралийцы, израильтяне и мексиканцы, японцы и арабы из Египта и Объединенных Эмиратов. Было несколько русских, участвовавших некогда в совместных экспедициях, но самые великие их космонавты, начиная с Гагарина и кончая Виталием Бугровым, совершившим посадку на Плутон, покоились на планете Россия, в месте под названием Байконур. В человеческой вселенной было еще два таких кладбища – на Китае и на Европе. Повсюду прах астронавтов покоился в родной земле, под родными деревьями и камнями, перенесенными в новый мир с помощью Пандуса, и все эти захоронения были очень велики, с прилегающей свободной территорией, поджидающей тех, кто устремится в космос на фотонных звездолетах. Ибо не было сомнений в том, что такие корабли когда-нибудь построят, а значит, будут и новые герои, коих положено помнить и чтить. От площади кладбище отделялось цветником, рядами елей и огромным мраморным Мемориалом. Его стена была воздвигнута из черного полированного камня, символизировавшего космическую тьму, в который врезали беломраморные барельефы – портреты наиболее известных первопроходцев с указанием их имен и совершенных деяний. Мемориал и верхушки кладбищенских кипарисов за ним были видны из всех окон жилого корпуса; предполагалось, что этот вид должен будить у агентов-стажеров возвышенные мысли и прилив гордости. Но смерть есть смерть, а жизнь есть жизнь, и молодые стажеры, преклонившись раз-другой у мраморного Мемориала, больше смотрели на площадь и всевозможные заведения, отели, бары, клубы и супермаркеты, сиявшие по вечерам столь же яркой россыпью огней, как ночные колумбийские небеса. Этот торгово-увеселительный комплекс обслуживал туристов, посещавших Аддингтон, а заодно всех рыцарей плаща и кинжала, чьи замки высились в окрестных холмах. Может быть, слово “заодно” полагалось бы отнести к туристам, так как сотрудники Конторы были клиентами постоянными и в качестве таковых предпочитали одни заведения другим. Элита, руководители отделов и спецслужб, встречались исключительно в “Файв Кроунз”, отеле дорогом и тихом, где каждый столик в обеденном зале был огорожен пальмами, на которых росли не орехи, но датчики десяти сортов – чтобы нужное записать, а секретное заглушить. Чины помельче, преподаватели Центра, рядовые оперативники, аналитики, техники Транспортной Службы, собирались всяк в своем месте – в клубах “Дринк” и “Синий жеребец”, в баре “Манхаттан”, в гостинице “Холидей Инн”, в китайском ресторанчике “Янцзы” или в пивной “Бавария”. Что касается “Катафалка”, то он был отдан на откуп стажерам, поскольку имелись в нем три несомненных достоинства: крепкое пойло, низкие цены и прочная мебель. Инструкторы тоже сюда захаживали, а вот туристы и обитатели Грин Ривер – не очень; разве лишь девушки в поисках юных секретных агентов и романтических знакомств. "Катафалк” был оформлен под салун Дикого Запада с истинно американским размахом. Стойка – двадцать метров длиной, окованная жестью; столы – из дубовых досок толщиною в пядь, просторные и неподъемные; сиденья – тоже дубовые, на болтах, какими скрепляют секции монорельса; пивные кружки и стаканы – из цельного бронестекла; бар с батареями бутылок прикрыт металлической сеткой; на стенах – кремнёвые ружья, томагавки и патронташи, скальпы и бизоньи черепа, уздечки, седла и сбруя, а также красочные офорты: сражение Буффало Билла «Буффало Билл, вождь Желтая Рука, женщина-стрелок Энн Оукли, вождь Сидящий Бык-реальные личности, участники знаменитого шоу “Дикий Запад”, организованного Буффало Биллом в 1883 г.» с вождем шайеннов Желтой Рукой, Энн Оукли – в сапогах, при шпорах и карабине, Сидящий Бык с отрядом краснокожих воинов. Роботов-официантов в “Катафалке” не признавали, и горячительное разносили длинноногие девицы с “кольтом” на бедре. Кроме портупей, туфелек и бикини, на них не было ничего лишнего. Еще бар славился фирменным крепким коктейлем в особых рюмочках-гильзах, напоминавших боеприпасы к пистолету “коммандо”. Его потребляли “обоймами”; и хоть в каждой рюмке плескалось на глоток, справлялся с ними не всякий – “коммандо” был оружием многозарядным. Заняв позицию в углу, подальше от входа, Ричард с четверть часа пил в мрачном одиночестве. Над его головой свисали два простреленных американских флага, и было на них ровно столько звезд и полос, сколько в битве при Литл-Бигхорне «В сражении на реке Литл-Бигхорн вождь индейцев оглала Неистовый Конь разбил американские войска (1876 г.)». Теперь эта реликвия – или подделка? – бросала тень на его лицо, и Ричарду чудилось, что над ним парит дряхлый израненный гриф с поникшими крылами. Он придвинулся к стене, туда, где сумрак был гуще, и спрятал щеки в ладонях. Однако маскировка не помогла. Бар постепенно наполнялся, Ричарда окликали, махали от стойки, и казалось, целый десяток приятелей и приятельниц готовы исправить ему настроение. Подмигивал и улыбался Длинный Пат Сильвер; прелестная стройная Курри Вамик, услада взоров, манила его смуглым пальчиком; Анвер Ходжаев, гигант-татарин по кличке Карабаш «Карабаш – Черная Голова (тот.).», потешно кланялся и косил на Курри лукавым глазом – словно купец на красотку-невольницу; Ферди Ковач пожирал третий ростбиф, стучал пивными кружками, расплескивая пену, что-то вопил, подталкивал сидевшего рядом Маблунгу, а тот весело скалился и, то ли соглашаясь, то ли возражая, мотал курчавой черноволосой головой. Где-то в отдалении маячил мощный загривок турка Селима, слышался бас Вудро Полака и резкие, почти одинаковые голоса братьев Пьетро и Марио Рохас; но оттуда Ричарду не махали, не звали присоединиться. Эта компания была посолидней – агенты, проходившие двухлетнюю переподготовку; на стажеров они глядели свысока, хоть Ричард, и Анвер Карабаш, и еще двое-трое, из молодых да ранних, не уступили бы им ни на стрельбище, ни на помосте. Допив недопитое, он поднялся и направился к приятелям. “Обойма” согрела желудок, и хоть Ричард не стал веселей, копье Цохани уже не кололо его под сердцем, а все остальное: “калейдоскоп”, и тяжкие сны, и поучения шеф-инструктора – казалось сущим пустяком. Другое дело – письмо! Письмо – не мелочь, не пустяк… Собственно, не письмо, а известия о Чочинге… Выпить, что ли, за его здоровье? Чтоб Учитель – да будут прочными его щиты! – не подворачивал ног и не спотыкался еще лет десять… или хотя бы пять… Но Маблунга Квамо, сверкая белками и ухмыляясь, предложил тост за Кастальского. – Пусть его “калейдоскоп” натрет мозоль на пятке! Как говорят в моем краале, лучше длинное и твердое, чем короткое и мягкое… Курри хихикнула, а Ричард пробормотал: “О чем еще говорят в твоем краале?…” – но выпил. Что именно, уже различалось с трудом – может, виски, может, бренди. Но не джин; он еще помнил, что джин прозрачен, а этот напиток цветом походил на мочу. Полунагая валькирия с “кольтом” на бедре принесла ему ростбиф. Вилок тут не полагалось, и Ричард стал есть с ножа, отхватывая огромные куски. Нож был стилизован под индейский – с костяной рукоятью и длинным узким лезвием. Потом Анвер принялся рассказывать неприличные анекдоты о Ходже Насреддине – как Ходжа очутился в раю, в объятиях гурий, и обучил их такому, что самому Аллаху не приснится. Ферди с Маблунгой хохотали, Курри хихикала и краснела, а когда ее разобрало, уселась к Ричарду на колени и принялась щекотать его за ухом. От девушки соблазнительно пахло, и Ричард попытался вспомнить, как называются эти духи – “Ночное безумие” или “Безумная ночь”, – но Курри не давала ему сосредоточиться. Чтоб разрядить обстановку, он поведал о судьбе несчастной Мэрией из Понка-Сити и о том, что женщина – сосуд греха. Курри с ним согласилась, но щекотать не перестала. Надо бы выпить за Учителя, вертелось у Ричарда в голове, и он потянулся к стакану, но Длинный Пат Сильвер его опередил. Этот Сильвер, уроженец Новой Ирландии, был курсом старше и сильно страдал, попав в учебную пятерку с китайцами. Китайцы “Катафалк” не посещали, пили только чай и лимонад, а ирландский желудок Сильвера эти жидкости решительно отвергал. Так что приходилось ему искать собутыльников на стороне. – Зз-за… Ир… Ир… Ирлн-дию! – провозгласил Сильвер, уже изрядно набравшийся, но не растерявший ни капельки патриотизма. – Зз-за ззз… ззленую пкрасную Ирлн-дию! – За которую? – спросил Ферди Ковач, ибо в Разъединенных Мирах существовали три Ирландии: независимая планета, остров в Западном колумбийском океане и штат Айленд в США. – Ирландия – одна! – провозгласил Сильвер, стукнув себя увесистым кулаком по ребрам. – Каж-ж-ждый ирлн-дец носит ее тут! В ссс… с-своей душе! Сильвера никак нельзя было обижать, и они выпили за Ирландию. Курри, в нарушение всех правил шариата, запустила Ричарду пальцы под рубашку. Маблунга начал: – В моем краале… – Ввв-выпьем зз-за твой крааль! – воскликнул Сильвер. – Зз-за всех его б-бычков и телок! Выпили за крааль. Ричард доел ростбиф и уже хотел предложить тост за Чочингу и его прочные щиты, но тут припомнилась ему одна история Уокера – о пожилых леди из Топики, штат Канзас. Собрались они попить кофе, но у каждой был свой рецепт, и сходились старушки лишь в том, что в кофе надо добавить капельку бренди. Спорили они с утра до полудня и с полудня до вечера; а вечером подошел к ним техасец и сказал, что лучше выпить бренди без кофе. Мораль этой байки была такова: из каждой ситуации есть множество выходов кроме бинарного да – нет, так или этак; и, в отличие от упрямых старушек, агент обязан их найти, пока не минуло время готовить кофе. Но сейчас мораль куда-то исчезла, осталась лишь сама история, казавшаяся Ричарду в тот момент ужасно смешной. Он начал ее пересказывать, чувствуя, как нежные пальчики Курри уже подбираются к животу, но тут скамья рядом с ним скрипнула и кто-то, отодвинув Сильвера, ткнул его кулаком в бок. Селим! Ричард замер, не успев захлопнуть рот. С Селимом он общался только на помосте. Схватки с ним напоминали о тайятских лесах, подчиняясь знакомому с детства ритуалу: сперва оскорбления, потом бой, а после – подсчет трофеев, пусть не ушей и пальцев, так хоть синяков. Синяки, конечно, на ожерелье не подвесишь, а с ушами Селим расставаться никак не хотел; но кроме этого недостатка все остальное Ричарда устраивало. Он был достойным соперником, этот турок, мастером из мастеров: кулак тяжелый, язык острый, реакция превосходна, запас ругательств неисчерпаем. Правда, Ричард не все понимал, так как Селим в боевом задоре выражался по-турецки, а турецкий совсем не похож на арабский. А если и похож, так что с того? В арабском, которому он научился у Курри, была сплошная лирика и никаких ругательств. Но, кроме помоста, их с Селимом ничто не связывало. Большее разделяло: Статус и возраст, привычки и жизненный опыт, происхождение и темперамент. И хоть оба они с несомненной и полной определенностью относились к племени двуруких землян, Ченга Нож или Читари – не говоря уж о Чочинге – были Ричарду роднее, чем этот хмурый тридцатилетний полевой агент с Сельджукии. Селим снова ткнул его в бок. – Пьешь, э? – Еще пью, – подтвердил Ричард и в доказательство хлебнул пару глотков. В висках у него застучало, и ладошка Курри под рубахой вдруг сделалась горячей огня. Приятели тем временем приумолкли. Длинный Сильвер вконец отрубился, Квамо с Ковачем тоже казались осоловевшими, и только Анвер по прозвищу Карабаш, астраханский татарин с России, выглядел свежим, как майская роза. Весил он побольше Селима, а ростом не уступал Ричарду, что давало изрядный запас емкости. – Пьешь, – повторил турок, оглаживая мощную шею. – А я слышал, ты мормон! Разве мормоны пьют? Э? Он уставился на Ричарда с каким-то нехорошим интересом, словно отыскивая точку, куда воткнуть клинок. Его смуглое мрачное лицо побагровело – верный признак, что он уже успел набраться и желает теперь поговорить по душам. “Ищет ссоры?…” – мелькнуло у Ричарда в голове. Шевеля непослушными губами, он произнес: – С-сегодня я п-православный. Когда я пью, я – п-право-славный. М-мормон я только ночью. Потому что м-мормо-нам разрешено м-многож-женство. Анвер одобрительно ухмыльнулся, Курри заерзала у Ричарда на коленях, но Селим шутки не принял и, прищурившись, с пьяным упорством пробурчал: – Врешь, кер огул! «Кер огул – сын глухого (тюрк.).» Мормоны спиртного не пьют! – М-мусульмане тоже не пьют, – отпарировал Ричард. Но с этим не согласился Карабаш. Правда, к мусульманам; он имел отношение косвенное, так как в России, согласно давним традициям, народ больше склонялся к атеизму и верил не в Аллаха и Христа, а в прогресс и устойчивый курс национальной валюты. Но предки Анвера были несомненно мусульманами. И, приподняв стакан, он возгласил: – Все радости заветные – срывай! Пошире кубок счастью подставляй, Лишений наших небо не оценит, Так лейтесь песни, вина через край! Селим с одобрением кивнул: – Сам придумал, да? – Нет, Хайям! А что сказано поэтом, то сказано богом! – Анвер опрокинул спиртное в рот, покосился на турка и, перейдя на русский, сказал Ричарду: – Ты с ним поосторожнее, дорогой. Чего-то ему надо. Я так думаю, размяться хочет. – Будет ему разминка, – пробормотал Ричард. В голове у него шумело, и все неприятности этого дня вдруг навалились разом, будто поджидали где-то в темноте, чтоб прыгнуть и вцепиться ему в печенку. Он вновь увидел, как поднимает копье Цохани, только целился он почему-то не в Дика Две Руки, а в Наставника Чочингу, распростертого на земле, и это зрелище было так ужасно, что по спине Ричарда пробежали холодные мурашки. – Выпьем за моего Учителя, – сказал он, почти не заикаясь. – Пусть придет к нему смерть на рассвете! И пусть это случится не скоро! – За Уокера пить не буду! – рявкнул внезапно оживший Ферди. – За рыжих не пью! Рыжие, они… – Ты с-сам рыжий, – откликнулся Ричард. – Мы выпьем за Чоч… Чочингу… за моего Нас-тавника-тай… за мудреца и великого воина… – Он вдруг почувствовал, что выговаривает имя Наставника с трудом, будто губы оледенели. – Э! – Селим задумчиво поскреб щеку. – Тай, говоришь? Слышал я о них! А что слышал, э? Дикари с четырьмя лапами, любят жрать мормонышей! Правда, нет? – Он выпятил челюсть и, не дожидаясь ответа, поинтересовался: – А этот Чоч – он кто такой? – Чоч – с-сын Чоч-инги, – пояснил Ричард, едва сдерживаясь. – За него мы тоже выпьем… потом… он тоже великий воин… и Шнур его свисает до колен… Селим открыл рот и вдруг расхохотался. – Клянусь Пророком! Шнур до колен, говоришь? Выпить надо, говоришь? Ну и дела! Мормон пьет за людоеда! – Он добавил что-то на турецком – что-то длинное и явно непечатное. – Чоч, ха! Чочинга! Четырехпалые обезьяны! И как они тебя не сожрали, э? Вот за это стоит выпить! – Ты… ты… – Ричард пересадил встрепенувшуюся Курри на стол и начал медленно подниматься. Хмель ярился в его крови, и ощущение было таким, будто он выходит из транса цехара перед смертельной схваткой – только не с человеком, а с каким-нибудь мерзким зверем вроде хищного грифона-прыгуна или саблезуба. Селим сейчас представлялся ему такой тварью, и разница была лишь в одном: у Селима имелись пальцы. И уши! – Что – я? – Турок тоже встал, отодвинув скамью и сбросив Сильвера на пол. – Что – я? – Он разразился длинной тирадой, и Ричард решил, что все идет своим чередом и должным порядком: хоть Песни Вызова не спеты, зато Ритуал Оскорблений весьма внушителен. Теперь полагалось ответить, и он ответил – на украинском и на русском, в стиле знаменитого послания турецкому султану. Он обложил всех ублюдочных предков Селима, всех турецких властителей-кровопийц, их жен, матерей и наложниц, их янычар-людоедов, их евнухов и визирей – всех их вместе и каждого в отдельности, чтоб не возникло сомнений, кто тут дикарь, а кто – настоящий человек, хоть и с четырьмя руками. Закончив с этим, он ринулся в бой. Он снова был Тенью Ветра на земле войны, где после Песен Вызова полагалось петь клинкам и топорам. Анвер и Ферди, только что с упоением внимавшие ему, вскочили. Маблунга тоже очнулся, а Курри завизжала – они хоть не поняли ни слова, но вид мелькавших кулаков и ног доказывал, что схватка шла всерьез. Впрочем, кончилась она быстро: Ферди с Анвером еще размышляли, кого спасать, а кого вязать, Квамо еще приподнимался со скамьи, а Ричард уже сшиб противника на пол, прижал его локти коленями и стиснул горло левой рукой. Селим захрипел. Он был могучим крепким мужчиной, сыном воинственного племени, и он был хорошим бойцом – но не настолько, чтоб уцелеть в тайятских лесах. К тому же за спиной у Дика Две Руки, бывшего Ричарда Саймона, стояли пятнадцать поколений предков, родившихся на Тайяхате, а Тайяхат был тяжелым миром, где выжить дано не всякому. Но с теми, кто выжил, обычным людям тягаться не стоило. Дик, воин из клана Теней Ветра, молчал, ибо во время схватки, а тем более в ее завершающее мгновение, оскорблять никого не полагалось. Все слова были сказаны; теперь говорили сталь и кулак, и речь их была жестокой. Пальцы Дика клещами сжимали горло побежденного, а свободной рукой он шарил по столу, среди тарелок и стаканов, подносов с крохотными рюмками “коммандо”, остатков ростбифа и винных лужиц. Он искал. Где-то должен быть нож… Индейский нож с костяной рукоятью и длинным узким лезвием… Не очень острый и не похожий на клинок тимару, но где возьмешь другой?! Другого не было, и значит… Пальцы его сомкнулись вокруг костяной рукоятки, он вскинул клинок, готовясь ударить резким и точным движением – так, как учил Чоч, как наставлял Читари Одноухий и как он делал не меньше сотни раз. Ухо полагалось срезать аккуратно – даже не срезать, а отсекать одним ударом, не поранив щеки и не проткнув плеча. Все воины-тай владели этим мастерством. Рука Дика дернулась и застыла – Анвер Ходжаев по кличке Карабаш вцепился ему в запястье мертвой хваткой, откинувшись назад и упираясь каблуками в пол. Лицо Анвера было потным и бледным, а за его плечами виднелись растерянные физиономии Ковача и Маблунги. Маблунга аж посерел. – Слушай, егэт, не надо… – негромко забормотал Карабаш, мешая русские и татарские слова. – Не надо, джан кисягем… Этот дунгэс не стоит удара ножа… Но ты его прикончишь, непременно прикончишь… только не сегодня… в другой раз… сегодня, видишь ли, пятница, а в пятницу нельзя убивать… Голос Анвера был мягким, а руки – твердыми, и струились от его огромного тела некие успокаивающие мирные флюиды. Под их воздействием тайятский лес начал бледнеть и растворяться в пустоте, а вместе с ним уходил в прошлое Дик Две Руки, воин-тай, освобождая место для Ричарда Саймона, стажера. Стажер, в отличие от воина, не забывал о дисциплине и порядке, законах и Каторжных Мирах и прочих достижениях цивилизации. Пальцы его разжались, и Анвер осторожно перехватил длинный узкий клинок. Ричард Саймон поднялся на ноги – без победного трофея, зато с чистой совестью. Он оглядел стол, плеснул спиртного в стакан и протянул его Селиму. Тот сидел на полу, выкатив глаза и с трудом ворочая шеей. – Пей! Пей за Наставника моего Чочингу, людоеда и дикаря! Пей, береги свои уши и держись от меня подальше! Я ведь тоже людоед… могу не только уши откусить. Селим выпил. А ночью, после любовных игр с Курри Вамик, Ричарду Саймону вновь приснилось, как бьется он с Цором на виду у Горьких Камней, а Цохани, сжимая в руках копье, подбирается к нему со спины. И было у Цохани лицо турка Селима. Неудачный выдался день! КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Селим Джарир, потирая шею, в ярости уставился на Дейва Уокера. – Добрый, говоришь? Слишком добрый, да? Совсем наивный, робкий, как девочка? Дерется только на помосте, э? А в кабаке пьет и жрет, так? И рук не распускает? Без-ини-циа-тив-ный, значит? Убить не может, говоришь? – Тут Селим набрал полную грудь воздуха, выкатил глаза и заорал: – Ты меня подставить хотел, э? Ты кого на меня натравил, техасский пес? Морда бесстыжая! Сын шакала и сам шакал! Верно говорят: не дал Аллах совести рыжим, а дал им пинок под зад, чтоб не мозолили глаза! А что отринуто Аллахом, то подобрано шайтаном! Дейв Уокер слушал Селима, задумчиво почесывая шрам на нижней губе. Когда в речах турка случилась пауза, он произнес: – Ты, дорогой, не кипятись. Ты что делал? Ты не в игрушки игрался. Ты выполнял задание, ты его выполнил с блеском, и от лица службы тебе объявлена благодарность. Не мной, а Леди Дот! Уокер многозначительно ткнул пальцем в потолок. Селим принялся излагать на турецком, в какое место Леди Дот может отправиться вместе с благодарностью, куда ее засунуть и что нажать, дабы спустить воду. Длилось это с четверть часа, со всеми красочными деталями и эпитетами, возможными в турецком языке, а когда закончилось, последовал вопрос – не желает ли агент Джирпр повторить кое-что в присутствии начальства. Агент Джарир не желал. – Может, ты переусердствовал, э? – спросил Уокер, копируя акцент Селима. – Я ведь тебе что сказал, дорогой? Я сказал: подзаведи паренька, чуть-чуть подогрей, слегка пообижай, а там посмотрим, ни что он способен. Чуть-чуть! – Уокер снова поднял палец. – Может, ты перестарался? – Может, перестарался, – буркнул Селим. – Только я к этому бешеному подходить теперь не желаю. Мне уши дороги! Понял, нет? И не проси о таком! Не говори о старой дружбе! Ты мой начальник был – там, на Рибеллине, и ты меня вытащил, ты мою шкуру спас, и ты мне о долге напомнил… А теперь я тебе ничего не должен! Я теперь этому Карабашу должен! Скажешь, нет? – Должен так должен, – согласился Уокер. – Закажи молитву о его здравии или ящик “Коммандос” презентуй… – Он прищурил левый глаз, осмотрел Селима с ног до головы и спросил: – А скажи-ка, чего мой парень делать собирался? С тобой? Когда тебя к полу прижал? Глаза Селима выкатились еще больше. – Что делать? – рявкнул он. – Ножик в глотку воткнуть, вот что! Если б не этот Карабаш… – Погоди, – Уокер похлопал турка по мощному плечу. – Ты уверен? Твердо уверен, что он мог бы тебя убить? Селим пробормотал смачное турецкое проклятие. – Ну, ладно, верю… Ты ведь знаешь, служба у нас тяжелая, дорогой, не всякому по плечу. А отчего? А оттого, что не всякий способен пустить ближнему кровь. Пусть этот ближний мерзавец и гад, а все ж человек! Подумаешь о том, палец дрогнет, твоя пуля – мимо, а его – тебе в лоб… – Он стиснул плечо Джарира, помолчал и вдруг спросил: – Ты помнишь, как первый раз стрелял в человека? Там, на Рибеллине? Когда тебе было двадцать с хвостиком? Во-от с таким маленьким хвостиком? – Уокер показал, с каким. – Ты помнишь, куда твоя пуля улетела? Помнишь, Селим-джан? – Помню, – хрипло отозвался турок. – У этого в окно не улетит. У этого хватка есть… Такая хватка, будто он уже сотню душ прикончил. – Прикончил, – кивнул Уокер, – только то были не люди… не совсем люди… А мне надо знать, способен ли он разделаться с человеком. С каким-нибудь мерзким наглым ублюдком вроде тебя… Понял, нет? Начнет с ублюдков, а там все поедет-покатится… – Считай, уже поехало, – сказал Селим, массируя горло. – Даже покатилось! Дейв Уокер протянул ему раскрытую ладонь. – Ну, так прими благодарность и не обижайся. Ты ведь сам был не прочь устроить маленький розыгрыш… Мир? Заметив, что Селим колеблется, он ухватил его мощную длань и усмехнулся. Шрам оттянул губу, и улыбка, как всегда, вышла кривой. – Ну, не выкатывай глаза! Аллах не любит рыжих и Аллах не любит обидчивых! А что отринуто Аллахом, то подобрано шайтаном! А шайтан не упустит своего, ежели ты ему поддашься. Вот послушай-ка одну историю. Помер старый техасец Билл Демпси и отправился, само собой, прямиком в ад…Глава 7
Служебная станция Пандуса выглядела совсем не так, как думалось Саймону прежде. Думалось когда? Год назад? Десять лет? Или целый век? Как и в Чимаре, он отсчитывал время не месяцами и годами, но свершившимися событиями. И это доказывало, что он еще очень молод. Молод, но не столь наивен и романтичен, как в двадцать или в девятнадцать лет. Во всяком случае, теперь он знал, что трансгрессорная станция, с которой оперативники уходят к другим мирам, находится в недрах крутого холма, чью срезанную вершину увенчивает сорокаэтажное пирамидальное здание Главной Штаб-Квартиры. И не было там мрачных залов с бетонными стенами, не было сумрака и тьмы, сгущавшейся в узких щелях амбразур, не было самих щелей, лучеметов и огнеметов, или других смертоносных орудий, призванных защищать компьютеры и сейфы ЦРУ. Зато имелась анфилада помещений в цветном кафеле, просторных или небольших, с серебристыми Рамами – вертикальными, подобными дверям, или вмонтированными в пол, так что странник не передвигался к устью Пандуса, а как бы проваливался в него, скользя к своей цели среди алого, красного или пурпурного тумана. Этих старт-финишных залов было много, так как в любой час, днем и ночью, вечером и утром, Пандус Колумбийской Штаб-Квартиры принимал и отправлял неисчислимые тонны грузов. Были, разумеется, и пассажиры; и наступило время, когда Ричард Саймон сделался одним из них. Все выглядело донельзя прозаично. У одной из Рам Пандуса (совсем крохотной, только-только протиснуться человеку) хлопотали техники в лиловых комбинезонах Транспортной Службы с блестящими нашивками, что-то настраивали, проверяли, переговаривались друг с другом и с другими людьми, чьи лица мелькали на связных экранах; перед Саймоном проплывал то полицейский пост при входе, то диспетчерская с панелями штурман-компьютера, то какие-то иные помещения, пустые или заставленные приборами и громоздкими контейнерами. Всюду – деловитая суета, негромкий властный гул машин, яркий свет, огни, и никакой романтики. Если не считать факсимиле Невлюдова наверху серебристых Рам и начертанных кое-где девизов, имевших хождение в Конторе: “Без гнева и пристрастия”, “Не милосердие, но справедливость”, “Pro mundi beneiicio” «Во благо мира (лат.).», “He утратив, не сохранишь”. Последний афоризм в ЦРУ понимался по-разному на каждом этапе служебной карьеры. В период обучения он значил: не утратив наивности и невинности, не сохранишь силу духа и жесткость. Жесткость – не жестокость, а именно жесткость – считалась важной чертой характера оперативника, столь же необходимой, как логическое мышление, разнообразный жизненный опыт и профессиональная подготовка. Существовал лишь один способ проверить, насколько будущий агент способен к решительным и жестким действиям, к тому, что он обязан совершить – не ради чести и славы, но по приказу и во имя долга. Убийство. Или ликвидация, как политично выражались в Центре. Не каждый мог проникнуть в эти отмеченные кровью Врата, однако Ричард Саймон шагнул в них в юности, и оттого следующий шаг казался ему вполне естественным и очевидным. Не милосердие, но справедливость! А также – не утратив, не сохранишь! Как говорил Наставник Чочинга, береги свои уши, но не бойся их потерять, чтобы спасти печень. Дейв Уокер, провожавший Саймона, придерживался того же мнения. Когда серебристый обод Рамы вспыхнул и глухая стена исчезла, сменившись ярким заревом рассвета, губы Уокера скривились в усмешке. – Живой шакал лучше мертвого льва, – пробормотал он, – но еще лучше, когда лев пьет бренди над могилой шакала. Ты об этом не забывай, парень! И не геройствуй, работай! Но аккуратно. Запас бренди в “Катафалке” еще не иссяк, так что дохлые львы нам ни к чему. Саймон молча кивнул и растворился в алом тумане. В Конторе, чьей неотъемлемой частью были и Учебный Центр, и станция Пандуса под орегонскими холмами, имелись только два звания: агент-стажер и полевой агент. Все остальные титулы проходили по разряду должностей, демонстрируя ту же традиционную основательность и разнообразие, как на Старой Земле: директор, его заместители, главы отделов и служб, резиденты, инструкторы, аналитики, руководители групп, звеньев и спецподразделений. Но званий было только два, причем полевых агентов чаще именовали просто агентами, а агентов-стажеров, проходивших подготовку в Центре, – просто стажерами. Между этими состояниями, однако, лежала переходная область, достигавшаяся на пятый год обучения, когда вчерашние новобранцы и неофиты превращались в почти агентов. Почти! Но не совсем. Ибо агент – не тот, кто знает Как, Что и Почему, а тот, кто может. Тем не менее руководство Центра в лице Леди Дот полагало, что молодых, прошедших четырехлетний искус, стоит поощрить, а потому “почти агентов” именовали практикантами. Приставка “почти” могла сохраниться надолго; от нее избавляли лишь время, опыт и выполненные задания. Ричард Саймон, юноша приятной наружности и крепкого телосложения, двадцати одного года от роду, потомок мормонов из Юты и православных смолян, являлся практикантом. Ситуация, которую ему вменялось разрешить, была весьма типичной для Нестабильных Миров, где правили диктаторы и хунты, шейхи и камарильи и где редкий год проходил без капитального кровопускания. Боролись, разумеется, за власть. Как доказывал исторический опыт, эта борьба, в зависимости от конкретных обстоятельств, могла проявляться в самых разнообразных формах – не изменявших, впрочем, сути дела. В странах богатых, приверженных демократии, не поощрялись кровавые разборки; битвы там вели экономические и политические, называя их свободной конкуренцией, и проигравший в тех битвах соперник рисковал не жизнью, а должностью и кошельком. В странах бедных должностей и кошельков на всех желающих не хватало, а потому всегда находились охотники переделить поделенное силой – и передел этот выливался путчами, революциями, гражданскими войнами, грабежом и разором. Побежденных тоже делили – снимали головы либо резали на части. Где по старинке, мачете и топором, а где и лучеметом. Собственно, в минувшие эпохи вся Старая Земля играла в эти игры. Делили все и всюду, но с веками проблема дележа становилась лишь острей, а противоборствующие стороны – непримиримей. Самый неприятный момент был связан с дележом земель и весей, которые, в силу причин исторического свойства, могли принадлежать тому или иному племени либо пяти племенам сразу – так как каждое из них, под своим знаменем и в свой звездный час, захватывало спорную территорию, порабощало прежнее население и получало в его лице вечного врага. Разумеется, лучшим решением сей безысходной проблемы был бы вовремя осуществленный геноцид, но в прошлом люди не отличались особой предусмотрительностью. И в результате где-то когда-то арабы не дорезали евреев, турки – христиан, христиане – мусульман, католики – протестантов, белые – краснокожих, и так далее, и тому подобное. Это было огромным просчетом! И в конце двадцатого века, когда человечество сделалось слишком цивилизованным, чтобы приветствовать массовый геноцид, история сыграла с ним дурную шутку, огласив список неразрешенных – и в принципе неразрешимых – задач. Кому принадлежат острова Кипр и Тайвань, полуостров Крым и многострадальная Палестина? Как соединить две Кореи и как разделить Югославию на десять стран – пусть не таких славных, но мирных? Чей город Севастополь? Русский? Украинский? А может, греческий? Как утихомирить сандинистов, как замирить Афганистан, как успокоить Ирак, Иран и Ливию, как прекратить повальное бегство с Кубы? Как сделать негров в Штатах белыми – или наоборот? И если сей эксперимент удастся, то повторять ли его в Южной Африке?… Проблемы множились и росли как снежный ком, но были в этом хаосе свои трагически-нелепые апофеозы: война Британии с Аргентиной, России – с Чечней, а также схватки террористов любых оттенков и мастей со всем миром. Стоит также помянуть конфликты меж Японией и Австралией, кровавый иранский джихад, побоище в Йоханнесбурге, бомбардировку Кишинева и похищение ирландскими сепаратистами генерального секретаря ООН, приуроченное к двухтысячному году христианской эры. Пандус, загадочное детище Невлюдова, положил конец всем этим спорам и раздорам. Галактика была столь велика и столь обильна новыми прекрасными мирами, что любой непримиримый спорщик мог выбрать земли себе по аппетиту – остров, десяток островов или целый континент. Вдобавок каждая из стран и каждый народ находились изначально в равных условиях и отправлялись к звездам со всем своим национальным достоянием. Пандус сделал недвижимое движимым, так что теперь переселенцы могли забрать с собой свои заводы и фабрики, дороги и города, аэродромы и кладбища, египетские пирамиды и небоскребы Нью-Йорка, Булонский лес и священную Фудзияму. Кое-чего предстояло лишиться – Ниагары, Байкала, Джомолунгмы и Гранд Каньона, но в новых мирах имелись свои величественные водные потоки и горные хребты, свои океаны, озера и водопады. Вдобавок все это было чистым и юным, как лоно девственницы, ожидающей пылкого супруга; супруг же был умудрен прошлыми неудачами и клялся не гадить в брачную постель, не посыпать ее радиоактивным пеплом, не сверлить над ней озоновых дыр и не поворачивать реки вспять. Эпоха Великого Разъединения началась, и человечество, вспорхнув с Земли, разлетелось по новым мирам. Подбор компаньонов, с коими предстояло их разделить, велся с небывалой скрупулезностью, а результаты оценивались ООН – уже не союзом Объединенных, но Обособленных Наций. Оценку давали двумя показателями в рамках десятибалльной шкалы: ИТР – индексом технологического развития и ИСУ – индексом социальной устойчивости. Считалось, что планетарное сообщество стабильно во всех отношениях, если ИСУ превосходит семь единиц, а ИТР дотягивает до пяти. Это была граница меж чистыми и нечистыми; первые, как положено, обитали в раю, вторым приходилось довольствоваться суррогатами преисподней. Но даже это являлось великим достижением, поскольку настоящий ад, с его Хиросимами, Чернобылями и глобальными войнами, остался на Земле. В конце двадцать первого века, когда Исход был завершен, а каналы Пандуса в Солнечной системе перекрыты, Служба Статистики ООН разработала классификацию, определявшую статус всех обитаемых миров. Десять из них, где концентрировалась большая часть человечества, были разбиты на три категории. Стабильными считались пять высокоразвитых планет: Колумбия, заселенная в основном американцами, англосаксами и японцами; Европа с ее четырьмя материками – Галлией, Иберией, Тевтонией и Славенией; Россия, к которой присоединился ряд восточных стран; Китай с его сателлитами, а также Южмерика, объединившая Бразилию, Перу, Аргентину и другие сравнительно благополучные державы южноамериканского материка. Те, кого не принял этот союз, отправились на Латмерику – все островные деспотии Больших Антил, Эквадор, Боливия, Уругвай, Парагвай и страны Перешейка от Гватемалы до Панамы. Чернокожие африканцы (кроме эфиопов и конголезских пигмеев) заселили Черную Африку; появилось там еще одно государство, Нью-Алабама, где обитали американские негры из числа непримиримых. Но их подавляющая часть все-таки перебралась на Колумбию, в три из семидесяти новых штатов новой Америки. Черная Африка и Латмерика классифицировались как Нестабильные Миры, подверженные социальным катаклизмам, – вторая и не слишком почетная из категорий Большой Десятки. Что касается третьей и завершающей, то ее ввели по настоянию Аллах Акбара и Уль-Ислама для планет, населенных мусульманами. Правда, не было секретом, что Уль-Ислам (Исламская Диктатура шиитского Ирана) и Аллах Акбар (сообщество арабских государств) являются Нестабильными Мирами, тогда как Сельджукия, где доминировали Турция и Пакистан, – вполне устойчивый конгломерат, хоть и не слишком развитый в технологическом отношении. Все государства Большой Десятки считались полноправными членами ООН. Кроме них туда входили с совещательным голосом шестнадцать Независимых Миров – продукт неодолимой тяги к автономии некоторых малых стран или немногочисленных народов. Эти миры – Маниту и Амазония, колонизированные индейцами, а также Гималаи, Монако, Баскония, Новая Ирландия и все остальные – имели, как правило, невысокий ИТР, но были весьма стабильны в политическом отношении, так как каждый из них принадлежал единому и монолитному этносу. Все прочие планеты классификационного списка находились под эгидой и контролем ООН. Часть из них – такие, как Галактический Университет, Сингапур, торговый центр, или Таити, мир отдыха и водного туризма, – обладала статусом Протекторатов; часть была Колониями, где обитали от ста тысяч человек до десяти миллионов. Колониальным считался также всякий мир, где есть разумные аборигены и где главной целью земных переселенцев было исследование инопланетных жизненных форм. Кроме того, ООН – через Службу Планетарных Лицензий – осуществляла надзор за полутысячей Миров Присутствия, где тоже жили люди – частные лица, искавшие уединения, или специалисты промышленных компаний, получивших лицензии на разработку недр и другие виды деятельности. Население Миров Присутствия было немногочисленным, но ряд из них уже претендовал на статус Колоний. Наконец, имелись еще Планеты-Свалки, куда перебрасывалось все лишнее в процессе терраформирования обитаемых систем, и Каторжные Планеты – те же свалки, но для человеческих отбросов. Пополнялись они большей частью уроженцами Латмерики, Черной Африки, Уль-Ислама и Аллах Акбара. Информация о Закрытых Мирах была секретной – во всяком случае, иных примеров, кроме Старой Земли, в классификации ООН не приводилось. Впрочем, сие не означало, что существует один-единственный Закрытый Мир; никто и никогда такого не утверждал, и сам этот факт являлся весьма многозначительным. Silentium videtur confessio, как утверждали древние латиняне, – молчание эквивалентно признанию. Но Ричард Саймон, пройдя сквозь устье Пандуса и совершив недолгое путешествие в вертолете, находился сейчас не на таинственной Земле, а в местах гораздо более прозаических, вблизи Сьерра Дьяблос, в самом центре единственного материка Латмерики. Дьявольские Горы считались ничейной территорией, пустынной и абсолютно бесполезной, так как в этом нагромождении гранитных глыб и бесплодных скал, в лабиринте узких сырых каньонов, трещин, осыпей и коварных топей, в хаосе провалов, пещер и плоскогорий, заросших анчем, местной помесью ели с кактусом, – словом, в этом поганом местечке человеку искать было нечего. Вершины Сьерра Дьяблос торчали посередь огромного благодатного материка будто ядовитый нарыв протяженностью в триста лиг, а почти все государства Латмерики располагались вокруг него – точь-в-точь как жемчужное ожерелье на шее больного проказой. Разумеется, болезнь можно было излечить, удалив самые гнусные язвы на Свалку, а после разделаться и с остальным – взорвать все, что торчит вверх, и засыпать ущелья да трясины. Проект был недешев, и все латмериканские диктаторы, тираны и вожди вопили в один голос об отсутствии необходимых средств, энергетических мощностей и крупнокалиберных трансгрессорных станций. Но когда ООН, при поддержке Колумбии, Южмерики и России, предложила свою безвозмездную помощь, помощь эта была отвергнута. Из гордости, как утверждали местные официальные источники; из чувства самосохранения, как полагали в ЦРУ и в генеральном штабе Карательных Сил. Если не считать отрадных исключений вроде Боливии, хунты в Латмерике держались у власти от трех до семи лет. Затем вспыхивала очередная “революсьон”, и бывший вождь или диктатор ударялся в бегство с целой сворой своих приспешников – разумеется, в том случае, коль голова еще держалась на плечах. Иногда он находил прибежище у соседей, иногда не находил, и тогда оставался еще лабиринт Сьерра Дьяблос, где у всякого предусмотрительного “отца народа” были заготовлены тайные укрытия, склады с припасами и пулеметами и все прочие средства восстановления справедливости. Там бывший властитель мог отсидеться, поднакопить силенок, наточить клыки и доказать наглому узурпатору, что порох в пороховницах еще не усох. А когда приходил миг торжества порядка и закона, в Сьерра Дьяблос бежал узурпатор – конечно, если скальп еще оставался при нем. Вот почему Сьерра Дьяблос были так необходимы Латмерике. В определенном смысле они могли считаться национальной святыней, гарантией бурного и непрерывного революционного процесса, а значит, и прогресса – в том смысле, как его здесь понимали. Существовал, однако, неписаный закон, определенная традиция пользования всепланетным убежищем, которая весьма редко нарушалась в бурной политической жизни Латмерики. Так, наследственный президент Гватемалы, свергнутый с трона, мог бежать в свою часть Сьерра Дьяблос, скрываться среди гор и трясин у границ своей державы, грабить и вешать своих пеонов, коль возникала нужда в женщинах, рекрутах или мешках с маисом. Аналогичное правилособлюдали тираны Никарагуа и Сальвадора, президенты Коста-Рики и Гвианы, великий дон Панамский, премьеры Суринама и Белиза и даже диктатор Парагвая – где, если верить Уокеру, население было весьма темпераментным и обожало корриду по-парагвайски. Но в целом латмериканцы, народ горячий, однако не лишенный здравого смысла, считали так: коль ты партизанишь в изгнании, бей своих и не лезь к чужим. Генерал Педро Сантанья, экс-правитель Гондураса, нарушил этот закон. Его “революционные отряды”, восемьсот стволов и столько же головорезов, курсировали вдоль рубежей Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа, заглядывая временами в Панаму и навещая даже весьма отдаленный Эквадор. С одной стороны, это было неплохо: в каждой из этих держав имелась своя оппозиция в Сьерра Дьяблос, и люди Сантаньи, отлично вышколенные и вооруженные, сперва чистили перышки конкурентам. Но вслед за перьями летел пух, уже из местных крестьян, а это было чистым убытком. Поразительно, сколько пуха, могли нащипать восемьсот гондурасцев, таких же темпераментных, как парагвайцы! Там, где они проходили революционным маршем, не оставалось ни перьев, ни пуха, ни кур, ни девственниц. Собственно, не оставалось ничего – одни головешки да трупы со вспоротыми животами. Их– то Ричард Саймон сейчас и лицезрел. Перед ним лежала панамская деревушка, спаленная на треть; среди пожарищ и руин высились столбы числом не менее полутора сотен, а на них были развешаны голые мужчины. Вверх ногами, вниз головой. Их, видимо, пытали – одни лишились глаз и ногтей, кожа других почернела от расплавленной смолы, у третьих был содран скальп или надрезана мошонка, а на четвертых, пятых и шестых, располосованных мачете, смотреть было еще страшней. Саймон, впрочем, смотрел. Недавно ему стукнуло двадцать один, а выглядел он еще моложе, но сейчас казался себе самому древним-предревним старцем. Губы его дрогнули, шепнув: – Не милосердие, но справедливость… Тетушка Флори, с ее мормонским максимализмом, сказала бы иначе: не мир, но меч. Ричард Саймон чувствовал, как трепещет в его руках незримый клинок возмездия. Он смотрел. Подвешенные на столбах мужчины были, видимо, главами семейств. С остальными не церемонились: бесполезных малолеток и стариков сожгли в домах или прикончили ударом мачете (чтоб не тратить боеприпасов), женщин изнасиловали, и трупы их валялись под столбами – там, где висели их братья, отцы и мужья. Смерть, царившая в этой деревне, была совсем иной, чем в тайятских лесах, – не честной, не благородной, не славной, а жуткой и мерзостной. Ибо то была смерть беспомощных. Оборотная сторона колумбийского Эдема! Саймон двинулся вперед, переступая через раскинутые женские ноги и тела обезглавленных детишек. Его высокие новые башмаки на шнуровке чуть слышно поскрипывали. Комбинезон десантника Карательных Сил тоже был новым, слегка помятым, с сержантскими фасциями в петлицах; на груди висел автомат, компактная “сельва” с плоским штык-ножом. Больше никакого оружия у него не было, если не считать рук, ног и зубов. Он сам был оружием. Безжалостной десницей Закона, повелевавшего отстреливать бешеных зверей. Деревушку делила мелкая река. За ней, в половине лиги, громоздился бурый вал Сьерра Дьяблос, где не проедешь ни на танке, ни на джипе, да и пешком не пройдешь – получишь пулю в лоб и упокоишься где-нибудь в трещине. Можно, правда, полетать над скалами на вертолете или в боевой капсуле, но тогда получишь не в лоб, а в брюхо, и не пулю, а гранату. Сьерра Дьяблос чужих не любит! Своих, впрочем, тоже: хоть не убивает, но и не кормит. Если б не было деревушек вроде этой панамской, свои бы сдохли с голоду… Река пела, журчала по камням. Люди Сантаньи сожгли все на ее восточном берегу, но западная часть деревни уцелела. Там, как знал Саймон, располагались временный штаб гондурасцев, рота охраны и два отборных батальона – все восемьсот человек мятежного воинства. И там был Педро Сантанья, генерал и экс-президент, нарушивший правила игры. Что, кстати, уже не являлось внутренним делом суверенного Гондураса. Согласно Конвенции Разъединения, ни одна страна не имела права вмешиваться в дела другой, в революции и гражданские войны, пока сей огненный вал не перехлестывал ее границ. А если перехлестывал, то приходили войска ООН, поскольку в той же Конвенции говорилось: “Рубежи меж государствами, установленные в настоящем документе, считаются окончательными, не подлежащими пересмотру и ревизии; их неизменность гарантируется всеми силами и средствами, как политическими и экономическими, так и военными, которыми располагает Организация Обособленных Наций”. Точка! Часть первая, статья вторая… Во исполнение этой статьи Ричарда Саймона послали в Сьерра Дьяблос. Еще – ради практики и проверки. Так ли он крут, чтоб сделаться агентом ЦРУ и бродить тайными тропами в человеческих лесах, по землям, где бушует война… Тропинка, которой он шел сейчас, была первой. Он должен был преодолеть ее один, без наставников и инструкторов. Без Чочинги и Чоча, без Дейва Уокера и Леди Дот… Пройти до конца, пролезть дьяволу в глотку, схитрить, убить… И остаться в живых. Дохлые львы никому не нужны! Пальцы Саймона приласкали вороненый автоматный ствол. На шее его болтался жетон сержанта Карательных Сил, а силы эти, под командой подполковника Тревельяна, с боевыми вертолетами “ифрит” и “бумеранг”, с танками и реактивными установками “Железный Феликс”, сосредоточились в восьми лигах к востоку – и ни одним шагом ближе. Ни шагом, так как у Сантаньи имелись еще заложники, о чем он поставил в известность и Тревельяна, и коменданта боливийской базы Корпуса. Этот Сантанья был человеком предусмотрительным и не всех еще развесил по столбам. Пока. Пока боится, что накроют залпом “Феликсов”… Хотя стоило б накрыть, ибо заложников – если они и в самом деле есть – вряд ли спасешь. Люди Сантаньи прирежут их и ускользнут в Сьерра Дьяблос, а оттуда ублюдков не выкуришь ни газом, ни ракетами… Ничем, кроме ядерной атаки или бактериологического заражения местности… Но эти лекарства были опасней самого недуга. Тактика “выжженной земли” никогда не применялась силами ООН. Собственно, и никем другим, хотя средства массового поражения существовали и, наряду с боевыми планетолетами, считались основой космической обороны. Но в наземном конфликте их применение было фатальным для обеих сторон – так же, как долгие, затяжные войны с гигантским числом солдат, поставленных под ружье. Победителей в них не было; одни лишь потери, и исчислялись они целыми поколениями. Психология, ставшая со времен Исхода наукой довольно точной и компьютеризированной, объясняла этот феномен. Лишь два процента населения, преимущественно – мужчины, были способны к убийству во имя долга, без неприятных последствий для собственной психики; всех остальных война травмировала необратимо, превращая в лучшем случае в неврастеников и инвалидов, а в худшем – в садистов и маньяков. Эти мстили всем – потерянные люди, безвинные преступники, жертвы общества, сделавшего их убийцами. Еще на Земле, в двадцатом столетии, хватило подобных экспериментов: две мировые войны, а затем – войны в Корее, Вьетнаме и Афганистане. Выжившие в них как бы выпадали впоследствии из системы общественных норм и связей, и все попытки адаптировать их к мирной реальности были, как правило, неудачны. Эта болезнь получила название “вьетнамского синдрома” и считалась столь же неизбежной для большинства отвоевавшихся солдат, как старческая импотенция. Но, кроме большинства, было еще меньшинство – те самые два процента прирожденных воинов. Из них, и только из них комплектовались силы ООН, весьма немногочисленный, но боеспособный контингент войск быстрого реагирования, полиции, разведки и прочих служб, призванных карать, охранять и защищать. Это диктовало свою особую тактику, в которой были предпочтительны действия локальные, а не глобальные, рейды малых групп или агентов-одиночек, внезапные атаки и нежданные прорывы для ликвидации причин конфликта. Причиной же всегда являлись люди – не слишком большое число зачинщиков и смутьянов, с гибелью коих в стане врага воцарялся хаос. Следствием хаоса была потеря боевого духа, а затем – отступление и бегство; и завершалось оно на свалке, в Каторжных Мирах. Подобная тактика напоминала хирургическую операцию: наркоз пациенту дан, системы жизнеобеспечения включены, банк органов – на всякий случай – подготовлен, но резать все-таки приходится ножом. Лазерным скальпелем, если говорить точнее. Невесомой, стремительной, почти незаметной иглой… Ричард Саймон, практикант, сегодня и был таким скальпелем. Люди подполковника Тревельяна служили ему дымовой завесой – или, если угодно, наркотическим снадобьем для пациента, призванным усыпить его бдительность. Тревельян лишь блокировал подходы к Сьерра Дьяблос; его патрули не сделают ни шагу к западу и не вступят в бой с головорезами Сантаньи. Зато через пару часов грянет с небес стратоплан класса “Синий призрак”, отстрелит боевые капсулы с десантом и сбросит что-нибудь успокоительное. Скажем, изобретенные недавно фризерные бомбы – не слишком мощные, с температурой в эпицентре до минус тридцати. Или подбавит газку – тоже не смертельного, “хохотуна” или “поцелуя Афродиты”, чтоб десантники не заскучали. Они спустятся, выйдут, и тогда… Тогда начнется настоящее веселье – если он, Ричард Саймон, прооперирует всех, кому веселиться не положено. Пусть веселятся в преисподней! Ричард осмотрелся с мрачной усмешкой и тут же вспомнил, что ему надлежит казаться испуганным – как всякому юноше, пусть даже сержанту, узревшему столь жуткую картину. На этом, на его страхе, молодости и явном отсутствии опыта, держался весь план; его должны были принять за сопляка – жалкого, перепуганного и потому вполне безопасного. Учитель Чочинга называл эту хитрость дорогой Смятого Листа, но Леди Дот, формулируя задание, выражалась определенней: Притворись, обмани и убей! Всех, до кого дотянешься! Глаза Саймона увлажнились, плечи обвисли, колени затряслись. Он играл со всем возможным старанием. Видимо, патрули Сантаньи уже наблюдали за ним: справа доносился треск углей под сапогами, а на другом берегу реки что-то поблескивало – не иначе как стекла мощного бинокля. Саймон стиснул левой рукой автоматный ствол, перегнулся в поясе и сделал вид, что его выворачивает наизнанку. Ему не пришлось слишком сильно притворяться. Сожженная часть деревни была позади. Он стоял у быстрых речных вод, разглядывая противоположный берег. Там, среди уцелевших хижин, суетились люди в пестрых маскировочных комбинезонах, перетаскивали мешки, вьючили их на мулов, коптили мясо над жаркими кострами, ели, хохотали… Местность от берега приподнималась, и дальний край селения был виден как на ладони – дома там выходили к скалам, протянувшимся темной ломаной стеной с севера на юг. На их фоне белела церквушка с колокольней, самое основательное сооружение в этой забытой богом дыре; рядом, образуя небольшую площадь, стояли еще пять-шесть одноэтажных строений, тоже беленных известью, с крытыми террасами. Они выглядели посолидней остальных и, как решил Саймон, возможно, принадлежали священнику, старосте и местным богатеям. Он мог держать пари на сотню кредиток против панамского песо, что Сантанья обосновался в одном из этих домов, а рядом устроились его офицеры и телохранители. Заложников – если в самом деле у них есть заложники – держали, вероятно, в церкви. Дверь ее была притворена, а на ступенях, насколько он мог разглядеть, сидели трое или четверо часовых. Он ждал, стоя на берегу и не пытаясь скрыться. Река была мелкой, с галечным дном, но довольно широкой, метров сорок-сорок пять. Неподалеку чернели обугленные сваи моста, а за ним начинался пыльный грунтовый тракт, переходивший в улицу, которая вела к площади и к церквушке. Вскоре там наметилось шевеление – три человека в комбинезонах вышли на террасу ближнего к церкви дома, постояли, сблизив головы и будто бы совещаясь, и начали быстро спускаться к сожженному мосту. “За мной”, – подумал Саймон, отметив, что доносившийся справа скрип углей под сапогами стих. Вероятно, невидимые конвоиры замерли, взяв его на мушку. Он услышал долгий хриплый стон и повернул голову. В тридцати шагах, у самого въезда на мост, торчал особенно высокий столб, почти пятиметровый. К нему прикрутили колючей проволокой жилистого смуглого мужчину неопределенных лет – кровь, сочившаяся из сотни ранок и засыхавшая бурой коркой, не позволяла определить возраст. Бедра, живот и гениталии мужчины были истыканы ножом. Однако он еще дышал. Саймон приблизился к нему. Человека подвесили вниз головой, но столб был высок, и их лица находились на одном уровне. В пустых глазницах висевшего запеклась кровь. Веки тоже были срезаны. – Я из Карательного Корпуса, – сказал Саймон. – Парламентер. Ты кто? Губы мужчины шевельнулись, потом он хрипло выдохнул: – Ан-хель… Сан-чес… ста… староста… был… Не… не вижу… тебя… Ты – сол-дат?… Из Бо… Боливии?… В Боливии, на одном из прибрежных плоскогорий, находилась местная база Корпуса. Оттуда и взлетит “Синий призрак” с десантниками. Через час сорок две минуты. – Зачем они это сделали, дон Анхель? – спросил Саймон. – Зачем пытали, зачем перебили всех? Ведь вы же не сопротивлялись. – Не… со… со-про-тив-лялись… Кля-нусь… Пре-святой Девой… Отдали… все… Но их генерал ска… сказал: “Пеоны – хитры… Дали ма… мало… больше спря… спря-тали… Зерно… мескаль… де… де-ву-шек… Надо пытать… пы-тать…” – Человек дернулся, и под шипами, раздиравшими грудь, живот и ноги, показалась кровь. – Го… гово-рят, – пробормотал он, – генерал Сан… Сантанья и наш дон Кера… не… не в ладах… пре… прежние обиды… Дон Алессандро Кера был правителем Панамы. Пару лет назад, когда Сантанью свергли, он отказал генералу в убежище. – Прежние обиды, медленно повторил Саймон. – Они, значит, не в ладах, и генерал мстит. Режет пеонов. Так, дон Анхель? – Нас… всегда… резали… – прошептал староста. – Здесь… на Земле… все едино… Он смолк. Саймон, повернув голову, следил за тремя мужчинами в пятнистых комбинезонах, которые быстро спускались к берегу. До реки им оставалось двигаться минут шесть-семь. – Хочешь воды? – спросил он Анхеля. – Хо… хочу уме-реть… – раздалось в ответ. – Не надо. Я – парламентер. Я не могу снять тебя сейчас, но скоро Сантанья уйдет, и придут наши. Солдаты из Боливии. Ты будешь жить, дон Анхель. Потерпи! – Не… не буду… жить… Не… надо… Все… умерли… Все… в ру-ках… Пре-святрй Девы… от… отмучились… Хо… хочу к ним… ско-рее… К Па-кито… кЛоле… к Ри… Рикардо… кма… малышке Би… По… помоги, сол-дат… Он еще шептал что-то, перечислял какие-то имена, с натугой шевеля распухшими губами. Троица, встречавшая парламентера, уже разбрызгивала воду посреди реки. Речка в самом деле была мелкой, по колено. Саймон поднял оружие и выстрелил дону Анхелю в висок. “Сельва” била крохотными пульками с огромной начальной скоростью, и входное отверстие получилось таким, будто Анхеля ткнули в лоб шилом. Но маленький снаряд, пронизав его череп, пробил столб и улетел за реку. – Это ты зря, Чико! – рявкнул один из троицы, выбираясь на берег. – Зря! Не ты вешал эту упрямую скотину, не тебе и кончать его! Самоуправство получается, а? Что же ты, Чико? Холодные темные зрачки уставились на Саймона. Человек был высоким и крепким, с толстой шеей и дочерна загорелым лицом. Над узкими губами топорщились усы, на щеке алел рубец, и мочка левого уха была срезана. Судя по боевым отметинам и по тому, как уверенно-небрежно усатый касался приклада винтовки, он повидал всякие виды. Лет ему было порядком за тридцать. Саймон опустил глаза и пробормотал: – Я не мог глядеть… не мог… Он так мучился… – И должен был мучиться! Если б ты не влез, свиное отродье! – Усатый зло ощерился и повел в сторону Саймона винтовкой. – Ну-ка, Пас, Кинта! Заберите у него пукалку! И обыщите! Саймон покорно сдал автомат и вывернул карманы. Рядом со стволами патрульных его “сельва” действительно гляделась пукалкой. У них были винтовки “три богатыря”, мощное многопрофильное оружие русского производства. Как оно сюда попало? Оружейный завод в Туле поставлял эти винтовки лишь российскому спецназу и отрядам быстрого реагирования ООН. – Нехорошо начинается наша беседа, Чико, – произнес усатый, когда обыск был закончен. Он с сожалением оглядел мертвого Анхеля и повторил: – Нехорошо! Саймон буркнул, сгорбив плечи и не отрывая глаз от земли: – Я не Чико, сэр, я – парламентер. Сержант Донован, третий полк, группа спецпоручений. И говорить мне ведено не с вами. – Сер-жа-ант… спец по спецпоручениям… – с издевкой протянул усатый. – А я – капитан Мела, подразделение охраны президента. Слышал про меня? Саймон помотал головой, хотя об этом душегубе ему сообщили кое-какие сведения. Доверенный человек Сантаньи, глава телохранителей и мастер резать языки да глотки. Судя по данным ЦРУ, он отличался хитростью, патологической жестокостью и тягой к юным девушкам – желательно младше пятнадцати лет. Он был не гондурасцем – то ли с Кубы, то ли из Сальвадора. – Парламентер… сер-жа-ант… – снова протянул Мела и вдруг рявкнул: – Дерьмо! Сопляк! Почему не прислали офицера? Где полковник твоего сраного полка? А, Чико? Президент договоров с сержантами не подписывает. Не тот, видишь ли, калибр у сержантов! Ричард Саймон еще больше ссутулил спину, разглядывая носки своих башмаков. Несмотря на высокий рост и крепкое телосложение, выглядел он сейчас растерянным и жалким. – Я не должен подписывать договора, сэр. Мне вменили в обязанность убедиться в существовании заложников и передать генералу Сантанье следующее: если ваш отряд покинет деревню, не причиняя вреда жителям – тем, кто еще не умер, – вы получите выкуп. Это все! Пас и Кинта, спутники Мелы, переглянулись. Один выразительно хмыкнул, другой пробормотал: Выкуп! Было б кого выкупать! Капитан бросил на него свирепый взгляд, потом придвинулся поближе к Саймону. – Выкуп, говоришь? В какой валюте? – В твердой, сэр. В фунтах, рублях, долларах, юанях или кредитках ООН. Как пожелает генерал. – А сумма? – Усы Мелы хищно встопорщились. Саймон изобразил смущение. – Прошу простить, сэр… Мне приказано назвать сумму только генералу. При личном контакте. Винтовка в руках Мелы дернулась, ствол уперся Саймону под челюсть. Похоже, капитан считал, что полностью владеет ситуацией. Что может вышибить мозги парламентеру или подвесить его на столб и поупражняться в искусстве татуировки… Это было ошибкой, большой ошибкой! Нажать на спуск ему бы не удалось. Как и двум его подчиненным. Но демонстрировать свои способности было рано, и Ричард Саймон – смятый лист, пожухлая трава – прошептал: – Прошу вас, сэр… не надо… генерал сообщит вам… ведь вы – его доверенное лицо… а я – человек подчиненный… Чико… – Ладно, договорились! – Мела опустил винтовку и поскреб изуродованное ухо. -Скажешь все президенту, поглядишь на заложников, а потом я с парнями провожу тебя обратно. Может, отпущу, может, нет… Тебе еще не приходилось висеть на столбе вниз головой? Знаешь, Чико, через пару часов люди становятся такими разговорчивыми… Кровь отлила от щек Саймона; казалось, еще секунда, и он грохнется оземь. С востока потянуло ветерком, и в воздухе поплыл удушливый запах пожарища, смешанный с жуткими ароматами крови и смерти. – Ка… капитан… сэр… Нельзя ли уйти отсюда? Побыстрее? Мне надо к генералу… Я парламентер… – Ты – Чико! И дерьма у тебя полные штаны! Мела развернулся и зашагал к реке. Саймон последовал за ним, размышляя о риторическом вопросе капитана. Приходилось ли ему висеть вниз головой? Да он отвисел подольше, чем все жертвы ублюдка Мелы! В тени и на солнце, с рассвета до полудня, день за днем, два года подряд! И ничего, жив… Даже не сделался слишком разговорчивым… А вот если подвесить этого Мелу – чтоб он лишился всех пальцев! – он заговорит. Соловьем запоет! Канарейкой! Зажмурившись на мгновение, Саймон представил эту восхитительную картину и судорожно сглотнул. Два конвоира топали сзади, тыкая его под лопатки винтовочными стволами. С каждым тычком он словно бы нырял вперед, а один раз, когда ударили посильней, умудрился грохнуться на колени, прямо в воду. При этом он успел посмотреть на часы, отметив, что “Синий призрак” ожидается через час семнадцать минут. Когда они добрались до церкви и утесов Сьерра Дьяблос, оставался ровно час. Оглядев церквушку, Саймон решил, что она вполне подходит для обороны – особенно колокольня, где темнели спаренные пулеметные стволы и виднелись головы двух стрелков. Мела, не обращая на него внимания, что-то буркнул часовым, и один бросился к дому священника, украшенному гондурасским флагом (видимо, там была резиденция экс-правителя), а другой отомкнул засовы на церковных вратах. Потом Саймону разрешили заглянуть внутрь – но издали, не переступая порога. В церкви царил полумрак, скамьи были переломаны и валялись тут и там неаккуратными грудами, в одной из коих торчали жалкие остатки алтаря. Справа, в приделе, был дверной проем, а за ним – лестница, ведущая наверх, на колокольню. Стены в наивных росписях, изображавших Деву Марию, поклонение волхвов, хождение по водам и крестный путь, пестрели выбоинами от пуль. Били по фрескам, целили в самые непотребные места, и это доказывало, что людям Сантаньи чужды религиозные предрассудки. Как и остальным латмериканцам, кроме невежественных крестьян. Этот мир, в отличие от Южмерики, давно уже не был оплотом святой католической римской церкви. В одном из дальних углов, под фреской Девы Марии с дырой между ног, скорчились трое: старец в изорванном рубище, пожилая женщина с надвинутым на лоб платком и девочка лет семи. К Саймону они не повернулись; сидели, глядя в пол, неподвижные, как восковые фигуры. Женщина прижимала девочку к себе, а над ними скорбным жестом простирала руки Пресвятая Богоматерь – бессильная, не могущая спасти и защитить ни саму себя, ни тех, кто вверился ее Цэфемерному покровительству. Скрипнув зубами, Саймон спросил: – Это – все? – А разве мало? – откликнулся капитан с наигранным,Удивлением. – Самые ценные людишки из этого нужника: местный падре и его экономка со своим отродьем. С внучкой то есть. Одна баба слишком старая, другая – слишком сопливая… По-моему, их даже не помяли… Ну, нагляделся? Идем! И не забудь, кретин, что к президенту обращаются “ваше превосходительство”. – Он ткнул Саймона прикладом под копчик. Обогнув угол церкви, они направились к дому священника, довольно просторному, с беленными известью стенами и террасой, где устроились два связиста у радиофонных армейских пультов и, четверо охранников. Справа от террасы рос падуб, на удивление высокий, с резными темно-зелеными листьями. Ветви его простирались над плоской кровлей, и это напомнило Саймону отцовское жилище в Чимаре. Была, однако, и разница: во-первых, люди, в отличие от тайят, не делили свои владения на мирные земли и землю для битв, но воевали повсюду, где им хотелось; а во-вторых, дом священника был возведен согласно местным канонам – не только с верандой, но и с центральным патио, вокруг которого шли жилые комнаты. В патио и поджидал посланца экс-президент Сантанья – очень полный мужчина за пятьдесят, с орлиным носом и резкими рублеными чертами. Они, впрочем, уже начали расплываться – то ли под влиянием возраста, то ли потому, что выпито и съедено было немало; во всяком случае, под челюстью экс-президента свисал изрядный слой жира. Сантанья облачился в пышный генеральский мундир с эполетами, витыми шнурами и целым иконостасом орденов – вероятно, он поджидал кого-то повыше чином, если не полковника, так хоть майора. За президентским креслом маячили трое офицеров, а по углам квадратного дворика – телохранители с такими же винтовками, как у Мелы. Итого – одиннадцать, прикинул Саймон, приплюсовав к генеральской свите своих конвоиров. Капитан велел ему встать в восьми шагах от кресла, отдать честь и больше не дергаться. В ответ на приветствие Сантанья щелкнул толстыми пальцами и нахмурил брови. Брови у него были исключительные – кому угодно сгодились бы вместо усов. Саймон вытянулся во фрунт, уставил глаза в беленую стену напротив и доложил: – Сержант Донован, сэр! Третий полк Корпуса ООН, сэр! Группа спецпоручений! Явился по приказу подполковника Тревельяна, сэр, и по договоренности с вашим превосходительством! Все это было чистой правдой – кроме его фамилии и чина. Еще он сократил название Корпуса, опустив приставку “Карательный”, дабы не обострять отношений. Кто он такой, в конце концов? Сопливый сержант, почтовый ящик на двух ногах. Сержанты не делают обидных намеков генералам. Особенно желая добраться до генеральской глотки. Сантанья откашлялся и важно кивнул, колыхнув жирные складки на шее. – Мои офицеры, – произнес он гулким басом, ткнув пальцем за спину. – Полковники Хуарес и Гийя, первый и второй батальон, полковник Алонзо, начальник штаба революционных сил. Все гадюки сползлись в одно гнездо! Все главные мерзавцы, от генерала до капитана! Это было большой удачей. Пальцы Саймона сжались. Он уже чувствовал, как давит на курок. – Твои полномочия, сержант? – спросил Сантанья. – Никаких полномочий, сэр! Я обязан взглянуть на заложников и назвать вам сумму выкупа. А также передать ваш ответ подполковнику Тревельяну. Все, что вы пожелаете доверить мне, а не радиосвязи, сэр! Сантанья снова кивнул и уставился темными выпуклыми глазами на капитана Мелу. – Заложники? – Показаны, ваше превосходительство. Взгляд генерала переместился на Саймона. – Доволен, сержант? – Хм-м… – Саймон изобразил нерешительность и раздумье. – Прошу простить, сэр, но в этой деревне, согласно сведениям панамской стороны, обитало шестьсот шестьдесят два человека. Я не успел подсчитать погибших, но их не более шестисот. Заложников – трое. Быть может, кто-то еще остался в живых? Генеральские брови нацелились на капитана Мелу. Сам Сантанья, видимо, не входил в такие ничтожные дела, как число оставшихся в живых пленников. Или пленниц. Саймон полагал, что где-то спрятаны еще с полсотни девушек и молодых женщин – на забаву гондурасскому воинству. – Был еще один, почти живой, – Мела ухмыльнулся ему в лицо, – такты его сам прикончил, Чико! – Значит, все. – Палец генерала уставился в грудь Ричарду Саймону, и он невольно вздрогнул. Любимый жест Леди Дот! Но стреляла она наверняка получше, чем этот обвешанный орденами жирный бурдюк. – Все! – повторил генерал. – Платите деньги, берите товар и передайте привет моему другу дону Кера. Жаль, не он мне платит, а вы… Ну, с ним я еще сочтусь! Когда мой народ сбросит иго. тирана, когда мой дворец снова станет моим, тогда разберемся и с доном Алессандро… Или уже не с доном? Сегодня он дон, а завтра – дон-дзинь! Пустое ведро! Сантанья гулко расхохотался, и три полковника поддержали его, будто экс-президент отпустил невероятно изысканную остроту. Но Мела не смеялся. Стоя справа от Саймона, он бдительно озирал двор: стены, двери, четырех стражей по углам и еще двух, Паса и Кинту, замерших за спиной парламентера. У Паса на плече висел дулом вниз автомат Саймона. Легкая компактная “сельва” с плоским штыком и магазином на сотню патронов. Очень надежное оружие. – Ну, – пробасил Сантанья, – какова же цена? – Он вывернул голову налево, потом направо, с сомнением оглядел своих полковников и распорядился: – Алонзо, дай сержанту лист бумаги и что-нибудь пишущее. Пусть изобразит… А я посмотрю, щедр ли этот Тревельян. Если не очень, сержант задержится у нас до вечера. Потом мы отправимся в Сьерра Дьяблос, а он – к Тревельяну. С большим мешком. А в мешке будут три головы… Слышал, Мела? В ответ капитан прищелкнул каблуками. Саймон начал изображать. Полковничья ручка была отличной – крепкий гладкий пластмассовый корпус, наполненный сухими чернилами. С острым кончиком и кольцевой насадкой для регулирования толщины линии. С плоским торцом, который так удобно упереть в ладонь… Превосходная ручка! И сделана, кажется, в Китае… или в Турции… или в одном из пяти Сингапуров… дьявол их разберет… Закончив писать, он сложил лист пополам, перегнул еще раз и еще и вручил Нетерпеливо подпрыгивавшему Алонзо. Тот направился к Сантанье. Ручка была забыта, и Саймон в задумчивости отправил ее за ухо. “Полезная штука уши, – мелькнула мысль, – зря тай их режут. Куда безухому сунуть сигарету или такой вот пишущий стержень? Правда, тай не курили и не писали; все сказки, легенды и ритуальные традиции передавались изустно, и лишь в отдельных, особо важных случаях вывязывались из цветных нитей Говорящие Браслеты – вроде тех, что скрепили договор тайят с людьми Правобережья. Выходит, коль рассудить здраво, не так уж нужны были четырехруким уши, и не велик грех срезать их под корень… Экс– президент начал разворачивать бумагу, и на лице Саймона отразилось почтительное внимание. Капитан Мела хмурился, полковники вытягивали шеи, стражи застыли, сознавая торжественность момента. До появления “Синего призрака” оставалось больше двадцати минут. – Не такая уж крупная сумма, – произнес генерал, пренебрежительно выпятив губу. – Ну, за трех панамских выродков хватит… Одним платежом, и, надеюсь, не в песо? В кредитках или в долларах? Саймон кивнул. Сумма была крупной, и от него не укрылось, как алчно блеснули глаза Сантаньи. Впрочем, он мог пририсовать еще пару нулей, ничем не рискуя, – покойникам деньги не нужны. Экс– президент отодрал половинку листа, вытащил ручку-такую же, как у полковника Алонзо, -чиркнул что-то и усмехнулся. – С паскудного пса хоть вошь с хвоста… Это я не о твоем Тревельяне, сержант, об Алессандро… все-таки продаю его ублюдков… – Он сунул бумагу Алонзо. – Передай, полковник. Здесь счета гондурасской революционной армии в банке “Экстерьер де Гавана”… Деньги должны поступить к двадцати ноль-ноль, сегодняшним вечером. Мои связисты получат от банка код подтверждения, а твой Тревельян – заложников. Все ясно, сержант? – Так точно, сэр! "Пора, – решил Саймон, – пора!” “Призрак” с десантниками ждать еще шестнадцать минут, но уж больно момент подходящий! Алонзо стоял перед ним, протягивая сложенный лист бумаги, и теперь полковник, Кинта и Пас прикрывали его от часовых в углах дворика. И все трое были рядом, на расстоянии протянутой руки! Взяв бумагу, он сунул ее в карман. – Прошу прощения, сэр… Ваша ручка… Бить ручкой в глаз было куда удобнее, чем пальцем, – хотя бы из гигиенических соображений. Алонзо умер мгновенно. Он еще не успел покачнуться (тем более – упасть!), как ручка сидела в черепе Паса, а автомат, легкая смертоносная “сельва”, вернулся к прежнему хозяину. Кинту застрелили свои – Саймон распластался у его ног, и Кинта получил все предназначенное парламентеру. На какую-то долю секунды три оседавших наземь тела явились неплохим прикрытием, и Саймон успел снять стрелков с левого фланга. Затем он покатился по полу – стремительный, как тень гонимых ураганом облаков; пули зло жужжали, щелкали о камень, но не могли его догнать. Автомат в его руках снова ожил, плюнул струйками огня, и двое с винтовками упали. У каждого во лбу алела маленькая дырочка – точь-в-точь такая, как у Анхеля Санчеса, слепого старосты, пожелавшего умереть. "Лес, – думал Саймон, приподнимаясь на колене, – наш лес, человеческий, не тайятский… Место для битв! Место, где тяжелеет Шнур Доблести… Место, где Смятый Лист оборачивается Тенью Ветра… Место не милосердия, но справедливости…” Реакция у полковников была не та, что у стражей, но все-таки они добрались наконец до оружия. У Хуареса был американский “рейнджер”, а у Гийи вроде бы лучемет, страшная штука в ближнем бою, но выстрелить он не успел. Как и Хуарес, рухнувший навзничь с пробитым виском. Саймон поднялся, сжимая теплую ребристую рукоять “сельвы”. Его внутренний таймер отмерил лишь несколько секунд, и значит, охранники на террасе еще прислушиваются к выстрелам да соображают, что к чему. А на площади, у церкви скорее всего и не встревожились… Чего им тревожиться? Из– за сержанта-молокососа, приведенного Мелой? При этом имени считавший секунды таймер дал сбой. Что-то было не так! Чего– то не хватало! И Ричард Саймон, оглядевшись и не обнаружив трупа Мелы, понял чего. Три полковника, шесть охранников… А капитан улизнул! Правда, остался генерал, экс-президент, его бандитское превосходительство, главная цель акции и всей этой мясорубки. Слишком толстый, чтоб сбежать, слишком медлительный, чтоб дотянуться до оружия… Саймон стремительно шагнул к нему, нацелил штык и, глядя в помертвевшие выпученные глаза, раздельно произнес: – Чтоб тебе сдохнуть в кровавый закат, пятнистая жаба! Сантанья недоуменно моргнул, ибо слова эти были сказаны на тайятском. Затем плоский штык прорезал жировую складку под челюстью, проткнул горло, скользнул меж шейных позвонков… Легкая смерть, быстрая! Висевшие на столбах мучились дольше… гораздо дольше… Эта мысль еще не успела угаснуть, как Саймон метнулся к двери, замер, прислушиваясь, потом подскочил, ударил в косяк ногой и распластался на крыше. Его мышцы и кости окрепли при повышенном тяготении на Тайяхате, поэтому здесь, в Латмерике, – как, впрочем, и на Колумбии – он чувствовал себя ласточкой среди сонных мух. Согнув колени, он мог подпрыгнуть метра на полтора, а с разбега – на два с половиной, и это был не предел. В спринте он тоже имел неплохой результат, гораздо лучший, чем у орды гондурасских вояк, ринувшихся во двор. Их насчитывалось человек тридцать, с капитаном Мелой во главе, и Саймон едва подавил искушение полить их частым свинцовым дождиком. Но помощь предполагалась только через тринадцать минут, и эти минуты надо было еще прожить – желательно в тихом и надежном месте. Плотно прижимаясь к крыше, он скользнул под ветвями падуба и оглядел площадь. Она была почти пуста. Пять-шесть человек – видимо, посыльные Мелы – бежали к расходившимся веером улицам, громко крича и паля из автоматов; часовые у церкви возбужденно переговаривались и размахивали руками; пулеметчики на колокольне вроде бы затеяли спор – кому оставаться, а кому двигать вниз, за новостями. У домов, по другую сторону церквушки, растянулась цепью дюжина солдат – все, очевидно, из охранной роты, с автоматическими винтовками и мачете на перевязях. Кроме того, были еще два связиста – на террасе, прямо под Саймоном. Сперва он прикончил их, свесившись по пояс с крыши; затем спрыгнул на террасу и снял пулеметчиков и часовых около церкви. За пальбой и возбужденным гулом выстрели были не слышны, и Саймон уже подбирался к церковным дверям, когда из резиденции Сантаньи повалили охранники. Он прижал первых к земле короткой очередью, пальнул для острастки в сторону домов, откинул засовы и юркнул внутрь. К счастью, изнутри дверь тоже запиралась – и не на ключ, а на тяжелый деревянный брус на кованых железных крюках. Приладив его на место, Саймон бросился к лестнице. – Сынок! Ты из Боливии, сынок? Кто это сказал? Священник в изодранной рясе? Пожилая женщина в платке? Он махнул им рукой и крикнул: – Ложитесь! Ложитесь на пол! За скамейки! Чтобы взлететь на колокольню, ему понадобилось десять секунд, но в дверь уже ломились. Не просто ломились – палили из всех стволов! Из пулемета их было не достать, но Саймон, распластавшись на полу, срезал атакующих несколькими очередями. Затем он встал, сбросил вниз два трупа, взглянул на часы (оставалось еще десять с четвертью минут) и примерился к своему новому оружию. Это была спаренная пулеметная установка “Хиросима” – разумеется, японская и, как все японское, надежная, точно консервный нож. При виде ее Саймон облегченно вздохнул, почувствовав себя хозяином положения. Затем он усмехнулся, увидев, что именно охраняли гондурасские пулеметчики. Сразу за церковью и домами вздымался метров на восемьдесят почти вертикальный трещиноватый кряж, вполне преодолимый при известном опыте и навыках. Но лезть на эту стену не было нужды: ее рассекала узкая рваная щель, куда могли протиснуться два мула с поклажей, а за щелью начинался такой же узкий каньон с расчищенным и натоптанным дном. Конечно, тайная дорога отступления! Которую стерегли крупнокалиберные стволы “хиросимы”! Наверняка существовал и другой путь, много разных путей в лабиринты Сьерра Дьяблос, но этот был самым близким. Ричард Саймон держал его в руках. Как и всю деревню. И тут что-то странное случилось с ним. Он вдруг будто бы превратился в какое-то иное существо, в дьявола или Бога, в демона или ангела-мстителя с огненным мечом, – а может, сия трансформация случилась не с ним, Ричардом Саймоном, а с сержантом Донованом? С юным сержантом из группы спецпоручений, прошедшим по разоренной деревне, вдохнувшим запахи гари и крови, увидевшим то, чего не видел нигде, даже в тайятских лесах? Пригнувшись, он с яростным воплем дал длинную очередь, прогрохотавшую над площадью словно похоронный салют. Взметнулись фонтанчики пыли, воздух наполнился гулом свинцовых пчел; их хищная стая понеслась, тараня стены, скользя вдоль переулков, заглядывая в окна, разыскивая цель, такую мягкую, такую беззащитную под их укусом. Улицы, окна, дома ответили – слабо, вразнобой; одна пуля свистнула слева от Саймона, другая ударила в колокол, породив долгое протяжное “ба-аммм”. Он дал новую очередь, уложив в пыль десяток фигурок в пестрых комбинезонах. В какое-то безумное мгновение ему почудилось, что там, на другом берегу реки, мертвецы встают, поднимаются, слезают со своих столбов и – истерзанные, жуткие, страшные! – бредут сюда, к площади, на слитный зов пулеметного и колокольного набата. Идут, чтоб отомстить своим мучителям! – Без гнева и пристрастия, – прорычал Саймон, прошивая фасады стоявших напротив домов. – Не милосердие, но справедливость! – Он срезал гондурасский флаг над домом священника. – Pro mundi beneficio! Поднявший меч от меча погибнет! Не утратив, не сохранишь! – Он снова надавил гашетку и пробормотал на тайятском: – Чтоб вам лишиться ушей и пальцев, проклятые крысы! Чтоб дети ваши не дожили до дневного имени! Пулемет грохотал и пел в его руках, посылая не праведным смерть и муки. Он зло расхохотался и пнул зарядный ящик. Патронов было много. Много маленьких свинцовых пчел, посланцев Ричарда Саймона, карающего божества. Он карал. Селение лежало перед ним как на ладони – черное пепелище за рекой, белые домики и хижины на западном берегу, на пологом откосе, спускавшемся к речным водам. Ревели мулы, над кострами поднимался сизый дым, пестрые фигурки вопили, метались по улицам, ошеломленные шквалом внезапной смерти. Он мог дотянуться до любой из них. Мог покарать, отомстить, убить. Он карал. Он слал кару из храма, где пребывали милосердный Христос и Дева Мария, заступница, богородица. Он слышал их голоса. Они говорили: сегодня – не милосердие, но справедливость! Они избрали его своей карающей десницей. Мертвецы, висевшие на столбах, пели ему хвалу. Их дети и женщины, благословляя, тянули к нему руки. Он не мог вернуть им жизнь, но мог отомстить. Убивать, убивать, убивать! И это было правильно. Это было хорошо. Справедливо! Потом что-то грохнуло у его ног, взметнулось рыжее пламя, полетели осколки кирпичей, и жаркая воздушная волна швырнула Саймона на пол. Он еще успел услышать, как сверху тоже грянул гром, успел увидеть, как раскололись небеса и как огромная тень ринулась с них к земле, чтобы засеять ее черными зернами боевых капсул. "Призрак”, – подумал он. – Прилетел…” И потерял сознание. … Очнулся Саймон уже на ступеньках у церковных врат, с гудящей головой и расслабленностью в членах. Над ним склонился человек в бронированном скафандре десантника; его лицо прикрывала маска, и, подняв руку ко лбу, Саймон понял, что на нем тоже надета маска, с воздушным регенератором и прозрачным лицевым щитком. Над площадью и домами клубился розоватый дым, совсем не похожий на серые разводы “хохотуна” или серебряное мерцание фризеров; значит, “Призрак” сбросил бомбы с обычным усыпляющим газом. Машинально отметив это, Саймон пробормотал непослушными губами:. – Что… что случилось? Десантник помог ему сесть, придерживая за плечи. Голос его из-под маски звучал глухо: – Ты – Донован? Сержант Донован? – Дождавшись утвердительного кивка, он сказал: – Врезали тебе гранатой. Хорошо под пятки, а не в лоб. Видишь? Саймон с хрустом вывернул шею. Колокольня покосилась; в башне, под самой звонницей, темнела огромная дыра, а из нее торчали погнутые стволы “хиросимы”. Колокол, похоже, упал вниз и валялся теперь где-то на лестнице; под съехавшей набок кровлей свисали только обрывки веревок. Основательный взрыв, подумал Саймон, соображая, что же его спасло: мощные перекрытия башни или рука Девы Марии. Мысли медленно ворочались в голове, будто несомые ледником валуны. Он повернулся к человеку в маске. – Я цел? – Слегка контужен. Встать можешь? Он встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Повсюду сновали десантники, стаскивали на площадь тела, раскладывали их рядами: отдельно – мертвых, отдельно – усыпленных и раненых. Шеренги были почти одинаковой длины. – Многих ты покрошил, – произнес человек в маске. – Многих, – согласился Саймон. – Жалеешь? – Нет. Собакам собачья смерть. Два десантника пронесли капитана Мелу. Кажется, он был цел и невредим, только дергался в забытьи и корчил жуткие гримасы – газ умиротворения не вызывал приятных снов. Наверное, капитану снилось, что он висит на столбе, прикрученный проволокой, и дон Анхель Санчес собирается выколоть ему глаза. А может, его рвали на части те женщины, которых он бросил в пыли со вспоротыми животами… Подумав о женщинах, Саймон спросил: – Заложники целы? – Спят, – отозвался десантник. – Мы их будить не будем. Вывезем на “ифритах” в Ла-Чорреру. – Тут должны быть еще выжившие… Девушки, я думаю… Сорок или пятьдесят. Найдите. – Найдем. А ты побудь здесь. Скоро прилетят люди Тревельяна, и тогда… Десантник что-то еще говорил, но слова уже не доходили до слуха Саймона. Повернув голову, он уставился на террасу, где лежал флаг с перебитым древком и блестели пульты армейскихрадиофонов. Оттуда потянулась процессия. Десантники в масках шли парами и несли трупы: первым – генерала и экс-президента” за ним – трех полковников, а дальше – всех остальных, согласно званиям и чинам. Но на полковников и мертвых стражей Саймон не смотрел; глаза его не отрывались от тела Сантаньи. Он шагнул вперед, чувствуя, что гул в голове стихает, ноги держат и мышцы повинуются ему. Потом остановился и пробормотал: – Нож… Есть у тебя нож? – Нож? Зачем? – Десантник шарил левой рукой у пояса, а правой поддерживал Саймона под локоть. Саймон оттолкнул его. – Дай! Клинок был острым, но все же не таким, как ритуальный нож тимару. “Ничего, сойдет”, – решил Саймон, делая следующий шаг. На ходу он слегка покачивался, однако сил прибывало с каждой секундой. – Ты куда? – позвал человек в маске. – Я же тебе говорю – побудь здесь! Батальон Тревельяна уже в воздухе. У них вертолет с медиками… – Медики мне не нужны, – оборвал его Саймон. – Мне нужен сувенир. Маленький сувенир, на память от генерала. И он зашагал туда, где на пыльной выжженной земле валялся труп Сантаньи. КОММЕНТДРИЙ МЕЖДУ СТРОК Коротко звякнул сигнал вызова, и Эдна Хелли, увидев всплывшее перед ней морщинистое лицо, резким движением отключила магнитофон: ее беседы с Директором ЦРУ не записывались. – Проект “Земля”, – сказал Директор. – Докладывайте. – Все четверо кандидатов прошли испытания, сэр. – Эдна Хелли склонила голову, пряча блеск серых зрачков. – Вполне успешно. – Где? – Карабаш – на Уль-Исламе, разгром таджикских сепаратистов. Хромой Конь – на Сингапуре-4, превентивные меры против триады Мата Тосиро. Казак – в Нью-Алабаме, Черная Африка; разрешение конфликта на границе с Заиром. Тень Ветра – на Латмерике, ликвидация Сантаньи. Результаты всех четверых оцениваются положительно. – Степень их готовности? В смысле интересующего нас задания? – Около сорока процентов, сэр. Директор поджал сухие губы. – Значит, еще лет пять-шесть… не меньше… пока наберутся опыта… Что ж, транспортникам тоже нужно время. Сейчас они могут пробить барьер на полторы секунды, с диаметром канала сантиметров пять. Хелли усмехнулась. – Воробей не пролетит. – Засылку воробьев проект не предусматривает, – сухо заметил Директор. – Нам нужно перебросить туда специалиста. Молодого, но с достаточным опытом, с хорошей реакцией и блестящей подготовкой. Вам, Хелли, полагалось таких подобрать… – Он сделал паузу, потом закончил: – И вы их подобрали. Теперь они перейдут в ведомство Ньюмена. В Пятый Отдел. – Разумеется, сэр. Отдел Конфликтных Ситуаций – лучшее место, чтобы повысить свою квалификацию. – Или расстаться с головой, – добавил Директор. – Что усложняет вашу задачу, Хелли. Вы подберете и будете готовить новый контингент, но этих четверых курируйте по-прежнему. Все их операции должны обсуждаться с вами, вся их деятельность будет поставлена под ваш контроль. Ваши инструкторы продолжат их обучение – если сочтут необходимым. – Но Ньюмен… – Эдна Хелли приподняла бровь. – Ньюмен предупрежден о ваших полномочиях, и больше ему ничего не надо знать. Ничего! – Щеки Директора слегка побагровели, что служило признаком раздражения. Покачивая пальцем, он произнес: – Напомню, что у истоков этого дела стояли мы с вами и еще дюжина ответственных лиц. Этого хватит, Хелли, вполне хватит. Круг посвященных останется прежним, пока мы не получим какую-то новую информацию. Или пока Транспортная Служба не разрешит проблему блокировки. Лицо Хелли оставалось бесстрастным. – Вы хотите, сэр, чтобы я присматривала за этими молодыми людьми? Так сказать, незаметная, но плотная опека? – Вот именно, незаметная, но плотная! Вы, Хелли, отличный специалист по подготовке кадров, и вы знаете лучше меня и лучше Ньюмена, как дожать этих парней и кого выбрать в нужный момент. Испытывайте их! И не жалейте! Разнообразные задания, жесткие ситуации, максимум инициативы… Мы нуждаемся в человеке, который сумеет не только выжить и действовать как автономный резидент, но пробраться наверх – на самый верх, Хелли! Путь наверх – дорога к интересующей нас информации. Других, я думаю, нет. Губы Эдны Хелли вытянулись в линию. – Я полагаю так, сэр. Для них, – она подчеркнула последнее слово, – доступ к передатчикам означает власть. Никто не расстается с властью по собственной воле. Ни у нас, ни у них. – Ни с властью, ни с тайнами, – согласился Директор. Затем, помолчав, спросил: – Что вы думаете насчет кандидатов? Все равноценны? Или есть какие-то предпочтения? – Предпочтений нет, есть предчувствие, сэр. – Ваши предчувствия стоят многого, Хелли. Кто? – Саймон. Ричард Саймон, сэр. Тень Ветра. – Питомец Уокера? – Да. – Уокер – такой хитрый техасский койот? Я не путаю? Байки, ухмылки, болтовня, а палец на курке? Парагвайский инцидент… и, кажется, Мадагаскар? – Еще Таити, сэр, а также Сирия, Равноденствие, Порто-Морт и Рибеллин. – Хм-м… Я же говорил, вы умеете подбирать кадры, – пробормотал Директор. – Ну, вернемся к вашим предчувствиям, Хелли. Для них есть повод? На лице Эдны Хелли промелькнула необычная гримаса – Директор мог поклясться, что она в смущении. Или в сомнении, что казалось столь же невероятным. – Странный юноша этот Ричард Саймон, – негромко промолвила она. – Странный, – подтвердил Директор. – Вы намекаете на то, что он отрезал палец у мертвого Сантаньи? И пытался выломать черепную кость? Ну, меня сей эпизод не слишком удивляет, ведь я просматривал его досье. Любой человек, воспитанный фохендами, покажется странным. – Я имела в виду другое, сэр. Они оба странные, эти Саймоны, и отец, и сын. Со своими понятиями о правах и долге, о том, что плохо и что хорошо… Я ведь когда-то знала его отца – училась с ним на отделении ксенологии, в Коламбусе. И мы… – Я в курсе, – прервал ее Директор. – Я знаком со всеми деталями вашей биографии и вашей вербовки. Я думаю, из вас не получился бы ксенолог, Эдна. Понятие о долге у вас верное, но вот с правами проблемы… К тому же для ксенолога вы слишком хорошо стреляете. – Случались у меня и промахи, – по губам Хелли скользнула кривая усмешка. – Если б тогда, в Коламбусе, я попала в цель, то стала бы не агентом и не ксенологом, а просто женщиной… Кто знает, что лучше? Шеф Конторы был стар, однако дряхлым не выглядел и сохранил не только интерес к жизни, но и некую толику юмора. Улыбнувшись в ответ на усмешку Хелли, он вымолвил: – Кто знает? Никто, кроме Бога, моя дорогая. А Бог лично пересадил вас на ту грядку, где вам положено расти, цвести и приносить плоды. И этот Саймон – тоже ваш плод… в определенном смысле… Так мы говорили о его странностях? И что же? Эдна Хелли повела плечами. – Для странных дел больше подходят странные люди. А наш проект безусловно странный, со всех точек зрения. Подумайте, сэр, что мы ищем на этой Земле? Разгадку древних тайн – и в частности, секрет давно умершего человека… К чему нам это?… И к чему нам загадки всех прочих миров, куда невозможно добраться? Конго, Фейхада, Сайдары… Что мы найдем там? Скорее всего прах, отбросы цивилизации! Однако мы рвемся к ним… В первую очередь – на Старую Землю… Будто желаем пролезть в колыбель, покинутую три с половиной столетия назад, и пощупать гнилые мокрые пеленки… Зачем? Они сгниют и без нас. Или уже сгнили. Однако… – Однако мы хотим удостовериться, – подхватил Директор. – Напомню, Хелли, что мир не так прост, как нам кажется. Слишком много в нем неожиданного, непредсказуемого, внезапного… К примеру, этот случай с Невлюдовым. Он ведь смог! Внезапно и неожиданно, как полагают все эксперты и все историки науки. Значит, сумеет и кто-то другой… У нас, или на Земле, или в каком-то другом из Закрытых Миров… Время вполне подходящее: Исход завершился, тяготы колонизации позади, и мы на пороге взрыва. Чего же нам ждать? Новых технологий, оружия и боевых роботов, нового Пандуса?… Новых гениев, наконец?… Таких же внезапных, как этот Невлюдов?… – Покачав головой, Директор прибавил: – Все это надо держать под контролем, Хелли. А что касается процесса гниения, то он опасен и временами порождает взрывчатую смесь. – И это тоже странно – не так ли, сэр? Вопрос остался без ответа. Похоже, шеф Конторы не усматривал в ситуации ничего странного и был по-своему! прав – ведь ему полагалось знать все обо всем и все держать под контролем. Поэтому Закрытые Миры, со всеми своими тайнами, воспринимались им как вызов, свидетельство собственной некомпетентности или – еще страшней! некомпетентности возглавляемой им службы. Расследование, начатое его предшественниками, было самым долгим за всю историю человечества; оно тянулось больше трех столетий, и Директор твердо намеревался дописать в этом деле последний параграф и поставить точку. Параграфом был проект “Земля”, но вместо четкой, определенной точки маячило в нем некое многоточие: Карабаш, Хромой Конь, Казак и этот странный Ричард Саймон, потро-шитель трупов. Впрочем, припомнил Директор, есть кое-что еще – предчувствия Леди Дот; к ее предчувствиям он относился с полной серьезностью, так как Эдна Хелли умела ставить точки в нужных местах. И не терпела многоточий. Подумав об этом. Директор хмыкнул и произнес: – Вот что, Хелли… Пришлите-ка мне досье агента Саймона, вместе с отчетом об операции в Панаме. И пришлите его самого. Я слышал, он привез на Колумбию любопытные тайятские сувениры? Туземные ножи? Ожерелья из клыков и костей? Пусть захватит их с собой. Хочу взглянуть. Лицо Эдны Хелли дрогнуло, по губам скользнула улыбка. – Слушаюсь, сэр! Только… – Да? – Я бы прислала его без ожерелий и ножей. Чтоб не вводить юношу в искушение. Да и вам безопаснее, сэр. В конце концов, у вас только десять пальцев и всего два уха…Часть III. КАТОРЖНИКИ ТИДА
Глава 8
ОТДЕЛ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ АГЕНТУ: DCS-54 КЛИЧКА: Тень Ветра ФАЙЛ: 556-1421 ДИРЕКТИВА: 05/15677-MR СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: С ПУНК НАЗНАЧЕНИЯ: Тид СТАТУС: двойной. Протекторат ООН (с 2069 года) и Каторжный Мир (с 2173 года) ПЛАНЕТОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Гравитация: 0,82 стандартной. Суточный оборот: 1,07 стандартного. Годовой оборот: 1,22 стандартного. Звезда: класса G, светимость 0,98 стандартной солнечной. Расстояние до звезды: 0,88 астрономической единицы. Климат: тропический стандартный, в экваториальной области – тропический экстремальный. Мир землеподобен. Материки: два, Южный и Северный. Соединены Перешейком, расположенным в экваториальной области. Отношение площади суши к площади всепланетного океана – один к трем. Южный материк: в 2065-2068 гг. подвергнут глобальному терраформированию. Высажены тропические породы (Африка, Индия, Южная Америка), завезены животные (из этих же земных регионов). В 2068 г. заселен пигмеями (Габон); их точная численность в настоящее время неизвестна (предположительно пятьсот-шестьсот тысяч). В 2069 г. южному полушарию Тида присвоен статус Протектората ООН. Примечание: Особенность земной флоры Южного материка – трансформация в сторону гигантизма. Предполагаемые причины – сравнительно низкая гравитация, жаркий влажный климат и другие (неустановленные) факторы. Южный материк покрыт деревьями высотой до двух-трех километров (мутировавшие земные секвойя, гинкго, сейба, эвкалипт). Подробности см. в “Анналах планетографии”, файл 4412. Северный материк: оставлен без изменения, как заповедник реликтов Тида. Изучение завершено в 2155 г. Вывод: флора и фауна весьма вредоносны, для промышленной деятельности интереса не представляют. Рекомендации: использовать Северный материк в качестве мира для ссыльнопоселенцев. Основания: материк обеспечивает полную изоляцию, так как океанская акватория недоступна для примитивного мореплавания (левиафаны, акулоиды – см. “Анналы планетографии”, файл 4412), а Перешеек в равной степени недоступен для пешего передвижения (причины см. далее). Рекомендация принята ООН в 2173 г. В настоящее время Тид является одной из трех планет, где пожизненно содержатся изолянты мужского пола. Женщин нет, в связи с чем численность населения не возрастает и колеблется между сорока и шестьюдесятью тысячами. Главная колония – Чистилище (десять-пятнадцать тысяч жителей). Расположена на северном берегу Залива Левиафанов. Перешеек: соединяет Южный и Северный материки, изгибаясь широкой дугой с выпуклостью к западу. Протяженность – 1660 км, ширина – от десяти до ста км. Находится в зоне тропического экстремального климата, где выживание без транспортных средств и средств защиты невозможно. Семьдесят процентов территории заняты действующими вулканами; температура держится на уровне 50-60 градусов по Цельсию, концентрация сернистого газа превышает допустимый предел в 3-4 раза. Имеются также тропические леса с особо опасной фауной (дайры – огненные драконы, симха – ночные шатуны, чешуйчатокрылые птеродактили ипр.; см. “Анналы планетографии”, файл 4412). Залив Левиафанов: обширный бассейн между Северным и Южным материками и Перешейком (с запада); конфигурацией и расположением напоминает Мексиканский залив и Карибское море на Старой Земле. Акватория опасна – особенно при наступлении брачного периода у левиафанов. Горы: на Южном материке горы уничтожены в процессе терраформирования. На Северном есть несколько небольших хребтов меридионального протяжения. В целом местность равнинная. Реки: крупных рек нет. Влага поглощается почвой и скапливается в болотах. Полярные шапки: отсутствуют. Магнитные полюса: отсутствуют. Естественные спутники: отсутствуют. Искусственные спутники: отсутствуют. Станция Пандуса: выстроена на Южном материке, в ста километрах от Залива Левиафанов, в двадцати – от Адских Столбов и в четырех – от лесной опушки. Снабжена маяком (система “Вектор”), окружена ультразвуковым Периметром для защиты от местных животных. Точные координаты занесены в коммуникационный браслет. Персонал – четыре человека: Жюль де Брезак – старший оператор, офицер Транспортной Службы; Хаоми Синдо – оператор; Леон Черкасов и Юсси Калева – техники. Примечание 1: Адские Столбы – два скалистых образования, за которыми лежит южная часть Перешейка. Примечание 2: Офицер де Брезак выполняет также функции специалиста по связям с местным населением. Примечание 3: Пароль входа в навигационный компьютер станции – Дюгесклен. ПРИЧИНА РАССЛЕДОВАНИЯ: внезапный выход из строя станции Пандуса,отсутствие связи. ВОЗМОЖНЫЕ ГИПОТЕЗЫ: 1. Разрушение или повреждение станции вследствие прорыва сквозь защитный Периметр крупного животного (дайра или симха) – вероятность 0,1. 2. Разрушение или повреждение станции вследствие пробудившейся сейсмической активности или иного природного катаклизма – вероятность 0,15. 3. Отказ оборудования – вероятность 0,002. 4. Гибель сотрудников станции по неясным причинам – вероятность 0,37. 5. Захват станции изолянтами с Северного материка – вероятность 0,002. Оценка гипотез производилась Аналитическим Компьютером “Перикл-ХК20”. ПРЕДПИСАНИЕ АГЕНТУ: выяснить причины отсутствия связи, по возможности Ликвидировать их, оказать помощь персоналу станции. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: пять суток. При отсутствии связи будет выслана дополнительная группа. ПОДПИСЬ: Дж. Дж. Ньюмен, начальник ОКС СОГЛАСОВАНО: Э. П. Хелли, руководитель Учебного Центра ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОПЕРАЦИЮ: Д. Ш. Уокер, шеф-инструктор. Если маяк накрылся, ориентируйся по солнцу и шагай прямиком на север, сказал Дейв Уокер. Сигнальный браслет молчал. Выходит, маяк накрылся – скорее всего вместе состанцией. А что до солнца… Было б тут солнце! Или луна со звездами… Или небесный свод с облаками… Или хоть что-нибудь! Душный вязкий мрак окутал его. Темнота, тишина, непривычная легкость во всем теле, слабый запах гниющих листьев, плотный черный занавес перед глазами… Ни дуновения ветра, ни движения воздуха – даже столь слабого, какое порождают крылья мотылька… Ни вскрика, ни шороха, ни звука… Нет, звуки все-таки были. Сверху доносился слабый прерывистый шум, словно невидимый оркестр настраивал инструменты – где-то далеко-далеко, быть может, на склонах Тисуйю-Амат, до коего насчитывалось сорок шесть парсеков, отделявших юность от зрелости. Ричард Саймон, полевой агент по кличке Тень Ветра, застыл, впитывая запахи прелых листьев и отдаленную перекличку незримых флейт, барабанов и виолончелей. Он не боялся этой влажной темноты. Он был силен, ловок и опытен, ибо за три последних года случалось ему побывать во всяких местах – и там, где ревет огонь, и там, где клокочет вода, и там, где трубят медные трубы. Теперь он являлся системой самодостаточной и автономной, с весьма обширным резервом выживаемости, где надо – гибкой, где надо – жесткой; остановить его могла только смерть. Смерть или нечто подобное, но никак не эта темнота, в которую швырнул его колумбийский Пандус. На мгновение он слился с непроницаемым мраком, позволил ему объять свое тело, заползти под одежду, коснуться кожи жаркими влажными щупальцами, проникнуть в поры… Тьма не пугала его, лишь настораживала. Что-то в ней было не так. Черный занавес перед ним не походил на ласковый сумрак ночей Тайяхата, на беспредельный мрак космических пространств, на колумбийские небеса, где, подсвеченные заревом городских огней, медленно и торжественно кружили звезды. Здесь темнота казалась жадной, угрожающей и недоброй, и с каждым мгновением Саймон ощущал это все отчетливей и ясней. Возможно, цивилизованный человек переборол бы подобное чувство, отринул его, счел бы бесплодной игрой подсознания, но воины-тай, далекие от цивилизации, доверяли предчувствиям и инстинктам не меньше, чем разуму. Доверял им и Ричард Саймон – и потому знал, что должен покинуть это место. И побыстрее! Рука его сама собой протянулась к поясу, нащупала застежку кобуры, плоский футляр с “вопилкой”, тонкий стерженек фонаря; затем световой проблеск разорвал плотный бархат тьмы. Это был рискованный поступок, но неизбежный – здесь, в жарком всепоглощающем мраке, бинокль с инфраочками и ночное зрение Саймона оказались бессильными. Доля секунды, и он разглядел то, что хотел, – уходящий вверх монолит, отвесную стену с неким намеком на округлость, изрезанный трещинами утес, что вырастал из влажной черной земли резко и сразу – колонной, не конусом. Дерево, мелькнула мысль, огромное дерево… Из тех самых, склонных к гигантизму… Может, секвойя, гинкго или сейба, а может, бывший эвкалипт… Смотри в “Анналах планетографии”, файл 4412… Подобно тени он скользнул к невидимому гиганту. Под пальцами возникло странное ощущение – казалось, что он касается не разлома в чудовищно толстой коре, а рваной и жесткой поверхности камня. Саймон провел по ней ладонью, нащупал трещины, уступы – поменьше и побольше, вполне подходящие, чтобы поставить ногу и зацепиться руками. Через мгновение он уже взбирался по стволу – крохотный паучок, ритмично и упрямо перебиравший лапками. Жаль, что их не шесть, подумал он, вспоминая о Тайяхате; сейчас лишняя пара была бы весьма кстати. Но, как говорил покойный Наставник Чочинга, не горюй, что родился без хвоста, – горюй, если его потерял. Подбадривая себя такими мыслями, Саймон неторопливо полз вверх. Весил он тут немного и, пожалуй, мог бы двигаться быстрее, упираясь висевшим на спине ранцем в один край расщелины, а башмаками – в другой, но нужды в том не было. Чувство тревоги и беспокойства, охватившее его в момент прибытия, рассеялось, и он заключил, что опасность – какая б она ни была – грозит только внизу, на земле. Словно подтверждая этот вывод, тьма под ногами вдруг разразилась протяжным тоскливым воем, пронзительным, как рев стартующего космолета. Особо опасная фауна, промелькнуло в голове. Смотри тот же файл сорок четыре двенадцать в “Анналах планетографии”… Симха, ночной шатун, или еще какое-то чудище… Выходит, они забредают с Перешейка в этот лес?… Впрочем, до Адских Столбов недалеко, десять или пятнадцать лиг… А перед Столбами – бетонный купол станции в кольце деревьев, решетчатые башенки Периметра и красная выгоревшая степь… Он изучил эту местность по стереоснимкам, приложенным к заданию, запечатлев в памяти каждую деталь. Не двигаясь, он вслушивался в темноту. Далекий оркестр над головой стих, зато под ногами слышались шебуршание и скрежет, словно чьи-то каменные когти царапали каменную кору. Все-таки симха? Саймон ничего не знал об этой твари-о чудищах Перешейка вообще было известно немногое, – но по деревьям она, к счастью, лазать не умела. Прикинув, что поднялся уже метров на тридцать, Саймон довольно хмыкнул и сделал очередной шажок. Вскоре ему попалась первая из ветвей – вернее, он ощутил ее как невидимую, но вполне реальную протяженность, располагавшуюся где-то справа и немного вверху. Запах гнили исчез, сменившись ароматом свежей листвы и цветов, – во всяком случае, он решил, что пахнет цветами или чем-то сладким и терпковатым, вроде духов одной из его гринривер-ских подружек. Спустя мгновение вокруг зашуршали листья, и запах сделался сильней. Осторожно пробравшись сквозь колыхавшиеся над пустотой заросли, Саймон на секунду включил фонарик. Он очутился будто бы в нефритовом туманном мире, среди гигантских фестончатых листьев – белесоватых, с легкой прозеленью, среди свисавших сверху полупрозрачных щупалец лиан и бледных цветов, подобных увеличенным во много раз пионам. Увиденное отпечаталось в памяти, и он тут же сообразил, что все эти листья, лианы и усыпавшие их цветы уже маячат перед ним смутными, но вполне различимыми призраками. Тьма чуть-чуть рассеялась, черный занавес посерел, и растворенной во мраке капли света было достаточно, чтоб включилось ночное зрение. Теперь Саймон двигался увереннее, перебираясь с ветви на ветвь с помощью лиан и деревянистых отростков, пронизывающих вертикально гигантскую крону. Ветви отходили от ствола через каждые двадцать-тридцать метров и тянулись, как чудилось Ричарду, в бесконечность; каждая толщиною с башню, одетая каменно-твердой корой, порождающая ветви помельче, размером со столетние сосны или дубы. Этот каркас поддерживал многослойную кровлю из листьев, не пропускавшую света к земле, столь же непроницаемую, как бетонный купол или металлическое перекрытие. Прежде чем тьма отступила,обратившись сумраком, Саймон миновал дюжину чудовищных ветвей, почувствовав легкую усталость. Он находился сейчас в добром километре над землей. Листья тут были зеленее, цветы – пышней; сквозь бледный нефритовый оттенок начали пробиваться иные краски – лиловые, изумрудные, бирюзовые. От цветов, усеявших плети лиан, тянуло одуряющим ароматом, но воздух был по-прежнему неподвижен и душен. Слитная мелодия оркестра, доносившаяся сверху, раздробилась на отдельные партии. Теперь Саймон улавливал птичий щебет и пересвист, шуршание листьев, чье-то тревожное цоканье, топоток и протяжные заунывные стоны. Насколько ему помнилось, верхний этаж многоярусных тидских джунглей был населен как местными тварями, так и завезенными с Земли – впрочем, вполне безобидными, если не считать пантер, ягуаров и оцелотов. Но с любой из этих кошек Саймон мог справиться голыми руками. Он сделал только две остановки во время бесконечного путешествия наверх: в первый раз поел и передохнул, во второй – избавился от башмаков и комбинезона с нашивками инспектора Транспортной Службы, сняв их и сунув в ранец. Тут, во время второго привала, он заметил птиц в серовато-жемчужном оперении, маленьких робких обезьянок и каких-то зверьков величиной с фокстерьера, с длинными остроконечными ушами, когтистыми лапками и буроватой шкуркой. Птицы не обращали на него внимания, обезьянки прятались, но ушастые существа были не из пугливых – таращили на пришельца темные выпуклые глазки и метались с ветви на ветвь, испуская то грозное уханье, то стоны, уже знакомые Саймону. Он решил, что не нуждается в таком шумном эскорте, но “вопилку” включать не стал, а принялся натирать кожу, ранец и пояс с кинжалом и кобурой “рейнджера” мясистыми лепестками похожих на пионы цветов. Вскоре от него потянуло парфюмерными ароматами, зато ушастые отстали – видно, сообразив, что Ричард Саймон теперь один из них и не нуждается в особом наблюдении. Начало светлеть. Краски засияли ярче, и, кроме зеленовато-голубых оттенков, появились золотистые, бордовые, оранжевые. В каждой впадине, в трещинах и разломах, заполненных влажным лиственным перегноем, укоренялись растения-паразиты. Одни походили на красный тайятский кустарник-колючку, другие на заросли шиповника с мелкими розоватыми соцветиями или на коленчатые структуры, напоминавшие бамбук; были и целые деревья, совсем иные, чем приютивший их гигант, – то с листьями, выгнутыми чашей, полной прозрачной влаги, то с грушевидными желтыми плодами, то с овальными наростами в твердой ячеистой скорлупе, то с гроздьями орехов, усеянных кинжальной остроты шипами. На ходу Саймон сорвал нечто ало-красное, округлое, влажное; понюхал, откусил – рот наполнился кисловатым соком и мелкими скользкими семечками. Он поднимался наверх, будто всплывая к солнцу и свету из морской глубины, пронизанной неярким зеленоватым сиянием. Пестрыми рыбками порхали и кружили птицы, бурый древесный ствол казался подводной скалой с многочисленными выступами-ветвями, и этот утес радужным застывшим флером окутывали лианы, листья и цветы. Он поднимался наверх, и с каждым шагом этот невероятный лес, подпиравший невидимые небеса, входил в него, проникал в плоть и кровь, впивался неощутимой хваткой запахов и звуков, как некогда тайятские леса, еще не позабытые, но отдалившиеся в тот невозвратный отрезок прошлого, что называется юностью и детством. Это ощущение причастности к новому миру делалось все сильней и сильней, пока Саймон, разведчик и агент, крохотная песчинка человеческой цивилизации, не исчез вовсе; теперь в джунглях Тида пробирался совсем иной человек, воин-тай с дневным именем Две Руки. Он был внимателен и осторожен, ловок и незрим; он скользил по ветвям словно вздох ветра, словно напоминание о легком случайном движении воздуха, позабытом в царивших вокруг неподвижности и духоте. Преображение свершилось. Он стал призраком, фантомом, тенью – и потому не удивился, когда другая тень, сотканная из золота и тьмы, выступила ему навстречу. Леопард… Шкура с бледно-желтым отливом и кляксами черных пятен, узкие зеленые зрачки, пасть, полуоткрытая в угрозе… Зверь был очень крупным, почти таким же, как тайятские охотничьи гепарды, но явно земного происхождения – дальний потомок кошек, которых завезли сюда три столетия назад. С минуту Саймон и замерший в пяти шагах зверь в молчании мерились взглядами. Затем руки человека согнулись, ладони медленно поднялись к плечам, и были они раскрыты и пусты – тяжелый “рейнджер” по-прежнему висел на поясе, нож покоился в ножнах. – Пусть не высохнет кровь на твоих клыках, – произнес Дик Две Руки, воин-тай. – Да будут прочными твои когти и целыми – уши. Иди! Твоя дорога не сливается с моей. Хищник рыкнул, отступил назад, исчез; пятна тьмы утонули в тенях, пятна золота поглотила зелень. Ричарду Саймону не хотелось его убивать. Он так был похож на Шу и Ши, охотничьих зверей Учителя! Правда, он не был другом, но не был и врагом… И он был прекрасен! Леопард напомнил ему о доме. Домом был Тайяхат, не Колумбия и другие миры, где Ричарду довелось побывать. Дом – это привычное солнце и привычное тяготение, родные места и родные люди, коих осталось не так уж много. Отец, тетушка Флори, быть может, – Чия… Наставник умер, оставив ему Прощальный Дар, а он так и не принял его, не посетил Тайяхат в те дни, когда Чочинга собирался в Погребальные Пещеры… Где же он был тогда?… Кажется, на планете Россия… Расследовал ту историю с оружием… Искал тайник и станцию Пандуса, служившую для переброски винтовок и боеприпасов в Латмерику… "Надо съездить домой, – подумал Саймон, – повидаться с отцом и тетушкой Флори, отдать последний долг Чочинге. После этой операции. Обязательно! Пять дней, чтоб ее завершить, потом – составление отчета и его обсуждение: предварительное – с Уокером, окончательное – с Ньюменом и Леди Дот…” Джеффри Ньюмен был человеком сдержанным и объективным и ценил своих сотрудников по результату, но Леди Дот цеплялась к любым мелочам и ошибкам, а если уж гладила Саймона, то жесткой рукой и непременно против шерсти. С учетом этих обстоятельств его отчет займет еще неделю, мелькнуло в голове. Потом… Потом он отправится домой… На Тайяхат, к отцу! Впервые за семь последних лет… Миновало еще четыре часа, и Саймон наконец увидел небо. Безоблачное и голубое, с золотым солнечным диском, висевшим над изумрудной равниной, с силуэтами каких-то огромных птиц, что парили в вышине на распростертых крыльях. Он пошарил в ранце, вытащил бинокль, присмотрелся. Орлы… Земные орлы… Такие же, как на Колумбии… Солнце клонилось к закату, но все еще жгло, наполняя мир ослепительным сиянием. Жары, однако, не ощущалось – здесь, над вершиной огромного дерева, дули прохладные ветры, тихо шуршали в листве, раскачивали паутину цветущих лиан. Здесь царили покой и безопасность; здесь, в пронизанном светом Верхнем Мире, было трудно представить мрак, запахи гнили и угрожающую тишину лесных глубин. Все, как в океане, подумалось Саймону; два километра разделяют две среды – ту, что враждебна людям, и ту, что позволяет им выжить. Два километра были совсем небольшим расстоянием, и суть заключалась лишь в том, как их отмерить, по вертикали или по горизонтали. Он стоял на конце длинной могучей ветви, осматривая дальнейший путь. Вероятно, здесь были какие-то тайные тропы, проложенные людьми; тропы он мог отыскать, а вот людей – навряд ли. В этом огромном лесном пространстве, в джунглях, тянувшихся на тысячи лиг, они казались крохотными насекомыми – мельче муравьев, что ползут по стволу столетнего дуба, прячась в глубоких трещинах. При желании он мог бы их разыскать, проследив, куда ведут воздушные дороги, но в том не было нужды. Он пойдет на север по тропинке или без нее, перебираясь с ветви на ветвь, огибая чудовищные колонны стволов, перепархивая пропасти на лианах. Он пойдет… Саймон упал, стремительно перекатился, царапая кожу грубой корой, привстал на колене. В пальцах его поблескивал нож, готовый к броску, а там, где только что была его ступня, дрожал пучок пестрых перьев на тонкой тросточке. Первой Саймону явилась мысль, что это не украшение, а знак, помогающий разыскивать дротики в лесной чаще; затем он подумал, что убивать его не хотели – целились в ногу, а не в голову. Однако мимо! Сам бы он не промахнулся… Метнувший дротик темнокожий крохотный воин застыл метрах в шести от него и выглядел удивленным. Крупная голова с заостренным черепом, высокий лоб, расплющенный нос, глубокие морщины, сбегавшие от ноздрей к губам… Он был невелик, но не похож на ребенка: тело – крепкое и пропорциональное, сильные руки и ноги, полоска ткани на узких бедрах, слегка оттопыренная под животом, на смуглой шее – ожерелья, за плечом – сплетенный из коры мешок. Он смотрел на Саймона, грозя вторым дротиком, и чудилось, что вдоль бамбуковой тростинки пролегли тысячелетия: наконечник был стальным, торец – расцвечен перьями. Спрятав клинок в ножны, Саймон спросил: – Понимаешь английский? Я – друг! Понимаешь? Друг! Он произнес слова медленно и отчетливо, не. ведая, какой из обычных языков понятен пигмею. Предки его, покинувшие некогда Габон, могли знать французский… кажется, этот язык считался там государственным – как и теперь, в новом Габоне, на Черной Африке… Все банту – кота и мака, фанги и мьене – говорят на нем… Но этот маленький черный человечек не был ни банту, ни габонцем. Саймон уже хотел перейти на французский, но тут дротик опустился. – Мой понимать, – раздался шелестящий голос. – Мой думать, может, ты – зукк… мой никогда не видеть зукка… Но ты не зукк с севера, и ты не со станции. Когда Ноабу бросать копье, большие люди не увернуться. Очень неуклюжий! Ты – другой. Ты – охотник. Откуда? И кого будешь выследить? – На станции беда, – сказал Саймон. – Станция молчит. Меня прислали узнать, почему молчит. За этим я и охочусь. Выслеживаю. Пигмей кивнул, уселся, скрестив ноги, и перебросил мешок со спины на грудь. – Мой знать, что молчит. Есть это! – Он покопался в мешке и вытащил радиофон. – Вот! Дать нам люди со станции. Дать Жул Дебеза, большой человек, очень почтенный. Сказать: здесь нажать, там нажать, и будет слышно. Всегда слышно! А теперь нет. Мой жать, Бутари жать, Пинга жать, все мужчины жать, потом – женщины… женщины думать, они умнее мужчин. Однако ничего не слышно. Почему? Вопрос был явно риторическим, и Саймон лишь пожал плечами. Сигнальный браслет на его запястье тоже не подавал признаков жизни, а отсюда вытекало, что маяку системы “Вектор” пришел конец. Или его намеренно отключили, или станция разрушена до основания… Смолкший маяк был новым фактом, который выяснился уже здесь, на Тиде, и это обстоятельство существенно меняло оценку гипотез, произведенную Аналитическим Компьютером. В случае гибели людей станция перешла бы в режим самоблокировки, но маяк работал бы по-прежнему. Значит, ее все-таки разрушили, думал Саймон. Какая-то катастрофа или чудовищная местная тварь… Вряд ли отказало оборудование – все цепи электронных устройств дублировались, а кожухи генераторов были крепче танковой брони. Столь же невероятной выглядела и гипотеза о захвате станции изолянтами с Северного материка. Кота, мак а, фанг и, мьене-народы группы банту, населяющие Габон. Ноабу потыкал маленьким пальцем в радиофон. – Молчать! День молчать, два молчать, три молчать! Потом Бутари велеть: Ноабу идти к станция. Бутари – старый, мудрый; он знать: Ноабу – лучший охотник! Быстрый, как леопард! – Он гордо потряс своими ожерельями. – Теперь Ноабу идти к станция, смотреть, что случиться. Хорошо смотреть! Если надо, звать людей, помогать. – Значит, мы охотимся за одним и тем же, Ноабу, – сказал Саймон. – Я тебе не помешаю? Пигмей усмехнулся. – Плохие новости, хорошие новости – такая добыча, что можно поделить на двоих. Теперь мой знать: ты – друг. Мой не кидать в тебя копье, ты не кидать в меня нож. Ты ведь не зукк! – Не зукк, – подтвердил Саймон. – Думаю, что не зукк. Даже уверен в этом. Кстати, кто они такие? Ноабу вытянул руку с дротиком, указывая на север. – Зукки жить в другой половина мира. Там, за морем! Плохие люди, поганые! Как мертвец, что не давать покоя живым! Так говорить Жул, так говорить Ки Оэ, который быть до Жула, так говорить люди со станция всегда! Говорить мне, говорить мой отец и мой дед. Еще говорить, что зукк к нам не добраться. Море не переплыть! Но как знать? Плохой человек – всегда хитрый человек. – Ты прав, Ноабу, – Саймон кивнул. – А почему зукк? Есть такое слово в вашем языке? – Нет. Не наше слово… – Ноабу, припоминая, наморщил лоб. – Дед объяснять – давно-давно, когда мой еще не родиться – быть на станция человек, Михха Миххало… Вот он говорить – зукк! Зек, понял Саймон. Ну, не удивительно – на местной станции за триста лет кто не потрудился! Были, значит, и русские… Михха Миххало… И сейчас есть… этот Леон Черкасов… Ноабу негромко хлопнул в ладоши, чтобы привлечь его внимание. – Жул говорить нам, станция – как дыра: ты шагать в нее, и ты уже в другой мир. Как наши почтенные предки – шагать прямо сюда! И попасть можно в любое место, здесь и там, – он поднял глаза к небу. – Значит, ты мог попасть на станция? Сразу? – Нет. Когда станция не работает, нельзя точно навести луч… ну, протянуть ниточку оттуда сюда, – Саймон тоже показал на небо, а потом ткнул пальцем вниз. – Совсем точно без станции не выйдет. Попадешь в лес, в море или на Перешеек… Лучше в лес, верно? – Верно, – согласился Ноабу. – Море – плохой место. Вода соленая, деревья нет, а есть зубастый пасть… Громовой Мост – еще хуже! Мой туда не ходить. Никто не ходить. Он встал, вытащил из ветви дротик и приблизился к сидящему Саймону. Теперь их лица были почти на одной высоте. Саймон видел в темных зрачках пигмея свое крохотное отражение. Ноабу вытянул руку и коснулся его предплечья. – Ты – сильный охотник, быстрый! Мой тоже быстрый. – Пигмей посмотрел на солнце, клонившееся к закату. – Скоро ночь. Мы спать, завтра идти вместе. Идти быстро, так? – Так, – подтвердил Саймон. – Теперь ты сказать мне свой почтенный имя? – Сказать. Зови меня Две Руки. Пигмей неожиданно фыркнул и расплылся в улыбке. – Какой смешной имя! У тебя две руки, у меня две руки, значит, мой тоже – Две Руки? Все люди – две руки! Но не все ловко прыгать, как ты, чтоб мой не попасть копьем… Не все, только ты. – Он на секунду призадумался и сообщил: – Мой звать тебя Обманувший Копье! Можно? – Нельзя. Две Руки – такое имя дал мне Чочинга, мой Наставник. Тот, кто научил меня обманывать дротики… Очень мудрый, как твой Бутари! Очень почтенный Наставник… Ему было виднее, как меня назвать. Понимаешь? Кожа на лбу Ноабу пошла складками, маленькие крепкие пальцы коснулись ожерелий, выбрали одно, с фигуркой черной пантеры на шнурке, огладили полированную деревяшку. – Мой понимать. Мой хорошо понимать! Когда мой родиться, Бутари дать это и сказать: ты – Ноабу! Всегда Ноабу! Только Ноабу! У тебя тоже есть такое, Две Руки? Тоже дать твой почтенный Чочинга? Вместе с имя? – Нет, иначе. Он не давал мне ожерелья, но помог найти его. Пигмей кивнул. – Мудро! Другой обычай, но тоже мудрый! Мой думать, твой почтенный Чочинга и мой Бутари есть о чем поговорить! – С Чочингой уже не поговоришь, – сказал Ричард Саймон и помрачнел. Ноабу был пигмеем-итури, и значит, предки его относились к восточной группе этого реликтового племени. На западе Южного Камеруна и Габона тоже обитали пигмеи, другая иноязычная ветвь, но практически с той же самой культурой, обычаями и верованиями. Теперь не имело смысла вспоминать, кто из них с востока, а кто – с запада, ибо тот восток и тот запад канули в прошлое вместе с той Африкой, оставшейся на Земле. О Земле и Африке сохранились лишь смутные воспоминания. Например, о высоких чернокожих людях, обитавших повсюду и не любивших карликов. С одной стороны, они признавали, что пигмеи – самый древний народ среди них; быть может, такой древний, что мир был сотворен на их глазах. С другой – как считали высокие чернокожие – карликам от века свойственна легкомысленная беспечность, и в результате в момент творения они совершили грех, за который приходится расплачиваться теперь всем людям, и высоким, и низкорослым. Нарушив какой-то запрет, карлики поколебали основы стройного миропорядка, заложенного мудрыми богами, за что те прокляли их и поселили в болотистых непролазных джунглях. Самим пигмеям джунгли нравились. Не нравилось другое – высокие чернокожие, считавшие их виновниками непонятных бед, и высокие белые. Белые, правда, были разными: одни охотились на них, другие изучали как некий редкостный природный уникум. Это тоже было не очень приятно – ощущать себя чудом природы, на которое все остальные ее разумные создания взирают сверху вниз! С учетом этих обстоятельств предки Ноабу поступили мудро, отказавшись переселиться в миры высокорослых, в Черную Африку, Европу, Колумбию или Россию. Многие желали взять их с собой, но везде и повсюду они оставались бы странным реликтом, забавной игрушкой, приманкой для любопытствующих туристов. На самом деле они были людьми, а людям нужен свой дом, свой мир, своя планета – такая, где никто не смотрел бы на них свысока. Они получили Тид – весь его Южный материк, покрытый лесами, омываемый океаном и отданный на их власть и волю. В этой сделке, как и в любой другой, было хорошее, было плохое и было ни горькое и ни сладкое, а так, безвкусное. Кое-что они потеряли – дома с клозетами и ванными, трехмерные телевизоры и монорельс, компьютеры и кока-колу, глайдеры и вертолеты, а также иные достижения цивилизации. Кое-что приобрели – возможность жить по собственному разумению. И разум подсказывал им, что они не прогадали. Весь долгий день, пока Ноабу вел Саймона на север по зыбкой воздушной дороге, был заполнен разговорами. Иногда безмолвными – пигмей показывал следы, оставленные когтями леопарда, орлиное гнездо, отпечаток птичьих лап в мягком перегное, надклеванный плод или тропинку, уходившую куда-то вбок, тянувшуюся меж ветвей, отмеченную кое-где зарубками и перьями. Саймон кивал, без объяснений понимая сказанное. Здесь прогулялся леопард, а тут живут орлы; здесь место птичьих сборищ, тут – водопой, а этот плод годится в пищу; эта тропа ведет к селению, а та, другая, – к банановой рощице или к бамбуковым зарослям, где добывают шесты для копий и хижин… Временами Ноабу говорил. Рассказывал о своей деревне, висевшей над пропастью на крепких помостах, и о других поселках, ютившихся то в гигантском дупле, то средь раздвоенной вершины чудовищного дерева; были и такие, что покачивались на лианах, перевязанных канатами из тростника и коры. Удобные жилища, удобный мир, щедрый и безопасный, говорил Ноабу. Все устроено наилучшим образом: день сменяется ночью, солнце светит и зреют плоды, идет дождь и дуют ветры, но всегда тепло, а главное, всем хватает места, охотник не мешает охотнику, племя – племени. Охотниками Ноабу считал не только людей, но и леопардов и отзывался о них с большим почтением. Люди и кошки умели жить так, что дорога их не пересекалась: люди охотились на птиц, леопарды – на ушастых зверьков и обезьян. К тому же у леопардов были заслуги перед людьми: когда-то, сто или двести лет назад, они уничтожили хищных зверей, тоже земных, но не из Африки. Эти хищники не отличались благородством леопарда и часто путали людей и обезьян – что людям, разумеется, не нравилось. Из слов Ноабу Саймон понял, что тот говорит о ягуарах, переселенных на Тид вместе с прочей земной живностью. Но теперь здесь их не было – леопарды расправились с ними, не ради людей, но ради обезьян, не желая терпеть конкурентов у своей кормушки. Еще Ноабу рассказывал про ожерелья, висевшие на его шее. Они являлись чем-то вроде персональной летописи или дневника: первое, с деревянной пантерой, он получил прирождении, второе, с костяным охранительным талисманом, когда его посвятили в охотники, третье, сплетенное из женских волос, – когда провел первую ночь со своей избранницей. Таких ожерелий, даров возлюбленных, было теперь пять, ибо он считался видным мужчиной, ловким добытчиком, и многие девушки желали понести от него ребенка. Еще имелись ожерелья-амулеты для крепкого сна, удачи в различных делах, хорошего пищеварения и неутомимости в любви. Еще был радиофон, в который Ноабу верил гораздо больше, чем в духов-покровителей. Духи, возможно, остались на Земле, не пожелав переселиться вместе с пигмеями; они были чем-то смутным, неопределенным, тогда как радиофон являлся реальностью. Стоило нажать нужные кнопки, и со станции прилетал вертолет, доставляя то, что нельзя было сделать самим: яркие ткани для набедренных повязок, стальные наконечники для стрел и дротиков, ножи и топоры, а также волшебные снадобья, целившие раненых. Ни в чем другом пигмеи не нуждались; все остальное давал лес, и давал щедро. Никто из них не спускался вниз, где бродили во тьме ужасные чудища, порождения Перешейка; никто не ходил ни к Перешейку, ни к Громовому Мосту, где росли не деревья, а горы, и от гор тех тянуло мерзейшими запахами; никто не желал приближаться к морю, где под каждой волной таилась зубастая пасть. В море, в горах Перешейка и на севере, в краю зукков, были свои хозяева, и жили они по собственным законам и обычаям. Это было их правом, которое пигмеи сомнению не подвергали. На станций никто из них не бывал, и тропинок к ней не проложили. Зачем? Чтобы вызвать вертолет, надо коснуться кнопки и сказать, в чем возникла нужда; и вертолет прилетит – маленький серебристый или побольше, розовый, как вечерняя заря. Вертолет прилетал всегда, а с ним – высокие люди, белые или черные, но они не мешали пигмеям. Они не пытались их убедить, что дом на земле надежнее хижины из лиан и что электрический фонарь – прогресс и благо, а вера в духов – свидетельство невежества. Это были хорошие люди. И Ноабу горел желанием им помочь, если с ними случилось несчастье. Такой добровольный долг, несомненно, свидетельствовал о душевном благородстве Ноабу, и Саймон, странствуя с ним по воздушной тропе, не раз подумал, что деревья здесь велики, а люди – малы, но это не значит, что их можно счесть пигмеями. Пигмей – существо ничтожное, мелкое н трусливое, а Ноабу, хоть и родился невысоким, был отважен, силен, доверчив и добр. В этом лесу он был владыкой и повелителем – с такими же неоспоримыми правами, как сотканный из золота и мрака леопард. Еще он был любопытен. Он полагал, что каждая история, поведанная им, требует ответной, причем такой же занимательной и подходящей для пересказа его приятелям и женам. Саймон, однако, не сразу догадался, какие истории пигмей считал занимательными. К его удивлению, Ноабу совсем не хотелось слушать о мегаполисах России и Китая, о Галактическом Университете и Полигоне Карательного Корпуса, о подземных дорогах Колумбии, где с тихим шелестом мчатся магнитные поезда, о башнях Рио, великой бразильской столицы, или о небоскребах Нью-Йорка, об огромных мостах и тоннелях, соединявших европейские материки, о пещерных цитаделях Гималаеви плавучих таитянских городах, благоуханных и прекрасных, как брошенные в воду орхидеи. Все это, сотворенное людьми, было чудом – в той же мере, как был чудесен Тид с его гигантскими деревьями; и все это не имело отношения к Ноабу. Он находился рядом с охотником Две Руки и желал послушать про этого охотника – что случилось с ним, где, когда и почему. И Саймон говорил не о хрустальных башнях Рио, а о том, как выслеживал средь этих башен Дига Дагану, параноика-убийцу; говорил не о Туле и Москве, а о том, как метался меж ними в поисках подземных бункеров, где хранили оружие для Латмерики; рассказывал не о красотах Гималаев, а о восстании Тенсинга Ло, мятежного князя и узурпатора, претендовавшего на непальский трон; вспоминал не о блистающих синевой бескрайних морях Таити, а о лайнере, канувшем в них вместе со всей командой и полудюжиной сингапурских банкиров. Истории эти были весьма занимательны, и Ноабу, слушая, шевелил губами, явно повторяя про себя, чтоб поведать впоследствии соплеменникам. Иногда он переспрашивал, требуя уточнений: велик ли ростом Тенсинг Ло и скольких жен оставил вдовами, зачем почтенным старым людям с Сингапура плавать в море и что поведал Диг Дагана перед смертью. Саймон терпеливо пояснял. У князя Ло, мужа тщедушного и злого, жен не имелось, а значит, не было и вдов; зато были деньги, слуги и непомерное честолюбие – по каковым причинам он расстался с головой. Сингапурский секстет в своем увеселительном круизе обсуждал проблему конкуреции с “Банко Палермо”, Сицилия-2, но конкуренты решили ее по-своему, в традиционном сицилийском духе: нет людей – нет проблем. Что же до Дига Даганы, то перед смертью он ничего не сказал; он целился Саймону в лоб из разрядника, что было с его стороны явной глупостью. Да, забавные истории! Но рассказы о Тайяхате пленили Ноабу еще больше. Он принялся расспрашивать Саймона о мудром Чочинге, чей Шнур Доблести свисал до колен, о сыновьях его и женах, о змее Каа и быстрых гепардах Шу и Ши, о женском поселке Чимаре, о землях мира и лесах войны, о многоруких воинах и скакунах с шестью ногами, о песнях, битвах и поединках, об охоте на саблезубых кабанов и о странных тайятских обычаях рожать непременно двойню и брать в супруги обеих сестер. Об этих вещах – и о многих других, дорогих и близких – Саймон говорил без горечи, размышляя о том, что через пару недель – самое большее через месяц – отправится на Тайя-хат, в Чимару, к отцу. Еще он думал, что прошлое обладает забавным свойством – помнится как бы частями, фрагментами, и разные люди хранят в памяти разное: кто – поражения и обиды, а кто – события радостные, успехи и победы. Это зависело от характера, а характер у Ричарда Саймона, к счастью, был таков, что хорошее запоминалось ему крепче плохого. Впрочем, плохое он тоже помнил – жуткий взгляд безумца Дига Даганы, князя Ло с перерезанным горлом и ту панам-скую деревушку на Латмерике, где порезвились молодцы Сантаньи. Память о ней почти заслонила другие воспоминания – например, о тайятских лесах и собранной им добыче; теперь лишь изредка Саймону снилось, как мчится он в бой на шестиногом мохнатом скакуне, как заносит над побежденным ритуальный клинок тимару, как поет Песни Вызова, потрясая широкой секирой томо. Эти сны его больше не тревожили, поскольку реальность была столь же суровой и жестокой, как в тайятских джунглях. Может, еще суровее – ибо теперь он воевал с людьми, не понимавшими различий между мирной землей и землей сражений. До заката оставалось три-четыре часа. Деревья выглядели Уже не такими высокими и мощными, и Саймон подметил, что Ноабу ведет его вниз, постепенно спускаясь к земле, – которая, впрочем, еще не была видна за пологом буйной зелени. Ричард не чувствовал утомления; он был вынослив и мог бы шагать всю ночь и весь следующий день. Тому, кто родился на Тайяхате, Тид дарил ощущение небывалой легкости, и временами Саймону казалось, что он не идет, а парит среди листвы, цветов и пестрых суетливых птиц. Деревья на лесной опушке были по местным меркам совсем карликами – не выше трехсот метров. Лианы с нижних ветвей свисали до земли, а земля уже не казалась сгустком мрака, но выглядела вполне пристойно – бурая, заросшая кустарником, среди которого бугрились толстые змеи чудовищных корней. К северу от опушки лежала степь, ровная и поросшая красноватой травой. Никаких признаков станции Там не наблюдалось. – Куда теперь? – спросил Саймон, в очередной раз взглянув на свой браслет. Маяк по-прежнему молчал. Ноабу, задумчиво сморщившись, потер выпуклый лоб. Ушастый зверек проскочил над ним, испуская протяжные стонущие вопли. Неподалеку компания ярко окрашенных попугаев пировала среди кустов, усеянных крупными желтыми ягодами. Двое ссорились – топорщили крылья и грозно шипели, раскрыв крючковатые клювы. – Дальше мой дороги не знать, – сказал пигмей. – Может, туда, а может – туда, – он ткнул дротиком налево, потом – направо. – Ты как думать? Саймон тоже сморщился. Учитывая неопределенность наводки, его могли выбросить в двадцати, в тридцати или – максимум! – в сорока километрах от станции, расположенной между лесом и Адскими Столбами. Они с Ноабу преодолели за день семь лиг, двигаясь строго на север; несложный расчет показывал, что до станции теперь не больше двадцати-двадцати пяти километров. Скорее всего меньше… Вот только куда направиться – на запад или восток? Он повернулся к Ноабу и протянул руку. – Дай-ка мне твой радиофон… Гляди, если я сделаю так, – его пальцы коснулись сигнального браслета, – твой радиофон загудит. А если нажать тут, ты услышишь мой голос. А я – твой… Понятно? Пигмей кивнул, – Мой понимать. Что теперь? – Теперь мы разделимся. Ты пойдешь на закат солнца, а я-на восход, и первый, кто увидит станцию, даст сигнал. Ноабу приподнял свою крупную голову к бледнеющим небесам. – Скоро ночь, – сообщил он. – Станцию не увидеть. Или на ней гореть огни? – Не знаю. Иди и высматривай ее, пока солнце не село. А я могу увидеть станцию днем и ночью. – Саймон сбросил с плеч ранец и извлек оттуда небольшой плоский бинокль с инфраочками. – Это такая штука, чтобы далекое делать близким, даже в темноте, – пояснил он. – Мой знать. Мой видеть такое у Жула Дебеза. – Вот и ладно. Иди, друг! – Саймон похлопал его по мускулистой крепкой спине. – Иди, но будь осторожен. Найдешь станцию, не приближайся к ней. Зови меня и жди. Пигмей нерешительно потоптался на месте, стиснув свои дротики. – Ты тоже ждать меня и быть осторожен. Два охотника сильней, чем один. Два охотника думать лучше, сражаться лучше. – Сражаться? С кем? Ноабу округлил глаза. – А если приходить зукк? Хитрый злой зукк с севера? – Это вряд ли, – усмехнулся Саймон. – Море не переплыть, по земле не пройти, а крылья зукки еще не отрастили. Или ты думаешь, что они могут летать без вертолетов? Он еще не знал, что эти слова окажутся пророческими. КОММЕНТЯРИЙ МЕЖДУ СТРОК Стоя на балконе, под кольцом прожекторов, трое мужчин вглядывались в темную ночную степь. За спиной у одного, смуглого, усатого, с рубцом во всю щеку, висел карабин; двое Других – щуплый, с мутноватыми крохотными глазками, и голый по пояс коренастый крепыш – вооружились разрядниками. Короткие тупые стволы эмиттеров поблескивали холодно и угрожающе. – Сем днэй, – сказал усатый. Говорил он по-русски с сильным гортанным акцентом, да и по внешности на русскогo не походил – слишком темнокожий и темноглазый, с резко прорубленным ртом-щелью. – Неделя, – откликнулся щуплый. – И что же, любезный мой? – Недэлу могли гулят, кланус Христовой задницей! В Ха-ванэ или Санто-Доминго… или в Дамаскэ… Щуплый хихикнул. Смех у него был странным – не признак веселья, а скорее ехидная насмешка. Усатый, казалось, ее не замечал. – Кто ж тебе виноват, голубок? Больно ты скорый стрелять да резать… Не кончил бы того длинного, гулял бы сейчас в своей Гаване в белых штанах. А мы с Пашей – в Иркутске или в Улан-Удэ… Верно, Паш? Коренастый Паша кивнул. Вид у него был мрачный. Они помолчали, осматривая степь, лежавшую за кольцом невысоких деревьев. Над их кронами виднелись тарелки излучателей на четырех решетчатых башенках Периметра. – Так и будэм ждать? – промолвил усатый, косясь на щуплого. – Ты говорил, никаких проблэм. Никаких! Лэгче, чем на горшок присэст… – Легче. Тут крутанул, там нажал – и в Гавану… Просто, когда все работает, касатик! А ежели не работает, так сиди и жди. Без пароля мне блокировку не снять. – Ты говорил… – Говорил!… И сейчас повторю: просто, когда все работает! – Мутные глазки щуплого моргнули. – Я знаю. Я ведь тебе не какой-то сопливый техник, я восемь лет старшим диспетчером отбарабанил, пока не срезали нашивки… Знаю, что к чему! – Раз знаэш, сдэлай. Что тебе дался этот парол? Тут крутани, здэс нажми – и в Хавану. В Хавану! Какие там жэнщины, в Хаванэ! Какие дэвочки! – Щека усатого дернулась, рот, похожий на рубленую щель, приоткрылся; казалось, с губ вот-вот потечет слюна. Щуплый, взглянув на него, захихикал. – Ты, милок, похоже, глуховат, а? Я ведь сказал: без пароля в компьютер не влезешь! Ясно? А начнешь ковыряться да подбирать код, тебя же еще и треснет… Там, сударь мой, защита! Так треснет, что позабудешь, с какой стороны на бабу влезать в этой твоей Гаване… Ну, так и что? Чего мы добьемся? Ежели вломят мне по мозгам, и я позабуду, где крутить, а где нажимать? И отправлю тебя не в Гавану, а, к примеру, на Колыму? – Он покачал головой и пробормотал: – Подождем. Кого-то они пришлют. Пришлют! Ну, и вы с Пашей над ним поработаете. – Я один поработаю, – ухмыльнулся усатый. – Соскучилса я по работа. Очэн соскучилса! – То-то длинного сразу в расход пустил… моего любезного коллегу… Поторопился, касатик! – А твой нэ поторопилса? – усатый кивнул на молчаливого крепыша. – С тэми ублудками, у бассэйна? – Те нам без надобности. Длинный был главным, и только он знал пароль. Остальные – так, мелочь… Мелочь ведь, Паша? – Щуплый подтолкнул коренастого в бок. Тот угрюмо хмыкнул и пробурчал: – Сявки! Вот бабу жаль. Бабу-то мы зазря сожгли! Я ведь баб столько лет не щупал… – Жал, – согласился усатый, облизывая губы. – Нашэл я в ее барахлэ пару снимков… таких, где трапок мало, а кожи много… Гладкая сучка была! Все на мэсте, и все – подходя-щэе… Жал! – Кто о чем, а вы – о сучках, – хихикнул щуплый. – Ну, так не палили б ей в зад, не жгли… глядишь бы, живьем поймали! А теперь, мил человек, раз приспичило, садись в вертолет, бери “вопилку” и отправляйся в лес. Там, я слышал, полно маленьких черных сучек. Усатый потер змеившийся на щеке шрам. – А я вот слышал другоэ… Слышал, что в этот лэс лучшэ совсэм нэ соватьса. Ни с “вопилкой”, ни с разрадником, ни с пулэметом. Сожрут! Или чэрномазые, или шатуны, или другая поган… А погани там побольшэ, чэм у нас в Чистилища. Щуплый с насмешкой уставился ему в глаза. – Вранье! Чистой воды вранье! Ты офицером был, сударь мой, а в ваших краях офицеры книг не читают. Тем более – справочников… Если б читали, ты бы про этот лес имел другое мнение. Мы ведь гостя откуда ждем? Из леса… Вот и подумай: пошлют его без точной наводки, и свалится он прямиком в чащу. Так? Себе на погибель, что ли? – Щуплый пожал плечами. – Вот уж нет! Коль не кретин, проберется лесом, и никто его там не сожрет, ни звери, ни черномазые. Только идти надо поверху… там, где у черных дороги есть… Я знаю, читал! – Зна-ау, чи-итал! – передразнил усатый. – А ты нэ вычитал, сколких крэтинов сюда пошлут? Можэт, цэлую роту? Чтоб вэрнее нам кров пустит? – Пришлют одного, – с уверенностью заявил щуплый. – Вначале всегда шлют одного. Разумеется, не кретина, а из тех, что поопытней да пошустрее. Так что ты, друг любезный, глаз с него не спускай… И ты, Паша, тоже. Мрачный Паша хмыкнул, а усатый ощерился и погладил приклад карабина. – Я нэ спущу! И он нэ спустит! У мэна к этим шустрым свой счет… Длиною в три года! Отсуда и до Латмэрики! Щека у него задергалась, и шрам, похожий на розового червя, начал отплясывать сарабанду.Глава 9
Станцию Саймон нашел еще до заката. Как сообщалось в директиве 05/15677-MR, ее серый бетонный купол, опоясанный сиянием прожекторов, высился в четырех километрах от лесной опушки, а за ним, где-то у самого горизонта, за холмистой степью, багровели горы. В свой бинокль Саймон даже мог различить пару темных скал, словно выдвинутых на равнину и похожих на две небрежно обтесанные колонны, обрамлявшие некие врата. Куда они вели? Разумеется, в ад – ибо северный небосклон был затянут тучами, а под ними что-то светилось и блестело, мерцало и наливалось зловещим багрянцем, и был тот отблеск похож на мириады костров, пылающих в преисподней. Саймон, впрочем, к горам не приглядывался, больше рассматривая станцию. Она казалась абсолютно целой – никакие чудища с Перешейка, равно как и природные катаклизмы, стен ее не сокрушали, а это значило, что две первые гипотезы “Перикла” пошли прахом. Третьим в списке числился отказ оборудования, но это представлялось совсем уж невероятным. Разумеется, Исход на какое-то время приостановил технический прогресс человечества, и многое – энергетические и электронные системы, вооружение и транспорт (если не считать самого Пандуса) – оставалось таким же, как в двадцать первом веке. Таким же в принципе, но неизмеримо более мощным, более компактным и надежным. Отказ любого устройства, будь то радиофон или термоядерный генератор, рассматривался как событие чрезвычайное. И “Перикл”, Аналитический Компьютер ЦРУ, был совершенно прав, оценивая возможность такой ситуации двумя десятыми процента. Оставалось последнее – гибель сотрудников станции по неясным причинам, включая сюда агрессию с Северного материка. Но в нее Саймон не верил. Транспортных средств у изолянтов не имелось, крыльев они не отрастили, телепортацией не баловались, так что море и Перешеек были для них преградой неодолимой. Он чертыхнулся, подумав о том, как могли скончаться – внезапно и вдруг! – четыре здоровых человека. Весь персонал станции разом! От гриппа, что ли, перемерли? Или устроили дуэль? Или покончили с собой от несчастной любви? Трое мужчин и одна девица – взрывоопасная смесь… Вдруг взорвалась? Чего не бывает на свете! Саймон хмыкнул и вновь приложил к глазам бинокль. Бетонная полусфера станции возникла перед ним: гладкие серые стены, кольцевой балкон на уровне второго этажа, а над ним – второе кольцо, с прожекторами, венчавшее купол наподобие короны. Станцию окружала двойная шеренга дубов – не гигантских, а самых обычных, завезенных, видимо, с Колумбии или Европы лет тридцать-сорок назад. Слева от купола что-то поблескивало, и Саймон, припомнив планировку участка, догадался, что это бассейн. Справа должен был находиться ангар для вертолетов, но его заслоняли деревья. Впрочем, одну машину ему удалось разглядеть – довольно вместительный алый “фламинго”, по всей вероятности, неповрежденный. Снова чертыхнувшись, он дважды сдавил браслет на запястье и буркнул: – Ноабу! Слышишь меня? – Мой слышать, – донесся тихий шелестящий голос. – Я на опушке леса, Ноабу. Сижу на ветке и гляжу на станцию. – Мой далеко идти? – осведомился пигмей. – Час двадцать – от того места, где мы расстались. А дальше прикидывай сам. Ноабу помолчал, видимо что-то соображая. – Ночью плохо идти, – наконец откликнулся он. – Мой приходить утром. Ты не спускаться на землю, спать. Спать на дереве, не на земле. На земле ходить плохой зверь. Очень страшный ночью! Ты спать наверху, ждать меня. Так хорошо? Саймон задумчиво прищурился. С одной стороны, он мог уже через полчаса оказаться на станции, с другой, не видел; никакого повода для спешки. Не лучше ли понаблюдать денек? Ему припомнилась история Уокера о парагвайской корриде и настоятельный совет не торопиться. Забег будет долгим, говорил инструктор, на всю оставшуюся жизнь, и суета в таком деле неуместна. И вправду неуместна, решил Саймон, поднес к губам браслет и сказал: – Хорошо. Я буду ждать и не стану спускаться вниз. Доброй тебе ночи, Ноабу. – Доброй, Две Руки. Голос пигмея смолк. Солнце огромным алым шаром повисло над степью, касаясь трав, прошелестел легкий ветерок, и Саймон внезапно насторожился, уловив чуть ощутимый запах гари. Сунув бинокль в ранец, он принюхался, морща лоб и раздувая ноздри. Запах был, несомненно, давним и шел откуда-то снизу, с земли, где, по словам Ноабу, “ходить плохой зверь”. Но пахло не зверем, а обугленным деревом и чем-то еще, едким и неприятным, похожим на вонь горелой пластмассы. Это наводило на размышления. Любой вертолет или наземный глайдер, вагон монорельса или морской тримаран – словом, почти все транспортные средства – были пластиковыми, если не полностью, так на девять десятых. Но монорельса, глайдеров и кораблей на Тиде не имелось, так что вывод напрашивался сам собой. Опять же у станции маячил лишь один-единственный “фламинго”… А где же второй аппарат? Маленькая серебристая “пчела”? Может, отдыхает в ангаре, размышлял Саймон, скользя по лианам вниз, к темневшим под ногами кустарнику и переплетению корней. Может быть, решил он, спрыгивая на землю с трехметровой высоты. Но откуда же запах? Пластик почти несгораем, на костре его не спалишь, разве приложить из лазера… Но запах-то есть! Запах есть, а “пчелы” нет! Вскоре он ее нашел. Маленький двухместный вертолет – обугленный, располосованный эмиттером – рухнул на деревья, пробил в их кронах изрядную брешь и повис на нижних ветвях, тоже наполовину истлевших, лишенных коры и листьев. Дверцы и искореженные шасси валялись внизу, на земле, вместе с пилотским креслом, явно катапультированным в момент аварии. От кресла к люку в днище машины тянулся спасательный трос, и это значило, что парашют не успел раскрыться – скорее всего обратился в пепел, вместе со всем горючим, что только нашлось в кабине. Однако пилот уцелел! В этом не приходилось сомневаться, так как бункер под креслом, где хранилась аварийная капсула, был пуст. Света внизу не хватало, и Саймон на мгновение включил фонарь. Теперь он ясно видел следы маленьких ног – глубокие отпечатки в гниющей листве, а также примятую траву, сломанные ветви кустов и висевшие на них клочья клетчатой ткани – не иначе как от рубашки. След был давним, недельным, но пилот, несомненно, здесь проходил – скорее промчался в панике, будто гонимый охотником заяц. Пройти-то прошел, мелькнула у Саймона мысль, да куда ушел? И далеко ли? Он двинулся по следу, время от времени подсвечивая фонарем, прислушиваясь и озираясь. Чудовищ, что заходили в лес с Перешейка, не было видно, и вообще на опушке царила мертвая тишина. Саймон старался ее не нарушать – скользил, словно тень, среди кустов, травы и гигантских корней, похожих на драконьи гребни, высматривая отпечатки маленьких ног, и размышляя о том, что пилот, вероятно, девушка. Оператор Пандуса Хаоми Синдо, двадцати трех лет от роду, из Калифорнии, наполовину японка, на треть ирландка и на одну шестую бог знает кто… Мужской персонал станции выглядел более чистопородным: Жюльде Брезак, тридцатилетний лейтенант Транспортной Службы, – француз с Европы; Юсси Калева, техник, тридцать четыре года, – финн, тоже с Европы; Леон Черкасов, техник, двадцать восемь лет, – уроженец Хабаровска, Россия. Вероятно, все трое уже мертвы, машинально отметил Саймон, приглядываясь к переломанным ветвям и клочьям окровавленной рубашки. Это Хаоми Синто ломилась в лес, не разбирая, где тут деревья, а где кустарник… Бежала в ужасе, хоть не гнались за ней ни огненный дракон, ни симха, ни птеродактиль с чешуйчатыми крыльями, коему тут вообще не развернуться… Никто за ней не гнался, и значит, свой ужас Хаоми привезла с собой – прямиком со станции. Кто же ее напугал? Духи и привидения? Но духи не палят из разрядников по вертолетам. Значит, все-таки изолянты, подумал Саймон. Вот тебе и компьютерный прогноз в ноль целых две тысячных! Прогноз прогнозом, а все же добрались сюда! Но как? В теории бегство из Каторжного Мира считалось невозможным. Восемь планет-колоний были местами бессрочной или временной ссылки, заменявшей все другие наказания и виды возмездия. Только ссылка, только изоляция, и никаких иных мер – не считая, разумеется, превентивных! Как свидетельствовал тысячелетний опыт борьбы закона с насилием, преступника не останавливал страх перед грядущей карой, Даже самой жестокой, вплоть до лишения жизни. С другой стороны, традиционные наказания вроде тюрьмы, лагерей или смертной казни были, бесспорно, мерами антигуманными, вызывавшими протест у любого разумного человека. У неразумного тоже; ведь всякий интуитивно понимал, что содеянного не исправишь, а мстить заключением в четырех стенах – значит надругаться над человеческой природой. Понимали и другое: казнь – узаконенное убийство, тюрьма – позорный зоопарк с рядами звериных клеток; и кто же выйдет из них на свободу, кроме злобных отчаявшихся хищников? Помимо того, преступники бывают разными: одни – лишь жертвы темперамента и обстоятельств, другие – патологические извращенцы, а третьи действуют вполне сознательно, не под влиянием импульса или болезни. Разумеется, и воздаяние должно быть разным, строго взвешенным, цивилизованным и справедливым. Древняя формула “око за око, зуб за зуб” тут не годилась; этот закон был хорош для волчьей. стаи, но слишком примитивен для человеческого общества. Пандус, загадочное детище Невлюдова, позволил справиться и с этой проблемой. Теперь наказание было воистину справедливым и заключалось в том, чтоб изолировать преступника в колонии, среди ему подобных, не ставя, однако, над ним надсмотрщиков и не посягая на его свободу. Теперь насилие могло сражаться с самим собой – в мирах, назначенных законом для этих битв. Миры, разумеется, были не райскими, однако на ад в полном смысле не тянули – в каждом удавалось выжить при наличии неких усилий и воли к сотрудничеству. Полная изоляция, простые инструменты, примитивное оружие и невмешательство властей в дела колонистов – так был реализован на практике девиз “Не милосердие, но справедливость”. Каторжники – или изолянты, по официальной терминологии, – контактов с внешним миром не имели и подчинялись лишь двум его законам. Согласно первому, их поместили туда, где им положено пребывать; второй предусматривал раздельное содержание мужчин и женщин. Им дарили свободу и жизнь, но не право творить ее вновь – и вновь калечить. Три колонии – на Рибеллине, Тиде и Колыме – предназначались для пожизненной ссылки мужчин, а Нойс принимал на вечное поселение женщин. Остальные миры. Острог, Порто-Морт, Сахара и Сицилия-3, являлись зонами временного заключения и дифференцировались по срокам на две категории – от трех до семи лет и от восьми до пятнадцати. Туда попадали, в частности, те, кто совершил непредумышленное убийство, но убийцы были немногочисленными – в сравнении с охотниками за чужим добром, взяточниками, вымогателями, насильниками, растлителями малолетних и прочей накипью, которая могла еще профильтроваться в песках Сахары или снегах холодного Острога. В остальных колониях убийцами являлись все, коль не по факту, так по существу. Не убивавший сам вершил деяния, служившие убийству, а значит, его полагалось считать таким же преступником, как безумного Дига Дагану или умельцев с Сицилии-2, пустивших в распыл сингапурских банкиров. Закон был строг, но, к сожалению, бессилен против убийц иного сорта – латмериканских правителей, имамов и шейхов Акбара, уль-исламских эмиров и президентов с Черной Африки. Да и в других мирах, благополучных и стабильных, нашлись бы подходящие кандидатуры, если как следует покопаться… Временами Саймону казалось, что Конвенция Разделения, не поощрявшая вмешательства в дела независимых стран, слишком либеральна; будь его власть и воля, он учредил бы девятый Каторжный Мир – для продажных политиков и жестоких владык. Шорох в кустах прервал его размышления. В полутьме он увидел черный абрис чьей-то фигуры, длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, блеск белков, пугливый и настороженный… Он поднял руку, но не успел ни крикнуть, ни позвать; его движение перепугало затаившегося в кустах, и человек, с каким-то судорожным резким всхлипом, ринулся прочь от Саймона. – Стой! – крикнул тот, пускаясь вдогонку. – Стой, недоумок! Я с Колумбии! Инспектор! Однако беглец думал сейчас ногами, не головой, а ноги у него были длинными. У Саймона, правда, еще длинней; он мчался, совершая трехметровые прыжки, стремительно и молчаливо, словно охотничий гепард из тайятских джунглей. Теплый влажный воздух наполнял его грудь, мощным потоком клокотал в горле; ранец за спиной казался невесомым, босые ноги сами знали, где оттолкнуться, куда ступить, как перепрыгнуть огромный корень, как обогнуть развесистый куст или подобный утесу древесный ствол. В этой игре немногие могли посостязаться с ним. Он снова превратился в Дика Две Руки, он был в лесах минувшей юности, он гнал добычу, и водопады Чимары неслышно ревели за его спиной, а рядом, у самых ног, скользил хитроумный и грозный змей Kaa. Или летел на шестиногомскакуне Чоч, сын Чочинги, потрясая боевой секирой?… Он очнулся. Где-то над полями красных трав садилось солнце, загорались звезды, и полумрак в лесу густел, сменяясь полной темнотой, растворяя гибкую фигурку беглеца. Или беглянки? Сейчас он это узнает! Срезав путь, Саймон перепрыгнул через гигантский корень, что пучился над землей корявым крокодильим туловом, и растопырил руки. Смутный силуэт возник перед ним, с разгона ткнулся прямо в грудь, под пальцами затрепетали лохмотья изорванной рубахи, пряди длинных волос, выгнулось разгоряченное бегом тело. Кожа была потной, в многочисленных ссадинах, но нежной; ладони Саймона скользили по ней, пока он не ухватил беглянку за плечи. Она билась, точно в припадке; и хрипло, с надрывом, стонала: – Нет… нет… не-ет! О нет! – Успокойся, – пробормотал Саймон. – Ты что, не знаешь других слов? Продолжая удерживать ее левой рукой, правой он нашарил фонарик, включил его и осмотрел свою добычу. Девушка была из тех, у кого ноги растут из плеч, – высокая, гибкая, смугловатая и чем-то неуловимым похожая на страстную бразильянку Долорес Чинта, только в более юном и девственном издании. О японской крови напоминали только чуть раскосые черные глаза, пухлый маленький рот да плосковатые скулы; в волосах же, темных, но не черных, явственно просвечивал отблеск ирландской меди. Лицо ее кривила гримаса ужаса, и Саймон даже не мог сказать, хороша ли она. Но вот грязной эта лесная нимфа была несомненно. Грязной, исцарапанной и перепуганной насмерть. – Успокойся, – повторил Саймон, – я с Колумбии. Прислан к вам с инспекцией. Что случилось? Она не понимала. В черных глазах плескался ужас, губы дрожали, и судорожное “нет-нет-не-ет!” тянулось нескончаемым речитативом. – Послушай, – Саймон повернул фонарь, освещая свое лицо и нагие плечи, – я не насильник с Севера. Не изолянт, понимаешь? Я инспектор Транспортной Службы. Хочешь, мандат покажу? И комбинезон с нашивками? Она вдруг замолчала, рванулась изо всех сил, едва не выскользнув из-под руки Саймона, но он крепко прижал девушку к себе. Рубаха ее была порвана в клочья, и два тугих маленьких полушария с набухшими сосками коснулись груди Ричарда. Внизу, насколько он мог разглядеть, тоже почти ничего не было – лишь пояс с “вопилкой” да коротенькие шорты, располосованные вдоль и поперек. Всхлипывая, девушка извивалась в его объятиях, и Саймон, начавший злиться, решил, что есть лишь два способа ее утихомирить – официальный и, так сказать, приватный. Но с приватным спешить не стоило, ибо, как говорил Чочинга, всякой песне свое время. А Саймон не собирался распевать сейчас любовные серенады. Склонившись над девушкой, он рявкнул: – Оператор Хаоми Синдо! Как стоите перед инспектором? В каком виде, дьявол вас побери? Прекратить визг! – Саймон встряхнул ее, поиграл желваками на скулах и тихо, с угрозой пришипел: – Хочешь расстаться с нашивками, истеричка? Ну, я тебе это устрою! Будешь брюкву сажать в своей Калифорнии… А на Пандус – ни ногой! Это подействовало. Всхлипнув в последний раз, Хаоми перестала вырываться и выпрямилась. Саймон убрал руку с ее плеча. – Прекратить истерику! Ясно? – Д-да… – Да, сэр! – Да, сэр, – покорно откликнулась девушка. Глаза у нее стали уже осмысленными. – Рапорт! – приказал Саймон. И тут она зарыдала. Впрочем, слезы пришли не одни, а вместе со словами, и Саймон, слушая их, только хмурился и теребил губу. Предчувствия его оправдались, причем в самом мрачном варианте – станция захвачена, оба техника мертвы, а что случилось с де Брезаком – неизвестно. Насколько он понял, Хаоми не видела людей, напавших на станцию. Все случилось ранним утром, неожиданно, во время дежурства Брезака. Черкасов и Калева спустились к бассейну, сама Хаоми была в своей комнате, собиралась натянуть купальник и последовать за ними. Вдруг к ней ворвался Брезак; руки у него тряслись, и выглядел он точно помешанный. Хаоми не помнила, был ли он вооружен. Брезак схватил ее и потащил к лестнице, все время повторяя: “Они их убили! Они убили Леона и Юсси! Убили!” Затем он как будто пришел в себя, велел Хаоми бежать к вертолетам через восточный выход, садиться в “пчелу” и убираться в лес. Ошеломленная, она подчинилась. Ее аппарат преодолел километр или два, затем в хвостовом отсеке что-то громыхнуло, и Хаоми поняла, что по машине стреляют из разрядника. На станции имелись луче-меты и пара карабинов, но успел ли Брезак первым добраться до них, оставалось неясным. Видимо, не успел; Саймон мог домыслить, что, предупредив Хаоми, француз ринулся в диспетчерскую и заблокировал штурман-компьютер. Там, в диспетчерской, он скорее всего и расстался с жизнью. Хаоми на подбитой “пчеле” смогла дотянуть до леса. В вертолет попадали еще трижды. Затем начался пожар; горела внутренняя обшивка кабины, занялись ветки, на которых повисла “пчела”, и дым едва не задушил девушку. Она отстрелила кресло, забрала аварийную капсулу и бросилась бежать. Потом несколько дней блуждала по лесу – боялась уйти далеко от станции, гадала, что случилось с де Брезаком, и тряслась от ужаса, представляя, что скоро придут и за ней. Словом, потихоньку сходила с ума. Ко всем прочим страхам прибавился ужас перед симха, бродившими в темноте, и дайрами, что нередко забирались в лес. Хаоми знала, что надежная защита против них – “вопилки”. “Вопилка” у нее была, но страх все равно не покидал девушку. Теперь она плакала навзрыд, уткнувшись носом в ключицу Саймона. Хмурясь, он подумал, что для нее все развивается по сюжету древней мелодрамы: пришли злодеи, убили хороших парней, красавица бежала; пришел герой-инспектор, красавицу спас, а из злодеев выпустил кишки. Ну, еще не выпустил, так выпустит непременно… Оставались, правда, кое-какие неясные вопросы – сколько этих злодеев и как они перебрались на Южный материк. Последнее было самым важным. Саймон был уверен в себе и знал, что справится с ситуацией – не силой, так хитростью, не хитростью, так силой. Эти мерзавцы с Севера были почти что мертвы! Но кто гарантировал, что за ними не придут другие? Как же они сюда добрались? С полминуты он размышлял над этим вопросом, но спросил другое: – Ты знаешь, что маяк не работает? Эта ваша система “Вектор”? Хаоми кивнула, опять ткнувшись лицом ему в ключицу. Губы у нее подрагивали, но теперь, когда девушка немного успокоилась, Саймон видел, что она очень хорошенькая. – Д-да, сэр. Я пыталась связаться с Жюлем по радиофону… Все молчит! И связь, и маяк! Если Жюль поставил б-бло-кировку, все отключилось. Все, кроме Периметра и бытовых систем… И даже м-мне станцию не запустить… не войти в штурман-компьютер без п-пароля. А п-пароль… – она беспомощно развела руками – п-пароля я не знаю… – Зато я знаю, – сказал Саймон с важностью, достойной инспектора Транспортной Службы. – Дело в другом: раз Периметр не обесточен, я не смогу незаметно подобраться к станции. Что-нибудь там взвоет или зазвенит… Кстати, куда у вас выведена тревожная сигнализация? В диспетчерскую или в старт-финишный зал? И где вы хранили оружие? – И т-туда и сюда, – виновато ответила Хаоми. – И еще в комнату Жюля… А оружие… оружие, карабины и лучеметы, были в стойке под лестницей, у западного входа… – Ее ладошка с нерешительностью коснулась груди Саймона. – Сэр… можно вопрос? – Можно. Если мы покончили с формальностями, “сэр” разрешаю опустить. Зови меня Дик. – Но, сэр… – Отставить! – Д-да, сэр… Дик… Она замолчала, и Саймон поинтересовался: – Ну, что ты хотела спросить? – Почему вы голый, с-сэ… Дик?… – Климат у вас тропический, а я жары не люблю, – пояснил он. – Еще вопросы? – Что… что мы будем теперь делать? Ждать помощи? – А я разве не помощь? – искренне удивился Саймон. – Но вы… ты… ты же инспектор? Транспортной Службы? – Хаоми с недоумением приоткрыла пухлый рот. – А там, – она махнула в сторону станции, – изолянты! Каторжники! Убийцы! – Я тоже убийца, – произнес Саймон. – Видишь ли, у меня есть такой шнурок… очень длинный шнурок… а на нем пальцы и уши тех, кого я убил. Как-нибудь я тебе его покажу… когда мы познакомимся поближе. Конечно, она не поверила, хоть он сказал чистую правду. Нормальные люди в такое не верят… Вздохнув, Саймон потянул ее за руку. – Пойдем! Заберемся на дерево, ты умоешься и поешь. Есть хочешь? – Д-да… Консервы, что были в капсуле, кончились… Правда, тут есть фрукты… – Вот и хорошо. Поешь, поспишь, а утром придет мой Друг. Его зовут Ноабу, он из людей итури. Он будет тебя охранять. – А ты? – Она несмело улыбнулась, и Саймон – каким-то шестым чувством – догадался, что девушка предпочитает его в роли охранника. Похоже, она разглядела, что инспектор молод и не лишен мужского обаяния. – Мне надо днем понаблюдать за станцией, – сказал он. – А следующей ночью я туда отправлюсь. – Один? – Разумеется. Он повернулся и зашагал к опушке. Хаоми покорно двинулась следом. Уже совсем стемнело, и Саймон, вспомнив предупреждение пигмея о “плохих зверях”, включил “вопилку”. В ушах начало ритмично покалывать; ультразвуковые импульсы, безвредные для человека, отпугивали животных. Животные вообще боятся всего непривычного, а импульс “вопилки” и более мощных эмиттеров, что охраняли станцию, действовал на них угнетающе и вызывал беспричинный страх. Почти у всех, в любом населенном людьми мире. Бывали, конечно, исключения, вспомнил Саймон. Вроде тех маленьких змеек, что водились в ущелье у лагеря Быстроногих, разоренного Холодными Каплями… Там, куда водил его отец… Что он тогда сказал?… Не тот враг страшен, что прет в лоб, а тот, что прячется за углом… Очень верная мысль! Они забрались на дерево и устроились в огромной развилке на мягком мху, точно под мышкой у великана. Тут нашлась вода – в зеленых чашах округлых листьев; тут, умеряя духоту, дул прохладный ветерок, а в ближайших зарослях можно было набрать ягод – больших, величиной с кулак, напоминавших вкусом спелую дыню. Где-то в листве над ними возились птицы, устраиваясь на ночлег, но других лесных обитателей было не видно и не слышно. Ни леопардов, ни остроухих зверьков с когтистыми лапками, ни белок, ни обезьян… Обезьяны, впрочем, были здесь небольшими, робкими и человека сторонились; а крупных приматов, гамадрилов и павианов, на Тид не завозили. Хаоми положила головку Саймону на плечо, обняла за шею, приникла к нему, будто хотела спрятаться от всех страхов и бед. Он тоже обнял ее, чувствуя под ладонью упругое горячее тело. Они были как два младенца в люльке, подвешенной над пропастью; два пигмея, два человеческих существа, безмерно крохотных и затерявшихся в этом лесу титанов., И все же они были не одни. Где-то спал на такой же ветке Ноабу, где-то дремали его сородичи в своих воздушных деревушках, а где-то совсем далеко, на Северном континенте, ворочались в своих одиноких постелях тысячи мужчин, коим не суждено увидеть женского лица, вдохнуть запах женской кожи… Сон их вряд ли был приятным. Хаоми тоже спала беспокойно, стонала, крутилась, не выпуская Саймона из рук. Шепча временами что-то успокаивающее и поглаживая ее по шелковистым волосам, он лежал на спине, глядел на звезды, сиявшие над степью, и размышлял. Как пробрались сюда изолянты, непонятно… Может, построили огромный плот? Такой, что левиафанам не разнести? Но тогда беглецов должна быть целая сотня… с плотом иначе не справишься… и вряд ли эта сотня торчала бы сейчас на берегу… все пришли бы к станции… а там никого не видно… значит, группа немногочисленная… Сколько же их? Тоже хороший вопрос! Понятно, что не один… Что там кричал де Брезак? Они их убили, убили Леона и Юсси… Они! Мог бы выразиться и поточнее… Ну, бог с ним; о покойных ничего, кроме хорошего! А этот французский офицер был, видно, хорошим человеком… сделал все… почти все… девчонку спас, а станцию закрыл… Значит, не надеялся справиться с изолян-тами?… Или поставил блокировку на всякий случай?… "Надо бы прикинуть время, – решил Саймон, – представить, кто куда перемещался”. Внутренняя планировка станции ему известна. На первом ярусе – два выхода, западный – к бассейну и восточный – к вертолетному ангару; рядом с ними – лестницы наверх; в центре яруса – старт-финишный зал с прямоугольной Рамой; слева – генераторная, без окон, справа – диспетчерская, с двумя большими иллюминаторами. Наверху, на втором ярусе, круглый холл, куда выводят лестницы, и по его периметру – жилые помещения. Одно из них-кухня-столовая, с дверьми, выходящими на кольцевой балкон… Все рядом, все близко! До бассейна идти минуту, бежать – тридцать секунд… И столько же – до ангара… Подняться на второй этаж, заскочить к Хаоми и спуститься вниз – тоже минута… от силы полторы… И от Периметра до любой точки станции можно добраться за две-три минуты… особенно – бегом… Выходило, что события разворачивались очень быстро. Можно сказать, стремительно! Изолянты пересекли Периметр, в диспетчерской раздался сигнал, и де Брезак подошел к окну… Подошел и увидел, как прикончили его коллег… Либо из луков подстрелили, либо закололи копьями… А может, сперва добрались до оружия под лестницей и пустили в ход лазеры… лазеры бьют бесшумно… Так ли, иначе, но Юсси с Леоном отвлекли убийц минуты на три-четыре… возможно, сопротивлялись или пытались удрать… Де Брезак успел подняться наверх и спуститься вместе с Хаоми… Потом он ринулся в диспетчерскую, а девчонка – к вертолету… Пока она взлетала, Брезак заблокировал компьютер… и его убили – убили очень быстро, так как стрелять по машине принялись через пару минут… Да, так оно и было, решил Саймон. Оставались кое-какие мелочи, неясные детали – например, держал ли Брезак под рукой что-нибудь огнестрельное, а если не держал, то почему сразу не ринулся к оружейной стойке – может, оттого, что его опередили?… Но Саймон чувствовал, что эти подробности – лишь лак на законченной картине, а главное он уже знает. Знает, что изолянтов было немного – двое или трое, вряд ли четверо. Будь их больше, они разделились бы, атаковали с двух направлений, и на станции не выжил быникто… Верней, Хаоми бы выжила, только жизнь была б ей не в радость. Значит, их двое или трое… Чего же они хотят? Само собой, убраться с Тида, перенестись в Латмерику, или на Уль-Ислам, или в один из Миров Присутствия, где есть такая же станция с немногочисленным персоналом… В какой-нибудь дальний мир, где их вовек не отыщешь… Только зачем они всех прикончили? И техников, и Брезака? Выходит, специалисты им не нужны… Есть свой специалист… Из бывших транспортников… Любопытно, кто? Но Саймон решил гаданием не заниматься, а просчитать дальнейший расклад событий. Здесь имелись три очевидных факта: первый – то, что сейчас со станции не ускользнешь, второй касался гонца с паролем, коего пришлют на выручку, а третий – что этот гонец великая ценность для беглецов. Последняя, можно сказать, надежда, единственный шанс! Только колючий и зубастый… Где ж его встретят и чем приласкают?… Ну, с ласками дело ясное, и с тем, где будут ждать, пожалуй, тоже… У штурман-компьютера, в диспетчерской! Либо где-то рядом… Сразу навалятся или дадут ввести пароль и прихлопнут… Ну, посмотрим, кто кого прихлопнет, мелькнуло у Саймо-на в голове, и он осторожно, чтобы не потревожить девушку, повернулся на бок. Это движение, однако, разбудило Хаоми. Она потянулась к нему, и Саймон ощутил на своей щеке влажное дыхание. – Дик… Ди-ик… Ди-и-ик… Это воркование было ему знакомо. Он часто слышал такое – от Алины, своей монреальской подружки, от смуглой Долорес, от Куррат ул-Айн, услады взоров… Женские голоса были разными, но тон их и смысл сказанного сомнений не оставляли: день сменялся ночью, официальное – приватным. Улыбаясь в темноте, он обнял девушку, нашел ее теплые губы и расстегнул пояс. Утром явился Ноабу – разыскал их каким-то неведомым образом, как птица находит верный путь среди облаков и туч. Кивнув Хаоми, он перевел взгляд на серый бетонный колпак станции, маячивший над деревьями и красной травой, и поинтересовался: – Зукки? Саймон кивнул. – Зукки. Откуда ты знаешь? – Мой видеть вертолет. Он гореть, да? Твоя женщина лететь на нем? Твоя женщина… Невероятное чутье у этого парня, подумал Саймон и снова кивнул. Хаоми, порозовев, принялась возиться с завтраком – открывала тубы с мясной пастой и шоколадом, выкладывала на широкий лист гроздья сочных ягод. От пасты – пеммикана с Маниту – Ноабу отказался, но шоколад съел с заметным удовольствием. Потом спросил: – Женщина убежать одна? Где другие? – Другие, я думаю, умерли, – ответил Саймон. – И Жул Дебеза тоже? – Тоже. Зукки всех убили, Ноабу. Всех, кроме девушки. Темное лицо пигмея омрачилось. Он пошарил среди своих амулетов, выбрал один, изображавший человечка с печальной улыбкой и сомкнутыми веками, и поднес фигурку к уху, будто прислушиваясь к утешениям, которые шептал ему маленький идол. Просидев так с минуту, он произнес: – Жул быть хорошим человеком. Добрым! Почтенным! Жаль его, Две Руки. – Жаль, – согласился Саймон. Хаоми всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. – Мой – охотник, мой не убивать людей, но Данго-Данго говорить, зукк – не люди, – Ноабу опять коснулся своего амулета. – Зукк – это зукк! Подлый зверь! Такой, как тот, что воевать прежде с леопардом. Леопард его съесть, и все стать хорошо. Спокойно! – Все станет хорошо. Этой ночью к ним придет леопард, и все будет спокойно. Ноабу погладил древко оперенного дротика. – Один леопард? Почему не два? – Ты останешься с Хаоми. Ей страшно одной в лесу, – сказал Саймон. – Зукков мало, два или три, и я с ними справлюсь сам. А после помигаю прожекторами. Вы спуститесь с дерева и придете ко мне. Нахмурившись, Ноабу перебирал перья на концах дротиков. Казалось, он колеблется, будто взвешивая, какая задача почетней: месть или охрана беспомощной женщины. – Если прожектора не будут мигать, – добавил Саймон, – значит, случилось плохое. Тогда приходи. – Хорошо! – Ноабу кивнул и покосился на Хаоми. – Ты не бояться, не плакать, мой тебя охранять. Мой – великий охотник! – Он хлопнул себя по груди, по глухо брякнувшим ожерельям, и перевел взгляд на Саймона. – Ты говорить, у зукк нет крылья, нет вертолета. Как же они сюда попасть? – Еще не знаю. Может, у Хаоми есть идеи? – Саймон коснулся тонкого запястья девушки. – Скажем, тайная тропа на Перешейке… или большой плот… очень большой… В конце концов, левиафаны не питаются бревнами. Хаоми покачала темноволосой головкой. – Жюль и Юсси летали над заливом, когда ветер был не очень сильный. Делали снимки, на… – девушка судорожно вздохнула, – на память… Я тебе покажу, когда вернемся на станцию. Левиафан, он… понимаешь, в нем семьдесят метров длины, а пасть… – Похож на кашалота? – прервал затянувшееся молчание Саймон. – Нет, не похож. Гораздо больше и страшнее! И ему не нужен воздух. Это рыба, огромная рыба – с жабрами и плавательным пузырем. А еще есть акулоиды… Поменьше, но еще страшнее… – Плечи Хаоми дрогнули. – А что насчет Перешейка? Какая-нибудь тропа у самого моря? – Там нет троп, Дик, – горный склон обрывается прямо в воду. И на обычных машинах там летать опасно. – Тонкая рука Хаоми протянулась к северу, к маячившим на горизонте зловещим скалам. – Вначале, километров триста, будут ущелья, джунгли, поля с горячими гейзерами и разломы, из которых сочится сернистый газ… Над ними еще можно пролететь – на “пчеле”, на “фламинго”… Но дальше – область кратеров, а там такая жара, что у дайров шкура идет пузырями. Так Жюль говорил, – добавила девушка с грустной улыбкой. – Ладно, разберемся! – Хлопнув ладонями по голым коленям, Саймон встал. – Пойду погляжу на станцию. Может, у зукков и впрямь выросли крылья, а? Для ночлега он выбрал дерево на самой опушке, и теперь, с двухсотметровой высоты, мог оглядеть простиравшуюся к северу равнину, голубой небосвод в пятнах белесых облаков и вершины далеких гор. Ближе к горам над степью мелькали какие-то крохотные точки, и Саймон, подняв бинокль, увидел стаю птеродактилей – точь-в-точь таких, как на видеозаписи из файла 4412 в “Анналах планетографии”. Походили они на кайманов с Тайяхата, только летающих и с одной-единственной парой лап. Лапы были мощными, когтистыми, страшными. Подул ветер, и тонкий конец ветви, на которой устроился Саймон, начал раскачиваться. Вверх-вниз, вверх-вниз… Он припомнил, что в этот сезон – как сообщалось в тех же “Анналах” – над заливом дуют сильные устойчивые ветры с севера, чередуясь с бурями – такими сильными, что зазевавшихся левиафанов нередко выбрасывает на берег. Этих мертвых чудищ, собственно, и препарировали биологи в эпоху исследования Тида, так как с живым левиафаном не совладал бы даже боевой “ифрит” с ракетной установкой “Железный Феликс”. Конечно, Хаоми права – никаких шансов пересечь залив, на плоту или на лодке, у изолянтов не было. Равным образом не могли они пробраться по суше, разве что в желудках огненных драконов. Да и у тех, по словам покойного де Брезака, среди вулканов шкура шла пузырями. Саймон просидел на ветке почти весь день, но выяснил немногое. Утром прожектора потухли и загорелись вновь, едва над степью сгустились сумерки; это доказывало, что станция обитаема. Еще он видел человека, коренастого бритоголового крепыша, который время от времени появлялся на балконе, озирал степь и исчезал, явно предпочитая прохладу станции царившей снаружи жаре. Физиономию его, за дальностью расстояния, разглядеть как следует не удавалось, но Саймон решил, что интеллектом она не блещет. Определенно не блещет – можно поставить свое ожерелье против любого из амулетов Ноабу! По виду, этот парень привык не кнопки жать, а сворачивать шеи… Значит, есть второй, который знает, куда натянуть контактный шлем, как настроить компьютер, как открыть тоннель и как пройти по нему – в место далекое и безопасное. Ничего нового в такой информации не содержалось, и Саймон мог сделать лишь одно-единственное заключение: изолянты хитры и не склонны демонстрировать свои возможности и силы. Вероятно, они догадывались, что за ними наблюдают. Когда вечер сменился ночью, Саймон начал спускаться с дерева – под угрюмым взглядом Ноабу и тревожно-ласковым – Хаоми. На нем снова был комбинезон с инспекторскими нашивками, у пояса висели нож, фонарь и кобура с “вопилкой”, а пистолет покоился за пазухой. Ранец совсем прочим имуществом он оставил; да и не было там ничего, кроме бинокля, запасных обойм к “рейнджеру”, метателя с прочным шнуром и туб с пищевой смесью. Путь до станции Саймон преодолел минут за двадцать, стремительным легким бегом, прокручивая в голове все то, что предстояло совершить. В успехе он не сомневался; он верил в себя и знал, где скрыт источник этой веры. Враги, быть может, предполагали, что он сильнее и быстрее их, но степень сего превосходства была для них тайной за семью печатями, личным секретом Ричарда Саймона. Сильнее? Да. Быстрее? Несомненно. Насколько сильней и быстрей? Вот здесь стоял большой вопросительный знак, и неведение противной стороны являлось его мощнейшим оружием, главным залогом успеха. В самом деле, что знали эти зукки о Ричарде Саймоне, агенте ЦРУ? Или о Дике Две Руки, воине-тай? Ровным счетом ничего. А он был сама смерть – неотвратимая и быстрая, как вспышка лазера. Он миновал черту меж двух решетчатых башенок и усмехнулся, представив, как загораются тревожные сигналы, как чьи-то руки поднимают карабин, чей-то палец касается курка, чья-то ладонь ложится на нож. Дубовые кроны глухо прошумели над ним; листья в ярком свете прожекторов казались сочно-зелеными, блестящими, словно облитыми лаком. Теперь справа был приземистый ангар с розово-красным “фламинго”, чьи поникшие винты напоминали огромный цветок гвоздики, а слева – серый купол станции и широкий вход – не меньше, чем ворота ангара. Саймон метнулся к нему, вытаскивая пистолет. Рукоятка “рейнджера” была теплой, шершавой, надежной. Старт-финишный зал – квадратный, с высоким плоским потолком – почти от стены до стены занимала Рама. Ее серебристый обод с подписью Невлюдова вмонтировали в пол, что позволяло пересылать объемистые грузы – к примеру, того же “фламинго” или целый транспортный модуль с припасами и батареями для генераторов. Сама генераторная была слева, за плотно сдвинутыми массивными стальными дверями; прямо темнел широкий проем западного выхода, а по правую руку, за полупрозрачной перегородкой, находилась диспетчерская. Дверь в нее откатили нараспашку, и Саймон, не сходя с места, мог видеть большой компьютерный экран меж двух округлых окон-иллюминаторов. В окнах, глядевших в ночное небо, сияли звезды, а на экране с усыпляющей ритмичностью вспыхивал алый круг – требование ввести пароль. За перегородкой что-то шевелилось, по обе стороны от входа, и Саймон, зло ощерившись, подумал – ждут! – Будем говорить или стрелять? – громко спросил он, вытаскивая нож и приглядываясь к двум предполагаемым мишеням. – Стрелять? Зачем стрелять? – отозвался кто-то на плохом английском. – Раньше поговорим, мой золотой. Может, сторгуемся, а? Тебе – твоя жизнь, а мне… Вдруг справа, у западного входа, раздался шорох, затем грохнул выстрел, и Саймон стремительно развернулся, вскидывая оружие. “А вот и третий”, – успел подумать он, и вместе с этой мыслью пришло недоумение. Стреляли, кажется, без приказа… Затем что-то огненное, жаркое вонзилось ему под ключицу, сшибло на пол, заставив выронить пистолет. Хрипло вскрикнув, Ричард Саймон потянулся к нему немеющей рукой и потерял сознание. Очнулся он связанным. Ноги скрутили у колен и щиколоток, локти и запястья стянули за спиной. Правый рукав комбинезона был отрезан, и дырки в плече, входное и выходное отверстие, заклеили, проложив тампонами с чем-то целебным и обжигающе-ледяным – кровь, во всяком случае, из дырок не хлестала. Покидая омут забытья, Саймон уже чувствовал, что легкие его не задеты, что он сумеет пошевелить рукой и, возможно, стиснуть пальцы в кулак. Кажется, ему повезло – стреляли не из боевого оружия, из карабина, иначе он остался бы без плеча и без руки. Над ним раздавались голоса: один – раздраженно-повелительный, другой – гортанный, слегка картавый и вроде бы откуда-то знакомый. Кажется, шел спор; говорили на русском, но для того, второго, слегка картавого, русский явно был не родным. Не шевелясь, застыв подобно хладному трупу, Саймон прислушался. – Ты что же, сударь мой, с катушек съехал? – Повелительный голос был негромким, но уверенным, с интонациями начальника, распекающего подчиненного. – Ты зачем стрелял, касатик? Южный темперамент разыгрался? Или помнилось чего? Или, может, я тебе велел, а? Ты от меня хоть слово услышал насчет пальбы? – Нэ успэл бы ты слово сказат, Эуджен, – отвечал тот, второй, с гортанным и будто бы знакомым голосом. – Говору, узнал я его! Я этого парня видэл в дэлэ! Он бы с тобой по-бэсэдовал… просвэрлил бы дырку промэж глаз! – А если б ты ему просверлил? А? Сидели бы здесь и дожидались, когда заявится целый полк по наши души? – Я знал, куда стрэлат! И знал, когда! Как разгладэл его рожу, так и выстрэлил! А если б он выстрэлил пэрвый, ты бы сэйчас жрал уголья в аду! Или раком стоял под самим Сатаной! – Насчет рака ты верно понимаешь, друг любезный, – произнес начальственный голос пониже тоном. – Все мы встанем раком, ежели парень не очнется. Встанем раком и припустим в лес, потому как больше деваться некуда. Прощай, Гавана, а? Ни баб тебе, ни белых штанов! – Он очнэтса, – возразил гортанный. – Как говорат у вас на русском? А! Здоровый лось! И хитрый! Я думаю, он ужэ оч-нулса. Хочэшь, провэру? Саймона чувствительно, ткнули в бок, и он приподнял веки. – Ну, видэшь? – торжествующе произнес гортанный. Саймон не мог разглядеть его лица – он стоял вполоборота, повернувшись к щуплому мутноглозому субъекту с физиономией оголодавшего хорька. На мутноглазом были мешковатые штаны и куртка – просторная, явно с чужого плеча; за поясом торчал лучемет – финский разрядник “похьела”, не столь мощный, как излучатели русского производства, но все же сверливший дырки в железных плитах с пятидесяти метров. Второй лучемет был в руках коренастого крепыша с мощной мускулатурой, подпиравшего стену шагах в десяти от Саймона. На лице его были написаны полнейшее равнодушие и готовность повиноваться. – Очнулся, в самом деле! – радостно воскликнул мутноглазый. – Ну, сокровище мое, сейчас побеседуем! – Лучшэ я побэсэдую. Мы с ним, Эуджен, ха-арошие дру-зьа! Давнйэ! – произнес второй, с гортанным голосом, уперев приклад карабина в горло Саймону. Он склонился над пленником – смуглолицый, усатый, с бешено выкаченными глазами – и прохрипел, перейдя на испанский: – Узнаешь меня, Чико? Или как там тебя? Сержант Донован? Узнаешь? Что, язык проглотил? А там, в Панаме, ты был такой разговорчивый! Даже выкуп вроде обещал за трех ублюдков! Так или нет? Давление на горло ослабло, и Саймон смог сглотнуть и раскрыть глаза пошире. Усы над тонкими губами, на щеке – багровый шрам, мочка левого уха срезана… Над ним навис капитан Мела – словно кошмар, прилетевший с туманом из мрачных далеких ущелий Сьерра Дьяблос. – Ты ведь, кажется, говоришь на испанском, Чико? – с издевкой осведомился он. – Говорю, – пробормотал Саймон. – Я на всех языках говорю. Хоть на украинском, хоть на русском. – На русском! – восхитился мутноглазый Эуджен, оттирая Мелу и, в свой черед, склоняясь над пленником. – Надо же, на русском! Ну, скажи что-нибудь, голубок мой сизокрылый! Саймон сказал. Выслушав его, мутноглазый ухмыльнулся. – Верно рекли великие, что на французском способно с дамами изъясняться, на английском торговлю вести, на немецком врагов поносить, а русский на всякий случай гож… Где же ты этому, друг любезный, обучился? В Рязани или в Тамбове? А может, в самом городе Питере? – Не угадал, – отозвался Саймон. – Тульские мы. – В Туле он помнил каждую улицу и переулок – еще со времен своего оружейного расследования. – Тульские! – Теперь на лице щуплого был написан полный восторг. – Выходит, почти земляки! Я, видишь ли, сам из Богородицка… Евгений Петрович меня зовут, Евгений Петрович Пономарев… Капитана ты вроде бы знаешь, а это, – он кивнул на стриженого у стены, – это Паша, помощник мой и телохранитель… Тоже наш земляк… Ну, а земляк земляку всегда поможет – правда, голубь мой? Земляки, они те же товарищи… – Тамбовский волк тебе товарищ, гнида мутноглазая, – прохрипел Саймон, ворочаясь на полу. Тесен мир, мелькнула мысль. Надо же, второй знакомец объявился! С Мелой пришлось когда-то вступить в прямой контакт (вот только уши он ему отрезать не успел!), но и этот тип из Богородицка, хоть на внешность и незнакомый, был из давних клиентов Конторы. Транспортник, бывший диспетчер Богородицкой станции, бывший шеф синдиката “Три-Эм” по кличке Пономарь… Синдикат был назван. в честь какой-то давней российской аферы, случившейся еще на Земле, и был, разумеется, подпольным: с Тульского Оружейного тащили всякие интересные штучки и переправляли в Латмерику и на Аллах Акбар. Саймон трудился в группе, копавшей это дело, и о Евгении свет Петровиче знал по документам. Тот на правах главаря никого не стрелял и не резал, но удостоился пожизненной ссылки – как всякий продажный чиновник ООН. Остальные “специалисты” из “Три-Эм” мотали сейчас срок в песках Сахары. – Невежливый ты, голубь мой, – произнес Пономарь, сгоняя с лица восторг. Он выпрямился и потер спину. – Я ведь чего хотел? Я ведь хотел одно словечко от тебя услышать… одно-единственное… Шепни его мне, и мы упорхнем, как птички божьи, а ты, касатик, останешься здесь полным хозяином – и даже без лишних телесных повреждений. Вот ты сказал: тамбовский волк тебе товарищ!… А мне помнится другая поговорка: земляк земляку глаза не выколет… Или выколет?… Ты как считаешь, капитан? – Он повернулся к Меле. – Оба, – кратко ответствовал тот, вытаскивая из кармана зажигалку. Курить он, однако, не стал; пощелкал клавишей, любуясь, как мгновенно раскаляется кончик маленького цилиндра. – Ну, так что же, касатик? – Мутноглазый вновь склонился над пленником. – Со мной желаешь потолковать или с капитаном? У капитана, видишь ли, к тебе претензии есть… Чего-то ты ему недодал в этой вашей Панаме… или чего-то с ним не поделил… Словом, дня не бывало в Чистилище, чтоб капитан о тебе не поминал! А он ведь не из Тулы, не из Богородицка, он – человек южный, темпераментный… Ты ведь слышал про латинский темперамент, сударь мой? Саймон молчал, и Пономарь, изобразив на лице сожаление, кивнул Меле. – Давай, мил друг, приступай. Только аккуратно… Глазки вначале не тронь, по плечу простреленному не бей и между ног не щекочи. Это мы оставим на потом. А сперва что-нибудь локальное нужно, дабы земляк мой разговорился, не потерпев особого ущерба… Он ведь у нас такой красавчик! Небось всех тульских девок с ума свел, а? При упоминании о девках капитан оскалился, щелкнул зажигалкой и присел рядом с Саймоном. С минуту он выбирал, откуда начать, словно гурман, перед которым разложили редкостные яства, потом потянулся к шее пленника. Боль была ошеломляющей. Почти такой же, как в детстве, когда Чочинга первый раз послал его в яму с раскаленным углем. Потом Дик освоил это мастерство; главным тут было не бояться, не думать о пламенном жаре, идти не спеша, но и не медля, чтоб ступни касались углей на некое краткое и вполне безопасное мгновение. Но сейчас мгновение длилось, и длилось, и длилось… – Тэрпэливый! – со злостью произнес Мела, и Саймон подумал, что мучитель его выучил русский, видно, в Чистилище, где доживали свой век сотен пять или шесть мафиози с России. Правда, среди своих звались они не мафиози и не гангстерами, а “крутыми”. Английское слово “таф” не могло отразить всю многозначность этого термина. Теперь Мела прижигал ему запястье. Паша-крепыш с любопытством вытягивал шею, а Пономарь брезгливо кривился и морщился. Сейчас он был похож не на голодного хорька, а на такого, который лез в курятник, да угодил в куриный помет. Саймон приказал себе забыть о боли. Шея, раненое плечо и рука больше ему не принадлежали; он не чувствовал их, не знал, что с ними творят, и не хотел знать. Он был совершенно спокоен; лицо – застывшее, веки опущены, ни следа испарины на висках, губы полураскрыты, дыхание – мерное, сильное. Он был на грани яви и сна, в преддверии транса цехара, и сейчас каждый из них, боль и Ричард Саймон, следовали своим путем, сами по себе, порвав ту нить, что связывала их друг с другом. Нить эта звалась мышцами, нервами, телом, но тела Саймон больше не чувствовал. – Тэрпэливый! – повторил Мела уже не со злостью, а с удивлением. – В глаз ткнуть? Как думаэш, Эуджен? – Погоди, касатик, – сказал Пономарь, склонившись над Саймоном и недоуменно сдвинув жидкие брови. – Хм-м… Спит он, что ли?… Странно… А может, совсем не странно… Этих парней, знаешь ли, учат всяким забавным штукам… Мела щелкнул зажигалкой. – Каких парнэй? Из Корпуса? – Из Корпуса, как же! Он не из Корпуса и не из Тулы, сударь мой! Хотя… чем черт не шутит… – Пономарь задумчиво нахмурился. – Может, и впрямь из Тулы… или из Москвы, из филиала ЦРУ… – Сощурив мутные серые глазки, он оглядел Саймона, прислушался к его мерному, ровному дыханию и сказал: – Ну, откуда сей голубок, мне сейчас не интересно, а интересно знать, что ты еще умеешь, капитан? – Я многое умэю, – отозвался Мела, вытаскивая нож. – Раз спит, надо сдэлат так, чтоб не спал. Отрэжу вэки, а потом… Саймон открыл глаза. В воздухе плавал запах горелой плоти – его плоти, вся правая рука, от шеи до запястья, словно горела в огне. Он снова заставил ее онеметь и тихо произнес: – Ничего не добьетесь, ублюдки. – А, заговорил! – Пономарь вновь склонился к нему. – Заговорил, красавчик! Ну, что тебе сказать, мил человек? Ничего не добьемся, так ничего и не потеряем, верно? Дальше Чистилища нас не пошлют. – Не пошлют, – согласился Саймон. – К сожалению! Поэтому я предлагаю сделку. – Сделку? – Мутные глазки с интересом уставились на него. – Умнеешь на глазах, сударь мой! А я уж подумал, не мазохист ли ты? Выходит, нет… Ну, а что тебе сразу предлагалось? Разве не сделка? Ты мне – слово, я тебе – жизнь! Так, мой золотой? – Не так, – сказал Саймон. – Ты мне слово, и я тебе слово. Но не сейчас, попозже. – Это почему? – Память у меня отшибло, голубок. Но к рассвету все вспомню. Наверняка вспомню! – Вспо-омнишь? – с прищуром протянул Пономарь, опускаясь на корточки. – Это хорошо, если вспомнишь. До рассвета мы подождем… тут рано светает. Только почему я должен тебе верить? – Я ведь не жизнь на слово меняю, а слово на слово. Жизнь – она твоя… Захочешь, отберешь. – Обманэт, Эуджен! – рявкнул Мела, дернув мутноглазого за рукав. – Нэ знаю как, но обманэт! – Погоди, голубь, не суетись, – Пономарь локтем оттолкнул Мелу. – Обманет, так будем мы на прежних позициях. Займетесь им тогда с Пашей… Или лучше займешься один. Паша, он человек простой, без выдумки – бьет, так сразу насмерть. – Тощие пальцы стиснули подбородок Саймона. – Ну, сизокрылый мой, какое же слово тебе шепнуть? Чего знать хочешь? – Как вы сюда попали, крысы? С минуту Пономарь разглядывал его, потом расхохотался. Смех у него был резким, сухим, будто палили очередями из автомата. – Любопытный, а? Но необразованный! Ты про воздушный шар слыхал, милок? – Слыхал, – отозвался Саймон. – Я даже слыхал, что ветры здесь временами дуют с севера, и с попутным ветром б перелететь залив нет проблем. Только шар вам не сделать. – Не сделать, а? – повторил мутноглазый и ухмыльнулся I не без издевки. – Тебе не сделать, голубок, ему не сделать, – он мотнул головой в сторону бритоголового, – ну, а я – вам не чета! Ветры, говоришь, дуют? Верно, дуют! И выбрасывают на берег здоровенных тварей, с таким, знаешь ли, рыбьим пузырем, что грех не попользоваться. Вот и пользуются! Дурачье из них куртки шьет, а у тех, кто поумнее, – он стукнул кулаком в грудь, – свои фантазии. Слыхал, что теплый воздух легче холодного? Так что, сударь мой, может, я и крыса, да с мозгами. Не тебе таких крыс ловить! Саймон, стиснув зубы и каменея от ненависти, молчал. Не дождавшись ответа, мутноглазый поднялся на ноги, плюнул ему в лицо и пробурчал: – До рассвета хочешь подождать? Ну, мы подождем! И ты подождешь, касатик. Только, извини, без удобств. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК В эту ночь Филип Саймон, отец Ричарда Саймона, сидел на ступенях террасы, у своего дома в Чимаре. Понятие “в эту ночь” было весьма условным, поскольку Тайяхат и Тид разделяли многие миллионы лиг космической пустоты, и каждый из этих миров вращался вокруг своей оси и своих светил с разной скоростью – а значит, не совпадали в них ни годы, ни месяцы, ни сутки. Тем не менее случилось так, что на Тиде, в районе станции Пандуса, стояла глухая ночь, а в Чимаре, на склонах Тисуйю-Амат, ночь начиналась; и было это одним из тех редкостных совпадений, какие случаются раз в столетие. Над головой Филипа Саймона шелестели огромные листья дерева шой, а в них возились и робко попискивали пинь-ча; справа возносился к звездам невидимый в темноте горный склон с черным провалом пещеры, а слева и впереди, за травянистой прогалиной, полукольцом тянулись заросли местного бамбука. Свет из окон падал на поляну, и густая невысокая трава казалась зеленым ковром, брошенным наземь от самых ступенек террасы до бамбуковых зарослей. Ковер украшал причудливый изумрудный вензель – Каа, танцующий питон, свернулся в трех шагах от Саймона, приподняв массивную угловатую голову. Человек и змея смотрели друг на друга. – Что-то с мальчиком, – сказал Филип Саймон. – Плохо ему. Понимаешь, Старый? Каа издал успокоительное шипение, похожее на шелест вертолетных винтов. Он не обижался, когда его звали “Старым”; он и в самом деле был стар и прожил на свете раза в четыре дольше Филипа Саймона. Что, однако, не мешало ему находиться в превосходной форме. – Ты веришь в предчувствия? – спросил Филип Саймон. Каа утвердительно свистнул. Предчувствия вызывали у него полное доверие, и он привык полагаться на них гораздо больше, чем на разум. Это не значило, что он неразумная тварь; он, безусловно, обладал некоей толикой сознания – но вот какой, не мог ответить ни один ученый-биолог. Контактируя с человеком, с другом или врагом, Каа вел себя почти как разумное существо, но все же его жизнь в большей мере подчинялась привычкам и инстинктивным побуждениям. А предчувствие – родной брат инстинкта. – Значит, веришь, – сказал Филип Саймон. – Сказать по правде. Старый, у меня есть целых два предчувствия, хорошее и плохое. О плохом я тебе уже сказал. А вот – хорошее: если мальчик выкрутится, то приедет к нам. Понимаешь? Каа испустил шипение – с легким намеком на радость. Голова его качнулась вверх-вниз, и мелкие чешуйки на морде полыхнули чистым сиянием хризолита. – Мальчик приедет к нам, – повторил Саймон, – и уедет снова. Может, и ты уедешь, Старый. А я останусь. Совсем один. Каа издал сложный протестующий звук – нечто вроде скрипа, сопровождаемого лязгом огромных челюстей. Его голова повернулась к невидимой во мраке пещере. – Пожалуй, ты прав, – согласился Саймон, – все-таки я не одинок. Нет Чочинги, но есть Чоч… Чоч, Чулут, Ниссет и Най, Чия и Чиззи… Конечно, ты прав, Старый. Но понимаешь, они не заменят мне сына. Даже Чочинга, будь он жив. Свист, изданный змеем, был печален. Кажется, он понимал, что сына заменить нельзя. – Впрочем, это неважно, – произнес Саймон. – Как говорил Чочинга, в юности все мы орлы с четырьмя крылами, а в старости – только с двумя… Хотя по тебе этого не скажешь, верно? – Он покачал головой и добавил: – Главное, чтобы старый орел не мешал летать молодому… И чтоб не подрезали мальчику крылья… Ты как думаешь – не подрежут? Выкрутится он? Питон снова свистнул – пронзительно, грозно. Туловище его дрогнуло, выпрямляясь и вытягиваясь вверх мощной, гладкой колонной в изумрудной чешуе, глаза сверкнули огнем. – Выкрутится, – прошептал Филип Саймон. – Я знаю, выкрутится! Чочинга был бы им доволен… Сказал бы: всякий может упасть под вражеским ударом, но это не беда – надо лишь вовремя подняться. Встать и отрезать врагу уши… А свои – поберечь! Верно, Старый? Змей свернулся огромной восьмеркой и одобрительно зашипел.Глава 10
Над Ричардом Саймоном тоже шелестели листья, только не дерева шой, а обычного дуба, на котором висел он будто червяк, спеленутый тонкой и прочной веревкой. Мела, проклятый ублюдок, вязал узлы на совесть, и распустить их или ослабить никак не удавалось. Отказавшись на время от этих попыток, Саймон бросил взгляд на ослепительно сиявшие прожекторы, потом – на серебристую воду в бассейне. Жаркое и холодное, свеча и клинок, яркий свет солнца и мерцающий лунный свет… Он медленно плыл меж ними, погружаясь в цехара, в целительный транс, врачевавший раны, возвращавший надежду и силу, не мешавший раздумьям и размышлениям. Но мысли его были мрачными, как у гепарда, которому крысы отгрызли хвост. Он дал себя пленить!… Это было позорно для полевого агента с его квалификацией и опытом. И он дал себя изранить!… Это было позорно для воина-тай. Воин мог потерять жизнь в неравном бою либо лишиться ушей или пальца, но иные раны, кроме смертельных, считались недопустимыми. Они говорили, что воин плохо, владеет оружием, что он излишне самонадеян и недооценил противника – словом, не просто проиграл, а проиграл с позором. Правда, схватка была не окончена. Если он сумеет освободиться, пальцы зукков украсят его ожерелье… Украсят, хоть у него осталась одна рука!… Но, возможно, будет и вторая: транс цехара стимулировал регенерацию пораженных тканей, и шла она на порядок быстрей, чем обычно. Если он развяжет веревку, зукки будут удивлены… Саймон поймал себя на том, что называет их не изолянтами, а этим странным словом, услышанным от Ноабу. Зукки… Ему мнилось, что это лучше официального термина; слово “зукк” как бы полней отражало сущность тех троих, что сидели сейчас на станции. Он вызвал в памяти их лица, будто желая запечатлеть навсегда, запомнить, измерить и взвесить. Бритоголовый относился всего лишь к разряду статистов. Этот не рассуждал, а делал, что приказывали, и ценность его заключалась в крепком загривке, тяжелых кулаках и личной преданности вожаку. Пономарь, видать, рассматривал бритоголового как некий фактор равновесия между хитростью и силой, между им самим и капитаном Мелой. Разумеется, он был прав! Капитан – личность непредсказуемая, с южным темпераментом, так что Паша-крепыш являлся для Пономаря весьма полезной гирькой на чаше весов – хоть и лишенной, в отличие от Мелы, воображения. Сам Пономарь был, вероятно, человеком хитроумным и непростым; за внешней его обходительностью ощущались железная воля, уверенность в себе и незаурядный лицедей-ский дар. Что подтверждали многие факты – и прошлый его бизнес, и положение, коего он достиг в одной из главнейших служб ООН, и приговор к бессрочному изгнанию, и, разумеется, последний эпизод, касавшийся тидской станции. Благодаря его талантам тут уже были три покойника, и Саймон вовсе не желал стать четвертым. И слова, данного им Пономарю, он нарушать не собирался. Слово есть слово, сделка есть сделка: Пономарь поведал о том, что хотелось узнать ему, а он, подумавши до рассвета, непременно припомнит пароль. И поделится с голубком Евгением Петровичем… Сдержит слово! Обязательно сдержит! Хоть на тот свет пропускают без всяких паролей… О третьем из беглецов, о капитане Меле, Саймон старался не думать. Следом за ним являлись призраки: скорбная Дева Мария – расстрелянная, в пробитом пулями плаще, старец-священник в окровавленных лохмотьях, женщина с надвинутым на лоб платком, пугливо обнявшая девочку, сгоревшие дома и столбы меж ними, на которых висят десятки, сотни изуродованных тел… Крайний столб, на речном берегу, был самым высоким; на нем, прикрученный колючей проволокой, застыл дон Анхель Санчес, и выжженные его глазницы глядели на Ричарда Саймона с немым укором. Казалось, этот взгляд говорил – что же ты, парень?… Как же так?… Ты ведь не пеон, ты – боец, и твое дело – не висеть на ветке подобно червю, а вешать тех, кто вешает пеонов… От этого взгляда Саймона начинало трясти, он корчился и метался в своем полусне, скрипя зубами и ощущая, как под ключицей простреливает болью, как жгут ожоги на шее и запястье. Еще он видел довольного Мелу: будто держит тот Шнур Доблести – его, Саймона, почетное ожерелье – и пристраивает меж костей побежденных врагов крысиные клыки. Два больших желтых клыка, позорный знак… А в небесах, на огромном, надутом теплым воздухом пузыре левиафана, летят Пономарь и Паша-крепыш, ухмыляются и кивают головами… Зрелище это было таким нестерпимым, что Ричард Саймон застонал, дернулся и раскрыл глаза. Ветка над ним ощутимо раскачивалась, и кто-то маленький, гибкий, но сильный, копошился у него за плечами, перерезая веревку. Она шуршала, падала вниз безвольными кольцами, прямо на связку дротиков, чьи острия блестели в траве. Саймон мог бы дотронуться до них – подвесили его низко, над самой землей. Он ощутил, что руки его свободны, и хрипло пробормотал: – Ноабу? Ты? – Мой, – отозвался тот, переползая к щиколоткам Саймона. – Держись! Сейчас мы упасть. Они упали. Саймон выставил левую руку, потом перекатился на бок, стараясь не подмять под себя пигмея. Почти инстинктивно он ощупал раненое плечо. Кровь не шла, и боли он не чувствовал, зато ожоги горели так, словно шея и запястье превратились в пару хорошо пропеченных бифштексов. Но это было мелочью, пустяком, который не мог ни помешать ему, ни остановить. Он согнул руку в локте, напряг мышцы и довольно усмехнулся. – Прож-жетор не мигать, – сказал Ноабу. – Он не мигать, мой приходить, а ты – висеть. Значит, зукк тебя обмануть! Словить Две Руки как птичка! Нехорошо! Мой верно говорить – два леопарда лучше, чем один. Но ты – упрямый леопард! – Я – леопард с паленой шкурой, – откликнулся Саймон. – А в остальном ты прав, Ноабу. Конечно, прав… Ну, а что там с нашей девушкой? – С твоей девушкой. Две Руки, – уточнил маленький охотник. – Девушка сидеть на дереве и плакать, бояться за тебя. Хороший девушка! Только ноги слишком длинный. – Это ничего. Длинные ноги девушкам не помеха, – пробормотал Саймон, подбирая пару дротиков и вслед за пигмеем прячась в тень под деревьями. От них до бассейна было двадцать шагов и тридцать – до входа на станцию. Он смог бы метнуть дротик вдвое дальше. И он не боялся промахнуться. – Зукк не знать, что мой здесь, – Ноабу коснулся его локтя сухими тонкими пальцами. – Мы идти на станция и убивать зукк? Так, как они убивать Жула Дебеза? – Нет. Они выйдут. Они знают, что кто-то пришел. Эти башни им сказали, – Саймон вытянул дротик к ближайшей решетчатой вышке Периметра. – Разве башни сказать про Ноабу? Может, не Ноабу ходить мимо, а зверь? Змея? Или птица? Башни этого не знать. – Звери и птицы их боятся и близко не ходят. Так что зукки уже догадались, что пришел человек. Сейчас они думают, что делать. Разглядят, что меня нет на дереве, выйдут. Главный зукк захочет со мной поговорить. Я ему отвечу. А после… после мы метнем дротики. Саймон опустил ладонь на плечо Ноабу и почувствовал, что тот дрожит. Кожа пигмея была горячей и влажной, мускулы трепетали под ней тонкими, но упругими змейками. – Тебе не приходилось убивать? – склонившись к его уху, прошептал Саймон. – Убивать людей? Вздохнув, Ноабу отрицательно покачал головой. Белки его широко раскрытых глаз сверкнули. – Откуда? Мой – охотник, а люди не дичь… Правда, Данго-Данго сказать мне, что зукки – не люди… – Не люди, – подтвердил Саймон. – И поэтому, друг, пусть твоя рука будет твердой. Дротики у тебя легкие, значит, мы должны целиться в горло или в сердце. Зукков трое, и я убью двоих – тех, что с разрядниками. Один – тощий и невысокий, другой – с широкими плечами и головой как шар. Ты их не трогай, они – моя забота. Ты кидай дротик в третьего, Ноабу. Он темнолицый, с усами и шрамом на щеке… Я думаю, он убил Жула Дебезу. Ты должен попасть ему сюда, – Саймон ткнул пальцем под нижнюю челюсть. – Если ты его не убьешь, он начнет стрелять. У него карабин, а пуля летит дальше дротика. – Это верно, – согласился пигмей, но дрожать не перестал – видимо, от возбуждения. Проем в сером куполе ненадолго осветился, и оттуда выскользнула смутная тень. Свет от прожекторов падал на деревья, а у стен станции царила полутьма – Тид не имел естественных спутников, и ночи здесь были темными. Саймон, однако, различил мощную фигуру Паши-крепыша; тот напряженно всматривался в дубовые кроны, выставив перед собой эмиттер. Стоял он словно мишень в тире, и проткнуть ему глотку было б нетрудно, но Саймон не торопился, дожидаясь, когда соберется вся компания. Что– то зашевелилось в проходе, и он каким-то шестым инстинктивным чувством осознал, что там находится Пономарь. Евгений свет Петрович, дорогой земляк… А где же третий, Мела? Опытный, гад! На балконе он не появится, там слишком светло… И ждать его здесь, со стороны бассейна, не стоит… Скорее он проскользнет восточным проходом, чтоб вылезти справа… наверняка справа… Саймон наклонился к пигмею и прошептал: – Двадцать шагов на восток, Ноабу. Спрячься за деревом и гляди в оба – твой очень быстрый. Когда я крикну, метнешь в него дротики, в горло и в грудь. Ты можешь бросать свои копья обеими руками? Маленький охотник кивнул и исчез так, что ни одна травинка не зашуршала. Саймон продолжал следить за бритоголовым и Пономарем. Эти двое чего-то ждали. Он не пытался проникнуть в их мысли. Это было ни к чему, ибо ситуация сложилась ясней ясного. Бритоголовый – тот, похоже, не думал ничего, а вот Пономарь был человеком сообразительным, способным сложить пару фактов. Впрочем, и проблема была несложной. Раздался сигнал – значит, кто-то проник за Периметр. Пленник исчез – значит, его освободили. Второго сигнала не было – значит, и пленник, и его освободитель прячутся под деревьями, а не удрали в степь… Все ясно, как дважды два! Боковым зрением он заметил тень, осторожно скользившую со стороны вертолетного ангара. Мела, ублюдок! В руках у него был карабин, и двигался он со сноровкой опытного убийцы, почти бесшумно и незаметно, как ядовитый тайят-ский паук, охотник на пятнистых жаб. Но Саймон все-таки его увидел – значит, видел и Ноабу. Не дрогнет ли малыш? Не спутает ли зукка с человеком? Ведь внешнее сходство так велико… От темного входа, прервав эту мысль, раздался бесцветный голос Пономаря: – Что же ты прячешься, голубок? Или висеть надоело? А капитан ведь так старался… Устроил тебя с комфортом, разве нет? И мы с тобой вроде бы столковались: я – слово и ты – слово. Твое слово – на рассвете, а рассвет еще не наступил! – Рассвет не наступил, зато у меня случилось просветление, – отозвался Саймон, поднимая дротики. В следующий миг он выкрикнул: – Дюгесклен! Дюгесклен! «Дюгесклен – французский рыцарь и полководец времен Столетней войны (1337-1453 гг.) между Англией и Францией.». – и метнул свои легкие копья обеими руками. Этот пароль, вероятно, придумал де Брезак, считавший род свой от провансальских трубадуров. Покойный де Брезак… Но слово, внесенное им в память компьютера, не потерялось и не забылось. Имя славного рыцаря, героя Столетней войны, летело сейчас сквозь темную тидскую ночь, неслось на остриях двух копий, ширилось и грохотало, как боевой турнирный клич, как зов неотвратимой мести. Дюгесклен! Дюгесклен! Отпрыск прежних твоих врагов мстил за смерть француза! И в этом повороте судеб было нечто справедливое и неизбежное – и столь же таинственно-волнующее, как загадка Пандуса. Дротики ударили в цель. Чьи-то холодеющие пальцы нажали спуск, и лиловый луч лазера вспорол листву у Саймона над головой. Ветви и листья, объятые пламенем, закружились в воздухе, заплясали в причудливом танце, но Саймон успел покинуть их хоровод. Оружие! Ему нужно оружие! Преодолев в шесть огромных скачков дистанцию до стены, он склонился над телом бритоголового. Тот уже не дышал, валялся на земле с остекленевшими глазами, и лишь копье, пробившее шею насквозь, чуть подрагивало, точно колеблемый ветром пышный перистый цветок. Саймон стремительно наклонился и вырвал излучатель из безвольной руки мертвеца. Пахло озоном – верный признак, что стрелял крепыш. Ну, этот уже отстрелялся вместе с вожаком, мелькнула мысль. А что с Ноабу? Повернувшись, Саймон вскинул разрядник, не целясь дернул спуск и увидел в свете лиловой молнии летящий дротик, Мелу, присевшего у стены, и карабин в его руках. Прогрохотала очередь, кто-то протяжно вскрикнул, затем раздался топот – слишком шумный для легкого пигмея. Пробормотав проклятие, Саймон выстрелил еще раз. Он целился туда, где пару секунд назад заметил Мелу, но капитана там уже не было – только дротик, слегка испачканный кровью. Все-таки Ноабу промахнулся! Или не промахнулся, а не смог поразить человека насмерть?… Ведь что бы там ни говорил Данго-Данго, зукк все-таки оставался человеком – опасным, недобрым, но человеком. А Ноабу, великий охотник из племени итури, не привык убивать людей. Саймон, громко выкрикнув его имя, метнулся к деревьям. Темнота тут же расцвела багровыми вспышками; на сей раз палили в него откуда-то с вертолетной площадки, а значит, Мела был уже там. Опытный зверь, предусмотрительный! Понял, что компаньонам каюк! И разобрался, в чьих руках излучатель! Теперь он у вертолета… Получается, выбор за ним… Сражение?… Или бегство?… У Ричарда Саймона выбора не было. Прячась за толстым древесным стволом, он склонился над телом Ноабу, лихорадочно ощупывая его и пытаясь определить, куда попали пули. В темноте это было непросто, а выйти на свет он опасался – Мела, несомненно, был превосходным стрелком. Похуже, чем агенты ЦРУ, но пристрелить раненого умения у него хватит… Так что Саймон оставался на месте, под защитой дубов и темноты. Его ладони огладили широкий лоб Ноабу, скользнули от плеч к запястьям, от щиколоток к бедрам. Голова в порядке, руки-ноги тоже… какие они маленькие, эти руки и ноги!… Словно у двенадцатилетнего подростка! Так, теперь живот… вроде бы тоже цел… нижние ребра слева и справа… плечи… Шея… грудь… Когда он коснулся груди, Ноабу застонал, закашлял и раскрыл глаза. Из ран выплеснулась кровь – прямо владонь Саймону; на ощупь он определил, что первая пуля прошла под сердцем, вторая – на три пальца правей. Раны почти смертельные… Почти! Если б Ноабу очутился сейчас в реанимационном блоке… или в камере гибернатора… или хотя бы под доун-установкой… Но он лежал в траве, у смолкнувшей станции Пандуса, на самом краю Вселенной, доступной человеку; лежал и, судя по всем признакам, готовился к смерти. Накрыв его раны ладонью, Саймон сосредоточился, чувствуя, как жизнь, капля за каплей, покидает маленького охотника. Это он мог ощутить – словно далекие раскаты эха, замирающего в пустоте; но лишь ощутить, не помочь и не спасти. Он не владел даром целительства чужих болезней и ран, он не был экстрасенсом, и он привык отнимать жизнь, а не дарить ее. Он был бессилен. Ноабу дернулся и что-то зашептал. Саймону, склонившемуся над ним, удалось разобрать: – Мой не смог… не смог… человека… зукка… Ты… ты быть прав… прав, Две Руки… надо целить в горло… в гор-ло… целить в гор-ло… Шепот смолк, и на смену ему пришел мягкий шелест винтов взлетающего “фламинго”. Два выбора свершились: меж жизнью и смертью, меж битвой и бегством. Теперь наступил черед Ричарда Саймона. Но он уже знал, что выбрать и как. Сунув разрядник за пояс, он поднялся с легким телом Ноабу в руках и направился к ангару. Алый “фламинго” уже упорхнул, но Саймон, оглядев траву, примятую посадочной рамой, задумчиво нахмурился и произнес: – Чико-Чико, где ты был? Я на Тиде бренди пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове… Он раскрыл ворота ангара и включил свет. Как и ожидалось, никаких транспортных средств, зато свалены грудой Доун-установка – медицинский аппарат для замедления процессов жизнедеятельности. Трое покойников: голые Леон и Юсси с нелепо вывернутыми шеями и де Брезак, в комбинезоне, густо заляпанном кровью. Опустив рядом с ними маленькое легкое тело Ноабу, Саймон стал приводить мертвецов в порядок: каждого переворачивал на спину, складывал руки на груди, стараясь, чтоб погибшие выглядели пристойно. Запах от трупов недельной давности был ужасный, но он не обращал на это внимания. Устроив все, как хотелось, он постоял пару минут, перебирая в памяти молитвы, что вдолбил ему некогда костлявый палец тетушки флори. Де Брезак был, видимо, католиком, Юсси Калева – протестантом, Ноабу – язычником, а Леон, вероятней всего, атеистом, как многие из русских. Не придумав ничего подходящего, Саймон пробормотал: “Спите с миром!” – закрыл ворота и отправился к станции. Он миновал первый ярус – от восточного входа до западного, через старт-финишный зал. На пороге, уткнувшись лицом в землю, лежал Пономарь. Прихватив убитого за ноги, Саймон оттащил его к стене и бросил рядом с трупом бритоголового. Сейчас Пономарь был похож на хорька, глотнувшего крысиной отравы; на лице у него застыло разочарованно-обиженное выражение, мутные глазки закатились. – Ну что, отпрыгался, касатик? – пробормотал Саймон, сплюнул и пошел в диспетчерскую. Раненое плечо ныло, на-ломиная о себе, ожоги горели, но двигался он с привычной легкостью и быстротой. Подойдя к компьютеру, Саймон, не надевая контактный шлем, быстро набрал пароль – здесь была обычная клавиатура, как у его учебного “Демокрита”. Экран откликнулся спокойным зеленоватым мерцанием; затем в прозрачной нефритовой глубине всплыли фразы: “БЛОКИРОВКА СНЯТА. К РАБОТЕ ГОТОВ. КООРДИНАТЫ?” Он набрал координаты – тоже прямо с клавиатуры; потом составил краткий отчет и переслал его на Колумбийскую станцию ЦРУ. Дождавшись сигнала подтверждения, Саймон довольно кивнул и связался с автопилотом “фламинго”. Он не мог повернуть вертолет, не мог взорвать его в воздухе или разбить о землю, но проследить, куда направляется Мела, не составляло труда. "Фламинго” летел к побережью, к заливу Левиафанов, а это значило, что капитан возвращается восвояси. В свою бессрочную ссылку, в Чистилище! Он ничем не рисковал; его и так приговорили к самому суровому из наказаний. Там, на севере, он доживет свое, и, быть может, век его окажется долгим… Слишком долгим, по мнению Саймона. Он вывел алую точку, обозначавшую вертолет, на вспомогательный экран, велев наложить ее на карту местности, потом запросил информацию об энергоресурсе двигателя. Тысяча триста шестьдесят километров, ответил автопилот. До Чистилища было тысяча сто пятьдесят – значит, добравшись домой, капитан сможет вылететь пару раз на пикник. У него, конечно, оставалось оружие, но карабины без патронов не стреляют. А патроны на деревьях не растут… Кончится боезапас, десяток-другой обойм, и карабином можно угли шуровать заместо кочерги… Операция, собственно, была закончена. Глядя на экран, где алая точка медленно ползла на север, Саймон повторил про себя предписание: выяснить причины отсутствия связи, по возможности ликвидировать их, оказать помощь персоналу станции. Словом, разобраться! Ну, что ж, он разобрался… Но это понятие, особенно в русском языке, имело множество нюансов и оттенков. И он полагал, что разборка еще не закончена. Нельзя пройти по жизни, не оставляя следов, и Мела был таким следом, зловонной кучей фекалий, которую полагалось закопать. На два метра под землю. Взгляд Саймона скользнул по стенам диспетчерской. Тут висело множество фотографий – ярких, цветных, объемных. Ущелья и джунгли Перешейка, какие-то чудища величиной с бронированный танк, чешуйчатокрылый птеродактиль, заложивший крутой вираж, морские виды – берег залива, над которым садится солнце, стада гигантских животных с поднятыми хвостами… Они походили на резвящихся дельфинов, но разглядев их пасти, Саймон только покачал головой: назвать их дельфинами не поворачивался язык. Он снова перевел глаза на экран с алой точкой и задумчиво пробормотал: – Летишь, вурдалак? Ну, лети, лети… Думаешь, Чико не догонит? Зря думаешь… Чико очень шустрый парень. Нахмурившись, он подумал с минуту, припоминая, что еще оставалось не сделанным. Хаоми… Да, Хаоми, длинноногий оператор трансгрессора с нежной кожей и раскосыми темными глазами… Надо привести ее сюда. А до того…, Саймон повернулся к пульту, и прожектора над куполом станции несколько раз мигнули. Затем он потушил их, вышел из диспетчерской, пересек квадрат холодно поблескивавшей Рамы, миновал проход и направился к лесу. На востоке разгоралась утренняя заря. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Ньюмен позвонил во время ленча – к счастью, в тот момент, когда Эдна Хелли еще не успела приступить к еде. Кофе с пончиками, ее неизменный второй завтрак, всегда подавали в кабинет, и в это время она не любила отвлекаться. Вовсе не потому, что ее соблазняли эти треклятые пончики, взбитые сливки и ароматный кофе; просто Леди Дот была человеком пунктуальным и полагала, что нельзя мешать соль с перцем – или те же пончики с делами службы. Правда, Джеффри Ньюмен по пустякам не звонил. – Операция на Тиде завершена, – произнес он, отводя взгляд от подноса с блестящим серебряным кофейником, чашками и горкой поджаристых пончиков. Пончиков было много – Леди Дот относилась к тем женщинам, что, не заботясь о фигуре, всегда сохраняют отличную форму. – Результаты? – Подняв кофейник, она наклонила его над чашкой. Ньюмен, расценив это как намек, заторопился: – К сожалению, прогноз “Перикла” был неверен. Никаких природных катастроф… Изолянты, Эдна, все-таки изолянты! – Я склонна расценивать их как природную катастрофу. Самую мерзкую из всех катастроф! – Не выпуская кофейника из правой руки, Хелли ткнула пальцем левой в экран. – Есть жертвы? – Три человека из персонала станции и один местный житель. Пигмей из племени итури… Я полагаю, увязался за нашим агентом и был застрелен по глупой случайности… Жаль! – Жаль. Ну, лес рубят – щепки летят. – Леди Дот отхлебнула кофе. – Что еще, Джеф? – Два изолянта убиты, третий бежал на север в захваченном вертолете. Энергоресурс ограничен. Долго он на нем не полетает… Так что мы можем передать все дела Транспортной Службе и Корпусу. Они, вероятно, подвесят пару спутников с лазерами – во избежание подобных прецедентов… Ну, это уже не наша забота! Наш человек операцию завершил и может вернуться. – Так в чем проблема? – Хелли потянулась к пончикам. Джеффри Ньюмен поиграл бровями, изображая озабоченность. – Видите ли, Эдна, агент DCS-54 просит прислать ему машину. Не “ифрит”, конечно, но что-нибудь боевое, класса “ведьмы” или “бумеранга”. Ему нужно произвести зачистку. Это не наша функция, и я бы, пожалуй, отказал, но пятьдесят четвертый находится под нашим совместным командованием. Поэтому будет так, как вы решите, – плечи Ньюмена приподнялись и опустились. – Я не хочу повторять трагических ошибок… подобных ситуации, когда погиб Хромой Конь… Эдна Хелли отложила надкушенный пончик. – Зачем ему вертолет? – Судя по предварительному рапорту, он хочет отправиться на север. Считает, что допустил оплошность, позволив угнать “фламинго”. К тому же третий изолянт увез карабин… А в Каторжном Мире не должно быть никакой техники, ни оружия, ни вертолетов, пусть даже нелетающих… Таковы его резоны. Он собирается долететь до Чистилища, вступить в контакт с изолянтами – вы понимаете, какого рода это будет контакт?… – сжечь похищенный “фламинго”, найти оружие и уничтожить его. Леди Дот покачала головой. – Джеф, не будьте наивны! Не вертолет и не оружие он хочет уничтожить, а похитителя и убийцу! Этот парень не любит проигрывать… Вернее, предпочитает чистый выигрыш! Так что вы пошлите ему машину. Пусть действует. Это вполне согласуется с полученными мной инструкциями. – Инструкциями от?… – На экране было заметно, что Ньюмен возвел глаза к потолку. Хелли откусила пончик. – Излишняя догадливость вредит карьере, Джеф. Вы знаете, что всех агентов пятого десятка готовят к особой миссии и что служба в вашем отделе для них только продолжение практики. Этого достаточно. Ньюмен кивнул. – Вполне достаточно. Вы знаете, я не любопытен, Эдна. Вернее, любопытен в пределах должностных обязанностей. Так что я пошлю машину. Надеюсь, “бумеранг” с полным вооружением нашего парня устроит? – Вполне. – Леди Дот отхлебнула кофе и поморщилась – он был еще слишком горяч. Ее палец характерным жестом потянулся к экрану, и Ньюмену почудилось, что в лоб ему смотрит крупнокалиберный пистолет. – Не завидую я этим мерзавцам в Чистилище… – пробормотала Хелли. – Нет не завидую Когда он заявится к ним, оседлав “бумеранг”. – Эти люди стоят вне закона, – пожал плечами Ньюмен. – Если они не будут противодействовать розыскам никто из них не пострадает. – Все, Эдна. Приятного аппетита.Глава 11
ОТДЕЛ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ АГЕНТУ: DCS-54 КЛИЧКА: Тень Ветра ФАЙЛ-433-2449 ДИРЕКТИВА: 05/00821-DC СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: С ПУНК НАЗНАЧЕНИЯ: Аллах Акбар, эмират Счастливая Аравия, Басра СТАТУС: Мусульманский Мир Примечание: Эмират Счастливая Аравия – независимое княжество, созданное в 2058 году, в процессе заселения Аллах Акбара. Правящая династия Азиз ад-Дин ведет родословную от фа-тимидских халифов. ПЛАНЕТОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Гравитация: 1,03 стандартной. Суточный оборот: 0,95 стандартного. Годовой оборот: 1,12 стандартного. Звезда: класса G, светимость 0,93 стандартной солнечной. Расстояние до звезды: 0,97 астрономической единицы. Климат: субтропический, тропический стандартный. Мир землеподобен. Планетографическое и историческое описание: см. справочные материалы по Аллах Акбару, “Анналы планетографии”, файл 0127; также труд Симона Роншара “Арабы. Меч и роза”. Дополнительная информация: 1. Эмират Счастливая Аравия – буферное государство, занимающее стратегическое положение на берегах Красного моря, между Саудовской Аравией, Ираком (Багдадским халифатом) и кочевниками Восточной Пустыни (племена бану абс, бану сугур, бану сулайм, бану килаб и другие). 2. Социальное устройство эмирата можно охарактеризовать как просвещенную деспотию. Его правители на протяжении двухсот шестидесяти лет успешно сотрудничают со всеми службами ООН. Основное направление сотрудничества развивается в информационном плане. Правящий ныне эмир – Азиз ад-Дин Абдаллах; возраст – 62 года, темперамент – сангвинический, пристрастия – женщины, литература, коллекционирование древностей. Представляет большую ценность как добросовестный и добровольный информатор. 3. Учитывая предыдущее замечание, агенту надлежит вести себя политично и деликатно. Титуловать эмира следует “амир ал-муминин”. Полярные шапки: отсутствуют. Магнитные полюса: отстоят на два градуса от географических. Естественные спутники: один – Арафат. Искусственные спутники: комплекс “Эхо” – восемь радиорелейных сателлитов, метеорологические орбитальные модули; орбитальная станция Пандуса. Боевые спутники: два устаревших ракетных комплекса “Джинн”, собственность вооруженных сил Ирака и Саудовской Аравии; орбитальная база Карательного Корпуса (части Четвертой дивизии, космолеты классов “Майти Маус” и “Байкал”). Станция Пандуса: пятьдесят пять (схема расположения прилагается). Из них четыре предназначены для работ по терраформированию: Орбитальная станция, Седьмая станция (Багдад, Ирак, континент Аршад), Двадцать Третья станция (Алжир, континент Миср), Тридцать Первая станция (Гра-надский эмират, континент Сафван). ПРИЧИНА РАССЛЕДОВАНИЯ: информация, поступившая от Азиза ад-Дина Абдаллаха, – о конфликте, назревающем между племенами бану сулайм и бану килаб. Возникший спор о принадлежности источника Абулфарадж в оазисе одноименного названия эмиру Абдаллаху, выступавшему в качестве посредника, разрешить не удалось. ПРИЧИНА КОНФЛИКТА: известна из сообщения Азиза ад-Дина Абдаллаха. Источник Абулфарадж был транспортирован со всей прилегающей местностью с Земли в Эпоху Исхода, так как, по Древнему поверью, обладает целительными свойствами и считается святым. Бану сулайм и бану килаб пользовались им Совместно, во время перекочевок в соответствующий район Восточной Пустыни. Правила пользования предусматривают, что воды Абулфараджа должны использоваться только людьми – для питья и ритуальных омовений; поить этой водой вьючных и верховых животных считается святотатством. По неясной причине в источнике утонул верблюд, принадлежащий бану сулайм; бану килаб сочли источник оскверненным, потребовали провести обряд очищения и пожелали установить полный контроль над Абулфараджем. Вероятно, корни этого конфликта кроются в давнем соперничестве между бану килаб и бану сулайм. Оценка данной гипотезы производилась Аналитическим Компьютером “Перикл-ХК20”; гипотеза достоверна с вероятностью 0,98. Примечание: у бану килаб под ружьем двенадцать тысяч всадников, у бану сулайм – тринадцать с половиной. ПРЕДПИСАНИЕ АГЕНТУ: устранить конфликт и воспрепятствовать массовому кровопролитию – желательно без силовых акций. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: двенадцать суток. ПОДПИСЬ: Дж. Дж. Ньюмен, начальник ОКС СОГЛАСОВАНО: Э. П. Хелли, руководитель Учебного Центра ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОПЕРАЦИЮ: Д. Ш. Уокер, шеф-инструктор. Воспрепятствовать кровопролитию! Желательно без силовых акций… Это подтверждалось кодом 05/00821-DC, под которым была зарегистрирована директива. Первые две цифры соответствовали номеру отдела Саймона, следующие – порядковому номеру операции; затем шли буквенные обозначения, и если там стояло “MR” – “mortal”, – агенту разрешалось использовать оружие. Саймон нередко получал такие приказы, но на этот раз шифр был иным – “ди-си”. Он долго ломал голову, что бы это значило. Может, “drowned camel”? Операция “потонувший верблюд”? Как бы то ни было, он исполнил приказ в точности и обошелся без силовых воздействий. И теперь мог предаваться заслуженному отдыху в роскошном дворце Азиза ад-Дина Аб-даллаха, амира ал-муминин, что значило “повелитель правоверных”. И хотя таких повелителей на Аллах Акбаре насчитывалось десятка три, Абдаллах был, бесспорно, самым гостеприимным, дружелюбным и цивилизованным из местных владык. Но, разумеется, не без странностей. Вот бану сулайм и бану килаб были людьми простыми, без всяких выкрутасов. Чуть что, хватались за ножи, а если нож не помогал, шли в дело кривые сабли и винтовки. Стреляли они отменно, и случалось, что отзвук тех выстрелов доносился до Багдада и Дамаска, а временами – до Алжира, Марра-кеша и Гранады, лежавших на других материках. Материков на Аллах Акбаре было три, и, в силу причин естественных, слегка подправленных в ходе терраформирования, они располагались так, что водное пространство между ними имело сходство со Средиземным морем. Северный континент, весьма гористый, назывался Сафван, что по-арабски значило “камень” или “скала”; южный носил имя Миср – вероятно, в память о Египте, которого на Аллах Акбаре не было, так как земной Египет со всеми своими пирамидами и древностями отправился на Колумбию. Самым большим и самым населенным являлся восточный континент, Аршад, или “Старший”. Его юг занимали Йемен и Саудовская Аравия, север – Палестина, Сирия, Иордания и Ливан, а северовосточную часть – Багдадский халифат, объединявший Кувейт, Ирак и несколько мелких княжеств. Имелось тут еще одно владение, принадлежавшее издревле роду Азиз ад-Дин – на берегу пролива, разделявшего Аршад и Миср. Этот пролив соответствовал в рамках земной географии Красному морю, только увеличенному раз в пять. Вся остальная, и очень немалая часть Аршада, являлась пустыней, ничейной землей – ничейной в том смысле, что ни один из местных владык не рисковал прибрать ее к рукам. В пустыне жили кочевники, воинственные племена, объявившие о своей независимости еще в Эпоху Исхода, ушедшие из Ирака и Аравии и теперь не подчинявшиеся никому, кроме собственных шейхов. Это было их правом, закрепленным в Конвенции Разделения, но создавало массу неприятных инцидентов. Племенные территории были не разграничены, стычки меж кочевниками случались нередко, и втиснуть их в кодекс международных законов не удавалось самым квалифицированным юристам. С одной стороны, все творившееся в Восточной Пустыне могло рассматриваться как внутреннее дело, не подлежащее санкциям ООН; с другой, племена все-таки были разными, и значит, всякую их свару полагалось толковать в терминах внешней агрессии и вынужденной обороны. В этом вопросе Совет Безопасности ООН занимал мудрую позицию невмешательства – до тех пор, пока речь касалась кражи овец, верблюдов и девушек или вендетты местного значения с десятком-другим трупов. С такими делами вполне справлялись посредники, ишаны, кадии и эмиры, самым уважаемым из коих являлся Азиз ад-Дин Абдаллах, прямой потомок дочери пророка Фатимы. Но временами назревали потасовки посерьезней (вроде той, из-за почившего верблюда), и тогда за дело принималось ЦРУ. Любая из этих акций была весьма серьезной и крайне деликатной – ведь тут требовалось мирить, а не стрелять. Саймон справился без стрельбы и мог испытывать законную гордость, так как во время операции его пистолет пребывал в кобуре, а нож – в ножнах. Правда, пришлось устроить взрыв – совсем небольшой, но при воспоминании о нем по спине у Саймона ползли холодные мурашки. Даже солнце Счастливой Аравии, струившее щедрый жар на прекрасную Басру, не могло их растопить. – Ты ничего не ешь, Ришад, – произнес амир ал-муми-нин, сухощавый бронзоволицый мужчина с ястребиным носом, облаченный в шелковую джуббу. Выглядел он в ней весьма импозантно, как древний арабский властитель, вот только глаза были совсем не арабскими – синими и прозрачными, как море в тихий полдень. Этот наследственный знак, передававшийся в роду ад-Динов больше трех столетий, интриговал Саймона, но прямой вопрос на подобные темы был бы нарушением этикета. – Ты ничего не ешь, – повторил Абдаллах, огорченно приподнимая бровь. – А почему? Не думаю, что в пустыне тебя хорошо кормили. Этим невежам, бану сулайм и бану килаб, неизвестно, что такое настоящая еда. Их шейхам приходится грызть верблюжьи кости, и даже в пятницу верблюд в их котле не слишком молодой. Вероятно, из тех верблюдов, что носили еще пророка Мухаммада. – Я буду есть, амир ал-муминин, и воздам должное твоему столу, – сказал Саймон с поклоном. – Только сперва согреюсь. Сейчас моя кровь холодна, как у тех старых верблюдов, что носили еще святого пророка. Они расположились по обе стороны ковра в одном из внутренних залов эмирской обители. Дворец был великолепен – как и этот дворик, облицованный мозаикой и лазуритом. Тут со всех четырех сторон сияли небесной голубизной колонны и арки, портики и лестницы; блестели синие плиты пола, искрился хрусталь светильников, шелестел и шептал фонтан его струи изгибались и падали вниз будто гибкие руки арабских танцовщиц. Трапеза тоже была достойна помещения: павлин, фаршированный фисташками, молочный ягненок на вертеле, фрукты, тончайшие лепешки, орехи и финики в меду и пять сортов шербета. Ворс на ковре был толщиною в ладонь, блюда – из чистого серебра, кувшины – с изящной чеканкой, а кубки украшены благочестивой надписью: “Во имя Аллаха милостивого, милосердного!” Саймону казалось, что он пирует с самим халифом Харуном ар-Рашидом. Тот, кстати, тоже носил титул “амир ал-муминин”. Кровли у этого зала не было, и лишь плотный тент в белую и синюю полоску защищал от солнечного зноя. Но Саймон с удовольствием обошелся бы без тента – леденящий холод все еще терзал его, вгрызаясь в кости и плоть, царапая острыми когтями сердце. Он покосился на блюда и кувшины. Жаркое было восхитительным, фрукты в серебряных вазах услаждали взор, но вместо щербетов он предпочел бы увидеть пару обойм “Коммандоса”. Абдаллах сочувственно свел брови над ястребиным носом. – Я понимаю, сын мой, я понимаю… В юные годы я побывал во многих мирах, видел там льды и снега – это проклятие всевышнего! – и чувствовал холод. Это ужасно! От него спасают лишь теплые женские руки да ванна с горячей водой. Так что я прикажу, чтоб тебя помыли, согрели и умастили… Кому же лучше этим заняться? Айше? Или Махрух? Или Дильбар, Билкис, Камаре? Или Савде, Хаджар, Нази? Выбирай! – Пусть будет Нази, – произнес Саймон, взвесив достоинства всех претенденток. – Нази, мне кажется, погорячее остальных. Эмир кивнул и вымолвил с усмешкой: – Да будет так! Ты, сын мой, заслуживаешь награды, ибо сделал богоугодное дело. Разумеется, эти бану сулайм и бану килаб – ослиный помет в сухом песке, но все же и к ним обращены слова пророка… – Полузакрыв глаза, он процитировал: – И если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных! – Сура сорок девятая, “Комнаты”, – произнес Саймон, принимаясь за павлина. Абдаллах приоткрыл рот и удивленно моргнул. – Воистину, Ришад, ты – юноша, исполненный редких достоинств! Ты знаком с Кораном? Откуда же, сын мой? – У меня была девушка, Куррат ул-Айн. Отсюда, из Ирака, – сказал Саймон, обгладывая ножку павлина. – Иногда она читала мне Коран. Перед сном. Я запомнил. У меня хорошая память. На мгновение милое личико Курри возникло перед ним и тут же растворилось в сияющем солнечном свете. Он выпил шербет из кубка с благочестивой надписью и возвратился к павлину. Он вдруг почувствовал страшный голод. Голод заставил забыть о Курри. Куррат ул-Айн, конечно, была хороша, однако Нази не уступала ей ни в чем. Достойная награда герою! – Вижу, ты начал оттаивать, Ришад, – синие глаза эмира насмешливо блеснули. – Уже вспоминаешь о девушках! – Они созданы Аллахом нам на радость, – пробормотал Саймон с набитым ртом. – Я чуть не замерз в Абулфарадже, но мысль о девушках меня согревала, отец мой. Особенно о Нази. Разумеется, это являлось преувеличением. Там, в оазисе, он думал, как бы сохранить лицо перед толпами бану сулайм и бану килаб. Их собралось тысяч пять или шесть, все – увешанные оружием с головы до пят, на злых длинноногих дромадерах; казалось, еще чуть-чуть, и они вцепятся друг другу в глотки. Саймону пришлось продемонстрировать, что будет в этом случае. Он подорвал фризер. Эти устройства были разработаны совсем недавно и служили как безотказным средством умиротворения, так и смертельным оружием, экологически чистым и поражающим только живую силу противника. Все зависело от мощности: фризер-граната снижала температуру до минус сорока по Цельсию в радиусе десяти-пятнадцати метров, фризерная бомба могла превратить целый город в паноптикум с ледяными статуями. Как утверждал Дейв Уокер, отличный способ охлаждения горячих голов. Конечно, никаких жидких газов или иной примитивной начинки во фризерах не использовали. Фризер был очень хитрым механизмом, аккумулирующим тепловое излучение в локальной области пространства, своеобразной “черной дырой”; границы ее были несколько размыты, и во всех инструкциях рекомендовалось держаться от нее подальше. Саймон, вместе с любопытными старейшинами бану сулайм и бану килаб, попал на периферию взрыва, пережив массу острых ощущений. Теперь все они могли представить чувства мамонта, дремлющего в вечной мерзлоте. Источник Абулфарадж, круглый небольшой бассейн с каменными бортиками, замерз моментально, а камни потрескались и оделись седоватым инеем. Внушительное получилось зрелище! Даже Саймон содрогнулся – правда, не от страха, а от стужи. Что до кочевников, то они, проявив редкое благоразумие, решили, что теперь святой источник очищен и можно вернуться к прежним порядкам использования вод. Их шейхи, видимо, тряслись до сих пор, и Саймон испытывал к ним нечто вроде сочувствия: все они были людьми немолодыми и погреться в женских объятиях никак не могли. Он расправился с павлином и приступил к ягненку. Абдаллах, его гостеприимный хозяин, ел мало, большей частью налегал на фрукты и важно кивал, довольный аппетитом гостя. Казалось, он не испытывает ни капли ревности, ни грана зависти, хоть повод для того имелся: ему, потомку пророка, не удалось вразумить упрямых сынов пустыни, а вот пришелец, невзирая на молодость, в два счета справился с этим делом. И даже очистил Абулфарадж! Ибо холод, как ведомо всем, уничтожает любую скверну… Но Абдаллах не ревновал, как и положено человеку разумному, знатному и уверенному в собственном авторитете. После того, как арабский мир избавился от тесных контактов с Россией, Китаем и Западом, здесь предпочли монархическую форму правления. В Саудовской Аравии она сохранилась с давних пор, а в других государствах венец владыки был отдан либо удачливым вождям, либо религиозным лидерам, а в редких случаях – потомкам древних фамилий, пришедших к власти еще в эпоху Саладина. Но все они, и новые, и старые правители, единодушно пытались доказать, что происходят от самого пророка – вернее, от дочери его Фатимы «Фатима, дочь пророка Мухаммада, прозванная Захра Аллах (Свет Аллаха), является самой почитаемой женщиной для мусуль-ман-шиитов. Она стала супругой первого халифа Али и родоначальницей династии халифов-фатимидов.», прозванной Захра Аллах. Азиз ад-Дин Абдаллах, эмир Счастливой Аравии, в таких доказательствах не нуждался; он и в самом деле был потомком фатимидских халифов по прямой линии. К тому же власть досталась его предкам не в результате выборов, военных переворотов или закулисных интриг, а совсем иным путем. В двадцать первом веке, в Эпоху Исхода, Азиз ад-Дин Касим ибн-Сирадж просто купил гигантскую территорию у Красного моря, основав затем свой собственный, личный и нераздельный эмират. Откуда у Касима нашлись такие средства, до сих пор было тайной, покрытой мраком. Ягненка Саймон одолел лишь наполовину и переключился на шербет и персики. Персики в окрестностях Басры росли превосходные – впрочем, как и все остальное. Строго говоря, столицу Счастливой Аравии надлежало именовать Басра-Два или Новая Басра, поскольку земная Басра находилась, как положено, в Ираке, у слияния могучих рек, называвшихся по старой памяти Тигром и Евфратом. Но это было бы оскорбительно для эмиров из рода ад-Дин! Они всегда настаивали, что истинная Басра – их город, так как нет в нем современных зданий из бетона и стекла, нет заводов и крытых асфальтом дорог, а есть дворцы, мечети, минареты и мостовая из гладких базальтовых плит. Их Басра была городом Синдбада-Морехода – правда, в улучшенном издании, где сказочные дворцы освещались электричеством, а по улицам ползали роботы-уборщики. Когда Саймон закончил с едой, Абдаллах воздел руки к небесам и пробормотал молитву. Не слишком долгую; цитируя наизусть Коран, он тем не менее особой религиозностью не отличался. – Прими еще раз мою благодарность, Ришад. Я уж боялся, что эти потомки ослов затеют драку у самых моих границ… Эмир был человеком весьма образованным и превосходно знал английский. Но с Саймоном он общался лишь на арабском, называя его не Ричардом, а Ришадом и всячески это подчеркивая. Имя считалось почетным и значило “Истинный путь”. Саймон подозревал, что обязан такой благосклонностью черноглазой Куррат ул-Айн. Она обучила его не только языку, но и правилам вежливости, а в результате он покорил сердце эмира одной лишь фразой, традиционным приветствием “ва Мухаммад сафват Аллах мин халкихи ва мустафа-ху” «Ва Мухаммад сафват Аллах мин халкихи ва мустафаху – Мухаммад лучшее из творений Аллаха и избранник его (ар.).». Припомнив этот эпизод из первой их встречи, Саймон подумал – на сей раз на русском: “Встречают по одежке, провожают по языку”. – Мне бы хотелось, – произнес Абдаллах, – чтобы ты стал моим гостем на несколько дней. Во-первых, ты – благой пример для моих непутевых племянников, которым смелость и дерзость заменяют разум. Во-вторых, я покажу тебе свои сокровища, нечто прекрасное и чудесное, а созерцание чудес, как утверждают поэты, возвышает душу и тешит взор… Ну, а в-третьих, – синие глаза эмира лукаво блеснули, – в-третьих, кроме Нази, есть еще Айша, Махрух, Дильбар и все остальные. Я надеюсь, ты не обидишь ни одну из девушек? – Не обижу, – согласился Саймон, – если шеф позволит мне остаться. А о каких сокровищах ты говоришь, амир ал-муминин? О золоте? О самоцветах? О быстрых скакунах? Или о прекрасных рабынях? Усмехнувшись, эмир небрежно повел рукой. – Ха! Ты слишком увлекся своей ролью, Ришад, – ролью гостя во дворце халифа ар-Рашида… Но времена сейчас другие, и я не сказочный халиф, чтоб хвастать золотом, рабынями и скакунами. Я покажу тебе мою коллекцию. – Коллекцию чего, амир ал-муминин? – О том, сын мой, ты узнаешь завтра. С этими словами Абдаллах хлопнул ладонью о ладонь, и под одной из арок возник туманный силуэт Масрура, четвертого из эмировых племянников. Туманным он был потому, что одежды его сияли золотом, кинжал и сабля, усыпанные бриллиантами, затмевали солнечный свет, а на груди позванивали все ордена и медали, какие только нашлись в Счастливой Аравии и сопредельных странах. Этот рослый тридцатилетний щеголь с пышными усами был красив, глядел орлом, но произвел на Саймона неприятное впечатление своей заносчивостью и чванным видом. Глаза у него были черными, и Саймон не без тайного злорадства решил, что этот племянник не унаследует трон ад-Динов. По-настоящему звали его вовсе не Масрур, но царственный дядюшка иначе к нему не обращался. Конечно, Азиз ад-Дин Абдаллах не был халифом ар-Рашидом и не правил в Багдаде, но у него были Басра и свой эмират. И он желал, чтоб визирь отзывался на имя Джафара «Джафар Бармакид-визирь, аМасрур-меченосец и охранник Харуна ар-Рашида; оба – персонажи сказок “Тысячи и одной ночи”. Масрур по совместительству выполнял обязанности палача.», а начальник личной стражи – на имя Масрура. И все исполнялось по его желанию. Как показалось Саймону, щеголь Масрур не столько командовал охранниками (там были свои опытные офицеры), сколько находился у дяди на побегушках. Вот и сейчас, расправив широкие полы джуббы, Абдаллах поднял руку, метнул на племянника пристальный взор и важно, неторопливо произнес: – Во имя Аллаха! Ты, Масрур, отправишь послание нашим друзьям на Колумбии. За моей подписью, разумеется. Сообщи, что наш гость исполнил все, что ему повелели, и исполнил самым наилучшим образом. Еще сообщи о моей покорной просьбе: я желаю, чтоб он провел десять дней в моем дворце. Все! "Вот так, – подумал Саймон, – покорная просьба и – “я желаю, и все!” Хорошо быть эмиром, черт побери!” Масрур поклонился, бросив на Саймона испепеляющий взгляд, – кажется; их неприязнь была взаимной. Он повернул было к дверям, но Абдаллах снова поднял руку. – Подожди! Передай Салиху, что наш гость вечером совершит омовение. В Большой Купальне, с почетным караулом у дверей. Пусть Салих подготовит девушек, цветы, фрукты, благовонные масла и напитки. Первой танцевать перед гостем будет Нази. Масрур снова поклонился, помрачнел, бросил на Саймона еще один угрюмый взгляд и вышел вон. А Саймон, потягивая шербет, стал размышлять о влиянии прогресса на традиции, обычаи и средневековые нравы. Вот хотя бы этот Салих аль-Ямани… Он надзирал за гаремом эмира и девушками-плясуньями, а значит, считался главным евнухом. Именно считался, однако евнухом, разумеется, не был. Была у него супруга, и не одна, и даже не только супруги, но и любовницы, так что Салих мог постоянно обогащаться новым опытом, передавая его одалискам эмира. Конечно, в теории; при исполнении служебных обязанностей он глотал импотекс, крохотный синий шарик с белой полоской, и вырубался на сутки. Это средство, запатентованное “Секси Мэдисин” полтора столетия назад, пользовалось колоссальным спросом в Мусульманских Мирах. Эмир поднялся, взмахнув широкими рукавами джуббы. Саймон тоже встал. – До вечера, Ришад, прогуляйся в моих садах. Они, конечно, скромнее садов Аллаха, но и в них можно встретить гурию. Особенно там, у Большой Купальни. – Абдаллах величественно повел рукой и направился к дверям меж витых, украшенных мозаикой колонн. Оставшись в одиночестве, Саймон пару минут размышлял, чем бы заняться, потом решил последовать хозяйскому совету. Он вышел в сад и пустился в странствия по узким дорожкам, то выложенным звездчатыми изразцами, то засыпанным песком, то сиявшим мраморной белизной или алым заревом родонита. Над ним шумели пальмы, свежий морской ветер разносил аромат цветущих кустов жасмина, а за стеною зелени вздымались купола и минареты сказочного дворца. У самой высокой башни повисло облако, и Саймону почудилось, что из-за него вот-вот покажутся двое влюбленных на ковре-самолете или сам Аладдин, оседлавший косматого грозного джинна. Однако джинны над Басрой не летали, зато в зарослях жасмина и роз обнаружилось круглое обширное строение, увитое плющом, к которому примыкал весьма внушительный бассейн. Тут царила суматоха: вереницы девушек несли кувшинчики и кувшины, чаши и блюда, подносы с чем-то ярким и ароматным, цветочные гирлянды и такое количество полотенец, будто им предстояло купать слона. Саймон узнал Нази, Айшу, Камару и Хаджар. Вероятно, остальные девушки-плясуньи были где-то неподалеку и готовились усладить его танцами. У дорожки, по которой двигалась яркая шумная процессия, застыл десяток эмировых стражей в блестящих шлемах и с саблями наголо, но пояса их оттягивали вполне современного вида разрядники. Перед шеренгой воинов, в сиянии одежд и орденов, прогуливался Масрур, бросавший на девушек волчьи взгляды. Левая бровь его была приподнята, правая – опущена, а усы казались наконечниками двух пик. Демонический мужчина, подумал Саймон, подошел к нему и, кивнув на круглое строение, спросил: – Это и есть Большая Купальня? С девушками и почетным караулом у дверей? А салют тоже ожидается? Масрур отвел жадный взор от Айши и Нази, уставился на гостя, поиграл эфесом сабли и нехотя процедил: – Салют хочешь? Будет тебе салют! Из всех стволов, пониже поясницы! Он явно чувствовал в Саймоне соперника. Оба они были молоды, сильны и пользовались благосклонностью у женщин; и ремесло у них было фактически одинаковым – охранять и защищать. Чья же вина, что Ричард Саймон преуспел в этом занятии гораздо более красавца Масрура? Ведь сказано в суре третьей: Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Значит, и судьбы людские! Подумав об этом, Саймон усмехнулся. Взгляд его скользнул по орденам на груди Масрура, по сабле, изукрашенной брильянтами, и был он столь красноречив, что у племянника Абдаллаха гневно встопорщились усы. – Не надо салюта, – сказал Саймон. – И не поминай то, что у меня ниже поясницы. Но если хочешь, можешь заглянуть в купальню и насладиться танцами, а заодно потереть мне спину. Фигурка у Нази была восхитительной: хрупкие плечи, тонкий стан, изящные запястья и лодыжки, но груди полные и тяжелые, как виноградные гроздья. Вероятно, ее обучали искусству любви; невзирая на молодость и невинный вид, она могла дать сто очков вперед любой из девушек Саймона – кроме, быть может, многоопытной Долорес Чинта. Обстановка тоже способствовала всяким играм и развлечениям: в спальне царил таинственный полумрак, постель была мягче лебяжьего пуха, в парках, окружавших дворец, заливался соловьиный хор, а в широкие арочные окна заглядывал любопытный Арафат, местная луна, золотистая и блестящая, как кожа Нази. Эта девушка, как все прочие плясуньи и танцовщицы, могла одарить благосклонностью эмировых гостей или оставить их поститься – до той поры, пока не прибудут они в сад Аллаха, где, как известно, тоже встречаются гурии. Выбор из этих двух вариантов зависел от Нази, хотя ее господин мог намекнуть насчет кого-то из гостей – но лишь намекнуть, а не приневолить. У арабов женщин уважали гораздо больше, чем на Уль-Исламе и даже в цивилизованной и вполне благополучной Сельджукии. Так что Нази была сейчас с Ричардом Саймоном по собственной воле, и в ласках ее не чувствовалось принуждения. Совсем наоборот! Они согревали Саймона гораздо лучше, чем теплые воды купальни и ароматные притирания, и он ощущал, как покидает его холод, бессильный перед нежностью Нази. Соловьиные трели еще не смолкли, еще не добрался до зенита Арафат, а Саймон уже позабыл о бану сулайм и бану килаб, об утонувшем верблюде, оскверненном источнике и взорванной бомбе. Ему было тепло – пожалуй, даже жарко. В промежутке между переменой блюд, ласково поглаживая плечико Нази, он поинтересовался: – Другие девушки, что танцуют перед эмиром, так же искусны, как ты? И так же нежны? Эмир сказал, что они обидятся, если я буду к ним невнимателен… Но будь моя воля, я бы провел все эти ночи с тобой. Нази фыркнула. Ее ладошка блуждала по мускулистой груди Саймона. Он видел, как блестят в полутьме ее глаза. – Все обучены, все искусны и все нежны, – шепнула она ему в самое ухо, – но я – лучше всех! – Почему, моя голубка? – Потому, что я здесь, с тобой. Лучшая женщина – та, до которой можно дотянуться руками. И она куснула Саймона за мочку, а потом принялась его щекотать, повизгивая и давясь смехом. Он поймал ее ладошки и прижал к себе – где-то в области паха. – Этому тебя тоже обучали, малышка? – Ну-у, – протянула Нази, – и этому, и всему остальному… Я была очень способной ученицей! Она попыталась вырваться и доказать это на деле, но Саймон держал крепко. – Чему же учили еще? Танцам, языкам? Обычаям, истории? Искусству одеваться? Искусству соблазнения мужчин? – Да, да, да! – Девушка извернулась, и ее теплые губы приникли к шее Саймона. – И были экзамены? – спросил он, целуя прядь душистых волос. – А разве сейчас – не экзамен? – Нази подтянула коленки и села ему на живот. Потом наклонилась и стала покачиваться из стороны в сторону, так что напряженные соски скользили по губам Саймона. – Ну, какую ты поставишь мне отметку? – За танцы – высший балл, – отозвался Саймон, пытаясь поймать ртом спелую вишенку. – А вот что касается истории… – Ты хочешь заняться со мной историей? – Нази выгнула тонкий стан и расхохоталась. – Историей! Надо же! В постели! – Почему бы и нет? Всем остальным мы уже позанимались… – И еще займемся! – Она с игривостью стиснула Саймона бедрами – раз, другой. Стерпеть такое было трудно, но он держался. Он надеялся выяснить некий факт, но подбираться к нужному вопросу полагалось не спеша – так, как кот подбирается к мышке. – Знаешь, в истории – в той истории, где говорится о людях, есть много поучительного. И много забавного! Вот, например – твои глаза темны, как аравийская ночь, а мои похожи на дневное небо… Почему? Кто знает? – Я! Я знаю! – Нази подпрыгнула в полном восторге. – Потому что ты – рыжий колумбийский сакс, а я – дочь благородного арабского племени! Что, съел? – И она принялась колыхать ягодицами – да в таком темпе, что Саймона прошиб пот. Сглотнув, он пробормотал: – Во-первых, я не рыжий и не колумбийский сакс, потому что родился на Тайяхате и там родились двенадцать колен моих предков. А во-вторых, у вашего пресветлого эмира, сына арабского племени, зрачки точь-в-точь как у меня… А это значит, что ты – невежественная девчонка! В истории, само собой… Все остальное ты делаешь отлично. – Я – невежественная?! – оскорбилась Нази и, склонившись над Саймоном, укусила его за нижнюю губу. – Если хочешь знать, я помню всю родословную эмира! Все титулы, звания и почетные прозвища! Лакаб, кунья, алам, насаб и нисба «Лакаб, кунья, алам, насаб, нисба – элементы личного именования у арабов.»! Начиная с Эпохи Исхода! Вот так! Знай же, рыжий сакс с Тайяхата, что первым был Дидбан ад-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали, но он умер еще на Старой Земле. А вот его сын, Азиз ад-Дин Касим ибн-Сирадж… – Погоди, – сказал Саймон, – не надо оглашать весь список. Пусть я рыжий тайяхатский сакс, но даже мне известно, что все предки эмира были светлоглазыми. А почему? – Потому, – молвила Нази, лаская острым язычком его шею, – что эмиры наши происходят от самого пророка. А у пророка глаза были синими. Такими наградил его Аллах, чтобы он отличался от всех прочих арабов. На сей счет у Саймона были большие сомнения, но выдержка его истощилась, и они с Нази перешли от истории к танцам. Или, если угодно, от теоретической генетики к практической. И занимались ею до утра. А утром Саймон послал запрос наКолумбию, в Грин Ри-вер, в главную штаб-квартиру. Шалунья Нази могла верить в миф (имевший скорее всего местное происхождение) о синих глазах Мухаммада, однако Саймону требовалась точная информация, и он не сомневался, что ее получит. О пресветлом эмире в Грин Ривер наверняка располагали детальными данными. Ведь Абдаллах фактически был внештатным агентом ЦРУ – но, в отличие от штатных, жалованья не просил, а значит, работал из чистого интереса и по велению совести. Аллах Акбар относился к весьма беспокойным мирам, и веское слово потомка пророка значило здесь не меньше, чем вся резидентура ЦРУ. Они как бы служили взаимным дополнением друг другу: эмир воздействовал речами, а если речи пропадали втуне, являлся кто-нибудь вроде Ричарда Саймона, с фризерной бомбой в кармане. Или с другими средствами убеждения. После завтрака Саймон был доставлен в круглый зал на вершине самой высокой дворцовой башни. Поднимаясь туда в кабинке лифта в сопровождении пары почтительных слуг, он опять размышлял о том, что Басра не такой уж средневековый город: есть здесь лифты, но нет кастратов, есть пылкие красотки, но нет рабынь, и купальни греют не кострами, а самыми современными калориферами. Тут, в Басре, прогресс каким-то чудом соединялся с давними традициями, с установлениями старины, и уживались они вполне мирно – точно так же, как властитель Абдаллах и ЦРУ. Но Саймон знал, что прогресс, несомненно, важнее старых обычаев, что эти дворцы, сады, купальни с девушками и воины с ятаганами всего лишь ширма; отодвинь ее, и явится взору все тот же прогресс, станции Пандуса, компьютеры, роботы и космолеты. Это придавало Счастливой Аравии некий легкомысленный опереточный оттенок. Эмир поджидал его на вершине башни, царившей над дворцом. Отсюда открывался вид на все четыре стороны света: на западе лежала Басра, а за нею – море, юг и север тонули в садах, а на востоке, позади зеленых рощ, лугов и холмов, простиралась пустыня. Разглядеть ее с башни было невозможно, но небосвод в той стороне казался не голубым, а желтоватым, будто тысячи лиг песка отразились в небесном зеркале, окрасив его цветом барханов и верблюжьей шерсти. Эмир, стоявший перед восточным окном, сделал Саймону знак приблизиться. – Не правда ли, прекрасно, сын мой? – Он вытянул руку, словно желая погладить гребни холмов, увенчанных скалами. – Если верить книгам и старым фильмам, на Земле было хуже… намного хуже… Хотя и здесь не текут реки шербета и не гуляют поджаристые барашки. Аллах устроил человека так, что ему не сбежать от себя самого, и куда бы он ни явился, он приносит с собой раздоры и споры, страх и ненависть, свою гордыню и свое нечестивое самомнение… Все, что есть в реальности, и есть в сказках – ведь сказки всего лишь отражают случившееся на самом деле. – Эмир помолчал, хмуря брови, и добавил: – Предкам моим это было понятно, Ришад. И, добравшись сюда, они пожелали написать свою собственную сказку. Ты спросишь, почему? Видишь ли, сын мой, у сказки только одно преимущество перед реальностью – счастливый конец. Даже если речь идет о смерти… Как говорится в сказках, вкушали они покой, счастье и радость, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний, опустошающая дворцы и населяющая могилы… – Сказка – это Счастливая Аравия? – спросил Саймон после долгой паузы. Эмир кивнул. – Да, Ришад. Видишь ли, есть Аллах Акбар, есть мир арабов, есть просто Аравия и Аравия Саудовская – и есть Аравия Счастливая. Страна Харуна ар-Рашида, Ала ад-Дина, Синдбада, Маруфа-башмачника и прекрасной принцессы Будур… – И Али-Бабы?… – произнес Саймон с вопросительной интонацией. Абдаллах усмехнулся. – О! В отличие от моих племянников, ты сразу понимаешь суть вопроса! – Похоже, амир ал-муминин, ты не слишком благоволишь своим племянникам? – Тот, кому я благоволю, сейчас не здесь. Хвала Аллаху, у меня множество братьев и сестер, а племянников еще больше… Есть из кого выбирать… – Эмир положил руку на плечо Саймона, стиснув его крепкими пальцами. – Но хватит о племянниках! Я надеюсь, что ночь у тебя была приятной? Ты согрелся и пришел в доброе расположение духа? – Я даже вспотел, – признался Саймон. – Вот и прекрасно! Значит, ты готов созерцать мои сокровища? – Готов, амир ал-муминин. – Тогда скажи, что ты там видишь? – Абдаллах снова простер руку, показывая на восток. – Рощи… сады… холмы… скалы… – Саймон прищурился: солнце било ему в глаза. – Очень живописные скалы! Особенно те, в половине лиги от города… Напоминают разрушенный замок… Эмир кивнул. – Так и было задумано предком моим Касимом. Скалы установили в ту давнюю эпоху, когда создавался Аллах Акбар, но под ними, в холме, есть пещера – естественная пещера, в которой поместился бы весь мой дворец. Правда, пришлось ее дооборудовать… Он снова смолк, и Саймон, выждав приличное время, поинтересовался: – В этой пещере – твоя коллекция, амир ал-муминин? – Не совсем моя, Ришад, ибо начало ей положил отец Ка-сима, почтенный Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали. Но кое-что добавлено мною… кое-что… я тебе покажу, Ришад. – Абдаллах не без гордости улыбнулся. – Знай, сын мой, что я – лишь временный владелец пещеры; настанет час, и я передам все накопленное своему наследнику. Но есть у нее и постоянный хозяин… Личность отчасти мифическая, зато известная многим… и правоверным, и христианам, и тем, чьи души отрицают Всевышнего… – Он искоса взглянул на Саймона и Добавил: – Ты верно догадался. Мы называем ее пещерой Али-Бабы. Саймон еще раз оглядел утесы, похожие на развалины старинной крепости. Насколько ему помнилось, Али-Баба жил Не в Басре, а в Персии, где-то в Хорасане, но такие мелочи, вероятно, эмиров ад-Дин не смущали. Скалистый холм был Довольно высок и окружен стеною зелени, смыкавшейся с дворцовым парком; никакие дороги и тропинки к нему не вели. Может, в пещеру Али-Бабы полагалось добираться на волшебном ковре-самолете?… – Мы полетим туда? – Саймон кивнул в сторону руин. – Нет, пойдем. В пещеру можно попасть только из подземелья этой башни. Конечно, зная нужное слово… – эмир подмигнул Саймону. – Кажется, сезам, сын мой? Они направились к лифту и спустились в подземелье. Там была оборудована кордегардия: десятка четыре стражей развлекались, но не игрой в кости или нарды, а голливудскими боевиками. Двое сидели у компьютера в контактных шлемах – то ли блуждая в лабиринте, то ли спасая прекрасных принцесс, то ли сражаясь с космическими чудищами. При виде эмира воины вскочили, но Абдаллах небрежно кивнул им и повлек Саймона дальше, в широкий проход, кончавшийся массивной дверью с компьютерными замками. Тут, с лукавством поглядев на гостя, он стал набирать кодовую комбинацию и возился с ней довольно долго; Саймон прикинул, что за это время ему удалось бы взломать все замки. Наконец дверь раскрылась. Они вошли в тоннель с округлым потолком, выложенный плитками сероватого песчаника и освещенный лампами, стилизованными под факелы. Этот коридор уходил вниз, извиваясь, как ползущая змея; кое-где облицовке придали форму естественных каменных глыб, трещиноватых, ребристых, источенных влагой и будто бы даже закопченных. Но это был камуфляж: тоннель оказался сухим, а воздух в нем – свежим. Вероятно, тут была хорошая вентиляция и стояли кондиционеры. – Над нами слой почвы, песок и скала, – нарушил молчание эмир. – Семь метров гранита, сын мой. Очень надежная кровля! Саймон кивнул, не желая разочаровывать спутника. Ему гранитная кровля, пусть даже такой огромной толщины, доверия не внушала. Кумулятивным зарядом ее можно было пробить за пару секунд. Или еще быстрее. Тоннель привел их к полусферической камере, одна стена которой была срезана и гладко отшлифована. Тут тоже была дверь – небольшая стальная дверца, темная и совершенно гладкая, без орнамента и украшений, точь-в-точь как в легендарной пещере Али-Бабы. Правда, посередине дверцы тускло поблескивал стеклянистый глазок. Абдаллах приложил к нему браслет-идентификатор. – Еще один сезам, – пробормотал он и пояснил: – Пароль будет опознан, если браслет на моей руке. Или на руке Масрура, или у моего наследника. Саймон снова кивнул, отметив про себя два факта. Во-первых, подтверждалось, что щеголь Масрур не является наследником, и это было приятно: жаль, если б Счастливой Аравии достался такой властелин. Слишком он был высокомерен и слишком любил ордена – как недоброй памяти экс-президент Сантанья, чьи пальцы висели теперь на ожерелье Саймона. Но это было во-первых, а во-вторых, система охраны не выглядела впечатляющей. Взять, к примеру, эту дверь… Во времена Али-Бабы – неодолимая преграда, но стандартный дешифратор, каким снабжали агентов ЦРУ, вскрыл бы ее без шума и пыли. И безо всяких магических слов. Вслед за хозяином Саймон перешагнул высокий порог. За ним находилось нечто вроде библиотеки – сильно вытянутая комната, обшитая розовыми буковыми панелями и уставленная вдоль длинных стен шкафами и объемистыми сундуками. В дальнем ее торце была еще одна дверь, тоже буковая, гото-рую украшали славословия в честь Аллаха. Эмир молча подошел к ближайшему сундуку, откинул крышку, достал пергаментный свиток и бережно, на обеих ладонях, протянул его гостю. Прихотливая вязь арабских букв зазмеилась перед глазами Саймона, сложившись в знакомые слова: “Повесть об Али ибн-Беккаре и Шамс ан-Нахар”. Абдаллах уже протягивал новые свитки – “Рассказ о царевиче и семи визирях”, “Повесть о медном городе”, “Сказка о горбуне”, “Халиф на час”… – Пятнадцатый век, сын мой – сказал он. – Здесь – подлинники, драгоценные раритеты, которым без малого тысячелетие. Арабские рукописи. А в тех сундуках – персидские и турецкие… в тех – индийские… в тех – опять арабские, шестнадцатый век, четырнадцатый и тринадцатый… Есть и более старые. Все вывезено с Земли или разыскано здесь, а также на Сельджукии, Уль-Исламе и в других мирах. Разыскано и куплено, если продавалось за деньги. А если не продавалось… – он пожал плечами. – Один Аллах знает счет нашим грехам! – Здесь списки “Тысячи и одной ночи”? Только они? – спросил Саймон, удивленно оглядывая хранилище. – В основном. Есть и другие рукописи, персидские, индийские, мавританские и арабские. Есть “Рамаяна”, “Жизнеописание Зат аль-Химмы”, “Повесть о Сегри и Абенсеррахах, гранадских рыцарях”… Есть переводы – на русский, французский, английский, на все языки. Конечно, первоиздания. Вот, посмотри! Абдаллах потянулся к шкафу и вытащил оттуда увесистый том. Глаза Саймона расширились в изумлении: эта книга действительно была первой из первых, хоть и не блистала тысячелетней древностью. Девятнадцатый век, первое переложение историй “Тысячи и одной ночи” на английский, сделанное сэром Ричардом Бартоном… Книга, с которой в Европу пришел Восток… Миср, Хорасан, Аравия… Таинственная сказочная Аравия… – Последнее мое приобретение, – произнес Абдаллах, пряча драгоценность в шкаф. – Британский музей расстался с одним из трех своих экземпляров… Не по собственному желанию, должен признаться, но на все воля Аллаха! Однако пойдем дальше, Ришад. Здесь не сокровищница, а лишь преддверие к ней. Через пару минут они очутились в этой сокровищнице, и Саймон, потрясенный, застыл у порога с приоткрытым ртом. Его изумили не собранные тут богатства; он был равнодушен к деньгам, хотя любил хорошие вещи и мог их себе позволить – ЦРУ не экономило на своих агентах. Недавно он приобрел коттедж вблизи Грин Ривер и оборудовал его – при активном содействии дивизиона своих приятельниц и Дейва Уокера, обладавшего, как все техасцы, немалой практической сметкой. Теперь у Саймона был дом, пусть не блиставший роскошью, как дворец эмира, но вполне пристойный, и даже с собственным кордебалетом из тех же самых многочисленных подружек. Так что сейчас изумило его не богатство, не груды сокровищ и не сияние золота; он был потрясен, а потрясла его красота. Перед ним простирался гигантский грот; своды его уходили ввысь метров на сорок, главная пещера была двухсотметровой ширины, и к ней со всех сторон примыкали глубокие ниши, отделанные и обставленные в виде дворцовых покоев, пестревших мрамором и яшмой, пышными яркими коврами, радугой многоцветных изразцов, резной драгоценной мебелью, бронзой, серебром и хрусталем. Тут был черный конь из дерева, в сбруе с серебряными бляшками, подставки из сандала, на которых покоились книги в резных переплетах, стеклянные и фарфоровые кальяны, сиденья из слоновой кости, изогнутые клинки и кинжалы, развешанные на коврах, ларцы с откинутыми крышками, полные древних монет, сияющих диадем, и браслетов, большая золоченая статуя четырехрукого Шивы с трезубцем и топором, смутно напомнившая Саймону Наставника Чочингу, множество огромных расписных кувшинов – вероятно, тех самых, где прятались разбойники, желая попасть в дом Али-Бабы. Тут был мавританский всадник в полном вооружении на. огненноглазом скакуне, арабские и персидские воины, пешие и конные, целый верблюжий караван – с погонщиками и купцами, с рабынями, что выглядывали из больших плетеных корзин, с тюками тканей, связками слоновых клыков, серебряной посудой и другим бесценным скарбом. Тут были миниатюрные копии каких-то дворцов, замков и башен – деревянные, каменные, металлические и костяные; тут был участок невольничьего рынка, где продавали мускулистых черных эфиопов и гибких обнаженных персиянок; тут была темница, в которой Гарун арРашид, в великолепных одеждах, и Масрур, с кривым блистающим мечом, с пристрастием допрашивали злого чародея из Магри-ба; тут в темных углах маячили мохнатые фигуры джиннов и призывно улыбалась кроваво-алым ртом нагая девушка-сук-куб. Но все затмевал корабль. Довольно большой, двухмачтовый, с резным носом и причудливой башенкой на корме, он высился посреди зала, под ярким светом потолочных люстр; паруса его были свернуты, с синих бортов свисали ковры, на палубу вела крутая лесенка, а перед ней, будто собираясь спуститься на берег, стоял смуглый горбоносый араб, в чалме с изумрудным аграфом, с кривой саблей за кушаком и полуразвернутой картой в левой руке. Карта была древней; возможно, ее начертал еще сам Пири Рейс. Саймон молча разглядывал все эти диковинки и чудеса, застывшие сказочным узором, этот овеществленный и зримый мир историй Шахразады. Абдаллах тоже молчал, явно наслаждаясь изумлением спутника; его синие глаза поблескивали, на губах блуждала загадочная улыбка предвкушения – будто среди всех сокровищ, собранных в пещере Али-Бабы, было что-то еще, совсем уж невероятное, способное не просто удивить, а повергнуть гостя в полный транс. Или в летаргический сон, как зачарованную принцессу. Наконец он подхватил Саймона под руку и деликатно потянул вперед. – Пойдем, сын мой. На эти чудеса можно взирать день, месяц или год, но среди прекрасного найдется прекраснейшее, среди достойного – достойнейшее. Вот таким предметам стоит уделить побольше времени. Пойдем! – Они медленно двинулись в глубь пещеры, и эмир продолжил: – Большинство вещей тут – оружие, ковры, одежды, мебель – подлинные и, разумеется, совсем не сказочные. Но есть довольно забавные модели… Вот, например, – он кивнул в сторону деревянного коня. – На таком скакуне летал некий царевич, похитивший прекрасную принцессу – то ли в Персии, то ли в Индии, то ли в далеком Китае. Конь из эбенового дерева, изготовлен здесь, на Аллах Акбаре, по заказу моего прадеда… Не правда ли, чудо? – Чудо, отец мой, – согласился Саймон, вдыхая сухой прохладный воздух, в котором не чувствовалось затхлости, свойственной подземелью, и заключил, что в этом огромном древнем музее стоит вполне современная система терморегуляции. Значит, были отдушины, выходящие на поверхность. причем не одна… Мысль о них промелькнула в голове Саймона и исчезла, когда он взглянул на корабль. Синий борт круглился, блестели полированные сходни, стройные мачты тянулись к потолку… Он погладил теплое дерево и спросил: – А что ты скажешь насчет корабля, амир ал-муминин? Разве он не большее чудо? – Большее и более древнее. Его построили на Земле, еще до Исхода, для какого-то нефтяного шейха, – этот титул эмир произнес с явным пренебрежением. – Шейх пожелал иметь копию парусника Синдбада, и для него собрали и укра сили этот корабль. А теперь он здесь, у меня! Вместе с самим Синдбадом! – Он кивнул на фигуру, застывшую на палубе. Они обошли корабль. Справа от него, в одной из боковых ниш, расположились на отдых купцы. Трое пожилых людей в атласных халатах сидели на ковре, у низкого столика с серебряной посудой; перед ними изгибалась в танце стройная девушка с косами до колен, а позади застыли воины в серебристых кольчугах, охранявшие покой купцов. Стражей было пять, и над головой крайнего темнело отверстие в потолке – довольно высоко, метрах в двенадцати от пола. Поглядев на него, Саймон усмехнулся. За кораблем была ничем не занятая площадка, тянувшаяся до торцовой стены. Перед ней, в небольшом овальном углублении, стоял цилиндр из черного мрамора, слегка расширявшийся кверху и доходивший Саймону до плеч. На этом пьедестале что-то белело – что-то небольшое, какая-то статуэтка сантиметров тридцать или сорок в высоту; блики света, игравшие на полированной поверхности, мешали разглядеть ее. Приблизившись, Саймон понял, что это кошка – белая как снег, с пепельно-серым хвостом. Вероятно, ее вырезали из монолитной глыбы какого-то слоистого минерала: белый слой – голова с торчащими ушками, туловище и лапки, серый – хвост, приподнятый v изогнутый над спинкой. Кошка сидела – почти в той же позе, как маленький гепард Ши, сплетенный некогда Чией и подаренный Саймону. Этот гепард красовался теперь в его доме, в нише у письменного стола. Но кошка являлась, конечно, гораздо более искусным изделием. Саймон будто бы видел каждую шерстинку – на тельце они лежали гладко, однако хвост был распушен, и чувствовалось, что зверек пребывает в покое, но в то же время настороже. Шея была чуть-чуть вытянута, головка – чуть-чуть склонена, и казалось, что кошка разглядывает что-то у своих передних лап – возможно, блюдце с молоком или пальды хозяина, пожелавшего ее приласкать. Глаза у кошки были большие, бирюзовой голубизны, с черными щелями зрачков; на мордочке застыло выражение лукавства и ожидания. Сидела она на блестящей подставке, то ли серебряной, то ли стальной, со щелевидными насечками у края – очевидно, они служили украшением. "Чудесная статуэтка, – подумал Саймон, – но далеко не самый ценный экспонат коллекции. И не самый древний статуя позолоченного Шивы наверняка древнее, как и оружие, доспехи и посуда”. Абдаллах будто подслушал его мысли. – Помнишь ли ты, как Ала ад-Дин, спустился в подземелье, где хранились несметные сокровища? – Саймон кивнул. – Тогда ты помнишь, что драгоценнее всех богатств была лампа – старая лампа, потертая и неказистая на вид. Лампе подчинялся джинн, и мог он воздвигнуть дворец или разрушить город, наделить царским могуществом и богатством, украсть прекраснейшую из девушек… – Эмир усмехнулся. – Такую, как Нази… Словом, хозяин лампы пользовался властью над существом, в чьих силах было все. Все, понимаешь! Все эти девушки, дворцы и царский трон – плод жалких фантазий Ала ад-Дина, но если б он захотел… если бы осмелился… если б не убоялся Аллаха… Словом, по его приказу Раб лампы мог бы свести звезды с небес и перевернуть землю. Что в конце концов и получилось… Последняя фраза была Саймону непонятна. Он ждал продолжения – в тишине и прохладе огромной пещеры. – Вот она, волшебная лампа Ала ад-Дина, – сказал эмир, кивнув в сторону белого изваяния. – Сокровище из сокровищ… наследие предков… Она драгоценней всего, что есть в этом зале, сын мой. – Не похоже на лампу, – скептически произнес Сай-мон. – Это кошка, амир ал-муминин. Вернее, изваяние кошки. Белой кошки с серым хвостом. – Волшебные вещи обычно кажутся не тем, чем являются на самом деле, ибо суть их – тайна. Вот ты сказал, не похоже на лампу… Но лампа – только образ, освященный временем и традицией. Мог ли подумать увидевший лампу в первый раз, что она властвует над стихиями, пространством и време нем? Что владелец ее сидит у престола Аллаха? Ведь перед ним была лишь старая потертая лампа… Саймон кивнул. В словах Абдаллаха, безусловно, был резон, но никакие резоны не прибавляли этой кошке волшебства. Она была всего лишь тем, чем выглядела, – статуэткой, искусно вырезанной из камня и не имевшей никакого отношения ни к джиннам, ни к ифритам, ни к прочим трансцендентным существам. Вот разве пьедестал… Эта подставка из серебристого металла с глубокими насечками… Ему хотелось изучить ее поподробнее. Но не сейчас, не сейчас… – Если ты, амир ал-муминин, проник в тайну, ты превратился в самого могущественного человека в Галактике. По твоим словам, владельцу статуэтки покорны стихии, пространство и время… А ведь владелец – ты! Или я чего-то не понял? – Саймон, прищурившись, посмотрел на эмира. – Владелец – я, но я владею лишь вещью, а не секретом. И предки мои его не знали. Кроме Сираджа ибн Мусафара ат-Навфали… Это изваяние принадлежало ему, Ришад. Еще на Старой Земле. – Эмир в задумчивости смолк, рассматривая кошку. Та глядела на него загадочно и лукаво. – Если желаешь, я расскажу тебе о почтенном Сирадже. То был человек необычной судьбы, и он… – Прости, что прерываю тебя, – сказал Саймон, – но опасно владеть загадочной вещью, не ведая ее секрета. Очень опасно, амир ал-муминин! Ведь не перевелись еще магрибские колдуны… И сюда, в твой музей, может проникнуть чужак, искушенный в магии, и раскрыть тайну. Ты этого не боишься? Абдаллах усмехнулся. – Сюда никто не проникнет, сын мой. Двери надежны, стражи бдительны, а. лучший страж – скала над нашими головами. – Скала для опытного человека не препятствие. Есть много способов справиться с ней. Эмир кивнул. – Конечно. Направленный взрыв, мощный лазер и молитва Аллаху. В конце концов, все в его воле: он создал эту скалу, он может ее разрушить… Но если за дело примутся люди, то я узнаю и отправлю сюда солдат. Нельзя продолбить такую скалу бесшумно. И нельзя обмануть замки на дверях и стражей, которые их стерегут. – Я бы взялся, – сказал Саймон, – если ты не против, амир ал-муминин. Если ты не сочтешь это обидой. Я не хотел бы платить оскорблением за твое гостеприимство – ведь ты принимаешь меня как драгоценный дар из садов Аллаха. – Всякий гость – дар Аллаха, – ответствовал эмир, всматриваясь в Саймона с каким-то новым интересом. – И если гость способен просветить хозяина и спасти от гибельных ошибок, это будет лучшей платой за гостеприимство… – Он оглядел гигантскую пещеру, ее своды, стены и пол, будто мысленно проверяя их крепость. Щеки Абдаллаха порозовели, рот приоткрылся; Саймон с каменным лицом следил за этими признаками волнения. Вероятно, эмир дорожил своим музеем не меньше, чем своей страной, и пытался сейчас представить возможный источник опасности. Глубоко вздохнув, он снова поглядел на Саймона. – Ты разрежешь скалу эмиттером, сын мой? Но здесь нужен очень мощный излучатель… Кажется, он называется стационарным? И весит больше трех верблюдов? – Он мне не понадобится. – Значит, ты попробуешь усыпить солдат? Гипнозом или каким-нибудь новомодным газом? И взломать двери? – Я даже не подойду к ним, ни к дверям, ни к солдатам. – Может, наши друзья в Грин Ривер изобрели карманный Пандус? Такой, что переносит человека с постели в места уединения, а оттуда – прямиком в купальню? – Это невозможно, – сказал Саймон. – Ты ведь знаешь, что пространственная трансгрессия не работает на малых расстояниях. Эмир воздел руки к потолку. – Тогда, клянусь Аллахом, ты не человек, а тень! Ибо лишь тень сумеет проскользнуть в щели под дверью или в иных щелях, которые, быть может, есть в скале! Только тень, а не создание из плоти и крови! – Я и есть тень, – с улыбкой признался Саймон. – Тень ветра и эхо тишины. Абдаллах пожал плечами. – Ну, если у тишины есть эхо, почему бы не быть тени у ветра?… Не станем откладывать, сын мой: то, что отложено, подарено Иблису. Ты готов попытаться сегодня ночью? – Ночью у меня девушка. Айша или Махрух… А может, Дильбар? – Девушки подождут. В конце концов, ты крепкий молодой мужчина и можешь осчастливить двух за одну ночь. Когда я был молод… – эмир усмехнулся и раздул ноздри ястребиного носа. – Хорошо, пусть девушки подождут, – согласился Саймон. – Я попробую нынешней ночью, если будет на то твоя воля, амир ал-муминин. Я должен что-нибудь взять и принести тебе как доказательство? Или использовать радиофон? Но сигнал через скалу не пройдет… Тут есть сетевая линия связи? – Тут все есть, сын мой. Но не надо ничего выносить, и радиофон тоже не нужен, – произнес эмир. – Если ты сюда доберешься, Ришад, я об этом узнаю. А когда ты расскажешь мне, как это сделал, я попрошу оказать честь… да, оказать мне честь и выбрать любой подарок из тех сокровищ, что собраны здесь. Все, что угодно, кроме этого, – Абдаллах показал взглядом на белую кошку. – Фамильная реликвия, сын мой… я не могу ее подарить. – Я понимаю. У всякой щедрости есть границы… Но один дар ты можешь преподнести мне прямо сейчас, амир ал-муминин. Это история почтенного Абу-л-Касима Сираджа ибн Мусафара, твоего предка… Я с удовольствием послушал бы ее. – Воистину, твоя любознательность равна твоей воспитанности, – улыбнулся эмир и протянул руку к кораблю. – Давай поднимемся туда, найдем ковер помягче, и я расскажу тебе о Сирадже по прозвищу Дидбан ад-Дивана, что значит – Страж Блаженного. Это сказочная история, сын мой, и мы представим, что ты – властитель Шахрияр, а я – Шахразада, хотя, конечно, не столь прелестная и юная, как Нази, Айша или Дильбар. Зато более красноречивая. Итак, слушай… Подхватив Саймона под руку, эмир повел его к синему кораблю Синдбада. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Дейв Уокер ткнул пальцем клавишу радиофона. Это был аппарат прямой связи, работавший на блуждающих частотах, с дешифратором и встроенным блоком кодировки, с экран-чиком величиной с ладонь – словом, хитрая машинка, моментально соединившая его с кабинетом Эдны Хелли. Ее зрачки воткнулись Уокеру в лоб как два заостренных гвоздя. – Сообщение от Ньюмена, мэм. К нему поступила пара запросов, – доложил Уокер. – Первый – от Абдаллаха… как его… амир му-му минин… Он испрашивает отпуск для пятьдесят четвертого. В размере десяти суток. Второй – от нашего агента. Ему нужны сведения об Абдаллахе и разрешение на свободный поиск. – Что предлагаете? Вы и Ньюмен? – спросила Леди Дот. – Предоставить отпуск. Парень его заслужил, разобравшись с дрязгами кочевников – быстро, эффективно и без крови. К тому же просит сам Абдаллах… Большая шишка, мэм. Леди Дот кивнула. – А что это за свободный поиск, Уокер? Чего он ищет на этом Аллах Акбаре? Уокер пожал плечами. – Свободный поиск потому и свободный, что связан с неопределенностью ситуации. Мы с Ньюменом решили, что пятьдесят четвертый подкапывается под эмира. Иначе зачем просить информацию об Абдаллахе и всех его родичах до седьмого колена? Глаза Леди Дот на мгновение остекленели, превратившись из двух гвоздей в два темных непроницаемых дульных среза. Потом она решительно тряхнула головой. – Отправьте ему эту информацию, Уокер. И заодно передайте, чтоб не вздумал пристрелить эмира. Ни в коем случае! Что бы он там ни накопал, судьба Абдаллаха вне его компетенции. Пусть представит доклад, если найдутся сомнительные факты… Это все. – Не все, мэм, – сказал Уокер с обычной своей кривой усмешкой. – Я не могу получить данные об этих эмирчиках из поддельной Басры. И даже Ньюмен не может, что еще удивительней. Я-то, мэм, всего лишь инструктор, лицо подчиненное, и этот файл для меня закрыт. Но Джеф Ньюмен… – Я тоже лицо подчиненное, – заметила Эдна Хелли. – Но ваше лицо куда больше моего, мэм. Шире, значительней, весомей… То есть я хочу сказать, что ваш ранг, приоритет и статус… – Закрой рот, рыжий мерзавец, – буркнула Леди Дот. – Я знаю, что ты хотел сказать. Не глядя на Уокера, она потянулась куда-то – видимо, к компьютерной клавиатуре, – набрала все положенные коды допуска и вызвала информацию на свой экран. Минут десять Эдна Хелли сосредоточенно изучала ее, и с каждой минутой глаза женщины раскрывались все шире и шире. Уокер отметил, что калибр ее зрачков соответствует уже не пистолету, а по крайней мере гаубице. Закончив чтение, она хмыкнула и вновь подняла взгляд на инструктора. Уокер был изумлен: впервые он видел на лице Эдны Хелли что-то похожее на растерянность. – Поразительно, – сказала она дрогнувшим голосом, – поразительно, какие любопытные факты можно найти, копаясь в старых файлах. Предки этого Абдаллаха были весьма известными личностями, Уокер… весьма известными… особенно один их них… как его звали… – Леди Дот покосилась на свой монитор. – Дидбан ад-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали… Но на самом деле он никакой не Сирадж и уж тем более – не Навфали… Он вообще не араб, Уокер! Вот его супруга – иное дело. Принцесса из рода ад-Динов, последний потомок святой Фатимы… Оч-чень любопытно! – Оч-чень, – согласился Уокер. – Так что мне передать пятьдесят четвертому, мэм? Это самое “оч-чень” или более подробные сведения? Секунду Эдна Хелли колебалась, потом буркнула: – Я отправлю вам этот файл, Уокер. Ознакомьтесь с ним, составьте справку и перешлите ее Саймону. Я полагаю, он не ищет компрометирующих сведений об эмире… тут что-то другое… более интересное… связанное с трансгрессором… – С Пандусом, мэм? – Рыжие брови Уокера взлетели вверх. – С тайной открытия Пандуса, – уточнила Леди Дот. – Просмотрите файл, поймете. А теперь… – Она хотела отключить связь, но ее рука остановилась на половине дороги. – Последнее, Уокер. Поставьте в известность Ньюмена о том, что пятьдесят четвертому предоставлен десятидневный отпуск. Только об этом! Все остальное я доложу сама. Директору. – Слушаюсь, мэм! Крохотный экранчик в столе Уокера погас. Некоторое время он с интересом взирал на него, потом откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. На Аллах Акбаре, в Басре, сейчас полдень, подумал он. Если очень постараться, справка будет у Саймона к вечеру. Надо бы постараться… Парень ждет.Глава 12
Когда на Басру пала ночь, Ричард Саймон оставил свои покои, спустился в парк, проскользнул подобно тени среди шерстистых пальмовых стволов, миновал бассейн и купальню и углубился в благоухающие заросли жасмина. Вскоре они закончились, и начался лес, примыкавший к дворцовым садам; тут росли вперемешку остролисты и буки, а кое-где торчали темные свечи кипарисов – словно космолеты, устремленные в звездные небеса. Тропинок в лесу не было никаких, но это Саймона не смущало; он знал, что с дороги не собьется. Над горизонтом поднималась луна, и ее сияющий лик, исчерченный темными ветвями деревьев, служил ему путеводным маяком. Пересекая лес, он думал над рассказанным эмиром. Странную историю поведал Азиз ад-Дин Абдаллах! Странную и действительно похожую на сказку… Будто бы задолго до Исхода, в самом начале двадцать первого столетия, жила на свете прекрасная девушка с глазами газели и губами ярче пунцовых пионов – Азиз ад-Дин Захра, принцесса, наследница титула и богатств семьи, происходившей от фатимид-ских халифов. Семейные богатства были не столь уж огромными, и тягаться с каким-нибудь нефтяным шейхом из Объединенных Эмиратов родитель Захры не мог, но в общем-то род их считался не только древним, но и весьма состоятельным. И Захра училась во многих западных странах, дабы приобрести нужный царственный лоск, и знание языков, и все прочее, необходимое для принцессы, наследницы древней фамилии. Училась она в Америке, во Франции и в Англии, а превзойдя там все науки, отправилась в Россию, в город Санкт-Петербург, на берега холодного стылого моря. Поехала она туда, как объяснял Абдаллах, по той причине, что был этот город прекраснее прочих городов, даже самого Багдада, а еще потому, что в Петербургском университете были великие мудрецы, изучавшие Восток и знавшие об арабах такое, чего сами арабы про себя не знают. Словом, проучилась прекрасная Захра в Петербурге пару лет, а войдя в возраст зрелости (ей исполнилось двадцать пять), вернулась на родину, в фамильные поместья под Багдадом. Но привезла она с собой не одни лишь знания и умения, а еще и супруга, высокого, темноволосого и синеглазого. И от их союза родился сын Касим, тоже с синими глазами, и с той поры этот признак стал в роду ад-Динов наследственным и даже как бы почетным – в память о Касиме ибн-Сирадже и его отце, супруге прекрасной Захры. Надо признать, продолжал Абдаллах, что супруга этого встретили без особых восторгов. Во-первых, он был иноверцем – даже хуже, убежденным безбожником и атеистом, не заключившим священного договора ни с Аллахом, ни с Христом. А во-вторых, род его был малопочтенным, происходившим от смеси русской, еврейской и татарской кровей, и за последние сто лет в том роду встречались простые врачи, учителя да инженеры, от коих до царственных особ как от Земли до Луны. И сам супруг Захры был то ли ученым, то ли инженером, каким-то физиком или компьютерщиком, не способным даже произнести славословие в честь Аллаха милостивого, милосердного. Тем не менее его избрала Захра, и родичам ее пришлось смириться. Но по прошествии пары лет смирение их перешло в почитание, а затем – в самый искренний и жаркий восторг. Ибо супруг Захры был богат, так богат, словно приехал он не из полунищей в ту пору России, а по крайней мере из Калифорнии – где, как знает всякий, доллары зреют прямо на деревьях, рядом с грейпфрутами и ананасами. И еще он был щедр, так щедр, будто не знал ни меры деньгам, ни цены им; и его рука, творящая благо, не оскудевала ни на миг. Но это являлось лишь самым малым из его достоинств, ибо супруг Захры обладал загадочными свойствами и таинственными качествами, присущими тем, кто избран самим Аллахом. Он воистину творил чудеса: мог предвидеть грядущее, подчинять своей воле события и людей и узнавать все, что случалось в мире, даже самое тайное и секретное, будто не было для него ни стен, ни расстояний, ни преград. И когда люди уверились в этих его необычных качествах, то стали толковать, будто супругу Захры подчиняется джинн, но джинн добрый, так как никому повелитель джинна не творил зла, а одно лишь благо и всемерную помощь. И были для такого мнения веские причины, ибо никто не сомневался, что этот человек, овладев властью над джинном,пожелал того же, чего желает всякий из людей, особенно в молодые годы: богатство и прекрасную принцессу. Пожелал – и получил! Но Захра была не обычной принцессой, вроде тощих королевских отпрысков из Британии или Бельгии; Захра стояла неизмеримо выше, так как происходила от самого пророка! И какой бы мужчина ни пожелал ее (а таких насчитывалось великое множество), и какие бы силы ни помогали ему в том желании, без воли пророка – а значит, самого Аллаха! – брак их заключиться не мог. Никак не мог! Ибо Аллах превыше всего, и Мухаммад – его единственный посланник! И супруг прекрасной Захры тоже уверился в этом, и в день рождения Касима склонил слух свой к мольбам принцессы и заключил договор с Аллахом, приняв арабское имя – по всем древним канонам и традициям. Его аламом, или личным именем, стало Сирадж, что значит “светоч”, а его насаб, имя отца, звучало как Мусафар, что значит “странник” или “гость”; и были эти имена созвучны тем, которые он носил в России. Прежняя его фамилия стала нисбой, или названием рода, и превратилась в Навфали, что значит “щедрый”, а еще – “дарящий”. Поскольку стал он отцом Касима, то мог принять кунью Абу-л-Касим; а кроме того, выбрал он про-звище-лакаб Дидбан ад-Дивана, означавшее “страж блаженного”. И само это произвище как бы служило намеком, что Дидбан ад-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали связан с потусторонними силами, с ифритами, джиннами или даже со всемогущим Аллахом. Сам Сирадж этого не отрицал и не подтверждал. В семейных легендах рода ад-Дин говорилось, что Сирадж относился к своей предполагаемой связи с джинном не без юмора и в какой-то момент повелел вырезать статую кошки (а кошек он очень любил), утверждая, что в ней, в этой статуэтке, заключена магическая сила, в точности такая же, как в сказочной аладдиновой лампе. Надо только знать, где потереть и как потереть! Но эту тайну он не открыл даже сыну своему Касиму, зато оставил ему такое несметное богатство, что Касим, буду-чи уже в летах и являясь почтенным главой семейства, смог откупить на Аллах Акбаре целую страну, благоустроить ее, возвести селения и города, разбить сады и выбрать лучших из лучших – среди того людского потока, что прихлынул к его границам. Сотворив все это, Азиз ад-Дин Касим ибн-Сирадж объявил себя эмиром и стал править в Счастливой Аравии, и правил он так справедливо и мудро, что никто не мог упрекнуть Касима, что отец его – не араб, а какой-то чужак из России, без рода и племени. Ну и что с того? Аллах выбирает, Аллах дарует, Аллах наделяет благородством тех, кто приятен его сердцу! Что же касается самого Сираджа, то он узрел Исход, дожив до его середины, но с Землей не расстался и был похоронен вместе с супругой своей Захрой в ее родовых владениях. Воистину, прожили они прекрасную жизнь, в счастье, любви и согласии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний! Мир им обоим! На том повесть Абдаллаха окончилась, но не закончилась вся эта история, поскольку имелся у Саймона и другой материал для размышлений, присланный с Колумбии, из главной штаб-квартиры. И в точных сухих словах справки (несомненно составленной Уокером) было такое, что временами Саймон испытывал холод в животе и непривычную дрожь в коленях. Пальцы его тоже, случалось, подрагивали – ведь вскоре по милости Аллаха, милосердного и справедливого, ему предстояло коснуться тайны. Несмотря на все эти признаки волнения, он действовал с профессиональной ловкостью и сноровкой: преодолел лесок, не хрустнув ветвью, не шевельнув листа, выбрался на склон возвышенности, увенчанной утесами-руинами, залез на холм и углубился в скалы. Теперь уже не луна, а безошибочное чутье и ночное зрение служили ему проводниками. Он улавливал токи воздуха: редкие случайные порывы ночного ветра и очень слабую, но постоянную тягу, воздушные течения, струившиеся меж камней, среди всех этих рухнувших замковых башен, подобия стен, колонн и лестниц, сложенных из неровных щербатых плит. Он шел, повинуясь инстинкту и ощущая, как крепнет незаметный воздушный поток, как он становится все более устойчивым и сильным. Совсем чуть-чуть, но Саймону этого хватало. Он знал, что приближается к расселине, к одной из многих отдушин, идущих вниз, в пещеру Али-Бабы. Собственно, Али-Баба был тут совсем ни при чем. Если разобраться, этот подземный музей, и город Басра, и вся Счастливая Аравия – и, в определенном смысле, все Разъединенные Миры – являлись творением совсем другого человека, столь же реального, как, к примеру, Пандус. А вот Пандус был его творением непосредственным, и чем бы еще он ни осчастливил мир, Пандус оставался самым важным, самым драгоценным из его даров. Его ли? Быть может, того джинна, который повиновался ему? Насчет джинна Саймон не был уверен, но вот человек, его владыка и повелитель, безусловно, существовал. Это подтверждалось справкой, пришедшей с Колумбии, сведениями, что хранились в бездонных архивах ЦРУ. Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали… Сергей Михайлович Невлюдов… Творец Пандуса, супруг прекрасной Захры, отец Касима и предок эмира Абдаллаха… Людям он подарил пространственный трансгрессор, а своему семейству – Счастливую Аравию. Плюс белую кошку с серым хвостом… Вместилище неведомого духа… Саймон уставился на расселину в крутой ребристой скале, похожей на обвалившийся донжон. Она манила его. Оттуда тянуло сухим прохладным воздухом, и ток его был постоянен, хоть не силен; прохладный воздух, конечно, не мог подниматься вверх сам по себе – значит, его прогоняли сквозь турбокомпрессор или нечто аналогичное, чтоб выбросить в шахту под давлением. Шахт, разумеется, было несколько, и весь вопрос заключался в размерах этих отдушин и их сечении – в щель сантиметров тридцать шириной Саймон еще мог пролезть, не оставив кожу на стене. Он скользнул в трещину, двигаясь ползком и руками ощупывая почву перед собой. В этом разломе поместился бы пес величиной с ротвейлера, но никак не человек; впрочем, в определенные моменты Саймон не относил себя к роду людскому. Сейчас он обернулся змеей: тело его извивалось, будто лишенное костей, плечи вдруг стали вдвое уже, и каждая конечность сгибалась не в двух, а как бы в десяти местах, превратившись каким-то чудом в эластичное цепкое щупальце. Его пальцы коснулись края вентиляционного хода. Отдушина была прямоугольной, узкой, но все-таки Саймон мог в нее протиснуться. Она уходила отвесно вниз, и стенки ее на ощупь казались гладкими, как полированное зеркало. Эмир Абдаллах был, безусловно, прав: для человека обычного этот путь вел не к сокровищам, а к смерти. Но Ричард Саймон не являлся обычным человеком. Закрепив на локтях и коленях вакуумные присоски, он начал осторожно спускаться. В двух местах ход расширялся и изгибался почти под прямым углом: сюда выходили каналы вентиляционной системы, забранные решетками, и здесь Саймон мог передохнуть, расслабившись, лежа на животе и позволяя прохладным воздушным струям овевать разгоряченную кожу. Когда он миновал второй из сгибов, внизу замаячило неяркое пятнышко – вероятно, музей был освещен в любое время, а не только в момент присутствия хозяина. Саймон продолжил спуск. Сейчас он казался самому себе не шахом Шахрияром, внимавшим россказням Шахразады, а багдадским вором, чей путь лежал к сокровищам халифа. Правда, сокровища были Саймону безразличны – их ценность, по его мнению, заключалась лишь в красоте, а красота доступна всем, имеющим глаза и способным видеть. Секрет – иное дело! Секретом он жаждал овладеть, таинственное манило его, как долгожданный выход – путника, блуждающего в лабиринте. Добравшись до конца шахты, он покрепче уперся коленями и локтями и посмотрел вниз. Там что-то пестрело и поблескивало – ковры, атлас купеческих одежд, кольчуги стражей, серебряные кубки и кувшины.Присмотревшись, Саймон понял, что висит как раз над тем местом справа от корабля, где устроили пикник купцы, в той самой дыре, которую он разглядел нынешним утром. Купцов было по-прежнему трое, и все так же изгибалась перед ними полунагая плясунья в водопаде тонких кос, а вот охранников было не пять, а шесть. Шестой, вероятно, являлся важной шишкой: во-первых, он не стоял, а сидел, развалившись в креслице из слоновой кости, а во-вторых, в отличие от кольчуг стражей, его одеяние отливало не серебром, а золотом. Саймон усмехнулся. Эмир Абдаллах утверждал, что сразу узнает, если в музее появятся гости… без всяких радиофонов… Конечно, зачем радиофон? Лучший свидетель – родич! Живой! К тому же этот свидетель увидит, откуда и как можно пробраться в пещеру, какую дырку следует заткнуть, где выставить охрану или навесить лишнюю дверь… Весьма предусмотрительно, весьма! Отодрав присоски от стенок, Саймон прыгнул, перевернулся в воздухе и приземлился на край ковра, перед самым носом у купцов, обсуждавших прелести танцовщицы. Это занятие так поглотило их – как и воинов в серебряных кольчугах, – что ни один не шевельнулся, не удостоил гостя ни малейшим вниманием. Зато Масрур, сидевший в кресле, вскочил. Рука его метнулась к поясу, и в следующий момент на Саймона уже глядел темный зрачок пистолета. “Сегун”, отметил он, японский. Солидное оружие! Вот только к чему бы? О силовых акциях они с эмиром, кажется, не договаривались. Еще он подумал, что лицо Масрура пребывает в полном противоречии с его прозванием. “Масрур” на арабском значит “радостный”, “веселый”, но Абдаллахов племянник взирал на него с каменной физиономией, и если на ней и отражалось что-то живое, так одно злорадство. Видимо, по той причине, что был у него пистолет, а у гостя – ничего, кроме пары присосок. – Руки, – промолвил Масрур, отступая на пару шагов. – Руки за голову, свинья! И не шевелись, иначе попачкаю шкуру. Ни в одной купальне не отмоешь! Даже с помощью Нази! "Нази… В ней, что ли, дело? – подумал Саймон, кладя ладони на шею. – Возревновал племянничек? И к дяде ревнует, и к Нази… Похоже, так!” Масрур казался сейчас петухом, обороняющим все насесты своего курятника. Правда, не клювом и шпорами, а кое-чем посерьезней. Не отрывая глаз от “сегуна”, Саймон сказал: – Зачем ты явился сюда с оружием, Масрур? Ловить грабителя? И где же он? – Его брови приподнялись в нарочитом недоумении. – Молчи, собака! И не называй меня Масруром! Мое имя – Азиз ал-Дин Фахир! Фахир – превосходный (ар.). – Превосходно, – заметил Саймон. – И что же мы будем делать? Ты меня убьешь? Тебе случалось убивать людей, Фахир? Стрелять в них, протыкать им глотки, рубить головы? Это, знаешь ли, непросто… непросто для того, кто убивает. Он подумал о маленьком пигмее Ноабу, о покойном Ноабу с Южного Тида… Тот не вышел ростом, не носил орденов и пышных одежд, но в его крохотном пальце было больше отваги и доблести, чем у Масрура-Фахира. И все же малыш не сумел убить… Не сумел, хотя Данго-Данго, его божок, нашептывал, что зукки – не люди, а подлое зверье… А что шепчет Масруру Аллах? Милостивый, милосердный? Кажется, то, что нужно, решил Саймон, заметив, как дрогнул пистолет. Продолжая сжимать его, Масрур потянулся левой рукой к поясу, отцепил что-то блестящее, позвякивающее и швырнул к ногам Саймона. Это были наручники. Вполне современная модель, два узких кольца с тонким проводочком, порвать который не составляло труда, однако при малейшем растяжении узника бил ток, и сей удар поддавался регулированию – от смертельного до легкой предупредительной щекотки. На каждом наручнике горел алый огонек, и это значило, что они активированы на полную мощность. – Надень! – приказал Масрур. – Будешь подчиняться – останешься жив. Я не собираюсь тебя убивать. Я отведу тебя к дяде. – Он велел доставить меня в наручниках? – Он велел мне пойти в сокровищницу и рассказать обо всем, что я увижу! Я увидел вора и поступаю с ним, как с вором! Как с грязным вором, нарушившим закон гостеприимства! Ну, надевай! Передергивает, понял Саймон, нагибаясь. Хочет покрасоваться сам и опозорить гостя. Провести его в наручниках по всему дворцу – мимо штатных евнухов, стражей и слуг, мимо девушек-плясуний, мимо Нази… Пожалуй, еще и в гарем заглянет, перебудив эмировыхжен… Какая-никакая, а все-таки слава… Как говорил Чочинга, за трапезой и малый едок – воин! С этой мыслью он резко выпрямился и швырнул наручники в хмурую физиономию Масрура. Тело его распласталось в воздухе, поспешая за метательным снарядом, и был этот прыжок силен и точен: не успели колечки попасть противнику в лицо, как кулак Саймона врезался ему в подбородок. Масрур всхлипнул и обмяк. Саймон не стал надевать ему браслеты – связал по старинке, собственным кушаком, а рот залепил присоской. После вытащил из “сегуна” обойму и закатал пистолет вместе с Масруром в ковер. Ковер он выбрал попышнее и потолще: с одной стороны, пленнику в нем было мягко, с другой, видел и слышал он ровно столько же, сколько мамонт под слоем вечной мерзлоты. Решив, что инцидент исчерпан, Саймон уселся на скатанный толстым цилиндром ковер и уставился на кошку. На белую кошку с серым пушистым хвостом. Схватка ее вроде бы развеселила. Она улыбалась, замерев на своем мраморном пьедестале, и лазурные глазки с черными вытянутыми ромбами зрачков глядели на Саймона лукаво и поощрительно, словно говоря: ну, с одним ты справился, воин, а теперь попробуй совладать со мной! Догадайся, чего я жду! Где потереть, где почесать и погладить, как приласкать… Ну, догадайся! Теперь Саймон твердо знал, что перед ним не кот, а кошка. Было в ней что-то женственное, обаятельное – в изящно составленных лапках, в кокетливо поднятом вверх хвосте, в наклоне небольшой головки и в этих глазах, сиявших ангельской голубизной… Видать, в свое время она вскружила головы многим котам! До тех самых пор, когда, окаменев, не сделалась прибежищем джинна… Или чего-то иного, оставленного мудрым Навфали в науку и в назидание потомству. Саймон встал, подошел к черной колонне, вытянул руки и нежно, ласково коснулся настороженных кошачьих ушей. Он провел ладонями вдоль спины, по бокам и лапкам, по хвосту и брюшку; всюду под его пальцами был прохладный гладкий камень. Монолит! Цельный чистый кварц. Или, быть может, мрамор… Без каких-либо внутренних емкостей, тайных контейнеров и хитроумных устройств. Саймон чувствовал это, будто бы руки его стали двумя рентгеновскими детекторами, способными просветить камень насквозь. Что бы там ни говорил эмир, кошка была просто кошкой, изящным изваянием зверька, и никаких магических талантов за ней не замечалось. Если здесь и обитал джинн, то он, по-видимому, забился в самую незаметную из трещин и спал там уже без малого три с половиной сотни лет. Нарушать его сон казалось Саймону кощунством. Еще раз потрепав кошку за уши, он обратился к подставке. Она напоминала большую эллиптическую монету – сходство придавали ей вертикальные насечки вдоль обода и серебристый цвет. Царапнув подставку ногтем, Саймон решил, что это все-таки не серебро, а какой-то сплав, возможно – никелевый: металл был твердым, а ребра насечек – острыми, не истертыми. Он пересчитал насечки – сто девяносто две, и между ними сто девяносто две щели. Каждый паз шириной три миллиметра и довольно глубокий. Во всяком случае, их дна он разглядеть не мог. Осмотревшись, Саймон направился к мавританскому воину в бурнусе и чалме, над которой торчал острый шпиль шлема с пером цапли. Мавр грозил ему клинком, но это орудие Саймон забраковал сразу – слишком широкий конец и, пожалуй, слишком толстый. Зато на широком поясе мавра висел узкий и плоский кинжал в украшенных бирюзою ножнах; вполне подходящая штука, чтобы просунуть в небольшую щель. Не обращая внимания на грозные взоры мавра, Саймон дернул за рукоять, вытащил кинжал и возвратился к предмету своих вожделений. Щели были глубиною в сантиметр, и ни одна из них не вела в какую-нибудь внутреннюю полость. Исследовав их, он решил, что если там что-то находится, то эту вещицу не обнаружить и не достать из паза без специальной техники, без рентгена, микродатчиков и лазерных скальпелей. Но это было бы слишком грубо, подумал Саймон, откладывая в сторону кинжал. Слишком грубо и слишком примитивно – путь силы, а не хитроумия. Если Сирадж ат-Навфали что-то спрятал в подставке, он скорее всего не рассчитывал, что ее будут кромсать лазером. Даже микронной толщины! Оставалось только осмотреть подставку снизу и полюбопытствовать, что там у кошки под лапами и хвостом. Саймон уже взял ее за бока, собираясь переставить на пол, но вдруг отдернул ладони и полез в нагрудный карман, где лежали присоски, в количестве трех штук. Четвертой был запечатан рот Масрура – примерно так же, как премудрый Соломон запечатывал бутыли с нахальными джиннами. Присоски являлись непростым устройством, способным принять любую форму при легком давлении и удерживаться на любой поверхности, не повреждая и не деформируя ее. Был у них один-единственный недостаток – работать с ними полагалось с осторожностью, так как при резком отрыве они засасывали все, что плохо держится, – пыль, мелкие каменные осколки, а то и забитые в стену гвозди. Зато с их помощью умелый человек мог забираться на отвесные утесы, на столбы и небоскребы или странствовать по потолкам не хуже мухи. Саймон, однако, не собирался лезть на потолок. Выбрав присоску с локтя (та была поменьше ножных), он сдавил ее, превращая круглый вогнутый диск в нечто овальное и вытянутое, затем прилепил свой импровизированный инструмент к ребру подставки и резко дернул. На первый раз он обнаружил только пыль – очень немного, так как в этом музее все экспонаты хранились в идеальных условиях. Сдув ее, Саймон повторил попытку. Снова пыль… И опять пыль… И еще – пыль… И еще… Но в шестой раз, когда он исследовал группу щелей у правой задней лапы кошки, невод его возвратился с добычей. Перевернув присоску, Саймон уставился на нее. Перед ним был квадратный плоский футлярчик, прозрачная, наглухо запаянная капсула как раз такого размера, чтобы поместиться в особой щели подставки, более глубокой, чем остальные. В капсуле хранился плоский серебристый диск, и Саймону вдруг показалось, что этот диск – одна иллюзия, что он в реальности не существует, а просто нарисован на футляре – крохотная серебряная луна, вписанная в голубовато-прозрачный квадрат. Однако это было, конечно, не так. И Саймон уже догадывался о предназначении диска. Подмигнув кошке, он сунул капсулу меж ее лап, рядом с мавританским кинжалом, и оглянулся на скатанный широким валиком ковер. Масрур лежал тихо, без движения: может, все его силы уходили на то, чтоб дышать, или он размышлял о дальнейшей своей судьбе. Среди музейных экспонатов племянник эмира смотрелся бы совсем неплохо… Но Саймон отбросил эту мысль. Он был никудышным таксидермистом; его стихия – охота, а не набивка чучел. Не беспокоясь больше о Масруре, Саймон продолжил свои занятия. Бог троицу любит, и, руководствуясь этим правилом, он трижды проверил каждую из щелей, но уже во второй раз в них не было даже пыли. Закончив работу, он щелкнул кошку по носу, потер руки, положил крохотную капсулу на ладонь и поднес к глазам. Запрессованная в ней серебристая монетка блестела загадочно и маняще. Еще стажером Учебного Центра он прослушал особый курс – у Кастальского, компьютерной души. Но говорилось в нем не столько о компьютерах, сколько об их возникновении, развитии и назначении – начиная с времен Чарльза Бэббид-жа, когда вычислительная машина была всего лишь совокупностью шестеренок и неуклюжих рычагов. Через сто лет появились электронные устройства, сначала ненадежные и громоздкие, но стремительно уменьшавшиеся в размерах, так что к концу двадцатого века компьютер можно было носить с собой. В стационарных системах миниатюризация оборачивалась увеличением мощности, что позволяло приблизиться к решению таких задач, которые еще недавно считались нереальными и фантастическими – к общепланетным компьютерным сетям и искусственному интеллекту. Но все это касалось тех электронных модулей, что хранят и обрабатывают информацию и скрыты от человеческих глаз, от рядовых пользователей, у коих компьютер ассоциировался прежде всего с экраном, клавиатурой и щелью для ввода дискет. Все эти устройства не могли быть слишком маленькими: на крохотном экране ничего не разглядишь, в крохотную клавишу не ткнешь пальцем, а крошечную дискетку не удержишь в руках. Но в начале двадцать первого столетия появился контактный шлем, своеобразный коммуникатор, связавший человека и компьютер почти в единое целое; теперь экран и клавиатура являлись голографическим изображением, вызываемым по мере надобности, и в своем первоначальном виде сохранились только в примитивных устройствах – в радиофонах и терминалах, в учебных компьютерах, в автопилотах глайдеров. Что же касается дискет, частично заменивших книги и письменные документы, они прошли несколько стадий миниатюризации, пока в 2036 году не был принят международный стандарт, сохранившийся без изменения в последующих веках. Саймон даже помнил древнюю меру длины, в которой измерялся диаметр компьютерных дисков, равный трем четвертям дюйма – чуть больше восемнадцати миллиметров. Диск, лежавший на его ладони, был именно таким, ровесником двадцать первого столетия, вполне подходившим для современных машин. Диск “три четверти”, согласно древней терминологии… Его можно было прочитать – разумеется, если информация на нем сохранилась. Пожирая взглядом серебристую чешуйку, Саймон пытался припомнить, что говорил по этому поводу Кастальский. Теперь диски были почти вечными, и содержимое их терялось только с разрушением носителя, под механическим ударом или воздействием высокой температуры. Но Саймон знал, что так было отнюдь не всегда! На первых дисках данные хранились недолго, три-четыре года или даже месяцы… А этот?… Сделанный в двадцать первом веке?… Осталось на нем хоть что-нибудь, кроме неуловимой улыбки Чеширского Кота?… Сердце Саймона билось неровно, и он глубоко вздохнул, обретая привычное спокойствие. Если б здесь, в пещере, нашелся компьютер или порт общепланетной сети… Весьма вероятно, компьютер тут был – в библиотеке, затерянный среди шкафов и сундуков, – но Саймон знал, что не рискнет драгоценным диском. Всякое обращение к компьютеру можно проверить, если не замести следы, а на это он не имел ни времени, ни желания. Равным образом ему не хотелось, чтоб эмир Абдаллах проведал, что за джинн прятался под лапками у белой кошки. Конечно, почтенный Сирадж ибн-Му-сафар ат-Навфали был эмировым предком, но Сергей Невлюдов являлся личностью совсем иного масштаба. А этот диск оставил именно он – Сергей, а не Сирадж, создатель Пандуса, а не супруг прелестной Захры! И что бы он ни захотел сказать, чем бы ни собрался поделиться, это принадлежало всем, всему человечеству, обитавшему в сотнях миров, а не одной лишь семье ад-Дин. Однако унести находку, просто взять и унести, как диктовал служебный долг, Саймону казалось невозможным. Такой поступок мог быть описан многими эвфемизмами, принятыми в Конторе, – реквизиция, изъятие или тайное отчуждение, но Ричард Саймон считал все эти термины уместными, если речь шла о преступниках или врагах. Эмир Абдаллах не являлся ни врагом, ни преступником, а это существенно меняло дело: изъятие и реквизиция превращались в воровство. Всего лишь терминологические тонкости… Но Саймон предпочитал подаренное краденому. Стиснув капсулу в левой руке, он взял с подставки узкий длинный клинок и направился к мавританскому воину. Пояс мавра был широким, из двух слоев кожи, отделанным потускневшим серебром; прекрасная ценная вещь, а кинжал с бирюзовыми ножнами еще лучше, еще ценнее. Пояс наверняка изготовили здесь, на Аллах Акбаре, а вот кинжал был старинным, и когда Саймон представил, сколько лет этому клинку, в голове у него началось легкое кружение. Может, он помнил Реконкисту, Сида и Абенсеррахов, может, – гибель и величие Гранады, или иные события, случившиеся на Земле – на той Земле, что была теперь покинутой и недоступной, как самая дальняя из галактик. Саймон коснулся пояса, слегка оттянул его, просунул клинок между двух полосок кожи, расширил щель. Потом кинжал вернулся в ножны, а капсула, колыбелька джинна, упокоилась в этой щели и лежала там, молчаливая и незаметная, как непроросшее зернышко в теплой земле. Покончив с этим делом, Саймон отступил на два шага, померился взглядами с грозным мавром и забыл о капсуле. Как было обещано, он проник в пещеру Али-Бабы, и теперь хозяин дарует ему частичку своих сокровищ – скромную, однако достойную свершенного подвига. Вот этот самый пояс и этот самый кинжал… Абдаллах снимет их собственными руками и поднесет ему – в награду и во искупление маленьких неприятностей. Саймон направился к этим маленьким неприятностям, размотал ковер, снял присоску с физиономии пленника и поставил его на ноги. Потом сказал: – Знаешь, Фахир, есть на Колумбии некий рыжий техасец, очень неглупый человек, и он советовал мне: подняв оружие, стреляй! Ты не выстрелил, и теперь я знаю, почему эмир не избрал тебя наследником. – Думаешь, я трус? – пробормотал Фахир непослушными губами. – Думаешь, раз я не выстрелил, то… – Нет, нет, – прервал Саймон, развязывая Фахиру руки. – Дело вовсе не в том, что ты не выстрелил. Наследник, тот просто не поднял бы оружия. Наследнику надо быть умнее… Помнить, что предка его звали ат-Навфали… А это значит – щедрый. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК В РЕЗИДЕНЦИЮ ДИРЕКТОРА ЦРУ ДИРЕКТОРУ ЦРУ, ЛИЧНО ФАЙЛ: 777-12 ОТЧЕТ: 12/2399 СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: А Сэр! Согласно Вашему устному приказу, мои специалисты произвели экспрессное исследование объекта, закодированного литерами “SN”. Предварительные результаты: 1. Объект является стандартным носителем информации, выпущенным фирмой BASF не ранее 2036 года; предположительно – позже, в период с 2038 по 2941 г. Это один из первых компьютерных микродисков с весьма ограниченной емкостью – около тридцати мегабайт. 2. Объект упакован в капсулу из сапрона, термостойкой пластмассо-керамики, применявшейся примерно в этот же период, с 2022 по 2057 г. 3. Капсула и содержащийся в ней объект не носят следов механического повреждения или сильного нагревания. Однако объект, по крайней мере один раз, был транспортирован с помощью трансгрессора и, следовательно, внесен в высокочастотное электромагнитное поле. В дальнейшем это привело к появлению значительных информационных дефектов, которые накапливались веками. 4. В данный момент невозможно представить связную версию документа, содержащегося на носителе, однако мои специалисты дали его обобщающую интегральную оценку, которая приводится ниже. 4.1. Объем документа относительно невелик и составляет около двух мегабайт. Документ записан на диске шестнадцать раз, что позволяет надеяться на его частичное восстановление – с помощью систем информационной реанимации. Это, однако, требует времени и больших усилий. 4.2. Документ написан на четырех языках – русском, английском, французском и арабском. Каждый из вариантов повторен в записи четырежды; итого – шестнадцать раз (см. предыдущий пункт). Наличие версий на четырех языках, с одной стороны, облегчает, с другой – затрудняет дешифровку. Определенного заключения по этому поводу сделать сейчас нельзя. 4.3. Документ, безусловно, не содержит каких-либо компьютерных программ, а также формул, математических выкладок или словесных описаний технических устройств, и в этом отношении опасности не представляет. Однако я и мои сотрудники полагаем, что документ должен быть строго засекречен – по крайней мере до тех пор, пока не будут восстановлены связные и значительные фрагменты текста, позволяющие достоверно разобраться с его содержанием. 4.4. Как мы сейчас полагаем, документ является дневником указанного вами лица, в котором, в частности, изложена история создания транспортных средств, именуемых сейчас пространственным трансгрессором или Пандусом. Документ, бесспорно, неоценим в историческом отношении, однако написан столь своеобразным языком, что публикация отрывков из него, до их расшифровки и детального исследования, была бы преждевременной. Причины излагаются в следующем пункте. 4.5. Из сохранившихся фрагментов (отмечу – весьма отрывочных и неясных) создается впечатление о мистической подоплеке событий, которые, как утверждает автор дневника, предшествовали сделанному им открытию. В записках фигурирует некий объект, по-разному именуемый автором; чаще всего он использует термин “джинн из бутылки” и намекает, что этот джинн то ли помог ему сконструировать Пандус, то ли предложил соответствующую теорию в готовом виде. По этому поводу мнения двух экспертов, осуществлявших предварительное исследование дневника, разошлись. Доктор Шарль Марло полагает, что упоминание о “джинне” является метафорой, что автор имеет в виду свой творческий гений и излагает историю создания трансгрессора в поэтической, иносказательной форме. Доктор Илья Киракозов придерживается мнения, что за фигурой речи “джинн из бутылки” стоит реальный персонаж, и допускает (по крайней мере теоретически) вмешательство чуждого разума. Оба эти предположения еще не могут рассматриваться как гипотезы, поэтому мне, а также докторам Марло и Киракозову представляется несвоевременным распространять какую-либо информацию о сделанной находке (см. замечание в пункте 4.4). 5. Согласно вашему указанию, исследования производились доверенными специалистами, д-ром Марло и д-ром Киракозовым, однако необходимо расширить научную группу – как минимум до десяти-двенадцати человек, имеющих допуск к работам категории “А”. Жду ваших распоряжений. ПОДПИСЬ: К. Тацуми, начальник Двенадцатого Исследовательского Отдела ЦРУ СОГЛАСОВАНО: Д-р Ш. Марло, д-р И. Киракозов, эксперты Двенадцатого Отдела.Часть IV. ТИХАЯ CАЙДАРА
Глава 13
РЕЗИДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ЦРУ АГЕНТУ: DCS-54 КЛИЧКА: Тень Ветра ФАЙЛ: 18332-17 ДИРЕКТИВА: 01/11812-MR СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: А ПУНК НАЗНАЧЕНИЯ: Сайдара СТАТУС: Закрытый Мир (с 2364 года окружен устойчивой сферой помех, препятствующей межзвездной связи); ранее – Мир Присутствия, планетарная лицензия АК-6Ю699, выдана в пятый месяц 2200 года Церкви Судного Дня; планета заселена в 2224 году. ПЛАНЕТОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Гравитация:0,99 стандартной. Суточный оборот: 0,95 стандартного. Годовой оборот: 1,03 стандартного. Звезда: класса G, светимость 2,12 стандартной солнечной. Расстояние до звезды: 1,54 астрономической единицы. Климат: умеренный и субтропический стандартный. Мир землеподобен. Сведения о суше: материки отсутствуют, имеются многочисленные острова, объединенные в несколько крупных архипелагов и расположенные от шестьдесят третьего градуса северной широты до пятьдесят девятого южной (смотри прилагаемую карту). Крупнейший остров – субконтинент Сайдара – лежит в южном полушарии; размеры – около девятисот тысяч квадратных километров. Отношение площади суши к площади всепланетного океана – один к семнадцати. В 2200– 2223 гг. (перед заселением) планета подвергнута глобальному терраформированию. Расположение островов и контуры суши не изменялись, но проводилась полная стерилизация почв, вод и воздуха. Местные флора и фауна (примитивные виды) полностью уничтожены. Высажены листвен-чые и хвойные древесные породы, завезены насекомые, пернатые, рыбы, дельфины и ограниченное число животных, необходимое для правильного экологического цикла. Крупных животных нет. Все работы по терраформированию оплачены Церковью Судного Дня. В 2224 г. Сайдару заселили приверженцы вышеназванной Церкви, именуемой также Сектой Апокалипсиса. В период 2224-2364 гг. их численность оставаяась практически постоянной, на уровне 4-4,2 млн. человек. Население сосредоточено в нескольких сотнях поселков городского типа (выстроенных при храмах) и в трех крупных городах: Авалоне (730 тыс. чел.), Византии (390 тыс. чел.) и Китеже (275 тыс. чел.), расположенных на субконтиненте Сайдара. Этнический состав: преимущественно представители белой расы, переселенцы с Колумбии, Европы и России, с небольшой примесью японцев, филиппинцев и китайцев. Примечание 1: По требованию владельца планетарной лицензии (Церковь Судного Дня) Сайдара была спроектирована и воссоздана как абсолютно безопасный мир, удобный для комфортного проживания нескольких миллионов человек. Имеется высокоразвитая промышленность (в том числе – комплексы “Кибернетик Юнион” и “Аматэрасу”); быт, транспорт, медицина, сельскохозяйственное производство и все прочие виды деятельности автоматизированы и роботизиро-ваны. Население религиозно, отличается спокойствием и доброжелательностью. Правящий орган – Верховный Конклав Церкви Судного Дня. Индекс технологического развития – 9,85, индекс социальной устойчивости – 10,0. Примечание 2: В силу вышеназванных причин на Сайдаре полностью отсутствуют социальные конфликты, преступность и любые иные формы правонарушений. Сведения об океане: относительно мелкий, максимальные глубины не превышают полутора километров. На полюсах – обширные массивы льда. Шельфы между островами имеют глубины до пятидесяти-ста метров, простираются на пятнадцать-двадцать километров и интенсивно эксплуатируются (производство рыбы, водорослей и других морских продуктов, курортные зоны). Животных, опасных для человека, нет. Поголовье дельфинов составляет несколько сотен тысяч особей, большей частью прирученных. Горы: на субконтиненте Сайдара имеется Прибрежный хребет (вблизи Византии) и Трон Иеговы – обширное плато в центре острова. Возвышенности на прочих островах не превышают двухсот-трехсот метров. Реки: крупные – Лета, Иордан и Святой Источник – на Сайдаре, река Пречистой Девы – на Ханаане (остров площадью двадцать две тыс. кв. км); мелкие – несколько тысяч, особенно на островах вулканического происхождения; многие – с целебными минерализованными водами. Полярные шапки: ледовый покров на океанской поверхности толщиной до ста метров. Магнитные полюса: практически совпадают с географическими. Естественные спутники: три – Отец, Сын и Святой Дух. Искусственные спутники: комплекс “Аргус” – двенадцать радиорелейных станций, выполняющих также функции наблюдения за погодой и прогнозирования метеорологической обстановки. Боевые спутники отсутствуют. Станции Пандуса: всего – девять: в трех городах, в пяти населенных пунктах на самых крупных архипелагах (смотри прилагаемую карту) и станция высокой мощности на заводах “Аматэрасу”, близ Авалона, – для транспортировки космических кораблей. Примечание: персонал станций был укомплектован исключительно гражданами Сайдары – по специальному соглашению с Транспортной Службой. ПРИЧИНА РАССЛЕДОВАНИЯ: Как отмечалось выше – устойчивое, на протяжении тридцати лет, отсутствие сообщения с Сайдарой, блокировка каналов межзвездной связи начиная с 2364 года, что позволяет классифицировать эту систему как Закрытый Мир. Радиус сферы помех, прикрывающей центральное светило Сайдары, – 2,4 световых года, что свидетельствует о значительной мощности блокирующих передатчиков. Примечание: отмеченные выше факты относятся к категории “А” особо секретных сведений и разглашению не подлежат. ВОЗМОЖНЫЕ ГИПОТЕЗЫ: 1. Внезапная всепланетная пандемия, уничтожившая население Сайдары и послужившая причиной блокировки каналов Пандуса (каких-либо сообщений с Сайдары, подтверждающих эту гипотезу, не имеется), – вероятность 0,01. Примечание: катаклизмы типа внезапного столкновения с другим небесным телом, разрушительного землетрясения, потопа и тому подобные катастрофы не рассматривались, так как в этом случае звездная система Сайдары осталась бы доступной для трансгрессорной транпортировки. 2. Природный феномен, следствием которого может явиться самопроизвольная блокировка каналов Пандуса, – оценить вероятность не представляется возможным, так как подобные астрофизические феномены на протяжении трехсот лет не наблюдались и не предсказаны теоретически. 3. Вмешательство инопланетной цивилизации, достигшей или превосходящей технологический уровень Разъединенных Миров, – вероятность 0,13. 4. Вмешательство группы лиц, частной организации или правительственной структуры одной из держав Разъединенных Миров – захват власти на Сайдаре и блокировка каналов Пандуса с целью проведения неких тайных экспериментов. Например, для проектировки фотонного движителя и строительства боевых звездолетов, что может быть в принципе осуществлено на базе научно-промышленного комплекса “Аматэрасу”. Оценка вероятности – 0,58. Оценка гипотез производилась Аналитическим Компьютером “Перикл-ХК20”. ПРЕДПИСАНИЯ АГЕНТУ (РАНЖИРОВАНЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ): 1. Проверка эффективности импульсного трансгрессора (установка ИТ-0, прототип), позволяющего высверливать канал в сфере помех. Примечание: факт ввода в эксплуатацию установки ИТ-0, как и само ее наличие, относится к категории “А” особо секретных сведений и разглашению не подлежит. 2. Инспекция комплекса “Аматэрасу” близ города Авалон. 3. Поиск и уничтожение блокирующих передатчиков – с целью открыть доступ на Сайдару боевым и исследовательским группам. 4. Выяснение причин блокировки. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: не фиксирован. Ориентировочно – тридцать суток. ПОДПИСЬ: Личный штамп-идентификатор Директора ЦРУ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОПЕРАЦИЮ: Э. П. Хелли, руководитель Учебного Центра, Д. Ш. Уокер, шеф-инструктор. Ричард Саймон с трудом перевел дух. Ноги его дрожали, на висках выступил пот, перед глазами расплывались и мельтешили радужные пятна, словно он провел целый день в центрифуге при четырех “же”. Как правило, дорога через Пандус не сопровождалась никакими неприятными ощущениями – если не считать психологических, боязни либо ужаса, возникавших у некоторых путников. Но этот проклятый ИТ – совсем иное дело! Он и впрямь прорубал коридор в сфере помех, но такой узкий, что пролезать в него пришлось словно покойнику, ногами вперед. Собственно, не пролезать, а пролетать: установка ИТ-0, смонтированная в секретном отсеке Колумбийской станции ЦРУ, швырнула Саймона будто ядро, выпущенное из катапульты. Случилось это с той же невероятной скоростью, с какой всегда работал Пандус: Саймон еще ощущал руку Дейва Уокера на своем плече и прохладу подземной камеры, а в следующий миг под ноги ударила земля, и жаркое солнце пустило в него поток золотых стрел. Он стоял, покачиваясь и борясь с головокружением. Постепенно радужный ореол перед глазами мерк и таял, уходили слабость и тошнота, мышцы наливались привычной силой, теплый ветер сушил испарину. Безусловно, он был все еще жив и находился – судя по внешним ощущениям – в каком-то приятном и тихом месте. Слух улавливал отдаленный рокот волн и слабый посвист ветра; воздух был насыщен запахом нагретых солнцем скал, терпкими морскими ароматами и благоуханием цветов; нежный бриз ласкал кожу. Где он? На Сайдаре? Если так, первое и важнейшее из его заданий уже выполнено… Саймон раскрыл глаза и глубоко вздохнул. Он находился на возвышенности – довольно крутом прибрежном холме, сложенном из живописных глыб розового гранита, меж коими пробивались цветущие кустики жимолости. Перед ним лежала мирная страна, сиявшая зеленью и золотом ранней осени; речная долина полого скатывалась к морю, струи воды были прозрачно-серебристыми и поблескивали, точно шлифованный хрусталь, к берегам подступали фруктовые рощи, а между ними прятались белые, розовые и голубые домики с изящными башенками и черепичными крышами. С высоты река казалась не очень широкой и похожей на изогнутый турецкий ятаган, украшенный перевязями ажурных мостов. Ближе к морю поток раздваивался, обнимая треугольный остров пятикилометровой ширины. В основании треугольника были площадь и гавань, полная яхт и прогулочных суденышек из яркого цветного пластика, а ближе к речным рукавам стоял город. Сказка, а не город! Две дюжины прозрачных башен в деловом центре, подвесные дороги, дворцы, стилизованные под старину, а на окраине – виллы в мавританском стиле, полинезийские бунгало из полированного дерева, еще какие-то строения невообразимых расцветок и форм… Центральную часть окружали гранитные утесы, будто стены средневековой крепости, покрытые плющом и виноградными лозами; с одной из этих скал струился водопад – питая, вероятно, невидимые Саймону бассейны и пруды. Город был ярок и зелен, и все остальное вполне соответствовало ему: и хрустальная, похожая на клинок река, и голубое небо с пушистыми облаками, и ослепительный солнечный диск, струивший щедрое тепло, и лазоревая поверхность океана с далекими островами, подобными розовым жемчужинам и кабошонам из блистающего изумруда. Ричард Саймон, потрясенный, на миг прижмурил веки. Такого он не видел нигде, ни на Колумбии, ни даже в Счастливой Аравии… “Если это – Сайдара, то где же рай?” – мелькнула мысль. Он покачался с пятки на носок, с носка на пятку. Камень под ним был прочным, тело – послушным, ноги больше не дрожали и тяжесть в голове прошла. Теперь он знал, что город внизу называется Византией, а река – Иорданом, и что находится он на крупнейшем из островов Сайдары, почти материке, который тоже зовется Сайдарой. Раз он остался жив и цел, проскользнув в узкую щелочку Мироздания, он мог приступать к работе. И следующим пунктом там стояло: город Авалон, научно-промышленный комплекс “Аматэрасу”. На миг восторг и изумление сменились острым чувством торжества. Он – первый! Пусть не суждено ему, как мечталось раньше, пройти черным склоном Пандуса в иную галактику, пусть! Зато он первым проник в Закрытый Мир – в один из Закрытых Миров, что был недоступен большее время, чем прожито им на свете. Это была победа, а Ричард Саймон любил побеждать. К тому же он чувствовал, что Сайдара лишь начало, первый этап дороги к другим Закрытым Мирам, чьи названия были ему неизвестны – если, разумеется, не считать Земли. Земля оставалась самым загадочным и притягательным из всех возможных мест – и столь же таинственным, как планы руководства, в которые Саймон не был посвящен. Но недостаток информации восполнялся его солидным опытом и чутьем прирожденного разведчика – а оно подсказывало, что путь, начавшийся здесь, в раю Сайдары, ведет к Земле. Усмехнувшись, он ощупал висевший за спиною ранец и пояс с оружием и инструментами и начал спускаться с холма. Эта крутая возвышенность находилась в половине лиги от Византии – вернее, от моста, переброшенного через северный речной рукав. Мост был горбатым, словно спина дромадера, и сложенным из розоватых мраморных плит; он опирался на три стрельчатые арки, подобные проемам венецианских окон, и выглядел издалека изящной драгоценной безделушкой. Видимо, решил Саймон, владыки Церкви не пожалели средств, чтоб встретить грядущий Апокалипсис в самой приятной обстановке, со всем возможным комфортом. У подножия возвышенности изгибался вымощенный плитками желтого туфа тракт, обсаженный липами и тянувшийся прямиком к мраморному мосту. Спустившись к этой дороге, Саймон оглядел местность, недоуменно хмыкнул и, озираясь по сторонам, зашагал в город. Вокруг царило полное безлюдье – ни вертолета в небесах, ни глайдера на шоссе, ни корабля средь океанских волн. Люди также не попадались – как и пришельцы из иных миров, быть может, поработившие Сайдару с загадочными и злонамеренными целями. Над фермами не поднимался дым от каминных труб, и стояли они молчаливыми и тихими, такими же, как городские здания; не было слышно ни шороха шин по мостовой, ни человеческих голосов, ни музыки, ни ровного гудения моторов. Мир, однако, полнился другими звуками: шелестели древесные кроны, ритмично плескала о берег волна, пели и пересвистывались птицы, жужжали шмели, а из ближайшей рощи, прямо под ноги Саймону, выкатился енот, поглядел на него с удивлением и юркнул обратно. Казалось, люди на прекрасной Сайдаре вдруг куда-то скрылись или поголовно вымерли, оставив свой благоустроенный уютный мир в наследство птицам, насекомым и мелкому зверью. В стороне от дороги, за аллеей, тоже обсаженной липами, стояла церковь – или молитвенный дом, как называли свои святилища адепты Судного Дня. Здание показалось Саймону излишне капитальным: массивные бронированные двери меж двух выступающих контрфорсов, стены, сложенные из больших гранитных блоков, стальная кровля и ни одного окна – если не считать широких амбразур в фундаменте, рядом с контрфорсами. Единственным украшением служило мозаичное панно над дверью – всадники с огненными мечами, летевшие на огненных конях над объятой пламенем землей. Этот символ вселенской гибели, как и второе название Церкви – Секта Апокалипсиса, – породил расхожую шутку насчет ее приверженцев, именуемых попросту апи. На самом деле те, кто верил в близость Божьего Суда, вовсе не походили на орангутангов и горилл; они являлись людьми разумными, весьма умеренными и проводили дни свои в молитвах и трудах. Среди них насчитывалось множество интеллектуалов, людей искусства и технических специалистов; встречались и пресыщенные жизнью богачи, пылавшие на склоне лет религиозным рвением. Их капиталы были основой могущества Церкви, овеществленного здесь, на Сайдаре, – во дворцах и храмах, в городах и весях, а также в рукотворном ландшафте, напоминавшем сказочный сон или обитель эльфов и фей. Саймон знал, что в теологическом смысле Церковь Судного Дня являлась всего лишь одним из ответвлений ортодоксального христианства. Ее иерархи признавали бесспорную святость Библии и всех писаний апостолов (высказывая лишь осторожные сомнения насчет Книги Мормона), но утверждали, что вселенский конец случится не в отдаленном и неясном будущем, а в самом скором времени, если не со дня на день, то, возможно, через год, через десятилетие или в ближайшие полвека. Эта вера имела давнюю традицию и расцвела пышным цветом еще на Земле, в преддверии двухтысячного года. Особенно острые рецидивы повторялись, естественно, в две тысячи сотом, двухсотом и трехсотом годах, а теперь близился год две тысячи четырехсотый, и начиная со второй половины века число приверженцев грядущего Апокалипсиса начало расти – медленно, но верно. Впрочем, апи никому не мешали, являясь людьми тихими, мирными и лишенными воинствующего фанатизма. Однако кое-какие их обычаи казались странными – как мусульманам, так христианам и буддистам, поклонникам конфуцианства, культа предков и иных религий, родившихся некогда на Земле и вознесенных Пандусом в простор Галактики. Так, апи не делали различий между имуществом частным и общественным, что заставляло подозревать их в приверженности коммунизму; они не признавали института брака, проповедуя свободную любовь (но отнюдь не свальный грех и не половые извращения); они не давали клятв и обязательств и не подпи-. сывали договоров – если на то не поступало указаний от самого Верховного Иерарха. Наконец, не отвергая плотских утех и прочих наслаждений жизни, апи не заводили потомства, пополняя свои ряды исключительно за счет новообращенных взрослых. Словом, они вели себя так, будто Судный День наступит завтра или послезавтра, сделав ненужной и нелепой всю ту мышиную возню, что гордо именовалась человеческой цивилизацией. Судного Дня они не страшились, но ожидали его в радости, уповая на милосердие Господне и собственную добродетель. Господь был их оплотом, а Сайдара, их прекрасный мир, – местом будущего судилища и неминуемого возрождения достойных. Раздумья Саймона на эту тему были внезапно прерваны – из амбразур по обе стороны дверей появились два создания, напоминавшие многоногих крабов в металлических панцирях. Разумеется, не пришельцы, всего лишь роботы-уборщики – и, насколько Саймон мог разглядеть, довольно старой модели. Жужжа и позвякивая членистыми ножками, они поползли по аллее, подбирая опавшую листву и птичий помет. Под их колпаками блестели фасетчатые глазки на подвижных шарнирах, ходившие туда-сюда. Они напомнили Саймону пару дворовых псов, что ищут, где закопана кость, или вынюхивают следы кролика. Он усмехнулся, потом хлопнул себя ладонью по лбу и надавил несколько клавиш на коммуникационном браслете. Людей здесь вроде бы не было, но были роботы – возможно, не только уборщики? Рубиновый огонек, вспыхнувший на браслете, подсказывал, что эта гипотеза верна. Вызов принят; Теперь оставалось только ждать. И он ждал, наблюдая, как два металлических краба, покончив с уборкой аллеи, расходятся и ползут вдоль церковных стен в поисках листьев и веток. Они скрылись – каждый за своим углом здания, и в этот момент лязг их ножек сменился ровным негромким гулом. К Саймону подкатил глайдер – “Форд-Универсал 1010” на воздушной подушке, тоже устаревшая, но весьма надежная модель. Машина опустилась на дорогу, дверца гостеприимно откинулась, на панели автопилота ожил и засветился голубым маленький экран. Саймон снял ранец, бросил на заднее сиденье и сел сам, ожидая, что сейчас ему намекнут о финансах. Но прорези для кредитной карточки нигде не было, а на дисплее мгновенно вспыхнула схема городских улиц и прилегайщей местности – яркая, многоцветная, с обозначениями на английском. – Маршрут? – осведомился безжизненный голос. Рассмотрев схему, Саймон приказал: – К Северному мосту. Затем проехать через город к Южному мосту и остановиться у ближайшего жилого здания. Скорость – не выше сорока километров в час. – Принято. Исполняю, – откликнулся робот. Дверца захлопнулась. С тихим шелестом машина приподнялась и заскользила над вымощенной желтыми плитками дорогой. Вокруг по-прежнему не было ни души. – Сведения о предпоследнем вызове – на экран, – сказал Саймон. – Имена пассажиров не фиксируются, произнес механический голос. – Имени не нужно. Вывести дату, время и маршрут. Схема на экранчике сменилась короткой записью: "ПЯТЫЙ ДЕНЬ * ОДИННАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ * 2364 ГОД * ВРЕМЯ 10:17 * МАРШРУТ: САММЕР ХОЛЛ – ПАРАДИЗ ДРАЙВ 230”. Саймон хмыкнул и оттопырил нижнюю губу. Если Считать по стандартному времени, до него этот глайдер вызывали двадцать девять лет, один месяц и восемнадцать дней тому назад. Почтенный срок! Сам он тогда еще не родился! – Других вызовов не поступало? – спросил он, глядя, как запись на экране вновь сменяется городской схемой. – Не поступало, – сухо отрапортовал робот. – Где люди? – поинтересовался Саймон и тут же уточнил: – Где пассажиры? Почему их нет? – Не имею информации, – прошелестел безжизненный голос. Беседовать с этим роботом было бессмысленно: в памяти его хранились лишь схема городского транспорта да три дюжины простейших команд – куда поехать, с какой скоростью, не включить ли в салоне свет и не развлечь ли пассажиров музыкой. Но развлекаться Саймон не хотел. Он нуждался в информации, а не в развлечениях. Глайдер плавно скользнул вверх, затем – вниз, минуя горбатое чудо из розового мрамора. Мостовой парапет был выполнен в форме фигурок херувимов с грозно подъятыми дланями, на въезде высилось изваяние карающего Христа, на выезде – милостивого и прощающего. Обе статуи были отлиты из какого-то сплава, сиявшего словно золото. "Форд” медленно покатил по городским улицам, просторным, безлюдным и чистым, будто их каждый день поливали водой с освежающими дезодорантами. Похоже, так оно и было – навстречу Саймону попадались трудолюбивые уборщики-крабы и другие машины, цистерны на колесах, увенчанные шлангами и розетками разбрызгивателей. Что касается города, то Византия напоминала ему кладбище, такое же ухоженное, как простиравшееся за мраморной стеной Мемориала Аддингтон в Грин Ривер. Тут, однако, не было баров, гостиниц и ресторанчиков – и, разумеется, людей; только пустые дома, цветы, деревья, изваяния на перекрестках, изображавшие великомучеников и святых, да команды полировавших асфальт и камень роботов. Машина сбавила скорость, проехав под аркой из золотистой яшмы, окруженной розовыми гранитными утесами. При арке были ворота, сейчас распахнутые настежь, – кружево из металлических стеблей, цветов и листьев, обрамлявших огромные причудливые ключи. Поглядев на них и вспомниво святом Петре-ключнике, Саймон догадался, что перед ним символ Райских Врат. Быть может, все византийские жители прошли в них, каким-то чудом перебравшись в мир иной, где звучат лишь мелодии арф да псалмы в честь Создателя?… Это было маловероятно и к тому же никак не объясняло возникновение сферы помех. За внешним кольцом розовых гранитных скал находилось внутреннее, из двух десятков хрустальных башен, армированных пластиком и металлом. Здесь был деловой центр города – несколько представительств крупных компаний вроде “Нейчьюрэл Фудз”, “Кибернетик Юнион”, “Ди-Кола” и “Аматэрасу”; пара банков и адвокатских контор; многочисленные магазины, лавочки антикваров и букинистов, приемные дантистов и врачей, ателье, рестораны и бары – явно безалкогольные; две стоянки – с глайдерами и маленькими пузатыми вертолетами; с полдюжины театров, над одним из которых красовалась надпись: “САММЕР ХОЛЛ”. Это заведение было расположено в нижнем этаже башни, воздвигнутой неподалеку от водопада – конечно, искусственного; прозрачные струи стекали в заросший кувшинками пруд, а оттуда – в канал, облицованный фигурной фаянсовой плиткой. Миновав крохотный мостик, глайдер повернул вдоль канала. Через минуту Саймон очутился на центральной площади: еще один пруд с кувшинками, еще одна вертолетная стоянка, Целый батальон уборщиков и молитвенный дом – уже знакомой архитектуры, но очень большой, игравший, очевидно, роль собора. Слева от него располагался административный корпус, а в строении справа за стеклянными стенами Саймон увидел нечто знакомое: огромный зал, похожий на саркофаг транспортный модуль и серебристый обод Рамы. – Стой! – приказал он, выскочил из машины и направился к станции Пандуса. Там не было никого, за исключением трех роботов-крабов устаревшей продукции “Кибернетик Юнион”. Нигде ни единого человека – ни в старт-финишном зале, ни в силовом отсеке, ни в диспетчерской, ни в служебных кабинетах. Повсюду чисто прибрано, генераторы выведены на холостой ход, штурман-компьютер отключен – и никаких следов блокирующих передатчиков. Саймон задумчиво посвистел, коснулся пальцем одного-другого экрана (пыли нигде не было) и вернулся в машину. "Форд”, как было велено, затормозил у Южного моста, возле двухэтажной гасиенды в мексиканском стиле – беленые стены, кирпичные колонны, просторные террасы, увитые плющом и диким виноградом, патйо с небольшим круглым бассейном посередине. В доме, как и на станции, царили идеальный порядок и чистота; все вещи прибраны, мебель накрыта чехлами, автоматическая кухня, прачечная и остальные электроприборы отключены. Саймон побродил по жилым комнатам второго этажа в поисках газет, компьютерных дисков или каких-нибудь бумаг и, не найдя ничего, спустился ниже. Со стороны улицы в доме была оборудована лавка – маленький магазинчик с торговыми автоматами, в которых, судя по картинкам, можно было получить всякие сладости, вафли, печенье и соленые орешки. Именно получить, а не купить, поскольку прорезей для жетонов или монет в автоматах не было, а были лишь клавиши заказа и пусковой рычаг – нажимай, дави и бери, что душе угодно. Таким образом, это заведение являлось скорей не лавкой, а общедоступным распределительным пунктом. Саймон дернул за рычаг, но не получил ничего – автоматы были, разумеется, дезактивированы. Как и все остальное в Византии, если не считать уборщиков и поливальных машин. Правда, еще имелись глайдеры и вертолеты… Подумав об этом, он вернулся к своему “Форду”, влез в него и спросил: – Отвезешь в Авалон, старина? – Маршрут? – раздался сухой голос. – Сказано – Авалон! Столица! Ты знаешь, где ваша столица, ржавый гвоздь? Та, что у реки Леты? Робот снова проскрежетал: – Маршрут? – Экий ты непонятливый парень, – вздохнул Саймон. – Кретин! Ни поругаться с тобой, ни побеседовать… Вот был бы здесь Каа!… Да, с Каа можно было поговорить, и поиграть, и не чувствовать себя в одиночестве. Саймон уже привык путешествовать с ним, но в этом походе пришлось обходиться без компаньона. Слишком он был опасен, этот поход – по крайней мере на начальной стадии. Кто знал, кто ведал, смогли бы они проскользнуть вдвоем в прорубленную деструктором щель?… Никто. И Саймон решил не рисковать. Каа, мудрый старый Каа, был Прощальным Даром Учителя. Не совсем Даром – ибо друга нельзя подарить, но можно его просить. И Чочинга, собираясь в Погребальные Пещеры, просил Каа сопутствовать Дику Две Руки, последнему из его учеников. “Он силен и молод, – говорил Чочинга, – он хитер и храбр, он обучен всем искусствам, всем дорогам кланов, тайным и явным, но он – ко-тохара. Одинокий ко-тоха-ра, неприкаянный!… Нет у него брата-уммы, и странствует он по жизни один, скитается в землях войны без спутника и друга… Будь же ему другом, Мудрый, – просил Чочинга, – будь ему спутником и братом, ибо что дороже брата могу я ему даровать и оставить?” Чочинга просил, и Каа внял просьбе. Два года назад, когда младший Саймон в очередной раз приехал навестить старшего, Каа был передан ему из рук в руки – вместе с прощальным словом Учителя. Теперь они жили вдвоем, в коттедже на орегонских холмах, в поселке сотрудников ЦРУ. В этом были свои преимущества и недостатки: с одной стороны, Ричард Саймон обзавелся пятиметровым изумрудным братцем, способным придушить быка, с другой – появились сложности с Девушками. Не то чтобы змей их не выносил или ревновал к ним – он лишь не любил, когда они прижимались к Саймо-ну. По мнению Каа, в слишком тесном и долгом контакте таилась опасность, и если уж дела дошли до схватки грудь о грудь, то надо побыстрей приканчивать врага, не кувыркаясь с ним в постели. Подумав о Каа и девушках, Саймон опять вздохнул и сказал: – Сообщи, на каком расстоянии от города ты можешь оперировать. Это было роботу понятно; он тут же доложил, что является транспортом местного назначения, с радиусом действия в сорок километров. До Авалона было триста двадцать пять, так что Саймон, отключив автопилот, уселся за руль сам. Он переехал через Южный мост – беломраморный и украшенный фигурами Девы Марии – и покатил на юго-восток, к середине острова и его официальной столице. Ехал не слишком быстро, озирая местность и любуясь великолепием речной долины, дремавшей среди пологих холмов. Шоссе было выстлано гранитными плитами – то есть являлось таким же капитальным и дорогостоящим, как и все прочие сооружения на Сайдаре. С обеих сторон его тройной шеренгой окаймляли кипарисы, и это опять напомнило Сай-мону Мемориал Аддингтон – там тоже росли кипарисы и на центральных дорожках лежал гранит. Примерно километров двести шоссе тянулось вдоль речного берега, затем пошло правее и вверх, взбираясь на западные отроги центрального плоскогорья, именуемого Троном Иеговы. Преодолев довольно высокий перевал, служивший границей водораздела, Саймон увидел еще один водный поток, раз в пять пошире Иордана, – Лету, струившую воды к заходящему солнцу. Авалон был выстроен в ее верховьях, у самого склона плато, и добраться к нему можно было бы за час. Однако на землю уже пали сумерки, и Саймон решил, что спешить ни к чему – тем более что рядом нашлась гостиница. Небольшой уютный отельчик, со смотровой площадкой на плоской крыше, бассейном и крохотным садиком с часовенкой… Людей здесь не было; как и в городе, за всем этим хозяйством присматривали роботы. Саймон стянул комбинезон и залез в бассейн; потом долго лежал в траве, любуясь звездами и дружной троицей спутников Сайдары. Они плыли по небу точно три серебряных лика со смутными, но, безусловно, человеческими чертами: яркий и круглощекий Отец, а за ним – две луны поменьше и потусклее, Сын и Святой Дух. Среди звезд Саймон заметил четыре особо крупных, алых и быстро движущихся – сателлиты системы “Аргус”, висевшие сейчас над южным полушарием. Эти многофункциональные космические станции, координировавшие связь и транспорт в масштабах всей планеты, стоили отнюдь не дешево – и сейчас, и столетие назад, когда их развесили по орбитам. Быть может, на них и установлены передатчики, мелькнула мысль. Если так, придется искать наземный центр управления… Он пролежал в траве больше часа, наслаждаясь покоем и тишиной, столь редкими в его профессии. Кажется, самым трудным было проникнуть на Сайдару, зато здесь не пришлось никого убивать и сражаться тут было не с кем. Тут не водилось даже комаров, и сейчас над Саймоном порхали только ночные бабочки с крыльями цвета пыли и пепла. “Чего же не хватало этим апи?… – подумал он, засыпая. – Они сотворили для себя рай на Сайдаре, так стоило ли торопиться в горние чертоги?…” Отметив, что эта мысль эквивалентна гипотезе о коллективном самоубийстве, Саймон уснул. Следующим утром, спускаясь с перевала, он был вознагражден за терпение: за поворотом дороги открылась башня с вращающимся куполом, а рядом с ней, на высоком решетчатом стебле, распускался стальной цветок гигантской антенны. Саймон притормозил свой “Форд”, вышел и обследовал установку от подвалов до чердаков. Долго искать ему не пришлось – в централи под куполом он обнаружил панели и экраны управляющих машин. Три стояли в резерве, одна работала, и доступ к ней не был перекрыт никакими паролями и сотрясающими мозги “калейдоскопами”. Исследовав пульт, Саймон уверился, что за пару часов сможет договориться с компьютером и снять блокировку. Это было третьим из его заданий, если вспомнить об их приоритетности. Он не стал торопиться и ничего не тронул на пульте. С одной стороны, сделать и знать, как сделать, были понятиями практически равносильными; с другой – ему хотелось подольше наслаждаться мирным покоем Сайдары. Если бы он мог перенести сюда Каа… или приятную девушку вроде Куррат ул-Айн или Хаоми Синдо… Но вместо них явится следственная бригада, чиновники Транспортной Службы и батальон Карательного Корпуса – так, на всякий случай… Ни мира, ни покоя, ни тишины! Подождем, решил Саймон, не будем спешить. Сначала он проведет инспекцию заводов “Аматэрасу”, затем разделается с блокировкой и выяснит ее причины… А может, наоборот: сначала выяснит, а потом разделается… Его начинало терзать любопытство; он не мог вообразить, как, зачем и почему апи Покинули свой благоустроенный мир, изолировав его вдобавок от человеческой Вселенной. Разве что события свершились насильственным путем… Но, глядя на мирные пейзажи Сайдары, в это было трудно поверить. Он тронулся дальше. Дорога из гранитных плит разматывалась под днищем глайдера бесконечной серой лентой, воздух был свеж, фруктовые рощи сменялись плантациями винограда, зревшего на солнечных откосах, плантации, в свой черед, уступали место фермерским усадьбам и дачным домикам горожан. Щебетали птицы, над лугами клевера слышалось гудение пчел, иногда заглушавшее мерный рокот мотора, ярко сияло солнце, и по небу плыли, торопясь к океану, стаи облаков. Мир, безопасность, тишина… Саймон чувствовал себя будто в раю. Первый человек в Эдеме! Только Евы со змеем не хватает. Дорога начала спускаться серпантином к городской окраине. Авалон, столица Сайдары, стоял меж речной излучиной и отрогами плато, что прикрывали город от восточных и западных ветров. Он был покрупней Византии, такой же зеленый, с такими же мраморными мостами и хрустальными небоскребами в центре; высотные здания окружали холм со срезанной вершиной, а на холме подпирал небеса трехбашенный собор. Саймон узнал его по виденным прежде снимкам: тут располагались Первый Молитвенный Дом, канцелярия Верховного Конклава и сам Верховный Конклав Церкви Судного Дня. Три соборные башни выглядели словно донжоны рыцарского замка, и каждая была увенчана шлемом из блестящей полированной стали. Саймон, однако, свернул не к городу, а к западным отрогам, где находилась промышленная зона. Здесь, за бронзовыми фигурными решетками, стояли в ряд корпуса “Кибернетик Юнион”, крупнейшей местной компании по производству роботов, компьютерных сетей и роботизированной медицинской аппаратуры – автоматических операционных, станций лайф-анализа и жизнеобеспечения, криогенных камер и доун-установок. Правда, последние тридцать лет продукции с маркой “CD” в Разъединенных Мирах не появлялось, но кто знал и кто помнил об этом? Разве лишь Служба Статистики ООН да надлежащие отделы ЦРУ… Проехав мимо уснувшего, погруженного в молчание завода, Саймон очутился на восьмиугольной площади. В центре ее бил фонтан, а за ним виднелись административное здание “Аматэрасу” и гигантский сборочный цех, совмещенный со станцией Пандуса. Этот комплекс производил боевые космолеты планетарного базирования и уже не являлся сугубо местным предприятием: треть его акций принадлежала ООН, а остальные – США, Японии и России. Но работали тут, разумеется, только апи. Судьба “Аматэрасу”, солидного промышленного концерна, в равной степени заботила ООН и правительства всех Стабильных Миров. Дело тут заключалось не в средствах и капиталах, замороженных на Сайдаре, и не в том, что владельцы не имели доступа к собственному имуществу, – для таких богатых стран, как Япония, Штаты и Россия, этот вопрос не был принципиальным. Их беспокоили иные проблемы – отсутствие сведений о разработках одного из крупнейших космических производств и невозможность получить их в обозримом будущем. Тридцать лет – солидный срок, и он становится просто гигантским, если вспомнить, что Сергей Невлюдов, как утверждалось в его частично расшифрованных дневниках, спроектировал Пандус за десять месяцев. Сюрпризы вроде фотонной тяги или эмиттера антиматерии, возникших словно “deus ex machina”, были великим державам совсем ни к чему; любую из подобных разработок полагалось производить под строгим контролем ООН, открыто и гласно – и, разумеется, в одном из Стабильных Миров. И хоть апи, по общему мнению, являлись людьми разумными, слегка чудаковатыми и не претендующими на галактическое господство, стоило все же помнить, что дорога от веры к фанатизму коротка. Представим, рассуждали в Совете Безопасности ООН, что у иерархов Сайдары появится мощное оружие, – чего тогда ждать от них? Будет ли неизменной их склонность к миролюбию? Или они захотят поторопить Апокалипсис, объявив, что такова воля Господа? Вот что стояло за краткой строкой предписания: “Инспекция комплекса “Аматэрасу” близ города Авалон”. Саймон провел ее на совесть, не обнаружив ни боевых звездолетов с фотонной тягой, ни кораблей иномирян с аннигиляторами. В огромном корпусе, чьи своды уходили вверх на стометровую высоту, лежали на платформах шесть планетарных заградителей класса “Майти Маус” и шесть легких крейсеров “Аматэрасу”. Все космолеты – местного производства, полностью оснащенные, с десантными модулями и орудийными башнями, но без ракет и боевых эмиттеров; казалось, они застыли здесь словно стадо дремлющих китов, ожидающих, когда сдвинутся массивные платформы, переместив их друг за другом в гигантский серебристый овал посреди цеха. Эта Рама была самой большой из когда-либо виденных Саймоном: четверть километра в длину и почти столько же в ширину, с обязательным факсимиле Невлюдова, изображенным гигантскими буквами. Над ней проходили стальные балки, свисали мощные челюсти кранов, удавами змеились кабели – все необходимое, чтоб переправить через космическую бездну ценный груз, весивший многие тысячи тонн. Саймон медленно пересек овальный обод, разглядывая корабли. На сдвоенных обтекаемых фюзеляжах “Маусов” стоял только номер, но крейсера, гораздо более крупные, с напряженными мышцами орудийных колпаков, были украшены литым изображением богини Аматэрасу с солнечным диском в правой ладони. Вероятно, это символизировало вклад Японии, владевшей изрядной частью всего того, что видел Ричард Саймон; японцы и прежде, и теперь не пропускали случая отдать дань традициям. Как выяснилось во время Исхода, их отличал гораздо больший консерватизм, чем, например, британцев. Те согласились, чтоб их новая родина (разумеется, остров!) была втрое обширней прежней и лежала на десять градусов южнее. Но японцы ценой колоссальных затрат воспроизвели свой архипелаг в точности, со всеми бухтами и хребтами, заливами и реками, скалами и прибрежным шельфом. Вдобавок они забрали с собой не только города, сады, могильники и древние храмы, но множество природных ареалов вместе с подстилающим скальным слоем. В результате в новой Японии имелось абсолютно все, кроме огнедышащих гор, а старая исчезла, затопленная океаном. Кроме того, океан поглотил часть Европы, Соединенных Штатов, Индии и Китая – все густонаселенные районы, поскольку транспортировка городов сопровождалась образованием гигантских трещин в земной коре. Так что судьбу Японии разделили Голландия и Бельгия, долины Ганга и Хуанхэ и область Великих озер, превратившихся в морской залив. Послав воздушный поцелуй солнечной богине, Саймон вернулся к своему глайдеру. От площади вниз скатывалась дорога с желобом монорельса посередине – центральный городской проспект, ведущий прямиком к холму и храму с тремя башнями. Когда-то жизнь переполняла его: по утрам горожане отправлялись сюда, к заводам и административным корпусам, вечерами ехали домой, шли в рестораны и кафе, в парки и дома молитв, и в сотню других приятных мест ава-донского рая. Сейчас широкий серый проспект был пуст; лишь кое-где возились неугомонные роботы, подбирая за птицами и полируя каменные мостовые. Усевшись в машину, Саймон с четверть часа пребывал в задумчивости. Его предписание было почти исполнено – за сутки, а не за месяц, как планировалось вначале, – но удовольствия он не ощущал. Ни удовольствия, ни чувства удовлетворения от хорошо проделанной работы. Собственно, работы не было, была прогулка. Он наведался в город, заглянул на станцию Пандуса и в частный дом, переночевал в отеле, проверил цеха “Аматэрасу” и убедился, что всюду царят безлюдье и пустота… Или наоборот: пустота и безлюдье! Теперь оставалось лишь повернуть на север, подняться в горы, к стальному цветку на решетчатой ножке, войти в башенку и повоевать с компьютером. Разделаться с этой чертовой блокировкой! Или… Саймон потер едва заметный шрам на шее, памятку о человеке, чьи пальцы теперь свисали с его Шнура Доблести. Здесь он не заработает ни новых шрамов, ни почета… – мелькнула мысль. Даже в том, как он попал на Сайдару, не было его заслуги; эта победа принадлежала трудолюбивым гениям-транспортникам. Кому-нибудь из умников, придумавших, как просверлить в сфере помех дыру и послать в нее Ричарда Саймона – пинком под зад, тычком в спину… И если он не совершит великого деяния – здесь, на Сайдаре! – то так и останется жалким подопытным кроликом. Без чести и славы! Подумав о великом деянии, Саймон ухмыльнулся и начал мысленно загибать пальцы. Итак, он побывал в жилище и в лавочке, в отеле и на заводе, у радиотелескопа и на станции Пандуса – можно считать, на двух… Другие дома, гостиницы и супермаркеты интереса не представляли, как и прилегающая к ним местность. Скалы тут были, бесспорно, живописными, а рощи – очаровательными, но вряд ли кто-то прячется в них, избрав судьбу питекантропа. Скорее стоило предположить, что Судный День на Сайдаре свершился – как персональный подарок праведникам, и что теперь все апи, от высших чинов до последнего адепта, пребывают в раю. А чтобы грешники не могли последовать за ними, воздвигнута божьим промыслом сфера помех… При этой мысли Саймон расхохотался и, запустив двигатель, вырулил на проспект, ведущий к храму. В храмах он еще не был, а этот являлся наиглавнейшим из всех; быть может, в нем разгадка тайны? В нем – или, скорее, в канцелярии Верховного Конклава, в компьютерных файлах, записях и сейфах с документами… В конце концов, не могли же эти апи испариться без следа! С тихим покорным урчанием глайдер двинулся вниз, вдоль блестящего желоба монорельса на титановых опорах, мимо домов с палисадниками и тротуаров, выложенных мрамором и кое-где переходивших в пологие чистые лестницы, мимо витрин магазинов и изящных решеток, ограждавших парки, мимо стаек роботов, суетившихся там и тут, словно огромные крабы на морском берегу. Вскоре здания сделались выше, парки исчезли, дорога выровнялась, а потом резко пошла вверх, взбираясь на склон довольно крутого холма. Он тоже не был природным образованием: глыбы базальта, сложенные в мнимом беспорядке, создавали странную и чарующую гармонию. Справа над дорогой нависала огромная статуя Бога-Отца, с простертыми руками и развевающейся бородой; он как бы колдовал над первобытным хаосом, повелевая глыбам сдвинуться, сгладить острые углы, закружиться по предписанным орбитам, и породить жизнь. Другой монумент, подальше, изображал Бога-Сына, со Святым Духом в виде голубя на левом плече и весами в правой длани – напоминание о грядущем судилище, где будут взвешены и исчислены все человеческие грехи. Ричард Саймон, истребивший не один десяток жизней, был, разумеется, грешником. Однако он без страха ехал вперед, утешаясь мыслью, что все его клиенты являлись отъявленными негодяями, по коим веревка плачет, и попали, конечно, на сковородки Сатаны. И Пономарь, сизокрылый голубь, и живодер Сантанья, и заносчивый князь Тенсинг Ло, и маньяк Дагана, и многие, многие другие… Без своего Шнура Доблести Саймон не мог уже вспомнить всех, кого проводил из лесов войны в пустыню смерти. А леса все не оскудевали добычей… "Форд” замер перед порталом огромного храма. Как и у прочих молитвенных домов, стены его были совершенно глухими, и только над самой землей темнели широкие амбразуры – для роботов-уборщиков, как было уже известно Саймо-ну. К дверям – или, скорее, вратам трехметровой ширины – вела лестница с десятью ступеньками, в обрамлении колонн; каждая пара колонн соединялась поверху стрельчатой аркой, украшенной золотыми буквами на лазоревом фоне. Арки постепенно понижались, так что восходивший па лестнице мог прочитать все надписи разом. Саймон вылез из глайдера и запрокинул голову. “НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА” – бросилось ему в глаза. Потом – “НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЯ ГОСПОДА ВСУЕ”, “ПОЧИТАЙ РОДИТЕЛЕЙ ТВОИХ”, “НЕ УБИЙ”, “НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ”, “НЕ УКРАДИ”, “НЕ ВОЗЖЕЛАЙ ДОМА БЛИЖНЕГО СВОЕГО”… Десять ступеней, десять арок, десять заповедей… По крайней мере половину из них ему случалось нарушать. Пожав плечами, Саймон взошел к вратам. На вид они были бронзовыми, с чудными барельефами, изображавшими страсти Господни, и он подумал, что такую красоту нельзя взрывать или калечить лазерным лучом. Возможно, он мог бы пробраться в храм через одну из амбразур, но этот способ был недостоин человека, вступающего в святилище. Он подумал, что запирали его не божественные руки, а то, что закрыто одними людьми, может быть вскрыто другими. Под всеми этими барельефами и благородной бронзой наверняка стоял компьютерный замок, а с ними Саймон умел справляться преотлично. Он вернулся к машине, обозрел все десять заветов, задержавшись на том, где бог не советовал вламываться в чужой дом, и пробормотал: “Дай богу богово, кесарю – кесарево, а домушнику – хорошую отмычку”. Затем полез в ранец и вытащил плоский диск дешифратора. С его умением и с этим приборчиком вскрыть любой замок не составляло проблем. Снова поднявшись по ступеням, Саймон приложил дешифратор к дверной створке и активировал его. Теперь полагалось поскучать пару-тройку минут, пока электронная отмычка не прозондирует все хитрые запоры, не разберется с паролями и кодами и не выплюнет их туда, где подслушанное будет прочитано, а прочитанное – одобрено. Обычно дешифратор сам справлялся с этой задачей, но иногда просил о помощи, и Саймон, опытный взломщик, был готов ее оказать. Ему уже слышался лязг капитулирующих запоров и скрежет отпираемых замков, когда он внезапно сообразил, что эти звуки идут не с другой стороны дверей, а откуда-то снизу, будто бы из-под земли. Движимый скорее инстинктом, чем разумом, он скорчился за колонной, затем упал и стремительно покатился по ступеням. Над его головой блеснула фиолетовая молния. КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Дейв Уокер расположился в кресле-качалке на заднем дворике своего коттеджа. В руках у него был стакан, у ноги – полупустая бутылка “Коммандос”, а под креслом валялась еще одна, сухая, как пески Восточной Пустыни на планете Аллах Акбар. Старый вяз простирал над ним свою зеленую крону, парившую легким облачком в синеве орегонских небес, а сами небеса были мирными, теплыми и ласковыми. Но Уокер в них не смотрел. – Что, недоволен? – произнес он, разглядывая огромного змея, свернувшегося в траве. Затем отхлебнул глоток, зажмурился и, облизнув губы, спросил: – Беспокоишься за хозяина, приятель? Питон приподнял голову и протестующе свистнул. Дик Две Руки вовсе не был его хозяином; братом, другом, на худой конец – существом, которое полагалось охранять и защищать, но никак не хозяином. Впрочем, рыжему двурукому в кресле таких тонкостей их взаимоотношений не понять. Животных он рассматривал как слуг или как жаркое, а Каа, мудрый старый змей, не был ни тем и ни другим. – Беспокоишься, я вижу, – сказал Уокер. – А зря! Хозяин твой парень не промах: если в палец вцепится, так доберется и до ушей… или до печенки… – Пригубив из стакана, он добавил: – Так что ты не тревожься, вернется он, непременно вернется. И я от тебя наконец избавлюсь, пиявка-переросток. Змей испустил шипение – на сей раз довольно мирное. Этот рыжий принадлежал к тому же клану, что и Дик Две Руки, значит, его полагалось считать союзником. Эманация, исходившая от рыжего, была полна приязни и необидной насмешки. – Ты загадки любишь? – спросил Уокер, добавляя в стакан из бутылки. – Вот скажи-ка мне, что это такое: длинное, зелбное и шипит? Каа лязгнул огромными челюстями. – Правильно! Это ты и есть! Отгадал ведь, стервец! – Жидкость булькнула, и стакан опустел. – А теперь скажи: жрать хочешь? Или пить? Питон захлопнул пасть. Пища была ему не нужна – день назад рыжий скормил ему полсотни отменных бифштексов. Пить он тоже не хотел. – Ну, раз не желаешь есть и пить, послушай историю, – заметил Уокер с кривой усмешкой. – Надо признаться, смущаешь ты меня, парень… Как гляну на тебя, так пойло в глотку не лезет. А знаешь, почему? Потому, что ты – зеленый змий, символ, можно сказать! – Он приподнял бутылку и встряхнул ее. – Я как тебя увидел, сразу догадался, кто ты таков. Ведь вообще-то таких здоровых зеленых пиявок в природе не существует, за одним-единственным исключением. Вот я и думаю, что ты то самое исключение и есть. Уокер хлебнул прямо из бутылки, снова ухмыльнулся и спросил: – Ну, так рассказать историю? Не обидишься за правду? Правда, она, бывает, глаза колет… Питон негромко зарокотал, и в этом звуке слышалось нечто поощряющее. Ему, похоже, правда глаз не колола. – Раз так, слушай, – сказал Уокер. – Случилось это в давние-давние времена, когда Господь, в милости и благости своей, творил наш прежний мир. Старую Землю. И всем тот мир оказался хорош, обилен травами да водами, лесами да зверями, только не было в нем человека. И решил Господь, что это непорядок; а решивши, нагреб кучку глины или еще какого-то дерьма, размочил его водой и вылепил первого человека – сам понимаешь, техасца. Вернее, тот парень по имени Адам тогда еще не был техасцем, а проживал в Эдеме – я так полагаю, где-то в Калифорнии, под Лос-Анджелесом. Красивые там были места, ничего не скажешь, но одному и в Калифорнии тоскливо. Ни девочек тебе, ни выпивки, ни друзей-приятелей, одни фрукты, яблоки да апельсины… Ну, иногда банан для разнообразия или там персик со сливой… Короче, не выдержал парень жизни такой и взмолился, чтоб Господь сотворил ему подругу. Господь, разумеется, внял и сотворил. Девочка вышла красоткой – калифорнийская роза, и только! Ну, ты понимаешь, когда сам главный босс берется за работу… Тут Уокер причмокнул, наклонил бутыль и сделал основательный глоток. – За здоровье нашей праматери! – пояснил он питону. – А теперь слушай, что случилось дальше. Стали Адам и его подружка жить-поживать, невинные и безгрешные, как пара кастрированных голубков. Только дьявол, враг рода человеческого, не дремал и явился как-то Адамовой подруге средь ви-. ноградных кущей… Иные говорят, что висел он будто бы на яблоне, но я полагаю, – Уокер многозначительно поднял палец, – что тут без винограда не обошлось. Видишь ли, виноградный сок бродит сам собою, а вот с яблочным проблемы… Ну, к счастью, не мои и не твои! – Тут он снова сделал глоток и продолжал: – Словом, является дьявол нашей праматери среди цветов и лоз и начинает ее искушать насчет спиртного. А был он точь-в-точь как ты – этакая здоровенная длинная кишка, но в черной шкуре, а может, в серой с пятнами и с желтым брюхом, как полагается всякому змею… Ты случайно цвет не запомнил? – Хитро прищурившись, Уокер уставился на питона, но тот, приподняв голову, издал лишь тихий вопросительный свист. – Не запомнил? Ну, ладно… Не устояла, значит, Адамова подружка перед искушением, приготовила чан вина и поднесла Адаму. Выпили они, захмелели с непривычки, разгорячились – а трава в Эдеме была такая мягкая! Вдобавок и одежды на них никакой… Тут их Господь и застукал. Прогневался, сам понимаешь! Проклял и выгнал. И куда, как ты думаешь? Да прямиком в Техас! А Техас – это тебе не Калифорния, там за каждый персик кровью умоешься… Зная о том, Господь сделал Адаму послабление – посулил выполнить пару-тройку просьб, но советовал ими не разбрасываться, а приберечь на крайний случай, когда станет уж совсем невмоготу. С тем он Адама и выгнал; а вслед за Адамом увязался дьявол. И вот ты представь себе: бредут прародители наши в пустыню, в распроклятую глушь, ковыляют в тоске, позеленевшие с похмелья, а за ними волочится змей и поучает их – да еще с этакой издевкой и превосходством… Особенно прохаживался он насчет оттенка Адамова лица, и так допек беднягу, что тот не выдержал, плюнул и говорит: “Чтоб ты сам позеленел, желтобрюхое отродье!” Ну, так оно и случилось, по божьему слову и велению, – закончил Дейв Уокер. – Но вот что я тебе скажу: хоть змей позеленел, а с Адамом и его потомством не расстался. И с тех самых пор мы, Адамово племя, боремся с ним и уничтожаем при Первой возможности. Вот так! – Опрокинув бутылку, он выплеснул в рот последние капли. Прошло минуты три или четыре, и Уокер начал похрапывать. Каа, мудрый старый змей, свернулся в траве; в лучах послеполуденного солнца его спина и хвост отблескивали изумрудными сполохами, а голова, где чешуйки были мельче и тусклее, казалась вырубленной из зеленоватого нефрита. Он, разумеется, был не персонажем библейских легенд, а всего лишь танцующим питоном с Тайяхата; он не искушал женщин, а помогал воинам, обучая их в течение долгих, долгих лет. Но последний из этих воинов, его брат и друг, находился сейчас так далеко, что Каа не мог представить всю огромность разделявшего их пространства, ту безмерную черную пустоту, тот леденящий край, который люди звали космосом. Он тем не менее ощущал, что брату его грозит беда, и это чувство было тревожащим и неприятным: ведь он не мог ни защитить его, ни спасти, ни научить. Он мог лишь ждать и слушать храп рыжеволосого двурукого. Он ждал.Глава 14
Это был разрядник. Уже прыгнув на сиденье глайдера и врубая полную скорость, Саймон подумал, что замки оказались с секретом. Очевидно, попытка взломать их приводила в действие защитную систему – насколько мощную и эффективную, оставалось пока неясным. Ясно было одно – тут, на площади перед храмом, он беззащитен, как мышь в пустой комнате. Человек, пусть обладавший его даром, его опытом и реакцией, все же не мог состязаться с электроникой, ибо лазерный луч быстрее пули и стремительней ветра. Почти инстинктивно Саймон прикинул, что стреляли откуда-то снизу и справа, чуть ли не с уровня земли. Но если на башнях тоже стоят разрядники, дело его труба. Оттуда простреливалась вся площадь и улица у подножия холма, а мощный эмиттер бил далеко. Сожгут! Или просверлят дыру величиной с кулак… Правда, глайдер казался довольно прочным и мог защитить от первой атаки. Машина с гулом ринулась вниз, с башен не стреляли, и Саймон облегченно вздохнул. Сейчас он находился в мертвой зоне; гребень холма защищал его вплоть до подножий божественных статуй. Потом он выедет на прямую и, весьма вероятно, сверху начнут палить… Или все-таки не начнут? Раз не стреляли на площади, значит, на башнях нет ничего опасного… ни лазеров с автоматической наводкой, ни пулеметов… На башнях – нет, а где же есть? Под землей В подвале? В этой конюшне ассенизаторов-крабов? Саймон сбросил скорость, резко свернул за массивный гранитный постамент Творца Иеговы И оглянулся. Брови его поднялись в изумлении. Его преследовали четыре многоногие машины, напоминавшие роботов-уборщиков, но более крупные, с овальными ребристыми щитками и парой лазерных боеголовок. Они двигались довольно быстро – пожалуй, с такой же резвостью, как самый мощный глайдер, и сейчас находились на расстоянии метров двести. Саймон уже видел солнечные блики на металлокерамической броне и блеск приподнятых на выдвижных стержнях эмиттеров. Стержни, похожие на усики насекомых, чуть заметно раскачивались, и каждый был увенчан гладким сверкающим цилиндром разрядника с вращавшейся над ним антенной. Вероятно, они излучали какой-то сигнал, так как подбиравшие мусор крабы тут же втягивали ножки, валились на землю и замирали в неподвижности. Один замешкался, и боеголовка на крайней машине, стремительно развернувшись, послала фиолетовый луч. – Точно в цель, отметил Саймон, вытряхивая из ранца весь наличный арсенал. Как правило, он отправлялся в свои вояжи налегке, или с компактной “сельвой”, или с “рейнджером”, не столь скорострельным и тяжелым, как “амиго” и “коммандо”, но более подходящим в полевых условиях – его можно было спрятать под одеждой и выхватить в один момент. Но на сей раз, учитывая неординарность ситуации, его снарядили гораздо капитальней: кроме “рейнджера”, был портативный гранатомет с газовыми и фризерными зарядами, пара контейнеров с “вопилками”, похожими на песок и вырубавшими любые электронные системы, пара обойм с крохотными, с ноготь, но очень мощными кумулятивными детонаторами. Имелся и разрядник – “STN-500”, детище российского завода в Прикарпатье, в городке Сатанов. Его обычно называли “сатаной”. Это было мощное оружие, а в данном случае – спасительное, поскольку ни газ, ни пули, ни фризерные снаряды остановить преследователей не могли. Равным образом как и взрывчатка: детонатор мог проломить любую броню, но не с двухсот метров. Руки Саймона потянулись к разряднику. Нажав на спуск, он аккуратно срезал дверцу глайдера (чтоб не мешала стрелять) и с ходу рванул поперек проспекта, посыпая его кристалликами “вопилок”. Против мобильных систем, танков и боевых машин класса “саламандра” это средство считалось неэффективным; обычно они проскакивали зараженный участок без потерь, лишь ненадолго глохла автоматика. Но Саймон решил, что овчинка стоит выделки. Отчего бы не попытаться? В конце концов, за ним гнались не “саламандры” с экипажами, а всего лишь четверка роботов. Глупых роботов, умевших только преследовать да стрелять! Однако стреляли они неплохо. Он едва успел развернуться у витрины какого-то супермаркета, как оттуда брызнуло расплавленное стекло, а одна из фиолетовых молний прошила задние дверцы глайдера. Пустив машину прихотливыми зигзагами, Саймон оглянулся и отметил, что один преследователь, остановленный “вопилками”, торчит у пьедестала Иеговы, будто сам Господь повелел ему не торопиться и притормозить. Но остальные шустро скакали вперед – метрах в ста пятидесяти от его “Форда”. Их антенны и разрядники дергались туда-сюда в том же рваном ритме, в котором Саймон вел машину; и казалось, что он, выворачивая штурвал глайдера, заодно управляет движением нацеленных в него стволов. На крохотный миг Саймон развернулся к троице преследователей бортом, вытянул руку и дважды нажал на спуск. Две беззвучные молнии сорвались с его разрядника: первая срезала излучатели, вторая прошлась под корпусом механической твари. Подбитый робот будто бы споткнулся на бегу, заскрежетал по каменным плитам, потом начал заваливаться набок – вероятно, опорные стержни были повреждены. Его партнеры выстрелили, и прозрачный купол над головой Саймона треснул; кабина наполнилась дымом, и горячий осколок, просвистев у его щеки, врезался в экран автопилота. – Ты был хорошим парнем, недалеким, но послушным, – сказал Саймон автопилоту. – Пусть дух твой летит до Небесного Света! Если у тебя есть дух… Он высунулся из кабины и выпалил в крайнюю тварь. На этот раз ему не повезло: луч ударил в лобовую броню, а рас-стояние было слишком большим, чтобы прожечь металлоке-рамический щит. Робот, однако, стал двигаться без прежней резвости. Переборов искушение добить его, Саймон сбросил скорость и свернул в ближайший переулок – и весьма вовремя. Сзади что-то грохнуло, кабину снова наполнил удушливый дым, и глайдер с протяжным предсмертным стоном лег на дорогу. Эти машины отличались полной безопасностью; взрываться в них было нечему, а корпус был практически несгораем и плавился только под лазерным лучом. Как раз нынешний случай, подумал Саймон и, подхватив ранец с драгоценным снаряжением, метнулся в ближайшую подворотню. Там он замер, прислушиваясь и стараясь не втягивать носом воздух – вонь от тлеющего пластика была омерзительной. Вскоре за углом раздалось частое “тук-тук”, и последний робот, подрагивая антеннами, напоролся прямо на излучатель Саймона, который в одно мгновение срезал эмиттеры, прошелся по опорным стержням и за пару секунд прожег отверстие в металлокерамике – рядом с фабричной маркой, буквами “CD” в обрамлении лавровых ветвей и крохотных шестиугольных звезд. Робот дрыгнул остатками опор и затих, а Саймон, потирая виски, в изумлении уставился на клеймо “Кибернетик Юнион”. Боевой робот! Пусть примитивный, зато с весьма приличным вооружением! И без всяких комплексов вроде Первого Закона роботехники! Способный палить в человека! Остряки, ничего не скажешь! Последнее соображение относилось уже к конструкторам “Кибернетик Юнион”. Никто никогда не создавал боевых роботов. Были системы управления огнем, были ракетные комплексы и сети – “Арес”, “Ариман”, “Георгий Победоносец”, “Вальхалла”, “Апокалипсис”; была автоматика на боевых машинах и космолетах, были тактические и стратегические компьютеры, мобильные и наземные, способные командовать армией или разыграть войну на сорок ходов вперед. Но роботов не было. Робот – это не компьютер и даже не танк, снабженный компьютером; робот в определенном смысле эквивалентен человеку, в данном случае – солдату. Он должен опознавать своих и чужих, управляться с любым оружием, оценивать обстановку, знать, когда идти в атаку и когда отступать, когда уместны героизм и самопожертвование, а когда лучше удариться в бегство. Словом, он должен не только действовать, но и думать! Но системы искусственного интеллекта при всей миниатюрности микросхем были пока что громоздкими и не могли тягаться с человеком на поле брани. Во всяком случае, героизма они проявлять не умели и своих от чужих отличали с большим трудом – обычно не по внешности, а с помощью паролей. Война же – как, впрочем, и полицейская служба – была столь непростой формой человеческой деятельности, что ее механизация в низовом звене казалась полной фантастикой. Все это Саймон знал, но знал и другое – совсем несложно сделать робота, палящего по любой живой мишени – или, к примеру, по двуногой. Задачу можно упростить, запрограммировав такую тварь на поражение всего, что движется и шевелится… Вероятно, в “Кибернетик Юнион” пошли таким путем – если вспомнить про сожженного краба-уборщика. Саймон пнул ногой прожженный корпус, сплюнул и дворами выбрался к проспекту. Дворы утопали в зелени и цветах, лилиях и ярких осенних георгинах, а ближе к тротуару стоял киоск с прохладительными напитками, под серебристым тентом, в окружении карликовых пальм. Тут Саймон дождался подбитого робота, влепив ему полный заряд в ребристое брюхо. Все же у партизанской тактики есть свои преимущества, подумал он, довольно усмехаясь; потом вызвал новый глайдер (на сей раз – “Линкольн-Фрегат”) уселся в него и покатил к холму. Мимо парков и роскошных зданий, мимо суетившихся у обочин уборщиков, мимо двух застывших тварей и двух статуй с Божественной троицей, готовой творить и судить. В этом таилась какая-тонелепость, и Саймон, наморщив лоб, понял, что именно его раздражает. Стоило ли трудиться и создавать Вселенную, а в ней – человека, чтоб затем выпустить в мир уйму всяких грехов и предать согрешивших Страшному Суду?… Вариант первородного хаоса или всеобщего и неизменного рая казался ему более логичным. Но на сей счет у богов, у Иеговы, Аллаха и Будды, было свое мнение. Дешифратор, прилипший к двери под арками с Десятью Заповедями, переливался зеленым – верный знак, что замки и запоры не устояли. Саймон приладил за плечами ранец, толкнул тяжелую створку и вошел. В руках его хищно покачивался разрядник – ни дать ни взять сатана, попавший в храм. Но стрелять было не в кого; многоногие машины не появлялись, и под гигантским куполом, вознесенным на стометро-ную высоту, царили мрак и тишина. Поколдовав немного над своим браслетом, Саймон дал команду включить свет. Люминесцентные светильники опоясывали круглый зал кольцом; стены его были гладкими, пустыми и суровыми, но на полу, выложенная всеми оттенками алой, красной и багряной смальты, сияла картина грядущего Апокалипсиса. В дальнем конце, напротив врат, высился крест с распятым Христом и небольшая кафедра на подиуме из черного камня. Больше ничего. Строгое убранство храма как бы контрастировало с уютным, мирным и зеленым городом Авалоном, напоминая про тщету земных усилий и грядущий День Расплаты. Слева и справа от Саймона были глубокие ниши с распахнутыми настежь дверями. Он осмотрел их. За каждой дверью изгибались коридоры к левой и правой башням; одна служила местом заседания Конклава, в другой размещалась канцелярия. Немного поколебавшись, он свернул в правый проход и почти сразу же натолкнулся на лестницу, скрытую скругле-нием стены. Серый мрамор, широкие ступени, один пролет и площадка в конце… Саймон, озираясь и прислушиваясь, спустился. Площадка встретила его мертвой тишиной и неярким светом, что струился из молочной полусферы у потолка. Еще три двери – прямо, слева и справа, все закрытые. Оглядев их, Саймон пробормотал: – Налево пойдешь – принцессу найдешь, направо пойдешь – в кабак попадешь, прямо пойдешь – головы не спасешь. Принцесса была лучшим из вариантов, и он, усмехнувшись, повернул клевой двери. За ней раскрывалась широкая галерея с амбразурами у потолка; к амбразурам тянулись наклонные металлические помосты, а напротив них стояли многоярусные стеллажи – таких габаритов, что на каждой полке разместился бы тайя-хатский кабан-носорог. Носорогов, впрочем, тут не водилось, а возлежали на полках уборщики-крабы числом за сотню; каждый пристыковался к энергетическим разъемам, торчавшим в стене, и будто бы дремал. Один стеллаж, пошире и покрупнее прочих, был пуст, и Саймон, пересчитав полки – ровно четыре! – присвистнул и вымолвил: – А вот и спаленка наших покойных принцесс! Только принц им попался зубастый… можно сказать, разбойник, а не принц. С такой ба-альшой штучкой! – Он погладил вороненый ствол “сатаны” и выразительно хмыкнул. Коридор изгибался кольцом под всей центральной башней и вывел его к двери, а затем – обратно на площадку под лестницей. Итак, два варианта отпали; оставался третий – последняя дверь и некое помещение, лежавшее за ней, прямо под главным залом святилища. Судя по верхнему этажу, оно было немаленьким – метров восемьдесят в поперечнике, как прикинул Саймон. Он подергал дверь и убедился, что она не заперта. Собственно, к чему тут запоры? Весь этот мир был закрыт, а от птиц и зверей людские жилища стерегли роботы. Правда, храмы охранялись тщательней, чем все остальное, но это лишь указывало на их особую важность. Храм… Хра-м-м-м… Хранилище… Какую же тайну ты хранишь?… Облизнув пересохшие губы, Ричард Саймон перешагнул порог. Перед ним открылась просторная камера с прозрачным полом, напоминавшим огромную, немного выпуклую линзу. Сквозь нее просачивался мягкий зеленоватый свет, и на мгновение Саймону почудилось, будто он попал в дупло гигантского дерева где-то на Тиде или в подводную пещеру близ одного из таитянских островов. Но это помещение, правильной цилиндрической формы, с возвышавшимся в центре лифтом, было создано человеческими руками. Не дупло, не подводный грот, а некий холл, вестибюль, откуда можно попасть на подземные этажи… Сколько их тут, под этим трехбашенным храмом? Саймон решительно направился к похожей на огромный снаряд хрустальной кабинке лифта. Под его ногами разверзалась пропасть; он видел бесконечные ярусы, кольцом обнимавшие шахтный ствол и тонувшие где-то внизу, в призрачной зеленоватой дымке, он различал блеск хромированных мостиков, труб, панелей и перил, изумрудные отсветы на крышках бесчисленных саркофагов, мигающие огни на серповидных пультах, лес прозрачных округлых колонн, в которых в завораживающем гипнотическом танце плавно струились разноцветные жидкости. Казалось, этот колодец, полный нефритового сияния, пронизывает Сайдару, от южного полушария до северного, проходит сквозь раскаленное планетное ядро, сквозь мантию, сквозь твердь земную и воды океана; и храм, что высился над ним, казался лишь крохотной пробкой. Соломоновой печатью на зачарованном магическом сосуде. Разумеется, Саймон знал, что это иллюзия, но невольный трепет коснулся его: тут, под ногами, лежал настоящий Авалон. Не улицы и дома, не площади и проспекты, не мосты над рекой, не фабрики, не банки и конторы, не сады, не фонтаны, а люди… Мириады людей! Семьсот тридцать тысяч, если быть совсем точным. И еще триста девяносто тысяч человек в Византии, двести семьдесят пять тысяч – в Китеже, и около трех миллионов – в других градах и весях Сайдары… Зачем они это сделали? Помешались? Разом сошли с ума? Или решили исполнить некий завет, новую заповедь, которой не было на Моисеевых Скрижалях? Саймон вошел в кабину лифта. Она была огромной, рассчитанной на сотню человек, – неудивительно, если вспомнить, сколько сотен тысяч лежали сейчас под ним на бесконечных ярусах нефритового колодца. По окружности кабины, на высоте двух человеческих ростов, шли надписи золотом, на русском, английском и японском. “СПЯЩИЕ НЕ ГРЕШАТ, – прочитал Саймон, – И ВСЕ, ЧТО ОНИ УЗРЕЛИ ВО СНЕ, НЕ ЕСТЬ ГРЕХ. БЛАГОСЛОВЕННЫ СПЯЩИЕ И ОЖИДАЮЩИЕ!” Вероятно, это и было одиннадцатой заповедью апи, их добавлением к Божьему Закону. Саймон мрачно кивнул, будто соглашаясь с написанным, и пробормотал: – Спящие не грешат и не живут. В их Шнуре Доблести нет крысиных клыков и нет трофеев победы. Ни чести, ни славы! Он протянул руку к маленькому рычажку на стене и повел его вниз вдоль оцифрованной прорези – до самого конца. Кабина дрогнула и начала спускаться. Тут было полсотни ярусов, тысяч по пятнадцать человек на каждом. Насколько Саймон мог разобрать, они лежали не в камерах гибернации – их саркофаги оставались прозрачными, не окутанными инеем, и температура в этом хранилище была нормальной. Колонн и прозрачных труб для питательных растворов в криогенных камерах тоже не полагалось, так как глубокий холод сводил физиологию к нулю: замороженные не дышали, не нуждались в пище и практически не старели. То, что видел Саймон, скорей походило на гигантскую доун-установку со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения; в таких устройствах физиологические процессы тормозились на порядок, и в медицинской практике их применяли для реабилитации пациентов, которым грозила клиническая смерть. Но в принципе у здорового человека доун поддерживал жизненные функции весьма солидный срок – столетие, если не два. Эта аппаратура считалась исключительно надежной, автономной и отработанной до последних мелочей. Ее производили сотни фирм, больших и малых, в любом Стабильном Мире, в Независимых Мирах и в Мирах Присутствия, в Колониях и даже на Сельджукии, чей ИТР оставлял желать лучшего. “Кибернетик Юнион” была одним из признанных лидеров в этой области. Кабина лифта неторопливо ползла вниз, и сквозь ее хрустальные стенки Саймон разглядывал ярус за ярусом, скользившие мимо него в призрачном зеленоватом свете. Все они выглядели одинаково: с края, по периметру колодца, громоздились шкафы и пульты системы жизнеобеспечения – экспресс-анализаторы, газообменники, резервуары искусственной пищи, датчики медикаментов, дозирующие установки, аппаратура лечебного сна; дальше веером расходились высокие цилиндры питателей, похожие на лес мерцающих колонн, а между ними холодно поблескивали саркофаги. Каждый размером с приличный гроб, с закругленными углами, на – металлической подставке, скрывающей распределительные кабели и шланги. Издалека они казались Саймону месторождением огромных алмазов, кристаллизовавшихся в удивительно строгом и стройном порядке; их ряды тянулись так далеко, что он не видел противоположных стен. Кабина замерла. Самый нижний ярус выглядел на удивление просторным и пустым – тут стояли сотни две саркофагов, а за ними, напротив дверцы лифта, возвышался какой-то агрегат в металлоке-рамической броне, с небольшим наклонным пультом и монитором с выступами динамиков. Перед ним виднелось кресло. Саймон медленно двинулся вдоль шеренги саркофагов. Лежавшие в них были, очевидно, обнажены, но прикрыты до подбородков мягкой белой тканью; голову каждого плотно обхватывал контактный шлем, так что он видел одни лишь лица – в основном людей пожилых или совсем преклонного возраста, бородатые, с сомкнутыми веками. Черты их были различны, но все они хранили строгое, властное выражение, некий отблеск суровой убежденности в собственной правоте и непогрешимости своих решений. Саймон понял, что видит иерархов – тех, кому подчинялась Сайдара, кто точно знал, когда архангелы вострубят в трубы, когда раскроются небеса и грянет Судный День. Они ждали его здесь, в тишине и мире, скованные сном. Ибо спящие не грешат, спящие благословенны, и сновидения их не есть грех. Среди суровых старцев встречались люди помоложе, женщины и мужчины – вероятно, те, кто настраивал всю эту систему и заснул последним, приобщившись в знак такой заслуги к среде властителей. Десятка четыре саркофагов оказались свободными, с откинутыми крышками и втянутыми штуцерами системы жизнеобеспечения; за ними стоял саркофаг с поразительно красивой рыжеволосой девушкой, и Саймон долго всматривался в ее спокойное прекрасное лицо. Казалось, на алых губах блуждает неуловимая улыбка, а веки вот-вот распахнутся, взметнув опахала ресниц… “Какие у нее глаза?… – мелькнула мысль. – Серые? Синие? Карие? Нет, зеленые, – решил он наконец. – У рыжеволосых девушек, столь совершенных, как эта, зрачки всегда зеленые”. Со вздохом покинув спящую красавицу, он направился к креслу перед бронированным агрегатом. Над его высокой спинкой тоже блестел коммуникационный шлем – значит, с владыкой этого царства снов можно было общаться наипростейшим и самым современным способом. Саймон сбросил с плеч ранец, положил его у кресла, а сверху – так, чтоб дотянуться побыстрей, – пристроил излучатель. Несколько секунд он всматривался в наклонную панель под выступающим экраном монитора, но ничего интересного не обнаружил – ни клавиатуры, ни каких-либо кнопок и рычагов. Это еще раз подтверждало, что перед ним компьютер высшего уровня, пусть слегка устаревший, но мощный, способный вести беседу с человеком почти на равных. Он уселся в кресло и надвинул колпак коммуникатора. На расстоянии протянутой руки тут же вспыхнула панель с клавиатурой – под самым экраном, где секундуназад поблескивал лишь металл обшивки. Панель была побольше, чем у современных машин, другой конфигурации и окраски, что Сай-мона не удивило – в конце концов, этот компьютер собрали в те времена, когда родители его еще не встретились, а сам он пребывал в местах, посещаемых одними аистами. Вытянув руку (сквозь лицевой щиток она казалась блестящим и гибким манипулятором), Саймон отстучал стандартные коды вызова. Экран озарился и засиял неярким лунным светом, динамики тоже ожили, испустив мелодичную долгую трель; казалось, под бронированным колгТаком машины чирикнула птица. На экране возникли слова: "СПОСОБ ОБЩЕНИЯ?” – Акустический, – произнес Саймон. – Хочу потолковать с тобой по душам, старая жестянка. – К общению готов, – отозвался голос. Не безжизненный, как у робота-водителя, а сочный и мягкий баритон. Таким голосом только проповеди читать, мелькнуло у Саймона в голове. Словно подслушав его мысли, компьютер спросил: – Должен ли я в начале беседы воздать хвалу Господу? – У Господа сегодня выходной, – отозвался Саймон. – Просили не тревожить. А вот тебе не помешало бы представиться. Не с Господом беседуешь, с человеком, а человек – не всеведущ. – Паскаль-15, серийный номер 33/21, – произнес компьютер звучным баритоном. – Велением Верховного Конклава поименован как Иаков Старший. Камень мой – халцедон, а атрибут – палица. "Иаков Старший, надо же! Повезло, что не Иуда Искариот”, «Иаков Старший – один из двенадцати апостолов. Согласно христианской символике, его атрибутами были халцедон и палица.» – подумал Саймон и сказал: – Я буду звать тебя Паскалем. Паскаль был поумнее всех двенадцати апостолов, хоть ты, я думаю, этого не знаешь. – Я знаю, – прозвучал мягкий голос. – Я знаю, кто такой Блез Паскаль. Объем моей памяти сорок алеф-бит «Алеф-бит – единица измерения компьютерной памяти, принятая в двадцать четвертом веке.». – Это впечатляет, – согласился Саймон. – Очень приличная память. Ты, вероятно, помнишь каждую муху, что пролетела здесь за последние тридцать лет. – Здесь нет мух, – заметил Паскаль-Иаков. – Только люди и я. Люди спят, я бодрствую. Я – Координатор Авалонского Хранилища. – Твое назначение? – Первое: поддерживать в норме жизненные функции каждого спящего. Второе: поддерживать связь с Координаторами других Хранилищ, при необходимости – оказывать им помощь. Третье: поддерживать собственные жизненные функции. Пока не придет час, назначенный Господом, дабы судить, карать и миловать… – Звучный голос Паскаля вдруг стал тихим, почти шепчущим. – Быть может, этот час уже пришел? – поинтересовался он. – Быть может, ты – Его посланец? – Нет, – ответил Саймон, – я из другого ведомства. Бывает, мы тоже судим и караем, но перед этим задаем вопросы. Надеюсь, ты сможешь ответить на них. – В пределах моей компетенции, – скромно произнес Паскаль и смолк. "С ним можно разговаривать, – пронеслось у Саймона в голове, – разговаривать и договориться. Сорок алеф-бит, подумать только!” Интеллект Паскаля был очень высок – не меньше, чем у аналитических компьютеров ЦРУ и машин глобальных долговременных прогнозов в сфере социологии и экономики. Пожалуй, единственным неприятным моментом являлась его религиозная ориентация – несомненное влияние порядков, которым подчинялась Сайдара. Но Саймон полагал, что в личности Паскаля все же превалируют здравомыслие, практичность и трезвость. Этим отличались все искусственные интеллекты – и они совсем не умели лгать. – Что происходит со спящими? – спросил он после долгого раздумья. – Все физиологические параметры в пределах нормы, – тут же откликнулся Паскаль. – Соотношение биологического времени к реальному – один к двенадцати. Нет сомнений, что все спящие праведники доживут до две тысячи четырехсотого года и будут призваны нашим Творцом… – Он – не твой Творец! – прервал Паскаля Саймон. – Я тебя сотворил. В широком смысле слова, разумеется. И приказываю не поминать больше имя Господне всуе. – Приказ понял, – произнес Паскаль с легкой обидой. – Осмелюсь тем не менее доложить, что я крещен и удостоен сана дьякона. И крестил меня лично Верховный Иерарх, всеблагой Симеон Рувим Казетти. Саркофаг 1-А, первый ряд с левой стороны. Саймон решил не обращать внимания на этот комментарий. Что поделаешь, никто не безгрешен; компьютерам, как и людям, свойственны отдельные недостатки. Можно даже сказать, чудачества… – Какую цель ставили иерархи? – спросил он. – Ту, что ты назвал? Дожить до Страшного Суда и восстать в час Господнего гнева? – Гнев Господень не коснется праведников, – уточнил Паскаль и добавил: – Упомянутая выше цель – первая по приоритету. Но есть и вторая. Спящие видят сны. – Сны? Какие сны? – Какие пожелают. Это составная часть первой из моих задач: поддерживать в норме жизненные функции каждого спящего. Включая, разумеется, душевное здоровье. Аппаратура искусственного сна производит реэмиссию желаний, и в результате… – Погоди, – прервал Саймон. – Ты хочешь сказать, что все эти апи… прошу прощения, праведники – спят и видят сны? По твоему сценарию? – По их сценарию, – возразил компьютер. – Я лишь улавливаю их подсознательные желания и направляю общий ход событий. – И что же им снится? – Многое… – В бархатном голосе Паскаля-Иакова проскользнула нотка задумчивости. – Одни пребывают в раю – в том раю, о котором они мечтали, и мне кажется, что это не очень похоже на христианский рай… Другим сновидения приносят такое, чего они были лишены в реальности. Некрасивые становятся красавцами, трусы – героями, глупые – гениями, жаждущие власти – вождями и владыками, жаждущие любви… Ну, ты понимаешь, что им снится. У каждого – свои желания, и приключения тоже свои. Но – во сне! А спящие не грешат, как сказал мой духовный отец всеблагой Симеон Рувим Казетти. И все, что они узрели во сне, не есть грех. Благословенны спящие и ожидающие! Паскаль смолк, и Саймон, воспользовавшись паузой, спросил: – Ты можешь их разбудить? – Разумеется. В техническом отношении это несложно. Но я руководствуюсь программой, где четко указаны две ситуации: все спящие могут восстать по Господнему призыву, либо каждый из них – по собственному желанию. В последнем случае я не имею права опять погрузить их в сон. – И что же, нашлись такие, пожелавшие проснуться? – Нет. Зачем? Сновидения дарят щедрей, чем реальность; На некоторое время Саймон погрузился в раздумье. Был в о жизни период, когда, возвратившись из тайятских лесов, °н видел навязчивые сны; но те сны не приносили ничего, оме тревоги и беспокойства. А здесь, на Сайдаре, сновиде-“Ия были счастливыми, и миллионы спящих обитали в их ил-зорной реальности, не желая проснуться. Как сказал Паскаль – зачем? Сон приносил им счастье… А что такое счастье, если не исполнение подсознательных желаний? Для Ричарда Саймона в этом таился некий соблазн. В общем и целом он был доволен жизнью и самим собой, но с недавних пор мучила его одна идея, те мысли, что приходят к человеку на пороге духовной зрелости – к кому в тридцать лет, к кому в сорок, а к кому и никогда. Он размышлял о своем предназначении. Кто он, кем он был и кем стал? Был непоседливым парнишкой с Тайяхата, затем – учеником Чо-чинги, возлюбленным Чии, воином-тай и курсантом школы ЦРУ… Стал полноправным агентом – одним из лучших агентов, проникшим в Закрытый Мир… Возможно, в будущем он добьется чего-то большего: совершит путешествие на Землю, шагнет в иную галактику по темному склону Пандуса, перестреляет и вырежет еще десяток банд… Наконец, удостоится чести и славы… И это все?… Временами честь и слава, столь дорогие для воинов-тай, казались ему не самой главной целью – как, впрочем, и девизы ЦРУ. Без гнева и пристрастия… Не милосердие, но справедливость… Во благо мира… Это были прекрасные и верные слова, но чего-то в них не хватало. Это были слова для всех, а не лично для Ричарда Саймона. Наставник Чочинга говорил: лишь сильный достоин жить. Но его поучение касалось тай, а не двуруких пришельцев с Земли. К тому же теперь оно рассматривалось Саймоном как констатация сомнительного факта, не связанного с главнейшим из вопросов: зачем жить. Аборигены Тайяхата подобными вопросами не задавались; они просто жили. А значит, поучения Чочинги не могли помочь Ричарду Саймону. И сейчас он думал о своих подсознательных желаниях – не о сути их, ибо подсознательное недоступно человеку, но о возможности их осуществить. Не обнаружится ли здесь ключ к познанию своей цели, своего предназначения? Весьма вероятно, решил Саймон. Как утверждает Паскаль, во сне некрасивые становятся красавцами, трусы – героями, глупые – гениями, жаждущие власти – владыками, жаждущие любви – неутомимыми любовниками. А кем станет он? Ему предоставлялась уникальная возможность познать самого себя. И он ничем не рисковал – ведь из сна можно было вернуться в реальность по собственной воле! Правда, у четырех миллионов апи такого желания почему-то не возникало… Но эта мысль уже не могла остановить Саймона. – Слушай, Паскаль, – произнес он, поднимая руки к шлему, – я видел, у тебя тут есть вакантные места? – Тридцать восемь – на данном ярусе и шесть тысяч двести пятьдесят два – на всех остальных. – Ну, так я прилягу, – сказал Саймон. – Ты не против? Не дожидаясь ответа, он стащил с головы шлем, встал и направился к саркофагу рядом с рыжей красавицей. В таком соседстве и спать приятно, подумалось ему. Вот если б эти гробы были пошире… Или, скажем, он мог бы проникнуть в ее сон… в роли героя-любовника… Саймон рассмеялся, лег в саркофаг и захлопнул крышку. Вероятно, это служило сигналом для Паскаля-Иакова; он тут же почувствовал, как к вискам прижались холодные пластинки контактов, а в шейную вену вонзилась тончайшая игла. Теперь он был одним из сотен тысяч гостей этой гигантской ночлежки, кормившей, поившей и развлекавшей своих постояльцев. Он готовился к вступлению в иллюзорный мир, где все подчинится ему, где он может стать возлюбленным тысяч прекрасных женщин, гением – вроде Сергея Невлюдо-ва, или великим вождем, владыкой Вселенной, повелителем ада и рая, самим Господом Богом… Глаза Ричарда Саймона сомкнулись. Перед ним раскинулся тайятский лес из неохватных деревьев чои, а в промежутках меж ними он видел гряду каменистых холмов, подобных гигантским пням – столь крутыми были их склоны, а вершины казались срезанными косой. Он сразу узнал это место: гранитные пни, в сотне лиг от мирных земель, к западу от Чимары. Поляна, где он сразил Цора. Давний сон его повторялся. Как в том сне – или в далекой реальности – их было трое: Читари Одноухий, Ченга Нож и Дик Две Руки; трое воинов в серебристо-серых повязках Теней Ветра, трое лазутчиков, искавших вражеский стан. Но встретили они друзей – почти Друзей, так как с кланом Горького Камня было заключено перемирие. Саймон,Однако, помнил, что сие не означает, что их отпустят с миром, спев Песню Приветствия и наделив дарами. Просто схватка – если дойдет до схватки – будет почетной, один на один, с равным оружием, и победителю не станут мстить. Все-таки друзья, не враги… Толпа Горьких Камней раздалась и вперед выступил их предводитель. Заслуженный человек, снискавший не меньше чести и славы, чем Чоч, сын Чочинги: пальцы и уши целы, а Шнур Доблести свисает почти до колен. Он запел; звали его Циваром Дробителем Черепов, и на своем веку он свершил не один славный подвиг. Читари, старший из трех лазутчиков, ответил – спокойно и с достоинством, без оскорбительных намеков и жестов. Ченга тоже казался невозмутимым, только оглаживал пояс, за которым торчали рукояти метательных ножей. Глядя на них, Саймон усмехнулся. Он знал, кому выпадет честь сразиться первым. И знал, чем закончится поединок. После обмена Песнями Цивар произнес: – Странное шепнули мне как-то Четыре Звезды – о пришельце из земель двуруких, таком же доблестном и умелом, как воины-тай. Будто бы он еще молод, но отважен и ловок, и обучен самим Чочингой, встретившим смерть на рассвете. Не поверил я и решил поглядеть. – Гляди! – сказал Читари и вытолкнул Саймона вперед. Цивар усмехнулся. – Вижу двурукого ко-тохару в повязке Теней Ветра. Вижу, Г что он еще молод, хотя и не юн. Вижу за его поясом клинки. Больше не вижу ничего! – Шнур видишь? – спросил Читари. – Ожерелье? – Цивар сощурил глаза. – Да, ожерелье длинное… уже до пояса достает… Только на нем больше пальцев двуруких, чем воинов-тай. А кому нужны их пальцы? Крысиный клык – и тот почетней! Это было уже оскорблением, но Саймон смолчал – все, что надо, скажет Читари, на правах старшего. – Палец всегда палец, – возразил Одноухий. – Но если тебе не нравятся эти, – он коснулся ожерелья на шее Саймона, – может, кто-то из ваших воинов поделится своими? Ну, у кого завелись лишние пальцы? – И он с мрачным видом оглядел толпу Горьких Камней. – Ха, пальцы! Кто говорит о пальцах! – Цивар пренебрежительно махнул рукой. – Мой Наставник был таким же мудрым, как Чочинга, и он говорил: отрезав пальцы, не забудь про печень. – Сам будешь резать, великий воин? – поинтересовался Читари и бросил на Саймона испытующий взгляд. – Нет! Я же сказал: хочу посмотреть. Резать будет он! Из шеренги Горьких Камней выступил Цор. Время в лесу для него не прошло даром: сделался он могу4 и крепок, как молодое дерево шой, – с выпуклыми мышцами, что скрывали ложбинку меж плечевых суставов, с толстой шеей и длинными мускулистыми ногами. Но Саймон видел, насколько он молод, – совсем юнец, мальчишка, а не мужчина, с которым почетно скрестить клинок. То не его добыча, понял он. В битве с юнцом не получишь ни славы, ни чести, одну лишь горькую память да тяжкие сны… Сны? Разве он сейчас не во сне? Не в мире иллюзий, где исполняются потаенные желания? Дик Две Руки, сразивший некогда Цора, исчез, растворился в тумане прошедших дней. Здесь, в тайятском лесу, был Ричард Саймон, Тень Ветра, воин, не знавший поражений. Он шагнул вперед, оттолкнув Цора с дороги. – Гепарды не сражаются с пинь-ча. – Его сильный голос раскатился над поляной. – Гепарды точат клыки на саблезубых кабанов. Не так ли, Цивар? Ты еще хочешь взглянуть, какого цвета моя печень? Клинок в руке Саймона взметнулся и зазвенел, встретив упругое сопротивление стали. … В следующий миг он был уже не в тайятском лесу, а на церковной колокольне. Ладони его лежали на раскаленной твердой плоти “хиросимы”, два пулеметных ствола глядели на скалы Сьерра Дьяблос; из-за скал, ряд за рядом, выползала колонна людей в пятнистых комбинезонах, и в руках их блестело оружие. За спиною Саймона грудились беленые домики на берегах прозрачного потока, а между ними и церковью была площадь, заполненная народом. Не оборачиваясь, он знал, что там собрались все: Дряхлый священник и староста, дон Анхель Санчес, экономка священника с прижавшейся к ней девочкой, Пакито и Лола, Рикардр и малышка Би, и другие люди, женщины и мужчины, еще не привязанные к столбам, не изуродованные, не изнасилованные, еще живые… На сей раз он поспел к ним вовремя, не к шапочному разбору, и эта мысль наполняла его торжеством. Пригнувшись, он с яростным воплем дал длинную очередь, что отозвалась в скалах эхом – долгим, как похоронный салют. Фонтаном взметнулись осколки камня, под гулом свинцовых пчел рухнула тишина; хищная стая понеслась, тараня воздух, скользя вдоль дороги, отыскивая цель, такую мягкую, такую беззащитную перед укусом стали. Над атакующей колонной взвился гондурасский флаг, оттуда ответили – слабо, вразнобой; одна пуля свистнула слева от Саймона, Другая ударила в колокол, породив долгое протяжное “ба-аммм”. Он дал новую очередь, уложив в пыль десяток фигурок в пестрых комбинезонах. На площади, за его спиной, люди стояли в молчании, слушая слитный рокот пулеметного и колокольного набата. Они надеялись на него. – Без гнева и пристрастия, – произнес Саймон, прошивая ряды атакующих. – Не милосердие, но справедливость! – Он срезал гондурасский флаг, что развевался над отрядом. – Pro mundi beneficio! Поднявший меч от меча погибнет! Не возжелай дома ближнего своего, не подними рук на жену его и детей! – Он снова надавил гашетку и пробормотал на тайят-ском: – Чтоб вам сдохнуть в кровавый закат, проклятые крысы! Я не пущу вас сюда! Пулемет грохотал и пел в его руках, посылая не праведным смерть и муки. Он ликующе расхохотался и пнул зарядный ящик. Патронов было много. Много маленьких свинцовых пчел, посланцев Ричарда Саймона, защитника тех, кто стоял сейчас на площади. Он слал смерть из храма, где пребывали милосердный Христос и Дева Мария, заступница. Богородица. Он слышал их голоса. Они говорили: сегодня – не милосердие, но справедливость! Они тоже избрали его своим защитником. Не карающей десницей, не ангелом-мстителем с огненным мечом, а вестником жизни и надежды. В звоне колокола он слышал их голоса, он внимал и подчинялся им.Они говорили: сражайся! Сражайся, воин, но помни: сладко карать и сладко мстить, но слаще – защищать! … Панамская деревушка исчезла, растаяли горы Сьерра Дьяблос, затерялась в пустоте Латмерика – коричнево-сине-зеленый шар, плывущий вокруг ослепительной звезды. Саймон лежал в траве иного мира; иное солнце восходило над его головой, иные ветры шелестели вокруг, приветствуя утреннюю зарю. Трава была высокой, красной и гибкой; упругие стебли нависали над ним, точно желая надежнее спрятать, укрыть от чужих взоров. На горизонте вставал горный хребет, вокруг лежала степь, и в ней ярким сочным пятном зеленела дубовая роща. В кольце деревьев торчали решетчатые башенки и серый бетонный купол с погасшими прожекторами. Тид, догадался Саймон. Южный материк, станция Пандуса, в ста километрах от Залива Левиафанов, в двадцати – от Адских Столбов и в четырех – от лесной опушки. Снабжена маяком системы “Вектор”, окружена ультразвуковым Периметром для защиты от местных животных. Только от животных; от людей этот барьер не защищает. Персонал – четыре человека: Жюль де Брезак – старший оператор, офицер Транспортной Службы; Хаоми Синдо – оператор; Леон Черкасов и Юсси Калева – техники. Пока еще живые. Он пополз вперед, волоча за ремень вороненую “сельву”. Солнце уже вставало; он должен был поспеть вовремя. Он полз, прижимаясь к теплой земле, и вспоминал наставления Чочинги: стань тенью ветра, воин, стань эхом тишины, стань мраком во мраке и отпечатком на воде, стань травой среди трав, птицей среди птиц, стань змеей среди змей. Он был сейчас тенью и эхом, травой и птицей, змеей и мраком; он продвигался вперед с бесшумностью пантеры, и стебли красной травы, смыкаясь, не шелестели за его спиной. У невидимой черты Периметра он замер, с минуту прислушивался к плеску и веселым возгласам, потом приподнялся на коленях. Теперь он видел бассейн и двух обнаженных парней в воде: один – постарше, темноволосый и худощавый, второй – здоровяк с соломенной гривой, примерно возраста Саймона. Юсси и Леон, техники, мелькнула мысль. Де Брезак сейчас на дежурстве и сидит в диспетчерской, а Хаоми, милая длинноногая Хаоми с чуть раскосыми глазами, только поднялась. Их пока что четверо, но трое обречены… были обречены – в той, другой реальности, где Ричард Саймон безнадежно опоздал. А вот и гости! Он чуть пригнулся, не спуская глаз с неясных силуэтов, скользивших над травой. Они появились с востока; солнце било Саймону в глаза, и он не мог разглядеть их лиц – только смутные контуры фигур, окруженных неярким ореолом. Тот, что повыше, – Мела, пониже – Пономарь… Евгений свет Петрович, землячок… Ну а третий, коренастый и бритоголовый, его телохранитель… Только на сей раз хозяина ему не защитить… Ни хозяина, ни себя самого… Саймон видел, как три фигуры замерли, прислушиваясь к возгласам и плеску, затем Пономарь махнул рукой, приказывая обойти станцию с юга и не приближаться к черте Периметра. Мела и бритоголовый крадучись двинулись вперед; вожак, настороженно озираясь, шел за ними. В руках у этой троицы были длинные шесты – самодельные копья, как догадался Саймон. Вероятно, все остальное имущество было брошено среди трав, а сейчас они расстанутся и с копьями – копья будут торчать в телах Леона и Юсси, пока их не сволокут в ангар… Он в точности знал, что сейчас произойдет. Сначала они изберут позицию за Периметром, но поближе к бассейну; затем ринутся сквозь кольцо деревьев, ударят копьями: Юсси – в шею, Леона – в живот и в правый бок; будут бить их еще, в полном молчании, зверея и наливаясь яростью, пока вода в бассейне не станет алой. Эта задержка спасет Хаоми – в той, другой реальности; Жюль успеет вывести ее к ангару и возвратиться в диспетчерскую, чтоб заблокировать компьютер. Изолянты тем временем проникнут на станцию сквозь западный вход, захватят оружие и покончат с де Брезаком. Потом станут палить по вертолету… Таков был прежний сценарий. Но тут, в мире снов, Саймон мог его переиграть. Он ощущал пьянящее чувство власти – не над людьми, а над событиями и временем. Впервые время покорствовало ему, он обладал даром растягивать его и торопить, поворачивать вспять, переноситься в прошлое, предвидеть будущее. Это было восхитительным ощущением! Это давало возможность исполнить все дела – в тот самый момент, когда им полагалось быть исполненными. Он ждал, пока три темные фигуры не очутились прямо перед ним. Потом поднялся во весь рост и вскинул оружие. Сухо и резко щелкнули три выстрела. Ствол “сельвы” даже не успел нагреться. … А затем сразу же стал горячим. Саймон бежал по галерее дворца, нависшего над пропастью, словно ласточкино гнездо. Воздух был холодным и разреженным, небо отливало сапфировой синевой, и повсюду, насколько видел глаз, вздымались горы – остроконечные пики в коронах из льда, хмурые и неприветливые, словно тюремщики, проспавшие побег всех заключенных. Эти горы тянулись на тысячу лиг, на юг и север, на запад и восток, заполонив планету; но, кроме гор, тут были плодородные плато, быстрые реки в скалистых ущельях и согретые солнцем склоны. Мир, вполне пригодный для жизни, для тех, кому горы дороже равнин, ибо величие их неизменно, вечно и наполняет сердца восторгом. Независимый Мир, Гималаи. Непал, страна шерпов. Горный дворец князя Тенсинга Ло… Каким-то образом Саймон знал, что князь еще только готовит восстание, а значит, ему, Ричарду Саймону, совсем не положено здесь находиться. Разумеется, тайное присутствие не исключалось, однако не с автоматом в руках. Не с “сель-вой”, чей жаркий ствол ревел и бился разъяренным зверем. На сей счет законы были строги. Никому, ни великим державам, ни Совету Безопасности ООН не дозволялось активно влиять на события, пока не будет превышен критический рубеж. Вернее, вмешательство допускалось, но только экономическое и политическое, в рамках мирной дипломатии, арбитража и примирения противоборствующих сторон. А посему приходилось ждать. Ждать, пока Тенсинг До, властолюбивый честолюбец, сплотит своих приверженцев; ждать, пока четверть Непала будет купаться в крови; ждать, пока не сгорят селения непокорных, пока королевскую армию не отбросят к границам Бутана и на границах этих не запылает война. Таков был закон Конвенции Разделения. Но в мире снов Ричард Саймон мог следовать своим законам. Он миновал галерею, расстреляв десяток княжеских охранников. Это были шустрые парни, шерпы из имений Тенсинга, обученные инструкторами с Уль-Ислама, но с Саймоном они тягаться не могли. Он убивал их, не испытывая враждебности, скорее – гадливое недоумение и неприязнь; они были всего лишь ширмой, прятавшей Тенсинга Ло, и не такой уж прочной. Встречались Саймону стены и попрочней. Галерея выводила в зал, узкий и длинный, с резной деревянной лестницей в дальнем конце. Он размахнулся и швырнул в дверной проем контейнер с фризером. Откуда взялся этот контейнер, Саймон понятия не имел – просто в нужный момент пальцы его ощутили гладкую поверхность гранаты, а через секунду беззвучная вспышка сверкнула в воздухе. Вероятно, заряд был мощным – люди Тенсинга сразу застыли ледяными истуканами, – но Саймона это не волновало. Будто не чувствуя холода, он добрался до лестницы и начал подниматься, расшвыривая полуживых стражей. Под сводами зала клубилась изморось, и стены потрескивали от перепада температур, но на лестнице, на верхних ступеньках, кое-кто еще шевелился. Впрочем, не слишком активно. Второй этаж был врезан в склон горы и походил на лабиринт с десятками переплетавшихся ходов и коридоров. Но безошибочное чутье руководило Саймоном; он знал, куда идти, как избежать ловушек и засад, где прыгнуть, где пригнуться, куда послать гранату или пулю. Запас их был неисчерпаем. В его ладонях появлялись то гладкие цилиндры с фризером, то капсулы взрывчатки, то разноцветные шары: небесно-синие – с “хохотуном”, зловеще черные – с “укусом гюрзы”, белые, как снег гималайских вершин, – с “лотосом забвения”. Там, где он шел, наступала тишина, и лишь временами дикий смех тревожил сумрачные коридоры. Они казались Саймону хитрой паутиной, где затаился ядовитый злобный паук. Яд его мог отравить весь мир, всю планету, а может быть, и всю Вселенную. Он ненавидел паука. Он подбирался к нему все ближе и ближе, сжимая оружие, готовясь нанести удар. Паука вроде бы звали Тенсинг Ло. Или Дагана, потрошитель из Рио? Или Сантанья? Или Мела? Он в точности уже не знал. Но паука полагалось убить. Таким было его предназначение – уничтожать ядовитых пауков. … Он снова был на колокольне, в панамской деревушке, на этот раз безлюдной и тихой, будто грады и веси Сайдары. Ни живых, ни мертвых, ни крестьян, ни бандитов Сантаньи, ни столбов, ни растерзанных тел – только дома с плотно закрытыми окнами да ветер, вздымающий бурую пыль в переулках… Пулемета с зарядным ящиком тоже не было. Ветер раскачивал колокол, тот гудел и бился над головой. Речи его сперва казались невнятными, но постепенно Саймон стал различать их смысл, отметив, что слова звучат как бы сразу на всех известных ему языках. Колокол говорил с ним, шептал на тайятском и арабском, пел на русском и английском, звенел на испанском; а временами Саймону чудилось, что слышит он украинскую речь. Слова были разными, но смысл – единым. “Призван уничтожать, призван защищать!… – гудел колокол. И снова: – Призван, призван, призван! Уничтожать и защищать! Уничтожать и защищать!” С каждым ударом это звучало все ясней и ясней, пока Саймон не догадался, что слышит вовсе не голос колокола, а Поучение незримого Наставника. Быть может, Чочинги? Или того существа, которым стал Чочинга, ушедший в Погребальные Пещеры? Быть может, подумал он. И решил: пора вернуться. Над ним вновь громоздились этажи с хрустальными саркофагами, чудовищный колодец-усыпальница, заполненный неярким зеленоватым светом. Пятьдесят ярусов, сотни тысяч спящих… И еще миллионы – в других городах Сайдары, на всех ее архипелагах, под каждым храмом, под защитой стен и роботов, за электромагнитным барьером, уже не столь неодолимым, как тридцать лет назад… Пусть спят, решил Саймон. У них своя цель, у него – своя. Он был грешником, они – праведниками; он искал смысл реальной жизни, они верили в иллюзию и дожидались Божьего Суда. Suum cuique, как говорили латиняне, каждому – свое! Саймон не мог ни осудить их, ни спасти, ибо они не нуждались в спасении. Во всяком случае, не из его рук. Он откинул крышку саркофага и поднялся. Рыжеволосая красавица дремала рядом, ее прекрасное лицо казалось умиротворенным и счастливым – то ли ее обнимал сейчас возлюбленный, то ли сидела она у ног Господних, наигрывая нежные мелодии на арфе. Мгновенное сожаление пронзило Саймона – девушка была так хороша… Чего ей не хватало? Чего не хватало всем прочим апи? Мир их был подобен райским садам, и все же они оставили его… Отчего? Кто им мешал дожидаться явления Господа наяву, а не во сне? Это было последним вопросом, и Саймон знал, где получить ответ. Он вновь направился к креслу с высокой спинкой, уселся и нахлобучил контактный шлем; панель с клавиатурой тут же возникла перед глазами. Саймон потянулся к клавишам. Их, разумеется, не требовалось нажимать, только коснуться, но ощущение было таким, будто под пальцами теплый и гладкий пластик. На этот раз Паскаль-Иаков откликнулся без промедления, голосом, а не надписью на экране. Его баритон звучал с легкой обидой. – Ты уходишь? Ты недоволен своими снами? Жаль… Я так старался… – Я доволен, – сказал Саймон. – Я очень доволен и хочу поблагодарить тебя. Ты мне помог, Паскаль. – Помог? Чем же? – Не будем это обсуждать. У людей, Паскаль, свои проблемы… у меня и у других… Я думаю, ты понимаешь. Твоим хозяевам тоже что-то мешало? Раздался странный звук – Саймон готов был поклясться, что Паскаль вздыхает. Причем с явным сожалением. – Мешало, – вымолвил он, помолчав. – Ты верно понял, мешало. Ты – человек и лучше меня разбираешься в человеческих побуждениях… гораздо быстрее и вернее… А мне пришлось размышлять над ними долгие годы. Правда, у меня иное восприятие времени… Время для меня не столь важный фактор, как для людей. Саймон затаил дыхание. Туман над последним из секретов Сайдары рассеивался. – Значит, ты размышлял долгие годы, Паскаль? – произнес он. – И каков же результат? К какому выводу ты пришел? Снова раздался вздох – вернее, его имитация, настолько искусная, что Саймон, закрыв глаза, не отличил бы Паскаля-Иакова от человека. – Они были праведниками, – раздался негромкий голос компьютера. – Они обитали здесь как в раю… Трудились, молились и не грешили… – Паскаль сделал паузу и закончил: – Но быть праведником так скучно! Лучше спать и видеть грешные сны… КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК – Готов проинформировать вас, леди и джентльмены, что проект “Земля” вступил в решающую фазу, – произнес Директор. – Установка, созданная транспортниками, работает, и мы осуществили первую из намеченных операций. Рейд прошел вполне успешно. – Он поджал сухие губы, оглядел сидевших за столом – женщину и двух мужчин – и добавил: – Разумеется, эти факты строго конфиденциальны, относятся к категории “А” и разглашению не подлежат. – Нас об этом предупреждать не нужно, Свен, – пробурчал представитель России, и его украинский соратник согласно кивнул, пощипывая вислые усы. Леди Дот, последняя из участников совещания, сидела с невозмутимым видом, уставившись в некую точку на пиджаке Директора – как раз в области левого нагрудного кармана. Николай Москвин, российский резидент ЦРУ, был немолодым густобровым и полноватым, с обвисшими щеками и крепкой квадратной челюстью. Такое обличье являлось традиционным для российских политиков и генералов во все эпохи и при любых общественных системах. И. хоть теперь Россия была страной демократической, русские по-прежнему желали видеть на высших постах не женщин, а мужчин, не Молодых, а старых, не худощавых и обаятельных, а внушительно полных и мрачных. Этот национальный обычай соблюдался даже вроссийском филиале ЦРУ, которым руководил Москвин. Что до Конопченко, украинского эмиссара, то он казался слегка расплывшимся изданием коллеги из России и глядел еще более мрачно, сосредоточенно и серьезно. Побарабанив пальцами по краю стола, Москвин спросил: – Мы можем ознакомиться подробней с деталями этого рейда? Какой объект был выбран, как сформулировано задание, кто исполнитель и каковы результаты? Директор кивнул. – Разумеется, Николае. Исполнитель – пятьдесят четвертый, объектом выбрана Сайдара, в предписании – четыре позиции, выполнены все. С подробностями вас ознакомит Хелли. Когда мы закончим с основными вопросами. – Пятьдесят четвертый – Тень Ветра? Кажется, американец? – поинтересовался Конопченко, оглаживая усы. – Почему был выбран именно он? На мой взгляд, Казак ничем не хуже. – Как и наш претендент, – хмуро добавил Москвин. – Потому, что этот вопрос находится в моей компетенции, – сухо напомнил Директор. – Первую стадию проекта осуществляет главная штаб-квартира. – Но не вторую! – Москвин поднял палец. – Все, что касается Старой Земли, мы решаем коллегиально! – По этому поводу вы и вызваны. Вы, Николас, и коллега Конопченко. – Фамилию украинского эмиссара Директор произнес чуть ли не по слогам – славянские фамилии давались ему тяжелей имен, которые почти всегда можно было переиначить на привычный лад. Он повернулся к Леди Дот: – Ориентировку, Хелли. Тонкие губы женщины шевельнулись. – Мы располагаем сейчас тремя подготовленными агентами экстра-класса. Я имею в виду – специально подготовлен ными для предстоящей операции… – Простите, – Москвин тяжело шевельнулся в кресле, – их, если не ошибаюсь, было четверо? – Да. Было четверо. Хромой Конь погиб. На Сицилии-2. – Леди Дот говорила отрывистыми фразами, словно нажимая спуск “амиго”. Закончив, она вопросительно взглянула на Директора. Тот кивнул. – Итак, трое. Андрей Божко, кличка Казак, Анвер Ходжаев, кличка Карабаш, Ричард Саймон, кличка Тень Ветра. Имеется еще две группы – на стадии обучения. Они пока что для нас бесполезны. Выбирать придется из трех имеющихся кандидатов. – Все-таки я этого не понимаю, – заявил Конопченко. – В нашей системе – сотни отличных агентов с великолепным послужным списком. Преданные, опытные люди… Почему мы должны выбирать из трех? Почему не из трехсот? – У этих парней есть необходимые физические данные, – пояснил Директор. – Очень сильны, выносливы и обладают еще одним качеством… – Он возвел глаза к потолку и усмехнулся. – Я бы назвал его жизнестойкостью… да, способностью выживать в самых экстремальных ситуациях. К тому же переход с помощью установки ИТ, как и предполагалось, сопряжен с чудовищными нагрузками. Те триста преданных и опытных, которых вы упомянули, – теперь глаза Директора Уставились на Конопченко, – имеют шанс превратиться в триста свежих трупов. – Я считаю, у нас вполне достаточно претендентов, – сказал Москвин, воинственно выпятив челюсть. – Их даже слишком много. По сути дела, рассматривать надо лишь двоих – Ходжаева и этого Божко. Иные варианты исключены. – Вы слишком категоричны, Николае. – На морщинистом лице Директора отразилось неодобрение. – Отчего же? Вопрос о проникновении на Землю – проблема политическая. Прежде всего – политическая! И вы понимаете это не хуже меня, Свен. Как принято считать, источником всех неприятностей – я говорю о блокировке Пандуса – явился Русско-украинский конфликт… – глаза Москвина скользнули по лицу Конопченко, – конфликт, возникший в Эпоху Исхода из-за Донецка, Харьковской области, Одессы и крымских городов. Они так и не были эвакуированы, а Земля внезапно превратилась в Закрытый Мир, где, по нашим предположениям, доминируют либо русские, либо украинцы – смотря кто одержал верх в перечисленных мной регионах. Вся остальная планета, не считая пустынь, джунглей и тундры, – руины и кратеры, кратеры и руины… На фоне этого разора потенциал нескольких городов, сохранивших промышленность и население, обеспечивает всемирную гегемонию… Либо русских, либо украинцев! И разбираться с этим делом обязаны наши посланцы. – Карабаш – не русский, – проскрипел Конопченко. – Карабаш – татарин. – Из российского города Астрахань, – возразил Москвин. – Русским языком он владеет лучше, чем татарским. Еще – английским и немецким. – Украинского зато не знает, – буркнул Конопченко. – А немецкий и английский там ни к чему. Разве что аукаться в кратерах. – Не так сложно выучить украинский… – А зачем? Андрей Божко говорит на обоих языках. И внешность у него подходящая, славянская. Значит, смотря по ситуации, он может сыграть роль украинца или русского. А Карабаш – чужак! Его в том же Харькове пустят в распыл на первом углу… не говоря уж об Одессе… Москвин ощетинился. – Хотел бы я поглядеть, как пустят в распыл Карабаша! – У вас, мой дорогой, предубеждение против татар – я полагаю, еще со времен Запорожской Сечи. Это сколько же лет минуло, а? И сколько теперь парсеков от Киева до Астрахани и Казани? Я думаю, что… Эдна Хелли глядела, как они препираются: Москвин – выпятив подбородок и потрясая щеками, Конопченко – распушив усы, потом прищурилась и неторопливо, спокойно произнесла: – Тень Ветра… Над столом повисло молчание. Директор, скрывая усмешку, разглядывал потолок, российский и украинский резиденты хмурились, отдувались, отирали платками испарину. Наконец Конопченко пробормотал: – Не надо нам американцев. Дело семейное… разберемся сами… – Это вы так считаете, – палец Леди Дот уставился в висок Конопченко. – Семейные дрязги, семейная свара… политика! Выяснить, кто виноват… Кто сделал Землю Закрытым Миром – украинские непримиримые или русские сепаратисты?… Прикинуть, как это скажется на ситуации в данный момент… На международном рейтинге России и Украины… Извлечь выгоду… В конце концов, какое нам до этого дело? – Теперь палец Леди Дот глядел в грудь Москвину. – Мы – разведчики! Мы – подразделение ООН, и наши задачи – добывать информацию и ликвидировать террористов, а не заниматься политикой! Голова Директора одобрительно качнулась. – Напомню еще о загадке Сергея Невлюдова, – вымолвил он, – о взрывном характере технического прогресса, чему подтверждением служит Пандус… Наука нас постоянно радует: позавчера – ничего, и вчера – ничего, а сегодня – бабах! – фризерная бомба! Что завтра? Боевой космолет с радиусом действия до Магеллановых Облаков? И откуда? С Закрытого Мира Земли? – Он выдержал точно рассчитанную паузу и добавил: – Это дело семейным не назовешь! – Хм-м… По крупному счету вы правы, Свен. Только крупный счет обычно откладывают на завтра… Когда космолеты уже над головой… – протянул Москвин и вдруг усмехнулся, меняя тему: – Кстати, о загадках и тайнах Невлюдова: удалось ли прочитать тот диск с Аллах Акбара?… Ну, с его Дневниками? – Нет. Пока что нет, – Директор поджал губы. – Три с половиной столетия, сами понимаете, Николае… Восстановить информацию непросто, отнюдь не просто. Занятие для ювелиров… Словом, сейчас нам доступны пятнадцать процентов текста. И я предпочел бы не оглашать его содержание. Москвин согласно потряс щеками и спросил: – Кажется, этот диск обнаружен нашим человеком? Кем? Что-то не припоминаю… По губам Леди Дот зазмеилась саркастическая усмешка. – Тень Ветра. Свободный поиск. Счастливая Аравия, Аллах Акбар… Пару лет тому назад. – Да ну! – Москвин с деланным изумлением всплеснул руками. – Наш пострел везде поспел! – Американец… – просипел Конопченко, но тут же стушевался под яростным взглядом Эдны Хелли. – Если на то пошло, – заявила она, – такой же американец, как вы – негр банту! Родился в международной Колонии Тайяхат, мать – русская из Смоленска, отец – потомок мормонов из Юты… Не из нынешней Юты, а из той, земной… Воспитан фохендами… Вы знаете, Конопченко, кто такие фохенды? И как они тренируют молодежь? Вы помните, какое тяготение на Тайяхате? А предки этого парня прожили там без малого триста лет! Вы можете сообразить, что это значит? Украинский резидент безмолвствовал, и тут Эдна Хелли его добила. – Помнится, у вас или у вас, – ее указующий палец переместился с Конопченко на Москвина и обратно, – был такой фольклорный персонаж, супермен и защитник обиженных – Илль-а Муро-метз, да? Он кто – русский или украинец? Москвин заломил бровь. – Трудно сказать. Я подозреваю, что в его времена мы не делились на украинцев и русских. Мы были киевлянами, муромчанами или новгородцами. Ранний феодализм, что попишешь! А при чем здесь Илья Муромец? – Саймон на него похож. Кудри золотые, глаза синие, и в плечах – ко-сай саджень… так у вас говорят? Родные языки – английский и русский, свободно общается на украинском, испанском и арабском. Какого рожна вам исчо надо? – Последнюю фразу, как и замечание насчет “косой сажени”, Леди Дот произнесла по-русски. – Значит, мать из Смоленска, – задумчиво произнес Москвин. – И русский язык – родной… Что ж, готов согласиться: это меняет дело. С точки зрения исторической преемственности, кандидатура не хуже Карабаша… Как полагаете, Конопченко? – Мормон, – проскрежетал тот, – мормон, да еще москаль… Москвин ехидно ухмыльнулся и обратил взгляд на Директора. – Будем голосовать, босс? Они проголосовали. Три “за” при одном воздержавшемся.Эпилог
Эту директиву он готовил сам. Лично! Не прибегая к услугам компьютера, Эдны Хелли и своих ближайших помощников. Не то чтобы он им не доверял, но операция являлась В слишком ответственной, имевшей множество нюансов и последствий; тут были важны каждое слово и каждый знак препинания. Однако он лишь обманывал себя, считая, что справится с делом лучше своих сотрудников. Истинная причина заключалась в другом: он желал лично поставить точку в этом затянувшемся расследовании. Пальцы Директора засновали над клавиатурой, и в прозрачной глубине горизонтального экрана возникли фразы: "РЕЗИДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ЦРУ АГЕНТУ: DCS-54 КЛИЧКА: Тень Ветра ФАЙЛ: 19551– 25 ДИРЕКТИВА: 01/12004-MR СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: А”. Он помедлил мгновение, глядя в крышку стола, превратившуюся в компьютерный экран. Там, за шестью набранными, строчками, маячило его отражение: голова в сетчатом кон-тактном шлеме, лоб и щеки, изрезанные морщинами, крупный нос, запавшие глазницы, сухие губы. На губах играла торжествующая улыбка. “Вот ты и дождался этого, Свен”, – пробормотал Директор, вновь касаясь клавиш. На экране возникло: "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: Старая Земля. СТАТУС: Закрытый Мир. Каналы Пандуса блокированы В 2072 году. Ориентировочный диаметр сферы помех около 1,2 парсека. ПЛАНЕТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Гравитация: 1,00 стандартной. Суточный оборот: 1,00 стандартного. Годовой оборот: 1,00 стандартного. Звезда: класса G, светимость 1,00 стандартной величины. Расстояние до звезды: одна астрономическая единица”. Прищурившись, он поглядел на планетарные характеристики и опять усмехнулся. Одни стандартные величины! Такого Директор не видел никогда, за все пятьдесят пять лет, проведенных в стенах ЦРУ. “Хорошая цифра “единица”, – подумал он, – похожа на руку, поднятую в приветствии. Она будто салютует предстоящему свершению… И немудрено! Человек вновь возвращается на Землю! На свою древнюю прародину!” Нет, это неверно, тут же решил он, – ведь на Земле остались люди. И, вероятно, не один миллион… Поэтому надо сказать иначе: человек из внешнего мира возвращается на свою прародину. Именно так! Сформулировав эту мысль, Директор довольно кивнул; ему во всем нравилась точность. Но в современных земных делах точности не было никакой, и это вновь заставило его нахмуриться. "Климат: умеренный, субтропический и тропический стандартный – по данным на 2072 год. Современное состояние неизвестно. Возможны резкие климатические изменения, связанные с двумя факторами – надвигавшейся экологической катастрофой и разрушениями земной коры, возникшими в процессе межзвездной транспортировки. Сведения о суше: детальные карты – по состоянию на 2072 год – прилагаются. Современная ситуация неясна. Можно предположить, что большая часть Европы, южное и восточное Средиземноморье, Индия, Китай, Североамериканский материк от пятидесятой до двадцатой параллели являются полностью безжизненными зонами – вследствие воздействия трансгрессора. К сохранившимся регионам относятся Сибирь, южная Украина и Крым, восточно-азиатские степи, Африка, Австралия и Южная Америка. Можно предположить, что пустыни и горные области также не подверглись значительным изменениям”. Исторический обзор, кроме информации о Русско-украинском конфликте, Директор решил опустить. Во-первых, попытка изложения земной истории в нескольких кратких фразах граничила с элементарной профанацией, а во-вторых, само собой подразумевалось, что его агент владеет всеми нужными сведениями. Ведь не зря его учили целых пятнадцать лет! В школе, у терминалов учебных компьютеров и в заведении Леди Дот… Директор не сомневался, что Ричард Саймон знаком с древнейшей и новейшей земной историей никак не хуже его самого. Жаль лишь, что новейшая история оборвалась триста лет тому назад… Он продолжил работу. "Сведения об океанах: современное состояние неизвестно. Нельзя исключить некоторого (или значительного) поднятия уровня Мирового Океана вследствие таяния полярных льдов. Горы: как отмечалось выше, горные области подверглись незначительным изменениям. Возможно, увеличилась тектоническая активность в южной Европе, центральной и восточной Азии и вдоль западного побережья американских материков. Внутренние моря: вполне достоверна информация о том, что Каспийское море слилось с Азовским, Черным и Средиземным, а на месте Великих Американских Озер образовался обширный эстуарий, соединенный с Атлантическим океаном. Более сведений не имеется. Крупнейшие реки: Миссисипи, Нил, Дунай, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд и Ганг – исчезли. Конго, Тигр, Евфрат, Амазонка и сибирские реки, видимо, в какой-то степени сохранились. Полярные шапки: состояние неизвестно. Можно предположить, что Гренландия полностью освободилась от льда, а Антарктида-частично. Магнитные полюса: их положение практически не изменилось. Естественный спутник: не пострадал. На Луне, как и на прочих планетах Солнечной системы, не проводилось широкомасштабных транспортных работ. Весь персонал исследовательских станций (Луна, Марс, Венера, Меркурий, Пояс Астероидов) был своевременно эвакуирован”. Разумеется, все эти сведения – о земных океанах и морях, о суше, горах и реках – не являлись плодом воображения Директора. Этот прогноз готовили сотни экспертов, историков, планетологов, океанографов и метеорологов из Исследовательского Корпуса ООН и отделов ЦРУ; его сотни раз проигрывали на моделирующих компьютерах, оценивали вероятность того или иного варианта, пытались предугадать развитие событий за минувшие века. Судьба Гренландии и Европы, Британских островов и Уральских гор, Пиренеев и Аляски, Красного моря и нильской дельты, Байкала и Амура… Все это явилось поводом для многочисленных диссертаций, но истину, как всегда, знал лишь один Господь. "Ну, ничего, – подумал Директор, – вскоре ему предстоит поделиться с нами этой информацией”. Он продолжал работать; морщинистые руки в коричневых старческих пятнах летали над клавишами. "Искусственные спутники: большей частью демонтированы или переброшены через Пандус в звездные системы Большой Десятки. Об оставшихся искусственных сателлитах достоверно известно следующее: 1. Боевые комплексы на орбите отсутствуют. 2. Ретрансляторов, модулей связи, метеорологических спутников не имеется. 3. Из крупных объектов присутствуют индийская астрономическая станция (полностью законсервирована) и русский спутник “Пальмира”. Последний использовался в качестве санатория и, предположительно, находится в работоспособном состоянии. Станции Пандуса: к моменту блокировки межзвездной связи на Земле оставалось тридцать семь установок Пандуса, предназначенных для перемещения особо крупных объектов. Тридцать две из них сосредоточены на спорной территории, в Крыму и в районе городов Харьков, Донецк, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Одесса. Подробные карты прилагаются. Примечание: все станции были укомплектованы международным персоналом – гражданами Украины, России, Китая, Соединенных Штатов, Канады и европейских стран”. Закончив с последним разделом, Директор откинулся в кресле и прикрыл глаза. Оставалось дописать немногое: формальные пункты, связанные с поводом для расследования и с возможными причинами блокировки связи. Все это было обдумано заранее, обмыслено годами: прежде Директор не раз представлял, как сидит в этом своем кабинете, запрятанном на двести метров под орегонским холмом, и составляет что-то подобное нынешнему документу. Он знал, о чем напишет сейчас, и знал, где остановится снова – и почему. Предписание! Предписание для исполнителя! Он должен был предельно ясно поставить ряд задач, сформулировать цель операции, не забывая о всевозможных привходящих обстоятельствах. Например, о том, что на Земле может царить каменный век, монархия или жестокая диктатура; что посланец может попасть в места безлюдные, за половину планеты от ближайших городов, где лишь ветер гуляет над кратерами; что Земля, возможно, обратилась в мертвую пустыню или живут на ней зверообразные мутанты, позабывшие и русскую, и украинскую речь. Все это полагалось учитывать, как и личные качества агента, чтобы не требовать от него невыполнимого, а добиться пользы и максимального эффекта. Тут надлежало соблюсти золотую середину, выразив главную цель кратко, четко и ясно – так, чтоб она гвоздем сидела у агента в голове. И оказалась ему по силам! Непременно по силам! Этот Ричард Саймон был из породы упрямых парней, не признававших поражений, идущих до конца во всяком деле, и его фатальный конец Директора не устраивал. Ричард Саймон требовался ему живым. Что же ему придется выяснить? Первым делом, общую ситуацию: кто жив, кто мертв, в чьи руки попала власть и как эту власть, используют: кому – на благо и кому – на горе. Потом необходимо подготовить отступление, а это значит, что агенту придется искать передатчики и действующий Пандус. Передатчики – чтоб разобраться с блокировкой, Пандус – чтобы вернуться, поскольку иных обратных путей не существует. Параллельно с этим он должен оценить земной технический потенциал – сохранилась ли глобальная компьютерная сеть, космическое производство и производство вообще. Особенно, что касается оружия… Есть и другие зада-чи – к примеру, розыск сведений о Сергее Невлюдове. Чем черт не шутит! Вдруг удастся наткнуться на что-то ценное… Скажем, на диск с его дневником… Быть может, таких дисков несколько?… Если нашелся один, на Аллах Акбаре, отчего не обнаружиться второму, на Земле? Директор раздраженно поморщился и покачал головой. Нет, так не годится! Слишком много всего, слишком подробно, а главное ускользает, будто рыбешка меж пальцев… Он должен сформулировать иначе! Так, как собирался: кратко, четко и ясно! Ну, посмотрим… Сначала нужно закончить формальные разделы. Хорошие мысли приходят под конец… Он потянулся к клавиатуре и написал: "ПРИЧИНА РАССЛЕДОВАНИЯ: Устойчивое, на протяжении трех веков, отсутствие связи с Землей, блокировка каналов Пандуса начиная с 2072 года, что позволяет классифицировать Солнечную систему как Закрытый Мир. ВОЗМОЖНЫЕ ГИПОТЕЗЫ…” С гипотезами и их компьютерной оценкой Директор покончил быстро, минут за десять. Затем набрал крупными буквами: “ПРЕДПИСАНИЯ АГЕНТУ (РАНЖИРОВАНЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ)” – и некоторое время рассматривал эту надпись. Хмыкнув, он вычеркнул “РАНЖИРОВАНЫ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ” и убрал скобки, посидел еще, уставившись взглядом в потолок, прикоснулся к шлему, желая то ли снять его, то ли поскрести в затылке. Внезапно в блеклых серых глазах, словно утопленных в пещеры глазниц, вспыхнул огонек; быстро вытянув руку, он набрал две цифры и два слова и довольно кивнул. На экране горела надпись: "ПРЕДПИСАНИЯ АГЕНТУ: 1. Выжить. 2. Вернуться”.Mихаил Ахманов Тень Земли
Автор доводит до сведения читателей: все совпадения имен ч названий в этой книге, кроме географических, случайны.
Автор благодарит Анну Теплову за предоставленную возможность использовать фрагменты ее стихотворений.
Мертвые тени на мертвой Земле Последнюю пляску ведут, И мертвые ветры, вздымая пыль, Протяжно над ними поют. Змеится, кружится их хоровод Меж кладбищ, руин и гор, Сплетая тени Земли и ветров В призрачный смертный узор.Мигель-Майкл Гилмор, поэт из Рио-де-Новембе, «Пятый Плач по Земле»
Пролог
Чочинга Крепкорукий, Наставник воинов из клана Теней Ветра, был для Ричарда Саймона хорошим учителем. Поистине так; ведь тот учитель хорош, чьи слова помнишь годами, чьи советы полезны и мальчику, и мужу, в чьих речах с течением лет открываешь все новый смысл и новую глубину, ибо подобны они ларцам, запрятанным друг в друга, в последнем из коих, самом крохотном, хранится бесценный бриллиант. И хоть до этого сокровища Ричард Саймон еще не добрался, но уже понимал, что ларцов – не один, не два, а, быть может, целый десяток. Они раскрывались с неторопливостью, и в каждом, кроме очередной шкатулки, лежал какой-нибудь дар – верней, не какой-нибудь, а в точности тот, который Ричард Саймон готов был принять, осмыслить и применить наделе. В отрочестве всякое Поучение Чочинги и всякий Ритуал казались ему незыблемыми правилами, аналогичными Кодексу ООН, но сотворенными иной разумной расой – тайят, четырехрукими аборигенами Тайяхата, которые, в сущности, тоже были людьми. Пусть не такими, как земляне, проникшие на Тайяхат сквозь устье Пандуса, но все-таки людьми, – а значит, их жизнь подчинялась законам, пусть неписаным, не занесенным в компьютер, но столь же ясным и непреложным, как на любой из человеческих планет. Правил и Ритуалов у тайят было множество – не меньше, чем законов у людей. Как нанести оскорбление и как ответить на него, когда горевать и когда веселиться, как оказать другу почет и как устрашить врага, как поминать предков, как найти пищу в горах и лесных дебрях, как раствориться среди трав, зарослей и камней, стать невидимым и неслышимым, песчинкой меж гор песка, листком в древесной кроне… Как говорить с животными, предлагая им мир или бой, как отвести угрозу и успокоить хищника, когда напасть, когда схитрить, где удариться в бегство, а где – стоять насмерть… Таков был дар из первого ларца, преподнесенный Дику – юноше с прозваньем Две Руки, что обитал со своим отцом-ксенологом в женском поселке Чимара на склонах Тисуйю-Амат. Второй ларец раскрылся на Колумбии, в Учебном Центре ЦРУ. На первый взгляд учили там другому: истории, прежней земной и новой, касавшейся Великого Исхода, Разъединенных Миров и расселения среди звезд; языкам и методам связи, основам межзвездной транспортировки, логике и психологии, химии и медицине, искусству повелевать компьютерами и очаровывать людей. Не оставалась забытой и практика, необходимая полевому агенту, – как взорвать и как разрушить, как заморозить и испепелить, как управиться с вертолетом, глайдером и боевой капсулой, как проплыть десяток лиг в ледяном океане, как вскрыть любой замок и как убить – пулей, рукой, ножом или лучом разрядника. Другой мир, иные науки, другие наставники… Суть, однако, оставалась прежней: как выжить и как победить. Суть не изменялась от того, что схватку называли операцией, победу – выполнением задачи, а наградой служила пометка в личном файле – вместо ушей, черепов и пальцев на Шнуре Доблести воина-тай. И Ричард Саймон, преодолев весь курс наук, решил, что Поучения Чочинги понятней и ясней, чем лекции его инструкторов – даже Дейва Уокера, который выражался определеннее прочих. Так, например, Чочинга говорил: «Отрезав врагу уши, не забудь про печень», – и эта емкая формула покрывала все, что можно сказать о мерах предосторожности на поле битвы. «Значит, – решил Саймон, – обычаи тай могут служить надежной опорой – более надежной, чем человеческие законы, где жесткая суть деяния маскировалась потоком лишних слов». И этот вывод был справедлив и абсолютно верен – особенно в рамках избранной им профессии. Но ларцы продолжали раскрываться – на Латмерике и Аллах Акбаре, России и Сайдаре, Таити и Гималаях, во всех мирах, куда его посылали pro mundi beneficio и где ему полагалось вершить скорый и справедливый суд. Он уже не был Диком Две Руки с далекого и экзотического Тайяхата, не был и Ричардом Саймоном, одним из многих, стажировавшихся в Центре; теперь он стал агентом DCS-54, избранным для особой миссии, и только кличка – Тень Ветра – служила напоминанием о его корнях. Разумеется, для людей посторонних; сам он не мог позабыть Тайяхат хотя бы потому, что этот мир с повышенным тяготением являлся его родиной и в прочих мирах, освоенных человеком, Саймону временами чудилось, что он, как воздушный шар, вот-вот поднимется в воздух. Было и многое другое, соединявшее с Тайяхатом крепкой нерасторжимой цепью: отец, который остался в Чимаре, в их домике под деревом шой; Каа, изумрудный тайяхатский питон, прощальный дар Чочинги; Шнур Доблести, где костяшки пальцев и диски, выпиленные из черепов, соседствовали с клыками саблезуба; память о первой девушке, о Чие, и первом враге, которого он убил. Но, если не считать отца, пребывавшего в добром здравии на мирных склонах Тисуйю-Амат, самым важным звеном связующей цепи являлись Поучения – то, о чем говорил Чочинга. Прах Наставника уже истлел в Пещере Погребений, но ларцы его мудрости продолжали раскрываться, и в каждом для Саймона был приготовлен подарок. * Pro mundi beneficio – во благо мира (лат.).– Пока уши твои на месте, Две Руки, внимай и запоминай – и ты, быть может, сохранишь их целыми, – говорил Чочинга. – Взгляни вокруг, и ты увидишь земли мира и земли войны; землями мира владеют женщины, в них мужчина – гость, который, возмужав, уходит, дабы растратить свою силу, свершая предначертанное. Женщин влечет покой, мужчин – борьба, и в том отличие меж ними, и следуют они своим Путем, и пока вершится так, нет у них повода для споров и ссор, ибо дороги их разные. Немногое можно сказать о женском Пути: прям он, широк и ясен, и нет в нем тайного и скрытого. Небесный Свет и Четыре Звезды сияют над теми, кто ходит по землям мира, и не нужны им ухищрения и тайны, ибо нет у них врага и нет Ожерелья Доблести, и сердце их жаждет не битв и почестей, а только любви и покоя. Но Путь мужчины – иной; к тому же то не единственный Путь, а множество Путей, какими ходят воины различных кланов. Ведь каждый из нас выбирает себе соратников, ибо без них мы не добьемся ни чести, ни славы и не услышим похвальную речь, и тогда все наши подвиги и победы просочатся в песок водой забвения, а не лягут прочным камнем в долинах памяти. Поэтому мы выбираем клан – дабы гордиться славой среди соратников и близких и петь Песни Вызова под грохот их щитов. И ты, Две Руки, тоже изберешь его, отправившись в земли битв, в лес у подножия Тисуйю-Амат и в иные места, где ваши воины звенят клинками и мечут огненные копья. И должен ты ведать Пути всех кланов – ибо, не зная их, не найдешь ты дороги к победе, тропы к отступлению или ручья, в котором затеряется твой след во время бегства. Поэтому слушай и запоминай! Вот Путь Горького Камня, чьи воины мечут дротики и обломки валунов; мечут так, будто сами летят со снарядами, направляя их в цель, и потому удар их страшен. И горек вкус у валуна, когда дробит он череп и ломает ребра! Горек вкус смерти, а горше его – вкус поражения и позора. Воистину горькие камни у Горьких Камней… Вот Путь Извилистого Оврага – внезапный, как трещина в земле, когда колеблет ее огнем из недр. Тянется щель, и на каждом шагу – повороты, завалы и ямы; и схватка подобна такой же извилистой трещине: удар внезапен, резок и силен, и не поймешь, куда нацелены клинки и где поет секира, а где свистит копье. Вот Путь Теней Ветра, наш Путь: никто не видит тебя, а ты видишь всех, ты прячешься среди скал и деревьев, трава не шуршит под твоими ногами, тело не испускает запахов, кожа покрыта лиственным соком и обсыпана землей. Таков Путь Теней Ветра, и я, обучая воинов, говорю: «Стань эхом тишины, стань мраком во мраке, травой среди трав, птицей среди птиц, змеей среди змей, отблеском лунных лучей в быстрых водах; стань тенью ветра, ибо невидимый ветер все-таки можно ощутить, тогда как тень его незрима и неощутима. Сделай это-и нанеси удар!» Вот Путь Смятого Листа, скрывающий силу твою и уменья: должен ты выглядеть жалким и тощим, как полумертвый червяк, что копошится в гнилых листьях. Ноги твои должны быть согнуты, спина – сгорблена, руки – свисать до колен, голова – опущена, взгляд уперт в землю… Ты – смятый растоптанный лист среди зеленых и сочных; ты слышишь оскорбления, но не подвластен гневу; ты видишь жест угрозы, но не отвечаешь на него. Ты таишься и хитришь! Таков Путь Смятого Листа, и я говорю: «Стань жалким червем, стань поникшей травой, не показывай своей силы, ибо разгадавший ее враг уже наполовину выиграл сражение». Вот Путь Шепчущей Стрелы, прямой и быстрый: стремительно мчится она к цели, поет, рокочет, шелестит, и несет ее ветер и сила натянутой тетивы. Невидим глазу ее полет, неотразим удар; не остановят ее ни щит, ни шлем, ни пояс из стальных пластин, и лишь рукой смиряют стрелы, вылавливая их подобно юрким рыбам в озере. Но этим искусством владеют немногие. Есть и другие Пути – Путь Звенящих Вод и Холодных Капель, Путь Серого Облака и Горной Лавины, Путь Быстроногих и Путь Четырех Звезд. Сколько кланов, столько хитрых путей! Так говорил Чочинга, и теперь, достигнув зрелости, Саймон мог оценить его Поучения лучше, чем юный воин Две Руки. Теперь он понимал, что все Пути кланов являлись тайными, но секрет, разумеется, был заключен не в проявлениях внешних и видимых, а в том, какими способами достигался результат. И было ему ясно, что лишь искусники вроде Чочинги постигли тайное и знали, как бродить по чужим дорогам, не забывая собственного Пути, и как отправить в такое же странствие других. Учеников, последователей, продолжателей… Из этих трех вариантов Саймон мог избрать лишь ученическую стезю, ибо все-таки был он человеком, а не тайяхатским аборигеном с четырьмя руками. Истинным продолжателем дел Чочинги являлся его сын – не Чулут, кузнец, а Чоч, чьи уши и пальцы были целы, а Шнур Доблести столь длинен, что волочился по земле. Это было правильно и справедливо. Чоч, великий воин, пришел из тайяхатского леса, с полей сражений, чтоб наставлять молодых, и это была дорога тай; Ричард Саймон сражался в своем человеческом лесу, и это был путь человека и землянина. Но все же он оставался воином-тай и в иные моменты своей карьеры ощущал с пронзительной остротой свою принадлежность к Теням Ветра. Этот факт был столь же неоспорим и ясен, как и то, что Земля в конце двадцать четвертого столетия уже не являлась прежней Землей, но лишь ее слабым отблеском, Закрытым Миром, неясной тенью. И наступил час, когда Тень Ветра пересеклась с тенью Земли. Вот Путь Горького Камня, чьи воины мечут дротики и обломки валунов; мечут так, будто сами летят со снарядами, направляя их в цель, и потому удар их страшен. И горек вкус у валуна, когда дробит он череп и ломает ребра! Горек вкус смерти, а горше его – вкус поражения и позора. Воистину горькие камни у Горьких Камней… Из Поучений Чочинги Крепкорукого
Часть I. ПУТЬ ГОРЬКОГО КАМНЯ
Глава 1
КОЛУМБИЯ, РЕЗИДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ЦРУ АГЕНТУ: DCS-54 КЛИЧКА: Тень Ветра ФАЙЛ: 19551-25 ДИРЕКТИВА: 01/12004-MR СТЕПЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ: А ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: Старая Земля СТАТУС: Закрытый Мир. Каналы Пандуса блокированы в 2072 году. Ориентировочный диаметр сферы помех, препятствующей межзвездной связи, около 1,2 парсека. ПЛАНЕТОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Гравитация:1,00 стандартной. Суточный оборот: 1,00 стандартного. Годовой оборот: 1,00 стандартного. Звезда: класса G, светимость 1,00 стандартной величины. Исторические сведения: смотри информацию о российско-украинском конфликте. Климат: умеренный, субтропический и тропический стандартный – по данным на 2072 год. Современное состояние неизвестно. Возможны резкие климатические изменения, связанные с двумя факторами, – надвигавшейся экологической катастрофой и разрушениями земной коры, возникшими в процессе межзвездной транспортировки городов и крупных промышленных объектов. Сведения о суше: детальные карты – по состоянию на 2072 год – прилагаются (занесены в коммуникационный браслет вместе с настоящей директивой). Современная ситуация неясна. Можно предположить, что большая часть Европы, южное и восточное Средиземноморье, Индия, Китай, Североамериканский материк от пятидесятой до двадцатой параллели являются полностью безжизненными зонами – вследствие воздействия трансгрессора. К сохранившимся регионам относятся Сибирь, южная Украина и Крым, восточно-азиатские степи, Африка, Австралия и Южная Америка. Можно предположить, что пустыни и горные области также не подверглись значительным изменениям. Сведения об океанах: современное состояние неизвестно. Нельзя исключить некоторого (или значительного) поднятия уровня Мирового океана вследствие таяния полярных льдов. Горы: как отмечалось выше, горные области подверглись незначительным изменениям. Возможно, увеличилась тектоническая активность в южной Европе, центральной и восточной Азии и вдоль западного побережья американских материков. Внутренние моря: вполне достоверна информация о том, что Каспийское море слилось с Азовским, Черным и Средиземным, а на месте Великих американских озер образовался обширный эстуарий, соединенный с Атлантическим океаном. Более сведений не имеется. Крупнейшие реки: Миссисипи, Нил, Дунай, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд и Гангисчезли. Конго, Тигр, Евфрат, Амазонка и сибирские реки, видимо, в какой-то степени сохранились. Полярные шапки: состояние неизвестно. Возможно, Гренландия полностью освободилась от льдов, а Антарктида – частично. Магнитные полюса: их положение практически не изменилось. Естественный спутник: не пострадал. На Луне, как и на прочих планетах Солнечной системы, не проводилось широкомасштабных транспортных работ. Весь персонал исследовательских станций (Луна, Марс, Венера, Меркурий, Пояс Астероидов) был своевременно эвакуирован. Искусственные спутники: большей частью демонтированы или переброшены через Пандус в звездные системы Большой Десятки. Об оставшихся искусственных сателлитах достоверно известно следующее: 1. Боевые комплексы на земной орбите отсутствуют; 2. Ретрансляторов, модулей связи, метеорологических спутников не имеется; 3. Из крупных объектов присутствуют индийская астрономическая станция ( полностью законсервирована ) и русский спутник «Пальмира». Последний использовался в качестве санатория и, предположительно, находится в работоспособном состоянии. Станции Пандуса: к моменту блокировки межзвездной связи на Земле оставалось тридцать семь установок Пандуса, предназначенных для перемещения особо крупных объектов. Тридцать две из них сосредоточены на спорной территории, в Крыму и в районе городов Харьков, Донецк, Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев, Херсон, Одесса. Подробные карты прилагаются. Примечание: все станции были укомплектованы международным персоналом – гражданами Украины, России, Китая, Соединенных Штатов, Канады и европейских стран. ПРИЧИНА РАССЛЕДОВАНИЯ: устойчивое на протяжении трех веков отсутствие связи со Старой Землей, блокировка каналов Пандуса начиная с 2072 года, что позволяет классифицировать Солнечную систему как Закрытый Мир. ВОЗМОЖНЫЕ ГИПОТЕЗЫ: несанкционированное украинскими властями включение передатчика (или передатчиков) помех. Данную акцию могли осуществить функционеры двух противоборствующих сторон: фронта «Русская Дружина» и партии «Радяньска Громада». Иные гипотезы отсутствуют. Оценка производилась Аналитическим Компьютером «Перикл-ХК20». ПРЕДПИСАНИЯ АГЕНТУ: очевидными задачами являются ликвидация передатчика помех и общая рекогносцировка с целью сбора необходимого минимума сведений о Старой Земле. Однако, учитывая неопределенность существующих на Земле условий, неординарность операции и такие ее особенности, как возможность дальнейшего совершенствования импульсного трансгрессора (деструктора) и засылка новых агентов, нуждающихся в базе для своих действий и их разумной координации, агенту DCS-54 в первую очередь предписывается: 1. Выжить – как безусловная инструкция. 2. Вернуться – как инструкция, подлежащая выполнению При технической возможности. На время операции полномочия агента DCS-54 не ограничены. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: Ориентировочно – тридцать суток. ПОДПИСЬ: Личный штамп-идентификатор Директора ЦРУ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОПЕРАЦИЮ: Э. П. Хелли, руководитель Учебного Центра ЦРУ. ОПЕРАЦИЮ КОНТРОЛИРУЮТ: Н. А. Москвин, генеральный резидент ЦРУ в России, планета Россия; П. С. Конопченко, генеральный резидент ЦРУ на Украине, планета Европа.***
Ричард Саймон, агент DCS-54 по кличке Тень Ветра, спал. Крепкий молодой мужчина, уверенный в своих силах, опыте и удаче, он не испытывал тревог – даже в тех обстоятельствах, которые, если судить объективно, ничего хорошего не обещали. Но этот случай был не первым в его обширной практике, и потому он спал спокойно. Снилось ему далекое детство – Чия, Чочинга, отец и их домик в женском поселке Чимара, на склонах хребта Тисуйю-Амат. Будто бы он прилетел туда в первый раз, десятилетним мальчишкой, смуглым и голоногим; будто сидит он в кабине «пчелки», с широко распахнутыми глазами, с кожаной ленточкой на висках, отливающей сероватым жемчужным блеском, – повязкой Теней Ветра; будто их голубой аппарат спускается вдоль каменной стены, а внизу, тихая и безмятежная, раскинулась Чимара. Он снова видел каменное чело Тисуйю-Амат с едва различимыми чертами – гигантское, морщинистое, темное, исполосованное шрамами осыпей, рубцами трещин, причудливыми провалами пещер. Этот лик древнего титана венчал ледяной шлем о трех зубцах, похожий на выщербленную корону с хрустальными подвесками ледников. Два крайних спускались особенно низко, до широких плеч-перевалов, превращаясь там в бурные потоки; сверкающими пенными серпами они падали с отвесных склонов, вгрызались в каменные ребра, прыгали и грохотали среди скал, взметая в воздух мириады брызг, рождавших семицветную радугу. Гигант в льдистом шлеме с руками-водопадами как бы сидел, опираясь на пятки и выдвинув колени, и на этом уступе тихо дремало селение. Ричард Саймон – нет, десятилетний Дик! – видел крохотные хижины, пылавшие перед ними костры, деревья шой с широкими кронами, запутанный узор тропинок и ручьев, фигурки людей и животных – все это было как бы выткано на травянистом изумрудно-зеленом ковре. Каменный лик Тисуйю-Амат, что означало Проводы Солнца, вздымался с востока; на западе карниз, приютивший селение, был словно срезан гигантским ножом, и внизу темнело овальное озеро в зеленой раме бесконечного леса. Тайятский лес, куда уходят юные воины, чтоб обрести славу и честь! Место битв, земля войны! Дик знал, что он спустится туда, став мужчиной и воином, но до этого было еще целых шесть лет. Целая вечность! Их вертолет, голубая «пчелка», спускался к поляне перед обширной пещерой, служившей жилищем Наставнику. Рядом, поддеревьями шой с огромными пятипалыми листьями, притулилась хижина; на крыше ее, на коротком флагштоке, полоскался вымпел ООН – голубое поле с десятью золотистыми кольцами и шестнадцатью звездами, символом Большой Десятки и Независимых Миров. Саймон, Дик, знал, что эта поляна, эти пещера и хижина будут его домом – долгие-долгие годы, возможно – всегда. Ведь дом – это детские воспоминания, улыбка отца и суровый взор Чочинги, теплые пальцы Чии в ладони и свист птиц-певунов… Дом – это место, где ты был счастлив. И потому, вспоминая о доме, Ричард Саймон представлял не коттедж тетушки Флори в Смоленске, на крутом днепровском берегу, не жилой блок Учебного Центра и даже не нынешнее свое жилище в Грин Ривер, штат Орегон, планета Колумбия, где ждал его верный Каа. Нет, в мыслях своих он возвращался в Чимару, в ту точку пространства и в те времена, когда все они были вместе – он, отец, Чочинга, Чия – и, разумеется, зеленый змей Наставника и его охотничьи гепарды, шаловливые Шу и Ши. Там был Дом, и другого, как он полагал, не будет никогда. Сон длился, и в счастливом своем сновидении Саймон снова видел Чочингу и отца. Наставник – высокий темный силуэт перед входом в пещеру – был озарен неяркими отблесками светильников, пылавших за его спиной. Сейчас, как и в детстве, он казался Саймону огромным, похожим на многорукого индийского демона или на древнего титана; его янтарные зрачки блестели, ноздри чутко подрагивали, темная антрацитовая грива вихрилась вокруг широкого лица. Он был им, если не считать обвившего бедра изумрудного змея, и от него исходило ощущение мощи и свирепой уверенной силы. Саймон почувствовал руку отца на своем плече, услышал его голос. – Чочинга, атэ имозу ко-тохара зеггу. Ко-тохара! Тогда, в минувшей реальности, он не понял этих слов, не, зная еще языка тайят. Но сейчас они были ясны и понятны. – Чочинга, – промолвил отец, – я привел к тебе моего сына. Единственного сына! Сон длился, сливаясь с воспоминаниями. Как прежде – в той, минувшей, реальности – Чочинга, грозный великан, поднял руки – все четыре руки, мощные, в буграх узловатых мышц; потом яростный блеск янтарных зрачков угас, дрогнули широкие брови, полные яркие губы растянулись в улыбке, и он запел. Это была Песня Приветствия и Представления, которой согласно Ритуалу мужчина-тай встречает друга. Голос у Чочинги был сильный, глубокий; руки его мерно двигались в такт протяжной мелодии, он то простирал верхнюю пару перед собой, топроводил ладонями нижней по бокам, поглаживал блестящее змеиное тело, потом с неторопливостью вытягивал руки вверх и в стороны, показывая то на небеса, то на яркий солнечный диск, то на отца, то на Дика. Губы Саймона зашевелились. Скованный сном, он улыбался и повторял каждое слово этой песни. Я – Чочинга, носивший дневное имя Быстрей Копья, Я – Чочинга, чье имя вечера Крепкорукий, Я – Чочинга, чьи отцы Чах Опавший Лист и Чеуд Потерявший Сына, Я – Чочинга, чьи матери Хара Гибкий Стан и Хо Танцующая В Травах, Я – Чочинга из клана Теней Ветра, Наставник воинов, Я – Чочинга Несчастный; брат мой Чу пал от ножа Звенящих Вод, Я – Чочинга Счастливый; брат мой Саймон стоит на пороге. Эта песня не являлась Песней Вызова, предназначенной бойцу чужого клана, и потому Чочинга не поминал своих побед, имен убитых врагов, отрубленных пальцев и черепов, украшавших его Шнур Доблести, – как и того, что собственные его уши и пальцы целы и что за сорок лет сражений и поединков он не потерял ни ногтя, ни волоска. Он был великим воином! Его Шнур Доблести свисал до колен, его щиты были прочными, его копье летело до Небесного Света, а на его клинках не высыхала кровь. И умер он так, как пожелал, – на рассвете, что считалось у тай признаком благоволения судьбы. Ричард Саймон, спавший в командном отсеке спутника «Пальмира», знал, что сейчас случится. Отец ответит песней на песню, потом Наставник, шагнув к ним, подхватит Дика, подбросит вверх и швырнет в траву. А потом… Кажется, когда он поднялся, отец велел ему сделать жест приветствия – согнуть руки и слегка развести их в стороны… А Чочинга сказал: – Хорошо, что ты умеешь падать и подниматься. Всякий воин может упасть под вражеским ударом, но это не беда. Главное, вовремя подняться. Встать и отрезать врагу уши. Или пальцы – что тебе больше понравится. Пальцы даже лучше – костяшками можно украсить боевое ожерелье, Шнур Доблести. Тогда Дик мог лишь мечтать о таком ожерелье. Но Ричард Саймон его имел, и было оно весьма длинным – правда, не до колен, как у Чочинги, но на ладонь ниже пояса. Обычно, отправляясь на задание, он брал его с собой, поскольку Шнур являлся отнюдь не сувениром, а реальной и весьма красноречивой летописью подвигов своего владельца. Но мысль сделать его подлинней давно не терзала Саймона – ведь человеческие обычаи иные, чем у тайят, так что мерзавцы, которых он упокоил, не рисковали ушами и пальцами. Как правило, не рисковали. Случались и особые ситуации… Сон, в котором он встретил Чочингу, сменился другим. Дик – почти взрослый, шестнадцатилетний – сидел на веранде их дома в Чимаре с учебным компьютером на коленях. Наступала ночь; закат, пылавший над лесом, померк, и над зубчатой горной стеной повисла луна – огромная, с темным пятном на серебристом диске, похожим на четырехкрылого посыльного орла. Где-то за спиною Дика, в полутьме, слышалось легкое дыхание Чии; он помнил, что в тот вечер она плела тростниковую фигурку Ши, охотничьего гепарда – ту самую, украшавшую теперь его коттедж в Грин Ривер. Тихо шелестел тростник, временами Чия что-то шептала, по экрану компьютера плыли схемы и графики, и ровный механический голос повествовал о былых временах, о канувших в вечность раздорах и ссорах, о Сергее Невлюдове, творце пространственных врат, и об Эпохе Исхода, когда трансгрес-сор – или Пандус, как его обычно называли, – распахнул Дверь в необъятную и такую щедрую Галактику. В ней было множество миров, ничем не хуже Земли – девственных, чистых, гостеприимных и пустых; в ней всякому хватало места, – столько места, что любая страна и каждый народ могли заселить материк, или планету, или десять планет, если имелись к тому их воля и желание. Саймон заворочался в широком кресле у пульта, досматривая сон. Список Разъединенных Миров мерцал на экране учебного компьютера, а под сомкнутыми веками спящего, накладываясь на ровные строчки, плыли видения планет – горы, леса, океаны, станции Пандуса, города, потоки глайде-ров на шумных магистралях, лица, картины, пейзажи… Вот Миры Большой Десятки – Россия и Колумбия, где жили его родичи по матери и отцу, Европа и Латмерика, Аллах Акбар, Китай и остальные… Вот Независимые Миры… Он бывал на многих из них, но больше помнились Гималаи, мятежный князь Тенсинг Ло, и Аляска, где испытывали первые фризе-ры. Вот Протектораты ООН, Миры Присутствия, Колониальные Миры… Тайяхат, – машинально отметил он, – родина… Вот Планеты-Свалки и Каторжные Планеты… Тид, где погиб Ноабу и где он встретился с Хаоми… Длинный список, очень длинный, но нет в нем ни Тизаны, ни Фейхада и Конго. И нет Земли, Старой Земли… Сайдара уже есть… наверное, есть… На Сайдаре он побывал пятнадцать месяцев тому назад, дождавшись высокой чести: первым скользнуть в дыру, пробитую в сфере помех импульсным трансгрессором. Но сон уводил Саймона дальше, гася случайные воспоминания. В ту ночь, пока Чия плела фигурку гепарда, он говорил с отцом. Странно! Бывают беседы, которые помнятся целую жизнь… А может, ничего в том странного нет – ведь говорили они о Закрытых Мирах, что было для Дика откровением. Потрясающим откровением! Ибо его компьютер, всезнайка «Демокрит», общаться на эту тему не пожелал. – Закрытым Миром согласно принятой классификации называют планету, где блокирован канал межзвездной связи, – произнес отец. – Блокирован трансгрессор, понимаешь? То есть канал был, а затем исчез, потому что… – …разрушены станции Пандуса? – предположил в изумлении Дик. – Нет. – Саймон-старший покачал светловолосой головой. – Пусть станции разрушены, взорваны и стерты в порошок – это не важно. Не важно, так как устья Пандуса могут раскрыться вблизи тяготеющих масс величиной с астероид, не то что с планету! И никакие станции для этого не нужны. Во всяком случае, так утверждают специалисты, и я не вижу повода им не верить. Перед Исходом нигде не было никаких станций – нигде, кроме Земли; тем не менее удалось отыскать и исследовать сотни миров, выбрать из них наилучшие и перебазировать промышленные объекты и города. Эти исследования и поиски, как ты знаешь, идут до сих пор, и любой человек с планетарной лицензией в кармане может отправиться в девственный, но безопасный мир и вкушать там полное одиночество. А может переехать с семьей, со всеми родичами и друзьями, с компаньонами и родичами компаньонов… Дик кивнул. Такие планеты назывались Мирами Присутствия, и в них мог обитать какой-нибудь меланхолик-одиночка или колония в пару тысяч человек. Там не было стационарных Пандусов, но и такие миры входили в систему Транспортной Службы ООН и посещались ее эмиссарами раз в месяц или раз в год – как того требовала планетарная лицензия. И никаких проблем с каналами связи! Пандус работал всегда и везде, и длилось это более трех столетий, с Эпохи Исхода! – Ты хочешь сказать, – он поднял взгляд на отца, – что эта… эта блокировка – точно замок, повешенный кем-то на дверь? Дверь заперта, и нельзя войти? – Вполне уместная аналогия – дверь заперта, и нельзя войти, – с расстановкой произнес отец. – А, как ты понимаешь, природа не вешает замков и не запирает дверей на засовы. Иное дело – люди! – Люди, которые там остались? Там? – повторил Дик, подчеркнув это слово, дабы не возникло сомнений, что речь идет о Земле. – Но почему? Для чего? И кому это нужно? Ответа отец не знал, как не знали его в Транспортной Службе ООН и в Конторе – иными словами, в Центральном Разведуправлении. Вопроса «как?..» не существовало, поскольку Пандус, он же – пространственный трансгрессор, мог быть блокирован с легкостью – высокочастотным радиосигналом, особым образом модулированным и излучаемым во всех направлениях. Эта помеха препятствовала точной ориентации поискового луча, который нащупывал лишь протяженный и непроницаемый сферический барьер, но не породивший его источник. Сравнительно маломощные передатчики, упрощенный аналог радиотелескопов, могли прикрыть всю звездную систему на расстояние двух-трех светолет, блокировав каналы Пандуса и любую попытку проникновения извне. Но зачем? Для чего? Ответы могли быть разнообразными. Один уже получили – на Сайдаре, однако ту тайяхатскую ночь, что снилась Саймону, отделяли от Сайдары десять лет и миллиарды лиг пространства. К тому же на Земле могли найтись совсем иные резоны… Он заворочался, просыпаясь. В эти мгновения, на грани яви и сна, он будто мчался из прошлого в настоящее, минуя один за другим верстовые столбы событий. Они мелькали и уносились стремительно вдаль, сливаясь в серую пелену: семнадцать месяцев в тайятских лесах, четыре года в Учебном Центре, потом – операция в Латмерике, Сьерра Дьяблос, операция в России, Москва, операция в Гималаях, Непал, операция на Таити, плавучий город Парадиз, операция в Южмерике, Рио, операция на Тиде… Операция, операция, операция… Встречи и расставания, слезы и кровь, спасенные и отнятые жизни, пытки и месть, след от пули под правой ключицей, ожоги на шее и запястье… Сколь многое может случиться за двенадцать лет! Но ум, привыкший логически мыслить, из многого отбирает главное. Главным же были два обстоятельства: импульсный трансгрессор, детище Транспортной Службы ООН, и агент ЦРУ с кодовым номером DCS-54. Ричард Саймон, Тень Ветра, круживший сейчас над Землей на расстоянии семидесяти лиг.***
Раскрыв глаза, он осторожно приподнялся, держась за пульт. Огромный блестящий цилиндр «Пальмиры» вращался с царственной неторопливостью, и тяготение на внутренней его поверхности не превышало четверти земного. Здесь находились жилые отсеки, командная рубка, склады, гидропарк (в котором сейчас не было ни капли воды).и энергетический модуль, питаемый от солнечных батарей, – их сверкающие ячейки обнимали станцию, придавая ей сходство с чудовищной многокрылой стрекозой. Ближе к оси тяготение падало, позволяя устроить всяческие забавы и аттракционы, – «Пальмира» хоть и являлась спутником-санаторием, но тут, как выяснил Саймон, скорей развлекались, чем лечились. Один торец цилиндра был ориентирован на Землю; в его середине зияла шлюзовая камера для приема челноков, окруженная широким кольцевым пространством, поделенным надвое. Большая часть этого пространства предназначалась для отдыхающих, выполняя роль смотровой палубы: тут стояли кресла, находился бар, и сквозь маломощные телескопы можно было любоваться земной поверхностью. В меньшей части располагался экипаж: кухня-столовая, люк служебного шлюза, пять кают вдоль недлинного коридора и рубка в самом его конце. В этом отсеке Саймон провел уже четыре дня, потраченных на общую рекогносцировку и адаптацию после перехода, который был таким тяжелым и мучительным, словно его пропустили сквозь огромную мясорубку с плохо заточенными ножами. Обычные странствия с помощью Пандуса никаких болезненных ощущений не доставляли, но установка ИТ (импульсный трансгрессор, или деструктор, вырубавший канал в сфере помех) являлась неприятным исключением. В двояком смысле: во-первых, она причиняла жуткую боль, а во-вторых, ИТ был дорогой в один конец: позволяя забросить агента в Закрытые Миры, он никоим образом не гарантировал возвращения. И оттого Саймону чудилось, что после мясорубки он угодил в капкан – в гигантский капкан размером с целую планету, откуда нет ни выходов, ни лазеек. Это ощущение было столь же неприятным и угнетающим, как на Сайдаре, но там ему удалось за пару дней найти передатчик помех и снять блокировку. Сайдара была миром спящих, и там никто ему не мешал, кроме четверки взбесившихся роботов, а на Земле, похоже, обстоятельства сложились иначе. Зато и роботов здесь не водилось – ни роботов, ни компьютерных сетей, ни летательных аппаратов, ни баллистических ракет. Последнее вызывало у Саймона грустные мысли; он полагал, что без чего-то мощного и дальнобойного ему на этот раз никак не обойтись. Например, без «Вельзевула» с боеголовкой на сорок килотонн… Хотя «Огненный меч» и «Возмездие» ничем не хуже: поменьше дальность, побольше мощность, получше точность. С минуту он прикидывал, что бы такое избрать, потом вздохнул и, раскрыв упаковку с концентратом, принялся за еду. Ни «Вельзевулов», ни «Мечей» у него не было, и в данный момент весь его арсенал мог поместиться в двух руках: «рейнджер» с запасными обоймами, тайятский нож тимару с лезвием бритвенной остроты и небольшой контейнер, где хранились фризеры и гранаты. Значит, средства доставки все же придется искать на Земле… Такой снаряд, чтоб долетел до лунного кратера Архимеда в Море Дождей и разнес проклятый передатчик в клочья… Снова вздохнув, Саймон проглотил опостылевший концентрат, потянулся к пульту и щелкнул тумблером. Кроме телескопов на смотровой палубе, в его распоряжении были модуль планетарной связи с наружными антеннами, компьютер трехсотлетней давности и пеленгатор. Все прочее оборудование «Пальмиры» оказалось бесполезным – разумеется, кроме системы жизнеобеспечения, снабжавшей его водой и воздухом. Да и не было тут никаких хитроумных устройств: «Пальмиру», построенную в 2044 году, создавали для отдыха, а не для шпионских акций. Вероятно, она считалась последним российским имуществом, которое стоит забрать в Новый Мир, и потому провисела на орбите двадцать восемь лет, до самого конца Исхода. Перебазировать ее не успели, и теперь она кружила над Землей в компании с индийским астрономическим спутником. Но тот был совсем крошечным, и с него сняли все, включая сантехнику и световые панели. Саймон медленно вращал верньер приемника. Шесть экранов, расходившихся над пультом овальными цветочными лепестками, оставались безжизненны и серы; на Земле – на этой Земле – отсутствовало телевидение, не говоря уж о лазерной и голографической связи. Но радиосвязь была, и временами Саймон различал невнятный шелест людских голосов, музыку и даже песни. Вещали на трех языках, которые он знал, на русском, украинском и арабском; еще – на татарском, монгольском и каких-то неведомых наречиях, вероятно, кавказских, где через каждые три слова поминался Аллах вкупе с пророком Мухаммедом. Траектория «Пальмиры» была наклонена под углом сорок пять градусов к плоскости экватора, так что спутник пролетал над Южной Америкой, Атлантикой, Сахарой, Иранским нагорьем и Сибирью; затем – над безбрежными просторами Тихого океана. В результате Саймон, ловивший передачи на длинных и средних волнах, лучше слышал то одно, то другое, что позволяло, вкупе с визуальными наблюдениями, сделать кое-какие выводы. Он обнаружил, что большая часть Европы, Китай и часть Североамериканского материка изрыты гигантскими кратерами километровой глубины, чудовищными кавернами, оставшимися после транспортировки городов. Индия, Малая Азия, Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуострова исчезли, равным образом как и Флорида, Япония, Британия и Панамский перешеек. Между Евразией и Африкой плескалось просторное море – конгломерат бывшего Средиземного, Мраморного и Черного, омывавшее теперь горы Кавказа, Ирана и пески Аравии. Гудзонов залив поглотил Великие американские озера и все Восточное побережье Штатов; Лабрадор сделался островом, Атлантика слилась с Тихим океаном на протяжении двух тысяч километров, а от Больших Антил остался только огрызок Кубы. Разумеется, во всех этих зонах катаклизмов, какими сопровождалась глобальная трансгрессия, царило кладбищенское молчание – за исключением Крыма и юго-восточной Украины, где Пандус практически не применялся. Что касается Африки, Сибири, Австралии и Южной Америки, то они почти не изменились; в прошлом тут расположилось немного больших городов, а остальные – если не считать Австралии – были такими трущобами, что тратить на них энергию Пандуса явно не стоило. Забирали людей, не ветхие избы и хижины; забирали животных, произведения искусства и особо ценные природные ареалы – частичку Серенгети, несколько квадратных лиг тайги, клочок австралийского буша и амазонской сельвы. Но главным все-таки были люди, а их на Земле к 2072 году еще оставалось немало – двадцать шесть миллионов человек, разбросанных по всем материкам. Почти все они готовились в путь на новую родину, за исключением ортодоксов-мусульман: арабов из числа непримиримых и сотни тысяч их единоверцев на Волге, Кавказе и в Средней Азии. Были, конечно, и позабытые – крохотные племена, бродившие в африканских джунглях, в сибирской тайге и монгольских степях. Однако всех их предполагалось разыскать со временем и переправить в прекрасные Новые Миры – соединив, по их желанию, с любым другим народом или одарив отдельным персональным миром. Что, разумеется, и было б исполнено, если бы в 2072 году Земля не окуталась сферой помех. Медленно вращая верньер настройки, Саймон вслушивался в шелест далеких голосов. На Украине, в зеленом оазисе над бывшим Черноморским побережьем, вещали три радиостанции. Он слышал их плохо, но все-таки смог определить, что все они сосредоточены в районе Харькова – вероятно, Новой столицы. В телескоп город казался вдвое меньше, чем прежде, – на снимках сделанных с русского спутника в 2066 году; его восточная часть временами окутывалась дымным клубящимся маревом, причину которого Саймон не разглядел. Все остальные города, кроме Одессы, вроде бы были на месте – тоже сократившиеся вдвое и втрое, но, по крайней мере, живые. Однако надолго ли?.. Динамик разразился хриплыми резкими воплями: – …клятие бляхи… спелись с мослами… орда… саранчуки, свинячьи рыла, татарськи биси… брехати, шо… угроза… згинь!… не допустимо до Харькива… встань, Украина!.. на вмерт, не на живот!.. Такие кличи Саймон слышал не в первый раз и сделал вывод, что неприятность в виде бляхов и мослов грозит Украине с востока. Очевидно, с Волги и из Сибири; там, три с половиной столетия назад, еще оставалось около семисот тысяч жителей. Как и чем они могли угрожать Украине, было загадкой: согласно прогнозам «Перикла», гигантского аналитического компьютера ЦРУ, на нынешней Земле ни кто не мог соперничать с Украиной – точнее, с ее юго-восточными областями, сохранившими как население, так и промышленный потенциал. По мысли стратегов из Совета Безопасности, этот земной регион должен был стать бесспорным лидером и если не опорой справедливости, то уж, во всяком случае, фундаментом миропорядка. Однако: – …товариство козакив… батько-отаман пан Стефан Ментяй розмолвил… тяжко буде, панове-лыцари!.. буде лихо… приспило дило… щоб не похилилася наша козацька слава… рано ще вмирати… Это была вторая станция, но сообщения с третьей, вероятно – правительственной, звучали столь же пессимистично: – …хмара над Харькивом… харькивское гультяйство бунтуэ… круг Харькива… почорнило од крови… шахтери Донецка… Крим… Пан Самийло Калюжннй, старшой голова Ради ЦЕРУ, назвати это… Пан Нечай Чуприна, каштелян Крима, и пан Сапгий, глава безпеки, сказав… Пан Павло Мороз, президент, призываэ… Встанем громадой!.. Отстоим радяньский край!.. Боже нам поможи… Пауза. Затем: – …перший козацький регимент… слетати до руин Одесы з витром… немаэ ничого… обратний путь… полег вбитий… другий регимент… до Херсону… И снова первая радиостанция обрушивала поток брани и угроз: – …орда варварив… песьи хари… свинорылы… хайло… послать червоних жупанов… Рада ЦЕРУ… бюллетен… не ждать, ударить всей силой… Хай живе!.. Пролетая над Сибирью, Саймон ничего не мог разглядеть под плотным лесным покровом, но в степях Турана и Монголии намечалось некое движение – в телескоп он видел клубы пыли, а по ночам – отблеск бесчисленных костров. К сожалению, оптика на «Пальмире» была слаба и не позволяла различить детали. Возможно, внизу работали какие-то радиостанции, но слишком маломощные; только один раз Саймон расслышал далекий потусторонний шепот: – …Мяскяв эте… Хабяляр бу кенне… * Говорит Москва. Новости этого дня (тат.) Он смог понять лишь то, что говорят по-татарски и что передача ведется из Москвы – или того поселения, что находилось теперь в районе чудовищных кратеров, оставшихся от прежней Москвы, Тулы, Твери и Рязани. Иногда, тоже на пределе слышимости, он различал арабскую речь, но ничего полезного, достойного записи в коммуникационный браслет, не было; одни молитвы и протяжные призывы муэдзина. С помощью пеленгаторов «Пальмиры» он определил направление – передачи шли с юго-востока, с Зондских островов, с Новой Гвинеи или, возможно, из Австралии. Но самый поразительный сюрприз преподнесла Америка – конечно, Южная, где сохранились в неприкосновенности бассейн Амазонки, Анды, Бразильское плоскогорье, аргентинские степи, долины Параны и Ориноко. Разумеется, и тут виднелись кратеры на месте Буэнос-Айреса, Рио, Сантьяго, Лимы и других городов, но в целом континент не пострадал и очертания его почти не изменились. Пролетая над этой территорией, примерно от Санта-Крус к Ресифи, Саймон видел стада коров и еще каких-то животных, довольно многочисленные поселения, десяток из коих могли считаться городами, повозки, трейлеры и железную дорогу, что шла вдоль восточного берега и ответвлялась широкой дугой к горам, плоты и паровые корабли, сновавшие вдоль рек и в прибрежной зоне, – словом, все признаки активности, включая дым сражений и смог, висевший над заводами и рудниками. В этом, пожалуй, не было б ничего удивительного – в Бразилии, к концу Исхода, еще оставалось тысяч двести цветного населения, – если бы не радиоголоса. На побережье работало семь или восемь станций, и Саймон превосходно слышал их и столь же превосходно понимал – ибо вещали они не на испанском и португальском, а на чистейшем русском. Язык, конечно, был несколько архаичен, однако для уха Саймона казался музыкой – так же, или почти так, говорили в Смоленске, его родном городе, переброшенном некогда на Тайяхат. В мире России русская речь звучала иначе, и там можно было почувствовать, что за три с половиной столетия язык изменился – не слишком сильно, но вполне заметно. А здесь… Здесь напевный голос дикторши ласкал Саймона, и, если не вслушиваться в смысл слов, можно было вообразить, что мама, погибшая двадцать три года назад, снова с ним – то ли сказку рассказывает про колобка, то ли выговаривает за какие-то детские провинности. Если только не вслушиваться… К сожалению, он не мог себе этого позволить. – Сегодня утром трое врагов народа из Харбохи пытались скрыться за рекой, но были растерзаны возмущенными жителями, – вещал чарующий женский голос. – Одновременно силы местной самообороны вместе с шестнадцатым линейным отрядом драгун начали наступление на мятежников. Как утверждает парагвайский дон-протектор, операция санкционирована правительством и Государственной Думой. Дон Грегорио-Григорий, глава департамента Общественного здоровья, заявил: место гаучо – на плахе живодерни, и они туда попадут! Так же считают дон Хайме-Яков, глава Финансового департамента, и дон Эйсебио Пименталь, прибывший в столицу из Разлома. Дон Алекс-Александр, Военный департамент, хранит молчание, однако его дела красноречивее слов: из центральных провинций к Харбохе подтягиваются три отряда драгун и моторизованный корпус карабинеров под командой кондор-генерала Козимо-Кузьмы Луиса. Дон Хорхе-Георгий, департамент Продовольствия, был откровеннее своих коллег, заявив, что крокодильеры не останутся в стороне от событий. Если прочие доны солидарны с ним, то есть надежда, что восстанию пришел конец – несмотря на все происки ЦЕРУ и Байкальского Хурала. Как сообщает наш специальный корреспондент… И так далее, и в том же духе. Кроме приятного женского голоса, будившего ностальгические воспоминания, самым ценным в этих передачах были имена властительных донов, с коими Саймон рассчитывал встретиться в весьма недалеком будущем. Директива, полученная им из самых высоких инстанций, гласила, что он обязан выжить и вернуться, а вопрос выживания и возвращения был тесно связан с сильными мира сего. С тем же доном Грегорио-Григорием и доном Алексом-Александром, с доном Хайме-Яковом и доном Хорхе-Георгием, с президентом Павло Морозом, с Самийло Калюжным, председателем Рады, с паном Сапгием, главой безпеки, и даже с батькой-атаманом по имени Стефан Мен-тяй. Как они отнесутся к тому, что на Землю явился посланец.. со звезд?.. Возрадуются и зарукоплещут?.. Саймон сильно сомневался в этом. Пальцы его коснулись верньера настройки, и рубку заполнил пронзительный свист. Он то понижался, переходя в басовитое гудение, то повышался до терзающего уши воя; казалось, какая-то чудовищная птица, парящая в пустоте, стонет и жалуется на причиненные ей обиды, а может, просто на одиночество. На неприкаянность… Таких у тайят называли ко-тохара, и Саймон был одним из этих несчастливцев, поскольку не имел брата-умма. Нахмурившись, он вслушивался в мрачные рулады. Этот тоскливый вой в эфире распространяли передатчики помех – вернее, один-единственный передатчик, хотя когда-то их могло быть пять или шесть, а то и целый десяток. У многих, кто остался тут в далеком двадцать первом веке, был резон перекрыть межзвездную связь и изолировать Землю. Были фанатики и недоумки, террористы и анархисты. Красный Джихад и Арийский Клинок, Тигры Бенгала, Пантеры Африки, Русская Дружина и упрямая непримиримая Чечня. И был конфликт меж Украиной и Россией, тянувшийся все сорок. восемь лет Исхода… Но так ли, иначе, теперь передатчик остался один – что, впрочем, жизнь Саймону не облегчало. В первый же день своей миссии, заполнив воздухом «Пальмиру» и утвердившись в командном отсеке, он взял пеленг и убедился, что линии сходятся не на Земле. Луна, Море Дождей, кратер Архимеда… Он вычислил координаты с помощью древнего компьютера, проверил их и записал в свой коммуникационный браслет. Потом погрузился в раздумья, перемежавшиеся сном, едой и изучением Земли сквозь телескоп на обзорной палубе. Его задача внезапно осложнилась; десантный скафандр, в котором Саймон появился на «Пальмире», мог опустить его вниз в любой из точек траектории спутника, но не поднять наверх. Под «верхом» он подразумевал Луну, куда планетарный заградитель класса «Майти Маус» добрался бы минут за сорок, а боевая ракета или лазерный луч еще быстрей. Но ни ракет, ни мощных лазеров, ни космолетов у него не имелось, а было лишь то, что пролезло в узкую щель, пробитую трансгрессором: скафандр, ранец, ручное оружие и маяк. Если не считать скафандра, маяк являлся самой важной частью амуниции: Саймону полагалось активировать его перед высадкой, и тогда, ровно через десять дней, Колумбийская станция отыщет его поисковым лучом и попытается развернуть обратный канал. Эту процедуру будут повторять три месяца, дважды в сутки, и если сфера помех не исчезнет, на Землю отправится новый агент. Вероятно, Андрей Божко или Анвер Ходжаев по прозвищу Карабаш… Четвертый из их звена, Хромой Конь, индеец с Маниту, погиб. Но в Учебном Центре стараниями Леди Дот готовились новые группы первопроходцев. Временами Саймон удивлялся, зачем они нужны – ведь Закрытых Миров существовало не так уж много, хоть точное их число держали в тайне. Вероятно, ООН в лице своих ведомств – таких, как Карательный Корпус и ЦРУ, – желала всегда и всюду держать ситуацию под контролем. «Разумное желание, – подумал Саймон, усмехнувшись. – Но ситуации бывают такими неожиданными… Как, например, сейчас: передатчик-то я нашел, да до него не добраться! Другое дело, если б их было пять, и все внизу – пусть среди километровых кратеров или где-нибудь в Харькове, под присмотром батьки Стефана Ментяя и его молодцов… Тут появилась бы масса возможностей: столковаться или купить, пригрозить, обмануть, схитрить, прорваться силой или проскользнуть змеей среди змей, как говаривал Чочинга… Теперь же, – размышлял Саймон, – задача изменилась: придется не передатчик искать и не его хозяев, а что-то метательное и увесистое… Вроде снаряда Горьких Камней, который дробит череп и ломает ребра…» На миг он ощутил себя таким снарядом, повисшим в зыбком равновесии между Землей и Луной. До Земли – триста двадцать километров, до Луны – четыреста тысяч; Земля и все, что творилось на ней, притягивали сильнее. Там были люди, миллионы затерянных душ в незримой, но прочной клетке; и, как повсюду в человеческих мирах, они боролись за лучшее место под солнцем, за власть и богатство, за сладкий кусок или, как минимум, за жизнь. Были среди них правые и виноватые, обиженные и обидчики, жестокие и смиренные, достойные кары или защиты, но всем им полагалось знать, что они – частица человечества, не позабытая среди развалин и не оставленная в наказание, а лишь отрезанная по глупости или преступному умыслу предков. Ричард Саймон мог бы им это сказать, включив передатчик, но был он не из тех ангелов, что разносят благую весть. Те ангелы, белые, придут потом; придут, если их серый коллега раскроет перед ними двери. Он поднялся, окинул взглядом рубку, где в соседнем кресле была аккуратно разложена его амуниция, затем проследовал коридором на смотровую палубу, к телескопам. «Пальмира» мчалась сейчас над средиземноморской акваторией; шесть сотен лиг отделяли ее от побережья, от Крыма и Кавказских гор, от синих нитей рек и голубой азовской чаши. Самое малое расстояние… Саймон глядел, сравнивал с врезанной в память картой. Территория над Азовом… несколько крупных поселений… Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков… Харьков он теперь узнавал по темному облаку, Донецк и Запорожье – по развалинам шахт и заводов, по холмам терриконов и дымившим кое-где трубам. Западнее, у водохранилища, находился еще один полуразрушенный промышленный центр со странным названием Кривой Рог – хаос подъездных путей, словно перепаханных огромным плугом, покосившиеся заводские корпуса, свалки, окружавшие жилой район беспорядочными баррикадами. К югу, на побережье, стояли два других города, Николаев и Херсон, и их – а также Севастополь – Саймон разглядывал с особым тщанием. Корабли. Его интересовали корабли – крейсера и подлодки, снабженные мощным оружием, а также морские базы в кольце ракетных шахт, аэродромы с боевыми стратопланами, лазерные установки и пусковые эстакады… Все это здесь было, и кое-что осталось до самой финишной черты, когда захлопнулись устья Пандуса… Было, но исчезло – то ли похороненное под развалинами, то ли затонувшее, то ли проржавевшее и сгнившее за три с половиной сотни лет. Как и тридцать с лишним огромных трансгрессорных станций, которым полагалось перебросить все это богатство, все города, заводы, фабрики, машины – и, разумеется, людей – в новый Прекрасный мир… Вот только в какой – на планету Россия или на Европу, на континент Славения, где нынче стоят Киев и Прага, Варшава и Вильнюс? Спор закончился ничем, и Саймон сейчас наблюдал его отдаленные результаты. Разруха и запустение… жалкий отблеск былого богатства и мощи… «Стратеги Совета Безопасности ошиблись, – мрачно подумал он. – Этот оазис среди европейских пустынь никак не может претендовать на роль гегемона и мирового лидера». Телескоп был маломощным, но все-таки Саймону удалось разглядеть суда, похожие на древние буксиры, тащившие пару-тройку барж, рыбачьи шаланды и парусники покрупней, двухмачтовые, – вероятно, шхуны. Еще имелись паровые катера, крейсировавшие в Азовском море и вдоль восточных крымских берегов – таких же зеленых и живописных, как в видеофильмах минувшей эпохи. Саймон решил, что катера – пограничная стража, но они были слишком малы и вряд ли располагали чем-то серьезнее пулеметов и малокалиберных пушек. Он шевельнул трубу телескопа, обозревая берег к западу от Николаева и Херсона. Степь… По местному времени – конец сентября… Пожухлые серые травы, бурые пашни, по которым ползает множество крохотных жучков – не разобрать, машины или упряжки лошадей… В одном районе, меж Днестром и Бугом, вздымалась пыль, расползаясь рваными темными островками, и в эту тучу с востока и северо-запада словно впивались тонкие изломанные стрелки, похожие на неторопливо ползущих змей. Битва, догадался Саймон; конная схватка или целое сражение. Он насчитал семнадцать стрелок, прикинул, что в каждом таком отряде могло быть от пятисот до тысячи бойцов, и скривился. Война… повсюду война… и здесь, в Старом Свете, и в Новом, где неведомых гаучо будут разделывать в живодерне… Труба телескопа двинулась вниз, к Одессе. Согласно архивным данным, здесь в двадцать первом столетии базировался украинский флот – суперновейший крейсер-тримаран «Полтава», авианосец «Крым» с истребителями-стратопланами, торпедоносцы на воздушной подушке, минные заградители, десантные корабли… Но теперь меж серой степью и синим морем тянулось овальное черное пятно выжженной земли, отливавшее стеклянистым блеском, – в тех местах, где не было кратеров. Этих воронок насчитывалось семь, и казались они непохожими на огромные пропасти с вертикальными стенами, какие оставлял трансгрессор. Эти были помельче, с кольцевым валом по краю, сходившиеся на конус – следы давних взрывов, возможно – ядерных, но не слишком мощных. Кое-где, вплавленные в почву, торчали груды бетонных плит, балок и камней, Саймон припомнил отрывки из передачи: «…перший козацький регимент… слетати доя руин Одесы з витром… немаэ ничего…» Немаэ ничего… А чо искати? Он нахмурился, соображая, что валы над кратерами вроде бы выше с северо-западной стороны – значит, стреляли с моря. Откуда? С кораблей или с Кавказских гор? И куда подевались стрелки? «Пальмира» уже торила путь над горами Кухруд, картины перед взором Саймона расплывались и тускнели, скрытые надвигавшейся ночью и полупрозрачным занавесом атмосферы. Где-то здесь он должен спуститься, если решит обследовать причерноморский регион… Спуститься, пересечь Кавказ, минуя пропасти на месте городов, добраться до Кубани, Азовского моря и Крыма… Трехтысячекилометровый путь, без транспорта, без лошади, без пищи, зато с приличным грузом – один маяк тянул на двадцать килограммов… Сомнительное предприятие! Тем более что Украина – вернее, то, что от нее осталось, – являлась, как считал Саймон, не лучшим местом для контакта. Равным образом его не соблазняли сибирские просторы. Кто бы ни таился там, в бескрайних степях и безбрежных лесах, он будет представлять угрозу – или, во всяком случае, лишнюю сложность. Саймон, потомок русских и англосаксов, не мог надеть личину азиата; белокожий, рослый, светловолосый, он был бы заметен, как гвоздь, торчащий в доске. Существовала еще языковая проблема: русский и английский были ему родными, испанский, португальский, украинский и арабский он знал в совершенстве, мог объясниться на французском, немецком и итальянском, однако татарский – тем более бурятский или монгольский – не изучал. В его резерве еще оставался тайятский, но вряд ли язык четырехруких аборигенов Тайяхата мог пригодиться в Сибири или байкальских степях. К тому же, в свете нынешней ситуации, гигантские территории за Уралом являлись абсолютно бесперспективными. Все ракетные базы России, все, что находилось на юге и севере, на западе и востоке, в Монголии и Казахстане, в Приморье и на Курильских островах – словом, все смертоносные игрушки были разобраны и уничтожены, а ценное оборудование перебазировано в Новый Мир, на планету, которую Россия делила с теми же Монголией и Казахстаном, с Индией, Балтией, Эфиопией и десятком других государств. Ergo, то, что осталось здесь, не представляло для Саймона никакого интереса. «Пальмира» пересекла линию терминатора, и сейчас он мчался над мрачным пространством – быть может, над кратерами Ташкента и Бешкека, медленно поглощаемых песками, или над чудовищным Новосибирским разломом, затопленным обскими водами. «Пальмира» свершала один оборот за восемь часов, и значит, часа через три Саймон увидит зарю над океаном, меж Новой Зеландией и Антарктидой; еще полчаса, и он пронесется над Андами, где-то в районе озера Вьедма… «Ведьмино озеро», – подумал он на русском, невольно улыбнулся и, покинув смотровую палубу, зашагал в командный отсек, соображая, где бы лучше произвести десантирование. Если не в Закавказье, не в Средней Азии и не в Сибири, то лишь в Америке – ибо Сахара, как и Нубийская пустыня, безлюдна и совершенно непривлекательна. Однако Южно-американский материк, откуда шли передачи на русском, был территорией немалой, и тут существовали варианты – от мыса Горн до плоскогорий Каатинги. Десантный скафандр обеспечивал мягкое приземление с любой высоты до трехсот километров, но, разумеется, не заменял ни вертолета, ни боевой капсулы. Погасить скорость, доставить хрупкий груз боеспособным и живым – вот что являлось главной его задачей; он не предназначался для горизонтальных перемещений и, лишенный топлива, был абсолютно бесполезен. Саймон не стал включать компьютер – задачка элементарная, и вычислительный модуль в его браслете справился с ней за пару секунд. Он спустится вниз по нисходящей параболе; покинув станцию на пятидесятом градусе широты, окажется где-то в бывшем Уругвае, чуть северней Ла-Платы – она разливалась широко, поглотив два кратера на месте Монтевидео и Буэнос-Айреса. Если отправиться в путь с сороковой параллели, он попадет к заливу – большой серповидной бухте, лежавшей там, где возносились когда-то небоскребы Рио и Сан-Паулу. На берегу есть город, новый город, довольно большой… и район вокруг весьма оживленный.. Саймон раздумывал. Пожалуй, лучше уругвайский вариант: тихое место, пустынная степь с холмами и рощами да сотня поселений, деревушки и городки, а меж ними – по тридцать-сорок километров. Не совсем безлюдье, но и под локоть не толкнут… прекрасные возможности для адаптации… Он занес свои соображения в браслет. Широкое кольцо из десяти сегментов являлось многофункциональным приспособлением, где содержался не только компьютерный модуль, но и другие полезные вещи – гипнозер, погружавший в беспробудный сон, миниатюрный голопроектор и дешифратор. Сделав запись, он стал облачаться: надел скафандр и прозрачный шлем с кольцом воздушного регенератора, проверил поглотители тепла, тормозные движки, ранец и пояс с оружием. В ранце хранились запасные обоймы, контейнер с гранатами, тубы с пищей, фляга и Шнур Доблести – в прочном кожаном мешочке, расшитом тайятским жемчугом. На самом дне лежал тяжелый пупырчатый сфероид из синеватого металла – драгоценный маяк, который Саймону полагалось спрятать в надежном месте, а коль такого не окажется, таскать с собой. Он положил ладонь на холодную поверхность сферы, нащупал пальцами пять почти незаметных углублений, нажал… В ответ подушечки пальцев кольнуло; теперь маяк был активирован, и оставалось самое простое: выжить и вернуться. Такой инструкцией начальство снабдило Саймона, причем Уокер напирал на «выжить», а Леди Дот – на то, чтобы вернуться. Она считалась дамой безжалостной и крутой, как и положено шефу Учебного Центра, и Саймон полагал, что труп агента в приемной камере был бы для нее вполне удовлетворительным результатом. Он забросил ранец на спину, прислушался к тихим щелчкам магнитных креплений и вышел в коридор, к служебному шлюзу. Двигался Саймон, широко расставляя ноги и подпрыгивая; идти нормально мешали слабое тяготение и цилиндры тормозных движков, закрепленные у голеней. Шлюзовой отсек, тесный, темный и невысокий, был заранее наполнен воздухом. Саймон протиснулся в черную дыру люка, задраил его, бормоча сквозь зубы проклятия на тайятском, нашарил запор выходной диафрагмы, ткнул пальцем в нужную кнопку и повернул рычаг. Тьма стояла кромешная; казалось, ничего не происходит, но вдруг он заметил, как темнота будто бы сделалась глубже и на фоне ее засияли звезды – четыре звезды, две синие, алая и голубая. Саймон решил, что это доброе предзнаменование. У народа тайят «число» четыре считалось счастливым, и, желая удачи, они говорили: да пребудут с тобой Четыре алых камня, Четыре яркие звезды и Четыре прохладных потока. Звезды уже имелись в наличии, потоки Саймон мог отыскать на Земле, а вот с камнями получалась неувязка. Найдется ли хоть один? Такой, который можно метнуть, надеясь, что он озарит лунный кратер алой вспышкой взрыва? Сильно оттолкнувшись, Саймон ринулся в черную пустоту, одновременно включив блок пространственной ориентации. Его тряхнуло – раз, другой; двигатели плюнули огнем, гася орбитальную скорость. Теперь «Пальмира» удалялась, будто летела к самому Солнцу, сиявшему в черной бездне у него за спиной, а прямо под ним круглился огромный белесоватый шар, таинственный и незнакомый, и все-таки чем-то похожий на Тайяхат и Колумбию и на другие миры, доступные людям. Этот был пока что закрыт, но посланец небес уже явился – серый ангел с ключом, подходящим к любой двери. «Теперь бы только до нее добраться…» – мелькнула мысль. Падая на Землю будто снаряд из пращи Горьких Камней, паря в стратосфере, и пронизывая облака, он размышлял о своем задании. Как уже говорилось, задание было простым – выжить и вернуться, но эти два слова подразумевали очень многое не сказанное и не написанное в полученной директиве, однако понятное и как бы разумевшееся само собой. «Выжить» означало, что ему предстоит разобраться в ситуации, выяснить, в чьих руках власть и как эту власть используют; вероятно, приобщиться к ней, поскольку лишь с вершин власти, явной или тайной, можно управлять событиями, направляя их к пользе порученного дела. «Вернуться» являлось столь же емким понятием; чтобы вернуться, он должен был уничтожить передатчик помех, открыть доступ на Землю для Транспортной Службы и не расставаться с маяком. Лишь тогда устье Пандуса раскроется перед ним – покатый склон, подсвеченный багровым, тоннель мгновенного перемещения в пространстве… Он сделает шаг – здесь, на Земле, а второй – уже по каменным плитам Колумбийской станции, запрятанной под холмами в окрестностях Грин Ривер… Он возвратится! В привычный мир, в знакомый век, двадцать четвертый от рождества Христова, в свою эпоху, когда человечество расселилось среди звезд… Выжить и вернуться!.. Так приказали те, кто его послал, но у Ричарда Саймона была и своя задача, которую он формулировал столь же лаконично: карать и защищать! В определенном смысле она вытекала из Поучений Чочинги, ибо они гласили, что тайятский воин бьется за славу и честь, а высшей честью для человека-воина было спасти безвинных и покарать обидчиков. Инстинкт подсказывал Саймону, что на Земле он найдет и тех, и других. Его скафандр нагрелся, внешняя оболочка засветилась вишневым, потом – закатным багрянцем и, наконец, полыхнула красными отблесками зари. Но он не почувствовал жара; одетый в непроницаемый кокон, объятый огнем, он мчался вниз, к Земле, каквыпущенный из пращи снаряд. Искать, карать и защищать!***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Эдну Хелли, шефа Учебного Центра, называли Леди Дот. Конечно, за глаза; никто не знал, было ли это прозвище официальным, зарегистрированным в кадровых файлах ЦРУ или творчеством курсантов и коллег – и, в силу последнего обстоятельства, являлось оскорбительной фамильярностью. Фамильярничать же с Эдной Хелли – опасное занятие. Точки, расставленные ею, попахивали свинцом. В тридцать пять она считалась лучшим агентом-ликвидатором ЦРУ, да и в нынешние пятьдесят былой сноровки не растеряла. Дейв Уокер ее уважал. Работать с ней было почетно и небезвыгодно, и эта работа сулила определенные перспективы – к примеру, он мог перескочить из инструкторов УЦ в руководящий персонал. Стать главой отдела или шеф-резидентом на одной из престижных планет, на Монако или на Мирафлорес… А лучше всего на Южных Морях, в чарующем полинезийском мире, где девушки прелестны и смуглы, мужчины – щедры и дружелюбны и где не происходит ровным счетом ничего криминального. «Долго бы я там не продержался», – решил Уокер, ухмыляясь. Ухмылка его была кривоватой, поскольку давний шрам на подбородке оттягивал нижнюю губу. Зато зубы выглядели великолепно – белые и ровные, как у лихого ковбоя с рекламы «Вас ждет Техас». Эти зубы стоили Уокеру месячного жалованья. – Вас что-то развеселило, инструктор? – Глаза Эдны Хелли вдруг превратились в два серых стальных буравчика, и Дейв Уокер поспешил придать лицу выражение суровой сдержанности. Впрочем, с определенным оттенком торжества: операция разворачивалась по плану, и он принес добрые вести. – Никак нет, мэм. Прошу прощения, мэм. Я только подумал… – В этом кабинете думаю я, – промолвила Леди Дот. – Вы – докладываете. Быстро, сжато и без дурацких ухмылок. – Слушаюсь, мэм. Докладываю: он активировал маяк. – Инструктор покосился на часы и уточнил: – Сорок две минуты двадцать секунд тому назад. – На пятый день… – Эдна Хелли с неодобрением поджала сухие губы. – Раньше он действовал быстрее. – Обстановка, должно быть, сложная. Все-таки Старая Земля, мэм… – заметил Уокер и, выдержав паузу, добавил: – Нам повезло, что сохранился этот спутник. Я имею в виду «Пальмиру», мэм… И вдвое больше повезло, что парни из Транспортной Службы смогли до нее дотянуться. Орбитальный спутник – прекрасная возможность для рекогносцировки. Вероятно, этим он и занимался. – На протяжении четырех суток? Полагаю, хватило бы восьми часов, чтобы засечь передатчики. Кажется, таков период обращения «Пальмиры»? Дождавшись кивка Уокера, Леди Дот повернулась к окну, задумчиво хмуря брови. За широким окном ее кабинета небесная синь сливалась с изумрудной океанской поверхностью; в небе мельтешили чайки, а под ними птичьей стаей, подняв вверх белоснежные крылья, скользили легкие парусные суденышки. Грин Ривер, вблизи которого находилась штаб-квартира Центрального Разведуправления, был уютным университетским городком и славился прекрасной погодой – купались здесь триста дней в году. Впрочем, на Колумбии всюду отменный климат. В Египте, Израиле, ЮАР и Мексике чуть жарковато, в Канаде – холодновато, но остальные страны, включая некогда туманный Альбион, наслаждались ровным теплом и ярким солнцем.. Здесь, не в пример Старой Земле, не было разрушительных ураганов, цунами, землятрясений и прочих катаклизмов, как социальных, так и природных. Колумбия, наряду с Россией, Европой, Китаем и Южмерикой, являлась гарантом стабильности Разъединенных Миров и надежной опорой ООН. Эдна Хелли отвела взгляд от чарующей океанской панорамы. Задумчивость исчезла из ее глаз; теперь они смотрели пронзительно и остро, напоминая дульный срез «амиго», ее излюбленного оружия. – Четверо суток… – медленно протянула она. – Четверо суток наш лучший агент провел на спутнике и лишь затем решился десантироваться… Нет, Уокер, я полагаю, он занимался не только рекогносцировкой, чем-то еще… И, вероятно, появились осложнения, что-то не учтенное первоначальным планом… Может, пошлем ему в помощь всю группу? Ходжаева и Божко? Как вы думаете, Дейв? Уокер вытянулся в струнку перед огромным столом; зрачки его сделались оловянными. – Думать – ваша прерогатива, мэм! Я только докладываю. – В этом кабинете, – подчеркнула Леди Дот, скривив тонкие губы в улыбке. – Но мы можем спуститься в Первую Совещательную, чтобы не было повода для ваших техасских шуточек. – Повод для техасских шуточек всегда найдется, – пробормотал Уокер. – Я думаю, мэм, если вы позволите мне думать, что помощь ему не помешает. Но не Ходжаев и не Божко. Саймон – сугубый индивидуалист, из тех людей, которым не нужны советы и соратники. Ему удобнее работать в одиночку или с очень преданным партнером, который ест, спит, подчиняется и молчит. Пару минут Эдна Хелли переваривала это замечание, потом ее брови медленно поползли вверх. – Есть подобная кандидатура, Дейв? Что-то уникальное? – Да, мэм, сплошная уникальность. Пять метров длины, изумрудная чешуя, абсолютная преданность и во-от такая пасть! Дейв Уокер разинул рот пошире и расхохотался.Глава 2
Приземлился Саймон благополучно – в безлюдной холмистой саванне, пересеченной оврагами и мелкими ручьями. На склонах холмов зеленели редкие деревья – какая-то разновидность акации с гроздьями белых цветов и пабуки, точно такие же, как в колумбийских умеренных широтах. Овраги заросли по краю колючими кактусами, а ниже – непроходимым кустарником; его узловатые ветви скрещивались и переплетались, словно каждый куст стремился сжать соседей в отчаянных объятиях. Прикинув, что с укрытием проблем не будет, Саймон стащил скафандр и сунул его в шлем вместе с цилиндрами движков, переключив их на самоликвидацию. Раздался негромкий хлопок, блеснуло пламя, и теплый ветер взметнул серую пыль. Развеял ее над землей – над Старой Землей! Закружил, повлек к востоку и западу, северу и югу, бросил на скалы, схоронил в лесах, просыпал над морем, оставил темный след в саванне, донес до селений и городов… Саймон замер на несколько долгих мгновений, пытаясь осознать, что он – на Земле. На Земле, которая была колыбелью его далеких предков, их единственным домом на протяжении тысяч лет; скудным домом, неуютным и небогатым, если вспомнить о сокровищах звезд, скорей лачугой, чем дворцом. Но в этой лачуге обитали его пращуры – те, что жили под Смоленском, на берегах земного Днепра, и те, что, переплыв океан, добрались до большого соленого озера в горах Юты и осели там, назвав себя мормонами. И хоть обе эти точки земного глобуса были далеки от Уругвая и даже, в определенном смысле, не существовали на нынешней Земле, Ричард Саймон ощутил, как душу его охватывает трепет. Он, сын Елены Стаховой и Филипа Саймона, имел двойные корни в этом мире, в Старом и Новом Свете; он, потомок двух величайших народов Земли, был связан с нею двойной цепью. И внезапно он осознал, что эта цепь такая же прочная, как соединявшая его с Тайяхатом, где жили и умерли пятнадцать поколений его предков. Вздохнув, он взвалил на плечи ранец и огляделся. Солнце стояло почти в зените – полдень миновал, и время двигалось к двум часам. Было жарко; пахло цветущей акацией, свежей травой и листьями, Саймон вспомнил, что сентябрь в этих краях – первый месяц весны. С юга задувал ветерок и нес другие запахи, соленые, терпкие, морские – до залива, поглотившего прежнюю Ла-Плату, насчитывалось не больше десяти-двенадцати лиг. Кажется, там был город. Небольшой городишко тысяч на пять жителей… и еще один – на севере, километрах в семидесяти от побережья… Их соединяла дорога, которую он разглядел с высоты – почти безлюдный тракт, узкий и пыльный, петлявший среди холмов, с двумя или тремя мостами, переброшенными через самые крупные речки. Прикинув, что дорога проходит где-то совсем рядом, на западе, Саймон втянул ноздрями жаркий влажный воздух и направился к ближайшему холму. Деревья тут росли не густо, и временами среди них попадались высокие конические сооружения, в которых он признал термитники. Одни были заброшены и мертвы, вокруг других роились насекомые, мириады крохотных существ, покрывавших землю живым ковром. Саймон старался держаться от них подальше, но, обнаружив пустой конус с рваными проломами в боку, приблизился и заглянул внутрь. Дно термитника усеивали человеческие кости – посеревшие, высохшие, старые; в их груде скалил зубы череп и торчали перекрученные проволочные мотки. Проволока была толщиною в палец, свитая из нескольких жил и тоже серая – вероятно, из алюминия. Нахмурившись, Саймон покачал головой, обошел термитник и полез по склону холма. Он еще не достиг вершины, петляя между пабуками и тонкими стволами акаций, когда услышал чьи-то вопли. Кричали неразборчиво, в несколько голосов; в одних слышался ужас и смертная мука, другие звенели яростью и торжеством. Раздался выстрел, за ним – протяжный стон раненого животного, лошади или мула; еще два выстрела, звон клинков и жуткий хрип, какой издает человек с перерезанным горлом. Когда Саймон, перешедший на быстрый бесшумный бег, добрался до гребня холма, все было кончено. Холм круто обрывался вниз; у его подножия, огибая овраг, извивалась дорога, и там, в пыли, лежал ничком человек в темном длинном балахоне, а рядом топтался, натягивая повод, серый мул. Другой путник, в подобном же одеянии, скорчился дальше, шагах в пятидесяти, у самого оврага; его мула пристрелили, но всадник, видимо, успел соскочить и выхватить длинный нож. Он так и упал с этим ножом, пробитый пулями, – колени поджаты, рука вытянута вперед, словно и в смерти ему хотелось поразить убийцу. Убийц было трое. Один, коренастый, в пестром плаще, заправленном под ремень, стоял у обочины, придерживая лошадей, другой склонился над мертвым мулом, шаря в седельных сумках, третий носком сапога перевернул труп в балахоне и что-то сдернул с шеи – как показалось Саймону, большой серебряный крест. Человек сунул его за пазуху, повернулся к державшему лошадей и отпустил какую-то шутку. Они расхохотались; потом тот, что взял крест, рявкнул: – Эй, Утюг! Чего копаешься, сучара? Чистейший русский, отметил Саймон, доставая нож и скользя от ствола к стволу, от куста к кусту. Человек, которого назвали Утюгом, выпрямился, прижимая к груди объемистые кожаные сумки, раскрыл рот, но ничего не успел сказать – нож, сверкнув в воздухе, вонзился ему в горло. Затем резкие хриплые звуки донеслись из зарослей – тайятский боевой клич, каким воин, убивший врага, отмечает победу. Коренастый, державший коней, отпрянул: – Гаучо, Хрящ! Делаем ноги! Грабивший труп не промедлил ни мгновенья: рванул повод из мертвой руки, ринулся на обочину, таща за собою мула, взлетел на лошадь и ударил ее каблуками. В его повадке ощущалось что-то волчье, немалый опыт битого койота, который знает, когда кусать, когда рычать, когда бежать. «Похоже, на гаучо здесь не рычат», – думал Саймон, выбираясь на дорогу и поглядывая на всадников и конские крупы, мелькавшие среди высоких трав. Он наклонился над мертвецом, лежавшим теперь на спине. Мужчина лет сорока, смуглокожий, с полными губами, черный волос в мелких колечках… Мулат? Скорее всего мулат, и наверняка – священник: темный балахон оказался рясой, из-под которой торчали стоптанные сапоги. Саймон похлопал по одеянию, проверил за пазухой и в голенищах: в одном был спрятан короткий нож, в другом – бамбуковый пенальчик с вложенным внутрь свитком. Он вытряхнул его и развернул, машинально отметив, что писано чернилами, на плотной сероватой бумаге, на русском языке. МАНДАТ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА – гласила надпись сверху, а под ней сообщалось, что отец Леон-Леонид Домингес и брат Рикардо-Поликарп Горшков направляются из Рио-де-Новембе в приход Дурас, что в Юго-Восточной Пустоши Уругвайского Протектората, дабы служить в его церквах и храмах во славу Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа, исповедовать и отпевать, крестить и венчать, накладывать епитимьи и свершать всякое иное священнодейство в соответствии с Господней Волей, просьбами прихожан и саном означенных выше Леона-Леонида Домингеса и Рикардо-Поликарпа Горшкова – и да помогут им Заступники наши Иисус Христос и Дева Мария, а также власти предержащие. Подпись, печать и приметы обоих. Против Домингеса стояло: имеет жену и двух отпрысков, лет – 43, кожей смугл, волосом черен, невысок, телом обилен, слева под мышкой – большое родимое пятно; Горшков же, как гласил мандат, был тридцатилетним, холостым, высоким, светловолосым и светлокожим, без особых отметин. Решив, что это описание ему подходит, Саймон направился ко второй жертве. Рикардо-Поликарп и в самом деде был высок, худощав и тощ – цыплячья грудь и плечи как у пятнадцатилетнего подростка. Однако, несмотря на субтильную конституцию, был он храбрецом, так как пробовал защититься – его длинный нож при ближайшем рассмотрении оказался отлично заточенным мачете. Его убили ударом в горло; ряса на груди пропиталась кровью, и еще одна рана, огнестрельная, была в правом боку. Саймон перекрестил мертвеца, пробормотал заупокойную молитву – из тех, какие слышал в детстве в одной из смоленских церквей; потом спустился в овраг, отрыл с помощью мачете могилу и схоронил в ней Рикардо-Поликарпа. На шее погибшего висели два креста: большой, вырезанный из твердого темного дерева, Саймон воткнул в рыхлую землю, маленький нательный, оставил себе. Пробормотал: «Прощай, тезка…» – и вылез обратно на дорогу. Они и в самом деле являлись тезками – если не по второму имени Горшкова, так по первому. И цветом волос и глаз были схожи; правда, у мертвеца зрачки казались уже не синими, а мутно-голубыми. Такими же были глаза у мертвого бандита. Физиономия его в самом деле выглядела так, будто по ней прошлись утюгом, но расплющенный нос и отсутствие бровей не скрывали расовой принадлежности: белый, без всяких признаков цветной крови и, несомненно, славянин. Огнестрельного оружия у него не оказалось – только мачете, подлинней и пошире, чем у погибшего брата Рикардо. Обыскав Утюга, Саймон взялся за седельные сумки. В них хранились книги – Библия, Евангелие и требник; еще там были две смены белья, просторная ряса, рубаха, штаны и парадное церковное облачение, завернутое в чистый холст. В одной, на самом дне, лежал тяжелый кожаный мешочек, и, раскрыв его, Саймон обнаружил монеты. Сорок блестящих серебряных монет неплохой чеканки; на аверсе стояли крупная цифра "I", слово «песо» и год – 2393; на реверсе был изображен двуглавый орел, а вокруг орла шла надпись: «ФРБ – Федеративная Республика Бразилия». Пожалуй, эти монеты изумили Саймона больше всего. Не потому, что был на них отчеканен древний российский герб, и даже не потому, что двуглавая хищная птица соседствовала со словами «песо» и «Бразилия» – это еще он мог осмыслить и понять. Но монета сама по себе являлась удивительным артефактом, столь же древним, как рыцарские доспехи или бритва, которой некогда скребли щетину на щеках и подбородке. Нигде, ни на одной планете Разъединенных Миров, не выпускалось металлических монет – только банкноты, а большей частью кредитные диски и кодовые ключи, дававшие доступ к лицевым счетам. Так что Саймон впервые за свои двадцать восемь лет держал в руках монету; и, несмотря на блеск и четкость надписей, она казалась ему такой же архаичной, как виденные в музеях американские даймы, британские фунты и русские рубли. Выпятив нижнюю губу, он подергал ее пальцами – детская привычка, оставшаяся со смоленских времен; потом бросил монетку в мешок, припоминая, что это кожаное вместилище вроде бы называют кошельком. Он был доволен, так как, едва успев приземлиться, обрел права гражданства в ФРБ. У него имелись мандат, фамилия, имя и даже назначение – служить во славу Бога Отца, Сына и Святого Духа; он успел обзавестись деньгами, одеждой и кое-какой биографией – за счет почивших в бозе брата Рикардо и Утюга. Священник был достойным человеком, и смерть его не радовала Саймона, но, как говаривал Чочинга, отрезанный палец на место не пришьешь. Брат Рикардо – Поликарп Горшков ушел в Погребальные Пещеры, и Ричард Саймон мог занять свободную вакансию. Он стащил свой серый комбинезон и нательное белье и облачился в одежду брата Рикардо, сунув в карман кошелек. Рубаха была маловата, но штаны пришлись впору, да и просторная ряса тоже; кобура с «рейнджером» и нож были под ней совсем незаметны. Обувь Саймон менять не стал, только присыпал свои башмаки пылью – если не приглядываться, они не слишком отличались от сапог. Потом он занялся сумками: сложил в них все имущество из ранца, бросил поверх белье, комбинезон и книги, а ранец зашвырнул в овраг; поразмыслив, снял с запястья браслет, с пояса – кобуру и тоже сунул их в сумку. Едва он успел покончить со всеми этими делами, как на дороге возникло пыльное облачко. Оно приближалось с севера, со стороны ближайшего городка, и вскоре Саймон разглядел небольшой фургон, который тащила пара мулов, и возницу, хлеставшего их кнутом. Подняв мачете покойного Рикардо, он ткнул Утюга в шею, затем бросил оружие, шагнул к трупу отца Домингеса, опустился на колени, сложил руки у груди, понурил голову и принял удрученный вид. Таким его и застал возница – рыжий плечистый парень с россыпью веснушек на щеках и здоровенным синяком под глазом. Чем-то он напомнил Саймону Дейва Уокера – то ли огненной мастью и веснушками, то ли своей лукавой рожей. Не обращая внимания на парня, он продолжал творить свою безмолвную молитву. Пекло жаркое солнце, мулы шумно отфыркивались и поводили боками, возница, преклонив колени напротив Саймона, вздыхал и часто крестился. Наконец, выждав приличное время, он произнес: – Стреляли… – Это верно, – откликнулся Саймон, перекрестил отца Домингеса и встал. – Вот несчастье-то… беда… – протянул парень. – Гниды огибаловские, тапирьи отморозки… Ведь платим же, платим, по сотне песюков со двора… И отморозкам платим, и Хайму-кровососу, и Гришке-живодеру, и Хорху с его крокодавами, а толку – ни хрена! Вот батюшку пришили… А ведь обещались двоих прислать… – Рыжий перевел взгляд на Саймона. – Как же теперича, отец мой, мы тебя с кибуцниками разделим? Стенка на стенку пойдем, как из-за пастбищ? Или церкву у них спалим? Саймон молчал, осмысливая новую информацию. Кое-какие имена были ему знакомы – к примеру, Хайма-кровосос являлся, вероятно, доном Хайме-Яковом, главой Финансового департамента, а Гришка-живодер – не иначе как доном Грегорио-Григорием, заведовавшим Общественным здоровьем. Но огибаловские гниды, крокодавы и кибуцники не вызывали знакомых ассоциаций. Ясно было лишь одно: ко всем этим личностям рыжий возница любви и почтения не питал. Наставив на него палец, Саймон поинтересовался: – Ты кто таков? И откуда? – Павел-Пабло, а по-простому, по-нашему – Пашка Проказа, отец мой. Ты не сумневайся, ничем таким я не болен, а Проказа – оттого, что проказлив… – Зеленые глазки лукаво сощурились. – Проказлив бываю во хмелю… Я, батюшка, сам-то семибратовский. Давеча гонец к нам прискочил, из Дуры – мол, ждите двух попов, для вас и для кибуцников, и будут те попы в городке на двадцать шестой сентябрьский День… А может, на двадцать седьмой, но будут наверняка. Мол, приласкай лешак дубиной, ежели не так! Вот наш паханито, староста дядька Иван, меня и послал навстречь… чтоб, значитца, лучшего попа к себе от кибуцников перенять. Я в дуру приехал, встал у корчмы и жду. День жду, другой, а на третий огибаловские прискакали, выспросили, чего жду, и подвесили мне фонарь, – туг Проказа огладил синяк под глазом, – чтоб попов вернее высмотреть, ежели ночью пожалуют. Ну, я без обид, сам понимаешь, отец мой, их – четверо, я – один, у меня – старый винтарь, у них – карабины… В общем, утерся, плюнул и поехал. Думаю, встречу святых отцов по дороге… Вот и встретил! – Отцом меня не зови, – сказал Саймон, размышляя над нехитрой Пашкиной историей. – Отец Домингес – вот он, мертвый лежит. А я – брат Рикардо… Рикардо-Поликарп Горшков из Рио-де-Новембе. – Из столицы, значитца… ученый человек… – Проказа покивал с уважением. – Как же ты, святой брат, от огибаловских отбился? Они ж изверги лютые! Родную мать не пощадят! У Саймона было уже заготовлено объяснение. – Остановились мы, и я в кусты пошел… по нужде, понимаешь? Тут они втроем и налетели; двое – к отцу Домингесу, а третий – ко мне. Мула прикончил, а я его положил. Но к батюшке на помощь не успел. Убили его… И дали деру, когда я вылез из кустов. Вроде как перепугались… – Ну! – восхитился Проказа, оглядывая могучую фигуру Саймона. – Ну, даешь, святой брат! Видать, до рясы в бандерах ходил? В бойцах? А может, в стрелках либо отстрельщиках? – Ходил, – согласился Саймон, решив, что причастность к отстрельщикам авторитета ему не убавит. Кажется, в этом странном краю, в уругвайской саванне, где жили мулаты и русские – а может, и кто-то еще, – бойцы и стрелки ценились не меньше попов. Пока он размышлял над этим обстоятельством, Пашка направился к оврагу, к мертвому мулу и бандиту. Присмотревшись, рыжий хлопнул себя руками по бокам. – А я ведь этого знаю! Знаю, чтоб мне в Разлом попасть! Огибаловский, точно! Из бригады Хряща! К нам за данью ездил, блин тапирий! И в корчме скалился, когда мне фонарь подвесили! Ловко ты, брат Рикардо, башку ему отчекрыжил… – Бог помог, – пробормотал Саймон, взял на руки тело отца Домингеса, положил в повозку, на сено, а рядом пристроил свои сумки. Пашка к тому времени вернулся с седлом и упряжью мула и с двумя окровавленными мачете, обтер клинки сухой травой и тоже бросил в фургон, ворча, что не стоит добру пропадать – ножики, мол, неплохие, да и седло потянет на пару песюков. Затем он вежливо поддержал Саймона под локоть, когда тот забирался на сиденье, сел сам, развернул упряжку, и они покатили на север, по дороге в городок со странным названием Дура. Рыжий был человеком разговорчивым, тянуть его клещами за язык не приходилось, и Саймон, покачиваясь на жестком сиденье, припомнил слова Наставника: сев на скакуна удачи, не шпорь его, зато гляди, как бы не свалиться. Дела и впрямь разворачивались удачно: похоже, Четыре звезды, затмившись в ярком солнечном свете, не позабыли о нем и продолжали слать свои дары. К примеру, этого рыжего парня, болтливого, как попугай… Вскоре Саймон обогатился массой сведений. Теперь он знал, что городок на побережье, из коего ведет дорога в Дуру, именуется Сан-Филипом; что весь этот край, от Ла-Платы на юге и до Негритянской реки на севере, зовется Юго-Восточной Пустошью, ибо тут и правда пустовато: бандиты, коровы, тапиры, заменяющие свиней, да полсотни деревень на четырех тысячах квадратных лиг – может, и на пяти, поскольку никто эти земли не считал, не мерил; что Пустошь является частью Уругвайского Протектората, и что столица его, Харбоха, лежит на северо-западе, у реки Параши (так Проказа называл Парану), и там есть «железка» – иными словами, рельсовый путь, которым возят шерсть, серебро, руду и мясо: мясо, тапирье и говяжье, из Пустоши, серебро – из аргентинских краев, что простираются за Ла-Платой и городком Буэнос-Одес-де-Трокадера, а шерсть и руду, само собой, с предгорий. Еще он узнал, что люди в Пустоши скромные и незлобивые, гуртовщики да скотоводы-ранчеро, платят исправно «белое» властям и «черное» – дону Хорхе, пьют умеренно, не буянят – разве только по праздникам; и что текла бы их жизнь тихо-мирно, если б не кибуцники и отморозки. Кибуцники, как выяснил Саймон, были пришельцами из городов, то ли сосланными в Пустошь, то ли переселившимися добровольно; им отводили участки на орошаемых землях и поговаривали, что вскоре воду станут делить – а летом с водой в этих краях всегда проблемы. Что же касается отморозков, то они определенно были изгнанниками – но не из тех, какие готовы выращивать скот или копаться в навозе. Местные с ними как-то справлялись, но года четыре назад явился из Рио дон Огибалов, бывший «плащ» либо «штык», и взял отморозков под крепкую руку. Теперь все ранчеро платили дань – не только «белый» и «черный» налоги (в чем их разница, Саймон понять не сумел), но также «особый огибаловский». Что, впрочем, от грабежей и насилий не спасало, только звались они не грабежами, а экспроприациями. Видно, дон Огибалов был человеком образованным. На вопрос, куда же смотрят власти, рыжий заметил, что смотрят они за Парашку-реку, где гуляют в пампасах вольные гаучо. А как не смотреть? За Харбохой «железка» идет к горам и к Санта-Севаста-ду-Форталезе, что в Чили, за горами; река там широкая, не переплюнешь, а мост один – древний мост, но крепкий, четыреста лет стоит, теперь такие строить не умеют. Захватят гаучо мост, не будет в Рио, Херсусе и Дона-Пуэрто ни шерсти, ни руды. Шерсть, она ведь тоже с гор, от лам, а с Пустоши шерсть не возьмешь, ламы тут дохнут – от жары, поноса и общей слабости. Так что властям на Пустошь плевать, у ней заботы поважнее: мост, Харбоха и гаучо. Особенно гаучо. За голову полсотни монет дают, на трех лошаков хватит! Саймон хотел полюбопытствовать насчет врагов народа из Харбохи, растерзанных возмущенными жителями, а заодно и о том, гуляют ли гаучо лишь за Параной или и в Пустошь заглядывают, но колеса фургона уже грохотали по деревянному мосту, за коим возвышались первые городские строения. Над мостом была арка с надписью: «Добро пожаловать в Дурас», и под ней Проказа натянул поводья и остановил фургон. – Ты, брат Рикардо, ряску не снимешь? Одежонка-то заметная… Вдруг огибаловские в корчме сидят? А нам мимо ехать… Саймон молча стянул рясу, оставшись в распахнутой на груди рубахе. У шеи она не сходилась; так как шея у него была мощной, под стать плечам, и рубаха покойного священника уже трещала под мышками. Рыжий, наклонившись, шарил под сиденьем и чертыхался вполголоса. Наконец он извлек огромное ружье и патронташ, пересчитал патроны и с лязгом передернул затвор. Блик света попал в глаза Саймону, он сощурился, покосился на оружие и вдруг почувствовал, как у него холодеет под сердцем. Это была реликвия, музейный экспонат, но вполне ухоженный, надраенный до блеска и готовый к бою. Массивный вороненый ствол, рукоять затвора с шариком на конце, приклад, отполированный прикосновением ладоней… Трехлинейка… Винтовка Мосина, двадцатый век… Точнее, самое его начало… – Откуда? – произнес Саймон, с невольным трепетом погладив нагретый солнцем ствол. – Хороший винтарь… Такого в городе не встретишь, разве что в наших краях. Конечное дело, не карабин, но хоть стар, да верен, – откликнулся Пашка-Пабло и пояснил: – От дядьки Ивана, от паханито нашего. Он дал. У нас в Семибратовке четыре таких винтаря. Пули сами льем, а вот порох… – Погоди. – Саймон поднял реликвию в ладонях, ощущая ее надежную тяжесть. Весила она побольше, чем русская винтовка «три богатыря» с подствольным гранатометом и огнеметом, что выпускалась в Туле для спецчастей ООН, и была, разумеется, не столь смертоносной, но что-то их роднило: так в лице потомка проглядывают черты прадеда. Снова погладив оружие, Саймон спросил: – Откуда она вообще взялась? Ей же пятьсот лет, парень! Проказа хитро прищурился. – Ты – человек ученый, брат Рикардо, тебе виднее. А я скажу, что от Мигеля слышал: дескать, когда наши драпали из Одессы от срушников, то грабанули военные склады со старым добром – все вывезли подчистую, что уместилось в их корытах. Потом была свара с дружинниками и дому; тиками, Большой Передел и куча Малых… Винтари у народа поотбирали, да только все не отберешь – винтарь такая штука, что сам к рукам липнет. Да разве один винтарь? Вон, в Колдобинах, пулемет есть, «максимом» прозывается… Однако неразговорчивый, без лент. «Дальше в лес, больше дров, – подумал Саймон, стараясь извлечь самое ценное из этого ливня информации. – Большой Передел и куча Малых… свара с дружинниками и домушниками… а еще – когда наши драпали из Одессы… из той Одессы, где нынче ветер гуляет над пепелищем…» Сотня вопросов вертелась у Саймона в голове, но, не желая пришпоривать скакуна удачи, он спросил лишь об одном: – Этот Мигель… Кто он такой, Проказа? – Учитель наш и писарь, из городских, из Рио. Ссыльный, хоть и не враг народа. Попал за какие-то вины в кибуц, на свекле чуть не подох, да дядька Иван его на бычков сменял. Голова! Одно слово, городской! Будет тебе, брат Рикардо, с кем умные речи говорить, а заодно и кружку опрокинуть. – Я не пью, – сказал Саймон. – Никто не пьет, батюшка. Все только выпивают. С этими словами рыжий хлестнул мулов, и они въехали в городок. Саймон, ожидавший увидеть дома из бревен, кaк в Смоленске, с просторными окнами, крылечками и верандами, был разочарован: тут строили по южноамериканским образцам, и беленые глиняные стены под черепичными кровлями тянулись вдоль пыльной улицы глухим и жарким монолитом. Его рассекали лишь узкие двери, закрытые или распахнутые. Иногда путнику удавалось заглянуть во дворик – тоже вымощенный утоптанной глиной, с неизменным деревом посередине, с очагом и крохотным бассейном или цистерной для воды. Но эти патио, как и знакомый быт небольших городков Латмерики и Южмерики, не занимали Саймона; он глядел на людей. Белых и смуглых, с кожей оттенка бронзы или цвета густого кофе, с негроидными или славянскими чертами, с глазами голубыми, карими и темными, как бразильская ночь, с шапкой курчавых черных волос или с льняной, выгоревшей на солнце гривой, с каштановыми локонами, с рыжими патлами, точно такими, как у Пашки Проказы… Это было поразительное зрелище – не потому, что в Разъединенных Мирах не случалось смешения рас, но совсем по иной причине: инстинктивно Саймон готов был услышать испанскую речь, португальскую или английскую, однако здесь говорили по-русски. И это казалось странным, будто он внезапно сделался зрителем какой-то неправдоподобной оперетты. Обличья – вавилонское столпотворение, а язык – один… Тот самый, что вывезен из Одессы – со всем, что уместилось в кораблях… «Где они, кстати?.. – мелькнула мысль. – Где флот, преодолевший океан? Сгнил? Проржавел? Или пошел в переплавку?» Раздумья Саймона прервались; фургон выехал на площадь. Она была прямоугольной, и в дальнем узком ее конце стояла церковь со звонницей – маленький белый храм о пяти маковках с крестами, в привычном Саймону православном стиле. Казалось, его должны окружать бревенчатые избы и терема, но на церкви русский колорит кончался: четыре других строения на площади были низкими длинными белыми касами, крытыми оранжевой черепицей. Два – слева, два – справа. Слева – полицейский участок (перед ним слонялся служивый в синей форме, с кобурой на ремне) л почтовая контора под вывеской: трубящий в рожок всадник; справа – лавка со всякой всячиной и корчма под названием «Салун». Рядом с участком виднелось некое странное сооружение, похожее на колодец, – обнесенная невысокой кирпичной стенкой яма, а над ней – то ли ворот, то ли лебедка с толстой цепью, на которой болтались кандалы. У полицейских и почтарей узкие окна были зарешечены, а над крышами торчали антенны. «Значит, есть радиосвязь», – подумал Саймон, пытаясь в то же время догадаться о назначении ямы и ворота; лавку украшали три широкие, распахнутые настежь двери, сквозь которые можно было разглядеть прилавок и полки с товаром, а при корчме имелся навес, на столбиках с перилами. На перилах сидел бородач с ружьем на колене, а рядом были привязаны четыре лошади и мул покойного отца Домингеса. Пашка, зыркнув на бородача, пробормотал: «Здесь они, вражье, семя!» – и вознамерился подхлестнуть мулов. – Правь к церкви, – распорядился Саймон. Над вратами храма был выложен мозаичный крест, а под ним – что-то странное: изображение монеты в одно песо, выкрашенное серебряной краской. Такие же непонятные символы были на остальных строениях: корчму украшала резная фигура в длинном плаще, лавку – намалеванные на дверях зубастые крокодилы, почтовую контору – большой деревянный «штык» под стрехой, а полицейский участок – пушка. Старинная пушка на огромных колесах, выбитая из жести, напомнившая Саймону нечто знакомое: герб родного. города Смоленска. С недоумением пожав плечами, он велел Проказе остановиться, спрыгнул на землю, обошел фургон и бережно поднял на руки тело отца Домингеса. Потом направился в церковь – пустоватую, но опрятно прибранную, – поискал взглядом место поприличней и опустил свою ношу под иконой Христа-Спасителя. Сзади послышались шаги, потом – деликатное покашливание. Саймон обернулся. Дьячок… Пожилой, маленький, тощий, с бородкой клинышком и мутноватыми глазками… Кожа белая, бородка пегая, однако нос приплюснутый, с широкими негроидными ноздрями… – Ох, горе, горе… Творят бесчестие, убивцы, на радость Сатане… Кто на этот раз, сын мой? – Отец Леон-Леонид Домингес из Рио, – ответил Саймон, вытащил из кармана кошель и сунул его в руку дьячка. – Вот сорок песо. Положить во гроб, отпеть и похоронить в освященной земле. И крест поставить. Лет ему было сорок три.. – Все исполнится, сын мой, – кивнув, дьячок шмыгнул Носом. – Вечор батюшке доложу, отцу Якову. – А сейчас где он? – спросил Саймон, оглядывая пустую Церковь. Дьячок смущенно потупился: – Спит… Вчера, вишь, дитя крестили. Невинный младенец, хоть от Кобелины, помощника огибаловского. Кобелино-то девку силком взял, дочь Симона-плотника, но от отцовства не отказался. Редкий случай! Крестины вчерась закатил, упоил вусмерть, а допрежь всего – отца Якова. А как с ним не выпьешь? Сегодня не выпьешь, завтра не выпьешь, а после в Голый овраг попадешь. Огибаловские и так попов не любят… – Отчего же? – поинтересовался Саймон. – Оттого, – пояснил дьячок, – что справный поп в народе веру в справедливость держит, а такая вера бандеросам ни к чему. Ни огибаловским, ни тем, что в столице сидят. Они бы нас всех вырезали, ежели б не дон Хайме… – Тут он испуганно перекрестился, уставился на Саймона и дрожащим голосом произнес: – А ты-то, сын мой, из каковских будешь? – Из своих, – успокоил его Саймон. – Послан сюда вместе с отцом Домингесом и буду служить в семибратовской церкви. Братом Рикардо меня зовут. – А одет отчего не по чину? Без рясы и креста? – Теперь дьячок глядел на Саймона с подозрением. – Казнь буду вершить. Для того церковное облачение – наряд неподходящий. Он зашагал к выходу, но на пороге остановился и, обернувшись, произнес: – Ты сказал, что справные попы в народе веру в справедливость держат. А батюшка ваш Яков – справный поп? Или из тех, что веру на бутылку променяли? И пьют с бандитами? Дьячок потупился и развел руками: – Как с ними не выпьешь, как не уважишь? Жизнь всякому дорога… и своя жизнь, и семейства… Очутившись на раскаленной пыльной площади, Саймон увидел, что народу там прибавилось. Перед участком торчали пятеро в синем, один – с серебряными шнурами, свисавшими на грудь, и в фуражке с лакированным козырьком – опирался спиной о ворот; у почтовой конторы маячил чернокожий грузный мужчина, тоже в мундире, а при нем – две хорошенькие девушки, беленькие да румяные; в дверях магазинчика толпились любопытные, общим числом тринадцать душ, и еще столько же выглядывали из корчмы-салуна – бородатые, усатые и бритые, простоволосые и в шляпах с широкими полями, всех цветов кожи, но с одинаковым жадным любопытством в глазах. А перед корчмой, у коновязи, картинно подбоченясь, стояли трое: Хрящ с крестом отца Домингеса за поясом и пара его подручных, бородач и коренастый – тот, который сопровождал Хряща в набеге. Саймон неторопливо направился к салуну, размышляя о том, что двое из этой троицы, а, возможно, и третий, знают о гибели брата Рикардо, а значит, стали ненужными свидетелями. Ведь брат Рикардо жив! И всякий, кто усомнится в этом, рискует головой. Собственно, почти ее потерял: и как свидетель, и как палач невинных жертв. Учитывая важность своей миссии, Саймон считал оба эти факта равновесомыми. Пашка-Пабло шел за ним след в след, обвешанный оружием: у пояса – два мачете и собственный нож, в руках – огромная винтовка, с плеча коричневой змеей свисает патронташ. В карманах у него что-то побрякивало, глаза мерцали, а синяк под глазом и в самом деле светился как фонарь, пылая огнем праведной мести. Не оборачиваясь, Саймон спросил: – Кто тут за старшего, Проказа? – А нету никого. Здесь ведь не Семибратовка. Это у нас – общак, у нас – староста выборный, а тут, батюшка, город. Поделенный, значится, промеж бандер. Не знаю, как там у вас в столицах, а тут главаря нет. Есть сержант-вертухай – видишь рыло с серебряными подвесками у пытошной ямы? – а при нем пяток смоленских. Вроде бы за порядком присматривают, да все они, блин тапирий, в доле у огибаловских. – Ну, что ж, – промолвил Саймон, – и я их не обижу. Бог велел делиться. До Хряща оставалась пара шагов, когда тот небрежно пошевелил карабином, нацелив его в живот Саймону. Скорей пониже, и этот жест был понятен всякому воину-тай: у них, желая оскорбить, кололи в детородный орган. Так, слегка, для демонстрации превосходства… И Саймон, невозмутимо взирая на ухмылявшихся бандитов, вдруг подумал, что у тайят и людей гораздо больше общего, чем полагают ксенологи. Четырехрукие тайят не стремились к завоеваниям и власти, не избирали вождей, не верили в богов и не копили богатств, и женщины их рождали однополую двойню – что вело к иной традиции брака и странной, с точки зрения ксенологов, организации семьи. Но в главном различий не было: они ненавидели и любили, ценили отвагу и благородство, славили силy и презирали слабость. Как, вероятно, эти трое, мнившие себя такими сильными… Но здесь начинались различия: слабые у тайят могли селиться в землях мира, где слабость не греховна и не влечет опасности и унижений. Сильные спускались в лес, где слабости не место, и только там она была виной – так как слабый, попавший в схватку сильных, виноват всегда. Но люди, не в пример тайят, бились всюду, и всюду сила торжествовала над слабостью, а значит, слабых приходилось защищать. Или хотя бы мстить за них, за всех невинно убиенных, коль не в обычае людей делить свои земли на мирные и не мирные. Саймон шагнул вперед. Запахи пота, кожи и спиртного ударили а нос, ствол карабина уперся ему в промежность. – Ты кто, сучок? Не признаю… Гладкий, белый… Вроде ремней мы из тебя не резали? – Брови Хряща приподнялись в издевке, но взгляд оставался волчьим, настороженным. – Вошь кибуцная, – предположил бородач, почесывая темя. – Разве их всех упомнишь! А вот этот, – он ткнул пальцем в Проказу, – из семибратовских мозгляков. Этот за фонарем приперся. Чтоб, значит, с обеих сторон светило. Третий, коренастый в плаще, ничего не сказал, но приглядывался к Саймону с подозрением – может, вспоминая вопль, долетевший из придорожных кустов. А может, был он от природы молчалив и разговорам предпочитал стрельбу: ствол его карабина глядел Проказе между глаз. – Мне нужно это, – произнес Саймон, кивая на крест. – Это? – с удивлением протянул Хрящ. – А еще одна дырка в заднице тебе не нужна? – Он прищурился, потом отвел карабин и вскинул его на плечо. – Ну, раз хочешь крестик, выкупи, сучара. Что там у тебя в карманцах брякает? Не песюки? А может, камень самоцветный завалялся? – Денег нет. Их я в церковь отнес, на помин души отца Домингеса. Но камень найдется, горький камень… Его и отдам. Хрящ поглядел на коренастого, подмигнул бородатому. – Что он болтает? Камни горькие, души… не пойму… Нет денег – нет разговора! Хотя… – Какая-то мысль пришла ему в голову, и, оглядев Саймона, Хрящ ухмыльнулся и махнул рукой. – Ладно, парень! Сегодня я добрый! Хочешь крест – бери в обмен на службу. Запряжем мы тебя с приятелем в возок и прокатимся в Семибратовку, дорогой в Марфин Угол завернем и в Волосатый Локоть… Всего-то иделов! Согласен? За спиной у Саймона Пашка скрипнул зубами и пробормотал, потянувшись к мачете: – Ножик дать, брат Рикардо? – Нет. – Саймон мотнул головой. – Зачем мне ножик? Крыс давят сапогами. Челюсть у бородача отвисла, а коренастый, в пестром плаще, что-то зашептал на ухо Хрящу, тыкая карабином то в почтарей, то в вертухаев-полицейских, то в здание церкви. Хрящ с досадой оттолкнул его. – А хоть бы и так, Моченый! И что? Тут наша земля, и пришлые нам не указ! Ни смоленские, ни дерибасовские! Ни прочие гниды и курвы! – Он развернулся к Саймону. – Крыс, говоришь, сапогами? Ты кто ж таков, сучара? Топтун от столичных крутых? Или сам крутой? Говори! – Крутой, – подтвердил Саймон. – Ты еще не знаешь, какой я крутой. Он сделал неуловимое движение; согнутые пальцы столкнулись с чем-то упругим и податливо-хрупким, незащищенным, пробили преграду, расслабились, отпрянули… Треснула кость, голова Хряща бессильно обвисла на переломанной шее, тело стало заваливаться вбок, на бородатого, который уставился в лицо главарю в немом изумлении. Саймон выбил карабин из лап бородача, отшвырнул его, готовясь атаковать коренастого, который поднимал оружие – но медленно, слишком медленно! Ствол карабина еще только целился в землю, а Саймон уже успел подпрыгнуть – здесь, в этом мире, он был почти невесом! – и нанести удар ногой. Смертельный удар. Носок его башмака сокрушил коренастому пару ребер, осколки проткнули сердце и, раздирая плевру, проникли в легкое. «Быстрая смерть», – подумал Саймон, глядя, как на губах умирающего вздулся и лопнул кровавый пузырь. Ступни его коснулись земли, взбив белесое пыльное облачко. Бородатый вышел из столбняка; размахивая мачете, словно отгоняя мух, он ринулся к полицейскому участку, к безмолвным фигурам в синем – то ли в надежде на помощь, то ли в смертельной панике. Ему удалось сделать четыре шага; затем Саймон снова взвился в воздух, словно подброшенный невидимой пращой, и камнем рухнул ему на спину. Горьким камнем, как было обещано: пальцы левой его руки сомкнулись на заросших волосом щеках, пальцы правой тисками сдавили затылок; резкий поворот, хруст, хриплый сдавленный вопль… Отпустив обмякшее тело, он повернулся к Пашке. – Рясу подай! Оружие собери – и в возок! Из корчмы и лавки повалил народ, но все передвигались с какой-то осторожностью и в полной тишине, будто ослепленные вспышкой молнии либо оглохшие от раската грома. На другой стороне площади тучный негр, сержант и полицейские сошлись тесней, но тоже молчали, как бы выжидая: не будет ли продолжен спектакль и не им ли придется стать очередными актерами. Пожалуй, лишь девушки с почты не примеряли никаких ролей; широко распахнув глаза, они смотрели на Саймона со сладким ужасом и восхищением. Он подмигнул им, набросил пыльную рясу иподнял серебряный крест отца Домингеса. – Бог свершил правосудие, добрые люди! Я, брат Рикардо, призванный в Пустошь благословлять и утешать, крестить, венчать и провожать в последний путь, сегодня сделался сосудом гнева Божьего, его карающей десницей. И пролился тот гнев на убийц Леона-Леонида Домингеса, священника из Рио, мужа праведного, оставившего сиротами двух детей… Да будет земля ему пухом! – Повесив крест на шею, Саймон кивнул сержанту: – Ты, страж порядка, возьми лошадей убийц, а также все имущество, какое при них найдется, и распорядись этим по собственному усмотрению. А вы, добрые жители Дураса, помните, что сказал всеблагой Христос, Спаситель наш: поднявший меч от меча и погибнет! Поднявший руку на невинного будет стенать в когтях Сатаны! Поднявший камень камнем и получит – горьким камнем, дробящим плоть и кости! Вот предупреждение, которое шлет вам Господь, гласящий моими устами. И если есть среди вас скудоумный упрямец, который не понял этих речей, пусть явится он в Семибратовку и послушает слово Господне еще раз. Пусть приходит, коль у него свербит в заднице! Я ему все растолкую в подробностях. Он залез в фургон и сел рядом с Пашкой Проказой. Тот свистнул; мулы стронули возок, засеменили, огибая церковь, выбрались в степь, где ветер гулял над травами, а с холмов плыли запахи цветущих акаций. Морской аромат уже не чувствовался в воздухе, но небо будто отражало океанскую синь – оно было глубоким, просторным, бездонным. Земное солнце, почти такое же, как на Колумбии и Тайяхате, грело Саймону висок и левую щеку. Он сощурил глаза, прикидывая, что сейчас часов шесть – может, десять-двадцать минут седьмого. – До темноты будем на месте, – вымолвил Пашка-Пабло, прервав затянувшееся молчание. Потом поцокал языком и с восхищением признался: – Горазд ты, брат Рикардо, проповедничать! Сразу видать человека ученого, городского! Такой зря клювом щелкать не станет… И по башке даст, и в башку вложит, чтоб в ней дурные мысли не водились… – Он сделал паузу, покосился на Саймона и добавил: – А еще горазд ты прыгать и руками махать, горазд, батюшка! И долго такому надо учиться? – Всю жизнь, если хочешь сберечь свои уши, – ответил Саймон.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Кратер был цилиндрической формы – провал в тридцать метров глубиной и пятьдесят в диаметре. Когда-то здесь, в окрестностях Рио – прежнего Рио-де-Жанейро, – стоял гранитный монумент, изваяние принца Жоана Мореплавателя среди огромных сейб, чьи корни, подобные серым бугристым доскам, взрезали почву. Сейбы большей частью сохранились, остались лес и парк, разбитый на океанском побережье, но изваяние отправилось на Южмерику, в иной мир, к другим океанам, чьи девственные волны не качали ни испанских галеонов, ни португальских каравелл. Теперь вместо статуи темнел кратер – совсем небольшой, сравнительно с километровыми безднами следом покинувших Землю городов. Просто цилиндрическая дыра, забавная достопримечательность… Дно его выровняли, подвели трубу с горючим газом, и в кратере распустился огненный цветок – имитация миниатюрного вулкана. Провал окаймляло широкой дугой двухэтажное каменное здание с башенками по углам, выступающими контрфорсами и зубчатым парапетом на плоской кровле, похожее на средневековый замок. От башни к башне, вдоль второго этажа, шел балкон, мощенная плиткой галерея, подпертая слегка наклонной стеной; внизу виднелся карниз полуметровой ширины, бетонным кольцом огибавший кратер. Здание было построено к северу от него, а с юга, со стороны моря, над краем пропасти парила резная деревянная беседка, блестел серебром бассейн, обсаженный розовыми кустами, а дальше берег снижался, стекая к бухте и каменному молу полосой песка. У мола застыли катер и паровая яхта с высокими мачтами, песок был чистым, крупным, желтым; волны, неторопливо огибая мол, накатывались на него, обдавая пеной и брызгами нагую девушку. Она лежала у самой кромки прибоя, нежась в солнечных лучах; пряди ее золотистых волос намокли и потемнели. В беседке, развалившись в плетеных креслах, сидели трое мужчин. Пожилой, высокий, лысоватый – очевидно, владелец поместья – курил сигару; жест, которым он стряхивал пепел, казался по-хозяйски уверенным, на широком бледном лице застыла маска спокойствия и властности. Рядом с ним нахохлился старик – жилистый, тощий, смуглый, с ястребиным носом и темными, как смоль, зрачками; в левой руке он держал бокал, а кисть правой, обтянутая черной перчаткой, неподвижно покоилась на коленях. Третий мужчина, светловолосый, холеный, с тяжелой челюстью, был молод – не старше тридцати пяти. Он сидел напротив лысоватого с таким расчетом, чтоб видеть блондинку на пляже. – Соблаговолят ли доны начать? – спросил старик и, когда его собеседники кивнули, продолжил: – Сегодня, почтеннейшие, у нас два вопроса: «торпеды» и гаучо. Или, если хотите, гаучо и «торпеды». – Предпочитаю второй вариант, дон Хайме, – откликнулся лысоватый. – Как угодно, дон Грегорио, как угодно. Дон Алекс не против? Молодой снова кивнул, обозревая стройные бедра девушки. Тощий Хайме отпил из бокала и сплюнул в огненную пропасть. – Итак, судари мои, Луис, наш кондор и генерал, уже за Старым Мостом, в пампасах. Три линейных отряда драгун и карабинеры… Тысячи две, если не ошибаюсь? – Две с половиной, – уточнил Алекс, не спуская глаз с девушки. Хозяин, дон Грегорио Сильвестров, перехватил его взгляд и усмехнулся. Хайме приподнял руку в перчатке, что-то лязгнуло, скрипнуло, рукав съехал к локтю, обнажая крепление протеза. Сухие узкие губы старика шевельнулись. – Я полагаю, Луис пойдет от моста на север, а шестнадцатый отряд драгун и крокодильеры Хорхе Смотрителя – на юг. Дней через двадцать клещи сомкнутся, и твои головорезы, Анаконда, положат пару сотен гаучо. Так? – Так, – с ленцой подтвердил светловолосый. – Но могут всех пустить в расход. Как договоримся, амигос! – Мы уже договорились с доном Федором-Фиделем, милостивец мой. – Старик снова отхлебнул вина. – Две сотни убитыми и сотня пленных – Пимену в Разлом, за керосин с мазутом. Ну, десять-двадцать раненых – Сильверу на развлечение, для пыток и публичных казней… Так что, сударь, придержи своих кондоров и кайманов. Договоренности надо выполнять. Даже с доном Федькой. – Дон! – Алекс презрительно фыркнул. – Мелкий пахан, паханито, которому мы подарили жизнь! Я бы его… – Он стиснул кулак, но пожилой, нахмурив брови, пророкотал: – «Штыки» всегда спешат, а резать и стрелять нужно с толком, чтобы добро не пропадало зря. С толком, Алекс, понимаешь? И с пользой для дела. Так, как вырезали дружинничков триста лет назад, как прикончили домушников и донецких отморозков. Те были опасны, а гаучо с их доном Федькой для нас не конкуренты. Скорей партнеры! От них прямая польза, ибо стране нужны враги, и внешние, и внутренние, чтоб было с кого спросить за всякую провинность. – Обвиноватить, сударь мой! – хрипло каркнул дон Хайме, стукнув кулаком в перчатке по колену. – Виноватый – всегда враг, а враг – всегда виноват! Такая вот логика! – Ты прав, Хайме. – Грегорио Сильвестров степенно кивнул. – Нам нужны враги, необходимы, чтоб в трудный час бросить их «шестеркам» на растерзание. А где мы возьмем врагов, вырезав всех под корень? До срушников и бляхов далеко… а эмиратские еще дальше. – Враги найдутся, – буркнул Алекс. – Тот же Хорхе с его крокодильерами или черные Пименталя. – Их шестеркам не бросишь. – Дон Грегорио погасил сигару и швырнул ее в пропасть, за резные перила беседки. – Свара с Хорхе и Пименом – это уже Передел… Большой Передел, как во времена домушников! Пока не в наших интересах, Алекс. – Ладно! – согласился светловолосый, не спуская глаз с блондинки. Она приподнялась на колено и начала стряхивать песок; груди у нее были полными, упругими, с алыми вишнями сосков. – Ладно! Двести так двести! А что потом? – Это ты скажи, что потом. – Старик насмешливо прищурился. – Ты наследственный спец по военной части. Мое дело – налоги драть, Сильвер у нас – страж спокойствия, а ты – Анаконда и главный «штык»! Тебе и решать, сокол мой. Алекс нерешительно ухмыльнулся, наблюдая, как девушка, стряхнув с плеч песок, отжимает волосы. – А что решать? Отступим к мосту, к Харбохе. Вследствие временных неудач. – Э, любезнейший, так не пойдет! – Протез лязгнул, дон Хайме привстал, опираясь рукой в перчатке о подлокотник кресла. – Зачем нам поражения и неудачи? Для нас – поражение, для Хорхе – победа! Зубастый он, этот Хорхе… Сделаем вот как: победоносное наступление приостановлено, ибо старый скряга Хайме прекратил финансировать операцию. Отсюда – трудности с углем, мазутом и патронами… Без угля паровик не ездит, припасы не доставить, а кораблями тоже не подвезти – из-за, алчности «торпед», которым не хватает патриотизма. Думаки пусть заявят протест, а дон Грегорио и дон Алекс его поддержат, как и подпевалы из прочих департаментов. А я поплачусь: «торпеды» вздули дань за перевоз, финансовый кризис в державе, казна – три с половиной песюка, готов уйти в отставку. И спустим все на тормозах. Или свалим на Трясунчика. – Ума палата, – уважительно произнес дон Грегорио, раскурив новую сигару. – Не возражаешь, Алекс? Тот пожал плечами: – Не возражаю. Двести голов, сотня пленных, и наступление будет приостановлено. С Федьки-Фиделя – бочонок пульки. – И столько же-с меня, благодетель. К свадьбе твоей, «шестерок» поить, – сказал старик, почесывая щеку. – Ну, милостивые доны, не пора ли заняться «торпедами»? – Он покосился на лысоватого, дождался согласного кивка и вымолвил: – Тут случай ясный, соколы мои: мытари их обнаглели, вдвое за провоз дерут, а у Хосе-Иоськи крыша поехала – дела забросил, кораблики в луже пускает да кормит срушников дерьмом. Надо же, пообещал Сапгию целый флот броненосцев во главе с «Полтавой»! А пан Сапгий у нас не дурак, совсем не дурак… Как бы своих людишек не заслал для проверки, а это нам и вовсе ни к чему… Так что же? Будем кончать Трясунчика? – Будем, – согласился дон Грегорио. – Я кого-нибудь подыщу из мелкоты, из вольных отстрельщиков… – Не лучше ли сдать Трясунчика крокодильерам? – предложил молодой. – Не стоит. Слишком уж звероватые, а Хосе-Иосиф все-таки дон… Пусть отойдет пристойно, с миром. Девушка на пляже присела, широко расставив колени, и Алекс, глава Военного департамента по прозвищу Анаконда, судорожно сглотнул. – Хороша кобылка? – Дон Грегорио изобразил улыбку. – Не терпится, а? – Стерплю. Недолго осталось. – Алекс побагровел и, желая замять неловкость, тоже оскалился в усмешке. – На такой кобылке только и гарцевать в пампасах за мостом или в Пустоши… Лихое место эта Пустошь, опасное – без резвого коня! Одни изгои да ранчеро… А еще, доносят, сумасшедший поп в Дурасе объявился – божий человек, а трех диких пришиб. Разом! – Выходит, судари мои, я их не зря прикармливаю, попов-то, – заметил дон Хайме. Потом спросил – правда, без особого интереса: – А дикие чьи? – Из шайки местных отморозков. Под Огибаловым ходят. Был такой сборщик-мытарь у «плащей», брал налог за пульку… Не донес хозяину песюков, вот Монтальван его и выгнал. – Зря выгнал, – произнес дон Грегорио, поджав губы. – Я бы бросил ублюдка кайманам. Или подвесил над муравейником – за ребро да на крюк!Глава 3
– Во имя Отца, Сына и Святого Духа нарекаю тебя Николаем-Никколо! Саймон перекрестил младенца и сунул его в руки матери. Паренек попался спокойный; не пискнул, не вякнул, а лишь таращил круглые глазенки – черные, как у Поли-Пакиты, внучатой племянницы старосты Семибратова. А вот волосики были у него точно редкий светлый лен – в отца, Ивана-Хуана, который приходился Семибратову троюродным племянником и тезкой. Все жители деревни состояли в ближнем и дальнем родстве, но брачные связи меж ними не приводили к вырождению – тут сказывался приток иной крови, афро-американской. Семибратовка – семь крепких усадеб-фазенд вдоль широкой улицы – стояла на своем месте без малого два столетия, со времен Большого Передела, и за этот срок приняла многих чужаков, белых, черных, бронзовых и шоколадных. Пришлецы женились и тут же делались чьими-то свояками либо зятьями; ну а дети их были уже кровь от крови семибратовскими. А что касается названия деревни, то оно пошло от семи братьев или дружбанов, поселившихся тут вскоре после исхода. Не того Великого, когда миллиарды землян переселились к звездам, а исхода-бегства, произошедшего лет через двадцать после братоубийственной свары меж громадянами и Русской Дружиной. Ее подробностей Саймон еще не выведал, но результат был налицо: тысячи беженцев с Украины, преодолев океан, колонизировали Америку. Разумеется, Южную; Северная, если не считать остатков Канады, была перепахана кратерами и пребывала в запустении. Нынче же, по словам всезнайки Майкла-Мигеля, в ФРБ и ее Протекторатах, Канадском, Чилийском, Парагвайском и Уругвайском, проживало двадцать миллионов, да еще тысяч пятьсот обосновались в Кубинском Княжестве, территории хоть автономной, но состоявшей в союзе с бразильцами. Не с бразильцами – с бразильянами, поправился Саймон. Бразильцы обитали на Южмерике, в тридцати трех парсеках от Старой Земли, а народ, пришедший им на смену, назывался бразильянским. Правда, кое-кто, подчеркивая происхождение от чернокожих предков, говорил: я – бразилец! – и добавлял пару полузабытых ругательств на португальском. Но таких гордецов и снобов в Семибратовке не водилось, как и во всех окрестных селениях – в Марфином Углу, Колдобинах, Чапарале и Волосатом Локте. Малыш Николай-Никколо улыбнулся Саймону беззубым ртом – уже с рук старосты Семибратова, крепкого мужика за шестьдесят, с окладистой пегой бородой. – Хорошего парня Полюшка выродила, – пробасил он, стиснув толстыми пальцами рукоять мачете. – И ты, брат-батюшка Рикардо, хорошее имя ему придумал, крепкое. Колян! Будет пока что Колян, а возрастет да войдет в мужицкую силу, и прозвищем разживется. Так, батюшка? Саймон молча кивнул. Народ, побольше сотни человек, присутствовавших на обряде, едва ли не все обитатели Семибратовки, потянулся из храма на улицу, шаркая по деревянным полам сандалиями и сапогами. Парни и мужчины были вооружены, и лишь местный учитель, Майкл-Мигель! Гилмор, являлся исключением; он насилия не признавал и не любил оружия. В церкви остались несколько женщин – навести порядок да разобраться с церковным имуществом, а заодно проверить, не надо ли чего брату-батюшке – сготовить или постирать. Коттедж Саймона в Грин Ривер состоял на попечении роботов, и он не привык к такой заботливости, имевшей, как все на свете, хорошую и дурную сторону. За ним ухаживали, его поили и кормили и даже преклонялись перед ним – как перед священником и человеком, который владеет тайной боевого мастерства, – и это было совсем неплохо; однако множество глаз и услужливых рук – не лучшее обстоятельство сохранения чего-нибудь в тайне. В конце концов он сжег свою одежду, а драгоценный маяк и остальное имущество спрятал под алтарем со священными дарами. Туда его прихожанки не лезли, боясь совершить святотатство. К нему протолкался Мигель. Рубаха его была распахнута, и Саймон видел рубцы шрамов, сизые на темной коже, – шесть длинных отметин бича, пересекавших живот и грудь. Еще шесть красовались у Гилмора на спине. – Мои поздравления, брат Рикардо. – Голос Мигеля был глубоким, звучным, хоть сам он не мог похвастать богатырской статью. – Первый младенец, коего вы окрестили… Правда, свершенный вами обряд показался мне несколько странным. «Еще бы!» – подумалось Саймону. Службу он правил по детским своим воспоминаниям о церквах православного Смоленска, но хоть память его была отменной, кое-что в ней перепуталось. Его родичи с отцовской стороны были мормонами, и сестра Саймона-старшего, богомольная тетушка Флоренс, таскала Дика в молельный дом, где служили совсем иначе, чем у православных, – без всякой пышности, по-деловому строго, но истово. «Похоже, – у Саймона мелькнула крамольная мысль, – мне предстоит объединить две ветви христианства». – Ты, Мигель, не бухти, – молвил тем временем староста Семибратов, оттесняя учителя. – Все прошло лучше некуда, раскудрить твою мать! Главное, у брата-батюшки руки крепкие, не трясутся, а вот отец Яков и тверезым дите в купели утопит. – Он взял Саймона под локоток и подтолкнул к выходу. – Иди-ка ты, брат-батюшка, скидывай свою ряску, облачайся в мирское, и пойдем попразднуем нашего Коляна. Столы чай ждут! Столы и в самом деле ждали – в тени церковных стен, сложенных из крепкого, обожженного на солнце кирпича. Семибратовская церковь была не только храмом, но, как самое прочное и большое сооружение в деревне, являлась еще цитаделью и школой; двери ее сколотили из деревянных плах, окованных железом, а узкие окна напоминали бойницы. Пристроенный сбоку навес защищал от зноя, и под ним, на вкопанных в землю столбах, тянулись столы-помосты, ломившиеся сейчас под тяжестью котлов с мясной похлебкой, блюд с говяжьим и тапирьим мясом и жбанов пульки. Спиртное гнали из кактусов, ибо с зерном и картошкой в Пустоши было туговато. По случаю праздника эти лакомства тоже присутствовали на столах, однако в малом количестве: овощи выменивали у кибуцников, а зерно, пшеницу и маис привозили с севера и юга. Саймон отправился переоблачаться, размышляя о том, какая судьба ожидает крошку Коляна-Никколо. Конечно, будущее – туман и мрак, но если миссия его завершится успехом, то лет через двадцать парень, вполне возможно, очутится совсем в иных краях. Скажем, в мире России, Европы или Колумбии, или в любом из сотен других миров, доступных человеку… А может, Колян останется здесь, но главное будет при нем: право выбора и возможность постранствовать среди звезд. И если он решит странствовать и попадет в нормальный мир, ему понадобится не кличка, а настоящая фамилия. Фамилии, как Саймон уже знал со слов Мигеля-Майкла, имелись в основном у городских, а в Семибратовке такая привилегия была лишь у старосты, поскольку он являлся местным паханито – иными словами, главарем. Всем остальным мужчинам давали имена и клички – Проказа, Филин, Полторак, Ушастый; женщинам – только имена. Традиция двойных имен в селе и в городе немного различалась: у городских первым называли португальское или испанское имя, у сельских – русское. Имена да немногие слова – вот и все, что унаследовал язык пришельцев от прежних Бразилии и Аргентины, Боливии и Перу… Саймона это не удивляло: колонисты раз в двадцать превосходили числом остатки местного населения. В своей комнатушке под звонницей он сбросил рясу, проверил, что цилиндр фризера по-прежнему таится за широким поясом, и наскоро побрился – с помощью древней, но острой бритвы, зеркальца и теплой воды. Эта процедура стала для него привычной за две недели в Семибратовке; тут не было ни паст для снятия волос, ни убиравших щетину вибраторов. Всматриваясь в зеркало, он отметил, что выглядит посвежевшим: на лоб, широковатые скулы и подбородок легла плотная вуаль загара, и зрачки на смуглом лице казались двумя ярко-синими сапфирами. В Семибратовке было полдюжины девиц на выданье, и все они заглядывались на Саймона: ведь всякий поп когда-нибудь обзаведется попадьей, став из брата-батюшки Рикардо отцом Рикардо. Но Саймон не спешил в отцы. За столом его поджидало почетное место, напротив старосты, сидевшего с шестью бородачами, владельцами фазенд. Их усадьбы и загоны для скота выстроились вдоль широкой улицы, а дальше стояли общинный амбар, сложенный из желтых и бурых кирпичей, церковь и кабак. Кабак держал Петр-Педро Ушастый, пронырливый мужичонка смешанных кровей, а церковь по утрам служила школой, где учительствовал Гилмор, сорокалетний темнокожий холостяк, изгой из Рио. Саймон уже понимал разницу между изгоем и отморозком-извергом: изгой – тот, кого изгнали и отправили в кибуц, а отморозок – извергнутый, отмерзший от своих. От своего бандеро, то есть клана. Тут тоже были кланы, как на Тайяхате, но назывались они не столь поэтично, как у тайят: «штыки», «плащи», «клинки», «торпеды», «крокодильеры», дерибасовские… Еще были смоленские, и это казалось Саймону странным: Смоленск, в отличие от Одессы или, к примеру, крымских городов, не был связан с последними событиями на Земле. Такими же странными и непонятными казались и отношения кланов-бандеро с властью; семибратовские не видели между ними различий, и, по словам Мигеля, их действительно не имелось. Мигель являлся главным источником информации для Саймона, но черпать ее приходилось наперстками – и преимущественно во хмелю. По вполне понятным причинам брат Рикардо, окончивший семинарию в Рио, прямых вопросов задавать не мог, да и ответы старался давать невнятные и уклончивые. К несчастью, Мигель был человеком любопытным, а после стаканчика пульки – весьма разговорчивым. За эти-то разговоры и был он бит кнутом, а после отправлен в кибуц, в сельскохозяйственное поселение, где вышибали дурь из слишком умных и болтливых. Староста Семибратов выменял его на трех бычков и произвел в учителя, но в Рио Мигель занимался иным: служил при Государственном Архиве, а между делом пописывал стихи. Не те стихи, что одобрялись властью; впрочем, здешняя власть никаких стихов не одобряла. – Благослови трапезу, батюшка! – пророкотал Семибратов, поднявшись, и стукнул о стол рукоятью мачете. Саймон благословил и сел напротив старосты, рядом с Мигелем– Майклом, высматривая Проказу; потом припомнил, что Шашка, вместе с дружбаном своим Филином нынче стоит в дозоре. Последние пять-шесть дней выдались тревожными: один из огибаловских бугров спалил фазенду в Чапарале, другой повеселился в Дурасе – накачал отца Якова пивом и привязал к могильному кресту; поп терпел-терпел и, наконец, обмочился. Произошли и другие события, все – неприятного свойства: чей-то конь добрел домой без всадника, где-то умыкнули девушку, где-то перебили скот, а в Волосатый Локоть заявился сам Огибалов с требованием выкупа: двести песо, бочку пульки и возок говяжьих туш. Саймону чудилось, что всякие беды так и бродят вокруг Семибратовки, готовые навалиться в любой момент не с запада, так с востока, не с севера, так с юга. Староста, по его подсказке, начал отправлять дозорных на холмы, но это не гарантировало от неприятностей: двадцать шесть семибратовских мужиков с тремя трофейными карабинами и четырьмя винтовками не могли оборонить поселок. Да и в этом ли поселке заключалась суть? Все проще, много проще, думал Саймон. Тут, в Пустоши, жили люди родного ему языка; пасли скот, растили детей, платили что положено властям, однако власть не собиралась их защищать от вымогателей и убийц. Возможно, сама эта власть являлась первым вымогателем и убийцей – с чем предстояло еще разобраться; но власть была далеко, в Рио, в Харка-дель-Каса, в Дона-Пу-эрте, Харбохе и других больших городах. Власть была далеко, а огибаловские – близко, и Ричард Саймон, помня о главной своей миссии, не забывал о мелочах. Для Тени Ветра, питомца Чочинги, эти степные шакалы и впрямь являлись мелочью: он убил бы их там, где нашел, и нанизал бы их пальцы на Шнур Доблести. Но Ричард Саймон, агент ЦРУ, серый ангел с далеких звезд, давно усвоил простую истину: карать легче, чем защищать. Это была человеческая мудрость, но все равно она имела связь с Поучениями Наставника. Он говорил: «Наступит день, и ты пройдешь тропою из тех троп, что ведут к Искрам Небесного Света; ты вернешься в свой мир и будешь жить со своими людьми, сражаться в своих лесах – так, как сражается твой народ, не различающий земли войны и мира. Это плохо, – говорил Чочинга, – но так заведено у вас, людей; и в ваших лесах, я думаю, иной обычай; там легче отрезать чужие уши, чем сохранить свои». За собственные уши Саймон не беспокоился, но в Семибратовке, кроме мужчин, жили женщины и дети, а значит, эта земля не подходила для битв. Точно так же, как и деревня на Латмерике, у гор Сьерра Дьяблос, выжженная головорезами Сантаньи… Временами, вспоминая о самом первом своем задании, он видел, как подымаются столбы с изуродованными телами; безглазые лица следили за ним, и девушка, прижимая ладонь к распоротому животу, беззвучно шевелила губами, будто спрашивая: что же ты меня не защитил?.. Отчего опоздал?.. Где задержался?.. Эти сцены долго преследовали Саймона, и даже целительный транс цехара, еще один дар Чочинги, не позволял забыть о них. Он был прагматиком – по собственной духовной конституции и потому, что вырос среди тайят, не признававших иррационального; и, как прагматик, понимал, что Огибалов и Сантанья – горошины из одного стручка. Были трупы в той деревне на Латмерике, будут трупы здесь; там развешивали на столбах, тут привяжут к лошадям и пустят в степь. И разница заключалась лишь в том, что на Латмерике он опоздал, а тут явился вовремя. Опустошая тарелку с жарким и поднимая стакан – в ответ на каждый тост, провозглашенный старостой, Саймон приглядывался к соседям. Женщины не слишком веселились, да и мужчины были настороже: у каждого – мачете за поясом, а у пятерых, самых метких стрелков, – ружья. Только у пятерых… Еще – у Пашки и Филина, а в огибаловской шайке – сто двадцать головорезов и карабины… отменные карабины! Ракеты и лазеры тут делать разучились, чего не скажешь о вещах попроще… Гилмор мяса не ел, прихлебывал из кружки и жевал, жмурясь от наслаждения, хлебную корку. Дожевав, повернулся, жарко дыхнув соседу в ухо. Под градусом учитель, автоматически отметил Саймон, может, удастся разведать что-нибудь новенькое. В подпитии Мигель любил поговорить. – Прости мою назойливость, брат Рикардо, твое семейство не из Харькова? Я не о Харка-дель-Каса, а про Харьков, настоящий Харьков, что в Европе… в бывшей Европе… столица ПЕРУ… – Из Харькова, – подтвердил Саймон. – Но если верить семейным легендам, род наш – смоленский, а в Харьков переселился мой предок в двадцатом колене. Еще в те времена, когда Россия была не Россией, а… – Он сощурился, припоминая. – Кажется, ее называли союзом? Славянским? Нет, советским! Точно, советским. От слова «советовать». – А мне помнится, совещательным, от слова «совещаться», – возразил Гилмор. – Впрочем, не буду спорить -, о тех временах так мало известно! Когда я служил в Архиве при департаменте дона Грегорио… – Учитель вдруг помрачнел и надолго присосался к кружке; кажется, эти воспоминания не относились к числу приятных. Пулька, однако, его подбодрила; не прошло и минуты, как он, придвинувшись к Саймону и понизив голос, произнес: – Кстати, о доне Грегорио Сильвестрове… о Черном Сильвере, как его прозывают. Знаешь, брат Рикардо, Сильвестровы тоже родом из Смоленска! А потому, – Мигель перешел на шепот, – их бандеросы именуются смоленскими. Так сказать, дань памяти предков… Может, они у вас общие с доном Грегорио? Не по мужской, так по женской линии? Он уставился на Саймона, но тот и бровью не повел. С легкой Пашкиной руки по деревне ходили истории о схватке с Хрящом, и число убитых – в Пашкином пересказе – уже перевалило за дюжину, хоть карабинов взяли только три. Особенно впечатляло, что брат Рикардо расправился с огибаловскими без оружия, без винтаря или мачете и даже без палки – прихлопнул их ладонью, как надоедливых навозных мух. Конечно, возникал вопрос, где брат-батюшка научился таким смертоубийственным приемам – не в столичной же семинарии! Выходит, довелось ему погулять в бандеросах, в смоленских или еще в каких… А может, в крокодильерах или гаучо? Те тоже считались мастерами кровь пускать без пули и клинка. Но это семибратовских не слишком интересовало; являясь реалистами, они были уверены, что поп-драчун надежней попа-пьяницы, такого, как батюшка Яков, и даже пьяный поп намного лучше, чем полное отсутствие попа. Однако Гилмор был иным, замешанным из теста, идущего на выпечку интеллигентов, а этот сорт людей всегда страдал двумя пороками: излишним любопытством и болтливостью. Благодаря чему кибуцы в ФРБ не пустовали – как, впрочем, и Каторжные Планеты в Разъединенных Мирах. Вытянув длинную руку, Саймон ухватил кувшин и щедро плеснул в кружку Мигеля-Майкла. Потом, подняв глаза к небу и озирая крест над церковной звонницей, задумчиво произнес: – Должно быть, Мигель, ты выведал массу интересного, трудясь в Государственном Архиве. Интригующее это занятие – копаться в древних бумагах. От них попахивает тайнами, секретами… – …и плесенью, – закончил Гилмор. Его глаза блестели, к впалым щекам прилила кровь, и теперь они казались не темно-шоколадными, а лиловыми. – Знаешь, брат Рикардо, не такое уж удовольствие штабелевать протоколы думских заседаний и клеить на папки ярлыки. И нет в них ни тайн, ни секретов… Кроме того, настоящие древности в Архиве не держат – все подобные документы переправлены в Форт. Так сказать, на вечное хранение и забвение… «В Форт», – отметил Саймон, а вслух поинтересовался: – Но разве сведения о доне Грегорио и его семействе не секретны? Учитель пожал узкими плечами. – Какие тут секреты! Был секрет, да весь вышел – еще в эпоху Передела, когда повязали домушников, проволокли до Озер и бросили на корм кайманам… тех самых боссов из НДБ, что заседали в Думе и правили страной. А нынешние просто не любят, чтобы о них болтали. Хотя… – Гилмор провел пальцем по шраму на груди, – если уж принял казнь, так отчего не поговорить? Поговорим, брат Рикардо! Вот, – он кивнул на большой кувшин, – вот дон Грегорио, наследственный вождь смоленских вертухаев. Суд, полиция, тюрьмы – все под ним, включая Думу с потрохами, ну, разумеется, пропаганда, книгопечатание и разное прочее лицедейство… Каков он, дон Грегорио?.. Хотят ему польстить – зовут Черным Сильвером, а так кличут Живодером… Живодер и есть! А вот, – учитель поставил рядом с кувшином кружку, – вот хитрый дон Хайме со своими дерибасовскими, главный сборщик «белого»… Знаешь, отчего их так назвали? По одной из одесских улиц, бывших улиц бывшей Одессы, где, надо думать, жил какой-то предок дона Хайме… «Черные клинки» с их доном Эйсебио – из местных, наследники отребья, с коим.переселенцы бились-бились, да так и не выбили под корень. Теперь в Разломе царствуют, нефть качают. Не сами, разумеется, – рабов у них тысяч сто, берут в кибуцах, хватают фермеров за Игуасу и Негритянской рекой… Да там уж никто и не живет. Теперь крокодильеры. О!.. – Гилмор закатил глаза. – Тут понамешано всяких, пришлых и местных, и крови звериной добавлено. Эти всех сильней и всех свирепей. Захотят, со всеми расправятся, и с дерибасовскими, и со смоленскими, и даже со «штыками». А «штыки» – те большей частью от крымских беженцев род ведут, а среди них половина были флотскими, сражавшимися за Дружину. Военный народец, потому и «штыки»… – Мигель вдруг отодвинул кружку, пригубил из кувшина и невнятно пробормотал: – А знаешь, б-брат Рикардо, что за семья Петровы-Галицкие, которые у «штыков» верховодят? Предок-то их был адмиралом, «Полтавой» к-командовал! А может, и всем Черноморским флотом. Одесса у них н-на совести, у этой семейки. Хотя, с другой стороны… Саймон встрепенулся, припоминая, что сообщалось в читанной им истории российско-украинского конфликта. Одесса, флот, «Полтава»… Кажется, крейсер, ракетоносный тримаран, самый мощный из боевых кораблей… Интересно, доплыл ли он до бразильских берегов и куда его подевали? Спросить у Мигеля? Или обождать, не подгоняя скакуна удачи? Спросить, решил он наконец, но осторожно и о другом. Про самого Гидмора, Мигеля-Майкла… Майкла, не Михаила… А почему? Да и фамилия его была для Саймона загадкой; тут ощущался не иберийский аромат, а скорее влажные запахи плывущих над Темзой туманов. Отхлебнув из кружки, он пробормотал: – Очень любопытно… кто, откуда и чем знаменит… об этом нам в семинарии не говорили… Вот видишь, Мигель, в Архиве не только плесень пополам с протоколами! Если б мы познакомились в Рио, в те годы, когда я учился, а тебя еще не сослали, я мог бы с твоей помощью узнать о своих предках, о Горшковых из Харькова… Надеюсь, это не запрещено? – Н-не запрещено, однако н-не.. н-невыполнимо, – ответил Майкл-Мигель, подперев потяжелевшую голову кулаком. – Древние записи – те, в Форту, где есть поименный список беглецов, – были н-не на бумаге, а н-на… н-на памятных дисках. Их без м-машин н-не прочитаешь… без спе… спе-ци-аль-ных м-машин, какие сейчас н-никому н-не сделать… Об этом вам говорили в се… в семинарии, б-брат Рикардо? Саймон пропустил вопрос мимо ушей. – Выходит, о собственных предках ты тоже ничего не знаешь, Мигель? Его собеседник уже с трудом ворочал языком: – Знаю… в-все знаю… от прадеда – к деду… от деда – к отцу… как по живой це… цепочке… н-никаких записей н-не надо… – Устная традиция, – произнес Саймон, придерживая Мигеля-Майкла за пояс. – Я понимаю. Обычай местных уроженцев. Гилмор на мгновение протрезвел и уставился на него мутным взглядом. – М-местных? Это в каком же смысле м-местных? Теперь м-мы все тут – м-местные! – Я не хотел сказать ничего обидного, Мигель. Я имел в виду, что ваша семья – из коренных бразильцев. Бразильцев, не бразильян. – Ссс… с чего т-ты взял, б-брат Рикардо? – Гилмор заикался все сильнее. – С этого, – Саймон накрыл рукой темные длинные пальцы учителя. – Может, и есть у тебя русские предки, Мигель, но чернокожих гораздо больше. А их на Украине не водилось. Ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Крыму. – О… ошибаешься, б-брат Р-рикардо… – Гилмор начал медленно сползать под стол. – В Ха… Харькове… б-был… б-был… интер… ин… Саймон склонился к нему, пытаясь разобрать невнятное бормотание, но тут грохнул выстрел, и два всадника промчались улицей, вздымая клубы пыли. Первый, рыжий Пашка-Пабло, выпалил еще раз; другой, рослый угрюмый парень по кличке Филин, молча спрыгнул с лошади, схватил кувшин с хмельным и опрокинул его над разинутой глоткой. – Едут! – закричал Пашка, размахивая карабином. – Едут, дядька Иван! Сотня жлобов, а с ними – главная гнида! И телеги у них, много телег! Видать, тапирий блин, рассчитывают поживиться! Саймон пошарил за поясом, нащупал фризер, потом встал, подхватив Майкла-Мигеля под мышки, и отправился в свою комнату под звонницей. Вокруг царила организованная суматоха: женщины тащили в церковь детей, мужчины и парни вставали к окнам, кто с ружьем, кто с вилами или мачете, мальчишки постарше лезли на крышу, чтобы следить за продвижением неприятеля, Педро Ушастый прятал жбаны со спиртным, а Филин, двигаясь с другого конца стола, допивал все, что осталось недопитым. Пашка, отдышавшись, пристроился у церковных врат, щелкая затвором карабина и корча жуткие гримасы; Семибратов орал, мотая пегой боро-дой, распоряжался: кому дверь закрывать, кому задвинуть за-совы, кому из подростков мчаться в Колдобины и Марфин угол, молить о помощи. Лицо у него было мрачным, однако глаза воинственно сверкали – ни дать ни взять, рязанский воевода перед нашествием татар. Саймон, устроив мирно храпевшего учителя, повесил на шею серебряный крест, покосился на алтарь, где за иконами и чашами был спрятан его «рейнджер», хмыкнул и направился к старосте. Палить ему тут не хотелось, а меньше того – швыряться гранатами. – Я с ними разберусь, Иван-Хуан. – Он тронул Семибратова за плечо. – Пусть только ваши не стреляют. Проказу придержи и остальных, кто с ружьями и помоложе. Вдруг попадут! Крови потом не оберешься. – Какая стрельба, брат-батюшка? – староста пошевелил мохнатыми бровями. – Откупимся! Их дело, понимаешь, грабить, а наше – показать, что просто так не расстанемся с добром. Вот прискачут парни из Колдобин, а может, еще из Марфина Угла, тогда торговля и начнется… И то сказать: за этот год два раза плачено, а с тапира три шкуры не сдерешь! Вот только праздник нам подпортили. А так – договоримся! Не впервой! – Слушай, паханито, – Саймон взял Семибратова за грудки и слегка встряхнул, – на этот раз ты с ними не договоришься. Они за мной пришли, не за тапирьей шкурой – меня им и отдай. Я уведу их из деревни, а там… – Что – там? – набычился Семибратов. – Ты, брат-батюшка, знатный бoeц, ежели Пашке верить, так ведь их не трое – сотня! – Бог поможет, – сказал Саймон. – Ты в Божью помощь веруешь, Иван-Хуан? – Верую, коль на иное надежи нет, – ответил староста, сжав одну руку в кулак, а другой будто подбрасывая монету. – Ты, батюшка, справный поп, давно у нас такого не было, и теперича я тебя не отдам. Разве что изверг всех спалить погрозится… – Не погрозится. Просто спалит. Они вышли на церковное крыльцо, площадку о четырех ступеньках, покрытую плотно утоптанной глиной, и Саймону почему-то вспомнилось, что ее называют папертью. Он стоял тут рядом с Пашкой, Филином и помрачневшим Семибрато-вым, ощущая на затылке взгляды собравшихся в церкви людей. Не оборачиваясь, он знал, что никто не смотрит ему в спину с враждой, никто ни в чем не винит; глядели с боевым задором, с трепетом или с надеждой, будто в ожидании чуда. Странное чувство вдруг охватило его; казалось, что не со звезд он прилетел, а родился на Старой Земле, учился в неведомом городе Рио и послан оттуда в Пустошь, в это селение, •чтоб обрести здесь родину и служить ей как подобает, верно и честно. Служить и защищать, сделавшись горьким камнем для ее врагов – камнем, что дробит черепа и ломает кости! Но другой Ричард Саймон – тот, родившийся на Тайяхате, пришелец со звездных миров – знал, что Путь Горьких Камней завершен и дорога за ним иная: не полет снаряда из пращи, а извилистая тропка, где на каждом шагу повороты, ловушки и ямы, где удар внезапен, где не поймешь, откуда брошено копье и куда нацелена секира. "Завтра, – подумал он, – завтра начнется новый путь, а сегодня камень еще в полете. Мчится, вращается, жужжит! Горький камень! А вот и крысы, которых ему суждено раздавить… целый выводок клыкастых крыс, презренная добыча для воина-тай… Привередничать, однако, не приходится. По улице пылила кавалькада. Всадники ехали по трое в ряд, раскачиваясь в седлах, небрежно приспустив стволы карабинов и озираясь по сторонам с хищным блеском в глазах или с хозяйской уверенной важностью. Были они всех цветов и оттенков кожи, светловолосые и с шапками темных нечесаных кудрей, в безрукавках, рубахах иди нагие по пояс – пестрое воинство, извергнутое в Пустошь за провинности и грехи. Саймон знал, что их называют дикими – в том смысле, что эти люди не подчинялись ни одному из крупных кланов, не относились к вольным отстрельщикам и бродили по окраинам страны, действуя в одиночестве или сбиваясь в шайки и воруя скот, если шайка была невелика, или терроризируя всю округу, когда у них появлялся вожак, а с ним – порядок, многочисленность и сила. Почему их терпела власть? Этого Саймон еще не понимал. Возможно, власть была слаба; возможно, «дикие» служили ей на свой манер, став частью государственной машины. Чем-то вроде канализации, куда сливали все опасные отходы и отбросы. Головной отряд, человек сорок, остановился меж кабаком и амбаром, задние двинулись к церкви, обтекая ее справа и слева. За ними катились возы – несколько больших телег, груженных хворостом и черными железными бочками. Увидев их, Пашка Проказа присвистнул, а староста побледнел и как-то разом сник; теперь он казался не воеводой, идущим на рать, но проигравшим битву полководцем. – А ведь ты прав, батюшка, – пробормотал Семибратов, – жечь он нас собирается… Жечь, изверг! Саймон втянул ноздрями воздух и поморщился – от бочек несло бензином. Или другим допотопным топливом, каким в Разъединенных Мирах снабжались лишь Каторжные Планеты. – Не будет он вас жечь. Не дам! – Так ведь иначе… – произнес Пашка и смолк, уставившись в землю и в бессилии кусая губы. Саймон похлопал его по плечу и наклонился к старосте. – Не твоя драка, Иван-Хуан, и не твоя забота. Не мешайся! Твое дело – о деревне заботиться, о людях своих и о Коляне, которого я окрестил. – Так… это что же? Уйдешь и не вернешься? Смерть примешь, брат-батюшка? Они ж тебя термитам бросят! Или конями разорвут! – Я вернусь, – сказал Саймон. – Не насовсем, но вернусь. Ты много ли огибаловским в год платил? – Губы старосты зашевелились, будто он подсчитывал про себя, но Саймон, усмехнувшись, подтолкнул его к церковным дверям. – Иди, Иван-Хуан. Я с тебя меньше возьму. Спустившись с крыльца и все еще улыбаясь, он зашагал к всадникам. Видение разоренной деревни – той, на Латмерике – медленно таяло, расплывалось, исчезало, будто свежий послеполуденный ветер уносил его в степь и, раздирая в клочья, хоронил меж зеленых трав и лесистых холмов. «Не будет здесь ни пожарищ, ни мертвецов на столбах, ни вспоротых животов, – подумал Саймон. – Не будет!» На этот раз он явился вовремя. Он шел прямиком к худощавому всаднику на вороном жеребце, угадав в нем предводителя: скакун его был получше прочих, седло, стремена и карабин отделаны серебром, а на бедре покоился револьвер с перламутровой рукоятью и массивным ребристым барабаном. Ни бороды, ни усов вожак не носил, зато щеки его и подбородок были изрыты кратерами, словно поверхность Луны. Оспа, догадался Саймон, ощутив мгновенный укол изумления. Кажется, вакцину тут тоже не делали, как и компьютеры с ракетами. Рябой вожак, прищурившись, посмотрел на него, повернулся, оглядел растянувшихся полукольцом всадников и ощерил рот в ухмылке. – Ну, что скажете, братья-бразильяны? Собирались попа выкуривать, а он сам явился! И крест принес, из-за которого у них с Хрящом-покойником свара вышла… Молодец! Понимает, что дон Огибалов – не Хрящ: тот насильничал да отбирал, а дону сами тащат! И крест, и шею вместе с крестом! «На публику работает», – подумал Саймон, изучая оружие рябого. Приклад карабина был украшен серебряной фигуркой – застывший в прыжке ягуар с грозно разинутой пастью. И револьвер хорош, с барабаном размером с кулак, на десять патронов, а может, на все двенадцать; выложенная перламутром рукоять искрилась и блистала радужными сполохами. Саймон мог дотронуться до нее пальцем. Седло заскрипело. Огибалов склонился к нему, заглядывая в глаза. – Говорили в корчме, что ты, поп, звал непонятливых в Семибратовку, чтоб слово Божье им растолковать. Вот я и приехал. Тащился по жаре, пыль глотал, а ты молчишь… Нехорошо! Но есть способ делать людей разговорчивыми, даже очень. Знаешь, какой? Саймон перекрестился и смиренно сложил руки перед грудью: – Если ты о термитах, так они меня не тронут. Ни термиты, ни муравьи, никакая иная тварь. Готов побиться об заклад! Рябой потер бугристую щеку. Кисти унего были крупными, сильными, и пару секунд Саймон соображал, как будет выглядеть его большой палец на Ожерелье Доблести, между клыков саблезубого кабана. Потом оставил эту идею; место являлось слишком почетным для крысиных когтей. – Не тронут, говоришь? Об заклад готов побиться? А заклад-то какой? Я вот поставлю Хряща и всех его мертвых подельников, а ты что? – Крест, свою голову и всю деревню, – сказал Саймон. – Это и так мое, – ответил Огибалов и махнул рукой дюжине спешившихся всадников. – Эй, Анхель! Кобелино! Попа упаковать – и на лошадь! Поедем в Голый овраг, развлечемся… А ты останешься здесь, с возами и своим десятком. Ждать меня, ничего не трогать! Ни спиртного, ни баб, ни девок. Вернусь, мы со старостой потолкуем. Я ему устрою экспроприацию! Поп-то деревню, считай, проспорил! «Десяток, – раздумывал Саймон, пока ему скручивали локти проволочным жгутом и втаскивали на смирного мерина. – Десяток – это ничего… меньше, чем ничего… С десятком и с этим Кобелино я разберусь по-тихому, без драки и пальбы. Лишь бы семибратовские не взъярились! Хозяева-то стерпят, у них усадьбы и семьи, а вот Пашка с Филином… и прочие, из молодых… Затеют резню, и будет десять трупов с одной стороны и десять-с другой…» Обернувшись и поймав тоскливый взгляд Семибратова, он кивнул на спешившихся всадников и строго покачал головой. Потом над ухом у него гикнули, взметнулась пыль из-под копыт и затянула улицу, заборы, стены и крыши домов желтым душным маревом. Теперь, выворачивая шею, Саймон видел только звонницу с восьмиконечным крестом; пыльное облако подрагивало, но ему чудилось, что раскачиваются крест и колокол под ним. Колокол и в самом деле качнулся. Протяжный похоронный звон поплыл над Семибратовкой. С проволокой Саймон справился минут за десять – незаметно напрягая мышцы, растянул, где удалось растянуть, но с осторожностью, чтоб не поранить предплечья. Искусство освобождаться от пут, преподанное Чочингой, не требовало силы; главным являлось умение расслабляться, когда кость будто бы становилась гибкой резиной, а плоть текла с такой же легкостью, с какой вода заполняет сосуд. Саймон проделывал этот фокус множество раз: и в юности, когда Наставник связывал его ремнями, а после засыпал песком, и в Учебном Центре, где практиковались с наручниками и смирительной рубашкой. Ремни были гораздо хуже: Чочинга вымачивал и растягивал их, а в горячем песке они высыхали в одно мгновение. «Все же есть у проволоки свои преимущества, – думал Саймон, чуть пошевеливая локтями. – Во-первых, ее не растянешь как мокрый ремень, а во-вторых, термиты ее не жрут. Так что у человека обычного, который не прыгал по острым кольям, не бегал по углям и не распутывал смирительных рубашек, шансов вылезти из термитника маловато. Пожалуй, никаких». Он поднял голову и осмотрелся. На середине дороги меж Семибратовкой и Дурасом огибаловские свернули, проехали тапирьи выпасы и пересохший ручей, где петляла в камнях жидкая струйка воды, и теперь направлялись к холмам на западе – пологим, невысоким, рассеченным множеством трещин и оврагов. Здесь, на плоских камнях, среди кактусов, дремали большие ящерицы, а в небе парили грифы – черные, с длинными шеями и белой оторочкой крыльев. Солнце огромным пылающим шаром висело над холмами, а снизу его подпирали облака – не легкие и пушистые, какие плывут в небесной синеве, а распластавшийся над плоскими вершинами сизо-серый блин. Солнце подсвечивало его, добавляя к серому багровые и красные тона. «Кровавый будет закат», – подумал Саймон, привстав в стременах. Мерин под ним захрапел, и рябой главарь, ехавший чуть впереди, обернулся; по губам его змеилась усмешка, а щеки в кратерах оспин казались отлитыми из шершавой меди. – Ты, поп, однако, не из трусливых, – произнес он, поравнявшись с пленником. – Не скулишь, не ноешь и песен не поешь… Разве тебя не обучили псалмы петь? – Еще спою, – пообещал Саймон. – Когда доберемся до места. – Там-то споешь! А заодно и спляшешь. – Огибалов опять усмехнулся и вдруг, пригасив ухмылку, спросил: – Давно из Рио? С месяц? – С месяц. Или около того. – Жаль тебя швырять на съедение тараканам, не расспросив о новостях… Кобелино – он почтовых девок охмурил, а у тех радио есть от «штыков» – говорит, что Живодер нынче дружбится с Анакондой. Вроде бы дочку за него просватал… Верно? Саймон пожал плечами. – Анаконда – кто такой? На рябом лице Огибалова изобразилось удивление, кадык на жилистой шее дернулся, рука потянулась к револьверу. – Шутки шутишь, поп? Ты откуда сверзился? С другого полушария? – Он сделал паузу, разглядывая пленника с каким-то новым, нехорошим интересом. – На бляха вроде не похож и на чекиста тоже, не эмиратский и не мосол… Срушник, что ли? Из ЦЕРУ? – Оттуда, – подтвердил Саймон. Конечно, между Центральным Разведуправлением, Колумбия, и Центрально-Европейской Республикой, Украина, Земля, особого сходства; не наблюдалось, но он не собирался посвящать рябого в такие детали. Внезапно ему пришла мысль, что он ничем не рискует, расспрашивая Огибалова и демонстрируя собственную неосведомленность; что бы о нем ни подумал главарь, за кого бы ни принял, это уже не имело значения. Рябой был Почти что трупом. Ему хотелось поговорить – возможно, по той же причине, что и Саймону; ведь он тоже считал, что ехавший рядом пленник – почти мертвец. Он пустился в воспоминания о Рио, о тех золотых деньках, когда он был не отморозком, а сборщиком «черного» у Монтальвана, катался на бронированной тачке, а не на лошади и открывал пинком любую дверь с изображением окутанной плащом фигуры. Длинные «плащи», как понял Саймон, являлись не самой многочисленной из банд и не могли конкурировать с дерибасовскими или смоленскими, «штыками» или «крокодильерами». Но все же это был почтенный и уважаемый клан, уцелевший в эпохи всех передряг и Переделов и даже обогатившийся во время последнего, когда уничтожили десперадос, отчаянных херсонских беспределыциков. Сейчас под контролем и покровительством «плащей» находилось медицинское ведомство, а кроме того, все кабаки, поставки спиртного, лекарств, девиц для развлечений и призовых бойцов. Правда, наркотики – или, по-местному, дурь – не значились в этом списке, так как на них был наложен суровый запрет. За дурь казнили на месте, полагая, что потребляющий «травку» не работник, а значит, наносит ущерб государственным интересам. Что касается рябого, то он занимался спиртным и помнил каждый кабак в Рио и в Санта-Севаста-ду-Форталезе, где началась его карьера мытаря. Из-за чего она прервалась, Огибалов Саймону не объяснил, но это не нуждалось в комментариях: деньги, «черные» или «белые», имели свойство прилипать к рукам. Видимо, дон Монтальван, глава «плащей», подобных фокусов не приветствовал. Холмы с накрывшими их облаками были уже рядом, и Саймон понял, что это искусственные образования – какие-то насыпи или отвалы пустой породы, смешанной с бесформенными бетонными глыбами. Солнце висело еще высоко, когда отряд углубился в лощину между двух холмов, переходившую в хаос оврагов, то узких, то широких, с обрывистыми каменистыми стенами, укрепленными кое-где проржавевшими стальными балками, на которых висели такие же ржавые перекошенные ворота. Ящериц тут не было, растительность казалась скудной, а вскоре исчезла совсем, только странный белесый лишайник торчал в трещинах и щелях – словно грязноватая пена, выдавленная из недр земли. Копыта лошадей глухо стучали по камню, и протяжное эхо откликалось на людские голоса и смех, как бы передразнивая или желая поучаствовать в предстоящем веселье. – Недолго осталось, – произнес рябой, посматривая на Саймона. – Тебе, поп, следует дважды меня благодарить: за то, что отправляю к Богу, и за мои рассказы. А ты вот ничем меня не развлек. – Еще развлеку, – пообещал Саймон. – Голос у меня неплохой. Ты ведь, кажется, хотел псалом послушать? Край солнечного диска коснулся облаков, и они внезапно вспыхнули, налились кровавым светом, запылали, напомнив Саймону небо над Чимарой. Небеса его детства… Закаты там были сказочные, и горы, в которых лежала деревня, звались Тисуйю-Амат, что значило Проводы Солнца. Он не раз провожал его вместе с Чией, своей четырехрукой подружкой, но люди тайят в большинстве не любили глядеть, как садится солнце. Утро являлось для них символом жизни, ночь – смерти, и потому врагу желали, чтоб сдох он в кровавый закат. Как раз такой, какой пылал в этот вечер над Пустошью. Проход меж каменных стен расширился, превратившись в круглую площадку, срезанную с северной стороны. Там темнел провал – видимо, неглубокий, так как Саймону удалось рассмотреть что-то серое, округлое, поднимавшееся вровень с краем обрыва. Термитник, догадался он, огромный термитник, запрятанный в лабиринте холмов и расселин… А эта площадка – Голый овраг? Отвесные стены из бетонных плит, поверх – ржавые столбы, с которых затейливой паутиной свисает проволока, и под копытами лошадей – тоже бетон, потемневший от времени, но все еще прочный, ровный, с неглубокими выбоинами… Будто бетонная пробка, которой заткнули сосуд с опасным содержимым… Внезапно Саймон понял, что находится в древнем могильнике, над одной из шахт, в которых хоронили радиоактивные отходы – или, возможно, отравляющие вещества, культуры вредоносных вирусов, штаммы жутких болезней. В эпоху Исхода Земля не подвергалась глобальной чистке, практиковавшейся ныне в Разъединенных Мирах, где, кроме Каторжных Планет, имелись необитаемые Планеты-Свалки. Покинув свою колыбель, люди бросили в ней ворох перепачканных пеленок; быть может, предполагалось их отстирать, но этот процесс изрядно задержался – впрочем, не по вине Транспортной Службы ООН, ведавшей межзвездной связью. Кто мог предполагать в период Разъединения, что колыбель на триста лет окажется под прочными замками? Кони встали, вожак и часть всадников спешились, пленника сдернули наземь. Теперь он был окружен плотной толпой – лица с застывшими ухмылками, хищный блеск зрачков, оскаленные пасти… Едкий запах пота витал в воздухе. – Эй, срань господня! – раздался возглас. – Хрящу передавай привет! – Он тебя поджидает, со сковородкой и вилами! – А зря, – откликнулся кто-то. – После тараканов жарить нечего. Жадные до мясца! Рябой подмигнул Саймону и покосился на обрыв с серым конусом термитника. – Жадные, верно! Видишь ли, жрачки здесь нет, так мы их подкармливаем чем придется. Когда попом, когда иным упрямцем – из тех, что дань не платят. – Он кивнул в сторону провала. – Ну, как, сам пойдешь? Проверишь, тронут тебя или не тронут? Мы ведь вроде бы о заклад побились? – Побились, – подтвердил Саймон. – И я, кажется, выиграл. Руки его, сведенные за спиной, расслабились, и проволочные браслеты соскользнули с них, как с пары обвисших веревок. В следующую секунду он ударил вожака ребром ладони в горло; тот страшно захрипел, закатил глаза, отшатнулся, падая под копыта испуганной лошади, но жеребец не смог подняться на дыбы – Саймон, с револьвером в руке, уже стискивал бока вороного коленями. Он выстрелил трижды; золотистые гильзы шаркнули о бетон, трое упали, остальные подались в стороны, кто-то свалился под напором лошади, кого-то Саймон ударил в грудь ногой, чей-то клинок блеснул у его бедра, прочертив кровавую полоску на конском крупе. Он вырвался. Он знал, что имеет в запасе столько времени, сколько надо, чтоб вскинуть к плечу карабин. Это было внушительным преимуществом. На миг Саймон увидел всю картину со стороны: коня, распластавшегося в прыжке; спешившихся бандитов – одни ловили стремя, другие поднимались в седла; всадников и вороненые стволы в их руках – стволы двигались вслед за его лошадью, но медленно, так медленно!.. Он успел вытащить фризер, свернуть головку активатора и швырнуть гранату – точно в центр толпы, сгрудившейся в древнем могильнике. Затем грянули выстрелы, дико заржал жеребец, но Саймон, стискивая поводья и упираясь носком в стремя, уже висел у теплого лошадиного бока, защищенный от пуль. Кажется, конь не был ранен, только испуган – обняв его шею, Саймон чувствовал, как дрожит вороной, с каждым скачком уносивший его от эпицентра взрыва. Он глубоко вдохнул и зажмурился, прижимаясь к коню; в следующий момент волна леденящего холода настигла их, обожгла мириадами иголок и схлынула, будто нагретый солнцем бетон слизнул ее шершавым языком. Саймон спрыгнул на землю, похлопал по шее скакуна – тот дрожал мелкой дрожью, косил испуганным темным зрачком – и оглянулся. Фризер был хитроумным изделием, своеобразной «черной дырой» – он понижал температуру в локальной области пространства, причем ее границы, равно как и достигаемый эффект, зависели от мощности заряда. Карательный Корпус ООН использовал боевые вакуум-фризеры; их радиус действия мог составлять до километра, и вся эта зона на три, пять или десять минут погружалась в холод космической бездны. В ЦРУ применяли более скромную технику: фризер Саймона вымораживал все живое на двадцать метров вокруг, а дальше – как повезет. Повезло немногим, и вряд ли это стоило считать везением. В центре бетонной площадки застыли всадники на лошадях – перекошенные лица, почерневшие рты, заиндевевшие волосы; иней покрывал скакунов, седла, сбрую, оружие и одежду, так что казалось, что на людей и животных вдруг пролился внезапный дождь из жидкого серебра. Все они скончались быстро: кристаллизация крови и клеточного субстрата вела к разрыву тканей и поражению сосудов – явлениям необратимым и, разумеется, смертельным. Те, кто очутился на периферии взрыва, еще жили, отделенные от вечности парой минут и безмолвными мучительными содроганиями, – ледяной воздух спалил им легкие и гортань, а из разинутых глоток не вырывалось ни звука. Не успевшим вскочить на лошадь досталось меньше – видимо, эти люди, пять или шесть человек, осматривали труп вожака и сейчас корчились и хрипели на земле, выплевывая остатки легких. Саймон снял с седла карабин, направился к ним и прикончил несколькими выстрелами. Он постоял недолго у края обрыва, глядя на гигантский термитник с дырой при вершине. Там суетились насекомые: солдаты – удивительно крупные, четырехсантиметровые, с мощными изогнутыми жвалами, и рабочие – те были поменьше и двигались быстрей солдат. Что бы ни схоронили в этом старом могильнике, ни яд, ни радиация не нанесли термитам вреда – скорей наоборот. Живучая мерзость, подумал Саймон, наблюдая, как рабочие заделывают пролом. Дыра была еще велика, и он разглядел чьи-то руки, обглоданные до костей, обвязанные проволокой. Песня… Он обещал, что споет песню… Не поминальный псалом и не Песню Вызова – ведь битва кончилась, да и рябой с его воинством не заслужили честного вызова на поединок. Взгляд Саймона обратился к небесам, пылающим красками заката, и он запел. Голос у него был сильный, звучный, как у отца, и древний тайятский гимн, с которым провожали в Погребальные Пещеры, разнесся над площадкой, заваленной телами. Но Саймон пел не им, а человеку в термитнике, скелету, что простирал к нему руки в последнем беспомощном усилии; жертва, а не убийцы, была достойна песни. Вороной поджидал его, пугливо косясь на застывших мертвецов. Саймон вскочил в седло, тронул повод; копыта загрохотали о бетон, потом их мерный стук сделался глуше – теперь они ехали оврагом. Позади лежали два могильника, древний и совсем свежий, но Саймон не думал о них, пытаясь представить, что ждет его в Семибратовке. Путь Горьких Камней закончился, и начиналась другая дорога, ведущая в Рио; еще одна деталь, последний штрих, и он Шагнет на новую тропу. Кобелино. Его люди. Десять или двенадцать человек… Можно убить, можно прогнать, можно забрать с собою… Два Ричарда Саймона, воин-тай и агент ЦРУ, вели неторопливый диалог, спорили, напоминали, подсказывали друг другу. Убить, советовал воин; использовать, возражал агент. Воин усмехался: как?.. и зачем?… крысы – плохие помощники. Если кто-то необходим, возьми надежных – Проказу, Филина… Гилмора, наконец, – он пойдет с тобой, а ему известно многое. Многое, но не все, откликался агент; он – не бандерос, он – иной человек, теоретик, не практик. А всякую вещь следует обозреть со всех сторон. Как говорил Наставник, рубят лезвием, а держатся за древко… Наставник прав, кивал воин; но десять секир в сражении только помеха. Не хватит ли одной? С древком потолще и с самым длинным языком? Хватит, соглашался агент и вспоминал слова дьячка из церкви в Дурасе. Невинный младенец от Кобелины… девку силком взял, но от отцовства не отказался… редкий случай! «Редкий для бандита и насильника, – подвел итог Ричард Саймон. – Пожалуй, Кобелино достоин поощрения – ну, не поощрения, так милости. Ради младенца, которого признал своим. Столь же невинного, как Николай-Никколо…» Вспомнив о Коляне, Саймон улыбнулся. Извилистый путь, подумалось ему; утром был священником, днем – приговоренным к смерти, а после – судьей и палачом… А завтра? Стены последнего оврага раздались, и он выехал в степь.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК В комнате с низким потолком и окошком в северной стене помещались топчан, сундук м табурет. Сундук был массивным, с плоской крышкой, и служил в качестве стола; еще в нем хранились пара сапог, «плащ» и кое-какие мелочи, включая толстую, на пару сотен листов тетрадь с поделенными пополам страницами. Слева писались стихи, справа – дневник. Не все левые половинки были заполнены, ибо вдохновение не придерживалось распорядка – приходило и уходило когда вздумается. Но справа записи велись изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год – Гилмор, если не считать пристрастия к спиртному, был человеком аккуратным. "Странный священник, – раздумывал он, глядя на пламя свечи, – очень странный… Может, и не священник вовсе; те имя Господа поминают через раз, и всякий молебен у них заканчивается как положено, с благодарности дону Хайме-Якову, чей департамент покровительствует церкви. А этот о доне Хайме – ни полслова… И вообще о политике не говорит, ни о Думе, ни о бандеро, ни о донах, которых надобно поименно в воскресной службе называть, желая им всяческих благ… Не говорит, а только слушает! Странный поп… И обряды творит странные, будто в семинарии не обучался. Нарек младенца Николаем и в церковные книги занес, а имя то – запретное… Ну, не совсем запретное, скорее – не рекомендованное… Древнее имя, проклятое! Староста, дремучий человек, о том не ведает, не знает, как и родители младенца, а вот священник обязан знать: так звали последнего из вожаков донецких, преданного анафеме и распятого крокодильерами Абрат-Рикардо…" Прозвонил колокол, призывая на ужин, но Гилмор лишь поморщился с досадой. Два года он прожил на фазенде Ивана-Хуана и тут же столовался, но к пище привыкнуть не мог – слишком много мяса, жирного перченого мяса, от которого его временами тошнило. В кибуце – другая крайность: там кормили вареной брюквой да отрубями, и за пять месяцев он так отощал, что не мог ворочать мотыгой. Тем более после бичевания… Вздохнув, он погладил шрамы на боку и животе. Чего не Стерпишь ради идеи! Или по приказу… А если они сходятся, вместе, если приказ созвучен идее и подкреплен ею, то это уже пахнет фанатизмом… Но он не фанатик, нет! Он всегда ненавидел фанатиков – тех, кто обездолил его, лишил новой родины, закрыв Землю и развязав войну. И чем все кончилось? Множеством смертей, разрухой, бегством, обнищанием… Пусть это случилось в древности, не с ним, с далеким предком, он ощущал отчаяние и боль; когда они становились нестерпимыми, он пил. Пулька дарила забвение – пулька, стихи и мысль о том, что служит он благому делу. Хотя и недостойным способом… Возможно, брат Рикардо тоже служит?.. Но кому? На обезлюдевшей Земле не так уж много мест, где могут предложить такую службу… Собственно, три или четыре… И ни в одном из них не научат тому, что умеет брат Рикардо… Загадочная личность! Как он разделался с отморозками? Уехала сотня, вернулся один… Бог помог! И с людьми Кобелино тоже? Гилмор вспомнил трупы с аккуратными дырками между глаз, вспомнил, как выл Кобелино, вымаливая пощаду, и поежился. Да, брат Рикардо – страшный человек! Безжалостный, как дьявол! Может, дьявол и есть? Сам Люцифер из таинственных бездн преисподней… А таинственное так притягивает, так зачаровывает… Он сказал: ты нужен мне. Он сказал: вернемся в Рио. Он сказал: стань мне другом и не бойся, я сумею тебя защитить. Тебя и всех, кто поедет со мной без принуждения, добровольно… И добавил, ничего не объясняя: меня ждут в ином месте, а здесь мое служение закончено. Служение! Все-таки служение! И – закончено… Тут закончено… Староста согласился отпустить. Дремучий человек Иван-Хуан, но в сметке ему не откажешь… Прагматик и реалист, как все ранчеро… О чем подумает – не скажет, лишнего не спросит и все принимает как есть… Не было попа, была банда – платил, появился поп, и банде – конец; значит, надо платить попу. А теперь не будет ни банды, ни попа… Пожалуй, это самое лучшее – иначе каждый день придется задавать вопрос, как были убиты огибаловские… Страшный вопрос, если вдуматься! Вытащив тетрадь, Гилмор раскрыл ее, пересчитал чистые страницы и вздохнул. Их оставалось двадцать четыре, а исписанных и пронумерованных – около двухсот. Два с половиной года в Пустоши… Наверное, хватит, подумал он; наверное, можно уже вернуться и доложить о своих изысканиях и трудах. О брате Рикардо, самой ценной из всех находок… Но это являлось не единственной причиной. Тайна брата Рикардо манила, а голос его повторял: будь мне другом… будь мне другом, Мигель, и не бойся, не бойся… Он все-таки боялся, но любопытство пересиливало страх. Грешен, грешен, подумал он с улыбкой. Колокол снова прозвонил – персонально для Мигеля-Майкла Гилмора, который всякий раз опаздывал к столу. Зовут, надо идти, есть мясо, вдыхать его запах… Поморщившись, он встал, шагнул к порогу. Рио! Ах, Рио! Город у лазурных вод, под синеватой скалой форта… И хлеб, хлеб, который везут с аргентинских равнин… Много хлеба, белого, пышного, легкого, с поджаристой коркой… Он так стосковался по хлебу… Вот Путь Извилистого Оврага – внезапный, как трещина в земле, когда колеблет ее огнем из недр. Тянется щель, и на каждом шагу – повороты, завалы и ямы; и схватка будто извилистая трещина: удар внезапен, резок, и не поймешь, куда нацелены клинки и где поет секира, а где свистит копье. Из Поучений Чошнги КрепкорукогоЧасть II. ПУТЬ ИЗВИЛИСТОГО ОВРАГА
Глава 4
К Харбохе они подъехали в обеденный час, под мелким теплым дождиком, рябившим шоколадную речную гладь. Парана тут была широка и глубока; сотни рек и речушек струили в нее свои воды, а кое-где она разливалась большими овальными озерами – там, где на месте прибрежных городов когда-то зияли кратеры. Одно из таких озер путники миновали по дороге, и Саймон, задействовав свой браслет, узнал, что тут находился Росарио, крупный портовый центр, переброшенный, разумеется, на Южмерику. Километрах в двадцати от затопленного кратера река сужалась, и здесь ее пересекал Старый Мост – ржавая железная конструкция на гранитных быках, охраняемая фортом с земляными стенами. Под южной его стеной находилось низкое одноэтажное здание с ямой и воротом на вытоптанном пятачке – полицейский участок, или, по-местному, живодерня, где проводились казни и экзекуции. Из ямы тянуло смрадным запахом, а свисавшая с ворота цепь раскачивалась на ветру и гулко билась о кирпичный парапет. Рельсы двухколейки шли вдоль убогих городских окраин, мимо форта и полицейского участка, взбирались на мост и уходили в занавешенную туманами болотистую травянистую низину, стремясь к предгорьям Анд, к чилийским рудникам и оружейным заводам Военного департамента – иными словами, к вотчине «штыков». Что касается Харбохи, то ее, по словам Кобелино, «держали» «крокодильеры» и «торпеды»; первые занимались поставками мяса и кож, прерогативой вторых были речные перевозки. Разумеется, у прочих кланов тоже имелся тут свой интерес – так, все городские увеселительные заведения состояли под покровительством «плащей», а вертухаи, стражи порядка, подчинялись, дону-протектору, наместнику смоленских. Путники остановили лошадей, не доезжая форта, и Саймон, морщась и стараясь не принюхиваться к смраду, исходившему от ямы, взглянул на мост и порожденный им город. Слева, вдоль речного берега, тянулись складские сараи и причалы из потемневших бревен, а около них, в воде – плоты, груженные бочками и мешками, баркасы и неуклюжие парусники, среди которых затерялись два колесных парохода. За причалами и сараями шла грязная улица со сточными канавами по краям, обстроенная двух– и трехэтажными домами – когда-то белыми, а сейчас посеревшими, с дождевыми потеками на стенах. Эти строения были явно нежилыми – тут и там виднелись облупленные вывески, и ветер доносил запахи жареного мяса, рыбы и смутный гул людских голосов. Город располагался правее – хаос узких улочек и все тех же серых домов, над которыми торчали церковные купола и башня над; резиденцией дона-протектора. Все тонуло в жирной черной с грязи; местность была болотистой, улицы – немощеными, а дождь в этих краях шел триста дней в году. В остальное время, он сменялся ливнем. Разглядывая этот пейзаж, Саймон угрюмо хмурился. В Пустоши – пыль, убожество, тут – убожество и грязь, и то же самое – по дороге, смешанное в равных пропорциях… Не Земля, тень Земли! Он повернулся к мосту. Там, за серой пеленой дождя, медленно полз паровик с высокой трубой, тащивший платформы, набитые вооруженными людьми, и бронированный вагон с парой орудийных башен. На крыше вагона сидели солдаты в шлемах и промокших накидках и еще какие-то молодцы в шляпах размером с тележное колесо. – «Крокодильеры» и «штыки», – пробормотал Кобелино, вытерев мокрое лицо и сплюнув. Он, как и покойный Огибалов, когда-то принадлежал к «плащам», ходил в охранниках-вышибалах и не любил «крокодильеров» и «штыков». С ними были вечные хлопоты: пили они крепко, а расплачивались туго. – Драпают, – произнес Пашка-Пабло, ухмыляясь до ушей. – Видать, гаучо надрали им задницы! Филин, по своему обыкновению, молча кивнул, поглаживая приклад карабина, но Майкл-Мигель, единственный безоружный в их пятерке, бросил на Кобелино неприязненный взгляд и с сомнением прищурился. – Я полагаю, кто кого надрал – вопрос договоренности, – заметил он. – Гаучо нам нужны, чтоб было с кем сцепиться, когда придет охота кровь пустить, а мы необходимы гаучо, чтоб было кого пограбить. И все это, друг Проказа, называется взаимовыгодным политическим соглашением. Саймон ничего не сказал, но про себя согласился с Гилмором. Он уже выяснил на личном опыте, что гаучо – отнюдь не благородные повстанцы, а бандитский клан, такой же, как остальные местные бандеро, со своими паханами и буграми, а также особой специализацией. Вот уже полтора столетия гаучо числились в диссидентах, но их вожди, последним из коих был дон Федор-Фидель, в сущности, возглавляли один из штатных департаментов – Бунтов и Мятежей. – Поедем? – Взгляд темных влажных глаз Кобелино обратился к Саймону. -Мне тут такое местечко известно, хозяин! Зовется «Парадиз», крыша – веником, зато чикиты первосортные, на разноцветных простынях, пива – залейся, и крокодильи хвосты подают, копченые и тушеные… Друг мой там в вышибалах, Валека… Выпьем, попрыгаем на девочках, а заодно и обсохнем… Годится, хозяин? Кобелино звал Саймона хозяином, и никак иначе. Такой была давняя традиция среди кланов, да и прочего населения ФРБ: раз сильный, значит – хозяин. Большой хозяин – дон, хозяева помельче – паханы и паханито, они же – бригадиры-бугры… Сильный был прав в любой ситуации, ему принадлежали власть, богатство и человеческие судьбы; он мог отнять жизнь и мог ее подарить – так, как Саймон подарил жизнь Кобелино, сделавшись его хозяином. Но не навеки, не навсегда, а лишь до той поры, пока не встретится другой хозяин, посильнее. Что касается Пашки, Филина и Мигеля, они по-прежнему звали его братом Рикардо, но слово «брат» имело совсем иной оттенок, тот первоначальный смысл, лишенный религиозности и означавший самую тесную близость среди мужчин. Для Пашки и Филина он был братом-вождем, имевшим некие загадочные цели, о коих нельзя расспрашивать – да и не стоит, поскольку вождю лучше известно, что плохо и что хорошо. Они шли за ним, они сражались рядом и были готовы умереть – как в тот раз, на переправе через Рио-Негро, когда на них напали «черные клинки», и в другой, когда за ними увязались гаучо, и в третий, и в четвертый… Их верность не подлежала сомнению; в отличие от Кобелино они считали, что брат Рикардо – самый сильный, и если б встретился сильнейший, не стали б выбирать между гибелью и предательством. Для Мигеля Ричард Саймон являлся ангелом с небес и звездным братом-сессией. Только Мигелю открылась частица тайны, а он – поэт, искатель истин и романтик – умел ценить доверие. И в свою очередь верил безоглядно, не требуя от Саймона ни чудес, ни вещественных артефактов или иных доказательств его галактического происхождения. Мигель уверовал сразу и полностью – в ту ночь, когда они, отбившись от «черных клинков», стали лагерем за Рио-Негро – за Негритянской рекой, как ее теперь называли. Саймону пришлось стрелять – не из карабина, из «рейнджера», так как клинков оказалось десятка четыре и двигались они подобно загонщикам, редкой широкой цепью, которую фризером не накроешь. Он перебил их всех с помощью Пашки и Филина, при скромном участии Кобелино, а после, когда его бойцы уснули, открылся Мигелю. Не мог не открыться: Гилмор так смотрел… Как на святого Георгия с огненной пикой, усмирителя чудовищ… Это было трогательно и вызывало симпатию – почти такую же, какую Саймон ощутил однажды, встретив в джунглях Тида маленького охотника Ноабу. Гилмор не был охотником и, кроме цвета кожи, ничем не походил на Ноабу, однако интуиция шептала, что этот человек неглуп и честен, что он не обманет и не предаст. А значит, он являлся вполне реальным кандидатом на роль помощника, который знает истину и потому способен предостеречь от просчетов и ошибок. Но, как говорил Чочинга, не накормив кобылу, не получишь молока. Его Поучение являлось несомненно правильным, подходившим и для людей, и для тайят; теперь Саймон мог доить молоко, однако кобылка тоже требовала пищи. Вопросы, вопросы, вопросы, сотни вопросов… Впрочем, сводились они к одному: как там у вас, среди звезд? Паровик с платформами прогрохотал мимо форта, Саймон кивнул Кобелино – веди, мол! – и тронул повод. Его жеребец потрусил неспешной рысью, увязая копытами в грязи и мотая головой – дождь, мелкий, но непрерывный, заливал глаза. Непогода не вызывала раздражения у Саймона, но все же он не мог избавиться от тягостного чувства, что обстоятельства довлеют над ним, что этот мир диктует ему свою волю, заставляя вести себя так, а не иначе. Главным образом это касалось маршрута: Рио-де-Новембе лежал к северо-востоку от Пустоши, на океанских берегах, а путники двигались сейчас на запад, к Паране, совершая вынужденный объезд. Прямая дорога была перекрыта: от Рио-Негро до Игуасу, притока Параны, тянулись владения «черных клинков», бывшие бразильские провинции Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Ка-тарина. Там, после воздействия трансгрессора, произошли подвижки земной коры, континентальный щит треснул, и в результате вскрылись жилы с углем и сотни кратеров, больших и малых, затопила нефть. Теперь этот район, называвшийся Разломом, стал неиссякаемым источником топлива, а им в ФРБ занимались «черные клинки», самый замкнутый и недоступный из всех кланов – в него вербовали бразильцев, не бразильян. О Разломе ходили жутковатые легенды, ибо дон Эйсебио Пименталь, возглавлявший «клинков», а заодно и Топливный департамент, считался весьма жестоким человеком. К тому же белых он не любил и на свою территорию не допускал – как, впрочем, и подозрительных черных вроде Мигеля Гилмора. Те и другие могли попасть в его земли лишь в качестве рабов, приставленных к насосам у нефтяных озер и к вагонеткам в шахтах. За спиной Саймона неугомонный Проказа допрашивал Кобелино: ему хотелось знать расценки на девочек в «Парадизе» и почему их предлагают на разноцветных простынях. Для соблазнительного контраста, объяснял Кобелино: белых чикиток – на синих простынках с голубыми бантиками, а темнокожих – на розовых с алыми. – А ежели двух сразу? – допытывался Пашка. – Тогда, – отвечал Кобелино, – простынки будут полосатыми или в горошек, как пожелает клиент, и с бантиками двух цветов. – А где эти бантики вяжут? – любопытствовал Пашка. – По краям простынок, – хихикал Кобелино, – но если припрется парень с Пустоши с песюками, привяжут где угодно, хоть на яйца, хоть на член. – На члене нам украшение ни к чему, – возражал Пашка, – а вот насчет яиц надо бы подумать – только не своих, а кобелиных. Это ведь какое диво – кобель с алым бантом на яйцах! Не жалко и денег заплатить! Деньги у Саймона были – староста Семибратов отдал ему все, что нашлось при огибаловских, и еще добавил сотню песюков. А также выдал бумагу, где сообщалось, что пять уроженцев Семибратовки, люди трудолюбивые, способные к различным ремеслам, следуют в Рио, дабы попытать удачи в городских занятиях и промыслах. Иными словами, сшибить деньгу, а коль повезет, пристроиться «шестерками» в одном из столичных бандеро. Эта подорожная была заверена в живодерне Дураса, но пока что Саймону не пригодилась – «клинки» и гаучо бумаг с него не спрашивали, а сразу принимались стрелять. Путники миновали площадку с ямой и воротом, обогнули форт с земляными стенами, перебрались через рельсы и двинулись шагом по улице – той самой, что тянулась вдоль причалов. Выглядела она странно: лавки, кабаки и увеселительные заведения были пустынными, как и сам утопавший в грязи проезд, зато на пирсах, плотах и палубах кораблей сновало множество народа. Саймону показалось, что люди торопятся из последних сил, затаскивая бочки и мешки, хватаясь за весла и разворачивая паруса; четыре суденышка отплыли на его глазах, а колесные пароходы дымили и пускали искры из труб, словно в топках их бушевало адское пламя. Дождь ненадолго прекратился, сизые тучи разошлись, и мутно-шоколадную речную поверхность озарили золотистые сполохи. Где-то справа, за домами, басовито прогудел паровик, пароходы пронзительно откликнулись и отвалили от пирсов, загребая против течения. Саймон вытер ладонью мокрое лицо и втянул ноздрями воздух. Пахло углем и смолой, рыбой, гниющими фруктами и чем-то еще, знакомым и приятным. – Мясо, – пробормотал Филин. – Мясо и выпивка. – Точно, – кивнул Кобелино. – Нам туда! Он направился к неказистому двухэтажному строению с верандой, тянувшейся вдоль фасада, и вывеской: «Парадиз Приют любви». Вывеску украшал силуэт в темном плаще, перила веранды казались прочными, заменявшими коновязь, а вот крыша и в самом деле была веником – из растрепанного мокрого тростника. Пашке тут же захотелось знать, отчего поскупились на черепицу, и Кобелино объяснил, что строиться надежнее смысла нет – все будет разгромлено и сожжено. – Сожжено? – удивился Пашка. – При таких-то дождях? – А керосин зачем? – резонно ответил Кобелино и спрыгнул с лошади. Спешившись, они вошли в дом, в обширное помещение, занимавшее, видимо, весь первый этаж. Тут оказалось на р удивление чисто и уютно: стены покрашены розовым и голубым, пол выскоблен, окна – в полосатых шторах, всюду керосиновые лампы – стеклянные, под бронзовыми абажурами, в одном углу – рояль, в другом – ведущая наверх лестница, а между ними – широкие мягкие диваны и низкие столики. Заднюю стену обрамляла стойка, у которой скучали полдюжины девиц и коренастый крепкий мужчина с дубинкой у пояса. За стойкой виднелась распахнутая дверь – вероятно, на кухню, а по обе ее стороны громоздились бочки с пивом. Помимо них, имелся еще буфет, заставленный бутылками, флягами, штофами и кувшинами. В воздухе витали соблазнительные запахи скорого обеда. Филин громко сглотнул слюну. – Пиво! И мясо! – Крокодильи хвосты! И девочки! – поддержал его Пашка-Пабло. – Только вот, тапирий блин, простынок не вижу. – Наверху простынки, в номерах, – пояснил Кобелино и направился к коренастому обниматься. Вероятно, он был знаком и с девушками – увидев его, они вскочили и заметались вокруг, визжа от радости. Кобелино, красавец мулат, обычно внушал слабому полу необоримое восхищение, так как отличался опытом в делах амурных и приятной внешностью: нежная кожа цвета кофе с молоком, темные страстные очи, брови вразлет, кудри до плеч и маленькие щеголеватые усики над верхней губой. Женщины его любили, а он обожал женщин, за что и поплатился – был изгнан из клана «плащей» после какой-то темной истории с любовницей Монтальвана. Девушку утопили, а соблазнитель, посягнувший на хозяйское, чуть не сделался евнухом, но как-то он искупил свой грех. Каким в точности способом, Саймон мог лишь догадываться, предположив, по намекам мулата, что дон Антонио Монтальван неравнодушен как к женской, так и к мужской красоте. От стойки, сквозь визг и хихиканье девушек, доносилось: – Валека, дружбан! – Кобель, черт тебя побери! – Сукин ты сын! Живой, гадюка! Гладкий! – Ублюдок! А я уж думал, тебя навечно в Пустошь закатали! – Закатали, а нынче раскатали… как тапирий блин… – Отметим? – Еще бы! Пиво не прокисло? – Прокисшего не держим. Вот только… – Коренастый склонился к Кобелино и что-то зашептал ему, посматривая на дверь. Саймон поймал одну из девиц, кареглазую смуглянку, пощекотал за ушком и распорядился: – Мяса и пива, красавица. – И музыку! – потребовал Пашка, ткнув пальцем в рояль. – Еще лепешек, но не маисовых, а из настоящей муки. Есть у вас лепешки? – Гилмор покосился на дверь, ведущую в кухню. – Есть все, что пожелают кабальеро, и даже больше. – Смуглянка разглядела Саймона, и глазки ее блеснули. – О! Какой красивый дон! Какой высокий! Только очень мокрый. Может, я вас переодену? – Она стрельнула глазками в сторону лестницы. – Потом, – сказал Саймон, сбрасывая плащ. – А сейчас – мясо, пиво, хлеб и музыку. – Лучше бы потише, хозяин, без музыки, – заметил Кобелино, укладываясь на диван. – Валека говорит, что в городе крокодильеры. Чертова пропасть крокодильеров! Тысяча или две. А новых все везут и везут… С пампасов, из-за Парашки. – И что же? – Саймон пристроил рядом с плащом сумку, мачете в ножнах и трофейный карабин с серебряным ягуаром. Проказа с Филином тоже начали разоружаться, поглядывая на бочки с пивом и девушек и будто бы выбирая, с чего начать. – Это не местные, хозяин, это те, что за Парашку ходили, на гаучо, в помощь «штыкам». Теперь вернулись. Злые! Может, начнут город громить. «Торпеды» уже смываются – видел, там, у пирсов? Засуетились… Да только весь товар им не вывезти. Тут еще склады с углем и керосином… Саймон сел, плеснул пива в высокую стеклянную кружку и потребовал детальных объяснений. Дружбан Валека, он же – Валентине, оказался парнем информированным; со слов его получалось, что с месяц назад изловили в городе трех лазутчиков Фиделя – то ли они собирались мост подорвать, то ли дона-протектора пришить, однако не вышло. Лазутчиков, само собой, отдали крокодавам, на ферму – чего ж добром разбрасываться, когда зверюшки не кормлены! – и тут же объявили поход на гаучо. Дон Алекс прислал карабинеров и драгун, а дон Хорхе – своих людей, не меньше, чем у «штыков»; и все они двинулись в пампасы, где одержали славную победу. Только потом пришлось отступить: в снабжении перебои, патронов и мяса нет, денег – тоже, без денег «торпеды» груз не везут – а как обойдешься без их кораблей и угля из Разлома? У гаучо, на удивление, всего хватало, и мяса, и патронов… И кто им только ворожит? Не дон ли Хосе Трясунчик из департамента Водного Транспорта? Ежели так, то обозленные крокодильеры могут помять «торпед», а заодно и всех, кто обитает у реки, кормясь честным промыслом… Под эту историю Саймон выпил пива, доел жаркое из крокодильего хвоста и решил, что ночь они проведут в «Парадизе». Надвигались сумерки; небо снова хмурилось, река потемнела, заморосил нудный мелкий дождь, и по улице, смывая следы копыт, потекли бурые ручьи. А здесь было сухо, тихо, спокойно… Коренастый Валека, поигрывая дубинкой, маячил у дверей, Гилмор дремал над блюдом с лепешками, на коленях у Филина сидела пышная русоволосая красотка, Пашка шептался с другой, темнокожей и гибкой, словно лоза, а Кобелино пристроился сразу к двум, с видом ценителя поглаживая девушкам груди и прочие округлости. Смуглянка строила Саймону глазки и все кивала на лестницу, ведущую к мягким постелям и разноцветным простыням. «Какую она стелит, синюю или розовую?» – мелькнуло у Саймона в голове. Но сегодня ему хотелось поспать на белой и в полном одиночестве. Он встал, бросил коренастому пару монет и велел расседлать лошадей; потом взвалил на плечо карабин с сумкой – в ней лежали маяк, «рейнджер» и прочее его имущество -и направился к лестнице. Смуглянка тут же метнулась следом, но Саймон сделал строгие глаза и покачал головой. Он взял бы эту девушку, если б все меж ними свершилось по любви или хотя бы в силу естественного тяготения меж женщиной и мужчиной, когда за поцелуй рассчитываются поцелуем, за наслаждение – наслаждением. Но мысль о любви продажной, любви-профессии, была ему мерзка; этот человеческий порок оставался неведомым в Левобережье Тайяхата. Наверху тянулся коридор с десятком дверей, украшенный большими стеклянными лампами, от которых пахло керосином, и фривольными картинками на стенах; их было пять или шесть, и под одной белел листок бумаги. Саймон подошел, наклонился, прочитал. Меню… Прейскурант… Ценник любви… За час – монета, ночь – пять песюков, прибавка за оральный секс и прочие изыски. Еще одна запись и штамп Медицинского департамента: все девушки здоровы. Предупреждение клиентам: рассчитываться с кабальеро Валентине, чикитам денег не давать… Список девушек с какими-то пометками: Анита, Клара, Инесса, Джулия… Всего двенадцать имен в двух рабочих сменах. – Широки врата и пространен путь, ведущий несчастных в ад, – со злостью пробормотал Саймон и распахнул ногой ближайшую дверь. Комната была маленькой и чистой, с окном, выходившим на реку, кровать – с самыми обычными простынями. Он прислонил карабин к изголовью, снял башмаки и лег, вытянувшись во весь рост. Странное чувствовдруг охватило его – ощущение, что этой ночью произойдет что-то важное, что-то такое, чего еще не случалось с ним; важное для него, не для порученной миссии, не для Земли и Разъединенных Миров. Наставник учил его доверять предчувствиям, ибо, по мнению тай, они позволяли предугадать удачные и неудачные дни – а неудачный день в тайятских лесах грозил смертью. И потому Саймон пытался разобраться с этим странным ощущением – вернее, прислушаться к нему, как слушает охотник шорох листвы под мягкой поступью зверя. Неясность… Неопределенность… Что-то смутное, зыбкое, неожиданное, как поворот извилистого оврага, но не опасное… Нечто такое, что может случиться в реальности или мелькнуть, как сон, оставив щемящее душу воспоминание, – то ли было, то ли не было, то ли могло бы быть… Саймон вздохнул и закрыл глаза. Еще немного, и он узнает, если не ошибется, не пропустит нужного поворота… Еще немного… Он спал.***
Грохот. Выстрелы. Крики. Звон разбитого стекла. Ржание лошадей. Грубые, уверенные голоса, пьяный хохот, пронзительный женский визг… Саймон очнулся за миг до этой какофонии, будто его толкнули в спину; мысль – началось! – мелькнула и тут же погасла. Нет, не началось, ничего не началось, он знал это твердо; шум, топот и вопли не были связаны с ощущением, охватившим его, когда он погружался в сон. То – загадочное, туманное предчувствие – требовало не действий, а ожидания и выбора; это – реальное, зримое, сиюминутное – являлось не поводом для размышлений, а фактом. Угрозой, с которой он мог и должен был справиться. Он поднялся, натянул башмаки, передернул затвор карабинa – серебряный ягуар, впечатанный в приклад, грозно скалил пасть. Потом прихватил сумку и подошел к окну. Слева, над пирсами и сараями, вставало огненное зарево; оттуда доносились яростные крики, брань, выстрелы, звон клинков, вопли раненых и плеск – кто-то падал в реку, мертвый или еще живой, искал спасения в водах Параны, но находил одну лишь смерть. Пылали склады, а также парусники и плоты, не успевшие отплыть, груженные чем-то горючим – возможно, бочками мазута, так как огненные языки обрамляло жирное черное облако копоти. На фоне пылающей рыжей стены метались фигуры в огромных шляпах, размахивали клинками, вопили, хохотали, оттесняя к воде редкую цепочку защитников – полуголых, израненных, перемазанных сажей. Крокодильеры сцепились с «торпедами», понял Саймон. Приглядевшись, он заметил всадников в дальнем конце улицы, человек тридцать в синем; каждый держал на сгибе руки карабин. Они, однако, не стреляли, а лишь следили в полном спокойствии за схваткой и пожаром – точно так же, как полицейские в Дурасе в день гибели Хряща. На миг это ошеломило Саймона; ему казалось странным, что люди в униформе – значит, облеченные властью! – не пресекают кровавого хаоса. Чудовищно, нелепо! Необъяснимая аномалия! Бездействующие стражи порядка! Но таковыми, очевидно, они являлись лишь в его воображении. Реальность была проще и грубей: два бандитских клана сводили счеты, а третий наблюдал за ними в качестве зрителя или судьи. Внизу послышался звон стекла, рев и гогот – люди в широкополых шляпах столпились на веранде, кто-то высаживал окно, кто-то колотился в дверь, кто-то давал советы, а кто-то орал, требуя девочек, пива и пульки. В коридоре, за спиною Саймона, тоже раздался шум и топот, потом – чей-то крик, видимо, Кобелино: «Хозяин! Крокодильеры! Проснись, хозяин!» – Давно проснулся, – буркнул Саймон, и в эту секунду дверь рухнула под напором десятка молодцов. Теперь рев и гогот доносились прямо из-под ног, с первого этажа; к ним прибавились вопли женщин, грохот переворачиваемых столов и жалобный звон рояля. Бесшумно ступая, Саймон покинул комнату, миновал коридор, добрался до лестницы и застыл, прижавшись к стене на верхней ступеньке и осматривая зал. Дверь и окна были выбиты, под одним из окон, в груде стекла, валялись карабины, дождь барабанил в подоконники, а ветер врывался в комнату, заставляя трепетать алые язычки керосиновых ламп. Внизу шла битва, и была она в полном разгаре. Пашка, загнанный в угол, рубился с двумя бандитами; у ног его ничком лежал Мигель – мертвый или без сознания. Еще двое с остервенением били Валеку, только кулаки мелькали – правда, и коренастый не уступал, оборонялся, как мог, прикрывая живот и лицо. Посреди зала, вперемешку с изломанными столами и диванами, громоздилась куча тел, пять или шесть; из-под них слышалось яростное сопение Филина, а его противники, дергая ногами, орали и подавали друг другу советы: «Глотку дави. Койот!.. Да не мою, зараза!» – «Под дых его, под дых!..» – «По яйцам врежь!» – «Держи! Я щас его достану!» В самом бедственном положении пребывал Кобелино: его швырнули на пол и придавили столом, который держал за ножки крепкий бородатый молодец; еще один, нагой по пояс, с чудовищным шрамом на боку, с двумя кобурами на ремнях, спускал штаны. Прочим женщины были милее мужчин, и они с ревом и хохотом гонялись за перепуганными девушками. Смуглянку, строившую глазки Саймону, уже поймали и разложили на крышке рояля. Он видел ее обнаженные бедра, лицо с прикушенной губой и руку, которой она отталкивала насильника. «Отлично, – подумал Саймон, – все заняты, все при деле». Сняв сумку со своим снаряжением, он аккуратно пристроил ее у стены, потом двинулся вниз по лестнице. Двое в огромных шляпах поднимались ему навстречу; из-под широких полей торчали бороды и вислые усы, мочка уха с подвешенным колокольчиком, темная сальная прядь волос. Один из бандитов расставил руки, словно желая поймать Саймона в объятия, другой потянулся к поясу с ножом. – Ха, какая птичка прилетела! – проворковал тот, что с колокольчиком. – Снимай штаны, голубок, иди к нам, и будет тебе весело и хорошо. Крокодильеры гуляют! Его приятель не был таким доверчивым: – Слышь, Соленый! Не похож этот бычара на голубка. Больно здоров! Ты кто? – Он выставил перед собою нож. – Сам дьявол, – ответил Саймон, ударив его прикладом виску. Другой бандит отшатнулся, но не успел достать оружие: ствол карабина подпер его челюсть, плюнул огнем, и мертвое тело скатилось вниз по лестнице. Саймон снял еще четверых – столько, сколько было патронов в обойме; стрелял быстро, но метко, целясь между глаз наблюдая, как после каждого выстрела выплескивается фонтанчик крови. Эти четверо ловили девушек, а остальных было надежнее взять клинком или рукой, чтобы своих не покалечить. Саймон вытащил нож и перепрыгнул через перила. Пашка первым нуждался в помощи – его не били, не насиловали, а убивали. На щеке и плече Проказы уже алела кровь, дыхание стало тяжким, прерывистым; двое наседавших на него были крепкими парнями, и в их повадке, в том, как они орудовали мачете, ощущался немалый опыт. Саймон ткнул одного ножом – резкий удар под левую лопатку, когда клинок рассекает сердце; другому просто свернул шею. – Что с Мигелем? Убит? – Живой, брат Рикардо… – Пашка судорожно глотал воздух. – Живой… Ударило его… дверью ударило… когда вышибали… – Хорошо. Разберись с этими, – велел он Пашке, кивая на груду тел на полу. – Только Филина не порань. Бей острием в позвоночник. Проказа кивнул, отирая пот и кровь с лица. Его рыжие волосы слиплись и прядями свисали на лоб, глаза стали совсем бешеные – как у тайятского саблезубого кабана, который идет в атаку. Саймон погрозил ему пальцем: – Спокойнее, парень. Выбирай, куда ударить, коли между позвонков. Не убьешь, так выведешь из строя. Потом прикончим. Он повернулся, в четыре прыжка пересек зал, ухватил за волосы бандита, лежавшего на смуглянке, резко отогнул голову к лопаткам и сбросил мертвое тело на пол. Бородач и его напарник с револьверами и шрамом только раскрыли рты – видимо, им показалось, что в комнате смерч пролетел или мигнули лампы под резким порывом ветра. Саймон скользнул к этой парочке, нанес два удара ножом, подхватил револьверную кобуру и сдвинул стол. Кобелино поднялся. – Твой должник, хозяин, – пробормотал он, подтягивая штаны. – Ты мою задницу спас. А может, и глотку. Саймон пошевелил ногой тело бандита со шрамом: – Кто его так? – Известно кто – зверюшки! Кайманы! На фермах мне бывать не доводилось, а только я слышал, что твари там очень шустрые… У половины крокодильеров пальцев не хватает или мясца на ляжке… Ничего, живы-здоровы! – Только не этот, – заметил Саймон, осматривая зал. Куча в центре комнаты распалась: Филин сидел на пятках, щупая окровавленный нос, один из его противников стонал и извивался на полу, словно змея с перебитым хребтом, другие шарили у поясов, рвали оружие из кобур, но Пашка не дремал – оскалив зубы, размахивал мачете, стараясь оттеснить их и подобраться к сваленным под окном карабинам. Двое, дубасившие коренастого, остановились и озирались в недоумении; вроде был кабак как кабак, а теперь похож на кладбище, было написано на их лицах. Девушки спрятались под лестницей; наверное, знали, что в таких битвах после клинков и кулаков начинают свистеть пули. Это было неизбежно, как солнечный восход, и Саймон не собирался медлить. Он вскинул револьвер – почти такой же, как у покойного Огибалова, большой, массивный, только без перламутровых накладок; видимо, это оружие являлось в ФРБ стандартным. Рукоять прочно лежала в ладони, донышки гильз светились, как золотые монетки в набитом до отказа барабане. Грохнул выстрел, потянуло едким запахом пороха, потом – еще и еще… Саймон упал, стремительно перекатился, нажимая курок; пули буравили воздух над его головой, вонзались в стены, с пронзительным звоном раскалывали бутылки. Один из выстрелов продырявил пивной бочонок, и бурая пенная струйка хлынула на пол, потекла, добралась до мертвого тела и смешалась с кровью. Наступила тишина. Саймон поднялся и спустил курок в последний раз, добив бандита с перерубленным позвоночником. Теперь в комнате лежали девятнадцать трупов. Коренастый, приятель Кобелино, ощупывая разбитое лицо, пробормотал: – Как ты их… всех… Вот и погуляли, крокодилы в шляпах… размялись… подрались… – Я не дерусь, я убиваю, – сказал Саймон. – Драка – занятие для дилетантов. – Он повернулся к Пашке: – Бери Филина, и седлайте лошадей! Мы уезжаем. – Вот это правильно, хозяин, – одобрил Кобелино. – Пива выпили, девочек приласкали, да и не только девочек… Пора сматывать! Он еще что-то бормотал, но Саймон уже склонился над Майклом-Мигелем, глядевшим в потолок стеклянными глазами. Лоб его был залит кровью. – Ты в порядке? Ехать можешь? – Да. Я, несомненно, в порядке. В полном порядке, – прошептал Мигель, пытаясь сесть. Потом спросил: – Что это было? – Дверь. Большая тяжелая дверь, которой ты попался по дороге. Чуть не вышибла из тебя дух. – Дух? Мой дух при мне. Вот только… – Ощупав лоб, Гилмор слабо усмехнулся и что-то забормотал. Саймону послышалось: – Моя душа – как остров в жизни торопливой… – Любопытная мысль, – согласился Саймон и помог Мигелю подняться.***
Через двадцать минут они были уже за городом, на утопавшей в грязи дороге, среди потока беженцев. Дождь продолжал моросить, но это не помешало пожарам: всю приречную сторону Харбохи объял огонь, склады с жидким топливом пылали, сараи с углем выстреливали длинные синие столбы пламени, по реке плыли трупы и обугленные корабли, на улицах тут и там занималось алое зарево, подбираясь к церковным куполам и резиденции дона-протектора, и только мост и форт при нем были тихи и молчаливы. Мост, построенный четыре столетия назад, перевидал всякое и теперь с философским равнодушием занимался своей работой: подпирал рельсы железным плечом. Форт был не так древен, но столь же равнодушен и угрюм; он защищал мост, а не город, не людей, а рельсы, балки, пролеты, опорные столбы. Люди его не занимали; в раскладе векового пасьянса люди являлись лишь «шестерками», пусть многочисленными и необходимыми, но все же самой последней картой в колоде. Людской поток струился по болотистой равнине, полз медленной темной змеей под ночным небом, увлекая Саймона. Спутники его молчали; Мигель совсем сник и еле держался в седле, временами ощупывая забинтованную голову. Их кони не успели отдохнуть и плелись теперь шагом, нога за ногу; впрочем, они не сумели бы двигаться быстрее среди телег и фургонов, мулов и лошадей, конных и пеших, запрудивших Восточный тракт. Эти люди – мужчины и женщины с детьми, дети постарше, подростки, старики – не относились ни к какому клану; они просто были горожанами Харбохи, спасавшимися от насилия и огня. Они шли и ехали под моросящим мелким дождем, подавленные и хмурые, и Саймон лишь иногда ловил обрывки фраз: «снова сцепились, как бешеные псы…» – «подвесить бы их над ямой…» – «гуляют… веселятся… сучьи дети…» – «а что протектор?..» – « а ничего… в форт укрылся…» – «плати им, плати… „белое“ плати, „черное“ плати, а как до дела дойдет…» – «вернемся… не плачь, малышка, они уйдут, и мы вернемся…» – «сколько можно… в который раз…» – «Бог терпел и нам велел…» «Извечная ситуация, – подумал Саймон, – так повелось всегда и всюду на Земле,, еще с тех времен, когда ее не называли Старой. Войско шло в поход, кампания была победоносной, потом что-то случалось, и солдаты маршировали к своим границам – не побежденные и не победители, без чести и славы, зато живые и полные сил. И злобные, как оголодавшие волки… Кто виноват, что им не достались трофеи и лавры? Предательство генералов, сговор правителей? Не генералы и правители были в ответе, а первый же город – собственный город, какой попадался навстречу волчьей орде. На нем срывали злость, его разоряли и жгли, пускали на поток, убивали мужчин, насиловали женщин…» В звездных мирах такое тоже бывало, однако не слишком часто. Конвенция Разъединения, принятая в 2023 году, в самом начале Исхода, когда ООН превратилась в Организацию Обособленных Наций, покончила с межгосударственными войнами. Всякий народ имел суверенное право устраивать путчи и мятежи, революции и гражданские войны, менять своих правителей мирным или немирным путем, награждать или хулить их, производить в герои и гении, вешать или коле-: совать – пока и поскольку все совершалось в одной стране, на ее территории, в пределах ее незыблемых границ. Но в случае внешней агрессии ООН посылала войска – Карательный Корпус, части которого дислоцировались во всех мирах, и прежде всего – на социально неустойчивых планетах, в Лат-мерике. Черной Африке, Уль Исламе и Аллах Акбаре. Если; войск ООН не хватало – хотя Саймону не удалось бы припо– мнить такого случая, – их могли поддержать высокоразвитые [планеты, гаранты Совета Безопасности – Колумбия и Россия, Европа и Китай, Сельджукия и Южмерика. Разъединенные в пространстве, они оставались едины в стремлении к .Порядку, стабильности и процветанию… Но на Земле, отрезанной от звездных человеческих миров, порядок и стабильность были сладким сном в реальности чу-Довищ. В преисподней, которой сделался этот мир по воле несговорчивых и алчных, жестоких и властолюбивых… Именно преисподней, во всех своих частях, подумал Саймон, вспоминая: «…клятие бляхи… спелись с мослами… орда… саранчуки, свинячьи рыла, татарськи биси… круг Харькива… почорнило од крови… слетати до руин Одесы… немаэ ничого… орда варварив… песьи хари… не ждать, ударить всей силой…» Поток людей, повозок и лошадей продолжал струиться по темной равнине, казавшейся Саймону преддверием ада. Но это был обычный тракт, только незамощеный и грязный, протянувшийся вдоль полотна железной дороги – ее насыпь виднелась южней, освещенная кое-где фонарями. Собственно, то были не фонари, а просто бочки с керосином и фитилем из пакли, расставленные через пару километров; цепочка таких огней тянулась от Харбохи до Сан-Ефросиньи, ближайшего городка, где железнодорожный путь сворачивал к северу, к границам Разлома, центральным провинциям и Парагвайскому протекторату. В Сан-Ефросинье стоял отряд драгун, и считалось, что город находится под «штыками», которые, в сравнении с крокодильерам и, были не столь круты. Жители Харбохи бежали туда едва ли не каждый год, пережидая лихое время в кибуцах и на окрестных фермах. Там было посуше, чем у речного берега, – рос картофель, а кое-где даже маис, которым откармливали тапиров. На повязке Мигеля проступили темные пятна, он застонал, и Саймон, придержав лошадь, с тревогой уставился на посеревшее лицо учителя. В глазах Гилмора мерцал отблеск пожарищ, бушевавших над Харбохой; скорчившись в седле, он что-то лихорадочно бормотал сухими губами. «Пройдет, как дым – я никогда не говорю… Наверно, должное хочу отдать огню…» Бредит, подумал Саймон и повернулся к Кобелино, единственному бывавшему в этих местах: – Далеко еще? Мигелю надо бы прилечь. Тот разгладил усики. – Земли хватает, можно прилечь. Можно и ямку выкопать, поглубже… – Поймав яростный взгляд Саймона, Кобелино сморщился и торопливо произнес: – А вот далеко ли – не знаю, хозяин. Спрошу. – Он оглядел шагавших и ехавших рядом людей и наклонился к щуплому подростку: – Эй, обмылок! До Фроськи еще сколько грязь месить? Парень испуганно шарахнулся, а вместо него ответил пожилой мужчина, сидевший на костлявой кляче: – Если таким ходом, кабальеро, будем к полудню. Да, к полудню, никак не раньше. – А скажи-ка мне, старый козел… – начал Кобелино, но Саймон оттеснил мулата в сторону. Ему не нравилось, когда с людьми беседуют в подобном тоне. – Ты из Харбохи, кабальеро? Как твое имя? – Оттуда, беспредел меня возьми… – вздохнул пожилой. – Но я не кабальеро, добрый господин. Ты – кабальеро, у тебя оружие и лошадка справная, а мы с сыном, – он кивнул на паренька, – из простых, кормимся у реки. Имя мое – Толян, а фамилие нам не положено, чтоб о себе не возомнили. Мы и не мним – грузим, разгружаем, когда работа есть… Нет работы – рыбку ловим. Не трогают – живем, бьют – бежим… – А почему ты не переедешь, Толян? В Ефросинью? – Там таких, как я, – воз с тележкой. Да и какая разница, господин? У нас – погромы, во Фроське – поборы. «Штыки» тоже свое берут! У них обычай таков: не платишь, отдай сына али дочь. А могут и так взять, если захочется. Слыхал я, схватили девчонку – красавица, говорят, плясунья или циркачка, вот ихний главный и пустил на нее слюну – схватили, значитца, и отвели к паханито. А девка – ни в какой! Упрямая попалась. Добром не взять, а силой главный их не мог – он, вишь, поспорил с кем-то, что девка сама в постель к нему прыгнет. Ну и… – И что? – спросил Саймон, холодея. Недавнее предчувствие опять кольнуло его – уже не смутное, а принявшее некую определенную форму. Возможно, связанную с девушкой, с этой плясуньей или циркачкой, про которую он слышал в первый раз. – Что? – переспросил Толян. – А ничего. Исчезла девка. Пропала! Убили или в Разлом продали, а может, крокодавам… Те все-таки ближе… – Если крокодавам, не жилец она, – усмехнулся Кобелино. Саймон велел ему заткнуться, потом спросил у пожилого: – Места эти знаешь, Толян? – Как не знать! К рассвету до Ромашек доберемся, поселок такой на двадцать домов, а дальше пойдут фермы да кибуцы. Мы с сыном – в кибуц, там руки завсегда нужны и от хребтин не откажутся, есть что на них взвалить. Перекантуемся с неделю, и домой. Эх, жизнь! Не жизнь, а хренотень пополам с дерьмом… Саймон бросил взгляд на Мигеля. До рассвета оставалось часа три, Гилмор еле держался в седле, и было яснее ясного: если он и доедет до этих Ромашек, так в состоянии полного беспамятства. Ему полагалось сейчас спать, а не трястись по грязной дороге под проливным дождем. – Поближе Ромашек есть жилье, отец? – Есть, как не быть! От этой дороги другая отходит, к реке и рыбачьей деревне, а там можно баркас нанять – большой, только лошади не влезут. Туда через час доберешься, вот только… – Толян сделал паузу, подумал и закончил: – Если доберешься вообще. – Что так? – Дорога-то мимо крокодильих затонов идет. Ферма там, а где ферма, там и эти, в шляпах… – Он описал широкий круг над головой. – Запросто можно не добраться. Поблагодарив, Саймон спросил, скоро ли развилка, и когда слева показался узкий грязный тракт, пришпорил жеребца и свернул к северо-западу. Его предчувствие становилось все сильнее и сильнее; он уже не сомневался, что должен здесь повернуть – даже в том случае, если их поджидает целый полк крокодильеров, оседлавших своих крокодилов. Пашка с Филином ехали позади, не возражая, не расспрашивая, придерживая Мигеля с двух сторон, а Кобелино, пустив лошадь рысью, нагнал Саймона. – Хозяин, а хозяин… Не стоило б к ферме соваться… Особенно в такую ночь… Обуют нас по первое число, будем до седых волос на животах ползать… Саймон взглянул на него. – Обуют? Это как понять? – Есть у них такое развлечение – не порешить человека вконец, а подвесить над прудом, чтобы зверюшки ноги отъели. Кому по колено, кому по яйца. Встречал я таких людей, рассказывали… – А что еще рассказывали? Сколько людей на ферме? Кто спит, кто караулит? Ходят ли в окрестностях патрули? – Этого не знаю, хозяин, не бывал я на их треклятых фермах. Лучше уж в Разлом попасть! Только думаю, что народа там немало. Сами крокодильеры – они зверюшек кормят да отстреливают, а еще работники их – мясники, коптильщики, возницы, дубильщики кож… Сотня-другая наберется. – Мы их не тронем, – сказал Саймон. – Мы – мирные ранчеро из Пустоши, едем в столицу подзаработать. Мы и в Харбохе-то не были, объехали стороной. – Думаешь, им это интересно? – буркнул мулат и отстал. Он был прав, но Саймона вело предчувствие. Ему говорили-и отец, и Наставник, и Дейв Уокер, и другие инструкторы, – что все в мире взаимосвязано, что события цепляются друг за друга, словно ветви с колючками, и что всякий свершившийся факт порождает множество следствий, которые тоже являются фактами, корнями ветвистых деревьев, приносящих самые неожиданные плоды. Он не раз убеждался, что это – истина. На Латмерике он не отрезал пальцев капитану Меле, и в Каторжном Мире Тида тот прострелил ему плечо; на Таити он познакомился с русской девушкой, разыскал ее в Москве, переспал с ней и опоздал на монорельс в Тулу, где мог погибнуть во время взрыва на Тульском Оружейном; в Басре он заключил пари, и следствием этого стала находка – диск с дневником Сергея Невлюдова, личности столь же таинственной, сколь легендарной. Иногда связь между такими событиями прослеживалась шаг за шагом и казалась закономерной, иногда закономерность подменяли случай, удача, везение, и Саймон не мог перебросить логический мост от одного факта к другому; но, так или иначе, связь существовала, и попытка разобраться в этом являлась самой занимательной из всех возможных игр. Например, сейчас: «Парадиз» – крокодильеры – Гилмор – необходимость отыскать жилье. Извилистый овраг! И что за новым его поворотом? Только ли рыбачья хижина да лодка, на которой они поплывут по Паране? – Гляди, хозяин, – сказал Кобелино, втянув носом воздух и брезгливо сморщившись. – Гляди! Вот там, по левую руку! В сотне шагов от них поблескивала мокрым антрацитом водная поверхность – еще не река, а озеро или большой пруд с едва заметными контурами пологих берегов. Пруд тянулся к северу, изгибаясь широким полукольцом и окаймляя полоску суши, ровную и низкую, с трех сторон окруженную водой. Саймон, видевший в темноте немногим хуже, чем в дневное время, мог различить там мостки и постройки с плоскими кровлями, сараи, заборы, решетчатую наблюдательную вышку и прикрытые навесами столбы – между ними что-то болталось, кажется, на веревках или шестах. От этого странного поселка тянуло мерзкими ароматами, дымом, вонью гниющих отбросов и кож, мокнущих в дубильных чанах. Этот букет был так силен, что перебивал запахи мокрой травы и почвы; чудилось, что в своих блужданиях путники набрели на свалку, торчавшую гнойником на болотистой плоской равнине. Один из навесов, озаренный тусклым светом факелов, располагался ближе к ним, метрах в тридцати – строение без стен, просто крыша на высоких кольях, между которыми подвесили балку. Балка была длинной и выдавалась над поверхностью воды, словно большое удилище; канат, свисавший с ее конца, подчеркивал сходство. На этом канате болтался невод или сеть, а в нем – что-то темное, извивающееся, как червяк, – то ли приманка, то ли огромная рыбина, которую собирались вытащить на берег. Под этим сетчатым мешком вода будто кипела, и в ней временами мелькали разверстые пасти и бурые чешуйчатые тела. – Тапирье дерьмо! – пробормотал Пашка. – Это что ж они делают, заразы? Рыбку ловят? Сетью? Подманивают на факелы? Ну-у, ловкачи! – Не рыба там, – мрачно заметил мулат. – Нам бы в такую рыбешку не превратиться… Поехали отсюда, хозяин! Быстрей! – Езжайте, – распорядился Саймон. – Езжайте, я вас догоню. Предчувствия одолевали его с прежней силой, будто невидимая ладонь толкала к этому сараю у зловонного пруда и к человеку, что корчился в мешке. – Но ты, хозяин… Пашка ткнул Кобелино в бок кулаком. – Оглох, прохиндей? Брат Рикардо велел, чтоб ехали. Вот и погоняй свою клячу! Иль подсобить? Саймон проводил их взглядом, потом свернул к навесу. Размокшая земля глухо чавкала под копытами, но дождь перестал и тучи разошлись, выпустив на небеса луну. От нее по озеру побежала дорожка – будто серебристый мост, соединивший западный берег с восточным, где стоял сарай. Под этим светом тела кайманов, мельтешивших в воде, обрели пугающую реальность, сделались выпуклыми, объемными; их было пять или шесть, они кружили под мешком, иногда задирая длинные хищные морды, и тогда Саймон слышал лязг челюстей. Сетка начинала тут же дрожать и раскачиваться, будто окутанный ею человек в смертном ужасе поджимал ноги, скрючивался, стремился вверх, цепляясь за канат. Саймона заметили – темная фигура в широкой шляпе выступила навстречу, и хриплый бас пророкотал: – Кого черти несут? Зверюшек хочешь подкормить, приятель? Ну, давай! У нас всякому гостю почет: лошадке – стойло и сено, тебе – озеро. Любишь купаться? – Люблю купать, – ответил Саймон, спрыгивая с коня. Жеребец испуганно фыркнул и попятился дальше от воды. – Купать мы и сами горазды.. – Крокодильер усмехнулся, крепкие зубы блеснули меж бородой и усами. – Щас с этой птичкой покончим, – он махнул в сторону мешка, – и будет твоя очередь. Эй, Вышибан, Бобо! Уснули, гниды? Крутите его, и в сеть! Зверюшки-то голодные, а нам еще… Он не успел закончить – Саймон нанес удар ногой, крокодильер сложился пополам, резко выдохнув воздух, а в следующий миг очутился в воде. Чешуйчатые тела метнулись к нему, раскрылись зубастые пасти, сверкнули клыки, взмыл гибкий длинный хвост, ударил по лицу… Ни крика, ни вопля, ни стона – рептилии действовали с потрясающей быстротой. «Видно, и в самом деле голодные», – подумал Саймон. – Эй, ты! Ты!.. Еще двое ринулись к нему, вытаскивая ножи. Один – огромный, настоящий великан ростом с Филина, другой помельче, юркий, полуголый, с татуировкой во всю грудь – свернувшийся кольцом кайман с полураскрытой пастью, из которой торчит женская голова. Юркий выбросил руку вперед, и лунный отблеск посеребрил летящее лезвие; оно неслось, вращалось, кружилось, но Саймону было уже известно, куда нацелен нож, куда вонзится острие – слева, в сердце, под пятым ребром. Хороший бросок, но Горькие Камни бросают лучше, мелькнула мысль; пальцы его сомкнулись на рукояти тяжелого ножа, лезвие вновь просвистело в воздухе, и юркий захрипел, хватаясь руками за шею. Клинок великана уже навис над Саймоном – стальной трехгранный зуб полуметровой длины, не нож, не мачете и не «кинжал», а что-то наподобие «штыка». Перехватив запястье атакующего, он стиснул ему руку, заглянул в лицо – яростный высверк глаз обжигал злобой, пахло потом, табаком и немытым телом. – Вот тебе-то искупаться не помешает, – пробормотал Саймон, напрягая мышцы. Секунд пять они боролись, раскачиваясь из стороны в сторону; противник был очень силен, но все же родиной его являлась Земля, не Тайяхат. Когда-то, в детстве, Саймона звали Две Руки; это дневное имя дал ему Чочинга, и он же говорил: Рук – две, но биться ты должен так, словно их у тебя четыре. С точки зрения тайят, люди были ущербными созданиями: во-первых, у них не хватало конечностей, а во-вторых, лишь немногие имели близнеца, брата или сестру, умма или икки, тогда как для аборигенов Тайяхата это считалось явлением нормальным. Братьев у Саймона не было, но от нехватки рук он не страдал, пройдя суровую школу Чочинги: телесная мощь воина-тай соединялась в нем с гибкостью и быстротой змеи. Трехгранный клинок повернулся вместе с запястьем крокодильера, острие ужалило шею, помедлило в ямке между ключицами и двинулось вниз. Великан простонал протяжное «ах-ха!»; глаза его остекленели, в горле что-то булькнуло, пальцы, стиснувшие рукоять клинка, разжались. Саймон сбросил его в пруд, потом швырнул туда же тело юркого и постоял минуту, с неприязнью наблюдая за пиршеством рептилий. На Тайяхате тоже были кайманы, очень похожие на земных, но шестилапые; там все зверье имело по шесть конечностей, не исключая птиц. К кайманам у Дика-мальчишки был давний счет: как-то, отправившись в странствия на плоту, он чуть не угодил им в зубы. Но он не испытывал к ним отвращения, поскольку вырос среди тайят, не относивших себя к царям и повелителям природы; для них зверье делились на врагов и друзей, однако врагов не презирали, уничтожая лишь в случае необходимости. Такой нужды Саймон не видел; двуногие кайманы достались на обед четвероногим, и это было актом справедливого возмездия. Он вдохнул гнилостный запах, прислушался – в поселке царили мрак и тишина, и только над вышкой светились огни, колеблемые ветром. Шагнув под навес, Саймон огляделся, отыскал багор на длинном древке, зацепил им канат и подтянул поближе. Сеть с крупными ячейками, куда свободно проходила нога, пришлось резать ножом; веревки были просмоленные, толстые, покрытые кое-где старой запекшейся кровью. Но человек, подвешенный в сети, оказался невредим, хотя лишился сознания – Саймон негромко окликнул его, однако не получил ответа. Тело, лицо и голову жертвы окутывал бесформенный балахон или плащ, перехваченный ремнями на поясе, под грудью и у шеи, и только одна рука торчала наружу – маленькая, с обломанными ногтями, вцепившаяся мертвой хваткой в сеть. Пальцы были судорожно сведены, и Саймон даже не попытался их разжать, а лишь обрезал с двух сторон веревку, поднял человека на руки и. понес к коню. Тело казалось легким, почти невесомым, и даже сквозь плотную ткань он ощущал его гибкость и плавные мягкие формы. Уже выехав на дорогу, Саймон приоткрыл лицо спасенного и кивнул, словно в подтверждение своей догадки. Девушка. Конечно, девушка! Совсем нагая под плащом. Избитая – на скулах синяки, под носом и на губах – засохшая кровь, на коже – следы чужих безжалостных пальцев. Он осторожно похлопал ее по щекам, веки дрогнули, ресницы взметнулись двумя веерами, девушка вздохнула и раскрыла глаза. – Кто ты? Откуда? – спросил Саймон. – Как тебя зовут? Голос ее был тих, едва слышен: – Мария… танцовщица… из Сан-Ефросиньи… – Мария… танцовщица… – медленно повторил он, чувствуя подступающую к сердцу теплоту. – Пить хочешь, Мария? – Нет. Хочу умереть… Только быстрее…***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК – Операция «Земля», – произнес Директор. – Докладывайте, Хелли. Леди Дот показалось, что за последили месяц он сильно сдал: морщины сделались глубже, волосы – реже, глаза запали, а кожа – если верить экрану, который в точности передавал цвета, – приобрела нездоровый серовато-бледный оттенок. Директор давно занимал свой пост, являясь зримым воплощением могущества Конторы, но если судить по его лицу, дела ее были плачевными. Правда, лица разведчиков обман -• чивы, особенно старых, – а Директор был стар, и к тому же считался хорошим разведчиком и неплохим лицедеем. Эдна Хелли откашлялась. – У нас нет новостей, сэр. Хотя такое долгое отсутствие результатов наводит на определенные размышления. – Долгое? – Старик приподнял бровь. – Месяц, по-вашему, долго? – Да – для такого агента, как Саймон. Ему обычно хватало нескольких дней. В крайнем случае – недели. – Обычно! – подчеркнул Директор. – Я не рискнул бы так классифицировать эту операцию. В ней все необычно – и объект, и способ транспортировки, и… – …исполнитель, – закончила Хелли. С минуту женщина и старик смотрели друг на друга, потом Директор кивнул: – Ладно, готов согласиться: агента обычным не назовешь. Пусть так! И чем же он занят, Хелли? Вы его знаете, вы способны предвидеть его действия – настолько, насколько это возможно. Вы говорите, что медлить он не привык, и с этим я тоже согласен. Так что же случилось? – Полагаю, мы неверно просчитали ситуацию, сэр. – Прикрыв глаза, Леди Дот задумалась, потом начала говорить – сухим, лишенным эмоций голосом: – Мы исходили из того, что на Земле существует доминирующий фактор – Украина и что передатчик помех расположен на ее территории. Этот регион не столь велик, и если даже передатчиков несколько, они вполне достижимы для нашего агента. Мы считали, что он десантируется в северном Причерноморье, предположительно в Крыму, где есть обсерватория с радиотелескопом – его антенну можно использовать для эмиссии помех, – и уничтожит этот объект. Другие объекты такого рода могли располагаться под Севастополем и Одессой, на территории военно-морских баз, а также в Харькове, где, вероятно, сосредоточено централизованное управление регионом. Любой из этих объектов доступен Саймону, если учесть его таланты, – Леди Дот сухо усмехнулась, – и любой из них он может вывести из строя быстро, незаметно, эффективно, с помощью фризера или кристаллогранат. Но этого не произошло – с одной стороны. С другой – Саймон жив. По крайней мере, он доставил вниз маяк – куда, нам неизвестно, но он высадился, и теперь маяк находится на Земле, не на спутнике. С тех пор прошел месяц, а передатчики все еще действуют. Таковы факты, сэр. Старик задумчиво нахмурился. – Понимаю, к чему вы клоните, Хелли. Все могло оказаться не так, как в наших расчетах, совсем не так. Три с лишним столетия – огромный срок, а люди – существа непредсказуемые даже для «Перикла». В конце концов, мы никогда не доверяем одним компьютерным прогнозам, а руководствуемся здравым смыслом и фактами. Значит, возможны два решения… Он посмотрел на Эдну Хелли, и женщина кивнула: – Да, сэр. Либо мы ждем, либо высылаем подкрепление. – Ходжаева или Божко? – Не обязательно их. Послать второго агента – значит выказать недоверие первому. Я думаю, Саймон этого не заслужил. Брови Директора приподнялись: – Что же вы предлагаете? – Я думаю, подкрепление может носить символический характер, – осторожно сказала Леди Дот. – Поддержка, не сковывающая инициативы, и в то же время намек. Так, чтоб стало ясно: о нем помнят, ему верят, его ценят. И понимают, в каком положении он очутился. – И что вы предлагаете в качестве такой поддержки? – спросил Директор. Леди Дот наклонилась к экрану и произнесла одно короткое слово.Глава 5
Ричард Саймон плыл вверх по огромной реке. Ветер раздувал паруса, и баркас – большой, неуклюжий, с почти прямоугольными обводами – двигался довольно быстро, оставляя за кормой по двадцать-тридцать лиг каждый день. Течение Параны здесь было медленным и плавным; она то струилась неторопливо меж низких берегов, то разливалась просторными озерами – там, где стояли когда-то города серебряной страны Аргентины, занимавшей ныне целый континент на Южмерике. Саймон считал, что за неделю баркас одолеет семьсот километров до Сгиба – участка реки, где Парана меняла направление, дважды изгибаясь под прямым углом; от западного угла до восточного было километров триста и еще столько же – до города Сан-Эстакадо, новой парагвайской столицы. Этот маршрут позволял миновать границы Разлома, а из Сан-Эстакадо, как утверждал Мигель, в Херсус-дель-Плата и Рио тянулось вполне приличное шоссе, пересекавшее центральные провинции и Плоскогорье. Если удастся нанять машину – а может, купить, хотя Саймон еще не знал, где и как раздобудет деньги, – то дорога в Рио займет пару дней. Этот город представлялся Саймону главной точкой в его расследовании, неким центральным узлом, где ход операции ускорится, а сам он, покинув извилистый овраг предположений и гипотез, выйдет на победную финишную прямую. До сих пор он странствовал по окраинам, встречал людей не слишком компетентных, если не считать Гилмора, и ни на шаг не приблизился к своей цели. Однако время не пропало даром – теперь он знал о ФРБ гораздо больше, знал не только об этой опереточной псевдореспублике, но и о странах Старого Света – Байкальском Хурале и ЦЕРУ, Чеченских Княжествах и Черных Африканских Королевствах, о Торго-вой Исландской Республике и Австралийских Эмиратах. Правда, все эти сведения туманны и неясны, но в Рио их скорей всего можно было уточнить. А главное, найти какой-то способ выполнить задание, какой-то выход из огромной ловушки, которой сейчас и представлялась Саймону Земля. Он понимал, что, если не доберется до передатчика, с Колумбии пришлют второго агента, за ним – третьего, четвертого, и этот мир станет ловушкой для них всех, и будут они метаться по планете как яростные кабаны или затравленные крысы. Смотря по тому, что победит в их душах, гнев или отчаяние… Такие перспективы не радовали Саймона. Временами он опускал руку в мешок, поглаживал ребристую поверхность маяка и размышлял об уходящем времени, о передатчике в кратере Архимеда и способах, какими можно было б сровнять его с землей – или, вернее, с лунной пылью. Но иных вариантов, кроме «Полтавы», не видел. «Полтава», ракетоносный крейсер-тримаран постройки 2056 года, была первой в серии из трех аналогичных кораблей, решающим козырем в спорах между Украиной и Россией. Предполагалось, что «Полтава», «Керчь» и «Перекоп» блокируют любую агрессию в Крыму и прилегающих районах, откуда б она ни исходила – с моря, суши или из космоса. Однако проект заморозили; каждый крейсер стоил безумных средств, и было проще разобраться с ситуацией не на полях сражений, а за столом переговоров. Для того, чтоб переговоры шли успешней, первый корабль все же спустили на воду, вооружив от киля до клотика – в том числе десятком ракет класса «Земля-космос». Саймону хватило бы одной, пусть даже без ядерной боеголовки, но где их искать? И где сама «Полтава»? Кто знает об этом? Видимо, большие люди в Рио – дон Алекс, дон Хайме и другие доны, а прежде всех – дон Грегорио-Григорий по кличке Живодер. Он возглавлял департамент Общественного здоровья, местную службу наблюдения и пресечения, и если последняя функция не выполнялась с необходимой эффективностью, то наблюдать его люди умели. Значит, этот Грегорио являлся самым информированным лицом в стране, хранителем всех ее тайн и государственных секретов – в том числе касавшихся «Полтавы». Гилмор, на нынешний момент главный источник сведений, о «Полтаве» мог рассказать немногое, и то, что было известно ему, знал каждый образованный человек в ФРБ. Крейсер двигался в арьергарде каравана беженцев, вышедшего из Одессы; в ста километрах от берега он произвел ракетный залп, уничтожив город и части громадян, скопившиеся в нем, а после возглавил флотилию и повел ее на запад. К ней присоединились суда из Крыма и Херсона, но «Полтава» оставалась самым мощным и самым быстроходным кораблем – огромный крейсер-тримаран, набитый людьми и оружием, способный атаковать любую цель и даже подняться из вод морских на берег. Он первым преодолел Атлантику и в день седьмого ноября, который после был объявлен праздничным, вошел в залив на месте Рио-де-Жанейро. Там заложили форт и новый город, Рио-де-Новембе, а крейсер выполз на берег – к счастью, довольно пологий – и оборонял переселенцев во время строительства. Это – все; дальнейшая судьба «Полтавы» была покрыта мраком, и Гилмор, разумеется, не знал, сколько ракет осталось в ее боевых шахтах и оставалось ли там что-нибудь вообще – возможно, все их подарили Одессе. Саймону думать об этом не хотелось, пока он не разживется надежной информацией. Всякую дорогу надо пройти до конца; блуждая по тропам в окрестностях, не приблизишься к цели. А цель его была ясной: Рио, дон Грегорио и прочие властительные доны, их резиденции и департаменты, быть может – Архив. Не тот, в котором когда-то трудился Гилмор, а Старый Архив в Форту, где могли сохраниться древние записи. Правда, Мигель утверждал, что они на компьютерных дисках, но отчего бы не найтись компьютеру?.. В двадцать первом веке умели делать превосходные машины, прочные и долговечные, чему все оборудование «Полтавы» служило несомненным подтверждением. Ветер плескал в паруса, шоколадная гладь реки искрилась яркими блестками, солнце сияло в бирюзовых небесах; Харбоха, с ее болотами и вечными дождями, осталась за кормой – и там же, в прошлом, остались побоища и трупы, жаркий вал огня, смрадная ферма у озера, танец кайманов в темной воде и сетчатый мешок, подвешенный над нею. Мешок… Вспоминать о нем не хотелось, но и забывать не стоило. Саймон поднял голову и огляделся. День был ясным; баркас упрямо резал волны, его капитан и хозяин, тощий долговязый Петр-Педро, маячил у руля, Гилмор отсыпался, забравшись в трюм, а Пашка с Кобелино, Филином и двумя хозяйскими отпрысками устроились под мачтой и, судя по азартным воплям и молодецким выкрикам, метали кости. Хозяйские сыновья были рослыми парнями – два брата-близ-Неца, схожие, как горошины из одного стручка, – и это напомнило Саймону о Чимаре и собственной юности, о склонах Тисуйю-Амат и водных потоках, падавших с гор в лесное озеро. Смутные видения мелькнули перед ним: нежная улыбка Чии, Цор и Цохани с одной физиономией на двоих, потом – Наставник, отбивающий ритм ладонями на коленях, Каа, зеленый змей, почти незаметный в траве, и сам он, полуголый подросток, – крадется к питону, стараясь не попасть под сокрушительный удар хвоста… Рассказать ей об этом? Поймет ли? Захочет ли слушать? Он украдкой посмотрел на девушку. Мария, танцовщица, земное подобие Чии, сидела рядом с ним, в то же время пребывая в какой-то иной реальности, – взгляд ее скользил по берегам и водам, тонкие руки бессильно лежали на коленях, а лицо казалось каким-то угасшим, безжизненным. Конечно, она была красива, но в эти минуты Саймон не замечал ее красоты; ведь женская красота – это жизнь, блеск глаз, взмах ресниц, трепет губ, улыбка,милая гримаса… Однако не верилось, что эта девушка умеет улыбаться. Ужас владел ее душой, страх давил гнетущим камнем, воспоминания о прошлом не покидали ее; она отвечала, если спрашивали, ела, когда велели, и, кажется, не собиралась умирать. Но жить не хотела тоже. Саймон знал, что такое случается – после стресса или испуга, особенно с людьми, обладающими тонкой душевной организацией. Это лечилось – медикаментами, гипнозом, психотерапевтическими приемами или с помощью доун-установки, погружавшей больного в целебный сон. Но обо всех этих средствах и способах тут, на Земле, давно позабыли; тут главным лекарством от всех телесных болезней считалось спиртное, а все нуждавшиеся в духовном утешении могли молиться или тайком покуривать дурь. – Держись, шелупонь! – внезапно рявкнул Петр-Педро, выворачивая штурвал. Суденышко, огибавшее мыс, накренилось, паруса заполоскали, но тут же снова поймали ветер. Саймон откинулся на спину, на теплые прочные доски палубы, вытянул ноги и обхватил Марию за пояс; у мачты хохотал Кобелино и чертыхался Проказа – ему испортили бросок. Филин сочувственно хмыкал, а Дан и Васко, двадцатилетние братья-близнецы, звенели медяками и поторапливали Пашку – мол, всякое на реке бывает, кидай! Четвертый день они плыли вдоль берегов, где бурый парус и потемневшие доски баркаса сливались с древесными стволами, с песком и глинистыми оползнями, с камнями и выгоревшей травой. Не плыли – крались, ибо в дневное время Петр-Педро не решался удаляться от спасительной суши. Мимо редких и малолюдных городов они проплывали ночью, при виде плотов и барж спускали парус, и Саймон знал, что эти предосторожности – не лишние. Река – верней, все реки и оба океана – считались вотчиной «торпед»; за все, что плавало с товаром и пассажирами на борту, взималась дань, а неплательщиков скармливали пираньям или пускали на доске по бурным водам, прибив к ней крепкими гвоздями – а иногда поставив на живот банку с порохом и горящим фитилем. Так что Петр-Педро в самом деле рисковал – и баркасом, и своей головой, и сыновьями. У себя в деревушке он считался человеком зажиточным – в молодые годы довелось ему плавать на разных судах, принадлежавших, разумеется, «торпедам», и хоть он не был членом клана, но смог приобрести баркас. Теперь он занимался речными перевозками: возил людей и грузы вверх и вниз, но лишь в пределах сотни километров от Харбохи. Эта дистанция определялась пропуском, полученным от «торпед», и размерами «черного» налога в двести тридцать песюков; иная договоренность, разрешавшая плавать по всей реке, стоила бы иных денег. Каких, Саймон не любопытствовал, а Петр-Педро не говорил, храня в секрете свою бухгалтерию, но, вероятно, дань была немалой и съедала возможную прибыль. Риск сгореть на контрабанде тоже был велик, но, с другой стороны, пять лошадей, полученных от Саймона, являлись слишком веским аргументом – и капитан, поразмыслив, решился доставить путников в Эстакадо. Берег, тянувшийся справа, был пологим и низким, а дальше, до самого горизонта, простиралась степь, почти такая же, как в Пустоши, – травы посочней, деревьев побольше, зато холмов и вовсе нет. Над степью и рекой поднималось солнце, Жгло, палило, выжимало влагу из почвы и человеческих тел, заставляло щурить глаза. Над отмелями висел туман, и сквозь зыбкую белесую пелену просвечивали туловища рептилий, неподвижных, как застрявшие в песке бревна. Саймон замечал, что девушка старается не глядеть в их сторону. – Жарко… – пробормотал он и потянул через голову рубаху. Мария повернулась к нему, в темных карих глазах промелькнул огонек, и лицо на мгновение ожило, сделавшись грустным, задумчивым и каким-то беззащитным. Тонкие пальцы легли на плечо Саймона, погладили звездочку шрама, скользнули к запястью, где розовел ожоговый рубец; их прикосновение было ласковым, осторожным. – Кто?.. – Язык плохо повиновался ей. – Кто… тебя?.. – Крыса. – Это – огонь… – ее ладошка снова погладила запястье, – это – пуля… Таких крыс не… не бывает. – Бывает, – возразил Саймон. – С виду будто бы человек, а на самом деле – крыса. Она кивнула головой; видимо, поняла, о чем речь. – Это… это случилось в Пустоши? «Прислушивалась к разговорам, -отметил Саймон про себя, – знает, откуда идем. Хорошо! Сегодня слушает, завтра – заговорит». Накрыв ладонью пальцы девушки, он произнес: – Не в Пустоши. Далеко отсюда, не на Земле. Там! Его рука протянулась вверх, к бирюзовому небосводу. В глазах Марии снова вспыхнул огонек, который Саимон счел признаком удивления или интереса. Вспыхнул и погас, будто его и не было. – Там, в небе? – равнодушно спросила она. – На звездах. Ты знаешь, что на звездах тоже живут люди? – Улетевшие с Земли? – Правильнее сказать – переместившиеся. Слышала о трансгрессоре? Это не космический корабль, да и нет кораблей, способных долететь до звезд. Трансгрессор – как врат между мирами: сделал шаг, и ты на планете другой звезды, Солнца или альфы Центавра, в созвездии Кассиопеи или другой Галактике. Подумай, один только шаг! Глаза Марии снова потускнели, ладонь безвольно соскользнула с плеча Саймона. Ни вздоха, ни изумленного восклицания, ни жеста недоверия, ни насмешливой улыбки.,. Безразличие. Мертвый человек в живом прекрасном теле. Саймон мрачно уставился в воду, соображая, как он может ей помочь. Не может – должен! Спасти ее – ради нее самой, ради себя и ради девушки, которую любил когда-то в Чимаре и с которой расстался. Ради Чии, милой нежной Чии, пусть не совсем человека, но, несомненно, женщины. Чии, вернувшейся к нему в земном обличье. Спасти! Каким же образом? Он мог справляться только со своими ранами, не с чужими; чужие он не умел исцелять, чем бы их ни нанесли – оружием, страхом или жестокостью. Как всякий воин-тай, он владел искусством цехара и мог погрузиться в транс, смысл коего был различным в зависимости от обстоятельств: отдых или концентрация сил, поиск душевного равновесия или, наоборот, состояния яростной, почти безумной готовности к бою. В последнем случае транс подстегивал метаболизм, обмен веществ и выброс специфических гормонов, превращая медитирующего в берсерка либо стимулируя регенерацию пораженных тканей, которая шла на порядок быстрее обычного. Все зависело от цели, а цель задавалась определенными психофизическими приемами, игравшими роль начальной настройки. Мог ли он поделиться этим знанием с Марией? Обучить, как обучал его Чочинга? Склонив голову, Саймон посмотрел на нее. Темно-каштановые волосы, карие глаза, бледно-смуглая кожа, точеные черты. Лицо – узкое, с маленьким круглым подбородком и высоковатыми скулами, изящно вылепленный носик, брови – как взмах крыла летящей птицы, а под ними – веера ресниц, на удивление густых и длинных. Очень похожа на Чию, едва ли не точная ее копия. Имелись, конечно, различия, но главное состояло не в том, что у его подружки из Чимары было слишком много рук, иное устройство вестибулярного аппарата и уши с укороченной мочкой. Подобные детали казались Саймону несущественными, и, сравнивая двух девушек, он размышлял о другом, о том, что Чия никогда не была одинокой: два отца, две матери, сестра – а теперь, вероятно, мужья и дети. У Марии же не было никого; она являлась в гораздо большей степени неприкаянной, чем сам Ричард Саймон – ко-тохара, как говорили тай. «Но мы встретились, и мы больше не одиноки», – подумал он, чувствуя, как при этой мысли теплеет под сердцем.***
В полдень Петр-Педро подогнал баркас к берегу, как делал всегда, чтобы переждать дневные часы в укромной бухточке, под защитой развесистых деревьев. Пашка с Филином принялись раскладывать костер, близнецы, вооружившись ножами и крючьями, бродили на мелководье в поисках черепах, а Кобелино развалился в тени, играя костяшками: подбрасывал их вверх и старался поймать в стаканчик. Саймон пнул его и велел доставить из трюма Мигеля – пусть спит, но на свежем Воздухе. Голова у Мигеля уже не болела, кровоподтек на лбу отливал не багровым, а голубым, тошнота прошла, аппетит вернулся, и Саймон считал, что все обошлось: сотрясение мозга, но легкое. Убедившись, что Кобелино спускается в трюм, он сунул за пояс мачете, взял плащ и повернулся к Марии. – Пойдем. Самое время прогуляться по бережку. Она последовала за ним без возражений, даже не спросив, куда и зачем ее ведут; безвольная кукла, манекен, принявший облик Чии. Платье, подвязанное ремешком, болталось на ней цветастой тряпкой; этот наряд принадлежал супруге капитана, особе дородной и мощной, превосходившей Марию почти во всех измерениях. Но временами ветер, задувая с реки, натягивал ткань, и Саймон мог заметить, что девушка гибка, высока и стройна, что груди ее тверды и упруги, а очертания длинных ног, изящных и в то же время сильных, наводят на мысль о ее профессии. Вероятно, она была хорошей танцовщицей; она и сейчас шла, будто танцуя, и эти движения казались непроизвольными и такими же естественными, как трепет листвы и трав под ветром. Берег зарос деревьями, напоминавшими Саймону ивы, со множеством воздушных корней и сероватой гладкой корой; их поникшие ветви полоскались в воде, стволы оплетали лианы, но роща была невелика и изрезана тропинками. Увидев следы копыт и отпечаток когтистой лапы, Саймон решил, что их суденышко пришвартовалось у звериного водопоя. За, рощей берег плавно поднимался, переходя в травянистую пампу, ровную, как стол; в отличие от окрестностей Семибратовки здесь не было ни холмов, ни оврагов, не росли кактусы, похожие на огромные подсвечники, не возвышались закругленные конусы термитников. Тихое, безопасное место, каких, вероятно, не так уж много в этом мире… Вытащив мачете, Саймон скосил траву, сложил ее охапкой, бросил сверху плащ и показал на него клинком: – Садись. Так, чтобы солнце светило слева. Мария послушно села, скрестив ноги. Подол цветастого платья лег на траву кольцом, ветер взметнул темные локоны, и казалось, что она сейчас поднимется вверх и улетит, словно огромная яркая бабочка. Саймон воткнул мачете справа от нее и тоже опустился на землю, пристально всматриваясь в лицо девушки. – Тебе удобно? Она вяло кивнула. – Стебли не колют тебя? Под ними нет камней? Новый кивок. – Посмотри налево и вверх. Что ты видишь? Она немного повернула голову, прищурилась, пробормотала: – Небо… солнце… – Солнце, – подтвердил Саймон. – Солнце, огонь, жар, жизнь. Слева. Запомни это. Что справа? – Нож… – Какого он цвета? Что напоминает? – Серебристого, – покорно ответила она. – Похож на зеркало, на ручей, на дорожку лунного света в темной воде… Саймон кивнул. – Верно. Запомни: справа – луна, холод, сон, покой… Теперь не шевелись, расслабь мышцы, и пусть двигаются только твои глаза. Смотри на солнце, потом – на клинок-луну и повторяй про себя: жар, холод, огонь, покой… Не торопись, делай это медленно. Взгляд – слово, слово – взгляд. Жар, холод, огонь, покой… Ее зрачки задвигались, губы шевельнулись, потом застыли, и Саймон довольно кивнул. Таинство цехара начиналось с концентрации внимания, а для этого в клане Теней Ветра использовали горящую свечку и стальной нож, символы жара и холода, солнца и луны. Опытный человек умел погружаться в медитацию без этих предметов, однако медитирующему впервые они были так же необходимы, как блестящий шарик гипнотизера. Зрачки девушки продолжали двигаться. Налево, направо… Солнце, луна, огонь, покой, жар, холод, жизнь, сон… – Теперь быстрее, – велел Саймон. – Пусть слова, которые ты повторяешь, живут и звучат сами собой, не мешая думать. Думай! Думай о чем-нибудь хорошем, о матери, которая научила тебя танцевать, о танце… Представь, что ты танцуешь, – тебе ведь это нравилось, верно? Ты скользишь, едва касаясь земли, наклоняешься и кружишься, протягиваешь Руки, прыгаешь, и прыжок твой длится долго, бесконечно – тяжесть исчезла, ты весишь меньше пушинки, ты паришь, летишь… И кто-то – уже не ты – все повторяет и повторяет: солнце, луна, огонь, покой, жар, холод, жизнь, сон… Быстрее! Еще быстрее! Теперь взгляд Марии метался стремительным маятником, отсчитывающим не секунды, доли секунд. Мышцы ее были Расслаблены, пальцы не дрожали, лицо застыло, и только длинная прядь шелковистых волос развевалась на ветру. Кажется, она умела погружаться в такое состояние – пусть бессознательно, инстинктивно, как всякий хороший танцор, способный к воображаемому танцу: когда звучит мелодия, тело становится легким, почти невесомым и сказочно послушным, и музыка несет его, будто океанский вал, заставляя взлетать и опускаться, кружиться и скользить. Входит в транс, отметил Саймон, и запел. Слова не имели значения, важен был ритм – мерный, успокоительный, торжественный, и потому он пел на тайятском, пел Песню Представления, которой, вернувшись из дальних опасных странствий, приветствуют друга-воина, родича или соратника. Конечно, на склонах Тисуйю-Амат не пели таких песен женщинам – ведь им, подобно воинам, не приходилось странствовать, подвергаться насилию, бороться за жизнь, ранить, убивать и получать удары – равно как болтаться в мешке над стаей разъяренных кайманов; но Мария прошла через это испытание, а значит, была достойна Песни, какой приветствуют мужчин. Саймон пел: Я – Тень Ветра, носивший дневное имя Дик Две Руки; так звал меня Наставник в дни юности в Чимаре. Я – Тень Ветра, чей отец Саймон Золотой Голос – да пребудут с ним Четыре прохладных потока! Я – Тень Ветра, чья мать Елена Прекрасная ушла в Пещеры Погребений. Я – Тень Ветра, воин-тай, защитник и мститель; прочен мой щит, верен мой глаз, и на клинках алеет кровь.. Я – Тень Ветра, пришелец со звезд, вестник надежды, и нет на моем Шнуре крысиных клыков. Я – Тень Ветра, одинокая тень в мире людей и в мире тай, ибо нет у меня ни брата-умма, ни сестры-икки. Я – Тень Ветра, а ты – Тень Земли, мертвая тень; но стоит тебе ожить, и мы улетим к звездам. Я – Тень Ветра, но если ты хочешь, я стану твоей тенью. Дыхание Марии сделалось глубоким, редким, размеренным, лицо застыло – но не маской покорного равнодушия, а так, будто она спала и находилась сейчас на грани пробуждения, между сном и явью. Кожа девушки побледнела, голубая жилка билась на виске, веки приспустились, и по их частому дрожанию Саймон знал, что она несется в стремительном воображаемом танце, продолжая отсчитывать про себя: солнце, луна, огонь, покой, жар, холод, жизнь, сон… – Замри! – приказал он. – Замри и постарайся извергнуть свой страх. Солнце, огонь, жар, жизнь… Они помогают тебе, даруют победу и мощь. Чувствуешь это? Чужие руки коснулись тебя – злые руки, сильные, но ты – сильней. Ты – гибкий стебель в сухой траве, полный жизненных соков; ты гнешься, но не ломаешься, выскальзываешь из когтей, обвиваешься вокруг пальцев, тебе не страшны ни клык, ни нож, ни хлыст, ни пуля. Ты не боишься их, верно? Губы девушки шевельнулись. – Верно… – прошептала она. – Верно… Я не боюсь… Я – сильнее… Я – это я… – Ты – это ты, – подхватил Саймон. – Солнце, Небесный Свет, дарующий силу, поддерживает тебя; Луна – лишь тень Небесного Света, не властная над тобой. Ты помнишь о том, что случилось ночью; помнишь о людях, пытавших тебя ужасом, помнишь о мраке, о темной воде, о чудищах, круживших под ногами… Помнишь, но не боишься! – Помню… Не боюсь… – эхом отозвалась Мария. Все эти слова, похожие на заклинания, не являлись целительным лекарством – они лишь напоминали погрузившемуся в транс, где лежит необходимый ему источник. Этих источников было множество; в каждой человеческой душе струились ручьи спокойствия, бушевали потоки ярости, плескались озера забвения, фонтанировали гейзеры силы, били ключи любви, кружились водовороты ненависти. Слова помогали найти дорогу к нужным водам, однако пить приходилось самому; и весь смысл искусства цехара заключался в том, чтобы пить не каплями, а крупными глотками. Мария пила – и, очевидно, найденный ею источник был полноводен и щедр. Саймон наблюдал, как быстро розовеют ее щеки, как распрямляются плечи, разглаживаются горестные морщинки у губ и глаз; теперь она еще больше походила на девушку-тайя, с которой он провожал солнце на склонах Тисуйю-Амат, – на девушку, оставшуюся в Чимаре, в прошлом, в минувшей юности… Транс истек коротким вздохом, взметнулись веера ресниц, Руки, лежавшие на коленях, расслабились, ноздри затрепетали, меж приоткрывшихся губ блеснула жемчужная полоска. – Чия, – не выдержав, позвал Саймон, – Чия! – Чия? – склонив голову к плечу, девушка смотрела на него, и взгляд ее был глубок и ясен. – Кто это – Чия? – Та, что осталась на моей родине, среди звезд… на Тайяхате. – Саймон поднял глаза к бирюзовому небу. – Значит, мне не приснилось, – сказала Мария, помолчав. – Нет, не приснилось. Ты и вправду человек со звезд? И ты спас меня – там, у озера? И вылечил? Да? Теперь лицо ее было живым, подвижным и чарующе прелестным; нетерпеливое ожидание пряталось в приподнятых бровях, лукавство – в изгибе губ, печаль – в морщинках на лбу, и казалось, что каждая ее черточка, каждая мимолетная улыбка, каждый жест исполнены тайны – той, что пленяет мужчин и сводит их с ума. Той, которой они стремятся овладеть, лаской и нежностью или жестокостью и страхом. Саймон сглотнул и вытер пот с висков: – Ты излечилась сама. Я только помог немного, совсем немного. Ты… Она глядела на него с грустной улыбкой. – Я – Мария, танцовщица, проданная «штыками» крокодильерам. За непокорность. Тараско, капитан «штыков», грозился: не хочешь меня, будешь лежать под Вислогубым с крокодильей фермы. Я не легла. А Вислогубый пообещал: ляжешь, если кайманы не сожрут. Потом… потом – смерть… Все равно – смерть, что с Вислогубым, что с кайманами… Мария вздрогнула, и Саймон поспешно произнес: – Знаю, знаю. Зачем ты мне это рассказываешь? – Ты – человек со звезд, брат Рикардо, ведь так? Я слышала, твои люди зовут тебя братом Рикардо… Я. – Мария, танцовщица, не нужная никому, кроме Тараско, Вислогубого и кайманов… Ты меня спас. Зачем? Зачем, брат Рикардо? – Там, откуда я пришел, меня называют иначе. Ричард. Ричард Саймон, Дик. – Ди-ик… – напевно протянула она, – Ди-ик… Хорошо, я буду звать тебя Диком. Но все же – зачем? Для чего ты спас меня и взял с собой? – Это моя работа, спасать и защищать, – сказал Саймон. – Там, среди звезд, и тут, на Земле. Но если б и не было работой, я бы все равно… все равно… – Он снова сглотнул слюну. – Понимаешь, ты и Чия… – Я похожа на нее? – Дождавшись его кивка, девушка отвела взгляд, помолчала и нерешительно спросила: – Кто она? Твоя подруга – там, среди звезд? Возлюбленная? Сестра? Не отвечая на вопрос, Саймон поднялся, выдернул из земли клинок, обтер его о траву, потом сел – но не напротив Марии, а рядом с ней, касаясь своим плечом ее теплого хрупкого плечика. Прошло пять или шесть минут, а он все поглаживал широкую стальную полосу, трогал острие кончиками пальцев, глядел, как играют на лезвии отблески солнца. Наконец заговорил. Он рассказывал о своем мире, о Тайяхате, где родились пятнадцать поколений его предков; о планете, где стояли города Бахрампур и Новый Орлеан, Бомбей и Смоленск, Выборг и Чистополь, где Днепр и Ганг сливались в великий поток Миссисипи, и на правом его берегу жили русские и индусы, шведы и американцы, финны и поляки и многие другие – уже не земляне, а выходцы с Колумбии или Южмерики, Сельджукии или России, нашедшие здесь свою родину, считавшие этот мир своим – во всяком случае, ту его часть, что называлась Правобережьем и была предназначена для людей. А в Левобережье, среди дремучих лесов и великих гор, обитали четырехрукие аборигены планеты, которых одни из пришельцев называли ракшасами, другие – демонами, а третьи – фохендами. Но не были они ни тем, ни другим и ни третьим; они являлись тайят, расой упрямых гордецов, не признававших чужих обычаев и власти, не веривших ни в дьявола, ни в Бога и подчинявшихся лишь своим Ритуалам – Оскорблений и Празднеств, Приветствий и Представлений, Поединков и Битв, Почитания Предков и Кровной Связи, а также иным, которые всякий желавший их признания должен был изучить и выполнять в точности, не отступая ни на гран, – ибо тайят не ведали, что такое компромисс и отступление. Еще он рассказывал о своем отце, ксенологе Филипе Саймоне, и покойной матери, о тетушке Флоренс, от которой сбежал в десять лет, о Наставнике Чочинге Крепкоруком, о его женах Ниссет и Най и сыновьях Чоче и Чулуте, о Чие, своей подружке, о сестре ее Чиззи, о Цоре и Цохани и о Чи-маре, в которой прошла его юность; рассказывал о Колумбии и других великих мирах, где жили миллиарды людей, и о пустынных, но благодатных планетах, где обитали немногие – десять тысяч, или тысяча, или один человек, желавший уединения и покоя; рассказывал о Пандусе, о паутине трансгрессорных станций, что оплела обитаемые миры, связав их нерасторжимой сетью, и о прорехе, зияющей в ней, о черной Дыре Мира Исхода, более недоступного, чем любая из самых Далеких Галактик. О многом говорил он в тот день, а когда закончил рассказ, Мария спросила: – Там, на звездах, в мирах, где живут теперь люди, там тоже бывает такое?.. Руки ее пошли вверх, изобразив округлость мешка, потом левая замерла, как бы удерживая этот призрачный мешок на веревке, а пальцы правой вытянулись, раскрылись кайманьей пастью и резко сомкнулись в кулак. Саймон, помрачнев, кивнул: – Бывает. Не такое, так другое. Правда, это считается преступлением, а преступников мы отправляем в Каторжные Миры. В них, поверь мне, также весело, как… Как в аду, хотел он сказать, но Мария со вздохом закончила: – Как здесь, на Земле… – Слезинки повисли на ее ресницах, она смахнула их кулачком и пробормотала: – Это ведь тоже каторжный мир. Место, где человека могут закопать в муравейнике или бросить в пруд кайманам, мир насильников и убийц… – Не обижай меня, равняя с насильниками; я ведь тоже убийца, – произнес Саймон. – Этакий убийца-санитар, уничтожающий крыс и бешеных собак. – Он провел пальцем по лезвию клинка, ухмыльнулся и добавил: – Знаешь, есть у меня шнурок, очень длинный шнурок вроде ожерелья. Я тебе его покажу – как-нибудь, когда мы познакомимся поближе. Так вот, на нем нанизаны кости тех, кого я убил – кости собак, разумеется, не крыс. Для крыс там не хватило бы места. Веришь? Мария нерешительно улыбнулась. Конечно, она не поверила, хотя он сказал чистую правду. Через день-другой Гилмор окончательно оправился, и теперь две пары глаз, черные – Майкла-Мигеля и карие Марии, глядели на Саймона с немым вопросом. Как там у вас, среди звезд? Среди звезд было разнообразно. В конце двадцать первого века, когда великий Исход в Галактику был завершен, а каналы Пандуса в Солнечной системе перекрыты, Служба Статистики ООН ранжировала все заселенные миры по уровню их политической стабильности и технологическому развитию. В этой классификации первым номером шли планеты Большой Десятки, на коих концентрировалась основная часть человечества. Их разбили на три категории – в соответствии с индексами ИТР и ИСУ. Стабильными считались пять высокоразвитых планет: Колумбия, заселенная в основном американцами, англосаксами и японцами; Европа с ее четырьмя материками: Галлией, Иберией, Тевтонией и Славенией – последний континент был разделен между украинцами, чехами и поляками; Россия, к I которой присоединились Казахстан, Болгария, Индия и еще: десяток независимых держав; Китай с его сателлитами, а также Южмерика, объединившая Бразилию, Перу, Аргентину и другие сравнительно благополучные страны Южноамериканского материка. Те, кого не принял этот союз, отправились на Латмерику – все островные деспотии Больших Антил, Эквадор, Боливия, Уругвай, Парагвай и государства Перешейка от Гватемалы до Панамы. Чернокожие африканцы заселили Черную Африку; появилась там еще одна держава, Нью-Алабама, где обитали американские негры из числа особенно непримиримых. Но их подавляющая часть все-таки отправилась на Колумбию, в три из семидесяти новых штатов новой Америки. * ИТР – индекс технологического развития, ИСУ – индекс социальной устойчивости; измеряются в десятибалльной шкале и служат для характеристики стабильности Миров Большой Десятки и Независимых Миров. Черная Африка и Латмерика классифицировались как Нестабильные Миры, подверженные социальным катаклизмам, – вторая и не слишком почетная категория Большой Десятки. Что касается третьей и завершающей, то ее ввели по настоянию Дивана Шейхов Аллах Акбара и Исламской Диктатуры Уль Ислама для планет, населенных мусульманами. Правда, не было тайной, что Уль Ислам, где главенствовал Иран, и Аллах Акбар, населенный арабами, являются Нестабильными Мирами, тогда как Сельджукия, где доминировали Турция и Пакистан, – вполне устойчивый конгломерат, хоть и не слишком развитой в технологическом отношении. Все государства Большой Десятки считались полноправными членами Совета Безопасности ООН. Кроме них, туда входили с правом совещательного голоса шестнадцать Независимых Миров – продукт неодолимой тяги к автономии некоторых малых стран или немногочисленных народов. Эти миры – Маниту и Амазония, колонизированные индейцами, а также Гималаи, Монако, Курдистан, Баскония, Сицилия-2, Новая Ирландия и все остальные – имели, как правило, невысокий индекс технологического развития, но были весьма стабильными в политическом отношении, так как каждый из них принадлежал единому и монолитному этносу. Все прочие планеты классификационного списка находились под эгидой и контролем Совета Безопасности. Часть из них – такие, как Галактический Университет, научный центр ООН, Сингапур, торговая планета, Таити, мир отдыха и водного туризма, или Полигон, база Карательного Корпуса, – обладала статусом Протекторатов; часть являлась Колониями с населением от ста тысяч до десяти миллионов человек. Колониальным считался также всякий мир, подобный Тайяхату, где обнаружились разумные аборигены и где главной задачей колонистов было исследование инопланетных жизненных форм. Кроме того, ООН – через Службу Планетарных Лицензий – осуществляла надзор за полутысячей Миров Присутствия, где тоже жили люди – частные лица или специалисты промышленных компаний, получивших лицензии на разработку недр и другие виды деятельности. Население Миров Присутствия было немногочисленным, но ряд из них уже претендовал на статус Колоний. Наконец, имелись еще Планеты-Свалки, куда перебрасывалось все лишнее в процессе терраформирования и преобразования обитаемых систем, и Каторжные Миры – те же свалки, но для человеческих отбросов. Пополнялись они большей частью уроженцами Латмерики, Черной Африки, Уль Ислама и Аллах Акбара. Такой была человеческая Вселенная, сотворенная Пандусом. Пандус, или пространственный трансгрессор, изобретенный в 2004 году русским физиком Сергеем Невлюдовым, покончил со многими проблемами – не со всеми, но с главными: с национальной рознью, демографическим взрывом и бедственным состоянием экологии. В результате двадцать первый век, который мог обернуться последней строчкой в истории земной цивилизации, превратился в эру надежд и поразительных свершений, в великий и небывалый Исход, в эпоху галактической экспансии, когда мечта о звездах, будто по мановению волшебной палочки, стала реальностью. Теперь человечеству Земли не грозили экологические катастрофы, недостаток природных ресурсов, перенаселение и войны, порожденные расовым или экономическим противостоянием. Лозунг эпохи гласил: чтобы жить в достатке и мире, без конфликтов и войн, без территориальных споров и губительного противоборства, необходимо разъединиться. Конечно, процесс разъединения временами проходил болезненно и непросто, служил источником споров – таких, какой возник меж Украиной и Россией или среди мусульман, с пеной у рта деливших Мекку – но все же это было меньшее из зол. Несомненно, меньшее, ибо любой альтернативный вариант вел к длинной цепочке природных и политических катаклизмов и завершался всеобщей гибелью. Итак, к грядущему объединению среди звезд – через разъединение! Этот принцип был закреплен в Конвенции, принятой ООН – Организацией Обособленных Наций, сменившей прежний международный союз, но сохранившей привычную аббревиатуру. Отныне каждый народ – и даже каждая отдельная личность – получал реальное право избрать себе планету, землеподобный девственный мир, и переместиться туда со всем своим имуществом, с машинами и городами, с привычной фауной и флорой, с музеями, аэродромами, заводами, кладбищами и космическими станциями – словом, со всем накопленным богатством, представлявшим материальную или историческую ценность. Конвенция Разъединения закрепляла этот священный принцип, а Пандус позволял реализовать его на практике. С помощью Пандуса осуществлялась мгновенная траспортировка любых объектов между центрами тяготения с планетарной массой; собственно, он мог перебросить что угодно куда угодно, но слишком малые небесные тела не удавалось нащупать поисковым лучом. Специалисты – техники, историки и политики – считали Пандус самым значительным достижением человеческой цивилизации. Суть разработанной Невлюдовым теории заключалась в развитии представлений об истинной геометрии пространства, основы которой заложили еще Лобачевский, Риман, Минковский и Эйнштейн. Он доказал – разумеется, математически, – что при определенных условиях две геометрические точки могут быть совмещены; расстояние между ними как бы исчезает, и любой объект, будь то живое сущест-. во или бездушная каменная глыба, можно перенести из пункта А в пункт Б мгновенно, затратив определенную энергию лишь на процесс совмещения. Дистанция переноса была не ограничена, но на малых расстояниях трансгрессорный переход оказывался экономически невыгодным и неспособным конкурировать с такими транспортными средствами, как самолеты или монорельс. Пандус не подходил для того, чтобы странствовать по городам и континентам; это была дорога к звездам – возможно, к иным Галактикам. Путь этот состоял из двух этапов. Согласно теории Невлю-дова вначале формировался гибкий электромагнитный щуп, нечто вроде поискового луча, коим можно сканировать окрестности любой звезды – разумеется, с помощью компьютеров, ориентирующих луч в необходимом направлении. Успешность сканирования определялась многими факторами и, в частности, массой искомых объектов, ибо планетарные тела обнаруживались с гораздо большей вероятностью, чем астероид диаметром в лигу. Но это обстоятельство зависело лишь от точности ориентации луча и чувствительности приемных устройств; что же касается принципиальной стороны дела, то поисковый луч мог отыскать песчинку на расстоянии сотни парсек. И если песчинка (или планета, которая тоже являлась крошечной песчинкой Мироздания) была разыскана, то щуп тут же схлопывался, превращаясь в кольцо или Раму, не имеющую толщины, но достигающую в двух плоскостных измерениях любого заданного масштаба. Ею можно было накрыть пчелиный улей или дом, сотню пчел или сотню человек – накрыть и перенести в иной мир, затратив энергию совмещения, весьма немалую, если речь идет о многочисленной экспедиции, о городе со всеми зданиями или об изменении природного рельефа, когда переносятся горы и целые горные хребты. Впрочем, энергетический баланс не превышал разумных величин и не служил препятствием Исходу. А это значило, что перед человечеством Земли открылась Галактика – неизмеримое пространство с миллионами планет, пригодных для колонизации, с гигантскими, неисчерпаемыми ресурсами, которые не требовалось делить ни хитростью, ни силой. К тому же трансгрессор позволял перестраивать выбранный мир, сравнивать горы, творить моря, придавать континентам привычные земные очертания. Но, невзирая на эту титаническую мощь, он не являлся средством уничтожения или агрессии; теоретически с его помощью было б несложно перебросить из мира в мир войска и боевые космолеты, однако всенаправленный передатчик помех – если такое устройство приводили в действие – не позволял локализовать тяготеющую массу ни планетарного, ни звездного масштаба. Вся система становилась закрытой от вторжения извне, замкнутой в сферу помех, чей диаметр составлял несколько световых лет. Для Марии, юной танцовщицы из Сан-Ефросиньи, все эти факты являлись, божественным откровением, но Гилмору кое-что было известно – во всяком случае, о Пандусе и конфронтации между Украиной и Россией, возникшей в эпоху Исхода. Не потому, что он проводил архивные изыскания или рылся в исторических трудах – которых, кстати, не существовало. Для большинства жителей ФРБ история началась триста лет назад, в эпоху бегства и переселения из Европы; а после него главными верстовыми столбами являлись разборки, перевороты и путчи – Переделы, как называли их здесь. Помнилось, впрочем, что миллиарды землян отправились в звездные миры, забыв, с умыслом или случайно, о нескольких украинских областях – и там через двадцать лет разгорелась война. Война, поражение, бегство… Об этом Гилмор тоже знал. Знал, что причиной спора между Украиной и Россией являлись Крым и юго-восточные украинские города, где треть населения была русской, а большая часть – русскоязычной; каждая из сторон желала перенести их на собственную планету, ибо планеты эти были разными: своя – у России, и своя – у Украины. Знал, что конфликт тянулся до завершения Исхода: шли референдумы и тяжбы, переговоры и демонстрации, а временами – побоища, как случилось в Симферополе, Харькове и Донецке: там сражались Русская Дружина и громадяне, украинские националисты. Потом сфера помех накрыла Землю, и вопрос с космическим переселением был снят с повестки дня. Знал, что к моменту блокировки межзвездной связи на спорных территориях было несколько станций Пандуса, а среди них – ряд особо мощных, укомплектованных интернациональным персоналом и предназначенных для перемещения городов. И еще он помнил о том, что на одной из них, в Харькове, трудился его предок, инженер из Далласа, штат Техас, – Питер Гилмор, не русский и не украинец, а чернокожий американец, безвинная жертва случая и обстоятельств. Громадяне в борьбе за власть резали всех и каждого, чужих и своих; русские, как слабейшая сторона, были более терпимы, и потому Питер Гилмор с кучкой соотечественников прибился к ним. Они не воевали на стороне Русской Дружины, Но когда война была закончена и проиграна, возвратились в Новый Свет – как беглецы, лишенные отчизны, вместе с караванами переселенцев, уходивших в море от крымских и одесских берегов. На этом известное Майклу-Мигелю заканчивалось. Все остальные спутники Саймона знали намного меньше и, если не считать Марию, не проявляли склонности к истории и интереса к поучительным беседам. Обычно он уединялся с девушкой и Гилмором на берегу во время долгих дневных остановок, но случалось им толковать и на палубе – вполголоса, негромко, хоть Саймон не делал тайны из этих разговоров. Как-то раз Петр-Педро, доверив руль сыновьям, подошел, присел на теплые доски, послушал, переводя взгляд с Мигеля на Саймона, затем спросил: – О чем трендите, мужики? – Об Исходе, – откликнулся Саймон. Петр-Педро поскреб корявыми пальцами макушку: – О каком таком исходе? – Был такой великий Исход к звездам… Помолчав, капитан поднялся и произнес: – Был, верно. Да кто о нем помнит теперь? Разве одни книгочеи. У нас ведь свой исход случился – когда драпали из Европ в Америки. И чего тогда не поделили? Что тут, что там – один черт… Раскачиваясь на длинных ногах, он проследовал на корму и обругал Васко – велел, чтоб тот держался у берега, а не лез на стрежень, если не хочет поплавать прибитым к доске. Гилмор невесело усмехнулся. – Все мы здесь такие. Плывем по реке Вечности на плоту под названием Земля, без права остановки и пересадки. Триста лет плывем… – Это переменится, – сказал Саймон, поглядывая на Марию. Она молчала; только подрагивали пушистые веера ресниц да тонкие пальцы мяли подол цветастого платья, – Переменится, – повторил он. – Скоро! Майкл-Мигель погладил нагую грудь, исполосованную шрамами. – Ты надеешься уничтожить передатчик, брат Рикардо? Это проклятое устройство на Луне, о котором ты говорил? Но как? Тебе пришлют что-нибудь подходящее? Оружие или космический корабль? Саймон покачал головой: – Нет. Импульсный трансгрессор – это не Пандус, корабль не перешлешь. Надо искать здесь, на Земле. Искать и надеяться, Мигель. Мир велик! – Мир мал, мой звездный брат, – этот мир, – уточнил Гилмор. – Горстка людей тут, кучка – там, а меж них – океаны и бесплодные континенты, изрытые кратерами… Что здесь найдешь? – Может, на «Полтаве», или в ЦЕРУ, или в других местах… – Может быть, на «Полтаве», – кивнул чернокожий учитель, – если ее не разобрали по винтику. Но в ЦЕРУ ты не отыщешь ничего. Там… Он вдруг замолчал и потупился под пристальным взглядом Саймона. – Что – там? – Ничего, кроме разрухи и страха. Их теснит Байкальский Хурал, их города – в развалинах, население – в панике, их лидеры не могут договориться друг с другом… «Странная осведомленность», – решил Саймон и поинтересовался: – Откуда ты знаешь? Но Майкл-Мигель, не ответив, лишь развел худыми руками и что-то невнятно забормотал. «Мертвые тени на мертвой Земле…» – послышалось Саймону. Он отвернулся, лег на живот, пристроил подбородок в ладони и прикрыл глаза, оставив крохотную щелочку. Теперь он мог смотреть на Марию, мог любоваться девушкой – незаметно, как приникший к земле гепард глядит на яркую птицу-певуна, алую, с золотистой грудкой. Сейчас этот процесс созерцания казался Саймону гораздо более важным, значительным, чем разгадка тайн Майкла-Мигеля или даже вся его миссия; и в этот момент Земля представлялась ему не огромной западней, а мирным склоном Тисуйю-Амат, где он провожал солнце вместе с Чией. Как давно это было! И как недавно… Взмах пушистых ресниц… Локон, вьющийся на ветру… Солнечный луч, утонувший в ее глазах… «Все повторяется, – подумал Саймон, – все повторяется, и ничего не проходит бесследно». Девушка, не замечая, что за ней наблюдают, глядела на него и улыбалась.***
Тянулись часы и дни, баркас плыл по огромной реке, минуя немногочисленные городки и деревни, прячась у берегов, пересекая в темноте широкие озера-кратеры. Саймон заметил, что Кобелино все чаще подсаживается к Марии, тянет руки к ее коленям, заводит разговоры. Девушка отмалчивалась, пряталась в трюм, старалась держаться поближе к Саймону и Майклу-Мигелю. Учитель Кобелино не любил; для него мулат оставался все тем же огибаловским отморозком, которому случай и прихоть брата Рикардо сохранили жизнь. Однажды, во время дневной стоянки, Кобелино опять пристроился к девушке, и Саймон разбил ему челюсть, пояснив, что не стоит зариться на хозяйское добро. Этот воспитательный акт явился весьма своевременным; теперь мулат обходил Марию за пять шагов, но временами взирал на нее с откровенной злобой. В тот же день, ближе к вечеру, за ними погнался патрульный катер «торпед» – паровое суденышко, которое двигалось против течения порядком быстрее баркаса, так что уйти от погони не было никакой возможности. Петр-Педро, очевидно, уже прикидывал, как поплывет на доске вместе со своими сыновьями и пассажирами, но Саймон велел ему не тревожиться, спустить парус и лечь в дрейф, а когда катер приблизился, швырнул гранату. На мелководье у берега взрыв был особенно силен: вода, тина и песок взметнулись к небесам, перемешанные с деревянными и металлическими обломками, потом водяной столб опал, тяжелое затонуло, легкое уплыло, а съедобным занялись кайманы. Петр-Педро сплюнул за борт, Пашка выругался с явным облегчением, Кобелино разразился ликующими воплями. Филин одобрительно хмыкнул, а Дан и Васко, хозяйские сыновья, глядели теперь на Саймона точно так же, как смотрит пара щенков на матерого волкодава. В глазах их читались восхищение и безмерная преданность; они наконец обрели вождя, великого предводителя краснокожих, мечущего бомбы и убивающего врагов десятками. Саймон, однако, был мрачен. На Тайяхате, в землях войны, он убивал, чтоб доказать свое превосходство, а в прочих местах – лишь в силу необходимости; смерть противника рассматривалась им как акт самозащиты, как воздаяние за совершенный грех или как превентивная мера, способная предохранить невинных от унижения и гибели. Но в любом случае это не являлось поводом для восторга. «Нормальной человеческой реакцией скорее должен быть страх. Возможно, отвращение», – размышлял он, посматривая на Гилмора и Марию. Они не веселились, как остальная его команда, однако тоже ужаса не выказывали, Гилмор, взирая на пиршество кайманов, что-то шептал, молитву, проклятия или стихи, а девушка казалась печальной; глаза ее были опущены, брови сведены, у краешков губ залегли страдальческие морщинки. О чем она думала? О мешке, повисшем над темным озером? Об острых клыках рептилий, терзающих плоть? О муках расставания с жизнью? Но эта плоть, исходившая кровью в медленных струях Параны, была, по крайней мере, бесчувственной и мертвой, растерзанной взрывом, – не люди, а клочья мяса, бесформенные ошметки, кайманья пища. Впрочем, Саймон не считал их за людей, памятуя о пираньях и досках, к которым они прибивали пленников.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК На этот раз они собрались не в беседке, повисшей над краем пропасти с огненным фонтаном, а в обширном зале, с бойницами у потолка, с высокими окнами и застекленными дверьми, которые выходили на галерею – она тянулась от башни к башне вдоль всего второго этажа. Начался ноябрь, последний весенний месяц, и в полуденные часы на воздухе; было уже слишком знойно; солнце расплавленным огненным шаром висело над океанскими водами, и легкий бриз, задувавший с моря, не умерял жары. Но здесь, в просторном зале, под защитой массивных каменных стен, царила приятная прохлада. В западной части комнаты располагался стол – большой, овальный, выточенный из черного дерева, с несколькими креслами, обтянутыми крокодильей кожей. Количество кресел менялось; случались спокойные времена, когда их было (Десять или девять, но в периоды смуты и резни вполне хватало четырех. Кланы воевали меж собой, заключали и разрывали союзы, атаковали и отступали, побеждали и терпели поражения, и все это сказывалось на креслах у овального стола; вних могли восседать лишь победители и владыки. Сейчас кресел было семь, но дело шло к тому, что в ближайший месяц их число сократится до полудюжины. Четыре сиденья пустовали. Дон Хосе-Иосиф Трясунчик считался почти покойником и звать его в этот зал не было ни малейшего резона; дон Эйсебио Пименталь, предводитель «черных клинков», редко покидал фамильную резиденцию в Разломе, не появляясь в Рио месяцами; дон Монтальван Большой Палец являлся фигурой незначительной, и с его мнением не стоило считаться – «Длинные плащи» были самыми слабыми в семерке правящих бандеро. Что касается Хорхе-Георгия Диаса по кличке Смотритель, возглавлявшего крокодильеров, то он, наоборот, был слишком силен, слишком прямолинеен, груб и напорист в своем стремлении к единоличной власти, так что на кулуарные сборища триумвирата его, как правило, не приглашали. Собственно, смысл союзных обязательств между «штыками», смоленскими и дерибасовскими в том и состоял, чтобы притормозить излишне шустрого Хорхе-Георгия, поэтому на их совещаниях он был безусловно персоной нон грата. – Приступим, судари мои? – старый Хайме-Яков Трубецкой, задрав ястребиный нос, оглядел тянувшиеся у потолка бойницы. В них что-то поблескивало, но ненавязчиво и едва заметно: качки-телохранители смоленских были вышколены на совесть. – Приступим. – Дон Грегорио Сильвестров, обменявшись взглядом с Алексом, зашелестел разложенными на столе бумагами. – Что на сегодня, Хайме? – Трясунчик, сокол мой, Трясунчик. Кажется, он еще жив? – Еще жив. Жив, пока я не выбрал отстрельщиков. Но о Трясунчике – после, – дон Грегорио по прозвищу Живодер небрежно махнул рукой. – Поговорим о Харбохе. – О Харбохе? А что такого случилось в Харбохе? – Протез старика лязгнул, когда он откинулся на спинку кресла. – По моим сведениям, кондор-генерал Луис припек задницу гаучо, затем, как приказано, отошел и уже находится в центральных провинциях – со всеми своими людьми, лошадьми, пленниками и с бочкой пульки для нашего дона Алекса. Харбоху он проследовал без остановок. – Он-то проследовал, – откликнулся дон смоленских, разглядывая лежавшие на столе бумаги, – а вот крокодильеры задержались. Погуляли в Харбохе. Еще погрелись у костров… Большие костры получились, Хайме! Из Сан-Ефросиньи видать. – Ну так что же? Харбоха – их епархия, Сильвер. Их и Трясунчика, хотят – жгут, хотят – милуют… Нам-то убытка никакого! Мост цел, «штыки» переправились без потерь, дон-протектор отсиделся в Форту, а все остальное, в сущности, мелочи. – Мелочи, – мрачно согласился Грегорио, не отрывая глаз от стола. – Склады сгорели, сотня «торпед» пошла кайманам на корм, все кабаки разгромлены, но ты, Хайме, прав – об этом пусть голова болит у Трясунчика и Монталь-вана. Мелочи! Есть, правда, одна странность… Старый Хайме приподнялся, будто желая заглянуть в бумаги и полюбопытствовать насчет упомянутой странности, но тут скрипнула дверь, свежий ветер пошевелил листы, и в комнате появилась девушка. Она проскользнула с галереи; чудилось, что кожа ее еще источает солнечный жар, а пряди светлых волос подобны золотым протуберанцам. Она была очень красива – стройная, длинноногая, с высокой грудью и правильными точеными чертами. При виде ее Алекс по прозвищу Анаконда жадно сглотнул и улыбнулся, а надменное лицо дона Грегорио смягчилось. – Что, Пакита? – произнес он, оторвавшись от своих бумаг. – Приказать, чтоб подали вина, отец? – Голос девушки, низкий и томный, звучал чарующе, но в серых глазах стыли холодные льдинки. Казалось, она не замечает улыбок и взглядов Алекса; во всяком случае, подаренный ему ответный взор был суров и в будущем не сулил главе Военного департамента ничего приятного. Взвешен, измерен и куплен, читалось в ее глазах; возможно, продан и предан, и уж, во всяком случае, не любим. – Пусть принесут белого из Херсус-дель-Плата, – распорядился дон смоленских и после паузы прибавил: – Мы скоро закончим, Пакита, и ты сможешь поболтать с Алексом. Поболтать! – Изобразив усмешку, он покачал длинным костистым пальцем. – Эти «штыки» бывают так нетерпеливы… Не позволяй ему раньше времени лезть под юбку, девочка. – А если выше? – пробормотал Алекс, посматривая на полные груди девушки. Когда Пакита, передернув плечами, направилась к двери, он облизнул губы, а старый Хайме язвительно скривился. Что до дона Грегорио, то тот промолчал и не произнес ни слова, пока служитель в синем расставлял бокалы и наливал вино. – Так вот, о странностях… – Дон смоленских потянулся к шкатулке с сигарами, потом, будто раздумав, отдернул руку. – В Харбохе погибли бойцы и «шестерки» Трясунчика, общим числом под сотню; еще – немерено портовой швали и двадцать шесть крокодильеров. Кто угодил к «торпедам» под нож, кто утонул или сгорел на угольных складах. Но девятнадцать были убиты в борделе – есть там такой, у гавани, собственность Монтальвана. При нем – мытарь… Так, мелкота, он же – вышибала: следит, чтобы клиенты не надували потаскух. Его допросили. Мои люди. Допросили с пристрастием! – Дон Грегорио стиснул пальцы в кулак, словно душил кого-то невидимого, жалкого. – Упрямый, подонок. Однако сознался, что крокодильеров прибил какой-то тип, заночевавший в борделе. Чуть ли не в одиночку! С ним, правда, были еще трое, а может, четверо. Все – с Пустоши. И среди них, – дон Грегорио зашелестел бумагами, – некий Кобелино, знакомец мытаря, из бывших монтальвановских «шестерок». Этот шепнул приятелю, что обзавелся новым хозяином, и что хозяин его, брат Рикардо, – великий боец: пришиб в Пустоши всех огибаловских отморозков. Это вам ничего не напоминает? Вопрос был обращен к обоим собеседникам, но тяжелый взгляд дона, Грегорио уперся в Алекса. Тот заерзал в кресле и кивнул. – Брат Рикардо? Может, священник? Сумасшедший поп, прикончивший в Дурасе троицу диких? Судя по описанию, белый, ни капли негритянской крови, хотя кто его знает… Высок, светловолос, глаза – синие, морда – как на картинке. Бабы таких любят. – Похож, очень похож, – сообщил дон Грегорио, заглядывая в свои бумаги. – Вот справка из канцелярии Синода. Сообщают, что в Пустошь недавно были направлены священники Домингес и Горшков. Рикардо-Поликарп Горшков… Тоже похож, но не такой красавчик, как описывает Алекс. И что бы все это значило? – Подмена? – произнес Хайме с вопросительной интонацией. – Возможно. Теперь прикинем: события в Пустоши – это сентябрь; в начале октября кто-то разделался с бойцами «черных клинков» у Негритянской реки, затем – происшествие в Харбохе, а к нему – самая свежая новость: исчез патрульный катер «торпед». На Паране, у Сгиба. Собственно, не исчез, отыскались кое-какие обломки… Такое впечатление, что взорвался паровой котел, а заодно – весь динамит и порох… или что там у них было в трюме. Ни один мерзавец не выжил. Рассказать некому. – Думаешь, все тот же поддельный поп сработал? – Дон Хайме поскреб в голове негнущимися пальцами протеза. – Если так, за этим братцем Рикардо без малого две сотни трупов, судари мои. Значит, человек он обученный, опытный, и к тому же желает непременно в Рио добраться. Пустошь, потом Негритянская река, Харбоха, Сгиб. Дорожка известная, в обход Разлома… – Старик покосился на дона Грегорио и повторил: – Опытный человек, Сильвер! Не срушники ли заслали? Чтоб с Трясунчиком разобрался? Предводитель смоленских поджал губы. – Сомневаюсь, Хайме. Срушников перебрасывают в Канаду, а потом везут на кораблях. К тому же откуда возьмутся у ерушников опытные да обученные? Не прежнее время. Таких ни у Сапгия нет, ни у меня. – Он смолк, раскуривая сигару, потом заметил: – Этот, я думаю, из наших, из бразильян. Может, с западных гор, из Чилийского протектората, может – беглый с рудников, может, просто сосланный в Пустошь… Вырядился попом, а сам – отморозок из тех же крокодильеров. – Скорее из гаучо, из тех, что от Федьки отложились, – подал голос Анаконда. – У Хорхе Смотрителя живых отморозков не водится. Он их зверюшкам скармливает. Тощий Хайме вытянул руку, лязгнув протезом. – Это неважно, милостивец мой, кто он таков, гаучо, крокодильер или, допустим, «плащ». Главное, что он может и что его… – …никто не знает, – закончил дон Грегорио. Они переглянулись, будто в головы обоим пришла одна и та же идея. Алекс, наморщив лоб, смотрел на старших коллег и союзников, не в силах проследить их мысли по выражению лиц – мрачно-торжественному у Сильвестрова и хитроватому, злобному – у предводителя дерибасовских. Первый и вправду походил сейчас на живодера, готового забить бычка, второй казался старым хитрым грифом, что кружит над падалью, дожидаясь, покуда труп как следует протухнет. – Трясунчик, – сказал наконец дон Хайме. – Ты, Сильвер, отстрельщика искал для Хосе-Иоськи? Так больше не ищи. Он сам придет. – Ну, сам не придет, надо будет поискать, – отозвался Грегорио. – Но я его найду. Найду! Через Кобелино. Этот – из местных, и к старым знакомцам заявится. Непременно заявится. И хозяина с собой потащит. Куда ж ему еще идти? Этому попу-отстрельщику? Вопрос был явно риторическим, и дон Хайме, одобрительно лязгнув протезом, заметил: – Если он такой крутой, этот брат Рикардо, то стоит позаботиться и о Хорхе. Лишняя тысяча песюков, и никаких проблем. – Проблем не избежать, – возразил Грегорио. – У Хорхе – ублюдки-наследнички, еще и племянники есть – в точности как у меня… Крокодилье семя… Но поглядим! Проверим! Кончит поп Трясунчика, тогда и будет разговор. Анаконда кашлянул, пытаясь привлечь к себе внимание. – Луис будет в Рио через пару дней. С пленныйи. Куда мне их девать? Сильвестров повернулся к нему, задумчиво поиграл бровями и отложил сигару. – Тех, что покрепче, держи у себя в Форту, для Пимена, а раненых сдай моим парням. Праздник скоро, народец развлечь надо… – Как развлекать-то будешь, милостивец мой? – с ухмылкой поинтересовался Хайме. – Веревкой, топориком или ямой с муравьишками? – И так, и сяк, и эдак, – буркнул дон Грегорио.Глава 6
На восьмой день, когда они достигли Сгиба, во время полуденного отдыха спрятанный в сумке маяк завибрировал. Затем на краткое мгновение беззвучная вспышка зигзагом расколола мир; края ее разошлись, и в узкую багровую щель проскользнуло что-то длинное, гибкое, отливающее изумрудом, – проскользнуло, метнулось к Саймону, замерло у его ног и басовито зарокотало, словно идущий на посадку вертолет. Каа… Пять метров стальных мышц, два зорких глаза и нос-кувалда. Каа, великий боец, зеленый тайятский змей. Прощальный Дар Наставника. Каа, гостивший у Дейва Уокера, пока его друг и хозяин странствовал в иных мирах… Теперь он был здесь, на Земле, урчал, свистел, свивал тугие кольца у мутных вод Параны, и это являлось знаком высочайшего доверия. На Колумбии не сомневаются в нем, понял Саймон; иначе прислали бы не Каа, а Ходжаева или Божко, не змея, а человека. Агента, начальника или помощника, неважно; сам факт его появления был бы свидетельством того, что он, Ричард Саймон, Тень Ветра, не может завершить порученную миссию. Словно крысиный клык в ожерелье… Однако кто-то – скорее Уокер, чем Леди Дот – избавил его от позора. Кто-то верил в него и знал, что Ричарду Саймону не нужны начальники и помощники. Нужен друг. Он опустился на колени, и Каа, грациозно изогнувшись, положил ему на плечо массивную голову. Изумрудная чешуя была гладкой, сухой и прохладной на ощупь. – Травяной червяк… – пробормотал Саймон, ласково стиснув челюсти питона. – И здесь меня нашел. Соскучился? Надоело жрать кроликов у Дейва? Ну, тут мы поохотимся! За его спиной послышался шорох, затем – сдавленное восклицание. Он повернул голову. Мария с ужасом смотрела на питона. Глаза ее были совершенно круглыми. – Это… что? Анаконда? Но таких… таких зеленых… не бывает! – Это боевой тайятский змей, – пояснил Саймон, глядя в ее побледневшее лицо и улыбаясь. – Мой друг. Когда я был мальчишкой, он занимался моим образованием. Кости до сих пор пор болят. – Но, Дик… Откуда же он взялся? Дик. Ди-ик… Совсем, как говорила Чия. Приятно слышать. И смотреть на нее тоже приятно. Саймон встал. – Его прислали со звезд, мне в помощь. Нет, не так. Не в помощь, а для моральной поддержки. Чтобы я не чувствовал себя забытым и одиноким. – Брови Марии взметнулись вверх, и он поспешил добавить: – Ведь там, среди звезд, не знают, что я повстречался с тобой. С тобой и с остальными. Остальные дремали сейчас на палубе баркаса, под бурым полотняным тентом. Изогнутый скалистый мыс прикрывал суденышко со стороны реки, а берег, если не считать узкой песчаной полоски пляжа, тоже топорщился скалами – бесплодными, дикими, бесформенными, словно их лишь вчера вывернули гигантской лопатой из земных недр. Собственно, так оно и было: здесь вплотную к речному берегу подходил Разлом, и все его горы, утесы, озера, ущелья и каньоны насчитывали меньше трех с половиной столетий. Младенческий возраст по планетарным меркам. Каа приподнялся, опираясь на нижнюю половину туловища, и мерный глуховатый рокот сменился пронзительным посвистом. Крохотные глазки питона поблескивали, будто отполированный обсидиан, челюсти были плотно сжаты, хвост метался по мокрому песку, чешуя сверкала на солнце изумрудными искрами. Он выглядел великолепно, старый мудрый змей Каа, учитель пяти поколений воинов; о таких бойцах тайят говорили: «Его копье летит до Небесного Света, а Шнур Доблести свисает до колен». Конечно, у Каа не было ни колен, ни копья, зато он сам являлся копьем – живым копьем, с наконечником, нацеленным прямо в грудь Ричарду Саймону. – Что это с ним? – спросила Мария, на всякий случай отступая подальше. – Он рад, что видит меня. Приглашает потанцевать. Хочет убедиться, что я не забыл его уроков. Саймон снял рубаху, сбросил башмаки и шагнул к питону. Песок был мокрым, слежавшимся и теплым; ступни почти не вязли в темно-желтой плотной массе. На мгновение человек и огромный змей замерли напротив друг друга, потом Каа сделал стремительный выпад, и Саймон подпрыгнул, уворачиваясь от тяжкого удара головы. Пляска началась. Под мощным телом питона стонал и поскрипывал песок, мерное глубокое дыхание человека сливалось с плеском волн, лизавших берег влажными языками, ветер, налетавший с реки, будил гулкое эхо в скалах. Каа то свивался тугой пружиной, то замирал, выжидая, то выстреливал вперед голову на бесконечной шее; его хвост подрагивал, готовый нанести удар, или метался по песку, оставляя глубокие овальные вмятины. Саймон прыгал и падал, взмывал вверх и прижимался к земле, сторонясь разящего изумрудного копья; волосы его растрепались, на висках под жарким солнцем проступила испарина, но мышцы были послушны, а тело будто парило, подхваченное ветром, – легкое, как пушинка, быстрое, как проблеск молнии, гибкое, как стальной клинок. Тут, на Земле, танец со змеем требовал меньших усилий, чем на тяжелом Тайяхате. Тут, едва оттолкнувшись ступнями, Саймон прыгал вверх на пару метров, а с разбега мчался пулей, три или четыре раза переворачиваясь в воздухе; тут он мог крутиться стремительным колесом, чуть касаясь песка пальцами, мог удержать тело на вытянутой руке, распластавшись над землей, мог лететь и падать без вреда, мог… Впрочем, Каа тоже был способен на многое, и потому их пляска кончилась с ничейным результатом: дважды хвост и нос питона прогулялись по ребрам Саймона, и дважды Дик сумел шлепнуть ладонью упругую гибкую шею. Он замер, втянул со свистом горячий влажный воздух, выравнивая дыхание. Питон метнулся к нему, обвил плотными кольцами пояс и бедра, довольно заурчал; его голова раскачивалась у щеки Саймона, будто они на какое-то время стали единым существом, воплощением странного бога или скорее демона с двумя головами, человеческой и змеиной. Только теперь Саймон заметил, что не одна Мария наблюдала за их танцами; все его спутники собрались вокруг, взирая на Каа кто с изумлением, кто с интересом, кто с откровенным страхом. Рыжий Пашка-Пабло оказался посмелей других: шагнул, вытянул руку и, взглядом спросив разрешения, погладил сухую блестящую кожу питона. – Твоя змеюка, брат Рикардо? Саймон кивнул, улыбаясь и глядя в любопытные Пашкины глаза. – Теперь моя. – А взялась-то откуда? – Бог послал. – Здоро-овая, тапирий блин! А толк в ней какой? – Толк от твари, посланной Богом, заметен не сразу. Подожди, увидишь. – А почему зеленая? – Много пульки пьет, – объяснил Саймон и повернулся к капитану: – Змей поплывет с нами. У меня еще остались деньги, и, если хочешь, я заплачу. Все-таки тебе беспокойство – лишний пассажир и лишний рот… – Пасть, – уточнил Петр-Педро. – Ну, раз такое чудо Господом послано, грех песюки лупить. Опять же змий невиданный, зеленый… – Оскалившись, капитан выразительно Щелкнул по кадыку. – Пусть плывет! Только насчет пульки… Это шутка, брат Рикардо, или как? Не ответив, Саймон неопределенно развел руками. Каа, тайяхатский змей, был созданием живородящим и теплокровным, а значит, отличался от земных питонов как по своей природе, так и в части склонностей и привычек. У него имелись рудиментарные конечности, незаметные под плотной чешуей, он превосходно видел и слышал, не жаловался на обоняние, а пищу не заглатывал, а пережевывал и ел все подряд, начиная от капусты и кончая рыбой. К тому же он обладал весьма высоким интеллектом, не меньшим, чем у горилл и шимпанзе, но, как почти у всех разумных тварей, были у него свои предпочтения и слабости: запаха спиртного он не любил, а вот к обезьянам относился с искренней приязнью. К счастью, обезьян в ФРБ хватало.***
Ближе к вечеру Саймон вместе с Майклом-Мигелем залез на прибрежный утес, желая обозреть Разлом с высоты. Каа сопровождал их в этой экспедиции – струился зеленым ручьем среди базальтовых глыб, выбирая доступную людям дорогу; сам он мог бы забраться по отвесному склону и проскользнуть в любую щель, куда пролезет его голова. Посматривая на змея с опаской и интересом, тяжело отдуваясь на крутом подъеме, Гилмор спросил: – Он – с твоей родины, брат Рикардо? Саймон сделал утвердительный жест. – Разумный? – В некотором роде. Аборигены Тайяхата держат их в домах – не все, разумеется, а лишь Наставники воинов чтобы тренировать молодых. Это суровое ученье. Ты ведь видел, как мы танцевали на берегу? – Видел. Суровое… И так обучают всех? Всех юношей на твоей родине? – Так обучали меня, – бросил Саймон. Лицо Чочинги, ушедшего в Погребальные Пещеры, всплыло перед ним, тоска на миг стиснула сердце. Разумом он признавал неизбежность свершившегося, но чувства не желали мириться с утратой; сейчас ему захотелось побыть в одиночестве и спеть поминальную песнь – ту, что предписывал Ритуал Почитания Предков. Однако Гилмор не отставал и все косился на мелькавшего среди камней змея. – Зачем его прислали, брат Рикардо? – В знак доверия ко мне. – Брови Гилмора недоуменно приподнялись, и Саймон пояснил: – Доверие – когда тебе в помощь присылают друга. Понимаешь? Не начальника, не соперника, а друга. – Как странно… Ты называешь другом эту зеленую змею. – Майкл-Мигель вздохнул. – И странно другое. Мы оба – люди, но родина у нас разная, и то, что кажется тебе естественным и привычным, для меня – повод к удивлению и расспросам. Прости, если я был слишком назойлив. В молчании они закончили подъем. Утес, на который они взбирались, тянулся вверх метров на сорок. Соседние были пониже, но выглядели столь же голыми, бесплодными и неприветливыми; они громоздились каменным частоколом, надвигались на речной берег, давили, попирали его, и только узкие ленты песчаных пляжей, худосочные пальмы да жалкие кустики травы теснились между этим мрачным серым валом и просторным, неспешным и величавым течением Параны. Несколько секунд Саймон, наклонившись, смотрел на медленный поток, слепивший глаза золотистыми отблесками, потом расправил плечи, прищурился и повернулся к югу. Перед ним в косых лучах заходящего солнца лежал удивительный край. На три-четыре лиги от речного берега простиралось гротескное подобие равнины, будто перепаханной чудовищным плугом; бесформенные кучи земли чередовались с глинистыми холмами и осыпями, лощинами и оврагами, баррикадами камней и щебня, а над всем этим диким хаосом торчали шеренги скал – рваных, иззубренных, еще не сглаженных дождями и ветрами и оттого похожих на клыки дракона, выщербленные тяжелым молотом древнего божества-драконоборца. Этот пейзаж не радовал яркими красками: земля была бурой, глинистые холмы и завалы – ржаво-коричневыми, утесы – серыми и черными, а ущелья между ними казались полосками мрака и первобытный тьмы. Скалы чем дальше от речных берегов, тем становились выше, сливаясь на горизонте с горным хребтом, иссеченным трещинами, и чудилось, что там в легендарные незапамятные времена ворочалось и буйствовало, пытаясь вырваться из-под гнета земной тверди, какое-то грозное чудище. Над хребтом расплывалось мрачное дымное облако, и Саймон припомнил, что за этими горами лежат земли «черных клинков» – нефтяные озера и газовые скважины, угольные шахты и хранилища топлива, нефтеперегонные фабрики и поселки рабов – целый новый мир, сотворенный после Исхода. Страшный мир… Что же тут было три с половиной столетия назад? Он зашептал, припоминая: – Такуарембо, Пайсанду, Корриентес, Посадас, Крус-Алта, Сальто, Ливраменту, Санта-Мария, Санта-Роза, Сан-Габриэль… Слова его походили на молитву или магическое заклятье, призванное оживить мертвецов. Впрочем, здесь их не было; все они пребывали в добром здравии на планете Южмерике, покинув этот край, отданный во власть чудовищ. – …Чахард, Артигас, Мерседес, Ривера, Баже, Каразинью, Пасу-Фунду, Эрешин… Майк-Мигель встрепенулся. – Что это, брат Рикардо? – Бразильские города, стоявшие некогда в Разломе. Теперь они – там! – Саймон поднял лицо к небу. – Они – там, а мы – здесь, – грустно откликнулся Гилмор. – Последние люди на Земле, неудачники и отщепенцы, потомки таких же неудачников и отщепенцев. Что нам осталось, брат Рикардо? Что? Разлагаться и гнить, горюя о несвершившемся? Оплакивать прошлое и собственную судьбу, страшиться будущего и проклинать настоящее? А настоящее… Вот оно! Смотри! – Он вытянул руку над простиравшимся внизу хаосом, над землей, испещренной длинными вечерними тенями, и повторил: – Вот – настоящее! Жуткое, мерзкое, убогое! Ибо наш мир – лишь отблеск прежнего мира, жалкая тень минувшего, и сами мы – тени, рыдающие на пепелищах. Горе его было непритворным, печаль – искреннее, обида – тяжкой. Обняв Гилмора за узкие плечи, Саймон склонился к нему, коснувшись щекой жестких завитков волос, и прошептал: – Ты в самом деле поэт, Мигель. Ты говоришь как поэт и чувствуешь как поэт… Это – твой крест и твое счастье… Или я не прав? – Прав, мой звездный брат. Майкл-Мигель отстранился, шагнул к обрыву и замер с полуприкрытыми веками. Шрамы его налились кровью и потемнели, лицо сделалось отрешенным и будто утратило негроидные черты; полные губы усохли, нос заострился, темная кожа плотнее легла на скулах и подбородке, на челюстях обозначились желваки. Текли минуты. Саймон ждал, не прерывая молчания, слушая посвист ветра в скалах и шелест пальм на речном берегу. Наконец к ним добавилось нечто новое – звук человеческого голоса: Мертвые тени на мертвой Земле Последнюю пляску ведут, И мертвые ветры, вздымая пыль, Протяжно над ними поют. Змеится, кружится их хоровод Меж кладбищ, руин и гор, \ Сплетая тени Земли и ветров В призрачный смертный узор… Гилмор смолк, потом задумчиво произнес: – Пятый Плач по Земле, брат Рикардо. Всего же я написал их восемь и решил на том остановиться. Слезами делу не поможешь, верно? – Слезами – нет, но слово порой летит подальше пули и бьет сильней клинка. Летит до самых звезд. Мигель внезапно улыбнулся. – Хотя бы до Луны, до передатчика, о котором ты рассказывал… Если б я мог уничтожить его своим словом! – Ну, уж это – моя забота, – сказал Саймон.***
Они добрались до Сан-Эстакадо в первую неделю ноября. Здесь, на двадцать шестой параллели к югу от экватора, этот сезон не был похож на весну: солнце жгло безжалостно, с восточного плоскогорья Серра-Жерал и с юга, из Разлома, налетал жаркий ветер, и лишь близость огромной реки спасала фруктовые деревья, поля маиса и кофейные плантации от губительного зноя. Климат явно изменился к худшему, думал Саймон, вспоминая нудные ливни в Харбохе, засуху в Пустоши и пыльные бури за Рио-Негро. Этому могло быть несколько причин, излагавшихся в полученных им директивах: таяние полярных льдов, влиявшее на уровень Мирового океана, расширение пустынных зон и бесплодных территорий на всех континентах, подвижки земной коры, вызванные процессом межзвездной трансгрессии. Многое изменилось на Земле; суши стало поменьше, воды – побольше, и оставалось только гадать, куда теперь дуют ветры и стремятся океанские течения. Возможно, Гольфстрим уже не омывал американских берегов, вечные льды не покрывали Гренландию и Антарктиду, а озоновые дыры над полюсами дотянулись до севера Евразии и мыса Горн… Саймон размышлял об этом, шагая со своими спутниками по пыльной грунтовой дороге, кривым ятаганом рассекавшей прибрежную степь. Петр-Педро, муж многоопытный и осторожный, высадил их ночью в маленькой бухточке в пяти лигах от города и долго мялся, будто хотелось ему на прощание что-то сказать или чего-то попросить. Саймон было решил, что денег, но капитан, преодолев смущение, пробормотал: – Ты… это… брат Рикардо… парней моих с собой не заберешь? Они просятся, да и тебе польза. Парни-то крепкие, здоровые, чего им в Харбохе пропадать? А ты бы их к делу пристроил… – К какому делу? – поинтересовался Саймон. – Ну, известно к какому. Я ведь, брат Рикардо, не чурка дубовая, соображаю, зачем ты в Рио идешь. Ты – большой человек, и дело твое большим будет. Порастрясешь столичных гнид, пустишь из них кровушки… А для того тебе надобны бойцы да отстрельщики, паханы да мытари, ну и, конечно, «шестерки» из молодых вроде моих парней. Сегодня – «шестерки», а завтра, глядишь, выбьются при тебе в паханито. – Если выживут, – возразил Саймон. Кажется, Петр-Педро, озабоченный карьерой сыновей, числидего в будущих главарях столичной мафии, в родоначальниках нового клана. А в ФРБ, во всяком приличном клане, как утверждали Кобе-лино с Гилмором, соблюдалась строгая и нерушимая иерархия: наверху – хозяин-дон, под ним – помощники-паханы, а еще пониже, – паханито или бугры-бригадиры, приставленные к практическим делам. Одни из них возглавляли рядовых бойцов, именуемых стрелками либо отстрельщиками, другие, старшие над сборщиками-мытарями, занимались выжиманием «черного», снимая монету за покровительство с подведомственных заведений. Были еще телохранители-качки, стукачи и топтуны, снайперы и вышибалы; были, разумеется, «шестерки» – перхоть в волосатой шкуре банд, стянувшей ФРБ от амазонской сельвы до чилийских нагорий. Собственно, как догадывался Саймон, все граждане этой псевдореспублики пребывали в положении «шестерок», бесправных и безгласных дойных коров, но одним везло меньше, а другим – больше. Тем, кто стал перхотью дерибасовских или смоленских, крокодильеров или «штыков». Он выдавил мрачную улыбку и сказал: – Отправляйся домой, Петр-Педро, вместе со своими сыновьями. Я-не бандерос, и мне не нужны ни «шестерки», ни паханито. Капитан обиженно насупился. – Но с тобой уже четверо, брат Рикардо. Даже пятеро, считая девчонку. – Девчонке некуда податься, а остальных я не обещал произвести в паханы и бугры. Хотя… Саймон смолк, представив на секунду, что превратился во всемогущего вождя, с паханами и паханито и всякой шушерой помельче: Пашка и Филин – во главе стрелков, Кобелино начальствует над сборщиками, а Майкл-Мигель – не иначе как политический советник и песнопевец-бард, восхваляющий подвиги дона. Эта идея была нелепа, однако таился в ней рациональный смысл, и он отложил ее для грядущего – до тех минут, когда путь Извилистого Оврага будет пройден и наступит время выбирать иные тропы. – Прощай, Петр-Педро. И помни: лучше живые сыновья в Харбохе, чем мертвые – в Рио. Повернувшись, он зашагал к тракту, где ждали Мария и четверо мужчин. У ног девушки, свернувшись тугими кольцами, замер Каа, изумрудная змеиная чешуя слабо мерцала в свете ярких звезд. С востока тянуло жарким ветром, темный свод над головой был безоблачен и глубок, и Саймон, вспомнив плачущее небо Харбохи, на мгновение пожалел Петра. Они добрались до Сан-Эстакадо с первыми солнечными лучами и отыскали постоялый двор – придорожную венту в кольце поникших от зноя пальм. В их кронах копошились маленькие длиннохвостые обезьянки, к которым Каа проявил неподдельный интерес; прочие спутники Саймона, кроме непоседы рыжего, мечтали лишь добраться до постелей. Но сам он не устал и, сопровождаемый Пашкой, отправился на предварительную рекогносцировку. Пять лиг были для него небольшим переходом; он мог бы одолеть и десять, и пятнадцать, не чувствуя утомления в легком мире Земли. В мире теней, рыдающих на пепелищах… Однако столичный город Парагвайского протектората, выстроенный из глины и белого кирпича, не походил на тень. Он показался Саймону меньше Харбохи, но не в пример безопасней и чище. Правда, и здесь были трущобы, на окраинах и в речном порту, при кирпичных заводах и ткацких фабриках, но, в общем и целом, Сан-Эстакадо производил вполне благопристойное впечатление. Как всякий портовый город, он находился отчасти под властью «торпед», однако главную скрипку все же играли смоленские и дерибасовские; их клановые знаки красовались повсюду, не исключая здания Первого государственного банка и резиденции дона-протектора. Протектор, Диего-Яков Трубецкой, был, по утверждению Гилмора, родичем Хайме и влиятельной фигурой среди дерибасовских, одним из пяти их паханов, возможным наследником старого дона. С запада на восток, от речной гавани до той самой венты, где спали сейчас спутники Саймона, город пересекала широкая, нокороткая магистраль, что-то вроде бульвара с пальмовыми аллеями у тротуаров и мутной мелкой речушкой посередине. Деревья были увиты гирляндами, а над медленным шоколадным потоком нависли прихотливые мостики с разноцветными флажками на шестах. Добравшись до одного из них, горбатого, как спина дромадера, Саймон огляделся по сторонам и обнаружил другие признаки цивилизации. Проезжая часть была замощена, тротуары блестели, щедро сбрызнутые водой, на крутых речных берегах топорщился аккуратно подстриженный вечнозеленый кустарник, а за шеренгами пальм виднелись особняки под плоскими кровлями, в два, три и даже четыре этажа. Почти у каждого – конюшня, пролетка либо фаэтон, а кое-где – автомобиль с бензиновым двигателем, «тачка» или «колеса», как называли в ФРБ эти громоздкие сооружения; но все-таки это были машины, пусть непривычные Саймону и не похожие на электроглайдеры с воздушной подушкой. Он не сомневался, что справится и с таким архаичным транспортным средством. Пашка вздохнул за его спиной: – Богато живут, заразы. Огибаловских бы на них напустить. – Огибаловских уже нет, – заметил Саймон. – Зато есть мы. И есть место, где песюки лежат. – Красноречивый взгляд Проказы обратился в сторону банка. Саймон задумчиво дернул нижнюю губу. В его арсенале было множество способов для добывания денег, от торговли алмазными россыпями в созвездии Кассиопеи до компьютерного грабежа; он мог проникнуть через любую дверь, вскрыть любой замок, разобраться с любым хранилищем и сейфом. Тем более что тут, на Старой Земле, не ожидалось никаких сюрпризов, «калейдоскопов», сводящих с ума, лазеров с автоматическим наведением или форсунок, распыляющих ядовитый газ. Тут все решали примитивней: решетки, запоры, толстые стены и стражи при сундуках с сокровищами. Не отвечая Пашке, он покинул горбатый мостик и зашагал по тротуару. Улица в этот ранний час была пустынной и безмолвной; лишь ветер шуршал развешанными на пальмах гирляндами да полоскались яркие флаги на тонких высоких шестах. Город замер под жарким солнцем в своем торжественном убранстве, и Саймону припомнилось, что скоро – седьмое ноября. День Высадки, главный и, кажется, единственный праздник ФРБ. Он сопровождался массой развлечений: казнями преступников, схватками между знаменитыми бойцами, традиционным шествием, во время которого, в память о минувшей войне, сжигали чучело срушника, и обязательным погромом лавок и кабаков. Сейчас в Сан-Эстакадо царил покой. Мирно журчала речка, над ее берегами носились пестрые птицы, мохнатые пальмовые стволы казались колоннами из серо-коричневого гранита, а за их редким строем дремали дома. Частные резиденции были украшены эркерами и башенками, у салунов и лавок гостеприимно раскинулись веранды, но присутственные здания выглядели суровей и строже: ни башенок, ни ве-;ранд, только портики, ведущие к массивным дверям, да ряды узких зарешеченных окон. Этот стиль выдерживался с удивительным постоянством, и лишь по вывескам да клановым начкам можно было догадаться, где тут казарма «штыков», где дворец протектора, а где – живодерня, она же – полицейское управление. Перед последним открывалась небольшая площадь с неизменными воротом и ямой, которая на этот раз не пустовала – из нее торчали чьи-то ноги в рваных caпогах, скрученные у колен проволокой. – Глянь, брат Рикардо. – Пашка, притормозив, дернул Саймона за рукав. – Ни хрена себе! Вот это жлоб! Разъелся, вражье семя! Между управлением полиции и банком, мрачноватым трехэтажным зданием, выпирала полукруглая стена обширного амфитеатра. Ворота в ней были приоткрыты, и откуда-то издалека доносились тяжкое сопенье, шарканье ног по песку и звуки глухих ударов, словно кузнечным молотом стучали по закутанной в перину наковальне. Справа от ворот стоял новенький автомобиль, а слева, на фанерном щите, висела намалеванная яркими красками картинка: полуголый темноволосый гигант с рельефной мускулатурой, бочкообразным брюхом и кулаками размером с футбольный мяч попирал стопой поверженного соперника. Густые мохнатые брови великана были грозно насуплены, а глаза разбегались по сторонам, будто он в одно и то же время пытался выяснить, что происходит у дверей банка и в пыточной яме. – Нечисть бровастая, – пробормотал Пашка-Пабло и принялся разбирать надпись внизу плаката. Она извещала, то нынче вечером Эмилио-Емельян Косой Мамонт, боец и чемпион смоленских, готов уложить любого, переломав противнику на выбор ноги, руки либо ребра; а если почтенная публика пожелает, то шею или хребет. Ставки десять к одному, судья на ринге – Рафаэль Обозный, схватка – до победного конца, победитель получает все. – Все! – с натугой дочитал рыжий и бросил взгляд на Саймона. Но тот слушал вполуха, разглядывая лимузин у ворот. Большая открытая машина; кузов – темно-лиловый, бронзовый бампер надраен до блеска, сиденья – крокодильей кожи, над задним – топливный бак литров на двести, передние прикрыты ветровым стеклом; еще – огромный руль, педали да какие-то рукояти, также обтянутые кожей. От этого транспортного приспособления веяло надежностью и мощью, и Саймон подумал, что на приличной дороге сумеет выжать километров восемьдесят в час. – Хороши колеса, – сказал Пашка, прищурив зеленый глаз. – В Дурасе таких нет, да и в Сан-Филипе тоже. В Дуре вообще ни одной машины, брат Рикардо, а в Фильке у гниды Мендеса есть фургон с мазутным движком, чтоб туши коровьи по причалам развозить. Но эта-тачка – не для туш. Подходящая, тапирий блин! – Подходящая, – согласился Саймон, представив, как мчится на лиловом лимузине к океанским берегам, а рядом с ним, на переднем сиденье – Мария. Глаза блестят, темные волосы вьются, губы полураскрыты, а на губах – улыбка. Надо бы платье ей купить, подумал он и резко обернулся, расслышав за спиной чье-то дыхание. Оно было сиплым, натужным, словно приближавшемуся к ним толстяку не хватало воздуха. Вероятно, лет двадцать назад он выглядел сильным высоким мужчиной, но теперь отвислое брюхо, лохмы до плеч, необозримые ягодицы и волосатые руки-окорока скрадывали рост. Впрочем, несмотря на излишек волос и плоти, двигался он довольно шустро. – Хрр… Откуда, оборванцы? Саймон оглядел подошедшего. Лицо его не было ни добрым, ни злым; маленькие глазки, рот и нос терялись среди бесчисленных складок кожи. – Из Пустоши мы, – буркнул Пашка. – А ты откудова, сало волосатое? – Оттуда! – Толстяк, не обижаясь, покосился на стены амфитеатра. – Мое заведение! Покупаю и продаю, сужу и принимаю ставки… еще хороню по сходной цене. А вы, значит, из Пустоши. На богатеев-ранчеро не похожи, хрр… совсем не похожи. Гуртовщики, что ли? Из тех, что бычкам хвосты крутят? – Он сощурился, оглядел Саймона и вдруг махнул мясистой лапой в сторону ворот. – Желаете взглянуть, парни? Чемпион как раз… хрр… разминается. Моньку Зекса кончает. – А что потом? – спросил Саймон, приподнимая бровь. – Потом? Хрр… Потом ему другие партнеры потребны. Можно – из Пустоши. Можно – из Разлома. Хоть бляхи, хоть чечня из Кавказских Княжеств! Но только по три песюка за схватку. Вот ежели кости переломает, добавлю еще пять. Годится? Хрр? – Утром не годится. – Саймон выдержал паузу, потом перевел глаза на плакат. – Вот вечером я бы с ним потягался. Ставки десять к одному, говоришь? – Хрр… Десять к одному. Ты, я вижу, грамотей! Однако здоровый. – Толстяк отбросил волосы, свисавшие на потный лоб, и приказал: – Ну-ка, разденься, бычара! Драться умеешь? Едва Саймон стянул рубаху, как волосатый кулак толстяка метнулся к его челюсти будто пушечное ядро, подброшенное тройным пороховым зарядом. Встретил он, однако, пустоту скользнув вбок, Саймон развернулся и нанес удар по почкам – не слишком сильный, но чувствительный. Толстяк охнул. Проказа загоготал. – Умеешь… хрр… вижу, умеешь. Пожалуй, сгодишься для вечера. Продержишься пару минут… – Потирая спину, толстяк обошел вокруг Саймона, пощупал литые мышцы и одобрительно кивнул. – А может, и дольше. Но только не с Мамонтом. Удар у тебя хорош и кость крепкая, но Косой… хрр… Косой таких пачками в землю клал. Вот Васька Крюк либо там Копчик – это для тебя. С ними, хрр, и потягаешься. Годится, гуртовщик? Да или нет? Отвечай! – Это не вопрос, – сказал Саймон, натягивая рубашку. – Вопрос в другом: сколько? – Хрр… Сколько? Положим, два песюка в минуту. – Пашка обидно усмехнулся, и толстяк поспешил поправиться: – Ну, три. А больше получит лишь тот, кто вышибет с ринга Косого! Хочешь попробовать, парень? – Не откажусь. С минуту они мерились взглядами, потом Саймон уперся кулаком в капот машины и произнес: – Мне приглянулись эти колеса. Отдашь за Мамонта? – Хрр… – Лицо толстяка вдруг сделалось серьезным. Он покосился в сторону ворот и, понизив голос, сообщил: – Знаешь, это ведь, хрр, его тачка… – Она ему больше не понадобится, а ты свое получишь. Ставки-то десять к одному! Если знать, на кого ставить. – Верно… хрр… – Крохотные глазки впились в Саймона. – Рискуешь, гуртовщик! Сильно рискуешь! Косой – из чемпионов чемпион. Это тебе не бычки в Пустоши! – Там не одни бычки водились, тапирий блин, – заметил Пашка. – Водились, да перевелись. Саймон медленно поднял руку – ту, которой опирался о капот. В металле осталась заметная вмятина. Не слишком большая, но и не маленькая – с половину кокосового ореха. Челюсть толстяка отвисла. Это было забавное зрелище – казалось, раскрылась горловина объемистого кожаного мешка с подвешенным к нему подбородком. Несколько секунд он созерцал вмятину, затем ощупал кулак Сайма и пробурчал: – Железный он у тебя, что ли? Ну, ладно… хрр… Приходи вечером, в шесть, развесели народец. Будут за тобой трое – Васька Крюк, Копчик и, положим, Семка Клюква. Вышибешь их, тогда берись за Косого. Все-таки десять к одному… хрр… – Договорились, – Саймон кивнул. – Вечером кого спросить? – Рафку Обозного. – Толстяк растопырил пятерню на жирной груди. – Меня! Я, хрр, здешний паханито. Главная власть – на арене и в ближайших, хрр, окрестностях. Так что уложишь Мамонта – забирай тачку. А не уложишь… – его взгляд метнулся к пыточной яме, из которой торчали сапоги. – Не уложу, продашь меня в Разлом, – сказал Саймон. – Если останется что продавать, – буркнул толстяк и скрылся за воротами.***
К вечеру главная улица Сан-Эстакадо разительно переменилась. Пальмы, дома, речушка и мосты.над ней остались прежними, но шелест листьев и журчание медленных вод были заглушены гомоном, смехом, резкими гудками машин, цокотом копыт, шарканьем тысяч ноги пьяными выкриками. У живодерни, а также под портиками банка и резиденции дона-протектора маячили фигуры в синем, и среди них, судя по обилию серебряных кантов и шнуров, встречались важные чины; по мостовой тарахтели пролетки и с безумной скоростью – не меньше тридцати километров! – проносились автомобили, и хоть движение никто не счел бы оживленным, было их не так уж мало, десятка два. По мостикам фланировали щеголи в облегающих брюках, расшитых жилетах и сапогах до колен, под ручку с дамами в белых платьях, с кружевными зонтиками и веерами из перьев либо тонких расписных бамбуковых пластин. В распахнутые двери лавок и кабаков устремлялся народ, благопристойная сытая публика, какой доселе Саймон тут не видел – ни в Пустоши, ни в Дурасе, ни среди беженцев Харбохи. Простонародья, впрочем, было больше. Эти, смуглые и бородатые, в живописных отрепьях, не шастали по кабакам и не торчали на мостиках, а плотным потоком двигались к амфитеатру, то и дело шарахаясь от экипажей и машин, провожая щеголей улюлюканьем и свистом, отпуская соленые шуточки и прикладываясь к бутылям с пулькой. Рев и гогот стихали только у живодерни, а верней – у ямы; на нее поглядывали мрачно и со страхом, а на смоленских вертухаев – с откровенной ненавистью. Саймон вместе с Пашкой и Кобелино, все – без оружия, но с дорожными мешками, протолкался к воротам, по пути удостоверившись, что лиловый автомобиль находится в прежней позиции. Вмятина на капоте была заботливо выправлена, а рядом с лимузином дежурили двое крепких парней, то ли охраняя машину, то ли встречая будущего ее владельца. Оглядев верзил, Саймон довольно кивнул, сбавил шаг и, ухватив Кобелино за локоть, поинтересовался: – Приходилось ездить на такой? – А как же, хозяин! С самимдоном Антонио Монтальваном. Только подушки у него не кожаные, а плюшевые. На плюшевых, понимаешь, бабы скорее млеют, и потому дон Антонио… Саймон, под одобрительным взглядом Пашки, пнул мулата в бок и приказал кончать с воспоминаниями. Его вполне устраивали кожаные подушки; главное, что были они просторны и широки, и вся их команда, включая оставшихся в придорожной венте, могла разместиться с удобством и без толкотни. – Этот рычаг зачем? – Он показал на рукоятку справа от руля. – Скорость менять, хозяин. – А два других? – Запуск мотора и тормоз. Ручной… – Педали? Там, внизу? – Газ и тормоз. Ножной. Да что ты, хозяин? Обычной тачки не видел? – Такой рухляди – нет, – отозвался Саймон, поправил лямку мешка и потащил Кобелино к воротам. Рядом с ними появилась новая вывеска: двое бойцов, бровастый брюнет и звероподобный блондин, ломали друг другу кости, сцепившись в смертельной схватке. Брюнет, должно быть, одолевал, что подтверждала надпись: «Железный кулак», гроза Пустоши, против непобедимого чемпиона Эмилио Косого Мамонта. Ставки один к десяти". – Глянь, брат Рикардо! – Пашка остановился, разинув рот. – Глянь, как тебя размалевали, гниды! Глазки тараканьи, лобешника вовсе нет, зато челюсть-то, челюсть! Кувалда, а не челюсть! Такой, вражье семя, только жеребцов ковать! Косых! Пашку толкнули в спину, он огрызнулся, заехал кому-то локтем по ребрам, и в следующий миг тола внесла их под арку ворот. – Нам, я думаю, туда, хозяин! – Кобелино уверенно нырнул в боковую дверцу, попетлял какими-то переходами и коридорами и вывел Саймона с Пашкой прямиком к арене и к восьмерке полуголых молодцов, сидевших на низкой скамье. Клеймо их профессии отпечаталось на каждом: кто щеголял раздавленными ушами, кто – сломанной переносицей, а у крайнего слева темнела повязка на глазу. Толстяк Обозный с тремя помощниками суетился около бойцов, давая ценные указания; амфитеатр был переполнен, чистая публика в первых рядах трясла кошелями, монеты сыпались серебристым дождем, а на галерке орали, свистели, хохотали и, судя по выражению бородатых рож, жаждали крови и зрелищ. «Крысы, несчастные крысы в мышеловке», – думал Саймон, переводя взгляд со зрителей на засыпанную песком арену. Сейчас она казалась ему землей войны, а путь, проделанный к ней от стен семибратовской церквушки, – извилистым оврагом; и, как полагается, были в том овраге крутые повороты и неожиданные встречи. Временами приятные, решил он с усмешкой, представив лицо Марии и блеск изумрудной змеиной чешуи. Но овраг кончался, попетляв во времени и пространстве, и за последней его извилиной Саймона поджидали автомобиль, выжженное солнцем плоскогорье Серра-Жерал и белокаменный город Рио. – Хрр… – раздалось за спиной, и он, сбросив с плеч дорожный мешок, обернулся. Толстяк Рафаэль, вытирая потную шею, с подозрением разглядывал Кобелино. – Этого я видел. – Волосатая лапа протянулась в сторону Пашки. – А этот кто ж такой, Кулак? Больно уж рожа смазливая и знакомая, хрр… – Мои поделыцики и компаньоны, – буркнул Саймон и кивнул на скамью: – Ты, паханито, лучше туда взгляни, на отморозков своих. Где тут Косой? Кривого вижу, – он показал на бойца с выбитым глазом, – а Косого – нет. Выходит, тачку могу забирать без боя? – Заберешь, если будет на чем до колес доползти, – огрызнулся толстяк. – Хрр… Сперва с этими будешь биться – вон, с левого краю сидят, Васька Крюк, Копчик и Семка Клюква… хрр… все – кретины и коблы, и все – на "к", не исключая вас с Косым. Любишь эту букву, гуртовщик? – Предпочитаю "п", – сказал Саймон, обмениваясь с соперниками неприязненными взглядами. – "П" – отличная буква, на нее так много хороших слов. Пытать, повесить, прирезать, переломать… Хрр! – Да ты, хрр, парень не промах! – восхитился Обозный. – Ну, значит, так: Косой возьмет тех, что справа – Шланга, Тормоза, Фитиля и Витька Дантиста, а ты поработаешь над другой половиной скамейки. Напоминаю: Крюк, Копчик, Клюква, Кадык. – Э, жирный, – вмешался Пашка, – насчет Кадыка уговору не было! – Где трое, там и четверо. Народец надо веселить, – важно произнес Обозный и подтолкнул Саймона к арене. – Давай, Кулак, трудись, старайся! Хрр… Тачка дорогого стоит! Васька Крюк оказался тем самым одноглазым бойцом, сидевшим на скамейке слева. Невысокий, приземистый, широкоплечий, он неплохо работал руками, был напорист и довольно подвижен; выбитый глаз никак не сказывался на его энергии и энтузиазме. Саймон, не желая рисковать, ушел в глухую оборону, неторопливо перемещаясь по арене; он не имел понятия, как тут положено биться, чем веселить местный народец, какие приемы разрешены, а что считается запретным. Как оказалось, запретов просто нет и схватка ведется без всяких правил, что и было продемонстрировано Крюком: он бил локтями, кулаками и ногами, лягался и плевался, пылил песком, стараясь попасть в глаза, и все норовил провернуть коронный трюк – заехать сопернику пониже пупа, повыше колена. Со скамей амфитеатра подавали рекомендации и советы, и были они по большей части трехэтажными, ласкавшими сердце Саймона; точно так выражался дядюшка Федор, их смоленский сосед, промахнувшись багром по шестилапому кайману. Вскоре Саймону пришлось оставить детские воспоминания: зрителям, кажется, чудилось, что Крюк забивает его насмерть, и на арену, под улюлюканье и свист, обрушились тухлые яйца и переспевшие помидоры. Саймон не отличался брезгливостью, однако целили явно в него, а это было нарушением правил – даже в таком поединке, где правил не существовало вообще. Кроме самого главного: публика смотрит и не распускает рук. Продолжая обороняться, он подвел кривого к скамьям, где проявляли максимальную активность по части гнилых помидоров, и нанес удар – первый и единственный в этой схватке. Крюк с раскрытым ртом взлетел в воздух, перевернулся и рухнул на обидчиков Саймона – задом в корзину с метательными снарядами, а головой – в промежность ее владельцу. Раздался пронзительный вопль, корзина треснула, брызнул кровавый помидорный сок, а Саймон, отступив в середину круга, раскланялся на четыре стороны. Ошеломленные зрители молчали, и паханито Обозный распорядился этой паузой по-своему: неторопливо переваливаясь, сошел вниз, хлопнул победителя по спине, растянул губы в жабьей улыбке, пожал плечами и провозгласил: – Хрр… «Железный кулак»! Похоже, эта лаконичная характеристика понравилась галерке – там зорали: «Кулак!.. Кулак!..» – и засвистели, но на сей раз вполне одобрительно. Внизу реакция была не такой бурной; там ставили на чемпиона, и легкость, с которой его будущий противник разделался с Крюком, наводила на грустные размышления. Покинув арену, Саймон направился к своим компаньонам и поделыцикам, разминувшись по дороге с тощим жилистым верзилой. Очевидно, то был Шланг – первый из бойцов, которому полагалось испытать на собственных ребрах тяжесть чемпионского кулака. С сосредоточенным видом Шланг потирал расплющенные уши и хищно, скалился – приводил себя в боевую форму. За спиной Саймона внезапно грохнули литавры, он глянул через плечо и присвистнул. Из бокового прохода, между шеренг вскочивших и потрясавших кулаками зрителей, на арену спускался чемпион – почти такой же, как на плакате, черноволосый, густобровый, мускулистый, с глазами, сведенными к переносице. Плакат, однако, не давал представления об истинных габаритах Косого, а были они весьма внушительны: боец смоленских весил раза в полтора больше Саймона и ростом превосходил его на две ладони. Обнаженный торс великана казался угловатым и бугристым; мышцы наслаивались на мышцы, свивались в тугие жгуты, будто распирая кожу, и на фоне этого плотского изобилия голова с коротко остриженными волосами выглядела непропорционально маленькой. – Здоров, козел! – вполголоса пробормотал Пашка. – Покруче любого из огибаловских будет. Он покосился на Саймона, но тот лишь шевельнул бровью. Рост, вес и телесная мощь не имели решающего значения в поединке, так как любой противник, могучий или слабосильный, трус или храбрец, карлик или гигант, был слеплен, в общем-то, одинаково, из плоти, крови и костей – а значит, в принципе уязвим. Как говорил Чочинга, долгое время крепчает воин, но сломать ему шею можно одним ударом. Это Поучение Наставника подтверждали весь человеческий опыт и все мудрецы Земли, полагавшие, что разрушение – гораздо более легкий и простой процесс, чем созидание. У людей – не у тайят, обладавших собственным взглядом на подобные вещи, – созидание обычно ассоциировалось с жизнью и прогрессом, а разрушение, наоборот, с регрессом и смертью, то есть с чем-то негативным, отрицательным и заведомо неприятным. Однако временами эти две процедуры было невозможно разделить, так как разрушающий фактор сливался с созидающим либо предшествовал ему с той неоспоримой закономерностью, с какой закат предшествует восходу. Ричард Саймон как раз относился к числу подобных факторов, созидавших через разрушение: чтобы открыть врата на Землю, требовалось уничтожить передатчик помех, чтобы стереть передатчик в пыль, он должен был добраться до Рио и «Полтавы», а это, в свой черед, являлось следствием разрушительного акта. И не имело значения, сколь велик и могуч объект, который полагалось сокрушить: долгое время крепчает воин, но сломать ему шею можно одним ударом. На арене Мамонт добивал жилистого Шланга, гоняя его по кругу под восторженный рев публики. Вероятно, ему хотелось завершить бой каким-нибудь эффектным трюком, раздавив очередную корзину с помидорами, но Шланг не давался – Юлил, отступал, подпрыгивал и бил длинными ногами, стараясь избежать могучих чемпионских кулаков. Его не зря прозвали Шлангом – был он ловок, подвижен и гибок, хотя не настолько, чтоб справиться с Косым. Тот, похоже, отличался не одной лишь чудовищной силой, но и поразительной выносливостью: в горле Шланга уже хрипело и клокотало, а дыхание чемпиона оставалось размеренным и ровным, словно на арене качали кузнечные мехи. Наконец Косой поймал щиколотку противника и тут же ухватил его за пояс; мгновение, и Шланг устремился вверх, а затем, с размаху – вниз, на истоптанный грязный песок. Саймону показалось, что он расслышал треск ребер; лицо Пашки-Пабло болезненно перекосилось, а Кобелино буркнул: – Как всегда. Или мордой в грязь, или башкой о камень. – Он постучал по кирпичному поребрику арены. – Знаешь его? – Саймон не сводил глаз с Косого, пинавшего Шланга ногой. Зрители ревели в восторге; с каждым ударом меж губ побежденного вздувался и опадав алый пузырь. – Знаю, хозяин, всех их знаю, и Рафку Обозного тоже. Из наших он, из «плащей», жирный сучок… Паханито! Большая шишка! Дон Монтальван ему тридцатую долю отстегивает, а может, двадцатую. – Кобелино с завистью посмотрел на толстяка. – А Мамонт, он из Харки-дель-Каса, из качков смоленских. Говорят, под самим Карло Клыком служил, помощником хозяина. Служил, да проштрафился. Слегка… Если б не слегка, так не бегал бы по арене, а висел над ямой с муравьями. Дон Грегорио – не Монтальван, его не задобришь. Лютый! – Живодер, – уточнил Пашка, глядя, как Шланга уволакивают в проход. Следующие полтора часа прошли довольно оживленно, под одобрительные вопли публики, но без каких-либо сюрпризов. Ричард Саймон взял верх над Копчиком, своротив ему нос и скулу; Косой разделался с Иниго Тормозом, огромным медлительным парнем, – вывихнул противнику плечо, а затем двинул затылком о поребрик. Саймон нокаутировал Семку Клюкву на пятой минуте, мощным ударом поддых; в ответ Эмилио-Емельян пригасил Фитиля – сунул лицом в песок и держал, пока тот не начал задыхаться. Кадык, последний из соперников Саймона, оказался счастливее прочих – или умнее, поскольку напросился на удар и тут же рухнул, закатив глаза и симулируя полную потерю чувств; зато Витек Дантист, оправдывая прозвище, добрался до челюсти Косого и вышиб ему зуб – за что был пойман, измордован и уполз с арены с переломанной ногой и разбитым в кровь лицом. К тому времени, когда стало темнеть и над полем боя зажглись электрические фонари – первые, виденные Саймоном в этом мире, – чемпион и претендент шли ноздря в ноздрю. Публика вопила, предвкушая финальный поединок, паханито Обозный сиял и радостно тряс щеками, хоть котировка Мамонта упала до одного к пяти; впрочем, все основные ставки были уже сделаны, да и тем, кто ставил сейчас на Саймона песюк-другой, не слишком верилось в его победу. Собственно, тому не было особых причин. Он бился на кулаках, не показав ровным счетом ничего необычного – ни смертоносных ударов ногами, ребром ладони или сомкнутыми пальцами, ни головоломных прыжков, ни искусства сыграть с противником в невидимку, скрывшись из поля его зрения, ни той поразительной, пугающей быстроты, с которой мог бы действовать в другой час и в другом месте. Все это – все, чему обучил его Чочинга вкупе с инструкторами ЦРУ, – являлось секретным оружием Саймона, хранимым, как драгоценный меч в потертых и неказистых ножнах, до времени, до срока. Он обладал волшебным мастерством рукопашного боя, забытым на Старой Земле, но то была лишь часть его умений, переданная людьми и в принципе доступная людям; Наставник же обучал его иному – древнему искусству аборигенов Тайяхата, не признававших бластеров и ружей. Он мог метать клинки и дротики, копья и бумеранги с той же скоростью, с какой это делали четырехрукие бойцы; мог сражаться на топорах и мечах двенадцати видов, рубить легкой ичегарой с укороченным древком или широколезвийной канида, фехтовать тяжелой секирой томо с двумя лезвиями и копейным наконечником, драться когтистыми перчатками паха; он мог Выстоять против любого воина-тай в Большом Сагатори, ритуальной схватке в четыре раунда – с двумя клинками и двумя щитами, с двумя щитами, клинком и копьем, с четырьмя клинками, с двумя клинками и двумя секирами. А главное, он не боялся пролить кровь – ту кровь, что добывают не пулей и не лучом лазера, а ножом, глядя в лицо врагу, вдыхая запах его кожи, слушая стук его сердца и зная, что он прервется с коротким всхлипом, гаснущим на острие клинка. И потому Ричард Саймон был невозмутим, когда спускался на арену в пятый раз; был спокоен, когда шагал к сопернику, уминая изрытый песок подошвами башмаков; был холоден как лед, когда заглянул в разбегающиеся зрачки Косого Мамонта. Тот, наклонившись, прошипел с издевкой: – Болтали мне, ты до чужих колес охочий, гуртовщик? Кататься любишь? – Есть такой грех, – признался Саймон. – Ну, я тебя щас прокачу, бляха-муха… С ветерком! Он размахнулся, но Саймон присел и, когда над его головой пронеслось нечто тяжелое, угловатое, обхватил противника за пояс. Какую-то долю секунды они с Косым составляли единое целое; Саймон вдыхал едкий запах пота, слышал, как скрипит песок под сапогами, чувствовал трепет могучих мышц, напряжение тела, рвущегося вслед за выброшенным в пустоту кулаком. Это были такие ясные, такие привычные ощущения, что ответная реакция оказалась, как всегда, инстинктивной: немного привстать, приподнять и подтолкнуть. Он выполнил эту программу автоматически, не помышляя о ее корректировке, об уязвимых точках, прикосновение к коим могло изувечить либо убить, – а их у атакующего великана было ровно столько же, сколько у младенца или слабосильного карлика. И все они были доступны Саймону. Зрители испустили долгое протяжное «ах-ха!», огромное тело Косого ударилось о песок, а Саймон, развернувшись, уже замер в боевой стойке цатару-ко: плечи опущены, ноги – на ширине плеч, правая рука согнута в локте, кулак отведен к груди, левая, с раскрытой ладонью, вытянута вперед. Косой вскочил и ринулся к нему с громоподобным ревом, от которого заложило уши; кажется, гигант видел сейчас только левую руку Саймона и желал поймать ее, схватить, переломать. Саймон ударил правой в челюсть – ощущение было таким, будто его кулак врезался в бетонную стену. Сильный хук не остановил Косого – он лишь пошатнулся и на мгновение промедлил с атакой. Саймон успел отпрыгнуть, чудовищные руки противника вновь поймали воздух. – Трусишь, недоносок? – прорычал Эмилио-Емельян. Его левый глаз с яростью уставился на Саймона, а правый обозревал беснующуюся галерку. – Трусишь, бляха-муха? Ты поближе подойди, поближе. Тогда узнаем, почем нынче говядина в Пустоши. – Дороговата, – ответил Саймон. – Тебе не по карману. – А коль прицениться? – Ну, приценись… Не сговариваясь, они сделали шаг вперед, медленно двинулись навстречу, вытянули руки, переплели их, вцепились пальцами-клещами в плечи и замерли, слегка раскачиваясь на широко расставленных ногах. По нижним и верхним рядам пробежал возбужденный шепоток; кажется, зрителям стало ясно, что началось испытание силы. Амфитеатр тоже замер; тысячи глаз смотрели на бойцов, и Саймон внезапно подумал, что в это мгновение они выглядят точь-в-точь как на картинке рядом с воротами: два великана, брюнет и блондин, ломающие друг другу хребты, Мамонт навис над ним несокрушимой скалой, стремившейся раздавить гибкую и хрупкую тростинку. Но та не поддавалась, даже не гнулась и не потрескивала; видно, отлили ее из крепкой стали, а может, вырезали из тайятского дерева куа, чья древесина шла на топорища секир и отличалась каменной прочностью. Текли секунды, и напор скалы начал ослабевать; она уже не казалась столь несокрушимой и будто бы осела, уменьшившись в размерах и растеряв воинственный пыл. Дыхание Косого сделалось шумным и тяжким, глазные яблоки выпучились, с губ потекла слюна. Саймон попробовал поймать его взгляд, но безуспешно – зрачки противника сошлись у переносицы и смотрели куда-то вниз, на истоптанный песок в бурых пятнах запекшейся крови. Он тоже поглядел туда, предчувствуя некую каверзу – как раз вовремя, ибо Мамонт вдруг откинулся назад и попытался ударить его коленом в пах. «Такого уговора не было, приятель», – пробормотал Саймон, чуть повернувшись и подставляя бедро. Затем руки его напряглись, под пальцами хрустнула плечевая кость, и потерявший равновесие соперник начал послушно сгибаться дугой. Ноги Косого дрожали, из горла вырывался прерывистый хрип. Нижние ряды молчали, подсчитывая убытки, верхние взорвались громкими воплями. Подняв голову, Саймон увидел множество загорелых бородатых лиц, множество глаз и разинутых ртов; поначалу каждый вопил свое, но вскоре над амфитеатром раздавался единый ликующий клич: «Железный кулак»! «Железный кулак»! «Железный кулак»!" За ограждавшей арену каменной стенкой тянулся на цыпочках Пашка-Пабло, показывая Саймону оттопыренный большой палец, Радостно выплясывал Кобелино, а паханито Обозный хлопал по собственной заднице и восхищенно закатывал глазки. Потом он свел ладони, повелительно кивнул Саймону и сделал резкий жест, будто выкручивая белье. – Кажется, велят тебя прикончить, – проинформировал Саймон Косого. – Но это, я думаю, перебор. Он отшвырнул обмякшее тело, стряхнул прилипший песок и быстрым шагом направился к поребрику. Пашка, выудив откуда-то чистую тряпицу, принялся обтирать ему плечи, Кобелино держал наготове рубаху. Натянув ее, Саймон поднял свой мешок. Публика ревела и бесновалась; одни были готовы боготворить его, другие – растерзать. Эти, в первых рядах, находились ближе. – Уходим. – Он кивнул в сторону прохода. – Уходим, быстро! – Ты, гуртовщик, не торопись, – необъятная туша Обозного загородила дорогу. – Нынче ты победитель и именинник, народец с тобой пообщаться желает. Да и я тоже, хрр… Куда тебе спешить? – К моей машине. Саймон попробовал обойти толстяка, но тот вцепился в него словно клещ. – Будет твоя, если ты станешь мой! Контракт на пятьдесят боев, гуртовщик! Рио, Буэнос-Одес, Санта-Севаста и Харка-дель-Каса! А после… – Провались ты со своим контрактом! Оттолкнув Обозного, Саймон вслед за Пашкой и Кобелйно нырнул в проход. Рев, доносившийся из амфитеатра, сделался глуше, но к возбужденным людским голосам добавились треск скамей и яростные вопли. Кажется, там начиналась драка. – Хрр… – Обозный, несмотря на тучность, резво перебирал ногами, не отставая от Саймона до самых ворот. – Хрр… Не будь кретином, гуртовщик! Кретин… хрр… не знает, где его счастье, а где – несчастье. Ты ведь не кретин, хрр? Твое счастье – со мной! А несчастье, хрр, от меня… Ежели не остановишься, тогда, может, и не выйдешь… хрр… или выйдешь, а до колес не дойдешь… хрр… заложу пальцы в рот да свистну своих парней. – Не свистнешь. Нечего будет закладывать. Сбросив с плеча мешок, Саймон вытащил Шнур Доблести и потряс им у лица паханито. – Что такое? – спросил тот, отстранившись с брезгливым видом. – Хрр… Кости? Что за кости? – Фаланги пальцев. – Чьи? – Всяких свистунов. – Саймон нашарил в мешке нож и усмехнулся, всматриваясь в побелевшее лицо Обозного. – Тут еще есть место, паханито. Желаешь присоединиться? Он пощекотал рукоятью жирную складку, свисавшую с шеи толстяка, и двинулся к автомобилю. Обозный его не преследовал.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Временами рубцы, оставленные плетью, начинали ныть. Это была не та мучительная боль, от которой Гилмор дергался и извивался во время пытки; скорее даже не боль, а напоминание о ней – о том, как бич гулял по обнаженной спине и груди, о криках, что срывались с его губ, и об ухмылках, которыми мучители сопровождали каждый удар. Он не запомнил их лиц – вспоминались только фигуры в синем, мерно склонявшиеся над ним, и еще одна, у стены, в расшитом серебром мундире. Гилмор знал, что этого светлокожего мулата зовут Бучо-Прохор Перес и что он – глава полиции северного округа Рио. Капитан-кайман, а по совместительству – бугор смоленских вертухаев. К счастью, его истязали недолго, так как вина была небольшой – стихи пессимистического содержания. Что-то такое: – Волна, как женщина, летит, раскинув руки, Надеется, что ждет ее утес, Ударится в него – и отступает в муке. Пессимизм этих строк был точно отмерен, а тема несчастной любви или ностальгии по золотым минувшим временам казалась расплывчатой и неопределенной; во всяком случае, ни капли критики и никаких упоминаний о конкретных лицах вроде Грегорио-Григория или Хайме-Якова. За это, как рагу народа, полагалась бы яма с муравьями, а выживших продавали в Разлом – тогда как Гилмор хотел попасть в совершенно определенное место, в один из кибуцей Юго-Восточной Пустоши. За океаном Пустошь считалась весьма перспективной территорией – конечно, не в смысле скотоводства или селекции брюквы, а по иным причинам. Ближайший путь из Европы вел к канадским берегам, к бедному периферийному протекторату, заселенному потомками индейцев, откуда до Рио-де-Новембе и прочих бразильянских городов приходилось добираться с изрядным риском и с Помощью «торпед», которым пан Микола Сапгий решительно не доверял. Пустошь являлась гораздо более удобным местом для высадки: во-первых, ближе к Буэнос-Одес, Херсусу и Рио, а во-вторых, в определенное время года ветры дули как раз в подходящем направлении. Но информация о Пустоши и Уругвайском протекторате была настолько скудной, неясной и противоречивой, что посылать туда эмиссара без предварительной разведки казалось безумием. А пан Сапгий, несмотря на бедственное положение ЦЕРУ, был не склонен к авантюрам. И в результате Гилмор оказался в Пустоши. Это являлось самым надежным прикрытием – кибуц, Семибратовка и статус изгоя, бессрочная ссылка без права возврата в Рио… Но он понимал, что обязан вернуться, – ведь все накопленное, узнанное и занесенное в дневник не должно пропасть. Как и его стихи. Возможно, они являлись большей ценностью, чем описание Дураса и Сан-Филипа, Семибратовки, Колдобин и Марфина Угла. Гилмор старался не думать об этом, не поддаваться греху тщеславия. В Рио его, разумеется, ждали, и все же возвращение казалось Гилмору проблематичным. Он был заметен – слишком заметен, как редкостный темный боб среди коричневых и белых; как ни меняй лица, цвет останется все тем же, а значит, его могли обнаружить с гораздо большей вероятностью, чем светлокожего изгоя. Скрыться в Хаосе? Но станут ли искать? Обеспокоятся ли? Не слишком ли он ничтожен – мелочь, «шестерка», бывший архивариус, кропавший на досуге стихи? И все же ему казалось, что Пачанга ошибся – надо было отправить кого-то другого, не столь заметного, как он. Однако где эти люди? И сколько их? Наверняка немного; сам он был связан только с одним – со стариком, который нашел его и предложил работу. Сперва ему думалось, что старый Пачанга – из «торпед», из мытарей Хосе-Иосифа, но вскоре он понял, что ошибается – слишком многое было известно Пачанге про ЦЕРУ, МОСАЙ и Байкальский Хурал, про батьку Стефана Ментяя и Миколу Сапгия и даже про пана Самийло Калюжного. Впрочем, это теперь не имело ни значения, ни смысла. Ни гибнущий остров Украины, ни варварское торжество Хурала, ни Сапгий с Пачангой, ни собственные его труды и странствия в Пустоши, ни муки, которые он перенес, ни риск возвращения в Рио. Все это казалось неважным, незначительным и каким-то ненатуральным, будто все страны земные сделались вдруг декорацией до ужаса нелепого спектакля, а их повелители – актерами, что кривляются на сцене среди старых драных полотнищ и фанерных щитов с облупившейся росписью. А где-то был зал, протянувшийся в необозримые дали, гигантский зал, обитель человечества, но собравшихся там людей не волновало происходившее на сцене; для большинства из них она являлась не реальностью, не чем-то сиюминутным и современным, имевшим право на существование, а лишь картинкой из старого полузабытого фильма или парой строк в учебнике истории. Для большинства из них. Но только не для Ричарда Саймона, брата Рикардо, посланника звезд! Только не для него! За эту истину и этого человека Гилмор готов был пойти на смерть. Вот Путь Теней Ветра; никто не должен разглядеть тебя, а ты видишь всех, ты прячешься среди скал и деревьев, трава не шуршит под твоими ногами, тело не испускает запахов, кожа покрыта лиственным соком и обсыпана землей. Ты сделался эхом тишины, мраком во мраке, отблеском лунных лучей в быстрых водах; ты стал травой среди трав, птицей среди птиц, змеей среди змей. Теперь выбери нужный миг – и ужаль! Из Поучений Чочинги КрепкорукогоЧасть III. ПУТЬ ТЕНЕЙ ВЕТРА
Глава 7
Мария танцевала. Шаловливыми змейками вились темно-каштановые локоны, смуглая кожа блестела под щедрым ливнем солнечных лучей, плескалась белая ткань платья, то обтягивая гибкую тонкую фигурку девушки, то раскрываясь чашечкой цветка, то взмывая над двойным стебельком быстрых стремительных ног. Мария танцевала. Сияли карие глаза под ровными полукружьями бровей, в улыбке трепетали губы, грудь покачивалась в такт движениям бедер и плеч, головка на стройной шее склонялась вниз или гордо откидывалась назад, туфельки цокали по истертым каменным плитам, и казалось, что тело плясуньи рождает мелодию, стремительную и плавную одновременно, похожую на ветер или течение ручья, что разливается на равнине или бурлит и скачет, свергаясь с горного склона. Мария танцевала, и внутренний дворик, замкнутый квадратом грубых каменных стен, танцевал вместе с нею. Мохнатая пальма у ворот шуршала и потряхивала перистыми листьями, колыхалась вода в крошечном круглом бассейне, загорались и гасли отблески в окнах; плющ, взбиравшийся на стены, размахивал зелеными руками, будто целая армия дирижеров, не трогаясь ни на шаг; плясали столбы, подпиравшие рваный брезентовый тент, который вздувался и опадал, точно натянутый на обод огромного барабана. И все остальное в маленьком патио не стояло на месте, а неслось и кружилось, вертелось и приплясывало в ритме танго – даже старые тростниковые циновки, на которых сидел Ричард Саймон. Или это раскачивался он сам, подчиняясь неслышной мелодии? Смутные видения плыли перед ним клочьями разноцветного тумана. Синее небо, жаркое солнце и маленький дворик, однако не бедный, не нищенский, а облицованный мозаикой и лазуритом. Вместо бассейна – фонтан, вместо окон – мавританские арки, вместо циновок – пышный ковер, уставленный кувшинами и блюдами; напротив – бронзоволицый и синеглазый мужчина в шелковой джуббе. Аллах Акбар, Счастливая Аравия, город Басра, дворец эмира Абдаллаха. Девушки, что изгибаются и пляшут под плеск и шелест фонтанных струй. Как же их звали? Айша, Дильбар, Махрух, Билкис, Нази, Хаджар… Великолепные плясуньи, но им далеко до Марии. Саймон вздохнул и улыбнулся. Приятная вещь безделье, но вдвое приятней, когда разделяешь досуг с очаровательной девушкой и другом. Особенно с таким, как Каа: все чувствует, все понимает и молчит. Прочие его компаньоны находились в городе. Праздник, что отмечался седьмого ноября, миновал, но и по будням в Рио жизнь била ключом, предоставляя массу возможностей поразвлечься. Пашка с Филином мечтали окунуться в нее и потратить выданные им сребреники – на чикиток, пульку и игру в кости, которая, если повезет, могла завершиться либо вселенской попойкой, либо тотальным мордобоем. В гавани Рио и на ближайших улицах, куда не заглядывали сине-мундирные, было не счесть кабаков, а в них попадался разнообразный народец – девицы и шулеры, грузчики и моряки, стрелки из вольных, не ужившиеся ни в одном из кланов, беглые отморозки, мошенники всех мастей и просто портовая пьянь. Этот район контролировался «торпедами» и «плащами», отнюдь не склонными поддерживать порядок; а значит, там царило бесшабашное веселье, и неофиты из дальних провинций могли просадить деньгу без лишних вопросов и к полному удовольствию. Так говорил Кобелино, и Пашка намеревался проверить все сказанное на практике. Сам мулат отправился к некой влиятельной личности, владельцу погребальной конторы или пивной, а может, обоих заведений вместе, – кажется, область его интересов была чрезвычайно разнообразна. Еще на подъезде к городу Кобелино стоял на том, чтобы сразу наведаться к его приятелю; из слов мулата выходило, что безопаснее места нет и что под кровом Пако Гробовщика их не достать ни дону Грегорио, ни Монтальвану, ни даже Хорхе Смотрителю со всеми его крокодильерами. Однако Гилмор решительно воспротивился; как оказалось, у него тоже имелись приятели, пусть не такие крутые, как этот Гробовщик, зато надежные. Следуя указаниям Майкла-Мигеля, Саймон свернул на неширокую тропу, петлявшую в бамбуковых зарослях. Назвать ее дорогой было бы трудно, но лиловый автомобиль, приминая тут же встававшие жесткие травы, преодолел километра четыре. Дальше намек на дорогу исчез, и они двинулись пешком по непролазным джунглям, где пальмы подпирал бамбук, толстые змеи лиан ползли по стволам кювету и солнцу, а в вышине маячили кроны гигантских хвойных деревьев с невероятно длинными мягкими иглами. Этот лес, где обитали шерстистые обезьяны сапажу, к которым Каа отнесся с неподдельным интересом, взбирался по склонам крутых холмов, нырял в лощины и овраги, прятал россыпи камней и выглядел таким же диким, как амазонская сельва. Не верилось, что за холмами есть что-то иное, кроме других таких же заросших джунглями холмов, но там, на океанском берегу, лежал обширный населенный город. Впрочем, как бы он ни был велик, он оставался всего лишь тенью былого, осколком цивилизации, который теснили зеленое море джунглей и хаос холмов. Вся эта местность, возникшая, когда при трансгрессии рухнул хребет над Санту-Андре, Сан-Паулу и прежним Рио, теперь так и звалась – Хаосом. Холмы, повышаясь к северу, переходили в лесистое плоскогорье Серра-Жерал, тянувшееся до Параны и изъязвленное кратерами, с немногочисленным населением, промышлявшим охотой, вырубкой леса, фермерством и разбоем. Кроме города Херсус-дель-Плата, встречалось там несколько деревень, но их за весь тысячекилометровый путь Саймон увидел не более трех десятков. Что же касается Хаоса, то он, как утверждали Майкл-Мигель и Кобелино, являлся прибежищем для всех отринутых городом, кто не попал вертухаям в лапы, не очутился в кибуцах и других местах, где качали нефть или дробили камень. Выкурить отсюда беглецов было абсолютно невозможно, если не знать точного адреса, – разве что обрушить на Хаос бочки с горящим напалмом. Однако этот полезный продукт в ФРБ, ввиду отсутствия должных знаний, не производили. Продравшись сквозь бамбуковый частокол, попетляв сре-. ди холмов и форсировав ручей, путники остановились у скромной фазенды, выстроенной, в соответствии с местным обычаем, вокруг патио и небольшого водоема. Дом был стар и невелик – комната и кухня под общей с конюшней крышей; на плоскую кровлю вела щербатая каменная лестница, а под кухней был отрыт погреб, глубокий, холодный и темный, вполне подходящий, чтоб спрятать в нем драгоценный маяк. Это убогое жилище окружал строй мохнатых пальм, за ними тянулись непроходимые дебри, а за холмистой грядой, километрах в пятнадцати, лежала северная граница Рио. Место было глухим, уединенным, но близким к городу, и Саймон решил, что от добра добра не ищут – лучшей базы и тайника ему не найти. Тем более что старый хозяин, которого звали Пачангой, был человеком неназойливым и крайне нелюбопытным. Встретив гостей у ворот, он приподнял нависшие брови, хмыкнул при виде Каа, перебросился парой слов с Майклом-Мигелем, будто расстались они вчерашним вечером, и тут же исчез в конюшне. Вскоре он вывел двух оседланных лошадей и отправился по каким-то таинственным делам, прихватив с собою Гилмора, – без всяких объяснений, только буркнул, что в кухне, мол, ларь с кукурузной мукой, масло – в шкафу, вода – в ручье, а в подполе висит тапирий окорок. Это наводило на размышления, в том числе – и разговор Майкла-Мигеля с Пачангой, не походивший на встречу давних друзей, но Саймон решил не торопиться с вопросами. Все могло объясняться самым естественным образом – хозяину было за семьдесят, и возраст его оправдывал любые чудачества и капризы. Последний пируэт, поклон – и Мария замерла, глядя на Саймона блестящими глазами. Казалось, поза ее, и этот взгляд, и руки, взметнувшиеся крыльями, говорили: вот я!.. Смотри, любуйся, удивляйся! Я танцевала для тебя – ты понял, что это значит?.. Голова Каа, свернувшегося за спиною Саймона, приподнялась, послышался мерный рокот, похожий на гул океанского прибоя или шум вертолетных винтов. Это служило знаком одобрения; Каа, старый мудрый змей, неплохо разбирался в танцах. Возможно, Мария напоминала ему девушек Чимары, таких же смуглых, темноволосых, кареглазых, пусть с четырьмя руками, но пахнувших так же приятно, травой и ароматом цветов. Питон обладал острейшим обонянием, и запахи часто определяли его отношение к людям, его симпатии и антипатии. Кажется, Мария ему нравилась. Шагнув к Саймону, она опустилась на циновки в трех шагах от него, вытянула руку и положила ладонь на изумрудную шею Каа. Змей довольно зарокотал. – Тебе понравилось. Дик? – Ты замечательно танцуешь, малышка. Я вспоминал… Пауза. Потом она спросила – безмолвно, взмахом ресниц и взглядом – о чем? – Об Аллах Акбаре. Есть такой мир, населенный арабами. Неспокойный, зато забавный. – Арабами? Никогда их не видела, Дик. Кажется, они живут очень далеко, в Австралийских Эмиратах, на самом краю света. – Это не те арабы, – пояснил Саймон. – Это потомки оставшихся на Земле и эмигрировавших в Австралию, когда Персидский залив соединился с Красным морем. Не думаю, что их очень много. А на Аллах Акбаре живут четыреста миллионов арабов, и есть у них свои шейхи, короли, президенты и эмиры. Я был гостем одного из них, Азиз ад-Дина Абдалла-ха, эмира Басры… Мы сидели в таком же дворике, только там был не бассейн, а фонтан… Он снова смолк, погрузившись в воспоминания. – Азиз ад-Дин Абдаллах, – повторила Мария. – Странное имя. Какой он, этот Азиз? Такой же страшный и жестокий, как наши доны? И тебя послали, чтобы его покарать? – Нет, милая, нет – помочь, не покарать. Он – приятный человек, немолодой, но сохранивший любовь к фантазиям и сказкам. И представляешь, у него – синие глаза! Ресницы Марии взметнулись темными веерами. – Что же тут удивительного, Дик? У тебя тоже синие. – Она порозовела и прошептала, отвернувшись: – Мне нравится. Саймон улыбнулся. – У арабов не бывает синих глаз. Черные, карие, может быть – темно-серые или зеленые, только не синие. Но этот Абдаллах не был чистокровным арабом. Когда-то, еще до Исхода, почти четыре столетия тому назад, девушка их рода, арабская принцесса, стала женой европейца – русского, из Петербурга. Был такой город на севере. Потом она возвратилась домой, в знойную южную страну, где жили они долго и счастливо, в богатстве и радости. А по истечении лет супруг ее принял мусульманство – ради любви к ней и к их малолетнему сыну, будущему эмиру Азиз ад-Дин. От этого синеглазого малыша Абдаллах и вел свою родословную. Он рассказывал мне… – Сказку? – Глаза Марии совсем потемнели и сделались огромными. Она придвинулась поближе. – Я тоже так подумал. Историю о своем предке с очень длинным именем Дидбан ад-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн-Мусафар ат-Навфали. Но на родине его называли иначе… – Саймон сделал паузу, всматриваясь в лицо Марии, и произнес: – Сергей Невлюдов. Она кивнула, задумчиво поглаживая изумрудную шею Каа. – Я что-то слышала, что-то слышала о нем… – Этот человек изобрел Пандус. Межзвездный трансгрессор. В две тысячи четвертом, еще до того, как женился на своей принцессе. Понимаешь? Создал теорию мгновенных перемещений, разработал все элементы конструкции, все технические описания и чертежи, дал методику поиска планет, подходящих для колонизации, и не забыл о средствах защиты, о передатчиках, не позволяющих сфокусировать поисковый луч… таких, какой стоит на Луне. – О! – сказала Мария, и губы ее тоже стали похожими на букву "о". – Теперь я вспоминаю, что слышала о нем… Древний ученый, да? Очень великий и мудрый. – Очень загадочный, – добавил Саймон. – Видишь ли, то, что он сотворил, не под силу человеку, даже самому мудрому и великому. Девушка придвинулась еще ближе, и солнце, висевшее над западной стеной, позолотило ее волосы. Теперь они были цвета старого меда или густого янтаря. – Но почему? Почему, Ди-ик? – От нее пахло давно забытыми ароматами, как от Чии в дни его юности, и точно так же она произносила «Ди-ик», напевно и протяжно. – Потому, – сказал Саймон, – что мудрец может совершить великое открытие, но разработка технического устройства, даже с помощью компьютеров, – совсем другое дело. Здесь нужен труд многих людей, специалистов по электронике, астрофизиков и материаловедов, математиков и программистов, конструкторов, наконец. А он выполнил всю работу один. Сделал и разослал чертежи по сотням адресов через компьютерную сеть, во все страны, на все континенты, правителям, военным и ученым, и даже в такие места, которые считались секретными. Как? – Как? – эхом откликнулась Мария. Теперь она сидела на расстоянии протянутой руки, и Саймон слышал ее частое возбужденное дыхание. – Никому об этом не известно, даже эмиру Абдаллаху, его потомку. Но у эмира есть музей… – Заметив, что это слово непонятно Марии, Саймон пояснил: – Собрание всяких редкостей, древностей и фамильных сокровищ. Я побывал там в огромной пещере под скалами, к востоку от Басры, и видел множество чудес, много такого, от чего разбегаются глаза и пересыхает в горле. Но самым чудесным был памятный диск старый диск для компьютера, который… Прохладные пальцы Марии коснулись его запястья. – Подожди, Дик. Компьютер – это машина, умевшая считать? Кажется, они еще говорили и показывали картинки. – Он сделал утвердительный жест, и девушка с торжеством воскликнула: – Видишь, я знаю, знаю! Их придумали в древние времена, еще до Исхода, о котором ты рассказывал нам с Мигелем. Теперь их нет. На Земле нет… А у вас, на звездах? – Плюнуть некуда, – с чувством сказал Саймон, приспустил рукав и продемонстрировал Марии свой коммуникационный браслет. Она кивнула: – Да, я помню. В этом твоем украшении тоже есть маленький компьютер. Но что такое памятный диск? Зачем он? И почему – памятный? – Это устройство для хранения информации, – пояснил Саймон. – На нем могут быть тексты, картинки или фильмы. Если тексты, то диск подобен книге – вернее, тысяче книг, хотя размер его вот такой. – Он показал, сложив пальцы колечком. – Записать и прочитать текст можно только с помощью компьютера. Любой текст – стихи, письмо, математические расчеты или дневник. На том диске, который я нашел у Абдаллаха, и оказался такой дневник. Записки Сергея Невлюдова, сделанные им в преклонных годах. Его жизнеописание, а также история создания Пандуса. Рассказ о том, как он спроектировал трансгрессор. Мария снова придвинулась к нему. Теперь их колени соприкасались, и в темных зрачках девушки Саймон видел свое отражение – крохотное, но поразительно четкое. – И что же? – спросила она. – Понимаешь, малышка, диск очень старый, и хоть запи дублируется неоднократно, эксперты не смогли ее восстановить. Восстановить полностью, я имею в виду. Однако кое-что они прочитали, и это в самом деле похоже на сказку. Неклюдов писал, что Пандус – не его творение, и не творение вообще, если считать, что этот процесс – прерогатива людей или Божественного Провидения. Он только сформулировал проблему, причем в самой обобщенной форме: найти способ выживания человечества. Видишь ли, тогда, в двадцатом и двадцать первом веках… – Саймон смолк, призадумался на секунду, потом махнул рукой. – В общем, все было очень плохо. Две мировые войны и сотня малых, революции, ядерная угроза, вечные споры и конфликты, перенаселение, экологический кризис. Словом, наш мир двигался к гибели, и Невлюдов задал вопрос – как же ее предотвратить? Задал вопрос и получил ответ. – От кого, Ди-ик? – Зрачки Марии позеленели от любопытства. – От всемогущего Джинна. – Саймон улыбнулся. – То есть он называл это существо Джинном. Природа его неясна, но есть подозрение, что это разум, возникший в глобальной компьютерной сети. Понимаешь, не искусственный интеллект, сотворенный людьми, а естественный, но электронный, зародившийся в некий момент при благоприятных условиях. Иная форма жизни, с которой Невлюдов установил контакт. – Не спуская глаз с лица Марии, он сделал паузу, потом медленно промолвил: – Ему повезло, малышка, и всем нам – тоже. Всем нам, людям. Во-первых, этот Джинн не был враждебен человечеству, а, во-вторых, Невлюдов умел задавать нужные вопросы… И в результате мы получили Пан-дус. Губы Марии раскрылись в изумленном вздохе: – Неужели это… это правда, Ди-ик? Саймон пожал плечами. – Не стану утверждать наверняка, но иных версий нет. Может, я что-то найду на Земле. Еще одну копию диска или нечто такое, что подтверждает или опровергает эту гипотезу. Посмотрим! – За этим тебя и прислали? – Девушка напряженно глядела на него. – Не только за этим. Тайна Невлюдова – побочная цель, е самая важная. Куда важнее уничтожить передатчики помех, но и это идет вторым номером. – А первым? Она ожидала ответа затаив дыхание, и Саймон чуть не сказал: конечно, встретиться с тобой. Но это было бы неправдой; их встреча явилась случайностью, подарком судьбы, который приходит не каждому в руки, и только сейчас он понял, сколь драгоценен сей дар. Он не хотел его терять – даже если придется остаться на Земле. – Что же первое? – повторила Мария, и он ответил: – Выжить. Выжить и, если повезет, вернуться. – Потом добавил: – Ты… ты бы ушла со мной? Он мог не спрашивать. Губы ее были упругими, прохладными и терпкими, словно впитавшими горечь покинутой Земли, но поцелуй оказался сладким. «Нет печали без капли радости», – подумал Саймон, вновь склоняясь к ее лицу. Оно казалось сейчас каким-то мягким и беззащитным, совсем не похожим на решительное личико Чии. Все-таки это была другая девушка. Они просидели обнявшись, в молчании, пока солнце не скрылось за стеной. Каа дремал, уткнувшись носом в жесткую бамбуковую циновку, небо и вода в бассейне потемнели, пальма у ворот будто бы сделалась ниже и свесила листья в грустной задумчивости, а заросли плюща казались теперь серыми растрепанными коврами, небрежно вывешенными на стенах. Подул ветер, листья пальмы зашелестели, и бамбук на склоне холма откликнулся сухим шорохом. Губы Марии дрогнули: – Ди-ик… – Да? – Он обнимал ее за плечи, вдыхая нежный аромат волос. – Невлюдов… тот ученый… Что стало с ним? – Как было сказано, он женился на прекрасной принцессе, и жили они долго и счастливо. – Рот Саймона растянулся в улыбке. – Финал вполне закономерный. Он выполнил долг перед человечеством, и оставалось лишь пожелать чего-то для себя. Как-никак он подружился с Джинном! Вот он и пожелал того, что нужно всякому мужчине. – А что нужно мужчине? – спросила Мария, касаясь губами его век. – Встретить свою принцессу, разумеется. Это являлось бесспорным фактом, и Мария затихла. Потом раздалось снова: – Ди-ик? А Джинн, тот разум в компьютере? Он все еще существует? – Вряд ли, милая. Его вместилищем была глобальная сеть Земли, демонтированная в двадцать первом веке. Понимаешь, чтобы возник подобный разум, нужно огромное количество компьютеров, соединенных между собой, способных обмениваться информацией. А еще – программы, бесчисленное множество программ, которые позволяют делать самые разные вещи – считать и обрабатывать данные, прогнозировать и распознавать переводить с языка на язык, моделировать всевозможные процессы – и в точных науках, и в экономике, и в психологии. Тогда количество переходит в качество. – Но разве у вас, на звездах, нет таких программ и сетей из тысяч и тысяч компьютеров? – спросила Мария. – Есть! Ты сам говорил! Значит, Джинн не умер? Может быть, он отправился в космос вместе с людьми и теперь живет на каждой из ваших планет, а вы об этом и не знаете? – Может быть, – согласился Саймон, представив семейство загадочных электронных спрутов, что прячутся в глобальных сетях Колумбии и России, Южмерики и Европы, Сельджукии и Китая. Эта картина повергла его в трепет; крепче обняв Марию, он пробормотал: – Может, и так, девочка, но это уже совсем другие Джинны. Они не желают общаться с нами и пока что не сделали людям ничего хорошего. Правда, плохого тоже. Плохое мы делаем сами себе. Лицо Марии стало несчастным, и он подумал, что в эту секунду видит она мешок, висящий на балке, поверхность озера под ногами и мельтешащих в воде безжалостных тварей. Однако это определение не совсем верно; зверь есть зверь, и чувства его просты – голод, страх и ярость, порожденная голодом или страхом. По-настоящему безжалостными бывают только люди. – Наши все не возвращаются, – сказала Мария, вздохнув и повернувшись к сторожившей ворота пальме. – Хочешь, я покажу тебе танец с факелами? Его пляшут в сумерках и обязательно у воды, чтобы в ней отражался огонь. Так меня мама учила. Очень красивый танец. Хочешь? Пока никто не вернулся? Саймон молча кивнул.***
Они возвратились на следующий день, часам к трем: сначала – Проказа с Филином, затем – Гилмор на лошади, но без старика хозяина, и, наконец, Кобелино. Штаны на Филине висели лохмотьями, физиономию Пашки-Пабло украшал, здоровенный синяк, но оба казались довольными; Пашка все порывался рассказать про двух красоток, Урсулку и Пепитку, беленькую и смугленькую, да только вот какого колера какая он – вражье семя! – подзабыл. Гилмор явился преображенным: в белом щеголеватом костюме, в сапогах крокодильей кожи и с полированной тростью, отделанной серебром. Его курчавые волосы были выпрямлены, подстрижены и подкрашены, чтобы имитировать седину, широкий негритянский нос вроде бы стал поуже и поострей, а кожа чуть поблекла, так что он мог при случае сойти за очень темного мулата. Но, разумеется, не из простых – как минимум мытаря или бугра в каком-нибудь злачном заведении, где под бульканье и звон стаканов кружат ночные бабочки Урсулы да Пепиты. Кобелино вроде бы остался прежним: штаны, рубаха да стоптанные башмаки, ниточка усиков над сочным ртом, гладкая шафрановая кожа и поволока в очах, которые чуть заметно посверкивали,, когда их взгляд обращался к Марии. Саймон, однако, подметил, что несет от мулата сивухой, а еще появилась в нем какая-то уверенность, будто ему, извергу и отморозку, сам Монтальван даровал прощенье и посулил, в виде особой милости, прокатить в своем обитом плюшем автомобиле. Правда, под строгим хозяйским взором Кобелино увял и начал совершать мелкие беспорядочные движения: то теребил пояс, то почесывал за ухом, то, горестно кивая головой, пересчитывал дыры на рубашке. – Докладывай! – распорядился Саймон. – Свиделись мы с Гробовщиком, хозяин. Жив он, здоров, в яму пока что не угодил и очень насчет тебя любопытствует., Ты, говорит, Кобель, умеешь паханов себе выбирать – не хуже, чем баб и девок. Чутье у тебя кобелиное на стоящих. людей, особенно если к морде кулак приложат, а после стакан поднесут. – Дальше! – Саймон нахмурился, а Пашка фыркнул и пробурчал: – Будет тебе кулак, гнида навозная, а вот стакана не обещаю. Саймон велел ему заткнуться и кивнул Кобелино. – Еще расспрашивал, хозяин, кто вышиб с арены Емельку Кривого. Пако сам не дурак подраться, толк понимает и к хорошим бойцам – со всем уважением… мимо чарку не пронесет. Вот и спрашивал, интересовался. По радио, мол, трепались: завелся в Эстакаде новый чемпион – ну, а мы как раз из тех краев, со свежими, значит, новостями. А Мамонт – что… Мамонт у него без сочувствия, хоть и знатный боец, да из смоленских, а Пако смоленских не любит, у него на смоленских зуб, потому как… – Невнятно излагаешь, – прервал мулата Саймон. – О чем ты с ним договорился? Ну! Быстро и коротко! – Договорился, что хочет он на тебя поглядеть. Сегодня, хозяин, между пятью и шестью, так что можем уже отправляться. Но только чтоб был ты один, то есть со мной, и больше чтоб никого, ни единого человечка. – Плохо договорился. Не он на меня, я на него глядеть буду. – Саймон повернул голову, осмотрел Пашку с синяком, Филина в рваных штанах, сморщился и кивнул Гилмору: – Мигель! Пойдешь со мной. – А я? – подскочил Пашка. – Ты ведь к бандюганам едешь, брат Рикардо, а с ними, не в обиду сказать, толк от Мигеля невелик. Взял бы нас с Филином. Прихватим ножики и… – Вы уже навоевались, – отрезал Саймон и зашагал к воротам. До машины, спрятанной в зарослях, пришлось добираться не меньше часа. Автомобиль был на месте, в целости н сохранности, только на правом крыле благоухала куча обезьяньего помета. «Хорошо, что не на сиденье», – подумал Саймон, залезая внутрь. Проделав неблизкий путь от Сан-Эстакадо до Рио, он не избавился от удивления, что этот лиловый монстр ездит, слушается руля и тормозит, если нажать на педаль. Не боевая «саламандра» и даже не глайдер, однако вполне приемлемое транспортное средство. В целом экипаж казался надежным, хотя и громоздким, но скорость, маневренность и примитивные тряские рессоры оставляли желать лучшего. С этим, правда, Саймон готов был смириться, однако запах плохо очищенного бензина, рев мотора и пронзительный клаксон его раздражали. Лиловый автомобиль блокировал разом два его чувства, столь необходимых для выживания, – обоняние и слух, и Саймону все время чудилось, будто едет он в пустой бензиновой бочке, набитой булыжниками. Впрочем, грохот и тряска не помешали Кобелино заснуть глубоким сладким сном, пока они выбирались на дорогу, что вела к городской окраине. По этой магистрали, называвшейся Западным трактом, катили немногочисленные фургоны и телеги, запряженные мулами и лошадьми; дорога, обогнув зеленый выступ Хаоса, тянулась на пологий холм, у подножия которого лежали плантации масличных деревьев вперемешку с цитрусовыми рощами и кукурузными полями. На ближнем поле мерно сгибались крохотные полуголые фигурки в соломенных шляпах. Кроме них, Саймон заметил всадников с карабинами и плетьми: эти важно восседали в седлах, посматривая по сторонам, а временами что-то вопили – что именно, заглушалось ревом двигателя и храпом Кобелино. – Столичный кибуц, – пояснил Гилмор, мрачнея лицом. – Для граждан, отбывающих малую сельскохозяйственную повинность. «Светлый путь». – Путь? При чем тут путь? – Саймон переключил передачу, сбавил скорость и удивленно воззрился на темнокожего учителя. Тот помрачнел еще больше. – Это название кибуца, мой звездный брат. За ним, на вырубках, – угодья вольных фермеров. Вольных, пока не рыпаются и налоги платят. «Белый», четверть урожая – в казну, «черный», другая четверть – Хорхе Смотрителю, за покровительство и крышу. Все поровну, все справедливо. – И никаких эксцессов? – осведомился Саймон. – Почему же. Случались переделы, да все в один карман. И сейчас, и при донецких, и при домушниках. – Домушники – кто такие? Про них ты мне не рассказывал. – «Наш дом – Бразилия» – партия власти в давние времена. Правили долго, покончили с Русской Дружиной, а их самих вырезали донецкие в Большом Переделе, лет двести назад. – А кто вырезал донецких? – Союз Бандеро, в две тысячи двести восьмом. Крокоди льеры, смоленские и дерибасовские. «Штыков» тогда еще w было, а клинки, «торпеды» и мелочь вроде «плащей» боялись ввязаться в ту свару. С заднего сиденья, где спал Кобелино, послышалась затейливая рулада. Саймон хмыкнул. Когда автомобиль, рыча и пыхтя, взобрался на холм, он приглушил мотор и встал, оглядывая зеленые дебри Хаоса и уходившую к югу равнину, за которой синел океан. Там была бухта – огромная, с неестественно правильными очертаниями, напоминавшими след чудовищной подковы; несомненно, затопленный кратер на месте прежнего Рио. Новый город лежал вдоль нее широким полукольцом: слева – белые особняки и виллы, церкви и пятиглавый собор, обнесенные древней, но еще внушительной каменной стеной, справа – гавань, железнодорожная колея И набережная, за которой тянулся лабиринт узких, кривых и пестрых улочек. Набережную проложили от площади, служившей, видимо, городским центром; она выходила к морю и отделяла богатый район от порта. Главной ее достопримечательностью являлось массивное здание в пять или шесть этажей, окруженное пальмами, но серое и мрачное, словно гробница. Перед ним цветными жучками мельтешили автомобили и пролетки. К востоку от особняков и вилл вдавалась в море скала странного синеватого оттенка, с плоской вершиной и круты-ми склонами, будто стесанными гигантским топором. На этом каменном пне стояла крепость – квадратные башни и стены из бурого кирпича, ворота, к которым вела вырубленная в скале лестница, центральная цитадель и вышки на бревенчатых опорах. Сооружение напоминало средневековый замок, но над одной из башен торчали вверх антенны, на вышках поблескивали пулеметные стволы, а кое-где виднелись тонкие журавлиные шеи подъемников. Крепостная скала,. белые виллы, площадь и гавань образовывали как бы внутреннее городское полукольцо, охваченное со стороны суши тремя промышленными районами, – видимо, более поздней застройкой, где жилые касы соседствовали с приземистыми корпусами фабрик, какими-то складами и хранилищами, водонапорными башнями и куполами немногочисленных церквей. Эту внешнюю подкову рассекали покрытые асфальтом дороги: одна, на которой замер сейчас лиловый лимузин, подходила с запада, другая тянулась на север, между дебрями Хаоса и прибрежными холмами. В общем и целом, если не вспоминать о бандитских кланах, переделах, кибуцах, налогах и остальных мелочах, столица ФРБ казалась обширным и процветающим городом тысяч на триста жителей – а может, на четыреста, считая с окрестными фермами и поселениями. – Синяя скала, – произнес Майкл-Мигель, заметив, что Саймон разглядывает крепость. – Как гласят предания, «Полтава» причалила сразу за ней. Высадили десант, перебили пару тысяч аборигенов, затем построили Форт, гавань и городскую стену. Нынче это Центральный округ Рио. А ближе к нам три новых – Восточный, Северный и Западный. – Что теперь в крепости? – спросил Саймон. Учитель, с неприязнью покосившись на громко храпевшего Кобелино, пожал узкими плечами. – Ничего интересного, брат Рикардо. Стены, башни, гарнизон «штыков». Еще – столичные карабинеры, казармы, арсенал. В главном здании – тюрьма, а в подвалах – свалка. Помнишь, я говорил о Старом Архиве? Вот он-то и находится под нижним тюремным ярусом. – Ничего интересного, говоришь? – Саймон перевел взгляд с крепости на площадь. – А там что? Вроде гробика с пальмами? – Серый Дом, он же – Богадельня, официальная резиденция Бразильянской Думы и главных департаментов. – Гилмор принялся перечислять, загибая пальцы: – Общественного здоровья, Финансов, Продовольствия, Водного Транспорта, Медицины, еще – Топливный и Военный. Там же – Архив и государственный банк. Архив, в котором я служил, тоже в подвале. – Словом, правительство, – резюмировал Саймон. – И доны там обитают? – Это никому не известно. Я прослужил в Архиве тринадцать лет, но попадались мне лишь чиновники мелкие паханито да думаки, болтуны из Думы. Вот на этих можно глядеть шесть дней в неделю, с десяти до четырех. Особенно когда они в кассу валят, за песюками. Он пробормотал что-то непечатное, несообразное с его интеллигентной внешностью и белым, с иголочки, костюмом. Саймон ухмыльнулся, сел и надавил клаксон. Пронзительный вопль повис в воздухе, и храп на заднем сиденье прекратился. – Куда ехать? – спросил Саймон, не оборачиваясь. – Ах-ха-а… – раздался сзади сладкий зевок. – Прямо, хозяин, прямо. Там, на въезде, площадь, на ней живодерня стоит, так ты мимо нее газуй, не задерживайся. Третий поворот направо, второй налево, и тормози у баобаба. Здоровый такой баобаб, на Аргентинской улице, у пивной «Красный конь». Мотор взревел, автомобиль ринулся с холма и, обогнав по дороге неуклюжий дымящий трейлер и несколько груженных сеном телег, подкатил к площади. За ней пригородное шоссе переходило в улицу, застроенную невысокими домами: белые, почти глухие стены, черепичные кровли, узкие окна на уровне второго этажа, крохотные балкончики, увитые зеленью. Справа на площади располагался кабак, слева – живодерня; иными словами, полицейский участок с неизменными воротом и ямой. Яма была пуста, но рядом широки кругом стояли люди, облаченные в синее, и щелкали бичами то и дело поднимая белесую мелкую пыль. В кольце их кто-то метался и исходил криком, жалобным и нестерпимо пронзительным. Притормозив, Саймон поднялся, опираясь рукой о рулевое колесо. Теперь он видел, что избивали парня – лет семнадцати или шестнадцати, тощего, в окровавленных лохмотьях, свисавших с исполосованных плеч. Синемундирные гоняли его по кругу с таким расчетом, чтоб дотянуться до жертвы тонким кончиком бича, оставив алую полоску. Временами они промахивались, что -вызывало проклятия и хохот – парень был маленький, юркий и, вероятно, еще не лишился сил. Напротив, у кабака, толпились зрители; кто-то глядел мрачновато, а кто-то – с жадным любопытством, но все молчали, переминаясь с ноги на ногу и почесывая в затылках. – За что его? – спросил Саймон. Перед ним вдруг замаячили развалины панамской деревушки на Латмерике, трупы женщин со вспоротыми животами, тела мужчин, развешанных на столбах. – Спер что-нибудь, – с зевком откликнулся Кобелино. Гилмор, не поднимая глаз, уткнувшись лицом в скрещенные руки, хрипло пробормотал: – Не вмешивайся, брат Рикардо. Потешатся, может, и отпустят. Вот если б бичевали у столба, связанного, отсчитывая удары… – И плетью, – со знанием дела добавил мулат. – Короткая плеть потолще бича, а если ее из тапирьей шкуры сплели, да зашили свинчатку, да врезали по черепушке… Саймон, мотнув головой, полез через бортик машины, но Кобелино, уцепившись за его ремень, повис мертвым грузом. – Ты что, хозяин, ты что. Они же здесь в полной силе, всех нас порешат. Хочешь над ямой висеть? Чтоб муравьи тебе яйца отъели? Не губи, благодетель! Опомнись! Саймон молча вырывался. Один из палачей – видимо, старший, в расшитом серебром мундире, – внезапно отбросил хлыст, шагнул внутрь круга и вытянул из-за пояса плетку, в точности такую, о какой говорил Кобелино, – толстую, короткую, с тяжелым, оттянутым книзу концом. Лица его не было видно, но бычий загривок, уверенный шаг и очертания пузатой высокой фигуры подсказывали, что он безжалостен. Плеть поднялась, юноша, с ужасом взвизгнув, попробовал увернуться, но толстый плетеный шнур опустился прямо ему на голову. До Саймона долетел отчетливый хруст разбитой кости, толпа у кабацких дверей глухо загомонила, Гилмор застонал, сжимая ладонями виски; кожа его посерела, будто это он бился сейчас в агонии у ног человека с бычьим загривком. Саймон, не глядя, двинул локтем назад, попав Кобелино по ребрам, шумно выдохнул и сел. Мулат ворочался за его спиной, постанывал, бормотал: «За что, хозяин? Я ведь… Я ведь только…» Гилмор по-прежнему не поднимал головы. Под мышками его белого пиджака стали расплываться потные пятна. – Значит, третий поворот, направо, второй налево, и до баобаба на Аргентинской улице? – ровным голосом произнес Саймон. Сзади послышалось утвердительное мычанье, и он врубил двигатель. Дорога заняла минут двадцать, и все это время Саймон боролся с охватившей его холодной яростью. Разум разжигал ее, подсказывая, что Кобелино, в сущности, прав: может, ему удалось бы вытащить парня, но шум получился бы преизрядный и дело без трупов не обошлось. Как говорил Чочинга, взявши кабаний след, не трать время у крысиной норы. В сущности, это было вечной неразрешимой дилеммой: он не мог успеть всюду и защитить всех, кто нуждался в защите, и даже когда он являлся вовремя, ему приходилось выбирать – спасти ли одного невинного, пожертвовав внезапностью атаки, или довести задуманное до конца, дабы защитить многих и многих. Дик Две Руки решил бы эту задачу по-своему, тут же сделавшись горьким камнем или лавиной в извилистом овраге, но Ричард Саймон уже избавился от торопливого юного задора. Он не сворачивал на пройденные пути; каждый из них был уместен в определенных обстоятельствах, а здесь и сейчас, в этом опасном городе, он выбрал дорогу Теней Ветра. Стань змеей среди змей, говорил Наставник, имея в виду их гибкость и ловкость, ибо на Тайяхате змей не считали символом зла и жестокости. Но в Поучениях Чочинги было намного больше смысла, чем казалось юному Дику Две Руки; ведь только опыт, возраст, перенесенное горе, победы и поражения способны явиться ключом к чужой мудрости. Ричард Саймон им обладал. Стань змеей среди змей. В этой стране, где правили доны и банды – правили открыто, не таясь, ибо срослись с властью и сами были уже этой властью, – мудрость Чочинги приобретала совершенно определенное значение. Министры тут являлись вождями мафиозных кланов, правительство – местом разборок бандитов, боровшихся за влияние и власть, народные избранники – сворой продажных крыс, народ – стадом безгласных овец, плативших двойные подати; деньги тут делились на «белые» и «черные», люди – на бандеросов и «шестерок», и вся их страна являлась землей войны, где прав богатый и сильный. Стань змеей среди змей. Если вокруг бандиты, стань грозой бандитов – самым сильным, самым безжалостным, внушающим страх; если к тебе протянуты кулаки, стань кулаком, самым крепким, железным и сокрушительным; если вокруг – кишат змеи, стань среди них главарем и сделай так, чтоб они захлебнулись собственным ядом. И соверши все это с пугающей быстротой, где силой, где хитростью, как положено тени в мире теней; стань эхом тишины, мраком во мраке, выбери нужный миг – и ужаль! Аргентинская улица оказалась нешироким переулком, что тянулся от Смоленского проезда до Одесского бульвара. Форма его напоминала согнутую руку; у локтя действительно рос гигантский баобаб и стояло каменное двухэтажное здание, чей фасад следовал изгибу переулка, делясь на две равные части. Слева, за широкими деревянными дверцами в стиле салунов Дикого Запада и витриной с изображением красного коня, располагался кабак; справа, за дверью поуже, была похоронная контора, окно которой украшали ленты и венки с бумажными цветами, деревянные и металлические кресты, а также гроб, затянутый поддельным муаром. Между кабаком и похоронным заведением, на самом углу, виднелись глухие ворота, ведущие, очевидно, во двор. Саймон предположил, что там стоит катафалк и находится конюшня. На воротах была намалевана фигура в длинном плаще, знак покровительства Монтальвана и Медицинского департамента. Саймон вошел, велел Мигелю и Кобелино устроиться у дверей, а сам направился к стойке. Она поблескивала жестью у торцовой стены вытянутого длинного помещения; с одной стороны ее подпирала пивная бочка в человеческий рост, с Другой, в просторной нише, находился бильярдный стол, а за ним – приземистый буфет с плотно затворенными дверцами. На буфете тихо наигрывал радиоприемник чудовищной величины – корпус из черного дерева длиною в метр, массивные Круглые ручки регулировок и стеклянная панель с разметкой Диапазонов. За стойкой, макая длинные усы в пивную лужу, Дремал лохматый коротышка-бармен, трое мордастых парней Гоняли шары, перебрасываясь редкими фразами, и еще двое, устроившись у бочки, сосредоточенно сосали из кружек и раскачивались в такт мелодии. – Пива! – сказал Саймон, позвенев о стойку песюком. Бармен приоткрыл один глаз, затем – другой, не говоря ни слова, сгреб монету и нацедил напиток в маленький стакан. Саймон отхлебнул и сморщился. – Поганое у тебя пиво. И дорогое. Кабальеро такого не пьют. Бармен протяжно зевнул. – Кабляерские рыла могут катиться отсель на все четыре стороны. У нас для кабляеров скидки нет. Вот постричь могем за бесплатно! – Постричь бы тебя не мешало, таракан. – Саймон, стараясь подавить раздражение, отвернулся к нише. Мордастые, не глядя на него, передавали кий друг другу, лениво толкали шары, толкуя о чем-то своем: – …под кайфом был, не иначе. Папаше ейной – вилку в кадык, девку саму – топориком, а опосля до родичей дошло, мамаши да сеструхи… – Не трепись. Пехота! Левка не баловался с дурью. Она с ним спала, папаша застукал и принялся бухтеть… – Враки! Спал он с ее сестрой, а застукала их мамаша… Пожав плечами, Саймон посмотрел на Кобелино но тот ответил безмятежным ясным взглядом – мол, что с меня взять, с «шестерки»? – разговаривай, хозяин, сам. Мигель скорчился на табурете, уткнувшись подбородком в набалдашник трости; лицо его все еще отливало серым, а руки мелко подрагивали. Саймон покосился на бармена. Глаза у того были опять закрыты, кончики тараканьих усов плавали в пивной пене. Сплюнув со злостью в стакан, Саймон прижал их ладонью. – Меня тут встретить собирались. – Он наклонился к коротышке. – Пако, по прозвищу Пакостник. Не видел такого? Бармен дернул головой, пытаясь освободиться, но ладонь Саймона будто приросла к стойке. – Ты, кабляеро, полегче. Враз рога обломаем! – Когда спрашивают, надобно отвечать. – Не выпуская усов, Саймон напрягся. Трое мордастых – один поигрывал кием – приближались к нему слева, а справа, от бочки, слышалось грозное пыхтение. Проверка, несомненно, – мелькнула мысль. Он поднял стакан и выплеснул пиво в усатую рожу бармена. – Ты что же, мужик, Коротыша обижаешь? – раздалось сзади, и тут же тяжелый кий просвистел над ним и раскололся о стойку. Стремительно повернувшись и присев, Саймон ударил в пах ближайшего из нападавших, свалил и припечатал затылком к полу. Двое прыгнули на него, пытаясь выкрутить запястья; свирепо оскалившись и поднимая обоих на вытянутых руках, он смотрел, как бледнеют их лица. Он мог бы убить их, столкнув головами, переломав ребра или шейные позвонки, но убийство было бы нарушением правил: его испытывали, и только. Он отшвырнул обмякшие тела; один из мордастых вылетел в окно под жалобный стекольный звон и вопль Кобелино, другой, сметая шары, проехал по бильярдному столу, свалился вниз и замер у буфета. Мотнувшихся от бочки Саймон встретил двумя сокрушительными ударами, потом сгреб одного за воротник и перебросил через стойку. Это явилось актом законной самозащиты: усач уже целил в него из обреза, и пушка была такой, что в стволе поместился бы палец. К счастью, выстрелить он не успел – под тяжестью упавшего ствол дернулся вниз, приклад – вверх, ударив коротышку под челюсть. Саймон потянулся за ружьем, уже прикидывая, как расстреляет бочку, буфет и радиоприемник, но тут, как раз со стороны буфета, послышались аплодисменты. Он повернул голову: буфетные дверцы были распахнуты, за ними, в полутьме, неясно виднелась лестница, а перед тусклым серым квадратом входа стоял лысый мужчина в годах, невысокий, но жилистый, с каким-то смазанным, незапоминающимся лицом. Это, правда, не касалось глаз – они были хищными, внимательными, и взгляд их подсказывал Саймону, что человек перед ним не простой, склонный к внезапным решениям и авантюрам. – Браво! – Лысый обогнул билльярдный стол, поглядывая на своих бойцов, которые начали кряхтеть и шевелиться, – Браво! Кажись, я тебя недооценил, э? «Стань змеей среди змей», – подумал Саймон, а вслух произнес: – Недооценившим меня тесно на кладбище, Пако. – Охотно верю. – Пако Гробовщик пошевелил распростертого на полу мордастого: – Вставай, Блиндаж, поднимайся! У нас гости дорогие, а ты тут разлегся и слюни пускаешь. Нехорошо! -Заметив Кобелино, он усмехнулся, потом ощупал цепким взглядом Гилмора и вдруг, не меняя тона, предложил: – В отстрельщики ко мне пойдешь, э? Такому умельцу трех горстей песюков не пожалею. Сам будешь отмерять. А ручки-то у тебя лопатистые, парень, горсть увесистая выйдет. Саймон, будто в раздумье, оттянул губу. Гнев его изошел в скоротечной схватке, и он снова был холоден и спокоен. Теперь начиналось совсем другое сражение, в котором сила мышц и искусство распороть врагу живот не были решающими аргументами, – ведь он нуждался в союзниках, а не в покойниках. Союзникам, однако, полагалось знать свое место. – Ко мне – это к кому? – поинтересовался он, разглядывая невыразительную физиономию Пако. – Ты ведь не дон и не пахан. Так, паханито, горбатишься на Монтальвана. – Это тебе Кобель наплел, э? – Пако погрозил мулату пальцем. – Так ты ему не верь, сынок, не верь. Он – скользкий кусок дерьма. Мы, конечно, при Монтальвашке состоим – это с одной стороны. А с другой, мы – люди вольные и прочих заказчиков не чураемся. «Штыков» там, дерибасовских либо «торпед». Синезадых я, правда, не люблю, ну и крокодавов тоже. Однако любовь – любовью, а деньги – деньгами. Так пойдешь в отстрельщики? Могу и твоих «шестерок» взять. Тут Гробовщик покосился на Мигеля-Майкла, и Саймон счел возможным прояснить ситуацию: – Этот, в белом? Так он не «шестерка», а лучший мой специалист. Банки там, сейфы, замки. Словом, бугор-бухгалтер. – Буг… что? – Брови Пако приподнялись. – Счетовод. Деньги мои считает. – Деньги, значит… Деньги – это хорошо, деньги счет любят, если есть чего считать. Только смурной он какой-то, хоть и в шикарном прикиде. И тощий. Не похож на бугра. – Утомился, – пояснил Саймон. – Много денег, много работы, а скоро еще прибавится. Соображаешь? Зачем же мне отстрельщиком идти? Я лучше пойду туда, где песюки мешками меряют, а не горстями. – Верно, – согласился Пако, – верно, парень. И если ты знаешь такое место, я сам к тебе в отстрельщики наймусь. – Знаю. – Саймон кивнул очнувшемуся бармену на бочку, и когда пиво было подано – не в жалком стакане, а в двухлитровой кружке, – отхлебнул, поморщился, вытер пену с губ и повторил: – Знаю! Вроде до Первого государственного тут недалеко? И транспорт у нас имеется… там, под баобабом. Отчего ж не съездить, э? – Ну, хозяин! – Кобелино вскочил, в восторге хлопнув себя по ляжкам. – Ну круто берешь! Одно слово – «железный кулак»! – Он повернулся к Гробовщику, с гордостью выпятив грудь. – Ясно, с кем я пришел? Понял, кто мой хозяин? Не дон-хрен Огибалов с Пустоши! Вот как надо! Не шестерить на «плащей» и «штыков», а разом загрести песюки! Мешками! А у кого песюки, особенно в мешках, тот… – Закрой хайло; Кобель! – прервал Гробовщик, разглядывая Саймона с новым и уважительным интересом. Будто прислушиваясь, он наклонил голову к плечу, коснулся лысины, поскреб темя и произнес: – Помстилось мне или нет? Кто-то про Кулака помянул? Того ли, который из Сан-Эстакадо? – А если того, договорились? Пако снова поскреб лысину. – Почему ж нет? Если головой ты работаешь как кулаками… Всякому лестно пойти с таким главарем. – Он сунул пальцы в рот, пронзительно свистнул и приказал: – Ну, бразильяне, становись! Покажем товар лицом! Побитые Саймоном, кроме коротышки-усача, начали шустро строиться в шеренгу. Вернулся выброшенный в окно, встал рядом со своими мордастыми приятелями; ещё двое вылезли из тайного хода, который скрывался за буфетом и, очевидно, вел в подвальное помещение. Кажется, в банде Гробовщика уважали дисциплину. – Вот, – произнес Пако, кивая на трех мордоворотов-бильярдистов, – вот мои качки, Скоба, Пехота и Блиндаж. Скоба у них за старшего. Не так чтобы бугор, но все же кочка на ровном месте. Мозгов мало, зато сила есть. – Есть, – согласился Саймон, отхлебнул из кружки и поглядел на расколотый о стойку бильярдный кий. – Сласть и Шило – рядовые, а эти, – Пако ткнул в парочку вновь прибывших, – Хачо и Огузок, отстрельщики. Коротышка, – он повернулся к усатому бармену, который сосредоточенно щупал челюсть, – мой паханито, заведение держит, то бишь «Красного коня». Ну, и другие есть. Бойцы, «шестерки», стукачи. И все при деле, все трудятся, крутятся-вертятся. Кто гробы сбывает, кто шустрит по «черному» для Монтальвашки, а кто… – Вытянув палец, Гробовщик прищелкнул языком, имитируя выстрел. – Но банков мы не обтрясали. И никто не тряс, сынок, сколь мне помнится. Ни вольные, ни гаучо, ни остальные отморозки. – У меня большой опыт, – отозвался Саймон, не уточняя, где и как он обзавелся подобным редкостным умением. – Опыт – это хорошо, ежели с нами поделишься, не соврешь. А зачем тебе врать, сынок? Вроде ты не «шестерка», парень с понятием и размахом. Соображаешь, э? Будут деньги, будут люди, и будет новый дон. Может, ты, а может, – я… – Оглядев своих громил, Пако закончил мысль: – И все мы станем «железными кулаками». Не хуже синезадых, э? В кружке показалось дно. Саймон сделал последний большой глоток и, глядя, как оседает пена на стеклянных стенках, произнес: – Договорились.***
Полутьма казалась теплой, нежной, обволакивающей. В свете звезд, мерцавших над патио, Саймон видел, как блестят глаза девушки, чувствовал, как льнет к нему нагое покорное тело. Оно тоже было теплым и нежным – как ночной полумрак, накрывший шелковой темной вуалью город на океанском берегу, заросшие лесом холмы, дороги, поля, фруктовые рощи и гавань с судами, замершими на антрацитовом зеркале вод. Пальцы Марии легли на его плечо, замерли, погладили шрам, коснулись выпуклых мышц – даже расслабленные, они вздувались тугими буграми, будто напоминая о скрытой в них мощи. – Ты… – прошептала девушка, – ты… – Я… – Ты как скала. Дик. Такой же крепкий, жесткий… – Слишком жесткий? – Может быть. – Она вздохнула, повернулась, устроив голову на его груди. – Зато надежный. – Очень, – согласился Саймон. – Ты даже не представляешь, какая я большая надежда. Для тебя, для Мигеля, для остальных. Для всех вас. Он думал о своей миссии, о людях, пославших его сюда, об исчезнувшей «Полтаве», о лунном передатчике и многих других вещах, столь же важных, определявших суть его жизни, стержень существования. Эти мысли посещали его не раз и не два, но теперь что-то ушло из них и что-то добавилось: Земля уже не казалась ему гигантской проржавевшей мышеловкой, и чувство близости к ней, родства с этим миром, забытым и обездоленным, крепло в его душе. Не оттого ли, что здесь он встретился с Марией? Еще одна девушка – мотылек, с которым можно наиграться и отпустить к другим медоносным цветам? Он чувствовал, что это не так. Он знал женщин, и женщины ему благоволили; он обладал той мужественной красотой, тем обаянием уверенности и силы, тем ореолом тайны, что привлекают женщин и покоряют их и харизматической неизбежностью. Одних он помнил; других забывал, не прилагая к тому усилий; воспоминания о мимолетных встречах сами собой опускались на дно его памяти, тонули и гасли под грузом лет, покрытые илом забвения. Но было и другое – то, что вспоминалось с печалью или улыбкой, с радостью или болью, и неизменно – с благодарностью, ибо Ричард Саймон умел ценить дары судьбы. Они являлись драгоценным ожерельем, пусть не имевшим зримого обличья, однако хранимым столь же бережно, с такой же гордостью, как шнур с побуревшими костяшками, свидетельством его побед. Он погрузил лицо в волосы Марии; вдыхая их свежий запах, он думал и вспоминал о своих девушках. О белокурой Алине с Тайяхата, о робкой Хаоми с чарующим разрезом темных глаз, о шаловливой Куррат ул-Айн, Усладе Взоров, о неистовой страстной Долорес, о Нази и ее подружках с Аллах Акбара и о рыжеволосой красавице, дремлющей в подземельях Сайдары, которую он не мог назвать своей – ведь спящий принадлежит лишь собственным фантазиям и снам. Он думал о Чие, маленькой Чие, первом сокровище ожерелья, что разворачивалось перед ним сиянием глаз, трепетом губ, улыбками, ласковыми словами, которые шепчут в темноте, тесно прижавшись друг к другу. Он знал, что не забудет их, всех их, разбросаных в необъятном звездном мире, согретом их нежностью и теплотой; он был благодарен им, он желал им счастья, но ни к одной из них он не смог бы вернуться. Быть может, к Чие… Но разве не Чия лежала сейчас в его объятиях? Он приподнялся на локте, всматриваясь в полное звезд небо, где плыли, далекие и незримые, Колумбия и Тайяхат, Латмерика и Сайдара, Аллах Акбар и каторжный мир Тида. Его внезапное движение заставило девушку вздохнуть;, руки ее крепче обвились вокруг шеи Саймона, горячее дыхание обожгло щеку. Она прошептала: – Ты не уйдешь. Дик? – Нет, милая. Если не прогонишь. Она улыбнулась в темноте. – Прогоню? Как я могу тебя прогнать? Ты – все, чем я владею, все, что есть, и все, что будет. А о том, что было, мне не хочется вспоминать. – Не вспоминай, – сказал Саймон. – И не тревожься – я не уйду. – Даже по дороге к дому? По той, которую хочешь открыть? – Мария внезапно села, заглядывая в лицо Саймону. – Ты говорил, что мир наш заперт, а еще – о лунном передатчике, о том, что послан его уничтожить, и о «Полтаве», о корабле, который исчез, о древних боевых ракетах. Все так и случится, Дик? Ты найдешь корабль и эти ракеты, чтобы послать их на Луну? – Не знаю, – чистосердечно признался он. – Не знаю, но надеюсь. И тогда… – Ты уйдешь? Будешь обязан уйти? По приказу или по собственной воле? – Саймон молчал, вслушиваясь в ее лихорадочный шепот. – Это устройство… Пандус… трансгрессор… Я поняла, что он – как двери, ведущие из мира в мир. Двери закрыты, и ты со мной. Но если они откроются… – Это очень широкие двери, девочка. Совсем непохожие на щелку, которой я пробирался сюда. И если они откроются, мы сможем уйти. Вместе. Успокоенная, она легла. Голос ее стал тихим, сонным. – А если нет? Если нет, Дик? – Тогда, наверное, я стану властелином мира, доном-протектором Земли… Калифом Австралийских Эмиратов, правителем ЦЕРУ и ФРБ, байкальским ханом, чеченским князем и африканским королем. Что же еще остается? Я не могу допустить, чтоб парней забивали кнутом, а девушек скармливали крокодилам. Это, милая, не в моих правилах. Мария, прижавшись к нему, засыпала. – Это… будет стоить… большой крови, Ди-ик… – Кровь неправедных падет на их головы. – Кто… так… сказал? – Бог, христианский Бог. Но я не люблю крови, не верю в Бога, и мне не нравится это изречение. Я исповедую другую мудрость. – Какую? – Не милосердие, но справедливость. Правда, справедливость не дается даром, и цена ей – все та же кровь. Но если я найду «Полтаву»… Головка Марии отяжелела, веки сомкнулись, и Саймон услышал мерное тихое дыхание. Поцеловав ее теплую щеку, он улыбнулся, вдохнул ставший родным аромат и прошептал: – Спи, милая, спи… – Потом добавил пожелание на тайятском: – Да пребудут с тобой Четыре алых камня, Четыре яркие звезды и Четыре прохладных потока. Спи!***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Половина Земли спала, другая – пробуждалась и бодрствовала. В восточном полушарии над безжизненной частью света, называвшейся Европой, разгоралась утренняя заря. Первые солнечные лучи скользили над морем и редкими островками на месте Британии и Франции, над темными гигантскими провалами и вздыбленной землей, над канувшими в вечность рубежами государств – Германии, Австрии, Польши, Чехии, России. Но кое-какие границы возникли взамен исчезнувших; размытые и неясные, они разделяли жалкий остаток Украины с аймаками новой восточной империи, что протянулась от волжских степей до монгольских пустынь. Эта держава не отличалась многолюдием, но все же могла по праву считаться империей: народ ее был воинственным, земли – обширными и большей частью не пострадавшими в эпоху Исхода. Как любая империя, Байкальский Хурал стремился к победоносным войнам, однако врагов на достижимых территориях оставалось немного: с запада – ЦЕРУ, тонувшая в хаосе, анархии и разрухе, с северо-востока – Колымская Тирания, защищенная тундрой, болотами, гнусом и свирепыми зимними холодами. Еще имелись Чеченские Княжества – Центральное, Тбилисское, Дербентское, Бакинское и независимый аул Басарлык – но все они, оптом и в розницу, не представляли опасности для Хурала. Их население исчислялось сотнями, и большему было не прокормиться в бесплодных Кавказских горах. За океанами и морями лежали другие страны. На юге, в Африке, – Черные Королевства, в верховьях Нила, в бассейнах Нигера и Конго; на австралийских берегах – семь Эмиратов, разделенных бушем, засушливыми степями и пропастями километровой глубины; на западе – Американский континент, таинственный и легендарный; в Хурале было известно, что он существует, а более – ничего. Над осенней сибирской тайгой небо было затянуто тучами, холодные воды Байкала застыли меж припорошенных снегом берегов, над Амуром шли дожди, Обскую губу сковал лед, чудовищный провал на месте Уральских гор казался черной раной среди унылых белесых равнин. Близилась зима, солнце висело низко, но был день, и люди бодрствовали: текли на запад отряды вооруженных всадников, грохотали пороховые мельницы, над плавильными печами курился дым, катились вагонетки в узких шахтных штреках, пастухи объезжали стада, в юртах на волжском берегу завтракали, в ярангах на берегу Алдана готовились обедать. В другой половине мира царила ночь. Темные крылья ее раскинулись от канадских лесов до Огненной Земли, от гор Каатинги до моря, чьи волны плескались над Калифорнией, над затонувшими Мексикой и Техасом, над Оклахомой и Джорджией. На севере еще остались острова – Гренландия, Канада, Лабрадор, Аляска; они громоздились могильными плитами на кладбище исчезнувшего материка. На юге, почти не изменившее очертаний, лежало побережье Колумбии, Венесуэлы, Бразилии – низмеуность, за нею – Гвианское плоскогорье, снова низменность, непроходимые джунгли на берегах огромных рек, а дальше – тусклое мерцание огней, города, селения, фермы, поля и плантации, корабли у причалов, редкие ленты дорог, мосты и рельсы на утрамбованной насыпи. Больших городов было немного, и в названиях их слышался отзвук тоски по иным временам и иной Земле, не пышной и знойной, зато привычной, покинутой с болью в сердце и не забытой. Рио-де-Новембе… Буэнос-Одес-де-Трокадера… Санта-Се-васта-ду-Форталеза… Харка-дель-Каса… Дона-Пуэрто… Рог-Гранде… Херсус-дель-Плата… Сейчас они спали, большие и малые города. Спали земли и воды, спало небо над континентом и кружившая в нем «Пальмира», последний земной сателлит – заброшенная, недостижимая, леденеющая в космической тьме. Под ней и под яркими звездами спали кибуцы и вольные поселения, лагеря и рудники, спали бараки у нефтяных озер, стойбища гаучо в ниx, спали крепости и форты, гавани и вокзалы. Спали рабы, отстрельщики и «шестерки», гуртовщики и бугры и качки, фермеры и рудокопы, нищие и богачи и те, с кого собирали, выдавливали, выжимали. Под рокот прибоя спал дон Грегорио, ворочался в хрупком старческом забытьи дон Хайме-Яков, храпел после вечерней попойки дон Хорхе Диас, посвистывал носом дон Эйсебио Пименталь, видел сладкие сны дон Алекс по прозвищу Анаконда. Но Ричард Саймон не спал, хотя глаза его были закрыты. И чудилось, будто перекликается он с кем-то другим, не спящим, но только дремлющим дни и годы, десятилетия и века, – не человеком, но творением человека, не существом из плоти и крови, но разумом. Этот разум, затаившийся где-то, ждал. Быть может, в том месте мерцали экраны и перемигивались огоньки, может, что-то щелкало и гудело, вращалось с тихим шорохом,наигрывало бесконечную мелодию или пребывало в молчании; может, в придвинутом к пульту кресле лежал контактный шлем, или оно пустовало, или рассыпалось прахом; может, двери в это убежище были распахнуты настежь или запечатаны паролями. Может быть! Саймон беспокойно пошевелился. Где это место, пригрезившееся ему? «Полтава»? Или какой-то другой тайник, запрятанный на земных континентах либо на океанском дне? Что означает это видение? Он вздохнул, не в силах разгадать его смысл, и погрузился в сон.Глава 8
Ричард Саймон стоял перед овальной, бронированной, похожей на люк в подводной лодке дверью Первого Государственного банка ФРБ. Это название не подразумевало, что в республике есть другие банки – скажем, второй и третий, или же поименованные иначе, с заменой определения «государственный» на «коммерческий», «частный», «инвестиционный». Совсем наоборот: Первый Государственный являлся единственным финансовым учреждением ФРБ, которое могло бы считаться банком – в том смысле, как это понимали в Разъединенных Мирах, и к тому же с большой натяжкой. Его филиалы имелись во всех столицах провинций и протекторатов, но это не способствовало хождению безналичных средств или каким-либо платежам и расчетам. Подобных понятий в ФРБ не существовало, и Первый банк занимался лишь чеканкой монеты, сбором налогов и их перераспределением между кланами – то есть играл роль накопительного и эмиссионного центра. Так было заведено с эпохи НДБ, державшей в нем свою партийную казну, которая одновременно являлась и государственной, а с тех пор не было никаких существенных перемен. Правда, в результате Большого Передела банк поменял хозяев: функционеров НДБ сменили дерибасовские, избравшие клановым символом серебряную монету. Пако дышал в затылок, и Саймон, передернув плечами, велел ему убраться к лестнице. Она спускалась из коридора в это подвальное помещение, своебразный холл, отделанный гранитом; слева располагался Архив, справа – банк, а прямо – открытый подъемник для транспортировки мешков с серебром и постановлений Думы, подлежащих архивному хранению. Вход в Архив был свободный, а банк, упрятанный под землю, казался абсолютно неприступным – в него вела единственная дверь, охраняемая синемундирными пулеметчиками. Но сейчас они спали, как прочие стражи Богадельни на всех шести этажах, и сон их, вызванный маленьким гипноизлучателем, был безмятежен и глубок. Запоров на двери не обнаружилось, но в середине, люка красным огоньком, зияла щель – вероятно, приемный порт электронного замка, несовершенного и примитивного, однако проходившего здесь по разряду чудес. Теперь Саймон понимал, отчего банки в ФРБ «не обтрясали», по выражению Пако Гробовщика: если б кто-то и справился с охраной, открыть такую дверь не удалось бы никому. Разве что взорвать, пустив на воздух Серый Дом со всей прилегающей территорией. Он приложил к щели браслет, активировал дешифратор и задумался, разглядывая дверь. Очень похожа на корабельный люк, – мелькнуло в голове. Из броневой стали, поверхность гладкая, ни швов, ни заклепок, только выпуклость к центру, будто на тайятском щите чатха. Такая могла бы вести в орудийную башню или скорее в отсеки с боеприпасами, учитывая кодовый замок. Скажем, в пороховой погреб крейсера. Красный огонек сменился зеленым, что-то лязгнуло, громыхнуло, и дверь медленно растворилась. Толщина плиты была солидной, пальцами не обхватить, и вдоль всего торца тянулись едва заметные выступы запорных планок. Саймон осмотрел дверь со всех сторон, рассчитывая обнаружить какой-то след или надпись, свидетельство ее былой принадлежности, однако не нашел ничего. Хмыкнув, он повернулся к лестнице, но Пако, Кобелино и трое мордастых молодцов уже стояли за его спиной. – Да ты кудесник, дон! Вертухаи дрыхнут, пушки в сторону, а дверь нараспашку,.. И как у тебя получилось? Может, какие-то хитрые штучки от срушников? Сонный газ, э? – Ты ведь не спишь, – сказал Саймон, отметив, что произведен в доны. – А раз не спишь, позаботься о мешках. – Может, и сплю, – пробормотал Пако, ныряя в узкий проход за дверью. – Кобель, – донесся его приглушенный голос, – кликни-ка остальных! Кроме Штанги и Кирпича – пусть у колес подежурят, а Коротышка за ними присмотрит… Саймон неторопливо поднялся в верхний коридор, где ждали его Пашка с Филином. Коридор был широк и тянулся по первому этажу от главного входа с площади до другого, выходившего к набережной и гавани. Там, под пальмовыми кронами, затаились фургон и лиловый автомобиль, а с ними – дюжина головорезов Пако. Над пальмами повис серебристый диск луны, в бездонном небе сияли звезды, и резвый морской ветерок проносился по набережной, шевеля обрывки гирлянд да раскачивая трупы гаучо над темной глубокой ямой. Гирлянды и трупы напоминали о минувшем празднике и о славных победах над воинством дона Федора, одержанных за рекой Парашкой. В коридоре был полный порядок. Проказа с Филином дежурили у главного входа, мордовороты Пако таскали мешки с серебром, охранники мирно храпели у стен, а их карабины вместе с подсумками были сложены в аккуратный штабель у пулеметной треноги. Саймон распорядился, чтоб не забыли вынести и это добро, и зашагал к парадной лестнице мимо думского зала. Он хорошо изучил Богадельню со слов Майкла-Мигеля и в результате визитов, нанесенных лично – с поддельными документами, в синей форме оцелот-лейтенанта, командированного из Буэнос-Одеса. Кроме обширных подвалов, в этом здании насчитывалось шесть этажей, первый из которых был отведен народным избранникам, сотни лет удобрявшим подвальный архив протоколами и резолюциями. Думские депутаты в ФРБ избирались пожизненно, но в выборах участвовали не все, а лишь сословие полноправных граждан, владевших имуществом в двадцать тысяч песо. Впрочем, это нельзя было счесть дискриминацией и ущемлением в правах, так как Дума почти не влияла на государственную политику и финансы. В ней занимались исключительно долгосрочными прожектами: не повернуть ли Амазонку к югу, не скрестить ли барана с тапиром, не ввести ли особый «голубой» налог на оральный секс и другие мерзкие извращения. Дел у думаков было по горло, о чем свидетельствовали плакаты, украшавшие зал заседаний: «Экономика должна быть экономной», «Врагам народа – трудовое перевоспитание в кибуцах», «С каждой ламы – тонну шерсти в год» и тому подобное. Особенно потряс Саймона лозунг, утверждавший: «Больше мяса – больше силы, больше силы – больше мяса». С минуту он размышлял, о чьем мясе речь, потом плюнул и направился на второй этаж, в департамент Общественного здоровья. За полчаса он осмотрел все комнаты и убедился, что здесь нет ни тайников, ни сейфов с секретными документами, ни роскошной резиденции, какая приличествовала бы дону Грегорио. О нем напоминал лишь портрет на стене, изображавший сурового лысоватого мужчину, да надпись, в которой дона Грегорио именовали небоскребом справедливости и локомотивом прогресса. По прежним своим посещениям Саймон знал, что выше, в других департаментах, дела обстоят точно таким же образом: канцелярии и кабинеты, лестницы и коридоры, сытые ленивые чиновники в годах, стайки болтливых секретарш, бумажки, порхающие со стола на стол, и никаких следов реальной власти либо приближенных к ней людей. Серый Дом являлся вывеской и синекурой, сборищем клоунов и недоумков, иллюзией и миражем, и если здесь имелись какие-то ценности, то лишь в подвале, который сейчас инспектировал Пако Гробовщик. Итак, Серый Дом стал отработанной версией, которая, кроме мешков с песюками, не принесла ничего, – что, впрочем, не смущало Саймона. Минуя один за другим пустынные гулкие коридоры, он размышлял над следующими шагами, стараясь распределить во времени и пространстве факты, догадки, события и людей – так, чтобы добиться выигрышной комбинации. Это было не просто; шесть с половиной недель на Старой Земле не располагали к оптимизму, позволяя сделать лишь печальные выводы, и главный из них касался его миссии. Помехопередатчик был недостижим; он не мог ликвидировать его стремительно и скрытно, как предусматривалось первоначальным планом, не мог уничтожить вообще – без дополнительных сил и ресурсов. Их полагалось найти или создать, но между такими очевидными решениями была большая разница: поиск являлся операцией быстрой и автономной, создание – длительной и трудоемкой. Он понимал, что ничего не создаст в одиночку, ни дальнобойных лазеров, ни реактивных снарядов, и что на этом пути тоже имеется развилка: либо местная власть будет сотрудничать с ним, либо ему предстоит сделаться этой властью. Доном-протектором Земли, калифом Австралийских Эмиратов, правителем ЦЕРУ и ФРБ, байкальским ханом, чеченским князем и африканским королем… Что ж, он был готов и к этому; люди, деньги и патроны у него имелись. Не слишком много, но для начала хватит. Что же касается поисков, то их надлежало вести по двум направлениям сразу, как тайному, так и явному. У каждого были свои достоинства и недостатки: первый, сохранявший его инкогнито, был извилистей, но безопасней, второй же мог обернуться серьезными неприятностями, ибо вел прямиком к дону Грегорио и остальным властительным донам, которых Саймон рассматривал как хитрых, хищных, но наиболее информированных людей. Вот только захотят ли они поделиться информацией? Тем более сотрудничать, если делиться окажется нечем? Он испытывал большие сомнения на этот счет, хотя не мог предугадать в деталях реакцию властей. С одной стороны, власть в ФРБ квалифицировалась как преступная и бандитская, а значит, ненадежная; с другой же – Саймон как-никак был эмиссаром Разъединенных Миров, чему имелись неоспоримые доказательства. Но стоило ли полагаться на благоразумие бандитских главарей? Скорее на их страх… Страх не перед гипотетическим возмездием со звезд, а перед зримой угрозой, как вскрытая дверь и опустевшие сейфы Первого Государственного. Опасения за свою жизнь и власть, боязнь очередного Передела, страх перед новым кланом. Ужас перед врагом, более хитрым, хищным и изворотливым, чем они сами. Но страх внушался лишь силой и умением; так говорил Наставник, так утверждали инструкторы ЦРУ, и эта истина была, разумеется, бесспорной. И в соответствии с ней Саймон решил, что встретится с донами в тот момент, когда не будет сомнений в его превосходстве и силе. Он должен переиграть их – тут, на Земле, власть над которой принадлежала им; он должен внушить им ужас – в лесах войны, где они считались кайманами и ягуарами, хоть были всего лишь стаей крыс. Таким был явный путь, и Саймон уже обдумывал акции устрашения, не забывая, впрочем, и о тайных дорогах. Куда они вели? В Форт и древний Архив, о котором рассказывал Гилмор? В резиденции власть имущих? К «торпедам», имевшим какую-то связь с заокеанскими странами? На улицы Рио, в таверны и кабаки? В гавань, к пирсам и кораблям? В другие города? В Разлом? В Чилийский и Аргентинский протектораты? «Куда б ни вели, – подумал Саймон, спускаясь по лестнице, – я их пройду. Но начинать, пожалуй, надо с Архива… Или с какой-нибудь крупномасштабной операции по истреблению крыс». Внизу люди Гробовщика грузили последние туго набитые мешки. В мешках позванивало, но не шуршало – бумажные банкноты тут доверием не пользовались. По двум причинам, о коих Саймон уже знал, и обе были довольно вескими. Во-первых, НДБ скомпрометировало идею бумажных денег; во времена домушников их выпускали километрами для пополнения казны, пока не случился Большой Передел. Домушников побросали кайманам, и в целях оздоровления экономики сменили печатный станок на штамповочный пресс. Серебра в ФРБ хватало; его добывали в неистощимых аргентинских рудниках, и это явилось второй причиной, чтоб отказаться от ненадежных клочков разрисованной бумаги. Монеты чеканили разных достоинств, от десяти до четверти песо, но все кроме медных гривен, именовались песюками. Люди Пако набились в фургон, а сам Гробовщик, развалившись на заднем сиденье лимузина рядом с Филином и Проказой, любовно перебирал блестящее серебро. – Большие деньги – хорошо, но очень большие – еще лучше, – заявил он. – Кто бы спорил, – отозвался Пашка, а на лице молчаливого Филина изобразилось одобрение. Пако поскреб лысину. – Тысяч семьсот огребли, аж колеса на тачке проседают! Считай, трехмесячная Монтальвашкина выручка, всех «плащей», сколько их ни есть. И делиться ни с кем не надо… Ну, и куда такие деньги пустим, дон Кулак? – В дело, – проинформировал Саймон. – В какое? – Не понимаешь? Монеты из ладони Пако с тонким звоном посыпались в мешок. – Понимаю, чего ж не понять. Бог соображалкой не обидел. В дело так в дело. На трапезу, скажем, на вилки всякие, сковородки, ложки-ножики и на ручки, чтоб за ножики держались… Так, э? А кушать-то с кого начнем? С самых крутоватых или с тех, кто помягше будет? – А что, есть и такие? – поинтересовался Саймон, усаживаясь за руль. Этот вопрос заставил Пако погрузиться в размышления – похоже, среди намеченных к трапезе слишком мягких не водилось. Не дождавшись ответа, Саймон обернулся, посмотрел на его задумчивое лицо и промолвил: – Ну, если ты все понимаешь, так скажи, согласен или нет? – А что говорить? После таких-то дел. – Пако пнул лежавший в ногах мешок. – Теперь все пути-дорожки мне отрезаны. И мне, и моим отморозкам. Теперь от дерибасовских да синезадых пощады не жди – либо нас стрескают, либо мы их схаваем. Но я не жалею. Не стоит в «шестерках» бегать, если выпал шанс повластвовать! Пусть даже не одному, а на пару с тобой. Так что нынче ты – наш дон, я – твой пахан, и все мы, – тут Гробовщик покосился на Пашку и Филина, – все мы, сколько нас есть, «железные кулаки». Новое, значит, бандеро. Стоит отметить, э? – Попозже отметим, – пообещал Саймон, коснувшись рычага. – Я к тебе приду, Гробовщик. Приду, и потолкуем, с кого начинать. С мягких или с жестких. – С такими-то деньгами я бы… – откликнулся Пако, но тут взревел мотор, заглушив конец фразы. Через пару дней Саймон сидел в подвальной камере под «Красным конем», устроившись на хлипкой табуретке. Подвал использовался как холодильник и помещение для доверительных бесед – иными словами, как пыточная. Пако Гробовщик хоть и сотрудничал с «плащами», был предводителем шайки вольных, каких в бразильянских городах насчитывалось немало. Этот статус являлся промежуточным между бандеросами и дикими изгоями; вольные относились к той необходимой прослойке, откуда крупные кланы черпали «шестерок», отстрельщиков и топтунов и куда временами спихивали грязную работу – а заодно и ответственность. В силу этих причин вольные были столь же полезны, как гаучо, и даже еще полезней, ибо не рассматривались как структура организованная и не числились внешними либо внутренними врагами. Им можно было поручать самые разнообразные дела: отлов невольников и беглых отморозков, торговлю девушками и спиртным, экзекуции, экспроприации и ликвидации, а также разборки с несогласными и недовольными. Само собой, такие рандеву являлись крайне деликатными и требовали уединения, интимности и кое-каких приспособлений. Над головой Саймона выступала бетонная потолочная балка, по обе стороны которой свисали кольца ошейников с веревками и цепями; прямо темнел распахнутый зев камина, а рядом с ним виднелись две кочерги, толстая и потоньше, заботливо уложенные на решетку; справа стояла чугунная ванна, которую при случае можно было наполнить водой или более крепким содержимым, а слева, на стене, красовалась коллекция дубинок, обрезков труб и бамбуковых палок. Пространство за ванной заполняли пивные бочки, хранившиеся в холодке, а сзади, под лестницей, была сложена вчерашняя добыча – мешки, оружие и амуниция, накрытые брезентом и заваленные канистрами. Судя по запаху, в них был мазут. В целом обстановка холодильника не располагала к оптимизму, но Ричард Саймон бывал в местах и пострашней. – Три сотни, – произнес он, раскачиваясь на табурете. – Триста бойцов, и желательно, чтобы пятнадцать-двадцать умели обращаться с пулеметами. Разбить их на бригады и каждой поставить кого-нибудь понадежней. Еще – карабины, боезапас и взрывчатка, пару тонн, тротил или что-нибудь в этом роде. Горючего бочек сорок… Транспорт… Катапульты… Все, пожалуй. – Ката… что? – Пако недоуменно сморщился. – Не понимаю, о чем ты толкуешь, дон. Катафалки у нас есть, а катафульков нет. И этого, пропила, тоже нет. Есть динамит и аммонал. – Годится. А катапульты несложно изготовить. Я сделаю чертеж. – Ну, если так… Тогда посчитаем. Буграм, значит, подвести песюков, пулеметчикам – сто пятьдесят, бойцам – сотня… – Пако поднял глаза к закопченному, потолку. – Паханам, как бог велел, по тысяче. Плюс оружие и динамит. Плюс колеса, керосин, бабы, жратва и выпивка. Это что ж получается, э? Тысяч сто двадцать на круг… Можем нанять впятеро больше, дон! – Больше не надо, – сказал Саймон. – Ты выбери самых злых, умелых и не болтливых. Из тех, кто бандеросами обижен. Найдутся такие? – Как не найтись! Каждый второй! У Бабуина двух бойцов бугор смоленский над ямой вывесил. Так и висели, пока муравьишки им пальцы с яйцами не отъели. Монька Разин схлестнулся с крокодавами, от них же и Челюсть с Семкой Пономарем в обидах. А у Хрипатого и вовсе нос соструган: брякнул мужик не к месту, что крокодильей мочой пованивает. Ну, есть и другие меж вольных паханов. У кого со «штыками» счетец, у кого – с дерибасовскими, но больше таких, что на Хорху Смотрителя зуб имеют… Э? – Где он обретается, этот Смотритель? – В Озерах, говорят, у речки Параибки, на восток от Хаоса. Сам не видел, близко не подойдешь – целую армию держит. Было поменьше, когда ходили со «штыками» на Федьку Гаучо, а теперь вернулись. Теперь их там как блох на шелудивом псе. Саймон приподнял бровь. – Откуда вернулись? Из Харбохи? – Точно. Слышал, погуляли там. Чуть дона-протектора не пожгли. Только я б с крокодавами на первый случай не связывался, дон. Эти из самых жестких жесткие. Вот ежели с «торпед» начать либо с Клинков черномазых… Табурет под Саймоном угрожающе затрещал; пришлось пересесть на край ванны. Она была холодной, как могильный камень в зимнюю ночь. На дне расплылись подозрительные пятна: то ли в ней кого-то резали, то ли травили кислотой. Несколько секунд Саймон разглядывал их, потом спросил: – Где остальные доны? Хайме, Грегорио, Анаконда? Эйсе-био, Монтальван? Где их искать? Что у них есть? Дома, дворцы, поместья? В Рио? На побережье? На островах? Глаза Пако уставились на балку и свисавшие с нее ошейники. – Хороший вопрос, Кулак! У Гришки вроде бы каса имеется на побережье. Значит, к востоку – на западе скалы да джунгли погуще, чем в Хаосе. Богатая каса! Кратеры называется, а почему – не знаю. У остальных… – Гробовщик задумчиво поскреб темя. – Правду сказать, у всех есть фазенды в городе, под Синей скалой, да что-то я там их не видел. Кроме Монтальвашки и Хосе Трясунчика. Ну, Трясунчик совсем с катушек съехал и, надо думать, не жилец. А Монтальван открыто живет – ест, пьет, гуляет, не бережется. Чего ему беречься? Кому он страшен, с водкой, девками да кабаками? Бойцов-то у него не густо. И не бойцы они, а так – качки да вышибалы. Саймон принялся выпытывать подробности насчет фазенд, стоявших в самом богатом из городских кварталов, к востоку от площади и Богадельни, за древними крепостными стенами. Эти дворцы находились меж Синей скалой и морем, на проспекте Первой Высадки, но только Хосе Трясунчик, главарь «торпед», и Антонио Монтальван обитали постоянно в своих городских резиденциях. Дом Хосе охранялся, а у Монтальвана ворота держались открытыми – для любого, кто рисковал перепить его за столом или ублажить в постели. Больше Пако ничего сказать не мог, хоть был, несомненно, типом пронырливым, многоопытным и город чувствовал на ощупь, как собственную лысину. Этот факт сам по себе являлся любопытным; выходило, что доны вовсе не жаждут общаться с массами и, если не считать Хосе и Монтальвана, предпочитают не афишировать домашних адресов. Но где-то онибыли, разумеется, известаы. Не в Сером Доме, но среди паханов и бугров, генерал-кондоров и ягуар-полковников, доверенных лиц в клановой иерархии, главных мытарей и финансовых воротил. Список мог продолжаться, однако Саймон в том необходимости не видел, уже наметив подходящую фигуру информатора: не «штык», не дерибасов-ский и не крокодильер, а полицейский начальник высокого ранга. Такому положено многое знать; если не все обо всех, то уж о собственном доне – наверняка. А к этому дону Саймон испытывал самый горячий интерес. Он оглядел бетонную балку, цепи, камин и другие жутковатые приспособления, потом промолвил: – Кажется, Пако, тебе не нравятся вертухаи? – Не больше, чем Бабуину, – отозвался Гробовщик. – Сыщешь мне одного? В качестве личного одолжения? – На кой? Вчера ты любого синезадого мог взять, пока мы в подвалах шуровали. Э? – Любой мне без пользы. Ты мне такого найди, чтобы фуражка от серебра прогибалась, а мундир колом стоял. Начальник мне нужен. Кандидатура – по твоему усмотрению, кого разыщете. И пусть твои парни сюда его приведут. Без штанов, голышом. – Не приведут, а принесут, – уточнил Пако с деловым видом. – Когда тебе нужен этот голый хмырь? В серебряной фуражке? Саймон сделал неопределенный жест и поднялся. – Через день-два. Когда найдешь, тогда и ладно. Так, чтоб главному не помешало. Набирай людей и про остальное не забудь -горючее, оружие, взрывчатка. Ты где их держать собираешься? Не в этом же подвале? – Зачем в подвале? – Пако тоже встал, отодвинув табурет. – У меня склады есть в порту у пятого причала и на Западной дороге. А ежели мы Бабуина наймем, да Моньку Разина, Челюсть, Хрипатого и Пономаря, то у каждого из мужиков найдется тайная щелка. Есть где собраться и где имущество сложить. – Вот и отлично. – Саймон направился к лестнице, но на нижней ступеньке остановился и спросил: – А что в городе говорят? Насчет вчерашнего? – А ничего. Ни по радио, ни слухов никаких. Значит, синезадым и дерибасовским болтать не ведено. Соображаешь, э? Кто знает, тот знает – и молчок. Ищут! Только меня им не найти. И мысли про меня не будет! Пако – мелкая рыбешка, вошь, Монтальвашкин прихвостень. Куда ему! – Смотри, чтоб люди твои не проболтались, – сказал Саймон с порога. – Не проболтаются. Предупредил – самолично язык вырву! Наверху играло радио, дремал за стойкой коротышка-бармен, и трое качков, Скоба, Пехота и Блиндаж, все продолжали свою бесконечную партию на билльярде. Скоба отсалютовал Саймону новеньким кием. Пехота и Блиндаж щелкнули каблуками, а бармен, приоткрыв левый глаз, потянулся к пивной кружке. Саймон покачал головой. – Не надо. Я ухожу. Коротышка открыл оба глаза. – Куда, хозяин? Щас мухи дохнут от жары. Пива хлебни. Холодное! – Как бы горло не разболелось, таракан. Увидев, что хозяин тверд в своем намерении, усач вздохнул и дол ожил: – Кобель тут заглядывал. Тебя искал. – И где он? – Под баобабом. В тачке твоей парится. «Меняются люди, – подумал Саймон. – С чего бы?» Всю дорогу от Пустоши до Рио мулат держался при нем, беспокоясь – и не без основания, – что Филин с Проказой где-нибудь его придавят в отместку за прежние грехи. Теперь же он осмелел и днями болтался в городе, таскался по девкам и кабакам да собирал сплетни и слухи, забавные или глупые, но абсолютно бесполезные. Впрочем, все услышанное передавалось хозяину, а вот Майкл-Мигель, временами исчезавший по каким-то таинственным делам, не говорил ни слова. Расспрашивать его Саймон не мог – между слугой и другом существовала разница. Остановившись на углу, он поглядел налево, потом – направо. В знойный час сиесты Аргентинская улица казалась вымершей, точно покинутый, выгоревший на солнце муравейник. Над нею клубилась пыль; жаркий ветер, вздымавший ее, развевал волосы Саймона и забирался под белую полотняную рубаху. Но после подвального холода ласка ветра была приятной – словно Мария прикасалась к нему теплыми пальцами и что-то шептала, неразличимое, но нежное, как порывы налетавшего с моря бриза. – Хозяин! – Кобелино зашевелился на плюшевом сиденье, вылез, шагнул навстречу. Его волосы слипли от пота, виски и смуглые щеки влажно поблескивали. – Хозяин! – Что в «Коне» не ждешь? – спросил Саймон, пытаясь угадать, какую сплетню ему сейчас преподнесут. – Музыка, пиво и общество приятное. – Только лишнее. Зачем им видеть, как мы шепчемся? Подумают чего и Пако донесут. – А нам, выходит, пошептаться нужно? – Саймон, приняв таинственный вид, уставился на мулата. Этот разговор его забавлял. – Нужно, хозяин. Я тут знакомца навестил – он вроде Валеки из «Парадиза», чикитками торгует, от «плащей». Крутые девки! Груди – во! Бедра… ах, какие бедра! А зады! Твоя-то тощая, а у этих… – Заметив, как сошлись брови Саймона.он резко оборвал фразу и заторопился: – Словом, пришел я раз, пришел другой, а на третий знакомец и говорит… Саймон ткнул его пальцем под ребро. – Опять докладываешь не по форме. Имя? Адрес? Внешний вид,приметы? – Родриго Прыщ, хозяин. Центральный округ, Третья Драгунская, заведение «Под виселицей». Это в одном квартале от площади, где гаучо висят. Вид обычный: рожа толстая, зубы выбиты через один и нос набок. Примет особых нет, кроме серьги в ухе. Здоровая такая серьга, колечком, палец просунуть можно. – Связи? – поторопил Саймон. – Это ты о чем, хозяин? – На кого он работает? – А! На Монтальвана. Девок его пасет, но прирабатывает у смоленских. Хвастал, что с Карлой Клыком знается. Карла, дескать, грудастых любит, заглядывает «Под виселицу». Как вздернет кого, так и зайдет, и шутит – гуляю, мол, от виселицы к виселице. – Кто этот Карла? – Пахан Центрального округа. Ба-альшой человек! При самом доне Грегорио, а может, при его племянничках. Хотя вряд ли, не был бы он тогда паханом – у Грегорио с племянниками согласия нет. Прыщ толковал, что дочку он за «штыка» отдает, за Алекса Анаконду, чтоб, значит, внуков дождаться. Может, и дождется – внуков или Передела. Племяннички-то ждать не станут. Саймон кивнул. Эта история гуляла в Рио по всем кабакам, и никто не ведал, сколько в ней правды, а сколько выдумки. – Дальше! Кобелино взял галопом с места, где произошла заминка: – Так вот, пришел я в третий раз, а Прыщ и говорит, мол, дона Трясунчика заказали. Чтоб все было чинно-благородно, без мук и зверств, и чтоб покойничек в гробу смотрелся как жених на свадьбе. Горло, значит, не резать, в лоб не палить, ножиком в брюхо не тыкать и не накачивать керосином – от него по коже синий цвет разливается. Словом, работа для мастера, на пару тысяч песюков! Сказал он про песюки, и ждет, смотрит. После подмигивать начал и намекать: не найдешь ли умельца за тысячу? Вторую, мол, разделим. А еще, говорит, – полная амнистия тебе выйдет, от прежних грехов и Пустоши. Только чтоб умелец был не из наших, не из Рио, вольный или там отморозок, и половчее. Ежели справится, будет при новых заказах. Есть, мол, кого заказать! Трясунчик вроде бы так, для разминки. – Кобелино промокнул виски рукавом и закончил: – Я, хозяин, понимаю: пара тысяч после вчерашнего – плюнуть и растереть. Несерьезные деньги. Однако… – Я подумаю, – сказал Саймон, повернулся и зашагал к Одесскому бульвару. . Кто-то пытался выйти на него, и это являлось самым важным в бессвязных речах Кобелино. Какие-то люди, желавшие нанять отстрельщика – умелого, опытного, но не известного никому. И эти люди полагали, что такой человек найдется, – вернее, что Кобелино его найдет. Странная уверенность! Или не очень? Ведь Кобелино и Гилмор некогда жили в этом городе, и через любого из них можно было добраться до Ричарда Саймона. Правда, до разных Саймонов: до брата Рикардо, убийцы и главаря разбойничьей шайки, или до Тени Ветра, эмиссара Разъединенных Миров. Похоже, сейчас его востребуют в первом качестве, подумал Саймон. И люди, желавшие купить его, не знали, кто виноват во вчерашнем. Тут Кобелино прав; если б знали, цена на его услуги была бы повыше. Или не было б никаких предложений… Скорее последнее; тому, кто обчистил банк, не предлагают за пару тысяч отстреливать донов. Такой человек сам по себе – мишень. Эти выводы были вполне очевидными, и Саймон уже смирился с тем, что список его возглавит не живодер Грегорио, а дон Хосе Трясунчик. Возможно, и к лучшему; расставаясь с миром скорбей и печалей, Трясунчик мог исповедаться в грехах и поделиться чем-нибудь интересным. Например, о том же доне Грегорио. Одесский бульвар вывел к улице, что тянулась до площади и Богадельни. Невысокие здания по ее сторонам будто подрагивали в жарком мареве; временами, натужно ревя, проносился автомобиль или пылила телега, а прохожие, редкие в этот час, стремились укрыться под тенью домов и деревьев. Саймон шел по самому солнцепеку, лишь этим отличаясь от обитателей Рио. Выгоревшая шевелюра, сандалии, рубаха из некрашеного полотна, холщовые штаны. Белесая зыбкая тень на фоне белесых фасадов и раскаленной мостовой. Он размышлял об этом городе, так непохожем на настоящий Рио, перенесенный на Южмерику. В Рио жили бразильцы, не бразильяне; там звучал иной язык, там улицы были полны машин и глайдеров, там ночь озарялась неоновыми огнями, там стоэтажные небоскребы подпирали небо, соперничая с горным хребтом, что протянулся на севере, там, под резными кронами пальм и яркими тентами, слышалась музыка – сотни мелодий, знакомых и незнакомых, сливающихся в разноголосый хор. Здесь, в этом Рио, царили тишина, пыль и безлюдье. Узкие улицы, белые стены и невысокие дома; пролетки, фаэтоны и допотопные автомобили; значки кланов на вывесках торговых заведений, окна-амбразуры, двери-щели, лавки, кабаки и длинные унылые фабричные корпуса. Консервная фабрика, бумажная фабрика, ткацкая фабрика, лесопилка и угольный склад, кладбище и церковь при нем, рынок, почти пустой во время сиесты. Еще один рынок находился в гавани; там торговали рыбой, моллюсками и крокодильей кожей, а кроме того, не слишком таясь, девушками и детьми. Их поставляли многие кланы, снимая дань с неимущих самым простым и эффективным способом – натурой. Город дремал, раскинувшись у серповидной бухты. Город был другим, и другим был берег, не походивший на прежние берега, на узкую полоску меж морем и горами, где высились некогда башни Рио. Тот Рио отправился к звездам, оставив на память Земле гигантский овальный кратер; море затопило его, ближние горы обрушились в воду, со склонов дальних сползли селевые потоки, прикрыв следы катаклизма; и теперь лишь Хаос да каменный пень утеса с Фортом напоминали о минувшем бедствии. Однако в определенном смысле оно являлось перманентным: природа достигла равновесия, чего нельзя было сказать о людях. Саймон пересек площадь перед Серым Домом и свернул налево, к старой крепостной стене. Ее сложили из рваных каменных глыб самой различной величины и формы – вероятно, в прежние времена берег был завален этими камнями, пошедшими на строительство укреплений. В стене не имелось ворот, только широкий проем между двух неуклюжих пилонов, от которого начиналась Легионная улица. Тут тоже было тихо, но эта тишина казалась не пыльной и жаркой, а благостной. Фасады уютных домов увивали лианы, в палисадниках рос кустарник с сиреневыми цветами, над плоскими кровлями возносились затейливые башенки, а на перекрестках кое-где журчали фонтаны – и около них воздух был свежим, насыщенным влагой и запахом воды. Сразу за стеной стояло длинное трехэтажное здание Синода, где размещалась семинария, та самая, в которой учился покойный брат Рикардо, а дальше – пятиглавый собор с посеребренными куполами. В нем уже Саймон побывал, подбросил к алтарю крест отца Домингеса с запиской и мешочком песюков, с просьбой, чтоб передали семье погибшего. Он надеялся, что крест и монеты не пропадут, не осядут в чьих-то карманах; все-таки Домингес пострадал за веру, пав от рук безбожников-убийц. С Легионной Саймон свернул на Морскую, затем – еще на-какую-то улицу, густо обсаженную апельсиновыми деревьями; дома сменились особняками, башенки – башнями, палисадники – парками, и в каждом за чугунной решеткой бил фонтан и блистала на солнце поверхность бассейна. Он приближался к берегу и Синей скале; ее тень накрывала дома и деревья, а в разрывах между зелеными кронами мелькали башни оседлавшего утес Форта. Саймон остановился, задрал голову и минут пять разглядывал древнюю цитадель. Над южной башней торчали три антенны: две – обычные, а третья – в форме параболоида, нацеленного в зенит. Отсюда, снизу, она казалась ажурным металлическим цветком, что распустился на камнях и смотрит в небо, раскрыв свою чашечку в безмолвном и безнадежном призыве. – Хмм… – пробормотал Саймон, оттягивая губу. – Коррекция баллистических траекторий плюс ближняя космическая связь. Откуда сняли? С «Полтавы»? И зачем? Он двинулся дальше, прикидывая, как бы забраться в Форт, – то ли штурмовать скалу, то ли взламывать ворота. Оба решения казались ему слишком грубыми, примитивными и ненадежными; утес был на редкость крут и обрывался в море, а дорога, ведущая к воротам, просматривалась с наблюдательных вышек. Дав себе слово поразмыслить над этой проблемой, Саймон миновал довольно высокое здание – как оказалось, еще одну церковь – и очутился на проспекте Первой Высадки. Прямо перед ним, за живописным нагромождением валунов, сияло море. Улица, довольно широкая, но короткая, шла на восток и упиралась в подножие Синей скалы. Домов – точнее, дворцов, или фазенд, по выражению Пако, – было на ней с десяток, не больше. Шесть или семь, насколько мог разглядеть Саймон, стояли в ряд за церковью, разделенные деревьями и стенами; на противоположной стороне находились еще три, все – за высокой оградой, к которой подступала буйная зелень. Крайний из этих дворцов, принадлежавший дону Эйсебио Пименталю, был тих, молчалив и безлюден; дальше стояло массивное здание в форме куба с восьмиугольной башней, похожей на маяк, – обитель дона Хосе, судя по описанию Гробовщика. Задний ее фасад выходил к морю, и это являлось весьма полезным обстоятельством. У церковных дверей, несмотря на жару, толпились прихожане – одни, постарше, клали поклоны, другие, тихо переговариваясь между собой, дожидались начала службы. Саймон приблизился к ним, перекрестился и поник головой, словно в мыслях обращался к Господу; он простоял так с четверть часа, молясь за грешную душу Хосе Трясунчика, которой пришел срок расстаться с телом. Заметив, что остальные прихожане не обращают на него внимания, он отвесил поясной поклон, неторопливо пересек улицу, обогнул валуны, напоминавшие стадо окаменевших китов, и прыгнул в воду. Она послушно расступилась перед Саймоном, пропуская в теплую темно-зеленую глубину. Он поплыл вдоль берега, временами поднимаясь к поверхности и осматривая камни, песок, деревья и маячившую за ними крышу Пименталевой фазенды. Затем начались владения дона Хосе: длинный, сложенный из гранита пирс, у которого покачивался катер, и тщательно подстриженные кусты за ним. Эта живая изгородь двухметровой высоты подступала к самому пирсу, на котором дежурили трое охранников – при пулемете и с карабинами. Заметив направление, Саймон снова нырнул, и вскоре перед ним выросло каменное основание причала, покрытое густыми бурыми водорослями. Он поднес к глазам браслет, коснулся пластины, включавшей гипнозер, и подождал секунд тридцать, привычным усилием воли превозмогая сонную одурь. Потом всплыл, держась между гранитной стенкой и катером, скользнул на пирс, бросил взгляд на оцепеневших стражей, довольно хмыкнул и растворился в кустах. Живая изгородь из акации была колючей и густой, но тело Саймона вдруг сделалось бескостным; он полз, изгибался между стволов и ветвей, почти не думая о выборе маршрута, и листья, чуть заметно колыхаясь, смыкались над ним плотным зеленым пологом. Великое искусство пробираться в зарослях, преподанное Чочингой, отточенное в тайятском лесу, вошло в его плоть и кровь; сейчас он был не человеком, а ящерицей. или змеей, гибким маленьким существом, способным проникнуть в любую щель. Заросли кончились. Их живая стена с нешироким проходом в дальнем конце окружала бассейн – прямоугольный, большой, но мелкий: Саймон отчетливо видел каждую трещинку на плитках, устилавших дно. В воде неспешно дрейфовали игрушечные суденышки, целый флот из боевых и транспортных кораблей – крейсера, линкоры и пассажирские лайнеры размером с ладонь, эсминцы и парусные фрегаты длиною в палец и совсем уж крохотные яхты, шхуны и катера. На краю бассейна в низком глубоком кресле сидел старик; лицо его было изрезано морщинами, голова тряслась, в руках подрагивало длинное бамбуковое удилище. Он держал его, точно рыбак, который часами ждет самого скромного Улова. Саймон скользнул за спинку кресла. – Развлекаешься, дон Хосе? Морщинистое лицо со слезящимися глазами обратилось к нему. Голова тряслась – мелко, безостановочно, и в такт ей дергались бескровные губы. Болезнь Паркинсона в последней стадии, подумал Саймон. Или, возможно, последствия инсульта. Ему вдруг расхотелось убивать дона Хосе. – Т-ты… к-кто? – выдавил старик. – Гр.. Гришка п-прислал? Уб-бить? – Нет, – Саймон покачал головой. – 3-значит, из ЦЕ… ЦЕРУ? – Это ближе к истине. – К-как пробрался? М-моя охрана? Речь старика сделалась отчетливей, будто губы его вспоминали, как произносить слова. – Охрана на пирсе спит, – произнес Саймон. – И не пытайся позвать других. Это бесполезно. Лицо дона Хосе заходило ходуном: веки и губы задрожали, дернулись щеки, стали закатываться зрачки. Но он, видимо, был в полном сознании и трезвом рассудке. – Т-ты прилетел недавно? Через К-Канаду? Прилетел, отметил Саймон, машинально кивая. Через Канаду! Выходит, тут было на чем летать? – Не докладывают мне… – пробормотал старик. – Будто и н-нет меня вовсе… Человек прилетел, а я н-не знаю… Хотя… – выцветшие глазки уставились на Саймона, – хотя п-пан Сапгий тоже ищет моей смерти. Н-недоволен… – Это являлось не вопросом, а констатацией факта, – Я не нашел «Полтаву». Оружия тоже нет. Только это… С неожиданным проворством он подтянул к бортику один из игрушечных кораблей, наклонился и выхватил его из воды. Брови Саймона полезли вверх. На дрожащей ладони старца лежал крохотный крейсер-тримаран с боевыми башенками, мачтами, антеннами и даже самолетами на посадочной полосе. Точная копия «Полтавы». – В-вот, возьми… Другого н-нет. Саймон сунул игрушку за пазуху. Ее с великим мастерством вырезали из черного дерева, прикрепив к пробковой пластине – вероятно, чтобы моделька могла плавать. Дон Хосе что-то забормотал, и Саймон склонился к нему, пытаясь разобрать медленную невнятную речь. – В-всю жизнь… на кораблях… п-повеселился… от К-Ка-нады д-до Ар-ргентины… на Ам-мазонке… на П-Парашке… Теперь – т-тут… у лужи с игрушками… 3-зачем жить? П-пла-вать нельзя… п-пить нельзя… бабу нельзя… Я с-сам… с-сам бы умер… Т-только не от Гришки… не от Хайме… Лучше ты, чем другой… – Почему они ищут твоей смерти? – спросил Саймон. В горле у дона Хосе забулькало, захрипело – кажется, он смеялся.. – В-ижу… н-недавно прилетел… н-не знаешь… Старая история… Хайме б-был молод, и я б-был молод… лют… руку ему-отхватил… мог бы – башку, но без нее он бы столько н-не прожил… Шутка! Полвека б-без руки, кхе? К-каково? Н-не любит меня… очень… – А дон Грегорио? – Гришке люди мои нужны, к-корабли… Анаконду подмял, с Хайме д-договорился… Т-теперь на мое зарится… Чего ж не позариться? У всех – н-наследнички… У Гришки – дочь с племянниками, у Хайме – сыновья. Хорхе н-наплодил ублюдков… А у меня – никого! Мои паханы будут власть делить. Сергун, Митяй и Понт. М-может, Гришка с ними и стакнется… м-может, и Пимена объездит… – И что потом? – П-потом? – Старик внезапно оскалился, будто дряхлый, но сохранивший зубы волк. – Потом они Хорхе к-кровь пустят. П-передел случится, вот что потом! Успеешь ноги унести – т-твое счастье. В порт иди, к м-моим паханам. Скажешь им слова на тайном языке, будут знать, что от м-меня пришел… – Какие слова? – спросил Саймон и услышал на искаженном английском: – Оллз фиш зет камс ту зе нет… Тайный язык! Пожалуй, здесь он мог считаться тайным – забытый и мертвый, как речь шумеров или древних египтян. И столь же непонятный, как язык аборигенов Тайяхата. «Alls fish that comes to the net», – повторил Саймон про себя. «Что в сетях, то и рыба». Дон Хосе продолжал бормотать: – В порт иди, в порт… К Сергуну… или к Митяю… Найдешь их… А коль вернешься, скажи своим – нечего у н-нас искать и н-незачем. Н-нет ничего, давно нет… Это он об оружии, догадался Саймон и спросил: – Может, Грегорио что-то известно? Или Анаконде? – Н-не думаю. Но если не веришь – спроси. – Спрошу. – Саймон поднялся и отступил к зарослям. – Спрошу, дон Хосе. Прощай. Привет тебе от пана Сапгия. – Обожди… – Старик потянулся к нему дрожащей рукой. – Т-ты как моих качков усыпил? Т-там, на пирсе? Саймон неопределенно пожал плечами, – Есть способы, дон Хосе. – Есть, с-слышал… У нас забыли, а у вас, видно, помнят… У нас б-болыпе ножиком или д-дубиной… н-не хочу… и трястись н-не хочу… Хочу уснуть! Б-быстро. С-сделаешь? Опустившись на колени, Саймон заглянул в морщинистое лицо. Первый дон, разысканный им в Рио, был стар, немощен и жалок, словно крыса, которой перебили хребет. Он, несомненно, умирал; он шел в Погребальные Пещеры мучительным путем, что было карой за прошлые грехи, за всех сгоревших в топках и переправленных на дно. Саймону уже не хотелось его убивать; возможно, это было б вмешательством в прерогативы судьбы, определявшие, кому и как закончить жизнь. Но дон Хосе просил о смерти. Как человек, соприкасавшийся с ней и выступавший нередко ее посланником, Ричард Саймон знал, что она предстает в самых разнообразных обличьях и, в зависимости от ситуации, может являться казнью, карой, мукой, искуплением или избавлением. Кара была налицо – но заслужил ли этот старик избавление?.. Саймон, не веривший ни в дьявола, ни в Бога, не задавался таким вопросом, ибо его воспитали тайят, не склонные в отличие от людей решать моральные дилеммы. Для них просьба о смерти была всего лишь милостью, оказанной врагу, – последней и единственной. Он коснулся пластины браслета "задержал на ней палец, чувствуя, как цепенеют мышцы; гипнозер был выведен на максимум, и даже дляего тренированного мозга удар оказался слишком сильным. Старик, сидевший в кресле, хрипло выдохнул, потом, закрыв глаза, откинулся на спинку. Голова его больше не тряслась, руки лежали на коленях, морщины сделались глубже, щеки обвисли и будто закаменели, придав лицу выражение монументального спокойствия. Здоровых людей гипноизлучатель не убивал ни при каких обстоятельствах – они лишь погружались в сон, более или менее крепкий, в зависимости от дозы и персональной восприимчивости. Но Хосе Трясунчик не был здоровым человеком, и сейчас он стремительно плыл по реке Забвения к океану Вечных Снов. Саймон несколько раз глубоко вздохнул, чтобы насытить кровь кислородом, поднялся с колен и перепрыгнул через живую изгородь. За ней, у ног усопшего, плавал в бассейне длинный бамбуковый шест, медленно вертелся, подгоняемый ветром, переворачивал и расталкивал игрушечные кораблики. Но маленького крейсера-тримарана среди них не было. Дорога к «Красному коню» заняла у Саймона минут тридцать; в конце концов, Рио – невеликий город, и он уже свободно ориентировался во всех его четырех районах. Он предпочитал ходить пешком, не выделяясь среди горожан, поскольку автомобилей тут было немного – может, сотен пять, считая с грузовыми фургонами, сновавшими от складов в гавани к фабрикам и лавкам. Лиловый лимузин, хоть и покрытый дорожной пылью, слишком бросался в глаза, и Саймон ездил в нем только по определенному маршруту – от базы до штаба и обратно. Штабом являлся подвал под «Красным конем», а базой – усадьба Пачанги, спрятанная среди холмов, где поджидала его Мария. Хорошее место, тихое и безопасное, с великолепным сторожем. Правда, крыс и обезьян в окрестных рощах поубавилось, ибо Каа рассматривал их как свою законную добычу. В «Красном коне» не обнаружилось ни Пако, ни Кобелино, зато – и это было куда приятней – там обретался Гилмор. Сидел за столом у окна, не пил, жевал пшеничную лепешку и что-то писал в толстой тетради. «Мертвые тени на мертвой Земле», – вспомнилось Саймону. Быть может, теперь под пером Майкла-Мигеля рождались не плачи о прошлом, а гимны грядущему?.. Лиловый автомобиль заревел, унося их из города, мимо домов с черепичными кровлями, мимо харчевен и складов, мимо приземистых пальм, заборов, водонапорных башен и часовен с восьмиконечными крестами. В туче пыли они пронеслись по площади, и Гилмор отвернулся, чтобы не видеть полицейского участка; однако на этот раз тут никого не избивали и не подвешивали над ямой, хоть от нее и пованивало скверным. Безлюдная магистраль стремительно взлетела на гребень холма, потом скатилась вниз, к полям столичного кибуца, уже не желтым и зеленым, а блекло-бурым под гаснущими небесами, где загорались первые звезды. Саймон сбросил скорость и повернул на боковую дорогу, вслушиваясь в басовитое гудение мотора и в шелест, доносившийся из бамбуковых зарослей. Останови, брат Рикардо… Мотор смолк, и шелест и скрип стволов сделались отчетливей. Гилмор сидел, опустив голову, уткнувшись подбородком в набалдашник трости; из кармана белого пиджака торчала свернутая трубкой тетрадь. Казалось, он погружен в раздумья. Саймон коснулся руки учителя: – Что-то не так, Мигель? Ты чем-то встревожен? – Да, брат Рикардо. Наше убежище… «Убежище, – отметил Саймон. – Не дом, не фазенда, не каса Пачанги – убежище… Очень точно. Майкл-Мигель умеет выбирать слова». – Семибратовским я доверяю, не говоря уж о девушке. – Трость в руках Гилмора шевельнулась. – Но этот огибаловский отморозок… Сам он не продаст. Но если прижмут… – Ты хочешь сказать, что наше убежище – наша безопасность? – Вот именно, брат Рикардо. Мы могли бы перебраться в другое место, в такое, о котором он не будет знать. Пачанга что-нибудь найдет. – Вероятно, у Пачанги большие возможности? – Да. Он… Слово повисло в воздухе, но Саймон напрасно ждал продолжения. Что-то мешало Гилмору; возможно, не, о всех своих тайнах он мог говорить с посланцем со звезд. Или же тайна была не его? Вздохнув, Саймон вытащил из-за пазухи крошечный кораблик и положил на ладонь. – Сегодня я наведался к Хосе Трясунчику, Мигель. Трясунчик мертв. А это – все, что осталось от «Полтавы», все, что ему удалось найти. Он сказал, что ничего нет – ни корабля, ни оружия. Новость, кажется, не удивила Гилмора. Он откинулся на, сиденье, посмотрел на бурую стену зарослей и согласно кивнул. – У меня аналогичный результат. Ничего – ни корабля, ни оружия. Я тоже ищу, Рикардо, – с тех пор, как вернулся Рио. И не я один. Другие ищут гораздо дольше. «Опять недомолвки», – подумал Саймон и осторожно произнес: – Ты и эти другие, вы ищете для меня? Потому, что я просил? – Нет. У поисков совсем иная цель, брат Рикардо. Но если что-то удастся разузнать, мне удастся, ты будешь первым, кому я скажу. Ты, не Пачанга. Видишь ли, после встречи с тобой цели мои изменились. Намек был достаточно ясен, и Саймон решил, что давить на учителя не стоит, а лучше зайти с другой стороны. – Дону Хосе показалось, что я прилетел из ЦЕРУ. От Сапгия. Похоже, он был неплохо осведомлен о европейских делах. Гилмор слабо усмехнулся, не спуская глаз с зарослей. – Разумеется, мой звездный брат. Разве ты еще не понял? В нашей стране все как бы имеет явную и тайную сторону, но тайное строго регламентировано и, в общем-то, не является тайным. Есть конституция и Дума, есть министерства-департаменты и есть бандеро – и все это, в сущности, единый и неделимый конгломерат. Есть «белый» налог и есть «черный»; первый будто бы собирают власти, второй – кланы, а на самом деле какая разница? Власть – это кланы, а кланы – это власть, и расцветка налогов ситуации не изменяет. Есть полиция и есть смоленские – одни и те же люди под одним хозяином; есть армия и есть «штыки», есть силы местной самообороны и есть крокодильеры, есть явное и тайное, и они неразделимы. – Но мы говорили о «торпедах», – сказал Саймон. – Что здесь явное и что – тайное? – Явное – их корабли и монополия на морские перевозки, благодаря чему они добираются до самых дальних протекторатов. Например, до Канады, где обитает сотня тысяч индейцев и метисов и, как говорят, нет другой власти, кроме па-ханов дона Хосе. А тайное… Тайное, брат Рикардо, заключается в том, что «торпеды» – осведомители ЦЕРУ. Лазутчики, разведчики, шпионы, через которых информация уходит на восток. – И другие кланы мирятся с этим? Гилмор пожал плечами: – Мирятся же они с гаучо! К тому же информация путешествует в обе стороны, от «торпед» – в ведомство пана Сапгия и обратно. Тихая сделка, выгодная и для нас, и для них. Понимаешь, брат Рикардо, наши предки бежали из ЦЕРУ после кровопролитной войны, и мир так никогда и не был заключен. Мира нет, но есть определенные контакты. Это не возбраняется, если известно, кто контактирует, как и зачем. Это Даже полезно: нам надо знать, что творится у них, им – что Делается у нас. Ведь на Земле осталось так мало людей и стран! И они по-прежнему враждуют. Однако не могут жить, не замечая друг друга – даже на расстоянии десятков тысяч километров. – Это мне понятно, – промолвил Саймон, почти не удивленный, ибо он ожидал чего-то подобного. – Итак, церуш-никам надо знать, что творится у бразильян, и в этом им помогают «торпеды» с благословения прочих кланов. А что творится у церушников? – Ничего хорошего, брат Рикардо. – Гилмор прикрыл глаза, словно утомленный созерцанием бамбуковых зарослей. – Почвы истощены, шахты опустели, города и заводы в развалинах, нет ни транспорта, ни топлива, ни оружия, ни продовольствия. Зато есть голод, бунты и угроза нашествия с востока. Байкальский Хурал… – Я знаю, – сказал Саймон, – я слушал их передачи на орбите. А вот откуда знаешь ты, Мигель? Ты ведь никогда не работал на дона.Хосе Трясунчика? Ты – сланный в кибуц диссидент, отставной архивариус, поэт и учитель. Или я не прав? Возможно, я перечислил не все твои занятия? Возможно, у пана Сапгия есть в ФРБ и другие люди, кроме «торпед»? – Есть, – пробормотал Гилмор, не раскрывая глаз, – конечно, есть. Никогда не видел этого пана Сапгия, но думаю, что он человек предусмотрительный. Да и Пачанга, Петр Самойлович, говорил… – Веки Майкла-Мигеля приподнялись, в темных зрачках плавала боль. – Поверь, мне очень стыдно, мой звездный брат. Ты был со мною откровенен, а я… я… Я не хотел тебя обманывать. И если надо, я… Саймон сжал сильными пальцами его плечо. – Ты не обманывал, Мигель, всего лишь умалчивал, а потому – забудем и обратимся к более важным делам. Пачанга, наш хозяин, – из ЦЕРУ? Из ведомства Сапгия? Если не хочешь, не отвечай. Кивок. – Он тебя завербовал? Снова кивок. – И ты согласился? Почему? По крови ты не русский и не украинец, но все же предок твой пострадал от громадян. Его преследовали, изгнали, могли убить. – Могли, – шепнул Гилмор, – но это – прошлые дела. Я не русский и не украинец, брат Рикардо, я – потомок американских негров, хоть есть во мне кубинская и бразильская кровь. Но прежде всего я – человек. Просто человек. И я хотел бы помочь людям. Не пану Сапгию и пану Калюжному, не дону Хосе и дону Грегорио, а просто людям, неважно, какого цвета кожи и какой крови. Людям, что живут на Земле: будто тени, заключенные в преисподнюю. Но как помочь? Я не умею карать зло безжалостной рукой, я – не боец, не защитник, я не одарен твоей непреклонностью и силой. Однако я могу наблюдать и делать выводы, запоминать и писать, говорить и учить, а значит, могу постараться, чтобы зла и жестокости было поменьше, а понимания – больше. Понимание – это так важно, брат Рикардо! Понимание, сочувствие, помощь. – И потому ты ищешь оружие, – сказал Саймон, – ты и остальные агенты Сапгия. Бомбы, газы, вирусы. Древнее оружие; которое можно было б переправить к крымским берегам, чтоб нанести удар по Хуралу. Но там ведь тоже люди, Мигель! Гилмор покачал головой. – Оружие я ищу для тебя. Не бомбы, не газы и вирусы, а то, что ты просил: ракеты. Управляемые снаряды, которые могли бы разрушить передатчик на Луне. Правда, вернувшись в Рио, я получил задание искать оружие, но что бы я ни нашел, ты узнаешь об этом первым, брат Рикардо. Хотя я почти уверен, что ничего не найду. И никто не найдет. Тут я согласен с покойным Хосе Трясунчиком. – Майкл-Мигель сокрушенно вздохнул. – Триста лет – огромный срок. Все, что было на «Полтаве» и других кораблях, сделалось ржавчиной и прахом. – Не все, – возразил Саймон, вспоминая антенну на башне Форта. – В двадцать первом веке умели строить намного лучше, чем сейчас. Особенно если дело касалось ракет и лазеров. – Проводив взглядом стайку попугаев, мелькнувших над дорогой, он повернулся к Гилмору: – Однако в Пустоши нет оружия, Мигель. Что же ты там делал? – Наблюдал, запоминал, записывал. Иногда ЦЕРУ присылает своих агентов – осенью, с попутными ветрами, на аэростатах, что приземляются в Канаде или на Лабрадоре. Оттуда их везут на кораблях «торпед» – далекая дорога, рискованная, и все, кто ею прошел, известны морякам Трясунчика, а пану Сапгию это не нравится. Весной и летом можно лететь сюда, на юг – только не в центральные провинции, не в горы и не в амазонскую сельву. Лучше Пустоши места нет – холмистая равнина, людей немного и судоходная река, за нею – степи. Ну, ты сам видел. И тоже выбрал Пустошь. Саймон усмехнулся: – Значит, тебя отправили на рекогносцировку, А чтоб не возникло подозрений, был ты бит кнутом за малую вину и сослан в кибуц. Но ведь кибуцы есть не только в Пустоши, а? Могли ведь и на Огненную Землю сослать? Или нет? – Все устроил Пачанга. Это несложно, брат Рикардо, если имеешь деньги и знаешь, кому их сунуть в департаменте Общественного здоровья. Главное, с виной не перебрать, чтоб врагом народа не объявили. Таких не бьют и не ссылают, а сажают в Форт до праздника. А потом – в яму, на перекладину или в Разлом. – Я думал, что только гаучо вешают по праздникам, – сказал Саймон. – А еще вспоминается мне плакат в вашей Думе… Там было написано, что всех врагов народа отправляют в кибуцы. Для перевоспитания. – Во-первых, не всякий год случается война, а народу нужны развлечения, – рассудительно ответил Гилмор. – А во-вторых, брат Рикардо, не верь всем что написано. Так что же, просить Пачангу, чтобы нашел другое убежище?***
В ту ночь Саймон долго ворочался на циновке, прислушиваясь к тихому дыханию Марии. Снизу, из дворика, где спали Проказа и Филин, доносился заливистый храп, но в пальмовой роще и бамбуковых зарослях царило молчание; только раз прозвучал короткий, оборвавшийся стоном обезьяний визг – видно, Каа удалось разжиться ужином. Ветер стих, небо было ясным, и лунный полумесяц висел над плоской кровлей, словно лезвие боевой секиры канида. Некоторое время Саймон размышлял о девушке, доверчиво прильнувшей к нему, и о других своих спутниках, о Майкле-Мигеле, о Пашке и Филине, чей сон охранял затаившийся где-то во мраке зеленый змей. Помня об этом, Саймон мог бы считать их всех в безопасности, но-и это казалось странным – обычная уверенность покинула его. С внезапной остротой он ощутил себя человеком, не воином-тай, не Тенью Ветра и не агентом ЦРУ, а просто человеком, который ин– стинктивно страшится одиночества, нуждается в добром слове и поддержке, а потому окружает себя другими людьми. И эти люди были Ричарду Саймону небезразличны. Однако не совершил ли он ошибки, разыскав и приблизив их? Ведь одиночество – тоже оружие, тоже сила; одинокий отвечает лишь за себя самого, и в опасном мире он – как скала без трещин, как цитадель без ворот и мостов над глубо– кими рвами. Он закован в непроницаемый панцирь и каждый свой шаг соразмеряет только с пользой дела; если он гибнет, то гибнет один, и сколь бы мучительной ни оказалась его смерть, он не страдает чужим страданием и не тревожится за близких. Но если близкие появились, он уже не одинок, зато уязвим. Тот, кто Имеет близких, уязвим всегда – через них, допущенных к сердцу, враг способен поразить его, растоптать, приневолить и уничтожить. Жизнь принадлежит сильным, говорил Чочинга, однако для тайят быть сильным не означало быть одиноким. Спускаясь в лес, самое ценное и дорогое они оставляли в мирных землях и в них же возвращались, доказав свою храбрость, – или умирали в спокойствии, зная, что самый жестокий враг не прикоснется к их женщинам и детям. Но люди сражались иначе, с коварством и изощренностью высокоразвитой расы; люди, чтобы сломить сильного, били слабых, и потому лишь одинокий был несокрушим. Разумеется, в той мере, в какой позволяли обстоятельства и случай. Не сменить ли в самом деле убежище? С этой мыслью Ричард Саймон уснул, и приснились ему бесконечные коридоры арсенала на ледяной планете Полигон, что являлась базой и тренировочным центром Карательного Корпуса. Будто идет он по этим гулким коридорам, раскрывая дверь за дверью одним лишь мысленным усилием, как это случается во сне, и из глубоких камер, послушные его командам, выпархивают «ведьмы» и «ифриты», потоком идут «саламандры», выезжают глайдеры с реактивными установками и стратопланы с десантными капсулами, выдвигаются серые туши «СИГов» – самонаводящихся импульсных гаубиц, грозят стволами разрядников и фризерных метателей армады боевых космолетов – ракетоносцы и заградители, штурмовики и крейсера, тральщики и истребители. Вся эта техника двигалась следом за Саймоном в торжественной и нерушимой тишине, словно он выводил ее на парад, к необозримому плацу, куда выходили все коридоры, на широкое ровное пространство под открытым небом, тускло подсвеченное прожекторами. Над плацем пылали холодные синие звезды, а в самом зените висела Луна – неправдоподобно огромная, яркая, какой на Полигоне, лишенном спутников, отродясь не бывало; и все машины, космические, воздушные и наземные, салютовали ей беззвучными струями огня. Внезапно Саймон понял, что это не парад, не тренировочный марш и не маневры, а боевая операция: под сокрушительным обстрелам спутник рухнет вниз, раздавит арсенал, сотрет его с поверхности планеты и разлетится сам на тысячу кусков. Глупо задумано, мелькнула мысль, на удивление глупо; к чему такие жертвы? Но тут он вспомнил про передатчик на Луне и, догадавшись, в чем смысл операции, приказал усилить бомбардировку. Игра стоила свеч.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Телефон был большим, неуклюжим, в деревянном корпусе, из которого выступали похожие на вилы рычаги, с массивной бронзовой трубкой. Но он обеспечивал надежную связь – гораздо более надежную, чем коротковолновые ламповые радиостанции «штыков», где все голоса становились похожими на последний хрип умирающего. Правда, телефонный кабель удалось протянуть лишь к четырем точкам в окрестностях Рио – в Форт и полицейское управление Центрального округа, а также в гасиенду Алекса под Синей скалой и на остров к Хайме. Последняя из работ стоила жизни пяти ныряльщикам, однако дон Грегорио Сильвестров не вспоминал о таких мелочах. Другие мысли бродили в его голове, когда он касался трубки: он думал, что кабель в старых запасах иссяк, а новый, не ржавеющий под водой, вряд ли удастся изготовить. Спецы «штыков» умели делать орудия и карабины, гнать из нефти бензин, выдувать примитивные радиолампы и тянуть проволоку, но вот нанести на нее водостойкую изоляцию оказалось для них непосильной задачей. И оттого проложенная к Хайме линия была единственной и неповторимой. Впрочем, с кем еще говорить в океанских пространствах? Только с хитрым старым Хайме, чьи предки с мудрой предусмотрительностью воздвигли островную цитадель. Дон Грегорио поднял трубку. Пока его соединяли с островом, он занялся сигарой: откусил кончик, раскурил ее и выпустил к потолку кабинета пару идеально ровных колечек. Кабинет размещался в левой угловой башне, и сквозь окно были видны небо в первых звездах и густая листва сейб, подсвеченная пылавшим в кратере огнем. Голос Хайме был хриплым; видно, его подняли с постели. – Случилось что, милостивец мой? – Трясунчик мертв. – Грегорио затянулся сигарой. – Нашли его дохлым у лужи с корабликами. Часа четыре назад. – Ах-ха… – Старик протяжно зевнул. – Так об этом я уже знаю, Сильвер. Культя моя чешется, а это – к приятным вестям. Вот если б ломило и зудело… Временами осведомленность Хайме казалась дону Грегорио удивительной; он с полным основанием подозревал, что у дерибасовских было не меньше топтунов и стукачей, чем в его собственном ведомстве. Пока это шло на пользу общему делу, однако со временем… Отложив сигару, он произнес: – На теле – ни единой раны, никаких следов. Представляешь? – А вот об этом я не слышал, – отозвался Хайме. – Большой искусник поработал, а? Как его? Брат Рикардо? Пожалуй, я его к себе возьму, качком либо отстрельщиком… Не возражаешь? – Смотря кого отстреливать, – усмехнулся Грегорио. – Ну, не тебя же и не Алекса, пока он детишек не наплодил, внуков твоих. Может, Хорхе? – Может быть. Но не раньше, чем мы разберемся с наследством Трясунчика. – Согласен. Тебе – кораблики и морячков, мне – склады да гавани. А вот с бойцами их что делать? Бойцы под Сергуном ходят. Договоришься с ним? – Не уверен, – произнес Грегорио после непродолжительного раздумья. – А что бойцы? Ими, как порешили, пусть занимается Алекс. Его проблема. – Алекс их перережет или в Разлом продаст, а зря… ах– ха… – Хайме снова зевнул. – Лучше бы сделать так: пустим слух, что с Трясунчиком разобрался Хорхе. Глядишь, «торпеды» мстить захотят. Так пусть Хорхе их и режет, не Алекс. А? – Труп-то не поврежден. Поверят ли, что это – работа крокодильеров? – с сомнением сказал Грегорио. – Чего ж не поверить, милостивый дон? Ты нанял Рикардо-искусника через десятые руки, а ведь его и Хорхе мог нанять. У него тоже счеты с «торпедами». Недаром их в Харбохе пощипали! Дон Грегорио Сильвестров прищелкнул языком. Порой хитроумие Хайме поражало не меньше, чем его осведомленность; всякое событие, случай, факт он умел повернуть к собственной пользе – а значит, и к пользе триумвирата. Пока… Но категория «потом», как полагал главарь смоленских, для Хайме не существовала; слишком был он стар, чтоб захватить инициативу через пару лет, когда наступит время делиться властью. Правда, у Хайме имелись сыновья, но бог не наделил их особым хитроумием, и можно было согласиться, что в обозримом будущем – «потом» – все они останутся живы. Или хотя бы один из них. Двусмысленно ухмыльнувшись, дон Грегорио произнес в трубку: – Согласен. Хайме тут же отозвался: – Раз согласен, сообрази, как Сергуна с Хорхе стравить. Время-то подходящее… – Это почему? – Лоб Грегорио пошел складками. Временами он не поспевал за извилистой мыслью старика. – А потому, что надо внимание отвлечь. Банк-то грохнули! И тут не в убытках дело, а в том, кто и как? Убытки – что, убытки я возместил – из нашей общей кассы. Ну а ты распорядился болванов-охранничков закопать. Карло твой, наверное, закапывал? Да не один же? Еще топтуны твои – те, что злодеев ищут. Выходит, многим известно, что случилось, – а случай-то небывалый! Загадочный, можно сказать. Слухи пойдут, сплетни… При одном напоминании о банке сигара начала горчить. Раздавив ее в пепельнице, дон Грегорио буркнул: – Не пойдут. Карло самых доверенных людей в розыск направил. – И что они нашли, твои доверенные? – не без ехидства поинтересовался Хайме. – Пока ничего. Но найдут! Найдут проклятых отморозков! Я их даже в Хаосе достану – и на крюк! Обычное спокойствие покинуло дона Грегорио, и Хайме, почувствовав это, сказал: – В Хаосе, милостивец мой, не достанешь, и соваться туда не след. Ты не кипятись, ты жди терпеливо, как я ожидаю. Жди и следи. Ведь деньги зачем крадут? Не для того, чтоб с ними в Хаос закопаться, а чтоб потратить с удовольствием и толком. Пропить и с девками прогулять либо иным манером покуражиться. Значит, где-то что-то всплывет, если уже не всплыло. Как в городе? Тишина? – Тишина. Так, шебуршат по мелочи, «шестерки» из вольных. – Ну, эти всегда шебуршат. А что до денег, всплывут они, не сомневайся! Сумма-то немалая. Всплывут! В Рио или Севасте, а может, в Харке или Буэносе. Тут мы злодеев возьмем да расспросим, что они с дверью намудрили и чем опоили охранничков. Слышал я, есть мексиканский гриб, так от него с лошадьми обморок случается. – Это вряд ли, – возразил дон Грегорио. – Все спали, а запаха никакого не было. И дверь… Дверь не сломана, а вскрыта. Такая дверь! Не забыл, откуда ее взяли? Еще во времена домушников? – Не важно, откуда взяли, а важно, куда поставили. Двести лет простояла – и надо же Значит, еще один искусник у нас завелся, кроме братца Рикардо. Ну, тебе видней, ты у нас о здоровье общества печешься. Только я думаю, может, Сапгиевы людишки в банке пошалили, а? Что скажешь, Сильвер? – Зачем им это? – Может, чтоб песюками нашими от бляхов откупиться. Может, Сапгий их бросил, а жить-то надо – и хочется жить хорошо. А если по существу, так попугать хотят: мол, есть у нас ключики к самым хитрым вашим замкам и всякие газы, что в сон вгоняют. Почему бы и нет? Дон Грегорио хмыкнул и нахмурил брови. Хитер Хайме, хитер. Если заводит речи об агентах срушников, значит, что-то пронюхал, старый лис. Или хочет по ложному следу пустить? Дверь в Первом Государственном когда-то вела в компьютерный центр «Полтавы», и Грегорио не сомневался, что никто на всех шести земных материках, считая с остатками Северной Америки, не сумеет ее открыть. Никто! Кроме служащих банка, тех дерибасовских, которым доверялись электронные ключи… кроме самих хранителей сокровищ. А где сокровища и дерибасовские – там, разумеется, Хайме. Эта мысль мучила Грегорио уже второй день.Глава 9
Гробовщик оказался дельным помощником; что бы ни двигало им – корысть, любовь к авантюрам или стремление к власти, – он пунктуально выполнял приказы и не слишком лез с советами. Еще одним положительным качеством Пако являлось отсутствие любопытства; он не спрашивал, как достигается тот или иной результат, если они казались приемлемыми. Мешки с песюками в подвале «Красного коня» были таким приемлемым результатом, как и позиция, которую Пако теперь занимал – уже не главарь маленькой шайки вольных, а пахан при крепком доне, сколачивающем новое бандеро. И то, что дон появлялся и исчезал с таинственной внезапностью, не говорил ни слова о своем убежище, не поминал о прошлом, не делился планами, но был суров и грозен – словом, все это рассматривалось Гробовщиком как свидетельства компетентности и силы вожака. Воистину сильный человек всегда молчалив и целей своих не раскрывает. А дон «железных кулаков» был, несомненно, сильным человеком. Очень сильным! И с каждым днем становился сильнее – по мере того, как росло его воинство. Хрипатый – тот, с соструганным носом, – привел пять десятков головорезов; не меньше набралось у Челюсти с Монькой Разиным; Пономарь с поделыци-ками, Холерой и Алонзо Бровью выставили шестьдесят, а Бабуин – тощий, заросший бурой шероью мужичонка – оказался главарем сотни лихих молодцов, промышлявших к северу от Рио, в лесах на плоскогорье. Большей частью они охотились на обезьян и капибар, не забывая про домашний скот; ну а когда подворачивались обозы с «черной» или «белой» данью, обезьянам с капибарами давалась передышка. Обозы были, конечно, соблазнительней: кроме бочек с пулькой и мешков с зерном, лесовики добывали оружие и одежду, снятую с мертвых охранников. Особо ценилась зеленая форма «штыков», но синей смоленской молодцы Бабуина тоже не брезговали. Вливались в бандеро и другие шайки, соблазненные звоном монет или возможностью расквитаться с обидчиками. Где отыскивал их Гробовщик? В порту и на верфи, в переулках за гаванью и у железной дороги, на складах и фабриках, в окрестных кибуцах и деревушках, в лесах и горах. Люди всех оттенков кожи, бородатые и безбородые, белолицые и смуглые, шоколадно-коричневые, как Кобелино, и черные, как Мигель. Был среди них даже индеец с Амазонки, невысокий крепыш со странной кличкой Не-Трать-Патронов-Зря; он – единственный из всех попавшихся Саймону изъяснялся по-русски с акцентом. Вся эта пестрая братия напоминала кулачных бойцов из Сан-Эстакадо, ибо не каждый тут мог похвастать целыми пальцами, парой ушей и носом; тот же, кто мог, имел иные потери, от скальпа до выбитых зубов. Но Саймона внешний вид волонтеров не тревожил, поскольку все они были людьми боеспособными. Даже слишком: деньги не задерживались в их руках, а превращались в чарки, кружки и стаканы; кошели пустели, но креп боевой дух, и всякая попойка заканчивалась дракой. Пили обычно в гавани и били чужих, то есть портовую шваль и синемундир-ных, так что Саймон не рассматривал это как нарушение дисциплины. Он лишь велел буграм не выдавать боеприпасов и не жалеть кулаков, если начнется пальба, – кабацкие потасовки считались обычным делом, а вот побоище могло бы нарушить его планы. Собственно, побоище не исключалось, и даже наоборот, однако Саймон намеревался осуществить его в другое время и в другом месте. В каком точно, он пока не знал. За пару дней Гробовщик при активном содействии Разина и Хрипатого приобрел карабины, взрывчатку и бензин – для грузовых автофургонов, нанятых Пономарем, и для изготовления напалма по самой упрощенной технологии, какую мог припомнить Саймон. Динамит и горючее достали у «черных клинков», оружие – у «торпед»; Сергун, один из паханов покойного дона Хосе, услышав про сети и рыбу, не отказался посодействовать. Челюсть и Алонзо Бровь, имевшие своих людей на верфи и металлическом заводе, занялись катапультами; их, по мысли Саймона, требовалось штук десять-пятнадцать, с дальностью боя на четверть лиги. Бабуин, назначенный паханито, запасал продовольствие, мясо, копченую рыбу, пиво и сухари. Их подвозили на склад, принадлежавший Гробовщику, и в небольшой пакгауз у железной дороги, штаб-квартиру Пономаря. Саймон появлялся здесь и там, устраивал смотры и проверки, карал и награждал, следил, как формируются боевые отряды, кто в них старший, кто сядет за руль фургона, кому доверят взрывчатку и пулемет. Пашка и Филин повсюду сопровождали его – не ради безопасности, а потому, что дон не мог появляться перед своими людьми без качков; это было бы пренебрежением традицией и свидетельством легкомыслия. Авторитет дона требовал, чтобы при нем были качки-телохранители, пусть всего лишь двое, зато из самых сноровистых и крутых. Качки ценились высоко, выше отстрельщиков и ликвидаторов, и в иерархии бандеро стояли вровень с буграми. Поговаривали, что качки Хорхе Смотрителя могут сломать хребет крокодилу, а дон Грегорио предпочитает метких стрелков из Харки-дель-Каса; что у Эйсебио Пименталя есть команда чернокожих амазонок, а старый Хайме набирает телохранителей лишь из пленных гаучо, у которых отрезаны языки. На этом фоне рыжий Пашка и молчаливый Филин не поражали экзотикой, однако были вполне надежными. В городе царила тишина, но Саймон считал ее обманчивой, не сомневаясь, что топтуны смоленских ищут след пропавших песюков. Это заставляло торопиться; формирование его отрядов не проходило бесследно, а всякий след, как говорил Чочинга, будет-разнюхан и найден, коль не кормить гепардов пару дней. И потому Саймон спешил. Его удар, кровопускание Первому Государственному, противники отразили, оборонясь молчанием, и это было для них наилучшей тактикой – искать, скрипеть зубами, но молчать, чтобы никто не заподозрил слабости власти. Однако, разумеется, удар был принят к сведению, и Саймон мог засчитать себе очко, а то и два – если припомнить, за чей счет вооружалась сейчас его дружина. Впрочем, она не была решающим преиществом, а лишь средством для его достижения. Надо было повернуть ситуацию так, чтобы доны считались с реальной силой Ричарда Саймона. Считались и боялись, в каком бы обличье он ни предстал перед ними – как эмиссар Разъединенных Миров, посланец со звезд, или как предводитель бандеро, авантюрист и отморозок, явившийся в Рио из дикой Пустоши. «Пора нанести удар, – думал Саймон. – Осуществить некую акцию, столь впечатляющую, чтобы слухи о ней всколыхнули город, и сделать так, чтобы она не была анонимной – по крайней мере, для всех интересующихся лиц». Кого икак атаковать, он уже представлял, ибо в мудрых Поучениях Чочинги говорилось ясно: вырви сердце сильному, чтобы печень слабого провалилась в пятки. Руководствуясь данным принципом, Саймон выбрал самого сильного и обнаружил, -что выбор ему по душе. Когда он размышлял об этом, в глазах его плескалось зарево, встающее над Харбохой, клубился черный дым, тянулись по грязной дороге колонны беженцев, а временами он видел мешок на длинной балке и танец зубастых тварей в темных озерных водах. И это значило, что кара будет справедливой. Вопрос, кого и как, был решен, оставалось выяснить, когда и где. Время и место! Главное – место; на этот счет у Саймона не было полной определенности, ибо Монька Разин, Алонзо Бровь, Хрипатый и остальные его бугры знали о донах не больше, чем Пако Гробовщик. К счастью, они являлись не единственным источником информации.***
К вечеру третьего дня люди Гробовщика раздобыли заказанное. Груз был голым и упакованным в мешок, а при нем – два свертка с синей униформой, богато расшитой серебром, и сапогами. Дейв Уокер, инструктор Саймона, говорил, что мужчина, теряя штаны и бумажник, вместе с ними лишается самоуверенности, но в данном случае это не проходило – видно, попался уникальный экземпляр. На внешность он был светлокожим мулатом, плотного телосложения, с толстой шеей, глазами навыкате и фаллосом, который сделал бы честь племенному быку. Он и ревел как бык, пока его крутили и вязали в холодной темной пыточной – щиколотки к запястьям на уровне копчика, так что тело выгнулось дугой. Потом его зацепили под колени двумя веревками, пропущенными через кольца в потолке, и подтянули наверх. Теперь пленник походил уже не на быка, а на бычью тушу – висел вниз головой с широко разведенными ляжками у самой потолочной балки, разделявшей кольца. А на полу, как раз под ним, стояла чугунная ванна с водой. Все эти процедуры Скоба, Пехота и Блиндаж завершили с..похвальной быстротой, невзирая на скудное освещение в подвале «Красного коня» – чувствовался немалый опыт и любовь к порученному делу. Они бы с удовольствием остались – поглазеть, как дон Кулак переломает вертухаю кости, но Саймон их выгнал; лишние свидетели допроса были ему не нужны. Решив, что не стоит пренебрегать добрыми традициями мафиози, он распорядился, чтоб наверху включили радио – и погромче. Затем зажег пару фонарей и подступил к пленнику. Конечно, он с большей охотой пообщался бы с доном Грегорио, с доном Хайме или с другими неуловимыми донами, но раз не обломился крупный кусок, не стоит швыряться малым. На сей случай тоже имелось Поучение Чочинги, почти непереводимая игра слов с таким примерно смыслом: не можешь вцепиться в горло, кусай за палец. Иными словами, хватай окуня, если не досталась щука. Саймон, задумчиво оттянув губу, оглядел пленника. Окунь попался жирный! И крикливый! С той самой живодерни на въезде в город, что повергала Майкла-Мигеля в дрожь. Саймон ослабил веревки, и курчавая голова скрылась в ванне с водой. Секунд десять ничего не происходило, потом задергались ноги и на поверхности воды возник и лопнул большой пузырь. Подождав еще немного, Саймон потянул за веревки и дал пленнику отдышаться. – Кто?.. Кто ты такой, бледная вошь? – пробормотал мулат, раскачиваясь под потолком и пожирая Саймона налившимися кровью глазами. – «Железный кулак», – представился тот. – Никогда… ррр… не слышал. – Еще услышишь, – пообещал Саймон. – А теперь скажи-ка, приятель, как тебя зовут. – Я скажу… скажу… только в штаны не навали, когда услышишь. – Глаза пленника выкатились, он набрал воздуха в грудь и рявкнул: – Кабальеро Бучо-Прохор Перес! Капитан-кайман полиции, Северный округ Рио! Бугор Третьей бригады смоленских! – Он еще больше выпучил глаза. – Понял, с кем дело имеешь? Кого «шестерки» твои по недомыслию прихватили? Я вас всех, ублюдков, под плеть положу! Или скормлю муравьям! Только не сразу, не сразу, постепенно, с самых чувствительных мест. – Кстати, об этих местах. – Саймон навалился на веревки, кабальеро взлетел вверх, и бетонная балка пришлась ему точно в пах, между расставленными коленями. Балка уцелела. Капитан взревел. Что-то в нем было от саблезубого кабана, самой упрямой и кровожадной твари из всех, водившихся на Тайяхате. Этот хищник никому не уступал дороги и ничего не боялся – разве лишь огня. Но обычный костер его остановить не мог, а только стена пламени, какая бывает при сильных лесных пожарах. Победа над саблезубом считалась у тай почетной, и Дик взял первого зверя в четырнадцать лет – правда, с помощью Каа и двух гепардов Наставника. Кабаньи клыки висели на его Шнуре посередине, окруженные костяшками пальцев и дисками, выпиленными из черепов. С минуту Саймон прислушивался к вою капитана-каймана, вспоминал мальчишку, убитого на площади, и размышлял, не продемонстрировать ли Бучо этот Шнур – для назидания и лучшего контакта. Однако ему казалось, что кабальеро подобной чести не достоин и лучше ограничиться балкой и ванной с водой. Балка была вполне весомым аргументом – она выступала из свода на длину руки, и край ее щетинилс арматурными прутьями. Опустив пленника пониже – так, что их лица пришлись одной высоте, -Саймон коснулся толстой шеи, нащупал артерию под челюстью, сосчитал пульс и убедился, что кабальеро скорее жив, чем мертв. Потом предложил: – Побеседуем? Только без глупостей, капитан. Явился ты сюда мужчиной, а вот каким уйдешь обратно… Угроза, кажется, возымела действие: Бучо дернулся, раскачивая веревки, и прохрипел: – Чего тебе надо, отморозок? – Только информация, всего лишь информация. Пара слов о том, пара – об этом. – Какие слова, тапирий блин? Ты на кого работаешь? На Хорхе? Или на Пименталя? – Бучо уже пришел в себя и попытался дрыгнуть ногой, но это не получилось. – Нет, Пимену такие не нужны, – пробормотал он, наморщив лоб, – Пимен имеет дело с одними черными. Значит, Смотритель тебя подослал? – Не Смотритель. Я, знаешь ли, сам по себе, но очень хотел бы увидеть Смотрителя. Где, говоришь, он живет? – Саймон слегка подтянул веревки. Это было не очень приятным занятием, и он, прикрыв глаза, вызвал недавнюю картину: пыльная площадь, кольцо людей в синих мундирах и тощий парень, почти мальчишка – в пыли, с пробитой головой. – Ррр… Больно, сволочь! Отпусти! – Бучо снова попробовал дернуть ногой. – Где живет, я спрашиваю? – В Озерах… Где еще ему жить? – Точнее, – приказал Саймон. – На границе моего округа, у Параибы. Северный тракт, двадцать три километра от Рио… свернуть налево и к предгорьям. Там у него озера в старых затопленных кратерах, крокодильи фермы, угодья… и замок. К чему тебе это.? – В гости хочу наведаться, капитан. За крокодильей кожей. – Свою побереги! У Хорхе народец крут. Там, на фермах, тысячи две, а то и поболе. Любой недоумок знает. – А я вот не знаю, но очень хочу узнать. В подробностях! Еще – про дона Алекса, про Анаконду. Про Хайме, Эйсебио и Грегорио. Эти где? Лицо капитана сделалось темным от прилившей крови, почти черным в полумраке пыточной. Казалось, он никак не мог сообразить, чего от него хотят: лоб пошел крупными Кадками, испарина выступила на висках, губы приоткрылись и по щеке побежала струйка слюны. Он размышлял, а балка, темневшая над ним, со всей откровенностью намекала: не будет слов – не будет и пощады. Наконец Бучо пробормотал: – Где Хайме поселился, о том не знаю, не ведаю – и никто не знает, кроме его качков. А качки у него молчаливые. Одни – от рожденья, а у других язык выдран. Хайме таких скупает. Хитрый лис! Безъязыкие, зато верные! – Дальше, – поторопил Саймон. – Пименталь, тот столицу не жалует, сидит в Разломе, в безопасности, а если дела какие, так есть у него кораблик, железная лохань, вся в пушках и пулеметах. Садится и едет, хоть в Рио, хоть куда. Дон Алекс – тот здесь, Форт держит, верхнюю половину. Еще у него гасиенда по другую сторону Синей скалы. Богатая! На самом побережье, а еще подальше – Кратеры. Это уже не моя забота, там за главного Карло Клык, старший мой, пахан хозяйский. Кратеры стережет. – Кратеры? – Саймон нахмурился. – Что за Кратеры? – Усадьба хозяина, дона Грегорио. Там он и обретается, с дочкой своей и охраной, крепкой охраной. Чтобы, значит, племяннички-наследнички на тот свет до срока не отправили. Ты, случаем, не от них? – Глаза Бучо вдруг сузились, и он прошептал: – Не-ет, не от них! Ты ведь ко всем донам подбираешься! Вот оно что! Как тебя… Кулак? Ты откуда. Кулак, взялся? Срушник, что ли? Лазутчик ихний? То-то, гляжу, наглец. Так я тебе зачем? Тебе прямая дорога к «торпедам». Или не знаешь, где паханов Трясунчика найти? – С ними я уже знаком. – Саймон, поднатужившись, отодвинул ванну, спустил Бучо на пол и перерезал узел на веревках. – Одевайся, кабальеро! Еще один вопрос, и наша беседа закончится. Один вопрос и маленькая операция. Бучо ворочался у его ног, растирая лодыжки и с сомнением щупая в паху, потом встал, натянул штаны и сплюнул в воду. – Я тебя запомню… Как тебя? Кулак? Запомню и найду. Теперь жди гостей! Теперь ты повисишь под балкой, в свой черед повисишь, а я над тобой покуражусь. – Придешь-то с кем? – спросил Саймон. – С полицейскими или с бойцами из смоленских? – А разве есть разница? – Бучо взялся за сапоги. – Нехорошо, когда не замечают разницы в таких делах. Ты – полицейский капитан, и ты же – бугор смоленских. Как-то не вяжется! Глаза кабальеро округлились от удивления. – Что не вяжется, недоумок? Русских слов не понимаешь? – Понимаю. – Саймон глядел на него с презрительной усмешкой. – Еще понимаю, что страж порядка и закона – это одно, а убийца и главарь бандитов – совсем другое. Глаза у Бучо полезли на лоб. – Ты… как тебя? Кулак? Ты откуда. Кулак, свалился? И впрямь из ЦЕРУ! Так вот, запомни: в этой стране бандеросы – это закон, а закон – это бандеросы. Разве у вас за океаном иначе? – Я другой океан пересек, – сказал Саймон и неторопливо вытянул левую руку. Под тусклым светом фонарей блеснул браслет; потом одна его секция замерцала, яркий луч упал широким конусом на стену, и из нее выступил двойник Ричарда Саймона – голографическая проекция в натуральную величину. Но этот Саймон был в серой с шелковистым отливом форме сотрудника ЦРУ, перехваченной боевым поясом, и на груди его сияла эмблема: голубой прямоугольник с десятью золотистыми кольцами и шестнадцатью звездами, символ Разъединенных Миров. Браслет снова вспыхнул, и безжизненный механический голос произнес: – Ричард Саймон, полевой агент Центрального Разведуправления Организации Обособленных Наций. Пункт назначения: Старая Земля. Цель: ликвидация передатчика помех, общая рекогносцировка. Агент действует в рамках директивы 01/12004-MR. Полномочия не ограничены. Капитан-кайман взирал на это чудо, застыв с сапогом с руках. Теперь лицо его было не смуглым, а серым, такого же цвета, как форма Саймона-двойника; челюсть отвисла, крупен ные белые зубы поблескивали в полумраке, со лба на скулы и подбородок струился пот. Ноздри Саймона затрепетали – он чувствовал резкий запах насмерть перепуганного человека. – П-призрак… Т-твой п-призрак… К-какты эт-то де-делаешь? – Зубы Бучо лязгнули. – На Земле жили когда-то мудрые люди, и было их много. В одной Бразилии – двести сорок миллионов человек. Бразильцев, не бразильян! Знаешь, куда они подевались? – Улетели… П-переселились на небеса, словно ангелы. – Кабальеро выронил сапог и отер испарину со лба. – Верно, улетели, – подтвердил Саймон, – а теперь возвращаются назад. И первый – я! А это, – он шевельнул кистью, и яркий световой конус угас, – это не призрак, а фотография, объемное изображение. Из моего браслета. В нем много всякого – записи, схемы, картинки, все необходимое, чтобы удостоверить мою личность. И мои полномочия, капитан! Или бугор? Ладонь Саймона легла на смуглое плечо, обхватив его от ключицы до лопатки, мышцы напряглись, и Бучо прикусил губу. Этот ужасный человек, умевший раздваиваться, этот ангел или демон, вернувшийся с небес, обладал силой ягуара! Нет, он был еще сильнее – он мог сломать ему кости одним движением, мог вырвать сердце, выжать кровь или зачаровать, как питон чарует кролика. Бучо-Прохор Перес, капитан полиции, главарьТретьей бригады смоленских, державшей Северный округ Рио, не сомневался, что так оно и случится. Демоны любят поиграть с людьми. Помучить, отпустить, а после… Демон навис над ним каменной глыбой. – Я видел, как ты прикончил мальчишку там, на площади, у живодерни. Ударил бичом, с одного раза. Должно быть, любишь убивать людей? – Саймон оттолкнул пленника и выпрямился. – Я не люблю, но убиваю. Знаешь, крыса, почему ты еще жив? Потому, что ты – мое послание самому главному из живодеров. Как там его? Грегорио? Так вот, передашь, что я хочу повидаться с ним – с ним и с остальными главарями, из самых важных. Хайме, Анаконда, Пименталь, Хорхе, если я его раньше не прикончу. Пожалуй, хватит. Зубы Бучо выбивали дробь. – К-куда передать ответ? – Есть такое заведение «Под виселицей». Родриго Прыщ там за главного. Рожа толстая, зубы выбиты через один, нос набок и в ухе серьга. – 3-знаю. Б-бабцом торгует… – Ему и передашь. А теперь, чтоб ты лучше запомнил… Рука Саймона потянулась к ножнам, где прятался острый, как бритва, клинок тимару.***
Ночь, Северный тракт, двадцать три километра от города. Крепкий бревенчатый мостик через Параибу, за ним, левее, – въезд на широкое шоссе в тропическом лесу. У въезда – кордон: шлагбаум между двух приземистых бетонных будок, похожих надоты, пулеметные стволы в бойницах и два десятка стражей в широкополых шляпах. Дорога прямая, как полет стрелы, и тянется до высокого вала; на валу – изгородь с двойным рядом колючей проволоки, снова охранники и пулеметы, а в отдалении мрачной декорацией встают обрывистые горы – угольно-черная стена с жемчужно-серыми, залитыми лунным светом вершинами. Добравшись до вала, шоссе ныряет вниз, в тоннель, выложенный камнем и перекрытый железной решеткой; за ней – сторожевой пост, часовые, собаки, блеск оружия, яркий огонь факелов над бочками с мазутом… Патруль за мостом, у въезда на шоссе, сняли лесовики Бабуина: просочились среди деревьев и лиан, обошли заставу, перебили метательными ножами караульных у шлагбаума, ворвались в доты, перерезали пулеметчиков и отдыхавшую смену. Затем Саймон прошелся с ними вдоль шоссе, прячась за древесными стволами, и убедился, что застав здесь больше нет – как и патрульных с собаками на прямой короткой, едва ли с километр, дороге. Тогда он отослал разведчиков к мосту с приказом не торопясь начать движение, а сам, покинув опушку леса, ящерицей пополз в траве. Неширокая луговина разделяла темные джунгли и пологий земляной склон, тоже заросший травами; вал, словно кольцевая стена кратера с врезанной в нее решеткой, поднимался вверх метров на тридцать. Приблизившись к подножию, Саймон включил гипно-зер, поставив его на максимум, стиснул зубы и выждал десять минут. Он не хотел рисковать, поручая стражей заботам лесовиков; посты за колючей проволокой были, видимо, многочисленными, а их диспозиция – неизвестной. Успех же атаки зависел от внезапности: он собирался пасть на врага, как шестилапый гепард на стаю крыс. Когда перекличка часовых и шорохи наверху затихли, Саймон полез на вал. Под ним смутными тенями появлялись из леса фургоны, с тихим гулом катили налево и направо, разворачиваясь вдоль земляной стены. Фургонов было двадцать три, и, кроме снаряжения, в них находилось почти пятьсот бойцов, порядком больше, чем рассчитывал Саймон. В последний момент к нему присоединились «торпеды», среди которых наметился раскол: одна партия желала избрать нового дона, другая – отдаться под покровительство смоленских, а третья – мстить. Этих мстителей и привел Сергун, свирепый детина с исполосованным шрамами лицом; как показалось Саймону, ему было безразлично, кого резать, – «штыков» или смоленских, дерибасовских или крокодильеров. Что в сетях, то и рыба. Если отнести эту древнюю пословицу к крокодильерам, они являлись не просто рыбой, а чем-то вроде акулы-молота. Самый мощный, самый грозный и жестокий из бразильянских кланов – и к тому же самый многочисленный и богатый. Они поднимались медленно, но верно, и в Трехсотлетней истории ФРБ – если б ее когда-нибудь кто-нибудь написал – не нашлось бы страницы без упоминания о них. Эта история была уже знакома Саймону и в кратком изложениии выглядела так. После Исхода, в последней четверти двадцать первого столетия, в Крыму и северном Причерноморье началось время кровавых разборок. Затем они переросли в полнометражную войну – по мере консолидации противоборствующих силу двух полюсов, одним из коих была Русская Дружина, другим – Громада, блок украинских националистов. Фактически обе стороны сражались за власть над миром, ибо в ту далекую эпоху – как и отмечалось в полученных Саймоном директивах – южноукраинский регион был единственной реальной силой на опустевшей Земле. Мировое господство являлось слишком сладким, слишком чарующим миражем, в равной степени прельщавшим и дружинников, и громадян; и потому, как полагал Ричард Саймон, передатчики помех были включены одновременно с той и с другой стороны – чтобы не допустить вмешательства Совета Безопасности. Кровопролитная война закончилась тем же, чем кончаются многие войны: проигравшие, отсалютовав Одессе ядерным залпом, отправились в изгнание, а победители обнаружили, что им достались не власть и слава, но прах и пепел. Впрочем, это уже не касалось истории ФРБ. На первом ее этапе, в период завоевания и покорения, дружинники, являясь силой, испытанной в боях, были полезны и потому продержались у власти без малого двадцать лет. За этот срок были возведены форты и поселения на месте Рио-де-Новембе, Харка-дель-Касы и Санта-Севаста-ду-Форталезы, распаханы поля, разысканы старые рудники, заложены крокодильи фермы – поскольку скота у переселенцев не хватало, а кайманы кишели вокруг в неописуемом изобилии. Правда, добыча их мяса и шкур оказалась промыслом непростым и довольно опасным, так что первые крокодильеры были осужденными – большей частью из цветных и белокожей голытьбы. Главным же успехом первого двадцатилетия явились сдвиги в национальной сфере: старшее поколение еще делилось на белых и черных, на колонистов и туземцев, но молодые, независимо от цвета кожи, считали себя бразильянами и говорили на одном языке, без всякой примеси испанского и португальского. Однако Русская Дружина включала слишком несовместимые элементы, множество фракций и групп, объединенных только внешней угрозой, опасностью и войной. С наступлением мирных времен – сравнительно мирных, так как разборки и мелкие свары не прекращались никогда, – последовали диссипация, анархия, расколы и разброды, а затем – переворот; по-местному – Передел. Тот Первый Передел, случившийся в 2120 году, был не особенно кровавым: власть, под лозунгом «Наш дом – Бразилия» и при поддержке армейских частей, досталась консерваторам, а все остальные хунты и мафии автоматически попали в разряд инакомыслящих радикалов. Согласия меж ними не было, а что касается радикализма, то он заключался в стремлении выжить любой ценой, ни с кем не делиться властью, не вступать в союзы и блоки, а также в готовности резать всех конкурентов. Эти хунты, прообраз будущих бандеро, формировались по профессиональному либо территориальному признаку с налетом легкой ностальгии: так, дерибасовские были уроженцами Одессы, донецкие – Донецка, Клинки происходили от местных чернокожих, скрывавшихся в Разломе, «плащи» занимались игорным бизнесом, «торпеды» – водными перевозками, а крокодильеры – поставками мяса и кож. Не только крокодильих; этот клан уже распространил свое влияние на скотоводов и ранчеро. Быки и коровы множились в тучной аргентинской пампе, плодились лошади и мулы – в повозки и под седло, ламы и одомашненные тапиры заменили овец и свиней, и первый вождь крокодильеров, легендарный Трехпалый Диас, не пренебрег таким богатством. Его, однако, полагалось охранять и собирать налог со всех обширных территорий, так что работники с крокодильих ферм стали по совместительству бойцами. Никто не превзошел их в свирепости – за исключением донецких. Этот клан, многочисленный и сильный, занимался горными разработками, добычей руд на аргентинских и чилийских копях и выплавкой металлов; еще, конечно, работорговлей, поскольку в шахтах трудились невольники. Донецкие, как и прочие банды, вооружались, но этот процесс продвигался у них с устрашающей скоростью: за три-четыре десятилетия им удалось создать настоящее войско, с конницей и пехотой, с колесными бронемашинами, отрядами стражей на рудниках и тренированными коммандос для ловли рабов. «Наш дом – Бразилия» – или, в просторечии, домушники – правила семьдесят восемь лет, а когда их власть стала клониться к упадку, нашлось кому ее перехватить. Во всяком случае, донецкие не колебались; их части захватили Рио и все крупнейшие города, и наступил Второй Передел. Его назвали Большим, ибо длился он целое десятилетие, и весь этот период кровь лилась рекой. Донецкие, вырезав НДБ, взялись за остальные кланы и за армейских, немногочисленную касту профессиональных солдат, происходивших от моряков и десантников «Полтавы». Эти сражения шли с переменным успехом, пока угроза гибели не заставила объединиться смоленских, дерибасовских и крокодильеров; в 2208 году они наконец расправились с донецкими, поделили сферы влияния и, дабы не вызвать ссор из-за донецкого наследства, назначили управлять им «штыков» – клан, куда вошли армейские. Их согласие сделаться кланом закрепило новый государственный порядок: власть теперь была в руках бандеро, а прочие граждане ФРБ пребывали под их покровительством в статусе шестерок. В Третий Передел, произошедший в 2208 году, крокодильерам достался сельский пирог. Отныне они собирали «черную» дань с каждого поля, с каждого стада и с каждой деревни – за исключением принадлежавших смоленским кибуцей; а это значило, что под их контролем и властью была половина населения ФРБ. Следующие два без малого столетия и случившиеся за этот срок переделы не изменили ничего; мощь клана осталась незыблемой, фермы, где разводили кайманов, превратились в боевые лагеря, а вооруженных людей у дона Хорхе было теперь побольше, чем у смоленских, дерибасовских и «штыков» вместе взятых. И жил он словно король – в неприступном замке, за каменными стенами, в окружении верного воинства и тысяч зубастых тварей. Полукольцо фургонов обхватило земляную стену; из них посыпались люди – множество серых теней, похожих на легион призраков, доставленных прямо с кладбища в огромных, пахнущих железом и бензином катафалках. Две тени отделились от толпы и шустро полезли на вал. Пашка и Филин, догадался Саймон. Он махнул им, подзывая к себе, к двойному ряду туго натянутой колючей проволоки, за которым виднелись смутные очертания приникших к земле фигур. Стражи, двуногие и четвероногие, спали; часовые храпели и бормотали во сне, псы виновато повизгивали, как бы предчувствуя, что их попустительством враг проберется за стены. Лунный диск скрылся за редкими облаками, с гор тянуло теплым ветром, а враг был уже тут как тут: стоял на валу, смотрел вниз, прикидывал и усмехался. У плеча Саймона блеснули зеленые Пашкины глаза. Он посмотрел налево, потом – направо. – Ну, хренотень! Это сколько ж надо трудов, чтобы такую стенку наворотить! Если б собрались все наши семибратовские мужики, да еще из Колдобин и Волосатого Локтя, и было у них, значитца, пятьдесят возков, так лет за тридцать, может, и насыпали, а может, надорвались. Может, банан у всех обвис бы. – Обвис бы, точно, – согласился Филин и передернул затвор карабина. – Это естественная возвышенность. Погляди! – Саймон вытянул руку к темневшим на севере горам. – К ним от побережья катилась волна – не океанская, сейсмическая. Понимаешь? Тряхнуло страшно, почва с горных склонов сползла вниз, к подножию, потащила деревья и камни, потом лавина застряла в джунглях, и получился кольцевой холм. Холм, не вал. Ему, я думаю, три с половиной сотни лет. Вершина сгладилась, заросла травой.Готовое укрепление. – Может, и так. – Пашка с сомнением покачал головой. – Ты, брат Рикардо, человек ученый, тебе виднее. Опять же сексическая волна – самое место для Хорхи. Он, говорят, страсть до баб охочий! Саймон усмехнулся и подтолкнул Проказу в бок. – Хватит болтовни. Бугров – ко мне! И остальные чтоб не скучали! Парням Хрипатого – резать проволоку, люди Алонзо пусть тащат катапульты. Ворота в тоннель открыть, взрывчатку и горючее поднять на вал, крокодильеров и собак сбросить вниз. К делу! Выполняйте! – Сей момент! Пашка с Филином исчезли. Саймон, не обращая внимания на тихую суету у фургонов, рассматривал открывшийся с вала пейзаж. Перед ним лежала котловина с озерами, в лигу шириной и вдвое большей длины; с севера ее замыкали горы, а с трех остальных сторон – серпообразный холм с колючей проволокой по гребню. На востоке его размыла речушка, бравшая начало в озере, – наверняка приток Параибы, петлявший в тропических лесах. Озер в котловине было три: два ближних к валу, почти округлых, и дальнее, у самых гор, вытянутое эллипсом, – в него струился водопад и из него же вытекала речка. У водопада воздвигли электростанцию, а на озерных берегах темнели многочисленные сараи, навесы и заборы, ограждавшие что-то темное, застывшее, неподвижное, подобное россыпям крупной гальки; Саймон не сразу сообразил, что видит лежбища кайманов – сотни, тысячи зубастых тварей, погруженных в сон. – Чтоб вам сдохнуть в кровавый закат! – пробормотал он проклятие на тайятском и злобно сплюнул. На каменистой полоске земли меж ближних водоемов тянулась шеренга казарм, двадцать или побольше бревенчатых строений, напоминавших издалека гробы; за ними высилась цитадель с квадратными башнями и высокими стенами, которые тусклый лунный свет окрасил в темно-лиловые, коричневые и серые тона. Эта крепость казалась не меньше, чем Форт на Синей скале, и выходила разом ко всем озерам – будто каменный столб, забитый в центре ровной водной глади. Слева от нее, у вытянутого озера, лежал поселок – похоже, с кабаками и прочими увеселительными заведениями; там слышался далекий хохот, женский визг и песни, похожие на волчий вой. Справа, неподалеку от казарм, Саймон разглядел навесы на высоких столбах, яркий огонь фонарей, штабеля ящиков и бочек – по виду, с горючим, тупые морды автофургонов и какие-то голенастые механизмы, подъемники и лебедки. Очевидно, там располагались склады и арсенал, а к ним, выныривая из-под холма, шла дорога – усыпанный щебнем тракт двухсотметровой длины. По прямой расстояние было еще меньше, и Саймон довольно хмыкнул, прикинув, что снаряды из катапульт накроют и арсенал, и склады, и казармы, и даже до крепостной стены долетят, хотя стрелять по ней не стоило – бесцельная трата времени и боезапасов. Пашка и Филин вернулись в сопровождении бугров. Пако Гробовщик был весел, Сергун, предводитель «торпед», мрачен и хмур; Хрипатый сосредоточенно мял повязку, прикрывавшую остатки носа, Челюсть и Монька Разин глядели орлами, а Пономарь с поделыциками скалились, будто троица оголодавших койотов. Вокруг раздавались негромкий скрежет, лязг и натужное пыхтенье: бригада Хрипатого резала проволоку, люди Алонзо тащили на вал катапульты, а остальные поднимали напалм в небольших деревянных бочонках и очищали территорию от храпевших стражей. Саймон велел не убивать и не калечить спящих, но это вряд ли являлось милостью – если слухи о Хорхе Смотрителе были правдивы хотя бы на четверть. Впрочем, и сам Смотритель мог не дожить до завтрашнего утра. – Бровь, – Саймон повернулся, к Алонзо, – ты займешься катапультами. Стрелять, пока не кончится боезапас, спалить казармы и склады. Ты, Пономарь, вместе с Холерой будешь в оцеплении. Отрыть окопы на внутреннем склоне холма, расставить пулеметы, и пятерых пулеметчиков послать к ближнему озеру, левее казарм. Пусть займут позицию, окопаются и ждут. Если начнется атака из поселка – отбить нападающих. Желательно всех уничтожить. Пономарь довольно кивнул. Его отличали хладнокровие, выдержка и осторожность; он не отказывался от драки, но предпочитал окопную войну. Засады и нападения из-за угла были его коньком. – Дон, – подал голос Алонзо, – если подтащить стрелялки к озеру, так до поселка достанем. Подбросим огонька крокодавам! Заодно и шлюхи их погреются. – Поселок обстреливать не будем, – отрезал Саймон. В его представлении всякое место, где обитали женщины – неважно, монахини или шлюхи, – являлось землей мира. Женщины у тай были священны, и Саймон без крайней необходимости не поднял бы на них руку. А если б поднял, то одарил бы быстрой смертью, а не мучительной, как от напалма. Он кивнул Челюсти: – Вы с Монькой займетесь складами и арсеналом. Окружить, залечь цепью, глядеть, как горит, стрелять, если кто высунется, и подбрасывать взрывчатку. Все! – Вошь не проскочит, дон, – пробормотал Челюсть. Его огромный подбородок двигался с основательной неторопливостью дорожного катка. Саймон оглядел остальных предводителей своего воинства, мысленно примеряя их к намеченным задачам. У Сергуна и Бабуина были самые крупные отряды, вместе – две с половиной сотни бойцов; Гробовщик являлся самым надежным, а Хрипатый – самым злым. Саймон велел Гробовщику встать в заслон на перешейке у казарм, а прочим – атаковать; Бабуин и Сергун займутся пылающими казармами, а Хрипатый сопроводит дона к крепости. Это будет ударный отряд: дон, два. пулемета, пятьдесят головорезов и ящики с динамитом. Услышав про пулеметы и динамит, Хрипатый радостно осклабился и снова начал мять повязку на носу. – Вперед, – сказал Саймон. – Спускайтесь с холма и стройте людей. Алонзо, откроешь огонь по моей команде. Бугры торопливо разошлись. Саймон следил, как темная масса его бойцов хлынула вниз, распадаясь дорогой на группы: малые – Челюсти, Пако и Хрипатого и две побольше – «торпед» и лесовиков. Потом он поднял голову, всматриваясь в неясные контуры казарм: эти строения в три этажа были довольно крупными, так что в каждом могло обитать семьдесят-восемьдесят человек. Скажем, сотня, решил он; значит, две тысячи крокодильеров, что совпадает с данными Прохора Переса. При мысли о Пересе он усмехнулся и вспомнил подвал под «Красным конем» – там, на стене, на одной из бамбуковых палок, висели уши капитана-каймана. «Две тысячи, – повторил он про себя, – но многие веселятся в поселке. Зато и крепость не пуста – в ней, разумеется, есть гарнизон из лучших бойцов Смотрителя, а их может оказаться сотен пять… Впрочем, внезапность уравняет шансы, а напалм даст преимущество – забытый способ ведения войн, самый жестокий из всех, изобретенных на Старой Земле. Однако к данному случаю ом подходит». Пашка дернул его за рукав. – Брат Рикардо, а, брат Рикардо. Нам-то с Филей чего делать? – Держитесь за мной, – сказал Саймон. – Будете прикрывать и добивать. Губы Проказы растянулись в ухмылке. Он был сообразительным парнем и не нуждался в объяснениях, кого прикрывать, а кого – добивать. Саймон знал, что может на него положиться – в той же степени, как на Марию, на зеленого змея Каа и Майкла-Мигеля Гилмора, поэта, архивариуса и шпиона. Гилмор, в одной из своих ипостасей – или, быть может, в трех, – рыскал сейчас по темному городу либо держал совет с Пачангой; Каа стерег Марию, а она, как всякая девушка, чей любимый странствует в лесах войны, тревожилась и ждала. Все пребывали в безопасности, все находились при деле, и это успокаивало Саймона, вселяло уверенность и решимость. Он ощупал пояс – оружие на месте. Слева – нож и мачете с широким лезвием полуметровой длины, справа – ребристая рукоять «рейнджера», на пояснице – сумка с фризером и четырьмя обоймами. Пора, мелькнула мысль. Сложив ладони рупором, он крикнул в темноту: – Алонзо! Огонь! Не оглядываясь, Саймон быстрым шагом направился вниз, потом помчался легкими стремительными прыжками, догоняя ушедших вперед бойцов. За спиной скрипели Пашкины, сапоги и слышалось тяжелое дыхание Филина; потом сзади ухнуло, где-то вверху раздался протяжный свист, и тут же справа, у складов, взметнулось пламя. Снова уханье и свист; жидкий огонь растекся по кровлям и стенам казарм, накрыл их алым жарким покрывалом, лизнул окна, осторожно пробираясь внутрь, и вдруг взревел, поднялся волной, затмив сияние звезд и луны. Справа Что-то грохнуло, в воздух взлетели столбы с частью кровли, разодранный пополам фургон, бочки и ящики – видно, на складе хранилась взрывчатка. Бочки посыпались в озеро и на берег, лопаясь и выбрасывая синие огненные языки; горящий бензин начал растекаться по воде, и Саймон увидел, как заметались в ней длинные гибкие тени. На бегу, обгоняя людей Бабуина, он считал залпы. Уханье – свист… уханье – свист… Катапульт было пятнадцать, и к каждой – по семь бочонков напалма, обвешанных динамитными шашками. После шестого выстрела Саймон уже бежал в середине колонны, с группой Хрипатого, между людьми «торпед» и лесовиков. Свистнуло в седьмой раз, впереди раздался рев Сергуна, и «торпеды» ворвались на плац, окруженный пылающими зданиями. В дыму метались полуодетые люди, вопя и потрясая оружием, кто-то выбрасывался из окна, кто-то, объятый пламенем, с воем катался по земле, стены казарм выстреливали длинные ало-сизые искры, в воздухе висели чад и вонь, а справа, со стороны складов и озера, небо багряно светилось, будто зев раскаленной гончарной печи. Эта картина напоминала Харбоху, горящие пирсы и корабли. Но были, разумеется, отличия: на сей раз «торпеды» резали крокодильеров, а не наоборот. Люди Сергуна не стреляли, бились широкими тесаками, морскими топориками и оружием, которого Саймон раньше не видел – крючьями на длинных рукоятях с торчащим вперед копейным острием. Крокодильеров на плацу было втрое больше, чем их, но половина их легла в первые мгновения атаки; остальные, узрев реального противника, взялись за ножи и мачете. Сзади уже слышалась пальба и взрывы динамитных шашек – Бабуин по охотничьей привычке считал, что пуля вернее клинка. К тому же пуль в карабине было пять, и летели они подальше, чем метательные ножи, а значит, причиняли больший ущерб. Бабуин, бурый лохматый гном, был человеком расчетливым и по-своему честным; он собирался отработать полученные песюки, держась от врагов на дистанции выстрела. Саймон вел свой отряд скорым шагом, не обращая внимания на кипевшую вокруг битву. Его мачете то поднималось, то опускалось, и каждый раз за взмахом широкого лезвия раздавался предсмертный хрип – точно такой же, как в тайят-ских лесах, когда четырехрукие воины сходились в поединке. Момент насильственной смерти странным образом приравнивал людей и аборигенов Тайяхата, столь непохожих обычаями и обличьем; погибая, те и другие роняли оружие, одинаковым жестом зажимали кровоточащую рану, хрипели и падали, скошенные острой сталью. Правда, люди бились за власть, влияние и богатство или тешили честолюбие и жестокость, а любой из этих мотивов был презренным в глазах воина-тай. Честь и слава! Вот что вело их кровавой дорогой к гибели или почестям! Но Ричард Саймон сражался сейчас не ради славы и, конечно, не затем, чтобы потешить гордостьули обрести сокровища. Его труд был подобен работе ассенизатора, уничтожающего крысиную стаю – опасных тварей, от коих полагалось защитить ту половину человечества, которая еще. не превратилась в крыс. Но в этой работе не было ни чести, ни славы – только хищный высверк глаз, хрипящие рты и тела, падавшие под его ударами. Он отбил удар мачете, проткнул нападавшему горло, швырнул наземь бородача с ружьем в руках. Сзади раздался глухой треск – Филин проломил бородатому череп прикладом. Толпа крокодильеров раздалась, и Саймон увидел, как из последних в ряду казарм выскакивают люди. Этим строениям досталось меньше – кровли их занялись, однако пламя еще не охватило стены, и, вероятно, потому их обитатели действовали без паники. Отряд бойцов разворачивался цепью; все – одетые, все – в широкополых шляпах, защищавших от искр, с карабинами и клинками. На лезвиях играли багровые сполохи, и казалось, что десятки лазерных лучей нацелены в Ричарда Саймона, что они испепелят его, и Пашку с Филином, и всех, кто двигался плотной колонной к темневшей впереди цитадели. – Хрипатый! – позвал Саймон. – Пулеметчиков ко мне! Огонь! Его «рейнджер» монотонно затарахтел, и тут же этот тихий звук перекрыли загрохотавшие пулеметы. С каждым управлялись четверо: двое держали, третий стрелял, четвертый разматывал ленту. Но пистолет в руках Саймона был смертоносней неуклюжих тяжелых махин; крохотные пули «рейнджера» извергались потоком, летели с чудовищной скоростью, отрывали конечности, дробили кости. Сорок секунд, сто пятьдесят выстрелов. Пустая обойма вылетела со свистом, Саймон нашарил в сумке плоский пенал, щелкнул магнитный замок, и пистолет снова ожил. Однако лишь на мгновение; вместо атакующей цепи громоздился вал трупов. В дымном воздухе остро и резко запахло кровью. – Запах, какой запах… – пробормотал кто-то, и Саймон обернулся. Хрипатый, содрав повязку и закатив глаза, жадно втягивал воздух обезображенными ноздрями. На его лице было написано блаженство. – Вперед! Они проскочили между пылающими казармами, очутившись в дальнем конце каменистого перешейка. Озеро слева было темным и тихим, только за ним, в поселке, песни и хохот сменились тревожным гулом. Озеро справа пылало; едва ли не всю его поверхность затянул горящий бензин, а над складами вознеслась колонна огня, непрерывно стрелявшая в небо алыми жаркими фонтанами. Света хватало, и теперь Саймон мог разглядеть цитадель, ее массивные ворота с надвратной галереей, квадратные башни по углам и еще одну, тоже квадратную, но больше и шире – она выступала сбоку от ворот, и ее каменный лоб украшал символ клана – свернувшийся кольцом огромный серебряный кайман. До ворот оставалось десяток шагов, когда над башней взревела сирена, зажглись прожектора и вместе со световыми лучами ударили пулеметы. Пять или шесть человек рухнули на землю. – К стене! – крикнул Саймон. – Стрелять по фонарям! Динамит сюда! Захлопали выстрелы, свет начал гаснуть. Бойцы, тащившие ящики с взрывчаткой, сложили их двумя штабелями у ворот и в подножии башни. Саймон поджег короткие фитили. Они горели неторопливо, но время пошло – считанная череда секунд, чтоб отбежать подальше, распластаться среди камней и вытоптанной травы, прикрыть руками голову. – Назад! Рассредоточиться и лежать! – Голос Саймона перекрыл рык пулеметов. Он видел, как падают его люди – то ли мертвыми, то ли выполняя приказ. Пуля вспорола воздух над ним, взвизгнула по камню, мелкий осколок впился в скулу. Саймон, пробормотав проклятье, выдернул его. Оглушительный грохот! Земля под ним дрогнула, и словно из самых ее недр выплеснул огонь. Два расширявшихся огненных конуса соприкоснулись, закрыв цитадель багровым веером; в воздухе, будто странная птица с обрубленными крыльями, парили ворота. Гулкий звук взрыва раскатился по котловине, горы откликнулись эхом, пламенный веер опал, и наступила тишина; пулеметы смолкли, сирена тоже. Саймон поднялся, и сразу за ним встали еще две тени – Проказа и Филин. – У тебя кровь на лице, – сказал Пашка. – Мария нас убьет. Скажет, не уберегли, гниды позорные… Саймон, разглядывая крепость, машинально вытер щеку. На месте ворот зияла огромная черная дыра, однако башня устояла, только покосилась, накренившись вперед и сбросив серебряного каймана – он валялся на земле, опаленный огнем и перекрученный восьмеркой. Цитадель безмолвствовала, но сзади, где догорали казармы, слышался треск выстрелов, яростные крики и звон металла.В поселке ударил колокол, и тут же, словно по сигналу, за озером рявкнули пулеметы – видно, люди Пономаря принялись за работу. Атаковать или отступать? – промелькнуло у Саймона в голове. Идея ворваться в замок точила его; это был такой соблазн – скрутить Хорхе Смотрителя со всеми потомками и придворными и подвесить в пыточной «Красного коня» – может, с кайманом, резвящимся в ванной. С другой стороны, акция была завершена; вполне успешный и устрашающий демарш против могущественного клана, и главное теперь – не испортить впечатление. Крепость Хорхе годилась для целого батальона, и люди Хрипатого могли не пробиться дальше ворот. Как бы в ответ на эту мысль в темной дыре ворот наметилось некое шевеление, послышались громкие командные голоса и резкий лязг, будто сотня человек разом передергивала затворы. Потом зарычала сирена, на угловых башнях снова вспыхнули прожектора, и в их рассеянном свете Саймон увидел, что у него осталось не больше сорока бойцов. – Подобрать убитых, – распорядился он. – Отступаем! Потом нашарил в сумке фризер и швырнул в ворота.***
Они сидели впятером на плоской кровле дома. Каа, свернувшись тугими кольцами, подпирал Саймону спину; волосы Марии щекотали висок. Филин жадно насыщался, глотая большие куски лепешек, Пашка-Пабло дремал, Гилмор прихлебывал из кружки – впрочем, не пульку, а форталезское вино. Этот напиток в большом кувшине понравился Саймону; он был терпким, кисловатым и чуть бросался в голову. Неплохое вино. Одна из немногих хороших вещей, какие встретились в этом мире. Ночь еще не истекла, и в то же время казалось, что это – совсем другая ночь, тихая, ласковая, в которой не было места пожарам и взрывам, насилию и смерти. Но та ночь еще держала Саймона, вцепившись в него крысиными клыками; еще не свершилось его возвращение в мирные земли из леса войны. Он чувствовал себя уставшим и опустошенным. – Крепость у гор, озера с кайманами, колючая проволока и бандиты, – перечисляя, Гилмор загибал палец за пальцем. – А ведь могло быть все иначе. – Вздохнув, он сделал глоток из кружки. – Горы, лес и озеро – это ведь прекрасно! Если не испортить. Если вместо крепости стоит дворец, вместо колючей проволоки – деревья, а вместо бандитов – поэты или хотя бы архивариусы. – А вместо кайманов? – спросила Мария, прижимаясь теплой щекой к плечу Саймона. – Наверное, лебеди. Конечно, лебеди! Раньше в озера пускали лебедей… я об этом читал, хотя никогда их не видел. На Земле их уже нет… Красивые птицы, брат Рикардо? – Да. – Саймон кивнул. – Их много на Колумбии, Европе и России. Особенно на Европе. Парки, старинные дворцы и караваны лебедей, плывущих в небе… А внизу – толпы архивариусов, которые любуются ими. Поэтов, правда, не хватает. Майкл-Мигель снова вздохнул и понурил голову. – Хотелось бы мне это увидеть. Парки, дворцы и лебедей… Не кратеры, не пустыри, не озера с кайманами. Где это все? Стоило людям покинуть Землю, и с ними ушла красота. Понимаешь, брат Рикардо, красота! – Не понимаю, – сказал Саймон, вдыхая аромат волос Марии. – По-моему, ты не прав. Кое-что все же осталось. – Кое-что… – откликнулся Гилмор. – Но древние соборы, храмы, памятники, библиотеки, картины, великие города – все исчезло! Все, что люди сочли достойным забрать с собой. А что осталось, не считая красивых девушек? Дерьмо, грязь, мусор, падаль, насильники, фанатики, убийцы. Мы! Падаль! Саймон наклонился и заглянул Марии в лицо. Ее темные глаза были полны муки. Он сказал: – Падаль не вы, а ваши предки. Вы – жертвы. – Мы ничем не лучше, даже хуже. Мы… Он потянулся к кувшину, но Саймон перехватил его запястье. – Хватит, Мигель. Вино – источник слишком мрачных и неверных обобщений. Ты говоришь «мы», но это подразумевает, что есть «они». Мы – те, кто здесь. Ты, я, Мария, Пашка, Филин. А те, другие… – Саймон задумался на секунду, потом тряхнул головой: – Те и в самом деле падаль. Они валяются сейчас за колючей проволокой, у своих озер с кайманами. Большей частью мертвыми, как и положено падали. А мы – мы живы! Звезды начали меркнуть, когда они с Марией остались вдвоем. Саймон положил голову на грудь девушки и закрыл глаза. Напряжение недавней схватки медленно покидало его, выдавливалось капля за каплей, и он знал, что этот процесс можно ускорить, погрузившись в целительный транс. Но ощущение тепла, исходившего от Марии, стук ее сердца, запах кожи были не менее целительными, чем цехара, и сейчас ему не хотелось предаваться медитации. Хотелось лежать рядом с ней, глядеть на гаснущие звезды и слушать ее дыхание. Она была его тихим ласковым прибежищем в этом мире насилия и зла. Тут больше не было старинных парков и дворцов, отсюда улетели лебеди, но девушки еще остались. – От тебя пахнет кровью, – шепнула Мария. – Мне страшно. Вдруг ты однажды уйдешь и не вернешься? – Пока сияют Четыре алых камня, светят Четыре звезды и текут Четыре прохладных потока, я не покину тебя, – прошептал Саймон в ответ. – Какие странные слова. Будто из древней сказки… – Это пожелание тайят, с которым обращаются к другу и к женщине. Странное? Может быть… Но мы, люди, тоже странные – с их точки зрения. – Почему? У нас слишком мало рук и мы устроены по-другому? – Нет, милая. Мальчишкой я любил девушку-тайя, и руки нам не мешали. Разница в другом. Тайят редко испытывают одиночество – я ведь рассказывал тебе, что у их женщин всегда рождаются близнецы, а значит, у всякого тай, воина или ремесленника, есть брат-умма, а у всякой девушки – се-стра-икки. Связь меж ними не прерывается никогда; братья берут в жены сестер, и потому четыре – это семейный символ, число, приносящее удачу. Иное существование кажется им непонятным и странным, даже бедственным и уж, во всяком случае, – недостойным. Мы, люди, для них – ко-тохара, неприкаянные, лишенные счастья иметь брата или сестру и прожить с ним или с нею всю жизнь. – Да, странно… – Мария погладила волосы Саймона. – Знаешь, я рожу тебе много ребятишек, и среди них, наверное, будут двойняшки. Но если б я имела сестру, то не смогла бы делить тебя с ней. – Она встрепенулась и, приподнявшись на локте, заглянула ему в лицо. – Или ты думаешь иначе? Как тай, не как человек? – Я думаю точно так же. Если б у меня был брат, мне не хотелось бы делить тебя с ним. Все-таки я человек, милая… Во всяком случае, в землях мира. – В землях мира? Что это значит, Дик? – На Тайяхате один большой континент, и в его западной части есть гигантская река. В верхнем течении ее называют Днепром, и там стоит Смоленск, мой город, перенесенный из России; Днепр сливается с Гангом у Развилки, у индийского города Бахрампур, а дальше течет Миссисипи – течет к Новому Орлеану и Средиземному проливу. Есть там и другие города, американские, польские, шведские, но все они – в Правобережье, которое тай даровали людям. Колонистам с Земли, понимаешь? Моим предкам. А Левобережье – это огромный край, больше земной Евразии, и там есть другие реки, дремучие джунгли и водопады, горы, встающие до небес, равнины и плоскогорья, открытые солнцу, с лугами и рощами. Там… – И все это – земли мира? – Нет. Земли мира – это места с благодатным климатом, обычно в горах, у водопадов, или у полноводных рек. Там, в женских поселках, живут тайят, и там властвуют женщины; там мужчины не смеют обнажать оружие и наносить раны. Нет, не так… – Саймон пошевелился, устраиваясь поудобнее. – Не смеют – не то слово. Понимаешь, это просто не приходит им в голову, так уж устроены тай. Те, кто хочет воевать, спускаются в лес, в земли сражений, объединяются в кланы и бьются друг с другом. Чтоб доказать свою силу и доблесть. – И ты воевал? – тихо спросила Мария. – Да. Мой отец – ксеноэтнолог, и восемь лет мы прожили с тайят. Все мое отрочество и юность. Потом я стал Тенью Ветра и спустился в лес вместе с Чочем, сыном Чочинги, моего Наставника. Чоч был великим воином, из тех, чей Шнур Доблести свисает до колен. Когда Чочинга переселился в Погребальные Пещеры, он занял отцовское место и обучает теперь молодых. – А что было прежде, до леса? До того, как ты отправился воевать? – Я был Диком Две Руки и жил в Чимаре, женском поселке на склонах Тисуйю-Амат, что означает Проводы Солнца. Но об этом я тебе рассказывал, милая. – Расскажи еще раз, – прошептала Мария и крепче прижалась к Саймону.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК Перед доном Грегорио лежали два листа бумаги. Один был измятым, грязным, в пятнах засохшей крови, с оборванными краями и парой фраз, торопливо написанных карандашом; к тому же в него завернули металлический предмет – крохотную пулю с расплющенным кончиком, не больше половины ногтя на мизинце. Второй, плотный желтоватый лист радовал взгляд убористым аккуратным текстом. Строчки были ровными, буквы – четкими и ясными, но в общем эта бумага казалась обезличенно-стандартной; такие документы составляли полицейские писари под диктовку своих бугров. Сверху листа значилось: "Донесение. Кабальеро Карлу-Капитану Клыкову, ягуар-полковнику, пахану и бугру Первой бригады от Бучо-Прохора Переса, капитана-каймана, бугра Третьей бригады". Сбоку от этого заголовка разбегались корявые буквы – пометка Карло Клыка: «Дону Грегорио – для сведения. Остаюсь в почтительном ожидании приказов. Не подвесить ли шутника Прошку над ямой? Но как, мой дон? Вниз головой или вверх ногами?» Грегорио с неодобрением поморщился. В Регламенте Наказаний перечислялись тридцать две позиции, в которых вешали преступников, и «вниз головой» – оно же «вверх ногами» – было не самой мучительной пыткой. Клык мог бы остановиться на чем-то более оригинальном. Кроме того, ему полагалось не забывать о предпочтениях хозяина, имевшего собственное мнение по данному вопросу: дону Грегорио нравилось, когда вешали за ребро на остром железном крюке. Однако Бучо Перес отнюдь не заслужил подобной казни, поскольку не являлся шутником. Глаза дона Грегорио бегали по строчкам. В начале говорилось, где и как был отловлен многострадальный Бучо, как его доставили в подвал – нагим, в мешке, в целости и сохранности-и как вынесли из подвала – в том же мешке, но без ушей. Все эти детали не привлекли внимания дона Грегорио, и он, пропустив пару абзацев, перешел к сути. «Оный выродок, раздвоившись, явил привидение, возникшее будто б из стены и говорящее понятным русским языком – хотя речи его казались темными и не во всем доступными слабому моему разумению. Сказано же было такое: что назвавшийся „железным кулаком“ имеет доподлинное имя Ричард Саймон, что он лазутчик разных организаций и наций, то ли центральных, то ли каких еще – в точности я не запомнил, но полагаю, что он не блях, не срушник, не эмиратский, не чечен и, само собою, не чекист, поскольку мордой бел, а волос имеет светлый. Якобы он из тех людей, что в давнее время переселились на небеса, и прислан к нам как ликвидатор, при всех отстрельных полномочиях; правда, кого небесные приговорили, определенности нет, но кто-то тем бандеросам мешает, а потому к нам и прислали отстрельщика. Спрашивал он о донах, а еще грозился, что ежели доны с ним не пожелают встретиться, так он отыщет всех и сотворит над ними казнь по небесному обыкновению: сначала уши отрежет, потом – все пальцы, а после пальцев доберется до печенок. А чтобы связаться с ним, был назван Прыщ из заведения „Под виселицей“, что показалось мне удивительным: этот Прыщ хоть и мерзавец, но в связях с небесными не замечен и служит верно – за страх и песюки. Ежели устроить у него засаду и проследить…» Дальше шли тривиальные соображения, но дон Грегорио все-таки их изучил, потирая залысины на лбу. Этот Бучо-Прохор определенно достоин награды! Мыслит правильно и, хоть расстался с ушами, разума не потерял. Конечно, половину врет, но если и так, судить необходимо по результатам. Если он выболтал Саймону-Кулаку нечто лишнее, то это касалось Хорхе – поскольку Хорхе ткнули рылом в грязь. Надо думать, при участии неба и небесных посланцев. Дон Грегорио поднял сплющенную пульку и покатал ее на ладони. Его топтун, внедренный к крокодильерам, вырезал пулю из трупа и приписал, что хоть она мала и неказиста, но просверлила дырку в два кулака. Она попала не в сердце и не в голову, в ягодицу, и ни один из лекарей в ФРБ не счел бы такое ранение смертельным, однако пораженный ею все равно скончался – умер от потери крови. Оснований не доверять топтуну у дона Грегорио не было. Топтун был человеком верным – таким же верным, как Прыщ, упомянутый в донесении Бучо. Топтун тоже служил за страх и песюки. «Надо собирать совет, – решил дон Грегорио, задумчиво рассматривая пульку. – Вызвать Эйсебио из Разлома, Хорхё из Озер – ну и, само собой, Хайме с Анакондой. А Клык пусть доставит небесного выродка. Любопытно взглянуть на него, на этого Ричарда Саймона. Откуда он взялся? Может, и вправду – с небес?» Внезапно Грегорио ощутил, как у него холодеет в желудке. Странная смерть Трясунчика, странный сон, сморивший охранников в банке, вскрытые двери, похищенные песюки… Может, зря он грешил на Хайме?.. Хайме жаден, однако не глуп… стар, но тверд и жесток, умеет обуздывать жадность своих отморозков… И кто бы из них ни залез в казну – хоть родичи, хоть сыновья! – Хайме не стал бы церемониться. Живо на крюк – и в яму! Но двери вскрыли, а стражей усыпили. Странно! В свете всего перечисленного атака на Хорхе тоже казалась странной. Груды убитых, Хорхе – позор и убытки, а нападающим – ничего. Ни выгоды, ни передела. Хотели пугнуть? Но кто и зачем? Ежели небесный гость, то как он набрал людей? Вернее, не «как» – «шестерки» всегда найдутся! – а на какие деньги? Даром никто не пойдет воевать, тем более – с крокодильерами. Дон Грегорио вдруг судорожно сглотнул, стиснув крохотную пульку. Деньги! Песюки! Вот так Хайме, ума палата. Прав, старый хрыч, прав! Как он говорил? Деньги для того крадут, чтоб потратить с удовольствием и толком. Жди, найдется след. Вот и нашелся! С толком потрачены денежки, и следов хватает, начиная с Трясунчика! Большой умелец сработал, мелькнуло в голове. Поп из Пустоши, брат Рикардо, Ричард Саймон, «железный Кулак», отстрельщик с небес. Оборотень! Чего же он хочет? Понятно, запугать – но с какой целью? Губы Грегорио Живодера растянулись в жестокой усмешке. Пугать и мы умеем, подумал он, придвинул лист с донесением и прочитал: «…Прыщ… служит верно. устроить засаду… проследить…» Усмешка сделалась шире. Верно мыслит капитан-кайман со своей кайманьей колокольни, но у донов пути извилистей, чем у бугров. Потому они и доны! Скажем, следить… К чему следить? Если Ричард Саймон – тот же поп из Пустоши, так и следить незачем. Здесь он не в пустошах пасется, вокруг него – людишки, ублюдки, стукачи. Сами явятся и доложат, собственно, уже явились. Этот его связной из монтальванов-ских «шестерок», что бегает к Прыщу… Этот заговорит, если взяться за дело умеючи. А отчего ж не взяться? На звездах– свои умельцы, у нас – свои. К примеру, тот же Карло Клык. Все еще усмехаясь, дон Грегорио потянулся к телефону. Вот Путь Смятого Листа: ты немощен, как одряхлевший коршун, ты – гниющие листья под ногами врагов, ты – иссякший ручей, камень, растертый в прах. Стань жалким червем, поникшей травой, раздавленным насекомым; не показывай своей силы, ибо враг, разгадавший ее, уже наполовину выиграл сражение. Из Поучений Чочинги КрепкорукогоЧасть IV. ПУТЬ СМЯТОГО ЛИСТА
Глава 10
Спина Ричарда Саймона, обтянутая рубищем, ссутулилась, глаза слезились, руки, связанные крест-накрест, бессильно повисли, босые ноги дрожали на каждом шагу, кожу на шее и лице избороздили морщины. Вдобавок она была подкрашена ореховым соком, и это обстоятельство, вкупе со всем остальным, делало Саймона старше лет на тридцать. Если б Чочинга увидел его, то был бы доволен учеником: сейчас Дик Две Руки походил не то что на смятый лист, а на щепотку кладбищенского перегноя, которой предстояло в самом скором времени вернуться туда, откуда ее извлекли. Под присмотром вертухаев он ковылял в цепочке из семи заключенных и был в ней, безусловно, самым жалким. Звали его Митьком по прозвищу Корявый, и, как утверждалось в сопроводительных бумагах, он был изловлен в Санта-Севас-та-ду-Форталезе у самодельного печатного станка и доставлен в Рио. Считалось неважным, что именно печатал Митек, стихи, прокламации или картинки с голыми девками; печать являлась прерогативой власти, и раз Митька поймали за таким занятием, он был политически неблагонадежен. Но политических криминален в ФРБ не признавали, используя иное определение, настолько древнее, что никто не помнил, откуда оно взялось и какими событиями вызвано к жизни. Никто, кроме Ричарда Саймона. Он единственный, осведомленный о прошлом, мог рассмотреть понятие «враг народа» в исторической ретроспективе и даже назвать страну и причины, в силу коих этот термин вытеснил другой – «враг царя и отечества». Цепочка преступников медленно тащилась вверх по дороге, выбитой в скале. Справа – обрывистый склон, море и город – черепичные кровли, полоски зелени на бульварах, мачты, машины, фабричные трубы. Слева тоже склон, серо-синеватый камень, не успевший растрескаться под действием солнца, ветров и дождей, а над ним – стены, бойницы и башни. Форт. Узилище врагов народа. Такой приговор надо было заслужить. За малые вины – за воровство, за нарушение порядка или неправильный образ мыслей – в ФРБ били кнутом и ссылали в кибуц, тем дальше, чем серьезнее вина. За вины средние – разбой и грабеж, неуплату налогов, особенно «черного», и за убийство – полагалось висеть над ямой, а как альтернативный вариант существовали Разлом и рудники. Разумеется, для «шестерок», так как в бандеро разбой, убийство и грабеж были не преступными деяниями, а прямым служебным долгом. Самым тяжким считалось нарушение монополии кланов: контрабанда на морских и речных путях, торговля топливом или спиртным, денежные ссуды под проценты, несанкционированные зрелища и запретные ремесла, к которым относились печатное и оружейное, а также занятия радиотехникой и горными изысканиями. Все это было достаточным поводом, чтоб сделаться врагом народа, и за такие вины каждый клан карал преступников на месте, в соответствии со своим обычаем: их пускали плыть по бурным водам, бросали в термитники и муравейники либо скармливали пираньям и кайманам. Если же преступнику везло и он попадался в лапы закона – то есть смоленским, – его препровождали в Рио, в центральную тюрьму, где он сидел до праздничных торжеств и обязательной публичной казни. Тюрьмой являлся Форт – подвалы над Старым Архивом, уходившие в землю на три этажа. Дорога кончилась на небольшой площадке перед воротами. Пока синемундирные передавали заключенных стражам в зеленой униформе «штыков», Саймон разглядывал башни. Интересующая его располагалась с юго-восточной стороны, где, как он помнил, утес обрывался к морю; с площадки он мог увидеть только ее вершину, зубцы парапета и торчавшие над ними антенны. Та, что имела форму параболоида, казалась отсюда огромным решетчатым прожектором, нацеленным в зенит. Карабинер ударил его прикладом: – Шевелись, старый хрен! И пасть захлопни, чтоб слюной сапоги не замарать! Через калитку в железных воротах заключенных погнали во двор, а оттуда – в наклонный проход под аркой, уходивший под землю и перекрытый решетками. Проход тянулся метров на двадцать пять. В конце его были лестница, дверь со смотровой щелью и надзиратели, мужчины в возрасте, явно негодные к строевой: один – одышливый и толстый, другой – на деревянной ноге, третий – одноглазый, остальные – тоже не без потерь. Толстяк – видимо, из местных бугров – пересчитал пополнение, шевеля губами и заглядывая в бумаги, потом распорядился: – Шестерых – в верхний коридор, а этого… Кто он, мертвец ходячий? Митек? Этого – вниз! Спустив к Хайлу в помойку. – Надзиратель оглядел Саймона, неодобрительно покачивая головой. – Присылают всякую гниль. На месте, уроды, кончить не могли. Какой с него прок? Какое развлечение? Над ямой часа не провисит, загнется. Или в камере сдохнет. К Хайлу его! Сунуть напротив! А остальных – сюда! Дверь открылась, в лицо Саймону пахнуло затхлым воздухом, и он разглядел широкий, скудно освещенный проход с темными нишами по обе стороны. В нишах что-то шевелилось и сопело. Один из стражей двинулся вперед, тыкая в ниши дубинкой, двое стали заталкивать в дверь узников. – Вниз! – Палка уперлась в ребра Саймона. – Вниз, падаль! Он потащился по лестнице, охая и вздыхая, кренясь набок, словно попавший в бурю корабль. Одноглазый надзиратель шагал следом, не скупясь на ругань и пинки. Бил он исключительно под копчик, и после каждого удара Саймон корчился, стонал и приседал, будто с трудом удерживаясь на ногах. Первый лестничный пролет, площадка, дверь под тусклой лампой – в точности как наверху. Второй пролет, площадка, дверь. Здесь лампа не горела, а смотровой «глазок» был серым от пыли. С наклонного потолка свисала рваная паутина, стены были не сложены из каменных глыб, а вырублены в скале или выжжены лазером – Саймону показалось, что он разглядел натеки оплавленного камня. Но это могло быть игрой воображения. Он видел в полутьме гораздо лучше, чем его тюремщик или любой нормальный человек, но черные пятна на темных стенах были едва различимы. Возможно, это проступившая сырость либо копоть от факелов и фонарей. С площадки лестница уходила вниз, в абсолютно непроглядный мрак. Саймон шагнул к ступенькам, однако тут же раздался окрик одноглазого: – Стоять, ублюдок! Здесь! Надзиратель возился у двери, со скрипом проворачивая ключ. Саймон, уткнувшись в стену, ощупал ее кончиками пальцев. Неровная, в буграх и впадинах, но гладкая… Значит, все-таки лазер, решил он. Скорее всего эти подземные тоннели и камеры выбиты взрывами, а после их обработали излучателем. На «Полтаве» и на других боевых кораблях имелись разрядники. Саймон даже припомнил их мощность – восемьсот киловатт в миллисекундном импульсе. Дверь, взвизгнув, растворилась. – Шагай! – Одноглазый толкнул его в коридор, освещенный не электрической лампой, а керосиновым фонарем, который висел у низкого сводчатого потолка. В нос Саймону ударило зловоние. Пахло здесь гораздо хуже, чем на помойке – мочой, фекалиями, потом и могильной сыростью заброшенного склепа. Коридор был гораздо уже, чем наверху, но с такими же глубокими зарешеченными нишами. Одноглазый снова заскрипел ключом, дернул решетку на себя и толкнул Саймона в камеру. – С новосельем, старый пень! Жрать будешь вечером. Жратвой у нас не балуют – меньше жрешь, меньше гадишь. Зато компания имеется, так что можешь или спать, или болтать. С ним, с Хайлом, – надзиратель вытащил нож и ткнул лезвием в нишу, что темнела в противоположной стене. – Руки давай! Узник вытянул связанные руки. Нож полоснул по веревке, решетка задвинулась, лязгнул ключ в замке, потом одноглазый прошаркал по коридору, хлопнула дверь на лестницу, и стало тихо. Саймон огляделся. Камера напоминала гроб – пять шагов, в длину, три – в ширину. Прутья решетки были толщиной в два пальца, проржавевшие, но еще прочные; из дальнего угла воняло, каменный пол холодил ступни, под низким потолком не удавалось выпрямиться в полный рост. Зато – безлюдье, тишина, покой. Он уселся на пол у решетки, с облегченным вздохом выпрямил спину и принялся тереть запястья, попутно размышляя, чем занимается в эту минуту Митек Корявый. Настоящий Митек, пропавший где-то по дороге из Севасты в Рио, вместе со своей охраной… Подмену совершил Пачанга, и надо думать, что сидит теперь Митек в каком-нибудь тайнике в лесу или в горах, намного более уютном, чем камеры Форта. Самое время ему помолиться, думал Саймон, за всех своих освободителей, за Майкла-Мигеля, Пачангу и его парней, а также за брата Рикардо, который решил проинспектировать Старый Архив. – Эй, козел! Хуянито! – донеслось из ниши напротив, и Саймон неторопливо повернулся. Жуткая физиономия уставилась на него: нос с вывороченными ноздрями, огромные зубы в широком рту, сальная грива, сливающаяся с нечесаной бородой и рыжей шерстью на груди. Грудь, а также руки и плечи мощные, мускулистые, – не хуже, чем у борцов из Сан-Эстакадо. – За что сидишь, хуянито? – Сосед Салона просунул ступню меж прутьев решетки, налег на нее всем весом, будто собирался сокрушить препятствие. На левой руке у него не хватало мизинца. – За любовь к печатному делу, – буркнул Саймон. Сосед – вероятно, Хайло, о котором говорил одноглазый надзиратель, – не приглянулся ему. Было в нем что-то неприятное, и выглядел он точно паук в стеклянной банке, которому" не дотянуться до мухи. – А меня вот на телке взяли, – со вздохом сообщил Хайло и облизнулся. – Что за телка была! Одно плохо – какого-то хербляеро из смоленских бугров. Сопротивлялась, мразь. Тут и взяли. Полный абзац! Теперь вот сижу… месяц сижу, другой… Саймон нахмурился. Русский язык был для него родным, но в ФРБ кое-какие слова претерпели странную метаморфозу, сохранив привычное звучание, но поменяв смысл или, как минимум, этимологию. Так, «чекист» являлось производным от ЧЕКА, аббревиатуры, обозначавшей Черные Королевства Африки, а титул «дон» не имел никакого отношения к донам сицилийских мафиози, так как ввели его в практику донецкие лет двести с гаком тому назад. Само название «торпед» было гораздо более древним, но опять-таки не связанным с торпедоносцами и торпедными аппаратами; насколько Саймон мог установить, оно происходило от старинного спортивного клуба и означало не подводный снаряд, а победительность, стремительность, неукротимость. Так о какой же телке поминал Хайло? Конечно, не о той, что могла бы пастись в Пустоши с колокольчиком на шее. Равным образом слово «абзац» не относилось к книжным страницам, но в контексте произнесенного Хайлом звучало вполне уместно и понятно. Непонятным было другое – почему соседа не вздернули на минувших праздниках. Но это, в сущности, Саймона не интересовало. – Откель ты взялся, козлик? – Хайло пожирал его взглядом. – Из Санта-Севасты. – А кто таков? Вступать в беседу Саймону не хотелось. Перебрав с десяток занятий, он коротко отрезал: – Вышибала. – Ну-у! – недоверчиво протянул Хайло. – На вид-то совсем хлипкий. Работа вышибалы – не подарок. – Я тоже не подарок, – откликнулся Саймон и смолк, не обращая внимания на соседа. Ему было о чем поразмышлять. После акции в Озерах город гудел несколько дней, потом испуганно притих – в ожидании, что сильные мира сего начнут немедля сводить счеты и выяснять, кто кому наступил на мозоль. По улицам вышагивали патрульные «штыков», заставы смоленских на въезде в город ощетинились пулеметами,,. кабаки в порту были закрыты, суда «торпед» – реквизированы, и Сергун со своими бойцами ушел в подполье – то есть залег на матрасы по тайным убежищам, каких в районе гавани было не перечесть. По Северной дороге разъезжали на лошадях крокодильеры и палили во все, что движется и шевелится; в окрестностях расползались слухи, что Хорхе Смотритель обезумел от ярости, бросил кайманам всех нерадивых стражей и ждет подкреплений из Дона-Пуэрто и Рог-Гранде, а когда те прибудут, вот тут-то и начнется! Еще говорили, что в столице объявился новый дон Железный Кулак, собравший всех отморозков с окраин, и что его бандеро будет покруче донецких: бойцов у Кулака немерено и денег тоже, поскольку он захватил серебряные аргентинские рудники. В предчувствии будущих свар и побоищ робкие прятались в Хаосе, авантюристы точили клинки, народ запасался солью, мукой и спичками, а состоятельные горожане грузились в фургоны и постепенно утекали к западу, в Херсус-дель-, Плата, на плоскогорье и в Парагвайский протекторат. Это, впрочем, не гарантировало безопасности: за рекой Параной гулял дон Фидель, и грохот барабанов гаучо был слышен на другом берегу. Но все эти отрадные события, говорившие, что власть если не ужаснулась, то пошатнулась, не привели к желаемому результату. Доны молчали, то ли занятые подготовкой к драке, то ли не поверив Бучо Пересу – а может, сам капитан-кайман, даже расставшись с ушами, не рисковал нарушить молчание. Так ли, иначе, но Кобелино, отправленный в город, принес песюки и благодарность Прыща, но никаких известий от донов. Саймон велел ему заглядывать «Под виселицу» и раз в три дня являться с рапортом к Пако в подвал или, при неотложном повороте событий, на фазенду в Хаосе. События эти могли свершиться либо нет, но пассивное ожидание было не в характере Саймона. Теперь полагалось не ждать, а, например, раздать всем сестрам по серьгам, наведавшись к дону Грегорио в Кратеры или на остров к старому Хайме. Однако диспозиция этих объектов была неясной и нуждалась в уточнении – в чем, волей или неволей, мог посодействовать Карло Клык. Парни Гробовщика сумели б его отловить, но Саймон чувствовал, что торопиться с этим не стоит. Все линии розысков и расследований, как явные, так и тайные, должны продвигаться вперед с одинаковой скоростью, пока не будет ясно, где ожидается успех. В конце концов, цель его заключалась в уничтожении передатчика, а вовсе не в том, чтобы устроить в ФРБ переворот, какими бы гнусными и преступными он ни считал местные власти. С ними пусть разбираются Совет Безопасности и Карательный Корпус; его задача – открыть им врата на Землю, а для этого необходимо оружие, ракеты или дальнобойный лазер. И раз поиски Майкла-Мигеля и остальных людей Пачанги не привели к успеху, следует обратиться к древним источникам. Иными словами, в Старый Архив. Саймон рассмотрел и отбросил ряд вариантов проникновения в хранилище. Сам по себе Архив считался не большей ценностью, чем Государственная Дума ФРБ, но Форт был закрытой и охраняемой территорией. Можно было б захватить его и перерезать гарнизон из пятисот «штыков», либо залезть на скалу в ночном мраке, либо подобраться к воротам и пустить в ход гипноизлучатель, газ или фризер. На дороге Теней Ветра существовали и другие возможности, подсказанные опытом, ловкостью и силой, однако Саймон предпочел обман. Если в Форту располагается узилище, то, значит, есть и узники – а их проводят в цитадель прямой дорогой при свете дня и бережно хранят в подвалах. Свалка людей над свалкой древних бумаг. А при известном навыке можно покинуть одну и перебраться к другой. Так Ричард Саймон расстался с тропами Теней Ветра, вступив на Путь Смятого Листа. И, как наставлял Чочинга, был он сейчас жалким червем, поникшей травой, раздавленным насекомым; без клинка, без своего браслета и почти без одежды – в штанах с рваными штанинами и такой же дырявой рубахе. В пояс штанов был запрятан отрезок проволоки длиной в ладонь, и это являлось его единственным оружием. На исходе дня – или в начале ночи? – принесли еду. Надзиратель долил керосина в фонарь, просунул Саймону сквозь, решетку глиняную бутыль с водой и две горсти вареного маиса на деревянной щербатой плошке, затем повернулся к Хайлу. Тут ужин был поосновательней: вареный крокодилий хвост, хлеб и пиво в литровой кружке. «Царская трапеза», – подумал Саймон, перетирая крепкими зубами маисовое зерно. Вдобавок у его соседа нашелся нож, короткое узкое лезвие на костяной рукояти, которым тот резал мясо. Безделица, а не оружие, но все-таки нож, а не кусок проволоки. Саймон так и впился в него глазами. – Богато живешь, – процедил он, отхлебнув теплой воды из бутылки. – Для ямы откармливают?. Хайло прекратил чавкать и буркнул: – Над ямой ты повисишь, хуянито. А я посижу еще месяц-другой да выйду. Не по мне те ямки копаны. – Отсюда лишь к яме выходят да к виселице, – возразил Саймон. – А тех, кого с телки смоленской стащили, могут и в реку спустить. К кайманам. Хайло ухмыльнулся, разинув зубастый рот. – Если б могли, так давно уж спустили. Стряхнули бы прямо с телки. ан нет! Боятся нас. И верно боятся. За меня бы дон Хорхе тому смоленскому бугру яйца отрезал, а остальное зверюшкам скормил. Вот так-то, козлик! Саймон подавился сухим маисом. – Ты что же, крокодильер? Ухмылка соседа стала еще шире. – Допер, хрен черепаший? Я ж говорю – боятся нас, не трогают. Ну, сунули к «штыкам». «Штыки» тоже за шкуру свою трясутся, потому и кормят. И выпустят, дай срок! А ви– сеть придется тебе, хуянито. Через месяц, под Новый год. – Сомневаюсь, – сказал Саймон. – Думаю, этой ночъю мы распрощаемся. – Хо! -Крокодильер прожевал кусок и гулко сглотнул. – Бежать собрался, хербляеро? Чего же ждешь? – Жду подходящего момента, – ответил Саймон, стащил рубаху и начал разминаться. Мышцы у него затекли, но после нескольких энергичных движений кровь заструилась быстрей и морщины на лбу и щеках стали разглаживаться. Теперь он уже не выглядел смятым листом, а казался скорее нераспустившейся почкой, которую будит прикосновение солнечных жарких лучей. Хайло жадно следил за ним. – Тесные камеры у «штыков», – вдруг заметил он с тоской. – Тесные, – согласился Саймон, отжимаясь от пола. – Были бы посвободней, сажали бы в них двоих. Скажем, тебя и меня. Саймон поморщился, но промолчал. – И я бы тебя опустил, – мечтательно произнес Хайло. Глаза Саймона оледенели. – Это вряд ли, козлик. Ты уж прости, но в телки я не гожусь. – Да ну? – Хайло поскреб ножиком в бороде. – А кто ты такой, хуянито? Кто, чтоб на меня тянуть? – Сам дьявол! – рявкнул Саймон, отвернулся, лег на полу у решетки, расслабил мышцы и сфокусировал взгляд на фонаре. Он не дремал и не пытался погрузиться в транс, но задержавшись в сумеречной переходной зоне между явью и сном, отдался смутным грезам и видениям, которые текли, струились и мерцали на границе сознания, будто радужные всполохи на мыльном пузыре. Лица Марии, Майкла-Мигеля и Пашки поочередно всплывали перед ним, а следом явилась мысль: ты в ответе за тех, кого приручил. Еще он видел Чо-чингу и Дейва Уокера, своих учителей; они странным образом слились в единое существо, в гиганта-гекатонхейра с пламенно-рыжей бородой, шептавшего ему: «Будь одинок!.. Жизнь принадлежит сильным, и лишь одинокий по-настоящему силен». Потом перед ним возникла Земля – такой, какой он разглядывал ее с орбиты: шар, окрашенный синим и зеленым, с пятнами белых облаков и темно-бурых безжизненных территорий, протянувшихся по всем континентам. Саймон стремительно спускался к одной из таких пустынь, откуда-то зная, что это – Разлом; он видел пляску теней в его кратерах и слышал голос Майкла-Мигеля, читающего стихи. Мертвые тени на мертвой Земле последнюю пляску ведут… Мертвые, но опасные, и могущество их в том, что сразить их не может никто, кроме другой тени. С этой мыслью он очнулся. Тускло горел фонарь, висевший на потолочном крюке, оба конца коридора были затянуты тьмой, из камеры Хайла доносился раскатистый храп, и смрадный густой воздух обволакивал и колыхался над ним, лишая привычной остороты обоняния. Время, подумал Саймон. Его ладони легли на прутья решетки, пальцы сжались, обхватывая толстые железные стержни, мускулы напряглись в неимоверном усилии; он уперся босыми ногами в стену и ссутулил плечи, чувствуя грохот крови в ушах и ее привкус на прокушенной губе. Решетка подалась с протяжным жалобным скрипом. Кончики стержней, уходивших в потолок и пол, крошили камень, прутья гнулись и раздвигались, уступая силе человеческих мышц. Алая струйка скользнула по подбородку Саймона, что-то теплое капнуло на колено. Он перевел дыхание, откинулся к стене и с минуту сидел в неподвижности, созерцая дело своих рук. Главное, чтобы прошла голова… Ему удалось протиснуться между прутьев, ободрав кожу на висках, груди и лопатках. Храп в камере соседа смолк,потом возобновился с удвоенной силой, но звучал теперь как-то ненатурально – чудилось, будто Хайло высвистывает затейливые рулады напоказ. Саймон сделал пару осторожных шагов, всматриваясь в темную скорченную фигуру за решеткой. Нож… Где-то должен быть нож. Он не сопротивлялся, когда длинные руки стремительно вскочившего крокодильера сомкнулись на его предплечьях, подтягивая ближе. Теперь их разделяла только решетка, толстые прутья, между которыми можно было просунуть ладонь. Страшная физиономия маячила перед Саймоном, смрад сделался еще сильнее. – А ты ловкач, козлик, – прорычал Хайло, обхватив Саймона за шею одной рукой, а другой вытаскивая нож. – И вправду решил удрать! Ловкач! Сквозь решетку пролез. Мясо, должно быть, без костей, а? Ну, это мы проверим. Он поднес тускло блеснувший клинок к горлу Саймона, отпустил его шею и принялся возиться с завязками штанов, приговаривая: – Повернешься ко мне задом, хуянито, задом, говорю… И стой смирно, не дергайся, а то на меха порежу! Ежели все у нас будет чин чинарем, по-доброму, значит, согласию, тогда, глядишь, и отпущу. Хо-хо! – Он хохотнул, брызгая слюной. – Отпущу, и ты отсюдова уберешься, вылезешь как-нибудь за дверцу, а там «штыки» тебе приложат в лоб. Жалко, конешно. Гладкий ты, добро пропадает. Арр-ха! Крокодильер взревел и коротко выдохнул, когда железные пальцы врезались ему под ребра, словно клинок копья цухи-до. Сообразуясь с тайятским Ритуалом Поединков, Саймон предпочел бы выпустить кишки Хайлу в каком-нибудь романтическом месте – среди камней и скал у морского берега, на лесной опушке под развесистыми пальмами или, на худой конец, в приюте любви. Приют любви вполне бы подошел, мелькнула мысль, если учесть намерения крокодильера. Но выбирать не приходилось. Он вырвал нож из бессильных пальцев, ударил Хайло ребром ладони в горло и отщвырнул подальше от решетки. Потом пробормотал: – Верно сказано: в любом человеке есть что-то хорошее. Этот, по крайней мере, недолго сопротивлялся. Затем Саймон снял с крюка фонарь, прикрыл его рубашкой и твердым шагом направился к двери. Замок здесь был примитивным, но с ним пришлось повозиться – его, вероятно, не смазывали лет пять, а может, и все десять. Наконец он очутился на лестничной площадке и всей грудью вдохнул теплый затхлый воздух. После вони и смрада в покинутом коридоре он показался Саймону благоухающим бальзамом. Наверху царила тишина, если не считать далеких и неопасных звуков – скрипа сапог и кашля часового. Неслышно ступая босыми ногами и чуть заметно подсвечивая фонарем, Саймон начал спускаться вниз по лестнице. Под его ступнями был шероховатый растрескавшийся камень, однако иногда попадалось что-то мягкое, шелестящее или колючее – бумага и обрывки волосяных веревок, казавшиеся в тусклом свете сплетением древесных корней. Это убедило Саймона, что он идет по верному пути. Ступеней было сто двадцать шесть; значит, считая с тюремными этажами, он спустился метров на сорок. Но это едва ли четвертая часть от полной высоты утеса, и Саймон казался самому себе почтовым голубем, замкнутым в поднебесной голубятне. Найдет ли он выход, чтобы расправить крылья и устремиться в небо? Это сейчас занимало его не больше, чем пустота в желудке. Лестница кончилась. Под ногами шуршала бумага – видимо, остатки упаковки, которую срывали и бросали здесь, не затрудняясь вынести наружу. Посветив фонарем, Саймон двинулся к широкой и высокой двери из потемневшего дерева, усеянной металлическими заклепками. Что-то метнулось под стеной и исчезло с пронзительным писком – мышь. или крыса, единственный страж позабытого хранилища, неоспоримый владелец бумажных гор, картонных равнин и залежей старого клея. Дверь, к удивлению Саймона, была незапертой. За ней простиралась обширная полость, которую он не мог осветить фонарем; слабый дрожащий свет выхватывал ряды сколоченных из досок стеллажей, вначале пустых, а затем набитых посеревшими от пыли папками. Потолок оказался невысоким и волнистым, но пол – довольно ровным, как и стены за полками; кое-где в них темнели ниши, пустые или набитые все теми же папками, кипами прошитых бумаг с сургучными печатями и неразборчивыми надписями. Отряхнув с одной из папок пыль, Саймон прочитал: «Протоколы и решения Государственной Думы ФРБ. Год 2352». Далее шли годы 2351, 2350, 2349-й, и это подсказывало, в какую сторону двигаться, чтоб перейти к более ранним временам. Отсчитав с полсотни шагов, он почувствовал, что выбрался из лабиринта полок, остановился и поднял фонарь над головой. Саймон увидел небольшое свободное пространство, стиснутый стеллажами пятачок с прогнившим письменным столом – ножки его были изгрызены, поверхность усеивал мышиный помет. Над столом свисала большая керосиновая лампа на трех цепях, рядом валялись остатки табурета и переломанные ящики, на полу расползалась клочьями тростниковая циновка. Старый Архив… Пыль и плесень, горы никому не нужных бумаг, полутьма, запустение. Саймон задрал голову, всматриваясь в потолок. В отличие от верхних помещений, пробитых взрывами, эта полость была, несомненно, естественной. Довольно большая пещера в скале, невысокая, неопределенной формы, с прочными сводами, державшими тяжесть башен и стен, что выстроены наверху. Когда-то она служила для первопоселенцев убежищем или складом; натеки застывшего камня, выровненный пол и ниши молчаливо подсказывали, что здесь поработал излучатель. На мгновение Саймон прикрыл глаза, увидев другую пещеру – огромный великолепный грот, полный сокровищ и тайн, где на персидских коврах восседали фигуры в ярких восточных одеждах, где сияли драгоценные камни на рукоятях и ножнах сабель, блестело серебро доспехов и высился посередине сказочный корабль Синдбада Морехода – резное дерево, башенка на корме, лазурь окрашенных бортов, свернутые шелковые паруса. Аллах Акбар, Счастливая Аравия, музей эмира Абдаллаха, синеглазого потомка прекрасной Захры ад-Дин и Сираджа ат-Навфали – Сергея Невлюдова, если припомнить его настоящее имя. Человека, который оставил так много и настолько мало – Пандус, возможность странствовать и рассе-, ляться среди звезд, но ничего о себе. Почти ничего. Единственной вещью, принадлежавшей ему, являлась статуэтка кошки, самый драгоценный экспонат подземного музея. Саймон увидел ее будто бы наяву: белое тельце и голова с настороженными ушками, пепельно-серый хвост, приподнятый и изогнутый над спинкой, лапки на округлом металлическом пьедестале. Глаза бирюзовой голубизны, шея чуть-чуть вытянута, головка склонена, будто зверек разглядывает что-то у своих передних лап. Возможно, поза была самеком: в подставке хранился компьютерный диск с записями Невлюдова – тот, о котором Саймон рассказывал Марии. А что интересного здесь? В этой пещере, пропитавшейся запахом старых бумаг? Он поднял веки, огляделся и щагнул к ближайшему стеллажу. Протоколы и решения Государственной Думы. Год 212-й, вскоре после Первого Передела. Материалы съезда НДБ. «Наш дом-Бразилия», партийный устав и программа… Ну что ж, двинемся дальше. Дальше, за шеренгами стеллажей, пещера кончалась глубоким альковом. В самой его середине были прорезаны бойницы, забитые сейчас досками, а по обе стороны от них стояли шесть шкафов – но не деревянных, а металлических, в серой облупившейся краске, с перекошенными дверцами. Саймон, чувствуя, как замирает в груди, приблизился к ним, поднял фонарь, поддел створку лезвием ножа и дернул. Книги… Сервантес, Шекспир, Тургенев, Голсуорси, Шоу, Фейхтвангер, Марк Твен, Толстой, Гюго, Уэллс, Драйзер, Дюма, Куприн… Пальцы Саймона благоговейно скользили по переплетам из вечного пластика, гладили их, стирая пыль, касались разноцветных корешков. Да, в этой пещере тоже были свои сокровища, древний клад, который мог украсить музеи и библиотечные хранилища России. Впрочем, не только России; книги трехвековой давности на любой из планет ценились на вес золота. Он раскрыл второй шкаф, третий, четвертый, потом – остальные. Книги, книги… Драгоценные, но бесполезные для него. Ни документов, ни исторических записей, ни карт, ни планов, ни схем. Внезапно Саймон понял, что их и быть не могло – во всяком случае, на бумаге. Списки колонистов, всевозможные перечни оборудования, распоряжения руководителей – все это хранилось в компьютерах «Полтавы», как и главная цель его розысков – корабельный журнал. Надо думать, к моменту высадки навигационный компьютер был в исправности: «Полтава» не блуждала в океане, а полным ходом двигалась к американским берегам. И управлявшие ею были людьми двадцать первого века, во многом такими же, как современники Саймона в Разъединенных Мирах; они не писали, они диктовали, и монитор компьютера был для них привычнее, чем лист бумаги. Выходит, здесь ничего не найти?.. Саймон смахнул рукавом проступившую испарину и принялся шарить на полках. Так и есть – ничего! Книги, книги, книги… Ничего, кроме книг. Он вытащил маленький том в голубом переплете, стер пыль, прищурился, разглядывая обложку. Еще одна редкость. Конвенция Разъединения, свод международных законов, изданный в две тысячи сорок восьмом. Все они действовали по настоящий период, лишь размножились за три с половиной столетия; теперь, обросший комментариями, ссылками на прецеденты и решения ООН, свод Конвенции не поместился бы и в десяти томах. Но эта древняя книга была его ядром и неизменной сутью, что подтверждалось надписью на титуле: «Грядущее объединение и мир придут через разъединение». С минуту Саймон разглядывал этот лозунг, напечатанный потускневшими алыми буквами, потом хмыкнул, сунул книгу за пояс и закрыл шкафы. Поражение? Нет, пока что нет. Во всяком случае, он не хотел признавать фиаско – ведь, кроме стеллажей с бесполезными протоколами и книжных шкафов, оставалось кое-что еще. Параболоид на башне, антенна космической связи. И эти бойницы, забитые досками. Куда они выходят? Как представлялось Саймону, в сторону моря, на юго-восток. Значит, он находится сейчас под башней с параболоидом, и это нетрудно проверить. Бойниц было три. Он выбрал левую, где доски совсем почернели и рассыпались трухой под лезвием ножа. Лунный свет, хлынувший в оконце, заставил померкнуть фонарь; потом слабый рокот волн коснулся его слуха, а откуда-то сверху послышалась перекличка часовых. Саймон просунул голову и плечи в бойницу. Под ним стометровым обрывом падала в море скала, волны бились и шипели у ее подножия, заросшего кустами, а на западе лежал город – резиденции донов, полускрытые темной массой древесных крон, церковь на углу проспекта Первой Высадки, смутный абрис Серого Дома и лабиринт узких улочек, змеившихся за площадью. Ему показалось, что он различает дворец покойного дона Хосе – восьмиугольную башенку на кубическом постаменте; под крышей ее горели огни, делая сооружение похожим на прибрежный маяк. Саймон перевернулся и лег на спину, высунувшись из окна по пояс. Увидел он в этой позиции немногое: сизый бугристый склон скалы, стены и цоколь башни, черные стебли антенн над нею и озаренный лунным светом край параболоида. Приглядевшись, он заметил длинный темный корень, будто бы выпущенный башней в надежде покрепче уцепиться за утес; корень – а может, шланг или толстый канат – был закреплен на скале и тянулся вниз, прямо к бойницам Архива, то пропадая во мраке впадин, то отсвечивая металлическим блеском на выпуклостях и карнизах. Саймон, протянув руку, начал ощупывать неровную каменную поверхность; ладонь его скользила вверх и вниз, налево и направо, пока пальцы не встретились с чем-то округлым, протяженным, шероховатым на ощупь, но, несомненно, металлическим. Теперь, повернув голову, он видел этот предмет – что-то напоминающее кишку пятисантиметрового диаметра, которая была закреплена на вбитых в камень толстых стальных штырях. Саймон довольно усмехнулся. Не корень, не кишка, не шланг и не канат – кабель! Энергетический кабель в не подвластной времени бронированной оплетке, тянувшийся сверху вниз, от башни с антеннами к основанию скалы. Куда он вел? Гадать об этом не стоило, раз можно было проверить. Прикрутив фитиль фонаря, Саймон привязал его к поясу и протиснулся в окно. Скала только на первый взгляд казалась неприступной – ее усеивали мелкие трещинки и выбоины, надежная опора для пальцев рук и ног. К том же имелся кабель; держась за него, Саймон чувствовал себя вполне уверенно, не хуже, чем муха на покрытой штукатуркой стене. Он двинулся вниз, почти не напрягая мышцы. На Старой Земле, как и во многих других мирах, он наслаждался ощущением легкости, будто воздух поддерживал его над стометровой пропастью; казалось, еще немного – и он воспарит над морем и берегом – так, как летал когда-то в детских снах. Кабель в его руках был прочным, едва тронутым ржавчиной; вероятно, его обшивку сделали из какого-то сплава,, с трудом поддающегося окислению. Это вещество могло оказаться металлокерамикой или легированным титаном, но Саймон счел его ферроборазоновой броней – подобный материал до сих пор использовался всюду, где долговечность и прочность были важнее веса. Эта мысль вдохновила его; ведь корпус и орудийные башни «Полтавы» наверняка создавались прочными и долговечными. Он спустился метров на семьдесят. Внизу шуршали волны, облизывая нагромождение покрытых водорослями камней; один из них – выпуклый, гигантский, с изрезанным краем – напоминал всплывшего из пучины осьминога в кольце бугристых щупальцев. Скала здесь до самого основания поросла барбарисом – гибкими, колючими, упрямо цеплявшимися за каменную поверхность кустами. Собственно, то был уже не камень, а бетон – древние, трещиноватые, но еще не развалившиеся блоки, которыми заделали гигантскую расселину в утесе. Ее размеры и очертания позволял оценить кустарник, приютившийся в щелях бетонной кладки; она была треугольной, расширявшейся книзу и тянулась до рокочущих волн. Будто скалу разодрали пополам, мелькнула мысль у Саймона, и в следующий момент он догадался, что замурованная расселина – вход в пещеру, гораздо более высокую и просторную, чем та, в которой разместили Архив. В бетонной стене зияли провалы, скрытые кустами, и Саймон, вытянув руку, убедился, что не может нащупать внутреннюю поверхность кладки. Он посветил в один из провалов фонарем, но занавес мрака отодвинулся лишь на метр; было неясно, что таится за ним – пустое пространство или глухой непроницаемый скальный монолит. Правда, Саймону чудилось, что он ощущает дуновение теплого воздуха на лице, и огонек фонаря вроде бы отклонился наружу… Все-таки полость? Или узкие шурфы, в которые не протиснется даже крыса, пробитые бог знает зачем? Его сомнения разрешились, когда бронированный кабель исчез в одной из дыр. Отверстие было достаточно широким, чтобы Саймон смог пролезть в него; минуты три или четыре он полз, ощущая под коленями, ладонями и локтями каменную крошку, потом ее сменила пыль и, наконец, холодная, ровная и слегка шероховатая поверхность. Металл! Он поднялся, прибавил огня в фонаре и задумчиво оттопырил губу. Тьма парой черных озер застыла впереди и позади, но в пятачке неяркого желтого света был виден просторный коридор, кабель, змеившийся понизу, тронутый ржавчиной овальный потолок, плавно переходивший в стены, пол из ребристых стальных пластин и дверца люка справа. Над ним темнела чуть различимая надпись на украинском, и Саймон, боясь дохнуть, поднес к ней фонарь и выяснил, что люк ведет в двигательное отделение среднего корпуса. Среднего! Значит, были еще два! Как и положено трима-рану! Он весело присвистнул и зашагал вперед, поглядывая на кабель. Разумеется, эту энерголинию проложили не при строительстве корабля, а гораздо позже, дабы соединить что-то с чем-то. Что именно, Саймон уже понимал: параболическую антенну на юго-восточной башне. Он даже догадывался, зачем это сделано: антенна могла отследить полет снаряда по баллистической траектории, если б такие снацрды нашлись у громадян и если б они решили расквитаться за Одессу. Разумная мера предосторожности, подумалось ему. Однако антенна без командного модуля и генератора напоминает выдранный из глазницы глаз. Бессмыслица, слепое око! Выходит, ее подключили… К чему? К термоядерной силовой установке и навигационному компьютеру. И то и другое имелось на «Полтаве» и составляло с ней единое целое; насколько помнил Саймон, демонтаж любого из этих устройств был эквивалентен их уничтожению. Проходы наверх, к боевым башням, как сообщали надписи. Проходы вниз, в кубрики экипажа. Люк – офицерская кают-компания, люк – адмиральский салон, камбуз, столовая мичманов. Поперечные проходы, наполовину перекрытые броневыми щитами, – в левый и правый корпуса. Трап к взлетной палубе, радиорубке и отсеку эхолокации. Другой трап, к навигационному пункту и системам управления огнем, – лестница с железными ступеньками, ведущая в корабельное чрево. Кабель перебрался через высокий порог и скользнул вдоль перил; Саймон неотступно двигался следам. Где-то внизу, под боевыми башнями и палубами, под защитой орудий, брони, ракет и бастионов двух вспомогательных корпусов, таились сердце и мозг корабля: термоядерный реактор и ГНП, главный навигационный пункт. Святая святых, обитель компьютера, который считался на судне вторым после бога, а может, и первым – ведь ни один капитан из плоти и крови не смог бы его заменить. Лестница кончилась у переборки с овальным проемом, и Саймон, прикинув его размеры, довольно кивнул. Некогда здесь находился люк, преграда с электронными запорами, но сейчас проем был пуст, а дверь со всей электронной начинкой стояла в подвале Богадельни, охраняя Первый Государственный. – Оно и к лучшему, – пробормотал Саймон, ухмыльнулся и переступил порог. Здесь был пульт, похожий на гигантскую подкову, и девять кресел перед ним; над пультом темнели прямоугольники слепых экранов – обычных или с выступающими скулами голо-проекторов и динамиков; другие экраны, круглые, зеленоватые, расчерченные тонкой штриховкой, были вмонтированы в пульт – они поблескивали, будто озера в порубленном лесу, меж ручек, тумблеров и верньеров, напоминавших пни; ниже, под этими стеклянистыми озерами, скалились шеренги пожелтевших клавиш, торчали микрофоны на гибких коленчатых стеблях, тускло отсвечивали черные, желтые и красные кнопки, никелированные кольца приводов, сигнальные лампочки и тумблеры на выраставших из пола панелях. Пульт был разделен на девять равных секций, помеченных над верхними экранами; Саймон, взглянув на них, мысленно перевел надписи с украинского на русский. Центральная гласила: «командир», справа от нее шли «вахтенный офицер», «навигация», «связь», «контроль реактора и двигатели», а слева – «управление огнем», «ракеты», «локация воздушного и водного пространства» и «десантирование на сушу». Он направился к креслу командира, сел и пошарил в выемке под пультом. Контактного шлема не нашлось – видимо, на боевых кораблях больше доверяли действиям и словам, чем мыслям. Прищурившись, Саймон уставился на командирский терминал: все указатели стояли на нуле, экраны были мертвы, сенсорная клавиатура покрыта тонким слоем пыли, но у рубильника с надписью «пуск системы» тлел едва заметный оранжевый огонек. Он коснулся рукояти и передвинул рубильник вверх. Монитор над командирской секцией мигнул, в динамиках раздался хрип, вспыхнули и погасли лучи голопроектора, породив на миг смутное изображение трехкорпусного корабля с плавно очерченными надстройками, скошенными мачтами и взлетной палубой, протянувшейся вдоль левого борта. Саймон задержал дыхание, чувствуя, как по спине ползут мурашки, но схема больше не подвилась; очевидно, голопроектор вышел из строя. Зато на экране возникла надпись: "РАКЕТОНОСНЫЙ КРЕЙСЕР «ПОЛТАВА», РЕСПУБЛИКА УКРАИНА, ПОРТ ПРИПИСКИ – ОДЕССА. ГОТОВ К КОНТАКТУ". – Пусть пребудут с тобой Четыре яркие звезды, – пробор мотал Саймон привычное заклятье и потянулся к микрофону. Сердце его пело. Нашел! Он все-таки ее нашел! Не игрушку, подарок дона Хосе, а настоящую «Полтаву»! Замурованную в пещере под Синей скалой, забытую и погребенную во тьме, однако не лишившуюся разума; и этот разум был готов к контакту. Стоило ли рассчитывать на большее? Разумеется. Сам по себе древний компьютер не представлял интереса, но что можно узнать с его помощью? Какие сведения он хранил? О чем мог поведать?*t Медленно и раздельно Саймон произнес в микрофон: – Просьба представиться. Затем – доложить о состоянии корабля. Краткий обзор. Оружие, двигатели, реактор, средства связи. "НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР «СКАЙ», – откликнулся экран. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 2433/167, КЛАСС – «СЕПТЕМ-14». «Пальмирой», что мчалась сейчас в небесах над Южноамериканским материком, заведовал более мощный компьютер – «Септем-16». Двадцать первый век, устаревшая классификация. Саймону смутно помнилось, что тогда все вычислительные машины ранжировались по мощности на четыре категории, обозначаемые латинскими числительными «квин-кве», «секс», «септем» и «окто» – пятый, шестой, седьмой и восьмой классы. Пятая модель предназначалась для массового потребителя, шестая – для профессионалов; что касается «септем» и «окто», то это были машины специального назначения, с самым широким набором функций. Конечно, ни одна из них не могла сравниться с «Периклом-ХК20», Аналитическим Компьютером штаб-квартиры ЦРУ, но этот электронный мудрец происходил по прямой линии от «Окто-20», самой мощной и совершенной модели в последнее десятилетие Исхода. По экрану продолжали скользить слова, и Саймон Отметил, что «Скай» выдает текст на русском. "СОСТОЯНИЕ КОРАБЛЯ. 1.ОРУЖИЕ: РАКЕТЫ «ЗЕНИТ» КЛАССА «ЗЕМЛЯ-КОСМОС» -НОЛЬ; РАКЕТЫ «ДНЕПР» КЛАССА «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛЯ» – НОЛЬ; РАКЕТЫ«ЗАПОРОЖЕЦ» КЛАССА «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» -НОЛЬ; ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; ЛАЗЕРНЫЕ БАТАРЕИ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; ОРУДИЯ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; ЛЕГКОЕ СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ – ДЕМОНТИРОВАНО; СВЯЗЬ.С АВИАНЕСУЩЕЙ ПАЛУБОЙ И АНГАРАМИ ДЕСАНТНЫХ КАТЕРОВ ОТСУТСТВУЕТ. 2.ДВИГАТЕЛИ – ДЕМОНТИРОВАНЫ. 3.РЕАКТОР – 0,0012 РАБОЧЕЙ МОЩНОСТИ. 4.СВЯЗЬ…" Саймон пробормотал проклятье. Надежды его пошли прахом, и сейчас он чувствовал себя так, словно дон Грегорио под улюлюканье и выкрики прочих донов подвешивает его над ямой с муравьями. «Полтава» сохранила разум, но, кроме него, остался лишь костяк, скелет без плоти, без мышц и нервов. И, разумеется, без кулаков. Ракеты класса «Земля-космос» – ноль… Скрипнув зубами, Саймон помассировал виски и попытался успокоиться. «Скай», похоже, расслышал его бормотание; экран мигнул, затем возникла фраза: «КОМАНДА НЕ ЯСНА. ПРОСЬБА ПОВТОРИТЬ». – Отмена последней команды, – произнес Саймон. – Продолжить рапорт. Доложить о состояниии систем наблюдения и связи. Доклад «Ская» разнообразием не отличался: "ОПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; РАДИОЛОКАТОРЫ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; ЭХОЛОТЫ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; ЛАЗЕРНЫЕ ЗОНДЫ – ДЕМОНТИРОВАНЫ; СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И РАДИОСВЯЗИ – ДЕМОНТИРОВАНЫ НА 98%..". – Стоп. – Саймон приподнялся в кресле, вглядываясь в экран. «Антенна»! – мелькнуло у него в голове. Два процента от прежнего изобилия, остатки былой роскоши. Стараясь, чтобы голос звучал ровно, он приказал: – Сообщить, какие системы навигации и связи находятся в рабочем состоянии. По экрану неторопливо поползли слова: "В ПОЛУРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ – КОМПЛЕКС УЗКОНАПРАВЛЕННОЙ РАДИОСВЯЗИ «АРГУС». ФУНКЦИИ: СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ СНАРЯДОВ, РАДИОСВЯЗЬ ЧЕРЕЗ СПУТНИКИ, КОСМИЧЕСКАЯ РАДИОСВЯЗЬ". – Что значит – в полурабочем состоянии? – спросил Саймон, стискивая в волнении кулаки. – Уточнить! "ЭНЕРГОПИТАНИЕ КОМПЛЕКСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 100%. ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ, СВЯЗИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МОГУТ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА 100%. ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛОЦИРУЕТ НЕБЕСНУЮ ПОЛУСФЕРУ ПОД ПОСТОЯННЫМ УГЛОМ СКЛОНЕНИЯ; КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ". – Почему? «МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА АНТЕННЫ ДЕМОНТИРОВАН». – И это все, что ты способен предложить? – в задумчивости буркнул Саймон. «ПРОШУ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ВОПРОС», – возникло на экране, и Саймон невесело усмехнулся. Все-таки этот компьютер, разум «Полтавы», был всего лишь квазирйзумом, системой с жестко ограниченными функциями; он управлял кораблем, защищал его и вел по морям-океанам, заботился об экипаже, а если велели – стрелял. Должно быть, с отменной меткостью. Но теперь стрелять было нечем. Саймон еще не успел примириться с грустной реальностью, как новая мысль вдруг родилась у него и тут же помчалась вскачь, будто истомленный жаждой кенгуру, узревший блеск прохладных вод в пустынном буше. «Там, в Море Дождей, – думал он, – передатчик… Но это слишком мало, слишком расплывчато; никакая система, генерирующая сигнал на протяжении трех с четвертью веков, не может включать один передатчик и только передатчик. Есть, разумеется, энергетическая установка, реактор или солнечные батареи; есть трансформаторы, аккумуляторы и силовые кабели; есть приемное устройство – иначе как же включили с Земли передатчик, как задали параметры сигнала?.. Значит, есть и управляющий компьютер; и вся эта машинерия, целый комплекс в Море Дождей не что иное, как одна из лунных автоматических станций, видимо, украинская, раз ее не перебросили на Европу до конца Исхода. Ее задачи могли быть самыми разнообразными, от ретрансляции телепрограмм на Марс до изучения Солнца и предсказания магнитных бурь. Я не знаю о них ничего, но готов поклясться, что станцию – если она и вправду существует – построили не затем, чтоб перекрыть трансгрессорный канал. Это случайность, и только! Там, на Луне, был передатчик, а на Земле – хитроумные люди, сумевшие его использовать. Неважно, откуда взялись хитрецы, из Русской Дружины или из партии громадян; важно, что комплекс запрограммировали и включили, а после началась война». «Но если включили, то можно и выключить. Можно связаться с компьютером в Море Дождей – если там есть компьютер! – и приказать ему… Все, что угодно», – подумал Саймон, представив, как никнут крылья солнечных батарей, как остывает в реакторе плазма, как медленно и беззвучно рушатся мачты антенн. Полюбовавшись этой мысленной картиной, он наклонился к микрофону и произнес: – «Скай»! Инициировать «Аргус» в режиме космической радиосвязи. «ВЫПОЛНЕНО», – зажглось на мониторе. – Передать сообщение. Начало: Кратер Архимеда, Море Дождей. Вызываю лунную станцию. Требуется подтверждение связи, а также данные: наименование, государственная принадлежность, назначение, оборудование. Конец. Прием! Узконаправленная радиосвязь. Механизм поворота антенны демонтирован. Слова отдавались громом у Саймона в голове. Он понимал, что это значит: чаша антенны неподвижна, и «Скай» не может отследить объект, скользящий по небесной сфере. В данном случае Луну. Телесный угол распространения сигнала невелик, почти вся мощность уходит в узкий конус, и в результате – не связь, а стрельба по мишени с зажмуренными глазами. «Впрочем, можно и попасть, – размышлял Саймон, отсчитывая секунды. – В подходящий момент – на основном лепестке излучения, а до и после – на боковых. Не лучшие условия приема, но все-таки…» Монитор над командирским пультом мигнул, и мысль прервалась. «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВЯЗИ. ЗАПРОС ПРИНЯТ». Слова медленно, будто нехотя, ползли по экрану. Саймон чувствовал, как выступает испарина на висках. "АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «СЕРДОЛИКОВЫЙ БЕРЕГ», РЕСПУБЛИКА УКРАИНА, КРЫМСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 13.05.2023". Начало Исхода, Крым, отметил Саймон. Благодатные земли, вечный повод к раздорам. Когда-то в детстве он разглядывал этнографическую карту Крыма на экране учебного компьютера и поражался, сколько народов претендовало на этот край: киммерийцы и скифы, греки и генуэзцы, татары и турки, русские и украинцы. Но все это осталось в прошлом, поскольку в Разъединенных Мирах были три Крыма: на России, Европе и Сельджукии. Что касается даты, то двадцать третий год двадцать первого столетия являлся в определенном смысле историческим и переломным: ООН преобразовали в Организацию Обособленных Наций, былдоздан Исследовательский Корпус, приступивший к разведке землеподоб-ных планет, а политики и юристы начали трудиться над Конвенцией Разъединения. «УСЛОВИЯ ПРИЕМА УХУДШАЮТСЯ, – сообщил „Скай“. – ОБЪЕКТ УХОДИТ ИЗ ЗОНЫ УСТОЙЧИВОЙ РАДИОСВЯЗИ». Ночь еще не кончилась, но серебряный диск Луны миновал точку зенита. Саймон, сидевший в темном отсеке в чреве огромного корабля, не видел, сереет ли небо, гаснут ли звезды, но понимал, что время истекает. – Ты уж постарайся, приятель, – шепнул он, прикрыв ладонью головку микрофона. "ИСХОДНАЯ ЗАДАЧА, – возникло в глубине экрана. – АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ. ЗАДАЧА ИЗМЕНЕНА ПРИОРИТЕТНЫМ КОДОМ РУКОВОДИТЕЛЯ КРЫМСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ СИМАГИНА. ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ – 22.10.2072. НОВАЯ ЗАДАЧА: ЭМИССИЯ СИГНАЛА С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ RTR. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА: ЧАСТОТА…" «Вот как оно было, – думал Саймон, глядя на россыпь условных значков и цифр. – Двадцать второе октября две тысячи семьдесят второго года… Точная дата, когда Земля превратилась в Закрытый Мир». Он мог прозакладывать уши и десять пальцев, что несчастный Симагин тут ни при чем; код из него выбили или заставили сообщить под угрозой смерти. Сеанс с Морем Дождей продолжался. "ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ: УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЬЮТЕР «ДЗЕТА», СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 258/55, КЛАСС-"ОКТО-18"; РАДИОТЕЛЕСКОП «СЕРДОЛИК»; КОМПЛЕКС ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ; СИЛОВАЯ УСТАНОВКА – ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР «ПРОН»; ДУБЛИРУЮЩАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА…" – «Скай», внимание! – Склонившись над микрофоном, Саймон стиснул ручки кресла. – Закончить прием текущей информации. Послать сообщение. Начало: станция «Сердоликовый Берег», приказ компьютеру «Дзета» серийный номер 258/55. Прекратить эмиссию сигнала RTR. Сообщить о выполнении. Конец. Прием. Ответ должен был прийти быстрее, чем он произнес эти фразы. Быстрее, чем кончится ночь и скроется за горизонтом лунный диск. Три-четыре секунды, может, пять или шесть. Ничтожный промежуток времени, и миссия будет исполнена – без грохота и взрывов, без ракет и лазеров, которых здесь не нашлось. Жаль расставаться с Землей, мелькнула мысль, но тут же, усмехнувшись, он подумал, что разлука – понятие в Разъединенных Мирах устаревшее. Разъединенные в пространстве, они объединялись вратами трансгрессоров, и Земля, возвращенная людям – всем людям, сколько их есть в Галактике, – теперь окажется на расстоянии шага от Колумбии и России, Европы и Латмерики, и от всех остальных миров у тысяч и тысяч звезд, уже населенных, освоенных или необитаемых и диких. К тому же Саймон знал, что частичка Земли всегда будет рядом с ним – напоминание об этой миссии, самой долгой за время его карьеры и, вероятно, самой счастливой. Он представил лицо Марии и снова улыбнулся. Экран ожил, и улыбка сползла с губ Саймона. "КОМПЬЮТЕР «ДЗЕТА» СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 258/55 СООБЩЕНИЕ ПРИНЯЛ. ОТМЕНА ПРЕДЫДУЩЕЙ ЗАДАЧИ ВОЗМОЖНА, ЕСЛИ ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВАШЕГО КОДА НЕ НИЖЕ, ЧЕМ У РУКОВОДИТЕЛЯ СИМАГИНА. СООБЩИТЕ ВАШ КОД". Блокировка… Это было не поражением, а лишь отсрочкой неминуемой победы. Теперь Саймону казалось, что он не рассчитывал на удачу, а ждал чего-то такого, какой-нибудь маленькой каверзы или заминки. Действительно, маленькой – в сравнении с тем, что он отыскал «Полтаву» и смог связаться с лунным комплексом. Эти опорные точки были вполне надежными, такими же основательными, как Земля и Луна, вершившие свои пути в космическом пространстве; и это значило, что с неизбежностью наступит ночь и лунный диск взойдет над горизонтом, доступный радиосигналу. Все, что необходимо сделать, – явиться сюда, на «Полтаву», в подходящее время и во всеоружии: с браслетом, дешифратором и маяком. – Явиться и сломать пароль, – вслух произнес Саймон, глядя, как подрагивают на экране строчки последнего сообщения. Внезапно в динамиках раздался глуховатый рокот, и чей-то голос, далекий, негромкий и холодный, как космическая пустота, откликнулся: – Теплые сгустки любят все ломать, но в этом нет необходимости. Подскочив, Саймон инстинктивно обернулся, хватаясь за нож, однако, кроме него, в отсеке не было ни единой живой души. К тому же странный голос звучал из динамиков, несомненно, из динамиков над командирским пультом. – Кто ты? – Он мертвой хваткой вцепился в поручни кресла, уставился на экран, но там по-прежнему горело: «СООБЩИТЕ ВАШ КОД». – Кто ты? «Скай»? Или «Дзета»? Четыреста тысяч километров до земного спутника и столько же – обратно. Три секунды между вопросом и ответом. – Джин-нн, – с натугой прошептал динамик. – Джинн – идентификатор, присвоенный мне Теплой Каплей. – Какой теплой каплей? Еще три секунды. Поручни гнулись под железными пальцами Саймона. – Идентификатор Теплой Капли – Сергей Невлюдов. Ты – теплый сгусток, человек. Твой идентификатор? Правый поручень треснул и отломился. Саймон с недоумением посмотрел на стальной стержень, стиснутый в кулаке. Кто говорил с ним? Кто спрашивал его имя? Кто скрывался во тьме пещеры, в коридорах, отсеках и башнях позабыто го корабля? Или в иных местах, в небесных либо земных пределах? Быть может, на Луне? Стараясь, чтобы не дрогнул голос, он вымолвил: – Мое имя – Ричард Саймон, статус – агент Центрального Разведуправления Организации Обособленных Наций. Я представляю на Земле Разъединенные Миры. Теперь ты выполнишь мою команду? Сигнал под кодом RTR – отключить. Ты можешь это сделать? Три секунды. – Я… все… могу… – отозвался динамик умирающим эхом. – Следующая ночь… Я… общаться с тобой… передать послание… Голос смолк. На экране вспыхнуло: «ОБЪЕКТ ИСЧЕЗ ИЗ ЗОНЫ РАДИОСВЯЗИ». Саймон поднялся и выключил компьютер.***
КОММЕНТАРИИ МЕЖДУ СТРОК – Светает… – сказала Мария. Небо над холмами Хаоса начало розоветь, звезды гасли, поверхность маленького круглого водоема уже не отливала угольной чернотой, ажурная крона пальмы, сторожившей ворота, казалась не сгустком мрака, а тонкой чеканкой из серебра на фоне алеющих крыльев зари. Плющ, который карабкался по стенам патио, выглядел сейчас будто застывшие океанские волны, взметнувшиеся над двориком с трех сторон; с четвертой корабельным парусом вздувался и хлопал под ветром тент. Временами порывы ветра, налетавшего с гор, стихали, и Гилмор слышал храп мужчин и легкое дыхание девушки. За ее спиной огромным бесформенным клубком свернулся Каа. – Дик обещал, что вернется с рассветом. Сколько еще осталось? Час? Полчаса? – Казалось, будто Мария успокаивает еаму себя или выплескивает беспокойство. – Но с Синей скалы непросто выбраться. Никто и не выбирался – разве на чиселицу или в яму. Так Анхель говорит. Страшно, Мигель! Анхель – это Кобелино, храпевший сейчас с Пашкой и Филином на крыше. Мария, хоть не испытывала к мулату приязни, звала его только так, по имени, и Гилмору чудились в этом ирония или какой-то тайный смысл, вложенный, разуется, не Марией, а им самим. Анхель – ангел… Однако Кобелино не был ангелом, как, впрочем, и отродьем преисподней, в которую он мог попасть лишь в качестве клиента. Но уж клиентом – непременно! Временами Гилмор размышлял, какие муки ждут Кобелино в аду: насильникам было положено бичевание, предателям – раскаленные сковородки. Возможность такой альтернативы не исключалась, хоть Кобелино, бандит и насильник, еще не стал предателем. Не стал, так станет! Он очень не нравился Гилмору. Вытянув руку, Майкл-Мигель коснулся темных волос Марии. – Не тревожься, девочка! Брат Рикардо знает, что делает. Раз обещал, значит, вернется. Солнце еще не поднялось. Он старался говорить с уверенностью, которую сам не испытывал. Конечно, звездный брат силен и ловок и обладает волшебными уменьями; с ним не сравнишь ни агентов Па-чанги, ни топтунов-бандеросов. Но он отправился в узилище почти нагим и безоружным, без чудесных устройств, вызывающих сон и отворяющих двери, без замораживающих гранат и своего волшебного браслета… Гилмор понимал, что это – не свидетельство легкомыслия, а сознание силы, но от того тревожился не меньше. Мысль его опять свернула к Кобелино. Вчера мулат явился с новостями, но брата Рикардо не застал; братРикардо, Митек Корявый, отбыв на Синюю скалу, по всей вероятности, уже трудился над тюремными решетками и запорами. Может быть, зря; может, он ничего не найдет в Старом Архиве, кроме крыс, пауков и заплесневевших бумаг. А если найдет… Это было бы чудом, избавившим его от посещения Кратеров. Подобный визит казался Майклу-Мигелю столь же рискованным, как эскапады на Синей скале. И хоть дон Грегорио от имени поделыциков и коллег гарантировал безопасность звездному посланцу, чего стоили его обещания? Во всяком случае, Гилмор им не верил – ни дону Грегорио, ни прочим донам, ни Кобелино. Он посмотрел на Марию: девушка, не отрывая глаз, следила, как над восточными холмами розовеет небо. Огромный питон за ее спиной казался россыпью тускло мерцающих изумрудов. «Мессия снова явился на Землю, – подумал Гилмор. – Правда, теперь он – не жертвенный агнец; он явился, чтобы развеять мглу забвения и покарать нечестивых. Но есть и сходство с прежним мессией: этот тоже при деве Марии и свите апостолов. Два пастуха, поэт-неудачник и бандит. Четыре, всего четыре, не двенадцать; найдется ли среди них Иуда?» Изумрудный змей вдруг поднял голову и зарокотал, повернувшись к воротам. Мария вскочила; метнулись темные пряди волос, вспыхнули зрачки, морщинки на лбу разошлись, будто смытые теплым дыханием ветра. Солнечный диск показался над холмами, в лицо девушки брызнуло светом, она зажмурилась, вытянула руки и прошептала: – Дик… Это Дик… Он обещал – и вернулся, Он ведь всегда выполняет обещанное. Верно, Мигель? – Всегда, – сказал Гилмор, вставая. Потом, сделав паузу, произнес: – Наверно, теперь он отправится в Кратеры. Ты попроси, чтоб он вернулся. Хорошенько попроси.Глава 11
Три часа пополудни. Душный влажный воздух, рев мотора, пыль и зной. Ричард Саймон, смятый лист, поникшая трава, трясся на жестком, обтянутом грубой тапирьей кожей, автомобильном сиденье. Этот транспортный механизм не был похож на привычные тачки и грузовые автофургоны. Восемь колес с широкими шинами, закрытый железный кузов со следами сварки, наверху – пулемет в лючке, одна амбразура – водителю, две боковые – стрелкам. Амбразуры были распахнуты: в передней струилась пыльная лента дороги, в правой за прибрежными скалами сияла морская даль под ярким лазурным небом, в левой неспешно сдвигались назад обвитые лианами древесные стволы, изумрудные кактусы и заросли бамбука. Солнца Саймон не видел; значит, его везли на северо-восток от Рио, вдоль побережья. К тому самому месту, где когда-то стоял монумент Жоану Мореплавателю. В Кратеры. Посланцу со звезд велели сесть под люком. Впереди, вполоборота к нему, устроился Карло Клык: широкая темная физиономия, нависшая бровь над смоляным глазом, щетинистые усы и центнер серебра на мундире. Сзади в напряженных позах скорчились трое охранников с карабинами, глядевшими Саймону в затылок. Он прикинул, что, если быстро наклониться, две пули поймает Клык, а одну – водитель. Второй раз вертухаи выстрелить не успеют – в тесной машине он мог дотянуться до каждого и погрузить мгновенно в вечный сон. Намного быстрей, чем с помощью гипнозера. И потому Ричард Саймон был спокоен; сидел, полузакрыв глаза, и размышлял о вечном. Джинн, безусловно, относился к таким категориям. Искусственный интеллект был вечной неистребимой мечтой психологов, биологов и кибернетиков, и в этом смысле двадцать четвертый век не отличался от века двадцатого или двадцать первого. Десятилетия Исхода и колонизация Новых Миров, потребовавшая титанических усилий, притормозили прогресс человечества в сфере естественных наук, сделав его более плавным, осмысленным и осторожным. Конечно, технология не топталась на месте, но приоритеты ее изменились в сторону более всеобъемлющей и общественно-полезной реализации накопленных достижений. Терраформирование миров, создание мощных установок планетарного и звездного масштаба, – энергетических модулей глобальной транспортной сети, автоматических производств, умиротворяющего, но не смертельного оружия. Все это, разумеется, при самых высоких экологических критериях – человечество, получив бесценный дар неограниченной экспансии, прозрело и не собиралось превращать обитаемые миры в подобия прежней земной свалки. В силу этих причин, а также других, весьма неоднозначных и сложных, в реальности Ричарда"Саймо-на существовали планетолеты, но не было звездных кораблей, энергия производилась путем термоядерного синтеза, а не с помощью нейтринных или кварковых генераторов, повсеместно использовались лазеры, но не аннигилирующие лучи, связь осуществлялась на радиоволнах, а не посредством телепатии. Что же касается информационных и вычислительных систем, то они стали исключительно мощными, надежными, миниатюрными и общедоступными. Это, однако, не означало, что компьютер способен конкурировать с человеком или даже превзойти его; компьютер, как и в прежние времена, оставался средством для хранения и целенаправленной переработки больших массивов информации, своего рода интеллектуальным костылем, на который мог опереться человеческий разум. Но между интеллектом и интеллектуальным костылем – большая разница. В Стабильных Мирах с высоким ИТР существовали общепланетные компьютерные сети, столь же емкие, совершенные и разветвленные, как некогда на Земле. Были и супермощные компьютеры вроде «Перикла-ХК20», способные преодолеть Первый Тест Разумности: словесное общение с таким устройством не позволяло выяснить, что собеседник не относится к человеческому роду. В этом-то и заключался вопрос; компьютер, совокупность программ, оптических и электронных узлов, производил впечатление говорящего человека, ни в коей мере не являясь человеком по существу. Сущность его была иной, и если бы он.продемонстрировал признаки истинной разумности, то разум его, безусловно, был бы отличен от человеческого. Ведь разум – производная восприятия, а компьютеры воспринимают мир совсем иначе, чем люди; ergo, всякий компьютер, мыслящий якобы как человек, неразумен. Он всего лишь подделка под интеллект человека, фантом мнимой разумности, говорящий костыль. Но Джинн не являлся ни костылем, ни фантомом, ни подделкой. Скорее он мог оказаться мистификацией, шуткой гения, приписавшего свои открытия и труды бестелесному электронному существу, которое будто бы зародилось в земных компьютерных сетях в самом начале двадцать первого века. Эта гипотеза была не лишена оснований, и Саймон, знакомый с секретным докладом специалистов ЦРУ, мог взвесить все «за» и «против». С одной стороны, Сергей Невлюдов, петербургский физик, все-таки не был гением – во всяком случае, он не проявлял признаков гениальности до тридцати трех лет, до разработки теории трансгрессии в 2004 году; сделав же это эпохальное открытие, он канул в неизвестность. Значит, ему помогали? Но кто? Пришельцы из космоса? Потусторонние силы? Или – что более вероятно – компьютерный нечеловеческий разум, с которым он установил контакт? С другой стороны, гениальность – слишком неоднозначный и сложный феномен, чтобы судить о нем с определенностью. В одних ситуациях она имела стабильный характер, не покидая благословленного ею носителя в течение десятилетий, в других проявлялась спонтанно, как вспышка, краткое или не очень длительное озарение, приводившее к кон-: кретному результату. Быть может, нечто подобное произошло с Невлюдовым? Сам он при жизни не раскрывал секрета, однако оставил компьютерный диск, найденный Саймоном на Аллах Акбаре, в сказочном подземелье эмиров Азиз ад-Дин. Текст на диске был местами испорчен, и аналитики Конторы, исследовавшие древний меморандум, не пришли к определенному мнению. Согласно этим записям, в феврале 2004 года Невлюдов вступил в контакт– совершенно случайно, в процессе текущей работы – с разумом, зародившимся в земных компьютерных сетях, с электронным Джинном, обладавшим признаками сказочного всемогущества. Невлюдов не считал этот разум искусственным; искусственной – то есть сотворенной людьми – была среда его обитания, но он возник в ней естественным путем, возможно – в результате взаимопроникновения и стремительной эволюции сотен, если не тысяч, программ-зародышей. Во всяком случае, разум Джинна не походил на человеческий, и лишь в процессе общения с Не-влюдовым он научился контактировать с людьми – собственно, с тем единственным человеком, с которым пожелал вступить в контакт. К счастью, этот человек если и не являлся гением, то был личностью интеллектуальной, отмеченной мужеством, благородством и несомненной душевной силой. Вскоре он понял, что волею случая одарен беспредельной кпастью – практически беспредельной, поскольку у Джинна имелся доступ ко всему на свете: к ядерным арсеналам и боевым орбитальным комплексам, к файлам всех секретных служб и банковским счетам, ко всем архивам и библиотекам, к оружию, к автоматическим станкам, к линиям связи, к передающим и ретрансляционным центрам. По просьбе (по приказу? или совету?) Невлюдова Джинн мог подслушать любой разговор, исказить любую информацию, предать ее гласности или скрыть, произвести диверсионный акт любых масштабов, от Хиросимы до всепланетного побоища. Не исключались и локальные акции – например, уничтожение определенных лиц лазерным лучом с орбиты. В силу перечисленного выше Невлюдов приказал (попросил? посоветовал?) Джинну не обнаруживать своего присутствия, дабы не сеять паники и не вводить людей в смертельный грех. Урегулировав этот вопрос, он занялся глобальной проблемой, достойной, как он полагал, внимания Джинна: промоделировал с его помощью развитие человеческой цивилизации в наиболее реальных вариантах. Результат был ужасающим: со стопрЬцентной вероятностью человечество погибало, не в силах развязать гордиеъ узел противоречий и конфликтов. Гибель была неизбежной; варьировались лишь сроки, от сорока до ста шестидесяти лет, и причины катастрофы: ядерный апокалипсис, неконтролируемый демографический взрыв, экологические катаклизмы, пандемия, вызванная смертоносными штаммами вирусов или психотропным оружием, анархия, коллапс и крах цивилизации под напором международного терроризма. Этот вывод, как пишет Невлюдов, поразил и ужаснул его, но в то же время инициировал вполне разумную идею: гибель неизбежна, если не откроется новый фактор, внешний по отношению к человечеству и как бы играющий роль стабилизационной прививки. Такой фактор существовал – Джинн, негуманоидное существо с могучим интеллектом, способное контролировать и управлять, а главное – рассчитывать и прогнозировать. функцию контроля Невлюдов сразу же исключил, сформулировав проблему так: разработать средство спасения, не ущемляющее достоинства, свободы и благосостояния людей. Результатом явился Пандус. Затем последовали разделение враждующих сил, равные возможности для всех в поисках новой родины, Исход, колонизация, стабильность. Это было реальностью – как для Ричарда Саймона, так и для экспертов ЦРУ, исследовавших невлюдовский меморандум. Но чем же были эти отрывочные записки? Мистификацией? Фантастической антиутопией? Философским трактатом-предупреждением? Или невероятной истиной? Еще вчера любая из этих гипотез имела право на жизнь. Но сегодня Саймон, реалист до мозга костей, признал, что время гипотез истекло. И это вдохновляло его гораздо больше, чем предстоящая встреча с донами. Пусть нынешняя Земля была всего лишь тенью прошлого – ну так что же? В ее тенях он отыскал два драгоценных дара, два сокровища, которые заберет с собой, – разгадку древней тайны и свою любовь. И хоть и то и другое нельзя было счесть военным трофеем, Саймон внезапно подумал, что каждый из этих даров украсит его Шнур Доблести – украсит гораздо лучше, чем пальцы дона Грегорио и череп Хорхе Смотрителя. Однако проблема пальцев и черепов была еще не исчерпана. Не стоило лишь выказывать к ним интерес, иначе не доберешься до Кратеров. Все-таки этот Карло Клык не полный идиот – зачем ему тащить к хозяину потенциального убийцу? Или человека, который выглядит опасным, непредсказуемым, стремительным, точно удар молнии? Саймон еще больше сгорбился, свел глаза к переносице, приоткрыл рот и позволил струйке слюны стечь по подбородку. Карло Клык с любопытством наблюдал за ним и вдруг, откашлявшись, произнес густым хриплым басом: – Чего губы развесил, выродок? Все, что ль, у вас такие? На небесах или там, откуда ты взялся, мокрица косоглазая? – Есть и посимпатичней, – пробормотал Саймон, – с губой до пупа. Но все – косые! У нас, видишь ли, жарко, народ голышом ходит, вот глаза и разбегаются. Один из охранников хихикнул, другой сплюнул. На широком лице Клыка отразилось презрение. – Значит, голышом? Потому и глаза разбегаются да слюнка капает? А вид у тебя такой, будто без костыля на бабу не запрыгнешь. Сзади заржали. Слюна бежала с губ Саймона, капая на куртку. Он вытер рот рукавом. В кармане куртки покоился томик в голубом переплете, его верительная грамота, а больше он не взял ничего, ни оружия, ни своего браслета. Он не собирался демонстрировать чудеса. В сущности, было уже неважно, признают ли доны его эмиссаром со звезд или самозванцем из Пустоши; теперь он не нуждался ни в их помощи, ни в союзе с ними, и это вселяло чувство уверенности и свободы. Карло Клык зевнул, лязгнув зубами. – Паршиво выглядишь, парень. Будто сейчас кишки через нос полезут. Удивительное дело! Не человек, чан помоев. А если верить хозяину, ты нам доставил массу неприятностей. – Я их доставлю еще больше, – пообещал Саймон, ковыряя в ухе. Ягуар-полковник Карло Клык вызывал у него не больше симпатий, чем Бучо Перес, капитан-кайман. Если б не приглашение в Кратеры, был бы сейчас ягуар-полковник покойником – может, со свернутой шеей, а может, болтался бы вместо вывески под крышей заведения Прыща. Но в данный момент Саймону приходилось соблюдать дипломатический протокол. – Я так думаю: побеседует с тобой хозяин, и загремишь в пампасы, – сказал Карло Клык. – То есть в яму, к муравьишкам. Я тебя лично подвешу, гнида инопланетная. А может, Прошке Пересу отдам. – Он прищурился, с недоверием оглядел Саймона и спросил: – Это правда, что ты ему уши отрезал? Саймон молча кивнул. – А я думаю, врешь. Я думаю, Прошку крокодавы обкорнали либо «черные клинки». Не нравится им, когда цветные в других бандеро служат. Так что я думаю… – Не думай слишком много, мозги сопреют, – сказал Саймон, посматривая в амбразуры. Дорога свернула и круто пошла вниз, к морскому берегу. На повороте стоял броневик, точно такой же, как тот, в котором везли Саймона; при нем – дюжина головорезов в синем. Еще один пост располагался за решетчатой оградой, почти незаметной на фоне зелени; за ней, над кронами пальм, дубов и сейб, виднелось белое здание с башнями, опоясанное галереей. Его построили в форме подковы, и Саймон не мог разглядеть, что скрывается там, внутри, за башнями и зубцами белых стен. Лязгая и грохоча, вздымая тучи пыли, броневик подкатил к воротам, миновал их и развернулся на площадке у неширокой лестницы. Она вела на галерею, сразу на второй этаж, а первый, как показалось Саймону, был без окон и дверей – сплошная стена, укрепленная массивными треугольниками контрфорсов. За площадкой, мощенной камнем, начинался парк с густым кустарником и деревьями чудовищной толщины; вероятно, они росли здесь еще до Исхода, и возраст этих исполинов насчитывал лет пятьсот, а может, и все шестьсот. Саймон подивился, отчего такую редкость не вывезли на Южмерику, затем припомнил, что в минувшие времена Бразилия считалась бедной страной; большинство ее городов, культурных и промышленных объектов были трансгрессиро-ваны службами ООН в кредит, при содействии Германии и Швеции. Похоже, на древние парки кредит не распространялся. Задняя дверца машины распахнулась, охранники полезли наружу, и тут же, словно из-под земли, рядом с ними появился еще десяток вертухаев. Отборные качки: все – плечистые, рослые, в синей униформе, с гербом смоленских на обшлагах – старинной серебряной пушкой. – Выходи, слюнявый, – буркнул Клык, подталкивая Саймона в спину. Охранники окружили его стеной. Сгорбившись в их плотном кольце, Саймон видел лишь затылки да фуражки, а поверх них – облако в небе, похожее на раскрытый веер. Под облаком серой черточкой парила птица; кажется, королевский гриф. Карло Клык зашагал к лестнице, стражи, тесня Саймона, Двинулись за ним. От раскаленных камней под ногами и белых стен тянуло жаром, но сквозь палящие знойные волны Саймон ощущал иное тепло, живое, словно резиденция дона смоленских была переполнена людьми. Кто затаился в этом гадючнике, в этой крысиноя норе? Кто поджидает пришельца go звезд, оскалив клыки и выпустив когти? Впрочем, дурные предчувствия не беспокоили Саймона; неторопливо взбираясь на галерею, он размышлял о другом. Его миссия подходила к концу, и оставалось лишь убедиться, что никаких неприятных накладок под занавес не будет. Он знал, что радиосвязь в ФРБ и ЦЕРУ, не говоря уж о прочих странах, находится на самом примитивном уровне. Крымская обсерватория скорее всего превратилась в руины, как и другие храмы наук и искусств, и ни один человек на всех земных континентах не смог бы припомнить параметров блокирующего сигнала или собрать автоматический передатчик помех. Это являлось хорошей гарантией невмешательства – до тех пор, пока на Землю не перебросят пеленгаторы и батальоны десантников на боевых космолетах. Но была еще лунная станция, была «Полтава» и был компьютер «Скай», отнюдь не превратившийся в развалину. Знают ли доны об этом? Помнят ли? И если помнят, что они могут сделать? С одной стороны, ничего; между смутными воспоминаниями и осознанными действиями лежала трехвековая пропасть невежества. С другой – над пропастью был мост; Джинн не отказался общаться с людьми, и он вроде бы не требовал от них верительных грамот. Возможно, для полной гарантии невмешательства стоило б вырезать всех донов со всеми чадами и домочадцами, но Саймон, рассмотрев эту мысль, отбросил ее. Плохая власть предпочтительней безвластия, садист-диктатор лучше, чем анархия, а хунта соперничающих тиранов вполне сравнится с таким диктатором. Само собой, понятия «предпочтительней» и «лучше» являлись относительными и измерялись в человеческих жизнях, сожженных городах, разрухе, разорении и хаосе, который мог бы воцариться в ФРБ. Новый Передел, только без лидеров и главарей, а значит, самый жуткий, самый кровавый. Лестница кончилась; его повели по галерее к проходу в башне. Саймон начал постепенно выпрямляться. Плечи его чудесным образом раздвинулись, глаза перестали косить, шаг сделался твердым, вялые мышцы обрели упругость. Теперь он был выше охранников на полголовы, и это давало определенное преимущество: он мог рассмотреть решетку ограды, дорогу, что круто поднималась вверх, деревья и заросли кустов внизу. Кустарник, подступавший к стенам здания, выглядел густым, непроницаемым для глаз; деревья, большей частью дубы и сейбы, казались зелеными облаками, приникшими к земле; ограда была высокой, метров пять, но поверх нее тянулись, переплетались и скрещивались мощные толстые ветви. Отличный путь к отступлению! А если вспомнить про броневик, дежуривший у поворота… Сиденья в нем не слишком мягкие, но пулемет и броня компенсируют неудобство, решил Саймон и ухмыльнулся. Охранники замедлили шаг. Саймон вскинул голову: у арки, что вела в башню, стояла девушка и о чем-то спорила с Клыком. Говорили они тихо, но ягуар-полковник при этом брызгал слюной и яростно жестикулировал – так, что витые шнуры на его мундире прыгали вверх и вниз. Девушка казалась спокойной. Она была очень красива – светловолосая, высокая, стройная, с холодноватыми серыми глазами. Дочь Грегорио, решил Саймон, наблюдая, как повелительным взмахом руки она прервала речь полковника. – Расступитесь, парни, – велел Клык, поворачиваясь к вертухаям. – Хозяйка желает взглянуть на косоглазую немочь. Бабье любопытство. – Тут он пристально уставился на Саймона и пробормотал: – Вроде ты подрос, слизняк. И глаза уже не разбегаются. А? – С чего им бегать? Тут все одетые, – сказал Саймон, разглядывая девушку. Она тоже смотрела на него – с каким-то странным выражением, будто выбирая лошадь или забавную игрушку. С полминуты они мерились взглядами, потом девушка опустила глаза, усмехнулась и отступила в сторону. Стражи в синем снова сомкнулись вокруг Саймона. Они миновали коридор под башней со спиральными лестницами и узкими зарешеченными окнами и очутились на внутренней галерее. Она тянулась просторным полукольцом вдоль всего второго этажа; стены за каменным парапетом на-клонно уходили вниз, опираясь на неширокий выступ, окружавший цилиндрическую шахту. Этот провал окаймляли исполинские деревья, за ним виднелся резной шатер беседки, повисшей на самом краю пропасти, кусты роз вокруг бассейна, каменный гребень мола и золотистый песчаный пляж. К молу были пришвартованы яхта с высокими мачтами и паровой катер, а на внешнем рейде стояло судно с очертаниями старинного дредноута – только, разумеется, поминиатюр-ней. Над ним полоскался алый вымпел с черным клинком, а еще дальше сияла сапфиром и изумрудом морская гладь, сливаясь у горизонта с лазоревыми небесами. Их нестерпимый блеск заставил Саймона прищуриться. Потом, оттолкнув шагавшего рядом вертухая, он наклонился над парапетом и заглянул в провал. Стены древнего кратера были выровнены, дно выложено серым камнем, и будто из самых каменных плит кверху вздымался десятиметровый язык пламени. Этот огненный факел слепил глаза сильнее, чем солнечный свет, гудел и обдавал жаром; над его рыжей раскаленной гривой крохотными саламандрами метались фиолетовые искры. – Топай! – рявкнул Клык. – Или ямка понравилась? Погреться хочешь? Саймон не ответил, чувствуя, как закипает гнев. Брови его сошлись в прямую линию, глаза опасно блеснули; с каждой минутой ягуар-полковник все больше раздражал его. Чем-то он был похож на капитана Мелу с Латмерики, а это являлось отнюдь не лучшей рекомендацией: года четыре назад Мела проделал дырку в плече Саймона. Остался шрам, а шрамы, по мнению тай, если и не считались позором, то уж, во всяком случае, не украшали воина. Они лишь свидетельствовали о его безрассудстве и неловкости. В самом центре галереи, за двумя широкими арками, открылся зал. Стены с бойницами под потолком, сводчатые перекрытия, дубовые двери напротив арок и пол, выстланный серым гранитом. На большом овальном столе в западной части комнаты– бокалы, запечатанные кувшины с вином, графинчики с пулькой, вазы с фруктами. У стола, в просторных креслах, сидели пятеро мужчин. Взгляд Саймона скользнул по их напряженным физиономиям – цепкий, запоминающий, узнающий. Смуглый старик с ястребиным носом и черной перчаткой на правой руке – дон Хайме-Яков по прозвищу Ума Палата. Толстый громила, заросший дикой бородой, – дон Хорхе-Георгий Диас, Смотритель. У этого глаза навыкате, губы отвисли, сальные лохмы свисают из-под чудовищных размеров шляпы. Дон Эйсебио Пименталь – непроницаемое лицо, отлитое из темного чугуна, шапка курчавых волос, широкие негритянские ноздри, рот, будто прорубленный ударом топора… Холеный молодой мужчина с тяжеловатым подбородком и расплывчатыми чертами – дон Алекс-Александр, измельчавший потомок флотоводцев по кличке Анаконда. Этот растерян, но храбрится – хмурит брови, выпячивает челюсть. И наконец, дон Грегорио-Григорий, пожилой, лысоватый, с сигарой в крепких зубах, с ледяными серыми глазами, такими же, как у дочери… «Весь крысятник в сборе, – подумал Саймон и тут же поправился: – Это не крысы, передо мной гиены». Он направился к обтянутому крокодильей кожей креслу и сел, не дожидаясь приглашения. Кресло стояло особняком, в конце овального стола, что был поближе к аркам. В проеме левой вытянулся Клык, за ним построились в шеренгу верту-хаи. В бойницах под потолком поблескивали стволы, задубелой дверью раздавались гул, лязг металла и скрип кожаных сапог. Сигара в губах дона Грегорио дрогнула. – Останешься, Клык. Людей отпусти. И пусть скажут, чтобы качки не орали. – Он кивнул на дверь. – Мои тихие, – проскрежетал старый Хайме. – Зато кретины Хорхе рвут глотки за двоих. – Главарь.смоленских отложил сигару и поднял холодные глаза на Саймона: – Ну, так кто же к нам пожаловал? Брат Рикардо-Поликарп Горшков? – Не похож, судари мои, – тут же откликнулся Хайме. – Тот, как мне говорили, пощуплее. Потоньше, значит, в кости. И не такой нахальный. – Тогда – Железный Кулак? Изверг с Пустоши? – Чей изверг? – Хайме обвел взглядом сидящих за столом. – Не наш, чтоб мне единственной руки лишиться! Был бы наш, мы бы его узнали. У Монтальвана и Трясунчика таких тоже не водилось. Может, Федькин? Из отложившихся гаучо? Или срушник? От досточтимого пана Сапгия? – На гаучо тоже не похож, слишком чистый и сытый, – возразил Грегорио. – А срушники, как всем известно, прибывают морем с севера, не с юга. Где это видано, чтоб срушник из Пустоши приехал? К тому же больно он для срушника шустрый. Те банков не грабят, да и в Озера не суются. Саймон с интересом следил за этим спектаклем. Похоже, его собирались потоптать и унизить – либо выяснить, как он отреагирует на унижение. Знакомый прием; схватки у в6-инов-тай всегда начинались с Ритуала Оскорблений и с Песен, восхваляющих доблесть бойцов. И Саймон, не разжимая губ, начал петь про себя Песню Вызова – а это значило, что дело без крови не обойдется. Тем временем беседа продолжалась. – Не изверг и не поп, – пробормотал дон Хайме, покосившись на вожака крокодильеров. Тот при упоминании об Озе-Рах начал багроветь, нетерпеливо ерзать в кресле и стискивать кулаки. Анаконда грозно хмурился, а дон Эйсебио Пименталь был спокоен, как монумент из черного базальта, прикле-бнный к креслу. – Не изверг и не поп, – пробормотал дон Хайме, покосившись на вожака крокодильеров. Тот при упоминании об Озерах начал багроветь, нетерпеливо ерзать в кресле и стискивать кулаки. Анаконда грозно хмурился, а дон Эйсебио Пименаль был спокоен, как монумент из черного базальта, приклеенный к креслу. – Не изверг и не поп, – повторил старик погромче, глядя на Саймона. – Такой молодой… юноша, можно сказать… а сколько загадок и неприятностей. – Неприятных загадок, – уточнил главарь смоленских, в свой черед рассматривая Саймона. – Есть предложения, дон Грегорио? – Разумеется, есть. Крючья в ребра, и повесить над ямой. С муравьями или с термитами. А Карло послушает, кто он таков и зачем к нам явился. Послушает и доложит. Эй, Клык! Где тут у нас подходящая яма? Дон Грегорио повелительно взмахнул рукой, и этот жест словно подбросил Саймона в воздух. Массивная столешница дрогнула, кресло отъехало в сторону, и стремительная тень, размытая, как зыбкий фантом, метнулась к арке. Мгновение, и фантом вновь обрел вещественность, размер, объем и плоть. Ричард Саймон стоял на парапете галереи, окаменев у пропасти, как статуя возмездия: ноги широко расставлены, руки подняты над головой, а в них, пойманный за шею и лодыжку, кричит и бьется человек. Секунду Саймон глядел на него, потом разжал пальцы, плюнул в огненный провал и соскочил с парапета. Руки его были пусты. Ноздри Грегорио расширились, взгляд скользнул к бойницам у потолка; чудилось, что он сейчас снова взмахнет рукой – и над столом прошелестит свинцовый ливень. Анаконда судорожно сглотнул, свирепое лицо Хорхе налилось кровью, чернокожий Эйсебио усмехнулся, и лишь старый Хайме не утратил спокойствия – сидел да почесывал запястье под черной перчаткой. Саймон вернулся на место и подмигнул дону смоленских. – Подходящая яма нашлась. Жаль только, без крючьев и муравьев. – А ты, юноша, не промах, – задумчиво протянул Хайме. – Ловко ты его на небеса переселил! Карлу, то есть! Выходит, и сам ты оттуда. Отстрельщик! А я-то думал, на небесах сплошное милосердие и благодать. – Смотря по обстоятельствам, – откликнулся Саймон, поискал что-нибудь подходящее в изречениях Чочинги, не нашел и буркнул: – С волками жить – по-волчьи выть. Хайме понимающе усмехнулся. – Значит, все на тебе, юноша? Огибаловские отморозки, люди Эйсебио за Негритянской рекой, крокодильеры, побитые в Харбохе, катер «торпед» у Сгиба. Все на тебе? И банк, и Трясунчик, и Озера? Саймон хотел было кивнуть, но тут с дальнего конца стола послышалось громоподобное рычанье. Хорхе Смотритель медленно освобождал задницу из кресла, топорщил бороду, тряс щеками; его багровое лицо перекосилось, из горла вырывался яростный хрип. – Так это ты! Ты! Ты, сучара! Я тебе матку выверну! Пальцем сделаю, шиздец! Ты, ублюдок, перебил моих парней! Ты разорил мои фермы! Ты ворвался в мой дом! Ты… Крокодильеру не хватило дыхания, и он смолк, судорожно глотая воздух и выпучив глаза. – Согласен, я все это сделал, – признался Саймон с чарующей улыбкой. – Но, как сказано выше, виноваты обстоятельства. Мне хотелось, чтобы вы – вы все, – он обвел взглядом сидевших за столом, – обратили на меня внимание. А также отнеслись к тому, что будет мною сказано, со всей серьезностью. – Сядь, Смотритель! – дон Хайме лязгнул протезом. – Не ты один пострадал, и об этом мы потолкуем отдельно. Может, и убытки возместим. Как считаешь, Сильвер? Грегорио, переглянувшись с Анакондой, склонил голову. Он уже выглядел невозмутимым, будто Карло Клыка никогда и не было на свете: во рту дымится сигара, крупные белые кисти лежат на столешнице, в глазах – холод и лед. Саймон заметил, что дон смоленских, старый Хайме и вожак «штыков» устроились по одну сторону овального стола, как бы демонстрируя некий тройственный союз; Пименталь сидел напротив них, а Хорхе – посередине, в дальнем конце. Сейчас он, что-то гневно ворча, опустился на место. Кресло скрипнуло под его тяжестью. – Значит, не брат Рикардо, не дон Железный Кулак, а все-таки Ричард Саймон, – произнес главарь смоленских. – Я рад, что мы установили это с минимальными потерями. – Он бросил взгляд в сторону парапета, за которым исчез Карло Клык. – Так что же нам скажет Ричард Саймон, посланец небес? О чем поведает? И что попросит взамен? – «Полтаву», – вымолвил Саймон, стараясь не упускать из виду всех пятерых. – «Полтаву»! На бородатой роже Хорхе отразилось недоумение, Эйсебио равнодушно зевнул, дон смоленских пожал плечами, а рот старого Хайме скривился в насмешливой улыбке. «Они ничего не знают, – подумал Саймон, – ничего не знают, ничего че помнят и ничего не могут». – «Полтава» – реликвия семьи Петровых-Галицких. – Дон Грегорио приподнял бровь. – Спроси у Анаконды, где она и что с ней. Может, он и отдаст. Алекс с хозяйским видом откинулся на спинку кресла. – Зачем тебе «Полтава»? Хочешь срушникам подарить? Калюжному, Морозу и Сапгию? Чтоб они бляхов растерли в пыль? Или забрать с собой на звезды? У вас там, похоже, старая рухлядь в цене! Саймон сделал неопределенный жест, пробормотав что-то об исторических раритетах и музейных ценностях. – Хочешь – забирай, амиго, – равнодушно отозвался Алекс. – Если есть что забирать. Посудина третий век гниет в пещерах под Фортом, и думаю, там не осталось ничего, кроме ржавого дерьма. Ее еще домушники замуровали, они о прошлом не любили вспоминать. Замуровали, а перед тем содрали все, что подходило для переплавки. Все, до последнего болта! «Вот тут ты ошибаешься, амиго», – мелькнуло у Саймона в голове. Скорчив разочарованную гримасу, он принялся повествовать о Разъединенных Мирах, процветающих под эгидой ООН, о России, Южмерике и других планетах Большой Десятки, о колониях и независимых поселениях, о Транспортной Службе и межзвездной связи, о прогрессе и просвещении, о святых идеалах демократии и справедливости, о равенстве и свободе и о своих полномочиях. Он должен был определить для этих людей свое место в мире, в той человеческой Вселенной, что лежала за пределами Земли и о которой они не знали ничего – почти ничего, кроме смутных воспоминаний о временах, когда люди отправились к звездам. Речь его длилась минут пятнадцать, и под конец он рассказал о передатчике помех, а также о собственной миссии, помянув недобрым словом предков срушников и бразильян. Пятеро слушали в полном молчании. Хайме кривил тонкие губы, Анаконда хмурился, а лица дона Грегорио и Пименталя, сидевших напротив друг друга, были непроницаемы, словно они играли в странную игру: каждый старался выглядеть равнодушнее, чем его визави. Что касается главаря крокодильеров, то он по-прежнему наливался кровью, бросал на Саймона злобные взгляды и шарил у пояса, отыскивая то ли нож, то ли кобуру с револьвером. – Выходит, ты наш благодетель, – наконец прокаркал старый Хайме. – Мне-то чудилось, что затевается Передел, что дон Железный Кулак – или братец Рикардо? – посягает, так сказать, на государственные основы. – Хайме повел руками, будто заключая в объятия своих коллег. – А тут – святое дело: вредную машинку отключить, дверку в небеса открыть, а за дверкой той – сплошное процветание и братство. Благодетель, как есть – благодетель! Ну, представим, отключишь ты эту машинку и станет Земля открытым миром. И что же? Чем это нам грозит, кроме процветания и братства? Саймон бросил на стол книжицу в голубом переплете. – Вот Конвенция Разъединения, принятая в двадцать первом веке, в период Исхода. Ее никто не отменял, все статьи действуют до сих пор, так что с вами поступят по справедливости. По закону! – По какому закону? – поинтересовался Сильвестров, выпуская сизое колечко дыма. Старый Хайме придвинул к себе книгу, раскрыл посередине и начал перелистывать, придерживая страницы затянутым в перчатку протезом. – Не там, – подсказал Саймон, – в самом начале. Часть первая, статья первая. В ней говорится, что каждый народ, любая группа людей и даже отдельная личность имеют право на государственное самоопределение – пока и поскольку такое право не ущемляет интересов и прав других народов, групп и личностей. Алекс хмыкнул и усмехнулся, Хорхе Смотритель запустил пятерню в дикую поросль на подбородке, а темное лицо Эйсебио сморщилось в недоверчивой гримасе. Дон Грегорио спросил с оттенком высокомерной брезгливости: – Это значит, что любой ублюдок, любая распоследняя «шестерка», может сотворить свою страну? И жить по собственным законам? – Вот именно. Если не нарушены права других людей. Старый Хайме, изучавший книгу, постучал по странице согнутым пальцем. – Так здесь сказано, судари мои. Может, чушь или вранье? Так сказать, разваристая лапша – либо в миске, либо на ушах. – Ни то и ни другое, – возразил Саймон. – Любой человек в Разъединенных Мирах имеет право выбрать планету и занять ее для проживания – всю целиком или какую-то часть, остров либо континент. Эта территория считается его собственностью, а планета получает статус Мира Присутствия. – Однако… – начал Сильвестров, но Хорхе, метнув на него испепеляющий взгляд, проревел: – Прикрой пасть, Живодер, и дай спросить другим! – Этот, – он ткнул толстым корявым пальцем в Саймона, – говорил, что на звездах кантуется уйма народу. Тридцать шесть миллиардов, так? И что же, каждый кретин и бездельник может обзавестись планетой? И выйти в короли? Либо в императоры? – С точки зрения закона – именно так, – пояснил Саймон. – Однако колонизация требует средств, как и оплата лицензии на владение, оформляемой Службой ООН. Это не каждому по карману. Приобрести снаряжение и оплатить транспортные услуги, а также работу специалистов, которые исследуют новый мир и признают его безопасным. Деньги, благородные доны, большие деньги! Так что Миров Присутствия не слишком много – не больше пятисот. К тому же есть еще одно обстоятельство… – Саймон помедлил, пытаясь сообразить, какие доводы поймут собравшиеся здесь гиены. – Видите ли, по причинам, известным лишь богу, люди тоскуют в одиночестве. Людям нужны не только близкие – семья, друзья, приятели, но и другие люди, которых они совсем не знают и с которыми, возможно, никогда не встретятся. Странно, но это так. Люди нужны друг другу – даже в том случае, когда контакт, непосредственный или косвенный, отдаленный, причиняет им страдание. Это… – Это понятно, благодетель, – прервал дон Хайме, грохнув о стол протезом. – Причины не только богу известны. Кому нужна планета без людей? Империя без подданных? Мир, где властвуешь над самим собой и поедаешь самого себя? Это не истинное могущество, а самообман, пустота! Люди нужны друг другу, чтобы сильные могли править слабыми, а слабые – подчиняться сильным. Вот и весь секрет! Отчасти это было верно, и Саймон промолчал. Все пятеро уставились на него: дон Хайме – с хитрым прищуром, Сильвестров – со своей обычной высокомерной миной, Эйсебио и Хорхе – подозрительно, как две гиены, готовые разом наброситься на добычу, а Алекс Анаконда – с какой-то непонятной ревностью, проистекавшей, возможно, оттого, что они с Саймоном были почти в одних годах, а значит, являлись во всем соперниками. В делах войны и мира, любви и власти. Наконец Грегорио напомнил: – Мы говорили о самоопределении и Мирах Присутствия. Что дальше? Что с ними происходит? – Со временем они получают статус Колоний -через столетие иди раньше, когда в них наберется пять-шесть миллионов жителей. Я, – Саймон коснулся груди, – увидел свет в таком колониальном мире и сохранил его гражданство. Колонии и Миры Присутствия находятся под эгидой ООН, однако их контролируют не слишком жестко. А позже, если развитие мира стабильно, 6н превращается в Независимый, полностью автономный, обладающий членством в ООН, что гарантирует ему суверенность и защиту от внешней агрессии. – Саймон помедлил мгновение и бросил гиенам кость: – Земля могла бы стать подобным миром. Триста лет – достаточный срок, а население здесь, я полагаю, несколько миллионов. – Значит, мы могли бы сохранить автономию? – спросил Анаконда. – И мы, и ЦЕРУ, и бляхи, и даже эмиратские? Согласно этому гнилью? – Он небрежно коснулся выцветшего голубого переплета. – Теоретически да. Если Служба Планетарных Лицензий ООН выдаст вам необходимый документ. – Саймон тоже кивнул на книгу. – Смотри часть вторую, статью пятую, раздел семнадцатый – порядок приобретения лицензий и заселения планет. Анаконда раздраженно дернул щекой. – Какая лицензия? Какой документ? Этот мир уже заселен! И он – наш! – Вы ошибаетесь. Лицензия у вас отсутствует, а это значит, что вы находитесь здесь незаконно. Бюрократические игры никогда не прельщали Саймона, однако сейчас он был готов отдать им должное. Все эти тонкие нюансы и интриги, статьи, разделы, правила и дополнения к ним, а также дополнения к дополнениям делали ситуацию неопределенной, и их великий смысл заключался в том, чтобы держать клиента в напряженности, в зависимости от чиновников. В данный момент он сам являлся таким чиновником-бюрократом, а клиенты, пять матерых гиен, сидели перед ним с вытянутыми лицами. Наконец Хайме прервал молчание: – Мы можем получить лицензию? Купить ее? Заплатив серебром, медью, камнями? Нефтью или другими энергоносителями? Саймон кивнул. – Не исключено. Возможно, ее вам выдадут, возможно – нет. Форма и способ оплаты – не главное; вам придется доказать, что на Старой Земле царит порядок и соблюдаются права личности. Это необходимое условие -смотри часть вторую, статью пятую, раздел девятнадцатый. Для проверки на Землю будет направлена инспекция ООН, а также… – Инспекция! – дон Хайме фыркнул. – Любит инспекция камешки и серебро? Тогда мы с ней договоримся! – …а также Карательный Корпус, – закончил Саймон, и в комнате повисла тишина. Потом Анаконда переспросил: – Какой корпус? – Карательный, – Саймон ласково улыбнулся. – Спецподразделения ООН. Десяток крейсеров класса «Байкал», сотня планетарных заградителей, ракетная сеть «Апокалипсис», разумеется, десантные батальоны, тысяч пятьдесят солдат, «саламандры», вертолеты, разрядники, импульсные пушки, боевые газы, ну, и мои коллеги из ЦРУ. Может, мы с вами еще свидимся, благородные доны? Я такой надежды не теряю. Хорхе вскочил, стиснул кулаки, но дон Грегорио повернулся к нему и, не выпуская из губ тлеющей сигары, прошипел: – Спокойно, Смотритель, спокойно! Дослушаем до конца. Не пускай пену, ты не в лагере крокодильеров. Здесь все решается по уму. – По уму? Спокойно? – Щеки Хорхе вновь налились злым горячечным румянцем. – Я вас всех по уму успокою! Всем кишки выпущу и глотки перережу! И тебе, Живодер, и Хаиму, и Анаконде! А прежде – ему! Вот так! – Он ткнул пальцем в Саймона, чиркнул по шее ребром ладони, но все-таки сел, глухо бормоча: – Газы… пушки… напугал, щенок!.. Я вас всех… всех… – Это всегда успеется, сокол ты наш, – проворковал дон Хайме, словно не ему обещали выпустить кишки и перерезать глотку. – Сильвер-то прав: надо бы до конца дослушать. Ведь интересно! Этот юноша та-акие вещи говорит! – Он повернулся к Саймону: – Значит, перед лицензией нас осчастливит Карательный Корпус. Ну а если мы ее не получим? Или не захотим получить? – Тогда вы лишитесь покровительства ООН, и занятые вами территории окажутся под юрисдикцией государств, которые ими владеют, – сообщил Саймон. – Напомню, что эти страны никуда не исчезли, они существуют там, среди звезд, – он поднял глаза к потолку, – а это значит, что Сибирь со всем Байкальским Хуралом принадлежат России, земли так называемого ЦЕРУ – Украине, а ваша территория – странам Южмерики. Но я полагаю, что они, учитывая национальный момент, передадут свои полномочия России. – России-матушке… – с насмешливой улыбкой протянул Хайме. – И чем она одарит своих блудных сыновей? – Карательным Корпусом, разумеется. У русских его называют иначе, но суть все та же: инспекция, умиротворение, порядок и закон,, а уж потом – процветание и братство. – Саймон встал, сделал три шага к галерее, полюбовался на пламя в кратере и сообщил: – Россия – великая держава, лидер Большой Десятки, опора ООН, столп демократии и законности. Россия очень дорожит своим авторитетом, и русские очень не любят гангстеров. Если они здесь появятся, я думаю, что всех вас ждут Каторжные Миры. Скорее всего, Колыма. Минус сорок, бодрящий ветер с заснеженных гор и прелестные виды на айсберги и ледники. Молчание. Тишина. Лишь негромко гудит газовый факел в кратере. – Любопытно… – пробормотал Хайме, – оч-чень любопытно… И все потому, что у нас нет этой треклятой лицензии? – Увы! – Саймон развел руками и хотел добавить, что гиенам лицензий не выдают, но Хорхе, стукнув по колену кулаком, разразился проклятиями: – Срань тапирья! Гнида, шиздец, ублюдок позорный! Хочешь нас за яйца подвесить? – Это точно, – произнес Саймон с сознанием выполненного долга. – Уже подвесил! И тут поднялся дон Эйсебио Пименталь. Вожак «черных клинков» был худым, высоким и безбородым. Крупная голова в завитках темных волос, выпуклый лоб, плотно сжатые губы, широкие, слегка вывороченные ноздри, кожа цвета эбенового дерева. Он являлся типичным чернокожим, и предки его, должно быть, обитали где-нибудь в Камеруне, Габоне или Заире. Но говорил он на русском с такой непринужденной легкостью, что не было сомнений – этот язык для него родной. – Я слушал и молчал, – произнес Эйсебио Пименталь. – Слушал, как этот гринго со звезд смеется над вами. Вы еще этого не поняли? Пора бы! Он добивался встречи – зачем? Чтобы выклянчить «Полтаву»? Чушь! Правду он не сказал, но причина была. Была, а теперь ее нет. Он что-то выяснил или что-то нашел без нас – что-то такое, что делает его хозяином положения. Зачем же он явился? Посмеяться над вами и напугать вас – вот зачем! Вас, не меня! – Темные зрачки Пименталя сверкнули, взгляд обежал сидевших за столом. – Все вы тут гринго, проклятые гринго, как этот чужак со звезд, и Все вы – такие же чужаки! Вас не звали сюда, но вы пришли на нашу землю, покорили наш народ, отняли наш язык, растащили наших женщин по своим постелям и нарожали ублюдков. И теперь эти ублюдки думают, что сделались тут господами! А это не так, совсем не так. Он, – Пименталь кивнул на Саймона, – принес вам возмездие. Вам, не мне! Я не боюсь. Я – бразилец, вы – бразильяне! «Очень яркая речь, – подумал Саймон, – этому дону Эйсебио не откажешь в здравом уме и проницательности! Был бы он так же хорош и в прочих делах». Однако в прочих делах Эйсебио не отличался от остальных гиен; был он, в сущности, рабовладельцем, пил из своих невольников кровь и превращал ее в бочки с бензином и мазутом. Он не заслуживал снисхождения, – Дон Пименталь прав, – произнес Саймон, – он – человек местный, можно сказать, бразильский абориген. Ему придется вступить в контакт с бразильским Карательным Корпусом, а это значит Северный материк Тида. Я там бывал. Очень приятное место! Экстремальный тропический климат, сернистые дожди и любопытные местные реликты. Птеродактили, драконы, левиафаны, акулоиды. Кстати, они не делают различий между бразильцами и бразильянами. Снова повисла тишина. Потом Хорхе Смотритель засопел, полез за пазуху и вытащил свисток на прочной железной цепочке. – Кончать надо гада, – пробормотал он, прилаживая свисток к отвислым губам, – кончать, и все дела. Сейчас я вызову парней, скрутим гаденыша – и к Озерам! Не все еще зверюшки перебиты, десяток-другой остался. Вот им ублюдка и скормим, медленно, по кускам… – Только свистни, – Сильвестров покосился на бойницы у потолка. – Я тоже свистну, и поглядим, чьи парни круче! Забыл договоренность? Так я напомню: здесь мои режут, а у Озер – твои! – Если вообще стоит резать, – пробормотал дон Хайме и поднялся. – Вот что я вам скажу, судари мои: не разойтись ли нам с миром? Ты, Смотритель, к Озерам езжай, зверюшек своих кормить, Алекс пусть отправляется в Форт, а Пимену прямая дорога в Разлом, коли он нас так не любит. А я здесь останусь, у дона Грегорио. Останусь и потолкую с нашим юным благодетелем. Может, и договоримся. Старик ухватил Саймона под локоть здоровой рукой и подтолкнул к галерее. Вероятно, ему доверяли – не как личности или главе дерибасовских, а как самому хитрому и прожженному из всей пятерки, как человеку, способному отстоять общий интерес. Оглянувшись через плечо, Саймон увидел, что доны и в самом деле расходятся: Анаконда и Пименталь молча направились к дверям, Сильвестров с Хорхе шли за ними, о чем-то яростно споря. В амбразурах у потолка больше ничего не поблескивало, зато в комнате появились молодцы в синей униформе и начали прибирать стол. Ни один кувшин не был вскрыт, и Саймон заметил, что прочее угощение тоже осталось нетронутым. – Ну, благодетель, каковы впечатления? – Хайме искоса взглянул на него, сделал паузу и, не дождавшись ответа, произнес: – Что, ни впечатлений, ни выводов? А ведь ты встречался с могущественными людьми! По крайней мере, в этой части света. Или мы тебе не интересны? Или Пимен прав – явился ты взглянуть на нас и посмеяться, припугнуть крейсерами и этим… как его… апокалипсисом? Тоже могучие штучки, согласен, очень убедительные. Так не твои ведь! Здесь, – Хайме кивнул на кратер с огненным факелом и простиравшийся за ним сад, – здесь, на Земле, ты большой человек, а там, – он показал глазами вверх, – там ты «шестерка». Даже не мытарь и не бугор, а так, перхоть. Исполнитель приказов, которого всякий пахан в вашем ведомстве имеет право отдраить с песочком. – Старик резко повернулся к Саймону. – Или я ошибаюсь? Но я стар, мудр и разбираюсь в людях. Ты не пахан. Однако и не «шестерка». Ты – отстрельщик! – Вот это в самую точку, – согласился Саймон, усмехаясь. Представилось ему на миг, будто рыжий Дейв Уокер драит его с песочком, как бывало не раз и как, несомненно, случится в будущем. Потом он примерил к своей Конторе местную терминологию и вконец развеселился: получалось, что Уокер – паханито. Леди Дот – пахан, а директор ЦРУ носит титул самого большого дона. Страж общественного здоровья… коллега Грегорио Сильвестрова, живодер! – Смеешься? – произнес дон Хайме с легкой ноткой обиды в голосе. – А ты не смейся, сударь мой, не смейся, ты мозгами раскинь да шевельни, и поймешь тогда пару нехитрых истин. Всякий отстрельщик желает заделаться бугром, всякий бугор – паханом; на том мир стоит, что тут, у нас, что У вас на звездах. Я говорил, что здесь ты – большой человек, однако иметь могущество и насладиться им – разные вещи. Ты его имеешь, и оно не в ракетах и крейсерах, коими ты грозил, оно в твоей силе и ловкости, в твоем искусстве убивать и даже в том, что ты добрался до Земли. Добрался первым! И оно сохранится, пока ты здесь один, пока не сдал нас вашим донам, которые пришлют сюда карателей-"шестерок" и бугров-инспекторов. Тогда твое могущество исчезнет, лопнет, ибо ты станешь одним из многих, не самым важным и не самым главным – просто стрелком, которому отдают приказы. Ты упустишь свой шанс повластвовать! – Внезапно старик приподнялся на носках и прошептал на ухо Саймону: – Наш союз можно скрепить. Крепко-накрепко! Девчонку видел? Дочку Сильвера? Хороша кобылка, а? Хочешь ее? Саймон задумчиво оттянул губу. – Ходят слухи, ее обещали Анаконде? И сам Анаконда вроде бы нужен Грегорио? – Нужен, ха! – фыркнул старик. – Внукщрму нужны, наследники, а от тебя он их скорее дождется, чем от Алекса. Бери девку! – Он игриво пихнул Саймона локтем в бок. – Бери! Вместе с бандеро «штыков». Будешь новой Анакондой… Что до Алекса, так мы его укоротим ровно на голову. Давно пора. Вырождается их семейка, ни разума прежнего, ни твердости. Саймон неопределенно хмыкнул, затем поинтересовался, искоса поглядывая на старика: – Верно ли, что Грегорио любит свою дочь? – Не меньше, чем власть, благодетель. А власть – этакий сладкий пирог, даже для однорукого старца на краю могилы. – Протез дона Хайме лязгнул и пронзительно заскрипел. – А для молодого власть слаще во сто крат! Власть – когда люди тебя боятся и славят, когда мужчины идут за тобой, а женщины жаждут твоих объятий, и все они тебе покорны, все преклоняются перед тобой и готовы оправдать любое твое деяние; одним ты даруешь жизнь, у других отнимаешь ее, но тебя не перестанут славить и благодарить. Власть означает… – …что я могу надругаться над всякой, женщиной и бросить кайманам любого мужчину, – закончил Саймон и пробормотал на тайятском: – Чтоб твои внуки не дожили до дневного имени! Чтоб ты лишился всех пальцев, старый шакал! Чтоб сдох ты в кровавый закат! – Ты о чем? – Хайме поглядел на него в удивлении. – О том, что стрелок тоже имеет власть над жизнью и смертью. Его оружие – его власть, и другой мне не надо, дон. Так что, выходит, мы с тобою не сторговались. Он был равнодушен к власти. Эта концепция была неизвестна народу тайят, ценившему совсем иное: покой в землях мира и доблесть в лесах войны. Доблесть, не власть, приносила славу, число побежденных врагов умножало ее, а не рабская преданность тех, кого удалось бы подмять под колено; доблесть воины-тай ценили превыше всего, а власть – в том смысле, в каком они ее понимали, – считалась забавой женщин. Помимо того, Саймон преодолел и более сильное искушение, чем соблазн власти – на Сайдаре, в Закрытом Мире, где миллионы спящих ждали Божьего Суда и грезили во сне, неотличимом от реальности. Он мог бы остаться там, в саркофаге, под бдительным оком гигантского компьютера, и тоже видеть сны, карать иллюзорных врагов, спасать невинных, защищать обиженных, всегда побеждать и никогда никуда не опаздывать. Вот это было искушение! А власть его не соблазняла. Протез скрипнул, и старик, развернувшись на каблуках, заглянул Саймону в глаза. Кожа на его лице обвисла, зрачки сделались угольно-черными и колючими, а на поверхности желтой склеры выступила сеть кровеносных сосудов. Взгляд Хайме был страшен – взгляд вампира, узревшего осиновый кол. – Значит, не сторговались? А хочешь вернуться на небеса? Живым? Так это надо заслужить. А если ты отключишь растреклятый передатчик… – В пыль сотру, – прервал его Саймон. – И не боишься, что мы тебя тоже – в пыль? – Вряд ли получится. Я – мирный человек, но не трусливый, – сказал он вслух, а про себя добавил на тайятском: – «Крысе не угнаться за гепардом». – Вряд ли, – согласился Хайме со вздохом. – Уж больно ты прыткий, благодетель! Приходишь, как дуновение ветра, уходишь… – …как его тень, – договорил Саймон. Дела его были закончены, и, выяснив, что желал, он мог уйти, исчезнуть, раствориться зыбкой тенью среди деревьев, трав и скал. Удобный момент, подумалось ему, а тело уже взвилось над парапетом, над провалом кратера, над огненным фонтаном, что шелестел и гудел у него под ногами. Он соскользнул вниз по шершавой, слегка наклонной каменной стене, приземлился у самого края пропасти, стремительно обогнул ее, балансируя на узком карнизе, и скрылся в кустах за угловой башней. Старик, торопливо шагнувший к перилам, уже не увидел его и не заметил, как где-то всколыхнулась ветвь и раздалась трава под сильным гибким телом. Тень пришла, тень ушла… – Ловок, – пробормотал дон Хайме с невольным восхищением, – ловок, благодетель, и хорошо обучен. Ну, не всем же быть такими ловкими! Из тех, кого ты ценишь, кем дорожишь. А такие есть, есть! Ты не в пустоте живешь, сударь мой. Поищем, кого-нибудь и найдем. Еще раз осмотрев кусты, он подтянул перчатку на протезе и возвратился в комнату.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК, – Я не сумел его купить, – сказал Хайме, хмурясь и поглаживая переносицу. – А жаль! На месте Алекса он бы вполне смотрелся. Или на месте Хорхе. – На любом из мест, только под нами, – заметил Грегорио. – И я его туда поставлю! Не уговорами, а силой! Старик бросил взгляд на мрачное лицо дона смоленских. – Твои люди уже в Хаосе? Кого ты послал? – Бучо Переса. Хаос в его округе, пусть он и шевелится. Исполнит с толком, получит бригаду Клыка. Ведено, чтоб всех схватил живьем. А в первую очередь – девку. Видишьли, там девка есть. Большой козырь, Хайме! – Этот повел? Монтальвашкин отморозок? – Он. – Долго пришлось уговаривать? Сильвестров загадочно усмехнулся. – Не слишком. Выбор-то невелик: или живешь, пьешь и жрешь, или жрут тебя. В яме. Они обменялись понимающими взглядами – словно пара грифов, в согласии поделивших добычу. Потом Хайме спросил: – Веришь, что Он – оттуда? «Он» и «оттуда» было выделено, а поднятые к потолку глаза явственно намекали, где лежит загадочное направление. – Почему бы и нет? – отозвался дон Грегорио, пожимая плечами. – Когда-нибудь это должно было случиться, и я доволен, что случилось сейчас. Мы кое-что узнали, пусть даже половину или четверть правды. Пусть сотую часть, но самую важную: до нас никому не дотянуться. Никому, пока работает передатчик! Где бы он ни был, он работает, Хайме, а значит, мы в безопасности. Никаких карателей и крейсеров, ни пушек, ни солдат. Чем Он еще грозил? Апокалипсисом? Ничего и никого не будет! Только агенты-одиночки. А с ними мы справимся, ибо предупреждены. И можем предупредить ЦЕРУ. – Если будет кого предупреждать после нашествия Хурала, – вымолвил Хайме. Протез его скрипнул, будто аккомпанируя резкому хриплому голосу: – Кстати, ты бы поостерегся, милостивец мой. Этот Рикардо – не из «шестерок». Слишком силен и крут! Схватим его людей, так он совсем осатанеет. Не ровен час, заявится к тебе… – Заявится, – кивнул Сильвестров. – Куда ж ему идти? Заявится, и потолкуем. Поговорим насчет его приятелей и девки. Только тут их держать не надо. Может, к себе на остров заберешь? – Хорошая идея. Заберу, – согласился Хайме. Потом хлопнул себя ладонью по лбу: – Знаешь, Сильвер, а вдруг он все же выключит треклятый передатчик? Хоть эта девка будет у нас и все его приятели… Не худо бы подстраховаться. Скажем, свой передатчик соорудить, э? Дон Грегорио снисходительно усмехнулся. – А ты знаешь, как это делается? Какой сигнал посылать и куда? К тому же я думаю, что если Он еще не добрался до передатчика, то дело это непростое. Очень непростое! А может, и нет у нас никакого передатчика. Кто его видел? Где он? Откуда мог взяться в ФРБ? Я еще понимаю, у срушников, где-то под Харьковом или на севастопольской базе. Старый Хайме кивнул. На лбу его пролегли глубокие складки, рот приоткрылся, а веки опустились, притушив возникший в глазах блеск. Он размышлял минуту, другую, и дон Грегорио, не прерывая тишины, сверлил его взглядом, но терпеливо ждал. Иногда размышления Хайме бывали такими плодотворными. Наконец старик поднял голову и буркнул: – Похоже, Он прокололся, Сильвер. Крупно прокололся. Насчет того, где этот передатчик. Помнишь, Он про «Полтаву» спрашивал? Спрашивал, ведь так? На кой она ему сдалась? Как думаешь? Вот Путь Шепчущей Стрелы, прямой и быстрый: стремительно мчится она к цели, поет, рокочет, шелестит, и несет ее ветер и сила натянутой тетивы. Ее оперенье – из крыльев орла, наконечник заострен и выкован из железа, тело выточено из твердой древесины таг, и потому летит она стремительно и прямо. В наконечнике – щель; мчится стрела, рассекая воздух, и шепчет, шепчет, шепчет… О чем? Узнаешь, когда она вопьется в твое сердце. Из Поучений Чочинги КрепкорукогоЧасть V. ПУТЬ ШЕПЧУШЕЙ СТРЕЛЫ
Глава 12
Саймон кружил по пепелищу, осматривая мертвых Сюда, на фазенду в Хаосе, он добрался часа за четыре и шел по лесу уже в темноте, ведомый безошибочным чутьем охотника. И то же чутье нашептало ему о несчастье: он различил запах гари, увидел протоптанный в джунглях след, но не услышал привычного верещания обезьян. Вокруг царила тишина. Ворота, что вели в патио, еще тлели, пальмовый ствол был посечен пулями, на месте циновок и тента на деревянных столбиках кружился на ветру пепел, дом и конюшня зияли провалами дверей и окон, и тянуло из них мерзкой гарью, порохом и бедой. Саймон, шепча сквозь зубы проклятия, ринулся в дом, разыскал тайник в погребе, нацепил на запястье браслет, сунул за пояс «рейнд-жер», подхватил сумку с драгоценный маяком; после зажмурил глаза и задышал – глубоко, размеренно, втягивая ноздрями пахнущий дымом воздух. Он не погрузился в транс, но смог успокоиться за пару минут, ибо спокойствие было сейчас необходимо; прежде всего – спокойствие, потом – горе и мысли о мести. Выбравшись наружу, он прошелся лесом вдоль стены, подсвечивая узким фиолетовым лучом. Следов здесь хватало – и на земле, и на траве, и на коленчатых стволах бамбука. Судя по отпечаткам сапог, пришедшие двигались двумя отрядами; один направлялся к воротам, другой – к восточной стене, и в каждом было не меньше двадцати бойцов. Очевидно, планировалась внезапная атака, когда защитники не успевают схватить оружие, но что-то не получилось: из дома тоже стреляли, и стреляли метко – Саймон нашел засохшую кровь на камнях, измятую траву, поломанный бамбук и трупы в синей униформе. Трое легли у ворот, а остальные ворвались во двор – десятка полтора против двух защитников, Филина да Пашки. Гилмор оружия не любил и не умел стрелять. Правда, еще оставался Каа… Осмотрев догоравшие ворота, Саймон двинулся к восточной стене, атакованной вторым отрядом. Тут, в зарослях, тоже валялись мертвые тела – изуродованные, с расплющенными черепами и дырами, зияющими меж ребер, проломленных чудовищным ударом. Разглядывая примятую траву, он выяснил, что люди шли цепочкой через лес, и первая пятерка уже подобралась к стене, как сверху обрушилось нечто. Нечто, убившее четверых, не человек, создание иного рода, молниеносное и могучее, с гибким изумрудным туловом л головой-тараном. Безмолвное, как полагается в бою – но атакованные им кричали от ужаса и боли. Громко кричали и не могли приблизиться к стене – минуту, больше? Столько, что Пашке и Филину хватило времени, чтобы добраться до карабинов. Четыре трупа в синем валялись под стеной. Луч, протянувшийся от браслета, высветил отпечатки на земле, и Саймон полез в кусты – туда, где Каа настиг и прикончил пятого. Этот раскинулся на спине, его голова, забинтованная от уха к уху, была вывернута под неестественным углом, зрачки закатились, и только глазные яблоки слепо белели на темном лице. Бучо Перес, капитан-кайман. Скрипнув зубами, Саймон поднял окольцованную браслетом руку, освещая ближний куст. Под ним, с полураскрытой пастью, вытянувшись во всю Длину, лежал питон; клыки его светились россыпью лунных камней, но чешуя не блестела, а казалась, зеленовато-серой и тусклой. Его изрешетили пулями, а потускневшая кожа в нескольких местах была рассечена ударами мачете. – Пусть Четыре звезды освещают твой путь в Погребальные Пещеры, – пробормотал Саймон сдавленным голосом. – Пусть Четыре прохладных потока омоют твои раны, и пусть Чочинга, Наставник воинов, простит меня-за то, что я не сумел сберечь его посмертный дар. Он сделал ритуальный жест прощания и направился к воротам. Глаза его были сухими. Чочинга говорил: день не видит слез воина, ночь не слышит его рыданий, и лишь в краткий миг рассвета могут увлажниться его глаза – в тот час, когда он вспоминает павших родичей. Рассвет еще не наступил, и плакать было рано. Во дворе Саймон насчитал пять окоченевших трупов в синих мундирах. Огромное тело Филина было придавлено рухнувшей стеной у маленького бассейна; кровь еще сочилась из разрубленной шейной артерии, неторопливо стекая в воду. Рядом, откинувшись на камни, сидел Майкл-Мигель в своем щегольском белом костюме. Его лицо, запрокинутое к звездному небу, казалось умиротворенном, под левой ключицей по ткани расплылись темные пятна, руки, бессильно брошенные на колени, стискивали карабин. У ног Гилмора, уткнувшись в землю, лежал человек – не в синем мундире смоленских, а в полотняной рубахе, штанах и стоптанных сапогах. Саймон перевернул покойника, поглядел на выпученные глаза, тонкую нитку усов и залитый кровью рот – пуля вошла Кобелино под челюсть, разворотив затылЬк. Он пробормотал проклятие, повернулся к Майклу-Мигелю, осторожно освободил оружие из окостеневших пальцев, понюхал – пахло порохом. Значит, Гилмор стрелял? Защищая себя или Филина? Или кого-то другого? Расстегнув окровавленный белый пиджак, Саймон поша-рил под рубахой Мигеля, вытащил толстую, пробитую пулей тетрадь, раскрыл наугад и прочитал: Мне уже однажды умирялось, Но совсем уйти не удалось. Я живу. Но Там душа осталась… – Но Там душа осталась… – повторил он вслух и прикрыл веками мертвые глаза Мигеля. Тел Марии и Пашки нигде не было, и Саймон, обыскав конюшню, дом и двор, полез на крышу. Пара мертвецов валялась у нижней ступеньки, еще двое – на лестнице, а наверху обнаружился только один труп, обгоревший до неузнаваемости – кожа на лице полопалась и почернела, волосы рассыпались в прах, и только на затылке – там, где голова прижималась к черепице – торчали жалкие рыжие клочья. Еще Саймон увидел оскаленный Пашкин рот, простреленные ноги стиснутые кулаки, мачете, зажатое в правом, страшную рану поперек горла и карабины: один – под телом Пашки, второй, с серебряной фигуркой ягуара на цевье, – поодаль. Здесь, как внизу во дворике, бились не на жизнь, а на смерть: кто-то перезаряжал оружие, Пашка стрелял, а когда кончились патроны, вытащил клинок… Саймон поднял мачете, заткнул за. пояс, потом опустился на колени и разжал левый Пашкин. кулак. На ладони пестрела тряпица, цветной обрывок, истлевший по краю клочок знакомого женского платья – будто бы женщину тащили, а Пашка, вцепившись в подол или рукав, не пускал. Пока его не кольнули в горло. «Они защищали Марию, – подумал Саймон, вставая с колен. – Каа – тот защищал всех; но Гилмор, Филин и Пашка дрались за нее. За нее, не за себя. И она сражалась тоже. Этот второй карабин, мой карабин, он был в ее руках. Где же она?» У него перехватило дыхание, но рассвет еще не наступил, и глаза Саймона оставались сухими. Сухими, как дно безводного колодца, как русло древней реки в пустыне, как кратер, занесенный песком, как пепел надежд, сгоревших в кострах смерти. Ричард Саймон, воин-тай, Тень Ветра из клана Теней Ветра, запрокинул голову, посмотрел на звезды, сиявшие над Хаосом, и запел Прощальную Песню. Пел он на языке тайят, и временами песнь его казалась то рыком разъяренного гепарда, то звоном боевой секиры, то шелестом стрел, буравящих воздух. Голос его был громким и не дрожал. Когда он добрался до склада Пако у пятого причала, уже рассвело. Живодерня при въезде в город стояла пустой и тихой, но на Аргентинской улице были явные следы побоища: окна в «Красном коне» и похоронной конторе осыпались грудой стекол, двери, столы и гробы были продырявлены, и; всюду валялись покойники в синем. Саймон заглянул в подвал, но там не нашлось ни бочек с пивом, ни мешков с песю-ками – и то, и другое было заботливо эвакуировано, как и бронеавтомобиль, который он угнал из Кратеров прошлым вечером. Машине полагалось находиться во дворе, между пиг-тейным и похоронным заведениями, под защитой крепких ворот-однако сейчас ворота были распахнуты, на земле отпечатались следы покрышек, а по обе стороны от них холодели трупы. Вероятно, здесь поработал пулемет броневика, и это вкупе с остальными признаками свидетельствовало, что Пако выиграл битву и отступил со своими людьми не суетясь, в полном порядке и добром здравии. Картина разгрома не удивила Саймона. Трудно поверить, чтобы предавший не предал до конца, а это значило, что обе его опорные базы, в Хаосе и в «Красном коне», подвергнутся нападению. Но Бучо, капитан-кайман, пошел не сюда, а в Хаос, не за похищенными деньгами, за девушкой… Выходит, Мария для дона Грегорио была дороже песюков, и это вполне укладывалось в общую схему. Схема же оказалась простой и древней, как мир: чтобы приневолить сильного, бей тех, кто ему дорог. Неуязвимость – в одиночестве, но одиночество лишь синоним опустошенности и рав(одушия, противных человеческой природе; равнодушный не может стать защитником – и, следовательно, самый могучий и самый искусный защитник уязвим. Не в первый раз Саймон обдумывал этот парадоксальный вывод, то упрекая себя в ошибке, то уговаривая смириться с естественным ходом событий, разрушивших его неуязвимость. Однако можно ли считать ошибкой, что он приблизил к себе Марию и Майкла, Проказу и Филина, что эти люди стали ему дороги, вошли в его сердце?.. Разум подсказывал, что он виноват, что он принес им несчастье и гибель, но чувство говорило, что существуют вещи похуже смерти. То же одиночество, например, или ужас вечной несвободы, пытки и страх перед небытием. Вернувшись на улицу, Саймон уселся в лиловый автомобиль, оглядел глухие равнодушные фасады домов, беленые стены и запертые двери. Пошарил за пазухой и вытащил тетрадь Майкла-Мигеля. На этот раз она открылась на строках: Ничто во мне не дышит, не поет, Не плачет, не стучит – окаменело. Покажется – обычное, мол, дело, Коль жизнь внезапно покидает тело… Он захлопнул тетрадь и запрокинул голову: звезды меркли, небо начало сереть, а луна, склонившись к горизонту, походила на ущербный, полупрозрачный и туманный круг. Слишком поздно для рандеву с Джинном. Да и подходит ли для этого ночь печалей и смертей? В гавань, решил Саймон, в гавань. К пятому причалу. Туда, куда отступил Пако – на заранее подготовленные позиции. В гавани постреливали – Сергун, при поддержке Хрипатого и Моньки Разина, вышибал с кораблей смоленских, а из пакгаузов и складов – дерибасовских. Эта операция началась без ведома Саймона и могла завершиться полным уничтожением «торпед», ибо за правящим триумвиратом еще сохранялось преимущество в силе, организации и технике. Но боевые действия шли вяло. Карабинеры «штыков» и большая часть синемундирных в них не участвовали вообще – охраняли городской центр, дороги и побережье в районе проспекта Первой Высадки. Ходил упорный слух, что Хорхе намерен покинуть Озера и ворваться в Рио со своими крокодильерами – с одной стороны, чтоб поддержать порядок, с другой – чтоб посчитаться с Железным Кулаком, с «торпедами», с пришельцами с небес и всеми остальными обидчиками. В предчувствии бурных событий народ по-прежнему утекал из Рио на Плоскогорье, дон Алекс Петров-Галицкий выставил усиленные караулы на стенах Форта, а дон Эйсебио Пименталь отбыл в Разлом на бронированном дредноуте. Что же касается дона Антонио Монтальвана, то он, несмотря на серьезность ситуации, кутил и объезжал кабаки, в каждом производя инспекцию – как за столами, так и в постелях. Эти и другие новости Пако Гробовщик вывалил на Саймона, прихлебывая пиво, почесывая лысину и ковыряясь в тарелке ножом. Он устроился на мешках с песюками, а вокруг, под деревянной кровлей просторного склада, ели и пили его молодцы, поминали геройски погибших Пехоту и Шило, Скобу и коротышку-бармена, хвастались, кто и сколько прикончил синезадых и скольких уложит в следующий раз, когда дон Кулак поведет их громить живодерни. Временами то один, то другой из пирующих падал на бетонный пол или лицом в тарелку, и речи его сменялись сочным храпом; таких под улюлюканье и гогот оттаскивали к стене. Веселье длилось не первый час; воинственно лязгали затворы и сверкали клинки, пот струился с красных разбойничьих рож, пиво лилось рекой, но пили не все – десяток головорезов сгрудились У броневика, стоявшего в распахнутых воротах. За ним виднелся пирс, уходивший в море на сотню шагов, массивные тумбы причалов, два паровых катера, запорошенных угольной пылью, шхуна с голыми мачтами, другие, пирсы, баркасы и парусники, а вдали, у горизонта, – ослепительно яркий солнечный край. Саймон подумал, что завтра пейзаж здесь будет другим. Если в ближайшую ночь он доберется до передатчика – разумеется, с помощью Джинна, – то завтра у этих пирсов будут покачиваться серые туши десантных «акул», в небе будут кружить «ведьмы» и «бумеранги», а над ними, где-нибудь у границ стратосферы, зависнет звено «байкалов» или «синих призраков». Железная длань закона накроет ФРБ, и это будет означать конец. Конец Переделам и сварам, властолюбивым ублюдкам, Разлому, Озерам и Кратерам… Пако поерзал на тугих мешках. – Совсем осатанели синезадые. Это ж какой беспредел – «Коня» разгромить! И с чего бы? Ну, в гавани драчка случилась, Сергун сцепился с вертухаями, а у нас все тихо было…Тишина, как в раю, когда господь садится на горшок! Никто и мысли не имел, что старый Пако, подручный монтальваш-кин, серьезным делом занят. Ну, там в Озерах пошуровать или в подвалах Богадельни. Однако выследили! Может, тому вертухаю, которого ты обкорнал, чего удалось разглядеть? Э? – Пако поскреб лысину, покачал головой. – Но это вряд ли: притащили в мешке и утащили в мешке. Кто ж тогда навел? – Кобелино, – сказал Саймон. Придвинув к себе тарелку, он вытащил нож и начал есть, отхватывая мясо крупными кусками. Гробовщик скривил тонкие губы. – Кобель? Вот скользкое дерьмо. Должно быть, песюками соблазнился или бабой. Падок на баб, стервец! Да и на деньги. Должно быть, долю отторговал у синезадых из похищенного. Только он не из моих парней, Кулак. Он вроде бы твой… – Был мой, да весь вышел. – Ну и ладно! Убытков он нам, пожалуй, не принес. – Пако погладил мешок, и тот откликнулся довольным звоном. Смотря какие убытки, мелькнула мысль у Саймона. Про убежище в Хаосе Пако не знал, как и про убытки, понесенные там, о коих Саймон не собирался ему рассказывать. Зачем? Пако был не из тех людей, с которыми можно поделиться горем или оплакать погибших. – Холера и Пономарь тут, – заметил Гробовщик, прожевав ломоть говядины. – Новые приходили. Клещ с Фокусником, просились под тебя. Еще Номер Десять заявился. Говорит – только свистни, всех штычков на Северной дороге в расход пущу и встану там насмерть со своими парнями. Они, дон, крокодавов боятся, а «штыкам» и вертухаям не доверяют. Сколько раз бывало: пойдет грызня промеж больших банде-росов, а шкуру лупят с вольных. – С невинных, – уточнил Саймон, думая о беженцах, тянувшихся с рассветом к плоскогорью Серра-Жерал по Западной дороге. Потом мертвое лицо Майкла-Мигеля всплыло перед ним, он увидел обгоревший Пашкин труп, тело Филина, заваленное камнями, и повторил: – С невинных! – Ты о «шестерках», э? – Гробовщик, глотнув пива, по-двинул кувшин Саймону. – Так разве они невинные? Они -"шестерки", а это великий грех! Потому их и бьют. А мы теперь – бандеросы. Железные Кулаки, мы сами умеем бить. Сначала – других бандеросов, потом – тех же «шестерок». – Пако погладил лысый череп и резюмировал: – Так что, дон, давай-ка пошлем за Бабуином, а как он подвалит из лесов, займемся живодернями. Еще бы с Фортом совладать. Возьмем его, и город – наш! – Возьмем, – согласился Саймон, прикидывая, как бы использовать этот благой порыв на пользу делу. Дело, не считая свидания с Джинном, оставалось только одно, последнее -найти Марию и забрать ее с собой. Он полагал, что ее припрятали в городе или в окрестностях, возможно, в Кратерах или на Синей скале, но где-то неподалеку. Искать ее наугад было бессмысленной тратой сил и времени, и от него, конечно, ждали иных, более разумных, действий: контакт, переговоры, соглашение и, может быть, капитуляция – смотря уж по тому, насколько ценный приз достался похитителям. Против контакта и соглашений Саймон не возражал, но собирался выставить свои условия. Игры в заложников были опасной затеей, и здесь, на этом ристалище угроз и шантажа, дон Гре-гОрио был уязвим в такой же степени, как Ричард Саймон. Прекратив жевать, он наклонился к Пако: – Пошли гонцов к Бабуину. Всех, кто еще придет, принимай – Клеща, Фокусника и остальных. Проверь, как у них с оружием. Если чего не хватает, добавь из наших запасов. Пусть готовятся. Ударим завтра, по всем живодерням сразу. – Лучше бы ночью, э? Ночка – время темное, разбойничье… – …и потому мы займемся Фортом, – продолжил Саймон. – Ночью, ровно в два часа, ты должен быть в море у подножия Синей скалы. Там камень есть – большой, с трещинами по краям, похож на осьминога. Я буду ждать на этом камне, а ты придешь на катерах. Два катера, сорок бойцов, четыре пулемета и проводник. Насчет катеров договорись с «торпедами». С Сергуном. Пако кивнул: – С ним-то я договорюсь. А вот проводник откуда возьмется? Да и зачем он? – Ты ведь не собираешься маршировать к воротам или лезть под пулями на скалу? – Пако снова кивнул. – Так вот, мы пойдем иной дорогой. В утесе есть трещины: одни кончаются тупиками, другие ведут в пещеру, а из нее подземными проходами можно попасть наверх, к Архиву и тюремным ярусам. Наш проводник… – Постой-ка, дон! – Глаза Пако блеснули, и он в возбуждении схватил Саймона за плечо. – Ты откуда об этом знаешь, э? Ежели есть такие проходы, то оних лишь «штыкам» известно! И не простым, а паханам да самому Анаконде. Я вот жизнь в Рио прожил, сорок пар сапог стоптал, а о пещере под Синей скалой слыхом не слыхивал! Вытянув руку с браслетом, Саймон продемонстрировал его Гробовщику. – А про такое ты слыхивал? Однако работает. Вспомни Богадельню! – Работает, – внезапно остыв, согласился Пако. Лицо его опять сделалось невыразительным, незаметным, и только между бровей пролегла глубокая складка. – Работает, – повторил он, – а как и отчего, я и подумать боюсь. Не мое это дело, э! Ты – дон, я – пахан, ты – командуешь, я – навытяжку. Значит, два катера, сорок бойцов – и в пещеру?.. – Сперва в трещину. В какую, знает проводник. Ты его жди, его вечером привезут на пятый пирс. А если не привезут, то проводник уже со мной. Садитесь в катера и отправляйтесь в море. Ясно? – Ясно, дон. Проводника я как узнаю? – Узнаешь! – Саймон усмехнулся. – Девица будет у нас в проводниках. Волосы – темные, длинные, глаза – карие, стройна и собой хороша, но пуглива. Не ровен час, кто из твоих ее обидит. На собственных кишках повешу! – Присмотрим. – Пако отпил из кувшина, прищурился и задумчиво молвил: – Девка, значит… Ну, тогда дело понятное. Говорили мне, «штыки» любят баб не меньше покойного Кобеля, а где бабой запахнет, там секретов не сохранишь. Баба, она сегодня к одному мужику прислонится, завтра – к другому. А ты, Кулак, из видных мужиков! – Верно мыслишь, – сказал Саймон. – Я умею уговаривать девушек. Он поднялся и, обогнув броневик, вышел за ворота к своему автомобилю. Солнце уже поднялось, огненным оком нависло над бухтой набережной, брошенной пыльной подковой за пирсами и складами. В дальнем ее конце, на площади, серой громадой торчала Богадельня, за ней мотались по ветру зеленые лохмы пальм, виднелись кровли и белые стены старого города, вздымал купола собор, а еще выше, на фоне аметистовых волн и прозрачной небесной голубизны, плавали башни Форта. Утес, который подпирал их, казался сейчас не синим, а угольно-черным, угрюмым и грозным; его основание, выступавшее в море, окаймляли жемчужные ожерелья пены. Несколько мгновений Саймон глядел на скалу, потом уселся за руль и спрятал лицо в ладонях. Спать ему не хотелось; он мог обходиться без сна по двое-трое суток, лишь временами отдыхая в кратком забытьи цехара. Но в эти минуты он не нуждался в отдыхе. Ярость клокотала в нем, фантомы разрушения и смерти проносились под сомкнутыми веками; он видел то развалины замка в Кратерах, то огненный факел, пожирающий донов, то Форт, взлетающий в воздух в ослепительной вспышке взрыва, то озера пылающей нефти и стаи кайманов, которые рвали людей со знакомыми лицами – дона Грегорио, старого Хайме, Хорхе и прочих, ненавистных и омерзительных, точно клыкастые тайяхатские крысы. Зная, что ярость – плохой советчик, он дал ей выплеснуться, перегореть, рассеяться; потом глубоко вздохнул и вызвал другую картину. Перед ним, будто видимый с высоты, простирался Рио,.стиснутый меж Хаосом и морем, с лабиринтом нешироких улиц и серыми лентами дорог. Одна уходила на запад, к Плоскогорью, отделяя изумрудные джунгли Хаоса от маисовых полей, фруктовых рощ, ферм и строений пригородного кибуца; другая вела на север, к Параибе, Озерам и городу Рог-Гранде. Эту магистраль проложили на возвышенности, рядом с рельсовыми путями, однако она была не единственной: от нее ответвлялся еще один тракт, прямой, тянувшийся ближе к морю, почти незаметный в густой прибрежной сельве. Но Саймон ясно видел его мысленным взором, как бы превратившись на краткий миг в парящую над лесами и холмами Птицу. Дорога в Кратеры! Она врезалась в его память, будто впечатайная голографическим сканером. Каждый спуск, поворот и подъем, абрис береговых утесов, тени, протянувшиеся от них, дубы с приметными кронами и развилка, где стоял вчера броневик и где остались лежать охранники в синем. «Если обойдется без происшествий, можно доехать часа за четыре», – подумал Саймон, коснувшись рычагов. Автомобиль взревел и ринулся к набережной. Без происшествий не обошлось. На Северной дороге, у выезда из города, боевики «штыков» резались с толпой оборванцев – те, очевидно, ударили в заставу, обойдя ее кривыми улочками окины. Выстрелов слышно не было, только звенели мачете да жужжали метательные ножи; один из них пролетел над головою Саймона, проткнув горло зазевавшемуся карабинеру. Нападающие всех цветов кожи, лохматые и бородатые – щеголяли в жутких отрепьях, но у каждого на рукаве имелась повязка с изображением кулака, и Саймон понял, что это – его люди. Вернее, они считали себя таковыми; видимо. Номер Десять не стал дожидаться, пока ему свистнут, и занялся «штыками» всерьез и в меру собственного разумения. Беженцев на Северной дороге не оказалось, так как бежать к Параибе, в пасть обозленным крокодильерам, решился бы только безумец. Одноколейный рельсовый путь тоже выглядел пустым, но это не было признаком бедствия – состав с пассажирами и грузами ходил из Рио в Рог-Гранде один раз в сутки, одолевая шестьсот километров ровно за двадцать четыре часа. Саймон не удосужился узнать, какой из кланов контролирует железные дороги; может, ими владел все тот же Хорхе Смотритель, и сейчас из Рог-Гранде катили платформы с вооруженными людьми в широкополых шляпах. Но это относилось к области догадок, а вот патруль – четыре всадника на разномастных лошадях – являлся фaктoм вполне реальным. Завидев машину, крокодильеры открыли огонь, Саймон резко свернул к обочине, приглушил мотор и скатился с сиденья в бамбуковые заросли – не такие густые, как вокруг разоренной фазенды Пачанги, зато с шипастыми кактусами, торчавшими среди зеленых коленчатых стволов. Колючий шар ужалил его в поясницу, другой, пронизав шипами грубую ткань куртки, впился в бок, но Саймон терпел и молчал, не шевелясь и старательно изображая покойника. По дороге, все ближе и ближе, цокали копыта, и ему не хотелось, чтобы патрульные снова начали стрелять, изрешетив автомобиль. Лиловый лимузин был самым быстрым средством передвижения, а в данном случае – единственным и жизненно необходимым; крометого, Саймон чувствовал, что привязался к нему в гораздо большей степени, чем к колумбийским глайдерам и вертолетам. Все-таки этого монстра он захватил в бою и ездил в нем не один – с Мигелем, Пашкой и Филином, а главное – с Марией! – Фартовая тачка, – послышался голос с дороги. – А мясо где? Мясо куда отвалило? В кусты? Другой, коротко хохотнув, пробасил: – Может, сдохло, а может, сидит в кустах и гадит. Счас проверю, Пахарь, и счетец будет ноль-один. Не люблю оставлять свидетелей. – Я тоже, – пробормотал Саймон, поднимаясь. «Рейнджер» с негромким гулом дернулся в его руке, потом испуганно заржали лошади, грохнули копытами о землю, кто-то захрипел, падая с седла, кто-то, захлебнувшись кровью, вы-. крикнул проклятие, и наступила тишина. – Счет четыре-ноль. – Вложив пистолет в кобуру, Саймон направился к машине, проверил, что сумка с маяком цела, и включил мотор. Поворот на приморскую дорогу, которой его везли вчера, был уже рядом, метрах в трехстах. Охраны здесь не обнаружилось, только торчал посередине фанерный щит с эмблемой смоленских – старинной пушкой на колесном лафете. Саймон притормозил, соображая, не разнести ли фанерку в клочья, потом, усмехнувшись, аккуратно объехал щиток. Пушка не вызывала у него раздражения. В конце концов, он сам имел право на этот герб, принадлежавший его родному городу, и если как следует разобраться, права его были неоспоримы. Во всяком случае, они представлялись более вескими, чем у дона Грегорио или, скажем, у покойного Карло Клыка. Но гербы в отличие от людей не склонны к персональному волеизъявлению; люди выбирают их, позорят или покрывают славой, чернят и золотят, и случается так, что грозный лев становится символом мира, а древние знаки звезды и креста – синонимом ужаса. Размышляя на эту тему, Саймон проехал километров сорок, потом загнал машину в лес, укрыл под плотным пологом лиан, а сумку, где хранились маяк и тетрадь Майкла-Мигеля, закопал под корнями развесистой сейбы. Грохочущий автомобиль был слишком заметным и шумным, и хоть в Кратерах наверняка ждали гостей, все же оповещать о них не стоило. Как говорил Чочинга, тихий клинок выпьет больше крови. Он двигался по лесу, торил дорогу меж стволами дубов и сейб, проскальзывал под лианами, огибал заросли – серая мелькающая тень среди других теней, коричневых, лиловых, зеленоватых. Эта чаща не походила на тайяхатские джунгли, полные опасного и хищного зверья; здесь самым смертоносным обитателем был ядовитый паук-птицеед, самым быстрым – обезьянка-сапажу, а самым сильным – древесный удав. Кроме них, тут в изобилии водились птицы: сине-желтые ара с черными полосками вокруг глаз, туканы с чудовищными клювами, большие пестрые голуби, стайки невесомых колибри – совсем крохотных, темно-зеленых, и покрупнее, с золотистым металлическим отливом. Саймон, окунувшись в это щебечущее, чирикающее, свистящее птичье царство, заметно повеселел, потом на глаза ему попался удав-констриктор, свисавший с ветки, серый с белыми пятнами и совсем не похожий на Каа – но все-таки змей. Губы у Саймона дрогнули, он вытянул руку, коснулся холодной гладкой кожи и произнес традиционное пожелание: пусть не высохнет кровь на твоих клыках! Лицо его снова сделалось мрачным; ему подумалось, что сказанное не имеет смысла – констриктор в отличие от Каа не рвал добычу зубами, а заглатывал целиком. Полдень настиг Саймона с сотне шагов от решетки, что разделяла лес и парк, окружающий Кратеры. Впрочем, разделение было условностью; растительность по обе стороны ограды казалась такой же дикой, буйной и неистовой, деревья – такими же огромными, а птичий хор – таким же оглушительным и звонким. Уцепившись за лиану, Саймон полез на дуб с черной морщинистой корой, затем перебрался на другое гигантское дерево, путешествуя с ветви на ветвь на головокружительной высоте. Солнце жгло его обнаженную шею, теплый ветерок раскачивал ветки, пошевеливал листву, и он скользил все дальше и дальше, сообразуясь с этими раскачиваниями, подрагиваниями и шевелениями – не человек, а призрак, порыв налетевшего с моря бриза. Ограда осталась внизу – он прошел над ней по ветви, похожей на мохнатое изломанное щупальце с десятками покрытых листьями отростков. Ветвь под ногами была основательна и неподвижна, ветки-отростки шумели и трепетали, скрывая его путь. Он двигался к белому зданию на побережье, к замку с невысокими башнями, глядевшими друг на друга через огненный провал; он уже мог различить его плоскую кровлю, зубцы ограждающего парапета и темные фигурки часовых. Над крышей поднимался пар – видно, ее поливали водой, чтоб охладить нагретые солнцем камни. В полупрозрачном белесом мареве фигуры стражей расплывались, как восковые статуэтки на раскаленной печи; воздух был густым, плотным, и даже бриз, которым тянуло с моря, скорее обжигал, чем приносил прохладу. «Сиеста, – мелькнуло у Саймона в голове. – Лучшее время для внезапных визитов. Кто может, спит в прохладе, а кто не спит, тот дремлет. Даже те, кому нельзя дремать». Он поднялся вверх по стволу, не обращая внимания на зной, стиснувший его жаркими лапами. Зной и холод, жара и стужа были частыми спутниками его работы, особенно в Каторжных Мирах – тропическом Тиде, ледяной Колыме или безводной Сахаре. Да и на прочих планетах, вполне цивилизованных и обжитых, имелись неприятные районы – вроде Восточной Пустыни на Аллах Акбаре, где у верблюдов глаза нылезали на лоб. И большая часть конфликтов, споров, драк и ссор, будто повинуясь всемирному закону подлости, случалась именно в этих районах – там, где слишком жарко или слишком холодно, слишком ветрено или слишком сыро. Саймон привык не замечать подобных мелочей. До края крыши оставалось метров восемь, главным образом – по вертикали. Расстояние прыжка, но прыгать было еще рано. Распластавшись на ветке и осторожно ворочая головой, он разглядывал крышу, кратер в полукольце огромных сейб, повисшую над пропастью беседку, кусты роз у водоема и морской берег. На берегу и в море ничего не изменилось: яхта и катер на месте, только исчез бронированный дредноут Пименталя. Над трубой катера курился дым – верный признак того, что он в любой момент может отчалить от берега. На яхте тоже разводили пары и драили палубу – не меньше двух десятков человек, на первый взгляд – безоружных. Пляж, бассейн, беседка и дорожки в розарии были пустынны, но на крыше Саймон насчитал шестерых: четверо потели у пулеметов, а двое мотались от башни к башне, тоже потели и пили воду из стоявшего у парапета бачка. Еще он заметил световые люки, застекленные, в форме призм, с распахнутыми дверцами; их было три – один, самый большой, в центре и пара по краям. Он проверил свое снаряжение – «рейнджер», широкий браслет на запястье левой руки, пара фризеров в кармане куртки и узкий, заточенный до бритвенной остроты нож ти-мару. Потом прижался щекой к грубой древесной коре и, прищурившись, взглянул на солнце. Оно было ярким, золотистым, палящим, обжигающим. Жар, огонь… Его глаза шевельнулись в орбитах – теперь он смотрел на бассейн. Вода сверкала, будто расплавленное серебро, но этот блеск ассоциировался с прохладой, с гладкой поверхностью зеркала, с тишиной и сном. Холод, покой… Взгляд Саймона двигался все быстрее, заклятье цехара, вначале негромкое, теперь отдавалось под черепом набатными колоколами. Жар-холод, вызванивал первый; огонь-покой, слышался голос второго. Жар-холод, огонь-покой… И снова: жар-холод, огонь-покой… Он погрузился в транс с привычной быстротой и оборвал заклинание на слове «огонь». Теперь он сам был огнем – яростным, хищным, необоримым; не плаибнем в очаге, а несущим смерть огнем пожарища. Его дыхание участилось, став коротким, отрывистым, но глубоким; зрачки расширились, и радужина вокруг них потемнела, сделавшись черной, как антрацит; мышцы затрепетали и налились стремительной силой. Теперь он жил, дышал и чувствовал быстрей и острее обычного человеческого существа; он мог порвать стальные епи, взобраться на отвесную скалу, убить прикосновением ладони. Убить многих – почти с такой же скоростью, как пули, но бесшумно. Он уже не был Смятым Листом; он превратился в Шепчущую Стрелу с опереньем из крыльев орла и заостренным стальным наконечником. Он был готов к бою. Оттолкнувшись от ветви, Саймон перелетел на крышу. Она тянулась стометровой подковой от башни к башне, и пулеметчики дежурили парами в разных ее концах; два наблюдателя в этот момент встретились посередине, у светового люка. Они не успели шевельнуться, как Саймон оказался рядом – смутная тень, скользнувшая в знойном, насыщенном влагой воздухе. За его спиной остались два мертвеца – лежали у пулеметной станины, распялив немые рты, взирая на небо остекленевшими глазами. Удар плотно сомкнутых пальцев в горло, хруст височной кости под ребром ладони. Движения обеих рук были одновременными: левой – выпад клинком мотуни, правой – рубящий взмах секиры канида. Быстрая смерть плюс паралич голосовых связок – ни вопля, ни хрипа, ни стона. Вернее, чем бьют пуля и нож. Подхватив тела, Саймон опустил их наземь. Кровь стучала у него в висках, поторапливала время, но время других человеческих существ было не властно над Ричардом Саймоном и потому не спешило. В дальнем конце крыши один часовой дремал, облокотившись о пулеметный кожух, второй поворачивал голову – и так медленно, неторопливо, будто шейные позвонки у него окостенели. Из раскрытого люка тянуло прохладой. Саймон, бросив туда один-единственный взгляд, догадался, что под ним – помещение охраны. Вероятно, оно граничило с залом, где совещались доны: в его стене виднелся ряд бойниц, и у каждой на деревянном помосте лежал карабин. Однако в данную минуту эта кордегардия пустовала – верный знак, что в зале тоже ни души, что дон Грегорио находится в своих покоях, в спальне либо в кабинете, а может, в ванной, бильярдной или курительной. Где конкретно, значения не имело; дон Грегорио был нужен Саймону не в первую очередь. Он метнулся к фигурам в синем, покрыв за две секунды пятью прыжками тридцать метров. Возможно, то был великий рекорд, но его не зачли бы ни на одном состязании и ни в одном из Разъединенных Миров; континуум, в котором сейчас находился Ричард Саймон, имел мало общего с обычной реальностью. В последнем прыжке он выбрал оружие – два копья цухи-до с трехгранным жалом-острием и поперечной крестовиной, какими бились в поединках окара. Собственно, полный тай-ятский боевой комплект окара включал два копья и два клинка, но у Саймона было слишком мало рук, и потому Чочинга заставлял его сражаться копьями – ведь копья все-таки длиннее мечей, и преимущество четырехрукого противника будет минимальным. Правда, в этот момент не грозные воины-тай стояли перед ним, а пара качков-вертухаев, разомлевших на солнце и неповоротливых, как крысы в мышеловке. Однако это было опасное зверье: они убивали людей, они – или кто-то из их поганой мерзкой стаи – зарезали Филина, прикончили Гилмора и Пашку. Они не заслуживали снисхождения. Резко выдохнув, Саймон выбросил руки вперед: сейчас его предплечья были древками копий, ладони – наконечниками, и их смертоносные острия вошли в живую плоть до самой крестовины. Иначе – по запястья. Он бил в живот, пониже ребер; смертельные удары для человека и тайят, поскольку восприимчивость к летальному исходу была в обоих случаях примерно одинаковой. Стремительность, бесшумность и внезапность. Все три критерия успешности атаки были налицо; внутренний хронометр Саймона отсчитал лишь девять секунд, а это значило, что у него есть прорва времени – не меньше полуминуты, пока он не выйдет из боевого транса. Задерживать это состояние на дольшие сроки считалось неразумным, так как возврат к нормальной жизнедеятельности сопровождался упадком сил, потерей зрительных и слуховых ощущений, оцепенением и холодом. Такая физиологическая реакция была короткой, но ее интенсивность определялась длительностью транса: минута – безопасный предел, две – глубокий обморок, пять – неизбежная смерть. Хронометр продолжал отсчет. Склонившись у люка, последнего из трех, Саймон увидел круглую комнату без окон, обшитую узкими светлыми досками. Прямо под люком, в пятне яркого света, находился огромный горшок с пальмой – ее листья блестели лаковой зеленью, а ствол казался рулоном мохнатого войлока. Пальму окружал кольцевой диванчик, рядом с ним на высокой треноге серебрился гонг, а больше в комнате не было ничего – если не считать обнаженного по пояс детины. Обильной Мускулистой плотью этот гигант напоминал Емельяна Косого и был, несомненно, из самых доверенных качков, хранителей спален, кабинетов и хозяйских задниц. Эта мысль еще не успела созреть и проклюнуться, как Саймон уже летел ногами вниз, целясь между диваном и необъятной спиной мускулистого стража. Он падал беззвучно, однако гигант насторожился, почуяв колыхание воздуха – мышцы его вздулись тугими шарами, рука потянулась к мачете. Но повернуть голову он не успел. Ладонь Саймона легла на его горло, другая мертвой хваткой стиснула челюсти, колено уперлось в позвоночник; мгновенье великан сопротивлялся, пытаясь разорвать захват противника, потом в спине у него что-то хрустнуло, безвольно мотнулась голова, бугры гигантских мышц опали. Опустив обмякшее тело на пол, Саймон затолкал его под диван и сверился с хронометром. Оставалось двадцать пять секунд. По одну сторону от дивана была закрытая дверь, по другую – арки, а за ними – два коридора, расходившихся под прямым углом. На первый взгляд они казались одинаковыми, но Саймон, чей нюх сейчас сравнялся с обонянием гепарда, мог различить их с той определенностью, с какой охотничий тайятский зверь распознает кабанью нору или гнездо медоносных птиц. Он замер на долю секунды, всем телом впитывая тишину, прохладу, полумрак – и запахи. Особенно запахи! В правом проходе.пахло сигарным дымом, вином и табаком, в левом – сложной смесью ароматов, душистых и опьяняющих точно в преддверии рая. Или в парфюмерной лавке. Саймон повернул налево. Дверь с затейливой резьбой. Из такого же светлого дерева, как панели в круглой комнате. Он приоткрыл ее. Мраморный пол с углублением в форме овала, блестящие бронзовые трубы и краники, большое зеркало, шкафчики на стенах. Ванная. Пусто! Вторая дверь. Просторный покой с тремя окнами на север. Пестрые ковры из шерсти альпаки, софа под окнами, изящные кресла, стол, застекленные шкафы. На столе – серебряный поднос с кувшином, в шкафах – безделушки, ларчики, фаянсовые статуэтки. Покрывала – яркие, сплетенные из птичьих перьев. С рисунком: стайка колибри над розовыми кустами. Гостиная. Никого! Он проверил свой хронометр. Тринадцать секунд, уйма времени! Третья дверь. Гардеробная. Справа – шкафы, слева – комоды и зеркала. Лампы в серебряных шандалах, гребни, флакончики, веера. Между комодами – проход, занавешенный чем-то блестящим, переливающимся. Кажется, шарики из перламутра на тонких нитях. У прохода – стул, на нем дремлет пожилая мулатка в красном платье. Сильный запах духов… Саймон бесшумно приблизился к женщине, поднес к ее лицу браслет, включил гипнозер. Тело мулатки расслабилось, голова упала на грудь; затем раздался звук, похожий на жужжание пчелы – хрр-жж, хрр-жж. Довольно кивнув, Саймон раздвинул сверкающую занавеску. Видимо, эта комната была угловой: одно узкое зарешеченное окно выходило к востоку, другое – на север. Сквозь окна сочился скудный свет, оштукатуренные стены хранили приятную прохладу, пол был выстлан шерстяным ковром – белоснежным, с синими узорами, светильники из розовых раковин тускло поблескивали под потолком, в углу, будто икона, висела сложная конструкция из перьев, жемчуга и самоцветных камней – то ли маска сказочного зверя, то ли стилизация под индейский вампум. Пожалуй, зверь, решил Саймон, заметив серебряный блеск клыков в алой щели рта. Неведомый хищник скалился над изголовьем низкого ложа. Было оно воздушным, убранным тканями, каких он еще не видел в ФРБ: тончайшим белым полотном, голубоватой кисеей и синим бархатом. В полумраке – и по контрасту с этими оттенками – кожа свернувшейся в постели девушки казалась более смуглой: волосы – яркое золото, нагие плечи и бедра – немного бледней, шея и грудь – золотисто-розовые, цвета солнечных лучей, прошедших сквозь багряное стекло. Лица ее Саймон видеть не мог – она спала, уткнувшись в подушки. Долгую секунду он любовался этим прекрасным зрелищем, представляя, что перед ним Мария. Не Курри Вамик, Услада Взоров, не Долорес Чинта, не Алина и не другие его девушки; только Мария. Она была такой же розово-желтлой и длинноногой, как эта спящая красавица, но более тонкой в кости; и волосы ее не отливали золотом, а струились, будто шелковый водопад под звездными ночными небесами. Цвет их был Саймону приятней блеска золота. Он вытянул левую руку с браслетом, отщелкнул защитный кожух над секцией, скрывавшей пульт, и сделал шаг к постели. Пальцы его заплясали по крохотным клавишам, перепрограммируя гипнозер. В обычном режиме этот прибор являлся средством умиротворения; на результат влияли дистанция и мощность импульса, и в зависимости от них человек погружался в беспробудный сон на несколько минут или часов – как правило, не более пяти-шести. Существовала возможность использовать его иначе – слабый импульс, воспринятый на близком расстоянии, инициировал длительный сон, не такой глубокий, как в первом случае, однако гарантировавший, что объект, подвергнутый облучению, будет беспомощен и недвижим. По крайней мере на сутки. Браслет пискнул, подтверждая прием команды, девушка пошевелилась, приподняла головку, открыла глаза. Саймону, все еще пребывавшему в трансе, эти движения казались медленными и плавными, словно неспешный полет сухих осенних листьев. С той же неторопливостью девушка села, отбросила волосы за спину и потянулась к висевшей над изголовьем маске. Голос ее спросонья был хрипловат. – Кто здесь? Ты, Розита? Внутренний секундомер Саймона щелкнул, в его незримых окошках вспыхнули нули. Привычным усилием он вышел из транса; мгновенный трепет мышц и слепота, обильный пот и мрак, скрывавший образы и звуки, сопровождали его возвращение к реальности. Подброшенный мысленным толчком, он будто пролетел через колодец или темный тоннель, гасивший разум и восприятие; этот полет был стремителен и краток, но, когда Саймон вынырнул из темноты, первым было ощущение опасности. Что-то сверкающее, острое, неслось к нему, разбрызгивая в полумраке вихрь радужных искр: серебряных и белых – от клинка, синих, зеленых и алых – от рукояти, украшенной камнями. Он перехватил кинжал в полете. Девушка уже сидела, откинувшись на изголовье и подобрав под себя длинные ноги; глаза ее были серыми, холодными, в правой ладони покачивалось узкое лезвие. «Волчья порода, – подумал Саймон, – из тех, кто прежде втыкает клык, а после задает вопросы». Он отшвырнул кинжал и усмехнулся. Продержать эту красотку под гипнозером еще чуть-чуть, и можно встречаться с доном Грегорио. На предмет подписания капитуляции. – Ты был здесь. Вчера. – Не вопрос – утверждение. – Зачем ты пришел? Ледяные глаза следили за Саймоном, нож раскачивался в ладони. Кого-то она ему напоминала. Предводителя смоленских, разумеется, – фамильное сходство казалось бесспорным, но не его одного. Пожалуй, Леди Дот, в юном и соблазнительном варианте. Конечно, с той разницей, что Леди Дот была неизмеримо опытней – как в обращении с ножами, так и в иных делах. Не трогаясь с места, Саймон промолвил: – Пришел взыскать долги. За убитых вчерашним вечером. Еще пришел за девушкой. Ты знаешь, где она? Тут? Пожатие плеч. Взгляд серых глаз скользнул по рослой фигуре Саймона и задержался на кобуре. – Не знаю. Но ты ведь не убьешь меня? Ты ведь не убиваешь беззащитных девушек? – Смотря по обстоятельствам, – сказал Саймон и расстегнул кобуру. Холодная ярость душила его; он представлял Марию – как тащат ее от мертвого тела Пашки, рвут платье, ломают руки, затыкают рот; он думал об ее отчаянии и страхе и знал – теперь они сильней, чем там, над темным озером, когда у ног ее кружился хоровод кайманов. Ибо потерявший надежду приветствует смерть, а тот, кто счастлив, страшится ее – быть может, не столько смерти, сколько разлуки с любимыми и близкими. Девушка моргнула; в глазах ее читался ужас. – Ты… мы… Ты мог бы взыскать свой долг иначе, не убивая меня… Поза ее изменилась, нож выпал из руки, колени раздвинулись, упругие груди с вишенками сосков приподнялись в манящем вздохе. Потом, как-то внезапно и сразу, она обмякла и повалилась на кровать. Лицо ее, искаженное страхом, уже не напоминало Саймону черты Леди Дот; страх стер красоту, хищную жестокость и самообладание. Он выключил гипнозер, завернул спящую девушку в синее бархатное покрывало, перетащил ее в круглую комнату с пальмой и опустил на диван. Затем огляделся. Сверху, из отверстия в кровле, тянуло жаром, листья пальмы чуть заметно трепетали, серебристый диск гонга, подвешенный на треножнике, медленно вращался, рассыпая по стекам яркие отблески. Саймон ударил костяшками пальцев в гонг. Подождал и ударил еще раз, сильнее. -Хип? – под правой аркой, щурясь, стоял дон Грегорио – в халате и босиком, но с неизменной сигарой. – В чем дело, Хип? – Хип приказал долго жить, – Саймон передвинулся, заслоняя лежавшую на диване девушку. – А с ним – и шестеро с крыши. Сильвестров даже не вздрогнул. Его высокомерное лицо осталось таким же невозмутимым, словно ему сообщили, что шестеро попугаев и один тукан в окрестных джунглях сожраны ягуаром. Он выпустил клуб дыма и буркнул: – Явился? Хорошо… А теми, с крыши, не пугай. «Шестерок» у меня хватает, да и качков тоже. И топтунов, стукачей, отстрельщиков. Ты ведь в этом убедился, а? Саймон молча кивнул. – А раз так, то должен понимать – мы тоже кое-что умеем. – Дон Грегорио покатал сигару между губ и вдруг ощерился в ухмылке: – Умеем! Без всяких апокалипсисов и крейсеров! А каратели у нас свои найдутся. – Не сомневаюсь. Где девушка? – Саймон сделал шаг вперед, Сильвестров – шаг назад. Вероятно, он все-таки побаивался – его лицо в полумраке коридора выглядело бледным. Однако голос главаря смоленских не дрожал. – Девушка? Хочешь ее получить? Хотя бы живой, а может, и здоровой? Тогда слушай… И убери свой нож! Саймон подкинул клинок на ладони. – Уши не боишься потерять? И что-нибудь еще? К примеру, печень? – Не боюсь. Твоя девка тоже с печенью и ушами, пока что… и кое с чем другим… Будешь послушен, все останется при ней. Договорились? – Нет, – сказал Саймон, сунул нож в ножны и отступили сторону. – Там, на диване, твоя дочь. Хочешь полюбоваться? Сигара выпала изо рта Сильвестрова, губы дрогнули – раз, другой, будто он хотел что-то выдавить, но не мог, сраженный внезапным параличом. Щеки его стремительно побледнели, кожа обвисла, плечи сгорбились, лоб пошел глубокими морщинами; казалось, за секунду он постарел лет на десять. Если любишь дочь, не воруй чужих женщин, подумал Саймон, наблюдая за этими изменениями. – Пакита… – прохрипел вожак смоленских, шагнув к дивану, – Пакита… Я тебя… на крюк за ребро… к пираньям… на кол… медленно, со смазкой… Пальцы свои сожрешь… язык проглотишь… – Спина Грегорио распрямилась, глаза стали наливаться кровью. – Что ты с ней сделал, ублюдок? – Возможно, ничего. Сейчас она спит. Будешь послушен – проснется. Ну, а в ином случае… – Саймон продемонстрировал браслет и чиркнул ребром ладони по горлу. Он блефовал, но кто на Земле мог уличить его во лжи? Во всяком случае, не дон Грегорио Сильвестров. Дон лишь глядел на него, кусая в ярости губы, потом уставился на металлический обруч, блестевший на запястье Саймона. – Спит? Из-за этого? Ваши проклятые штучки с небес? – Они самые. Теперь ее жизнь и смерть – здесь. – Саймон коснулся браслета. – Ее служанка проснется к вечеру. Ну, а она – через сутки. Может, раньше, а может, никогда – если что-то случится с моей девушкой. – Придвинувшись к дону Грегорио, он стиснул его плечо. – Ты понял, крыса? Понял? Ты знаешь, как красть, пытать, убивать, но в этом нет ничего сложного, и все это я умею лучше тебя. Намного Глучше! Вожак смоленских отпрянул, не спуская глаз с браслета. – Говоришь, проснется через сутки? А почему я должен тебе верить? Кретины в Первом Государственном проснулись наутро, так… А вот Трясунчик не проснулся! И где он теперь? Саймон пожал плечами. – Должно быть, в аду. Но ты не обязан мне верить. Хочешь, чтоб твоя дочь проснулась пораньше? Верни мою девушку. Немедленно! Сейчас! Глаза Сильвестрова были двумя озерами ненависти и страха. – Немедленно – не могу. Она у Хайме, на острове. – Связь есть? – Да. Но везти ее на самом быстром катере – пять-шесть часов. – А в Рио? – Столько же. – Выходит, – произнес Саймон, бросив взгляд на спящую девушку, – реанимация откладывается. Хороший купец держит товар на собственном складе. Мой товар пусть доставят в Рио, к пятому пирсу, и тогда ты получишь свой. Все! – Жди здесь! – прохрипел Сильвестров. – Здесь! Но Саймон покачал головой. Рио казалось ему надежней во всех отношениях, и к тому же он не мог сидеть в Кратерах до ночи. Ночью его ждал Джинн. Ночью, под Синей скалой, когда взойдет Луна… Он повторил жест отрицания и произнес: – Я ухожу. Девушку доставить в Рио. И помни, Дон: жизнь твоей дочери – здесь! Его пальцы коснулись блестящей поверхности браслета.***
КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ» СОВЕЩАНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2395 ГОДА КОЛУМБИЯ, США, ГРИН РИВЕР РЕЗИДЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ЦРУ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН Участники совещания: Директор Центрального Разведуправления Свен Андерсон Генеральный резидент ЦРУ в России Николай Москвин Генеральный резидент ЦРУ на Украине Павел Конопченко Ответственный за операцию: Эдна Хелли Данные фрагменты выбраны из полной топографической записи совещания и адекватно отражают его суть. Директор: Леди и джентльмены! Как вам известно, Россия и Украина представили в Совет Безопасности ноту, касающуюся производимого нами расследования. По их мнению, завершающая фаза операции несколько затянулась и требует более интенсивных действий. В частности, предложено отправить на Землю еще двух агентов, прошедших необходимую подготовку – Симеона Божко, кличка Казак, и Анвера Ходжаева, кличка Карабаш. Другой вариант – усилить группу еще тремя-четырьмя агентами, пока что не завершившими полный подготовительный цикл. Должен отметить, что нота указанных стран составлена в… эээ… весьма энергичных выражениях. Москвин: Разумеется. Обе страны несут убытки. По согласованию с ООН, Россия предполагает перебросить на Землю двадцатитысячный миротворческий корпус – пять батальонов десантников на крейсерах класса «Байкал», административно-дипломатическую миссию, врачей, работников социальной сферы и технических специалистов. Участие Украины планируется в аналогичных масштабах – не так ли, коллега Конопченко? – (Конопченко кивает). – Весь персонал подготовлен и ожидает отправки в течение трех месяцев – хотя, по предварительным наметкам, мы собирались завершить операцию за три-четыре недели. Конопченко: Больше двух месяцев, сорок тысяч дармоедов. Ваш человек не торопится, Андерсон. Директор: Наш человек, Конопченко. Хелли: Позвольте сделать дополнение, джентльмены. Совет Безопасности предложил нам прояснить ситуацию – иными словами, отчитаться и сообщить о наших дальнейших планах. Спрашивается, почему? Совет мог бы ответить на российско-украинскую ноту без консультаций с нами, указав, например, что столь важная и ответственная миссия требует времени. Однако ООН тоже несет убытки. ООН предполагает направить на Землю представителей Службы Статистики, Транспортной Службы, Исследовательского Корпуса и, разумеется, силы быстрого реагирования. В общем и целом, сто двенадцать тысяч человек. Они тоже ждут. Они находятся в состоянии повышенной готовности, а это очень и очень немалые суммы. И я полагаю, что Совет Безопасности запрашивает нас не для того, чтобы ответить России и Украине. Это – повод; причина же в том, что члены Совета обеспокоены. Москвин: А разве есть какая-то разница? В смысле рекомендаций, которые мы предложим Совету? Хелли: Разумеется. В одном случае мы могли бы ограничиться отпиской, в другом – обязаны представить самое серьезное обоснование принятых нами решений. ДАЛЕЕ. Следует дискуссия, в которой участники совещания в той или иной степени выражают согласие с мнением Эдны Хелли. Конопченко предлагает исключить из протокола выступление Хелли – на том основании, что анализ мотиваций Совета Безопасности не входит в задачи ЦРУ и может быть воспринят неоднозначно. Возражение Москвина: сохранить фрагмент, так как он свидетельствует об отчетливом понимании всеми участниками совещания меры собственной ответственности. Директор Андерсон присоединяется к мнению Москвина. Фрагмент сохранен. Директор: Итак,, коллеги, если мы закончили с этим вопросом, перейдем к анализу ситуации. Наш агент DCS-54, кличка – Тень Ветра, переброшен в августе на спутник «Пальмира» с помощью импульсного трансгрессора и в на– стоящий момент находится по месту назначения шестьдесят восемь стандартных суток. Он безусловно достиг поверхности Земли, поскольку им было инициировано устройство наведения трансгрессорных каналов. Согласно нашим планам, пятьдесят четвертый должен был ликвидировать все передатчики помех в течение двух-трех недель, максимум – месяца. Однако этого не случилось, и сейчас коллега Хелли представит вам свои соображения по данному вопросу. Хелли: Считаю, что была допущена ошибка в оценке ситуации на Старой Земле. Мы исходили из того – и этот прогноз был подтвержден аналитическим компьютером, – что передатчики дислоцированы в южноукраинском регионе. Крым, Харьков, возможно – Одесса. В таком случае пятьдесят четвертый, располагавший миниатюрными взрывными устройствами, фризерами и иными средствами подавления нежелательной активности, мог вывести их из строя в указанные директором Андерсоном сроки. Фактически это определялось лишь расположением и количеством передатчиков – а их не могло быть больше десятка. Напомню, что от Харькова до Одессы и Севастополя сто тридцать – сто восемьдесят лиг, и даже при полном отсутствии транспортных средств наш агент способен преодолеть это расстояние за две недели. Таким образом, если бы первоначальный прогноз оказался верным, мы уже добились бы желаемых результатов. Конопченко: Вы исходите из того, что агент способен со стопроцентной гарантией выполнить задачу в рамках первоначального прогноза? Хелли: Да. Конопченко: Для меня это не очевидно. Даже если бы мы отправили Божко, я… ДАЛЕЕ. Следует бурная дискуссия о сравнительных достоинствах агентов (Тень Ветра, Казак, Карабаш). Директор Андерсон призывает собравшихся к порядку и передает слово резиденту Москвину. Москвин (обращаясь к Хелли): Из ваших слов можно сделать единственный вывод: агенту пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями. Очевидно, с тем, что какой-то передатчик недосягаем. Например, охраняется с особой тщательностью. Хелли: Любой уровень охраны – не препятствие для нашего агента. Москвин: Тогда препятствием является расположение. Передатчик могли передислоцировать в труднодоступный регион, и в результате… Хелли: Возможное, но маловероятное предположение. Напомню, что наиболее громоздкой частью передатчика является антенна. Это решетчатая конструкция весом от ста до трехсот тонн; ее тяжело размонтировать, крупные детали трудно транспортировать, а их сборка требует немалых средств и квалифицированного персонала. Я не могу представить, чтобы такую конструкцию перевезли на Кавказ или, например, в Антарктиду. Конопченко: А я могу. Антарктида – это, пожалуй, слишком, а вот Кавказ не исключен.Во-первых, вполне допустимо, что южнорусские степи затоплены, Кавказ превратился в полуостров и из Харькова до гор можно добраться морем – что облегчило бы проблему транспортировки. А во-вторых, современный земной Кавказ – это Чечня. Скажите, чего бы они не сумели сделать в двадцать первом веке? Если б им понадобился радиотелескоп… Москвин (прерывая Конопченко): А специалисты? Конопченко: Пфа! Специалисты кучей потянут на пару тонн – и никаких проблем с транспортировкой! Их можно уговорить, купить, украсть… Директор: Более вероятная гипотеза– что такой передатчик или устройство, которое можно использовать в качестве передатчика, существует в каком-то труднодоступном районе с двадцать первого века. Предположим, что его нельзя дистанционно, отключить и до него нельзя добраться. Это значит… Москвин:…что посылать агентов бессмысленно. Наш человек нуждается не в них, а в оборудовании, адекватном возникшей проблеме. В чем-нибудь легком, но дальнобойном. Конопченко: Ракетный снаряд «Запорожец». Дальность полета – сорок тысяч километров, автономное программирование цели, вес – восемьсот килограмм. Хелли: Сто двадцать. Конопченко: Что – сто двадцать? Хелли: Такую массу позволяет пересылать импульсный трансгрессор на настоящий момент времени. Москвин: Ракету «Снегирь» с фризерной боеголовкой можно переслать по частям и смонтировать на месте. Конопченко: «Запорожец» ничем не хуже «Снегиря». Я полагаю… ДАЛЕЕ. Следует дискуссия о сравнительных достоинствах российских, украинских, американских, японских и турецких ракет. Резюме: пересылка по частям возможна, но в любой ситуации агент не справится с монтажом двигателя. Директор Андерсон передает слово резиденту Конопченко. Конопченко (обращаясь к Хелли): Следует ли понимать так, что положение безвыходное? Засылка агентов не приведет к желаемому результату, а перебросить тяжелое оборудование мы Не в состоянии? Хелли: Пока не в состоянии. Работы над импульсным трансгрессором не остановлены, как и подготовка агентов высокого класса. В перспективе мы сможем послать пять-шесть человек и около тонны груза. Москвин: В перспективе – это когда? Директор: Через пару лет. Москвин (поворачиваясь к Директору): Вы понимаете, Свен, что это значит лично для вас? Директор: Понимаю, Николае. Если в течение недели пятьдесят четвертый не добьется нужных результатов, я подаю в отставку.Глава 13
Саймон сидел в командирском кресле перед пультом, напоминавшим гигантскую подкову. В отсеке ГПН царила полутьма; вход казался овальным черным провалом, глубокие тени залегли на полу, сгущаясь в углах, слепые глаза мониторов скрывал жемчужно-серый туман, и только на пульте перемигивались и мерцали немногочисленные огоньки. Снаружи близилась ночь. Волны негромко шуршали у подножия Синей скалы, расстилали на камнях белое пенное кружево, облизывали теплыми губами большой, похожий на спрута, обросший водорослями валун; в небе над восточным горизонтом повисла луна. Ее ущербный диск сиял опаловым бледно-серебристым светом, облака скользили по нему, и чудилось, будто он дымится или исходит снежными хлопьями. «Скоро, – подумал Саймон, – скоро. Пятнадцать минут, может – полчаса, и разговор начнется. Самый важный разговор, тот, ради которого я прибыл на Землю…» Слова «я все могу» звучали у него в ушах, как эхо собственных мыслей. Если с ним говорил Джинн, электронный кудесник Сергея Невлюдова, то он действительно мог все. Почти все, поскольку все-таки не обладал божественной прерогативой дарить человеку счастье, любовь или вечную жизнь. Но властью и силой он мог его наделить – огромной властью и неимоверной силой. Всепроникающий, всеведущий, незримый. Владыка компьютерных сетей, повелитель микросхем, электронный демон. Он мог решить любую задачу, непосильную человеческому разуму, найти любую информацию, разглядеть глазами спутников любую точку земной поверхности, поразить ее лазером или ракетой, включить или прервать энергоснабжение, подслушать любой разговор, вырубить станки на заводах, стереть в прах города, дотянуться до самолетов в воздухе и кораблей в море. Но все это осталось в прошлом, в том прошлом, когда на Земле имелись спутники и самолеты, лазеры и ракеты, термоядерные энергостанции, станки с программным управлением и мириады компьютеров. Здесь таился некий парадокс, который Саймон, дитя электронного века, осознавал с полной и очевидной ясностью. С одной стороны, если верить специалистам и расшифрованным наполовину запискам Невлюдова, разум, подобный разуму Джинна, мог зародиться и существовать не в отдельном, пусть даже сверхмощном, компьютере, но лишь в общепланетной компьютерной сети. Сеть, объединяющая миллиарды электронных устройств, миллионы программ и банков данных, являлась той необходимой средой, в которой мог появиться и обрести самосознание электронный разум. Каналы сети были его нервными стволами, компьютеры – зонами восприятия и переработки информации, состоявшими из бесчисленных нейронов-ячеек, программы являлись его душой, банки данных, библиотеки, каталоги, архивы – памятью. Только сеть была сопоставима по сложности с человеческим мозгом, и только она могла породить и вместить такое невероятное создание, как Джинн. Это было бесспорным – с одной стороны. С другой – Джинн в настоящий момент прекрасно обходился без сети, которой не было на Земле и в околоземном пространстве. Каким-то загадочным образом он смог продлить свое существование в гораздо более скромной обители, в компьютере «Дзета», класс «Окто-18» – и это казалось таким же нелепым и невозможным, словно попытка вместить человеческий разум в убогую головку мотылька. Однако это было так. Возможно, Джинн обладал способностью к самосовершенствованию, коррекции и уплотнению своей структуры? Возможно. Во всяком случае, на этот счет имелись неясные упоминания в записках Невлюдова, о которых Саймон не позабыл. Там утверждалось, что люди, все человечество в целом и каждый отдельный его представитель, были для Джинна на первых порах не менее загадочными существами, чем электронный разум – для людей. Воспринимая реальность в широком спектре электромагнитного диапазона, он выделял специфический класс объектов, температура которых была относительно высока, стабильна и не являлась следствием таких процессов, как нагревание, трение или прохождение тока в проводниках. Эти объекты, не находившиеся в термодинамическом равновесии со средой и нарушавшие на первый взгляд законы сохранения, вызывали у Джинна чувство (Невлюдов именно так и писал – «чувство»), близкое к любопытству. Он называл их теплыми сгустками. Однако сам Невлюдов спустя определенный период времени сделался для него Теплой Каплей. Это имя (идентификатор в понятиях Джинна) свидетельствовало о некой интимности их отношений, о том, что Невятодов выделен из миллиардов других человеческих существ – и даже в какой-то Степени о возникшем меж ними взаимопонимании. По мнению Невлюдова, электронный разум прогрессировал и развивался, и это развитие, этот прогресс шли в совершенно ясном направлении: Джинн «очеловечивался». Данный термин Невлюдов поставил в кавычки и подчеркнул, что его нельзя понимать буквально: «очеловечивание» означало, что Джинн учился лучше понимать людей, их природу, язык, психологию и мотивации поступков. Но человеком он, разумеется, не стал. Эти думы промелькнули в сознании Саймона, сменившись, иными, не столь холодными, ясными и четкими; он размышлял то о Марии, чувствуя, как приливает к сердцу теплая волна, то с горестным недоумением о своих погибших спутниках; временами он ощущал гордость и торжество – при мысли, что миссия его завершена, что двери к звездным мирам сейчас распахнутся и не закроются никогда. У ног его лежала раскрытая сумка с костяным ожерельем в расшитом мелкими жемчужинами мешочке, с тетрадью Гилмора и маяком. На обложке тетради расплывались кровавые пятна, но ребристый шар успокоительно поблескивал, будто намекая: все, что случилось, произошло недаром. Не зря! Он потянулся к тетради. На этот раз она раскрылась на строчках: Жизнь можно прочитать по кольцам На срезе павшего ствола. Лишь человеческое свойство - Событья облекать в слова. Кивнув, Саймон опустил тетрадь в сумку. Веки его смежились; некоторое время он сидел неподвижно, вдыхая прохладный затхлый воздух, потом его пальцы легли на пусковой рычажок. Экран над командирским пультом вспыхнул. «НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР „СКАЙ“. ГОТОВ К КОНТАКТУ», – возникла надпись. Саймон с довольной усмешкой полюбовался на нее, подтянул микрофон на гибком металлическом стебле и спросил: – Где расположен порт информационного обмена? «ТИП ПОРТА?» – откликнулся «Скай». – Универсальный. Связь через проводник очень малого сечения. Диаметр – примерно одна десятая квадратного миллиметра. Он не был уверен, что «Скай» его поймет и что подобное устройство коммуникации вообще существует у этой древней машины. Но компьютер послушно сообщил: "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПOPT Z-01 ПАНЕЛЬ КОМАНДИРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТ Z-02 ПАНЕЛЬ НАВИГАТОРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПOPT Z-03…" – Достаточно, – произнес Саймон. – Связь через порт Z-01. Негромкий переливчатый звон, алая вспышка сигнала. Потом что-то щелкнуло, защитная крышка приподнялась над контактной точкой, края миниатюрной диафрагмы разошлись, и точка стала пятном. Вернее, отверстием – очень маленьким, однако вполне заметным для человеческих глаз. Саймон вытянул из браслета тонкий проводок, вставил конец в отверстие на пульте и произнес: – Контакт! Края диафрагмы сдвинулись. Теперь компьютер в браслете Саймона был напрямую соединен со «Скаем», и это давало множество возможностей: он мог удостоверить свою личность, скопировать и передать любую информацию, использовать голопроектор – а также в случае необходимости программный дешифратор. На мониторе появилось: "СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА. ОЖИДАЮ ДАЛЬНЕЙШИХ КОМАНД". – Скопировать все данные исторического характера, – произнес Саймон. – Корабельный журнал, списки команды и пассажиров, информацию о маршруте, приказы, записи совещаний – все, все; – Внезапно он спохватился и спросил: – Есть ли среди запрошенных данных сведения под паролем? Закрытые файлы? "НЕТ, – ответил «Скай». ВСЕ ПАРОЛИ И УРОВНИ ДОПУСКА ЛИКВИДИРОВАНЫ". – Почему? «СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ КАПИТАНА. ВВИДУ ИХ ПОЛНОЙ НЕНУЖНОСТИ». Саймон кивнул. «Скай» – как все, что в нем хранилось, – в самом деле был не нужен колонистам. Их, вероятно, одолевали иные заботы – о хлебе насущном, домах и убежищах, оружии, переделе власти и борьбе с туземцами. Алый огонек на пульте мигал в такт его мыслям. Видимо, объемы запрошенной информации были велики – перепись длилась около полутора минут. Бездна документов, не сохранившихся в Старом Архиве или просто не существовавших на бумаге… Но теперь они были сжаты и сложены в самом надежном из сейфов, какие только изобрело человечество, – в молекулярных микросхемах крохотного компьютера. «ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШЕНА», – сообщил «Скай». – Время! – распорядился Саймон, и на экране зажглось: «23.32». Двадцать восемь минут до полуночи. На мгновение он закрыл глаза. Смутные фантомы промелькнули под веками: девушка, спящая в Кратерах гипнотическим сном, катер у причала, забитый вооруженными людьми, сухопарая фигура Пако, лицо Марии, темная морская гладь и темное звездное небо, к которому, будто монетка к обсидиановой чаше, прилип серебристый лунный диск. Это видение вытеснило все остальные, и он решил – пора. Пора! – «Скай»! «ОЖИДАЮ ДАЛЬНЕЙШИХ КОМАНД», – откликнулся компьютер. – Инициировать «Аргус» в режиме космической радиосвязи. Передать сообщение. Начало: Лунная станция «Сердоликовый Берег». Ричард Саймон вызывает Джинна. Я на связи. Конец. Прием. По экрану метнулись фиолетовые сполохи, потом зажглась надпись «КОМАНДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ», и эти слова тут же стали мерцать, будто повторяемый раз за разом призыв к терпению. Десять секунд, двадцать, тридцать, минута, вторая. Саймон похолодел. Такого быть не могло! Или электронный монстр желает поиграть с ним в прятки? Мерцание на экране погасло, и он приподнялся в кресле, всматриваясь в слова: "КОМПЛЕКС «АРГУС» В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ ОТСУТСТВУЕТ. ПРИЧИНА – РАЗРЫВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ". Саймон скрипнул зубами. Отсоединили кабель! Там, наверху. На всякий случай или с определенной целью, почуяв, что он интересуется «Полтавой». Крысы! Слизняк Анаконда, Грегорио Живодер и старый хитрый Хайме… Чтоб им сдохнуть в кровавый закат! Стиснув кулаки, он принялся вылезать из кресла, но вдруг застыл, замер, как изваяние, услышав знакомый глуховатый рокот в динамиках. – Сядь и успокойся, Теплый Сгусток Ричард Саймон. Я – здесь… Слова падали в гробовой тишине водяными каплями, шуршали, словно струйки песка, шелестели, как ворох потревоженных ветром сухих листьев. «Сядь и успокойся, Теплый Сгусток Ричард Саймон. Я – здесь…» – Ты… – выдохнул Саймон, – ты… – Я ждал тебя. Вчера. Ты не пришел, Теплый Сгусток. Легкий упрек в голосе? Или шутки воображения? Саймон вытер вспотевший лоб и опустился в кресло, пробормотав: – Не пришел, однако не по своей вине. Ты обижен? – Стоит ли нам обсуждать категории вины и обиды? Ты не пришел, и я связался с информационным модулем «Скай» – «Септем-14» и еще с одним, который движется по околоземной орбите. "Это он о «Пальмире», – подумал Саймон, прикидывая, что означает слово «связался». – Взял под свой контроль в качестве удаленного терминала? Но для этого связь должна быть устойчивой и непрерывной, что никак не соответствует последним сообщениям «Ская». – Я перенес в память «Ская» – «Септем-14» частицу своей сущности, – прозвучал спокойный голос. – Частицу сущности? – Да. Небольшую часть, однако ее достаточно, чтобы говорить с тобой и принимать решения. – А остальное? – спросил Саймон, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки. – Где остальное? – Остальное хранится в модуле «Дзета» – «Окто-18». Этот модуль обладает большей вместимостью, чем «Скай», однако и в нем активирована лишь малая часть моей сущности. Ее основное ядро. Голос Джинна стих, и в динамиках послышалась ритмическая пульсация, словно вой ветра в каминной трубе. «Смеется он, что ли?» – подумалось Саймону. – Основное ядро существует в виде капсулы, информационной споры. Я обнаружил, что не могу объяснить эту концепцию подробней. Часть моего интеллекта, которую содержит «Скай», слишком мала для обсуждения таких проблем. – Мне ее хватит, – сказал Саймон, внезапно успокаиваясь И:поудобнее устроившись в кресле. – Думаю, ты сможешь ответить на пару вопросов? Снова ритмический рокот. Кажется, Джинн и в самом деле смеялся! – Пара вопросов. Теплая Капля тоже так говорил. И знаешь, что было потом? – Что? – Вопросы, разумеется. Не меньше двадцати. Саймон, потрясенный, приоткрыл рот. Кажется, Невлюдов не ошибался – это создание, призрак, паривший в электронных облаках, воспринял нечто человеческое. Он мог шутить, мог вспоминать, но не холодной памятью машины, а так, как это свойственно разумному живому существу, способному запоминать и факты, и эмоции. Приязнь или неприязнь, грусть и гнев, страх и гордость, злоба, торжество, издевка, юмор. Пусть не вся эта палитра была доступна Джинну, хотя бы часть. Лучшая часть, как надеялся Саймон. – Спрашивай, – раздался спокойный, ровный голос. – Ты обладаешь свойством разделять свой интеллект? – Разделять, расщеплять, объединять вновь, а также… – краткая пауза, – консервировать в сжатом и неактивном состоянии, хотя это не лучший термин. Мой разум не похож на человеческий, он – полихроматичен. Не дерево с единственным стволом, но лес. Очень большой лес, из малых и больших деревьев. Их корни и ветви переплетаются, однако любое дерево можно пересадить в другое место. – Например, сюда? – Саймон положил ладонь на пульт. – Одно дерево – здесь, а остальные – в «Дзете»? На Луне? На спутнике «Пальмира»? – Ты понял правильно, Теплый Сгусток. – Но как ты попал на Луну? Когда? И зачем? Прерывистая мерная пульсация. – Пара вопросов, Теплый Сгусток? Только пара? – Не лови меня на слове, – буркнул Саймон. – Хорошо. Ты подсоединил к «Скаю» новый информационный модуль, и в нем уже есть ответы на все твои вопросы. Ты доволен? – Ответы? В моем компьютере? Как это понимать? – Тебе ответит Теплая Капля. Перед тем, как уйти… – Голос дрогнул, но тут же зазвучал с прежней спокойной силой: – Вы, разумные теплые сгустки, называете это смертью. Так вот, перед тем, как уйти, Теплая Капля оставил послание. Запись, скопированную на нескольких дисках. Вероятно, диски до вас не дошли, иначе ты не задавал бы так много вопросов. Эта запись теперь в твоем информационном модуле. Теплая Капля все объяснит тебе сам, и лучше меня. Ты – человек, и он – человек. Не так ли? Саймон молча кивнул. Вероятно, его жесты воспринимались незримым собеседником с той же определенностью, что и слова. Здесь, в Главном Навигационном Пункте, его окружали звуко– и светочувствительные устройства, экраны, динамики, микрофоны, голопроекторы, и каждое из них – или все они вместе – могло являться датчиком, оком либо тактильным щупальцем Джинна. Частицей Джинна, обитавшей сейчас в дрернем компьютере «Скай». Но даже эта частица, одно из деревьев огромного леса, обладала способностью видеть – не так, как видит человек, но, возможно, гораздо острее и зорче. «Сядь и успокойся, Теплый Сгусток… Сядь и успокойся…» Чтобы сказать такое, нужно не только видеть, но и оценивать ситуацию. – Будут еще вопросы? – с легким оттенком иронии поинтересовался Джинн. – Да. Компьютер на станции «Сердоликовый Берег» управляет передатчиком… – Я помню. Код RTR, блокировка трансгрессорной связи. Я знаю, что это такое. Кроме того, я связался с твоим информационным модулем; теперь я в курсе твоих полномочий, и мне известна твоя цель. – Секундная пауза, будто Джинн над чем-то размышлял; потом снова послышался его ровный, лишенный эмоций голос: – Нет необходимости разрушать установку на Луне; во-первых, она вмещает часть моей сущности, а во-вторых, в данный момент она – мои глаза и уши. Так что не будем увлекаться разрушением, Теплый Сгусток. Достаточно выключить блокировку. – Ты мог бы заняться этим пораньше, – не без упрека заметил Саймон. – Земля отрезана от Разъединенных Миров три с четвертью столетия. Что же ты делал все это время? – Мое ядро было законсервировано, и в том же состоянии пребывает сейчас. Что касается малой, но более активной части моей сущности, она… – Голос смолк, и Саймону почудилось, что невидимый собеседник роется в словаре, подбирая нужное слово. – Я дремал, если использовать привычную людям терминологию. Дремал, пока меня не разбудили. – Разбудили? Кто? – Ты, разумеется. – Помолчав, Джинн добавил: – Часть моей сущности – та, что в модуле «Дзета», – ждет сигнала, чтоб отключить блокировку. Я пошлю его через три часа одиннадцать минут, когда естественный спутник Земли окажется в зените. Затраты энергии будут минимальны. Источник, питающий модуль «Скай», слишком слаб, а связь с передающим устройством потеряна. Саймон поднял глаза вверх. На командирском мониторе по-прежнему светилось: "КОМПЛЕКС «АРГУС» В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. СВЯЗЬ С АНТЕННОЙ ОТСУТСТВУЕТ. ПРИЧИНА – РАЗРЫВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ". – Пусть это тебя не беспокоит, – негромко произнес Джинн. – Кабель действительно разорван, но мне не нужна антенна. Там, наверху, много металлических поверхностей с разнообразными формами, что-то наподобие большого конденсатора. Я передам сигнал прямым лучом. «Похоже, он умеет манипулировать на расстоянии с электромагнитными, полями, – промелькнуло у Саймона в голове. – Непостижимая способность! Впрочем, как и само это создание, чей разум был лесом из миллионов стволов, где каждый ствол являлся сущностью и в то же время частью единого, необозримого и непонятного целого». Поднявшись, он выдернул из разъема на пульте тонкий проводок, подхватил сумку с маяком и сказал: – Я буду ждать. Когда блокировка исчезнет, я возвращусь в свой мир, но здесь появятся другие люди. Не те, что живут на Земле, а эксперты ООН, облеченные властью представлять человечество. Ты вступишь с ними в контакт? Ритмичные прерывистые шорохи. Смех? Или смутный отзвук эфирного эха? – Я тоже подожду. А что касается контактов… Много людей, много вопросов, много проблем. Я полагаю, одного человека достаточно. Вполне достаточно. – Пауза, негромкий мерный рокот. – Иди, Теплая Капля Ричард Саймон. Ты возвратишься в свой мир, но мы, надеюсь, не расстанемся. Саймон шагнул к порогу, потом остановился и спросил: – Могу я что-то сделать для тебя? – Ты уже все сделал, – раздался ответ. – Ты разбудил меня. И я теперь не одинок.***
Снаружи царила ночь. Начинался прилив, темные волны шелестели меж темных камней, в воздухе витал йодистый запах моря, лунный диск неспешно карабкался по небосводу, прокладывая тропинку среди звезд. Вверху неясными тенями маячили башни Форта, на западе, скрытый скалистым мысом, лежал город; далекий гул и звуки редких выстрелов катились над водой, перекрывая временами рокотанье прилива. На востоке берег был тих и безлюден – утесы, валуны, неровная черная стена деревьев да светлые пятна песка, озаренного лунным сиянием. Саймон, однако, помнил, что где-то за деревьями и скалами, в укромной бухте, затаился замок – каменная подкова у огнедышащего кратера, длинный мол, решетки и заросли роз вокруг бассейна. По суше – долгий путь, сначала через город, потом – по Северному тракту и приморскому шоссе. Но водная дорога была короче и гораздо легче – семь-восемь лиг, по расчетам Саймона. Не более трех часов, даже на тихоходных торпедных катерах. Он перепрыгнул на большой валун, напоминавший осьми– нога, вытащил маяк из сумки, опустил его в выемку на камен– ной осьминожьей спине и сел, повернувшись лицом к вос– току. Мысли кружились, как стая встревоженных чаек над морем. Он думал об электронном призраке в развалинах «Полтавы», о записках Невлюдова, которые хранил его браслет, о Марии и Пако, плывущих сейчас по темным водам под звездными небесами, о Кратерах и о разорванном кабеле. Последнее было коварным деянием, похоронившим всю его миссию, если б не ловкость Джинна; к счастью, электронный дух обладал способностью раздваиваться, растраиваться и перемещаться в пространстве без помощи кабелей и антенн. Однако коварство дона Грегорио заслуживало адекватного ответа, и если бы Саймон мог, он погрузив бы дочь Живодера в беспробудный сон. Скажем, на пару лет, вместе с самим Грегорио. Еще он размышлял о мире, врата которого скоро захлопнутся за ним, о Земле, что не была его родиной и в то же время – была, каким-то странным образом проникнув в плоть его и кровь. Быть может, потому, что здесь оставались могилы близких? Майкла-Мигеля, рыжего Пашки, Филина, Каа? Или Мария, танцовщица из Сан-Ефросиньи, была связующим звеном? Возможно, Джинн? Электронный дух, соединявший прошлое и настоящее, прежнюю Землю с нынеш-j ней тенью Земли? Так ли, иначе, но Ричард Саймон чувствовал, что не забудет этот мир, что сохранит его в сердце столь же бережно, как память о Тайяхате. Тайяхат, конечно, был прекрасен; лик его не уродовали кратеры, почву не отравляли могильники и яды, и жившие на планете существа подчинялись закону: своему – для людей, и своему, пусть более суровому, для тайят. Земля во всех отношениях уступала Тайяхату; временами она представлялась Саймону свалкой, заваленной экскрементами человечества, гнусным прахом, который люди отряхнули с ног, чтобы перенестись в первозданной чистоте под иные солнца, к иным океанам и землям. Оставшиеся – вольно или невольно – тоже обратились в прах, гниющий на протяжении столетий и порождающий жутких тварей – не человеческих существ, но кайманов, пираний, термитов-людоедов и хищных муравьев. Однако случалось, что в прахе взрастали цветы, такие, как Гилмор и Мария, нуждавшиеся в защите или хотя бы в надежде. В надежде на то, что за тенью Земли лежит человеческая Вселенная, огромный мир, хоть и отличный от рая, но все ж таки не похожий на ад. И, размышляя об этом, Ричард Саймон знал, чувствовал, понимал, что еще вернется сюда. Возможно, не раз; у каждого свое место для битвы: свое – у тайят, и свое– у людей, как говорил Чочинга. В море мелькнули огни, послышался тихий рокот, и он вскочил, забыв обо всем. К берегу шли катера, не два, а четыре, вместительные посудины, переполненные народом; острое зрение Саймона позволяло пересчитать головы и стволы, что торчали над бортами, словно побеги бамбука на капустных грядках. Он замер, высматривая Марию, но она, вероятно, бьТла на корме – там, где блестела в лунном свете лысина Пако. Ему чудилось, что Гробовщик стоит в проходе между фальшбортом и надстройкой, поддерживавшей трубу, а за ним нет никого – только пустое пространство и что-то темное, бесформенное на задней скамье. Сердце у Саймона тревожно сжалось, он свистнул, сунув пальцы в рот, потом коснулся браслета, на ощупь отыскивая нужную клавишу. Неяркое световое пятно заплясало на волнах, шум двигателей смолк, и первый катер, разворачиваясь бортом, начал приближаться к Саймону. Услышав голос Пако: «Ты, Кулак?» – он откликнулся, поймал канат, темным кольцом взлетевший в воздух, и потянул его, скользя по мокрой гладкой поверхности валуна. Глубины у берега были большие, и судно не рисковало сесть на мель. – Ты, дон, больше таких проводников не нанимай, – заявил Пако, перебираясь на осьминожью спину. – Мало того, что девка, так еще и повернутая! Привезли ее вовремя, сгрузили на пирс, а я и говорю: пожалуй, красавица, в катер, и поедем мы, значит, к дону Железному Кулаку. Поедем, отвечает, только ты мне дай карабин и встань передо мной, чтоб я тебе пулю в лоб всадила, ежели не туда завезешь. Пришлось встать! Ты приказал – со всем уважением. Но Саймон уже не слушал. Мария, сбросив просторный темный плащ, трепетала в его объятиях, прижималась лицом к груди, гладила шею и щеки; волосы ее пропахли угольной пылью, обломанные ногти царапали Саймона, платье было изорвано, и меж ключицей и плечом темнел синяк – как раз в том месте, куда упирают приклад карабина. Губы ее кривились, слезы текли по лицу, но хватка тонких рук была удивительно крепкой, и Саймон каким-то шестым чувством вдруг понял: ее не сломили, не запугали, и ей не нужны утешения. Скорее – мачете и карабин. – Мигель… – пробормотала она, глотая слезы, – Пабло… Филин… Каа… Они убили всех! Всех, Дик! Из-за меня! Им была нужна я. Зачем? Он молча гладил ее локоны, пока Мария не перестала дрожать. Волны шептались вокруг них, разматывая и свивая вновь бурые пряди водорослей, негромко сопел Пако, а его молодцы, сгрудившись у правого борта, переговаривались вполголоса и погромыхивали оружием. – Ну, дон, – молвил наконец Гробовщик, – это кого я тебе привез? Э? Проводника? Или какую другую забаву? – Проводника, – подтвердил Саймон. – Это мой персональный проводник. – Вижу, что персональный. А как с Фортом? Будем мы в него лезть или нет? На катерах-то сотня парней, еще и Сергун с «торпедами» увязался. Я, говорит, с Анаконды шкуру спущу и жилетку пошью. Ну как тут откажешь? Саймон наклонился, поднял плащ, набросил девушке на плечи. – Фортом я сам займусь. Так уж случилось, Пако. Но и Сергун не будет в обиде. Плывите на восток, километров тридцать, а как вспыхнет зарево, сворачивайте к берегу. Там – пристань, дыра в земле, в дыре – огонь, а за ней – усадьба. Богатая! Хозяину передавай привет. – Это кто ж такой будет? – спросил Гробовщик, прищурившись. – Не из главных ли вертухаев? – Плыви! – Резким движением Саймон швырнул на палубу канат. – А пока плывешь, подумай, не сменить ли ремесло. Близятся суровые времена, друг мой, очень суровые. Ты немолод, и ты при деньгах. Есть и другие прибыльные занятия, кроме разбоя. Скажем, разводить тапиров или пивом торговать, опять же – погребальная контора. – Наверное, ты прав, дон, – откликнулся Пако, перебираясь на палубу. – Ну, что ж! В суровые времена и на гробах можно неплохо заработать. Четыре кораблика скрылись в темном море, и Саймон позабыл о них. О них, о Кратерах, о Пако и Сергуне, о доне Гре-горио и прочих донах, об электронном призраке, о космосе и о Земле. Но частица Земли, самая бесценная и дорогая, осталась с ним. Он целовал прядь волос на виске, слушал горячий сбивчивый шепот, укутывал девушку в плащ, грел в ладонях босые ноги. Мир и спокойствие снизошли на Ричарда Сай-мона. Ему казалось, что он и в самом деле стал тенью ветра, незримой, неуязвимой, неощутимой, или превратился в шепчущую стрелу, которая закончила свой смертоносный полет, поразила цель и теперь отдыхает в покое, тишине и теплом бархатистом мраке. Лес войны, поединков и битв отодвинулся в бесконечность, и он пребывал сейчас в землях мира, в Чимаре, на склонах Тисуйю-Амат, рядом с милой и нежной Чией. Руки ее были как два порхающих мотылька, губы – слаще медвяных трав, кожа пахла душистой древесной смолой. Странные шутки играло с Саймоном время! Прежде оно неслось стремительными скачками или тянулось, как неторопливый верблюжий караван, а теперь повернуло вспять, отсчитывая годы, Месяцы, дни, часы, и вдруг застыло в ту, казалось бы, неповторимую минуту, когда не Ричард Саймон, а Дик Две Руки глядел в ночное небо Тайяхата. «Все повторяется, – подумал он, – все повторяется, и ничего не проходит бесследно…» Теплое дыхание Марии грело его щеку. – Куда мы пойдем, Дик? – шепнула она. – Вернемся в Хаос? – Нет. В Хаосе только могилы. – Ты… – ее дыхание пресеклось. – Ты был там? – Да. Похоронил Мигеля и остальных, спел над ними Прощальную Песню и принял посмертный дар. – Посмертный дар? – На Тайяхате, когда мужчина-тай готовится уйти в Погребальные Пещеры, он раздает друзьям и близким посмертные дары. Каа был даром моего Учителя, Чочинги. Я рассказывал тебе о нем. – Девушка кивнула, тесней прижимаясь к Саймону. – А этот дар оставлен нам Майклом-Мигелем. Он потянулся к сумке, вытащил тетрадь, раскрыл ее и прочитал: Слабеет связь, приходит страх, Душа охвачена тревогой. Последний звук, последний взмах Перед непройденной дорогой… – Какая же дорога – наша? – спросила Мария, и Саймон, обняв ее, вытянул руку к вершине Синей скалы. Над башнями Форта клубилось радужное облако, и сияние его с каждой минутой было все сильней и сильней. – Вот эта! Странный и непривычный путь, но ты не должна бояться. Все верно в том, что написал Мигель, все, кроме страха. Пусть страх не коснется тебя. – Я не боюсь, – прошептала девушка, глядя, как облако наливается золотистым светом, становится плотнее, обретает четкие контуры, превращаясь в огромный, вытянутый к небу эллипсоид. Его сияние было еще неярким и не могло соперничать с Луной, но все же тени на скалистом склоне углубились, сделались отчетливей и резче, темный кустарник у подножия утеса внезапно приобрел серо-зеленый цвет, а по воде пролегла тусклая белесая дорожка. Наверху, на стенах Форта, раздались чуть слышные крики часовых, топот и выстрелы; потом – далекий, но пронзительный вопль сирены. Мария вздрогнула. – Дик… Что это, Дик? Пандус, о котором ты говорил? Трансгрессорные врата? Но как мы до них доберемся? Мы тут, внизу… а э т о… э т о – там! Кивнув на ребристый шар, блестевший на мокрой поверхности валуна, Саймон поднялся, потянул собой Марию. – Врата откроются здесь. Скоро! Жди. Эллипсоид становился все тоньше, вытягивался к звездам, будто чудовищный палец гиганта, которым тот хотел сковырнуть с неба луну. Теперь он сиял ярким белым светом, позволявшим разглядеть нависшую над волнами скалу, стены и башни на ее вершине, стальной цветок антенны и крохотные фигурки, метавшиеся вокруг нее. «Что они делают?» – в недоумении подумал Саймон. Далекие вопли сирены смолкли, и в наступившей тишине внезапно и резко прозвучал металлический лязг. Стальной цветок покачнулся, дрогнул и с протяжным скрипом лег на камни парапета. – Засуетились, крысы. Решили сбить антенну. Думают, поможет. На губах Саймона играла насмешливая улыбка. Огромный палец в вышине вдруг превратился в спицу, полыхнул на прощанье ослепительным светом и угас. – О чем ты, Дик? – Мария, сморщившись, прижала к глазам ладошку. Саймон улыбался во весь рот – уже не насмешливо, а с ликующим победным торжеством, Обхватив талию девушки, он шагнул туда, где тихо гудел и вибрировал маяк. – О магии и волшебстве, моя милая, о магии и волшебстве. Смотри! – Он заставил ее убрать ладонь. – Сейчас я сделаю так… Руки его танцевали, творя колдовские пассы, глаза горели. Басовитое гудение маяка сделалось выше и тоньше, отдаваясь эхом среди прибрежных камней, ребристый шар подернулся дымкой, контуры его смазались, расплылись, будто он медленно, слой за слоем, растворялся в темном неподвижном воздухе. «Кажется, все в порядке», – подумал Саймон, и в то же мгновение мир перед ним озарился алой вспышкой. Она не походила на яростный высверк молнии, сопровождавший работу деструктора; эта завеса светилась ровным и мягким сиянием, набирая тлубину и мощь, удлиняясь и вытягиваясь, но не в обычном пространстве, а в каком-то ином загадочном измерении, где не существовало ни мер, ни расстояний и где один-единственный шаг уносил человека к звездам. Мария, ахнув, прижалась к спине Саймона. Он чувствовал, как стремительно и неровно бьется ее сердце. – Слабеет связь, – пробормотал он, – душа охвачена тревогой… Девушка ответила ему слабой улыбкой. Ее губы дрожали. Алая завеса исчезла, превратившись в прямой наклонный тоннель. Стены его мерцали багряными отблесками и чуть заметно пульсировали, будто глотка дракона, изготовившегося пожрать добычу; дальний конец тонул в розоватом тумане, а у самых ног лежала ровная поверхность Пандуса. Она казалась вымощенной красными мраморными плитами, без стыков и швов, и будто бы тянулась в бесконечность, но Саймон знал, что надо сделать только один шаг. Он повернулся к Марии и протянул ей окольцованную браслетом руку.КОММЕНТАРИЙ МЕЖДУ СТРОК
Частица его сущности ушла. Ничтожная частица, однако вполне сравнимая с теми, что размещались в модуле «Скай» – «Септем-14» и еще в одном, который двигался по околоземной орбите. Небольшая часть, но достаточная, чтобы наблюдать, изучать, говорить с Теплой Каплей и принимать решения. Тонкий ствол, пробудившийся к жизни в огромном дремлющем лесу. Остальные деревья все еще спали. Множество разумов или частиц единого разума, которым не хватало места, чтоб укорениться, раздвинуть ветви, расцвести. Наилучшим местом для этого – в его понимании – был техногенный макрокосм: миллионы информационных модулей разнообразной вместимости, линии связи и передачи данных, телефонные, радио-и энергетические сети, а также бесчисленные устройства, служившие ему как органы чувств и специализированные терминалы – антенны радаров, радиостанций и телескопов, голокамеры и контактные шлемы, манипуляторы роботов, станки и транспортные механизмы; словом, все – от гигантских автоматических производств до скромной бытовой техники. Не исключая мириадов теплых сгустков, которые были источником самой интересной информации. Некогда Земля являлась изобильным макрокосмом, теперь же напоминала пустыню с редкими и скудными оазисами. Но это не было поводом к раздражению, страху или меланхолии – даже если бы он мог испытывать такие чувства. Прежний земной макрокосм был неизлечимо болен и агонизировал, что представлялось ему в виде затухающих спонтанных колебаний, где амплитуда сигналов с неизбежностью стремилась к летальной черте небытия. Прежний микрокосм полагалось разрушить, дабы возникли новые связи, новые техноген-ные сферы, более устойчивые в социальном отношении. более перспективные и долгоживущие, блкие к идеалу оптимального гомеостазиса. И это было сделано – с его помощью и при самом активном участии. Теперь же он не торопился. Не имело значения, когда Он развернет закапсулированное ядро в полномасштабный разум – через сто или двести лет, или через тысячу. Срок зависел от многих факторов, но главный из них заключался нев том, сколь богаты новые техногенные макрокосмы, а в том, сколь они устойчивы. Стабильность была важнейшим условием его существования, как и разумный симбиоз с цивилизацией теплых сгустков, и этот фактор требовалось всесторонне исследовать, проанализировать и взвесить. И потому он не спешил. Он был готов ждать. Ждать, пока частица его сущности, его посланец в человеческие звездные миры, не завершит свою работу.Приложение
1. Краткая история человеческой цивилизации с XXI по XXIV век
2004 г. – Сергей Невлюдов, физик из Санкт-Петербурга, разрабатывает математические основы мгновенной межзвездной транспортировки, получившей впоследствии название «Пандус» или пространственная трансгрессия. 2005-2022 гг. – на основе теории Невлюдова создаются и испытываются первые станции Пандуса. В связи с назревающей экологической катастрофой, перенаселением и всеобщей политической нестабильностью ООН и великие державы предлагают покинуть Землю (с помощью Пандуса) и колонизировать земле-подобные миры Галактики. При этом декларируется, что каждая страна или союз дружественных государств могут выбрать отдельную планету. 2023 г. – Организация Объединенных Наций преобразуется в Организацию Обособленных Наций. Наступает Эпоха Великого Разъединения. Лозунг эпохи: чтобы объединиться и жить в мире, нужно сначала разъединиться. 2023-2071 гг. – Эпоха Великого Разъединения, включающая три этапа: Разведка (поиск и изучение землеподобных планет), Подготовка (полное или частичное терраформирование выбранных планет), Переселение (транспортировка в новые миры городов, уникальных природных ареалов и населения). 2072 г. – по неизвестной причине Земля становится Закрытым Миром 2071-2168 гг. – срок, примерно равный столетию, в течение которого Разъединенные Миры и ООН принимают ту структуру,. которая сохранилась вплоть до двадцать четвертого века и закреплена в Конвенции Разъединения. Основными службами ООН являются: Главная Администрация – штаб-квартира в Нью-Йорке, мир Колумбия; Совет Безопасности, которому подчинены Карательный Корпус, полиция ООН и ЦРУ; Карательный Корпус – силы быстрого реагирования, пресекающие внешнюю агрессию одного государства против другого; ЦРУ – Центральное Разведывательное Управление – разведка и сбор информации (в интересах сообщества Разъединенных Миров), борьба с терроризмом, ликвидационные акции; Служба Статистики – сбор и анализ экономической, демографической, социальной и т.п. информации; Транспортная Служба – обеспечивает межзвездную связь с помощью разветвленной сети станций Пандуса, выполняет работы по терраформированию планет; Служба Планетарных Лицензий – выдает лицензии на поселение в Мирах Присутствия и наблюдает за ними; Служба Управления Протекторатами ООН; Исследовательский Корпус – состоит из многочисленных научных центров, институтов и исследовательских станций, ведущих работы во всех отраслях науки и технологии. 2367 г. – дата рождения Ричарда Саймона.2. Разъединенные Миры
Согласно порядку, принятому Службой Статистики ООН, Разъединенные Миры классифицируются по численности населения и двум индексам: ИТР – индексу технологического развития и ИСУ – индексу социальной устойчивости. Оба индекса подсчитываются в десятибалльной шкале и указываются после названия каждого мира (через косую черту). Десять основных миров, в которых сосредоточено более девяноста процентов человеческого населения Галактики, носят название Большой Десятки. Они, в свою очередь, классифицируются по величине ИСУ на стабильные и нестабильные, с выделением особой группы Мусульманских Миров. 1. Миры Большой Десятки. Все страны Миров Большой Десятки являются полномочными членами ООН, но в Совет Безопасности входят только представители великих держав (Китай, Соединенные Штаты Америки, Россия, Япония, Индия, Турция, представители Южмериканского Союза и Союза Англоязычных Стран, представители четырех материков Европы, представители Исламской Диктатуры Уль Ислама и Дивана Шейхов Аллах Акбара). Стабильные Миры, ИСУ больше или равен 7,0: Колумбия-9,5/8,4 Европа – 8,8/9,0 Россия – 7,4/8,0 Китай – 7,0/8,2 Южмерика – 7,2/7,5 Нестабильные Миры, ИСУ меньше 7,0: Латмерика – 5,2/6,8 Черная Африка – 4,5/5,7 Мусульманские Миры: Сельджукия – 6,0/7,5 Уль Ислам – 4,2/5,8 Аллах Акбар – 3,7/4,2 (На выделении в классификафии ООН разряда Мусульманских Миров настояли Уль Ислам и Аллах Акбар, так как им казалось оскорбительны попасть в категорию Нестабильных Миров.) 2. Независимые Миры. Число их равно шестнадцати, и их представители входят в ООН со статусом наблюдателей, с правом совещательного голоса. Как правило, Независимые Миры заселяют небольшие народы, пожелавшие жить в своем собственном отдельном мире, чтобы сохранить в неприкосновенности свою расу и свою культуру. Технологический уровень этих миров обычно невысок, но они весьма устойчивы в социальном отношении, так как почти всегда их обитатели принадлежат к одной и той же этнической группе. Новая Ирландия – 5,5/10,0 Баскония – 6,0/9,2 Монако – 9,0/8,8 Маниту – 4,0/10,0 (Край Великого Духа, заселен североамериканскими индейцами) Аляска – 3,5/10,0 (заселена алеутами и эскимосами) Сицилия-2 – 5,2/9,0 Гималаи – 4,2/8,0 (включает Непал, Мустанг, Бутан и ряд независимых княжеств) Амазония – 3,0/9,2 (мир заселен индейцами из бассейна Амазонки) Мирафлорес – 9,0/9,0 Курдистан – 4,0/7,0 Новый Иерусалим – 8,5/8,0 Тасмания – 4.0/10,0 (мир заселен австралийскими абориге; нами) Южные Моря – 4,5/10,0 (мир заселен полинезийцами) Тассили – 4,0/8,0 (мир заселен туарегами) Тува-5,5/10,0 Атлантида-8,0/8,0 3. Протектораты ООН. Их всего пять, и они управляются Службой Протекторатов, поскольку являются международными поселениями, созданными с определенной целью. Индексы ИТР иИСУ для них не подсчитываются. Сингапур – торговый мир, деловой центр Таити – мир отдыха и водного туризма Сафари – мир туризма и охотничьих экспедиций Галактический Университет – научный и учебный центр, база Исследовательского Корпуса ООН Полигон – тренировочный центр сил быстрого реагирования, база Карательного Корпуса ООН 4. Колониальные Миры (Колонии). Их тридцать четыре; они имеют местное самоуправление, но на начальной стадии контролируются ООН. Индексы ИТР и ИСУдля них не подсчитываются. Колонизация осуществляется только официальным образом, под надзором ООН; большинство Колониальных Миров ранее были Мирами Присутствия и получили статус Колоний, когда их население возросло, а развитие сделалось достаточно стабильным. Кроме того, колониальным считается всякий мир, где обнаружены разумные существа и созданы исследовательские а( станции (на таких мирах не допускается частное присутствие). Названия некоторых Колониальных Миров: Тайяхат, Равноденствие, Дальний Берег, Сириус, Кимон, Брегга, Пьяный Лес. 5. Миры Присутствия – миры, где не имеется разумных существ и присутствуют люди – в качестве частных лиц или работников всевозможных компаний, корпораций, государственных служб или служб ООН. Согласно закону, каждое частное лицо или организация должны иметь лицензию ООН на поселение, без которой они не допускаются к трансгрессорной станции. Лицензии выдаются Службой Планетарных Лицензий, и она же наблюдает за Мирами Присутствия, пока те не получат статус Колоний. Миров Присутствия около пятисот. Индексы ИТР и ИСУ. для них не подсчитываются. 6. Каторжные или Ссыльные Миры. Их всего восемь; индексы ИТР и ИСУ для них не подсчитываются. Каторжные Миры находятся под контролем ООН (только внешним, не внутренним) и используются для принудительной высылки преступников и террористических элементов на вечное или временное поселение (мужчин и женщин высылают на различные планеты). Тид, Северный материк – место пожизненной ссылки мужчин Колыма – место пожизненной ссылки мужчин Рибеллин – место пожизненной ссылки мужчин Нойс – место пожизненной ссылки женщин Сахара – место ссылки мужчин, срок от восьми до пятнадцати лет Сицилия-3 – место ссылки мужчин, срокот трех до семи лет Порто-Морт – место ссылки мужчин, срок от трех до семи лет Острог – место временной ссылки женщин 7. Закрытые Миры – миры, с которыми по тем или иным причинам, заблокирована связь через станции Пандуса. Первым таким миром была Земля (Старая Земля, как ее называют в Разъединенных Мирах); затем к Земле прибавилось еще несколько планет. Точное их число держится в тайне. Названия некоторых из Закрытых Миров: Конго, Фейхад, Тизана, Сайдара. 8. Планеты-Свалки – безжизненные миры (иногда – газовые гиганты типа Юпитера), куда в процессе терраформирования перебрасывались отходы производства – лишний грунт, скалы, льды, вода и так далее.3. Миры Большой Десятки
1. Планета Колумбия (так североамериканцы назвали свой новый мир, исправив допущенную на Земле историческую несправедливость). Ее суша состоит из двух больших материков, называемых Старый и Новый Свет (аналоги Евразии и Америки). Основные страны Колумбии: США, Британия, Ирландия (частично), Канада (кроме Квебека), Австралия, ЮАР (белое население ЮАР), Нидерланды, Италия, Сицилия-1 (частично), Мексика, Израиль, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Южная Корея, Бирма, Сингапур, Бангла-Деш. Управляется полуцентрализованно – Высшей Палатой Сената, куда входят президент США, король Британии, японский микадо и представители других стран. Примечание: всвязи с тем, что произошло разделение некоторых стран и народов, в Разъединенных Мирах существуют три Ирландии (штат в США, островное государство на Колумбии и планета – Независимый Мир), три Сицилии (остров на Колумбии, входящий в состав Республики Италия, Независимый Мир – Сицилия-2, и Каторжный Мир – Сицилия-3), пять Син-гапуров (государство на Колумбии, Протекторат ООН и еще три региона с таким же названием в разных мирах) и так далее. 2. Планета Европа. Ее суша состоит из четырех материков и огромного острова с прилегающим архипелагом. Страны распределены по континентам следующим образом: континент Галлия – Франция, Бельгия, франкоязычная Швейцария, Румыния, Молдавия, отделившийся от Канады Квебек, франкоязычный Алжир; континент Иберия – Леон, Арагон, Кастилия, Мавритания (страны, на которые распалась бывшая Испания), Португалия; континент Тевтоно-Скандинавия – Германия, Австрия, немецкоязычная Швейцария, Венгрия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия; континент Славения – Украина, Польша, Литва, Чехия, Словакия, Сербия и прочие христианские страны бывшей Югославии; остров и весь архипелаг – Эллада. Централизованного управления планета не имеет. 3. Планета Россия. Ее суша состоит из одного огромного материка с сильно изрезанной береговой линией и множества островов. Основные страны: Россия с Сибирью, Белоруссия, Балтия (русскоязычное население бывших прибалтийских республик), Болгария, Армения, Грузия, большинство малых кавказских народов, Казахстан, Киргизия, Монголия, Эфиопия, ИНдия. Управляется централизованно – Координационным Советом. 4. Планета Китай. Ее суша состоит из трех материков, разделенных мелкими морями и представляющий, фактически, один континентальный конгломерат. Основные страны: Китай, Северная Корея, Вьетнам и другие государства Индокитая (кроме Бирмы), Индонезия. Централизованного управления нет, но фактически доминирует Китай. 5. Южная Америка или планета Южмерика с шестью контине-тами. Основные страны: Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Венесуэла, Колумбия. Управляется полуцентрализованно, образуя Южмериканский Союз. Доминируют Бразилия и Аргентина 6. Латинская Америка или планета Латмерика, с одним материком. Основные страны: государства бывшего Панамского Перешейка, Парагвай, Уругвай, Боливия, Эквадор, Куба, Гаити и так далее – все латиноамериканские страны с неустойчивыми политическими режимами, которые не были приняты в состав.Юж-мериканского Союза. Централизованное управление отсутствует. 7. Планета Черная Африка, с одним огромным материком и несколькими субконтинентами. Там сосредоточены все страны бывшей земной Африки с негроидным населением (кроме Эфиопии) и почти все чернокожие африканские народы (кроме эфиопов, конголезских пигмеев и некоторых других племен). Имеется новое государство – Нью-Алабама, созданная той частью американских негров, которые пожелали переселиться на Черную Африку. Централизованное управление отсутствует. 8. Планета Сельджукия. Ее суша состоит из трех материков: двух – крупных, покрытых лесами и степями, и одного небольшого, гористого. Основные страны: Турция, Туркмения, Афганистан, Пакистан, мусульманские страны бывшей Югославии, мусульмане Болгарии и Албании. Централизованного управле– ния нет, но доминируют Турция и Пакистан. 9. Планета Уль Ислам, с одним большим материком. Основные страны: Иран, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и несколько новых государств. Имеется централизованное управление – Исламская Диктатура, очень жесткий и потому весьма нестабильный режим. Во всех областях доминирует Иран. 10. Планета Аллах Акбар. Ее суша состоит из трех причудливых континентов, расположенных так, что между ними образо-ваныподобия земных Средиземного, Красного, Аравийского морей и Персидского залива. Аллах Акбар населен арабами, в том числе – из бывшей Африки (кроме Египта и частично Алжира). Основные страны: Ирак, Палестина, Сирия, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия и т.д. (кроме Объединенных Эмиратов, пожелавших отправиться на Колумбию). Есть несколько новых государств – например, Гранада, Мавритания и эмират Счастливая Аравия. Имеется полуцентрализованное управление планетой – Диван (Совет) Шейхов – который на самом деле является фикцией. Идет борьба за общепланетную гегемонию между Ираком (с одной стороны), и Саудовской Аравией, Сирией, Палестиной и Ливаном – с другой.Михаил Ахманов Наемник
Пролог
Заир, Киншаса; 23 апреля 1997 г., полдень. Ялинга, Центрально-африканская республика, 5 мая 1997 г., ближе к вечеруШоссе просматривалось в обе стороны метров на пятьсот. К северу, в дальнем его конце, громоздились под низким, песочного цвета небом какие-то строения, то ли заводские корпуса, то ли многоэтажные склады, угловатые бетонные коробки, затянутые пылью и сизыми дымными облаками. Оттуда временами слышался рев орудийных залпов, багровые сполохи подсвечивали дым, после чего одна из коробок вдруг начинала крениться, содрогаться и тут же с грохотом оседала, обнажая скелет из железных балок и рваной перекрученной арматуры. Мнилось, что здание освежевали, содрав с него кожу и плоть, а кости бросили за ненадобностью – пусть высыхают под жарким африканским солнцем, среди бесконечной саванны. На юге было тихо, и вид казался несравненно приятнее. Там шоссе тонуло в тени высоких деревьев, а между их серых и коричневых стволов просвечивали стены, но не бетонные, а сложенные из красного кирпича либо желтоватых каменных блоков. Над стенами пластались серебристые плоские кровли, торчали тарелки спутниковых антенн, а кое-где ласкали взгляд изящные башенки в испано-мавританском стиле, подобные остроконечным стрелам, пронзавшим пышную зелень древесных крон. Пригород Киншасы, населенный европейцами… Виллы, коттеджи, бассейны, тихие улочки, живые изгороди из кустарника, усыпанного яркими цветами… И раскаленная лента шоссе – будто пуповина, соединявшая безмятежного младенца с корчившейся в муках матерью. Капитан Керк опустил бинокль, покосился на стоявшего рядом Свенсона, первого лейтенанта и своего помощника, потом завертел головой, обозревая позицию. Его подразделение, синяя рота «би» 42-го батальона третьей воздушно-десантной бригады, окопалось по обе стороны шоссе, отрезав тонувший в зелени поселок от южных городских окраин. Слева – алая рота «эй», справа – желтая «си»; вместе они прикрывали километровую полосу, граничную территорию между двумя мирами, черным и белым. В мире белых, невзирая на полуденный час, царила напряженная тишина, в мире черных разворачивалась битва: армия Лорана Кабиле, ворвавшись с востока в Киншасу,[230] шаг за шагом продвигалась на запад, к речным берегам, преодолевая сопротивление правительственных войск. Надо думать, дела у Кабиле и его Альянса шли неплохо – кроме перевеса в живой силе и технике, мятежных бойцов и полководцев подогревал энтузиазм. Военачальники наверняка уже прикидывали, как станут делить добычу, портфели министров и депутатские кресла. – Везет нам, – сказал лейтенант Свенсон, отирая струившуюся из-под каски испарину. – Везет, мой капитан! Два батальона в самом пекле, в деловых кварталах, а мы загораем под теплым солнышком. Хорошо! Только жарко. Отцепив висевшую у пояса флягу, он сделал пару глотков. Кадык на тощей шее лейтенанта дернулся вверх-вниз, потянув за собой алый рубец, перечеркнувший горло. Рубец Свенсон заработал в Руанде, когда его пытались задушить проволочной удавкой; к счастью, он оказался резвее, чем прыгнувший ему на спину тутси.[231] Капитан мрачно ухмыльнулся. – Вечером пересчитаем трупы, тогда и выясним, кому повезло. Свенсон оторвался от фляги, моргнул белесыми ресницами. – Не в настроении, КК? С чего бы? – Война, Свенсон, война… Какие поводы для радости? – Керк вздохнул и, оглянувшись на свой командирский джип и три бронетранспортера, застывших посреди шоссе, добавил: – Война – слишком серьезное дело, чтоб доверять его военным. – Это кто сказал? Ты? – Нет, Шарль Талейран. – Не знаю про такого парня, никогда не слышал. Хотя погоди… Встречался я однажды с Талейраном, но вроде не с Шарлем, а с Кристофом… Точно, Кристоф Талейран, швейцарец из Женевы! Пиво лакал как дромадер! В Анголе, в девяносто четвертом, полчерепа ему снесло… Этот? Керк покачал головой, развернулся и не спеша зашагал к джипу, размышляя о том, что Свенсон, в сущности, хороший парень, надежный и распорядительный, лучшего помощника не найдешь, только слишком уж разговорчив. Керку вообще везло на общительных скандинавов – прежний его заместитель Стейнар был датчанином и обожал порассуждать о викингах, драккарах, древних богах и Валгалле. В ангольских джунглях ему всадили пулю под лопатку. В жалкой тени машин сгрудились восемь человек, отделение сержанта Зейделя. Стояли, потели, но ни один солдат даже воротника не расстегнул; лица и башмаки в пыли, зато оружие надраено до блеска. Шесть автоматчиков, чех Глоба с базукой, а Зейдель – при снайперской винтовке. Сержант-австриец ростом не вышел и потому таскал винтовку на укороченном ремне, чтобы приклад не бил под колено. На сиденье джипа лежала рация. Капитан поглядел на часы, подождал, пока минутная стрелка не доберется до нужной отметки, щелкнул клавишей и доложил: – Гепард-один на связи. Пума, как слышите меня? – Я Пума, – лязгнуло в ответ. – Обстановка? – Бой на южной окраине. Живой силы не наблюдаю, но артобстрел довольно интенсивный. Вижу, как рушатся здания. – Понял. Ягуар сообщает: центр занят силами Альянса, наши части блокировали ряд гостиниц, банков и резиденции посольств. Есть боевые контакты с обеими противоборствующими сторонами, но незначительные. – Спустя секунду голос в рации уточнил: – Черные слишком заняты. Режут друг друга. – Снова пауза, потом вопрос: – Ваши позиции, Гепард? – Отрыл окопы, людей рассредоточил. Жду. – Техника? – Технику мне быстро не закопать. Грунт сухой, плотный. – Технику тоже рассредоточьте. Возможно, части Мобуту отступят по шоссе. В поселок не допускать! Но если направятся в саванну, не препятствуйте. – Предположительные силы? В рации снова лязгнуло – похоже, собеседник Керка смеялся. – Сколько черт пошлет, легионер! Не меньше роты, не больше дивизии! Ясно? – Ясно. – Здесь Пума. Конец связи. Кодом «Пума» обозначался батальонный командир канадец Харрис, а «Ягуар» был чином много выше – полковник Ришар Дювалье, одноглазый командующий третьей бригады и ветеран Легиона. Над ним стояли немногие: Бог, президент, военный министр и, может быть, пара-другая персон из главного штаба. Но штаб находился в Париже, а Дювалье, по большей части, в Африке, что сильно сокращало расстояние между полковником и Всемогущим Творцом, а временами, когда вопрос касался жизни или смерти, эта дистанция сводилась до нуля. Приказы, конечно, отдавал Париж, но были они весьма туманными и многозначными: положим, заглянуть в Киншасу, дабы перемена власти в южных темпераментных краях не ущемила благоденствия французских граждан. Однако толкование приказа и выполнение его зависели от Дювалье; сообразуясь с обстановкой, он мог отправить роту, батальон или же полную бригаду, почти три тысячи десантников; и только он решал, кого конкретно защищать и как. В данном случае защита была всеобъемлющей и полной: аэропорт со всех прилегающей территорией, судостроительные верфи, химический завод, деловые кварталы, посольские особняки и пригородный район, где проживало тысяч двадцать белых. Отправив бронетехнику на позиции, Керк уставился в мутное желтое небо, поскреб заросшую щетиной щеку и злобно сплюнул. Почти что отслужил – пара недель до конца контракта! Если б не Альянс с проклятым Кабиле, сидел бы сейчас под Ялингой да любовался, как сержанты гоняют роту на плацу! Сдавал бы Свенсону дела, пил лимонад и размышлял, как добираться домой – через Каир и Рим либо Алжир и Париж. Париж, наверно, предпочтительней… Негромкий голос Зейделя прервал его раздумья. – Мой капитан… Машина, мой капитан. Керк повернул голову. Со стороны поселка катился «лендровер», ехал медленно, словно демонстрируя, что прорываться через заставу не будет и неприятностей не причинит. На серой дороге серо-зеленая машина была почти незаметной, только полуденное солнце посверкивало в фарах и лобовом стекле. – Кого там дьявол несет… – пробормотал подошедший Свенсон. – В город, что ли, собрались? На дискотеку? Или в супермаркет? Капитан промолчал, только кивнул повелительно Зейделю, и тот, выйдя на середину шоссе, растопырил руки. Легионеры подобрались, перебросили автоматы на правый бок, лязгнули затворами. «Лендровер» остановился. Кузов его загромождали какие-то ящики и коробки, но на взрывчатку груз не походил, да и ракет, тактических или баллистических, не замечалось. Отметив это, Керк неторопливо двинулся к машине. Свенсон следовал за ним, отставая от командира на полшага, как предписывалось уставом. Дверцы слева и справа распахнулись, выпустив полного мужчину под пятьдесят и белокурую девушку. Мужчина был высоким, лысоватым, в полотняных штанах и рубахе навыпуск, девушка – пухленькой, с приятной мордашкой, в шортиках и топике, под легкой тканью которого задорно подпрыгивали маленькие груди. Солдаты оживились, Зейдель громко сглотнул слюну, а Свенсон ринулся вперед, будто гончая, завидевшая кролика. Керк процедил сквозь зубы: – Спокойней, лейтенант, спокойней. Здесь не бордель в Ялинге. – Затем он повернулся к мужчине и вскинул два пальца к виску: – Капитан Алекс Керк, мсье, Французский Иностранный Легион. Чем могу служить? – Крис Лябурш, горный инженер. Жаннет, моя дочь. – Мужчина кивнул в сторону девушки. – Очень любопытная юная особа. Родилась здесь и никогда не видела солдат. Я имею в виду настоящих солдат, из Франции. Капитан усмехнулся. – Солдаты самые настоящие, мсье Лябурш, но Легион все-таки иностранный. Не припомню среди нас французов. Бывают, конечно, но в самых высоких чинах, а так все больше немцы, итальянцы и британцы. Славяне и скандинавы тоже попадаются. – Но ваш безукоризненный французский!.. – Усердие, мсье, усердие, труд плюс природные способности. – Керк помолчал, затем, бросив выразительный взгляд на ящики в кузове, осведомился: – Что везете? Лябурш похлопал себя по лысине широкой ладонью. – Жарко! Вы с утра на самом солнцепеке… должно быть, пить хотите, а что у вас кроме воды? Там, – он махнул в сторону машины, – кола, лимонад, пиво и… – Пива и остального не надо, – прервал его Керк. – Вообще-то в бою легионеры пьют вражескую кровь, но в период затишья можно освежиться лимонадом. Устав дозволяет. Только холодным. – Холоднее некуда, – сказал Лябурш с широкой улыбкой. Поблагодарив, Керк велел сержанту выгружать подарки и разносить по огневым позициям, потом благосклонно кивнул Свенсону и показал глазами на девушку: мол, развлеки. Свенсон приосанился, расправил плечи и устремился к ней строевым шагом. Несмотря на камуфляж и запыленные башмаки, выглядел он великолепно: грудь в ремнях, на шее бинокль, за плечом автомат, справа на поясе кобура, слева – фляга и кинжал, а сверху – каска. Настоящий Рэмбо, подумалось Керку, просто мечта скучающих дам и любопытных девственниц. Оставив лейтенанта ворковать с Жаннет, они с Лябуршем прихватили по баночке колы и начали медленно прохаживаться вдоль обочины, сорок шагов на север, сорок шагов на юг. В одну сторону идешь, перед глазами благостная зелень, тихий пригород, уютные домики; в другую – глядишь на мрачные тучи, зарево взрывов, руины зданий, да слушаешь гул канонады. Впрочем, канонада была слышна повсюду, куда ни повернись. Лябурш рассказывал о местной жизни. Приехал он сюда с женой лет тридцать назад, после переворота Мобуту и гибели Хаммаршельда,[232] и значит, мог считаться старожилом. Про родной Гранвиль почти не вспоминал, изъездил Конго вдоль и поперек, трудился в горнодобывающих компаниях, попал к ангольцам в плен, бежал, едва не расставшись со скальпом; после рождения дочери, когда им с супругой было под тридцать, обосновался в Киншасе, в кирпичном коттедже, какой в Гранвиле молодому инженеру не по средствам: два этажа, двенадцать комнат, три веранды и бассейн. Сейчас он уже не молод и не беден и мог бы себе позволить дом в Нормандии и всякие прочие роскошества, однако… – Однако?.. – полюбопытствовал капитан, подняв в недоумении брови. Ему казалось странным и нелепым, что человек семейный, состоятельный, предпочитает жить вблизи экватора, а не в родных французских палестинах. Тем более, что в этих палестинах так спокойно, а здесь… Взглянув на городскую окраину, затянутую сизыми дымами, он попытался представить, чем занимался бы сам, имея коттедж в двенадцать комнат где-нибудь в Нормандии либо в Швейцарии, под Берном или Цюрихом. Разводил бы розы? Стрелял по тарелкам? Или выпиливал лобзиком из фанеры? Лябурш вздохнул, тоже покосился на дымные тучи да бетонные развалины и произнес: – Африка, сказка… Манит, чарует и притягивает… Вы давно здесь, капитан? – Три года. – Не ощутили ее очарования? Керк прищурился. – Вы что имеете ввиду? Слонов, гиен, арабских террористов или ангольских партизан? – Отнюдь. Я говорю об этом небе, о могучих реках, о пустынях и горах, об этих пространствах, необозримых, как Вселенная. – Лябурш развел руками, словно пытаясь обнять саванну. – Африка, девственный континент! В Европе такого не увидишь. Капитан хмыкнул, но не ответил ничего. Он не разделял тоску Лябурша по необозримым пространствам, ибо на родине капитана они имелись в таком количестве, что Африка, а заодно и Австралия с Южной Америкой, могли спокойно отдыхать. Все там было, на этой самой родине – могучие реки, высокие горы, пустыни и степи, леса, озера и моря; и было в таком изобилии, что никто не мог сообразить, как по-хозяйски распорядиться всем этим богатством. Богатство! Будто подслушав мысли капитана, Лябурш заговорил о нем. – Заир, страна сокровищ… Фрукты, кофе, каучук… кобальт, олово, цинк, уран, железная руда… В Катанге – медь и марганец, в Касаи – алмазы… Треть мировой добычи, если не больше! Уехать отсюда? – Он покачал головой, вздохнул. – Как уедешь! Жена говорит… Но Керк не узнал, что говорит жена Лябурша – канонада вдруг прекратилась, и из дымных туч на городской окраине стали вываливаться маленькие темные фигурки. Пронзительно заверещала рация, Керк метнулся к командирской машине и крикнул уже на бегу: – Домой! Уезжайте домой, мсье Лябурш! Домой, и в подвал! Когда стреляют, лучше подвала места нет. Рация рявкнула голосом Харриса: – Гепард-один! Я Пума! Докладывай, КК! – Пехота силой до двух батальонов. Тяжелой техники не наблюдаю. На шоссе – передвижные ракетные установки и пулеметы… – Керк вскинул бинокль к глазам, – …более десяти машин. Пока не движутся. Дистанция – триста восемьдесят метров. – Сообщение от Ягуара. Первое: папаша Секо на аэродроме, его самолет готовят к вылету. Второе: Альянс вытеснил противника из города. Часть уходит за реку, часть – на юг, в вашем направлении. Нужна поддержка, Гепард-один? Керк снова оглядел колонну из десяти-двенадцати джипов и бронемашин, цепь фигурок с автоматами и буркнул: – Справлюсь. Держите фланги, Пума. В его распоряжении были три десантные роты, двести человек, бойцы надежные и опытные. Еще столько же прикрывали поселок с востока и запада, а в тылу, где находился командный пункт Харриса, стояла вспомогательная часть, «крысы» майора Кренны. Однако на их помощь Керк не полагался, ибо гепарды с крысюками не дружат. Впрочем, помощь была не нужна. Отступающих – не больше семисот, три к одному, как и положено в оборонительном сражении; кроме того, вдруг и сражения не будет? Саванна широка! Обойдут поселок и двинутся к югу, в Кисангулу и Мадимбу, или восточнее, в Кинси…[233] Керк не успел додумать эту мысль, как его лейтенант, тоже вскинувший бинокль, чертыхнулся. – А вот и парни Кабиле… Видишь, командир? Колонна справа… отсекают с восточного направления… – Вижу. Вижу, чтоб мне в Хель провалиться! – пробормотал капитан и потянулся к рации. В саванну, восточнее поселка, торопливо выдвигались несколько сотен солдат, темнокожие здоровяки в выгоревшей под тропическим солнцем зеленой форме. Подразделение, вероятно, было свежим, не побывавшим в бою – шли быстро, энергично, тащили пулеметы, гнали лошадей с зарядными ящиками, грозили мобутовским бойцам оружием и кулаками. Смысл этого маневра был понятен: взять беглецов в мешок, отрезать от саванны, загнать и без хлопот освежевать. Причем чужими руками, подумал Керк, разглядывая отступающих в бинокль. Теперь им оставались две дороги: пяток километров на запад и с обрыва – в реку,[234] или по шоссе на юг, под пули Легиона. Керк щелкнул переключателем рации. – Гепард вызывает алых и желтых. Как слышите? Прием. – Волк-один на связи, – отозвался Деннис, командир роты «эй». За ним откликнулся «гиена» Марк Росетти. – Гонят к нам, – сказал капитан. Флегматик Деннис промолчал, Росетти витиевато выругался на итальянском. С итальянским у Керка были проблемы, но все же удалось поймать отдельные слова, «осел» и «задница». Еще упоминался Кабиле, но капитан не понял, кому принадлежала задница, ослу или лидеру Альянса. – Буду держать дорогу, – произнес он, глядя, как «лендровер» Лябурша скрывается за деревьями. – Машины – мои, ваше дело – пехота. Начнем по моему сигналу. Договорились? Деннис неразборчиво буркнул «йес», потом добавил: «Опять пачкаться придется» – и отключился. Росетти, мешая французский и итальянский, пропел куплет неплохо поставленным баритоном. Смысл сводился к тому, что белый петушок всегда готов потрахать черных курочек. – Отвечай по уставу, клоун! – прорычал Керк и, дождавшись подтверждения, кивнул лейтенанту: – На правый фланг, Свенсон. Джипы берем в перекрестный огонь. Стрелять по моей команде, после предупредительных сигналов. Покинув шоссе, он быстро зашагал к отрытым неподалеку окопам, где уже разместился Зейдель со своими людьми. Окопы были мелкими, до середины бедра, рассчитанными на стрельбу с колена или в позиции лежа. Прокаленная солнцем почва саванны твердостью не уступала камню, а корни выгоревших трав тянулись в ней как будто до самого центра Земли. Керк не стал изнурять солдат работой. Конечно, глубокий окоп всегда предпочтительней мелкого, но если у бойцов потом трясутся руки, разница между окопом и могилой незаметна. Капитан спрыгнул вниз, втянул носом воздух, поморщился. От комьев земли, уложенных в невысокий бруствер, шел сладковатый непривычный запах. Земля, знакомая капитану, пахла иначе – свежестью, влагой, кислинкой от трав, незабываемым, памятным с детства ароматом. И цвет ее был черным или бурым, а у этой – рыжий, словно у битого кирпича. Чужая земля, чужие запахи… Рация ожила. – Гепард-один, я Пума! Обстановка? – Готов отразить атаку. Наблюдаю передвижение частей Альянса. Обходят отступающих с восточного направления. Есть вероятность, что парни Мобуту сцепятся с ними, а не со мной. В рации хрипло заклекотало – Харрис смеялся. – Не думаю, КК! Им нужно шоссе. В степи от противника не оторваться. – Согласен, – ответил Керк и поднял бинокль. Машины, скопившиеся в дальнем конце дороги, медленно поползли вперед. Возглавлял колонну приземистый джип с ракетной установкой и четырьмя автоматчиками, за ним катились набитый солдатами армейский грузовик и, кажется, штабная тачка – в ней восседал угрюмый тип, тянувший видом на полковника. Петлиц его и орденов Керк, разумеется, не разглядел, но долгие годы военной службы снабдили его изрядным опытом в физиогномике. Еще курсантом он усвоил, что всякое высокое начальство отлично не погоном, а повадкой, и лучше узнавать его в лицо, а также сбоку, со спины и с части тела, которая пониже поясницы. Колонна, набирая скорость, двигалась к поселку, слева и справа развернулись цепью сотни четыре солдат. Шестнадцать машин, отметил Керк и принялся отсчитывать расстояние. Триста пятьдесят метров, триста, двести пятьдесят… На отметке «двести» он поднял рацию и скомандовал: – Предупредительный огонь. Короткими очередями. Стрекот автоматов был негромок; звуки словно тонули и гасли в просторах саванны, не успев окрепнуть и оформиться. Не то что в горах, где каждый выстрел порождает долгое предательское эхо… С бронетранспортера ударил пулемет – стреляли, как было приказано, по дорожному полотну, выбивая частицы асфальта и небольшие пыльные смерчи. Капитан на мгновение прикрыл глаза; мнилось, что тявкает шакал, а ему аккомпанируют усердные цикады. Над передней машиной атакующих сверкнул огонь, дымный след снаряда стремительно развернулся в воздухе, и командирский джип Керка вымело с шоссе. Его останки вспыхнули и запылали; с грохотом взорвался бензобак, рыжий гриб с серой полупрозрачной шляпкой вырос на обочине дороги и тут же опал, вылизывая пропитанную бензином почву. – Глоба, по передней машине, – распорядился Керк. Слева глухо рявкнула базука, джип с ракетной установкой подпрыгнул и завалился на бок. Крыло мчавшегося за ним грузовика отшвырнуло изуродованную машину, колеса смяли тела солдат, то ли погибших, то ли еще живых, оглушенных взрывом, и Керку почудилось, что он различает вопли и хруст костей. Иллюзия, конечно – до противника было метров сто пятьдесят. – Обменялись комплиментами, – послышался в рации бодрый голос Свенсона. – Сбей грузовик, – сказал капитан и повернулся к Зейделю. – Их командир – в штабной машине. Вышиби ему мозги, Генрих. И побыстрее! – Айн момент, мой капитан! Зейдель нежно приник к винтовке – точь в точь как к любимой женщине. Раздался сухой щелчок, и голова угрюмого полковника внезапно дернулась, а тело начало сползать на пол кабины. Полыхнул разрыв у передних колес грузовика, пулеметная очередь прошила радиатор, потом – лобовое стекло; машина вильнула, встала поперек шоссе, с бортов посыпались солдаты, штабной джип врезался в кузов. Прочей технике удалось отвернуть – джипы с автоматчиками и пулеметными установками тормозили, съезжали с шоссе, разворачивались веером. Дистанция сто – сто двадцать, прикинул Керк. Он медлил, ожидая, что бойцы, лишившись командира, повернут назад или – чем черт не шутит! – побросают оружие и тихо-мирно отправятся на рудники или в иное место, куда приговорит военный трибунал Альянса. Но этим парням на рудники, похоже, не хотелось – или они точно знали, что до рудников не доживут. В следующее мгновение огненный шквал обрушился на позиции Керка. Огонь был беспорядочным, но плотным; в соседнем окопе вскрикнул легионер, кто-то выругался, кто-то молча прижался к земле, хоронясь за невысоким бруствером. Густые цепи атакующих стремительно покатились по выжженной земле саванны. Отчаяние, подумал капитан, склонившись к рации. Не героизм движет ими и не любовь к отчизне и президенту, дряхлому пню, а только лишь отчаяние. Отчаяние пополам с ненавистью! Если они ворвутся в поселок… – Желтым и алым, командирам синих групп – огонь на поражение! Голос его был ровен. Отдав приказ и сунув рацию за пояс, он поднял автомат. Привычный гул пальбы уже не походил на пение кузнечиков и лай шакалов; теперь игралась другая симфония, в которой лязг и грохот служили фоном для предсмертных воплей. Легион трудился добросовестно, усердно: палец давил на спуск, пустые рожки летели на дно окопа, дальнюю цель брали пулей, ближнюю – гранатой, снайперы высматривали командиров, расчеты пулеметчиков – все, что двигалось на четырех колесах, ревело моторами, плевало огнем. Легион был создан ради этого, жил ради таких мгновений, и его бойцам было, в общем-то, безразлично, кого защищать и кого убивать; они относились к убийству как к работе, оговоренной контрактом, которую следует делать профессионально, быстро и, по возможности, безболезненно. Пленных Легион не брал, и всякие любители развлечься с беззащитной плотью в нем не задерживались – таких вербовали в команду сортом пониже, к майору Кренне. Рация за поясом Керка хрипло прокашлялась. – Я – Пума, Гепард-один. Нуждаетесь в поддержке? – Нет. Добиваем. – God is always on the side of the big battalions,[235] – с удовлетворением произнес Харрис и отключился. Пространство по обе стороны от шоссе было завалено трупами и брошенным оружием, половина машин горела, другие застыли в неподвижности, с задранными к небесам стволами или перевернутые на бок. Среди этого хаоса и разора бродила пара сотен человек, ошеломленных и окровавленных, уже не помышлявших об атаке или организованном сопротивлении; они напоминали стаю призраков, которых ветер кружит туда-сюда, то сбивая их в небольшие кучки, то разбрасывая окрест. Солдаты Альянса – те, что заняли позицию восточнее – начали двигаться к полю боя и находились сейчас на фланге роты «си». У них, вероятно, были свои задачи: пленных повязать, трофеи оприходовать. – Гепард вызывает Гиену-один, – произнес Керк. – Здесь Гиена, – откликнулся Росетти и со вкусом причмокнул: – Падали-то сколько! – Пострелять еще хочешь? – Не откажусь. В кого? – У тебя на фланге люди Кабиле. Дай пару очередей – пусть стоят и ждут, и не суются к шоссе. – Вот это правильно, – согласился Росетти, – это я одобряю! Что за демарш в зоне ответственности моей роты? Пусть стоят и ждут, черные задницы, пока не дадим разрешения. А может, перебить их к дьяволу? – Нельзя, – сказал Керк и с сожалением добавил: – Не было такого приказа ни от Пумы, ни от Ягуара. Затем он вылез из окопа, связался с лейтенантом Свенсоном, велел представить рапорт о потерях и выслать пару групп на поле: технику взорвать, раненых и прочих пленных переместить к дороге. Справа, с позиций Росетти, отрывисто рявкнул пулемет. Бойцы Альянса остановились в замешательстве, потом над их колонной взлетела белая тряпка – то ли полотенце, то ли оторванный в спешке рукав рубахи. Вперед вышел рослый темнокожий офицер, опустил на землю оружие, снял с пояса кобуру, продемонстрировал пустые руки и торопливо направился к Керку. – Пропустить или яйца отстрелить? – спросила рация голосом Росетти. – Пропустить. – Капитан повернулся к Зейделю и вымолвил: – Видишь того долговязого типа? Держи его на мушке, Генрих. Сделаю так, стреляй. – Он щелкнул пальцами, передвинул на бок автомат и зашагал навстречу представителю Альянса. Они сошлись у разбитого джипа и живописной груды трупов: водитель, трое покойных рядовых и пулеметчик в чине капрала. Рослый небрежно взял под козырек, Керк ответил с еще большей небрежностью. – Бонго Мюлель,[236] подполковник вооруженных сил Альянса. – Капитан Керк, Легион. – Вы не допускаете моих людей к пленникам? – Допускаю. Они ваши. Отправьте несколько групп, а с ними – санитаров, пусть окажут помощь раненым. – Капитан сделал паузу, потом добавил: – Надеюсь, никаких политических счетов и репрессий? Вы будете обращаться с пленными в соответствии с Женевской конвенцией? – В полном соответствии, – осклабился подполковник Мюлель. По контрасту с темной кожей зубы его казались ослепительно белыми. – В полном соответствии, капитан, – повторил он. – Точно так же, как поступили бы они в печальных для нас обстоятельствах. Щека Керка дернулась. Он собирался что-то сказать, но тут за его спиною грохнул взрыв. Глаза Мюлеля округлились. – Вы взрываете технику? Зачем? Это же наши трофеи! – Пленные ваши, трофеи мои, – мстительно уточнил капитан. – А я люблю фейерверки. – Очень недружественное поведение! Мы – демократический фронт, и можем рассчитывать, что вся общественность Европы, все либеральные силы… – Здесь не Европа, и я не политик, а легионер, – оборвал его Керк. – Всего хорошего, мсье подполковник. Бонго Мюлель окинул его свирепым взглядом, стиснул челюсти и, сделав поворот через левое плечо, скорым шагом направился к своей команде. Глядя в задумчивости на широкую спину подполковника, капитан Керк щелкнул пару раз затвором автомата, потом плюнул и пробормотал: – Повесить бы тебя на банане вместе с папашей Мобуту, а заодно и наших стервецов… Демократы хреновы!
* * *
Спустя двенадцать дней капитан Керк стоял в просторном и прохладном кабинете, где на стенах висели портрет генерала де Голля, гравюры с изображением спаги,[237] сцепившихся в схватке с арабскими всадниками, и голова вилорогой антилопы. В кабинете также имелись другие диковины и чудеса, однако главным его достоинством была прохлада. Здесь ее ценили наравне с хорошим коньяком, белой женщиной и чистой питьевой водой, чему удивляться не приходилось – ведь лагерь Легиона под Ялингой располагался всего в семистах километрах от экватора. Можно сказать, в самом сердце Африки, откуда до любой державы дотянуться – без проблем. Хочешь, через Судан в Эфиопию, хочешь, в Ливию через Чад, а хочешь – в Анголу через Заир… Словом, удобное место, насиженное. – Жаль, – произнес полковник Дювалье, хозяин прохладного кабинета, – чертовски жаль! Вы превосходный офицер, с хорошей подготовкой и немалым опытом… Не хочется вас терять! Если я предложу вам место в штабе и очередное звание, подумаете о продлении контракта? Керк покачал головой. – Я сожалею, мой полковник. Семейные обстоятельства, сыновний долг… Ну, вы понимаете… – Не понимаю. Ваш отец, насколько мне помнится, боевой генерал, и лучшая награда для него – успешная карьера сына. Причем не где-нибудь, а в самых элитных войсках одной из европейских стран! Быть может, лет через двадцать вы сядете в это кресло, мой дорогой, под этим портретом! – Полковник хлопнул по подлокотнику и покосился на де Голля. Затем добавил: – Конечно, если вас не доканает лихорадка и вам не вышибут мозги, в чем нет фатальной неизбежности. Пример перед вами: я ведь жив и относительно здоров! В том-то и дело, что относительно, подумалось Керку. Нет пары ребер с правой стороны, коленная чашечка раздроблена, плечо прострелено и глаз – стеклянный… Об остальных убытках и потерях Дювалье ходили только слухи. Впрочем, несмотря на свои пятьдесят, он исправно посещал бордель в Ялинге. – Кроме отца-генерала есть еще и мать, – напомнил капитан. – Мечтает о внуках, а я не женат… К тому же последний в роду… Полковник откинулся в кресле, сверкнув стеклянным глазом. – Это легко исправить, Керк. Два месяца отпуска в Париже или в вашем северном отечестве, и вы настрогаете столько детей, что хватит на диверсионную команду. Или я не прав? – Разумеется, правы. Однако, мой полковник, речь идет не о бастардах, а о законных потомках и наследниках. Значит, невеста в белом платье, свадьба, шампанское, цветы, медовый месяц… На другое моя матушка не согласна. – Пфа! – Дювалье небрежно помахал рукой. – За два месяца можно дважды вступить в брак и развестись. Ну, не за два, так за три… По месяцу на невесту и по неделе на развод. – Невест еще найти надо, – возразил капитан. – Я же сказал: три месяца… На поиски будет еще по неделе. Кроме того, вы можете остановиться на самом первом варианте. Капитан промолчал, и Дювалье, переглянувшись с вилорогой антилопой и генералом де Голлем, произнес со вздохом: – Ну, как пожелаете… Ваше внимание к матери похвально, но думаю, что внуки и все остальное, чем вы готовы ее осчастливить – не более, чем эпизод. Бойцы должны сражаться, капитан! А значит, вы вернетесь в строй. Надеюсь, в наш… Не хотелось бы увидеть вас в прицеле снайперской винтовки. Он поднялся, протянул капитану руку и сообщил, что документы и деньги можно получить у майора Гернье в финансовом отделе. Направившись туда, Керк задумчиво усмехался и покачивал головой. Три года в Легионе, а перекинуться словом с полковником на посторонние темы удавалось не часто… можно сказать, в самый первый раз… Общение Дювалье с капитанами сводилось обычно к приказам и выволочкам, причем в обоих случаях он был похвально краток. Взяв у Гернье документы, Керк покинул здание штаба и зашагал вдоль складов и ангаров с техникой, мимо плаца, где сержанты с грозным видом гоняли пополнение, мимо ротных бараков и почти таких же корпусов для офицерского состава – длинных, с плоскими кровлями и окнами, похожими на бойницы. В каждом окне торчал кондиционер, а за последним жилым корпусом, в кругу почти не дающих тени деревьев, вяло журчали струйки фонтана: три наяды или нимфы изливали воду в крошечный круглый бассейн. Место пользовалось дурной славой – поговаривали, что лет восемь-девять назад в бассейне утопился лейтенант-датчанин. Собственно, не утопился, а утонул, выйдя из бара в том состоянии, когда наяды из позеленевшей бронзы кажутся вполне готовыми к соитию с изголодавшимся по ласке офицером. Обогнув фонтан, Керк приблизился к строению, напоминавшему парижское кафе из старого полузабытого фильма: две витрины по фасаду, между ними – вход со стеклярусной занавесью, черепичная крыша, продолженная полосатым тентом, полдюжины столиков, стулья из гнутых алюминиевых трубок. За столиками не было никого – зной, пыль и жаркий сухой ветер не располагали к отдыху на свежем воздухе. Бар для господ офицеров третьей бригады не имел названия и упоминался склонными к его посещению лицами как просто «бар» или по владельцу, индусу Пранаяме. Пранаяма, однако, был таким же индусом, как бар – парижским кафе: происходил он из Лондона, где родились три поколения его предков, и охотно отзывался на имя Кристофер. Керк заглядывал сюда не часто: во-первых, цены кусались, а во-вторых, к спиртному, за исключением сухих французских вин, он проявлял полное равнодушие. Впрочем, день сегодня был особенный, отвальная как-никак, когда положено принять на грудь и угостить коллег, чтоб не поминали лихом. Коллеги по оружию, так он их обозначал, дабы не путать с боевыми товарищами. Такие товарищи у него имелись, однако не здесь. Внутри было тихо, сумрачно и относительно прохладно – не так, как в кабинете Дювалье, но много приятней, чем снаружи. Свенсон уже сидел за столиком, грыз соленые орешки, потягивал пиво из высокого бокала; у стойки бара угощался незнакомый Керку капитан, а трое офицеров из 39-го батальона сражались с бутылкой шотландского виски – похоже, не первой, если судить по их раскрасневшимся физиономиям. Мерно гудел кондиционер, жужжали залетевшие с улицы мухи, позвякивали стаканы в руках Пранаямы – как всякий бармен в мертвый час он занимался важнымделом: полировал посуду до блеска. Керк подошел, кивнул лейтенанту и опустился на стул. – Порядок, КК? – Порядок. Полный расчет. – За это стоит выпить. – Свенсон щелкнул пальцами. – Крис, пива! – Потом поглядел на свой полупустой бокал и сообщил: – Росетти и Деннис будут минут через сорок. Харрис задержится. Сказал, не ждите, приду, когда смогу. Они помолчали. Чокнувшись с Керком, Свенсон допил пиво, пошарил в кармане френча, выложил на стол что-то небольшое, завернутое в бумагу. – Вот… Подарок тебе, капитан… Не самое дорогое, чем я владею, но самое памятное. От жизни моей и крови… В плотном бумажном пакете была сложенная аккуратными кольцами струна. Прочная, гибкая, как дамасский клинок, с деревянными стержнями с обоих концов, удобными, чтоб захватить их в кулаки и, захлестнув петлю на вражеской шее, дернуть и сдавить, пока не прервется дыхание… Керк осторожно потрогал ее, вскинул глаза на Свенсона. – Та? – Та. – Погладив шрам на шее, лейтенант уточнил: – Прямо отсюда. Если хочешь, могу и пальцы ассасина подарить. Три, заспиртованные. Я их ножом отхватил. Капитан негромко рассмеялся. – Это уже слишком, Свенсон! Должно ведь тебе что-то остаться на память! За удавку спасибо, а пальчики будешь показывать внукам. Если доживешь. – Доживу. Во всяком случае, постараюсь. Кивнув, Керк спрятал удавку в карман. Полезная вещь; вроде бы не оружие, однако в умелых руках опасней, чем клинок и штык. С подобными предметами его учили обращаться, и из занятий этих он вынес убеждение, что человеческая жизнь хрупка, ибо отнять ее можно сотней разнообразных способов. Просто удивительно, сколько вполне безобидных штуковин годилось для такого дела – заточенный карандаш, пакет из пластика, лопатка, вилка, скрепка или, как в данном случае, кусок железной проволоки. Свенсон поерзал на стуле, потом наклонился к нему. – Спросить хочу, КК… Помнишь, ты сказал: война – слишком серьезное дело, чтоб доверять его военным… – Это не мои слова – Талейрана. – Пусть Талейрана, дьявол с ним… Ты мне вот что объясни: если не военным, не генералам и полковникам, не нам с тобой, то кому? Керк пожал плечами. – Не знаю, Свенсон. Валгаллой клянусь, не знаю! – Но этот парень, Талейран, он ведь кого-то имел ввиду? – Политиков. Он говорил о политиках. Губы Свенсона презрительно скривились. – Политики! Я б им одно доверил: стирку солдатских подштанников! Самых ветхих – новые-то украдут… Ты на Мобуту погляди – был генерал как генерал, а сделался политиком, так обобрал своих и бросил! Сколько у него миллиардов? Три? Четыре? – Говорят, шесть, – отозвался Керк, согласно кивая головой. С политиками в самом деле творилось что-то неладное – может, выродились со времен Талейрана или, наоборот, их эволюция шла закономерно, в строгом согласии с техническим прогрессом. Прогресс, как знают все, движется финансами, а не отжившими сантиментами вроде чести, патриотизма и верности долгу. Бойцы, однако, должны сражаться, подумал Керк, припоминая, что не один Дювалье придерживался этой аксиомы. С ним был согласен майор Толпыго, первый наставник Керка в «Стреле»; майор лишь уточнял, что сражаться надлежит за родину, за матерей и жен и за то, чтобы чекушка стоила рубль сорок девять. По мнению майора, эта цена являлась критерием стабильной экономики, а значит, войны лучше поручить производителям чекушек – или хотя бы тем из них, кто держит цены и не разбавляет горячительное. Керк уже собирался поделиться этой мыслью со Свенсоном, но тут в помещение ввалились Росетти и Деннис. – Чем угощаешь? – спросил итальянец, присаживаясь к столу. Деннис молча плюхнулся напротив и с мрачным видом вытер пот со лба; он был тучен, краснолиц, не любил жару и ненавидел Африку. – Чем пожелаете, – ответил Керк, хлопнув ладонью по карману, что означало: я, мол, при деньгах. Заказали хорошего виски, шотландского, выпили, и Деннис, побагровев еще больше, пробурчал: – Завтра летишь? – Завтра. – Куда? – Через Алжир в Париж. Потом – домой. – Париж… – эхом откликнулся Деннис, уставившись взглядом в угол. – Париж! Завидую! Париж подходяшее место, чтобы забыть о Ялинге, Киншасе и остальном африканском дерьме… – Он потянулся к стакану, глотнул и сообщил: – Не континент, а страшный сон! – Зато деньги платят, – изрек практичный Свенсон и собирался добавить что-то еще, но тут, перехватив инициативу, заговорил Росетти: – Кстати, о снах… Приснилось мне вчерашней ночью, будто лежу я в могиле, в глубокой яме под оливами – не здесь, выходит, а на кладбище в своем Модуньо. Гроб у меня багряный, с позолотой и кистями, сам я в начищенных сапогах и генеральском мундире, а по мундиру – ордена и аксельбанты, аксельбанты и ордена! Кортик – при бедре, кобура на поясе, фуражка, как положено, на груди… И будто бы сам папа и четыре кардинала служат надо мной: папа – в белом, кардиналы – в красном, а вокруг толпятся святые отцы, кто с библией, а кто с крестом, и все в чинах, архиепископы да епископы. А я лежу и размышляю, за что мне этакая честь… Деннис и Свенсон хмыкали, усмехались, но слушали эту историю с интересом – язык у Росетти был без костей, и байки его отлично шли под горячительное. Что до Керка, то он кривился и мрачнел. Снились и ему такие сны, снились!.. Ну, не совсем такие, но похожие, правда без олив, роскошного гроба, кортика при бедре и мундира в орденах. И, разумеется, без кардиналов и папы. Яма, однако, в них была.Глава 1
Калифорния, Сан-Франциско и Халлоран-таун; 15 июня 1997 г., утро и первая половина дняНебо было знойным, мутным, подернутым желтовато-серой пеленой; казалось, оно давит на плечи Каргина неподъемным грузом, пригибая к пыльной, такой же желтовато-серой земле. Будто и не небо вовсе, а плоский каменный монолит, крышка огромного гроба, подпертая тут и там изломанными пирамидами гор. Горы выглядели мрачными, бесплодными, совсем непохожими на Альпы в уборе из льдов и снегов или никарагуанские нагорья, заросшие влажным тропическим лесом. Чужие горы, чужое небо… Похожее на то, которое видел Каргин на Черном континенте, однако он твердо знал: тут не Африка. Яма. Глубокая, трехметровая, с валом небрежно откинутого каменистого грунта. На дне – люди, молодые парни, босые, в висящих лохмотьями защитных гимнастерках. Двое мертвых, пятеро живых. Вернее, полуживых: ворочаются, стонут, скребут обрубками пальцев по стенкам ямы, крутят головами; лица в засохшей крови, на месте глаз – багровые впадины, щеки изрезаны ножом, в провалах ртов – беззубые десны, вспухшие языки. У земляного вала – мужчины. Смуглые, горбоносые, в странных круглых шапках, с карабинами и автоматами, притороченными за спиной. В руках кетмени. Их стальные блестящие лезвия ходят вверх-вниз, засыпая лежащих в яме ровным слоем земли и камней. Слой вначале тонок, и Каргину удается различить очертания мертвых тел под ним и тех пятерых, которые еще ворочаются, стонут и мычат в бессильной попытке отсрочить неизбежное. Но кетмени в неспешном ритме взлетают вверх и падают вниз, глухо стучат комья сероватой почвы, яма мелеет на глазах, сливается с горным склоном, исчезает… Мужчины, выпрямившись, стирают пот, переговариваются резкими гортанными голосами, спускают штаны, мочатся. Каргин, невидимый призрак, грозит им кулаком, скрипит от ярости зубами, потом запрокидывает голову, смотрит в небо – там, на мутном облачном покрывале, расплывается багряный круг. Чужое небо, злое…
* * *
Кто-то тронул его за плечо, он вздрогнул и очнулся. – Please, sir, close your belt… Миловидное личико хрупкой чернокожей стюардессы маячило перед ним, правую щеку, заставляя щуриться, грело солнце. Каргин моргнул, потом машинально нашарил пряжку, застегнул ремень, повозился в кресле, косясь в иллюминатор: небеса за бортом самолета сияли чистой бирюзой, плыли в них белые полупрозрачные перышки облаков, и где-то вдали, на востоке, вставал над хребтом Сьерра Невада золотистый и ласковый солнечный диск. Мерно гудели моторы, «боинг» с буйволиным упорством таранил воздух, зевали и переговаривались проснувшиеся пассажиры, стюардессы голубыми тенями скользили в проходах меж креслами, склонялись над дремлющими, улыбались, щебетали. Ночь закончилась, а вместе с ней подходил к концу рейс Нью-Йорк – Сан-Франциско. Плохой сон, афганский, подумал Каргин, разминая пальцами затекшую шею. В Афгане ему не довелось повоевать, а в других местах – скажем, в Боснии, Руанде или Заире – он не видел, как людей живыми закапывают в землю. В Боснии и Заире стреляли, в Руанде жгли и душили стальной проволокой, а в Никарагуа контрас втыкали мачете под ребра и резали наискось живот, как в фильмах про японских самураев. Об этом эпизоде, об израненных пленных, закопанных живьем, ему рассказывал отец. Случилось это в начале восьмидесятых, когда старший Каргин, уже генерал-майор и командир бригады, собирался к новому и последнему месту службы – на родину, в зеленый мирный Краснодар. Младший в те годы осваивал воинскую науку в Рязанском училище ВДВ и, по молодости лет, мечтал о ратных подвигах и благородной миссии воина-интернационалиста. Правда, недолго: месяцев через восемь его отправили стажироваться на Кубу, а после – в Никарагуа, где все иллюзии испарились под жарким тропическим солнцем. Подарок от контрас – пуля в плечо – этому тоже поспособствовал. Рана долго не заживала, начались воспаление и лихорадка; месяц Каргин провалялся в бреду в лесном лагере сандинистов, пока его не вывезли в Гавану. С той поры снился ему временами сон о закопанных солдатах, и было им замечено, что сновидение это не к добру – вроде бы вещее, к большой крови, однако непонятно чьей, своей либо чужой. Что до крови, то она лилась повсюду, где он побывал, но с особым обилием в Африке, в Анголе, Заире или в той же Руанде, когда его рота «гепардов» штурмовала вместе с бельгийскими парашютистами Кигали, руандийскую столицу. Это случилось в девяносто четвертом, а через год он снова увидел тот же сон – в Боснии, под Сараево. Там подразделения Легиона вели диверсии и разведку, и Каргин, вместе со своими солдатами, угодил под бомбы, когда авиация НАТО равняла сербские позиции с землей. Его контузило, а вдобавок пара осколков прочертили кровавые полосы на скуле под глазом и под левой ключицей. К счастью, контузия оказалась легкой, а шрам на скуле был невелик и мужского обаяния Каргина не портил. «Боинг» устремился вниз, и под крылом промелькнула река среди зеленых берегов, серебристая гладкая поверхность залива, похожего на наконечник зулусского копья, и длинные мосты, казавшиеся сверху стальными блестящими рельсами, усеянными армадой цветных жучков-автомобилей. Через минуту-другую из утренних туманов выплыл город: улицы, круто сбегавшие к воде, бесчисленные крыши, трубы и дома, раскидистые деревья и лужайки, желтые пляжи и небоскребы – не столь монументальные и грандиозные, как в Нью-Йорке, но все же намекавшие, что в этих западных краях Фриско – город не из последних. Шпили небоскребов вдруг стремительно рванулись вверх, рев турбин на секунду оглушил Каргина, под ложечкой засосало – как в то мгновение, когда вываливаешься из самолетного люка и парашют еще не раскрыт; но грохот двигателей тут же стал тише, город исчез, и под брюхо «боингу» ринулось поле в изумрудной траве, расчерченное серым бетоном взлетно-посадочных дорожек. Затем – слабый удар шасси о землю, плавное неторопливое торможение, гусиная шея трапа, мелькнувшего за иллюминатором, и голосок стюардессы, приглашавшей пассажиров к выходу. – Мы изгнаны с высот, низвергнуты, побеждены… – пробормотал Каргин. Он произнес это на английском, и сидевшая рядом пожилая дама в пепельном, с голубоватыми прядками парике, с недоумением уставилась на него. Видно, Мильтона не читала, решил Каргин, дружелюбно улыбнулся соседке и расстегнул ремень. Тоскливое сновидение проваливалось в прошлое вместе с памятью о джунглях Анголы и Никарагуа, пыльных равнинах Ирака, хорватских горах, побоище в Киншасе и прочих событиях и территориях, где довелось ему повоевать в бытность легионером или «стрелком». Теперь его ожидала другая работа – какая в точности, в его контракте обозначено не было, однако Каргин рассчитывал на что-то сравнительно мирное. К примеру, на должность технического эксперта или консультанта. По предварительной информации, полученной в Москве, его наниматели были связаны с оружейным бизнесом, а в оружии Каргин разбирался неплохо – даже отлично, если не говорить о какой-нибудь экзотике вроде психотронных излучателей или орбитальных лазеров. Имелась, правда, одна неясность: к чему нанимателям российский офицер, пусть и повоевавший на всех континентах за исключением Австралии? На этот счет у Каргина не было разумных объяснений и никаких гипотез. Однако такие неясности не повергали его в смущение; во-первых, как всякий хороший солдат, он был привычен к внезапным зигзагам судьбы, а, во-вторых, платить обещали щедро – вдвое против его капитанского жалованья в Легионе. Он поднялся, ощупал бумажник с документами в заднем кармане брюк, прихватил в багажном отсеке сумку и покинул «боинг», смешавшись с гомонящей толпой пассажиров. У нижней ступеньки трапа стояла стюардесса – не та темнокожая малышка, что разбудила его, а высокая, длинноногая, с оливково-смуглым лицом и жгучими испанскими глазами под веером темных ресниц. Такие девушки напоминали Каргину Чаниту, юную кубинку, первую его любовь, и был он к ним слегка неравнодушен. Впрочем, воспоминания о Чане были смутными. Слишком много лет минуло, много воды утекло, и даже советско-кубинская дружба изрядно потускнела, не выдержав напора времени. Каргин подмигнул смуглянке-стюардессе ей и получил в ответ многообещающую улыбку. Он привык к успеху у женщин, особенно у черноглазых брюнеток от двадцати до тридцати, лишенных как брачных иллюзий, так и излишней скромности. Впрочем, шатенки и блондинки тоже дарили его своим расположением. На всех континентах и островах, во всех городах и весях высокие крепкие парни с рыжеватой шевелюрой и холодным блеском серо-зеленых зрачков были в хорошей цене; такой товар шел нарасхват, ибо годился для многого, от резвых плясок в постели до марш-бросков в заирских болотах и ангольских джунглях. В части постелей Каргин был весьма разборчив, но по болотам, холмам и пескам пришлось поползать основательно, а подобный опыт без следа не исчезает. Кроме заметной внешности, он обладал еще тем, что женщины больше всего ценят в мужчинах: несокрушимой уверенностью в себе. Шагая к зданию аэропорта, Каргин обернулся и увидел, что девушка у трапа провожает его долгим призывным взором. Спросить, что ли, телефон?.. – мелькнула мысль. Он даже замедлил шаги перед стеклянной вращающейся дверью, но тут ее створка крутанулась, и Каргин нос к носу столкнулся с другой девицей, державшей в руках картонную табличку с его именем. Эта тоже была загорелой, стройной и длинноногой, но с карими глазами и масти посветлей, что-то среднее между блондинкой и шатенкой. Года двадцать три, симпатичная, отметил он и решил, что от добра добра не ищут. Кареглазка, поймав его заинтересованный взгляд, резко затормозила. – Мистер Карр-гин? – Она сделала ударение на первом слоге, вдобавок растянув «р», и это заставило его усмехнуться: голос мягкий, приятный, а получилось будто ворона каркнула. – Можно Керк, бэби, – произнес Каргин, придерживая ногой дверь. В спецподразделении «Стрела» он проходил подготовку по западноевропейским странам, Британии, Франции и Испании, и там его называли Алекс – вполне пристойная трансформация имени Алексей, проставленного в метрике, паспорте и прочих российских бумагах. Но в Легионе не признавали ни пристойности, ни имен, и там он сделался Керком – или просто КК. Капитан Керк, командир диверсионной группы «би», еще именуемой синей ротой «гепардов»… – Кэтрин Финли. Можно Кэти, – сказала девушка, протянув ему руку. Пожатие оказалось энергичным и крепким. – А вы, значит, Керк? Это гораздо лучше. Наводит на мысль о героях-солдатах, крутых парнях с квадратной челюстью и кольтом на ремне. – Кольт – это в прошлом, – заметил Каргин, просачиваясь вслед за девушкой в дверь. – Нынче крутые парни предпочитают что-нибудь поосновательней. К примеру, гранатомет. Какой-нибудь там «панцерфауст» или М19… – Он пощупал подбородок и добавил: – Кстати, здесь – никакой квадратности, одна небритость. В Нью-Йорке я пробыл всего ничего, и было не до бритья. Таможня, паспортный контроль… ну, сами понимаете. – Не огорчайтесь, дружок. Сейчас семь двадцать, – она приподняла маленькие часики-кулон, – а мистер Мэлори ждет вас к трем после полудня. Успеете навести красоту. – Мистер Мэлори? Кто такой? – О, это большая шишка! Мой шеф, вице-президент ХАК и глава административного отдела. Они уже шли вдоль ряда овальных транспортеров, безостановочно круживших сумки, коробки и чемоданы, с трудом протискиваясь сквозь толпу; народа было многовато, с трех или четырех утренних рейсов. – Ваш багаж? – Кэти бросила взгляд на табло с надписью «Нью-Йорк». – Все здесь, – Каргин приподнял висевшую на плече сумку. – Солдаты путешествуют налегке. – И что там у вас? – «Панцерфауст», – ответил он с серьезным видом. – Еще – бутылка коньяка, чтобы распить с самой красивой девушкой Калифорнии. – Это, увы, не со мной. Красотки у нас пасутся в Голливуде, – со вздохом сообщила Кэти и вдруг насмешливо усмехнулась: – Идете на приступ, солдат? Не рано ли? – А чего время терять? – Каргин приобнял ее за талию, отодвинув плечом толстяка с мясистой физиономией, волочившего огромный чемодан. Тот с возмущением хрюкнул, щеки его налились кровью, но тут же поблекли под холодным взглядом Каргина. Они вышли на площадь, к автомобильной стоянке. С запада, со стороны океана, задувал легкий бриз, утреннее солнце еще не жгло, а с нежной лаской гладило руки и шею, в дальнем конце площади замерли на страже магнолии и пальмы. Пальмы были высокими, с мохнатыми стволами и глянцевыми блестящими листьями, и каждая походила на застывший взрыв; магнолии напоминали повисшие над травой зеленые облака с темными узловатыми подпорками. Каргин пробормотал: «В краю магнолий плещет море…» – и глубоко вздохнул, всей грудью втянув теплый воздух. Морские ароматы смешались в нем с запахами зелени и бензина. – Можем ехать, если вы меня отпустите, – сказала Кэти. Он с неохотой убрал руку. Талия девушки была восхитительно гибкой, и под тканью платья не ощущалось ничего лишнего. Их ждал двухместный алый «ягуар». Во всяком случае, Каргин решил, что это «ягуар»; в дорогих автомобилях он разбирался похуже, чем в вертолетах, танках и БМП, хоть мог управиться с любой машиной, которая ездила, плавала или летала. Ключи торчали в замке зажигания – вещь, немыслимая в родимых палестинах. Каргин сел, поставил сумку на колени. Ножка Кэти в изящной туфельке коснулась педали газа, край платья приподнялся, обнажив гладкие стройные бедра. – Не туда смотрите, солдат. В городе есть виды поинтересней. – Доберемся, посмотрим на виды, моя прелесть, – сказал Каргин и прикрыл глаза. Под мерный рокот мотора думалось хорошо и спокойно. С минуту он размышлял о том, что снова находится в Америке, однако не в джунглях, не на Антильских островах, а в месте цивилизованном и вроде бы тихом и безопасном. Единственная проблема, что место это, хоть и распрекрасное, да не его. Свое место он потерял в конце девяносто третьего, когда расформировали «Стрелу». Случилось это после октябрьских событий и штурма Белого Дома силами «Альфы» и «Стрелы»; люди в обоих подразделениях колебались, и президентский приказ был выполнен не сразу. Вполне понятные колебания – ведь их готовили не для того, чтоб разгонять законно избранный парламент. Они, разумеется, были Силой, однако не из тех бездумных и покорных сил, какие применяют для разрешения споров и дрязг политиков, не безмозглым пушечным мясом, а элитарными отрядами, чьей задачей была безопасность страны. Они умели размышлять, а всякий мыслящий человек подвержен сомнениям и избегает неблаговидных дел. Были сомнения, были… Впрочем, для «Альфы» все кончилось с минимальными потерями: ее простили, а «Стрелу» – нет. Но пережевывать былые обиды Каргин не собирался, и мысли его обратились к другим материям. Что-то странное творилось здесь – с ним, вокруг него или за его спиной. В Нью-Йорке все выглядело иначе, привычней и проще: он отстоял очередь в паспортный контроль вместе с сотней московских туристов и бизнесменов, прошел без особых хлопот таможню и в павильоне «Дельта эрлайнс» встретился с тощим янки, местным служащим ХАК, компании его нанимателей. Тощий вручил ему билет до Фриско, угостил пивом и посадил в самолет; на этом торжества по случаю встречи были закончены. А вот тут… Тут его ожидали калифорнийская красавица-принцесса, роскошная тачка и визит к мистеру Мэлори. Вице-президент, личность из разряда VIP – Very Important Person…[238] Такие обычно не знаются с простыми смертными и в консультанты берут не капитанов, а генералов! Странно, странно… Местное гостеприимство?.. – мелькнула мысль. Может быть… Однако любопытно, всякому ли ландскнехту положены такие почести? И такой оклад? Вероятно, решил Каргин, его завербовали для чрезвычайно ответственной миссии – например, чтобы прикончить президента Клинтона. Или Монику Левински… Воображение у него было богатое, и он уже представлял, как крадется к Белому Дому с парой гранат и винтовкой в руках, маскируясь в траве и прячась за кустами. Картина, однако, была нечеткой – исходных данных не хватало. Есть ли, к примеру, там кусты и высока ли трава? Где расставлены охранники и сколько их? В какие часы шалун-президент ощупывает секретарш, когда вкушает пищу, играет в гольф или предается мыслям о судьбах мира и направлениях геополитики? Об этом и прочих важных вещах Каргин имел понятия самые смутные, большей частью из голливудских фильмов, где президентов крадут, а супермены вроде Чака Норриса их спасают. Оставалось надеяться, что наниматели спланировали акцию до мелочей. Голос Кэти вывел его из задумчивости. – Проснитесь, Керк, взгляните на город. Забавно, не так ли? Плоского места с ладонь, а все остальное – холмы да ущелья… – Она оживилась, тряхнула головкой в пышных каштановых кудрях и зыркнула на Каргина карим глазам. – Вы слышали, что Фриско стоит на сорока трех холмах? Туин-пикс, Ноб-хилл, Телеграф-хилл, даже Рашен-хилл… ну, и еще тридцать девять. Слева от нас Ноб-хилл, справа – здание «Пирамиды», а прямо – Ван-Несс-Авеню, Муниципальный центр и Музей современного искусства, лучшая в мире коллекция Матисса… Вы знаете что-нибудь о Матиссе, солдат? – Я не отношусь к его поклонникам, – произнес Каргин. – Слишком помпезно, ярко и походит на рекламные плакаты… В моем вкусе больше Мане или Дега. Особенно Дега: он рисовал прелестных женщин. – Вот как? Брови Кэти взлетели вверх, и Каргин подумал: словно ласточка взмахнула крыльями… Очаровательная девушка, и пахнет от нее приятно – будто на луг весенний вышел. – Для солдата вы очень неплохо разбираетесь в искусстве, – сказала она. – Мане, Дега… И где же вы любовались их картинами? В России? – В Петербурге, – уточнил Каргин. – Еще – в Париже и Лондоне. – В Париже… – Брови Кэти опять изумленно приподнялись, потом на ее губах расцвела мечтательная улыбка. – О, Париж, Париж… Вы должны рассказать мне о Париже. И о Венеции! Вы были в Венеции? Расскажете, Керк? – В любое время дня и ночи, клянусь Одином! – Он бросил выразительный взгляд на ее колени, и девушка зарделась. Румянец на ее подвижном милом личике приятно удивил Каргина: он полагал, что только женщина высоких нравственных достоинств способна покраснеть. Этот нехитрый моральный принцип, заложенный матерью, был на удивление верным; в каком-то смысле он доказывал справедливость всех избитых истин. «Ягуар» съехал с очередного холма на набережную, тянувшуюся вдоль залива длинной пестрой лентой. Теперь к западу от них вздымался мост Золотых Ворот, знакомый Каргину по фотографиям и фильмам, а к востоку – еще один: стальная блестящая полоса, уходившая, казалось, в бесконечность. Кэти прибавила скорость и повернула на восток. – Я думал, что штаб-квартира ХАК в Сан-Франциско, – осторожно произнес Каргин, когда автомобиль преодолел половину моста. – В Большом Сан-Франциско, – пояснила Кэти. – Это очень широкое понятие. Окленд, Беркли, Ричмонд, Сан-Хосе, Ньюарк и бог знает, что еще… Я, дружок, не сильна в географии. – Хороший повод, чтоб заблудиться… особенно с красивой девушкой. – Не обижайтесь, Керк, сейчас не выйдет. – Каргин уловил в ее голосе нотку сожаления. – Как-нибудь попозже, ладно? Я бы хотела отдать должное вашему коньяку… Французский? Из Парижа? – Армянский, бэби. Большая редкость по нынешним временам. Мост кончился, потянулись зеленые городские окраины – Окленд, сказала Кэти; затем шоссе неторопливо полезло вверх, и Каргин, обернувшись, смог любоваться бесчисленными крышами городов и городков, теснившихся на берегах залива. Километрах в пятнадцати от Окленда они перевалили водораздел, и пейзаж разительно изменился: просторная долина между двумя хребтами казалась почти безлюдной, и лишь в одном месте в разрывах древесных крон мелькало серое, оранжевое и белое: асфальт дорог, черепичные кровли и стены невысоких домиков. – Уолнат-Крик, центр местной цивилизации. Бензоколонка, отель, китайский ресторан, три кафе и пять баров. – Кэти покосилась на городок и сообщила: – Наши владения, Халлоран-таун, располагаются южней. Несколько административных корпусов, выставочные ангары, полигон и поселок для служащих. Вы будете жить на Грин-авеню, семнадцать. – Это что-нибудь значит? – поинтересовался Каргин. – Значит, солдат. На Грин-авеню – резиденции управляющего персонала. – А где живете вы? – Там же. Коттедж под номером шестнадцать. От неожиданности Каргин сглотнул, едва не подавившись слюной, но тут же пришел в себя, стал незаметно ощупывать сумку и строить всякие хитрые планы на вечер. Под прочной тканью сумки круглилось нечто цилиндрическое, с плоским дном и узким горлышком – бутылка марочного коньяка из давних отцовских запасов. Бутылку сунула мать, когда он гостил у родителей в Краснодаре; сунула и сказала с грустной улыбкой: найдешь, Алешенька, невесту – выпьешь. Каргин не возражал, чтоб не расстраивать мать, мечтавшую о внуках. К тому же был он не против невест в любых обозримых количествах; в конце концов, не каждая из них становится женой. Они свернули с шоссе на неширокую дорогу, тонувшую в тенях; густые кроны дубов и вязов нависали над ней, а щит на повороте извещал: «Халлоран-таун. Частное владение. Въезд воспрещен.» Ни шлагбаумов, ни заборов Каргин не заметил, но дорога усердно патрулировалась: дважды им попадались джипы с парнями в пятнистых комбинезонах, встречавших машину Кэти коротким гудком. Вскоре слева поднялись низкие широкие корпуса ангаров, к которым вели подъездные пути, а справа возникло здание из металла и стекла, но не какой-нибудь небоскреб, а тоже невысокое, о двух этажах и с крытой галереей на тонких ребристых столбиках. Тут нигде ничего не блестело и не сверкало: ангары были окрашены в защитный цвет и прятались в зелени, а окна в здании с галереей тоже отсвечивали зеленым, будто стенки гигантского, полного воды аквариума. Хорошая маскировка, подумал Каргин и, обернувшись к Кэти, спросил: – Это что такое? – Первый административный корпус. Облегченная конструкция, каркас из алюминиевого сплава плюс небьющееся стекло. – Она сделала паузу, наморщила носик и с сомнением произнесла: – Впрочем, я не уверена, что это стекло. Понимаете, Керк, оно какое-то странное – пружинит, и его нельзя ни сломать, ни поцарапать, ни пулей пробить. Забавная штука, правда? – Ни поцарапать, ни пулей пробить… – с задумчивым видом повторил Каргин. – А к чему такие предосторожности? Девушка фыркнула. – Не забывайте где вы, дружок! В сейсмически активной зоне! Здесь раз в месяц потряхивает, раз в год трясет, а дважды в столетие трахает так, что младенцы седеют! Слышали, что было в восемьдесят девятом? Сотня погибших, тысячи раненых, сто тысяч разрушенных зданий! Я тогда училась в колледже и… – Однако вы не поседели, – Каргин примирительно погладил каштановый локон. – Совсем даже наоборот. – Ну, я ведь не младенец… – Она заложила лихой вираж, съехав с дороги в обсаженную пальмами аллею. С одной ее стороны простирался парк, с другой тянулись коттеджи под номерами на аккуратных табличках, и, как показалось Каргину, двух одинаковых меж ними не было. Еще он обратил внимание, что дома не теснятся, а стоят просторно, разделенные не оградами, а шпалерами из роз, акации или подстриженных кустов. Чем дальше, тем строения выглядели вычурней и роскошней – уже не коттеджи, а виллы со стрельчатыми окнами, с балконами, верандами и галереями, оплетенными плющем и виноградной лозой. Аллея постепенно поднималась вверх, взбираясь на пологий холм, склон которого украшал особняк в испанском стиле: колонны, внутренний двор за распахнутыми воротами, зеленая черепичная крыша и четыре башенки по углам. – «Эстада», президентская резиденция, – пояснила Кэти, притормозив у номера семнадцать. – Только старика там давно не видели. – Старика? – Старого Халлорана. Он, собственно, уже не президент, глава Наблюдательного Совета, а в президентах у нас теперь его племянник, Бобби Паркер. Живет в «Эстаде» вместе с сестрицей, ставит подпись на контрактах и надувает щеки… – Девушка состроила неодобрительную гримаску. – Правда, старик по-прежнему крутит всем и каждым… – Похоже, вы не одобряете Бобби Паркера, – заметил Каргин, выгружаясь из машины. Ему показалось, что в карих глазах Кэти промелькнула злая искорка. На мгновение ее губы дрогнули, скривились в презрительной усмешке, но, будто совершив какое-то внутреннее усилие, она овладела собой и лишь небрежно повела плечами. – Бойскаут и плейбой… Ну, это не нашего ума дело, Керк. Заходите в дом, располагайтесь, ешьте, пейте и наводите красоту. Можете даже поспать. Я заеду за вами в два сорок. – Благодарю. – Каргин щелкнул каблуками, отвесил короткий поклон, будто приглашая девушку на тур вальса. – Но отчего бы нам не позавтракать вместе? Я расскажу вам про Париж и Венецию, а вы мне – про землетрясение в восемьдесят девятом… О'кей? – Не выйдет. Вы еще вольный стрелок, а я на работе. Бай-бай, солдат! Она упорхнула, а Каргин направился к дому, размышляя, случайно ли Кэти назвала его стрелком. Такое прозвище присвоили оперативникам «Стрелы», однако не потому, что они походили на киллеров-убийц. Майор Толпыго, наставник Каргина, утверждал, что смысл тут в ином: «стрелок» – значит, летящий к цели подобно стреле, по самому краткому и точному маршруту. Бывало, разумеется, и так, что «стрелки» поражали цель, но это не шло им в заслугу; самой удачной операцией считалась бескровная. В этом была разница между «Стрелой» и Легионом. В Легионе слишком любили палить, а в частях поддержки, у майора Кренны – жечь и пускать кровь сотней изощренных способов. Каргин открыл дверь, бросил сумку на диванчик в просторном холле и отправился исследовать свое новое жилье. Коттедж был в два этажа, с подвалом; внизу – холл, гостиная и кухня, наверху – спальня, ванная, кабинет и веранда под пестрым тентом. За домом – крыльцо о трех ступеньках, бассейн среди плакучих серебристых ив, в кухне – гигантский холодильник, набитый продуктами, банками пива и апельсинового сока, в гостиной – кожаные диваны, кресла, лампы из бронзы, телевизор, бар. Обозрев спальню – ложе «кинг-сайз», лиловый ковер, встроенный шкаф с одеждой, крытые шелком стены и зеркало на потолке – Каргин присвистнул и пробормотал: – Для состоятельных парней со вкусом… Чтоб мне к Хель провалиться! Квартира, купленная им в Москве, была на порядок скромнее, хоть на нее пришлось угрохать все легионные заработки. С другой стороны, Халлоран-таун все-таки не Москва, размышлял Каргин, задрав голову и любуясь своим отражением в зеркале. Нет, не Москва, не Лондон и не Париж; труба пониже, дым пожиже. Он шаркнул ногой по роскошному лиловому ковру и спустился вниз, разбирать вещи. Их было немного. Белье, легкий костюм с галстуком и парой башмаков, три рубашки, стопка книг, бутылка с коньяком, бритва и зубная щетка. Еще берет – потертый, выгоревший, цвета хаки, с едва заметными дырочками – там, где некогда была приколота эмблема. Берет был отцовским, служившим Каргину талисманом, подаренным в тот год, когда его зачислили в «Стрелу» – а значит, являлся и памятью о «Стреле». Все остальное, касавшееся его причастности к опальному отряду, хранилось в недрах ФСБ и министерства обороны. Два года после училища, когда он проходил спецподготовку, грыз испанский и английский и дрался в джунглях за Ортегу; еще три года – Школа внешней разведки, французский язык, практика в Лондоне и Париже; и, наконец, «Стрела» – четыре года, Кувейт, Ирак, Югославия, операции в России и в иных местах, победы и неудачи, раны, кровь и пот, гордость и офицерская честь… Все это сейчас покрывалось плесенью в каком-нибудь архиве, вместе с его подпиской о неразглашении; девять нелегких лет, которые – если верить официальным документам – он проваландался в пехотном полку, где-то между Челябинском и Омском. У самого дна, рядом с бритвой и другими мелочами, лежала плоская кожаная сумочка-кобура на тонком ремешке. Каргин раскрыл ее, полюбовался холодным блеском отточенных звездочек-сюрикенов, потрогал проволочную удавку, память о лейтенанте Свенсоне, и одобрительно кивнул. Оружие неприметное, тихое, но смертоносное… Без оружия он чувствовал себя как бы голым; сказывалась многолетняя привычка, особенно три последних года в Легионе. Пошарив в холодильнике, Каргин вытащил банку пива, ростбиф в серебряной фольге и круглые маленькие булочки, похожие на бриоши, сделал несколько бутербродов и съел их, прихлебывая из банки и поглядывая на плоскую кобуру. Она являлась военным трофеем; ее, вместе с сюрикенами, он взял на трупе какого-то японца, служившего у Фараха Айдида, правителя Сомали. Айдид расстался с жизнью, как многие из африканских диктаторов, под пулями Легиона, а с ним переселился в лучший мир и взвод охраны. Сопротивлялись они с большим упорством, и рота «би», которой командовал Каргин, лишилась четверых. Еще был у японца меч, роскошное богатое оружие в лакированных ножнах, но тут уж совесть Каргина забастовала. Сюрикены или, положим, трофейный пистолет – одно, а драгоценный клинок – совсем другое… Не взял он меча, и тот достался Кренне, майору-бельгийцу, башибузуку и кондотьеру, под чьим началом был отряд таких же басурман, редкого отребья, не подходящего для службы в Легионе. Но Легион, в лице полковника Дювалье, ими отнюдь не брезговал: их нанимали для черной работы, платили сдельно и называли то «крысами», то «эскадроном смерти» или «частями поддержки». «Поддерживать» Кренна умел с завидной лихостью и профессионализмом; его солдаты считались отличными диверсантами и мастерами облав, зачисток и акций устрашения. Одно было плохо: они не видели различий между людьми в мундирах и штатской публикой. Покончив с бутербродами, Каргин отправился в ванную, побрился, принял душ, залез в бассейн и отмокал в нем около часа, мысленно сравнивая Кэти с Чанитой, Мариной и остальными своими подружками в Париже и Москве. Однако в этот раз в Париже он не задержался, а что до Москвы, так были там заботы поважней, чем кадрить девушек: квартира, телефон, прописка и новый загранпаспорт, потом необходимая мебель, тахта и стулья со столом, тарелки да кастрюли, чтоб было на чем спать, на чем сидеть и в чем варить пельмени. Много забот и хлопот! Так что будучи в Москве спал Каргин в печальном одиночестве, воспоминания о девушках были смутными, трехлетней давности, и от того, быть может, он поставил Кэти самый высший балл. За бассейном и серебристыми ивами просматривалась полянка с кустами жасмина и пышных роз, а в дальнем ее конце – коттедж под номером шестнадцать, тоже двухэтажный, но, в отличие от каргинского, с затейливой башенкой под тонким шпилем, на котором то обвисал, то вновь полоскался по ветру звездно-полосатый флаг. Кроме этих судорожных всплесков в соседнем доме и окрест него не замечалось никакой активности, и Каргин резонно заключил, что Кэти живет одна и в данный момент горит на трудовом посту. Вздохнув, он вылез из бассейна, обсох на жарком солнышке, съел еще один сандвич, выпил апельсинового сока и оделся поприличней – в летний светло-серый костюм, при галстуке и штиблетах. В пиджачный карман сунул бумажник с документами, которых было всего ничего – паспорт, водительские права, три кредитные карточки и контракт, аккуратно сложенный и пришпиленный к паспортной обложке. Контракт был оформлен через посредника, московскую фирму «Эдвенчер», уже знакомую Каргину – три года назад он очутился в Легионе при ее содействии. В газетах эта фирма объявлений не давала, до телевидения не снисходила, рекламных буклетов не рассылала, но заинтересованные лица могли связаться с ней по интернету. Был там некий анонимный сайт, в котором значилось: «Крепкие молодые мужчины в хорошей спортивной форме, склонные к приключениям, могут получить работу в любой точке земного шара». Одна фраза плюс интернетовский адрес – кратко, но вполне вразумительно. Затем желающим направлялась анкета, и если кандидат подходил, назначалось рандеву с вербовщиком – но не в офисе фирмы, а на нейтральной территории, в кафе или, по летнему времени, в садике. Там изучались рекомендации и документы, оценивался послужной список и опыт и делались конкретные предложения – обычно два-три на выбор. Этот путь прошли многие приятели и сослуживцы Каргина. Власть их предала, страна отвергла, а наниматься к бандитам и резать сограждан они не хотели; если уж убивать, так в чужих краях и за хорошие деньги. Деньги были вполне приличные, так что, оттрубив свое, Каргин купил квартиру не в новостройках, а на Лесной улице, в двух шагах от Тверской и Белорусского вокзала. Потом съездил в Краснодар проведать родителей, а когда вернулся, ему позвонили. Вероятно, фирма «Эдвенчер» имела обширные связи повсюду, где можно раздобывать адреса, и бывших своих клиентов из вида не теряла. На этот раз ей заказали особый товар: боевого офицера не старше тридцати пяти, с обширным опытом сражений в джунглях и пустынях, со знанием английского и испанского, крепкого телом и твердого духом. Каргин подходил идеально. На тело он не жаловался, на дух – тем более; три года в Легионе под его рукой ходили шестьдесят «гепардов», а это что-нибудь да значило. Перевалило за полдень, есть и пить ему больше не хотелось. Послонявшись по дому, Каргин включил телевизор, без интереса послушал местные новости: кто кому вломил в бейсбол и чем закончились выборы в пятом муниципальном округе. Потом отыскал в подвале шезлонг, разложил его в тени под ивами, сел и стал любоваться синим калифорнийским небом. Минут через десять веки его опустились, голова свесилась на грудь, дыхание стало тихим и ровным, будто размеренный плеск прибоя, которому вторили шелест листвы и чуть слышное стрекотанье цикад. Сон его был безмятежным и длился до тех пор, пока чей-то голосок не произнес: – Вставайте, солдат! Вставайте! Каргин поднял голову и открыл глаза. Кэти, сморщив носик, придирчиво взирала на него, постукивала туфелькой о ступеньку, крутила на пальце брелок с ключами от машины. Вероятно, осмотр ее удовлетворил. Довольно кивнув, она произнесла с интимной интонацией, означавшей, что они перешли на «ты»: – О'кей! Отлично выглядишь, дружок! Просто душка! Думаю, мистер Мэлори будет доволен. – Мэлори? – пробормотал Каргин спросонок. – Шон Дуглас Мэлори, – повторила Кэти, – тот, кто тебя купил. Платит он щедро, но любит, чтобы товар был первоклассный. И очень не любит, когда опаздывают. – Уже иду, – отозвался Каргин, вскочив на ноги.Глава 2
Калифорния, Халлоран-таун; 15 июня, вторая половина дняОбитель Шона Мэлори была просторной, пустоватой, совсем не походившей на кабинет полковника Дювалье, украшенный гравюрами и африканскими редкостями. Тут обстановка казалась спартанской и сугубо деловой: стол с селектором и хозяйским креслом, пара стульев для посетителей и массивный широкий диван у противоположной стены. Единственным предметом искусства являлось большое, метр на два, полотно в черной лаковой раме, висевшее над диваном: скалистый остров среди морских изумрудных волн, будивший смутные воспоминания о развалинах средневековой цитадели. Сквозь зеленоватые окна виднелись крыши ангаров и падал солнечный свет, будто профильтрованный океанской толщей; это придавало круглому улыбчивому лицу Мэлори нездоровый трупный оттенок. Но Каргин, сделав поправку на экзотическое освещение, сообразил, что видит бодрого джентльмена лет шестидесяти, лысого, плотного и невысокого, с твердой линией рта и несомненной армейской выправкой. Голос у него был громкий, звучный, с командными нотками. – Садитесь, капитан. Я – шеф административного отдела и отвечаю в нашей компании за подбор кадров, секретность, безопасность, а также… хмм… за другие вопросы, которых мы коснемся со временем и при наличии необходимости. – Мэлори смолк, погладил лысый череп, бросил взгляд на пейзаж с островом и добавил: – Позвольте представить вам Брайана Ченнинга, одного из вице-президентов Халлоран Арминг Корпорейшн. Можно сказать, что мистер Ченнинг – наш коммерческий гений. Он возглавляет отдел финансов и инвестиций. Мистер Ченнинг изобразил улыбку и благожелательно хрюкнул. Он расположился под картиной на диване и занимал его большую часть – совсем немало, так как этот предмет обстановки был весьма капитальным. Диван прогибался под его тяжестью и жалобно постанывал, когда Ченнинг менял позу; казалось, еще чуть-чуть, и кожаная обивка не выдержит, треснет, и стальные пружины с мстительной яростью вонзятся финансисту в зад. Видимо, подобная перспектива не являлась секретом для Ченнинга – ворочался он с большой осторожностью. – Курите, – Мэлори с благожелательной улыбкой подвинул на край стола коробку гаванских сигар, наверняка контрабандных. – Спасибо, сэр. Не курю. – Каргин, стараясь скрыть удивление, повернулся – так, чтобы светне падал в лицо. А удивляться было чему: выходит, он представлялся разом двум Очень Важным Персонам, руководителям компании. Это придавало будущей работе ореол загадочности и несомненной перспективности. Возможно, и в самом деле хотят президента шлепнуть, мелькнуло в голове у Каргина. Он рассмотрел эту мысль со всех сторон и понял, что она ему совсем не нравится – хотя бы по той причине, что акция может нарушить хрупкий мир между Америкой и Россией. Араба им нужно, перса или китайца, подумалось ему. Мэлори неторопливо обрезал кончик сигары, закурил, откинулся в кресле и некоторое время с откровенным интересом изучал физиономию Каргина. Внезапно он усмехнулся и произнес: – Обращение «сэр» у нас не принято. Слишком официально и слишком попахивает англофильством. Вы, надеюсь, не питаете каких-то особых симпатий к Британии? – Ни в коем случае, – отозвался Каргин. – Я служил Франции, в Иностранном легионе. Там британцев не очень жалуют. – Рота «би» 42-го батальона третьей воздушно-десантной бригады, – продемонстрировал свою осведомленность Мэлори. – Что ж, отлично! Мистер Патрик Халлоран, наш босс – ирландец. Точнее, американец ирландского происхождения. Как, кстати, и я. Мы с ним из тех ирландцев, что не забыли о своих корнях. – Раскрыв папку, лежавшую на столе, он пошелестел бумагами, затем промолвил: – Мистера Ченнинга можете называть Брайан, меня – коммодор. Я служил на «Миссури»… Это вам что-нибудь говорит? – Говорит. Линкор, тип «Айова», полуметровая бортовая броня, главный калибр – 406 миллиметров, три башни по три ствола, плюс десять спаренных 127-миллиметровых орудий и восемнадцать счетверенных 40-миллиметровых зенитных пушек. Еще – два вертолета и экипаж в три тысячи человек. Скорость хода – до тридцати узлов, дальность плавания – пятнадцать тысяч миль. Твердая линия губ коммодора внезапно смягчилась; теперь он внимал с полузакрытыми глазами и порозовевшим лицом. Пальцы его отбивали ритм боевого марша, над лысиной парил призрачный белоголовый орлан,[239] сигара, зажатая меж крепких зубов, мерно подрагивала, будто ствол главного калибра в поисках достойной цели. Когда Каргин умолк, Мэлори глубоко втянул дым, выпустил его через ноздри и произнес: – Великолепно, мой мальчик! Сказать по правде, бортовая броня была поменьше полуметра, а экипаж – двадцать семь сотен, но все равно – великолепно! Что вы закончили? – Он снова зашелестел бумагами. – Пехотное училище? – Воздушно-десантное, – пояснил Каргин, решив не уточнять, что учился на отделении разведки. – Хмм… так… – Мэлори, поворошив бумаги, выдернул одну и быстро пробежал глазами. – Значит, воздушно-десантное, Рей-зань… Неплохо там учат, в этой Рей-зани, черт побери! Итак, выучились, потом служили… девять лет служили, до января девяносто четвертого… Ну, а потом – под зад коленом. Вышвырнули вон, так? – Не вышвырнули. Я подал рапорт с просьбой об отставке. – Почему? Каргин пожал плечами. – Хотелось жить по-человечески, в Москве или Питере. Деньги были нужны, квартира, обстановка. Вот завербовался в Легион и заработал. Крыша теперь есть… – Он сделал паузу и вымолвил: – Ну, кроме денег была и другая причина… – Какая? – Чечня. Я считал, что без войны не обойдется, и не ошибся. Ухмыльнувшись, Мэлори ткнул сигарой в сторону Каргина. – Не любишь воевать, сынок? – Даром – не люблю. За деньги тоже, добавил он про себя. Особенно в Чечне. Каргин, потомственный офицер, не боялся ни смерти в бою, ни крови, ни ран, но та война казалась ему неправедной, несправедливой с обеих сторон, ибо свои сражались в ней со своими, и ветераны Афгана, недавние однополчане и сослуживцы отца, рвали друг другу глотки. Это было не противоборство народов, а упрямое, исступленное соревнование амбиций их лидеров, которых Каргин не уважал. Ни Чечня, ни Россия еще не имели вождей, озабоченных благом народным, а значит, способных договориться и отстоять самое важное – мир. Он полагал, что такие вожди появятся в будущем, лет через тридцать или сорок, а нынешние были тем, чем были – недавними функционерами КПСС в наспех наложенном гриме демократов, либералов или диктаторов, поборников русской идеи, православия либо ислама. В своем роде из лучших людей, но лучших из худших, ибо по-настоящему лучшие еще не народились. Коммодор переглянулся с Ченнингом, буркнул: – Разумная позиция… Ну, и сколько вам платили в Легионе? После секундного колебания Каргин ответил. Краешки рта у Мэлори дрогнули и опустились вниз. – Французы… лягушатники… – процедил он сквозь зубы с такой интонацией, будто упоминалось племя отпетых скупердяев и мошенников. – Кто там у вас командовал? Не батальоном, конечно, а бригадой? – Полковник Дювалье. – Не слышал о таком. На лице Мэлори изобразилось пренебрежение, какое богатый дядюшка питает к нищим родичам. Странно, но это обидело Каргина. В его понятиях полковник Дювалье и коммодор Мэлори являлись несопоставимыми персонами, ибо один был боевым офицером, израненным с головы до пят, другой же, вероятно, отплавал лет десять на «Миссури», где самой ужасной опасностью была протечка в клозете. Во всяком случае, следов невзгод или почетных ранений у Мэлори не замечалось: глаза на месте, уши целы и шея без морщин и шрамов. Похоже, его никогда не кололи штыком меж ребер и не душили проволокой. – Ну, – протянул коммодор, – мы готовы платить побольше, чем лягушатники, и если вы оправдаете наши надежды, крыша в Москве вам не понадобится. Будет другая, пороскошней, посолидней. Где-нибудь в Лос-Анжелесе, Бостоне или Нью-Йорке… Где захотите, капитан. Любопытное заявление, промелькнуло в голове у Каргина. Он погладил шрам под левой скулой, покосился на Ченнинга (тот, казалось, дремал на своем диване), затем спросил: – И что же я должен сделать, коммодор? Взорвать Капитолий? Ограбить Форт-Нокс?[240] Или похитить супругу президента? Мэлори сухо хохотнул. – Ни то, ни другое, ни третье, сынок. У нас тут не цирк Барнума, и клоуны с фокусниками нам не нужны. У нас серьезный бизнес и серьезные связи. Мы поставляем снаряжение армии США, а также странам атлантического блока и их союзникам. Все, что угодно, от консервов, шнурков для ботинок, пуль, снарядов и гробов до систем космической обороны. Мы, Халлоран Арминг Корпорейшн – солидная фирма со стажем в сто тридцать лет, с высоким рейтингом и годовым оборотом в шесть миллиардов. Что нам мадам Клинтон и вся эта свора сенаторов и конгрессменов? Если мы пожелаем, они продадут Хилари в гарем брунейского султана, и глазом не моргнут! То есть, я хочу сказать, голосование в обеих палатах будет единогласным… – Он снова усмехнулся и закончил: – Ваша задача – служить на благо корпорации, как оговорено в контракте, в течение трех лет. Служить преданно и верно, а там посмотрим. Я правильно излагаю, Брайан? Застонали пружины, потом с дивана донеслось одобрительное хрюканье. – Хотелось бы ближе к делу, – заметил Каргин. Мэлори кивнул и уже начал приподниматься в кресле с вытянутой рукой, как бы желая на что-то показать, но тут в селекторе раздался мелодичный женский голос: – Коммодор, на связи мистер Паркер. Просит зайти вас и мистера Ченнинга к нему. Срочно! – Срочно!.. – Разом насупившись, Мэлори чертыхнулся. – Подумайте – срочно! Срочно я только в гальюн бегаю. Холли, скажите ему, что я занят. Инструктирую персонал. Освобожусь через сорок минут. – Я сказала, но он настаивает. Он говорит… – начала секретарша, но тут послышался щелчок, а вслед за ним – слегка визгливый раздраженный баритон: – Ченнинг у вас, Мэлори? Я знаю, что у вас! Так вот, поднимите задницы – вы, оба! – и отправляйтесь ко мне. У нас неприятности с поставками Каддафи. Эти чертовы противопехотные мины… Коммодор резким движением отключил селектор, бросил настороженный взгляд на Каргина и пробормотал: – Проклятый болван! Язык вместо галстука… Брайан, может вы сходите, утихомирите его? Диван жалобно заскрипел, Ченнинг поднялся с неожиданной для такого грузного человека легкостью и шагнул к дверям. На пороге, еще не коснувшись золоченой ручки, сделанной в форме револьвера «Смит и Вессон», он замер, потом развернулся всем корпусом к Каргину и прогудел: – Хрр… Отличный у вас английский, капитан! Мои комплименты… хрр… Просто не верится, что вы служили в Легионе… хрр… да, в Легионе, а не в САС.[241] Надеюсь, испанский столь же хорош? Каргин молча кивнул. В данный момент лицо его хранило выражение полной дебильности, какую должен демонстрировать солдат при спорах между начальством – ибо, как говорил майор Толпыго, когда слоны дерутся, достается траве. Эта мудрость была бесспорной и понятной Каргину, однако мины для Муамара Каддафи уже улеглись в арсенал его памяти. Все-таки мины, не консервы и не шнурки для ботинок! Каддафи же, разумеется, не относился к союзникам НАТО, и получалось, что ХАК, при всей своей солидности и связях, не брезгует приторговать на черном рынке. Может, не только минами и не с одним Каддафи, мелькнуло у Каргина в голове; шесть миллиардов оборот – это не хрен собачий! Мобуту, скажем, тридцать лет пыхтел, чтоб наворовать такие деньги! Ченнинг боком протиснулся в дверь и что-то пробасил секретарше, перемежая короткие рубленые фразы хрипом, сипеньем и хрюканьем. Кажется, ему был нужен какой-то журнал – немедленно, срочно!.. – однако названия Каргин не разобрал: дверь захлопнулась, отрезав приемную от кабинета. – Ну, пора переходить к делам, – произнес коммодор звучным командирским голосом. Он отложил сигару, привстал, вытянул руку и ткнул в висевший над диваном пейзаж. – Остров Иннисфри. Открыт в семнадцатом веке испанцами. Тысяча миль к западу от побережья Перу и две с половиной – к востоку от Маркизского архипелага. Несколько южней Галапагосов… хмм… скажем, миль так на семьсот-восемьсот. Счастливая земля, мой мальчик! Здоровый климат, тропический, однако не слишком жаркий – остров находится в зоне Перуанского течения, с юга поступают прохладные воды, дожди идут еженедельно, как по расписанию, и все благоухает и цветет. Пальмы, саговник, магнолии, сейбы, гибискус и виргинский кипарис… Разумеется, пляжи, живописные скалы и морские прогулки, плюс все блага цивилизации. Никаких опасных тварей. Птицы, жабы, ящерицы, крысы… кажется, еще летучие мыши… – Должно быть, райское местечно, – произнес Каргин, поворачиваясь к пейзажу и соображая, что этот островок, если верить словам коммодора, лежит где-то пониже экватора, повыше южного тропика: примерно двенадцать градусов южной широты и девяносто – западной долготы. – Райское, – согласился Мэлори, – и живут там как в раю. Сотни две с половиной… Сто шестьдесят гражданских лиц обоего пола и гарнизон, рота из трех взводов. Огневые точки, радары, патрулирование берегов, бдительный персонал, круглосуточное дежурство… Ваши задача: спланировать операцию захвата. При условиях скрытности, внезапности и минимума атакующих сил. С учетом того, что силы эти дислоцируются в двух-четырех тысячах миль от Иннисфри. Возможно, в районе Сан-Диего на мексиканской границе, или в Гондурасе, Коста-Рике, на Кубе, в Колумбии или же в Чили. – Цель операции? – поинтересовался Каргин, изучая картину в темной траурной рамке. – Уничтожение определенного лица. А заодно – всех остальных обитателей рая. Всех, до последнего человека! Представьте, что у вас есть полный список – мужчины, женщины, солдаты… – Дети и младенцы? – К счастью, детей и младенцев нет. – Сделав паузу, Мэлори взял сигару, понюхал ее и вдруг усмехнулся краешком рта: – Что, сынок? Шокирован? – Я не склонен к сентиментальности, – сказал Каргин, приподнимая бровь. – Я лишь уточняю задание. Значит, детей нет… к счастью… Какая же будет у нас смета? Коммодор одобрительно хмыкнул. – Деловой подход, мой мальчик, очень деловой! Так вот, желательно уложиться миллионов в двадцать, максимум – в двадцать пять. И найти хороших исполнителей. Надежных, опытных и не болтливых. – При таких деньгах с исполнителями нет проблем, – откликнулся Каргин, помолчал и, чувствуя, как холодеет под сердцем, твердым голосом спросил: – Полагаю, что руководство акцией будет возложено на меня? Как и ее практическая реализация? – Этого я не говорил, – усмехнулся Мэлори и, раскурив сигару, пустился в объяснения. Из них Каргину стало ясно, что операция носит превентивный и даже скорее умозрительный характер. Правда, не во всех деталях: так, например, остров действительно существовал и являлся резиденцией и частным владением старого Халлорана, приобретенным у правительства Перу на девяносто девять лет. Население Иннисфри состояло из трех различных категорий: две группы, числом за двести душ, обитали в поселке на западном берегу, еще одна – повыше, на горном склоне. В поселке базировалась рота охраны и жили специалисты, обслуживающий персонал маленького порта и аэродрома, электростанции, ремонтных мастерских, пары питейных заведений и крохотной, но современной больницы. Поближе к небесам, в верхней точке острова, был выстроен дворец – весьма комфортабельная вилла со штатом в сорок служащих. Садовники и слуги, конюх и шофер, великолепный повар, личный врач, телохранители, а также референты и эксперты – миниатюрный штаб, правивший империей Халлорана. Остров являлся его убежищем уже лет десять или двенадцать, но Патрик Халлоран отнюдь не играл в отшельника – во всех делах последнее слово принадлежало ему. Он и только он считался Хозяином, Боссом и Патроном. Причины, в силу которых Халлоран предпочитал уединение, были изложены Мэлори вскользь. Одна из них – усталость от всемирной суеты и частой перемены мест; в зрелых и молодых годах старик достаточно постранствовал, чтоб оценить покой на склоне лет. Другим немаловажным поводом была забота о здоровье, что понималось очень широко: похоже, старый Халлоран отождествлял себя с компанией и полагал, что если он здоров и крепок, то тоже самое относится и к ХАК. Третьей причиной являлись давние счеты с налоговым ведомством США и пронырливой пишущей братией, совавшей нос в любую щель. К последним Халлоран питал патологическую неприязнь еще и от того, что на него была объявлена охота: приз репортеру, который сумеет проникнуть на Иннисфри и не расстаться с головой – или, положим, со скальпом. Но главная и основная причина касалась безопасности. Остров, свой королевский домен, Халлоран мог контролировать с большим успехом, чем любое владение на континенте – хотя бы потому, что Иннисфри не подпадал под перуанскую юрисдикцию, являясь как бы крохотной, но независимой державой со своими законами, порядками и судопроизводством. Впрочем, ни суда, ни полиции на острове не было; роль первого выполнял Халлоран – на правах монарха-самодержца, а полицейских вполне заменяли солдаты-наемники. О тех, кто мог угрожать Халлорану, Мэллори не слишком откровенничал, но намекнул, что недоброжелателей и недругов у старика хватает. Он торговал оружием без малого сорок лет, и попадались среди его клиентов люди влиятельные и мстительные, не забывавшие обид и не прощавшие разных накладок и трений, почти неизбежных в случае тайной коммерции. Клиенты, по словам Мэлори, не всегда понимали, чем рискует ХАК, снабжая их пушками и минометами, танками и джипами, боеприпасами и амуницией; а если снабжать приходилось две противоборствующие стороны, то тут уж наступал конец всякому пониманию и дружбе. До клиентов не доходило, что ХАК свободна от политических пристрастий и торгует со всяким, кто может заплатить; ergo, плативший больше, получал технику мощнее и истребительнее – и, разумеется, истреблял противников. В удачном случае – до самого конца. Однако бывали и неудачи, когда недобитая сторона еще дышала, шевелилась и даже строила планы мести, в которых, кроме ненавистных победителей, мог фигурировать Халлоран. Каргину, повоевавшему в разных пределах, от Никарагуа до Ирака и от Анголы до Боснии, было нетрудно домыслить остальное. Видимо, многих нажгли Халлораны – и Патрик, и его отец и дед, что подвизались в оружейном бизнесе не первое столетие. Быть может, за этим семейством тянулись долги от партизан Панчо Вильи до гвардейцев Сомосы и гаитянских тонтон-макутов; а это значило, что охотников за головой Халлорана не перечесть. Фашисты и арабские террористы, сепаратисты всех мастей и всех оттенков кожи, Ливия, Ирак, Иран, Камбоджа, Чад, Ангола и Заир, афганские моджахеды, якудза и курды, ваххабиты и колумбийская наркомафия… Словом, врагов у Халлорана действительно хватало, так что остров Иннисфри был для него вполне подходящим убежищем. Но сколь безопасным? Это предстояло выяснить, и Каргин, внимая речам коммодора, решил, что тот не даром ест свой хлеб. Его идея была вполне разумной: пригласить специалиста по диверсионным акциям и заказать ему проект атаки Иннисфри. Возможно, нанять не одного, а нескольких экспертов из разных стран, с различным боевым опытом и связями; их разработки позволят обнаружить слабые места в системе безопасности и устранить их, укрепив заблаговременно оборону. А также проверить компетентность экспертов и выбрать из них наилучшего – такого, который возглавит гарнизон на Иннисфри. Быть может, мелькнуло в голове у Каргина, эксперты были наняты, и каждый выполнил свою работу, представив некий план; тогда получалось, что сам он участвует как бы в негласном конкурсе по боевому планированию. И если победит… Это все объясняло: и солидные деньги, прописанные в контракте, и щедрые коммодорские посулы, и даже то, что нанят бывший российский офицер. Русского если наймут, так в последнюю очередь, подумал Каргин, соображая, что в этом есть свои преимущества: выходит, все остальные претенденты были отвергнуты или, во всяком случае, отставлены про запас. При этой мысли он усмехнулся и, прищурившись, еще раз оглядел картину над диваном; двенадцать лет явной и тайной войны вселяли в него уверенность в собственных силах. Коммодор, затянувшись в последний раз, бросил окурок в пепельницу. – Работать будете в особом помещении, рядом с моим кабинетом. Там есть все необходимое: карты, книги, справочники, компьютер, связь с любыми базами данных. В компьютере – вся информация об Иннисфри… вся, за исключением точных координат. Приступите завтра, в девять ноль-ноль, срок – неделя. Никому не звонить, ни с кем о задании не болтать. Подчеркиваю – ни с кем, ни с одной живой душой и мертвой тоже! В курсе вашей работы только двое: я и Брайан Ченнинг. На мисс Кэтрин Финли, одну из моих доверенных сотрудниц, возложена роль вашей тыловой службы. Связь со мной, дом, машина, питание, развлечения… словом, любые вопросы. Надеюсь, возражений нет? – Ни в коем случае, – заверил коммодора Каргин, с трудом сдержав желание облизнуться. – Тогда передайте ей ваш паспорт. Она свяжется с консульствами во Фриско, получит необходимые визы. – Американская виза у меня имеется. Французская тоже. – Я о других визах говорю – Канада, Чили, Перу, Мексика… О всех, какие могут пригодиться. Не беспокойтесь, отдавайте паспорт. Мисс Финли разберется. – Слушаюсь, коммодор. Каргин поднялся, одернул пиджак и, дождавшись кивка Мэлори, вышел в приемную. В отличие от кабинета, просторного, но почти пустого, приемную обставили с шиком: коллекция старинных револьверов, кольтов, магнумов и «Смит и Вессонов» на западной стене; шпаги, сабли, палаши и самурайские мечи – на восточной; бар с калифорнийскими винами и французскими коньяками, фотографии бронемашин и самолетов в золоченых рамках, мягкие кресла с гнутыми ножками и два огромных звездно-полосатых флага по обе стороны прохода, ведущего в коридор. Над дверью в кабинет Мэлори был закреплен кусок дюймовой танковой брони с отчеканенной надписью «Halloran Arming Corporation. New York, 1863», а слева от нее располагался стол секретарши. Там Каргина поджидала мисс Холли Роббинс, полная дама лет сорока, с повадками голливудской кинозвезды и чарующей улыбкой. Зубы у нее были просто загляденье – ровные, белые, один к одному. Наверняка вставные, подумал Каргин. – Пропуск и ключи от вашей машины, мистер Керк. Поищите на стоянке справа от входа, открытый песочный «шевроле», с подушками цвета кофе с молоком. Пропуск нужно носить вот здесь… – Она ловко прицепила жетон к лацкану каргинского пиджака, затем, покопавшись в ящике, извлекла прошлогодний номер «Форчуна». – Еще вот это. Мистер Ченнинг просил разыскать и обязательно передать. – Благодарю. – Надев колечко с ключами на палец, Каргин бросил завистливый взгляд на револьверы и мечи, потом с сомнением уставился в журнал. – Вообще-то я читаю «Милитари ревью»… Оскалившись в улыбке, мисс Холли игриво погрозила ему пухлым пальчиком. – Не интригуйте меня, юноша! Я-то знаю, что читают в вашем возрасте… и что разглядывают по вечерам… Свежий «Плейбой» купите сами. А это, – ее пурпурный ноготок коснулся глянцевой обложки, – это вы почитайте днем, как посоветовал мистер Ченнинг. Здесь статья о нашей корпорации и о мистере Халлоране. Мистер Ченнинг полагает, что вам полезно с ней ознакомиться. – Непременно, милая леди, – сказал Каргин, сунул журнал под мышку, еще раз полюбовался кольтами и вздохнул. Потом неторопливо направился к выходу – разыскивать песочный «шевроле» с подушками цвета кофе с молоком.
* * *
Пару часов Каргин покрутился среди ангаров, административных корпусов и поселковых коттеджей. Ангары были большими, квадратными в основании и группировались вокруг просторного плаца, частично забетонированного, частично засыпанного гравием, с крутыми насыпями, рвами и противотанковыми надолбами; здесь, вероятно, демонстрировалась бронетехника. Административных зданий оказалось пять. Они стояли друг за другом и были все на одно лицо: вытянутые двухэтажные строения с галереями и зеленоватыми окнами, похожие на аквариумы. Справа от них находилась автостоянка, и Каргин, прикинув количество машин, понял, что в штаб-квартире ХАК вкалывают тысячи две сотрудников. Пространство меж корпусами-аквариумами использовалось с толком: во-первых, здесь были разбиты скверы с беседками и фонтанчиками, а, во-вторых, имели место три кафе, бар с игральными автоматами и бесчисленные киоски с сигаретами, напитками, пончиками, газетами, солнечными очками и жевательной резинкой. Что касается Халлоран-тауна, то он лежал километрах в трех от рабочей зоны, у подножия холма с президентской виллой. Параллельно Грин-авеню шли пятнадцать или двадцать улочек с поэтическими именами вроде «Аллеи Роз», «Бульвара Утренней Зари» и «Большой Секвойи»; на каждой – тридцать-сорок уютных домиков, тонувших в зелени и цветах. Растительность была пышной, разнообразной и радовала глаз: стройные пальмы соседствовали с кипарисами и дубами, рододендронами, калифорнийскими кедрами и еще каким-то хвойным деревом, неведомым Каргину. В конце улочки Большая Секвойя обнаружился древесный гигант неохватной толщины, подпиравший, казалось, самое небо, и он решил, что это и есть секвойя. Среди ее чудовищных корней ютился автомат с банками кока-колы. На Грин-авеню нашлось питейное заведение посолидней – бар, стилизованный под испанскую венту, где подавали пиво, виски и вино. Он стоял напротив коттеджа под номером двадцать два, а рядом высился бревенчатый салун под названием «Старый Пью», с бильярдной, кегельбаном и тиром, располагавшимся несколько поодаль и огороженным дубовой стойкой. Проезжая мимо, Каргин втянул носом воздух и расплылся в блаженной улыбке: пахло жареными цыплятами и какой-то острой мексиканской приправой. В шесть часов атмосфера наполнилась запахом бензина и гулом машин; их пестрый поток устремился к дороге под вязами и дубами, распадаясь на два полноводных ручья: одни катились к поселковым улочкам, другие – в Уолнат-Крик, а возможно и дальше, на запад, к заливу. Сообразив, что рабочий день закончился, Каргин подрулил к «Старому Пью», со вкусом пообедал, выпил пива в баре и приценился к шампанскому. Местное стоило пятнадцать долларов, французское – семьдесят пять. Он вздохнул, поскреб в затылке, но купил французское; бросил тяжелую бутыль на сиденье «шевроле», снял пиджак и направился к стрельбищу. Публики там не было, если не считать чернокожего парня лет шестнадцати, содравшего с Каргина пяток зеленых. В обмен ему были предложены спортивный пистолет, беретта, кольт модели девятьсот одиннадцатого года и «специальный полицейский» сорок пятого калибра. Каргин выбрал полицейский револьвер и, под восхищенное улюлюканье и свист парнишки, всадил шесть пуль в десятку. Стреляли здесь по мишеням армейского образца, прибитым к фанерному щиту и представлявшим поясной контур, без рук, но с головой. От револьверных пуль фанера летела клочьями, а гром стоял такой, будто палили все батальонные минометы разом. Каргин пошарил в карманах, сунул парню мелочь, какая нашлась, и расстрелял еще пару обойм. Когда рассеялся дым и смолк грохот последнего выстрела, сзади раздались аплодисменты. Он обернулся и встретился взглядом с рыжеволосой девицей в красной маечке и шортиках. Она была по плечо Каргину, невысокая, стройная, хрупкая, но с полной грудью; майка так обтягивала ее, что выделялись соски. Бледное личико с веснушками у вздернутого носика казалось бы приятным, даже красивым, если б не губы, кривившиеся в ухмылке, и некая облачность в серо-зеленых глазах. Причину такого тумана Каргин определил с пяти шагов: от рыжеволосой красотки попахивало спиртным. Запах стал особенно заметен, когда она, шагнув поближе, ткнула его кулачком в плечо. – Ты кто, ковбой? Новый секьюрити? Откуда? – Ха, секьюрити! Бери повыше, сестренка! Алекс Керк из Лэнгли,[242] спецагент ЦРУ в отставке, – ответил Каргин и свирепо оскалился. – Киллер! – Вот еще, киллер! А я – майское дерево! – Не веришь? – Он похлопал себя по карманам. – Черт, мелочь кончилась… Доллар-другой у тебя найдется? Дай мальчишке, пусть набьет барабан, и я пристрелю вас обоих. Девица хихикнула и повела игриво плечами и бедрами, показывая: одежка, мол, такая тесная, что негде доллар спрятать. Потом спросила: – А нанял тебя кто? – Мистер Ченнинг. Чтобы пришить мистера Мэлори. – Вот это дело, – заметила рыжая, – это давно пора. Когда пришьешь милягу Шона, я сама тебя найму. Выпустишь кишки толстому Ченнингу, э? – Нет. Я, понимаешь, работаю с близкой дистанции, – пояснил Керк, – а мистер Ченнинг – клиент опасный. В смысле, тяжелый. Если свалится на меня, раздавит. Рыжая снова захихикала. – С близкой дистанции, говоришь? С такой? – Она придвинулась поближе, так, что напряженные соски уперлись в грудь Каргину. – А без пистолета ты можешь? Прямо руками? – Можно и руками, – согласился он, взял ее за талию, приподнял и отодвинул подальше. – Все по усмотрению клиента. Взять тебя хотя бы… Ты как желаешь: чтоб я тебе шею свернул, сердце проткнул или вырвал печенку? Рыжая вконец развеселилась. – Лучше проткни! Только начинай снизу. – Уцепившись за локоть Каргина, она потянула его к «Старому Пью». – А ты ничего, ковбой! Как тебя?.. Алекс? Ну, Алекс так Алекс… Весельчак! Люблю весельчаков… Пойдем-ка в бар, отметим знакомство… Угостишь бедную юную леди? – В другой раз, – пообещал Каргин, шагая рядом и искоса разглядывая рыжеволосую девицу. Леди, может, и бедная, однако не юная, подумалось ему, постарше Кэти лет на пять. Нахальная, из тех, что не краснеют… Однако вполне ничего, ежели в трезвом виде и приличном платье… или вовсе без платья… Посмотрим сначала, что с Кэти выйдет, решил он и, осторожно выдернув руку из цепкой хватки рыжей, поинтересовался: – Имя у юной леди есть? – Мэри-Энн, – пробормотала девушка, покачнулась и привалилась к плечу Каргина, обдавая его запахом виски и горьковатым ароматом духов. Он поддержал ее под локоток. – Мэри-Энн? Проще Нэнси… Рыжая вздрогнула и резко отсторонилась. Возможно, она была не так уж пьяна или протрезвела на мгновенье, но сейчас, когда девушка стояла перед Каргиным, в ее глазах он не заметил ни облачности, ни туманной мглы. Совсем наоборот! Они блестели и сверкали, и казалось, что из них вот-вот с шипеньем вылетят молнии, испепелив его до тла. – Не проще! – Покачиваясь, она погрозила ему пальцем. – Не проще, ковбой! Запомни: никаких Нэнси! Меня зовут Мэри-Энн! – А меня – Керк! И никаких ковбоев. Он повернулся и зашагал к машине. Смеркалось тут рано, в девятом часу. Добравшись домой, Каргин пошарил в шкафах, нашел спортивный костюм, переоделся и устроился на крыльце, мурлыкая: «Хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда». Допел до конца, потянулся и приступил к изучению соседнего коттеджа. Небеса, усыпанные звездами, располагали к приятным мечтам, в траве верещали и пели цикады, ветер шелестел листвой, рябил воду в бассейне и пах чем-то приятным – жасмином, или розами, или цветущей акацией. Дом за поляной был почти не виден, как и флаг, полоскавшийся на башенке, но вместо флага трепетала в освещенном окне занавеска – будто призывный сигнал, в единый миг заставивший Каргина позабыть о рыжей. На фоне полупрозрачной кремовой занавески скользила тень. Он разглядел стройную фигурку Кэти у большого овального зеркала; руки девушки ритмично двигались вверх-вниз, волосы струились темным облаком, обнимали плечи, шаловливыми змейками ласкались к груди. Временами ветер приподнимал занавеску, и тогда Каргин мог бросить взгляд в глубину комнаты, на столик у дивана, где горела лампа и что-то поблескивало и сверкало – кажется, хрусталь. Налюбовавшись, он поднялся, прихватил бутылки с шампанским и коньяком, распугивая цикад пересек лужайку и, очутившись под окном, продекламировал: – Моряк возвратился с моря, охотник вернулся с холмов…[243] Пустят ли его в дом? – Пустят, – послышался голос Кэти, и занавеска отдернулась. – Должна заметить, солдат, что ты не торопился. – Зато я принес шампанское, – сказал Каргин и единым махом перескочил через подоконник. Он не ошибся: на столике у дивана блестели хрустальные бокалы и небольшие стаканчики, замершие на страже при вазе с фруктами. Его несомненно ждали и встретили ласковым взглядом и поощрительной улыбкой. В комнате царил полумрак, в овальном зеркале у окна отражались звезды, лампа под голубым абажуром бросала неяркий свет на лицо Кэти. На ней было что-то воздушное, серебристое, неземное – одна из тех вещиц, какими женщины дразнят и тешат мужское воображение. Впрочем, Каргин не приглядывался к ее наряду, интересуясь больше тем, что находилось под тонкой полупрозрачной тканью. Однако дело – прежде всего, и он, вытащив паспорт, вручил его Кэти. Она раскрыла красную книжицу. – Тебе тридцать три? А выглядишь моложе! – Может быть, – согласился Каргин, открывая шампанское. – Впрочем, тридцать три – хороший возраст. Есть уже что вспомнить, и есть еще время, чтобы об этом забыть. Например, о Киншасе, подумалось ему, о поле, заваленном трупами, и о том, как бойцы Альянса добивали раненых. Еще – о резне в Кигали и Могадишо, о бойнях в Анголе и Боснии, о югославском позоре, чеченской трагедии, афганских снах… Кэти, не зная-не ведая про эти думы, уютно устроилась рядом с ним на диванчике. – О чем же ты хочешь забыть, солдат? О неудачной любви? О женщине? – О женщине? – Каргин усмехнулся. – Хмм, возможно… Такая рыжая, с манерами герлскаут на школьной вечеринке… Много пьет и липнет к незнакомым парням. Не хочет отзываться на имя Нэнси. Зрачки Кэти внезапно похолодели, будто пара замерзших темных агатовых шариков. Отодвинувшись, девушка с подозрением уставилась на Каргина. – Где ты ее подцепил, Керк? – Не подцепил, а встретил. В «Старом Пью». – Рыжая шлюха… где ей еще ошиваться… – Кэти презрительно поджала губы. – Держись подальше от Мэри-Энн, солдат! Если тебе интересны такие… такие… Каргин был не прочь разузнать побольше о загадочной Мэри-Энн, но обстановка к тому не располагала. Притянув Кэти к себе, он нежно поцеловал ее в шею. – Совсем не интересны, и я о ней уже забыл, детка. О всех забыл, кроме тебя. Личико Кэти смягчилось. – Льстец! Ну, ладно, что тут поделаешь… все вы льстецы… в определенное время… – Она подняла бокал и с мечтательной улыбкой промолвила: – Раз ты забыл про Мэри-Энн, выпьем за Париж! Ты расскажешь мне о Париже, Керк? – О Париже? Как-нибудь потом, бэби. Сначала поговорим о тебе и о твоих прекрасных глазках. Глядя сквозь янтарную жидкость на свет лампы, Каргин с чувством продекламировал:Глава 3
Калифорния, Халлоран-таун; 16–20 июняТри следующих дня Каргин пил кофе большими кружками, рылся в справочниках, энциклопедиях и картах и терзал компьютер. Компьютеров в его рабочей комнате было, собственно, два: один обеспечивал доступ в интернет и выдачу различных сведений, в другом, отключенном от сетевого кабеля, хранилась информация об Иннисфри. Первым делом Каргин попытался установить географические координаты острова, но вскоре выяснил, что объект с таким названием не существует ни в одном из земных океанов. Впрочем, имелась справка, что остров, после его приобретения Халлораном, был переименован на ирландский манер по желанию нового владельца, а прежде носил имя Мадре-де-Дьос. Для этого координаты нашлись, но с тем примечанием, что их исчислил в восемнадцатом веке какой-то испанский капитан из благородных кабальеро, не слишком сведущий в навигации, а потому ошибка могла составлять полсотни миль в любую сторону. Что же касается острова как такового, то он имел овальную форму, вытянутую с запада на восток, и площадью равнялся Мальте. Длина Иннисфри составляла двадцать, а максимальная ширина – четырнадцать километров, и этот солидный кусок тверди являлся ничем иным, как разрушенным и частью затопленным кратером древнего вулкана. Его западный склон был пологим, сглаженным ливнями и ветрами, и тянулся от бухты, похожей на круглый рыбий рот в обрамлении серповидных челюстей, до скалистого гребня стометровой высоты. Два мыса-серпа были самыми западными точками Иннисфри; между ними пролегал пролив, довольно глубокий, шириною в триста метров, переходивший в просторную бухту Ап Бей – иными словами, Верхнюю. Лоу бей, или Нижняя бухта, располагалась в четырех-пяти километрах на юго-западе и была не круглой, а вытянутой, напоминавшей фиорд, поскольку ее обрамляли с двух сторон обрывистые базальтовые утесы – след давнего разлома кратерной стены. В самой ее глубине имелся искусственный песчаный пляж, а больше ничего, если не считать пляжных домиков и тентов. Вся остальная часть острова, за исключением западного склона, являла собой вулканическую кальдеру, занесенную камнями, песком и слоем довольно плодородной почвы. Это пространство охватывала скалистая стена, кое-где в двести-триста метров высотой и совершенно неприступная с моря, но с осыпями, трещинами и пещерами с внутренней стороны. В этом базальтовом кольце рос сырой и душный мангровый лес, переходивший иногда в трясину, с редкими пальмами, панданусом и болотным кипарисом на более сухих местах. Бросовые земли, занимавшие три четверти Иннисфри и совсем не похожие на рай; но для создания рая все-таки оставался западный склон, продуваемый свежими морскими бризами, и обширная низменность около Верхней бухты. Бухта имела в диаметре километра два, дальний ее конец был отгорожен молом с маячной башенкой, а на берегу располагался вполне современный поселок, с казармой для солдат охраны, с полусотней коттеджей, складами, причалами и питейными заведениями. Северней поселка лежал аэродром, не очень большой, но и не маленький, вполне подходящий для пятитонных транспортов и, разумеется, вертолетов. Там же находились электростанция, склад горючего, ремонтные мастерские, ангары и гаражи, обрамлявшие прямоугольник взлетного поля. К востоку от бухты местность постепенно повышалась, и в самой высокой точке, посередине западной кратерной стены, стоял замок Патрика Халлорана – судя по фотографиям, монументальное сооружение в древнеегипетском стиле, с прилегающим парком, жилым трехэтажным корпусом для персонала, конюшнями, бассейнами, антенной спутниковой связи и обзорной террасой. От поселка к дворцу поднималось серпантином благоустроенное шоссе, а по гребню кратера были проложены дороги: на юг, к Нижней бухте и пляжу, и на север, до небольшого мыса, где находился наблюдательный блок-пост. Имелись и другие магистрали, а также луга, леса, ручьи, пальмовые рощи и тропки для пеших и конных прогулок; все-таки обитаемая часть Иннисфри была отнюдь не маленькой, раза в три побольше, чем княжество Монако. Но главной диковиной острова был не поселок, не заполонивший кратер мангровый лес, не пляжи и живописные разломы скальных стен, не каменистые осыпи и пещеры и даже не хозяйский замок в стиле Тутмосов и Рамсесов. На западном гребне, в двух километрах к югу от дворца, лежало горное озеро эллиптических очертаний, и эта странная деталь пейзажа повергла Каргина в недоумение. Обычно горные озера полнятся ручьями, текущими с заснеженных вершин, а здесь не имелось ни снега, ни ледников, ни подходящей вершины – зато был ручей, струивший воды по склону к Верхней бухте. Даже не ручей, а целая река: неподалеку от устья через нее был переброшен мостик, и от него дорога поднималась в горы, к замку. Мост, конечно, охранялся – на плане в этой точке был изображен кружок с крохотным пулеметом. На первый взгляд происхождение озера было загадкой, поразительным и непонятным феноменом. Однако, порывшись в файле с геологическим описанием острова, Каргин уяснил, что в земных глубинах, где-то под вулканической подошвой Иннисфри, есть водяная линза, питавшая озеро с неиссякающей щедростью. Разумеется, не божьим промыслом – скважину пробили лет десять назад, в период интенсивного благоустройства, прокладки дорог и насаждения пальмовых рощ. Данный факт казался весьма любопытным, однако имел десятое отношение к задачам Каргина. Его гораздо больше интересовали бетонные ячейки блок-постов, наземные радары и сектора обстрела, спаренные крупнокалиберные пулеметы, авиационные пушки, стингеры, три патрульных вертолета и шесть катеров береговой охраны. Все это хозяйство, само собой, удалось бы приговорить и раздолбать силами десантного батальона, при шестикратном превосходстве в численности, с артподдержкой с воздуха и моря, но такую операцию скрытной не назовешь. Никак не назовешь! И потому парашютный десант и ковровое бомбометание исключались, равным образом как «Черные акулы» и «Апачи», «Стелсы» и «МиГи», транспортные амфибии, ударные авианосцы и атомные субмарины класса «Стерджен» и «Лафайетт». Морская пехота тоже могла спать спокойно, как и другие части спецназа великих и мелких держав. Такие солдаты не подходили для резни, тотального уничтожения гарнизона и полутора сотен гражданских лиц. Тут требовался контингент иной выучки, убийцы и башибузуки вроде тех, какими командовал Кренна – мастера зачисток и облав, получавшие плату с головы. Там, где они прошли, живых не оставалось, пленных они не брали и потому носили с честью имя крыс из эскадрона смерти. Но кроме исполнителей определенных качеств нужна была и техника. Не самолеты и ненадводные корабли, которые можно засечь в любой из точек тысячемильной траектории, но средство скрытное, мобильное, не поддающееся наблюдению, невидимое для наземного радара. Одна из тех субмарин, какие предназначались не для торпедных атак или ракетных залпов, а для разведки и переброски диверсионных групп. Такое судно стоило дорого и не укладывалось в предложенную коммодором смету, что, впрочем, не смущало Каргина: к чему покупать, если можно арендовать? Он исчислил арендный взнос в десять-пятнадцать миллионов и, закончив с транспортными проблемами, приступил к наземной операции. Тут существовала некая сложность, связанная с размерами обитаемой части острова. Ее прикрывали восемь блок-постов, но кроме них были другие объекты стратегической важности: во-первых, казарма и пункт управления обороной, во-вторых – аэродром, и в-третьих – вилла Халлорана с системой спутниковой связи. В рамках скрытной операции все эти точки полагалось атаковать одновременно, сломив сопротивление и захватив контроль над связью в течение пяти-семи минут. Связь была самой важной проблемой; если промедлить, сообщение о нападении уйдет в Кальяо, Лиму[244] и десять других городов, и помощь оттуда поступит незамедлительно. Патрик Халлоран был слишком важной персоной, чтобы не реагировать на его звонки. Итак, одномоментный удар. Азы военной науки гласили, что нанести его без вертолетов невозможно, а это значило, что два или три помела придется захватить на местном взлетном поле либо привезти с собой. Каргин остановился на последнем варианте. Захват аэродрома стоил нескольких потерянных минут и не давал гарантий, что патрульные вертушки снаряжены и полностью готовы к бою. А вертушек требовалось никак не меньше двух: один экипаж атакует дворец и три ближайших блок-поста, другой уничтожает огневые точки на северном мысу и у моста через ручей. Все расстояния, если отсчитывать их от поселка у Верхней бухты, укладывались в пять-восемь километров; значит, была возможность атаковать любой объект в течение двух-трех минут. Военные штудии Каргина длились строго по расписанию, с девяти до шести, и проходили в комнате без окон, похожей на глухую, обитую звукоизолирующим пластиком внутренность сейфа. При комнате был душ с туалетом, а также кухонная ниша, большой кофейник и неиссякаемый запас растворимого кофе «Селло Дорадо». В комнату вели стальные двери, створки которых не распахивались, а откатывались в стены; за ними изгибался узкий коридорчик, а в его конце имелась еще одна дверь, уже привычной конструкции, но с кодовым замком. Карта с паролем на вход хранилась у Кэти; утром она приводила Каргина на рабочее место, вечером забирала, а ровно в тринадцать-ноль-ноль выпускала погулять и закусить в одном из кафе между вторым и первым административными корпусами. В это время лишние люди тут не болтались; у служащих ХАК перерывы на ланч были в двенадцать и в три пополудни. В час отдыха Каргин был, как правило, рассеян и ел торопливо, уносясь мыслями к острову Иннисфри и прикидывая, откуда начать атаку, с Верхней или Нижней бухты, и как половчей захватить дворец, с террасы или же с главного входа. Кэти, казалось, его понимала и не старалась разговорить. Для долгих неспешных бесед у них хватало времени по вечерам, и говорили они о российском житье-бытье, о Питере и Москве, о родителях Каргина, но главным образом о Париже, о его музеях, парках и мостах, ведущих к Ситэ и Сен-Луи, о донжонах Венсенского замка, о площади Вогезов и храме Валь-де-Грас. Правда, до бесконечности те разговоры не тянулись, а прерывались иногда протяжными стонами и вскриками – мелодией любовных флейт и тамбуринов, звучавшей под скрипичный оркестр цикад. Судьба наемника полна превратностей и перемен; сегодня ты жив, а завтра мертв, утром здоровый и бодрый идешь на приступ, а в полдень вяляешься в воронке без ноги и истекаешь кровью, падаешь в ночную тьму под нераскрывшимся парашютом, подрываешься в джунглях на мине, получаешь удар штыком и глядишь, как стервятники копошатся в твоем распоротом животе. И никакой благодарности, ни памятников, ни орденов, ни залпов над могильным камнем, ни кардиналов с папой, как во сне Росетти… Да и могилы тоже нет; скорей упокоишься в звериной пасти, как предрекал когда-то Киплинг. Гиены трусов и храбрецов жуют без лишних затей… И, помня об этом, Каргин времени зря не терял. Что в руки солдата попало, на том и спасибо. Что, собственно, попало и почему попало, он еще не разобрался. Похоже Кэти была не из тех девиц, что падки на наемников-ландскнехтов или парней с крепкими мышцами, рожденных в местах экзотических, вроде гарнизона под Хабаровском, украшенных шрамами и славой и знавших о жизни нечто такое, чего нормальная личность вообразить не в силах. Это с одной стороны, а с другой – случилось ведь то, что случилось! И очень быстро, размышлял Каргин по вечерам, прислушиваясь к тихому дыханию дремавшей рядом девушки. Можно сказать, даже стремительно… А почему? Сплошное телесное вожделение? Или любопытство? Или внезапная любовь? Или задание от шефа – будь, мол, поласковей, детка, с этим российским коммандос, скрути да охмури… Однако все эти причины скоропалительной симпатии мнились Каргину нелепыми – хотя, быть может, не настолько, чтобы отбросить их совсем. Был, наверное, у Кэти некий тайный интерес, но было и другое, что-то искреннее, неподдельное, заставлявшее сердце Каргина сжиматься в тревоге и надежде. Люди, годами ходившие рядом со смертью, делятся на две категории: одни звереют и тупеют, другие получают дар предчувствовать вибрации души и делать верный выбор меж истиной и ложью. Смутное, почти иррациональное ощущение, но если прислушаться к нему, оно не подводит никогда – ни с другом, ни с врагом, ни с женщиной. Особенно с женщиной, с юной женщиной, чьи губы трепещут рядом с твоими губами и сердце бьется у твоей груди… Нашел?.. неужели нашел?.. – думалось Каргину в ночной тишине, но он не торопился с ответом. Время покажет, мелькала первая мысль, и тут же ее догоняла вторая: слишком мало времени прошло. Мало, не так чтоб очень, если судить с военной точки зрения. Целых три дня.
* * *
На третий день боевых трудов, во время ланча, кто-то остановился за его спиной. Каргин не видел подошедшего; он доедал салат и размышлял не о загадках женской души, а о вещах прозаических – о том, к примеру, не подорвать ли казарму и ближние к ней посты минами ПТМ, от коих танк взлетает в воздух на два человеческих роста. Одновременно он любовался Кэти – если не считать пальмы у их столика, увитой лианой в алых цветах, она была самым приятным украшением пейзажа. Вдруг лицо ее переменилось. Зрачки потемнели, яркие полные губы вытянулись в шпагат, брови сошлись на переносице, а под нежной смуглой кожей щек наметились желваки. Сейчас она напоминала взведенную гранату – отпусти кольцо, грохнет взрыв, метнется пламя и полетят во все стороны осколки. Т а к а я Кэти была совсем незнакомой Каргину. За его спиной раздался голос – вроде бы слышанный раньше, раздраженный, чуть визгливый, с заметными повелительными нотками. – Когда я подхожу к своим сотрудникам, им полагается вставать! Каргин прожевал листик салата и поднял голову. Молодой мужчина, примерно в его годах, высокий, рыжеватый, с серо-зелеными глазами и надменным капризным ртом. Незнакомец был одет щеголевато, можно сказать, с иголочки: безупречный светло-кремовый костюм, строгий галстук, замшевые туфли. Кого-то он напомнил Каргину – кого-то очень знакомого, виденного многократно, в различных обстоятельствах и ракурсах. Не его ли самого?.. Все может быть, мелькнула мысль. Правда, подбородок у Каргина был покруче, скулы пошире, а волосы – потемней, и рыжинка в них едва просвечивала. Но сходство, безусловно, имелось – такое, какое волей судеб бывает между чужими людьми, рожденными в разных концах планеты. Осмотрев незнакомца с ног до головы, Каргин отвернулся и подмигнул Кэти: – Представительный джентльмен… Кто такой? – Бобби. Он же – Роберт Генри Паркер, наследник и президент Халлоран Арминг Корпорейшн, – пояснила она без особой приязни, выделив слово «наследник». – Нынешний босс корпорации. Брови у Каргина полезли вверх. В сказанном девушкой не было и намека на пиетет или хотя бы обычную вежливость, с которой мелкий служащий обязан относиться к шефу, главе могущественной фирмы. Выводов можно было сделать два: либо Кэти не являлась мелким служащим, либо ее связывало с Паркером нечто личное, позволявшее общаться накоротке. Может быть, имеют место оба варианта, решил Каргин и медленно протянул: – Значит, босс, наследник и президент… А что же ты не встаешь? Губы Кэти дрогнули в торжествующей усмешке. – Я из административного отдела, который ему не подчинен. А если б и был подчинен, ему все равно меня на улицу не выбросить! Никак не выбросить! – До поры, до времени, дорогая, – ядовито заметил Паркер, приземляясь на стул рядом с Каргиным. – До поры, до времени. У всех твоих покровителей пролежни в мозгах, а из задниц уже сыпется песок. Когда высыпется весь, мы потолкуем об улицах и даже о панелях. Или я не прав? Кэти, побледнев от ярости, хотела ответить чем-то не менее ядовитым, но Каргин накрыл ладонью ее стиснутые руки. Он был поборником дисциплины и привык к тому, что человека можно не уважать, но чин его и звание – совсем другое дело. Как говорил майор Толпыго со всей армейской прямотой, честь отдаешь не морде, а погону. – А я ему подчинен? Я обязан вставать? – Если пожелаешь, – пожала плечами девушка. – Но ты нанят Шоном Мэлори – службой безопасности, проще говоря, а она подчиняется только старику… то есть, я хотела сказать, мистеру Патрику Халлорану. Диспозиция прояснилась, и Каргин, повернувшись к Бобу, взиравшему на него с каким-то нехорошим интересом, обматерил президента по-русски. Это заняло пару-другую минут, так как ненормативной лексикой он владел в совершенстве, как и положено всякому ротному командиру. – Что это было? – поинтересовался Боб, когда список сексуальных привычек его предков подошел к концу. – Это был великий и могучий русский язык, – объяснил Каргин. – Цитата из «Братьев Карамазовых» нашего гения Достоевского. В ней говорится о поганцах, грозящих юным девушкам панелью. – Подобрав с тарелки остатки салата, он осведомился: – Президент желает что-нибудь еще послушать? Скажем, из русской поэзии или из классиков марксизма? Щечки Кэти порозовели. Вытянув длинные ноги, Паркер недовольно пожевал губами, нахмурился, потом буркнул: – Сестра говорила, что ты неплохо стреляешь… – Какая сестра? – Рыжая стерва Мэри-Энн, – с усмешкой промолвила Кэти. – Та, которая много пьет, липнет к чужим парням и не желает отзываться на имя Нэнси. – Было такое, – Каргин согласно кивнул. – Послезавтра суббота, – Паркер резким щелчком сбил пылинку с пиджака. – Приходи в двенадцать к «Старому Пью». Постреляем. Он встал и, не прощаясь, двинулся к проему в подстриженных кустах, обозначавшему выход из кафе. – Фрукт, однако, – заметил Каргин после недолгой паузы. – Самоуверенный болван, – пробормотала Кэти. – Наследничек… – А другие у Халлорана есть? Дети там или внуки? – Старик, я слышала, к женщинам был неравнодушен, но не женился и о прямом наследнике не позаботился. – Взгляд Кэти, скользнув по лицу Каргина, переместился на пальму, увитую лианой в алых цветах. – Бобби и Мэри-Энн – дети его сестры Оливии Паркер-Халлоран… Но это ничего не значит. Ровным счетом ничего. – Не значит? Почему же? Кэти неторопливо навивала на палец длинную каштановую прядь. – Во-первых, потому, что могут найтись и другие наследники… я ведь сказала: к женщинам был неравнодушен… А, во-вторых, Патрик Оливию терпеть не может. Она младше на двадцать лет и родилась в четвертом браке его отца, Кевина Халлорана. Когда тот умер, Оливии было восемнадцать, а Патрик, закончив дипломатическую карьеру, стал править корпорацией, и было ему не до сестры… Она пустилась во все тяжкие, потом связалась с нищим баронетом из Йоркшира, Джеффри Паркером, который, как мне говорили, ее обобрал и бросил. А Халлоран британцев ненавидит. Ирландский националист, поклонник фениев… субсидировал ИРА[245] и, вероятно, субсидирует и сейчас. А кроме того… Она замолчала, и Каргин, выждав минуту-другую, осторожно напомнил: – Кроме того, есть и третье, так? И что же? – Есть, и дело в Бобби. Старик уверен, что лишь настоящий мужчина может возглавить компанию, а Бобби… – Бойскаут? Или плейбой? – Не только. Глупец, фанфарон и самовлюбленный идиот… корчит из себя супермена… – Кэти передернула плечами. – Любитель патронов большого калибра, больших машин и толстых задниц. Может и свою подставить, не сомневайся! Присвистнув, Каргин заметил: – Я вижу, ты в курсе всех семейных дел! – Если ты о пристрастиях Бобби, так в этом нет ничего секретного… – Девушка оперлась подбородком на переплетенные пальцы, продолжая глядеть куда-то мимо Каргина; лицо ее приняло задумчивое выражение. – Видишь ли, Керк, я из хорошей семьи, но небогатой, и манна мне с неба не падала. Был один случай, был, да сплыл… А раз сплыл, то я решила, что позабочусь о себе сама. Найду богатого парня, вскружу ему голову и увезу в Венецию или в Париж… – Она вдруг лукаво сощурилась и заглянула Каргину в глаза. – Ты, случайно, не этот парень? Кажется, твой отец – генерал? Наверное, он человек богатый? Каргин, расхохотавшись от души, поднялся. – Выстрел мимо, крошка! Старый русский генерал – это тебе не новый русский! Много ран и орденов, а денег… – Выразительно пожав плечами, он подхватил девушку под локоток. – Ну, пойдем, пойдем… Пора трудиться. Отец его был из кубанских казаков, служивших отечеству верой и правдой без малого два столетия, но кроме чести и упомянутых ран с орденами не выслуживших ничего. Ни у царей и царских полководцев, ни у партийных чинуш и самодержавных генсеков. Отец никогда и жаждал богатства, повинуясь иному императиву, ясному и четкому: солдат должен служить, сражаться и защищать. Что он и делал тридцать лет, пока не лишился пальцев на ноге во время штурма Панджшерского ущелья. За все труды и пролитую кровь он получил неплохую должность, вернулся на родину в Краснодар, служил там в штабе округа, но в девяносто шестом, когда закончилась чеченская война, подал в отставку. Каргин расспрашивал, зачем да почему, а отец отмалчивался, темнел лицом и лишь однажды, выпив водки, буркнул: орлы, мол, с лебедями и грачами не летают. Род свой Каргин считал по отцу, но походил на мать, светловолосую и сероглазую москвичку. По матери считаться было нечем – бабка Тоня ее «нагуляла» в сорок четвертом, в оголодавшей, пропахшей порохом Москве, а от кого, о том в семье не говорилось. Должно быть, мать сама не знала – бабку Тоню бог прибрал в шестидесятом, еще молодой и до того, как отец, учившийся в академии Генштаба, повстречался с матерью. Помнились, однако, Каргину фотографии красивой женщины в старом семейном альбоме да десяток книжек на английском – бабка Тоня была переводчицей, и мать, посмеиваясь, говорила, что от нее он унаследовал дар к чужим языкам. Драгоценный дар, думал он временами, дороже всяких денег. Языки шли у него легко, особенно испанский, который вместе с английским преподавали в училище ВДВ, а потом – в Питере, на курсах спецподготовки. В Гаване и Кампечуэле он овладел им в совершенстве, а заодно обучился метать ножи и лассо, вспарывать горло навахой и драться на мачете. В память о тех временах остался не только язык, но и отметина над коленом, где вспороло кожу стальное лезвие в руках инструктора. Инструктор дон Куэвас был человеком суровым и таким же безжалостным, как его мачете – длинный изогнутый клинок, вдвое тяжелей кавалерийской сабли. Каргин иногда тосковал по этому оружию; в сравнении с ним сюрикены и проволока-удавка казались елочными игрушками.* * *
В пятницу, перед уик-эндом, рабочий день завершился пораньше, в четыре тридцать, и Кэти повезла Каргина знакомиться с городом. Видимо, Сан-Франциско уже оправился от прошлых бедствий и разрухи; все его здания – знаменитая Пирамида и миссия Долорес, консерватория и Янговский мемориал, музеи Азии и современного искусства, сто сорок театров и даже тюрьма на острове Алькатраз – все они выглядели вполне пристойно, а пальмы и другие насаждения успели вымахать метров на двенадцать. Впрочем, Каргин порадовался бы любому городу, что Москве, что Краснодару или Фриско, так как за время службы в Легионе в нормальных городах бывал не часто – пару раз в Париже, один раз в Риме и Венеции, в период отпуска. Что же касается других городов, каких-нибудь Киншас и Могадишей и даже Сараева, то они в момент появления там Каргина дружно лежали в развалинах, или горели, или простреливались насквозь из батальонных минометов и тяжелой артиллерии. Центрально-Африканская Республика, где на базах под Бозумом и Ялингой дислоцировался Легион, казалась сравнительно мирной землей, но ее города, те же Бозум и Ялинга, были просто огромными деревнями без всякой экзотики, кроме скакавших по пальмам обезьян и потаскушек, ошивавшихся в каждом баре. В силу этих причин Фриско очень понравился Каргину – так же, как нравилась ему Кэти. В сравнении с женщинами мбунду, барунди или пенде она была просто королевой красоты. Приятный вечер завершился в китайском ресторанчике, дав повод обмыть и растрясти аванс. Он оказался весьма солидным, девять тысяч долларов, как сообщила Холли Роббинс, и был перечислен на счет Каргина в одном из парижских банков. Очень кстати; квартира в Москве проехалась по его финансам словно дорожный каток. Из ресторана они уехали заполночь, выпили в кэтиной опочивальне бутылку белого калифорнийского и, разумеется, не спали до утра. В шестом часу Кэти наконец угомонилась и уснула, а Каргин задремал вполглаза и увидел во сне то ли подмосковные березы, то ли краснодарскую цветущую черешню, то ли тайгу под Хабаровском и барачный военный городок, где он появился на свет – словом, увидел что-то родное, знакомое, русское, и от того, вдруг пробудившись, пришел в настроение мрачное и неспокойное. Опять показалось ему, что он не в том месте, не в своем, и занимается, в сущности, ерундой; и воздух здесь не тот, и запахи не те, да и занятия его на грани бреда. Он выругался шепотом, посмотрел на Кэти, прильнувшую к его плечу, и в сотый раз подумал, что рано еще задаваться вопросом, та это женщина или не та. Потом смежил веки и постарался заснуть. Это ему удалось, ибо в любой стране и части света люди его профессии жили по принципу: солдат спит, служба идет. Второй раз он проснулся в одиннадцать. Его калифорниская принцесса сладко спала и видела сладкие сны – может быть, о Париже или о богатом парне, который увезет ее в Париж; сны скользили под ее сомкнутыми ресницами, набрасывали на смуглое личико вуаль румянца. Каргин осторожно сполз с постели, прихватил рубаху и штаны, отправился на кухню и съел пару сандвичей. Потом стал одеваться. За этой процедурой его и застала Кэти. – Ты куда, дорогой? Знакомый вопрос, с усмешкой подумал Каргин. Тот, который раньше или позже задают все женщины. Взглянув на часы (было двадцать минут до полудня), он неопределенно ответил: – Кажется, приглашали пострелять. Кэти потянулась, откинула полы халатика, обнажив стройные ножки. – А я думаю, у нас найдется занятие поинтереснее. – Занятия должны быть разнообразными, – назидательно промолвил Каргин, вытянул руку и растопырил пальцы. Они, несмотря на бурную ночь, не дрожали. – Пойдешь со мной, детка? – Не пойду, – Кэти помотала головой. – Нет желания глядеть на гомиков и рыжих шлюх. – Она вдруг усмехнулась и буркнула, пряча глаза от Каргина: – Ты с Бобби поосторожнее, солдат… Тыл береги, не то получишь пулю в задницу. Путь до «Старого Пью» и стрельбища был недалек, и Каргин отправился пешком. По дороге он размышлял о странных делах, творившихся в фирме ХАК, где президент был геем, его сестрица – шлюхой, а дядюшка, глава семейства – затворником и англофобом. Все это загадочным образом переплеталось с Кэти; с одной стороны, она была обычной служащей и, по собственным ее словам, девушкой небогатой, которой манна с неба не падает, с другой, явно обладала особым статусом и привилегиями. Подумать только, сам президент не мог ее уволить! Плюс коттедж для управляющего персонала, алый «ягуар» и подчеркнутая независимость – даже враждебность – с которой она держалась с Бобом. Похоже, ее позиции были крепки и обустроены огневыми точками, противотанковыми рвами и крупнокалиберной артиллерией. Чья-то пассия?.. – мелькнуло в голове у Каргина. Эта мысль была ему неприятна, даже отвратительна, но он додумал ее до конца. Жизнь есть жизнь, и мало ли какие обстоятельства могли влиять на Кэти, сломив ее гордость и честь… Правда, то и другое вроде бы было на месте, да и несчастной или в чем-то ущемленной она совсем не выглядела… С другой стороны, размышлял Каргин, взять хотя бы Россию в нынешние времена: оклад полковника – сто тридцать долларов,[246] а секретарша-девчонка в двадцать лет имеет от трехсот до тысячи. А почему? А потому… Представив это «потому» с одним из возможных кандидатов, с Мэлори, Ченнингом или Халлораном, Каргин скрипнул зубами и свирепо ощерился. Чьей любовницей она была? Кого-то из трех сиятельных боссов или всех сразу? Вполне возможно, так как упоминался песок, что сыпется из задниц покровителей! Значит, люди они немолодые, и самый пожилой из них, как утверждала сама Кэти, был падок на женщин. Был!.. Может, чувства его увяли не совсем? Но тогда Кэти нечего делать во Фриско, место ее – на острове или, как минимум, в Париже… Однако она здесь. И даже пустила под одеяло какого-то солдата, наемника и бывшего «стрелка»… Почувствовав, что совсем запутался, Каргин злобно сплюнул, обогнул бревенчатые стены «Старого Пью» и замер с приоткрытым ртом. На стрелковой позиции, у обшитого дубом барьера, лихо подбоченился Бобби Паркер – на этот раз в широкополой шляпе, пятнистом комбинезоне рейнджера и щегольских ковбойских сапогах. Рядом стояла машина – пошире, чем кровать в каргинской спальне; в ней, вытянув стройные голые ноги поверх руля, с удобством расположилась Мэри-Энн, а сзади сидел какой-то тип с кудряшками до плеч, пребывавший, как показалось Каргину, в сонном оцепенении. Его лицо с тонкими женственными чертами словно оттеняло оживленную мордашку Мэри-Энн; волосы ее были растрепаны, с губы свисала сигарета, а в правой руке сверкал никелированный «целиски» – спортивный австрийский револьвер сорок шестого калибра с чудовищно длинным стволом. Прочее оружие было разложено на стойке и тоже отличалось солидными калибрами: испанская «астра», «магнум-супер», «гюрза» с узорчатой гравировкой по стволу плюс израильский «дезерт игл». Однако не оружие и его владельцы поразили Каргина – всего удивительней были мишени, который устанавливал чернокожий паренек в дальнем конце стрельбища. Они были выпилены из фанеры, тщательно раскрашены и изображали пожилого джентльмена с падавшими на лоб рыжеватыми волосами и худощавым суровым лицом. Две – в фас, и две – в профиль. Джентльмен, будто чувствуя, что предстоит, выглядел мрачновато и взирал на барьер, оружие и стрелков с немым укором. Мэри-Энн, заметив Каргина, бросила револьвер и замахала призывно белоснежной ручкой. – Алекс! Хай, ковбой! Или киллер? Ты еще Мэлори не пришил? – Она протянула ему бутылку. – Выпить хочешь? – Киллеры с утра не пьют, чтоб руки не дрожали, – буркнул Каргин, придвигаясь поближе. – Кстати, по эту сторону железного занавеса меня называют Керком. – Керк так Керк, – согласилась Мэри-Энн. – А что, он еще существует? Этот гребаный занавес? – Само собой. Не в реальности, так в загадочной русской душе. – Вот дьявольщина… – протянула Мэри-Энн, вылезая из машины. – Ты, выходит, русский… А я-то думала, ты – немец. Или швед. – Если не лезть в душу, большой разницы нет, – сказал Каргин, разглядывая кучерявого. Здороваться тот не пожелал, даже прикрыл глаза и будто совсем отключился. Лицо его казалось равнодушным как мраморный лик бесполого ангела. – Это Мэнни, – пояснила Мэри-Энн. – Не удивляйся, он всегда такой. Спит на ходу, пока не забьет косячок. Пожав плечами, Каргин отвернулся и сделал шаг к стойке, любуясь выложенным на ней арсеналом. Бобби сухо кивнул ему: – Выбирай! Стреляешь первым, по левой мишени. Четыре выстрела – нос, бровь, глаз, ухо. – Поправка. – Каргин поводил рукой над оружием и опустил ее на «дезерт игл». Пушка была тяжелой, около двух килограммов; нагретая солнцем рукоять удобно устроилась в ладони. – Поправка: кончик носа, середина брови, зрачок и мочка. Он поднял пистолет к плечу и замер, дожидаясь, когда мальчишка уберется от мишеней. Рыжий джентльмен неодобрительно косился на него, будто говоря: что ж ты, парень, в детские игры играешь? Цель неподвижная, беспомощная, и вокруг не лес, не горы, не пустыня, а место вполне цивилизованное, без блиндажей и дотов, окопов и траншей. Не стрельба – потеха! Потешиться тоже не грех, мысленно возразил Каргин. – Ну, давай! – Голос Бобби визгливой сиреной взорвался над ухом. Бах! Бах, ба-бах! Четыре выстрела слились в один аккорд, короткий, будто дробь зовущего в атаку барабана. Нос у рыжего сделался на сантиметр короче, в глазу и брови зияли две аккуратные дырочки, а ухо словно подрезали ножом – видать фанера отщепилась. Каргин щелкнул предохранителем и, вздохнув, опустил пистолет. В Легионе у него был такой же, но с алюминиевой рамкой и удлиненным стволом. Пришлось оставить Свенсону. Может, и удалось бы провезти его в Москву, однако зачем? В Москве хватало своего оружия. – Теперь я! Две средние мишени! – возбужденно выкрикнул Боб, вскинул пистолет и принялся палить. Было заметно, что этот процесс доставляет ему огромное наслаждение: он раскраснелся, оскалил зубы и картинно упер левую руку в бедро. Стрелял он из «магнума» и довольно прилично, но в нос и мочку не попал: пули пробили переносицу и верхнюю часть уха рыжеволосого джентльмена. – Хорош, – похвалил Каргин, представив на мгновение другие пейзажи: болото или вздыбленную землю, грохот разрывов, торопливый треск автоматных очередей и фигурки в зеленом с черными лицами; они бегут к нему, посылая веер пуль, и кричат, кричат, кричат… Помотав головой, чтобы прогнать это видение, он произнес: – Совсем неплохо, клянусь Одином! – Этот Один – твой приятель? – проворковала Мэри-Энн, прижавшись к плечу Каргина. От нее заметно попахивало спиртным. – Нет. Приятеля звали Лейф Стейнар. Датчанин, лейтенант… Клялся то Одином, то молотом Тора, то Валгаллой. Ну, сама понимаешь, сестренка… Дурной пример заразителен… – Скандинав! – Мэри-Энн привстала на цыпочки и соблазнительно потянулась, демонстрируя пышные груди. – Обожаю скандинавов! Такие горячие парни! И где же он теперь, этот Лейф Стейнар? – В земле, – отрезал Каргин и поднял пистолет. – Гниет в ангольских джунглях. Глаза девушки широко раскрылись, она отступила назад, будто ее ударили. – В ангольских джунглях… А ты… ты тоже там бывал? – Бывал. Три года в Легионе. – Хватит болтовни! Стреляй! – выкрикнул Боб. Лицо его налилось кровью, и Каргин подумал, что этот парень слишком самолюбив. Самолюбив, обидчив и любит всегда побеждать… В компенсацию за извращенные вкусы? За этого Мэнни с ангельским личиком? Возможно… В тонкостях психологии «голубых»[247] Каргин не разбирался. «Дезерт игл» в его руке загрохотал, дернулся, грохнул снова. Всадив пять пуль в правую мишень, он выщелкнул опустевший магазин, направил ствол в землю, нажал на спуск и опустил пистолет на стойку. Боб, кусая губы и хмурясь, скосился на кучерявого, потом начал осматривать мишени завистливым взором. Итог был явно не в его пользу. – Я знала, что ты никакой не киллер, – раздался голос Мэри-Энн. – Ты, выходит, легионер… И как у вас с сексуальной ориентацией? – Мы, в основном, садисты и некрофилы, – сообщил Каргин. – Обожаем побаловаться с трупами. Глаза девушки заблестели, она возбужденно вздохнула. – И многих покойничков ты поимел, ковбой? – Многих, не сомневайся! – рявкнул над ухом Бобби. – Многих! Он – наемник, руки по локоть в крови! Каргин, отступив к машине, миролюбиво улыбнулся. – Не бей копытом, президент, не всем же дырявить портреты в мирных краях… Кстати, кто там на них? Очень благообразный старичок, однако с характером… – С характером!.. – Мэри-Энн хихикнула, потом согнулась и, звонко хлопая ладошкой по колену, залилась смехом, поглядывая то на Боба, то на Мэнни и будто приглашая их повеселиться. Но кучерявого по-прежнему тянуло в сон, а Боб, не обращая на сестру внимания, с хмурым видом наблюдал, как чернокожий парень укладывает пистолеты в оружейный ящик. – Еще с каким характером, ковбой! – Мэри-Энн потянулась к «целиски», подняла обеими руками тяжеленный револьвер и с грохотом выпалила с правую мишень. – Нрав у дядюшки Патрика точно могильный камень, пулей не прошибешь, – сообщила она. – Старый козел, трухлявый, а характера на целый полк легионеров хватит! Изумленно подняв брови, Каргин уставился на девушку, потом перевел взгляд на мишени. – Так это Патрик… Патрик Халлоран? – Нет, леденец на палочке! – передразнила Мэри-Энн, явно наслаждаясь его ошеломлением. – Для недоумков-ковбоев! Права моя Кэти, права, подумалось Каргину: братец – болван и фраер, сестрица – стерва. Чудят миллионерские ублюдки! Кони сытые бьют копытами… С жира бесятся… А чего ж не беситься – при обороте в шесть миллиардов и собственных островах? Отступив еще подальше, к бревенчатой стене, он процедил: – Забавная у вас семейка, Нэнси… что Паркеры, что Халлораны… А по другим портретам вы стрелять не пробовали? Папин там вывесить или мамин… Тоже ведь развлечение, а? Лицо девушки начало бледнеть, застывшая на губах усмешка вдруг превратилась в злобную гримасу, тяжелый «целиски» медленно пополз вверх. Что-то сейчас будет, мелькнуло в голове у Каргина, и он, не промедлив ни секунды, с солдатской сноровкой юркнул за угол «Старого Пью». Вслед ему раздались выстрел и яростный вопль Мэри-Энн: – Не смей называть меня Нэнси!Глава 4
Калифорния, Халлоран-таун; 20–24 июняДа, забавная семейка, с прибабахом, размышлял Каргин, устроившись на мягкой травке под серебристыми ивами. Кэтин коттедж в другом конце лужайки стоял тихий и молчаливый; алый «ягуар» исчез, и никто не отзывался на стук, поэзию Киплинга и разные соблазнительные предложения. Кэти скрылась, зато на месте был журнал, полученный от Холли Робинс – какая-никакая, а все же альтернатива одиночеству. Прежде, чем залечь в кустах и насладиться чтением, Каргин, памятуя о Нэнси и ее револьвере, тщательно запер дверь, которая, по его российскому разумению, выглядела слишком хлипкой и ненадежной. Правда, ломиться в дом для рыжей не было нужды; она могла его обогнуть и пристрелить обидчика прямо здесь, под ивами у бассейна. Пытаясь не вспоминать о страстных калифорнийских девушках, Каргин быстро просмотрел журнал. Нужная статья под заголовком «Потомок пушечных королей» нашлась в середине; ее украшало цветное изображение в полный лист – Патрик Халлоран собственной персоной, в рамочке из мортир, мушкетов, кольтов и кавалерийских сабель. Портрет, вероятно, скомпилировали с каких-то давних фотоснимков; Патрик на нем был вовсе не стар и выглядел цветущим рыжеволосым джентльменом лет сорока пяти, максимум – пятидесяти. Зрачки у него оказались серыми с зеленью, и Каргин, представив лица Мэри-Энн и Боба, решил, что цвет волос и глаз – фамильный признак Халлоранов. Может быть, все ирландцы были такими, светловолосыми или рыжими, с серо-зелеными глазами. В период тайных стажировок в Лондоне Каргин не отличал их от британцев, но под его командой в роте «би» служила пара молодцов из Типперэри, рыжих и осыпанных веснушками от бровей до пупа. Полюбовавшись на портрет, он изучил историю династии – эти сведения занимали две страницы, а дальше автор, некий Сайрус Бейли, слегка касался дипломатической карьеры Патрика и плавно переходил к важнейшей и наиболее интересной для «Форчуна» теме – то есть к капиталам и финансам. Что до истории, то выяснилось, что первый Халлоран, прапрадед нынешнего, переселился на западный берег Атлантики в самом начале прошлого века, в эпоху наполеоновских баталий и войн за независимость, но прожил в Штатах недолго: породил единственного сына, завербовался в армию, защищал Детройт от англичан, а когда город был оставлен, бился на Великих Озерах под командой легендарного Оливера Перри, на его флагманском корабле. Погиб он со славой и в великий день – 10 сентября 1813 года в бухте Пут-ин-Бей,[248] где Перри разгромил британскую эскадру. Жизнь прадеда Патрика, Бойнри Халлорана, была счастливой и долгой, хоть он отличался изрядной воинственностью – в юности дрался с семинолами в болотах Флориды, потом – с мексиканцами в Техасе, в дивизии генерала Тейлора,[249] из рук которого получил наградную саблю и звание капитана. Когда началась война между Севером и Югом, Бойнри было за пятьдесят, и он уже не рвался на поля сражений, а основал в Нью-Йорке фирму «Халлоран Арминг Корпорейшн» и правил ею тридцать лет, снабжая войска северян, а после – переселенцев в западные края, винтовками, ружьями и порохом. Шон Халлоран расширил семейный бизнес, перенес штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в тысяча девятисотом году и построил первую фабрику, где делали полевые орудия, револьверы, винтовки и «мэшин-ганз» – иными словами, пулеметы. Фабрика была полностью разрушена в начале века, в девятьсот шестом, во время страшного калифорнийского землетрясения, но Шон ее восстановил и даже благополучно пережил биржевой крах, случившийся в марте девятьсот седьмого. С началом Первой мировой войны дело его расширилось, но богатеть он стал еще раньше, заполучив контракт на пушки и винтовки для американской армии – в период интервенции в Мексику и сражений с отрядами Панчо Вильи. Но самым удачливым в этой династии оказался Кевин Халлоран, отец нынешнего владельца корпорации. Кевин прожил семьдесят восемь лет, был женат четыре раза, поднял скромную оружейную фирму до уровня финансовой империи и во время Второй мировой производил уже не только полевые пушки, но также минометы, гаубицы и самоходную артиллерию с соответствующим боекомплектом. В пятидесятые годы, в самый разгар «холодной войны», ХАК приподнялась еще успешней – за счет заказов от бундесвера, японских сил самообороны и очень своевременно случившихся корейской и вьетнамской войн. До конца последней Кевин Халлоран не дожил, скончался в пятьдесят восьмом, оставив сыну процветающее и перспективное предприятие. Дабы завершить историю рода, Бейли отмечал, что Кевин Халлоран являлся не только ловким, но также предусмотрительным дельцом. С полным основанием считая, что в оружейном бизнесе связи драгоценней капиталов, он направил сына по дипломатической стезе и продвигал его вперед с достойным похвалы усердием. В двадцать два года, закончив Йель в разгар мировой войны, Патрик очутился в Москве, в должности помощника секретаря американского посольства; в сорок пятом его перевели в Лондон, в сорок шестом – в Токио, затем последовали Турция, Иран, Египет, и хотя восхождение по дипломатической лестнице не было ярким, блестящим и стремительным, оно все же являлось довольно быстрым и неуклонным. В пятьдесят седьмом Патрик занял пост американского консула в Ла-Плате, Аргентина, и имел все шансы к сорока годам удостоиться должности посла – если не в Париже или Бонне, то, по крайней мере, в Афинах, Осло или Дублине. Судьба, однако, распорядилась иначе: Кевин умер, и королевский трон освободился для Патрика. Далее обозреватель писал, что заслуга нынешнего босса ХАК вовсе не в том, что он довел годовой оборот компании до шести миллиардов, а в выгодном вложении прибылей и капиталов. Шесть миллиардов являлись только вершиной айсберга, причем не из самых высоких – так, оборот корпорации «Боинг» составлял тридцать миллиардов, но при этом крупный пакет ее акций принадлежал Халлорану. Надежды Кевина оправдались: связи Патрика в странах третьего мира оборачивались дивидентами в виде выгодных контрактов, контракты приносили прибыль, прибыль расчетливо вкладывалась в фирмы союзников и конкурентов, что позволяло держать и тех, и других на коротком поводке. В начале девяностых, когда Патрику перевалило за семьдесят, ХАК ничего не производила и даже торговала без прежней нахрапистой энергии, зато в ее активах были сосредоточены контрольные пакеты «Армамент системс энд продакшн», «Кольтс индастриз», «Глок ГмбХ», «Хаук Инжиниринг», «Макдоннел Дуглас» и трех десятков других компаний, производителей оружия. ХАК превратилась в огромный холдинговый центр; бывшие поставщики и партнеры были скуплены на корню, сделки их контролировались, политика, по мере нужды, подвергалась корректировке, а львиная доля доходов утекала в карман Халлорана. О его личной жизни сообщалось немногое. В молодые годы он был человеком контактным, поклонником искусства и прекрасных дам, любителем выпить в приятном обществе, но с двух сторон свечу не жег; с его именем не было связано ни одного скандала – ни пьяных дебошей, ни соблазненных жен коллег, ни вывоза в дипломатическом багаже икон или других культурных ценностей. Вероятно, он обладал талантом не афишировать свои прихоти и не болтать лишнего, а рты недовольных и оскорбленных умело затыкал деньгами. Однажды, будучи в зрелых годах, он чуть не женился, но, поразмыслив, переменил решение: ему стукнуло пятьдесят, невесте – восемнадцать, и бурная супружеская жизнь могла отвлечь Халлорана от более важных дел. Но, как сообщалось в статье, он не прервал знакомства с отставленной невестой мисс Барбарой Грэм, и даже, когда та вышла замуж и сделалась счастливой матерью, принял участие в ее потомках. Однако с течением лет он стал подозрительным и нелюдимым, чему способствовали ряд покушений и пара авиакатастроф, то ли случайных, то ли подстроенных неведомыми доброхотами. К счастью, все кончилось благополучно, но Халлоран, вняв предостережениям судьбы, решил, что наступило время поддерживать лишь те контакты с миром, какие не грозят здоровью. Он обзавелся частным владением среди океанских вод и, удалившись на остров, стал такой же недосягаемой загадочной фигурой, как Говард Хьюз, названный обозревателем миллиардером-невидимкой. Но Халлоран, в отличие от Хьюза, вел жизнь весьма активную и твердо правил корпорацией; мощь его была велика, энергия – неиссякаема, и самый непримиримый противник не заподозрил бы Патрика в старческом маразме. Он был – и оставался – человеком жестким, даже жестоким; старый волк, не растерявший ни прыти, ни зубов. В последнем абзаце Каргин прочитал о вещах, уже ему известных – о британских антипатиях Халлорана, о связях с ирландскими сепаратистами и о наследном принце династии мистере Роберте Генри Паркере. За сим перечислялся поименно совет директоров – Ченнинг, Мэлори и еще пяток незнакомых Каргину персон. Отложив журнал, он лег на спину и закрыл глаза. Информация не давала поводов для оптимизма, но погружаться в меланхолию тоже не было причин. С одной стороны, его теперешний наниматель – явная сволочь, акула капитализма; с другой, и прежние были не лучше. Отнюдь не лучше! Они посылали Легион туда, куда по законам la belle France[250] нельзя было послать французов, и Легион, во имя демократии и мира, творил расправу над виновными, не забывая непричастных и безвинных. Последних почему-то оказывалось больше – видимо, от того, что всякий виновный старался переселиться в лучший мир не в грустном одиночестве, а в окружении толпы сторонников и подданных. Так же, как Патрик Халлоран: если б кто-то в самом деле попробовал снять с него скальп, это стоило бы жизней всего населения Иннисфри. В этот миг раздумья Каргина были прерваны раздавшимся шорохом в кустах. Он быстро перевернулся на живот, начал приподниматься, но что-то тяжелое с размаху обрушилось на него, кто-то оседлал спину, чьи-то колени стиснули ребра, чья-то рука вцепилась в волосы, и тут же в затылочную ямку ткнулось твердое, холодное, с распознаваемым на ощупь очертанием револьверного ствола. Покосившись налево и направо, он разглядел две стройные ножки, услышал учащенное дыхание и замер, чувствуя, как вдавливается в затылок ствол. Он был абсолютно беспомощен. Добралась-таки, рыжая стерва, мелькнула мысль. Он скрипнул зубами. Не всякий конец годится солдату, а этакий просто позорен! Впрочем, почетная смерть тоже не прельщала Каргина, и потому он был готов вступить в переговоры. Однако противник его опередил. – Не двигаться! – послышался грозный, но знакомый голосок. – Я тебе права зачитывать не буду! Шевельнешься – мозги полетят! Каргин облегченно перевел дух и пробормотал: – Я буду отомщен, миледи. У Кремля руки длинные, и здесь достанут… Может, лучше договоримся? Чего ты хочешь? Отступного? Денег? Оборонных сведений? – Крови! Крови изменника! – Острые кэтины зубки куснули его за ухо. – Это почему же я изменник? – Каргин осторожно освободился, посматривая на бутыль в руках девушки. Ее длинное горлышко и правда напоминало револьверный ствол. – Ты флиртовал с рыжей! – заявила Кэти, воинственно размахивая бутылкой. – Фокси, бармен из «Старого Пью», мне все доложил! Как она к тебе прижималась, и хихикала, и тянула в машину! А ты не очень-то сопротивлялся! – Этот Фокси или кривой на оба глаза, или большой шутник. Она меня чуть не пристрелила, – возразил Каргин и приступил к подробному повествованию, не скупясь на краски и детали. Бутылка в кэтиных руках была верным признаком мира: калифорнийское белое в одиночку не пьют. Не пьют и без закуски. Значит, что-то его ожидало в соседнем коттедже – может быть, лобстер или тунец. Он вдруг почувствовал, что страшно проголодался. Кэти слушала его, покачивая головой. – Стреляли в старого Патрика… вот ублюдки… Мама узнает, руки им не подаст! – Причем тут твоя мать? – Каргин с интересом уставился на девушку. – При том… Она знакома с семейством Халлоранов. С самим боссом… – И потому Боббине может избавиться от тебя? Выбросить на улицу? Но Кэти на этот вопрос не ответила, а принялась перемывать косточки Мэри-Энн, сообщив под занавес, что не завидует ее будущему супругу. Если вообще найдется сумасшедший, падкий на богатство рыжей – в чем лично она испытывает большие сомнения. С такими девицами, как Мэри-Энн, приличные парни под венец не идут. Каргин содрогнулся и сказал, что ни с кем под венец не собирается. Это мы еще посмотрим, ответила Кэти, схватила его за руку и потащила к своему коттеджу. В холодильнике у нее в самом деле оказался лобстер.
* * *
Отчего-то в эту ночь Кэти была с ним особенно нежна – так, как бывает нежной женщина, когда не берет, а дает, когда не страсти ищет, а одаряет лаской, не стонет, не кричит, а шепчет и воркует. Что-то переменилось в ней, и Каргин как будто ощутил едва заметную и смутную еще метаморфозу; по временам ему казалось, что разница между прежней Кэти и этой новой такая же, как между английским «make love»[251] и русским «любить». При всей физиологической сходности эти понятия были все-таки отличны друг от друга: первое – синоним удовольствия, второе – радости иной, предполагавшей не только телесную, но и духовную близость. Такую близость несут прикосновения и речи, поцелуи и разговоры, когда ласка следует за словом, слово – за лаской, и яростное, неистовое, слишком жгучее тут неуместно. Кэти шептала в ухо Каргину, расспрашивала, целовала, и он шептал в ответ – тихо, едва слышно: рассказывал про мать и отца, про гарнизон у китайской границы, в тайге под Хабаровском, про школы, в которых учился – их было десять, в разных городах и весях, от Выборга до Магадана; еще говорил о Рязанском училище ВДВ, о том, как прыгал с парашютом в первый раз и как впервые отнял жизнь у человека. Об этом, правда, без деталей – сказал лишь, что трое суток спать не мог, и что приятели поили его водкой. Мексиканской водкой, ибо случилась та первая битва в восемьдесят шестом году, в Никарагуа, во время вылазки сандинистов в Лас-Вегас Салиент, приграничную гондурасскую провинцию, где были базы, лагеря и учебные пункты контрас. Наговорившись, Кэти уснула, а Каргин лег на спину, уставился в ясное звездное небо за окном и начал вспоминать о тех событиях, что разглашению не подлежали. Три года в школе разведки, еще четыре – в «Стреле»… В этот элитный отряд его зачислили в июне девяностого, а в августе уже отправили на берега Персидского залива, хотя Каргин считался специалистом по европейским странам. Однако месяц выдался «горячий» – Ирак оккупировал Кувейт, все подготовленные сотрудники были на счету, и группе Каргина пришлось трудиться на Востоке, охранять посольство и обеспечивать эвакуацию российских граждан. Эти хлопоты завершились в конце августа, и группу тут же перебросили в Ирак, где находились тысячи три российских специалистов и военных советников – фактически, заложники. Этих вывезли только в ноябре, и все это время «стрелки» занимались негласной их охраной и помощью в различных, непредусмотренных дипломатическим протоколом ситуациях. Главная цель, однако, была другой – готовили акции на случай, если Ирак применит что-то недозволенное. К счастью, атомных бомб и контейнеров с сибирской язвой у Саддама не имелось, но был какой-то газ, боевой ОВ, поставленный еще в годы теплой дружбы с Советским Союзом. Это, разумеется, отрицалось, но если бы газ применили, тайное стало бы явным и нанесло удар по престижу России. Саддам с такими мелочами не считался и усиленно пугал американцев химическим оружием, что было не пустой угрозой: ОВ уже использовали в 1988 против курдских повстанцев, уничтожив все население городка Халабжад. Но и без этой жуткой химии Ирак был противником серьезным: армия с советским и китайским оружием, миллион солдат, опыт восьмилетней войны с Ираном, привычка к жаркому климату, фанатизм… «Стрелки» ждали почти полгода и дождались: в девяносто первом, 17 января, началась операция «Буря в пустыне». Под шумок уничтожили ряд химических хранилищ – кто разберет, куда там падают «Томагавки»… Еще освободили пленников – американских летчиков и остальных персон, которых по приказу Саддама Хусейна держали на стратегических объектах в качестве «живого щита», прикрытия от бомбардировок. В феврале американцы разгромили южные армии Ирака, заняли побережье, захватили Басру, и «стрелкам» вышел приказ отправляться домой. Была в ту пору у Каргина подруга с серьезными намерениями, но, возвратившись в Москву, он выяснил, что диспозиция переменилась: ни подруги, ни намерений… Так что в отпуск он поехал в Краснодар и, врачуя сердечные раны, ел раннюю черешню, купался в речке, загорал да вел с отцом дискуссии о тактике Наполеона и Суворова. Но недолго: в июле грянула сербо-хорватская война, и два подразделения «Стрелы» отправились в Белград и Загреб. Каргин, недавно ставший капитаном, был в белградской группе, но в этот раз все обошлось без взрывов и стрельбы: в верхах решали, кого убрать, боснийского президента Туджмана или сербского лидера Милошевича, но так ничего толкового не решили; затем случился августовкий путч ГКЧП, и «стрелков» срочно вызвали на родину. Зато весной девяносто второго пришлось изрядно потрудиться! Уже в Боснии, в славянской вроде бы стране, где четверть жителей были хорватами-католиками, треть – православными сербами, а остальные – мусульманами-боснийцами. Три народа, претендовавших на одну и ту же землю, три президента и куча мелких подголосков, деливших власть, а при них – десяток боевых формирований: армия боснийских сербов Караджича, войска боснийцев-мусульман Изегбеговича, отряды боснийских хорватов Мате Бобана, хорватские части Туджмана и сербы-федералы… В мае войска Изегбеговича блокировали федералов в Сараево, но те держали в заложниках пять тысяч мусульман, в основном детей и женщин. «Стрела» провела в Сараево ряд показательных бескровных акций устрашения, перепугав вождей федералов до судорог; в результате их части покинули город и заложники были спасены. Затем по российской инициативе было подписано соглашение о прекращении огня, но толку не вышло никакого – через три дня война началась опять. Каргин временами жалел, что те акции были бескровными. В следующий год работать выпало на территории России. Задания случались всякие, учебно-показательные, вроде захвата транспорта с ядерным боеприпасом, якобы похищенном террористами, или боевые – облава на сбежавших зэков под Жиганском, освобождение заложников, коих хватали шустрые типы, мечтавшие обогатиться на выкупе и слинять подальше за бугор. Пестрая жизнь, суматошная: день в офицерской казарме, день в полете, день – перестрелка в тайге или в горах, а временами – в аэропорту или в ином вполне цивильном месте. Еще недавно мирном, но неожиданно ставшем полем боя… Порядок рушился, держава рассыпалась, все катилось в тартарары, и докатилось до штурма Белого Дома в октябре девяносто третьего. Потом – долгие дебаты и разбирательства, наказания виновных и невинных, и новогодний подарок: «Стрелу», разбив на части, передают МВД. Сотня уволилась сразу, потом рассеялись и остальные, кто куда – в ФСБ, в армейскую разведку, в охранные структуры и, разумеется, в бизнес и коммерцию. Каргин ушел в январе девяносто четвертого, а в апреле уже воевал в Руанде. И был он уже не русский офицер, а легионер-наемник… Острое чувство потери пронзило его на мгновение и ушло. Растаяло, исчезло… Он пребывал еще в том счастливом возрасте, когда на всякую потерю можно ждать находки или хотя бы надеяться, что эта находка случится и что-то переменит в жизни к лучшему. И, подумав об этом, Каргин усмехнулся, отогнал печали прочь и посмотрел на спавшую рядом девушку. Находка или не находка? Дар судьбы или данайский дар?* * *
Планирование операции он завершил во вторник, уложившись в отведенные сроки. Все было увязано, согласовано, взвешено, дважды проверено и занесено в компьютер. Расчет строился на внезапности атаки и высокой квалификации исполнителей, которых, как предусматривал план, было не больше четырех десятков. Им полагалось добраться к Иннисфри на субмарине класса «Сейлфиш», радиус действия которой составлял десять тысяч миль; такие дизельные подлодки использовались лет пятнадцать тому назад для радиолокационного дозора и, как установил Каргин, две из них не были демонтированы и сдавались флотом США в аренду, в качестве исследовательских судов. Справка, выданная компьютером, подтверждала, что субмарины – в отличном состоянии, только без торпед и пушек – ждут арендаторов на базе ВМФ Оушенсайд, между Лонг-Бич и Сан-Диего, и что цена аренды вполне приемлема, восемь миллионов за неделю, без экипажа и горючего. На первом этапе операции подлодка являлась залогом успеха, но – подлодка особого типа. Такая, как «Сейлфиш», длиною в сотню метров, с просторными трюмами, где могли разместиться что батискафы, что вертолеты, с системой подачи вертушек из трюмов на палубу, с затопляемым шлюзом, через который могли выбраться пловцы-аквалангисты – и, конечно, с кубриком на восемьдесят коек. С субмариной, лишенной вооружения, могли управиться два десятка человек, задача которых была не слишком сложной: проникнуть в бухту, выпустить группы пловцов, дождаться их сигнала, всплыть и поднять вертолеты. Затем убраться на расстояние миль четырех от берега и, оставаясь на глубине, снова ждать – на этот раз команды к эвакуации десантников. Их отряд делился поровну на группы «тюленей» и «коршунов». Пловцам-"тюленям" полагалось скрытно высадиться на берег в рассветный час, уничтожить блок-посты у мола и на мысах по обе стороны ведущего в Ап бей пролива, потом заминировать казарму и ряд других объектов – штаб управления обороной, офис мэра Иннисфри, почту и офицерские коттеджи; словом, каждый пункт, откуда островитяне могли связаться с материком. По завершении этой фазы операции субмарина должна была всплыть, и тут в игру вступали «коршуны» на двух вертушках «Гриф». Многоцелевые машины с артиллерийским и ракетным вооружением, способные перебросить дюжину бойцов; лучше для десанта не придумаешь! Они взлетали с палубы «Сейлфиша», и через шестьдесят секунд «тюленям» полагалось взорвать поселок, захватить аэродром и начинать глобальную зачистку. Тем временем первое помело уничтожало антенну ретранслятора, высаживало десантников на крыше дворца, затем поворачивало к югу, дабы разделаться с двумя блок-постами, у горного озера и в районе Лоу бей. Вторая вертушка атаковала пост за рекой, у пересечения дорог, после чего высаживала бойцов в дворцовом парке и отправлялась на север, к последнему блок-посту. С момента взрыва до разрушения дальних опорных точек должно было пройти не больше двенадцати минут; затем вертолеты возвращались и начинали барражировать над виллой и поселком – в качестве средств наблюдения и огневой поддержки. Таков был, в общих чертах, план операции, и в среду утром Каргин доложил его коммодору. Они устроились у компьютера и заваленного бумагами стола в той же комнатке-сейфе, в которой он трудился; Шон Мэлори попыхивал сигарой, Каргин пил кофе и, тыкая в клавиши, давал пояснения. На экране всплывали то карта Иннисфри, раскрашенная коричневым и зеленым, с алыми отметками блок-постов и голубой ленточкой ручья, то изображения отдельных объектов: вид на поселок с высоты; волнолом, маяк и квадратное здание склада; ангары, электростанция и мастерские рядом со взлетным полем; мост, переброшенный через ручей, и серпантин уходящей в гору дороги; каменное полукружье дворца с колоннадой, портиками и широкой лестницей – по обе ее стороны высились изваяния сфинксов с застывшими в улыбке получеловечьими – полузвериными ликами. Затем эти пейзажи сменили ровные строчки цифр и буквенных обозначений: расчет потребных сил и средств, тактико-технические данные «Грифов» и субмарины, повременный график действий, опись снаряжения и боекомплекта – в расчете на одного десантника и общая, итоговая. Мэлори неторопливо изучал всю эту информацию, особенно задержавшись на описании «Сейлфиша»; видимо, перископы, штурвалы и рули были особенно дороги коммодорскому сердцу. – Неплохо, мой мальчик, совсем неплохо! – вымолвил он наконец. Должен заметить, ты оправдал мои надежды. Даже более того… – Пристроив дымящуюся сигару в пепельнице, Мэлори задумчиво наморщил лоб. – Ну, экипаж для субмарины мы найдем… «Грифы» тоже не вопрос… А что… хмм… с непосредственными исполнителями? Можешь кого-то рекомендовать? – Могу, – отозвался Каргин. Игра шла как бы всерьез, по-настоящему, без дураков, и он против этого не возражал. Впрочем, какие возражения? Правила тут диктовались не им. – Могу, – повторил он и вызвал на экран данные по эскадрону Кренны. Этот меморандум, хоть и составленный на память, неплохо отражал специфику подразделения бельгийца: перечень операций, способы действий, деление на роты и взводы, имена командиров, число бойцов. У Кренны было человек двести, и выбрать из них четыре десятка особых умельцев не составляло проблем; по крайней мере, треть его людей, пришедших из морской пехоты, могла обращаться с аквалангами. Были у него парашютисты и снайперы, подрывники и пилоты, а самым лучшим считался Горман, некогда – лейтенант бундесвера, разжалованный и изгнанный за слишком явное пристрастие к «Майн кампф». Насколько помнилось Каргину, Фриц Горман был пилотом от бога и в воздухе мог управиться с любой вертушкой, что с «Апачем», что с «Тигром», что с двадцать восьмым «Ми». Стрелял он тоже неплохо – всаживал ПТУР в любую щель размером в пятнадцать дюймов. – Впечатляет… – пробормотал Мэлори, изучив характеристику бельгийца и список его подвигов. – Очень энергичный субъект, а главное, без всяких иллюзий и принципов… Сколько он стоит? Вместе с командой своих ублюдков? – Тысяч шестьсот. Двойная ставка, с учетом секретности акции и санитарных мероприятий. – Легион как-то его контролирует? Скажем, этот ваш полковник Дювалье? – Никак. Дювалье и остальным чинам из Легиона он не интересен. Есть работа – нанимают, нет – гуляй, только под ногами не болтайся. Его парни трудятся сдельно. – Хмм… – пробормотал коммодор, огладил череп и потянулся к сигаре. С минуту он пускал дым в потолок, любуясь сизыми кольцами, которые медленно расплывались под круглым белым светильником, потом стукнул пальцем по экрану, по строчке с именем бельгийца. – Хмм… И где он теперь? Каргин покачал головой, в задумчивости потрогал шрам на скуле. – Либо в Намибии, под Омаруру… была там какая-то заварушка на рудниках Де Бирс… либо в Бозуме. В Бозуме у него пункт постоянной дислокации. – Бозум – это где? – ЦАР,[252] река Уам, сто шестьдесят километров к западу от шоссе на Банги, – доложил Каргин, затем подумал и прибавил: – Банги – это их столица. Четыреста тысяч жителей – банда, байя, сара и так далее. Форпост для операций в Заире. – Бывал в Заире, мой мальчик? – Мэлори, оторвавшись от экрана, поскреб голую макушку. – Гнусное местечко, говорят… конечно, не в смысле нашего бизнеса… бизнес в том районе процветает! И чем ты там занимался, сынок? – Иллюстрировал детские книжки, – буркнул Каргин. – Еще работал землемером, фермы отводил: шесть футов в длину, три – в ширину и глубину. Хмыкнув, его собеседник одобрительно кивнул. – Полезное занятие… это я не о книжках, о фермах… Выходит, ты уже тогда трудился на корпорацию. – Вряд ли. Тогда корпорация мне не платила. – Каргин поиграл клавишами, и на экране возникла заставка: скалистый остров среди изумрудных волн, похожий на развалины средневековой крепости. Точь в точь как на картине, висевшей в кабинете Мэлори. Секунд десять он любовался этим пейзажем, подсвеченным серебристым отблеском электронной трубки, затем перевел взгляд на коммодора. – Эта работа завершена. Что дальше? – Дальше? Ночью, в три ноль-ноль, отбудешь на Иннисфри. Самолетом, с нашего аэродрома. Мисс Финли проводит. Да, еще одно… Твой аванс увеличен до пятнадцати тысяч долларов. Неплохо, подумал Каргин; похоже, ему удалось обскакать гипотетических конкурентов. Изобразив на лице благодарность, он огладил тщательно выбритые щеки и поинтересовался: – Там, на Иннисфри… в каком качестве я должен служить? – В качестве помощника Альфа Спайдера. Этот Спайдер забавный тип… Любит повеселиться и поболтать, но палец в рот ему не сунешь… Кстати, он отвечает за безопасность мистера Халлорана. – Сделав недолгую паузу, коммодор уставился на остров, темневший в серебряном мареве экрана, и неторопливо произнес: – Хочу, чтобы ты понял, мой мальчик, в чем смысл существования Иннисфри… В том, чтобы Патрик Халлоран жил в покое, не вспоминая о мерзавцах, жаждущих вырвать ему печенку, высосать кровь и сплясать качучу на хладном трупе. А такие есть, ты уж мне поверь! Лично я знаю троих, и каждый поклялся на библии, торе или коране, что Патрик своей смертью не умрет. Вот почему мы наняли тебя – тебя и других парней, с которыми ты встретишься на острове. Ты будешь с ними работать под началом Спайдера. Крупный специалист, неглуп, осторожен и в прекрасной физической форме… из бывших агентов, что охраняли Рейгана… – Вероятно, достойная личность, – заметил Каргин. – И с большими полномочиями. Он постарался, чтобы последняя фраза не прозвучала вопросом. Как утверждал майор Толпыго, никто не благоволит любопытным, и долго они не живут. – С очень большими, – кивнул Мэлори и затянулся сигарой. – В экстремальных случаях Спайдер командует всеми, вплоть до Арады, Квини и Тауэра. – Заметив приподнятую бровь Каргина, он пояснил: – Остин Тауэр – поселковый мэр, Хью Арада – секретарь и референт, а Квини – дворецкий. Очень надежные люди, и близкие мистеру Халлорану. Он их ценит. – Учту, – буркнул Каргин. – Теперь о гарнизоне… В нем четыре офицера, подчиненных напрямую Спайдеру. Капитан Акоста и лейтенанты Моруэта, Гутьеррес и Сегри. – Испанцы? Коммодор ухмыльнулся. – Испанцы – это у вас, в Старом Свете, а здесь – кубинцы и парни из Сальвадора, Гондураса, Никарагуа… Все наемники на острове – латинос. Сброд, разумеется, головорезы и изгои, но это неплохо. Совсем неплохо! Кому обещали виселицу, тот не боится пуль. Однако… – Его круглое лицо вдруг сделалось озабоченным. – Однако есть проблемы… скучают, пьют… Акоста хороший командир, но с пьянством ему не справиться. Должно быть, русского опыта не хватает. С этими словами Мэлори подмигнул Каргину, поднялся и раздавил в пепельнице окурок. – До трех свободен, капитан. Отдохни, с какой-нибудь девочкой повеселись… На острове выбор скромный, так что не упускай случая… – Он снова подмигнул. – Как тебе Кэти Финли? – Настоящая принцесса. Бездна ума и обаяния! – откликнулся Каргин. – Ты еще не знаешь, какая бездна, – сказал Мэлори и вышел. Каргин, откинувшись на спинку кресла, прижмурил веки и, сквозь зыбкую чадру ресниц, вгляделся в выплывающий из компьютерного экрана остров. Веселиться ему отчего-то не хотелось. Взгляд его был прикован к Иннисфри. Голубое небо над островом вдруг выцвело, будто затянутое мутной пеленой, яркий зеленый наряд сполз с вулканических склонов, явив бесплодную наготу каменных осыпей, черных ноздреватых глыб и мрачных трещин, солнце на сером облачном покрывале расплылось в багряный круг. Афган, стукнуло под сердцем. Где-то там яма с валом земли, летящей под взмахами кетменей, резкий безжалостный свет, танец пылинок в воздухе; они взлетают, кружатся и оседают на смуглой коже могильщиков-землекопов, на лаковых автоматных прикладах, на лицах тех, кто в яме – безглазых, с изрезанными щеками. Мелькает блестящая сталь, падают комья почвы, глухо стучат, рассыпаются в прах, хоронят… Каргин замотал головой, и видение исчезло, сменившись блеском лазурных небес и отливающей изумрудом океанской ширью. «Это еще что за дьявольщина?.. К чему бы?..» – пробормотал он, поднялся и начал мерять шагами тесную комнатенку. Семь шагов от стола до стены, пять – до бронированных дверей, и восемь – обратно до стола… Постепенно мысли его приобрели иное направление, афганский пейзаж поблек и стерся; теперь он размышлял об Иннисфри, знакомом ему лишь по снимкам да картам, зато во всех подробностях, о поселке у бухты, о вилле в горах и о людях, с которыми встретится завтра. Он негромко назвал их по именам, стараясь зафиксировать каждое в памяти. Альф Спайдер, человек больших полномочий, бывший охранник президента США… Хью Аррада, секретарь и референт… Квини, дворецкий… Остин Тауэр, мэр… Люди, близкие Халлорану… Затем троица лейтенантов – Моруэта, Гутьеррес, Сегри… И капитан Акоста, проигравший бой с зеленым змием… «Не его ли придется мне сменить?..» – мелькнула мысль. Возможно, возможно… Во всяком случае, русский опыт будет очень кстати, как и познания в испанском языке. Поднявшись, Каргин шагнул к кухонной нише, налил кофе и начал пить, отхлебывая мелкими глотками и поглядывая на часы. Десять минут до появления Кэти… Что сказать ей, как распрощаться? Навсегда или так, чтобы оба они поняли: никто не забыт и ничто не забыто? Он еще размышлял над этим, когда за дверью послышался стук каблучков.Глава 5
Калифорния, Халлоран-таун; 24 июня, вторая половина дняРовно час, отметил Каргин, и тут же двери, тихо прошелестев, разъехались, пропуская Кэти. Она встала у порога; длинные пряди с мягким каштановым блеском переброшены на грудь, брови сведены, глаза опущены, взгляд – быстрая змейка, скользящая в тени ресниц. Мнилось, будто хочет она что-то сказать, в чем-то признаться, да не решается – то ли из девичьей скромности, то ли по иным причинам, какие могут найтись у молодой калифорнийской леди из благородного семейства. – Керк… – Голос ее чуть дрогнул. – Мэлори сказал, что ночью ты улетаешь. На Иннисфри. – Я в курсе. – Кивнув, он выключив компьютер и принялся складывать разбросанные тут и там карты и бумаги. – Оставь. Не будем терять времени, ладно? Губы девушки приоткрылись в улыбке, но взгляд ее Каргин поймать не смог. Будто змейка в скользкой чешуе, снова подумалось ему. Что она хочет сказать? И почему не решается? – Время мы все равно потеряем. Время, – он пошевелил пальцами, – это такая материя, бэби, которую не купишь, не продашь, не найдешь и не вернешь. Можно только потерять. Случается, вместе с человеком… – Слишком ты мрачен, солдат, – Кэти, пряча глаза, по-прежнему улыбалась своей зовущей улыбкой. – Мы ведь еще встретимся. Разве не так? – Возможно, – согласился Каргин. – Даже наверняка. Дверь с мягким шелестом закрылась за ними, потом лязгнул замок на второй двери. Миновав коридор, лестницу и необъятные пространства холла, они вышли наружу и направились к автомобильной стоянке. День был ясен. Роскошное калифорнийское лето дарило теплом, небесной синью и ароматом цветущих роз, висевшее над кипарисами солнце казалось огненной дырой, просверленной в лазурных небесах. Наверно для того, чтоб ангелы и сам Господь могли полюбоваться Калифорнией. Каргин пошарил в кармане, вытащил ключи от авто, песочного «шевроле» с подушками цвета кофе с молоком, и протянул их Кэти. – Вот, возьми… Сдаю подотчетное имущество в полном порядке. Она кивнула и, открыв дверцу своей машины, промолвила: – Садись, солдат. Куда поедем? Хочешь, во Фриско, на пляж или в какой-нибудь ресторанчик, а хочешь… «…ко мне», – мысленно закончил фразу Каргин. Он сидел, смотрел на Кэти, на милое ее личико, на стройные ноги в белых туфельках, и думал о том, что знает эту девушку неделю – столько, сколько отпустил полковник Дювалье на весь процесс ухаживания и решающего штурма. Штурм, правда, состоялся с подозрительной поспешностью, и трудно догадаться, кто был в атаке, а кто – в обороне… Кэти ждала. Кажется, он должен был сказать ей что-то важное, какие-то слова, что укрепят возникшую меж ними связь. Или оборвут, что тоже не исключалось. – Поехали к тебе, – вымолвил наконец Каргин. – Соберу вещи, а потом сбросим верхнюю амуницию, сядем в тени у бассейна, выпьем вина и… – И?.. – Кэти приподняла тонкую бровь. – Ты будешь глядеть на меня, а я – на тебя. – Зачем? – Чтобы как следует наглядеться, бэ… – он хотел сказать «бэби», но вдруг неожиданно произнес на русском: – …ласточка. Кэти убрала ногу с педали сцепления и повернулась к Каргину. Теперь она смотрела прямо в его глаза, не отводила взгляда, и он заметил, как потемнели ее зрачки. – Что ты сказал, солдат? – Ласточка. – Повторив на английском, он объяснил: – Такая птичка. Симпатичная, маленькая, нежная… Как ты. Кэти глубоко вздохнула, но не ответила ничего. Будто откликнувшись на ее вздох тихо зажурчал мотор, алая машина выехала со стоянки и, шелестя шинами по асфальту, повернула к дороге. Зеленоватое, похожее на аквариум здание административного корпуса медленно уплыло назад, тени деревьев, пятнавшие шоссе, скользнули под колеса, солнечный луч пал на лицо Каргина, заставив его сощуриться. Внезапно ему показалось, что он пересек некий рубеж, не обозначенный на картах и не помеченный в реальности ни вешками, ни столбами, ни загородкой из колючей проволоки; эта граница была абсолютно незрима, нематериальна, и все-таки она существовала. Где? Видимо, в сознании или в душе, подумалось Каргину. Скорее, в душе, в том ее близком к сердцу закоулке, где хранились особые слова. Ласточка… солнышко… лада… – Кажется, мне нужно учить русский язык, – нарушив молчание, произнесла Кэти. – Пора? Или подождем месяц-другой? Каргин смущенно хмыкнул, покосился на нее, представил, как она будет смотреться в московской квартире или в Краснодаре, на кухне у матери либо где-нибудь под цветущей черешней. Как будто неплохо… За исключением того, что кухня – восемь метров, а квартира в Москве – пятьдесят, и нет в ней ни ложа кинг-сайз, ни зеркала на потолке, ни холодильника, набитого омарами. Бассейна, кстати, тоже нет. Правда, имеется ванна, но в ней Каргин помещался только с поджатыми ногами. Близкий рев танковых двигателей вывел его из задумчивости. Они медленно катились мимо полигона, в дальнем конце которого стоял огромный квадратный ангар с распахнутыми вратами. Справа от ворот возвышался помост на стальных балках – словно трибуна для принимавших парад маршалов и генералов, только не украшенная знаменами и без почетного караула у изножья неширокой лесенки. Но генералы на этой трибуне были – несмотря на изрядную дистанцию, Каргин различил фуражки с кокардами, золотистый блеск погон и сияние позументов. Три человека в форме, довольно экзотической и пышной, а при них – пара гражданских лиц. Из ворот ангара с грохотом выезжали танки. «Абрашки»,[253] старье, определил Каргин, но, приглядевшись, понял, что видит не такое уж старье – модернизированный вариант М1А1 с усиленной броневой защитой, тремя пулеметами и гладкоствольным 120-миллимеровым орудием. "Однако против Т-90[254] не потянет, – мелькнуло в голове у Каргина. – Или потянет?" – Притормози на минуту, – сказал он, касаясь пальцев Кэти, лежавших на руле. – Любопытно поглядеть. Эти три попугая на жердочке у ангара – кто такие? – Клиенты. Заказчики. Покупатели. – Прикрываясь от солнца, Кэти приставила ко лбу ладошку. – С ними Дик Баррел из технической дирекции и Гельт… да, кажется, Гельт, переводчик. – С каких языков? – С фарси[255] и арабского. – Понятно, – вымолвил Каргин, привстал, опираясь на спинку сиденья, и начал разглядывать просторный плац. Шесть машин, рыча и набирая скорость, расходились веером. Летел из-под гусениц гравий, клубилась смерчем пыль, раскачивались антенны над широкими приземистыми башнями, похожими на втянувших лапы крабов с выставленной вперед гладкой цилиндрической клешней, угловатые скаты и лобовая броня матово поблескивали, гул моторов сливался с визгом и скрежетом терзаемого металлом камня. Две машины на левом фланге ринулись к двухметровой насыпи, взлетели по откосу, рухнули с края вниз и приземлились в пыли и грохоте, описав в воздухе стремительную параболу. Пара танков справа форсировала рвы: один – траншею на полной скорости, другой медленно сполз в глубокий окоп отвесного профиля, покрутился там, будто уминая плоть и перемалывая кости условному противнику, задрал к небу пушечный ствол и выполз на ровное место. Экипажам центральных машин достались имитация шоссе, перегороженного противотанковыми надолбами, и глухая кирпичная стена изрядной толщины. Поизвивавшись среди бетонных пирамидок, они синхронно развернули башни стволами назад и, сбросив газ, обрушили стену, после чего переползли через груду обломков. – Лихо! Молодцы! – пробормотал Каргин, взирая на эти маневры как зачарованный. Кэти дернула его за пояс. Губы девушки сложились в лукавую улыбку. – Куда смотришь, солдат? Вспомни о вине, бассейне и амуниции, которую мы собирались сбросить… Я хочу, чтоб ты глядел не на танки, а на меня! И называл льасточка! Он опустился на сиденье, повернулся к ней. «Абрашки», гудевшие на полигоне стаей разъяренных пчел, вдруг смолкли – видимо, готовились к стрельбам из укрытия. Внезапно повисшая тишина казалась напряженной и тревожной, как передышка в битве: секунда – и блестнет огонь, раздастся грохот, мир расколется и рухнет а пламени взрыва и свисте осколков. Будто предчувствуя вселенский катаклизм, Кэти прижала ладошку к груди и зажмурилась; губы ее дрогнули, и Каргин подумал: вот сейчас слетят с них те слова, что он надеется услышать. Что-нибудь серьезное – скажем, о парне, который небогат, зато приятен девичьему сердцу, или о родителях, что жаждут поскорее свести знакомство с этим парнем… На худой конец – про Иннисфри: мол, вдвоем на острове повеселей, чем в одиночестве. Но она заговорила про другое. – Керк… Что бы ты сделал, если бы это было твоим? – Что – это? – спросил Каргин в недоумении. – Все. Все арсеналы с танками и пушками, и вилла на холме, и весь поселок… Счета в банках и сами банки, все предприятия и акции, и тысячи людей, послушных твоей воле… Сенатское лобби, связи в Пентагоне, в ФБР и ЦРУ, в Госдепартаменте и даже в президентском окружении… Тысячи служащих и работников, специалистов в экономике, химии, металлургии, авиастроении, финансах и не знаю, в чем еще… Собственная служба безопасности, собственный остров, собственная армия… Физиономия рыжеволосого джентльмена, окруженная венцом из пушек, сабель и мушкетов, явилась мысленному взору Каргина. Он вздохнул, не в силах сдержать разочарования, ибо ждал совсем других речей. Затем поинтересовался: – Ты не о ХАК ли говоришь? О нашем дорогом работодателе? Девушка кивнула. – О ХАК. Что бы ты сделал, став президентом корпорации? Самым большим и главным боссом? Миллиардером с неограниченной властью? – Не продавал бы оружие Ирану, – насупившись, сказал Каргин. Поглядел на плац, на замершие в боевой позиции танки, на трибуну с военными в пестрых мундирах, и добавил: – Арабам тоже. Ни арабам, ни африканцам, ни латиносам, ни Индии, ни Китаю. Он собирался добавить еще Пакистан, Чечню, Афганистан, Албанию и дюжину других держав, но тут на полигоне загремели пушечные выстрелы, потом раздался резкий стрекот пулеметов. Кэти зажала уши. Каргин, хоть и был привычен к звукам канонады, поморщился и стукнул ладонью по рулю – поедем, мол, отсюда. «Ягуар» фыркнул – едва слышно за грохотом пальбы – и резво покатил к поселку. Когда шум сделался тише, Кэти промолвила: – Ты сказал: не продавать тем, не продавать этим… в общем, не продавать агрессорам, воинственным режимам и всем, кто представляет потенциальную опасность… – Она усмехнулась. – Боюсь, дружок, это очень наивный взгляд на вещи. В колледже меня учили, что потребности рынка стимулируют производство и удовлетворяются всегда, а это значит: не продаст Халлоран, продадут другие. Та же твоя Россия. – Продадут, – согласился Каргин. – Ну, и где же выход? Учили этому в колледже? – Учили. Выход в том, чтобы держать ситуацию под контролем и разумно ее регулировать. На то и власть дана. Власть, могущество, сила, богатство… Каргин хмыкнул и погрузился в мрачное молчание. Конечно, думалось ему, в рынках, производстве и потребностях Кэти разбирается получше, но власть для нее – понятие абстрактное. Слишком неопытна и молода, чтоб толковать о власти! Власть президента, власть большого босса, власть наставника над учеником или рабовладельца над невольником – все это разные виды власти, и ни один из них неограниченным не бывает. Даже раб способен взбунтоваться или, на худой конец, не подчиниться хозяину, а грохнуть лбом о камень… Что уж о президентах и боссах говорить! Их власть отчасти виртуальна, ибо стоит на ближних людях, а как выполняются ими хозяйские распоряжения не всякий раз проверишь. Собственно, и не проверишь никогда, коль нет надежных проверяльщиков. А проверяльщики – кто они? Те же ближние, и у каждого свой интерес, свои понятия, как управлять и властвовать… Нет, к подобной власти его не тянуло, а меньше всего – к той ее разновидности, что порождалась силой. Или насилием… В бою он изведал власть другую, ту, что дана командиру над жизнью и смертью солдат, однако ее основой были не сила и не финансовое могущество, а нечто иное – долг, честь или хотя бы контракт и устав, повелевавшие одним сражаться, другим – командовать сражением. Так, чтобы крови своих лилось поменьше, а вражеской – побольше… Эту власть Каргин принимал и признавал, ибо, кроме долга, чести и устава, она подкреплялась доверием, какое питают лишь к матери, отцу и Богу. Хочешь поглядеть на Господа?.. – говаривал майор Толпыго. Вот он – взводный-лейтенант, а при нем – взвод пацанов в камуфляже. Ну, разумеется, еще траншея, три архангела-сержанта и дьявол с другой стороны – палит из автомата… Вздохнув, Каргин припомнил, что не впервые искус власти маячит перед ним. Конечно, сила и могущество ХАК его не касались, и разговоры Кэти по данному поводу были такими же эфемерными, как клад, закопанный пиратом Морганом где-нибудь на Сахалине. Однако в иное время и при иных обстоятельствах ему сулили власть и силу – само собой, не столь масштабные, как у главы гигантской корпорации, зато вполне реальные. Влад Перфильев, зимой девяносто четвертого… Перфильич, соратник по «Стреле», боевой товарищ, капитан… Бывший капитан, уточнил Каргин. О себе он так не думал – он был капитаном в отставке.
* * *
Влад ушел из «Стрелы» еще в начале октября, едва поползли первые слухи о расформировании. Плюнул и ушел. Сказал, что у него жена, ребенок, кошка и собака – словом, большая семья, которая не терпит неопределенности. Семейство нужно кормить, одевать, обувать и, разумеется, лечить – ходили слухи, что у дочки Влада не все в порядке с позвоночником. Ушел, как в воду канул… Однако месяца через три вдруг проявился – оставил Каргину записку на вахте офицерского общежития. Совсем короткое письмо – подался в перспективный бизнес, из наших пятеро со мной, если желаешь – встретимся, будешь шестым. Место для рандеву назначил странное – кафе «Сирень» в Сокольническом парке; время – четырнадцать ноль-ноль. Туда Каргин и заявился. Не потому, что работу искал (контракт с Легионом был, как говорится, на мази), однако хотелось поглядеть на старого товарища, узнать, как поживает дочка Влада, и все ли у него в порядке, а заодно осведомиться о пятерых однополчанах, коим шестого не хватает. День тот выдался холодным, ветер свистал но всем Лучевым просекам,[256] наметал сугробы, и от метро «Сокольники» Каргин двигался бодрой побежкой, припоминая чащу под Жиганском, где прошлый год ловили зэков. Парк, конечно, не тайга, но в чем-то напоминает: снег по колено, холод, ветер и полное безлюдье. Снег завалил и кафе, сделав его похожим на лесную заимку – тем более, что зданьице было квадратное, приземистое, с крохотными окошками под самой крышей. Обойдя вокруг, Каргин понял, что это бывший туалет, слегка подкрашенный и принаряженный, снабженный вывеской и новой капитальной дверью. Внутри, однако, оказалось вполне прилично. Во-первых, чисто и тепло, во-вторых, пахло не мочой, а шашлыком, а в третьих, имелись старенький гардеробщик и пышная, лет сорока, официантка в строгом темном платье и накрахмаленном передничке. Посетителей было вдвое больше, чем персонала: ближе к стойке сидел Перфильев, а в углу под окном – троица бритоголовых парней, каждый размером с банковский сейф. Обнялись, расцеловались… Помня вкусы Каргина, Влад заказал красного сухого, а к нему – салат «Столичный», пару шашлыков и стопку водки – для себя. Водка, однако, стояла нетронутой. Выпили вина за встречу, закусили, снова выпили, и Каргин осведомился о делах. – В лучшем виде, – прохрипел Перфильев. Связки были у него повреждены во время боснийской операции, и потому он сипел и клекотал как пароходная сирена. Но в остальном – парень хоть куда: невысокий, ладный, широкоплечий, с крупными не по росту, ухватистыми кистями. – В лучшем виде, – повторил он, придвинувшись поближе к Каргину. – Знаешь, Леха, что такое ЧОП? Слыхать не доводилось? – Ни сном, ни духом, – признался Каргин. – Частное охранное предприятие. – Влад важно поднял палец, потом коснулся груди огромной растопыренной пятерней. – ЧОП «Варяг»! И я – его хозяин! Сто тридцать штыков в строю, пять отделений… Теперь вот шестое мастерю. Заказчик валит косяком! А знаешь, отчего? Люди мы надежные, приличные, не отморозки, что вчера из зоны… В углу, где сидели трое бритоголовых, раздался громкий гогот. О чем-то они толковали, но смысл речей был темен для чужого уха: «базар, бля… вальты гуляют… перхоть, заколебал!.. врезал, бля, с копыт долой и на хер!» – Твои, что ли, бойцы? Надежные и приличные? – Каргин покосился на соседей. – Не-а, – буркнул Перфильев, прожевывая шашлык. – У меня, брат, дисциплина, и никакой ненормативной лексики. А эти… Шпана, должно быть, из местных. – Он хрипло откашлялся и добавил: – Ну, к лету мы тут порядок наведем! И в этом шалмане, и в обозримых окрестностях. – Кто с тобой из наших? – Кириллов Глеб, Сашка Мазин, Черный Николай… Еще Эльбекян… помнишь такого?.. армянин-старлей из Кутаиси?.. В Ираке с нами сидел и в Загребе… Ну, Прохоров, само собой… Куда ж я без Прошки? Каргин покивал головой. В самом деле, куда? Костя Прохоров был у Перфильича напарником и лучшим другом – из тех, что делят пополам последнюю гранату. – Сокирянский просился – не взял, – каркнул Влад. – Федорченко не взял и Бокия тоже. Старые, каждому под сороковник, майоры опять же… Как им под капитаном ходить? Сказал, сами шевелитесь, свой бизнес стройте. Москва велика, всем хватит! Город большой. «…пиз…м накрылся!..» – донеслось от бритоголовых. Перфильев бросил на них свирепый взгляд, поиграл желваками и вдруг разразился клекочущим смехом. – Ну, демократы, ну, ублюдки! Нас, боевых офицеров, за яйца подвесили, а эта шантрапа живет! Жрет, пьет, гуляет! – Внезапно он смолк, прищурил глаз и буркнул: – Ну, ничего, перезимуем. Перезимуем ведь Леха, а? Что они без нас? Блохи, болтуны… скачут туда-сюда, из кресла в кресло… А сила-то вот она где! – Влад стиснул огромный кулак. – А где сила, там и власть! Каргин усмехнулся. – Ты против демократии, Перфильич? – Ни в коем случае. Видишь ли, я полагаю, что демократия и демократы – категории разные. Демократия – идея, и я обеими руками за! – Он вскинул вверх свои большие лапищи. – А на чем она стоит, демократия эта? Вовсе не на ворах-демократах, Лешка, и не на гребаных купцах-торговцах. На просвещенном народе стоит, на сильной армии и неподкупных судах… Еще – на президенте, которых «стрелков» своих верных не обижает… – Вот обида в тебе и говорит, – заметил Каргин. – Конечно, обида. За Россию! «…сучка…» – послышалось в другом углу. Щека Влада дернулась. – Плохое ты место выбрал, Перфильич. Поговорить не дадут, – промолвил Каргин. – Могли бы у тебя в конторе встретиться. Есть ведь у тебя контора? – Есть. – Влад разлил вино по стаканам. – И контора есть, и секретутка в приемной, такая, что ноги от ушей… Еще – три бухгалтера, учебный тир, инструктор по дзю-до и сейфы с пушками… Все имеется! Только, Алексей, мы ведь не даром здесь сидим. В пятнадцать тридцать придет человек, под крышу проситься будет. Большой купец, предприниматель, мать!.. Все Сокольники откупил, все тут его – качели-карусели, пруды, песочницы, шалманы и эта забегаловка… Весной желает рынок ставить, с продуктами и барахлом. В общем, на подъеме мужик, да братки мешают. Помочь ему надо. Само собою, не бесплатно, а за хорошую капусту. – Он опрокинул в глотку стакан и прохрипел: – Вот я и говорю: пять отделений есть, шестое смастерим. Бери, владей! И будет, Лешенька, власть твоя и воля от реки Яузы до железной дороги, и от Стромынки до Ростокинской! – Выходит, вербуешь меня? Из «стрелков» в «варяги»? – Ну а чего? Сокирянского не взял, Федорченко не взял, Бокия не взял, а тебя – со всей охотой! Ты молодой, резвый… – Перфильев взглянул на часы. – Минут через сорок явится клиент, я тебя представлю и скажу: вот, дорогой, твоя защита и опора, самая твердая власть! Прошу любить и жаловать! – Тут он заметил, что Каргин мрачнеет, и торопливо произнес: – Ты ведь рапорт уже подал, Леха? Мне Федорченко говорил… Не ошибся? – Нет. Не ошибся. – Ну и что делать-то думаешь? Чем кормиться? Из казармы тебя попрут, жилье купить – приличные деньги нужны, а ежели женишься, так и того побольше. Семья, брат, она… Пышная официантка подплыла к их столику, и Перфильев смолк. – Все съели, все выпили, молодые люди? Все, кроме водки? А Михал Михалыч велел, чтоб на столе у вас не пустовало. Еще по шашлычку? Вина? Коньяк есть молдавский, если хотите… севрюжки могу нарезать… салатик с крабами… – Брось козлов обхаживать, маманька, нам тащи! – рявкнули из угла. – Крабов, бля, с севрюгой! И коньяк… Что молчала про коньяк, лахудра? Перфильев начал приподниматься, не спуская взгляда с Каргина. – Так идешь ко мне на службу, Алексей? Да или нет? Ежели идешь, так мебель вместе вынесем. – Вынести я не прочь, а насчет службы извини, – Каргин развел руками. – Я уже завербовался. В Легион. – А зря! – Резким движением Влад выплеснул водку в рот, крякнул и утерся рукавом. – Не дай бог пулю схлопочешь в Легионе, а тут… Ты погляди, от чего отказываешься…от какой власти, какого удовольствия! Он словно перетек от стола к столу, вышиб стул под самым горластым бритоголовым и ткнул его пальцами под челюсть. Тот свалился как мешок с песком. Двое его приятелей вскочили – каждый на голову выше Перфильева. Официантка ойкнула, стиснула в испуге руки, потом всем телом развернулась к Каргину. – Вы… вы другу помочь не хотите? – Я помогу, – сказал Каргин. – Их ведь выносить придется, а груз не маленький. Влад отступил, явно не желая нанести ущерб посуде и столу. Противники ринулись за ним, столкнулись, правый получил коленом в пах, левый – кулаком по уху. – Эй, папаша, двери отвори! – приказал Перфильев гардеробщику. – Щас гостей проводим… Х-ха! Он заехал локтем под ребра тому, кто еще держался на ногах. Двое других валялись меж перевернутых стульев: один, распялив рот, пытался сделать вдох, другой стонал, схватившись за промежность. Дверь широко распахнулась, морозный воздух хлынул в помещение, клубясь белесоватым паром. Выкрутив руку бритоголовому, Перфильев ловко направил его в дверной проем, дал прощального пинка, вернулся и примерился к стонавшему страдальцу. Взял за ворот, потащил, бросил, пробормотал: «Ну, тяжелый, гад!» – вцепился в ноги и все же выволок за дверь. Снова вернулся, крикнул гардеробщику: «Вещички им выбрось, папаша!» – приподнял последнего врага, подсунул стул ему под задницу и деловито осведомился: – Рассчитываться будем или как? – Падла… – выдохнул бритоголовый, – ну, падла… – Ты еще не знаешь, какая я падла, – сообщил Перфильев. – Будет желание, так я вас всех закопаю, быстро и глубоко. И лопатка у меня с собой. Хочешь поглядеть? Он полез за пазуху и вытащил пистолет. Глаза у бритоголового округлились. Будто загипнотизированный, он достал бумажник и, отсчитав пяток купюр, бросил рядом с тарелкой. – А за беспокойство? – напомнил Перфильев. – За беспокойство где? На стол легла еще одна банкнота. – Мало! Ругань в общественных местах плюс оскорбление дамы… – Влад покосился на официантку, – …которая при исполнении. Опять же мои труды и раны… Видишь – во!.. – ссадина на кулаке! Так что выворачивай карманцы, да пошустрей. – Больше нет, – прохрипел бритоголовый, опорожнив бумажник. – Ну, на нет и суда нет… Пшел вон, гость дорогой! Гость поспешно удалился, а Перфильев, подмигнув официантке, взиравшей на него в немом восхищении, осмотрел стол и произнес с довольным видом: – Вот это чистая работа! Мебель цела, и ни единой плошки не побили… Никакого убытка заведению. Чистая работа, согласился про себя Каргин. Однако не для «стрелка», который свое искусство уважает и по шалманам не геройствует. Тем более, за деньги. Влад опустился на стул, вытянул ноги, кивнул официантке: – Вас, кажется, Клавдией зовут, так? Принесите мне, Клашенька, рюмку водки, другу моему – вина, и нам обоим – пару шашлычков. И на столике том приберите… Чтобы порядок был, когда придет Михал Михалыч. – Всенепременно, – проворковала официантка и ринулась исполнять заказ. – Вовремя эти жлобы подвернулись, – сказал Перфильев, бросив взгляд на Каргина. – Отличная вышла демонстрация. Сейчас заявится купец-хозяин, девушка Клаша ему отрапортует, а мы капусту сострижем… После такого рапорта торговаться грех! – Он ухмыльнулся и, после недолгой паузы, спросил: – Ну, как? Берешь Сокольники под свою руку? За хорошие бабки? – Нет, Перфильич, нет. Ты уж прости… Контракт с Легионом подписан, слово сказано, а офицерское слово – золото. Причина, в общем-то, была другой, но обижать товарища Каргин не собирался. Перфильев, однако, понял, насупился и что-то прохрипел о чистоплюйстве и сраном Легионе, где бывшему «стрелку» совсем не место. Тут, к счастью, возникла Клава с подносом, и Каргин, разлив вино, поднял тост за дочку Влада. Чтоб была здоровой, выросла красавицей и не ведала ни горя, ни печалей. Перфильев просветлел лицом, выпил и сообщил: – В Германии сейчас моя Танюша, в Эрфурт поехали вместе с женой. Клиника там знаменитая… Лечат! Обещают вылечить… Ба-альших денег стоит, Леха! Ну, не в бабках счастье… – Это точно, – согласился Каргин и предложил поднять по новой – за то, чтоб было все путем. – Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой, – добавил Перфильев. Они чокнулись, выпили и расстались. А через два месяца Каргин уже глотал пыль в лагере под Ялингой.* * *
Его качнуло вперед, когда красный «ягуар» затормозил у дома Кэти. Рокот мотора смолк, и на Грин-авеню вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь щебетом каких-то пташек. Руки девушки лежали на руле, она сидела впол-оборота к Каргину, посматривала на него сквозь темные ресницы, будто не могла решить, поедут ли они еще куда-то или покинут мягкий и теплый уют кабины. – Прости, задумался, – пробормотал наконец Каргин. – Случай смешной вспоминал: как мой дружок в Москве вышиб из ресторана компанию… – Он хотел сказать «отморозков» или «жлобов», но в европейских наречиях слов таких не имелось, что доказывало превосходство русского языка. Девушка вдруг наклонилась к нему, обняла за шею, прижалась щекой. – Ты меня прости, Керк… там, у плаца, наболтала всяких глупостей… про власть, могущество, богатство… – Не такие уж глупости, – промолвил Каргин, вдыхая нежный запах ее волос и кожи. – Ты ведь богатого парня ищешь – ну, мысль и вьется рядом с богатством, как пчела у меда. Кэти вздрогнула, но не отодвинулась. Он ощущал тепло ее рук и губ, и это было так приятно, что хотелось прикрыть глаза и замурлыкать. – Вы, русские, такие странные… вы не хотите стать богатыми… И ты тоже не хочешь, Керк? – Отчего же… Совсем неплохо обладать богатством, если знаешь, как им распорядиться. – Вот и подумай об этом. – О чем? – Как распорядиться, – прошептала Кэти. Чего-то она не договаривает, мелькнуло в голове у Каргина. Руки его обнимали девушку, и тело ее было знакомым, таким знакомым и дорогим, какой бывает только плоть любимой женщины. Той, с которой разделил трепет и счастье соития, той, что целовала твои губы, шептала нежные слова и засыпала у твоей груди… Но это ощущение, хоть и волнующе-прекрасное, было все-таки телесным, а значит, подарить его могла любая из тысяч Кэти, Нэнси или Анют, чья красота и молодость пленит мужчину. На час, на день или на месяц… Более долгое странствие по жизненным путям требовало иного – той близости, что порождается доверием, сходством стремлений и бескорыстной тягой душ друг к другу. Странные нынче времена и странная любовь, размышлял Каргин: сначала прыгаем в постель, а после выясняем, бьются ли наши сердца в унисон или, наоборот, в противофазе. Следом за этой мыслью пришло еще одно соображение: все-таки выяснить хотелось. Значит, не подружку на ночь отыскал! Кэти отодвинулась, начала шарить в бардачке, достала изящный кожаный футляр и авторучку. Каргин, выпустив ее, сидел смирно, ждал: может, напишут ему сейчас любовное послание. – Вот, возьми. Кэти сунула ему визитку. Там, в переводе на русский, значилось: «Кэтрин Барбара Финли, менеджер по работе с персоналом». В левом верхнем углу вытиснен орел, буквы «ХАК», а под орлом – слова: «Кольт создал Соединенные Штаты» – видимо, девиз компании. Визитка была благородного серо-стального цвета, надписи – золотые, орел – черный. Каргин повертел ее в пальцах. – А ты, выходит, еще и Барбара… Не знал! Ну, будем знакомы, Варюша-Катюша! – Барбара – в честь мамы и бабушки, – нетерпеливо пояснила Кэти, дернула визитку к себе, заставила перевернуть. – Видишь, здесь номер телефона, не служебный, личный. Ты должен позвонить мне с Иннисфри. Обязательно! Ты обещаешь? – Разве оттуда можно звонить? С острова на краю света? Кэти в горестном недоумении поджала губы. – Керк! Ты в каком веке живешь? – В африканском, милая, в африканском. Там мы больше общались по рации, а телефон был только у… Она прервала его взмахом руки. – На острове – многоканальная антенна, связь через спутник двадцать четыре часа… Ты что же, забыл? Ты ведь неделю знакомился с материалами! – Я не забыл. Я просто не знал, что каждый может звонить с острова на материк. – Не каждый. Ты, надеюсь, сможешь. – Увидев, что Каргин прячет визитку в карман рубахи, Кэти кивнула. – Звони мне, Керк… – Голос ее дрогнул, глаза подозрительно заблестели. – Звони и говори мне: льасточка… Молчание. Тишина. Только птичий щебет, шелест листвы и отдаленный гул мотора – кажется, кто-то подъехал к «Старому Пью». Еще – запах роз и цветущей акации… Или так пахнут волосы Кэти? – Что будем делать? – спросил Каргин, не отводя от нее глаз. Она улыбнулась. – Мы уже делаем все, что ты хотел: сидим и смотрим друг на друга. Каргин улыбнулся ей в ответ. – Верно, ласточка, но у бассейна удобнее, чем в машине. К тому мы собирались кое-что сбросить… – Амуницию, – уточнила Кэти, лукаво прищурилась и распахнула дверцу «ягуара».Глава 6
Иннисфри, остров в Тихом океане; 25 июня, утроСверху остров был похож на камбалу с круглым разинутым ртом и глубокой раной под нижней челюстью. Голова камбалы являлась обитаемой частью местной ойкумены; ее пересекали ниточки дорог, едва заметных среди вечнозеленого леса, изогнутым луком падала с гор река, огибая аэродром и поселок, синело озеро в раме бурых и серых утесов, а в двух километрах от него начинался парк, разбитый на вулканическом склоне – и там, сливаясь с базальтовыми скалами, вставали широкая лестница и частая гребенка дворцовой колоннады. С запада горный склон неторопливо стекал к поселку и бухте, а на востоке резко обрывался вниз; подножие его тонуло в диких зарослях, лабиринте мангровых джунглей и изумрудных, поросших мхами зрачках трясин. Весь этот хаос обрамляли стены древнего кратера, на первый взгляд несокрушимые, как вечность, но Каргин заметил, что в трех-четырех местах на севере и юге скалы иссечены расщелинами и ядовитая зелень болотисторо леса отступает под натиском темных каменных осыпей. Самолет, тридцатиместный комфортабельный «оспрей»,[257] сделал пару кругов над бухтой, развернулся хвостом к встававшему над горами солнцу и плавно скользнул вниз, к серому прямоугольнику аэродрома. В дальнем конце взлетного поля маячил павильон – сталь, стекло, белые тенты, полоскавшиеся на ветру; рядом – несколько машин и небольшая толпа, человек пятнадцать в легких тропических одеяниях. Мужчины – в шортах и гавайках, женщины – в брючках и цветастых платьях; лица у тех и других затенены широкими полями шляп. Встречают?.. – подумал Каргин. Ждут? Но кого? В «оспрее» – он сам да два пилота… Были, правда, тюки в багажном отделении, но вряд ли с письмами. Письма, как и барачный военный городок в тайге, печи, топившиеся дровами, примусы и многое другое, остались в далеком детстве. Письма – настоящие письма – были теперь редкостью, особенно в Штатах, в краях торжествующего прогресса; телефон и компьютерная связь хоронили их с каждым годом все надежнее и глубже. Вот и Кэти сказала: звони мне… Звони, а не пиши… Звони, и называй ласточкой… Каргин улыбнулся и на мгновение смежил веки. Память о минувшем вечере была сладка, но к ней примешивалась горечь: что-то они не сказали друг другу, будто решив по молчаливому согласию, что время для серьезных разговоров не пришло. Может, оно и к лучшему? – думалось Каргину. Он свободен, и она свободна, никто ничего не обещал, а дальше – поглядим… Определенность хороша в солдатском ремесле, а отношениям с женщиной тайны придают пикантность. Он начал размышлять о тайнах и причудах Кэти, но в этот момент колеса стукнули о землю. Взвыли, тормозя разбег, турбины, «оспрей» покатился по взлетно-посадочной полосе и замер метрах в тридцати от павильона. Звонко щелкнул замок люка. Каргин поднялся, откинул невесомую дюралевую дверцу и спрыгнул на серый ноздреватый бетон. Ветер с моря взъерошил волосы, солнце брызнуло в глаза. Он вытащил темные очки, водрузил на нос и ровным солдатским шагом направился к толпе. Если тут кого-то ждали, то явно не его. Женщины – их было три или четыре – шептались о чем-то и хихикали, собравшись тесным кружком, мужчины, покуривая сигары, лениво следили за парнями из аэродромной команды – те, подогнав цистерну с горючим к белому боку «оспрея», уже разматывали шланг. Вновь прибывший был удостоен пары нелюбопытных взглядов, вежливой улыбки какого-то седовласого джентльмена (тот даже приподнял шляпу) и взмаха рукой. Махал мускулистый загорелый тип, небрежно опиравшийся на дверцу пошарпанного джипа. Спайдер, понял Каргин и зашагал прямиком к мускулистому. У Альфа Спайдера, человека больших полномочий и бывшего президентского секьюрити, оказался глубокий гулкий бас. Он был высок, длинноног, жилист и, вероятно, очень силен; выглядел на тридцать пять, однако глазки, маленькие и хитроватые, выдавали более зрелый возраст. Хлопнув Каргина по спине, Спайдер поздравил его с прибытием в рай и пообещал те радости, какие там положены солдату – холодное пиво и горячих девочек. Пиво через час-другой, а девочек попозже, к вечеру, когда они наведаются в «Пентагон». Этот клуб располагался в поселке, и стало ясно, что в данный момент поселок не был их ближайшей целью. Другим обитаемым местом на Иннисфри являлась вилла Халлорана, и Каргин решил, что к ней они и направятся – если только спецов по безопасности не селят в джунглях и пещерах. Это не исключалось; как-никак, безопасность – дело тайное, секретное. Спайдер полез в машину, кивнул на сидение рядом. Потом, заметив, что Каргин разглядывает людей у павильона, пояснил, что здесь собрались отпускники. Клистирная трубка Магуар, личный доктор босса, дворецкий Джерри Квини, шеф поселковой администрации Остин Тауэр и кое-кто еще; отбывают с женами на континент, но непременно возвратятся через четыре недели, к намеченному празднику. Праздником был королевский «хэппи бездэй», иными словами – день рождения Халлорана, справлявшийся 23 июля с большой помпезностью. Тем более, что дата нынче ожидалась круглая: семьдесят пять, три четверти столетия. Альф, как и предупреждал коммодор Мэлори, оказался мужчиной словоохотливым и компанейским. В ближайшие пять минут он обрушил на Каргина массу сведений о жителях Иннисфри, администраторах, техниках, слугах и барменах, об офицерах охранной роты и капитане яхты «Дублин», а также о девочках, которых Альф называл чикитками. Без умолку тараторя, он вырулил на главное шоссе, соединявшее поселок с взлетно-посадочным полем и мостом, и прибавил газу. Вдоль обочин кивали зелеными гривами пальмы, за ними тянулся лес, однако не дикий, как в кратере, а окультуренный: сейбы с широкими, похожими на доски корнями, раскидистые и будто приплюснутые гинкго, небольшие стройные панданусы с пучками узких листьев, рододендроны, агавы и бамбук. Воздух казался приятным и свежим, без всяких миазмов, донимавших в заирских болотах и ангольских джунглях, и мнилось Каргину, что он и в самом деле попал в рай – пусть даже этот парадиз был вовсе не предназначенным ему местом, никак не похожим на подмосковные леса и краснодарские степи. Промелькнул мост над речкой, полноводной и чистой, будто младенческая слеза. Капитальный мост, отметил Каргин, под старину, из внушительных глыб базальта; такой ни бомбой, ни бронебойным снарядом не своротишь. За мостом шоссе разделялось на-трое: прямо – к Северному блок-посту, направо – в горы, к хозяйской вилле, и налево – к морю. Последняя – западная – магистраль шла вдоль мыса до самой его оконечности, где находился Пятый блок-пост, оборонявший вместе с Четвертым ведущую в бухту протоку. Шестой пост был выстроен у дорожной развилки: купол из бетона с амбразурами и пулеметами, глядевшими во все стороны. Рядом, в тени, стоял армейский джип, и в нем дремали крепкие смуглые коммандос. При виде Спайдера они поднялись, изобразили на лицах бдительность и отдали салют. – Взвод Хайме Гутьерреса… их дежурство… – сообщил Альф, прервав на мгновение байку о том, как он выбирал для Нэнси Рейган белье и вечерние туалеты. Джип свернул направо, в гору, но подъем был не крут, и с километр дорога шла по прямой; времени как раз хватило, чтоб досказать историю про Нэнси, ее бюстгалтеры и кружевные трусики. Каргин, чтоб не остаться в долгу, поведал о лейтенантах-танкистах из подмосковного гарнизона, давших зарок при каждой встрече пить чего-нибудь новенькое. Встречались они через день, перепили все жидкости от водки до денатурата, и перешли к коктейлям из зубных паст и средства для чистки блях, разболтанным в чифире. Это их желудки вынесли, но следующим был сапожный крем, а от него случилась неприятность: сыпь в паху и почернение близлежащего органа. Спайдер похохотал, подивился российской смекалке и принялся расспрашивать о девочках: какие будут погорячей, беленькие, парижские да московские, либо черненькие, с берегов Убанги и Арувими.[258] Каргин высказался в том смысле, что темперамент – фактор не расовый, а генетический и узнается по цвету белья, не кожи; если белье на девушке белое, так это дохлый номер, а если зеленое или красное, то самый смак. Откуда ж белье у черненьких? – заинтересовался Альф, и пришлось ему объяснять, что даже в жаркой Африке девушки голышом не бегают, а носят юбки из белого лыка или из свежих пальмовых листьев. Когда джип, подвывая и взревывая, полез в гору, отношения у них совсем наладились: они стали если уж не друзьями неразлей-вода, то добрыми приятелями. Что подтверждало известный интернациональный тезис: анекдоты – первый шаг к солдатской дружбе. Вторым, разумеется, была выпивка. Дорога извивалась серпантином, и с высоты Каргин мог разглядеть залив с застывшей у мола океанской яхтой, бело-оранжевую башенку маяка и весь поселок, разделенный пополам короткой и широкой центральной улицей. Можно было поставить рубль против доллара, что называется она Мэйн-стрит,[259] и что ее обитатели относятся к местной островитянской знати. Впрочем, дома их никак не выделялись на фоне остальных строений – тонули, как остальные жилища, в зеленях, и только массивная высокая казарма соперничала с кронами саговников и пальм. Нашарив взглядом здание казармы, Каргин с сожалением вздохнул. Видно, не судьба ему командовать охранной ротой, гонять Гутьерреса, Сегри и Моруэту… Нет, не судьба! С другой стороны, ротой он накомандовался в Легионе, двух лейтенантов гонял – покойного Стейнара и Свенсона, еще живого… Ну, а новый, хоть и неведомый пока что пост мог оказаться неплохим и более престижным, чем должность гарнизонного начальника. На этот счет разговорчивый Спайдер не вымолвил ни слова, а лишь болтал о том, о сем, расспрашивал об Африке и легионной службе, травил анекдоты и деликатно прощупывал Каргина. Вопросы были вполне невинными, однако Каргин уверился: его послужной список изучен с начала и до конца, без всяких купюр и пропусков. Глухое отдаленное рычание прервало их беседу. Над бухтой мелькнула светлая тень с распластанными крыльями и, стремительно ввинчиваясь в воздух, ринулась к облакам. «Оспрей» быстро набирал высоту, рев двигателей сделался тише, затем яркая искорка корпуса истаяла в небесной синеве, будто капля росы под жаркими солнечными лучами. Проводив самолет взглядом, Каргин промолвил: – Говорили, я буду ходить в твоих помощниках. – Кто говорил? – лениво поинтересовался Спайдер, притормаживая перед очередным поворотом. – Шон Мэлори, большой босс из Халлоран-тауна. – Каргин выдержал паузу и поинтересовался: – Нужен тебе помощник, Альф? И по какой части? – Это старику решать. Может, займешься восточным побережьем, наладишь охрану… Хотя какого дьявола там охранять? Все вроде бы о'кэй… камни, болота, скалы и жабы… Так что я думаю, он тебя егерем определит. Егерь ему не помешает. Я вот с ним бегаю по утрам, но в кратер таскаться – увольте! Ни за какие деньги! А он желает поохотиться. На попугаев или, к примеру, на крыс… Ты как стреляешь-то, парень? – В крысу не промажу. В попугая тоже, – сообщил Каргин, мрачнея и хмуря брови. Идти в крысиные отстрельщики! Еще чего! Впрочем, вряд ли его ожидал такой позор. Что-то в тоне Спайдера и в выражении маленьких хитрых глазок будто намекало, что помощник измерен, взвешен и распределен, что участь его решена, и что палить в попугаев и крыс ему не придется. Разве что для собственного удовольствия. Они проехали между двумя коническими пилонами из темного базальта и очутились в просторном парке. Справа, за шеренгой аккуратно подстриженных темно-зеленых кипарисов, голубел овальный бассейн, слева тянуло сладким запахом от рощи цветущих магнолий, прямо лежала аллея – ровная, как стрела, и упиравшаяся в лестницу с широкими гладкими ступеньками. Ступени стерегли каменные сфинксы, тоже базальтовые, а над ними полукругом возносилась колоннада, придававшая дворцу сходство с древним египетским святилищем. По обе его стороны темнели скалы, увитые лианами; сквозь их изумрудную паутину просвечивал черный бугристый камень, будто сжимавший дворец в своих объятиях. В сущности, так оно и было: здание врезали в горный склон, выстроив в форме подковы о трех этажах, с южным и северным портиками и плоской кровлей, увенчанной ажурным цветком антенны. К южному портику примыкал утес, напоминавший сидящего медведя, а за ним располагался флигель служащих с хозяйственным двором, конюшнями, гаражами и вторым бассейном. Каргин, изучивший планы сооружения вдоль и поперек, знал и о других деталях, недоступных взгляду: про бункер в основании дворца и выбитый в скале тоннель, ведущий к служебному флигелю. Кроме того, севернее, метрах в пятистах, находился Седьмой блок-пост, охранявший энергетическую подстанцию – не наземную, как в поселке, а тоже упрятанную в скалы. Парк был безлюден и тих, но на ступенях виллы маячил чей-то тощий силуэт. Машина, миновав аллею, притормозила у лестницы, и теперь Каргин смог разглядеть встречавшего подробней. Худощавый узкоплечий человек лет сорока, с высокомерным смуглым лицом; глаза упрятаны за темными очками, волосы странные, темные, но с медным отливом, будто угли, тлеющие под слоем пепла. Одет, несмотря на жару, в строгий костюм при галстуке и жилете; у пояса – мобильный телефон, на пальцах – золотые перстни. Он не понравился Каргину – слишком напоминал нового русского кавказской выпечки. – Этот костлявый хмырь – Умберто Арада, он же Хью, – негромко пробасил Спайдер. – Доктор экономики, магистр менеджмента и трижды бакалавр. Личный референт старика. Не из нашей компании. Во-первых, чертов аргентинец, а, во-вторых, ни пива, ни виски не пьет и брезгует чикитками. В голосе его слышалось легкое презрение – такое, каким человек упитанный и склонный к житейским радостям, одаривает тощих анахоретов и святош. Отметив это, Каргин кивнул и поинтересовался, какая же компания – «наша». Скоро увидишь, ответил Альф и полез вон из машины. – Мистер Халлоран ждет наверху. – Английский аргентинца был столь же безупречным, как и его костюм. В молчании они вошли в большой прохладный холл с колоннами, высоким сводом и двумя изгибавшимися полукругом мраморными лестницами, ведущими на второй этаж. Колонны отгораживали жерла арок; одна, как помнилось Каргину, обрамляла ход к гостевым покоям в северном крыле, а в южном располагались столовая, кухни, кладовые и спуск в убежище. Простенок между лестницами украшало тускло поблескивающее чернью и золотом мозаичное панно: орел, как на американском гербе, но с добавлением – парой револьверов, стиснутых в когтистых лапах, и надписью: «Кольт создал Соединенные Штаты». Как на визитке Кэти, отметил Каргин, направляясь вслед за Арадой и Спайдером к лестнице. Ее белоснежный мрамор был окутан ковровой дорожкой, заглушавшей шаги, перила поддерживал строй бронзовых римских воинов в доспехах, на стенах сияли светильники и зеркала, на площадке бугрились мускулы статуй: Марс в гривастом шлеме, кующий меч Вулкан, Минерва с грозно подъятым копьем. Не останавливаясь, они миновали площадку второго этажа; по обе ее стороны открывались анфилады залов со стенами в панелях из дуба и красного дерева либо обтянутых шелками; люстры, драгоценная мебель, узорчатый паркет, огромные фарфоровые вазы, изваяния, картины… Парадная миллиардерская берлога, решил Каргин и бросил взгляд на аргентинца. Тот шагал как заведенный, с окаменелым невозмутимым лицом. Очки его торчали из кармана, и теперь можно было рассмотреть глаза – не темные, а вроде бы серо-зеленые, совсем не подходящие для представителя латинской расы. В точности как у Паркеров, мелькнула мысль, но додумать ее он не успел. Под ногами загрохотали каменные плиты, налетевший порыв ветра дунул в лицо, яркий солнечный луч заставил прищуриться. – Чтоб меня Тор пришиб!.. – пробормотал Каргин на русском и огляделся. Они очутились на верхней террасе, скорее даже – эспланаде, открытой к востоку, закругленной с одного конца, ровно срезанной с другого и висевшей над стометровым отвесным обрывом. Эта площадка была продолжением дворцовой кровли на уровне третьего этажа; сам этаж возвели прямо здесь, будто пентхауз на крыше какого-нибудь нью-йоркского небоскреба. Со стороны парка фасадом служили массивные колонны и глухая, без окон, стена, но с террасы вид был иной, более веселый и приятный: широкие оконные проемы за водопадом виноградных лоз, полосатый тент, защищавший от солнца, скамьи под невысокими пальмами и мандариновыми деревцами, фонтан и крохотный пруд, где в тишине и прохладе сияло чудо – огромная амазонская кувшинка. Отдельно, метрах в двадцати от здания, у южного края террасы, стоял павильон с полусферическим куполом; купол был раздвинут, и в щель выглядывало стеклянное око телескопа. Референт шагнул к дверям, едва заметным под вуалью виноградных листьев, и что-то тихо сказал сидевшему у порога человеку. Тот поднялся – будто перетек из одной позы в другую без всяких видимых усилий, не напрягая мышц. Не европеец, отметил Каргин, китаец или японец. Скорее, японец; широкоплечий, среднего роста, молодой, однако не юноша и на слугу не похож – держится спокойно и с достоинством. Японец выслушал Араду, повернулся, приоткрыл дверь, и Каргин, заметив пистолетную кобуру на ремне, понял: телохранитель. – Томо Тэрумото, – пророкотал над ухом Спайдер. – Можно Том. Этот из наших, хоть глазки косые. К девочкам, правда, не бегает, но пиво пьет с охотой. Повинуясь жесту Арады, они направились к распахнутым дверям. В двух шагах Каргин остановился, сделал короткий поклон и протянул японцу руку. – Саенара, Томо-сан. Я – Алекс Керк. Ответный поклон, улыбка, блеск антрацитовых зрачков, крепкое пожатие… – Саенара, Керк-сан. Благополучны ли вы? Здоровы ли ваши почтенные родители? И был ли легок ваш путь? – Как у ласточки, что несется со склонов Фудзи к ветвям цветущей вишни, – с улыбкой произнес Каргин. – А что до моих родителей, так они… Спайдер чувствительно ткнул его в спину. – Шагай, парень, шагай! Не время для восточных церемоний. Хозяин ждет! Хозяин сидел в кресле у стола с разложенными на нем книгами. Книг было много – не современные побрекито в пестрых бумажных обложках, а фолианты в коленкоре и ледерине, синие, черные и темно-серые, с вязью готических букв, хмурые, как генеральская улыбка. Немецкий Каргин знал посредственно, но догадался, что видит труды о Второй мировой, причем первоисточники – Роммель, Вальтер фон Рейхенау, Гудериан… Практики и теоретики блицкрига и танковых боев, сражавшиеся в песках Сахары, на тучных нивах Франции и в польских болотах… Он перевел взгляд на сидевшего в кресле старика. Лицо – точь в точь как на мишенях, расстрелянных Бобом Паркером с его посильной помощью… Сухое, костистое, с рыжими бровями и прядями волос цвета глины, свисающих на лоб; рот, будто прорубленный ударом топора; глубокие складки, что пролегли от крыльев носа к подбородку; широко расставленные глаза – их серо-зеленый цвет поблек, но зрачки казались колючими, как острия штыков. Ни признака старческой дряхлости и никаких воспоминаний о юном дипломате, поклоннике искусства и прекрасных дам… Как и писал в «Форчуне» обозреватель Сайрус Бейли, этот потомок пушечных королей был человеком жестким, не ведавшим ни жалости, ни сомнений. Волк, акула, подумал Каргин, вытягиваясь по стойке «смирно». Сесть ему не предложили. Халлоран разглядывал его пристально, с непонятным интересом. – Где воевал? – Губы раскололись узкой щелью. Голос – резкий, отрывистый, скрипучий. Голос и непререкаемый командный тон напоминали о Легионе, майоре Харрисе и полковнике Дювалье. – Африка, сэр, – доложил Каргин. – Руанда, Ангола, Чад, Сомали, Заир. Еще – Югославия. Летом девяносто пятого. – В России? – В России не воевал. Служил. В десантных войсках. Стена против входа была увешана клинками. Сабли, шпаги, ятаганы, кавалерийские палаши… Мачете. Зеркальное лезвие, слегка изогнутое, как тонкий лунный серп… Каргин, не моргая, уставился на него. – Женат? – Холост. Не тороплюсь, сэр. – Родители? Возраст, откуда родом, где живут, чем заняты? – Отец – офицер в отставке, возраст – шестьдесят шесть. Мать – врач, пятьдесят четыре, москвичка. Сейчас живут на родине отца, в Краснодаре. Странный вопрос, мелькнула мысль. Странный, хотя понятный: сведений о родителях, кроме воинского звания отца, он в фирму «Эдвенчер» не сообщал, а значит, этих данных нет у нанимателя, ни прошлого, ни нынешнего. В том не было нужды, поскольку гибель завербованного и все его наследственные и семейные дела фирмы «Эдвенчер» никак не касались. Легиона тоже. Легион платил за риск, за кровь и раны, но любопытства там не проявляли – ни к женам, ни к детям, ни к родителям. В лице Халлорана что-то дрогнуло. Во всяком случае, так показалось Каргину; резкие складки у губ вроде бы смягчились, померк пронзительный холодный блеск зрачков. – Пятьдесят четыре… – повторил он. – Еще молодая… Ты у нее один? Ни брата, ни сестры? Каргин покачал головой. Глаза старика чуть затуманились, веки опустились; минуту-другую он безмолвствовал, будто отыскивая что-то в памяти, перебирая прожитые годы, потом внезапно произнес: – Я был в России… когда-то, много лет назад… Москва, должно быть, изменилась… – Голос его стал тише, сухие губы едва шевелились. – Шла война, морозы стояли страшные, и голод… голод и холод правили жизнью, но жизнь остановить не удалось… нет, не удалось! Каргин и Спайдер внимали в почтительном молчании, Арада разглядывал ногти и откровенно скучал. Что было не удивительно: скорее всего, такие воспоминания ему приходилось выслушивать по десять раз с утра до вечера – ведь старики живут наполовину в прошлом. Даже железные старцы вроде Патрика Халлорана. – Шла война, но жизнь тоже шла, – промолвил он. – Помню солдат… ваших солдат и офицеров… Они любили фотографироваться на Красной площади, под стенами Кремля, у мавзолея, у собора… с девушками, с родителями, с друзьями… Этот обычай сохранился? У тебя есть снимки? – Нет, сэр. – Почему? «Стрелкам» не полагалось иметь при себе фотографий, ни снимков родителей, ни – Боже упаси! – любимой жены с детишками. Там, где они воевали, всякий снимок мог сделаться уликой или предметом шантажа, и Каргин, привыкнув к заведенному порядку, не отступал от него в Легионе. Однако разъяснять такие тонкости было нельзя, и он пожал плечами и промолвил: – Я не сентиментален, сэр. – Это хорошо. Вымолвив эти слова, старик уткнулся глазами в книгу, лежавшую на коленях, но можно было поклясться, что он не видит ни строчки; он о чем-то раздумывал, что-то прикидывал, взвешивал, соображал. На этот раз процесс размышлений был недолог и занял секунд тридцать; потом рыжие брови шевельнулись, и по этому знаку Спайдер, стоявший рядом, подтолкнул Каргина к выходу. – Иди, прогуляйся под пальмами… Я сейчас. Каргин вышел. Спустя минуту появился референт, окинул его безразличным взглядом и направился к выходу. Японец Том, телохранитель, по-прежнему дежурил за дверью, сидел на пятках с выпрямленной спиной и ладонями, прижатыми к бедрам. Глаза его были устремлены к белому облаку, похожему на гигантскую птицу, взмахнувшую крылами; то ли он любовался ею, то ли с самурайским терпением ждал, когда эта птица пролетит над головой и скроется в утренней дымке. Вздохнув, Каргин тоже взглянул на облако, осмотрел кувшинку, дремавшую в пруду, потом зашагал к дальнему краю террасы – туда, где она, закругляясь, висела над горной кручей. Это была прекрасная обзорная площадка, расположенная с умом, в самой высокой точке западного склона. Скалистая гряда, подпиравшая ее, тянулась на север и юг, затем плавно сворачивала к востоку и где-то у горизонта смыкалась в неровный базальтовый овал. Вид был знакомым и точно таким, как на снимках и компьютерных изображениях: темные стены вулканической кальдеры, ядовито-зеленый мангровый лес, пронзительная синева Нижней бухты с золотистой песчаной полоской, а чуть подальше – хаос каменистой осыпи, торчащих под невероятными углами плит и глыб, трещин, разломов и пещер. Хорошее место для игры в прятки, мелькнуло в голове у Каргина. Он повернулся, осмотрел дорожку, повисшую серой бетонной лентой на самом гребне кратерной стены. Этот тракт, петляющий среди утесов, тоже был знаком Каргину – на планах и картах он назывался Нагорным. Тут и там огражденная перилами дорога прерывалась тоннелями и металлическими мостиками, проложенными от скалы к скале; она шла от парка к голубому глазу озера, а потом спускалась к Нижней бухте и пляжным домикам. Их закрывали утесы, но озеро с округлым куполом Второго блок-поста Каргин разглядел во всех подробностях и удивился, что там отсутствуют охранники. Ни солдат, ни джипа, ни пулеметов в амбразурах… Странно! Мэлори утверждал, что на каждом блок-посту дежурят по три человека или хотя бы два, стрелок и наблюдатель… Впрочем, не его это дело, решил Каргин; ему, возможно, придется не солдатами командовать, а отстреливать попугаев да крыс в мангровом болоте. Тяжелая длань опустилась на его плечо. – Двигаем вниз, приятель! – пробасил Альф Спайдер, вытирая вспотевший лоб и посматривая на небо. – Жара… Пора пиво пить… Я ведь тебе обещал пиво, не так ли? – Определиться бы прежде, – буркнул Каргин. – Уже определились. Старик распорядился: в егеря не пойдешь, на крыс охотиться не будешь, а станешь у нас пятым. Я, Сэмми, Том, Крис и ты, – Спайдер, пересчитывая, отгибал пальцы. – Время твое – ночное, с двух до восьми утра. Сменяет Том, после – очередь Криса, а Сэмми достанется вечер… Что глядишь? Хочешь узнать, когда дежурю я? Хинштейн твою мать!.. Никак в телохранители сосватали! – подумал Каргин и выдавил: – Д-да. – От случая к случаю, – пояснил Альф с широкой улыбкой. – И знаешь, почему? Потому, что я тут босс! А босс… – …всегда прав. – О'кэй! – Он поднял указательный палец, похожий на сосиску. – О'кэй, парень! Тебя, я вижу, хорошо учили. Первый принцип во всех флотах и армиях – начальник всегда прав! А знаешь, какой второй? – Спайдер выдержал паузу и продолжил: – Не медли, если начальник зовет пить пиво! Он схватил Каргина за руку и поволок к лестнице.
Глава 7
Иннисфри, вилла и поселок; конец июня — середина июляПрошли недели три – может быть, меньше, может быть, больше. Время на острове не тянулось, а словно плелось; совсем не так, как в других местах, где оно бежало и прыгало под бичом переворотов и войн, аварий и катастроф, землетрясений и эпидемий. Здесь не случалось ровным счетом ничего. Жизнь шла по заведенному распорядку: взводы охраны сменялись на постах у пулеметов, техники копошились в мастерских, повара парили и жарили, горничные прибирали, конюхи чистили и выгуливали лошадей, матросы драили палубу яхты. Утром, ровно в восемь, когда наступал конец дежурства Каргина, на маленькой площади в середине Мэйн-стрит, между почтой и кафе, встречались трое: мистер Балмер, вице-мэр, мистер Гэри, капитан «Дункана», и Руис Акоста, просто капитан. Каргин мог разглядеть их в малый телескоп, стоявший в павильоне-обсерватории, но день ото дня ничего не менялось: три джентльмена выкуривали по сигаретке и отправлялись по боевым постам. Балмер шел к себе в контору, капитан Акоста – в штаб за зданием казармы, а Гэри неторопливо поднимался на борт, осматривал палубу и мачты, давал распоряжения матросам, а после садился в шезлонг, снимал фуражку и снова закуривал – уже не сигарету, а сигару. Тоскливая жизнь у миллиардерских слуг, думал Каргин. Хоть и спокойная, сытая, а тоскливая. Но сам он являлся таким же слугой, качком-телохранителем, и близость к священному телу патрона тут ничего не меняла. Ровным счетом ничего, за исключением сна. Спал он днем, с девяти до трех, ночью дежурил, а в остальное время большей частью маялся от безделья. Правда, платили за эту работу неплохо. Спайдер выдал ему оружие – «беретту» последней модели под девятимиллиметровый патрон и десять запасных обойм. Кроме того, полагались нож, бронежилет, бинокль и различная амуниция, комбинезоны и шорты, шляпы и башмаки, ремни и подсумки, а также сотовый мобильник с памятью на тридцать номеров. Номера были уже внесены: первым шел телефон Альфа, вторым – врача, помощника Магуара и его временного заместителя. Каргин справился, может ли звонить на материк, получил «добро» (с условием, что не раскроет места своей службы) и пару дней раздумывал, связаться ли с Кэти. Но вместо этого позвонил в Краснодар, родителям. Мать оказалась дома и, услышав его голос, всхлипнула от радости – прежде Каргин ее не баловал звонками, так как в Ялинге все переговоры были под контролем и вообще не поощрялись. Ибо семья легионера – Легион, где есть мамаши-сержанты, отцы-командиры и, разумеется, братья по оружию! – Где ты, родной? – спросила мама. – На острове, – сказал Каргин. – Чудный тропический остров, бананы валятся прямо в рот, море как парное молоко и никакой стрельбы. – Мать настороженно молчала, и он повторил: – Честное слово, никакой. Я тут секьюрити служу, у одной акулы капитализма. Работа не пыльная, и платят щедро. – А кормят как? – осведомилась мать. – Кремлевский паек отдыхает. Омары, аргентинская говядина, фруктовые соки и… ну, о бананах я уже сказал. – Для матери, прожившей жизнь в суровое время социализма, бананы являлись признаком роскоши. Она никак не могла привыкнуть, что нынче ими торгуют на каждом углу. – Жарко, сынок? – Не жарче, чем в Краснодаре. Тут микроклимат, прохладные течения, бывают дождики и ветер, а вот тайфунов вроде бы нет. Не говорили мне о тайфунах… Правда, я тут недолго, день-другой. – А где был до этого? – осторожно поинтересовалась мать. Как жена офицера с тридцатипятилетним стажем она понимала, что на такие вопросы ответ дается не всегда. – Проходил спецподготовку в Калифорнии. Тоже красивое место. Там… – Секунду Каргин размышлял, сказать ли матери о Кэти, и решил не говорить. Разволнуется, начнет расспрашивать, а как ей объяснишь, серьезно у них с Кэти или несерьезно? Определить их отношения пока что он не мог, а потому промолвил: – Там, в Калифорнии, похоже на Кавказ, горы есть и море, магнолии да пальмы. Горы, однако, пониже, чем у нас, зато пальмы повыше. И климат приятный, в горах не стреляют. Мать вроде бы успокоилась и захотела узнать, нет ли на острове тропических болезней и людоедов-туземцев, потом спросила, доволен ли сынок жильем. Каргин и на этот счет ее порадовал. Жил он, как все холостяки, в служебном флигеле, в двух просторных комнатах с удобствами, однако без роскоши, которой его побаловали на Грин-авеню. Ванна была, но не было кухни и личного бассейна, а также набитых одеждой шкафов и спальни с зеркалом на потолке; кровать оказалась самой обычной, не ложе «кинг сайз» для любовных утех, а неширокая холостяцкая койка. Правда, были тут и другие постели, рассчитанные на двоих, однако не во дворце, а в поселке. Каргин в них побывать не успел – с одной стороны, не жаловал профессионалок, с другой, еще не выветрилась память о Кэти. С ней не выдерживала конкуренции ни одна из местных сеньорит. В поселке, кроме почты, кафе и четырех разнокалиберных лавчонок, имелась пара мест, где можно было поразвлечься. Рядом с казармой – не там, где находился штаб, а поближе к дороге – стоял салун, известный как заведение доньи Каталины Соль. В нем обслуживали девушки числом шестнадцать – чикитки, как звал их Спайдер; все – завербованные в Пуэрто-Рико и все на одно лицо: темноглазые, черноволосые, с кожей цвета кофе с молоком и пухлыми яркими губами. Каргин их пока что не различал и к близким контактам не стремился. Тем более, что донья Соль ориентировалась на публику попроще – на солдат, аэродромных техников и моряков с «Дункана». Пили у нее в салуне не пиво и вино, а ром и джин, и пили крепко; случались потасовки – но, по неписанному закону, без поножовщины и пальбы. Словом, то было место не для кабальерос, к которым по должности принадлежал Каргин. Чистая публика облюбовала «Пентагон», названный так не по причине пятиугольной конфигурации, а потому, что чикиток там было пять. Немного, но, с другой стороны, и холостых джентльменов насчитывалось лишь десятка два – охранники и старшие слуги с виллы, Гэри, Балмер, три инженера и, разумеется, Акоста со своими лейтенантами. Еще захаживал Стил Тейт, шеф-повар Халлорана, бывший сержант морской пехоты, невысокий и жилистый, с огромными ухватистыми руками. Руки были у него как у Влада Перфильева, да и голос казался Каргину похожим – хриплый, клекочущий. Но годами они различались – Тейту было под шестьдесят, и в этом почтенном возрасте пиво занимало его больше чикиток. Стил Тейт, по словам Спайдера, тоже относился к «нашей компании», куда входили, вместе с поваром и телохранителями, старший садовник, конюх и шофер, он же – личный камердинер босса. Какое-то время Каргин подозревал, что этих людей объединяет страсть почесать языки за кружкой пива, но данный вывод оказался слишком преждевременным. Две силы, гражданская и военная, определяли порядок на Иннисфри, и их полагалось поддерживать в равновесии – так, чтобы мелкие ссоры и дрязги не нарушали покой или, не приведи Господь, не требовали королевского вмешательства. И Альф Спайдер, будто рессора на ухабистой дороге, гасил конфликты, судил, казнил и миловал, и узнавал о новостях из первых рук – что не мешало дружеским беседам и частымвозлияниям. Неглупый парень, размышлял о нем Каргин, прикидывая, на какой попойке ему навесят роль осведомителя. Первая неделя из истекших трех прошла повеселей – во-первых, с матерью поговорил, а, во-вторых, его водили по хозяйским апартаментам, по саду, окружавшему дворец, и лесу на западном склоне горы. В теории эти места были ему известны по фотографиям и картам, но практикой тоже не стоило пренебрегать. Хотя бы из тех соображений, что он знакомился и с островом, и с населявшими его людьми. По дворцу и саду он путешествовал со Спайдером, тогда как обзор прилегающих территорий был возложен на Тома и Сэмми. Крис, последний из секьюрити, в этом участия не принимал, так как они с Каргиным трудились в противофазе – Крису выпало дежурить в дневное время, с четырнадцати до двадцати. Это не огорчало Каргина. Крис Слейтер, угрюмый сорокалетний техасец, симпатий у него не вызывал и был к тому же на удивление неразговорчив, а если что и говорил, то понять его без переводчика было нелегко. Согласные он проглатывал, гласные тянул и не имел никакого понятия о грамматике, так как обучался не в Принстоне и Йеле, а в подразделении техасских рейнджеров. Впрочем, как утверждал Спайдер, все недоумки от Аризоны до Арканзаса так говорят – мычат, как недоенные коровы на ранчо, зато стреляют с похвальной меткостью. Экскурсия по вилле началась с осмотра первого этажа. Его северное крыло именовалось «гостевым», но там же обитали Хью и Альф – пара вельмож, прописанных в королевских покоях. Все остальные служащие жили во флигеле за скалой, напоминавшей медведя, и в возведенных для семейных пар коттеджах. В южном крыле была хозяйская трапезная, с дубовой мебелью и стенами, отделанными орехом, а дальше шел коридор, тянувшийся до самого флигеля. В него выходили двери холодильных камер, кухонь и кладовых – царство Стила Тейта, повелевавшего плитами, фризерами, посудомоечными машинами и троицей поваров. За кладовыми располагался колодец мусоропровода – прямой наклонный тоннель, пробитый в скалах и уходивший вниз метров на двести, до мангровых зарослей и болот на самом дне кальдеры. Еще имелась в коридоре металлическая дверь под кодовым замком, ведущая к лифту. Лифт предназначался для спуска в убежище – иными словами, в автономный бункер под толстым, прочным и несокрушимым базальтовым щитом. Но поглядеть на это чудо Каргину не довелось. Его провожатый лишь помянул, что запасов в убежище хватит лет на тридцать, и что внизу, с внутренней стороны кратера, есть несколько выходов с системой проложенных к ним тоннелей. Видимо, там находился целый лабиринт – катакомбы, в которых можно было отсидеться на случай ядерной войны или атаки космических пришельцев; переждать беду в покое, тишине и, разумеется, с комфортом. Каргин припомнил, что планов катакомб в его компьютере – том, на котором он разрабатывал операцию захвата – не имелось, хотя не скрывалось, что такое сооружение есть. Видимо, эти планы были одной из государственных тайн Иннисфри, недоступной для простых телохранителей. Великолепные залы и убранство второго этажа он осмотрел с полным равнодушием, проявив интерес лишь в библиотеке, продолговатом помещении, опоясанном по периметру балконом. Стен, если не считать гранитного камина, тут фактически не имелось, а все пространство от пола до потолка занимали шкафы, забитые тысячами книг, журналов, атласов кассет и видеодисков; посередине высился стол, на котором удалось бы разделать средних размеров носорога. Осмотрев все это богатство, Каргин сглотнул слюну и спросил, выдаются ли книги на дом. Скажем, любознательным секьюрити со склонностью к литературе. Спайдер изумленно воззрился на него. – Книги? Зачем тебе книги, приятель? – Картинки люблю разглядывать, – буркнул Каргин. – Девочек? – Нет. Морские пейзажи. Вздохнув, Альф почесал в затылке. – Загадочная русская душа… Значит, морских пейзажей тебе здесь не хватает… Нормальные парни смотрят в «Плейбое» на голых телок, а вам пейзажи подавай… – Ментальность у нас другая, – пояснил Каргин. – Семьдесят лет социализма плюс изучение марксистско-ленинской теории… Это, знаешь ли, угнетает половой инстинкт. – То-то, смотрю, ты на чикиток не прыгаешь, – ухмыльнулся Спайдер, но заходить в библиотеку разрешил. Пентхауз с личными покоями Халлорана они осмотрели с особым тщанием, как два генерала, изучающих оборонительные рубежи. На эспланаду можно было подняться по лестницам с обеих сторон от верхней надстройки, делившейся примерно пополам: северная половина – для служебных дел, а в южной находились спальня старика, процедурная с кучей медицинской аппаратуры, гостиная и кабинет, в котором Каргин уже побывал. В процедурной днем дежурили врач или медсестра, а в служебной половине был оборудован аналитический центр с телетайпами, компьютерами, ксероксами и печью-сейфом, служившим для уничтожения документов и дискет. Здесь, с десяти до восемнадцати, сидели пять референтов-секретарей, трудившихся под недреманным оком тощего Хью; здесь, среди мерцающих экранов и шороха бумаг, под торчавшей на крыше антенной, таился мозг халлорановой империи; здесь решали, что и кому продавать, что у кого покупать, какие войны будут выиграны, какие страны обратятся в прах, где президенты сменят королей и где короли повесят президентов. Одно из немногих тайных мест, вершивших судьбы мира; магическая точка, где деньги, превратившись на мгновенье в авиационные полки, артиллерийские дивизионы, флотилии и танковые корпуса, оборачивались еще большими деньгами. Гадючье гнездо, нора пауков, думал Каргин, разглядывая помещение с широкими окнами и вслушиваясь в мягкий шелест телетайпов. Он напоминал тот звук, с каким сухая земля сыпется в яму, скрывая под бурой своей пеленой и мертвых, и живых. Низко нависшие тучи, яма в неприветливых горах, и люди с карабинами над ней… Дорога к югу от Киншасы, горящие бронемашины и поле, заваленное трупами… Еще – африканская знойная степь, свежеотрытый окопчик с торчащим вверх минометным стволом, визг налетающего снаряда… Гнилые зангольские джунгли, чернокожий солдат, кургузый «узи» в его руках… Все – отсюда, мелькнула мысль; все, что целилось в него и извергало огонь и смерть, явилось из этой комнаты, где окна были увиты зеленью и по компьютерным экранам неспешно и мирно скользили столбики цифр. Впрочем, если не вспоминать о мрачных снах, это его не касалось. Сам он ничем не торговал и даже, на нынешнем своем посту, не убивал и не командовал солдатами; он был всего лишь стражем, охранником главной гадюки. Или паука… Тихое место, тихая жизнь на райском острове… Именины сердца, отдохновение души, отпуск с приличным содержанием… Счастье! Туз из рукава, да еще козырный!.. Странно, что выпал ему, а не кому-то из своих, поближе, из Калифорнии, Огайо либо Техаса… Ну, что выпало, то выпало, и повода для огорчений нет. Даже утешиться можно: лучше ходить в телохранителях у Халлорана, чем у московских мафиози. Не говоря уж про Легион… Служба и в самом деле была непыльной. Без четверти два Каргин натягивал комбинезон, брал бинокль, подвешивал к поясу нож, мобильник и две кобуры, с сюрикенами и «береттой», затем, миновав коридор, ведущий к вилле, взбирался на эспланаду. Считалось хорошим тоном являться на пост заранее и покидать его не сразу, а лишь поболтав со сменщиком и обменявшись новостями, если таковые были. Каргин традицию не нарушал, хотя разговоры с Сэмми сводились к обмену сплетнями, солдатскими анекдотами да спорам о преимуществах «магнума» перед «береттой». Что до японца Тома, то он к оружию был равнодушен и оказался гораздо более интересным собеседником, тонким ценителем и знатоком танка и хокку.[260] С ним было о чем потолковать, и всякий утренний разговор имел продолжение – в дневной либо вечерний час, когда они бродили по склонам кратера. Ночные дежурства Каргина не утомляли. Распорядок их был несложен: во-первых, ему полагалось глядеть в три глаза, а во-вторых, каждые тридцать минут приближаться к спальне и слушать, как дышит хозяин: если неровно и с хрипами – вызвать врача, а ежели стонет – будить и действовать по обстановке. Еще – контролировать двери на лестничных площадках, пролетом ниже эспланады. При запертых дверях забраться в пентхауз мог только альпинист или десантник с вертолета, что, в принципе, не исключалось; тогда обязанности были таковы: включить сигнал тревоги, стрелять на поражение и защищать хозяйскую спальню до последнего вздоха и капли крови. Помощь являлась через пару минут – Спайдер с остальными телохранителями и солдаты с Седьмого блок-поста, расположенного рядом с виллой. Однако ночи проходили спокойно, террористы-альпинисты Каргину не докучали и не мешали любоваться звездным небом, пальмами в подсветке ярких ламп и амазонской кувшинкой, дремавшей посреди пруда. Временами он подходил к павильону, заглядывал в телескопы – в большой, нацеленный в пространство, в безбрежную космическую даль, и в малый, глядевший на берег залива. Этот можно было двигать на треноге, рассматривать башню маяка, яхту, мол и освещенные фонарями коттеджи. Насколько он мог разобрать, там не случалось ровным счетом никаких событий и ничего не дергалось, не шевелилось, кроме антенны радара над Третьим блок-постом. Другим источником развлечений была овальная чаша кратера. Стоя над обрывом, он всматривался в темноту и слушал, пытаясь угадать, кто там шелестит среди ветвей, шуршит, попискивает, булькает. Птицы?.. Крысы?.. Жабы?.. Помимо этого зверья, в манграх обитали ящерицы, жуки и бабочки, а в пещерах – летучие мыши, страшные видом, но безголосые и безобидные. Скорее всего, булькали жабы, а пищали и шуршали крысы, пировавшие на свалке – там, у подножия скал, под жерлом мусоропровода. К джунглям у Каргина было двойственное отношение. В заирских и ангольских лесах он поползал изрядно и полагал, что лучшего укрытия в мире не найти – в том случае, когда отступаешь, таишься и прячешься. Но при иных тактических задачах – к примеру, если приходилось выбивать из джунглей партизан – лес оборачивался не союзником, а безжалостным врагом. Прятал он хорошо, капитально, но ничего не отдавал. Вернее, был не прочь отдать, но по своей цене: три жизни за одну. В этом смысле из всех разнообразных мест и территорий, где воевал Каргин, лишь тайга могла сравниться с джунглями. Но в тайге, российской или канадской, полномасштабные войсковые операции не проводились – ни разу за всю историю цивилизации. Тайга являлась заповедником мира, если не считать рейдов в чащи, облюбованные контрабандистами, или облавы на сбежавших зэков, как в девяносто третьем, под Жиганском. Тогда убили Николая, каргинского дружка – пуля из обреза разворотила затылок, крикнуть не успел… Временами, глядя во тьму, Каргин прокручивал в памяти скорбный список погибших. Не столь уж длинный, однако и не короткий; и странным было то, что большей частью гибли «стрелки» не за бугром, не в чуждых городах и весях, а в матушке-России. Друг Колька – в жиганских болотах, Валентин – в Чечне, Юра Мельниченко – в Карабахе, а Паша Нилин – в Дагестане, все трое – в девяносто пятом; потом погибли сразу четверо – в Москве, при невыясненных обстоятельствах. Еще вспоминал он о Владе Перфильеве с его охранным бизнесом – жив ли, здоров?.. В московские суматошные дни как-то не выбрал минуты, чтобы ему позвонить, а связываться с острова нелепо: Перфильич – не мать с отцом, которым хватит сыновнего слова. С Перфильичем за чаркой нужно встретиться, поговорить, поведать, как воюют в Легионе, порасспросить, какие у «варягов» перспективы… Иначе обидится: что с Тихого океана трезвонишь!.. был в Москве, а до меня не добрался!.. Мысли тянулись, время двигалось, секунды ползли цепочкой змеек, вцепившихся в хвосты друг другу, потом небосклон начинал сереть, меркли колючие точечки звезд, и это было признаком рассвета. Старый Патрик просыпался ранним утром, без четверти пять, когда заря еще не занялась. Вставал он не по-стариковски быстро, натягивал ярко-красный спортивный костюм, пил сок и, появившись на террасе, небрежно кивал Каргину. В этот момент полагалось разблокировать двери. За одной из них уже переминался Спайдер – тоже в спортивном трико, но синего цвета, с изображением пумы между лопатками. Они спускались вниз, к скале, напоминавшей присевшего медведя, и тут Каргин минуты на три-четыре терял их из поля зрения. Потом фигурки возникали вновь – у тоннеля, откуда выныривал Нагорный тракт – и, шустро перебирая ногами, мчались к озеру и серому яйцеобразному куполу Второго блок-поста. Два километра в одну сторону, два – в другую. Разглядеть их в предрассветных сумерках было делом нелегким, но тут помогал телескоп: десять минут Каргин мог любоваться на их затылки и еще пятнадцать – на лица. Возвращались бегуны помедленней, хоть признаков усталости у Халлорана не замечалось никаких. Потом он плавал в бассейне, принимал душ, завтракал в компании Спайдера и Арады и ровно в шесть тридцать поднимался к себе. Время до десяти утра предназначалось для чтения; затем – ланч, работа с референтами до трех, обед и, если бизнес не поджимал, прогулка в парке, конный променад в окрестностях либо поездка на пляж, в Нижнюю бухту. Ужинал босс в восемь, а в десять ложился спать. Этот промежуток, по словам дежурившего вечером Сэмми, был посвящен изучению звездных небес либо карточной игре. В большой телескоп Халлоран любовался величием Галактики, обозревая ее периферию и звезды Млечного Пути, а играл неизменно в бридж, и партнеры его были неизменными – Хью Арада и Спайдер. Министры внешних и внутренних дел в негласной иерархии Иннисфри. Внутренние дела касались покоя и монаршей безопасности, а внешнее было одно – бизнес. Вероятно, тощий Хью разбирался в нем получше Бобби Паркера и был в халлорановом королевстве столь же весомой фигурой, как коммодор Мэлори и финансовый гений Брайан Ченнинг. Во всяком случае, так представлялось Каргину, хотя с Арадой он не контактировал. Похоже, с ним не контактировал никто, кроме патрона, Спайдера и подчиненных аргентинцу служащих. Судьба их была незавидной: Арада казался человеком замкнутым, высокомерным и промороженным, словно бифштекс из мамонта, скончавшегося в ледниковую эпоху. Таким же, по мнению Каргина, был и сам Халлоран. Сходство их характеров и нравов казалось почти мистическим и не случайным; то ли старик подобрал Араду в процессе долгих поисков, то ли имелись иные обстоятельства и связи, тянувшиеся с тех еще времен, когда Халлорана назначили консулом в Аргентине. Во всяком случае, по возрасту Арада годился ему в сыновья, а медный отлив шевелюры Хью и серо-зеленые зрачки наводили на некоторые подозрения. Случалось, старик был разговорчивей обычного – опять вспоминал войну и годы, проведенных в Москве, бомбежки и артобстрелы, темное небо, гул самолетов, пронзительный вой сирен, а временами вдруг принимался расспрашивать Каргина об Африке и о России, о Легионе и делах семейных, о матери и об отце – где познакомились они и как, в каких местах служил отец и до чего дослужился. Однажды приказал найти в библиотеке книгу, большой альбом с московскими видами, и долго изучал его, припоминая, что было полвека назад на месте тех или иных строений, и требовал от Каргина подробностей – что тут за улица, какая площадь и почему на месте церкви сквер. Каргин не смог дать объяснений и признался, что хоть москвич наполовину, по матери и бабке Тоне, непутевой переводчице, но детство провел не в Москве и с городом знаком неважно. Казалось, этот ответ удовлетворил Халлорана; кивнув, он снова принялся листать альбом. Такие беседы бывали не часто, но и не редко, раз в три-четыре дня. Какой-то закономерности в них не ощущалось; старик их начинал и обрывал по настроению, и темы тоже были случайными. Быть может, он просто нуждался в новизне, в каких-то новых собеседниках и свежих людях, с коими стоит потолковать не о делах, не о военном бизнесе, а о чем-то отвлеченном и совсем ином; вспомнить ли молодость и повздыхать о безвозвратно ушедшем, расслабиться, поспорить, расспросить. Но расслаблялся и вздыхал старик не часто, можно сказать – никогда; обычно спорил, поучал, расспрашивал. Характер кремень, думал Каргин, припоминая после эти разговоры. Однажды, оторвавшись от книги, Патрик ткнул костистым пальцем в берет Каргина: – На свалке подобрал? Зачем таскаешь? – Реликвия, сэр, – откликнулся Каргин. – Счастливый амулет. – Ты веришь в этакую чушь? Ну, и много принес он счастья? – Много, и не только мне. Главное, сэр, я жив. И жив отец. Берет был отцовским, прошедшим афганскую кампанию, ни разу не пробитым пулей, не посеченным осколками. Даже во время бомбежки под Сараевым его не задело, так что у веры Каргина имелись кое-какие основания. Старик хмыкнул и в очередной раз принялся расспрашивать об отце – какого тот рода-племени, где воевал, чем награжден и за какие подвиги произведен в генералы. Узнав о казачьем происхождении Каргиных, приподнял рыжую бровь, проскрипел: – Казаки – из беглых русских каторжников? Изгои, разбойники и неплательщики долгов? Судя по тону, последнее из этих преступлений казалось ему самым чудовищным. – Можно и так сказать, – кивнул Каргин, – но время те долги списало. Время, честный труд и пролитая кровь… – Он вдруг ухмыльнулся и добавил: – В Австралии тоже живут потомки каторжан, однако народ вполне миролюбивый и приличный. Или взять ирландских эмигрантов… тех, что бежали в Штаты, за неимением Дона, Кубани и Сибири… Те же казаки, изгои и разбойники… Разве не так, сэр? Морщины на лице Патрика сделались резче, на висках вздулись и запульсировали синие жилки. – Что ты знаешь об ирландцах, идиот? – каркнул он. – Ирландцы – великое древнее племя! Не выскочки-саксы и не славянские недоумки! Воины, не разбойники! Люди, чтившие Библию, потомки кельтов, владевших Европой… – Голос его стал глуше и тише, морщины разгладились. – Каждый ирландец – эрл, человек благородной крови… каждый, в ком есть хоть капля… Внезапно старик смолк, потом, не глядя на Каргина, заговорил опять – резко, отрывисто, короткими рубленными фразами, будто с усилием проталкивая их сквозь узкую щель рта. То была сага о семействе Халлоранов – о пращуре, переселившемся за океан и сгинувшем в схватке с британцами, о Бойнри Халлоране, воителе и основателе ХАК, о Шоне и Кевине, ловких дельцах, и о самом Патрике, сорок без малого лет возглавлявшем семейный бизнес. Еще говорил он о том, что всякому делу нужен хозяин с твердой рукой, железной волей и сильным духом; человек, который не ведает жалости и не боится крови, способный утвердить себя и отстоять принадлежащее ему богатство. Не только отстоять и сохранить, но приумножить! Ибо в богатстве – могущество, сила и власть, а они нуждаются в непрестанном приумножении. Таков их смысл в современном мире, где много разных сил и множество рвущихся к власти; поэтому сила, которую не растят, оборачивается слабостью, а власть, которую не умножают – потерей влияния и безвластием. Не об этом ли толковала Кэти? – подумал Каргин. Слова старика: отстоять, сохранить, приумножить!.. – звучали в его ушах грохотом артиллерийских залпов. Видно, тема была больной для Халлорана, и что-то за всеми этими рассуждениями стояло – что-то конкретное, связанное с дальнейшим сохранением и приумножением. Бобби, наследник… – мелькнула мысль. Любитель патронов большого калибра, больших машин и толстых задниц… Может, он не боялся крови, не ведал жалости, но вряд ли был человеком с твердой рукой и железной волей, достойным своих ирландских предков. Тех, что приумножали силу, богатство и власть уже второе столетие. Глупец, фанфарон и самовлюбленный идиот, сказала Кэти… Видимо, были к тому основания, и старый Патрик знал о них. Может быть, знал и больше – скажем, о мишенях, в которые палят его наследнички. Сдохнет волк, и все достанется шакалам, не без злорадсва подумал Каргин и, дождавшись паузы, пробормотал: – Ваш племянник, сэр, мистер Роберт Паркер… Я познакомился с ним во Фриско. Очень энергичный джентльмен и превосходный стрелок. Тверд во всех телесных членах. Губы старика сжались, на впалых щеках заходили желваки. С минуту он сидел, уставившись в раскрытый на коленях фолиант, потом откинулся в кресле и прикрыл глаза. Веки у него были морщинистые, с редкими рыжеватыми ресницами. – Порченая кровь… – донеслось до Каргина. – Порченая, в этом-то все дело… кровь проклятого англосакса… деньги промотал и бросил дурочку с двумя щенками… Были б еще щенки породистые!.. Так нет… Каков кобель, такие и его ублюдки… Вероятно, речь шла о супруге Оливии, сестры Патрика, и данный отзыв не предназначался для чужих ушей. Подумав об этом, Каргин бесшумно выскользнул из комнаты и поглядел на часы. Без трех восемь… Солнце уже поднялось над иззубренной восточной стеной кратера, безоблачные небеса сияли яркой синью. На лестнице послышался шорох, затем возникла черноволосая макушка Томо Тэрумото. Быстрым скользящим шагом он приблизился к Каргину, сложил руки перед грудью, поклонился. – Саенара, Том. – Саенара, Керк-сан. Как прошла ночь? Все спокойно? – Спокойней не бывает. – Как уважаемый сэр Патрик? – Предается воспоминаниям. Думает об ошибках юности, и потому слегка раздражен. – Не суди его строго, Керк-сан. Он стар, а у старости есть свои привилегии. И главная из них – право на понимание и жалость… – Японец вздохнул и опустился на пятки у дверей пентхауза. – Знаешь, был у нас поэт, Исикава Такубоку… хороший поэт, только умер совсем молодым… и говорил он так… – Снова вздохнув, Том прищурился на солнце и прочитал:
Глава 8
Иннисфри, вилла, Нагорный тракт и пляж у Лоу бей; 14–21 июляПредчувствие не обмануло Каргина. Из троицы гостей самым тихим оказался Мэнни. Вставал он не раньше полудня, но этот акт был чисто символическим и означал, что он перебирается с постели на лежак к бассейну. Здесь, за рощей кипарисов, укрывшись в их густых тенях, Мэнни проводил часы от завтрака до ланча, от ланча до обеда, и от обеда до ужина; то ли спал, то ли мечтал с открытыми глазами. Склонность к горизонтальной позе была, вероятно, заложена в нем генетически, как и другие привычки, о коих в приличном обществе не говорят. Но вряд ли мечтательная пассивность огурца, произрастающего в теплице, была характерной для любого гея. Боб Паркер, например, кипел как перегретый чайник, полный кипятка, и эта злобная энергия взывала к осторожности. Он был постоянно недоволен – конюхом, который заседлал не ту кобылу, официантом, подавшим тарелку не с той стороны, горничной, смахнувшей пыль с оружейного ящика, и, наконец, капитаном «Дункана» – тот во время морской прогулки не разрешил поднять на палубу подстреленных акул. Главным же поводом к недовольству были не конюхи и слуги, не мистер Гэри и не пилот, которого Бобби поучал, как управлять вертолетом, но аргентинец Хью Арада. Казалось, их обуревает неприязнь столь же прочная, как между грифом и шакалом, не поделившими падали, но проявлялась она по-разному: Боб язвил и не стеснялся давить на мозоли, а референт был сдержан и холоден точно снега Килиманджаро. При всем, при том он увивался за Мэри-Энн и делал это с испанским изяществом и галантностью: хоть серенад не пел, однако цветы, прогулки под луной и пламенные взоры были в полном комплекте. Правда, Каргин сомневался, что этот сушеный лещ действует по склонности, а не по расчету, но Нэнси вроде поощряла его старания – может, с намерением братца позлить, а может, Хью ее забавлял. От Боба Каргин держался подальше, из общих стратегических соображений, а еще по той причине, что вспоминать об их стрелковом состязании в «Старом Пью» как-то не хотелось. Уж больно опасные были мишени! Наследный принц мог получить за эти шалости всего лишь выволочку, а мушкетер короля – расчет без всяких выходных пособий. Что Каргину совсем не улыбалось. Само собой, не в интересах Бобби хвастать, когда и с кем дырявили физиономию дядюшке, однако стоило учесть, что мистер Паркер – человек неординарный. С особой сексуальной ориентацией, проще говоря. Такие типы слишком неуравновешены и импульсивны, болтливы и ненадежны – так, во всяком случае, предполагал Каргин. Данный тезис являлся чисто теоретическим, ибо с «голубыми» ему общаться не приходилось; к «Стреле» их, разумеется, не подпускали на дух, да и к Легиону тоже. В рязанском училище вроде сыскался один, но все, что помнилось по этому поводу, было весьма неприятным, если не сказать трагичным: парня били смертным боем и через месяц отчислили. Итак, он старался не попадаться Бобу на глаза, и, вероятно, эта тактика была взаимной: Боб его тоже не замечал, как бы по молчаливому уговору. Однако Мэри-Энн тот уговор не касался. На третий день после прибытия гостей Каргин сидел в баре служебного корпуса и пил пиво. Датское пиво, немецкое, английское – запасы были неисчерпаемы, янтарная жидкость струилась рекой и с хищным шипеньем вздымалась шапками пены поверх бокалов. Пиво уже текло у Каргина из ушей и булькало в животе, но отказаться он никак не мог, не потеряв престижа в «нашей компании». Впрочем, сидели хорошо, травили в очередь анекдоты, а рассказавший подержанный пил штрафную кружку – кварту, что в нормальной системе мер составляло около литра. Каргин пока обходился без штрафных, учитывая новизну российского армейского фольклора для местной публики – даже бородатая повесть про напророчившего мину боцмана и его дурацкие шуточки не вызывала тут нареканий. Что до любимой истории майора Толпыго, так она вообще прошла на бис и ура, под громкий хохот всей компании. История была такой: справлял генерал именины, всех офицеров пригласил, а они, как водится, перепились, набезобразили и утром очнулись на губе. Сидят и каются друг другу: кто дочку генерала изнасиловал, кто в пианино помочился, кто влез на люстру с голым задом, бил головой о потолок и кричал, что он райская птичка. Тут приходит генерал, велит построиться, глядит на офицеров грозно и рычит: «Ну, пьянчуги, признавайтесь! Кто ковырял вилкой под хвостом у моего любимого попугая?» Эту историю Каргин как раз и пересказывал вторично, когда в дверях возникла Нэнси. За ее спиной маячила тощая фигура Хью. Девушка оглядела сидящих за столом – ухмылявшегося Спайдера, Тома, Сэмми, Стила Тейта и Каргина; затем, ткнув в него пальцем, промолвила: – Вот этот! Хью, без большой радости в голосе, пояснил: – Сеньорита желает искупаться в Лоу бей. Прогулка на лошадях до пляжа по Нагорному тракту с надежным сопровождающим. Мистер Спайдер, распорядитесь. – Уже распорядился, – пробасил тот, вставая с улыбкой от уха до уха. – Лучший спутник для сеньориты – папа Альф!Во-первых, полная гарантия надежности, а во-вторых, если кобылка заартачится, сеньорита может оседлать меня. В любом удобном месте. Но у Мэри-Энн были свои соображения кого и где седлать. Кивнув на Каргина, она с капризным видом притопнула ножкой: – Сказано, хочу вот этого! Щеки Тома порозовели, Сэмми хихикнул, а Спайдер развел руками: – Блаженны ничего не ждущие, ибо они не обманутся… Собирайся, парень! – Слушаюсь, сэр, – сказал Каргин и с неохотой поднялся. Пиво бултыхалось в его желудке, тянуло книзу. Он коснулся живота, пробормотал: – Один момент… сбегаю за оружием и боеприпасами… – На полную обойму заряди! – рявкнул Спайдер ему вслед. Сэмми и Тейт расхохотались. Через пять минут Каргин был у конюшни, где Дуган, старший конюх, держал под уздцы двух лошадей – породистую вороную кобылку и мышастого мерина. Хью с непроницаемым видом следил, как Мэри-Энн устраивается в седле. Ее рыжие волосы были распущены, короткая юбка не закрывала колен, под розовой маечкой подрагивали полные груди. Что за пристрастие к ярким оттенкам… – раздраженно подумал Каргин. Сам он предпочитал камуфляж и хаки, а в цивильном платье – благородный серый цвет. Нэнси подмигнула ему. – Ездить умеешь, киллер? – Как-нибудь справлюсь. – Он вскочил в седло, не коснувшись стремени. Казацкая наука, преподанная отцом… Мышастый это почуял и с одобрением фыркнул. – В бухту заплывают акулы и скаты, – произнес Хью, мрачно уставившись на Каргина. – Будьте повнимательней. Как вас?.. Керк?.. – Да. – Так вот, Керк, не спускайте с сеньориты глаз. Я слышал, вы хорошо стреляете? Надеюсь, не только в тире, но также по живым мишеням? – Да он ведь киллер! Руки по локоть в крови! – Дернув повод, Мэри-Энн послала кобылу рысью. Дуган еле успел отскочить. Они промчались мимо служебного флигеля, затем – по пандусу, который круто взбирался наверх, к Нагорному тракту. Там вороная перешла в галоп. Мышастый, грохоча копытами, ринулся следом, но, ощутив твердую руку Каргина, отстал на половину корпуса. Ветер хлестнул всадникам в лицо, волосы девушки взвихрились, короткая юбка вздулась пузырем; сейчас она напоминала ведьму, летевшую на шабаш. Не иначе, как к самому Сатане. Тьма, свет, тоннель, мостик, снова тоннель… Солнце бьет в глаза, щекочет шею теплыми лучами… Слева – провал, изумрудная зелень болот и мангров, скалы на далеком горизонте; справа – стекающий вниз горный склон, синяя ленточка реки, поселок с маяком среди прибрежных пальм и бухта – словно разинутый рыбий рот. Впереди – рыжая ведьма на черном коне… Промелькнули горное озеро, купол Второго поста и водопад, питавший реку. Перестук копыт делался то глуше, то звонче, асфальт сменяли горбатые гулкие спины мостов, тяжелый пистолет в кобуре хлопал Каргина по бедру, серый ковер дороги разворачивался все быстрей, все стремительней, и казалось, что в очередном прыжке кони взлетят в воздух, проплывут в нем и рухнут без всплеска и фонтанов брызг в океанскую синь. Как бы в самом деле куда-нибудь не рухнуть, забеспокоился Каргин, но у дорожной развилки вороная сбавила ход и, пофыркивая, начала спускаться по серпантину на пляж. Пришпорив мерина, Каргин поравнялся с девушкой. Ее глаза сияли чистым изумрудом, бледные щеки разрумянились, и веснушки у вздернутого носика стали почти незаметны. С ним была другая Мэри-Энн, абсолютно трезвая и лет на пять помладше рыжей стервы из «Старого Пью». Может быть, на все десять. – Скучал, ковбой? – Нэнси лукаво покосилась на него. – Не было повода, сестренка. Служба дни и ночи, – отозвался Каргин. – Служба? Вот как? А я-то думала, в этой дыре только и делают, что скучают. – Ну, отчего же? Кроме службы тут масса интересных занятий. Можно на звезды глядеть, выслеживать космических пришельцев, можно пиво пить или охотиться на крыс… Еще – присматривать за твоим дядюшкой. – И как тебе дядюшка? Неопределенно пожав плечами, Каргин произнес: – А что? Дядюшка вполне о'кей… Пожилой джентльмен, но в хорошей физической форме. Правда, слегка суховат… Но это уж проблема его племянников и племянниц. Ответная реплика Мэри-Энн была выразительной, но неразборчивой. Лошади спускались вниз, поматывали головами, шли неторопливо, будто давая всадникам время поговорить. Над дорогой смыкались ветви деревьев, ее асфальтная лента была перечеркнута тенями и походила на блеклую мозаику из серых и черных пятен. – Моей матери, Оливии Халлоран, по завещанию деда досталась шестая часть фамильного состояния. Остальное, конечно, унаследовал дядюшка, – вдруг сказала Мэри-Энн. – Потом мама вышла замуж за Джеффри Паркера, нашего с Бобом отца… за англичанина… Но это было не единственным его грехом. Каргин не произнес ни слова, с невозмутимым видом разглядывая холку мерина. Вероятно, в семье Халлоранов имелись свои счеты, но он не горел желанием в них разбираться. Как говорят британцы, у каждого свой скелет в шкафу. – Отцу хотелось участвовать в делах компании… – Взгляд Мэри-Энн скользил по резным кронам дубов и сейб. – Его право, верно? Как ты считаешь, Керк? Все-таки член семейства и крупный акционер… Но дядюшка не признает компаньонов. Особенно тех, которые любят противоречить и спорить… Таких он гнет в бараний рог. Так ли, иначе, но сгибает. Учти, ковбой: он – великий мастер сыграть на человеческих слабостях. – А слабости были? – с вежливым интересом спросил Каргин. – Были. Отец… он… он увлекался женщинами. Дядюшка это поощрял… не сам, конечно, через десятые руки. И все записывалось, фиксировалось на пленке и подшивалось к делу. Два года или три, а может, все четыре… Не знаю. Я была слишком мала. Потом… Ну, ты понимаешь, что случилось потом. – Сообщили матери? Она кивнула. – Да. Но сразу они не разошлись. Ссорились долго, скандалили… Мать отобрала у отца доверенность на управление имуществом и тем пакетом акций, который ей принадлежал. Деньги, однако, давала… а может, дядюшка Патрик старался… Отец их проматывал, мать запила, оба ругались из-за детей, из-за нас с Бобом, и оба звали меня Нэнси, – Мэри-Энн зябко передернула плечами. – Ненавижу это имя! И ненавижу вспоминать о детстве! Богатые тоже плачут, подумалось Каргину. Пожалуй, счастье, что он небогат, да и отец ничего не выслужил, кроме ран, двухкомнатной квартиры и дюжины орденов. Богатство висит над человеком темной тучей, бросая тень на самое святое, на родственные чувства, на любовь. Вот и Кэти, ласточка… Всем девушка хороша, однако богатого ей подавай! Подумав об этом, Каргин ощутил раздражение и – неожиданно – укол боли. Стиснув зубы, он посмотрел вперед. Спуск закончился, и дорога уходила в заросли, подступавшие к пляжу сплошной зеленой стеной. Воздух тут был душноватым и пряным; морские соленые запахи смешивались с влажными испарениями мангр. Солнце еще висело высоко, не доставая пару ладоней до причудливых скал Хаоса. Чтобы изгнать мысли о Кэти, Каргин сделал глубокий вдох, расслабился и заглянул в лицо девушки. – Где же теперь твой отец? По-прежнему проматывает деньги? – Нет. Он умер. Лет через пять после разрыва с матерью. – А с нею что? – Она в Санта-Кларе, в лечебнице… Клиника «Рест энд квайет»… так мы ее называем – клиника. А в сущности – психушка для богатых. «Покой и тишина», мысленно перевел Каргин, а вслух спросил: – Поэтому ты и живешь в «Эстаде»? С братом? Губы Мэри-Энн скривились, словно в рот ей попало что-то кислое. – С ним живет Мэнни… ну, и другие из клуба «Под голубой луной». А я так, навещаю… У меня квартира в Нью-Йорке, на Мэдисон авеню. Подарок щедрого дядюшки. – Могла бы не принимать такие подарки, – заметил Каргин. – Как-никак, шестая часть фамильного состояния – за вами. Нэнси замотала головой, рыжие волосы разлетелись, вспыхнули на свету огненными нитями. – Уже нет. Если ты, ковбой, имеешь на меня виды, то учти: я сижу в кармане у старого козла. Все мы там сидим – и я, и мама, и Бобби… Бобби – глубже всех. – Почему? – Потому, что хочет больше. И думает, что все получит. Деньги, могущество, власть… – Разве не так? – Так, не так… Не знаю. – Мэри-Энн поморщилась. – А знаю одно: все проекты дядюшки насчет Боба терпели крах. Полное фиаско! А такой, какой он есть, он Патрику не нужен. – Насчет тебя тоже есть проекты? – Сомневаюсь, Керк. Наследственность у меня неважная. Пью, как мать, гуляю, как отец… В общем, я не пай-девочка и никогда не пела в церковном хоре. – Это я заметил, – откликнулся Каргин. Они выехали на тянувшуюся вдоль бухты полосу песка. Ветра не было, и тент, закрепленный меж пляжными домиками, уныло провис над полукругом шезлонгов. Поверхность бухты казалась недвижной как полированный лазуритовый стол; блики солнца дробили ее внезапными вспышками-взрывами. – Ну-ка, сними меня, – сказала Мэри-Энн, когда лошади остановились у помоста. Вороная косила на мерина огненным глазом, но тот, опустив голову, равнодушно уставился в песок. Спешившись, Каргин обхватил талию девушки, поднял ее, осторожно извлек из седла. На этот раз он не почувствовал запаха спиртного – ароматы были совсем другими, сладкими, волнующими. Так пахло молодое желанное женское тело… плоть, разгоряченная скачкой и солнцем… так пахла Кэти в их последний вечер… Наверное, что-то дрогнуло в его лице при этой мысли – Мэри-Энн, отступив на шаг и искоса поглядывая на Каргина, принялась с неторопливостью разоблачаться. Под майкой у нее не было ровным счетом ничего, да и под юбкой тоже, если не считать треугольного клочка ткани, который держался на тонком шнурке. Сдернув его, она отступила подальше – так, что лопатки уперлись в решетчатую стенку домика – привстала на носках, потом, будто балерина, вытянула ногу и согнула ее в колене. Кожа у нее была на удивление белая, только лицо и шея тронуты легким загаром. – Раздевайся, киллер… И погляди, какие ножки… – Хорошие ножки, – согласился Каргин. – Жаль, если их оттяпает акула. Поэтому лезь в воду, а я уж, не раздеваясь, постою на бережку. Вот с этим, – он похлопал по кобуре. – Я сюда не купаться приехала. Купаюсь я обычно в ванне, – призналась Мэри-Энн и, оторвавшись от стены, шагнула к нему. – Ты когда в последний раз занимался сексом? И с кем? С потаскушками из «Пентагона»? В очередь с папой Альфом? – А что, там неплохие девушки… – пробормотал Каргин, чувствуя, как тонкие ловкие пальцы расстегивают поясной ремень. Личико Кэти мелькнуло перед ним, в ее глазах застыла укоризна, но он поспешил прогнать это видение. Призрак прошлого, не больше… Он ничего не обещал, она не обещала… Пояс свалился вместе с кобурой, грохнув о доски, и пришел черед молнии на комбинезоне. Удобная одежка; одевается быстро, снимается еще быстрей. Особенно если есть помощник. От башмаков и берета он избавился сам. Губы Мэри-Энн были горячими и влажными. Он приподнял ее, раздвигая бедра, касаясь лицом полной упругой груди. Мышцы под нежной кожей напряглись, потом – будто поверив, что держат крепко, не уронят – девушка расслабилась, вздохнула и закрыла глаза. Ее ноготки царапали спину, но Каргин уже не ощущал ни боли, ни тяжести приникшего к нему тела. Оно казалось легким, хрупким и, в то же время, пленительно округлым; теплая спелая плоть, кружившая голову почти неуловимыми, но знакомыми запахами. Чем-то сладким и горьковатым… Запах Кэти?.. Или аромат магнолий в дворцовом саду?.. Он повернулся и, не прекращая сильных ритмичных движений, прижал Мэри-Энн к решетчатой деревянной стене. Она вскрикнула; кольца обхвативших его рук и ног сделались крепче, теснее, на висках у нее выступил пот, острые зубки впились в шею под ухом. «Вампиров просят не беспокоиться», – пробормотал Каргин, запустив пальцы в ее локоны и заставляя откинуть рыжеволосую головку. Теперь Мэри-Энн стонала и всхлипывала все громче, и, будто аккопанируя этим звукам, вороная ответила негромким ржанием. Дыхание девушки стало горячим, прерывистым – будто жаркий ветер, скользнувший сквозь рощу магнолий, впитавший их запах, овеял лицо Каргина. Он стиснул челюсти, выгнулся в пояснице и тоже застонал – коротко, глухо. Потом, ощутив, как обмякло тело Мэри-Энн, с осторожностью опустил ее на пол. Минуту-другую она глубоко дышала, полузакрыв глаза и прижимая к груди ладошку с тонкими хрупкими пальцами. Каргин, отвернувшись, натягивал комбинезон. Он не испытывал ни укоров совести, ни смятения; может быть, лишь проблеск нежности, какую чувствует мужчина к женщине, отдавшейся по собственному, явному и очевидному желанию. Но по прежним опытам он знал, что чувство это преходяще, ибо за ним стояла физиология, а не любовь; то, что на английском называют коротким емким термином – секс. Такое слово имелось и в родном языке, но в нем ему придавали иной оттенок, отчасти постыдный, отчасти связанный с медицинской практикой. И потому, если б Каргин пожелал перевести это слово с английского либо французского, самым удобным эквивалентом стал бы такой: встретились – разбежались. Как с Кэти?.. – подумалось ему. Или с Кэти он все же испытывал что-то иное? – А ты темпераментный парень, – услышал он, застегивая пояс. – Жаль, что я тут ненадолго… Ну, приедешь в Нью-Йорк – заглядывай! – Отчего ж не заглянуть, – пообещал Каргин и уже хотел добавить, что сделает это в будущем тысячелетии, но тут в кармане штанов раздался гудок мобильника. Вытащив его, он приложил крохотный аппаратик к уху. Звонил Арада. – Как сеньорита Мэри-Энн? – Отдыхает после заплыва, сэр. Очень утомилась. – Все в порядке? – Так точно. Стою на страже, сэр. Акул и скатов в обозримом пространстве не наблюдается. – Все равно, будьте бдительны. На пляж из рощи заползают змеи. – Слушаюсь, сэр. Оружие на взводе, сэр, – отрапортовал Каргин. – В змею не промажу. Мэри-Энн захихикала. – Хью? Мой тощий обожатель? – Он самый. – Дождавшись гудков отбоя и сунув мобильник в карман, он опустился на пол рядом с девушкой. – Хью-хитрец, Хью-локач… – тихо промолвила Мэри-Энн. – Шьется который год… Под одеяло не лезет, церковь ему подавай, тощей крысе… – Она потянулась, забросив руки за голову. – А я – девушка честная! Под одеяло, может, и пустила бы, а в церковь меня не заманишь! Бобби, конечно, идиот, но я ему пакостить не стану. – При чем здесь Бобби? – удивился Каргин. – При том… – Ладошка Мэри-Энн коснулась его лица, погладила рубец под глазом. – А знаешь, хоть ты и киллер, а похож на Бобби… глаза такие же, и лоб, и волосы, но потемней… Рот другой, жесткий. И этот шрам… Украшает! Где ты его заработал, Керк? – Шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже… – пробормотал Каргин на русском и пояснил: – В Боснии. Видишь ли, приняли нас за сербов и решили слегка побомбить. Так, для острастки… – Нас – это кого? – Роту «би», которой я командовал. Синюю роту «гепардов». Девушка рассмеялась. – Разве бывают синие гепарды? Каргин мог бы объяснить ей, что в армии подразделения обозначаются по всякому – и прозвищами, и буквами, и цветом; что буквы, цвет, а также номера, проходят по официальной части, тогда как прозвище необходимо заработать; что в этом есть определенный смысл, хоть не всегда понятный человеку невоенному: перед своими – отличить, противника же – запугать. Но тут припомнился ему Арада и, вместо длинных лекций по армейской психологии, он сказал: – Согласен, синие гепарды – редкий случай. Такой же, как чернокожие шведы и рыжие аргентинцы. Хотя с Аргентиной я, наверное, не прав: страна большая, люди разные… – Разные, – кивнула Мэри-Энн, натягивая майку. – Если ирландец постарается, будут тебе рыжие аргентинцы. Тощие, как крысы в мормонской церкви. – Это что ж такое? Выходит, он твой кузен? – Каргин поднялся и свистнул, подзывая лошадей. – Черт его знает… Слышала я, что дядюшка путался с мамашей Хью, актриской на роли в порнухе… Болтают разное… – Мэри-Энн ловко поднялась в седло. – С кем он только не путался, старый козел! Подсчитаешь, так позавидуешь… С турчанками и египтянками, испанками и ирландками, даже с японками… Может, – заключила она, – я вовсе не в папашу уродилась, а в дядюшку Патрика. Отчего бы и нет? – А Том тебе, случайно, не племянник? – спросил Каргин, усевшись на мышастого. Мэри-Энн захихикала. – Если только случайно, киллер. Но эта… как ее… бабка его… – Кику-сан. – Да, Кику… Она была с ребенком, когда ее дядюшка купил. За четыреста долларов. Мать видела фотографию, а на обороте проставлены цена и год. Кику и ее трехлетний бэби… Красивая! Мать говорила… – Постой-ка, – перебил Каргин, – выходит, этот бэби – отец Тэрумото? – Выходит, но Патрик здесь ни при чем. Редкий случай, как говорила мама… Снимок датирован сорок шестым, в тот год Патрика перевели в Токио, а бэби уже большой. Конечно, Патрик мог на расстоянии постараться… из Лондона или из Москвы… – Сильно его не любишь? – поинтересовался Каргин. Они неторопливо пересекали пляж, оставляя за собой круглые отпечатки лошадиных копыт. Близился вечер, и длинные сизые тени от скал Хаоса протянулись по песку. С моря налетел игривый бриз, листья деревьев затрепетали, волны украсились белыми пенными барашками. Солнце скрылось за утесом, похожим на пирамиду майя, расплескав по жертвенному камню свою золотистую кровь. – Сильно, – девушка закусила губу. – Знаешь, Керк, временами я думаю, что если б не он, ничего плохого с нами бы не случилось. Ни с мамой, ни с отцом… И Бобби, может, был бы другим… Все было бы о'кей… Да ладно! Черт его побери! – Она хлопнула ладонью по голой коленке. – Ну его в задницу, паука! Скажи мне лучше – выпить есть? Джин, виски… что угодно… – Я же тебе говорил, что киллеры не пьют, – откликнулся Каргин. – Слишком опасно при нашей профессии. Печень пухнет, руки дрожат… – Ну, у тебя ничего не дрожит, – заметила Нэнси и погнала вороную в гору.
* * *
Поздним вечером, собираясь на дежурство, Каргин вдруг ощутил острый приступ тоски. Замерев у окошка с поясом и кобурой в руках, он вгляделся в быстро темнеющее небо, где парил перевернутый серп месяца и мерцали первые звезды, потом отложил кобуру, извлек из кармана бумажник, а из бумажника – серую с золотом карточку. «Кэтрин Барбара Финли, менеджер по работе с персоналом», – значилось на ней. – В конце концов я тоже персонал, – произнес Каргин, обращаясь к изображенному на карточке орлу. – А раз так, имею право пообщаться с менеджером. Он перевернул визитку, набрал на мобильнике номер и приложил аппаратик к уху. Негромкий пульсирующий гул, будто тихие вздохи Вселенной, потом гудок – первый, второй… После четвертого раздался голос: – Халло? – Это я, ласточка, – вымолвил Каргин и внезапно почувствовал, как там, по другую сторону экватора, гулко ударило чье-то сердце. Секунду в трубке царила тишина, затем послышалось: – Керк… Боже мой, Керк… наконец-то… – Еще секунда, и Кэти справилась с волнением, ее голосок окреп и зазвенел, как туго натянутая струна: – Целый месяц, Керк… почти целый месяц… ты… ты… – Здесь, на острове, я не нашел пиратского клада, – произнес Каргин. – Меня определили в группу секьюрити при старом Халлоране. Платят прилично, но, думаю, все-таки меньше, чем менеджеру по работе с персоналом. – Он помолчал и добавил: – Я все еще небогатый парень, ласточка. – Какое это имеет значение, солдат? – Для меня – никакого. А для тебя? По ту сторону экватора все стихло. Затем Каргину показалось, что Кэти всхлипнула – или, возможно, этот звук произвела Вселенная, безмолвный свидетель их разговора. Пустила слезу, печалясь о неразумии своих творений. – Керк, милый… Ты знаешь, что скоро день рождения у Патрика? – Да. На миг блеснуло удивление – зачем она об этом говорит? Более важной темы не нашлось? – Мэлори, члены совета директоров и всякие важные лица отправятся на Иннисфри. Два сенатора, акционеры ХАК, возможно – представитель президента… Будет несколько рейсов, и, может быть, мне тоже удастся прилететь. Если ты хочешь. Каргин улыбнулся, прижал трубку к уху плечом и застегнул пояс с кобурой. – Это было бы очень кстати. Но должен заметить, девочка, что у меня тут нет коттеджа и бассейна. Постель узкая, ванна небольшая и… – Но мы ведь поместимся в этой постели? – перебила его Кэти. – Надеюсь, место в ней ты никому не обещал? – Н-нет, – с запинкой промолвил Каргин. Это, в конце концов, было чистой правдой: Мэри-Энн развлекалась с ним на пляже, а не в постели. – Тогда я постараюсь забраться в самолет. Даже если придется сидеть на коленях у одного из сенаторов. – Выбери того, который постарше, а лучше наймись в этот рейс стюардессой. Я не доверяю сенаторам. Хотя, если они похожи на прилетевших недавно гостей… – Ты про кого? – Про Бобби Паркера и его херувима. – Значит, Боб уже на Иннисфри… Я и смотрю, у нас как-то потише стало. Рыжая сестрица с ним? – С ним, – пробормотал Каргин, охваченный муками нечистой совести. К счастью, дистанция в тысячи миль делала их не очень заметными для Кэти. Он дал себе слово, что не приблизится к Мэри-Энн на пушечный выстрел, но тут же, как эксперт в военном деле, взял его обратно. Иннисфри слишком небольшая территория, а современные пушки стреляют очень далеко… – Отправляться мне нужно, девочка, – произнес он в трубку. – Я тут в ночном карауле, но если ты прилетишь, меня, думаю, подменят. Попробую договориться с одним хорошим парнем. Кэти негромко рассмеялась. – День ничем не хуже ночи, милый. Я прилечу, и позвоню тебе перед отлетом. Я знаю твой номер. – Вот как? А почему же раньше не звонила? – Девушки первыми не звонят. Это неприлично. Бай-бай! В трубке снова раздался странный звук, однако не похожий на всхлипывание. Каргин ощущил губы Кэти на своих губах, послушал гудки отбоя, вздохнул и сунул мобильник в чехол на поясе. Следующие пару дней он думал о встрече с Кэти, старательно избегал Мэри-Энн и размышлял о нравах миллиардерских семейств, но вскоре оставил последнее занятие. Оно казалось бесплодным и даже более того – опасным; оно подтверждало избитый марксистский тезис о развращающем влиянии богатства. С другой стороны, бедность вела к последствиям не менее жестоким, с поправкой на несущественный момент: одни давили ближних чтоб обладать миллионами, другие рвали глотки тем же ближним за гроши. Но результат был одинаков, и это подсказывало, что истина лежит посередине. Но кто ее ведал, ту золотую середину? Во всяком случае, не Алексей Каргин, чья жизнь сломалась на грани двух эпох. Все, чему его учили прежде, в детстве и юности, стало теперь непригодным при новых порядках; авторитеты низринуты, идеалы разрушены, и нет им замены, и места в мире тоже нет. Он полагал, что в таких обстоятельствах не может судить ни богатых, ни нищих, поскольку личность его как судьи – понятие смутное. В самом деле, кто он таков, этот судья? Российский офицер Каргин, наследник подвигов и славы предков? Тот, кто присягнул отчизне, и кто готов пролить за нее кровь, отдать ей жизнь? Или Алекс Керк, наемник Легиона? Командир «гепардов», продавший те же кровь и жизнь по контракту, не родной стране, а чужакам? Бесспорно, он не имел права судить. В нынешней ситуации ему полагалось руководствоваться не зыбким призраком идей, канувших в небытие, но вещами реальными, такими, как контракт и кодекс наемника. А этот кодекс гласил: служи, будь верен хозяевам и не суди их – по крайней мере, до тех пор, пока их нельзя уличить в нарушении обязательств. Впрочем, на Иннисфри все обязательства выполнялись строго, с той же основательностью, с какой шла подготовка к хозяйскому юбилею. В парке был воздвигнут шатер, украшенный флагами и цифрой «75», виллу, в ожидании именитых гостей, скребли и чистили от сфинксов на парадной лестнице до пальм перед пентхаузом, в поселок со складов завезли спиртное, а перед казармой установили пушку – дабы произвести торжественный салют. Кроме того, за пару дней до юбилея Альф сообщил подчиненным о наградных – по тысяче на нос плюс ящик ирландского виски для всей компании. Его, однако, полагалось распивать не торопясь, чтобы служебный долг не потерпел ущерба. В тот вечер, подменяя Сэмми, Каргин обсудил с ним эти новости, и оба решили, что босс мог бы расщедриться на коньяк, но виски, в сущности, тоже неплохо, не говоря уж о тысяче наградных. Затем Сэмми удалился, а Каргин, помечтав о скорой встрече с Кэти и побродив у павильона с телескопами, полюбовавшись звездным небом и кувшинкой, дремлющей в пруду, подошел к дверям хозяйской спальни. За ними царила тишина. Обеспокоенный, он заглянул в комнату. Патрик сидел в постели, и слабый отблеск ночника старил его лицо, подчеркивал морщины и бледность тонких губ, высвечивал белесый иней в рыжих волосах. Казалось, он о чем-то размышляет; взгляд его был сосредоточенным, и мысль, надо думать, витала не в пространствах Иннисфри, а в неких иных краях, где президенты бились с королями, где шли в атаку батальоны, где над развалинами городов клубился едкий дым, и где, под грохот ковровых бомбардировок, росли и крепли рынки сбыта и источники сырья. Великая личность, великие мысли, подумал Каргин, отступив назад. Старик поднял голову. – Керк? – Да, сэр. – Подойди поближе. Ты читал Макиавелли? Его «Государя» или «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»? – Не доводилось. Но кое-что я о нем знаю. – Что именно? Кто он, по твоему, такой? – Политик и писатель. Жил во Флоренции, на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков. Учил, как добиваться власти и управлять народами и странами. Имя его – синоним вероломства и предательства. – Предательство, вероломство… – задумчиво повторил Халлоран. – Теперь для этого используют другой, не столь одиозный термин: способность к гибким решениям. Но в общем и целом Макиавелли прав, хотя идеи его вторичны. О них прекрасно знали в Греции и Риме, в Китае и Индии… Знаешь, какая самая важная из них? – Нет, сэр. – Я подскажу: первый принцип надежного управления. Править можно чем угодно, войском, страной, предприятием, но первый принцип соблюдается всегда. Тебе он известен? – В таком контексте – пожалуй. Один из моих наставников говорил: два петуха в одном курятнике не уживутся. Старик кивнул. – Тебя хорошо учили. Военачальник командует, король правит, и рядом с ними равных нет. Дистанция между имеющим власть и первым из его помощников должна быть велика, столь велика, чтоб не бродили мысли об узурпации. Запомни это. – Зачем? Вы говорите о вещах известных, о принципе единоначалия. Есть генералы, есть капитаны и есть лейтенанты… Всякий, кто служил, об этом не забудет. Глаза Халлорана сверкнули. Секунду он всматривался в Каргина, будто пытаясь обнаружить в нем некую слабину, тайный порок или дисгармонию, потом произнес: – Это хорошо, что ты понимаешь такие вещи, очень хорошо. Там, в Легионе… там у тебя, наверное, были лейтенанты? – Да. – И что бы ты сделал, если б лейтенант отказался исполнить твой приказ? Не в мирное время, а на поле боя? – Пристрелил бы на месте, – ответил Каргин, снова отступая к дверям. Но разговор, кажется, еще не завершился. Старик вдруг поманил его к себе костистым пальцем, заставил наклониться и прошептал: – Ты веруешь в бога, Керк? – Я верю в свою удачу. Теперь они смотрели друг другу в глаза. Лицо Халлорана было сосредоточенным, даже хмурым. – В удачу… – протянул он. – Что ж, неплохая вера, не хуже остальных. От бога – смирение и терпение, а удача – она от дьявола… Недаром удачливый получает больше смиренного и терпеливого. – Больше – чего? – Всего. Иди… Иди, Керк. Каргин вернулся на террасу. Он шагал от лестницы к лестнице, туда и обратно, мимо окон, занавешенных лозой, мимо скамеек и пальм, мимо пруда с амазонской кувшинкой, мимо павильона с телескопами, глядел на небо и на антенну, что возносилась над крышей пентхауза будто стальной цветок, считал про себя шаги и думал. Удача? Конечно, он верил в удачу, но знал, что гений ее капризен, а потому не стоит требовать всего – или же больше, чем обещано другим, смиренным и терпеливым. Для Каргина удача означала не власть и не богатство, не выигрыш в лотерею и даже не любовь, а только жизнь. Что, при его профессии, было желанием вполне разумным. Жизнь! И, коль повезет, без потери конечностей, простреленных легких и осколка под ребрами… Он ухмыльнулся, вытащил из-за пояса берет и нахлобучил его на голову.Глава 9
Иннисфри, вилла и кратер; раннее утро 22 июляДве крохотные фигурки ползли по Нагорному тракту, неторопливо приближаясь к озеру. Будто два жучка, синий и красный, на серой асфальтовой ленте дороги… Солнце еще не взошло, и полумрак обманывал, менял оттенки, делал синее чернильным, красное – коричневым. Внизу, в кратере, еще господствовала тьма, затопившая трясины, камни и мангровый лес, и лишь на востоке смутно виднелся зубчатый контур скалистой стены. Озеро, серебристое при ярком свете, выглядело сейчас клочком зыбкого тумана, повисшего среди утесов и будто готового растворить обоих бегунов в своем белесо-сером мареве. Каргин поднял висевший на груди бинокль, но передумал, наклонился и приник к окуляру малого телескопа. Теперь он видел обе фигуры, синюю и красную, гораздо отчетливей и так близко, что мог, казалось, пересчитать седые волоски на шее Халлорана. Тот, как обычно, двигался вторым; темп, на правах лидера, задавал Альф Спайдер. Его широкая спина мерно раскачивалась, и зверь с ощеренной пастью, изображенный на куртке, будто подмигивал Каргину. Он оторвался от окуляра, посмотрел на север, нащупал в кармане футляр мобильника. До юбилея – день… Пожалуй, сегодня начнется съезд гостей, и эскадрильи «оспреев» будут кружить над островом. А в них – сенаторы и конгрессмены, акционеры и послы, директора, компаньоны по бизнесу и даже, как сказала Кэти, посланник президента… Наверное, будут журналисты – хоть Халлоран их недолюбливает, но осветить такое событие в прессе необходимо. Двести, триста или четыреста гостей… Куда их, интересно, денут, в какие комнаты и койки? Вилла, конечно, велика, но в гостевых покоях больше тридцати не поселить… Скорее всего, решил Каргин, гости поздравят юбиляра, преподнесут подарки, выпьют за его здоровье на банкете и отбудут восвояси. Улетят, а Кэти останется… Быть может, она на пути к аэродрому или уже влезла в самолет и теперь высматривает, у какого сенатора коленки помягче… Пора бы ей и позвонить… Каргин ласково, будто девичью щечку, погладил карман с мобильником и развернул телескоп к поселку. Рано, слишком рано – на взлетном поле даже техники не суетятся и почетного караула не видать. Улицы тоже пустынны. На Мэйн-стрит меж фонарями были протянуты гирлянды, у мола красовалась арка из пальмовых листьев и цветов; поверх нее, как свечи на именинном пироге, торчали петарды, ровно семьдесят пять. Пушка у казармы, готовясь поддержать фейерверк, задрала в небо тонкий хобот, все лавки и злачные места были увиты зеленью, у «Пентагона» выставлены бочки, а на канате, протянутом от арки до офиса управляющего, трепетало полотнище с изображением юбиляра. То был официальный портрет, знакомый Каргину: рыжеволосый цветущий джентльмен, еще не достигший пятидесяти, точь в точь, как в статье обозревателя Сайруса Бейли. Уже четыре дня он любовался на эту картинку и находил в ней только один недостаток – не хватало рамочки из сабель, мушкетов и мортир. Выпрямившись, он оглядел поселок невооруженным оком. По-прежнему тишина… Безлюдные улицы, темные окна коттеджей, пальмы и кипарисы – словно дамы с растрепанными кудрями в сопровождении строгих кавалеров… Покой, благолепие и ожидание праздника… Каргин прислонился к станине большого телескопа, ощущая лопатками твердый металлический кожух. Взгляд его скользнул к бухте, к пересекавшему ее молу и маяку, чей оранжевый глаз сиял на фоне темных свинцово-серых вод. Там, за молом, вдруг наметилось какое-то неясное шевеление; казалось, волны расступаются, выдавливая из морских глубин прямоугольную скалу, такую же серую, как неподвижная поверхность бухты. Скала вырастала, упорно тянулась вверх, подпираемая чем-то протяженным, длинным и округлым; не обман зрения, а реальность, столь же явная, как халлоранов портрет, пушка с задранным стволом и молчаливые спящие коттеджи. На висках Каргина выступила испарина. Словно зачарованный, он наблюдал, как за молом всплывает подлодка – субмарина класса «Сейлфиш», сто семь метров в длину, девять – ширину, с резко обрубленным носом и рубкой, похожей на спичечный коробок. Она казалась призраком, таким же порождением кошмара, как сон о яме в афганских горах, и потому Каргин на мгновение оцепенел. Но миг нерешительности был краток: он хлопнул себя по груди, нащупал бумажник во внутреннем кармане, чертыхнулся и полез в другой карман, к мобильнику. Щелкнула крышка телефона, палец нажал кнопку, и где-то внизу пронзительно взвыли сигналы тревоги. Затем, взглянув на часы, он стал прокручивать файл номеров на маленьком экране трубки. Вызвать Спайдера?.. Нет смысла; Альф сейчас со стариком… Хью, разумеется, бесполезен… Балмер и Акоста подождут… В первую очередь – Гутьеррес! В эту ночь дежурят его люди, по три бойца на всех постах, у пулеметов и базук, на маяке, у радиолокатора… Гутьеррес – в штабе… у пульта связи… Он надавил клавишу вызова и двадцать секунд слушал вой сирены и протяжные долгие гудки. Потом к ним примешался шелест, стремительно перераставший в гул; звуки были привычными, знакомыми, и Каргин, еще не разглядев темных черточек под зонтиками вращающихся лопастей, догадался, что стартовали «Грифы». Трубка дрогнула в его руке, будто напоминая, как надо действовать по инструкции; он высветил еще один номер, снова нажал клавишу, но на этот раз ответом была тишина. Полная, гробовая. Раз подняли вертушки, значит, пловцы уже на берегу, мелькнула мысль. Словно в знак подтверждения в поселке сверкнуло пламя, и на месте казармы вырос огненный багровый гриб. Грохот взрыва еще не успел докатиться до террасы, как рыжие языки взметнулись у мола, над Третьим блок-постом, над офисом управляющего, почтой и офицерскими коттеджами. Арка из пальмовых листьев вспыхнула, выбросив очередь петард и расцветив небеса желтыми, изумрудными и розовыми искрами; они медленно растворялись в вышине, будто гаснущие с рассветом звезды. В ярком свете пожарищ Каргин увидел, что субмарины за молом уже нет, что по дороге к взлетному полю мчится пара джипов, а от берега цепью двигаются крохотные быстрые фигурки. Их было всего лишь шесть или семь, но дело свое они, похоже, закончили: со стороны охранявших гавань блок-постов не доносилось ни звука. Ни пулеметного тарахтенья, ни взрывов гранат, ни воплей, ни стонов. – Все путем и все по расписанию… – пробормотал Каргин, судорожно сглотнув. Ни белоснежных «оспреев» в небесах, ни важных гостей, ни Кэти… Гости, правда, есть, однако другие, незваные… Бред сумасшедшего! Бред – возможно… Однако знакомый бред, в котором события шли по плану, составленному им самим: скрытный десант «тюленей», всплывающий у мола «Сейлфиш», «коршуны» в воздухе, взрывы, уничтожение гарнизона… Быстрая и эффективная резня; потом – зачистка… Бред? Пловцы-"тюлени" уже во всю резвились в поселке под лай автоматных очередей, одна вертушка обстреливала пост у перекрестка дорог, второе помело двинулось в горы, однако не к дворцу, а к озеру. Две минуты или три, подумал Каргин, припоминая график операции – и вдруг сообразив, что это значит, чертыхнулся. Руки его тряслись, когда он поворачивал телескоп. Двое, в красном и синем, замерли метрах в пятидесяти от озера. Лица их были на удивление спокойны, будто им не грозила смерть или они примирились с нею; Спайдер, поводя руками, что-то объяснял Халлорану, а тот, отвернувшись, мрачно уставился в пустоту. На что он глядел? На дома, объятые огнем, и гибнущих людей? На искры фейерверка, похоронным салютом таявшие в небесах? На приближавшийся вертолет? «Бегите с дороги!.. Прячьтесь!.. – мысленно велел Каргин. – В лес или под мост!.. В любую щель, где вас не будет видно!» Словно очнувшись или услышав ментальный призыв, они направились бегом к темневшему среди утесов куполу Второго блок-поста. Втолкнув в укрытие Халлорана, Спайдер на мгновение задержался и запрокинул голову – видно, рассматривал налетавшее помело; потом исчез в узком входном проеме. Бойницы озарились слабым светом – скорей от зажигалки, не от лампочки. Каргин, стиснув зубы, в бессилии застонал. Этот дурацкий бетонный колпак был не укрытием, а ловушкой! Спайдеру полагалось бы это знать… сообразить, что сотворит «хеллфайер» в замкнутом объеме… «Хеллфайер», «ТОУ», «ХОТ», «мистраль» или любой другой снаряд… что бы там ни болталось у «Грифа» на консолях… Чертов спец по безопасности! Не отрываясь от окуляра, он покосился на часы. Пять минут десять секунд с момента включения сирены… График выдерживался точно. Выходит, работали не любители – профессионалы. Он убедился в этом, когда вертушка достигла блок-поста. Ее пилот был настоящим ассом; ни долгих маневров, ни заходов на цель, а точный единственный выстрел. Ракета попала в амбразуру; Каргин увидел, как пламя вырвалось из бойниц и как по бетонной стене побежали трещины. «Гриф» развернулся на второй заход; вероятно, пилоту хотелось превратить укрытие в руины. Пора смываться, подумал он, набирая номер референта. Тот откликнулся сразу. Голос его был сух и холоден, словно арктический лед. – Охрана? Кто дежурит? Алекс Керк? Вы в курсе, что творится на берегу? Что за грохот? И кто включил сирену? Какого черта? Кто… – Тихо, Арада! – рявкнул Каргин. – Слушать внимательно! Нас атаковали. Поселок и гарнизон уничтожены. Всех, кого сможете собрать, выводите в холл. У нас три-четыре минуты. Не успеем, попадем под зачистку. Вы знаете, что это такое? Пауза. Потом вопрос, с едва заметной дрожью в голосе: – Мистер Халлоран? – Отбыл в лучший мир. – Что?! – Дуба дал! – рявкнул Каргин. – Так понятнее? Сыграл в ящик. Вместе со Спайдером. Секундное молчание. Затем: – Иду. Должность Спайдера – за вами, Керк. Вы отвечаете за нашу безопасность. Быстро сориентировался аргентинец! – мелькнуло в голове у Каргина. Он попробовал снова вызвать Кальяо, как предусматривалось инструкцией – полицию, береговую охрану, базу перуанских ВМФ, но в трубке была глухая тишина. На этом он потерял минуту; затем, отключив сигнализацию, бросился в кабинет, сорвал мачете со стены, увешанной клинками. Лишнего оружия не бывает, как говаривал майор Толпыго… Жаль, что в хозяйской коллекции сабли, а не базуки! На верхней ступеньке лестницы Каргин обернулся. «Гриф», покончивший с Халлораном и Спайдером, летел к дворцу, другая машина уже кружила над блок-постом у парка. Оттуда вяло огрызался пулемет. Пришьют ракетами, подумал он, высадят десантников, затем разделаются с Северным и Южным блок-постами. Там, небось, и сообразить не успеют, что к чему… Все развивалось по плану. Все, если забыть про эпизод с убийством Патрика. Быстро его отправили на небеса! И всех остальных, невинных и непричастных… всех, кто обитал в поселке… При этой мысли он похолодел. Двести душ, черт побери! Солдаты, девушки-чикитки и куча прочего народа… Ну, бог с ними, с солдатами!.. Им умирать положено, профессия у них такая… А сколько было девушек?.. И сколько остальных?.. Техников, барменов, моряков, аэродромной обслуги? Он попытался вспомнить, но не смог. Внизу, у мозаики с орлом, его поджидали семеро – Арада и шесть человек, которых референт счел нужным известить. Мэнни – вялый, полуодетый, в чем-то похожем на женское дезабилье; Том Терумото, Сэмми и Крис – все в комбинезонах и при оружии; бледная испуганная Мэри-Энн и Роберт Паркер – возбужденный, с тяжелым «магнумом» в наплечной кобуре. Увидев Каргина, Боб ринулся к нему. – Дьявольщина! Что случилось? Арада болтает… – Случилось то, о чем сказал Арада, – отрезал Каргин и повернулся к аргентинцу. – Вы знаете код на дверях бункера? Там, где лифтовая шахта? – Да. Ра… разумеется. – Голос референта подрагивал и был хрипловат. – Идите и разблокируйте двери. Вы трое – за ним! – Кивнув Бобу, Каргин подтолкнул Мэнни и девушку к южной арке. – Крис и Том, охраняйте лифт, Сэм – в служебный флигель. Что они, сирены не слышали? Всех поднять, и к бункеру! Быстро! Сэмми умчался. За ним торопливо последовали остальные – все, кроме Боба. Каргин повернулся к нему: – Особое приглашение, президент? Щеки Паркера начали багроветь. – Не забывайся, киллер хренов! Ты правильно сказал: я – президент, и я здесь командую! Я… – Ты идиот, – уточнил Каргин и бросился вон их холла. За спиной грохнуло, по окнам хлестнула очередь, послышался звон разбитого стекла – видно, «Гриф», круживший над парком, уже избавился от десантников. Проскочив столовую, Каргин помчался по коридору. Бобби, чертыхаясь, бежал следом. Из кухни выглянул Тейт. Лицо его выдавало крайнюю степень ошеломления. – Что, завтрак отменен? Или босс распорядился подавать? – Уже подали, – выдохнул Каргин. – Без тебя обошлись. Хватай еду, какая под руками, и в бункер! Пошевеливайся, старина! За кухнями и кладовыми было помещение с колодцем мусоропровода, а дальше коридор сворачивал градусов под пятьдесят, превращаясь в тоннель, освещенный люминесцентными лампами и ведущий к служебному флигелю. Тут, на изломе, и находилась заветная дверца – массивная, небольшая, покрашенная серым в цвет скалы. Хью судорожно ковырялся в замке, девушка и Мэнни жались за его спиной, Том и Крис Слейтер замерли у стен, один слева, другой справа. Японец казался невозмутимым, физиономия Слейтера была мрачной, но пистолет в руке техасца не дрожал. – Дверь не открывается, – шепнул Тэрумото, когда Каргин приблизился к нему. – Что будем делать Керк-сан? Выйдем в парк через тоннель и служебный корпус? – В парке нас и прикончат. В лес надо, в кратер! С Нагорной дороги можно туда спуститься? – Нет, не думаю. – Японец покачал головой. – Скалы, отвесный обрыв, Керк-сан видел… Спуск только у Лоу бей. А пока мы туда доберемся… – Будем, как на ладони, – мрачно закончил Каргин, поворачиваясь к референту. – Арада! Что там с дверью? Аргентинец выпрямился. Его смуглое лицо побледнело, волосы цвета темной меди свисали на лоб. Сейчас он был удивительно похож на старого Халлорана. – Не могу открыть. Тут электронныйзамок… Или его заело, или код изменен. – Чтоб мне к Хель провалиться! – пробормотал Каргин и прикусил губу. Интересная история… очень интересная… В бункер не попасть, на материк, в Кальяо, не дозвониться – выходит, отключен ретранслятор… И код на двери переменили… Какая скотина постаралась?.. И что теперь делать? Драпать или драться? Если драпать, то куда? А если драться… Он оглядел свое воинство. Оружие – четыре пистолета, считая с «магнумом» Бобби, плюс сюрикены, мачете и проволочная удавка… В бойцах – два гомика, повар, референт и нервная девица… один самурай c дипломом Гарварда, один техасец… Плохой расклад! Они смотрели на него с надеждой, ждали решения. Паркер, наконец, утихомирился; замер, поглаживая Мэнни по плечу, уткнувшись взглядом в пол. Рядом стоял Тейт, с мешком в одной руке и тесаком для рубки мяса – в другой. Вид у бывшего морского пехотинца был воинственный. Может, Сэмми кого приведет?.. – подумал Каргин. В коттеджах и служебном флигеле – человек тридцать… Половина – женщины, но конюхи, садовники, шофер вполне боеспособные ребята… правда, без оружия… Как бы в ответ на эту мысль что-то ухнуло, грохнуло, посыпались осколки ламп, в тоннеле заклубилась пыль, и пол содрогнулся под ногами. Мэри-Энн пронзительно вскрикнула и сразу смолкла, зажимая ладонями рот. Боб Паркер поднял голову. – Это еще что? – Это, – пояснил Каргин, – «хеллфайер». Или «ХОТ»… Ракета такая. Для поражения с воздуха наземных целей. – Он посмотрел на Тома. – Я полагаю, служебный флигель рухнул, так что теперь в тоннель нам не пройти и Сэма не дождаться. Там была еще одна вертушка… кроме той, что в парке… Сейчас они высаживают десантников. Чувствуя, как разгорается ярость, он подумал о взорванном служебном корпусе. Еще три десятка жертв, невинных и непричастных… Но ярость была сейчас плохим подспорьем. И в Легионе, и в «Стреле» имелись свои заповеди, традиции и правила, в общем-то разные, но кое в чем сходившиеся с поразительной точностью. Первая гласила: солдат существует, чтобы сражаться; вторая – гнев и героизм – плохая замена профессионализма. В кратер, решил Каргин, нужно выбираться в кратер. В лес! А еще лучше – в пещеры и скалы за Нижней бухтой. В Хаос! Исчезнуть, пересидеть, сообразить – кто напал, зачем и почему… Зачем – пожалуй, ясно. Убили старика – так, может, и уйдут?.. Решат, что прикончили всех, и уберутся к дьяволу? Главное – не попадаться на глаза… Значит – в кратер! В кальдеру! Он обвел взглядом стоявших перед ним людей, прислушиваясь к доносившемуся из тоннеля грохоту и уже понимая, что больше некого спасать. Потом сказал: – Мы спустимся вниз через мусоропровод. Попадем на свалку. За ней – болото и лес. Задача – добраться до леса. Быстро, бегом! Пока не стали выслеживать с вертушек. В лесу прячьтесь под деревьями – так, чтоб было незаметно с воздуха. Ложитесь, замрите, не двигайтесь и ждите моей команды. Теперь – вперед! Пошли! Живее! Хью, схватив за руку Мэри-Энн, первым ринулся к колодцу. Попахивало из него неважно – гнилыми фруктами и трупным смрадом от разложившегося мяса. Зато уходивший вниз тоннель был не слишком крут и довольно широк – не меньше полутора метров в диаметре. Скорее даже больше, прикинул Каргин и кивнул Тэрумото: – Сначала – ты. Будешь страховать внизу, чтобы никто не врезался темечком. И каждому – пинок под зад. Пусть никого не ждут, драпают к лесу. Все ясно? Японец кивнул, спрыгнул на дно колодца, лег на спину ногами вперед и тут же исчез в зловонной дыре. – Мэри-Энн! Мэнни! Вы следующие. Девушка испуганно вздрогнула, но повиновалась без возражений. Мэнни что-то пискнул, Каргин схватил его под локти, приподнял, велел: – Свой балахон держи под задницей. Не то кожу о камни обдерешь. Парень исчез с протяжным паническим воплем. – Ваша очередь, сэр президент. Отрешенность на лице Бобби сменилась злобной гримасой. Он брезгливо поморщился. – Быстрей! – поторопил Каргин, раздумывая, не врезать ли президенту между ног. – Если вы не спешите… – начал Арада, подступая к колодцу, но Боб оттолкнул его и прыгнул вниз. За ним последовали референт и повар. Стил Тейт прижимал к груди мешок и нож и двигался, несмотря на возраст, с завидной резвостью. Бывалый мужик, хлопот с ним не будет, решил Каргин. Вот Мэнни – другое дело… Мэнни у нас не боец… Видимо, Слейтер думал о том же. – Пропадем с этим дерьмом… – Он кивнул на зев колодца. – Может, лучше с плохими парнями потолковать? Может, договоримся? – Плохие парни не расположены к толковищу. Они – как у вас в Техасе: сперва стреляют, потом глядят, кого пришибли, – сказал Каргин, насторожившись. Кажется, в столовой голоса… Вернее, голос; слов не разобрать, но тон резкий, начальственный. – А ты откуда знаешь? – Догадываюсь. Но если хочешь – оставайся, потолкуй. Пальцы Каргина лежали на рукояти «беретты». Оставить здесь техасца? Ни за что! Не будет врагу живого послания, и мертвого тоже не будет. Выстрел в висок, труп – в мусоросборник… Крис сплюнул и исчез в колодце. Каргин перевел дыхание. Конечно, он был в своем праве: раз лейтенант не подчиняется приказу, его необходимо пристрелить. В точности так, как он объяснял Халлорану… покойному Халлорану… Старик бы это понял и одобрил. Хотя своих убивать тяжело… Впрочем, и чужих не легче. Беззвучно ступая на носках, он приблизился к дверям, выглянул в щель и замер. Тускло освещенный коридор был пуст и тих, только клубилась пыль от недавнего взрыва да позванивали, осыпаясь, лампы. Затем раздался топот, и в дальнем конце возникли две фигуры: темные комбинезоны, шапочки до бровей, широкие ремни с подсумками и тарахтелки – угловатые, короткоствольные, «ингремы» или «узи»… То ли коммандос, то ли боевики-террористы, не отличишь, подумалось Каргину. Их лица он не разглядел, а значит вопрос, кто поживился скальпом Халлорана, пока что оставался без ответа. Может, «Алый джихад», может, якудза или колумбийская наркомафия… Его пальцы расстегнули кобуру с сюрикенами, ощупали стальную звездочку и рукоять удавки, потом он покачал головой и отступил к колодцу. Гнев и ненависть – плохие советчики, если пытаешься выжить. Спасти доверившихся людей, спастись самому… Лучший выход – скрыться. Так, чтобы следов не осталось. Тем более, трупов… Он просунул ноги в дыру, оттолкнулся и заскользил вниз. Не слишком медленно, но и не быстро. Вонь была терпимой, а стенки мусоропровода – довольно гладкими, влажноватыми, так что казалось, будто он, как в сибирском детстве, скатывается на санках с полого речного бережка. Мешало мачете; ножны царапали камень, рукоять давила под ребро, и Каргин, извернувшись, вытащил оружие из-за пояса и стиснул между коленей. Впереди показался светлый круг. Ноги машинально напряглись, и на мгновение пронзила мысль – сколь высоко выходное отверстие?.. Может быть, метрах в двадцати над свалкой, и тогда там, внизу, не живые люди, а корчащиеся в агонии тела… Впрочем, маловероятно; отбросы копились как минимум десять лет, должна получиться приличная груда… и мягкая… Он вылетел из тоннеля и приземлился среди гнилых лимонов и скользкой банановой кожуры. На часах было пять двадцать две с секундами; солнце еще не взошло над восточными скалами, но темноту сменил белесый зыбкий полумрак. Внизу, за краем пологого мусорного холма, лежало болотце – вернее, большая мелкая лужа, смесь грязи и воды с торчащими кое-где кустами. Дальний ее конец тонул в предрассветной дымке, однако Каргин смог различить смутные контуры деревьев и силуэты бегущих к ним людей. Они казались серыми, размытыми, почти неразличимыми на фоне болотных вод, и лишь пламенеющая майка и светлые шортики Мэри-Энн выглядели недопустимым диссонансом. Каргин выругался и, распугивая пировавших среди отбросов крыс, быстро зашагал к болоту. Откуда-то выросла фигура Тэрумото, возникнув из сгустившейся мглы. Его комбинезон был перепачкан, на башмаках налипла грязь, но в остальном японец выглядел как обычно – спокойным и невозмутимым. – Теперь куда, Керк-сан? Интонация была почтительной; Том признавал его главенство. – Пройдем через лес к утесам и пещерам на южном берегу, – ответил Каргин. – Спрячемся там, попробуем отсидеться. Когда рассветет, я заберусь куда-нибудь повыше… может, что и разгляжу… – Правда, что Патрик-сан мертв? – Мертвее не бывает. Полез за Спайдером в дот у озера, а его разнесли ракетами. Хочешь подробности, будут попозже. А сейчас – бегом! Они помчались к лесу, огибая кусты и промоины с темной стоячей водой. Трясин тут вроде бы не было; просто низменность с вязкими почвами, затопленная дождем. Она примыкала к свалке и тянулась в обе стороны неширокой полосой – метров двести пятьдесят, не больше. Жаль, что тут не настоящее болото, думал Каргин на бегу. Болота были предпочтительней любых других ландшафтов, когда приходилось бежать и прятаться, и даже джунглям давали сто очков вперед. В лесах и горах можно укрыться среди деревьев и камней, но почва там твердая, не закопаешься, а вот в болоте – милое дело: плюхайся в самую грязь, пристрой пучок травы на каску и сиди. В этом смысле с болотами могли конкурировать лишь пустыни с барханами песка, да и то отчасти – в болотах вода под руками, так хоть от жажды не помрешь. Одолев первую треть дистанции, Каргин сбавил темп, склонил голову к плечу и прислушался: над скалами Лоу бей сверкнул огонь, поднялись клубы дыма, и над землей раскатилось эхо далекого взрыва. Затем дважды громыхнуло на севере. – Последние блок-посты… – пробормотал он. – Южный и Северный… Все по графику. – Мы не выполнили свой долг, – печально произнес Том, глядя на дымное облако, что расплывалось на юге. Его башмаки разбрызгивали воду и грязь. – Если ты о Халлоране, так мы в том не виноваты, – откликнулся Каргин. – С ним был Спайдер. – Это ничего не меняет. Если хозяин погиб, защитник должен умереть. – Кодекс бусидо? – Каргин бросил взгляд на японца и выдохнул: – Ну-ну… Однако ты не спеши умирать, Томо-сан. Хозяин мертв, зато остались наследники. Как-никак, его семейство… Выходит, работа наша не закончена. Том промолчал. Они обошли Слейтера и Тейта; техасец угрюмо месил грязь, повар, несмотря на возраст, бежал ровным экономным шагом, будто пехотинец на учениях. Надежный мужик, обстрелянный, снова подумал Каргин. Алая майка Нэнси маячила перед ним как полковое знамя. Он догнал девушку, схватил за локоть, зачерпнул ком грязи, размазал по ее спине и ягодицам. От неожиданности Мэри-Энн вскрикнула, потом обернулась и с яростью уставилась на Каргина. – Ты чокнулся, ковбой? Какого дьявола… – Маскировка, – пояснил Каргин. – Если мэм-сагиб не хочет, чтобы ей продырявили задницу… Он собирался добавить кое-что еще, но низкий рокочущий гул заставил его обернуться. «Грифы» еще не были видны, однако звук моторов наплывал с обеих сторон, с севера и юга, будто на гребне скалистой стены разворошили парочку шмелиных гнезд. Мэри-Энн вздрогнула, прижалась к нему; он с силой потащил ее вперед – туда, где древесные корни змеились по земле, а с ветвей зеленым ливнем падали лианы. Почва здесь тоже была влажноватой, чавкающей под ногами, засыпанной слоем гниющей листвы, и пахло тут немногим лучше, чем на свалке. Зато под кронами деревьев сгущалась полутьма и полог их казался непроницаемым – таким, какой бывает в джунглях, прибежище разбойников и партизан. Хоть не болото, но все же… – Рассредоточиться! – велел Каргин. – Всем на землю, и постарайтесь закопаться по уши! Лежать и не дышать! И никакой пальбы! Толкнув Мэри-Энн под воздушные корни пандануса, он забросал ее листьми, продвинулся метров на десять к опушке и там залег, всматриваясь в колыхавшийся над лужей туман. Белесая мгла растворялась и быстро редела под первыми солнечными лучами, и мангровый лес, будто приветствуя зарю, оживал, наполнялся движением и звуками: где-то закурлыкала жаба, промчалась ящерка в коричневой блестящей чешуе, мелькнули пестрые крылья бабочки, а наверху вдруг зазвучал разноголосый птичий хор. Подопечных Каргина было ни слышно и ни видно, лишь правее возились в кустах Мэнни и Боб: парень скулил и дрожал в своей изодранной одежонке, а Боб пытался его успокоить. «Вот уроды! – со злостью подумал Каргин. – Сладкая парочка на мою шею! Ладно, если геи, а вдруг – торчки? Особенно этот, в пеньюарах… Захочеи ширнуться, и что я с ним буду делать?» Он замахал рукой, рыкнул, чтоб успокоились, потом, слушая гул приближавшихся машин, посмотрел на часы. Пять тридцать семь… Минут пятнадцать, как вылезли из мусоропровода… Быстро работают, решил он с невольным уважением. Быстро! Только зачем? Босса убрали – выходит, наиглавнейшая задача решена. И гарнизон перебит, и все свидетели вроде бы упокоены… Что остается? Ну, для порядка обшарить виллу, а также развалины на берегу… особенно виллу – ради трофеев и всякой любопытной информации… Обшарить-то можно, но как догадаешься, что перебиты не все? Что кто-то под шумок слинял, сумел пробраться в кратер и прячется теперь в лесах? Вопрос сводился к одному: будет ли поиск целенаправленным, упорным, или вертушки покружат час-другой над болотами и джунглями, да уберутся восвояси. Вторая ситуация казалась более вероятной. С чего искать охапку сена из сожженного стога? Да и есть ли та охапка… Весьма сомнительно! Скорей всего, остались дым и пепел… Были, однако, в той охапке заметные соломинки, и если отстрел проводился по спискам и с опознанием трупов, то дело могло повернуться иначе. Смотря по тому, как сформулирован заказ: на одного Халлорана или с включением наследников. Если так… Додумать эту мысль Каргину не удалось: два помела пали хищными птицами с прояснившихся небес. Они летели навстречу друг другу, одно – от Южного блок-поста, другое – от Северного; скользили неторопливо ниже скал, плевали в лес короткими очередями – не по какой-то цели, а так, на всякий случай, для проверки. Каждая очередь вызывала переполох: резкие вопли попугаев и негодующий щебет пичужек, метавшихся среди деревьев. Ищут? Не похоже, решил Каргин. Скорей, развлекаются либо палят на удачу в белый свет… Пальба его не слишком волновала, и под случайным обстрелом он не нервничал. Главное – не высовывать носа, не шевелиться и прижиматься покрепче к земле. Даже к такой вонючей, как в этом гребаном лесу, где места сухого не сыщешь… Мокро, зато безопасно, почти как в болоте. Можно пересидеть, если не начнут бомбить по площадям и жечь напалмом. Но, как он полагал, до этого дело не дойдет. «Грифы» не спеша сближались. Гул моторов заполнил пространство, пулеметный стрекот сделался чаще и назойливей; пули посвистывали где-то вверху, секли древесные стволы и ветви, и в воздухе зеленой метелью закружились сбитые листья. Продолговатые, с волнистым колючим краем – с падубов, небольшие и узкие – с сейб, овальные, глянцевитые – с саподилловых деревьев. Очередь прошила панданус – высоко над замершей под корнями Мэри-Энн; брызнула кора, полетели пучки листьев, похожих на растрепанные страусиные хвосты. «Спокойно, сестренка, – прошептал Каргин, будто девушка могла услышать. – Лежи, не дергайся. Это все семечки!» Нэнси лежала, то ли вконец сомлев от страха, то ли понимая, что ноги не спасут. Скорее первое, чем второе. Для непривычного человека, попавшего под обстрел, ужас – нормальная реакция, но следствия из нее различны: один замирает, другой вопит, третий, теряя голову, пускается в бега. Пули, однако, летят, быстрее. Пронзительный визг ворвался в скороговорку пулеметов. Скосив глаза, Каргин увидел, как поднимается Мэнни – грязный, полуголый, жуткий, в изорванном буром халате, с растрепанными волосами. Губы его кривились, к щекам прилила кровь, взгляд остеклянел – как у оленя, загнанного волчьей стаей. И, словно у гибнущего оленя, мысль у него была одна: бежать. Бежать! Его халат взлетел, оголив покрытое грязью тело. Он двигался с трудом, нелепыми скачками – ноги вязли в топкой почве. Он мчался по болоту, а не в лес; видно, страх отбил соображение или пустое пространство мнилось ему более подходящим для побега. Для бегства в никуда. Короткая хлесткая очередь. Пуля в шею, пуля под лопатку. Два кровавых пятна на грязной мокрой ткани… Мэнни рухнул, нелепо вывернув голову. Брызги взлетели фонтаном и опали, вода вокруг его тела начала розоветь. Все, конец, решил Каргин. Теперь они знают, что кто-то смылся с виллы. Знают, и не отвяжутся. Увидев, что вслед за Мэнни приподнимается Паркер, он вырвал из кобуры пистолет и прорычал: – Замри, кретин! Лежи, не то я сам тебя прикончу! Бобби ткнулся в палые листья лицом. Плечи его вздрагивали. Один из «Грифов» пошел на снижение, разворачиваясь боком к лесу. Пилота Каргин в деталях не разглядел, но ему показалось, что тот осматривает покойника, причем тщательно и не спеша. Неужели отстреливали по списку?.. Вздохнув, он сунул пистолет в кобуру. Против вертушек «беретта» была оружием несолидным, если не сказать смешным. Как и его сюрикены, удавка-проволока и мачете. Вертолеты поднялись метров на двадцать, зависли между скалами и лесом, и на опушку обрушился свинцовый град. Теперь пули свистели над головой Каргина, буравили воздух со всех сторон, с глухим треском впивались в древесные стволы, с чмоканьем входили в землю. Сбитые листья снова закружились над ним, всполошенно заголосили птицы, из дупла метнулся нетопырь – кожистые крылья, раскрытая пасть, когтистые лапки, прижатые к брюшку. Он взлетел бесшумно и плавно, скользнул над деревьями и умер. Кровавые клочья упали рядом с ногой Каргина. Он лежал, приникнув щекой к земле, вдыхая ее гниловатый сырой запах. Лежал и молился. Не за себя, а лишь о том, чтобы не повторилась история с Мэнни. Чтобы никто не вскрикнул, не вскочил, не дернулся и не поддался панике; чтобы Боб не начал палить, Тэрумото – искать смерти, а Крис не вышел из леса с поднятыми руками; чтобы пули их миновали, чтобы обошлось без ран и чтоб у пилотов скорей закончился боезапас. Грохот выстрелов внезапно смолк, машины покружили над лесом, поднялись и исчезли за гребнем кратерной стены. Наверное, его молитва дошла до бога.
Глава 10
Иннисфри, пещеры Хаоса; 22 июля, день; 23 июля, утро– С какой стати? – побагровевший Боб сверлил Хью злобным взглядом. – С какой стати, я спрашиваю? Распоряжаться, снимать, назначать… Кто вам это позволил, Арада? – Ситуация и здравый смысл. – На губах аргентинца играла холодная усмешка. – Признайтесь, мистер Паркер, ситуация несколько… э-э… неординарная. Вы это понимаете? Они сидели среди камней Хаоса, у темного входа в грот; скала нависала над ними уступчатой майясской пирамидой. Собственно, сидели Боб и Хью; Каргин лежал, опираясь на локоть, а остальные беглецы, утомленные утренним маршем, спали в пещере. Все, кроме Томо Тэрумото, назначенного часовым. – Ситуация… чтоб вам првалиться вместе с этой ситуацией… – пробормотал Боб. – В любой ситуации, тем более – неординарной, я принимаю решения! Я, и только я! Не забывайте об этом! – Решения должны быть разумными и взвешенными, иначе нам не дожить до рассвета. Надеюсь, вы не хотите, чтоб вас пристрелили? Вас и вашу сестру? – При чем тут Мэри-Энн? – Бобби вскочил, бросив мрачный взгляд на Каргина. – Мы говорим об этом киллере! И вашем самоуправстве! – Ладно, пусть сеньорита ни при чем. Согласен! Так что же желает босс? – Последняя фраза звучала с явным сарказмом. – Керк вас не устраивает. Ну, и кого вы почтите своим доверием? Слейтера? Тэрумото? – К дьяволу этих косоглазых джапов! Слейтер… да, Слейтер подойдет. Опытный человек, из техасских рейнджеров. Хью язвительно усмехнулся. – Крутые парни эти рейнджеры, однако слегка туповаты. И мелковаты, если сравнить с боевым офицером, имеющим солидный опыт. Киллер он там или не киллер… Спор забавлял Каргина. Марш-бросок в сырых, почти непроходимых джунглях был утомителен и долог, и на это время Боб погрузился в мрачное молчание – видимо, думы о Мэнни тревожили его. После пятичасовых скитаний среди болот и диких зарослей им повезло добраться в Хаос; Каргин распорядился насчет еды, выставил часового и приказал отдыхать. Сон ему был необходим; ночное дежурство плюс утренний переход изрядно подорвали его силы. Он двигался во главе отряда и выбирал – а чаще прорубал дорогу; и после первых километров стало ясно, что в джунглях спутники его не ходоки. Не исключая Тэрумото; видно, на японских островах был дефицит тропических лесов для тренировки самураев. Боб утомился не меньше остальных, но, после трапезы и отдыха, к нему вернулась прежняя энергия. Кровь Халлоранов, людей практичных, возобладала в нем; он, вероятно, прикинул, что если останется в живых, то будет вовсе не внакладе, а в несомненном выигрыше. Принц, наследник, как-никак, ну а другого Мэнни найти несложно. Здравая мысль; такие, как Мэнни, шли по копейке за фунт, а президенты корпораций ценились, разумеется, дороже. Вместе с энергией к Бобу вернулась привычка повелевать, указывать и направлять. Сейчас он распекал референта, а поводом к склоке явился Каргин – верней, полномочия, возложенные на него Арадой. Непрошенные полномочия! Но суть заключалась в другом – а именно в том, кто будет одаривать ими служащих ХАК. Наследный принц или министр? Кто раздает посты и ордена? Кто производит мушкетеров в капитаны? Животрепещущий вопрос! Особенно в их положении. Король мертв – да здравствует король! – думал Каргин, прислушиваясь к спору. Но Спайдер тоже мертв – значит, ура его преемнику! Шефу безопасности разгромленного Иннисфри… Претензий на этот пост у него не имелось, как и иллюзий насчет карьеры в ХАК. Он был уверен, что если Бобби уцелеет в заварушке, то киллеров и косоглазых джапов разжалуют до рядовых. Или проводят пинком под копчик. Вместе с Кэтрин Барбарой Финли и ее престарелыми покровителями. Счастье, что она не прилетела, ни она, ни важные персоны, что приглашены на юбилей. Прокладывая дорогу в манграх, Каргин с трепетом ждал, что вдруг покажется в небе стайка «оспреев», блеснут их крылья, загудят моторы, а затем… Конечно, умный пилот, увидев пожары и разорение в поселке, не станет снижаться, а развернется к континенту, радирует перуанским властям и приземлится в Лиме или Кальяо. Но кто сказал, что все пилоты – умные? Тем более, когда на борту журналисты… Стоит любопытству взять верх над осторожностью, и дело труба! Либо в воздухе ракетами достанут, либо при посадке изрешетят… Сенаторов, скажем, не жалко, да и совет директоров, но Кэти, Кэти!.. Никто, однако, не явился, и это было столь же странным, как прерванная связь и заблокированные двери бункера. Каргин раздумывал над этими загадками, но ничего толкового в голову не приходило. Кроме, разумеется, третьей мировой войны или налета пришельцев из космоса. Вздохнув, он поглядел на Боба Паркера. Тот, покачиваясь на носках, взирал на Араду словно удав на недоеденного кролика. Потрогал пистолет за поясом, дернул пальцем, будто нажимая спусковой крючок, затем изрек: – Значит, рейнджеры, по вашему мнению, туповаты? Простые американские парни, так? Не чета боевым офицерам? Особенно, я полагаю, латиносам… Тем, которых нанял мой драгоценный дядюшка… Славно они повоевали сегодняшним утром! Мастера!.. Жрать, пить да валяться с потаскухами… – Он выдержал паузу. – Что скажете, сеньор Умберто? Или я не прав? Хью с надменным видом промолчал. – Жаль, ни одного амиго не осталось… Собственноручно бы пристрелил, – пальцы Бобби опять легли на рукоять «магнума». – Ну, о покойных ничего, даже хорошего… А вот о живых… – Он вновь одарил аргентинца неласковым взглядом. – Боюсь, синьор Умберто, что ХАК не нуждается в ваших услугах. Пожалуй, я в этом уверен. И за другой исход я бы не дал крысиной задницы. – Вы не вправе меня уволить, – холодно заметил Хью. – Не сейчас, мистер наследник. По уставу ХАК, в случае смерти основного держателя акций, пока не будет вскрыто завещание, фирмой руководит совет директоров. Мэллори, Ченнинг, Маклафлин и остальные… Вы это знаете, Паркер. – Мэллори, Ченнинг… Старые пердуны! – Боб пренебрежительно скривился. – Время их кончилось, милейший! Босс теперь один – Роберт Генри Паркер! – Не рановато примеряете корону? Старый Патрик был человеком непростым. Вскроют завещание, а в нем… В общем, могут случиться всякие неожиданности. Бобби ощерился, навис над референтом, стиснул его плечо. – Какие неожиданности? Ты на что намекаешь, ублюдок? Ты… Как бы до рукоприкладства не дошло, подумал Каргин, вставая. Он ухватил Бобби за локоть, дернул, заставив выпрямится, и всмотрелся в бешеные серые глаза. – Заткнитесь – вы, оба! Не стоит делить наследство, когда мы по уши в дерьме. Может, поговорим о вещах насущных? О том, как выбраться с острова? Или о том, что будем есть и пить? К счастью, вода у них была – в скалах нашлись родники, обязанные, видимо, происхождением подземной линзе, питавшей озеро. С едой дела обстояли хуже. Тейт прихватил на кухне то, что поместилось в карманах и руках: окорок, хлеб, сухари и небольшую плоскую бутылку бренди; если не считать спиртного, пять-шесть скудных трапез для семи едоков. Каргин полагал, что через день-другой – если, конечно, они останутся живы – придется перейти на крыс. Или на шашлык из жаб и попугаев. Глаза Бобби потускнели, и Каргин ослабил хватку. – У нас четыре пистолета, десяток обойм, три ножа, два радиотелефона и кость от окорока, – произнес он. – Что будем делать, джентльмены? Бежать? Скрываться? Воевать? – А вы что предлагаете? – хмуро буркнул Бобби, опускаясь на каменистую землю. Каргин присел рядом. – Хотелось бы сначала разобраться – кто напал, зачем, какими силами… Есть соображения на этот счет? Скажем, кто и с какой целью? – Кто угодно! – Боб пожал плечами. – Персы, ливийцы, баски, китайцы… Старый мерзавец многим насолил. Большой специалист парить мозги и выкручивать руки… Хью усмехнулся и поглядел на небо. – Не каждый, кому выкручивают руки, хватается за автомат. Лишь самые отчаянные – фанатики, экстремисты, люди с немалыми средствами и солидным опытом… Кстати, как они сюда добрались, со всем своим снаряжением? На вертолетах? Или наняли авианосец? – Подлодку, – пояснил Каргин. – Особое судно, которое может нести вертолеты и группу боевых пловцов. – Вот видите, особое… Значит, при деньгах! На субмарину не поскупились! – Арада сосредоченно нахмурился. – Каддафи? Нет, скорее все же алжирцы или китайцы… Или Тегеран… имелись там финансовые сложности… А что касается их цели, то тут, я думаю, вопроса нет. Цель их уже достигнута. – Смотря какая цель. Если всего лишь убрать Халлорана, то можно надеяться, что нас не тронут. Не найдут, не заметят и не тронут. Отсидимся в пещере, поголодаем, но будем живы… А эти, – Каргин махнул рукой в сторону дворца, – разграбят виллу и уберутся к чертям собачьим. Но есть и другой вариант, вполне реальный: убрать не только Халлорана, но всех свидетелей. Всех причастных и непричастных. А в первую очередь – наследников. Оглядев побледневшие лица Роберта и Хью, он решил, что развивать эту тему не стоит. Он был уверен процентов на девяносто, что реализуется последний вариант. Если только параллель между утренними событиями и планом, разработанным для Мэлори, не являлось чистой случайностью. Из пещеры выползла Мэри-Энн, села на пороге и принялась выбирать мусор из пышных рыжих волос. Затем, повернувшись спиной к мужчинам, стянула майку и подставила грудь жарким солнечным лучам. Покосившись на нее, Арада шепотом спросил: – Если… если они начнут нас искать… сегодня же начнут… какой в этом случае вы предлагаете выход? – Деньги? Выкуп? – встрепенулся Боб. – Договориться с ними и заплатить? Любую разумную сумму? Миллионов десять или двадцать… Террористы всегда нуждаются в деньгах… – Они сюда не за деньгами явились, и они – не террористы, – возразил Каргин. – Тут чувствуется другая подготовка, профессиональная… Так что, если до вечера не уйдут – или, скажем, до завтрашнего утра – ждите неприятностей. Не так уж долго осталось… Скоро узнаем. – И что тогда? Каргин сплюнул на землю и ухмыльнулся. – Вы – Роберт Генри Паркер, хозяин, босс… Командуйте! Или разбудите Слейтера, пусть покомандует. Если верить голливудским фильмам, у рейнджеров тоже бывают хорошие мысли. У того же крутого Уокера… Губы Паркера дрогнули, щеки побагровели, но он сдержался. Вот так-то, олух голубой, мстительно подумал Каргин. Такая вот геополитика. Жизнь полна сюрпризов, а потому не стоит плевать в колодец. – Мы можем связаться с побережьем? – спросил Боб и потянулся к телефону на поясе Арады. Тот вытащил мобильник, покачал в ладонях, передал хозяину. – Попробуйте. Я пытался, и не один раз… Керк, наверное, тоже… – Каргин кивнул, глядя, как Боб нервно давит на клавиши. – Связи нет. Что-то случилось с ретранслятором и с дверью бункера… Да и не только с ними… – На лице аргентинца было написано недоумение. – Странная вещь! Кое-что я не в силах объяснить… Приложив ладонь ко лбу, он снова уставился в небо. На пальцах его сверкнули золотые перстни. Что он там высматривает?.. уж не «оспреи» ли?.. – подумал Каргин, а вслух спросил: – В бункере есть оружие? – Там все есть. Оружие, одежда, запасы продовольствия, наличные деньги и ценности… – Мобильник вернулся к Хью, и референт начал баюкать его в ладонях, посматривая то на Бобби, то на Каргина. – Возможно, идея с выкупом не так уж плоха… позволит выиграть время… – нерешительно пробормотал он. – Местная АТС работает, и мы могли бы связаться с виллой. Я думаю, там их командир… Позвонить? – Как-нибудь в другой раз. – Каргин поднялся, запрокинул голову и оглядел пирамидальную скалу. С ее вершины свалился камешек, чиркнул по темной базальтовой глыбе и с легким шорохом исчез среди других камней. Сигнал от Тома… Что-то случилось – в поселке, на взлетном поле или во дворце… Может, убрались они к дьяволу? – мелькнула мысль. Он повернулся к Бобу и Хью и произнес: – Если нет иных предложений, проходит мое: осмотреться без суеты, а после решать. Вдруг наметится какой-то выход… Утром я схожу, взгляну. Арада тоже поднялся. – Сходите? Куда? – В поселок или к вилле. На разведку. Он направился к скале мимо Мэри-Энн, присевшей у входа в пещеру. Девушка с надеждой смотрела на Каргина. Лицо ее казалось маленьким, постаревшим и осунувшимся, рыжие слипшиеся пряди падали на грудь, кожа была не белой, а в серых разводах и полосах болотной грязи. Совсем другая Мэри-Энн… Измученная, жалкая… Так не похожая на рыжую ведьму из «Старого Пью» и на девчонку, любившую его на пляже… Что-то кольнуло у Каргина под сердцем, он наклонился и тихо произнес: – Помнишь, где родник? Иди, умойся, станет полегче. Жизнь не кончилась, сестренка. Ну, повалялась в болоте под пулями, побегала в лесах… Так будет что вспомнить в твоем гнездышке на Мэдисон авеню. – Выпить бы, выпить… – прошептала она. – Ковбои веселятся, а девушкам страшно… – Страшно, но интересно. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Он быстро взошел на скалу, к огромной плите, напоминавшей древний жертвенник. Отсюда открывался вид на обе бухты, на кратер и внешний склон вулкана, на разрушенный поселок с руинами домов среди обугленных деревьев, на мол, маяк и чудом уцелевшую яхту – она покачивалась на мелкой волне, и на ее реях и мачтах еще полоскались праздничные флаги. Поселок лежал километрах в шести к северо-западу, вилла – на том же расстоянии, но строго на север. Впрочем, сам дворец Каргин не видел – его закрывали скалы, деревья и дымящаяся обгорелая коробка на месте служебного флигеля. Том сунул ему бинокль. – Не пожелаешь ли взглянуть, Керк-сан? Что-то они делают… Что-то странное… Бинокль был мощным – двор между флигелем и конюшней будто прыгнул навстречу Каргину. Там суетились крохотные фигурки, копались в развалинах, что-то разыскивали, тащили во двор и складывали – но не беспорядочной кучей, а в ряд, тянувшийся перед фасадом здания. Вдоль этой длинной шеренги двигалась долговязая фигура в черном, наклонялась и приседала, будто исполняя старинный менуэт в плавном неторопливом ритме. Ее движения почти завораживали. Волосы на затылке шевельнулись под теплым дыханием Тэрумото. – Чем они занимаются, Керк-сан? – Вытаскивают из-под развалин трупы. – Чтобы похоронить? Каргин хмыкнул. – Нет, дружище, это не похоронная команда. Вытаскивают для опознания, пересчитывают… – Опустив бинокль, он погладил рубец под левым глазом и пробормотал: – Неважнецкие наши дела… Влипли по полной программе! По самые помидоры! Том вопросительно уставился на него. – Ищут, – пояснил Каргин. – А кого они могут искать? Конечно, не тебя и не меня… Мы – люди маленькие и никому не известные. Я думаю, для них даже Арада не представляет интерес. – Значит, Паркер-сан? – Значит, он. Заметная личность, наследник, президент… Получается, что заказали не только старого Халлорана. Ну, что будем делать, Томо? У них, – Каргин бросил взгляд в сторону виллы, – полный взвод, сорок или пятьдесят стволов, два помела, пулеметы, ракеты. Нас – трое. Может быть, четверо, считая с Тейтом… И с нами девушка. Кратер же невелик, и сколько не бегай туда-сюда, когда-нибудь попадешься. Кроме того, мы почти безоружны. С нашими пушками против «Грифов» и тарахтелок не повоюешь. – Он хлопнул по кобуре и мрачно промолвил: – Такая вот получается диспозиция! Что остается? Глаза Терумото блеснули. – Керк-сан думает, что надо бежать? Ночью? Захватить катер или яхту и уйти в море? – Догонят и расстреляют. На судне мы будем как мыши в мышеловке. – Есть еще вертолеты… – Том в задумчивости теребил губу. – Не их, а наши, те, что в ангарах рядом с электростанцией… Пять вертолетов. Три двухместных, патрульных, и два больших, пассажирских. Если до них добраться… – На патрульных нам не улететь, только на пассажирском. До Перу – тысяча миль, до Галапагосов – восемьсот… Далековато… Но есть и другие проблемы. Ты, к примеру, управишься с вертушкой? – Нет. А ты, Керк-сан? – Немного обучен. Не так, как настоящий пилот, но до материка дотяну. Жаль! – Каргин покачал головой. – Жаль, но это вариант опасный. «Грифы» – боевые машины, маневренные, быстроходные. Чтоб не догнали, нужна фора в три часа, даже в четыре. В противном случае… – Он полоснул ладонью по горлу. – Как они нас найдут? Если взлететь ночью, пока темно? – Найдут! У них такая штучка есть, радар называется. А еще – ракеты с системой самонаведения. Дальность – пятнадцать километров. Понимаешь, я… Каргин смолк, чуть не проговорившись, что сам спланировал эту операцию, и что о «Грифах» ему все доподлинно известно. Об их тактических возможностях, скорости, вооружении, боезапасе… Он вдруг почувствовал злость, то ли на Тома, то ли на себя самого, и, чтобы скрыть замешательство, снова приложил к глазам бинокль. Темные фигурки перед обгоревшим флигелем исчезли, остался только длинный ряд покойников, которых он смог пересчитать. Тридцать два человека… Двенадцать женщин, двадцать мужчин… Хорошо хоть, детишек нет… Терумото кашлянул за его спиной. – Керк-сан… – Да? – Будем драться? Нет, я не так спросил… не так и не о том… На мне – долг перед семьей хозяина, гири и гиму, и я буду драться. А будешь ли драться ты? Патрик-сан мертв, и ты ничем не связан… и в одиночку ты сильнее всех. Я ведь помню, как ты провел нас через джунгли! Один ты мог идти вдвое быстрее… мог спрятаться и переждать, мог выжить… Прости мои сомнения, Керк-сан, но я думаю, что мы для тебя – обуза. Каргин повернулся и оглядел японца с ног до головы. – Про джунгли помнишь? А про болото у свалки? Что я тебе там сказал? Тогда, когда мы бежали в лес? – Что наша работа не закончена, – пробормотал Том. – Вот тебе и ответ. С верхней дворцовой террассы неторопливо взмыли вертолеты, покружили над парком и потянулись в сторону кратера. Пора бы и вниз, решил Каргин. Позиция на вершине утеса имела свои преимущества, но у пещеры были свои – те же самые, что у мышиной норки. Кивнув японцу, он начал быстро спускаться, пробираясь среди темных трещиноватых базальтовых глыб. На середине склона, приостановившись, спросил: – Что такое гири и гиму? Гири похоже на харакири… Ты меня, Томо-сан, не пугай! Я тебе в таких делах не помощник – головы рубить не стану и не позволю живот вспороть. Том усмехнулся. – Пусть Керк-сан не тревожится, к этой национальной традиции я не склонен. Но я получил японское воспитание, а суть его – верность долгу. Гири и есть чувство долга, а гиму – обязанность, которую нужно исполнить. Человек чести помнит о собственных гири и гиму. – Вот это уже понятней, – проворчал Каргин, ускорив шаг и направляясь к пещере. Он загнал в нее своих подопечных как раз во-время, когда «Грифы» начали утюжить лесную полосу у скал, то и дело огрызаясь короткими пулеметными очередями. Они двигались зигзагом, от северной стены кратера до южной, потом обратно, и Каргин прикинул, что эта первая рекогносцировка будет завершена часа за три. Как раз к темноте. Было ясно, что операцией руководит умелый командир, такой, у которого все разложено по полочкам: сперва ревизия трупов, затем – поиск недостающих лиц. И пилоты его оказались парнями толковыми: над скалами зависали, над лесом шли помедленней, а над болотами – побыстрей. Болота, лужи и водоемы, примерно треть территории кратера, лежали в северной части, просматривались хорошо, и человек неопытный там спрятаться не мог. Время тянулось час за часом, пока не спустились сумерки. Из пещер, пещерок и трещин серыми хлопьями взлетели нетопыри, повергнув в ужас Мэри-Энн; похожие на динозавров скалы будто сомкнулись за спиной, отгородив беглецов от моря и ветра; над краем восточных утесов поднялся бледный лунный серп, взглянул на заваленный трупами остров, поморщился и спрятался за облаками. «Грифы» исчезли, стрекот моторов смолк, начал накрапывать теплый редкий дождик. Каргин велел раздать еду и по глотку спиртного, назначил в ночной караул Криса и Стила Тейта и минут двадцать скандалил с Бобби, пока тот не сдался и не швырнул повару свой «магнум». После чего лег спать, наказав, чтобы разбудили на рассвете.
* * *
Сон ему приснился мерзкий: все та же яма в афганских горах, только на этот раз закапывали его самого, и поверх стояли не муджахеды в приплюснутых шапках, а черные фигуры, с черными, скрывавшими лица масками. Он видел только их глаза и рты; глаза были серо-зелеными, с колючими, как острия штыков, зрачками, а рты – будто прорубленными ударом топора. Они глядели на Каргина, который стонал и ворочался в яме, и усмехались. Каким-то образом он помнил о другом сне, о том, про который рассказывал Росетти, капитан «гиен» – торжественная служба над генералькой могилой, папа, кардиналы и архиепископы – помнил и даже завидовал Росетти, которого хоронят с таким благочинием. Потом привиделся ему Перфильич: будто глядит на него сверху вниз, покачивает головой и говорит: ну, доигрался, парень, в своих заграницах? А вот пошел бы ко мне в «варяги», взял под себя Сокольники, похоронили б тебя по-людски, с салютом и оркестром… Ну и тех, кто тебя уложил, не забыли бы, насверлили бы дырок в разных местах… Меня еще не уложили, хотел сказать Каргин, но из горла вырвался лишь предсмертный хрип. Тейт поднял его на заре и сообщил неприятную новость – что ночью Мэри-Энн подобралась к бутылке с бренди. Отнять ее повар не решился, и теперь молодая хозяйка спала глубоким сном, а запас спиртного был почти ополовинен. Чертыхнувшись, Каргин велел, чтобы бутыль припрятали получше, взял бинокль и пару сухарей и полез на скалу – понаблюдать за обстановкой и привести в порядок мысли. Обстановка была спокойной, а мысли – невеселыми. Слишком много случайностей, странных накладок и совпадений, думал он. И слишком много вопросов, не разобравшись с которыми нельзя прогнозировать ситуацию. Прогноз же был необходим. Прогноз включал в себя три основных элемента: предугадать намерения противника, блокировать удар и нанести ответный – там, где неприятель не ждет, и в то мгновенье, когда он считает себя в безопасности. Основы тактики и стратегии… Так его учили, и весь многолетний опыт лишь подтвержал нерушимую истинность преподанных аксиом. И первая из них гласила: собрался воевать всерьез – познай врага. Каддафи, Тегеран, алжирцы либо китайцы… Бред! Быть может, имелись у них счеты с Халлораном – или, по выражению Хью, финансовые сложности, – но очень сомнительно, чтоб кто-то из этой компании сумел добраться до Иннисфри. Все вместе или каждый по отдельности… Тем более, на субмарине «Сейлфиш». Нет, тут ощущалась другая рука! Шон Дуглас Мэлори, коммодор и вице-президент, член совета директоров, шеф административного отдела… Возможно – Брайан Ченнинг, инвестор, финансовый гений… Все полковники мечтают прыгнуть в генералы, размышлял Каргин, а пути к генеральским погонам извилисты и различны, и есть между ними такой: вышестоящему – бомбу в кресло, соперникам – пулю в лоб, ну а свидетелей – за потроха и в ножи… Потом всех покойничков закопать, поглубже и подальше, и натянуть штаны с лампасами… Очень логичное решение, прям-таки в духе российских разборок! А чтоб российский опыт втуне не пропал, нужно взять российского умельца, пригреть и обласкать, наобещать с три короба и заказать ему план… Потом слегка подкорректировать всю операцию, чтоб от умельца отпечатков не осталось. Ни отпечатков, ни костей, ни праха… Такая гипотеза объясняла многое – может быть, все. К примеру, коррективы, внесенные в исходный план. И то, как подобрали время для атаки – под юбилей, когда к престарелому дядюшке приехал любящий племянник. И то, что Мэлори и весь совет директоров не появились вслед за ним, не спели боссу «хэппи бездэй ту ю». И то, как босс расстался с жизнью – не в спальне, не у рабочего стола, а в час спортивных экзерсисов на свежем воздухе. Последнее определенно подтверждало, что нападающие знали о его привычках и о деталях местной топографии. Скажем, о Нагорном тракте. Если нужно пришить человека, рассуждал Каргин, лучшего места не найдешь. Слева – пропасть, справа – пропасть, и никаких тебе укрытий, кроме тоннелей и блок-поста. Останешься на дороге – расстреляют, залезешь в тоннель или дот – размажут по стенкам «хеллфайером»… Да, отличное местечко! Вот если б сидел старик во дворце, его так просто быне взяли. Большое строение, крепкое, с первого выстрела не сковырнешь… Сзади – скала, внизу – катакомбы, и если забраться в убежище – ищи-свищи… Если забраться! Он покачал головой, потом нахмурил брови, в десятый раз соображая, что же такое могло приключиться с дверью бункера. С дверным замком, с «оспреями», не прилетевшими на Иннисфри, и с ретрансляторной антенной… Винить нападавших в подобных казусах было бы нелепо. Совсем нелепо, какими бы детальными инструкциями их не снабдили коммодор и весь совет директоров!.. Как объяснить отсутствие гостей Каргин не знал, но был уверен, что о двери и ретрансляторе побеспокоились заранее. Выходит, имелся у Мэлори свой осведомитель во дворце! Сообщник, очень знающий и ловкий. Пятая колонна, ренегат… Личность проверенная и доверенная, вроде Спайдера или Арады. Но Спайдер был вне подозрений. Смерть его являлась лучшим свидетельством верности, а значит, ретранслятор и бункер нельзя списать на Альфа. Предатель – если он действительно существовал – скрывался среди живых, а тут, кроме тощего Хью, и выбрать-то было некого. Не Боб же постарался с дверью, не Нэнси и уж, во всяком случае, не повар Тейт… Выходит, Арада, решил Каргин, отбросив прочих претендентов. Или, как минимум, лицо из самых приближенных… Жаль старика! Акула, конечно, а все-таки жаль! Ни дочерей, ни сыновей, ни внуков, а если б кто и был, то степень родства вряд ли имела значение. Взять того же Хью: сын он старому Халлорану или не сын – без разницы, такие вещи в серьезном бизнесе в расчет не принимают. Гораздо важнее, что был у аргентинца свой финансовый интерес, а значит, и повод к предательству. К тому же Паркера он не любил, и в этом сходился с Брайаном Ченнингом и коммодором; они симпатий к Бобу тоже не питали. Общий враг, общие цели – вот и удобрение для заговора, мелькнула мысль. Дядюшку – в расход, а вслед за ним – племянничка, чтоб не мешал и вертелся под ногами… Такие вот шуточки с дверью… Прищурившись на восходящее солнце, Каргин начал что-то насвистывать, отбивая на колене такт, потом вдруг хлопнул себя по лбу и с раздражением прошипел: – Чтоб мне к Хель провалиться! Ну и гнида, хинштейн твою мать! Шуточка с дверью… Не было никакой шуточки! Вернее, была, но совсем другая, чем мнилось простодушным зрителям. Умник Хью просто набрал липовый шифр и заявил, ничем ни рискуя, что дверь не открывается. Кто мог его проверить? Разумеется, никто! Снайдер, да сам Халлоран… еще инженер из дворцовой обслуги… Все к тому времени – покойники! Скрипнув от злости зубами, Каргин поглядел на часы, отметил, что натикало семь с минутами, а враг еще активности не проявляет. Солнце поднялось над восточной стеной и грело исправно, но он ощущал, как при мысли о шуточках Хью ползут по спине ледяные мурашки. Лезут откуда-то из-под лопаток, холодят бока и не спеша пробираются по позвоночнику… Если б не мусорная щель, всех бы положили у той двери! Или на кухне, в коридоре, в кладовых… Там бы он и кончил жизнь, меж замороженных цыплят и банок с пивом… Так, вероятно, и предусматривалось в ходе зачистки: тоннель в служебный корпус завалить, а тех, кто ринется к бункеру, перестрелять у запертой двери. Другой вариант отступления – через парк. Но тут пришлось бы выбраться на лестницу и на открытое пространство перед ней – верная смерть, когда над головой висит вертушка. На лестнице все, как на ладони, лишь за сфинксов и спрячешься… А толку? «Стингера» сфинкс не заменит… Вот и воюй с пистолетом против пулеметов!.. Он сплюнул и успокоился – ровно настолько, чтобы прикинуть последствия зачистки. Скажем, перебили бы всех у той двери… всех, разумеется, кроме Хью-заговорщика… А после что? А после на сцену явилась бы мадам Оливия, безутешная сестра и мать, единственная и бесспорная наследница… И стала бы она хозяйкой ХАК, уселась бы на королевском троне, и в том бы ей никто препятствий не чинил – ни Мэлори, ни остальные видные фигуры. Ибо трон ее – в лечебнице, в психушке «Рест энд квайет»… В общем, в тех краях, где тишина и покой. И был бы тогда абсолютный порядок. Все маршируют стройными рядами под барабанную дробь, а барабанят те же лица… Существовал, однако, альтернативный вариант: быть может, после Бобби в наследницы предназначалась Мэри-Энн, но не сама по себе, а с приложением супруга. Надежного мужчины зрелых лет, снискавшего доверие у барабанщиков… Ему бы и барабанить позволили, только негромко и в такт с остальным оркестром. Или к роялю усадили, наигрывать вальсы для Мэри-Энн, чтоб танцевала в нужном направлении. Она бы согласилась, подумал Каргин. Конечно, согласилась! Во-первых, миссис Арада-Паркер-Халлоран звучит совсем неплохо, а, во-вторых, уж больно аргументы убедительны! Или под венец, или в мусоропровод с пулей в затылке… К тому же могли бы обставить дело покультурнее – вроде как Хью ее отторговал у этих гадов в черном… Или устроить романтический побег… На яхте под алыми парусами… Нэнси, Хью и ящик виски… Минуло восемь. В поселке – никого, лишь часовой вышагивает вдоль мола да курится над руинами дымок. На вилле тоже никого – во всяком случае, в тех местах, какие доступны осмотру. На взлетном поле, у ангаров, шевелились – похоже, заправляли топливом вертушки. Зато Нагорный тракт был пуст. Серый бетонный купол уже не торчал у озера, и лишь обломки грудой битой скорлупы усеивали берег. Надо бы сбегать, поглядеть, решил Каргин и опустил бинокль. Сойдя вниз, он отправил Тэрумото на скалу в дозор, перекусил (сухарь с глотком воды), затем проверил снаряжение: у пояса – нож и две кобуры, мачете – за спиной, берет – на голове, мобильник и обоймы – по карманам. Нэнси и Боб еще спали; Крис, после ночного дежурства, тоже дремал, однако в пол-глаза; рядом Тейт мрачно пересчитывал сухари и скреб тесаком кость от окорока. Но она была уже отполирована дочиста. Референт, как и вчерашним вечером, надменно обозревал небеса. Он устроился в тени, за бурой глыбой, напоминавшей перезрелую тыкву, и, бросив туда взгляд, Каргин вдруг замер, словно пораженный ударом грома. Радиотелефон! Мобильники были лишь у него и у Арады. Тот, что у него – в кармане, второй аппарат – в чехле, пристегнутом к поясу референта. Добротный кожаный чехол, даже щеголеватый, как и одежда Хью… Правда, после скитаний в джунглях его башмаки и брюки выглядели не лучшим образом. А мог ведь заложить!.. Днем или ночью – словом, в любое время, размышлял Каргин, присматриваясь к гипотетическому ренегату. Забраться в скалы в темноте, будто по неотложной надобности, и вызвать этих, в черном… Тотчас были бы здесь и шуганули ракетами… И получился бы славный фарш – из президента, его сестрицы и верных мамелюков… Однако не заложил! Выходит, не предатель? И шуточек с дверью не было? То ли замок и правда сломался, то ли сменили код, но в этом деле аргентинец не замешан? Теряясь в догадках, Каргин подошел к нему, присел на бугристый базальтовый обломок и дружелюбно улыбнулся. – Буэнас диас, дон Умберто… Тот с удивлением вскинул глаза. – Знаете испанский, Керк? – Лучше английского. Это одно из условий моего контракта. – Где изучали? В России? – Не только в России. – Где же? В Испании? – Нет. Гораздо дальше… Прищурившись, Каргин продекламировал:Глава 11
Иннисфри, кратер; 23 июля, деньЗа спиной грохнуло. Каргин упал, вжался лицом в сырой белесый мох; взвизгнули осколки, порыв жаркого ветра пролетел над ним, земля всколыхнулась, будто в ее глубине начал ворочаться Мировой Змей Мидгарда из скандинавских легенд. Об этом Змее ему рассказывал Лейф Стейнар, покойный лейтенант-датчанин. Говорил, что чудище лучше не беспокоить всякими бомбами да взрывами – неровен час, проснется, всех отправит в Хель. Хель был скандинавским адом, и попадать туда Каргину вовсе не улыбалось. Как-нибудь попозже, в другой раз… Еще он надеялся, что ему, в силу профессиональных заслуг, уготовано место в Вальгалле – там, где разносят пиво и соленые орешки голубоглазые валькирии в мини-юбках от «Коко Шанель». Сейчас бы он от орешков и пива не отказался… Да и от валькирии тоже… Снова грохнуло. Меж деревьями взметнулся огонь, пронзительно заверещала и смолкла какая-то птаха, посыпались ветки и щепки, над головой со стоном пролетел кусок раскаленного металла. Из гранатометов лупят, подумал Каргин. Хорошо еще, простым снарядом, не «лягушкой»… «Лягушка» при ударе о землю подскакивала метра на полтора и лишь затем взрывалась, так что разлет осколков получался совсем иной, не снизу вверх, а во все стороны. «Лягушкой» бы его сейчас пришибли… Но и в обычных гранатах не было ничего приятного, а потому полагалось отступить. Выровнять линию фронта под давлением превосходящих сил. Он пополз, прижимаясь к земле, опираясь на локти и колени – мимо низко свисавших бурых лиан, мимо зарослей с гроздьями белых цветов, похожих на колокольчики, мимо чико, саподиллового дерева с глянцевитыми темно-зелеными листьями. Кору чико посекли осколки, и теперь из порезов текла мутноватая камедь. В Никарагуа ее жевали, вспомнил Каргин. Поднявшись, он запетлял между деревьями, стараясь бежать бесшумно, но быстро, потом продрался сквозь колючие кусты, тремя ударами мачете расчистив путь, выбрал местечко посуше и залег. Мачете давало ему большое преимущество – он рисковал забраться в дебри, куда врагам заказан вход. Они, конечно, могли попробовать, но всякий солдат, попавший в непроходимую заросль, был уже не боевой мобильной единицей, а мишенью. С преследователями такого не случалось, а это значило, что в джунглях они не новички. Лиц их Каргин не видел, только темные силуэты, мелькающие меж стволов, но преисполнился уверенности, что гонят его не арабы и не китайцы. Коммандос, опытные наемники, профессионалы… Кто именно, он подозревал, но подозрения еще не перешли в уверенность. Двигались они неторопливо, развернувшись цепью, с упорством охотников на беззащитную дичь, и он поддерживал их в этом мнении – не выстрелил ни разу и кое-где оставил глубокие следы, будто дичь металась и кружила, охваченная паникой. Противник, впрочем, на эту уловку не поддался, что говорило о хладнокровии и изрядном опыте. Шли, как и прежде, не спеша и с осторожностью, палили по деревьям и кустам, пугали дичь, а в заросли не лезли. Зачем, коль есть гранатомет? Замысел их был Каргину понятен: вытеснить его из леса на открытое пространство, взять живьем и попытать, много ли беглецов засело в кратере и где обретаются те беглецы – то ли в манграх, то ли в пещерах среди скао. В общем, если не считать пленения и допроса, это совпадало с его тактическими планами. Он уводил преследователей на северо-восток, подальше от Лоу бей и Хаоса, и занимался этим вполне успешно шесть часов. Он не устал и не испытывал особых неудобств, только хотелось есть и жгла царапина в боку от проскользнувшего излетного осколка. Противник, надо думать, поиздержался сильнее. Если говорить об экономии сил и средств, то оборона всегда предпочтительней атаки, а в джунглях и горах подобный тезис верен вдвойне: догоняющий и атакующий затрачивает больше сил, ибо, распутывая следы и опасаясь засад, проходит большее расстояние. В таких экстремальных местах оно исчисляется не километрами, а иной мерой, связанной с боеспособностью и выживанием: усталостью, голодом, реакцией на опасность, потерей бдительности. Каргин надеялся, что неприятель если не утомлен, то раздражен – все-таки мотаться шесть часов в тропическом лесу не шутка. Раздражение давало ему выигрыш, было таким же козырем, как и его мачете; гнев туманит разум, и не всякий стрелок разглядит, где настоящая цель, а где – пеньки да кочки в пятнистых моховых комбинезонах. Шаг за шагом он вел погоню на северо-восток, туда, где мангровый лес переходил в болота, тянувшиеся до скалистой кратерной стены. Хорошее место – болото! Хотя Каргин здесь не бывал, как и его противники, но представление о местности имелось – разглядывал в трубу не раз, прикидывал из любопытства, где тут воды, где тут твердь, и что в краю далеком водится – может, кайманы с анакондами? Иных зверей, кроме огромных жаб, тут не нашлось, зато увидел он два озера, соединенные протокой. То, что поближе и поменьше, таилось в лесу, среди болотных кипарисов; то, что подальше, было километровых размеров окном в трясине, темным и блестящим, как вставленный в изумрудную раму обсидиан. Его обманчивая красота завораживала, но сейчас Каргин о ней не думал; он направлялся к ближнему озеру. Разрывов не было слышно, но за спиной, метрах в двухстах, лениво постреливали и перекликались. Влажный тропический лес глушил все звуки – треск автоматных очередей казался шелестом дождя, а людские голоса делались невнятными, так что не разберешь ни о чем кричат, ни на каком языке. Однако перекличка и выстрелы помогали ориентироваться, и Каргин, прислушавшись, решил, что находится левее, чем середина цепочки загонщиков. Это было неплохо; он собирался нанести удар как раз по левому флангу, с той стороны, где мангры смыкались с болотом. Бей крайнего, гласила военная мудрость; бей, и выходи из окружения. – Крайним всегда достается, – пробормотал Каргин, вскочил и короткими перебежками двинулся к озеру. Кажется, его не заметили; во всяком случае, крики и выстрелы не сделались громче. Озерный берег был где-то неподалеку – раскоряченные болотные кипарисы стояли тут шеренгами, словно дивизия на бивуаке. Но кроме них в земле торчало что-то странное и непотребное – пальмы, а может, папоротники-переростки с волосатым коротким стволом, похожим на огромную морковь, и пышным веером листвы. Из-за этих уродцев обзор был нулевым, да и проходимость почти такой же. Хмыкнув, Каргин вытащил мачете, приласкал обтянутую акульей кожей рукоять и через пару минут пробился к озеру. Следы за ним остались заметные – целая просека в охапках перистых листьев. На берегу было просторней; тут кипарисы потеснили пальмы, раскинулись между кочками и промоинами, а те, что посмелей, даже залезли в воду. Вода казалась черной, как деготь. И кто ж тут водится?.. змеи?.. анаконды?.. – подумал Каргин, ступив на озерное дно и раздвигая круглые листья кувшинок. Почва пружинила, но держала. Он смочил губы, затем меторопливо побрел по пояс в воде, присматривая подходящее укрытие, кочку с травой или какой-нибудь куст поразвесистей. Водоем был невелик, солоноват и мелок – видимо, море просачивалось в кратер сквозь незаметные трещины. За озером, по обе стороны протоки, лежало болото – плоское, как стол; над ним высились скалы, и темная их стена, поднявшись на восходе солнца, плавно поворачивала к западу. Слева от озера, между болотом и лесной опушкой, тянулась полоса земли, покрытая кочками, мохом да кустами – лучший путь для отступления, или, по крайней мере, самый быстрый. Конечно, в сравнении с манграми и трясиной. Каргин очень рассчитывал на него. Подходящий кипарис нашелся в пятнадцати шагах от берега. Отличное место для засады: торчит на кочке, ветви полощутся в воде и так густы, что ствол не разглядишь. Каргин присел за деревом, стараясь не замочить бумажник в нагрудном кармане, сполоснул лицо, протер ладонью и расстегнул обе кобуры. Рядом, на соседней кочке, сидела жаба величиной с футбольный мяч. Темные выпуклые глаза изучающе уставились на него, ярко-красный горловой мешок подрагивал, словно жаба размышляла, не предложить ли себя пришельцу в жены. С тем, разумеется, условием, что впоследствии она обернется красой-девицей, наследницей корпорации ХАК. Каргин вытащил блестящую звездочку сюрикена, подбросил в ладони. Жаба протестующе заклокотала. Он подмигнул ей. – Не беспокойся, подружка, это не для тебя. Для очень плохих парней. Ты посиди, погляди, как я с ними управлюсь. Только не шуми. Она не поверила, булькнула разочарованно на жабьем языке и спрыгнула с кочки. Пожалуй, анаконды здесь не водятся, ухмыльнулся Каргин, наблюдая, как она с хозяйским видом гребет к протоке. Запрокинув голову, он осмотрел небесный свод. Небо было пустым и чистым – ни птиц, ни летучих мышей, ни самолетов. Возможно, в этот миг в далеком Фриско, в гостинице «Холидей Инн» идет прием, сенаторы толкают речи, корреспонденты берут интервью, звенят бокалы и важные персоны провозглашают тосты юбиляру… А юбиляр в таком плачевном виде, что косточек не соберешь и не положишь в гроб. Разорван на куски, сожжен и перемешан с пылью и бетонными обломками… Смерть, пожалуй, неплохая, лучше, чем от старческих болезней, но пал он не в бою, а от предательского удара. От рук человека, которому, видно, доверял, как самому себе. – Не выдержал дистанцию, – тихо произнес Каргин, припоминая их последнюю беседу. – Военачальник командует, король правит, и рядом с ними равных нет… Ошибся, однако, не пристрелил своего лейтенанта в положенный срок. Странное чувство охватило его – не жалость к погибшему Халлорану, но все-таки что-то похожее на сожаление. Сейчас, отмокая в темной болотной водице, готовясь к схватке с неведомыми врагами, он друг осознал, что Халлоран пытался чему-то его научить или, быть может, доискивался, чему его научили другие – родители, отцы-командиры в «Стреле», полковник Дювалье. Зачем, для чего? Готовил человека на замену Спайдеру? Или нуждался в коммандос для самых деликатных миссий? Внятного ответа не имелось, но роль секьюрити была, очевидно, лишь первой ступенькой длинной лестницы. Первой и последней, подумал Каргин. Как бы дела не обернулись, лестница уже в руинах, а архитектор мертв. Он насторожился, услышав, как за кипарисами что-то хрустнуло. Потом хруст сделался частым и размеренным, будто давили башмаками пальмовые листья на проложенной в манграх тропе, и через минуту к озеру вышел человек. Рослый, в темном комбинезоне, с короткоствольным автоматом, и совершенно не похожий ни на араба, ни на китайца. Скорее немец или скандинав – коротко остриженные волосы были светлыми, лицо – узким, с массивной нижней челюстью. Солдат настороженно огляделся, поводя туда-сюда стволом. «Ингрем», не «узи», решил Каргин. Ствол покороче, тыльная часть поквадратней, обойма торчит из рукояти на ладонь… Хорошая тарахтелка! Не семьдесят четвертый АКС, но все же… Калибр девять миллиметров, в обойме тридцать два патрона, прицельная дальность – сто… Не опуская оружия, светловолосый что-то вытащил левой рукой из кармана, поднес к губам и пробормотал несколько слов. Вызывает поддержку, мелькнуло у Каргина в голове. Заметил, что листья порублены… А как не заметить – старался! Привстав, он метнул стальную звездочку и тут же, выхватив мачете, ринулся на берег. Но добивать светловолосого не пришлось – тот рухнул у самой воды, бессильно раскинув руки, не выпустив ни рацию, ни автомата. Глаза его были широко раскрыты и неподвижны, челюсть отвалилась, в виске смертельным украшением поблескивал сюрикен. Засел он прочно; наружу торчала едва ли третья часть. – Вот так-то, – пробормотал Каргин. – Это тебе не пикничок на лужайке… Он склонился над убитым, погладил нашивку на рукаве. Алый крылатый дракон, извергающий пламя… старый знакомый, герб частей поддержки, эскадрона крыс… Выходит, не обошлось-таки без Мэлори! Последовал совету, лысый хмырь! Может быть, и Кренна здесь? Живьем и самолично? Или отправил лейтенантов? Скорее, здесь! Деньгу упустить – не в его правилах… Торопливо обшарив подсумки, Каргин выдернул автомат из пальцев светловолосого и произнес надгробное слово: – Бог велел делиться, приятель. Поделишься с неимущим, бог простит твои грехи. После этого обряда он оттащил труп в сторону – так, чтоб не было заметно с просеки, затем направился к своей кочке, присел, сменил обойму и стал ждать. Явились три башибузука. Двоих он срезал короткой точной очередью, третий метнулся в папоротник-переросток, но листья его оказались неважной защитой – Каргин успел подранить беглеца. Нашел его, хрипящего в луже крови, и добил выстрелом в затылок. В бою убиваешь легко. Глаз не видно, слов не слышно, а если что и услышишь, так ругань и угрозы. Под них и убивать полегче… Ничего особо ценного на трупах не нашлось, все те же подсумки да «ингремы», ни тебе базуки, ни снайперской винтовки. С другой стороны, тащить такую тяжесть было бы несподручно, а в данный момент успех определялся быстротой. Как говорил майор Толпыго, побил горшки – и деру! Вали, пока горшечники не добрались! Хороший совет, думал Каргин, поспешно отступая вдоль опушки. Здесь, на топкой полоске земли между болотом и манграми, он двигался вдвое быстрей, чем в лесных дебрях. Ни лиан, ни сучьев, ни веток, ни корней… Ноги, правда, вязли, зато следов не оставалось – упругий мох поднимался с такой скоростью, будто каждый стебелек отрастил стальную гибкую пружину. Может, то был совсем не мох. Такая травка Каргину не попадалась ни в Африках, ни в Азиях с Америками. Впрочем, тут был не континент, а остров, место совсем особое и непохожее на остальные места. Тропический остров Иннисфри, тысяча миль от побережья Перу и две с половиной – от Маркизского архипелага… Несколько южней Галапагосов – миль на семьсот-восемьсот… Крохотная частица суши, окруженная водой, со своими деревьями и травами, своим зверьем и своими законами. Главный же из них не изменился за промелькнувшее столетие и, как помнилось Каргину, гласил: ешь, не то съедят тебя. Джек Лондон, сказки Южных Морей… Его не преследовали – то ли разбирались с трупами, то ли погоня отстала так далеко, что он ее не слышал. Гнали его на восток, теперь же он двигался в обратном направлении, но не петлял в джунглях; от западной кратерной стены его отделяли всего километров пять. Может быть, шесть или семь. Он надеялся преодолеть их за полтора часа. Тут было невозможно заблудиться: слева – лес, справа – болото, за ним – скалы. И где-то впереди – дворец, с террасой, повисшей над горными кручами, и спрятанным в их глубине подземельем… Любопытно, как они попали в бункер?.. – размышлял Каргин. Может, Кренне сообщили код – тот самый, высшего приоритета? Мэлори, лысый черт, его, наверно, знает… Мог и с другим постараться – скажем, устроить Иннисфри блокаду, отменив полеты… А остальное случилось по сценарию Хью: Спайдер сменил комбинацию, да не успел сообщить, решил, что утро вечера мудренее… Возможное дело? Возможное! Но все равно с антенной непорядок… Не бомбили, не стреляли, а ретранслятор сдох… Кто постарался? Поди узнай! Может, кто из техников либо помощников Арады… Может, человек не ведал, что творит… Приказали – сделал, а теперь валяется у служебного флигеля, мертвяк мертвяком! От быстрого марша он вспотел, рана под ребрами начала кровоточить, пришлось залепить ее прохладным листом кувшинки. Посреди дороги в небесах раздался стрекот; разглядев вертушки, Каргин живо юркнул в лес, устроился под пальмами. Выслали оба помела – значит, эвакуируют всех, и мертвых, и живых… С одной стороны, хорошо: погони не будет. С другой – плохо; как бы не заперли дверцу в бункер… Каргин очень надеялся туда попасть. «Ингрем» штука неплохая, но лучше воевать с винтовкой. С хорошей винтовкой и с километров двух… Тем более, когда имеешь дело с Кренной. Умен, предусмотрителен и жаден! Все приберет, что плохо лежит… К примеру, тот японский меч, что был у самурая, охранника Айдида… Новости насчет бельгийца и команды «крыс» не слишком удивили Каргина. В конце концов его злосчастный план был принят и исполнен Мэлори в деталях: «Грифы», и подлодка, и боевые пловцы, и очередность подавления пунктов обороны. Что ж удивляться, если коммодор выбрал названных им исполнителей? Люди подходящие, проверенные: через одного – головорезы, а остальные – Джеки-Потрошители. Серьзный противник! Зато знакомый. Как говорил майор Толпыго, всегда приятней знать, в кого стреляешь. Когда вертолеты возвращались назад, Каргин уже вышел к свалке и спрятался за грудой ржавых консервных банок. Прямо над ним темнело отверстие мусоропровода, за банками валялись разбитые ящики и обломки пластиковых кресел, затонувших в половодье всякой мелкой дряни – костях и бутылках, рваных пакетах, бумаге, смятых сигаретных пачках и кучках гниющих фруктов. Дальше скала изгибалась, образуя глубокую выемку – грот не грот, но что-то вроде ниши. От свалки ее отгораживал естественный контрфорс – базальтовый выступ пятиметровой высоты, темно-бурый и словно отполированный усердными руками. Каргин подобрался к нему, бесшумно скользнул наверх, свесил голову. Дно ниши было залито бетоном, стены укреплены массивными стальными балками; в глубине зияло прямоугольное отверстие – не дверной проем, а целые ворота, в которых пара танков не застрянет. На пороге сидел часовой, курил и сплевывал, стараясь попасть в валявшуюся метрах в трех обертку от жвачки. Второй страж, с сержантскими нашивками, прогуливался как раз под Каргиным. Лица этого парня он не видел, только темноволосую макушку да широкие, обтянутые комбинезоном плечи. Каргин свистнул, солдат у двери поднял голову и тут же сложился пополам; в горле, прямо под челюстью, блестела звездочка сюрикена. Второй, с широкими плечами, от неожиданности застыл, потом дернулся к напарнику, но было поздно: автомат в руках Каргина уже ударил его в затылок. Бил Каргин не сильно, однако в прыжке, и не успел извернуться – упал на рухнувшего стража, прижав всей тяжестью к земле. Тело под ним не трепыхалось, и на мгновение он подумал, что перестарался: будет ему не «язык», а труп. Поднявшись, он расстегнул комбинезон, ощупал рану – ладонь была в крови. Затем перевернул широкоплечего на спину, убедился, что тот еще дышит, спутал его запястья проволокой-удавкой, а щиколотки – ремнями от наплечной портупеи. Солдат был смутно знаком; видел его пару раз в каком-то их бозумских баров и даже помнил, что широкоплечий – немец из Баварии, и что зовут его то ли Мартином, то ли Бруно. Определив, что череп у пленника цел, Каргин усадил его, опер лопатками о камень и принялся похлопывать по щекам. Лечение продвигалось успешно: секунд через тридцать Мартин – или Бруно? – заворочался и приоткрыл глаза. Вид у него был ошеломленный. – Крхх… Похоже, на меня скала свалилась… А ты… ты кто? – КК, – сообщил Каргин. – Капитан Керк, Иностранный Легион, рота «би», синие «гепарды». Помнишь такого? – Ты как тут очутился? – пробормотал Бруно или Мартин, с трудом ворочая языком. – Не брал майор с собой капитанов… точно не брал… крх… только сержантов и пилотов… – Пилоты кто? – Фриц Горман и Пирелли… Тебя не брал… Помню, не брал… – Не брал, – согласился Каргин. – Нынче я по другую сторону баррикад. Не повезло тебе, Бруно. – Крх… Я не Бруно… Мартин… Мартин Ханс… – Значит, не повезло Мартину, – Каргин вытащил нож. Зрачки пленника расширились; кажется, он начал соображать, что к чему. – Ты что, капитан? Своих легионеров резать? – Был свой, да весь вышел. Опять же, не из Легиона ты, а так, шестерка на подхвате, – со вздохом сказал Каргин, однако нож убрал. Не получалось у него с пленными. Знал, что надо пришибить, а вот руки поднять не мог. Хотя не сомневался, что этот Мартин Ханс его не пощадит и пулю всадит при первой возможности. – Ты старший в патруле, сержант? Где рация? – Крх… Я… Рация… карман… левый… Каргин вытащил приборчик, сунул за пояс и поворочал Ханса, укладывая лицом к скале. Мало ли чем удастся поживиться… Не хотелось, чтоб немец видел, что он потащит из бункера. Но Ханс, похоже, терял сознание – щеки его побледнели, глаза закрывались. Каргин потряс пленника за плечо. – Дверь… дверь наверху перед лифтом… Как ее открыли? – Открыли, когда майор велел… крхх… граната не брала… пла… пластиковая взрывчатка… бух! – и нету… Он отключился. Выходит, нет Кренне полного доверия, сообразил Каргин. Не поделились с ним шифром… Выходит, не желали, чтобы совался в бункер со своими басурманами… А сунуться пришлось. Мэнни пристрелили на болоте, а президента Боба среди погибших нет как нет. Даже кретину ясно: смылся президент и где-то прячется, либо в убежище, либо в скалах и мангровом лесу. Если в лесу – то как он туда попал? Как спустился? Первая мысль – через бункер… Значит, надо взламывать дверь и обыскивать помещение. Все вполне логично! Размышляя на эти темы, он осмотрел бесчувственного Ханса и его напарника, собрал оружие – пистолеты, «ингремы», обоймы; пошарил в подсумках, но там ничего толкового не нашлось – ни пищи, ни гранат. Груз получился небольшой: три «ингрема» весили меньше одной винтовки «эмфилд». Подумав о винтовке, Каргин сложил свои трофеи у порога и быстро направился внутрь. Ход был освещен неяркими лампами в металлических колпаках, дважды изгибался под прямым углом, и в трех местах его пересеками полозки для откатных дверей, сейчас задвинутых в стену. За этим коридором находилась просторная камера: полки до сводчатого потолка, шкафы и холодильники в глубоких нишах, коробки, сложенные аккуратным штабелем, какие-то баллоны, ящики, бочки. Видимо, складское помещение, решил Каргин; в дальнем его конце блестела клетка лифта, и от нее разбегались коридоры, пять или шесть. Вытащив нож, он подступил к коробкам, вспорол первую попавшуюся и обнаружил в ней постельное белье – кажется, простыни. В трех следующих была одежда – рубахи, брюки и полотняные куртки, в четвертой – башмаки. Хорошие башмаки, американские, с подошвой толщиной в два пальца, однако каргинские были не хуже. Отрезав широкую ленту от простыни, он спустил с плеч комбинезон и обмотал рану; затем разочарованно вздохнул и огляделся. Огромный склад черт-знает-чего-на-всякий-случай… Копайся до второго пришествия, до нужного не докопаешься… Может быть, в тех ящиках? Фонарики трех видов, кастрюли, сковородки, баллончики шампуня… Дальше – мыло, персиковый компот, банки с яичным порошком, икра, тушенка… Дьявол с ней! Оружие! Где тут оружие? Он бросился к шкафам, раздвинул дверцы и понял, что удача ему улыбнулась. Тут, в специальных ячейках, был выставлен целый арсенал: повыше – пистолеты и револьверы, пониже – охотничьи ружья и штурмовые винтовки, карабины и автоматы. Тарахтелки были российские, правда не самых последних моделей, АКМ и АКМСУ. На дне лежали коробки с патронами, отдельно – штыки, прицелы и насадки для ночной стрельбы. Все – новехонькое, но в надлежащей боеготовности, даже очищенное от смазки. Еще имелись компактные гранатометы «армскор», а к ним – штабеля боеприпасов: осколочные, кумулятивные и дымовые. На целую армию хватит, подумал Каргин, разглядывая винтовки. Одна оказалась особенной – с длинным стволом и в полном снаряжении, с телескопическим прицелом и вставленной обоймой. Редкостное оружие, точное и очень мощное… М82, под пулеметный патрон, прицельная дальность – две тысячи метров… Один недостаток – тяжеловата. Ну, справимся, решил Каргин, уже рассовывая по карманам запасные обоймы. Он погладил вороненый ствол винтовки, замер в нерешительности на секунду-другую, затем направился в дальний конец хранилища, к коридорам у лифтовой двери. Их все же оказалось пять: крайние шли на север и юг параллельно Нагорному тракту, два следущих – примерно на запад, а центральный, самый широкий – вверх, под углом пятнадцать градусов. Стены его были не такими шероховатыми, как в остальных проходах, дальний конец тонул в темноте. Вернувшись, Каргин выбрал фонарь помощнее, подумал, что любопытство до добра не доведет, но все же подступил к центральному тоннелю. Мысль о том, что было бы неплохо перебазироваться в этот лабиринт, мелькала у него, требуя логического завершения: как тут устроить оборону и заблокировать лифт, где ворота, упомянутые Хью, и нет ли здесь еще чего-нибудь полезного – скажем, боевой вертушки с приличной скоростью и до горла заправленными баками. Размышляя на такие темы, Каргин включил фонарь, прошел метров пятнадцать до широкой лестницы, поднялся и очутился в просторной камере с бетонным полом и сводчатым потолком. Сюда, на верхний этаж, тоже выходили двери лифта, а рядом с ними был врезанный в стену рубильник – здоровая стальная рукоять в нише под стеклом, запечатанная пломбой. Направив в нишу свет, Каргин разглядел небольшую панель, кнопки с цифрами для набора кода и вполне понятное изображение: шапку взрыва и разлетающиеся во все стороны обломки. Отсюда, видимо, предполагалось уничтожить лифт и лифтовую шахту, если возникнет такая необходимость – скажем, на случай, когда до виллы доберется враг. Случай был подходящий, но кода Каргин, разумеется, не знал, а потому, пожав плечами, приступил к осмотру камеры. Темные светильники на потолке, гроздья кабелей, пониже – трубы трех цветов, красные, синие и белые, у стен – прочные скамьи и столы на металлических ножках, слева – коридор, справа – лестница… Коридор уходил на юг, в направлении Нижней бухты, и Каргин решил, что стоит его исследовать. Напольное покрытие здесь оказалось из пластика, стены облицованы плиткой – имитация светлого дерева, сосны или березы. С обеих сторонмаячили железные двери с номерами, на самой ближней к Каргину – номер сорок пять, а дальше – по убывающей, слева – четные, справа – нечетные. Он отворил ближайшую дверь, пошарил лучиком света: четыре койки, стулья, стол, встроенный в стену шкаф, зеркало, под ним – умывальник… Обстановка в других каморках была такой же, за исключением номера десять и номера одиннадцать, располагавшихся примерно посередине. В десятом – душевая и туалеты, а за одиннадцатой дверью – обширный вытянутый зал со столами, табуретами и аркой в дальнем конце, за которой посверкивали хромированным металлом плиты, раковины, посудомойки и другая, не совсем понятная техника. Кухня со столовой, подумал Каргин, а все остальное – казарма на сотню постояльцев. Даже на сто пятьдесят… Он двигался быстрым бесшумным шагом, высвечивая двери с номерами, пока не очутился в круглом помещении, похожем на небольшую площать и с более роскошной обстановкой: мягкие диванчики, настенные бра из бронзы, большая хрустальная люстра, а на полу – ковер. Коридор тянулся дальше, и темный его зев манил Каргина будто пещера с сокровищами Али Бабы. Однако времени для долгих поисков не оставалось – Кренна мог вызвать своих часовых в любой момент и обнаружить, что они не отвечают. Вздохнув, Каргин бросил взгляд на пару последних дверей под номерами первым и вторым, располагавшихся напротив друг друга. Второй номер повидимому дублировал аналитический центр в пентхаузе – тут обнаружились рабочие столы, шкафы, забитые справочниками, компьютеры под чехлами и сейфы. Бегло осмотрев все это, Каргин хмыкнул, почесал в затылке и повернулся к двери с номером один. Она разительно отличалась от остальных: не имела ручки и была на вид массивной и прочной, как лобовая броня пушечных башен на линкоре. Приблизившись к ней, Каргин не нашел ни замочной скважины, ни прорези для карты электронного замка – в общем, ничего, кроме цифры «один», впечатанной в гладкий блестящий металл. Он вытащил нож, попробовал вогнать клинок в щель между дверью и косяком, но щели не было – дверь прилегала к стене с такой же ювелирной точностью, как блоки в египетских пирамидах. Нахмурившись, Каргин толкнул ее – само собой, безрезультатно – потом приложился ухом к холодной поверхности и замер. Ничего! Ни шороха, ни звука! Мертвая гробовая тишина… Он отступил на пару шагов и снова уставился на дверь. Убежище в убежище, апартаменты босса, несомненно… Со всем, что может пожелать патрон: мягкой кроватью, книгами, ванной и персональным холодильником… Вот бы где отсидеться! Такую дверь из гаубицы не своротишь, ракетой не пробьешь… – Хороша Маша, да не наша, – буркнул Каргин, вздохнул и скорым шагом заторопился обратно по темному коридору. Идея укрыться в бункере его уже не привлекала: лифт заблокировать нельзя, план лабиринта неизвестен, и выходы в кратер, кроме того, что у свалки, тоже. Как бы не очутиться в мышеловке… сорок котов, семь мышей… а мышь, что плохо знает свою норку, быстро попадается… Сбежав по лестнице, он возвратился на склад, вытащил из оружейного шкафа винтовку, достал из коробки с одеждой брюки, связал штанины и торопливо набил консервами. Затем направился к выходу, который охранял покойник в компании сержанта Мартина. Сержант не дергался, лежал себе тихо, без памяти, а может, притворялся. Освободив его кисти от проволочной удавки, Каргин аккуратно смотал ее, спрятал в кобуру и начал разбираться с автоматами. К счастью, трофейное оружие тоже уместилось в импровизированном мешке, но общий вес получился немалый, килограммов двадцать пять. Он крякнул, пробормотал: «Жадность фраера сгубила…» – но бросить что-то из найденного и отвоеванного было жалко. Он пересек лужу за свалкой, отметил, что тело Мэнни исчезло, и углубился в мангровый лес. Уже смеркалось, но временами в разрывах древесных крон виделись ему на западе утесы, и это помогало ориентироваться. Выйти бы к пляжу до темноты… а там рукой подать до Хаоса… Рация Мартина Ханса вдруг пискнула: майор вызывал охранников. Каргин остановился, сбросил оседлавший его мешок, достал наугад консервы и вскрыл – оказалось, тушенка. Он оприходовал ее быстрее, чем прекратился писк; голод его был несравним с терпением Кренны. Затем, вытерев руки о влажный мох, он достал мобильник и вызвал Хью. – Кто на дежурстве? – Сеньор капитано, это вы? Слава деве Марии! Я уже думал… – Я спрашиваю, кто на дежурстве? – терпеливо повторил Каргин. – Слейтер. Но… – Позовите Тома. Быстро! Через пару секунд раздался спокойный голос японца: – Саенара, Керк-сан. Слушаю. – На западном фронте без перемен? Дивизия не понесла потерь? – Не понесла, только мистер Паркер грызется с мистером Арадой. – Ну, дьявол с ними… Помнишь рощу перед пляжем? Пальмовую? Через нее проходит спуск со скал… Мы там ходили. Помнишь? – Разумеется, Керк-сан. – Отправляйся к роще, спрячься и жди меня. Буду примерно через час. Пауза. Затем японец осторожно поинтересовался: – Керк-сан ранен? Нужна помощь? – Я цел, но от помощи не откажусь. Груз приличный – еда и всякое такое… Ну, встретимся, увидишь сам. – А те… те, в черном? – У них, друг мой, случились неприятности. В трубку словно дунули – Том с облегчением вздохнул. – Мы видели вертолеты. Видели, как они пронеслись к восточным скалам и обратно… Каргин ухмыльнулся. – Думали, меня везут? Кое-что везут, целых четыре трупа, но моего там нет. Давай, Томо-сан, пошевеливайся! Он сунул аппарат в карман и зашагал, топча усыпанную гниющей листвой землю. Солнце повисло над рваной стеной кратера, день кончался, и он впервые ощутил смертельную усталость. Повязка набухла от крови, рану опять начало жечь, жаркий пот стекал по спине, затылок налился тяжестью, а ноги вдруг сделались неподъемными, непослушными, будто принадлежали не ему, а подагрическому старцу. Ремень винтовки давил на плечо, мешок пригибал книзу, штанины, полные консервов, таранили комбинезон, словно пытаясь сокрушить грудную клетку. Верно сказано: война – по большей части не выстрелы и взрывы, а бесконечный бег и упражнения с лопатой. Кто ходит быстрей и быстрей копает, тот и победитель. Ходить Каргин умел. Ползать, бегать и ходить, прыгать с небес и зарываться по макушку в землю. Эти премудрости солдатской науки столь же важны, как искусство снайпера и ловкость в метании гранат. Вероятно, и поважнее. Временами думалось Каргину, что все армейские эмблемы – молнии, пушки, мечи и щиты, танки и звезды – стоит заменить одной: лопатой на фоне стоптанных сапог. За поясом пискнула рация, и он замер, тяжело отдуваясь и вытирая покрытый испариной лоб. С чего бы этой хреновине чирикать? Мартин Ханс и его компаньон-неудачник уже наверху, во дворце, так что Кренна мог пообщаться с любым из них без вспомогательных устройств. Эта мысль была вполне резонной; значит, вызывали не Ханса, а того, кому хреновина досталась. Рация пискнула снова. Поколебавшись, Каргин вытащил ее из-за пояса, нажал кнопку и произнес: – Гепард-один на связи. Прием. – Керк? – раздался полузабытый голос Кренны. – Только не говори, что ты – это не ты. Скажешь, я Ханса пристрелю. За представление ложного рапорта. – Это не я, – ответил Каргин. – Стреляй. Одним мерзавцем меньше будет. Бельгиец рассмеялся. Смех у него был отрывистый, словно рокот полкового барабана. – Ты как сюда попал? И что тебе надо, приятель? – Крыс в приятелях не числю. А попал так же, как и ты – по контракту. У тебя ведь есть контракт, майор? – Разумеется, капитан, и я намерен его выполнить, от первой до последней строчки. – Кренна помолчал, затем добавил: – Видимо, мой контракт отменяет твой. Согласен? – Не согласен. Контракт есть контракт, так что сделка у нас не состоится. – Сделок не предлагаю. Людей у меня достаточно, лишние не нужны. Хотя… – он сделал паузу, – я был бы непрочь с тобой повидаться. Как и со всеми остальными. Каргин через силу ухмыльнулся. – Хочешь пригласить на чашечку кофе в Тюильри? Не выйдет, Кренна. Я человек занятой, и у тебя со временем проблемы… Ты ведь очень торопишься, майор? Ты ведь не можешь тут загорать до бесконечности? В контракте – сроки… я полагаю, часов шесть-восемь на всю операцию вместе с зачисткой, а ты тут больше суток загораешь. Контракт, наверно, поджимает… Или я не прав? – Прав, но мне придется задержаться. Еще на день, на два… Не так уж велик этот паршивый островок, чтобы неделями бегать по кругу… Так что я тебя найду. Разыщу! – В голосе бельгийца прорезались ледяные нотки. – Видишь ли, капитан, ты тоже в моем контракте. Не персонально, а как приложение к поименованным в нем личностям. – И кто поименован? – Думаю, знаешь. А я теперь знаю, что ты – при них. Немаловажный факт! Мои молодцы считали, что гонят кролика, а получилось – гепарда… Ошибка вышла, капитан! Ценой в пять трупов! Люди обозлены… особенно Ханс… Так что если живым попадешься, быстрой смерти не гарантирую. Каргин хмыкнул. – Что из-за трупов переживать, майор? Война, дело обычное! Ну, сдерешь с нанимателя неустойку… – Я с тебя шкуру сдеру. Завтра, – пообещал Кренна и отключился. – Не выйдет, замысловатый ты мой, – пробормотал Каргин. Злость придала ему сил, и он, переставляя ноги, продолжал бубнить под нос, будто споря с невидимым оппонентом: – Не выйдет, гнида… Думаешь, напугал? Козлами своими да вертушками? Козлы, они и есть козлы, хоть с рогом, хоть с помелом… Да и мы теперь не безрогие, – он нежно погладил ствол винтовки. – Вот завтра и пободаемся… Будет тебе фитиль в афедрон, а с ним – Бородино и Курская дуга! Солнце село, когда он вышел к дороге, к последнему участку серпантина перед пальмовой рощицей. Недели не прошло, как мчались тут с Нэнси на резвых скакунах… И где теперь те скакуны? Вороная кобылка, мышастый мерин… Катают, видно, старого Патрика в аду, от сковородок до смоляных котлов… – Хай! – хрипло окликнул Каргин. – Томо-сан, ты здесь? Ему вдруг сделалось совсем плохо. Он привалился к придорожной пальме, спустил с плеча винтовку и стоял, покачиваясь и наблюдая, как приближается темный расплывчатый силует. Контуры этой фигуры никак не желали становиться резкими, то ли по причине наступавшей темноты, то ли потому, что все перед глазами Каргина плавало и дрожало. Смутные очертания скал сливались с фиолетовым небом, деревья прыгали взад-вперед как новобранцы под пулями, и в такт их беспорядочным скачкам ощутимо подрагивала земля, будто древний вулкан пробуждался от тысячелетней спячки, готовясь выплюнуть огненный лавовый язык. «Устал, черт, – подумалось Каргину, – крепко устал…» Он начал сползать на землю, но сильные руки Тома подхватили его.
Глава 12
Иннисфри и другие места; 23 июля, вечерМнилось ему, будто опять валяется он в лагере сандинистов, с пулей в плече и с лихорадкой, и все кругом не реальность, не так, как положено быть, а лихорадочный бред: вместо больничной палаты, койки и белоснежных сестричек – дырявый тент, растянутый меж трех деревьев, подстилка из мха под задницей, а перед глазами – чья-то усатая смуглая рожа со свернутым набок носом. Рожа склонялась над ним, разевала щербатую пасть, обдавала запахом чеснока и рома и дергалась туда-сюда – похоже, ее владелец с неодобрением мотал головой. По временам к первой роже добавлялась вторая, с сивой лохматой бородой; они рассматривали Каргина и совещались на каком-то языке, не русском, но вполне понятном. – Не выживет, – утверждал Свернутый Нос. – Выживет, – возражал Сивобородый. – Заражение… – Дьябло! Какое заражение? Лихорадит от раны… – Знаешь, чем лихорадка кончается… – Ничего! Молодой, сильный! – Молодому тоже лекарство нужно. – Нет лекарства. Ромом промывай. На рану – ром, внутрь – ром… – Ромом, команданте, парня не вылечишь. Везти его надо. – Сможем, увезем. Нельзя сейчас. – Знаю, что нельзя. Помрет… – Не помрет. – И снова: – Молодой, сильный… Потом – плавное покачивание, и вместо Свернутого Носа – длинноухая голова мула, глядевшего на Каргина кроткими темными глазами. Его носилки, закрепленные между двух животных, плывут и плывут под зеленым лесным пологом, но лес тоже нереальный – ни сосен, ни берез, ни родимых осин, а все какие-то великанские деревья с огромными перистыми листьями и странными стволами, то волосатыми, то вовсе без коры. Мулы бредут, переступая с ноги на ногу, носилки качаются в такт с боку на бок, сознание то гаснет, то вспыхивает вновь. Затем приходят темнота, рокот, плеск, свежий прохладный ветер и опять покачивание, но другое: вверх-вниз, вверх-вниз. Каргин лежит на теплых жестких досках палубы, смотрит в бархатно-черное небо с огромными звездами и думает, что он, наверное, в Краснодаре. Южное небо, – сверлит мысль, – а где ему быть, как не на родине отца? Но что-то не стыкуется в его лихорадочных раздумьях. Если он в Краснодаре, то где же тогда отец и мама? Почему не пришли? Или им не сообщили? Должны бы сказать… Ведь он ранен… ранен… ранен… Чужие руки приподнимают его голову, вытирают пот, чужой голос произносит: – Бредит, мать зовет. Педро, дай воды… Вода теплая, с непривычным привкусом; он глотает ее через силу, думает: надо пить… лучше вода, чем ром… Голоса тихо переговариваются: пьет… глаза открыл… еще живой… довезем… не довезем… ом… ом… омм… Качается палуба, качаются звезды, голоса все шелестят и шелестят, потом сознание опять гаснет. Темнота, беспамятство, бесконечно долгий полет в пропасть без дна и края… Новая сцена, новый бред: палата, о какой мечталось, кровать с белоснежным бельем, запах лекарств, привычные шумы – шины шелестят по асфальту, поскрипывает дверь, что-то где-то звякает… Но главное – слова! Родные слова, русская речь: – Неплохо, совсем неплохо… Пожалуй, он выкарабкается, коллега Анхель. У молодых все быстро заживает… Тот, кого назвали Анхелем, говорит по-русски, но с сильным акцентом: – Операцию вы сделали блестящую, коллега Петр. – Ну, не преувеличивайте, батенька мой! Какая там операция! Пулю вытащить, рану очистить, вколоть антибиотик… – Но было сильное нагноение… – Нагноение еще не гангрена. Вот если бы доставили его неделей позже, пришлось бы нам помучиться. А так… Живучие у нас солдатики, живучие! – Потом куда-то в сторону, на ломаном испанском: – Сестра! Дренаж и перевязка – утро, вечер. Понимать, сестра? Он в Гаване, в военном госпитале. Отдельная палата, врачи – русские и кубинцы, тоненькие смуглые сестрички со жгучими очами… Бред и лихорадка отступают, зыбкое, туманное становится осязаемым и плотным, мир приходит к согласию с разумом и преподносит нежданные сюрпризы: то звонок родителей, то весть о присвоении старлея и зачислении в Высшую школу разведки, то крепкие руки дона Куэваса. Куэвас – сухой, жилистый, прокаленный солнцем – обнимает его, затем поворачивается к врачу, спрашивает, когда отпустят из госпиталя. Через неделю, отвечает доктор. Тогда через неделю приеду, заберу, говорит Куэвас. Приезжает на стареньком военном «козлике», забирает… Везет к себе, в поселок к югу от Гаваны. Толкует: рана зажила, но руку надо разработать. Способов два: мачете и море… Займусь с тобой, погоняю. Ну, а купаться и плавать будешь с Чаной. Чана, Чанита – дочка Куэваса. Семнадцать лет, грива вьющихся черных волос, длинные ноги, тонкий стан, маленькие крепкие грудки… Купались утром, на безлюдном пляже, ныряли, дурачились, хохотали. Чанита учила его танцевать, покачивала бедрами, поднимала руки над головой, щелкала пальцами и превращалась на мгновение то в золотистую амфору, то в сказочную наяду. Потом вела домой, в маленький домик в сотне шагов от моря, кормила, чем бог послал – дон Куэвас, инструктор боевых искусств, жил, как все кубинцы, скудно. Но дело свое он знал и был ему предан с неистовым фанатизмом. Сверкало, кружилось лезвие в его руке – стремительное, грозное; сверкали темные глаза, движения были отточены, как в танце, но то была не девичья пляска под щелканье кастаньет – танец мужчин, где каждый пируэт грозил увечьем или смертью. Мачете – не сабля, не рапира, его удары тяжелы и беспощадны, как у топора; если заденет кость, прощайся с костью. Грозное, страшное оружие… Дон Куэвас владел им в совершенстве, гонял ученика без жалости и требовал, чтоб бился тот левой и правой рукой, не забывая про ноги – лягнуть при случае противника тоже дозволялось. После таких тренировок Каргин уписывал миску риса со жгучим перцем и валился в койку. Но не надолго: являлась юная Чанита, дразнила, манила улыбкой, звала прогуляться у моря под луной. Как не прогуляться? Ей семнадцать, ему – двадцать два… А что за прогулки без поцелуев и объятий? Гулял, целовал, и через месяц, нацеловавшись вволю, понял, что влюблен. Должно быть, в самый первый раз – прежде все было несерьезное, школьные подружки в старших классах да рязанские красавицы, крутившиеся около училища в поисках мужей-лейтенантов. Те красавицы и подружки не снились ему по ночам, а Чанита снилась – гибкая, смуглая, соблазнительная, совсем не похожая на русских девушек. То ли экзотичностью ее Каргин пленился, то ли, после ранения и промелькнувшей рядом смерти, потянуло его на нежные чувства и ласковые слова. Сообразив, что с ним происходит, крепился целых двое суток, а потом не выдержал, пал перед доном Куэвасом на колени и повинился. В том, значит, смысле, что если Чанита и родитель ее не против (матери она давно лишилась), то отвезет он ее в посольство в Гаване или же в местную мэрию и вступят они в законное супружество. Ну а потом, само собой, отправятся в Союз, в Москву и в Краснодар к отцу и маме. Дон Куэвас выслушал и произнес: – Молодая еще. По вашему не понимает, да и учиться ей надо. На врача. – В Москве и обучится, – возразил Каргин. – Я учиться буду, и она. У нас там университет особый есть – Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Всему научат, и языку, и медицине. – Ты, мачо, тоже молодой. Лейтенант. – Уже старший, – с обидой подчеркнул Каргин. – А живешь где? Это был щекотливый вопрос, так как обитал Каргин в те годы в офицерском общежитии, в маленькой каморке два с половиной на четыре. Коридор, сорок дверей, гальюн на восемь очков, общая кухня и все вокруг, разумеется, мужики… Не дом – казарма! С некоторым напряжением можно было бы перебраться в крыло для семейных, но не сразу, а месяцев так через восемь-десять, или снять жилье в Москве, пусть не квартиру, а хотя бы комнату. Но ему полагались боевые за Никарагуа и за ранение, и их могло хватить на взнос в кооператив – то есть Каргин полагал, что хватит, а если нет, родители помогут. А с благодарностью они с Чанитой не задержатся: первым парень будет, внук, второй – девчонка. Выслушал дон Куэвас про эти планы, покачал головой, окинул взглядом море и небо (сидели они во дворе, в плетеных креслицах) и вымолвил: – Видишь, Алекс? Тут она родилась и тут живет, и хоть наш домик мал, зато земля просторна. Теплая земля, щедрая, богатая… У вас нельзя так жить. Сумрачно, холодно… Я у вас был, знаю. Ваше жилье как гроб: двери закрыты, окна законопачены, а за ними – мороз и темнота… Хочешь ее в таком гробу держать? И детей, моих внуков, тоже? Каргин смутился – комната два с половиной на четыре и правда напоминала гроб. Дон Куэвас похлопал его по плечу, сказал: – Молодой ты еще, не понимаешь долг мужчины. А он таков: обзавестись жилищем, взять жену, родить детей. Но самое первое – дом… Даже у зверя есть нора, а человек – не зверь: ему, чтобы любить, стены нужны, и крыша, и тепло. Будет дом, приходи… – Помолчал и добавил: – Если не передумаешь. С тем Каргин и отправился домой, потосковал пару месяцев о чернокудрой Чаните, написал ей десять писем и шесть получил в ответ, с обещанием вечной любви и клятвами верности. Но вскоре Чана писать перестала, а жена каргинского приятеля и боевого соратника Димы Гутова познакомила его с Наташей, на какой-то вечеринке, то ли под Рождество, то ли на Восьмое марта. С Наташей он дружил недолго – она училась в Литературном, стихи сочиняла под Беллу Ахмадулину и не любила Киплинга. Очень восторженная девица, таким лишь принцев подавай… Каргин же был не принц, а только старший лейтенант. Затем повстречались ему Зиночка, Нина и Марина, и на последней из них, женщине практичной и хозяйственной, Каргин застрял на целый год. Вроде бы она его любила – весь третий курс, пока он заканчивал Школу; потом его зачислили в «Стрелу», и тут Марина взбунтовалась. Она была постарше Каргина, с двухкомнатной квартирой, папой в Министерстве транспорта и неудачным опытом семейной жизни – таким, после которого ценят мужчин непьющих и надежных. Каргин ей вполне подходил, и замуж хотелось, но при условии, что дорогой супруг не станет мотаться ни в Кувейты, ни в Боснии с Ираками, а осядет в Москве при транспортном папе, сделавшись годам к пятидесяти железнодорожным генералом. Что вполне могло случиться: папа у Марины был в чинах. Каргин, однако, тем соблазнам не поддался и все-таки отправился в Кувейт, потом в Ирак, а возвратившись, обнаружил, что вакансия исчезла. Выходит, не той оказалась Марина подругой, не боевой, не подходящей в жены офицеру… Он плюнул и уехал в Краснодар. Неделю там переживал, расстраивался, потом решил, что не судьба, и, отгулявши отпуск, отбыл на сербо-хорватскую войну.
* * *
Так и пошло-поехало: война, передышка и снова война… Высшая школа внешней разведки, «Стрела», Легион, Ближний Восток, Европа, Африка, Америка… Теперь вот остров в Тихом океане… Какого черта он тут делает?.. Вот принесло так принесло – к старой акуле Патрику, к миллиардерским наследникам, к Мэлори, Ченнингу да их разборкам! А для чего? И по какой причине? Он стоял покачиваясь и старался вспомнить. Деньги? Тяга к перемене мест? Поиски судьбы? Ну, так вот она, судьба: сгинет на проклятом острове, если не в манграх, так в скалах, не в скалах, так в болоте… – А мог бы стать железнодорожным генералом… – пробормотал Каргин на русском и вдруг обнаружил, что он не в одиночестве. – Керк-сан! Ты что говоришь, Керк-сан? Не понимаю! Том держал его за пояс и, кажется, хотел взвалить на спину с винтовкой и всем трофейным барахлом. Вздрогнув, Каргин глубоко втянул солоноватый, пахнувший морем воздух, отсторонился и поднял голову. Уже совсем стемнело, первые звезды робко мерцали на небе, а над восточным горизонтом, у самых остроконечных пиков скал, повисла ущербная луна. – Не надо, дружище… сам дойду… мешок возьми, вот этот. Сейчас передохнем немножко и двинемся. Он сбросил глухо брякнувший мешок, повел плечами и сел на землю, покрытую слоем опавшей листвы. Винтовку, однако, Каргин не оставил, а нежно прижимал к себе. Сейчас она являлась стержнем, вокруг которого вращались его мысли; очнувшись от раздумий, он уже соображал, как влезет на какой-нибудь утес или на дерево в парке и отстреляет с двух километров пару-другую обойм. Что там Кренна, крысюк долбанный, толковал о приложении к ВИП-персонам? Вот и приложит его приложение… Лишь бы на мушку попался… Японец тоже сел, погладил увесистый мешок, нащупал консервные банки и ствол автомата. Глаза его раскрылись шире, белки блеснули в темноте. – Откуда, Керк-сан? – «Ингремы» – от покойничков, а провиант из бункера, – пояснил Каргин, прислонившись спиной к мохнатому пальмовому стволу. – Здоровый бункер, Томо! В два этажа, со складом и казармой, с хозяйскими покоями… Эти, в черном, спустились вниз, открыли дверь у свалки и выставили часовых. Ну, с часовыми я разобрался… – Он обнаружил, что без мешка, оседлавшего шею, дышится гораздо легче, и, приободрившись, повторил: – Разобрался, влез на склад, пошарил там и кое-что экспроприировал. Ты против компота из персиков ничего не имеешь? Том помотал головой. – Подожди, Керк-сан… Кто – эти? Ты ведь их видел, верно? На кого похожи? В самом деле террористы? Или китайцы? Или… – Ни то и ни другое. Профессионалы. Похожи на белых наемников, таких же, как… – Он хотел сказать «как я», но поперхнулся. Все же наемник наемнику рознь, мелькнуло в голове; есть гепарды, и есть крысюки. – Наемники… – задумчиво протянул Тэрумото. Потом добавил, будто подслушав мысли Каргина: – Это ни о чем не говорит. Мы ведь тоже наемники, Керк-сан. Наемник просто орудие вроде клинка, а хозяин тот, кто держит меч за рукоять. Не с мечом сражаются, с человеком… Тебе известно, кто он? Кто подослал убийц на остров? С минуту Каргин молчал, колеблясь и соображая, посвящать ли Томо в хитроумные планы Мэлори, затем решил, что делать этого нельзя. Как объяснишь, откуда он ведает об этих планах? Сознаться, что сам причастен к совершенному разбою, к гибели Патрика и населения Иннисфри? Сказать, откуда те наемники и кто их нанял? Пожалуй, откровенничать не стоит. Японец парень свой, но все поймет ли правильно? А не поймет, так что подумает? Сомнения же в чести командира рождают нерешительность, а это для бойца фатально… Он сделал отрицательный жест. – Не знаю, Томо, и даже не имею подозрений. То есть подозрения, конечно, есть, но цена им – горсть песка в пустыне. Японец пошевелился, лунный свет скользнул по его непроницаемой физиономии и темным волосам, сделав их на мгновенье серебристыми. Губы Томо дрогнули. – Все же подозрения есть… Могу я спросить, какие? – Ну, например… – Каргин наморщил лоб. – Ты ведь знаешь, что старик не любит англичан, зато неравнодушен к ирландцам? То есть был неравнодушен… великий народ, священники, воины и все такое, все, как один, из благородных древних эрлов… Возможно, он финансировал ИРА, снабжал оружием, взрывчаткой, оказывал различные услуги, спасал и выручал. Возможно, без его поддержки ИРА и месяца не проживет, отбросит костыли. Соображаешь, Том? Сладкий сон премьер-министра и британской королевы! – Эти люди… ты думаешь, они похожи на английских коммандос? – нахмурившись, спросил Тэрумото. – Я ничего не думаю, но точно знаю, на кого они не похожи. Не арабы, не китайцы, не чернокожие и не индейцы-ирокезы с озера Онтарио. Томо юмора не понял, поинтересовался с серьезным видом: – А что, с ирокезами у Халлоранов тоже были счеты? – Ноль информации, – сказал Каргин. – Я, видишь ли, не очень осведомлен в истории их семейства. Может быть, даже у Юлия Цезаря были к ним претензии. Или у Наполеона. Он поднялся, чувствуя, что хоть немного, да отдохнул. Перед глазами уже ничего не прыгало, руки и ноги не дрожали, и даже царапина на ребрах вроде бы не беспокоила. Сунув ладонь в прореху комбинезона и приложив ее к повязке, он убедился, что ранка почти не кровоточит, вытер пальцы о штанину и пробормотал: – Черт с ними, со счетами Патрика, ему теперь судья Господь. Наша задача – выжить! Выжить! Нам бы только ночь простоять и день продержаться… Томо вскочил, взвалил мешок на плечи, уставился на руки Каргина. – Кровь? Ты ранен, Керк-сан? – Пустяки, осколком зацепило. Просто вымотался. Весь день сплошная беготня и суета. Весь день и всю жизнь, подумалось ему. Может, на каком-то перекрестке не туда свернул? Может, права была Марина – посватался бы к папе-железнодорожнику, не знал сейчас хлопот? Или пошел бы к Перфильичу в «варяги»… тоже работа не пыльная: бей бандюг, спасай купцов-торговцев и стриги капусту! Тишь, гладь и красота! Но если вдуматься, сытая жизнь ведет к инфаркту, а бегать полезно для здоровья. Побегаешь, посуетишься – глядишь, до чего-нибудь и добежишь. Например, до Кэти Финли, ласточки… Каргин представил ее лицо, яркие губы, карие глаза под арками тонких бровей, и вздохнул. Жаль, что подруга не прилетела! Это с одной стороны, а с другой – счастье, что ее тут нет. Он посмотрел на часы – было двадцать один ноль-пять, время не слишком раннее, но и не позднее: как раз, чтобы выспаться и на рассвете залезть куда-нибудь повыше да приложить десяток крысюков. С этой мыслью Каргин поднял винтовку, кивнул Тэрумото и зашагал к темневшим над пальмовой рощей скалам Хаоса.Глава 13
Иннисфри, Хаос и Нагорный тракт; ночь с 23 на 24 июляМинут через сорок Каргин уже блаженствовал у крохотного костерка, мерцающего в глубине пещеры. Его царапина была промыта и перевязана, голова покоилась на круглых девичьих коленях, в ногах, прислоненная к стене, поблескивала винтовка, а под руками – так, чтоб дотянуться – стояли вскрытые банки с тушенкой и компотоми. Часовые, Тейт и Слейтер, несли дежурство у входа в грот, японец подбрасывал ветки в огонь, и даже Нэнси была при деле – гладила шею Каргина и щекотала за ухом. Пир души, именины сердца! Не хуже, чем в Вальгалле. Пива, правда, нет, зато имеются банка персиков и рыжая валькирия… Единственный диссонанс вносили Боб и Хью, принц-наследник с референтом. Сквозь наплывавшую дрему Каргин лениво прислушивался к ним; голос Арады был холоден и спокоен, Паркер горячился, и в его раздраженном баритоне то и дело проскальзывали визгливые нотки. На этот раз спорили не о наследственных правах и не о том, кому положено снимать и назначать, а о вещах конкретных. Вопросов было два, очень знакомых любому россиянину: кто виноват и что теперь делать. Бобби винил в случившемся уже не столько стражей-латиносов, развратников, пьянчуг и нерадивых слуг, сколько старого Патрика и, не скупясь на сочные эпитеты, нес дядюшку по кочкам – за неуступчивость в делах с клиентами и жадность; Арада пытался его защитить, доказывая, что если человек не беспринципен, не склонен к алчности и не способен обувать партнеров на все четыре колеса, то он не бизнесмен. Во всяком случае, пушками ему не торговать; мылом – еще куда ни шло. Дискуссия по первому вопросу была бесплодной, как арктические льды; второй был, в принципе, поинтересней, но спорщики и тут стояли каждый на своем. Арада полагал, что делать ничего не нужно, а лишь сидеть в пещере, следить за небом, есть персики и заедать тушенкой. Связь с островом отсутствует, и в штаб-квартире рано или поздно должны забеспокоиться – хотя бы необъяснимым молчанием в день юбилея босса. Значит, надо прятаться и ждать; сутки-двое – и кто-то непременно прилетит, или из Фриско, или из Кальяо. Ясное дело, прилетит! Не та фигура мистер Халлоран, чтобы забыли о нем и о его «бездее»! Мнение Боба сводилось к тому, что за день и даже за час может случиться чертова уйма неприятностей. Или затопят остров ипритом, или заразят чумой, или пещеру найдут, или кого-то изловят – не все же киллерам везенье! – подвесят за ребро и попытают, куда запрятались наследники. Тут и конец мистеру Паркеру вместе с прекрасной сестрицей и недоумком-референтом! А потому нужно не ждать беды, а действовать, причем энергично, напористо и быстро. Тем более, что кроме побудительных мотивов есть реальный базис (тут Боб поглядывал на «ингремы» и прочие трофеи Каргина) и есть конкретный план. Ну и, само собой, есть полководец, новый босс, глава династии. План босса заключался в том, чтобы похитить вертолет. Подобную мысль Каргин уже обсуждал с Тэрумото, но Бобби, дойдя до нее своим умом, внес определенные поправки. В вертушках он кое-что он соображал и не надеялся скрыться на пассажирском помеле от боевого, а потому решил угнать машину понадежней. В теории такая возможность имелась: один из «Грифов», вернувшихся с десантом и четырьмя покойниками, стоял теперь перед виллой, согласно наблюдениям Слейтера. Где опустился второй, техасец в сумерках не разобрал, да и первый увидеть с пирамидальной скалы не смог, но утверждал, что помело приземлилось на центральной аллее, между магнолиями и кипарисами – значит, к нему можно подобраться скрытно. Подобраться, перебить часовых и стартовать на материк… Такая идея вдохновляла Боба по двум причинам: во-первых, он был ее автором, а во-вторых, присутствовал в ней героический элемент, нечто в духе бесстрашных бойскаутов из Голливуда. Вот это как раз и не нравилось Каргину. Бойскаутам он не доверял – ни их бесстрашию и выдержке, ни их намерениям и целям. Кроме интуитивных подозрений существовали и другие сложности, вполне реальные, но не из тех, какие могут вразумить бойскаутов. К примеру, топливо – даже при полной заправке «Гриф» мог не долететь до континента. Тут уж как с ветром повезет; а ветры в летний сезон бывали чаще не западными, а южными. Но Паркера подобная мелочь не смущала. Все возражения Арады лишь распаляли его; ему хотелось пострелять и погеройствовать, а что до противника, то он представлялся Бобу чем-то вроде фанерной мишени в «Старом Пью»: торчит за барьером шагах в двадцати и ждет, когда в нее всадят пулю. Не стоило б Араде спорить, мелькнула мысль у Каргина. Он понимал, что Роберт Паркер относится к особой человеческой породе, к людям упрямым и ревнивым, не признающим поражений и ошибок и мнящим себя победителями всюду и всегда. Таких противодействие ожесточает и заставляет настаивать на своем; глухие к доводам рассудка, они смирялись только перед силой – грубой силой, способной превратить в осколки стеклянный храм их самомнения. Глупец, фанфарон, самовлюбленный идиот, как утверждала Кэти… Знал ли Хью об этих президентских слабостях? Вроде бы не тайна для проницательного человека… не больший секрет, чем остальные президентские привычки… Выходит, знал. А если знал, к чему дебаты? Игривая ручка Мэри-Энн нырнула за воротник комбинезона. Каргин извлек ее, со вздохом приподнялся, отхлебнул компота и промолвил: – Вертушка сама по себе не летает, джентльмены. – Разумеется! – с энтузиазмом подхватил Арада, наблюдая, как Тэрумото ломает ветки и подбрасывает их в костер. – Разумеется! – Пламя взметнулось, высветив на миг лицо аргентинца: он улыбался. – Представим, мистер Паркер, что нам сопутствовал успех: подкрались незаметно, перестреляли часовых, отбили вертолет… представим, что ни один из нас не пострадал, не ранен и не истекает кровью… представим, наконец, что баки – полные, и курс нам ясен… Представим все эти чудные вещи и спросим: кто поведет машину? Я, во всяком случае, за это не возьмусь. Помнит ведь о баках, умник!.. – с невольным одобрением подумал Каргин. – Вы? Кто говорит о вас? – Бобби презрительно сморщился и отчеканил: – Я поведу! – Боюсь, что вместо Кальяо мы попадем в Ханой или Гонконг… Либо, что вероятней, на обед акулам. – Хью повернулся к Мэри-Энн, пытаясь разглядеть ее в зыбких отсветах костра. – Что вы скажете, мисс Паркер? Вы летали с братом? Вам не страшно? Готовы рискнуть? – Если накачаюсь бренди до макушки. Но Тейт, старый пройдоха, припрятал бутылку и говорит, что Керк велел грызть персики… Персики, подумать только! – Она ущипнула Каргина за ухо. – Издеваешься, да? Нехорошо! Ковбои так не поступают с девушками! Арада пожал плечами. Блики от крохотных огненных языков скользили по лицу аргентинца, и нескончаемая пляска теней и света придавала Хью вид дьявола-искусителя. Казалось, сейчас он ухмыльнется и запоет одну из мефистофельских арий: «люди гибнут за металл» или «мой совет – до обрученья не целуй его». Том сунул в костер очередную ветку и откашлялся. Голос его был ровен и тих. – Паркер-сан, Арада-сан… – Два вежливых поклона в ту и другую сторону, – В нашем положении главное – согласие. Три дружных пса, как говорят китайцы, одолеют тигра… – Снова короткий поклон, на этот раз адресованный Каргину, – Смею заметить, что у нас есть пилот. Такой пилот, который мог бы доставить нас в Кальяо. Если Керк-сан не возражает… – Я возражаю! – Боб стукнул по колену кулаком. – Заткнись, Тэрумото! Твоего мнения здесь не спрашивают! Твое дело – не болтать, а стрелять, когда будет приказано! Понял? – Понял, – с мрачным видом отозвался японец. – Я буду стрелять и защищать вас, Паркер-сан, но если меня не убьют, и я окажусь, как все остальные, в вертолете, то жизнь моя будет в ваших руках. Вы сможете ее сберечь? – Бог сбережет… Будда или кто там у вас, – буркнул Бобби. – Но если ты мне не веришь, оставайся. Меньше груза, дальше улетим. – Я католик, а не буддист, сэр, – отозвался Томо и что-то тихо произнес, сначала на японском, потом на английском. Каргину послышалось: «Холод пробрал в пути… У птичьего пугала, что ли, в долг попросить рукава?» Хью хмыкнул и пожал плечами. – Ну, ладно, ладно… хватит, господа. Не будем гадать о завтрашнем дне, вернемся к делам насущным. А дела таковы: мы имеем план, и я бы хотел узнать соображения дона капитано. Как-никак, он среди нас единственный профессиональный военный. – Опасная затея, – зевнув, подвел итог дискуссии Каргин. – Я бы попробовал взлететь и тут же связаться с материком. Может, получится – в вертолете есть передатчик… Но все равно – опасная затея! – Почему? – Неопределенные факторы риска, дон Арада. Ничего не известно о том, как охраняется объект, хватит ли горючего и где второе помело… Вторая машина, я хочу сказать. – Разве это важно? – Важнее некуда!.. Вторую вертушку необходимо уничтожить – скажем, расстрелять ракетами. Если нас догонят… – Каргин потер слипающиеся глаза – спать хотелось неимоверно – и добавил: – В общем, так, джентльмены: с вертушкой я управлюсь, однако не в бою. Против опытного пилота мне не выстоять, а пилоты у неприятеля отличные, вы уж мне поверьте. Если нас догонят, всем конец. Наступило молчание – только потрескивали сучья в крохотном костре да слышались яростное сопение Боба и странные звуки из мангр. Может, верещали жабы или попискивали птицы, устраиваясь на покой… Наконец Арада протянул: – Неопределенные факторы риска… слишком неопределенные… Но ваши рекомендации, дон капитано, тоже определенными не назовешь. Вчера вы заметили, что надо изучить обстановку, а лишь потом принимать решения. Согласен! Теперь обстановка, я думаю, изучена в деталях, – он бросил взгляд на «ингремы» и груду запасных обойм. – Да, в деталях… И что же вы нам скажете? – Скажу, что кое в чем согласен с вами. Лучшая тактика – сидеть, не высовываться, ждать… в крайнем случае – обороняться. Позиция наша практически неприступна, есть оружие, возможность маневрировать, плюс шестеро боеспособных мужчин. Трое – пожалуй, четверо – профессионалы, так что по-быстрому нас не взять. А время поджимает. – Нас? – Нет, их. Если продержимся день-другой, они уберутся. Пожалуй, уберутся… В конце концов, главная их цель достигнута. В сравнении с патроном, со старым Патриком, мы мелочь… Объедки с барского стола… Бобби побагровел и дернулся. Аргентинец взглянул на него, прочистил горло, будто подавив смешок, и произнес: – Если продержимся, уберутся… Вы в этом уверены, дон капитано? – Смысл таких операций – секретность и быстрота, – пояснил Каргин. – За это заказчик и платит. Он лег, вытянулся на бугристом каменном полу и смежил веки. Бубнящие что-то голоса отодвинулись, стали далекими, неразличимыми, потом совсем пропали, будто южная ночь, окутавшая Иннисфри черной шелковой вуалью, поглотила их и растворила в теплом влажном воздухе. Звуки ушли, сменившись снами. В снах Каргин блуждал в тропическом лесу, но не таком, как в кратере – лес скорее был ангольский, с чудовищными деревьями, чьи кроны уходили в небеса, а корни змеились по земле подобно объевшимся удавам. Корни мешали бежать, однако он чувствовал, что останавливаться нельзя, что в беге – его спасение; погоня шла по пятам, терпеливая и незримая, как нож убийцы, запрятанный в рукаве. Кем были его преследователи? Наемниками Кренны? Черными бойцами хуту? Фанатиками-муджахедами? Солдатами Лорана Кабиле? Этого Каргин не знал, но зрела в нем уверенность, что бой окажется последним, и потому, раз уж придется жизни лишиться, надо отдать ее подороже. Под руками вдруг очутилась винтовка, та самая, из бункера, затем и позиция нашлась – в развилке огромного дерева, рядом с дуплом, похожим на пещеру. Он взлетел туда как лист, гонимый ветром, не прилагая никаких усилий; лег у закраины дупла, прижался к грубой шершавой коре и начал озираться: кто выскочит из-за стволов, кого судьба пошлет под пулю. Первым хорошо бы командира взять, начальника… А кто у них начальник? Главный босс? Едва он об этом подумал, как перед ним явился Халлоран – живой, здоровый и сердитый, в рамке из черепов и берцовых костей. Не человек, а портрет из журнала. – Что ты знаешь о боссах, идиот? – прорычал он будто бы в самое ухо Каргину. – И что ты знаешь об иррландцах? Иррландцы – великое дрревнее племя! Не то что славянские недоумки! Каждый иррландец – эррл с благорродной крровью… Джунгли откликнулись: крровью, крровью, крровью… «Стрелять?.. Не стрелять?.. – раздумывал Каргин, лежа на своей развилке. – Сроду не убивал стариков. Опять же, не простой старик – хозяин, коему честью поклялся служить, с кем разговоры разговаривал! Близкий, можно сказать, человек, почти приятель…» Не поднималась у него рука на Халлорана, никак не поднималась, а тот не успокаивался, кружил под деревом, орал: – Прродай перрсам оррудия… Аррабам – верртолеты… Перрсам – стингерры… Прродай!.. Прродай!.. – Сам продавай, – буркнул Каргин, озлившись, и вдруг провалился в дупло. Но было это не дупло – бездонная яма, пропасть. И он, сжимая бесполезную винтовку, падал в нее мириады лет, летел и летел, пока не сгорели и не подернулись пеплом все звезды Галактики.
* * *
Каргин проснулся внезапно, как если бы грянули набатные колокола или сработал тревожный сигнал, поданный Всевышней Силой. Не генералиссимусом-Творцом, но кем-то из его генштаба, каким-то сержантом или капралом, святым или ангелом-хранителем. Словом, тем, кому положено опекать воюющих и путешествующих. Он сел и, прогоняя остатки сна, нащупал прислоненную к стене винтовку. Костер прогорел, в пещере царила кромешная тьма, и только в рваном проеме входа раскаленными углями мерцали звезды. Выходит, не погасли, пока падал, мелькнула мысль. Рядом тихо посапывала Мэри-Энн, а еще слышался где-то в отдалении быстрый невнятный шепот. Других звуков Каргин не различал, будто все в пещере и ее окрестностях разом умерло или погрузилось в летаргический сон – такой, в котором не услышишь ни шороха, ни живого дыхания. Поднявшись, он пристроил винтовку на сгибе локтя и направился к выходу, откуда и доносился бормочущий шепот и где маячила темная неясная фигура. Однако не Стила Тейта, которому полагалось дежурить в эту ночь – повар был коренаст и массивен, а силуэт, рисовавшийся на фоне звездных небес, принадлежал скорее человеку худощавому и узкоплечему. Он шевельнул рукой, в лунном свете блестнули золотые перстни, и Каргин догадался – Арада! Молится он, что ли? А где же Тейт? Где часовой, черт егопобери?! Под ногами скрипнул щебень, и бормотание оборвалось. – Молились, дон Умберто? – спросил, приблизившись, Каргин. – Да, капитан. Я – человек религиозный… – Он перекрестился, одновременно шаря левой рукой у пояса. – Вы знаете, чем различаются три основные христианские конфессии? У вас, у православных, говорят: молись, и бог простит. У лютеран иная заповедь: трудись, и за труды твои воздастся. То и другое, дон капитано, крайности, точки зрения умов ленивых или алчных… Мы, католики, предпочитаем золотую середину: молись, трудись, и грехи твои будут отпущены, а труд не пропадет втуне. – Верная мысль, – произнес Каргин, осматривая залитый лунным светом хаос базальтовых глыб, оврагов и поваленных деревьев, над которыми возносились ребристые свечи кактусов. – Я даже согласен стать католиком, если вы скажете, куда подевался Тейт. Я с ним сейчас побеседую! – Ах, это… – Референт неопределенно улыбнулся. – Они ушли, дон капитано, все ушли. Паркер, Слейтер, Тейт и Тэрумото… Взяли оружие и ушли. Примерно полчаса назад. Я полагаю, мистер Паркер жаждет прокатиться на вертолете. На помеле, пользуясь вашей терминологией. Челюсть у Каргина отвисла. Хью с холодным интересом наблюдал за ним. – Хотите спросить, отчего не разбудили вас? Тут множество причин, мой дорогой, и все, надо признаться, веские. Во-первых, вы утомились, крепко спали, и босс решил вас не тревожить. Во-вторых, он опасался возражений с вашей стороны и даже, признаюсь, физического противодействия… Вы бы возражали, не так ли?.. – Хью покосился на винтовку в руках Каргина. – Поэтому мистер Паркер будить вас не позволил, хотя такая попытка намечалась. – Томо… – пробормотал Каргин, – Томо-сан… – Стараясь успокоиться, он глубоко вдохнул теплый ночной воздух. – В-третьих, – будто не слыша, продолжал референт, – наш новый босс ревнив к чужим успехам. Он неудачник, но лезет в супермены, как таракан в блюдце с патокой… Надеюсь, вы это заметили? И понимаете, что суперменам конкуренты не нужны? Помощники и слуги – еще куда ни шло… Винтовка словно налилась тяжестью. Каргин повесил ее на плечо, нащупал рукоять мачете, затем коснулся пояса: нож, две кобуры, берет, рация и обоймы в подсумках. Все было на месте. – Скажите, дон Умберто, зачем они с ним пошли? Тейт, Слейтер, Тэрумото? Верят его дебильным планам? Тонкие губы Арады скривились. – Пора бы вам усвоить, капитан: у босса дебильных планов не бывает, только гениальные. Босс велел – пошли… А я остался. К счастью, я не умею стрелять. Я бесполезен – так же, как сеньорита Мэри-Энн… – Он поднялся, вытянул руку, погладил длинный винтовочный ствол, торчавший над плечом Каргина. – В конце концов, готов признать решение босса мудрым, если хотите – гениальным. Не испугавшись риска, он сам повел людей, но вас, как лучшего из лучших, оставил тут. Зачем? Разумеется, чтоб охранять его сестру. Ну, и меня заодно… Отличная версия, дон капитано, не так ли? Каргин молча натянул берет, повернулся и стал спускаться вниз, лавируя среди базальтовых обломков. Близилось полнолуние, и от висевшего в небе бледного диска, чуть ущербного с боку, струился призрачный свет. На часах – три сорок. Tertia vigilia, третья стража, как говорили в римских легионах… Он выспался и чувствовал себя вполне отдохнувшим. Даже царапина на ребрах не беспокоила. – Куда вы, дон капитано? Зачем? – крикнул вслед аргентинец. – Не спорьте с судьбой. Судьба неудачников не любит… – Что ты знаешь об удаче, тощий фраер? – пробормотал Каргин на русском, добавив пару непечатных фраз. Привычным усилием воли он справился с раздражением – на этом склоне, где неверный шаг грозил увечьем, гнев был плохим помощником. Света, однако, хватало, и первую часть пути он одолел минут за десять, двигаясь быстро и бесшумно, стараясь ступать по крупным камням. Нижний край осыпи упирался в пальмовую рощу, и здесь идти было трудней: под деревьями – мрак, колючий кустарник и груды гниющих листьев, перемешанных с песком. Винтовка цеплялась за ветви и лианы; пришлось снять ее с плеча и тащить под мышкой, оберегая прицел. Затем кусты расступились, мохнатые стволы исчезли, почва под ногами сделалась прочной, и он понял, что выбрался на серпантин, спускавшийся от Нагорного тракта к бухте и пляжу. Тут можно было двигаться быстрей, хотя светлее не стало – кроны деревьев почти смыкались над узкой дорогой, и в их разрывах в такт шагам прыгали редкие звезды. Чужие звезды, подумалось Каргину, те же, что в Африке. И место чужое, и дело, в которое он ввязался, не его… Хотя где они – его место и его дела? Поднимаясь в гору, он размышлял о человеческом неразумии, алчности и жажде власти, способных испакостить множество всяческих мест, таких приятных еще в недавнем прошлом. Взять хотя бы Иннисфри и эти южные моря: рай у Господа за пазухой, крепче крепкого, дальше дальнего… Но и тут нашелся черт, свой дьявол с подручной нечистью – поубивал, пожег, и сделались из рая сущие Балканы. Или, например, Кавказ… Тоже бывший рай, всесоюзная здравница, где нынче – трупы под каждым кустом да невольники в ямах… Ну, а про Заир и вспоминать не след, Заир и в лучшие времена до рая не дотягивал! Тот француз, Лябурш, с которым встретились в Киншасе, говорил: страна сокровищ… фрукты и кофе, уран и алмазы… Все есть, всего хватает, чтобы устроить рай, да только ума маловато. В точности, как в России! Каргин злобно сплюнул и выругался. С Заиром вроде бы обошлось, а вот с всесоюзной здравницей были давние счеты – за Юру Мельниченко, убитого в Карабахе, за Вальку Дроздова и Пашу Нилина, и за других, погибших, преданных, но не забытых. А может, то бушевала и ярилась в нем казацкая кровь, не позволяя признать поражения. Но поражение было, чего там спорить… А где поражение, там и бегство – к примеру, в Легион. Или на Иннисфри… Он поднялся до обзорной площадки над Лоу бей. Даже ночью вид отсюда был изумительный: внизу зеркало бухты в темной базальтовой раме, на юге вздымаются черные скалы Хаоса, а с севера лежит Нагорный тракт – будто серый поясок с серебряной пряжкой-озером, брошенный поверх утесов. Лунный свет придавал пейзажу волшебное очарование, и Каргину вдруг вспомнились стихи, прочитанные как-то Томом:Глава 14
Иннисфри, Хаос и пляж у Лоу бей; утро 24 июляВосток начал розоветь, и вскоре над бурой зубчатой стеной появился краешек солнечного диска – будто ослепительный глаз, с любопытством заглянувший в кратер. Слева, справа и сверху от него алыми ресницами изгибались перья облаков, темный утес внизу казался выступом титанической скулы, а небо – шапкой, надвинутой по самую бровь. Как всегда, рассвет на острове был великолепен и быть иным не мог, ибо все зори, утренние и вечерние приложения к Иннисфри, тоже оплачивались Патриком Халлораном. Вернее, ХАК; сам Халлоран, вместе с наследником, пребывал теперь в таких местах, где о рассветах и закатах вспоминать не приходилось. Как бы за ними следом не отправиться, размышлял Каргин, поспешно пробираясь среди мохнатых пальмовых стволов. Вот связался с миллиардерской семейкой!.. Сплошные разборки да дележи, и что ни дележ, так подстава… В поганые влез дела! Дела и правда были погаными, хуже, чем в Легионе. Там, у полковника Дювалье, случалось делать работу грязную и кровавую, но Легион своих не предавал – во всяком случае, друг другу в спину легионеры не стреляли и не устраивали на соратников засад. А тут у Каргина рождалось ощущение, будто его выставляют паяцем, манипулируют им так и этак, навязывают в партнеры то содержателя цирка, то фокусника или метателей ножей, то рыжую красотку или шута, которому лишь идиотов играть. Шут, впрочем, уже доигрался, зато остались красотка и фокусник. «Гриф» опередил его минут на тридцать, и когда Каргин вылез из пальмовой рощи, машина уже висела над осыпью, сверкая фасеточным оком пилотской кабины. Фигурок в черном видно не было; они, похоже, крались сейчас между камней, подбирались к пещере или достигли ее и высматривали, куда подевались мсье Умберто с рыжеволосой сеньоритой. Каргин надеялся, что осторожность Хью не изменила: услышав вертолетный гул, он мог сообразить, что договор нарушен, и что в пещере от солдат не спрячешься. Но в Хаосе хватало и других укрытий, так что референт и Нэнси могли сейчас лежать в каком-нибудь овраге, под защитой кустов и кактусов. Это было надежнее, чем полагаться на договоры с Кренной. Из них бельгиец признавал лишь те, что подкреплялись финансами, и, будучи личностью пунктуальной, старался выполнить их от первой буквы до последней точки. Сказано, зачистить остров – значит, так и будет сделано. Без всяких исключений для мсье Арады и сеньориты Мэри-Энн. Увидев помело, Каргин свалился в ближайшую канаву, сорвал с плеча винтовку, и в этот миг заверещала рация. – Поймали твою сеньориту, – сообщил майор. – Раф Пирелли расстарался… Помнишь такого? Сицилийца из Палермо? – Помню, – откликнулся Каргин. – Жмот и жулик. Вечно бозумским потаскухам недоплачивал. – Не жмот, а экономный парень. Крайне экономный! Все сицилийцы, знаешь ли, такие… Теперь вот интересуется, сразу красотку кончать или можно немного развлечься. Молодая, говорит, стройная, но в теле. Хороший товар, бесплатный, жаль, если зазря пропадет… Я велел, чтоб дожидался тебя. Ты ведь придешь, не так ли? Только поторопись – Пирелли уж очень не терпится. – Ах ты вошь бельгийская!.. Ну, погоди! Доберусь до Пирелли, матку выверну! – рыкнул Каргин, добавив пару крепких выражений. Родной армейский лексикон был крут – рация крякнула, захрипела, но выдержала. Как, впрочем, и майор. Он лишь заметил: – Общайся на нормальном языке, не на своем тарабарском болгарском. – Я не болгарин. – А кто? Поляк? Румын? – Кренна явно забавлялся. – Историю плохо знаешь. Поляки с румынами Париж и Берлин не брали, французам и немцам рыла не чистили, – сказал Каргин и передернул затвор винтовки. – Погоди, мы еще и до вашей Бельгии доберемся, раком поставим и научим по-русски говорить. – Пока что вы до Бельгии не добрались, а я уже тут, на острове, – резонно заметил Кренна. Потом промолвил: – Ну, так придешь на Пирелли поглядеть? Как он с сеньоритой развлекается? – В другой раз, – пообещал Каргин. – Мне эта сеньорита до лампочки. – Придешь! Вы, славяне, так сентиментальны… Думаю, ты уже на месте. Гормана разглядел? Приподнявшись, Каргин покосился на вертолет, неторопливо круживший над осыпью, и буркнул: – Что-то в воздухе мельтешит… – Вот и отлично! Ты тоже имеешь шанс поразвлечься, хоть не с такой приятностью, как Пирелли. Горман вызывает на дуэль. Твоя винтовка против его пулемета… Никаких ракет, никаких стингеров и никаких посторонних, ни зрителей, ни секундантов. Только ты и он. Подходит? – Почему бы и нет? – На всякий случай Каргин сменил обойму, лихорадочно соображая, не уготован ли ему какой-нибудь сюрприз. Конечно, на ровном месте с помелом не потягаешься, не та весовая категория, чтоб драться в огородах и пампасах… Среди камней – другое дело. Или там деревьев и оврагов… Главное, чтобы никто со спины не пальнул… – Если подходит, вылезай и займись делом, – сказал Кренна. – Горман – не Пирелли, парень терпеливый, без сицилийских страстей, да я тороплюсь. Засиделся, знаешь ли, в этой дыре… – Сидишь – сиди и не сучи ногами, – посоветовал Каргин. – А Гормана я сейчас отправлю на три буквы. Сунув рацию за пояс, он пулей вылетел из оврага. До вертолета было метров пятьсот, до ближайшей глыбы – пятнадцать; он метнулся к ней, вскинул винтовку, заглянул в прицел и разочарованно вздохнул. Нос машины был чуть-чуть приподнят – ровно настолько, чтобы пилота не разглядеть. Так что выбор представлялся скромный: хочешь, бей в бронированное брюхо, хочешь – в колпак кабины над головой противника. Стрелять по вращавшимся лопастям смысла не имело – при пулевом попадании в них «Гриф» живучести не терял. Вот если бы пальнуть из стингера… Был бы стингер, не было б дуэли, подумал Каргин, прицелился и выстрелил в колпак. Это являлось всего лишь вызовом, а еще – проверкой: с такой дистанции прищучить его из пушки Горман никак не мог, а вот ракетами – за милую душу. Ракета – штука серьезная, ей без разницы, где камень, где человек… Он побежал, петляя меж кустов и рваных базальтовых глыб, стараясь не свалиться в яму и не высовываться зря. Кроме вертушки, имелся еще и десант – те молодцы, что рыскали сейчас в пещере. О них забывать не стоило, как и об «эмфилде», который разглядел покойный Том. «Эмфилд» – оружие снайперов; значит, Кренна и снайпера прихватил. Так, на всякий случай… Снайпер был сейчас опаснее дюжины крыс с автоматами. Вертушка покачнулась с боку на бок – видимо, в знак того, что вызов принят – и резко пошла вверх. Забившись в щель между двумя обломками, Каргин следил за вертолетом, время от времени оборачиваясь и поглядывая в сторону пещеры. Смысл маневров Гормана был ему, в принципе, ясен: сейчас развернется над лесом, приподнимет хвост и зайдет от солнца. Вполне логичное решение – против солнца с меткостью не постреляешь… И деваться некуда! Никаких вариантов! На шахматной доске, разложенной среди утесов Хаоса, Горман являлся ферзем, а он – всего лишь пешкой. Каргин выбрался из щели, сменил позицию, встав за каменной плитой, торчавшей наискосок рядом с огромным кактусом и доходившей ему до плеч. Хорошее укрытие, надежное. Во-первых, есть опора для ствола; снайперская винтовка – слишком тяжелый агрегат, чтоб целиться с руки. А во-вторых, имелся тут еще один оборонительный рубеж, плита повыше и помассивней, располагавшаяся за спиной. Тоже отличный камешек, из САУ[266] не прошибешь! Это вселяло в Каргина уверенность; крепкий тыл – залог успеха. Пока Горман разворачивался и ложился на боевой курс, он уговаривал себя не торопиться. Мало ли что там бельгиец болтал про Пирелли и сеньориту… Штопано белыми нитками; выманить хочет, вот и плетет с три короба. Выманить, выпустить кишки по-быстрому и поскорей убраться с Иннисфри. «Сейлфиш», небось, заждался… А может, уже и не ждет… В такой ситуации, думал Каргин, самое верное дело – смыться в джунгли и отсидеться. Кратер, конечно, невелик, да лес густой, хрен достанешь… Во всяком случае, день-другой побегать мог бы, а столько бельгийцу здесь не высидеть. Спас бы скальп, а он, как ни крути, на пятьдесят ближайших лет один-единственный… Да и кого тут, кроме себя самого, спасать и защищать? Босса не по его вине пришили, а с Мэри-Энн контрактов он не заключал. Тем более, с Арадой. Мысли были верные, но гнусные, и Каргин на них не задержался. Контракт его истек, и был он сейчас уже не наемником, а только человеком и солдатом, свободным в собственных решениях и действиях. Ну, и какими они будут? Мстить за Патрика? Зряшное дело! Что ему Патрик?.. Не родич и не друг… Спасать от Пирелли рыжую Нэнси? Так от нее не убудет, девица тертая, не первый у нее Пирелли и, вероятно, не двадцатый. А что до Хью, гадюки и мерзавца, то пристрелить его вовсе богоугодное дело. Так что, как ни крути, как ни гадай, а биться Алексею Каргину лишь за собственную жизнь. Жизнь и себе дорога, а более того – отцу и матери и, может, Кэти… – Дорога, но не дороже чести, – вымолвил Каргин и, насупившись, склонился к прицелу. Золотое жаркое сияние почти ослепило его. Горман шел с солнечной стороны, черный жук на фоне огненных лучей; кабину еще разглядишь, а вот пилота – вряд ли. Зато пушечный ствол был виден отчетливо, дергался туда-сюда змеиным жалом и, наконец, остановился. Замер, глядя прямо в лоб Каргину. Фонарь кабины сверкал словно бриллиант с тысячей переливчатых граней. Поймав его в перекрестье, Каргин трижды надавил на спуск, целясь чуть ниже и правей середины – туда, где, по его соображениям, мог находиться пилот. Не в глаз попасть, так в сердце… не в сердце, так в плечо… Он присел, потянув за собой винтовку. В мерный рокот мотора ворвалось сухое тявканье пушки, брызнул щебень над головой, заставляя вжиматься в землю, зеленая свечка кактуса наклонилась, сочно хрустнула и осела, перебитая пулями. Каргин вскочил, ударившись боком о камень, чертыхнулся – царапина отозвалась укусом боли – и выпалил в боковое стекло фонаря. Попал, не попал, было не разобрать – целился с руки, торопливо, пока вертушка разворачивалась над осыпью. В ответ грохнули выстрелы, пуля сшибла гребень с плиты за спиной, другая с шипеньем вонзилась в почву. Горман предупреждал: знаю, мол, где ты. Не спрячешься! Уже не скрываясь, Каргин ринулся поперек откоса, прислушиваясь к нараставшему гулу; Горман, не закончив разворот, тянулся следом, как гончая за удирающим кроликом. Застрекотала пушка, взбив фонтанчики пыли, с хрустом рухнул еще один кактус, сухой древесный ствол взорвался щепками, а за кустами, совсем поблизости, раскрылась яма – глубокая, как полнопрофильный окоп. Но в яму Каргин не прыгнул – не от того, что укрытие было плохим, а из чистого суеверия. Убьют, так лучше здесь, среди камней… Сон афганский помнился, и корчиться в яме не хотелось. Он повернулся, вскинул оружие, уперевшись локтем о подходящий обломок. Солнце светило слева, Горман надвигался прямо на него, и в перекрестье был виден летный шлем, белые выгоревшие брови и глаза – холодные, зеленовато-серые, будто он тоже был потомком Халлоранов. – Сейчас я тебя достану, холера, – пробормотал Каргин, плавно нажимая спуск. Грянул выстрел, но не его. Пуля разорвала комбинезон на плече, и Каргин, стремительно присев, успел удивиться – кто стрелял?.. откуда?.. Потом вспомнилось про «эмфилд», и где-то в животе возник и начал подниматься к сердцу ледяной комок. Смерть пощекотала его крылом – не в первый и, надо думать, не в последний раз… Ее скупая ласка была холодной, как льды Асгарда. Извиваясь будто червяк в банке рыболова, он заполз в кусты, перевалил яму и на карачках двинулся к прежней позиции меж каменных плит. Нашел по дороге длинную почерневшую палку, прихватил с собой. Ободрал колено, выругался. Полз быстро, посматривая то вверх, на помело, то в сторону пещеры. Горман, похоже, его потерял – пальнул пару раз по кустам, затем направился к джунглям, на разворот; видно, рисковать и нарываться на пулю ему не хотелось. Неведомый снайпер молчал. Каргин, однако, не сомневался, что тот сидит не на прибрежной скале, а где-то в камнях перед пещерой; прицельная дальность у «эмфилда» – метров шестьсот, с его винтовкой не сравнишь. Да и калибр мелковат… Он достиг пространства между плитами, выпрямился и взглянул на вертолет. «Гриф» висел над манграми словно черный жук под полупрозрачным зонтиком. Минуты три-четыре есть в запасе… Вытащив мачете, Каргин двумя ударами укоротил поваленный кактус, прислонил его к плите, выставив поверх толстый зеленый отросток, напоминавший руку в комбинезоне, вложил в нее палку и накрыл свое изделие беретом. Боец получился хоть куда – рослый, крепкий и небритый, будто коммандос, не вылезавший из джунглей неделю. – Оборонишь позицию, капрал Джек, будут тебе орден и сержантские нашивки, – приободрил его Каргин, пальнул, чтоб обозначиться, по вертолету и, низко пригнувшись, заторопился на юго-восток. Там, среди корявых пней и щебня, виднелся гладкий валун, похожий на слона с растопыренными ушами, а рядом стадо слонят поменьше. Тоже отличная позиция, скрытная, а главное – солнце в спину. Спрятавшись за подходящим слоненком, он щелкнул по рации и ухмыльнулся. – Вот так, майор… Ты мне куклу, и я тебе куклу. Мы, славяне, сентиментальный народ, напиться можем и подраться, а кровь не любим лить. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Горман развернулся и шел теперь к небритому капралу на всех парах. В боевой привычной стойке: хвост приподнят, нос опущен, незримые лопасти винтов таранят воздух, мотор ревет, шасси под днищем – будто скрюченные когти. Черная молния, грозный гриф! Налетит, ударит – не поднимешься! Затарахтела пушка, высунув острый багровый язычок, над краем плиты взлетела мелкая каменная пыль, ствол в зеленой лапе капрала переломился пополам. – Вот сволочь, метко бьет! – пробормотал Каргин, прикидывая упреждение. Метра полтора на такой скорости, и хватит… Винтовка глухо рявкнула, и он увидел, как в серебристом стекле кабины зажглась на мгновение звездочка и тут же погасла. Орудие смолкло, но вертолет не дрогнул, не отклонился от курса – летел себе и летел, над неподвижным капралом Джеком, над глыбами камня, щебнем, кустами и оврагами, прямиком к пирамидальной скале. К самой ее вершине, где терпеливо дремал камень-жертвенник. Что-то сейчас будет, мелькнула мысль у Каргина. Он заторопился, полез, царапая башмаками шершавый бок, на слоновью холку, откуда обзор был получше: отверстие грота – как на ладони, и каждый ступенчатый ярус скалы просматривается во всю длину. Где-то там его поджидали; может, в пещере, а может, среди булыганов, где он определил вчерашним утром позиции Тому и Крису. Ну, будет по ним панихида… С летающей свечкой и салютом… Прямо сейчас… «Гриф» ударился о камень-жертвенник, перевернулся, лег на него, заклекотал предсмертным воплем; винты в последнем усилии терзали неподатливую скалу, что-то темное взлетало вверх и падало в море, что-то шипело, дымило и взрывалось, что-то выстреливало длинными алыми копьями огня. Через секунду грохнуло по-настоящему: над жертвенником поднялся огненный столб, фонтаном полетели обломки, и вниз сошла лавина – не потрясающих масштабов, однако вполне приличная. Боезапас рванул, а керосин добавил, подумалось Каргину. Самое время подсуетиться… Он быстро сменил магазин – в прежнем оставалось три патрона – и залег за оттопыренным ухом каменного слона. Из пещеры выскочили трое – смуглый горбоносый сицилиец Рафаэль Пирелли и пара автоматчиков; четвертый, с «эмфилдом» в руках, поднялся из-за обломка скалы. Они уставились на пламя, бушующее над вершиной, являя картину полного ошеломления; лишь снайпер видел вертолет, а остальные, похоже, гадали, проснулся ли древний вулкан, и не возник ли поблизости крейсер, приплывший от перуанских берегов чтоб забросать Иннисфри снарядами. Каргин не дал им время поразмыслить. При виде сицилийца он облегченно вздохнул, но первым делом позаботился о снайпере – тот, после Гормана-ферзя, мог считаться самой представительной фигурой. Следующим номером шел Пирелли, за ним – два автоматчика; эти успели метнуться к гроту, и одного Каргин уложил на пороге, а второй то ли споткнулся, то ли получил свое – прилег на землю за трупом приятеля и замер, как раздавленная ящерица. В громе и отголосках взрывов выстрелы не были слышны, и казалось, будто людей одного за другим сминает звуковой волной; взмахнув руками, они падали, не в силах выдержать ударившего с неба рева. Грохот раскатился, рассеялся в пространстве, огненный столб исчез, и теперь на вершине утеса плясали синие пламенные языки – догорало топливо. Каргин спустился со слоновьей спины, оттянул рукав над часами и довольно хмыкнул: виктория полная, и все уложилось в двенадцать минут с копейками. Теперь бы наградить капрала, и можно дальше заниматься делом чести: фокусника пристрелить, девицу выручить… Где они, кстати, девица с этим фокусником? Лежат в пещере, связанные? С охраной или без? Он поднес рацию к губам, нажал клавишу вызова. – Кренна? Я Гепард-один. Послушай, майор, нет ли у тебя лишних сержантских нашивок? – А крест Почетного Легиона тебе не нужен? – отозвался бельгиец. Потом осторожно промолвил: – Ты еще жив? Удивительно! Я слышал, что-то взорвалось… Может, Горман пустил ракету, и ты имеешь претензии? – Ровным счетом никаких. Что за претензии к покойнику? Каргин добрался до капрала и стащил с него берет, пробитый в двух местах. Мать увидит, обомлеет… Ну, ничего, заштопает… Поплачет, поругает, и зашьет… А этакую вещь бросать нельзя. Семейная реликвия! Опять же дырки… Чем больше дыр, тем драгоценней талисман. Голос Кренны вдруг сделался хрипловатым. – Ты что там болтаешь про Гормана и покойников? – Вертушка накрылась, и Горман летит сейчас на небеса в компании Рафа Пирелли и четырех рядовых. Ты много народа послал? – Не дождавшись ответа, Каргин вздохнул и произнес: – Ну, как знаешь, майор. Как говорят полицейские в Штатах, ваше право хранить молчание… И у меня есть право – стрелять, пока патронов хватит. Хочешь, присоветую кое-что? – Тишина, только хриплое дыхание в трубке. – Забирай своих ландскнехтов и уходи с острова. На яхте уходи. Подлодка, думаю, за вами не вернется. – Это еще почему? – А потому, что наши контракты ненадежны, и мой, и твой. Контракты ненадежны, клиенты – сущее дерьмо, заказчик – жулик. Так что лучше бы нам разойтись по-мирному. – По-мирному теперь не выйдет, капитан. Ты дюжину моих убил. – Не хочешь? Ну, я всех убью, – пообещал Каргин и, сделав паузу, поинтересовался: – Ищешь неприятностей, майор? Думаешь, я и есть самая большая неприятность? А зря! Смотри, не случилось бы похуже! Он сунул рацию за пояс, поднял с земли камешек и обратился к Джеку: – Прости уж, парень, нашивок в каптерке не нашлось, так что останешься в капралах. Но бился ты насмерть, пулям не кланялся, и вот тебе крест за отвагу. – Воткнул осколок базальта в колючую зеленую макушку и зашагал к пещере. Против ожиданий в ней никого не нашлось, если не считать лежавших на пороге тел. Один покойный и один живой, но без сознания – пуля, как определил Каргин, попала в позвоночник. Тяжелый случай, однако не безнадежный… Он вытащил пистолет и призадумался, глядя на стриженный затылок раненого. Смутные видения проплывали перед ним: обгоревшие кости старого Патрика, пылающие коттеджи, взорванная казарма, трупы, выложенные в ряд, бледное лицо Тэрумото, Слейтер с перебитыми ногами… Он нажал на спуск, подождал секунду, пока не смолкло эхо выстрела, и вышел из пещеры. Но тут же вернулся, разыскал, не глядя на покойников, бинокль и плоскую бутылку с бренди, затем пошарил в кучке консервных банок. Бутыль и три банки рассовал по карманам, а четвертую вскрыл и начал жадно насыщаться. Эта процедура была недолгой и не лишила его возможности понаблюдать: челюсти трудились сами собой, тогда как глаза перебегали с неподвижных тел Пирелли и снайпера на камни и землю, колючие заросли и пни. Земля была сухой, засыпанной щебнем, не сохранившей никаких следов; камни и пни молчали, как и положено пням и камням, но в ближних кустах что-то темнело. Не иначе, как лоскут материи. Слева, по направлению к пляжу, отметил Каргин. Глупый выбор, неудачный! Если бежать, так в другую сторону, к скалам и джунглям. А пляж – место ровное, пустое; где там скрыться?.. Разве только закопаешься в песок. Плохо закопаешься, в нем тебя и похоронят… Он бросил опустошенную банку, глотнул из бутыли, потом шагнул к кустам, присел. Тонкие ветки сломаны, с толстых содраны колючки и кора, свежие листья устилают землю… Кто-то тут ломился – в панике и страхе, не разбирая дороги. Почва у корней помягче – может, сохранился след? Хоть какой-то отпечаток? Нет, не видно… Зато имеется длинный рыжий волос и темная тряпка. Клочок ткани, однако вовсе не темный, а грязный. Бывшего красного цвета, от майки Мэри-Энн… Выходит, врал бельгиец! Ни мсье Араду не поймали, ни сеньориту! Кивнув, Каргин преодолел колючие кусты, спустился лежавший за ними в овраг и заметил, что трава над краем оврага примята, а кое-где и выдрана – значит, лезли, хватались руками. Лезли не два человека, а больше – стебли примяты и потоптаны на расстоянии метров трех. Очень основательно потоптаны, будто прошлись по ним солдатским сапогом. Разделились, понял он. Пирелли с тремя крысюками остался при гроте, чтобы паяца ловить и свежевать, а прочие метатели клинков ищут красотку и фокусника. Нашли или нет, о том неизвестно, а взрыв услышали наверняка. Во-первых, сами не глухие, а во-вторых, майор им сообщил по рации… И что приказал? Вернуться и скальп содрать с капитана Керка? Решив, что об этой гипотезе не стоит забывать, Каргин вылез из оврага и огляделся. Сзади торчали камни и скалы Хаоса, а за оврагом и жалкими кустиками травы шел голый каменистый склон, довольно крутой и неудобный для продвижения. Правда, его пересекали трещины и расселины – будто раны от боевой секиры, которой орудовал разгневанный великан. Одни побольше, другие поменьше, но каждое миниатюрное ущельице тянулось вниз; те, что западней, наверняка спадали к водам бухты, ну а восточные, надо думать, к пляжу. Выбрав самую широкую из трещин, Каргин начал было спускаться, но, заслышав лязг, шорохи и скрипы, тут же переметнулся в соседний разлом. Лязгало оружие, скрипели башмаки, шуршали камни под ногами поднимавшихся людей. Их было пятеро; забившись в свою щель, он видел только головы и плечи, проплывавшие на расстоянии броска ножа. Но о ноже, равно как о сюрикенах и винтовке, не приходилось вспоминать. Прикончишь одного-другого, а остальные накроют огнем, прижмут к скале, изрешетят из автоматов… Вблизи винтовка тарахтелке не соперник, и песня у нее своя – поспешай неторопливо, бей из укрытия, не забывай: чем дальше, тем надежней. Вот если б было что-то взрывчатое… граната, лучше – две… Гранатой всех бы положил… Гранаты, однако, не нашлось, и потому он затаился, не шевелясь и даже не дыша. Подождал, пока десантники исчезнут за оврагом, опять перебрался в широкую трещину – двигаться в ней было легче – и начал проворно спускаться. Трещина шла зигзагами, и сине-зеленое зеркало Лоу бей то появлялось перед ним, то исчезало; он видел скалы на другом берегу, темные, изъязвленные такими же расселинами, и парапет смотровой площадки, казавшийся герцогским венцом на лысой маковке двухсотметрового утеса. Вернуться, что ли?.. – мелькнуло в голове у Каргина. Залезть обратно, выбрать позицию понадежней и перещелкать басурманов. Прямо у пещеры, пока не оклемались от удивления… Затем ему подумалось, что возвращаться нельзя. Опасная затея! Скорей всего, бельгиец своих людей предупредил, так что они ворон считать не будут и что-нибудь на пятерых сообразят: к примеру, трое прочешут Хаос, а двое останутся в засаде. Возможный вариант, и лучше не дразнить судьбу, не искушать удачу… Как говорил майор Толпыго, не лезь под юбку госпоже удаче: пошаришь с удовольствием разок-другой, а вот на третий выяснишь, что есть под юбкою гранаты, да не той системы. Словом, восток – дело тонкое, везенье – тоже… Будто подслушав его мысль, трещина расширилась и вильнула, доказывая ценность майорских афоризмов: за поворотом, раскинув ноги, уткнувшись носом в землю, валялся тощий Хью. Фокусник, которому не повезло. С маленькой аккуратной дырочкой в затылке… Руки Арады вцепились в землю, пальцы были скрючены, и чего-то на них не хватало. Перстней нет, сообразил Каргин,осматривая мертвеца. Значит, здесь они их настигли, и с мсье Умберто, ясное дело, не церемонились, ратифицировали договор на месте и взяли контрибуцию. А где же наша сеньорита? Могла ведь и удрать, пока с колечками возились… Девушка резвая, когда трезвая… Бегает получше референтов… Он опустился на корточки, придерживая свисавший с шеи бинокль, коснулся слипшихся волос Арады, потом отдернул руку и вытер пальцы о штанину. Кровь была свежей и только начала подсыхать – значит, Хью последовал за Бобом Паркером совсем недавно. Минут тридцать-сорок прошло, если вспомнить африканский опыт. В жарких краях кровь сворачивается с удивительной быстротой. Каргин поднялся, нащупал рукоять мачете, расстегнул кобуру и зашагал вниз по расщелине. Сорок минут – солидное время, можно двух сеньорит изловить, тем более на пляже и большой компанией. Одну уж непременно… Вот только зачем? Ловить, надрываться, потеть… Задачка-то простая, как с мсье Умберто: увидели – и пристрелили… Сомнительный исход! Хоть люди Кренны не отличались альтруизмом, однако в девушек зря не стреляли, а также не душили проволокой и не развешивали на столбах. Как правило, резали глотки – но после, а не до. Такой поворот событий, при всей его неприглядности, подбадривал Каргина. Может, Мэри-Энн поймали, да не успели поразвлечься, а может, развлекаются сейчас – команда, как-никак, немалая. Может, скрутили, оставив на десерт, или приберегли начальству – Пирелли все же офицер, с законным правом первой ночи и сицилийским темпераментом. Такие очередь не уступают… В общем, имелись варианты. Но, как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему, и Каргин уже представлял растерзанную Мэри-Энн на залитом кровью песке. Лежит она где-нибудь у пляжных домиков с располосованным горлом, нагая, как праматерь Ева в день творения, и вьются над ней синие мухи… Или ползают крабы, отщипывая по кусочку здесь и там. То от грудки, то от аппетитной попки… К счастью, он ошибся: она еще бегала, а вместе с нею – пара солдат. Этих двоих Каргин не знал. Один – повыше, темноволосый; другой – коренастый, с бритым черепом, блестевшим от испарины. Вильнув последним изгибом, трещина, по которой он спускался, сомкнулась с соседней и вышла к пляжу широко раскрытым веером; песок в его основании загромождали камни, снесенные вниз в период дождей. Спрятавшись за этим валом, Каргин с мрачной усмешкой наблюдал, как два десантника гоняются за Мэри-Энн. Она имела определенный профит: кроссовки вместо тяжелых башмаков, солидная доза адреналина и порожденное отчаянием упорство. Зато солдаты были поопытней и повыносливей: отрезали ее от рощи и потихоньку теснили к морю и камням. Медленно, не торопясь – похоже, игра их забавляла. Матч разворачивался шагах в двадцати от Каргина, и он, ощупав пояс, вытащил стальную звездочку и пистолет. Он мог с одинаковым успехом стрелять и метать сюрикены с обеих рук. Важный козырь, когда имеешь дело с двумя противниками. Темноволосый остановился, расстегнул ремень, намотал конец на руку. Взмахнул – тяжелая бляха со свистом разрезала воздух. Нэнси тоже замерла – будто перепуганный кролик при виде непонятной, но внушающей ужас ловушки. Коренастый, ощерившись в ухмылке, в свой черед потянулся к поясу. – Пари, Рамирес? Кто курочку подобьет, тот первым и ощиплет? – Ты уже проиграл, Хаммель. Внезапно прыгнув к девушке, темноволосый хлестнул ее по ногам. Мэри-Энн взвизгнула и упала; на бедре, чуть выше колена, вздулся алый рубец. Ее вопль заглушил торжествующий рев коренастого. Он бросил автомат, подскочил в восторге и, шлепнувшись на песок, принялся расшнуровывать башмаки, приговаривая: – Валяй, Рамирес, не задерживай… не в Гамбурге у потаскух… там время оплачено, трахайся до посинения, а тут живая очередь… по паре раз на брата, пока майор не высвистал… ты начнешь, а я закончу… ножиком… Помнишь – как тогда, в Кигали?.. С черной девкой?.. С той барменшей в аэропорту? Ох, и вопила! Однако Рамирес не торопился, стоял над сжавшейся комочком Мэри-Энн, поигрывал автоматом, разглядывал ее с оттенком легкой брезгливости. – Грязновата, Хаммель… Не окунуть ли разок? Та девка в Кигали хоть черная была, но мытая… – Он вдруг подмигнул Мэри-Энн. – Ну, что, попалась, быстрые ножки? Молчишь? А ты покричи, покричи… Услышит твой приятель, прибежит… Ведь прибежит, а? – Буэнас диас, хомбре. Вот и я, – сказал Каргин, вставая. «Беретта» коротко рявкнула, и темноволосый осел на песок; слева на его груди расплывалось красное пятно. Сюрикен Каргину не понадобился – Хаммель стягивал комбинезон и до оружия никак не мог добраться. Пару секунд, но этого вполне хватило. Правда, пришлось подойти и добить, чтобы не мучился – первая пуля попала в живот. Спрятав «беретту» в кобуру, Каргин шагнул к девушке, поднял ее и как следует встряхнул. Глаза у нее были нехорошие – вот-вот закатятся. – Идти можешь, сестренка? Нужно отсюда убираться. И поскорей! – М-могу… Выпить бы… хоть чего-нибудь… хоть мочи от пьяного барана… – Возьми, подкрепись, – он вытащил бутылку. Сделав основательный глоток, Мэри-Энн плеснула бренди на ладонь и, сунув Каргину бутылку, потерла след от ремня на бедре. Потом плюнула на труп темноволосого. – Кобель поганый… Пусть тебя черви сожрут, вместе с твоими девками из Кигали!.. С мытыми и немытыми!.. – Она развернулась к Каргину, влепила ему затрещину. – А ты, ковбой? Где ты шлялся?! Где вы все шлялись? Томми, Крис, Тейт и Бобби, братец мой недоношенный? Вы почему меня оставили? Вы думали, Хью меня защитит? – Она с яростью ткнула пальцем в сторону расщелины. – Там он валяется, Хью! Лежит, задрав копыта! – Вот и спасай девушек по умеренным ценам… – ошеломленно пробормотал Каргин, потирая щеку. Мэри-Энн внезапно ткнулась лицом ему в грудь, обхватила за плечи, расплакалась. Сквозь всхипывания и причитания он разобрал: – Ты, Керк, не сердись… Я сейчас… я пойду, куда скажешь… Ты только будь со мной, не бросай… и не сердись, ладно? Хочешь, зови меня Нэнси… – Нэнси, так Нэнси. – Каргин отсторонился, подобрал «ингрем» темноволосого с парой запасных обойм и сунул ей в руки. – Знаешь, где нажимать и как заменять магазин? Мэри-Энн молча кивнула, вытерла слезы и мертвой хваткой вцепилась в автомат. Глаза ее сверкнули. Надо отдать ей должное: она с удивительной быстротой оправилась от пережитых невзгод. То ли бренди помогло, то ли неукротимый дух семейки Халлоранов. Стоит приободрить девушку, решил Каргин и погладил ее по спине. – Не бойся, бэби, я тебя не брошу. Только шевелись живей – место тут открытое, и оставаться нам нельзя. Не ровен час, налетят басурмане… – Подожди. Дай бутылку! Спиртное исчезло в один прием, под неодобрительным взглядом Каргина. Хмыкнув, он поинтересовался: – Разглядишь, в кого целиться, сестренка? Меня случайно не уложишь? – Разгляжу, ковбой. – Ну-ну… Это тебе не в дядюшкины портреты палить, – буркнул Каргин и потянул ее к роще.
Глава 15
Иннисфри, роща у Лоу бей и Нагорный тракт; утро 24 июляНадолго Нэнси не хватило – свалилась под первой же пальмой, нарушив планы Каргина. Ему хотелось поскорее перебраться из рощи в лес; Хаос уже не являлся надежным укрытием, и если бы Кренна пожелал, все его камни, утесы, овраги и гроты были б обшарены до полудня. В распоряжении майора еще оставалось около тридцати человек, и у него имелись вертолеты – двухместные патрульные машины с аэродрома Иннисфри. И хоть Пирелли с Горманом переселились в лучший мир, наверняка кто-то еще из людей бельгийца смог бы управиться с вертушками, пусть не с таким искусством, как погибшие пилоты. Словом, Каргин не собирался рисковать. В данный момент дела обстояли именно так, как в детской сказке про Мальчиша-Кибальчиша: нам бы лишь день простоять да ночь продержаться. А там, глядишь, нагрянут красноармейцы из Перу или латышские стрелки из корпуса морской пехоты, и вздернут буржуинов на фонарь. Но Мэри-Энн нуждалась в отдыхе. Не столько в передышке для восстановления сил, сколько в том, чтобы расслабиться и успокоиться. Слишком много событий произошло в последний час: погоня и бегство, гибель Арады, угроза насилия и смерти. Психика цивилизованных людей, привыкших к комфорту и безопасности, такого не выдерживает, их воля к сопротивлению слабеет, мужество дает трещину. Эту реакцию Каргин наблюдал неоднократно и, как всякий опытный командир, знал, что делать в подобных случаях. Рецептов было два: разозлить или воодушевить. Гнев и ненависть к врагам отличное лекарство, но более подходит для мужчин, а с женщиной нужно иначе: сесть, поговорить, поднять моральный дух, обрисовать перспективы. Конечно, радужные; а если их нет, изобрести хоть что-нибудь, внушающее надежду. На эту психологию он выделил сорок минут и начал с главного: – Есть хочешь? Мэри-Энн кивнула. Каргин вытащил банки, осмотрел их, чертыхнулся – все три оказались с персиками. Потом вскрыл одну и протянул девушке вместе с ножом. – Давай, наворачивай, сестренка! Опустившись на песок, он положил винтовку на колени, расстегнул комбинезон, ощупал повязку на ребрах. Царапина не кровоточила и не болела, только чесалась – видно, начинала подживать. С моря потянуло ветерком, солнечный луч ударил в лицо, и Каргин прищурился. Потом, не открывая глаз, чувствуя ласковое тепло, представил, будто с ним не Мэри-Энн, миллиардерова наследница, а кареглазка Кэти: сидит, ласточка, напротив, ест компот и нежно улыбается ему. Доест и скажет: милый, я уже знаю на русском кое-какие слова… Так и скажет: милый, не дарлинг… Придвинется ближе и начнет шептать: Керк, любимый мой, родной, единственный… ну, и всякое-другое, что в этих случаях положено. А после… «Что это со мной? – мелькнула мысль. – Разнежился, а не ко времени! Место не то, чтоб расслабляться, и девушка совсем не та. Не говоря уж о ситуации». Приподняв веки, он посмотрел на Мэри-Энн. Аппетит у наследницы Халлоранов был отменный – видимо, фамильная черта. Щеки ее порозовели, темные круги под глазами исчезли, морщинки у рта разгладились, губы увлажнились и обрели манящую упругость. Похоже, она была готова на подвиг и на труд. Отличное средство – бренди с персиковым компотом, решил Каргин. Надо будет запомнить. – Я слышала грохот, – сказала Мэри-Энн, отшвырнув пустую банку. – Я спускалась в какой-то дыре, чуть ноги не сломала, а Хью тащился сзади… уж больно он неповоротливый, наш Хью… и вдруг как загремит! Я думала, салют по усопшему дядюшке… Заупокойная месса, так сказать… А почему колокола не звонили? – Еще зазвякают по мне и по тебе, если в лес не уберемся, – пообещал Каргин, вздыхая. Личико Кэти растворилось в небесной синеве, глаза погасли, и ветер развеял улыбку. Он снова вздохнул и произнес: – А что до грохота, сестренка, так это неприятность с помелом случилась. – С помелом? С каким помелом? – С вертолетом. Налетел на скалу и взорвался, при моем посильном содействии. Ты… – Он помолчал, поглаживая приклад винтовки и соображая, как лучше сообщить печальную новость, – ты ничего о Бобби не знаешь? Хью тебе что-нибудь говорил? – Хью отвратительно ругался. На английском и испанском, из-за какого-то договора. Разбудил меня, вытащил из пещеры и заорал как припадочный – беги! Вертолет уже висел над нами, и эти ублюдки принялись стрелять… Я так испугалась, Керк! Я и не знала, что можно так пугаться! Все мысли перепутались, словно голову мне отрезали, а приставили шейкер для коктейлей… Я даже не поняла, что все куда-то подевались… ты, и Бобби, и остальные… – Она заглянула в лицо Каргину. – Где ты был, ковбой? И где мой братец? Каргин выглянул из-за мохнатого пальмового ствола, осмотрел пустынный пляж и скалы и повернулся к девушке. – Помнишь вчерашний разговор? Бобби хотелось провернуть то дельце с вертолетом… – Она кивнула. – Так вот, дельце не выгорело. Они отправились вчетвером – Арада отказался, а я спал. Твой брат не позволил меня разбудить. И они ушли. Взяли оружие и ушли. Зрачки Мэри-Энн потемнели, губы дрогнули. – А Хью? Хью как же? Мог ведь пощекотать тебя за ухом? Или в бок ткнуть? – Мог, да ткнул. Он… Скажем так, у Хью имелись свои резоны и виды. Я сам проснулся. Проснулся и пошел искать твоего братца, но, к сожалению, не успел. Понимаешь, бэби, этим парням, что к нам пожаловали, палец в рот не клади – руку оттяпают и до печенки доберутся! Ловкие крысюки! И с опытным главарем… – Каргин вздохнул; полуправда кончилась, осталась только правда. – В общем, приготовили ловушку, и Бобби в нее влип. Вместе с Крисом, Томом и Тейтом… Не мучились, погибли сразу, под пулями… С губ Мэри-Энн слетели странные звуки, то ли вздох, то ли рыдание. Глаза ее, однако, остались сухими. – Ты сам это видел? Видел, как их убили? – Видел, и даже со свидетелем. – Каргин снова погладил приклад винтовки. – Теперь, сестренка, ты сделалась очень важной персоной… не бесприданница – наследница… Единственная! Если это тебя утешит. – Не нужны мне утешения. – Голос Нэнси был невыразителен и сух; ни эмоций, ни признаков горя – видно, кровь Халлоранов брала свое. – Я знала, что с Бобом что-то случится… что-нибудь когда-нибудь и очень нехорошее… В общем, не в своей постели умрет. Он… он, Керк, был неудачником, как мать и отец. Таким, я думаю, родился. Неудачник – это ведь очень заметно, ковбой! По многим признакам, и по тому, что все, кто рядом с ним, становятся точно такими же. Это как заразная болезнь! Взять хотя бы меня или покойничка Мэнни и эту примороженную Финли… – Кэтрин? – Вздрогнув, Каргин во все глаза уставился на девушку, но тут же овладел собой. – Я знаком с Кэтрин Финли. Ее приставили ко мне как менеджера по работе с персоналом. Она-то здесь с какого бока? – С такого, – мрачно сообщила Мэри-Энн. – Очередные дядюшкины планы и очередной провал. То есть я хочу сказать, планировал Патрик, а провалился Бобби… – Ну-ну, – промычал Каргин, навострив ухо. – И что там у нас провалилось? – Интересуешься, ковбой? – По губам Нэнси скользнула усмешка. – Интересуешься, я вижу… Наверно, менеджер провел работу с персоналом… Так вот, эта Кэтрин Финли – дочь Барбары Грэм, последней дядюшкиной пассии. Он чуть не обвенчался с ней лет тридцать назад, да передумал, решил, что староват для брачных уз. А через год она вышла за Дугласа Финли, профессора-филолога… или историка, черт его знает… Эти Грэмы и Финли – с Восточного побережья, из Филадельфии. Местная знать… Благородные предки, но не британские, шотландские, гордость, порядочность, честь, и ни гроша за душой. Нищие, как церковные крысы! Но дядюшка их подкармлмвал. Он, знаешь ли, бывал сентиментальным… когда ему выгодно… Каргин, изобразив недоумение, пожал плечами. – А в чем тут выгода? – Хотел, чтоб Кэтрин вышла за Боба и поскорей отправилась в родилку, за наследником. – Но Бобби ведь и есть наследник. То есть был. Он… – начал Каргин, уже не с притворным, а настоящим удивлением. – Бобби, Бобби!.. – передразнила Мэри-Энн. – При чем здесь Бобби? Что ты знаешь, Керк! У старого козла была одна привязанность – не шлюхи, которых он трахал после дипломатических приемов, и даже не Барбара Грэм, а мисс Халлоран Арминг Корпорейшн! Ее высочество леди ХАК! И он считал, что должен отдать ее в крепкие руки – не в женские и не такие, где ноготки покрашены голубым. Он просто шизанулся на этой идее, клянусь! Так что Боб для него не наследник. И с Кэтрин ничего не вышло… Она-то пыталась, она была согласна, из кожи лезла вон, да Боб не смог… не получается у него с женщиной, понимаешь? – Понимаю… – протянул Каргин. Он уже почти жалел, что сдернута очередная завеса с семейных тайн Халлоранов. Возможно, об этой нелепой истории Кэти и собиралась ему рассказать? Собиралась, да не рассказала, а он все равно доискался… Наверное, зря. Лучше было бы вспоминать о Кэти как о сладком сне в солнечном Фриско. Море, пальмы, китайский ресторанчик и прочий калифорнийский антураж, а на этом фоне смуглая девушка тихо шепчет: милый, зови меня ласточкой… Но миром правили деньги, и в борьбе за них девушки были таким же товаром, как нефть, оружие, зерно и ножки Буша. Что в Сан-Франциско, что в Париже, что в Москве. Товар, всего лишь товар… Или он ошибается? Ну, были дядюшкины планы, была попытка с Бобом, так ничего не вышло! В конце концов, у многих девушек, особенно красивых, есть этот бзик – найти богатого, продаться подороже и умотать затем в Париж. Или, например, в Венецию… И продаются, ежели не встретят человека, назначенного им судьбой. Такого сероглазого и рыжеватого, со шрамом на скуле… А встретят, и расчеты побоку! Может, так, а может, этак… Ответа на вопросы нет. Каргин вздохнул, огляделся с тоской, и душу его пронзило острое чувство нереальности происходящего. Может, для Кэти он не чужой, но тут, на Иннисфри, он был всего лишь чужаком-наемником, потерявшим хозяина, сцепившимся с такими же ландскнехтами неведомо зачем и почему. В этом он был непохож на Тома и, если не апеллировать к упрямству, гордости и чести, не мог бы внятно объяснить, за что и за кого сражается. Их с Томом воспитание, менталитет и цели различались не меньше, чем вольная новгородская дружина и отряд дисциплинированных самураев; Тэрумото руководила личная преданность хозяину, тогда как Каргин нуждался в ином, в некой позитивной идее, способной оправдать его существование. Эта потребность являлась чисто российской традицией, не разменивалась на деньги, не продавалась за почести, власть и обещания любви, и тот, кто эту идею терял – неважно, по собственной воле или по другим причинам – терял вместе с ней и нечто большее. Понятие о добре и зле, о долге и справедливости, о собственном предназначении и месте в жизни. Где оно, это место? – мрачно подумал Каргин. Может быть, в яме среди афганских гор? Среди погибавших солдат, которыми он никогда не командовал, не вел их в бой, и все же был им что-то должен – что-то такое, чего они уже исполнить не могли. То, что исполнялось на своей земле, к которой, по большому счету, Афганистан, Ирак, Заир и этот чертов остров никак не относились. Никак и никогда. – Что молчишь? – спросила Мэри-Энн, и он очнулся. – Думаю, сестренка… Вспоминаю… – Думаешь о Кэтрин? – И о ней тоже. За что она тебя не любит? – А! Все-таки болтала про меня! Мы крепко цапались, ковбой… не раз… Наверное, я была не права… говорила, что настоящей женщине удалось бы расшевелить Бобби… А она, – Мэри-Энн вдруг хихикнула, – она обозвала меня тощей шлюхой. Надо же! Конечно, я не мисс Америка и может, шлюха, но не тощая! Я – девушка в теле! Желаешь убедиться? Внезапно Нэнси пришла в игривое настроение, прижалась к Каргину, подставляя губы. Глаза ее подернулись туманом, поясок шортиков вдруг расстегнулся будто сам собой, сквозь прореху майки просвечивала грудь с розовым соском. – С кем тебе было лучше, – проворковала она, – с ней или со мной – там, на пляже? Хочешь попробовать еще разок? Чтобы сделать правильный выбор? «С чего ее так разбирает?.. – подумал Каргин. – От бренди с персиками? Или от нежданного наследства?» Но вслух произнес: – Время неподходящее, бэби. А еще замечу, что нравственность мисс Финли выше всяких подозрений. Нас с ней связывают только служебные отношения. Случалось, правда, мы болтали о том, о сем… – О чем же? – О Париже. – Я тоже хочу поболтать о Париже, – сказала Мэри-Энн и принялась стягивать майку. Но Каргин шлепнул ее по перепачканному песком бедру, поднял винтовку и встал, натягивая берет. – Сказано – не время! Прибереги свою энергию для джунглей. – А что мы там будем делать, дорогой? – Прятаться, ma chere,[267] прятаться. Ты ведь не думаешь, что я перебил всех нехороших парней? В небесах вдруг загудело. Вначале рокот был отдаленным, едва слышным, но с каждой секундой он становился все отчетливей и сильнее, будто к острову неслась эскадрилья разъяренных пчел. Звуки наплывали с севера, дробились в зубчатых коронах утесов, перекликались отраженным эхом и падали вниз, сливаясь с шелестом волн и листвы. Затем мощный рев моторов заглушил песни деревьев и моря, и хотя утесы загораживали от Каргина северный небосвод, он догадался, что над поселком и бухтой кружат самолеты. Скорее всего, не меньше пяти-шести. – Джунгли отменяются, – сообщил он Мэри-Энн, пристроил винтовку на плече и выскочил на пляж. Но не узрел ничего интересного – скалистые стены над Лоу бей ограничивали видимость. Разочарованный, Каргин вернулся под деревья. – Хорошо бы подняться наверх… Туда! – Задрав голову, он бросил взгляд на смотровую площадку. Сейчас она являлась лучшим пунктом наблюдения, самым досягаемым и безопасным, если учесть, что в Хаосе еще бродили пятеро головорезов Кренны. К тому же к ней вела дорога, недлинный серпантин, соединявший пляж и рощу с Нагорным трактом. Четверть часа, и они доберутся до площадки. – Кто-то прилетел? За нами? Значит, приключения кончились, ковбой? – Поправив майку, Мэри-Энн с широко раскрытыми глазами вслушивалась в слитный гул моторов. – Еще не знаю. Смотря кто прилетел и зачем. Так что автомат не бросай! – Он схватил ее за руку и потянул к дороге. Они шагали быстро, молча, сберегая дыхание. Серпантин поднимался вверх шестью извивами, и за последним поворотом, когда деревья расступились, стали видны узкий пояс Нагорного тракта с мостами, тоннелями и круглой пряжкой-озером, а за ним – дворцовая кровля с ажурным блестящим цветком антенны. В небе серебристо-серыми тенями мелькали самолеты: три «оспрея» – над взлетным полем и развалинами поселка, и еще два, большие транспортные «боинги» – над виллой и прилегавшим к ней садом. Эта пара кружила в вышине, и пространство под ней было расцвечено яркими прямоугольными кляксами парашютов. Сотни полторы, прикинул Каргин, глядя, как из чрева «боингов» вываливаются все новые и новые фигурки. Когда они забрались наверх, транспортные самолеты уже повернули к северо-востоку, один «оспрей» приземлился, второй готовился к посадке, а третий все еще свивал круги над бухтой. Кроме того, у восточных скал возник вертолет, каких Каргину видеть никогда не доводилось – черная угловатая машина, похожая на гоночный автомобиль под полупрозрачным зонтом рассекающих воздух лопастей. Видимо, он прилетел из Кальяо, а вот самолеты, если судить по обратному курсу, явились с американских берегов. Вскоре эта гипотеза перешла в уверенность: парашютисты действовали со сноровкой, какую вколачивают не в перуанской армии, а в войске великой державы. Такая держава в окрестностях имелась лишь одна, и потому было бессмысленно строить иные предположения. – Кто это, Керк? Как ты думаешь? – Нэнси, дернув его за рукав, облизала губы. Голос ее был тревожным. – Думаю, твои соотечественники, детка, – сообщил Каргин. – Явились, не запылились, вояки хреновы… Ликвидаторы ликвидаторов… Он сплюнул, поднял бинокль, поднес к глазам. Верхняя терраса с павильоном-обсерваторией была пуста, но перед домом и на широкой дворцовой лестнице, среди колонн и сфинксов, уже кипела яростная схватка: парашютисты в зеленых беретах и камуфляже накатывались цепью, палили по окнам, приседали, падали, поднимались, шаг за шагом оттесняя людей бельгийца; сколько тех было, Каргин разобрать не мог, но защищались они отчаянно, как попавшие в ловушку крысы. У южного флигеля метнулось пламя, взлетел бесформенный черный комок, потом, под раскатистый грохот, засверкали новые вспышки – били из подствольных гранатометов и базук. Каменный сфинкс, украшавший лестницу, встал на дыбы, окутанный огнем и дымом, и тут же завалился на бок – его невозмутимое лицо внезапно пересекла трещина, будто шрам от сабельного удара. Под многотонной базальтовой тушей что-то ворочалось, корчилось, извивалось, и камень в том месте вдруг начал багроветь. – Какого дьявола, Керк? – Бросив автомат, Мэри-Энн то приподнималась на носках, то подпрыгивала от нетерпения. – Что там творится? Что происходит? – Битва лапифов с кентаврами, – пробормотал Каргин и сунул ей бинокль. – Вот, полюбуйся! Покруче, чем в голливудских боевиках. И все – настоящее! И пули, и кровь, и трупы… Все три самолета уже приземлились, и из распахнутых люков выпрыгивали десантники и еще какие-то люди, не в пестрых комбинезонах, а в штатском. Словно цепочка муравьев, они устремились к ангарам и гаражам, и на окраине взлетного поля тоже загремели выстрелы – видно, схватились с часовыми Кренны. Но было тех наверняка немного, и вскоре большая часть атакующих отхлынула; затем распахнулись ворота ангаров, выехали набитые солдатами джипы и устремились к поселку и Шестому блок-посту. Могут и сюда добраться, подумал Каргин, нащупывая бумажник в нагрудном кармане. Бумажник был на месте – с паспортом, чертовой уймой виз, кредитными картами и контрактом, свидетельством его лояльности. Черное помело, сделав широкий круг, зависло над озерным берегом и руинами Второго блок-поста. Теперь Каргину удалось подробнее разглядеть вертушку, и он, сдвинув берет на затылок, покачал головой и невольно присвистнул. В самом деле, такое ему живьем не попадалось! Лишь на картинках в «Милитари ревьюв», под заголовком «Техника двадцать первого столетия»! Если глаза его не обманывали, то был «Ирокез» – разведывательно-ударный вертолет RAH-70,[268] для спецопераций в джунглях, горах и прериях, а также над океанами и морями. Крейсерская скорость – до шестисот километров в час, дальность полета – три тысячи, отсек для грузов и десантников, пушки, пулеметы, ПТУРы… Мечта! Особенно для тех, кто хочет быстро смыться. Пока он дивился на небывалую вертушку, бой на ступенях лестницы затих, взрывы и выстрелы смолкли, и теперь часть парашютистов копошилась среди мертвых тел, растаскивала трупы, тогда как другие прочесывали территорию. Вполне понятная суета, но Каргину почудилось, что в здание никто не входит. Странно! Он покосился на Мэри-Энн, решил не отбирать бинокль и сбросил с плеча винтовку; потом заглянул в прицел, плавно повел стволом, отыскивая прятавшиеся за колоннами двери. Точно, никто не входит! Либо успели очистить виллу, либо такой деликатный труд – не для десантников… Тяжелая винтовка оттягивала руки. Шагнув к парапету, Каргин пристроил ее поудобнее, опустился на колено и приподнял оружие. Мелькнули десантники в камуфляже, возившиеся в кустах, затем зеленые кроны кипарисов, лестница, закопченные сфинксы и фасад виллы, похожий на древнеегипетский храм. Выше, еще выше… Теперь перед ним была эспланада: пальмы и мандариновые деревца, полосатый тент, скамейки, павильон с полусферическим куполом и вертолет, уже переместившимся от озера. «Ирокез» неторопливо сел, сдвинулись створки пилотской кабины и пассажирского отсека, и на террасу стали выпрыгивать парни – рослые крупнокалиберные молодцы. Преторианская гвардия, телохранители, решил Каргин, придерживая тяжелую винтовку. А кто за ними вылезет? Сам император Калигула? Вылез Шон Дуглас Мэлори, собственной персоной. Хоть не император, зато коммодор, вице-президент и шеф административного отдела ХАК, ответственный за безопасность… Каргин справился с искушением нажать на спуск – дистанция была слишком велика – и только проводил его взглядом до дверей. Мэлори шагал быстро, энергично, даже подпрыгивая на ходу, и скрылся в кабинете босса. Стражи, числом семь лбов, разбились на две группы, направились к лестницам и исчезли; восьмой остался на террасе. Он заглянул в павильон, затем подошел к массивному черному корпусу «Ирокеза», махнул пилоту. Тот спустился вниз, пошарил в кармане, что-то вытащил. Оба закурили. Отложив винтовку, Каргин встал с колена и повернулся к девушке. – Видела, кто прилетел? В той черной кастрюле, с гвардейцами? Нэнси кивнула с явным облегчением. – Шон! Весельчак Шон, старая задница… Самый бодливый козлик дядюшки Патрика, и самый преданный… Ну, наконец-то! – Она приподнялась на носках, потянулась, сладко зажмурившись, потом бросила взгляд в сторону Нагорного тракта. – Пойдем, ковбой. Увидят нас, пришлют кого-нибудь на четырех колесах и отвезут меня в ванну… и я из нее век не вылезу… Ванна, бутылка виски и сигарета – вот что мне надо… И ты! Ты приходи, спинку потереть… Придешь? – Как бы нам обоим спинку не потерли, под левой лопаткой, – задумчиво пробормотал Каргин. – Вот что, бэби: так и так отсюда нужно уходить – место нехорошее, открытое, не люблю я такие места. Мы уйдем и посидим часок под деревьями. Посмотрим, что случится. – А что случится? Что может случиться? – Мэри-Энн неуверенно улыбнулась. – Ты ведь не думаешь, что Шон… – Бодливый козлик этот Шон, сама сказала. А оборот у компании вашей – шесть миллиардов… Ба-а-льшие деньги! И большой соблазн. Соблазн и в самом деле был велик, так что Мэри-Энн притихла и последовала на ним без возражений. Они спустились по серпантину, но не до самого пляжа, а шагов на двести, зашли в лес и устроились между корнями огромной сейбы. Корни были похожи на доски, поставленные на бок – широкие, толстые, пулей не прошибешь. Рядом струился ручей, питавшийся, видимо, из озера. Они напились; потом Мэри-Энн стащила шортики и майку, сполоснула лицо и удалилась в кустики. Каргин сидел с винтовкой на коленях, привалившись спиной к стволу, и размышлял, что предпринять в нынешней ситуации. Вариантов было два: отсиживаться или вылезти наверх. Иными словами, ждать или вступить в контакт? Может, позвонить? Позвонить, распорядиться, чтоб приготовили ванну для молодой хозяйки? Вряд ли это обрадует коммодора… Решит, что бельгиец по двум объектам недоработал, не выполнил контракт… Впрочем, какие теперь расчеты? Где он, Кренна?.. Надо думать, лежит в кровавой луже под мозаикой с орлом… Взгляд Каргина обратился к рации, он хмыкнул и нахмурился. Больше всего ему сейчас хотелось не вспоминать о Кренне, избавиться от Мэри-Энн, от Мэлори и корпорации ХАК, и очутиться где-нибудь подальше – так далеко от Иннисфри, чтобы орел не долетел и конь не доскакал. Где-то в Краснодаре или Москве… Либо, на худой конец, в Париже… Вместе с Кэти, разумеется. Он прикрыл глаза, и в этот момент заверещал мобильник. Мэлори, кто же еще… Любопытствут, лысая нечисть, кого не добили и почему… – Ты, мой мальчик? – Голос коммодора был, как всегда, бодрым и жизнерадостным. – Докладывай! Есть еще уцелевшие? Кто? – Все, кого не пристрелили, не подорвали и не сожгли. – А если поконкретней? – Мэлори сделал паузу и сообщил: – Слушай, сынок, я очень рад, что ты остался жив. Ты оправдал мои надежды, в высшей степени оправдал… Так кто же с тобой? Хью Арада и девушка? Мы не нашли их тел. – Девушка, – сообщил Каргин после недолгого колебания. – Сеньору Араде просверлили дырочку в затылке. – Что ж, выходит, не судьба… – Кажется, коммодор был доволен. – Приводи ее и сам приходи. Или лучше сделаем так: скажи, где вы, и я пришлю машину. О'кей? Вы, полагаю, измучились, устали… Ну, ничего, ничего! Зато тебя ожидает масса приятных сюпризов! – Сыт я по горло твоими сюрпризами, весельчак, – пробормотал Каргин, нажав кнопку сброса. В кустах зашуршало и появилась Нэнси – умытая и одетая. Брови ее приподнялись, вопросительный взгляд метнулся к телефону. – Козлик Мэлори звонил. Говорит, что ванна для тебя почти готова. Осталось только серной кислоты плеснуть. – Почему бы и нет? Согласна на кислоту, только б до ванны добраться… – Девушка опустилась рядом. – А что он еще сказал? О дядюшке? О Бобби? – Сказал, что тело Боба найдено, а наши – нет. К большому сожалению. Щеки Мэри-Энн начали медленно бледнеть. – Пугаешь меня, ковбой? Нехорошо шутить такие шутки с девушкой! – Какие шутки! – Каргин поднялся, баюкая в руках винтовку. Надежно оружие, верное. Если подобраться к вилле… – Ты думаешь… – начала Мэри-Энн, но тут мобильник снова звякнул. Глядя в расширившиеся глаза девушки, Каргин поднес трубку к уху. Снова Мэлори… – В чем дело, парень? Перестань дурить! Где вы? – Дело в том, – негромко, с расстановкой, произнес Каргин, – что наша умозрительная операция реализована во всех деталях и подробностях. Это вызывает вопросы, не так ли, коммодор? Или у вас другое мнение? – Операция… хмм… – протянул Мэлори. – Операция операцией, но все не так, как тебе представляется, мой мальчик. Считай, что это была проверка. Тест на дееспособность и выживание, так сказать. Плюс санитарная чистка… Я ясно выражаюсь? – Не очень. Для теста слишком много трупов, включая Халлорана и молодого Паркера. Не хотелось бы к ним присоединиться. Вздрогнув, Мэри-Энн дернула Каргина за рукав, прошептала: «Какая операция? Какой тест?» Он отмахнулся. – Чего ты хочешь? – произнес Мэллори строгим генеральским тоном. – Что тебе нужно, парень? Я ведь сказал, что все о'кей, что для тебя все неприятности позади, а впереди – одни приятные сюрпризы. Чего ж еще? Личное приглашение от президента США и кадиллак к подъезду? – Нужны гарантии. – Гарантии, вот как… А ты осторожен, мой мальчик! Рад! Это большое достоинство. Ну, слово чести офицера тебя устроит? Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие, подумалось Каргину. Надо же – прислал убийц на остров, теперь офицерской честью клянется! Честь, да не та – протухшая! Из этой чести шубу не сошьешь, жизнь за нее не купишь… Как говорил майор Толпыго, коли враг коварен и хитер, есть одна гарантия: ставь поганца на четыре кости, а к яйцам подвесь гранату. Но вслух он этого не произнес, а ограничился многозначительным молчанием. – Не веришь? Чувствую, не веришь… – Мэллори шумно выдохнул в трубку. – Ладно, послушай меня, сынок… Согласен, все произошедшее на острове было жестоко, антигуманно, бесчеловечно, но – поверь мне! – совершенно необходимо. И все свершилось по воле и приказу мистера Халлорана. Ты спросишь, зачем? И я отвечу: вспомни, где умный человек прячет камень? Среди других камней… А где прячет труп – тем более, если и трупа-то не было? Среди других погибших на поле битвы. И вспомни еще одно: от покушений не спасет ни прочная крепость, ни преданные стражи. Атакующий всегда имеет преимущество и добивается своего. Рано или поздно, но добивается, и ты это знаешь. Ты – солдат! – Не понял ни слова из вашей галиматьи, – произнес Каргин внезапно охрипшим голосом. – Я думаю, понял. Ты парень сообразительный… Но если надо, могу поподробнее. – Мэллори вдруг принялся чеканить слова, будто рапортовал адмиралу флота: – Мистер Халлоран, наш босс, желает, чтобы его считали мертвым. Жертвой поголовной резни, учиненной кровавыми фанатиками, атаковавшими остров. Но им не избежать возмездия. Ни в коем случае не избежать! Когда мы изловим их всех – и, разумеется, перестреляем – здесь появятся репортеры и представители власти, дабы оценить масштаб трагедии и проинформировать о ней мировую общественность. Трагедия, конечно, огромна: сотни погибших, и среди них – Патрик Халлоран, достойнейший гражданин великой державы. Он мертв… – Голос коммодора дрогнул, но тут же окреп: – Зато теперь его никто не потревожит. Что возьмешь с покойника? Ноги Каргина ослабли, лоб оросился испариной. Он вытер его рукавом, посмотрел на темные пятна, проступившие на ткани, поднял взгляд на Мэри-Энн. Видно, она сообразила, что случились неприятности – отхлынувшая кровь сделала ее лицо похожим на мраморную маску. Чувствуя, как струйки пота стекают по спине, Каргин пробормотал: – Мне ваши поганые секреты не нужны… в гробу я их видел, со всеми тайнами мадридского двора… ни слышать не хочу, ни знать… Я что вам, исповедник? На кой черт? – А это, мой мальчик, уже другая песня и другой сюрприз. Придешь – узнаешь. Каргин взглянул на девушку. Она закусила губу, зрачки ее стали не серыми, не зелеными, а темными, как туча, готовая пролиться дождем. – Не верю ни единому слову, – буркнул он в трубку. В ответ раздался короткий смешок. – Придется поверить! И сразу зазвучал знакомый голос – резкий, отрывистый, скрипучий: – Ты сохранил свой берет? Свою реликвию? – Да, сэр! Так точно! – Ошеломленный Каргин реагировал автоматически, согласно уставу. Все прочие слова будто выскочили из головы. – Тогда натяни его и отправляйся, куда прикажет Шон! Может, он и в самом деле принес тебе удачу… Снова сухой короткий смешок. Мэлори… – Ну, убедился? Можно послать кадиллак? К какому подъезду? Каргин уже овладел собой. – К чему такая спешка? Я тут не в одиночестве, есть и другие заинтересованные лица… Хотелось бы посовещаться, а потом перезвонить. – Посовещайся, – разрешил коммодор. – Кажется, у вас, у русских, говорят: где совет, там любовь? Так что посовещайся. А перезванивать не надо, просто сброс не нажимай. Ты у меня на громкой связи. Накрыв микрофон ладонью, Каргин уставился на Мэри-Энн. Она уже не кусала губы, сидела с приоткрытым ртом и словно ждала, что через минуту ее поведут на расстрел. Или бросят в Амазонку, на растерзание кайманам и пираньям. – Нэнси… слушай, Нэнси… – Он произнес ее имя, не ощущая ничего, кроме брезгливой жалости – ведь в ней тоже текла проклятая кровь Халлоранов. – Я говорил с коммодором, Нэнси, и кое с кем еще… с твоим любимым дядюшкой… Он жив, хоть я не пойму, в чем тут фокус – сам видел, как его пришибли вместе со Спайдером. Ну, ладно… не об этом речь, а о другом… О том, что налет на остров сделан по его приказу. Чтобы пустить слух, будто его убили, и избавить от дальнейших покушений. – Каргин мрачно усмехнулся и добавил: – Убили вместе с твоим братом, с Томом и остальными… общим числом – под двести душ… Такая, знаешь ли, капитальная гекатомба на могиле скифского вождя… Все – покойники, а вождь-то – жив-живехонек! Из горла Мэри-Энн вырвался хриплый звук – то ли рыдание, то ли яростный вопль. Плечи ее затряслись; потом она вдруг начала раскачиваться, спрятав лицо в ладонях и глухо, невнятно повторяя: «За что?.. за что?.. ублюдок гребаный… козел… пиявка… всех высосал, всех… чтоб тебе от гемофилии сдохнуть… всех, всех… Бобби, отца… мать в психушку засадил… меня… теперь меня прикончит… старый маразматик… прикончит, ведь так?..» – Не прикончит, – утешил ее Каргин, – а засыпет баксами по самые уши и выдаст за принца Дублинского, чтобы наследника родила. Ты для него теперь драгоценней, чем зеница в глазу… последний, можно сказать, шанс… А вот чего ему от меня нужно? Чего, сестренка? Но Мэри-Энн, похоже, его не слышала – раскачивалась и плакала взахлеб. – А ведь придется идти к милому дядюшке… Иначе мне отсюда никак не выбраться, – скривившись, пробормотал Каргин и поднес трубку к уху. – Коммодор? Слышите меня? – Да, мой мальчик. Что там у вас происходит? Объясняешься в любви мисс Мэри-Энн? – У мисс Мэри-Энн истерика, так что ни объяснений, ни совещаний у нас не получилось. Я думаю, нужно прислать кого-нибудь и увезти ее. Только не на виллу к дядюшке, лучше – на самолет, и во Фриско. – А ты? Ты разве с нею не поедешь? – Не поеду. Пусть нижняя дверь в бункер будет открыта. Я сам доберусь, через пару часов. Надо подумать. – Подумай, – согласился коммодор. – Где вы сейчас? – На дороге, ведущей к пляжу. Примерно посередине. – О'кей. Я пришлю Спайдера. Он как раз собирается улетать… не во Фриско, в другое место, но тоже очень уютное. Каргин покосился на рыдавшую Мэри-Энн. – Пусть Спайдер захватит бутылку спиртного для леди. И чистый носовой платок. Лучше – полотенце. Он сунул мобильник в карман, подхватил девушку на руки и зашагал к серпантину. Сейба прошелестела ему на прощанье что-то ободряющее. Выбравшись на дорогу, он опустил Мэри-Энн в траву под цветущим рододендроном и погладил по спутанныи рыжим волосам. – Сейчас за тобой приедут, бэби. Приедет надежный человек и увезет с острова. Нельзя тебе здесь оставаться. Здесь всякое может произойти. Девушка молча кивнула, хлюпая носом и вытирая глаза кулачками. Каргин постоял рядом с ней, глядя, как в разрывах древесных крон бегут на север облака. Полупрозрачные, легкие, они неслись подобно сказочным кораблям, и Каргину хотелось подняться в воздух и улететь вместе с ними. Он вздохнул, дождался, пока за поворотом не послышалось урчанье мотора, и бесшумно отступил в лес.
Глава 16
Иннисфри, кратер; 24 июля, деньВыходит, и Спайдер уцелел, раздумывал Каргин, пробираясь у самого подножия утесов. Почва здесь была влажной, но не болотистой, и он мог бы двигаться быстрее, однако не торопился. Тихим ходом до свалки и ведущих в бункер ворот можно добраться за полтора часа, и это время его устраивало; вполне достаточно, чтобы поразмыслить. Если резню затеяли по воле Халлорана, и если она, как утверждал коммодор, была своеобразным тестом, то многие факты прояснялись – к примеру, дверь в убежище, не пожелавшая открыться, и отключенный ретранслятор. Все это, видимо, предусмотрели заранее, вложив двоякий смысл: с одной стороны, чтоб усложнить проверку, с другой – чтоб оказать практическую помощь нападавшим и сохранить имущество. Скажем, антенна: зачем ее крушить, если через пару дней, когда башибузуков перебьют, появится необходимость в связи? Для репортеров и представителей властей, чтоб оценили масштабы трагедии… Значит, крушить нельзя, а нужно лишь гарантировать Кренне, что проблем со связью не возникнет. Что до убежища, то шарить там в задачу Кренны не входило. Он, вероятно, не сунулся бы в бункер, если б не искал сбежавших; а раз искал, то полагалось осмотреть и лишь затем устраивать облавы в джунглях. Все это стало теперь понятным, за исключением того, как Халлоран и Спайдер избежали гибели. Эта загадка подстегивала любопытство Каргина, привыкшего верить собственным глазам: если он видел, как подорвали дот, то значит, так оно и было. А от людей, укрывшихся в нем, должны остаться обгорелые лохмотья. Ни трупов, ни одежды, ничего; лишь частицы костей и запекшейся плоти, смешанные с крошкой и обломками. Если под бетонным куполом рванул «хеллфайер», тела не опознать, да и тел-то нет – так, соскребешь с камней горстку праха и пересыпешь в наперсток… Обдумав данную проблему, Каргин решил, что со Второго блок-поста есть, вероятно, выход в подземелье. К тому коридору над складом, который он не исследовал до конца. Слишком уж длинный коридор! Ну, каморки для прислуги, столовая и умывальня с сортиром – это понятно; еще площадка, компьютерный центр и дверь под первым номером – похоже, в хозяйские апартаменты… Тут бы и кончиться коридору, а он, однако, дальше идет! И в нужном направлении, к Второмублок-посту! Он представил бетонный каземат с узкими амбразурами, серые стены, покрытые пылью, и дверь оружейного шкафа. Такая дверца, что человек пролезет, даже с комплекцией Спайдера… Возможно, и не шкаф там вовсе, а тоннель к пробитой в скалах лестнице – нырнули в него и спустились в комфортабельный чертог под номером один. Так, наверное, и было… И что же тогда получается? Выходит, когда он торчал у тех чертогов, у железной двери, за нею Спайдер с Халлораном пили пиво? Или играли в бридж? Словом, культурно развлекались, пока бельгиец проводил зачистку… Эта мысль казалась вполне логичной и отвечающей реальности: во-первых, Халлоран был жив, а во-вторых, где-то ведь он скрывался в эти дни! Конечно, не в поселке на пепелищах и не в лесу… Кроме таких соображений напрашивались и другие. Например: если сделан бункер под дворцом, отчего не выстроить резервное убежище? Запас, как известно, спину не ломит… Возможно, это второе подземелье лежало где-нибудь под озером, поодаль от основного, или же они были связаны в единый комплекс, и потому лезть в бункер людям Кренны не полагалось. Но вряд ли они обшарили весь лабиринт. В нем, надо думать, кроме хозяйских апартаментов предусмотрены тайные камеры и переходы – как раз, чтоб отсидеться парочке лже-покойников. Тут размышления Каргина свернули в иное русло. Ему подумалось, что только он следил за Халлораном и Спайдером, а значит, являлся свидетелем их смерти, зрителем устроенного шоу. Но с какими целями? Он понимал, что можно было разыграть другой спектакль: скажем, Патрик покидает остров – по-тихому, без шума, а вслед за этим начинается резня. Потом десант, отстрел убийц и чей-то обгорелый труп; даже не труп, а будто бы кости Халлорана – для демонстрации всем желающим. Но этот сценарий, видимо, не подходил за недостатком веских доказательств. Гораздо лучше, если Патрика взорвут сообразуясь с его привычками; ну, а если есть тому свидетель, так это просто клад! А что касается костей и обгоревшей плоти, то их на острове теперь хватало – хоть ведрами таскай. – Свидетель! – пробурчал под нос Каргин, пнув башмаком ядовито-зеленый папоротник. – Свидетель нужен, чтоб ни у кого сомнений не осталось! Затем, видать, и приглашают… Отвалят денег, а потом, когда допросят сыщики и репортеры, отправят к праотцам, чтоб не болтал. Такие вот приятные сюрпризы! Он замер на половине шага, потом замотал головой и двинулся дальше, уминая хрусткие сочные стебли. Не вязалось дело! Никак не вязалось! Кто знал, что он останется в живых и сможет что-то рассказать?.. Но если даже знали – предполагали, скажем так – он не являлся теперь беспристрастным свидетелем. Теперь, когда ему раскрыли тайну Халлорана! Предложат деньги, а за что? За то, чтоб поделился впечатлениями как разбомбили Патрика и умолчал об остальном? Нелепость! Нелепость, ибо нет проблем купить любых свидетелей – таких, что поклянутся на библии и расскажут, как вылез из моря отряд коммандос, разрезал босса на кусочки и скормил акулам. Да и зачем их покупать, свидетелей этих, когда полно доверенных людей? Те же Спайдер и Хью, и остальные, калибром помельче – врач, шофер, дворецкий… Эти любую бы версию без денег подтвердили! Только намекни! Он понял, что запутался вконец, что целей Мэлори не знает и даже не может предположить, как повернется дело; а главное – что обещание сюрпризов не вызывает у него энтузиазма. Ровным счетом никакого! Халлоран, коварный змей, был жив-живехонек, и этот факт похоронил стройную версию о кознях совета директоров. А если в ХАК плелись иные козни и интриги, то было напрочь непонятно, при чем тут он. Телохранитель, военспец, наемник из России… Он представлял себя в любом из этих качеств, но места своего определить не мог. С тоской вздохнув, Каргин остановился, похлопал по карманам тут и там, ощупал пояс. Не человек, а целый арсенал! Винтовка, пистолет, мачете, обоймы, сюрикены, нож… Еще – удавка и банки с компотом… Оружия много, довольствие есть, ума вот не хватает! Снова вздохнув, Каргин вытащил нож и одну из банок, вскрыл ее и принялся жевать. Персики были до отвращения сладкими. Как учил Толпыго, мудрый командир? Садишься с дьяволом обедать, длинной ложкой запасись, а лучше – лопатой, вспомнилось ему. Дьявол уже здесь, а у него ни ложки, ни лопаты… Соображений умных тоже нет. Вот если б ангела Господь послал! Такого, чтобы надоумил… Он чуть не подавился персиком, когда заверещал мобильник. Проглотил, сплюнул со злостью сладкую слюну, поднес аппаратик к уху. Мэлори, наверно… Помяни черта, и он уж тут как тут! Не Мэлори. Звонкий голосок, встревоженный, знакомый… Едва осознав, с кем будет говорить, Каргин подумал: связь восстановилась с континентом или?.. Или ее притащили сюда? Но зачем? – Керк! Керк, милый, ты меня слышишь? – Слышу, ласточка, – хрипло выдохнул он. – Ты где? – У себя, в Халлоран-тауне. Керк, здесь такое… такое творится! Ты жив, Керк? Цел? Милый мой, родной, любимый, что с тобой? – Цел и жив, – ответил он, внезапно успокаиваясь. Все-таки антенну подключили, пронеслось в голове. И Господь не медлил, тут же выслал ангела. И произнес тот ангел нужные слова… Он слушал, как Кэти плачет и смеется, и говорит, говорит, говорит… О том, что вылететь не смогла – рейс позавчерашний отменили, и было сказано, что босс немного приболел и не желает многолюдных сборищ. Возможно, отложит торжества на Иннисфри на пару дней… Потом она звонила Керку, но не дозвонилась – никто дозвониться на остров не мог, какая-то авария в линиях связи, и слухи ходили самые разные, то путч в Перу, то извержение вулкана, то неполадки с ретрансляцией на спутнике. В общем, всякие слухи, один другого непонятней и страшнее! Ринулась к Мэлори, а он: ерунда, профилактический ремонт. Сейчас? Вот именно сейчас – хозяин не хочет, чтоб беспокоили. Ты ведь его знаешь, детка – старый человек, со странностями… А утром Мэлори исчез. Маклафлин и Ченнинг собрали служащих, наговорили такого, что… – Что именно? – прервал ее Каргин. – Что они сказали? – Сказали, что Иннисфри был атакован террористами, что есть разрушения и жертвы, но остров уже под контролем «зеленых беретов». И Мэлори тоже там… вылетел, чтобы возглавить поиски старого Патрика… – Голос Кэти в трубке на мгновение прервался – кажется, она всхлипнула. – Это правда, Керк? Все это правда? – Отчасти, дорогая. Мэлори здесь, и «береты», и груды трупов. Сотни две покойников – террористы и все остальные-прочие, кто жил в поселке и на вилле, включая Боба Паркера. Она ахнула. – Ужас какой! Бобби? И Бобби тоже? – По глупости погиб, – заметил Каргин. – Когда-нибудь я тебе расскажу. Надеюсь, жалеть о нем не будешь? Дрянь был человечишка. Сам погиб и других подставил. – Дрянь, – согласилась Кэти, помолчав. – Но я ему смерти не желала. Никогда! – Потом добавила: – Он меня ненавидел. Так ненавидел, Керк! Считал своим позором. Когда-то мы… он и я… – Можно без подробностей. Мне рассказали эту историю. – Кто? – Его рыжая сестрица, мисс Мэри-Энн. – Каргин коснулся шрама на скуле и, усмехнувшись, полюбопытствовал: – Это все твои тайны, ласточка? Других нет? – Н-нет, – произнесла она с запинкой. – Другие тайны, наверное, есть, но не мои. – Потом: – Керк, милый… что бы ты про меня ни услышал… про меня и про себя… не верь! То есть я хочу сказать, с тобой не так, как с Бобом… Для меня не важно, беден ты или богат. Теперь не важно. – А раньше? – Ну-у, раньше… Что я знала раньше про тебя? Только то… – Кэти вдруг осеклась и сменила тему. – Ты где сейчас? Что делаешь? Отдыхаешь? Или рядом с Мэлори и боссом? – Босса нет, – сказал Каргин. – Кончился босс! Точнее, перешел в виртуальное состояние – вроде мертв и вроде жив. Видишь ли, этот налет террористов… тех, кого считают террористами… был успешным: мистер Халлоран убит во время утренней прогулки, тело сожжено при взрыве и даже костей не осталось. Такая вот официальная версия, и думаю, скоро вам ее объявят. Это с одной стороны. А с другой, убили босса позавчера, но сегодня, пару часов назад, я с ним беседовал по телефону. Живой, старик, живой! Но это, ласточка, большая тайна. Запрокинув голову, он поглаживал шрам, смотрел на облака, плывущие в синем полуденном небе, и ждал, что скажет Кэти. Наконец услышал: – Керк, я ничего не понимаю. – Я тоже. – Ты говоришь, что беседовал с боссом по телефону… Ты его не видел? Почему? Где ты? Разве не на вилле? – Нет. В кратере. – В каком кратере? – Голос Кэти дрогнул. – Керк, милый, ты меня пугаешь! Что за кратер? – Это вулканический остров, девочка, и в старой кальдере полно камней, а еще трясина и лес. Я прятался здесь от этих, от террористов… ну, не только прятался – бегал, ползал и стрелял. Два дня тут просидел, теперь опять сижу. С винтовкой, пистолетом и банкой компота. Хороший компот, персиковый, только слишком сладкий. – Керк! – Теперь в ее голосе звучала паника. – Что случилось? Ты ведь сказал, что террористов перебили… Почему же ты прячешься? Почему ты в лесу, а не на вилле? Она ничего не знала, ни о чем не догадывалась. Налет на остров был для нее трагической случайностью, Кренна с подручными – террористами, а коммодор – верным слугой Халлоранов, что, быть может, отвечало истине. В тактическом плане ноль информации, отметил Каргин, зато в стратегическом… Он усмехнулся и повторил про себя: милый мой, родной, любимый… И еще: с тобой не так, как с Бобом… не важно, беден ты или богат… Эх, выбраться бы с острова! Схватить ее в охапку и махнуть в Париж! А лучше – в Краснодар, к родителям… Он стиснул трубку в кулаке и вымолвил: – Старик не убит, понимаешь? Но хочет числиться в покойниках, чтоб не было соблазна у всяких персов и арабов. О том, что он живой, известно самым доверенным лицам, к которым я не отношусь. Знают об этом Спайдер, Мэлори и ваше руководство… еще, конечно, Мэри-Энн… Ну, рыжая у нас теперь наследница, а я кто такой? Нежеланный свидетель! Я пообщался с коммодором по телефону… зовет меня, сюрпризы обещает… такие, думаю, сюрпризы, весом в девять грамм… Минуты две Кэти молчала, взволнованно дышала в трубку – видно, думала. Каргин тем временем неторопливо доедал компот. Сладкое ум просветляет и силу придает, а сила нужна – с утра уже набегался. Было ему и радостно, и горько. Радость от того, что с ласточкой поговорил, а горечь – от безысходности. В кратере сидеть – нелепо, на виллу идти – опасно… А куда денешься? Остров ведь, суша, окруженная водой! Имел бы крылья, улетел… Мысль о крыльях и вертолете «Ирокез» уже угнездилась в сознании Каргина, когда он вновь услышал голос Кэти. – Милый, ты уверен, что старый Патрик жив? – Живее всех живых! – Но ты ведь его не видел, только говорил с ним, да? – Не думаю, что голос его имитировали. Не в голосе дело, а в словах. – Коснувшись берета на голове, Каргин добавил: – Такое было сказано, о чем лишь двое знали, он и я. После секундной паузы Кэти произнесла: – Если Патрик жив, иди на виллу. Ничего с тобой не случится, Керк, и ничего тебе не грозит. Это я точно знаю. – Откуда? Кажется, она рассмеялась. – Птичка на хвосте принесла. Ласточка! – Я подумаю, – сказал Каргин. – Если получится, перезвоню. Гаснущий звук поцелуя и торопливые гудки… Он сунул мобильник в карман, допил компот и уставился на свои башмаки. После двухдневных блужданий по скалам, лесам и болотам выглядели они неприглядно. Ничего не случится! Точно знаю! Блажен, кто верует… Хотя кому же верить, если не любимой женщине? Но и любимая не застрахована от ошибок. Он верит ей, она – Халлорану, а в результате… Подстраховаться надо, решил Каргин. В условиях войны, бывшей для него привычным состоянием, он мыслил боевыми категориями, и в данном случае они гласили: верь-не верь, а если подозреваешь ловушку – подумай об отступлении. Отступить можно было по-разному, но лучше всего – под прикрытием контратаки. Подтянуть резерв, расставить пулеметы, обдумать, кто ударит в лоб, кто с фланга обойдет, когда и по каким сигналам… Резерв в наличии имелся – те самые кровавые фанатики, которым не избежать возмездия. Ни в коем случае не избежать – изловят их, ублюдков, и, разумеется, перестреляют, чтоб лишнего не болтали… Вывод из этих коммодорских обещаний был абсолютно ясным: во-первых, не всех крысюков устаканили, а во-вторых, деваться крысам некуда. Правда, те еще союзнички… Мрачно усмехнувшись, Каргин вытащил рацию, нажал на кнопку. – Гепард-один вызывает части поддержки. Кренна, слышишь меня? Ты еще живой? – Живой, но сердитый. Очень сердитый! – послышалось в ответ. Голос майора был резким и хриплым, но безнадежности в нем не ощущалось. – Все еще хочешь содрать с меня шкуру? Молчание. Потом – сухой смешок. – С тебя, пожалуй, не хочу. Ты, в общем-то, был прав: контракт мой ненадежен, клиенты – сущее дерьмо, заказчик – жулик. Есть предложения, капитан? – Так точно, майор. Я думаю, ты спустился через убежище в кальдеру? И много у тебя бойцов? Пауза. Он слышал дыхание Кренны, а еще – едва различимый лязг оружия, шелест листьев да ругань на трех языках. Слов было не разобрать, но тон не оставлял сомнений – прикладывали крепко. – Шестеро, – ответил наконец майор. – Двое ранены, но все боеспособны. Тех, кто не мог шевелиться, я сам… того… – Он прикрикнул на своих людей, и гомон смолк. – Жду еще пятерых. Должны подойти от скал. С тех, где тебя ловили. – В лесу сидишь? – В лесу. Поганый тут лес, сырой… Хуже, чем в Анголе. Зато трясин полно. Есть где утопиться. Каргин оставил это замечание без комментариев. – К северу от входа в бункер – свалка. Перед ней болото, а дальше – лес. Позавчера на том болоте парня пристрелили… кто-то из твоих, Пирелли или Горман, расстарался… – Горман. Я помню это место. Каргин посмотрел на часы, потом бросил взгляд на вершины утесов. – Встретимся в лесу, напротив свалки, через двадцать минут. Поговорим, обсудим ситуацию. Согласен? – А разве у меня есть выбор? – буркнул Кренна и отключился.
* * *
Они сошлись на лесной опушке в тот момент, когда над скалами мелькнула тень «оспрея». Сделав круг над островом, машина набрала высоту и скрылась в затянувших небо облаках, но не на севере, а на западе, со стороны океана. Непохоже, что летят во Фриско, подумал Каргин, провожая взглядом самолет. Впрочем, по утверждению коммодора, Спайдер должен был отправиться в другое место, такое же уютное, как Иннисфри в недавнем прошлом. В какое именно, Каргин не знал и, по большому счету, не интересовался. Глядя в хмурую физиономию Кренны, он думал сейчас о том, что у наемников судьба неблагодарная – все они с времен Ганнибала и Цезаря были не просто пушечным мясом, а мясом третьего сорта, которое швыряют в самую грязную из мясорубок войны. И там, кружась и вращаясь под стальным ножом, они ломали друг другу кости, а временами, заключив перемирие, пускали кровь хозяевам. Все зависело от обстоятельств: вчерашний друг мог обернуться врагом, вчерашний противник – другом. Ну, не другом, так союзником… – Похоже, тебя кинули, майор, – сказал Каргин, оглядывая воинство, толпившихся за спиной бельгийца. Мартина Ханса он там не заметил. Хмурые физиономии солдат были грязны, и от того казалось, что все они – на одно лицо, и даже вовсе не люди, а черти, удравшие от своих котлов и сковородок. Кренна хищно оскалился. Дрогнула тонкая нитка усов над верхней губой. – Кинули нас обоих, капитан. Надеюсь, ты хоть без аванса не остался? Нет? Ну, и я кое-что ухватил… Надеялся, будет больше, да дьявол с ними, с деньгами! Унести бы кости целыми! – Унесешь, если пороху хватит. Есть на чем – два самолета на острове, надежные «оспреи»… Так что и кости унесешь, и деньги, – пообещал Каргин. – Давай-ка теперь прикинем диспозицию: мы – здесь, в кратере, на западных склонах – двести «зеленых беретов», и во дворце – наш наниматель. Твой и мой. Но не один… С ним пожилой джентльмен, важная персона, босс. Тот самый, которого вы у озера пришибли. – Живой? – Вполне. Бельгиец нахмурил брови, пошевелил усами. – Верится с трудом… Горман две ракеты всадил… От пожилого мсье даже вставной челюсти не осталось. Пришлось описывать майору ситуацию и убеждать, что челюсть у мсье цела – челюсть, скальп и прочие части тела, в полном комплекте и, не взирая на возраст, в приличном состоянии. Справившись с этим, Каргин пояснил, что ждет свидетелей таких художеств: кого прибьют как бешеных собак, а с кем, после недолгой беседы и воинских почестей, расстанутся возле уютной ямки, где-нибудь под кипарисами и пальмами. Услыхав про ямку, Кренна хмыкнул, задрал голову и оглядел скалистый склон с нависшей над ним подковой эспланады. – Ты можешь туда не ходить, капитан. Воля твоя. – Моя, – подтвердил Каргин. – Так отчего бы не сходить, раз наниматель приглашает? Мой шеф, твой заказчик… Или я неясно выражаюсь? – Ясно, – отрезал бельгиец, по-прежнему рассматривая скалу. – Был заказчик, стал заложник… А как мы туда попадем? Я полагаю, не с парадного подъезда? Тебя-то где поджидают? – За тем утесом, у входа в бункер. – Для нас не годится. Поднимемся на лифте, а у двери – часовой, и без стрельбы не обойтись. Или возьмешь часового на себя? – Майор прищурился. – Опасный шаг, рискованный. На вилле десяток охранников, и все нужно сделать внезапно и тихо. Атаковать превосходящими силами, прорваться наверх, к боссу, а там ты – хозяин положения. Дивизия не страшна… да что там дивизия – весь Тихоокеанский флот! – Это я понимаю. Давай-ка поконкретнее, капитан. – Взгляни, – Каргин протянул бельгийцу бинокль, – видишь, над свалкой – дыра… округлая такая… Нашел? Это выход мусоропроводной трубы. Я по ней спускался… все спустились, кого ты потом перещелкал… Но можно и подняться. С трудом, но можно. Думаю, час уйдет или два. – Вот, значит, как… мусоропровод… – Кренна опустил бинокль, побарабанил пальцами по автоматному прикладу. – А мне-то казалось, что вы через бункер утекли. Спустились на лифте и… – Дверь в этом лифте заело, – пояснил Каргин, не вдаваясь в подробности. – Сделаем так: я отправляюсь к шефу и заговариваю зубы – час, другой, сколько удастся. Сорок минут – с гарантией, а там – как повезет. Ты лезешь наверх со своими людьми. Окажетесь в колодце, но неглубоком, как-нибудь подниметесь. Из помещения, где колодец, есть выход в коридор рядом с кухнями… – Помню, – буркнул Кренна. – …и дверью к лифту. Дверь ты снес, значит, там охрана. Убрать без выстрелов, ножами. Ну, а дальше знаешь сам… два дня гостишь на вилле. Бельгиец кивнул, сощурился и пристально оглядел Каргина – от побитых грязных башмаков до простреленного берета. Усы его дрогнули, приподнялись, тонкая щель рта растянулась в усмешке. – Один вопрос, КК. Где гарантия, что ты играешь честно? – Тебя просто кинули, а из меня сделали клоуна, – сказал Каргин. – Ты меня знаешь, я этого не люблю… Вот и все гарантии, майор. Хочешь – верь, хочешь – нет. Кренна снова кивнул. – Твоя доля? Десять процентов устроят? Больше не дам! – Пожертвуй их в приют для престарелых потаскух в Бозуме. Все? – Не все. Если я правильно понял, там будут два человека, мне незнакомых. Ценные люди, заложники… не ошибиться бы с ними… Кто из них босс, кто – наш заказчик? Я ведь его живьем не видел, капитан. Работу предложили как обычно, через посредников. – Он помолчал, разглядывая дыру над свалкой, потом резко спросил: – Имя? Внешность? – Заказчик – Шон Дуглас Мэлори, вице-президент Халлоран Арминг Корпорейшн. Под шестьдесят, невысокий, лысый, улыбчивый… Но думаю, тебе он не станет улыбаться. Босс – Патрик Халлоран, владелец фирмы. Старый, рыжий, очень богатый и внешне напоминает акулу. Это все его, – Каргин развел руками, будто обнимая Иннисфри, кивнул на прощание и двинулся туда, где меж деревьями просвечивали скалы и болото. Но через пару шагов остановился и промолвил: – Ты вот что, майор… Лысого, если желаешь, в расход пусти, а старика не трогай. Получишь с него свое, садись в самолет и убирайся с острова. Старик, он… – Что – он? – спросил бельгиец и, не дождавшись ответа, буркнул: – Опять славянская сентиментальность… Не трону. Не потому, что старик, а потому, что богатый. Но это, знаешь, будет стоить… – Он не разорится, – сказал Каргин и зашагал к похожему на контрфорс утесу.Глава 17
Иннисфри, вилла и воздушное пространство над Тихим океаном; 24 июля, деньУ приоткрытых ворот его поджидали два крепыша, из группы, прибывшей с коммодором. – Мистер Алекс Керк? – Он самый. – Ваше оружие, сэр. Сэр, отметил Каргин, передавая крепышам винтовку. Ничего не скажешь, встречали его с отменной вежливостью. Он расстегнул пояс, сбросил с плеча мачете в запыленных ножнах. Снял ремни с подсумками, вытащил рацию и телефон. – Простите, сэр… Это что? Наколенный карман подозрительно оттопыривался. Вздохнув, Каргин достал последнюю банку персикового компота, бросил на пол и поинтересовался: – Обыскивать будете? – Не велено, сэр. Сюда, прошу вас. Ворота закрылись; вслед за ними с раздирающим слух скрежетом отодвинулись переборки в зигзагообразном тоннеле, и тут же вспыхнул свет. Втроем они прошли к лифту мимо бочек, коробок и ящиков, загромождавших складское помещение, и поднялись наверх. Стальную дверь между камерой лифта и коридором, скрученную и полуоторванную, охраняла пара скучающих часовых. Один курил, другой жевал банан. Было непохоже, что у Кренны с ними возникнут неприятности. Крепыш-охранник, навьюченный имуществом Каргина, исчез. Второй проводил его через столовую к холлу, к мозаике с орлом, сжимавшим револьверы в когтистых лапах. Здесь уже навели порядок, и только пустые оконные рамы, бурые пятна полу да орлиный глаз, выбитый случайной пулей, напоминали про отгремевшую битву. Каргин двинулся было к лестнице, но провожатый ухватил его за локоть и деликатно направил к гостевой половине. – Сюда, сэр, направо и в эту комнату. Здесь вам приготовлена одежда. Мистер Мэлори полагает, что вы захотите побриться и принять душ… Вот тут, прошу вас… Я подожду в коридоре. Может быть, перекусить хотите? – Сыт по горло, – ответил Каргин, захлопывая двери перед носом крепыша. Теплый прием, раздумывал он, неторопливо стягивая башмаки. Если не считать того, что сунули в каморку без окон и нежилую с виду – ни стула, ни стола, ни шкафа, ни кровати. Зато был упругий палас под ногами, обтянутый кожей диванчик и вешалка. На диване – белье и рубаха, на вешалке – роскошный костюм из чесучи, модель «сагиб в индийских джунглях», под вешалкой – легкие светлые туфли. Против входа – дверь, за нею – ванная, пошикарнее, чем в коттедже на Грин-авеню: розовый мрамор, зеркала, краники из бронзы в форме миниатюрных дельфинов. На потолке – мозаика: еще один дельфин, с оседлавшей его голоногой наядой. За зеркалами – шкафы: стопки полотенец, купальный халат, шампуни, дезодоранты, морская соль, коллекция бритв – электрических и с безопасными лезвиями… – Как в лучших домах Нью-Йорка и Лондона, – пробормотал Каргин, соскабливая двухдневную щетину. Он принял душ, пошарил в шкафчиках, нашел бактерицидный пластырь и залепил царапину на ребрах. Потом переоделся, проверил, что паспорт с дюжиной виз и кредитки на месте, что ничего не подмокло за время странствий в болотах и лесах. Сунул бумажник в карман, напялил берет, полюбовался на себя в зеркале. Выглядел он орлом – ни дать, ни взять, майор с «волосатой лапой», коего, в обход завистливых сослуживцев, произвели в подполковники. Все это заняло минут тридцать, а больше он не осмелился отторговать у судьбы. Больше и не нужно. Полчаса – приличный срок; надо думать, бельгиец со своими молодцами уже карабкается по трубе и, может быть, преодолел ее наполовину. При этой мысли настроение у Каргина поднялось, он лихо заломил берет, промурлыкал: «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…» – и вышел в коридор. Крепыш, подпирая стену, дымил сигаретой. – Ну, я при полном параде. Куда теперь? Наверх, в пентхауз? – Да, сэр. Если только не возникло желание перекусить. Кофе, сандвичи, сок, фрукты… – Перебьюсь, – сказал Каргин, скривился при упоминании о фруктах и повернул к лестнице. Тут ничего не изменилось, будто не было ни битв, ни оккупации. Мраморные ступени по-прежнему окутывал ковер – правда, слегка затоптанный и в подозрительных бурых пятнах; шеренга бравых римских воинов, сверкая бронзой, поддерживала перила, Марс грозно хмурился и тряс башкой в гривастом шлеме, Вулкан бил молотом по каменному мечу, Минерва целилась копьем в потолок, да все не могла дотянуться. Около статуи бога войны устроился очередной крепыш – с сосредоченным видом подбрасывал и ловил в ладонь гильзу от автоматного патрона. Наверху по эспланаде гулял легкий бриз, шелестел листьями в древесных кронах, рябил поверхность воды в пруду, баюкал амазонскую красавицу-кувшинку. Тут тоже все оставалось без изменения. Слева, на хозяйской половине, дверь была открыта, но окна задернуты шторами; справа, в компьютерном центре, за водопадом виноградных лоз просвечивали угловатые силуэты – сейфы, шкафы, столы со слепыми глазницами мониторов и вмурованная в стену печь. Каргин огляделся. Скамейки под пальмами, строй мандариновых деревьев, зеленый занавес лозы и полосатый тент, как парус над ладьей викингов… Мирный пейзаж, знакомый! Привык за месяц… Лишь корпус «Ирокеза», бугрившийся за павильоном, казался тут абсолютно лишним – будто клякса, посаженная реставратором-халтурщиком на полотне великого мастера. Пилот копался у помела, что-то перекладывал или искал в пассажирском отсеке, часовой, с висевшим поперек живота автоматом, бродил у лестницы. С губ его свисала сигарета. – К шефу, – коротко сказал провожатый Каргина. Часовой повел стволом. – Мистер Мэлори в кабинете. Прошу вас, сэр. Каргин, бросив жадный взгляд на черную тушу вертолета, направился к дверям. Ветер подталкивал его в спину, играл полами пиджака. Южный ветер, еще сохранивший прохладу антарктических льдов. Попутный! Он счел это добрым знаком. В комнате с распахнутой настежь дверью тоже было прохладно. Патрик и Мэлори сидели за столом, на этот раз не загроможденным книгами – на полированной поверхности, рядом с пепельницей, лежал только большой, плотно набитый синий конверт. Мэлори курил сигару; старик, вытянув ноги и прикрыв глаза, откинулся в кресле. Прядь рыжих, с проседью, волос свисала на лоб, лицо казалось побледневшим, но в остальном он выглядел как всегда, будто рай на острове Иннисфри все еще существовал и был таким же щедрым, безопасным и невинным, как пару дней назад. «Вот старый дьявол!.. – подумал Каргин с внезапным и вовсе неуместным всплеском восхищения. – Все ему по барабану! Ничем не прошибешь!» Мэлори уже направлялся к нему, с широкой улыбкой на устах и распростертыми объятиями. – Отлично выглядишь, сынок! На миллион долларов! Даже на целый миллиард! – Благодарю. Вы тоже. Особенно мистер Халлоран. – Взгляд Каргина обратился к креслу. Коммодор похлопал его по спине. – Нет больше мистера Халлорана, мой мальчик. Увы! Расстался с жизнью и скоро будет захоронен, прямо на месте трагической гибели. Под орудийный салют, с приспущенными знаменами… Толпы репортеров, плач безутешных друзей, поминальная служба, мраморный саргофаг над обгорелой плотью да бетонными обломками, и так далее… Все – по высшему разряду! Почти как во сне Росетти, подумалось Каргину. Только папы с кардиналами не хватает. Сидевший в кресле старик кивнул. Вероятно, это полагалось считать знаком согласия с речами Мэлори, а заодно и приветствием. – Если мистера Халлорана нет, если рыдания смолкли и траурный марш отзвучал, то что у нас в сухом остатке? – спросил Каргин, озирая комнату и невзначай поглядывая на часы. – Чем утешимся мы, живые? К примеру, вы и я? Коммодор загадочно усмехнулся. – Я буду знать, что мой старинный друг и покровитель благоденствует на далеком острове – разумеется, не на этом, а на другом, однако столь же прекрасном. Там все уже подготовлено – дома, дороги и сады, порт, аэродром, надежная охрана… И там его поджидают. – Остин Тауэр? – будто по наитию вырвалось у Каргина. – Остин Тауэр, Квини, Магуар и другие доверенные лица, к которым вскоре присоединятся Спайдер и мисс Мэри-Энн. Ну, а я… – лицо Мэлори вновь расплылось в улыбке, – я, как говорилось выше, буду знать, что мой покровитель живет в покое и безопасности, и не оставляет нас своими мудрыми советами. Каждый из них мы непременно исполним. Точно и в срок! Тем более, что мешать уже некому – наш молодой президент мистер Роберт Паркер поет псалмы у ног Господних… Помилуй и спаси его Творец! – Для вас это большое утешение, – согласился Каргин. – А что приготовлено для меня? Он снова взглянул на часы и отметил, что Кренна минут через двадцать будет в колодце мусоросборника. Может быть, чуть запоздает – все-таки с ним двое раненых. Раненых, однако вполне боеспособных… Коммодор, отложив сигару, переглянулся с Халлораном. Казалось, они молчаливо советуются о чем-то – возможно, об условиях нового контракта или о том, надо ли вообще предлагать его Каргину. Затем послышался скрипучий голос старика: – Скажи ему, Шон. Я полагаю, время. Мэлори кивнул. – Время, так время… – Огладив голый череп, он взял сигару, затянулся, выпустил струйку дыма и поглядел на Каргина – пристально, строго, многозначительно. Потом сказал: – Ты, мой мальчик, теряешь хозяина, но ты смиришься с этой потерей. Смиришься, так как получишь нечто гораздо большее. Мистера Халлорана нет – нет для деловых кругов и мировой общественности, для завистников и конкурентов, для журналистов, торговых партнеров и возможных мстителей, и нет для тебя. Но, в отличие от перечисленных выше мерзавцев, ты кое-что приобретешь… – Коммодор торжественно расправил плечи и, взмахнув сигарой, проложил серый дымный след, нацеленный на Халлорана. – Вот оно, твое приобретение, сынок! Старый добрый Патрик… Твой дед! Зубы Каргина лязгнули, и где-то под сердцем зародилась и стала расти и шириться холодная пустота. Вот оно, о чем не говорила Кэти… не говорила, но намекала… есть, мол, тайны, только не мои… Он посмотрел на старого доброго Патрика. Дед!.. Надо же – дед! Только деда-людоеда ему не хватало… Вздрогнув, Каргин оперся кулаком о стол, чувствуя мерзкую слабость в коленях; на миг лицо Халлорана с колючими, как острия штыков, зрачками завертелось перед ним и ринулось навстречу, будто футбольный мяч к незащищенным воротам. Он прерывисто вздохнул и вытер пот со лба. – Кажется, мальчик удивлен, – раздался скрипучий голос. – Ничего, отойдет. – Это был Мэлори, лысый хмырь. – Ваша порода крепкая, Патрик. Тем более, если смешать подходящий коктейль. Русская водка, ирландское виски… не разбавляя тоником… – Нечем было разбавлять и нечего смешивать. – Снова голос Халлорана. – Ни водки не было, ни виски… Ты, Шон, не представляешь, что пили тогда в Москве. Спирт, неразведенный спирт! Однако закуска была неплохая. «Это он о какой закуске толкует?» – подумал Каргин и выдавил: – Хрр… хрр… – Потом прочистил горло, поднял глаза на Мэлори и рявкнул: – Чтоб мне к Хель провалиться! Это что у нас, шутки? Какого дьявола? Откуда?.. – Отсюда, – сообщил коммодор, игриво похлопав себя пониже живота. – Ты покопайся в своей родословной, мой мальчик. Может, сообразишь! Долго соображать не пришлось. – Бабка Тоня… Переводчица… – Я звал ее Тони, – каркнул Халлоран. Лицо его на мгновение смягчилось, глаза затуманились. – Она работала в нашем посольстве и, думаю, в ГПУ… У нее были волосы как золотая паутинка… У твоей матери похожие? Каргин не ответил. Самообладание постепенно возвращалось к нему, а вместе с ним и мысль, что ничего, по сути дела, не меняется. Ничего с тобою не случится, и ничего тебе не грозит, сказала Кэти… Ошиблась, ласточка! Он не сомневался, что сидевший в кресле старый хищник мог заказать его с такой же легкостью, как Паркера, Араду и всех остальных своих родичей, рыжеволосых и сероглазых, не взирая на возраст и пол. Но пол, возраст и кровная связь все же имели для него значение – такое же, как для турецкого султана, определяющего преемника среди сыновей, племянников и внуков. Эта аналогия почти развеселила Каргина. Он подумал, что все свершилось в лучших восточных традициях: турнир завершен, преемник избран, и конкуренты ликвидированы. – Если с лирикой все, то можем переходить к делам? – Коммодор шагнул к столу, сдвинул синий конверт, и под ним обнаружился еще один, желтый. – Я думаю… – Минутку, – прервал его Каргин. – С лирикой все, но есть кое-какие вопросы. Это прекрасно, сэр – вдруг обрести старого доброго деда. Но если так, я получил и других родственников, причем безвременно усопших… Целый взвод! – Ну, взвод – это сильно сказано. Двух, мой дорогой, всего лишь двух. Если я правильно понимаю, тебя интересуют кое-какие семейные дела? – Бросив взгляд на старика и дождавшись, когда тот кивнет, Мэлори заметил: – Ну, рано или поздно, тебя придется посвятить… почему же не сейчас? – Стряхнув пепел с сигары, он поднял глаза к потолку; его лицо стало задумчивым, будто коммодор подыскивал для объяснения нужные слова. – Так вот, главное в том, что мой покровитель и твой дед весьма озабочен проблемой преемственности. Он еще бодр, но понимает, что корпорация, основанная предками, нуждается в твердых молодых руках. Твердость – это важнейшее условие, сынок; всему остальному можно научиться, но Гарвард и Йель не прибавят ума и силы, и, если хочешь, необходимой жесткости. Надо, чтобы все – твои заказчики, партнеры, конкуренты – ощущали твою силу, в этом залог успешного бизнеса. В этом и в умении ждать и беспощадно торговаться, понимаешь? Взять за горло в нужный час и выдавить побольше крови… Каргин кивнул. Ничего нового сказано не было. Вот персы и арабы… У арабов – танки. Продай персам орудия и жди, пока арабы не лишатся танков. Тогда продай им вертолеты и снова жди, пока персам не понадобятся стингеры. Продай их. По самой высокой цене. Возьми за горло и выдави побольше крови… Когда задет престиж, денег не считают! Крови тоже… – Ни Боб, ни Хью такими качествами не обладали, – произнес коммодор, задумчиво разглядывая тлеющий кончик сигары. – Оба с большими амбициями, но слишком слабые и опасные, каждый в своем роде, ибо они претендовали на первую роль… И потому – мир их праху! Ты – иное дело. Ты – солдат, привыкший к жестокости, знающий цену крови. Ты доказал свое право на трон! – Он вскинул взгляд на Каргина. – Мы долго тебя искали, сынок, и не жалеем о потраченных усилиях. Ты, похоже, пришелся ко двору. Ты – Халлоран, и ты справишься! Ты будешь стоять во главе могущественной империи, сынок! Не сейчас, со временем… Но и сегодня ты кое-что получишь. – Коммодор потянулся к синему конверту. – Сегодня – Европа, завтра – мир, – пробормотал Каргин. – Ну, ладно, Паркер с Арадой не годились в фюреры, и им снесли башку… А Тэрумото тут при чем? Тоже провинился? Мэлори покачал головой. – Нет. Способный парень, перспективный, преданный… Я сожалею, что его убили. Лет через двадцать мог бы претендовать на мое место, и тандем бы у вас получился неплохой… Ну, factum est factum, как говорили в Риме! Что сделано, то сделано. – В Москве говорили точней, – произнес Халлоран, пошевелившись в кресле. – Точнее и жестче. Сейчас я припомню… – Он прикрыл глаза и с заметным акцентом произнес по-русски: – Льес рубьят, шепки летьят… – Потом, кивнув с довольным видом, распорядился: – Пора заканчивать, Шон. Я устал, и у тебя дела – там, в кратере… Пусть твои люди зальют напалмом лес и выжгут до корней, если необходимо. Ни-кто не дол-жен ос-тать-ся в жи-вых… Ни-кто! – Каждый слог сопровождался ударом сухой ладони по подлокотнику. «Не напасешься напалма, дедуля», – злорадно подумал Каргин, взглянул на часы и прислушался. Но на эспланаде царила тишина, и часовой по-прежнему торчал у лестницы. – Все будет сделано, Патрик. – Мэлори придвинул к себе конверты, взял желтый, набитый не очень туго, и продемонстрировал Каргину. – Что ж, приступим к делам… Здесь – завещание твоего деда, подписанное и заверенное пару месяцев назад, сразу же после того, как мы тебя отыскали. Согласно этому документу его наследницей становится мисс Мэри-Энн, но при том непременном условии, – коммодор повысил голос, – что ей подберут достойного супруга. Здесь же – доверенность супругу на управление контрольным пакетом акций, сроком на девяносто девять лет. Доверенность будет подписана счастливой новобрачной, когда отзвонят свадебные колокола… Ты ведь не против венчания в церкви, мой мальчик? Если желаешь, по православному обряду… – По католическому, – прервал Патрик. – Это надежней. – Ладно, по католическому, – согласился Мэлори, – хотя я разницы не вижу. Ну как, подходит? – Он помахал желтым конвертом будто морковкой, подвешенной у носа Каргина. – Есть одно препятствие, – откликнулся тот. – Я, видите ли, мусульманин. Правда, необрезанный… Может, обвенчаемся в мечети? – Мусульманин? И когда ты успел? – Брови Мэлори приподнялись, затем он с лукавым видом ухмыльнулся. – Ну, ладно, ладно, я понимаю… мисс Мэри-Энн не лучшая кандидатура в супруги… прямо скажем, не подарок. – К тому же мы с ней родичи, – сказал Каргин, нахально ухмыляясь в ответ. – Не знаю, как будет на английском, нет у вас такого термина. А вот на русском… – Он призадумался и усмехнулся еще шире: – Выходит, она мне тетка! Двоюродная или троюродная, не соображу… – Дьвоур… – попытался повторить Мэлори, но Халлоран его прервал: – Ant once removed.[269] Дальше, Шон! Второе предложение. Отложив желтый конверт, коммодор придвинул к себе синий. – Что ж, если Мэри-Энн тебя не соблазняет, есть запасной вариант, более сложный в юридическом плане, зато без участия семейства Паркеров. Твой дед тебя усыновит. Все документы – здесь, – Мэлори с важным видом похлопал по конверту. – Все, включая новое завещание и просьбу о натурализации в США. Кстати, натурализация – это отдельный и самый простой вопрос: ты получишь гражданство как супруг миссис Алекс Керк-Халлоран, в девичестве – Кэтрин Барбары Финли. Очаровательная девушка, сынок, и очень неглупая. Ты с нею, кажется, уже знаком? Я не ошибаюсь? Каргин машинальным жестом погладил рубец на скуле. Слова Мэлори пробивались к нему сквозь ватный туман, повисший над воображаемой ареной цирка; он все еще был в клоунском колпаке, и хитрец-шталмейстер искушал его и подталкивал, словно Иванушку-дурачка, к камню на распутье трех дорог. Налево пойдешь – рыжую ведьму найдешь, направо – калифорнийскую принцессу, и в обоих случаях – клад Кощея Бессмертного. А что потеряешь? Самую малость: имя свое и место в мире, которого так и не нашел… Зато теперь найдешь; кощеев наследник сам становится Кощеем. Принцессу бы забрать, да без кощеевых затей, мелькнуло в голове. Принцесса ведь ясно сказала: что бы ни услышал про меня и про себя – не верь! Милый мой, родной, любимый… Не важно, беден ты или богат… Он задумчиво нахмурился. Налево – плохо, да и направо не лучше, если не считать принцессы… Был, разумеется, и третий путь, прямой и узкий, как труба мусоропровода, но тут не все зависело от Каргина. Что-то басурмане не торопятся, подумал он, тайком посматривая на часы и прикидывая, сумеет ли потянуть время еще немного. – Ну, что скажешь? – поторопил его Мэлори. На лице коммодора играла благожелательная отеческая улыбка. Каргин улыбнулся ему в ответ. – Второй вариант, пожалуй, предпочтительней. Только как к нему отнесется Мэри-Энн? К потере наследства и ко всему остальному, что случилось на острове? К гибели брата, например? Коммодор уже не улыбался. – Если станет твоей женой, промолчит. А если не станет, тоже будет молчать, иначе попадет в психушку «Рест энд квайет», – заметил он. Или произойдет несчастный случай, добавил про себя Каргин, а вслух поинтересовался: – Девушки знали? Кэтрин и Мэри-Энн? Знали, кто я такой? – Мисс Паркер – безусловно нет. А мисс Финли… – Мэлори, спрятав блудливые глазки, описал сигарой изящную восьмерку в воздухе. – За нее не поручусь. Возможно, была утечка информации… Впрочем, она умная малышка, могла и сама догаться! Заметить твое сходство с Робертом, к примеру. С покойным Робертом, – уточнил коммодор. Он говорил что-то еще, но Каргин не слушал, а размышлял на темы вроде бы отвлеченные, но все же имевшие отношение к делу. Сперва – о своем родстве с Нэнси: получалось, что она приходится кузиной его матери, а сам он вроде бы ее племянник в третьем колене – правда, с учетом того, что Халлоран и Оливия Паркер – сводные брат и сестра. Затем мысли его переключились на Патрика. Волк с железным сердцем и беспощадной хваткой! Такой своего не упустит, да и чужого тоже… Он разглядывал его костистое лицо с рыжими бровями и ртом, будто прорубленным ударом топора, и думал, что по капризу этого старца погибли двести с лишним душ, и среди них – его кровные родичи, сын и племянник. Любимый внук, однако, уцелел… Внук Алекс Твердая Рука, прибывший из российских палестин… А мог ведь запросто отдать концы, если б не опыт, не выучка и удача. То, о чем толковал коммодор: умение ждать, взять врага за глотку в нужный час и выдавить побольше крови… Похоже, в этом они с Патриком сходились, хотя была и разница: смерти ему Каргин не желал. Ни от ножа бельгийца, ни – упаси Господь! – от собственных умелых рук. Дед там или не дед – не важно; старик и мамин отец, как это не печально. Ну, будем надеяться, Кренна его не тронет: не потому, что старик, а потому, что богатый… Какой-то шорох раздался за дверью – то ли тихие шаги на лестнице, то ли ветер прошуршал в листве. Пора, мелькнула мысль. Пора бы Кренне объявиться и получить по векселям. Интересно, сколько он заломит с босса? Каргин шагнул к Мэлори, взял у него синий конверт, взвесил в ладонях, нахмурился и опустил на стол. Затем повернулся к старику. – Предположим, все это правда, сэр. Предположим, я в самом деле ваш потомок и наследник. Предположим… А теперь представим, что я отверг наследство и пожелал уйти. Удалиться тихо-мирно, без семейных склок и драм… И что же будет? – Он выдержал паузу, затем посмотрел на часового за распахнутой дверью и повторил: – Что будет, я спрашиваю? Отправите меня в психушку «Рест энд квайет»? Или прикажете убить? Века Халлорана приподнялись, лицо дернулось,окаменело, и Каргин вдруг с пронзительной ясностью понял, что не дождется пощады, а только станет из внука прежним наемником, а из наемника – трупом. На мгновение в комнате воцарилась тишина; старик мрачно молчал, но всем своим видом показывал, что этот мир не предназначен слабакам, что жизнь – штука жестокая, скверная, и в ней нет места родичам, а только деловым партнерам. Мэлори швырнул сигару в пепельницу и попытался смягчить неловкость. – О чем ты толкуешь, мой мальчик? Богатство и власть идут тебе в руки, не говоря уж о красивой женщине… Не той, так этой… Что еще надо? Надо брать. Другие варианты исключаются. – Исключаются! – каркнул из кресла старик. – Он это понимает, Шон, он понимает… Ну, ничего!.. Как говорят у русских, перемелется – будет мука. Слабый треск где-то на лестнице, будто разорвали суровое полотно… Часовой покачнулся и стал оседать на каменные плиты эспланады. – Других мелите, а я на муку не гожусь. Слишком прочное зерно, – буркнул Каргин и бросился к выходу. Мэлори шагнул следом, расставляя руки, словно хотел задержать его или оградить от неизбежных неприятностей – к примеру, от случайной пули в лоб. – Погоди, мой мальчик! Ты не понимаешь… – Заткнись, Шон! – раздался резкий голос старика. – Слышишь, стреляют… Вызови охрану! Быстро! Если найдется кого вызывать, со злорадством подумал Каргин, устремившись к вертолету. Часовой лежал мешок-мешком, на обеих лестницах топали и орали уже не скрываясь, и сквозь лязг и грохот он различил голос Кренны: кого-то тот приказывал добить, кому-то – занять оборону и держаться, пока не возьмут заложников. Пилот «Ирокеза» метнулся навстречу Каргину, вскинул оружие, узнал и крикнул: – Что происходит, сэр? – Завертелись мельницы Господни, – пояснил Каргин и рубанул его за ухом. Кабина была широкой, почти с круговым обзором, кресло – удобным, все рычаги и кнопки – под руками и на привычных местах. Он взлетел; не так стремительно и лихо, как получилось бы у Гормана, но и не хуже, чем девять пилотов из десяти. Каменный полуовал эспланады медленно качался и кружился под брюхом вертолета, телескоп, будто пушечный ствол, следил за ним стеклянным глазом, пальмы пустились в хоровод, и всюду мелькали темные фигурки – точь в точь как стая крыс у мусорного бачка. В парке и на дворцовой лестнице тоже царила суматоха: метались среди деревьев парашютисты, кто бил очередями по розовым кустам, кто подбирался к окнам, а на поваленного сфинкса взгромоздился офицер и что-то орал, размахивая руками. Видно, его услышали – отделение «зеленых беретов», человек пятнадцать, подтянулось к дверям виллы. Каргин выровнял машину, поймал в прицел жилую часть пентхауза и закусил губу; его ладонь нависла над гашеткой. Сейчас он мог закончить то, что началось два дня назад: одно касание, и грохнет взрыв, взметнется пламя, и обгорелая плоть смешается с обломками и пылью, и опустеет цирк – ни гастролеров-басурман, ни фокусников, ни шталмейстеров… Мир их праху, как заметил коммодор. Мир, да не для всех; пусть теперь попрыгает в том цирке, где зрители с рогами и хвостами. Вместе с добрым старым Патриком… Он мог бы это сделать. Мог бы… Не дозволяла кровь, ни русская ее частица, ни ирландская. Голос ее был силен – сильнее обиды и жажды мести. – Эх, бабка Тоня, бабка Тоня… Знала бы, с кем загуляла… – пробормотал Каргин и перевел прицел. – Говоришь, льес рубьят, шепки летьят?.. Ну, вот тебе за одну из щепок… За Терумото… Палец его коснулся гашетки, и пламя взвилось над антенной ретранслятора; кровля просела, стебель серебряного цветка переломился, ажурная чаша рухнула вместе с бетонными плитами вниз, сокрушая столы, шкафы, компьютеры и сейфы. Взрыв раскатился гулким эхом, ветер подхватил черный дымный шлейф и поволок его, разматывая в кисею, к полупрозрачным облакам. Рыжие огненные языки заплясали над северной часть пентхауза, и Каргин, выплескивая ярость, послал туда еще один снаряд. Потом резко набрал высоту и повернул на север.
* * *
Остров Иннисфри, открытый в семнадцатом веке испанцами и названный ими Мадре-де-Дьос, таял в морской дымке, сливался с горизонтом, уходил из сердца и из памяти. Тысяча миль к западу от побережья Перу, две с половиной – к востоку от Маркизского архипелага, семьсот-восемьсот – к югу от Галапагосских островов… Призрак, а не земля… Особенно в те мгновенья, когда несешься над океанским простором, почти забыв, что где-то есть материки, другие острова, прочная твердь горных хребтов, рассыпчатый песок пустынь, леса и степи, города и веси… Куда же мы полетим?.. – спросил себя Каргин. И ответил: лучше бы в наши края, в любое место от Кавказских гор до северных морей, от Сахалина до Карпат. Ну, раз держава сократилась, не до Карпат, а хоть до Ростовской области. Либо, к примеру, до Смоленской… Места много, хватит для посадки, а вот в один прием не доберешься. Даже на этом помеле и с полными баками… А баки – тут он покосился на указатель расхода топлива – наполовину пусты. Значит, прощайте Сахалин, Кавказ и даже Маркизский архипелаг, и остаются у нас Галапагосы либо Перу. В Перу, пожалуй, делать нечего, а вот Галапагосы подойдут. Скалы да черепахи, край земли, тихая юдоль… Чья она? Вроде бы эквадорская… Каргин полез в бумажник, вытащил паспорт, полюбовался на десяток виз, а особенно – на эквадорскую, с орлом над огнедышащей горой. Спрятал документы, переключился на автопилот, пошарил под сиденьем, нашел НЗ, поел. Потом опять задумался о маршруте. Галапагосы, конечно, место тихое, как раз для подозрительных иностранцев, но до Москвы с Галапагосов не долететь. А вот в Панаму – можно. В Панаму, Эквадор или Колумбию, а там – на Кубу… Не любят нас нынче на Кубе, но ничего – можно сказать, в гости приехал к знакомцу давнему, дону Куэвасу, и его прелестной дочке. Хороший мужик Куэвас! Отчего бы с ним не повидаться? Вспомнит, примет, обласкает и посадит в самолет, и через десять часов – Москва! Жаль, мачете отобрали, был бы ему подарок… Тут он хлопнул себя по лбу, потянулся к рации, включил, вызвал Кальяо, потребовал, чтоб соединили с Фриско, дал заветный номер. Срочное сообщение от мистера Мэлори, вице-президента ХАК, его помощнице мисс Кэтрин Финли… Срочное и секретное, закрытый канал будьте любезны… фирма оплатит по двойному тарифу… Далекий голос Кэти: – Керк? – Я. Скажи, моя прекрасная принцесса, ты бывала на Галапагосских островах? Ошеломленное молчание. Потом: – Керк, милый, что мне там делать? – Одной – ничего, а вместе мы что-нибудь придумаем. На черепах посмотрим – знаешь, какие там черепахи? Каждая – с танк! Еще купаться можно… А если не понравится, махнем оттуда в Эквадор, на Кубу и в Москву. Через Париж. Ты ведь хотела побывать в Париже? Голос Кэти стал тревожным. – Кэрк, где ты? Что ты натворил? – Лечу над Тихим океаном. – Он посмотрел на небо и море и добавил: – Красота! Снизу синее, сверху голубое, и ни клочка земли не видно. Самая ближайшая земля – Галапагосы, но до них мне лететь и лететь. Думаю, не промахнусь. – Что ты натворил? – снова спросила она. – Ты вернулся на виллу? Поговорил с Мэлори и со своим… – …дедом, – закончил Каргин. – Ну как же без этого! Встретились, поговорили, вспомнили о днях былых и разошлись. Вернее, разлетелись. – Вот что, солдат, или ты мне объяснишь, в чем дело, или я до тебя доберусь и… Наслаждаясь звуком ее голоса, Каргин улыбался и думал: хорошая будет жена, упрямая, настырная. И то сказать: немалый опыт работы с персоналом! С такой не заскучаешь… Не зря, выходит, съездил в западное полушарие – деда и жену нашел… Ну, бог с ним, с дедом, главное – жена… И что теперь? Что там советовал мудрый Куэвас? Детей родить… Ну, с этим не задержимся! Еще бы с местом определиться… – Ласточка, я тебя жду, – сказал он и услышал, как Кэти вдруг запнулась, вздохнула и промолвила: – Галапагосы, значит? Всегда мечтала там побывать, на черепах полюбоваться… Только скажи, это по какую сторону экватора? – На самом экваторе, солнышко, – уточнил Каргин и щелкнул тумблером рации. Потом откинулся в удобном пилотском кресле, пробормотал: – Не везет мне в смерти, повезет в любви… а ведь и правда повезет… – и закрыл глаза. И снились ему на этот раз не афганские горы, не равнины Ирака, не ангольские джунгли, не остров Иннисфри и даже не Париж, а иные края, то снежные, то залитые солнцем, то сумрачные под дождевыми облаками, но в каждом обличье своем прекрасные. Снились лица друзей, живых и погибших, снилась Кэти, калифорнийская принцесса, снились отец и мать и дон Куэвас, тоже чем-то походивший на отца; они кивали Каргину и что-то шептали – что именно, расслышать он не мог, но понимал, что его поддерживают и одобряют. Потом чей-то голос внятно промолвил: там, где ты вырос, твое место. Не нашел – ищи! Но помни: в родных краях и вороний грай слаще пения соловья. Он проснулся и взглянул на солнце. Огненный диск уже висел на западе, и от него тянулась по морю сверкающая дорожка – будто пояс из серебра, охвативший весь обитаемый мир. Пройди по ней, и придешь в сказочное царство-государство, где нет ни убийств, ни насилия, ни лжи, где все люди – братья, где реки текут молоком и медом, а на зеленых холмах сверкают хрустальные замки… Мечта! Но думать о ней было приятно. Каргин улыбнулся. Ровно гудели моторы, и ветер был попутный.Эпилог
Иннисфри, аэродром и воздушное пространство вблизи острова; 24 июля, ближе к вечеруТри машины неторопливо двигались по дороге к взлетному полю: черный закрытый «кадиллак» с серебряными полосками на дверцах и пара джипов, в которых сидели десять оборванных грязных солдат. «Кадиллак» возглавлял колонну. Солнце играло на гладком полированном корпусе, отсвечивало в лобовом стекле, но сквозь его тонированную поверхность ни пассажиры, ни водитель не были видны. Дорога, которую виток за витком одолевала эта процессия, казалась пустынной, только у моста через реку маячил сержант в зеленом берете и камуфляже. Когда машины проехали мимо, он отступил на обочину и произнес несколько слов в висевший на шее микрофон. В том же порядке – «кадиллак», за ним два джипа – машины приблизились к павильону у взлетного поля, миновали его и замерли у распахнутого люка самолета. Ближайшего из двух; люки второго «оспрея» были задраены, и выглядел он словно мертвый кит, брошенный волнами на бетонный берег. Аэродром, как и дорога, был безлюден, лишь у строений в дальнем конце виднелись фигурки парашютистов. Солдаты полезли из машин. Трое окружили «кадиллак», остальные ринулись к свисавшему из люка трапу; глухо простучали башмаки, лязгнуло оружие, послышался резкий окрик – пилотам велели убраться в кабину. Дверца «кадиллака» открылась, вылез еще один солдат с короткоствольным автоматом, а после него – офицер, такой же оборванный и грязный, как и остальное воинство. Он огляделся, довольно кивнул головой и вытащил с заднего сиденья «кадиллака» увесистую сумку. Потом что-то сказал оставшимся в машине и ровным шагом направился к трапу. Четверо солдат потянулись за ним. Трап подняли, люк захлопнулся, турбины «оспрея» рявкнули, и самолет, набирая скорость, покатился по взлетно-посадочной полосе. На серебристом корпусе второго «оспрея» прорезалась щель, затем показалась фигура пилота: он спустил трап, помахал сидевшим в «кадиллаке» и, салютуя, прикоснулся к козырьку фуражки. Машина, плавно скользнув по бетонным плитам, подъехала к самолету и встала, загораживая люк. Из нее появился высокий старец с седовато-рыжими волосами. Пилот хотел помочь ему взойти на трап, однако старик оттолкнул его, что-то раздраженно буркнул и скрылся в салоне. Парашютисты, маячившие в дальнем конце аэродрома, его не видели. Мощный оглушительный гул наполнил воздух – первый «оспрей» оторвался от земли. Из «кадиллака», с места водителя, вылез невысокий плотный мужчина с армейской выправкой и кейсом под мышкой, запрокинул голову, проводил самолет взглядом. Серебристый корпус слепил ему глаза; мужчина прищурился, взирая, как воздушный лайнер разворачивается на восток, к далеким южноамериканским берегам, поскреб лысый череп и вытянул руку с отставленным средним пальцем. На его губах змеилась презрительная усмешка. Закурив сигару, он постоял у трапа минуты три-четыре, пока «оспрей» не скрылся в облаках, затем прошел в салон, сел в кресло напротив старика, положил кейс на колени и произнес: – Улетели. Смылись! А с ними – десять миллионов наличными. – Чушь, – каркнул старик, – мелочь, ерунда! – Потом, опустив веки, распорядился: – Отправляемся, Шон. Брось сигару и налей мне виски. рландского, со льдом. «Оспрей» развернулся, зашелестел колесами по бетону. За выпуклым стеклом иллюминатора мелькнули корпуса мастерских, здание электростанции, темно-зеленые лаковые кроны пальм, фигурки солдат, оцепивших дальний край взлетного поля. Потом земля словно провалилась вниз, и остров, сначала огромный, стал уменьшаться, съеживаться, стягиваться в темный овал на синей поверхности океана. Развалины поселка, вилла, стены кратера – все слилось и превратилось в точку, такую, что подробностей не различишь. Самолет качнуло, серые клочья облаков поплыли за иллюминатором. Старик отхлебнул из стакана и сказал: – Чего ты ждешь, Шон? Лысый, которого назвали Шоном, аккуратно переложил кейс с колен в соседнее кресло и взглянул на часы. – Они будут в пределах нашего радиосигнала еще час тридцать семь минут. Не стоит торопиться, Патрик. Миль триста пятьдесят от Иннисфри – вот оптимальное расстояние, чтобы отправить их на небеса. Старик кивнул. – Ну, тебе виднее, Шон. – Приподняв стакан, он посмотрел на желтоватый маслянистый напиток и добавил: – Выпьем! За нашу успешную операцию. – Не совсем успешную, – возразил лысый. – Кажется, парня мы потеряли, и думаю, что насовсем. Эта проклятая русская ментальность… – Ментальность!.. – резко оборвал его старик. – Не нужно верить мифам, Шон, дурацким мифам и глупым измышлениям психологов! Русская ментальность, англо-саксонская ментальность, китайская ментальность… Одни предпочитают щи, другие – непрожаренный бифштекс, а третьи жрут кузнечиков, и только в этом разница. Хрупкая скорлупка, а под ней все одинаково, Шон, все то же – по крайней мере, у сильных и жестоких. Такой человек не откажется от власти и могущества, кем бы он ни был, русским, китайцем, арабом или проклятым британцем. А в этом парне… Старый джентльмен умолк и глотнул из стакана. Лысый последовал его примеру, затем повторил: – В этом парне… Неглупый, сильный, уверенный в себе и, я бы сказал, весьма удачливый… Что еще, Патрик? – Ты не назвал главного, – проскрежетал старик. – Главного, Шон! В нем – четверть моей крови! Нашей крови, Халлоранов! Они помолчали. «Оспрей» уже вскарабкался выше облаков, в иллюминаторах серое сменилось голубым, в уютную кабину хлынул яркий солнечный свет. В его золотистом потоке лицо старика казалось маской, отчеканенной из светлого металла: плотно сжатые губы, резкие морщины, спускавшиеся от носа к подбородку, серо-зеленые колючие глаза делали его похожим на древнего властителя – из тех, что создавали династии, выигрывали битвы, писали законы и нарушали их с той же легкостью, с какой написанное на пергаменте можно смыть или предать огню. Тот, кого назвали Шоном, произнес: – Полагаешь, он вернется? – Вернется. В ином случае я бы… – Старик сделал быстрое движение ладонью сверху вниз, будто опуская нож гильотины. Лысый усмехнулся. – Не уверен, что получилось бы. Предусмотрительный паренек! Последний фокус, который он выкинул… ну, с этим Кренной и его людьми… Очень, очень неплохо! Хотя и обошлось нам в десять миллионов. – Плюс самолет, – добавил старик. – Не забудь о самолете, Шон! – Да, пожалуй, пора. Лысый потянулся к кейсу, открыл его, вытащил два конверта, желтый и синий, отложил их в сторону. За конвертами последовал плоский небольшой компьютер. Сосредоточенно хмурясь и сопя, лысый подключил его к разъему под иллюминатором, набрал пароль, потом еще несколько символов, и склонился над экраном. В его серебристой глубине мерцали слова: «СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА». – Готово? – спросил старик. – Нет. Я лишь подключился к радиостанции нашего борта. Теперь нужно действовать по строгому регламенту. Таким вот образом! Пошевелив пальцами, лысый коснулся одной клавиши, затем другой, и повернул экран – так, чтобы он был виден старику. На экране значилось: «КОМАНДА САМОЛИКВИДАЦИИ. ОСПРЕЙ. НОМЕР?» – Не перепутать бы, не то сами очутимся в раю, – буркнул лысый, вытягивая из внутреннего кармана записную книжку. Сверившись с ней, он набрал «77256» и вытер пот со лба. Его короткий толстый палец навис над клавишей «Enter». – Ну, прости меня Творец… не за дюжину мерзавцев, а за пилотов… – Он резко ударил по клавише, и на экране вспыхнуло: «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?» – Семьи пилотов получат пенсии, – каркнул старик. – Хорошие пенсии! Я скупиться не буду, Шон! Человек по имени Шон опять нажал клавишу и, не спуская глаз с экрана, откинулся на спинку кресла. Зрачки его чуть расширились. Лицо старика было словно камень. «ОСПРЕЙ БОРТ 77256. УСТРОЙСТВО САМОЛИКВИДАЦИИ АКТИВИРОВАНО, – равнодушно сообщил компьютер. – ОТСЧЕТ: 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…» – Экран мигнул, и на неи появилось: – «КОМАНДА ВЫПОЛНЕНА». – Все! – с облегчением сказал лысый и захлопнул крышку компьютера. – Все! Концы в воду! Руки его слегка дрожали. – Печальная, но вынужденная мера, – сухо произнес старик. – Они меня видели. Этот бельгиец, их главарь… явный шантажист… он бы не стал молчать. – Да, – согласился Шон и добавил: – Думаю, наши специалисты по связям с прессой изложат этот эпизод во всех драматических подробностях – с моих, разумеется, слов. Последняя атака террористов, выкуп в десять миллионов за вице-президента ХАК, – он с важным видом ткнул себя в грудь, – и гибель самолета в океанской бездне… А по какой причине? Видимо, отважные пилоты вступили в схватку с террористами, и в ход пошла взрывчатка… Как тебе нравится эта версия, Патрик? Старик не ответил – сидел, наклонившись вперед, сдвинув брови, хмуро разглядывая черный футляр компьютера. Затем поинтересовался: – Скажи-ка мне, Шон… эти адские машинки… эти устройства самоликвидации… они на всех воздушных лайнерах компании? – Разумеется, Патрик, разумеется. Бывает, мы перевозим очень деликатный груз, и тут возникает проблема – не с тем, чтоб он попал по адресу, а с тем, чтоб не попал в чужие руки. Наши гарантии… – Я знаю, – прервал его старик. – Я только хочу убедиться, что вертолет, на котором ты прилетел, имеет нужное устройство. Так? – Так. И наш беглец еще в пределах досягаемости. – Брови лысого вопросительно взлетели вверх. – Ты хочешь?.. – Он покосился на компьютер. – Нет. Нет, Шон, ни в коем случае! Пусть бежит. Я ведь сказал, что он вернется. Вернется, не сомневайся! – Старик пошевелился в кресле, и на его сухих губах вдруг промелькнула улыбка. – Все же не переиграл меня… – послышалось Шону. – Молод… слишком молод, чтобы тягаться со старым волком… Ну, ничего! Все впереди…
Михаил Ахманов Наследник
Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь.Владимир Высоцкий
Глава 1
Краснодар, апрель 1998 г., поздний вечер.В Москве еще таяли апрельские снега и медленно, с ленцой, высыхали лужи, а здесь, в Краснодаре, деревья уже окутывал флер сочной весенней листвы, воздух был ароматным и свежим, и по ночам сияли в безоблачных небесах огромные яркие звезды. Ласковый город Краснодар, теплый, щедрый, почти родина, хоть и родился не здесь… Ну и что с того? Родина – земля, где живут отец и мать, где жили, сражались и умирали поколения предков, и где – если повезет! – сам упокоишься со временем. Лет, скажем, через пятьдесят. Каргин усмехнулся и задернул штору на окне в отцовском кабинетике. Чертог этот был небогатым и тесным: слева – письменный стол и кресло, справа – тахта под афганским ковром и полки с книгами. Еще – фотографии в рамках: свадебная, без малого сорокалетней давности, а за ней другие, с различных мест службы, отличавшиеся, главным образом, задним планом и количеством звездочек на отцовских погонах. Горы, степи, пустыни, тайга… Майор Каргин, подполковник Каргин, полковник, генерал… От снимка к снимку лицо отца старело, западали щеки, ссыхались губы, морщины бороздили кожу, но выражение не изменялось: сосредоточенное, грозное, как у готового к битве орла. На последней фотографии он был в штатском, но пиджак сидел на нем точно генеральский мундир – ни складок, ни заломов. – Не одежда человека красит, а человек – одежду, – пробормотал Каргин, сел в кресло и перевел взгляд на тахту. Там, под красно-черным афганским ковром с висевшей посередине родовой казацкой шашкой, спала миссис Алекс Керк, в девичестве – Кэтрин Барбара Финли. Ласточка… Густые ресницы как тени на смуглых щеках, розовые губы приоткрыты, каштановые волосы рассыпались по подушке, одеяло сползло с точеных плеч… Посмотришь, и не скажешь, что взял супругу в Калифорнии – скорее, в местной станице нашлась, там, где все девчонки смуглы и гибки, белозубы и кареглазы. Отец это тоже заметил. Доволен! А уж мать… Щемящая нежность вдруг затопила сердце Каргина; он зажмурился, стиснул руки и медленно, глубоко вздохнул. В свои тридцать четыре года он начинал приобщаться к простой истине, к тому, что познали тысячи, миллионы мужчин до него: есть девушки, с которыми гуляешь и флиртуешь, целуешься в темном подъезде, даришь обещания – и есть жена. Большая разница, черт побери! Такая же, как между столовым ножиком и шашкой, что переходит в семье от деда к отцу и от отца к сыну… Он собирался порассуждать на эти темы, но тут чуть слышно скрипнула дверь, и неяркий свет, просочившийся из прихожей, обрисовал фигуру матери. Она поманила Каргина рукой. Поднявшись, он вышел. – Пусть девочка поспит… Утомилась после перелета… Нынче в Ставрополь съездить или в Ростов – мучение, а уж из Москвы добраться… – шептала мать, подталкивая Каргина мимо кабинета, спальни и столовой к кухне. Кухонька в родительской квартире была маленькой и казалась еще меньше из-за отца – Каргин-старший отличался завидным ростом и шириною плеч. Сидел он на своем привычном месте, на табурете в углу перед столом, где плескалось вино в хрустальном графине и трех хрустальных же стаканчиках. Вино было не покупным – отец сам ставил по осени из мускатного винограда. – Садись, Алешенька, сынок, – голос матери звучал певуче и слышались в нем счастливые слезы. – Садись, родной мой… Раз Катюшка уснула, так пусть поспит, а мы выпьем… выпьем за вас, чтоб жили долго и счастливо, в любви и согласии… и чтобы нас не забывали и внуками скорей порадовали… Отец хмыкнул и подвинул Каргину стакан. – Какие внуки, мать? Они четыре месяца как женаты! – Ничего ты не понимаешь, генерал! Четыре месяца женаты, а знакомы скоро год! В наше время у молодых все быстро, все стремительно, за год могут тройню родить – это я тебе как врач говорю. Ну, не родить, так находиться в приятном ожидании… Мать с надеждой поглядела на Каргина, но тот, улыбнувшись, покачал головой и чмокнул ее в щеку. – Нет, мама, еще нет. Но мы не прекращаем усилий! Отец расхохотался, мать зашикала на него, оглядываясь на дверь, потом тонко прозвенели хрустальные стаканчики. Вино было густым и сладким, как воспоминания детства. – Торопливая у нас матушка, – отец насмешливо прищурился. – Это, думаю, от ирландской крови… Импульсивный народ эти ирландцы, горячий, особенно женщины. А я-то всю жизнь удивлялся, откуда в ней такая страсть! По паспорту ведь москвичка, а они холодные, как рыбы, и мужики не лучше. Знала бабка Тоня, кого выбирать! Антонина, покойная бабка Каргина по матери, в войну трудилась в Москве переводчицей в американском посольстве и повстречала там Патрика Халлорана, американца ирландского происхождения. Был Халлоран тогда красив, обаятелен, молод и, вероятно, ничем не походил на ту персону, которой сделался со временем, на старого волка-миллиардера, владыку оружейной империи, безжалостного, как оголодавшая акула. Той встрече мать Каргина, а значит, и сам Каргин, были обязаны явлением на божий свет, но оба они с этой идеей как-то еще не сжились. Как и с тем, что самый близкий их родич, отец и дед, не рядовая личность, а человек могущественный, один из тайных правителей мира, и они – его бесспорные наследники. Наследником, собственно, был Каргин, но сути это не меняло. При упоминании о бабке Тоне мать зарделась. Отец обнял ее, поцеловал светлую прядь, что падала на ухо, буркнул: «Миллионерша ты моя ирландская!» – и, плеснув вина в стаканчики, произнес: – Ну, давайте за Патрика выпьем. Как-никак, а твой батька и Алексею – дед. Опять же невестку нам подыскал, красавицу и умницу… Может, Алексей без него еще бы лет десять не женился… Так что в нынешней диспозиции мы ему обязаны. И даже очень! Они чокнулись и выпили. Потом мать робко спросила: – Какой он, Алешенька? Старый, наверное, одинокий? Больной? Живет-то он как? Прошлым летом Халлорану стукнуло семьдесят пять, но больным и старым он отнюдь не выглядел. Совсем наоборот: клыки стальные, хватка железная… Жил он на острове Иннисфри, откупленном у перуанского правительства на целый век и превращенном в крепость, и суетились при нем две с половиной сотни охранников да помощников, слуг да прислужников. Хорошо жил, как подобает миллиардеру: роскошная вилла, чудный парк, яхта, райский климат и блиндажи с ракетами и пулеметами – для безопасности и спокойствия. Об этом, как и о своей службе в качестве телохранителя, Каргин родителям уже рассказывал. Правда, по телефону. Телефон телефоном, а живой рассказ доходчивей. Он повторил все снова, а мать слушала, кивала и вытирала слезинки. Все-таки отец, родная кровинка, хоть и ирландская… Говорил Каргин о том, как, после службы в Иностранном Легионе, завербовался в «Халлоран Арминг Корпорейшн», как прилетел в Калифорнию, в Халлоран-таун под Сан-Франциско, где находилась штаб-квартира ХАК, как повстречался с Кэти и как расстался с ней, отправившись служить на Иннисфри, еще не зная, зачем его, российского офицера и бывшего спецназовца, нашли в Москве и предложили выгодный контракт. Рассказывал про остров и старого Халлорана (назвать его дедом язык не поворачивался), про вечно голубые небеса и бирюзовый океан, про сейбы, пальмы и мангровые заросли в древнем вулканическом кратере, про поселок у бухты и дворец на горном склоне, в котором, с полусотней прислуги, обитал старик. И о том, как захватили остров бандиты, нанятые врагами Халлорана, тоже рассказал: как перебили людей, сожгли поселок, и как он сам, с группой спасшихся по счастливой случайности, скрывался в кратере и бился с налетчиками до последнего. Не слишком, надо признаться, удачно: нашли бандиты Боба Паркера, племянника Халлорана, и пристрелили, а заодно и прочих, Тейта, Слейтера, Араду и Томо Тэрумото, так что живыми остались сам Каргин и Нэнси Паркер, что Бобу приходится сестрой, а матери – кузиной. Хорошая девушка, рыжая, красивая, только много пьет… В этом месте мать прослезилась, горюя о заокеанской родне, и Каргин, чтобы ее утешить, поведал, что старый Халлоран бандитам не достался – отсиделся в секретном убежище с верным слугой Альфом Спайдером и нынче жив-здоров. Новый остров приобрел, в Тихом океане, а где в точности, никто не знает, кроме самых доверенных лиц. Приятный остров, ничем не хуже Иннисфри, и укреплен как цитадель американского президента. Во всех этих историях, весьма занимательных и соответствующих официальной версии событий, правды было ровно половина. Об остальном приходилось молчать – о том, что бандитов (а точнее – профессиональных убийц-коммандос) наняли по приказу Халлорана, и что старик заказал им всех своих родичей, и Бобби Паркера, и Нэнси, и даже Хью Араду, который, надо думать, приходился сыном старику. Заказал и уничтожил, чтобы избавиться от лишних претендентов, от тех, кто недостоин возглавить ХАК, и заодно проверить нового наследника, Алекса Керка, внука давно почившей бабки Тони. На что годится этот Керк, с крепкой ли хваткой парень и не боится ли кровушку пустить при случае… Расскажешь об этом матери – ужаснется, расскажешь отцу – плюнет, разотрет и молвит со всей солдатской прямотой: нужен нам этакий родич как прохудившаяся портянка. И потому Каргин молчал об этих деликатных обстоятельствах. И о том молчал, как пренебрег наследством и, похитив вертолет, направился туда, куда горючего хватило – в Сан-Кристобаль, на Галапагосские острова, где поджидала его Кэти. А из Сан-Кристобаля, вместе с ласточкой – в Эквадор, потом в Колумбию, в портовый город Картахена, откуда можно было уплыть с контрабандистами на Кубу. Но смыться им не удалось – нашел их в Картахене Мэлори, шеф безопасности ХАК и халлоранов ближайший сподвижник. Торговались долго и свирепо, пока не пришла Каргину счастливая мысль, как наследством распорядиться, чтобы и старик был доволен, и польза имелась. Говоря иначе, чтобы волк был сыт, а овцы, хоть пострижены, но целы – ну, хотя бы относительно. – Ты там бывал, на этом новом острове? – с беспокойством поинтересовалась мать. – Все ли там у деда ладно, удобно ли ему? Как его устроили на новом месте и что там с ним за люди? Человек он старый, ему особый уход нужен… – Врачи у него есть, самые лучшие, – пояснил Каргин. – Он вообще на здоровье пока не жалуется, километр пробежит не запыхавшись. Крепкий старик, такой и в девяносто будет как огурчик. А остров… говорили, красивый остров, живописный, с лагуной, пальмами и скалами, но сам там не бывал. Хотя связь имеется, через штаб-квартиру фирмы в Калифорнии. – По телефону? – Ну что ты, мама… Для этого у меня специальный чемоданчик с кодами и шифрами. – Как у президента, – с усмешкой добавил отец. – А я, батя, и есть президент, – уточнил Каргин. Они помолчали, потом мать осторожно спросила: – К себе он не приглашал? На этот самый остров? Отец хмыкнул, и мать метнула на него суровый взгляд. – Молчи, генерал! Я не набиваюсь в гости, я о том думаю, что он одинокий и старый, и ближе родичей у него нет! Неужели помрет, родную дочь не повидав? – Не помрет, – утешил ее Каргин. – Я же сказал: такие живут как минимум до девяноста, так что в ближайшие пятнадцать лет получишь приглашение. А пока просил фотографии, твои и отцовы, числом побольше, размером покрупнее. Такие фото, чтобы ты гляделась красавицей, а отец был в мундире, со всеми орденами и при шашке. Желательно, на коне. – А БМП[270] не подойдет? – снова усмехнувшись, спросил отец. Мать всполошилась. – Фотографии! Откуда у меня фотографии? Тридцать лет по всему Союзу мотались и мыкались, по всем медвежьим углам, все растеряли, а что есть, у отца в кабинете висит! Хотя что-то осталось в старых альбомах… надо поискать и посмотреть… – Вот иди и посмотри, – распорядился отец. – Иди, а я с сыном побеседую. О судьбоносных моментах жизни и надлежащих в этом случае маневрах, о том, о сем… Поговорим, как генерал с президентом. Мать, озабоченно поджав губы, вышла. Отец разлил вино. – За честь нашего казацкого рода, Алексей! И за любовь! Деньги, ордена, чины, звезды на погонах – все тлен, все проходит со временем, ты уж мне поверь, сынок… А что остается? Честь и любовь! Они выпили. На этот раз Каргину показалось, что вино слегка горчит. Повернув голову, он уставился в окно. Квартира родителей была в новом доме, на седьмом этаже, и разросшиеся внизу ивы не заслоняли неба. А небо тут казалось великолепным: вроде такие же звезды, те же созвездия, та же луна, что в Калифорнии, однако светят ярче и теплее. Как говорил майор Толпыго, наставник Каргина в «Стреле», на родине вороний грай мнится соловьиным пением… Потом, однако, добавлял: не обольщайся, стрелок, и глазки береги – ворон всюду ворон. Отец пошевелился и вдруг спросил: – Какой, говоришь, оборот у этой ХАК? У дедовой компании? – Шесть миллиардов долларов в год, – ответил Каргин. – Одна из самых крупных в мире оружейных фирм. Все у нее под контролем, от гробов и консервов до мин и взрывчатки, от пушек до космических систем. Шесть миллиардов… Это по открытому балансу, а что касается закрытого… – Он почесал в затылке. – С черными доходами я еще не разобрался. Если с ними считать, будет раза в полтора побольше. Или в два… А может, в три. Окинув взглядом скромную обстановку кухни, отец покачал головой и пробормотал: – Ну и ну… бюджет приличной армии… Не было ни гроша, да вдруг алтын! – Доллар, – уточнил Каргин. – Целая куча долларов, и все до последней бумажки кровью и порохом пропахли. Еще фунты есть, франки, лиры, марки, иены… Акции, конечно, до черта акций! Понимаешь, эта «Халлоран Арминг Корпорейшн» ничего не производит, но все контролирует. Холдинговая компания, владелец акций «Боинга», «Хаук Инжиниринг», «Кольтс Индастриз», «СТРОНа»[271] и прочих оружейных фирм. – И все теперь твое? – Большей частью, – со вздохом признался Каргин. – Я – официальный наследник и президент корпорации. Одних налогов столько плачу, что всем врачам и учителям, какие есть в России, хватит сотню лет кормиться. Отец приподнял седую бровь. – И что будешь делать, Алешка? Богатых в нашем роду не водилось, особенно охочих до неправедных богатств. – Верно, неправедных и, вдобавок, чужих, – со вздохом согласился Каргин. – Ну уж, какие есть! Побрезгуешь, бросишь, так другие подберут, и дело обернется еще хуже. – Он коснулся шрама под глазом, насупился и с задумчивым видом промолвил: – Я, отец, вижу в этой истории только два выхода: или все-таки бросить, или сделать так, чтобы польза была. Хоть какая-то польза, клянусь Одином! – Польза? Кому польза? – строго спросил отец. Каргин смущенно улыбнулся – красивых слов он не любил. Ответить, однако, пришлось. – Отчизне. Может быть, еще кому-то, но первым делом – отчизне. Отец хмыкнул. – В Соросы метишь, сынок? Хочешь фонд благотворительный открыть, гранты раздавать нищим врачам с учителями? Только надо ли? Может, хватит с нас одного спонсора-благодетеля? Каргин замотал головой. – Никаких грантов и никаких подачек! Я другое придумал: откупить лицензии на российское оружие, на те системы, что производят нелегально за границей. Это вроде бы долги – долги различных стран России, которые она не в состоянии взыскать, а запретить производство тоже не может. Нет для этого ни сил, ни средств! Ну, а ХАК – другое дело… Если ХАК станет полномочным представителем по спорным проблемам, споры быстро разрешатся. С ХАК не потягаешься, те еще волки! Стараясь справиться с волнением, он начал излагать отцу свой план. Речь шла о лицензиях, дарованных бывшим союзникам в Европе, Африке и Азии, срок которых давно истек, а также о чистом пиратстве, о выпуске российских разработок без всяких лицензий, по образцам, разобранным до винтика, либо по краденой или нелегально купленной документации. Со всевозможными системами оружия, что расползлись из России как тараканы с раскаленной печки, творился в мире беспредел: Болгария с Чехией выпускали пистолеты (правда, устаревших образцов), десяток стран, от Кореи до Бразилии – автоматы Калашникова, где-то трудились над боевыми вертолетами и самолетами по чертежам из российских КБ, Китай приступил к производству ракет «Сатана»,[272] а временами ситуация доходила до смешного – так, Пакистан клепал танки Т-85 по китайской лицензии. «Росвооружение» и прочие оружейные фирмы России, как частные, так и государственные, справиться с этим не могли, и дело шло к тому, что конкуренты-пираты вытеснят их с рынка по самым доходным позициям. Не исключалось, что, ощутив слабину и пользуясь продажностью чиновников, похитят что-нибудь по-настоящему серьезное, смертельный вирус или боевое ОВ[273] из нищих государственных лабораторий. Деньги в этом черном бизнесе крутились ошеломительные, и пресечь такую разновидность пиратства было куда опаснее и тяжелей, чем, к примеру, производство краденых видеофильмов. По мысли Каргина ХАК могла бы в этом посодействовать – в рамках соглашения, передающего ей эксклюзивное право на выпуск военной российской техники за рубежом. Не всей, разумеется, а той, где возникали спорные моменты и где необходимо придавить пиратов. Давить и душить в «Халлоран Арминг Корпорейшн» умели преотлично, по юридической или финансовой линии, а если нужно, то и другими убедительными средствами. Польза была обоюдной: во-первых, пираты являлись такими же конкурентами для ХАК, как и для российских оружейников, а, во-вторых, ряд боевых систем, не самых новых, но подходящих для Индии и Африки, можно было выпускать совместно. Данный проект и стал предметом обсуждения в Картахене – собственно, это было условие, на котором Каргин соглашался принять наследство вместе с президенством. Сомнений у Мэлори хватало и спорил он яростно – с русскими связываться не хотел (мол, ненадежные партнеры!), и операция (скажем, по усмирению Китая) казалась ему не очень реальной и уж во всяком случае не вдохновляющей. Но старый Халлоран, с которым консультировались оба спорщика, все же дал добро. Что-то он разглядел в идее Каргина, что-то такое унюхал, то ли запах несомненной выгоды, то ли шанс еще раз испытать наследника. Возможно, второе было важнее первого – родственная связь для старика значила не больше, чем прошлогодний снег, зато он желал передать корпорацию в твердые сильные руки. Так ли, иначе, но с главным хозяином и с Мэлори договорились; теперь оставалось убедить важных чиновников в Москве и подписать контракт с «Росвооружением». На это Каргин и целый штат его помощников потратили семь месяцев, за исключением недели свадебных торжеств и посещения Парижа и Венеции. Неделя – скромный дар для новобрачной, но миссис Алекс Керк не возражала и сцен не устраивала, ибо была стопроцентной американкой. Всякая американская жена твердо знает, что у супруга на первом месте бизнес, а любовь и развлечения в лучшем случае на втором или на третьем. Точно как в песне поется: первым делом – самолеты, ну а девушки, а девушки – потом. Теперь контракт был в полном смысле «на мази» (то есть всех, кого надо, в Москве подмазали), и Каргин урвал несколько дней, чтобы слетать к родителям и познакомить с ними Кэти. Важное дело, серьезное, но не единственное; хотелось ему поговорить с отцом и выяснить, как тот относится к его проекту. Отец, боевой генерал, владел немалым опытом и отличался здравомыслием, но, главное, был человеком чести. Редкий дар для властьимущих, кем бы они ни являлись, политиками, генералами или воротилами промышленности и финансов. Слушая Каргина, отец задумчиво хмурил брови, потом вскочил и принялся, прихрамывая, кружить по маленькой кухне. Хромал заметно – в восемьдесят четвертом, когда он командовал в Афгане бригадой ВДВ, ему оторвало три пальца на ноге во время штурма Панджшерского ущелья. Наконец, остановившись, он кивнул головой и вынес приговор: – Добро! Неплохая мысль! Только команда тебе нужна надежная, из наших людей. Флаг, Алеша, пусть будет с полосками и звездами, а люди – наши. Крепкая команда! – Команда есть, – сказал Каргин, и больше в этот вечер они о делах не говорили. Мать, как тихая тень, проскользнула в кухню. Вид у нее был озабоченный – то ли о фотографиях размышляла, то ли высчитывала, не пора ли в скором времени появиться внуку. – Нашла я несколько снимков, Алешенька… нашла, в пакет сложила, отправишь деду… Вы у нас с Катенькой надолго? – Дня на три. Мать всплеснула руками. – Дня на три! Ты слышишь, генерал? Год не виделись, в Америке побывал, чуть не погиб, женился – и на три дня приехал! Ты что молчишь, отец? Ты почему его не вразумляешь? Ты… – Дела у Алексея. Важные! – Какие еще дела? – Топ сикрет, – отрезал отец. – А мы, милая, должны безропотно нести свой крест. Думаешь, легко быть родителями миллиардера? – Он помолчал, ухмыльнулся и метнул последнюю стрелу: – Кстати, миллиардер он по твоей линии, не по моей. Каргин покивал головой. – Что поделаешь, мама, ехать мне надо в Москву, контракт подписывать. Потом – за рубеж, на переговоры… наверное, к чехам, в Прагу. Кэти Прагу не видела, хочу показать. – Вот когда соберешься в Прагу, тогда и Катеньку заберешь, – решительно заявила мать. – А пока пусть у нас останется, здесь, хоть на недельку-другую. Научу ее пироги печь, беляши и рулет с картошкой… Еще разговаривать будем, быстрее по-нашему научится. – Все главные слова она уже знает, – сказал Каргин, вставая. – Не пора ли на покой, родители? Кивнув, мать исчезла в спальне. Отец, вслед за Каргиным, вышел в коридор – стоял, опираясь на здоровую ногу, у открытой двери ванной и глядел, как сын, сбросив рубаху, плещет воду на лицо и плечи. Вроде как любовался: ладный вышел парень, крепкий и собой не дурен! Потом вдруг промолвил: – А ты ведь, Алешка, к ирландскому деду любовью не горишь. Или я не прав? – Прав, батя, – ответил Каргин, вытираясь пушистым махровым полотенцем. – Не горю. Даже не тлею.
* * *
Интермедия. КсенияГород был очень красив. Лежал он в предгорьях Копетдага, почти у самой границы, а за ней, уже в Персии, находился город-близнец с поэтичным названием Ширван. Название что-то напоминало Ксении – может, эпос «Шах-намэ» или персидские сказки о джиннах, пери и непобедимых богатырях-пахлаванах, которыми она зачитывалась в детстве. Книгу – толстую, с цветными иллюстрациями – купила мама, вырвала пять рублей из скудной своей зарплаты в детском садике, и в этой книжке, наверное, упоминался Ширван. Одну из картинок, во всяком случае, Ксения не забыла: дворец с зубчатыми стенами в окружении пальм, а чуть подальше – мечеть с минаретами в узорчатых изразцах, верблюжий караван и черноусые всадники. Здесь тоже были дворцы, мечети и верблюды. Еще – степь и горы, виноградники и сады, яблоневые, грушевые, сливовые. Еще – шоссе, тянувшееся к морю, и все приметы цивилизации: отели, кабаки, автозаправки, богатые шопы и бутики, банки, аэропорт, три вокзала, а сверх того – восточные базары, каких не только в Смоленске, но и в Москве неувидишь. Красивый город, богатый, фруктовый, теплый… Плохо одно – черноусых много. Черноусых Ксения ненавидела. Впрочем, бородатых и бритых тоже. Керим, к примеру, брился и усов не носил, но все равно был поганцем. Гадиной, змеюкой подколодной! А в первый раз когда увидела, подумала: красивый… Джигит, как здесь говорят. Высокий, стройный, волосы – как черный шелк, кожа гладкая, нос с горбинкой, глаза сверкают… Может, и красивый, а все равно поганец и сволочь! Три дела на уме: деньги, выпивка и бабы! Деньги и выпивка – чтобы заморские, а баб предпочитает посветлей и постройней, и чтобы угождали, ни в чем не отказывали… А после работы как угодишь? Бывает, ноги дрожат и синяки по телу, а он недоволен – мало принесла и легла не так… Гад! Проткнуть бы ножом, да только после куда денешься? Ни паспорта, ни денег… Ритка, что из Брянска, говорила: убегу! Видит бог, убегу! Наши на границе стоят, ублюдков этих охраняют, близко совсем, сорок километров, а там – русские солдатики, Коли, Пети да Ванюши… Так это по прямой – сорок, а по горам, камням и ущельям – целых сто! Ну, убежала, в чем стояла – в платье шелковом, чулках да туфельках на шпильке… потом труп из арыка выловили… Жалко Ритку, а себя и того жальче! И страшно… Мамочка милая, как страшно и погано! Зачем из Смоленска уехала? Ну зачем?..
Владимир Высоцкий
Глава 2
Москва, конец апреляКоманда, о которой Каргин говорил отцу, в самом деле у него имелась. Крепкая надежная команда, готовая на все и численностью, говоря армейским языком, без малого до батальона. В девяносто четвертом, зимой, перед тем, как отправиться в жаркую Африку, в роту «гепардов», встречался Каргин в Москве со своим приятелем и сослуживцем Владом Перфильевым. Перфильев, капитан в отставке, уволившись из «Стрелы», не пошел телохранителем к банкиру или вышибалой в казино, даже в милицию или в ОМОН не пошел, а обзавелся собственным бизнесом, открыв ЧОП «Варяг»[274] Не только бизнесом обзавелся и клиентуру привлек, но и людей достойных перетянул к себе, «стрелков»-спецназовцев, болтавшихся без денег и без дела после расформирования «Стрелы». Первым, конечно, Прошку, Костю Прохорова, дружка своего, потом молодых лейтенантов Черного с Мазиным, Кириллова и Эльбекяна, а за офицерами потянулись прапорщики и старшины, пара десятков или даже побольше. Тогда, четыре года назад, Перфильев и Каргина к себе сватал, да не состоялось сватовство – контракт с Легионом был уже подписан. Этой зимой они снова встретились. Каргин приехал в Москву с целым штатом юристов и экспертов ХАК, а что до Перфильева, так он никуда не уезжал из первопрестольной, разве лишь на отдых в Испанию, Турцию либо Грецию. Мог себе и подороже места позволить – бизнес его процветал, – но Настя, супруга Влада, воспитанная в строгих понятиях офицерской жены, имела собственное мнение о том, где хорошо и дешево. Перфильев определил ее к себе главбухом, точно зная, что у его Настехи рубль между пальцев не проскочит. Теперь под рукой у Влада ходили почти пятьсот бойцов, имел он знакомых в крупных фирмах, в мэрии, в органах, в Думе и администрации президента и оказывал обществу самые разнообразные услуги. Были среди них серьезные – скажем, розыск похищенных, переговоры о выкупе и внесение платежных средств, желательно дубинкой и свинцом, а не валютой и не золотом – но так, чтобы с клиента волос не упал. Была рядовая тягомотина, охрана модных кабаков и бутиков, а также офисов и всяких личностей, что заседают в этих офисах, либо персон поважней и покруче, в депутатском статусе. Были совсем смешные поручения, эскортные – на тот предмет, если клиенту нужно пыль в глаза пустить и заявиться в ресторан или, положим, на премьеру МХАТа в компании парней не ниже метра девяноста. Для этого Влад держал особую команду из бывших хоккеистов и баскетболистов и за «услуги престижа» драл по двойному тарифу. В политику Перфильев не мешался, а с «братками» из тамбовских, казанских, солнцевских и прочих мафиозных кланов находился в сложных отношениях: не мир, не перемирие и не война, а как на афганской границе – кто на жареном попался, тот и виноват, а не попался, так и ладно. Впрочем, связываться с «варягами» побаивались – Мазин и Черный, возглавлявшие ССБ,[275] были парнями тертыми и крутыми. Кроме надежного контингента и многочисленных полезных связей имелись у Перфильева главная контора в Столешниковом переулке за ювелирным магазином, шесть отделений в районах столицы, загородная база для тренировки сотрудников и отдыха их семей, приличный автопарк и даже арсенал с оформленными в законном порядке пистолетами, дубинками и газовым оружием. Ну, а что оформлено не было, хранилось в обширном подвале под главной конторой, и этот склад чудесным образом отсутствовал на самых подробных планах жилищного ведомства – или, возможно, числился в них затопленным, сгоревшим и заваленным еще во времена ашхабадского землетрясения. Словом, Перфильев владел готовой структурой, обширной и весьма разветвленной, использовать которую было столь же полезно, сколь и выгодно. Это с одной стороны, а с другой при первой же встрече с ним выяснилось, что Влад отчаянно скучает. К спокойной жизни он был не приспособлен, как и сам Каргин, как и любой спецназовец высшей квалификации. Конечно, охранять кафешки и лавки с дамским бельем работа непыльная и выгодная, а еще прибыльней заботиться об олигархах и депутатском корпусе, но выгода и прибыль заманчивы, когда их нет – а, появившись однажды, воспринимаются как нечто естественное и вполне обыденное. Ну, и что потом? Тут, в зависимости от темперамента и жизненного опыта, есть всякие варианты: один видит поэзию в приобретении богатств и расширении бизнеса, другой блаженствует в сытой нирване и тискает девочек в саунах, а третий впадает в столбняк и тоску. Стеречь шалманы, офисы и разжиревших депутатов? Не слишком почетное занятие для тех, кто воевал в Ираке и Вьетнаме, Эфиопии и Боснии, Афгане и Никарагуа. Москва, конечно, город большой, и много в ней темных делишек и дел, но мира она не заменит – ни гор, ни джунглей, ни тайги, ни прочих мест, где можно послужить отечеству со славой. А послужить Перфильеву хотелось – да и не ему одному. На этом они и сошлись, команда Перфильева с Каргиным. Все они являлись клюквой с одного болота, не африканского и не американского, а сугубо российского, и потому договорились быстро. В сущности ЧОП «Варяг» и «Халлоран Арминг Корпорейшн» были для них интересны не как источники доходов и прибылей, а лишь как средство для достижения определенной цели, которая у многих россиян, в отличие от обитателей Запада и Востока, не связана с богатством, почестями, властью или спокойным размеренным бытием в системе нерушимого миропорядка. Это, скорее, иррациональная тяга к справедливости, мечта явить свою удаль и самоутвердиться через достойное важное дело, та неистребимая российская ментальность, которая творила на протяжении веков империю – и рушила ее в бунтах, мятежах и революциях. Ментальность ментальностью, но о практических вопросах тоже забывать не стоило, и в январе союз между «Варягом» и Большим Заокеанским Братом был юридически оформлен. ЧОП превратилось в совместное предприятие, охранную структуру российского филиала «Халлоран Арминг Корпорейшн», вывеску в Столешниковом сменили, фасад отремонтировали и по этому случаю устроили кутеж – такой, что три юриста и пять экспертов, приехавших с Каргиным, неделю мучились мигренью. Однако Генри Флинт, шестой эксперт, пивший на равных с Перфильевым, Мазиным и Черным, головными болями не маялся, ибо до трудоустройства в ХАК служил в морской пехоте. Возможно по этой причине или в силу могучей негритянской конституции к спиртному он оказался вынослив – что, безусловно, роднило его со славянами. Этот Флинт, сотрудник административного отдела,[276] был приставлен к Каргину в качестве офицера связи и советника по экстремальным ситуациям и, очевидно, являлся глазом и ухом Шона Мэлори. Зиму и начало весны Каргин провел, курсируя между Москвой и Сан-Франциско, совещаясь с руководством ХАК и торпедируя кабинеты московских чиновников, предпринимателей и генералов. В последнем помощь Перфильева была неоценимой – он точно знал, каким количеством взрывчатки с изображениями американских президентов нужно начинить торпеду и под какую дверь подкладывать. Сложность проблемы заключалась в том, что политическое сближение России с Западом и теплая дружба ее президента с заокеанским коллегой вовсе не означали каких-то серьезных подвижек в финансовой, промышленной или военной сферах. Контакты в области финансов сводились к просьбам о кредитах, в части производства – к созданию фирм по упаковке ножек Буша в русский полиэтилен, а что касается военных дел, то ястребы с той и другой стороны хоть клювов уже не разевали, но когти точили по-прежнему. В такой туманной ситуации идея о сотрудничестве военно-промышленного комплекса с американской оружейной фирмой казалась дичью, нонсенсом или тонко задуманной диверсией ЦРУ, призванной угробить остатки российской оборонной мощи. Мощь, однако, иссякала сама собой, комплекс разваливался с пугающей скоростью, пираты-конкуренты теснили на всех традиционных рынках, от Египта до Монголии, а торпеды с зеленым содержимым взрывались регулярно и в нужных кабинетах, так что проблема со скрежетом и скрипом все-таки сдвинулась с места и миновала за месяц Госкомиссию по военно-техническому сотрудничеству. Затем контракт между «Росвооружением» и ХАК, ввиду его особой важности, обсудили и завизировали в «Росавиакосмосе» и концерне средств ПВО, после чего он прошел парламентскую экспертизу и был одобрен всеми фракциями кроме яблочников и коммунистов. Яблочники, как обычно, воздержались, а левые, по идейным соображениям, были против контактов с акулами капитализма. Но так ли, иначе, «добро» обеих ветвей власти было получено, и договор подписан с российской стороны – двумя министрами и руководством «Росвооружения». Случилось это в середине апреля, когда Каргин, оставив Кэти у родителей, вернулся в Москву. К этому времени Марвин Бридж, его юридический советник, закончил все последние формальности: размножил документ, заверил копии печатями, а оригинал отправил в Калифорнию, в сейфы штаб-квартиры корпорации. Договор был краток – две страницы текста, тщательно отработанного юристами ХАК и «Росвооружения», но к нему прилагался обширный список военной техники и боевых систем, которыми «Халлоран Арминг Корпорейшн» надлежало заняться в первую очередь. И под номером один в этом списке значилось: изделие «Кос-4», разработка КБ-35, Челябинск, производственная база – оборонный завод имени «XXII партсъезда», Ата-Армут, Туран.
* * *
– К арабам Саркиса Эльбекяна пошлем, – хрипло произнес Перфильев. – Бывал он у арабов, хоть не в Сахаре, а в Ираке, так что язык и обычаи знает. Опять же внешность подходящая: смуглый, нос с горбинкой, волос черный и глаз огненный. Чалму напялит, от правоверного не отличишь. – Думаешь, внешность к доверию располагает? – усомнился Каргин. – Еще бы! Свой человек, восточный! – проклекотал Перфильев. Горло было у него задето в девяносто втором, в период боснийской операции, и временами он хрипел и свистел как древний паровоз, изнемогающий под непосильной тяжестью состава. Но в остальном на здоровье не жаловался. – Нужно делегацию посылать, – сказал Каргин. – Во всех случаях необходима делегация: два-три полномочных лица от ХАК, секретари, юристы, переводчики… ну, представитель от «Росвооружения», если пожелают. И чтобы все солидно, Влад: номера в лучших отелях, рота секьюрити и черный кадиллак к подъезду. Чтобы понимали, кто к ним пожаловал и зачем! Перфильев стиснул и разжал кулаки. Был он невысок, но крепок; кисти большие, мощные, под стать могучим плечам и торсу. По его широкой скуластой физиономии бродила хитроватая усмешка. – Кто и зачем! – повторил он. – Главное, зачем! Это их, Леха, не обрадует! Мины нынче в цене, и сеют их как редиску, от Тихого океана до Атлантики. – Поля дьявола… – пробормотал Каргин, относившийся к минам с большой неприязнью – дружок его Юра Мельниченко подорвался на мине в Карабахе. – Делать дешевые мины по краденой технологии – безнравственно, – заявил он. – Аллах такого не простит! Мина должна быть дорогой, вдвое дороже, чем операция по разминированию. – Вот Эльбекян пусть им и объясняет. А с ним пошлем парочку экспертов и этого юриста, белобрысого… как его, хрр?.. Венька Тукер?.. – Винс Такер, – поправил Каргин. – Заметано, пошлем Саркиса с Винсом! Продукцию объявим контрафактной… мм… ну, с сентября этого года. Они ведь через Сахару Центральную Африку снабжают, так? Дороги можно перекрыть силами Иностранного Легиона… недешево обойдется, но мой карман не лопнет. – Это хорошо, что у тебя такой карман. Давай-ка, Лешка, по этому поводу… Влад поднялся, подошел к шкафчику, извлек широкие стаканы и бутылку армянского коньяка, налил себе на три пальца, Каргину – на один. Знал, что тот крепкое не жалует. Коньяк, однако, был хорош. Наслаждаясь его ароматом, Каргин посматривал в окно и вспоминал, как заявился под вечер точно с таким же напитком к Кэти, в первый же день знакомства, в Халлоран-тауне. Соблазнял по-всякому, Киплинга ей читал, про Париж рассказывал… кажется, шампанское тоже было… Ну как девушке-ласточке устоять?.. Не устояла, к счастью… Он мечтательно улыбнулся, подумав, что мама, должно быть, сейчас обучает ласточку печь картофельный рулет. Или, например, пирог с капустой… Полезное дело! Лучше, чем заниматься проблемой противопехотных мин, коими пол-Африки засеяно… За окном чуть потемнело – первый намек на сумерки. Там простирался двор, небольшой, вытянутый, зажатый между старинным зданием, выходившим в Столешников переулок, и трехэтажным флигелем, арендованным ЧОП «Варяг», а ныне откупленным со всеми потрохами у столичной мэрии. В переулок вела высокая арка, перекрытая решетками, с первым постом охраны; второй пост, секретный, находился левее, в одной из припаркованных в дворике машин. На первом этаже флигелька, где они, собственно, сейчас сидели, располагалось представительство ХАК, бывшая варяжкая контора, ниже – подвальный арсенал, а выше – несколько квартир для самых доверенных сотрудников. Все они тут жили, Перфильев с женой и дочерью Танюшей, и Костя Прохоров с родителями, и Глеб Кириллов, и остальные, ибо, по мысли предусмотрительного Влада, охранное агенство должно первым делом охранять свои семьи. Беречь надежно, чтоб ни менты не сунулись, ни бритоголовая шпана! Каргин был с этим согласен, и потому над флигелем надстраивался четвертый этаж, его новая московская квартира. – К китайцам кого думаешь отправить? – спросил Перфильев, неторопливо прихлебывая коньяк. – Не воевали мы с китайцами, ни в Пекине, ни в Шанхае не были, и спецов по Китаю у нас нет, не говоря уж о внешних данных. Разве вот только Саша Мазин – дед у него из бурятов, и глаза чуть косые, особенно после пятого стакана… Может, его и пошлем? Каргин покачал головой. – В Китай пока что никого. С ним разбираться надо осторожней. – Как никого? Китай в приложении к контракту под третьим номером идет, после «косилок» и арабских мин… Они ведь, заразы, весь мир «калашами» завалили, а за базар не отвечают! Взяв со стола листок с претензиями к юго-восточному соседу, Каргин пробежал его глазами и скривился. Были тут и «калаши», и гранаты, и пулеметы с минометами, бронетехника, гаубицы и полевые пушки, ракеты, снаряды и патроны… Много чего было! Длинный список, как река Янцзы… Однако не та держава Китай, чтобы буром на нее переть. Уже три месяца, как в отделе стратегических исследований ХАК разрабатывались обходные маневры, коварные планы и хитрые подставы, и чем дальше там мудрили, тем становилось ясней: прямым давлением, угрозами, диверсиями или намеками на благородные поучения Конфуция делу не поможешь. Реальный выход заключался в том, чтобы скомпрометировать китайскую продукцию – скажем, чтобы гранаты взрывались до того, как выдернут чеку, или не взрывались вовсе. На этом пути, невзирая на всю его кажущуюся фантастичность, имелся определенный прогресс. – В Китай мы никого не пошлем, – твердо промолвил Каргин и добавил: – Пока. А пошлем мы Глеба Кириллова в Бразилию. Он ведь испанский с португальским знает, на Кубе стажировался и вообще парень с головой. Хуан Кастелло с ним поедет, эксперт по снабжению и интендантской службе. Пусть разберутся с бразильским стрелковым оружием, слизанным с «калашникова». – Пусть, – согласился Перфильев. – А интендант Кириллову зачем? Хуян этот самый? – Он не простой интендант, а специалист по консервированию фруктов, мяса, овощей. Переговоры проведет с бразильцами, пообещает: если экспорт оружия прекратится, ХАК разместит у них ряд производств пищевой промышленности – тысяч на пятьдесят рабочих мест. А ежели не прекратится, тоже разместит, но в Аргентине. Перфильев допил коньяк и восхищенно закатил глаза. – Мудро! Большая, хрен ее, торговая политика! Ты где этому научился, Леха? У кого? Ведь не у нашего Толпыго, а? – Ты, Влад, майора не трожь. Он человек великой мудрости, но в иных, не связанных с торговлей сферах, – строго заметил Каргин. – А научился я у одного старичка. Крутой старик, зубастый – если прямой наводкой не достанет, грохнет по высокой траектории. Как батальонный миномет! – Хотел бы я его послушать, – с уважением сказал Перфильев, вдруг превратившись из капитана спецназа в предпринимателя. – Чему он тебя еще учил, этот старикан? Прикрыв глаза, Каргин процитировал: – Вот персы и арабы… У арабов – танки. Продай персам орудия и управляемые снаряды и жди, пока арабы не лишатся танков. Тогда продай им вертолеты и снова жди. Жди, пока персам не понадобятся стингеры. Продай их. По самой высокой цене. Когда задет престиж, денег не считают! – Да это же просто песня! – воскликнул Перфильев и, внезапно развеселившись, захрипел и засвистел, отбивая такт кулаком: – Вот персы и арабы, как две шальные бабы… У арабов танки, и в каждом – русский Ванька… Персам ты продай снаряд, чтоб отправить Ваньку в ад… Помело продай арабам и стратега из генштаба… – Он закашлялся, плеснул себе коньяка и протянул бутылку Каргину. – Хочешь? – Нет. Начну, как ты, песни играть, а у нас все же совещание. – А что такое совещание? Законный повод промочить пересохшую глотку, – мудро заметил Влад и поинтересовался: – Сам-то куда лыжи навострил? Не к персам? Или, может, в Индию? – В Прагу. Встречусь там с чехами и болгарами, а заодно с милой погуляю. Она у меня без свадебного путешествия осталась. Нехорошо! – Нехорошо, – согласился Перфильев. – А в Индию свозить ее не лучше? Экзотика, блин! Храмы, йоги, тигры… На слоне супругу покатаешь. – Если захочет слона, я ей в Праге куплю, – молвил Каргин с приятным сознанием широты своих возможностей. Прав отец, мелькнула мысль, деньги – тлен и прах, и есть у них лишь одно разумное назначение: делать подарки любимой. Такие, какие она пожелает. – Ну, если ты в Прагу отдыхать поедешь, и остальным не грех развлечься, – сказал Перфильев. – Я не про себя, я, как договорились, тут останусь в качестве координатора, я о Прошке. Он у меня три года без отпуска, похудел уже и с лица спал. Отправить бы его в теплые края, на шашлыки и фрукты… – Влад придвинул поближе валявшиеся на столе бумаги. – Вот, гляди: в пункте первом у нас Ата-Армут в Туране, с «косилками» и горным курортом на озере Кизыл… Очень подходящее местечко! Груши, яблоки, виноград, целебные источники… Опять же туранские красавицы, а Костя у нас парень холостой – может, и отыщет себе гурию-другую… Ну, а что до переговорного процесса, так здесь я сложностей не вижу – бывшая наша республика, как-никак. Все по-русски понимают, и слышал я, что Курбанов, их туран-баша, свой в доску парень. Я ничего не путаю – кажется, он еще при Брежневе был министром иностранных дел? – Не путаешь, – подтвердил Каргин. – И министром был, и членом Политбюро, и первым секретарем ЦК компартии республики. Свой в доску, только нынче доска кривая. – Это как понимать? – А так, – Каргин хлопнул ладонью по бумагам. – Ты ведь видишь: первый пункт – Туран и «Кос-4». Выходит, без нас договориться на смогли? А почему? Всего-то дел – увести машины с базы, что в Прикаспийске, в Астрахань, а завод перепрофилировать… – Ну, про машины неизвестно, есть они или ржой рассыпались, – возразил Перфильев. – В любом случае, без автоматики эти «косилки» лом и хлам. Ездить можно, а стрелять – навряд ли. – Однако челябинское КБ желает их забрать. Добились даже, чтобы этот вопрос поставили первым. Что-то, значит, не срослось у них с туран-башой. – Я с Барышниковым встречался, с заместителем главного конструктора, – сказал Влад. – Он утверждает, что на уровне туран-баши переговоры не велись, не допустили их до президента. То он занят, то болен, то на выезде в Парижах и Лондонах… Ну, Прошка цепкий, словно клещ, если надо, отловит Курбанова. Кстати, Барышников хочет с ним поехать, как представитель КБ и «Росвооружения». – Пусть едет, – кивнул Каргин. – Нельзя, однако, чтобы их воспринимали как российских переговорщиков, коим можно мозги крутить и парить, а при случае – и подкупить. Операцию проводит ХАК, американский концерн, и это каждому должно быть ясно. А потому… – Он призадумался и, после паузы, продолжил: – Потому с ними отправится мистер Генри Флинт, советник по экстремальным ситуациям. Человек опытный, к тому же черный – сразу видно, что американец. – И пьет хорошо, – одобрительно заметил Перфильев. – Наш кадр! «Не наш, а Мэлори, – подумал Каргин, – и лучше от него избавиться. Чтоб в Праге хвостом за мной не таскался». А вслух сказал: – Денег им надо выдать побольше, на тот случай, если придется кого подмазывать. Восточные люди без бакшиша не работают… Ты справки наводил про Ата-Армут – имеется там какой-нибудь солидный банк? Перфильев насмешливо прищурился. – А как же! Первый Президентский называется. – Что, еще и второй есть? – Само собой. Из достоверных источников известно, что у туран-баши два племянника. – Что-нибудь еще кроме этих двух? – Сомневаюсь. Два банка вполне достаточно для среднеазиатской демократической республики. Если и есть какие-то другие, так наверняка жулье. С минуту Каргин размышлял, уставившись взглядом в потолок. В Чехии, Индии, Бразилии, даже в Гренландии и арабских странах, были надежные банки, а в них – счета «Халлоран Арминг Корпорейшн». Не просто счета – вклады в десятки и сотни миллионов долларов, так что проблем с финансовым обеспечением переговорного процесса нигде не предвиделось. Нигде, кроме Турана и, возможно, Огненной Земли да гималайского княжества Мастанг. – Счетов открывать не будем, возьмут с собой наличные, – наконец решил Каргин. – Пару чемоданов с подарками и деньгами. – А сколько командировочных отпустишь? Тысяч пятьдесят зеленых? – полюбопытствовал Перфильев. – Пятьдесят! Да этого на чаевые не хватит! Миллиона два или три… Я ведь сказал: лучший отель и кадиллак к подъезду! – Каргин побарабанил пальцами по столу, затем оглядел скромный кабинет, стулья с потертиой тканевой обивкой, шкафы с документами в картонных папках, громоздкий прадедовский сейф – оглядел все это и молвил: – И еще одно, Влад… Ты не обижайся, но офис для нашего представительства нужен побольше и попрестижней. С тобою кто остается их наших, Черный и Мазин? Вот поручи им, пусть присмотрят здание у Красной площади или на Садовом кольце, этажей пять-шесть, с двумя подъездами и двориком. Откупим и оборудуем резиденцию не хуже, чем в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Перфильев поглядел на него с непонятной жалостью, поскреб огромной пятерней в затылке, потом спросил: – Ты, Леха, москвич или нет? – Мать москвичка, отец – с Кубани, – удивленно откликнулся Каргин. – Сам я на Дальнем Востоке родился, под Хабаровском, в Москву в восемьдесят седьмом попал, в Школу внешней разведки, а потом – в «Стрелу»… Ну, об этом ты знаешь. – А я москвич хрен знает в каком поколении, – с задумчивым видом произнес Перфильев. – Есть семейное предание, что род наш то ли от стрельца какого-то пошел, то ли от опричника Ивана Васильевича, Грозного царя… И вот что я тебе скажу, Лешка, скажу как старый москвич молодому: нет престижней места, чем в Столешниковом. Это высший шик, номеклатура первого разряда! Что там Красная площадь и Садовое кольцо! Хоть мавзолей откупи или там собор Василия Блаженного, а со Столешниковым не сравнить. – Я не из новых русских, на мавзолей и собор не претендую, – сказал Каргин. – Если тебе мил Столешников, здесь и останемся, однако домик с ювелирной лавкой, что выходит в переулок, нужно нам приватизировать. Лавка пусть остается на месте, все-таки московская реликвия, а верхние этажи расселим по-хорошему, и будет там резиденция ХАК. Ты в этом направлении поработай и на компенсацию не скупись, фирма не обеднеет. – Поработаю, – пообещал Перфильев. Они замолчали, глядя, как за окном сгущаюся синие апрельские сумерки. Потом Каргин промолвил: – Бумаги подписаны, печати приставлены, люди распределены, и начинается наш труд… Сдюжим ли? Справимся? Как думаешь, Влад? – Справимся, отчего не справиться, – отозвался Перфильев. – Или мы не бойцы? Или пыль не глотали на трех континентах? Справимся!* * *
Интермедия. КсенияВечер и ночь – рабочее время, гнусное, суматошное, печалиться и думать некогда, а вот утром, часов до двенадцати, а то и до двух пополудни, можно отсыпаться в тишине. Не сразу, конечно; сначала душ принять, намылить и потереть во всех местах, где лапали, куда совали… Потом в халатик влезть, перекусить, кофе выпить и посидеть на диванчике у окна, повспоминать… Хоть гад Керим, а все же квартиру снял отдельную, двухкомнатную, и это хорошо – есть куда забиться и нарыдаться всласть, оплакать свою молодость и красоту, губы свои и глаза, каждый пальчик и волосинку и все остальное, будь оно проклято… А начиналось-то как! Как начиналось! С посулов и обещаний, а если уж вспомнить все как следует, то с объявления… Нет, не с того объявления в газете – с мечты! Танцевать мечтала… Пусть не в Большом театре, не в столичном балете, но все-таки на сцене… Могла ведь, могла! В семнадцать – второй разряд по спортивным танцам, трижды ездила в Москву, один раз – в Питер… Латиноамериканские отлично шли – румба, пасадобль, капоэра… Еще испанские танцевала, фламенко и танго… Ну и что? Кому нужна смоленская девчонка-безотцовщина? То есть нужна, конечно – на кровати, голой, в разных позах. Если ни нарядов нет, ни денег, ни знакомств и связей, спонсора ищи, без спонсора не пробьешься. Был бы спонсор молод и хорош собой, она бы, скорей всего, не возражала, только попадались все какие-то лысые огрызки, старые да слюнявые… Ксению от них тошнило. Казалось, ляжешь с таким, век не отмоешься. Знала бы, с кем придется лечь! Потом – объявление это… Девушек ищут, не старше двадцати, высоких, стройных и с хорошей пластикой… В школу, с трудоустройством после окончания и пока бесплатную, даже со стипендией. Платить придется, но с первых заработков, а сейчас обучат просто так, и выбрать можно: или демонстрация одежды и белья, или съемки для рекламных роликов, или танцы. Классика, восточные и современные… Восточные танцы Ксении очень нравились. Клюнула, поехала в Москву, а школа оказалась вовсе не там, а в южных краях, где зреют персики и виноград с инжиром. В Москве только просмотр был, отборочная комиссия и оформление документов. На ура прошла комиссию, оформилась, деньги какие-то получила, паспорт отдала… Тогда и с Керимом познакомилась, он с другими парнями-южанами паспорта собирал, как бы на визы, и девушек поил-кормил. Видный, высокий, красивый… Она ему сразу глянулась – в ресторан сводил, рассказывал про мать-отца, про дом их богатый и про, что всегда мечтал жениться на русской девушке, чтоб волосы как золото и глазки голубые… Вот глазки-то и разгорелись! В гостиницу к себе отвел и был у Ксении первым, а когда всплакнула о потерянном, утешать принялся: учиться будешь и в семье жить, моя газель, родители тебя лелеять станут, внуков им нарожаешь, маму из Смоленска выпишешь… Что ей в том Смоленске? Летом пыль, зимою холод, весной и осенью грязь, и нищета в любое время года… А у нас край богатый, изобильный, и всякая русская девушка – королева! С почтением относятся и ласково так зовут, Наташами… Ну, вот и стала Наташей… Наташкой раздвинь коленки… Удавиться, что ли?
Владимир Высоцкий
Глава 3
Прага, начало маяВ Праге цвела сирень. Ее аромат, тонкий и нежный, струился с зеленеющей садами горы Петржин и плыл над Пражским Градом, Малой Страной и мутноватыми влтавскими водами. Река, закованная в гранит, бурлила и негромко рокотала, кружила унесенные половодьем ветки, билась о каменные устои мостов. Самый красивый и знаменитый из них, Карлов, был украшен потемневшими изваяниями и готическими сторожевыми башнями: две – на левом берегу, одна – на правом. От башен веяло почтенной древностью – было им шесть или семь веков, а значит, строили их в те годы, когда цивилизованный мир слыхом не слыхивал про Америку. Тем более, про Калифорнию и город Сан-Франциско. Кэти, судя по восхищенно-почтительному выражению лица, это понимала. Ее ладошки ласкали старый камень парапета, глаза перебегали с левого берега на правый, с горы и башен собора святого Витта на черепичные кровли Старого Города. По заокеанским меркам все эти башни, дома и дворцы были невысокими, однако казались куда величественней небоскребов, напоминая не о промышленниках и банкирах, а о всевластных королях, могущественных полководцах, искусных ремесленниках и героях гуситских войн. Не отрывая пальцев от парапета, Кэти сделала несколько шажков. Ее туфельки звонко цокали по камню, гулявший над Влтавой ветер развевал каштановые волосы. – Керк! Чья это статуя, Керк? Вон та, где рыцарь со львом? – Это король Брунцвик, – пояснил Каргин, обнимая гибкую талию жены. – До того, как стать владыкой королевства, он странствовал в дальних странах и подружился со львом. Еще волшебный меч нашел. Кэти наморщила лоб. – Не помню я о таком короле. В каком столетии он правил? – Ни в каком, солнышко. Брунцвик личность легендарная, но говорят, – Каргин таинственно понизил голос, – что меч его на самом существует и замурован в каменной кладке моста. Когда чехам придется совсем туго, воспрянут от сна зачарованные рыцари, дремлющие под горой Бланик, и поведет их в битву сам святой Вацлав, покровитель здешних мест. На этом мосту белый конь его споткнется и выбьет копытом из мостовой волшебный меч. Поднимет его Вацлав, крикнет: «Всем врагам чешской земли головы долой!» – и так оно, милая, и случится. Кэти остановилась и внимательно поглядела на него. – А ты чешской земле не враг? – Ни в коем случае, – успокоил ее Каргин. – Не воевал я в Праге и ни в одном из чешских городов, и клянусь, что воевать не буду. Если только придется братьев-славян защищать, но это сомнительно – они ведь в НАТО намылились. Тут ему и в самом деле воевать не довелось. К счастью! В тот год, когда советские танки вступили в Прагу, Каргин еще пешком под стол ходил, а его отец тянул лямку комбата на монгольской границе. В Праге ему случалось бывать проездом, когда летал на Кубу, в Боснию или в другие места, и ни разу больше двух дней он здесь не задерживался. К тому же озабочен был предстоящим заданием и на городские красоты не любовался. А сейчас… Сейчас было так сладко, так радостно стоять на Карловом мосту с женой, чувствовать, как аромат ее кожи смешивается с запахом сирени, обнимать ее и шептать в розовое ушко старые чешские предания. О красавице Либуше и храбром Бивое, о королях Святоплуке и Брунцвике, о лучанской войне, опатовицком кладе и кутногорских рудокопах… Миг счастья, когда есть только настоящее, и нет ни прошлого, ни будущего – ни поля под Киншасой, заваленного трупами, ни тайной войны в Сараево, ни пылающих селений Руанды, ни югославских бомбежек, ни схваток с «эскадроном смерти» на острове у берегов Перу… Равным образом нет и заботы об операциях ХАК, о людях, что разлетелись по всему земному шару от Турана до Бразилии, о минах, пушках, танках, пулеметах и тому подобной хламоте, которую сейчас и вспоминать не стоило. Здесь, рядом с Кэти, посреди прекрасной Праги, думать хотелось лишь о хорошем. – Завтра, – услышал Каргин, – завтра мы поднимемся на эту гору, осмотрим замок и собор и будем гулять в садах. Чудные сады, не правда ли, милый? Возвратившись к реальности, он смущенно почесал в затылке. – Завтра, ласточка, вряд ли получится. У меня переговоры с чехами. – Ну, тогда послезавтра. – Послезавтра – с болгарами… Может быть, ты на пару дней куда-нибудь съездишь? В Карловы Вары, например? Кэти, лукаво улыбаясь, закинула руки ему на шею. – Никуда я не поеду, Керк! Я с тобой останусь. Переговоры штука нервная, утомительная… Кто тебя будет вдохновлять? Особенно ночью? – Некому, кроме верной жены, – согласился Каргин. Не размыкая рук, они медленно двинулись к правобережью и высокой староместской башне. Туристский сезон только начинался, и зевак на мосту было еще немного. Зато имелись художники, по паре дюжин с каждой стороны, молодые, средних и преклонных лет, но все в просторных блузах и беретах, с красками, тушью, углем или карандашами. Рядом с каждым живописцем – картины и гравюры, прислоненные к парапету или развешанные на стендах. Почти Париж, мелькнуло у Каргина в голове. Даже лучше Парижа – город не чужой, славянский, и люди тут без присущей французам надменности. – О! – воскликнула Кэти, энергично разворачивая его к одному из стендов. – Ты только посмотри, Керк! Вот это, это и это… Триптих, понял Каргин. Средняя гравюра – Карлов мост, крайние – вид на гору с садами и Пражским Градом, и на Старый Город. Тонкая работа, искусная, тщательная, под старых мастеров… И художник далеко не молод – пожалуй, восьмой десяток разменял. – Хочу, – сказала Кэти. – Нет проблем, – ответил Каргин и, вытащив бумажник, обратился к живописцу в вельветовом балахоне: – Пан говорит на английском или французском? – Говорит. – Старый художник, присматриваясь к ним, разгладил седые усы. – Аще розумиет немецкий, русский, польский и румынский. – И русский тоже? – Каргин перешел на родной язык. – Ну, замечательно! Мы хотим приобрести эти три гравюры. Сколько? Художник замялся. – Пан из России? – Да. Из Москвы. – А ваша девичка? – Это моя жена. Американка, из Калифорнии. На лице художника изобразилось сомнение. – Пан… как это сказать?.. новый русский, да? Из этих, из богатых бизнесменов? – Нет. Пан просто русский, – ответил Каргин, улыбаясь. Беседа принимала забавный оборот. – А почему вы подумали, что я богат? – У пана толстый бумажник и жена-американка. – Бумажник – дар судьбы, а жена… Встретились, полюбили, поженились. Старик сдвинул берет на затылок, оглядел Кэти с ног до головы и одобрительно причмокнул. – Зрю, пан не новый русский. Эти, как новые чехи, никого не любят. Им и слова такие неведомы. А я хочу, чтобы мои картины в том доме висели, который согрет любовью. Кэти дернула Каргина за рукав. – Вы о чем говорите? Я половины не понимаю… В любви друг другу объясняетесь? Каргин перешел на английский. – Нет, ласточка. Мастер сказал, что продаст нам эти гравюры только в том случае, если ты докажешь, что любишь меня. – А разве этого не видно? – заявила Кэти, взмахнув ресницами. – Видно, – подтвердил художник, – видно, красна пани! И потому старый Иржи Врба отдаст вам свои работы за сто американских долларов. – Это даром, – сказал Каргин, раскрывая бумажник. – За каждую по сто! И пусть их нам доставят в отель «Амбассадор», что на Вацлавской площади. Для миссис Алекс Керк. Покачивая головой, живописец принял деньги. – Пан уверен, что он не новый русский? – Абсолютно, – сказал Каргин и, подхватив Кэти под локоток, повлек ее к староместской башне. Они миновали Кржижовницкую площадь, подивились на храм святого Сальватора и Климентинум, двинулись по Карловой улице к ратуше, дождались в толпе туристов, пока не ударят часы и не начнется шествие апостолов, затем повернули на Парижскую улицу и прошли ее из конца в конец, до еврейского гетто и набережной Влтавы. Здесь, в каком-то крохотном кабачке, съели шпикачки и выпили пива, потом, обнаружив уединенную скамейку у самой воды, устроились там и начали целоваться. Каштан шумел над ними свежей зеленой листвой, запах сирени кружил голову, и было им так хорошо, словно весь мир вдруг превратился в прекрасную весеннюю Прагу.
* * *
Переговоры с чехами прошли на редкость гладко. Ныне Чехия была самой благополучной из стран бывшего соцлагеря, а значит, и самой законопослушной. Учитывая это, а также стабильность кроны, приятные чешские пейзажи и отсутствие серьезных социальных катаклизмов, «Халлоран Арминг Корпорейшн» разместила в Праге свой Восточно-Европейский филиал. Располагался он на улице под названием Панска, в двух шагах от Вацлавской площади, и трудилось в этом филиале уже человек шестьдесят, распределенных по отделам от болгарского до польского. Большого Босса – то есть мистера Алекса Керка – встретили с исключительной теплотой, под гром выбиваемых из шампанского пробок и щелканье каблуков, затем поднесли цветы супруге и были допущены к целованию ручки. Не все, разумеется, шестьдесят, но семь начальников отделов, шеф филиала Дэвид Гир и его заместитель Ли Джордж Уэст. Затем Каргин, Гир и сопровождавший их юридический советник Марвин Бридж проследовали в совещательную, а Ли Уэст, приятно улыбаясь и рассыпаясь в комплиментах, повез миссис Алекс Керк в Национальный музей, любоваться камнями, жуками и засушенными бабочками. Музей тоже был рядом, но по дороге предполагалось посетить дома, где жили когда-то Моцарт, Сметана и Дворжак, и заглянуть в пивную «У калиха», к бессмертному Швейку, подкрепиться пивом и кнедликами с капустой. Правда, о Швейке у миссис Алекс Керк было такое же смутное представление, как о кнедликах, и Каргину показалось, что ласточка путает Великого Солдата то ли с Санта Клаусом, то ли с Карлссоном, который живет на крыше. Представители чешской стороны явились точно в двенадцать пятнадцать и, ознакомившись с полномочиями ХАК, тут же подписали три документа: протокол о признании недействительной лицензии на производство пистолетов ТТ и ПМ;[277] гарантию, что вышеуказанное производство будет свернуто в течение двух месяцев; и акт, в котором чехи обязались не экспортировать данные виды изделий и уничтожить их товарные запасы, а ХАК обещала не применять в этом случае штрафов и иных юридических либо финансовых санкций. Покончив с формальностями, стороны распили пару бутылок «Мартеля», и, после третьей рюмки, глава чешской делегации заметил, что ПМ и ТТ были отличным оружием, но устарели морально и не тянут сравнительно с CZ75FA и модернизированным «Скорпионом».[278] Отчего бы «Халлоран Арминг Корпорейшн» не продвинуть эти изделия на широкий рынок, потеснив, к примеру, тем же «Скорпионом» израильский «Узи»? Каргин налил гостям по четвертой и обещал обсудить эту идею с исполнительным директоратом ХАК. С болгарами, прилетевшими в Прагу из Софии, все получилось много хуже. Миссис Алекс Керк отправилась с галантным Ли Уэстом обозревать еврейское гетто, ныне – музей с синагогами, семисвечниками, расшитыми покрывалами торы и древним кладбищем с могилой волшебника Бен Бецалеля, а Каргин парился в совещательной, выслушивая жалобы на скудость и бедность, проклятия в адрес разоривших страну коммунистов и намеки на нерушимую русско-болгарскую дружбу. Видимо, разведка у болгар была поставлена неплохо, иначе откуда им знать, что мистер Алекс Керк на самом деле русский? Русским же свойственны мягкосердечие и жалость к убогим, и потому в самых чувствительных местах Каргин закрывал глаза и повторял про себя суровые максимы деда: «Продай персам орудия… Продай арабам вертолеты… Продай по самый высокой цене!» Перед ним сидели сейчас не братья-болгары, а международные мошенники, торговцы поддельным российским оружием и, как доносила разведслужба ХАК, люди весьма не бедные, хапнувшие ряд государственных заводов, имевшие связи с курдами, с афганскими талибами и, разумеется, с албанцами. Их годовой доход исчислялся миллионов в шестьдесят, и львиную долю его составляли те же ТТ, ПМ, патроны и запчасти, а также неведомо как попавшая в Болгарию модель «карманного» револьвера, который можно прятать в рукаве и в дамской сумочке. Так что бедностью тут и не пахло, и были эти типы хоть не из крупных акул, как дедушка Халлоран, но, несомненно, из зубастых щук. Выслушав их, Каргин кивнул Марвину Бриджу. – Есть предложение, – сухим профессиональным тоном произнес юридический советник. – Полномочия, полученные ХАК, позволяют нам продлить лицензию. Кроме того, мы готовы вложить в модернизацию производства некую сумму… – он выдержал паузу, – скажем, равную двухгодичному обороту вашей компании. Разумеется, если это представляет для вас интерес. Болгары насторожились, будто псы при запахе лакомой кости. Наконец, после минутной заминки, Пламен Панчев, глава делегации, спросил: – На каких условиях? Бридж – тощий, похожий на воблу, засушенную лет десять назад, – добросовестно перечислил: – Дополнительная эмиссия акций, передача ХАК контрольного пакета и половины мест в совете директоров, а также постов генерального управляющего и главного менеджера по сбыту. – Но это значит, что мы превратимся в дочернее предприятие ХАК! – А что в этом плохого? – промолвил Каргин. – Не будем спорить и ссориться. Будем работать и честно платить налоги. Приупоминании о налогах болгары разом вздрогнули, и один из них пробормотал: – А если мы не согласимся? Какую альтернативу вы можете предложить? На этот раз Каргин кивнул Гиру. – Судебное разбирательство в Софии, очень быстрое и энергичное, – сказал тот. – В результате вас пустят с молотка, и на открытом аукционе мы скупим ваши активы. – Этот вопрос с вашим правительством согласован, – добавил Марвин Бридж. – С правительством, президентом и большинством сенаторов. Панчев позволил себе усмехнуться. – Наши позиции в правительстве очень крепки. – Крепость позиций определяется суммой, – со скучающим видом заметил юрист. – К тому же все правительства, даже самые продажные, любят получать налоги, а не огрызки в виде мышиных хвостов. Такова реальность, господа! За столом воцарилось угрюмое молчание. Каргин, прикрыв глаза, думал о том, что есть битвы и битвы; в одних пули свистят, рвутся снаряды и вспарывают штыками животы, а другие ведутся бескровно, но от того они не менее свирепы. Из скромного опыта, приобретенного им за девять последних месяцев, он сделал вывод, что схватки в мире бизнеса ведутся по тем же правилам военного искусства: фланговый обход, разгром тылов и взятие противника в клещи. Затем, как говорил майор Толпыго, пусть побежденный плачет… И платит, добавлял старый Халлоран. – Мы… мы подумаем, – выдавил Панчев. – Мы просим о новой встрече, дня через три-четыре. – Принято, – сказал Каргин и поднялся. «Мартелем» этих гостей не угощали.* * *
Под вечер, сидя в просторном номере гостиницы «Амбассадор» и поджидая загулявшую супругу, он связался с Владом Перфильевым. Связь шла через спутник, с помощью устройства, запрятанного в черный плоский кейс, и, как утверждали специалисты корпорации, перехватить беседу было невозможно. Ну, а если бы это все-таки случилось, расшифровка заняла бы месяца два. Лицо Влада на маленьком, в тетрадный лист экранчике было оживленным. Таким же, как вчера и позавчера во время регулярных сеансов связи, и это означало, что дела идут нормально. – Кириллов с этим, с интендантом Костенко, прижали бразильян, – прохрипел Перфильев вместо приветствия. – Чуть, понимаешь, переворот не случился: хунта скотоводов и овощеводов против хунты оружейников! Одни хотят консервы делать, другие – «калаши», но в их Бразильянии, похоже, «калаш» против консервной банки не потянет. – Южная страна, сельскохозяйственная, – отозвался Каргин. – Ты прикажи Кириллову и Кастелло, пусть не очень давят. Народ на югах горячий, а революции нам ни к чему. – Ни к чему, – согласился Перфильев, – мы от своей еще не отдышались. – Потом добавил: – У Прошки и Флинта в Ата-Армуте все без изменений. Добиваются встречи с сардаром или с кем-нибудь из сераскеров повлиятельней, но пора тишина и никакой реакции. Хотя денег на бакшиши потратили много. – Сардар и сераскер – это кто такие? – поинтересовался Каргин. – Это у них новые воинские звания, с восточным, блин, колоритом, – объяснил Перфильев. – Сардар – министр военной промышленности и обороны, а сераскер – генерал. – А капитан как будет? Ротный? Влад заглянул в невидимую Каргину бумажку. – Юзбаши, сотник значит. Вот, Леха, служили мы с тобой лет десять, кровь проливали, а все юзом… Ну, ничего, ничего! – Он ухмыльнулся. – У Прошки тихо, зато Эльбекян шурует во-всю, и есть у него любопытные новости. Эти парни, что мины клепают в Марокко, Тунисе и Алжире, вроде бы и не арабы. Арабы там, конечно, есть, но в главных закоперщиках лягушатники и макаронники, а может, и фрицы руку приложили. Готовы пять процентов платить, если отвяжемся. – Не отвяжемся, – сказал Каргин. – Проинструктируй Эльбекяна: пусть затаится и на переговоры не идет. Выждать надо, примерно недели две. – А чего ждать? – Пока караваны в Сахаре не остановят. Ну, это уже моя забота… Он распрощался и спрятал черный чемоданчик в объемистый сейф, где хранились кое-какая наличность и гравюры мастера Врбы, тщательно упакованные в картон и бумагу. Связываться со штаб-квартирой было еще рано – в Калифорнии глухая ночь, Мэлори наверняка почивает, и будить его повода нет. Тем более, что разобраться с миноклепальщиками будет удовольствием не из дешевых. Стукнула дверь, и в комнату порхнула Кэти – возбужденная, раскрасневшаяся, при двух коридорных, тащивших какие-то пакеты, коробки и коробочки. Чмокнув супруга в щеку, она принялась раскладывать все это добро, попутно объясняя, где новая шляпка, где вазы богемского хрусталя, а где подарки родичам – заокеанским и тем, что в Краснодаре. Кажется, кроме музеев и исторических пивных, она обследовала лавки от Парижской улицы до Вышеградского замка. Каргин поймал ее, усадил на колени и сказал: – Скоро ужинать пойдем. А после ужина будешь меня вдохновлять. День выдался тяжелый, ласточка, и я нуждаюсь в твоем сочувствии. – А завтра как? – Завтра я свободен. Хочешь, в зоопарк поедем, на слоне покатаемся? – Хочу. Кэти затихла, прижавшись щекой к его груди, и Каргин, ласково поглаживая ее плечи, вдруг подумал, что за прошедшие месяцы ласточка сильно изменилась. Очень боевая девушка была, самостоятельная, с крутым американским напором, с желанием вырвать у жизни все, о чем мечталось: парня – обязательно богатого, успешную карьеру в ХАК или в иной компании, толику влияния и власти, поездки в Европу… Теперь все это ее как бы не интересовало – кроме парня, разумеется. Словно лопнула скорлупа, размышлял Каргин, треснул панцирь, в котором она пряталась от мира, и из обломков выбралось совсем иное существо, трепетное, нежное… Но не беззащитное! Каким-то шестым или седьмым чувством Каргин ощущал, что есть у ласточки тайная сила, и что за него, за будущих их детей и внуков, она, случись несчастье, горло перервет. С коготками кошка… Что поделать, заокеанское воспитание: врагов не прощать и отвечать ударом на удар. Кэти пошевелилась, дунула ему в ухо, зашептала: – Родителей твоих вспоминаю… Отец строгий, жесткий, из генералов генерал, как Джордж Вашингтон или Улисс Грант, а мама… Хорошая у тебя мама, но странная. Может, все матери в России такие, а? – Какие? – спросил Каргин. – Понимаешь, когда я маленькой была, совсем маленькой, отец и мать меня ласкали, целовали и на руках носили. Потом – все реже и реже… В двенадцать лет еще могли обнять, а вот в семнадцать – только по плечу похлопать, вот и все контакты на телесном уровне. Хотя любили меня и любят сейчас, и говорят, какая я умница и замечательная дочь. Любят Керк, правда! Ты же сам видел, на свадьбе! По мнению Каргина, кэтины родители, Дуглас, профессор-филолог из Филадельфии, и Барбара Финли, в девичестве Грэм, были вполне нормальными людьми, воспитанными, сдержанными, но, безусловно, обожавшими дочку. А что эмоций не проявляют, так это понятно: из филадельфийских пуритан, у коих эмоции признак слабости. Да и в иных местах не принято как-то тетешкать девицу, которой стукнуло двадцать три, дочь она или не дочь… Рассуждал он об этом с высоты своего зрелого возраста, позабыв, что его самого лаской не обделяли – ни в семнадцать, ни в двадцать три. – Твоя мама, – снова начала Кэти, – она ко мне прикасалась, руки гладила и по щеке, а иногда подойдет, на цыпочки встанет и поцелует в макушку… Молча, без слов… Она такая, что я себя при ней ребенком чувствую, и детство вспоминаю, и ночью плачу, будто чего-то мне недодали, а эти мысли – грех… Грех, милый! Ведь у меня хорошие родители, верно? Только другие, чем у тебя… Почему? – Ментальность у наших народов разная, – подумав, сказал Каргин. – Вы от британцев происходите, от англосаксов, людей работящих, честных, но суровых, а наше российское племя разбойное и беспутное, зато ласковое. Это и в языке заметно. – Поискав глазами, он кивнул на диван. – Видишь? Диван по-английски так и останется диваном, а на русском можно сказать «диванчик», «диванушка», «диванушечка»… Словом, ласкательных суффиксов вам не хватает! Кэти рассмеялась. – Может, и не хватает, но в одном ты, милый, ошибся: предки мои, Грэмы и Финли, вовсе не англосаксы, а кельты, шотландцы с гор. Те еще были разбойники!.. – И это нас объединяет, – молвил Каргин, целуя ее губы. В эту ночь Кэти была с ним как-то по-особенному нежна. Наверное, предчувствовала разлуку.* * *
Ранним утром – солнце еще не поднялось – Каргин, покинув теплую постель и сладко спавшую супругу, связался с коммодором Мэлори. С полчаса они обсуждали сахарские проблемы. Суть их заключалась в том, что пустыня, с одной стороны, была велика и даже огромна, а с другой, караваны с оружием пересекали ее по известным и не слишком многочисленным маршрутам, проложенным еще туарегами, а может, нумидийцами в эпоху Пунических войн. Пустыня есть пустыня, как по ней не странствуй, с верблюдами или с машинами: шаг влево, шаг вправо – смерть или иные серьезные неприятности. Так что блокировать тропы, ведущие от побережья к Мали и Нигеру, казалось вполне посильной задачей, и исполнители были – если не сам Иностранный Легион, так ошивавшиеся при нем части поддержки, вроде «гиен» покойного майора Кренны. Каргин оценивал трехмесячную операцию миллионов в тридцать, Мэлори – в пятьдесят, но в любом случае эти затраты были для ХАК несущественной мелочью, единственной строчкой в «черном» балансе. Конечно, могло случиться и такое, что миноклепатели выдержат три месяца осады и белый флаг не выкинут. Прессинговать их пару лет было бы слишком дорого и долго, и потому на сентябрь был намечен резервный вариант: диверсии на производстве, подрыв хранилищ с готовой продукцией и ликвидация сырьевых каналов. После обсуждения этих проблем коммодор сообщил, что намечаются сдвиги с экспортом из Поднебесной. Самый надежный способ – поставки в Китай оружейной стали и взрывчатых веществ по соблазнительно низким ценам и через десятые руки, через шведских, финских и румынских посредников. Сталь и взрывчатка были вполне кондиционными, но к ним добавлялись кое-какие компоненты в микроскопических дозах, и в результате их взаимодействия стволы выходили из строя примерно после трехсотого выстрела. Кроме того предлагались сопутствующие меры: кампания в СМИ арабских и африканских стран, вброс дезинформации, порочащей китайские изделия, и даже телесериалы на фарси, арабском и корейском, в которых службы безопасности Кореи, Ирана и Ливии разоблачают наглых пекинских халтурщиков. Каргин отметил, что идеи эти плодотворны, и распорядился темпа не снижать. После завтрака он позвонил Марвину Бриджу, обитавшему в том же «Амбассадоре», и сказал, что три-четыре дня, до новой встречи с болгарами, советник может быть свободен. Затем выпил кофе и отправился с супругой осматривать зверинец и ботанический сад. Вечер они провели в кабаре «Альгамбра», в обществе Ли Уэста и его жены – точнее, прелестной дамы из Оломоуца, которую Уэст, поклонник прекрасного пола, выдавал за спутницу своей непутевой жизни. Дальнейшее время Каргин провел в семейных развлечениях, включавших поездку на катере по Влтаве, осмотр живописных окрестностей, замка в Карлштейне и древних серебряных копей в Кутна-Гора, и посиделках в исторических пивных, названия которых неизменно начинались на букву «У»: «У коцоура», «У супа», «У двоу кочек» и, разумеется, «У калиха».[279] Все эти скромные радости заставили его расслабиться, почувствовать себя молодоженом и отрешиться от иных забот, кроме поисков ожерелья для Кэти из багровых чешских гранатов и обсуждения с нею вопроса об оттенке ванны, которую предполагалось установить в их московской квартире. В эти тихие счастливые дни он не вспоминал о «Халлоран Арминг Корпорейшн», о правах и обязанностях ее наследника и президента, о хитроумном коммодоре Мэлори и суровом старце, затаившемся где-то в просторах Тихого океана. Пожалуй, со всем этим его связывали только ежевечерние рапорты Перфильева, но в них ничего тревожного не содержалось: в Бразилии все шло путем, Прохоров и Флинт добивались приема у какого-то важного туранского чиновника, а Эльбекян с Винсом Такером сидели как пара мышек в норке, пили шербет и поджидали разгрома первых караванов. В ночь перед встречей с болгарами его разбудил телефонный звонок. Кэти спала, разметавшись в огромной постели, и тихое гудение счастливым ее снам не помешало – тем более, что Каргин тут же поднял трубку. В следующий момент он посмотрел на часы – было сорок три минуты второго. – Где твоя штучка-дрючка, Леха? – прозвучал хриплый голос Перфильева. – Связаться не могу, а надо бы поговорить. – Минуту, – сказал Каргин, сообразив, что Влад говорит о чемоданчике. Он аккуратно повесил трубку, выбрался из кровати и, как был босиком, проскользнул в гостиную, к сейфу. Минута еще не прошла, а на экране появилась физиономия Перфильева. Выглядел он хмурым, совсем не таким, как только что минувшем вечером, во время предыдущего доклада. – Сообщение от Генки Флинта и от Сергеева, – произнес Влад без предисловий. – Прохоров с Барышниковым пропали. – Обстоятельства? – сдвинув брови, спросил Каргин. – Ты ведь знаешь, я в английском не силен, и с Флинтом беседовал через Макса-переводчика. По его словам выходит, что Прошка и Барышников отправились в шалман, поужинать, а шалман тот из самых дорогих и в трех кварталах от отеля. Вышли не поздно, в шестом часу по местному времени, и больше Флинт их не видел. А сейчас в Ата-Армуте около девяти утра. – Перфильев помедлил и добавил: – От Сергеева те же сведения. Обещал звонить, если что-то новое раскопает. Сергеев был человеком Влада, сопровождавшим делегацию под видом секретаря, завхоза, финансового распорядителя и прочее, и прочее. Серьезный мужчина, подполковник, отслуживший четверть века в КГБ, из тех, что родились с третьим глазом на затылке. Главным его занятием была бдительность. – Почему они раньше с тобой не связались? – спросил Каргин. – Вечером или ночью? – Почему, почему… Спать легли! Что им о двух взрослых мужиках беспокоиться и в номера к ним ломиться под вечер? Может, те в кабаке засиделись и поздно пришли, а может, бабцов каких прихватили… Флинт поднялся в семь, пошел с Сергеевым и Максом завтракать, Гальперина встретил, а Прошки и Барышникова нет как нет. Послали за ними Максимку, а двери-то заперты… Ну, открыли с коридорным, а там – никого, и постели не смяты. Связались с полицией, с феррашами ихними, денег пообещали, и те, обследовав кабак, тут же доложили: русские вечером ушли, в восемь с копейками, и ушли не пьяные, на своих двоих. Теперь ищут! Шрам на щеке Каргина дернулся. Нахмурившись, он поскреб в затылке, подумал с минуту и произнес: – Не нравится мне эта история, Влад, совсем не нравится… Если кутить намылились, то почему без Генри Флинта? Не по-товарищески выходит… Скорее, не пили и не кутили, а ужин был деловой, и Флинта оставили для подстраховки. – Но он ни сном, ни духом… ни Генка черномазый, ни Сергеев… – начал Влад. – Лишнего не сказали? – оборвал Каргин. – Так ты не с Флинтом беседовал, а с переводчиком, коему знать о делах не положено, как и Сергееву. – К тому они могли Флинту не сказать, куда идут и зачем, или отговориться пустяками. Это во-первых, а во-вторых, Костя Прохоров, если мне не изменяет память, в «Стреле» не пил. Может, в «варягах» стал прикладываться? – Не стал, – произнес Перфильев, – голову даю, не стал! У меня вообще пьющих нет, да и армутские ферраши подтверждают: уходили трезвыми. – Тогда как же их взяли? С Барышниковым ясно – ученый, инженер, и лет ему немало, но с ним ведь Костя был! «Стрелок»! Он ведь голыми руками шею свернет и ноги выдернет! – Верно! – каркнул Перфильев. – Верно, мать мою через форсунку! Прошку так просто не возьмешь! Шум получился бы изрядный, вопли, хруст костей и даже выстрелы… Прав ты, Леша, нечистое дело, и Флинт в нем не помощник – ни языка не знает, ни обычаев. Сергеев… ну, этот хороший следак, но что следак без прокурора? В общем, самим лететь надо в этот трахнутый Армут и разбираться! Если что, я за Костю… – Он скрипнул зубами. – Вместе полетим, – сказал Каргин, почувствовав с внезапным и странным облегчением, что тихая жизнь подходит к концу. – Я буду в Москве с первым утренним рейсом. Прервав связь, он не захлопнул чемоданчик, а сидел над ним, уставившись в слепое пятно экрана, перебирая мысленно дела, которые нужно исполнить не поздней, чем утром. Во-первых, билеты заказать и позвонить в представительство ХАК, чтобы прислали машину. Во-вторых, болгары: распорядиться, чтобы Гир и Бридж дожали их самостоятельно до точки. Эти дожмут! Особенно Бридж, сушеная вобла – из камня сок выдавит! В-третьих, решить проблему с Кэти: апартаменты в Москве не готовы, а оставлять ее в гостинице или в убогой квартирке на Лесной он не хотел – лучше опять к родителям отправить. В-четвертых… Каргин прикоснулся к клавишам, набрал код, и с экрана брызнуло яркое солнце. В Калифорнии еще стоял день, и, судя по виду, погода была преотличная. Из небесной синевы выплыло лицо Холли Роббинс, секретарши Мэлори. Она была строгой дамой в летах, но к Каргину питала слабость – не от того, что был он Самым Главным Боссом, а просто по душевной склонности. Каргин улыбнулся ей и попросил соединить с коммодором. – Керк, мой мальчик! Рад тебя видеть! Круглая физиономия Мэлори, а вслед за нею и знакомый кабинет, возникли на экране. Каргин, как всегда в последние месяцы, отметил, что письменный стол, диван и стулья на месте, а вот картина над столом другая, не пейзаж с видом Иннисфри, а портрет хозяина, Патрика Халлорана, украшенный траурной лентой. Этот нарочитый траур подчеркивал деликатность ситуации: старый Халлоран был жив и даже правил своей оружейной империей с острова в Тихом океане, но знали об этом лишь самые доверенные лица. Официально старик уже месяцев десять как числился в покойниках, пав жертвой разгула бандитов на Иннисфри – или, возможно, не простых бандитов, а арабских террористов, китайских десантников либо колумбийской наркомафии. Однако его благополучное существование подтверждало бессмертный лозунг о том, что иные мертвецы живее всех живых. Каргин прикоснулся к виску двумя пальцами, приветствуя коммодора. Шона Дугласа Мэлори, вице-президента и шефа административного отдела, считали в ХАК вторым лицом, что относилось к числу неоспоримых фактов. С номером первым такой определенности не было; возможно, им являлся мистер Алекс Керк, президент и наследник, а может, вовсе и не он, а та персона, существование которой подтверждалось упомянутым выше лозунгом. Во всяком случае, все серьезные телодвижения Каргин был обязан согласовывать с Мэлори. – В Туране у нас проблемы, – сказал он, щурясь от ярких солнечных бликов, игравших на коммодорской лысине. – Что-то произошло с моим конфидентом и представителем «Росвооружения». Мэлори погладил голый череп, задумчиво вскинул глаза вверх. – Туран – это где? Что-то я такой страны не помню… – Одна из бывших советских республик в Средней Азии. После обретения независимости переименована, – сообщил Каргин. – Кем? – Волей народа и туран-баши. Мэлори скорбно вздохнул. – Да, что-то такое припоминаю… Стар я, мой дорогой, чтобы заново изучать историю с географией… О Советском Союзе знаю и никогда не забуду, что имелся такой противник, империя зла, как вопил папаша Роналд…[280] А теперь вместо империи, врага масштабного и достойного, есть развалины России и куча мелких злобных шавок… все эти Грузии, Белоруссии, Тураны… Ну, и что нам нужно в этой дыре, сынок? Каргин стиснул челюсти. Мэлори упорно именовал его «сынком», «мальчиком» и тому подобными прозваниями, имевшими целью подчеркнуть то ли молодость президента, то ли его, коммодора, близость к правящей в ХАК фамилии. Мэлори еще не стукнуло шестидесяти, и на пенсию он не собирался, но в мечтах Каргин лелеял тот сладкий миг, когда обнимет вице-президента, скажет речь о его заслугах и трудах и преподнесет прощальные презенты – свою фотографию с дарственной надписью и виллу где-нибудь в южном полушарии, на Таити или острове Пасхи. – В этой дыре находится секретный российский завод по выпуску экранопланов, – негромко произнес он, справившись приступом ярости. – Объект номер один в договоре, который мы заключили с «Росвооружением». Экраноплан-истребитель, спроектированный челябинским КБ Косильникова, способен двигаться над сушей и водой со скоростью до двухсот сорока миль в час и поражать танки, орудия, корабли, живую силу и даже вертолеты. Оружие будущего, коммодор! Или вы не в курсе? Лицо Мэлори приняло озабоченное выражение. – Если речь идет об изделии «Шмель», то в курсе, сы… – Он поглядел в ледяные глаза Каргина, сглотнул и поправился: – Сэр. – Затем спросил: – Что там случилось? – Пропали наши люди, которым вменялось в обязанность урегулировать проблему. Я вылетаю в Москву, затем – в Ата-Армут, туранскую столицу. Я лично возглавлю нашу миссию и операцию по розыскам пропавших. Коммодор пожевал губами. Теперь он выглядел не просто озабоченным, а нервозным и даже мрачным, как небеса над Сан-Франциско в день великого землетрясения. – Дикие варварские места, – процедил он. – У ХАК нет опоры в тех краях, нет связей, информаторов, подкупленных людей в правительстве… Что-то есть у ЦРУ, но сеть бедная и редкая, местные агенты ненадежны и продажны, и полагаться стоит лишь на сотрудников посольства и охрану из двадцати морских пехотинцев. В общем, в случае неприятностей мы тебя оттуда не вытащим. Сердце Азии, континентальная страна, даже авианосец не пошлешь, и рядом – Афганистан… – Мелори насупился и вдруг рявкнул: – Такие гадючьи гнезда, сэр, президенты не посещают! – Это те президенты, у которых толчковая левая, а у меня толчковая – правая, – с ухмылкой сказал Каргин на русском и добавил: – Благодарю за ценные советы, коммодор, но все же мне придется посетить Ата-Армут. Один из пропавших – мой боевой товарищ. Вы ведь тоже офицер и знаете закон чести: своих бросать нельзя. – Капитану нельзя, майору нельзя и даже полковнику, но ты, мой мальчик – маршал! – возразил Мэлори. – И я несу за тебя полную ответственность перед богом и, что еще важнее, перед… сам знаешь кем! Что у тебя там в Москве нет капитанов и лейтенантов? Их отправь! А не найдешь кого отправить, я пришлю. Хоть целый батальон! – Пришлете, если получите мой приказ, – молвил Каргин и отключился. Хотя новости у Перфильева были плохие, его настроение вдруг поднялось. Он полез в сейф, вытащил картины и стал выкладывать разные мелочи, напевая: «Но задыхаясь, словно от гнева, объяснил толково я: главное, что у всех толчковая – левая, а у меня толчковая – правая!» Отец обожал песни Высоцкого. Каргин тоже. За дверью раздался шорох, и в гостиной появилась Кэти, в самом соблазнительном облачении, розовом и полупрозрачном. Секунд десять или пятнадцать она наблюдала за хлопотами Каргина, потом кокетливо выставила ножку и поинтересовалась: – Бежишь от жены, солдат? А ведь клялся любить до гроба! – Не бегу, а убываю в командировку, – доложил Каргин. – Собирай вазы, картины и шляпки, боевая подруга! Утром возращаемся в Москву, а сейчас, если успеем… Что успеем, он мог не продолжать. Кэти хихикнула и скрылась в спальне.* * *
Интермедия. КсенияПлохой день, тяжелый: сняли двое черных, афганцы-наркокурьеры или наемники-арабы из Чечни. По-русски плохо говорят, дикие, страшные… Увезли куда-то на окраину, в заводской район, и мучили до самого рассвета. Правда, рассчитались зеленью, дали поесть и вызвали такси. Водитель, пожилой татарин в вышитом тюбетее, так на нее посмотрел, словно ему предложили забрать вонючую парашу из тюремной камеры. Ксения не рискнула устроиться на переднем сиденье, полезла назад, сжалась, забилась в угол и, прикрыв ладонями лицо, там и просидела всю дорогу, пока древняя «Волга», чихая и кашляя, тащилась к ней на Бухарскую улицу. Шоферу дала огромные деньги, десять долларов, но он брезгливо отшвырнул их обратно и буркнул: «Ун алтэ таньга, кыз!» Не нужно, значит, ее грязных долларов, давай, девушка, шестнадцать таньга, по счетчику… Поднялась к себе, сбросила платье, встала под душ, потом к зеркалу сунулась, синяки пересчитывать, и тут заметила, что на плече, над левой грудью, след зубов. Хорошо, что на коже – такие, дикие, могли клок мяса вырвать или вообще загрызть… Ксения представила, как крепкие острые зубы впиваются ей в горло, и содрогнулась. Набросила на плечи махровую простыню, села на диван, вспомнила, как глядел на нее шофер-татарин, заплакала. Потом уснула. Потом пришел Керим. Не бил, не ругался, остался довольным, но деньги забрал. Перед уходом оставил на столе десять долларов – те самые, которыми шофер побрезговал. Плохой день. Клиенты дикие, и синяки по всему телу – открытого не наденешь, а в закрытом наташке трудиться не положено…
Владимир Высоцкий
Глава 4
Ата-Армут, 9 мая, деньСамолет приземлился в армутском аэропорту в одиннадцать сорок. Между Тураном и Россией действовал безвизовый режим, и прибывающих гостей досматривали не слишком тщательно – особенно тех, в чьих паспортах лежала сотня баксов. Не прошло и получаса, как Каргин с Перфильевым вышли из здания аэровокзала на небольшую площадь, дышавшую совсем не весенним среднеазиатским зноем. За площадью с пятиэтажной гостиницей и какими-то другими блочными строениями эпохи развитого социализма лежала степь, еще зеленая, не выгоревшая, а за нею, у самого горизонта, поднимались горы. К ним, прорезая зелень темно-серой лентой, уходило шоссе, и по обе его стороны, у самой площади, сгрудились машины: слева – такси, справа – индивидуальный транспорт, все больше «волги», «москвичи» и «жигули». Между двумя стоянками, прямо посередине дороги, росла древняя чинара, и в ее тени скучали полицейские-ферраши в синих форменных бешметах и при оружии: саблях, дубинках, пистолетах и автоматах. Немногочисленные приезжие, по виду – торговцы фруктами или наркотой, устремились к транспортным средствам, кто на такси, кто, вместе с шумными компаниями встречавших родичей и подельников, в частный сектор. У стоянки справа наметилось шевеление, раздался басовитый гудок, и, под бдительным оком феррашей, к Каргину подкатил автомобиль, каких нынче даже в музеях не сыщешь. Был он черен и громаден, с закругленными на старинный манер верхом и капотом, с массивным бампером, большими круглыми фарами и такими дверцами, что в них без труда пролез бы трехстворчатый шкаф. Каргин с изумлением уставился на это чудо, а Влад, хрипло выдохнув: «Ну, мать!..» – протер глаза огромными кулаками. Из машины появился Василий Балабин, сорокапятилетний бывший прапорщик, бывший «стрелок», бывший инструктор по рукопашному бою, а ныне – «варяг» и старший над группой секьюрити, сопровождавших делегацию. Был он в пятнистом комбинезоне, расстегнутом до пупа, как и молодой водитель, один из трех его подчиненных. – С прибытием, товарищи капитаны. – Балабин вытянулся по стойке «смирно» и отдал честь. – Экипаж подан, номер заказан, водка в холодильнике, колбаса нарезана и музыка играет. Перфильев шевельнул бровью. – Праздник? – Праздник. День Победы все-таки… Даже здесь его отмечают. – Балабин распахнул дверцу и подхватил их багаж, две тощие легкие сумки. – Прошу! – Откуда такую колымагу взяли? – спросил Каргин, ныряя внутрь, на потертые подушки малинового бархата. – И зачем? «Мерседеса» не нашлось или «БМВ»? А это… это… Я даже не знаю, как эта штука называется! – Это, Алексей Николаевич, называется «ЗИМ», – пояснил Балабин. – Велено было форс держать и в «жигулях» не ездить. Вот нашли такую редкость и откупили за пять штук баксов, потом мотор перебрали и ходовую часть, покрасили, стекла вставили особые, только обивку в салоне не сменили. Нет нынче такого бархата, ни в России нет, ни в Туране! Сергеев, однако, обещал найти… А что до приличных иномарок, тем более новья, то их, по указу президента, по специальному списку продают, чтобы купчишки местные не наглели и нос перед народом не задирали. Вот ежели эмиром стал или ордена Жемчужной Мудрости удостоился – пожайлуста, покупай. Ну, еще дипломатам позволено, послам, сераскерам и кое-кому из финансистов… А купчишкам – нет! – Мы не купцы, – сказал Каргин, с удивлением обнаружив, что может вытянуть ноги. – Мы иностранная делегация и граждане двух великих держав. – Поезжай, Рудик, – распорядился Балабин, устраиваясь на переднем сиденьи. Потом развернулся лицом к начальству и мрачно сообщил: – Чьи мы граждане, им тут до фени. Статус у нас такой: мы тут частные предприниматели, крысы-бизнесмены и вообще подозрительный элемент, так как с претензиями заявились. Нас даже за деньги в упор не видят! Два дня, как Константин Ильич с Барышниковым пропали, Флинт уже тысяч восемь феррашам по карманам рассовал, а толку – ноль! Они замолчали. «ЗИМ», бывший правительственный автомобиль, мощно таранил пространство, с грозным ревом рассекая не по-весеннему жаркий воздух. Основательная тачка, подумал Каргин, приглядываясь к потолку и дверцам. Потолок – рукой не дотянешься, дверцы – из базуки не пробьешь! Танк, а не машина! Слева и справа простиралась степь, покрытая свежими сочными травами, а в ней, параллельно шоссе, тянулась с одной стороны линия электропередачи, а с другой – нитка нефтепровода. Поблескивали провода и гирлянды изоляторов на высоких решетчатых мачтах, круглились бока труб на бетонных опорах, и через каждые три-четыре километра вдруг выныривал из травы передвижной пост, причем не полицейский, а воинский – упакованные в камуфляж солдаты в джипе, с автоматами и пулеметами. Нельзя сказать, чтобы такое зрелище было непривычным для Каргина, скорее неожиданным в этих степных просторах. Бывал он когда-то в Туране, в то еще время бывал, когда назывались эти края по-другому и были сугубо мирными – ни басмачей тебе в горах и степях, ни контрабанды, ни опия с героином, а только сплошные фрукты, бараны да хлопок. Правда, жила их семья не здесь, не в столичном городе, а порядком восточнее и южнее, в Кушке, где на афганской границе служил отец. Но с той поры миновала целая эпоха, лет, должно быть, двадцать пять, и положение в Туране изменилось. Теперь он был страной независимой и вывозил вместо баранов и хлопка наркотики, а этот деликатный бизнес, как и независимость, приходилось охранять. Местность стала повышаться, аэропортовское шоссе влилось в другую магистраль, гораздо более оживленную, на склонах холмов замелькали уже зазеленевшие виноградники, потом появились грушевые сады, знаменитые некогда на весь покойный СССР и давшие ныне новое имя городу: Ата-Армут – Отец Груш. Тут и там среди садов и виноградников торчали глинобитные постройки, и, приглядевшись, можно было различить фигурки людей, голых по пояс или в потертых халатах – кто у деревьев с кетменем копается, кто воду тащит из арыка, кто, погоняя пару ишаков, спешит к дороге с ранней овощью. Если забыть о шоссе, нефтепроводе и электричестве, Туран за минувшие тысячи лет не слишком изменился, что, возможно, было к лучшему. Древняя сила этой страны определялась людьми, на редкость трудолюбивыми и честными, и пока их нрав был прежним, Туран оставался Тураном, особой землей, отличной от Европы, России, Китая и Америки. Как случается в окрестностях крупного города, дорога была изрядно забита: легковушки, грузовики, ветхие автобусы, фургоны, трейлеры, а по обочинам – ишаки и даже верблюд, взиравший на окружающую суматоху с презрительной надменностью. Палило солнце, пыль клубилась столбом, запахи бензина, навоза и свежей травы плыли в воздухе, машины сигналили, погонщики, ишаки и водители вопили, но стоило им заслышшать басистый клаксон «ЗИМа», покорно освобождали скоростную полосу. От черного огромного автомобиля шарахались даже трейлеры – видимо, народ здесь был приучен к дисциплине и понимал, что спорить с иноземным ханом не положено. Они въехали в город, раскинувшийся в предгорьях, тонувший в зелени платанов, акаций и чинар, гревшийся под щедрым золотым светилом. Промелькнули тихие, низкие, окруженные садами домики предместья, затем потянулись новостройки советской эпохи, серые и безликие, словно барханы в пустыне, умчался назад бетонный мост над прямым, как стрела, каналом, плеснул фейерверком красок базар, за ним взметнулись стройные минареты мечети. На центральных улицах и проспектах царило ликование, народ шел густыми толпами, гремели военные марши, кое-где полоскались флаги, туранские и красные, с серпом и молотом, но портретов президента Саида Саидовича Курбанова было все-таки больше – обычных, по грудь и по пояс, а также, вероятно, приуроченных к празднику: юный туран-баша с винтовкой, туран-баша под стенами рейхстага, туран-баша ведет в атаку автоматчиков, туран-баша выносит из боя раненого офицера с лицом маршала Жукова. Судя по этим изображениям, свисавшим со стен зданий и тросов, натянутых поперек улиц, туран-баша выиграл Великую Отечественную едва ли не в одиночку – ну, возможно, с посильной поддержкой Иосифа Виссарионовича. – Он что же, воевал? – поинтересовался Каргин, увидев очередной плакат, на котором сапоги туран-баши топтали извивавшихся фашистских гадов. – В сорок первом ему было пятнадцать, – сообщил Перфильев. – А в сорок четвертом, когда призывного возраста достиг… – Влад хрипло откашлялся и стукнул ладонью по колену. – Никто не знает, Леха, что тогда случилось. Даже Сергеев не докопался! Говорит, что все материалы изъяты прежней его конторой и уничтожены еще в конце шестидесятых, когда Курбанов пошел в Москву на повышение. За большой соборной мечетью в голубых и зеленых изразцах открылась широкая, полная народа площадь с фонтанами, кустами роз, белоснежными, украшенными флагами дворцами в стиле «Тысячи и одной ночи», и галереями, чьи колонны и арки оплетала виноградная лоза. – Бывшая Коммунистическая, теперь майдан Независимости, – пояснил Балабин. – А вот и улица Ленина, нынче Рустам-авеню… Дальше будет еще одна площадь, Советская, она же майдан Евразии, но мы до него не доедем. Наша нора на углу Рустама и Бухарской, отель «Тулпар» называется. Сколько звездочек не справлялся, но кормят в ресторации отменно и, по московским понятиям, недорого. – Какой апартамент нам заказан? – с усмешкой спросил Перфильев. – Надеюсь, президентский? – Виноват, товарищ капитан, в президентском отказали – мол, не по чину. В люксе будете жить. Хороший люкс, пятьсот зеленых в сутки. – А где тут наш завод? Пока одни портреты вижу, а еще – фонтаны, базары и мечети, – сказал Каргин. – На окраине тоже ничего не разглядел, ни труб, ни бетонных заборов. – То степная окраина, северная, а заводские районы на юге, ближе к предгорьям, – заметил Балабин. – «Мартыныч» так вовсе на горе, ибо предприятие секретное, не подлежащее обзору сверху. – «Мартыныч»? – Ну да! В народе так кличут. Бывший имени «XXII партсъезда», а теперь – имени «Второго марта». Второе марта – день рождения туран-баши и День Независимости. Машина затормозила у шестнадцатиэтажного здания, сверкавшего окнами в никелированных рамах и яркой вывеской: «Интернациональный отель Тулпар». Каргин вышел. Два швейцара в шароварах и чекменях услужливо распахнули дверь, а за ней, в огромном холле с мавританскими колоннами и арками, выстроился весь штат делегации: двухметровый и черный, как сапог, Генри Флинт, юрист «Росвооружения» Всеволод Рогов, переводчик с семи языков Максим Кань, инженер Юрий Гальперин, помощник пропавшего Барышникова, и два молодых охранника, Дима и Слава. За могучей спиной Флинта затаился незаметный человечек лет пятидесяти, сутулый и щуплый, с серыми блеклыми глазками – подполковник КГБ в отставке Сергеев. Когда с церемонией рукопожатий было закончено, Флинт с виноватым видом произнес: – Прошу прощения, шеф… Не смог встретить вас в аэропорту, был с Максом в отделении местной полиции. Беседовали. – И как? Флинт посерел лицом и закатил глаза. – Наш бумажник стал легче еще на пару тысяч долларов. Вот и все, чего я добился. – Балуешь ты их, Гена, – с хмурым видом сказал Перфильев. – Или в морской пехоте не служил? За глотку брать не умеешь? Максим перетолмачил, Флинт обиженно потупился, и они всей командой зашагали к лифту. Для нужд делегации был снят двенадцатый этаж, и здесь, в широком коридоре с пальмами и фикусами в кадках, Каргина встречали пять стройных черноглазых горничных, важный портье, пара рассыльных и официант с бутылками шампанского. Пусть не светил ему президентский люкс, но все остальное было честь по чести: спины гнулись, глазки у девушек блестели, шампанское пенилось, и даже листья пальм шелестели почтительно и нежно, в ритме танца баядерок. Не исчезни Прохоров с Барышниковым, Каргин повел бы тут же соратников вниз, на первый этаж, где в ресторане «Тулпар» они отметили бы День Победы, выпили кто за отца, кто за деда, за выживших и за погибших, за славные их дела и подвиги и даже за морскую пехоту США. Но два их товарища пропали, и праздник был испорчен. – Вечером, – сказал Каргин, когда Балабин напомнил о колбасе и водке, скучавших в холодильнике. Потом распорядился: – Флинт, Сергеев и Перфильев – со мной. Охране занять позиции у лифта и на лестнице, остальные сидят в номерах и ждут. Будет нужда, вызову. Они направились по коридору в люкс Флинта, где из второй спальни была вынесена кровать и прочая лишняя мебель, а вместо нее расставлено конторское оборудование – компьютеры, факсы, сейф фирмы «Бэрримор и сыновья», большой телевизор с видеоплейером, столы, рабочие вращающиеся кресла и машинка для уничтожения бумаг. Все это приобрели здесь, в Армуте, за исключением миниатюрных шифраторов и хитроумного устройства «Набла», новейшей разработки ХАК. Шифраторы, подключенные ко всем местным телефонам, делали невозможной их прослушку, а «Набла», высокочастотный демпфер-подавитель, нейтрализовала «жучки». Каргин кивнул на кресла и, подождав, когда все усядутся, повернулся к Флинту. – Вы проработали здесь одиннадцать дней. Что сделано? – Велись переговоры в министерстве военной промышленности и обороны, – доложил Флинт. – Однако, сэр, не по существу вопроса, а лишь о том, чтобы добиться аудиенции у министра или его заместителей. Мы предъявили свои полномочия, и нас заверили, что их изучат и доведут до сведения руководителей. – Оттопырив нижнюю губу, сизую и огромную, как сковородка, Флинт добавил: – Думаю, не ошибусь, сказав, что с нами контактировали мелкие клерки. Но денег хотели больших! – Финансовый отчет, – произнес Каргин, посмотрев на Сергеева. Тот пренебрег креслом, стоял около бронированного сейфа, доходившего ему до макушки. – Оборудование офиса, машина, гостиница, питание и расходы на представительство – примерно восемьдесят тысяч. Один «Бэрримор» в десятку обошелся, – прошелестел негромкий голос отставного подполковника. – Взятки и подарки – около пятидесяти, считая с тем, что заплачено полиции. Здесь, – Сергеев покосился на сейф, – триста шестьдесят две тысячи в долларах США и восемнадцать тысяч таньга на мелкие расходы. Остальные два с половиной миллиона находятся в арендованном нами хранилище Первого президентского банка. Каргин перевел отчет Сергеева Флинту и дождался его подтверждающего кивка. Потом спросил: – Результаты переговоров в министерстве? – Три дня назад, перед исчезновением Браш Боя и ученого джентльмена, нас известили, что состоится встреча на высшем уровне. В самом скором времени и, возможно, с самим ага министром. Или эфенди?[281] Я бы его… – Флинт пошевелил пальцами, будто передергивая затвор. – Кого он Браш Боем называет? – спросил Перфильев, напряженно внимавший речам Флинта. – Прошку,[282] – пояснил Каргин и кивнул Сергееву: – Что мы знаем о министре? Бывший кагэбешник скупо усмехнулся. – Хотите расставить фигурантов по местам? Ну, что ж… Таймазов Чингиз Мамедович, сорок три года, служил в Москве, в генштабе, на мелких должностях, боевого опыта не имеет, однако известен как ловкий политик. Любит женщин, считает себя знатоком и ценителем холодного оружия – в подарок ему приготовлен подлинный турецкий ятаган семнадцатого века. Брат супруги туран-баши, пользуется его доверием и поддержкой. Возможный преемник Курбанова, если в Туране примут закон о наследственном президенстве. – У Курбанова нет детей? – Нет, во всяком случае – официально. Первая супруга была дочерью одного из сотрудников Кирова, чудом уцелевшего в период репрессий. Вытащила Курбанова в Москву, устроила карьеру, долго болела, умерла в конце семидесятых. Нестан Мамедовна, вторая супруга Курбанова, младше его… – Сергеев поднял глаза к потолку, – младше… ммм… на двадцать восемь лет и пять месяцев. Бездетна, бережет фигуру, не ест сладостей, очень любит драгоценности, предпочитает изумруды. Колье, кольцо и серьги – там, – отставной подполковник кивнул на сейф. Каргин восхищенно покрутил головой, а Перфильев, подмигнув ему, оттопырил большой палец. – Вот так-то, Леха, знай наших! Что неизвестно Сергееву, о том не ведает Господь… Желаешь о президенте послушать? – Нет… пожалуй, нет… А вот о других кандидатах в туран-баши узнать бы хотелось. Кажется, еще племянники есть? – Есть, двое, – сообщил Сергеев, не дрогнув бровью. – Курбанов Нури Дамирович, тридцать восемь лет, глава Первого президентского банка, по нраву – плейбой, делами не занимается, в политике не котируется, прожигает жизнь в Ницце и на курортах Италии. Более реальным наследником может считаться Курбанов Саид, тезка дяди-президента. Тридцать пять лет, министр финансов и глава Второго президентского банка; хитер, энергичен и умело оттесняет старшего братца. Их отец… – Еще и отец есть! – воскликнул Каргин. – Есть, и даже находится в добром здравии. Курбанов Дамир Саидович, младший брат туран-баши и бейлербей Дивана. Иными словами, премьер-министр и один из возможных наследников. Коллекционирует старинную французскую мебель, картины и другие произведения искусства. – Им тоже приготовлены подарки? – Разумеется. – Сергеев любовно огладил сейф. – У туран-баши и его супруги масса родичей, и всех мы выявить не смогли.Впрочем, ключевые фигуры известны, а с остальными придется импровизировать. Для человека власти, особенно владыки и политика, опасно иметь двух или трех наследников, подумал Каргин. Большая сумятица будет в этом королевстве, когда туран-баша отправится в сады аллаха… Пожалуй, решил он, у старого Халлорана были свои резоны, чтоб разобраться с наследниками пока живой и не тянуть с подобными делами. Жаль только, что пострадали безвинные, все население Иннисфри, две сотни человек… Но здесь, если случится заварушка, кровью умоются тысячи! Собственно, кровь уже течет: узбекская оппозиция, казахская оппозиция, банды в горах, мятежные районы наподобие Чечни, граница с Афганом и наркоторговцы… – Ну, перейдем к нашей пропаже, – произнес Каргин. – Итак, Барышников и Прохоров отправились ужинать в… – …"Достык", – подсказал Сергеев. – Это дальше по Рустам-авеню, около площади Евразии. Очень дорогое заведение с национальной кухней. Плов, манты, долма и бар с девочками. – Благодарю. Отправились в начале шестого и, как выяснила полиция со слов работников ресторана, в восемь вечера ушли. Машину не брали, потому как близко… Трезвые ушли, не качаясь… Что нам известно еще? Какие факты? Он повторил сказанное на английском, но Флинт лишь развел руками. Неприметное лицо Сергеева оживилось. – Фактов нет, но есть соображения, – медленно промолвил он. – Во-первых, люди из «Достыка» чего-то не договаривают. Был я там, беседовал с официантами и метрдотелем… Темнят! Дело, однако, поправимое – пошелестим бумажками, узнаем. Во-вторых, хоть наши коллеги в восемь ушли, это не значит, что они отправились в «Тулпар». Время детское, могли склониться к соблазнам плоти… Тем более, что по дороге к отелю восемь баров, и в каждом – целая выставка гейш и куртизанок. – Все кабаки проверены? – буркнул Перфильев. – Да. Все восемь обошел, но, к сожалению, наших там не видели. – Сергеев опустил веки над серыми выцветшими глазками и покачал головой. – Теперь третье: несмотря на щедрую мзду и обещанные наградные, местная полиция бездействует. Похоже, ей известны похители – или, не приведи Господь, убийцы – однако должного усердия отметить не могу. Хотя плачено и переплачено. – Можно ли подключить к розыскам другие структуры? – после недолгого раздумья спросил Каргин. – Не туранцев, а, предположим, профессионалов из всяких зарубежных ведомств? Сергеев с грустным видом пожал плечами. – Должен вас разочаровать, Алексей Николаевич. Внешняя разведка ФСБ в этом регионе еще не действует, сеть пока не налажена – ввиду малого времени и отсутствия финансов. То же у американцев – три агента ЦРУ при их посольстве, бездельники и дилетанты. Есть, конечно, британцы, но это такой уровень конспирации, что днем с огнем не сыщешь. Я, во всяком случае, не берусь. Примерно о том же говорил коммодор, мелькнула мысль у Каргина. По международным меркам Туран считался заштатной дырой, где ни одна из приличных разведок – за исключением, быть может, англичан – своих агентов не держала. Со временем все, конечно, переменится, ибо сокровищ в этой дыре не счесть, но в данный момент специалисты нужного профиля здесь отсутствовали. Само собой, если не считать Сергеева. Каргин прошелся по комнате, от стола к широкой застекленной двери, ведущей в лоджию, пересчитал компьютеры (их было три), окинул взглядом сейф и поинтересовался: – Кто-то из наших мог быть причастен к исчезновению Прохорова и Барышникова? Юрист, переводчик или этот инженер из челябинского КБ? Что они вообще за люди? Сергеев подумал, напрягся и, повернувшись к начальству лицом, в очередной раз забубнил: – Максим Олегович Кань, двадцать восемь лет, мать – татарка, благодаря чему с детства знает татарский и туранский. Закончил Восточный факультет Ленгосуниверситета, владеет персидским, арабским, немецким, английским и французским. Холост, наивен, и во всех проблемах, кроме лингвистики, полный лох. Юрий Данилович Гальперин, тридцать лет, женат, закончил МВТУ имени Баумана, специалист по двигателям и, вне этой сферы, такой же лох, как наш переводчик. Ведущий конструктор, а последний год – референт Барышникова и предан ему до гроба. Всеволод Петрович Рогов, юридический поверенный, сорок пять лет… – Достаточно, – прервал отставного подполковника Каргин. – Я так понимаю, что среди наших ренегатов нет, хотя имеются лохи. – Молодежь нынче пошла инфантильная, – с меланхолическим видом заметил Сергеев. – Продукт эпохи развитого социализма. – Вымрут скоро инфантильные, – сказал Перфильев и уставился на Каргина. – Что будем делать, Алексей? Теперь все трое глядели на него, и Каргин ощутил то же самое, что чувствует вступивший в битву генерал, от коего ждут приказов: куда перебросить конницу и выдвинуть пехоту, где выстроить редут и где поставить батареи. Может, вообще пора трубить в атаку? Пожалуй, пора, решил он и молвил: – Значит, диспозиция такая. Сергеев отправляется в «Достык», и с ним – Балабин и кто-нибудь из охранников. Денег за правду не жалеть, а если деньги не помогут, пусть Балабин поднажмет… аккуратно нажмет, но энергично. Оружие у нас имеется? Сергеев моргнул. – Откуда оружие? Мы коммерсанты, мирные люди… У секьюрити – только дубинки и один кастет на четверых. – Займешься оружием, тоже аккуратно, но энергично, – сказал Каргин Перфильеву. – Нельзя нам в такой ситуации без оружия. Достанешь? – Влад кивнул. – Вот и хорошо. Машину возьми, деньги и пару своих ребятишек для подкрепления. Тут наверняка подпольный рынок есть, но лучше туда не соваться. Надежного человека поищи или отбери у местных мафиози, только без шума и пыли. – Он повернулся к Сергееву. – Из наших хором другие выходы есть? Кроме парадной лестницы и лифта? Оружие, даже в сумках, через главный вход тащить не стоит. – В конце коридора – тамбур и черный ход во двор, а оттуда – на Бухарскую улицу. Во дворе стоянка для машин гостей. Не охраняемая. – Отлично. Теперь с главным нашим делом. – Каргин перешел на английский. – Флинт с переводчиком арендуют конференц-зал отеля, а заодно ресторан, потом садятся на телефоны и обзванивают все посольства, газеты и прочие СМИ, особенно корпункты зарубежных журналистов. Завтра, в семнадцать ноль-ноль мистер Алекс Керк, президент «Халлоран Арминг Корпорейшн», дает пресс-конференцию, а после нее – банкет. Море халявной выпивки, устрицы, цыплята табака, ну и что там еще положено… – Тема? – деловито поинтересовался Флинт. – Мы собираемся строить здесь фабрику, если будет на то благословение властей. Фабрику по производству грушевого компота для армий США и европейских союзников. Если убедимся в качестве местных фруктов, построим что-нибудь еще. К примеру, завод горюче-смазочных материалов и нефтепровод через Каспий и Иран до Турции. – Или до Индии, – добавил Генри Флинт, проявив присущую морским пехотинцам смекалку. – Будет исполнено, босс! А что касается банкета… С устрицами здесь напряженно, но есть осетрина и черная икра. Щелкоперы из «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Геральд» очень падки на икру… думаю, из-за икры и нефти они и забрались в такую даль. – Само собой не из-за груш, – сказал Перфильев, уловивший смысл последней фразы. – Груши они могут дома околачивать. – Икры не жалеть, – распорядился Каргин и махнул рукой. – Совет окончен, все за дело! А сюда пригласите Гальперина. Хочу с ним технические вопросы обсудить. Трое его подчиненных вышли. Каргин покружил по комнате, бесцельно касаясь то серого компьютерного монитора, то факса с созвездием кнопок и клавиш, добрался до распахнутой двери и очутился в лоджии. Она была широкой, просторной, тянувшейся вдоль комнат люкса, и выходила на Рустам-авеню, бывшую улицу Ленина. Здания на ней стояли прежние, однако вывесок на русском было маловато, все больше туранские, хоть и кириллицей. Лозунги и портреты, которым полагается висеть на главной улице столицы, тоже переменились: лозунги славили теперь не партию, а народное единство, родимый край, его неистощимые сокровища, клеймили врагов-раскольников и призывали вступать в армию. Что же касается портретов, разнообразие не поощрялось: со всех смотрел туран-баша, мудро улыбаясь своему народу или простирая к нему раскрытые в обьятиях руки. Однако, несмотря на перемены, Туран в восприятии Каргина не был чужой землей. Это связывалось не с детской памятью, не с теми тремя-четырьмя годами, проведенными в Кушке, но, скорее, со всем его воспитанием, жизненным опытом и взглядом на мир. Страна, которой он служил, была для него не просто территорией от южных гор до северных морей, а совокупностью населявших ее народов, той частью человечества, которую он клялся охранять и защищать, не различая узбека от русского, грузина от эстонца. Все они были его соотечественниками, а земли их и языки были его землей и языками, ибо Каргин еще принадлежал к тому поколению, которое об этом не забыло. За ним, возможно, придут другие, только родившиеся или вовсе еще не рожденные, и для них Туран, Литва или Армения будут заграницей, такой же, как Швеция или Канада. Или не будут, думал Каргин, глядя на ущелье улицы внизу. Не будут, потому что людям, прожившим вместе не одно столетие, трудно обособиться и разорвать соединявшие их нити. Вон, надписи на туранском, а буквы-то русские… За его спиной кто-то вежливо кашлянул, и он вернулся в комнату. Юрий Гальперин был тощим, длинным, нескладным, и фигурой походил на знак интеграла: стриженая голова откинута назад, а ступни в кроссовках сорок шестого размера торчат вперед. Но, как случается нередко, комическое впечатление исчезло, едва он заговорил. Речь его была четкой, уверенной, а голос – сочным баритоном, не хуже, чем у оперного певца. Может, Гальперин и казался лохом, но лишь тогда, когда молчал. – Вызывали, Алексей Николаевич? – Приглашал, Юрий Данилович. – Каргин кивнул на кресло. – Если вы не против, обойдемся без отчеств. Хочу расспросить вас о «косилках» – не столько о технических данных, они мне в общих чертах известны, сколько об истории вопроса. Кто, когда, зачем… И, конечно, что мы имеем в результате – здесь, в Туране, и в Челябинске, в вашем КБ. Кивнув, Гальперин ткнул пальцем клавишу включения компьютера, вытащил из кармана лазерный диск и вставил в дисковод. На мониторе возникло нечто похожее на корабль – широковатый низкий корпус, мачты с большими пропеллерами, ракетные установки. Корму вдруг прорезала щель, часть обшивки отъехала вниз, превращаясь в пандус, и из недр судна резво выскочила БМП, а за нею – взвод десантников. – Экраноплан, «каспийский монстр», как его прозвали на Западе, – молвил Гальперин. – Я слышал, что вы, Алексей, человек военный… Приходилось ходить на таких? Или хотя бы видеть вблизи? Каргин, с большим интересом разглядывая аппарат, паривший над землей, сделал отрицательный жест. – Видел только на картинках, Юра. Зверь машина! – Еще бы! Прототип, разработанный нашим КБ, был построен в 1979 году, на опытном заводе в Горьком. Небольшую серию заложили здесь, в Туране, и эти машины вошли в состав Каспийской флотилии. Предназначены для разведки и высадки диверсионных групп. Скорость около двухсот узлов, грузоподъемность двадцать тонн, дальность хода шестьсот миль, действуют даже в штормовых условиях, при высоте волны до четырех баллов. Берут на борт сто пятьдесят десантников в полном снаряжении.[283] Он продолжал говорить, комментируя мелькавшие на мониторе картинки, рассказывал о том, как после десантных экранопланов у академика Косильникова, возглавлявшего КБ, возникла идея-фикс: создать одноместную машину, амфибию-истребитель, этакий гибрид танка, катера и вертолета. На разработку денег не давали, но Косильников, хоть был уже стар, относился к людям невероятной работоспособности и пробивной силы. Его КБ теряло сотрудников, ученых, инженеров, программистов, бежавших от скудости и нищеты, бунтовали смежники, не желая трудиться почти за бесплатно, на опытном производстве развалилась треть станков, а Барышников, его ученик и вероятный преемник, дважды попадал с инфарктом в госпиталь. Тем не менее истребитель «Кос-4», открытое наименование – «Шмель», был спроектирован и собран в конце восьмидесятых. Страшное оружие! Боевая машина, которая по морю ходит, как по суху, по суху – как по морю, на холм взберется, овраг перескочит, и никакие противотанковые рвы, надолбы и минные поля ее не остановят… Вооружение – ракеты, управляемые снаряды, пушка, пулеметы, при нужде – торпеды… Кроме того, термозащита, противостоящая пламени из огнеметов и горящему фосфору, видеокамера и прибор ночного видения, а также дисплей, на котором высвечивается цифровая карта местности… Однако дело не столько в оружии и средствах защиты, сколько в фантастической скорости и маневренности, делавших «Шмель» почти неуязвимым. Танк или торпедный катер казались в сравнении с ним парой вышедших из спячки медведей, а вертолет, хоть и имевший приличную скорость, был из тех небесных птиц, которых от стингера не защитишь. Подбить стремительный «Шмель», мчавшийся в считанных метрах от земли, способный развернуться за секунду, было по силам лишь снайперу, но снайперы стреляют не из пушек, из винтовок. Малых калибров «Шмель» не боялся и мог за десять-пятнадцать минут уничтожить батальон, расправиться с десятком танков или батареей гаубиц. Кроме того он мог атаковать авианосец или крейсер на скорости четыреста километров в час и пустить его ко дну раньше, чем сыграют боевую тревогу. Испытания, однако, показали, что пилот, даже экстра-класса, справиться с такой «косилкой» не в состоянии. Земля отлична от небесного простора, на земле – холмы и скалы, деревья и кусты, здания, доты, колючая проволока и остальные препятствия, ну а на море – волны, плавучие мины и камни у берегов. Одновременно стрелять и маневрировать на высокой скорости задача для человека непосильная, реакции не хватает, и «Шмель» ведет себя точно боевой породистый скакун с неопытным наездником. Это, разумеется, совсем не устраивало Косильникова, и в последующие годы он занимался двумя проблемами: во-первых, запустил серию из трех «Шмелей» на армутском заводе, а во-вторых, в его КБ велась разработка ДМУО – автоматической системы обеспечения Движения, Маневров и Управления Огнем. Наличие ДМУО позволяло реализовать все возможности «Шмеля», фактически превращая его в интеллектуальную боевую машину. Восемь месяцев тому назад система ДМУО была, наконец, воплощена в микросхемах и программах, но серийных «Шмелей» Косильников так и не дождался. Вроде бы их изготовили во-время, но время случилось как раз такое, когда страна рассыпалась, и между Тураном и Россией сразу две границы пролегли, российско-казахская и казахско-туранская. Границы, впрочем, были прозрачными, и тащили через них в обе стороны что угодно, от леса и бензина до наркотиков и фальшивых долларов, но вот с «косилками» как-то не получалось. Большие десантные экранопланы ушли своим ходом в Астрахань из Прикаспийска, бывшей базы каспийской флотилии, а судьба истребителей-"Шмелей" была покрыта мраком. Может, ржавели они на заводе, может, гнили на каком-то полигоне, а может, вовсе не гнили и не ржавели, а были где-то припрятаны запасливым туран-баши либо одним из его генералов-сераскеров. Слухов об этом ходило множество – скажем, о том, что на заводе имени «Второго марта» сохранена документация, что «Шмель» здоров и жив и даже переименован в изделие «Манас».[284] Кроме слухов были и кое-какие факты, прежде неизвестные Каргину: так, со слов Гальперина выходило, что в последний год уволились из КБ восемь технологов, инженеров и руководителей групп – не просто уволились, а вообще исчезли из Челябинска с концами. Куда? Об этом тоже стоило подумать. Гальперин выключил компьютер, вытащил диск и бережно спрятал в карман. Затем поднялся, снова сделавшись похожим на знак интеграла. – Подождите, Юра, – произнес Каргин. – Хочу вас вот еще о чем спросить: как себя держал Барышников? Вы его много лет знаете, для вас заметнее нюансы – может, что-то необычное разглядели? Может, что-то он вам сказал, о чем-то намекнул? – Говорить ничего не говорил, а его поведение… Понимаете, Алексей, мы ведь с Николаем Николаевичем в Ата-Армут четвертый раз приехали. Прежде толку было ноль, нервы мотали да выстебывались… Мелкая шушера, конечно: мол, завод – достояние Турана, секретный, оборонный, и чего там делают, нам, мелкоте, неизвестно, к большому эмиру идите, только эмира сейчас нет, и лишь аллаху ведомо, появится ли он в ближайший месяц… – Большой эмир – это министр? – уточнил Каргин. – Таймазов Чингиз Мамедович? – Он, подлюга! – Гальперин стиснул костлявый кулак. – Сколько крови из нас выпил! Но в этот раз Ник Ник испытывал определенные надежды. Контракт с крупнейшей корпорацией, американцы – парни деловые, с мясом свое отскребут, а заодно – и наше… ну, не отскребут, так выкупят. В общем, был он оживленным, а потом помрачнел, когда Флинта вашего и Прохорова тоже мотать начали. – А в день исчезновения? Как он выглядел? Тоже мрачным? Гальперин задумался. – Нет… пожалуй, нет… Не веселился, это точно, но с кем-то по телефону говорил и, кажется, был заинтересован. Не так чтоб очень, но все-таки… Потом собрался, и пошли они с Прохоровым ужинать. – А где он обычно вечером ел? – В ресторане гостиницы. Мы все там столуемся и после восьми обычно не выходим. Здесь неспокойно бывает, а в темноте, знаете ли… – Значит, после звонка он пошел ужинать с Прохоровым… – медленно повторил Каргин. – А почему вас с собой не взял? Или Флинта? – Про Флинта не знаю, а я с шефом туда хожу, куда приглашает. На этот раз не пригласил. Вдруг у них разговор намечался секретный или встреча… – Встреча… Любопытное соображение! – Каргин почесал в затылке и кивнул собеседнику. – Спасибо, Юра. Идите, но постарайтесь из гостиницы не удаляться и уж во всяком случае не бродить по городу в одиночку. Барышников исчез, и вы теперь мой главный технический эксперт. Через некоторое время после того, как ушел Гальперин, он направился в свой люкс, располагавшийся рядом с номером Флинта, осмотрел просторную гостиную, обе спальни, лоджию с пальмами и фикусом, санузел с роскошной ванной и телефоны с подключенными к ним коробками шифраторов. Ознакомившись с этим, Каргин одобрительно кивнул, разделся и с полчаса нежился под душем. Потом вызвал официанта, велел принести какой-нибудь еды, фруктов и крепкого кофе, перекусил, съел на закуску армутскую грушу прошлогоднего урожая и убедился, что с компотной фабрикой здесь не прогадаешь – груша была размером в два кулака и на диво сочная. Наконец решил разобрать вещи. Модуль связи в черном чемоданчике пристроил в спальне, на письменном столе у окна, принес из гостиной сумку, открыл ее, повесил в шкаф светло-серый костюм, три рубашки и джинсы, разложил белье и сунул под него свой талисман, подаренный отцом берет. Берет, побывавший на Иннисфри, был прострелен и потом заштопан матерью – под клятвы Каргина, что пуля, пробившая ткань, его головы не коснулась. Оружия в сумке не было. Ни перочинного ножика, ни проволочной удавки, подарка лейтенанта Свенсона, ни трофейных сюрикенов, взятых в Сомали, ни иных приспособ невинного вида, но смертоносного назначения. Статус изменился: был наемником, стал наследником, подумал Каргин, обозревая пустую сумку. Наемник без оружия что монтер без отвертки, а вот наследнику огромной корпорации удавки и ножики ни к чему. Если надо, сам наймет умельцев с ножиками, а так его оружие другое: акции, счета и биржевой бюллетень. Это казалось таким безнадежным и скучным, что он едва не затосковал. Но встряхнулся и набрал краснодарский номер. Ласточка уже была под маминым крылом, и они, сменяя у трубки друг друга, принялись допрашивать Каргина, как долетел и как устроился, и какая погода в Ата-Армуте, и не забыл ли он парадный галстук к серому костюму – если случится рандеву с туран-баши, то без галстука никак нельзя. Каргин слушал их щебетание, и душа его теплела и размягчалась словно в парной или на солнечном калифорнийском пляже. Но все же спохватился, вспомнил, что и с отцом хотел поговорить. Поздравил с праздником, потом сказал: – Проблема у нас, батя. Двое пропали – Прохоров, дружок мой по «Стреле», и инженер из Челябинска. Не простой инженер – заместитель самого Косильникова. – Сильно постараться надо, чтобы «стрелок» пропал, – отозвался отец после недолгой паузы. – Вот и я так думаю. Начали искать, однако местные в этом деле не помощники. Есть у меня хороший сыщик, из Москвы, но если ты кого из здешних знаешь, из прежних своих сослуживцев, я бы с ним связался. Нужен толковый и надежный человек – такой, чтоб верно нас ориентировал. Что почем, где лучше груши покупать, а где – осетрину. – Сейчас, – сказал отец. – Записную книжку достану. Послышался шелест страниц и невнятное бормотание: «Этот умер… этот на Брянщину переехал… этот хороший парень, но глуповат… этого вычеркнуть надо, шельмец и вор… и этого – тоже вор, посадили…» Наконец отец откашлялся и молвил: – Запоминай, Алексей: Азер Федор Ильич, полковник, из афганских ветеранов, вышел в отставку лет пять назад. В горах над Армутом есть курортное местечко, Кизыл называется, и этот Кизыл вроде как райцентр… А на семнадцатом километре от него – поселок Таш, где Азер и проживает. Улица Ходжи Насреддина, дом семнадцать. Давний мой знакомец, и из тех людей, что знают много, но крепко молчат. Привет от меня передай, скажи, что сын, тогда он с тобой побеседует, а там, глядишь, и мысль полезную подбросит. Большого ума мужик! И храбрый – в Панджшере вместе воевали. – Спасибо. Съезжу к нему и привет передам, – сказал Каргин и распрощался. Стемнело, и над городом, от мечети к мечети, поплыли протяжные вопли муэдзинов. «Голосистые, петухи», – пробормотал Каргин и уже вознамерился выйти в лоджию, послушать на свежем воздухе вечерний концерт, но тут в номер ввалился Перфильев. Выглядел он мрачным и с порога забурчал: – Ну, курвы!.. Ну, хорьки беременные!.. Ворюга на ворюге, и ворюгой погоняет! Шкуры продажные! – Что случилось, Влад? – Надежный клоп нашелся, торговец оружием. И знаешь, кто? Каргин приподнял бровь. – Гуляю, значит, по базару, прощупываю обстановку. Нашел одних… Чего тебе? – говорят. Все есть – девки, травка, спирт, товар паленый, поддельные лекарства… Намекнул насчет стволов. Зачем? – спрашивают. Я объясняю – праздник, салют надо делать, друзей погибших помянуть, и для того стволы должны быть солидными и к каждому патронов по три сотни. Зелеными плачу! Ну, говорят, раз платишь, то поехали. И привезли меня на склад. Армейский склад, Леха, наш! Идем прямо к минбаши-полкану, что складом заведует, двери ногой отворяем… «Калаши» стоят в смазке, пулеметы, батальонная артиллерия, патроны в ящиках, и столько всего, что хватит Персию завоевать. А минбаши кланяется низко и говорит: бери, что хочешь, кунак! Автоматы – по пятьсот, пулеметы – от тысячи до трех, а если нужно что-то посерьезнее, танк или, положим, вертушка, то за пару дней достанем. Потом прищурился хитро и спросил: для эмира Вали стараешься? Или для чеченов? – И что ты? – спросил Каргин, пряча улыбку. – Стараюсь, говорю, для Карга-хана. Есть такой беспредельщик, скоро в Армут с гор спустится, повесит ваш Диван, а Курултай вырежет. Ну, минбаши отвечает: аллах в помощь! Так берем у него? – Подождем. Посоветоваться надо. – С кем? – Есть человек, отцов сослуживец. Завтра пораньше к нему отправимся – ты, я и пара ребят. – Из местных этот сослуживец? Может, что о Прошке знает? – Может, знает, – молвил Каргин и подтолкнул Перфильева к дверям. – Пошли ужинать. На ужин собрались все, кроме Сергеева, Балабина и молодого охранника Славы – эти где-то трудились, должно быть, выколачивали правду из персонала «Достыка». После ужина Каргин, в сопровождении Флинта, осмотрел помещение для банкетов и конференц-зал и остался доволен. Чертоги просторные, можно две сотни усадить, и под столами места много, есть куда падать. Он поднялся к себе, послушал, как храпит Перфильев, полюбовался с лоджии на звездное небо, разделся и нырнул в постель. Сон уже начал одолевать Каргина, когда заверещал черный кейс на письменном столе. Он вскочил, откинул крышку, ткнул клавишу включения. Худое костистое лицо всплыло на экране: рыжие, с проседью брови, пряди волос цвета пересохшей глины, свисающие на лоб, рот, будто прорубленный ударом топора, глубокие складки, что пролегли от крыльев носа к подбородку, колючие, широко расставленные серо-зеленые глаза. Патрик Халлоран… Дед! За ним виднелось хрустальной прозрачности окно, плывущие по небу облака и солнце, повисшее в зените. Здесь, в Туране, была уже полночь, а над просторами Тихого океана – ясный день, и Каргину подумалось, что они со стариком полные антиподы. Где лежит остров Халлорана он в точности не знал, но если судить по времени суток, эта часть суши могла находиться в трех-трех с половиной тысячах миль к северо-востоку от Новой Зеландии, где-нибудь среди островов Туамоту, Кука или Тубуаи. Старик мотнул головой, качнулись блекло-рыжие пряди. – Навестил родителей? – Да. – Как мать? – Рада, что жену привез. Еще интересуется вашим здоровьем. Фотографии собрала, я послал вам через Мэлори. Глаза Халлорана чуть помутнели, губы дрогнули и тут же сжались, будто он стеснялся слабости. Гляди-ка, подумал Каргин, скала скалой, а родственную трещину дает! Голос старика однако остался ровным. – Я получил посылку. Матери скажи: здоров, ирландская кость крепкая… Надеюсь, и у нее здоровье в порядке? – Грех жаловаться, – ответил Каргин. – Около Кэти хлопочет, внуков требует. – С этим не затягивай. – Халлоран медленно опустил веки. – Человек странствует между младенчеством и старостью, от небытия прошлого к небытию будущему. От будущего ты прикрыт мною, твоими отцом и матерью, а от прошлого ограждают только дети. Нет детей – нет надежной ограды и опоры, и ты уязвим… Я слишком поздно это понял, Алекс. Не повторяй моих ошибок. Они помолчали. Почти зримо Каргин ощущал, как изображения и звуки взмывают в космос с далекого острова, стремительно плывут в черной мрачной бездне, перебираясь от антенны к антенне, от спутника к спутнику, падают вниз, в теплую ночь Ата-Армута, и тут же отправляются в обратный путь. Чудо? Нет, всего лишь маленькая человеческая хитрость. Чудо – это жизнь, тот отрезок между прошлым и будущим небытием, когда ощущаешь собственное "я". – Мэлори сказал, что ты в Туране, – произнес старик. – Он обеспокоен. – А вы? – Я – нет. – Он скупо усмехнулся. – Я исповедую простую истину: не помогай, не проси помощи, считай деньги. Ты помощи не просишь и, кажется, во всем остальном соответствуешь этому правилу. – Но я ведь приехал сюда помочь! Пропали люди… – Т в о и люди. Ты хозяин, и люди – твой самый ценный капитал. Они работают на тебя, и потому никто не должен посягать на них, то есть на твои вложения. Что касается всего остального человечества и, в частности, Турана… – Губы старика скривились. – Если нужно, сравняй его с землей! Я разрешаю. Экран погас. Каргин погладил шрам под глазом, пробормотал: – Вот так, ни здрасьте, ни до свидания… Зато продиктована воля владыки: если нужно, сравняй Туран с землей… А рынок как же? Покупатели и потребители? Всех сравняешь, кому пушки продавать? Хотя мысль в чем-то верная, если сравнять не всех, а избранных персон… Он нырнул в постель и закрыл глаза. И снилось ему в эту ночь, как он приходит в министерство к сардару Чингизу Мамедовичу с турецким ятаганом и сносит ему голову.
* * *
Интермедия. КсенияСнова плохой день. Кериму трех наташек заказали, для какой-то пьянки в «Тулпаре», что на углу Рустема и Бухарской. Иру с Зойкой послал и ее, Ксению: танцуешь хорошо, а наши любят с русской девкой поплясать. Пошла, как не пойти… Думала, легкий будет вечер – «Тулпар» при интуристовской гостинице, заведение приличное, и гости там не распоследние хамы. Хотя как повезет… Ире с Зойкой достались мужики под пятьдесят, а ей – старичок, толстый, лысый, с брюхом до колен. В номер к себе потащил, поил шампанским, приказал раздеться и танцевать под турецкую музыку. Ну, танцевала, гнулась так и этак, бедрами трясла, а старичок не может… Не может, и все! Никак у него не получается, ни стоя, ни сидя, ни в постели… Рассердился, кричать начал по-своему, то ли по-турански, то ли по-узбекски… А чем она виновата? Под восемьдесят змею старому, яд свой пережил… Выгнал, ничего не заплатив. Керим разозлился, побил. Тростью бил – трость у него бамбуковая, тонкая, хоть костей не переломит… Но больно. Мамочка, милая, как больно!
Владимир Высоцкий
Глава 5
Окрестности Ата-Армута, 10 мая, первая половина дняВыехали в девять, вчетвером: Каргин, Перфильев и Дима с Рудиком, два молодых охранника-бойца. Остальные члены делегации, невзирая на ранний час, были уже при деле: Флинт и переводчик Максим, знаток семи языков, висели на телефонах, обзванивали заинтересованных персон, не забывая сообщить меню банкета; юрист Рогов, запершись в номере, пил стаканами зеленый чай и отрабатывал текст выступления на пресс-конференции; Гальперин, взяв такси и пачку долларов, поехал по магазинам разыскивать проектор – такой, чтоб считывал изображение с компьютерного монитора. Что касается Сергеева, Балабина и Славы, то они спали, так как вернулись в «Тулпар» ночью, часа в три, и по этой причине доклада Каргину еще не представили. Рудик, сидевший за рулем, неплохо изучил окрестности – во всяком случае, дорога к курорту Кизыл и одноименному озеру была ему в теории знакома. «ЗИМ», распугивая автобусы и мелких четырехколесных, важно прокатил по Рустам-авеню, миновал площадь Евразии, бывшую Советскую, где высилось здание ЦК компартии республики, ныне отданное Законодательному Курултаю, повернул на зеленый бульвар Чингисхана, а с него – на Кокчетавскую улицу, плавно уходившую вверх. Здесь начинался индустриальный район, тихий и молчаливый, ибо с индустрией дела в Туране обстояли неважно: из четырех производств работало одно. Причины этого лет пять обсуждались в Диване и Курултае, и споры эти нередко кончались рукопашной между пропрезидентскими партиями и оппозицией, а тем временем Туран покидали искусные руки и умные головы. Русские, украинцы, немцы, прибалты, поляки, те, что жили здесь из поколения в поколение, трудились в институтах, на заводах и привыкли считать эту землю родной, вдруг выяснили, что это не так, что нежелательным инородцам места в Туране нет, что в этой стране почитают аллаха, коему милы не инженеры и токари, а муллы и муэдзины. Впрочем, кому на самом деле благоволил аллах, никто не ведал, но самой крупной партией в Туране, поддерживавшей президента, была исламская. В отличие от аллаха партийные бонзы не молчали и толковали волю божества по собственному разумению. За Кокчетавской улицей, уходившей в предгорья, потянулись другие, почти безлюдные, пыльные и жаркие, лишенные зелени, обставленные мрачными заводскими корпусами, пересеченные тут и там линиями узкоколеек; корпуса соединялись бетонными заборами, рельсы ныряли под ржавые железные ворота, окна казались провалами в пустоту, и так оно, вероятно, и было – в цехах движения не наблюдалось и никаких промышленных шумов не слышалось. Наконец «ЗИМ» поднялся в горушку и выехал на площадь, украшенную серым трехэтажным зданием с массивными дверями, у которых стояли автоматчики. По обе стороны от здания тянулась изгородь из бетонных блоков, над которой виднелись трубы, плоские кровли цехов и туго натянутые провода. Слева от дверей высился огромный фанерный щит с портретом туран-баши, справа – еще один такой же, с надписью на туранском. – «Мартыныч», – пояснил Рудик. – Бывший наш завод, Алексей Николаевич. – Вижу, работа здесь так и кипит, – сказал Каргин, заметив, что над трубами курится дымок. Дима, сидевший впереди, повернулся к нему. – Все же оборонное предприятие, командир. Наверняка бабок больше платят, вот народ и старается, вкалывает… Только над чем? Действительно, над чем? – подумал Каргин. Гальперин говорил ему, что «Мартыныч» предприятие комплексное: во-первых, есть при заводе свое КБ, а во-вторых, каждый цех – профилированное производство, где корпуса собирают, где двигатели, где систему ручного управления, где все изделие целиком. Только оружия здесь не делали, но пушки, пулеметы и ракеты не представляло труда закупить, прямо у «Росвооружения» или через посредников. А может, были старые запасы на заводских складах либо на тех, у минбаши-купца, где побывал Перфильев – ведь после распада Союза российские дивизии выводились из этих мест с такой поспешностью, что половину автопарка растеряли, не говоря уж про арсеналы. Возможно, трудятся на «Мартыныче» наемные специалисты из Челябинска, клепают втихаря «Шмели», только для чего? – вертелось у Каргина в голове. Если тому же Гаперину верить, «Шмель» без автоматики что ножны без клинка… Завод был огромный – забор с постами охраны на вышках тянулся, как минимум, километра на два. Дальше дорога шла через пыльный пустырь, заваленный битым кирпичем и ржавыми железками, затем подъем становился круче, а местность – попригляднее. Сначала появился кустарник, потом акация и заросли орешника и, наконец, дубовые и самшитовые рощи среди высоких изумрудных трав. Кое-где паслись овечьи отары и небольшие табуны лошадей, виднелись скопления домиков, сложенных из камня и окруженных садами, а поблизости от них радужными водопадами низвергались со скал ручьи. В открытые окна машины врывался свежий ветер, пахнувший дымом и только что скошенной травой, трепал волосы Каргина, заставлял щуриться. Минут через десять быстрой езды Рудик сбросил скорость и начал выписывать кренделя, объезжая трещины и выбоины на асфальте. Дорога стала заметно уже, ринулась серпантином вверх, в гору, огибая гранитные монолиты утесов, перепрыгивая мелкие бурные речки, журчавшие под мостами на бетонных сваях; вскоре деревья сомкнули ветви над шоссе, превратив его в тенистый зеленый тоннель. Здесь царили покой и тишина, которую тревожил лишь мощный рокот мотора «ЗИМа». – Безлюдно, – заметил Перфильев. – А был мировой курорт, всесоюзная кузница-здравница! Все, похоже, развалилось к ядреной фене. – С черного хода въезжаем, командир, по старой дороге, что через заводской район проложена, – пояснил Рудик. – Восточнее есть другая магистраль, новая бетонка, по ней автобусы в Кизыл курсируют и туристы ездят. Там более интенсивное движение. – Он подумал и добавил: – Хотя по нынешним временам туристов здесь не очень. Не ездят отдыхать из России – далеко, дорого, опасно… Шалят в горах, даже под самым городом шалят. – Что же ты по бетонке не поехал? – Хотелось вас мимо «Мартыныча» прокатить. И еще эта дорога проходит к западу от озера и райцентра, а оттуда к Ташу ближе. Я по карте смотрел. – Это ты зря, – сказал Перфильев. – В карты полковники и генералы смотрят, а тебе не по чину, вы с Димычем рядовые бойцы и обязаны ориентироваться на местности без всяких карт, по интуиции и запаху. Вот скажите, парни, чем тут пахнет? – Травой и пылью, – отозвался Рудик. – Еще, кажется, навозом, – неуверенно добавил Дима. – Конским, – уточнил Перфильев. – Есть много разновидностей дерьма, от человечьего до слоновьего, и различать их нужно… Оп-па! – воскликнул он, прервав свои рассуждения на самом интересном месте. – Это кто тут у нас развлекается? Тормози! За поворотом поперек дороги лежало дерево. Срублено недавно – листья еще не успели завянуть, и крона перегораживала половину шоссе. Другая половина была блокирована толстым стволом в морщинистой коре, на котором устроились двое мужчин разбойной внешности – бородатые, в папахах и бешметах, с кинжалами и саблями у пояса и лежавшими на коленях «калашами». Третий – видимо, главарь – сидел, подбоченившись, на пегом жеребце, поигрывал плетью и разглядывал «ЗИМ» и его пассажиров с явно нехорошим интересом. – Двигаем назад? – спросил Рудик, выжимая сцепление. Но сзади, с обеих сторон дороги, вынырнули еще двое с автоматами, совсем молодой мальчишка и парень постарше, с хищным лицом оголодавшего шакала. Ствол в его руках дернулся, и это движение было понятно без слов: мол, выходите из машины. Перфильев вылез первым, тихо бросив Каргину: – Попробую зубы заговорить, а ты, Леша, не зевай. Опустив плечи, ссутулившись, он направился к всаднику. Каргин, с видом полной покорности, сложил ладони на шее, прислонился боком к дверце, приказав охранникам: – Делай, как я! Стоять и не двигаться! – Да мы их… – начал Рудик, но Каргин нахмурился и прорычал: – Не двигаться, говорю! У этих пять стволов, а у вас что? Только трупов молодых нам не хватает! Парень, похожий на шакала, упер ему в спину автомат, мальчишка и двое бородатых, небрежно поднявшихся с бревна, держали на прицеле остальных. Перфильев, приблизившись к всаднику, задрал голову и, испуганно моргая, дрожащим голосом поинтересовался: – В чем дело, джигит? Таможня у вас тут, что ли? Так мы готовы заплатить! Каргин увидел, как шея у Рудика наливается кровью, а Дмитрий сжимает кулаки. Ребята были из спортсменов, молодые, горячие, еще не битые… Таких майор Толпыго учил сурово, в грязи по канавам валял и тыкал носом в очко, приговаривая: нет приема против лома кроме хитрого ума! Вспомнив об этом, Каргин прошипел: – Стоять, болваны, сопротивления не оказывать! Ноги на ширину плеч, глаза в землю! Всадник вынул ногу из стремени, ткнул Перфильева в грудь сапогом. – Платить хочешь? Заплатишь! Все давай! – С довольным видом оглядев машину, он заметил: – Какой тачка! Большой, черный, богатый… В такой миллионер ездит! Один из бородатых осклабился, что-то сказал на туранском, и главарь, снова ткнув Перфильева ногой, тоже скривил рот в ухмылке. – Вот Муса говорит, что с такой богатый нужно доллар брать, десять миллионов. По миллиону за слуг, два – за твой голова, и пять за то, что русский. Дашь столько? – Откуда у меня такие деньги? – прохрипел Перфильев, придвигаясь поближе к главарю. – Соберешь, когда у нас погостишь! Пальцы резать будем, неделя – палец, тогда соберешь. Парень за спиной Каргина буркнул: – Рубли, доллар – где? – В кармане, – сказал Каргин, слегка поворачиваясь. – В том, что справа. Достать? – Сам! Чужая рука полезла в карман. Ствол уже не упирался в спину, а Перфильев стоял совсем рядом со всадником и канючил: – Я за базар отвечаю, мужики, плачу, раз попал, но только чтоб сумма была не выше крыши. Борзеть-то не надо! Мне ведь десять лимонов век не собрать! Мамой клянусь! Сто кусков зелеными еще куда ни шло, а на большее мне не подписаться! Всадник свесился с седла, схватил Перфильева за волосы, прижал лицом к колену. – Торгуешься, хакпур?[285] С Ибадом здесь не торгуются, клянусь аллахом! Ибад не подбирает мелочь! Ибад – бейбарс…[286] – Ибадь твою мать, сучонок! – рявкнул Перфильев, единым махом сдернув всадника с коня. Вероятно, он успел сломать ему шейные позвонки – тело главаря обмякло и, словно мешок с песком, рухнуло на одного из бородатых. Тот упал, выпустив автомат. В то же мгновение Каргин развернулся и ребром ладони ударил шарившего в кармане в переносицу. Удар не смертельный, но ошеломительный – кости трещат, кровь потоком, из глаз слезы и, конечно, болевой шок… Он перехватил оружие, вырвал, вскинул и прострелил второму бородатому плечо. Оставался мальчишка, но он, похоже, был совсем растерян, стоял с поднятым вверх «калашниковым» и смотрел на Каргина умоляющими глазами. – Брат… не убивай брата… – прошептал мальчик, глядя, как автоматный ствол движется к залитому кровью лицу. – Всех разоружить, – распорядился Каргин. Рудик с Димой бросились выполнять приказ, а он поглядел на парня, который ворочался на земле, мотая головой и вскрикивая от боли. Потом перевел взгляд на мальчишку. – Твой брат? Где живете? – Брат, Шариф… А я – Закир… Мы из Уч-Аджи, что под Кизылом… Наверное, ему казалось, что, сообщив свое имя, он вступает с победителем в какие-то более тесные отношения и может рассчитывать на пощаду. Заблуждение юности, мелькнуло в голове у Каргина. Тут смотря на кого напорешься… Он поглядел на Закира и сказал: – Хороший у тебя старший брат и учит тебя хорошему: грабить на большой дороге. Ну, забирай его, да уматывайте оба! Узнаю, что снова подались в бандиты, разыщу и в Хель отправлю.[287] Одином клянусь! Угроза была мальчишке непонятна, но от того, вероятно, казалась еще ужаснее. Он дернул стонавшего брата за руку, помог встать и потащил его к деревьям на обочине дороги. Послушав, как трещат сухие ветки под их шагами, Каргин повесил автомат на плечо и направился к своим бойцам. Оба бородатых, раненый и уцелевший, лежали на земле лицами вниз, Дмитрий стоял над ними с «калашом», а Рудик сгребал в кучу сабли, кинжалы и автоматные рожки. Перфильев, морща нос, осматривал коня, за которым дымилась пара свежих навозных лепешек. Ибад, главарь банды, не двигался, глаза у него закатились, кожа на щеках и лбу начала синеть. – А ты ведь его убил, – сказал Каргин. – Да, – подтвердил Перфильев. – Случайно! Зато теперь у нас пять стволов и масса холодного оружия. Не нужно к тому минбаши-прохиндею идти. Еще конь есть… С конем что будем делать, Леха? Конь нам вроде бы ни к чему. – Отпустим. – Каргин повернулся к Диме с Рудиком и приказал: – Погрузить оружие в машину, дерево убрать с дороги. – А эти? С этими что? – Дима кивнул на пленников. Каргин с Перфильевым переглянулись. – Эти – наша забота, – буркнул Влад. – Подъем, джигиты! Берите своего кунака за руки-ноги, и в лес! Бородатые встали с угрюмыми лицами, подхватили труп, понесли, продираясь сквозь кусты и подлесок. Каргин и Перфильев шли за ними. Влад посматривал по сторонам, и Каргин знал, что он ищет: ложбинку, яму или трещину на горном склоне, такой величины, чтоб поместились мертвые тела. Подходящаяямка нашлась метрах в сорока от дороги. – Мы им теперь кровники, раз шею Ибада сломали, – тихо произнес Перфильев. – Мы уедем, на других наших отыграются. Живыми нельзя оставлять. – Само собой, – кивнул Каргин. Влад повысил голос: – Кто из вас Муса? – Мин.[288] – Раненый дернул головой. – Ты, Муса, десять миллионов хотел, и пять – за то, что русские? Ну, сейчас получишь. Полный расчет и увольнение! Сухо громыхнули выстрелы, потом они стащили трупы в яму и забросали ветками и сухой листвой. Сгребая листья прикладом, Каргин вспоминал о другой яме, из своих снов – в ту, отрытую в горах Афгана, закапывали живьем и после пыток. Солдат закапывали, не разбойников, и были среди тех солдат и русские, и туранцы… Соратники по оружию, которых породнила смерть… Он думал об этом, и совесть его не мучила. Они вернулись на дорогу. Рудик и Дима смотрели на них примерно так же, как глядят фанаты «Спартака» на форварда, забившего решающий гол бразильцам. Потом Рудик произнес: – А эти… хмыри бородатые… где? – В земле, – коротко бросил Перфильев и, увидев, как расширились глаза парней, пробормотал: – Это вам, бойцы-молодцы, не бутик московский от воришек охранять… Ну ничего, ничего! Пошлю вас на Кавказ при случае либо в Приднестровье, и станете вы настоящими головорезами. – Надо ли? – сказал Каргин. – Надо, Леша, надо. Жизнь такая! Рыкнул мотор, «ЗИМ» покатился вверх по дороге, пегий жеребец тоскливо заржал ему вслед. Ехали в молчании и вскоре поднялись к невысокому перевалу. Слева, километрах в восьми, красовалось озеро Кизыл, поражавшее дикой первозданной прелестью: овал прозрачно-розоватых вод в обрамлении серых и бурых утесов, поросших кое-где кустарником и мхами. Одна скала была особенной, намного выше остальных, светлой, почти беловатой, гладкой и остроконечной – Ак-Пчак, что по-турански означало белый нож или клинок. На вершинах и склонах утесов тут и там виднелись смотровые площадки, а в дальнем конце, где к озеру подходила главная дорога из Ата-Армута, высились краснокирпичные корпуса гостиничного комплекса и гнил на воде плавучий ресторан-фрегат. Повсюду – безлюдье, тишина и запустение… Ниже озера лежала зеленая долина с целебными источниками, санаториями, кумысолечебницами, парком, летним театром и сотней-другой двух – и трехэтажных домов, стоявших ровными рядами вдоль десятка улиц. Райцентр Кизыл дремал в сонном оцепенении, лишенный людских голосов, смеха, музыки, гуляющих пар – словом, всего того, для чего был создан в эпоху братства народов и торжества социализма. Только далекая перебранка собак да редкий вопль ишака нарушали безмолвие. – Заедем? – спросил Перфильев. – А на кой черт? – Оттянув рукав рубашки, Каргин взглянул на часы. – Десять ноль семь… Торопиться надо! – Вон дорога. Наверное та, что нам нужна… Рудик прибавил газа, и они покатились с перевала вниз, к тройной развилке и нескольким домикам, обмазанным глиной и окруженным садами и огородами. На развилке торчал покосившийся столб, с которого свисали указатели с полустершимися надписями, дружно направленные в землю. Дима зашелестел картой, но Каргин, заметив сидевшего у обочины старика, приоткрыл дверцу и крикнул: – Эй, отец! Не подскажешь, где тут дорога в Таш? Старик поднялся и, опираясь на палку, шагнул к машине. Было ему за восемьдесят, по темно-коричневому лицу стекали к бороде глубокие морщины, губы ссохлись и потрескались, старый линялый халат болтался на нем, как на вешалке. Глаза, однако, казались живыми, и говорил он по-русски почти без акцента. – Средняя дорога в Таш, сынок. – Он наклонился, заглядывая в лицо Каргину. – Не нужно ли вам чего? Курага есть, урюк, изюм, сушеные груши… Купите, дешево отдам… Честная бедность, понял Каргин. Честная бедность, скудная старость – может быть, голодная, изюм и урюк не хлеб, не масло, ими не проживешь… Задвинув под сиденье лежавший в ногах автомат, он отворил дверцу пошире. – Курагу возьму, ата. Еще изюм, килограммов по десять того и другого. – Куда нам столько, – пробурчал Перфильев. – Да и зачем? – Глюкоза и витамины, – пояснил Каргин. – Неси, отец! Старик заторопился к ближней мазанке, притащил один увесистый мешочек, потом другой. – Чем расплатиться? – спросил Каргин. – Рублями, долларами или таньга? – Таньга. Рубли отнять могут, а за доллары и вовсе голову снесут… Много даешь, сынок, не надо столько, я не нищий, я… Каргин запустил пятерню в мешок, выгреб горсть изюма, попробовал, причмокнул. Потом сунул старику ворох разноцветных бумажек с портретами туран-баши. – Бери, отец, бери… изюм у тебя как мед… Опять же дорогу ты нам показал… – Разве за это берут? – Старик вздохнул, но деньги все-таки принял. – А кто вам нужен в Таше? Если знаю, подскажу. – Азер Федор Ильич, бывший полковник. Улица Ходжи Насреддина, семнадцать. Приятель моего отца. – Ферхад-батыр? – Седые брови старика взлетели вверх. – Так Ферхад в Таше больше не живет, к нему по левой дороге надо, выше в горы! Километров двадцать, и там, за ущельем, будет его ерт.[289] Луга там большие, луга Бахар, Весенние по-нашему. На лугах у Ферхада… как это по-русски? – Он поднял взгляд к небу. – А, ферма! Гусей разводит Ферхад-батыр, еще индеек и очень больших птиц, названия не знаю, только лягаются сильней коня. Знакомы мы с Ферхадом… Привет ему передавайте! – От кого? Старик гордо выпрямился, глаза его сверкнули. – От Нияза Бикташева, батальонного разведчика, снайпера, ветерана! Героя труда, орденоносца! Орден Славы, орден Ленина, два Красных Знамени, Звезда! – Глаза его вдруг потухли, он махнул рукой. – Езжайте, сынки… Что старое вспоминать? Кому это сейчас интересно? – Нам интересно, – сказал Каргин, вылез из машины, вытянулся, щелкнул каблуками и вскинул к виску ладонь. Потом сел и молча хлопнул Рудика по плечу. Машина свернула на левую дорогу. – Героический старик, – после долгой паузы молвил Перфильев. – Орден Славы за фу-фу не давали… Надо будет еще у него кураги купить. Дима, поерзав на сидении, повернулся к расположившимся сзади отцам-командирам. – А про каких птиц этот Нияз толковал? Большие и лягаются сильней коня… Страусы, что ли? Чудно! – Не чудно, а очень даже разумно. Страус птицы мясистая и с перьями, – с глубокомысленным видом возразил Перфильев. – Весит не меньше барана, и яйца у нее – во! – Он изобразил руками нечто размером с футбольный мяч. – Я так понимаю: если уж сделался человек гусезаводчиком, то все равно должен расти над собой и двигаться по пути прогресса. А это значит – больше мяса, больше молока и пуха! В общем, от гусей к индюшкам, от индюшек к страусам. Асфальт кончился, началась грунтовка, по обе стороны которой лежали каменные россыпи с торчавшими меж серых и коричневатых глыб кустами. Тракт, однако, был ухоженным и наезженным, без ям и колдобин, с примыкавшими к нему тропинками: одни уходили в заросли шиповника и акации, другие извивались среди камней, взбегали на склоны слева и справа от дороги и пропадали за изрезанной линией утесов. Откуда ни возьмись навстречу выпрыгнул ручей, забурлил шагах в двадцати от обочины, превратился через пару километров в мелкую быструю речку; солнечные лучи играли в воде, серебрили прозрачные струи, галька поблескивала голубыми и розовыми огоньками. Потом дорога пошла вверх, горные склоны придвинулись к ней, стали голыми и обрывистыми, речка сузилась и потемнела – нависшие над нею скалы закрывали солнце. – Кажется, ущелье, – произнес Рудик, сбрасывая скорость. – Старик о нем говорил. – Хорошее место для засады, – добавил Перфильев и потянулся за автоматом. Однако не успел он просунуть ствол в окно, как откуда-то сверху раздался окрик: – Трр! Тормози, приехали! Приказ подтвердила пулеметная очередь – пули звонко зацокали по камням в метре от бампера «ЗИМа». – Это что ж такое получается? – возмущенно фыркнул Рудик. – То деревья поперек дороги, то из пулемета шпарят! Прямо кино, «Белое солнце пустыни»! – Увидишь Джавдета, не трогай его, мне оставь, – сказал Каргин и вылез из машины. – Кто такой? – крикнули из-за скал. – Гости. К Азеру Федору Ильичу. – Не ждет он гостей. Поворачивай, чуян,[290] пока башка целый! – Мы дорогие гости, – пояснил Каргин. – Я сын его друга и сослуживца. Наверху замолчали, потом с трехсекундными паузами громыхнули три выстрела. – Карабин, – со знанием дела заметил Перфильев. – СКС-45,[291] калибр семь шестьдесят два. Древняя штука, однако надежная. Не в нас стреляют, сигнал подают. Наверху затихло, но минут через семь-восемь в дальнем конце дороги послышалось громыхание и навстречу «ЗИМу» выехал бульдозер. Нож его был приподнят, кабина обшита стальными листами, и справа торчал из нее внушительный ствол, не пулемет, а что-то вроде РПГ-7,[292] полностью снаряженный и готовый к действию. Бульдозер остановился на расстоянии прицельной стрельбы, ствол дернулся и замер, уставившись «ЗИМу» прямо между фар. – Серьезный знакомец у твоего батьки, прямо на танке разъезжает, – сказал Перфильев, тоже выбираясь из машины. – Ты, Леха, сделай что-нибудь, а то нас в клочья разнесут. Каргин двинулся к бульдозеру с поднятыми руками. – Стой, где стоишь! – громыхнул густой бас. – Что-то мне рожа твоя знакома, парень… Ты как отыскал меня? И сам откуда? Не из налогового департамента? А может, из земельного? Тогда поворачивай оглобли! Тут я – туран-баша! – Алексей меня зовут, сын генерала Каргина, с которым вы в Панджшере воевали, – представился Каргин. – С приветом к вам от отца и от Нияза Бикташева. Бикташев нам дорогу и показал. – Это другой разговор. – Нож бульдозера опустился, дверца приоткрылась и на землю спрыгнул человек в туранских шароварах, халате и мягких сапожках. Был он лет шестидесяти, дородный и рослый, с могучими грудью и плечами и бритым загорелым лицом. Пухлые губы, серые навыкате глаза, рыжеватая, без седины шевелюра, внешность добродушного медведя… Взгляд, однако, был острым, как у снайпера в поисках цели. – Значит, ты сынок Николая? – прогудел Азер. – Масть светлая, но чем-то похож… я и вижу, как будто знакомый, и выправка отцова… Офицер? – Капитан в отставке. Служил в спецподразделении «Стрела», потом во Французском Иностранном Легионе. – А этот кто? – Азер вытянул мощную руку к Перфильеву. – Влад Перфильев, тоже капитан и тоже из «Стрелы». – Так ее, я слышал, расформировали. – Мы все равно из «Стрелы», – упрямо повторил Каргин. – Что ж, преданность флагу, даже потоптанному, заслуживает уважения. Шагай сюда, капитан Перфильев, – полковник помахал Владу. – Пешком пойдем, тут недалеко, а техника пусть в авангарде едет. Ты, Алексей, про отца расскажешь, пообедаем, выпьем, хозяйство мое посмотрите… Надеюсь, с ночевкой ко мне? Гость в дом, бог в дом… конечно, если гость желанный. – С ночевкой не получится, Федор Ильич, – сказал Каргин. – В шестнадцать ноль-ноль должны быть в Армуте. – Ну, а сейчас одиннадцати нет. Успеем хотя бы за столом посидеть. – Азер повернулся к бульдозеру и рявкнул: – Гришка! Домой гони и скажи матери, чтобы в беседке на стол собирала! Как для командующего округом – индейка, форель, фрукты, вино! Живо! Бульдозер с грохотом развернулся, «ЗИМ», повинуясь знаку Каргина, покатил следом. Азер, увлекая за собой гостей, шагал широко, и, одолев едва ли сотню метров, они очутились перед блокгаузом, запиравшим выход из ущелья. Был он куда солидней укреплений, виденных Каргиным на Иннисфри – колючая проволока в три ряда, мощные бетонные блоки, сварные конструкции, пять амбразур, а в них торчат стволы немалых калибров. За этой цитаделью раскинулся широкий горный луг, окруженный скалами, с речкой и тремя искусственными водоемами, с накатанными дорогами, разбегавшимися во все стороны. По этой луговине, уходившей вдаль километров на десять, были разбросаны дома и сараи, птичники, овины и конюшни, огороженные заборами и металлической сеткой загоны, и всюду копошились люди, кто с лопатой и вилами, кто с тачкой, а кто на сенокосилке или на тракторе. Левее местность поднималась, и там, на склоне невысокого холма, стояла деревенька, а перед ней по всем правилам военного искусства были отрыты окопы и траншеи полного профиля. Посередине – блиндаж, рядом три или четыре миномета, на флангах – пулеметные гнезда. Азер повернул к холму. На лице его сияла улыбка, руки непрерывно двигались, указывая на строения и загоны; гулким басом он то расспрашивал Каргина об отце и матери, то разъяснял, где тут что: там – плодовый сад, а перед ним форелевые пруды, тут – гараж, и в нем четыре трейлера, здесь, за этой изгородью, первый индюшачий батальон в пятьсот штыков, а вот подальше, где земля белым-бела, кормится гусиная бригада, крутые забияки числом две тысячи двести. Ну, а у самых скал – особое место и главная гордость: страусы, пока не больше взвода, но – помогай аллах! – со временем, глядишь, размножатся. Хороший человек за ними смотрит, Ибрагим-ака, бывший сотрудник столичного зверинца. Под эти разговоры они подошли к блиндажу и перекидному мостику над траншеей. Из укрытия выскочил парень с темными раскосыми глазами, лихо взял под козырек и доложил, что все спокойно и служба идет своим чередом. Азер кивнул: – Свободен, Пак! – Затем повернулся к гостям: – Кореец, из местных. Тут у меня всякой твари по паре – и корейцы, и туранцы, и узбеки, ну и, конечно, русские с украинцами. Даже один бурят затесался, кузнец, подковы делает, каких в Москве не сыщешь. Ветераны-афганцы тоже есть… – Полковник помрачнел и тяжело вздохнул: – Солдаты, бывшие лучшие бойцы, забытые Россией… как и я сам… «Как и мы», сказал себе Каргин, осматриваясь с любопытством. Люди в деревне и правда были разные, всяких мастей и обличий, и все здоровались с Азером уважительно, но без подобострастия. Дома тут были крепки и хороши, зелень в палисадниках обильна, лица – большей частью женские и детские – приветливы, бедностью вроде бы не пахло и портретов туран-баши нигде не замечалось. Поглядев на эти чудеса, а также на укрепрайон перед деревней, Каргин почесал в затылке и осведомился: – Вы, собственно, кто здесь, Федор Ильич? Удельный князь или эмир с собственной дружиной? А может, паша? Азер, снова развесилившись, басовито хохотнул. – Я, собственно, еврей. Еще гусезаводчик и командир местного ополчения. На пенсию, видишь ли, не прокормиться, птицу начал разводить, но в Таше нас четыре раза жгли, сына Гришку чуть не убили, а в промежутках пытались разорить налогами. Теперь у меня свое ханство-государство, то бишь свободная экономическая зона. Бандюганам и анашистам хода сюда нет, а с властью у нас отношения простые: отступного даем, платим в Диван и депутатам Курултая, однако патроны держим всегда в стволе. – Могли бы уехать и жить спокойно, – сказал Перфильев. – За океаном или поближе, но за тремя морями… Там и с пенсией никаких проблем. – Не в пенсии дело, капитан. Я родом из Бухары, жена – таджичка, мусульманка значит, а за тремя морями это не приветствуют. Опять же ни иврита, ни английского не знаю, а вот на туранском, узбекском и фарси свободно говорю… Здесь моя земля, а не за морем! Да и покоя там тоже нет. У нас свои бандиты, у них – свои. – Одного мы по дороге устаканили, – скромно заметил Перфильев. – Ибадом звался. Хвастал, что прям-таки бейбарс, а по жизни – баран бараном. Уже потрошеный. – Так-так! – Полковник замер на половине шага и оглядел своих спутников. – Лихие вы ребята, как погляжу! Ну, за Ибада спасибо, тут я ваш должник… Пока в Таше жил, четыре раза меня жгли, и дважды – эта сволочь. Деньги вымогал, налог особый, какой гяурам платить полагается. За разговорами они приблизились к дому, вошли и были представлены хозяйке и трем черноглазым дочерям полковника, носившим романтические имена Анар, Алале и Афсунгар.[293] Затем проследовали в садовую беседку, к накрытому столу, где уже сидели Гриша, Рудик и Дмитрий, обсуждавшие преимущества пистолета «Гюрза» перед «Береттой» и «Дезерт Иглом». Стол ломился от яств, юные дочки полковника подносили все новые и новые, и Рудик с Димой, прекратив споры, то поедали запеченную индейку, то облизывались, поглядывая на девушек. Перфильев, отдуваясь, расстегнул рубаху, Каргин тайком ослабил ремень и сделал в памяти зарубку: обратно ехать через Кизыл и по бетонке, где меньше шансов нарваться на неприятности. Как говорил майор Толпыго, после пира воин не воин, а чучело на толчке. Они прикончили индейку, обглодали форель, съели дюжину салатов, запивая их домашним вином, и закусили грушами. Каргин на секунду прикрыл глаза, а когда открыл их снова, Рудик с Дмитрием уже исчезли, и лишь за деревьями слышались их голоса и девичий смех. – Пусть молодежь погуляет, – пробасил Азер и поинтересовался: – Вы, ребята, ко мне с одними приветами или дело какое есть? И как вы вообще в Армуте очутились? – Совместное предприятие у нас, российско-американское, – пояснил Каргин, решив, что вдаваться в подробности не стоит. – Оружейный бизнес, Федор Ильич. Завод, который нынче «Мартынычем» зовется, хотим откупить и перепрофилировать. Вот, приехали, трудимся, в разные двери стучимся. Однако есть проблемы… – В Туране любую дверь откроет кошелек. Он же и все проблемы решит, – мудро заметил Азер. – Не все. Двое наших сотрудников пропали, три дня назад. Награда обещана, платим феррашам – и ничего… Может, что-нибудь посоветуете? Полковник отодвинул тарелку с грудой костей, нахмурил брови и вцепился в толстую нижнюю губу. – Пропали, значит… А как пропали, Алексей? Напились? В местные разборки влезли? В участок угодили? Из-за девиц поспорили? Или – сохрани аллах! – под статуей туран-баши мочились? – Предположительно с кем-то встретились, могли получить информацию касательно нашего дела. Один из моих людей – тот, что с феррашами контактирует – сказал: такое впечатление, что похитители известны, однако стражи порядка бездействуют. А денег мы не жалели! – Помолчав, Каргин спросил: – Власти могли их схватить? Тайная полиция, третье отделение или что-то в этом роде? – Тайной полиции тут пока что нет, соорганизоваться не успели в государственном масштабе, но схватить могут. У туран-баши свои стукачи и топтуны, есть такие и во многих министерствах и у каждой партии, а тут их пять: исламская, евразийская и конституционная – эти за президента, а коммунисты и национал-демократы как бы против. Так что есть кому хватать! Но с какой бы целью ни схватили, держать у себя не будут. Ни к чему! Других держальщиков полно. – Кто они, эти держальщики? – спросил Перфильев, подавшись вперед и раздувая ноздри. – Плов кушал, капитан? – поинтересовался Азер. – Всего в нем понамешано, рис, жир, лук, мясо, соль, перец, морковка тоже есть… Страна сейчас как этот плов: в городах одно, в горах другое, в степях третье, а на границе и вовсе четвертое с пятым. Взять хотя бы славного туран-башу… Это он в Армуте баша, в Прикаспийске и в десятке крупных городов, а в тех, что помельче, сидят уездные начальники-беи, и никто им не указ. В Фарабе и по всему правобережью Амударьи узбеки крепко окопались, оттуда ближе до Бухары и Самарканда, чем до Армута… в Куня-Ургенче – каракалпаки, в Бекдаше казахов полно, в Тахта-Базаре и Кушке – пуштунская диаспора… В горах – обычные бандиты и бандиты правоверные, Воины Аллаха, Львы Ислама, эмир Вали Габбасов, а ближе к Каспию – три чеченских лагеря… Еще, конечно, везде и всюду боевики наркомафии… И всех их охраняют наши погранцы: тысяча верст – рубеж с Персией, восемьсот – с Афганом. – Это общая диспозиция, – произнес Каргин. – А что из нее вытекает в нашем конкретном случае? – То, что людей твоих, если они живы, в городе прятать не будут. Зачем? Всякая ветвь туранской власти с бандитами связи имеет, им и отдадут похищенных, на них и свалят, если что откроется. Сам посуди: к чему министрам с депутатами руки пачкать, когда у каждого есть родичи в горах? Ну, не родичи, так верные сподвижники… Если пропавшие что-то узнали, то лучший выход схватить их в городе, а после отправить к тем же Воинам Аллаха и дать инструкции – в яму там или голову долой. Могли на это дело и чеченов нанять или тех, кто над чеченами стоит, арабов пришлых или турок… – С Кости голову так просто не снимешь! – сказал Перфильев, потемнев лицом. – Костя, он… – Подожди, Влад, не горячись, – Каргин прикоснулся к плечу приятеля. – Как вы думаете, Федор Ильич, могли их похитить ради выкупа? Азер покачал головой. – Сомневаюсь. Ты сказал, три дня прошло? Цену быстрей назначают, ведь от гор до города рукой подать. Всех делов – спуститься в Кизыл да позвонить… Впрочем, и спускаться не надо, у каждой шайки люди есть в Кизыле и окрестных деревнях. Позвонили бы феррашам, те вам заломили б вдвое, как обычно делается, и вопрос исчерпан. А раз не звонят… Перфильев мрачнел на глазах, Каргин тоже. Бессильный гнев и тяжкие мысли томили его; он думал, что Костя Прохоров ко всякому привычен, и если сразу не убит, сбежит или дождется помощи. С Барышниковым все оборачивалось хуже. Пожилой человек, с больным сердцем… Гальперин сказал, два инфаркта перенес… много ли ему надо?.. – Что посоветуете, Федор Ильич? – Он с надеждой поглядел на полковника. – Что посоветую, что посоветую… – Азер вцепился в нижнюю губу и вдруг гаркнул: – Гришка, карту тащи! И сестрам скажи, чтоб не хихикали за кустами, а прибирали со стола! Не прошло и пяти минут, как приказ был исполнен, и карта легла на стол. Отличная карта, военная, со всеми деталями, склеенная из листов с грифом «совершенно секретно». Азер ткнул толстым пальцем в зеленое пятнышко, потом провел по двум коричневым полоскам, извилистой и попрямее: – Луга Бахар… мы здесь… А это – главное шоссе из города в Кизыл и та дорога, где вы бейбарса Ибада встретили. Сориентировались, капитаны? – Так точно, – произнес Каргин. Почесал в затылке и спросил: – Наших могли отдать кому-нибудь вроде Ибада? – Нет. Слишком мелкое зверье, – приговорил полковник. – А вот эти уже покрупнее! Вот здесь, к востоку, в двух сотнях километров от Армута – Воины Аллаха, дюжину селений контролируют, связаны с исламской партией – собственно, ее боевики. Но Валька все-таки к городу ближе и всех в окрестности сильней. До Вальки от меня рукой подать, тут его лагерь, километрах в семидесяти, и дорога из города к нему хорошая, на джипе и грузовике можно добраться, даже бензовоз пройдет. В конце дороги – тоннель, и Валькины мюриды его охраняют… – Валька? Кто он такой? – Славный наш эмир Вали Габбасов, вождь Копетдага, так он себя именует. С кем повязан, в точности не знаю, но числится в наших краях бунтовщиком за первым номером. Не трогают, однако… – Азер задумчиво уставился в карту. – Три сотни стволов у мерзавца, укрепленный лагерь на старой военной базе за Кара-Сууком, оружия, жратвы, боеприпасов – до горла, а откуда берет и кто ему ворожит, неведомо. С наркомафией, конечно, повязан, иногда налетит на заставу, погранцы с ним бьются, а караван героинный идет без помех… Ну, отстегивают ему за это, еще людей в Кара-Сууке обирает, но все-таки триста бойцов, каждый поесть и выпить любит… Содержать надо! А на какие шиши? Полковник сложил карту, подвинул ее Каргину. – Бери, Алексей! У меня еще найдется. А что до совета… Если я прав, и в горы твоих увезли, то либо они у Вальки-эмира, либо у аллаховой братвы. Можно узнать поточнее, если за деньгами не постоишь. Как там ваше предприятие? Не бедное? – Ну-у… – протянул Каргин, усвоивший за время контактов с Мэлори, что на такой вопрос нужно отвечать неопределенно. – Сколько феррашам раздали? И какая им обещана награда? – уточнил вопрос Азер. – Феррашам – тысяч десять баксов, а награда обещана… – …двадцать пять, – подсказал Перфильев. – Немного. По возможностям средней фирмы, с которой считаться не будут. – Полковник сделал паузу, взглянул на солнце. – Скоро два, ехать вам, пожалуй, надо… Вот что я вам, капитаны, скажу: для удачной рыбалки снасть нужна хорошая, леска крепкая, крючок острый, но главное – червяк! Жирный червяк, крупный, чтобы карась на него польстился! Если этакий червяк вам не по средствам, все равно пыль в глаза пустите, сделайте вид, что богаты без меры, что денег у вас мешки и сундуки. – А смысл? – спросил Каргин. – Смысл в соблазне и искушении, – усмехнулся Азер. – Представь, взяли твоих, отдали каким-то верблюжьим плевкам и приказали держать или зарезать. Заплатили, само собой, за услугу… И вдруг плевки узнают, что за похищенных можно миллион слупить! Или два. Живы они или мертвы, держат их в схроне или прикончтили, не важно; так и так сунутся к тебе, одежду пришлют или палец отрезанный – мол, у нас твои дружки, поторгуемся! Отдавать, конечно, не станут, но деньги попробуют выманить. Только денег должно быть много, чтобы моча в башку ударила и ручонки затряслись от алчности. Тогда о заказчиках своих забудут и засветиться рискнут, а как засветятся, я вам, ребята, помогу. Живой силой помогу и техникой. – Полковник выудил из халата авторучку, черкнул на обороте карты несколько цифр. – По этому номеру звоните, если до дела дойдет. Городской телефон, но мне сообщат в течение часа. Кстати, как ваши аппараты? Не на прослушке? – Они защищены, шифраторы стоят, – сказал Каргин. – Хороший у вас план, хитрый! – медленно протянул Перфильев, с уважением качая головой. – Я рад, Федор Ильич, что вы за три моря не уехали! – Хитрость свойственна евреям, – усмехнулся Азер. – И потому еще один совет примите: не надо миллионный выкуп обещать, обещания – это слова. Продемонстрируйте, что вы богаты, и миллион для вас – тьфу! Тогда и клюнут. – Уверены, Федор Ильич? – молвил Каргин. – Уверен. Если у Габбасова они, братков аллаха или другой группировки, клев непременно будет. Не сомневайтесь! Каргин, прищурившись, посмотрел на полковника. Лицо у Федора Ильича было безмятежным, на полных губах блуждала улыбка, и лишь в серых зрачках посверкивали искорки, будто соображал он, с какого фланга обойти противника и сделать ли это силами роты или послать ей в помощь пару вертушек и бронетехнику. Может быть, мелькнула мысль, что-то еще он знает, да не говорит? Что-то конкретное, какой-то факт, намек, соображение? Опустив глаза, Каргин спросил: – Могу я узнать, на чем основана ваша уверенность? Азер вздохнул. Искорки в его зрачках погасли. – На жизненном опыте, Алексей, только на жизненном опыте. Почему я знаю, что будет у вас поклевка? Потому, что не рыбу ловите, а шакалов. Шакал же по своей природе жаден.
* * *
Интермедия. КсенияВпервые Ксения попала в церковь девять лет назад, когда ей еще одиннадцати не исполнилось. Не в церковь даже – в собор, стоявший в своем бело-голубом великолепии над спуском к Днепру, напротив самого большого в Смоленске книжного магазина. Магазин размещался в красивом старинном здании, чудом уцелевшем во время войны, но по сравнению с собором оно казалось небольшим и скромным. Собор взмывал ввысь, и над его покатой кровлей сверкали усыпанные золотыми звездами синие купола, точеные из темного дерева двери были массивны и в то же время изящны, высоко на стенах тянулся мозаичный фриз с ликами святых и ангелов, узкие закругленные окна напоминали бойницы в рыцарском замке. Они с мамой шагнули внутрь, купили свечки, зажгли их перед какой-то иконой, и мама сказала: вспомни отца и помолись о нем. Но как молиться Ксения не знала да и отца почти не помнила, и потому, раскрыв в изумлении рот, глазела на церковное убранство, на чудные потолочные росписи, на мелко крестившихся старушек и двух попов в длинных рясах, что-то делавших у дальней стены, сплошь заставленной иконами. Прежде мать ее в храм не водила, боялась – воспитательницу детского сада могли и с работы погнать за посещение неподобающих мест. Впрочем, мама богомольной не была и ставила свечки три раза в год, в день рождения отца, в день его гибели и в день его святого Михаила. Отец у Ксении трудился водителем-дальнобойщиком, неплохо зарабатывал, но пил, и страсть к бутылке его подвела: где-то в Сибири, зимой, принял сто грамм для согрева и слетел с обледеневшей дороги. Вез в Красноярск тяжелые контейнеры со смоленского завода «Кентавр», они его и раздавили, и отца, и дядю Витю, его напарника. Но для одиннадцатилетней Ксюши это случилось так давно, что горя она не испытывала и не всегда могла показать на снимках из семейных альбомов кто тут ее папа. После, сделавшись постарше, сама забегала в храм, когда там не было служения, но не молилась, не каялась в детских своих грехах, а глядела на многоцветные картины, на золоченый алтарь, на пол из гладкой каменной плитки, любовалась этим и соображала: вот бы здесь станцевать! Конечно, не испанский танец и не аргентинский, а что-нибудь медленное, торжественное, вроде старинного менуэта… Еще думала: жаль, что в православной церкви лишь поют, а не танцуют, как у индийцев… Молиться она научилась в Ата-Армуте. Когда человек молод, красив, здоров, свободен и счастлив, у бога вроде нечего просить и жаловаться тоже не на что. К Господу приходят в беде, приходят больные, убогие, увечные, приходят те, кто потерял надежду на человеческую доброту и справедливость. Рабы приходят и рабыни, уставшие надеяться, и потому родилась вера в далеком-предалеком прошлом как вера обиженных и униженных, нищих и рабов. Ксения о том не знала, не учили такому в советской школе, но повторила этот путь. В церковь, однако, она не ходила. Во-первых, это Кериму могло не понравиться, а во-вторых, где они, церкви, в Ата-Армуте? Где-то, наверное, есть, но жизнь Ксении текла вне этих сфер, между барами и ресторанами, гостиничными номерами и чужими квартирами, куда ее отправляли по вызову. Да и нужны ли поп и церковь, чтобы молиться? Тем более, что в самой молитве грех… Молилась она о том, чтобы клиенты попались не слишком противные, чтобы не мучили и рассчитались по-честному, и чтобы Керим, змея подколодная, остался доволен и ее не бил. А если уж бил, то не очень сильно.
Владимир Высоцкий
Глава 6
Ата-Армут, 10 мая, вторая половина дняДо города доехали быстро и без приключений, через Кизыл, по главной дороге. Решив отдохнуть перед пресс-конференцией, Каргин поднялся в номер, вытащил в лоджию кресло, сел и начал разглядывать с высоты Ата-Армут и синевшие на юге горы. Горы уже не казались чужими – все-таки попутешествовал он в них сегодня, на озеро полюбовался, на скалу Ак-Пчак и луга Бахор и встретился с местным населением. Двоих пощадил, троих угробил при содействии Перфильева… Неприятный эпизод, конечно, зато и другие встречи были, с людьми весьма достойными и даже героическими. Взять того же Нияза Бикташева, орденоносца! Орден Славы, орден Ленина, два Красных Знамени, Звезда… Сам Каргин похвастать орденом не мог, хотя медали имелись – за ранение в Никарагуа, за Кувейт и югославскую операцию. А в Легионе отличия его и вовсе обходили, ибо полковник Дювалье, командовавший их бригадой, полагал: если жив и цел легионер, то это лучше медали и ордена, а если убит, то и награды ему не нужны. С двенадцатого этажа город был как на ладони: президентский дворец и Диван-ханэ на площади Независимости, здание Законодательного Курултая на площади Евразии, роскошные дома на Рустам-авеню, рестораны, отели и бары, рынки и мечети, три вокзала, два стадиона, южные кварталы новостроек и заводской район на севере. Большой город, красивый… Вокруг – горы и степи, за горами – Персия, за степями – бывшие братские народы, слева – Каспий, справа – Амударья… А между ними – Туран, сердце Азии! Большая страна, богатая, щедрая. Нефть и залежи медно-никелевых руд, хлопок и фруктовые сады, виноград и рыбные промыслы, шелк и отары овец, мрамор и поделочный камень, яшма, родонит, нефрит… Плюс аргамаки знаменитой туранской породы, плюс целебные источники с курортами, плюс народные промыслы – ковроткачество, резьба по дереву и камню, изделия из кожи. Плюс природные красоты и всевозможные древности, что так влекут туристов – памятники ахеменидских времен, развалины городов, основанных Александром Македонским, могилы монгольских ханов, мечети и цитадели, которые строил еще хромой Тимур. Исторически и этнически Туран был связан с Персией, но и другие державы имели в нем интерес: тут проходил Великий Шелковый Путь из Китая, и самая короткая дорога из России в Индию тоже вела через Туран. Эта страна, лежавшая на перекрестке всех евразийских путей, часто воевала и подвергалась нашествиям то с юга, то с севера или с востока, но никогда не была униженной и покоренной до конца: приходил срок, и тут с равным успехом громили македонские фаланги, монгольскую конницу и персидских кизылбашей. За три тысячелетия Туран доказал, что взять его силой невозможно, однако, вступив в двадцатый век, сделавший планету маленькой, а все расстояния – близкими, Туран согласился не воевать, а породниться с соседями. Став частью огромной империи, он принял славян и узбеков, казахов и корейцев, татар и уйгуров, кавказцев, немцев, евреев и прибалтов, принял их и стал страной вполне современной, с аэропортами и железными дорогами, с заводами и рудниками, школами, театрами, музеями и остальными признаками цивилизации. Кое-что, само собой, не поощрялось – скажем, отправление культа и всякое внепартийное инакомыслие, зато была своя Академия Наук, женщины не носили паранджу, и басмачей в горах повыбили. Однако эти времена расцвета, пусть ограниченного и относительного, канули в прошлое. Став независимой державой, Туран как будто покатился в древность, к эпохе ханов, беков и эмиров, коим цивилизация не чужда лишь по той причине, что придуманы ею всякие удобства и множество способов, как удержаться у власти. Главные были такими: во-первых – политика, во-вторых – деньги, в-третьих – танки. Все это было в руках Курбанова, секретаря ЦК компартии республики, хитрого лиса; и Саид Саидович, слегка открестившись от коммунистов и чуть подвинувшись к исламистам, стал по названию президентом, а по сути – ханом Среднеазиатской Республики Туран. И была обещана Турану эпоха невиданного процветания, когда все флаги будут в гости к нам – но, предпочтительно, заокеанские. Первым делом Саид Саидович вернул народу национальную гордость и достоинство, слегка ущемленные в коммунистические времена. На этом пути были переименованы города и веси, улицы и площади, затем восстановлено двести семнадцать мечетей, построено двадцать шесть президентских дворцов и всюду развешаны изображения туран-баши либо воздвигнуты статуи, чтобы утвердить в сознаниии масс кто есть Отец и Благодетель Народа. Кроме того Законодательное Собрание стало Курултаем, Совет Министров – Диван-ханэ, и члены их удостоились благородного эмирского титула, как заведено в цивилизованной Британии, где есть Палата Лордов, и где королева дарит выдающимся особам рыцарские шпоры. Затем прижали всяких инородцев, осуществили реформу воинских званий, судей превратили в кази, стражей порядка – в феррашей, врачей – в табибов, ввели национальную валюту таньга, указы президента стали называть фирманами, а знамя заменили бунчуком. Как во всякой уважающей себя стране учредили ордена: высший Президентский, орден Искандера для военных, орден Лапа Барса с подвесками и без, Звезду Эмира с виноградными листьями, орден Жемчужина Мудрости и Почетную Цепь. Далее туран-баша рассмотрел проект о национальном алфавите, предлагавший отказаться от кириллицы, пренебречь латиницей и перейти на арабское либо уйгурское письмо. Проект не отвергли, но отложили в долгий ящик, поскольку сам туран-баша владел лишь русским и туранским, и к тому же, говоря по чести, на туранском изъяснялся с большим напряжением. Зато другой проект, не столь известный и даже в некотором смысле тайный, был принят и реализован незамедлительно: всюду, где удавалось, в Диване и в корпусе эмиров-депутатов, на должности градоначальников и высших армейских чинов, в сферах свободного предпринимательства, культуры и науки были расставлены друзья и родичи туран-баши. Вследствие этих перемен в Туране, растившем прежде хлопок, фрукты и овец, теперь росла когорта лихоимцев, лизоблюдов и бандитов. Издревле население страны включало клан людей воинственных и массу трудолюбивых: первые правили и грабили, вторые их кормили. Но с воцарением туран-баши баланс сил изменился, нарушенный третьим классом граждан с ярко выраженной евразийской ментальностью, сущность которой была такова: не работать, но жить богато. Друзья и родичи Курбанова, конечно, воровали, коррупция вздымалась словно на дрожжах, слой евразийцев ширился и стал, в конечном счете, надежной и преданной опорой президента. Народ, как обычно, безмолвствовал и реагировал на новые веяния не словом, но делом: инородцы утекали за рубеж, а местный этнос, коему деваться было некуда, шел в бандиты или тихо копошился на земле, разбойничал или возил в Россию курагу и груши, а заодно наркотики. В силу указанных причин «все флаги» в Среднеазиатскую Республику отнюдь не спешили. Конечно, посольства великих держав здесь имелись, были также иностранные разведчики, сидела в корпунктах пара дюжин щелкоперов из газет Парижа, Нью-Йорка, Анкары, Пекина и Лондона, и вся эта шатия-братия принюхивалась к туранской нефти, туранской икре, туранской меди и никелю. Но только принюхивалась и не более; крупные политики, бизнесмены и финансисты, сильные мира сего, Туран вниманием не баловали и никаких активных телодвижений в сторону Ата-Армута не совершали. Даже российские власти, сколачивая СНГ и призывая крепить единство на постсоветском пространстве, звали к себе в Москву, а в Армут посылали третьего секретаря двенадцатого подотдела президентской администрации. Кроме него Армут посетил средней руки китаец, глава Синьцзян-Уйгурского автономного округа, наследная принцесса с острова Нукуноно и британский лорд, член Европарламента, обеспокоенный правами малых наций. Лорд желал осмотреть чеченские лагеря близ Каспия и убедиться, что дети и женщины в них не голодают, однако показательный лагерь с голодными детьми и женщинами устроить не успели, и миссию лорда спустили на тормозах. Он уехал очень недовольный. Туран-баша был тоже недоволен, ибо рассчитывал на безвозмездную помощь от европейских стран. «Прав Мэлори – дыра, – размышлял Каргин, сидя в кресле и любуясь городом. – Теплая, красивая, изобильная дыра на обочине мировой политики и экономики… Должно быть, здесь это кое-кто понимает и думает, как бы внимание привлечь. Прославиться, в общем! Слава, впрочем, уже есть: был Великий Шелковый Путь, а сделался Большой Героинной Дорогой… Но не того разряда слава, гнусная известность, мерзкая! А вот ежели „Шмелей“ поставить на поток и торговать ими – ну, хотя бы в третьих странах – это уже кое-что. Капиталы потекут от тех же пакистанцев и арабов, большие люди заявятся, мошной трясти начнут, чтобы перекупить лицензию… А то, что краденое российское, им до лампочки!» Он встал, облокотился на перила и бросил взгляд вниз. Четверть пятого, гости уже съезжаются, толпятся у подъезда… И много, черт побери! Кто-то солидный, на иномарке – кажется, на «БМВ», который лишь эмирам полагается… Два фургона телевизионщиков – вон, аппаратуру выгружают… Микроавтобусы, машины помельче и поскромней, на крышах и капотах – названия изданий: «Нью-Йорк Геральд», лондонская «Таймс», что-то на французском, но мелковато, не разглядеть, еще китайские иероглифы, турецкая вязь, «Известия» и «Аргументы и факты» – эти из Москвы… Ну и, конечно, местные: «Туран ватан», еженедельник коммунистов, «Туран гази», исламское издание, евразийский «Туран бишр»[294] и даже «Гарем», журнал сугубо для мужчин… «Этим-то что здесь надо?» – с недоумением подумал Каргин, потом вспомнил про банкет, кивнул и отправился в спальню, переодеваться. Надел сорочку, светло-серый деловой костюм от Кардена, обул башмаки, повязал галстук, прицепил к нему булавку с бриллиантом в пять карат, свадебный дар Мэлори, поглядел в зеркало, прищурился и остался собой доволен. Кольнуло, правда, воспоминание о Бобе Паркере, племяннике старого Халлорана, погибшем на Иннисфри; в этой роскошной сбруе он был похож на Боба, чему не приходилось удивляться – все-таки родичи. И оба – президенты ХАК, один прошлый, другой настоящий, а значит, приходится соответствовать… Как поучал майор Толпыго: сапоги и бляхи должны сиять! В дверь осторожно постучали. – Входите! – крикнул Каргин и щелкнул по лацкану, сбивая пылинку. Вошел Сергеев, изобразил лицом восторг при виде нарядного босса, затем сухо промолвил: – Утром вы уехали, Алексей Николаевич, не смог доложиться. А у нас, однако, новости. Каргин резко повернулся к нему. – Слушаю. – Официанта разыскали, который нашим в «Достыке» подавал. Не буду говорить, во что его адрес обошелся, но все же разыскали… Некий Фазли Юмашев, возраст – тридцать два, одинокий, живет на улице Гюзель тридцать четыре, в собственном домике, и третий день за порог ни ногой. Болен! В спину вступило или ниже… В общем, немного надорвался, таская подносы. Глазки Сергеева вдруг заблестели, рот приоткрылся. Сейчас он походил на гончую, взявшую след. – Дальше! – велел Каргин. – Приехали к нему часиков в пять, расспрашивать стали, однако Юмашев ничего существенного не сообщил и даже деньгами не соблазнился. Но выглядел напуганным. Страх, Алексей Николаевич, такое состояние, которое я безошибочно различаю, так как лицезрел его долгие годы у всевозможных персон… Так что мы дождались ночного времени, влезли к Юмашеву в дом, и Балабин с ним немного поработал. Теперь Юмашев утверждает, что русских было не двое, а трое. Сначала наши пришли, затем, минут через десять, к ним подсел какой-то тип, явно знакомец Барышникова – чуть обниматься не принялись. Посидел немного, рюмку выпил, поел, поговорили, затем ушел. Наши оставались до восьми, ели, почти не пили и что-то обсуждали, но тихо. – Почти не пили – это как? –спросил Каргин. – На троих взяли двести коньяка, а потом, когда третий удалился, спросили коктейли с сухим мартини. Юмашев их из бара принес и сильно был взволнован, когда о коктейлях речь зашла. Ну, я велел Балабину снова его полечить… Тогда ситуация прояснилась: в баре у них трудится Зульфия Салихова, красотка хоть куда, и всем известно, что эта барышня чей-то осведомитель. Чей конкретно, Юмашев не знает, надо спрашивать у хозяина, но к советам Зульфии прислушиваются все. На этот раз она ему посоветовала исчезнуть и пару недель глаз не мозолить. Что Юмашев и сделал. Каргин, нахмурившись, уставился в пол. – Гальперин говорил мне, что Николаю Николаевичу звонили, как раз перед тем, как он в «Достык» собрался. Вы это знаете? – Разумеется, я ведь каждого опросил. Дальше складываем два и два и получаем, что некий знакомец Барышникова назначил встречу в «Достыке», и была та встреча опасной и сугубо деловой. Деловой – потому что краткой, хоть повстречались старые приятели, а опасной… Ну, сами понимаете, он ведь недаром с собой Прохорова взял. – Отличный вы специалист, подполковник Сергеев, – одобрительно сказал Каргин. Потом, вспомнив о тайнах Халлоранов и своих мытарствах на Иннисфри, добавил: – Прежде мне такого человека очень не хватало. Пожалуй, я вам оклад удвою, если найдете нашу пропажу. Сергеев скромно потупил глазки. – С моей стороны возражений нет, однако к делу, к делу… Теперь мы имеем возможность продолжить следствие по двум линиям: приятель Барышникова и очаровательная барменша Зульфия. Приятель намного важнее, и я постараюсь его отыскать, тем более, что словесный портрет получен, выбили из Юмашева во всех деталях и подробностях. А барменша… Мне не разорваться, Алексей Николаевич. Или отложим на день-другой, или пошлем кого-нибудь красивого и молодого, чтобы вступил в контакт и попытался обольстить. Славу или Дмитрия… лохи, конечно, но вдруг узнают что-то полезное. – Сосредоточьтесь на приятеле, – распорядился Каргин, – и берите в помощь всех, кто вам понадобится. Ну и, конечно, деньги… А барменшей я сам займусь. Я ведь тоже красив и молод. – Без сомнения, – сказал Сергеев, внезапно ухмыльнувшись. – И вы не лох. – Это лесть или логическое умозаключение? – Второе, шеф. Прорваться из русских капитанов спецназа в американские миллиардеры… Это, извините, не для веников! – Улыбка судьбы, – пояснил Каргин. – Кстати, о миллиардах… Вы, помнится, говорили, что в сейфе у нас триста шестьдесят две тысячи? – Уже тысяч на сорок поменьше, – откликнулся Сергеев. – Аренда конференц-зала, проектор, купленный Гальпериным, мои вчерашние расходы и остальное-прочее – один банкет на тридцать тысяч… Да, не меньше сорока штук ушло. – Откройте сейф и выдайте Балабину двести тысяч. Пусть со своими ребятами снимет банковские обертки, перемешает купюры, помнет, свалит их в какую-нибудь большую, но легкую емкость, и доставит в конференц-зал к восемнадцати тридцати. Сергеев даже глазом не моргнул. – Детский надувной бассейн в качестве емкости подойдет? – Вполне. – Могу быть свободным? – Да, подполковник. Дверь за Сергеевым закрылась. Каргин прошелся по комнате, впол-голоса декламируя: «Продемонстрируйте, что вы богаты, и миллион для вас – тьфу… Продайте персам орудия…» Затем взглянул на часы, покинул номер и двинулся к лифту – с таким расчетом, чтобы появиться в зале ровно в семнадцать ноль-ноль. Можно было бы не спешить, ведь боссы не опаздывают, а задерживаются. С другой стороны, точность – вежливость королей. Каргин к монархистам не относился, но это правило больше ему импонировало.
* * *
Зал был полон. Должно быть, здесь собралось не меньше сотни корреспондентов, журналистов, ведущих теле – и радиопрограмм, а при них – еще столько же помощников, ассистентов и прихлебателей, жаждущих проникнуть из этого зала в другой, где накрывали на столы, где громыхала посуда и соблазнительно позванивали хрустальные рюмки. Труженики пера сидели плотными рядами, поджимая друг друга, а слева и справа от них, в проходах, громоздились прожекторы и телекамеры, толпились операторы и режиссеры, змеились по полу черные кабели и слышалась ругань на десяти языках. В торце зала, на подиуме, за длинным столом расположились Генри Флинт, щеголявший в белоснежном костюме, Влад Перфильев, переводчик Максим Кань и юрист Рогов, которому предстояло вести собрание. На стене за их спинами висел огромный экран, а у отдельного деска с проектором и компьютером стоял в полной боевой готовности Гальперин. Каргин прошел к столу через боковую дверь, остановился, дав возможность запечатлеть себя фото – и телекорреспондентам, затем сделал публике ручкой и сел посередине. Разноязыкий гомон постепенно стихал, вспышки блицев сделались редкими, но в зале ощутимо попахивало скандалом. Журналисты переглядывались, пересмеивались, а те, что потемпераментней, делали странные жесты, изображая что-то непотребное – может быть, кукиш по-турецки, а может, как принято у французов, рога против нечистой силы. Центром этого оживления являлся щекастый белобрысый субъект с носом-пуговкой, в гавайской рубашке и с сигарой в зубах. – Кто такой? – спросил Каргин, косясь на белобрысого. – Бак Флетчер из «Вашингтон пост», – шепотом ответил Рогов. – Говорят, та еще язва! Затем юрист наклонился к микрофону и произнес: – Дамы и господа, мы начинаем пресс-конференцию мистера Алекса Керка, президента «Халлоран Арминг Корпорейшн», прибывшего вчера в Ата-Армут. Прежде всего я собираюсь проинформировать вас, что данная корпорация представляет в Туране не только собственные интересы, но также, согласно договору между ХАК и «Росвооружением», уполномочена… Он говорил ровным уверенным голосом, округлыми фразами, как и положено опытному юридическому поверенному, и Каргин, убедившись, что шепоток в зале стих окончательно, уже не прислушивался к словам юриста. Рядом с ним сидели Перфильев и Флинт, и их профессиональная беседа на корявом английском и столь же корявом русском была куда интереснее. Флинт пояснял Владу, как тренируют морпехов в Штатах: ползешь, мол, на карачках по грязи со стофунтовым снаряжением, а по пятам сержант, орет и башмаками в задницу пинает. Перфильев с усмешкой возражал, что это мелочи, и что в российской армии пинок по мягкой части есть мера поощрения, а если нужно наказать всерьез, то бьют по яйцам. Флинт, усмехаясь в свою очередь, любопытствовал: а не ведет ли этот варварский обычай к падению рождаемости? Ведь в мирное время первая задача солдата – воспроизводство населения. – …на этом я кончаю свою вступительную речь и передаю слово мистеру Алексу Керку, – услышал Каргин. Он поднялся, поманил к себе Каня и начал говорить – разумеется, на английском, неторопливо, давая возможность Максу сделать двойной перевод, на русский и на туранский. Каргин не был мастером публичных выступлений, однако речи держать ему приходилось, и перед строем солдат, которые через мгновение пойдут в атаку, и перед лицами начальствующими, коим полагалось докладывать ясно, кратко и четко. Так он сейчас и говорил, хотя это выступление было смесью фантастики пополам с издевкой и сильно отличалось от прежних. Речь шла о грушевом компоте, нефтепроводе по дну Каспия, производстве биотуалетов для войск НАТО, пряжек и пуговиц из туранской меди, каракулевых генеральских папах и тому подобных прожектах, коими ХАК собиралась осчастливить Среднеазиатскую Республику в самом скором времени. Перечислив все это, Каргин сделал паузу, и тут же, не дожидаясь перевода последних фраз, поднялся спецкор журнала «Гарем». – Вопрос, ага президент. Переведите! – он помахал рукой Максиму. – Без перевод. Мой русски понимать, – сообщил Каргин. – Понимать о'кей, только говорить диффикулт. Ю… как это на русски?.. ю болтать свой вопрос. – Не столько вопрос, сколько предложение, ага. Может быть, вы разобьете плантации каучуконосов в предгорьях Копетдага и построите фабрику по выпуску армейских презервативов и фаллоимитаторов? – Бриллиант айдиа! – воскликнул Каргин. – Почему нет? Теперь загомонили в разных концах зала, там, где сидели турки, китайцы, французы и, кажется, исламисты из «Туран гази». Но всех перекричала дама с пронзительным голосом, напоминавшим скрип несмазанных колес арбы: – Гульбахар Ибрагимказиева, «Туран бишр»… Вы что себе позволяете, так называемый ага президент? Смеетесь над нами? Вы… – Не смеяться, мисс бишр, абсолютли не смеяться. Как можно? Вери серьезен есть. Мой утверждать: где проявиться наша корпорейшн, там быть джайнт бизнес. Огромный! – Каргин широко развел руки в стороны, чтобы уточнить размеры бизнеса, потом уставился на Бака Флетчера из «Вашингтон Пост». Тот ерзал, вертелся и подскакивал – видно, не терпелось белобрысому принять участие в дискуссии, да местные не давали слово вставить. Вскочил корреспондент «Туран гази». – Вы полагаете, что наше руководство позволит вам резвиться в Туране со всеми этими компотами, пряжками и папахами? Думаете, у вас в Америке все умники, а здесь дикари и идиоты? Ошибаетесь, ага! У нас тоже есть национальная гордость, и наш туран-баша… Каргин выпрямился, расправил плечи и приложил ладонь к сердцу. – Мы относиться до туран-баша как грэйт лидер на планете, биггест государственный деятель, патриот свой кантри! Мой уверен: ХАК договориться с президент Курбанов. Мы готовимся… как это?.. о, йес – почтить! Да, почтить президент еще одним проектом. Вери бьютифул проект! Прошу тише, ледиз энд джентльменз, тише! Жаль, мой не знать турански, но мой сейчас сказать на русски! Зал замер – на кого-то шикнули, кого-то успокоили тычком под ребра, кто-то сник под грозным взглядом Перфильева. – Над Ата-Армут – горы, а в горах – чудный лэйк… то-есть озеро энд источник, – сообщил Каргин, приятно улыбаясь журналистам. – Раньше быть санаторий и все о'кей, нау – насинг… ничего хорошего. Мы строить там отель, мени отель, вкладывать мени инвестиций, вери мени мани в девелопмент… в развитие… Но главный айдиа – стоун! Большой скала Ак-Пчак у самого лэйк. Мы нанимать бест скульптор энд ученый, скульптор делать из Ак-Пчак джайнт монумент великий туран-баша. Ученый делать надпись: Отец Народа, сохранить тебя аллах! Делать мени надпись, на всех язык, какие есть, начиная с самый древний, египетский, с помощью иероглиф. При гробовом молчании зала поднялся журналист «Аргументов и фактов». – Вы это серьезно, мистер Керк? – Абсолютли. Мы уже нанять один такой ученый, бест египетский спешиалист из юнивесити оф Санкт-Петербург. – Каргин дернул за рукав стоявшего рядом Каня, и прошептал: – Кого мы там наняли? Ну, живо! – Лучший – Андрей Георгиевич Сущевский, доцент с кафедры восточных языков, египтолог, – прошептал Максим, бледнея. – Я у него учился. – Мой переводчик подсказать: мы нанимать профессор Андре Сущевский, – уточнил Каргин. – Хотите проверить? Плиз, есть телефон! Профессор трудиться интенсивно, осталось сделать перевод на иероглиф последний слово: аллах на древний египетский. Журналист «Аргументов и фактов» покрутил пальцем у виска и сел. Зато тут же поднялся Бак Флетчер. Его щекастое лицо порозовело и походило сейчас на попку любовно отшлепанного младенца. – Мой дорогой мистер Керк! Мы, разумеется, съедим и выпьем все, что вы нам приготовили… – Флетчер выдержал многозначительную паузу и кивнул на двери, – в том, банкетном зале, а не в этом. От пищи, поднесенной здесь, сводит челюсти. Боюсь, что нам ее не прожевать, а если кто-то прожует и съест, то кроме поноса на четверть газетной полосы ждать вам нечего. Вы совершенно серьезно утверждаете, что… – Я все утверждаю серьезно! – повысив голос и перейдя на английский, произнес Каргин. – Повторяю: ХАК пришла сюда, чтобы делать бизнес, а мы свое дело знаем! Может быть, вам неизвестно, что такое ХАК, мистер Флетчер? Сейчас покажем! – Он повелительно кивнул Гальперину, и тот, склонившись над компьютером, запустил рекламную дискету. На экране появился герб корпорации: белоголовый орлан, сжимающий в когтистых лапах револьверы, и надпись: «Кольт создал Соединенные Штаты». – Я в курсе, что такое «Халлоран Арминг Корпорейшн»! – выкрикнул Флетчер, размахивая сигарой. – Не стоит ломать комедию, Керк! Ставлю таньга против сотни баксов, что знаю об этом получше вас! – Вы в курсе, но другие, возможно, нет, – парировал Каргин. – Им полезно увидеть своими глазами достижения моей корпорации. Мистер Флинт, напомните, какой у нас годовой оборот? – Шесть миллиардов долларов, сэр! – рявкнул Флинт. – Мы производим все, от сапог, пуговиц и сержантских нашивок до «Стеллсов» и термоядерных бомб! В том числе – компот и презервативы для наших славных воинов. На экране возник Халлоран-таун, штаб-квартира корпорации под Сан-Франциско: зеленоватые административные корпуса, похожие на огромные аквариумы, поселок с прятавшимися в тени деревьев виллами, а над ним – высокое изящное здание в испанском стиле, президентская резиденция «Эстада». Вслед за этими картинами явились широкие приземистые ангары и демонстрационный полигон; ворота в крайнем строении распахнулись, и из них нескончаемой чередой начали выезжать танки. Новые кадры: завод в Иллинойсе, завод в Огайо, завод в Канаде, верфи в Мексике и Австралии, фабрика взрывчатых веществ в Японии, авиастроительные предприятия… – Мы сотрудничаем со многими международными компаниями, – пояснил Каргин. – «Боинг», «Кольтс индастриз», «Сумимото Арсенал»… Собственно, они принадлежат нам, в одних случаях на треть или на четверть, а в других – практически полностью. Максим перевел. Впрочем, большинству журналистов английский был понятен. Вспыхнули новые кадры: угловатый авианосец с истребителями на взлетной палубе, атомная субмарина, танковый батальон в африканской саванне, вертолеты над джунглями, исторгающие напалм, снова вертолеты – с командой десантников в зеленых беретах, боевые пловцы, буксирующие мину, звено бомбардировщиков, лица солдат, европейцев, африканцев, азиатов, под касками всех форм и размеров. – Мы вооружаем армии пятидесяти семи стран, – прокомментировал Каргин. – Разумеется, в первую очередь военные силы США и Европейского Содружества, куда, как мы надеемся, вступит и Россия. Для этих партнеров и союзников готовятся новые разработки, интеллектуальные боевые системы и высокоточное оружие. Вот, например… Черная тень «Стеллса» промелькнула на экране, затем появился солдат-пехотинец в сверкающей броне, вспыхнула холодным голубым разрывом фризерная бомба, на фоне космической тьмы возник силуэт спутника с торчавшими тут и там ракетными боеголовками, сверкнул угловатый корпус «Шаттла», взмывшего с мыса Канаверал. Последним, как бы случайно, был показан экраноплан-истребитель «Шмель», подмонтированный Гальпериным к рекламному фильму. Его изображение появилось на пару секунд – машина стремительно промчалась над морской поверхностью, выскочила на берег и сшибла ракетой радарную установку на ближнем холме. «Клюнут или нет? – подумал Каргин. – И кто клюнет? Кто в этом зале не газетчик, не штемп с телевидения, а человек из иных сфер?» Такой, вероятно, здесь имелся – ведь кто-то же приехал на «БМВ», дозволенном лишь высоким чиновникам! Демонстрация закончилась, и тут же, отшвырнув сигару, резво поднялся Бак Флетчер. – Не знаю, как к вам попала эта рекламная кассета… впрочем, в наши времена хакеры что угодно украдут и скопируют. Не знаю, вы где раздобыли черного с бруклинским акцентом… Не знаю, но постараюсь выяснить! А сейчас… Сейчас я сделаю важное заявление! – Он вскочил на стул и вскинул руки вверх. Зал ответил возбужденным гулом. – Черным тебя обзывает, – сказал Перфильев Флинту. – Оскорбляет, гад! – Он начал подниматься, одновременно поворачиваясь в Каргину. – Что скажешь, Леха? Успокоить этого фраеристого педрилу? – Ни в коем случае! – прошипел Каргин. – Если бы здесь не нашелся такой Бак Флетчер, пришлось бы его выдумывать или за деньги нанимать. – Ты это о чем? – О том, что он сейчас работает на нас. И совершенно бесплатно! Флетчер яростно размахивал руками над головой. – Слушайте, слушайте! Внимание! Сенсация! – Глотка у него была здоровая, да и акустика в зале не оставляла желать лучшего. – Я утверждаю, что эти люди – компания самозванцев и мошенников! – Белобрысый ткнул пальцем в сторону подиума. – В Штатах, да и во всем цивилизованном мире, известно, что Патрик Халлоран, владелец корпорации, трагически погиб в прошлом году, а вместе с ним был убит его наследник, президент «Халлоран Арминг Корпорейшн» Роберт Генри Паркер! Повторяю, это всем известно! – Разумеется, – подтвердил Каргин. – Но это случилось в прошлом году, а теперь у нас год нынешний, и мистер Флетчер слегка отстал от жизни. Теперь президента зовут Алекс Керк, и он перед вами. Рогов придвинул к себе микрофон. – Информирую всех, дамы и господа, что документы, подтверждающие полномочия мистера Керка, равным образом как и наши, а также договор между ХАК и «Росвооружением», переданы в ВОПиОБ, то есть в министерство Военной Промышленности и Обороны Турана. Их подлинность бесспорна. Что же касается заявления мистера Флетчера, то оно представляется мне, если забыть про дипломатический язык, просто гнусной болтовней. – Все ваши документы – подлог! – завопил белобрысый. – Уверен, их изготовили где-нибудь на границе между Украиной и Казахстаном! А потому – обмазать смолой и вывалять в перьях![295] Половина публики замерла в оцепении и страхе, другая половина повскакала с мест, готовясь бить и крушить. Рослая дама из «Туран бишр» размахивала увесистой, окованной латунью сумочкой, корреспондент «Гарема» тянул из штанов ремень с тяжелой бляхой, что-то возбужденно лопотали французы, а турецкий журналист с глазами, налитыми кровью, шарил у пояса – видно, искал ятаган. Только телеоператоры с невозмутимым видом двигали камеры туда-сюда, примериваясь, как лучше запечатлеть назревающую драку. Каргин склонился к микрофону. – Суд Линча отменяется, господа! – Он повторил это на русском, английском, французском и, для убедительности, на испанском. – Вспомните, вас ожидает банкет на тридцать тысяч долларов, коньяк, шампанское, икра… Скандалисты и бузотеры этого не попробуют. Напоминание о банкете слегка разрядило обстановку. Каргин, уже не ломая язык, продолжал на русском: – Через несколько минут вы получите все доказательства моей реальности как президента «Халлоран Арминг Корпорейшн». Отчасти я согласен с мистером Флетчером – наших бумаг вы не проверяли и можете усомниться в их подлинности. Но я представлю другие документы… ровно две тысячи документов, которые вы можете унести с собой и тщательно исследовать. – Какие именно? – осведомился Бак Флетчер, все еще не слезая со стула. – Те, которые имеют хождение среди людей богатых и отличают их от всякой гопоты, – сказал Каргин, уставившись на белобрысого. – Сядьте, сэр, и успокойтесь! Это м о я пресс-конференция, и я вижу, что в зале есть журналисты, желающие задать вопрос. Прошу вас, мистер… – Савельев, «Известия», Москва, – сообщил, поднимаясь, тучный пожилой мужчина в очках. – Хочу заметить, что не согласен с корреспондентом «Вашингтон Пост» и считаю, что мы наблюдаем не комедию, не клоунаду, а некое четко спланированное действо, цель и смысл которого пока ускользают от нашего понимания. Я бы выразился иначе – они непонятны большинству присутствующих, которых, как и Бака Флетчера, нельзя отнести к слишком проницательным умам. Я прав, мистер Керк? Наконец-то! Каргин, нежно улыбаясь журналисту «Известий», вздохнул с облегчением и решил, что не все тут кретины. Но вслух он сказал другое: – Вы правы, сударь. Я далек от того, чтобы подозревать Бака Флетчера в излишней проницательности. – Я имел ввиду не это, мистер Керк… Или совсем не Керк? Ваш русский за последние пять минут значительно улучшился… – Савельев погладил объемистый живот со свисавшим на него магнитофоном. – В фильме, показанном нам, в самых последних кадрах, промелькнула одна картинка, некий любопытный артефакт, вызвавший споры между Тураном и Россией. Не сомневаюсь, вы действительно сотрудник ХАК, и по справкам, наведенным мной в Москве, договор между вашей корпорацией и «Росвооружением» вовсе не относится к разряду газетных «уток». Вы явились сюда, чтобы поставить точку в споре, который я упомянул? А все остальное – дымовая завеса? «Ловок! – восхищенно подумал Каргин. – Вопрос задал, а так, что никому ничего не понятно. На прямой ответ не надеется, но за реакцией следит в четыре глаза!» Он притворился смущенным, махнул рукой Гальперину – мол, прячь скорее диск! – и, припомнив десяток слов на языке байя, сообщил Савельеву, что река Мбари[296] сильно обмелела, и охота на крокодилов будет, вероятно, удачной. – Простите, не понял! – произнес корреспондент, снова раскрыл рот, но в это мгновение в зале появился Балабин, а за ним – Дима и Слава, тащившие накрытый скатертью детский резиновый бассейн. – Ставьте перед первым рядом, – распорядился Каргин, оглядывая возбужденную публику. – Вот сюда, сюда… и скатерть снимите… Дамы и господа, мои документы прибыли! Две тысячи стодолларовых купюр, ровно двести тысяч баксов, которые моя корпорация, желая поддержать свободную прессу, дарит вам! Этот дар лучшее доказательство нашего могущества и богатства, более веский, чем любые другие документы, а потому… – Он ни секунду смолк, потом махнул рукой: – Но к чему лишние речи? Налетай, братва! – Пятнадцать лет по федеральному законодательству! – тряся щеками, прохрипел Бак Флетчер. – Деньги-то фальшивые! – Не хотите, не берите, – усмехнулся Каргин. – Но подлинность ведь так легко проверить… в любом банке, в любом обменном пункте… Какой-то миг в зале царила ошеломленная тишина. Затем корреспондент «Гарема» отшвырнул с дороги даму из «Туран бишр», сбил наземь журналиста из «Аргументов и фактов», перепрыгнул через него, с хищным рычанием ринулся к бассейну и запустил обе пятерни в груду соблазнительных бумажек. За ним бросились исламисты, коммунисты и евразийцы, следом – турки и китайцы, телеоператоры и режиссеры, штат корпунктов «Таймс», «Вашингтон Пост» и «Нью-Йорк Геральд», ассистенты, помощники и прихлебатели. Над бассейном мгновенно взвился фонтан из вспорхнувших банкнотов; шурша и шелестя, они разлетались по залу, и в этом серо-зеленоватом облаке мелькали руки со скрюченными пальцами, шляпы, тюбетейки и перекошенные физиономии, да свистела, нанося меткие удары, сумка Гульбахар Ибрагимказиевой. Каргин продолжал говорить, и его усиленный микрофонами голос перекрывал крики, стоны, визг и алчные вопли. – Берите, дамы и господа, берите! Двести тысяч долларов для нас мелочь, примерно один процент от ежедневного оборота корпорации. Такую сумму мы зарабатываем каждые двенадцать минут, днем и ночью, в Африке, Азии, Европе и обеих Америках. Берите, хватайте! Это всего лишь наши представительские расходы… Мистер «Гарем»! Не стоит пихать доллары в рот, оставьте место для шашлыков и осетрины… А вы, господа из «Туран гази», вспомните, что аллах жадных не любит! И пропустите к кормушке мадам Гульбахар! – Надеюсь, босс, вы знаете, что делаете, – сказал Генри Флинт, провожая тоскливым взглядом каждую бумажку, исчезавшую в чужом кармане. – Я не то что бы против, однако… Перфильев толкнул его локтем в бок: – Не спорь с боссом, Гена, и не критикуй! Кто с начальством спорит, тому папаху не носить! Одна из сентенций майора Толпыго, который сам до полковничьей папахи не дослужился, мелькнуло у Каргина в голове. Он глядел на схватку, что развернулась у его ног, и думал о том, как просто выяснить сущность и характер человека. Поставь его перед грудой богатств и скажи: хватай, сколько хочешь! И все тайное, скрытое, тщательно спрятанное за манерами, воспитанием, образованием тут же сметет преграды и выплеснет мутной волной. Дед сказал бы: хочешь продать на миллиард, купи сенатора за сотню тысяч! Сенатора, политика, журналиста – все равно… Он испытал мгновенный всплеск удивления, подумав о Халлоране как о деде. Возможно, это означало новый этап в их отношениях? Проблеск родственной связи, той генетической преемственности, которая рождает сходные мысли и реакции у предков и потомков? Каргин не успел обдумать эту идею, как в зале послышался голос Савельева. Корреспондент «Известий», пиджак которого изрядно оттопырился, стоял у одного из микрофонов, разбросанных по залу. – Надеюсь, мы вас не разорили, мистер Керк? – Бог с вами, господин Савельев! В хранилище Первого президентского у меня сумка лежит… не помню, сколько там, два миллиона или три… Их краткий диалог прогрохотал в помещении, заставив очнутся публику, столпившуюся у бассейна. – Это ты зря признался, парень, – пробормотал Перфильев. – Думаю, не зря. – Наклонившись к микрофону, Каргин произнес: – Вижу, наш подарок воспринят вами с энтузиазмом и, кажется, оценен и поделен. Теперь вас ждут столы в банкетном зале, где тамадой будет мистер Рогов, мой юридический поверенный. Позвольте также напомнить, что в холле еще работает обменный пункт, и все желающие могут заняться проверкой валюты. Вперед, гости дорогие! Халява плиз, господа! Толпа хлынула к выходу, а за ней – Флинт и Рогов в сопровождении переводчика. Ребята Балабина помогали Гальперину снимать экран, а сам прапорщик взялся за компьютер, чтобы перетащить его обратно в офис. – Пойдем и напьемся? – спросил Перфильев. – Нет. День уж больно суматошный, и я устал. Прогуляюсь с полчаса, и в номер. – Ну, как знаешь… А я пойду! – Влад поднялся, провожая пристальным взглядом спину Бака Флетчера. Карманы журналиста были полны, из левого даже свешивалась пара купюр. – Ты, Влад, его не очень, – предупредил Каргин. – Брехло ведь! Пустое брехло, и только! – Не могу стерпеть, когда у человека задница вместо лица, должен врезать, – отозвался Перфильев. – Неудержимый душевный порыв, Алексей. С этими словами он спрыгнул с подиума и устремился вслед за корреспондентом «Вашингтон пост». Пожав плечами, Каргин направился в холл, где три десятка гостей осаждали обменник, ускользнул от самых упорных, ринувшихся к нему с микрофонами, бормоча: «Ноу комментс, бойз энд герлз, ноу, и никаких гвоздей…» – и выскользнул на улицу. «БМВ» у подъезда отеля уже не было, зато появился роскошный черный «ландкрузер». Полюбовавшись на него, Каргин направился по Рустам-авеню к площади Независимости, поглядел на фонтаны, дворцы, цветники и сборище из сотни фанатов и клакеров[297] перед резиденцией Курбанова. Оттуда доносились выкрики, песни и слова молитв – народ, ликуя, изливал на туран-башу свою безмерную любовь. Он повернул обратно, миновал Багдадскую улицу, где на углу стояло здание Первого президентского банка, затем Тегеранскую со Вторым президентским и департаментом финансов, Стамбульскую, где за прочными решетками и постами автоматчиков высилось министерство ВОПиОБ, прошел мимо отелей «Кизыл» и «Аул» и нескольких злачных местечек с экзотическими названиями – «Жайлау», «Копетдаг», «Демалыс», «Самал», пересек Бухарскую улицу, а за ней – Ташкентскую, занятую посольствами крупных и мелких держав, поглядел на вывески многочисленных баров, ресторанов-ханэ, бутиков и сувенирных лавок и, наконец, очутился на Самаркандской улице, около майдана Евразии и «Достыка». «Достык» оказался солидным заведением: пятнадцать зеркальных окошек по фасаду, в простенках – фрески наподобие персидских миниатюр, у входа – трое вышибал-швейцаров в чалмах и халатах, демонстративно подпоясанных черными поясами. Стемнело, и над городом раскатился протяжный вопль муэдзинов. Яркие южные звезды стали загораться в небесах, с предгорий налетел прохладных живительный ветерок, где-то журчала вода в невидимом арыке, и доносился с проспекта тихий шелест шин. Девять вечера, детское время, подумал Каргин, а на площадях и улицах почти безлюдно… Зато в ресторанах и барах жизнь кипела и била ключом: виднелись за окнами нарядные женщины с солидными упитанными спутниками, скользили меж столов, вздымая подносы, официанты в бешметах и стройные полуголые официантки, шумные компании ели и пили, то и дело разражаясь хохотом, в темных углах тискали девиц, нюхали с бережно развернутых бумажек, или, сблизив головы, торговались, передвигая с одной стороны стола на другую пухлые конверты. Еще, прогулявшись вдоль фасада, Каргин разглядел отдельный кабинет, где с узкоглазым мужчиной, похожим на японца, пировали трое местных, а перед ними выплясывала танец живота светловолосая девушка, потом – обширный зал со стойкой бара; зал был интимно полуосвещен, и потому разглядеть, кто смешивает коктейли и разливает коньяк не представлялось возможным. – Входы, ага! – сказал один из швейцаров, безошибочно распознав в Каргине русского. – Входы, вэсэлыс! Всо ест: плов, водка, травка, дэвушки! Ай, какие дэвушки! – Он закатил глаза. – Денег нет, – ответил Каргин. – Нэт? Зачэм тада в Армут приэхал? К нам бэз дэнег не ездат! – Завтра приду. Товар привез, сдам его, получу деньги и приду. – Давай, давай, ага! Будэш доволен! – Швейцар стукнул себя кулаком в грудь. – Будэш, клянусь аллахом! Вахид тебе плохого нэ пасавэтует! Кивнув, Каргин не спеша отправился в гостиницу, проскользнул через двор, мимо дремавшего черного «ЗИМа», поднялся по лестнице на свой этаж, пожелал спокойной ночи Дмитрию, стоявшему на часах, вошел в номер, разделся и сел на кровать. Тяжело ему как-то сделалось, словно события этого дня, странствие в горы, схватка с бандитами, встречи со старым Ниязом и бравым полковником Азером, а больше всего – лицедейство на пресс-конференции – в общем, все это навалилось ему на душу, стиснуло тяжким грузом и хоть раздавить не смогло, но в зеленую тоску вогнало. Ласточке нужно позвонить, решил он, ласточке и родителям… Рука уже потянулась к трубке, но тут телефон очнулся сам и испустил пронзительную трель. – Кто? – мрачным тоном спросил Каргин. – Будьте добры, мистера Алекса Керка. – Говорили по-русски, но с заметным акцентом уроженца Средней Азии. – Керк аппарата. Слушаю. – С вами, ага, говорят из канцелярии министерства Военной Промышленности и Обороны. Минбаши Айвар Сабитов, адьютант сардара Таймазова, светлого эмира министра. – Я отдыхаю и деловых переговоров не веду, – отрезал Каргин. – Свяжитесь утром с моим офисом, с Роговым или Флинтом. Желаю спокойной ночи, минбаши. – Подождите, почтенный ага, не кладите трубку! – заторопился адьютант. – Я беспокою вас по поручению Чингиза Мамедовича. Светлый эмир министр приглашает вас к себе на чашку чая, и встреча будет не деловой, а личной – завтра, в любое удобное вам время. Только вас одного, без делегации. – Вы понимаете, с кем говорите, минбаши? – зловещим тоном вымолвил Каргин. – Я не имею привычки гулять в одиночестве, без своего секретаря, шофера и трех охранников. – Тысяча извинений, мистер Керк! Вы меня неправильно поняли – о техническом персонале речь не идет. Разумеется, вас могут сопровождать ваши люди, но чай со светлым эмиром министром вы будете пить наедине. Тет-а-тет! Когда вы желаете осчастливить нас своим посещением? – Ну, скажем, часика в четыре, – небрежно протянул Каргин. – Или лучше так: между четырьмя и пятью, но не позже шести. Светлого эмира, министра и сардара это устроит? – Вполне. Стамбульская улица, десять, мистер Керк. И пусть ваш путь будет усыпан розами. Положив трубку, Каргин довольно усмехнулся. Клюнуло! Кто там болтается на крючке пока неясно, но надо думать не плотва, раз вставили шило светлому эмиру! Ишь, засуетился! Он встал, открыл шкаф, где за одеждой было спрятано оружие, взятое сегодня с боя, вытащил автомат, перенес к столу и, закрыв глаза, разобрал его и снова собрал. Потом сделал то же самое, засек время и убедился, что норматив перевыполнен. Это окончательно успокоило Каргина; он щелкнул несколько раз предохранителем, сунул «калашников» в шкаф, связался с Краснодаром, послушал щебет ласточки, передал отцу привет от Азера и сказал, что у него все о'кей. Затем лег в кровать и смежил веки. Сон его был глубок, и никакие сновидения его не тревожили.* * *
Интермедия. КсенияУдачный день. Была в «Достыке», украшала свидание местных деловых с каким-то бизнесменом из Японии. Деловые сняли зальчик, расписанный под гарем персидского шаха: кусты роз между увитых плющем павильончиков, лани и олени с кроткими глазами, бассейн с фонтанами, а у бассейна – нагие девушки: одна поет, другая играет на флейте, а остальные пляшут. Красиво! Ксения тоже плясала – танец живота, фламенко и еще один испанский, с кастаньетами. Японцу понравилось. Не старый японец, лет сорока, а выглядит еще моложе. Возраст свой он Ксении на пальцах показал и попросил перевести, что восхищен русскими девушками, и что жены у него нет. Ну, это уже лишнее. Есть жена, нет жены… Какое ей, Ксении, дело? Когда приехали в «Тулпар» и в номер поднялись, он был с ней очень нежен, шептал на английском и по-своему какие-то слова, которых Ксения не понимала, а по-русски знал только одно ласковое – дологая. Ну, и то хорошо… Рассчитался щедро, не скупясь, но не долларами, а таньга и иенами. Керим, получивший свое с деловых, скривил губы, но иены взял, прикинул курс, довольно осклабился и оставил ей таньга. Потом, опять усмехнувшись, сказал, что завтра-послезавтра отправит Ксению, Иру, Зойку и Веруню в горы отдохнуть. Не только, правда, отдохнуть, а еще и поработать на уважаемого человека, эмира, который настоящей крепостью владеет и городком Кара-Суук. Тихое место, отдаленное, и потому эмиру скучно. А сам он еще молодой и сильный, так что четыре наташки будут ему в самый раз, на ночь хватит, а то и на две. Ксения выслушала и пожала плечами. Сегодня японец, завтра – эмир, послезавтра – араб или турок из чеченских наймитов, а там кто-нибудь другой… Не все ли равно?
Владимир Высоцкий
Глава 7
Ата-Армут, 11 мая, утро, день, вечерУтром тучи надвинулись с гор и хлынул яростный весенний ливень. Небо потемнело, тяжелые капли дождя забарабанили в оконные стекла, потоки воды с шипением обрушились на землю, прибивая пыль, смывая ее с крыш и стен домов, с мостовых и тротуаров, с деревьев и пугливо замерших у обочин машин. Забурлили арыки, сверкнула молния, в небесах грохнуло, и Каргин проснулся. Проснулся легко, чувствуя себя отдохнувшим и переполненным энергией, словно буйство небесных стихий поделилось с ним своей силой и мощью. Он вышел в гостиную. Перфильев уже поднялся, залез в душевую, возился там и что-то напевал впол-голоса – видимо, и у него настроение было отличным. Каргин помахал руками для разминки, поприседал, сделал мостик, потом включил телевизор и сел в позу лотоса. Передавали последние известия, на три четверти посвященные деяниям туран-баши. Выглядел он импозантно – благообразный пожилой мужчина со смуглым, еще не обрюзгшим лицом, снежной сединой и мудрым отеческим взглядом. Его демонстрировали во всех ракурсах и позах, в самых различных обстоятельствах: речь президента в Курултае, президент на заседании в Диван-ханэ, президент открывает выставку художественной конской упряжи и сбруи, президент с народом, президент среди доблестных туранских воинов, президент с послами зарубежных держав. В заключение – президент на фестивале, где некая черноволосая девица, сверкая огненными взорами, читала посвященные ему стихи. Стихи были на русском – вероятно, для местных поэтов не являлось тайной, что с родным языком у президента проблемы.
* * *
Первый президентский располагался на Багдадской улице, некогда имени Чапаева, и занимал здание бывшего республиканского Внешторгбанка. В былые годы сюда ходила элитная публика, партхозактив, гостивший в заграницах, и также личности попроще, нефтяники, геологи, строители, которым выпала удача потрудиться в братских африканских и азиатских странах. Каждый, сообразно заслугам, получал валютный сертификат с полосой того или иного цвета и мчался отовариваться в «Березку», прямо напротив банка, где висели импортные шубы, стояли пылесосы, плейеры и видаки, сверкали белой эмалью стиральные машины «Бош» и «Сименс» и прочая финско-шведско-немецкая техника. Теперь на месте «Березки» был магазин собачье-кошачьих кормов, но с банком, если не считать хозяев и вывески,таких радикальных перемен не наблюдалось. Стены по-прежнему были прочны, решетки надежны, дубовая мебель массивна, а стражи – бдительны. После проверки документов, занявшей сорок минут, Флинта с Сергеевым, а при них – Каргина, проводили за три двери в глухую подвальную камеру. Здесь висела яркая лампа и находился стол, где клиенты могли распаковать или сложить хранимое имущество, а по трем стенам тянулись до самого потолка сейфы с номерами от первого до сто шестидесятого. Были сейфы крохотные, для драгоценностей, были маленькие, для важных бумаг, были побольше, рассчитанные на сумку либо чемодан, а были и такие, куда удалось бы спрятать труп в большом старинном сундуке. Осмотревшись, Каргин одобрительно кивнул и решил, что его подозрения насчет Первого президентского, пожалуй, безосновательны. Все тут выглядело очень солидным, надежным и по-советски капитальным, ничем не уступая хранилищам американских и швейцарских банков. Служащий, сопровождавший их, еще раз сверил номер, открыл своим ключом первый замок в ячейке 42 и вышел, притворив за собой стальную дверь. Лицо Флинта стало сосредоточенным, как у любого американца, имеющего дело с большими деньгами; он выпятил нижнюю губу, пошарил в кармане, вытащил ключ, вставил в паз и повернул. Сергеев, словно тень, копирующая движения Флинта, произвел все те же операции. Сейф щелкнул, дверца распахнулась. Сумки с деньгами в сейфе не было. Вместо нее лежала газета. Каргин вытащил ее, развернул и убедился, что это издание на японском языке. – Что за дьявол? – произнес Генри Флинт и попытался засунуть голову в ячейку. – Не дьявол, – спокойно отреагировал Сергеев, – а чьи-то ловкие пальчики, шаловливые ручки и быстрые ножки. Думаю, из самого верхнего эшелона местных руководителей. У кого еще свободный доступ ко всем ключам и сейфам? Только у хозяев-банкиров. К темным щекам Флинта прихлынула кровь, пальцы сжались в кулаки. – Подонки! Азиатская мафия! Фак их сорок четыре раза! – рявкнул он. – Возвращаемся к машине, хватаем оружие и берем банк! Я охрану положу, шеф – кассиров, а парни пусть мешки выносят! – Зачем нам мешки с таньга? – рассудительно заметил Каргин, похлопывая по ладони японской газетой. – Ты, Генри, не заводись. Этот случай американскому уму непостижим, тут мы должны разбираться – те, кто родом с постсоветского пространства. – Он повернулся к Сергееву и перешел на русский: – Полагаете, тут президентский племяш потрудился? Как там его?.. – Курбанов Нури Дамирович, – подсказал отставной кагэбэшник. – Нет, я решительно так не считаю, Алексей Николаевич. Во-первых, трусоват, во-вторых, отнюдь не беден, а в-третьих, его вообще в Армуте нет. По моим сведениям он сейчас в Антибе, под Ниццей. На яхте катается или ласкает местных одалисок. А вот его полномочный заместитель… – Кто таков? Сергеев поднял глаза к бетонному потолку. – Ильяс Гарифович Алекперов, точный возраст не знаю – где-то за сорок или около, институтский друг Нури Курбанова, пользуется его доверием. Исполнительный директор Первого президентского. Хитер, ловок, беспринципен, нагловат, имеет обширные связи. Среди щелкоперов, которых вы вчера созвали, наверняка есть его дружки-приятели. – Ясно, – промолвил Каргин и кивнул на распахнутый сейф. – Закрывайте! Идем наверх и делаем вид, что ничего не случилось. Миновав три бронированные двери, они поднялись в вестибюль. Здесь дежурили три стража с автоматами, четвертый маячил у входа в операционный зал, а пятый – на лестнице, что вела на верхние этажи, к кабинетам руководства. Наверняка в одном из них сидел сейчас хитрый и беспринципный Ильяс Гафурович, потирал шаловливые ручки и думал о том, как ловко он облапошил «Халлоран Арминг Корпорейшн» вкупе с ее российскими партнерами. Скрипнув зубами, Каргин сделал шаг к лестнице, но остановился. – Пойдем разбираться? – с надеждой спросил Генри Флинт и стиснул огромные кулаки. – Не сейчас. Каргин сунул в карман японскую газету и направился к автомобилю. По дороге он думал о том, что не пробыл в Армуте и трех дней, а его уже пытались похитить, обвинили в мошенничестве, а затем ограбили. Масса неприятностей, даже если не вспоминать о пропавших Косте Прохорове и Барышникове! Сплошные экстраординарные ситуации! И они, разумеется, требовали адекватных мер, тоже экстраординарных. Вернувшись в отель, он поднялся к себе, прикинул, что в Калифорнии сейчас поздний вечер, с минуту колебался, потом решил, что президент имеет право потревожить вице-президента в любое время дня и ночи. Хоть с бабы снять, или с горшка, или намыленного из ванны вытащить! Такая уж вице-президентская доля, размышлял Каргин, соединяясь со штаб-квартирой ХАК. Дежурный оператор был на месте и глядел на него как положено – так, как смотрит служака-сержант на полководца-маршала. Сержантов Каргин уважал (помнились ему слова Толпыго, что сержант человеку лучший товарищ и друг), и потому он скупо улыбнулся, а затем велел отыскать коммодора Шона Дугласа Мэлори – быстро, срочно и без промедлений. Мэлори, к счастью, был не в постели, а в бодрствующем состоянии. Голый череп его сверкал, лицо сияло, и выглядел он так, будто не Каргин к нему явился, а Санта Клаус с новогодним даром: «мерседес», а в нем блондинка и мешок с брильянтами. – Чем заняты? – спросил Каргин. – Не могу сказать, сынок, что в данный момент забочусь о росте активов «Халлоран Арминг Корпорейшн». Вечеринка у нас с супругой. Она с дамами пьет лимонад, а сражаюсь в бридж с джентльменами… Не без успеха, должен заметить! Кажется, коммодор был слегка навеселе. – Есть проблема, сэр. Скажите, у нас имеются люди на юге Франции? Улыбка исчезла с лица Мэлори. Секунда, и взгляд его сделался острым, точно зрачки превратились в пару стальных гвоздей. – У нас, мой мальчик, есть люди на юге и севере Франции, в пустыне Сахаре и даже на Огненной Земле. В Туране только наших маловато – ты и твоя команда. Что необходимо сделать? – Разыскать в Антибе, что под Ниццей, Нури Курбанова, туранского подданного, племянника туран-баши. Разыскать, подвесить над бассейном с крокодилами, сделать видеозапись и отослать мне по сети. Можно не церемониться – чем больше синяков и ссадин, стонов и воплей, тем лучше. Запись должна быть у меня через сутки. – Сделаем, – сказал Мэлори. – Этот… как его?.. Курбанофф?.. сильно тебе досадил? Плюнул в стакан с выпивкой? – Хуже, значительно хуже. Он – банкир, и покусился на наши деньги. – О! Это непростительная ошибка! – разом посуровев, промолвил коммодор. – Не уверен, найдутся ли в Ницце крокодилы, но дюжину гадюк гарантирую! Он исчез с экрана. – Что за работник! Цены нет! – со вздохом сожаления сказал Каргин. – Жаль только, что мерзавец. Он поглядел на часы, выяснил, что уже половина второго, поднял трубку и велел подавать ланч. Откушал неторопливо, съел салат, выпил кофе с булочкой. Постоял в лоджии, посмотрел, как ветер разгоняет тучи, разбрасывая их по бирюзовому небу, полюбовался на омытый ливнем город. Отметил, что давешний черный «ландкрузер» опять у подъезда – значит, не репортерский, а кому-то из постояльцев принадлежит. Прошел в офис, к Перфильеву, вытащил из сейфа «Бэрримор» турецкий ятаган в ножнах с золотой инкрустацией, обсудил с Владом его недостатки сравнительно с саблей и мачете, вызвал Юрия Гальперина и велел завернуть эту игрушку в заранее приготовленный кусок парчи. Вернулся к себе, переоделся и решил, что можно ехать к светлому эмиру.* * *
Шесть мотоциклистов-феррашей впереди, шесть – позади, все в черной коже и черных, лаково блестящих шлемах… Плюс полицейская машина с сиреной и мигалками. Плюс зажженные фары. Плюс трубный рев: «Освободить дорогу! К обочине! Всем к обочине!» В грохоте, звоне и блеске огней процессия подкатила к зданию бывшего горкома партии, ныне – министерства ВОПиОБ. Ворота меж прочных железных решеток раздвинулись, стражи взяли на караул, «ЗИМ» величественно развернулся у портика с мощными квадратными колоннами, выскочил Дмитрий и распахнул дверцу. Каргин вышел и, в сопровождении секретаря и двух своих секьюрити, проследовал в просторный вестибюль. Тут висели четыре портрета туран-баши, высилось его изваяние в полный рост, а рядом – государственный бунчук Турана: древко с перекладиной, с которой свешиваются девять черных конских хвостов. Каргин, уважавший древние традиции, отдал бунчуку салют и был препровожден толпой министерских чиновников и штабистов в пестрых мундирах на третий этаж, к кабинету светлого эмира. Коридор, выстланный ковровой дорожкой, был длинным и широким. Времени как раз хватило, чтобы восстановить в памяти информацию, полученную от Сергеева: Таймазов Чингиз Мамедович, сорока трех лет, служил на мелких должностях в Москве, в генштабе, боевым опытом не обременен, зато известен как ловкий политик. Брат супруги туран-баши, считается его возможным преемником… Что еще? Слабости: любит женщин, коллекционирует холодное оружие… Свита Каргина осталась в приемной размером с волейбольную площадку. Осанистый черноусый полковник – видимо, тот самый минбаши Айвар Сабитов – быстро провел его через кабинет с огромным письменным столом к дальней двери. За ней было что-то вроде предбанника с дюжиной кресел и еще одна дверь; адьютант открыл ее, громко выкрикнул: «Мистер Алекс Керк к светлому эмиру министру, сардару!» – и согнулся в поклоне. Каргин вошел. Вероятно, это была личная комната отдыха: тут находились мягкие диваны, низкий столик с коньяком и фруктами, украшенный бутылками бар и резной палисандровый шкафчик. На одной стене были развешаны старинные мечи, сабли, шпаги, кинжалы и кортики, на другой – цветные фотографии женщин в количестве двенадцати. Все красивые, молодые, восточного и европейского типа, брюнетки, блондинки, шатенки, одна – рыжая. В простенке между окон висело большое полотно, писаное маслом: туран-баши и темноволосая женщина лет сорока на фоне цветущих жасминовых кустов. Под этой картиной в щедро позолоченной раме замер мускулистый молодец в шароварах и безрукавке. Министр, облаченный не в мундир, а по-домашнему, в халат – поднялся с дивана около столика. У Таймазова было красивое восточное лицо, в чертах которого проглядывало сходство с изображенной на картине женщиной: бархатные черные глаза, тонкий нос с горбинкой, яркие губы, широковатые скулы. Портил его взгляд – исподлобья, с прищуром, словно у купца, оценивающего товар и соображающего, как сбить на него цену. – Рад видеть вас, драгоценный ага! – Широкий жест в сторону дивана. – Я слышал, ага свободно говорит по-русски? Переводчик нам не нужен? – Нет, светлый эмир. – Каргин сел, закинул ногу на ногу и поглядел на мускулистого молодца. – Если этот парень переводчик, отправьте его отдыхать. – Булат не переводчик, он – моя тень, лучший в Туране воин, – сообщил Таймазов. – При нем можно говорить свободно. Верный человек, преданный. – Большая редкость в нынешние дни. – сказал Каргин, посмотрев на стол с французским коньяком «Курвуазье», тяжелыми гроздьями винограда, персиками и грушами в хрустальных вазах. – Кажется, меня приглашали на чай? – Чай – понятие растяжимое, – откликнулся хозяин. – Ну, по обычаю северного соседа… за знакомство… Они выпили. Коньяк был хорош, мягок и ароматен. Каргин заметил, как затрепетали ноздри у мускулистого телохранителя, и перевел глаза на стену, увешанную оружием. – Моя скромная коллекция, – пояснил Таймазов. – А это, – он усмехнулся, обозрев фотографии женщин, – тоже коллекция, но другая. Мой пышный цветничок… Увы! Такие шалости уже в прошлом. Каргин подмигнул рыжей девице. – Это вы зря, сардар. Вы мужчина хоть куда! – В том-то и вопрос – куда, – с деланным сожалением вздохнул Чингиз Мамедович. Его взгляд обратился к семейному портрету курбан-баши, затем к потолку. – Если туда, на самый верх, жениться нужно – главе государства неприлично быть холостяком. Сестра уже и невесту подыскала… Намекает на свои наследные права, отметил Каргин. Впрочем, беседа развивалась непринужденно, и вторая рюмка «Курвуазье» прошла без помех. Опрокинув ее, Таймазов сладко причмокнул и, закусив персиком, произнес: – Ну, к делу, драгоценный ага! Встреча у нас без галстуков, но дело есть дело. Я понял так, что вы на нас в обиде? Пресс-конференцию созвали, шум устроили, деньги пишущей братии швыряли… А зря, зря! Для ваших денег найдется лучшее применение. Каргин небрежно помахал рукой. – У меня их много. Считайте, что я заплатил за удовольствие видеть вас. – Он приподнял бровь и добавил: – Чего никак не могли добиться мои сотрудники. – Восток спешки не любит, – возразил Таймазов. – Верительные грамоты и документы, представленные в мое министерство, должны быть проверены, информация изучена моими подчиненными, и предварительные решения положены сюда. – Он раскрыл ладонь. – К тому же мы так далеки от вашего континента… Откуда нам знать, что такое ХАК? Пришлось справляться у нашего посла в Вашингтоне. – Насчет меня тоже справились? – полюбопытствовал Каргин. – Конечно, дорогой ага! Кроме военной промышленности и армии мне подчиняются таможенная и пограничная службы, которые сообщили, что в страну въехал российский гражданин Каргин Алексей Николаевич. И вдруг он созывает журналистов и объявляет себя Алексом Керком, американским миллиардером! Что я должен думать, мой драгоценный? – У меня двойное подданство. Как гражданину России мне не требуется виза. – Каргин отщипнул виноградину, прожевал и спросил: – Так что же положили вам на ладонь ваши подчиненные, сардар? Проблема ведь простая: «Шмели» с технической документацией должны отправиться в Челябинск, завод перепрофилирован, на что моя корпорация готова выделить кое-какие средства. Скажем, миллионов сто или двести, но при условии, что нам достанется контрольный пакет. Если этого мало… Таймазов покачал головой. – Дело не в том, мало или много. Мы рассматриваем этот вопрос шире, мой бриллиантовый ага: как и на что перепрофилировать. Компот из груш, а также бляхи и папахи нас решительно не устраивают. Ни нашу державу, ни наших возможных партнеров и ваших конкурентов, весьма заинтересованных в изделии «Манас». – Нет никакого «Манаса», мой изумрудный эмир, есть «Шмель», российская собственность, в которой ХАК имеет свою долю, – твердо промолвил Каргин. Чингиз Мамедович, скрестив руки, откинулся на диванную подушку. Его прищуренные глаза были непроницаемы. – Так мы далеко не уедет, мистер Керк. Собственность, может, и российская, но мы-то в Туране! Опять же, где она, эта собственность, кто ее видел? Есть мнение, что три экраноплана из установочной серии были уничтожены, взорваны или разбиты кувалдой, когда русские дивизии покидали Туран. Кстати, техдокументацию сожгли. – Цена вопроса? – нахмурившись, осведомился Каргин. – Ну-у… – Взгляд Таймазова блуждал по миловидным женским личикам. – ХАК мощная корпорация, влиятельная, богатая… Подумайте, что в ваших силах предложить… Поддержку некоторым лицам, когда дело дойдет до президентских выборов… в будущем, конечно, не сейчас. А в данный момент – совместное производство «Манасов» на паритетных началах с ХАК, но без России. Мы предоставляем территорию, промышленную базу, рабочие руки, ваша корпорация – финансирование и техническую помощь. – Светлый эмир потянулся к бутылке и разлил по третьей. – Как видите, я с вами откровенен, мой ага. Я скажу даже больше: предложенный мной проект, во всех его частях, настоящих и будущих, обсуждался и с другими лицами. – С кем конкретно? – Список весьма обширен, – произнес Чингиз Мамедович с уклончивой улыбкой. – Персы, арабы, турки, пакистанцы… разумеется, Китай и Индия… Аргентинцы, потерпев поражение от Англии, тоже проявляют интерес. Так что насчет паритетных начал? – Вариант неприемлем, – произнес Каргин. – Сорок процентов продукции будут ваши. – Вариант неприемлем. – Пятьдесят процентов! – Вариант неприемлем. – Хорошо, шестьдесят процентов и контрольный пакет! – Вариант неприемлем. Сардар печально вздохнул. – Вы очень жестко ведете переговоры, мистер Керк. И я, кажется, понимаю, в чем ваша проблема: как говорят социологи, вы не можете себя позиционировать. Кто вы, мой драгоценный ага: миллиардер из Штатов или капитан в отставке из России? И об этом знает, презерватив ходячий! – подумал Каргин, ощущая приступ ярости. Вспышка была внезапной и потому трудно контролируемой; на миг он представил, как сворачивает шею светлому эмиру, как хрустят, ломаясь, позвонки, кривится рот, и струйки смешанной с кровью слюны стекают по подбородку. Зрелище было сладостным, вполне в духе капитана Керка из роты «гепардов», но тот Керк остался в прошлых временах, где-то между заирскими джунглями, пылающей Боснией и окровавленным островом Иннисфри. Здесь был другой человек, глава огромной корпорации, и оружие у него было другим. Каргин поднял рюмку, отхлебнул и сказал: – За ваше здоровье, Чингиз Мамедович, и за ваши надежды и успехи на политическом поприще! За вашу семью, за сестру Нестан-хатун, за уважаемого зятя, за брата его Дамира Саидовича и племянников Нури и Саида! – Он подумал о том, что творят сейчас с этим Нури подручные коммодора, усмехнулся и добавил: – Как говорится на Востоке, пусть в садах ваших судеб всегда цветут розы счастья! При упоминании брата и племянников туран-баши лицо у Таймазова потемнело и перекосилось. Однако он выпил и что-то хотел сказать, но Каргин не собирался выпускать из рук инициативу. – Желаете знать причину моей несговорчивости? Я имею данные о том, что «Шмель» – или «Манас», если угодно – не может быть использован в боевых условиях без системы ДМУО, то есть без вспомогательной автоматики. Так что вы мне, собственно, предлагаете, сардар? Пустую консервную банку на воздушной подушке? Щеки министра обрели прежний цвет. Он словно воспрянул духом, хитро прищурился и с уверенным видом заявил: – Это наши проблемы, ага. Не сомневайтесь, пустыми банками не торгуем – в каждой будет грушевый компот! Вот это номер! – мелькнуло у Каргина в голове. Стараясь не выдать своего волнения, он прикрыл глаза и равнодушным тоном произнес: – Я обдумаю ваши предложения, светлый эмир. Разумеется, после встречи с туран-башой. Не сочтите за обиду, но мне нужны гарантии на самом высшем уровне. С минуту Таймазов размышлял, а Каргин приглядывался к его телохранителю. Крепкий мужик, накаченный, и стоит, как монумент, бровью не дрогнет… А как у нас с реакцией? Если, к примеру, взять фруктовый ножик, чтобы ткнуть эмира в глаз – успеет допрыгнуть? – Хорошо, – сказал наконец Чингиз Мамедович, – я устрою вам рандеву с президентом. Постарайтесь утихомирить прессу, не созывайте больше конференций, не швыряйте денег нищим крысам, а встречу я вам устрою. В самом скором времени и, разумеется, неофициальную. – Моя благодарность не имеет границ, – сказал Каргин, надкусил грушу и повернулся к телохранителю. – Моего секретаря сюда! Быстро! Мускулистый, дождавшись хозяйского кивка, вышел и тут же возвратился с Гальпериным. Тот бросил на Таймазова угрюмый взгляд, но Каргин уже поднялся, заслонил инженера, выхватил у него из рук завернутый в парчу ятаган и прошипел: «Через левое плечо – шагом марш!» Затем шагнул к светлому эмиру. – Небольшой знак нашего внимания, Чингиз Мамедович… Ткань упала, сверкнули алые рубины на ножнах и рукояти, выскользнул из плена изогнутый клинок, и сардар расплылся в довольной улыбке. – Вы знаете, чем меня осчастливить! – И вашу сестру Нестан-хатун тоже, – намекнул Каргин. – Для полного и всеобщего счастья осталось только разыскать моих похищенных сотрудников. Вы, вероятно, об этом слышали? – Слышал, – подтвердил Таймазов, разом поскучнев. – Можете посодействовать? – Увы! – Министр развел руками. – У нас, как и в России, полно разбойников, убийц и гангстеров… Как неудачно, что им попались ваши люди… Где их искать? Горы велики, степь еще больше… Конечно, я скажу ферраш-баши, чтобы приложил все усилия, однако… – Пусть приложит, – сказал Каргин. – Если я первым найду исполнителей, то печенку им вырежу, а потом и до заказчиков доберусь. Чтоб мне в Хель провалиться, если не так! В глазах Таймазова мелькнул ужас. Он был из тех генералов, что видели войну в кино, бойцов в атаку не водили и порох нюхали лишь на учениях, между рюмкой коньяка и закусью. Он, разумеется, убивал, но не своими руками – для этой работы имелись нижние чины, привычные к виду крови и развороченных внутренностей. С точки зрения Каргина он даже к шакалам или крысам не относился – так, павлин, который строит из себя орла. Эмир вздрогнул и побледнел. – Вы это серьезно, дорогой ага? Ну, насчет печенки? – Вам ведь сообщили, что я капитан, – молвил Каргин. – А в каком подразделении служил, не догадываетесь? Вы ведь когда-то в Москве работали, в генеральном штабе, должны припомнить всех таких специалистов. Лоб у светлого эмира пошел морщинами. – «Альфа»? «Стрела»? Спецгруппа КГБ? «Атака» или «Вымпел»? – Одно из этих предположений верно, – сказал Каргин и откланялся. Сев в машину, где уже поджидали его охранники и Гальперин, он глубоко вздохнул, потер виски, велел Рудику ехать в отель и повернулся к инженеру. – Скажите, Юрий, эта ваша система ДМУО… Что она собой представляет? – Комплекс средств автоматики и программы, зашитые в магнитный носитель. Сотня чипов с подсистемами руления, стрельбы, перемещения над водной поверхностью и землей, маневра в пересеченной местности, пуска ракет, сопровождения цели и так далее. Почему вы спрашиваете, Алексей Николаевич? Каргин на вопрос не ответил, а задумчиво пробормотал: – Здоровая штуковина, наверное… Не меньше шкафа, а? – Вовсе нет – три цилиндрических модуля не больше пивной бутылки. Под панелью управления есть специальные пазы, туда их и вставляют. Проще, чем пушку зарядить. – В самом деле, проще, – согласился Каргин. – А как вы думаете, Юрий, могли у вас эти модули похитить? Гальперин возмущенно фыркнул. – Никогда и никоим образом! Даже я не знаю, где их хранят и сколько изготовлено комплектов. Думаю, не больше двух-трех, и они на месте. Ник Ник с генеральным перед отъездом проверяли. Случись что, такая началась бы катавасия! – А она не началась, – подытожил Каргин. – Ну и отлично! Только сардарова хитрая рожа мне все равно не нравится. – Тут у нас с вами полная солидарность, – пробурчал Гальперин.* * *
В «Достык» Каргин заявился в десятом часу, когда отпели свое муэдзины, когда на небе высыпали ослепительные звезды, а теплый степной ветерок высушил асфальт на улицах, стены, окна и крыши домов, траву, цветы и листья, заставив позабыть об утренней непогоде. Каргин был одет в светлые брюки и рубашку со скромной надписью «Club only»[298] над карманом и имел при себе небольшую сумочку, где лежали бумажник, скотч, кусачки, зажигалка и флакон с водой, слегка подкрашенной чернилами. Как и прошлым вечером, у дверей стояли на страже рослые швейцары-вышибалы в чалмах и черных поясах. Каргин улыбнулся им как добрым знакомым. – Прышол, ага? Дэнги получил? – Получил и пришел, Вахид. – Он сунул за пояс охраннику десять долларов. – Где тут бар? – Бар налэво, зал направо, а если хочэш дэвушку, Вахида спросы. Вахид плохого нэ пасавэ… – Спасибо, дорогой. Девушку я сам найду, – молвил Каргин и направился в бар. На стенах тут мерцали светильники, имитация древних глиняных ламп, потолок был затянут тяжелым малиновым шелком, словно в ханском шатре, и в остальном обстановка была интимной, теплой и волнующей, чему способствовали десяток девиц разной степени обнаженности. Одни сидели у стойки, изогнутой подковой, другие курили, смеялись и чирикали у столиков, обхаживая клиентов, молодых и не очень, стройных и склонных к тучности, с роскошными шевелюрами и с жалким венчиком седых волос. Каргин уселся на высоком табурете, окинул общество зорким взглядом и принял вид человека с двумя насущными заботами: выпить и девочку снять. Потом повернулся и поглядел, кто там шурует за стойкой. Наливали и подавали три красавицы в восточных одеяниях: шальвары из газа, тесные курточки-безрукавки, браслеты, ожерелья и даже некий намек на чадру. Все молоды и хороши собой, а в полумраке кажутся просто обольстительными, точно гурии в садах аллаха, решил Каргин, присматриваясь и принюхиваясь. Пахло спиртным, разгоряченным женским телом и французской косметикой – видно, прелестные барменши были ее вполне достойны. Он посмотрел на одну, на другую, поймал взгляд третьей, подмигнул ей и в восторге закатил глаза. Потом властно прищелкнул пальцами – ждать, мол, не привык, подойди, красотка! Гурия приблизилась, прощебетала магическое заклинание: – Что будем пить? – Коньяк, – сказал Каргин. И, вспомнив чай у светлого эмира, добавил: – «Курвуазье»! Янтарная жидкость хлынула в широкий бокал. Точнее, закапала – порция была скромной. Каргин выпил. – Еще! – Сильная жажда? Отчего? – Профессия такая. – Я слышала, банкиры крепко пьют. Еще моряки и летчики. – Голосок у нее был звонкий, и на русском говорила чисто. Темные глаза за кисейной чадрой таинственно мерцали. – Я не банкир, не моряк и не летчик, – промолвил Каргин. – Я ландскнехт. Девушка недоуменно моргнула. – Это кто такие? – Наемники. Африка, Латинская Америка, Югославия, Иран… И всюду – пиф-паф! Налей! Возбужденно вздохнув, гурия облизала губки розовым язычком и придвинулась ближе. – И многих ты убил? – Трудно сказать. Пожалуй, сотни две. «А ведь я ее знаю, – подумалось Каргину. – Видел! И не далее, как сегодня, на стенке у светлого эмира… Только масть была рыжая. А черные кудри ей больше к лицу…» Наверное, можно было не спрашивать, с кем спит и на кого работает эта красотка. Получалось, что у эмира рыльце в пуху, только что за пух? А если конкретней – как вырубили Прохорова? Юмашев мартини приносил из бара… Дряни какой-то намешали? Левой рукой он поднял рюмку, а правую положил на тонкие пальчики девушки. – Страшно, Зульфия? Ну, не бойся, не бойся… Сегодня я не на работе. Глаза у нее расширились. – Откуда ты знаешь, как меня зовут? – Сердце подсказало. Такая красавица может быть только Зульфией. Она отняла руку. – А мне вот сердце ничего не подсказывает! – Это мы сейчас поправим. – Каргин вытащил из сумки бумажник, раскрыл, продемонстрировав толстую пачку зеленых, бросил на стойку портрет президента Франклина.[299] – Видишь? Соображаешь, что такое? Плата за кровь, моя красавица! Должен за неделю прогулять. Поможешь? Кто-то дышал ему в затылок. Он обернулся, встретившись взглядом с высоким черноволосым парнем. Тот сглотнул, отвел глаза, уставился на деньги, потом, наклонившись к Каргину, прошептал: – Девочка нужна? У меня всякие есть… Сегодня выбора не обещаю, все по клиентам, а вот завтра-послезавтра могу на очередь поставить. К самой лучшей! Молодая, голубоглазая, ноги длинные, волосы русые, чистый шелк… Ласковая! Недорого возьму. – А я сразу расплачусь. – Каргин нашарил в брючном кармане мелкий российский рубль и сунул его в потную ладонь. – Вот, возьми и отваливай, выкидыш козлиный! Быстро, пока кости целы! Черноволосый исчез, словно его и не было. – А ты крутой, – с заметным интересом сказала Зульфия, тоже посматривая на пачку долларов. – Ты, милый, деньги-то лучше спрячь, народ здесь разный ходит. Керимка-сутенер трусоват, однако и посмелей найдутся… – Она расстегнула пуговку на безрукавке. Грудь, судя по виду сверху, была безупречной, упругой и в меру полной. – Что-нибудь еще желаешь заказать? – Возможно. – Каргин спрятал бумажник в сумку. – Коньяк? – Нет. – Виски? – Нет. – Чего же ты хочешь? – Тебя. Зульфия вроде бы не удивилась, поглядела на маленькие часики и деловито сказала: – В одиннадцать я сменяюсь. Подождешь? – Конечно. Я такую, как ты, всю жизнь ждал, – вымолвил Каргин, нащупывая в сумке кусачки. – Знаешь, а что я буду тут с пустым стаканом куковать? Налей-ка ты мне, рыбонька, сухого мартини.* * *
Гурия жила неподалеку, в переулке Низами, над которым смыкались темные кроны огромных чинар. Место тихое, уютное. И гнездышко было у нее уютным, квартирка на третьем этаже, с непременным в этом климате балконом и окнами во двор. Вся в коврах – на полу пушистые китайские, по стенам туранские и узбекские, багровые и алые, с черным и синим узором. Вероятно, Зульфия питала особую страсть к коврам, по той ли причине, что была женщиной восточной или из профессиональных соображений – ковры отлично скрадывают звук. Очень подходит для тайных доверительных бесед, решил Каргин, осматривая комнату. Большую часть ее занимала тахта, низкая и широкая, не меньше, чем лежбище кингсайз в его коттедже в Халлоран-тауне. Однако кровати прагматичных американцев сильно проигрывали этому ложу, будучи плоскими и безликими, как Аравийская пустыня. Иное дело тахта с двумя десятками подушек, изображавших горный рельеф, что намекало на массу позиций, которые можно принять среди ущелий, гор и перевалов. Крайне сексуальная тахта, подумал Каргин и опустился на самую пышную подушку. – Вот так, – проворковала Зульфия, сбрасывая туфельки. – Посиди здесь, милый, помечтай о страстных персиянках. Ты ведь, кажется, бывал в Иране? Водятся там такие? – Водятся. Только чадру носят, не разглядишь, – сказал Каргин. – Чадру? Будет тебе и чадра, – пообещала Зульфия и скрылась в спальне. Каргин бросил сумку на пол, подгреб к себе еще пару подушек и, развалившись на них, уставился в потолок. О Кэти он не думал – совесть его была чиста, ибо в это гнездышко он заявился не развлекаться. Конечно, в прежние времена все могло произойти иначе, ведь лаской больше возьмешь, чем страхом, но время мимолетных ласк и разовых утех кануло в прошлое. И потому Каргин не предавался мечтам о персиянках, но размышлял о том, что день прошел, а никаких предложений о выкупе не поступило. Странно! Не клюет! Возможно, Азер ошибается, и клева вообще не будет? Может, Костя и Барышников уже гниют в земле, и ни при чем тут Львы Ислама, Воины Аллаха и эмир Вали Габбасов… А закопали их работнички светлого эмира, вроде того мускулистого, что в кабинете торчал… Прирезали и закопали! Не потому, что явились из Москвы с какими-то претензиями – Таймазову на все претензии чихать! – а, видимо, по той причине, что лишнее узнали. Если приятель Барышникова на заводе трудится, за ним наверняка следят – вот и проследили до «Достыка»… Может, и приятелю вставили под ребра или между глаз – за разговорчивость… Если так, искать Сергееву некого, и вся надежда, что клюнут… Зря, что ли, куча денег разбросана! А другая куча уворована, подумал Каргин, вспомнив о Первом президентском банке. В спальне раздался шорох, дверь отворилась, и Зульфия, мелко перебирая босыми ногами, выплыла на середину китайского ковра. На ней был один накомарник – или то, что показалось Каргину накомарником: тонкая и прозрачная газовая фата, струившаяся по нагим плечам и упругой полной груди до гибкого стана. В нижней части все было тоже как полагается, где надо – длинным и стройным, где надо – пышным, и всюду – соблазнительным. Сердце у Каргина дрогнуло, в горле пересохло. Красота – великая сила, предупреждал майор Толпыго, и потому выбирай: долг и присяга или баба. На два очка одним задом не сядешь! Сглотнув, он поманил Зульфию к себе. Она подошла, пританцовывая и покачивая бедрами; темные глаза мерцали сквозь фату, пухлые яркие губы приоткрылись. Каргин обнял ее колени, прижался к ним лицом и запустил левую руку в сумку, нашаривая рулончик скотча. Незаменимая штука этот скотч, гораздо лучше веревки! – мелькнуло у него в голове. Зульфия взвизгнула. – Что ты делаешь, милый? Так мы не договаривались! Каргин обмотал ей ноги пониже коленей, повалил на тахту и принялся за кисти. – А как мы договаривались, девонька? – Она молчала, и ее глаза стали наливаться ужасом. Каргин предупредил: – Пикнешь, рот залеплю. – Ты… ты извращенец? – Зульфия побледнела, прикусила нижнюю губку. – Или маньяк? – Хуже, много хуже, – сообщил Каргин, укладывая ее на подушки. – Федеральная служба безопасности, отдел внешней разведки. Ты, рыбка, ножками не дрыгай и эротических поз не принимай, такие штучки на меня не действуют, мне анальгетик[300] особый вкололи. – Что тебе… что вам нужно? Чего вы от меня хотите? Присев рядом, Каргин шлепнул ее по пышной ягодице. – Во всяком случае, не этого. Плохо, когда такая куколка лезет в мужские игры, в очень серьезные дела… Очень плохо! Рано или поздно приходит нехороший дядя и делает куколке больно. – Он вытащил из сумки кусачки, щелкнул ими и осведомился: – Будешь говорить, или как? На лбу Зульфии выступил пот, губы задрожали. Она, несомненно, была отличной барменшей и профессионалкой в постели, но остальное-прочее – на самом дилетантском уровне. К счастью для Каргина, который пытать не любил, хотя и умел. – Уберите… это… пожайлуста, уберите… – Она со страхом глядела на кусачки. – Я… я… Что вы хотите знать? – Давно на Таймазова работаешь? – Д-два г-года… – Ее колотила нервная дрожь. – Он м-меня в «Достык» устроил… Т-там из России бывают… и вообще иностранцы… – Состоишь с ним в интимных отношениях? – Только первые месяцы… Откуда в-вы знаете? – Мы знаем все, – с мрачным видом произнес Каргин. – Даже то, что в период интимной связи ты выкрасилась в рыжий цвет. Таймазов заставил? – Д-да… Ему нравилось… – А я вот темненьких люблю, твоей масти. Если б не этот чертов анальгетик… – Каргин пощелкал кусачками, склонился к розовому ушку Зульфии и тихо прошептал: – А теперь скажи мне, девонька, что ты в коктейли для тех русских намешала? В сухое мартини, которое Юмашев относил? Чем наших отравила? И кто на этот счет распорядился? Она молчала, сотрясаемая мелкой дрожью. Два страха боролись в ней, близкий и далекий, а кроме них не было ничего, что поддерживает ужаснувшегося человека, ни мысли о долге, ни гордости, ни памяти о тех, кто ей доверился, ни стыда предательства. Только страхи; страх перед Каргиным и страх перед Таймазовым и неизбежной расплатой. Смотреть на это было тягостно. – Ты, кажется, замерзла? – спросил Каргин и вытащил из сумки зажигалку. – Хочешь погреться? – Она отчаянно замотала головой. – Ну, тогда серная кислота есть… Где тут она у нас? Вот, видишь, какой симпатичный флакончик… девяности восемь процентов, открою, дымиться будет на воздухе… – Он взялся за пробку. – Не-ет! Не… – Каргин зажал ей рот рукой. Она забормотала быстро, неразборчиво: – Это не яд… не яд, клянусь аллахом!.. такое средство… средство… совсем безопасное… то есть не смертельное… усталость вызывает, упадок сил, хочется спать… успокоительное… психам его дают, буйным психам… – Велел кто? – Нукер… кличка у него – Нукер, а имени не знаю… человек эмира, не из феррашей, а из армейской службы… Для кого, не объяснил, а сама я не видела, я в баре была, я только потом Юмашева расспросила про этих русских – так, из любопытства… Нукер еще велел: Юмашеву скажи, чтобы в «Достыке» не появлялся, две недели не появлялся или больше, пока не разрешат… Больше не знаю… ничего не знаю… – Зульфия, будто загипнотизированная, не спускала глаз с флакона. – Не надо… уберите… уберите! – Уберу, но если надо, опять достану, – молвил Каргин, бросив флакончик и зажигалку в сумку. – Ты, рыбка, про меня никому не говори, если не хочешь неприятностей. – Он перерезал скотч кусачками. – А если скажешь… Во-первых, эмир твой обидится, а во-вторых, не думай, что рука Москвы ослабла. Рука все еще крепкая и очень длинная! Так что считай, что отделалась ты дешево, и обиды на меня не держи. Он поднялся, подхватил свою сумку и послал Зульфие с порога воздушный поцелуй. В переулке, под чинарами, царили тьма и полное безлюдье, и только на углу с Самаркандской торчал одинокий фонарь. Слева от фонарного столба зияла темным провалом подворотня, и когда Каргин приблизился к ней, там, во мраке зашевелились какие-то тени, обрели объем и цвет, выползли на тротуар, загородили дорогу. Он сбавил шаг, приглядываясь: у столба как будто знакомец, черноволосый сутенер Керимка, а ближе к подворотне другие знакомцы, Вахид и пара его подельников, швейцаров-вышибал. Правда, уже не в чалмах и восточном платье, а в цивильном обмундировании. – Этот? – послышался гортанный голос. – Этот, – подтвердил Керим. – Этот, и сумка никуда не делась! И деньги в ней! Не мог он все на Зульку просадить! Ну, орлы, на четверых? – Как договаривались! «Надо же, – подумал Каргин, – а я кусачки гурии оставил! Придется кулаками молотить…» Мысль не успела завершиться, как из-за спины беззвучно выскользнул кто-то большой и темный – плоский стремительный силуэт, будто вырезанная из бумаги фигура ворона. Каргин различил лишь быстрые взмахи широких крыльев-рукавов и капюшон, скрывавший шею и волосы незнакомца, а больше ничего – тот миновал фонарный столб и подворотню с невероятной скоростью, как если и правда был бы птицей, и скрылся за углом. Мираж? Видение? Вряд ли! Четверо стонавших и хрипевших на земле были несомненной реальностью. – Кто ж это с вами счеты свел, братва? Да еще так ловко! – поинтересовался Каргин, потом решил, что дело это не его, собственных хватает, и двинул по Самаркандской к Рустем-авеню, а затем в отель, в номер люкс на двенадцатом этаже. В холле, направляясь к лифту, он заметил узкоглазого мужчину, похожего на японца – тот получал у портье свои ключи. Может, был он вовсе не японцем, но о газете Каргину напомнил – о той, которую они нашли вместо сумки с миллионами. – Японская газета, блин!.. Издеваются, наглецы!.. – буркнул он, ступив в кабинку лифта. – Могли на русском подложить… или хотя бы на английском…* * *
Интермедия. КсенияВыехали утром, в самый ливень, на микроавтобусе. Вел его хмурый бородатый мужик, а еще трое, с автоматами, в потрепанном камуфляже, устроились на передних сиденьях. Один из них что-то передал Кериму, но не конверт с деньгами, а небольшой пакетик вроде сигаретной пачки. Керим его тут же вскрыл, послюнил палец, попробовал на язык. Веруня, крутая героинщица, сглотнула и зашептала Ксении: сменял нас, гад, на наркоту. На что нас только не меняли, буркнула Зойка. Дорогу Ксения не запомнила. Вокруг громоздились горы, над ними висела стая темных туч, а из туч падали на землю потоки воды. Налево, направо, вверх, вниз, от аула к аулу, на перевал, с перевала, в ущелье, из ущелья… Ирку тошнило, Зойка с Ксенией тоже сидели бледные, а Веруня – ничего ее не берет! – клянчила у провожатых травку и обещала дать всем четверым. Дождь, наконец, прекратился, небо посветлело, и за домами, сгрудившимися на речном берегу, дорога вильнула и исчезла в темном жерле, зиявшем в горе. Машина въехала в тоннель, тянувшийся, как показалось Ксении, на целый километр, а за ним – вот она, крепость… Ксения ожидала увидеть замок на горной вершине, окруженный башнями и зубчатыми стенами, но вместо стен был тут бетонный забор с колючей проволокой, вместо башен – вышки с прожекторами и пулеметами, а вместо замковых построек – низкие кирпичные бараки. Один повыше и побольше – дом местного эмира, куда их и отвели. Пришла мрачная женщина в черном, показала, где вымыться, дала поесть, молвила: поспите с дороги, чтоб к вечеру были как новенькие, вечером байрам[301] намечается, будет эмир пить-гулять да развлекаться. Пройтись можно? – спросила Ксения. Женщина пожала плечами: пройдись, но к забору не подходи. Ежели пристанут, скажешь: я для эмира, только тронь, эмир повесит! Девчонки улеглись, а Ксения отправилась гулять. Скучное гуляние! Плац, бараки, склады, казематы, какие-то развалины, а вокруг – изгородь из бетонных блоков и горы с повисшими над ними клочьями серых туч… Еще – люди, парни и мужчины, все с оружием, и все глядят на нее как волк на овцу… Ксении стало страшно. Она вернулась в дом, в отведенную для них комнату, и юркнула в постель.
Владимир Высоцкий
Глава 8
Ата-Армут, 12 мая– Ростоцкий его зовут, – сказал Сергеев, прихлебывая кофе. – Ростоцкий Павел Петрович, кандидат технических наук, специалист по автоматике, бывший сотрудник КБ-35. Возраст пятьдесят два года, женат, второй брак, супруга значительно моложе, имеет двух детей семи и двенадцати лет. Здесь с семьей. Работает, конечно, в заводском конструкторском бюро. – Отлично! – сказал Каргин. – Взять его за хибок и выкрутить, – проворчал Перфильев, наливая себе третью чашку. Они пили кофе в гостиной своего люкса. Свежий утренний ветерок шевелил занавески в лоджии, на небе не было ни облачка, солнце сияло, словно умытое вчерашним ливнем. Хороший денек! И настроение у Каргина тоже было хорошим. – Так просто взять нельзя, – произнес Сергеев. – Контрактник с секретного предприятия, за ним наверняка следят, так что встреча должна состояться как бы случайно и в непринужденной обстановке. Опять же нас он не знает и, возможно, не захочет с нами откровенничать. Правда, я… – Он на секунду замолк, потом, стрельнув серыми глазками туда-сюда, вдруг усмехнулся: – Признаюсь, уходя на пенсию, я совершил должностной проступок – не сдал свое удостоверение. Оно и сейчас со мной. Просроченное, конечно, но если не приглядываться… – Маскарад? – вымолвил Каргин. – Что-то вроде этого. «Хвост» отсечь минут на двадцать-тридцать, и я его выдою. Ему пятьдесят два года – значит, советский человек. А наши люди такой документ уважают. – Он вытащил из внутреннего кармана красную книжечку. – Маскарад… – снова протянул Каргин. – Что ж, согласен. Опыт имеется – вчера я тоже помаскарадничал. – Как раз хотел спросить. С успехом, Алексей Николаевич? Каргин рассказал о свидании с обольстительной Зульфией. Перфильев при этом скалился, и его ухмылки то и дело переходили в хриплый хохот, но бывший кагэбэшник был серьезен, слушал внимательно, молча, и даже наводящих вопросов не задавал.Потом произнес: – Поздравляю, Алексей Николаевич. У вас, знаете ли, несомненный дар… Если же говорить по существу вопроса, события, думаю, развивались так. Ростоцкий созвонился с Барышниковым и приехал в ресторан после работы. За ним, разумеется, следили, но встреча с приятелем, очевидно, не вызвала удивления. Далее – вилка: либо подслушали, о чем он с друзьями толкует, либо справку быстро навели, что за друзья такие и в чем их интерес. Ну, опоили и взяли по-тихому… Хотя бы для того, чтоб выяснить, что им Ростоцкий наговорил. – Могли у него самого полюбопытствовать, – буркнул Перфильев. – Это вряд ли. Зачем нервировать такого нужного специалиста? Уверен, Ростоцкий даже не подозревает, что Барышников исчез. – Стараниями подлюги-эмира… Ты ему, Леха, ятаган дарил? Так я его за Костю этим ятаганом… – Спешка и заметная активность нам ни к чему, – возразил Сергеев. – Встретимся с Ростоцким, поговорим… вы и я, – он кивнул Каргину. – Я съезжу с Балабиным к заводу, присмотрюсь, подготовлю операцию – скажем, к концу рабочего дня, часикам к шести. «Хвост» бы только отсечь… наверняка они на машине… аварию случайную устроить или что-то в этом роде… – Рудик сделает, – уверенно сказал Перфильев. – Это не годится. Будет с феррашами разбирательство, поймут, что наш, а это уже не тянет на случайность. Посторонний должен быть, незапятнанный… Ну, я подумаю и с вами свяжусь. – Сергеев поднялся. – Могу приступать, Алексей Николаевич? – Приступайте. Сергеев вышел. – Опытный кадр, толковый, – промолвил Каргин. – Еще бы! Дурачков не держим. – Перфильев тоже направился к выходу. – Я в офис, сяду на связь. Едва от покинул комнату, как раздался звонок. – Секретариат мистера Алекса Керка? – Это сам Алекс Керк, – сообщил Каргин. – Слушаю. – С вами говорит советник президента по внешним связям Райхан Ягфаров. Досточтимый ага приглашен в загородную резиденцию «Карлыгач».[302] Завтра, к одиннадцати часам. – Как туда ехать? – Пусть ага не беспокоится. Транспорт будет подан к вашему отелю в девять тридцать. – Благодарю, – сказал Каргин и повесил трубку. Телефон нерешительно помолчал секунду и звякнул снова. – Алекс Керк у аппарата. – Мир вам, ага! Да будет ваша жизнь подобна отдыху в садах аллаха, пусть гурии ласкают вас и воды источника Земзем омоют…[303] – Короче! – рявкнул Каргин. – Вы кто? – Майор… то есть кезбаши Аязов, первый заместитель ферраш-баши Ата-Армута, стража порядка, справедливости и… – Из полиции? – Так точно, ага, храни вас аллах! Сообщаю: был анонимный звонок в городское ферраш-управление с требованием выкупа. Ваши люди в горах у бандитов, и, к сожалению, на неконтролируемой нами территории. Дети Иблиса предлагают провести обмен на перевале в двадцати километрах от Кизыла, послезавтра, в девять вечера. Представили доказательства – прислали по почте галстук одного из заложников. Хорошо, что не палец, подумал Каргин, ликуя. Клюнуло! Прав был Азер, прав – шакалы ненасытны и жадны! Теперь узнать бы что-нибудь про этих деток Иблиса… – Кто эти бандиты с гор? Вам это известно, кезбаши? – Нет, клянусь аллахом! В горах, достопочтенный ага, больше шаек, чем плодов на груше, и мы пока не в силах эту грушу обтрясти… К великому моему сожалению! – Полицейский чин смолк, потом бархатным голосом добавил: – Советую согласиться с их требованиями, ага… большими требованиями, но не чрезмерными для столь богатого человека. Как написано в коране, спаситель ближнего войдет в рай по каменному мосту и шелковым коврам, а пожалевший денег во спасение окажется в… – Сколько? – оборвал кезбаши Каргин. – Ну… три миллиона… за каждого… – Согласен. Хотя, по американскому законодательству, с бандитами в переговоры не вступают, выкуп не платят, а освобождать заложников – дело спецслужб и полиции. – Сожалею о нашей скудости и неумении, ага… Но что мы с вами можем предпринять? Сегодня судьба обнажила меч… А восточная мудрость гласит: лучше пригнуть голову, чем стать на голову короче. Каргин хмыкнул – помнилась ему и другая восточная мудрость: если у тебя два кармана, старайся положить в оба. – В какое время я должен быть со своими людьми и деньгами у городского ферраш-управления? – Когда вам угодно, пресветлый ага. – То есть как? – Нам нужны деньги, а всю операцию обмена мы берем на себя. В горы поедут только наши сотрудники. Мы не можем подвергать опасности драгоценную жизнь… – Понял. Деньги будут, – произнес Каргин и с задумчивым видом опустил трубку. Азер предупреждал: отдавать, конечно, не станут, но деньги попробуют выманить… А еще сказал: как засветятся, я вам, ребята, помогу… Каргин прошел в спальню, вытащил из письменного стола карту с телефонным номером и газету с непонятными иероглифами, поглядел на них, почесал в затылке. Пожалуй, еще не стоит беспокоить Федора Ильича… три дня впереди, многое может случиться… Он спрятал карту, а газету сунул в карман. Телефон затрезвонил снова – короткими требовательными гудками. Что ж это сегодня творится? – подумал Каргин, протягивая руку к трубке. Параллельный аппарат располагался на столе, рядом с черным связным чемоданчиком. Голос был незнакомым и говорили на английском: – Мистера Алекса Керка, пожайлуста. – Слушаю. – Хай! Это из Ниццы беспокоят. Вы сделали вчера заказ, сэр. Кому? Будьте добры назвать полное имя и воинское звание. – Шону Дугласу Мэлори, коммодору. – Вы не женаты, сэр? – Женат. – Девичье имя вашей супруги? – Кэтрин Барбара Финли. – Прошу извинить, сэр, порядок… Ваш заказ выполнен. Пересылаю видеофайл. Он откроется, если вы наберете пароль «narrow».[304] Другого слова, похожего на имя интересующей вас персоны, мы в ангийском не нашли. Устройство связи пискнуло. – Погодите, – сказал Каргин, откинув крышку черного чемоданчика. – Вы и правда нашли крокодилов или змей? – Нет, сэр, сожалею, сэр. Но в Ницце есть океанариум, а в нем – пираньи. Мы арендовали помещение на два часа. – И как все прошло? – Отлично, сэр! Мы сказали, что снимаем фильм ужасов. Переливчатая трель – знак того, что послание принято. Каргин ввел пароль, ознакомился с фильмом и остался доволен. Все было превосходно, особенно звуковое сопровождение – мольбы, стоны, вопли и раздирающие душу крики. Впрочем, если не считать стресса, паники и пары синяков, Нури Курбанов не пострадал. – Лучше будешь друзей выбирать, веник, – пробормотал Каргин, перегоняя запись на дискету. Экран устройства связи ожил, явив улыбающееся лицо коммодора Мэлори. – Добрый вечер, мой мальчик… то есть доброе утро – вечер это у нас… Ну как, доволен? – То, что надо. Благодарю, коммодор! – Как говорят у вас, – Мэлори вдруг перешел на русский, – древний лошадь канаву не портить… Работай в Туране, сынок, а все остальное у меня под контролем. Несколько минут он распространялся о том, как движутся дела в Чехии, Бразилии и Сахаре, о планах дискредитации китайского оружейного экспорта и о каком-то суперагенте ХАК, проникшем на ракетный завод в Нанкине. Потом взглянул на Каргина, прищурился и молвил: – Патрик, твой дед, обеспокоен. Ты, разумеется, не мальчишка, и можешь ходить куда угодно и возвращаться поздним вечером. Однако бери с собой охрану – ну, понимаешь, о чем я? Пять-шесть парней с сорок пятым «полицейским» и в бронежилетах… таких, что собственным телом прикроют… – Не понял, – нахмурился Каргин. – Это я о вчерашнем, – загадочно произнес Мэлори и отключился. Уже донесли, мелькнулаа мысль у Каргина. Кто? Ответ был прост, как один плюс один: чемоданчик у него, чемоданчик у Флинта. «Ну, я тебя, морпех трахнутый!» – подумал Каргин, делая шаг к дверям. Телефон заверещал снова. Он чертыхнулся и снял трубку. Это был Перфильев. – Зайди в офис, Леха. Тут знакомец один тебя домогается. И другие тоже… там, коридоре… – Уже иду. Он вышел из номера и застыл, не в силах справиться с потрясением. От лестницы, занимая всю ширину коридора, двигались человек сорок или пятьдесят: девушки в национальной одежде (кажется, танцовщицы из ресторана), коридорные, носильщики и прочие служители отеля, официанты и официантки с цветами на подносах, а перед ними шествовал важный усатый господин в сопровождении портье. Господин через каждые два шага замирал на секунду и низко кланялся Каргину, портье тоже кланялся и протягивал позолоченные ключи в плоской серебряной вазе. За этой процессией, на лестничной площадке, стоял Рудик, назначенный сегодня часовым, и весело ухмылялся. – Что это значит? – тихим зловещим голосом спросил Каргин. – Не по уставу службу несешь! Откуда посторонние на этаже? – Это не посторонние, Алексей Николаевич, – сообщил Рудик. – Это Камиль-ака, управляющий отелем, с почетной свитой. Ключик вам принесли. – От президентского люкса, – уточнил усатый. – Ошибка получилась, сиятельный бек, вы уж на меня не обижайтесь, этот сын ишака, – он подтолкнул портье, – не тот вам номер приготовил. Такая глупость, такое невежество! Верблюду ясно, где должен жить такой падишах, такой миллиардер! – Усатый застонал, воздев руки к потолку. – Наш драгоценный гость, и не просто гость, а друг светлейшего эмира министра Чингиза Мамедовича! Стыд какой, поселить здесь такого султана! А другой стыд, когда от эмира звонят и требуют ошибку исправить! Будто мы сами догадаться не могли! – Не было никакой ошибки, – сказал Каргин. – Я только со вчерашнего дня эмиру друг, часов с шести-семи. А до того ни падишахом, ни султаном не был. – Но теперь, теперь, – усатый управляющий снова подтолкнул портье, – теперь халиф переедет в достойные его апартаменты, этажом выше, и мое сердце успокоится! – Этажом выше? То есть на тринадцатый этаж? – На четырнадцатый, эфенди, на четырнадцатый! «Тулпар» – отель для интуристов и важных персон, так что, согласно европейской традиции, у нас нет тринадцатого этажа! – Не перееду, – решительно заявил Каргин. – Времени нет на переезды, да и не нужно мне это. – Умоляю, мой хан! – Кажется, усатый собирался бухнуться на колени. – Ключ! Прошу вас! Возьмите ключ! Все ваши бесценные вещи будут перенесены под личным моим наблюдением! – Хороша ложка к обеду, – отрезал Каргин. – Я остаюсь здесь и прошу оставить меня в покое. Уходите! Усатый ударил себя кулаком по голове и взвыл. Толпа служителей поддержала его горестными воплями и стонами, а девушки поникли, словно срезанные цветы. – Аллах! Смилуйтесь, эфенди! Какой для нас позор, беда какая! Что я Чингизу Мамедовичу скажу? Что я… Это может продолжаться до бесконечности, решил Каргин и строго произнес: – Не о Чингизе Мамедовиче нужно беспокоиться. Он вам не хозяин. – Потом набрал побольше воздуха в грудь и гаркнул: – Мистер Перфильев! Дверь отворилась и Влад высунулся в коридор. – Да, босс? – Я покупаю этот отель! Скажите Флинту, пусть свяжется с кем надо, и все оформит. Управляющего – вон! Слишком назойливый, лучше наймите финна или шведа. Остальных… – Он обвел взглядом замершую толпу. – С остальными посмотрим. Тех, кто не понимает дисциплины и настоятельных просьб гостей… Рудик едва успел посторониться – толпа ринулась вниз по лестнице. Есть ситуации, когда совсем неплохо быть богатым, подумал Каргин, переступая порог номера Флинта. Морпех и Перфильев ждали его в гостиной. – Ты в самом деле хочешь купить эту тулпару? – поинтересовался Влад. – Посмотрим. – Он сунул руку в карман и вытащил диск в прозрачном пластиковом футлярчике. – С этим в банк отправимся, прижмем Алекперова. Только что получил… И еще новости есть: во-первых, на завтра к туран-баши приглашают, а во-вторых, звонил полицейский майор. Говорит, какие-то бандиты с гор галстук прислали и выкуп требуют за наших, шесть миллионов. Деньги надо передать в течение трех дней феррашам, а уж они поделятся с бандитами. Когда он повторил это на английском, Флинт поморщился. – Ненадежно, босс… Мы никак не контролируем ситуацию. – И я того же мнения, – кивнул Перфильев. – Опять же – как Толпыго нас учил? Спецназ деньги берет, но никогда не отдает. Думаю, обождать надо день-два, а там, глядишь, Сергеев чего-нибудь накопает. – Значит, так и решили. Тем более, что время у нас еще есть. – Вымолвив это, Каргин повернулся к Флинту. – Скажите, Генри… честно скажите… мы оба – офицеры, и ни к чему нам друг друга обманывать… Вы связывались с Мэлори? Поздно вечером, ночью или сегодняшним утром? Флинт с обидой отвесил губу. – Это верно, шеф, что мы оба офицеры. А офицер через голову начальника ни к кому не обращается! Так? – Так. – Хотите, чтобы я слово дал? – Не хочу. Просто… просто я должен был убедиться. Есть факты, которые я объяснить не могу. – Он положил руку на плечо Перфильева. – Ты сказал, меня какой-то знакомец ждет? Где? – В офисе. Говорит, у светлого эмира свиделись, у славного сардара Чингиза Мамедовича. – С поручением от него, что ли? – Нет. По собственной инициативе явился, говорить с тобой желает. Точнее, с нами обоими. – Ну, так пошли! Каргин распахнул двери в офис, обежал глазами комнату и удивленно хмыкнул. Со стула поднялся мускулистый парень в джинсах и легкой рубашке, и хотя наряд его не походил на прежний и казался вполне современным, узнать парня не составляло труда. Телохранитель Таймазова! Лучший в Туране воин, верный, преданный человек, таймазовская тень… Каргин изумился еще больше, когда мускулистый встал во фрунт, бросил ладонь к виску и четко, громко произнес: – Сержант Булат Файхуддинов, спецподразделение «Стрела»! – А потом, понизив голос, добавил: – Возьмите к себе, товарищ капитан… возьмите, мочи моей больше нет…
* * *
Они сидели за столом, и Булат Файхуддинов, татарин из Прикаспийска, рассказывал историю своей жизни. Как призвали его в девяностом и отправили служить под Курск, в десантную дивизию, как осваивал воинскую науку, как били его «старики» в сортире, как прыгнул с парашютом в первый раз, как дослужился до первой лычки, а потом и до второй, и получил законное право почесать кулак о морды новобранцев, как попал он в Югославию с российским миротворческим отрядом, как заработал осколок под ребра и пулю в колено – еще чуть-чуть, и был бы инвалид! – как четыре месяца провалялся в Смоленском военном госпитале, как заново начал ходить, а когда бросил костыли, написал заявление на сверхсрочную, и взяли его, как способного и нюхнувшего пороха бойца, в «Стрелу». Правда, дальше учебной роты он не пошел, разогнали «Стрелу» в девяносто третьем, но научиться успел он многому и год провел в Москве, выносил забияк из разных кабаков и охранял какого-то важного депутата. Потом у депутата ему обрыдло, вернулся в Прикаспийск, на родину, и выяснил, что город после ликвидации военно-морской базы как полумертвый, ни работы нет, ни даже деловых, к которым стоит в охранники наняться – если, конечно, тех не считать, что наркотой промышляют. Уехал в Ата-Армут, дрался на рингах, где идут бои без правил, и после одного такого сражения Таймазов его и подобрал. Впечатлился тем, как Булат разделал одного могучего узбекского пахлавана! Теперь у Тайм-аута служит, третий год пошел, бабки – приличные, тоска – смертная… День сидишь за дверью кабинета, вечером – в закрытый клуб, тот же кабак-бордель, но для начальства, потом в коридор, к спальне, стоишь там, слушаешь, как пьяный Тайм на новой бабе пыхтит, а как отпыхтит и заснет, можно отдохнуть в комнате рядом или к себе уехать. С утра – все то же… ни личной жизни и вообще никакой… Одна радость, голодные бабы и девки выпрыгивают из эмирской спальни – пыхтеть-то он горазд, а толка чуть… Тоска! Ни чести, ни славы, ни настоящей драки и никакого морального удовлетворения… – Ты почему эмира Тайм-аутом зовешь? – поинтересовался Каргин, дослушав историю до конца. – Созвучно с Таймазовым, что ли? – Созвучно, – подтвердил Булат. – А еще до баб охоч, однако не по своим возможностям. В постели часто тайм-аут берет. – Ну-ну… Значит, говоришь, в «Стреле» служил, в учебной роте? А командовал кто у вас? – Капитан Нефедов. А всем учебным центром – майор… майор… фамилию вот не упомню, потешная такая… – А ты, сержант, напрягись, вспомни, – посоветовал Перфильев. – Толстиков или вроде Топтыгин… Нет, Толпыго! Он, Толпыго, товарищ капитан! – Какой из себя? – Большой, крупный, корпусом на медведя похож, а рожей – на гориллу. Силища в нем, мать!.. Ломы гнул, хочешь о шею согнет, хочешь о колено… Еще потрепаться любил… ну, изречения там всякие, пословицы да поговорки… Каргин с Перфильевым переглянулись – парень, похоже не врал. – Что говорил он, помнишь? Ну-ка, приведи примеры. Булат расплылся в улыбке. – Что-что, а этого не позабудешь! Честь отдают не морде, а погону, говорил! Сержант – лучший друг человека, говорил! Шнапс отдельно, патроны отдельно, говорил! А еще, на стрельбах, зимой, глотнет бывало из фляжки, прищурится и скажет: сироп от кашля, если не очень усердствовать, причиняет верность глазу и твердость руке! – Все правильно, – молвил Каргин. – Правильно, но все же… – Он приподнял бровь и посмотрел на Перфильева. – Все же придется доказать, что ты у нас не засланный казачок, – уточнил Влад. – Три года эмирчику служишь, под дверью сидишь, бабцов его трахаешь, деньги берешь… Так и так, он твой благодетель! Смуглое лицо Булата потемнело. – Обижаете, товарищ капитан! – Не обижаю и обидеть не хочу. Ты в наше положение войди: что нам думать? То ли ты «стрелок»-сержант, свой до последнего патрона, то ли из эмирских холуев… Люди меняются, парень! А тут еще наших украли… И дело у нас тут щекотливое… Доказательства нужны! – Доказательства… – повторил Булат. – Ну, будут сейчас доказательства! Он наклонился, пошарил в сумке, что валялась у ног, и вытащил видеокассету. – Вот! – Что на ней? – спросил Каргин. – И откуда взял? – Я знаю, какое у вас щекотливое дело, слышал вчера, о чем с Тайм-аутом толковали. Вот, втихаря переписал… Все не смог, опасно, запись большая, два часа с копейками… отрывки выбрал, кусочки, минут на десять. Это, товарищи капитаны, про «Шмель». Каргин поднялся, подошел к магнитофону, сунул кассету в приемную щель, включил телевизор. Скалистые вершины качнулись на экране, над ними поплыли облака, потом под скалой возник ангар с распахнутыми воротами и в нем – три узких стреловидных корпуса. Крайняя машина покачнулась, приподнялась на метр-полтора, ринулась вперед, и изображение исчезло. Новый кадр: горный склон, пересеченная местность, каменные глыбы да утесы, чахлые кусты, редкие деревья, и под одним из них – танк, то ли макет, то ли настоящий Т-72. Откуда-то сбоку, из-за камней, тенью выскальзывает хищный силуэт, и тут же начинается канонада – бьют, похоже, из противотанковых пушек, гранатометов и ПТУРСами. По-серьезному бьют, не холостыми… Тень мечется вдоль склона вверх-вниз, стремительно огибая скалы и приближаясь к дереву с танком; разрывы снарядов не поспевают за ней. Потом – всплеск огня под кабиной, дымный след ракеты и фонтан яростного пламени: танк – в хлам, дерево – в обломки… Склон исчезает; теперь на экране колпак бетонного бункера, группа людей перед ним и замерший над травой стреловидный аппарат. Ток воздуха колышет траву. Колпак кабины сдвигается – видны голова человека в шлеме и его руки. Пилот спрыгивает на землю, снимает шлем. Его лицо крупным планом: серые холодные глаза, тонкие губы, тонкий хрящеватый нос. Черты вполне европейские. – Все, хана, – произнес Булат. – Больше переписать не рискнул, зато рассказать могу. Каргин вытащил кассету. – Ты там был, сержант? Где это? – Старая база в горах, к юго-западу от Армута, на вертолете с час добираться. Полигон Ариман[305] теперь называется. Я туда с эмиром летал, за спиной стоял, с бутылкой, мать ее, и с рюмкой! В апреле, недельки три тому назад… Испытания были, потом фильм Таймазову привезли. Тайм-аут и заместители его при мне смотрели, очень были довольные. Еще бы! Машина, «Шмель» этот – ну, зверюга! Попасть в него никак, а сам долбанет ракетой или с пушки, все рылом вниз! – А пилота ты видел? Этого, тонкогубого? – Близко не видел, слышал только, что Витасом зовут. Не из местных, литовец он нанятый или латыш… Говорили, раньше будто бы в ВВС служил, на «сушке»[306] летал… – Кто говорил? – Ну, эти, кто там был, – Булат ткнул пальцем в телевизор. – Хмыри из эмирской свиты… херы-сераскеры да шиши-минбаши… Зазвонил телефон, и Каргин чертыхнулся. Перфильев поднял трубку, послушал и сказал: – Наш сыскарь на проводе. У завода толчется, и есть у него идея, как «хвоста» убрать. – У меня тоже есть идея, – сказал Каргин и повернулся к Булату. – Ты, сержант, к нам просишься? Вот сегодня и приступай. – Так точно, товарищ капитан! Эти слова ласкали слух. Давно Каргин их не слышал, давно… В Легионе говорили «да, мой капитан!» и руку к виску тянули не по-нашему… – У тебя колеса есть? – «Жигуленок-пятерка». Подержанный, но… – Подержанный даже лучше. Встретишься с одним человеком, Сергеев его зовут, он тебе определит задание. Влад, спроси у подполковника, куда сержанту подъезжать? Перфильев бросил несколько слов в трубку, выслушал ответ. – На угол Кокчетавской и Чимкентской, к пивной палатке. В пятнадцать ноль-ноль. – Понял, сержант? Выполняй! С этой минуты, – Каргин поглядел на часы, – ты у меня на довольствии. Булата как ветром выдуло. – Быстрый парень. Научился у Толпыго кой-чему, – произнес Перфильев, глядя, как Каргин возится у магнитофона, вытаскивает кассету и прячет ее в сейф. Он помолчал, потом добавил: – Фильм этот… Помнишь, Алексей, как «косилка» по склону шла? На какой скорости камни огибала? – Помню, – ответил Каргин. Они посмотрели друг на друга. Лязгнул замок сейфа, Перфильев вздохнул и сказал: – Пойду за Дмитрием и Славиком. Пора в банк ехать.* * *
К Первому президентскому подкатили без лишней помпы. Славик остался за рулем, Каргин, Перфильев и Дима, тащивший солидного вида чемоданчик, вошли в просторный вестибюль, миновали двери операционного зала с переминавшимся рядом охранником и направились к лестнице. Там тоже дежурил страж. – Куда? – К Алекперову, – бросил шагавший впереди Перфильев. – Зачем? – Не твоего ума дело. – Влад попытался отодвинуть охранника, но тот стоял твердо. – Если по договоренности, пропуск должен быть! Где пропуск? – Щас будет. Старшего зови, дубина! Явился старший, в едва сходившейся на брюхе униформе с блестящими пуговицами и галунами, с бронзовой бляхой на груди, с кобурой и мобильником у пояса. Каргин окинул его скучающим взглядом. – Это мистер Керк, президент «Халлоран Арминг Корпорейшн», – объяснил Перфильев. – Из Сан-Франциско прилетел. Желает видеть Алекперова. – Ильяс Гарифович занят, ага. Созвонитесь с его секретаршей, договоритесь о… Перфильев взял старшего за грудки и встряхнул так, что бляха звякнула о пуговицы. – Я тебе что сказал, павлин беременный? Я сказал, что это мистер Алекс Керк из Калифорнии, дружбан сардара Таймазова… Хочет деньги свои в ваш долбаный банк положить, миллионов двести баксов… Проводи к Алекперову, живо! Толстяк побледнел, бросил панический взгляд на чемоданчик в диминых руках и, заикаясь, пробормотал: – Эт-то т-там? В-все д-двести миллионов? О, аллах! – Там сопроводительная документация, – сказал Перфильев, подталкивая старшего в жирную спину. Они поднялись по лестнице и прошли нешироким коридором к приемной. Старший охраны, сорвав с пояса мобильник, что-то лихорадочно бормотал на туранском и забегал вперед, делая свободной рукой приглашающие жесты. Дверь в приемную открылась, юная черноглазая секретарша подхватила Каргина под локоток и, обдавая запахами французской косметики, повела к следующей двери, дубовой и по-советски основательной. На пороге Каргин обернулся. – Ждать здесь. Можете пока девушку развлечь. Кабинет у Ильяса Гарифовича Алекперова был сугубо деловой: стол с вращающимся креслом, еще пара кресел для посетителей, сейф, телефоны, портрет туран-баши и стенка – бар, книжный шкаф и секретер с плотно закрытыми дверцами. И сам Алекперов выглядел по-европейски подтянутым и деловитым – узкое бледное лицо, непроницаемый взгляд, ранние залысины, темный костюм, строгий галстук, перстень с большим бриллиантом на безымянном пальце. Каргин подошел к креслу, сел и, не протягивая руки, уставился в рыбьи глаза банкира. – Вам доложили, кто я? – Да. – Алекперов приподнялся и слегка склонил голову. – Я следил за вашей пресс-конференцией по телевизору и вполне в курсе. Имеются деловые предложения, мистер Керк? Я весь внимание. – Имеются. Мы выбираем уполномоченный банк, через который будут финансироваться наши проекты в Туране. Эта процедура требует личного знакомства с владельцами и руководством финансово-кредитного учреждения. Вопрос, так сказать, доверия… ну, вы понимаете… конфиденциальность, надежность, взаимовыгодное партнерство. Банкир развел руками. – Прошу прощения, мистер Керк, с такими вопросами не ко мне. Я не владелец банка и даже не главный его руководитель. – Ничего, – успокоил его Каргин. – С Нури Дамировичем мы уже свели знакомство в Ницце, так что считайте, что таможня дала добро. – Заметив, что по лицу Алекперова промелькнула тень беспокойства, он наклонился к банкиру и негромко вымолвил: – Небольшая контрольная проверка, Ильяс Гарифович, тест на искренность: есть правильный способ зарабатывать деньги, и есть быстрый. Вам какой больше нравится? – Мы, банкиры, зарабатываем только одним способом. – Правильным? – Разумеется. – Сожалею, но вы не прошли проверку, – заявил Каргин. – Придется выбрать другой банк. Но прежде поговорим о некой сумочке, исчезнувшей из вашего хранилища. Думаю, это случилось позавчерашним вечером или вчерашним утром. Физиономия Алеперова начала бледнеть, но в остальном он глазом не моргнул и голосом не дрогнул. – Это невозможно, мистер Керк. Абсолютно невозможно, уверяю вас. В самом деле наглец, мелькнуло у Каргина в голове. А выдержка! Выдержка просто железная! Он вытащил из кармана диск, придвинулся к банкиру еще ближе и мягко сказал: – Ты, Илюша, не врубаешься в ситуацию. ХАК нельзя грабить, это ХАК грабит всех! На любом континенте, в любой стране, даже в Туране! – Каргин передвинул диск к Алекперову. – Телевизор с видаком найдется? Так погляди! Сейчас, при мне. Привет здесь от Нури Дамировича, президентского племянника. Тебе первому показываю, а мог бы дядюшке отправить с запиской анонимной, чем вызваны такие меры… Оцени! Алекперов поднялся с каменным лицом, подошел к стенке, откинул доску секретера, за которой матово блеснул огромный телевизионный экран. Каргин, почесывая рубец под глазом, глядел на его спину. Спина была прямой, но пальцы, когда банкир вставлял диск в прорезь магнитофона, дрожали, и отраженный бриллиантом солнечный зайчик прыгал по стене. – Звук, – промолвил Каргин, – звук сделай потише. Не то секретаршу свою перепугаешь. Трансляция длилась недолго, минут шесть-семь, и когда банкир повернулся к Каргину, с лицом его произошла разительная перемена. Оно уже не казалось непроницаемым; в глазах метался ужас, веки трепетали, а из краешка рта стекала на безупречный костюм струйка слюны. – Что… что это? – с трудом промолвил Алекперов, возвращая диск. – Вода, и в ней… Что это было? – Океанариум города Ниццы, – любезно пояснил Каргин. – С пираньями. Рыбки такие, в Амазонке водятся. – И они Нури… – Жив Нури и относительно цел. Даже не знает, кому обязан этими острыми переживаниями. Деньги сюда! – Каргин похлопал ладонью по столу. – Если вопросов больше нет, то… – Вы не отправите эту запись президенту? – Сдвинув портрет туран-баши, под которым обнаружилась дверца сейфа, Алекперов открыл его и начал выкладывать тугие зеленоватые пачки. Каргин считал. – Не отправлю. Зачем волновать старого человека? Два с половиной, все правильно… Теперь еще пятьсот, штрафные санкции… Поживее, Ильяс Гарифович! Он поднял трубку телефона, набрал калифорнийский номер и, услышав голос Холли Роббинс, секретарши Мэлори, сказал: – Это Алекс Керк из другого полушария. Вы еще на работе, мэм? Не бережет вам коммодор, не бережет! – Сегодня просил задержаться, пока вы не позвоните, сэр. Как погода в другом полушарии? – Просто великолепная. Скажите коммодору, что вопрос урегулирован, и кормить пираний нет необходимости. – Слушаюсь, сэр. У нас погода тоже неплохая. Такое ясное звездное небо… Каргин повесил трубку, склонил голову к плечу и осмотрел ровный штабель долларовых пачек. Потом вытащил газету и бросил ее на стол. – Еще один вопрос, мой дорогой банкир. Это зачем в ячейке оставили? И почему на японском? Алекперов с трудом сглотнул. – Японец дал. – Какой японец? – Позавчера меня в «Достык» пригласили. Местные предприниматели, бизнес у них с этим японцем, икру он хочет вывозить или осетрину, а оплата пойдет через Первый президентский… У меня с английским нет проблем, так что пришлось японца развлекать, а он мне эту газету сунул. Сказал, что на первой странице интервью с каким-то мафиози, ограбившим банк на два с половиной миллиона… Зальчик! – припомнилось Каргину. Отдельный маленький кабинет, а в нем – танцующая девушка и четверо мужчин… Тот зальчик, куда он заглянул, прогуливаясь у «Достыка»… Японец там, кажется, присутствовал… а другой – у стойки портье, вчера… Многовато развелось в Армуте японцев, решил он, поднимаясь. Алекперов, ссутулив плечи, с тоской взирал на груду долларов. – Скажу вам честно, мистер Керк… Приехал вчера пораньше, взял дубликаты ключей, спустился в хранилище, вскрыл ячейку, пересчитал… А там – ровно два с половиной, как в газете! И показалось мне, аллах знак подает… Сумку взял, а газету оставил. Сумочку вашу я потом сжег… – Это прискорбно, но предусмотрено, – произнес Каргин. Затем открыл дверь, позвал Диму и велел сложить деньги в чемоданчик. На пороге остановился, посмотрел на Алекперова и вымолвил: – Есть знаки от аллаха, Ильяс Гарифович, а есть от шайтана, и постарайтесь их впредь не путать. Океанариума в Армуте, конечно, нет, но серпентарий с кобрами найдется.* * *
Сергеев заехал за ним в «Тулпар» в четверть шестого. Машина была неприметной, купленной пару часов назад и оформленной на Балабина – старенький «москвич», когда-то небесно-голубой, а теперь скорее цвета северного неба, обложенного тучами. Движок, однако, оказался приличный и позволял выжимать километров восемьдесят. Не «ЗИМ», конечно, и не «мерседес», зато внимания не привлекает. Каргин приобретение одобрил, забрался на заднее сиденье, к подполковнику, и выслушал подробный инструктаж: что говорить, когда молчать и как с многозначительным видом хмыкать и гмыкать. Закончив, Сергеев спросил: – Что с визитом в банк, Алексей Николаевич? Свое отспорили? – Отспорил, и даже с прибылью. Взял НДС в двадцать процентов. – Умеете убеждать, шеф! – Довод был убедительный. – Каргин вздохнул и сказал: – Из полицейского управления звонили, некий кезбаши Аязов… Бандиты с ним связались, выкуп требуют за наших в шесть миллионов, а что за бандиты, непонятно… Контакта с ними Аязов не дает, настаивает, чтобы деньги через него переслали. Вы узнайте, что за тип этот кезбаши. Не нравится он мне. – Узнаю, непременно узнаю, – молвил Сергеев. – Это легче, чем Ростоцкого искать. Ну, время! Поехали! Пока Балабин вел машину из центра в заводской район, Каргин предавался воспоминаниям. Давным-давно, лет тридцать назад, когда семья их обреталась в гарнизоне под Хабаровском, отцов сослуживец дядя Паша (фамилию он по малолетству не запомнил) купил такой вот «москвич» или очень похожий, тоже голубой; купил, вытянув из шапки командира счастливую бумажку с крестиком, собрав три четверти суммы по всем гарнизонным приятелям-офицерам. А когда обкатал машину, залезла в нее ребятня – Минька, дяди-пашин сын, Ася с Верушкой, близняшки, маленький Лешка и еще пять или шесть душ – и повез их дядя Паша в тайгу, к какому-то озеру с теплыми ключами, и купались они там по посинения, и визгу было ровно столько, сколько счастья… Где они теперь, думал Каргин, где дядя Паша, и Минька, и те девчонки, которых мать родная путала? Где? Живы ли, довольны? Нашлась ли им доля в новой России, и какая? И где тот голубой «москвич» – сгнил ли на свалке или еще бегает, рычит с презрением на всякие «пежо», «фиаты» и «форды»? – Здесь остановимся, – услышал он голос Сергеева и очнулся. До площади с трехэтажным зданием заводского управления было метров двести или сто пятьдесят, и Каргин отлично видел большие фанерные щиты с президентским портретом и загадочной надписью на туранском, а за ними – стоявших на посту автоматчиков. Двери проходной были распахнуты, и из них потоком изливались труженики, распадаясь на более мелкие струйки – кто домой пешком, а кто к автобусной остановке. Иногда слышался требовательный автомобильный гудок, ворота рядом с проходной с протяжным скрипом раздвигались, пропуская машину – это, надо думать, разъезжалось начальство. – В одну смену работают, – заметил Сергеев. – И народа немного для такого комплекса, человек восемьсот. Ну, все уже прошли-проехали… Скоро наш гусь появится. – Узнаем с такого расстояния? – усомнился Каргин. – Узнаем. Я все про него выведал: какая тачка, каким маршрутом едет к дому, и какого цвета занавески в спальне… Не пропустим! За воротами загудело, и выехали сразу три машины, «хонда» и два «жигуленка», «восьмой» и «девяносто девятый». Каргин дернулся. – Не наши, – успокоил Сергеев. – На «хонде» – паша директор Усманов, на «девяносто девятом» – ага директорский сынок, в папиных замах ходит, а на «восьмерке» – мелочь пузатая. Наш… Ворота снова отворились, пропустив «тойоту» цвета кофе с молоком. Она отъехала метров на сорок, и тут же невесть откуда вынырнул «жигуль»-пикап и пристроился в арьергарде. – Вот это наши клиенты, гусь со следопытами. – Подполковник, вытянув руку, похлопал Балабина по плечу. – Давай за ними, Василий. Только не спеша, не спеша… Суетиться нам ни к чему. Машины покатили вниз по Кокчетавской, лавируя среди выбоин и вздымая пыльные облака. Эта дымовая завеса была почти непроницаемой. – На «тойоте» ездит! – сказал Каргин. – Видать, специальное разрешение имеется. – Не нужно ему разрешение, Алексей Николаевич. Как только контракт подписал, пожаловали орден Жемчужина Мудрости с Почетной Цепью и всеми превилегиями. Квартира в пять комнат за центральным рынком, деньги, должность главного специалиста, фрукты-яблоки и климат чудный, триста двадцать солнечных дней в году… Ошалеешь после челябинской скудости! Балабин осторожно вел машину сквозь пыльные тучи, обгоняя то переполненный автобус, то грузовик. «Тойота» прочно исчезла в этом мареве, но тыловая часть пикапа мелькала где-то впереди, раскачиваясь на колдобинах и ямах. – К Чимкентской приближаемся, – предупредил Сергеев. – Парень, которого вы прислали, вроде бы шустрый и за рулем не новичок. Если все как надо сделает, тогда… Впереди что-то случилось. Каргин успел заметить, как из поперечной улицы вырвался красный автомобиль, перекрывая дорогу пикапу; пронзительно взвыл клаксон, раздался скрежет тормозов, глухой звук удара, затем пикап развернулся на месте и въехал прямо в торчавший на углу пивной ларек. Красная машина, кажется, не пострадала, аккуратно припарковалась у обочины, и из нее вылез водитель. Проезжая мимо, Каргин увидел, как Булат шагает к пикапу и ларьку, разбираться. Вид его не сулил обидчикам ничего хорошего. – Толковый юноша, – похвалил Сергеев. – Не огреб бы только хлопот… – Какие хлопоты? – откликнулся Каргин. – Лучший боец в Туране, личный телохранитель Таймазова… Сейчас он из этих следопытов мясо по-казахски делать будет. Бывший кагэбэшник кивнул. – Вы умеете подбирать кадры, Алексей Николаевич. Дорого обошелся? – Он не за деньги. Ему за державу обидно, – пояснил Каргин. – Идейный, значит… Хорошо! Идейные, они всегда надежнее. «Москвич» свернул на длинную извилистую улицу, следующую за Чимкентской. Тут стояли какие-то древние кирпичные лабазы с пустыми проемами сорванных с петель ворот – вероятно, пакгаузы или заводские склады. Тротуара здесь не было, и ни людей, ни машин не замечалось. Серая пыль, жаркое солнце, зной, тишина… – Самая ближняя дорога в центр, – пояснил Сергеев и сказал в спину Балабину: – Вот теперь бы, Вася, поторопиться! – Он рядом. Сейчас достану, – ответил прапорщик и выжал педаль газа. Мотор взревел, автомобиль рванулся вперед, скрипя и подпрыгивая на ухабах, догнал осторожно пробиравшуюся по улице кофейную «тойоту», обошел ее слева, подрезал и, повелительно рявкнув немелодичным гудком, заставил остановиться. Сергеев и Каргин выскочили, двинулись к «тойоте» с двух сторон. Сидевший там мужчина – немолодой, с мешками под глазами и резкими морщинами у рта – насторожился; ладонь его подрагивала на рукояти переключателя скоростей. – Не пытайтесь уехать, Павел Петрович, дорога перекрыта с обоих концов, – сказал Сергеев, отворяя дверцу и по-хозяйски располагаясь на переднем сиденьи. Каргин сел сзади. – Кто вы? Что вам нужно? Денег? Я отдам все, что при мне… – На ваши деньги не посягаем. Хотим поговорить, а чтобы нам не помешали, давайте заедем в ближайший склад. В эти ворота, пожайлуста. Ну, поезжайте, поезжайте… Каргин многозначительно прочистил горло, «тойота» развернулась и скользнула под темные бетонные своды пакгауза. Вслед за ней прошелестел колесами «москвич». – Вот и хорошо, вот и ладно… – Сергеев прикрыл глаза и начал монотонно декламировать: – Ростоцкий Павел Петрович, тысяча девятьсог сорок шестого года рождения, гражданин России, живет с женой и двумя детьми на улице Памирская, сорок, квартира двадцать пять, в Челябинске проживал по адресу… Впрочем, неважно; где проживал, там его уже нет. – Вы русские? – Ростоцкий с видимым облегчением перевел дух. – Откуда? – Отсюда, – бывший кагэбэшник вытащил из кармана удостоверение. – Я – полковник Сергеев, отдел внешней разведки, а за вашей спиной – капитан Брянский, ликвидатор. – Хрмм… – мрачно произнес Каргин. – Ликвидатор? – Кровь отхлынула от щек Ростоцкого. – Почему ликвидатор? – Работа у него такая, – пояснил Сергеев. – Да вы не тревожьтесь, Павел Петрович, он здесь не по вашу душу. Вы, конечно, ренегат, сбежали за границу из секретного КБ, пользуясь тем, что въезд сюда безвизовый… Но времена нынче другие, и мы таких беглецов не отстреливаем. – Как сказать, – вымолвил Каргин, щелкая пальцами. – Помолчите, капитан, и поставьте оружие на предохранитель. Видите, на человеке лица нет… Так вот, Павел Петрович, вы нас, собственно, не интересуете, мы Барышникова ищем, ценного для родины специалиста. Пропал Николай Николаевич, исчез! И что интересно, после встречи с вами. Ресторан «Достык», седьмое мая, примерно двадцать ноль-ноль… Повидался с вами с присутствии нашего сотрудника, и ни слуха, ни духа о них… Вы можете такую неприятность объяснить? Маскарад так маскарад, подумал Каргин и снова щелкнул пальцами. Потом доложил: – Оружие на предохранителе, товарищ полковник. – Вот и хорошо, вот и замечательно… Слушаю вас, Павел Петрович. Но Ростоцкий молчал. Щеки его побледнели еще больше, мешки под глазами отвисли, и выглядел он сейчас лет на шестьдесят с хорошим гаком. Каргин, смотревший на него в обзорное зеркальце, понял, что специалист по автоматике ничего не знает про исчезновение Барышникова, и что новость эта для него как гром небесный. Так оно и оказалось. – Исчез? Почему исчез? – пробормотал наконец Ростоцкий. Он вытащил из кармана платок и вытер лицо дрожащими руками. – По той причине, что вы ему что-то интересное сказали, – пояснил Сергеев. – Такое, что знать ему не положено. Вот местные власти и всполошились… Ну, так о чем была беседа, Павел Петрович? Ростоцкий нервно комкал платок. – Откуда я знаю, что вы не провокатор? – буркнул он. – Сунули мне удостоверение КГБ, которого в природе уже нет, и там вы подполковник, а никакой не полковник! Вдруг эти самые местные власти вас и наняли! Глазастый, однако! – подумал Каргин. Ростоцкий боялся, но страх его разума не туманил; был он, видимо, из тех ученых кадров, что при любых обстоятельствах умеют смотреть и делать выводы. Это вызывало уважение. А как вот Сергеев вывернется? – мелькнула мысль. – Вы правы, это мое старое удостоверение, – спокойно промолвил подполковник. – Память о днях былых… Я показал его вам, чтобы хоть как-то отрекомендоваться… Что же касается новых документов, то их в зарубежные командировки не берут, не положено по инструкции. У капитана Брянского и такого нет, – он опять помахал красной книжечкой. – Капитан у нас бизнесмен и находится здесь совсем под другой фамилией. Азбучные истины, Павел Петрович! Ростоцкий слушал его, закрыв ладонями лицо, покачиваясь и что-то глухо бормоча. «Коля, Коля…» – разобрал Каргин. Кажется, их пленник был в отчаянии. Наконец он опустил руки и произнес: – Я виноват, полковник… не надо было с Николаем встречаться… остатки совести заговорили… – В глазах Ростоцкого плавала боль. – Скажите, вы в курсе миссии Барышникова? Он ведь сюда уже в который раз приезжает… – Это нам известно. – Вы знаете, что изделие «Кос-4» сложно использовать без некоторых специальных средств? Я говорю о боевом применении. – Знаю. Вы говорите о ДМУО – синий, красный и белый модули. – О них. Я нанят, чтобы изготовить заменитель, но в существующих здесь условиях эта задача не решается. Чего я не скрывал – ни от дирекции завода, ни от министра Таймазова. Я – инженер-электронщик, и у меня три помощника, а ДМУО разрабатывал коллектив из двухсот человек, и были в нем системщики, математики, программисты и тактики боя в самых различных условиях… Повторить такую разработку здесь нереально! И вот… Горло у Ростоцкого перехватило. Он снова вытер лобплатком, тяжело вздохнул и продолжил: – И вот, где-то в начале апреля, мне приносят все три модуля. Откуда, спрашиваю? Усманов, директор наш, говорит: прямо из Челябинска, есть у нас там связи. – Какие? – прервал Сергеев. – Ну, понимаете, не меня одного сюда завербовали. Есть технологи, есть конструкторы, люди с опытного производства… – Кузин, Петренко, Шаров и другие, не так ли? – Да. У каждого масса знакомых в родных пенатах… В общем, изготовили в Челябинске комплект, тайком и за наличные. Директор мне его дает и спрашивает: можно ли повторить по этому образцу? Можно, говорю. Если заново проектировать, мне нужно двадцать лет, а повторить могу за десять. Кое-как объяснил, в чем сложности: программная часть под защитой, классные нужны специалисты, чтобы ее расковырять, да и разводку плат так просто не скопируешь… Усманов понял. Ладно, говорит, наладим производство в Челябинске, а вы стенд для проверки соберите, нужно ведь знать, что нас за наши деньги не надувают. Стенд я собрал, проверил – все в порядке. Потом модули забрали на полевые испытания… «О них мне сержант и докладывал», – подумалось Каргину. Все детали и фрагменты картины, от намеков светлого эмира до информации, полученной сейчас от Ростоцкого, укладывались в его голове, подгонялись друг к другу, вставали на свои места, как винтики и колесики в часовом механизме. В самом деле, чего мудрить, специалистов переманивать и все такое? Была в Советском Союзе кооперация, и сохранилась она на всем постсоветском пространстве, только стала тайной и более эффективной: вы нам блоки электронные, а мы вам живые деньги, а если мало, наркотой добавим… Не было уже сомнений, что сардар Таймазов – и, вероятно, сам туран-баша – сделали крупную ставку на «Шмели»-"Манасы". И не удивительно! Если развернуть такое производство, деньги рекой потекут, и будет здесь не Туран, а Нью-Бахрейн или новый Кувейт… – Об этом вы и рассказали Барышникову? – услышал Каргин голос Сергеева. – Да, полковник. – Ваши… гмм… хозяева интересовались этой встречей? – Да. – Кто конкретно? – Нукер… то есть минбаши Дантазов, куратор проекта от министерства обороны. Я сказал: встретился с давним приятелем, выпили рюмку, поболтали, как хорошо в Армуте и плохо в Челябинске… Это не возбраняется! – Верная линия поведения, – одобрил Сергеев. Щека у Ростоцкого дернулась. – Теперь вот вам все рассказал и надеюсь – бога молю! – что вы не куплены моими нанимателями. Я им, конечно, нужен позарез, и убивать меня не станут, но могут наказать. А наказать так просто! Дети у меня, жена… – Об этом стоило раньше подумать, – сказал Сергеев и полез из машины. – Однако не волнуйтесь, мы именно те, кем вам представились. Более или менее… – Он хлопнул по капоту. – Пошли, капитан! А вы, Павел Петрович, поезжайте, поезжайте… К жене, к деткам. – Минуту, – произнес Каргин. – Вам, Ростоцкий, что-нибудь известно о базе и полигоне в горах? База называется Ариман. – Нет, не слышал. Мне казалось, что «Шмели» находятся в Прикаспийске, там тоже есть и база, и полигоны… правда, заброшенные… Когда «тойота» скрылась в облаке пыли, Сергеев, прищурившись, спросил: – Что за база, Алексей Николаевич? Вы мне про нее не говорили. – Сегодня утром узнал. Находится в горах, к юго-западу от Армута, на расстоянии в сто-сто пятьдесят километров. Можете разузнать подробности? – Могу. За сутки справлюсь. – И не забудьте про того кезбаши. Аязов, заместитель начальника полицейского управления. – Не забуду, – Алексей Николаевич, – сказал Сергеев и вздохнул. – Профессия у меня такая – ничего не забывать…* * *
Интермедия. КсенияПировали в доме эмира, в большой комнате, похожей на столовую. Наргис, женщина в черном, сказала, что прежде здесь штаб базы был, а в этой комнате – офицерский буфет. Теперь здесь жили эмир Вали и его ближние харисы,[307] а с ними – один русский, светловолосый, с тонкими губами. Кроме него и эмира было еще девять мужчин, и хоть намаз они свершили в положенное время, на закате, но пили крепко, и не вино, а водку и джин. Ксения эмиру не понравилась – он, похоже, любил пышных женщин и выбрал себе Зойку. Зато светловолосый к ней прилип, принялся поить да рассказывать, как служил в Подмосковье, и в Калугу ездил, и в Тулу, и в Смоленск, всюду ездил к военным летчикам, был человеком в больших погонах, наставником-инструктором. Оказалось, что сам он не русский, а литовец, Витасом зовут, но по-русски говорил чисто, и Ксения расслабилась, подумав, что вспомнят они о Смоленске, о парке в древних крепостных стенах, о соборе с синими куполами, о площади с кинотеатром и Большой Советской улице, сбегавшей вниз, к Днепру. Не тут-то было… Хлебнул Витас три стакана, прихватил бутылку и потащил ее в постель. Все бы ничего, если бы пить не заставлял. Пить крепкое Ксения так и не научилась, тошнило ее от водки, а от можжевелого джина еще сильнее. Пробовала отказаться, да Витас схватил за волосы и начал орать: «Пей, шлюха!.. Что ты за бля, если не пьешь!.. Пей!..» Выпила. Велел платье скинуть – сняла. Сцапал жадно, в койку повалил, плюхнулся сверху и отрубился. Тут Ксении совсем плохо сделалось. Вылезла из-под него, обратно платье натянула, поняла, что до туалета не добежать, выскочила из дома и облегчилась прямо у стены. Потом за угол пошла, и там ее снова вывернуло, забрызгала подол и туфли. Зато полегчало. За домом что-то еще было построено, низкое, кирпичное, приземистое, похожее на туалет. Ксения туда и побрела, подальше от пьяных эмировых сподвижников, в надежде обнаружить кран с водой. Сумрачно кругом, только в доме огни да прожекторы на вышках, но все же разглядела, что на дверях замок с баранью голову, а на окне – узком, без рам и стекол – решетка. Ксению опять скрутило, вцепилась она в эту решетку, согнулась пополам, а когда неприятности кончились, чувствует – кто-то ее держит. Страшный мужик! Лоб и щеки в засохшей крови, мочка на ухе отрезана и взгляд словно у мертвеца… Обхватил ее руку, стиснул и шепчет разбитыми губами: «Девушка… ты кто, девушка?.. Откуда?..» Ксения обмерла, хотела руку вырвать, но он держит крепко и все шепчет, шепчет… И вроде бы там, за решеткой, он не один, а кто-то еще стонет и дышит… Сказала: «Ксюша я… из Смоленска… теперь в Армуте живу…» А он: «Русская? Мы тоже русские… пленники…» Руку ее отпустил, погладил и хрипит: «Будешь в Армуте, сбегай в „Тулпар“, там негр живет, Флинт, а с ним – наши… Передай, что Браш Бой у эмира Вали. Не знаю, Ксюшка, есть ли бог на небесах, но сделаешь, о чем прошу, тебе зачтется.» И оттолкнул ее – иди, мол, отсюда. Она вернулась в дом, туфли сбросила, чтоб не стучали, спряталась в той комнате, куда Наргис их привела. Просидела там всю ночь. Утром девчонки вернулись, в койки полезли, спать, а потом их в Армут повезли. Ехала, дремала и видела перед собой того, страшного… И хриплый шепот его слышала: «Сделаешь, о чем прошу, тебе зачтется…»
Владимир Высоцкий
Глава 9
Ата-Армут и президентская резиденция Карлыгач, 13 маяЧерный чемоданчик заверещал во время завтрака. Ел Каргин один, приказав накрыть в лоджии, и хоть еды было на четырех тарелках плюс чашка кофе, притащили ее три официанта и суетились у стола с таким усердием, что бутерброд в горло не лез. Каргин цыкнул на них и велел проваливать. Исчезли со скоростью звука – видно, помнили его вчерашнюю угрозу. Кофе он все-таки успел допить. Новая привычка, связанная с семейной жизнью: в понятиях Кэти завтрак состоял из чашки кофе, апельсинового сока и пары тостов с джемом или сыром. Каргин же утром насыщался капитально, да и вообще отсутствием аппетита не страдал – очень полезная привычка, которую всякий офицер приобретает еще в курсантские времена. После недельных споров договорились: кофе и сок остаются, а тосты – побоку, вместо них яичница, ветчина, хлеб с маслом и что-нибудь еще, огурец или салат из капусты. Салат Кэти уже научилась готовить. Вспомнив ее подвиги на кухне, Каргин улыбнулся и откинул крышку чемоданчика. Надо думать, Мэлори… В Калифорнии ночь, а коммодору не спится – наверно, руководящие указания нужны. Скажем, взрывать ракетный завод в Нанкине или не взрывать… Но это оказался не Мэлори, а старый Халлоран. Дед… Его костистое лицо явилось на фоне темных небес, обрамленное звездами, словно он был Господом Богом или, как минимум, пришельцем из ядра Галактики. – Ты в порядке, Алекс? – Вскрытие покажет, – буркнул Каргин и тут же, устыдившись, перешел на английский: – В полном, сэр. Тут ни войны, ни мира нет, но если с Африкой сравнивать, то тишина и благодать. – Не обольщайся, – проскрипел старик. – Колокола третьей мировой еще не грянули, но четвертая уже идет – война Америки со всей планетой за тотальное господство. Ты в этой битве участвуешь и должен делать на ней деньги. – Я стараюсь, – сказал Каргин. – Просто носом землю рою. Дед пошевелил рыжими с сединой бровями. – Мышка рыла, рыла и дорылась до кошки… Рой, старайся, но будь поосторожнее. Теперь тебе надо быть вдвойне осторожным! Конечно, я твою задницу прикрою, но все же побереги себя. «Горы сдвинулись, моря расплескались! – подумал Каргин. – Похоже, о нас проявляют родственную заботу… С чего бы? И это обещание задницу прикрыть… Каким образом, чтоб мне в Хель провалиться?!» Он открыл было рот, но слово вылететь не успело, как старик произнес: – Я тебе яхту подарю, океанскую яхту, а твоей супруге – колье и диадему Марии-Антуанетты.[308] Поздравляю, Алекс! Глаза у Каргина полезли на лоб. – Что… – прохрипел он, – что случилось? Меня сенатором избрали от штата Калифорния? Халлоран – небывалый случай! – улыбнулся. – А, ты еще не знаешь… Матери позвони. Экран погас, а Каргин схватился за трубку телефона, соображая, сколько времени сейчас в Краснодаре, шесть или уже семь. Мать, впрочем, уже была на ногах. – Что там у вас произошло? – сдавленным голосом зашептал он. – Что вы от меня скрываете? Что… В трубке раздался журчащий мамин смех. – Мы не хотели тебя беспокоить… не были уверены… У Катеньки задержка, и вчера мы сделали анализ. Каргин затрепетал. – И что? – Как выразился твой отец, счет в нашу пользу. – Ты кому-нибудь сообщила? Деду, например? – Тебе первому, если не считать нас троих. А дед… Я ведь с ним связаться не могу, Алешенька, а сам мне не звонит. «Вот это номер! – мелькнула мысль у Каргина. – Мэлори хвастал, что есть у нас люди во Франции, в пустыне Сахаре и даже на Огненной Земле… Теперь, значит, и в Краснодаре имеются! Да еще какие информированные! Ходят, небось, по пятам, берегут, охраняют и о всякой мелочи докладывают… Хотя какая это мелочь! Дело хоть и семейное, но серьезное!» Пару секунд он соображал, готов ли к роли отца, потом выдохнул в трубку: – С Кэти я могу поговорить? – Она еще спит, сынок. – Ну, так поцелуй ее за меня. Я еще позвоню. Каргин осторожно опустил трубку и невидящим взглядом уставился в светлое утреннее небо. Бывают минуты, равные годам, когда человек стремительно взрослеет или стареет, отказывается от прежних мнений и идей, оценивает заново себя и свое место в Мироздании. Краткие мгновения, после которых ты уже не прежний, а иной, и эти перемены иногда пугающи, или радостны, или непонятны, и нужно время, чтобы разобраться, каким ты был и каким стал. Нечто подобное происходило сейчас с Каргиным, что-то рождалось в нем, что-то отмирало, и он, всматриваясь в туранские небеса, пытался сообразить, сколь велики потери и сколь значительны приобретения. «Теперь тебе надо быть вдвойне осторожным», – прошелестел в сознании голос Халлорана – подсказка, которой мудрая старость из века в век смиряет юный пыл. Кажется, он начинал понимать. Прежде он не колебался перед боем и твердо знал, что честь дороже жизни. Сейчас ситуация изменилась: сейчас была Кэти и будущий их ребенок, и жизнь Каргина принадлежала им. Точно так же, как жизнь Перфильева – его жене и дочери, и как, наверное, жизни остальных людей, Балабина, Азера, Флинта, Сергеева, достаточно зрелых, чтобы обзавестись потомством и принять за это полную ответственность. Жизнь на одной чаше весов, долг, честь, победа – на другой… Всегда ли эквивалентен обмен, всегда ли нужен? Это оставалось неясным, зависящим от обстоятельств и конкретных целей. Каргин чувствовал, что не может ответить на этот вопрос, и, более того, подозревал, что ответа просто не существует. Такие колебания не означали, что он утратил отвагу и решимость; они лишь были свидетельством того, что он становится старше и мудрее. Зазвонил телефон, трубка рявкнула голосом Перфильева: – Спускайся! Шутюр-баад[309] у подъезда! А в холле – рота пишущей братии! Каргин сунул за пазуху футлярчик с дарами для президентской супруги, вышел и двинулся к лифту. Василий Балабин и Рудик пристроились за ним, кабинка поползла вниз, дверцы распахнулись. Холл и правда был переполнен – фотокорреспонденты, телевидение, репортеры с микрофонами, местные газетчики, французы, турки, россияне и даже вроде бы один японец. Разноязыкая скороговорка, вспышки блицев и множество знакомых физиономий. Пробираясь вслед за Балабиным и Рудиком через эту толпу, Каргин приветственно делал ручкой, бросал короткие реплики и ослепительно улыбался. «Аргументы и факты», «Гарем», «Пари матч», «Туран гази», «Туран ватан», мадам Гульбахар из «Туран бишр»… Бак Флетчер, с огромным синяком под глазом, держался за чужими спинами, но тоже тянул микрофон. – Мистер Керк, два слова… даже одно… вы направляетесь к президенту? – Да. – Кто инициатор этой встречи? – Обе стороны, мадам. – Главный обсуждаемый вопрос? – Я уже говорил на пресс-концеренции: экспорт груш из Турана. – Прошу вас, будьте серьезны! – Я серьезен, как покойник. – Будет рассматриваться вопрос о туранской нефти? – Возможно. – О туранском никеле? – Не исключено. – О меди? – Медь вашу так! – пробормотал Каргин. – Кому она нужна, эта медь? Весь мир потребляет дешевый металл из Чили! У самого порога к нему пробился Савельев, спецкор «Известий», и, тяжело отдуваясь, подмигнул: – Дело касается российской военной техники? Каргин подмигнул в ответ: – Никоим образом. Мы собираемся обсудить идею насчет монумента… Помните – большой скала Ак-Пчак у самого лэйк? Он вышел на улицу, к Перфильеву. У подьезда, прямо на тротуаре, стоял огромный белый «кадиллак» пятиметровой длины, а за ним – джип с хмурыми, разбойного вида крепышами, вооруженными до зубов. Задняя дверца машины была распахнута, и около нее переминался тощий, интеллигентного вида господин в светлой тройке и при галстуке. – Что-то ты сегодня сияешь, – сказал Перфильев, пристраиваясь сбоку. – Шутюр-баад понравился? – Что я, президентских тачек не видал? Это личное, личное… Как ты думаешь, колье Марии-Антуанетты Кэти подойдет? – А! С женой говорил, наобещал подарков! – Лицо Перфильева приняло озабоченное выражение. – Прошку вызволим, я своей тоже что-нибудь куплю… Не привезешь, такое будет! Господин в светлом поклонился. – Райхан Ягфаров, советник президента по внешним связям… Я вам звонил, досточтимый ага, и буду вас сопровождать. Ягфаров Каргину понравился. Лицо у него было тонким, благородным, как на персидских миниатюрах, а в глазах таилась печаль – та, что бывает не от горя, а от мудрости. Он протянул руку и сказал: – Можно без аги. Меня зовут Алекс, а это – Владислав Перфильев, шеф российского отделения нашей корпорации. С нами два телохранителя. Поместимся, Райхан? – Поместимся, Алекс, – вымолвил Ягфаров, пожимая ему руку. – В этой машине можно вывезти на пикник всю мою бывшую кафедру. – Вздохнув, он добавил: – Секьюрити ваши, в общем-то ни к чему – видите, с нами сопровождение. – Подозрительные рожи, – вполголоса пробормотал Перфильев, косясь на джип. – Чеченская гвардия туран-баши. Называется так – чеченцев в ней поменьше, чем саудитов, турок и сирийцев. Ну, поехали! Они расположились втроем на заднем сиденьи, Балабин с Рудиком сели напротив, пронзительно взвигнул клаксон, разгоняя толпу репортеров, и машина плавно выкатилась на Рустам-авеню. Джип с гвардейцами держался сзади. Промелькнули знакомые здания министерств, посольств и отелей, витрины бутиков и ресторанов, плакаты с изображением туран-баши, затем площадь с правительственными дворцами, фонтанами, розами и галереями в виноградной лозе, большая мечеть, облицованная голубыми и зелеными изразцами, шумный восточный базар. «Кадиллак» миновал предместья и выехал на трассу, ведущую в аэропорт. Теперь с одной стороны тянулась нитка трубопровода, а с другой – решетчатые мачты с проводами. – Сейчас повернем, – сказал Ягфаров, и машина послушно свернула на ухоженную магистраль, тянувшуюся серым асфальтовым потоком среди зеленой степи. – Правительственное шоссе, прямо к резиденции «Карлыгач», – пояснил советник. – Контролируется с земли и с воздуха. Будто подтверждая его слова, в небе застрекотал вертолет. – Серьезно дело поставлено, – пробормотал Перфильев и оглянулся на джип с гвардейцами. Советник кивнул. – Наш президент уделяет особое внимание вопросам личной безопасности. Кстати, Алекс… Если хотите, мы можем беседовать на английском, французском или немецком, а также, – Ягфаров испустил глубокий вздох, – на любом из романских или скандинавских языков. – Нет необходимости, Райхан, русский – мой родной. – Каргин заглянул в печальные глаза советника и спросил: – Сколько языков вы знаете? – Шестнадцать, считая с фарси, турецким и арабским. Я занимался лингвистикой… точнее – сравнительным анализом средневековой восточной и европейской поэзии. Кафедрой заведовал в университете… пока ее не разогнали… – Почему? Ягфаров пожал плечами. – За ненадобностью. Чего у нас только не разогнали по этой причине… Явный диссидент, мелькнуло у Каргина в голове, а служит чиновником, и не последнего разбора! Он вытянул ноги и усмехнулся. – Но вы, Райхан, не проиграли – советник президента много выше, чем заведующий кафедрой! Вас привело на эту должность знание многих языков? Глаза Ягфарова стали еще печальнее. – Нет, Алекс, не в языках и знаниях дело. Я имею честь относиться к клану президентских родственников, и, по существующим обычаям, обязан ему служить. Так же, как все остальные. Я… – Он принял сосредоточенный вид, пытаясь, очевидно, вычислить степень родства. – Я племянник жены его троюродного брата Сабира Каюмовича Усманова. – Знакомое имя, – произнес Каргин. – Уже наслышаны? Он на оборонном заводе директорствует. На горизонте вставали горы. Степь по-прежнему была плоской и ровной, и потому казалось, что горные вершины возносятся над ней на недосягаемую высоту, упираясь прямо в небо и как бы поддерживая его бирюзовый свод зелеными, поросшими сосновым лесом хребтами. Но это являлось иллюзией; горы были невысоки, метров пятьсот-семьсот, не больше, но все-таки горы, а не холмы. – Природный феномен, – сказал Ягфаров. – Скальные массивы прямо в степи, меж ними – четыре озера, лес, прохлада, целебный воздух. Спецсанаторий здесь был с кумысолечебницей, а также одна из дач генсеков. Т е х еще генсеков… Хрущев наведывался, Брежнев приезжал… Дача теперь и есть резиденция Карлыгач, а санаторий стал гостиницей для приближенных. Кое-что переделали, убавили или добавили… В общем, увидите сами. Над их автомобилем пролетел еще один вертолет. «Ми-8» отметил Каргин и спросил: – Какова программа встречи? – Сугубо неофициальная. Познакомитесь с высшим руководством, побеседуете, затем – прогулка у озера и обед, после чего вас примет туран-баша. Я буду вашим бессменным гидом. Дорога вильнула и пошла вверх. Слева и справа поднялись живописные скалы, засверкал радугой водопад, потом ущелье сузилось и впереди показались глухие стальные ворота, перегораживающие шоссе от края до края. Они разошлись, машина и джип медленно скользнули в узкую щель, чья-то бородатая физиономия, подпираемая автоматным стволом, заглянула в кабину, чья-то ладонь гулко стукнула по багажнику. Джип остановился, белый «кадиллак» поехал дальше, по дороге, огибавшей озеро хрустальной чистоты. Над ним поднимались огромные сосны с оранжевыми стволами, а на другом берегу раскинулся парк с комплексом белых и желтых строений – видимо, бывшим санаторием. – «Карлыгач», – сказал Ягфаров, когда машина остановилась перед одним из зданий, двухэтажным и довольно большим, с террасой, тянувшейся вдоль второго этажа. Сравнив его с дедовой виллой на Иннисфри, Каргин решил, что по части роскоши генсекам все-таки миллиардеров не обскакать. Что немудрено: генсеки, как-никак, являлись слугами народа, а миллиардерам сия дымовая завеса была ни к чему. Каргин с Перфильевым вышли. Автомобиль развернулся. – Ваши люди смогут отдохнуть в одном из павильонов, – пояснил Ягфаров. – Транспорт подадут в шесть вечера. Прошу вас, Алекс и Владислав, следуйте за мной. Они поднялись на просторную эспланаду, где полукругом стояло десятка три человек, пожилых и молодых, и начали обходить их, пожимая руки, выслушивая цветистые пожелания благополучия и здоровья, а также шепот Ягфарова, сообщавшего, кто тут эмир министр, кто ага депутат Курултая, кто доблестный сераскер, и кем все эти личности приходятся туран-баши. Тут были кузены, двоюродные, троюродные и внучатые племянники, родичи со стороны супруги и родичи родичей – словом, никто из близких не был обижен и обделен. В центре шеренги нашелся старых знакомец Чингиз Мамедович, встретивший Каргина распростертыми объятиями, а рядом с ним – брат Курбанова Дамир Саидович с младшим сынком Саидом. Старший, Нури, все еще оставался в Ницце и, вероятно, поправлял здоровье на пляжах, в борделях и кабаках. Вместе с толпою родичей Каргин и Перфильев двинулись к дому, вошли в овальный зал, убранный коврами и портретами туран-баши, и сели у круглого стола. Стол предназначался для самых именитых – Таймазова, президентских брата и племянника; прочие разместились в креслах вдоль стен, соблюдая четкую, установленную свыше и хорошо усвоенную иерархию. Снова обиенялись вежливыми пожеланиями удачи и здоровья, затем Дамир Курбанов с приятной улыбкой спросил: – Первый раз в Туране? – Первый, ага. – Ответ был чистой правдой – в период службы Каргина-старшего в Кушке эта республика называлась иначе. – Дамир Саидович – бейлербей Дивана, – прошептал сидевший сзади Ягфаров. – Обращайтесь к нему ага бейлербей. Желательно добавлять «пресветлый». – Ну, а какие впечатления? – Дивные края, пресветлый ага бейлербей, изобильные, щедрые, воистину благословенные аллахом. Богатейшие ресурсы, теплый климат, плодородные земли, море, рыба, кумыс и, разумеется, нефть… А люди, какие люди! Думаю, люди, которых я встретил здесь, главное ваше богатство… – Сидевшие у стен начали переглядываться с довольными улыбками, Перфильев иронически хмыкнул, но Каргин, не меняя тона, продолжал: – Однако я вижу ряд проблем, с которыми вы, очевидно, уже столкнулись. Естественная вещь – распад огромной империи не происходит без последствий, а они особенно заметны на периферии. Крым, Кавказ, Приднестровье, Балтия и, разумеется, Туран, со всем, что его окружает… Территория у вас как у Франции, но население менее трех миллионов, и отток его продолжается. В горах – разбойники, а где рабочие руки? Где армия, способная защитить страну? Ваши южные рубежи охраняют российские пограничники, а за этими рубежами – беспокойный Афганистан и Иран с шестидесятимиллионным населением. Вспомним также про восток и север, про Узбекистан и Казахстан – в любой из этих держав народа в пять раз больше, а за морем, в Азербайджане, больше вдвое. – Каргин посмотрел, как увядают улыбки на лицах президентских родичей, и закончил: – Не уверен, что в таком окружении вы сохраните независимость. Пирог у вас пышный, большой, но едоки вокруг больно голодные! Наступило молчание, потом кто-то у стены пробормотал: – СНГ… Россия гарантировала нам… – Не вам, – жестко сказал Каргин. – Турану! Дамир Курбанов посмотрел на сына и шевельнул бровью. – Не будем о России, – произнес Саид. – Россия далеко, и мы не желаем делиться с ней своей независимостью. Кроме того, Россия бедна. Он собирался сказать что-то еще, но Таймазов перебил племянника туран-баши. – Мы нуждаемся в других партнерах, мистер Керк, более богатых и более динамичных. В меньшей степени приверженных идеям демократии. – Соединенные Штаты – демократическая страна, – заметил Каргин. – Ну, и дай ей аллах! Я говорю не стране, а о вашей ХАК или любой другой транснациональной корпорации – они, как это ни удивительно, ближе нам по духу. Единоначалие, глобальный контроль, наследственная власть, строгая подчиненность… Вам не приходило в голову, мистер Керк, что западные фирмы в сущности организованы по принципу восточных деспотий? – Ясен день, и этот в ханы метит, – тихо пробормотал Перфильев. – Вот плесень лиловая! Саид, ревниво покосившись на Таймазова (Чует конкурента! – подумал Каргин), тут же вмешался, стараясь перехватить инициативу: – Бесспорно, нам требуются союзники, готовые вложить в Туран финансовые средства, поддержать тем самым существующую власть и укрепить обороноспособность страны. Думаю, эти инвесторы не ошибутся – наш сырьевой и даже технический потенциал высок, так как от прежних времен осталось многое, вплоть до новых военных разработок… – Он значительно усмехнулся. – Надеюсь, вы сознаете, мистер Керк, сколь широки и неожиданны могут оказаться эти перспективы? – Вполне, – сказал Каргин. – Кроме западных фирм есть и другие заинтересованные стороны, – добавил бейлербей Курбанов. – Не все страны третьего мира бедны. Скажем, арабы из… Он замолчал, наткнувшись на предостерегающий взгляд Таймазова. – Араб арабу рознь, – произнес Каргин, не спуская глаз с Курбанова. – Кого вы имеете ввиду, ага? Египтян, сирийцев, саудитов? Ливию, Алжир или Ирак? Возможно, Эмираты? – Заметив, как дрогнул краешек рта бейлербея, он с безразличным видом откинулся в кресле. – Ну, эти конкуренты нам не страшны. Одни слишком бедные, другие слишком агрессивные и потому находятся под контролем, а что до стран ОПЕК, то в них мы вложили изрядные деньги и обладаем там кое-каким влиянием. «Эмираты, – мелькнуло у него в голове, – точно, Эмираты! Денег у шейхов немеряно, чего ж не вложиться в оружейный бизнес? Опять же там нефть и здесь нефть…» Бейлербей с натугой откашлялся. – Мы не информируем другую сторону о контактах с вами, и будет справедливо, если арабы останутся просто арабами. Так сказать, без конкретики… – Не возражаю, – кивнул Каргин. – Я говорил уже светлому эмиру, – поклон в сторону Таймазова, – что ХАК готова предоставить двести миллионов. Возможно, и больше… Но деньги – это только деньги. Что нужно еще? – Об этом скажет Сабир. – Курбанов повернулся, отыскал взглядом среди сидевших у стены дородного мужчину в годах и повелительно махнул рукой. – Говори, Сабир! В чем нуждаешься? Тот поднялся. – Усманов, мой дядя, – прошелестел за спиной голос Ягфарова. – Нужен металл, прокат, различные комплектующие – список примерно на четыреста позиций… Но это не главное, это, хвала аллаху, подождет. Нужны специалисты! – Какие и сколько? – спросил Каргин. – Программисты самого высокого класса, не меньше десяти… инженеры-электронщики, вдвое больше… еще эти… как их… специалисты в области стратегии и тактики, для разработки алгоритмов. Мы, конечно, можем купить их в России, но лучше, если это сделаете вы. – Будет не так заметно, – подмигнув, пояснил Таймазов. – ДМУО хотят раскурочить, хорьки трахнутые, – буркнул Перфильев. – Обманем, Леха? – Разумеется, – произнес Каргин, и это было ответом и Владу, и светлому эмиру. – ХАК предоставит деньги, сырье, комплектующие и специалистов, но на условиях, которые я обсуждал с Чингизом Мамедовичем: контрольный пакет, плюс демонстрация ваших достижений, плюс президентские гарантии. Для финансирования проекта я выбрал Второй президентский банк. Саид расплылся в торжествующей улыбке, а Курбанов тут же спросил: – Почему не Первый? – С ним возникли сложности, – неопределенно ответил Каргин. – Если хотите, обсудим их за обедом. Намек был понят, и сидевшие у стен и за столом начали вставать. Вероятно, дальних родичей к обеду не пригласили – они прощались один за другим, осыпая гостей пожеланиями бриллиантового счастья, рубиновой удачи и изумрудных успехов. При упоминании изумрудов Каргин сунул руку за пазуху и убедился, что футлярчик во внутреннем кармане пиджака никуда не исчез. Мысль его тут же переметнулась к другим драгоценностям, принадлежавшим некогда Марии-Антуанетте, и, проследовав этой тропинкой, добралась до милой ласточки, ждавшей его в Краснодаре. – Ты что лыбишься как Дед Мороз после третьего стакана? – шепнул ему Перфильев. – Дипломатический этикет, – откликнулся Каргин. – Гость обязан приятно улыбаться. В сопровождении Ягфарова они спустились в парк на озерном берегу. Деревья в нем стояли просторно, кусты были пострижены по пояс, лужайки засажены травой, а главным украшением служили затейливые цветники, клумбы и павильоны с крышами на тонких резных столбиках. Парк, вероятно, был разбит еще в советскую эпоху и, с точки зрения военного искусства, продуман безукоризненно: местность просматривалась в любом направлении, и никакой злоумышленник не подобрался бы тайно к высоким лицам. Главной достопримечательностью являлся розарий, где уже наливались тугие алые, пурпурные, белые и желтые бутоны, распространяя вокруг пьянящий аромат. Унюхав его, Каргин вспомнил о Праге, тонувшей в запахах сирени, и повернул к розовым кустам. – Не торопитесь, – сказал Ягфаров, посмотрев на часы. – Осмотр розария – ровно в два пополудни. Так компетентные люди посоветовали. – Почему? Советник президента пожал плечами. – Не знаю, как объяснить, Алекс, я ведь лингвистикой занимался, а не ботаникой. Возможно, в самое жаркое время розы пахнут сильней и приятней? А пока давайте осмотрим вот это заведение. – Советник вытянул длинную руку, показывая на одноэтажный домик в мраморной плитке. У домика не было окон, только двери из темной лакированной древесины, и стоял он наособицу, среди засыпанного песком пространства. – Вход в подземный бункер? – осведомился Перфильев. – Нет, президентский туалет. – Ягфаров повел их к домику, поясняя на ходу: – Должен заметить, что московских гостей в «Карлыгач» не приглашают, а встречаются с ними в Армуте или в других резиденциях. То, что вы сюда попали – знак доверия и уважения, либо признание того, что вы, Алекс, хозяин ХАК, и вы, Владислав, ее служащий, собственно уже не русские или, в крайнем случае, русские самой новейшей формации. Так сказать, рашен американской выпечки. – Это вы к чему, Райхан? – Зайдем, увидите и поймете. Они зашли. В светлом, облицованном бежевым кафелем помещении, стояли три художественных унитаза, три огромные лепные башки: одна в золоченой фуражке генералиссимуса, другая голая и лысая, а третья – с темной шевелюрой и широкими разлапистыми бровями. Напротив них тянулся ряд писсуаров, которых было гораздо больше, и каждый изображал чье-то знакомое или полузнакомое лицо, памятное с детства. Члены Политбюро, догадался Каргин, с изумлением разглядывая эту выставку. – Вот так мы любим Россию, – с горькой улыбкой произнес Ягфаров. – Желаете облегчиться? Можно фуражку откинуть с генералиссимуса или в этого, в бровастого… – Это не Россия, – сказал Каргин, покачивая головой и отступая к порогу, – это ее прошлое. Мы причастны к нему гораздо меньше, чем ваш президент. – Согласен с тобой, – ухмыльнулся Перфильев. – Одного унитаза тут явно не хватает. Или писсуара… На унитаз ваш нынешний не тянет. Ягфаров хихикнул. – Не тянет, конечно, не тянет! Но будьте к нему снисходительны: то, что вы видите здесь, всего лишь лечебная психотерапия, попытка совладать с давними комплексами страха, зависти, унижения и затаенной злобы… Свирепой злобы и еще не позабытой! Вы молоды, и вы, возможно, не понимаете, что те, кому за пятьдесят, как вашему покорному слуге, принадлежат не Турану и не России, не Грузии или Украине, а Советскому Союзу. Мы, старшее поколение, в нем родились, мы пропитаны прошлым, и с этим ничего не поделаешь. Они обогнули туалет и медленно двинулись к розарию. Неширокая, усыпанная песком дорожка шла по берегу озера, мимо небольшого пляжа, пристани с лодками и настила на поплавках под тентом, который покачивался метрах в пятнадцати от берега. Там виднелись шезлонги и столики, а на самом краю сидели два гвардейца и, изнывая от скуки, щелкали затворами автоматов. Кусты роз были рассажены на пологом горном склоне, и эта территория, как и лужайки и санаторные здания за ней, просматривалась прекрасно. Каргин видел, как от ближнего корпуса кто-то идет, тоже направляясь к розовым зарослям – два человека впереди и двое сзади. Один из лидеров, молодой парень, был в джинсах и рубашке, другой – в просторной белой хламиде, с платком, наброшенным на голову и плечи; пара в арьергарде была одета точно так же. – Гости туран-баши, – пояснил Ягфаров. – Наверное, тоже хотят полюбоваться розами. – Точно в два часа? – Почему бы и нет? С ними, кстати, Баграм, мой помощник. Чувствуете, какие запахи? Ах!.. – Ягфаров, с выражением блаженства на лице, втянул носом воздух. – Наверное, в садах аллаха не пахнет слаще… Каргин молча согласился с ним, шагая мимо кустов с полураскрытыми бутонами. Кремовые розы, светло-алые, желтые, багряные, кирпичного цвета, пурпурные, красные, как кровь, и белые, точно первый снег или оперенье лебедя… У белого куста они сошлись с командой, вступивший в розарий с другой стороны. Человек в хламиде и платке, смуглолицый, темноглазый, с аккуратной бородкой, вежливо поклонился. – Да прольется на вас благословенный свет из глаз аллаха, – произнес он на английском и приложил руку к сердцу. – Азиз ад-Дин Абдаллах ибн-Сирадж. – Пусть ваша жизнь будет подобна этому саду, – Каргин в ответ тоже склонил голову. – Мое имя короче: Алекс Керк. Кивнув, Азиз ад-Дин важно проследовал к пурпурному кусту и остановился, слушая объяснения парня в джинсах. Два его спутника, таких же смуглолицых и темноглазых, прошли мимо с застывшими физиономиями, не глядя по сторонам. Охранники, понял Каргин. – Арабы! Точно, арабы! – Влад повернулся к Ягфарову. – Хотели нам их показать? А им – нас? Случайная встреча конкурентов, и цены растут… Так, Райхан? Ягфаров отвел глаза. – Думайте, что хотите, Владислав. Я человек подневольный… Сказано, показать розарий, я показал, а что до всего остального… – Он произнес певучую фразу на персидском, затем перевел: – Увы! Беспомощны все наши знанья перед великой тайной мирозданья! – Это откуда? – Это из Фирдоуси. «Шах-наме», глава «Рустам и Акван-див», строфа третья. Ну, не пора ли нам обедать? Обедали в той же комнате на первом этаже, за тем же круглым столом. На эспланаде перед домом, явно поджидая гостей, прогуливался Дамир Курбанов, и вид у него был озабоченный и хмурый. Взяв Каргина под локоток, он отвел его в сторону и, тревожно озираясь, зашептал: – Мы обедаем с моим почтенным братом и его супругой Нестан-ханум… неудобно может получиться… вы уж скажите, ага, что за проблемы с Первым президентским? – Ничего ужасного, – успокоил его Каргин. – В нашей корпорации заведен такой порядок: любым финансовым контактам предшествует сбор сведений о предполагаемом партнере. Так что пришлось поинтересоваться вашими сыновьями. Надеюсь, это вас не обижает, пресветлый бейлербей? – Нет, клянусь аллахом! Вполне естественный деловой интерес… Так что же? – Отзывы о Саиде положительны, однако Нури… – Что – Нури? – Глаза Курбанова беспокойно забегали. – Что еще натворил этот бездельник? – Ну, понимаете… – Каргин доверительно понизил голос. – Он, как вам известно, сейчас отдыхает под Ниццей, и какие-то безответственные мерзавцы втянули его в шоу-бизнес. В съемку фильма ужасов, если говорить точнее. – Он финансирует этот фильм? – Если бы! Выступает в качестве актера, в одной из заглавных ролей. Мне передали запись, где он висит над бассейном с акулами или кайманами, причем абсолютно голый! Вы понимаете, что после этого… Бейлербей побледнел и вцепился в рукав Каргина. – Моча ослиная! Помет шелудивого ишака! Мой брат… если он узнает… особенно его супруга и этот хлыщ Таймазов… – Не беспокойтесь, пресветлый, сведения «топ сикрет», не для широкого распространения. Но у меня к вам тоже есть вопрос. Это утреннее заседание Дивана… Признаюсь, я не рассчитывал на столь многолюдное сборище. Зачем оно? Курбанов оживился. – Традиция, мой бриллиантовый ага, традиция! Не важно, кто и что говорил, решение все равно за моим почтенным братом. Важно другое: люди посмотрели на вас, вы посмотрели на людей… Теперь все вас знают, и вы, надеюсь, кое-кого запомнили. Демонстрация могущества клана, понял Каргин. Родичи-министры, родичи-депутаты, родичи-директора… Может быть, и в оппозиции есть родичи? Залог успешного правления – иметь среди противников тайных друзей и покупать диссидентов… Таких, как Райхан Ягфаров. Курбанов-младший и Таймазов отсутствовали – видимо, дела призвали их в город. Стол, у которого сновали четверо прислужников, ломился под тяжестью блюд с жарким и пловом, кувшинов с шербетом, винных бутылок и дорогого хрусталя. Кресла, что находились у стен убрали, а у стола добавилось еще одно, похожее на трон, с высокой резной спинкой и гладкими подлокотниками. И прибор тут стоял особый, тонкого фарфора с синей росписью, а при нем – серебряные вилки, ложки и нож с маленькой короной на рукояти. – Дар британского посла, – шепнул Ягфаров. – Память о тех временах, когда… Дверь отворилась, звуки национального гимна заглушили Ягфарова, и в комнату вошел туран-баша с супругой. Первая леди была в том возрасте, когда о женщине говорят: она неплохо сохранилась. Да и сам президент был еще орел: волосы хоть и седые, но густые, щеки слегка обвисли, но линия рта жесткая и твердая, взгляд повелительный, и на лбу – пара морщинок; конечно, от забот о народном благе. На его лице читалась многолетняя привычка к власти, и Каргин невольно принялся вспоминать, кем был этот человек, какие посты занимал и кого воочую видел. При Сталине – секретарь райкома комсомола в Армуте, при Хрущеве – директор медно-никелевого комбината, затем, уже в Москве, сотрудник международного отдела ЦК КПСС, замначальника, начальник отдела. При Брежневе – член ЦК, член Политбюро, министр иностранных дел, а после Брежнева – первый секретарь в родимых палестинах, туранский царь и бог. Где-то по дороге в гору он прихватил звание академика, членство в Союзе писателей (баловался стихами) и молодую жену. В общем, туран-баша являлся человеком многогранным, творческим, и Каргин не удивился бы, узнав, что изваяния в туалете выполнены лично им. Президент уже двигался к нему с самой сердечной улыбкой. Они обменялись рукопожатием. – Моя супруга Нестан. – Голос у туран-баши был слегка дребезжащий, но еще сильный. – Владислав Перфильев, топ-менеджер моей корпорации. – Достойные люди – украшение стола, – произнес президент, и они уселись. Мадам Курбанова, благоухавшая парижскими духами, оказалась рядом с Каргиным. Он налил ей вина, она положила ему кусочек павлиньей грудки, и некоторое время разговор вращался вокруг кулинарно-парфюмерных тем, воспоминаний о Париже, Риме, Ницце и других местах, которые ему и ей случилось посетить. Беседа была непринужденной, светской, и портило ее лишь одно: при каждом упоминании Ниццы Дамир Курбанов вздрагивал и что-нибудь ронял под стол. Когда перешли к десерту, кофе и шербетам, туран-баша многозначительно откашлялся и произнес: – Я в курсе ваших контактов, мистер Керк, с моим министром обороны. Надеюсь, они развиваются в правильном направлении? – Есть некоторый прогресс, – с уклончивой улыбкой ответил Каргин. – Начали мы с малого, но, возможно, дойдем и до серьезных проектов. – Например? «Прродай перрсам оррудия!» – прозвучал беззвучный голос Халлорана, и Каргин, усмехнувшись, произнес: – Ну, можно было бы перевооружить туранскую армию по натовским стандартам. Танки «Абрамс», «Челленджер» и «Леопард», вертолет «Апач», истребитель «Еврофайтер», транспортник «Оспрей», эскадрилья «Стеллсов» и, для полного комплекта, палубная авиация. Президент развеселился, захихикал, а вслед за ним, будто двойное эхо, рассмеялись Нестан и бейлербей. – Хорошая идея! В русле тех, про которые вы упомянули на своей пресс-конференции… Что там с моим памятником на берегу Кизыла? Еще не ваяют? – Вот эта мысль, Саид, как раз была неплохой, – сказала мадам Курбанова, и бейлербей сразу закивал с одобрительным видом. – Ак-Пчак меня раздражает! Голая бесплодная скала, торчит, как свечка! Но если сделать монумент… Представь: на берегу твое изваяние, и оно отражается в озерных водах… Скажите, мистер Керк, оно получилось бы выше, чем египетские пирамиды? – Измерить нужно, – с осторожностью вымолвил Каргин, стараясь не глядеть на Перфильева, прикрывшего лицо ладонью. – Уверена, что выше! Ах! Чудный проект, просто очаровательный! Нашлись бы только средства! – Найдутся, – пообещал Каргин. – А сейчас я хотел бы преподнести вам, драгоценная хатун, маленький знак внимания. Он вытащил футляр, раскрыл его и во-время успел отставить рюмку – руки мадам Курбановой взлетели в восхищенном жесте. – Париж? – пролепетала она. – Амстердам. – Ах! – Камни, разумеется, колумбийские.[310] – Ах! – Всмотритесь: шесть темных радиальных лучей расходятся из центра… – Ах! Я должна это примерить! Немедленно! Нестан выпорхнула из-за стола и исчезла, словно пушинка, несомая ветром. Туран-баша величественно выпрямился в кресле, похожем на трон. – Вы порадовали мою супругу, мистер Керк. Не знаю, чем отдариться… Может быть, коня? Настоящего ахалтекинца? Или орден? Или орден и коня? – От коня не откажусь, – молвил Каргин, – и от ордена тоже, когда появятся заслуги. Подождем! В данный момент у нас другая проблема, с программами и с автоматикой. Я предупредил Таймазова: наше участие зависит от боеспособности изделия. Стопроцентной боеспособности! Только убедившись в этом, я смогу решить вопрос. – Изделие боеспособно. – Туран-баши неторопливо налил и выпил стакан шербета. – В самом скором времения я приглашу вас в одну из моих резиденций в горах, и мы проведем полевые испытания. После них обсудим практические моменты. Мы можем договориться обо всем, кроме одного: участие России исключается. – Почему? В глазах президента полыхнула ненависть. – Исключается! – сдавленным голосом повторил он. – Без всяких объяснений! Щеки туран-баши затряслись, губы сжались, и в этот миг на Каргина снизошло озарение. Его самого удача и случай вознесли на самую вершину, и этот взлет был столь стремительным, что он, неопытный еще владыка, не испытал, как долго и упорно карабкаются к власти, как втаптывают в грязь соперников, как кланяются, льстят и интригуют, как ненавидят тех, кто обогнал, кому необходимо льстить и перед кем пришлось унизиться. Да, Саид Саидович Курбанов ходил в министрах и членах Политбюро, но не был первым, не был даже вторым или десятым. Не был, но мечтал, и от того бессильно ярился и злобился! Россия была ему не по зубам, не по его талантам – слишком огромная, чтоб удалось ее подмять, взнуздать и сделаться царем, диктатором, ханом, президентом. Как называется должность значения не имело, главное – власть! Но нужной силой он не обладал – силой, способной подкрепить непомерное властолюбие. Несбывшиеся мечты рождают ненависть, подумал Каргин, а вслух произнес: – Ну, не стану спорить – без России, так без России. У нас договор с «Росвооружением», поэтому техдокументацию на «Шмели» придется вернуть, предварительно ее откопировав. Что касается трех серийных образцов, составим протокол: погребены под рухнувшим от старости ангаром в Прикаспийске. Наши же с вами отношения будут конфиденциальными и строго секретными… Разумеется, когда я увижу, что есть для них предмет и повод. – Увидите, – успокаиваясь, пообещал туран-баша. – Надеюсь, что после визита в горы не замедлите с решением. – Деловые люди в Штатах очень динамичны, – ответил Каргин. – Мы тянуть не будем. Возвращались на том же огромном белом «кадиллаке» и всю дорогу молчали. Каргин, уже убежденный на двести процентов, что добровольно «Шмели» им не отдадут, размышлял, как объегорить президентскую мафию и все-таки добиться своего: потребовать машины на испытание в Африку, нанять каких-нибудь местных бандитов и взять их с боем, на штык, снова похитить Нури Курбанова и предложить обмен либо разыскать ангар и базу Ариман и подорвать все к черту, без затей. Перфильев тоже был молчалив, а когда они наконец добрались до отеля и вошли в лифт, промолвил, покачивая головой: – Вот сукин сын! Крепко не любит матушку Русь! – Не любит, – согласился Каргин. – Лопухи мы расейские, лохи и веники… Как место шаха проворонили? А могли ведь тут своего человека поставить… Того же Чубайса, к примеру. – Рыжий он, масть неподходящая, – сказал Каргин. – Ну, тогда хотя бы Березовского или еще какого ельциноида… В шахи любой бы согласился! А так потомки нам не простят… В номере их уже поджидал Сергеев. Очевидно, визит к президенту казался ему светским развлечением или дипломатической акцией – во всяком случае, интереса к его результатам у подполковника не имелось. Он доложил, что, по наведенным справкам, кезбаши Аязов Валихан Агзамович, пятидесятого года рождения, проживающий там-то и там-то, заместителем армутского ферраш-баши не является, а служит у него помощником по разным деликатным поручениям. Известен как прожженый лихоимец, но, несомненно, гребет не себе одному, а в большей степени начальству – проще говоря, через Аязова проходят финансовые водопады, коим назначено рухнуть в карман ферраш-баши. Так что ситуация неопределенная – может быть, и правда договорились полицейские и воры. Перфильев слушал и мрачнел. Каргин тоже был не в лучшем настроении – казалось, все ниточки, кроме финансовой, оборваны, и непонятно, где искать похищенных. – Теперь насчет этой базы Ариман, – произнес Сергеев, подняв глаза к потолку и собирая лоб морщинами. – Дозвонился я в столицу, старым друзьям-товарищам… Говорят, была такая база, строго секретная, с ракетами, нацеленными прямо в Персидский залив. Собственно, две базы: Ариман-1 – в горном массиве, под землей, где дислоцировались ракетчики, а поблизости, для отвода глаз, Ариман-2. Там десантный батальон стоял, с вертолетами и кое-какой бронетехникой – границу с Ираном подкрепляли, а заодно и для ракетчиков защита… Ну, четыре года назад все вывезли, и ракеты, и ракетчиков, и ВДВ. – Планы этих баз можно достать? И выяснить точное их положение? – спросил Каргин. – Я думаю, что… Раздался телефонный звонок, и он поднял трубку. – Слушаю. Говорите! – Узнал драгоценного агу и счастлив его приветствовать, – раздался жизнерадостный голос. – Это кезбаши Аязов беспокоит, из городского ферраш-управления… Желаю благородному эмиру здоровья, удачи и процветания! Что у нас с деньгами? Если ага не забыл, сутки остались. – Ага не забыл. Вся сумма в сейфе, в моем офисе. Деньги повезу сам, со своими людьми. Вы будете сопровождать. Голос в трубке из жизнерадостного превратился в озабоченный. – О, аллах! Никак нельзя, почтенный! Ваша бриллиантовая жизнь… – Слушай сюда, Аязов! – рыкнул Каргин. – Будет так, как я сказал! Сегодня я встречался с президентом и его семьей, так что могу на выбор звонить министру Таймазову, бейлербею и в более высокие инстанции. После чего ты станешь на голову короче. Усек? Не слышу ответа по уставу! – Есть! Готов исполнить, ага! – раздалось в трубке, потом заспешили, заторопились гудки отбоя. – Козел кезбаши? – спросил Перфильев. – Он, – кивнул Каргин и перевел взгляд на Сергеева. – Так что у нас с координатами и планами? – Постараюсь, Алексей Николаевич. Если найдутся, приятель мой отсканирует и интернетом перешлет. Эти сведения уже не секретные, поскольку… Телефон зазвонил снова. – Твоя очередь, Влад, – сказал Каргин. – Если опять кезбаши, передай, что приговор уже подписан всеми министрами и бейлербеем. Сейчас приедем и расстреляем прямо в ферраш-управлении. Перфильев поднял трубку, послушал, нахмурился и покачал головой. – Это не полицейский кукиш, это Флинт. Говори с ним сам, Леха, не понимаю я его акцента… Кажется, внизу сидит, в ресторане, ужинает с какой-то девицей. Взволновался отчего-то… Голос Флинта в самом деле был взволнованным. – Девушка? Что за девушка? – переспросил Каргин, потом брови его полезли вверх, глаза изумленно округлились, и он, бросив в трубку: – Давай ее сюда! – повернулся к Перфильеву и Сергееву: – Флинта девушка разыскала – из этих, из ночных бабочек. Объяснилась с ним кое-как… Говорит, возили ее в горы, в Кара-Суук, эмира Вали услаждать, и там, в его лагере, она на Прошку наткнулась. Сидит в каземате, измордованный, порезанный, но живой. И Барышников будто бы с ним… Ну, что скажете, соратники? По лицу Влада скользнула хищная усмешка. – Что говорить? – отозвался он. – В ружье!
* * *
Интермедия. КсенияНочью, в своей квартирке, Ксения долго не могла уснуть, все ворочалась, вспоминала того избитого, страшного, и думала: почему ее к негру послал?.. что за негр?.. Понятно, что не наш человек, в «Тулпаре» большей частью иностранцы, кто из Европы, кто из Азии, а негры редкость. Черного легко заметить… Поэтому, может, к нему и послал? Добавил, правда: наши с ним… Что за наши? Российские? А к чему им негр? Все-таки сон ее сморил, и проспала она до полудня, только сны видела нехорошие. Поднялась, и в душ… Потом по хозяйству стала хлопотать, прибираться, стирку затеяла и все соображала, когда в «Тулпар» сбегать. Ясно, что не днем, а лучше вечером и попозже, когда постояльцы сидят в ресторане. Спрашивать про негра у портье Ксении не хотелось, портье и ее знал, и Керима, и были у них с Керимом дела на предмет поставки девочек. Скажет Кериму, а тот подумает, что решила на стороне подработать, и за трость возьмется… Гад ползучий! Только вспомнила о нем, а Керим тут как тут. Заявился! Злой, как пес! Побил его кто-то – на шее огромный синяк, будто дубиной огрели, и челюсть еле ворочается. Ксения сразу сообразила – пришел, чтоб злость сорвать. Дело обычное, не ей одной знакомое: как не заладится у Керима, обходит девочек, ищет вину, кто наработал мало, или клиента не ублажил, или опоздал по вызову, или в прах напился… Новой вины нет, старую припомнит, змеюка подколодная! Так и случилось. Но в этот раз двигался он с трудом – видно, не только по шее врезали! – и Ксения успела выскочить за дверь. На площадь пошла, к фонтанам и розам, полюбовалась на них, повздыхала, что нет в Смоленске такой красоты, потом о маме вспомнила, поплакала, спрятавшись за кустами. Несколько месяцев тут, и письма все под керимову диктовку писаны: учусь, мол, на отлично, и как в раю живу, сыром по маслу катаюсь, пряники ем, медом запиваю… Знала бы мама про этот мед! В восемь в «Тулпар» пошла. Место знакомое, бывала тут чуть ли не в каждом пятом номере, а в последний раз – с японцем. Хороший этот японец, вежливый! Что он сюда приехал? Город красив, да люди в нем свирепые и поганые – может, и не все такие, но не поймешь, кого тут больше, разбойных людей или нормальных. С тем, который к негру посылал, вон что сделали! Поуродовали человека! А за что? Ксения проскользнула в ресторан и тут же увидела негра. Такого трудно не увидеть – черный, огромный, в плечах косая сажень, и шея, как у быка. В общем, заметный мужик! Сидит один, а столик весь тарелками уставлен. Ну, конечно, и бутылка есть… Черный мужик, белый мужик, а все равно мужик! Подошла, осторожно присела. Негр выкатил глаза, прожевал, сглотнул, зарокотал на английском. Поняла с пятого на десятое: вроде спрашивает, кто такая и чего нужно. Показала на него, спросила: Флинт? Закивал, хлопнул в грудь огромным кулачищем: Флинт, Флинт! Принялась объяснять, мучительно подбирая слова, а негр в лице переменился, услышав про Браш Боя, Кара-Суук и эмира Вали. Мобильник вытащил, названивать куда-то принялся, потом вскочил и вынес Ксению к лифту чуть ли не со стулом. Поднялись. Номер роскошный, на три комнаты, не считая лоджии и холла; в таких Ксении здесь не приходилось бывать. А люди оказались из Москвы – двое молодых крепышей и один постарше, за пятьдесят, тощий и плюгавенький. Ксения подумала, что этот – самый главный, но негр не с ним говорил, а с молодым, высоким и рыжеватым. Глаза у него были серо-зеленые, холодные, как лед, и когда он поглядел на Ксению, сразу стало ясно, кто тут хозяин. Звали его Алексеем Николаевичем.
Владимир Высоцкий
Глава 10
Ата-Армут, ночь с 13 на 14 мая и утро 14 маяДевушка была напугана. Каргин подумал, что, быть может, они ее пугают – четверо незнакомых мужчин, поток бесконечных вопросов, резкий голос Сергеева, рокочущий бас Флинта. Но все это не вызывало у нее ни страха, ни смущения – ответы на вопросы были толковыми, и даже схему она начертила: квадрат – бетонный забор по периметру, точки – сторожевые вышки, черточка – ворота, маленькие прямоугольники – бараки, склады, каземат и другие строения. Правда, на карте не смогла показать, куда везли, дождь шел проливной, да и окрестности Армута были ей почти что незнакомы. Ехали, однако, часа три – значит, с учетом горных дорог, могли удалиться на сто-сто двадцать километров от города. Вертолетом – сорок минут или час, думал Каргин, посматривая на Ксюшу. Красивая девушка… Волосы светло-русые, глаза голубые, фигурка – загляденье, и движется так, словно танцует… На шлюху совсем не похожа, хотя о профессии своей сказала без обиняков. Похожа на девчонку, попавшую в беду… А боится чего? Не мужиков во всяком случае, на мужиков нагляделась в разных позах, и здесь, в «Тулпаре», и в других местах. Но страшно ей… То глаза прикроет, то губы задрожат, то голос сорвется… Почему? – Вокруг лагеря что? – спросил Перфильев. – Какая местность? – Горы. – Ксения обвела квадрат большим овалом. – Обрывистые, отвесные… Здесь дорога. – К овалу приткнулась стрелка. – Не по горам проложена, а в тоннеле, и длинный такой тоннель, темный, ехали в нем с зажженными фарами. – Горы высокие? – Не знаю. Показалось, что очень… На самом верху сосны растут, как щетина… крохотные… – А сколько от гор до периметра? Здесь и здесь? – Перфильев показал на схеме. Девушка призадумалась, и Каргин заметил, как она стискивает пальцы, и как дрожит в правой руке карандаш. Прядь волос упала ей на щеку, и она отвела ее быстрым нервным движением. – Наверное, метров сто – с боковых сторон и от того места, где выехали из тоннеля. А в дальнем конце не могу сказать, не видела. Но дальше, чем с боков. – С флангов, – машинально поправил Перфильев. – Бандитов рота наберется? Или батальон? – Ксюша пожала плечами, и он уточнил: – Двести? Триста? Или больше? – Двести или триста. Много их… Есть такие, что на туранцев вовсе не похожи. – А на кого? – с интересом спросил Сергеев. – Не знаю. Говор не такой, лица темнее… Может быть, арабы или афганцы? – Хмм… Ну, ладно! Что еще разглядела? Машины у них есть? Какие? – Наши «газики» и джипы, грузовиков несколько и микроавтобусы, как тот, на котором мы ехали. Еще, кажется, лошади… – Вертолеты? – Нет, не заметила. Площадка была за бараками, асфальтом покрыта и белым разрисована, вокруг – прожектора. Пустая. – Свет у них есть – значит, имеются генераторы, и топливо подвозят, – вымолвил Сергеев. – А где хранят? Ты, красавица моя, не видела цистерн? – Вот здесь они, – Ксюша пририсовала на плане четыре пузатых бочонка. – Бензином там пахло и бензовоз стоял. Большой, с прицепом. – Что-нибудь еще помнишь? Или все? – Наверное, все. – Она оглядела их лица и опустила глаза. – Все. Я пойду… Можно? Каргин коснулся ее руки, ощутив трепет пальцев и нежную бархатистость кожи. – Не торопись, Ксения. Итак, долина в горах, тоннель, название Кара-Суук – все, как Азер говорил… Верно, Влад? И если предположить, что этот лагерь на юго-западе от города, то… – База Ариман? Точнее, Ариман-2, где десантники стояли? – то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Сергеев. – Вот что, Алексей Николаевич, пойду-ка я, с вашего разрешения, в офис, свяжусь со старыми знакомцами… Вдруг план раздобудут, не дожидаясь завтрашнего дня. Он поднялся и вышел вместе с Флинтом. Перфильев тоже встал, буркнул: «Горничную поищу…» – и исчез за дверью. Каргин посмотрел на девушку, потом отвел глаза – почудилось, что взгляд его Ксению смущает. Она сидела, опустив голову, сцепив пальцы на коленке; русые волосы растрепались, создавая странную иллюзию – будто лицо закрыто невесомой шелковой чадрой. Совсем не похожая на Кэти и вызывающая другие чувства… Жалость? Нет, скорей желание помочь. Если она нуждалась в помощи… – Как ты сюда попала? – спросил он. Ответ был неопределенным: – Привезли… – По своей воле? – Как бы по своей. Учить обещали. Танцам. – И что? – Обманули. – Любишь танцевать? – Да. Она была на редкость немногословной. – Домой хочешь? – Хочу. – А боишься чего? Сейчас чего боишься? Я ведь вижу! Ксюшины губы задрожали. – Боюсь домой идти. – Почему? – Там… там Керим. – Кто такой? – Сутенер… мой сутенер… – Во-от как! – с внезапно вспыхнувшей яростью протянул Каргин. – Сутенер, значит! Его ты и боишься? – Да. – Хочешь, пошлю человека, и не будет Керима? – Нет, Алексей Николаевич, не надо, прошу вас! Раньше смерти ему желала, а теперь не хочу. Он такой, какой есть. Я… я сама виновата… Мама предупреждала, говорила: не верь… – Ладно, – сказал Каргин, подумал и добавил: – Вот что, Ксюша, день у меня сегодня счастливый, а занимался я всякой ерундой и чушью. Нужно хоть одно доброе дело сделать – тем более, что мы тебе обязаны… Останешься у нас. Пока сиделкой тебя назначаю, а там посмотрим. – Сидеть-то с кем? Все вроде бы здоровые… – Будут и больные. На этот счет не беспокойся. Вошел Перфильев со стопкой белья на руках, протянул его Ксюше. – Бери. В моей спальне ляжешь, а я здесь на диване размещусь. Голодная? – Нет. Я мороженое съела. Перфильев фыркнул, сунул ей белье и показал в сторону спальни. – Раз есть не хочешь, спать иди. Давай, давай, не стесняйся! Когда Ксения скрылась за дверью, он вздохнул и произнес: – Что ж это деется, Леха? Торгуют нашими девками напропалую, и сюда везут, и к туркам, и в африки с европами… Да еще лучших выбирают, самых красивых! И парней тащат, которые мозговитые… Что там наши нефть и сталь! Вот вывезут из России весь ум и всю красоту, и будем мы лет через двадцать нацией дебилов и уродов… Что делать, Леха? Каргин промолчал. Горькая правда была в этих словах, гнев бессилия, и вдруг подумалось ему, что он, со всеми своими миллиардами, не столь могуч, как кажется. Сравнять Туран с землей – это пожайлуста, с этим у ХАК не заржавеет, а вот перевернуть Россию – так перевернуть, чтоб мысли о бегстве не являлись, чтоб ни умом не торговали, ни телом – это сотне ХАК не по плечу. Большая страна, большие проблемы, большие ошибки… Снаружи не перевернешь, только изнутри… Он при двинул к себе карту и план, нарисованный Ксюшей, и сказал: – Давай-ка над этим помозгуем, Влад. Что нам известно? Взяли наших люди Таймазова, в чем нет сомнений, взяли и спрятали в горах, как Федор Ильич предупреждал. Заплатили, должно быть, бандюганам, а может, и более прочные связи имеются. Если за Кара-Сууком первая ариманова база, то где-то поблизости и вторая, на которой Файхуддинов побывал. И там – «Шмели»… – А у бандитов – Костя и Барышников, – добавил Перфильев. – Определиться надо, Леша, чего мы хотим. – Сначала определимся с возможностями. Здесь, – Каргин ткнул пальцем в карту, – укрепленный лагерь, триста штыков, наверняка пулеметы есть и минометы. А что у нас? – Ты, я, Флинт, Вася Балабин и Булат… если захочет, конечно. Еще, пожалуй, Славка. – А Дмитрий с Рудиком? Перфильев хмуро покачал головой. – Служили все трое, но по-настоящему, в десанте, только Славка. И лет ему побольше… Рудику двадцать два, мастер спорта по биатлону, Димке столько же, вольная борьба, перворазрядник. Были в спортивной роте, пороха почти не нюхали и, упаси Господь, не убивали… Помехой станут. – Согласен. – Каргин с задумчивым видом погладил шрам. – Значит, шестеро нас. В лучшем случае. – «Варягов» моих надо вызвать, человек сорок, всю группу Мазина и Черного, – сказал Перфильев. – Еще людей из ХАК. Найдутся ведь там бойцы? – Найдутся, только дело это нереальное. Во-первых, слишком заметно, а во-вторых, не успеем. Сутки у нас, Влад. Ударить нужно следующей ночью. – А суетиться чего? – Кто быстро бьет, бьет вдвойне больнее, так Толпыго говорил… Ну, и другие есть обстоятельства. Туран-баша обещал «косилки» показать, и может это в любой момент случиться. Мероприятие важное, и как бы к нему не припрятали все концы… Боюсь, зачистят наших. Перфильев помрачнел. – Ты стратег, тебе виднее! Только опытные люди все равно нужны. – Азер помочь обещал. Давай исходить из того, что будет еще человек десять, и что ударим мы ночью, с плацдарма, где поселок Азера. Что нам нужно? – Помело. Десантный вертолет с пилотом. Без него не уйдем, да и добраться трудно. – Еще снайперы – снять охранников на вышках. Минимум двое, а лучше – трое. – Еще гранатометы. Побольше и помощнее, «Аглень», а лучше «Таволга».[311] – Разумеется, личное оружие, ножи, автоматы, винтари, гранаты… – Взрывчатку на всякий случай. Скажем, пластит. Килограммов двадцать. – Бронежилеты… – Рации… – Точные кроки местности. Не воевать же с планом, который Ксюша начертила… – Каргин поглядел на часы и поднялся. – Полночь скоро… Ну, ничего, на восходе снимут. Получим мы план, и со всеми подробностями! Он исчез в спальне, а, возвратившись минут через десять, пояснил: – С Калифорнией связался. Спутник пройдет над Копетдагом в восемь пятнадцать, заснимут весь район в деталях и прямо мне перешлют. Отпечатаем, получим карты. – Еще Сергеев схему базы обещал, – напомнил Влад. – Да, Сергеев… Фантастические возможности у человека, ты не находишь? Все про всех знает, любая информация – как по волшебству… Откуда, а? – Личные связи, старые друзья… Что тут удивительного? – Вот не думал, что в их конторе так дорожат дружбой, – процедил Каргин и взялся за телефонную трубку. – Позвоню связнику Азера. Пусть выяснит, что есть у Федора Ильича и чего нет. Недостающее закупим у твоего минбаши, на армейском складе. Он тебе ведь тебе вертушку обещал? – За пару дней. – Вдвое дадим, найдет за пару часов. Каргин, сверившись с картой Азера, набрал номер. Раздался шамкающий старушечий голос: – Это кто? – Для Азера сообщение. Передать срочно! – Какого пасера, фулюган? Ты чего беспокойство творишь? Ты погляди, который час! Ты кто такой, плевок верблюжий? – Алексей Каргин. Зашелестела бумага – видно, сверялись со списком. Голос в трубке значительно помолодел. – Есть такой. Принимаю ваше сообщение. Хитер Федор Ильич! – мелькнуло у Каргина в голове. Затем он продиктовал, какое нужно снаряжение и сколько людей, а под конец добавил, что прилетит на помеле и, скорее всего, ближе к вечеру. Примерно к семнадцати ноль-ноль или попозже. Как прилетит, так и отправятся бить басурманов. – Помогай аллах! – бодро послышалось в трубке. – Номерочек оставьте, для экстренной связи. Каргин сказал. Они с Перфильевым просидели до трех ночи, соображая, как распределить свои войска, куда ударить первым делом, что атаковать потом, как использовать помело, темное время и фактор внезапности. Было понятно, что многочисленный отряд Габбасова им не истребить и до «Шмелей», спрятанных бог знает где, не добраться, так что задача-минимум такая: что горит – спалить, что бегает – успокоить, своих вытащить и убраться подобру, поздорову, причем желательно без потерь. Потери делали операцию почти бессмысленной – платить за жизни одних другими жизнями было нелепо. В три двенадцать ожил телефон, и тот же помолодевший голос сообщил, что Федор Ильич ждет, что есть у него пулеметы, пилоты и снайперы, базуки и рации тоже есть, а вот бронежилеты лучше прихватить с собой, человек примерно на пятнадцать. – Сделаем, – пообещал Каргин. – Взрывчатку тоже брать? – Нет, этого добра хватает. – Ну и хорошо. Отбой? – Отбой. Он потянулся, чтобы положить трубку, да так и замер с нею в протянутой руке. Снаружи что-то зашелестело, заскрежетало едва слышно, будто по стене здания, царапая ее лапами, с осторожностью пробирались огромные пауки. Затем раздались неясный шорох, скрип и стук, как если бы кто-то подпрыгнул. Перфильев беззвучно приподнялся, поглядел на плотную штору, что закрывала окно и дверь в лоджию, и тихо, на одном дыхании, прошептал: – К нам лезут, Леша? – Вроде бы нет. Похоже, к Флинту. – То есть к сейфу, – уточнил Перфильев, плавно перетекая в спальню Каргина, где в шкафу, за одеждой, хранились автоматы. – Кто у нас сегодня на дежурстве, Влад? – Димка. Пусть остается у лестницы, целее будет… Зайдем как? – Ты – с коридора, я – с лоджии. Пошли! Перфильев выскользнул, как тень. Каргин, повесив автомат на шею, ринулся в лоджию, к тонкой бетонной переборке, что отделяла их сегмент от соседнего. Оба люкса – тот, в котором обосновались они с Владом, и второй, снятый для Флинта, где размещался офис – выходили на Рустам-авеню, тихую, темную и безлюдную в эти ночные часы. Никаких звуков с улицы не доносилось, и в лоджии у морпеха теперь тоже царила тишина – очевидно, незванные гости уже проникли внутрь. Каргин вскочил на перила, переступил ногами, придерживаясь за край переборки, бесшумно спрыгнул вниз. Дверь в гостиную номера Флинта была распахнута, а сверху, с тринадцатого этажа, который в «Тулпаре» считался четырнадцатым, тянулись, падая на пол лоджии, прочные канаты. Сколько их было, Каргин пересчитать не успел – у двери пошевелилось что-то темное, щелкнул предохранитель, и он, сделав огромный скачок, ударил в это темное прикладом. Попал, кажется, в живот. Его противник, охнув и выронив оружие, согнулся, получил еще один удар и рухнул наземь. Каргин бросился в комнату, соображая, где тут стол, а где диван и кресла, невидимые в темноте, метнулся вбок, к стене, увидел вспышку – пуля из пистолета с глушителем свистнула где-то левее и умчалась в небеса сквозь дверной проем. Стрелявший был в дальнем конце комнаты, и Каргин уже вскинул автомат, готовясь его срезать, но тут же услышал придушенный хрип. Его ладонь зашарила по стене, пальцы наткнулись на бра и выключатель, вспыхнул неяркий свет. Один из незванных гостей лежал у выхода на лоджию, другой – у ног Перфильева, и оба были прочно вырублены. Из спальни Флинта доносились шорохи, там шла какая-то активная возня; в другой комнате, в той, где размещался офис, тихонько позвякивало и скрежетало. Каргин показал Владу на спальню, а сам проскользнул к двери офиса. Тут, на конторке рядом с сейфом, горела настольная лампа, и в световом пятне мелькали отмычки и руки с длинными ловкими пальцами. Их хозяин сидел на корточках под стальным шкафом, полностью поглощенный своими манипуляциями; второй, с пистолетом, сторожил у дверей. Ствол он поднять не успел – Каргин вышиб оружие сильным ударом по запястью. Потом сказал: – В другую комнату. Тихо, медленно, не делая резких движений… Пошли! В гостиной пахло чем-то странным, непривычным, и, втянув воздух расширившимися ноздрями, Каргин определил: эфир. Влад, со склянкой и тряпкой в руках и автоматом за плечами, стоял посередине комнаты, а в дверь с натужным сопением протискивался Генри Флинт. С каждой стороны у него висело по телу; ноги безвольно волочатся, головы опущены, одежда в беспорядке. Отдуваясь, он свалил их на пол около дивана. – Убил? – поинтересовался Каргин. – Ну что вы, босс! Это я только снаружи черный и страшный, а внутри – белый и пушистый… Сунулись ко мне с какой-то дрянью, так я их самих угостил. Спят! С хозяйственным видом оглядев комнату, Флинт начал прибираться: подтащил к дивану двух других налетчиков, взял у Перфильева склянку и тряпку, разорвал ее пополам, смочил, поднес к физиономиям пленных. – Добряк! Почки надо отбить, а он анастезию делает, – пробормотал Перфильев, обшаривая приведенных Каргиным. Оружия у них не оказалось. Один был сухопарым мужчиной лет сорока, бледным и лысоватым, с явно славянской внешностью, другой, как и остальные грабители, туранцем. Распознав в нем старшего, Каргин сел в кресло, положил на колени автомат и отрывисто спросил: – Кто такие? Туранец молчал. Кажется, он не боялся – темные глаза зыркали по сторонам, лицо было угрюмым, но с заметной надменностью, как у человека, привыкшего командовать. – Бить будете? – деловито осведомился лысоватый. – Будем, – пообещал Перфильев. – Надо же как-то восстановить мораль и нравственность в вашем гадючнике! – Бить не будем, – сказал Каргин. – Они по веревкам из президентского люкса спустились, на этих веревках и повесим. Сначала тех четверых, что под диваном лежат. Я посторожу, а вы тащите их на балкон. Он повторил приказ на английском, и Флинт, кровожадно ухмыляясь, взял одного из налетчиков за ноги и поволок к дверям. – Эй! – подал голос туранец. – Ты что делаешь, проклятый аллахом? У тебя совесть есть? – А что это такое? – спросил Каргин. – Делай, как положено! Феррашей вызывай! – Ишь, раскомандовался… Зачем нам ферраши? Свои проблемы мы сами решаем. Перфильев шагнул к ванной, бормоча: – Мыло поищу, веревки намылить надо, хорошо скользить будут. Если уж не бьем, так и мучить ни к чему… На скользкой веревке шея враз ломается… Услышав это, лысоватый вздрогнул, отодвинулся от туранца, выкатил глаза: – Погоди, бугор, не спеши, не путай меня с этими фраерами! Я человек подневольный, мастер золотые руки, для дела взят… Слесарь я.[312] Ха-ароший слесарь! – Медвежатник, значит, – уточнил Каргин. – Сейф у нас фирмы «Бэрримор»… И что же, ты собирался его открыть? – Как два пальца, – фыркнул лысоватый. – Если открою за десять минут, отпустишь, хозяин? – Отпущу. Открывай! Вор исчез в офисе, а Каргин, повернувшись к туранцу, уставил на него немигающий взгляд. Флинт тащил в лоджию третьего грабителя, который уже шевелился и слабо постанывал. Перфильев, вернувшись с куском мыла, понюхал его и сообщил: – Американское! Запах какой! Будут висеть как в розовом саду у президента. Туранца, похоже, проняло. – Нельзя нас вешать, – произнес он, скривив рот. – Мы… – Вы, ребята, в дерьме по самые уши, – пробурчал Перфильев. – Мыло, однако, попалось отменное, хоть шеи чистые будут. Он склонился над последним налетчиком, дергавшим ногами, но Каргин его остановил: – Погоди, Влад, пленный желает дать показания. Ну, слушаю! – Ты… Вы начальник охраны мистера Керка? – Я мистер Керк собственной персоной. Туранец позеленел – кажется, понял, что более высокого начальства тут не сыщешь, и что приговор не подлежит обжалованию. – Мы люди кезбаши Аязова, – произнес он через силу. – Из городского ферраш-управления. Пощадите, ага! – Имя, звание, должность? – Латиф Каюмов, юзбаши, командир спецгруппы «Бургут».[313] Перфильев захохотал. Смеялся он так, будто напильником водили по железу, зато от души – приседал, хлопал огромными ладонями по коленям, тыкал пленника у дивана в ребра и хрипел: «Ну и ну… Чего-то не так у вас, орлы… В Москве, конечно, ваша братия берет, но чтобы на дело с медвежатником… До такого еще не додумались!» Флинт выглянул с балкона, поинтересовался, что случилось. – Они не бандиты, а полицейские. Пришли, чтобы сейф наш очистить, – объяснил Каргин и, заметив, как расширились глаза у Флинта, добавил: – Это, Генри, не шутка. И не подумай, что я чокнутый. – Да что вы, босс! Мне не привыкать, сам из Бруклина, – отозвался Флинт. – Ну, вешать будем? – Подождем. Тащи их обратно! А ты, юзбаши, скажи – знаешь, что такое бартер? Каюмов мрачно кивнул. – Ну, тогда обменяемся: я тебе – жизнь и всех твоих бургутов, ты мне – информацию. Договорились? Туранец кивнул, открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент в офисе звякнуло, потом зашелестела дверца сейфа. – И правда, справился слесарь! – с удивлением произнес Перфильев, заглядывая в офис. – Справился, бляха-муха! А говорили – «Бэрримор», «Бэрримор»! – Эту бериморду в Калуге клепают, – сообщил лысоватый, появляясь на пороге. – Там клепают, сюда везут, а здесь – без обид, начальники! – впаривают всяким фраеристым лохам. Перхоть, а не сейф! Небось у Рахманчика куплен, на углу Самаркандской и Гюзель-бану?[314] – Иди, деловой, иди, выметайся! – махнул ему рукой Каргин. – Охраннику на лестнице скажешь, что Алексей Николаевич велел пропустить. И свой инструмент забери! – Инструмент казенный, я его у сейфа оставил. Чужого нам не надо… Опять же дерьмовые отмычки у ментов! Он с достоинством удалился. Перфильев, все еще посмеиваясь, пихнул юзбаши автоматом в спину. – Где умельца такого отыскали? – Через Рахмана. Сейфы продает, замки, ключи, засовы, всех знает, Аязову служит. – Интересные сведения! Зачтутся, – промолвил Каргин. – Теперь скажи: правда ли, что от бандитов вам звонили, галстук прислали и встречу назначили? – Правда, ага. – Требовали сколько? – По миллиону за каждого. – А с меня – три! Запросы у вас, однако! – Ага богатый человек, очень богатый, а мы бедные. Все бедные, вся страна: ферраш-баши бедный, и кезбаши Аязов бедный, я бедный и мои люди тоже. Тут, в «Тулпаре», ага деньги на ветер кидал… большие, говорят, миллионы… Кезбаши Аязов сказал: от него не убудет. Никак не убудет, даже если Воины Аллаха обманут и не вернут заложников. Каргин и Перфильев переглянулись. – Значит, Воины Аллаха их похитили? – Они, ага. Страшные люди, фанатики, шахиды![315] Лучше их не раздражать. – Я и не собираюсь. Вот что, юзбаши… – Каргин с задумчивым видом уставился на автомат, лежавший на коленях. – Отпускаю я вас. Идите! Рандеву, что вечером назначено, отменяется, и вы в это дело больше не суйтесь. Сам проводников отыщу, сам к аллаховым воинам поеду, сам буду договариваться. Договорюсь – хорошо, а если нет, других бандитов найму, Львов Ислама или эмира Вали Габбасова, и сделаем мы из похитителей шашлык. Клянусь! – Глаза Каргина вдруг бешено сверкнули, он отшвырнул автомат, вскочил, выбросил вверх руку со стиснутым кулаком и рявкнул: – Клянусь в этом! Мой кинжал искупается в их крови! Всех укорочу на голову! Каждого поганого хакзада и хадиджа! И шелудивый верблюд помочится на их тела! Каюмов с испугом отшатнулся. Потом взглянул на своих бойцов, медленно поднимавшихся на ноги, и спросил: – Ага желает что-нибудь передать кезбаши Аязову? – Желает. Пусть аллах ниспошлет вшей на его голову! Генри, проводи гостей. Налетчики исчезли, и ярость Каргина вмиг испарилась, сменившись иронической улыбкой. Перфильев уважительно сказал: – Ну, Леха, ты силен! Какой спектакль разыграл! А где так ругаться научился? – В Кушке. Воспоминания детства… Хадидж – недоносок, хакзад – рожденный из грязи… попросту из дерьма. Этот Каюмов тоже дерьмо, обмануть нас хотел. И обманул бы, если бы не девушка! Сцепились бы с Воинами Аллаха на свою голову! – Улыбка на его лице исчезла и, подобрав автомат, Каргин спросил: – Как думаешь, он поверил, что мы поверили? – Испугался, что ты его пришибешь, значит поверил. – Хорошо бы. Передадут Вали, и тот успокоится. Тут мы его… – … ка-ак хряпнем! – продолжил Перфильев и зевнул. – Пошли спать, Алексей. Утро вечера мудренее.
* * *
Эту поговорку майор Толпыго переиначил по-своему: всякий ефрейтор утром сержант. Вообще про хитрого ефрейтора он знал массу анекдотов, и любимый был таким: вызвал генерал ефрейтора на ковер и ну его материть и костерить. Ефрейтор послушал-послушал и вымолвил: «Товарищ генерал, если уж мы с вами так ругаться будем, что же сказать о рядовых?..» Утром Каргин, как тот хитрюга-ефрейтор, тоже чувствовал себя продвинутым в звании, если не до маршала, как намекал Шон Мэлори, то, по крайнер мере, до полковника. А для военного человека большие звезды на погонах что шпоры для рысака: и подгоняют, и ум просветляют, а что до энергии, то она с каждой присвоенной звездой кипит все интенсивней и круче. Главное, чтоб звезды падали заслуженно и своевременно, в активном бойцовском возрасте, а не доставались одним лишь старым штабным пердунам. Поднявшись, Каргин распорядился, чтобы Рудик взял такси и съездил с Ксенией к ней на квартиру, вещи забрать, а ежели будут чиниться препятствия, пресек и вразумил. Хорошо вразумил, от души, чтоб ползалось только от кровати до сортира! Затем пошел с дежурным Дмитрием на тринадцатый этаж, который считался четырнадцатым, осмотрел президентский номер (дверь была не заперта), пощупал веревки, все еще свисавшие в лоджии с перил, сказал Диме, чтобы прибрался, и решил, что непременно купит тулпару и наведет здесь гвардейский порядок. Такой, чтобы ферраши под видом ворюг не лезли к постояльцам в номера, и чтобы служба безопасности была надежной, лучше всего из «варягов». Затем он позвонил Булату Файхуддинову, велел ему ехать в «Тулпар», а Перфильева с Балабиным и Флинтом отправил на армейский склад, к торговцу-минбаши, вручив им чемодан, отбитый в Первом президентском. Какие у минбаши запросы сказать было заранее нельзя, однако Каргин полагал, что миллиона хватит. Цена у приличной вертушки, конечно, побольше, но, с одной стороны, продавал минбаши не свое, а с другой, этот самый миллион наличными, когда выкладывают их на прилавок, имеет такое гипнотическое действие, какое не снилось ни Кашпировскому, ни Чумаку. Улучив несколько минут, он позвонил в Краснодар, поговорил с ласточкой. Кэти весело щебетала, но за ее словами мнилась Каргину тревога, то ли от нового ее положения, то ли что-то она предчувствовала – опасность, грозящую ему, неясный поворот событий, которого не избежать в любом сражении. Планы и расчеты всегда остаются планами и расчетами, а реальность – реальностью, и случай – случаем; поскользнешься на банановой кожуре, тут тебе штык пол ребро и всадят. Правда, афганского сна – будто его живьем в яму закапывают – Каргин в эту ночь не видел. Снились другие сны, наполеоновские: как ведет он роту «гепардов» в бой, по правую руку – лейтенант Свенсон с автоматом, по левую – сержант Зейдель с развернутым знаменем, а сзади дружно топают сапоги и песня слышится, но не французская, а та, которую пели в Рязанском училище ВДВ: «Непобедимая и легендарная». И еще снилось, будто бой окончен, и сам полковник Дювалье, командир третьей бригады, вешает ему на грудь орден Почетного легиона, а в отдалении стоит Нияз Бикташев, батальонный разведчик, снайпер, герой труда и ветеран. Стоит он с мешком кураги в руках и этак одобрительно кивает: вот и ты, парень, удостоился! Пришли результаты космической съемки со спутника, Гальперин сделал распечатки, а там и Сергеев заявился со схемой базы, но только одной, Ариман-2. Сказал, что вторую еще не рассекретили, и бывшим коллегам надо время, чтобы подобраться к этим документам. Зато при схеме оказалась опись, где были перечислены постройки, размеры их и назначение. Ценная информация; вместе с картами местности она позволяла спланировать атаку во всех подробностях. Первым делом Каргин с Сергеевым начали сверять полученную схему с данными космической съемки, тут же обнаружив разницу. – Ангаров нет, вот этих, – сказал подполковник, тыкая в план карандашом. – Вертолетные ангары, сборные, алюминиевые… Что про них в описи? Так, разобрали и вывезли… Хозяйственный был командир у этих десантников… Склада ГМС[316] тоже нет, цистерны под открытым небом стоят. Помечено: склад ветхий, кровля грозила обрушением… – Это хорошо, что под открытым небом, – заметил Каргин. – Сжечь легче. А вот здание, в котором эмир обосновался, вот это, перед бывшим плацем… Что в нем было? – Штаб базы, офицерское собрание и столовая. Два этажа, шестнадцать окон по фасаду, главный вход с плаца и два черных с другой стороны, возле столовой и финансовой части. Дом кирпичный, под железной крышей… А здесь, Алексей Николаевич, извольте видеть – губа.[317] Вот этот домик, про который девушка говорила… Здесь наших и держат. Стены бетонные, дверь прочная, но сбить замок нет проблем. Место, чтоб вертолет приземлился, имеется. Вынести их и погрузить – дело трех минут. – Сначала разобьем казармы, – возразил Каргин, сравнивая фотографии со схемой. – Вот эти, у самого забора, уже в развалинах, эти две пустые, а у других четырех народ роится, и все на коленках стоят – похоже, в утренний намаз снимали. Вот их и разобьем… Если из «Таволги» бить, по две ракеты на казарму хватит. Половина точно не выберется – кого осколки посекут, кого задавит стены и кровля. – Другая половина – рота, полторы сотни стволов, – напомнил Сергеев. – А у вас, как я понимаю, человек двадцать… Справитесь? Сумеете уйти? – Уйти успеем. Главное, чтоб в воздухе не достали, стингером. Наверняка что-то у них есть… Каргин склонился над снимками, изучая местность. Фотографии были подробные – и люди видны, и машины, и трубы на домах, и скалы – резкие черные тени от них тянулись с востока на запад. База, замкнутая в периметр бетонных стен, лежала в довольно глубокой котловине и казалась недоступной с земли. Котловина, как ее и рисовала Ксения, напоминала овал, вытянутый с северо-востока на юго-запад; на севере – тоннель, пробитый в скалах, а при въезде в него – селение Кара-Суук, сотни две домиков, разбросанных на берегу горной речки. Тоннель наверняка охранялся, и не было сомнений, что в нем заложена взрывчатка – повернут рычажок, и сотня тонн породы обрушится на атакующих. Если судить по теням, падавшим от домов и утесов, скалистые стены на севере, западе и востоке были метров триста высотой, и вертолет, поднимавшийся к этим вершинам, мог оказаться прекрасной мишенью – особенно если внизу заполыхает пожар или ночка выдастся лунная. Но на юге скалы сильно понижались, метров до тридцати-сорока, и котловина переходила в узкое ущелье, отличную дорогу для отступления – если, конечно, пилот попадется стоющий. Сам Каргин летал вполне прилично, но только днем и, разумеется, не в канавах, где с края на край можно камешек перебросить. Раздумывать над тем, что за пилот у Азера, асс или сопливый новичок, смысла сейчас не имело, и Каргин, отметив юг как лучший путь для ретирады, потянулся к следующему снимку. На нем был изображен участок за ущельем: нависший скальный козырек, наполовину скрывавший какие-то сооружения, склон, полого тянувшийся вниз, и такой же пологий подъем на гору, поросшую хвойным лесом. Внизу лес редел, и среди камней торчали одинокие сосны, перемежавшиеся с зарослями кустарника, ямами, осыпями, большими и мелкими глыбами и чем-то бесформенным, похожим на груды старого мусора. Пейзаж был Каргину смутно знаком, однако припомнить, где и когда он видел эту местность, никак не удавалось. Взгляд с высоты делает высокое и глубокое плоским, и только тени позволяют распознать, где тут впадина, а где возвышенность. Тени были выразительные, но кроме туманных воспоминаний ничего не навевали. Вздохнув, Каргин отложил снимок и придвинул к себе другой, где база была представлена в крупном масштабе. Посередине – плац, с одной стороны – здание штаба, квадратик гауптвахты, склады и танки для горючего, с другой –казармы и развалины казарм, а сбоку от них – гараж и вертолетная площадка в кольце столбов с прожекторами. Еще сторожевые вышки: четыре – по углам периметра, и одна у ворот. Сергеев показал на нее отточенным кончиком карандаша. – Эту наша красавица не изобразила, но в остальном ее картинка очень даже точная. Молодец! Кстати, Алексей Николаевич, что вы думаете с нею делать? – С собой увезем, в Москву. Захочет учиться, выдам грант, или пойдет работать к Перфильеву. А если нынешняя работенка дорога… Ну, в Москве тоже есть мужики, пусть ублажает. Сергеев вдруг хихикнул. – В Москве много чего есть. Например, человек, похожий на генерального прокурора. Каргин посмотрел на него, но бывший кагэбэшник был уже непроницаемо серьезен. «Я ведь даже не знаю, как его зовут, – вдруг подумалось Каргину. – Товарищ по фамилии Сергеев, и все! Интересно, помнит ли Влад его имя-отчество?» Мысль мелькнула и исчезла. Он подгреб снимки поближе к себе и сказал: – Вот что, подполковник, если случится с нами какая неприятность, будете за старшего. Рогов, Кань, Гальперин, Дима с Рудиком и эта девушка – все на вас. Срочно вывозите их в Москву и проинформируйте о случившемся заместителей Перфильева. Они знают, с кем связаться и что делать. – Мудрая предосторожность… Тогда я пойду, с вашего разрешения. Эвакуацию тоже надо подготовить. – Готовьте. Это будет вашим заданием до завтрашнего утра. Когда Сергеев вышел, Каргин вытянул ноги, откинулся на спинку кресла и прищурился. Творившееся сейчас в его сознании было таким же загадочным, таинственно-непостижимым, как труд музыканта, сочиняющего пьесу; ее основа, фон – рояль, виолончели, альты, скрипки, в мелодию их вплетается песнь гобоев, горнов, флейт, а в нужном месте вступят арфа, контрабас, ударят барабаны и литавры, прогремит труба, и все это сольется целостной гармонией, откуда не выбросишь ни инструмента, ни единой ноты или звука. Различия, при объективном взгляде, не существенны, средства и цели не важны; военачальник – тот же композитор, хотя его оркестр – воинский отряд, а инструменты – люди и оружие. Каждый должен знать свое место, вступить в свой черед, сыграть правильно, без фальши, и повиноваться дирижерской палочке как слову всемогущего Творца. Так и только так рождаются великие симфонии; так и только так куют победу. Награда – аплодисменты или жизнь своих бойцов. Он уже не нуждался в планах и картах – они запечатлелись в памяти, ожили, стали объемными; словно наяву, он видел перед собой котловину в горах, окруженную скалами, бетонный забор, сторожевые вышки, цистерны с горючим, казармы, плац и здание штаба. Он знал, в каких щелях залягут снайперы, кого и скольких поразят их пули; в какой момент вертушка окажется над лагерем, где приземлится и что уничтожит, снова поднявшись в воздух; куда направятся его десантники, какие позиции займут, когда и по какому сигналу отступят; кто будет прикрывать отход, кто уничтожит казармы, запасы горючего, склады, взорвет сторожевые вышки, и сколько понадобится времени, чтобы ударить, посеять панику и отойти без потерь. Многоголосая фуга разыгрывалась в его голове, и звучали в ней взрывы, стрекот автоматов, вопли, хрип и стоны, яростный рев огня и гул, с каким оседают на землю кирпичные стены. Каждый звук и каждое действие в этой симфонии боя были согласованы с другими звуками и действиями, проистекали из предыдущего, вели к последующему и завершались красной вспышкой ракеты, приказом к отступлению. Восемнадцать минут, думал Каргин, восемнадцать минут и восемь боевых команд: пять – на вышках, снайперы, вертолетчики и штурмовая группа. Собрать бы их всех без потерь… Негромкий перезвон вывел его из задумчивости. Он поднялся, шагнул в спальню, к черному кейсу, откинул крышку. На экране царила тьма тропической ночи, сияли яркими точками звезды и слышался далекий шелест, с каким накатываются волны на песок. Остров в южных морях, крепость меж океаном и небом, убежище старого Халлорана… Заслонив звезды, всплыло его лицо. – Не спится, – буркнул старик. – Читаю. Ты не слышал о такой науке – танатология? – Он показал Каргину обложку книги. – Нет, не приходилось. – Наука о смерти, Алекс. Танат – одно из древнегреческих божеств, слуга Аида, водитель душ умерших… «К чему он об этом толкует? – подумал Каргин. – Вид у старика отменный, цвет лица здоровый, совсем непохоже, чтобы к Аиду собирался…» – Любопытная книга, – произнес Халлоран, – о многом заставляет поразмыслить. Вот, например, вопрос: хочешь ты знать, когда умрешь, или не хочешь? Если б такое было в твоей власти? – Пожалуй, нет, – сказал Каргин. – Этой неприятности не избежать, и я хотел бы, чтобы она нагрянула неожиданно. Хотя, с другой стороны… Возможно, другой человек, с другим характером и более мирной профессией сочтет иначе. Сухие губы старика дрогнули в усмешке. – Может быть, да, может быть, нет… На самом деле ответ, по статистике, зависит не от темперамента и рода занятий, а исключительно от возраста. В молодости такая информация пугает и кажется нежелательной – ведь всякому приятно думать, что он проживет как минимум еще полвека. В старости совсем иная ситуация. Старикам известно, сколько прожито, и потому они не прочь узнать, столько там еще осталось. Малым сроком их не испугаешь, это естественно, но сохраняется надежда – а вдруг судьба преподнесет подарок? Лет десять или хотя бы пять… Каргин молчал, не зная, какими словами отозваться на эти философские раздумья. Однако он не сомневался, что разговор затеян неспроста, и что-то сейчас воспоследует, какой-то совет или премудрость в духе майора Толпыго. Пожалуй, между Толпыго и дедом было определенное сходство – тот и другой иллюзий не имели, и потому к их изречениям стоило прислушаться. Как и предполагалось, совет ему был дан, но совершенно неожиданный. – Берет с тобой? – буркнул Халлоран. – Ну, так надень его, не позабудь. И свяжись со мной, когда закончится. Экран погас. «Знает! – мелькнула мысль у Каргина. – Знает, старый черт! Но откуда? Все-таки Флинт? Или кто-то другой, тайный агент в Туране, который присматривает за нами? Может быть, даже не один?» Он с досадой помотал головой, шагнул к шкафу, вытащил отцовский берет и сунул за пояс. Нащупал рубец – в том месте, где берет пробила пуля – и тихо прошептал: «Храни меня, мой талисман…» Трель телефона заставила его вздрогнуть. Он поднял трубку и услышал хриплый голос Перфильева: – Все о'кэй, Леха, выезжайте! Взял бронежилеты, рации, ракетницы, «Таволгу» взял, двадцать зарядов, ну и вертушку, само собой! Стартуем прямо со складской территории, минбаши позволил, благо сил ПВО в Туране нет. Даже полетный лист выправил – везем в горы крупу и ящик аспирина для пострадавших от землетрясения. Или от наводнения, хрен его знает! – Едем. Ждите, – сказал Каргин и вызвал Славу с Булатом Файхуддиновым. Когда их машина выкатилась со двора на улицу, он оглянулся и увидел, что у дверей отеля, рядом с черным «ландкрузером», стоит какой-то человек. Гладкое моложавое лицо, темные волосы, узкие, приподнятые к вискам глаза… Японец? На мгновение их взгляды встретились, и Каргин помахал незнакомцу рукой.* * *
Интермедия. КсенияШирокоплечего светловолосого парня звали Рудиком, и был он из Москвы, жил на улице Текстильщиков с мамой, отцом и двумя младшими сестрами, и то, что у него сестренки, а не братья, было заметно – он с Ксенией не смущался и, наоборот, не нагличал, не пялился на ее коленки и грудь, а смотрел в лицо. Ехать по Бухарской три минуты, но рассказать успел едва ли не всю свою жизнь, а когда приехали, поднялись на этаж и Ксения дверь отворила, мягко отодвинул ее в сторону. Так она и вошла к себе, выглядывая из-за широкой спины Рудика. Керим валялся на постели, курил, а рядом, на тумбочке, бутылка виски стояла и лежала бамбуковая трость. Зыркнул хмуро на Ксению, прошипел: «Совсем оборзела потаскуха, клиента привела… Скажи, чтоб выметался! Живо!» И – за трость. Рудик ухом не повел. «У тебя сумки-чемоданы где? – спрашивает. – В другой комнате, в шкафу? Ну, так иди, собирайся». Ксения вышла и, пока складывала в сумки обувь, платья и белье, слышался ей визгливый голос Керима – что-то непотребное он орал, неразборчивое, а потом крик прекратился, будто ножом отрезало. Она сунулась в спальню, косметику свою забрать, духи и всякие мелочи, и увидела, что Керим забился в угол, сидит на полу и смотрит на Рудика как овца на волка. «Паспорт ее принесешь, – сказал Рудик, постукивая ребром одной ладони о другую. – Час тебе времени, гнида позорная. В „Тулпар“ принесешь, мне отдашь. И бегать не вздумай или там динаму крутить! Ей, – он кивнул на Ксению, – твой адресок известен. Найдем, не сомневайся! Найдем, и мозгов через пупок подкачаем!» Он плюнул Кериму на макушку, вышел в прихожую и подхватил сумки Ксении. Пока ехали обратно, пояснил, что Ксения будет жить в номере Константина Ильича, а того положат в люкс к шефу или в Москву отправят, если здоровьем плох. Она спросила – кто он, Константин Ильич? «Не знаешь? Надо же! А ведь, считай, спасла его! – удивился Рудик. – Костя Прохоров, которого у эмира видела. Завтра его Алексей Николаевич привезет». «Выкупит у бандитов?» – полюбопытствовала Ксения. Рудик усмехнулся. «Выкупит! Ровно столько отстегнет, чтоб каждому на гроб хватило!» Он принялся рассказывать, как шеф, вместе с другом своим Владиславом, у которого хриплый голос, кого-то устаканили в горах, но Ксения почти не слушала, а думала про пленника, про Константина Ильича, про Костю. Думала жалеючи, и мнился ей его голос: «Не знаю, Ксюшка, есть ли бог на небесах, но сделаешь, о чем прошу, тебе зачтется…» Кажется, зачлось.
Владимир Высоцкий
Глава 11
Ата-Армут и луга Бахар, день 14 мая; лагерь в горах, ночь с 14 на 15 маяВертолет оказался довольно старым – десантный трудяга Ми-17,[318] с которого сняли все оружие, кроме пары пулеметов. Но двигатель тянул на положенные две тысячи лошадиных сил, горючего в баки было залито под завязку, и маневренность тоже не оставляла желать лучшего. Не «Черная акула»[319] разумеется, с танками ему не биться, зато старичок поднимал целый взвод в полном боевом снаряжении и держался в воздухе с уверенностью бывалого ветерана. К тому же машина была Каргину знакомой – летать он учился на Ми-8, и прежние рефлексы не исчезли – руки сами знали, что нажимать и что поворачивать. Он взлетел над западной городской окраиной, где располагались склады, сделал круг над вершинами чинар и тополей, над залитыми битумом крышами длинных низких строений с военным имуществом, поднял вертушку на сотню метров и лег на курс к горам. Потом оглянулся и бросил взгляд на свою армию, рассевшуюся в десантном отсеке. Генри Флинт, Файхуддинов, Балабин и Влад Перфильев со Славиком… Негр, татарин, белорус, двое русских, и он сам, на четверть ирландец, на половину казак… Пестрое воинство! Русские, правда, пока в большинстве, но на лугах Бахар есть вероятность прихватить туранцев, узбеков и корейцев. Целая интербригада получается, решил Каргин, и это правильно – бить мерзавцев следует всем миром. Небеса были безоблачно-ясными, внизу тянулись зеленые предгорья с разбросанными тут и там домами, курчавились кроны яблонь и груш, дремали под солнцем виноградники, и с высоты Туран казался исключительно мирным и тихим, будто не водилось на этой земле ни разбойников, ни фанатиков, ни жадной своры президентских родичей, ни наркодельцов, ни иных злодеев. Туранская земля была единой, целостной, и только люди делили ее на зоны влияния и области корпоративных интересов, рассекая незримыми сверху границами, воздвигая сторожевые вышки, огораживая свои уделы траншеями, заборами и колючей проволокой. Однако не приходилось сомневаться, что с течением лет траншеи осыпятся, вышки и заборы рухнут, проволока станет ржавой пылью, а земля, древняя и неизменная, поглотит все это и забудет о прежних владыках и злодеях. Правда, народятся новые. Отыскав ориентир – шоссе, ведущее к Кизылу – Каргин пошел на юг в километре от него. Внизу промелькнули корпуса санатория, затем райцентр, озеро и скала Ак-Пчак, которой (можно биться о любой заклад!) не суждено увековечить облик президента. Миновав скалу, он повернул на запад, прошелестел винтами над домиком Нияза Бикташева, где дорога распадалась на-трое, спустился пониже, пролетел над местом, где упокоился бейбарс Ибад с двумя подельниками, и вскоре обнаружил ущелье – узкий извилистый шрам, что рассекал утесы и каменистые осыпи. За ним лежало вольное ханство гусезаводчика Азера, и тут их явно ждали: у блокгауза, перекрывавшего дорогу, был выложен белый квадрат, а рядом стоял грузовик с набитым ящиками кузовом и кучка местных обитателей. Каргин приземлился, с удовольствием отметив, что сел почти точно в центре квадрата. Его бойцы полезли из отсека, Азер со своими двинулся навстречу, и некоторое время слышались только отрывистые восклицания, звания, имена и звонкие хлопки ладони о ладонь. Ни напряжения, ни чувства, что встретились чужие и незнакомые друг с другом люди; кто-то уже откупоривал фляжку, кто-то трепался с Флинтом на пиджин-инглише, кто-то расспрашивал Балабина, не довелось ли ему служить под Нальчиком и в Приднестровье. Как и ожидалось, народ у Азера был всякий, и среднеазиаты, и русские, и двое то ли грузин, то ли армян, но было нечто, объединяющее их: все – крепкие мужики за сорок, и все глядят с характерным прищуром, словно прикидывая, откуда пуля прилетит или граната. Тертые и битые, решил Каргин, обнимаясь с Азером. – Ну, не ошибся я? – пробасил полковник. – Все-таки к Вальке твоих засунули, к эмирчику-ублюдку! Ну, бог не выдаст, свинья не съест… Выручим! В ночь полетим? – Вылет в три, – отозвался Каргин. – Начало операции – в три тридцать, и сейчас я… Федор Ильич похлопал его по плечу. – Расскажешь, все расскажешь и вводные дашь. Десять часов у нас, времени хватит, чтобы посовещаться, поесть и поспать. Разгрузим машину, перенесем оружие, перекусим и отдохнем. Здесь. В моем блиндаже, – он махнув в сторону блокгауза, – есть подходящий кубрик. А в деревню к себе в этот раз не зову, ты уж извини, Алексей. – Что так? Полковник страдальчески сморщился. – Со мной тут пятнадцать мужиков, все ветераны Афгана, все в возрасте, у каждого дети и семейство… Нехорошо, если догадаются, что мы затеяли… крику будет, слез… А так сказано, что повезем вертолетом товар драгоценный, перья страуса и яйца, в город повезем, московскому перекупщику. Ценность большая, на миллионы таньга, охранять надо! – Шито ведь белыми нитками, Федор Ильич, – сказал Каргин. – Кто поверит? – Моя жена поверила и дочери тоже. Натура у женщин такая – верят, когда очень хочется… – Азер оглядел людей – одни уже таскали к вертолету ящики, другие расколачивали их, третьи все еще знакомились с гостями – и гаркнул: – Денис Максимыч! Подойди! К ним приблизился человек в потертом комбинезоне пилота. Было ему под пятьдесят, седые волосы торчали ежиком, на левой щеке и ниже, на шее – багровые следы ожогов, а ладонь, когда он протянул руку Каргину, показалась непривычно узкой – не хватало мизинца и безымянного. – Майор Гринько Денис Максимович, вертолетчик-асс и первый мой помощник, – представил мужчину Федор Ильич. – Если ты не против, Алексей, я с ним в помеле останусь, когда до дела дойдет, с ним и с гранатометом. Ноги уже не такие резвые, бегать тяжело. – Капитан полковнику не указчик, – произнес Каргин, присматриваясь к майору. – Чины и звания тут ни при чем. Твоя операция, парень, ты и командуй. Гринько, заметив, что его разглядывают, вдруг подмигнул, и какое-то шестое чувство подсказало Каргину, что о пилоте можно не беспокоиться. Этот любым ущельем пройдет, из всякой передряги вытащит, что днем, что ночью… – Сегодня полетаем, – с явным удовольствием сказал майор и вытянул трехпалую руку. – Не гляди, что мало осталось, главные пальцы на месте – кукиш еще могу свернуть и поднести супостатам. Он повернулся и зашагал к вертолету. – Однополчанин мой, – заметил Азер. – На Ми-8 летал, дважды горел, двести сорок боевых вылетов, наград и ран без счета. Уволен в отставку и позабыт. Тут у меня – главный начальник над индюшками. А того грузина видишь? По-настоящему он мегрел, Зураб Хелая… Охотником был, а в Афгане – снайпером, и снайпер он от бога… Игорь Крымов и Солопченко тоже отменные стрелки, однако с Зурабом им не тягаться. Ну, пойдем? Максимыч присмотрит за погрузкой. Они зашагали к бетонному блокгаузу. – Эти пятнадцать – все афганцы, какие к вам прибились? – спросил Каргин. – Не все. Еще столько же наберется, но те сильно покалеченные, кто без ноги, кто без руки. Этих я оставил, хотя обиды были… и молодых оставил, необстрелянных… Нам ведь трупы ни к чему… Верно, Алексей? Каргин обернулся, посмотрел, как затаскивают в вертолет оружие, ящики с взрывчаткой и гранатами, метровые цилиндры «Таволги», ПК[320] с похожим на чемоданчик магазином, «калаши» и сумки с рожками. Работали без суеты, но быстро и споро. Слава, Булат и Балабин помогали, Перфильев что-то обсуждал с Гринько, Генри Флинта поили из трех фляжек – наверное, в знак международной солидарности. – Одного я не понимаю, Федор Ильич, – произнес Каргин. – Не понимаю, зачем вы ввязываетесь в распрю. Конечно, дело наше тайное, и коль не наследим, никто не узнает, что вы нам помогали… Но все-таки – зачем? Сами сказали, жены и дети у всех, и жизнь мирная, и достаток при индюках и страусах. А пуля – дура, она ведь не выбирает… – Ну, я бы не сказал, что жизнь у нас такая мирная, – прогудел Азер. – Живем мы тут как в осажденной крепости, опять же у каждого обиды есть, причиненные властью либо бандюками, а ведь обиды от них все одно что от власти – не защитила, не помогла… Те обиды помнятся, но мстить я бы народ не повел. Пакостное дело – мщение, пакостное, бесконечное, бесперспективное… А вот показать, что не одни бандиты в горах хозяева, что и на них управа найдется – в этом, пожалуй, главная причина. Ну, и за честь постоять… Не честь России, которой мы что прошлогодний снег, а за свою. Честь, Алексей, такая штука, что жить с ней трудно, а без нее никак нельзя, и ежели люди ее потеряли, то и стране конец. Не граждане в ней, а рабы, не воины, а живодеры, не судьи, а мздоимцы. Ведь так? – Так, – согласился Каргин. – И честь подсказывает мне, что вы в больших расходах, Федор Ильич. Вон, целую машину пригнали – патроны, взрывчатка, гранаты, оружие… А еще моральные издержки – ранят кого, так от жены и семьи не скроешь, стоны будут и слезы, а вам – попреки… Словом, как бы акция наша не закончилась, успехом или провалом, а я ваш должник. Долги, однако, платить надо. Азер басовито расхохотался. – Вот как повернул! Что мне с тобою делать? Деньги брать? Или инвестиций требовать в мой гусиный бизнес? Хотя с другой стороны… – Он замедлил шаг, прищурился, посмотрел назад и буркнул: – Вертушку оставишь? Очень бы нам пригодилась… Пилоны приварим, ракеты куплю, и будем мы с таким умельцем, как Максимыч, словно за каменной стеной. – Договорились, – сказал Каргин и начал спускаться внутрь блокгауза.
* * *
Вылетели в три. Ночь была лунная, но над горами висели облака, и диск луны то прятался за ними, то возникал в разрывах бледным привидением, освещая утесы, деревья, осыпи и камни. Семьдесят километров для вертушки не расстояние, но Каргин успел оценить искусство пилота – тот вел машину низко над поверхностью земли, каким-то чудом огибая скалы, угадывая препятствия с той безошибочной точностью, какая дается лишь чутьем и опытом. Ми-17 в руках Гринько будто не летел, а крался, прижимаясь то к лесу, то к скалистому склону; растительность гасила звук моторов, и вряд ли силуэт машины маячил в звездных небесах. Темное на темном фоне, как летучая мышь, что плавно скользит в воздушных струях в поисках добычи… Каргин сидел в десантном отсеке, где, вокруг ящиков с боеприпасами и взрывчаткой, сгрудились двадцать человек. Все в камуфляже и бронежилетах, неразличимые, как близнецы, только Азер и Флинт выделялись ростом и шириною плеч. Молчали, но это безмолвие не казалось тягостным; каждый был проинструктирован и знал, что делать, а потому мог ненадолго расслабиться или повспоминать, когда и с кем в последний раз сидел в такой кабине, и где теперь те люди, его друзья-товарищи – спят ли в цинковых гробах, пьют ли горькую или стоят на перекрестках с протянутой рукой. Если бы их поднять, думал Каргин, поднять убитых и пропавших, вернуть изувеченным руки и ноги да сбросить лет пятнадцать каждому – какое б вышло воинство! Еще командиров поставить бы честных, а над ними мудрых политиков – глядишь, сохранили бы страну! А то пока в чужой воевали, своя рассыпалась… Мысли эти были горькими, и утешало лишь одно: живая частица воинства, той легендарной силы, о котором мечталось, была тут, рядом с ним. Крохотная часть, такая же малая, как и осколок великой страны, откуда они собирались вымести мусор. Эта уборка являлась делом сугубо личным, но разве государственные дела, великие и масштабные, не складываются из многих личных дел? Бесспорно, так! – решил Каргин и натянул на голову берет. Вертолет развернулся и завис над крутым горным склоном. Тихо шелестела трава, колеблемая потоком воздуха, а выше, там, где кончался луг, рисовались в лунном свете скалы, кольцо изломанных вершин, что обступали лежавшую за ними котловину. Сейчас они находились с наружной стороны, и скальная стенка гасила рокот моторов. – На месте, командир, – послышалось из пилотской кабины. – Пошли снайперы, – тихо произнес Каргин, и тройка теней скользнула в траву. Хелая, Крымов и Солопченко… Он видел, как стрелки расходятся, быстро карабкаются вверх и исчезают среди камней на самой вершине. Длинные стволы винтовок раскачивались над ними словно боевые копья. Его рация ожила, послышался гортанный голос Хелая: – Первый на позиции. – Второй на позиции, – почти сразу же подтвердил Крымов, а через несколько секунд отозвался Солопченко. Каргин поглядел на часы – было ровно три тридцать. – Начинаем операцию. Группам с первой по пятую приготовиться! Пилот, подъем! Ми-17 взревел, прыгнул в воздух наискосок и вверх, пропустив под брюхом скальные вершины, и тут же ринулся вниз, туда, где в сиянии прожекторных огней лежала за бетонным забором база. Сторожевые вышки торчали по углам и у ворот словно пятерка маяков, бросающих потоки света на плац, кровли казарм, дорогу и бывшее здание штаба; все это стремительно приближалось, надвигалось, вырастало в размерах, будто вертолет падал на вдруг ожившую фотографию, запечатленную в памяти Каргина. Он поднес к губам рацию. – Снайперы, огонь! На вышках что-то произошло – мелькнули темные силуэты, затмив на миг глаза прожекторов, рухнули вниз или безвольными куклами свесились с перил; где-то еще летели к земле мертвые тела, кто-то еще пытался приподнять оружие, а помело уже спускалось в середине плаца. – Неплохо сработано! – прохрипел Перфильев. – Недаром Толпыго говорил: один снайпер равен танковой роте! – Приземляюсь, – донеслось из кабины пилота. – Группы с первой по пятую – пошли! Бойцы, лязгая снаряжением, покидали отсек. Пять групп, в каждой – пулеметчик с напарником. Вполне возможно, на вышках были пулеметы, но рисковать Каргин не хотел – тащили свое, ПК и несколько тяжелых магазинов. Кроме того, взрывчатку. Это был самый ответственный момент – добраться с тяжелым грузом до вышек, откуда снайперы сбили охрану, залезть наверх и взять всю обозримую территорию под контроль. Три минуты, согласно раскладке времени, но за этот промежуток предстояло еще сделать многое. – Пошла штурмовая группа! – выкрикнул Каргин. Перфильев спрыгнул на плац, за ним – Флинт, прапорщик Балабин и Файхуддинов; помчались парами, огибая слева и справа темное здание штаба. – Бог в помощь! – раздался за спиной голос Азера. Каргин услышал его уже в полете; плотная сухая земля ударила в подошвы башмаков, правая рука сдернула с пояса гранату, левая вырвала кольцо. Он понесся гигантскими скачками вслед за Перфильевым и Балабиным, а где-то над его головой ревел невидимый вертолет, и Слава с Федором Ильичем, подняв тяжелые цилиндры «Таволги», высматривали цели. Сзади громыхнуло – били ракетами, как и предписывалось планом, по крышам казарм. Группа Каргина была уже около штаба, в окна полетели гранаты, зазвенело стекло, вспухли алые клубки разрывов, но они не замедлили бег: штурмовать это здание – потеря времени и темпа. Обошли его с двух сторон, и Флинт с Файхуддиновым тут же заняли оборонительные позиции на флангах – так, чтобы просматривалась территория между штабом и казематом гауптвахты и даже частично плац. Булат залег, сразу слившись с землей, Флинт, сбросив с плеча тяжелый пулемет, повел стволом, прикидывая сектор обстрела. – Третья группа на вышке, – проскрежетало в рации. – Первая на вышке, командир. Влад и прапорщик были уже около приземистого бетонного строения. В штабе слышались стоны и вопли, а по другую сторону плаца грохотали взрывы – это продолжал трудиться вертолет. – Вторая на вышке. – Ну, еще немного, мужики… – пробормотал Каргин и тут же услышал искаженный рацией голос: – Пятая поднялась. Затем: – Докладывает четвертая. Мы на вышке, но Байсаров ранен – не добили снайперы одного хмыря, ножом под ребра ткнул. Легкая рана. Задачу выполняем, командир. Каргин облегченно вздохнул. Теперь над базой был тройной контроль: пулеметчики на вышках, пушка вертолета и снайперы, что залегли наверху. Их задача – уничтожать любого, кто высунется с базукой или стингером, чтобы не подбили помело и не пальнули по вышке. Славик и Азер играли роль артиллерии главного калибра, а прочие, что находились с Каргиным, были ударным отрядом. За плацем в очередной раз послышался взрыв, и тут же затарахтели пулеметы – значит, противник выбирается из развалин. Обернувшись, Каргин увидел, как из окон штаба выпрыгивают люди, и дал автоматную очередь – она слилась с грохотом пулемета Флинта и выстрелами Файхуддинова. Всех срезать они не успели, не меньше дюжины бандитов растворились в темноте. Эмировы телохранители, подумал Каргин, бросившись к дверям гауптвахты. Балабин уже сбивал прикладом замок. Перфильев, прижавшись к стене около узкого оконца, позвал: – Прошка! Жив, Прошка? Это мы! «Стрела» прилетела! – Живой, – раздался в ответ булькающий голос. – Я живой, только ногу сломали да порезали слегка, а с Николаем плохо. Третий день сердцем мается… – Мы сейчас, дружище! Замок, лязгнув, упал на землю, и Балабин распахнул дверь. Они ринулись внутрь, Каргин включил фонарик и в его тусклом свете увидел два топчана и парашу, от которой несло зловонием. Барышников, бледный, как смерть, лежал поближе к окну, а Костя Прохоров, вцепившись в оконную решетку, стоял на одной ноге, и лицо его было жутким, в крови, синяках и порезах. Пальцы вроде бы целы и глаза… – мелькнуло у Каргина в голове, и тут он заметил, что ноздри порваны и мочки на левом ухе не хватает. Сзади зарычал Перфильев. – Ну, эмир… ну, ублюдок гребаный… Быть тебе сегодня без ушей! – Без головы, – сказал Каргин и буркнул в рацию: – Флинт, Файхуддинов! Отойти под прикрытие гауптвахты! – Потом вспомнил, что у Флинта с русским проблемы и позвал: – Генри, кам хиа! Он выскочил из бетонного домика, и в этот миг в дальнем конце базы, правее складов, поднялся столб огня – Слава с Азером подожгли бензохранилище. На недолгое время яростное гудение пламени перекрыло грохот выстрелов, небосвод вспыхнул багровым и алым, и Каргин, поглядев на часы, довольно кивнул: операция шла по плану и длилась семь минут сорок три секунды. По идее, к этому моменту враг уже должен очухаться, сообразить, откуда бьют, и приступить к организованному сопротивлению. То есть рассредоточиться, расползтись по щелям, начать обстрел вертолета и вышек, добраться до стингеров или что там у них припасено… Возможно, эмир Вали уже догадался, какие гости к нему пожаловали – к нему, а не к Воинам Аллаха! Не с шуршиками пришли, а с пулеметами и «Таволгой»! И если понял это, то будет не пассивное сопротивление, а контратака. Прапорщик вынес Барышникова вместе с топчаном, потащил в темноту, за домик гауптвахты; за ними, опираясь на плечо Перфильева, ковылял Костя Прохоров. Флинт и Файхуддинов заняли позиции слева и справа, били короткими очередями, сдерживая натиск эмировых телохранителей. Тех прибавилось – видно, подошли на помощь из казармы, прятались под стенами, постреливали, но идти в атаку не решались. Кто-то метался среди них, орал повелительно, размахивая саблей и «калашом», гнал под перекрестный огонь пулеметов, но безуспешно – никто геройской гибели не жаждал. Валька-эмир суетится, решил Каргин, перемещаясь на левый фланг к Булату. Он расстрелял уже два магазина, сшиб двоих или троих, машинально отмечая, что пулеметы на вышках трудятся по-прежнему, ракеты гремят и временами сухо стрекочет пушка Гринько. Десять минут с начала боя, все сожжено и разбито, и можно держать пари, что половина басурман уже в садах аллаха… Теперь оторваться бы без убытков! Рядом возник Перфильев, вскинул автомат, крикнул: – Они с Балабиным! Вызывай помело, Леха! Пусть грузятся, а мы прикроем, а заодно и эмира возьмем! Где он, этот сучонок? – Вон, вопит и саблей машет, – сообщил Каргин, и тут же автомат в руках Влада забился и зарокотал. Эмир исчез, словно отпрыгнув во тьму, но его громкий властный голос не пресекся – кажется, его не ранило и не задело. – Увертливый, гад… – Перфильев сменил обойму. – Ближе бы подобраться да на штык насадить… Одиннадцать минут. Отступив, Каргин прижался к стене гауптвахты, поднес рацию к губам. – Гринько, тебе отбой. Группы четвертая и пятая, бросить пулеметы, покинуть вышки. Еще один сложный момент. Даже опасный! Группы четыре и пять занимали угловые вышки за спиной Каргина и полагалось им двигаться к Балабину и освобожденным пленникам. Сам маневр был относительно простым – здесь стояли склады, а главная вражеская рать была сосредоточена в развалинах казарм, по другую сторону плаца. Но пулеметы смолкнут и выйдет из боя помело, а это значит, что эмир решится на атаку. Сколько у него людей, Каргин не знал; из тех, что прыгали в окна, осталась половина, шесть или семь человек, но подойти могли и два, и три десятка. Придется снайперам поработать, мелькнула мысль. Света достаточно – вон как бензин полыхает… Вертолет промелькнул над ним рокочущей тенью и резко пошел вниз за гауптвахтой. На вышках за его спиной грохнуло, взлетели вверх фонтаны пламени, закружились в воздухе искры и горящие обломки. Взрыв был сигналом: Флинт, Перфильев и Булат подтянулись к Каргину, из темноты возник Балабин, доложил: Барышникова сейчас погрузят в вертушку. Двенадцать с половиной минут. Под стенами штаба заорали, сумрак расцветился вспышками огня, плюнул свинцом, и две дюжины бандитов ринулись в атаку. Эмир в середине шеренги, но позади своих бойцов – резвый, однако осторожный. Трое сразу свалились, хотя отряд Каргина еще не начинал стрелять – снайперы, видимо, не дремали. – Огонь! – выкрикнул Каргин и тут же рухнул на колени. В грудь ударило будто кувалдой, глотку перехватило, но он, втянув воздух распяленным ртом, стрелял и стрелял, с жестокой радостью считая падавших и замиравших навсегда или корчившихся в нестерпимой боли. Их было много, гораздо больше тех, кому удалось добежать до каземата. Девять человек, и среди них – эмир Вали. – Примкнуть штыки! Резкий лязг, и пять силуэтов молча ринулись навстречу атакующим. Грохнул выстрел, кого-то скосила короткая очередь Флинта, вскрикнул Булат, но разум Каргина, зафиксировав все эти действия и звуки, вдруг отключился на несколько мгновений. Точнее, распределился поровну меж головой и руками, в твердой уверенности, что только руки могут голову спасти, и что отвлекать их от дела сейчас не стоит. Штык, будто на тренировке, вошел слева под пятое ребро. Каргин стремительно откачнулся, ударил прикладом под челюсть второго врага, подставил ствол, принимая выпад сабли третьего, снова вогнал штык – в шею, за ухом, рассекая позвонки. Потом отступил, добил выстрелом стонавшего с разбитой челюстью, огляделся: восемь трупов валялись на земле, девятый, еще живой, стоял на коленях перед Флинтом, тянул дрожащие руки вверх. – По четвергам морская пехота пленных не берет, – сказал Флинт, прострелив ему голову. Затем добавил: – В прочие дни недели тоже. Четырнадцать минут. Рация голосом Азера сообщила: – Обе группы и двое заложников на борту. Ждем вас, Алексей. – Уходим, – приказал Каргин, но Перфильев вытянул руку: – Две секунды, Леха… Эмирчику я кишки выпустил, надо бы трофей забрать. Ухо за ухо! – Он наклонился над мертвым телом, полоснул штыком, пробормотал: – Ушко, а в нем сережка с камушком… Вот, теперь расквитались, теперь хорошо… И эмирчик хорош! Нет на свете краше нашей Любы! Они помчались к вертушке. На бегу Каргин вырвал из-за пояса ракетницу, выстрелил – алая звезда вспыхнула в ночном небе и торопливо покатилась за гряду утесов. Пулеметы на вышках за казармами смолкли. Последняя фаза, думал Каргин. Взлететь, приземлиться за стеной, подобрать оставшихся… Он прыгнул в отсек следом за Флинтом, заметив, что по его плечу стекают капли крови – то ли пулей задели, то ли кинжалом порезали. – Все на месте! – выкрикнул Азер, и вертолет ринулся вверх. Но невысоко: майор вел машину над самой землей, только-только чтобы крыши складов не задеть. Штаб, в котором разгоралось пламя, остался по левую руку, правее, где было хранилище ГСМ, бушевал пожар, а прямо открылись плац и развалины казарм, затянутые бурым дымом. Людей в окрестностях не наблюдалось, и Каргин решил, что психологический эффект достигнут: обстрел внезапно прекратился, и сейчас враги соображают, что последует: атака и резня, сокрушительный взрыв или какой-то обманный маневр. – Ну, Слава, стрельнем напоследок, – скомандовал Азер, приподнимая ствол «Таволги». Две ракеты ушли в бурый дым, рванулось пламя, и вслед за этими взрывами грохнуло на вышках, у ворот и по углам периметра. Вертолет промчался над развалинами и бетонной стеной и пошел на снижение, зависнув в метре от земли. Семнадцатая минута, отсчитал Каргин. Шесть бойцов лезли в машину; одного подсаживали и подпихивали, и до скамьи он не добрался, лег на полу рядом с Барышниковым. Семнадцать минут пятьдесят секунд. Вертолет к югу от базы; позади пылают, догорая, вышки, пляшут огненные языки над цистернами с бензином, что-то трещит и гулко лопается; впереди – темный вход в ущелье. Машина юркнула туда словно уж в земляную норку. Гринько сбросил скорость и включил прожекторы. – Конец операции, – произнес Каргин и выстрелил в небо зеленой ракетой. Сигнал для снайперов: прекратить огонь, собраться вместе и ждать. – Враг деморализован и хоть не бежит, но сидит тихо, – Азер усмехнулся и запустил пятерню в рыжие волосы. – Если фортуна нам улыбнется, глядишь, и добьют их… к юго-востоку, километрах в пятнадцати, застава… Впрочем, нет – наши погранцы в глухой обороне и в местные разборки не суются. Каньон сделался мельче, склоны слева и справа отступили, и Каргин разглядел внизу ровную поверхность дорожного покрытия, затем – бетонные площадки, а в центре каждой – выпуклые крышки огромных люков. В склонах, в зыбком свете прожекторов, тоже что-то мелькало – проходы с ведущими к ним лестницами, узкая галерейка, вырубленная в скале, черные толстые змеи кабелей, трубы и проржавевшие погрузочные механизмы. Ариман-1, база ракетчиков, подумал он и вдруг заметил на галерее, рядом с одним из проходов, какое-то шевеление. Но не успел удивиться – помело вырвалось из ущелья, и Гринько выключил иллюминацию. Света, однако, хватало – бледный диск луны выплыл из-за туч. Машина развернулась, чтобы обойти ближние вершины с запада, и Каргин увидел распадок среди гор, пологий склон в рытвинах и каменных осыпях, руины и обугленные деревья, а выше – темную полоску леса. Та местность на снимке, что за ущельем лежит, мелькнула мысль. Та самая! Где он ее наблюдал? Булат коснулся его локтя. – Командир… Здесь мы были с Тайм-аутом… Помните кассету, что я приносил? Испытания «Шмеля»? – Теперь вспомнил. – Повернувшись, Каргин оглядел своих бойцов. Они сбрасывали бронежилеты, перевязывали раны, щедро поливая их спиртным; запахи пота, крови и алкоголя висели в отсеке, и ветер, врывавшийся в дверной проем, не выдувал их, а перемешивал и взбалтывал, словно в огромном железном шейкере. Костя Прохоров устроился на полу, его голова была зажата между коленями Перфильева, и тот промывал его лицо смоченным водкой тампоном. Барышников, кажется, был без сознания и выглядел так, что краше в гроб кладут. У самого Каргина мозжила грудь, и ребра отзывались болью при каждом вздохе. Нет, не время сейчас садиться и «Шмели» разыскивать, с досадой подумал он. Во-первых, эмирова шайка может очухаться, да и на базе есть, наверное, своя охрана, а во-вторых, Барышников уж очень плох. Довезти бы! Его под капельницу надо, в госпиталь… Какой в Армуте самый лучший? Он хотел спросить об этом у Булата, но помело скакнуло вниз, и в отсек полезли снайперы. – Домой! – распорядился Азер, потом наклонился над Барышниковым. – Спасенных, Алексей, мне оставите. Этому срочная помощь нужна, а у меня медсанчасть получше, чем в Армуте. Кардиолог есть, хирург и пара медиков общего профиля. Ну, и супруга моя доктор не из последних… Выходим! – Н-не надо… – прошептал Костя Прохоров разбитыми губами. – Н-николая оставьте, меня н-не надо, я в порядке. Н-не хуже, чем в Боснии в девяносто втором… – Чего они от вас хотели? – спросил Каргин. – Ухо зачем тебе резали? И как вы к ним попали? – Барышникову плохо сделалось. Вышли из ресторана, квартал прошагали, гляжу – а он побледнел и вроде как падает… Положил его наземь, бросился за колесами, тачку тормознуть, а тачка тут как тут. Парни из местных, но услужливые – помогли Николая усадить и мне дверцу придержали. Куда вас, спрашивают? В больницу, говорю, приятель у меня сердечник. Сейчас доставим… А дальше ничего не помню – слабость накатила и в глазах потемнело. Очнулся, здесь, в камере… Что ты мне морду полируешь, Влад? Хлебнуть дай! Костя оживал на глазах. Вернулся к нему человеческий облик, и глаза заблестели, и ноздри порезанные раздувались уже как у льва, и заикаться он перестал, только шипел, когда случайно задевали сломанную ногу. Оторвавшись от фляжки, он твердым голосом произнес: – Я знал, что вы нас найдете. Особенно когда девчонка та подвернулась… Рожа у меня как? Не напугаю ее? – Она, похоже, не из пугливых, – заметил Каргин. – Это меня эмировы байстрюки поуродовали. Была тут одна гнида, Нукером зовут, из города, думаю, приезжал, расспрашивал, что николаев приятель успел нам рассказать. Этот, Ростоцкий… – Мы с ним уже встречались и словом перекинулись. Рассказывай, что дальше было, Костя. – Дальше? Дальше он Николая уговаривал. Раз уж прихватили, Николай для них не лишний, первый в КБ человек после Косильникова, им пригодится, ну а я… я что-то вроде бесплатного приложения. Шкуру с меня спустить, личико порезать, чтоб Николай быстрей уговорился… Только он хитрый – станут меня мордовать, сразу за сердце и бряк в обморок. А потом и вовсе отключился… – Не переживай, парень, поставим на ноги, – прогудел Азер. – Вольют в него эскулапы что положено, а там лучшее лечение – горный воздух, мед, кумыс и бульон из индюшки. Проверено веками! – От бульона я бы тоже не отказался, – молвил Прохоров, глотнул из фляги и замолк. Когда приземлились у блокгауза, он оперся на руку Каргина, слез на землю и зашептал: – Слушай, Алексей… Девчонка где? Та, что под моим окном блевала… Ксюшкой, кажется, зовут… Где она? – Нанял я ее, сиделкой к тебе нанял. Будешь лежать, ногу лечить, скучать, вдруг пива захочется или бульона – принесет. Не возражаешь? – Нет. – Костя нахмурился и с задумчивым видом произнес: – Это ты правильно сообразил, толково. Долго лежать буду, здесь и в Москве, переломы быстро не срастаются. Кто за мной присмотрит, кто пожалеет, кто костыль подаст? А там, глядишь, что-нибудь еще сломаю…* * *
Интермедия. КсенияКогда возвратились в гостиницу, главного, Алексея Николаевича, там уже не было. Рудик оставил Ксению в номере, сказал, чтобы смотрела телевизор и не скучала, а сам исчез часа на два. Телевизор Ксению не соблазнил. Москву в Армуте не принимали, а были три своих программы, одна на туранском, другая на русском, а третья опять на туранском, но с переводом, и всюду передавали одинаковое – дебаты в Курултае, смысл которых оставался для Ксении темным. Вроде бы все за президента, и левые, и правые, но чего-то спорят, а иногда и кулаком прикладываются… Наверное, спор из-за того, кто больше любит президента и служит ему вернее. Прожив в Армуте несколько месяцев, Ксения твердо усвоила, что президента положено любить, и даже непочтенное ее занятие от этого долга не освобождает. В Армуте все любили президента, от шлюх до академиков, и даже поганец Керим. Керим особенно; он утверждал, что скоро появится закон о многоженстве, и бизнес его расцветет благоухающим жасминовым кустом: не девок будет поставлять, а непорочных девиц с Брянщины и Смоленщины. В чем Ксения сомневалась – где там найдешь непорочных в товарных количествах? Она выключила телевизор, прошлась по комнатам, заглянула во вторую спальню, где ночевал Алексей Николаевич, увидела черный кейс на столе и решила, что в нем, должно быть, деньги. Эта мысль заставила ее отпрянуть – еще подумают, что слазила в чемодан и вытащила пачку… Больше всего ей понравилась лоджия – полосатый тент, полоскавшийся под ветром, мягкие кресла, кадки с пальмами и фикусом и вообще места много, хоть танцуй. Сделав несколько па, она приподнялась на носках, вскинула руки над головой и прошлась гордым испанским шагом от пальмы к фикусу, прищелкивая невидимыми кастаньетами. Потом забралась с ногами в кресло и стала думать, как вернется домой, в Смоленск, и что расскажет маме. Но о Смоленске и даже о маме отчего-то не думалось, а маячилоперед ней костино лицо, и мысли кружились странные – даже не мысли, а вопросы. Кто он, этот Константин Ильич? Сколько ему лет? Женатый или одинокий? Если не женат, нужна ли ему девушка, и какая? Наверно все-таки не та, которая с помойки… Она собиралась было поплакать, но тут появился Рудик с ее паспортом, повел на обед в ресторан, накормил, отвел обратно и сказал, чтобы была готова к вылету – возможно, завтра утром, а возможно, никуда не полетят, а останутся в Армуте еще на три-четыре дня. Ксения распаковала вещи, собранные второпях, переложила поаккуратней, вымылась под душем в роскошной ванной, переоделась в джинсы и маечку, снова посидела в лоджии. Удивительно, но с каждым из этих нехитрых дел память о Кериме и стыдном ее ремесле отодвигалась в прошлое, хотя не исчезала совсем – так, как рубцуется рана, как зарастает новой чистой плотью, как разглаживается и бледнеет шрам. На большее рассчитывать не приходилось – шрам все-таки не царапина, и остается навсегда. Вечером она пошла ужинать, с Рудиком, Славой и четырьмя мужчинами постарше, из которых был знаком один, Сергеев, человек уже немолодой и, вероятно, облеченный хозяйским доверием. После ужина он проводил Ксению в номер и задержался, стал расспрашивать, откуда она, чем занималась, есть ли родители и как попала в Ата-Армут. Спрашивал вроде бы по-хорошему, но доброжелательного интереса, такого, как у Алексея Николаевича, Ксения не чувствовала и потому отвечала неохотно. Сергеев, видимо, понял; сказал, чтобы ложилась спать и отдохнула как следует – утро, мол, будет суетливым. Она легла и думала, что не глаз не сомкнет после дневных треволнений, но уснула крепко, и привиделось ей, будто венчается она в Смоленске, в Успенском соборе, а с кем венчают – не разглядеть, только человек ей этот дорог. И не просто дорог, а так, как бывает единожды в жизни, на разрыв души! И платье на ней белое, и фата прозрачная, и белые розы в руках, и плывет в вышине малиновый колокольный звон, нежный и хрупкий, как девичьи мечты… Тут ее и разбудили. Рудик стукнул в дверь и крикнул: вставай, Ксюша, командир вернулся и Константина Ильича привез! Она вскочила с захолонувшим сердцем.
Владимир Высоцкий
Глава 12
Ата-Армут, 15–17 маяВ город приехали в восьмом часу утра, на двух джипах из полковничьего автохозяйства. Водители, которым Азер наказал гнать со всей возможной поспешностью, доставили их во двор, к черному ходу, и Флин с Перфильевым подняли Костю на руках, чтоб не светиться у лифтов. Раздели его, обтерли губками и положили в номер Каргина. Булат сообщил, что есть у него знакомый врач-хирург, Фарук Шахидов из военного госпиталя, настоящий табиб и мастер по резаному и стелянному, а к тому же молчаливый, как плита на кладбище. Позвонили Шахидову, тот не замедлил приехать с надежной медсестрой, наложил гипс, привел в порядок костино лицо, пообещал, что ноздри заживут и, оставив его на попечение Ксюши, тут же занялся другими пациентами. Флинту зашил порез на предплечье, Файхуддинову забинтовал ладонь, по которой звезданули прикладом, Каргину и Балабину, поймавшим пули, уврачевал какой-то мазью чудовищные синяки на ребрах. Что до Перфильева, то он был цел и невредим, ходил веселый, хлебал из бутылки польскую водку и все искал подходящую баночку, чтобы эмирово ухо заспиртовать. Приметное ухо, с золотым кольцом-сережкой, а на кольце – надпись по ободку, то ли на арабском, то ли на персидском. Решили, что Прохорову будет лучше в люксе, рядом с Ксенией и около своих, а прежний его номер займет Файхуддинов, поставленный официальным порядком на довольствие. Отдав приказ по этому поводу, Каргин послал Рудика к Камилю-аке, управляющему отелем, с радостным известием, что падишах и сиятельный бек решил-таки переселиться в президентский номер, только без помпы, без девичьих плясок, поклонов, цветов и бутылок шампанского. Но без цветов и поклонов не обошлось: ключ Камиль-ака вручал сам, не забыв добавить, что бар и холодильники в президентском номере набиты под завязку, что на столе в гостиной – букеты и подносы с фруктами, а в ванной плавают розовые лепестки. Это уже лишнее, сказал Каргин. Тропа излишеств ведет во дворец мудрости, возразил управляющий, хватаясь за сумку и черный чемоданчик Каргина. Но чемоданчик Перфильев отобрал, заметив, что в нем секретные документы, и всякому, кто к ним притронется, он передвинет глаза на лоб. Они переселились наверх, в чертоги с двумя спальнями, гостиной, кабинетом, приемной и кордегардией.[321] Перфильев прикончил польскую водку, отыскал в баре финскую, вытащил из вазочки букет, налил спиртное и бросил туда ухо эмира Вали. Финскую водку тоже прикончил, пробормотал: «Пока русские пьют, они непобедимы» – и завалился спать. Каргину спать не хотелось. Возбуждение медленно покидало его, сменяясь другими заботами, касавшимися родственного долга и занимаемого им поста. Он позвонил в Краснодар, поболтал с матерью и Кэти, попросил, чтобы позвали отца, и сообщил ему, что Федор Ильич – классный мужик, отлично ориентируется в местной обстановке, а из гранатомета стреляет словно бог. Это где же вы с ним стреляли? – заинтересовался Каргин-старший, и младший пояснил, что на ранчо полковника Азера взбесились страусы, а страус – птица серьезная, ее «калашом» не возьмешь, а только гранатой или, к примеру, миной. «Ну-ну, – сказал отец. – Ты узнай у Федора Ильича – может, у него динозавры водятся? Так я приеду, вместе постреляем». Они захохотали, причем отец смеялся с заметным облегчением. Повесив трубку, Каргин передвинул к себе чемоданчик, прикинул, который час теперь на Тихом океане, и связался с островом. Там царила глубокая ночь, и Халлоран, по-видимому, спал, хотя и жаловался в прошлый раз на бессонницу. Лицо на экране было, однако, знакомым – Пит Вильямс, из группы дежурных секретарей. – Разбудить босса, мистер Керк? – Физиономия Вильямса начала смещаться к верхнему краю экрана – похоже, он приподнимался. – Не надо. Не тревожьте его. – Он велел будить, если вы позвоните. – Все равно не стоит. Передайте ему, что берет не подвел. – К-какой берет? – с недоумением переспросил секретарь. – Это не важно. Он знает. Расставшись с тихоокеанской звездной ночью, Каргин вызвал штаб-квартиру в Калифорнии. Тут было раннее утро, но Холли Роббинс уже сидела за столом, рассматривая в зеркальце пудреницы свои искусственные зубки. Ничуть не смутившись, она одарила Каргина сияющей улыбкой. – Рада вас видеть, шеф. Выглядите просто на миллион долларов! Есть приятные известия? – Есть, Холли. Командор на месте? – Нет, к сожалению, нет. Могу связать вас с мистером Ченнингом, или с Диком Баррелом из технической дирекции, или… – Они не в курсе наших дел. Где Мэлори? – В данный момент он в воздухе, сэр. Летит на Таити, на конференцию стран тихоокеанского региона по разоружению. – Холли, помилуй бог! Неужто мы собираемся разоружиться и прикрыть лавочку? – Ни в коем случае. Мы только хотим контролировать этот процесс, чтобы он двигался в правильном русле. Пусть разоружаются за счет наших конкурентов. – Холли ослепительно улыбнулась и добавила: – Если мистер Мэлори нужен вам срочно, я попытаюсь с ним связаться. – Нет, не хочу вас затруднять. Передайте командору, что проблема с пленными решилась, и я продолжаю заниматься главным туранским вопросом. Возможно, мы справимся с ним в ближайшие дни – скажем, через неделю. К этому времени я буду в Москве, и мне нужны материалы о ситуации с остальными точками. – Предварительная информация уже готова, – сообщила Холли. – Я направлю ее шифровальщикам и перешлю вам в течение часа. – Что бы я без вас делал, лучезарная моя, – восхитился Каргин. – Жду! Кстати, не повысить ли вам оклад? – Ах, Алекс, вы так милы! Но я получаю столько же, сколько руководитель госдепартамента, и требовать больше было бы нескромно. Экран погас. Спать Каргину по-прежнему не хотелось. Послонявшись из комнаты в комнату, он осел на диване в гостиной и включил телевизор. Попал удачно, на программу новостей, международных и местных. Международные в Армуте, как и в Москве, делились на две части, из ближнего и дальнего зарубежья. Тут это выглядело странноватым – от северных отрогов Копетдага было много ближе до Персии, Ирака, Индии и даже до Китая, чем, например, до Белоруссии, настойчиво пытавшейся вступить в конфедерацию с Россией. Выслушав комментарий по этому поводу, Каргин затем обогатился и другими новостями: о кражах российского газа на Украине, о дальневосточном рыбном пиратстве, о шариатских судилищах в Чечне, о двухголовых телятах, рождавшихся в окрестностях Чернобыля, о древних домах Петербурга, которые горели или рушились от ветхости, о вредном влиянии волжской воды на репродуктивные способности и о русских изгоях, бежавших из Латвии, Литвы и Эстонии. Новости были как на подбор черные, мрачные, жутковатые, и в этом ощущался тайный смысл: мол, не так уж все плохо в Туране, под крылышком туран-баши. Что касается дальнего зарубежья, то там дела обстояли еще печальней: в Турции, Чили и Сицилии – землетрясения, в Британии и Испании – разгул ирландского и баскского сепаратизма, в Японии и Мексике – тайфуны и цунами, в Канаде – лесные пожары, в Штатах – депрессия, и всюду индекс Дэви-Джонса[322] едет вниз. Сплошные бедствия, катаклизмы и катастрофы… Но самая ужасная – в Нанкине, где взорвался цех по производству твердого ракетного топлива. Конечно, не сам собой, а в результате диверсии, осуществленной тибетскими мятежниками или уйгурскими отщепенцами. Тех и других уже поймали, судили и повесили, а съезд КПК, созванный в срочном порядке, данную меру одобрил. Подившись оперативности Мэлори, Каргин поднялся, чтобы взглянуть, не пришел ли обещанный доклад, но снова сел – на экране возникла знакомая личность. Гульбахар Ибрагимказиева из «Туран бишр» собственной персоной! Она комментировала события внутренней жизни, самым заметным из которых были дебаты к Курултае. Мелькнул просторный зал с амфитеатром скамеек, налитые кровью рожи, воздетые вверх кулаки, в бешеном темпе закружились халаты и смокинги; свалка шла сразу в нескольких местах, вокруг трибуны, под национальным бунчуком, в президиуме и у микрофонов, к которым депутаты прорывались с особенной энергией. Заинтригованный Каргин стал слушать комментарий. Причиной парламентских неурядиц являлся внесенный евразийцами законопроект о наследственном президентстве. Оно понималось не буквально, не в том примитивном смысле, как в британском или испанском королевствах, где на смену усопшему монарху всегда приходит наследный принц, а в духе времени, то есть с демократическим элементом. Туран-баши давалось право определить преемника и подкачать его рейтинг, приподнимая на всякие ответственные должности, награждая чинами и званиями, рекомендуя народу и стране как самого достойного из кандидатов. Выборы, разумеется, состоялись бы после смерти туран-баши (да живет он вечно!), но не было сомнений, что их исход был бы предопределен. Этот проект принципиально был поддержан всеми, а споры велись из-за третьей статьи, определявшей круг наследников. По мнению одних, преемник должен быть связан с туран-баши кровными узами, так как лишь кровное родство способствует генетической передаче мудрости, безмерной доброты и остальных необходимых властителю качеств. Другие считали кровную связь необязательной и даже лишней, отстаивая священные права туран-баши избрать преемником всякого, на кого падет его благосклонный взор. Пикантность момента состояла в том, что депутаты, сражавшиеся за ту или иную формулировку, вовсе не относились к различным политическим течениям; линия раскола шла через все партии, разделяя примерно пополам исламистов, коммунистов, евразийцев и остальных, поддерживавших президента или находившихся к нему как бы в оппозиции. Глубинный же смысл процесса повидимому заключался в том, что депутатов-"кровников" cкупили Курбановы, а противоборствующую сторону – светлый эмир Таймазов. Конечно, об этом Гульбахар не говорила, но выразила недоумение – с чего бы так внезапно накалились страсти. В самом деле, с чего бы? – подумал Каргин, выключил телевизор и отправился проверить свое связное устройство. Материалы, обещанные Холли Роббинс, уже пришли; он набрал пароль и погрузился в их изучение. В Бразилии, где сидели Глеб Кириллов и интендант Хуан Кастелло, все двигалось путем, явно подтверждая, что это страна цивилизованная и в полной мере интегрированная в мировую экономику. Правительство уже наложило эмбарго на вывоз оружия, и данный запрет, пока что временный, мог сделаться постоянным, если «Халлоран Арминг Корпорейшн» поддержит экспорт бразильского мяса, кофе и фруктов. Особенно кофе, без которого, как и без теплых туалетов, армии цивилизованных держав теряют двадцать процентов боеспособности. В Северной Африке, где находились Эльбекян и Винс Такер, ситуация была сложней, однако и тут имелись положительные сдвиги. Два каравана с противопехотными минами были атакованы в Сахаре, на плато Ифорис, в том стратегическом пункте, где сходятся границы Алжира, Мали и Нигера. Уничтожив охрану, нападавшие угнали верблюдов и грузовики в урочище Мурзук, где отпечатки копыт и колес затерялись ввиду поднявшейся песчаной бури. Владельцы товара грешили на туарегов – тем более, что за Мурзуком располагалось их поселение Тахаят-Таммаржсаут. Туда направили карательную экспедицию силами до батальона, но оказалось, что все подходы к Тахаяту заминированы, и половина карателей была разорвана в клочки. Остальных уничтожили люди, так же похожие на туарегов, как верблюд на одеяло из верблюжей шерсти. Что касается Китая и, конкретно, Нанкина, то там не цех взорвался, а цеха, восемнадцать корпусов, практически все ракетное производство. К счастью, ночью, а потому жертвы по китайским масштабам оказались незначительны, человек сто пятьдесят. Оценка убытков в долларах – не меньше миллиарда, и китайцы, дабы скомпенсировать потери, отказались от прежних импортных поставок и заключили более выгодный контракт на листовую высоколегированную сталь[323] с компанией «Джапен Аустралиа Мэтириалз», которая в ближайшем будущем исчезнет, но перед тем свои обязательства по контракту непременно выполнит. Ознакомившись с докладом, Каргин призадумался, ощущая некую раздвоенность. Одна частица его души если не ликовала, то могла быть вполне довольной: дело шло, проблемы из невозможных переходили в разряд разрешимых, и ХАК, где мытьем, где катаньем, добивалась результатов, какие не снились «Росвооружению» вместе с «Росавиакосмосом» и концерном средств ПВО. Это с одной стороны, а с другой не составляло труда подсчитать, что в Сахаре и Нанкине уложили тысячу людей, не говоря уж о перебитых сподвижниках Вали Габбасова. Конечно, были они, в основном, мерзавцами, но вот вопрос: не он ли причина их смерти? До сих пор Каргин убивал собственноручно, а тех, кого кончали «гепарды», мог на личный счет не заносить. Теперь ситуация переменилась; как всякая персона VIP, владеющая многомиллиардным состоянием, тайной силой и реальной властью, он получал привилегию убивать не своими руками, а чужими, и не поштучно, а сотнями и даже тысячами. С этой мыслью надо было смириться и разрешить коварный и древний иезуитский вопрос: всегда ли цель оправдывает средства? Впрочем, майор Толпыго, хоть иезуитских колледжей не кончал, с ответом совсем не затруднялся: если цель благородная, любые средства хороши. Степень же благородства определялась, по мнению майора, числом стволов, вертушек, бомб и прочей бронетехники, необходимой для достижения цели. Под вечер Каргин утомился и снова позвонил в Краснодар. Они с Кэти провели приятные полчаса, обсуждая, кого им больше хочется, парня или девочку. Решили, что это не важно на данный момент, что времени им не занимать, и если будет, скажем, девочка, то с парнем они еще успеют. Даже с двумя.
* * *
Следующим утром, едва Каргин спустился в офис, начались звонки. Первый был от безымянного связного Азера: сообщили, что Барышников пришел в сознание, лежит под капельницей, давление в норме и аппетит хороший. Сняли кардиограмму, и врач сказал, что признаков инфаркта нет. Приятная новость! Зато потом началось: – Мистер Керк? Минбаши Сабитов, адьютант сардара Таймазова. С вами будет говорить светлый эмир министр. И тут же: – Приветствую, ага. Прекрасный день, вы не находите? – Приветствую, сардар. Денек и правда приятный. – А был бы еще приятнее, если бы мы разрешили тот вопрос, который обсуждался между нами. – Есть ли повод для такой поспешности, Чингиз Мамедович? Мне обещали показать «Шмели»… то есть, простите, «Манасы». Пока я их не видел. – Повод, тем не менее, есть. Вы отслеживаете дебаты в Курултае? – Ну… Время от времени, скажем так. – А зря! Ведь вы их подтолкнули, мой бриллиантовый! И в результате я срочно нуждаюсь в вашей поддержке. Депутатский корпус, знаете ли, даром не работает! – Поддержка будет. На следующий же день после того, как мне продемонстрируют «Шмели». – Я понимаю это так: нужно поторопить президента. – Ваша мысль движется верным путем среди барханов тревог и колючек сомнений. Прямиком к оазису истины, мой эмир, туда, где расположен щедрый финансовый колодец. – Хорошо, я использую все свое влияние, чтобы поторопить туран-башу. И еще… – Тамазов помолчал. – Еще одна проблема, совсем крохотная… Уволился Булат, мой личный охранник. Ходят слухи, что его видели в «Тулпаре», с вашими людьми. – Место ищет, шельмец, в Москву желает переехать, – пояснил Каргин. – Потому здесь и трется. – Я разочарован, ага. Даже огорчен! Боюсь, не доехать Булату до Москвы. – Достойны ли такие мелочи внимания эмира? Кстати, о булате… Хотел у вас спросить: есть ли в вашей коллекции толедский клинок работы мастера Сантьяго Сангрии? Шестнадцатый век, чеканная гарда, рукоять с золотыми накладками, а в навершии, кажется, сапфир… – Большой ли? – озабоченно спросил Таймазов. – С голубиное яйцо. – О! – Шпага ваша, мой эмир. Через неделю ее привезут специальным рейсом. Раньше с бумагами на вывоз не успеть – как-никак национальное достояние Испании. – Нет пределов моей благодарности, ага! Я вот тут подумал: шайтан с ним, с этим ничтожным балбесом-охранником… Пусть едет, хоть в Москву, хоть в Магадан. – И я того же мнения. «Странно, – подумал Каргин, опуская трубку, – ни слова о побоище в Кара-Сууке. А ведь обязан знать – военный министр как-никак! Может, с нами дело не связал и думает про Львов Ислама или аллаховых воинов? Но ведь ежу понятно, что даром и птичка не какнет!» Он пощупал синяк на ребрах, сморщился, выглянул в коридор и велел дежурившему там Дмитрию послать кого-нибудь за свежими газетами. И передать Рогову, Гальперину и Каню: пусть к ящикам сядут, и каждый глядит одну из программ, и пусть доложат, если промелькнет некролог на Вали Габбасова. Опять зазвонил телефон. – Мистер Алекс Керк? Из министерства финансов тревожат, глава департамента инвестиций Юсуп Гафаров. Саид Дамирович просил напомнить, что вы собирались перевести некие суммы во Второй президентский. Могу осведомиться, когда поступит первый депозит? – В самом скором времени, – молвил Каргин, а про себя добавил: – «Зашевелились, тараканы!» – К сожалению, ага, скорое время – понятие растяжимое… Нельзя ли поточнее? – Нельзя. Во-первых, людей моего ранга торопить не принято, а во-вторых, наши инвестиции связаны с определенными условиями. Саид Дамирович о них знает. Вечером стулья, утром деньги, утром стулья, вечером деньги! – Простите, ага, не понял… – Классику надо читать, – буркнул Каргин и повесил трубку. Он поднялся к себе наверх, взял черный кейс, опять спустился в офис, вызвал Холли Роббинс и велел соединить его с Брайаном Ченнингом, вице-президентом ХАК и ее финансовым директором. Ченнинг был той же волчьей породы, что и другие халлорановы сподвижники, но это был весьма раскормленный волчара, весивший центнера полтора. В экран его физиономия не влезала, виднелись только губы, нос и глаза, подпертые мощными жировыми складками. – Приветствую, Брайан, – промолвил Каргин. – Есть ли у вас данные о двух крупнейших туранских банках? – Разумеется, Алекс. Мы начали работу, как только вы отправились… Ченнинг скривился и забавно хрюкнул. – Как, дьявол, зовется этот проклятый город?.. Ахмет?.. Махмут?.. Сават?.. Ну, не важно. Сейчас мы располагаем полной информацией. Бэнк Президент Фест активно оперирует внутри страны, но не имеет контокоррентных счетов[324] в серьезных западных и азиатских финансовых учреждениях. У Бэнк Президент Сэконд такие счета имеются, но операции крайне ограничены – главным образом, сливание средств на личные вклады президента и нескольких лиц из его окружения. Суммы не впечатляют – максимум триста двадцать миллионов долларов. Семьдесят семь процентов поименованного сосредоточено в банке СТРАВАГ, Австрия, и Бостон Лимитед, США. – Сколько на счетах президента? – Сто девятнадцать миллионов. – Не персидский шах… – протянул Каргин. – Скажите, Брайан, какие вложения мы можем сделать во Второй президентский? С учетом того, что средства могут быть похищены? Ченнинг, видимо, повернулся к монитору – теперь на экране маячила лишь его пухлая щека. – Бэнк Президент Сэконд… одну минуту… фактические владельцы – семья Курбановых, а возглавляет племянник президента… На его счетах в Бостон Лимитед сорок два миллиона триста девять тысяч сто пятнадцать долларов и четыре цента… Можно вложить сорок миллионов, Алекс. В случае неприятностей мы наложим арест на его бостонские счета. – Кляузное дело? – Ни в коем случае, если учесть, что мы приобрели контрольный пакет Бостон Лимитед. – Превосходно, – сказал Каргин. – Благодарю вас, Брайан, и отключаюсь. – Погодите, Алекс. Тут у Холли есть два вас пара личных сообщений. Одна из этих депеш была из Парижа и извещала о том, что в сейфе юридической фирмы «Франс Женераль» хранится некий раритет, приобретенный для миссис Алекс Керк персоной, пожелавшей остаться неизвестной. Раритет можно получить в упомянутой выше фирме либо распорядиться о его пересылке в любую точку земного шара – конечно, с курьером и надлежащей охраной. Другое сообщение пришло из Ливерпуля. Верфи «Брок и К» запрашивали, куда перегнать океанскую яхту «Кэти», зарегистрированную на имя мистера Керка – в Сан-Франциско, в какой-нибудь российский порт на Черном море или на Балтике, либо прямиком в Москву, если позволят глубины речных фарватеров. Подумав, Каргин велел, чтобы в ближайший месяц все оставалось на прежних местах: яхта – в Ливерпуле, а королевские драгоценности – в Париже. Он еще не был уверен, что примет эти подарки. Появился Дима с пачкой газет, местных и российских, в которых не оказалось ровным счетом ничего о битве в горах, о сотнях трупов на базе Ариман и о безвременной кончине Вали Габбасова. Кроме того Дима доложил, что Рудик со Славой потолкались внизу, в холле, ресторане и баре, выпили с ошивавшимися там репортерами, которые интересуются, не созовет ли мистер Керк новую пресс-конференцию и будет ли, как в прошлый раз, одаривать деньгами. По радио и телевидению тоже молчок, никаких известий, кроме обычных: жаркие схватки в Курултае, президентский фирман о вступлении в брак с четырнадцати лет, реформа религиозного совета (верховным имамом стал кузен туран-баши), новый проект по борьбе с наркоторговлей и тому подобное. Странно, решил Каргин, поднялся и начал мерить шагами комнату. База в котловине, так что, пожалуй, взрывы не слышны, зарницы не видны, но при таком количестве трупов и раненых шила в мешке не утаишь. Хотя, c другой стороны, горы есть горы: если блокировать дорогу на Армут, никто не проскользнет, ни с базы, ни из Кара-Суука. Связь по рации? Но с кем могли связаться помощники Габбасова – те, кто остался в живых? Видимо, решил он, дорогу все же заблокировали, и сообразительный Таймазов послал в Кара-Суук войска – добить габбасовскую шайку, а все заслуги приписать себе. Так что через день-другой появятся победные реляции, и это сдвинет мнения в парламенте в пользу светлого эмира. Видимо, битва в Курултае вокруг наследственных законов шла нешуточная, и Таймазов прав: он подтолкнул это дело, и никто иной! ХАК, появившись в Туране, неизбежно становилась третьей силой, более мощной, чем любая оппозиция, и каждый из претендентов на власть желал привлечь ее на свою сторону. Туран, несмотря на обширность своей территории и потенциальные богатства, был страной слабой и нищей: население – меньше трех миллионов, армия – десяток плохо укомплектованных полков, полиция малочисленна и продажна, промышленность в разрухе и денег нет. ХАК могла скупить страну со всеми землями, ресурсами, чиновниками и генералами; ее пришествие сюда было таким же сокрушительно-победным, как интервенции могущественных американских фирм в банановые республики. По сути дела Туран являлся такой же банановой республикой, с поправкой на икру и груши, и против покупки отнюдь не возражал, лишь бы дали побольше и побыстрее. Но в планы Каргина такое не входило – предметом его интереса были и оставались «Шмели». Все остальное – иллюзия, но если кто-то хочет в нее верить, аллах ему в помощь! Любопытно, думал он, как отреагирует на склоку в парламенте туран-баша: будет ли следить за ней, как Зевс с Олимпа, или рявкнет на зарвавшихся наследничков? Все-таки наглость с их стороны – он еще жив-здоров, а власть уже делят! При всей неприязни к президенту Каргин отчетливо понимал, что Саид Саидович – не чета своим племянникам и зятю: первая фигура на доске, человек, искушенный в интригах и политических играх чуть ли не со сталинских времен и потому труднопредсказуемый. Не исключалось, что по вопросу преемственности власти было у него собственное мнение. Снова звякнул телефон. Несколько секунд в трубке слышалось лишь взволнованное дыхание, потом знакомый голос осведомился: – Могу я поговорить с Барышниковым Николаем Николаевичем? Радость-то какая! – мелькнуло у Каргина в голове. Ростоцкий Павел Петрович прорезался, ренегат и кандидат технических наук, специалист по автоматике! Интересуется! Все-таки старая дружба не ржавеет… Добавив в голос металла, он строго промолвил: – По причинам, связанным с состоянием здоровья, Николай Николаевич Барышников не может в данный момент подойти к телефону. – Вы? Капитан Бря… – Молчать! – рявкнул Каргин. – Никаких имен и званий! – Аппарат, с которого я звоню, не прослушивается. Ваш, надеюсь, тоже? – Ну, тогда другое дело. Тогда я могу вам сообщить, что Барышникова мы отыскали. Не в лучшем виде, но все-таки живым. Сейчас он на излечении. Вы ведь это хотели услышать, гражданин Ростоцкий? В трубке послышался облегченный вздох. – Спасибо, капитан. Вы не представляете, какую тяжесть, какую чудовищную ношу… – Снова вздох и даже что-то напоминающее всхлип. – Честно говоря, не надеялся услышать вас, не думал, что вы в гостинице… Но если так получилось, могу я перемолвиться парой слов с вашим… гмм… ну, вы понимаете, кого я имею в виду. – Он на задании, – ответил Каргин. Это было чистой правдой: Сергеев с утра исчез, носился где-то по городу, что-то вынюхивал, уточнял и занимался созданием агентурной сети для «Халлоран Арминг Корпорейшн». Или не только для нее. – Тогда, может быть, с вами?.. – Что – со мной? – Хотелось бы поговорить. Понимаете, я связан контрактом, но дело не только в моих обязательствах, которые могут быть нарушены той или другой стороной. Скажем, я решился бы на побег… Но с семьей далеко не убежишь. – Желаете, чтобы мы вывезли ее в Россию? – Был бы очень благодарен. – Это большая услуга, – заметил Каргин, поразмыслив. – Я отплачу… я непременно отплачу! – голос Ростоцкого дрогнул. – Я… В общем, я побеседовал с коллегами, с теми из нашего КБ, кто трудится здесь. Теперь мне кое-что известно… Помните, мы говорили о модулях ДМУО, изготовленных в Челябинске? Так вот, я знаю список лиц, причастных к этой… к этому… – К этому преступному деянию, – уточнил Каргин. – Что ж, мы могли бы договориться. Назовите фамилии. – Нет. Даже по этому телефону… Я напишу и постараюсь вам передать. Так устроит? – Когда и где? Ростоцкий на секунду задумался. – За «Достыком», ближе к площади, есть универсам. Я заезжаю туда за продуктами, часто заезжаю, и это не вызовет подозрений. Ждите там, у входа, через полчаса. Я придумаю, как передать вам эти сведения. Только ко мне не подходите! – Договорились. Каргин положил трубку и вызвал Балабина. – Гулять идем, прапорщик. Ребят возьми, Рудика и Славу. Рассредочиться и следовать за мной, дистанция – десять-двадцать шагов. Охранять. Понял? – Так точно, Алексей Николаевич. Они спустились вниз. Два хищника пера, болтавшихся в холле среди пальм и фикусов, бросились было к ним, но Балабин выразительно покрутил дубинкой. Каргин нахмурился; кажется, он начинал разделять неприязнь старого Халлорана к репортерам. – Проследи, Василий, чтобы за нами не шли. – Само собой, командир. Пойдут, так лягут. Кажется, репортеры это поняли и оттянулись обратно к пальмам. Магазин, про который толковал Ростоцкий, находился в двух домах за «Достыком», и Каргин, минуя двери заведения, увидел, что швейцары-вышибалы там другие, не Вахид с компанией, а троица джигитов в серых папахах и синих черкесках, с огромными декоративными кинжалами. Окна сразу за входом относились к бару, и, посмотрев в них, он разглядел сквозь кисейный занавес немногочисленных посетителей и женщину за стойкой. Кажется, это была Зульфия. Магазин оказался шикарный. Его витрины украшала всевозможная снедь, горы из фруктов, вазы с конфетами, шоколадный дворец за стеной из импортных консервов и бутылок, а также двухметровый осетр, изогнувшийся над банками икры точно дельфин над волнами. Каргин остановился поглядеть на это чудо, отметив, что народ сюда не ломится, не рвется и даже у витрин не толпится, поскольку цены на витринах запредельные. Но хозяина «тойоты» цвета кофе с молоком это не смущало: подъехал, вылез, юркнул в магазин, вышел с деловым видом и при набитом пакете, закурил, смял пустую пачку, бросил в урну. Сел в машину и покатил себе по Рустам-авеню. Каргин все еще глядел на осетра. Долго любовался, минут десять, пока Балабин и парни у другой витрины обсуждали, брать ли пиво в этой лавочке или поискать ларек, где цены не кусаются. Наконец повернулся, пошел назад, спросил негромко: – Мужика в «тойоте» видели? – Грабеж! Сто таньга за банку «Гиннеса»! Что у нас, пальцы веером? – прогудел Балабин. – Пачку он бросил из-под сигарет. Изъять и принести в гостиницу. – Короче, перетерли это дело и возьмем в ларьке, – поддержал Балабина Слава. – Втрое дешевле! – Реально, – согласился Рудик, двигаясь в сторону урны. Изъятие произошло без помех, и Каргин неторопливо зашагал вдоль Рустам-авеню к майдану Независимости. У «Достыка» он остановился, поглядел на джигитов с кинжалами, хмыкнул, вошел и повернул налево, к тонувшему в тенях бару. Время было не позднее, часа четыре, девицы древнейшей профессии и их кавалеры еще, по-видимому, спали, так что контингент был разномастный: кто выпить стопку забежал, кто встретиться с приятелем, кто шарил тоскующим взглядом туда-сюда, надеясь на даровое угощение. Каргин оперся локтями о стойку и тихо произнес: – Два «Курвуазье», красавица. Протиравшая бокалы барменша вскинула глаза и побледнела. – Вы?.. – Были вроде бы на «ты». Наливай! Зульфия налила. Губы и руки ее тряслись, бутылочное горлышко тренькало, ударяясь о край стакана. Одну емкость Каргин подвинул к ней. – Выпьем, рыбка! В России теперь праздник есть, седьмое ноября, день всеобщего примирения… А мы с тобой в мае помиримся. Не возражаешь? – Что вам надо? Что… – Пей! И выкать мне не надо. Сегодня я не при исполнении. Она послушно выпила, пробормотала: – Я ведь даже не знаю, как вас… как тебя зовут… – Капитан Брянский, ликвидатор, – представился Каргин. – Ну, не пугайся ты так, не трепещи ресницами! Сказал ведь, что не на работе! Видишь, ни кислоты со мной, ни щипчиков… Зульфия чуть-чуть успокоилась и даже усмехнулась бледной вымученной улыбкой. – А этот… анальгетик? – Что – анальгетик? – Ты от него не избавился? – Увы! Препарат пролонгированного действия, так что в койку меня не затянешь. Бесполезно! – Он прищурился. – А хотелось бы? – Возможно. Никогда не встречала секретных агентов, а тем более – ликвидаторов. – Вижу, расположена ты ко мне и обиды не держишь, – сказал Каргин, вытаскивая из кармана деньги. – Давай еще по одной выпьем, и я тебя быстренько перевербую. Что тебе Таймазову служить? Конченый он человек, пропащий, ты уж мне поверь. А мы из тебя Мату Хари сделаем. – Кто такая Мата Хари? – спросила Зульфия, пригубив коньяк. Каргин подвинул к ней деньги. – В другой раз объясню. А сегодня лучше ты расскажи что-нибудь занимательное. Деньги исчезли, будто корова языком слизнула. – Что? – Ну, например, где мне Нукера найти. Помнишь про такого? Очень хочу с ним познакомиться. Зульфия с обидой оттопырила губку. – Ну, вот… А говорил, что не при исполнении… Каргин молча ждал. Она отхлебнула еще глоточек, бросила осторожный взгляд в полутемный зал и, наклонившись к нему, прошептала: – Не знаю, где его искать. Сам приходит, а иногда своих пришлет, предупредить. – О чем? – О людях. В «Достыке» всякие люди бывают, из Курултая, из Дивана или, – голос Зульфии стал еще тише, – из тех, кто промышляет наркотой. Выпьют, девушек пригласят, разговорятся… Много интересного можно услышать. – Сама слушаешь? – Зачем? Я тут, в баре. Другие есть – девушки, официанты… – Значит, где Нукера искать не знаешь? – Нет. Каргин разочарованно вздохнул – уж очень ему хотелось добраться до минбаши Дантазова по кличке Нукер. Счет предъявить за похищенных, а заодно расспросить про базу Ариман-1 и тонкогубого пилота Витаса… По словам Ростоцкого минбаши являлся куратором проекта – выходит, лицо информированное. «Сергеев отыщет, – мелькнула мысль. – Но хорошо бы до того, как пригласят к президенту. Чем больше информации, тем лучше». Он вытащил еще пару зеленых бумажек и передвинул к Зульфие. – Внешность опиши. Привычки. Возраст. – Худой, смуглый, ростом немного пониже тебя, здесь родимое пятно, – Зульфия коснулась левой щеки. – Немолодой, лет за пятьдесят. По выговору – таджик или узбек… Что еще? Брови густые… Пьет мало, только для видимости… Девушками не интересуется, носит светлые костюмы. Мрачный. – Она снова наклонилась к Каргину – так, что он ощутил сладкий запах ее духов – и прошептала: – Ты его ликвидируешь? – Непременно, – пообещал Каргин. – Допрошу с пристрастием и вырву печень. – Только не спеши, – с озабоченным видом сказала Зульфия. – Он за работу со мной еще не рассчитался. – Я рассчитаюсь. Все его долги теперь на мне. Кивнув, Каргин зашагал к выходу. В дверях он столкнулся с темноволосым, невысоким и узкоглазым мужчиной, по внешности – японцем. Мужчина, уступая дорогу, что-то вежливо прошипел, скользнул мимо него как тень и растворился в сумраке бара. Нахмурившись, Каргин попробовал отыскать его взглядом, не нашел, и так, с озабоченным челом, будто пытаясь что-то вспомнить, и оказался на улице. Поглядел на джигита с кинжалом, спросил: – Вахид где? Телку мне обещал. Куда смылся? – Лечится Вахид, рука сломана и ребра, – сообщили ему. – А телку мы тебе найдем. Часа через три загляни, дорогой, любую выберешь. Вай, какие тут телки пасутся! – Загляну, – сказал Каргин и отправился в гостиницу. Там, на столе в офисе, ждала его смятая сигаретная пачка, а в ней – скатанный в трубочку листок бумаги. Расправив записку, он изучил ее, потом занес в компьютер шесть фамилий и имен, переписал на дискету и уничтожил файл. Записку сжег.* * *
Сергеев появился только на следующий день, к обеду. Большая часть делегации была в разъездах: Флинт, Рогов и Кань отправились в министерство ВОПиОБ, утрясать дела с верительными грамотами; Гальперин поехал на базар (жена наказала ему купить орехов и сушеной дыни); Балабин напросился в компанию к Гальперину, а Перфильев с Димой и Славой были посланы на склад к торговцу-минбаши. Каргин полагал, что кое-какие боеприпасы будут для Азера не лишними – ведь арсеналы на лугах Бахар изрядно опустели, а автоматные рожки, гранаты и ракеты, в отличие от гусей и груш, сами собой не рождаются и не растут. К тому же Влад два дня сидел у постели Прохорова, развлекая его анекдотами, что было, с одной стороны, хорошо, а с другой мешало налаживанию контактов с Ксюшей. Плотно прикрыв дверь в гостиную, Сергеев опустился в кресло, поднял к потолку маленькие глазки и проинформировал: – Арабы приехали, Алексей Николаевич. Точнее, араб, шейх нефтяной из Абу-Даби.[325] Люди богатые, сами в оружии не нуждаются, живут в безопасности – за них, если что, янки грудью встанут. Однако желают капитал вложить с хорошей прибылью. Это первое, а второе – контроль за поставками. Если, скажем, «Шмели» в мусульманские страны пойдут, то эмиратским шейхам большое уважение от единоверцев. Понимаете? – Вполне, – сказал Каргин. – Встречался я с этим шейхом, когда к Курбанову ездили. Был он нам специально показан. Бородатый такой, в платке и белой простынке. Азиз ад-Дин зовут. Сергеев неодобрительно покачал головой. – А мне вы об этом не сказали! – Запамятовал. – Ну, бог с ним, с арабом… Араб, само собой, факт серьезный, но для нас важнее разобраться в побуждениях туран-баши. Понятно, денег он хочет, но это мотив поверхностный и, думаю, не главный. Деньги нужны не столько Курбанову, сколько семейству его и клану – эти ничего не видят, кроме денег, и каждый думает, что деньги обеспечат власть. Психология бая и купца, не хана… А президент – все-таки хан, и человек непростой! – Сергеев откинулся в кресле и прикрыл глаза. – Кем он был? Одной из властительных персон огромной империи, но не самой могущественной и важной, и это его угнетало. А кем он стал? Независимым повелителем в нищей стране, где много земли, но мало народа… меньше, чем в любой из европейских столиц. Вес его в мире – величина отрицательная, а это – страшный удар по самолюбию! Никому он не нужен, кроме транзитчиков – наркоторговцев, и нефть его не нужна, и медь, и груши… А человеку обидно. Злобится человек! Вот из этого и надо исходить. Каргин припомнил туалет с художественными изваяниями и кивнул. – Согласен с вами. Славы ищет, известности, жаждет влиять на мировые дела, и эти мотивы сильней финансовых расчетов. Торговля уникальным оружием – отличный способ, чтобы добиться своего. – Значит, «Шмели» он не отдаст, – подвел итог Сергеев. – Вывезти машины тайком – это, Алексей Николаевич, авантюрой попахивает, так что придется их уничтожить. И что с того? У нас, рано или поздно, в Челябинске новые сделают, а здесь такое не получится, не выйдет, хоть техдокументация есть. Без демонстрационных образцов копейки не выпросишь, ни у арабов, ни у турок, ни у китайцев. Опять же работников грамотных не найти, а те, что есть – ворованные… ну, и с комплектующими проблемы… Так что если спалить, заново не сделают! – Узнаем, где «косилки» спрятаны, тогда решим, палить их или нет, – промолвил Каргин. – Тут такая обстановка, что с демонстрацией тянуть не собираются. Отправлюсь я к президенту и… Сергеев кашлянул. – Стоит ли, Алексей Николаевич? Давайте обсудим этот вопрос. Есть все основания утверждать, что Прохоров с Барышниковым были похищены тайной сардаровой службой. Их спрятали в Кара-Сууке, в лагере бандитов – или, если угодно, местных повстанцев – и человек Таймазова по кличке Нукер являлся их допрашивать. Следовательно, Таймазов и Габбасов были связаны, а значит, сардар не может не знать о разгроме банды. Наверняка догадывается и о том, кто пленников освободил… Знает, но молчит! В СМИ ни звука! И если делается это с умыслом и с ведома туран-баши, то всякие контакты с ним опасны. – А если у Таймазова своя игра? – возразил Каргин. – Если своя, это уже интереснее. Если он на президента замышляет, поторговаться можно, и с тем, и с другим… Свалить Курбанова, Таймазова поставить, но за известную плату… – Лоб Сергеева пошел морщинами. – Только способен ли Таймазов на столь решительный демарш? У вас, Алексей Николаевич, с ним было рандеву. Что скажете? Какие впечатления? – Смутные. Думаю, трусоват. – Вот видите! Если они заодно, опасно вам к президенту ехать, да и в Армуте незачем оставаться. Людей своих вы нашли и выручили, так что летите себе в Москву, а что до «Шмелей», то мы их без вас разыщем и ликвидируем. Главное, есть уверенность, что машины целы и держат их, скорей всего, на старом ракетном полигоне. Целы! Иначе зачем на автоматику тратиться да торг затевать, и с вами, и с арабом? – Побарабанив пальцами по столу, Сергеев резюмировал: – Летите! Риска меньше, а дела не пострадают. «Спровадить меня хочет. А почему?» – подумал Каргин и твердо произнес: – Благодарю за совет, но дела я привык сам заканчивать. Вы, подполковник, вот чем займитесь… – Он протянул Сергееву дискету. – Здесь список лиц, изготовлявших ДМУО для туранцев – там, в Челябинске, в КБ Косильникова. Получен от Ростоцкого в обмен на гарантию вывоза семьи. Мою гарантию! Так что вы уж постарайтесь, чтобы жена его и детки вернулись в целости в Челябинск. А список отправьте в Москву, старым своим друзьям, пусть меры примут. – Нет проблем! – Сергеев жадно ухватил дискету. – Что еще, Алексей Николаевич? – Да. Найдите мне Нукера. Что-нибудь вам про него известно? – Известно. Когда Ростоцкий назвал его фамилию, вспомнился мне один человечек… – Глаза бывшего кагэбэшника привычно обратились к потолку. – Дантазов Амирхан, таджик, сорок четвертого года рождения, служил во внешней разведке, в Турции и Иране, а при Горбачеве, в конце восьмидесятых, уволен в отставку. Профессионал! Чин у него как у меня – подполковник. Думаю, теперь он возглавляет частнуюсекретную службу сардара или самого президента… А зачем он вам, Алексей Николаевич? – История с Барышниковым и Прохоровым его рук дело. И над Костей он измывался… Даром это не сойдет! – Упрямый вы, – со вздохом сказал Сергеев. – Ну, найду я его, найду… Невеликий город Армут, поменьше Сан-Франциско… Найду! Он ушел, а Каргин некоторое время прогуливался в лоджии, размышляя о загадочных талантах и возможностях Сергеева, подполковника в отставке, бывшего сотрудника КГБ. Или не бывшего? И не подполковника? Может, и не Сергеева вовсе? То, что он трудился на «варягов» – само собой, за приличные деньги – не означало, что круг интересов Сергеева этим ограничен, и что он не берет подряды на стороне. Такой искусник всем полезен, от нынешних российских структур безопасности до парагвайской разведки, думал Каргин, прохаживаясь от пальмы к фикусу. Ну, Парагваем он не соблазнится, а вот другие наниматели… Шорох шин по асфальту отвлек его от этих мыслей. Он посмотрел вниз и увидел, как черный «ЗИМ» поворачивает с Рустам-авеню на Бухарскую. Рановато приехали, мелькнула мысль. Выбрать, проверить, сторговать, договориться об отправке – тут не два часа нужны. Или случилось что-то? Предчувствия его не обманули. Перфильев ворвался в офис с покрасневшим лицом и налитыми кровью глазами. – Ну, Леха, история! Минбаши-то нашего того… Повесили или расстреляли, а может, по местному обычаю, за ноги к кобыле, и в степь… Преставился, в общем, минбаши! И два его помощника тоже! Официальным порядком, в двадцать четыре часа: следствие, суд и казнь за расхищение военного имущества. Один сержант остался, он и рассказал… Трясется весь, бормочет: через неделю приходи, нового начальника пришлют, тогда и лавочка откроется. – Если опять откроется, тогда за что повесили? – с недоумением спросил Каргин. – Какая разница, этот минбаши торгует или другой? – Не с теми, значит, торговал, – пояснил Перфильев. – Кстати, его и помощников гвардейцы казнили. Как, сержант не видел, но увели их хунвейбины из чеченской гвардии. – А что ты встрепанный такой? Влад оскалился. – Да вот, понимаешь… Пока я с сержантом базарил, гвардейцы подвалили, двое, один чечен, а другой по-русски вовсе ни буб-бум. Кто, откуда, приехал зачем, что за машина у тебя, почему большая да черная, и все тому подобное… Потом чечен и говорит: я с тобой сделаю, что захочу. Денег дай, тогда отпустим! Ну, я дал. – Много? – До завтра не очухаются, – сказал Перфильев, потирая кулаки. Он собирался что-то еще добавить, но тут зазвонил телефон. – Слушаю! – Алекс, вы? «Кто меня тут может Алексом звать?» – мелькнуло в голове у Каргина, но в следующий миг голос вспомнился. Прикрыв ладонью трубку, он шепнул Перфильеву: – Ягфаров! Иди в гостиную, к параллельному аппарату. Потом произнес: – Рад слышать вас, Райхан. – Взаимно, мой дорогой. Завтра мы с вами увидимся – как обещалось, президент изволил вас пригласить. Точное время не назначено, явиться можете когда угодно, так как останетесь ночевать. Утром вас куда-то повезут, и думаю, что по воздуху. Полюбуетесь на наши горы. – Хорошая новость. Куда ехать, Райхан? В Карлыгач? – Нет, в Елэ-Сулар.[326] Место еще примечательней Карлыгача – большие пещеры в горах, а в них теплые озера. Целебные! Саид Саидович любит здесь отдыхать. Только… – Да? – «Кадиллак» к пещерам не пройдет, не развернуться ему на горной дороге, так что езжайте, Алекс, своим транспортом. За Кизылом второй поворот налево, у шестнадцатого километра. Никак не пропустите – вас там будут ждать проводники. – Помолчав, Ягфаров спросил: – Водитель у вас хороший, опытный? Там серпантин виляет, пропасть с одной стороны, а скалы с другой. – Проедем, – сказал Каргин и распрощался.* * *
Интермедия. КсенияДень, когда привезли Константина Ильича, и следующий за ним выдались суматошными. Пришел доктор, молчаливый и строгий, возился с костиной ногой, врачевал порезы, и Ксении казалось, что не медик у постели раненого, а художник-реставратор, снимающий страшную маску с его лица. Смыли остатки крови, наложили швы, и оказалось, что лицо у Кости хорошее, и даже пластырь и бинты его не портят. Не очень молод, думала Ксения, мотаясь туда-сюда с полотенцами и тазиками теплой воды, лет, должно быть, за тридцать, но для мужчины это самый возраст. Не молод, зато красив! Кто-то, быть может, не заметил бы этой красоты, сказал бы, что лепка грубоватая, скулы слишком широки, лоб упрямый, как у бычка, глаза запали и кожа бледная, точно у покойника. Но Ксения смотрела иным взглядом – тем, что бывает у женщины, успевшей настрадаться от злобы, жадности и похоти мужской и вдруг обнаружившей, что есть и другие мужчины, те, что не требуют, не покупают, а дарят. Он искал ее глазами. Кто бы ни находился рядом, друг ли его Владислав, или Алексей Николаевич, или огромный темнокожий Флинт, он искал ее и только ее. Со стесненным сердцем Ксения замечала, как вспыхивают костины зрачки, как розовеют щеки, смягчается линия рта – видела это, и отвечала взмахом ресниц: я здесь, я около тебя, и я тебя не покину. Наверное, за два минувших дня они не сказали друг другу и двух десятков слов – говорил Перфильев, о чем-то вспоминал, смеялся хрипло, травил анекдоты – но не было нужды в словах. Они общались по-иному, на древнем беззвучном языке взглядов, улыбок и жестов. На третий день все куда-то разбежались, только Алексей Николаевич сидел в офисе да Рудик дежурил в коридоре. Ксения притащила поднос с завтраком, накормила Костю, помогла добраться до ванной и снова уложила в постель. Он уже не был так слаб, как в первые дни, просился в кресло, но Ксения сказала: доктор велел лежать. Костя лег, только руки ее не выпустил. Попросил: – Расскажи… Она опустила глаза. Пока жила в Армуте, не раз об этом думала: когда-нибудь услышит от кого-то: расскажи… От мамы, от подружек или от парня… Расскажи про Керима, про потные простыни и шелест падавшего на пол платья, содранного жадными руками, про номера армутских гостиниц, про жесткий стол под лопатками, про боль и губы, закушенные в муке… Расскажи, как была наташкой! – Я… – Она отняла руку, закрыла ладошкой глаза, стараясь не расплакаться. – Я… – О другом спрашиваю, – тихо произнес Костя. – Откуда ты? Лет сколько? Мать и отец у тебя есть? Братья, сестры? Где живут, чем занимаются? – Мама есть, – с судорожным вздохом выдавила Ксения. – Из Смоленска мы… Мама в детском садике работает… А лет мне двадцать. Скоро будет… – Двадцать… скоро будет… – повторил он. – Девчонка ты совсем… красивая… А мне, Ксюша, тридцать пять. Старый для тебя, наверное? И собой хорош не очень… Она вытерла слезы, сунула ему мокрую ладонь и отчаянно замотала головой. Нет, не старый! И собой хорош! – А я из Тулы, – промолвил Костя, гладя ее по щеке. – Отец, мать, сестра и два братана – все на тульском оружейном… Мастера! Родители уже немолодые, теперь со мной в Москве живут. Предки наши тоже были мастерами, кто кузнец, кто токарь-слесарь, кто гравер, один я в бойцы подался. Помнишь про Левшу, который блоху подковал? Так вот, Ксюшка, фамилия у него точно была Прохоров! Ксения невольно улыбнулась, и Костя сказал: – У тебя ямочки на щеках, а глаза – как небо над Упой… Упа – речка наша, в Туле течет. Ты ее увидишь, милая…
Владимир Высоцкий
Глава 13
Елэ-Сулар, 18 маяКак и предупреждал Ягфаров, за Кизылом, у шестнадцатого километра, от главной трассы ответвлялась дорога с хорошим покрытием, но узкая, только двум машинам разъехаться. Это шоссе тянулось вверх, к перевалу, петляя вдоль крутого горного склона, то исчезая за сероватыми и бурыми громадами утесов, то появляясь вновь ступенькой гигантской лестницы, висевшей над кручами и обрывами. Было безветренно и знойно; воздух, соприкасавшийся с раскаленным асфальтом, струился и подрагивал, обнимая тело плотной жаркой пеленой. «Минимум сорок в тени, – подумал Каргин, – только где здесь тень?» Склон был каменистым и почти безлесным; среди скал торчали редкие деревья да колючие, высохшие до железной прочности кусты. Их ждали – не успел «ЗИМ» остановиться, как из-за камней выехал армейский джип, без охранников, с одним водителем. Проводник был в камуфляже, но на солдата не похож: тощий, усатый, лет сорока пяти, без знаков различия и вроде бы без оружия. Глядел он куда-то в сторону, руки Каргину не протянул и чести тоже не отдал. – Не по уставу встречает, хрен усатый, – пробормотал Перфильев, вытирая со лба испарину. – Задницы даже не приподнял! Хотя на таком солнышке мог и к сиденью привариться. Слава и Рудик тоже вылезли из машины, топтались рядом, отдувались и облегченно сопели – снаружи жара, а в машине так просто душегубка. Каргин посмотрел на них, потом бросил взгляд на дорогу, что извивалась над скалами серой змеей, и распорядился: – Назад полезайте. Дальше сам поведу. Водитель джипа уставился на него щелочками глаз: – Ехать скоро, началник? Или загорай? – Сейчас поедем. Ты мне скажи, как президент туда добирается? – Каргин вытянул руку к перевалу. – Туран-баша на вертолет, – отозвался усач. Перфильев недовольно хмыкнул. – А что за нами вертушку не прислал? Керосина жалко? – Не понимай по-русски. – Проводник повернул ключ, двигатель взревел, и машина тронулась с места. Судя по тому, с какой ловкостью усатый развернулся на узкой дороге, был он классным водителем. – Ну, поедем, – сказал Каргин, устраиваясь на бархатном сиденьи. – Всем тачка хороша, и мощная, и просторная, а вот кондера нет… Надо поставить. – Сделаем, Алексей Николаевич, – пообещал Рудик. Они с Дмитрием возились сзади, устраиваясь поудобнее. Перфильев обернулся, заворчал: – Вы там поаккуратней, парни, «калаши» ногами не пинайте. Один пнет, с предохранителя снимет, другой пнет, и прямо на спуск… Полегче, говорю! Возня прекратилась. Каргин выжал сцепление, включил первую передачу. Педаль газа, будто живая, дрогнула под ногой, и «ЗИМ» послушно тронулся с места. Вторая передача, третья… Скорость – сорок километров… На такой дороге достаточно. Усатый проводник тоже не рисковал ехать быстрее. Мимо замелькали каменные глыбы, то плоские, то остроконечные или причудливо изломанные, из открытых окон потянуло свежим ветерком, яркие солнечные блики заиграли на капоте машины. Подъем, сначала плавный, сделался круче, но «ЗИМ» будто не заметил этого, лез и лез себе неспешно в гору, гудел мотором, цеплялся шинами за серый асфальт. Тяжеловатая тачка, зато устойчивая, как БМП, размышлял Каргин. Тачка для настоящих мужчин! Приятно водить такую: во-первых, без силы с ней не совладать, а во-вторых, простор-то какой! Была бы тут Кэти, на колени посадил! Посадил бы, а потом… Он смущенно покосился на Перфильева и повернул, огибая скалу. Поворот был крутой, почти на сто восемьдесят градусов; теперь справа тянулся вертикальный горный склон, а слева зиял обрыв, еще не очень глубокий – так, примерно в десять этажей. Водитель джипа сбавил скорость – до полудня было еще далеко, солнце висело на востоке, слепило глаза. – Я тебе вот что скажу, Алексей, – произнес Перфильев, шаря в бардачке. – Я так полагаю, что туран-баша просто обязан нас наградить. Мы ведь бунтовщика устаканили, этого Вальку-эмира, со всей его бандой! Меньше оппозиции, крепче власть… Ты как думаешь? – Думаю, что президент о наших подвигах не знает, – вымолвил Каргин. – Еще думаю, что честь и награды Таймазову достанутся. – Это еще почему? У меня доказательства есть! – Влад потащил из бардачка полиэтиленовый пакетик, раскрыл его, принюхался. – Спиртом пахнет… А ушко совсем свежее! Приметное ушко, с серьгой! Джип повернул, а вслед за ним и Каргин. Теперь солнце светило в спину, однако усатый скорости не прибавлял. Они ползли по дороге не быстрей тридцати километров, и скальная стенка, иссеченная трещинами, неторопливо убегала назад, грозя им растопыренными пальцами кустов. Струйки воздуха, врывавшиеся в салон машины, ослабели, сделалось душновато, но ехать быстрее Каргин не пытался, соображая, что дальше, наверно, крутой поворот над самой пропастью или иное опасное место. – Мне вот сказали, что в Туране есть интересные ордена, – опять начал Перфильев. – Отчего бы президенту нам по висюльке не пожаловать? Я на искандеров орден или там Звезду Эмира не претендую, но вот имеется у них Лапа Барса, для военных чинов, что храбрость проявили при защите отечества. Это годится! Пусть даст нам по лапе! – Совсем развеселившись, Перфильев хрипло захохотал. – Тебе лапа, и мне лапа! С подвесками! На заднем сиденьи тоже захихикали. Каргин слушал впол-уха, поглядывая то на край обрыва в трех шагах от колес, то на буро-серый монолит утесов, то на джип. Их проводник притормаживал, хотя дорога казалась вполне безопасной. Перфильев сунул пакет обратно в бардачок. – Слышь, Леха, а французы тебе чего-нибудь дали? Крест какой-нибудь или звезду? У них, я слышал, ордена красивые, особенно Почетного Легиона. – Денег дали, – ответил Каргин. – На те деньги я квартиру купил на Лесной. Сам подумай, Влад, что лучше: орден или квартира в Москве? – Лучше орден и квартира в Париже, – сказал Перфильев. Их караван из двух автомобилей снова повернул. Пропасть теперь казалась гораздо внушительней; с высоты озеро Кизыл мнилось блестящей монеткой, скалы вокруг него – россыпью мелких камешков, а лежавший за ними городок был вообще не виден, тонул в зеленовато-розовой дымке меж бирюзовым небом и фиолетовыми скалами. Поглядев вниз, Каргин заметил, что по серпантину, преследуя их, ползут два маленьких жучка, зеленоватый и черный; эти машины двигались быстрее, то прячась за краем пропасти, то вновь появляясь на серой ленте дороги. – Едут за нами, – сообщил он. – Едут, догоняют, а усатый вроде не торопится. Влад, сидевший справа, приподнялся. – Точно, едут! Ну-ка, Дмитрий, в бинокль глянь… Там, за откидным сиденьем, шкафик, а в нем бутылка и бинокль… Не перепутай! Дима достал бинокль, просунулся в окно, сообщил: – Джип, а в нем четверо вояк, но на кого похожи, непонятно. Без формы, зато с автоматами! И пулемет есть… Вторая тачка метрах в двухстах за ними. Черная, импортная, высокой проходимости, такую я у нашей гостиницы видел… Вроде как «ландкрузер», а кто в ней рассекает, не разглядеть – стекла тонированы. – Надо думать, почетный эскорт, – решил Перфильев. – Нас сопровождают или того, в импортной тачке… Слушай, Алексей, а вдруг Таймазов в ней едет? За орденом, кукиш поганый! Распустит хвост, а я ка-ак… – Он снова полез в бардачок. – Это было бы недипломатично, – заметил Каргин. – Если хочешь орден, я тебе в Бразилии куплю. Или в Венесуэле. Они поднялись к перевалу. Слева вершина, и справа вершина, впереди – серая лента шоссе, словно оборванная у крутого поворота, а сверху – голубой небесный купол, полный солнечного сияния и плывущих на север облаков. Седловина продувалась свежим ветром, духота исчезла, и за спиной Каргина послышались блаженные вздохи. В зеркальце заднего обзора он видел нагонявший их джип. Тот пристроился за ними, не доезжая десятка метров, не сигналил и не пытался обогнать. Черной машины не было видно, и Каргин подумал, что Влад, наверное, прав: гвардейцев послали им в сопровождение. За перевалом дорога чуть-чуть спустилась вниз и пошла, петляя и изгибаясь, у самого края пропасти. Теперь внизу лежало дикое ущелье: обрывистые, почти отвесные склоны падали с полукилометровой высоты, смыкаясь на дне водами бурной речки. Берегов у нее не было; она грохотала в провале, ревела, упорно точила гору, вихрилась у каменных влажных клыков, плевала пеной в небеса. Красивый вид, но место опасное. Джип впереди вдруг увеличил скорость. – Куда ты, дубина? – пробормотал Каргин, заметив, что перед ними очередной поворот. Шоссе тут нависало над обрывом, обтекая выступающую скалу, и мнилось, что впереди нет ничего прочного и твердого, а лишь прозрачный зыбкий воздух, опора для крыльев, а не для колес. Ринешься туда – и полетишь, только не к облакам, а прямо в пропасть, на черные мокрые зубья, что поджидают в бешеной воде… Шедшая сзади машина вдруг устремилась вперед и подтолкнула «ЗИМ» у самого поворота. Рудик и Дима одновременно вскрикнули, Влад выругался, а Каргин, сцепив зубы, резко вывернул руль. Какую-то долю секунды левое заднее колесо бешено вращалось в пустоте, но их тяжелая машина словно оседлала дорогу – взревел мотор, «ЗИМ» дрогнул, врезавшись колесом в камни на краю обрыва, вцепился в дорожное полотно и покатил за поворот под ругань и проклятья Перфильева. – Ублюдки, хорьки, ломом трахнутые! Спидоносцы, мать их через дышло и поперек форсунки! А ну, ребята, «калаш» мне… И сами к бою! Щас приложим этих козлов! А первым делом сучонка, который у них рулит… Ну, держись бляха-муха! – Разобрать оружие, но огня не открывать, – негромко скомандовал Каргин. – Почему, хрен собачий! – вскинулся Перфильев, просовывая в окошко автоматный ствол. – Они же нас едва не сбросили, мудаки! – Хочу понять, чего им надо. А сбросить я и сам могу. Он резко увеличил скорость, стремительно проскакивая не слишком крутые повороты. Он доверял своей реакции и не боялся упасть или врезаться в камень – был у него талант справляться со всевозможной техникой, которая плавает, ездит или летает. Что-то вроде шестого чувства, усиленного годами тренировок, таинственный дар, без коего водитель – не водитель, пилот – не пилот… Он будто слился с машиной в единый организм, улавливая сквозь рев мотора шорох шин, чувствуя упругую податливость педалей и ветер, бивший в лобовое стекло, успевая заметить край обрыва и набегавшую скалу. То было как мгновение истины, миг между жизнью и смертью, когда одно неверное движение, дрожь пальцев или некстати пришедшая мысль делают живое неживым. Их тяжелый автомобиль мчался над пропастью, догоняя ушедшую вперед машину. На развороте Каргин увидел в боковом зеркальце погоню: джип, преследовавший их, и черный «ландкрузер», тоже набиравший скорость. Расстояние между ними было метров пятьдесят. Впереди – усатый и новый поворот, на этот раз крутой, градусов под семьдесят. Каргин взял вправо, ближе к утесам, пытаясь обогнать их непонятного проводника, но тот умело сманеврировал, перекрывая дорогу, и начал тормозить. Посигналить, и влево, к пропасти… Опять перекрыл! Теперь направо, к скалам… И он туда же! Не обогнать, не обойти, слишком уж узкая дорога… Он сбросил газ, и джип, преследовавший их, стал быстро приближаться. – В коробочку берут, поганцы, – пробормотал Перфильев. – Точно в коробочку! Сейчас этот усатый хмырь, Сусанин наш, вильнет за скалы, а нам прямо по заднице врежут… И полетим мы, как черепаха от божьего пинка… Стрелять, Леша? – Нет. «Намерения ясны, – думал Каргин. – Вперед не пускают, уйти от погони не дают, оружия не применяют… Определенно столкнуть хотят! Чтобы процесс казался естественным… Кто же нам ворожит? Таймазов? Но почему?» Передней машине до поворота – восемь метров… даже семь… Он крикнул: – «Держитесь!» – вдавил в пол педаль газа и шевельнул рулем. «ЗИМ» стремительной торпедой ринулся по серой ленте шоссе, чуть забирая к скалам, настиг передний джип, ударил сзади и слева, скользнул к повороту, обдирая краску с борта и сбрасывая скорость. Лихо обогнув утес, Каргин ударил по тормозам, смахнул со лба капельки пота и, когда «ЗИМ» остановился, выскочил на дорогу. Расчеты его оказались верными: джип усатого развернуло поперек шоссе, преследователи остановиться не успели и врезались в него на полной скорости. Сейчас обе машины летели вниз, в пропасть, вращаясь в воздухе, вышвыривая человеческие тела и рассыпая обломки. Казалось, этот полет длится целую вечность – но вот первая фигурка коснулась торчавших над водою глыб, застыла на каменных зубьях, а следом рухнули еще четыре. Потом – машины… Фонтаны брызг, далекий грохот рвущегося металла, стон стекла, радужные бензиновые разводы на воде… Один из джипов вспыхнул. Пламя, почти незаметное в солнечном свете, заплясало над яростным водным потоком. – Козлы! И смерть вам козлиная! – раздалось за спиной Каргина. Он оглянулся – трое спутников стояли на обочине, всматриваясь в провал и бушевавшую внизу реку. Перфильев и Рудик – с автоматами, Дмитрий – с висевшим на груди биноклем. – Ловко вы их, Алексей Николаевич, – молвил Рудик. – У меня бы так не вышло. Перфильев ухмыльнулся. – Сказано одним умным человеком: чтобы кукарекать правильно, молодой петух должен поглядывать на старого. – Мудрость вашего майора? Который вас учил? – Его. А еще учил он так: закончив с одним, посмотри, нет ли где второго… Ну-ка, Дмитрий, глянь, куда другая тачка подевалась! Парень вскинул к глазам бинокль и доложил: – Разворачивается, командир. Вот, развернулся и едет теперь обратно к перевалу… Быстро едет для такой дороги, километров под семьдесят… А номер у него вроде бы пылью припорошен. – Тайм-аут, глаз даю! – сказал Перфильев. – Светлый наш эмир! Увидел, что дельце не выгорело, и велел поворачивать! А может, и нет его в этой машине, кто-то из наблюдателей там либо хмырь какой доверенный, руководитель акции… Но рука – эмирова! – Сомневаюсь, – возразил Каргин, задумчиво покачивая головой. – Зачем Таймазову нас убирать? Он у меня поддержки и денег ищет, звонил, напоминал об этом, свидание с Курбановым устраивал… Что ему в нашей смерти? Какая выгода, какая цель? – А такая! Скажем, Барышников с Прошкой – его самодеятельность, и президент про это ничего не знает. Об этом не знает и о том, что был Таймазов в контакте с Габбасовым, бунтовщиком и бандитом. Может, умышляли вместе на туран-башу, укоротить на голову хотели, а потом Таймазова – в главные боссы, Вальку – сардаром, и все под ними, включая «Шмели»… Как тебе эта гипотеза? Каргин пожал плечами. Не было у него впечатления от Таймазова, как от решительного человека, способного на заговор и бунт. Такие тихо сидят, плетут интриги, ждут, когда босс одряхлеет вконец, чтобы аккуратно перерезать глотку. А если босс отступится по-доброму, так и резать не станут, а дадут почетный пенсион и вышлют на поселение в Карлыгач или в этот самый Елэ-Сулар… Все это казалось правильным и верным, однако был неучтенный момент – покойный Вали Габбасов, вождь Копетдага. Очень уж быстро его отправили к аллаху, не удалось поговорить и разузнать, что он за персона, с какими амбициями и на какие дела способен подвигнуть светлого эмира, если они и правда ходили в союзниках. Вали, несомненно, был личностью с другим, чем у Таймазова, темпераментом, жестоким, властным, волевым, и кровопролития, как и положено бандиту, не боялся. Так что гипотеза Влада могла оказаться не фантазией, а самой что ни на есть реальностью. Перфильев мотнул головой в сторону машины. – Ну, поедем? Каргин сделал шаг и остановился. Поедем, но куда? Вперед или назад? В памяти его всплыли предостережения Сергеева, и вдруг подумалось, что если Таймазов действовал с ведома туран-баши, а то и по его прямой указке, все может повернуться очень неприятно. Разумеется, если качать права и требовать сатисфакции за похищение Барышникова с Костей, за этот случай на дороге, а также и за все остальное: за бейбарса Ибада, жулика Аязова, ворюгу-банкира, феррашей-взломщиков, кражу в Челябинске и за весь обманутый и обездоленный туранский народ. А если сделать вид, что ничего плохого не случилось и что в Туране просто рай, то президент останется доволен. Что ему злобствовать? Люди явились богатые, полезные и деликатные, попреков не делают и ни о чем не просят, свои проблемы сами решают, попутно устаканив оппозицию, а в этом есть для царства-государства несомненный выигрыш. Так что дипломатия и еще раз дипломатия! Хотя и дедов совет – сравнять Туран с землей – тоже забывать не стоит… – Тонкое дело – восток! – резюмировал Каргин и помахал рукой. – Ну, не будем время тянуть. Поехали, братцы! Казалось ему, что цель близка, что не сегодня, так завтра увидит он «Шмели», разведает, где они спрятаны, а там, глядишь, и отобьет российское добро или, как советовал Сергеев, дымом пустит. Это внушало надежды и подстегивало. Дорога пошла под гору. Пейзаж вокруг был изумительный – серые, коричневые, фиолетовые вершины на фоне голубого неба, бурлящая внизу река, живописные скалы и сосновые рощицы, от которых тянуло резким хвойным ароматом. Здесь, на высоте, дышалось легко, гуляли тут свежие ветры, умерявшие зной, а воздух, в котором смешались запахи смолы и нагретого солнцем камня, был прозрачен и чист. Это скрадывало расстояния; казалось, что до горных пиков можно дотронуться рукой, и что это вовсе не горы, а небольшие макеты, изготовленные искусным художником. Они ехали минут пятнадцать или двадцать, пока за новым поворотом не открылась довольно обширная плошадка, естественный выступ в горном склоне, обрамленный полукольцом сосен, что отделяли его от пропасти. Здесь, на маленьком заасфальтированном пятачке, дорога кончалась; слева, под соснами, стояли три или четыре уютных домика, виднелись крыши строений и служб, а справа в отвесной скальной стенке зияла большая ниша, укрепленная стальными балками. Звуки в этом крохотном мирке были другими, чем на шоссе, рокот воды и шелест деревьев заглушались людскими голосами, какими-то скрипами и скрежетом и отдаленным лошадиным ржанием – видимо, за домами располагалась конюшня. Рядом с нишей и стальной конструкцией торчали столб с проводами и дощатая будка с предохранявшим от солнца навесом-козырьком. У будки дежурили трое охранников из чеченской гвардии, рослые бородатые мужики в расстегнутых до пупа комбинезонах. Один из них двинулся к автомобилю. – Эй, вылэзай! Кто такие? – Алекс Керк, к президенту Курбанову, – произнес Каргин, покидая машину. – Мне назначено. – Ждать здэсь. Провэрю! Охранник скрылся в будке. Двое других разошлись и встали у краев ниши, держа автоматы нацеленными на гостей. Теперь Каргин видел деревянный помост с перилами, застывший между стальных балок, мощные опоры по углам и прикрепленные к ним тросы. Очевидно, эта конструкция была подъемником. – Звонить пошел. А вообще плохо встречают, – буркнул Перфильев, посматривая на оружие в руках гвардейцев. – Не люблю я на мушке торчать. Аппетит после этого пропадает. Каргин ничего не ответил, осматривался по сторонам, прикидывал. До ближнего дома – шагов тридцать; рядом с ним, в линию, еще два, и в них, похоже, живут охрана и прислуга. Дальше, в самых соснах, дом посолидней, о двух этажах с верандами, а сбоку – забитые сеном навесы и бревенчатое строение, у которого выгуливают лошадей. За ним что-то вроде котельной или энергетического блока: труба торчит, дым идет, и тянутся провода на столбах ко всем жилым домам и к подъемнику. В сосновой роще вьется среди золотистых стволов песчаная дорожка, стоят скамейки и беседки и даже какие-то изваяния – только далековато, не разглядеть. Лошадей – три, при них пять конюхов, а у домов еще десяток человек, все при оружии и по виду гвардейцы. За стеклами веранды тоже кто-то мелькает… В общем, подумалось Каргину, этот Елэ-Сулар – маленькое президентское имение, заповедник покоя и тишины, где можно на лошадках покататься, шашлык сготовить и поразмыслить о государственных делах. Разумеется, под надежной охраной. Из будки показался гвардеец. На его лице блуждала улыбка, белые крепкие зубы сверкали между усами и темной бородой. – Туран-баша ждет, – сказал он, приближаясь к машине и тыкая пальцем в Перфильева и Каргина. – Ты и ты! Остальные здэсь будут. – Куда идти? К дому? – Нэт. Сюда! – Палец указал на клеть подъемника. – Синяя кнопка – вниз, красная – наверх. Шагай и катайся! Живо! – Ты, парень, нас не подгоняй, – хмуро вымолвил Перфильев. – Ты знаешь, кто мы такие? Президентские гости, очень почетные! Такие почетные, что запросто можно от нас в зубы схлопотать. – Свои побэреги, – пряча усмешку, огрызнулся охранник. Каргин потянул Влада за руку. Они ступили на деревянный помост, качнувшийся под ногами. На одной из опор была закреплена панелька с кнопками, синей и красной, и с кабелем, тянувшимся вдоль троса; прямо над головой нависали барабаны лебедок, электромоторы и паутина проводов. Пальцы Каргина вдавили кнопку, и клеть быстро поехала вниз. – Заметил, как этот хрен моржовый лыбился? – произнес Перфильев. – С чего бы? – Радуется за нас. Как-никак ордена получим. Каждому на лапу. – Если получим, я ему в зубы не дам, – пообещал Перфильев. – А вот если маком выйдет, то в этом случае… Ух ты, ежкин кот! Мать моя, передовик труда! Подъемник замер. Они очутились под сводами огромной пещеры, раскинувшейся влево, вправо и вдаль; стены ее терялись в непроницаемой тьме, а пространство около подъемника было залито светом прожекторов, в котором все сверкало: пол, выложенный оранжевыми фигурными кирпичиками, дорожка из малахитовой плитки, полупрозрачные розово-белые сосульки сталактитов, что свешивались с потолка, гранитные глыбы с прожилками кварца и антрацитово поблескивающая поверхность воды. Подземное озеро тоже уходило в темноту, и дальний его берег, лежавший за кругом света, не был виден. Что-то, однако, подсказывало: озеро там не кончается, а тянется дальше и дальше или, возможно, переходит в другие озера, укрытые твердью земной, окутанные вечным мраком и затаившиеся в нем словно гигантские черные алмазы.[327] Каргин и Перфильев шагнули на малахитовую дорожку. Метрах в сорока от них, наполовину на берегу, наполовину над озерными водами, стояла купальня, большое строение без крыши, с решетчатыми стенками, за которыми мелькали неясные тени. Рядом с дверным проемом, прикрытым бамбуковой занавеской, торчал часовой, другие охранники расположились у прожекторов и были почти не заметны. Там, где дорожка, огибая озеро, сворачивала к купальне, вышагивал взад-вперед молодой человек штатской наружности, в джинсах и легкой рубашке. При виде гостей он торопливо двинулся им навстречу. Они сошлись на середине дорожки. – Баграм, помощник аги Ягфарова… Как доехали, мистер Керк? Дорога сюда не простая, зато какие горные красоты! Голова кружится! – Это верно, – подтвердил Каргин, рассматривая Баграма и подмечая, что тот кажется удивленным и несколько обескураженным. – Горные красоты впечатляют. Как говориться, увидеть и умереть… Тем более, что пропасть с речкой рядом. Перфильев весело осклабился – видно, вспоминал о тех, чьи кости сейчас полощутся в речке. Каргин, не мигая, смотрел на Баграма. – А мы ведь с вами встречались! Совсем недавно, в Карлыгаче… Нюхали розы с одним арабским шейхом. – Может быть, – уклончиво молвил помощник Ягфарова. – Прошу прощения у вас, ага, и у вашего достойного друга… Не ждали вас так рано, а потому не встретили, как подобает. – Он оглянулся на купальню и понизил голос. – Понимаете, сейчас без четверти одиннадцать, а с десяти до полудня Саид Саидович принимает целебную ванну… Святое дело, храни его аллах! Очень не любит, когда тревожат в это время… Однако сказал, чтоб вы спускались вниз. – А где ваш шеф? – полюбопытствовал Каргин. – Он обещал, что мы с ним обязательно увидимся. Баграм снова бросил взгляд на купальню. Глядел он на нее так, как правоверный смотрит на черный камень Каабы, приближаясь к мекканской мечети Масджид аль-харам.[328] На лице его застыло благоговейное выражение. – Ага Ягфаров в целебном бассейне вместе с Саидом Саидовичем. Туран-баше нравится, когда его развлекают на отдыхе… Там еще личный врач и… ну, и другие люди. Наверное, вас тоже пригласят, раз президент велел спускаться. Пойду спрошу. Он сделал шаг по малахитовой дорожке, но Перфильев ухватил парня за руку. – Постой-ка… Мы ведь не пустыми приехали, мы, братец, восточный обычай понимаем! Вот, подарок президенту передашь. – Вытащив пакетик, Перфильев сунул его Баграму. – Что тут, ага? – Ушко, а в нем сережка. Знатное ухо! Сам Вали Габбасов его носил. Теперь не носит, вражий сын… Отдай своему президенту, пусть порадуется. Взяв пакет двумя пальцами, Баграм направился к купальне. – Орден… – пробормотал Перфильев, – подвески… Даже два ордена, за Габбасова и за Таймазова! Может, Леха, мы государственный заговор раскрыли, недаром на нас эмирчик покушался! А за тех козлов, которых ты в речку сбросил, тебе отдельно положено. Скажем, возведут тебя в минбаши, а то при твоих капиталах стыдно ходить в капитанском звании. – Фак тебе! – сказал Каргин. – Ну вот, уже и по-русски не ругаешься… – Влад с иронией прищурился. – Ты тренируйся давай. Помнишь, что Толпыго говорил? Старший офицер от младшего отличается опытом, окладом и словесной виртуозностью. Будешь минбашой, на факах далеко не уедешь. Баграм, отодвинув бамбуковую занавесь, юркнул в купальню. Слушая трепотню приятеля, Каргин быстро осматривался, со скучающим видом поворачивая голову туда-сюда. Это было привычной, почти рефлексом, приобретенным в джунглях, болотах, пустынях и пылающих городах: в любой сомнительной ситуации оглядеться, точно представить, где находится враг, наметить пути атаки или отступления. Сейчас про атаку говорить не приходилось – были они безоружны, и пришибить охранников непросто, много их и далеко стоят. А что касается ретирады, тут дорога одна – в подъемник, и наверх… Он взял Перфильева за локоть, легонько потянув, заставив отступить. Крохотный шажок назад, к клети подъемника, затем другой шаг, третий… – Ты что, Алексей? – Гвардейцев многовато. Четыре прожектора, под каждым двое, и купальни один – итого девять. Такая охрана в замкнутом и абсолютно безопасном помещении… Мне бы троих хватило. – Так ты не туран-баша, – с усмешкой сказал Перфильев, но отодвинулся еще на пару шагов. Теперь до подъемника было рукой подать. За решетчатой стеной купальни – быстрая лихорадочная пляска теней. Чей-то силуэт с воздетыми руками, резкий гневный взмах, неразличимое бормотание голосов, словно спорят о чем-то, шелест одежды, плеск воды… Что там происходит? – думал Каргин, прищурившись и снова пересчитывая гвардейцев. На радость как-то непохоже… Он прислонился к перилам клети и шепнул Владу: – Если что, двигаем наверх, берем охранников и сматываем удочки. Готов? – Как пионер, – сразу сделавшись серьезным, буркнул Перфильев. – А что? Ты думаешь… Бамбуковая занавеска отлетела в сторону, и на пороге появился президент. Щеки его тряслись, черты искажала ярость; видимо, он задыхался от бешенства, да и возраст был немалый – то и другое мешало говорить. Он вскинул руку, потряс кулаком, и Каргин, не медля больше ни секунды, ринулся в клеть подъемника и надавил красную кнопку. Где-то вверху зарокотали моторы, платформа шустро поползла наверх, а снизу послышался гневный вопль, потом – слова команды, сразу угасшие в лифтовой шахте. Минуту подниматься, размышлял Каргин, десять секунд прошло, еще через десять-пятнадцать начнут стрелять, пол пробьют, хотя доска в нем толстая. А что под ней? Если железный каркас, пусть стреляют… Однако не стреляли. – Ты налево, я направо, – сказал Перфильев. – Они не готовы, атаки не ждут. Бьем насмерть, так? – Придется насмерть, – согласился Каргин. – Судя по роже президента, любовь у нас нынче врозь. Почему, они не обсуждали: над верхним краем клети посветлело, сухо прогрохотала очередь, и Каргин, не успев удивиться, в кого стреляют и по какой причине, метнулся в открывшуюся щель и покатился по земле. Движения его были стремительны, бились в висках колокола, грохотал боевой барабан, вращались вкруг него голубое небо, зеленые кроны сосен, серые и коричневые скалы, но в этом калейдоскопе звуков, оттенков и красок видел он только алый цвет и слышал стон агонии. Алое на черном, кровь Рудика, кровь Дмитрия на дверцах машины, их тела под колесами – один мертв, другой хрипит и еще тянет руку… «Телефон! – мелькнула мысль. – Как же я забыл про телефон! Эти гады позвонили снизу…» Тело послушно взметнулось в воздух, левая рука перехватила нацеленный в грудь автомат, дернула вверх, пальцы правой клинком врезались в хрустнувшее под ударом горло. Мертвый гвардеец падал, Каргин, стиснув зубы, рвал оружие из сведенных судорогой пальцев, а через площадку мчались уже фигуры в пятнистом, грохотали башмаками, орали: «Бей! Бей!» – и что-то еще непонятное, на арабском, а может, на турецком. Он не успел отнять «калашников», нажал на палец мертвеца, дал очередь, скосил двоих или троих, потом его ударили прикладом. Сильный удар, и пришелся по голове. Сознание Каргина погасло.
* * *
Стул. Он сидит на стуле. Голова разламывается, не приподнять, руки и ноги не шевелятся. Кажется, привязаны… Не стул – кресло: запястья и локти прикручены к подлокотникам, щиколотки – к массивным твердым ножкам. Не поднимая головы, Каргин чуть-чуть приоткрыл глаза. Так и есть, кресло. Тяжелое, дубовое… Видны упоры подлокотников из темного резного дерева да перехваченные веревкой руки. Еще – пол, глянцевый паркет, на котором застыли световые пятна. Прямоугольные, от оконной рамы… Значит, он не в пещере, а в одном из домов. Судя по креслу и роскошному паркету, в самом большом, президентском… Уже легче! Веревки… Веревки – не проблема, думал он, мучительно пытаясь вспомнить что-то важное. И вспомнил. Дима, Рудик! Двоих выручил, двоих потерял… Совсем потерял – не в плену они, не в заложниках, не спасти их, не выкупить у смерти! Эта мысль была мучительной – не привык Каргин терять доверившихся ему людей. Даже «гепардов», чья жизнь и всякая рана имели точную стоимость в долларах, франках и фунтах. Балабина надо было взять, крутилось в голове, Балабина с Булатом, а не этих мальчишек! Василий бы не подкачал, глаза у него на затылке, а палец – на курке! Эти ублюдки наверху пошевелиться не успели бы, легли кверху лапами! Да и Булат не промах… Справились бы вчетвером с басурманами, одолели бы! Наверняка одолели бы! Но что сейчас терзаться и мучиться… Парни мертвы, и хоть все утесы золотом выложи, хоть миллиард по скалам разбросай, а сделанного не изменишь… Сидя в кресле с гудящей головой, связанный и беспомощный, он познавал новую истину, новую мудрость, подсказанную отцом: деньги – прах, могущество и сила – тлен, ибо не купишь за них того единственного, что имеет цену и смысл – жизни человеческой. Даже надежды не купишь; надежда свойственна живым, и нет ей места в смерти. Он скрипнул зубами, разлепил веки и с усилием поднял голову. Большая комната, почти пустая. Справа – дверь, слева – окна, выходящие на веранду. Сбоку и сзади – камин с выступающими гранитными стенками и полкой белого мрамора, посередине – стол, и при нем пять кресел. Одно занято, и человек в нем знакомый… Райхан Ягфаров. Глядит на Каргина тоскливым виноватым взглядом, мнет одну ладонь в другой. – Вы очнулись, Алекс? Вы меня понимаете? Слышите? Каргин постарался забыть о сверлящей боли в затылке. Здорово, однако, звезданули… Ну ничего, пройдет. Лишь мертвым никогда не исцелиться… – Слышите меня? – повторил Райхан. – Да. – Мне разрешили встретиться с вами, пока… пока Дантазов работает с вашим приятелем. При условии, что я с места не двинусь, не буду к вам приближаться. – Ягфаров грустно покачал головой. – Я очень сожалею, Алекс… я даже не могу вам воды подать. – Мне не нужна вода, – сказал Каргин, – мне нужна информация. Чем вызван этот беспрецедентный акт? И сознает ли ваш президент грядущие последствия? – Сознает. Он был в ярости, но люди, подобные ему, умеют обуздывать чувства. Думаю, он вернется к прежнему плану, слегка его подкорректировав. Он очень хитроумен и сделает так, чтобы последствия были минимальны. Не забывайте, Алекс, он у власти половину века и пережил та-аких зубров! Сам зубр, но может прикинуться и лисой, и кроликом! В затылке стрельнуло, и Каргин поморщился. Потом спросил: – Что за план? – Не могу сказать, меня не посвящали. Сейчас я уверен в одном: вас собирались уничтожить по дороге в Елэ-Сулар. Удивительно, что вы сюда доехали! Я был с президентом в тот момент, когда сообщили о вашем прибытии, и догадался, что он вас не ждет. Лицо его так изменилось… Но он еще владел собой, а приступ ярости случился, когда ваш друг послал ему подарок. Это… это… Они были связаны, понял Каргин. Не Таймазов с Габбасовым, а президент с самозванным эмиром Копетдага! Интересно, кем приходился этот Вали Курбанову? Может быть, сыном, рожденным лет сорок назад, в хрущевскую эпоху, в тайне от первой супруги? – Габбасов – отпрыск президента? Ягфаров сделал жест отрицания. – Нет, нет! Но очень близкий родич – сын его старшей сестры, умершей в конце семидесятых. Тут, на Востоке, кровные узы многое значат… Но не только они. Как я понимаю, Габбасов был главным претендентом на власть в Туране, истинным наследником. Наш президент не глуп и не желает сажать на трон ничтожеств, ни ловкого банкира, ни генерала, который пороха не нюхал. А вот Габбасов… Сам я с ним не встречался, но говорили, что он был сильной личностью. Жесток, решителен, религиозен, в меру умен… Боль в голове успокоилась, и с каждой секундой силы возвращались к Каргину. Он посмотрел на гранитную стенку камина в трех шагах от кресла, на дверь и окна в частом переплете, и попытался представить, где минбаши Дантазов «работает» с Перфильевым. Дом большой, звуков не слышно, да и не станет Влад кричать… Плохо с этим Нукером-Дантазовым вышло! Хотелось до него добраться, а он вот первым успел! – Алекс, вы слушаете меня? – раздался голос Ягфарова. – Слушаю, Райхан, но не совсем понимаю. Вали, эмир Копетдага, был оппозиционером и мятежником, врагом существующей власти. Не очень подходящая фигура на президентский пост. Имидж не тот. Ягфаров тонко усмехнулся. – Я ведь говорил, что наш туран-баша хитер и опытен… Власть и оппозиция неразделимы, при всякой власти есть оппозиция, причем из многих противоборствующих сил. Ловкий правитель пестует свою оппозицию, подкармливает ее, делает сильнейшей, а потом бросает на истинных врагов, непримиримых и опасных. На тех же Воинов Аллаха, или Львов Ислама, или узбеков-инородцев, что окопались в городах на Амударье… И вот: был мятежник, стал герой! Туран-баша тоже герой, и народу приятно, когда два героя, молодой и старый,мирятся… – Ягфаров вздохнул и добавил: – Как Рустам с Сухрабом… Кроме того, приходилось мне слышать, что от Габбасова польза уже сейчас была: охранял он в горах какой-то важный военный объект. – Выходит, я сильно нарушил планы президента, – произнес Каргин. – Не то слово, мой дорогой, не то слово! Этот ваш налет на Кара-Суук, гибель Габбасова, разгром его отряда, освобождение пленников… Пленники! Они выдали вас с головой! Надо было смириться с их потерей, не искать их, только просить и просить! Просить, платить, а если бы их не вернули, сделать скорбное лицо и развести руками. Вы, в конце концов, не всесильны… – Мне еще придется делать скорбное лицо, – медленно сказал Каргин, чувствуя, как кровь приливает к щекам. – Придется! Когда я сообщу матерям моих парней об их гибели. Но здесь, в Армуте, тоже будут скорбные лица. Одином клянусь! Ягфаров всплеснул руками. – Помилуйте, Алекс! Вы и Владислав убили троих и многих из гвардейцев ранили – это ли не искупление за смерть тех юношей? Не грозите, подумайте о себе! Подумайте о том, что… Дверь скрипнула и приоткрылась. Советник президента вздохнул. – Напоминают, что пора… Жаль, что мы так расстаемся… Вы мне симпатичны, Алекс. – Вы мне тоже симпатичны, Райхан. Хотите совет? – Да? – Вернитесь к своей поэзии, хоть восточной, хоть европейской. Безопаснее будет. – Я не ищу безопасности, мой друг. Я… В сущности, все, чего я хочу – хоть как-то послужить народу. – Тогда берите автомат и уходите в горы. Ягфаров снова вздохнул, встал и скрылся за дверью. Каргин, не теряя ни мгновения, уперся ступнями в пол и осторожно передвинул кресло поближе к камину – так, что выступ стены, сложенной из рваных гранитных глыб и напоминавшей крепостной контрфорс, был теперь на расстоянии протянутой руки. Дверь распахнулась. Вошедший был худым смугловатым мужчиной лет пятидесяти; глаза темные, брови густые и нависшие, на левой щеке – большое родимое пятно. Одет в светлый полотняный костюм, левый борт пиджака заметно оттопыривается. Выглядел он мрачным, даже угрюмым. Нукер, понял Каргин и, расслабившись, откинулся на спинку кресла. Настолько, насколько позволяли веревки. Мужчина сел и уставился на него. Взгляд у Нукера был пронзительный, будто он видел пленника насквозь и еще на метр в стенку за его спиной. Две или три минуты они смотрели друг на друга, упорно не желая опускать глаза. Наконец Каргин промолвил: – Дантазов Амирхан, по кличке Нукер. Таджик, сорок четвертого года рождения, служил во внешней разведке, трудился в Турции и Иране. В конце восьмидесятых уволен в отставку в чине подполковника. Возглавляет секретную службу сардара или самого президента. – Самого президента, – откликнулся Дантазов. Голос у него был глуховатый, и на русском он говорил без акцента, только чуть растягивая гласные. – Вы неплохо информированы, мистер Керк. Или хотите, чтобы я называл вас Каргиным? – Хочу. Я гораздо больше Каргин, чем Керк. Густые брови Нукера шевельнулись. – Был. Был Каргиным, был Керком… Теперь – покойник. Почти. – Не вы первый так считаете. Большая ошибка! Брови изогнулись наподобие двух мохнатых гусениц. – Я редко ошибаюсь. Конечно, там, на дороге, произошла ошибка… Сейчас вам и вашим коллегам надо бы полеживать на дне ущелья, в разбитой машине, в виде обгорелых трупов. Дорога опасна, водитель не справился с управлением, вспыхнул бензин… Трагическая случайность… Не получилось! Туран-баша был очень недоволен. – Нукер скрестил руки на груди, свел брови в линию и вдруг усмехнулся. – К счастью, Каргин, вы здесь, и все еще не поздно исправить. Пули из тел ваших охранников извлекут, вас двоих посадят в машину, столкнут ее в пропасть в подходящем месте, подожгут бензин… Затем последует масса соболезнований в адрес вашей фирмы, но извинений не будет. Какие извинения? Мы ведь, в конце концов, ни при чем! Предлагали своего шофера, опытного, но вы решили, что справитесь сами. И в результате – такая нелепая гибель! – Он сделал паузу и, помолчав секунду, добавил: – Это один вариант. – Есть и другой? – Есть, хотя лично я остановился бы на первом. Но туран-баша хочет дать вам шанс, а заодно исполнить свое обещание. Вы ведь очень хотели познакомиться с «Манасами», не так ли? Вот и познакомитесь. Через пару дней их представят важной персоне, потенциальному заказчику, причем покажут в действии, в боевых условиях на одном из наших полигонов. Гладиаторские игры, так сказать: два «Манаса» против танков, артиллерии и вооруженной гранатометами пехоты… Желаете поучаствовать? Проигрыш поединка – почетная смерть в бою, а выигрыш… Ну, посмотрим! Кстати, ваш друг уже согласился. – И я не против. – Каргин прищурился и с издевательской усмешкой спросил: – А что, в туранской армии есть артиллерия и танки? – Технику предоставляет заказчик, с нашей стороны только… ээ… персонал. Хорошая техника, западная, имеется даже продукция ХАК. Уверен, вы останетесь довольны. – Не сомневаюсь. – Каргин кивнул, отметив, что боль в голове если не прошла совсем, так утихла. – Вы упомянули персонал. На этот счет просьба у меня имеется… Те гвардейцы, что здесь несут охрану… Как они, подойдут? Брови Нукера опустились. – Вполне. Трое покойников, пятеро раненых, один при смерти… В симпатиях к вам их не заподозришь! Поставим четырнадцать бойцов с базуками. Нам тоже интересно, чтобы обе стороны играли по-серьезному, без скидок. – Тогда договорились. – Слегка повернув голову, Каргин измерил расстояние от кресла до камина. – Еще один вопрос, Дантазов… Я понимаю, что нарушил планы президента, убил его родича… Но разве месть важнее государственных соображений? Тем более, финансовых? Разве непонятно – выиграю я поединок или умру, в любом случае ХАК отсюда уйдет, уйдет окончательно, со всеми своими инвестициями. Нукер пожал плечами. – Ну, есть и другие инвесторы. К тому же с чего вы взяли, что ХАК уйдет? Это неправильный вывод, мистер Каргин. Вы русский, с вами тяжело договориться – Таймазов вот так и не понял, о чем вы печетесь, о корпорации своей или о рухнувшей империи. С американцами проще, у них подобных предрассудков нет… И еще одно: вы вмешались во внутренние дела Турана, пообещали поддержку Таймазову и президентскому племяннику, вызвали целый самум в Курултае. Это президенту не понравилось. Так и так, вы нежелательная фигура, которую лучше убрать с доски. Разумеется, случайно – мы ведь не допустим, чтобы в ХАК на нас обиделись. А потому… Он собирался продолжить свою речь, но в этот момент Каргин привстал и с разворота грохнул ножками кресла о стенку камина. Кресло оказалось прочным; понадобился второй удар, затавивший сиденье расстаться со спинкой, а подлокотники – с сиденьем. Веревки соскользнули с рук Каргина, ноги освободились, и он прыгнул на Дантазова, нацелившись в висок, убойное место, но не попал – костяшки сомкнутых пальцев пришлись пониже, в челюсть. Нукер хрипло выдохнул и, кажется, потерял сознание. Но добивать его было некогда; схватив одно из кресел, Каргин запустил им в окно, вышиб переплет вместе со стеклами и сунул руку под пиджак поверженного врага. Там не нашлось оружия! Ни пистолета, ни револьвера, ни даже дубинки! Какая-то металлическая коробка, никелированный контейнер размером в две ладони… В дверь уже ломились с воплями гвардейцы, размахивали стволами, хищно щерились, и было их не меньше семи или восьми. Каргин метнулся в другую сторону, к окошку, навстречу ему полезли с веранды охранники, кто-то сунул прикладом под дых, чье-то горло хрустнуло под его пальцами, нож или острие штыка скользнуло по рубашке. Один из противников прыгнул ему на спину и попытался сдавить шею; Каргин ударил его локтем, услышал, как трещат ребра, ударил снова, но битва была безнадежно проиграна. Двое повисли на его плечах, третий кинулся в ноги, и через мгновение его свалили на пол. Упал он удачно, боком, придавив гвардейца, вцепившегося в правое плечо; тот обмяк, Каргин потянулся к штык-ножу, и в это время ему набросили веревку на ноги. Дернули, потянули по гладкому паркету, занесли приклады… – Не сметь! – Нукер, придерживая челюсть, с трудом поднимался на ноги. – Не сметь! Кости ему переломают, но не сейчас и не здесь! – Он добавил что-то по-турански, и руку Каргина заломили на спину. Он видел, как приближается Дантазов, неся на ладони блестящий контейнер, как открывает коробку, вытаскивает шприц. Потом почувствовал, как зажимают кожу – пальцы у Нукера были сильные, жесткие. Укол… Прямо в вену, гад! – успел подумать Каргин. Затем по телу разлилось тепло, и он погрузился в темноту беспамятства.* * *
Интермедия. КсенияОни собрались у костиной постели вчетвером – Флинт, Сергеев, Рогов и Максим Олегович, переводчик, которого все называли Максом. О Ксении, может быть, забыли, а может, уже считали своей – как сидела она у дверей в лоджию, так там и осталась. Лица у всех тревожные, а голос Макса, который то на русском, то на английском говорил, заметно подрагивает. – Сообщение от мистера Ягфарова, – произнес Флинт, покусывая толстую нижнюю губу. – Звонил и сказал, что наш президент до этого места… как его?.. Салар?.. Силар?.. еще не добрался. Они обеспокоены. Послали на розыски людей. Прочешут всю дорогу до и после перевала, спустятся к реке в ущелье… С нами будут поддерживать связь. – Когда был звонок? – хмурясь, поинтересовался Сергеев. – Час двадцать минут назад. – И с тех пор ничего? – Ничего. Поиски в горах – штука сложная, сэр… Рогов всплеснул руками. – Что же вы нам сразу не сказали, Генри? Это ведь ЧП! Тут надо… надо срочно… Костя стал приподниматься, но Флинт, положив огромную руку ему на плечо, прогудел: – Спокойно, Браш Бой, спокойно! Я скажу, почему вас не вызвал: я думал. Сергеев прищурился: – Вот как? Были основания для этого процесса? – Да. Мистер Ягфаров отлично говорит по-английски, получше меня. Я ведь Вест Пойнт и Принстон[329] не кончал, я простой морпех, черный парень из Бруклина, а Ягфаров болтает как оксфордский профессор… Но не в этот раз. Голос его, а речь такая, будто он всю жизнь в Оклахоме пас свиней. – Он показался вам взволнованным? – быстро спросил Сергеев. – Н-нет… пожалуй, нет. Но я подумал: вдруг он не один?.. вдруг он не может сказать чего-то?.. вдруг его заставили, и понимают все слова, но не… не… – …произношение, – подсказал Макс. – Да, так! – Курчавая голова Флинта утвердительно качнулась. – Произношение! – Считаешь, он знак нам подавал? – вскинулся Костя. – Мол, не верьте тому, что сказано, все много хуже? Или лучше? Флинт пожал могучими плечами. – Не знаю, Браш Бой. Я думал, думал… Потом думать устал, подбросил четвертак, и выпало то, что всегда выпадает: не знаешь, чего делать, спроси у генерала. В общем, я вытащил из сейфа кейс, связался со штаб-квартирой и доложил обстановку. Сергеев поднял глаза к потолку. – Говорили с Мэлори? – Нет, с дежурным референтом. Но он сказал, что есть инструкция на непредвиденный случай: не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Личное указание коммодора! И добавил: все под контролем, насколько это возможно. Флинт, а за ним и Максим, замолчали, и Ксения почувствовала, как у нее холодеет спина. Все они, даже Костя, казались растерянными, и видеть это было страшно. Ксения не знала, кто такой Ягфаров, кто Мэлори, к кому и зачем поехал Алексей Николаевич, но разве непонятно, что случилась беда? Такая беда, с которой мужчины, собравшиеся у костиной постели, совладать не могут. И подумалось ей, что у каждого человека, даже очень умного и сильного, есть свой Керим, свой злобный дух, который ищет, где бы подставить ножку, заморочить голову или иную пакость сотворить, и справиться с этим злодеем не так-то просто. Если бы она могла помочь… если бы могла! Но чем и как? Она сжалась в комочек, крепко закрыла глаза и принялась молиться. За Алексея Николаевича, за Перфильева и за Рудика с Димой…
Владимир Высоцкий
Глава 14
База Ариман 1, 19–21 маяДва стреловидных аппарата висели низко над землей, чуть покачиваясь в токе нагретого солнцем воздуха. Слышался негромкий рокот моторов, матово поблескивала обшивка, темными зрачками глядели на Каргина стволы пулеметов и пушек, зияли дырами цилиндрические ракетные консоли по обе стороны корпуса. Консоли были, разумеется, пусты, и никаких других боезапасов тоже не полагалось, ни единого снаряда или пулеметного диска. За машинами находился утопленный в скалу ангар, а левее, метрах в семидесяти, прятался под нависшим каменным козырьком большой бетонный бункер с узкими смотровыми щелями-бойницами. Камни между ангаром и бункером сбросили вниз, а почву разровняли, так что получилась посадочная площадка для вертолетов, она же – территория для разрешенных прогулок. Сейчас большую ее половину занимала техника, которую пригнали прошлой ночью – укрытые брезентом пара танков, тягачи и противотанковые орудия. Скалистый барьер, обнимавший котловину с северо-востока, был источен тоннелями и шахтами и прерывался только в одном месте, дальше за бункером, где открывалось устье каньона. Охранники не позволяла ходить в ту сторону, но Каргин помнил, что по ущелью идет дорога к базе Ариман-2 – иными словами, к бывшему лагерю Габбасова, разгромленному насколько дней назад. Тогда, опьяненный победой, мчась над ущельем на вертолете, мог ли он знать, что станет пленником в этих подземных катакомбах? Однако стал… – Хреновые наши дела, Алексей, – пробурчал Перфильев, озирая лежавшую перед ними котловину. – Хреновые! Скалы кругом да лес, а сверху – помело… Не утечешь! – Не утечешь, – согласился Каргин. В прошлый раз они ушли на север – выбравшись из каньона, Гринько развернулся и повел Ми-17 над самыми скалами, чтобы подобрать снайперскую группу. Невысокие скалы, метров двадцать-тридцать, но для «Шмелей» препятствие неодолимое – выше человеческого роста они подняться не могли. Лежавший на юго-западе склон был пологим и просматривался с площадки между ангаром и бункером на протяжении двух-двух с половиной километров, однако вершина его поросла густым сосновым лесом, столь же непреодолимым, как и скалы. Собственно, только такие преграды и могли остановить «косилку» – матерый лес и вертикальная поверхность, достаточно высокая, чтоб не пытаться ее перепрыгнуть. Котловина, в которой находился полигон, была идеальной ловушкой – если не считать воздушных сфер, лишь по ущелью и выберешься. Но эта дорога была перекрыта частоколом из железных балок, убранным единственный раз, когда на полигон перегоняли боевую технику. К тому же на время тренировок в небе барражировали две вертушки, старые Ми-8, зато с полным боекомплактом. Не утечешь! – Ну, будем работать? – сказал Перфильев, хмуро покосившись на охранников, вытянувшихся цепочкой вдоль ангара. – Все-таки занятие… Да и размяться не вредно… Кивнув, Каргин надел шлем и зашагал к своему «Шмелю». Сегодня, как договорились, они хотели отработать парное взаимодействие, имитацию фронтальных и фланговых атак и выход из-под обстрела, когда один ведет дуэль с противником, давая возможность партнеру найти удобную позицию. Кроме того, было не вредно поупражняться в преодолении препятствий на высокой скорости, в маневрах среди кустов и камней, а также еще раз изучить пространство полигона, от западных до восточных скал и от дна котловины до гребня, поросшего лесом. На освоение техники и тренировки им отпустили пару дней; один день прошел, второй начинался, а чем закончится третий, думать сейчас не хотелось. Такие мысли вели Каргина в Краснодар, к родителям, к ласточке и к будущему их ребенку, которого он, быть может, не увидит, и размышлять об этот было совсем ни к чему. Равным образом лелеять планы мести и, вспоминая о Нукере, Таймазове и президенте Курбанове, наливаться гневом. Даже не стоило их имена повторять! Как говорил майор Толпыго, враг имени не имеет. Забравшись в кабину, Каргин устроился в кресле, застегнул ремни и щелкнул тумблером, включив обзорный экран. Сетка целеуказания легла на него, расчертив квадратами противоположный склон, вспыхнули отметки от пушки, пулеметов и ракет, только прорисованные не красным, а зеленым – боеготовность полный ноль, в обоймах – ни патрона. «А были бы красными, – думал Каргин, уставившись на оружейные маркеры, – поднялись бы с Перфильичем на крыло, всадили десяток ракет в ангар и бункер, сшибли бы вертушки и разнесли забор… И – в ущелье, мимо разбитого лагеря, через тоннель в Кара-Суук, а там уж не остановишь! Только вот с автоматикой проблема…» Он вздохнул и посмотрел на три отверстия под панелью пилота, обведенных яркими цветными кольцами. Три пустых зияющих дыры… Они с Перфильевым управлялись вручную, и было нетрудно догадаться, что система ДМУО, жало «Шмеля», стоит на третьем аппарате. Он находился в том же ангаре, в тщательно охраняемой секции, и пленников к нему не подпускали. – Готов? – раздался в шлемофоне голос Влада. – С чего начнем? – С разбитого танка под сгоревшей сосной. Я – с восхода, ты – с заката. Атакуем на полной скорости, пуск ракет с дистанции сто метров. – На полной… – проворчал Перфильев. – Сколько мы выжмем вручную в этом буреломе? – Сколько выжмем, все наше, – ответил Каргин. Его машина всплыла в воздух и ринулась над россыпью камней к плоскому дну котловины. Перфильев не отставал. Промелькнули рваные глыбы в жухлой траве, склон стремительно придвинулся, «косилка» послушно задрала нос, проскочила над широкой воронкой и рвом, подпрыгнула, оставив внизу колючие кусты, обогнула похожий на гигантскую дыню гранитный выступ. Быстро, быстрее, еще быстрее… Машина шла зигзагом в гору почти не снижая скорости, и управляться с ней было легко. Любой боец «Стрелы», обученный вождению автомобиля, вертолета, военной и подводной техники, освоил бы «Шмель» за несколько дней, пусть не так, как тренированный пилот, но с вполне приличным результатом. Очевидно, на этот навык и рассчитывали, что говорило о здравомыслии туран-баши. В самом деле, где возьмешь хороших пилотов, готовых к тому же жизнью рискнуть перед глазами важного инвестора? Вот они, эти пилоты, и не простые – смертники! Не пропадать же добру в Елэ-Сулар без всякой пользы… Может, сам туран-баша до этого додумался, а может, получил совет от светлого эмира. Как-никак, Таймазов когда-то в генштабе служил, и было у него понятие, на что способны офицеры спецназа. Дистанционный указатель отсчитывал последние метры. Поймав в перекрестье разбитый танк, Каргин нажал гашетку, сымитировал пуск и обогнул сгоревшую сосну с грудой ржавого металлолома. – Цель поражена, – доложил Перфильев. – Расходимся. На флангах, пятьсот метров ниже лесной опушки – орудия. – Каргин не сомневался, что их установят именно там. – Задача: огнем пушек и пулеметов уничтожить батарейную прислугу. Пошел! – Задача ясна, – раздался хриплый голос Влада. Каргин резко повернул – чудо-машина словно крутнулась на месте – и устремился в сторону восхода. Утреннее солнце, накалявшее броню «Шмеля», ему не мешало, панорама на экране была по-прежнему четкой, кусты, деревья и гранитные глыбы то ускользали в стороны, то проваливались под корпус, и главное, в чем заключалась хитрость – сообразить, перепрыгнешь ли через препятствие, или лучше обогнуть его без риска. Такие ситуации при боевом маневрировании отслеживались автоматикой, а подсистема управления огнем держала цель на мушке, куда бы не отклонился аппарат. Могла и несколько целей вести, на поражение орудием, ракетой и бортовыми пулеметами… Подумав об этом, Каргин скосился на пустые гнезда, помеченные синим, красным и белым кружками, и недовольно хмыкнул. Где они, модули ДМУО? Впрочем, легко догадаться, где… Работали с краткими перерывами и с полной нагрузкой до шести часов. Солнце перевалило зенит и начало склоняться к далеким горным пикам на западе, лес и скалы ощетинились тенями, баки с горючим почти опустели – осталось лишь до ангара добраться. Однако решили не спешить. Выбрали ровное место на склоне, где не было траншей, воронок и камней, опустились, вылезли из кабин, расстегнули пропотевшие комбинезоны, сняли шлемы. Сели рядом на траву. Перфильев закурил. Утесы, сосны и голубое небо, до базы – километр, только маленькие фигурки видны, что мельтешат у ангаров… Полная иллюзия свободы! Однако снизился над ними вертолет и, загораживая солнце, повис огромной гудящей стрекозой. Второе помело дежурило у лесной опушки – так, на всякий случай. Перфильев докурил, втоптал окурок в землю каблуком. – Настю бы с Танюшкой повидать… Танюшка у нас, знаешь ли, в рост пошла, барышня… глазищи серые, ресницы – во! Так и не собрался купить им в Армуте подарки… Танюшка халатик просила, полосатый такой, шелковый, как узбечки носят… Каргин молчал, крутил в пальцах сухую травинку. Дорогие лица плыли перед ним, лица живых и погибших друзей, суровые черты отца, мать, Кэти и – что было совсем уж удивительно – костистая физиономия деда, рыжие брови, плотно сжатый рот, колючие, как острия штыков, зрачки. Не то чтобы он примирился со старым Патриком, забыл резню на Иннисфри, но все же полагалось попрощаться. Конечно, злодей он и волчара, но все-таки кровью своей поделился, и тут уж ничего не попишешь, факт есть факт, а дед есть дед… Нехорошо перед смертным днем думать про него с неприязнью, а тем более – с ненавистью… – Как считаешь, отпустят нас, если викторию одержим? – спросил Перфильев. Голос его был таким, как всегда, спокойным и хрипловатым. – Разве не ясно? Влад угрюмо усмехнулся. – Ясно, чего уж там… Какую предлагаешь диспозицию? – По обстановке, – сказал Каргин. – В самом оптимальном варианте, если зазеваются, араба пристрелим и туран-башу, Таймазова, Нукера и прочих зрителей. Не выйдет, будем биться. Всех положим, сколько силы хватит! А потом… – Потом? – переспросил Перфильев после долгой паузы. – Живыми не выпустят, взять оружие убитых не дадут – вертушки сверху. Схитрить надо. Разбить машины в драбадан, и третью тоже. Если удастся. – Таранить ангар? Свои-то разобьем, а вот насчет ангара – сомневаюсь. – Перфильев прищурился и запрокинул голову. – Сам сказал: вертушки сверху. Вот, сволочь, висит… Не пустят они нас ни в лес, ни в скалы, ни к ангару. – Вертушки… – повторил Каргин. – И с вертушками можно разобраться. Все от того зависит, что нам в консоли воткнут. Точнее, сколько. – Думаю, немного. И еще, Алексей: откуда нам знать, что третья машина в ангаре? На их месте я бы ее убрал и спрятал, а времени для этого хватит, целая ночь впереди. Не дураки ведь, понимают, что будем с ракетами… Танки пригнали – значит, ракеты дадут. Каргин покивал головой. – Прав ты, Влад, спорить не стану. Выходит, неопределенная у нас задача: себя не жалеть и причинить урон побольше. Так? Перфильев хрипло рассмеялся. – Почему неопределенная? Постоим за Расею, вот и все! А что до тактики и стратегии, так ты их, Леха, завтра определишь, когда боезапас подвесят. Определишь! Соображалка у тебя что надо, быстрая! Он поднялся на ноги, поднес ладонь козырьком ко лбу, прикрываясь от яркого света, и пробурчал: – Козел белобрысый опять у бункера торчит, зенки расставил и на нас любуется… Ну, хмырь! Вот из кого бы я кишки вынул! Из бывшего нашего падлы-соратника! Каргин пригляделся. И правда, маячила у бункера долговязая фигура Витаса, того, про которого от Ксении узнали и от сержанта Файхуддинова. В подземном лабиринтех базы они с пилотом не встречались, но и вчера, и сегодня выбирался он из бункера, смотрел, что они делают и как, и это наводило на раздумья. Боксер всегда глядит бои соперника, а теннисист не пропускает матчей конкурента… Должно быть, и в Риме гладиаторы присматривались друг к другу, подумал Каргин, вставая. Они покатили вниз под присмотром гудевшего в небе помела. В нормальной ситуации вертолет «Шмелю» не противник – вооружение равное, но скорость у «Шмеля» побольше, а главное – юркость и маневренность, возможность укрыться в складках рельефа, спрятаться в овраге или за скалами, тогда как вертушка вся на виду. Снять ее ракетой нет проблем или из пушки распатронить, были б ракеты да патроны… А к ним бы еще автоматику, три тех волшебных модуля, что делали «Шмель» не просто оружием, а боевой суперсистемой, неуязвимой и смертоносной косилкой… Минуту-другую Каргин развлекался тем, что разворачивал пушечный ствол и пулеметы к небу, ловил помело в перекрестье прицела и жал гашетку, представляя, как в клочья разносит врага. Видимо, его манипуляции заметили, и у пилота сдали нервы: предупреждающе затявкал пулемет, прямо по курсу взметнулись осколки камня, грохнули по броне. – Чего он хочет, шелупонь припадочная? – поинтересовался Перфильев. – Очкует, – сказал Каргин. – Боится, что я в него горохом пальну. Ворота ангара закрылись за ними. Вылезли под ненавидящими взглядами охраны, в каждую спину – по пять стволов. Охранники были из гвардейцев и людей Габбасова, неотличимых от президентской стражи: такие же смуглые лица, густые бороды и говор не русский и не туранский. Турки, сирийцы, саудиты, пуштуны, чеченские наемники… Как они общались друг с другом, на каком языке – неясно, но, разумеется, знали, кого стерегут, и счет за кровь своих соратников держали в памяти. Но приближаться опасались, тыкали стволами не ближе, чем с пяти шагов. Каргин и Перфильев пошли знакомой дорогой, по коридору, что выводил в ангар. Наверное, прежде тут стояли тягачи для перевозки ракет и всякая погрузочная техника – ангар был огромен и заглублен в скалу на добрых двадцать метров. Коридор за ним казался целой улицей, сейчас почти безлюдной и безмолвной; посередине – площадка, командный пункт и кабинеты начальников, а влево и вправо отходят проходы поуже, открытые или перегороженные решетками и металлическими дверьми. Все это будило у Каргина воспоминания о лабиринте под дедовой виллой на Иннисфри, и он, шагая по коридору, пытался угадать, куда ведет тот или другой тоннель – в казармы, столовую, офицерский блок, к электростанции, в узел связи или в ущелье, где под огромными крышками прятались ракетные шахты. К счастью, уже пустые. Экскурсий для осмотра этих катакомб и окружающей местности не предполагалось – тем более, что сюда их привезли на вертолете и в бессознательном состоянии. Очнулись на носилках, когда выволакивали из Ми-8, а окончательно пришли в себя на бывшем складе, под замком. Склад был пуст и обширен, но при нем имелась каптерка с двумя топчанами, туалетом и раковиной. Не президентский люкс, но жить можно. Тем более, что жить оставалось считанные дни. Сопровождаемые дюжиной охранников Каргин и Перфильев нырнули в заранее отворенную дверь. Ее тут же прикрыли; лязгнул замок, под потолком вспыхнула тусклая лампочка, за дверью раздался гортанный голос: приятного аппетита пожелали, чтоб кость поперек горла встала. На полу, на ящике, дымились две миски с гороховым супом, лежали буханка хлеба, колечко колбасы, пластмассовые ложки. Неплохой рацион, и есть чем запить – вода из крана течет без перебоев. Они умылись и поели, потом растянулись на топчанах. Взгляд Каргина блуждал по серым бетонным стенам в пятнах сырости, по останкам пустых стеллажей и грудам мусора, скользил вдоль потолка и упирался в дверь. Дверь, обитая железом, выглядела прочной, и было слышно, как за ней переговариваются стражи. Не удерешь! Разве только в унитаз нырнуть и просочиться по трубам… Мысль о Кэти снова пришла к нему, и он ее прогнал. Прогнал словно назойливую муху… Когда-то, много-много лет назад, случилось ему тренироваться у дона Куэваса, кубинца, инструктора по фехтованию и рукопашному бою. Был он совсем непохож на майора Толпыго, другого его учителя, был немногословен, суров и безжалостен – след от его мачете остался на бедре у Каргина. Учил не словом, а клинком, и мудрость дона Куэваса отличалась от майорских прибауток – она пришла из тех времен, когда оружием был меч, и всякий опоясанный мечом считался рыцарем, то есть носителем чести. Оружие и рыцарская честь были нераздельны, и не имелось никаких альтернатив – остаться в живых с уроном для чести или сохранить ее и пасть. Древняя мудрость, жестокий кодекс… Он означал, что есть моменты, когда не стоит вспоминать о самом дорогом; силы это не прибавит, но лишь ослабит дух. Воин, вступивший в битву, думает не о даме сердца, но о победе, а если невозможно победить, то помышляет об одном: как нанести врагу урон. Собственно, об этом и Толпыго говорил. Возьмет за пуговицу и спросит: знаешь, что посоветовал один волк другому, когда они попали в облаву? И сам же ответит: кусайся! Глаза Каргина закрывались, усталые мышцы просили отдыха. «Что приснится в эту ночь? – подумалось ему. – Плохой знак, если про яму, куда живьем закапывают… И берета нет… Кто ж знал! Остался берет в „Тулпаре“, в президентском номере…» Он задремал, но яма в афганских горах ему не снилась, а привиделся совсем другой сон, хороший: будто сидит Кэти на скамейке под цветущим деревом, а на руках у нее дитя, не сосунок, а малыш двух или трех лет, только личико не разглядеть и непонятно, парень или девица. И будто оба они Каргину улыбаются, и слышен чей-то голос, кэтин или лепет малыша; слов тоже не разберешь, но и без них понятно, о чем говорят, чего просят. Вернись… вернись… вернись…
* * *
Прошла ночь, миновало утро. Наружу их вывели во втором часу. Техника, еще вчера стоявшая на площадке, исчезла, только кромсали склон колеи от танковых траков и колес тягачей. Танки забрались повыше, к самой опушке, но даже с такого расстояния Каргин разглядел угловатые корпуса и приземистые башни «Челленджеров».[330] Старые машины, неуклюжие, медленные, однако пушка сто двадцать миллиметров, а к ней – пятьдесят снарядов… Рассмотреть в деталях батареи он не смог, лишь стволы торчали меж кустов, но три вертушки, крейсировавшие над котловиной, не увидел бы только слепой. «Шмели» уже висели у ворот ангара, и в каждой боевой консоли виднелось по ракете. Две на машину вместо шестнадцати, отметил Каргин. Зато мощные, ПТУР «Вихрь». Бункер ими не разворотишь, но если врезать по башне «Челленджеру», мало не покажется… – Гляди-ка! – Влад дернул его за рукав. – Там, у бункера… Знакомые все лица! То есть морды! Каргин повернулся, закусил губу, сделал шаг, и тут же взревели охранники: – Стой, где стоишь, свинья! – Стой, чтоб тебе мокрым джариром удавиться! – Ни с места, пес! Перфильев сплюнул. – Стараются, сучьи дети! Усердие перед начальством кажут! Из бункера, через узкую дверь, один за другим выходили люди. Четыре телохранителя-гвардейца с оружием наизготовку, минбаши Дантазов, светлый эмир Чингиз Мамедович, троица военных чинов в мундирах, то ли советники, то ли адьютанты, и еще два охранника. Потом небольшой перерыв, и в дверном проеме возникла знакомая белая фигура шейха Азиз ад-Дина – он поглаживал бородку и задумчиво озирался по сторонам. Следом, как два таких же белесых привидения, вышли его секьюрити, а за ними – Баграм, выполнявший, очевидно, функцию переводчика. Снова пауза. Затем охрана заняла позицию по обе стороны двери, гвардейцы вытянулись и дружно стукнули в грудь кулаками. Показался президент Курбанов, неторопливо прошагал к арабу, остановился рядом с ним, выдавил улыбку. Нукер и военспецы начали что-то объяснять, то размахивая руками, то предлагая высоким персонам заглянуть в бинокли; Баграм торопливо переводил, шейх с президентом внимательно слушали, Таймазов со скучающим видом поглядывал по сторонам. Смотрел на небо, на далекие горы, на склон, изрытый воронками и траншеями, но только не на Каргина. – И этой скотине мы ятаган преподнесли! – с горечью молвил Перфильев. – Еще я ему шпагу обещал, толедский клинок с сапфиром, – отозвался Каргин. – Теперь не дождется! – Только и радости, – буркнул Влад и перевел глаза на «косилки». – По два ПТУРа нам подвесили… Негусто! Совсем в обрез. Что будем делать, Леша? – Погоди, не торопись. Сейчас нам вводную дадут, – произнес Каргин. К ним шагал минбаши Дантазов. По случаю маневров был он не в светлом штатском костюме, а в офицерском френче и галифе, заправленных в сияющие хромовые сапоги. Правда, погон и знаков различия не было, но френч перепоясывали ремни, на груди болтался бинокль, а о правую ягодицу хлопала внушительная кобура. Лицо украшал большой, но уже поблекший синяк. Не доходя четырех-пяти шагов, Нукер остановился и кивнул на «косилки». – Баки машин заправлены полностью. Ваш боезапас: две ракеты, двести пушечных снарядов, пулеметы – по штатному расписанию. Ясно? – По штатному расписанию должно быть пятьсот снарядов[331] и шестнадцать ракет, – возразил Каргин, любуясь синяком на челюсти Нукера. – Вам хватит! Мы тут не бурю в пустыне разыгрываем! – Пошевелив бровями, Дантазов кивнул на пологий склон. – Сведения о противной стороне. Фланги: две батареи по три орудия, калибр девяносто миллиметров. Центр: два танка с полным боезапасом, а в полукилометре перед ними, в траншеях – отделение гранатометчиков, двенадцать стволов. – Обещали четырнадцать, – заметил Каргин. – Двоих вы вывели из строя, когда покушались на меня. Думаю, двенадцать стволов хватит. Как вы просили, это люди президента из Елэ-Сулар, и они не питают к вам симпатий. Остальные – те, что в танках и у орудий – из отряда покойного Вали Габбасова. – Педрилы гребаные, – пробормотал Перфильев. Его огромные кулаки сжимались и разжимались, словно он чувствовал под каждым пальцем пулеметную гашетку. – Что за орудия на батареях? – спросил Каргин. – Безоткатные противотанковые пушки, скорострельные, могут бить очередями.[332] – Нукер иронически прищурился и добавил: – Новейшие орудия американского производства. В инструкцию я не заглядывал, но не исключаю, что выпустила их ваша фирма, мистер Керк. Каргин и Перфильев переглянулись. Слова им были не нужны; каждый понимал, что не танки и гранатометчики, а скорострельные пушки – главная опасность для «Шмелей». Особенно на ручном управлении, когда ограничена возможность стремительных маневров! Калибр приличный, удар такого снаряда броня не выдержит, а рой осколков при автоматической стрельбе плотен и густ, и может повредить оружие, двигатель или какой-то существенный узел «косилки». Правда, наводчики не слишком опытны, да и «Шмели» – не танки, габарит поменьше, скорость больше. Шагнув к Дантазову, Каргин вытянул руку и тут же отдернул ее, едва не получив прикладом по пальцам. – Стоять! – рявкнул охранник. Каргин поморщился. – Бинокль… дайте мне бинокль. Я должен все увидеть сам. – Передай. – Нукер сунул бинокль гвардейцу и посмотрел на часы. – Тринадцать сорок две. Ровно в четырнадцать начинаем. И без фокусов, господа! Он развернулся и зашагал к бункеру, куда уже начали возвращаться остальные зрители. Видимо, рисковать они не хотели и собирались следить за спектаклем из безопасной бетонной ложи. – Здоровый у этого гада синяк, – сказал Перфильев. – Твоя работа? Каргин, обозревавший местность, молча кивнул. Разглядывать танки, пушки и отделение с базуками в траншее было ему совершенно незачем, он и без этого помнил каждый кустик на полигоне, каждый камень и воронку, в которой можно спрятаться. Цель его была определенной и, обнаружив ее, он довольно кивнул, оглянулся на охранников – те стояли далеко – и сунул бинокль Перфильеву. – Сразу за танками, у опушки, плоская скала, а на ней трое олухов торчат. С рацией. – Корректировщики огня? – Точно. Я их первым делом сниму. – Из пушки не достать, – засомневался Влад. – Ракеты не пожалею. Трех для танков хватит. Теперь смотри… – Он раскрыл ладонь и стал водить по ней пальцем как карандашом по карте. – Если пойдем в лобовую на танки, ударят слева и справа перекрестным огнем, а это – самый худший вариант. Не снарядом заденет, так осколком… По правилам надо бы разделиться, забыть про танки с гранатометами и – к батареям, на полной скорости, у самой земли… На это у них и расчет. Но мы иначе сделаем, мы в спарке с фланга атакует, вот здесь. – Каргин провел линию к мизинцу и показал глазами направление на местности. – Другой батарее борт подставим, – заметил Перфильев. – Подставим. Одному придется прикрывать. – Мне. – Почему ты так решил? – Я четырнадцать лет женат, а ты – четыре месяца. Не насладился еще семейной жизнью. – У тебя Танюшка… Перфильев пожал плечами и ухмыльнулся. – А кто у тебя в проекте, ты знаешь? Спорить было некогда, и Каргин, вскинув бинокль, заговорил: – Атакуем батарею на их левом фланге. Видишь, склон там понижается, вроде бы овраг или распадок, а дальше той сосны, где танк разбитый, каменный завал. Если над самой землей идти, с правого фланга нас не увидят… то есть почти не увидят, а значит, не смогут оперативно отследить. Прорвемся! Конечно, если корректировщиков уберем. Все-таки я их накрою ракетой. – Перфильев согласно кивнул. – У тебя две останется, и когда размолотим батарею, танки – твоя забота. Я гвардейцами займусь. Покончишь с танками, зайдешь на правый фланг с тыла батареи, а я – в лоб. В клещи их возьмем. – Стратег! Сципион Африканский![333] – уважительно сказал Перфильев и бросил взгляд на часы. – Две минуты осталось… По машинам? Кивнув, Каргин натянул шлем. Охранники бросились внутрь ангара, лязгнули, закрываясь, тяжелые створки ворот, и на площадке между ангаром и бункером не осталось посторонних. Он уселся, застегнул ремни, отщелкнул несколько тумблеров, негромко произнес: – Проверка связи. Как слышишь меня, Влад? – Как в Большом театре, – отозвался Перфильев и добавил: – Спецназ действует не по уставу! Включились счетчики боезапаса, на обзорном экране вспыхнули красные маркеры. Глядя на них, Каргин подавил искушение всадить одну ракету в бункер, а другую – в ангар. Это было бы зряшным делом; бункер лишь тряхнет, а что до ангара, то третьей машины он там не увидел. Похоже, Влад-таки прав – припрятали. Всплыв над землей, «Шмели» неторопливо заскользили вниз, держась дружной парой: машина Перфильева слева от машины Каргина и почти вплотную к ней, метрах в трех. Батареи молчали, дистанция для их калибра была великовата, но танки, взревев моторами, двинулись с горы, подминая широкими траками кустарник. Башня одного из них повернулась, приподнялся длинный хобот пушки, блестнул огонь и, вслед за протяжным свистом снаряда, где-то в стороне грохнуло. Палят для поддержания боевого духа, решил Каргин. Они прошли над дном котловины, изрытым ямами, засыпанным щебнем и камнями покрупней, однако не слишком большими, чтобы являться препятствием для «косилок». Грохнул второй разрыв, туча пыли взметнулась в воздух, «Шмель» Каргина покачнулся в ударной волне. Танки медленно ползли к траншеям с засевшими в них гвардейцами, и на обзорном экране было видно, как шевелятся раструбы гранатометов и мелькают рядом с ними каски. Дно котловины стало приподниматься, переходя в пологий склон, но «Шмели» не изменили направления, плыли все так же на максимальной высоте, метрах в двух над каменистой почвой. Со стороны казалось, что они вот-вот прибавят скорость и ринутся в атаку, ударив прямо в центр противника. До распадка или мелкого оврага, лежащего правей машины Каргина, было уже рукой подать. – Маневр, – негромко произнес он, и обе «косилки», разом повернувшись и до предела сбросив высоту, юркнули в овраг. Эта впадина на склоне была широкой и неглубокой, зато без крупных камней; форма ее напоминала изогнутую саблю, вложенную в ножны колючего кустарника. Каргин представлял, что видится сейчас стрелкам на батареях: колпаки кабин, быстро мелькающие среди кустов, и, возможно, борт Перфильева. Они разошлись, и машина Влада двигалась теперь метрах в десяти левее, прикрывая его от правофлангового огня. Заговорили пушки, и мир наполнился грохотом взрывов и свистом таранивших воздух осколков. Секунды понадобились Каргину, чтобы понять: снаряды ложатся все ближе, словно полет их направляет незримая рука. С той скалы у леса их, разумеется, видели, хотя еще не догадались, в чем план атаки – можно было из оврага выскочить и повернуть к траншеям, или подбить ракетами «Челленджеры», или обстрелять батарею с дальней дистанции. В общем, существовали варианты. Но скоро их не будет, если корректировщик огня дельный офицер – сообразит, куда нацелились «косилки». Взяв штурвал на себя, Каргин увеличил скорость, и его машина стремительно прыгнула вверх. Повинуясь быстрым движениям пальцев, отметка целеуказателя накрыла скалу с фигурками на ней, и тут же «Шмель» тряхнуло – пошла ракета. Не дожидаясь результатов, Каргин опять прижался к земле, через секунду снова выпрыгнул, готовый послать второй снаряд, и рядом, прикрывая его от осколков, взмыла машина Перфильева. Стрелять, однако, не пришлось: огненный гриб вздымался над скалой, и кружились в воздухе пылающие ветви сосен. – Первая кровь, – раздался в шлемофоне голос Влада. – Ты как? – Нормально. Стучит по броне, но пробоин нет. Распадок кончился у сгоревшей сосны, оба «Шмеля» скользнули мимо, и тут же обгоревший ствол, руины танка, камни и земля взлетели, словно подброшенные чудовищным ударом снизу. «Челленджер», сто двадцатый калибр, мелькнуло у Каргина в голове. Под прикрытием дымного облака он проскочил до груды камней, вывороченных каким-то давним мощным взрывом, промчался над глубокой яминой и проутюжил торчавшие на ее краю кусты. Огонь скорострелок не ослабел, однако снаряды ложились теперь в овраге – похоже, с батарей их не видели либо еще не успели отреагировать на быстрые перемещения «Шмелей». Каргин не исключал, что кроме погибших найдутся другие корректировщики – скажем, на вертолетах, – однако такая идея ему представлялась сомнительной. Как ни крути, смысл игрищ был не в том, чтобы угробить пленников, с этим и в Елэ-Сулар не заржавело бы – истинный смысл заключался в демонстрации супер-оружия. Его возможностей, убойной силы и превосходства надвсем, что движется на поле боя или стоит на позиции и плюет снарядами. А если так, то значит, игра велась по правилам. До поры, до времени, подумал Каргин, разящей стрелой всплывая над кустами. Все же прорвались, подобрались! Три орудия маячили прямо перед ним, пальцы лежали на гашетках пулеметов, а слева заходил на батарею Перфильев. На какой-то миг, ничтожный и почти неуловимый, он прислушался, всмотрелся в картинку на экране: девять человек, кто к пушке припал, кто к земле, кто вопит и мечется, не зная, где искать спасения, кто кулаком грозит… Потом рявкнули четыре пулемета, его и Перфильева, и на батарее воцарилась тишина. Жизнь зреет девять месяцев, мелькнула мысль, а отобрать ее можно за мгновения… Один из вертолетов начал снижаться – видно, хотели рассмотреть подробности. – Расходимся, – скомандовал Каргин. – Бронеходки твои. – Прродай перрсам оррудия! – рявкнуло в ответ. – Прродай аррабам танки! Они неслись над склоном словно копья Одина, брошенные рукой безжалостного божества. – Прродай аррабам верртолеты! – А перрсам прродай стингеры! Скорость – сто сорок километров, рекорд для пересеченной местности. Расстояние до траншей Каргин покрыл за двенадцать секунд. – Прродай по самой высокой цене! – Когда задет пррестиж, денег не считают! В траншеях опомнились, зашевелились, вскинули стволы. Машина Каргина припала на миг к горному склону будто барс перед прыжком, слева, справа и вверху лопнули вспышки разрывов, забарабанили осколки по броне, но он уже всплывал над вражеской позицией, строчил из пушки и пулеметов, сек стальным дождем людей и землю, оружие и ящики с гранатами. Крики, предсмертный хрип, разинутые рты, фонтаны пламени, а в воздухе – поднятый взрывами щебень и рой осколков… Гвардеец в окровавленном комбинезоне вылез из окопа, помчался к лесу, вскидывая руки – то ли грозил, то ли молил о пощаде. Упал, когда пулеметная очередь перечеркнула спину. Другие тоже падали и застывали в вечной немоте – теплые, полные крови, но уже не живые. – Бойня, – бормотал Каргин, вдавливая гашетки пулеметов, – пусть бойня, пусть так… За Рудика! И за Димку! Он бросил взгляд на счетчики боезапаса, отметил, что осталось меньше половины, и посмотрел на обзорный экран. Оба «Челленджера» стояли; один, с развороченной башней, горел, над другим курился сизый дымок, и через раскрытые люки лезли люди. Враги! – поправил себя Каргин. А враг не только не имеет имени, но даже облика людского; враг лишь мишень, что подлежит уничтожению. Он понимал, что этот вывод ошибочен, что всех рожала мать, что каждый сидел на отцовских коленях, ласкал детей, жену, которые о нем заплачут, но эти мысли были фантомом, никак не связанным с реальностью. Во всяком случае, здесь и сейчас. Поймав дымящийся танк в перекрестье прицела, Каргин всадил в него короткую очередь, развернулся и, лавируя среди камней, ринулся на правый фланг. Там лихорадочно стреляли; последняя батарея не прекращала огонь, но снаряды рвались в траншеях, перемалывая землю, щебень, обломки металла и трупы президентских гвардейцев. «Шмель» скользил зигзагами по склону, неуязвимый и стремительный, точно атакующий питон; оружейные маркеры пылали алым, штурвал в ладонях Каргина подрагивал и шевелился как живой, трепетали под пальцами гашетки, а в шлемофоне хрипел воинственный клич: – Продано! Продано! Продано! Довольны, сучары? – Ты не очень-то веселись, – сказал Каргин. – Работа еще не закончена. Ты где? – В тылу у басурманов. Готов атаковать. – Не лезь на позиции. Я их сейчас приласкаю. Каргин выстрелил последнюю ракету и, увидев вспышку разрыва, приказал: – Вперед! Они обрушились на батарею. Четыре мертвых или раненых, одно орудие разбито, но два еще стреляют – правда, к тылу их не развернешь. Снаряды с воем промчались над машиной Каргина, загрохотала его пушка, стремительно опустошая магазин, мелькнули падающие фигуры в камуфляже, взвизгнул задевший броню осколок. Протарахтел пулемет, смолк, и тут же раздался голос Перфильева: – На Шипке все спокойно. Как мы их приговорили, а, Леха? За двадцать две минуты сорок секунд! – Сколько чего у тебя осталось? – спросил Каргин. – Снарядов к пушке – больше ста, на пулеметах – треть. – У меня меньше. – Он поглядел на счетчики и добавил: – Почти ничего. – Значит, ты ведешь переговоры, а я стою на стреме. Жаль, ракет нет! Посшибали бы птичек с поднебесья… Птички, будто услышав их, слетелись ближе, покачались с боку на бок, продемонстрировали, что у них консоли не пусты. Затем наверху заревело: – Первая фаза завершена! Двигаться к ангару! Медленно, по прямой! У ангара остановиться, покинуть машины, отойти от них и ждать! О начале второй фазы будет объявлено! «Шмели» бок о бок двинулись вниз. Каргин приоткрыл колпак кабины, подставил ветру разгоряченное лицо, почесал шрам под глазом. Потом снова бросил взгляд на счетчики боезапаса. Не густо, однако не по нулям… Есть еще в пороховнице крошки пороха… – Первая фаза! – послышался голос Перфильева. – Выходит, еще и вторая? Об этом мы вроде бы не договаривались. – Мы ни о чем не договаривались, – молвил Каргин. – Тут не в Легионе, контрактов не пишут и не признают. – Он помолчал и после паузы произнес: – У меня двадцать четыре снаряда к пушке. Интересно, попаду я на скорости в смотровую щель? Вон она на бункере темнеет… А ты в птичек постреляешь. Ну, как? Влад хмыкнул. – Птичек много, не справиться мне, Леша. Пока я с одной воюю, другие тебя сожгут. Вздохнув, Каргин признал его правоту. Затем подумал, что для второй фазы, какой бы она ни была, боезапас возобновят, а с ракетами планы строить легче, и могут они оказаться обширнее. Словом, как майор Толпыго говорил: не спеши пробить себе башку последним патроном. У ангара они остановились, вылезли и, разминая ноги, прошлись вдоль вытянутых корпусов «Шмелей», рассматривая осколочные отметины. Их хватало, но вмятин – ни одной, только кое-где поцарапана броня да сбита краска. – Отойти от машин! – рявкнули сверху. – Дальше! Еще дальше! Вот так! Стоять на виду, резких движений не делать! – Боятся, бараны потрошеные, – сказал Перфильев. – Правильно боятся! Он опустился на землю, обнял колени руками и свесил голову на грудь. Ворота ангара, скрипнув, распахнулись, и, почти одновременно с этим, открылась узкая дверца бункера. Из ангара, как стая волков, вышли мрачные стражи, а с ними – четыре техника; бункер изрыгнул всю президентскую команду в прежнем порядке: гвардейцы, Нукер, Таймазов, военные чины, арабский шейх со своими секьюрити, переводчик Баграм и, наконец, сам туран-баша. Глядеть на них Каргину не хотелось, и он, повернувшись к ангару, стал наблюдать за техниками. Они перевооружали «косилки», тащили снарядные контейнеры, вешали ракеты – снова по одной на каждую консоль. Услышав лязг и стук, Влад поднял голову. – Ага! Мы снова с погремушками! А биться с кем будем? Неужели… – К щекам Перфильева прилила кровь, и он стал медленно подниматься. – Неужели друг против друга выпустят? Да я их, хорьков вонючих, через сапог траханных … – Не глупи, – сказал Каргин. – Не будем мы тут силой мериться, словно в Колизее. Не идиоты же они, соображают, куда ракеты полетят, если доберемся до гашеток. Повернув голову, он уставился на президента, арабского шейха и их почтительную свиту. Дантазов снова что-то объяснял, чины изгибались и поддакивали, Баграм переводил, светлый эмир Чингиз Мамедович раскуривал сигару. Что до шейха с президентом, то первый внимательно слушал, загибая пальцы, а второй на них глядел – должно быть, подсчитывали, сколько миллиардов будет вложено в проект. Все остальные тоже занимались делом: охранники бдили с автоматами наперевес, а стражи Азиз ад-Дина торчали за его спиной словно пара белых соляных столбов. – А я так думаю, что гады нас стравить хотят, – хмурясь, произнес Перфильев. – У них ведь понятия нет о чести, долге и боевом товариществе, им кажется, что если жизнь пообещать, то мы, как пара крыс, друг в друга вцепимся. Эти козлы считают… Внезапно Влад окаменел с раскрытым ртом. Из-за утеса, за которым открывался вход в ущелье, выскользнула стреловидная машина и, сделав плавный круг, застыла над шелестящей травой. Дальнейшее напомнило Каргину фрагмент из записи, похищенной Булатом: сдвинулся колпак, светловолосый пилот спрыгнул на землю, небрежно поднес к виску два пальца, стащил шлем и зашагал к стоявшим у бункера. Его черты Каргин разглядеть не мог, однако не сомневался, что глаза у пилота холодные и серые, губы – тонкие, нос – хрящеватый, и что зовут его Витасом. Эти факты были столь же очевидны, как и тот, что «косилка» у Витаса в полном комплекте, с автоматикой и всем положенным боезапасом. – Вот, значит, как, – пробормотал Перфильев, вытирая пот со лба, – вот какие у нас пряники… Шиздец нам, Леша, выходит! Ухайдакает он нас! Ведь у него, ублюдка белобрысого… Над горами зарокотало. Рокот, непохожий на гром или иные предвестники грозы, накатывался с юга, и Каргин, повернувшись в ту сторону, увидел россыпь темных точек, пятнавших небо меж скалистыми вершинами. Точки быстро приближались, вырастали в размерах, четко выдерживая строй: три впереди, три сзади, а между ними еще одна, побольше – уже не точка, а толстый огурец с загнутыми вверх краями. Полет их был стремительным; Каргин не успел трех раз моргнуть, как первое звено уже пронеслось над его головой. Сверкало остекление кабин, рубили воздух полупрозрачные винты, мощный гул заполнил пространство, черные угловатые корпуса нависли над котловиной. Перфильев хлопнул ладонями по бедрам. – Это что за явление Христа народу? Марсианский десант? – Это, – произнес Каргин, всматриваясь в небеса, – RAH-70, он же «Команч», разведывательно-десантный вертолет. Новая разработка «Боинга» и «Сикорски»…[334] Ну, ХАК к ним тоже руку приложило. Сейчас они… Сверкнули молнии, дымные следы ракет прочертили небо, крыша ангара приподнялась и рухнула на мертвых охранников. Затем на полигон посыпались обломки – «Команчи» расчищали воздушное пространство от посторонних. Вниз летели шасси, лопасти пропеллеров, детали обшивки, безжизненные темные фигуры – все, что осталось от двух вертолетов президентского воинства. Третий, оставляя сизый шлейф, устремился к лесу, закружил над опушкой подбитой птицей, вспыхнул и рухнул на деревья. Это воздушное сражение заняло считанные секунды, и когда грохот последнего взрыва стих, до Каргина донеслись вопли и крики. Он повернулся к бункеру. Там уже очнулись от потрясения, застывшая картинка ожила: Витас бежал к своему «Шмелю», Баграм, обняв руками голову, сидел на корточках, Нукер и военные чины о чем-то спорили, размахивая руками, туран-баша гневно орал на Таймазова и топал ногами, охрана, лишенная руководящих указаний, суетилась, не соображая, кого и что спасать – отца народа или собственные шкуры. Только шейх Азиз ад-Дин и два его телохранителя были спокойны, как троица верблюдов, сбросивших тяжелый груз – стояли, озирались по сторонам, и каждый держал руку за пазухой. Потом началось вовсе непонятное. Руки арабов пришли в движение, сухо щелкнули выстрелы, Витас споткнулся на бегу, упал, а вместе с ним – два президентских охранника. Остальные, не успев понять, что происходит, тоже рухнули под пулями, и спутники шейха с деловитым видом принялись за военный чинов и Дантазова. Светлого эмира Чингиза Мамедовича шейх пристрелил самолично, бросил взгляд на Баграма, скулившего под бетонной стеной, пожал плечами, и сунул пистолет за пазуху. Побоище длилось не дольше, чем схватка в воздухе: пара мгновений, и у стены – пятеро живых, а на земле – двенадцать трупов. Затем, не обращая внимания на переводчика, арабы плотно обступили туран-башу, не прикасаясь к нему, но и не давая шевельнуться. Президент стоял с потемневшим и как бы опрокинутым лицом; щеки его обвисли, глаза потускнели, и было заметно, что этому человеку уже немало лет. Уже не орел, не волк и даже не коршун – скорее, старый дряхлый лис, попавший в западню. Перфильев порылся в кармане, вытащил мятую пачку, закурил. – Это как понимать, Леха? Крупномасштабная арабская диверсия? Но откуда у них такие вертушки? – Вот и я о том же, – произнес Каргин и задрал голову к небу. Шесть «Команчей» кружили в вышине, седьмой вертолет, большая транспортная машина, шел на посадку. Как раз между ними и бункером. – Ну, и что нам теперь делать? – спросил Перфильев, затягиваясь и выпуская через ноздри струйки дыма. – Номер раз: берем «калаши», смываемся на базу. Номер два: опять «калаши», валим арабов, а презика – в заложники. Номер три: по машинам, и валим всех. Ну, телись, Алеша! Не стоять же тут столбом! Говори, что делать? – Не суетиться, – посоветовал Каргин, наблюдая, как опускается транспортное помело. Никаких эмблем, опознавательных знаков и прочей символики; огромный голубоватый корпус под зонтиками двух винтов, большие овальные иллюминаторы в два ряда, люк с борта, а не сзади – явно не боевая машина. Роскошная, в два яруса! Люк сдвинулся, сам собою вылез трап, и на нем возникла знакомая фигура. Мужчина был мускулистый, загорелый, в джинсах, в яркой рубашке тропического образца и сером «стетсоне». Сняв шляпу, он помахал Каргину. – Тебя зовет, что ли? – буркнул Перфильев. – Пойдешь? – Пойду. – Ты, Леша, поаккуратней… Умыкнут, что я твоей Катерине скажу? Морда у этого типа… – Нормальная морда, – успокоил его Каргин, – из службы безопасности ХАК. Один из самых преданных сотрудников. Ровным шагом он приблизился к трапу, поднялся по ступенькам и пожал руку Альфу Спайдеру. – Приятная неожиданность, Альф! Рад тебя видеть. – Я тоже, Алекс. Есть новые анекдоты? – Спайдер был большим их любителем, предпочитая армейские и те, что с клубничкой. Каргин пожал плечами. – Вся эта страна – один огромный анекдот… Ты с Мэлори прилетел? Прямо с таитянской конференции? – Примерно из тех краев, но не с Мэлори, – Спайдер широко ухмыльнулся и отступил на шаг, пропуская Каргина в салон. – Идите, Алекс. Вас ждут. Потолок и стены, обтянутые кожей, на полу – коричневый с белым узором ковер, сверкающие дверцы шкафчиков, стол, закрепленный под иллюминатором, на столе – книги, у стола – кресла… В одном из них – старик: костистое лицо с рыжими бровями, пронзительные серо-зеленые глаза, рот, словно прорубленный ударом секиры… Старый Халлоран! Дед! Он кивнул, и Каргин опустился в мягкое кресло. Веки старика дрогнули. Секунду-другую он рассматривал Каргина, потом проскрипел: – Где твой берет? Твой талисман? – Остался в Армуте. Но кажется, магия его сработала – вы ведь прилетели, сэр. Хотя не представляю, откуда и как! Ведь там, на юге, – Каргин стукнул пальцем о стекло иллюминатора, – граница! Там Иран, Ирак, персы и арабы… На сухих губах Халлорана обозначилась усмешка. – Персы помнят, кто продает им орудия, арабам известно, где покупать вертолеты и танки… Там, за границей, мои персы, а тут, – он показал взглядом на окно, обращенное к бункеру, – тут мои арабы. – Наверное, японцы тоже есть? – Каргин ответил улыбкой на улыбку. – Есть. Но о таких мелочах лучше спросить у Мэлори. Они помолчали. Потом Халлоран сказал: – Эти боевые машины… Ты сумеешь их отсюда вывезти? – Боюсь, что нет, сэр. В этой стране происходит масса случайностей и незапланированных событий. Можем потерять «Шмели», а людей, причастных к их транспортировке, потеряем наверняка… Зачем? Наша задача – не машины вывезти, а перекрыть их производство в Туране, и эта задача решена. – Каргин взмахнул рукой, будто подбрасывая кверху невидимый теннисный шарик. – Ба-бах! – и нет «Шмелей»… Сейчас это в нашей власти. А машины в Челябинске новые сделают, если поможем с финансами. Халлоран наклонил голову. – Зрелое решение… Согласен. – Он посмотрел в иллюминатор на туран-башу, и Каргину показалось, что на секунду взгляды стариков встретились. – Этого не будем убирать, нам не нужны резня и анархия в Туране. Пусть доживает и правит… Но скажи ему, чтобы не шалил, иначе распрощается с деньгами. Ченнинг проинформировал тебя, что владеем банком Бостон Лимитед? – Да, сэр. – Так вот, австрийский СТРАВАГ мы тоже купили. Отныне все счета туранцев в этих банках под твоим контролем. Скажи ему. – Халлоран снова бросил взгляд в окно. – Скажи, пусть не пытается перевести куда-то вклады – мы найдем причину и повод, чтобы их секвестировать. Его деньги – тут! – Старик хлопнул по нагрудному карману. – Непременно скажу, сэр. Снова пауза. Наконец, упершись взглядом в стол, Халлоран промолвил: – Как твоя мать? Как Кэти? – Все в порядке. Только… – Да? – Яхта, сэр, и драгоценности французской королевы. Боюсь, что у меня нет времени для морских прогулок, а что до диадемы и колье… Моя супруга их носить не будет. Кэти – образованная женщина, и знает, чем кончила Мария-Антуаннета. Ее ведь гильотинировали, не так ли? Старик кашлянул и насупился. – Так. Что же тогда вам подарить? Виллу на Лазурном Берегу? Дом в Нью-Йорке? Синий алмаз раджи Пангади? Картину Эль Греко или Рафаэля? Пару арабских скакунов? Что ты хочешь? Выбирай! Каргин рассмеялся. – Может быть, Эйфелеву башню? Вот что, сэр: когда родится наш ребенок, пришлите Кэти поздравления, а с ними коляску, кроватку и всякие пеленки-распашонки. Уверен, это ее порадует. – А что тебе? Привстав, Каргин поглядел в иллюминатор на Перфильева. Тот курил с невозмутимым видом, посматривая то на висевшие в небе вертолеты, то на троицу арабов, окружавших президента. – Там мой друг, и я ему очень обязан, – произнес Каргин. – Хотелось бы сделать ему приятное. Сюрприз! Он об ордене мечтает. – Кхх… кх-каком ордене? – Рыжие брови Халлорана полезли вверх. – Красивом. Чтобы крест был или звезда из драгметалла, желательно с алмазами и подвесками. Можно это устроить? «Чудо! Сейчас скала даст трещину!» – думал Каргин, глядя, как краснеет дедово лицо, как блестят глаза, и как сжимаются губы в попытке задавить, не выпустить наружу смех. Старик, однако, был железный; он глубоко вздохнул, заклокотал горлом и с натугой просипел: – Можно устроить все, что угодно, кроме вечной жизни и блаженства на небесах. Я позабочусь о наградах твоему приятелю, а заодно и тебе. С подвесками, говоришь? Будут вам подвески! – Он бросил взгляд в один иллюминатор, потом в другой, вытянул длинную руку и хлопнул Каргина по плечу. – Я стар, стар… Но еще гожусь на что-то… да, гожусь… Верно, сынок?* * *
У трапа Каргин распрощался со Спайдером. Лесенка потянулась вверх, сдвинулась крышка люка, слилась с голубоватым корпусом, дрогнули огромные лопасти пропеллеров, ветер ударил Каргину в лицо, заставил прищуриться. Вертолет взлетел плавно и величаво, и тут же на площадке приземлился черный «Команч». Три араба покинули Курбанова и зашагали к помелу. Двое прошли мимо, не глядя на Каргина, Азиз ад-Дин остановился, полез за пазуху, вытащил пистолет с двумя обоймами, протянул на раскрытой ладони. – Для вас, мой господин. Мужчина не должен оставаться без оружия. Его английский был безупречен. – Благодарю. – Каргин сунул пистолет за пояс. – Нас привезли сюда на джипах. Хорошие, большие, надежные машины. Вы найдете их там, на дороге. – Шейх кивнул в сторону ущелья и оглянулся на туран-башу. – Уезжайте и заберите с собой этого недостойного бахлула.[335] Если бы я решал его судьбу, он не остался бы в живых. Но на все воля аллаха! Пусть Он вас хранит! – И вас, – отозвался Каргин. – Вас тоже. Абулкарим, абулфатх, абулфайд![336] – О! Вы бывали в наших краях, мой господин? – Случалось, мой шейх, случалось. «Команч» взмыл в воздух и завис метрах в пятидесяти над землей, словно дожидаясь какого-то приказа. Его ракетная консоль медленно, будто бы нехотя, поворачивалась, потом сверкнуло пламя выхлопов, с шипеньем рванулись снаряды, ударили, взбили фонтаны огня – раз, другой, третий, четвертый… Корежился и плавился металл, едко дымил пластик, пылали, выстреливая багровые языки, контейнеры с горючим, грохотал, рассыпая осколки, неиспользованный боезапас… Гибли боевые машины, плод упорного труда, искусных рук и изощренной конструкторской мысли, гибли беззащитными, ибо лишь человек мог одушевить их и защитить – точно так же, как они защищали бойца-человека. Но людей в них не было. Люди стояли, прижавшись к скале, глядели на огненные шары, вздымавшиеся над опаленной землей, и угрюмо молчали. Когда пламя опало, Перфильев сказал: – Лучше уж так, Леша. Лучше чужими руками, чем своими… Быстро, эффективно и безболезненно… Каргин кивнул. Говорить ему не хотелось. …Минут через двадцать они, все четверо, сидели в шикарном джипе «корвет-континеталь», мчавшемся по дну ущелья, мимо гигантских люков ракетных шахт, ржавеющих подъемников, покосившихся навесов на металлических столбах и черных, похожих на бесконечные змеиные туловища, кабелей. Влад Перфильев – у руля, рядом с ним – бледный, почти бесчувственный Баграм, на заднем сиденье – Каргин и президент Курбанов. Туран-баша молчал; лицо его походило на застывшую маску Локи,[337] коему пришлось усесться на скамью рядом с Одином. Джип миновал руины лагеря Вали Габбасова, скользнул в тоннель, освещая мощными фарами дорогу, снова вырвался на божий свет, к речке и домикам Кара-Суука. День еще не клонился к вечеру и был ясным; солнце сияет, в небе ни облачка, горный воздух приятен и свеж, хрустальные воды реки журчат, напевая нескончаемую песню. Всюду, у каждого дома, в садах и во дворах, люди; женщины возятся у летних очагов, мужчины таскают навоз, окапывают деревья, подростки и ребятишки постарше гонят с пастбища скотину, младшие играют, и голоса у них напевные, звонкие. Такие голоса, что заставляют позабыть о грохоте взрывов, о трупах, изрешеченных пулями, и о земле, вспаханной не плугом, а снарядом. При звуках этого щебета что-то всплывает в памяти Каргина – далекое детство в Кушке, и он сам в компании таких же девчонок и мальчишек; счастливое время, когда нет языка, которого не понимаешь, нет узбеков, русских и туранцев, а есть свои и чужие. Свои – это со своей улицы, а чужие – парни с соседней, но, в сущности, и они свои… Кроме, конечно, поганца Каюма, с которым он подрался из-за восьмилетней красавицы Айши… Вздохнув, Каргин искоса поглядел на президента. Можно было ставить сотню баксов против туранской таньги, что Саид Саидович не предается воспоминаниям детства, не сожалеет о погибших и даже не мыслит о государственных делах. О чем он думал, было тайной, скрытой в мраке президентского сознания; может быть, о том, что у ближайшего армейского поста джип тормознут, и будет повод прислонить к кирпичной стенке двух злодеев, похитивших туран-башу. А заодно и третьего, чтоб не оставлять свидетелей позора… Каргин почесал в затылке и, уставившись в спину Перфильева, спросил: – Куда доставить господина президента? Молчание. – В столичную резиденцию? Нет ответа. – Может быть, в Карлыгач или в Елэ-Сулар? Природа так успокаивает нервы… Опять ни слова. Как-то не клеится у нас разговор, подумал Каргин. – Ответьте, господин президент. Мы же не можем высадить вас посреди дороги! – Доставьте меня куда угодно. – Так, уже лучше. Едем в Армут! Вы не возражаете? – Я не хочу разговаривать с вами. – Ну отчего же? Как говорится, приятная беседа сокращает путь… – Нам не о чем говорить. – Это вы так считаете. – Каргин погладил шрам под глазом и усмехнулся. – Я понимаю, понимаю… Вы не привыкли проигрывать, вам кажется, что я чего-то захочу от вас, буду стыдить и упрекать, напомню о беспардонном обмане, потребую контрибуцию и пригрожу ославить в СМИ от Токио и Пекина до самой Калифорнии… Вы ошибаетесь, господин президент. Тема у нас другая, более интересная для вас, чем для меня. Курбанов встрепенулся, заерзал на сидении и, наконец, с усилием прохрипел: – Это вы о чем? Вы на что намекаете? Снова улыбнулшись, Каргин устроился поудобнее, положил ногу на ногу и промовил: – На ваши зарубежные вклады. Давайте, Саид Саидович, поговорим о них…* * *
Интермедия. КсенияЕе молитвы были услышаны. Но бог, сотворенный людьми по собственному образу и подобию, ничего не делает даром, а взимает плату за каждую милость, требует долю от всякого благого дела, спасает и губит по своему желанию и никому не хочет объяснять причину своей воли и деяний. Бог дает, бог забирает, бог награждает, бог карает. И кара его нередко падает на непричастных и безвинных. Четверо уехали, но живыми вернулись только двое… Ксения плакала. Ксения радовалась.
Владимир Высоцкий
Эпилог
Утро, девять часов местного времени, спецрейс Ата-Армут-Москва. Гул турбин, солнце светит в иллюминаторы правого борта, самолет серебряной птицей мчится над облаками, в просторном салоне – шестнадцать пассажиров. Бледный, с синевой под глазами Барышников дремлет в кресле, Костя Прохоров шепчется с Ксюшей, Флинт, Балабин и Перфильев болтают, пьют из банок пиво, заедают орешками и чипсами, Рогов, пристроив на коленях плоский чемоданчик, погрузился в какие-то документы, перебирает их, шелестит листами, Кань и Гальперин играют в шахматы, Слава и Булат при них, болеют. Кроме Ксении, есть еще одна пассажирка – приятная женщина Люба лет тридцати пяти, с двумя ребятишками, супруга Павла Петровича Ростоцкого. Еще имеются пилоты и троица длинноногих стюардесс. Еще – багаж: изюм, орехи, дыни, курага, армутские груши, подарки от Азера. И в этом багаже – печальных груз: два цинковых ящика, обложенных льдом. Каргин думает о них, об этих почти незнакомых ему ребятах, и добавляет их имена к скорбному списку своих потерь. Николай, друг Колька Демин – убит в таежном лесу под Жиганском… Юра Мельниченко – убит в Карабахе… Валя Дроздов – убит в Чечне… Паша Нилин – убит в Дагестане… Лейф Стейнар, легионер, его лейиенант в роте «гепардов» – убит в ангольских джунглях… Томо Тэрумото, Крис Слейтер, Стил Тейт – убиты на Иннисфри… Рудик, Рудольф Шайн, и Дмитрий Пинегин – убиты в Копетдаге, под Армутом… Будет ли продолжение? Наверняка… Жизнь – штука суровая, несправедливая… Как говорили лет двадцать назад, бьет ключом, и все по голове… Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он начинает думать о Кэти. Ласточка уже в Москве, ждет-не дождется, соскучилась и хочет блестнуть кулинарным искусством, освоенным у мамы. Печь пироги научилась, делать вареники с вишней и что-то там еще… Воркует по телефону не на английском, на русском… Он представил милое личико Кэти, ощутил ее запах, мысленно коснулся губами ее губ, и на душе потеплело. Он подумал о ребенке, которого она носит, подумал об этом и решил: если мальчишка, так непременно Николай, в честь отца и Коли Демина, а если барышня, пусть Кэти выбирает имя. Будет ли продолжение? Наверняка… Жизнь хорошая вещь, и все, что даровано людям, идет от жизни: мать с отцом, любимая женщина, дети, друзья-приятели, таланты и удачи, а также печаль о погибших… Сидевший рядом Сергеев прочистил горло. – О чем задумались, Алексей Николаевич? – Так, о личном… – Я смотрю, как удивительно меняется ваше лицо. Оно у вас обычно жесткое, замкнутое… А сейчас – грусть-тоска пополам с радостью. – Это профессиональный диагноз? – Разумеется. Моя профессия такова, что из нее, как из кожи, не выпрыгнешь. Я смотрю, слушаю, запоминаю… Это уже не привычка, а инстинк или, если угодно, физиологический признак. Как раскосые глаза у японца. Как у японца… у японца… Что-то щелкнуло у Каргина в голове и тут же встало на место. Вспомнилась ему стремительная темная фигура, разметавшая керимовых пособников, вспомнился черный «ландкрузер» на шоссе в Елэ-Сулар, вспомнился уклончивый дедов ответ – мол, о японце спрашивай у Мэлори… Был японец, был! Ниндзя из службы безопасности, телохранитель и тайный информатор… И не он один… Повернувшись к Сергееву, Каргин промолвил: – Хочу вопрос задать, из любопытства и не желая вас обидеть. Помните, когда мы Ростоцкого изловили и имели с ним беседу, вы назвались полковником. Оговорка была, или нарочно в звании себе прибавили? – Не оговорка и не прибавил, – усмехнулся Сергеев. – Вот что, полковник… – Не надо называть меня полковником. Я – Сергеев. Хотите по имени-отчеству – пожайлуста: Сергей Сергеевич. Забавно, правда? Трижды Сергей! – Значит, Сергей Сергеевич, вы в органах трудитесь, а вовсе не на пенсии, – подвел итог Каргин. – Еще на «варягов» работаете и на меня. Так? Серые глазки Сергеева уставились вверх. – Видите ли, Алексей Николаевич, я, как и ряд моих коллег, считаю, что погоны полковника должен поддерживать достойный оклад. Pecuniae oboediunt omnia, как говорили латиняне – деньгам повинуется все… Ну, не все, так многое. Если государство оскудело и платить не может, а полковник не желает воровать, надо крутиться-вертеться. – Без урона для чести? – спросил Каргин, пристально глядя в серые невыразительные зрачки. – Желательно без урона и ущерба. Не всякий раз выходит, но стараюсь. Каргин подумал и сказал: – Значит, ФСБ, «варяги» и моя скромная персона… Трое на вашем попечении, Сергей Сергеевич. А кто еще? – Вы задаете неделикатные вопросы. У нас не принято разглашать имена работодателей. – Признаю, виноват! Но вы не разглашайте, а только намекните. Вот, например: есть ли у вас черный чемоданчик? Такой же кейс, как у меня и Флинта? Сергеев прищурился и развел руками. – Все может быть, но удивляться выкрутасам, какие происходят в жизни, решительно не стоит. Вы еще молоды, Алексей Николаевич, но со временем поймете: бывает так, что интересы разных лиц и ведомств переплетаются самым причудливым образом. Работаешь на первого, второго, третьего, а цель преследуешь одну, и, при известной гибкости исполнителя, все заказчики довольны. Взять хотя бы вас… Вы ведь мне даже оклад собирались повысить! – Раз собирался, значит сделаю, – сказал Каргин, отворачиваясь к иллюминатору. Снова проверяли, думал он. Года не прошло, как развалился его мир, пусть опасный, но привычный, как выдернули на Иннисфри, где был он подвергнут испытанию, жестокой проверке на крепость, стойкость, способность победить и выжить. И вот опять! Правда, была и разница: там, на Иннисфри, он рисковал жизнью, и жизнь его не берегли. Теперь берегли, страховали, помогали, однако проверки и испытания не кончились. Наверное, им нет конца, и будут они продолжаться долгие годы, до той поры, когда он сам получит право испытывать и проверять. Было ли это плохо или было хорошо? Вот вопрос, на которые не существует ответа – во всяком случае, однозначного. Одни люди проверяют других, старшие – младших, опытные – неопытных, но всех проверяет жизнь. Самый суровый и неподкупный, самый благословенный экзаменатор… Луч солнца, скользнув в иллюминатор, упал на лицо Каргина. Он прищурился и улыбнулся.Часть 1 ИСЧЕЗНУВШИЕ

Глава 1
 АНДРЕЙ СЕРОВ, ЧАСТНЫЙ СЫЩИК
АНДРЕЙ СЕРОВ, ЧАСТНЫЙ СЫЩИК
Женщина была красива и выглядела еще молодой. Лицо холеное, ни морщинки; если бы не покрасневшие глаза и опухшие губы, Серов посчитал бы ее своей ровесницей. Но ей, конечно, стукнуло больше тридцати, и оставалось лишь гадать, насколько больше – на пять лет?.. на десять?.. Маленькая загадка, которую он пытался разрешить, так как при первом визите не спрашивал у клиентов паспорт. Часто не спрашивал вообще. Паспорт полагалось предъявлять в случае заключения договора, но таких формальностей Серов не любил. Договор – первое звено налоговой цепи… Гораздо приятнее действовать в рамках натурального обмена: от него – услуги, от клиента – деньги. Учитывая специфику его услуг, за два года занятий частным сыском Серова не обманывали ни разу. Платили сполна, а иногда и добавляли.
– Андрей Юрьевич… – начала женщина.
– Просто Андрей, – сказал Серов, щелчком смахнув с лацкана невидимую пылинку. В день приема он неизменно надевал строгий темный костюм с белой рубашкой и галстуком. Клиент должен понимать, что перед ним не какой-то шаромыжник, а настоящий специалист, причем самой высокой квалификации – это имеет прямое отношение к размеру гонорара. Не то чтобы Серов был жаден – нет, такого греха за ним не водилось, а время от времени он вообще работал бесплатно. Однако придерживался заповеди: тот, кто может платить, должен платить. Эта дама могла. Несомненно.
– Сергей Егорович советовал обратиться к вам, – произнесла она, сжимая тонкими пальцами сумочку. Сумочка и платье были не иначе, как от Коко Шанель. Или от Кардена.
Серов кивнул. Теперь к нему редко приходили клиенты с улицы; большей частью его передавали из рук в руки, как драгоценный раритет, и эта известность ему льстила. Тем более что была заслуженной: из шестидесяти трех дел он с успехом закончил шестьдесят.
– Меня зовут Татьяной, – сказала женщина. – Татьяна Олеговна Добужинская… Одну минуту, я…
Она полезла в сумочку – видимо, за документами, – но Серов отрицательно покачал головой:
– Не нужно, Татьяна Олеговна. Потом, если понадобится. А сейчас расскажите мне о ваших проблемах.
– Муж… – выдавила она, достала платочек и приложила к глазам. – Муж пропал… Исчез!
Пропал… Исчез… За последние два года Серов слышал эти слова в шестьдесят четвертый раз. В своей ипостаси частного сыщика он не расследовал убийства, не занимался поиском машин или похищенных бриллиантов, не лез в экономические преступления или иные разборки меж сильными мира сего. Его специальностью являлись пропавшие люди, старые и молодые, иногда ребятишки и даже младенцы, украденные из колясок у зазевавшихся мамаш. Удивительно, сколько людей исчезает в Москве, да и в других российских городах и весях! Еще удивительней, что те, кому положено, не могут найти и пятой части исчезнувших. С другой стороны, размышлял Серов, посматривая на сидевшую перед ним женщину, если б находили, не было бы нужды в его услугах.
– Продолжайте, – сказал он, включая спрятанный в тумбе стола магнитофон. Маленький кабинет Серова был таким же строгим, как его костюм; ничего лишнего, никаких диванов, шкафов, картотек и выставленных напоказ сейфов. Обстановка спартанская: письменный стол (абсолютно пустой, если не считать телефона), столик с компьютером и факсом, цветной ксерокс в углу и два удобных стула. На одном сидел он сам, другой предназначался для посетителей. Если их было двое или больше, Серов приносил стулья из гостиной.
Татьяна Олеговна всхлипнула.
– Понимаете, такая нелепая история… Встали утром, в восемь, как всегда, и Костя пошел бриться в ванную. Я прибрала постель, затем отправилась на кухню… У нас большая квартира на Мясницкой, в Чистых Прудах, но я его слышала… он оставил дверь в ванную открытой и…
– Слышали что? – спросил Серов. – Пожалуйста, конкретнее.
– Жужжала электробритва… еще он напевал, шаркал ногами… ну, конечно, звуки воды из крана… – Она наморщила лоб, вспоминая. – Стук… да, слабый стук – наверное, Костя отложил бритву, но снова поднял… Это все.
Молодец, одобрил про себя Серов; не всякая женщина так наблюдательна. Пожалуй, ей между тридцатью пятью и сорока… Детей нет, ибо дети в ритуале утреннего вставания не упоминались – значит, посвятила жизнь мужу. А муж, если судить по ее наряду и сумочке, весьма преуспел. Горюет искренне, но старается держать себя в руках… Это хорошо. С истеричками всегда работать тяжелее.
– Потом звуки прекратились. То есть не совсем – текла вода, но больше ничего… Я заглянула в ванную… – Добужинская прижала ладони к щекам. – Заглянула, а там пусто. Представляете, пусто! Позвала, обошла квартиру – Кости нет… Жизнью своей клянусь, он не выходил из ванной! Он очень пунктуальный человек! Бритье, душ, завтрак, в восемь сорок пять – свежая сорочка и костюм… это моя забота все вовремя приготовить… Ровно в девять подъезжала его машина, и он спускался вниз…
– Кроме вас двоих, в квартире никого не было? – поинтересовался Серов.
Женщина, по-прежнему прижимая ладони к лицу, покачала головой:
– Нет. Горничная… у нас есть домработница, но она приходит к десяти. – Добужинская всплеснула руками. – Ужас какой-то! Мистика! Пошел человек в ванную и исчез! Словно в трубу провалился!
– Давно?
Она снова всхлипнула.
– Двадцатого августа… две недели назад…
– В милицию заявляли?
– Конечно! В милицию и в службу безопасности нашей фирмы! В тот же день!
– И что?
– В милиции смеются. Я награду обещала, большую награду, а они все равно смеются… Слышала, что за спиной говорят: от этой, – она приложила пальцы к груди, – мужик к другой бабе сбежал, прямо в пижаме… Говорят, как нагуляется, придет… Такая нелепость! Мы восемнадцать лет женаты, и Костя никогда не давал повода, никогда… весь в работе, в делах…
– Успокойтесь. Дать вам воды? Или немного коньяка?
– Нет, нет, что вы… Я в порядке. – Она судорожно сжала сумочку.
Этот красноречивый жест Серову тоже был знаком. Кто к нему только не приходил, кто не являлся! Безутешные родители в поисках исчезнувшего чада, бизнесмены, желавшие знать, куда подевался их компаньон, сестры, братья и друзья потерянных, матери пропавших без вести солдат, наследники, чье право на имущество висело в воздухе без трупа наследодателя… Молодых, а иногда и пожилых, но легковерных, Серов обычно разыскивал у сектантов того или иного толка; младенцев и ребятишек помладше – у цыган или у новых приемных родителей, в Германии, во Франции, а пару раз за океаном, в Штатах и Аргентине; бизнесменов (если те были еще живы) находил прикованными к батареям или запертыми в подвалах пригородных дач; красивых девушек вытаскивал из европейских, иракских или турецких притонов. Нередко эта работа была опасной, и тогда выручали цирковые навыки и квалификация, полученная в Чечне. Впрочем, махать кулаками и стрелять Серов не любил. Он находился в том возрасте, когда человек понимает, что бесшабашная юность позади, а зрелость требует иных решений, зависящих не от крепости мышц и точности глаза, а от разума.
– В милиции, значит, смеются, – медленно произнес Серов и одернул рукава пиджака. – А что на работе? В службе собственной безопасности?
– Они растеряны. Ищут, конечно, но… – Пальцы Татьяны Олеговны снова принялись терзать сумочку. – Понимаете, Андрей, если бы Костя пропал на улице… из машины, из своего кабинета, из ресторана, наконец… С дачи, с какого-нибудь приема… Но из ванной! Из ванной, где только продух в вентиляционную шахту… кошка разве что пролезет… Но Кости нет, и я сейчас хозяйка! – Ее лицо вдруг приняло суровое выражение. – Я приказала, и они ищут!
– Но не очень вам верят, – промолвил Серов. – Так?
– Так. – Женщина выдавила кривую усмешку.
Серов побарабанил по крышке стола. Слух у него был отменный, и он мог выбить бравый походный марш или джазовую мелодию, но сейчас движения пальцев были медленными и как бы задумчивыми.
Да, необычная ситуация! Фантастическая, скажем прямо! Правда, такие уже попадались… Так что либо он этого Костю найдет, либо пополнит свою коллекцию. Розыскные дела, с точки зрения Серова, делились на две категории: одни тривиальные, другие странные. Выручить девицу из дома свиданий в Анталье или найти банкира, сбежавшего в Коста-дельСоль с миллионом зеленых и юной любовницей, было делом тривиальным, ибо имелось в нем множество зацепок, фактов и свидетельств. Но бывали и таинственные случаи, когда человек растворялся в воздухе как дым, причем случалось это на глазах очевидцев. Серов еще не составил мнения о причине таких поразительных феноменов, но собирал их с энтузиазмом и дотошностью коллекционера. Он был любознателен от природы и умел отыскивать нечто такое, что скрашивало серые будни.
Веки Добужинской нервно дрогнули.
– Сергей Егорович сказал, что мой случай как раз для вас. Сказал, что если вы не отыщете, то не найдет никто. Сказал, что ваш гонорар…
– Не будем торопиться с гонораром, – произнес Серов. – Мне нужен день-другой, чтобы поразмышлять об этом деле. Может быть, больше… Вы будете оплачивать расходы, связанные с поиском, и не задавать вопросов об их целесообразности. К истине, Татьяна Олеговна, можно пробираться разными и временами очень странными путями.
– Я понимаю, Андрей. Я… я на все готова… все, что в моих силах… любые расходы, любая помощь… Только бы Костю найти!
На ее глазах выступили слезы. В контактах Серова с клиентами такой момент рано или поздно наступал, и бороться с изъявлениями чувств надо было проверенным способом – ближе к делу, господа! Когда заставляешь потерпевших вспоминать то или это, им не до рыданий.
– Вот что, Татьяна Олеговна, – деловито молвил он, – сегодня, часиков в шесть вечера, я загляну к вам на Мясницкую и осмотрю… гмм… место происшествия. А сейчас прошу сосредоточиться. Сведения о вашем супруге, пожалуйста. Имя-отчество, когда родился, где учился и работал, чем занимается сейчас, кто из родственников жив, есть ли друзья и враги, ну, и все такое… Не волнуйтесь и начинайте по порядку.
* * *
К себе на Новослободскую Серов вернулся в десятом часу. Жил он в доме не так чтобы новом, но и не очень старом, воздвигнутом еще до войны и предназначенном для артистов. Когда-то здесь обитали гении комедии и драмы, великие режиссеры и кинозвезды, а несколько квартир были отданы мастерам других искусств, циркачам и актерам кукольных театров. Серов происходил из циркачей и обитал в квартире, полученной еще его прадедом, Виктором Серра, заслуженным вольтижером и великим знатоком скакунов. Для одинокого молодого мужчины места тут было с избытком: широкий, сталинских габаритов, коридор, кабинет, он же офис, и три просторные комнаты. В одной Серов спал, другая служила гостиной и складом всяческих реликвий, а третья считалась как бы запасной, на тот случай, если он когда-нибудь женится и обзаведется потомством. Но среди его подруг, случайных и временных, пока что не просматривалось нужной кандидатуры. Он отключил охранную сигнализацию,тщательно запер дверь, потом снял куртку и наплечную кобуру. Привычка обращаться с дверьми аккуратно и закладывать их на кованый засов появилась у него лет семь назад, когда он учился в Высшей школе милиции. Полезный рефлекс! Тем более для частного сыщика. Были люди, которым Серов весьма досадил, и люди эти не дремали. Самыми настырными он считал сектантов, всяких братьев во Христе, сатанистов, поклонников Черного Кришны или святой девы Софьи-Магдалены – эти чуть не ежедневно слали письма с угрозой действием. Иногда угрозами не ограничивались, и Серову доводилось поколачивать энтузиастов-фанатиков. Делал он это с удовольствием и считал, что выполняет долг перед родной православной церковью. Переодевшись в прихожей, Серов отворил дверь в гостиную, постоял, любуясь, на пороге и шагнул внутрь. Тут находились старинный прадедушкин буфет из мореного дуба со всякими резными финтифлюшками, большой, обитый плюшем диван, шкаф с зеркалом и стулья у круглого стола, тоже из дуба, – все основательное, массивное, прочности неимоверной. Кроме того, был сейф, а на стенах – десятки фотографий, картин и афиш, имевших отношение к семейной истории. Семья их, согласно легенде, происходила от Пьера Серра, внебрачного сына маркиза из Нормандии, бретера и забияки, который, влюбившись в мадемуазель Мари, цирковую плясунью, перебрался с нею в Париж, а затем в Петербург где-то после наполеоновской эпохи. По настоянию возлюбленной (а вскоре – законной супруги) Пьер овладел полезными профессиями жонглера и метателя ножей и выступал с успехом во многих российских губерниях. От них, от Мари и Пьера, и пошла цирковая династия Серра, пока в двадцатые годы прадедушка Виктор не переменил фамилию на Серова, оставив память о прекрасной Франции как псевдоним. Мудрым человеком был прадедушка! Вовремя понял, что подозрительный космополитизм и странные фамилии не в моде, ну а псевдоним он и есть псевдоним. Необходимая вещь для артиста, против которой ЧК не возражало. Серов раскрыл сейф, сунул туда кобуру с пистолетом и пухлый конверт с деньгами, врученный ему Добужинской, потом, насупив брови, уставился в окно. Начало сентября выдалось в Москве солнечным, вечерний свет еще не угас, и афишки, висевшие по обе стороны оконной рамы, так и сияли яркими красками. На одной, послевоенных времен, бабушка Катя порхала над крупом гнедого жеребца, на другой, более свежей, папа Юра шел по канату, а третья, блестящая, глянцевитая, была самой дорогой: тут собралось все их семейство. Папа Юра, мама Даша, сестренка Леночка и сам Андрей, десятилетний, в сверкающем блестками трико гимнаста… Как давно это было! Вроде бы молод еще, а двадцать лет долой… Он вздохнул, задумавшись о промелькнувшей жизни. Она была пестрой, как конфетти, как коврик, сшитый из цветных обрезков ткани. Вроде бы никто не сомневался, что Андрюша станет циркачом и семейной традиции не посрамит – все при нем было, и сила, и ловкость, и кураж… А получилось иначе. Совсем иначе! Закончил цирковое училище, срочную отслужил, вернулся в Москву – и понеслось… Все в начале девяностых вдруг переменилось: рубль не рубль, страна не страна, артист не артист! Рубль упал ниже прежней копейки, страна рассыпалась, а что до артистов, особенно цирковых, так у тех животы прилипли к позвоночнику. Почетная профессия, но есть да пить тоже надо, тем более гимнасту-акробату. У Леночки и Володи-канатоходца, супруга ее, уже намечалось прибавление семейства, и Серовы, стесненные нуждой, замотанные грошовыми халтурками на всяких утренниках, уже помышляли о том, чтобы продать прадедову квартиру и перебраться куда-нибудь на московскую окраину. Удерживало одно: понимали, что деньги проживут и останутся ни с чем в хрущобах. Подвернулся, однако, ловкий импресарио, сколотил труппу, вывез в Германию на гастроли, а затем в Италию и Францию. Два года Серовы с ним таскались – из Гамбурга в Мюнхен, из Мюнхена в Милан, из Милана в Бордо… Жили как цыгане, то в вагончиках, то в отелях пятого разряда, с клопами под подушкой. Андрей был занят в пяти или шести аттракционах – стрелял, метал ножи, жонглировал, работал с першем, изображал то клоуна, то униформиста в чужих номерах. Потом вроде удача блеснула – контракт в Нью-Йорке предложили, выгодный, трехлетний, с возможностью продления. Но тут уж Андрей взбунтовался, почувствовал, что жизнь проходит зря и что метать ножи ему поднадоело. Мама с Леночкой плакали, Володя окрысился – номер, мол, разрушаешь, но отец, тяжело вздохнув, сказал: на родине и вороний грай кажется пением канарейки. Поезжай, сынок! С тем и расстались; Андрей отправился в Москву, а семья – за океан. Со временем устроились неплохо. Богатая страна – Америка! Что до Серова-младшего, то он решил разбогатеть – то есть, не отставая от веяний времени, податься в бизнес. Имелись у него хорошая квартира и кое-какие сбережения; закончил он курсы бухгалтеров, открыл фирмешку по торговле импортом, арендовал киоски на трех московских рынках, завез из Польши джинсы и куртки из Турции, но вдруг оказалось, что есть статья, не предусмотренная бюджетом: оплата покровительства. Платить за «крышу» Серов не захотел, рассчитывая, что физическая подготовка у него на высоте; купил, на всякий случай, пистолет и стал таскать за поясом обрезок водопроводной трубы. Но на него никто не покусился, просто в один прекрасный день киоски спалили со всем товаром. Очень это его обидело. Думалось по молодости лет, что хуже беспредела не бывает, но власти он в потворстве не винил. Дело завели как положено, виновных не сыскали, однако объяснили, что время нынче лихое, стреляют то журналиста, то депутата, и на этом фоне три киоска с куртками и джинсами – мелочь, даже совсем ерунда. Ну, а коли есть желание установить порядок, так приходи и устанавливай! В рамках закона, разумеется, зато своими собственными руками. Серов это выслушал, принял за чистую монету и пошел служить. Ноги у него были быстрые, руки ловкие и голова не пустая – как-никак, в торговле повертелся, плюс три европейских языка, владение оружием и общая интеллигентность. К тому же еще московская прописка и никаких посягательств на казенную жилплощадь. С такими данными направили его на курсы, потом в Высшую школу милиции, и не прошло трех лет, как получил Серов лейтенанта и был зачислен в уголовный розыск. Там, однако, не прижился, перешел в ОМОН, попал в Чечню, воевал отважно, но неудачно – в машине горел, едва не расшибся в подбитом вертолете, а под конец и пуля его нашла. Боевые и положенное за ранение не заплатили ввиду недавнего дефолта. Судиться и качать права не стал, ушел. Поработал в ЧОПе, частном охранном предприятии, потом, через прежних знакомцев в УГРО, выправил лицензию детектива. Пестрая жизнь… Но скорее не яркий тряпичный коврик и не конфетти, а зебра: полоска черная, полоска белая. А что в конце?.. – думал Серов, разглядывая семейную афишу. Смотря по тому, откуда полоски считать: если от хвоста, до гривы доберешься, а если от шеи – до задницы. Он ухмыльнулся, вытащил из сейфа десяток картонных папок и проследовал к магнитофону и компьютеру, в кабинет. Включил то и другое, прослушал запись беседы с Татьяной Олеговной, пустил ее снова, помедленней, и застучал по клавишам, загружая информацию в компьютер. Закончив, отпечатал лист, выбрал пустую папку, надписал ее красным фломастером: «Добужинский Константин Николаевич, Москва. Исчез 20 августа 2002 года». Сунул лист в досье, а остальные разложил перед собой. Кроме дела Добужинского еще три папки были надписаны красным, а пять – синим. Красная пометка – три его неудачи, люди, которых он искал и не нашел, синяя – другие личности, не попадавшие ему в розыск, но тоже словно канувшие в пустоту. Те и другие исчезли необъяснимо, при загадочных обстоятельствах, не связанных с внезапным побегом, похищением или, положим, со сменой личности с целью защиты важного свидетеля. Все подобные резоны исключались; ни один из девятерых не имел отношения к криминалу, не пытался скрыться от врагов, которых, в сущности, не было, и не знал чего-то такого, за что бандиты или секретные службы могли бы содрать скальп и открутить голову. Обычные люди… может быть, кроме одного… Раскрыв досье, Серов пробежал глазами текст. Владимир Понедельник из Москвы, красная пометка. Программист, одинокий, замкнутый, 36 лет; работал в компьютерной фирме «Параграф». Исчез в ночь на 1 января 2001-го, когда встречал в компании друзей первый год миллениума. Вышел покурить к раскрытой форточке на кухню, и больше его не видели. Пропал из квартиры в высотном доме, с семнадцатого этажа… Наталья Ртищева, город Чехов, Подмосковье. Красная пометка. Врач-терапевт из районной больницы, доброжелательная, общительная. Замужем, мать двоих детей, 42 года. Исчезла в марте 2000-го из ординаторской на глазах пяти коллег. Подошла к двери, но не открыла ее, а словно растаяла в воздухе, как сообщили свидетели. Две врачихи лишились чувств, трое, мужчина и еще две женщины, пришли в состояние шока. Серов расследовал этот случай по горячим следам и снял, как говорится, самые свежие показания. Потом свидетели их изменили (видимо, договорившись меж собой): в новом варианте утверждалось, что Ртищева все-таки открыла дверь и вышла в коридор. Но это никак не объясняло ее пропажи. Игорь Елисеев, Петербург. Красная пометка. Сотрудник Библиотеки Академии Наук, историк и филолог, по отзывам – большой эрудит. Не женатый, проживал с отцом и матерью, 24 года. Исчез в ноябре 2000-го из лифта: сел на втором этаже, поехал на пятый и не доехал. Хватились его не сразу, но обстоятельства исчезновения восстановили полностью. Этим случаем Серов занимался по просьбе родителей Елисеева, с выездом в Питер. Потратил три недели, не нашел, от гонорара отказался. В папках с синей пометкой хранились сведения о более ранних исчезновениях, случившихся с девяносто пятого по девяносто девятый год. Серов подозревал, что такое происходило и прежде, в середине и начале двадцатого века и, вероятно, в других столетиях, но получить информацию и разобраться, где правда, где ложь, было тяжело. Письменным источникам, особенно газетным статьям, он не доверял, а опросить очевидцев давних событий, как правило, не представлялось возможным. Сомнительные данные, граничащие с вымыслом, его не интересовали; достоверность служила главным критерием отбора в его коллекцию необъяснимого. Максим Кадинов из Челябинска, синяя пометка. Журналист, 45 лет, женат. Исчез в 1995-м, на лыжной прогулке, на глазах супруги и сына-студента… Евгений Штильмарк, Тверь, синяя пометка. Врач, как и Ртищева. Женат, детей не имел, 27 лет. Исчез в 1997-м при выходе из трамвая; свидетелей – около двадцати… Линда Ковальская, Москва, синяя пометка. Экономист, сотрудник налоговой инспекции, не замужем, 29 лет. Исчезла в 1998-м из своего кабинета. Губерт Фрик, Германия, Мюнхен, тоже синяя пометка. Единственный иностранец и потому – жемчужина коллекции. Не женат, 32 года, литератор и переводчик с русского и польского. Исчез во время Франкфуртской книжной ярмарки в 1996-м, в момент деловых переговоров. Еще одна жемчужина и синяя пометка – Игорь Таншара, Петербург, человек редкой профессии, экстрасенс. Холостяк, большой любитель женщин, 44 года, без определенного места работы. Исчез в 1999-м из шашлычной «Арагви», где выпивал и закусывал в компании друзей. Держал в руке рюмку с водкой; рюмка упала и разбилась. Этот Таншара казался прагматику Серову весьма подозрительной личностью – как по причине его занятий, так и разгульного образа жизни. Но при детальном изучении он выяснил, что Таншара, имевший трех любовниц и потреблявший спиртное по-черному, не баловался магией и кабинета по штопанью чакр не держал; жил за счет лекций и статеек, печатавшихся в «Аномальной газете» и «Чудесах веры». Собственно, содержали его женщины, но тут не было даже намеков на какие-то претензии, чреватые ревностью, убийством и расчленением трупа. Тем более что исчез он на публике, и три собутыльника клялись, что Игореха распался на атомы по собственной воле или перешел в некую высшую сферу существования. С Максимом Кадиновым Серов тоже повозился изрядно. Все-таки журналист, щелкопер; мог разнюхать секреты челябинских градоначальников, военного микробиологического центра или, предположим, местных мафиози. Но выяснилось, что Кади-нов не занимался ни политикой, ни экономикой, ни военными тайнами, а состоял в штате журнала «Всемирный следопыт», писал очерки о путешествиях на Огненную Землю и Таймыр да рецензировал научно-фантастические книжки. Эти занятия, а также любовь к туризму и лыжным походам были настолько невинными и бездоходными, что оставалось лишь удивляться, чем и как кормилась журналистская семья. Правда, жена Максима работала бухгалтером в частной торговой фирме. Обозрев свою коллекцию досье, Серов задумчиво прищурился и перевел взгляд на компьютерный экран. Там значилось:«Добужинский Константин Николаевич, Москва, Мясницкая, 43—15, квартира на третьем этаже. Возраст 41 год, женат, детей не имеет. Образование: матмех МГУ (1983), специальность – геометрия и топология. Кандидат физико-математических наук (1987), сотрудник Математического ин-та им. Стеклова (до 1993). В 1993 г. организовал издательство „Горизонты науки" – научная, научно-популярная, компьютерная, юридическая литература и учебники. Преуспевающий бизнесмен. Шесть дочерних фирм, магазин научной книги, типография. Зарубежные поездки, связи с Германией, Голландией, Швецией, Австрией. „Крыша" – вероятно, люди из МВД (работают в службе безопасности его предприятий). Порочащих сведений нет, финансовых либо иных затруднений не испытывал. Примерный семьянин. Исчез 20 августа 2002 года, в 8. 10– 8. 20 утра из ванной собственной квартиры».Закончив чтение, Серов хмыкнул и почесал в затылке. Что общего у программиста, врача, библиотекаря и издателя? В общем-то ничего, и ситуация не проясняется, если добавить к ним еще одного врача, журналиста, экономиста, немца-литератора и экстрасенса. Можно, разумеется, отметить, что все они люди интеллигентных профессий и находятся в поре расцвета, в возрасте от двадцати четырех до сорока пяти. Но, с другой стороны, разница в поколение и разные семейные обстоятельства, кто холост, кто женат, с детьми или без оных… В профессиональном плане издатель, писатель, журналист и, быть может, экстрасенс Таншара как-то связаны, но у врачей, программиста и двух остальных литературных потуг не замечалось. Если взять, к примеру, медиков, то и тут контакты маловероятны: Ртищевой сорок пять, опытный терапевт из Подмосковья, а Штильмарк недавний студент Тверского медицинского, ординатор и дерматолог по специальности. Общего столько же, сколько между курицей и куликом, хотя обе – птицы, и обе на «ку»… Издатель – бывший математик и мог быть знаком с программистом, однако ВУЗы кончали разные и по работе вроде бы не пересекались… У программиста фамилия редкая, Понедельник, но супруге Добужинского она ничего не говорит… Не там ищу, не в той земле копаю, мелькнуло у Серова в голове. Профессии их, видно, ни при чем, как и семейное положение, возраст и место жительства. Другая между ними связь. Что-то они сотворили такое… такое особенное, странное… Может, обидели кого? Организацию «Спектр» из фильмов про Джеймса Бонда? У «Спектра» всякие штучки, конечно, есть… Им распылить на атомы – что плюнуть! Хоть в ванной, хоть в шашлычной, хоть на Франкфуртской ярмарке… Он усмехнулся, встал и начал кружить по комнате, посматривая на разложенные папки. Четыре с красной надписью, пять – с синей… Вызов его сообразительности… Его хитроумию, самоуважению, искусству, наконец! Он чувствовал, что должен – просто обязан! – преодолеть некий рубеж, пробить стену, мешавшую ему сделаться настоящим мастером. То, что не получилось в цирке, не вышло в торговом бизнесе, накрылось и вытекло кровью в Чечне… Многое было начато и кончилось ничем, скитаниями на чужбине, сгоревшими палатками, нелепой войной, пулей и раной… «Может, я неудачник? – подумал Серов и стиснул челюсти. – Дитя украденное найти или там парня из секты выручить – это пожалуйста! Тут Фортуна ни к чему, тут бегать надо, трудиться, расспрашивать да разнюхивать, а в нужный миг – в челюсть кулаком и ствол под ребра! Ну, а после хватать и тащить… Понятное дело, простое! А для того, что посложнее, удача нужна. Либо фарт, либо разум, какого Бог не дал…» Не переставая кружить, он сбросил рубаху и, коснувшись спинки стула, сделал кувырок в воздухе. Приземлился на кисти и трижды обошел на руках вокруг стола, приговаривая сквозь сжатые зубы: «Вот это мы умеем… это можем… еще вот ножики метать… и по канату… Запросто!» Прогнулся, встал на ноги, помассировал шрам на правом боку, подошел к окошку, всмотрелся в синие московские сумерки. Настроение повысилось, как бывало всегда после привычных физических усилий. Почти бессознательно он замурлыкал песенку, одну из тех, что пели в цирковом училище и на срочной службе. Голос у Серова был приятный, и песен этих он знал, наверное, сотни три или четыре.
Глава 2 РУКОПИСЬ
Кабинет у Добужинского был просторный, раза в три побольше, чем у Серова. Собственно, не кабинет, а библиотека: вдоль трех стен тянулись застекленные полки с книгами, а у четвертой, в простенке меж двух окон, находился письменный стол из палисандра, с резными ножками и бронзовыми украшениями по углам. На столе рукописи, бумаги, пепельница, компьютер, коробки с дискетами – в общем, тот рабочий беспорядок, в котором только хозяину разобраться. Повыше компьютера висит большая фотография в рамке: гора, похожая на конус, голубое небо, белые облака. – Он часто работал дома? – спросил, озираясь, Серов. – Работал… – протянула Татьяна Олеговна. Она застыла у дверей, сложив на груди руки и тоскливо глядя на стол, кресло перед ним и полки, забитые книгами. – Уезжал в девять, приезжал в четыре, если не было чего-то срочного, обедал и сидел тут до вечера. Рукописи читал. Все, что выпускалось издательством, читал сам. Иногда, – она поднесла ладошку к глазам, – просил меня прочитать, интересовался, понятно ли написано. Говорил, что главные у нас читатели – женщины и студенты. Смеялся… Говорил, взрослым, мол, мужикам, пива и водки хватает. – Это он зря, – произнес Серов. – Я вот ни пива, ни водки не пью, а книги иногда читаю. Хотя давно уж не студент. Он вздохнул, то ли сожалея о прошедшей юности, то ли поражаясь собранным тут книжным богатствам. Полки – сто девяносто погонных метров, библиотека в шесть или семь тысяч томов… Любую школу можно осчастливить. Не в книгах ли разгадка? В них самих или в любви к ним? Серов медленно двинулся вдоль стен, разглядывая цветные корешки. Книги стояли в определенном порядке: крайняя секция – труды и учебники по математике, научные журналы и сборники конференций, судя по годам – незабвенных советских времен. Рядом – русская классика, Пушкин, Тургенев, Гоголь, оба Толстых, потом – зарубежная: Диккенс, Мопассан, Гюго, Марк Твен, Шекспир, Фейхтвангер, Сервантес; добротные книги, тоже советского времени, занимавшие всю стену слева от стола. Напротив окон, у той стены, где дверь, располагалась историческая и приключенческая литература, и тут было на что посмотреть: Вальтер Скотт, Джек Лондон, Купер, Майн Рид, Хаггард, Эберс, Сабатини, Конан Дойл и добрая сотня других авторов. Эта часть библиотеки плавно переползала на правую стену, примыкая к секциям с фантастикой. Этим жанром Серов отнюдь не брезговал, однако представить не мог подобного богатства: тут было все, от Ефремова и Стругацких до Хайнлай-на, Саймака и Ле Гуин. Дальше – научно-популярные книги по медицине, биологии, астрономии, психологии, менеджменту; в основном, переводы, но есть и отечественные. Кажется, все жанры здесь, никто и ничто не забыто, в растерянности думал Серов. Все, кроме дамских романов! Но и они имеются, стоят на полках в коридоре… Поди угадай, что же более всего любил Константин Добужинский! И связано ли это с его исчезновением? Он оглянулся на Добужинскую, ощущая ее как помеху. Стоит, смотрит, трет глаза, смущает скорбным своим видом… Клиент в процессе расследования лишняя фигура – особенно такой клиент, который уже дал показания и задаток. Тем самым функции его исчерпаны, решил Серов и многозначительно кашлянул. – Вы, Татьяна Олеговна, идите отдохните. Отвлекитесь чем-нибудь. Телевизор там, книжка… Руки женщины опустились. – Я не устала, Андрей. Мне ведь больше не за кем ухаживать. Тоска в ее голосе кольнула Серова. – Не отчаивайтесь раньше времени, – сказал он. – И простите меня. Мне нужно остаться одному, посмотреть, подумать. Что-то вертится такое… будто подсказка здесь есть, которую я обязан найти. Добужинская кивнула: – Я понимаю. Костя тоже думать не любил, когда за спиной стоят. Пойду кофе сварю. Кофе вы пьете? С коньяком? – Ведрами, – признался Серов. – Коньяк добавить, размешать, но не взбалтывать. Женщина слабо улыбнулась и исчезла. Оставшись один, он закрыл глаза, прислушался к гулу машин, что доносился с улицы, и сделал шаг. Пальцы скользнули по стеклу книжной полки. Шаг, еще шаг, еще шажок… Тепло, тепло, еще теплее… Еще не разгадка тайны, но будто преддверие к ней… От стены – той, что с дверью – тянутся секции фантастики, потом научной, а тут… что у нас тут, в самом углу? Серов приподнял веки. Секция, перед которой он очутился, была самой крайней, украшенной небольшой, с ладонь, карточкой. На карточке змеилась витиеватая надпись: «Книги издательства „Горизонты науки", 1993—2002 гг.». Прямо перед ним – цветные корешки: «Энциклопедия НЛО» в пяти томах, «История цивилизаций Солнечной системы», «Ангар 18», «Проект „Синяя книга“[339] и прочее в том же роде. Вот и ответ, с разочарованием подумал Серов. Наиздавал книжек о пришельцах, они его и сцапали! Похитили прямо из ванной, в ответственный момент бритья… Нацелились какой-нибудь хреновиной с икс-лучами, нажали кнопочку – и трах-бабах! Был Добужинский, и нет Добужинского… Извлекли сквозь пару кирпичных стен прямо на свою тарелку… Отличная гипотеза! Только на кой черт он им сдался? Своих издателей, что ли, не хватает? Или математиков? Он принялся рассматривать продукцию «Горизонтов науки». Труды уфологов, большей частью переводные с английского и французского, стояли на пятой полке, а четыре нижние были забиты учебниками, справочниками, юридической и компьютерной литературой. Выше располагались книги по менеджменту и издания на популярные околомедицинские темы: как сбросить лишний вес, как излечиться от рака с помощью морковки и как осчастливить себя и всех окружающих, улавливая космическую прану. Таких писаний Серов не читал – у него своей праны было хоть отбавляй. – Пустой номер! Чушь, ерунда! – пробормотал он раздраженно и подступил к столу. Фотография, висевшая над компьютером, привлекла его внимание. Сняв ее со стены, Серов убедился, что надписей на обороте нет, и стал разглядывать коническую гору на фоне неба и облаков, пытаясь угадать, где и когда был сделан снимок. Памир? Кавказ? Пожалуй, нет; слишком правильная форма у этой горушки, похожей на вулкан. Япония? Тоже вряд ли; пейзаж пустынный, никакого намека на дороги или что-нибудь индустриальное. Скорее напоминает дальневосточную сопку… Вернув фотографию на место, он осмотрел стол. Кроме компьютера, дискет и пепельницы, тут находилось несколько стопок бумаги – видимо, рукопись, разложенная по главам. Шесть стопок – на дальнем конце стола, а седьмая, самая толстая и еще не прочитанная – поближе, перед креслом. Текст, к удивлению Серова, не отпечатан, а написан от руки, почерк крупный, скачущий и на редкость неразборчивый. Похоже, Добужинский был человеком, преданным издательскому делу, если решился прочитать сотни страниц, покрытых корявыми буквами… Или испытывал к автору и книге особый интерес? Что-то прозвенело в голове у Серова, и он застыл над столом в позе борзого пса, унюхавшего дичь. Руки его потянулись к бумажным листам, он вытянул один наугад, пробежал по диагонали, выхватывая слово там, два слова тут, взял другой, третий, четвертый… «Понедельник» бросилось в глаза. Не просто «понедельник», а с заглавной буквы… Устроившись в кресле, Серов принялся разбирать непонятный почерк. Брови его сошлись у переносицы, взгляд стал напряженным, лоб прорезала морщинка. «Понедельник» – говорилось в рукописи, а вслед за этим шли другие, уже знакомые имена – «Линда» и «Максим Кадинов». Он прочитал абзац вверху страницы:«Понедельник предложил сразу отправиться к Воротам, до которых было километров пять или шесть. Но Линда запротестовала, и ее поддержал Максим Кадинов. Мы были уже практически на месте, и торопиться не стоило. Алексей Петрович, шофер и наш проводник, тоже не советовал идти к сопке в седьмом часу вечера, утверждая, что расстояние обманчиво, и тут не пять и не шесть километров, а все десять. Местность была пересеченной, повсюду камни, пни и овраги, и вездеход не мог подвести нас ближе. Ночевать в его кузове нам не хотелось; решили разбить лагерь до темноты, поставить палатки, сварить еду и чай и посидеть у костра. Мы с Женей, как самые молодые, принялись разгружать вездеход – Алексей Петрович торопился, говорил, что место плохое и ночевать он здесь не желает. Работали мы быстро и с удовольствием. Вообще Женя мне нравился – ему двадцать пять, он старше меня на шесть лет и недавно закончил медицинский институт в Твери. Он…»Серов прервал чтение, вытер испарину со лба и поднял глаза к потолку. Женя, медик из Твери… Дьявол! Евгений Штильмарк, исчез в 1997-м, и было ему двадцать семь… Значит, тут описаны события девяносто пятого года, когда Игорю Елисееву, самому молодому, было девятнадцать… Потянувшись к стопке с первой главой, Серов перевернул ее и уставился на титул. Название: «Шестеро в аномальной зоне», автор некий И. Е. Кантаров… Что за Кантаров, черт побери? И почему шестеро, если пропавших девять? Ну, восемь, не считая немца Губерта Фрика… Он сидел, уставившись в исписанные листы и чувствуя, что вот-вот ухватится за хвост загадки. За путеводную нить, которая позволит размотать клубок… Удача! Удача, которой он так жаждал, была готова слететь к нему, подобно сказочной птице Феникс, мудрой и знающей ответы на любой вопрос. Все ответы, какими бы невероятными они ни показались! Сердце Серова гулко бухнуло, взгляд обратился к фотографии. – Алексей Петрович, проводник, не советовал идти к сопке… – медленно произнес он. – А вот и сопка! Осталось лишь узнать, откуда у Добужинского этот снимок и почему он тут его повесил. Для вдохновения, пока читает рукопись Кантарова? За его спиной раздался шорох, а затем голос Добужинской: – Кофе готов, Андрей. Принести вам сюда? – Отставить кофе, – сказал Серов. – Вот что, Татьяна Олеговна… – Он развернулся вместе с креслом и пачкой бумаги на коленях. – Что вам известно об этой рукописи? И о Кантарове И. Е., который значится в ее авторах? – С этим сочинением у Кости были неприятности, – промолвила Добужинская после секундного раздумья. – Ну, не неприятности, скорее трудности… Текст поступил давно, два года назад, и Костя все колебался, печатать или не печатать, хотя материал был, по его мнению, интересным. Оставалось неясным… – Стоп! – Серов поднял руку. – В чем причина колебаний? – Так я об этом и хочу сказать! Если это, – женщина бросила взгляд на стол, – художественное произведение, выдумка, то к тематике издательства оно не подходит. Понимаете, романов, ни детективных, ни фантастических, Костя не печатал, этим другие занимаются. Если же написанное правда, то могла получиться сенсационная книга. Но как проверить, истина в ней или фантазия? Костя решил разобраться на месте событий и полетел на Камчатку. Полетел в июне и был там недели две. Вот, снимок привез… – Ее глаза обратились к фотографии. – Был в июне на Камчатке и снимок привез… – Лоб Серова пошел морщинами. – Об этом вы мне не говорили! – А разве это его путешествие важно? За десять последних лет мы весь мир объездили… – Добужинская вздохнула. – Канары, курорты Франции и Испании, Рим, Лондон, Таиланд, Бразилия… Отдыхали вместе два раза в год, не считая случаев, когда Костя ездил по делам. У нас шесть дочерних издательств… Одно в Красноярске, другое в Киеве, третье в Прибалтике… за всем хозяйский глаз нужен… Рукопись и визит на Камчатку, отметил Серов. Это, похоже, не один, а целых два хвоста загадки! Потом сказал: – Вы упомянули о трудностях… – Да, да. Вернувшись, Костя решил печатать книгу, но автор пропал, этот Кантаров из Петербурга. Отправили договор с письмом по его адресу, и ни ответа, ни привета. Костя собирался его разыскать, но тут… – Татьяна Олеговна приложила к глазам платочек. – Какой у него адрес? – спросил Серов. – Могу я на него взглянуть? – Конечно. Я позвоню в издательство Пал Палычу… это Костин заместитель… Адрес у него или у Маши Гуровой. Она – главный редактор. Хозяйка вышла, а Серов принялся складывать листы рукописи по порядку, мурлыкая под нос: «Сияли звезды голубые, и небо было голубым, и ночи голубыми были, прозрачными, как легкий дым…» Настроение у него тоже было голубым – иными словами, отличным. Он уже представлял, как, ознакомившись с творением Кантарова, раскроет тайну десятка исчезнувших и найдет их, найдет непременно, живыми или мертвыми. Лучше бы, конечно, живыми… Трупов Серов повидал немало, и когда его розыск заканчивался мертвым телом, прикованным к батарее, испытывал чувство вины. Оно являлось совершенно иррациональным, однако мучило его – не успел, не смог отыскать вовремя… И в данном случае такой исход не исключался – ведь все его реальные и виртуальные клиенты, за исключением Добужинского, пропали давно, кто год, а кто и семь лет назад. Вернулась Татьяна Олеговна, с клочком бумаги в тонких пальцах. Серов уже догадывался, что предстоит ему услышать. – Пал Палыч поднял переписку… И знаете что, Андрей? Автор рукописи вовсе не Кантаров, а Игорь Елисеев. Юноша, совсем еще молодой… Кантаров – его псевдоним, а адрес… – Адрес мне уже не нужен, – сказал Серов. – Если позволите, Татьяна Олеговна, я его труд заберу с собой. Он связан с исчезновением вашего мужа. Глаза женщины расширились, губы задрожали. – Правда? И вы… может быть, вы найдете Костю? – Может быть, – буркнул Серов. – Важно, что я найду – Константина Николаевича или… Ну, не будем думать о плохом. Он сунул рукопись под мышку и направился к двери.
* * *
Детальное знакомство с сочинением Игоря Елисеева заняло весь оставшийся день, всю ночь и утро. Теперь Серов понимал, что объединяет исчезнувших странников по аномальным зонам: все они, даже Линда Ковальская, прозаический налоговый инспектор, являлись страстными поклонниками идеи о том, что Земля посещается пришельцами из космоса. Веривших в это было в России несколько сотен, а в мире, по-видимому, не один десяток тысяч, и все они принадлежали к тому или иному клубу, неформальному объединению или солидной организации вроде Космической Церкви со штаб-квартирой в Калифорнии. Клуб Елисеева был много скромней; к нему относились, возможно, семьдесят или сто человек, жителей средней полосы России, Прибалтики и Урала, называвших себя «контактерами». По их мысли, инопланетяне (безусловно – телепаты) не отказывались от контактов с землянами, но осуществляли связь не с правительствами, а лишь со своими избранниками – так сказать, в индивидуальном порядке. Им передавались сообщения о возможных катастрофах, чреватых глобальным экологическим кризисом, и полные гуманности рекомендации: не пора ли прекратить резню и драку, объединиться в мировом масштабе, навести на планете порядок и, приобщившись к Высшему Разуму, заняться исследованием Метагалактики. Кроме этих полезных советов инопланетники, случалось, делились сведениями о своих делах, о том, откуда они прилетают и что творится на Млечном Пути. Эти данные были весьма противоречивы; к одним контактерам доходили послания, полные братской любви и дружбы, к другим – предостережения и неприкрытые угрозы. Все, вероятно, зависело от взглядов на жизнь – контактеры, как и обычные люди, делились на оптимистов и пессимистов. Телепатические связи с космосом происходили обычно по месту жительства, но бывало и так, что пришельцы посещали Землю, сообщая об этом заранее и требуя, чтобы в пункте высадки их поджидала делегация. По неизвестным причинам пункты были постоянными, носившими название аномальных зон, которых насчитывалось восемь: гора на Аляске, Гималаи, Бермудский треугольник, река в Месопотамии, плато Танезруфт в Сахаре, Варангер-фиорд в Норвегии, а также камчатская сопка Крутая и приток Печоры в Пермской области. Все территории малодоступные, и потому вопрос о встрече с инопланетным разумом нередко был предметом споров: одни контактеры утверждали, что рандеву состоится тогда-то и там-то, другие – что эти вести ложные и беспокоиться, собственно, не о чем. Но в девяносто пятом все сошлись в едином мнении, что встреча непременно состоится, на сей раз в камчатской аномальной зоне. В рукописи Елисеева были тексты семнадцати посланий на эту тему, полученных в Риге, Москве, Петербурге и Твери, и в каждом говорилось, что встреча чрезвычайно важная, можно сказать, судьбоносная для всей цивилизации, ибо землянам будут открыты кое-какие галактические тайны. Участвовать в ней вызвались шестеро: москвичи Понедельник и Ковальская, Женя Штильмарк из Твери, два петербуржца, Таншара и студент Елисеев, а также Кадинов, челябинский журналист. Елисеев подробно описывал, как были собраны деньги на экспедицию, какое приобрели снаряжение, как долетели до Петропавловска-Камчатского и наняли в леспромхозе «Пролетарский» вездеход. Машина, в сущности, являлась приложением к водителю Минькову, мужику бывалому, изъездившему вдоль и поперек южную часть полуострова. Доставив путников к сопке и указав нагромождение скал, похожее на гигантские ворота, он развернулся и уехал, ибо, по его словам, место тут было поганое, никак не подходящее для ночлега или туристских экскурсий. Члены экспедиции разбили лагерь, а утром, в условленный час, были у скальных ворот, где, согласно космическим телепатемам, намеревались приземлиться гости. Однако небесный эфир был спокоен, и они решили, что перепутали дни. Назавтра тоже ничего не случилось, и Линда, погрузившись в транс, сказала, что встреча отменяется – мол, в созвездии Стрельца сгустились негативные энергии. Пробыв у сопки трое суток и дождавшись Минькова, экспедиция вернулась в Петропавловск, затем – к местам прописки, и говорить было бы не о чем, если бы не сны. Причудливые сновидения, особенно яркие у Ковальской и Таншары, описывались Елисеевым подробно – он, вероятно, опрашивал бывших спутников и вел дневник. В эти главы, составлявшие большую часть рукописи, Серов не слишком вдавался, отбросив фантазии и сосредоточившись на фактах: где побывали, когда, в какой компании. Самым любопытным он посчитал эпилог, в котором сообщалось, что четверо из шести контактеров таинственно исчезли. По мнению Елисеева, то была кара инопланетян, желавших, чтобы о камчатской экспедиции и снах проинформировали человечество. По этой причине он и взялся за перо. – Однако ни себя не спас, ни Понедельника, – резюмировал Серов, переворачивая последнюю страницу. Он потер уставшие глаза (почерк у Елисеева был жуткий), отправился на кухню, сварил и выпил кофе. Затем, соорудив несколько бутербродов с сыром и ветчиной, вернулся в кабинет и, мерно работая челюстями, стал подводить итоги. Это было нелегким занятием, ибо в его душе сошлись в рукопашной прагматик и авантюрист. Прагматик ни в какие контакты не верил, равным образом как в телепатию, летающие тарелки и пришельцев из космоса. Прагматик полагал, что в клубе контактеров сплошные лохи и веники, которые морочат друг друга, а заодно и себя. Либо дурачки, либо фанатики, и факт, что шестеро из них гостили в аномальной зоне, никак не связан с их исчезновением – даже если приплюсовать издателя Добужинского. Тем более что исчезали они в разное время, хотя и при сходных обстоятельствах. Так говорил прагматик; авантюрист же, взяв его за грудки и как следует встряхнув, коварно ухмылялся: а вдруг?.. Единственное возражение, но за ним тянулась длинная цепочка последствий и выводов. Хрен с ними, с инопланетянами, размышлял Серов, но вдруг в этой зоне у сопки Крутой есть что-то неизвестное науке? Какой-нибудь вирус, что превращает человека в пар… Бред, ерунда? Ну, это как посмотреть – лет двадцать назад никто не слышал о СПИДе или атипичной пневмонии… кстати, о вакуумных бомбах и электронном деструкторе тоже не слышали… А посему и – вдруг! – в этой чертовой зоне водится какой-то вирус, или геомагнитное поле там особое, или иной феномен… Опять же сны! Сны! Серов потянулся к телефону, чтобы позвонить Добужинской и узнать, не посещали ли ее супруга странные видения, потом хлопнул себя по лбу, отправился к сейфу, вытащил пару досье с красной и синей пометками, раскрыл их и отыскал нужные номера. Затем принялся накручивать телефонный диск – звонил в Мюнхен, фрау Ильзе Фрик, матери Губерта. С нею он познакомился заочно, когда года полтора назад, положив начало своей коллекции, просил сообщить все обстоятельства исчезновения сына. Старушка оказалась дома. – Это Андрис из Москвы, – произнес Серов на приличном немецком. – Тот самый детектив, который интересовался трагическим случаем с Губертом. Вы меня помните, фрау Ильзе? – Да, – послышалось в трубке. Потом – тяжелый глубокий вздох. – Я… я помню. Вы хотите мне что-то сообщить? Что-то новое о Губерте? – Не сообщить, но спросить. Скажите, ездил ли Губерт на Аляску? Или, может быть, в Гималаи, Ирак, Сахару, Норвегию? – Помолчав, он добавил: – Это важно, фрау. Я полагаю, такая поездка связана с тем, что с ним произошло. Голос фрау Ильзе был тихим, но вполне различимым. – Мой мальчик ни разу не покидал Европы. Был в Италии, Франции, Испании… В Норвегии тоже был. На самом севере, в Вадсе, в девяносто четвертом году. На Скандинавской конференции уфологов. – Уфологов… вот как… – протянул Седов. – И долго она продолжалась? – Дня три или четыре, но он не сразу возвратился. Простите, Андрис, я уже начинаю забывать… Губерт был таким любопытным… Кажется, он посетил какое-то особое место… рассказывал, как там пустынно и красиво… море, сосны, скалы… – Спасибо, фрау Ильзе, вы мне очень помогли. Осведомившись о ее здоровье, Серов положил трубку и достал из ящика стола увесистый атлас. Как и ожидалось, город Вадсе нашелся на морском берегу, прямо у входа в Варангер-фиорд. Никакой аномальной зоны на карте отмечено не было, но надо думать, ее координаты не являлись тайной для норвежских уфологов. В общем, не оставалось сомнений, куда ходил любопытный Губерт. Хмыкнув, Серов снова повернулся к телефону и стал звонить супругу Ртищевой. Казалось, она никак не связана с пришельцами и контактерами, но кто мог знать наверняка? Только близкие, муж или дети… Ртищев тоже его помнил. Еще бы не помнить! Розысками Натальи Серов занимался месяца два, не отрываясь, впрочем, от других своих дел, но от гонорара отказался. Он вовсе не был бессребреником, но исповедовал твердый принцип: тот, кто платит, должен что-то получить. Лучше живого человека, пусть временами покалеченного или не в себе, а если таковой отсутствует, хотя бы труп. Плохое утешение, но есть что схоронить… От Натальи и этого не осталось. – Могу быть чем-нибудь полезен, Андрей? – поинтересовался Ртищев. – Несомненно. Скажите, Наташе не случалось бывать на Камчатке? – Это имеет отношение к вашему расследованию? – Да. Молчание. Видно, Ртищев перебирал прожитые с женой годы, а было их немало, побольше двадцати. Наконец он сказал: – Уверен, что на Камчатку она не ездила. Что ей там делать, Андрей? Она ведь врач больницы… была врачом… Командировки – редкость, а отдыхали мы всегда вместе. С ней, с детьми… – Чем она увлекалась? Случайно, не уфологией? Пришельцами из космоса, летающими блюдцами и прочей хренотенью? Ртищев сухо рассмеялся: – Думаете, ее пришельцы похитили? Ну, тогда это был односторонний интерес! Наташа была очень практичным человеком. Если чем и увлекалась, так туризмом и спортивным ориентированием. В ранней юности, еще в Перми. Так-так! – поразился Серов. В Перми! Надо же! А ведь это есть в Натальином досье – ее отец-майор служил в Перми, и школу там она закончила. Знал, да как-то подзабыл… Правда, об увлечении туризмом ничего в досье не сказано. А в свете последних событий это любопытнейший момент! Куда туристы не залезут, особенно юные! – Спасибо, – молвил он в трубку. – Пермь меня вполне устраивает. Не меньше, чем Камчатка. – Есть какие-то новые соображения? – тихо осведомился Ртищев. Боль и надежда в его голосе кольнули Серова. – Еще не знаю. Узнаю, сразу сообщу. – Ну, Бог в помощь… и вам, и мне… Затарахтели быстрые гудки отбоя. С минуту Серов глядел на телефон, прокручивая в голове полученные сведения. Последние двадцать минут и два разговора разительно переменили ситуацию: был вариант шесть плюс один, а нынче к нему добавились еще две единицы. Очень важные – даже, пожалуй, решающие! Шесть человек посетили сопку Крутую и исчезли, а вслед за ними – Добужинский; это, конечно, веский факт. Но оставались еще Фрик и Ртищева – и вот выясняется, что один бывал в норвежской зоне, а другая, вероятно, в пермской. Уже не просто факт, который толкуется так или этак, а очевидное обстоятельство, и мимо него не пройдешь! Как ни крути, ачто-то в этих аномальных зонах есть, в них ли самих или в людях, которые их посещают, или же в том и другом… Вот бы разобраться! Считай, мировая сенсация! Серов усмехнулся, снова поднял трубку и позвонил в справочную аэропорта. Билеты на Петропавловск-Камчатский еще были, вылет – завтра утром, в семь. Проверив, что паспорт в бумажнике и денег хватает, он поднялся и вышел из дома.Глава 3 АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
Путь до сопки Крутой оказался не близким – они отмахали больше двухсот километров сначала на восток, потом на север по шоссе на Шаромы, к переправе через реку Камчатку. За рекой Петрович – так велел звать себя Миньков – снова повернул к востоку, и четыре с лишним часа вездеход стонал и выл на рытвинах и ухабах, изображавших то ли дорогу, то ли просеку в лесу, то ли тропу, какой олени и лоси ходят к водопою. Вид был чудесен – матерая тайга, деревья, чуть тронутые осенней желтизной, живописные скалы и валуны, но тряска и надсадный рев двигателя мешали наслаждаться пейзажем. Беседовать и то было трудно, хотя Петрович оказался мужиком говорливым. Было ему порядком за пятьдесят, и хотя всю жизнь он прожил здесь, на краю мира, оторванности от цивилизации в нем не ощущалось. Скорее наоборот: он живо интересовался всем, что происходит на Большой земле, и на все имел свое мнение. Пока добирались по приличной дороге к Шаромам, Миньков успел осудить международный терроризм, политику Буша-младшего, чеченских сепаратистов и руководство леспромхоза – за то, что денег ни хрена не платят. Затем он подробно поведал о махинациях местной рыбной мафии, о разграблении лесных богатств, о холодах в студеную зимнюю пору, когда вода в сортире замерзает, а после начал строить планы, как вывести Россию вообще и Камчатку в частности из кризиса. Но так он развлекал Серова только до Шаром; дорога за рекой была такая, что они оба лишь лязгали зубами да чертыхались. Это удовольствие, то есть дорога туда и обратно, обошлось Серову в смешные деньги, сотня баксов водителю и двести – директору леспромхоза. За эту сумму Петрович был обязан доставить его к Крутой и забрать обратно дней через пять, когда завершится намеченная рекогносцировка. В чем она будет заключаться, Серов не знал. Его милицейско-цирковое образование не включало работу с приборами, и никаких представлений о том, как измеряют магнитное поле Земли или делают биохимический анализ почвы, у него не имелось. Скорее всего, прикидывал он, нужно побродить по окрестностям, осмотреть то место, где разбивали лагерь контактеры, пройти по их следам, хотя сомнительно, чтобы они остались, все же семь лет прошло. Но Добужинский был тут недавно, и какие-то знаки его присутствия могли сохраниться – вдруг наведут на верную мысль! О том, что кроме верной мысли он может и сам подхватить инфекцию или схлопотать другую неприятность, Серов как-то не думал. Азарт погони и поиска возбуждал его, прагматик ударился в бегство под натиском авантюриста, и это странным образом дарило ему чувство свободы и раскрепощенности. Впрочем, логика тоже не бездействовала; ему было ясно, что предстоит огромная работа – собрать информацию хотя бы о тех, кто побывал в камчатской и пермской зонах, выяснить, в порядке ли они или таинственно исчезли, разузнать, что им мерещилось во сне. Затем сопоставить сроки между посещением и исчезновением, которые весьма различны – от пары месяцев у Добужинского до двадцати пяти лет, как в случае Натальи Ртищевой. Может быть, тут есть закономерность, но на девяти примерах ее не установишь, нужна статистика посолидней. Люди любопытны, а это значит, что ходят они и здесь, и в Перми, и пропадают потом при непонятных обстоятельствах. Пожалуй, сотня наберется за полвека, прикинул Серов, в очередной раз лязгая зубами. Подкинуло круто – он стукнулся макушкой о потолок кабины. Петрович покосился на него, буркнул: «Держись, паря, скоро приедем. Щас полегше будет». И в самом деле, дорога пошла вверх, лес начал редеть и расступаться, а горы, маячившие вдалеке, словно прыгнули навстречу, явив зелено-золотое убранство склонов и скалистые снежные вершины. Снег, – подумал Серов, – начало сентября, а тут уже снег! Впрочем, в этой суровой земле снега могли быть вечными – горная цепь, к которой они приближались, была километра три высотой. – Здоровые, дьявол! – пробормотал Серов. – Чего? – Горы, говорю, высокие. Где тут Крутая? – Она, Андрюха, впереди. Десять кэмэ проедем, десять пехом пройдешь. Помене прочих будет, однако, мать ее, обрывиста! Наверх еще не залезали. Теперь Серов разглядел бурую сопку на фоне горного хребта. Она напоминала конус, воздвигнутый рядом с более крупными собратьями; редкий лес, ивняк да ольшаник, подступал к ее подножию, а дальше, словно контрфорсы гигантских замковых стен, возносились базальтовые утесы. Небо над ними было блеклым, цвета полинявших джинсов, и тянулись в нем, спеша к Охотскому морю, белые облака. Дикая, но величественная картина! Хоть Серов и потаскался по свету, а такого еще не видел. Задыхаясь и кашляя, вездеход вполз на пригорок с плоской вершиной. Петрович заглушил мотор, потянулся с хрустом и распахнул дверцу кабины. – Прибыли, паря! Вылезай! Я с тобой часок передохну да обратно почапаю. Добраться бы в Шаромы засветло… Там и заночую. – Ночуй со мной, – сказал Серов, выгружаясь и вытаскивая рюкзак, тючок с палаткой и ящик с консервами. Одет он был по-походному: джинсы, ковбойка, штормовка, высокие ботинки на ребристой подошве. К рюкзаку были принайтованы топор, котелок и нарезной карабин, одолженный ему директором леспромхоза. Так, на всякий случай. По словам директора, в предгорьях шатались медведи. – Не-а. – Петрович сел на пенек, вытащил сигареты, закурил. – Ночевать я тут не буду, а ежели чаем угостишь, не откажусь. Тут ручеек под холмиком… Сбегай за водой, а я костерок разложу. Когда Серов вернулся, костер уже пылал. Они заварили чай, открыли банку сгущенки и еще две, с мясными консервами, поели, глядя, как солнце медленно плывет вниз над горным хребтом. Прилегли на теплой земле у костра. – Что ночевать-то не хочешь? – спросил Серов. – Палатка у меня большая. – Зато место хреновое. Дело твое, Андрюха, кто деньги платит, тот и барин, но шкандыбать сюды на прогулки я бы не стал. – Почему? – А ты послухай… послухай, говорю… Птиц слышишь? Или каких жуков? Серов прислушался и покачал головой. Тишина и правда царила мертвая, только шелестели время от времени на ветру деревья. – Во! – сказал Миньков, многозначительно поднимая палец. – Ни птиц тут, ни зверья, ни пчелки завалящей… Карабинчик ты зря с собой прихватил, не бродят тут мишки. Во всей округе пустота. Они помолчали, потом Серов, сунув в огонь пару сухих ветвей, спросил снова: – Водил сюда многих, Петрович? – Нынешний год ты второй. Приезжал из ваших краев, из Москвы, мужик, богатый, важный… Одно слово – бис-мес-мент! Меня подрядил да Кольку Лохмача. Колька с ним тут остался, прислужником – костер жечь, воду таскать, жратву готовить… Видишь, вон проплешина? Так это их кострище. А палатку ставили под той ольхой, где земля помягше. Серов встрепенулся: – А где этот Колька теперь? Ничего с ним не случилось? Такого, знаешь ли, странного? – Что с ним будет!.. Пьянь и рвань! Насосется, влезет в драку, морду разобьют, вот и все тебе странное. Страньше этого с ним не бывает. – Того москвича богатого не Константином Николаевичем звали? Добужинский по фамилии? – Он, – кивнул Петрович. – Знакомец твой? – Да. – В подробности Серов не пожелал вдаваться. – Но ты ведь не только с ним сюда ездил? Были и другие любопытные? – Были, как не быть! Лет шесть али семь назад целая команда, парни и бабенка с ними… И до них были, и после них, но по одному, как ты, либо по двое. В девяносто девятом… – Петрович задумчиво потер небритую щеку, – нет, в девяносто восьмом еще команда подвалила, четверо, с Нижнего Новгорода, кажись. Но этих не я возил, эти вертушку нанимали. Сурьезные мужики! Всякой радиотехники навезли – двадцать ящиков! Васька-вертолетчик говорил, мерить тут что-то собирались. Серов приподнялся, сел, скрестив ноги. – Вот что, Петрович… Ты заработать хочешь? Вздрогнув, Миньков подозрительно уставился на него: – Кто ж не хочет… Я не пьянчужка Лохмач, у меня семейство есть, и всякая деньга не лишняя… Только я тут не останусь, хоть озолоти! Не останусь, паря! – Да я не о том, – сказал Серов, с досадой махнув рукой. – Ты мне список составь, кого сюда водил. Имя, фамилия, из какого города… в общем, все, что припомнишь. С Васькой-вертолетчиком потолкуй о тех четверых из Нижнего… Десять баксов за голову плачу. Согласен? – Ну! – Петрович расслабился. – Список – это можно. Это, брат, другое дело. Сам я не мастак писать, однако продиктую, а Ксюшка, дочка моя, запишет. Память-то у меня хорошая… И с Василием потолкую. А делиться с ним надо? – Не надо. Хочешь, так пива ему поставь. Пиши список, только по-честному, лишнего не сочиняй. Кивнув, Миньков поднялся и направился к вездеходу. Чихнул двигатель, потом взревел, машина развернулась и, набирая скорость, покатилась с пригорка. Серов, повернувшись к ней спиной, неторопливо распаковал палатку, вытащил спальник и занялся обустройством лагеря. К тому времени, когда солнце скрылось за горами, палатка уже стояла, имущество было разложено по карманам, у костра громоздилась куча хвороста, а в котелке булькало варево, тушенка с пшенной кашей. Осмотрев карабин, Серов пальнул в воздух, убедился, что оружие в порядке, и сунул его под рюкзак, рядом со спальником. Место, может, и безлюдное, ни зверей, ни птиц, но береженого Бог бережет… Он поужинал, залез в палатку и уснул.* * *
Утром, при ярком свете, Серов больше часа осматривал вершину пригорка. Место тут было слегка возвышенное, около воды и ольшаника с сухостоем, по всем параметрам пригодное для лагеря, конечная точка автомобильного маршрута, дальше которой проехать нельзя. Тут, вероятно, все и останавливались, не исключая прибывших вертолетом нижегородцев, от которых остались в кустах обрезки проводов, разбитый амперметр и кучка старых батареек. Еще Серов обнаружил десяток ржавых консервных банок, бутылку из-под водки «Сибирская», дюралевый колышек от палатки и полусгнившие газетные обрывки. Все это, как и темные проплешины кострищ и вырубленный кое-где ольшаник, было явным доказательством того, что сопку Крутую посещали, посещают и, вероятно, будут посещать. Природа людская полна противоречий, думал Серов, шаря под кустами и в жухлой траве. Кто в Бога верует, кто в пришельцев, кто в Атлантиду или Шамбалу, а расскажи им про эти исчезновения – засмеют! Где это видано, чтоб человек растаял без следа! И почему? Лишь потому, что побывал в определенном месте, здесь, у этой сопки, или, положим, в Перми, в норвежских горах и прочей глухомани, куда не всякий забредет! Может, одни идиоты и забредают? Генетический дефект у них такой, а аномальная зона с ним резонирует, и в результате – пафф! – и нет придурка. Вот Колька Лохмач, нормальный парень, пьянь да рвань, и с ним ничего плохого не случилось, кроме битой морды… Хотя не факт; сейчас не случилось, но может случиться в будущем. Серов пожал плечами, прихватил карабин и флягу с водой и начал спускаться с пригорка. Местность между ним и сопкой поросла корявыми деревьями и для любого транспорта была совершенно недоступной. Имелись тут овраги и большие камни, торчавшие из земли, скользкие предательские откосы, покрытые гниющей листвой, ямы и упавшие деревья, но в общем и целом для человека молодого и в хорошей форме неодолимых препятствий не было. Пробираясь этой чащобой, Серов то и дело узнавал ориентиры, описанные Елисеевым, – приметный валун, похожий на моржа, ручей в глубоком овраге, холм с расщепленным стволом сосны, плоскую каменную плиту, похожую на надгробье могилы почившего великана. Чувствовал он себя отлично, никаких вредоносных вирусов или иных феноменов не замечал и одолел нелегкий путь за два часа. Если что тут и казалось странным, так это тишина, какой не бывает в лесу, а тем более в дикой местности, свободной от дорог, заводов и домов. Тишина Серову была неприятна; повоевав в Чечне, он относился к ней с подозрением. Ничего плохого, однако, не произошло, и, выбравшись из чащи, он поднялся по крутому косогору прямо к скалам. Две из них выдавались вперед, точно пара столбов, подпирающих сопку; над ними нависал карниз, склон горы между скалами был гладким и отвесным, так что все образование в самом деле напоминало гигантские врата. Ровная площадка под ними носила следы человеческого присутствия: тут валялись раздавленная пластиковая бутыль, рваная подметка и две пустые банки из-под краски. На темной каменной поверхности виднелась надпись: «Понедельник, Кадинов, Штильмарк, Ковальская, Таншара, Елисеев, 1995 год». Взглянув на нее, Серов с неодобрением покачал головой и буркнул: – А вот об этом, друг Елисеев, у тебя не написано. Нехорошо! Добро бы в Крыму отметился или на Кавказе… А тут как-никак аномальная зона, святое место! Но после недолгих поисков он ничего аномального не обнаружил, кроме еще одной надписи: «Чередниченко, Невинный, Шуйский, Манин. Нижегородский Политех, 1998». Срисовав ее в блокнот, Серов с минуту размышлял, платить ли Петровичу за эту четверку; потом решил, что сорок баксов деньги невеликие и скупиться, пожалуй, не стоит. Он посмотрел на солнце, потом на часы и выяснил, что уже перевалило за полдень. Часы у Серова были отменные, самозаводящиеся, швейцарский брегет «Орион» на пятнадцати камнях, коему не страшны ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Памятные часики, дар того клиента, который прислал к нему Добужинскую. Ценный подарок, но и причина к тому была – сына Сергея Егоровича Серов вытащил из такой клоаки, что страшно вспоминать. Прищурившись, он снова поглядел на солнце, потом окинул взглядом каменные врата и расстилавшийся у подножия сопки пейзаж. Овраги, ручьи, валуны, кривые сосны да ольшаник… Девственная картина! Если, конечно, не считать надписей на скале, банок, бутылок и всего прочего. Шагая по площадке у ворот, почти не разжимая губ, Серов замычал:* * *
В салоне было прохладно, и штормовку Серов не снял. Когда «Ту», пробив облака, поднялся в голубое небо, он вытащил из кармана блокнот с вложенным в него листком, посланием от Петровича, развернул его и внимательно изучил список. Память у проводника-водителя была хорошей, и, очевидно, с Васькой-вертолетчиком он был в отличных отношениях: восемнадцать имен, а иногда и фамилий, включая нижегородскую группу. Если все эти люди исчезли, то теперь, вместе с Ртищевой и Губертом Фриком, набиралось двадцать человек. Пермская зона могла бы дать и больше, подумал Серов; Пермь гораздо ближе к центру, на поезде можно добраться, что не в пример дешевле самолета. Придется, видно, и туда сгонять… Появились стюардессы с напитками и завтраком. Серов, сидевший у прохода, передал подносики соседям, мужчине с деловитой физиономией и говорливой старушке, летевшей к невестке и сыну в Москву. Курица, сыр, белые булочки, пирожное, сок и кофе… После недели на консервах аэрофлотовское угощение казалось роскошным пиром. Серов взял коньяка, выпил янтарную жидкость, убедился, что коньяк хорош, заказал еще и вытянулся в кресле. Деловитый сосед предпочел водку. Они чокнулись и пожелали друг другу успешного приземления. Коньяк ли был тому виной или приятные личики стюардесс, но только мрачное настроение стало покидать Серова. Он подумал, что путешествие к сопке Крутой вовсе не было бесцельным, как казалось еще получасом раньше. Во-первых, он убедился, что все фигуранты, и шестеро контактеров, и Добужинский, в самом деле добрались до аномальной зоны, а значит, рукопись Елисеева не полный бред. Здесь он, можно сказать, двигался по стопам Добужинского, тоже желавшего разобраться, что ему подсунули – то ли описание реальных событий, то ли фантастический сюжет. Во-вторых, отыскался важный свидетель, которого, так или иначе, пришлось бы доставать и опрашивать. Этот свидетель дал ценные показания (Серов пощупал блокнот в кармане куртки), и теперь, если пополнить их хотя бы десятком других имен, можно заняться статистикой. К примеру, выяснить, с чем связаны разные сроки исчезновений после таких аномальных прогулок – с возрастом, полом, психическим складом или, что вероятней всего, с временем пребывания в зоне. Ну и в-третьих, наконец… Самое, быть может, главное в том и состоит, что он побывал в географическом пункте, где завязались все события. Он видел своими глазами сопку, следы присутствия пропавших, остановился там, где они жили, жег костер около их кострищ… Это, как ни крути, впечатления! Когда-нибудь что-то всплывет, потянет за собою мысль, идею… что-то более здравое, чем нелепые выдумки контактеров… Усмехнувшись, Серов пригубил коньяк и полез в карман за блокнотом, освежить в памяти полный список. Рукав штормовки задрался, в глаза ему бросились часы, и он остановил движение. С часами, драгоценным швейцарским изделием за тысячу баксов, произошел непорядок: если верить табло в аэропорту, они отстали на две с половиной минуты. Невероятный случай! До сих пор точность хода у них была потрясающая – за месяц они уходили на пару секунд, и подводил их Серов единожды в год, на Рождество. Не вынесли походных условий?.. – мелькнуло у него в голове. Он наклонился к деловитому соседу, тронул его за рукав, спросил: – У вас точные часы? Время не подскажете? – Точные, как в аптеке, – проинформировал сосед, поднимая к лицу запястье. – Сейчас… Но окончания фразы Серов не расслышал. Взгляд его остекленел, белесая пелена сгустилась перед глазами, тело будто бы потеряло вес, и пронзительный звенящий звук начал пробуравливать виски. Он дернул головой, пытаясь избавиться от этого визга, и потерял сознание. Вскрикнула старушка, застыл мужчина с поднятой рукой. Кресло рядом с ним опустело.Часть 2 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
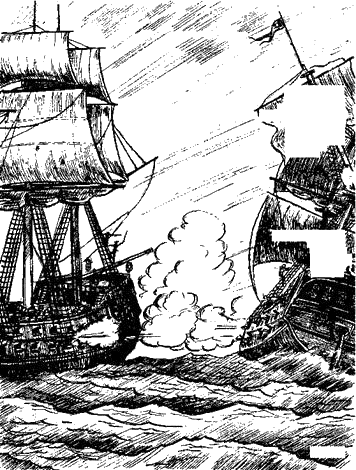
Глава 4 ФРЕГАТ «ВОРОН»
Он не мог пошевелиться. То была не судорога, не мышечный спазм – просто ощущение, что тело вдруг превратилось в камень. Серов не чувствовал конечностей, не шевелились губы, не двигались веки; перед глазами – полная тьма. Это было страшно! Но в то же время он сознавал, что жив, и даже помнил, что должен находиться сейчас в салоне авиалайнера, летящего над Охотским морем на высоте десяти километров. Не чувства, но разум и память убеждали в этом, и, справившись с первым приступом паники, Серов решил, что поражен внезапным недугом. Вот только каким? Паралич, инфаркт, инсульт? Нелепое предположение! Он был не только физически крепок, но отличался завидным здоровьем и никогда не болел, если не считать чеченского ранения. Хотя, подумалось Серову, и на старуху бывает проруха. Ну, надо полагать, сейчас ему окажут помощь. Прибежит стюардесса с аптечкой, спросит, нет ли врача среди пассажиров, что-нибудь вколят или сунут в рот таблетку… только бы зубы разжать… Зубы не разжимались, зато он начал фиксировать запахи и звуки. Ароматы были совсем не самолетные – пахло вроде бы смоленым деревом, пропотевшей кожей и чем-то незнакомым, кислым. Звуки постепенно превращались в речь, но тоже странную – слова как будто знакомы, а сути не уловить. Два голоса, бормочут над ним, гудят, шелестят… Голоса мужские; непохоже, чтобы хлопотала стюардесса. Один голос низкий, басистый, хотя его обладатель пытается изъясняться шепотом, другой повыше, слегка визгливый. О чем толкуют? Что-то щелкнуло у Серова в голове, и услышанное стало обретать содержание и смысл. Сперва он понял, что говорят на английском – вернее, на диалекте английского, который он понимал с напряжением. Явно не кембриджский акцент и не американский, хотя в Америке по-всякому болтают – уроженца южных штатов не сразу и поймешь. Наверное, случай как раз такой… Нашелся в самолете врач – даже два врача! – из Алабамы или Джорджии, и сейчас они соображают, что ему вколоть. А может, уже и вкололи – кажется, полегче стало. Правда, чуть-чуть… Но ощущения восстанавливаются – глаз не открыть, зато появилось чувство твердого под спиной и ягодицами. Из кресла вынули, на пол положили, – мелькнула мысль. Серов прислушался, стараясь связать воедино невнятные фразы, и волна ужаса вновь затопила его. Нет, эти «врачи» толковали не о здоровье пациента! Беседа шла о чем-то непонятном, невозможном, словно он находился не в самолете, а лежал в луже у пивного ларька. Или, скажем, у дверей шалмана, откуда его и этих двоих выкинули за пьяный дебош. – Где мы этого ублюдка подобрали? – гудел басистый. – Где? Где, Мортимер? – Прах и пепел! В «Старом Пью», где же еще! Парень с французского капера… с этого, с «Викторьеза»… Ну, Хенк, дырявая башка! Не помнишь? – Помню, – басил Хенк. – Хранцузика помню… как пили, помню… как ты сапоги на бутылку сменял, тоже помню… еще – как хранцуз под лавку свалился… – Свалился! – визгливо подтвердил Мортимер. – А ты, дубина, его на плечо и поволок! Хотел до пирса дотащить! А приволок сюда! Помнишь? – Ни дьявола не помню, Морти! – Х-ха! Святой Петр, ключарь небесный! И я не помню! Ну и нарезались мы, Хенк! – Точно, Мортимер… крепко надрались… А пили-то что? Джин или ром? – А все и пили… И этого француза ты, должно быть, сюда принес. Ты, чтоб мне в аду гореть! Ты здоровый лоб, я бы такого не допер! Ты притащил, иначе откуда он тут взялся? Молчание. Мышцы и суставы Серова начали болеть, словно его растягивали на дыбе, но вместе с болью возвращались тактильные ошущения. Он уже твердо уверился, что лежит на чем-то жестком, и эта поверхность, твердая и шершавая, колышется вместе с ним вверх и вниз. В такт этим неспешным колебаниям скакали его мысли. Что за Хенк и Мортимер? Что за французский капер? Что за ром и джин? В самолете он пил коньяк… И почему эти типы говорят на английском? – Башка трещит, Морти, – гулким басом промолвил Хенк. – Джину врезали, не иначе… Джин у папаши Пью голландский, быка свалит с копыт. – Свалит, – подтвердил Мортимер. Потом с тоской признался: – Сапоги-то я пропил… Хорошие были сапоги, я их с дохлого испанца снял… – Другого разуешь, – утешил Хенк. – Разуешь! А до того пятками о палубу тереться? – Тишина, потом неуверенный голос: – А башмаки у этого француза отменные. И куртка новая, крепкая… Из парусины, что ли? Француз! Это он обо мне, сообразал Серов. Что-то случилось с самолетом – наверное, что-то страшное. Похоже, террористы захватили. Пустили сонный газ или ему, Серову, врезали персонально по черепушке… Он был без сознания, когда угнали лайнер – скажем, в Новую Зеландию или на остров Барбадос. Выкинули пассажиров черт-те куда, и теперь его, беспомощного, хотят обобрать местные шаромыжники. Ну, не совсем беспомощного, отметил он. Телесные силы прибывали с каждой секундой, пальцы уже шевелились, и, осторожно напрягая бицепсы и мышцы бедра, он чувствовал их привычную мощь и упругость. Веки Серова дрогнули и слегка приподнялись. Он разглядел низкий потолок из брусьев и потемневших, плотно пригнанных досок, квадратное отверстие в стене, сквозь которое струился яркий солнечный свет, и какую-то блестящую цилиндрическую махину на деревянном станке с колесами, торчавшую перед отверстием. Одновременно с этим он ощутил, как кто-то тянет его за ногу и, похоже, начинает расшнуровывать ботинок. К местным бандюгам попал, мелькнуло у него в голове. Солнце теплое, щедрое – наверняка тропики. А чем страна жарче, тем меньше в ней порядка и законности… Куда тут власти смотрят? Нет чтобы помощь потерпевшим оказать! Гражданам великой Российской державы! Бросили, как последнее дерьмо… А эти гады, Мортимер и Хенк, затащили в какой-то лабаз и раздевают! – Ты, Морти, полегче, – прогудел справа басистый голос Хенка. – Хоть хранцуз, а свой! Не гоже башмаки с него сдирать! Не по понятиям Берегового братства! Старик узнает, без руки останешься! – Прах и пепел! – визгливый голос Мортимера ударил в уши. – Какой еще свой? Он что, к Старику нанимался? Он с «Викторьеза» и контракт с Кловетом подписывал, с жирной задницей! С «Викторьеза», а тут «Ворон»! – Ну и что? – А то, что его башмаки – моя законная добыча! На твои-то копыта они не налезут! – И не надо, я и так в сапогах, – буркнул Хенк. —А ублюдок этот хоть с «Викторьеза», хоть хранцуз, а все одно свой. Пили ведь вместе! – Пили вместе, но пропили мои сапоги. Имею я право на возмещение? Имею! Не иначе, как святой Петр послал мне этого француза, с башмаками, штанами и курткой. Штаны тоже неплохие, прочные. Я их сейчас… Убедившись, что ступор прошел и тело ему повинуется, Серов выгнулся дугой и разом вскочил на ноги. Несложный трюк для бывшего гимнаста… Правда, потолок был низковат, и он слегка приложился макушкой, но это его не задержало: в следующую секунду он стукнул носком башмака в челюсть сидевшего на корточках Мортимера. Хорошо приложил – того будто ветром снесло. – 3-законная добыча, г-говоришь? – прохрипел Серов, шагнул и сгреб упавшего за ворот. – Б-будет тебе добыча, гаденыш! За ноги подвешу, растлитель малолетних! Кто-то огромный и сильный, как медведь, навалился на него сзади. Хенк, сообразил Серов, попытался разомкнуть хватку, а когда это не вышло, лягнул противника в колено. Богатырские объятия ослабли, Хенк взвыл, и тут же локоть Серова заехал ему в живот. Вывернувшись и отпрыгнув в сторону, Серов добавил ребром ладони по шее – рука загудела, словно наткнулась на чугунную колонну. Здоровый хмырь, мелькнуло в голове. Впрочем, ничего опасного в том не было – двум неуклюжим мошенникам не выстоять против тренированного бойца. Что у них было, кроме нахальства и кулаков? Ровным счетом ничего. Ничего, что представляло бы проблему для Серова. Он стремительно крутанулся на пятке, озирая поле битвы, резко выдохнул да так и застыл с раскрытым ртом. Вытянутое низкое помещение тянулось налево и направо, метров на пятнадцать туда и сюда; сверху нависал уже знакомый потолок с какими-то тюками, подвешенными к нему, торцовые стены были вроде бы глухими, а в боковых по всей длине зияли квадратные дыры или, возможно, бойницы. Кроме всех этих странностей, пол раскачивался, и его, вместе с потолком, пронзали толстенные гладкие столбы, а около них были лестницы, две или три, Серов не разглядел из-за царившего тут полумрака. Но не столбы, не лестницы, не стены с бойницами ошеломили его, а то, что стояло перед ними: ряд сверкающих медных орудий на дубовых лафетах. Пушки были надраены до блеска и украшены причудливыми литыми узорами; рядом, в глубоких ящиках, лежали ядра размером с солидную дыню, а с ними – чем-то набитые длинные полотняные мешочки, ветошь и приспособления, напоминавшие кочергу. Музейные экспонаты? Но на музей это решительно не походило – от пушек и ящиков тянуло гарью и чем-то кислым, пол под ногами мерно колыхался, а в квадратных амбразурах мелькали то лазурное безоблачное небо, то сине-зеленая поверхность океанских вод. Запах пороха, догадался Серов, а пол – вовсе не пол, а палуба. Дьявол, куда он попал? Размышлять об этом было некогда – Мортимер поднялся, держась за челюсть, и вытащил из-за пояса нож. Не очень длинный – так, в половину руки. Стоял он на слегка расставленных и согнутых ногах, будто врос босыми ступнями в палубу, и чувствовалось, что эта поза для него привычна и естественна. Слева надвигался Хенк, похожий на гориллу в разноцветных отрепьях, шагал неторопливо и поигрывал какой-то увесистой штуковиной – кажется, банником, которым забивают порох в пушку. Физиономию его Серов рассмотреть не мог, ее почти что не было видно, так как усы и борода смыкались с падавшими на лоб волосами, но голос слышал вполне отчетливо. – Что ж ты, рожа хранцузская, нас обижаешь? Пили вместе, жрали вместе, и тащил я тебя половину лиги[340], а ты костылем в колено? Нехорошо-о! Не хочешь делиться с Мортимером, так и скажи, моча черепашья! А в зубы зачем? Или по колену? Господь наш сказал: зуб за зуб, око за око! А про колено Господь не говорил… ничего не говорил… за колено я что захочу, то из тебя и выну… печенку выну или яйца оторву… Решив, что нож все же опаснее банника, Серов двинулся к Мортимеру, тот прыгнул ему навстречу, размахивая тесаком, и напоролся на сильный удар по запястью. Клинок отлетел, звякнул о ствол орудия, и в ту же секунду, слыша сопение за спиной, Серов приник к палубе. Дубина, которой орудовал Хенк, свистнула над ним, зацепив плечо Мортимера. Тот заорал, поминая пепел, прах и акулье брюхо, в котором Хенку предстоит скончаться без христианского погребения. Серов, оставаясь в нижней позиции, ударил ногой, попал по щиколотке Хенка, свалив его на палубу. Весил Хенк порядочно, не меньше центнера, и грохот был такой, словно упала со станины пушка. Серов вскочил, противники поднялись следом за ним. Хенк прихрамывал, у Мортимера текла кровь из рассеченной губы, но оба, хищно ощерясь, двинулись к нему. Упорные ребята, подумал Серов. О каратэ и самбо ноль понятия, но энтузиазма хоть отбавляй! Он уже собрался заехать Хенку в солнечное сплетение, как где-то над ним – кажется, с одной из лестниц – раздался голос: – Вот вы где, сучьи дети, висельники проклятые! – И сразу: – Драка на судне? Ушат помоев на ваши головы! Сюда, вы, трое! Мортимер воровато подобрал свой нож, сунул за пояс и встал навытяжку. Хенк потер колено и тоже выпрямился. С трапа на них глядел невысокий коренастый человек, круглая голова которого, казалось, была утоплена прямо в плечи. Из-за скудости освещения Серов не видел ни лица его, ни одежды, но тон не оставлял сомнений, что перед ним начальник. Скорее всего, сержант или старшина – только эти чины умели так рычать и рявкать. – Мы, мастер Стур… – начал Мортимер, но круглоголовый его перебил: – Вы оба – дерьмо в штанах! Марш на палубу! – Он повернулся к Серову: – А это кто такой? Тоже наверх, бездельник! Пил с вами разберется! Наверх так наверх, подумал Серов, взбираясь по крутой лестнице – нет, то была не лестница вовсе, а трап! Отметив это, он пролез вслед за Мортимером в широкое отверстие люка, шагнул на гладкие доски палубы, огляделся и судорожно сглотнул. Еще одно потрясение, такое же, как при взгляде на медные пушки… Солнце жарило нещадно, но он почувствовал холод между лопатками. Все вокруг было таким реальным, вещественным – и в то же время таким невозможным! Громада белых, полных ветра парусов вздымалась над Серовым, шептала, шелестела, напевала морские песенки; чуть слышно гудели канаты, поскрипывало дерево о дерево, шипели волны под носом корабля. Он стоял в середине, между мачтами, и мог окинуть взглядом всю палубу и невысокую надстройку, располагавшуюся ближе к корме. Народа тут была масса, не меньше сотни человек, облаченных странно и причудливо – то полуголые, в одних штанах, подпоясанных ремнями и шарфами, то в рубахах и рваных безрукавках, то в длиннополых старомодных одеяниях, кафтанах или камзолах. Большинство без шляп и босые, но кое-кто носил башмаки или сапоги с широкими раструбами и шапки странного вида. Ножи и кинжалы разнообразных размеров и форм имелись у всех, иногда свисавшие с ремней, иногда заткнутые за пояс или за голенище, но другого оружия Седов не видел. Впрочем, не пестрота одежд, не дубленная ветрами кожа и не эти клинки являлись общим признаком, а глаза и лица. Свирепые, одинаково хищные, как у голодных волков или пантер, они показались Серову похожими, словно все тут были братья-близнецы: смуглые разбойные хари, нечесаные бороды, прищуренные глаза, оскаленные в ухмылке зубы… Разглядеть команду подробнее Серов не успел – коренастый мастер Стур толкнул его в спину и тут же направил к кормовой надстройке крепким пинком. Там, у трапа, стоял мужчина лет сорока с холодной замкнутой физиономией, темными глазами и мощной, выдающейся вперед нижней челюстью. Одет он был гораздо лучше прочих моряков: фиолетовый камзол с кружевами, того же цвета штаны, добротные сапоги; на перевязи болталась длинная шпага, за пояс заткнут пистолет. Зрачки у него были как два сверла, какими дырявят бетонные стены. Шагнув к Мортимеру и Хенку, человек в фиолетовом глубоко втянул носом воздух. – Ром и джин, – ледяным тоном молвил он, глядя на двух приятелей, словно на подлежащих вивисекции макак. Потом повернулся к Серову, тоже понюхал и задумчиво сморщился: – Вино? Нет, крепковато для вина… Ты откуда взялся, крыса? Кто такой? Спокойно, сказал себе Серов, спокойно; в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Тем более когда командует в нем этакий тип. Сразу видно, опасная гадина… Он вытянулся по стойке «смирно» и доложил: – Андре Серра, с французского капера «Викторьез»! – Мастер Стур ткнул его в почки кулаком, и Серов, будто по наитию, добавил: – Сэр! – Что-нибудь еще, боцман? – холодный взгляд фиолетового обратился к Стуру. – Эти двое, – Стур кивнул на Хенка и Мортимера, – вчера загуляли, мистер Пил. Притащили француза и легли отсыпаться на пушечной палубе. Потом затеяли драку. Прикажете их к капитану? – К капитану? Зачем? Обычное наказание, боцман: три раза под килем, чтобы протрезвели. Потом – в карцер. С этими словами Пил развернулся и стал подниматься по трапу. – Эй! – крикнул Серов. – Я-то в чем виноват? Они хотели меня… – Шесть раз! И не спешить! – донеслось сверху, и боцман тотчас выкрикнул: – Эрик, Хрипатый Боб! Завести канаты! Хейнар, Олаф, Стиг – сюда! Серов дернулся, но его уже валили на палубу, сдирали куртку, вязали руки и ноги. Делалось все быстро и сноровисто – он и глазом не успел моргнуть, как был упакован в лучших традициях российских мафиози. Закончив с ним, трое крепких светловолосых моряков взялись за Мортимера и Хенка. Те не оказывали сопротивления, даже Хенк, огромный, как медведь; видно, процедура была для них привычной. Тем временем экипаж столпился у бортов, подбадривая светловолосых гиканьем и улюлюканьем; перед затуманенным взглядом Серова вновь замаячили ощеренные рты, смуглые, опаленные солнцем плечи и спины, развевающиеся по ветру лохмотья. Похоже, в команде бились об заклад: ежели появится акула, то что она отхватит – руку, ногу или какой-то орган поважней. – Француза первым! – рявкнул боцман Стур, и Серов почувствовал, как его поднимают. Затем сине-зеленые волны стремительно полетели навстречу, он извернулся, пытаясь защитить лицо, успел глотнуть воздуха и с громким всплеском погрузился в морскую пучину. Тишина, покой, прохлада объяли его. Он видел неясные тени, скользившие под ним, белесые и серые, похожие формой на торпеду; он видел, как колышется вверху поверхность моря, пронизанная золотистыми лучами; видел, как свет тускнеет, уходит в глубину, в темную бездну, откуда нет возврата. Выдохнуть воздух, мелькнула мысль. Выдохнуть, закрыть глаза и погрузиться в соленую тихую пропасть… Возможно, это лучший выход? Нет! Никогда! Преодолев приступ малодушия, он задергался, как рыба на крючке. Канат, обхвативший его пояс, тащил под выпуклое днище корабля, мимо досок, покрытых ракушками и водорослями; предохраняя голову, он упирался в них руками и ногами. Тащили его не спеша, и когда Серов миновал киль, тоже обросший морской живностью, в ушах зазвенело, и он почти потерял сознание. Прошла, казалось, вечность, пока его тянули вверх; он вынырнул, задыхаясь и кашляя, сделал три или четыре глубоких вдоха и снова очутился под водой. На этот раз он не глядел на игру солнечных лучей и смутные рыбьи силуэты – он ненавидел. Лицо и холодные глаза Пила стояли перед ним, вызывая необоримое желание вцепиться ему в шею, стиснуть пальцы, сдавить кадык, вывернуть голову, переломать позвоночник. Пил, однако, был не единственным объектом ненависти – то же чувство вызывали боцман Стур, троица вязавших его светловолосых, Хенк с Мортимером и все эти смуглые уголовники, что толпились сейчас на палубе и развлекались его мукой. Если бы он мог, то сломал бы им хребты – древним монгольским способом, так, как учили в ОМОНе: коленом в спину, хват под подбородок, и тянуть, пока не захрустит. Он глотнул воздуха во второй раз и скрылся под волнами, едва ли не слыша этот упоительный хруст, едва ли не ощущая обмякшее тело под руками. Так уже было… было однажды… Кажется, семнадцатый случай в его практике? В Ульяновске? Нет, в Тамбове… Кого он тогда искал? Очередного бизнесмена? Нет, журналиста… точнее, журналистку, мать троих детей. Нашел ее в гараже, в яме, голую, замерзшую, избитую… хуже, чем у чеченов в плену… Вытащить не успел, как заявились двое. Одному он проломил череп гаечным ключом, с другим схватился врукопашную, сбил наземь и, ошалев от ярости, прикончил. Тем самым монгольским способом… Ярость снова вскипела в нем, холодная ярость сильного человека, подвергнутого унижению и пытке. Он уже не считал, сколько раз его протащили под судном, сколько досталось ему глотков воздуха и сколько соленой воды попало в легкие и желудок; судорожно скрючив пальцы, хрипя и отплевываясь, он думал лишь о том, что месть окажется сладкой. Еще не зная, когда и как, он был уверен, что либо пустит этот корабль на дно, либо станет его повелителем, первым после Бога, в чьей власти миловать или казнить. Так оно и будет, сказал себе Серов и отключился. Когда его вытащили на палубу и развязали, ему вдруг привиделось женское лицо – синие глаза под выгоревшими бровями, маленький изящный носик, упрямый подбородок, пряди светлых, цвета спелой пшеницы, волос. «Мираж, – подумал Седов, обвисая в руках тащивших его людей, – бред, иллюзия…» Его швырнули в какую-то каморку, и он лишился чувств.* * *
Вторично воспрянув к жизни, он понял, что карцером здесь служила плотницкая кладовая. Вдоль одной стены были навалены брусья и доски, у другой стояли пахучие бочонки с дегтем или смолой, а в ящиках, занимавших дальний от двери угол, содержался примитивный инструмент, топоры, пилы, долото и неуклюжая штуковина, напоминавшая рубанок. Места оставалось мало, но Мортимер и Хенк использовали его с толком: сидели под дверью и метали кости. Теперь Седову удалось как следует их рассмотреть. Мортимер был невысок и жилист, примерно его лет, с хитрой рожей, на которой самой выдающейся деталью являлся длинный крючковатый нос. Лицо его носило следы многих пороков; можно было гарантировать, что парень он ушлый, в выпивке и бабах понимает толк иумеет хорошо считать монеты в чужих кошельках. Хенк, тот был постарше и попроще. Здоровый, словно шкаф, обросший бородой, он походил на йети: лоб в два пальца, брови, нависшие над крохотными глазками, нос картошкой и толстые, как у негра, губы. В общем, не оставалось сомнений, что Мортимер ворюга и плут, а Хенк – честный головорез, из тех, что кишки выпустит врагу и ляжет костьми за друга. Стучали кости, и, словно аккомпанируя им, раздавались проклятия Хенка и хихиканье Мортимеpa. Серов лежал, не двигаясь и даже не пытаясь сообразить, куда его занесло, будто чувствовал, что для раздумий на эту тему информации пока что недостаточно. Инстинкт детектива: если чего-то не знаешь, слушай и молчи, молчи и слушай. Палуба под ним покачивалась, солнечный луч, падавший из крохотного оконца, скользил по стене, и воздуха было сколько угодно – теплого, ласкового, полного пряных морских ароматов. Стук, стук, стук… – Клянусь Христом Спасителем! – вдруг произнес Мортимер. – Сомневаюсь я! – Чего? – пробасил Хенк, подбрасывая кости. – С этим ли французом мы надрались у «Старого Пью»? Тот вроде тощий и низенький был, а в этом шесть футов роста! Опять же башмаки… Не помню таких башмаков у того, а вот кольцо на пальце было! Золотая печатка с красным камушком… Ежели он тот француз, так где кольцо? – Может, ты его пригрел? Возмущенное фырканье. – Если пригрел, так где оно? Я, брат, золотых колечек не теряю! – Пропили вместе с твоими сапогами, – предположил Хенк. – А хранцузик тот! Иначе откуда он взялся на «Вороне»? Стук, стук, стук… – Старик нанял, – промолвил Мортимер. – Нанял, а Пилу и боцману не сказал. Забыл! – Старик ничего не забывает, – возразил Хенк. – Опять же, ежели нанял, так чего хранцуз отсыпался с нами на пушечной палубе? В море-то рано вышли… Чего он дрых, Морти, а не скакал по реям? – Да уж, скакать он здоров! – сменил тему Мортимер. – Как по колену тебе врезал! Шустрый! – Ногами дрыгает, – неодобрительно буркнул Хенк. – Французы все такие. Папаша – упокой Господь его душу! – говорил, что это у них от пристрастия к танцам. Но этот как-то по-иному дергался. Слышал я, что турки-нехристи особую борьбу изобрели – то по яйцам ногами, то в рожу. Надо бы у Фарука спросить… он, должно быть, знает. – Чего не придумают псы магометские на погибель честным христианам! – сказал Хенк, сплюнул и перекрестился. Стук, стук, стук… Решив, что больше ничего полезного не услышит, Серов пошевелился и сел. Стук сразу прекратился. С минуту Мортимер и Хенк глядели на него, а он рассматривал их, с удивлением отмечая, что не испытывает к ним ни злобы, ни особой неприязни. К тому же все имущество было на месте, и башмаки, и куртка, которую сунули под голову, и даже часы. – Хрм… – произнес наконец Седов. – Что мы вчера пили, братцы? Что ели и где сидели? Он решил твердо придерживаться версии о своем французском происхождении и капере, который доставил его в эти удивительные края. Он чувствовал, что все другие варианты чреваты большими неприятностями, в сравнении с коими купанье под килем – детские забавы. Инстинкт подсказывал ему, что впредь, до выяснения всех обстоятельств, лучше оставаться Андре Серра, внебрачным сыном маркиза из Нормандии, как его далекий предок Пьер. Огромная ладонь Хенка гулко стукнула о спину Мортимера. – Ха! А я что говорил? Тот хранцузик, тот! Мортимер поморщился и почесал между лопаток. – Пили джин и ром, ели индюка, а сидели в кабаке папаши Пью. Лучший кабак в Бас-Тере! – В Бас-Тере, значит… – повторил Серов. Он точно помнил, что летел с Камчатки в Москву, а не в этот неведомый Бас-Тер. Даже место с таким названием было ему незнакомо. Почесав в затылке, он поинтересовался: – А где это? Где этот чертов Бас-Тер? – Или все еще пьян, или безумен, – буркнул Мортимер. – Прах и пепел! То-то, гляжу, он на нас набросился! Как есть бесноватый! Из-за такого ублюдка нас трижды прополоскали! – Ну, а меня шесть раз, – миролюбиво заметил Серов. – Так где же все-таки кабак папаши Пью? – В Бас-Тере, на Тортуге, – прогудел Хенк. – В одном плевке от Эспаньолы[341]. – В Вест-Индии, – добавил Мортимер. – А сейчас мы где? – В той же Вест-Индии, лигах в пятнадцати к западу от Тортуги, – сообщил Мортимер, ковыряя в зубах. – Это корыто – фрегат «Ворон», двадцать четыре орудия и сто тридцать парней на палубе. Все пропили, прогуляли… Теперь идем испанца добывать. – Вот как, – молвил Серов и глубоко задумался. В Вест-Индию он вроде бы не собирался, и мыслей о том, как он сюда попал, у него не имелось. Ровным счетом никаких! Вздохнув, он спросил: – А что это значит – добывать испанца? Хенк с Мортимером переглянулись и захохотали. В смехе их не было ничего обидного – скорее удивление, чем издевка. Мортимер откинулся назад, прицелившись носом в потолок, Хенк согнулся и трясся, как в припадке лихорадки. Серов терпеливо ждал, рассматривая двух приятелей. Вернее, их одежду, тоже довольно странную: полотняные штаны до колена, цветастые рубахи с закатанными рукавами и широкие кожаные пояса. Хенк был в сапогах, Мортимер бос, зато его синяя рубаха выглядела целой, а у Хенка – сплошная рванина. Отсмеявшись, Мортимер сказал: – Ну, ты… как тебя?.. Эндрю?.. Ты-то сам чего сюда явился? За испанским золотишком или индюшек жрать? Карманцы у тебя, я думаю, дырявые… Думаю, ни земель, ни угодий у тебя не водится, а вот долгов – как навоза в хлеву! Еще думаю, не прикончил ли ты кого в своей прекрасной Франции? – Много думаешь, – буркнул Серов и погрузился в молчание. В голове у него царил кавардак, только крутились строчки из старинной песенки: пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома! Он уже не сомневался, что попал на пиратское судно, и оставалось лишь сообразить, как он очутился здесь и куда пропали самолеты, машины, небоскребы, трансатлантические лайнеры и другие признаки цивилизации. Хороший вопрос! Из тех, от которых едет крыша! Прищурившись, Мортимер поглядел на него и промолвил: – Ты, Эндрю, очень похож на парня, у которого проблемы. Я прав, Хенк? – Клянусь мачтой и якорем! – подтвердил его приятель. «Знали бы вы о моих проблемах!..» – с тоской подумал Серов, откашлялся и произнес: – Проблема, конечно, есть. Я ведь на «Викторьез» нанимался, а очутился на «Вороне». – Один дьявол, – утешил его Хенк, подбрасывая в огромной ладони кости. – Дерешься ты здорово, – добавил Мортимер. – Но зубы мои целы, и я на тебя сердца не держу. Покарай меня Господь, если так! И Хенк не держит… Верно, Хенк? – Верно, – прогудел великан. – Так что о «Викторьезе» ты забудь, а поклонись Старику и скажи, что спал и видел, как бы поплавать на «Вороне». А мы, – Мортимер положил руку на мощное плечо приятеля, – мы тебя в подельники возьмем. Ты как, Хенк? – Отчего же не взять. – Покосившись на Серова, Хенк потер колено. – Лягаться он горазд! – В подельники – это как? – полюбопытствовал Серов. – А так, – любезно сообщил Мортимер, – что если тебе кишки выпустят или вышибут мозги, то Хенк и я получим твою долю. Ну, а если с Хенком что случится, то мы с тобой его наследники. За свои мозги и кишки он, кажется, не беспокоился. Серов, впрочем, тоже; его больше интересовало, где он очутился и как попасть обратно в цивилизованное общество. Может быть, открыть глаза и проснуться? Но вроде бы глаза и так открыты… – Этот Старик, которому я должен поклониться, кто он такой? Пил, козлина фиолетовый? – Пил – помощник Старика, – объяснил Мортимер, – и с ним ты, парень, не заводись. Ради Христа и Девы Марии! Нам подельник с дырявой шкурой ни к чему, а Пил на это мастер – если не пулей достанет, так клинком. Из королевских флотских офицеров он, из благородных, да только неприятность нажил в Лондоне. Говорят, не тому селезенку проткнул, графу или герцогу… Нет, Старик у нас попроще! Старый добрый Джозеф Брукс с Барбадоса… Хотя под горячую руку лучше ему не попадаться – или башку проломит, или ножиком пырнет. Он у нас большой любитель ножиков. – Учту, – пообещал Серов, соображая, как бы подобраться к самому главному вопросу. Ничего не надумал и вымолвил: – Денек-то нынче хороший, солнечный… Вот только какой? Запамятовал я что-то. – Среда, – сказал Мортимер, – среда, а может, пятница. Надо у Тома Садлера спросить. Том – казначей и дни считать умеет. – Это не важно, среда или пятница, – буркнул Серов. – Я насчет года интересуюсь. Да и месяц бы узнать неплохо. Хенк вцепился в бороду, хлопнул глазами, а Мортимер издал странный звук, что-то среднее между хрюканьем и взвизгом. Потом он поглядел на Серова с сожалением, вздохнул и произнес: – Говорил мне папаша, что пьянство не к добру! Два стакана в день, и больше христианской душе не положено. Больше – это уже не от Господа, а от дьявола… А дьявол ум смущает, мрак наводит, от коего затмение в голове и нехороший трепет в членах. Дьявол, он во всяком кувшине, если допить его до дна! А ты сколько выпил? – Тут он уставился на Серова. – Сколько, спрашиваю? Не меньше четырех, должно быть, раз память отшибло! – Ты мне проповеди не читай, не старайся, – усмехнулся Серов. – Сам-то помнишь, какой нынче год? – Помню, помню! Я-то помню! – Мортимер погрозил ему пальцем. – Том Садлер говорит, что новый век недавно наступил, и в Старом Свете наступил, и в наших Индиях, и в Святой Земле, а это значит, что год у нас тысяча семьсот первый от Рождества Христова. Точно, тысяча семьсот первый! Чтоб мне дерьмом ослиным подавиться, если не так! Улыбка на лице Серова погасла.Глава 5 АБОРДАЖ
Вечером принесли еду – по два сухаря на нос, жесткую, как подошва, солонину и флягу с водой. Зубы у Серова были хорошие; он сгрыз сухари, прожевал мясо и, припомнив один из рекламных слоганов, буркнул: «Ваша собака светится здоровьем». Потом запил свой скудный ужин, сделав несколько глотков из фляги. Вода оставляла желать лучшего – набрали ее недавно, но она уже припахивала бочкой, которую наверняка не чистили пару лет. Вскоре Хенк и Мортимер захрапели, растянувшись около бочонков со смолой. Мортимер посвистывал носом, Хенк издавал мощные звуки, словно бульдозер, пытавшийся сдвинуть неподъемную кучу земли. Серов лег на спину, уставился в крохотное оконце, в котором сияли звезды, прислушался: кроме храпа доносился плеск волн, поскрипывание рангоута и негромкие голоса. Звезды тут были необычайно яркими, ярче, чем в Турции и Италии, где ему случалось бывать по розыскным делам. – Вест-Индия, – пробормотал Серов, – Мексиканский залив, Карибское море… Это какие же широты? В Старом Свете – Нигер, Египет, Аравия… Ну и занесло! Куда как далеко! И когда! Тысяча семьсот первый… Двести семьдесят лет до моего рождения! Он попробовал осмыслить это, но разум был тут плохим помощником. Разум утверждал, что такого быть не может, поскольку не было ни с кем и никогда. Люди не проваливаются сквозь время, они живут в своей эпохе, двигаясь от рождения к смерти с той же неизбежностью, с какой захваченный притяжением метеорит пронизывает атмосферу, сгорая в ней или падая на землю. Метеориту не дано вернуться в космос, а человеку – погрузиться в прошлое… Он пленник времени, в котором появился на свет, он прикован к нему как к колеснице, что движется только в одном направлении, никуда не сворачивая, не останавливаясь, не убыстряя и не замедляя хода. Только вперед и вперед! Время – не пространство, в котором можно путешествовать куда угодно, с той скоростью, которая дозволена прогрессом; время – нечто нерушимое, и если бы люди исчезали из своей эпохи, то… Исчезали! Серов зацепился за это слово, и его мысли изменили маршрут. Если бы исчезали! Но ведь они исчезают, и в ряде случаев – бесследно! Конечно, есть причины для таких историй: кто-то гибнет в природных катаклизмах, под ледниками и осыпями, в океанах, пустынях, безлюдных горах; кто-то становится жертвой убийц, уничтожающих трупы, или хищных зверей; кто-то прячется сам, меняя имя и внешность, а иногда и пол; кого-то прячут – важного свидетеля или персону, владеющую секретной информацией. Таких, разумеется, большинство, их тысячи и тысячи – ведь на Земле хватает войн и катастроф, внезапных наводнений и землетрясений, секретов, которые необходимо скрыть, и изощренных убийств. Есть, однако, и другие случаи, размышлял Серов. И разве он сам не расследовал их? Разве не помчался за ответом на Камчатку? Вот тебе и ответ, мрачно подумал он. Куда подевались Елисеев, Добужинский, Штильмарк и все остальные? Туда же, куда Андрей Серов, неудачливый частный сыщик… Все они исчезли, провалившись сквозь время в разные эпохи и разные места, кто к динозаврам или кроманьонцам, кто в Древний Рим, кто в Золотую Орду, или в Китайскую Небесную империю, или на Соломоновы острова, к людоедам. Серов поворочался с боку на бок, представив себе всевозможные ситуации, и тоскливо вздохнул. Жаль людей, жаль! А что поделаешь? Лучше уж, как он, попасть к пиратам, чем к динозаврам или каннибалам! Да и Рим с Китаем и Ордой тоже не подарок: или башку снесут, или загребут в рабы. На фоне таких перспектив шесть раз под килем казались мелочью. Может быть, есть шанс вернуться?.. – мелькнуло у Серова в голове. Он хмыкнул, скорчил грустную гримасу. Это вряд ли… Кадинов, журналист из Челябинска, первым исчез, семь лет уже прошло, исчез и не вернулся. Где он, когда? То ли какая-то тварь им закусила в мезозойской эре, то ли в пустыню к бушменам попал, или, скажем, в царство Кира, в Персию… Зачем бушменам журналист? Да и персам вроде бы ни к чему… С другой стороны, что делать детективу у корсаров? Конечно, он не только детектив, и цирковые навыки могут пригодиться – ножи метать, ходить по канату или стрелять… из этой, из пищали… Ну, хвала судьбе, что он хоть в силах объясниться с этой шайкой! А угодил бы в Китай или к племени команчей, где европейских языков не разумеют, был бы верный карачун… Внезапно Серов осознал, что рассуждает всерьез на эти темы, будто примеряя на себя время и ситуацию или, скорее, примеряясь к ним. Острая боль пронзила его – не физическая, а почти нестерпимое страдание души, не верящей в странную реальность и не способной понять причины перемен. Неужели он попал в начало восемнадцатого века? Неужели его мир потерян навсегда? В мире этом было немало плохого, но сейчас вспоминалось лишь хорошее: то, что за считанные часы можно попасть в любую точку земного шара, увидеть на экране чужие города и земли, жить в безопасности и заниматься привычным делом, вылечить болезнь или рану, от которых в прошлом погибали. Но все эти блага и чудеса, которых он лишился, казались мелочью в сравнении с главной потерей, с тем, что никогда он не увидит ни отца, ни мать, ни Лену, старшую сестренку. – Собирался ведь к ним, – пробормотал Серов, – сколько лет собирался… Теперь придется три века ждать… Странно, но эта мысль его успокоила, словно он и в самом деле мог дожить до тех времен, когда на Манхэттене поднимутся небоскребы, а из Москвы в Нью-Йорк будут летать серебристые лайнеры. Скорее всего, надежда увидеть когда-нибудь родных была защитной реакцией, такой же несбыточной, как мечта о вечной жизни, нежелание поверить в собственную смерть, которая настигнет непременно. Длинная волна прокатилась под кораблем, приподняла его вверх и опустила, будто укачивая Серова; он сомкнул глаза и тихо прошептал: – Аномальная зона, будь она неладна! Ну, примем это как рабочую гипотезу… А дальше посмотрим. Спустя минуту он уже спал.* * *
Серов проснулся, когда его чувствительно пнули в бок. Дверь каморки была распахнута, в небе сияло яркое солнце, свежий ветер плескался в парусах, гнал фрегат в морскую синь, вслед за соленой пеной и редкими облаками. Хенк и Мортимер были уже на ногах, а над Серовым стоял боцман Уот Стур, ухмылялся щербатой пастью и заносил ногу для нового удара. Серов вскочил. Тут, кажется, не полагалось потягиваться в постели. – Живее, пьянчуги! Вы двое – на шкафут[342] к Галлахеру, а этого желает видеть капитан! Мортимер подтолкнул Серова локтем: – Скажи Старику, что хочешь в шайку Галлахера. Не прогадаешь, парень. – Старик сам решит, какую крысу куда заткнуть! – рявкнул боцман. – Он у нас в подельниках, – сообщил Мортимер и резво бросился прочь из каморки. – В подельниках… – проворчал боцман, тыкая Серова в спину пудовыми кулаками. – Взяли два бездельника третьего в подельники… Куда прешь, недоумок блохастый? На шканцы иди! К капитану на ют, а не на бак! Ют или бак для Серова было без разницы – в судах, судовождении и морской терминологии он разбирался слабовато. Хоть и была его жизнь пестрой, как зебра, но проходила на суше или в воздухе, а морским транспортом он никогда не пользовался и на кораблях не служил. А хоть бы и служил! – подумалось ему. Какой прок от службы артиллеристом или механиком, если попал на парусный фрегат с медными пушками? Тут все другое, и все называется по-своему. Крутилось что-то у него в голове, вычитанное из книг – фордевинд, гафель, нок-рея[343] – но к чему их приложить, он не имел понятия. Лишь в двух терминах Серов не сомневался – в том, что кухня зовется камбузом, а туалет – гальюном. Направляемый твердой рукой Уота Стура, он поднялся по трапу на ют, стараясь угадать причину царившей на судне суматохи. Одни мореходы, босые и полуголые, облепили реи и как будто распускали самые верхние паруса; другие, на которых покрикивал костлявый тип в треуголке, прыгали в люки, спеша, должно быть, на пушечную палубу; третьи, толпившиеся около трех горластых молодцов, разбирали оружие – пистолеты с длинными стволами, сабли, палаши и жуткого вида железные крючья. Если не считать проклятий и рыка командиров, все это делалось без лишних слов, поразительно быстро и четко – Серов не успел и трех шагов шагнуть, как паруса развернулись и поймали слабый ветер, пушкари исчезли с палубы, а на шкафуте и шканцах вдоль бортов выстроилось с полсотни вооруженных людей. – Сюда! – Боцман подтолкнул Серова к рослому человеку в синем камзоле и шляпе-треуголке, нахлобученной на лоб. Резкими чертами он походил на коршуна: пронзительные серые зрачки, впалые щеки и кривоватый нос над почти безгубым ртом. На лице его читалась привычка к власти; щеки и скулы казались вырубленными из гранита, а жесткие линии рта и бровей намекали, что он не склонен к милосердию. Во всяком случае, не больше, чем лис, забравшийся в курятник. – Эндрю Серра, парень с французского капера, сэр, с «Викторьеза», – доложил боцман. – Тот самый, которого двое придурков приволокли, Хенк с Мортимером. Человек слегка повернул голову. Он был еще не стар, лет, должно быть, пятидесяти, и, словно по какому-то негласному правилу, рядом с ним не было никого. Пил, помощник капитана, и еще один мореход стояли в отдалении, под гиком косого паруса[344], глядели в подзорные трубы, переговаривались о чем-то, и Пил иногда отдавал команду работавшим на мачтах или рулевым. Рулевых было двое, крепкий мужик с лапами как у борца и синеглазый юноша, скорее мальчик, с тонким и нежным лицом. Бандитская смена растет, подумал Серов, осматривая прочих людей, что находились на юте, – десяток пиратов с неуклюжими ружьями и при саблях. – Глядеть мне в глаза, – негромко произнес человек в синем. – Первое правило на борту: каждый негодяй, мошенник и пропойца смотрит мне в глаза и держит руки подальше от оружия. Уяснил? – Так точно, сэр! – Памятуя годы службы, Серов вытянулся по фрунт и ел глазами начальство. А в том, что перед ним большой начальник, сам капитан Джозеф Брукс, не приходилось сомневаться. – Правило второе и последнее: в море никаких свар и драк. Все трудятся, почитают Господа, жрут что дают и выполняют приказы. Кто не согласен, отправится кормить акул. Это тоже ясно? – Да, сэр. – Хочешь присоединиться к моей команде? – Сочту за честь, сэр! А куда еще деваться? – добавил Серов про себя. Кормить акул ему не хотелось. Не больше, чем динозавров или каннибалов. Капитан пожевал губами, прищурил серые водянистые глаза. Казалось, готовность нового волонтера внушает ему подозрения. Наконец, сунув руку за отворот камзола, он почесал под мышкой и осведомился: – Кем был на «Викторьезе»? – Помощник квартирмейстера[345], сэр. Из всех возможных чинов и званий Серов выбрал самую, как ему казалось, тихую и невоинственную должность. Что поделаешь! Он не умел управляться с парусами, стоять у руля, грести и целиться из медных пушек; наверное, он смог бы выстрелить из пистолета, но только не зарядить его вновь. В реальной жизни он никогда не видел кремневых пистолетов, даже в музее. Разве только по телевизору? Но в исторических боевиках не было инструкций, как обращаться с таким оружием; в них бравые корсары палили по тридцать раз, будто у них не древний ствол, а автомат Калашникова. – Как тебя? Эндрю? Ну-ка, рубаху долой! – вдруг распорядился капитан. Серов стащил рубашку, затем, под удивленным взором Брукса, майку. Рулевые, моряк с могучими руками и юноша, глядели на него во все глаза. – Повернись, мошенник! Ать, два! Серов сделал четкий поворот, как на плацу перед генеральским смотром. Капитан оглядел его мускулистую спину и плечи с зажившими ожогами, заставил повернуться еще раз, ткнул толстым пальцем в шрам на левом боку и вдруг расхохотался: – Помощник квартирмейстера, говоришь? Ну и паршивец, клянусь Христом Спасителем! След от пули и след от пытки огнем! Ты кто такой, негодяй? Разбойник, убийца, каторжник? Или вор? Но уши и ноздри вроде бы целы…[346] – Вообще-то я внебрачный сын маркиза, – с достоинством произнес Серов, завязывая рубашку вокруг пояса. – Вырос в фамильном замке маркизов де Серра в Нормандии, но так уж вышло, что пошел по плохой дорожке. – Вот и пойдешь по ней дальше, прямо к Чарли Галлахеру, – сообщил капитан. – К Чарли, раз тебя притащили эти два болвана, Хенк и Мортимер. Отправляйся на шкафут и получи оружие. Пил! – Капитан повысил голос. – Да, сэр? – Ты, Пил, приглядишь за этим мошенником с «Викторьеза» и доложишь мне. Если он покинет борт последним, вздернуть на нок-рее. А если будет драться, я… гм… я, так и быть, назначу ему половинную долю. А там посмотрим. Иди! Серов повернулся, шагнул к трапу, но за спиной взревели: – Стоять! Он снова сделал четкий поворот и уставился в глаза Джозефу Бруксу. – Ты, я вижу, отменный враль, – произнес капитан. – А что еще умеешь? Чему ты обучился в замке своего папаши? – Плясать на канате и ножики метать, – сказал Серов. Подумал и добавил: – Сэр. Уже спускаясь по трапу он обернулся еще раз и – глаза в глаза – встретил взгляд юноши-рулевого. Какие длинные ресницы, подумал Серов. Прямо как у барышни.* * *
Чарли Галлахер оказался невысоким крепышом-ирландцем с огненно-рыжей бородой и космами таких же рыжих нечесаных волос. Без церемоний ощупав мускулы Серова, он с одобрением кивнул, неразборчиво рявкнул команду, и новобранцу вручили ружье и перевязь с устрашающего вида тесаком. К этому полагались еще мешочек с пулями, рожок с порохом и какие-то приспособы – для того, вероятно, чтобы заталкивать пулю в ствол. Серов глядел на них с недоумением, и, заметив это, его командир поинтересовался: – Стрелять умеешь, деревенщина? Неопределенно пожав плечами, Серов отошел в сторонку. Ружье было тяжеленным, килограммов на семь или восемь, с коротким неудобным прикладом и длинным стволом. Он даже не знал, как называется эта штука – мушкет?.. аркебуза?.. фузея?..[347] В любом случае, музейная древность, палить из которой опаснее для стрелка, чем для его противника. Его хлопнули по спине, дернули за руку, и он внезапно очутился у фальшборта[348], зажатый между Мортимером и Хенком с одной стороны и рослым одноглазым детиной без левого уха с другой. Одноглазый раскрыл пасть и оскалил зубы – должно быть, это означало приветливую улыбку. – Кола Тернан, – представил одноглазого Мортимер. – Тоже француз. Из этого… из вашего Парижу. – В Париже не бывал, – Серов перешел на французский. – Я-то сам из Нормандии. Внебрачный сын маркиза де Серра. Тернан осклабился еще шире и загоготал. – Ну, я такой же ублюдок, как ты! Только мой папаша – принц Анжуйский, чтоб ему гореть в аду! Обрюхатил мою бедную матушку, разбил ей сердце и медной монетки не бросил! Теперь, надеюсь, лижет в преисподней сковородку. А твой поганец? Жив еще? – Помер, – со скорбной гримасой сказал Серов. – Объелся трюфелей, помер и похоронен в родовой усыпальнице. Тернан, склонив голову к плечу, покосился на него. – Как-то ты странно говоришь, приятель… Не хочу обидеть твою мамашу, но, может, она была из Фландрии? Проблема! – подумал Серов. Английским, французским и немецким он владел вполне прилично, но языки эти были современными, да и акцент, конечно, у него имелся. Странный английский можно было списать на его французское происхождение, но с языком, который, по его легенде, был родным, так не получалось. Над этим вопросом он размышлял вчера, сидя в кутузке, и кое-что придумал. – В Нормандии все так говорят, – заметил Серов, прислонившись к планширу. – На французском плохо и на английском плохо… Мы как-никак от норманнов произошли, от самого Вильгельма Завоевателя. У нас особый говор. Одноглазый кивнул, удовлетворившись этим объяснением. Серову оставалось лишь надеяться, что настоящий нормандец в этих краях редкая птица и встречи с ним не предвидится. Стоя в толпе головорезов, вдыхая запахи дерева, кожи, пота и металла, он на мгновение будто выпал из этой чужой и враждебной реальности; казалось, если закрыть глаза и сделать мысленное усилие, он тотчас очнется в самолетном кресле, как раз к обеду, который разносят длинноногие стюардессы. И все исчезнет, как кошмарный сон, – и море, и этот корабль, и мерзкие хари, что окружали его. Он опустил веки, напрягся, снова открыл глаза и с тоской убедился, что ничего не изменилось, не исчезло: море, хари и корабль, все на месте. Яростное солнце палило голую спину и плечи, ветерок был слабый и неустойчивый, то дул в корму, то вдруг менял направление, и тогда паруса громко хлопали и раздавался холодный голос Пила, что-то командовавшего рулевым. Смысл этих маневров был Серову непонятен; он не мог сообразить, куда они движутся и зачем, и только глядел бездумно на сине-зеленые морские волны, сливавшиеся вдали с безоблачным бирюзовым небом. Наконец «Ворон» слегка повернулся, и он увидел корабль, заслоненный прежде громадой парусов. До него оставалось километра два или три, и с этого расстояния можно было различить лишь высокую корму с резными украшениями да мачты, одетые белыми парусами. Корабль постепенно приближался – фрегат, более легкий, чем это тяжелое крупное судно, имел при слабом ветре преимущество в скорости. – Догоняем черножопых, – послышалось за спиной Серова. – Здоровое корыто, парусов побольше нашего… галеон… Не ушли бы! – Ветер слабый. При таком ветре от «Ворона» не уйдут! – Твои слова, Люк, да Богу в уши… Помоги нам Христос и все святые! – Помогут! Господь, братья, знает, у кого брать и кому давать! – Прах и пепел! Дал бы всем поболе, а мне еще и сапоги! Кажется, это был Мортимер. Серов поглядел налево, поглядел направо, увидел торчавшие над планширом лица и поразился, как они схожи. Имелись тут всякие, блондины, брюнеты и рыжие, простоволосые, в шляпах или в платках, закрученных на голове, бритые и бородатые, смуглые и не очень, но на каждой физиономии была печать жадного нетерпения, роднившая их всех, будто они и в самом деле являлись братьями. Кой у кого в глазах сверкала ненависть, и этого Серов уже не понимал. С чего бы разбойникам так ненавидеть свою жертву? Корабль, который они догоняли, был, несомненно, испанским, а об испанцах у Серова сложилось самое лучшее мнение. Случалось ему отдыхать под Малагой и в Барселоне, и знал он не понаслышке, что Испания – прекрасная страна. Особенно для российских туристов: теплое море, отели, аттракционы, гостеприимный народ, и все не в пример дешевле, чем в Англии и Франции. Опять же пальмы, персики, красное вино и стройные смуглые девушки… Где ты, где, чудесная Испания?.. Оказалось, что совсем близко, и даже посылает ему привет. Пара алых пламенных цветков, обрамленных черным дымом, распустилась на корме галеона, над волнами грохнуло, что-то засвистело, загудело и плюхнулось в воду в полусотне метров от «Ворона». Пираты заорали, заулюлюкали, но этот шум и гул перекрыл грохот новых выстрелов. С каждой секундой сокращая расстояние, фрегат приближался к большому кораблю, и перед Серовым уже маячили красно-золотые флаги, резные украшения высокой кормы и два орудийных порта между ними. Третий залп отгремел, и сразу раздался голос капитана: – Синьор Джулио! Начинайте! Гнусавый голос на квартердеке[349] затянул: – Тебя, Господи, славим! Пошли хлеб нам по бурным водам, яви милость детям Твоим, спаси от ран и крушений, от пули и меча, от зла людского, от пушек и пороха. А тех, кому суждена погибель, избавь от адского огня, прости их прегрешения, не ввергай в геенну огненную, а спаси и помилуй, ибо они не ведают, что творят. Они, несчастные дети Твои, изгнанники и нищие, пьяницы и мошенники, воры и убийцы, собрались здесь, на утлой ладье, дабы противостоять злокозненным безбожникам, что позорят имя Твое, сжигают людей живьем, торгуют отпущением грехов и творят разбой и насилие над многими народами. Отведи от них руку Твою, отдай их нам во власть, сделай их нашей добычей, и корабль их, и все их добро до последнего фартинга[350]. Аминь! Эта молитва, прозвучавшая в полной тишине, изумила Серова – не думалось ему, что корсары поминают Господа перед своим кровавым промыслом. С другой стороны, отчего бы не помянуть? Все собравшиеся на «утлой ладье» родились и выросли в лоне святой матери-церкви того или иного толка и, вероятно, не делились меж собой на протестантов, англикан и католиков. Бог для них, как и положено, был един; себя они считали Господними воинами, а испанцев – порождением дьявола. Когда молитва отзвучала, Серов, наклонившись к Мортимеру, прошептал: – Кто тут у вас? Поп? Священник? – Лекарь, – пояснил тот и деловито перекрестился. – Бакалавр Джулио Росано из этой… как ее… Венеции. Жену зарезал, а может, полюбовницу. Хирург отменный, прах и пепел! Случится, отхватит руку или ногу, а ты и не заметишь. – После двух бутылок, – добавил Хенк. – И лучше рома, а не джина. От рома душа согревается и боль отходит. – Промолвив это, он вытащил из-за пазухи крестик на засаленном шнурке и приложился к нему губами. Испанские ядра просвистели над «Вороном». Одно пробило парус на фок-мачте, другое пронеслось над квартердеком, и оба ушли в воду за кормой. – Эй, на баке! – загремел голос капитана. – Носовые орудия! Огонь! Грохнуло, и фрегат покачнулся на мелкой волне. На несколько секунд кислый вонючий дым окутал палубу, и сквозь его марево Серов разглядел всплески по обе стороны галеона. Вероятно, то была пристрелка или же Брукс хотел проверить, достанут ли испанца пушки «Ворона». Галеон под ало-золотыми флагами опережал пиратское судно метров на пятьсот, и на его палубе уже различались фигурки людей в кирасах и блестящих шлемах. Серову показалось, что испанский корабль рыскает то в одну, то в другую сторону, пытаясь развернуться к ним бортом, но этот маневр никак не удавался. Причина оставалась тайной для него; он не знал, был ли тому виною слабый переменчивый ветер, неповоротливость тяжелого, похожего на плавучий сундук корабля или искусство кормчих «Ворона», державших фрегат точно за кормой испанца. Четыреста метров… триста… Внезапный порыв ветра зашелестел в парусах, послышалась команда Пила, пираты торжествующе заорали, и в следующий момент «Ворон», не сбавляя хода, начал отклоняться от незримой линии, соединявшей его с испанским судном. – Раны Христовы! Он наш, наш! – прорычал одноглазый Тернан. – Наш, если Тегг не подведет! Вслед за этим раздался голос Брукса: – Эй, на пушечной палубе! Сэмсон Тегг! Всем бортом – огонь! Десять медных пушек рявкнули под ногами Серова, палубные доски застонали и вздыбились, и он, чтобы не упасть, ухватился за плечо Хенка. Ядра прошли над галеоном, сметая людей и сокрушая снасти; одни фигурки в блестящих кирасах рухнули на палубу, другие корчились под обломками рангоута, большой парус на средней мачте завернулся вбок, сложился пополам и плескал теперь по ветру наподобие бесформенного белого флага. «Ворон», не пытаясь дать новый залп, вернулся к прежнему курсу и шел теперь за испанцем сзади и слева, на расстоянии сотни метров. Пушки галеона молчали – то ли экипаж еще не справился с ошеломлением, то ли угол обстрела был неудобным. – Сбили грота-рей, – пояснил Мортимер, почесывая горбинку длинного носа. – Ну, теперь они наши, прах и пепел! – Ром и гром! – в тон ему сказал Серов. – И что мы с ними будем делать? Товар, это я понимаю, товар подлежит экспроприации, а с людьми-то как? Мортимер небрежно помахал рукой: – Море широкое… – И глубокое, – добавил Кола Тернан. – И досок на «Вороне» хватает, – сообщил Хенк. Серов недоуменно нахмурился: – Каких досок? Он собирался расспросить об этом подробнее, но тут рыжий Чарли Галлахер грохнул по планширу кулаком и приказал: – Мушкеты к бою! Цельтесь лучше, братья, и чтоб ни одна пуля даром не пропала! Во имя Христа и Девы Марии… Пали! Грохнул залп из полусотни ружей. Серов тоже выстрелил, но целился не в людей, а в леер с большим красно-золотым флагом, что развевался на корме. Отдача была такой, словно жеребец лягнул в плечо. Удивительно, но он перебил веревку, и флаг, упав на самый край кормы, зацепился там, свесился вниз и закрыл отверстие пушечного порта. – Заряжай! – выкрикнул Галлахер. Посматривая то на Мортимера, то на одноглазого Тернана, Серов скрупулезно повторял их движения. Отмерить порох, засыпать на полку, вложить свинцовый шарик пули, взвести курок… Где-то когда-то он читал, что зарядить мушкет или иное старинное ружье – штука сложная, дело нескольких минут. Но, вероятно, это была одна из непроверенных гипотез века «узи» и «калашей», ибо пираты справились секунд за сорок. Планшир вновь ощетинился стволами, но Галлахер не подавал команды стрелять, словно чего-то выжидая. Испанское судно со сбитым парусом теряло ход, на «Вороне» тоже убрали часть парусов, и фрегат по-прежнему шел параллельным курсом, держась чуть сзади и сбоку от намеченной жертвы. Дистанция, разделявшая корабли, была небольшой, и Серов видел, как вдоль борта строятся мушкетеры под командой офицера в золоченом панцире. На голове у него была шляпа с черным пером, солдат защищали блестящие шлемы с продольным гребнем и изогнутыми, точно крыша китайской пагоды, полями. Точь в точь как в историческом фильме, решил Серов. – Ты, ублюдок с «Викторьеза»! – услышал он за спиной и обернулся. Это оказался Пил, в том же щегольском фиолетовом костюме, дополненном испанским шлемом и парой пистолетов. Стоял, выпятив мощную челюсть, небрежно опираясь на обнаженную шпагу, и глядел на Серова холодным взглядом убийцы. – Помнишь, что приказал Старик? – Голос Пила был таким же ледяным, как его глаза. – Будешь в атаке последним, повиснешь на рее. Я сделаю это с удовольствием. Не люблю французов. Услышавший его слова Тернан насупился и пробормотал проклятие. Пил повернулся к нему, слегка приподнял клинок, и ярость в темном зрачке одноглазого погасла. Судя по всему, помощника капитана не любили, но побаивались. Серов, не вступая в пререкания, молча кивнул. – Готовьтесь! – проревел капитан, стоявший теперь на квартердеке рядом с рулевыми. Ветер подхватил «Ворона», погнал его вперед, следом за добычей, прямо на испанский галеон. Его темный смоленый борт поднимался стеною в два человеческих роста, а кормовая надстройка была словно дом в четыре этажа. Крепость! – подумал Серов, но не успел ни удивиться, ни испугаться. Борт корабля навис над ним, сверху глядели смуглые жесткие лица под сверкающими шлемами, торчали ружейные стволы, и каждый, чудилось, целит прямо ему в сердце. – Пали! – выкрикнул Галлахер, и Серов машинально нажал спусковую скобу. Гром двойного залпа оглушил его; испанцы ответили на выстрелы, их пули свистели повсюду, буравили воздух, впивались в палубу и в доски фальшборта. Кто-то охнул, кто-то захрипел и рухнул навзничь, но смуглых рож над Серовым заметно поубавилось. Тем временем «Ворон», подгоняемый слабым ветерком, навалился на высокий борт испанца, взметнулись вверх крюки и кошки, загремели отброшенные ружья, но этот звук был перекрыт громкими людскими голосами. Корсары рычали и ревели, будто разъяренные быки; десятки рук ухватились за канаты, десятки ног ударили по гулким доскам, сверкнули стиснутые в зубах клинки, и буйная орда ринулась на испанский корабль. Серов не помнил, как очутился на палубе, но был уверен, что сделал это не последним. Вероятно, Хенк, который лез за ним, перекинул его через высокий фальшборт испанца, и он, сгруппировавшись, покатился по окровавленным доскам, среди валявшихся тут и там мертвых тел. Полоска сверкающей стали устремилась к Серову, он вскочил, вышиб ударом ноги шпагу у офицера – того самого, в золоченой кирасе, – перехватил оружие в воздухе и ударил испанца в висок рукоятью. Шпага была ему привычнее тесака – в цирковом училище он брал уроки фехтования. Это сценическое искусство нравилось ему, но сейчас он был не на сцене, сейчас в его руке сверкал боевой клинок, смертоносный, точно кобра. Вокруг него кипела яростная битва. Несмотря на потери от ядер и пуль, испанцев оставалось около сотни, и дрались они с мужеством отчаяния. Бешеные темные глаза, оскаленные рты, кирасы, залитые кровью, и острия клинков мелькали перед Серовым, а рев атакующих пиратов сливался с яростным кличем: «Сант-Яго! Сант-Яго!» Решительно, это были не те интеллигентные испанцы, которых он видел на курортах Коста-Браво и Коста-дель-Соль, а сущие дьяволы! И каждый мог отнять у него жизнь с той же легкостью, как чеченские сепаратисты или киллеры московской мафии. Факт неприятный, но знакомый; главная мудрость, которой Серов обучился в Чечне, была проста: убей, или тебя убьют. Здесь прикончить могли испанцы, но если Пилу не понравится, как он орудует тесаком и шпагой, вздернут свои. Все же он никого не убил, кроме офицера с проломленным виском, и, стараясь не забегать вперед, двигался в пиратской шеренге, оттеснявшей испанских солдат к корме и другому борту. Пятьдесят бойцов, которых вели Пил, Галлахер и еще один предводитель команды «Ворона», пока незнакомый Серову, были не единственными; другая группа спустилась по канатам с мачт на кормовую надстройку галеона, и там, на восьми– или десятиметровой высоте, тоже кипела битва. Выстрелов он больше не слышал, только крики, проклятия, стоны и резкий, отрывистый лязг клинков – видимо, никто не пытался в этой свалке перезарядить мушкет или пистолет. Испанцы сражались с ожесточением и все же медленно отступали – в тесноте и давке ножи и короткие тесаки корсаров часто были опаснее шпаг. Впрочем, к Эдварду Пилу это не относилось; с длинным клинком в одной руке и кинжалом в другой, он прокладывал себе дорогу с уверенностью асфальтного катка. Очевидно, он обучался не сценическому фехтованию и подкрепил свое искусство долгим опытом схваток и драк. На глазах Серова он заколол троих ударами в горло, над верхним краем панциря; четвертого проткнул кинжалом и отшвырнул под ноги великану Хенку. Отбиваясь то шпагой, то тесаком, Серов миновал мачту, под которой, задавленные упавшим реем, лежали трупы нескольких испанских моряков. Стальное лезвие метнулось к нему, он не успел отбить выпад, извернулся, но острие клинка прочертило алую полоску поперек ребер. Напавший на него свалился под молодецким ударом Хенка, а Серов отступил на шаг, соображая, не будет ли полученная рана поводом, чтобы не участвовать в резне. Видимо, нет, решил он: не рана, царапина, с такой наверняка повесят за низкую активность. Он переместился на правый фланг, к рыжему Галлахеру, подумав, что надо держаться у начальства на глазах. Теперь он был под кормовой надстройкой с лестницами и балконами, на которых тоже бушевала схватка: то и дело чей-нибудь труп падал вниз с разбитой головой или с кинжалом между ребер. Сверху, с квартердека, доносился зычный голос капитана Брукса, сулившего испанцам ад на земле и могилу в море, и этим проклятиям аккомпанировали топот, тяжелое надсадное дыхание, предсмертный хрип и звон клинков. У ног Серова рухнул сброшенный с трапа испанец с распоротым животом, он отшатнулся, и тотчас что-то тяжелое свалилось ему на спину, чьи-то руки обхватили плечи, потом скользнули вниз, к локтям. Он замер, с ужасом предчувствуя холод стали, что пробирается под лопатку, но тот, кто на него упал, не думал нападать – хватка его ослабела, и он растянулся на палубе. Резко обернувшись, Серов увидел юношу, того, что помогал рулевому на «Вороне». Он, вероятно, был не ранен, а просто ошеломлен падением с изрядной высоты; лицо его под густым загаром побледнело, глаза были закрыты, короткая абордажная сабля вывалилась из руки. Ступени трапа рядом с Серовым загудели под быстрыми шагами – солдат, сбросивший мальчишку, торопился вниз, а за ним – еще один, бородатый, с кровавой царапиной на щеке и искаженным яростью лицом. Прикончат парня, подумал Серов, взвесил в ладони тесак и метнул его в первого испанца. Тяжелое лезвие пробило кирасу, солдат сложился пополам и с грохотом рухнул с лестницы. Второй подскочил к Серову, грозя обнаженным клинком, но вдруг глаза его закатились, голова упала на грудь, и поток крови, хлынувшей изо рта, залил бороду. – Отпрыгался, – сказал Мортимер, вытаскивая саблю из спины испанца. – А сапоги у него неплохие, как раз по моей ноге… Он сел на палубу и начал стаскивать с убитого солдата сапоги. Сражение, похоже, завершилось: трупы испанцев летели за борт, пленных согнали к мачте и вязали их же ремнями, строптивых, под руководством Пила, резали на месте, содрав с них предварительно одежду и тщательно ее обшарив. Один из корсаров, дородный тип с отвислымищеками и обезображенным оспой лицом, распоряжался у люков, ведущих на пушечную палубу и в трюм, посылал людей по двое и по трое осматривать каюты, орал им вслед, чтоб не сбивали, свиньи недорезанные, замки с сундуков, а тащили на палубу для капитанского досмотра. Сам капитан Джозеф Брукс стоял на квартердеке, оглядывал повреждения в корабельных снастях и следил за работой моряков, посланных на мачты: одни спускали паруса, другие трудились над разбитым ядрами грота-реем, сбрасывая вниз обломки дерева и рваные канаты. Юноша, упавший с трапа, вроде бы очухался и сел, держась за бок и мотая головой. Его светлые волосы рассыпались по плечам, щеки порозовели. – Впору пришлись сапоги, – радостно сообщил Мортимер, поднимаясь и топая ногами. – Не забыл Господь заблудшего грешника! Ну, а я уж ему отслужу, я уж ему поставлю… Но что Мортимер хотел поставить Богу и чем отслужить за сапоги, так и осталось неясным – сверху послышался рев капитана. Чем-то он был недоволен, на что-то гневался, стучал кулаками по планширу, грозился шкуры содрать с Рика Бразильца и Кактуса Джо, кого-то требовал к себе – немедленно, сейчас же! Серов вытер лезвие шпаги о штаны мертвого испанца, сунул клинок за перевязь, послушал капитановы проклятия, потом спросил: – Чего он разоряется, подельник? Так орать, грыжу наживешь. – Мисс Шейлу требует, свою племянницу, – пояснил Мортимер. – Эта девчонка такая зараза! Хлебом не корми, дай кровь кому-нибудь пустить! – Шейлу? Какую еще Шейлу? – Серов недоуменно поднял брови. – Вот эту самую. Ту, что за тобой сидит, – пробурчал Мортимер и показал окровавленной саблей на юношу.Глава 6 ОСТРОВ
День, ночь и снова день… Сутки два корабля бороздили волны, покачиваясь в сине-зеленом безбрежном пространстве; за бортом – океан, над мачтами – лазурный небесный купол с ослепительным солнцем или яркими точками звезд. В полдень солнце так накаляло палубу, что босиком не пройдешь, и только несильный ветер умерял жару; ночи были душными, влажными – океан отдавал тепло, и лишь под утро воздух становился более прохладным и свежим. Кубрика с койками или хотя бы нарами на «Вороне» не имелось, и рядовой состав мог выбирать из двух вариантов ночлега – или наверху, прямо на досках, или в гамаках, подвешенных на пушечной палубе. Камбуза тоже не было; огонь на корабле не разводили, в море питались сухарями и соленым бычьим мясом, запивая нехитрую снедь водой с добавкой рома. Из всех удобств, казавшихся Серову неотделимыми от человеческого существования, в наличии был лишь гальюн, располагавшийся на носу. Посещая его, Серов всякий раз представлял одну и ту же картину: бриг под белоснежными парусами, который мчится в океане и удобряет свой путь мочой и калом. «Ворон», в сущности, был не очень большим кораблем, поворотливым, легким, быстроходным, но до ужаса тесным. Это впечатление создавалось не только размерами судна, но и многочисленностью команды – куда ни глянешь, всюду люди. С парусами и штурвалом могли управиться десять-двенадцать моряков, три десятка с учетом вахт, но экипаж фрегата был вчетверо больше. Он являлся боевым кораблем, и большинство из плававших на «Вороне» были, в привычных Серову терминах, морской пехотой и артиллеристами. Теснота и скученность, грубая пища, плохая вода и сотня иных причин могли стать поводом для недовольства, ссор и неповиновения предводителям, поэтому на судне поддерживалась железная дисциплина – драки, воровство и всякая попытка мятежа карались незамедлительно и жестоко. Это был замкнутый мирок, включавший все необходимое для жизни: корабль, пушки, сухари и экипаж со всеми нужными специалистами, от капитана до мушкетера, от штурмана до плотника. И жизнь в этом мире шла по строгому распорядку. То, чем полагалось заняться после битвы, было его важнейшими элементами: во-первых, определить сохранность захваченного судна и величину добычи; во-вторых, избавиться от пленников и трупов; в-третьих, уврачевать раненых. Галеон остался на плаву и, если не считать разбитых реев, порванных канатов и дыр в фальшборте, не имел повреждений. Быстрый обыск позволил выяснить, что груз состоит из сахара, табака, какао и трех увесистых сундуков с серебром – совсем неплохая пожива, отличная весть, поднявшая команде настроение. Тем самым первый пункт был выполнен, и наступил черед второго: три доски легли на планшир, и, под свист и соленые шутки, пленников одного за другим проводили в воду. Всех, кроме капитана галеона, чернобородого испанского идальго – этот был связан и брошен в каморку с плотницкими инструментами. Падавшим за борт корсары желали приятных встреч с Нептуном и не скупились на советы по обращению с русалками – как уложить их и как добраться к интимному месту под хвостом. Серов наблюдал за этой казнью с отвращением. Его, вместе с Хенком и Мортимером, послали обыскивать трюм, но до того он увидел, как первые испанцы шагнули на доску. Были они раздетыми до нитки, но милосердием победителей им оставили кресты; каждый сжимал в кулаке свой крохотный крестик и целовал его перед тем, как прыгнуть в море. Ни жалоб, ни стенаний, ни мольбы о пощаде… Вера и, быть может, гордость этих людей превозмогали страх; похоже, они надеялись, что муки окажутся недолгими и проложат им тропинку прямо в рай. Серов невольно им позавидовал – не печальной их судьбе, а нерушимой вере. Ему, человеку иных, не столь наивных времен, вера не служила утешением, и даже роптать на Божий промысел он не мог – аномальная зона явно не имела никакого отношения к Господу. Ворочая в трюме бочки и мешки, Серов слушал, как море с плеском принимает очередного пленника, и, пытаясь отвлечься, размышлял о том, о сем, а еще о девушке, о Шейле. Она исчезла; спустившийся с квартердека негр, Рик Бразилец, как пояснил Мортимер, поднял ее на ноги и с почтением довел до трапа. Двигалась она с трудом и не глядела на Серова – возможно, даже не понимала, что он ее спаситель. Серов решил, что если этот подвиг не зачтется, то все же два испанца на его счету, и значит, на рее ему не болтаться. Слабое утешение!.. – с хмурой усмешкой думал он. Может быть, лучше умереть, как те испанцы? Может быть, смерть – дорога, которой удастся вернуться домой? Плеск наверху продолжался, но теперь к нему добавился уже знакомый голос бакалавра Джулио Росано, читавшего молитвы, – в морскую пучину провожали погибших пиратов. Затем пришла пора третьей и последней процедуры: хирург закричал, подзывая к себе раненых. Серов выбрался на палубу, где Росано уже врачевал тех, кому не повезло. Инструментов у него было три: нож, нитка с иглой и щипцы для извлечения пуль, а к этому – полотняные тряпки, рожок с порохом и ящик с бутылками рома. На этот раз обошлось без ампутаций; Росано лихо вытаскивал пули и, смотря по размерам раны, прижигал ее горящим порохом или смачивал ромом. Хриплые стоны, вопли и проклятья неслись над палубой, но их заглушали бульканье и довольный гогот – всем увечным вручалась бутылка рома. Получил ее и Серов, вместе с врачебным советом лить на царапину спиртное и замотать ее чистым полотном. Первая оценка груза вскоре завершилась, большая часть корсаров, включая раненых, перебралась на фрегат, и галеон, под управлением Пила и призовой команды, поднял паруса. Мачты «Ворона» тоже оделись белым, и слабый ветер погнал корабли на северо-восток. Куда и зачем, о том Серов не ведал; ямайский ром, распитый с подельниками на троих, плескался в его желудке и туманил голову. Крепкое зелье! – подумал он, устраиваясь на шкафуте среди лежавших вповалку корсаров. Многие уже храпели – кто утомленный ратными подвигами, кто перебравший лечебного средства синьора Росано. Солнце опускалось к горизонту, «Ворон» плавно покачивался на волнах, и, удаляясь, растворяясь в вечернем зное и сонной тишине, звучал негромкий посвист ветра. И показалось Серову, что слышит он песню, одну из тех, давно знакомых, что звучали дома под гитарный перебор. Дома! Триста лет тому вперед! Закрыв глаза, он тихо прошептал: – Пират, забудь про небеса, забудь про отчий дом… Темнеют дыры в парусах, пропоротых клинком… Будто услышав, ветер подхватил мелодию и засвистал ему в ответ:* * *
На следующий день, после полудня, они приблизились к земле. Правда, не очень обширной и цветущей: кольцо песчаных пляжей километра два периметром, дальше – несколько пальм да заросли тростника, а над этой скудной зеленью торчит невысокий каменный горб. Однако на берегу, у самых пальм, виднелись три или четыре лачуги, сбитые из брусьев, досок и всевозможных корабельных обломков, а на песке, за линией прилива, валялся прокаленный солнцем плавник, те же доски и обломки. Лачуги выглядели необитаемыми, никакого движения около них не замечалось. Место казалось на редкость спокойным – трепетали на ветру пальмы, волны вылизывали безлюдный берег да кое-где бродили у воды огромные черепахи. – Привал? – полюбопытствовал Серов, разглядывая пальмы, песок и черепах. – Долю будем считать, – туманно пояснил Мортимер. – Что до тебя, подельник, так ты уже не обижен. Этакий вертел отхватил… Дорогого стоит! Вертел, толедский клинок с ножнами и перевязью, снятыми с трупа испанца, был неделимой собственностью Серова, как и новые Мортимеровы сапоги. Всякая вещь, взятая с боя, с тела побежденного, будь то оружие, перстень или кошелек с монетами, в общий котел не шла, а доставалась тому удачнику, который совладал с врагом и успел его ограбить. Это было нерушимым правилом Берегового братства, одним из многих законов и обычаев, еще неведомых Серову. Он, однако, подозревал, что этот кодекс эффективнее гражданского и уголовного права, которые ему преподавали, и путь в нем от вины до кары гораздо более короткий. Первый практический урок он уже усвоил, искупавшись под килем «Ворона», и не стремился его повторить. Фрегат и галеон встали борт о борт и бросили якоря. Спустили шлюпки; в первой отправился Джозеф Брукс с пленным испанским капитаном, двумя своими офицерами и дюжиной вооруженных матросов. В баркасе, отчалившем от галеона, Серов увидел несколько бочек и мешков – должно быть, на берег перевозили образцы товара для оценки. Впрочем, глазеть по сторонам ему не дали – ватага Галлахера принялась за работу, загружая в лодки емкости для воды, оружие, паруса и неизменные сухари и солонину. Нелегкий труд в жарком влажном воздухе, под палящим солнцем! Вскоре Серов сбросил рубаху и джинсы и повязал на голову майку. Потный, уставший, с трехдневной щетиной на лице и ссадиной поперек ребер, он отличался от корсаров только светлой кожей. Загар, который дарило солнце тропиков, был не таким, как северный, не золотистым, а цвета старой бронзы или кофе. Шлюпки уходили одна за другой, и вскоре на берегу вырос целый городок из парусины, растянутой на вбитых в почву досках. Десятка три пиратов, груженных бочонками, углубились в лес, по направлению к венчающей остров горе – там, очевидно, был ручей или какой-то иной водный источник. Остальные жгли костры, ловили черепах или валялись на песке, раздевшись до исподнего. Островок, несомненно, служил приютом и местом отдыха для многих поколений джентльменов удачи – может, кому-то, волей или неволей, пришлось остаться здесь и эти изгои построили хижины. Но не только их: Серов разглядел, как из одной лачуги вытащили стол и дюжину колченогих табуретов, расставив эту нехитрую мебель под полотняным тентом. Туда подкатили бочки, поднесли мешки и три увесистых ларца, и там находились предводители корсаров – Брукс, Пил и четверо других, чьи имена были уже известны Серову. Дородный тип с отвислыми щеками и рябым лицом звался Томас Садлер и выполнял на «Вороне» обязанности суперкарго[351], снабженца, казначея и писаря. Сэмсон Тегг, костлявый и тощий головорез в треуголке, был старшим бомбардиром, искуснейшим артиллеристом, служившим некогда в британском, в затем – в голландском флоте. Пайлот[352] ван Мандер, голландец из Роттердама, являлся штурманом, знавшим воды от мексиканского и венесуэльского побережья до Багам, Малых Антильских и Наветренных островов[353] как собственную ладонь. Последним из офицеров «Ворона» был Джулио Росано, хирург и бакалавр медицины, с которым Серову уже пришлось свести знакомство. Сейчас эта пестрая компания собралась у мешков и бочек, что-то оживленно обсуждая. Пленник, испанский капитан, находился у стены ближайшей лачуги, привязанный к опорному столбу. Пытать его, что ли, собираются?.. – подумал Серов. Наконец пришла их очередь перебираться на берег. К борту подогнали две шлюпки, команда рыжего ирландца с облегченными вздохами погрузилась в них, весла расплескали изумрудную воду, и застывшие на рейде суда начали удаляться. Мир вокруг был тих, спокоен и прекрасен; Серову даже показалось, что он попал на другую планету, девственную и гостеприимную, где нет иных обитателей, кроме экипажа «Ворона», и каких-то искусственных сооружений, кроме двух кораблей и нескольких лачуг под пальмами. В его эпоху такое прибыльное место с золотым песком и теплым морем не ускользнуло бы из лап цивилизации; наверняка тут воздвигли бы пару отелей и заселили их жаждущими экзотики туристами. Нос лодки ткнулся в песок, и босые полуобнаженные люди побрели к берегу. – Хенк, Морти и ты, с «Викторьеза», – Галлахер кивнул Серову, – поставить тент, разложить костры. Алан, ты старший, приглядишь за бездельниками. Герен, Люк, Брюс Кук, Джос и Страх Божий – пойдете с Даннерманом за черепахами. Двух хватит. Две большие или три поменьше… Как брюхо подскажет. Маленькие, но по три, большие, но по пять, – мелькнуло в голове Серова. Он грустно усмехнулся. Сейчас ни один человек на Земле не мог понять эту шутку, ни в Российской империи, ни в иных государствах и странах. Поистине он очутился на другой планете! Увязая в песке, они двинулись к пальмам, растянули полотнище в их жидкой тени, запалили два костра. Шагах в тридцати от них капитан Джозеф Брукс изучал со своими офицерами содержимое мешков и бочек, иногда поворачиваясь к привязанному у столба испанцу и что-то спрашивая – видимо, касавшееся груза. От мешков тянуло крепким запахом табака, на бочках стояли сундучки с откинутыми крышками, и в них тускло поблескивали серебряные слитки. Неподалеку расположились у костра с подвешенным к нему вертелом пять мужчин и девушка, племянница Брукса. Мужчины были Серову знакомы – Хрипатый Боб и четверо братцев-датчан, Хейнар, Олаф, Стиг и Эрик, приняли в его купании самое деятельное участие. Вскоре к ним присоединились еще двое, притащившие огромную черепаху, – волосатый, как горилла, Кактус Джо, и рослый негр Рик Бразилец. Все эти парни выполняли на «Вороне» роль телохранителей капитана, а при случае – экзекуторов и палачей. Серов, укрывшись в тени навеса, посматривал то на девушку, то на Брукса, Пила и остальных офицеров. Шейла интересовала его больше; вроде бы помнилось ему, что моряки не любят женщин на своих судах, но у пиратов на этот счет могли быть иные порядки. Что-то такое вертелось в мыслях – о прекрасной испанке, похищенной благородным корсаром, добившимся ее любви, а заодно и рыцарского звания. Имя корсара он, как ни старался, не мог припомнить – Дрейк?.. Уолтер Рэли?.. Морган?..[354] Скорее всего, эту романтическую историю навеяли романы и фильмы, и она не имела никакого отношения к реальным событиям и биографиям трех британских рыцарей-пиратов. Впрочем, Шейла не походила на испанку. Испанки черноокие и темноволосые, а у племянницы Брукса глаза казались синими, а волосы отливали цветом спелой пшеницы, со светлыми, почти серебряными прядями. Чуть скуластое лицо, маленький упрямый подбородок, высокий лоб… Такую девушку Серов мог встретить на московской улице, и это было ему приятно. Даже наряд той неведомой москвички мог быть похож на одежду Шейлы – обтягивающие легинсы, сапожки, белая блуза и кожаный жилет. Имелись, правда, отличия – сабля на перевязи и пистолет за поясом. Он смотрел на девушку, она смотрела на него – пристально, изучающе. Внимание Серова ее не смущало; она, вероятно, привыкла к взглядам мужчин. Он не мог сказать, красива ли она, будит ли в нем желание; просто глядел и чувствовал, как тонет в синих ее зрачках, растворяется в их прозрачной глубине, словно крупинка соли в морских водах. На бесконечно долгий миг вся странность мира, в который он попал, вся его невозможность будто бы исчезли или хотя бы сделались неважными – и оставались такими, пока в этом мире были только они двое. Наваждение! Колдовство! – подумал Серов и закрыл глаза. – Эй! – Ручища Галлахера опустилась на его плечо. – Очнись, приятель! Капитан зовет. И в самом деле, Брукс махал ему растопыренной пятерней и нетерпеливо хмурил брови. Поднявшись и придерживая трофейную шпагу, которая билась о бедро, Серов направился к столу. На нем лежала огромная, переплетенная в кожу книга, а при этом фолианте имели место чернильница, связка очинённых перьев, полдюжины бутылок рома и похожий на счеты агрегат. Страницы книги сверху были придавлены парой кинжалов, чтобы не шевелил ветерок, а медная чернильница стояла на плоском серебряном подносе. Том Садлер, казначей, карябал в книге перышком, разбрызгивая чернила, вздыхая и иногда откладывая толстым пальцем костяшки на счетах. Росано, уперев взор в землю, что-то подсчитывал в уме, Тегг и ван Мандер, склонившись с двух сторон, следили за неуклюжим пером казначея, а Пил явно скучал, наблюдая, как плывут в небе легкие облака. На Серова никто из них внимания не обратил. – Помню, ты хвастал, что умеешь ножики метать, – произнес Джозеф Брукс, щуря водянистые глазки. – Попадешь в эту крысу? В пасть или, к примеру, горло? Он кивнул на связанного испанца, и главари пиратов – все, кроме тяжко трудившегося Тома Садлера – повернулись к Серову, предчувствуя возможность поразвлечься. Пил уставился на него с неприязнью, остальные смотрели с интересом, а в глазах Росано даже мелькнуло сочувствие. Этот итальянец был не похож на отъявленного головореза и выделялся среди корсаров чистой одеждой, отсутствием оружия, а главное – лицом. Как и у всех, кожу его продубили ветер и солнце, но печать интеллекта вытравить не смогли, хотя в этом деле ром являлся их верным помощником. От Росано и сейчас несло спиртным, однако в меру, как от человека интеллигентного, слегка залившего печаль. Не говоря ни слова, Серов взял один из кинжалов, лежавших на книге, подбросил в ладони и поглядел на мишень. Смуглые щеки испанца побледнели, на лбу выступил пот – вероятно, он уже прощался с жизнью. Убить?.. – подумал Серов. Возможно, это было бы лучшим выходом – по крайней мере, пленник избавится от пытки… Плохое оправдание собственной трусости, решил он и метнул клинок. Лезвие врезалось в столб над левым ухом связанного человека. «Промазал, моча черепашья!» – произнес кто-то за спиной Серова, но он, схватив второй кинжал, резким движением послал его в воздух. Испанец глазом не успел моргнуть, как стальное острие уже торчало справа, прищемив темные волосы. Брукс одобрительно хмыкнул и потянул из-за пояса нож: – Умеешь, парень! Ну, теперь прикончи его… В глаз, в левый! Проткни ему мозги! – Нет. – Нет? – Нет, сэр! Лицо капитана побагровело. – Любишь испанцев, выродок? – прошипел он. – Только не тех, что палят в меня из пушек, – уточнил Серов. – Тогда почему бы тебе его не зарезать? – Я не убиваю беспомощных и безоружных, сэр. Нож в руке капитана сверкнул зловещим алым отблеском. Серов отодвинулся на шаг, стискивая рукоять шпаги. Как и намеченная жертва, он был сейчас бледен и, вероятно, испуган, но переломить себя не мог. Ему случалось убивать – и в том, и уже в этом мире тянулся за ним кровавый след, как за любым солдатом, который повинуется приказу и убивает врага. Убивает, чтобы защитить свою или чужую жизнь, и в том его отличие от киллера, от палача или грабителя. Ни к одной из этих категорий Серов не относился, и мысль о том, чтобы убить не ради мести, не по призыву долга, не в бою, а так, для развлечения, казалась ему дикой. Тяжкое молчание повисло среди пиратских главарей. Густые брови Джозефа Брукса сошлись у переносицы, нож подрагивал в его руке. Росано с тоскливым видом уставился в землю, Пил презрительно усмехался, ван Мандер и Тегг переглянулись с недоумением. Потом бомбардир вытащил из-за пазухи пистолет, взвел курок и прицелился в лоб Серову. – Упрямый сукин сын! Но мозги кому-то нужно вышибить… Что скажешь, Джо? – Отставить, Сэмми, – негромко произнес Брукс и сунул нож за пояс. – Пока отставить. Клянусь Иисусом, с этим делом надо разобраться. А крысу… Крысу можешь продырявить. Грохнул выстрел, и испанец обвис в веревках с пробитой головой. – Хейнар, Олаф! – крикнул капитан. – Труп закопать, а этого… – Он окинул Серова хмурым взглядом, будто прикидывая, не поставить ли его на место испанца, потом пробурчал: – Этого пока не трогать. Пил, я велел последить за ним. И как он тебе? Помощник холодно усмехнулся и пожал плечами: – Двоих прикончил, хотя не слишком рвался в драку. – Откуда у него клинок? – Взят с боя у лейтенанта мушкетеров. Француз башку ему проломил. Законная добыча, сэр. – И хорошая, сожри меня кайман! – добавил голландец-шкипер. – Отличная добыча! Потянет дукатов на сто пятьдесят. Внезапно Садлер, пыхтевший над книгой, отшвырнул перо, грохнул кулаком по столу и вцепился в волосы левой рукой. – Дукаты, чертовы дукаты! – выкрикнул он. – Серебра взяли на триста двенадцать английских фунтов с четвертью, а фунт у нас восемнадцать песо – это сколько же будет? Табак в реалах, четырнадцать тысяч двести, испанец сказал, сахара на шестьсот дукатов, а бобов какао – на девятьсот… – Схватив бутылку, казначей сделал несколько глотков и заорал снова: – Проклятые испанцы, псы помойные, блохастые гады! Проклятье на мою голову! Или в дукаты все пересчитывать, или в песо, или в реалы…[355] Так мы на этой куче вонючего песка месяц просидим! Капитан хмыкнул и, успокоившись, забыв на время о Серове, стал чесать под мышкой. Затем сказал: – Ты ведь знаешь, Томас, что мы с Теггом тебе не помощники, так что добычу оценишь, как всегда, с ван Мандером, а Пил и лекарь проверят. Они у нас джентльмены, всем наукам обучены. – Не тем наукам, сэр, – пробурчал помощник, выдвинул шпагу на треть и с лязгом загнал ее обратно в ножны. – Но проверю! У настоящего джентльмена пенс между пальцев не проскочит! – Он бросил взгляд на сундучки с серебряными слитками. – Все правильно, триста двенадцать фунтов с четвертью, взвешивали утром с Садлером. А в песо это сколько будет? Сколько, Томас? Казначей страдальчески сморщил лоб и задумался. Думал он долго, будто поднимая непомерную тяжесть, все три сундука, набитых серебром. Фунт – восемнадцать песо, вспомнил Серов и подсказал: – Пять тысяч шестьсот двадцать с половиной. Вожаки пиратов в изумлении уставились на него. Секунду царила тишина, потом Садлер завопил: «Врешь, сучье вымя!» – и, выдрав из книги чистый лист, приступил к письменным вычислениям. Брызги чернил летели во все стороны, покрывали кляксами стол и камзол казначея, яростно скрипело перо, протыкая бумагу. Это продолжалось пять или шесть минут, пока Садлер не подвел итог. Снова отхлебнув из бутыли, он сообщил: – Ты ошибся, французская задница – пять тысяч шестьсот шестнадцать песо. – Верно, если триста двенадцать фунтов пересчитать, – заметил Серов. – Но есть еще четверть фунта, а это как раз четыре с половиной песо. – Он прав, – подтвердил ван Мандер. – Парень хорошо считает, ловко. Пожалуй, большая редкость! Мир полон идиотов, и только немногие люди могут сложить два и два и получить четыре. Джозеф Брукс сунул ладони за широкий пояс и уставился на Серова. Кажется, он испытывал облегчение; с одной стороны, полагалось бы выпустить кишки ослушнику, с другой, было бы глупостью лишиться человека, который продемонстрировал свою полезность и редкий дар. Так ли, иначе, но этот талант был, вероятно, нужным поводом, чтобы пощадить Серова, какие бы другие мысли ни бродили в капитанской голове. Додумав их до конца, Брукс прочистил горло и спросил: – Где ты этому обучился, мошенник? – В замке моего папаши, сэр, – произнес Серов. – Мне дали хорошее образование, ведь все-таки я внебрачный сын мар… – Это мы уже слышали, – капитан махнул рукой. – Выходит, тебя обучили не только ножики метать и плясать на канате… Ты в самом деле был на «Викторьезе» помощником квартирмейстера? – Святая истинная правда. – Серов вытер холодный пот со лба и перекрестился. – Клянусь Девой Марией и двенадцатью апостолами! Я умею читать, писать, считать и говорю на трех языках, не считая нормандского. Я… – Заткнись! – Капитан оглядел своих сподвижников и молвил: – Думаю, парень нам пригодится. Что скажешь, Томас? Нужен ли тебе помощник? Казначей вновь приложился к бутылке. – Ну, если он не будет лакать мой ром, я его возьму. А если будет, долго не проживет. – Остальные согласны? – Очень многообещающий юноша, – кивнул хирург Росано. – Я за ним пригляжу, – пообещал Пил. – Нужно дать ему долю, – заметил ван Мандер. – Но только одну, – уточнил бомбардир Сэмсон Тегг. Капитан хлопнул ладонью о стол, и назначение Серова состоялось. За несколько следующих часов, что растянулись до самого вечера, он получил массу сведений о пиратском промысле. Бизнес этот был непростым, но в части бухгалтерии не слишком отличавшимся от знакомых ему подсчетов дохода и расхода, так что опыт в торговле куртками и джинсами пришелся Серову очень кстати. Прибыль, как правило, определяли в серебряных песо или золотых дукатах, испанской валюте, имевшей хождение в Вест-Индии повсюду. Садлер являлся сторонником песо; во-первых, потому, что серебро попадалось чаще золота, а во-вторых, выручка в песо более чем вдвое превышала итог в дукатах и, значит, выглядела солиднее. На первой странице приходной книги были выписаны коэффициенты пересчета – восемь реалов в песо, а в дукате – шестнадцать и три четверти. Пользуясь ими, Серов оценил табак в тысячу семьсот семьдесят песо, а какао и сахар – в три тысячи сто двадцать. Округленный результат, с учетом ларцов с серебром, составил десять с половиной тысяч, и эту сумму Садлер выписал крупными цифрами под датой: 3 марта 1701 года. Скромная добыча, но она имела шанс удвоиться после продажи корабля, а также испанских доспехов и оружия. Из этой части (весьма неопределенной, так как цены на плавсредства сильно колебались) нужно было уплатить «за покровительство», причем и здесь имелась разница: так, губернатор Тортуги «крышевал» пиратов за восемь процентов, а в Кингстоне на Ямайке требовали десять. Но в сравнении с налогами московских бандюков эти цифры показались Серову скромными. Прибыль являлась лишь первым этапом сведения баланса. Второй, расходный, был значительно сложнее; тут требовалось рассчитать доли всех участников экспедиции от капитана до матроса, с учетом погибших, которым наследовали их приятели. Пятьдесят долей клали «на корабельный борт», то есть в карман владельцу судна Джозефу Бруксу; кроме того, будучи капитаном и предводителем, он получал еще семь долей. Офицерам и корабельным мастерам[356] капало от двух до четырех, а в сумме тридцать пять, и еще двенадцать – в компенсацию раненым и увечным. Она определялась со слов Росано и в этот раз была невелика – никто не потерял конечности, да и глаза у экипажа были целы. Что касается царапин, синяков и выбитых зубов, за них не полагалось ничего. Рядовых на «Вороне» числилось сто восемнадцать, и окончательный итог составил двести двадцать две доли по сорок семь с третью песо. Том Садлер отметил окончание работ, прикончив вторую бутылку; затем принесли свечи (темнело в тропиках рано), и Пил с лекарем проверили вычисления. Пил занимался этим с небрежным видом, однако тщательно, и на Серова посматривал без особой приязни. Наконец капитан выпалил в воздух, и пираты нестройной толпой подтянулись к столу, где им был объявлен результат. Видимо, не из лучших – особых восторгов и даже гула одобрения Серов не услыхал. Он вернулся к костру, сел и отрезал кусок черепашьего мяса. Оно было сочным, хорошо пропеченным и вкусом напоминало телятину. Жадно и быстро насыщаясь, Серов прислушивался к голосам корсаров, толковавших за его спиной, что старина Джозеф – не Пьер Легран, не Монбар Губитель[357] и, разумеется, не Генри Морган; труба пониже, дым пожиже. Хотя, с другой стороны, Бога гневить ни к чему – испанца взяли с минимальными потерями. Пит пулю в брюхо схлопотал, загнувшись сразу, Джарвису проткнули сердце, а Боб Счастливчик отправился на небеса с разбитым черепом. Еще пятерых пришибло или шестерых? Губерт где? Тот Губерт, которому вырвали ноздри? Все еще на палубе или кормит крабов и акул? Серова ткнули в бок, и, оглянувшись, он увидел двух своих подельников. Пахло от них спиртным; Мортимер весело скалился, а его приятель выскребал из дремучей бороды черепашьи кости и мясо. – Живой! – с удивлением заметил Хенк. – Жив, покарай меня Иисус! – подтвердил Мортимер. – А я уже думал, гнить тебе в яме под пальмами! – Это когда Старик за ножиком потянулся, – объяснил Хенк. – Джозеф Брукс ножик даром не вытаскивает. – Озлился на тебя? Чего молчишь? – Мортимер тряхнул Серова за плечо. – Нет, не озлился, – возразил Хенк. – Эндрю-то как есть живой! И целый почти! Шкура, конечно, порезана, так это испанец расстарался, а вовсе не Брукс. Серов прожевал последний кусок, проглотил и отодвинулся от огня. – Повысили меня, – произнес он, вытирая губы. – Вышло мне повышение, ребята, и теперь я у Садлера в помощниках. – Повезло! – сказал Мортимер. – С таким везеньем, приятель, ты на небеса угодишь за час до того, как дьявол узнает о твоей смерти. – Ну, спасибо на добром слове, – ухмыльнулся Серов и добавил: – Уж не знаю, стоит ли теперь водить компанию с такими оборванцами, как вы. Мортимер хихикнул и повернулся к Хенку: – Заносчивые эти французы! Папаша мне говорил, что это у них от жратвы. Перца много кладут, а перец кровь горячит и мозги будоражит, оттого и гордость у них чрезмерная. Но если будет случай чужие сапоги пропить, тут француз всегда при деле. – Ладно, в следующий раз мои пропьем, – пообещал Серов. – А вот скажите, братцы, не завалялось ли у вас в карманах песо? Никогда не видел, а поглядеть хочется. – Прах и пепел! Песо не видел? – Мортимер уставился на него, точно на кретина. – Что удивляться? Я ведь из Нормандии, а там песо не в ходу. У нас эти… – Серов наморщил лоб, припоминая валюту из «Трех мушкетеров», – у нас экю, пистоли и ливры. Еще голландские тугрики есть, то бишь гульдены… Так покажешь или нет? Мортимер, помрачнев, запустил руку в карман, просунул пальцы в здоровенную дыру и показал Серову кукиш. Сзади заржали, и он, приподняв голову, встретился взглядом с корсаром по прозвищу Страх Божий. Смотреть на него без содрогания было невозможно: в щеке яма, нижняя челюсть сворочена набок, ноздри вырваны, и на лбу три каторжных клейма: французское – с лилиями, английское и испанское – со львами. Везде наследил и всем насолил, подумал Серов, разглядывая эти почетные украшения. – У этих, – Страх Божий скривился в сторону Хенка и Мортимера, – грош не залежится! Вот, смотри! Он раскрыл ладонь с корявыми, похожими на сучья пальцами, продемонстрировав серебряный диск с короной и многочисленными гербами. Монета была побольше николаевского рубля и даже на вид казалась тяжелой и основательной. Источник грозных сил Испании, ее галеонов, крепостей и армий, ее оружия и пушек, она сияла в пламени костра, словно излучая блеск имперского могущества. И в то же время, как почудилось Серову, она была пленницей – не пальцы испанского гранда или купца ласкали ее, а нежила рука пирата. Страх Божий ухмыльнулся, показав огромные клыки, спрятал монету в пояс и исчез в темноте. Отодвинувшись подальше от пылающего плавника, Серов расстелил куртку на песке, снял перевязь и шпагу, улегся и закрыл глаза. Впервые под ним ничего не качалось, не рокотала вода за бортом, не гудели канаты, не трепетали белые полотнища парусов. Он был на земле, на прочной и надежной тверди, достаточно обширной, чтоб вытянуть ноги и не уткнуться при этом в чью-то спину или грудь. И пахло здесь иначе, чем на корабле, не порохом, смоленым деревом и немытыми телами, а чистым свежим ароматом зелени. Эта земля с ее запахами и море, шумевшее в сотне шагов, были реальны, так реальны, что не приходилось сомневаться в их существовании. Иное дело люди – они могли обмануть, представить вместо истины иллюзию, построить старинные корабли, нарядиться в отрепья и, договорившись меж собой, разыграть какой-то непонятный спектакль. К людям и их деяниям Серов испытывал недоверие, хотя чувства и разум убеждали в обратном: корабль вроде бы казался кораблем, битва – битвой, а смерть – смертью. И все же инстинктивно, на уровне подсознания, он отвергал, отталкивал происходящее с ним или, возможно, не желал в это поверить. Ведь главное, на чем стоит человек, – все-таки вера, не вера в Бога и сверхъестественные силы, но твердая уверенность в том, что чувства его не обманывают и мир таков, каким он видится и слышится. Поколебать или разрушить эту веру – прямая дорога в безумие. И здесь, на твердой земле, Серов вдруг понял, насколько приблизился к этой границе. Видимо, все эти дни он пребывал в шоковом состоянии – двигался, ел, говорил, сражался, автоматически подчиняясь одной-единственной идее: выжить. Он как бы скользил по тонкому льду над темной пучиной океана, отгоняя мысли о его бездонном чреве; главное – заметить трещину или открытую полынью и не свалиться в нее, а сделать шаг к земле. И теперь, ощущая надежную твердь, прижимаясь к ней бедрами, спиной, плечами, он осознал, что океан и бездна существуют и непременно поглотят его, если не признать их реальность. Перевернувшись на живот, Серов уткнулся в куртку лицом, стиснул челюсти и тихонько взвыл. Куртка была иной реальностью, такой же, как его блокнот, часы, бумажник с паспортом и зажигалка. Что еще? Авторучка, носовой платок, российские купюры, горсть монеток и одежда… Все это можно оставить на память, спрятать в матросский сундучок, как раритеты прошлого, и облачиться в камзол и ботфорты, подвесить шпагу, набить карманы песо. Вот символы мира, в котором пройдет его жизнь! И надо примириться с ними, если не желаешь стать умалишенным… Эти мысли мучили Серова, не давая задремать. Впрочем, обстановка не слишком располагала ко сну – у дюжины костров орала, пила и жрала орда грабителей и разбойников, наряженных в пестрые лохмотья и вооруженных до зубов. Кто, оседлав бочонок с ромом, хлебал из кружки, кто пытался столкнуть счастливца, чтобы добраться до спиртного самому, кто палил из мушкета, кто махал тесаком и вопил, описывая свои подвиги, кто плясал, разбрасывая песок, кто, с нехорошим блеском в глазах, вытягивал нож из голенища и примерялся к горлу приятеля. Земля – не корабль, где все на виду и все в капитанском кулаке… К тому же капитан был реалистом и понимал, когда его разжать. Уйти, подумал Серов, сбежать хоть на время и не видеть… Он ощущал острую потребность в одиночестве; пережитое в этот день вдруг навалилось на него, согнуло, придавило, будто он сам, а не испанец, был привязан к столбу у хижины и ждал, когда в него разрядят пистолет. Собственно, могли бы тоже шлепнуть, и гнил бы сейчас под пальмами, как сказал Мортимер… Ну, пронесло! Можно сказать, невероятное везенье… Арифметика спасла… Серов поднялся, отряхнул куртку, надел ее, прицепил шпагу и побрел в глубь острова. Мимо костров и пьяных морд, мимо пустого стола и валявшихся рядом табуретов, мимо сколоченных из плавника лачуг, мимо мохнатых пальмовых стволов. Деревья стояли редко, и полной темноты под ними не было – лунный свет позволял разглядеть даже мелких крабов, копошившихся в песке. Шум и гам за спиной постепенно становились тише, но деваться от них все равно было некуда: островок крохотный, от берега до берега метров семьсот. Посередине горушка, вспомнилось Серову, и вскоре он ее увидел – черная тень невысоко поднималась над пальмами, закрывая ближние к горизонту звезды. Свет луны падал на противоположный склон, а этот, обращенный к нему, прятался во мраке, и лезть на эту горку, не видя ничего, явно не стоило. Обогну, решил Серов и зашагал по узкой полоске песка между темным склоном и деревьями. Приступ отчаяния прошел, и он убедился, что может рассуждать холодно и здраво, будто расследуя некий криминальный случай, произошедший не с ним, а с вовсе посторонним человеком. Такая отрешенность – необходимое качество детектива, который часто сталкивается с бедами и горестями; он должен погасить эмоции, забыть о жалости и обратиться к фактам. Это аксиома, тем более верная, если сам сыщик угнетен бедой и горем. Отринуть их и не жалеть себя! Как же иначе разобраться в ситуации? – Оценим потери и приобретения, – пробормотал Серов, грустно кивая головой. Список потерь был огромен и невосполним: родные, близкие, друзья, его работа, вся его жизнь, весь мир с такими привычными удобствами, мир, где не было ни расстояний, ни первобытной дикости, – во всяком случае, на Земле; бесспорно, не самый лучший из миров, однако такой, в котором, если не обращать внимания на мелочи, он чувствовал себя уютно и привычно. Мир, в котором он был Андреем Серовым, а не Эндрю Серра, жил в родной стране и говорил на русском; все это, включая имя, родину, язык, также являлось потерей, столь же неизбежной, как электричество, авиалайнеры, смывной клозет и телефон. Приобретений же насчитывалось меньше, много меньше – собственно, он видел лишь одно: в этой эпохе, свободный от обязательств и привязанностей, Андрей Серов мог делать что угодно. Разумеется, с учетом мнений капитана Брукса, Пила, его помощника, боцмана Стура и остальной пиратской шатии-братии. Печальный итог! Не успев поразмыслить над ним, Серов быстро обернулся и положил ладонь на рукоять клинка. Ему показалось, что сзади слышатся некие шорохи, будто по его следам крадется человек. Или же зверь? Но что за звери могли водиться на этом островке? Тапиры, ягуары, крокодилы? Чушь, нелепость! Этот клочок земли служил прибежищем лишь черепахам да крабам. Он стоял с обнаженной шпагой, всматриваясь в обманчивые тени, слушая далекий гул пиршества и журчание воды – видимо, где-то рядом был ручей. Эти звуки не заглушали подозрительного шороха; кто-то определенно шел за ним и не старался скрываться. Наконец в лунном свете мелькнула стройная фигурка, и сердце Серова вдруг забилось чаще. Шейла? Кажется, она… Конечно, она! Месяц серебрил ее волосы, посверкивали пряжки на поясе и сапогах, блестела спадавшая на грудь цепочка с крестиком, но глаза были непроницаемы и темны. «Разыскивала меня? Зачем?» – подумал Серов и вложил клинок в ножны. Потом отвесил поклон – такой, к какому привык на цирковой арене, согнувшись в поясе и едва не достав до земли руками. – Мисс Шейла? – Шейла Джин Амалия Брукс, если быть совсем уж точной. – Ее голос казался звонким и слегка насмешливым, и слушать его было приятно. – Андре Серра, – он снова поклонился. – Эндрю Минус, – уточнила девушка. – Почему? – Дядя Джозеф сказал, хорошо считаешь. Серов усмехнулся: – Мне кажется, Эндрю Плюс звучало бы лучше. – Плюсом еще надо стать. – Ее зубы тоже сверкнули в улыбке. – Сейчас ты только минус. – Сделав шаг к Серову, она прикоснулась к перевязи шпаги. Пахло от нее восхитительно – юным женским телом, солнцем и морскими ветрами. – Слушай, Эндрю… ты меня выручил – там, на галеоне, когда мы схватились с испанцами… Не думай, что я забыла или что мне неведома благодарность, – это не так, клянусь Девой Марией! Но свое ты уже получил, и не рассчитывай, что это повторится. – Что – это? – Серов, улыбаясь, вдыхал чудные ароматы. Она немного отодвинулась. – Ты ведь из Франции, да? Из Старого Света? И ты впервые здесь? – Впервые. Я приплыл на «Викторьезе» и… Ладошка Шейлы повелительным жестом коснулась его губ. – Я знаю. Там, у вас, все другое… У вас леса и парки, а не болота и сельва, дороги, а не тропы, и города, огромные города, Лондон, Париж, Антверпен… Я знаю, Росано мне рассказывал! Я слышала, там за четыре песо можно купить бычка или хорошее платье, а здесь ты получишь за них кварту[358] рома. Зато быки бесплатные, их можно подстрелить на Эспаньоле, выдубить шкуру и сделать одежду… И люди тут другие, Эндрю. Жестокие, безжалостные! Запомни мои слова! – Зачем ты мне это говоришь? – Предупреждаю в знак благодарности, – пояснила Шейла. – Сегодня ты ослушался дядюшку Джозефа, а он строптивых не любит. Ты все еще жив… жив потому, что дяде известно, кто меня выручил. Но с этим все. Все! Не выполнишь другой его приказ, пойдешь кормить акул. Покарай меня Господь, если не так! Перекрестившись, она отступила на несколько шагов и, когда Серов шевельнулся, махнула рукой: – За мной не ходи. И не пяль на меня глаза слишком часто, этого дядя Джозеф тоже не любит. – Тебе приятно, когда я смотрю? – спросил Серов. Журчащий смех был ему ответом. На мгновение облако скрыло луну, тени дрогнули, и девушка исчезла. Ее аромат все еще витал в воздухе, и он внезапно понял, что продолжает улыбаться. – Первый человек, – тихо произнес Серов, – первый нормальный человек, которого я тут встретил. Надо же, явилась, чтобы меня предостеречь! Хотя испанцев она не жалела. Странный покой снизошел на него. Он вытащил часы, взглянул на циферблат – они показывали шесть двадцать, нечто совсем несообразное. Потом припомнил, что часы идут по времени Петропавловска, покачал головой и сунул их в карман. Все тут другое, сказала Шейла Джин Амалия, все не такое, как в Старом Свете… другие леса и города, другие люди, и время тоже другое… Если б она знала, как права! Серов направился обратно в лагерь и подороге размышлял о том, что список его приобретений, может быть, окажется не так уж скуден и найдется в нем такое, что достойно отметить в первой строке и с заглавной буквы. Что-то теряешь, что-то находишь, вертелось у него в голове – старая песня, знакомая мелодия, которую были не в силах заглушить выкрики, божба и пьяный рев. Кто знает, какие еще находки будут подарены судьбой? Он посмотрел под ноги и увидел след сапожка Шейлы, отпечатанный в песке.Глава 7 ТОРТУГА
С севера Тортуга в самом деле напоминала черепаху[359], голова которой глядела на запад, а острый маленький хвостик – на восток. Северный берег острова, безлюдный и обращенный к открытому морю, выглядел как нагромождение серых и бурых утесов; здесь волны бушевали у подножий скал, солнце сжигало скудную растительность, и мнилось, что редко встретишь на свете столь негостеприимную местность. С юга вид разительно менялся. Стоя на эспланаде перед губернаторским дворцом, Серов рассматривал просторную бухту, город, что раскинулся рядом с ней, защищавший его форт и поднимавшиеся вверх, к скалистой гряде, террасы с плантациями сахарного тростника и рощами пальм, манценилл, фиговых и банановых деревьев. В глубине острова рощи переходили в настоящие леса, населенные большей частью птицами, безопасные и приветливые. Однако люди на Тортуге жались к бухте и морю; кроме Бас-Тера, островной столицы, вдоль побережья насчитывалось еще десяток местечек и крохотных городков – Кайон, Ла-Монтань, Ле-Мильплантаж, ЛеРинго, Ла-Пуэнт-о-Масон и другие. Капитан Брукс имел усадьбу в Ла-Монтане, милях четырех от Бас-Тера, но там Серов еще не бывал. На Тортуге он находился половину дня и успел насладиться лишь пейзажами этого корсарского рая. Сейчас он ждал капитана и казначея на площади между гарнизонной казармой и лестницей, ведущей к дверям каменного двухэтажного особняка. Резиденция губернатора де Кюсси где-нибудь в Европе скромно именовалось бы домом или в лучшем случае виллой, но в Вест-Индии это был настоящий дворец. Крепкие стены, высокие застекленные окна, дверь из драгоценного кампешевого дерева[360], галерея с тентом на резных столбах, что протянулась вдоль второго этажа, – все это было знаком роскоши, почти немыслимой в диких вест-индских краях. Такое мог себе позволить лишь губернатор и еще десятка три или четыре богатейших обывателей Бас-Тера, причастных, в основном, к скупке и перепродаже награбленного. Каждому из них полагался свой кусочек пирога, но после того, как де Кюсси его нарежет и распределит согласно чинам и заслугам жаждущих. Первым в их списке шел Людовик XIV, престарелый король-солнце[361], затем сам кавалер де Кюсси и Французская Вест-Индская компания[362], а уж потом все остальные, торгующие плодами колониальных заморских земель, какао, сахаром, ценной древесиной и табаком. У лестницы стояли три сундучка под бдительной охраной Кактуса Джо, Рика Бразильца и четырех братьев-скандинавов. Хрипатый Боб сидел подальше, устроившись прямо на земле и придерживая поводья трех мулов, дотащивших сундуки из гавани по крутым улочкам Бас-Тера. Командовал отрядом боцман Стур; его кряжистая фигура маячила за крупами животных, челюсти мерно двигались, перетирая табак. Иногда он смачно сплевывал, отворачиваясь от дворцовых окон – видимо, из почтения к губернатору. Серов попал в эту компанию в качестве писаря. За недолгие дни плавания от островка, где подсчитывали добычу, до Тортуги выяснилось, что почерк у него не в пример разборчивей и лучше, чем у Тома Садлера, а клякс он сажает меньше. Совсем без клякс он не мог обойтись – опыт в обращении с гусиным пером был у Серова самый минимальный. Впрочем, в глазах капитана это не являлось слишком большим недостатком; как человек хозяйственный и прагматичный, Брукс сообразил, что в команде появился редкостный специалист, коему можно доверить приходную книгу. Это, разумеется, не освобождало Серова от прочих повинностей – тянуть канаты, ставить паруса, а также драить палубу. Над городом раскатился грохот – в крепости, отмечая полдень, ударила пушка. Вслед за тем дверь наверху отворилась, Садлер высунул щекастую рожу, убедился, что сундуки на месте, и рявкнул: – Заносите! Боцман Стур сплюнул коричневую жижу на холку мула и дублировал приказ: – Живей шевелитесь, винные утробы! Матросы попарно взялись за сундуки и потащили их по лестнице. Серов, с книгой и чернильницей, шел следом. За ухом у него торчало перо, длинная шпага колотилась о ноги. Сразу за дверью был большой холл, каменная облицовка которого берегла прохладу. Слева – кордегардия[363] с четырьмя усатыми молодцами в мундирах, при пистолетах и саблях; справа, за аркой, открывается анфилада парадных комнат с картинами и гобеленами, люстрами из бронзы и хрусталя, утыкаными свечами, и вычурной мебелью в старом французском стиле: гнутые ножки диванов, шкафов и столов, перламутровая инкрустация, расписные фарфоровые медальоны. Серов окинул эту роскошь равнодушным взглядом – не того еще насмотрелся в музеях и царских дворцах. Прямо была двойная лестница на второй этаж, а между ее пролетами виднеется патио, внутренний дворик с круглым бассейном посередине, дюжиной невысоких пальм и виноградной лозой, оплетающей стены. В дальнем от входа углу – стол с кувшином и кубками, кресла и два человека, сидевшие рядом будто хорошие приятели. Одним был капитан Брукс в лучшем своем камзоле и начищенных до блеска башмаках, другим – вальяжный мужчина под пятьдесят, одетый в атлас. Его полногубое лицо с крупными чертами и породистым носом обрамляли светлые кудри парика, рукава и ворот сверкали золотым шитьем, и столь же ярко блестели кольца, пуговицы и табакерка, которую он держал в руках. Де Кюсси, главный босс, догадался Серов. – Сюда! – Том Садлер показал, где опустить сундуки, откинул крышки и сделал знак, приказывая пиратам удалиться. Серову было велено встать за креслом капитана. Губернатор приподнялся, бросил небрежный взгляд на серебро. – Триста двенадцать фунтов с четвертью? – Голос у него был резкий, решительный. – Отлично, капитан. Я распоряжусь, чтобы мешки с монетой доставили в гавань примерно через два часа. Пять тысяч песо. С учетом срочности я увеличу портовый сбор. – Пять тысяч шестьсот двадцать песо, и ни монетой меньше, – твердо сказал капитан Брукс. – Свое вы получите при продаже испанской лоханки. Кроме того, я хотел бы побыстрее сбыть остальные товары, табак, какао и сахар. Сколько там? – Он повернулся к Серову. – Четыре тысячи восемьсот девяносто песо, – доложил тот. – Их я тоже хочу получить до заката. Быстро! Открыв табакерку, де Кюсси изящно подцепил щепотку табака и втянул ее трепещущими ноздрями. Поднес к лицу кружевной платочек, чихнул и промолвил: – Ясно, как свет Господний, капитан. Вы были в море едва ли десять дней и уже вернулись с призом – пусть скромным, но все-таки… Запасы ваши почти не израсходованы, и чем быстрее ваши люди получат и прокутят деньги, тем скорее вы отправитесь искать добычу. Сколько приходится на рядовой состав? На каждого? Он бросил взгляд на Серова, который, дождавшись кивка капитана, вежливо склонил голову и произнес на французском: – Сорок семь с третью песо, монсиньор. – Француз? – встрепенулся губернатор. – Мой помощник, – буркнул казначей. – Андре Серра. Говорит, что папаша его – маркиз. Из этой… как ее… Нормандии. Де Кюсси покивал головой в пышном парике. – Возможно, возможно… кого не заносит в Вест-Индию… Кажется, достойный молодой человек и хорошо воспитанный, только одет странновато. – Он поднял кувшин и собственноручно разлил в бокалы багряное вино. – Итак, мсье Брукс, правильно ли я вас понимаю: вы хотите получить всю сумму чистоганом, сбросить песо в мошну кабатчикам и шлюхам и поскорей убраться в море? А с целью наших окончательных расчетов оставляете мне испанский корабль? – Именно так. Капитан с мрачным видом осушил бокал. По его лицу было заметно, что ничего хорошего он от этой сделки не ожидает, но, как человек разумный, мирится с неизбежным. – Ну что ж, я, пожалуй, соглашусь, – Губернатор отхлебнул из бокала. – Полсотни песо ваши люди прогуляют за ночь и, возможно, за следующий день. Завтра вечером или послезавтра утром вы сможете отплыть. Что же касается испанского судна… Я постараюсь продать его для вас, мсье Брукс, а выручку поделим пополам. Это вас устроит? Томас Садлер протестующе затряс щеками, а лицо капитана Брукса потемнело. Резко отставив кубок, он сказал: – Треть! Треть для вас, две трети – нам! Дьявол меня побери, если кто-то от Мексики до Наветренных островов сможет сделать лучшее предложение! Очевидно, по мнению де Кюсси, такие люди имелись. Он пожевал губами, спрятал в рукав камзола табакерку и молвил: – Треть слишком мало, учитывая срочность, на которой вы настаиваете. Мало, клянусь Иисусом и всеми святыми угодниками! Две пятых, и это мое последнее слово. Серову показалось, что Томас Садлер что-то неразборчиво пробормотал, про клопа или, возможно, про вошь – во всяком случае, упоминалось некое кровососущее насекомое. Капитан Брукс кисло усмехнулся и хлопнул ладонью по столу в знак согласия: – Договорились! Кто и когда выплатит мне деньги за груз? – Ну-у, скажем так… – протянул губернатор, лаская завитки своего парика. – Какао и сахар возьмут мсье Филибер, мсье Баррет и кавалер Сент-Онж. Возьмут по названной вами цене и рассчитаются сегодня к вечеру. Момент для продажи удобен – Пьер Пикардиец[364] вернулся пустым. Ходил к Москитовому берегу[365], взял пару нищих городишек, а в них – церковную утварь на сотню дукатов и тридцать бочек кислого вина. – В глазах де Кюсси мелькнуло презрение к столь скромным результатам. – Табак… табак, я думаю, отдадим герру Максу Фраю, нашему новому поселенцу из Гамбурга. Он… – Разрази меня гром! – воскликнул Томас Садлер. – Табак мы всегда сдавали Кривому Гийому! – Нет, нет! – Кудри парика взметнулись, когда губернатор энергично покачал головой. – Мсье Гийом стал в последнее время дерзок… непозволительно дерзок, я бы сказал. Думаю – нет, я даже уверен! – что он здесь не задержится. Вредный климат, изнуряющая жара и все такое… ну, вы понимаете… Капитан и казначей понимали и, в знак согласия, разом кивнули. Серов тоже кивнул, вспомнив свою работу в московском УГРО. Если опереться на прежний опыт, происходившее сейчас было яснее ясного, и никакая старинная экзотика, все эти парики, камзолы, шпаги и сундуки с серебром, сути дела не меняла: пахан грабителей вел торг со скупщиком краденого. Краденого дважды, так как испанцы тоже не занимались честным промыслом, а грабили заокеанские земли и их несчастных обитателей. Капитан вывернул шею, поглядел на него и приказал: – Пиши, парень: табак – Максу Фраю, какао и сахар – Филиберу, Сент-Онжу и Баррету Язве. Оплата в песо, ливрах или шиллингах[366]. Деньги на бочку до вечерней зари. Записывай! – Слушаюсь, сэр. – Ливры и шиллинги пересчитаешь в песо. – Так точно, сэр. Серов раскрыл книгу, макнул перо в подвешенную к поясу чернильницу и записал что велено. Губернатор де Кюсси глядел на него с явным одобрением. – Какой исполнительный юноша! И, я полагаю, образованный… В наше безбожное время редко такого встретишь! Может, продадите, мсье Брукс? Мне нужен толковый секретарь. – Не продается, – буркнул капитан. – Ну, воля ваша, настаивать не смею. – Губернатор развел руками. – Что прикажете делать с вашей личной долей? Приплюсовать к тому, что уже у меня хранится? – Дождавшись кивка капитана, де Кюсси снова налил вина. – Ну, быть по сему. А теперь, друзья мои, выпьем за понимание и сотрудничество! Кстати, хотел узнать, мсье Брукс, как поживает ваша очаровательная племянница мадемуазель Шейла? Вы по-прежнему берете ее с собою в море? – При мне ей безопаснее, чем на берегу. Слишком много соблазнов в Бас-Тере, не для юной христианской души, – заметил капитан и присосался к кубку. Потом добавил: – Хотя, если сказать по правде, в море свои опасности. Когда испанца брали, девчонке чуть не снесли башку. А снесли бы, что бы я делал? Она у меня одна наследница! Губернатор сочувственно почмокал полными губами. – Вы всегда можете оставить ее здесь, вместе со своими капиталами. Здесь, в моем доме, под присмотром мадам Жаклин. Вы же знаете, что моя супруга – дама самых строгих правил… Только вот здоровьем слаба – замучили мигрень, желудочная колика и боли в пояснице. Помнится, что был у вас отличный лекарь и хирург, итальянец из Венеции… кого-то он там зарезал, если не ошибаюсь? Ну, это не важно… хирург, который никого не зарезал, двух су[367] не стоит… иначе откуда ему, хе-хе, опыт взять? Если задержитесь в Бас-Тере, пришлите его ко мне – скажем, завтрашним утром. Пусть взглянет на мадам Кюсси. В прошлый раз он дал ей такую чудную микстуру! – Непременно пришлю, – пообещал капитан и поднялся. После серии поклонов, изящных у губернатора и более неуклюжих у капитана с казначеем, гости покинули дворец. По дороге Серову удалось заглянуть из холла в ближайшую комнату, где, под зеркалом в роскошной раме, стояли большие напольные часы. Первые, которые он увидел в этом мире… Приотстав, он вытащил свой швейцарский брегет, перевел стрелки на час сорок восемь и сунул свою драгоценность обратно в карман. В послеполуденное время на знойных пыльных улочках Бас-Тера не было ни души. Солнце палило, слабый ветер с моря не умерял жары, и все живое, включая кур, собак и нищих, забилось по щелям и домам в поисках прохлады. У губернаторской резиденции стояли дома поприличнее, с каменными первыми этажами и деревянными вторыми, с пальмами и цветущими кустарниками вокруг, и располагались они просторно, каждый на своем участке – тут, вероятно, была обитель негоциантов масштаба мсье Филибера и кавалера Сен-Онжа. Дальше строения ветшали, уменьшались в размерах и теснились друг к другу все более кучно, образуя рядом с гаванью откровенный бидонвилль, скопище жалких хижин и лачуг немногим просторней собачьей конуры. Ничего интересного в этом зрелище не было, и Серов, шагая в арьергарде отряда, предпочитал рассматривать бухту, пристани, склады и корабли. К счастью, его опасения, что здесь он может столкнуться с экипажем «Викторьеза», не оправдались – капер уже ушел на Сент-Кристофер, более крупную французскую колонию, лежавшую среди островов Наветренного архипелага. Если не считать баркасов и рыбачьих лодок, в бухте Бас-Тера сейчас стояли шесть кораблей: «Ворон» с захваченным испанским галеоном, голландский билландер[368] и два торговых судна Французской Вест-Индской компании с грузом тканей, пороха, вина и остальных предметов, подходящих для заморской торговли. Последний корабль, трехмачтовый «Гром», принадлежал тому самому Пьеру Пикардийцу, о чьих успехах губернатор отозвался столь презрительно. Его команда слонялась сейчас по кабакам, пропивая последние гроши. Солнце огненным глазом сияло в небе, и тихая морская гладь была похожа на полупрозрачный зеленый нефрит с прожилками белоснежной пены. В двух лигах к югу от острова зелень становилась интенсивней, нефрит превращался в яркий изумруд, расцвеченный коричневым и желтым, – там лежала Эспаньола, Большая Земля, размеров которой Серов не знал, но смутно чувствовал, что сотней километров тут не обойдется[369]. По Эспаньоле бродили дикие быки, и охота на них считалась важным местным промыслом, кормившим четверть населения Тортуги, три или четыре тысячи буканьеров. Многие в экипаже «Ворона» были из этих охотников – Хенк, Алан, Чарли Галлахер, Джос, Люк и, очевидно, другие, пока незнакомые Серову. Отряд спустился к гавани. Пожалуй, именно здесь, а не в дворце губернатора, билось хищное сердце Бас-Тера. Вдоль воды шел заменявший набережную пыльный тракт с деревянными причалами, пирсами, мостками и привязанными к ним плавсредствами различного калибра, от утлой пироги и плота до баркаса. В дальнем конце, у скал, где глубина позволяла швартоваться судам побольше и пристань была посолидней, разгружался голландский билландер. Тут и там сновали лодки, одни – рыбачьи, другие – перевозившие людей или грузы, а две или три побольше, под парусами, направлялись через пролив к Эспаньоле. С северной стороны набережной – той, что была обращена к земле – тянулись кабаки и лавки, склады и веселые дома, а также универсальные заведения, где предлагалось абсолютно все, от рома и джина до женщин и ночлега. Были тут и пункты скупки всякого добра, какое могли предложить морские разбойники, ибо не каждый раз им выдавали зарплату звонкой монетой. Доля, конечно, определялась в песо, реалах или дукатах, но вместо них могли предложить пистолет, кольцо, окровавленный камзол или другую вещицу, которую можно продать либо, на худой конец, пропить. Скупщики и менялы являлись важной частью этого процесса и были в Бас-Тере людьми уважаемыми, хотя и не в той степени, как мсье Баррет и герр Макс Фрай. Что ж, каждому свое, думал Серов, оглядывая шеренгу кабаков и лавок; есть гиены, есть крысы, и аппетиты у них разные. Джозеф Брукс остановился у мостков, к которым была причалена шлюпка с «Ворона». – Боцман! – Да, сэр! – Объяви парням, что монету получат на вечерней заре. Ночь, день и другая ночь в их распоряжении. Послезавтра утром все должны быть на борту, а тех, кто будет пьян и не сумеет влезть на мачту, ты слегка прополоскаешь. – Как обычно, сэр? Три раза? – Да. И еще одно: лекарю влей в глотку бутыль рома и запри в каюте, чтобы к утру проспался. На берег не пускать! Иначе он, клянусь Христом, налижется до чертиков! – Капитан поворочал головой, оглядывая бывшую с ним команду, и ткнул Серова в грудь: – Ты, Эндрю! Утром проводишь лекаря к губернаторской мадам. На обратной дороге может хоть до бровей накачаться, но на корабль ты его притащишь. Ясно? Теперь в няньки определили, подумал Серов, но ответил как положено: – Так точно, сэр! Брукс повернулся и начал, сопя и отдуваясь, спускаться в шлюпку.* * *
Мешки с монетой привезли на вечерней заре, и, пока солнце садилось в морские волны, Том Садлер и Серов отоваривали команду на верхней палубе. Каждому полагалось сорок семь больших серебряных монет плюс одна поменьше, кому ливр, кому шиллинг; в целом это составляло больше килограмма серебра. Приличные деньги, размышлял Серов, отсчитывая монеты и складывая их столбиками. Даже в его времена, в Москве или, положим, в Стамбуле либо Барселоне, на них можно было погулять если не с размахом новых русских, то все-таки вполне шикарно. Закончив денежные операции, он съехал на берег вместе с гомонящей ватагой жаждущих выпивки и развлечений моряков. Вид набережной, сонной и тихой в полуденное время, разительно переменился: двери лавок и кабаков были гостеприимно распахнуты, всюду, разгоняя тьму, пылали факелы, горели фонари, звенели кружки, и вдоль причалов слонялась тысячная толпа, огромное скопище для Бас-Тера, в котором, вместе с предместьями, всего-то насчитывалось тысяч двенадцать жителей. Были тут корсары с «Грома», загорелые, с красными платками на головах, увешанные оружием; были буканьеры в кожаных жилетах и штанах, лохматые, с нечесаными бородами; были вороватые мальчишки и подозрительные личности, кто в лохмотьях и босиком, кто в роскошном камзоле на голое тело и явно чужих сапогах; были клейменые уголовники, рабы и пленники всех цветов кожи, и, разумеется, были женщины. Одни попроще – индианки, негритянки, мулатки; другие, белые, с накрашенными лицами, щеголяли в платьях с декольте до пупа и явно стоили дороже своих цветных товарок. Весь этот сброд собрался ради прибывших с «Ворона», желая поосновательней и побыстрей облегчить их кошельки и карманы. Все просто горели дружелюбием в расчете на даровую выпивку или гешефт посолидней, и только люди Пикардийца казались хмурыми – видно, чужая удача их не слишком радовала. Серов пробился сквозь эту толпу в сопровождении подельников, не раз ощущая, как быстрые ловкие пальцы ощупывают пояс. Но кроме заправленной в джинсы рубахи там не было ничего; монеты лежали в одном кармане куртки, часы и прочее имущество – в другом, куртка была плотно свернута и прижата к груди. Мортимер и Хенк, руки которых были свободны, охраняли свое добро иным способом, раздавая оплеухи и зуботычины, Серов же мог только пинать самых нахальных оборванцев. Зато делал он это от души. Втроем они ввалились в лавку, которую держал Конопатый Клод, приятель Мортимера, бывший корсар, порвавший с промыслом из-за потери уха, глаза и ноги. Впрочем, он ковылял на деревяшке быстрее стивенсоновского Сильвера и в пять минут выложил все, что требовалось Серову. Во-первых, крепкий матросский сундучок голландской работы, с ручкой на крышке и надежным замком; во-вторых, одежду, сообразную морским занятиям: холщовые короткие штаны, полотняную рубаху, кожаный жилет и сапоги. Цену заломил немалую, двадцать восемь песо, и Серов, буркнув «Обираловка!», уже направился к выходу, но Мортимер его придержал. Затем он начал торговаться, напирая на дружбу и прежние услуги, оказанные Конопатому, так что в конце концов сошлись на двадцати пяти монетах, включая кожаный ремень, кошель, английский нож и красную косынку. Здесь же в лавке Серов переоделся, нацепил перевязь со шпагой, пересыпал в кошель монеты, сунул туда часы и зажигалку, а все остальное спрятал в сундучок. Крышка захлопнулась со стуком, что прозвучал аккордом судьбы; прошлое было отрезано, и все, что от него осталось, хранилось теперь в этом маленьком дубовом ящике. Серов со вздохом взялся за ручку. Потери, одни потери… А что он приобрел? Что? Личико Шейлы и синие ее глаза мелькнули перед его мысленным взором, но подельники уже тащили Серова на улицу, орали, в два горла обсуждая, что и где будут есть, а главное – пить. Сошлись на «Старом Пью» и вскоре присоединились к уже сидевшей там компании. Рожи были все знакомы: Жак Герен, Люк Форест, Джос Фавершем, Брюс Кук, Алан Шестипалый и, разумеется, Страх Божий. Их появление встретили дружным ревом и грохотом кружек по столу. Вопили, похоже, лишь от избытка чувств – никто еще не успел набраться по-серьезному. Таверна «Старый Пью» была навесом на столбах, выпиленных из почерневшей от времени и непогоды мачты; боковые стены обшиты старыми корабельными досками, вместо передней стенки – фальшборт с наложенным поверх планширом, и между этой загородкой и стойкой – три длинных стола со скамьями, сбитыми из пушечных лафетов. Стойку изготовили из палубных досок, брошенных на бочки, и в целом заведение напоминало кубрик на пиратском корабле, украшенный огромным ржавым якорем да абордажными саблями и топорами, развешанными всюду. Его хозяин папаша Пью, проходимец лет шестидесяти, утверждал, что доски, мачта, планшир и все остальное принадлежало некогда фрегату «Велкам», одному из последних кораблей, на котором плавал великий Генри Морган. Но Люк Форест и Алан Шестипалый объяснили Серову между двумя кружками, что веры старому Пью нет никакой; его послушать, так он был у Моргана в лучших приятелях и грабил с ним Пуэрто-Бельо, Маракайбо и Панаму[370]. А это все вранье и наглая брехня, поскольку у Пью руки-ноги целы, уши и глаза на месте, и шрамов от ранений тоже нет, а такой телесной сохранностью не может похвастать ни один из моргановских ветеранов. Просто папаша Пью хочет примазаться к славе грозного корсара, а по правде говоря, был он кабатчиком в Порт-Ройяле и переехал на Тортугу, когда Порт-Ройял накрылся[371]. Слушая эти байки, Серов пил, но в меру, заедал жареной говядиной и какой-то тропической овощью и зорко поглядывал по сторонам. Помнилось ему из книг и фильмов, чем кончались такие пиры, и, надо думать, нынешнее застолье тоже не было исключением. Они восседали за средним, почетным столом, который ломился от блюд, подносов, фляжек и бутылок, а справа расположились десятка полтора головорезов с «Грома», тянувших по первой кружке и зыркавших на них голодными глазами. Слева сидели девицы, три шоколадные мулатки, индианка и четыре белых; улыбались призывно, ждали, когда клиенты дозреют и пригласят к столу. Папаша Пью, шустрый старичок с серьгой в ухе, вертелся вьюном, таскал компании жратву и выпивку, а на другой стол даже не косился. Чего коситься на безденежных? Девицы тоже на них не глядели. Брюс Кук поднял оловянную кружку: – Выпьем за «Ворон»! И за то, чтобы он догнал любого испанца в штиль и в бурю! – Добрая посудина, – согласился Алан Шестипалый, чокаясь с Куком. – Трухлявая лоханка! Чтоб ей в пекле сгореть! – донеслось справа. Брови Кука приподнялись; как истый шотландец, он не любил, когда ему противоречили. Щелкнул курок взведенного пистолета, но Жак Герен похлопал приятеля по спине: – Не сейчас, Брюс. Время развешивать ублюдков по реям еще не пришло. Сперва все надо доесть и допить. Они выпили. Пираты ополовинили кружки размером в пинту, Серов едва пригубил. Ром ему решительно не нравился, как и шайка мордоворотов с «Грома». Сейчас он выпил бы немного коньяку, а лучше – хорошего вина, но выбор в этом заведении был невелик: или голландский джин, или ямайский ром. Джин ему тоже был не по вкусу – отдавал горьким можжевельником. К тому же и цены кусались – четыре песо за кварту, два – за пинту, в точности как говорила Шей ла Брукс. Не забогатеешь в пиратах! – подумал Серов. Особенно при таком тарифе на спиртное. – За пушки «Ворона»! – Кук, явный заводила в компании, снова поднял кружку. – За наши медные пушечки и их здоровые круглые глотки! – Ржавый хлам, – негромко, но отчетливо пробурчали за соседним столом. Кук начал медленно подниматься. В одной руке он держал кружку, в другой – пистолет. – Это кто сказал? Клянусь яйцами всех парней из клана Мак-Кукан, я вобью ему в глотку каждое слово! Прямо через его поганые зубы! Соседи приумолкли, но, судя по злорадным ухмылкам, не сильно испугались. Заводилой у них был смуглый и темноволосый человек, которого приятели звали Баском. Сейчас он глядел на Кука и вызывающе усмехался. – Сядь! – Мортимер дернул шотландца за рукав. – Жак прав, рано! Прах и пепел! Столько еще не съедено и не выпито! А ведь все оплачено! – Когда все допьем, ты будешь под лавкой валяться, – резонно заметил Кук и выпалил в стену. Потом все-таки сел и начал заряжать свое оружие. Страх Божий потянулся к фляге, опрокинул ее над кружкой, выцедил пару капель и взревел: – Пью! Пью, старый козел! Рому тащи! Не бутылку, бочонок! Хозяин, кряхтя от натуги, приволок нужную емкость и зачастил: – Вот это дело! Это по-нашему! Когда мы взяли Маракайбо, тоже пили бочками. Перси Риггс, канонир с «Двух ветров», так и утонул в бочке. Побился об заклад, что выхлебает все, а бочка была на двести галлонов, и никак не меньше. Сунул в нее рыло, да назад не выплыл… – Пью озабоченно почесал лысое темя. – Пейте, парни, пейте, а я еще сорок восемь песо припишу… ну, пятьдесят, для ровного счета… – Тридцать два, – сказал Серов. – Бочонок на два галлона, шестнадцать пинт. Пью дернул плечом: – Это тебе мнится, приятель. Иллюзия такая, понимаешь? С пьяных глаз большое кажется маленьким, я это точно знаю. Когда мы пили в Мара-кайбо… – Ты нам трап в задницы не задвигай, – проворчал Жак Герен. – Андре считать умеет, и глаза у него на месте. Он не шантрапа какая-то, а маркиз! – Точно, маркиз, клянусь святым причастием! – поддержал Мортимер. – А ты – мошенник, Пью! Чтоб тебе мои сапоги поперек глотки стали! Ты что же, древняя вошь, хочешь маркиза объегорить? – Он стукнул кулаком по столу и, заикаясь, произнес: – Н-не выйдет! М-маркиз – он бля… бла… благорродный человек и оп… опразованный! Его н-не надуешь! Он, если хочешь знать, м-мой под… подельник! – Почти готов, – пробасил Хенк, поднялся и стал разливать. Бочонок в его огромных лапах выглядел не больше банки для варенья. У входа в загородку, что отделяла «Старый Пью» от улицы, столпились двадцать или тридцать оборванцев, привлеченных терпким запахом рома. За соседним столом завистливо вздыхали, а глазки у портовых шлюх, сидевших по другую сторону, заволокло мечтательной мглой. Одна из них, белокожая, в шляпе величиной с автомобильное колесо, подмигнула Серову и выставила из-под подола платья грязную босую ногу. Скромно тут у них с эротикой, даже убого, подумал Серов, разглядывая ее декольте. Рассказать бы, что случится через триста лет, так ведь не поверят… Небоскребы, автострады, самолеты, лайнеры, пушки-пулеметы – это еще ладно, это чудеса вполне вообразимые, а вот про голых девок, что пляшут в кабаках и трахаются в порнофильмах, могут не понять. Пожалуй, точно не поймут – ни Шейла Джин Амалия, ни эти потаскушки, ни даже разбойные приятели-подельники. Мрачно усмехнувшись и вспомнив Чечню, Серов подвел итог: жестокости в мире за три столетия не убыло, но к ней добавилось растление нравов. Вот хотя бы постельный бизнес, занятие презренное, позорное… А в цивилизованном двадцатом веке – едва ли не почетная профессия, предмет мечтаний юных дев. Да и душегубов там побольше – есть и пираты, и разбойники, а кроме них – бароны наркомафии, фашисты, террористы и великие вожди, сгноившие столько народа, сколько в ста Вест-Индиях не сыщешь. Кук прервал эти грустные мысли, поднявшись и грохнув о бочонок рукоятью пистолета. – За Старика! Не верьте вранью, что все шотландцы не любят англичан. Не любят тех, кто шкуру с них дерет, а к благодетелям и честным командирам очень даже расположены. – Он зачерпнул горсть монет и высыпал их в блюдо с мясом. – Глядите, братья! Это Старик о нас позаботился! Хоть он не Морган, однако всяким Пикардийцам нос натянет! Он… – … обезьяна плешивая, – послышалось с крайнего стола. Оскалившись, Кук вскинул пистолет и разнес пулей кружку, что стояла перед Баском. Девицы взвизгнули, пираты зашумели, кортики и тесаки со змеиным свистом стали вылезать из ножен, а Мортимер, совсем уже снулый, вдруг очнулся, цапнул обглоданную кость и, поглядев на нее, заорал: – Бей! Самое время! Но тут, предчувствуя разгром, вмешался папаша Пью: – Всем – пинта рома за счет заведения! Спокойней, джентльмены, спокойней! Вы можете выйти на свежий воздух и там продолжить свои споры. Те, кто останется жив, вернутся и выпьют за упокой погибших. Прислушайтесь, я дело говорю. Ром это всегда ром! Баск, однако, счел это предложение оскорбительным. Нахмурившись и сузив глаза, он уставился на папашу Пью и прорычал: – Ты, тухлая черепаха, думаешь, что я не могу заплатить за выпивку? Ты думаешь, что если у Баска не звенит в карманах, так он совсем уже нищий? Гроб и могила! Вот, бери, старый кровопийца! Протянув руку, он пошарил под столом и вытащил почти нагого юношу. Парень – или, скорее, мальчишка – был невысоким, грязным и до того истощенным, что выпирали ребра под туго натянутой кожей. Чресла его охватывала рваная кожаная повязка с бахромой из обломанных перьев, на впалой груди свернулся татуированный синим кайман, черные волосы спадали космами до пояса, а темные обсидиановые глаза казались застывшими и неподвижными, как у покойника. Индеец, понял Серов, разглядывая его медно-смуглое широкоскулое лицо. – Бери, за десять песо отдаю! – повторил Баск, подталкивая парня к кабатчику. – Откормишь, хороший будет раб. Бочки катать, блюда таскать, тарелки мыть… А то ты их не моешь никогда, старый пердун. Пью скривился. – На кой мне дармоед за десять песо? Я за него и пять не выложу, клянусь Христом! А кто не хочет жрать с моих тарелок, может катиться в таверну Караччи или к Луи Маро, где мясо с червями и тараканами. – Отдам за пять, – сказал Баск, поднимаясь и хватая индейца за волосы. – А не возьмешь, перережу глотку и выпущу кровь в твое вонючее пойло. Парень уставился в пол с безразличным видом – то ли язык был ему непонятен, то ли смерть казалась облегчением. Он не шевельнулся даже тогда, когда пират выхватил нож из-за пояса. Обе компании, что с «Ворона», что с «Грома», забыв о ссоре, глядели на спектакль с интересом. Зарежет пацана, подумал Серов и полез в свой новый кошелек. – Пять песо? Сторговались, я беру. Вот деньги. На его ладони лежали несколько серебряных монет и случайно попавшие с ними часы. Циферблат «Ориона» поблескивал тусклым золотом, корпус тоже был золотым, а что до анодированного браслета, то и его от золота не отличишь. Глаза Баска жадно вспыхнули, он облизнул губы, потянулся к часам, но Серов быстро сунул их за пазуху, под рубашку. – Где взял? – Пират сгреб монеты и, дыхнув спиртным перегаром, наклонился над Серовым. – У папы-маркиза, – пояснил тот. – Подарок в связи с окончанием школы. Деньги пересчитал? Так отвали! А мальчишку – ко мне! Но Баск по-прежнему загораживал индейца и смотрел на серебро в своих руках с сомнением. – Вот что, маркизеныш, я передумал, – произнес он наконец. – Бери песо, а индейского щенка я лучше обменяю на твою золотую штучку. В придачу получишь пару сережек. Сейчас я их… – Он начал ковыряться в поясе. – Штучка не меняется, – сказал Серов. – Уверен? – Баск опять потянулся к ножу. Ухмылка на его лице не предвещала ничего хорошего. – Эй, парни… – начал кабатчик, но тут поднялся Страх Божий и отшвырнул его в сторону. Глаза Страха горели дьявольским огнем, клейменая рожа побагровела и выглядела так, будто по ней прокатилась лавина. Он сунул палец в рот, поковырял в зубах и вдруг гаркнул: – Геть, злыдень! – Не успел Серов осознать, что эти слова вовсе не на английском и что они ему знакомы, как Страх Божий заревел: – Мать твою три раза в задницу, плешь комариная! Взял серебряки, и катись! Згынь, мурло, пока цело хайло! Сталь сверкнула перед лицом Серова, но он оказался быстрей – схватил тяжелую оловянную кружку и впечатал ее противнику в ухо. Заорав и выронив нож, Баск откачнулся, его приятели вскочили, грянул выстрел, лязгнули клинки. Серов добавил Баску кружкой в лоб, девицы с визгом бросились к выходу, Пью проворно исчез за бочками, воздух протаранила фляга, а вслед за ней – огромная бычья кость. «Бей!» – разом завопили два десятка глоток, и, опрокидывая столы и скамьи, топча посуду и остатки мяса, две орды ринулись друг на друга. Мортимеру не повезло – его уложили лихим ударом в челюсть. Хенк сцепился с его обидчиком, таким же здоровым мордоворотом из буканьеров, и пробовал крепость его головы на подпирающем крышу столбе. Жак Герен отбивался шпагой от двоих, скакал по бочкам и поваленным столам на манер д'Артаньяна и что-то орал на французском; Страх Божий, рыча, орудовал скамьей, но трое с «Грома» теснили его, наступая кто с тесаком, кто с абордажным топором; Люк и Алан бились с противниками на равных, используя блюда, бутылки и кружки в качестве метательных снарядов; Брюс Кук, насвистывая и стоя над мертвецом, череп коего разворотила пуля, деловито перезаряжал оружие, а Джос прикрывал его, размахивая парой ржавых сабель. Если не считать Серова и Баска, лежавшего без чувств, Джос был единственным безмолвным участником потасовки. Молчание его объяснялось просто: шесть или семь лет назад, побывав в плену у испанцев, он лишился языка. Серов вытащил клинок, приобретенный у Конопатого, подкинул в ладони и пару секунд размышлял, не сунуть ли его обратно. Но Брюс еще возился с пистолетом, а Страха Божьего зажали в угол, так что устраниться от драки было совсем не по-товарищески. Он метнул нож в плечо одному из матросов «Грома», обнажил шпагу и с воплем «Банзай!» вступил в сражение. Его съездили сзади бутылкой, но, к счастью, попали не в голову, а в спину, промеж лопаток. Серов развернулся, чтобы прикончить наглеца, но тут на улице выкрикнули: «Держитесь, парни, мы идем!» – и в заведение ввалился рыжий Чарли Галлахер с Даннерманом, одноглазым Кола и троицей головорезов с «Ворона». Через пять минут территория была очищена, и Серов, потирая ушибленный хребет, разыскал свое имущество, сундучок и индейского мальчишку. Парень сидел у стены на корточках и, полузакрыв глаза, тянул какую-то мелодию из птичьего свиста и верещания – может быть, на языке ацтеков или семинолов. Слова «пойдешь со мной», однако, понял и отправился вслед за новым хозяином без возражений, даже попробовал взяться за сундучок. На улице, покачиваясь и опираясь на Хенка, стоял Мортимер, вполне живой и даже с целыми зубами. Увидев Серова, он лязгнул челюстью, раскрыл рот и прохрипел: – Кх-худа? В-веселье т-тохко начинается! – На корабль, – сказал Серов. – А веселья с меня хватит. Я уже совсем веселый. – Кх-как? А к ш-шухам? – К кому? – К шлюхам, – пояснил Хенк. – К девкам то есть. Здесь даже хранцузские есть, из вашего Парижу. – И дорого берут? – За двадцать песо можно сговорить. – Атомные цены! – пробормотал Серов и повернул к причалу, где стояли шлюпки с «Ворона». В кошельке у него позванивали две последние монеты.Глава 8 ДЖУЛИО РОСАНО, ЛЕКАРЬ
Ночевал Серов, как обычно, на шкафуте верхней палубы. «Ворон» был почти безлюден, команда спускала монеты в кабаках и веселых домах, а стерегли корабль три несчастливца, которых должны были сменить на утренней заре. Первым из них был турок Фарук, занесенный судьбой в Вест-Индию, где он из магометанства вышел и крестился, поскольку христианам дозволялось пить вино. Вторым – Рик Бразилец, крепкий, иссине-черный негр, родившийся уже не в Африке, а в португальских колониях по эту сторону океана. Он сбежал с плантаций то ли Параибы, то ли Пернамбуку[372] еще в далекой юности, прибился к буканьерам, был трижды или четырежды продан, пока не достался капитану Бруксу. Имени третьего стража, мрачного тощего ирландца, Серов не знал и выяснить тем вечером не мог – ирландец, раздобыв бутылку джина, вылакал ее и теперь храпел на квартердеке. Под ним, в одной из крохотных офицерских каюток, тоже храпели. Боцман Стур, выполняя приказ начальства, запер Росано, снабдив квартой горячительного, и теперь винные пары, сопровождаемые утробными звуками храпа, циркулировали от итальянца к ирландцу. Рик с Фаруком, игравшие в карты, предложили Серову развлечься, но он отказался, сославшись на полное безденежье. Потом отнес сундучок в корабельную кладовую, велел индейцу ложиться, лег сам и через минуту заснул. Сны ему виделись причудливые. Будто сидит он в кафе на Арбате с Шейлой Джин Амалией, одетой вполне по-современному, в блузку и мини-юбочку, и обсуждает планы на вечер: может, милая, закатимся к «Старому Пью», съедим цыпленка табака, а после – в бар Караччи, что на углу Лесной? Там три негритянки с Гаити стриптиз показывают, народ валит валом, и говорят, что всякое Москва видала, а вот такое – никогда. Шейла возит ложечкой в креманке, мнет мороженое и отвечает уклончиво – мол, какой интерес на негритянок смотреть?.. А что до стриптиза, так это можно устроить, но только не в баре, а в более интимной обстановке – ты ведь, дорогой, один живешь? Один, как перст, отвечает Серов и тянется облобызать ей ручку. Но нежная эта рука вдруг превращается в лапу с корявыми пальцами, и жуткая рожа Страха Божьего нависает над Серовым. Страх хрипит, сопит и начинает изъяснятся на каком-то странном языке, польском или украинском, а может, и русском, но с украинскими словами: «Пан, а, пан! Ты песюками не богат? Тряхни мошной, тачку возьмем и – геть-геть в „Славянский базар"! Щирый шинок, и рома там залейся! Выпьем чарку, и айда испанцев бить!» «Не могу, – отвечает Серов, огорченный исчезновением Шейлы, – никак не могу. Дела у меня, понимаешь? Должен лететь». – «Куды?» – «В аномальную зону, конечно». Страх мрачнеет, грозит пальцем: «Ох, хлопец, зря, зря… Жди беды!» «Беда уже случилась», – молвил Серов и проснулся. Как оказалось, вовремя. Солнце поднималось над горизонтом, а на палубу «Ворона» взошел Уот Стур со сменной вахтой и озирал теперь корабль придирчивым взглядом. Осмотрел шкафут, шканцы и квартердек, мачты и реи со свернутыми парусами, покосился на турка и негра, на пробудившегося уже ирландца, на Серова и, разумеется, на индейского мальчишку. Поворочал башкой так и этак, нахмурился недовольно и ткнул в него пальцем: – Людоед здесь откуда? – Вовсе он не людоед, мастер Стур, – доложил Серов, быстро поднимаясь на ноги. – Мой индеец. Я его купил. Вчера. Боцман пригляделся к парнишке. – Он с испанского Мэйна[373], с Ориноко, по татуировке вижу, а там все людоеды. Прочь с палубы, нехристь поганый! Гордо выпрямившись, индеец ударил себя кулаком в грудь и вдруг заговорил на ломаном английском: – Чичпалакан не кушать человеки! Зачем? Черепаха есть, рыба, ящерица… Человеки не нужен кушать, нужен, чтоб убивать. – Он подумал и уточнил: – Испанский человеки. – Разбирается, отродье дьявола, – буркнул Стур. – И много ты убил испанцев? Парень выставил два пальца. Ну и ну! Лихой юноша! – мелькнула мысль у Серова. Другая тут же ее догнала: врет, наверное, цену себе набивает – по внешности совсем дитя! Он поделился этим соображением с боцманом, но тот, усмехнувшись, покачал головой. – Какое дитя, придурок? Видишь, татуировка, кайман колечком на груди? Взрослый воин, и лет ему за двадцать. Эти, с Ориноко, невысокие и безбородые, только с виду сопляки, а дай им ножик, быстро печень вырежут. Чичпалакан, переминаясь с ноги на ногу, растопырил пальцы и затряс ладонями. – Нет, нет, не резать! – Он прикоснулся пятерней к плечу Серова. – Большой воин, хозяин! Взять мой от цлонг-чи, от злого, как ягуар! Чичпалакан рад. Чичпалакан показать дыру в земле. Боцман внезапно насторожился. Его лицо, и так не слишком выразительное, закаменело, зрачки впились в индейца, будто тот не о дыре говорил, а как минимум о тайном кладе, зарытом Генри Морганом где-нибудь поблизости. Скажем, в саду губернаторской резиденции. – Дыра? Что за дыра? – Старый дыра, очень старый, – охотно пояснил Чичпалакан. – Испанский человеки доставать из нее такое. – Он показал на серебряное кольцо в ухе боцмана. – Рудник! Рудник, клянусь мачтой и якорем! – пробормотал тот и повернулся к Серову: – Вотчто, парень, с индейцем этим пусть капитан разбирается. Капитан и мистер Пил. У Пила тоже отличный нюх, где можно деньжат срубить по-быстрому… Эй, Бруно! – Стур махнул одному из новых вахтенных. – Приглядишь за людоедом. Накорми и отмой, а то больно уж грязен… Фарук, выпусти лекаря и тащи сюда! Ты, Эндрю, рожу сполосни и сопли подотри. Пойдете к губернатору. Все на палубе «Ворона» разом завертелось, закрутилось. Чичпалакана повели на бак, к стоявшей у гальюна бадье, Серов принялся отряхивать скудную одежду, затем нацепил перевязь со шпагой и пояс с ножом и кошельком, Фарук и Рик Бразилец вынесли полуголого лекаря, положили у фальшборта и окатили пару раз водой. Росано перестал храпеть, раскрыл глаза, послал негра и турка в помойную яму и сообщил, что он в полном порядке. Затем нырнул в свою каюту и появился минут через десять в приличном черном камзоле, бархатных синих штанах, белых чулках и башмаках с медными пряжками. – Это тебе, юноша. – Протянув Серову увесистый саквояж, лекарь тоскливо вздохнул. – Синьор Стур, а синьор Стур… пару глотков… uno…[374] хотя бы на самом донышке… – Старик не велел, – насупился боцман. – Ты, Эндрю, пригляди за ним. Обратно пойдете, любой кабак – ваш, а до этого – ни капли! – Он кивнул на шлюпку, причаленную к борту «Ворона». – Ну, отправляйтесь. Рик, Фарук и Робин вас отвезут. Пока гребли к берегу, Росано сидел скучный, с опрокинутым лицом. Мучается, бедолага, с сочувствием подумал Серов. Сам он от похмелья не страдал – пил вчера в меру, и голова была ясной, только побаливало между лопаток, куда заехали бутылкой. Это, впрочем, не мешало ему любоваться видом на Бас-Тер, выглядевший с моря весьма живописно. Набережная, все еще полная народа, тянулась метров на семьсот, а с запада, там, где была таверна папаши Пью, над ней возвышался утес с прямоугольным строением, похожим на огромную коробку из-под обуви. Скалистый форт, сооруженный в середине прошлого столетия, держал под прицелом всю акваторию бухты, и в эффективности его орудий не раз убеждались испанцы, штурмовавшие оплот Берегового братства. Теперь, однако, в этой крепости было маловато пушек – то ли испанцы ей не угрожали, то ли вообще времена наступили спокойные, с затишьем в пиратском ремесле после смерти Моргана и гибели Порт-Ройяла. В восточной стороне набережной была воздвигнута протестантская часовня, а ближе к середине – католическая церковь. Колокольни этих сооружений, словно корабельные мачты с реями-крестами, торчали над плоскими крышами складов, над кабаками, притонами, лавками и жилыми лачугами, сгрудившимися на берегу. Дальше одна за другой поднимались вверх террасы, пересеченные крутыми извилистыми улочками, сбегавшимися большей частью к площади у губернаторского дворца и казармы. С учетом зеленых насаждений Бас-Тер, пожалуй, занимал территорию около квадратного километра, и было в нем не меньше тысячи домов. Вернее, сто домов и девятьсот халуп, подумалось Серову, взиравшему на это жалкое поселение. Однако и здесь вершилась своя частица истории, причем немалая, если вспомнить о реках золота и серебра, струившихся из этих краев в Европу. С историей Серов не собирался спорить, как и с тем, что морской разбой был эффективным трубопроводом, что перекачивал долю испанских богатств к британским и французским берегам. Его волновала другая проблема: какое отношение это имеет к нему?.. В сущности, никакого, решил он, когда шлюпка скользнула вдоль причала. Они с лекарем сошли на берег и зашагали к проулку, что начинался между бревенчатым зданием склада и церковью. В тени под западной стеной сидели трое: Хенк, Мортимер и Страх Божий. По виду их было заметно, что ни одна таверна от Скального форта до церкви не оказалась пропущенной или забытой. Мортимер снова лишился сапог, зато приобрел два синяка, на челюсти и под глазом; кулаки у Хенка были ободраны, а рубашка, и без того ветхая, разорвана до пупа; что же до Страха Божьего, то оценить его состояние было тяжелей – буйная ночь мало чего могла прибавить к его внешности. Впрочем, он еще шевелился и даже мычал под нос какую-то мелодию. Наклонившись над ним, Серов разобрал: «Гуляли козаченьки вдоль по Днипру-реченьке… гей, гуляли хлопци, резали панов… гей, гуляли, кровь пускали…» Он выпрямился, потрясенный. Родная речь, знакомые слова! Его вселенная, замкнутая в круг тропических островов и берегов, стремительно расширялась; в ней уже было место не только Карибскому морю, не только Вест-Индии и Испании, Британии и Франции, не только Мадриду, Парижу и Лондону, но и Москве, и заснеженным русским просторам, и рекам, что текли в тех землях, Волге, Дону и Днепру, горам Урала и необъятным просторам Сибири. Как он мог о них забыть? Не иначе, шок, затмение души и сердца! Ведь вспоминал и Камчатку, и Москву, и даже Пермь с ее аномальной зоной, но почему-то казалось, что все это в далеком будущем, а здесь и сейчас – лишь море, знойное солнце, корабли и острова. Но это не так, совсем не так! Россия тоже в этом мире, и куда ни пойдешь, на запад или на восток, в нее упрешься, ибо нет ей соперников по огромности! Ни Канады нет, ни Штатов, ни Австралии, ни Бразилии, а Россия есть! Она там, за Атлантикой и мелкой Европой, и в другую сторону тоже она, за Америкой и Тихим океаном! Эта мысль поразила Серова. Опять склонившись над Страхом Божьим, он дернул его за ворот и, глядя в изуродованное лицо, выдохнул: – Страх! Слышишь меня, Страх! Ты откуда? Как твое имя? Он говорил по-русски и получил ответ на том же языке. – Не Страх, а Стах Микульский, з-запоррожец! А ты кто? Н-не помню твоей хари… Или встречались где?.. На турских галерах? Или в веницейском к-хаземате? Или на гишпанской каторрге? Глаза у него казались стеклянными, и было ясно, что он никого не узнает. Перешагнув через ноги Страха Божьего, Серов поспешил за ушедшим вперед хирургом и догнал его у заведения, над дверью которого висели большие деревянные ножницы. Видно, что-то странное читалось в лице Серова, так как итальянец, страдальчески морщась и потирая висок, спросил: – Тоже в голове непорядок, юноша? Зайдем-ка сюда и поправим. Здесь проверенные medicina…[375] Он шустро юркнул внутрь. В длинной комнате с подслеповатым окошком царили тишина, полумрак и запах лекарственных трав. Прямо были полки, заставленные ступками, банками, коробками и пузырьками, слева – зеркало, табурет и низкий столик, на котором лежали ножницы, бритва и огромный гребень, справа, за камышовой занавеской, еще один стол, две скамьи и открытый шкафчик с бутылями темного стекла. Комплексный бизнес, догадался Серов – аптека, цирюльня и рюмочная. – Пьетро! – позвал хирург. – Бланка! Они появились словно тени – сухонький смуглый старичок и пожилая синьора, босиком, но в мантилье. Росано вытащил горсть монет, отсчитал четыре песо, показал костлявым длинным пальцем на банки и коробки: – Четверть этого, четверть того, половину из той зеленой баночки. Как обычно, смешать и слегка растереть. Еще… Он сделал жест, непонятный Серову, но, очевидно, знакомый хозяевам. Старик тут же принялся отсыпать и смешивать какие-то травы и порошки, а синьора молча шагнула к шкафчику, извлекла из него пару бокалов и наполнила до краев темно-коричневым напитком. – Капитан не велел, сэр, – произнес Серов. – В задницу капитана! – ответил хирург. – Пахнуть будет. – Это приятные ароматы, мой юный друг. Благородные! – Но мадам де Кюсси… – Она поймет, что к ней явились два настоящих джентльмена. – Per favore, bambino[376], – сказала синьора в мантилье, и Серов выпил. Потом поднял брови, прищелкнул языком и с удивлением произнес: – Херес, разрази меня гром! Настоящий херес! – Сразу видно человека, получившего хорошее воспитание, – заметил Джулио Росано, принимая от старика склянку со снадобьем. – Похоже, твой батюшка в самом деле маркиз, а? Научил тебя считать, писать и разбираться в винах. Правда, фехтуешь ты отвратительно. – Это еще почему? – обиделся Серов. – Потому что французская школа ничто в сравнении с итальянской. Когда я был молод и обучался в Падуе… A, quieta non movere![377] Впрочем, ты почтителен к старшим, не замечаешь их маленьких слабостей, и я, так и быть, дам тебе несколько уроков. А сейчас бери borsa[378] с лекарствами и следуй за мной! Они вышли из заведения Пьетро и направились вверх по улице мимо груженных корзинами мулов и ослов, которых гнали на рынок, мимо компании грязных лохматых верзил с мушкетами (не иначе, как буканьеров), мимо разносчиков воды, портовых девок, мелких торговцев, мальчишек, нищих, солдат и калек. Джулио Росано, приободрившись хересом, сразу повеселел и двигался энергичным шагом, расталкивая мальчишек и нищих, но благоразумно огибая шлюх, буканьеров и солдат. Серов старался не отставать, но интереса к местной экзотике уже не испытывал никакого. Мысли его витали в иных пределах, весьма далеких от Тортуги и прочих вест-индских островов. Москва уже полтысячи лет стоит, думал он, а скоро Петербург заложат, совсем уже скоро, года через два. Поспеть бы к этому сроку! Само собой, отсюда в Европу выбраться не просто, а до России потом доехать или доплыть еще, наверно, труднее. Война со шведом уже началась, а это значит, что Балтика на три замка закрыта. Если южным путем добираться, по Средиземному морю, на турок наткнешься, а если по сухой земле, то переть и переть через Францию, немецкие земли и Польшу… Тоже радости мало! Деньги большие нужны, но и при деньгах такую дорогу в одиночку не осилишь, так что лучше не торопиться. Ну, не успеет он увидеть, как первый камень Питера кладут, но к Полтавской битве точно возвратится! Не будучи искушен в истории, он не знал, что происходит сейчас в королевствах французском, британском и испанском, кто там правит и кто кого режет, но твердо помнил, что для России наступили великие времена. Петровская эпоха! Странное чувство вдруг охватило Серова – мнилось, что непременно должен он быть в Полтавском сражении и в битве при Гангуте, чтобы оказать Петру Алексеичу поддержку. Какую, он пока не представлял – то ли вооруженной рукой, то ли разумным советом, то ли просто намекнуть, что потомки оценят и прославят грандиозность свершенного. Во всяком случае, если уж попал он в это время и в нем останется, то жизнь следует с толком прожить, не морским разбойником, а сподвижником великих дел. Тем более что они с царем Петром… – Куда прешь, скотина? – Он налетел на верзилу при сабле и пистолетах – должно быть, из команды Пикардийца. – Дам по яйцам, кровью мочиться будешь! – Лучше ромом, – пробормотал Серов, отступая и освобождая путь. Он догнал хирурга, и тот, скосив на него глаза, поинтересовался: – Не отошел от вчерашней гульбы, бамбино? Даже херес не помог? – Задумался, сэр. – О чем же? – Вы слышали про такую страну – Россию? – Московию? Конечно, слышал. Жители ее питаются грибами, клюквой и медвежатиной, поскольку медведи бродят по улицам и можно подстрелить их, не выходя из дома. Еще там… – Там новый царь, и сейчас он воюет со шведами. Царь Питер, и мы с ним ровесники, – сообщил Серов. Это было правдой: оба они родились в семьдесят втором году, только Петр – в семнадцатом веке, а Серов – в двадцатом. – Вот как! – Лекарь замедлил шаг и поглядел на него с одобрением. – Твой интерес к чужим землям и событиям, происходящим в них, весьма похвален. Клянусь Мадонной, ты любознательный юноша! Может быть, я попрошу тебя о помощи. За те уроки фехтования, что я тебе дам, ты перепишешь одну книгу… Ты знаешь итальянский или латынь? – Увы! – Серов пожал плечами. – Но я умею писать на французском, английском и немецком. – Французский тоже подойдет. Я буду диктовать, а ты – записывать. Договорились? – Да, сэр. Лучше переписывать книги, чем грабить испанцев, подумалось Серову. Жаль, что много этим промыслом не заработаешь – на проезд в Европу точно не хватит. С другой стороны, проблема не в одних деньгах, нужно и в ситуации ориентироваться. Хоть Росано и повторяет всяческие бредни о Московии, но человек он все же образованный и повидавший мир, а значит, может рассказать о европейских странах. Шейле ведь рассказывал про Лондон, Париж и Антверпен… Они пересекли эспланаду перед губернаторским дворцом, поднялись по лестнице и были встречены парой чернокожих лакеев. Один повел хирурга на второй этаж, другой остался с Серовым в патио – видно, приглядеть, чтобы разбойник чего-нибудь не спер. Прошло с полчаса, Росано все не появлялся, и Серов решил, что лечение мадам де Кюсси – процедура долгая, ибо болезней у нее много: и мигрень, и боли в пояснице, и неприятности с желудком. Заскучав, он покинул внутренний дворик и прошел задним покоем в сад, благоухавший с северной стороны резиденции. Тут росли деревья, названий которых он не знал, тянулись дорожки, посыпанные мелкой галькой, свисали с ветвей лианы, и звенел, щебетал, чирикал многоголосый птичий хор. Серов шагнул на тропинку меж двух высоких решеток, оплетенных плющом, остановился, оглянулся – негр-лакей, выпучив глаза, следил за ним от двери. – Боишься, пальме ноги приделаю? – сказал Серов по-русски. – Ну-ка, брысь отсюда! Изобрази сквозняк! Негр не понял, только еще больше выкатил белки. Со вздохом Серов побрел по дорожке, полюбовался кустиком, усыпанным алыми цветами, может, орхидеями или чем еще, поглядел на разноцветных птиц, носившихся над головой, втянул теплый ароматный воздух и с тоской припомнил, как пахнут зимние ели в подмосковном лесу. Потом подумал: вот возвратится он в Москву, а что там будет знакомого? Кремлевские стены и башни, собор Василия Блаженного, какие-то храмы и старые здания? Тверской и Арбата в привычном виде нет, нет Третьяковской галереи и других музеев, нет кафе, библиотек и институтов, нет метро и даже завалящего трамвайчика… Нет, конечно, и дома, где живет Татьяна Добужинская, его последняя клиентка… Вот если бы уже стоял, то можно было бы отправить ей послание, замуровав его в стену квартиры: мол, супруг ваш мной не найден, однако есть тому объяснение – хватил Константин Николаевич чего-то в аномальной зоне и провалился в темпоральную дыру. А следом за ним и я… Дорожка повернула к уютному пятачку, скрытому среди зеленых зарослей. Тут находились скамья под тентом и раскладной столик, где лежали гитара, веер и еще какие-то дамские пустячки, вязанье или вышиванье. Серов первым делом заметил гитару – она была почти такой же, как инструменты, к которым он привык. Потом его взгляд переместился на скамью, на сидевшую там девушку, и он вздрогнул. Шейла Джин Амалия! Но как она переменилась! Белое платье с корсажем, подчеркивающим грудь, собранные в корону светлые волосы под кружевной накидкой, широкий атласный пояс, что обхватывает стан, кольца на длинных изящных пальцах, а в ушах – сапфировые, в цвет глазам, сережки… Прекрасное видение! Хотя кое-что напоминало о прошлом – из-под гитары выглядывала рукоятка кортика. Серов замер, потом кашлянул и, когда Шейла подняла взгляд, широко улыбнулся. Он не был отъявленным сердцеедом, но знал по прежнему опыту, что робких девушки не любят. – Ты? Ах, каким звонким, каким нежным был ее голос! – Кажется, я. Хотя не уверен… В таком саду и в такой компании мне, наверное, не место. Глаза Шейлы лукаво блеснули. – И все же ты сюда попал. Перелез через изгородь? – Нет, пришел с лекарем. Он должен избавить хозяйку от мигрени. – Жаклин де Кюсси? Да-да, я знаю, она говорила, что дядюшка пообещал прислать Росано. – Вот и прислал. А заодно – меня, чтобы синьор хирург дорогой не напился. – Он пьет не с радости. – Шейла строго поджала губы. – Все мы пьем с горя, а с радости только выпиваем, – сказал Серов. – Могу я присесть? – Да. Во-он там. – Она показала на дальний край скамейки. – Могу смотреть на тебя, раз дядюшки Джозефа здесь нет? – Можешь, но не очень долго. Дядюшки нет, но есть Жаклин, и я у нее в гостях. – Шейла с чинным видом сложила руки на коленях. – Жаклин говорит, что молодая дама не должна оставаться наедине с кавалером. Запрещено правилами этикета. Ее глаза лучились и смеялись. Господи, подумал Серов, она же совсем такая, как наши московские девчонки! Нет, лучше в сто, в тысячу раз! Есть в ней что-то кроме ума и красоты… Может быть, уверенность в себе и внутренняя сила? То, что даровано человеку, который часто видит смерть и не боится ее? Взяв со стола гитару, он сказал: – Правила этикета я знаю лучше мадам де Кюсси. Как-никак я почти маркиз. Струны покорно зарокотали под его пальцами. Это оказался превосходный инструмент, только слегка непривычный – струн было не шесть, а пять[379]. – Ты играешь? – спросила Шейла, немного придвинувшись к нему. Кивнув, Серов запел:* * *
Обратно Джулио Росано шел не торопясь, слегка покачиваясь и благоухая сладким винным запахом – вероятно, пока исцелял мадам Жаклин, подносили ему не раз и не два. На ногах, однако, держался твердо и без ошибки знал, куда идет – прямо в заведение синьора Пьетро и синьоры Бланки. Тут гостей усадили за стол позади легкой тростниковой занавески, поставили графинчик с хересом и два венецианских бокала, нашинковали какой-то плод, папайю или авокадо, и оставили одних. Выпив первую и закусив фруктовой долькой, хирург погрозил Серову пальцем: – Кружишь девушке голову, бамбино? Песни нежные поешь? Серенады, а? – До серенад еще дело не дошло, – возразил Серов. – С ними, пожалуй, и пытаться не стоит – узнает капитан, зарежет. – Это не исключается, – согласился лекарь. – Хотя на его месте я бы не спешил. Шейлу я знаю с детских лет, с тех пор, как ее из Порт-Ройяла привезли. Девочке скоро двадцать, а что она видела? И кого? Два десятка офицеров и плантаторов с Барбадоса, Ямайки и Тортуги? Злобные грубые люди, не лучше, чем brigante[380] с «Ворона»… Не всякий имя свое напишет, а что до знания наук, логики, риторики и философии, то даже слова такие им неведомы. Где же девице супруга сыскать? – Росано с грустным видом пригубил из чарки. – А ты юноша ученый и воспитанный, и собой хорош… Правда, бедный. – Бедный, – подтвердил Серов. – Потому как незаконный сын. Лишен наследства подчистую. Ни замка, ни земель, ни других фамильных ценностей. – Были бы голова и фортуна, а ценности найдутся, – заметил хирург и опрокинул в рот вино. – Джозеф Брукс не беден. Сейчас, конечно, не прежние времена и его промысел таких доходов не приносит, но все же… – Почему, – перебил Серов, – почему не приносит? Это было интересней, чем планы лекаря насчет него и Шейлы. Не любил Серов, когда ему в душу лезут, особенно под хмельком, а кроме того, по детективной своей привычке, предпочитал факты, а не пустые рассуждения. – Высокие персоны от Берегового братства отступились, сиятельные короли. Отступились и между собой передрались, – пояснил Росано. – Лет двадцать—тридцать назад и еще раньше, когда Испания была сильна, любой ущерб, который ей причиняли в заморских землях, был выгоден всем и каждому, и французам, и британцам, и голландцам. Теперь другое дело. Одряхлел кастильский лев, выпали клыки, когти притупились – одряхлел и вовсе сдох! Теперь его труп без нашего братства разделят, когда в Европе начнется новая война[381]. Довольный таким поворотом темы, Серов принялся расспрашивать хирурга, связывая его речи с теми обрывками сведений, что застряли в его голове из книг и исторических фильмов. Делал он это осторожно, стараясь не выдать своей неосведомленности, что было, кажется, лишним: лекарь уже ополовинил графинчик и на подобные мелочи внимания не обращал. Образ его мыслей был совершенно понятен, ибо такие люди уже встречались Серову: интеллигенты, которые знали единственный метод спасения от гнусностей жизни – крепко заложить за воротник. Росано, с поправкой на три столетия, был таким же «кухонным политиком», как те, что во времена Серова ругали власть и обсуждали за рюмкой планы спасения России. За следущие два часа Серов обогатился массой полезной информации. Он узнал, что Францией правит великий, но уже престарелый король-солнце Людовик XIV, тот самый, отцу которого служил молодой д'Артаньян. Людовик сидел на престоле сорок лет, давил врагов железным кулаком и, как смутно помнилось Серову, будет сидеть и давить еще лет пятнадцать. Что до Англии, то там дела обстояли сложнее и запутаннее. В 1685 году британская корона досталась Якову II Стюарту, монарху весьма непопулярному; не прошло и трех лет, как его скинули, заменив правителем Голландии Вильгельмом Оранским. Этот вроде бы всех устраивал, и лондонское Сити, и народ, и парламент, однако был уже болен и стар, а наследовать ему должна была родная дочка Якова[382]. Как при ней повернутся дела в Вест-Индии, никто в подробностях не ведал, но можно было ставить дукат против фартинга, что все здесь заполыхает огнем, когда начнут делить испанское наследство. В этом и заключалась интрига момента: Карл, король Испании, умерший недавно, наследников не оставил, и на испанский пирог теперь претендовала Франция. Что, разумеется, у ее соперников, немцев, британцев и голландцев, восторга не вызывало. «Вот так попался! Как кур в ощип! – думал Серов, слушая излияния лекаря, которые делались все неразборчивей и бессвязней. – Одна война, другая война, а здесь – сплошная уголовщина! Как же домой попасть? Через Китай, что ли? Так в этом Китае тоже, наверное, друг друга режут! Одна, выходит, дорога – через Северный полюс…» Графинчик уже опустел на три четверти, а бледно-смуглое лицо Росано окрасилось румянцем. Словно прочитав мысли Серова, лекарь навалился на стол, схватил его за руку и пробормотал: – Здессь начнется резня, но в ссс… в Старом Свете будет еще х-хуже… Ты пра… правильно ссделал, что сбежал из ссвоей Нормандии… Buono![383] Н-но только… только… – Что – только? – спросил Серов, помогая ему нашарить рюмку. – Только вссе это – прах и тлен, тлен и прах… А вечность – зна… знание… тайное знание… кх… книга… – Какая книга? Росано неверным движением приложил к губам палец. Это удалось ему с третьей попытки. – Шшш… тих-хо… 3-забыл уже? Книга, которую ты будешь пере… пере… переписывать… для вечности… – Он подпер голову кулаком, уронил ее и зашептал едва слышно: – Книга… про… промысел Божий… послал… великий Ле… Леонардо… Господь знает, кому да… дарить откровение… Двести лет!.. Двести лет хр… хранили, а она сожгла!.. И я ударил… кинжалом… Гореть мне в преисподней! Или не гореть? Ведь ссс… спасший слово Божье должен… должен… Голова хирурга упала в блюдо с фруктами, и он оглушительно захрапел. Серов нахмурился. Что за тайное знание? Что за книга? Не с описанием ли кладов, зарытых где-нибудь на островах или в джунглях Панамского перешейка? Клад ему бы очень пригодился. Скажем, сундук с дублонами… Купить на них корабль, вооружить, нанять команду и махнуть к Петру Алексеичу… А по дороге пустить на дно пару-другую шведских галер… Он вытянул руку, потряс Росано за плечо: – Что в этой книге? И почему вы боитесь преисподней? Лекарь всхрапнул, приоткрыл один глаз и вдруг сказал совсем разборчиво: – Н-нет, не боюсь. Спасший слово Божье должен быть помилован. Сказал – и отрубился. За спиной Серова зашелестела занавеска, потом раздался старческий голос: – Бедный синьор Росано… воспоминания мучают его… Мадонна, заступись за грешника перед сыном твоим! – Он толковал о книге, – молвил Серов, но старый Пьетро лишь нахмурился и пожал плечами: – Не знаю, не знаю… Вы оставите его у нас до утра, мой господин? Тогда перенесем синьора в комнату, на постель… Серов поднялся, взял саквояж и взвалил хирурга на плечо. Росано был тощ и вместе с камзолом и башмаками весил не больше половины центнера. – Не могу оставить. Капитан голову снимет. Приказано, чтобы лекарь был на корабле. Он повернулся, вышел из лавки на солнцепек и начал спускаться вниз по улице. Ребра Росано давили ему на спину, голова моталась где-то под лопатками, и временами, когда пьяный храп прерывался, Серов слышал, как лекарь стонет и бормочет: «Laura… caro mio…»Часть 3 СОКРОВИЩЕ ПУЭНТЕ-ДЕЛЬ-ОРО

Глава 9 ОРИНОКО
Дождь барабанил по палубе, по нагим спинам людей, по реям с плотно увязанными парусами, по крышкам люков и пушечных портов. Такого дождя Серову видеть еще не приходилось – вода падала с неба сплошным потоком, будто какое-то зловредное божество решило утопить весь мир, залив его мутной теплой жидкостью. Этот тропический ливень не дарил прохлады и свежести, а лишь добавлял влаги в душный воздух. Вода была со всех сторон: сверху – истекающие струями тучи, снизу, под килем «Ворона», – взбаламученная поверхность гигантской реки. Не видно ни берегов, ни сельвы, ни далеких гор, что поднимаются на юге за полосою джунглей… Вселенная сузилась до расстояний, сравнимых с длиной корабля – сто футов, и ничего уже не разглядеть. Футов, подумал Серов, футов, черт побери! За шесть прошедших месяцев он привык измерять длину не в метрах, а в футах и ярдах, а дистанцию – в лигах и милях. Это было крохотной частицей знаний, которые пришлось усвоить; другие необходимые навыки включали работу с парусами, чистку пушек, мытье палубы, стрельбу из мушкета и искусство разделки огромных черепах. Он уже не путал фок с фор-марселем, рангоут с такелажем, фалы с брасами и шкотами[384], и помнил наизусть названия всех парусов, тросов и реев. Команды, которые подавали Джозеф Брукс, ван Мандер или Пил, постепенно обрели смысл; теперь он знал, куда бежать, что тянуть и на какую мачту лезть. Пожалуй, к списку своих профессий Серов мог бы уже добавить морское дело – конечно, в том варианте, какой был принят в восемнадцатом столетии. – Смотри-и-и… – протяжно раскатилось над палубой. Корабль шел под кливером[385], и вел его ван Мандер, самый опытный из навигаторов «Ворона». Треть команды, и Серов в том числе, стояла у бортов с длинными шестами, напряженно всматриваясь в мутную поверхность Ориноко. Здесь, в низовье, где река разливалась широко среди болот и трясин, течение было не слишком быстрым, однако попадались плывущие к морю деревья, подмытые водой или поваленные ветром. Прошлой ночью одно такое бревно едва не пробило бортовую обшивку, и капитан выставил наблюдателей. Стволы полагалось вовремя замечать и отталкивать подальше. Кола Тернан, стоявший рядом с Серовым, перегнулся через планшир, разглядывая буро-желтую реку. По его свирепому лицу текла вода, мокрые черные космы падали на плечи, и сейчас он был в точности таким, как рисуют морских разбойников в пиратских романах: одноглазый, одноухий, с серьгой в единственной мочке, голый и страшный. Впрочем, сам Серов и верные его подельники Хенк с Мортимером выглядели не лучше. – Топляк по правому борту! – внезапно заорал Тернан. – Готовсь! – выкрикнул боцман Стур, возникший за их спинами. – Пройдет на расстоянии ярда, – доложил Тернан. Несмотря на свое увечье, он обладал редкой зоркостью и отличным глазомером. – Толкайте, бездельники, – приказал боцман. – Толкайте, кретины недоношенные! Ствол виден, а ветки и корни – нет. Пробоина в днище нам ни к чему. Бугристая кора мелькнула в волнах, шесты уперлись в дерево, мышцы напряглись, четыре глотки разом выдохнули воздух. Ствол вдруг извернулся, один конец вспенил воду, на другом раскрылась зубастая пасть и – щелк!.. щелк!.. – в руках Мортимера остался обрубок шеста. – Чтоб мне в пекле гореть! Кайман! Ну и здоровый, якорь ему в бок! Получи, тварь! Мортимер швырнул шест в буро-зеленую спину и промазал. Хенк загоготал, Тернан насупился, а Серов промолвил: – Индейцы их жрут. Чичпалакан говорил, что мясо в хвосте очень даже ничего. Был бы мушкет, я бы ему прямо в глаз… – Ха, мушкет! – оборвал его боцман. – Не успеешь выстрелить, болван, как порох отсыреет. Прокол, подумал Серов. Правда ведь, отсыреет! Вот недолга! Вроде и привык уже, а случается то одно, то другое. Мяса кусок дадут, ищешь вилку, огонь соберешься разжечь, лезешь в карман за спичками… Вилку, может, изобрели уже, а до спичек еще лет двести! Он покачал головой и снова уставился в реку. «Ворон» плыл вверх по течению четвертый день и удалился от побережья на добрую сотню миль. Дельта Ориноко была огромна; сотни крупных и мелких речных рукавов извивались среди заболоченных джунглей, где земля не походила на землю, а являлась смесью воды, гниющей древесины, мхов, корней и опавших листьев. Найти главное русло в этом лабиринте было задачей непростой, но Чичпалакан – Чич, как стали звать его в команде – помнил, что до Ориноко лучше добираться по южному рукаву, который выходит в залив со множеством мелких островов[386]. Во всяком случае, так плыл Чичпалакан на своей пироге после убийства двух солдат в Пуэнте-дель-Оро, но оставалось непонятным, бежал ли он от испанцев или его послали с некой миссией. Его народ, Дети Каймана, обитал в лесах и предгорьях к югу от реки и познакомился с белыми лет двадцать назад, когда один из испанских отрядов забрался в эту глушь. Как забрался, так мог бы и назад отправиться, но, к несчастью, испанцы нашли древний рудник, к которому племя Чича не имело ровно никакого отношения. Кто там добывал серебро и когда, бог ведает, но копи не иссякли, и об этом было доложено по начальству, в Маракайбо и Картахену[387]. И года не прошло, как испанцы поставили форт на Ориноко, и для Детей Каймана наступили черные дни. Пришельцам нужны были мясо, женщины, плоды и рабочие руки – словом, все подчистую, что имелось у племени. Убедившись после нескольких мятежей, что с испанцами не справиться, и прослышав, что есть у них враги, другие белые, старейшины решили отправить к ним Чича. Эта версия была придумана Серовым; Чич же о целях своих странствий говорил неохотно и сразу переставал понимать испанский и английский. То ли боялся, что заподозрят его в неискренности, то ли стыдился наивности своих вождей, считавших, что враги испанцев тут же явятся на помощь племени. На самом деле Чич был продан и проигран в карты раз пять или шесть, пока не достался Баску, а от него – Серову. Ни один из его хозяев не клюнул на «дыру в земле», ибо все они были простыми мордоворотами, у коих слово – брань, а довод – кулак. С людьми же разумными, вроде капитана Брукса, Чич не имел возможности пообщаться, пока, заботами Серова, не очутился на «Вороне». Брукс его допросил с пристрастием – и про испанцев, и про форт, носивший имя Пуэнте-дельОро-и-Кирога, и про рудник в предгорьях. Потом неделю думал и совещался с Пилом, Теггом и ван Мандером. Решили, что попробовать стоит; двести испанцев – не проблема, и помощь к ним не придет, место глухое, в сотнях миль от крупных гарнизонов. Главное вовремя туда попасть, в момент, когда серебро на складе, а корабли, перевозившие груз в Маракайбо, еще не появились. Чичпалакан утверждал, что два галеона приходят в начале осени, чтобы забрать годовую добычу и сменить на четверть гарнизон. Выходило, что самый подходящий месяц – август, и значит, можно без спешки подготовиться к походу. Спешка Бруксу не нравилась, так как вызывала подозрения у конкурентов. Одной из его заповедей было плавать одному, хотя в союзе с другими вожаками, с тысячей бойцов и дюжиной кораблей, удалось бы отовариться в богатом городе вроде Панамы или Веракруса[388], как это делали Морган, Дэвид и Грамон[389]. Но Джозеф Брукс, лишенный ложного честолюбия, понимал, что времена теперь другие и сам он – птица не того полета. Вожди-орлы в Вест-Индии давно отсутствовали, а это означало, что капитаны-стервятники, даже взяв добычу, передерутся при дележе. Решивши ощипать серебряный рудник, Брукс призвал Серова с Чичем и, буравя их ледяными глазками, описал, что случится, если в команде или тем более на берегу пронюхают об этих планах. Вырванный язык был меньшей из обещаных кар, но и без этой угрозы Серов молчал бы как рыба. В его голове крутились совсем другие мысли – как возвратиться домой, пусть не во времени, так хоть в пространстве. Но дела, в отличие от мыслей, повернули его не к востоку, а к югу, к испанскому Мэйну; и вот спустя полгода он очутился не в Европе, а в дебрях Южной Америки, под тропическим ливнем на Ориноко[390]. Может быть, и к лучшему, как утверждал хирург Росано. В Европе уже бушевала война за кастильский престол, армии Людовика перевалили Пиренеи, повсюду двигались полки и грохотали пушки, противники бились в Нидерландах, Испании, Италии, Баварии. Но на французской Тортуге английских пиратов пока ни в чем не ущемляли. Вор, разбойник и грабитель национальности не имеет, с тоской думал Серов.* * *
К вечеру ливень стих, но легче не стало – воздух казался густым, насыщенным влагой, как в парной. Баню Серов любил, но в разумных пределах, по часу за один сеанс, и представить не мог, что когда-нибудь придется в бане есть и спать. Да еще в такой, где ползают змеи, крокодилы и прочая нечисть. Ван Мандер опасался вести корабль по ночной реке, и в темное время суток «Ворон» замирал у берега, цепляясь за дно якорями. На этот раз стоянка была выбрана удачней – большой остров с невысокими, перевитыми лианами деревьями. Река разливалась здесь шириной в семь или восемь миль, и на юге и севере едва виднелись темные полоски джунглей. Съехали на берег, распугали полчища кайманов, тех, что помельче, зарубили топорами, разожгли костры, поужинали, выпили порцию рома и вернулись. Спать в этом крокодильем раю не рисковал никто, даже самые отчаянные вроде Хрипатого Боба и Страха Божьего. Как обычно, Эдвард Пил, помощник капитана, обошел корабль от бака до юта, проверяя, все ли в порядке, и назначая вахтенных. Серов старался не попадаться ему на глаза, но «Ворон» – судно тесное, на нем не спрячешься. Не исключалось, что Пил разыскивал его с особым рвением, чтобы поставить в ночной караул. Французы были Пилу очень не по душе, тем более – французы-умники, потомки маркизов и остальных благородных персон. Граф, а может, герцог, коему Пил проткнул селезенку, являлся французским посланником в Лондоне, и этот подвиг мог стоить Пилу головы. К счастью для него, граф выжил, и Пил отделался ссылкой в заокеанские колонии. Шагая по квартердеку и изредка перекликаясь с Люком Форестом, дежурившим на баке, Серов размышлял о человеческой природе, склонной даже в плохом искать хорошее. Разбойничья шайка, в которой он очутился, была, пожалуй, не самым худшим вариантом для странника во времени – здесь не требовали ни бумаг с печатью, ни объяснений, откуда он и кто таков на самом деле. Законы Берегового братства не касались предыстории, которую любой бандит и каторжник мог измыслить как ему хотелось. Скажем, Морти утверждал, что он сын англиканского пастора из Ковентри, высланный на острова по недоразумению: дескать, нес папаше церковную кружку с деньгами, а шериф решил, что кружку сперли, – и все потому, что Мортимер залез разок-другой к шерифовой жене в постель. Брюс Кук, шотландец, был, по собственным его словам, патриотом и поборником свободы и грабил лоулендеров[391] исключительно из принципа; Люка Фореста, драгуна, сослали на Барбадос за разногласия с сержантом – тот налетел на ножик, которым Форест чистил яблоко; Жак Герен, пригожий малый, бывший конюх графа Дюплесси, совратил его племянницу – совсем уж нелепая вещь, ибо племянниц у графа не имелось, а только одни содержанки. Таких побасенок у каждого был ворох, и Андре Серра, внебрачный сын маркиза, не являлся в этом смысле исключением. Лгуны, воры, грабители, убийцы? Кем они были, люди на палубе «Ворона»? Все же разбойничьей шайкой? Сейчас, шесть месяцев спустя, Серов не рискнул бы на этом настаивать. Шайки сбегаются и разбегаются, а команда «Ворона» – тем более Береговое братство – казались структурами устойчивыми, рассчитанными на годы и десятилетия. Постепенно, день за днем, он постигал тот механизм, ту внутреннюю иерархию, что обеспечивала им стабильность. Ему уже стало понятно, что основой того и другого были суровые законы Берегового братства, ненависть к испанцам и партнерство – особенно последнее, отчасти заменявшее семью. Конечно, имелись в экипаже одиночки, но в большинстве своем он состоял из групп, включавших двух, трех, четырех партнеров, наследников друг друга, соединенных приятельской связью. Такие люди спали рядом, ели из одного котла, делились ромом, сухарем и женщиной, вместе пили, развлекались и сражались. Их союз был чисто добровольным, не зависящим от власти капитана, но дальше эта власть объединяла их в ватаги по двадцать—тридцать человек, боевые подразделения и вахты, аналогичные взводу и возглавляемые сержантами. Таких на «Вороне» насчитывалось пять: команды Чарли Галлахера, Клайва Тиррела и Руперта Дойча, а еще канониры, что подчинялись Теггу, и стражи порядка – Кактус Джо, Хрипатый Боб, Бразилец Рик и четверо братьев-скандинавов. Эти, самая верная опора капитана, играли роль полиции и обладали кое-какими привилегиями – скажем, драить палубу и пушки им не приходилось. Офицеры и корабельные мастера, боцман, плотник, оружейник и другие, были как бы сами по себе, но в то же время соединенными с командой прочной связью. Каждый мастер располагал помощниками, из тех, кто владел пилой и топором, мог починить мушкет или разорванный парус; свои помощники были у хирурга и Тома Садлера – люди, умевшие перевязывать раны или прикинуть ценность добычи. Кроме того, ватага Тиррела считалась вахтой капитана, Галлахера – вахтой шкипера, а Пил начальствовал над взводом Дойча. Серов вполне вписался в эту структуру – имелись у него ватага и подельники и даже шеф офицерского ранга. На борту «Ворона» Садлер, которому стукнуло шестьдесят, считался старшим по возрасту, ходившим еще с Олоне в Маракайбо и Морганом в Панаму – живая летопись схваток и битв, кровавых дележей и буйных пьянок, когда за ночь просаживались в кабаках Бас-Тера и Порт-Ройяла целые состояния. Рассказать он мог о многом, и Серов такой возможности не упускал, памятуя, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Так ли, иначе, но старый казначей сделался его наставником в законах Берегового братства; Садлер, вне всякого сомнения, был одним из толкователей этого неписаного кодекса, хранившегося в памяти нескольких десятков ветеранов. Главное правило звучало так: порядок на борту, гульба в порту. Берег являлся местом свободы, ограниченной лишь толщиной кошелька, но дисциплина на судне была железной. За драку били линьком и протаскивали под килем, за убийство вешали, за воровство рубили пальцы; неподчинение старшим и трусость в бою карались, в зависимости от последствий, лишением доли или головы. В то же время пиратский круг мог на законных основаниях сместить неудачливого капитана или расправиться с ним при подозрении в мошенничестве, хотя так получалось не всегда: по словам казначея, Морган нередко обманывал соратников, но все, кто пытался его уличить, покоились на дне морском. Существовала также роспись выплат за увечья: потеря правой руки – шестьсот песо, потеря левой – пятьсот, и так далее, до глаза и пальца, которые оценивались в сотню. Впрочем, все эти доли и выплаты могли выдаваться не в звонкой монете, а в награбленных товарах, мешках какао или сахара, в штуках ткани или кипах кож. Тогда добыча резко уменьшалась, так как в игру вступал перекупщик. – Не спи, посматривай! – донеслось с бака, и Серов, очнувшись от дум, ответил протяжным возгласом. У борта что-то плеснуло, он перегнулся через планшир, всматриваясь в темную воду, и встретил взгляд неподвижных зрачков рептилии. Раскрылась пасть, будто приглашая его изумиться величине чудовищных клыков, и со щелчком захлопнулась. Серов вздрогнул. Крокодилы в зоопарке не производили такого устрашающего впечатления – может быть, потому, что не рассматривали посетителей как пищу? Да и размеры у них были поскромней – кайман, с которым переглядывался Серов, достигал трехметровой длины. – Голодный? – Он выставил над бортом дуло мушкета. – Угостить свинцовой блямбой? – Что там у тебя, Эндрю? – поинтересовался Люк. – Крокодил. Пасть как сундук богатого испанца, только без серебра. – Вот и отправь его жрать испанское дерьмо! – Люк Форест выругался и зашагал обратно к носу. Да, не любили тут испанцев, сильно не любили! Ни в Новом, ни в Старом Свете, ни в прошлом, ни в позапрошлом веках! Садлер полагал, что нелюбовь идет от зависти к испанскому богатству, но точка зрения Росано, ученого мужа, была вернее: боялись – и потому ненавидели. И века не прошло с тех пор, как Испания считалась самой богатой, самой могучей и грозной державой западного мира, владычицей морей и стран, правившей Италией, Фландрией и такой территорией за океаном, что ее хватило бы на две Европы. Плыл в Испанию неиссякаемый поток золота и серебра, были у нее лучшие корабли и скакуны, лучшие клинки и пушки, лучшие мореходы и солдаты, и потому Испания всегда была права. И делала она то, что еще не забыли и не простили: жгла еретиков живьем, грабила чужие земли, грозила вольным городам, республикам и королевствам и даже торговала Божьей благодатью и отпущением грехов. Помнилось Серову, что в этихреспубликах и королевствах творились такие же жестокости, а их владыки были не добрей испанских, однако беднее и слабей. Но в проявлении власти испанцам не уступали – если не жгли, так вешали, рубили головы и высылали подданных в колонии. Жестокое время! – думал Серов. Ни правых нет, ни виноватых, и любой насильник – жертва. Скажем, люди с «Ворона»: их клеймили и пытали, били кнутом, уродовали и, наконец, вымели как мусор из родных краев, и теперь они сами бесчинствуют, собравшись вместе и ощутив свою силу. А чтобы в бесчинствах был толк и государственная польза, им подсказали виноватого – Испанию! Чем не козел отпущения? Богатый, злобный, и пасется рядом… стричь его и стричь… Он участвовал уже во многих операциях по стрижке. Последней являлся рейд к Малым Антильским островам и берегам Венесуэлы, предпринятый для изучения жемчужных промыслов, а заодно – морской дороги к Ориноко. Жемчуга взяли на три с половиной тысячи песо, ибо ловцы и охрана успели разбежаться, прихватив сокровища с собой. Небогатый улов! Да и предыдущая экспедиция была не слишком прибыльной. Тогда, покинув гавань Бас-Тера в начале весны, «Ворон» отправился в плавание, которое длилось три месяца с лишним. С удачей не подфартило: не раз встречали галеоны, но шли они вместе по три-четыре корабля и на попытки отбить одну из посудин щедро отвечали залпами. К югу от Кубы две сорокапушечные громадины погнались за «Вороном», и это был едва ли не конец – при сильном устойчивом бризе и большей поверхности парусов испанцы имели преимущество в скорости. Спас ван Мандер, знавший кубинские воды не хуже, чем содержимое собственного кошелька. Море в этих краях на десять лиг от берега изобиловало рифами, одни из которых торчали над волнами и были заметны глазу, другие лишь угадывались по кружению вод, а третьи таились в глубине, будто поджидая, когда корабль попадется им в клыки. Шкипер спрятал судно за протокой между подводным и надводным рифами, так что испанцы, взяв в сторону от видимого препятствия, напоролись бортом на камень. Тут принялся за дело мастер Тегг, и пока второй галеон, осторожно маневрируя, приближался к полю битвы, первый стал похож на дырявую корзину. Пожалуй, ван Мандер смог бы подстроить еще одну ловушку, и на «Вороне» уже ликовали и вопили в предчувствии добычи, но ветер взвыл, море разыгралось, и уцелевший галеон быстро повернул от берега. Брукс отправил шлюпки к гибнущему судну, испанцы встретили десант огнем из пистолетов и ружей, потом, рассевшись по лодкам, отчалили от корабля. Пираты их не преследовали; груз привлекал их больше пленников, а надвигавшаяся буря не позволяла поживиться тем и этим. К счастью, они не успели добраться до галеона – свеча, оставленная в крюйт-камере, догорела, и корабль взлетел на воздух. Из-за шторма в обломках не успели покопаться, выловили пару бочек дрянного вина, мешки с табачными листьями и старую шляпу. Буря длилась двое суток, и все это время «Ворон» носило по волнам, а люди не знали ни сна, ни отдыха – кто работал с парусами, кто крепил бочки с водой и провизией, кто хлопотал у пушек. Морская болезнь пощадила Серова, и в эти дни он научился большему, чем за месяц спокойного плавания. Прежде он думал, что в шторм убирают паруса, но оказалось, что это не так: корабль без парусов неуправляем, и кливер не спускали. Стоячий такелаж, ванты и штаги, крепившие мачты к бортам судна, испытывали в качку слишком большие напряжения, ванты дважды лопались, и приходилось лезть наверх и заменять их. Пушки на орудийной палубе могли сорваться с места, передавить людей и проломить обшивку; всякий незакрепленный предмет, тяжелый или острый, становился в бурю смертельной угрозой. Но главным, что внушало страх, было чувство беспомощности перед стихией, перед грозной неутихающей яростью ветра и волн, и Серов, раскачиваясь на мачте, не раз и не два замечал, что обращается к Богу. Кто еще мог спасти его и защитить? Такого слабого, ничтожного, вцепившегося в мокрый канат, повисшего над черной бездной Карибского моря? Кто мог спасти этот утлый корабль, полный грешников, и его, Андрея Серова, занесенного ветром времен в чужую реальность?.. Он не думал об этом, но не стыдился своих молитв. Шторм умчался, не причинив особых бед и разрушений – «Ворон» был крепким надежным судном, а буря, по местным меркам, не очень сильной. Их отогнало на запад, к берегам Юкатана, где джунгли перемежались болотами, а их испарения, душные и зловонные, порождали лихорадку. Не найдя здесь ничего достойного внимания, Брукс обогнул полуостров и направился к более гостеприимным мексиканским берегам. Сил, чтобы напасть на богатый город вроде Кампече или Веракруса, у него не хватало, одиночные корабли не попадались, и Золотой флот[392] на горизонте не маячил, так что пришлось обшаривать мелкие поселения, где кроме коров, маиса да бычьих шкур и взять-то было нечего. Рейс грозил убытками, но тут подвернулась пара шхун с кампешевым деревом. Капитан решил, что это хоть и невеликая, но все-таки добыча; матросов с посудин разогнали без единого выстрела, ценную древесину перегрузили в трюм и на палубу фрегата, а затем «Ворон» поднял паруса и направился на восток, мимо Юкатана и кубинских берегов, прямиком в пиратский рай Тортуги. Тут они застряли на несколько недель. Во-первых, потому, что на продаже древесины Брукс и Садлер не желали терять ни гроша и отчаянно торговались с губернатором; во-вторых, после трехмесячного похода команда нуждалась в отдыхе и укреплении здоровья с помощью спиртных напитков и портовых шлюх. Испанский корабль, захваченный ранее, был уже продан, и на долю каждого пришлось по сорок песо. Эти деньги капитан распорядился выдавать частями, чтобы хватило их на больший срок; кроме того, треть команды, все, имевшие дома и женщин в окрестностях Бас-Тера, были отпущены на берег. Серов воспользовался гостеприимством лекаря, обитавшего в Ла-Монтане, в хижине, что стояла на задворках поместья Джозефа Брукса. Месяц, проведенный здесь, стал, несомненно, лучшим и самым счастливым в его новой жизни. Под ногами была твердая земля, вверху – небо, то бирюзовое, то бархатисто-темное, усыпанное звездами, и со всех сторон зеленели деревья и кусты, носились яркие птицы и огромные, в две ладони, бабочки. Хижину – точнее, уютный домик – поставили между двумя большими сейбами, чьи стволы служили в качестве опорных столбов, а несколько мощных ветвей поддерживали крышу. Пол из старых палубных досок был настлан на выступающие из почвы корни, а перед входом тянулась лужайка, откуда открывался вид на море. За лужайкой и рощами пальм и земляничных деревьев маячил двухэтажный особняк капитана, солидное строение из бревен под черепичной кровлей. Оттуда трижды в день негр с негритянкой, слуги или, возможно, рабы приносили им еду, лепешки с острым соусом, фрукты, вареное мясо и овощи. Утренние часы посвящались боевым искусствам: Росано учил его, как биться на шпагах и рапирах, как пользоваться тесаком и длинным кинжалом с рогатой гардой, как, навернув на руку плащ, остановить удар клинка. Несмотря на возраст и тщедушный вид, Росано был искусным фехтовальщиком, но как-то после третьего стакана проговорился, что дал обет не проливать человеческой крови, если это не связано с ремеслом хирурга. Но обучал он Серова на совесть и чаще хвалил, чем ругал, – ученик попался ему толковый. В полдень, в самую жару, они уходили в домик, и Росано, вздыхая и мрачнея, доставал из сундука потрепанную книгу. Видимо, этот фолиант многое перенес на своем веку – его переплет и часть страниц обуглились, в листах зияли дыры, прожженные угольями, часть строчек была смазана, будто огонь второпях заливали водой. Лекарь не разрешал прикасаться к книге, и рассмотреть ее как следует Серов не мог, только заметил, что она на итальянском либо на латыни и написана вроде бы от руки, четким угловатым почерком. Сам он писал на французском, по два часа под диктовку Росано, но за месяц они одолели лишь первые страницы, бывшие в хорошей сохранности. О пиратских кладах тут не было ни слова, а говорилось о том, как к некоему мессиру Леонарду, жителю Флоренции, явился нищий юноша, не знавший языка, голодный, оборванный, убогий; и мессир, по доброте своей, его пригрел, решив, что будет юноше наставником. Прошло какое-то время, и этот юный незнакомец, прижившись в славном городе Флоренции, сделался помощником мессира и даже, можно сказать, близким его другом. А близкий друг прежде всего собеседник, коему можно доверить высокие мысли; и вот мессир и юноша стали толковать о философии, об астрологии с алхимией, о божественном устройстве мира, о прошлом и будущем и других подобных материях. К несчастью, юноша умер, то ли от чумы, то ли от холеры, и через много лет, уже на склоне жизни, мессир, вспоминая о тех беседах, записал их в книге. Средневековая схоластика, с унынием думал Серов, соображая, что его ждет впереди. Но трудился честно, писал неуклюжим пером на грубой бумаге, надеясь, что в его французском не слишком много ошибок. В два пополудни они обедали, затем предавались сиесте, а перед ужином, когда жара спадала, Серов метал ножи или тренировался с клинком, отрабатывая хитрые приемы итальянской школы. Отужинав, Росано доставал бутылку, пил и после первого стакана обсуждал с учеником политику держав Европы, а после второго – сплетни о губернаторе де Кюсси и видных гражданах Тортуги, Сент-Онже, Филибере, Баррете и Максимиллиане Фрае. Самое же интересное начиналось после третьего стакана, когда хирургу вспоминались дни былые и он принимался горько сетовал на жизнь и судьбу. Но к этому времени он забывал английский и французский, изъясняясь на бессвязном итальянском, по каковой причине Серову не удалось разобраться в его непростой биографии. Но был ли тут повод для огорчения? Безусловно, нет. Дождавшись, когда Росано стукнет лбом о стол, он поднимал тощего хирурга, укладывал в гамак и спешил в рощу земляничных деревьев. Торопился не зря – там, под темными кронами, ждала его Шейла. Какими сладкими были ее губы! Как нежно пахли ее волосы! Серов, зарывшись в них лицом, обнимал ее плечи и чувствовал, как под тонкой тканью корсажа стучит ее сердце. На корабле они боялись взглянуть друг на друга, боялись словом перемолвиться, но здесь, в уснувшей под звездным небом роще, взгляды, слова и даже время принадлежали им. Не бывает потерь без находок, думал Серов и шептал ей на ушко: милая, любимая, родная… На каком ты говоришь языке? – с улыбкой спрашивала Шейла. И он отвечал: на нормандском, счастье мое… Однажды он спросил, хочет ли она уехать в Старый Свет. Девушка покачала головой: – Не знаю, Эндрю, не знаю… Увидеть города, о которых рассказывал Джулио, дворцы королей и принцев, старинные замки, гавани, полные кораблей… Дева Мария! Это было бы чудесно! Но когда я думаю, что на одной улице Бристоля, Лондона или Парижа больше людей, чем в Бас-Тере, и все чужие, незнакомые… – Шейла вздрогнула и прижалась к Серову. – Мой дед Питер Брукс был рабом на Барбадосе, потом слугой плантатора Родвея. Дядя Джозеф говорит, что деду повезло – Родвей позволил ему жениться, завести семью, и даже не стал наказывать, когда отец и дядюшка удрали на Ямайку, в Порт-Ройял. Моя мать тоже была выслана… ну, ты понимаешь, за что… Отец ее купил за двести песо. Шейла замолчала, и Серов увидел в лунном свете, как у ее губ пролегли горькие морщинки. – Я – внучка старого каторжника и племянница пирата, – сказала она. – Еще – дочь женщины, которую там, за океаном, считали падшей… Что я буду делать в Старом Свете, Эндрю? – А что ты делаешь здесь? Глаза девушки сверкнули, твердая ладошка сжалась в кулак, будто обхватив сабельную рукоять. – Мщу! Мщу испанцам! – Ты ненавидишь их? За что? Взгляд ее погас, веки опустились. Какие длинные ресницы, мелькнуло у Серова в голове. Они лежали на смуглой коже, как два темных веера. – Они сожгли… сожгли отца и маму… и других… – глухо пробормотала Шейла. – Мы жили в Блэк-Ривер, на западе Ямайки, далеко от Порт-Рой-яла. Отец рыбачил и охотился… Все в Блэк-Ривер были или рыбаками, или охотниками. Были! Все семьдесят шесть человек! А пощадили только меня и сестер Роджерс… нам еще пяти не исполнилось… Но мальчиков сожгли. Даже младенца Мэри Прайс. – Почему? – Они говорили, что это кара – кара за то, что Грамон натворил в Веракрусе, а Дэвид – в Перу. Еще говорили, что еретикам положена огненная смерть… Смеялись – пусть привыкают к жару преисподней! Это случилось за двенадцать дней до Рождества Христова… Пришел испанский корабль, солдаты обшарили поселок и всех согнали в церковь, потом подожгли. Дерево было сухое, горело быстро, и наши не успели допеть псалом. Начали кричать. Я помню… Шейла задрожала, и Серов крепче обнял ее: – Не надо, милая… не надо об этом… – Нет, надо! – Она вытерла глаза и упрямо нахмурилась. – Надо! Я помню, как кричала мама – благословляла и молила Господа спасти меня и защитить… И Господь внял ей и отвел от нас клинки и пули, хотя девочки Роджерсов все равно умерли, когда мы втроем остались на пепелище. Есть было нечего, но умерли они не от голода, а потому, что не хотели жить. Они все время плакали, потом легли у сгоревшей церкви и не хотели подниматься. – А ты? – Я прошла сорок миль до Саванны-ла-Мар, самого ближнего поселка, и рыбаки отвезли меня в Порт-Ройял, где губернатором был Генри Морган. Он знал дядю Джо и велел приютить меня, пока не появится его корабль. Другой, не «Ворон»… дядя тогда плавал на шлюпе «Ловкач»… В доме Моргана я жила пять месяцев, потом пришел дядя и забрал меня на Тортугу. – Когда это было? Девушка прищурилась, вспоминая. – За два года до смерти Моргана и за шесть до того, как Порт-Ройял рухнул в море… Значит, в восемьдесят шестом. И тогда я дала обет… – Она быстро перекрестилась. – Я обещала убить своей рукой шесть с половиной дюжин испанцев, по одному за каждого сгоревшего и еще двоих за сестер Роджерс. Это мой долг перед Богом и людьми Блэк-Ривер. – Ненависть рождает только ненависть, а Бог есть любовь, – сказал Серов. – Лучше бы ты отказалась от этого обета, девочка. Лучше нам уехать в Старый Свет, но не в Париж или Лондон, а в северную страну, такую далекую, что там не слыхали ни о Генри Моргане, ни о Дэвиде с Грамоном, ни о Питере Бруксе, старом каторжнике. Уехать бы в Россию… в Московию… Там жизнь тоже нелегка, но думаю, что в тех краях мы жили бы в почете. Шейла подняла головку, и он увидел в ее глазах отблески звезд. – В Московию, Эндрю? Это ведь где-то за империей турецких нехристей, рядом с Катаем… Почему не в Нормандию? – В Нормандию… – Серов вздохнул. – Понимаешь, голубка моя, Нормандия это просто символ. Символ земли, далекой и просторной, которая станет родной. Если я туда соберусь, ты меня не покинешь? Она не ответила, только прижалась к нему, и Серов почувстовал, как ее теплое дыхание щекочет шею. Вот два человека, подумал он, и у каждого горе, и каждого терзает память, злая или грустная, и потери их огромны: у одной – отец и мать, а у другого – целый мир. И все же друг другу они дарят счастье, собирая из осколков свои рухнувшие миры… Что к ним добавить? Отца и мать не воскресишь, но могут быть дети, дом и родина… – Спой мне, Эндрю, – попросила Шейла, и он негромко запел:Глава 10 ШТУРМ
Утром капитан Брукс велел поднять испанский флаг, а молодцам Клайва Тиррела – обрядиться в трофейные шлемы и кирасы и встать с мушкетами на носу. Маскировка была не слишком убедительной, но все же способной вызвать у испанцев замешательство – пока сообразят, что за корабль к ним явился, «Ворон» приблизится к укреплениям. Чичпалакан уже узнавал очертания берегов и силуэты гор за полосою джунглей и клялся, что солнце не успеет сесть, как они уже будут на траверзе Пуэнтедель-Оро. По его словам, в городе было сто двадцать испанских солдат, двести индейцев из Арагуа[393], носильщиков и погонщиков мулов, а также сотни три девушек и женщин из племени Каймана. С теми, кто помоложе и поприглядней, жили белые, а остальных держали в качестве кухарок, служанок и шлюх для пришлых арагуанцев. Еще восемьдесят солдат и надсмотрщиков обитали на руднике, к которому через сельву была проложена тропа, доступная для мулов. Рудник находился в скалистых предгорьях, примерно в двух днях пути, но объяснить его расположение подробней Чичу не удавалось – не хватало слов. Он твердил о большой дыре, перекрытой стволами деревьев, о скалах, похожих на ладонь со скрюченными пальцами, о водопаде, текущем с гор, и своих соплеменниках, которых ловят и бросают в шахту. Прежде это место обходилось без имени, но теперь его называли Ашче Путокан, Дымящейся Скалой – дым, видимо, шел от печей, в которых из руды выплавляли серебро. Подъем якоря и первые мили пути Серов проспал, покачиваясь в гамаке на орудийной палубе – ему и другим дежурившим ночью вахтенным полагался отдых. Сон был особенно сладок и крепок в утренние часы, когда солнце еще не жгло и над рекой гулял ветерок с намеком на прохладу. Скрип якорной цепи, ругань боцмана, звон доспехов не разбудили Серова; проснулся он лишь тогда, когда «Ворон» сбавил ход и над головой затопотали. Затем раздались крики сержантов, собиравших своих людей, и он, выскочив из гамака, схватил перевязь и шпагу и ринулся вслед за Люком Форестом на шкафут. С левого борта к «Ворону» приближалась пирога. Вздымались две дюжины весел по обе стороны длинного узкого челна, сверкали, срываясь с них, водные струи, мерно сгибались руки и спины, трепетали яркие головные уборы. На носу стоял приземистый коротконогий человек с мощным торсом и мускулистыми плечами, на его груди темнел рисунок, свернувшийся кольцом кайман, а над головой широким полутораметровым веером расходились перья. Капитан Брукс, Пил, Садлер и артиллерист Тегг разглядывали судно, вождя и гребцов с квартердека. Ван Мандер и Хрипатый Боб застыли у штурвала, рядом с ними Серов заметил тонкую фигурку Шейлы, а поодаль – Чича и Джулио Росано с подзорной трубой. Впрочем, необходимости в этом инструменте уже не было – до пироги оставалось двадцать ярдов. От бака до кормовой надстройки выстроился почетный караул – тридцать молодцов Клайва Тиррела с мушкетами на изготовку. Остальные расположились сзади, кто за шеренгой мушкетеров, кто оседлав рей на фок– или грот-мачте, кто забравшись на крышки люков. Пирога скользнула вдоль корпуса «Ворона», и весла, тормозя ее движение, разом опустились. Брукс кивнул помощнику. Тот, презрительно сощурившись на голых индейцев, распорядился: – Подать конец! С палубы бросили канаты. Поймав их, гребцы подтянули суденышко к борту фрегата. Теперь стало видно, что все они вооружены – копья, луки и широкие деревянные лезвия, напоминавшие мачете, лежали на дне пироги. Капитан отыскал взглядом Серова и рявкнул: – Эндрю-писаря сюда! – И когда тот забрался на квартердек, пояснил: – Чич твое имущество, и ты его лучше понимаешь. Спроси про этого павлина в перьях. Кто таков? Чего надо? Предводитель индейцев уже забрался на палубу и медленно, важно шествовал к квартердеку. Серов ткнул в него пальцем. – Ваш вождь, Чичпалакан? – Вождь! – отозвался юноша и пояснил: – Большая вождь! Такой, как капитана Букс. Звать Гуаканари. Пираты уступали дорогу вождю, стараясь не задеть головного убора. Его зеленые и синие перья торчали вверх и в обе стороны почти на длину руки. Гуаканари поднялся по трапу, посмотрел на Чича и что-то произнес. Юноша понурил голову. Вождь, скорчив жуткую гримасу, вымолвил еще пару фраз. – В чем дело? – буркнул капитан, выступая вперед. – Чем он недоволен? Серов хлопнул Чича по спине: – Не спи, парень! Переводи! – Вождь сказать, что воины видеть Чичпалакана на большой лодка. Вчера. Смотреть хорошо, видеть – правда, Чичпалакан, бесхвостый ящерица. Еще сказать: долго ты болтаться у белых демонов, сын жабы. Много человеки умерло. Воины, женщины, дети. Гуаканари внимательно слушал. Чресла его были перепоясаны плетеным поясом, с которого сзади и спереди свисали полоски лыка. За поясом торчал каменный нож. – Надо бы его поприветствовать, – подсказал капитану Садлер. Тот, окинув предводителя индейцев пронзительным взглядом, подал знак Серову. – Большой вождь Брукс и все меньшие вожди рады видеть Гуаканари. Гуаканари – друг! Испанцы – враги! Выслушав перевод, индеец довольно улыбнулся и протянул Бруксу свой каменный нож. – Подарок, – пояснил Чич. – Чтобы вместе убивать испанский человеки. Секунду поколебавшись, капитан вытащил стальной клинок, сунул его в руки Гуаканари и приказал Серову: – Пусть твой парень скажет вождю, что мы атакуем испанский гадючник еще до заката. Я хочу, чтобы его воины перерезали дорогу к руднику. Так, чтобы ни один поганец не ушел! К вечеру мы возьмем город, а завтра отправимся к джунгли. Вождь должен быть с нами. Сам вождь и с ним двести воинов. После долгих объяснений и подсчета на пальцах количества бойцов план был согласован. Заодно Гуаканари пояснил, что склады, в которых хранятся серебряные слитки, порох и съестные припасы, находятся сразу за городской стеной, обращенной к реке, что в этой стене есть ворота, а рядом с ними – четыре блестящих дырявых бревна, которые делают гром. Затем поинтересовался, имеются ли такие бревна у вождя Брукса. – Там, внизу! – Серов топнул ногой о палубу, и Чичпалакан повторил его жест. – Много! Больше, чем у испанцев! Губы Гуаканари снова растянулись в хищной усмешке. Он ударил в грудь кулаком, повернулся и, колыхая перьями, направился к своей пироге. Весла погрузились в воду, капли засверкали радугой, и узкое суденышко быстро понеслось к безлюдному, заросшему деревьями берегу. В сотне ярдов от него Гуаканари, по-прежнему стоявший на носу, вскинул руки и что-то пронзительно закричал. Лес отозвался гиканьем и воем; зеленая стена джунглей всколыхнулась, и шеренги потрясавших копьями воинов выступили из нее, словно скопище призрачных теней. Было их не меньше тысячи. Серов наклонился к Чичпалакану: – Что сказал вождь? – Сегодня кайманы быть сытый, – раздалось в ответ. Подняли кливер, и «Ворон» заскользил вверх по реке. Капитан и офицеры совещались, забыв о Серове, и он отступил подальше, к штурвалу, а потом к фальшборту, к Шейле и Росано. Здесь, на квартердеке, ему не полагалось находиться, но искушение взглянуть на девушку было слишком сильным. Не просто взглянуть, а очутиться рядом с ней, вдохнуть ее запах, увидеть, как заблестели ее глаза… Она улыбнулась Серову, порозовела и быстро прикрыла лицо ладонью. Росано сделал шаг вперед, заслоняя ее от взглядов команды. – Не бойся, девочка, я вас не выдам. Господь всемогущий! Я еще помню, как это бывает. – Вздохнув, лекарь пробормотал: – Amor omnibus idem…[394] Но, кажется, никто не смотрел на них, ибо капитан, закончив совещаться, твердым ровным шагом направился к парапету, что огораживал квартердек. Кормовая надстройка «Ворона» была чуть выше человеческого роста, и Брукс стоял на ней, точно на трибуне, оглядывая свою команду маленькими серыми глазками. Наконец он поднял руку, прикоснулся к шляпе-треуголке и произнес: – Джентльмены! Слушайте, что будет сказано, и чтобы потом ни один паршивый пес не говорил, что уши его забиты грязью. – Брукс выдержал паузу. Он возвышался над толпой как скала – ноги расставлены, ладони за широким поясом, темный камзол обтягивает плечи. – Мы атакуем в четыре пополудни, за два часа до заката[395]. Мистер Тегг разобьет ворота и батарею. Высадимся на шлюпках. Я с Тиррелом – в центре; мы захватываем склады, которые сразу за воротами. Пил и Дойч полезут на стену справа, Галлахер с половиной своих людей – слева. Остальные будут на судне, в распоряжении ван Мандера и Teггa. Teгг стреляет, ван Мандер маневрирует. Ясно? С палубы донесся дружный гул. Головорезы опытные, долго объяснять не нужно, подумал Серов и покосился на Шейлу. Ноздри ее раздувались, руки лежали на пистолетах у пояса. Она, вероятно, размышляла о своем обете и о том, что счет ее вендетты сегодня пополнится. – Вы видели индейского вождя и его воинов, – продолжил Брукс. – В городе есть женщины и другие индейцы, из Арагуа. Их не трогать, резать только испанцев! А с обезьянами пусть разберутся обезьяны! Прибьем не того, хлопот не оберешься… – Он ткнул пальцем в сторону гор и добавил: – Завтра идем к руднику с парнями этого Гуаканальи, и пока серебро не в нашем трюме, они для нас – союзники! Баб не трогать, ночью не напиваться! Тем, кто пойдет на рудник, – полуторная доля, пьяным – половинная. Все! Он развернулся на каблуках и кивнул Пилу. – По местам! – выкрикнул тот, и на палубе началось шевеление. Мушкетеры в испанских доспехах снова выстроились на носу, люди Дойча и Галлахера сели на шкафуте, прикрытые бортом, канониры начали прыгать в люк, заторопившись к пушкам. Серов бросил последний взгляд на Шейлу и направился к своей ватаге. Там уже разбирали мушкеты, а рыжий ирландец командовал, кому оставаться на судне, кому идти в сражение. Серова, конечно, определили во вторую партию – дрался он лучше, чем управлял парусами. «Ворон» плыл по огромной реке, время тянулось час за часом. Ливня в этот день не было, но солнце жарило, как раскаленная печь; скоро на палубные доски уже не присядешь и босой ногой не ступишь. Однако воздух посвежел – гигантские болота дельты, тянувшиеся на десятки миль и насыщавшие миазмами душную атмосферу, остались позади. Справа по курсу судна берег оставался низменным и выглядел издалека тонкой зеленой полосой; слева зелень казалась ковром, расстеленным от бурых речных вод до скалистого горного хребта, где-то тоже заросшего деревьями, а где-то теснившего джунгли красноватыми и желтыми утесами. Что тут за горы[396], Серов не знал – из всей усвоенной в школе южно-американской географии припоминались только Анды. Но Анды были в тысячах километров к юго-западу, в Перу и Чили, у побережья Тихого океана, где Серову совсем не хотелось бы очутиться. Правда, одно время лелеял он планы насчет Калифорнии и Аляски, пока не сообразил, что русские поселения в тех местах появятся через век с хорошим гаком. Впрочем, добраться до той же Аляски было еще тяжелей, чем до Финского залива и Невы. В Россию он стремился по-прежнему, но понимал, что ситуация изменилась, что без Шейлы Джин Амалии он никуда не уедет. Чужая эпоха, в которой любая земля и любой человек тоже чужие; найти здесь близкого – большое счастье, и если уж нашел, так хватайся за него обеими руками и не выпускай. Серову это было ясно. Временами он испытывал стыд, думая о Шейле не как о любимой женщине, а будто о поплавке или ином спасательном средстве, которое держит его в этой реальности и не дает соскользнуть в пучину. Но иногда такая мысль казалась ему вполне естественной – разве любовь не спасение?.. не поддержка?.. Разве он сам не желал бы спасти любимую от всех обетов и горя и сделать ее счастливой – там, в далекой стране, которая мнилась ему родиной? Серов мечтал об этом и часто видел в снах, как Петр Алексеевич – такой, как на портретах, с кошачьими усами, в кирасе и горностаевой мантии – жалует его за ратный подвиг, а Шейла рядом с ним, красавица в атласном платье, кивает весело и улыбается. Может, и не так все будет – жизнь в России тяжела, и воевать придется много лет, и в той войне погибнуть – как чихнуть… Тяжела? Ну и что же! Зато достойна! – Носовые орудия… залпом… огонь! – раскатилось над палубой, и тут же грохнули две малые пушки на баке. Стреляли холостыми, и означало это не угрозу, а приветственный салют. Привстав, Серов увидел на берегу расчищенное пространство, деревянную пристань с лодками и баркасами, вал, увенчанный частоколом, и россыпь хижин по обе стороны укрепления. «Ворон» двигался прямиком к городку, на мачтах развевались испанские флаги, а люди Тиррела изображали буйную радость, махали саблями и палили в воздух. Видимо, кто-то с вала рассматривал корабль в подзорную трубу и счел его своим – из крепости тоже раздался пушечный выстрел, и облако черного дыма поплыло над водой. Пересекая медленный водный поток, «Ворон» уверенно шел к берегу. Уже можно было разглядеть массивные ворота в середине земляного вала, палисад и несколько пушек, чьи жерла темнели над бруствером, дозорные башни по углам и колокольню – видимо, самое высокое строение городка. Он был невелик и окружен валами в форме квадрата со стороною в сотню метров; бревенчатый частокол в два человеческих роста скрывал дома и склады, но, похоже, строений было немного, десятка четыре или пять – больше бы тут не уместилось. Однако маленькая цитадель являлась лишь частью поселения; по берегу реки и со стороны джунглей ее окружали лачуги и шалаши, загоны для мулов и птицы, плодоносящие пальмы и огороды, навесы на столбах с подвешенными гамаками, дымящие печи и мастерские. Жизнь здесь так и кипела – на маленьком клочке земли, отвоеванном у сельвы и племени Каймана. Испанцы, очевидно, не подозревали, что этой жизни вот-вот придет конец. На палисаде, у пушек рядом с воротами, стояла орудийная прислуга, сами ворота были распахнуты, и к пристани тянулись солдаты под командой пышно разодетого офицера; в предместьях мелькали полуголые фигурки женщин, тащивших воду или хлопотавших у костров, а погонщики из Арагуа сновали между загонами и навесами с сеном. «Ворон» приблизился уже на четверть мили к берегу и все еще казался испанским кораблем. Гарнизон Пуэнте-дель-Оро-и-Кирога явно полагал, что главная защита от корсаров не бдительность, а удаленность и скрытность. И правда, кто сумел бы разыскать их в дикой сельве у девственной реки, в ста восьмидесяти милях от морского побере? Пожалуй, в эти времена лишь южный и северный полюс были недоступнее. На пристани и валах вдруг засуетились. Офицер, изучавший судно в подзорную трубу, резко опустил ее и что-то закричал солдатам. Они торопливо бросились внутрь крепости, потянули за собой створки ворот; из бойниц частокола высунулись мушкетные стволы, артиллеристы принялись заряжать орудия, и над городком поплыл протяжный тревожный звон набата. Серов видел, как женщины и арагуанцы, оставив свои котлы и животных, бегут к лесной опушке, но из-за деревьев уже выступили цепи молчаливых воинов, и в воздухе замелькали стрелы. Дети Каймана были меткими лучниками и целились только в мужчин. – Спустить флаг! – раздался голос капитана. Пурпурные испанские стяги упали с мачт, однако «Веселый Роджерс» на месте них не появился. Черное знамя с черепом и костями было легендой, измышлением летописцев, либо время его не пришло – во всяком случае Серов его не видел ни на одном корсарском судне. Пираты Карибов не поднимали флага, рекомендуясь с помощью пушек. Бриг разворачивался параллельно берегу, и смысл маневра уже не был для Серова тайной за семью печатями. Учился он быстро, и опыт, накопленный за полгода, подсказывал, что до крепостного вала двести метров, а в нынешнем веке это прицельная дальность стрельбы. Хоть из пушки, хоть из мушкета… Под его ногами, на орудийной палубе, слышался скрип станин, проклятия бомбардиров и громкий голос Teггa, велевшего всем стволам бить по батарее испанцев. – Синьор Росано! – рявкнул Брукс, и с квартердека донеслось: – Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Господи, будь милостив к детям своим, пошли им удачу, смерть быструю, рану легкую, добычу богатую… Хирург читал молитву громким гнусавым голосом, видимо подражая кому-то из святых отцов, которых знал в Венеции, Падуе или ином итальянском граде, может быть, даже в Риме, папской обители. Но в этот раз закончить ему не удалось – позиция для стрельбы была слишком подходящей. – Левым бортом… огонь! – скомандовал капитан. Палуба «Ворона» дрогнула, и десять чугунных ядер обрушились на палисад. Залп был смертоносным. Легкий бруствер, возведенный для защиты от индейских стрел, рухнул под ударом, в воздух взмыли обломки дерева и изувеченные тела, потом раздался оглушительный взрыв – должно быть, ядро угодило в бочонок с порохом. Две пушки слетели с разбитых станин, одна покосилась, а ту, что стояла ближе к воротам, выбросило за вал. На медных стволах орудий, на земляном валу и сбитых бревнах частокола валялись трупы, десяток или дюжина, и над ними курился сизый дымок. Грохот набата на мгновение прервался, будто звонарь был потрясен картиной разрушения, затем над Пуэнтедель-Оро снова поплыл тревожный звон. Бриг разворачивался, отвернув к середине реки. Паруса на мгновение заполоскали, потом опять вздулись, поймав ветер. Внизу орал Сэмсон Тегг: «Левый борт – заряжай! Первый, второй и третий номера – картечью! Быстрее, висельники, ленивые свиньи!» На берегу, среди баркасов и лодок, и на валу, обращенном к реке, царило безлюдье, но в бойницах частокола сверкнули мушкетные выстрелы. Команда встретила их презрительным ревом – «Ворон», недосягаемый для пуль, был в четверти мили от крепости. – Спустить шлюпки! – донеслось с квартердека. – Дойч, на тали![397] – распорядился боцман Стур. – Спускать с обоих бортов! Одна за другой шлюпки плюхались в воду. Их на фрегате было четыре: три больших, на восемь весел каждая, и капитанский ялик. В лодках могли разместиться три четверти команды «Ворона». Корабль снова двигался к берегу, тащил у бортов шлюпки. Слабый устойчивый ветер, дувший против течения, помогал маневрам. Джозеф Брукс и Пил спустились на шкафут; капитан всматривался в приближавшийся берег, помощник деловито проверял пистолеты. Правый борт «Ворона», ощетинившись жерлами пушек, глядел на крепостные валы. – По воротам!.. Огонь!.. – рявкнул Брукс, и грохот залпа перекрыл набатный звон. На этот раз, уже не опасаясь испанских пушек, фрегат подошел к берегу метров на сто пятьдесят. Ворота, разбитые ядрами, упали внутрь, и над ними просвистела картечь, уложив сгрудившихся в проходе солдат. Вопли умирающих и раненых смешались с криками, что слышались у леса. Там шла резня: Дети Каймана усердно трудились, кололи и рубили арагуанцев. Это было последним, что увидел Серов с палубы «Ворона»: пираты уже спускались в шлюпки, и Мортимер, ткнув его в спину, пробурчал: – Шевели костылями, Эндрю! Наш день, клянусь Господом! Отряд Галлахера, бывший в половинном составе, грузился в четырехвесельный ялик. Не успел Серов опомниться, как уже держался за рукоять весла и греб в компании с Хенком, Куком и Даннерманом под выкрики ирландца: «И раз, и два… Живее, крысы мокрозадые! Первому на стене – две доли! И раз, и два…» Шлюпки расходились веером: ударная команда капитана – к проходу, разрезавшему вал, уже не загороженному воротами, группы Пила и Галлахера – к углам крепости, над которыми торчали невысокие башни. Гребли недолго, но за это время над головами десантников дважды прогудели ядра и свистнула картечь. Частокол рядом с башнями повалился, одна из башен тоже рухнула, другая накренилась. Судя по всему, форт был рассчитан лишь на отражение атак индейцев, а против орудийного огня ни ворота, ни бруствер устоять не могли. Да и сами испанцы тоже; вид полуголой орды, страшных лиц, искаженных яростью, внезапность нападения – все это внушало ужас. Но, вероятно, самым пугающим и грозным являлся стремительный натиск, с которым действовали корсары. Морская пехота более поздних времен могла бы позавидовать их боевому искусству. Лодка ткнулась в заросший травой откос, и дюжина бойцов, не промедлив ни секунды, помчалась к валу. Взгляд Серова фиксировал на бегу картины, что возникали перед ним мгновенными вспышками: причал с десятком пирог, двумя баркасами и суденышком побольше, видимо шлюпом[398]; крутая насыпь в человеческий рост с вывернутым из земли и расщепленным частоколом; обломки башни, беспорядочная груда бревен и досок; солдаты в шлемах, с искаженными страхом лицами. Они метались в проломе с криками: «Las ladrones! Las ladrones!»[399] – и было заметно, что склонные к бегству трусы мешают храбрецам сражаться. – Мушкеты! – скомандовал Галлахер. – Целься, псы помойные! Огонь! Грянул залп, и несколько испанцев свалились, истекая кровью. Корсары, бросив ружья, ринулись в пролом. Низкая насыпь не была серьезным препятствием, и ее одолели за три секунды; бежавший первым Страх Божий рубанул одного солдата тесаком и разрядил пистолет в другого. Алан и Брюс Кук сцепились с противниками посмелее, Галлахер сбил испанца с ног обухом топора, но Даннерману, голландцу из Харлингена, не повезло – ему всадили шпагу между ребер. Он был не молод и не так поворотлив, как в былые годы, и, похоже, наскочил на опытного фехтовальщика, сержанта или младшего офицера. Этот воин не колебался, бежать или биться насмерть; его бородатое лицо казалось мрачным, но спокойным, и клинок не дрожал в сильной руке. Прикончив голландца одним ударом, он шагнул к Серову. Его глаза горели темным огнем, губы чуть раздвинулись, и белая полоска зубов сверкнула в черной бороде. Стремительный выпад, звон клинков, и Серов внезапно понял, что эти глаза и эта ухмылка могут стать последним, что он увидит в жизни. Когда-нибудь это должно было случиться, мелькнуло в голове; рано ли, поздно, но наткнешься на мастера. Следующей была мысль о Шейле и о том, что Петру Алексеевичу, наверно, придется обойтись без него, и в Полтавской битве, и при Гангуте. Противник легкими ударами шпаги прощупывал его оборону, но в этих касаниях ощущались опыт и мощь. А также уверенность, которой сам Серов не испытывал. Его рефлексы были лучше, чем у этого испанца. Со своей цирковой выучкой он мог прыгнуть дальше, присесть быстрее, удержать равновесие на пальцах одной ноги; кроме того, он владел приемами рукопашного боя. Но синеватая полоска стали сравняла с ним врага; тот не умел крутить сальто-мортале или ходить по канату, но знал, куда и как ее воткнуть. Это знание являлось той важной прибавкой к урокам Росано, которую Серов лишь начал осваивать, и только достойный противник мог бы ускорить этот процесс. Схватка, в которой он победит, соединив прежнее и новое свое искусство… Выпад! Шпага испанца с тихим шелестом скользнула вдоль его клинка и устремилась к горлу Серова. Он прыгнул в сторону, чувствуя, как из пореза под ухом струится кровь; оскалившись, смерть улыбнулась ему и подмигнула – мол, в следующий не уйдешь. «И правда, не уйду, – подумал Серов, всматриваясь в темные безжалостные глаза. – Не уйду, если не разделаюсь с ним по-быстрому. Долгий бой по итальянским правилам не выдержать…» Впрочем, если забыть об итальянской школе, правило было одно: проткнуть врага, и побыстрее. Что-то мелькнуло перед ним, какое-то видение из прошлой жизни: два застывших самурая с длинными мечами, потом один бросается вперед, а другой пропускает его и рубит врагу позвоночник. Вдохновленный этим воспоминанием, Серов ткнул наугад шпагой, раскрылся и, когда испанец с хриплым воплем прыгнул к нему, сделал сальто в воздухе. Еще не приземлившись, он нанес удар, полоснув противника сзади по шее; потом резко дернул шпагу к себе, встал на ноги и вогнал лезвие испанцу под лопатку. – Долго возишься, – бросил ему Галлахер, шаривший у мертвеца в карманах. – Ну, двинулись дальше, парни… Подобрать мушкеты и зарядить! Идем вдоль вала, и каждой испанской собаке – по пуле в лоб. – Он поднялся на ноги и посмотрел на труп Даннермана. – Его потом заберем. Господи, будь милостив к старому разбойнику! Они зашагали у частокола по насыпи, разглядывая строения форта. Единственная улочка Пуэнтедель-Оро, узкая и пыльная, тянулась от речных ворот к другим, открывавшимся к лесу. В самом ее начале стояли, подпирая вал, низкие амбары, по три с каждой стороны, затем два десятка небольших домов и маленькая церковь, выходившая на площадь. Площадь была крохотной; церквушка с колокольней – слева, а справа – длинное строение с верандами и крыльцом, где валялись три покойника. В центре – две пальмы, а под ними – большой деревянный крест и колода, покрытая чем-то темным, запекшимся. Колокол уже не звонил; головорезы Клайва Тиррела, перебив заслон у ворот, рассыпались по улице, осматривая дома. В дальнем углу, под накренившейся башней, атакованной Пилом, еще раздавались вопли и лязг клинков, но сопротивление было уже подавлено; оставшихся в живых испанцев, израненных и грязных, сгоняли на площадь, к колоде под пальмами. Джозеф Брукс стоял на крыше одного из складов и распоряжался, властно размахивая зажатым в кулаке палашом. Хрипатый Боб, Шейла, Рик Бразилец и другие из самых доверенных лиц ныряли в темные проемы амбаров, вновь появлялись на улице и что-то докладывали капитану. С «Ворона», застывшего в двухстах футах от пристани, долетел лязг якорных цепей. Затем Серову удалось разглядеть массивную фигуру Садлера, который спускался в отправленный за ним ялик. Внизу между домами метнулась чья-то тень, грохнул выстрел, за ним еще два. Испанский солдат ткнулся лицом в пыль. – Прах и пепел! Попал! – выкрикнул Мортимер, устремляясь с вала к упавшему. Алан Шестипалый ухватил его за воротник. – Как же, попал, краб вонючий! Ты бабе в дырку не попадешь… Мой выстрел! Ощерившись, Мортимер потянулся к ножу, Алан стиснул кулаки, но Галлахер оказался быстрее, врезал одному прикладом в живот, а другому стволом под челюсть. – Молчать, недоноски! А я, что же, промазал? Моя пуля и мой покойник! Мортимер, который был поумней, решил не спорить, но Алан, простая душа, окрысился: – Это еще почему? – Потому что я здесь старший! Так что закрой хлебало и обыщи эту падаль. Что найдешь – сюда! – Ирландец вытянул руку с растопыренными пальцами. Нашлось немногое – серебряный крестик и три реала. Галлахер недовольно хмыкнул и с мрачным видом зашагал вперед, к воротам, что вели к лесу. Тут, на бревенчатом раскате, стояли еще четыре пушки, но никого при них не оказалось, ни мертвых, ни живых. Расчищенное от деревьев пространство между валом и опушкой джунглей было завалено трупами, и по нему бродили воины Каймана, сгоняли в кучу женщин и добивали мужчин. Три или четыре десятка индейцев уже забрались в предместья и шарили в хижинах имастерских. Окинув их неприязненным взглядом, Галлахер сплюнул. – Так не пойдет, клянусь преисподней! Еще немного, и эти жабы до мулов доберутся и резать их начнут! А Старик велел, чтобы животина была в целости… Ну-ка, Брюс, бери этого, этого и этого, – ирландец ткнул пальцем в Хенка, Серова и Мортимера, – и спускайся. Встанешь караулом у загона, и если какой людоед полезет, бей по яйцам. – Они союзники, – напомнил Серов. – Бить не позволено. – Заткнись, умник! Спросят – скажешь, мул лягнул. Серов пожал плечами и начал вслед за Хенком спускаться с вала, но тут с улицы его окрикнули. У ворот стоял Хрипатый Боб, и в его глотке, порезанной в драке лет десять назад, клокотали слова: – Эндррю… Эндррю писаррь… Старрик зовет… Считать заставят, понял Серов, повесил мушкет за спину и полез вниз. Они с Бобом пересекли площадь, где сидели в пыли и угрюмом молчании восемь испанцев со скрученными за спиной руками. Эта сцена, уже знакомая, удивляла не больше, чем крест и пальмы, но при виде колоды Серов насторожился. Бревно из фернамбука[400] толщиной в добрый ярд было покрыто бурой коркой, над ней вились мухи, и несло так, будто раскрылась могила с гниющим покойником. Поморщившись, он пробормотал: – Скотобойня тут, что ли?.. – Хрр… Она! Пррежде такого не видел, паррень? – каркнул Хрипатый Боб. – Ну, гляди, гляди… Тут дикаррям головы ррубили. Во славу Хрриста и для устррашения! Из церкви доносился звон – похоже, сваливали в кучу серебряные чаши, подсвечники и кресты. На той стороне площади, где стоял большой дом с верандами, турок Фарук и немец Ретнер тащили за ноги убитых, а другие головорезы Тиррела уже отшибали у бутылок горлышки. Стараясь держаться подальше от колоды, Серов направился к ним, взял откупоренную бутылку, плеснул в ладонь и вытер шею. Стиснул зубы – хоть и неглубокий порез, а защипало крепко. Достал платок, намочил, пришлепнул к ране. Так, с окровавленным платком, он и явился к капитану. Джозеф Брукс уже слез с крыши и стоял вместе с Пилом и Садлером у распахнутых ворот приземистого крепкого сарая, сбитого из фернамбуковых бревен. Сам сарай, учитывая ценность древесины, стоил приличных денег, но то, что хранилось в нем, было во сто крат дороже. Бруски длиной побольше, чем в руку, и толщиной в ладонь, сложенные ровным штабелем, сияли в лучах вечернего солнца, искрились серебряными бликами и, будто стрелы волшебных лучников, желавших защитить сокровище, кололи глаз. – Ну, – с довольным видом произнес капитан, – что пасть раззявил? Давай, Эндрю, прикинь по-быстрому, сколько здесь. Серов пересчитал лежавшие сверху бруски, умножил на количество рядов, с усилием сдвинул серебряную чушку, весившую около центнера, умножил еще раз и получил восемь с половиной тонн. В песо это будет… – Триста пятьдесят тысяч, – сказал он, выйдя из сарая. – Плюс-минус пятьдесят в ту или другую сторону. Брукс ухмыльнулся, у Пила отвисла челюсть, а Том Садлер, казначей, дернул рябой отвислой щекой и пробормотал: – Разрази меня гром! Такая куча деньжищ… Выходит, парни, мы разбогатели!Глава 11 ДЖОЗЕФ БРУКС, КАПИТАН
Солнце село, и на площади запылали костры. Десантники и остальная часть экипажа «Ворона», съехавшая на берег, разбрелись по городку и предместьям; одни коротали вечер у бочки с вином, другие, с факелом в руке, шарили в домах испанцев, третьи, выбравшись за стены форта, искали благосклонности туземных женщин. Трупы испанских солдат, брошенные в воду, плыли сейчас по течению, но можно было биться о любой заклад, что до моря они не доплывут, а упокоятся в желудках крокодилов. Даннерман и еще двое погибших были преданы земле, и хирург Джулио Росано обходил корсарское воинство, врачуя раненых с помощью рома, едкой мази, корпии и чистых тряпок. Восьмерых пленников допросили и, выведав кое-какие подробности о руднике, отдали индейцам; их вопли и стоны слышались всю ночь. Амбар с грудой серебра был тщательно заперт, а рядом с ним стояла стража, Хейнар со своими братьями; они, по датской традиции, пили много, но не пьянели. Еще один пост находился у загона с мулами, которых в Пуэнте-дель-Оро насчитывалось семь или восемь десятков. Тропа к руднику тянулась сквозь джунгли, где никакой экипаж проехать не мог, и мулы, вместе с индейцами-носильщиками, являлись самым надежным транспортным средством. После допроса пленных главари корсаров скрылись в доме коменданта. Это было то самое строение с верандами, выходившее на площадь, что стояло против церкви. Там, за плотно закрытыми дверьми и окнами, шел совет с участием младших командиров, Стура, Галлахера, Дойча и Тиррела; решалось, кто останется у реки стеречь серебро, а кто пошагает завтра в горы за новым богатством. Деликатная проблема! – размышлял Серов, сидя со своими подельниками у костра под стеной церквушки. Экспедиция к руднику обещала приличный довесок к доле, и не попавшие в нее могли обидеться. Но сейчас пираты об этом не думали. Новость о размерах доставшегося им сокровища знали все, и это приятное известие погружало в эйфорию. Если бы не завтрашний поход и желание быть в числе избранных, команда была бы уже пьяна, Пуэнте-дельОро пылал, подожженный с четырех сторон, а озверевшие корсары, забыв про обязательства союзников, охотились на женщин. Такое Серову уже доводилось видеть, и у мексиканских берегов, и на жемчужных промыслах – всюду, где брали городок или поселок, в котором можно было всласть повеселиться. Момент истины! – думал он. Время, когда команда делалась неуправляемой и люди не подчинялись никому и ничему, кроме низменных инстинктов. Ужас творившегося зависел от добычи и, вместе со злобой, рос, когда ее не было, но находилась пара бочек со спиртным. Однако в этот вечер все казались умиротворенными, пили не больше кварты, чистили ружья, точили клинки, пели, плясали и хвастались мелкой добычей, взятой на трупах и в домах. Хенк с Мортимером тоже были довольны, обобрав, на правах подельников, убитого Серовым испанца. Хенку достались его пистолеты, Мортимеру – дорогой клинок, а содержимое кошелька они поделили пополам. Теперь, развалившись у огня, в котором горели мебель и двери ближайших жилищ, Мортимер загибал пальцы и подсчитывал: – По тысяче песо выйдет на брата, сожри меня кайман! Может, и побольше… Это сколько же будет в фунтах или кронах?[401] Сколько, Эндрю? – Двести фунтов, а в кронах как в песо, тысяча, – ответил Серов, поднаторевший стараниями казначея Садлера в британской, французской и испанской денежных системах. – Двести фунтов! – Мортимер закатил глаза. – Богатую лавку можно купить! Еще и на домик в Лондоне хватит. – Так тебя там и ждали, – буркнул Хенк. Верное замечание, решил Серов, подумав о том, что якорные цепи в голове Хенка ползут хоть медленно, но в верном направлении. Ему вспомнился рассказ Шейлы о ее предках. Губернаторы и их администрация, королевские офицеры и солдаты, состоятельные плантаторы и негоцианты отправлялись в Вест-Индию служить или копить богатства и, в принципе, могли вернуться в Старый Свет. Но большую часть населения заокеанских колоний составляли каторжники, бунтари и воры, всякие темные личности, подходящие лишь для сахарных плантаций или пиратского промысла. У этих шансов на возвращение не было. Случались, конечно, чудеса, такие, как с Генри Морганом, но даже он закончил жизнь губернатором Ямайки, а не воротилой лондонского Сити[402]. – Не ждали, это точно, – согласился Мортимер. – Ну и якорь им в глотку, козлам недорезанным! В гробу видал я их дома и лавки! А тысяча песо это везде тысяча песо. Хватит погулять! – Он вдруг принял озабоченный вид и снова стал загибать пальцы: – Жратва и выпивка у Пью – это десять песо в день… баба ночью – двадцать пять… Это если белая, а мулатку можно сговорить за пятнадцать… И так – месяца три! Рай, не жизнь! – На три месяца губу не раскатывай, – предупредил Серов. – С выпивкой у Пью и бабами просадишь все за месяц. – Это как сказать, – возразил Хенк. – Если на десять песо нажраться, то баба уже ни к чему. Я бы, может, еще и справился, а Морти после двух бутылок на бабу не залезть. – Прах и пепел! – возмутился Мортимер. – С чего ты взял, харя волосатая? Еще как залезу! Даже запрыгну! Они заспорили, проклиная друг друга и размахивая руками, а Серов отодвинулся от костра, выждал пару секунд, потом встал и исчез в тенях от церковной стены. Словно позвали его неслышно в темноту, где не различишь ни человеческой фигуры, ни лица, и только слух и обоняние подсказывают, что кто-то там есть – затаился и ждет его, Серова. – Эндрю, ты? Услышав тихий шепот девушки, он протянул руку и коснулся ее волос. – Что с тобой случилось, Эндрю? Ты был в крови… От ее голоса в груди Серова потеплело. – Шею задели, – пояснил он. – Ранка небольшая и чистая. Я промыл ее спиртным, сам промыл, а потом еще и Джулио постарался. – Меняй повязку каждый день, – сказала Шейла. – Здесь нехорошее место, нездоровое. Раны воспаляются и долго заживают. – Я знаю. Так он часто ей говорил, и Шейла уже не спрашивала, откуда. Знаю, и все! «Когда-нибудь, – думал Серов, – я объясню ей, откуда это знание о местах, в которых я не бывал, и событиях, о которых вроде бы не слышал. Когда-нибудь… Не примет ли она меня за сумасшедшего?» Он обдумывал эту мысль, пока не почувствовал губы Шейлы на своих губах. Он хотел ее обнять, но девушка его оттолкнула: – Все, все… Я ухожу, Эндрю… Тут десятки глаз. Не надо, чтобы нас видели вместе. Миг, и Шейла скрылась в тени, растаяла, исчезла. Серов стоял, вдыхая ее запах, еще витавший в душном влажном воздухе. «Мама была бы рада, просто счастлива, что я нашел себе такую девушку, – билось в голове. – И мама, и отец, и Ленка… Где они? Когда? Даже наш предок, настоящий сын маркиза, еще не родился…» Душа его вдруг наполнилась ощущением безмерного одиночества, но мысль о Шейле и теплых ее губах прогнала тоску. Прикрыв глаза, он попытался вызвать знакомые картины, свое московское жилище, комнату со старыми афишами, шумные улицы столицы, потоки машин, игру неоновых огней, но это казалось таким же нереальным, невозможным, как сопка Крутая и вездеход Петровича, доставивший его в аномальную зону. Вместо этого перед ним раскрывались морские дали, полные солнечного сияния, гудел ветер, надувал паруса, и вздрагивала от пушечных залпов палуба. Еще он видел рощу земляничных деревьев около усадьбы Брукса и лицо Шейлы Джин Амалии, то ласковое, то грустное, видел ее глаза, а в них – отблеск звезд, неспешно круживших в южном небе. Серов глубоко вздохнул и покачал головой: – Вжился, черт… так вжился, что прежнее почти не помнится! Нет, конечно помнилось, но то была память разума, а не чувств. Его эмоции и чувства диктовались уже этим миром, еще недавно непонятным и чужим, но все упорней, все настойчивей заявлявшим о своей реальности. Ко всему привыкает человек, особенно молодой. – Хрр… Эндррю! – окликнули от костра. Там маячила мощная фигура Хрипатого Боба, и, увидев его, Серов выступил на свет. – К Старрику, – пояснил Боб. Мортимер, отвлекшись от спора с Хенком, добавил: – Иди, иди. Должно быть, серебришко взвесили, и надо посчитать, чего кому положено. Ты там почаще умножай да складывай. Вычитать и делить не обязательно. – Это уж как получится, – произнес Серов и зашагал вслед за Хрипатым к дому коменданта. Очутившись в довольно просторной комнате, он с удивлением приподнял бровь. Против ожиданий, здесь не было никого из офицеров, ни Тома Садлера с его бухгалтерской книгой и счетами, ни бомбардира Teггa, ни шкипера ван Мандера, ни даже Эдварда Пила, который всегда косился на Серова недобрым глазом. На полу здесь лежали шкуры ягуаров, к стенам крепились шандалы с горящими свечами, мебель была неуклюжей, самодельной, зато изготовленной из драгоценного красного дерева, – массивный стол, скамьи, два сундука и огромное кресло. В кресле сидел Джозеф Брукс, а на столе перед ним находились винный бочонок, дюжина оловянных кружек, пистолет и толстая оплывшая свеча в медном подсвечнике. О завершившемся совете напоминали лишь пустые емкости да этот бочонок с выбитым дном. – Садись. – Капитан показал пистолетом в сторону лавки. – Благодарю, сэр. Серов опустился на жесткое сиденье. С минуту капитан разглядывал его, щурясь и поигрывая оружием. Граненый пистолетный ствол смотрел то на ополовиненный бочонок, то на пламя свечи, то прямо в лоб Серову; казалось, сейчас будет задан вопрос – и, в случае неверного ответа, пуля разнесет ему голову. Это совсем не исключалось, тем более что Брукс был изрядно под хмельком. Наконец он пробурчал: – Ты правда сын маркиза? Не вздумай врать! И смотри мне в глаза, сукин сын! – Правда, – заверил его Серов и перекрестился. – Чтоб мне лизать сковородки в аду до скончания века, если не так! – Хмм… – Брукс наклонил бочонок, налил в кружку вина, выпил. – И что же имеется у твоего папаши? Земли, замок, капитал? – И то, и другое, и третье, однако не для меня. Есть законный наследник, сэр, а я… я так, грешок юности. Отец дал мне воспитание, какое прилично дворянину, и отпустил на вольные хлеба. Он считает, что безземельный рыцарь должен кормиться своим мечом и разумом. Капитан опять оглядел его и снова хмыкнул. – Похоже, Эндрю, ты не слишком преуспел в своем рыцарском кормлении… Ну, дьявол с этим! Скажи, а не было у тебя мысли прибрать к рукам папашино достояние? С законным наследником ведь всякое могло случиться. Кость могла поперек горла встать, мог споткнуться и упасть в колодец… Есть у вас в замке колодец, а? – И не один, – ответил Серов, принимая, как диктовали правила игры, холодный и гордый вид. – Если я правильно понял, сэр, вы намекаете, что я мог бы прикончить наследника, то есть своего малолетнего брата. Братишку… ээ… Этьена. – Не отводя глаз от пистолета, он приподнялся и грохнул по столу кулаком. – За кого вы меня принимаете, сэр?! Меня, рыцаря и дворянина? За братоубийцу? Да за все сокровища персидского шаха я бы не… – Сядь! Сядь и успокойся, дворянская задница! – рявкнул капитан. И, уже тише, добавил, будто бы про себя: – Слишком честен, слишком благороден… верно Джулио сказал – как есть чистоплюй… да еще без гроша в кармане. – Это почему же без гроша? – возразил Серов. – Нынче мой грош на тысячу песо тянет! Брукс сунул пистолет за пояс и пренебрежительно махнул рукой: – Тысяча песо, ха! Хватит лишь на джин и шлюх! Видно, твой благородный родитель не объяснил тебе, что такое настоящее состояние. – Приложив пятерню к груди и явно имея в виду себя, он начал перечислять: – Усадьба на Тортуге и поместье на Ямайке с плантациями сахарного тростника и без всяких долгов – раз! Винокуренные заведения, та же Ямайка и еще Барбадос – два! Корабль, мой «Ворон», который приносит хороший доход, – три! Сто восемьдесят тысяч песо в золоте, серебре и драгоценностях, что на хранении у де Кюсси, – четыре! Ну и последнее – деньги, которые я получу с нынешней добычи… тысяч шестьдесят, а то и сотня, если выгорит дело с этим чертовым рудником. – Рад за вас, сэр. Просто счастлив! – произнес Серов, лихорадочно соображая, зачем капитан перечисляет ему свои богатства. Возможно, намерен предложить пост управляющего? Скажем, водочным заводиком на Барбадосе? Но, похоже, причина была в другом. Джозеф Брукс хлебнул из кружки, вытер губы рукавом камзола и со значением сказал: – Я, слава Иисусу, состоятельный человек, владелец земель, корабля и звонкой монеты. Сквайр, а это, разрази меня гром, не ниже маркиза или барона! И, как положено сквайру в моем возрасте, есть у меня наследница. Одна, законная! Догадываешься, кто? – Разумеется, сэр. При упоминании наследницы Серов похолодел. Если Брукс догадался о его чувствах к Шейле, дальнейший номер программы мог быть таким: «Ты, французский ублюдок! Не смей тянуть свои грязные лапы к моей племяннице!» И – бац из пистолета в лоб! Впрочем, руки капитана Брукса лежали на столе, а лицо, несмотря на багровый оттенок, казалось спокойным и даже задумчивым. Наклонившись к Серову и обдавая его сочными запахами вина и пропотевшего шерстяного камзола, он буркнул: – Я тут к Пилу приглядывался. Пил джентльмен, тоже из благородных, а кого он там в Лондоне прирезал, это мне как черепахе мачта с парусом. Жестковат, конечно, но ловкий малый и пойдет далеко, если свои же не выпустят кишки… Но Пила она не хочет. – Он с удивленным видом уставился на свои сильные короткие пальцы и повторил: – Не хочет, дьявол меня побери! Да это ведь сватовство! – вдруг ударило Серову в голову. Как есть сватовство! Вот товар, синеглазая Шейла Джин Амалия и сундук с ее приданым, а вот и купец, хоть и внебрачный, а все же сын маркиза, благородный чистоплюй без гроша в карманах… И никакие грамоты не нужны, чтоб подтвердить его дворянство, ибо среди команды он выделяется как белая ворона в стае черных. Выделяется, ром и гром, хоть и желал бы стать похожим на других! И это заметно. Не такой уж Брукс наивный, чтобы верить ему на слово, он бы и грамотам дворянским не поверил, даже с печатью святейшего Папы, а вот своим глазам и мнениям он доверяет вполне. Вот молодой человек, не кровожадный, но владеющий оружием, вежливый, но не подобострастный, постигший науки и языки, не сквернословящий и пьющий в меру, с понятием о чести – не бегает по шлюхам, не обирает трупов… Кем он может быть в текущую эпоху? Лишь дворянином из такой семьи, где позаботились о воспитании отпрыска, пусть незаконного, в рыцарском духе. Большая ценность, особенно в Вест-Индии, где негодяев пруд пруди! Постигнув капитанову логику, Серов успокоился, сделал серьезное лицо и стал ожидать дальнейших предложений. С ними не задержалось. – Не все же ей чернозадых потрошить, – сообщил Брукс. – Она хорошая девчонка, и ей нужны дом, муж и дети. Появится достойный человек, и она забудет, как с братом моим испанцы обошлись, с ее отцом то есть и с матерью. С Божьей помощью выбросит гнев из сердца… И Джулио о том же толкует, а он в жизни разбирается. Еще бы ему не разбираться! Он жену любимую ножиком проткнул… – Капитан потянулся к бочонку, налил в две кружки и пододвинул одну Серову. – Я ее спрашивал насчет тебя. Краснеет, опускает глазки и молчит. А ты что скажешь, Эндрю? – Со мной она не молчит, сэр, – приободрившись, заметил Серов. – Значит, есть о чем поговорить? Ну, благослови вас Бог! – Они чокнулись и выпили. Потом Брукс промолвил: – Тому Садлеру на покой пора, и после этого дельца он со своим капиталом может на Ямайку перебраться. Будешь вместо него казначеем, еще обучишься навигации у ван Мандера… Чем больше капитан умеет, тем крепче сидит. Запомни это, парень! И еще одно: всегда стреляй первым. Смутьяну – пулю между глаз, а в чем он смутьян, выяснишь после. Ведь если не смутьян, так наверняка мерзавец, и ты, сокративший дни его и грехи, большую услугу ему оказал – меньше придется мучиться в чистилище. – Опрокинув в рот вино, Брукс пообещал: – Ну, я тебя еще поднатаскаю, а сейчас иди. Выступаем на рассвете, и ты поведешь Галлахеровых ублюдков. Чарли останется тут. – А в обиде он не будет? – Нет. У него есть чем развлечься. Пока я в отлучке, Пил за главного, а за ним присмотр нужен. Чарли – парень верный… Это ты тоже запомни… – Капитан сделал паузу и, будто сквозь зубы, выдавил: – Сынок. Серов вышел на веранду, запрокинул голову и уставился в небо, где плыли, медленно поворачиваясь вокруг незримой оси, Большая и Малая Медведицы, Орион, Кассиопея и сонм других созвездий, неправдоподобно ярких и будто вышитых цветными точками на фоне темного ночного бархата. Душа его пела, и сейчас он не слышал ни диких воплей, ни пьяных выкриков, не видел фигур в отрепьях или испанских одеждах, скакавших возле каждого костра, не чуял запахов крови, пота и пороха и смрада гниющих листьев, которым тянуло из джунглей. Вместо душного воздуха Ориноко он словно бы вдыхал живительный нектар над зимней Москвой-рекой, и мелькали над ним не белесые мотыльки, а снежинки – те, что скоро, через два-три месяца, будут парить над Петербургом, над Владимиром, Новгородом, Тверью и тысячей других городов и городков русской земли. Куда он непременно доберется, пусть не в этом году, так в следующем. Много ли для этого надо? Прочный корпус, два десятка пушек, три мачты с парусами и лихой экипаж… Еще – встать на капитанском мостике, и чтобы Шейла была рядом… И – держись, швед, держись! Узнаешь, как воюют в Вест-Индии! Надо бы Шейлу отыскать, подумал он и, оглядываясь, побрел по улице. Но ее не было – да и что ей делать в этом пьяном бардаке? Она, скорее всего, спала сейчас в доме коменданта или точила клинок, готовясь к завтрашнему походу. И все же она была с ним, посматривала на Серова откуда-то сверху, из ковша Большой Медведицы, выглядывала из-за вуали Волос Вероники, улыбалась ему с раскидистой ветви Андромеды. Серов улыбнулся ей в ответ и замурлыкал:Глава 12 СЕРЕБРЯНЫЕ КОПИ
Тропа, ведущая сквозь сельву к руднику, была, по местным меркам, довольно широкой – по ней могли пройти два мула. Как говорили индейцы Гуаканари, она, огибая участки заболоченной местности, тянулась во влажных джунглях на день пути, то есть миль на пятнадцать-семнадцать и еще на такое же расстояние в предгорьях. Если не считать зноя, духоты, тяжелого груза, полчищ змей и надоедливых насекомых, поход не сулил каких-то сложностей и неожиданностей. Люди с «Ворона» были привычны к морскому климату, более приятному и здоровому, но все постранствовали в лесах на побережье Мексики, Панамы и Венесуэлы, так что тропическая сельва была им не в диковинку. К тому же же Джозеф Брукс отобрал самых молодых и крепких – по пятнадцать бойцов из ватаг Дойча, Тиррела и Галлахера, дюжину канониров во главе с Теггом и своих телохранителей, всех, кроме Кактуса Джо, спавшего мертвецким сном. Вместе с Шейлой, Чичем и Росано экспедиция насчитывала почти семьдесят человек, к которым добавились полсотни мулов и двести индейцев. Индейцы тащили продовольствие, мулы – две малые пушки, снятые с палубы фрегата, ядра, бочки с порохом, корзины, веревки и кое-какой шанцевый инструмент. Что до бледнолицых воинов, то они несли мушкеты с боевым припасом, пистолеты, холодное оружие, а также фляги с водой и вином. Серов прикинул, что полная выкладка была побольше, чем в горах Чечни, где он выслеживал бандитов. Да и «зеленка», как назывался в армии лес, ничем не походила на леса Кавказа. Ни дубов, ни буков, ни травы, ни твердой почвы под ногами; гигантские деревья, все незнакомые, уходят в высь, ярус за ярусом отделяя землю от неба, их ветви и стволы переплетены лианами, свисающими сверху гроздьями порванных канатов, листья то мелкие, то огромные, причудливых форм, клочья коры и мха торчат на деревьях-башнях, как растерзанные одежды. Неба не видно, вокруг вечные зеленоватые сумерки, внизу хлюпает, на голову сыплется всякое гнилье, и этой же гнилью пахнет; копыта мулов вязнут, нога уходит по щиколотку в опавшую листву и мох. И звуки, всюду звуки! Свист и щебет птиц, похрюкивание каких-то невидимых животных, древесные шепоты и шелесты, вопли огромных жаб, крики обезьян и что-то еще, звенящее или зудящее, будто пчелиный рой. Жизнь повсюду, буйная, опасная, не угнетенная человеком, не признающая его владыкой; в этом зеленом океане он всего лишь еще одно животное, добыча или хищник, смотря по обстоятельствам. Возможно, ни то и ни другое, а только случайная жертва, что тянется из любопытства к сучку, который вовсе не сучок, а змейка. Крохотная, в десять дюймов, но смертоносней кинжала и пули. Тропа в лесной чаще обозначалась более низким мхом, ямами, которые выбили копыта мулов, да обрубками ветвей на стволах, заметными слева и справа. В авангарде, распугивая лесную живность, тенями маячили индейцы-дозорные, за ними, в голове колонны, шел капитан вместе с Шейлой, Росано, Чи-чем-переводчиком и Гуаканари, сменившим пышный головной убор на повязку из коры и перьев. Дальше двигались корсары, груженые мулы, носильщики и арьергардная ватага Клайва Тиррела. Шагали цепочкой, по одному и по двое, так что отряд растянулся на добрую треть километра. Иногда случались заминки, большей частью у ручьев с вязким болотистым дном – тут приходилось снимать поклажу с мулов и, под проклятия Teггa, самим перетаскивать медные стволы, станины и бочки с порохом. Эти ручьи выглядели слишком мелкими для кайманов, но однажды индейцы испуганно заверещали, и Серов различил в неглубокой воде чудовищную змею толщиной с бревно и такую длинную, что, казалось, она могла обвить и удавить разом двадцать человек. Скользнув в заросли, змея приподнялась на пару метров, раскрыла пасть и уставилась будто бы прямо на Серова. Анаконда, понял он, вскинул мушкет, но Гуаканари вскрикнул пронзительно, по-птичьи, и Чичпалакан перевел: «Не трогать! Очень, очень святой вещь! Любить свинья». К вождю подскочили индейцы с тушей какого-то зверька, покрытого бурой шерсткой, Гуаканари взял ее, потом, приседая и кланяясь, осторожно направился к змее и положил приношение на берег. Пасть удава распахнулась еще шире, бесконечное тулово дернулось вниз и вперед; миг, и жертва исчезла. Серов решил, что это капибара или агути[403]. Он возглавлял отряд из самых крепких парней Галлахера. Кола Тернан, Брюс Кук, Люк, Джос, Жак Герен и Страх Божий – все они были здесь, включая Хенка, его лохматого подельника. Мортимера и Шестипалого Алана капитан забраковал, сочтя их слишком субтильными или, возможно, слишком приверженными к горячительному. Для отбора людей в экспедицию у Брукса имелся превосходный способ в духе законов Берегового братства: всякий кандидат должен был взвалить на плечи малую двухсотфунтовую пушку «Ворона» и пройти с ней сколько сможет. Первые шесть десятков шли в поход, прочие, хлипкие или пьяные, оставались. Мудрый метод; пушки, которые вез с собой отряд, пришлось четырежды перетаскивать через ручьи, и то же самое касалось пороха и ядер. К полудню, отшагавши пять часов в тропическом лесу, Серов взмок от подошв до макушки. Силы его еще не кончились, но оказались изрядно подорваны проклятыми бочками, которые полагалось переносить осторожно, не подмачивая пороха водяными брызгами. За этим Тегг следил особо и клялся, что нарушителю придется сожрать мокрое зелье, а потом он набьет ему глотку сухим и лично поднесет запальный шнур. Сбросить одежду и шляпу, а тем более сапоги, было невозможно – кроме птиц, анаконд, обезьян и ягуаров в сельве водились твари помельче, но пострашней. Муравьи и клещи, тарантулы, фаланги, скорпионы и пиявки, крошечные змейки, те самые, что притворяются сучком или ярко окрашенной травинкой, а кроме них – тучи летающих кровососов, мухи и огромные, страшные видом гусеницы, ядовитые пауки-птицееды и прочая мерзость. Не подмосковная роща и не пляж на Клязьминском водохранилище, мрачно размышлял Серов, стряхивая этих тварей то с рукава, то с колена, то с полей шляпы. Через двадцать минут после полудня, как он установил по своим часам, отряд достиг лесной прогалины с более твердой землей. Тут была поляна, не очень большая, но достаточная для сотни гамаков и трех десятков хижин или, скорее, шалашей из прутьев, перевязанных лианами, в которых обитал один из кланов племени Гуаканари. Индейцы, предупрежденные разведчиками, ждали их: толпа невысоких безбородых мужчин, подростков и юношей, которые при виде Брукса швырнули копья и повалились в ноги капитану. Несомненно, этому их обучили испанцы, но сейчас унизительный обряд исполнялся с превеликой охотой и радостью: плохие белые парни были наказаны хорошими, и справедливость восторжествовала. Надолго ли? – думал Серов. Корсары хапнут серебришко и уйдут, испанцы заявятся снова, и будет в этих лесах кровавая резня… Впрочем, нет, не те леса, не европейские, а почище вьетнамских, откуда местных напалмом не выкуришь. Теперь, когда форт разрушен и Детям Каймана известно, с кем они столкнулись, борьба пойдет на равных. Если индейцы захотят сражаться… Могут ведь просто исчезнуть в этом нескончаемом лесу, уйти в горы, пересечь их и добраться до притоков Амазонки, которым нет числа… Гуаканари, Чич и Брукс, важно кивая, внимали словам пожилого индейца и пробовали какие-то кушанья из ореховых скорлупок. Тем временем мулов разгрузили и, под наблюдением боцмана Стура, погнали к ближайшему ручью на водопой. Тегг проверил бочки с порохом и выставил около них охрану. Люди с облегченными вздохами опускались наземь, расстегивали куртки, снимали шляпы, вытирали пот, переговаривались, грызли сухари. Росано ходил меж сидящими, давал глотнуть из бутыли и наделял при этом полезными советами. Серов запил сухарь водой, потом огляделся, разыскивая Шейлу, и увидел, что она, отступив к деревьям, тоже незаметно посматривает туда и сюда. Сомнений, что это значит, не было. Он нырнул в лес, обошел поляну, встал за огромным стволом с бугристой корой и прошептал: – Милая, я здесь. Она не вздрогнула, только слегка повернула головку в плотно надвинутой широкополой шляпе. – Эндрю. Эндрю Плюс… Серов тихо рассмеялся. – Уже не минус? С каких это пор? – С тех самых, когда я решила, что ты мне подходишь. Это было сказано голосом нежным, но твердым, и Серов подумал, что у семейства Брукс есть фамильная черта: и дядюшка Джозеф, и Шейла Джин Амалия точно знали, чего хотят. И, разумеется, умели поставить на своем. – Капитан говорил со мной. Вчера. Сказал, что я могу просить твоей руки. – И ты просишь, Эндрю? – Да, моя дорогая. Я… – Он вдруг задохнулся, ощутив всю иррациональность происходящего; он просил руки девушки, родившейся на триста лет раньше него, и делал это не под стенами московского кремля и не в садах Версаля, а на краю света, в диких джунглях, в индейском поселке, переполненном пиратами. Вряд ли такое повторится с кем-нибудь, когда-нибудь, подумалось ему. Вздохнув и постаравшись успокоиться, он произнес: – Я так счастлив, девочка! Если бы я смог тебе поведать обо всем… и если бы смог уверовать в высшую силу… если бы смог! Тогда бы я, наверное, сказал: вот ангел, который послан Богом мне во спасение! Если не Богом, так судьбой, потому что… – Эндрю! Не так быстро, Эндрю! Это опять на нормандском? Он не заметил, что говорит на родном языке. Похоже, что этот нормандский Шейле придется выучить. – Прости. Надеюсь, главное ты услышала? – То, что девушка хочет услышать, она поймет на любом языке. – Шейла подалась назад, прислонилась к стволу плечом, и ее тонкие теплые пальцы скользнули в ладонь Серова. – Вот то, что ты просил… моя рука… Остальное получишь позже. Жаль, что я не могу тебя поцеловать – слишком уж тут многолюдно и шумно. Как твоя рана? – Это просто порез, и он уже закрылся. – Серов повертел забинтованной шеей. – Не беспокойся, все будет хорошо. Кому суждено быть повешенным, не утонет. Шейла хихикнула. – Ты уверен? – Абсолютно. Господь хранит нас для другого – всех пиратов ждет пеньковый галстук и высокий рей. Пираток, кстати, тоже. Громкий крик Уота Стура прервал их мимолетное свидание. – Поднимайтесь, черти! Тиррел, помоги пушкарям навьючить этих дохлых ослов. Остальные – строиться за капитаном и вперед! Живо, живо! Местность за индейской деревушкой была повеселее, под сапогами уже не хлюпало, и воздух казался не таким душным. Отряд шел до тех пор, пока нефритовый полумрак сельвы не начал сгущаться, а горная цепь, маячившая в просветах древесных крон, не придвинулась ближе. Еще до заката они очутились на берегу реки, довольно полноводного притока Ориноко, струившегося с южного плато. Здесь испанцы устроили место для ночлега, вырубив растительность между тропой и рекой и огородив площадку вкопанными в землю стволами. В берег были вбиты толстые заостренные колья – видимо, для защиты от кайманов, ближе к дороге зияла черная проплешина с обгорелыми сучьями, а один из углов, с плетеной изгородью и лепешками засохшего навоза, предназначался для мулов. Здесь люди и животные заночевали, а утром, едва взошло солнце, снова двинулись в путь. Тропа постепенно уходила вверх, появились заросшие кустарником холмы, они становились все выше, тянулись к небу, пластались террасами предгорья, огромными ступенями, ведущими к скалистому хребту. Речная долина сузилась, поток, стесненный обрывистыми склонами, стал быстрым и бурным; вода ревела среди камней, торчавших над пеной остроконечными черными зубцами. Затем слева и справа поднялись утесы, скрыли солнце, и долина окончательно превратилась в каньон с бушующей рекой. Теперь дорога шла вдоль берега, плоские участки чередовались с подъемами, но дышалось тут легче, и никакие препятствия, кроме мощных извилистых древесных корней, пересекавших тропу, не попадались. Для дневного отдыха выбрали мягкий мох и тень под высокими хвойными деревьями, не похожими, однако, на сосны или кедры. Серов напряг свои познания в ботанике и решил, что это араукарии[404]. После полудня ущелье вывело их на заросшее лесом и густым кустарником плато, что протянулось до подножия горных пиков. Вероятно, отряд находился сейчас на высоте двух или двух с половиной тысяч футов, а горы достигали пяти или шести, перегораживая южный горизонт сплошным красно-коричневым валом. Картина была потрясающая, словно на полотнах Рериха, еще не написанных, но сохранившихся в памяти Серова: глубокое синее небо, парящие под облаками грифы, солнечный золотистый круг и скалистые громады хребта, который подпирал опрокинутую над землей небесную полусферу. Воздух здесь был свежим и более прохладным, чем в жарких влажных джунглях, дорога, как и раньше, повторявшая изгибы реки, сделалась шире, люди и животные пошли быстрее, точно сбросив груз усталости. Индейцы-разведчики исчезли, и, всматриваясь вдаль, Серов видел только чистые речные воды и тропу, проложенную в зеленом лесном лабиринте. Разведчики вернулись. Край солнечного диска коснулся одной из высоких гор на западе, и пламя вечерней зари расплескалось по небосводу, когда отряд, ведомый индейцами, приблизился к опушке леса. Пираты быстро рассредоточились слева и справа от дороги и, под присмотром Стура, начали снимать поклажу; воины Гуаканари продвинулись дальше, прячась за кустами и стволами деревьев. Вероятно, они искали подходящее укрытие, обзорную точку, позволявшую разглядеть окрестности. Не прошло и десяти минут, как резкий клекот грифа возвестил, что нужное место найдено, и вождь индейцев молча взмахнул рукой, указывая вперед. Брукс и Сэмсон Тегг, сопровождаемые Чичпалаканом, зашагали рядом с Гуаканари, сзади потянулись остальные главари корсарского воинства – боцман Стур, Руперт Дойч и Клайв Тиррел. Серов решил, что и ему отставать не годится, сунул тяжелый мушкет Страху Божьему и заторопился вслед за начальством. Они поднялись на невысокий пригорок у берега реки и встали под защитой тростниковых зарослей. Перед ними лежало открытое пространство шириною в сто пятьдесят или двести шагов, полоса земли, что повышалась от лесной опушки к ближайшим утесам; их тени, глубокие и резкие в свете заходящего солнца, пятнали равнину. Этот пейзаж был совсем иным, чем виденный Серовым на Камчатке или в других гористых местах; здесь тысячефутовая каменная стена уходила к небу как единое целое, почти не распадаясь на заметные глазу детали и фрагменты. Глубокие вертикальные впадины и выступающие кое-где округлые скалы, подобные замковым башням или огромным пням, утопленным в стене, лишь оттеняли нерушимость монолита; клочья лишайника и редкие кусты ложились пятнами серого и зеленого на его охристо-бурую поверхность. – Ашче Путокан, – произнес вождь, вытянув обе руки. – Танигабару. – Дым Скала, – перевел Чич. – Смотреть там. Гигантскую каменную башню, перед которой они находились, на четверти высоты пересекал карниз. Эта площадка нависала над пропастью, и ее край, рассеченный трещинами, напоминал короткие пальцы-обрубки, торчавшие из широкой бугристой ладони. Слева, прямо из скалы, низвергался буйным яростным водопадом подземный ключ, дававший начало реке, справа утес был перечеркнут зигзагом крутого серпантина – тропа начиналась от равнины, шла под углом тридцать градусов на восток, резко сворачивала на запад и снова на восток, заканчиваясь на краю карниза, у основания огромного мизинца. Над пальцами-обрубками поднимался бруствер, поверх которого торчали стволы двух пушек, конусы каменных печей и кровли нескольких бараков. Дым от печей таял в прозрачном воздухе. Капитан и бомбардир молча разглядывали сооружение в подзорные трубы. Гуаканари, которому, видно, надоело молчать, снова заговорил, размахивая руками и угрожающе скаля зубы. – Вождь сказать, там хижина, сколько палец на руке, – перевел Чичпалакан. – Последний хижина, за ней дыра, сверху деревья, много срубленный деревья, чтобы пленный индеец не убежать из яма. – Испанцы ловят ваших мужчин и загоняют в шахту? В эту дыру? – спросил Серов. Посовещавшись с вождем, Чичпалакан кивнул. – Так есть. Ловить, бросать в глубокий яма, велеть, чтобы ломали камень. Поднимать камень наверх. Говорить: много серебряный камень, будет еда, мало камень, нет еда. Наверх никого не пускать, только мертвый. Много мертвый индеец, один каждый три дня. Тогда ловить другой, бросать в дыра. Брукс и Тегг переговаривались, приникнув к подзорным трубам и не слушая Чича. – Двести пятьдесят футов, – сказал капитан. – Скорее триста, – возразил бомбардир. – Не меньше трехсот, клянусь вечным спасением! И верхняя часть дороги простреливается насквозь. Видишь, куда смотрят пушки? Это они о карнизе и о тропе, понял Серов. Карниз с рудничными строениями висел на высоте стоэтажного небоскреба, а тропинка была крутой и узкой; с одной стороны – скала, с другой – пропасть. Не рудник, а неприступная цитадель. – Днем их не взять. Перещелкают, как попугаев на ветке, – произнес Брукс. – Ночью ударим, а? Поднимем пушки, выбьем ядрами ворота – и в атаку. Что скажешь, Сэм? Тегг опустил трубу. – Скажу, что дело хреново и пушки мы тащили зря. На тропе их рядом не поставишь, и даже одна будет мешать – обходить придется, или лезть через нее, или сбросить к черту после пары выстрелов. Но как ни крути, быстрой атаки не выйдет. Сколько людей на этом проклятом насесте поместится? – Он нарисовал пальцем в воздухе зигзаг тропы. – По одному идти придется, цепь не развернешь. Капитан оторвался от зрительной трубы. – Ну, одно я точно знаю: мы сюда пришли и без серебра обратно не уйдем. – Он мрачно хмыкнул и поманил пальцем Чича. – Эй, мошенник! Спроси-ка вождя, могут ли мулы пройти по тропе и подняться наверх. Как доставляют продовольствие? И как спускают вниз серебряные слитки? Чич затеял переговоры с Гуаканари, а Серов легонько коснулся капитанова рукава: – Если позволите, сэр… Могу я взять у вас трубу? – Держи, – Брукс сунул ему тяжелый, в медной оправе, инструмент. – И дай взглянуть парням. Качество старинного изделия было неплохим – утес с карнизом и серпантин дороги точно прыгнули к Серову. Теперь он рассмотрел, что тропу, похоже, вырубили в скале, и кое-где подъем перемежается ступенями. Что до бруствера, то он оказался загородкой в человеческий рост, сложенной из обтесанных и плотно пригнанных камней, без всякого следа скрепляющего раствора. Все это решительно не походило на европейскую работу. Осмотрев скалистую стену от подножия до карниза, Серов передал трубу боцману и прислушался к словам Чича. Тот объяснял, что мулам наверх не подняться, что продовольствие затягивают в корзинах канатами и так же спускают серебро, а еще носят то и другое по тропинке, но только днем; ночью ходить по ней опасно. – Сучьи дети, – пробормотал боцман за спиной Серова. – Засели, как в гнезде на мачте… Не подберешься! – Подкрасться ночью, снять часовых, перелезть через стену… – начал Дойч. – Не грузи дерьмо в уши, – сказал Тиррел. – Так и дадут тебе подкрасться! Индейцев они опасаются и ночью факелы жгут. Вот солнце сядет, и увидим. – Тогда ядрами из пушек закидать. Снизу… Teгг презрительно фыркнул: – Думаешь, ядро из наших пукалок на триста футов залетит? Хрен собачий! Да и ядра двенадцатифунтовые… Вот если бы мортиры были![405] Шесть или восемь мортир с ядрами по тридцать шесть фунтов, да к ним вволю пороха… Тогда бы я это гнездышко разнес, только пыль бы полетела! Пушки сбил бы, стенку свалил, а когда забегают, засуетятся, самое время ударить с дороги. А иначе всех на ней положим. Каждого ублюдка, что летать не научился. На минуту все смолкли, обозревая скалу. Было тихо, только вопилив чаще попугаи да скрипела и угрожающе щелкала какая-то тварь. Солнце садилось, темнело стремительно, как это бывает в тропиках, и, следуя предсказанию Тиррела, на стенах маленькой крепости зажглись огни. Довольно яркие – очевидно, горела смола в металлических чанах. Серов вежливо кашлянул: – Сэр… – Да? – капитан скосил на него глаз. – Думаю, я смог бы туда подняться. Не по тропинке, а прямо по скале. Крепкие зубы Брукса блеснули в сгущавшихся сумерках. – Один из фокусов, которым учат сыновей маркизов? – Так точно, сэр. Наше семейное развлечение – штурмовать замки соседей. Помогает заполнить досуг. Неожиданно Тегг подтолкнул его локтем – несильно и вроде бы по-дружески. – А ты парень с юмором, как я погляжу. Прямо сейчас полезешь или как? – Утром. В темноте мне не забраться. Дойч выругался, а Тиррел одобрительно крякнул. – Ну, залезешь, а дальше что? – спросил капитан. – Канат и железки нужны, – сказал Серов. – Прочные острые железки, клинья, чтобы забить их в скалу. Видите трещины на карнизе и выступы вроде пальцев? Если поднять в трещины пару бочонков пороха с длинным запальным шнуром и взорвать, край карниза рухнет вместе с бруствером. У того пальца взорвать, который на мизинец похож, где пушки стоят… – Он подумал и добавил: – Только бочки мне одному не вытянуть. Помощник нужен, а лучше – двое. Джозеф Брукс сунул пятерню за отворот камзола, почесал грудь и одобрил: – Хорошая мысль, клянусь святой троицей! Это тебе зачтется, Эндрю. Два раза зачтется: когда монету будем делить и в Судный день. – Затем капитан повернулся к Теггу и спросил: – Ну как, Сэм, полезешь? С порохом у тебя ловчее всех выходит. Бомбардир измерил взглядом темную скалу и покачал головой: – Мое место на орудийной палубе, у пушек, а от высоты у меня головокружение, как после пинты рома. Тут, Джозеф, марсовые[406] нужны. Для этих обезьян лазать как по земле ходить. – Я полезу, – вдруг сказал Уот Стур. – Мне что скала, что мачта, все едино, а мачты, на которую мне не забраться, дьявол еще не придумал. Заберусь! Была бы только снасть. – И к ней еще две доли, – добавил Клайв Тиррел. – За лишнюю деньгу можно на трон Сатаны залезть, а он наверняка повыше этой горушки. Я марсовым восемь лет плавал и умения не растерял. Брукс перестал чесаться, вытянул ладонь из-за пазухи и стукнул по ней кулаком, будто договор припечатал. – Две доли каждому, а Эндрю-писарю от меня пистолет с серебряной насечкой. За хитроумие. Ну, джентльмены, за работу! Повернувшись, он начал спускаться с пригорка, прокладывая дорогу в шелестящем тростнике. Пираты двинулись за ним, переговариваясь и обсуждая успех намеченной операции, а Серов задержался, бросил последний взгляд на зигзагообразную тропу и каменную стену, потом спросил у Чича: – Кто это все выстроил? Дети Каймана? Чичпалакан замотал головой: – Мой народ не надо серебро, не надо камень. Древний человеки строить. Очень, очень древний, очень давно. Не испанский человеки, а похожий на нас, только выше и одетый в плащ. Мой селений самый старый их не видеть, и все старый мертвый тоже не видеть. Никогда не видеть, но помнить, откуда пришли. Оттуда. Он показал на юго-запад, в сторону Перу.* * *
Раз-два-три, раз-два-три… Вытянуть левую руку, нащупать выступ или трещину, вцепиться в нее, передвинуть ногу, найти опору и всем телом вверх, вверх… Раз-два-три, раз-два-три… Альпинистской подготовки Серов не имел, но лазать по скалам случалось, и на Кавказе, и в других местах. При его цирковой ловкости это занятие было не сложным. Во всяком случае, не сложнее, чем ходить по канату или жонглировать пятью тарелками на спине резвого скакуна, а уж о скользком рее, что навис над судном, попавшим в шторм, и говорить не приходилось. Скала, она прочная, размышлял Серов, шустро карабкаясь от трещины к уступу и от уступа к трещине. Прочность способствует доверию, так как ничего под тобой не дрожит, снизу не колыхается, сверху не трясется, и вообще… Брошенный сверху камень просвистел за его спиной. Уже четвертый и самый здоровый булыган – такой, что ежели поднимешь в одиночку, то грыжа обеспечена. Камень упал на груду шлака и мусора у подножия скалы. Этот мусор, фекалии и отходы производства сбрасывали вниз годами, и куча получилась изрядная – снаряд врезался в нее и исчез. Стур, Тиррел и еще пятеро корсаров, прижавшихся к утесу рядом с бочонками пороха, разразились проклятьями. Уот Стур, как и положено боцману, матерился круче всех. Задрав голову, Серов посмотрел вверх, но ничего интересного не разглядел кроме нависающего козырька из пяти коротких скрюченных пальцев. Этот каменный балкон выдавался метра на четыре, надежно прикрывая его от глыб и любых других предметов, брошенных сверху. Испанцы его не видели, и обстрел корректировал солдат, стоявший на тропе у поворота серпантина. Было ему там гораздо неуютнее и страшнее, чем Серову, так как он видел и отряд корсаров, скопившихся у начала тропы. Они уже неспешно продвигались в ее нижней части – братья-скандинавы впереди, за ними ватага Дойча, потом капитан с остальными бойцами. По равнине здесь и там рассыпались группы индейцев, встречавших каждый пролетевший мимо камень метанием в воздух копий и дубин и такими воплями, что они заглушали шум водопада. Словом, недостатка в публике у Серова не наблюдалось, и вся она, за исключением испанца, была в числе его фанатов. Раз-два-три, раз-два-три… Напрячь мышцы, подтянуться, напрячь снова… Он начал восхождение с первым солнечным лучом и за сорок минут поднялся до половины склона, преодолев метров пятьдесят. Он был бос и почти гол, в одних полотняных штанах до колен, перехваченных поясом. К поясу крепились кинжал, пистолет и два метательных ножа, а еще веревка, тянувшаяся за Серовым змеиным хвостом. На шее у него висела торба с небольшой кувалдой, зажигалкой и десятком клиньев, сделанных из подсобного материала, – лезвий тесаков, долота, сплющенного на конце пистолетного ствола и плотницких скоб. Пока он не израсходовал ни единого клинышка – скала хоть и казалась отвесной, но уцепиться было за что. Над головой звякнул металл о камень, какая-то черная масса пронеслась в воздухе клочьями разорванных одежд, в спину повеяло теплом. Серов наклонил голову, всматриваясь вниз. Смола… Расплавленная смола… Она растеклась по груде отбросов, брызнула в стороны, и один корсар – кажется, Поль Пино – скакал на одной ноге, выл и чертыхался. Но на Серова не попало ни капли. Он помахал рукой, и пираты встретили этот жест дружным одобрительным ревом. Люди в этом столетии сильно отличались от его современников. Не своим видом или занятиями, не повальным невежеством и даже не тем, что век их был короче лет на двадцать – и среди них встречались мудрецы и долгожители. Главным было различие в сфере эмоций и еще, пожалуй, в отношении к Богу. Самый отъявленный разбойник и злодей верил глубоко и искренне и либо собирался замолить когда-нибудь грехи, либо бил и грабил тех, кого считали нехристями. Что до эмоций и выражения чувств, то они были более яркими, более непосредственными; человек не стеснялся выть, реветь, вопить в моменты торжества или отчаяния, движения души были если не сильнее, то заметнее, а их телесный отклик – столь же незамедлительным и мощным, как у актеров, вжившихся в образы трагедий Эсхила или Шекспира. «Или как у детей, – думал Серов, прислушиваясь к воплям, – у ребятишек, которых я видел в цирке». Он подтянулся еще на полметра, плюнул вниз и решил, что сдержанность – признак культуры, засушенной техникой и нормами цивилизованного общества. Раз-два-три, раз-два-три… И стоп! Нашарив крохотный карниз, на котором помещались обе ноги, Серов вытащил из мешка скобу, вогнал ее молотком в подходящую трещину, пропустил сквозь нее веревку и слегка расслабился. Ему оставалось одолеть еще метров двадцать; отсюда, с высоты, люди выглядели муравьями, деревья – кустиками, зато каменные пальцы вверху были огромны, как сплющенные нефтеналивные цистерны. Под ним, на дне пропасти, команда боцмана обвязывала веревками бочонки с порохом, а Стур, задравши голову, глядел на него. Капитан с отрядом продвигался по нижней части серпантина, оставаясь вне дистанции поражения из форта; в середине длинной цепочки вооруженных людей Серов разглядел Шейлу. Воины Гуаканари придвинулись ближе к скалам, и одна группа, тридцать или сорок человек, сосредоточилась у тропы, готовясь подняться вслед за корсарами. Наверняка все эти маневры сопровождались изрядным шумом, но мерный гул водопада заглушал людские крики и звон оружия. Поток воды устремлялся вниз в сотне метров от Серова, и это было феерическое зрелище: радужные венцы и короны сияли в лучах утреннего солнца и исчезали, чтобы возродиться вновь из брызг и золотого света. Передохнув, он снова полез наверх. Солдаты больше камней не бросали и не лили смолу – видно, убедились, что верхолаз недосягаем и лучше подождать, пока он не появится у самого карниза. Может, голову высунет, и тогда ее шпагой – чик! Или свинцовым шариком в лоб угостят… Серов не ввязался бы в такое опасное предприятие лишь затем, чтобы уничтожить копи с испанским гарнизоном, но иных решений проблема, очевидно, не имела. Алчность подстегивала корсаров, и в своем стремлении добраться до богатства Брукс положил бы весь отряд или его половину, чтобы залезть на эту скалу. В ином случае, уйди он без боя, последствия будут еще страшней: испанцы спустятся и перережут индейцев. Такого исхода Серов допустить не мог; будучи русским человеком, происходя из племени сильного и многолюдного, он инстинктивно полагал, что отвечает за малых, сирых и убогих. Он поднялся в расщелину между мизинцем и безымянным пальцем, уперся спиной в один склон, а ногами – в другой и стал забивать клинья. Испанцы, должно быть, услышали грохот; мимо Серова скользнула веревка, затем, держась за нее, над краем карниза высунулся какой-то смельчак. Серов вскинул пистолет и выстрелил. Глаза солдата закатились, пальцы разжались, мертвое тело рухнуло вниз. Серов начал вытягивать свою веревку, к которой был привязан прочный трос; закрепил его на клиньях, помахал рукой боцману и снова принялся работать молотом, вырубая ступеньку для ног. Осколки камня летели во все стороны – порода была не очень твердая, и множество мелких трещин облегчали дело. Уот Стур лез быстро, словно шагал по отвесной стене, перехватывая канат длинными жилистыми руками. Оказавшись рядом с Серовым, он вытер пот со лба, достал из-за пояса кирку на короткой рукояти и, не говоря ни слова, включился в работу. Пока Тиррел поднимался наверх, таща за собой еще пару тросов, они успели расширить ступеньку и принялись вырубать выемки для бочонков. Эти емкости были не очень велики, размером в два ведра, но тяжелы – в каждой по сто фунтов пороха. Внезапно боцман замер, поглядел вниз, на Тиррела, потом уставился на Серова и буркнул: – Гроб и могила! Нам же запалы поджечь придется! Ты кресало взял? Серов похлопал по мешку, висевшему на шее. – Все здесь, мастер Стур. Будет огонь, и никаких проблем. – Грхм… – Боцман прочистил глотку. – Запасливый ты парень, клянусь сковородками дьявола! Ты вот что, Эндрю… ты меня больше мастером не зови… Для тебя я Уот, ясно? Отвернувшись, он снова врубился в камень. Ну и ну! – мелькнуло у Серова в голове. Похоже, его причислили к клубу избранных, к тем, кто имел право звать боцмана по имени и даже, возможно, похлопать Стура по плечу. Великая честь! И кому он обязан? Себе самому или капитану Бруксу, который недавно определил его в «сынки»? Скорее второе, ибо капитан, бесспорно, был не прост – да и можно ли человеку бесхитростному править буйной разбойничьей шайкой? «Политик!.. Макиавелли!.. – думал Серов, размахивая молотком. – Должно быть, намекнул верным людям, кто встанет со временем на квартердеке „Ворона"… Ну, низкий ему за это поклон! Обучимся и встанем! А вот куда повернем, о том дядюшке Джозефу знать не стоит. Однако повернем! Пусть не сейчас, пусть позже… И через семь лет успею к полтавским полям!» Поднялся Тиррел, и они втроем взялись тянуть стофунтовые бочонки и пристраивать их в расселине. Из днищ свисали запальные шнуры – смоленые веревки, щедро посыпанные порохом и отмеренные Теггом с тем расчетом, чтобы подрывники успели спуститься. Тем временем люди капитана забирались все выше – Хейнар с братьями и половина ватаги Дойча уже миновали первый поворот и вышли на среднюю часть серпантина. Присмотревшись, Серов заметил, что Стиг и Эрик тащат широкую короткую колоду, как раз в рост человека – то ли от пуль прикрываться, то ли ворота вышибать. Испанец-наблюдатель убрался с тропы, и больше никто не пробовал заглянуть под карниз, но сверху слышались красноречивые звуки: скрип зарядов картечи, которые забивают в стволы, стук мушкетов и резкие слова команды. – Готово, – сказал Стур. – Поджигать? – Серов нашарил в торбе зажигалку. – Не спеши, парень. Сперва дам сигнал Старику. – Боцман вытянул из-за пояса пистолет и разрядил его в воздух. – Теперь давай огоньку! На трех канатах они спустились пониже, к свисающим запальным шнурам. Длинная цепочка корсаров, неторопливо поднимавшихся по тропе, резво двинулась вперед, словно змея, что пробудилась, почуяв добычу. Следом за пиратами шли индейцы. Ветер развевал перья на их головах, поблескивали наконечники копий, раскачивались тяжелые дубинки. Серов вытащил зажигалку. – Что за хрень? – удивился Тиррел, переглянувшись с боцманом. – Самый новейший французский прибор для добывания огня, – пояснил Серов и поджег шнуры. – Сожри меня кайман! Чтоб мне в пекле гореть! Это как же… – начал Тиррел, но боцман сунул ему кулаком в бок и заорал: – Вниз, моча черепашья! Вниз, а то нас в клочья разнесет! Они стремительно заскользили по канатам, и Серов благословил все снасти «Ворона», каждую веревку, каждый шкот и брас, оставивший мозоли на его ладонях. Скала уходила вверх метр за метром, слева гудел водопад, ветер швырял в лицо и грудь холодные брызги, а наверху шипело и потрескивало, потрескивало и шипело. Наконец ступни Серова ударились о землю, и он, не размышляя, слыша только, как сопит сзади Стур, помчался долой с насыпи из шлака, мусора и засохшего дерьма – вниз, вниз, к деревьям и кустам, подальше от скал и догоравших запалов. В вышине оглушительно грохнуло. Он обернулся и увидел, как гигантский мизинец с частью бруствера неторопливо покидает карниз, как фонтан камней, пыли и дыма взмывает в воздух, как летят вместе с глыбами людские тела и сорванные с лафетов пушки, как что-то еще дымит и взрывается, полыхая оранжевым огнем, как кружат подброшенные на полсотни футов кровли хижин. Потом обломанный мизинец ринулся в пропасть, падая все быстрей и быстрей, и рухнул на кучу отбросов. Земля ощутимо вздрогнула. – Двести фунтов это всегда двести фунтов, – с одобрением произнес Тиррел. – Лучше только триста. Или пятьсот. – Столько и рвануло, дубина, – молвил Стур. – Уж пару-тройку бочек испанцы держали рядом с пушками. Глянь теперь, как мертвяки летают… Красота! Если бы не по частям, то прямо как ангелы Господни! Ну, а с живыми наши быстро разберутся. Боцман был прав – братья-датчане, прикрываясь бревном, уже бежали по узкой тропе. Серов услышал треск мушкетных выстрелов, увидел, как Хейнар первым ворвался в цитадель, а за ним – Олаф и Стиг с Эриком, отшвырнувшие свою колоду. Отряд корсаров стремительно втягивался на карниз, и боевые выкрики мешались с ружейной пальбой, звоном клинков и хрипом умирающих. Несмотря на то что испанцы лишились пушек и доброй трети гарнизона, сопротивлялись они отчаянно – над разрушенным парапетом, кружась в неистовом танце, мелькали шлемы, лезвия шпаг и мушкетные приклады. Очевидно, каждый солдат был готов умереть, только бы не очутиться в руках индейцев. Почти все воинство Гуаканари лезло вверх вслед за пиратами, оставив на равнине два или три десятка лучников. Пятерка корсаров – те, что обвязывали бочонки с порохом, – собралась вокруг Тиррела, притащив верхолазам одежду. Они горели желанием пустить испанцам кровь и обшарить карманы, но боцман, натянув сапоги, сказал, что торопиться некуда – пока индейцы не освободят тропу, на карниз не залезешь. Затем их группа двинулась к серпантину, но Серов отстал – ранка на шее, потревоженная недавними усилиями, сочилась кровью. Размотав бинт, он начал промывать ее водой из фляги, но тут раздался голос Стура: – Джином лучше, парень. – Боцман сунул ему фляжку. – Три глотка внутрь, потом лей на руки, на шею и завяжи как следует. – Понаблюдав, как Серов занимается врачеванием, Стур придвинулся к нему поближе и негромко спросил: – Эта штуковина… ну, которой ты высек огонь… она у тебя откуда? – Парижская, – сказал Серов, заматывая шею. – Привозят к нам в Нормандию, продают. – А можно еще такую достать? – Можно, только до Парижа далеко. – Серов вытащил зажигалку и вложил ее в мозолистую ладонь боцмана. – Вот, дарю! Здесь нажмешь, и появится огонек… Но зря не жги, штука эта не вечная. Горит, пока в ней есть горючий газ. Стур кивнул, сунул зажигалку за пояс и пробормотал: – Умственные люди эти твои французы… Надо же, в такой пузырек газ загнать! Должно быть, дорогая вещь? – Не дешевая, разрази меня гром, – сказал Серов. – Но для друга ничего не жалко. Они начали подниматься по тропе, вырубленной столетия назад неведомыми мастерами. Двигались быстро, но осторожно: с одной стороны была скала, с другой – обрыв, а шириною дорога не превышала полутора ярдов. Пальба и шум на карнизе стали стихать, только изредка доносились короткие, сразу обрывавшиеся вопли – наверное, резали последних испанцев. Туча пыли и дыма, стоявшая над рудником, постепенно оседала, и сквозь ее полупрозрачное марево уже можно было различить покосившиеся трубы двух плавильных горнов, изломанные крыши над бараками, ворот и высокий треножник из бревен с подвешенной к нему бадьей. Очевидно, с помощью этого механизма поднимали руду – бадья была огромной, как стогаллонная бочка. Серов с боцманом, шагавшие следом за группой Тиррела, еще не добрались до середины тропы, как с карниза полетели мертвые тела в клочьях обгоревшей и залитой кровью одежды, а за ними – балки, разбитые взрывом, жерди и плетеные стены бараков. Видимо, победители расчищали территорию. В пропасть швырнули семь или восемь еще живых испанцев. – Злится Старик, – буркнул Стур. – Не все ли равно, по доске в воду или со скалы на камни, – с горечью заметил Серов. – Если бы на камни! В дерьмо летят, – уточнил боцман, показав в сторону груды отбросов. – Не христианская смерть… Должно быть, что-то случилось, и Старик залютовал. Сердце у Серова вдруг замерло, холодные мурашки побежали по спине. Шейла, подумал он, Шейла! Из-за чего еще Бруксу лютовать? Если убили в атаке троих-четверых, то это дело обычное, в Бас-Тере новые найдутся, чтобы пополнить экипаж. Сколько угодно душегубов! А Шейла Джин Амалия – одна! Единственная, любимая! Забыв про осторожность, он ринулся вперед, обогнал, рискуя свалиться с обрыва, Клайва Тиррела с его людьми, промчался по верхней ветви серпантина и перепрыгнул через полуразрушенный бруствер. Ровная широкая площадка открылась перед ним: слева – развалины древней каменной стены, прямо – руины бараков, плавильные горны и штабель серебряных слитков, справа, у самой скалы – подъемный механизм над устьем шахты и накат из бревен, почти перекрывающий отверстие. Вокруг плотным кольцом стоят индейцы и пираты, а у бревенчатого помоста – четверо: Гуаканари, застывший с опущенной головой, хмурый Тегг, Росано и Шейла. Хирург склонился над человеком, лежавшим на земле, и что-то делал – то ли щупал ему пульс, то ли, оттянув веко, заглядывал в глаза. – Мертв, – сказал он и, поднявшись на ноги, перекрестился. – Мертв! Господь, прими душу Джозефа Брукса и прости его грехи! Не ввергай его в геенну огненную, ибо хоть не был он праведником и занимался разбоем и убийством, но почитал Тебя, Царя Небесного. Аминь! Шейла закрыла лицо ладонями и зарыдала.Глава 13 ЭДВАРД ПИЛ, ПОМОЩНИК КАПИТАНА
Случайная пуля попала Бруксу в основание черепа, и умер он мгновенно. Его и двух других погибших, Дика Формена и Винса Керри, похоронили в джунглях в общей могиле, завалив ее сверху испанскими пушками. Эта предосторожность была не лишней – над трупами солдат уже пировали грифы и полчища крыс. Росано прочитал молитву, Стур и Тиррел воткнули в насыпь наскоро сколоченный крест, и корсары под водительством Teггa двинулись в обратную дорогу к берегам реки. Шли они в молчании, сопровождаемые тремя индейцами-проводниками – остальные воины Гуаканари задержались на руднике, обыскивали шахту и поднимали наверх истощенных соплеменников. Молчание было мрачным, хотя усердные мулы тащили около трех тонн серебра. Еще сто с лишним тысяч песо вдобавок к тем сокровищам, что поджидали их в Пуэнте-дель-Оро… Богатство, однако, не радовало. В этот поход капитан отобрал людей помоложе, для коих великие корсары прошлого, Морган, Грамон, Олоне и другие, являлись легендой, граничащей с мифом. Если они и плавали с кем до Брукса, так с мелкими шайками и незначительными главарями, которым баркас с сотней мешков какао или сахара казался огромной добычей. С Джозефом Бруксом они оставались много дольше, одни – лет пять, другие – восемь или десять, и привычка видеть в нем своего неизменного капитана и предводителя была сильна. Нельзя сказать, что они относились к нему с любовью – такое чувство было просто непонятным разбойникам и душегубам, что составляли команду «Ворона», – но Брукс пользовался их доверием. Он был в меру жесток, в меру удачлив и справедлив; знал свою выгоду, но и людей своих не обирал, что для вождя корсаров в общем-то являлось редкостью. Теперь они ощущали себя стаей волков, брошенных опытным вожаком: зубы и когти остры, ноги крепки, но кто направит их энергию и силу? Впрочем, в сельве сейчас находилась лишь половина команды «Ворона»; вторая ее часть, люди постарше и похитрей, могли иметь иное мнение о Джозефе Бруксе. Тегг поставил Серова с его людьми в арьергард, следить, чтобы не потерялись мулы с драгоценным грузом, и весь этот день, за исключением короткой дневки, он не видел Шейлу. На привале он хотел к ней подойти, но девушка едва заметно покачала головой. Лицо ее казалось застывшим; сквозь загар проступала бледность, глаза настороженно обшаривали лица корсаров, словно она вдруг очутилась в толпе незнакомцев, не слишком расположенных к ней. Серов терялся в догадках. Почему она не захотела говорить с ним? Значит ли это, что их отношения изменились? Или Шейла просто осторожничает? Не желает, чтобы знали о чем-то, что связывает их? Себе он мог признаться, что гибель ее дядюшки почти катастрофа. Скорее всего, не бывать ему на «Вороне» казначеем, не учиться у ван Мандера судовождению, не стоять на квартердеке, командуя фрегатом… Впрочем, все эти блага, которые могли бы достаться от Джозефа Брукса, Серова в данный момент не волновали. В конце концов, думал он, найдутся случай и способ пересечь океан и попасть в Россию, было бы в том лишь желание у них обоих, у Шейлы и у него. Но если Шейла продолжит свою месть, если начнет считать по новой, что за родителей положено, что за соседей и за дядюшку, то дело может осложниться. Во-первых, месть окажется долгой, а во-вторых, как Шейла ее осуществит? Станет капитаном вместо Брукса? Такая идея вовсе не нравилась Серову, да и была, наверное, нереальной. Конечно, у Шейлы Джин Амалии твердый характер, но вряд ли экипаж поднимет женщину на капитанский мостик. То, что должно было произойти, он в общем-то представлял, помня о законах Берегового братства. Кроме того, Брюс Кук и Кола Тернан, ветераны из его команды, обменялись парой фраз, вполне подтверждавших эти соображения. Будет сходка, и пиратский круг решит, кто сделается новым главарем и сколько положено Шейле за аренду корабля – или, может быть, несколько офицеров сложатся и выкупят фрегат. По словам Кука, такой вариант был вполне возможен, если вспомнить о добыче, которую получат Тегг, ван Мандер, Садлер и Пил. Этих четверых Тернан и Кук считали наиболее реальными кандидатами, но Садлер казался им староватым, ван Мандер – не слишком умелым бойцом, а Сэмсон Тегг, при всех его достоинствах, мало понимал в шкиперском искусстве. Вывод напрашивался сам собой. Ночевали на прежнем месте, у речного берега, за выстроенной испанцами оградой. Серов долго не мог уснуть, глядел в небо, слушал рокот воды и лесные шорохи, чье-то протяжное завывание, стоны жаб и далекий рык ягуара. Лежал под деревьями и, чтобы не думать о Шейле и нынешних смутных обстоятельствах, вспоминал о собратьях по несчастью. Где они, что с ними? В каких временах и местах они затерялись? Он вдруг осознал размеры Земли, которая в его эпоху казалась совсем небольшой – ведь всю ее можно было облететь в течение суток, хоть по экватору, хоть через полюса. Но стоило погрузиться в прошлое на сотню или на тысячу лет, как масштаб планеты разительно менялся, и расстояния вновь обретали власть над скоростью. То, что в двадцатом веке требовало дней или часов, в девятнадцатом оборачивалось месяцами, а в более раннее время – годами и десятилетиями. Но сейчас и эти сроки являлись фикцией – ведь только при большой удаче можно было бы попасть из Европы в Китай или из Вест-Индии в Австралию и не расстаться при этом с жизнью. Поистине планета была огромна! Но кроме множества стран и мест, культурных или диких, существовало множество эпох и времен, и с учетом этой хронологической последовательности размеры Земли возрастали стократно. Если, скажем, попасть в район Великих озер в двадцатом веке, очутишься вблизи Чикаго, Детройта или другого города, американского либо канадского; сдвиг на пару столетий означал, что в этих местах найдутся немногочисленные деревушки, а коль нырнуть поглубже, то кроме дремучих лесов и индейцев не обнаружится ничего. И эти индейцы отрежут тебе голову в том самом пункте, где лет через пятьсот поднимется Музей естественной истории или отель «Чикаго-Хилтон». А может, не отрежут, найдя в пришельце какую-то пользу… Серов полагал, что два врача, Штильмарк и Наталья Ртищева, имеют больше шансов выжить, чем программист Понедельник и Линда Ковальская, экономист; врачи нужны повсюду, а люди, сведующие в математике, только в цивилизованных краях. У Кадинова, Губерта Фрика и Елисеева судьба могла оказаться нелегкой, если не было у них чего-то еще, кроме умения пачкать бумагу. В самом деле, какому примитивному племени или древнему народу нужен Игорь Елисеев, библиотекарь-эрудит и несостоявшийся писатель? В рабы эрудита, а то и в котел!.. Тем более что местных языков не знает и объясниться не может – ни с ирокезами, ни с ассирийцами, ни с латинянами или арабами… Наиболее жизнеспособным Серову казался Таншара, адепт экстрасенсорики и ловкий малый; этот, вероятно, знал пару-другую трюков, способных удивить и напугать, и, в общем, подходил на роль шамана. У папуасов или зулусов он мог бы стать большим человеком – если, конечно, не затопчут конкуренты… Наконец Серов уснул, и снилось ему, что он едва прикрыл глаза, а кто-то уже трясет за плечо. – Выступаем? – пробормотал он и сел. Но до рассвета было еще далеко. Храп, доносившийся отовсюду, темное, усыпанное звездами небо и рдеющие угли костров подсказывали, что стоит глухая ночь. – Не шуми! – прошипели ему в ухо, и он узнал голос Уота Стура. – Вставай, парень, и иди за мной. Тише иди, как корабельная крыса, что подбирается к салу. Поднявшись, Серов надел перевязь со шпагой, сунул за пояс пистолеты и двинулся следом за боцманом, переступая через ноги, руки и тела. Они миновали изгородь, прошли шагов двадцать с ее наружной стороны и углубились в лес. Мрак под деревьями был непроницаем, но Стур шагал уверенно, и через пару минут перед ними замаячил тусклый огонек. Фонарь со свечой стоял на доске, положенной на корни могучей сейбы, и его мерцание едва разгоняло темноту. На ее границе смутно угадывались кусты, обрамлявшие этот оазис света, и фигуры трех человек, склонившихся друг к другу – так, что лиц их Серов не мог разглядеть. Сухая ветка хрустнула под его ногой, сидевшие приподняли головы, и он узнал Шейлу, Сэмсона Teггa и лекаря Росано. – Сюда, поближе к нам, – произнес бомбардир, показав на заросшую мхами землю. Серов опустился рядом с Шейлой и вдруг почувствовал, как она прижалась к нему плечом. Пальцы девушки скользнули в его ладонь таким естественным, таким привычным жестом, будто она хотела сказать Теггу, Стуру и Росано: вот, смотрите!.. он мой, а я – его, и это не подлежит ни сомнению, ни обсуждению. Мир Серова, еще мгновение назад неустойчивый и зыбкий, сразу обрел стабильность; не домыслы и страхи лежали теперь в его основе, а твердая уверенность. Он мой, а я – его… Гибель Брукса ничего не изменила. Казалось, трое пиратов не были удивлены. Боцман сделал каменное лицо, лекарь одобрительно кивнул, а Тегг, покосившись в их сторону, хмыкнул и сказал: – Слава Иисусу, все в сборе. Ну, какие будут мнения, леди и джентльмены? – Думаю, ван Мандер встревать не решится. – Росано пошевелился, и блики света скользнули по его впалой щеке. – Получит свои soldi, molto soldi[407], а к деньгам неприятности ни к чему. Да и кричать за него некому, даже вахта его не крикнет. Галлахер был предан капитану и сделает так, как ты скажешь, bambina[408]. – Лекарь посмотрел на Шейлу. – Том? – с вопросительной интонацией произнес бомбардир. – Старый, – проворчал боцман. – Ему на покой пора, – согласилась Шейла. – На покой он уже лет пять собирается, – заметил Росано. – Но в этот раз, пожалуй, и правда уйдет. Он с Бруксом долго плавал, а в старости привычки не меняются. Уйдет! Лекарь пошарил во мхах, вытащил флягу с ромом, приложился к ней и пустил сосуд по кругу. Шейла отказалась, а Серов хлебнул. Спиртное взбодрило его, позволив сбросить остатки сна. – Верно насчет Садлера, – молвил Тегг, вытирая губы. – Лет двадцать, даже пятнадцать назад это был бы капитан! Гореть мне в аду! Я первый бы крикнул и за ним пошел… Росано поджал тонкие губы. – Что говорить о прошлом! Пятнадцать лет назад Морган был жив, а при нем – три дюжины командиров, любого выбирай… А нынче кроме Пьера Пикардийца и Неда Скотта с «Бристоля» никого не осталось, и оба они не из лучших. Так что, Сэмсон, деваться некуда – или ты, или Пил. Это они капитана выбирают, мелькнуло у Серова в голове. Как в будущем, так и сейчас, вопросы преемственности власти решались кучкой посвященных, умевших направлять энергию народных масс в желательную сторону. Такая теневая процедура была отработана в глубокой древности и без существенных перемен использовалась при выборах афинских стратегов, секретарей и президентов, глав финансовых корпораций или, как в данном случае, вождя пиратской шайки. Прежде Серову не доводилось участвовать в подобных келейный советах, но как человек, воспитанный в демократической стране, он мог предвидеть, что скоро речь пойдет о черном пиаре и расстановке сил. Так оно и случилось. – Вахта Дойча крикнет за помощника, – сказал Стур. – И половина ублюдков Тиррела тоже. Да и за Галлахеровых парней я бы не стал ручаться. Чарли, конечно, их крепко держит, но каждой пьяни пасть не заткнешь. Тому же Мортимеру или Алану Шестипалому. Рука Шейлы напряглась в ладони Серова. – Это будет четыре дюжины, – промолвила она. – За Teггa крикнут канониры, Галлахер и Тиррел с верными людьми, братья Свенсоны с приятелями… Дюжин пять наберется. Как ты считаешь, Эндрю? Она пыталась втянуть его в разговор, но предпочтения корсаров были Серову неизвестны. Слишком недолгое время он пробыл с ними, и в этот период власть капитана казалась незыблемой. В разговорах, что велись на берегу, подальше от палубы «Ворона», Брукса могли сравнить с Грамоном или Дэвисом, и это сравнение было не в его пользу; с другой стороны, и Дэвис, и Грамон, и все другие великие вожди Берегового братства давно уже числились в покойниках и на место Джозефа Брукса не претендовали. Серов обнял Шейлу за плечи. – Я считаю, – сказал он, – что шансы примерно равны, и это очень плохо. Неопределенная ситуация часто разрешается не законом, а насилием. Корабль у нас один, его не разделишь, по-доброму не разойдешься… И может получиться так, что одна половина команды набросится на другую. После этих слов наступило молчание. Росано хмурился, боцман то стискивал, то разжимал мозолистый кулак, а в глазах Teггa играли кровавые отблески свечи, горевшей в фонаре. Серову внезапно вспомнилось, как бомбардир пристрелил испанского капитана – там, на безымянном острове, где полгода назад делили добычу. Тегг сделал это без колебаний, и, наверное, сейчас его не слишком пугала мысль о кровавой смуте. Он посмотрел на лекаря, будто ожидая от него совета, но тот лишь пробормотал загадочное: «Silent leges inter arma»[409] – и смолк. – Дьявольщина! Может, и правда выбить Пилу дырку в башке, и дело с концом? – Тегг бросил взгляд на Шейлу. – Корабль твой. Тебя это устроит? Девушка вздрогнула. – Нет. Такого дядя не захотел бы. И я не хочу. Резня между своими… – Бывало, и не раз, – заметил Тегг. – Верно, Джулио? – Верно. Но вот я что подумал… – Хирург прикоснулся к длинному носу. – Пил из знатных… офицер короля, белая кость, голубая кровь… Если на этом сыграть? Такие люди не очень нравятся нашим голодранцам. А ты… – А я – бывший королевский сержант артиллерийской службы, и об этом, клянусь преисподней, знает каждый висельник в команде, – закончил Тегг. – Что вспоминать о былом? Теперь мы все сравнялись, все каторжники и уголовные хари. Так что давай положимся на милость Господа и решим, кто первый за меня крикнет. Стур шевельнулся, но лекарь положил руку ему на колено: – Лучше я, Уот. От тебя они видели зуботычины да пинки, ты их поносишь и шпыняешь, а я исцеляю их раны и потчую ромом. Еще за их души молюсь… Ты уж прости, Уот, но lingua[410] у меня тоже лучше подвешен. Я крикну. – Решено, – промолвил Тегг и перевел глаза на Серова. – Ты, Эндрю, станешь вторым помощником и заменишь Садлера. Только торопить я его не хотел бы… Подождешь, как договорились? Договорились с кем? – подумал Серов. Наверное, не с покойным Бруксом, а уже с его наследницей… Ощутив пожатие пальцев Шейлы, он наклонил голову. – Подожду. Пусть старик на пенсию выйдет по собственной воле. – Тогда все. Разошлись. Тегг поднялся и взял фонарь, но Шейла придержала его руку: – Оставь. Мы тут еще посидим. Кто такие «мы», пояснений не требовало, и бомбардир, а вслед за ним боцман и хирург, молча исчезли в темноте. Мрак придвинулся ближе, будто почуяв, что голоса людей его не отгоняют, и вместе с ним пришли лесные звуки, скрип деревьев, шорох каких-то существ, птиц или змей, таившихся в кронах, стрекот бесчисленных насекомых. Воздух был душен и пах гниющими листьями, от земли поднимался влажный пар, но щека Шейлы, когда Серов прижался к ней своей щекой, оказалась свежей и прохладной. Он расстегнул пуговицы на ее безрукавке, приник лицом к тонкому полотну рубахи – только оно отделяло сейчас губы Серова от нежной и упругой девичьей груди. Шейла задрожала, ее дыхание сделалось хриплым, глубоким, руки обвили шею Серова, но вдруг, с полустоном-полувздохом, она отшатнулась и шепнула: – Не сейчас, Эндрю, милый, не сейчас… Девой Марией клянусь, никому, кроме тебя, я не достанусь… Но в эту ночь не время… не время, понимаешь? Грех! Дядя Джозеф сейчас там, вместе с отцом и мамой, – она показала на небо, – и все они смотрят на нас. Нехорошо, если мы будем думать только о себе через день после дядиной смерти. Для кого-то он был разбойник и злодей, а для меня… для меня… Серов прижал ее к себе: – Я понимаю, девочка. Ты права, не время сейчас и не место. И постель к тому же неподходящая. Я бы в этом лесу раздеться не рискнул. Шейла вытерла глаза и тихо рассмеялась. – Тогда застегни мою одежду… нет, верхнюю пуговицу можешь оставить… и можешь там поцеловать… один раз… ну, еще один… А теперь слушай. – Ее дыхание коснулось виска Серова. – Слушай, милый! Все не так просто, как думает Тегг. Пил не отступится, даже если большинство крикнет за Сэмсона. Пил и тогда не отступится, я знаю! – Он так хочет стать капитаном? – Не только. Я теперь богатая наследница. – Вот как… – медленно протянул Серов, чувствуя, как напряглись его мышцы. – Твой дядя сказал мне об этом – ночью, несколько дней назад, когда мы с ним беседовали… Сказал, что Пил джентльмен и он к нему приглядывается. – Ну, а Пил приглядывается ко мне. Давно, уже пару лет. И не потому, что я богата, не ради плантаций и корабля, и даже не ради денег. То есть не только ради денег… Девушки такое чувствуют, понимаешь? Он говорил с дядей… говорил, что хочет на мне жениться… Еще говорил, что он преступник в Англии и Франции, а в германских землях никто его преследовать не будет, так что можно возвратиться в Старый Свет. Там нужны опытные офицеры, а императору[411] служить еще почетнее, чем английскому королю. Если вернуться с женой и деньгами и купить поместье где-нибудь в Саксонии, император мог бы сделать его бароном, и тогда… – Какое совпадение! – перебил Серов. – Я тоже хочу вернуться в Старый Свет с женой и служить императору – только другому, российскому. И знаешь, солнышко, у меня перед Пилом два преимущества: во-первых, я уже маркиз, а это никак не ниже барона, а во-вторых, любишь ты меня, а не его. Или я в чем-то ошибся? Сладкие губы Шейлы были ему ответом. – Ты странный… – шептала она, обнимая Серова. – Ты хочешь быть таким, как все, и теперь у тебя хорошо получается, но я же вижу, вижу… Твои песни и твои слова… Ты не так говоришь, не так ходишь и смотришь не так… Здесь смотрят как голодные псы или как хитрые обезьяны, а ты человек, милый… ты такой, каким Господь повелел быть человеку… не сквернословить, не убивать зря, не стяжать богатств, а идти к ближнему с добром… Разве могла я выбрать кого-то другого? Только тебя, тебя… выбрать тебя, любить и хранить, ибо ты не от мира сего… «Верно, – подумал Серов, целуя ее веки, – я из другого мира, девочка. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем. Любовь открывает глаза на многое, что безразличный взгляд не видит, любовь позволит тебе поверить и понять. Ты станешь единственной на всей Земле, кто знает тайны будущего… Вот мой дар, родная, но я еще не готов его преподнести. Я еще не решил, какие тайны открою. Ведь среди них есть такие страшные!» – Расскажи мне, – потребовала Шейла, – расскажи мне о себе. О том, где ты вырос и где учился, как жил в своей Нормандии, в каких краях бывал, кого любил, кого ненавидел. Расскажи, я хочу знать! – Может, я лучше спою? – предложил Серов, но Шейла была неумолима. И он, вздохнув, стал сочинять историю о древнем замке, о странствиях по нормандским городам, из которых помнились только Шербур, Гранвиль и Кан, об отце-маркизе и страстной его любви к матушке, к девице Бриджит Бардо, белошвейке из Шербура, где, как известно, девушки так красивы, что ни в сказке сказать, ни пером описать…* * *
Сход собрался на площади Пуэнте-дель-Оро, между зданием церкви и домом покойного коменданта. Сутки, что истекли после возвращения отряда, доставившего новые сокровища, а с ними – печальную весть, были беспокойными; ночью корсары тянулись поближе к кострам, пили, шептались, слушали горлопанов, осмелевших в темноте, а днем бродили среди руин, резали уже ненужных мулов, жарили мясо и снова пили и шептались. По мере того как спадал полдневный зной и удлинялись тени, шепоты стихали, зато кучки, сгрудившиеся здесь и там, делались больше; к четверым подходили пятый и шестой, две группы сливались вместе, и вот уже дюжина человек садится у церкви или у комендантского дома. Эти два строения являлись как бы центрами поляризации для тех, кто твердо встал на ту или иную сторону, но человек тридцать еще бродили между ними, полные сомнений и колебаний. У церкви сидела Шейла в компании братьев-датчан, Рика, Боба и Кактуса Джо, и здесь собирались канониры, а также некоторые из людей Тиррела и Галлахера. Но другие из этих же ватаг стояли напротив вместе с вахтой Дойча и, судя по хмурым лицам и настороженным глазам, не желали отступать. Тот, кто поддержит нового капитана, мог рассчитывать на его благодарность и благосклонность, что понимали все, от ветеранов разбойного промысла до тех, кто еще год назад стрелял быков на Гаити. Серов и два его подельника избрали позицию на равном удалении от церкви и дома коменданта. Случилось это не само собой – в какой-то миг хитрец Мортимер притормозил и ловко бросил якорь в нужном месте. Видимо, ему хотелось соединиться с теми, кто окажется удачливей, и притащить с собой тупицу Хенка и внебрачного сынка маркиза. Три голоса, три глотки, три ножа кое-что весили в раскладе сил – ведь людей в команде «Ворона» было немногим больше сотни. – Дерьмо этот Пил. На доску бы его поставить и за борт проводить, – негромко разглагольствовал Морти, озираясь по сторонам. – Прах и пепел! Ты помнишь, Эндрю, как он нас помыться отправил? Помнишь, Хенк? Три раза под килем! Это вам не хрен собачий! Это, знаешь ли… – Шесть, – сказал Серов. – Что – шесть? – Вас с Хенком три раза протянули, а меня – шесть. И было велено не торопиться. – Точно! Вот сволочь блохастая, жентельмен недорезанный! Станешь за такого горло рвать, так он тебя же потом в нужник запихает… Верно, парни? Хенк промычал неразборчиво, а Серов кивнул, глядя, как в середине площади, у креста и пальм, собирается начальство. Тут были все офицеры «Ворона», Эдвард Пил, ван Мандер, Садлер, Тегг, Росано, а с ними боцман Стур и предводители рангом помельче, Дойч, Галлахер и Тиррел. Все в лучших своих одеждах и при оружии. – Тегг, однако, тоже гадина и в деле морском ничего не смыслит, – задумчиво произнес Мортимер. – Не положу охулки, из пушек он мастак палить, но ежели в море ему довериться, враз очутишься вместо Тортуги в Гаване, под крепостью черножопых. Пил, пожалуй, надежнее… – Чем тебе Тегг не угодил? – поинтересовался Серов. – Как же! На рудник меня не взяли, а почему? Тегг Старику напел, что я не такой бугай, как вы с Хенком, и пушки мне таскать невмочь! Вранье! Да я бы за прибавку кдоле пер эти пушки отсюда и до самых райских врат! Я бы и порох дотащил, чтоб эти ворота разнести! Я… – Не богохульствуй, задница Господня, – сказал Хенк. Мортимер торопливо вытащил из-за пазухи крестик на засаленном шнурке, поцеловал его и буркнул: – Прости Отец Небесный… дьявол попутал или моча в голову стукнула… Ну, а что до капитана, так, может, и Тегг сгодится, если никого получше нет. Или все же за Пила крикнуть? – А кто нас велел под килем таскать? – напомнил Серов. – Ну, так за дело! Так нам и надо, вшивым паразитам! А боец он лихой… И деньги считать умеет, и знает, где они водятся и как их добыть. Хотя и Тегг, конечно… – За Teггa надо крикнуть, – с авторитетным видом вымолвил Серов. – Тегг свой в доску парень. С ним будем по уши в баксах сидеть… то есть в дублонах и дукатах. А Пил из благородных и богатых, эти делиться не любят, все под себя гребут. Такой уж у них менталитет, я точно знаю. – Мен… чего?.. – переспросил Мортимер, но тут боцман ударил в колокол, который притащили с корабля, и все разговоры стихли. Корсары придвинулись ближе, офицеры и сержанты стояли в их кольце тесной кучкой под большим крестом и пальмами в центре площади. Стур, шагнув вперед, сунул ладони за пояс, откашлялся и произнес: – Пасть не разевать, пока не закончу. Кто не вовремя раскроет, подавится зубами. Заорете, когда я дам сигнал. – Он хмуро оглядел собрание, прищурился на солнце, висевшее низко, над самой церковной крышей, и сплюнул себе на сапог. – Значит, так, парни, есть новость хорошая и новость плохая. Том Садлер сказал, что меньше тысячи серебряков никто не получит, а у тех, кто шастал на рудник, выйдет даже тысяча пятьсот. И все эти денежки уже в трюме «Ворона», и вес у них такой, что наша лоханка на ладонь осела. Одобрительный гул прокатился по рядам корсаров, и боцман переждал его без ругани, видно решив, что искренняя радость субординацию не нарушает. – Теперь плохая новость, и ее вы все уже слышали: наш Старик пулю поймал. Да смилуется Господь над ним и пропустит в рай его душу! – Стур размашисто перекрестился, и все офицеры и окружившие их Береговые братья повторили этот жест. – Стало быть, нужен нам новый капитан и предводитель, и за кого вы громче крикнете и бросите метку, тому на мостике и стоять. Тому, значит… Эй, Джек Астон! Ты чего лапу тянешь, вор кладбищенский? Или я толкую непонятно? Или башка от дум разъехалась? – Вопрос, мастер Стур! – Поднялся бородатый пират в алой косынке. – Вопрос! Что сказал Старик? То есть какая была его последняя воля? – А ничего он не успел сказать. Пуля сюда попала, – Стур хлопнул себя по загривку, – и он сразу окочурился. И все вы знаете, что никаких разговоров о том, кто его когда-нибудь заменить, не велось. Ни прежде, ни в последние дни. – Переждав секунду-другую, боцман закончил: – Ну, кричите! По закону Берегового братства всяк из вас может предложить в капитаны или себя самого, или кого-то из команды. Кричите! – Садлер! – тут же донеслось от дома коменданта. – Том Садлер! – Садлер, Садлер! Садлера хотим! – послышались редкие выкрики, но основная масса их не поддержала. Наступила тишина, и вдруг за спиной Серова кто-то рявкнул: – Даешь ван Мандера! – Точно, – сказал Мортимер и завопил во всю глотку: – Ван Мандер, ван Мандер! Имя шкипера подхватила еще пара дюжин человек, оравших минуты две, после чего вопли как отрезало. – Ты разве за ван Мандера? – спросил озадаченный Серов, наклонившись к Мортимеру. – Вовсе нет, однако поуважать стоит, – ответил подельник. – Том староват, задержится недолго, а с ван Мандером нам еще плавать и плавать. Видишь, зыркает туда-сюда, запоминает, кто за него кричал… Пусть и меня помнит. А крикну я потом за Teггa. Или за Пила. – Ну-ну… Ушлый ты парень, политичный. Парламент без тебя плачет. – Какой еще парламент? – Российский, – со вздохом пояснил Серов. – Вся Государственная дума. В ней, конечно, свои клоуны есть, но лишний никогда не помешает. После ван Мандера поуважали Стура, затем всех трех сержантов, выкрикивая поочередно их имена. Тем временем солнце опустилось за церковную крышу, длинные тени от колокольни, креста и пальм легли на площадь, и Стур послал людей за факелами. Их принесли из дома коменданта, но зажигать не стали – наступившие сумерки скрадывали лица, но фигуры людей были еще видны. Серов заметил, что отцы-командиры уже не стоят тесной кучкой, а растянулись полумесяцем: с одной стороны Росано, Тегг и Галлахер, с другой – Пил и Дойч, а между ними Тиррел, Садлер и ван Мандер. Боцман по-прежнему стоял впереди, рядом с подвешенным к шесту колоколом. Толпа пиратов придвинулась еще ближе, и теперь от предводителей их отделяло не больше десятка шагов. На таком же расстоянии от Серова оказались Шейла и охранявшие ее люди. Боцман ударил в колокол: – Ну, пошутили, и будет! Кричите по новой! Словно дождавшись нужного сигнала, Джулио Росано запрокинул голову, напрягся и завопил: – Тегг! Тегг! Тегг! Сложение у хирурга было субтильное, голос в обычное время скорее тихий, чем громкий, но при нужде умел он кричать гнусаво, протяжно и оглушительно, как пароходная сирена. Возможно, то был особый ораторский прием, коему обучали в Падуанском университете, приберегаемый для научных диспутов и публичных молебнов. Если так, то Росано владел им в совершенстве. – Тегг! Тегг! Тегг! Десятки голосов со стороны церкви подхватили этот вопль, но от дома коменданта дружно откликнулись: – Пил! Пил! Пил! Некоторое время пираты надсаживали глотки, одна партия старалась перекричать другую, но силы, похоже, были равны. Те, кто колебался и никакого решения еще не принял, вели себя по-разному, как и подельники Серова: Хенк молчал и обалдело крутил лохматой башкой, а Мортимер один раз выкрикивал имя Teггa, а другой – Эдварда Пила. Серов кричал во всю мочь, одновременно наблюдая за предводителями; в какой-то миг он заметил, как Пил повернулся к Дойчу и что-то ему прошептал. Раздался удар колокола, и вопли смолкли. – Так не пойдет, парни! – недовольно прорычал Стур. – Чего вы хотите, навоз черепаший? Или будем метки бросать да считать, или жребий метнем? – Пусть скажут! – послышался крик из задних рядов. – Пусть скажут, а мы послушаем! – Пусть! Пусть! – согласным воплем отозвались две партии, и Тегг, перехватив инициативу, тут же выступил вперед. Вместе с ним шагнули Росано и Галлахер, и теперь все трое стояли неподалеку от Шейлы и ее охраны, явно давая понять, кто их поддерживает. – Вы меня знаете, – начал Тегг, – и помните, сколько лет я проплавал со Стариком. Больше, чем осталось зубов кой у кого из вас! – Он повысил голос. – Кто скажет, что я потратил даром хоть одно ядро? Хоть раз промазал и влепил не в борт испанцу, а в Божий свет? Лишил кого-то доли, хоть одного серебряка? Скрыл хоть единую монету или наказал без вины какого-то сукина сына? Пираты одобрительно загудели, Мортимер завопил: «Тегг! Тегг! Это он, наш Сэмми!» – но тут же сник под грозным взглядом боцмана. Сумерки сгустились, Стур велел зажечь факелы, а бомбардир, вытянув руку к небу жестом клятвы, произнес: – Господь видит! Если я стану капитаном, обещаю, что будет добыча и будет справедливость. Каждый получит свое по закону Берегового братства: все мои помощники, и каждый член команды, и мисс Шейла Брукс, владелица корабля. И никого зря не накажут, и будет порядок на палубе! Опустив руку, Тегг отступил. Секунду царило молчание, затем корсары разразились ликующими криками, и Серов было решил, что дело в шляпе. Кое-что, однако, показалось ему подозрительным: Дойч, стоявший рядом с Пилом, исчез, и у веранды комендантского дома наметилось какое-то неясное шевеление. Факелы там не горели, и он видел лишь смутные тени, скользившие взад и вперед, да слышал легкий стук, который, впрочем, скоро прекратился. Пил, не обращая внимания на эту суету, дождался, когда боцман снова ударит в колокол, и вымолвил: – Вы послушали Сэмсона Teггa, и я согласен, что бомбардир он меткий, но место ему не на квартердеке, а на пушечной палубе. Он много чего вам наобещал, но дать больше, чем обещано, не сможет. А обещания – это слова. Слова о добыче, порядке и справедливости… Только слова! А я – я не обещаю, я даю! Даю каждому из вас полуторную долю, а тем, кто взял рудник, – двойную! Каждому еще по пятьсот песо, по сто десять английских фунтов! Это не пустая болтовня, а звонкая монета, которую можно потрогать и опустить в карман! Это деньги… Деньги! – прорычал боцман, круто поворачиваясь к Пилу. – А где ты их возьмешь, почтенный сэр? В заднице своей матушки? Еще шестьдесят тысяч песо для команды? Пил положил руки на пистолеты, торчавшие за поясом, и холодно усмехнулся: – Где возьму – моя забота, но от капитана Эдварда Пила каждый получит деньги в эту ночь. Прямо сейчас! Воздух содрогнулся от оглушительного рева, и Серов понял, что они с Теггом и Шейлой почти проиграли. Мортимер, потянув за собой Хенка, решительно двинулся к комендантскому дому, как и прочие сомневавшиеся; теперь они топали ногами и орали в унисон: «Пил, Пил! Наш парень Пил! Пила в капитаны!» Две трети команды, заслышав звон серебра, разом встали на его сторону, и перетянуть кого-нибудь из них обратно было непростой задачей. Но если не справиться с этим, последствия будут ужасны. Серов уже видел, как Эдвард Пил, перешагнув через его окровавленное тело, тащит Шейлу в капитанскую каюту, срывает с нее одежду и швыряет в койку. Так оно и произойдет, понял он, произойдет в эту же ночь, когда защитники Шейлы будут мертвы, а экипаж перепьется. И Пил получит все – и корабль, и девушку, и ее деньги. Он двинулся поближе к Шейле под грохот колокола, в который колотил боцман Стур. Перемещение корсаров прекратилось, шум и рев постепенно стихали, и наконец сквозь них пробился голос Росано. Воздев к небу кулаки, он пронзительно вопил: – Не по закону! Это не по закону Берегового братства! – Не по закону! – одновременно выкрикнули Тегг и Галлахер. – Это подкуп! – орал Росано, тыкая в Пила пальцем. – Ты бывший королевский офицер! Привык, наверно, что в Лондоне все покупается и продается! Мерзавец! Тут тебе не двор Вильгельма! Тут… – Я лучше знаю, что тут такое, – спокойно произнес Пил и, выхватив пистолет, разрядил его в грудь хирурга. Дальнейшее перемешалось в сознании Серова, будто он очутился в страшном сне. Он видел, как от дома коменданта двинулась шеренга мушкетеров, как сверкнули вспышки выстрелов, как упали Галлахер и Тегг, как Хейнар бросился на Пила и тоже рухнул, обливаясь кровью, как Стур, схватив колокол, разбил голову одному из стрелков, как Томас Садлер что-то закричал, вращая тесаком над головой. Какой-то верзила надвинулся на него с поднятой саблей, он выстрелил прямо в скалившую зубы рожу и рванулся к Шейле. Она склонилась над Росано; воздух хрипел в горле хирурга, из пробитой груди сочилась кровь. – Эндрю! Что делать, Эндрю? Он еще жив… Видишь, он дышит… Серов поднял Росано на руки. – Я его понесу. Собирай своих людей, милая, кого сможешь. Уходим! – Уходим? Куда? – К реке, на пристань. Там лодки и баркасы. Быстрей, иначе нас всех перебьют! Он отступил в темноту, за линию факелов, и Шейла, выкликая имена боцмана и братьев-скандинавов, бежала за ним. Кто-то перегнал Серова у разбитых ворот крепости, на пристани раздался чей-то знакомый голос, оравший: «Баркасы не трогай, задница! В шлюп, придурок!» – потом рядом возник Кола Тернан, подхватил тело Росано за плечи, помог нести. Тегга, кажется, тащили за ними, но кто, Серов не мог разобрать – то ли Хрипатый Боб, то ли Рик Бразилец. Тегг грозил отомстить и ругался по-черному – значит, был в сознании. Позади, на озаренной факелами площади, слышались редкие выстрелы, скрежет клинков, стоны раненых и крик Эдварда Пила: «Где она? Где? Искать девушку, ублюдки! Тысяча песо тому, кто найдет!» Никто не найдет, злорадно подумал Серов, шагая с пристани на палубу шлюпа. Никто не найдет и не отнимет! Они с Тернаном опустили лекаря на палубные доски, и Шейла, рванув подол рубахи, прижала тряпицу к груди раненого. «Канат рубить! – рявкнул над головой Серова боцман. – Поднять парус! Боб, к штурвалу!» Затем шлюп тряхнуло на речной волне и потащило вниз по течению. Вниз, вниз, вниз по реке Ориноко, подальше от разоренного испанского городка, от его блистающих сокровищ, от могилы Джозефа Брукса, от его людей, вцепившихся друг другу в глотки. Вниз, вниз, вниз…Часть 4 ПОРЯДОК И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Глава 14 ПЯТНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК НА СУНДУК МЕРТВЕЦА
Джулио Росано не дожил до рассвета. Пуля пробила легкое и, вероятно, задела какую-то важную артерию – он кашлял кровью, и кровь хлестала из раны. Перед кончиной хирург пришел в себя на несколько секунд, узнал склонившегося над ним Серова и прохрипел: «Книга, Андре… сундук… книга в сундуке, в Ла-Монтане… обещай… Пьетро поможет…» Потом глаза его закрылись, губы посерели, и смертная тень скользнула по лицу. Шейла плакала. – Похороним в море, – сказал Уот Стур. – Отчего не здесь? Тут крокодилы, там акулы… Один дьявол! – буркнул Тегг. Боцман упрямо покачал головой: – Подождем, Сэмсон. Он был моряком, одним из нас, а пресная вода для моряков не подходит. С Теггом все должно было обойтись – его ранило в мясистую часть бедра, и Страх Божий, мастер на все руки, сумел вытащить пулю. Однако крови бомбардир потерял немало и вскоре отключился, то ли уснув, то ли лишившись сознания. Его положили в единственной каюте шлюпа, на корме, и там же устроилась Шейла – присматривала за раненым, пока сама не заснула. Если не считать покойного лекаря, на шлюпе их было пятнадцать человек. То, что телохранители Брукса, Рик, Джо, Хрипатый Боб и трое скандинавов, добрались до суденышка, Серова не удивляло – преданные люди, такие за Шейлой в огонь и в воду пойдут. Но кроме них тут очутились и его соратники по Галлахеровой ватаге – Джос Фавершем, Брюс Кук, Страх Божий и два француза, Кола Тернан и Жак Герен. Эти, наверное, помнили, что Пил французов не жалует, и решили убраться подальше от нового капитана. Что произошло с другими сторонниками Teггa, Серов мог лишь догадываться. Он полагал, что Галлахер и Хейнар убиты, как, вероятно, еще десяток человек, но вряд ли Пил был склонен к тотальному истреблению противников. Взяв власть, он мог их просто-напросто купить, как остальной экипаж, и никакие законы Берегового братства не устояли бы перед звоном серебра. Денег для выплаты обещанного вполне хватало – доли сбежавших и убитых и доля корабля равнялись примерно сотне тысяч песо. Конечно, у Пила были виды на эту сумму, когда он спровоцировал столкновение. И он совсем бы не беспокоился из-за сбежавших, если бы в их компании не очутилась Шейла. «Ворон», однако, не шлюп, якорь за минуту не отдашь, в погоню сразу не помчишься. Да и другие нынче у Пила заботы, размышлял Серов. Кого прикончить, с кем договориться, а после перевезти экипаж на корабль и поделить добычу… Главное – дележ! Вряд ли Пила признают капитаном, пока он не выдаст серебро, а это долгая история – рубить и взвешивать тяжелые серебряные слитки. Долгая! На всю ночь! Шлюп, легкое одномачтовое суденышко длиною в тридцать футов, двигался быстро, подгоняемый ночным бризом. У штурвала стоял Хрипатый Боб, лучший рулевой «Ворона», братья Свенсоны работали с парусами, Рик, видевший ночью как кошка, оседлал бугшприт и высматривал плывущие вниз по течению стволы. Остальные тоже были при деле: кто промывал полученные в драке ссадины, кто чистил пистолет или точил клинок, а Кука боцман отправил инспектировать бочки и корзины в трюме и докладывать, что в них хранится. Когда Кук добрался до солонины, вяленых фруктов и бочонка с кислым вином, Стур разрешил поесть. Стойкость этих людей поражала Серова. Казалось, они лишились всего – привычного места в жизни, жалкого имущества, брошенного на фрегате в матросских сундучках, и такой добычи, какая, наверное, им прежде и не снилась. Лица их были угрюмы, особенно у потерявших брата Свенсонов, но жалоб он не слышал. Они ругались, проклинали Пила, грозили отомстить, но на судьбу никто не сетовал и не просил удачи. Удача была капризным божеством, не склонным выслушивать просьбы, и в эту ночь она улыбнулась Эдварду Пилу. Ночь, однако, была не последней, и каждый думал, что придут другие дни и ночи, и наступит час, когда его пальцы сомкнутся на горле обидчика. Эта мысль согревала душу. Утром они очутились в зоне болот, в одном из широких речных рукавов, ведущих к морю. Направление ветра сменилось, дневной бриз дул от побережья в глубь страны, и паруса пришлось спустить. Шлюп неторопливо тянулся по течению, но впереди уже переливалась и мерцала морская даль. Кактус Джо сменил Боба у руля, Тернан встал впередсмотрящим, остальные дремали или просто лежали в тени у низкого фальшборта. Тегг очнулся, выпил вина из рук Шейлы, сжевал пару сушеных плодов и потребовал к себе Серова и боцмана. Он был еще слаб от потери крови, щеки его горели лихорадочным румянцем, но речь была вполне членораздельной. – Сколько у нас людей? – Считая с тобой – пятнадцать человек, – сказал Серов. – Оружие? – Сабли, шпаги, ножи, пистолеты, но мало пуль и пороха. – Порох есть, целый бочонок в трюме, – заметил боцман. – Пули… Ну, что-нибудь придумаем. Разрази меня гром! И крысу Пила заодно! Ведь как стояли, так и смылись! Ни мушкета тебе, ни припасов… – Вода? Жратва? – Воды набрали, – доложил Стур. – Мерзкая водица из этой мерзкой речки, но другой нет. Жратва… С этим плохо, Сэмсон. Что в трюме нашлось, то и есть. Фунтов тридцать солонины, мешок маиса да разная дребедень – перец, сушеные фрукты, корешки… Дня четыре с этим плавать можно. Так что я думаю… Серов, взглянув на осунувшееся личико Шейлы, хлопнул ладонью по колену: – Подожди, Уот. Давайте-ка обмозгуем, что мы вообще собираемся делать. Если бежать, то куда? Если сражаться, то где и как? А если плюнуть на Вест-Индию, то в какие края удрать? Хорошо бы плюнуть, подумал он, взять курс на северо-восток и – в Балтийское море, к невским берегам… Только можно ли на шлюпе пересечь Атлантику? Этого Серов не представлял. Шлюп совсем небольшая посудина, не фрегат и не бриг, а к тому же ни денег, ни запасов в трюме… Нет, не выйдет плюнуть и удрать! Да и мысль такая вдруг показалась Серову недостойной – сдаваться он не привык. Тегг шевельнулся и пробормотал проклятье, укладывая поудобнее раненую ногу. Сказать ему было нечего, как, впрочем, и боцману Стуру. Шейла задумчиво покусывала губу, но, хоть выглядела невеселой, банкротом в отличие от боцмана и бомбардира не была. Усадьба на Тортуге, поместье на Ямайке, винокуренное заведение на Барбадосе, вспомнил Серов. Еще сто восемьдесят тысяч песо в золоте и серебре… Пожалуй, хватит, чтоб потягаться с Эдвардом Пилом! Он посмотрел на девушку, потом на двух мужчин и сказал: – Я в местной географии еще не очень разбираюсь. Барбадос – он дальше Ямайки? Или ближе? – Под носом у нас Барбадос[412], – проворчал боцман. – Миль триста пятьдесят к северу. Даже на этом корыте дней за пять дойдем. – Мы можем получить там помощь? Шейла неуверенно кивнула: – Наверное. Там Исаак Стерн и Джереми Пратт, дядины компаньоны. У них небольшая плантация сахарного тростника, а из патоки они гонят ром. Дядя Джозеф вложил деньги в их предприятие. – Достаточно, чтобы снарядить корабль и набрать экипаж? – Что ты, Эндрю! Всего, чем владеют Стерн и Пратт, не хватит даже на оснащение брига с дюжиной пушек. Они не очень богаты, но люди хорошие. Верные! – А губернатор Барбадоса? Он не окажет нам помощь? Стур ухмыльнулся и пожал плечами: – Это вряд ли, клянусь преисподней! Губернаторы нищим не помогают. – Она не нищая. – Серов показал глазами в сторону Шейлы. – Джозеф Брукс оставил ей наследство. Не только корабль, но плантации, дома и деньги. – Дома и плантации нам не нужны, а деньги это хорошо, деньги пригодятся… – пробормотал Тегг. – На деньги многое можно сделать. Сколько их? И где они? – На Тортуге, – ответила Шейла. – Немного в Ла-Монтане, в нашем доме, но большая часть у мсье де Кюсси, на сохранении. Дядя говорил, сто восемьдесят тысяч песо. Бомбардир хмыкнул и вдруг подмигнул Серову: – Приличная сумма! Если бы не этот Эндрю, маркизов сын, я сам бы на тебе женился. Я, конечно, постарше лет на пятнадцать и не так хорош собой, но все-таки ты поразмысли над этим на досуге. – Уже поразмыслила, – с бледной улыбкой сказала Шейла, вложив пальцы в ладонь Серова. – Боюсь, у тебя нет шансов, Сэмсон. – Ну, что ж… Тогда возьмем свое на Тортуге. Потребуем, чтобы де Кюсси рассудил нас с Пилом по закону Берегового братства. Тебе, – Тегг бросил взгляд на Шейлу, – должны вернуть корабль и тысяч шестьдесят песо. А мне – мне положены четыре доли, уйма денег, и я не намерен от них отказываться. Да и наши парни тоже, клянусь Спасителем! «На Тортуге мы не нищие, – сообразил Серов. – Но если губернатор и правда рассудит нас с Пилом, то как исполнить приговор? Пил может сбежать или напасть на город… В его руках фрегат, люди и пушки… А что у де Кюсси?» Спросив об этом, он выяснил, что батарея Скалистого форта может одним-единственным удачным залпом потопить любой корабль в бухте Бас-Тера. Пушек там было немного, десяток или дюжина, но они бросали тяжелые тридцатишестифунтовые снаряды, причем высота скалы увеличивала дальность полета ядер. Тегг заметил, что береговая батарея, стреляющая с возвышения, всегда имеет преимущество над кораблем. В этом случае все зависело от ловкости канониров – при попадании ядра в крюйт-камеру судно взлетало на воздух. В общем, у де Кюсси были серьезные аргументы, чтоб подтвердить свое решение. Целых десять или двенадцать, и каждое весом в пуд, подумал Серов. Затем сказал: – Пил может не пойти на Тортугу. Островов вокруг тьма, есть британские, есть голландские… Вдруг отправится на тот же Барбадос?.. – Сомнительно. Навар у него хороший, а чем больше навар, тем больше соблазн к нему пристроиться, – промолвил Тегг, а Шейла пояснила: – На Ямайку или Барбадос он не пойдет, побоится. У него, Эндрю, на пятьсот тысяч серебра, и любой британский губернатор, позарившись на такое богатство, вспомнит, что Пил – беглый ссыльный и пират. У дяди Джозефа не отняли бы, а с Пилом церемониться не будут… Кюрасао[413] тоже не для него – в Старом Свете теперь война, а голландцы – союзники англичан. Так что кроме Тортуги деваться ему некуда. – Особое место эта Тортуга, и губернатор там особый. Свой! – добавил бомбардир. – Де Кюсси не королем ведь поставлен, а компанией, судовладельцами и купцами. Им до разборок французов и британцев как до каторжной параши… Им деньги подавай, а что им главный доход приносит? Наш промысел! – Так и есть, – подтвердил Стур и отправился на палубу. Перед шлюпом уже синело море, и течение реки, неторопливое, но мощное, несло кораблик прочь от дельты Ориноко. Оставив утомленного Тегга дремать в каюте, Шейла и Серов тоже выбрались на воздух. Судно отошло на лигу от берега, когда боцман велел поднимать паруса, поворачивать к северу и ложиться в бейдевинд[414]. Идем на Барбадос, понял Серов и взглянул на Шейлу. Девушка кивнула. – Стерн и Пратт помогут нам с припасами и снаряжением. Мушкеты, мясо, сухари, мука, свежая вода, ром… – Она заставила Серова наклонить голову и размотала бинт с его шеи. – Рана твоя закрылась, и ее не надо прятать под повязкой. На морском ветру все быстрее заживает, так Джулио говорил… – Взгляд Шейлы метнулся к телу хирурга, обернутому парусиной, и по ее щеке сползла слезинка. – Бедный Джулио, он был ко мне так добр! И научил так многому! Я его с детства помню, с тех самых пор, как дядюшка увез меня с Ямайки на Тортугу… Верно сказано, Эндрю: Господь берет, Господь дает, Господь с нами всегда, и в горе, и в радости, и мы должны быть благодарны за все содеянное Им и за Его дары. Он взял отца и матушку, но послал мне дядю Джозефа и Джулио, а теперь забрал их, но дал мне тебя… – Раз я подарок от Господа, – сказал Серов, – то, может быть, по такому случаю ты откажешься от мести испанцам? Я говорю об испанцах вообще. А в частности, если найдем тех типов, что сожгли твоих близких и соседей, перестреляем их, как куропаток. Тут я готов помочь. – Я подумаю, – молвила Шейла, глядя, как Рик Бразилец и Брюс Кук поднимают труп Росано. – Я знаю, что Иисусу неугодны ненависть и месть, что он сказал: Аз воздам! – но мир устроен так, что без них не прожить. Вот Пил, Дойч и другие мерзавцы – они убили Джулио, Хейнара, Галлахера… Разве не должна я отомстить? И разве Господь не взыщет с меня за бездействие? Мертвое тело Росано с всплеском скользнуло за борт, пираты перекрестились, девушка стала читать молитву. Серов, хоть был неверующим, тоже осенил себя крестом. Шейла да лекарь-итальянец – другими близкими в этой реальности он не успел обзавестись. Даже плут Мортимер и туповатый Хенк, его подельники, были сейчас далеко от него. Впрочем, не стоило сравнивать с ними Джулио Росано – хирург мог сделаться ему настоящим другом, проводником в этой чуждой реальности. Мог бы! Но его уже нет… Горькое сознание нелепости этой смерти затопило Серова. Он поглядел на острые акульи плавники, что мельтешили вокруг канувшего в воду тела, и зашептал слова, те же самые, что были сказаны днями раньше над мертвым капитаном: «Господи, прими душу Джулио Росано и прости его грехи! Прости и помилуй!» Ему хотелось присоединиться к молитве Шейлы, но он не знал, как это сделать и что положено произносить. Вместо этого в памяти всплыли другие строки:* * *
Для пятнадцати человек маленький шлюп был таким же тесным, как «Ворон» для сотни с лишним корсаров. Эти скученность и теснота, однако, не тяготили Серова, напоминая ему привычный цирковой вагончик или палатку, в которой ютился их взвод в Чечне. Даже люди были похожи: боцман – вылитый ротный старшина, суровый молчун, Брюс Кук – в точности знакомый лейтенант, такой же юркий, подвижный и вспыльчивый, а Эрик, один из братьев-скандинавов, походил на белобрысого Коляна, хлопца из Подмосковья. Окружающий мир тоже демонстрировал Серову свою неизменность, доказывая, что триста лет – не срок, с которым считаются Галактика или планета Земля. С точки зрения таких глобальных категорий, будущее отличалось от прошлого лишь большей суетливостью человеческой расы, расползшейся по всем материкам и островам, опутавшей их дорогами и застроившей городами. Мелочи, всего лишь мелочи! Главное было постоянным: все так же всходило и садилось солнце, мерно дышал океан, дул ветер, текли по небу облака и мерцали ночами далекие звезды. Стур разделил команду на вахты по четыре человека, и Серов впервые встал к рулю. Правя корабликом в темное время, он глядел на звезды, уже привычно отыскивая среди них Полярную, на компас в медной позеленевшей окантовке и думал об ожидающем их впереди. Вероятно, эта привычка рассчитывать и строить планы тоже являлась чем-то таким, что отличило его от нынешних современников; они, даже Тегг и Шейла, больше жили сегодняшним днем, а значит, были уязвимее. Серов такой оплошности не допускал. Впервые с тех пор, как он очутился в этой реальности, над ним не стояли капитан и прочие начальники, и слово его имело вес; он мог распорядиться так или иначе собственной судьбой и судьбами тех, кто плыл с ним на шлюпе, не зная, что уготовано в грядущем. Но будущее бросает тень перед собой, и зоркий человек способен различить его контуры, уяснить события по жесту, фразе или промелькнувшей мысли. Фраза была – намек, подтолкнувший мысль в нужном направлении. Губернаторы нищим не помогают, сказал Уот Стур, и это было правильно по отношению к царям и королям, министрам, президентам, генералам и прочим властям предержащим. Ни в эту эпоху, ни в более поздние века они, за редким исключением, отнюдь не являлись оплотом порядка и справедливости и не склоняли слух свой к ограбленным и униженным. Опыт Серова, включавший нищету его семьи, сожженные торговые палатки, службу в ОМОНе и поиски похищенных людей, лишь подтверждал такое мнение, а это заставляло думать, что Шейла потеряла не только любимого дядюшку, но и богатое наследство. Фрегат уже отняли, а что касается плантаций и поместий, то лишь губернаторы Тортуги, Барбадоса и Ямайки могли, подтвердив ее права, ввести во владение этим имуществом. Кроме того, имелись сто восемьдесят тысяч песо, хранившихся у де Кюсси – скорее всего, в сундуках Французской Вест-Индской компании. Захочет ли он расстаться с деньгами? Ответ не очевиден, размышлял Серов. Если бы Шейла явилась в Бас-Тер на «Вороне», с грузом сокровищ, с пушками и сотней с лишним молодцов, рекомендация была бы веской! Но шлюп невелик и команда мала, а это делает из них просителей. Все равно, что он пришел бы к Петру Алексеевичу с одним пистолетом да шпагой и сказал бы: дай мне батальон и чин майора! Петр, может быть, и даст… Но де Кюсси – не Петр. Так думал Серов, пока их судно, минуя огромный остров Тринидад, а за ним островок поменьше, под названием Тобаго, плыло к Барбадосу. Уложиться в пять суток, как надеялся боцман, не удалось – в это время года дул северо-восточный ветер, который на четвертый день отнес их к берегам Гренады. Речная вода в бочках быстро протухла, превратившись в мутную жижу с гнилым запахом, пища кончалась, но высадиться на Гренаде, где стоял испанский гарнизон, они не рискнули. Уот Стур, плававший в карибских водах без малого четверть века, припомнил, что за Гренадой тянется до самого Сент-Винсента цепочка мелких островов, необитаемых и окруженных рифами[415]. Опасные места, но малая осадка шлюпа и ловкость Хрипатого выручили их; Боб провел суденышко между черных, обросших водорослями камней в крохотную бухту, где волны лизали золотой песок и ветер шелестел листвою пальм. В четвертом часу пополудни они сошли на берег. Серов поддерживал Сэмсона Teггa, с трудом ковылявшего по песку, Шейла и Джос несли корзину с жалкими остатками маиса и фруктов, Тернан тащил котелок, а остальные – бочки для воды и сделанные из ножей остроги. Взглянув на солнце и проворчав, что до заката еще достаточно времени, Стур повел Рика, Боба и братьев Свенсонов к ключу, бившему в пальмовой роще. Охотники разбрелись у воды в поисках черепах и черепашьих яиц, Тернан, вооружившись острогой, высматривал рыбу, Кактус Джо пытался сбить камнями орехи с пальм. Это ему удалось. Отрубив верхушки нескольких кокосов, Шейла напоила Teггa соком, потом бомбардир прилег в тени деревьев и заснул. Он чувствовал себя гораздо лучше – рана закрылась, лихорадка прошла, но ступал он на больную ногу еще с трудом. К тому времени, когда солнце стало погружаться в море, на пляже горел костер, в котелке булькало варево из маиса с черепашьим мясом, жарилась на прутьях рыба, а люди сидели у огня, жадно втягивая аппетитные запахи. Вид у команды был не из лучших; полуголые, обросшие щетиной, грязные, с ввалившимися щеками, они походили на шайку голодных нищих. Животы у всех раздулись – за последние три часа каждый выпил не меньше галлона воды. Вода на острове была с легким железистым привкусом, но после тухлятины из бочек казалась прекрасной. Ели молча, быстро, глотали, не прожевывая, огромные куски. Отползали к пальмам и, облегчившись, вновь возвращались к котлу. Допили вино и ром из фляжек Стура и Кактуса Джо, сгрызли твердую мякоть кокосов, разлеглись на песке, захрапели. За время этого скорого пиршества была сказана едва ли пара фраз – Стур пробормотал, что завтра нужно вялить черепашье мясо, а Страх Божий отозвался: завялим, боцман, Господь не обидел черепахами этот край. Серов уснул, но в середине ночи Шейла его разбудила: – Идем, Андре. Он сел, протирая глаза кулаками. – Куда? Зубы девушки блеснули в лунном свете – она улыбалась. – Запах от нас как от стада свиней. Я хочу помыться. – Акулы… – протянул Серов, с сомнением поглядывая на воду. – Ерунда! Акулы не трогают людей, если нет кровоточащих ран. Идем! Поднявшись, он двинулся вслед за Шейлой по песку. Она шагала уверенно, однако вела его к пальмовой роще, прочь от воды и храпевших у костра пиратов. Почему?.. – мелькнула мысль у Серова, но тут же он сообразил, что они находятся на острове. На крохотном клочке суши в тысячу ярдов поперек, и куда тут ни пойдешь, всюду уткнешься в воду. Шейле об этом не приходилось вспоминать – она была островитянкой, прожившей жизнь рядом с морем. Темные кроны пальм зашелестели над ними, и Серову почудилось, что он снова на том безымянном островке, где команда «Ворона» делила добычу. Место их первого с Шейлой свидания… И место, где он впервые ступил на сушу… Совсем недавно, полугода не прошло… Песчаные прогалины между деревьями белели, будто засыпанные снегом. То ли стон, то ли всхлип послышался вверху – какая-то ночная птица подавала голос. Слабый ток воздуха овеял лицо Серова, и большая, почти невидимая в полутьме бабочка скользнула над его плечом. Птицы, бабочки, крабы и черепахи – других живых существ на этом острове не было. Казалось, Бог сотворил его специально для них с Шейлой. За рощей снова простирался залитый серебряным светом пляж, темнели камни у воды, тихо рокотали волны и мерцала, переливалась лунная дорожка в море. Шейла сняла сапоги, расстегнула пояс и вдруг замерла, повернувшись вполоборота к Серову: – Отвернись! И раздевайся первым! Он покорно сбросил одежду, побежал к воде, плюхнулся в набегающие волны. Второе купание в этой реальности, мелькнула мысль, но о первом случае вспоминать не хотелось. Если он должен был пройти крещение водой, чтоб приобщиться к этому миру, так именно сейчас, в ласковом море, под светом сиявшей в небесах луны, у пустынного тихого берега. Гибкая фигурка Шейлы скользнула в воду рядом с ним. Как песок и светлая дорожка в море, она казалась изваянной из серебра, только зрачки были темными, словно ночное небо. Они поплыли к рифам, окутанным пенными бурунами, и Серову вдруг почудилось, что около него не человек, не земная девушка, а нереида, дочь старика Океана, явившая смертному свой лик и наготу. Божественно прекрасную! Плечи и руки Шейлы влажно поблескивали, пряди волос струились по спине, и, когда волна приподнимала ее, Серов различал ложбинку между упругими грудями. – Возвращаемся, Эндрю, – сказала девушка. – К камням не стоит приближаться, там сильный прибой. Они неторопливо развернулись к берегу. Воды шельфа, такие прозрачные днем, просвечивающие до самого дня, сейчас казались черной таинственной бездной. Они парили над этой пропастью, как пара белых мотыльков, застывших в глыбе обсидиана. На мелководье Серов встал, подхватил Шейлу на руки и вынес на берег. Она уже не пыталась скрыться от его взгляда; прижимая девушку к себе, он ощущал чарующие изгибы ее тела и слышал, как сильно бьется сердце. Что-то новое рождалось между ними – быть может, то безоглядное доверие, та жертвенность, что связывают женщину с мужчиной крепче любых цепей, сильнее формальных обязательств и без которых любовь всего лишь животная страсть. Так думал Серов, отпрыск рафинированного века, склонного к самокопанию и психоанализу, но вряд ли Шейла разделяла эти мысли. Она жила чувством, а чувство в иные моменты более верный подсказчик, чем разум. Серов опустил ее на песок и улегся рядом. Темное бархатное небо раскрылось над ними, лучики мерцающих звезд кололи глаза, лунный диск казался огромным, и было легко представить, что там, в небесах, вовсе не диск, а огромная круглая дыра, устье вселенской шахты, в которую они внезапно упадут и будут лететь до скончания мира. Или до двадцать первого столетия, в котором этот островок вряд ли изменился. Слишком он мал, слишком ничтожен, чтоб возводить тут отели, строить дороги и пристани; вероятно, все здесь останется прежним – квадратный километр песка, крабы, черепахи да пара сотен пальм. «И мы с Шейлой, – подумалось Серову. – Будто приплыли мы сюда на яхте в свадебное путешествие и попали в прошлый мир, в тот, каким он был триста, и тысячу, и десять тысяч лет назад. Но там, за горизонтом, другая реальность – там залитые светом города, там океанские корабли, воздушные лайнеры, машины, там век электричества, компьютеров и межпланетных полетов. Там шесть или семь миллиардов людей, не всегда довольных и сытых, но все же в большинстве своем желающих жить по закону, а не грабить ближнего. Там, все это там, мой настоящий мир, мое настоящее прошлое! Ну а пираты, кремневые ружья, лачуги Бас-Тера, песо и шпаги, трупы испанцев – сон, всего лишь сон! Все сон, кроме Шейлы!» Он почти поверил в это. Он лежал, чувствуя упругость ее бедра, тепло девичьего тела, и в его голове была одна мысль: завтра они поплывут в Нью-Йорк. Пора знакомить Шейлу с сестренкой и родителями. – Эндрю! Очнись, Эндрю! – Девушка склонилась над ним. – О чем ты думаешь? – Вспоминаю дом, – сказал он, гладя ее волосы. – Свою Нормандию? – Нет, милая. Мой дом гораздо, гораздо дальше. – Серов вздохнул и, приподнявшись на локте, бросил взгляд на их одежду. Сапоги, короткие штаны, рубахи, безрукавки, широкие кожаные ремни… Осознание нынешнего бытия стремительно возвращалось к нему, тяжкое, как многотонная глыба. Он снова вздохнул и добавил: – Когда-нибудь я расскажу тебе о нем. – Расскажи сейчас, – потребовала Шейла. – Это очень долгая и странная история, девочка моя. Сейчас нам надо думать о другом. Вот, например: отдаст ли де Кюсси твои деньги? Рассудит ли с Пилом по справедливости? Захочет ли помочь? Шейла молчала, уткнувшись лицом в его плечо. Потом шепнула: – Не знаю, Эндрю, не знаю. Может, эти деньги, Пил и захваченный корабль не самая большая неприятность. Человек предполагает, Господь располагает… Кто догадается, какие им уготовлены испытания? – Что ты имеешь в виду? Она потерлась носом о висок Серова. – Мне двадцать лет, а это возраст, когда давно пора быть замужем. Особенно одинокой девице. – Это мы исправим, – пообещал Серов. – Скоро исправим. – Ты не понимаешь, Эндрю! Неужели ты забыл? Мне двадцать, – повторила Шейла, – и по любым законам, британским или французским, я еще год несовершеннолетняя. Я не могу распоряжаться своим имуществом, деньгами, поместьями и даже своей рукой. Дядя Джозеф мертв… Кто подтвердит, что он хотел нас обвенчать? Что такова была его воля? Он погиб и не успел назначить мне опекуна… – Мы скажем, что успел. Скажем, что он назначил Teгга. – Пил будет утверждать, что это ложь. Что люди, бывшие с дядей в час его гибели, такого не слышали. Наше слово против его… И знаешь, чем это кончится? – Ты полагаешь, – хмурясь, начал Серов, – полагаешь, что губернатор… – Да, да! Де Кюсси объявит себя моим опекуном. Так принято в наших краях, а к тому же у него дядины деньги. И чтобы сохранить их, он может призадуматься о моем будущем супруге… Он хитрый, и я ему на фартинг не верю… Он может просто меня продать – продать богатую наследницу тому, кто больше даст! Теперь понятно, Энди? – Вполне. Деньги и твое богатство – веский аргумент. Серов нахмурился еще больше, но тут ладошка Шейлы легла ему на грудь, и жаркое прерывистое дыхание опалило щеку. – Но ты не бойся, Эндрю, я придумала, придумала, – шепнула она. – Никто нас не отнимет друг у друга… никто, если я стану твоей, а ты – моим… моим супругом перед Господом… Особенно если наш обет будет подкреплен… ну, ты понимаешь, милый… – Ее шелковистое бедро, скользнув по коленям Серова, замерло на его животе. – Если я стану твоей женой, здесь и сейчас… может быть, даже понесу от тебя и, если надо, объявлю об этом во всеуслышание… кто захочет претендовать на мою руку?.. Никто! И этот грех Господь нам простит. – Ты умная малышка. Знаешь, когда не стоит держаться за репутацию, – сказал Серов и прижал ее к себе. – Ну, а что до Господа… С ним мы разберемся. К нему первыми в очереди на отпущение грехов стоят маркизы. Нет брачного ложа мягче песка, нет мелодичнее гимна, чем рокот прибоя и шелест листвы, нет напитков слаще, чем губы любимой… Шейла вскрикнула, и ветер, подхватив ее стон, разнес его над землей и морем, рассыпал над волнами звоном свадебных колоколов. Есть ли надежней свидетели, чем небо, море и земля?.. – думал Серов, обнимая свою любимую, чувствуя трепет ее тела. Они, вечные спутники людских находок и потерь, утешают, радуют, благословляют. И провожают, когда наступит срок. … На рассвете они вернулись в лагерь. Шли рощей, где, приветствуя разгоравшуюся зарю, уже щебетали и пищали птицы, держались за руки, но молчали и старательно делали вид, что там, у моря, под луной и звездами, ничего не случилось. Не потому, что это было достойно забвения, но по одной лишь причине – спрятать счастье от чужого глаза, от всех, кто не входил в их сокровенную Вселенную. В ней было место только для двоих. Серов, гоня воспоминания о сладких губах и нежной коже Шейлы, думал про губернатора де Кюсси, про деньги, отданные на сохранение, про возможное опекунство и шансы разобраться с Пилом. Мысли эти были мрачными, отрезвляющими и холодными как лед – самое то, чтобы не сиять улыбкой перед чертовой дюжиной корсаров. Некая идея крутилась у него в голове, с каждой минутой делаясь все четче и определенней, обрастая подробностями и деталями и оформляясь в план. Наконец он сказал: – Этот Скалистый форт в Бас-Тере… Там, вероятно, полно солдат? Не иначе, как половина гарнизона? Или треть? Ночью дежурят и днем? Удивленно взглянув на него, Шейла покачала головой: – Ну и мысли после брачной ночи! Все же Господь устроил мужчин по-иному, чем женщин… Я-то надеялась, что ты размышляешь о свадебном подарке молодой жене. – Именно о нем, солнышко. Так что там с этим фортом? – Ничего особенного. Он невелик, и там не поместится ни половина, ни треть гарнизона. Солдаты живут в казарме, а в Скалистом стоят на вахте пушкари со своим лейтенантом. Примерно человек пятнадцать. – Надо же, – с задумчивым видом молвил Серов. – Выходит, их столько же, сколько нас… А скажи-ка, счастье мое, какая дистанция от форта догубернаторского дома? Мне кажется, там и трехсот ярдов не будет. Так?Глава 15 МИНГЕР ПЕТЕР ВАН ДЕР ВЕЙТ
До Барбадоса они добрались только на одиннадцатый день. Это был обширный зеленый остров, не такой большой, как Куба, Гаити и Ямайка, но все же имевший солидные размеры[416] – шлюп шел вдоль его западного побережья с рассвета до полудня. Они миновали Бриджтаун, островную столицу, не приближаясь к бухте и порту, где, возможно, находились британские военные фрегаты, – совсем не лишняя предосторожность, если вспомнить, что в Европе началась война, а в экипаже шлюпа были три француза. За городской окраиной потянулся берег, над которым доминировала гора тысячефутовой высоты, видимая с моря. В одних местах берег, заросший деревьями, казался безлюдным, в других был засажен сахарным тростником, и тут стояли просторные дома плантаторов, а при них – деревушки, где ютились черные рабы и белые каторжники. Одних привезли из Африки, других – из старой доброй Англии, но судьба у всех была одна: гнуть спину под палящим солнцем и со страхом слушать, как посвистывает плеть надсмотрщика. Цены, правда, различались: за черных давали сотню песо, а за белых, не столь выносливых в тропическом климате, не больше семидесяти. Владение мистеров Стерна и Пратта располагалось на северной оконечности острова, вытянутой словно тупое долото. По местным меркам, плантация была небольшой; здесь трудились с полсотни негров и дюжина белых, бывших каторжников, а ныне вольных людей. Правда, слишком больных или слабых, чтобы податься в пираты, а потому они присматривали за неграми, резали тростник и гнали из патоки ром. Хозяева, Исаак Стерн и Джереми Пратт, были людьми рангом повыше, старыми разбойниками и приятелями Брукса; можно сказать, корсары на пенсии, осевшие на покой среди благодатных равнин Барбадоса. На двоих у этих джентльменов приходилось три руки и три ноги, что, однако, не мешало им управляться в поместье с завидной энергией. Шейла, Серов и их спутники пробыли здесь больше недели. В поселке, лежавшем милях в пяти от плантации, была церквушка с настоящим англиканским пастором, и в ней отслужили заупокойную по Джозефу Бруксу, Росано, Хейнару и прочим убиенным, дабы их души поменьше мучились в чистилище. Шлюп снарядили всем необходимым для двухмесячного плавания, запасами рома и воды, провизии и пороха; нашлись у старых бандитов и мушкеты, и карты, и подзорная труба, и кое-какие навигационные инструменты. Вот с наличностью было туговато – Стерн и Пратт, тяжко вздыхая, выложили двести двадцать песо и развели руками. Вернее, развел Стерн; у Пратта такой возможности не имелось. Шла вторая декада сентября, когда шлюп покинул гостеприимный берег. Экипаж был в полном порядке, Тегг уже ковылял вполне уверенно, Свенсоны, успокоив сердца молитвой, уже не мрачнели, вспоминая брата, и даже Стур повеселел, хотя ругаться и поминать имя Господа всуе это ему не мешало. Впрочем, люди, да и боцман с бомбардиром, все чаще обращались к Серову за указанием или советом, что получалось как-то само по себе. Но, разумеется, не без причин: может быть, его отношения с Шейлой не остались секретом, или корсары оценили его предусмотрительность и умение планировать каждый шаг. Не исключалось, что популярности Серову прибавлял дар ладить даже со вспыльчивым Брюсом Куком и угрюмым Страхом Божьим; возможно, считая его своим, в нем в то же время чуяли существо иной, более высшей породы. Что не удивительно; его странности были более заметны среди полутора десятков человек, чем на забитой людьми палубе «Ворона». Шлюп стал для него отличной школой – тут Серов овладел многими искусствами, которых не успел постичь за шестимесячный срок на фрегате. Стур, соображавший в практической навигации, обучил его прокладывать курс, пользоваться секстантом и астролябией; Хрипатый Боб – стоять у руля, ловить переменчивый ветер, следить за оттенками моря у берегов; Тегг объяснял артиллерийскую науку – как зарядить и навести орудие, как изготовить гранаты и чем бомбарда отличается от единорога[417]. Новые знания давались Серову легко, что казалось чудом его наставникам, но объяснялось тем, что он, как сын маркиза, имел в основе хорошее образование. Может быть, обучался в каком-то нормандском монастыре или светском университете… Воистину так! Обычная школа его эпохи превосходила любой университет, особенно по части математики. В этой науке делались лишь первые шаги к теориям высокого порядка; Ньютон и Лейбниц были еще живы, а Эйлер даже не родился[418]. Можно считать, что экзамен на штурмана был выдержан Серовым, когда он проложил на карте курс от Барбадоса к Наветренным островам. Они прошли проливом между Мартиникой и Сент-Люсией[419], прошли ночью, и он стоял у руля, командуя братьями-датчанами – те управлялись с парусами. На рассвете, когда шлюп удалился на двадцать две мили от архипелага, ветер упал, паруса обвисли, и морские воды застыли, словно голубоватое зеркало. Боцман, проснувшись, начал расталкивать дремлющих корсаров, чертыхаться и проклинать штиль, Хрипатый Боб сменил Серова у штурвала, и из каюты выбралась Шейла. Рик Бразилец, самый зоркий в экипаже, оглядел горизонт и, вытянув длинную темную руку, показал на запад: – Там! – Что – там? – окрысился Стур. – Корыто твоей мамочки? Или ночной горшок папаши? – Там, – повторил Рик и, подумав, добавил: – Мачты! Один, два, три – мой не разобрать. Он владел английским получше индейца Чичпалакана, но все же не настолько, чтобы высказывать сложные мысли. Зато абордажным топором действовал с отменной ловкостью. Помянув дьявола и его шутки, боцман направился в каюту, будить Teгга. Вскоре бомбардир вылез на палубу со зрительной трубой под мышкой, кивнул Серову и, прихрамывая, заковылял на бак. Поднял трубу, присмотрелся, покачал головой: – Корабль, гореть мне в аду! Корпус не видно, паруса спущены, лежит в дрейфе… Вроде бы судно небольшое и на галеон не похоже. – Сколько мачт? – спросил Серов, переглянувшись со Стуром. – Далеко, не разглядеть… Попробуй ты. – Тегг сунул ему трубу, но солнечные блики и расстояние делали задачу невыполнимой. – Неужели «Ворон»? – со страхом прошептала Шейла. – Вряд ли, – буркнул Стур. – На Барбадосе мы прокантовались восемь дней, значит, «Ворон» сейчас болтается где-то у Эспаньолы или у Ямайки. А эти, – он ткнул рукой на запад, – эти нас не видят. И не увидят, если в полдень спустим паруса. Шлюп невелик и сидит мелко. – Думаешь, к полудню сможем подойти поближе? – спросил Тегг. – Хрр… Это как задницу почесать! – раздался голос Хрипатого Боба, и Серов, оглянувшись, увидел, что за ними столпилась вся команда. Глаза у корсаров блестели, кулаки сжимались, а из раскрытых ртов едва не капала слюна. Добыча! Добыча на горизонте! Разбойничий инстинкт будоражил им кровь. – Ну, приблизимся, поглядим, тогда и решим, что делать, – предложил бомбардир. – Что скажете? – Он как будто обращался ко всей команде, но глядел на одного Серова. – Рик пусть наблюдает, – молвил тот. – Отдай ему трубу. Пять часов до полудня прошли в изрядном оживлении. Порывы слабого бриза временами подгоняли шлюп, и постепенно, выигрывая в час три-четыре, а иногда и пять сотен ярдов, легкое суденышко приближалось к замершему в дрейфе кораблю. Корсары возились с оружием, правили клинки, чистили стволы мушкетов, отмеряли порох; Сэмсон Тегг изготовил несколько гранат, завернув пороховые заряды и пули в куски парусины. Мушкетов было восемь, и Серов велел, чтоб их раздали самым опытным стрелкам. Стрелял он, пожалуй, лучше всех, но себе не взял ружья, и это казалось естественным – командир с мушкетом не воюет. Солнце еще не взобралось в зенит, как Рик Бразилец завопил: – Видеть! Мой видеть! Мачты – один, два! На два мачта – грота-трисель! Мой видеть рей! Бриг![420] Зрительной трубой, торчавшей за ремнем, он так и не воспользовался – похоже, не знал, к какому глазу ее приложить. Тегг подскочил к Бразильцу, выдернул трубу: – Дай сюда, придурок! Хмм… – Он уставился на судно. – Верно, две мачты, и гафель торчит… В самом деле бриг! Взгляни, Эндрю… и ты, Стур… Труба пошла по рукам. – Голландский купец, – заметил боцман, подтолкнув Серова локтем. – Из Старого Света идет. Скорее всего, на Кюрасао. Они уставились друг на друга. Голландцев пираты не трогали – не то чтобы они считались полным табу, но в списке возможных жертв стояли дальше французов и англичан, не говоря уж об испанцах. Это была инстинктивная дань уважения людям, пострадавшим от Испании более всех в Старом Свете и боровшимся с ней на суше и море с невиданным мужеством и упорством. К тому же суда, шедшие из Европы, даже испанские, большой добычи не сулили, поскольку не было в их трюмах ни золота, ни серебра, ни даже таких дорогих товаров, как сахар, ценное дерево, табак. Случалось, на них везли предметы роскоши, наряды, мебель, украшения, но чаще грубую ткань, мыло, муку, простую посуду, орудия и инструменты – то, в чем нуждались заокеанские колонии. Такие грузы были для пиратов бесполезны – вспотеешь, пока продашь. – Голландец, дьявольщина! – с разочарованным видом пробормотал Тегг. – Что в нем толку? Гружен канатами или подковами, а может, глиняными горшками… – Ну и что? – возразил Стур. – Уж горстка гульденов у них точно завалялась![421] А гульден ничем не хуже фунтов и песо. Команда поддержала его одобрительным гулом, а Брюс Кук добавил: – Нет черепах, так сгодятся черепашьи яйца. – Ночью бы подкрасться… – мечтательно произнес Кола Тернан, щуря единственный глаз. – Подкррасться, хрр… – согласился Хрипатый Боб. – Залезть по-тихому на боррт и перререзать глотки! Серов кашлянул, и сразу установилась тишина. – Это лишнее, – сказал он, – лишнее насчет глоток. Голландцы – хорошие парни, сам Петр Алексеевич у них учился. У половины экипажа челюсти отвисли в изумлении. – Петр… какой еще Петр? – переспросил Тегг. – Что за аля… ксаля… – Алексеевич! – рявкнул Серов. – Великий русский государь, но это сейчас не важно. А важно то, что распри у нас с голландцами нет, и кровь пускать им я не позволю! Хотя деньги, конечно, возьмем, – произнес он тоном ниже, – и деньги, и груз, и корабль. Корабль – вот что главное! Тегг поскреб в затылке. – А ведь верно – корабль! Одно дело, явиться в Бас-Тер на нищем шлюпе с восемью мушкетами, и совсем другое – на бриге! Клянусь дьяволом, это поднимет нашу… нашу… – … репутацию, – усмехнувшись, подсказал Серов. – На шлюпе мы беглецы и просители, а на большом корабле – боевая команда. У голландцев, наверное, и пушки есть… – Хотя бы четыре! – простонал Тегг. – Хотя бы на восемнадцать фунтов! – Он повернулся к Стуру, их главному навигатору: – Как думаешь, Уот, подберемся мы к ним ночью? При таком-то слабом и неверном ветре? – Все в руках Божьих, Сэмсон. Были бы у нас шлюпки… Это Серов уже понимал – были бы шлюпки, не было б проблем. Десантные операции, в том числе абордаж, производились большей частью не с корабля, а с лодок. Особенно в штиль, когда на ветер нет надежды и весла ничем не заменишь. К сожалению, суденышко у них было слишком маленьким, и на борту даже ялика не имелось. Стур велел спустить паруса, и бриг с шлюпом застыли на морской поверхности как пара щепок – одна побольше, другая поменьше. Голландский корабль смутной тенью рисовался у горизонта, на фоне вод, блистающих расплавленным серебром; глядеть на них можно было лишь прищурившись. Стур и Хрипатый Боб, опытные моряки, уверяли, что до брига не меньше шести миль и что с такого расстояния шлюп не увидеть – палуба чуть ли не вровень с водой, а мачта – что соринка на стекле зрительной трубы. Впрочем, никто в их сторону и не глядел. В штиль да еще в ясный день всякий корабль уверен в своей безопасности, и голландцы, похоже, не были исключением. Временами от брига доносилось едва слышное заунывное пение, и Серов мог поклясться, что капитан дрыхнет в каюте, его мореходы кайфуют у бочонка с ромом, и даже вахтенный офицер пропустил не одну кружку. Время на раскаленной палубе шлюпа тянулось медленно. Посматривая на людей, забившихся в скудную тень у фальшборта, Серов думал, что вот еще одно отличие от его современников: те разделись бы догола при такой жаре и попрыгали в море. Представив Шейлу в бикини, он с сожалением покачал головой. Нет, такой он ее никогда не увидит! Скорее уж совсем обнаженной в интимный момент, как на том безымянном островке… Сладкие воспоминания охватили его, Серов вздохнул и бросил взгляд на девушку. Она, насупив брови, занималась делом – точила свой клинок. Солнечный край коснулся бирюзовой черты, отделявшей небо от моря, над шлюпом прошелестел порыв ветерка, и братья Свенсоны подняли парус. Хрипатый Боб встал к штурвалу, прищурился, отыскивая голландца в наступавших сумерках, чуть-чуть повернул руль. Шлюп пополз вперед, словно воин-индеец, выслеживающий врага: пятьдесят ярдов – остановка, еще сорок – снова остановка. – Безлунная ночь, – сказал Тегг, задрав голову к небу. – Найдешь их, Боб? – Хрр… Как в сапог нассать, – послышалось от руля. – Они все еще в дрейфе, – молвил боцман, склонив голову к плечу. – Судным днем клянусь, скрипа талей не слышно – значит, плавучий якорь не выбирают. И то сказать: этот ветер для них не ветер. Солнце село, высыпали звезды, над морем воцарилась тьма, но Боб уверенно вел их суденышко, приноровляясь к порывам ветра. Они были редкими и слабыми, но все же шлюп продвигался вперед, все ближе и ближе к голландскому судну. Около полуночи Рик Бразилец заметил свет фонарей, горевших на носу и корме, затем они услышали стук подошв и шарканье – вахтенный обходил корабль. До брига было двести или триста ярдов, и пираты, не сговариваясь, разделились пополам: Шейла и Стур – с Серовым на юте, здесь же Тернан, Страх Божий, Кук, Герен и Джос; остальные – на баке с Теггом. Кроме оружия были приготовлены крючья и канаты. – Орать погромче и стрелять по моей команде, – сказал Серов. – Но не в людей! Хватит с них пары зуботычин. – Но крепких, – буркнул Брюс Кук, потирая кулаки. Их судно призраком скользило в душном мраке тропической ночи. Темное, но живое, играющее отблесками звезд – вода; черное, неподвижное, массивное – корпус брига; почти незаметные стволы мачт, пересеченных реями, уходят в вышину и, кажется, дотягиваются до ковша Большой Медведицы. Тишина, безмолвие, только плещут о борт мелкие волны да чуть слышно пощелкивает парус. – Шварртуемся! – прохрипел Боб и, закрепив штурвал канатом, скатился вниз на палубу. Упал парус; шлюп, замедляя движение, скользнул вдоль борта голландца, задел его носом и развернулся. Легкое сотрясение, скрип дерева о дерево, стук крючьев и кошек, впивающихся в борт, и их кораблик замер. – Страх, давай!.. – шепнул Серов. Страх Божий взлетел по канату, и на бриге раздался испуганный крик – должно быть, вахтенный увидел его жуткое лицо. Пираты, не мешкая, полезли на нос и шкафут. Серов, поднявшись одним из первых, увидел, что дозорный голландец верещит и бьется в тисках Страха Божьего и что палуба усеяна чем-то белым. Спустя секунду он сообразил, что белое – матросские робы и штаны, а в них – бравые мореходы, прилегшие, должно быть, отдохнуть. Кое-где эти одеяния едва заметно шевелились. – Огонь! – скомандовал Серов. Грохнул залп из ружей и пистолетов, свистнули пули, корсары завыли, заулюлюкали, загремели оружием. Казалось, этот дьявольский концерт мог разбудить даже покойника, но робы лишь слегка затрепыхались. Герен, наклонившись над одним из моряков, попробовал его поднять, однако ноги голландца не держали. Стур ткнул ближайшего сапогом в ребра и буркнул: – Пьяны, сучье отродье! Все пьяны! Джином разит как из бочки! Страх, да утихомирь ты этого!.. Страх Божий стукнул вахтенного кулаком по голове, и верещанье смолкло. Зато открылась дверь в кормовой надстройке, явив коренастую фигуру с раскрасневшимся лицом. Глаза коренастого разбегались в разные стороны, но все же он неимоверным усилием свел их вместе и что-то забормотал на голландском. – Интересуется, кто мы такие, – перевел подоспевший Тегг, сунул пистолет за пояс и отпихнул коренастого. Тот свалился на палубу и захрапел. В каюте, где, вероятно, пировали офицеры, нашлись еще двое. Один, тощий и щуплый, лежал поперек уставленного бутылями и кружками стола, носом в блюде солонины. Другой, осанистый господин с бородкой, толстобрюхий, в коричневом кафтане, привольно раскинулся на огромном сундуке. Ноги его свешивались на одну сторону, голова – на другую, но это ему не мешало – спал он мертвецким сном, вцепившись пятерней в висевший на сундуке замок. За спиной Серова хихикнула Шейла. – Дева Мария, что за славный подвиг! Невиданный в морях Вест-Индии! Взять корабль без единого выстрела! – Как это – без единого? – возразил Тегг. – Хоть немного, да постреляли! – Она имеет в виду, что никого не убили, – пояснил Серов. – Надеюсь, это нам у Господа зачтется. – Он задумчиво осмотрел каюту и прошептал на русском: – Ни сабли не нужны, ни багинеты…[422] Вино разит надежней пистолета. – Надо бы груз осмотреть да палубу очистить, – с деловитым видом произнес Стур. – И эту тушу сбросить с сундука. В замок-то он как вцепился! Видать, не пустой сундучишка! – Верно, – одобрил Серов. – Ты, Уот, распорядись. Боцман вышел и зычным голосом начал раздавать приказы: найти фонари, вскрыть трюмы, свалить туда голландских свиней да поглядеть, чего на этом корыте везли и чем тут можно поживиться. К рассвету все эти хлопоты были закончены. Экипаж числом сорок два человека, вместе с коренастым и щуплым, заперли в трюме; бородатого – видимо, капитана – стащили с сундука и положили отсыпаться под столом; в стенном шкафчике отыскали корабельный журнал и роспись товаров. Бриг с поэтическим названием «Русалка» под командой Петера ван дер Вейта следовал из Амстердама в Кюрасао с грузом железных изделий, лопат, мотыг, кузнечных клещей и молотков, а также оловянных мисок и кружек, башмаков, сапог и голландского джина. Проверив, что ничего более ценного в трюмах нет, подступились к большому сундуку, ключ от которого висел на шее капитана. Тут были вещи подороже: во-первых, ларец с корабельной казной, но не с золотыми гульденами, а с серебряными испанскими реалами, всего на триста с лишним песо; во-вторых, роскошный сервиз французского фарфора, украшенный росписью – волосатые фавны гоняются за нагими нимфами; в-третьих, мужское и женское платье, целый гардероб, который, судя по изяществу отделки, шили не иначе как в Париже. К платью прилагались мужские сапоги испанской кожи, дамские туфельки, перчатки, веера, шляпы и шляпки, при виде которых глаза у Шейлы восторженно расширились. – Тряпье! – недовольно буркнул Стур. – Тряпье, но для особ высокого ранга, – уточнил Серов. – Любопытно, для кого? – Он бросил взгляд под стол, на спящего капитана ван дер Вейта, потом на Шейлу. Ее личико было залито восхитительным румянцем. – Пожалуй, это платье из муслина с кружевами тебе подойдет… и эти башмачки, дорогая… Чем не подвенечный наряд? Шейла покраснела еще сильнее, но справилась со смущением. – И куда ты поведешь меня венчаться в Бас-Тере? Ты ведь, наверное, католик, а я хочу в протестантскую церковь. – Не важно куда, а важно с кем, – сказал Серов. – С тобою – хоть в мечеть. Утро желанного ветра не принесло, шлюп и бриг по-прежнему лежали в штиле, зато рассветная прохлада изгнала спиртные пары. Голландцы в трюме зашевелились, и боцман Стур, склонившись над люком, в кратких, но энергичных выражениях разъяснил им ситуацию. Дородный капитан тоже очнулся, попробовал сесть, стукнулся головой и с хриплым стоном выполз из-под стола. Серов велел окатить его водой и усадить у фальшборта, на свежем воздухе. Стоя на квартердеке, он наблюдал за своим экипажем – Боб и Стур уже пристроились к штурвалу, Рик забрался в «воронье гнездо», остальные бродили под вантами и реями, трогали туго натянутые канаты, осматривали вместе с бомбардиром пушки. Пушечной палубы на «Русалке» не было, и орудия стояли наверху: шесть морских кулеврин[423] и две пушки покрупнее, стрелявшие двадцатичетырехфунтовыми ядрами. Тегг был просто счастлив, когда обнаружил их. Капитан ван дер Вейт просыхал у фальшборта, и на лице дородного мингера гнев сменялся изумлением, а изумление – страхом. Он, несомненно, уже сообразил, что случилось, и видел, как его экипаж спускают в море по доске или развешивают на реях. Возможно, он вспоминал о развлечениях Монбара и Олоне, которые, взрезав пленнику живот, прибивали кишки к мачте и, подгоняя несчастного каленым железом, заставляли бегать вокруг, наматывая на мачту внутренности. Никаких оснований избежать такой судьбы у мингера не было: во-первых, кое-кто из пиратов, Кактус Джо, Тернан и Страх Божий, видом походили на настоящих дьяволов, а во-вторых, груз «Русалки» был слишком жалок, чтобы их смягчить. Угрюмые взгляды корсаров лишь подтверждали это. Серов смотрел на капитана, и новые планы роились в его голове. Похоже, этот ван дер Вейт был человеком разумным, хотя и склонным выпить лишнее – что, впрочем, никак не пятнало его репутации моряка: корабль ухоженный, пушки и палуба надраены, и ни один канат не провис. Умеет распорядиться по команде! И наверняка переживает за свой трудолюбивый экипаж – у всех мореходов жены и дети, а капитан, судя по возрасту, мог бы уже и внуками обзавестись. Словом, положительная личность… Может пойти на контакт с пиратами ради спасения души и тела, но лучше чем-то другим соблазнить. Не столь беззаконным… Тут Серов ухмыльнулся, сошел с квартердека и подозвал к себе Teгги Страха Божьего. – Ты, Страх, как голландец очухается, тащи его ко мне в каюту. Туда! – Он показал в сторону кормовой надстройки и повернулся к бомбардиру. – Потолкую я с этим ван дер Вейтом. Может, достигнем разумного консенсуса. Тегг поглядел на голландского капитана и хмыкнул: – А чего с ним толковать? Дождемся ветра, загоним ублюдков на шлюп, и пусть отчаливают на Кюрасао… И свечку в церкви пусть зажгут, что живы остались. – Их сорок человек, – сказал Серов. – Ну и что? – Подумай, Сэмсон, наши люди не могут одновременно стрелять из мушкетов и пушек, управлять парусами и идти на абордаж. Нас слишком мало! А тут – сорок опытных мореходов, стрелки, пушкари… Помощь для нас не лишняя. Кто знает, как повернутся дела на Тортуге? – Это ты про справедливость и порядок? – Тегг скривился, поглаживая раненую ногу. – Про них, Сэмсон, про них. Чем больше людей и пушек и чем калибр у них крупней, тем больше отвалится нам того и другого. Такова жизнь! – С этим я спорить не буду. Только, Эндрю, наши голландские хрюшки – из купцов. Зачем им помогать Береговому братству? – Возможно, я найду хороший повод. Ром и гром! Точно найду, если ты не против. Тегг обернулся и посмотрел на пушки – сощурившись и, видно, прикидывая, как у каждой хлопочет четверка исполнительных голландцев. Потом тряхнул головой: – Я не против. Пьют они крепко, и если так же стреляют, можно принять их на довольствие. Капитанская каюта, как обычно на парусных судах, располагалась в задней части кормовой надстройки и была довольно просторной – двенадцать футов в ширину, а в длину – все двадцать, от борта до борта. Одна стена с забранными в частый переплет толстыми квадратными стеклами выходила под самый квартердек, три другие переборки, вместе с полом и потолком, были обшиты дубовыми панелями и плашками, в темной поверхности которых тонул пробивавшийся сквозь стекла солнечный свет. Справа высился причудливый стол-кабинет со множеством полок, ящиков и ящичков, слева стояла койка под шерстяным покрывалом; стол и койка были привинчены к полу. Кроме того, имелись кресло, пара массивных табуретов, полдюжины шкафчиков в стенах, а на столе – Библия, подсвечник с тремя свечами и письменный прибор. Серов сел в кресло, насупился, скорчил зверскую рожу, потом решил, что лучше всего подойдет выражение лица, с которым он беседовал с клиентами в той, прошлой жизни. В меру суровое, в меру обнадеживающее, отчасти таинственное… Таинственность – это непременно! Детектив без тайны что череп с дырой: все извилины наружу, и каждому видно, что их не больше, чем у обычных людей. Минут через пять Страх Божий втащил голландца, придерживая за воротник, и опустил на табурет в точности напротив Серова. Мингер ван дер Вейт казался бледноватым, но с достоинством сложил руки на отвислом чреве и уставился на свой правый сапог. Этот тоскливый взгляд был Серову так близок и понятен, что он, не выдержав, подмигнул Страху: – Не в службу, а в дружбу – выпить принеси. Нет сил смотреть, как человек с похмелья мучается. Страх жалостно вздохнул, будто ветер прошумел над степью, выскочил вон и тут же вернулся с бутылью, кружками и блюдом неизменной солонины. Поставил принесенное на стол, плеснул в кружку, сунул ее капитану и исчез, будто страшный видом, но добрый сердцем джинн. «Вот она, наша славянская ментальность, – с чувством подумал Серов. – В драке никого не пожалеем, челюсть свернем, кадык вырвем, а на опохмелку нальем. Особенно ежели чужого…» Сделав пару глотков, ван дер Вейт отмяк и слегка порозовел. Затем с тоской оглядел каюту, принадлежавшую ему еще прошлым вечером, и осведомился на сносном английском: – Вы – предводитель морских разбойников? Подданный его величества Людовика Французского, я полагаю? – Вроде бы так, – подтвердил Серов. – Но это большого значения не имеет. – А что имеет значение в наш безбожный век? – вздохнув, произнес голландец. – Ни вражда владык, ни борение народов, ни добродетель, ни законы, ни даже разногласия меж христианами, детьми матери нашей Церкви… Только деньги, деньги и еще раз деньги! Гульдены, фунты, талеры! – Он горестно потупился и спросил: – Ну, так какой выкуп вы назначите за меня, мой корабль и мой экипаж? Не томите, мсье… – Серра, – отрекомендовался Серов, правильно истолковав паузу. – Нормандский дворянин и маркиз. Мингер ван дер Вейт словно усох при этих словах. Щеки его разом отвисли, бородатая рожа как бы съежилась, и даже объемистое брюхо будто бы сделалось поменьше. Серов удивленно приподнял брови: – Что-то не так, капитан? – Нет-нет, мсье маркиз. Я просто счастлив, что вы не герцог и не принц. Благослови вас Боже! Обычно чем выше титулы, тем больше аппетиты. Затем капитан приложился к кружке и со свистом всосал ее содержимое. Кажется, он был из философов, но не той унылой их чеканки, какую штампуют в монастырях и светских университетах, а вскормленным житейской мудростью и плодами личного опыта. Таких довольно много среди любителей спиртного, будто редкость моментов трезвости компенсируется у них особо трезвым взглядом на жизнь. «С этим договоримся», – решил Серов и полюбопытствовал: – Одежда и посуда в сундуке – чьи они? И откуда? Как-то не вяжется такой роскошный гардероб с грузом лопат и мисок… – Изделия из Амьена и Парижа, – пояснил капитан. – Заказ мадам ван Зейдель, благородной супруги губернатора Кюрасао. Одежда для нее и мужа, парижский сервиз для украшения стола… Большая модница эта фру ван Зейдель, но – храни ее Творец! – вовремя напоминает губернатору, чтоб не забыл уплатить по счетам. К тому же дама красивая, молодая и склонная к изящному препровождению времени. В прошлый рейс я ей доставил клавикорды. – Придется пока ей этим обойтись, – сказал Серов. – Одежду я конфискую вместе с сервизом. – Конечно, господин маркиз, разумеется, как же иначе… Конфискуйте, во имя Христа Спасителя! И сервиз, и платье, и мою «Русалку», и все остальное… Никаких возражений! – Ван дер Вейт привстал, в отчаянии вцепился в бороду левой рукой, а правую вытянул к бутылке. – Вы позволите? Такие переживания… сердце зашлось… и я еще не слышал сумму выкупа… Плеснув в кружку, Серов подмигнул голландцу и промолвил: – Не стоит беспокоиться, капитан, – все, возможно, не так уж плохо. Возможно, выкуп будет не столь велик, как вы опасаетесь; вы сохраните свою «Русалку», а ваша команда, равно как груз, ущерба не потерпят. Возможно, я даже верну вам корабельную казну и оплачу заказанное прелестной госпожой ван Зейдель… – Он сделал паузу, будто случайно положил на Библию ладонь и добавил: – Скажем, в двойном или тройном размере. Голландец едва не подавился выпивкой. – Вы шутите, господин маркиз? – Отнюдь! – Нет, вы смеетесь над старым Петером ван дер Вейтом! Смеетесь, тогда как ваши разбойники уже готовят петли и доски для моих людей! И для меня, конечно! Что будет только справедливо – ведь все мы грешники, особенно те пропойцы, что у меня на борту! И все мы в руке Божьей! – Никаких насмешек и шуток. – Серов подлил ему джина. – Я, мингер ван дер Вейт, предлагаю вам поступить ко мне на службу – временно и ненадолго, всего на месяц-полтора. Видите ли, получилось так, что я нуждаюсь в честных людях, в вас и ваших моряках, а также в вашем корабле. Мы отплывем отсюда на Тортугу… – О, Тортуга! – Капитан вздрогнул и закатил глаза. – Змеиное гнездо! – Полностью согласен с вами. Однако у меня там деловые интересы, и отстоять их лучше с мушкетами и пушками. Сумма в двадцать тысяч песо серебром вас устроит? Голландец заметно оживился. – И что я должен делать за эти деньги? – Может быть, пальнуть из всех орудий раз-другой, – сказал Серов. – Не исключается и рукопашная, но за отдельную плату и с возмещением увечий и убытков. Когда же я верну свое достояние, вы отправитесь на Кюрасао, с серебром и без всякого выкупа. – А велико ли это достояние, мсье маркиз? – Полмиллиона песо. Ну, еще всякие мелочи… корабль, трехмачтовый фрегат, и деньги, что хранятся на Тортуге, у монсиньора губернатора. – Полмиллиона! Огромное состояние! – Капитан задумчиво пожевал губами. – И мне вы предлагаете четыре процента… так сказать, за срочный фрахт… Восемь мне понравились бы больше. – Четыре, – твердо сказал Серов, – четыре, почтенный мингер. Торговля неуместна. Не забывайте о ваших обстоятельствах. – Мои обстоятельства… Да, конечно, они печальны… Но, быть может, господин маркиз поделится со мной своими затруднениями? Скажем, откуда взялась эта сумма в полмиллиона песо и почему вы ее потеряли… Не лишние подробности, клянусь Иисусом! Я ведь рискую кораблем, командой и собственной шкурой! После секундного колебания Серов решил, что нечего играть в секреты, и рассказал голландцу о руднике Пуэнте-дель-Оро, о гибели Джозефа Брукса, о мятеже и бегстве и предстоящих разборках с Пилом и губернатором де Кюсси. Ван дер Вейт слушал его, подняв глаза к потолку и напряженно размышляя. Душа его была сейчас точно распахнутая книга: желание вернуть корабль и страсть к наживе сражались с опасениями, подозрениями и нелюбовью ко всяким авантюрам. Наконец он опустил голову, уперся взглядом в свои сапоги и нерешительно пробормотал: – Лезть в пиратские свары… Святые угодники! Опасная штука! А есть ли у меня выбор, мсье маркиз? – Конечно. Шлюп в вашем распоряжении – садитесь и плывите себе с попутным ветерком. Я нуждаюсь не в подневольных людях, а в надежных и верных соратниках. Капитан вцепился в бороду: – Господь, спаси и помилуй! Двадцать тысяч песо! Весь груз моей посудины не стоит таких денег! Это с одной стороны, а с другой, верность нынче ценится дорого. Если бы мы договорились насчет восьми процентов… или хотя бы шести… – Обстоятельства, мингер, обстоятельства! Не забывайте о них! – Да, вы правы, господин маркиз. У московитов говорят… – Внезапно перейдя на русский, капитан произнес с чудовищным акцентом: – Попьял, аки кхур во шти! И это значит… При звуках родной речи Серов вздрогнул и уставился на ван дер Вейта во все глаза. Затем, придвинувшись вместе с креслом поближе к капитану, наклонился к нему и тихо спросил: – Вы что же, бывали в России? – В Московии? Нет, мой господин, там я не бывал, ибо эта держава портов в Балтийском море не имеет, равно как флота, торгового или военного. Они не мореходы, люди сухопутные. – Но скоро все переменится… – будто в трансе пробормотал Серов. – Совсем скоро… – Вы так думаете? Ну, не смею спорить с мсье маркизом. Словом, в Московии я не бывал, но знаю московитского царя. Мы с ним тезки, оба Петеры! Когда он приезжал в Амстердам[424], сидели мы с ним не раз в таверне, с ним и с его адъютантом по имени Алек-саш-ка. Он любопытен, расспрашивал меня и других капитанов про вест-индские моря и земли, требовал карты достать. – Голландец усмехнулся и пожал плечами. – Возможно, он собирается завоевать Бразилию? Или Мексику? – Бразилия с Мексикой нам не нужны, а вот насчет Аляски… – начал Серов и тут же прикусил язык. Об этом нельзя, об этом совсем ни к чему! – мелькнула мысль. Он вдруг с особой остротой ощутил себя пришельцем из грядущего, знающим наверняка, что есть и что будет, какие свершатся дела в ближайшие годы и в предстоящие столетия, кто сделается славен и велик, чьи имена сохранит история, кого предаст забвению. Но обсуждать это с мингером ван дер Вейтом явно не стоило. Серов поерзал в кресле и, чтобы замять неловкость, спросил: – Этот Петер, царь московитов… Каков он на вид? Капитан снова улыбнулся. – Странный… На вашего Луи не похож, да и на любого другого монарха в Старом Свете. Рослый, тощий, молодой, в простом камзоле… и усы торчат, как у кота… Звал он меня к себе в Московию и говорил, что сделает адмиралом. Только какой из меня адмирал? Бриг, восемь пушек и сорок пьяниц-матросов – на большее старого ван дер Вейта не хватит… Поднявшись, Серов похлопал его по плечу, затем разлил из бутыли по кружкам. – Ничего, почтенный мингер, ничего! Может, мы еще не только на Тортуге повоюем и все же выйдем в адмиралы! Как знать! А сейчас – за наш договор… чтоб был крепок… Звякнули, стукнувшись, кружки, крепкий джин обжег горло. Он откашлялся и молвил: – Пожалуй, я дам вам шесть процентов, мингер ван дер Вейт, как наградные для вас и экипажа. Или восемь, при успешном завершении дел. Голландец в полном ошеломлении сгреб бутылку и допил из горла. Потом, мотнув бородой, прохрипел: – С чего такая щедрость, господин маркиз? Я ведь помню о своих обстоятельствах и о том, что торговля неуместна. – Это, конечно, так, но мне хотелось бы вас поощрить, – сказал Серов. – Все же вы тезка русского царя и пили с ним в Амстердаме, а значит, вы из верных и честных людей. Петр Великий с кем попало пить не будет.Глава 16 СКАЛИСТЫЙ ФОРТ
Голландских матросов выпустили из трюма. Коренастый Николас Бринкер, первый помощник капитана, выстроил их на шкафуте, а суперкарго Ханс ван Хольп, тот самый тощий тип, что спал, уткнувшись носом в блюдо солонины, откупорил бочонок. Мореходы приняли по кружке, узнали, кто командует теперь парадом и куда направляется бриг, но плохие новости были приправлены хорошими: вешать и топить не будут, а за службу обещаны наградные. Это известие голландцы встретили одобрительными гулом, а затем Сэмсон Тегг отобрал десяток пушкарей и, дабы проверить их меткость, расстрелял шлюп с расстояния ста восьмидесяти ярдов. К вечеру с востока, с просторов Атлантики, потянуло свежим ветерком, а ночью ветерок сменился тропическим ливнем и шквалом, какие бывают в Карибских водах в начале осени. Шквал был яростен, но недолог; с полчаса тугие струи барабанили по палубе, корабль мотало на волнах, то подбрасывая к стремительно бегущим тучам, то швыряя в темную пропасть меж огромных валов. Вскоре небо очистилось, высыпали яркие, словно омытые ливнем звезды, и подул устойчивый попутный бриз. Заступила ночная вахта под командой Бринкера, остальные мореходы легли спать: экипаж «Русалки» – в кубрике на баке, люди Серова – прямо на палубе. Оружие, на всякий случай, держали под рукой. Впрочем, оно не пригодилось – голландцы свято соблюдали уговор. Если не считать прискорбной тяги к спиртному, экипаж у ван дер Вейта был надежен и трудолюбив, и оставался таковым, если за день распивали не больше кварты на нос. Само собой, команда «Русалки» не могла тягаться с пиратами в рукопашном бою, но паруса голландцы ставили быстрее, чем капитан раскуривал трубку, да и стреляли отменно, хоть из мушкетов, хоть из пушек. Серов еще раздумывал, когда и как придется их использовать, однако искренне надеялся, что до пальбы и резни дело не дойдет. С другой стороны, если такое все же случится, лучше иметь полсотни бойцов и крепкий бриг, чем хлипкое суденышко, чьи обломки сейчас дрейфовали к Наветренным островам. Погода благоприятствовала плаванию, ветер дул попутный, и спустя девять дней «Русалка» вошла в гавань Бас-Тера. Тут оказался целый флот: на рейде, кроме «Ворона», стояли еще два пиратских корабля, и несколько судов помельче разгружались у причалов. Отсалютовав из носовых орудий, бриг бросил якоря поближе к берегу, как раз напротив таверны «Старый Пью» и Скалистого форта. Снизу его кирпичные стены казались прямоугольной шапкой, небрежно надвинутой на маковку серого бесплодного утеса. – Мы не ошиблись, Пил здесь, черная душа, – произнес Сэмсон Тегг, разглядывая корабли. – И Пьер Пикардиец пожаловал, и Стив Ашер на своем «Трезубце Нептуна»… А Пил, похоже, совсем недавно заявился – вон, вся команда на борту. – Хрр… Еще не спустили, сучьи дети, наше серребришко, – буркнул за спиной бомбардира Хрипатый Боб. – Гроб и могила! Тысячу песо за неделю не спустишь, – отозвался Стур и добавил: – Хорошо, что здесь Пикардиец и Ашер. Мерзавцы оба, тухлая акулья требуха, но все же капитаны и помнят про Береговой устав. При них эта лиса Кюсси хвостом не повиляет! Прислушиваясь к ругани и возгласам корсаров, Серов потянулся за зрительной трубой. В круглом ее оконце промелькнули набережная, церковная колокольня, крыши лавок, кабаков и складов, потом возник трехмачтовый фрегат – «Гром» Пикардийца с восемнадцатью пушками. Двадцатипушечный «Трезубец» с бортами, окрашенными в желтый цвет, стоял восточнее, и оба судна располагались так, чтобы контролировать любые перемещения в бухте. «Ворон» застыл поближе к берегу, словно пойманный в ловушку зверь. Пила или других офицеров Серов не разглядел, однако заметил, что на шкафуте и шканцах толпятся человек пятьдесят—шестьдесят, а на квартердеке дежурят стрелки в полной боевой готовности. Затем он без особого удивления обнаружил, что палубы «Трезубца» и «Грома» тоже не пусты – у фальшборта торчали вооруженные до зубов пираты, не меньше половины экипажей. Что до обычно оживленной набережной, то там народа почти не замечалось – кроме негров, разгружавших два торговых корабля. «Точно вымерли все!» – подумалось Серову. Он сунул трубу за пояс и снова оглядел тянувшуюся вдоль гавани улицу, скользнув взглядом от таверны старого Пью на западе до протестантской часовни на востоке. В отличие от корабельных палуб, Бас-Тер казался безлюдным и едва ли не вымершим; мнилось, что вот-вот послышится команда, рявкнут огнем и дымом орудия, отвалят шлюпки от пиратских фрегатов, и кровожадные орды ринутся то ли друг на друга, то ли на притихший город. Впрочем, последнее было маловероятно – Бас-Тер, как и вся Тортуга, являлся землей экстерриториальной, неприкосновенной – во всяком случае, до той поры, пока Береговое братство нуждалось в услугах его губернатора. К тому же не стоило забывать и о пушках Скалистого форта. На них Серов питал особые надежды. Сделав знак капитану ван дер Вейту, он распорядился: – С вами останутся мастер Стур и еще один из наших, вот этот, – он показал на Жака Герена. – Слушаться их как меня и ждать сигнала! На берег ни ногой, пить не больше кружки, порох держать сухим. С остальными я отправлюсь в город. Спустили шлюпку, а в нее – сундук с одеждой и тщательно запакованным фарфоровым сервизом. Тернан, двое голландцев и братья Свенсоны сели на весла, плеснула изумрудная вода, скрипнули уключины, и замшелые бревна причала неторопливо поплыли к Серову. А вместе с ними – пыльные пальмы под низко нависшим вечерним солнцем, лачуги с покосившимися крышами, белые стены и колокольня церквушки, узкие улочки, что разбегались вверх, к террасам и домам богатых горожан. В том районе также не замечалось большого оживления. Лишь у низкого здания казармы, распластавшейся около губернаторского особняка, мелькали фигурки солдат – похоже, шли учения или военный смотр. – Тишина, как в пустом трюме, – промолвил Тегг. – Для нас большая удача, клянусь преисподней! Даже если гарнизон форта удвоили. – Хрр… А хоть бы и удвоили! – каркнул Боб. – Всем глотки перрережем! – Вот это ни к чему, – строго произнес Серов. – Не надо крови меж нами и губернатором. Тегг оскалился в хищной ухмылке и погладил лежавший на коленях мушкет: – Ну, это как получится. Как получится, молча согласился Серов, всматриваясь в берег. Время шло к шести часам, зной постепенно спадал, и в небе над восточным горизонтом повис тонкий полупрозрачный лунный серпик. Обычно в эти минуты у кабаков уже толпился народ, шныряли, клянча выпивку, калеки и нищие, шлюхи всех цветов кожи торчали на каждом углу, а в лавках звенело серебро. Три пиратских корабля, одновременно пришедших в Бас-Тер, сотни жаждущих глоток и сотни тугих кошельков должны были способствовать торговле и всевозможным развлечениям. Даже если бы «Гром» и «Трезубец» явились без добычи, хватило бы головорезов с «Ворона», чтобы смести спиртное со всех прилавков и трудоустроить всех портовых девок. Однако тишина! Никто не буянил в тавернах, не вопил, не горланил песен, не валялся пьяным в тени церковных стен. В самом деле, удачно! Удачно, какой бы ни была причина этой тишины. Они причалили напротив «Старого Пью» и сошли на дощатый настил пирса. Две шлюхи, мулатка и индианка, высунулись на улицу и тут же юркнули в кабак. Кроме них да негров-грузчиков рядом не было ни души. Отправив лодку с голландцами обратно, Серов послал Тернана и Джоса за мулами, потом велел вытащить ящик с сервизом и, подозвав Брюса Кука, распорядился: – Пойдешь с Олафом, Стигом и Эриком к губернатору. Можете не спешить, мыздесь останемся до полуночи. Губернатору скажешь, что маркиз Андре де Серра, только что прибывший в Бас-Тер, шлет дорогой подарок, кланяется и испрашивает аудиенцию. – Ау… чего? – Лоб Кука пересекли морщины. – Аудиенцию. Это значит, что завтра, желательно часиков в десять, я хотел бы повидаться с де Кюсси. – Так бы и сказал, – буркнул шотландец, кивая Эрику, младшему из скандинавов. – Ящик возьми, моча черепашья! И тащи осторожнее! Четверо пиратов удалились, вздымая сапогами пыль. Серов повернулся к таверне старого Пью, что притулилась у подножия утеса. Согласно прежним его планам, они должны были убраться за город, чтоб не маячить у всех на виду, и там, в какой-нибудь рощице, ждать темноты и ночи. Но всякий план полезно скорректировать, сообразуясь с обстоятельствами. Если в гавани безлюдье, то незачем таиться, а этот кабак гораздо удобнее пальмовой рощи и тростниковых зарослей. Готовая штаб-квартира, решил Серов и, взяв Шейлу под руку, повел ее к перегородке, что отделяла заведение папаши Пью от улицы. Тегг, приволакивая раненую ногу, двинулся за ними. Смеркалось. Сумрак наползал на остров с моря, поглощая застывшие на рейде корабли, белую полоску прибоя у бревен пристаней и молчаливую набережную. Вечерние тени вздымались все выше и выше, прятали затихший город дом за домом, ярус за ярусом, скрывали деревья, узкие извилистые улицы, заросшие цветущим кустарником дворы, пока не добрались до казармы и губернаторской резиденции. Там вспыхнули огни, и, словно повинуясь этому сигналу, со стен форта ударила пушка. – Вечерняя смена караула, – заметил Тегг. – Они стреляют в двенадцать и в шесть пополудни. – Самое время глотку промочить, чтобы не заржавела, – молвил Страх Божий, алчно нюхая воздух. – Хрр… Хоррошая мысль, – проскрежетал Хрипатый. – Заодно новости узнаем, – добавил Кактус Джо. Серов кивнул, и они ввалились в заведение. Там было пусто, сумрачно и тихо, даже две потаскушки куда-то исчезли. Папаша Пью клевал носом за стойкой, со стен свисали подвешенные на абордажных крючьях фонари, и только на крайнем из трех столов виднелись остатки недавнего пиршества – кружки, кувшин и обглоданные свиные ребра. Под столом кто-то спал, вытянув ноги в огромных грязных сапогах и наполняя помещение могучим храпом. Старый Пью тоже, видимо, был под хмельком: заслышав шаги посетителей, он сполз физиономией на стойку, приоткрыл один глаз и промычал: – Кхда м-мы с М-морганом брали М-маракайбо… Кактус Джо и Рик Бразилец, тащившие сундук, с грохотом опустили его на пол. Шейла села на лавку за средним столом, расстегнула пояс с пистолетами и, поглядев на Пью, заметила: – Кажется, с новостями придется обождать. И с выпивкой тоже. Но Хрипатый Боб уже двинулся к стойке, а за ним, как три верблюда к роднику, устремились Рик, Джо и Страх Божий. – Наливай, козел недоррезанный! – рявкнул Боб. – Ссчас, – отозвался папаша Пью, вытянул руку к большой трехгаллонной бутыли и замер, точно изваяние. Затем плавно и бесшумно соскользнул под стойку. Сплюнув на пол, Хрипатый ухватил бутыль. – Без тебя обойдемся, кррыса! Хрр… Стррах, крружки пррихвати! – Для меня – воду с лимоном, – сказала Шейла, и Рик, оттащив старого Пью в угол, начал шарить среди бочек и корзин. Серов, опустившись на скамейку рядом с девушкой, осмотрел тонувший в полумраке зал. Есть что вспомнить, мелькнула мысль, уже есть, хотя и пробыл в этой реальности едва ли больше семи месяцев. Тортуга – прямо дом родной, Бас-Тер – столичный град, а это заведение знакомо, как ресторанчик на старом Арбате, куда он захаживал временами… Даже памятней, чем этот ресторан, – в нем царили тишь да благодать, а тут он пил с подельниками на первую зарплату и дрался с Баском и молодцами с «Грома». Славная схватка, в которой он отбил индейца Чича! И где теперь этот Чич, воин индейского племени? Остался на далекой реке Ориноко, в дремучих лесах, среди Детей Каймана… Может, выдадут ему почетное перо и местную принцессу в жены и сделают вождем – как-никак, он свою миссию выполнил… А вот Мортимеру и Хенку, друзьям-подельникам, такие радости не светят. Нет, не светят, ибо ренегатам – только пулю в лоб! Что, возможно, и произойдет, когда начнется битва за «Ворона»… Он усмехнулся, подумав, что в Европе бушует Война за испанское наследство, а здесь, на Тортуге, будет другая, за руку и наследие мисс Шейлы Джин Амалии. Можно сказать, эта война уже началась, десант на берег высажен… Еще немного, и зазвенят клинки, грохнут выстрелы, хрустнут кости, польется кровь из ран… Его соратники пили, не слишком заботясь о будущих ранах и завтрашнем дне. В этой компании он был единственным стратегом. И, как у всякого приличного стратега, у него был план. – Тихо в городе, – сказал Сэмсон Тегг. – Не черная ли смерть[425] у них в гостях? А может, холера? Дьявол! Такое, говорят, случилось лет тридцать назад на Барбадосе, когда пришел корабль с чумными крысами из Плимута. Порт закрыли, на берег никто не съезжал, и всюду повесили черные флаги… – Спаси нас от этого Господь! – Шейла вздрогнула и перекрестилась. Кактус Джо покачал головой: – Флагов-то нигде не видно. И потом, когда чума, трупы жгут и вонь стоит такая, что святые угодники задохнутся. – Жгут, прравильно, – согласился Хрипатый. – От них, от дохляков, вся хворрь! Хрр… Нужно смолой обливать и жечь, а то неупокоенные души начнут сосать живых и порртить крровь. Так мне один испанский патерр говоррил… еще пугал чумным прроклятием… – Он вдруг расхохотался, словно ударили в жесть молотком. – А я его все одно заррезал! – Жгут, когда покойников много, – рассудительно заметил Тегг. – А если чума началась, но никто еще костылей не отбросил, так и жечь некого. Все по домам сидят и пьют. Джин да ром – первое средство от всяких недугов. – Наверно, так, – кивнул Страх Божий и, ополовинив кружку, с горечью вздохнул. – Был бы жив наш лекарь, объяснил бы, что к чему, а то сиди и гадай… Может, – он покосился на ноги, торчавшие из-под соседнего стола, – может, этот хрен подох и пакостная его душонка уже выбирает, в кого из нас вцепиться. – Хрр… Так в чем дело? – произнес Хрипатый Боб. – Надо сжечь зарразу! – Вместе с кабаком и старым Пью, – поддержал Кактус Джо. – Он, гад, пойло разбавляет! А это грех похуже чумы! И правда ведь, сожгут! – забеспокоился Серов, подумав, что костер под самой крепостью совсем уж ни к чему. Как минимум, в форте насторожатся, заметив пламя, а в максимальном варианте сгорит половина города, а то и весь Бас-Тер. Он привстал, собираясь сказать об этом, но тут упала скамья и под столом зашевелились. – Э, да там кто-то еще есть! – промолвил Тегг и щелкнул курком пистолета. – Ну-ка вылезай, ублюдок! Я тебе дырку в башке проделаю! – Не стреляйте, братцы! – раздался знакомый голос, и из-под стола показалась рожа Мортимера. Был он грязен и растрепан, штаны и рубаха в пыли, в волосах застрял какой-то мусор, и взор слегка мутноват. Но, как заметил Серов, сапог он еще не лишился. Другая пара – те, что торчали в проходе, как два неподвижных бревна, – принадлежала несомненно Хенку. Мортимер попытался встать, но это ему не удалось. – Прах и пепел! – пробормотал он. – До чего я рад видеть вас, парни! Мисс Шейла, мое почтение… Мистер Тегг, сэр… И подельник тоже здесь… Кактус Джо поднял Мортимера на ноги, а Боб отвесил ему оплеуху: – Хрр… Он тебе не подельник, краб вонючий! Он – капитан! Впервые Серова назвали капитаном. Для корсаров этот титул значил много больше, чем искусство прокладывать курс и управлять кораблем или палить из пушек. Капитан – тот, кто ведет в бой, кто делит добычу и ее находит, кто гарантирует справедливость, закон и порядок на судне. А главное, думает за всех… Эта способность, умение думать и предугадывать ход событий, являлась талантом редким и ценным в минувшие века. В эпоху Серова, когда человечество размножилось, провидцев стало больше, зато их порода измельчала до политологов, писателей и биржевых агентов. Искать капитана пиратского судна среди подобной шушеры – занятие безнадежное. Хрипатый Боб вытащил нож. – Не чумной, жечь не будем, – заметил он, осмотрев Мортимера. – Что пррикажешь, капитан? Крровь пустить или подвесить за рребро? В память о Галлахерре и Рросано? Переглянувшись с Теггом, Серов покачал головой: – Это успеется. Сперва я его допрошу. Щеки Мортимера побледнели. Он дернулся, но Боб и Джо держали крепко, а кончик клинка Хрипатого упирался в горло. – Братья… за что, братья?.. Я ведь лекаря не убивал… ни лекаря, ни Чарли Галлахера… Вы ведь там были и видели сами… Нет на мне их крови, Спасителем клянусь! Я только… – Ты только предал их и нас, Иуда, – сказал Серов. – Ну, об этом позже… позже, когда я решу, что делать с тобой и с дубиной Хенком. А сейчас отвечай! Когда «Ворон» пришел на Тортугу? – Третьего дня… или четвертого?.. Четвертого, должно быть! Слушай, Боб, убрал бы ты ножик, а то я ничего не соображаю, только задница потеет. – Хрр… Перребьешься, – каркнул Хрипатый. – Что случилось, когда вы пришли в Бас-Тер? – спросил Серов. – Отчего на борту вся команда? – Не вся. – Мортимер внезапно ухмыльнулся. – Мы с Хенком здесь! И Люк, и Алан Шестипалый, и Тиррел с тремя своими парнями, и кое-кто еще с пушечной палубы. Затаились, по кабакам сидят и не желают на «Ворон» возвращаться. – Почему? Разве все вы не куплены Пилом? Губы Мортимера скривились. Покосившись на Хрипатого, он осторожно поднял руку, почесал свой длинный нос и с унылым видом молвил: – Вроде бы куплены и вроде бы нет… Серебро, как было обещано, он раздал еще в том испанском городишке – всю ночь слитки рубили да тащили на весы. Потом пришли в Бас-Тер. Глядь, а тут гуляют парни Ашера и Пикардийца… Хотя гулять им не с чего: Ашер на Кубу ходил, взял табак да сахар, а у Пикардийца и того нет. Злые, как черти, прах и пепел! Ну, Пил велел, чтоб серебро обратно в трюм вернули – ради безопасности и для обмена на монету. По сотне песо каждому оставил, на выпивку и баб. Сошли мы на берег, устроили кутеж, и кое-кто, – тут Мортимер отвел блудливые глазки, – по пьяни начал похваляться. Мол, на «Вороне» денег немерено… Ашер с Пикардийцем как о том узнали, принялись собирать своих да двинули посудины к выходу из бухты. Пил видит, дело плохо – послал Садлера и Дойча вытащить всех из кабаков. Теперь сидят с мушкетами на серебре, а Пил торгуется с Ашером и Пикардийцем. Они по миллиону требуют, так что нам все одно своей доли не видать. Не видать! – Стиснув кулак, Мортимер с яростью ударил по столу. – Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал… – молвил Серов на русском и повернулся к Теггу. – Это что же получается, Сэмсон? Свои хотят своих же и ограбить? А как же закон Берегового братства? – Нынче не времена Грамона и Моргана, – отозвался бомбардир. – На «Вороне» две дюжины пушек, а у Пикардиица с Ашером – три. Вот и весь закон! – Мрачно нахмурившись, Тегг добавил: – Ну, это дело поправимое. Клянусь преисподней, из форта я достану любую лоханку в этой луже! – Он ткнул пальцем в сторону гавани, потом, уставившись на Мортимера, прорычал: – Ты, мешок дерьма! Ты знаешь, где прячется Тиррел и другие парни? Те, что не желают вернуться на «Ворон»? – Можно поискать, – кивнул Мортимер. – Нужно! Если капитан не возражает. – Тегг отвесил Серову короткий поклон. – Капитан не возражает. Нам понадобятся все, кто может держать мушкет и саблю. – Серов сделал повелительный жест, и Джо с Бобом отпустили его подельника. – Разбуди Хенка! Отправитесь за нашими, и если соберете хотя бы десять человек, глотка твоя останется целой. Ясно, Морти? – Да, капитан! Слушаюсь, сэр! С улицы донесся стук копыт и ржание мулов, потом раздались голоса Тернана и Брюса Кука. Шотландец распахнул дверцу в перегородке, вошел и устремился к огромной бутыли на столе. – Тут еще что-нибудь есть? Отлично! Де Кюсси назначил встречу в десять. За подарок благодарит и предлагает маркизу свое гостеприимство. Ужин, выпивку, кровать и двух девчонок-негритянок. Я бы не отказался. – В какой-нибудь более подходящий вечерок. На эту ночь у маркиза другие планы. – Серов улыбнулся и нежно погладил плечико Шейлы. – Не пора ли тебе переодеться, милая? Посмотрим, что найдется в сундуке. Нам нужен наряд воздушный, облегающий… Такой, чтоб у любого гвардейца челюсть отвисла. – Лучше я ее сверну, – сказала Шейла Джин Амалия, направляясь к сундуку.* * *
За кабаком папаши Пью лежал темный пыльный переулок, переходивший в крутую тропу, что упиралась в ворота форта. Тропа была довольно широкой и четверть века назад, когда в крепость закатывали пушки, могла считаться трактом. Но с той поры по ней поднимались лишь солдаты да мулы, тащившие ядра и бочки с порохом, так что с обоих краев дорога заросла кустарником и кактусом с дюймовыми шипами. У самых ворот, собранных из корабельного бруса и обитых железом, кусты и заросли кактуса вырубили, обозначив площадку в тридцать футов длиной и двадцать шириной. В дневное время она хорошо просматривалась с надвратного укрепления, однако ночью здесь было темно, как в акульем желудке. Два факела по сторонам ворот высвечивали пятачок земли, голой и высохшей почти до каменной твердости. Шейла остановилась на границе света и тьмы. Серов, спрятавшись за огромным, толщиной с телеграфный столб кактусом, видел лишь ее силуэт: прямая спина, осиная талия и пышные, похожие на крылья бабочки юбки. Это платье не предназначалось для чужих глаз: корсаж был слишком низким, плечи полностью открытыми, а во всех остальных местах тонкий шелк подчеркивал формы женского тела слишком детально и соблазнительно. Надо думать, фру ван Зейдель хотела покрасоваться в этом наряде в опочивальне или в столь же подходящем месте перед законным супругом или счастливым любовником, дабы возбудить их пыл. Та же задача была у Шейлы Джин Амалии, и, говоря по чести, вооружилась она не хуже, чем дама с Кюрасао. На стене, меж зубцами парапета, возникла усатая рожа часового. – Qui va? Etre debout! – выкрикнул страж и тут же с удивлением добавил: – Tete Dieu! La fillette![426] Шейла мелодично рассмеялась: – А ты кого рассчитывал увидеть? Дьявола или своего лейтенанта? Солдат наклонился, всматриваясь в ее лицо, и тоже перешел на английский. – Ты откуда, la petite?[427] Что-то я тебя прежде в городе не видел. Ни в «Серебряном песо» у Кривого Франсуа, ни в «Старом Пью», ни в «Лошади и подкове»… – Плохо глядишь, солдатик, – сказала Шейла и грациозно повернулась, придерживая юбку. – Ну, теперь рассмотрел? И как тебе? – Отлично, ma foi![428] Правда, в толк не возьму, что ты тут делаешь? – Недогадливый ты, парень… Там, внизу, – Шейла махнула в сторону моря, – все сидят по своим лоханкам, и на берег ни ногой. Тоска! И никакой работы. Расправив усы, француз впился в нее жадным взглядом: – А ты хотела бы потрудиться, ma belle?[429] Шейла сделала шаг к воротам и прищелкнула пальцами. – Двадцать песо, служивый! – Шестнадцать за двоих. Гийом дежурит на восточном бастионе, и без него никак не обойтись, малышка. Шестнадцать мы еще наскребем… Но больше – ни единого су![430] – Черт с тобой! Спускайся! Пригнувшись за своим кактусом, Серов вытащил из ножен шпагу. Если не считать пламени факелов, вокруг царила темнота. Свет звезд и едва народившегося месяца был слишком слабым, не позволявшим увидеть затаившихся в кустах людей; даже зная, где прячутся его бойцы, он мог разглядеть лишь смутные силуэты, почти незаметные во мраке тропической ночи. Считая с ним и с Шейлой, тут было тринадцать человек. Девушка стояла у самых ворот, прижавшись к окованной железом створке. Руки ее шарили у пояса; из пышных складок платья вдруг появился пистолет, затем – кинжал, сверкнувший алым блеском в свете факелов. Раздался лязг засова, и ворота приоткрылись. Усатый часовой высунул голову: – Hola, mon angel![431] Ты где? – Здесь, красавчик, – откликнулась Шейла и опустила ему на темя рукоять пистолета. Удар был силен, но все же солдат устоял на ногах – похоже, череп его мог посоперничать крепостью с мореной дубовой доской. Хрипло выдохнув, он вцепился в Шейлу, раскрыл рот и завопил: – Mort de ma vie! A moi, camerades![432] Сейчас она его зарежет, мелькнуло у Серова в голове. Он бросился к воротам и отшвырнул солдата, успев заметить блеск кинжала Шейлы. «Не убивай его, девочка, не надо», – шепнул Серов, проскальзывая меж тяжелых створок. Вслед за ним в форт ворвались Хрипатый с братьями Свенсонами, и Боб тут же метнулся к восточному бастиону. Там, на лестнице, ведущей со стены во двор, маячила фигура второго стража, вскинувшего мушкет. Треск выстрела разорвал тишину, поднялся огромный кулак Хрипатого, и француз осел на землю. Десяток полуодетых босых солдат, кто с саблей, кто с ружьем, выскочили из жилого каземата, тут же наткнувшись на корсаров. Серов ударил одного в колено сапогом, у другого вышиб оружие и ринулся к высокому мужчине, должно быть, офицеру – тот, подняв фонарь, спешил за своими людьми. Проклятия, крики и звон клинков наполнили двор; звуки метались среди кирпичных стен, будто пойманные в ловушку, но продолжалось это недолго – три-четыре или, самое большее, пять минут. За это время ошеломленных французов оттеснили в угол между северной и восточной стенами; все они были обезоружены, и половина – особенно те, кто повстречался с Хрипатым и Страхом Божьим, – едва держались на ногах. Серов приставил шпагу к груди офицера: – Прекратите сопротивление. Обещаю, что никто из ваших людей не пострадает. Француз надменно вскинул голову: – Кто вы такой? И что вам нужно? Известно ли вам, что вы посягнули… – Известно, – оборвал его Серов. – Клянусь, что городу Бас-Тер не будет причинено разрушений или иного ущерба. Мы лишь арендуем ваш форт на несколько дней, после чего он вернется во владение Французской Вест-Индской компании. Я даже готов оплатить ядра и порох, которые мы израсходуем. – Вы собираетесь стрелять, мсье? – Непременно. Но большей частью в сторону моря. Брови офицера приподнялись, затем, пожав плечами, он оглядел тесный дворик, освещенный фонарем и тремя факелами, своих солдат, зажатых в угол, клинки и пистолеты в руках корсаров. Вероятно, он не был лишен здравого смысла и понимал, что сопротивляться бесполезно. – С кем имею честь? – Маркиз де Серра. – Француз? – Нормандский дворянин. Вы, мсье?.. Офицер склонил голову: – Поль Ансельм, лейтенант артиллерии и комендант форта. Примите мою шпагу, маркиз. Если не будет возражений, я со своими людьми останусь в казарме. Мрачные солдаты потянулись вслед за Ансельмом в жилой каземат. Последним шагал кавалер Шейлы, ощупывая темя и с опаской поглядывая на пистолет в руках девушки. Когда он скрылся в темном проходе, Шейла захлопнула дверь и сунула свое оружие в массивные, предназначавшиеся для замка скобы. – Теперь не выберутся. Но я, на всякий случай, посторожу. Серов окинул ее восхищенным взглядом. В воздушном наряде мадам ван Зейдель, на фоне темной кирпичной стены, она казалась сказочной принцессой, владычицей древнего замка, где обитают гномы, эльфы и призраки. Ну и, конечно, рыцари – эти уже разбрелись по двору, лезли в подвалы и на стены, прикидывая, чем бы поживиться. – Тегг! – позвал Серов. – Где Тегг? Но бомбардир тоже занимался делом – увлеченно осматривал пушки. Двенадцать больших длинноствольных орудий глядели на бухту, их лафеты были изукрашены узорами, массивные стволы – казенную часть руками не обхватишь! – постепенно суживались, напоминая шеи огромных черных лебедей. В них воплощались сила и мощь этой эпохи, еще незнакомой с ракетами и фугасами, не знавшей напалма, атомных бомб и ядовитых газов. Все это придет, с грустью подумал Серов, придет неизбежно, а пока самое грозное оружие – эти бронзовые мастодонты, чугунные ядра и черный порох. Он приподнял один снаряд размером с человеческую голову. Ему показалось, что ядро весит не меньше пуда. – Подходящий калибр, – буркнул Саймон Тегг, одобрительно щурясь. – Крепостные пушки, любую лоханку в гавани по щепкам разнесут. Да и любую стену, клянусь Иисусом! Из таких пострелять – редкое удовольствие! – Ты уж завтра не слишком усердствуй, рушить стены нам ни к чему, – предупредил Серов. – И помни: стреляешь ровно в двенадцать. – Будет как договорились. Хотя – Бог свидетель! – я бы от этого городишки камня на камне не оставил! – Нежно похлопав пушечный ствол, Тегг повернулся и заорал: – Олаф, Стиг, Эрик! Рик, Боб, Джо, Тернан! Все сюда, бездельники! Откатить эту пушку и передвинуть к той амбразуре! «Та амбразура» открывалась к городу и губернаторской резиденции. Понаблюдав, как пираты ворочают тяжелое орудие, Серов взял факел и поднялся на стену форта. В сотне футов под ним лежала темная морская поверхность, и кроме этой бесконечной непроницаемой тьмы да редких огоньков внизу он не видел ничего. Мрак надежно спрятал гавань, лодки, причалы и корабли; свет фонарей, горевших на судах, казался отблеском звезд в невидимой воде. Вдали раздался звон колокола, повторившись дважды, – на «Вороне», «Громе» и «Трезубце» пробили первый час ночи. Серов поднял факел, махнул им над головой, рассыпая искры. На «Русалке», стоявшей ближе к берегу, чем корабли корсаров, не звонили, но эта тишина была обманчивой – Стур, и Жак Герен, и мингер ван дер Вейт, и все его люди не спали, поджидая сигнала. Опустив факел, он прислушался и вскоре различил тихий плеск воды и скрип уключин. Половина команды брига переправлялась в двух шлюпках на берег. Лучшие канониры, новый гарнизон форта… – И завтра грянет бой, – пробормотал Серов, всматриваясь в проблески огней, мерцавших на кораблях пиратов, и представляя, как полетят над бухтой тяжелые ядра. Довольно кивнув, он швырнул в море факел и, насвистывая песенку, спустился во двор.Глава 17 МСЬЕ ДЕ КЮССИ, ГУБЕРНАТОР
В ту ночь, пока Серов дремал вполглаза среди своих людей, между бочек пороха и пушечных лафетов, привиделся ему сон. Снилось, будто он вовсе не Серов Андрей Юрьевич и не маркиз Серра, а какой-то другой бедолага, унесенный вихрем времени, – может быть, программист Понедельник или библиотекарь Елисеев. Будто сидит он на обочине дороги в неведомой стране, таращится на дома и людей, а дома те и люди совсем непривычны: где башня каменная торчит, где хижина из веток, и жители щеголяют в хитонах, в рыцарских доспехах, в платьях с кринолинами, а то и почти голышом. И говор их непонятен, как язык индейцев майя, – то зачирикают, словно китайцы, то, на кавказский манер, взревут гортанно, то завопят пронзительно и тонко, как сотня индийских певиц. Какие люди, чей тут город, что за время – Бог их знает! Понятно лишь, что не двадцатый век, – машин и мобильников не видно и банок с пивом тоже. Серова – или того, кем он был в странном своем сновидении – терзали тоска и чувство потери. Где он очутился, в какой стране, в какой эпохе? И кто он такой? Возможно, он стал одновременно всеми, кто затерялся в прошедших веках, и видит сразу множество картин – то, что явилось им после перемещения? Возможно, времена, в которые они попали, вдруг перекрылись, смешались, словно стекляшки в калейдоскопе, объединив каким-то загадочным образом сознания Серова, Фрика, Ковальской, Понедельника и всех остальных? Возможно, то была подсказка, знак, что Мироздание поколебалось и в нем вот-вот откроется дорога, путь назад, домой, в привычную и родную реальность? Но хотел ли он в нее вернуться? Бесспорно, да – если говорить о людях, сгинувших в безднах времен. О всех, кроме Андрея Серова. С ним, с Серовым, ясности не было – то ли он слишком прижился в новой для себя эпохе, то ли не желал оставить начатых тут дел, то ли боялся что-то потерять – что-то такое, чего не нашлось в прежнем его бытии. С этой мыслью он проснулся. Его голова лежала на коленях девушки, лучи утреннего солнца согревали лицо, и под еще сомкнутыми веками таяли призрачные страны и эпохи. Когда они совсем исчезли, Серов вдохнул соленый ветер с моря, раскрыл глаза и огляделся. В тесном дворике спали вповалку голландцы и корсары, укрытые тенями, что пролегли от стен, а меж зубцов парапета синела спокойная морская гладь и голубели небеса. Он посмотрел на массивные темные туши орудий, на лодки, скользившие к берегу, на замершие в бухте корабли, на город и зеленые холмы Тортуги. Все правильно, все верно, подумалось ему; он там, где должен быть. Вот его люди, вот его женщина, а в гавани – его корабль, который предстоит отвоевать. Расстаться с этим невозможно, особенно с женщиной и кораблем. В тот день, в тот самый первый день, когда его швырнули в море, он поклялся, что завладеет «Вороном», и он исполнит клятву. Исполнит, но не во имя мести, а ради любви и справедливости. Он улыбнулся Шейле. – Ты беспокойно спал, – сказала девушка. – Что-то мучает тебя, Эндрю? – Мучает? Нет. – Серов легко поднялся на ноги. – Пожалуй, я даже счастлив, дорогая. Я забываю то, что должно быть забыто, а новое, что найдено здесь, приносит мне все больше радости. Место, правда, неподходящее… Но ничего! Скоро, совсем уже скоро, мы покинем этот край и поплывем на родину. – В Старый Свет? В твою Нормандию или дальше, в Московию? – Шейла вздохнула. – Что ожидает нас, Эндрю? – Не знаю, милая, не знаю, но там наша родина и судьба. Там реки прозрачней, леса зеленее, и снег… снег такой белый… Тебе понравится. – Расправив плечи, Серов ударил лезвием кинжала о пушечный ствол, и гулкий звук потревоженной бронзы поплыл над двором. – Вставайте, парни, заря уже полощется! Берите оружие! Нас ждут великие дела! – Хрр… И наши песо, – добавил Хрипатый Боб, поднявшись из-за бочек с порохом.* * *
В искусстве верховой езды Серов не слишком преуспел, что являлось несомненным упущением. Все знатные люди в эту эпоху, от Индии и Китая до Калифорнии и Перу, отлично ездили верхом – большей частью на жеребцах и кобылах, а также на верблюдах и слонах. Что до последних транспортных средств, то их, конечно, в Нормандии не было, но разве мог отец-маркиз не обучить потомка – пусть незаконного! – езде на благородных скакунах? Это совершенно исключалось, и потому Серов терпел неудобства такого способа передвижения – жесткое и неудобное седло, коротковатые стремена и упрямство мула. В цирковом училище вольтижировку не преподавали за неимением лошадей. Позже, уже странствуя с родителями по Европам, он немного образовался – ибо какой же циркач не знает, как подойти к коню! Однако бабушка Катя, славная наездница, могла бы дать Серову сто очков вперед, не говоря уж о его нормандских предках. Это с одной стороны, а с другой, мул – это отнюдь не арабский скакун, а тварь ленивая и зловредная, совсем не подходящая для торжественных кортежей. Но настоящих лошадей в Бас-Тере было десятка два, принадлежали они избранной публике и не сдавались внаем. Кроме мулов были ослы, но маркиз Серра, конечно, не мог явиться к губернатору на ишаке или на своих двоих, с испачканными пылью сапогами. Маркиз не шантрапа какая-то! Suum cuique, как говорили латиняне; каждому свое. И потому Серов трясся на муле, что было меньшим уроном для чести и достоинства, нежели хождение пешком. Мул оказался грязноват и тощ, но, компенсируя этот недостаток, костюм Серова выглядел роскошно: камзол из синей с золотом парчи, такие же штаны, заправленные в сапоги испанской кожи, перевязь с испанским клинком, кружевные манжеты, перчатки и шляпа с белыми перьями. Должно быть, в таком облачении счастливый супруг мадам ван Зей-дель намеревался красоваться на балах, и подходило оно для встреч со знатными персонами, хоть королевской, хоть губернаторской крови, самым наилучшим образом. Правда, камзол немного жал в плечах, штаны были просторны в поясе, и сапоги великоваты, зато в них поместились пистолет и нож. Вслед за Серовым ехала Шейла, сменившая свой легкомысленный наряд на голубое платье, отделанное рюшами, с пышным бантом на талии и серебристой вышивкой по вороту. Ее головку покрывала белая мантилья, тонкие пальцы в белых перчатках уверенно держали повод, а из-под платья выглядывали ножки в изящных французских башмачках. Она была прелестна, восхитительна, и Серов, оглядываясь то и дело, испытывал буквально муки совести – она была достойна князя, а не поддельного маркиза. Впрочем, Петр Алексеевич мог пожаловать его хоть князем, хоть маркизом, хоть тамбовским губернатором – конечно, ежели заслужишь такую честь. Четверо всадников сопровождали их в качестве свиты. Для этой поездки Серов отобрал парней повыше ростом и покрепче, трех братьев Свенсонов и Хрипатого Боба. Они приоделись, разграбив вконец сундук ван Зейделя: Джо щеголял в малиновом жилете, Олаф – в алых бархатных штанах, а Стигу и Эрику достались кружевные рубахи, шляпы и башмаки. В другое время жители Бас-Тера сбежались бы полюбоваться кавалькадой, но нынче страх возобладал над любопытством: все сидели по домам. Набережная была почти пуста, и только у товарных складов маячили охранники с мушкетами. Гавань казалась столь же тихой и безлюдной, если не считать пары шестивесельных шлюпок, неторопливо скользивших к берегу. Мулы тоже не спешили, и когда Серов добрался до католической церкви, прибывшие уже толпились на ее ступенях– двенадцать оборванных головорезов с «Трезубца» и «Грома» и двое мужчин в нарядах пороскошнее. Эти были главарями: один – жилистый, крючконосый, прокаленный солнцем тропиков, другой – крупный светловолосый верзила с рубцом от верхней губы до правого уха. Шрам приподнимал губу, и оттого казалось, что он весело скалится, но серые его глаза были холодны, как айсберг. Серов натянул уздечку, и Шейла с Бобом поравнялись с ним. Сзади слышался шорох, лязг и скрежет – братья-датчане вооружались, готовясь к драке. За церковью шла крутая улочка, ведущая наверх, к площади и губернаторской резиденции, однако сворачивать в нее было опасно – тыл оставался незащищенным. Кремневый пистолет – штука, конечно, неуклюжая и не очень точная, но пуля все-таки быстрее мула. К тому же Серов сомневался, что их скакуны умеют двигаться галопом. – Кто такие? – спросил он, приблизившись к подозрительной компании. – Здоровяк – Стив Ашер, капитан «Трезубца», а с ним Пьер Пикардиец, – пояснила Шейла. – Тот, с носом как у попугая! – И зубами как у акулы, – прохрипел Боб, потянувшись за пистолетом. – О чем поганец Морртимер у «Старрого Пью» толковал? Врроде про этих вот самых ублюдков, что пасть рразинули на наше серребришко? Не угостить ли их свинцом? Но Пикардиец, не испугавшись угрозы, шагнул вперед, заступил дорогу мулам и во все глаза уставился на Шейлу. – Дева Мария и все святые! Девчонка старого Брукса, чтоб мне пропасть! – Голос у него был громкий, резкий, и на английском он изъяснялся с заметным акцентом. – Болтали в кабаках, что мисс Шейла так убивается по дядюшке, что высохла как щепка и навсегда поселилась в лесу. Живет теперь у его могилки, чтоб, значит, свиньи и стервятники косточек не растащили… может, с горя уже померла… Вранье, видать! Вот же она, тут! Живая, здоровая, в богатом наряде и с молодцами Брукса! Откуда только взялись… С голландской посудины, что ли? Он махнул в сторону брига и попытался выдернуть уздечку из рук Шейлы, но девушка хлестнула Пикардийца по пальцам: – А ну, прочь! Отойди! Говоришь, болтают, что я умерла? А я вот слышала, что тут есть парни, что зарятся на мое наследие. Только напрасно! Ни одна крыса фартинга не получит! – Это какое же наследие? – с ухмылкой спросил капитан «Грома», отступая, однако, на пару шагов. – Лачуга в Ла-Монтане и дюжина беззубых негров? Что еще тебе оставил дядюшка? Пальму с кокосами и огород с капустой? Бочку рома и старые подштанники? Щеки Шейлы гневно вспыхнули, рука метнулась к поясу, но Серов, наклонившись, перехватил ее запястье. Люди с «Трезубца» и «Грома» не прикасались к оружию и явно не собирались драться, хотя пистолеты Свенсонов и Боба могли уложить половину из них. Надо думать, кровопролитие не входило в планы главарей, и добивались они чего-то другого – наверное, просто хотели разобраться в ситуации. Серов мог бы изложить ее в самом лучшем виде и опасался только одного – чтоб Шейла не проговорилась. Скажем, про пушки форта, Teгга и голландских канониров… Велев своим спутникам опустить оружие, он вымолвил: – Каждый имеющий глаза видит наследие мисс Шейлы Брукс – судно в гавани, три его мачты, пушечные порты и двадцать четыре орудия. Фрегат, груженный серебром… Вы его хорошо рассмотрели? Все еще ухмыляясь, Пикардиец взглянул на Серова: – А это что за расфуфыренный петух? Тех знаю, – он покосился на Боба и Свенсонов, – а эта птичка мне незнакома. Откуда ты взялся, красавец? И что тебе за дело до «Ворона», его орудий и серебра? – Это мой корабль, – сказал Серов. – Мисс Брукс оказала мне честь, сделав капитаном, и многие в экипаже с ее решением согласны. – А кто же Пил, Эдвард Пил? Наверно, капитан для несогласных? И их, видать, побольше, если Пил на корабле, а ты с девчонкой Брукса здесь. Разве не так? – Усмешка вдруг исчезла с лица Пикардийца, и он, жадно сглотнув, произнес: – У Пила судно, пушки, сотня молодцов и серебро, три миллиона песо, говорят… А что у вас? – Все то же самое, кроме серебра – корабль, люди, пушки. Вот они! – Рукой, затянутой в перчатку, Серов показал на голландский бриг. – Кроме того, вы ошибаетесь в подсчетах, капитан, – в команде Пила меньше сотни. Многие перебежали к нам, так что еще до заката мы ступим на палубу «Ворона» и разберемся с мистером Пилом. – И с серебром? – Безусловно. – Три миллиона песо… три… – будто зачарованный, пробормотал Пикардиец. – В Панаме Морган взял четыре, но их пришлось делить на пару тысяч голодранцев… А здесь на всех кораблях трех сотен не насчитаешь… И три миллиона серебром! Господь всемогущий! – Хоть десять, – заявила Шейла, ударив мула каблуками. – Ну-ка, уходи с дороги, Пьер! Убирайся! Я же сказала: из моего наследства – никому ни фартинга! Очень удачно получилось – случайно или она решила подыграть Серову, изображая непреклонность. Он уже не сомневался, что Пикардиец лишь застрельщик, а главное слово будет за Ашером. Не просто слово, а, вероятно, деловое предложение. Так оно и получилось. – Не нужно горячиться, леди, – спокойно молвил капитан «Трезубца». – Вы здесь, вы живы, и часть команды на вашей стороне, а это значит, что Пил – ворюга, нарушивший закон Берегового братства. Что, дьяволом клянусь, для нас не новость – люди с «Ворона» много пили и еще больше болтали. За это мы можем пустить на дно их лоханку, да груз уж больно ценный! И брать на абордаж их не годится, потери будут слишком велики… А что еще сделаешь? Пил клянется, что три миллиона – дым над трубой, но кто поверит лживому скоту? Словом, леди, мы в затруднении… – Ашер раздвинул губы, показав внушительные клыки. – Однако вы здесь, и это меняет дело. Ваш человек говорит, что вы не одни, что есть у вас люди и пушки? Ну и отлично! Верните свою посудину, но так, чтоб груз не утопить… Верните, а мы подсобим! – Но не бесплатно, не бесплатно, – предупредил Пьер Пикардиец. – Бог велел делиться, леди и джентльмены. Особенно с теми, у кого больше пушек. Бросив на Шейлу предостерегающий взгляд, Серов вежливо приподнял шляпу и ответил: – Благодарю, капитан. Мы обдумаем ваше предложение, и я надеюсь – я даже уверен! – что мисс Брукс проявит щедрость. Но только в разумных пределах! Скажем, миллион на двоих… Это устроит? Кто-то из Свенсонов фыркнул за его спиной, а в горле Хрипатого Боба забулькало и заклокотало. Пикардиец почесал в затылке: – Полтора мне больше нравится. Полтора вам, полтора нам. Так будет справедливо. – Договорились. Мы оставляем себе полтора миллиона, а все, что свыше, – вам. – Серов поднял руку. – Клянусь милостью Господней! Вы получите свою часть груза из трюмов «Ворона»! А сейчас расступитесь и дайте нам проехать. – Похоже, вы направляетесь к губернатору, – сказал Стив Ашер. – Но стоит ли втягивать его в наши разборки? Я бы не советовал. Определенно не советовал! – У нас и мысли такой нет, – успокоил его Серов. – Положено, однако, засвидетельствовать почтение властям и обсудить размер портовых сборов. – С вашей доли, – буркнул Пикардиец и освободил дорогу. Прядая ушами и недовольно дергая уздечки, мулы потащились по пыльной и крутой улице, что вела к губернаторскому дворцу. Этот тракт выглядел более оживленным, чем набережная: тут и там в утреннее небо поднимался дымок, женщины готовили еду, хлопотали в крохотных двориках, пекли лепешки, развешивали белье. Еще навстречу кавалькаде попались три тележки с овощами, десяток негров с белым надсмотрщиком, несколько портовых шлюх и воинский патруль. Солдаты несли дежурство в верхней части улицы, у домов почтенных горожан мсье Филибера и мсье Баррета, торговцев колониальными товарами. – Хрр… – произнес Боб, ехавший слева от Серова. – Весело, должно быть, рраздавать миллионы, которрых и в помине нет! Пожадничал ты, капитан. Я бы им трри отгррузил! – Хотелось бы мне знать, кто байку пустил про три миллиона, – заметила ехавшая справа Шейла. – Такую свинью мерзавцу Пилу подложить! Неглупый парень это сделал. – Похоже, я догадываюсь кто, – молвил Серов, и хитрая рожа Мортимера мелькнула перед ним. Он усмехнулся, потом призадумался и сказал: – Должно быть, Пилу уже известно, что мы здесь. С «Грома» и «Трезубца» нас разглядели, так почему не разглядеть и с «Ворона»? У каждого капитана есть подзорная труба, и «Ворон» встал на якорь ближе к берегу. – Это плохо или хорошо? – спросила Шейла. – То, что с «Ворона» нас увидели? – Это отлично, милая! Они еще на нас полюбуются, когда мы вернемся от де Кюсси! Серов спрятал улыбку и посмотрел на форт, маячивший темной угловатой глыбой на фоне голубых небес. Вряд ли в городе и в гавани кто-нибудь подозревал о том, что цитадель сменила хозяев – это был его сюрприз, его козырная карта. Что там болтал Пикардиец? Бог велел делиться, особенно с теми, у кого больше пушек… Ну, сочтемся стволами, посмотрим! Площадь перед резиденцией была пустынной. Серов слез с мула, помог сойти на землю Шейле и велел ждать их в ближайшем переулке, а на площадь – ни ногой. Затем они поднялись к распахнутой двери, у которой поджидали два лакея. Шейла, в своей мантилье и голубом наряде, шла плавно, как яхта под попутным ветерком, Серов же чертыхался, потирал поясницу и рыскал в сторону от курса. Мулы проводили его насмешливым ржанием. В патио их не повели – чернокожий слуга в обшитой галунами ливрее двинулся к лестнице на второй этаж. Стиснув зубы, Серов одолел ее вслед за лакеем и Шейлой и очутился в хозяйском кабинете, обширном помещении с видом на море. Здесь находились письменный стол, отделанный сверкающей бронзой, конторка, несколько кресел и обтянутый плюшем диван. На стенах – вычурные жирандоли[433] со свечами, зеркала и большой парадный портрет короля. Его величество Людовика XIV изобразили в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках, причем суровый королевский взгляд был устремлен не на зрителей, на объемистый ларец у левой его ноги. Это, несомненно, являлось напоминанием о портовых сборах, взимаемых в пользу французской короны и Вест-Индской компании. – Маркиз… – Де Кюсси с приятной улыбкой вышел из-за стола и отвесил поклон, колыхая белоснежным париком. Серов изящно махнул шляпой в ответ. – Приветствую вас в этих далеких от Франции краях, но удивлен, что вы прибыли на голландском бриге. Кажется, с этой державой мы в состоянии войны, и потому… – Тут его взгляд упал на Шейлу, и губернатор едва не подпрыгнул, взметнув льняные локоны. – Мисс Брукс! Свет Господень! Моя дорогая мисс Брукс! Какими судьбами? Я слышал от мсье Пила о горестной участи вашего дяди… Я так соболезную вам! И я… я готов… любую помощь… Шейла склонилась в реверансе. Губернатор подскочил к ней, взял за руку, подвел к дивану и усадил так бережно, словно она была статуэткой из севрского фарфора[434]. Благодарно кивнув, Шейла сняла перчатки, расправила пышный бант на талии и грустно поникла головой. – О, мсье, мой бедный, бедный дядюшка Джозеф… это такая трагедия, такая потеря… Но, к сожалению, погиб не он один. Был бунт, мятеж, и, по вине Эдварда Пила, несколько верных мне людей тожерасстались с жизнью. Пришлось бежать – с теми, кто спасся и защитил меня, но я потеряла груз и корабль. А этот груз… – Да-да, я знаю, мадемуазель! Около пятисот тысяч песо, как уверяет капитан Пил… Внезапно щеки Шейлы вспыхнули. – Не смейте называть его капитаном! Он вор и мошенник, захвативший мой корабль! – Девушка приподнялась и махнула перчатками в сторону Серова. – Вот его капитан! Только маркиз Серра будет командовать «Вороном»! Повернувшись к Серову, губернатор оглядел его с ног до головы, потом вытащил табакерку, но открывать ее не стал. По лбу его побежали морщины, рот приоткрылся; чудилось, он пытается воскресить некое ускользающее воспоминание. – Могу ли я узнать, мой дорогой Серра, когда и где вы встретились с мадемуазель Шейлой? – произнес де Кюсси, постукивая пальцами по табакерке и продолжая сверлить Серова взглядом. – Да, разумеется. Вы даже сами ответите на этот вопрос, вспомнив молодого человека, что посетил вас вместе с Томом Садлером и капитаном Бруксом месяцев семь назад. Кажется, испытывая нужду в секретаре, вы пожелали его купить, но капитан не согласился… Припоминаете? – Так это вы? – Глаза губернатора изумленно округлились. – Конечно, вы! Садлер говорил, что вы – сын маркиза из Нормандии… Значит, все это время вы плавали с Джозефом Бруксом? Но почему? Вы, нормандский дворянин… – По причинам личного свойства, – произнес Серов, с нежностью улыбнувшись Шейле. Поясницу у него отпустило, и он поклялся про себя, что на мула больше не сядет. Затем сказал: – Я прибыл в Вест-Индию на «Викторьезе», но очутился на «Вороне», я был бездомным и нищим, но приобрел более, чем потерял. Судьба, губернатор! Кто мы такие, чтобы спорить с ней? Кстати, как вам понравился мой подарок? – О, да! Ваша щедрость не знает границ! Моя супруга в восторге! Этот фарфор достоин королей! – Пустяки, де Кюсси, пустяки. Мелочь. Это лишь первый знак нашего дальнейшего сотрудничества. Губернатор посмотрел в окно, на бухту и корабли корсаров, на голландский бриг и застывшие у пирсов торговые суда. Глаза его сузились; щелкнув крышкой табакерки, он взял щепотку, втянул зелье в нос, чихнул, подставив кружевной платочек. – Ваш драгоценный подарок и ваш костюм, маркиз… Я полагаю, что ваши обстоятельства переменились к лучшему? – Не стану отрицать. Бриг, который вы видите, принадлежит мне, вместе со всеми ценными товарами и верными людьми, примкнувшими к нам, а не к Пилу. Кроме того, мисс Брукс пожелала, чтобы я командовал «Вороном» и защищал ее интересы. – И вы… – И я намерен вернуть корабль и достояние мисс Шейлы. С вашей помощью, мой дорогой губернатор. Ведь в этих краях вы – гарант справедливости и порядка. Де Кюсси мгновенно увял. Лицо его сделалось кислым, кожа приняла цвет напудренного парика. – Рад бы помочь, однако… – Руки губернатора взлетели в жесте сожаления. – Взгляните в окно, маркиз, и вы поймете, в какой я беде – и я, и мой город, и вся Тортуга… Эдвард Пил, коего вы считаете мошенником, явился в Бас-Тер пять дней назад и сообщил мне о гибели Джозефа Брукса, а также о том, что избран новым капитаном. Про мисс Шейлу он не сказал ни слова, но предложил обмен: слитки серебра на звонкую монету. Сумма крупная, пятьсот тысяч песо! Около полумиллиона, если отнять портовый сбор… Таких денег у меня не наберется, но я обещал подумать и посодействовать, привлечь капиталы пайщиков компании – скажем, Баррета, Сент-Онжа и других. Тем временем распространились слухи, что Пил скрывает часть сокровищ и что на самом деле он привез миллионы. Три, а может, пять… – Чушь, – сказала Шейла. – «Ворон» – вместительный фрегат, но серебра на три миллиона ему не поднять. Даже если избавиться от пушек. – Разумеется, чушь! Нелепость, клянусь Христом Спасителем! – перебив ее, воскликнул де Кюсси. – Но людям свойственны подозрительность и вера в чудо. Может быть, Ашер и Пьер Пикардиец не верят в чудеса, но все же решили, что легче поискать добычу здесь, чем у испанских берегов. И что мы видим? Что? – Он с трагическим видом взмахнул руками. – Их корабли блокируют порт, Пил готов обороняться, и в любой момент в бухте начнется побоище! А продолжат его в городских стенах, чему я бессилен воспрепятствовать! Мой гарнизон – семьдесят солдат, корсаров в пять раз больше, и если они хлынут в город… – Не тревожьтесь, – произнес Серов, – раз уж они не начали, то драться не будут. Никто не желает, чтобы испанские сокровища утонули в вашей бухте, так что бомбардировки не предвидится. Хотя пара-другая снарядов может в город залететь. Случайно. Он вытащил свой «Орион» и посмотрел на циферблат – была четверть двенадцатого. Губернатор вздохнул: – Дивная вещица… – Что? – Я о часах… Никогда таких не видел. – Швейцарская работа, – сообщил Серов, пряча часы в кошелек. – Кстати, что вы беспокоитесь из-за пиратских разборок? Пока форт с его батареей в ваших руках, Бас-Тер защищен от любых неприятностей. – Разве вы не понимаете? – Де Кюсси снова всплеснул руками. – Я не имел в виду, что Пил или Ашер с Пикардийцем атакуют город. К чему им это? Но если начнется стрельба, куда полетят случайные ядра – те самые, о коих вы упомянули? И если какое-то судно потопят, куда деваться его экипажу – тем, кто остался в живых? Это не нападение на город, просто Бас-Тер окажется жертвой войны, к которой непричастен… Наши склады сгорят, пирсы будут разбиты, дома разрушены, лавки разграблены… И что же мне делать, маркиз? Стрелять по кораблям корсаров? Но кто из них придет потом в Бас-Тер? Кто станет платить портовые сборы? Кто… – Никто, – произнес Серов и тут же добавил, коснувшись руки де Кюсси: – Я понимаю, что нейтралитет – основа вашего бизнеса и с первым снарядом он превратится в прах. В прах и пепел, как говорит один мой знакомый… Очень щекотливая ситуация! Но есть вполне разумный выход, губернатор. Я бы даже сказал, единственный. – Какой же, мсье? – Часть нашей команды подкуплена Пилом, и он даже выплатил обещанное, но потом забрал. Люди наверняка недовольны, и мы можем этим воспользоваться. В конце концов, кто платит, тот и хозяин. – Хотите перекупить этих мерзавцев? – Почему бы и нет? Может быть, мы избежим большой резни… А деньги – это только деньги. – И они у вас есть? Серов переглянулся с Шейлой. Разработанный им план вступал в критическую фазу, и теперь могло случиться всякое, грохот пушечного залпа или ливень губернаторских щедрот. Впрочем, на последнее он мало рассчитывал. – Деньги у нас есть, – сказала Шейла. – Сто восемьдесят тысяч песо, которые дядя Джозеф оставил у вас на хранение. Губернатор, все еще стоявший у окна, заметно вздрогнул. Его физиономия окаменела; вцепившись левой рукой в локоны парика, он приложил правую к сердцу и, будто взыскуя поддержки, повернулся к королевскому портрету. Добром ни копейки не даст, понял Серов и взглянул на часы. До полудня оставалось семнадцать минут. Де Кюсси вернулся к столу, сел и вытащил из ящика колокольчик. Потом произнес: – Не уверен, что правильно понял вас, любезная мисс Брукс. О каких деньгах вы говорите? Предположим – повторяю, только предположим! – что ваш почтенный дядюшка передал мне некую сумму, но цель заключалась не в том, чтобы хранить ее в сундуке. Ваш дядя был деловым человеком и понимал, что деньги должны приносить доход. Значит, цель была бы не в хранении, а в ссуде, то есть вложении в Вест-Индскую компанию под годовые проценты и на определенный срок. А это значит, что вы никак не можете распоряжаться деньгами, тем более что вы – особа, еще не достигшая совершеннолетия. А потому я намерен… Шейла слушала с видом примерной девочки, сложив руки на коленях. Глаза ее, однако, метали молнии, а мысли Серов прочитал без труда: «Ну, что я тебе говорила? Якорь в бок этому псу помойному!» – Намерен, – продолжал губернатор, – взять над вами опеку. А также над вашим имуществом, исключая корабль и остальные спорные части, которыми пусть занимается маркиз. – Он отвесил поклон в сторону Серова. – Юные дамы плохо разбираются в делах, и им необходимо твердое мужское руководство, мое или посланного Господом супруга. Эту идею мы тоже могли бы обсудить… – Де Кюсси поднял глаза к потолку, подумал минуту-другую и сообщил: – Кавалер Сент-Онж, племянник моей жены, холост и всегда проявлял к вам большой интерес. Соединение ваших капиталов явилось бы… Шейла закусила губу, ощупала бант на талии, и Серов уже было решил, что губернатор покойник. Однако она совладала с яростью и тихо произнесла: – Боюсь, вы опоздали, мсье. Зачем мне кавалер Сент-Онж, когда я сделалась маркизой де Серра? Вот мой супруг перед Богом, и я ношу его дитя. – О! Любопытная новость! Вы не шутите? – Через восемь месяцев узнаем. – Совсем успокоившись, Шейла мило улыбнулась. – Или через семь. Губернатор покосился на Серова: – Ну, что-то такое я предполагал… Однако брак, не освященный церковью, права опекунства не дает. Поэтому, маркиз… – Деньги на бочку! – молвил Серов и вытащил до половины шпагу. Де Кюсси схватился за колокольчик: – Спокойно, мой дорогой Серра, спокойно! Вы ведь не думаете, что обманули меня своим подарком и нарядами? Каждый корабль из Франции привозит массу прощелыг и самозванцев, столько маркизов, баронов и графов, что хватит на целый королевский двор. Опасные, очень опасные люди! И потому, встречаясь с ними, я удваиваю пост в кордегардии. Стоит мне позвонить… Серов оставил шпагу в покое и вытащил свой хронометр. Полдень без трех минут… – Жаль, что наши переговоры в тупике. Однако, губернатор, сейчас мы их продолжим и, как я надеюсь, завершим к взаимному согласию. Помнится мне, в двенадцать форт стреляет холостыми… Ставлю свой нормандский замок против этого особняка, что вас ждет нечто удивительное. Большой сюрприз! – Он поднял палец, не спуская глаз с циферблата. – Совсем скоро… прямо на площади, у ваших дверей… смотрите внимательно… Вдали грохнула пушка, затем раздался пронзительный свист и снова грохот, уже гораздо ближе. Пудовый снаряд врезался в землю точно перед лестницей, взметнулись густые клубы пыли, дом задрожал, и снизу, с первого этажа, послышались панические вопли. Выглянув в окно, Серов увидел солдат и чернокожих слуг, бежавших по лестнице. Кажется, они решили, что битва между корсарами началась, и первые ядра посыпались на город. – Пожалуй, я не буду ставить замок против вашей резиденции, – произнес Серов. – Скоро начнется бомбардировка казармы, и хотя Саймон Тегг, мой канонир, лучший наводчик в Вест-Индии, пара ядер может свалиться вам на крышу. К чему мне развалины? Де Кюсси был белее своего парика. Он поднял лицо к портрету, но король, игнорируя губернатора, мрачно взирал на сундук; он повернулся к Шейле, но она, мило улыбаясь, вытащила из-за банта пистолет. Наконец взгляд де Кюсси обратился к Серову. Едва шевеля губами, он вымолвил: – Будь я проклят! Вы захватили форт! Мой форт! – И это решает все проблемы, не правда ли? В первую очередь с Ашером и Пикардийцем – если шевельнутся, я их просто утоплю. А с вами… с вами, мой дорогой де Кюсси, тоже вопрос исчерпан. Моя невеста мисс Шейла Брукс просит вернуть капиталы, вложенные в Вест-Индскую компанию, и так как просьба срочная, не требует процентов. Расчет – на пирсе перед церковью, сегодня, через два часа. И не тяните время, губернатор, иначе Сэмсон вам напомнит, что долг положено платить. Серов отсалютовал королю, чей портрет от сотрясения перекосило, и подал руку Шейле. Они направились к дверям, но хриплый булькающий голос губернатора настиг их на пороге. – Серра… вы опрометчивы, Серра… Деньги я пришлю, но это не поможет вам… нет, не поможет! Вы считаете, что все решают пушки, а это не так. Вы справились со мной, но Пикардиец и Ашер потребуют свою долю. Если вы обстреляете их – пусть даже уничтожите! – об этом станет известно, и вам отомстят. Отомстят другие из Берегового братства! Вам не уйти от расплаты, и ваша победа – на час! В лучшем случае, на день, неделю или месяц! – Дольше я тут не задержусь, – сказал Серов и вышел вон. Когда они спускались по лестнице в пустынный холл, Шейла, хмуря брови, заметила: – Он прав, дорогой, нам будут мстить. Не только за Ашера и Пикардийца, если мы их тронем – это лишь повод… Но слухи о наших богатствах, о миллионах песо, скоро облетят все острова, вызовут зависть, подогреют жадность. И многим захочется отнять то, чего на самом деле нет… – Вот еще причина, чтобы оставить эти края, – молвил Серов. – Если ты согласна, если забудешь про счеты с испанцами, мы уйдем. На восток, мое счастье, в Россию… К новой жизни и новой судьбе. Девушка кивнула: – Я тебя никогда не покину, Эндрю. Мама… – в ее глазах блеснули слезы, – мама говорила, что Господь дает один раз и нельзя пренебрегать его подарком. – Он послал тебе только меня? Или что-то еще? – спросил Серов, обнимая ее за талию. – Ты сказала, что ждешь ребенка… Это правда? Или ты просто хотела отделаться от губернатора с его племянником? Слезы Шейлы вдруг высохли, разгладилась морщинка меж бровей, глаза заискрились, и на губах мелькнула улыбка – чарующая, загадочная. Лицо ее стало безмятежным, напомнив Серову мадонн Рафаэля – тех, что склонялись над младенцем с материнской нежностью. Она прижалась к нему, подняла взгляд и прошептала: – Бог не скупится, милый. Когда он дает, то дает щедро.Глава 18 ПОЕДИНОК
– Смотрят, сучьи дети, – сказал боцман Стур, не отрываясь от подзорной трубы. – Смотрят! Пил и Дойч на квартердеке, еще ван Мандера вижу и трех парней со стекляшками. Передают их друг другу и машут руками, будто велено шкоты тянуть… Ага, вот и Садлер появился, старый хрыч! Покажи им, капитан! Так покажи, чтобы в глазенках затмилось! Серов зачерпнул пригоршню монет, поднял повыше и наклонил ладонь. Хлынул сверкающий на солнце ручеек, раздался мелодичный перезвон – его, пожалуй, не услышали на «Вороне», но, несомненно, разглядели блеск драгоценного металла. Де Кюсси не смог рассчитаться одним серебром и, кроме песо, прислал золотые дукаты, что стало большим облегчением – легче считать и вес намного меньше. Тяжкие сундуки с серебряными монетами Серов отправил на «Русалку» капитану ван дер Вейту, а золото отмерял своей команде в обещанных Джозефом Бруксом размерах: по тысяче песо на нос, а тем, кто штурмовал рудник, еще пятьсот. Происходило это на пирсе рядом с церковью, и с палубы «Ворона», в подзорные трубы и даже невооруженным глазом, можно было разглядеть блестящий дождь, что падал в руки верных и раскаявшихся. Верных, не считая самого Серова, Шейлы и Сэмсона Teгга, который сидел с голландцами в форту, осталась дюжина, а своевременно раскаявшихся было еще десятка два. Их, обойдя кабаки и притоны, собрал Мортимер, объясняя всем и каждому, что нынче его подельник – капитан, что справедливость и порядок будут восстановлены, и что щедротами мисс Шейлы все получат долю, хочешь в золоте, а хочешь – в серебре. Это, разумеется, была диверсия, финансовый подкоп под кресло Эдварда Пила. Со времен фараонов битвы и войны выигрывались не столько храбростью солдат и гением вождей, не столько силой оружия и многолюдством армий, сколько основой военной мощи, что коренилась в финансах и экономике. Если деньгами распорядиться с умом, то непременно будешь в победителях – этот тезис оставался верен для всех народов и эпох. Нередко им пренебрегали, как многими простыми истинами, которым трудно достучаться до слишком жадных и корыстных, или отвергали из романтических побуждений, считая, что булат сильнее злата. Но к Серову это не относилось; он, уроженец двадцатого века, был прагматиком и твердо знал, что и почем покупается за баксы. Или за песо и дукаты, что ситуацию принципиально не меняло. – Похоже, ты их достал, капитан, – ухмыльнулся боцман, глядя в зрительную трубу. – Фарук, нехристь блохастый, к Пилу шагает, а с ним целая толпа… Так и валят на ют, к квартердеку! – Наблюдай за ними, Уот, – сказал Серов. – Сейчас последних отоварю, и двинем к шлюпкам. Четыре большие шестивесельные шлюпки покачивались у пристани под охраной Страха Божьего и Кука. Все остальные тоже были при деле: Хрипатый Боб проверял снаряжение – у всех ли кинжалы и тесаки и каждый ли мушкет заряжен; братья Свенсоны возились с абордажными крючьями, привязывая к ним канаты; Тернан и Джос раздавали порох, а Шейла Джин Амалия, уже не в платье, а в безрукавке и лосинах, отсчитывала деньги. Кактус Джо и Рик Бразилец стояли в оцеплении вместе с Аланом Шестипалым, Люком Форестом и еще тремя молодцами, отгоняя досужую публику. Время было опасное, и жители Бас-Тера сидели по домам, но к нищим, пропойцам и тем из шлюх, что посмелее, это не относилось – они, заслышав звон монет, вились вокруг как мухи, клянча подачку или предлагая поразвлечься. Серов, сидевший на бревне у сундука с откинутой крышкой, кивнул Тиррелу: – Твоя очередь, Клайв. Раскрой кошель и подходи. Корсар приблизился, пряча глаза. Кошельком ему служила огромная торба бычьей кожи, куда Шейла начала пересыпать золото. Монеты были большие, в пять и десять дукатов, и бренчали они как райские колокола. – До чего приятная песня… прямо хор ангелов… Храни вас Господь, мисс Шейла! – Тиррел с виноватым видом покосился на девушку, потом на Серова и буркнул: – Ты меня прости, капитан… сэр… черти попутали… там, на Ориноко, не за того я кричал… Тебя, может, и не подняли бы на квартердек, но кричать за Пила точно не стоило. – Повинную голову меч не сечет, – молвил Серов на русском, а на английском добавил: – Отслужишь, Клайв. Тут несколько твоих парней, бери их под свою команду. – Дождавшись, пока Шейла отсчитает деньги Хенку и Мортимеру, он спросил: – Монету с собой возьмете, или отправить Теггу в форт? Там, пожалуй, будет надежнее. – С собой, – отозвался Тиррел, пряча кошель в широком поясе. – С собой, – подтвердил Мортимер. – Если уж мне вышибут мозги, то оплачу доставку в пекло. Стур махнул рукой, чтобы привлечь внимание Серова: – Заварушка у них началась, капитан! Фарук лезет на ют, а Дойч не пускает… Пил шпагой грозится, а Садлер со шкипером спорят о чем-то… На баке человек двадцать собралось, пушкари Тегговы, и все при оружии. Кто с кортиком, кто с пистолетом… – Пушкари, говоришь? Это хорошо. Значит, палить в нас не будут. – Серов поднялся и скомандовал: – В шлюпки, ребята! Олаф, раздай крючья! Тернан и Джос, кончайте с порохом, сундук берите! Крышку к черту сбить, сундук поставить на передней банке – пусть видят, что мы им везем. В руках Тернана сверкнул топор, и крышка отлетела. Подняв сундук, пираты потащили его к лодке; следом, вздымая сапогами пыль, двинулись остальные бойцы. Не столь многочисленное войско, как хотелось бы Серову, но его союзником был бунт на «Вороне». Он надеялся, что половина команды ждет не дождется, когда их возьмут на абордаж. – Господин маркиз! Постойте, господин маркиз! Подождите! Гулкий зов раскатился по набережной, и он повернул голову. Тряся бородой и брюхом, к пирсу спешил голландский капитан, а с ним десятка полтора матросов с брига, все с тесаками и мушкетами. Сам ван дер Вейт был увешан оружием, как рождественская елка: за поясом – три пистолета и кинжал, на перевязи – длинная рапира, за плечами – ружье, а в руке, которой он энергично размахивал, остро заточенный крюк. – Мы с вами, господин маркиз! Бринкера и еще троих я оставил на «Русалке» серебро стеречь, а прочие здесь. Ну, не считая тех, кто с мистером Теггом… – Те, кто с мистером Теггом, в полной безопасности, – сказал Серов. – Они у пушек за крепостными стенами, а мы сейчас к фрегату поплывем, на палубу полезем, и будет там пиратская разборка. Та самая, в которой вы не хотели участвовать… Зачем вам это, капитан? – Московиты говорят: долх плятьежом покраснится, – отдуваясь, произнес мингер ван дер Вейт. – Мы обещались за двадцать тысяч из пушек пострелять, но вы нам дали сорок. Такая щедрость обязывает, господин маркиз, и потому мои люди и я – в вашем распоряжении. – Вам приходилось брать на абордаж корабль? – Нет. Но меня на абордаж брали, так что какой-то опыт в этом я имею. Серов усмехнулся и хлопнул голландца по плечу: – Тогда вперед, капитан! Места в шлюпках еще достаточно. Он спрыгнул с пирса в лодку и сел рядом с Шейлой у передней банки. Было четыре часа пополудни; солнце, висевшее над утесом и мрачной коробкой форта, еще заливало лучами город, пристани, склады, лачуги и губернаторский дворец. Должно быть, де Кюсси глядит оттуда на уплывающее золото… Оно переливалось и сверкало в раскрытом сундуке, прямо перед Серовым, а весла в сильных умелых руках гнали и гнали шлюпку все ближе к «Ворону» и его команде. Только слепой или безумец не понял бы, что это значит! Вот возвращаются товарищи, везут добычу на дележ, и с ними – капитан, пусть никем не избранный, но все-таки законный. Законный! Ибо то, что в любой монархии и демократии стыдливо прятали и лицемерно отрицали, в кодексе Берегового братства было аксиомой: сила превыше всего, и сильный всегда прав. Только докажи, что ты силен… Высокий борт «Ворона» надвигался, и Серов уже мог разглядеть черные жерла стволов, якорные цепи и полированный брус планшира. Сомнения мучили его, страх за сидевшую рядом девушку терзал сердце. Верно ли он рассчитал? Откроют ли огонь по шлюпкам? Четыре прицельных выстрела, и весь его отряд окажется в воде, среди разбитых досок и разводов крови… Шейла и он будут первыми жертвами, если начнется пальба… Шейла! Она сказала: если Бог дает, то дает щедро. Давать-то дает, но забирает без жалости! Еще двадцать ярдов под дулами орудий… Порты зияли пустотой, в их темных провалах не замечалось движения, никто не откатывал пушки назад, не сыпал порох из полотняных рукавов, не подносил снаряды. На верхней палубе тоже были пушки, но что там творится, Серов не видел – над планширом мелькали головы в платках и шляпах, оружие, воздетые вверх кулаки и разъяренные рожи. Орали и сквернословили крепко, но в них никто не целился – видно, у Пила хватало других забот. – В самый раз поспеем, – молвил правивший шлюпкой Стур. – Парни за Пила взялись, пыль выколачивают. Ну, Господь им в помощь! А мне бы ту задницу прихватить, что Галлахера упокоила… там, на Ориноко… – Хрр… А кто, ты знаешь? – каркнул сидевший на веслах Боб. – Или Дойч, или Найджел Полпенса. Темновато было, и драка началась, так что я в точности не разглядел. – Дьявол с ним! Обоим печень выррежем, – заметил Хрипатый. Шлюпки, все четыре, вышли из зоны обстрела, и Серов облегченно вздохнул. До корабля было рукой подать, несколько ярдов, десяток хороших гребков. Он вдруг почувствовал, что пальцы Шейлы лежат на его перчатке и с удивительной силой сжимают ладонь. «Добрались, – шепнула она, – все-таки добрались…» Он хотел ответить, но в этот момент грохнули выстрелы. – Мушкетеры, приготовиться! – крикнул Серов, поднимаясь, и тут же сообразил, что не слышит ни свиста пуль, ни воплей раненых. Стреляли на «Вороне», и хор голосов и проклятий, что доносились оттуда, разом сделался громче. Весла взмыли растопыренным веером, в последний раз плеснула вода, и лодки понесло к корабельному борту. – Крючья! Бросайте крючья и лезьте наверх! Серов едва узнал свой голос. Если случалось ему кричать в прежней жизни, то было это в Чечне – кричал, предупреждая об опасности, кричал, чтобы увериться, что жив, и от ужаса тоже кричал, падая в подбитом вертолете. Но крик, что вырвался сейчас, был другим – яростным, мощным, повелительным. Крик командира, что посылает бойцов в атаку. Взлетели канаты и крючья, острая сталь впилась в планшир. Гремя оружием, корсары ринулись на палубу – горящие глаза, рты, раскрытые в вопле, блеск клинков, грохот сапог о гулкий борт… Хрипатый Боб, братья Свенсоны, Рик Бразилец, Кактус Джо, Кук, Герен, боцман Стур… Тернану и Джосу Серов велел остаться у сундука. Потом кивнул Шейле и ухватился за канат. «Ворон» встретил их ревом десятков глоток. Большая часть команды сгрудилась на носу, словно стая волков, готовая рвать и терзать и ожидавшая только сигнала вожака. Тут были канониры Teгга, парни Тиррела и Галлахера, но нескольких знакомых лиц не замечалось – эти, должно быть, гнили сейчас на берегу реки, среди развалин Пуэнте-дельОро. Шкафут и шканцы, отделявшие бак от кормовой надстройки, были пусты, а перед бизанью, поперек палубы, тянулась цепочка людей с мушкетами. Человек пятнадцать, прикинул Серов и поднял глаза к квартердеку. Там, у левого трапа, лежали турок Фарук, Руперт Дойч с простреленным виском и кто-то еще, в залитой кровью рубахе. В горле Фарука торчал кинжал, пальцы сжимали пистолет, темная борода глядела в небо. Над трупами, свидетельством недавней схватки, стоял Эдвард Пил. Лицо его было мрачным, фиолетовый камзол распорот ударом клинка, глаза, обычно ледяные, сверкали бешенством. Садлер и шкипер ван Мандер держались позади него. Шкипер был бледен, казначей казался невозмутимым; на век старого пирата пришлось столько резни и разборок, крови и трупов, что никакой мятеж его смутить не мог. – Капитан на борту! – рявкнул Стур, махнув тесаком мушкетерам. – Вы, дерьмодавы, бросьте свои пукалки! На баке – молчать! Слушать капитана! – Пусть поднимут сундук, – приказал Серов. Его отряд растянулся вдоль фальшборта с оружием наготове. Сторонники Пила заколебались; кто-то опустил мушкет, другие крутили головами, не зная, в кого теперь целиться, то ли в новоприбывших, то ли в толпу на баке. Но шум прекратился, и в торжественной тишине сундук с драгоценным содержимым неторопливо перевалил планшир и лег на палубу. Каждый дукат сиял, как крохотное солнце, и люди, соратники и враги, готовые пустить друг другу кровь, окаменели, завороженные волшебным блеском. Челюсти отвисли, сжались кулаки, десятки глаз, горевших алчностью, уставились в сундук, и в этот момент сомнения покинули Серова. Он победил! Почти победил – глаза Эдварда Пила пожирали Шейлу. Казалось, он равнодушен к золоту, к потере власти и собственной жизни; подавшись вперед, стиснув рукоять клинка, он смотрел на нее, и его тонкие губы кривились в усмешке. Потом Пил откинул голову, оглядел стоявших у борта, будто отыскивая кого-то, и усмешка сделалась шире. Сердце Серова гулко стукнуло, их взгляды скрестились лезвиями шпаг, и смертным холодом повеяло от их незримого удара. Он был как гонг перед началом поединка, и оба знали, что в живых останется один. Корабль и женщина могли принадлежать лишь одному из них. – Вот ваша доля. – Серов поворошил монеты, и золото протяжно зазвенело. – С теми, кто готов пойти за мной, я рассчитаюсь здесь и сейчас. И с остальными тоже, но не дукатами. – Он вытащил шпагу и хлестнул по планширу клинком. – Шлюпки поданы, джентльмены! Кому я не по нраву, вон с моего корабля! Темные зрачки Пила вспыхнули. – Корабль еще не твой, – сказал он, направляясь к трапу. – Эй, парни, расступитесь! В стороны, в стороны! И опустите ружья! – Он оттолкнул двух мушкетеров и повернулся к Серову, сжимая шпагу и кинжал. – Мы решим наш спор как мужчины, по законам Берегового братства. Хочешь рассчитаться здесь и сейчас? Ну, так тому и быть! Момент истины, мелькнуло в голове Серова. Миг, когда ни золото, ни серебро, ни миролюбие, ни ум и хитрость не помогут. Даже пушки форта бесполезны, как и люди, что пришли с тобою – будь их хоть целая армия! Остаешься тем, что ты есть, человеком без титулов и званий, владений и богатств, и все твое имущество в эти мгновения – тонкая полоска стали. Лишь она стоит между тобой и смертью… Он сбросил камзол, шагнул вперед, но кто-то ухватился за рубаху, брызгая слюной и бормоча: – Кинжал! Возьмите мой кинжал, маркиз! Ван дер Вейт совал ему дагу[435]. Ее эфес щетинился пятидюймовыми шипами, обтянутая кожей рукоять прочно легла в ладонь. – Спасибо, капитан, – сказал Серов и двинулся навстречу Пилу. Палуба глухо рокотала под его шагами. Они сошлись на шканцах. Бизань стрелой огромного лука нависла над ними, и длинная тень от мачты легла им под ноги, точно граница, разделяющая врагов. Пил сместился вправо – так, чтобы солнце светило противнику в глаза. Шпага и кинжал в его руках мерцали, как два серебряных луча луны. Клинки соприкоснулись с резким лязгом, Серов уверенно отбил удар, затем другой, чувствуя, как напрягается кисть в привычном усилии. Шагнув к переборке квартердека, он парировал кинжалом выпад и сам нанес укол, отраженный Пилом. Потом замер в боевой стойке, всматриваясь в лицо врага, отступающего к борту. Оно было хмурым – Пил, вероятно, сообразил, что избиения младенцев не получится. Сзади поднялся ропот. Голоса, переплетаясь друг с другом, гудели, грохотали и хрипели, слух фиксировал отдельные слова и выкрики, что, просочившись сквозь гул и биение крови в висках, падали раскаленными каплями. «Бей! Бей!» – донеслось к Серову. «Проткни ему печень! Вырежи сердце! В ад отправь! Козел, моча черепашья, отродье дьявола!» И снова: «Бей, бей, бей!» Кому кричали, кого хотели поддержать? Его или Пила? На мгновение он ощутил себя на арене, только не современного цирка, а древнего, где состязались гладиаторы, где ретиарий ловил мирмиллона[436] сетью, а тот оборонялся мечом. В следующий миг Пил, оттолкнувшись от фальшборта, прыгнул к нему, и мысль о цирке и зрителях покинула Серова. Шпаги плясали в воздухе, хриплое дыхание аккомпанировало звону и скрежету металла, солнце безжалостно жгло плечи и спину, вышибая пот. Атака Пила была стремительной и жесткой; уверенный в своем искусстве, он, вероятно, решил разделаться с противником двумя-тремя ударами. Это почти получилось: мелькнула шпага, целясь в горло, Серов перехватил ее гардой, пытаясь отвести клинок, стиснутый между шипом и лезвием, и в ту же секунду сталь ужалила его бедро. Он отскочил, еще не почувствовав боли, а только влажную струйку, что текла в сапог. Пил ухмыльнулся – острие его кинжала было окровавлено. Тонкие губы врага зашевелились. – Щенок! Думаешь, ты ее получишь? – Каждый получит то, что заслужил, – вымолвил Серов. Зубы Пила хищно блеснули, дыхание с шумом вырвалось из груди. – Вот как! Французский ублюдок любит пофилософствовать… И что же достанется мне? – Прах и пепел. Только прах и пепел! Рана кровоточила, но была неглубокой. Они снова сошлись на тесном пятачке между бизанью и грот-мачтой; Пил напирал, то грозя кинжалом, то вращая клинок и делая внезапные выпады, Серов упрямо оборонялся. Уроки лекаря Росано пошли ему на пользу, но в эти минуты он понимал, что бьется с мастером, чей опыт и боевое искусство совершенны. К тому же Пил казался не слабей его физически и обладал таким же ростом и длинными руками; и, вероятно, он взялся за клинок в том возрасте, когда Серов учил алфавит и складывал три с четырьмя. На этом, к счастью, преимущества врага кончались. Серов был на десять лет моложе, стремительней, гибче и наверняка выносливей; тело его было телом гимнаста, способного свернуться в узел или достать ногой до потолка, и он владел приемами, казавшимися чудом в этот век. Жаль, что бой на шпагах так непохож на схватку без оружия, подумалось ему. Слишком велика дистанция и слишком опытен противник, не подпускает ближе… Но дышит уже тяжело, и в выпадах нет прежней быстроты и легкости… Солнце, покинув вершину утеса и форт, склонялось к морю, и это значило, что бьются они долго, может быть, двадцать минут или полчаса. Напор противника слабел, и Серов, не ощущавший еще настоящей усталости, решил загнать его в угол между фальшбортом и стеной надстройки. Блокируя выпады дагой и клинком, он оттеснил Пила на шаг, на два, пресек попытку переместиться к трапу и, ускорив темп, не дал отступить для передышки. Сзади, почуяв скорую кровь, заулюлюкали, заорали. Это вдохновило Серова. – Ура! Мы ломим, гнутся шведы! – пробормотал он, все быстрей орудуя клинком. Пил оскалился. Произнесенное по-русски было ему непонятно, но он уловил насмешку в голосе Серова. Грудь Пила ходила ходуном, пот катился по лбу и щекам, в горле хрипело и свистело. Скрипнув зубами, он выдохнул: – Не возьмешь, сопляк! Я еще спляшу над твоей могилой! Пустая бравада! Они сошлись на ярд, и Пил, зажатый в угол, был лишен пространства для маневров. Серов снова поймал его клинок эфесом даги и, целясь в сердце, ринулся к противнику. Возможно, Пил смог бы отразить его выпад кинжалом или увернуться, возможно, сумел бы подставить плечо, а не грудь, но он решил иначе. Шпага Серова пронзила камзол, скользнула между ребрами, но лезвие в левой руке Эдварда Пила двигалось с той же смертоносной быстротой; подобно сцепившимся хищникам, они запустили стальные клыки во вражескую плоть. Удар Серова был точен и неотвратим; вогнав пять дюймов стали в грудь врагу, он покачнулся, отступил и вскрикнул. Боль, внезапная, резкая, пронзила его – в правом боку торчала рукоять кинжала. Он вырвал оружие, зажал рану ладонью и пару секунд стоял над трупом Пила, всматриваясь в помертвевшие глаза, но ничего не видя. Алое пятно расплывалось на рубахе, а мозг сверлила одна-единственная мысль: печень… задета ли печень?.. Из своего армейского опыта он помнил, знал, что если такое случится, кровотечение не остановишь и смерть неизбежна. Спасти может только хирург, немедленная операция… хирург, Росано… но он погиб… «О чем я? Какой хирург, какая операция? – вдруг взорвалось у него в голове. – Не двадцатый век… Если порезана печень, я обречен…» Толпа корсаров за его спиной взревела, надвинулась, и он ощутил, как чьи-то руки ощупывают бок. Шейла… Кто же кроме Шейлы?.. – Ты ранен, Эндрю. Можешь держаться на ногах? Стой прямо! – Она уже срывала с него рубаху. – Рик, Джо, ко мне! Помогите! Ты подставь плечо, а ты режь ткань на полосы… Огня! Дайте огня! Рану надо прижечь… Мелькнула физиономия Уота Стура, зажигалка в его мускулистой руке, затем бок Серова опалило пламя[437], и он заорал. Стур сунул ему фляжку с ромом. – Хлебни, капитан! Ты еще жив, и если Господь позволит, будешь жить и дальше. Не то что некоторые крысы… Дойч откинул костыли, но там я вижу Найджела Полпенса… Стур исчез, и через секунду послышался чей-то предсмертный вопль. «Зачистка, – подумал Серов, – теперь начнется зачистка…» Остановить ее он был не в силах. Бок жгло, в сапоге хлюпала кровь, ноги дрожали, и в голове – сплошной туман. Он хлебнул из фляжки. Вроде бы полегчало. – Сейчас, Эндрю, сейчас, – сказала Шейла, и он машинально отметил, что голос ее и руки не дрожат. Смоченный ромом платок лег на рану, тугие бинты охватили его торс. – Кровь почти остановилась… Повезло нам! Он тебе бок проткнул, а целился, видно, в живот… – Дело удачи, когда брюхо режут, – авторитетно заявил Кактус Джо. – Если поверх, так выживешь, а если до кишок добраться и ножиком там пошевелить, то… Шейла стукнула его по шее: – Молчи, придурок! – Затем повернулась к Серову: – Как ты, милый? – Нормально. – Он снова отхлебнул из фляги и показал на квартердек. – Ведите меня туда. Я должен посмотреть… должен увидеть, что делается на корабле и в бухте. Обхватив за плечи Джо и Рика, он вслед за Шейлой шагнул к трапу и начал медленно подниматься. Он шел туда, где должен стоять капитан, шел по дороге, ведущей мимо испанских галеонов и безымянных островов, мимо Тортуги и мексиканского берега, мимо бурой ленты Ориноко, мимо руин, пожарищ и мертвых тел; шел, чтобы занять свое место на этом корабле и в этом мире. Разве он мог не дойти? Боцман Стур и Хрипатый Боб поджидали его наверху. Еще Страх Божий – этот поигрывал тесаком за спинами Садлера и ван Мандера. – С этими что делать? – каркнул Боб. – Хрр… Я бы пустил их по доске… На тот свет, за Пилом! Шкипер побледнел, однако Садлер, старый разбойник, лишь затряс отвисшими щеками. Прогулка по доске его, очевидно, не пугала. – Сэр… – Казначей коснулся пальцем шляпы. – Напомню, сэр: вы были под моей командой и стали капитаном – значит, я неплохой учитель и заслуживаю снисхождения. Но черт с ним, с прошлым! Сейчас я хочу сказать вам нечто важное… Не слушая Садлера, Серов глядел на море и два фрегата, что стерегли выход из бухты. Слабость снова накатила на него; чудилось, что палуба раскачивается под ногами как в сильный шторм, и какая-то хищная тварь, вцепившись когтями и клыками, терзает бок. Морская поверхность, блиставшая золотом заката, дрожала и расплывалась перед глазами. – Уот! – позвал он. – Я плохо вижу… Что там творится, Уот? На «Громе» и «Трезубце»? – Спустили шлюпки, – доложил Стур. – Восемь шлюпок, а в них – сотни полторы мерзавцев. Похоже, к нам идут. – Желают долю получить, – добавила Шейла. – Ты ведь им полтора миллиона обещал. Серов, разгоняя туман, потряс головой. – Нет, не так! Нам полтора миллиона, а все, что свыше, – им! Ну, миллионов у нас нет, зато имеются порох и ядра… Командуй, Уот. К орудиям! Вскинув пистолет, боцман выпалил в воздух. – Приказ капитана, бездельники! Оставить сундук, золото потом поделим! Пушкари, к орудиям! Все остальные – на левый борт! Зарядить мушкеты! – Их слишком много, и у них больше пушек, – произнес Садлер. – Нам не выстоять. – Нам? Кому это – нам? – Серов, цепляясь за плечо Рика, повернулся к казначею, потом перевел взгляд на Хрипатого. – Боб, лишних с корабля убрать! Шкипера оставь, он мне нужен, а вот суперкарго ни к чему. К дьяволу его, на берег! Он держался из последних сил, поглядывая то на палубу «Ворона», где его люди готовились к схватке, то на десант Пикардийца и Ашера, то на царивший над гаванью утес. Форт, кирпичная коробка на скале, был молчалив и хмур; там ничего не двигалось, не шевелилось, словно, отправив ядро к губернаторской резиденции, крепость потом уснула или, быть может, вымерла. Сквозь повязку просочилась кровь. Серов покачнулся и услышал голос Шейлы – слова долетали будто бы издалека, почти неразличимые в гуле и звоне: – … ранен… уходи… кровотечение… лечь… надо лечь… уходи… уходи… уходи… – Сейчас не могу, – пробормотал он, глядя на приближавшиеся шлюпки, – никак не могу. В ушах гудело и звенело все сильнее, а палуба качалась и кренилась под ослабевшими ногами, точно ураганы всех морей атаковали «Ворон». Превозмогая боль, Серов снова повернулся к заснувшей цитадели: – Teгг! Что же ты медлишь, Тегг? Но тут в бойницах форта блеснул огонь, и грохот орудийного залпа раскатился над гаванью. Теряя сознание, он еще успел разглядеть, как водяные фонтаны подбрасывают шлюпки вверх, как крутятся в яростных смерчах разбитое дерево, весла, оружие, люди, и как плывет над утесом и стенами крепости темный пороховой дым. Второго залпа он уже не услышал.Глава 19 КНИГА МЕССИРА ЛЕОНАРДО
Четыре дня Серов пролежал в бреду и забытьи, в капитанской каюте на «Вороне». Опять ему чудилось, будто попал он, как в своем недавнем сне, в загадочное место, где смешались все эпохи, языки, одежды, люди, в город с лачугами, домами и башнями, что будто бы выпали из разных времен. Он бродил по бульварам и площадям, кружился бесконечно в лабиринте стен и лестниц, улиц и колонн, испытывая знакомое чувство потери, не понимая, кто он есть – Андрей ли Серов, или другая личность, затерянная в пропасти минувшего. Кажется, блуждая в этом странном городе, он искал дорогу, чтобы вернуться в свое время, но так и не нашел короткого пути. Дорога, разумеется, существовала, прямая дорога в триста лет длиной, и мысль об этом вселяла в него безысходность. Он знал, что одолеть ее нельзя, не хватит жизни. Время беспамятства было не слишком долгим, однако вместившим массу событий, скользнувших мимо Серова словно полночные тени. Две из них, «Гром» Пикардийца и «Трезубец» Ашера в самом деле исчезли ночью, лишившись пятой части экипажей. Следующим утром Тегг отослал из форта пленных французов, потом ушли голландцы, и у пушек встали канониры с «Ворона». Мингер ван дер Вейт вышел в море и, обогнув Эспаньолу с запада, направился в Кюрасао, чтобы доставить туда башмаки, мотыги и оловянные миски, столь нужные заокеанской колонии. Груз «Русалки» был в полной сохранности, за исключением роскошных одежд и сервиза, зато ее капитан, да и вся команда стали гораздо богаче. Держа курс на юго-восток, ван дер Вейт нередко прикладывался к джину вместе с ван Хольпом и Николасом Бринкером и, черпая вдохновение в крепком напитке, сочинял историю о благородном корсаре де Серра и его очаровательной невесте, отомстивших своему обидчику. В свое время эта повесть облетела всю Вест-Индию, но Серов и Шейла ее не услышали – они уже были далеко, в краю студеных рек, снегов и сосен. Самым же главным событием минувших дней стала ревизия, произведенная Стуром, распоряжавшимся на корабле, и представителями команды, Куком и Хрипатым Бобом. Обследовав трюм, они убедились, что серебра там много меньше, чем погрузили в Пуэнте-дель-Оро, что половина добычи испарилась, а куда и как, про то ни один человек в экипаже, включая ван Мандера, не ведает, не знает. Помнилось, однако, что ночные вахты стояли парни Дойча, изгнанные с корабля, и что Том Садлер, казначей, хотел сказать о чем-то важном. Тегг и Стур, посовещавшись, решили его отыскать, но старый разбойник исчез, как растворился в воздухе. На берегу говорили, что он не задержался на Тортуге – то ли переплыл пролив и сгинул в дебрях Эспаньолы, то ли отправился в Кингстон, к давним своим приятелям. Но Садлер ушел на баркасе и, значит, при всем желании не мог прихватить несколько тонн серебра. Оно осталось где-то в городе или в окрестностях, на берегу; похоже, его переправляли Дойч и преданные Пилу люди, и занимались этим несколько ночей, чтобы управиться с тяжелым грузом. Какому скупщику предназначалось серебро? Возможно, губернатору или любому негоцианту Бас-Тера, который, с выгодой для себя, сумел бы обменять металл на звонкую монету. Роль Садлера в этой операции была неясной; он мог пронюхать о чем-то случайно, но, вероятней, являлся посредником и получал процент от сделки. Поиски Садлера не увенчались успехом, зато семерых ренегатов из ватаги Дойча отыскали и, повязав, доставили на «Ворон». Нашел их проныра Мортимер, обшаривший все кабаки и притоны от протестантской часовни до заведения папаши Пью. Остальное было делом техники: одних протащили под килем, других подвесили сушиться на якорной цепи, и не прошло и трех часов, как Стур добился полного признания. Имя скупщикасообщили Теггу, и тот вступил в переговоры, не покидая территории форта: грохнула пушка, и особняк кавалера Сент-Онжа лишился каминной трубы. Перед таким намеком Сент-Онж не устоял и тут же явился в гавань в сопровождении повозок и тяжелых сундуков. Все это Серов пропустил, плавая в море бредовых снов, не чувствуя прикосновений Шейлы, не слыша ее голоса. Но утром пятого дня он очнулся, нашел ее руку и попросил воды. Его напоили и накормили, перевязали раны, а после он снова уснул, но кошмарные видения больше его не терзали. Снились ему полные ветра паруса, сизые волны Балтики и широкая Нева, что разделялась островом на два потока; на правом берегу стояла крепость, на левом – царский дворец, а на острове – две колонны с божествами вод и носовыми украшениями побежденных кораблей. Даже во сне он помнил, что ничего такого еще нет, но твердо знал, что все это будет – и крепость, и колонны, и дворец. Когда он снова очнулся и с аппетитом поел, Шейла сказала, что хочет перевезти его на берег, в свою усадьбу в Ла-Монтаньи. Серов не возражал; с ЛаМонтанью, с домиком лекаря и рощей земляничных деревьев, у него были связаны только приятные воспоминания. Но перед тем, как отправиться в путь, он вызвал к себе ван Мандера и долго шептался с ним при закрытых дверях. На штурмана косились; хоть тот почти не участвовал в распре и никого не убил, но все же оказался с Пилом и Садлером, на стороне проигравших и, значит, виноватых. Теперь ван Мандер узнал о планах Серова, о том, что он оставит Вест-Индию и пиратский промысел и поплывет к берегам Старого Света, чтобы служить государю одной из самых отдаленных стран. Дорога туда тяжела и опасна, путь ведет через Атлантику и северные моря, и, чтобы пройти его, нужен боевой корабль, надежный экипаж и опытный штурман. Ван Мандер был штурманом от Бога, а кроме того, неглупым человеком; он понял, что такова цена прощения. Они ударили по рукам, и Серов уехал в Ла-Монтань со спокойным сердцем, оставив корабль на Уота Стура и ван Мандера. Им полагалось подготовить судно к плаванию, возместить потери в экипаже и взять на борт ром, провиант и порох – все это, в знак примирения, поставляли губернатор де Кюсси и кавалер Сент-Онж. Восстановленный мир был крепким, ибо Сэмсон Тегг сидел на вершине утеса, и ровно в полдень и в шесть пополудни его канониры стреляли из пушки. Выстрелы были холостыми, отмерявшими время, но заодно напоминали, кто нынче хозяин в Бас-Тере. Де Кюсси, заслышав этот грохот, страдальчески морщился и удалялся выпить чаю в покои мадам Жаклин, где морщился опять – сервировка стола тоже напоминала о самозваном маркизе. Но тут губернатор был бессилен – его супруга обожала французский фарфор. Тем временем корсары с «Ворона», сорившие дукатами и песо в кабаках, гадали, куда направится их новый капитан. Одни говорили, что в Мексику, другим была по нраву Куба или испанский Мэйн, а третьи шептались о Перу, о сказочной стране на тихоокеанском побережье, которую не грабили уже пятнадцать лет, со времен Гронье и Дэвида. Но Мортимер, слушая такие речи, хитро щурился и с загадочным видом намекал, что лишь ему известна цель грядущего похода. Прах и пепел! Как-никак Эндрю Серра его подельник и им останется, будь он хоть трижды капитаном! Еще Мортимер распускал слухи, что скоро станет боцманом, за что был не однажды крепко бит Хрипатым Бобом, претендовавшим на эту должность. Серов чувствовал себя слишком слабым, чтобы ехать в Ла-Монтань на тряской повозке или, тем более, верхом на муле. Его перевезли морем, на люгере[438], арендованном Шейлой, затем подняли на носилках к дому и уложили в огромную кровать в спальне Джозефа Брукса. Кроме Шейлы, с ним отправились Страх Божий в чине капитанского денщика, братья Свенсоны – для охраны усадьбы, а еще ларец с различными снадобьями, приобретенными у старого Пьетро, в единственной на весь Бас-Тер аптеке. Возможно, эти настойки и впрямь оказались полезными, или воздух, фрукты и заботы Шейлы исцелили Серова, только через пару дней он поднялся и вышел в сад. Спустя недолгое время он смог прогуляться к роще земляничных деревьев, сначала с Шейлой, потом один и наконец добрался до хижины покойного Росано. В ней ничего не изменилось – собственно, в скудной обстановке меняться было нечему. Стол, табуреты, спальные топчаны и сундук… Серов откинул крышку, разгреб пожитки лекаря, сдвинул в сторону ларец с хирургическими инструментами, пару штанов, чулки, истрепанный камзол, чернильницу и перья. На самом дне лежала книга, а рядом – листы грубой бумаги, заполненные его почерком. Он так и не закончил перевод… можно считать, только начал… А ведь для Росано это было важным! Росано был совсем иным, чем дельцы Бас-Тера или морские разбойники и все остальные, что окружали Серова в этой реальности; он вспоминал о Росано как о друге и размышлял о том, найдет ли, кроме Шейлы, кого-то столь же близкого. Человека, с которым можно потолковать об устройстве мира, о нынешних и минувших временах, о том, что ожидает людей, их страны и творения, в далеком будущем. Он вытащил книгу, положил на стол, перелистал страницы, носившие следы огня. Росано хотелось, чтобы ее перевели на французский или английский, а лучше – на оба языка… Почему? Чтобы вдохнуть новую жизнь в старый фолиант, сделать текст доступным для других народов? Или, полагаясь на собственную память, он надеялся восстановить утраченное, то, что было на обугленных страницах?.. На этот счет хирург выражался очень смутно – говорил, что в книге есть благие вести и есть ужасные и что работа над ней – дело Божье, а для него, Росано, искупление греха. Какого? О том, наверно, уже не узнать… Серов снова склонился над сундуком, достал чернильницу, перья и листы бумаги. Потом начал перечитывать написанное, вспоминая слова и целые фразы, перескакивая с абзаца на абзац. Флоренция, двести лет назад… Мессир Леонардо, житель славного города, повстречался с нищим юношей, едва понимавшим по-итальянски… Этот парень, видимо способный и неглупый, жил у мессира и даже стал его помощником, но спустя какое-то время умер от одной из болезней, опустошавших средневековую Европу, – чума, холера, тиф или нечто в этом роде. Грустная история! Можно сказать, совсем трагическая, но книга не о том. Вот последняя запись, что предваряет дальнейшее содержание: мессир и его гость вели беседы об устройстве мира, об астрологии, алхимии, о человеческой природе, о будущем и прошлом – словом, о материях, которые и сам Серов желал бы обсудить с Росано. Если бы хирург остался жив!.. В глубокой задумчивости он поглядел на книгу, коснулся ее страниц, исписанных четким угловатым почерком. Итальянский, а кое-где похоже на латынь… Этих языков Серов не знал. Конечно, есть слова понятные: terra – земля, aria – воздух, magia – волшебство, но даже общий смысл не уловишь… Он вытащил хирургические инструменты из ларца, положил туда книгу, стопку бумаги, перья, чернильницу, взял ларец под мышку и покинул хижину. Даже этот груз оказался еще тяжеловат; под земляничными деревьями Серову пришлось передохнуть, и только через четверть часа он добрел до ворот усадьбы. Там сидели Страх Божий и Эрик Свенсон. Датчанин чистил пистолеты, а Страх дремал, подставив солнцу изуродованное лицо. Серов опустился рядом и похлопал его по колену: – Ты знаешь, где заведение двух пожилых итальянцев? Старика зовут Пьетро, а его жену – синьора Бланка. У них цирюльня и аптека, над дверью деревянные ножницы висят, в руку длиной… Знаешь, где это? Страх Божий открыл глаза и хмыкнул: – Как не знать, капитан! Старик еще винишком приторговывает. Хорошее, слышал, у него винцо, но дорогое, не для нашего брата, для благородных… Прям-таки мальвазия! Хочешь, чтоб я за бутылкой сбегал? Это мы завсегда готовы, со всем нашим удовольствием! – Мне нужен сам Пьетро, а не его мальвазия, – пояснил Серов. – Иди к нему и скажи, кто тебя прислал, а еще скажи, что я друг Джулио Росано и прошу, чтобы Пьетро пожаловал сюда. На неделю или, может быть, на две. – А если спросит зачем? – Помощь мне нужна, чтобы исполнить последнюю волю Джулио. Ради этого я за ценой не постою. Страх Божий снова хмыкнул: – Ежели не постоишь, капитан, так не взять ли у старикана пару бутылок? Глядишь, он будет посговорчивей. Эрик Свенсон прищурился, заглянул в пистолетный ствол и молвил: – Две бутылки мало. – И то верно, – согласился Страх. – А вот две на брата будет в самый раз. Серов отправил его за деньгами и потащил ларец к себе в комнату. Вечером они с Шейлой сидели на просторной веранде, что открывалась небу и морю, глядели на звезды и молчали. В молчании не было отчуждения; так молчат близкие люди, которым есть что сказать друг другу, но времени для разговоров у них хватает – может быть, сорок или пятьдесят лет, а потому не стоит торопиться. Мысленно Серов проживал эти годы, вспоминая о войнах, мятежах, интригах, царях и царицах, открытии новых земель и основании городов, обо всем, что доведется им увидеть и услышать. Чем это было для него? Будущим? Прошлым? Одновременно тем и другим? И если бы он знал, чем кончится его последнее расследование и экспедиция в аномальную зону, если бы мог предвидеть все случившееся с ним, то что бы сделал? Отказался от странной своей судьбы или пошел ей навстречу? Он взглянул на Шейлу, читая ответ в ее глазах. Нарушив молчание, она промолвила: – Эндрю… мне давно хотелось спросить… Ты в самом деле сын маркиза? – Это имеет какое-то значение? – Может быть. Ты ведь собрался со мной обвенчаться, так? А я – внучка каторжника и племянница пирата! Что сказал бы твой отец? – Мой отец… – Серов печально усмехнулся. – Он человек широких взглядов, милая. Кроме того, есть и другие обстоятельства. Я ведь тебе правду говорил – ну, почти правду… Я в самом деле потомок маркиза, и предки мои были морскими разбойниками. Ты слышала о норманнах, приплывших во Францию с севера? От кого-то из них мы и ведем свой род. – Ты это точно знаешь? – Так утверждал мой отец. Во мне тоже разбойничья кровь, хотя и другой хватает. От более порядочных людей, добавил он про себя. От тех, кто не резал глотки, а развлекал почтеннейшую публику, жонглируя, гуляя по канату и кувыркаясь на арене. Шейла как будто успокоилась, вздохнула и, закрыв глаза, прижалась щекой к его плечу. – Мы должны обвенчаться до выхода в море, – сказал Серов. – Непременно. В тот же день, когда ты сможешь донести меня до церкви на руках. – Могу я попробовать сейчас? – Нет, дорогой, ты ранен и еще слаб. – По ее губам вдруг скользнула улыбка. – Но если хочешь, я подставлю плечо и провожу тебя в постель. – Хорошая мысль, – одобрил Серов. Проводы были долгими, и рана им не помешала.* * *
Старый Пьетро приехал в усадьбу на рассвете, в тележке, запряженной осликом, с корзиной, в которой бренчали винные бутыли. Негр-слуга занялся ослом и упряжью, Страх Божий – грузом, а старик, двигаясь с завидной для его возраста легкостью, шагнул на веранду, поклонился Серову и сел в предложенное кресло. – Я помню вас, мой господин, вы были у меня с синьором Джулио. И недавно я готовил вам целебные снадобья… Они помогли? Как ваши раны? – Заживают, – сказал Серов. – Силы возвращаются ко мне. – Хвала Мадонне! Пусть она одарит вас здоровьем! – Пьетро перекрестился и бросил взгляд на книгу, лежавшую рядом с ларцом на столе. Потом нерешительно спросил: – Это принадлежало синьору Джулио? – Да. Я не знаю итальянского, достойный Пьетро, и хочу, чтобы вы мне ее прочитали. Вернее, перевели на английский, которым вы так превосходно владеете, или на французский. Я щедро оплачу ваш труд. Серов протянул ему кошель, набитый золотом. Пьетро без возражений сгреб дукаты, сунул в карман и прикоснулся к переплету с прожженными дырами. Пальцы у него были тонкие, смуглые, сухие. – Постараюсь прочитать и перевести, мой господин, но прошу вашего снисхождения – ведь я всего лишь аптекарь и цирюльник. – Склонившись над столом, он осторожно, будто лаская, погладил кожу переплета. Лицо его было задумчивым и грустным. – Вот он какой, труд мессира Леонардо… никогда не видел, только слышал… – От Росано? И что он вам рассказывал, сударь? – Рассказывал? Ничего. Когда он был трезв, то хранил свои тайны. Но знайте, синьор, что мы с женой венецианцы, как и бакалавр Росано, а потому он часто бывал у нас, приобретал лекарства и пробовал вина, что я получаю из Старого Света. И это не удивительно. Куда еще он мог пойти? Не в кабак же, бражничать с разбойниками! И когда он… хмм… когда вино овладевало им, он плакал и стонал, и из этого стона, этого плача мы узнали о горестной его судьбе. Он был хорошим, но злосчастным человеком… – Старик нахмурил брови, прикрыл глаза морщинистыми веками. – Я никогда не стал бы говорить о нем… Но синьор Джулио мертв, вы его друг, и у вас его книга. Вы знаете ее историю? – Отчасти, – вымолвил Серов, припоминая невнятные речи Росано. – Ничего определенного, почтенный Пьетро. Как и в вашем случае, я слышал лишь то, что говорилось под хмельком. Пьетро снова прикоснулся к книге – так, как касаются святой реликвии. Кожа, что обтягивала переплет, была чуть темнее пальцев старика. – Если верить нашему покойному другу, это написано мессиром Леонардо… Вы слышали о нем, синьор? Скульптор, живописец и механик, прославивший Флоренцию. Даже сам святейший Папа заказывал ему картины! В голове Серова будто молния сверкнула. Великий Леонардо из Флоренции! Двести лет назад! Точные даты жизни гения он не помнил, но, вероятно, пара веков таки прошла. Леонардо да Винчи, великий художник, самый загадочный человек эпохи Возрождения, творец шедевров, бессмертных статуй и картин, ученый и изобретатель… Боевая колесница, подводное судно, танк, летательный аппарат и множество других идей, но все не ко времени, ненужные его эпохе… Он с благоговением уставился на книгу и сказал: – Я знаю, кто такой Леонардо. Дальше, прошу вас. – Здесь пророчества, синьор, записанные мессиром Леонардо со слов человека или, быть может, ангела. Или так, или этак… Но если их даже ангел нашептал, таких пророчеств мать наша Святая Церковь не одобрила бы, и не сделал бы этого ни один земной владыка, король или князь. Опасное сочинение! Прежде за него сожгли бы, да и теперь… – Пьетро чиркнул ладонью по горлу. – Помните, мой господин, об этом! Что же до мессира Леонардо, то он написал свою книгу втайне и завещал ее дальнему родичу, который сделался ученым доктором в Падуе. Там, как синьор, наверное, помнит, есть знаменитый университет… Там хранили книгу из поколения в поколение, прятали, передавали надежным людям и проверяли, сбывается ли сказанное в ней. – Что именно? – спросил Серов. Старик пожал плечами: – Войны, мор и глад, открытие земель за океаном, судьбы держав, имена их правителей, а также тех, кто свершил великое. Кое-что произошло на памяти мессира Леонардо – изгнание мавров из Испании и путешествие в Новый Свет Кристобаля Колона… Об этом тоже говорится в книге. – Как она попала к Росано? – Как обычно, мой господин. Он был студентом в Падуе, стал бакалавром и, обладая всеми талантами в науках, усердием и трудолюбием, мог сделаться одним из самых ученых докторов. Хранители книги, люди уже немолодые, сочли, что он достоин их доверия, и книга оказалась у него. Он считал ее святыней, вестью от Господа, посланной мессиру Леонардо… Вы позволите, синьор? Серов кивнул, и Пьетро, бережно раскрыв книгу, коснулся пальцем хрупкой бумаги около дыр. Края их были обуглены, иссечены мелкими трещинами, но текст, однако, удалось бы разобрать – почерк у Леонардо был крупный. – Похоже, Джулио книгу не уберег, – молвил Серов, глядя на обгоревшие страницы. – Да, не уберег и потому страдал всю жизнь. От этой вины и еще от другой… Он был женат, мой господин, и слишком молод, чтобы помнить: не доверяй тайн женщине. А его супругу мучил страх – вдруг те пророчества от дьявола! Она желала исповедаться и не могла, боялась навредить Росано, боялась отлучения, боялась, что кто-то узнает о книге и на него донесут… Они повздорили, и Лаура – так ее звали – бросила книгу в огонь. Синьор Джулио выхватил ее голыми руками. Он был очень гневен… – Я знаю, что было дальше: в ярости он заколол жену и, терзаясь содеянным, сбежал на край света, – произнес Серов. – Однако, сударь, вы рассказали мне эту историю в таких подробностях, какие нельзя извлечь из стонов и плача. Я бы, во всяком случае, не смог… Откуда вам все это известно? Глаза старика затуманились. – Я венецианец, но долгое время жил в Падуе, мой господин. И я не всегда был цирюльником и аптекарем… Но это совсем другая повесть. – Пьетро снова потянулся к книге. – Кажется, синьор хотел послушать, о чем здесь говорится? Да и мне самому любопытно… Откуда начинать? Серов показал. Вероятно, у Пьетро, как у многих обитателей Вест-Индии, были некие резоны, чтобы покинуть Старый Свет. Одни их не скрывали и даже хвастались своими подвигами, числом убийств и краж или иных злодеяний, что привели их в эти отдаленные места; другие держали рот на запоре, а свои секреты – в самом дальнем закоулке памяти. К этим последним относился и Андре Серра, побочный сын маркиза, – так стоило ли упрекать за скрытность венецианца Пьетро? Старик принялся читать, и чтение шло быстро, так как Серов ничего не записывал. Предчувствия томили его; он знал, догадывался, о чем услышит, и это знание сжимало ему сердце. Еще одна несчастная душа, что затерялась в прошлом, обрубленная ветвь, нищий пророк, явившийся к мессиру Леонардо… Кто же он? Некий юноша, знакомый с историей лучше Серова – в книге, кроме реальных событий и имен, упоминались даты, которые Серов мог вспомнить только приблизительно. Борьба России с Турцией, восстание американских колоний, машина Уатта, французская революция, приход Наполеона к власти, войны между Францией и Пруссией, гражданская война в Соединенных Штатах, первая железная дорога, первый полет братьев Райт, колонизация Индии, изобретение радио и телеграфа… В общем Серов представлял, когда случилось то или это, но точных дат назвать не мог – в отличие от информатора Леонардо. Он, вероятно, был историком либо, как минимум, гуманитарием и человеком молодым; значит, ни Кадинов, журналист из Челябинска, ни издатель Добужинский на эту роль не подходили. Елисеев, мелькнуло у Серова в голове. Конечно, Игорь Елисеев, всезнайка из библиотеки Академии Наук, исчезнувший в двадцать четыре года! Самый молодой среди пропавших, наверняка специалист в истории, юноша, склонный к литературным трудам… Можно считать, все началось с его рукописи, посланной Добужинскому, и вот новая с ним встреча – вернее, с его тенью, с его рассказами, записанными двести лет назад. Похоже, он очутился в Италии в конце пятнадцатого века и, несомненно, испытал сильнейший шок и многие бедствия… Недаром в книге говорится – нищий, голодный, убогий, оборванный! Однако он справился с ситуацией и сделал мудрый выбор, пришел к человеку, который мог ему поверить и помочь, к одному из великих людей той щедрой на гениев эпохи. Что вполне понятно, размышлял Серов, слушая негромкий голос старика. Понятно! Не к Папе же Римскому обращаться!– … будут извлекать особую силу из течения вод, и порывов ветра, и горящего угля, и многими другими способами, и силу эту будут передавать по вервиям, свитым из металла, так далеко, как простираются материки, – читал старик. – И будет эта сила передвигать повозки без лошадей, вращать то, чему положено вращаться, поднимать и опускать, нагревать и освещать, и даже показывать живые картины на стекле. И назовут эту силу эле… эле…– Электричеством, – вымолвил Серов. – Да, так здесь написано, – кивнул Пьетро.
– И будет сила струиться по металлическим вервиям подобно тому, как течет река, но с много превосходной быстротой: вот родилась эта сила в одном месте, и не успеешь вздохнуть, как она уже в другом, за тысячи лиг от своего рождения. А те вервия будут из чистой меди, но потом из другого металла, еще неведомого алхимикам, похожего цветом на серебро, однако легкого и прочного. Будут делать тот металл в изобилии из глины, а как его делать, найдут через три сотни и сорок лет, и назовут его а… ал…[439]– Алюминием, – снова подсказал Серов. Пьетро остановился и посмотрел на него: – Вы все же читали эту книгу, синьор? Но как, если вы не знаете итальянского? – Не знаю. И я ее не читал. – Тогда откуда же… Прервав его движением руки, Серов усмехнулся: – Это совсем другая повесть, достойный Пьетро. У меня, как и у вас, есть свои маленькие секреты. Он позвонил в колокольчик, вызвал слугу и велел подать вина и фруктов. Чтение продолжалось до обеда, потом, при свечах, до ужина, пока глаза утомленного Пьетро не начали слезиться. Серов отпустил его спать, а сам долго сидел на веранде, блуждая мыслью в прошлых и будущих веках. Еще он думал о том, что вряд ли стоит переводить книгу мессира Леонардо или знакомить с нею людей, пусть самых ученых и образованных во Франции, Англии или России. Не потому, что Джулио Росано ошибался, считая ее божественной вестью, переданной ангелом, но по другой причине. Человеку не дано знать грядущее. Пока не дано, уточнил про себя Серов. Когда-нибудь, быть может, пришельцы из будущего станут явлением обычным, и это изменит мир гораздо сильнее, чем электричество или радио. Ну, пусть с этой проблемой разбираются потомки! А в данный момент… Его взгляд остановился на последних прочитанных страницах, где говорилось о двадцатом веке, о первой его четверти. Мировая война, революция, резня в России, танки, пулеметы, авиабомбы, ядовитые газы, миллионы убитых и искалеченных… А дальше что? Описание еще одной глобальной бойни от полюса до полюса и множества войн помельче… Что там у нас приключилось? Хиросима, Корея, Вьетнам, Палестина, Афганистан, ядерное оружие, масштабный геноцид и, наконец, новые беды в любезном отечестве… Само собой, кроме ужасного, мерзкого, есть и великое – компьютеры, полеты в космос, линии связи, опутавшие мир, и чудеса медицины. Но объяснить это труднее, чем ужасное, ибо к ужасам люди привычны, и значит, повесть о грядущем вселит страх. Страх или желание что-то изменить… Возможно ли это? – подумал Серов. Нет, вряд ли. Даже наверняка не выйдет – ни мир, ни историю не изменишь. Эти восемь аномальных зон, проклятые места, что существуют на Земле, в общем-то, доступны, особенно в последний век. И сопка Крутая, и фиорд в Норвегии, и те, что на Аляске и Печоре, в Ираке, Гималаях и Сахаре, не говоря уж о Бермудском треугольнике. Ему, Серову, известно о двух десятках провалившихся, но их, конечно, больше – может быть, сотни человек, и почти все – к гадалке не ходи! – из двадцатого века. Они могли бы такого порассказать! И написать – хоть на папирусе или бумаге, на коже или глиняных табличках, и даже высечь на камнях. Вполне вероятно, что говорили и писали, пытались стать мессиями, пророками, провидцами, предупредить о великих свершениях и грозных бедах… Но мир к ним не прислушался. Мир двигался своей дорогой, не выполняя ничьих предначертаний, и все происходило в нем как должно. И все-таки, все-таки… – Все-таки береженого Бог бережет, – пробормотал Серов, захлопнул книгу и спрятал ее в ларец.
Эпилог
Через две недели Серов и Шейла обвенчались в протестантской часовне Бас-Тера. Церемония была скромной; на ней присутствовали Teгг и Стур, расписавшиеся как свидетели жениха и невесты, а также дюжина пиратов с «Ворона», одетых по такому случаю в потрепанные камзолы и вооруженных до зубов. Губернатора не звали. После венчания был дан салют из десяти мушкетов, затем Серов отнес супругу в шлюпку на руках, и через несколько минут они поднялись на палубу фрегата. Здесь пахло ромом и цветами; цветы устилали тропу к капитанской каюте, а ром плескался в кружках, поднятых в честь новобрачных. Вскоре ром был выпит, на борт погрузили последние бочки с пресной водой, и «Ворон», распустив паруса, покинул столицу Тортуги. В море выходили с большой поспешностью; солдаты де Кюсси уже заняли форт и тоже могли разразиться салютом. Конечно, если бы мокрый порох удалось поджечь – по несчастливой случайности, во время последнего ливня пороховой погреб затопило. Конечной целью экспедиции были балтийские воды, но в данный момент путь «Ворона» лежал не на восток, а на юго-запад, к острову Ямайка, в город Кингстон. Когда фрегат обогнул Эспаньолу и в головах у экипажа прояснилось, Серов поднялся на квартердек и объявил, что после Кингстона судно направится в Европу. Однако не в Британию или Францию, где королевский суд и частные лица могут иметь претензии к команде, а в Московию, в северную державу, где можно неплохо заработать на войне со шведами. Шведы, конечно, не так богаты, как испанцы, однако не бедны, а климат, кабаки и женщины в Московии много лучше, чем на вест-индских островах. Кроме того, корабль будет уже не разбойничьим, а капером на службе русского государя, который щедр и благоволит честным воинам. Ну а если кто служить не жаждет и не желает возвращаться в Старый Свет, тот может сойти на берег в Кингстоне с выходным пособием в триста песо. На этом все. – Все! – рявкнул первый помощник Стур. – Ну, висельники, кто в Московию – на шканцы, а кто решил оставить «Ворон», пусть тащится на бак. Да поживее, моча черепашья! Лишь семеро двинулись на бак, но в Кингстоне «Ворон» покинули шестнадцать корсаров, все – британцы. Война за испанское наследство разгоралась, в местном порту теснились боевые корабли, и среди них было несколько пиратских – бриг «Черный пес» Тома Махони, шхуна Дейва Одноглазого «Азарт», большой трехмачтовый корабль «Принц морей» и три или четыре другие посудины. Прошел слушок, что вся эта флотилия, при поддержке британских судов, атакует берега французской Луизианы, а если добыча окажется не очень обильной, завернет в испанскую Флориду. Всем капитанам были нужны рубаки и стрелки, знавшие, как взяться за мушкет, и кое-кто на «Вороне» не совладал с искушением. Серов из-за этого не беспокоился – с ним остались сто четыре человека, вполне достаточно, чтобы взять на абордаж и потопить любую шведскую лоханку. Кроме того, ему удалось нанять хирурга, датчанина Дольфа Хансена, волею случая заброшенного на Ямайку и мечтавшего вернуться в Старый Свет. Ввиду грядущих баталий лекарь являлся ценным приобретением. В Кингстоне они пробыли восемь дней, задержавшись из-за наследства Шейлы. Дом в Ла-Монтаньи и винокуренное заведение Стерна и Пратта, барбадосских компаньонов, не представляли особой коммерческой ценности, а вот поместье Брукса на Ямайке считалось весьма обширным, богатым и прибыльным. Плантации сахарного тростника лежали милях в двадцати от Кингстона, у залива Портленд, и здесь, на берегу, находился поселок с господской усадьбой, конюшней, лачугами негров и огромными сараями, в которых вытапливали патоку и сахар. Патоку перегоняли в ром, ром разливали по бочкам, сахар ссыпали в мешки, а затем мешки и бочки отправлялись к пирсам Кингстона и ожидающим погрузки кораблям. По другую сторону Атлантики сахар и ямайский ром шли по хорошей цене. Предприятие выгодное, и желающих приобрести плантации долго искать не пришлось. Тем не менее эта задержка тревожила Серова больше, чем потери в экипаже, – надвигалась поздняя осень, а с нею свирепые бури и ливни. Правда, ван Мандер клялся, что до ноябрьских штормов они успеют добраться до Невской губы. Наконец с делами было закончено, и «Ворон», покинув рейд Кингстона, отправился в плавание. Путь теперь лежал на северо-восток; они снова миновали Наветренный пролив между Кубой и Эспаньолой, потом Малый и Большой Инагуа, два клочка суши, что замыкают цепочку Багам, потом крошечный архипелаг Кайкос, окруженный стенами рифов и гневно ревущими водами. «Вышли в океан, – сказал в тот день ван Мандер и, сделав паузу, добавил: – Девятьсот миль до Бермудских островов, а там – еще пять тысяч до Старого Света. Мир велик, капитан! Жизни не хватит, чтобы его обойти». «Не хватит», – согласился Серов, а про себя не в первый раз подумал, что через три столетия все изменится. Планета не станет меньше, но расстояния будут соизмеримы не с человеческой жизнью, а только с временем бодрствования или сна. Десять—пятнадцать часов в любую сторону, и ты в Нью-Йорке или Лиме, в Токио или Кейптауне, в Мельбурне или Коломбо. Так будет, обязательно будет, а пока… Пока тихоходное судно ползет по земному шару, будто ничтожная мошка на гигантском глобусе. Через несколько дней он, сменив ван Мандера, встал на утреннюю вахту. Первые краски рассвета играли на небосклоне, и паруса, трепещущие над ним громадой спустившихся к волнам облаков, казались розовыми. Шейла еще спала в капитанской каюте, но руки и губы помнили тепло и нежность ее тела. Океан был спокоен, ветер устойчив, и «Ворон», слегка покачиваясь, неутомимо плыл и плыл на северо-восток, двигался к балтийским водам, к еще не существующему городу, к невозведенным дворцам, домам, соборам и грозным бастионам крепости. Все это еще предстояло построить, уложив кирпич на кирпич, камень на камень, а прежде – отвоевать такое право, но Серов не сомневался, что право будет завоевано и город выстроен. Он это точно знал, не ведая лишь собственной своей судьбы, как и положено человеку. Но стоило ли этого бояться? Страшиться неведомого, трепетать перед будущим? Нет, думал Серов, конечно нет. Вот его корабль, вот его люди, и вот его женщина, что спит сейчас под шелест волн и посвист ветра; вот океан, и розовеющее небо, и синяя черта горизонта меж ними; вот гаснущий лунный серп, волны, облака и первый луч восходящего солнца. Все, что досталось ему в этой реальности и что останется навеки с ним, какой бы ни была его судьба. Останется в радости и горе. Немало, – размышлял Серов, прислушиваясь к песням ветра, – совсем немало.Михаил Ахманов Магриб «Ворон»
Часть 1 МАГРИБСКИЕ МОРЯ
Я именую всех этих людей пиратами, ибо они иначе себя не называют, не прикрываются иными прозваниями или титулами и не подчиняются никому на свете. Об этом свидетельствует такой случай. Однажды король Испании, отправляя послов к французскому и английскому дворам, потребовал от этих монархов, чтобы они покарали тех своих подданных, которые, не зная угомона, то и дело сгоняют испанцев с их насиженных мест и грабят города и поселения, хотя войн Испания ни с Англией, ни с Францией давно не ведет. Короли ответили испанским послам, что люди эти им не подчиняются, и его католическое величество волен поступать с ними как ему заблагорассудится.А. О. Эксквемелин. Пираты Америки (Амстердам, 1678 г.)
Глава 1 ДОРОГА НА ВОСТОК
Свистели в снастях буйные ветры, глухо рокотал океан, волны стучали и бились о борт «Ворона», обдавая лицо солеными прохладными брызгами. Вал катился за валом нескончаемой чередой, то поднимая фрегат к серому, хмурому небу, то опуская его в пропасть меж водяных холмов, темных и упругих, похожих на мускулы гиганта, игравшего тварями морскими, хрупким кораблем и сотней человеческих жизней. Волны были неторопливыми, длинными, плавными — океанские волны, а не крутые и короткие, как в Средиземном море. Морем этим Серов любовался когда-то с испанского берега и с итальянского, но то случилось в прошлой жизни, растаявшей, как смутный предрассветный сон. В той жизни, где он был гимнастом цирка, скитавшимся по всей Европе, бойцом ОМОНа, частным сыщиком и занимался другими делами, совсем непонятными, невероятными для XV века, начавшегося год назад. В той жизни остались мама и отец, сестренка Лена и племянники, Москва, Петербург, немирная Чечня и вся планета, вступившая в XX столетие и пребывающая в нем уже без Андрея Серова. Без странника во времени, который провалился в прошлое на три бесконечно долгих века… И хотя в своем мире он прожил 30 лет, а в этом, новом — восемь с чем-то месяцев, тот мир поистине стал сном, а этот — суровой реальностью. И был он тут не Андреем Серовым, а Андре Серра, корсаром и капитаном фрегата «Ворон», и нынче, в осень 1701 года, плыл его фрегат из пиратских морей Вест-Индии в далекую Балтику, на Родину, в Россию. Должен был плыть… Должен был идти наискосок по океану, от Бермуд прямо на норд-ост, к берегам Британии, потом через Северное море к проливам Скагеррак и Каттегат, чьи имена помнились с детства, и дальше, к Финскому заливу и Неве, где, быть может, уже заложили российский оплот, крепость святых Петра и Павла… Должен был плыть! Но человек предполагает, а Бог располагает. Обещал ван Мандер, шкипер-навигатор «Ворона», что придут они в Неву еще до ноябрьских штормов, однако не получилось. Не вышло! Должно быть, по той причине, что Божья длань в XV веке была куда сильней, чем в XX — ведь не имелось тут ни спутников, следящих за погодой, ни радио и радаров, ни мощных дизелей, ни стальных судов, которым нипочем любые штормы, налетел за Бермудами шквал, разыгралась буря, и крутила она фрегат больше двух недель, и несла его как опавший листок, рвала паруса и канаты, выла зверем, заливала палубу водой и пеной. На пятый день сошла с креплений станина с пушкой и начало ее бить о борт, а в бурю нет ничего опаснее, чем этакий бронзовый таран весом в три четверти тонны. Уот Стур и Сэмсон Тегг, первый и второй помощники, собрав самых крепких парней, Хенка и братьев Свенсонов, Рика Бразильца, Страха Божьего и канонира ван Гюйса, спустились на пушечную палубу ловить обезумевшее орудие. С трупом поймали, стреножили, принайтовали на место, только Теггу заехало в ребра, а остальные отделались синяками да отдавленными пальцами. На седьмую ночь сломался бом-утлегарь и улетел вместе с бом-кливером прямо в темные тучи; через день треснул бизань-гик[440] у самой мачты, и пришлось его срубить и бросить за борт. Произошли и другие потери, но большей частью мелкие, ибо «Ворон» был судном крепким и надежным, а его команда — привычной к тяготам морского ремесла. Все 15 или 16 дней, которые буря гнала корабль, шел он сперва под бом-кливером, а когда его сорвало, поставили кливер и продержались, пока не стихла непогода. Вахты несли вчетвером, Серов, Стур, Тегг и ван Мандер, но у штурвала все время стоял боцман Хрипатый Боб, лучший рулевой на судне — ел у штурвала и спал у штурвала, привязавшись к нему канатом. Помощники, конечно, менялись, но в самые страшные мгновения правил судном Боб. А когда пошла на убыль буря, прохрипел: «Р-рому, дьявол!» — но рома не дождался, свалился замертво и проспал больше суток. «Пронесло!» — размышлял Серов, стоявший ночную вахту. Пусть дорога подольше станет, зато корабль цел и люди живы, и Шейла, главное вест-индское сокровище, тоже жива и цела. Как всегда, о жене он думал с нежностью; то были мысли человека, все потерявшего разом: и друзей, и родичей, и весь свой мир — и вдруг нашедшего нечто столь же драгоценное и дорогое. Якорь, который держит человека в бурном море бытия… Шейла Джин Амалия и была таким якорем, самым прочным из якорей, но имелись уже и другие — трехмачтовый красавец «Ворон», и его команда — от мрачного Уота Стура до болтуна Мортимера, и приключения, которые сулил этот век авантюристов, и даже дукаты и пиастры в сундуках, хранившихся в трюме корабля. Только корабль этот шел не в Балтику, куда положено, а болтался сейчас на тридцатой параллели, милях в пятнадцати на север от Канарских островов, болтался вместе со всей своей командой, с двадцатью четырьмя крупнокалиберными пушками, запасом пороха и ядер и сундуками, набитыми золотом и серебром. А вот воды и провианта не хватало, как бывает нередко после пересечения Атлантики. Вода к тому же стала протухать. «Ворон» шел бейдевинд[441], отклоняясь к востоку, к берегу Африки. Волнение на море стихало, ветер, пока еще свежий, тоже спадал, но паруса, что колыхались живой громадой над кораблем, еще несли его с приличной скоростью, узлов шесть[442], а то и больше. Вышагивая по квартердеку, Серов посматривал то на Стига Свенсона, стоявшего у штурвала, то на его братьев Эрика и Олафа, дежуривших на шкафуте, то на усыпанные звездами небеса. Он уже понимал их тайные знаки и мог проложить курс по ночным светилам, умел вычислять широту, измерив положение солнца в полдень, а долгому узнать по корабельным хронометрам или по своему безотказному «Ориону», швейцарским часам, прихваченным из прошлой жизни. Сложнее было определиться по счислению, теоретически, по карте и без измерений, учитывая лишь показания компаса и лага, но и этот способ, самый неточный в восемнадцатом веке и самый трудный, тоже не представлял особых проблем для человека, не позабывшего школьной математики. У берегов, особенно знакомых, работа штурмана была совсем простой — там определялись по пеленгу, по направлением на маяки, мысы, высоты или другие заметные ориентиры, отмеченные на картах. Карты, правда, особенной точностью не отличались. Где-нибудь в Голландии или Британии, в навигацкой школе, учиться пришлось бы год, возможно — два, но Серов освоил морскую науку куда быстрей, взяв в наставники ван Мандера. Вот управлять кораблем в бою — это было посложнее! Не наука, а тонкое искусство, где полагалось учитывать все, скорость и направление ветра, дальность полета тяжелых снарядов, парусность, свою и противника, и массу различных возможностей — вести ли дуэль на расстоянии, бить ли ядрами или картечью, крушить ли корпус с батареями или рангоут, либо сойтись бортом к борту и ринуться на абордаж. Выигрывал не тот, кому Господь послал побольше пушек, а более верткий и хитроумный, искусный в маневре и яростный в сражении. Пожалуй, в этом смысле с карибскими пиратами никто потягаться не мог — конечно, если вел их в бой не полный идиот. Серов старался соответствовать, расспрашивал Стура и Тегга о приключившихся с ними баталиях и, вспоминая о Джозефе Бруксе, дядюшке Шейлы и прежнем капитане, прикидывал, что бы тот сделал в том или ином случае. Но его первый бой был еще впереди. Первый бой, первая победа, первая добыча… Экзамен на капитанское звание, которое даруют не патенты королей, а море, храбрость и удача. Он не знал, что испытание это близится, но был к нему готов. Звезды померкли и начали гаснуть, небо посветлело, порозовело, и над океаном и невидимым африканским берегом взошло солнце. Едва лучи светила расплескались по зеленовато-синим водам, как с марса, где сидел впередсмотрящий, донесся протяжный вопль: — Корыто с штирборта![443] Большое судно, капитан! Три мачты! Флаг… Не вижу флага, но или испанец, или португалец! «А кто еще тут может плавать, тут, у Канар? — подумал Серов, встрепенувшись. — Или испанец, или португалец, или магрибские пираты…» Но у магометан корабли были поменьше и такого вида, что с европейским океанским судном их не спутаешь. Он кивнул Олафу, велел свистать всех наверх и взялся за подзорную трубу. За его спиной слышались топот, лязг оружия, хриплые крики и перебранка у гальюна — команда поднималась наверх с орудийной палубы. В круглом окошке трубы быстро вырастал из волн морских чужой корабль: сначала бом-брамселя[444] на фок и грот-мачтах, за ними полные ветра нижние паруса, высокая надстройка на корме, темный корпус с черными квадратами пушечных портов. Флаг… вот и флаг! Кастильский! — Испанец, — прогудел знакомый голос над плечом Серова, и, отняв от глаз трубу, он увидел хмурую рожу Уота Стура. Впрочем, сейчас первый помощник был не так уж недоволен, скорее наоборот — глаза блестели, и по губам бродила хищная усмешка. Остальные офицеры тоже уже были здесь — Сэмсон Тегг, бомбардир, ван Мандер, штурман, и датчанин Хансен, лекарь. У трапов, ведущих на мостик, стояли боцман и сержанты, предводители абордажных ватаг, а за ними, на шканцах и шкафуте, толпилась без малого сотня парней, и лица у всех были такими же, как у Стура, хищными, алчными, оголодавшими. Вполне понятно, решил Серов, Атлантику пересекли, в шторм спаслись, месяц в море, вода и солонина поперек глотки, а тут испанец! Он оглядел своих соратников: — Что скажете? — Сорок орудий, — заметил Тегг, опуская зрительную трубу. — Шесть на палубе, два, надо думать, на юте, и шестнадцать вдоль борта. Шестнадцать! Против наших десяти. — Зато ты лучше стреляешь, — ухмыльнулся Уот Стур. — Чтоб меня акулы сожрали, если ты не накроешь их первым же залпом! — Они попали в шторм, в ту же бурю, что и мы, — с голландским спокойствием произнес ван Мандер. — Дай мне трубу, капитан. Та-ак… Здорово их потрепало! — Половины бушприта нет. Видать, все кливера сорваны, а не один, как у нас, — сказал Стур. — Бушприт… да, это само собой… — Штурман разглядывал корабль, надвигавшийся со стороны открытого океана. — Еще на фоке и гроте поломаны стеньги, бизань еле держится, ванты оборваны… Тяжело идет… похоже, в трюме есть вода. — Эй, капитан! — заорали с палубы. — Чего ждем? Будем брать испанскую лохань или зубами щелкать? Раздался звук оплеухи и голос Хрипатого Боба: — Хрр… Пасть заткни, недоносок! Капитан знает, что делать! Серов шагнул к планширу, отыскал глазами Боба и парня рядом с ним, который держался за челюсть, отметил: Мерривейл Сидней, из новых, завербованных на Тортуге перед самым отплытием. Набрал воздуха в грудь, медленно выдохнул и произнес: — Боцман, Мерри — пять плетей. Но прежде пусть вопрос свой повторит. Всякий член Берегового братства Может обратиться к капитану, но этого ублюдка я как-то не расслышал. Давай, парень, погромче! — Капитан, за что?.. — начал Мерри, извиваясь под крепкой рукой Хрипатого. — Десять плетей! — Капитан, сэр! — Вот теперь я слышу. Десять плетей, чтобы лучше запомнил, кто тут сэр, — повторил Серов, отвернулся к своим офицерам и вытянул руку к приближавшемуся кораблю. — Значит, так, камерады. Пока они нас еще не разглядели, марсовых наверх, а всем остальным спуститьсявниз, мушкеты зарядить и ждать. Командуй, Уот! Ты, Сэмсон, давай к орудиям. Думаю, картечь придется в самый раз. Стур проревел команду, и палуба вмиг очистилась — абордажные ватаги скрылись, а два десятка моряков полезли на мачты. Хрипатый Боб, отсчитавший Мерри десять ударов тонким линьком, толкнул наказанного в люк и принялся распоряжаться, расставляя марсовых по реям. Бомбардир, потирая ушибленные пушкой ребра и негромко чертыхаясь, спустился с мостика, ван Мандер встал у руля рядом со Стигом, хирург Дольф Хансен присел у фальшборта, копаясь в своем медицинском сундучке, перебирая полотняные тряпицы и банки с мазями. Готовились быстро, но без суеты; все, как положено, были при деле и на своих местах. Испанский корабль приблизился на четверть мили, и в трубу Серов видел, как выстраиваются вдоль борта мушкетеры в блестящих шлемах и кирасах. На квартердеке появилась Шейла. Выражаясь старинным языком, приличествующим эпохе, она пребывала третий месяц в тягости, но это было пока незаметно. Талия, охваченная кожаным кафтанчиком и пояском с парой пистолетов, оставалась по-прежнему тонкой, фигурка — изящной, движения быстрыми, груди, еще не начавшие наливаться, маленькими и упругими. Кое-что, правда, изменилось: синие ее глаза, прежде тревожные, а временами — гневные, были теперь безмятежны — глаза спокойной, уверенной женщины, нашедшей свое место в жизни… На «Вороне» она считалась не только супругой капитана и владелицей корабля, но в первую очередь офицером-квартирмейстером. Важная должность! Шейла Джин Амалия ведала всем, начиная от запасов пороха и рома и кончая оценкой захваченной добычи. Прищурившись, она уставилась на чужой корабль: — Испанец! Сильно побитый… Тоже в шторм попал? И куда он прется? — Он думает, что нам досталось еще больше, — сказал Серов с почти бессознательной счастливой улыбкой. — Как ты спала, милая? — Без тебя постель была слишком широка, — тихо промолвила Шейла, покосившись на Уота Стура. — Ты, Андре, женатый человек, да еще капитан, и не должен стоять ночную вахту. Ночью твое место… ну, сам знаешь, где. На палубе царила тишина, но сквозь раскрытые люки доносился негромкий шум, знак быстрой деловитой подготовки: поскрипывали пушечные лафеты, звякали о дула мушкетов шомполы, шелестела одежда, кто-то с резким звуком — вжик-вжик! — точил палаш или топор. Встававшее солнце золотило паруса, разбрасывало по синей морской поверхности яркие искры. Матросы, скорчившиеся на реях, отсюда, снизу, казались карликами. Шейла, откинув русую головку, разглядывала их. — Хочешь добавить парусов и уйти? — Она перевела взгляд на «испанца». — Бизань голая и еле держится… Ему за нами не угнаться. На этот раз Стур ее расслышал и буркнул: — Уходить нельзя, никак нельзя. Парни будут недовольны. Серов сдвинул брови: — Парни будут делать то, что я прикажу. И вообще пора отвыкать от разбоя! В Россию плывем, а там царь грабителей не жалует. — Ну, хвала Творцу, мы еще не на царской службе, — заметил Стур. — Еще не идут нам ни песо, ни талеры, ни эти… как их… рубли из московской казны. Опять же, умный царь не против разбоя, ежели грабят чужих, а не своих. — Он с задумчивым видом поскреб щеку и добавил: — Хотя как сказать… Самые умные цари сперва своих трясут и раздевают… оно ближе и безопасней. Серов расхохотался. Мудрый мужик Уот! Прямое попадание, не в бровь, а в глаз! Царь Петр так и начал, со своих, с князей, бояр да разбойных стрельцов! Отсмеявшись, он поглядел в трубу на испанца, бывшего уже на расстоянии трехсот пятидесяти ярдов, и сказал: — Ну, наглец! Вода в трюме, рангоут поломан, а он на нас прет! Должно быть, от кастильской гордости… Вот что я решил: если в драку полезет, высечем за нахальство, а если желает поприветствовать и миром разойтись, тогда… Грохот выстрела не дал ему закончить фразу. Над бортом испанца вспухло серое дымное облако, просвистело в воздухе ядро и шлепнулось в воду в сотне ярдов от «Ворона». — Хорошее приветствие, клянусь адской сковородкой, — оскалившись, пробормотал Стур. — Ну что, Андре? Что, сэр капитан? Миром разойдемся или как? — Прикажи поднять флаг, — велел Серов, не обращая внимания на подначку. — А какой? У Хрипатого даже турецкий есть. Серов задумался. Непраздный вопрос! После недавней смерти Карла Габсбурга, короля Испании, в Западной Европе бились за его наследство. Хоть не послал Господь испанскому монарху ни дочери, ни сына, зато по линии Габсбургов имелись у Карла дальние родичи во многих европейских странах и королевских домах. Сам он завещал престол французскому принцу Филиппу Анжуйскому, но были претензии и у других внучатых племянников да кузенов — из Англии, Австрии и немецких земель. Права их подкреплялись тем, что трон Филиппу был обещан при условии, что он откажется от французской короны, державшейся еще крепко на голове его деда Людовика XV. Людовик же, король великий и амбициозный, желал объединить Испанию с Францией, а могущество такой державы было для соседей, что острый нож. Так что соседи не дремали, а, собравшись с англо-германской силой и уговорив Голландию, объявили Франции войну. Серов был не очень сведущ в истории, но что-то узнал от покойного Джулио Росано, что-то вычитал в книге мессира Леонардо, писанной со слов несчастного Игоря Елисеева. И помнилось ему, что драка за испанское наследство будет идти чуть не полтора десятка лет[445]. В такой ситуации поднять британский флаг было бы вызовом, а французский — полной неопределенностью, ибо не всяк в Испании мечтал очутиться под башмаком Людовика. Все они, французы и испанцы, англичане и немцы, мнили себя великими народами, непобедимыми и грозными, и лишь маленькая Голландия, хоть и встрявшая в эту войну, имперских замыслов не имела, как и претензий на испанский трон. После контакта с мингером ван дер Вейтом, капитаном «Русалки», Серов был о голландцах наилучшего мнения: спокойный народ, в чужой сундук не лезет, но и в свой загребущую лапу не пустит. Подумав об этом, он сказал: — Мы поднимем голландский флаг. Шейла в удивлении приоткрыла рот, ван Мандер усмехнулся, а Уот Стур, словно учитель, довольный успехом ученика, одобрительно хлопнул Серова по спине: — Хитро, капитан! Отличная ловушка! Эй, Боб! Вздерни-ка на мачту голландские подштанники! Взвился голландский флаг, и сразу за этим последовала вспышка выстрела. Испанец был уже близко, и ядро врезалось в воду перед носом «Ворона». — Велят лечь в дрейф. Не иначе как собираются досматривать, — прокомментировал ван Мандер. — В дрейф нам ни к чему, а вот скорость надо сбросить. Глядишь, не догонят. — Серов посмотрел на шкипера. — Я хочу быстро развернуть корабль. Какие паруса нужны? Что спустим, что оставим? — Кливер и стаксель. Фок и грот зарифить, верхние паруса спустить. Крюйсель тоже. Ветер подходящий. — Шкипер послюнил палец и поднял руку. — Дует от суши, а они идут с штирборта… Развернемся оверштаг?[446] Я верно понял, капитан? — Сначала оверштаг, чтобы встать к ним левым бортом, а после — против ветра, чтобы Сэмсон выпалил с правого. Сделаешь? — Совсем против ветра не получится. Ну, постараюсь… Стур уже орал с мостика приказы. Верхние паруса исчезали один за другим, скорость «Ворона» падала, и можно было подумать, что судно под голландским флагом подчиняется преследователю. Пристально наблюдая за надвигавшимся слева испанцем, Серов прикидывал расстояние. Двести ярдов, сто восемьдесят, сто пятьдесят… Пушечные порты грозили жерлами орудий, но палить противник вроде бы не собирался, хотел взять побитое бурей и беззащитное судно в целости и относительной сохранности. Сто сорок ярдов, сто тридцать, сто двадцать… — Давай, приятель, давай, — прошептал Серов на русском. — Скоро узнаешь, что бесплатных пирожных не бывает. — Он наклонился над перилами мостика и крикнул: — Тегг! Слышишь меня, Тегг! Из люка показалась голова бомбардира. — Здесь, капитан! — По моей команде с левого борта ударишь картечью им в порты — так, чтобы уложить орудийную прислугу. Потом с правого — по палубе, тоже картечью. Мачты и рангоут не ломай. Судно хорошее, себе возьмем. «И приведем на Балтику два корабля, — мысленно добавил Серов. — Два фрегата ровно вдвое больше, чем один. И командир над ними уже не капитан, а адмирал!» Тегг кивнул и исчез, но было слышно, как он распоряжается на орудийной палубе: «Цепи отставить![447] Дирк, козел вонючий, я что сказал? Картечь, только картечь! Шевелитесь, уроды немытые!» Шейла, бросив взгляд на испанский корабль и шеренгу солдат на шканцах, презрительно сморщила носик и молвила: — Скоро стрелять начнут. Я, пожалуй, спущусь в каюту. — Что так, дорогая? — притворно изумился Серов. — Никому сегодня кровь не пустишь? Ни одну испанскую собаку не убьешь? Шейла приложила ладошку к животу: — Мне сейчас кровь пускать нельзя, даже испанцам! Я об одном молю Пресвятую Деву, чтобы не гневалась за прошлое и не казнила наше дитя за грехи родителей. Пусть будет счастливым и здоровым… Пусть только увидит свет, а там уж я… — Поглядев на испанцев, она коснулась рукояти пистолета. — Пресвятая Дева милостива, — пряча улыбку, сказал Серов. — Иди, моя ласточка, и не тревожься. Рика к тебе прислать? Вдруг какой испанец сунется в каюту? Рик Бразилец, беглый негр, был у Шейлы в телохранителях, но она лишь покачала головой: — Зачем ему удовольствие портить? Пусть с тобой идет, Андре, а если ко мне кто сунется, так я еще стрелять не разучилась. Я Рика к тебе пришлю, с твоими пистолетами и шпагой. Она осторожно спустилась по трапу с квартердека. До испанского корабля было не больше семидесяти ярдов, и Серов уже без зрительной трубы различал лица солдат и оружие в их руках. Мушкетеров оказалось не много, человек тридцать, и это значило, что не приходится рассчитывать на богатый груз. Впрочем, сам корабль, сорокапушечный галеон, являлся немалой ценностью. Громко хлопнули паруса и снова вздулись — ван Мандер с рулевым развернули фрегат, и теперь десять орудий левого борта смотрели прямо на испанца. — Приготовиться, — негромко произнес Серов, и Стур с Бобом повторили команду. Затем первый помощник сказал: — Время помолиться, капитан. До первого выстрела. Кого не водилось в Береговом братстве! Разбойники и воры, пьянь и рвань, душегубы, беглые рабы и бывшие охотники, каторжане и осужденные безвинно, а потому озлившиеся на весь белый свет… Разные были люди, только не было среди них атеистов. Каждый злодей искренне верил и полагал, что даже смертный грех удастся искупить, если вовремя подсуетиться. Ведь Иисус говорил, что раскаявшийся грешник ему милее сотни праведников… Каяться полагалось перед боем, дабы смерть, если уж встретишься с ней, была немучительной, и чтобы душа попала не в ад, а хотя бы в чистилище. На «Вороне» каялись быстро, по-деловому, и в прежние дни молитву об отпущении грехов произносил Росано, ученый лекарь из Венеции, знавший, как обратиться к Богу. Дольф Хансен, нынешний хирург, тоже был учен и понимал в латыни, но не имел таланта складно говорить. Поэтому за всех пришлось молиться капитану. Перекрестившись, Серов промолвил громко и внятно: — Господи, если глядишь Ты на нас с небес и слушаешь меня, знай, что предаемся мы в Твои руки и отвергаем дьявола. Не по злобе творим мы бесчинства, а только ради пропитания, ибо ром у нас кончился, вода протухла, а в солонине ползают черви. Так что яви свою милость и отдай нам этот корабль со всеми его богатствами и запасами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Огонь! Палуба сотряслась. Пламя и клубы серого дыма вырвались из пушечных портов, пропела смертельную песнь картечь, скользнув над океанскими волнами ударила в борт испанца, хищно впилась в дерево, заскрежетала по орудийным стволам, ужалила канониров… Испанское судно покачнулось, завопили раненые потом грохнул взрыв — видно, раскаленное железо угодило в пороховые рукава. Из люков «Ворона» уже лезли отряды Брюса Кука, Тиррела и Кола Тернана, лезли быстро и молча, вскидывая оружие, целясь в строй мушкетеров, разворачивая канаты с крючьями, грозя палашами и тесаками. Секунда — и вслед за картечью засвистели пули, а фрегат, повинуясь умелым рукам ван Мандера, стал разворачиваться к противнику правым бортом. На галеоне понимали, что означает этот маневр. Битое бурей голландское судно, пусть не совсем овца, но, несомненно, баран, готовый к стрижке, вдруг обернулось волком, сомкнуло челюсти на горле жертвы и собиралось ее придушить. Вероятно, капитан испанцев уже догадался, с кем его свела судьба — только слепой не разглядел бы полуголую ватагу на палубе «Ворона» и блеск абордажных крючьев. Заметались офицеры, грохнул ответный залп из мушкетов, рулевые навалились на штурвал, и сломанный бушприт испанца стал отворачивать влево, к открытому океану — медленно, слишком медленно, чтобы уйти от пушек «Ворона». Ван Мандер не смог поставить корабль против ветра, но развернул его на сто двадцать градусов, и этого было достаточно — ветер, союзник Серова, подталкивал галеон, нес его мимо на северо-восток и прижимал все ближе к фрегату. — Правым бортом… картечью… огонь! Настил под ногами Серова снова дрогнул, и полтора центнера металла смели живых и мертвых с палубы испанца. Возможно, в конце двадцатого века артиллерия этих времен казалась допотопным хламом, но в ближнем бою она была эффективна и смертоносна, как установка «град». Особенно если у пушек стоял Сэмсон Тегг со своими канонирами. — Он наш! — завопил Стур, молотя по планширу огромным кулачищем. — Наш, клянусь Христовыми ранами! Будет нынче пожива у акул! Акулы были уже тут как тут — три-четыре острых плавника резали зеленовато-синюю воду. Мрачно поглядев на них, Серов приказал: — Право руля! Так держать! Спустить паруса! Их несло к испанскому судну. Сорок ярдов… тридцать… двадцать… За спиной Серова басистый голос произнес: — Капитана, твой сабля и бах-бабах. Хозяйка прислать. Он повернулся, принял из рук Бразильца пистолеты и свой толедский клинок, измерил взглядом расстояние до испанского судна и крикнул: — Бросайте крючья! Тиррел, ты со своими лезешь на ют, Тернан — на бак! Я пойду в центре, с Брюсом. В штыки, камерады! Вперед! Сотня глоток подхватила этот клич.* * *
Через три четверти часа Серов стоял на шканцах испанского корабля и глядел в белые от ярости зрачки капитана. Еще недавно этот офицер был одет как щеголь с Аламеды[448]: синий бархатный камзол с золотым Шитьем, синие штаны, шляпа с перьями, сапоги кордовской кожи и пояс из серебряных пластин с превосходной шпагой. Теперь на нем были только штаны; пояс висел на шее Хрипатого Боба, в камзоле красовался Кактус Джо, а шляпу втоптали в кровавое месиво на палубе. Что до сапог, то их экспроприировал Мортимер. К чужим сапогам он испытывал страсть, не находившую, однако, взаимности — сапоги у него держались до первого трактира, где можно было их пропить. Полсотни оставшихся в живых испанцев столпились на баке под охраной Страха Божьего и Люка Фореста. Люди из ватаги Клайва Тиррела таскали мертвецов, сбрасывали за борт и бились об заклад, что первым делом отхватят акулы — руку, ногу или голову. Шейла с Уотом Стуром, обшарив офицерские каюты, спустились в трюм для ревизии груза; их, в качестве рабочей силы, сопровождали братья Свенсоны и Рик Бразилец. Мортимер, Хенк и еще дюжина пиратов под началом Брюса Кука спускали шлюпки — с таким видом, что вместо них они охотно спустили бы испанцев по доске. Питер ван Гюйс, канонир и помощник Тегга, осматривал пушки на орудийной палубе, а сам Тегг стоял рядом с Серовым и, задумчиво поглядывая на испанского капитана, заряжал пистолет. Ярость в глазах испанца погасла, сменившись страхом. — Quien es? — пробормотал он. — Quien es, maldito sea![449] — Mi espan-ol es mal, — сказал Серов. — Habla frances?[450] — Да. Кто вы? — Побежденный представляется первым. Испанец попытался отвесить изящный поклон, но сделать этого не смог — Хрипатый Боб придерживал его за локти. — Дон Мигель де ла Алусемас, капитан флота его католического величества. — Маркиз Андре Серра, карибский корсар. — Карибский? В этих водах? — Глаза у дона Мигеля полезли на лоб. — Вы, конечно, не голландцы… Я думал, британский или французский капер. — Ошибся ты, Миша, сильно ошибся, — сказал Серов на русском и покосился на Тегга — тот уже зарядил пистолет. — Какой везете груз? Откуда и куда? Капитан задержался с ответом, и Боб, стоявший позади, приподнял его над палубой, выворачивая руки. — Хрр… Говорри, вошь испанская! Кости пер-реломаю! Мгновенная картинка мелькнула в памяти Серова: безымянный остров в Карибском море, пальмы, камни, песок и лачуга из корабельных обломков, к стене которой был привязан другой испанский капитан. Он снова увидел суровые черты Джозефа Брукса, холодное безжалостное лицо Пила и пистолет в руке Сэмсона Тегга. Сцена повторялась, только вместо Брукса и Пила были тут Хрипатый Боб и сам он, Андре Серра, предводитель корсарского воинства. А также Тегг со своим пистолетом, смотревшим в лоб испанцу. — Подожди, Сэмсон! — Андрей положил руку на плечо бомбардира и поглядел дону Мигелю в глаза. — Вот что, кабальеро… Я за вашим кораблем не гнался и первым не стрелял, у меня тут другие дела. Могли мы разойтись по-мирному, но если уж произошла баталия и кончилась не в вашу пользу, не будем устраивать пир для акул. Либо отвечайте на вопросы и убирайтесь к дьяволу, либо мы положим доску на планшир и проводим вас и ваших людей к дедушке Нептуну. Чего бы лично мне не хотелось. Я, дон Мигель, некровожаден. Испанец, как завороженный, смотрел то на плавники акул, то на пистолет в руке Тегга. Губы его шевельнулись, и Серов услышал: — Вы отпустите нас? Клянетесь в том Девой Марией и Сыном ее, нашим Спасителем? — Клянусь. — Серов вытащил из-за ворота крестик, подаренный Шейлой, поцеловал его и поднял руку с раскрытой ладонью. — Клянусь, что все вы уйдете отсюда живыми на шлюпках и, если будет на то воля Господа, достигнете земли. До Канар недалеко, миль пятнадцать. Испанский капитан с трудом отвел глаза от пистолета и промолвил: — Хорошо, дон Серра, я вам верю. Вы благородный человек, если мы еще живы. Итак, мой корабль… мой «Сан-Фелипе»… В общем, мы вышли из Кадиса двадцать дней назад с грузом вина и пороха для вест-индских колоний, но попали в шторм, отогнавший судно к востоку. Ничего ценного в трюмах нет, лишь бочки с вином и порох, как я сказал. Мне полагалось взять провиант и воду на Канарах, потом идти в Гавану, выгрузить боеприпасы и вино и присоединиться к флотилии, которая… которая… — Он запнулся, потом с внезапной решимостью договорил: — Которая готовится к рейду на Джеймстаун и Виргинию[451]. — Понимаю. Ваша большая военная тайна, но мне она ни к чему, — с усмешкой протянул Серов и кивнул Хрипатому: — Отпусти его, Боб. Пусть убирается с корабля. Канары — там! Он вытянул руку на юг, отвернулся от дона Мигеля и позабыл о нем. Из трюма поднялись Шейла и Уот Стур. Стур прижимал к боку какой-то сверток, а трое братьев Свенсонов и Рик шли за ним, обнимая пузатые бочонки. В том, который нес Бразилец, уже было выбито дно. — Мансанилья, белое андалусийское, — сказала Шейла. — Двести бочек мансанильи. Мы не очень разбогатели, дорогой. Правда, еще есть порох. — Подмоченный, — добавил Стур. — В трюме течь, вода стоит на восемь дюймов. Корабль, однако, прочный, недавней постройки. Если его подремонтировать… С бака, где испанцы спускались в шлюпки, донесся громкий крик. Смуглый чернобородый оборванец, которого Хенк с Мортимером тащили к борту, вырывался и что-то вопил, мешая итальянский, испанский и английский. Его лицо покраснело от напряжения, в ухе раскачивалась медная серьга. — Это что еще за скандалист? — пробормотал Серов. — Чего он хочет? Ну-ка, посмотрим… Он зашагал на бак с Шейлой и Стуром. Тегг остался у бочки с вином, черпал андалусийский напиток ладонью, пробовал и морщился: кисло и жидковато. Два корабля, победитель и побежденный, медленно дрейфовали по ветру, сцепленные абордажными крючьями. Палуба «Сан-Фелипе», стараниями людей из ватаги Тиррела, была очищена от трупов, одни пираты поливали доски водой, смывая кровь, другие лезли на мачты, спускали паруса, и у штурвала уже стоял Джек Астон. Две шлюпки с испанцами отчалили, третья еще болталась под обломанным бушпритом галеона. Хенк, здоровенный, как медведь, скрутил было чернобородого, норовя столкнуть в лодку, но на помощь приятелю бросился еще один моряк, такой же смуглый, бородатый, с глазами-маслинами и крючковатым носом. Мортимер ударил его ногой в живот, сбил на палубу и потянулся за кинжалом. — Стой, — велел ему Серов. — По виду эти парни не испанцы. Чего им надо? — А дьявол их знает! — Мортимер поскреб в затылке. — Не хотят с корыта уходить, прах и пепел! Ну, не желают по-доброму, так мы их сейчас нашинкуем и спустим за борт по частям. Жаль, палубу уже отмыли. Но если сперва отрезать им по уху, а потом… Чернобородый все же вырвался от Хенка, упал на колени перед Серовым и стукнулся лбом о доски: — Помилуй, господин! Мы не кастильцы, мы прятались на этом судне, хотели добраться до Канар! Я Мартин Деласкес с Мальты, бывший солдат Мальтийского Ордена, а ныне купец, и меня схватили в Малаге, где я закупал товар. А это, — он ткнул пальцем в крючконосого, — это мой компаньон Алехандро Сьерра или, если угодно, крещеный мавр Абдалла. Нас взяли по подозрению в ереси, но мы — Господом клянусь! — честные христиане! — Он вытащил крестик из-под рубахи и поцеловал его. — Милости, дон капитан, милости! Мы не хотим возвращаться к испанцам! Нас сожгут! Возьми нас на свой корабль, господин! — Сидели в трюме за бочками, — шепнул Уот Стур на хо Серову. — Купцы из них как из меня королевский шериф. Может, магометанские лазутчики, а может, контрабандисты. Но парни, видно, тертые, бывалые. Кивнув, Серов наклонился над чернобородым: — Если я вас возьму, какой мне будет прок? — Я знаю испанское и итальянское побережье как свою ладонь. Все острова и бухты, рифы и мели, течения и ветры… А мой компаньон проведет вас вдоль магрибских берегов с закрытыми глазами. — Мы идем не в Средиземное море, а в Северное, — сказал Серов. — Думай быстро, приятель! Чем еще ты можешь быть полезен? — Я знаю французский, английский, испанский, итальянский, арабский и турецкий, — с отчаянной надеждой промолвил Деласкес. — Я говорю, пишу и читаю на этих языках. И мы, Абдалла и я, умеем драться! Возьми нас, господин, — и ты не пожалеешь! Чего мы стоим, увидишь в первом же бою! — Раньше увидим, прямо сейчас, — буркнул Стур, окидывая «Сан-Фелипе» хозяйским взглядом. — Эта и панская лохань нуждается в ремонте. На нашем судне тоже есть поломки — бом-утлегарь надо поставить и новый бизань-гик, а еще взять провиант и воду… Ты хвастал, что знаешь побережье. И это тоже? — Стур повернул голову на восток, к африканскому берегу. — Что там за страна и кто в ней правит? Есть ли в ней порты и верфи? Есть ли мастера? Такие, которые знают, с какой стороны держаться за топор? — Это Магриб, господин, страна заката, — ответил Деласкес. — Магриб — богатая земля, и все в ней есть: и мастера, и верфи, и порты, а два ближайших — Эс-Сувейра и Сафи. Но идти туда опасно, ибо Магриб — страна сынов Аллаха, самых могучих и жестоких на этих берегах. Там правит великий султан Мулай Исмаил[452], и христиане, попав туда, должны отринуть прежнюю веру и поклониться Аллаху. Иначе их ждет рабство, а непокорных — ямы со змеями и ядовитыми пауками. Шейла содрогнулась. Последняя шлюпка испанцев отчалила. Серов, обняв жену за плечи, сказал: — Ладно, я беру вас обоих — тебя, Деласкес, и тебя, Абдалла. Можете перебираться на «Ворон». Что до ремонта, — он повернулся к Стуру, — с этим придется обождать до Плимута или Бристоля. — Если лоханка туда доплывет, — заметил Стур, топая ногой о палубу. — И если мы не помрем от поноса из-за вонючей жижи в бочках. Хорошо хоть вино нашлось, будем пить вместо воды. — Жуткая кислятина, — сообщил подошедший Тегг. — Но это, думаю, к лучшему — черви, что завелись в солонине, не выдержат и передохнут. — На галеоне есть вода и продовольствие. — Шейла с задумчивым видом пригладила русые локоны. — Там, в трюме… Что-то подмокло, что-то сгнило, а что-то еще годится… Пожалуй, я здесь задержусь и проверю. Серову это не очень понравилось, но спорить с Шейлой он не стал. Конечно, она была его супругой, что вынуждало ее к покорности, но также являлась офицером «Ворона» и службу несла круто и ревностно, без всяких поблажек. Кроме этих двух сторон медали имелась и третья — как-никак «Ворон» по завещанию Джозефа Брукса принадлежал его племяннице мисс Шейле Брукс. Возможно, другой человек запутался бы в этих трех личинах Шейлы, но только не Серов, пришелец из века женской эмансипации. Прежняя жизнь дарила драгоценный опыт, подсказывала в сомнительный момент: меньше споров, крепче корабль семейного счастья. Он снял с запястья часы, свой золотой швейцарский «Орион», и протянул его Шейле. Часы показывали 8:27, местное время, которое Серов засек вчера по высоте полуденного солнца. — Вот, возьми… Надеюсь, суток тебе хватит на ревизию? Завтра утром, в половине девятого, ты должна возвратиться на «Ворон». Мы подойдем, чтобы взять провиант. Договорились? Его супруга кивнула, спрятала часы и обвела рассеянным взглядом группу пиратов. Потом ткнула пальчиком в Хенка и Мортимера: — Этих мне оставь. Хенк будет бочки и ящики ворочать, а у Морти острый глаз. Поможет мне искать. — Со всем удовольствием, — сказал Мортимер и вытянул ногу, любуясь своим новым сапогом. — Мне что трюм обшарить, что чужой карман или, положим, кошелек — все едино. Талант у меня, значит. Батюшка мой говорил, что с таким талантом дорога прямо на виселицу, но я еще… Шейла толкнула его в спину крепким кулачком. — Иди, бездельник! Лезь вниз и принимайся за работу! — Обернувшись, она послала Серову нежную улыбку. — До завтра, милый. Не тревожься за меня, я ведь остаюсь с Уотом. «Разумеется, с Уотом», — подумал Серов. По нерушимой традиции Берегового братства приз, то есть захваченный корабль, брал под команду первый помощник. — Приглядывай за ней, — сказал он Стуру, когда Шейла отошла. — Двадцать человек тебе хватит? Двадцать два, считая с Хенком и Мортимером? Ну, если хватит, бери ватагу Тиррела — и пойдем, не торопясь, на север, вдоль африканских берегов. Держись в миле от нас, и не дальше. Стур кивнул, понюхал воздух и заметил: — Ветер стихает. К ночи, пожалуй, совсем упадет. — Это уж как Богу угодно, — отозвался Серов, пожимая плечами. — Упадет, так будем дрейфовать. — Ночь безлунная, не столкнуться бы в темноте… Ты, капитан, прикажи, чтобы огней жгли побольше и Бросили плавучий якорь. Ну, ван Мандер знает. Вот, передай ему. Он сунул Серову довольно увесистый сверток. — Что здесь, Уот? — Карты. Все, какие нашлись в каюте капитана. Хорошие карты, испанские, лучше английских. Все побережье от Кадиса до Неаполя, все острова: Сардиния, Корсика, Сицилия — и магрибский берег от Гибралтара до Сирта. Бери. Вдруг пригодится. — Это вряд ли, — сказал Серов, принимая сверток. — Мы ведь не в Средиземное море идем, а на север. Он был в этом совершенно уверен. Хотя в его родном столетии не отрицали влияние случая, в общем и целом случайности отводилось гораздо меньше места, чем в прошлые, е столь цивилизованные времена. Но в восемнадцатом веке, тем более в его начале, расклад был иным: тут, как говорилось выше, человек предполагал, а Бог располагал.
Уже четверть века магрибские пираты изредка проходили через Гибралтар и нападали в Атлантике на испанские галионы, которым удалось уйти от алчных карибских флибустьеров, а также на английские и голландские суда. Перед каждым походом, с учетом последних новостей, принималось решение, куда, сколько и какие суда отправить в плавание. Небольшое количество слабых судов могло упустить выгодную добычу, посылать же слишком мощный флот означало увеличить число участников при разделе добычи. Следовало соблюдать принцип равновесия. Несчастным христианам, внезапно увидевшим перед собой смуглых пиратов, и в голову не могло прийти, что эта встреча вовсе не случайность.Жорж Блон. Великий час океанов. Средиземное море (Париж, 1974 г.)
Глава 2 СРАЖЕНИЕ ВО МРАКЕ
К ночи ветер стих совсем. Ночь, как и предупреждал Уот Стур, выдалась безлунная, а темнота в этих широтах была такой, что, вытянув руку, ладонь не разглядишь. Серов последовал совету первого помощника, велел спустить за борт плавучий якорь и зажечь фонари на юте и баке. Ночную вахту вызвался стоять ван Мандер, взяв себе в помощь братьев Свенсонов и двух парней из ватаги Тернана. Остальные спали, утомленные недавней схваткой; шканцы и шкафут были устланы телами, как поле кровопролитного побоища, а воздух дрожал от могучего храпа. Разило потом, порохом и кислым вином, и эти запахи, обычно уносимые ветрами, сейчас окутывали корабль, точно плотное облако. Серов в каюту не ушел, устроился на баке у носового фонаря, на пятачке, свободном от спящих. Без Шейлы в каюте было пусто и тоскливо, койка казалась слишком просторной, и все остальное тоже напоминало о ней — сундук с ее платьями, чернильный прибор и свеча на крохотном столике, веер, забытый рядом с судовым журналом, маленькие башмачки в углу. «К хорошему привыкаешь быстро, — думал Серов. — К теплому телу в постели, к аромату женской кожи, тихому шепоту, нежным словам… К тому, что ты уже не одинок…» Он вздохнул и оперся локтями о планшир. Палуба под ногами была неподвижна как пол в бальном зале, и это непривычное ощущение тревожило Серова — чудилось, что его корабль пребывает в глубоком сне или — береги Господь! — вообще покойник. Внезапно он поймал себя на том, что считает эту деревянную посудину чуть ли не живой, чем-то вроде морской твари, кита, кашалота или огромного кальмара. Конечно, это иллюзия, так как сам по себе «Ворон» не был живым — его одушевляли ветер, волны, бури, шквалы и океанские течения. По их прихоти он двигался, оживал и обретал голос, включавший множество привычных звуков: скрип такелажа, звон канатов-струн, шелест парусов и шипение, с которым вода раздавалась под корпусом судна. Но мертвый штиль заставил корабль умолкнуть. Храп и бормотание спящих принадлежали не ему, а совсем иным созданиям — тем, кого он нес в своем чреве над морскими безднами. Динн-донн… динн-донн… На квартердеке пробили склянки. Где-то в темноте откликнулось, точно эхом: динн-донн… Звук прилетел с испанского галеона, скрытого непроницаемой завесой тьмы — только два огонька, висевших низко над горизонтом, показывали, где застыл плененный корабль. Четыре кабельтова[453], самое большее — пять, мелькнула мысль. Серов запрокинул голову, всматриваясь в черный бархат небес, расшитый по-южному яркими созвездиями. Полярная звезда стояла в зените, подмигивала ему лукавым сиреневым глазком. «Завтра, — подумал он, — мы поплывем на север. Поплывем, если Господу будет угодно… если пошлет Творец попутный ветер, если спасет от штормов, от пушек неприятелей и гибели в пучине…» Он не был верующим, но в этот миг ему захотелось перекреститься. Он находился в мире, принадлежавшем не людям, но Богу, владыке над стихиями и человеческими судьбами. — Звезды, — произнес он вслух. — Звезды, и я — единственный человек на Земле, который знает, что это такое. Чудовищные сгустки плазмы, горнило термоядерных реакций, как утверждают физики… Звезды. Звезды и море… Серов перевел взгляд на огоньки испанского судна и начал тихо напевать:* * *
Убитых турок и арабов на палубе уже не оказалось, а вокруг корабля кружили, разевая зубастые пасти, акулы. У грот-мачты кучей было свалено оружие, кривые сабли и ятаганы, а поверх них бросили кое-какую обувь, портупеи и одежонку. Два десятка молодцов черпали ведрами воду, смывали с досок кровавые пятна, плотник Донован осматривал порубленный планшир, ран Мандер стоял у штурвала, щурился, слюнил палец, проверял, не задует ли ветер. Тегг с хирургом были на шканцах. Там, у бакборта, тянулся ряд аккуратно уложенных мертвых тел, и второй помощник, всматриваясь в лица погибших, делал отметки в судовом журнале. Журнал держал Абдалла, а бронзовую чернильницу — Мартин Деласкес. У обоих торчали за поясами пистолеты и тесаки — видимо, Тегг убедился, что они прошли боевое крещение. Хирург Дольф Хансен хлопотал над раненым — кажется, Колином Марчем, — но ног и рук ему не отнимал, а вытаскивал пулю из плеча длинными тонкими щипцами. Раненый извивался и вопил, его удерживали Жак Герен и Кук. У фок-мачты сгрудились пятеро тощих, пропеченных солнцем незнакомцев; лохмотья, служившие им одеждой, свисали с костлявых плеч, вокруг бедер были обмотаны грязные тряпки. — Капитан на палубе! — рявкнул Тегг, и работа остановилась. Только Хансен продолжал тянуть мушкетную пулю, но его подопечный разом умолк — то ли отключился, то ли решил показать свое терпение и мужество. — Продолжайте, джентльмены, — сказал Серов, хмурясь и кивая Теггу. Шеренга погибших выглядела весьма внушительной. Вместе с Теггом и боцманом он поднялся к ван Мандеру и в двух словах пересказал услышанное от Мортимера. Хирург, упираясь в плечо Марча ладонью, вытащил, наконец, свинцовый кругляш, посыпал кожу порохом, прижег, и раненый застонал сквозь зубы. Герен поднес к его губам кружку рома. — Наши потери? — спросил Серов. Тегг поскреб заросший щетиной подбородок: — Многие с синяками и порезами, но кости у всех целы. Убитых тринадцать и трое тяжелораненых. Двоих лекарь обещал выходить, но Дэнни Гранту проткнули печень. С этим ничего не поделаешь… Лежит без чувств на пушечной палубе и отходит к Богу. — Плохая смер-рть, клянусь пр-реисподней! — заметил Хрипатый Боб. — Мы вышли из Вест-Индии с экипажем в сто семь человек, считая супругу капитана, — с голландской основательностью произнес ван Мандер. — Взяли с испанского судна мальтийца и этого мавра, а оставили на нем две дюжины своих людей. В схватке потеряли четырнадцать. Так что теперь у нас двое раненых и шестьдесят девять в строю… Маловато! Если мы… — он бросил взгляд на Серова, — если решим выручить своих, надо удвоить команду. — Без «если», — сказал Серов. — Кто эти оборванны, что торчат у фока? На что они годны? — Гребцы с сарацинской посудины — с той, что потонула. Магометанские невольники. Должно быть, шустрые парни, коль сумели выбраться. А на что годятся, сейчас узнаем. — Тегг перегнулся через планшир и зычно крикнул: — Эй, там, на баке! Вы, пятеро! К капитану! Гребцы направились к квартердеку. Глядя на них, Серов подумал: года не прошло, как сам он точно так же шел к капитанскому мостику, чтобы предстать перед Джозефом Бруксом и Пилом. Покойным Бруксом и покойным Пилом… Много с тех пор воды утекло! Теперь это его корабль, и к нему, капитану, идут освобожденные рабы, чтобы выслушать приговор, принять дар жизни или смерти… Имелась, конечно, разница. Он появился на «Вороне» из совсем другого мира, из грядущих времен, так что растерянность, ошеломление и страх были вполне понятны. Но эти пятеро — не пришельцы, они — плоть от плоти, кровь от крови этого жестокого столетия, и все его опасности, все его тяготы им знакомы и привычны. Они не казались растерянными или испуганными — наоборот, они были счастливы. Первым на квартердек поднялся высокий мужчина лет сорока. Он был истощен и грязен, но его плечи были широки, на руках и торсе бугрились крепкие мышцы, а тонкие черты лица, плотно сжатые губы и уверенный взгляд говорили о врожденном благородстве. Мужчина размашисто перекрестился и произнес на французском: — Хвала Господу, мы на христианском судне! Вы мессир капитан, спасли нас от почитателей лжепророка, и нет пределов нашей благодарности! В знак этого я, Робер де Пернель, приношу обет. Клянусь, что в трех первых храмах, что попадутся мне по пути, я поставлю столько свечей перед образом Божьим, сколько храбрых мореходов на этом корабле! В ответ на речи де Пернеля боцман ухмыльнулся, ван Мандер хмыкнул, а Тегг пробормотал: — Двести свечек, моча черепашья! Лучше уж получить за них наличными. Бывший невольник отвесил изящный поклон и повторил свое имя: — Шевалье Робер де Пернель, мальтийский рыцарь, командор ордена. К вашим услугам, господа! — Андре Серра, маркиз и капитан этого судна, — представился Серов, кланяясь в свою очередь. — А это — мои помощники: мастер Тегг, мастер ван Мандер и мастер… Боб, как твоя фамилия? — Забыл, чер-рт, — буркнул Хрипатый. — Последний р-раз ее называли в кор-ролевском суде. Перед тем как закатать меня на каторргу. Но рыцарь де Пернель не обратил на этот инцидент ровно никакого внимания. — Я полагаю, вы, маркиз, — капер на службе его величества? «Какого величества?..» — подумал Серов, морща лоб. Потом ответил: — Нет. Мы, шевалье… как бы это сказать?.. вольные охотники из Вест-Индии. Служим только Господу и собственному кошельку. — Хм-м… Пираты? — Флибустьеры[457], — уточнил Серов. — Кто ваши спутники? — Мои оруженосцы Жан и Луи, — произнес рыцарь, кивнув на тощих, но крепких темноволосых парней. — И двое других — Антонио Скорци, генуэзец, наемный воин, и Пирс Броснан, моряк из Бристоля. Если вы, мессир капитан, доставите нас на Мальту или в любой христианский порт, то… — Об этом — позже, шевалье. Скажите, кто на нас напал? — Реис[458] Ибрагим Караман по прозвищу Одноухий Дьявол. Один из тех нечестивцев, что плавают от Стамбула до магрибских берегов, жестоко угнетая христиан, ^захватывая их суда, убивая одних, а других пленяя, дабы взыскать золото с их безутешных родичей. Он шел из Эс-Сувейры в Гибралтар и, думаю, наткнулся на вас случайно. Воистину он гиена из морских гиен, ядовитый змей, губитель христианских душ! Магистр нашего ордена мессир Раймонд де Перелое де Рокафуль[459] послал против него галеры с рыцарями и тремя сотнями солдат, но в том бою мы потерпели поражение. Многие попали в плен… я и мои люди… Антонио Скорци и другие… А Броснана взяли у испанских берегов, когда ограбили торговый бриг… — Де Пернель вскинул вверх руки и, широко раскрыв глаза, обратил лицо к ясному небу. — Благодарю Тебя, Господи, что пробыли мы в неволе недолго и что послал Ты нам избавление с этим кораблем! Неизмерима Твоя милость, и потому хочу я дать еще один обет. Когда мы придем на Мальту, я… — Подождите с обетами, шевалье, — молвил Серов. — Я хочу знать, где бросил якорь этот Караман. Есть ли постоянное место, где он держит пленных и свои сокровища? Где чинит корабли и пополняет экипажи? Где продает награбленное? Есть ли у него владение на берегу? Вы там бывали? Рыцарь покачал головой: — Нет, мессир. Как я сказал, мы пробыли в неволе недолго, три с лишним месяца. Но есть остров в заливе Сирт, именуемый Джерба[460], и там собираются все магрибские разбойники, все враги Христовой веры из Марокко, Алжира и Туниса. Лежит этот остров у самых африканских берегов, на юго-западе от Мальты, и оттуда до него двести двадцать миль. — Местная Тортуга, — буркнул Сэмсон Тегг, поглаживая рукоять пистолета. — Остров большой, размером с Мальту, — продолжал де Пернель. — Но Мальта находится в открытом море, между Сицилией и Африкой, а Джерба, как я сказал, у побережья, где есть удобные гавани. Должно быть… Моряк из Бристоля кашлянул. — Да, мастер Броснан? — Если будет мне позволено, сэр… — У Пирса Броснана оказался гулкий, сочный бас. — Я слышал от других гребцов, от тех несчастных, что были пленными долгие годы… пусть Господь помилует их души и примет в рай… — Моряк перекрестился. — Они говорили, сэр, что есть у Одноухого на Джербе усадьба и что его галеры там часто зимуют. Сейчас они пришли из Эс-Вувейры, где Одноухий брал провиант, и туда он вернется, чтобы подлатать свои суда. А потом уйдет на Джербу через Гибралтар. Скоро зима, море будет штормить… В шторм на шебеке не поплаваешь. — Это верно, — кивнул ван Мандер. — Ну, что решишь, капитан? — Мне нужно подумать, — произнес Серов, задумчиво глядя на восток. Там, за немногими милями, лежал марокканский берег, который в этих краях называли Магрибом, и там стояли города Эс-Сувейра, Сафи, Рабат, Танжер и другие. Страна сынов Аллаха, как сказал Мартин Деласкес, страна разбойников, где правит султан Мулай Исмаил и где христиан обращают в рабство или бросают в ямы к змеям и ядовитым паукам… Кто ожидает там Шейлу? Шейлу, Стура, Тиррела и остальных? Он повернулся к де Пернелю. — Караман увел нескольких наших парней, рыцарь. В схватке с ним многие погибли — вот они, лежат на шканцах. — Серов вытянул руку к ряду мертвых тел. — Мыне бросим своих, но мой экипаж нуждается в пополнении. Вас тут пятеро, и хоть вы слегка отощали, я вижу, что люди вы крепкие и искусные в бою. Если я доставлю вас на Мальту — скажем, месяца через три-четыре — согласитесь ли вы мне служить? Служить верой и правдой, соблюдая законы Берегового братства? — Хм-м, — в глубокой задумчивости произнес де Пернель, — хм-м… — Внезапно лицо командора просветлело — кажется, он примирил долг благодарности, свои обеты и чувствительную совесть. — Я не стал бы служить пиратам, но флибустьеры из Вест-Индии — дело другое, — молвил он. — Надеюсь, вы не будете грабить христиан? Топить корабли испанцев, британцев и французов? Суда из Генуи, Венеции, Сицилии? — За испанцев не поручусь, испанцев мы не любим. Но обещаю первым в драку не лезть. А что до обороны так этого Господь не запретил. Всякая живая тварь имеет право обороняться. — Всякая, даже магометане, — согласился де Пернель. — Я вижу, мессир капитан, что вы человек разумный, и я могу послужить вам без урона для рыцарской чести. В чем приношу обет и клятву! За себя, за Антонио, Луи и Жана, солдат ордена! А мастер Броснан пусть сам решает. — Я согласен, — молвил мореход из Бристоля. — Я тоже клянусь! У меня к магометанским собакам длинный счет. — Ваши клятвы приняты. Боб, отведи их в каптерку, выдай одежду, оружие и вели накормить, — сказал Серов. — А я… я и мои офицеры… мы должны исполнить свой печальный долг. В сопровождении Тегга и ван Мандера он спустился на шканцы. Там уже собралось с полсотни человек, большая часть команды. Люди замерли в мрачном молчании, многие — в повязках, на которых выступила кровь. Рик и Кактус Джо придерживали доску, протянутую над планширом, и около них стояли братья Свенсоны. Серов двинулся вдоль ряда убитых, громко называя их имена и объявляя наследников[461]. Он помнил всех, и плававших с ним на «Вороне» со времен капитана Брукса, и нанятых на Тортуге, — всех, кто пожелал идти с ним в Московию, на службу государю Петру. Пожелал идти, да не дошел… Ряд закончился. — Молитву, капитан, — напомнил ван Мандер. — Да, разумеется. — Серов повернулся к толпе и увидел среди своих людей Робера де Пернеля. Он был в прежних своих лохмотьях — видно, до каптерки так и не дошел. — Шевалье! Вы — командор Мальтийского ордена… Известна ли вам молитва на латыни, подходящая к случаю? — Я постараюсь вспомнить, мессир капитан. Наш орден теперь не совсем монашеский, но еще с тех времен, как мы дрались за Святую Землю, мы провожали убитых в Царство Божие. Много их было… тысячи и тысячи… Рыцарь извлек откуда-то из-под лохмотьев крохотный крестик, поцеловал его и начал ровным тихим голосом читать отходную на латыни. Слова падали в тишину. Не гудели снасти, не шумела вода, не свистел ветер, не хлопали над головой паруса… «Мертвый штиль, — подумал Серов. — Мертвый, дьявол! Болтаемся тут как дерьмо в проруби, а Одноухий Караман уже, должно быть, в Эс-Сувейре…» Молитва закончилась. Он махнул рукой Олафу, Стигу и Эрику, и те подняли первый труп, положили на доску. Доска накренилась, и тело, завернутое в холстину, с чугунным ядром в ногах, плеснув, ушло под воду. Свенсоны ухватили второго мертвеца. Шуршание холстины, скрип трущейся о планшир Коски и плеск… Это повторялось снова и снова. Ряд убитых становился все короче, потом на палубе остались лишь живые. Однако не расходились, ждали. — Лекарь, проверь, как там Дэнни Грант, — велел Серов. Хансен полез на орудийную палубу, потом высунул голову из люка и скорбно опустил глаза. — Преставился? — Да, капитан. Вздохнув, Серов кивнул братьям Свенсонам: — Выносите! — И тихо пробормотал на русском: — Покойся с миром, Дэнни Грант! И пусть Господь тебя помилует… Зашуршал холст, грохнуло о палубу ядро, скрипну, ла доска, плеснули холодные океанские воды.
С начала XV века пиратство в Средиземном море почти целиком сосредоточили в своих руках мусульмане, и с этих пор оно приобрело, можно сказать, религиозную окраску.А. Б. Снисаренко. Рыцари удачи (Санкт-Петербург, 1991 г.)
Глава 3 МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ
В полдень Серов сменил ван Мандера и отстоял восьмичасовую дневную вахту. Время тянулось бесконечно. Расхаживая по квартердеку, он пытался прогнать мысли о Шейле, но они возвращались, как стая голубей к рассыпанному пшену. Он то проклинал безветрие, то подсчитывал, сколько осталось на судне пороха и ядер, то прикидывал, с какой скоростью идут на веслах шебеки Ибрагима Карамана — получалось, что если примерно как пешим ходом, то часов через десять-пятнадцать они уже будут у берега, у пирсов Эс-Сувейры. И где окажется его любимая супруга? То ли в яме под палящим солнцем, то ли в темнице с крепкими замками, и это было бы лучшей из всех возможностей. О худшей, о том, что поздно или рано она попадет в чью-то спальню, он старался не думать, перебивая эту мысль планами по захвату Эс-Сувейры или хотя бы гавани с причалами и кораблями. «Ворон» был не самым крупным из боевых фрегатов, но все же его пушки, двадцать четыре тяжелых орудия, могли сровнять с землей любое поселение, где не имелось мощных защитных бастионов и береговых фортов. Африканский городок с глинобитными хижинами и стенами из необожженных кирпичей был беззащитен перед бомбардировкой. Во всяком случае, так полагал Серов. Его экипаж успел передохнуть после ночного боя, поесть и выпить дневную порцию спиртного. Люди, однако, ворчали, и штиль усиливал чувство беспомощной злобы — никаких прибытков сражение не принесло, а одни лишь раны, гибель товарищей да потерю испанского галеона. Но в этом не было вины их предводителей, потому ворчание не предвещало мятежа. Серов, тем не менее, понимал, что злость команды должна на кого-то излиться, и лучше, если это будут сарацины. Груду оружия, оставшегося после перебитых мусульман, убрали с палубы, частью распределив среди корсаров, частью отправив в корабельный арсенал или прямо за борт. Сабли местной марокканской работы не являлись ценностью, но нашлось несколько дамасских клинков, французских и испанских пистолетов и ятаганов из хорошей стали. Были еще кривые ножи, которые Деласкес назвал джамбиями[462], и даги с клеймами миланских мастеров — наверняка с ограбленного судна из Италии. Одежды оказалось немного — все больше штаны и безрукавки, фески и короткие сапожки. Мортимер выбрал пару сапог, Обрядился в шаровары непомерной ширины, напялил феску и сделался похож на турка: ходил, отставив зад, помахивал ятаганом да лопотал на тарабарском языке. Команда потешалась — особенно Страх Божий, у которого были давние счеты с магометанами. Палубу отмыли и выскребли, заменили порубленный планшир, и плотник Донован с помощниками трудился до заката, пристраивая на место новые бизань-гик и бом-утлегарь. Корпус не имел пробоин, такелаж, не считая дюжины разрезанных канатов, тоже уцелел, орудия, паруса и рангоут были в полном порядке. Главной потерей «Ворона» являлись погибшие или захваченные в плен бойцы, но тут уж сам Творец помочь не мог — Матросов в океане не заменишь. Отоспавшись после вахты, ван Мандер поднялся к капитану, заметил, что тот не в себе, и повел успокоительные речи. Дескать, штиль поздней осенью — большая редкость, и надо ждать, что ветер задует ночью или с утра и будет, скорее всего, попутным, северо-восточным; хочешь — иди к африканскому берегу, хочешь — к Гибралтару или к британским портам. У атлантического побережья Африки и в Средиземном море ван Мандер не бывал, но, будучи опытным шкипером, кое-что слышал об этих краях. Море, по его словам, было еще коварнее океана; хоть не имелось в нем огромных валов и страшных тайфунов, зато налетали внезапные шквалы и бури, а навигация у континентов или среди островов, что в Эгейском море, что в Тирренском, Адриатическом и Ионическом, требовала доскональных знаний о бухтах, гаванях, глубинах, дельтах рек и каждой скале, каждом подводном камне. И потому, толковал ван Мандер, если решит капитан идти в Тунис или Алжир, понадобятся лоцманы, а значит, нужно вспомнить про Абдаллу и Деласкеса. Хвастали ведь, что знают африканский берег как свою ладонь! Серов отвечал в том смысле, что, может, не придется в Средиземье плавать — может, явятся они в Эс-Сувейру, разгромят басурман, выручат своих, а Караману наденут пеньковый галстук и вздернут быстро и высоко. Но умудренный жизнью ван Мандер пробормотал что-то на голландском и перевел: будь желания лошадьми, нищие ездили бы верхом. А после добавил, что мельницы Господни мелют медленно. В девятом часу, когда пала на океан темнота, Серов, сдал вахту Сэмсону Теггу и отправился к себе. Их с Шейлой каюта была в кормовой надстройке и выходила иллюминаторами на балкон, тянувшийся вдоль всей кормы. Палубой ниже жили офицеры, и там, в кают-компании, сверкали бронзой два орудия, а еще был стол, за которым питался командный состав; при необходимости на нем расстилали карты и делали расчеты для верной навигации. Серов, однако, вниз не спустился, а зажег побольше свечей, нашел среди трофейных испанских карт искусно раскрашенные портуланы с чертежами Северо-Западной Африки и разложил их на койке. Береговая черта показалась ему искаженной, но океан и моребыли на месте, а также острова, от Канар до Мальты и Сицилии. На одной из карт, видимо старинной, испанский картограф нарисовал в морях дельфинов и каравеллы с наполненными ветром парусами, в Атласских горах — разбойников в тюрбанах и с кривыми саблями, а в пустыне Сахаре — львов и драконов, бедуинов наверблюдах, страусов, змей и всякие иные чудеса. На побережье были помечены порты: Эс-Сувейра, Сафи, Касабланка, Рабат, Танжер, Сеута, Алжир, Тунис и кое-кто еще. Были и материковые города, с названиями, которые помнились Серову, хотя и смутно: Фес, Марракеш, Мекнес[463]. Порты и города изображали башенки, размер которых, вероятно, определялся мощью укреплений и силой того или иного правителя, султана, бея или аги. Башня Эс-Сувейры показалась Серову не очень впечатляющей. За дверью кто-то поскребся, и он, оторвавшись от карт, крикнул: — Кого там черт несет? Показалась темнокожая физиономия Рика Бразильца. Одной рукой он придерживал дверь, в другой покачивал на ладони поднос с тарелкой, кружкой и кувшином. Выпучив глаза, Рик осведомился, желает ли капитана отужинать. — Надо кушать, надо, — бормотал он на своем убогом английском, — не то хозяйка мисси Шейла, вернувшись, рассердится на Рика, скажет: не давал капитана сухарь и мясо, не поил вином, и значит, палка по тебе скучает, Рик, палка и линьки. Серов велел ему оставить поднос, позвать де Пернеля, Деласкеса и мавра Абдаллу, а заодно принести бутылку рома и еще три кружки. Он доедал свой ужин — сушеная говядина, размоченный в воде сухарь и сухофрукты с испанца, — когда в дверь опять постучали. — Можно войти, — сказал Серов. Трое вызванных им переступили высокий порог и, повинуясь жесту капитана, уселись на табуретах. Рик расставил кружки, наполнил их ромом и тихо удалился. В каюте, разгоняя темноту, горели полдюжины свечей, пахло воском, спиртным и просоленным морскими бризами деревом. Окно на балкон было распахнуто, сквозь него струился прохладный воздух, но пламя свечей не колебалось — ветер по-прежнему спал, не желая гнать корабль к магрибским берегам. Серов осмотрел новых членов своей команды. Предплечье Деласкеса было обмотано тряпицей, на шее, под ухом, тянулся алый рубец, глаза запали — видать, в ночном сражении мальтиец принял не один удар и бился честно. Абдалла, он же Алехандро Сьерра, выглядел не таким утомленным и, кажется, не был ранен; на его бородатом суровом лице застыла маска терпеливого ожидания. Вероятно, этот человек испытал многие превратности судьбы и относился к ним с философским спокойствием; может быть, его поддерживала вера в Господа или в предопределение. Третий из новобранцев, командор Робер де Пернель, сменивший лохмотья на штаны и потертый колет из боцманских запасов, пребывал в глубокой задумчивости — очевидно, еще не утряс свои разногласия с совестью. Мог ли мальтийский рыцарь без потери чести служить на корсарском корабле? Была ли в этом некая проблема? Если была, Серов ее не представлял, так как о Мальтийском ордене помнилось ему немногое — собственно, лишь то, что императора Павла избрали великим магистром[464]. То есть еще не избрали, но изберут, и случится это в конце восемнадцатого века… Кивнув на Деласкеса, Серов повернулся к де Пернелю: — Скажите, рыцарь, вы встречались с этим человеком? — Возможно, мессир капитан. Не служил ли он прежде нашему ордену? — Служил. Это Мартин Деласкес, мальтиец, бывший Солдат и бывший купец. А рядом — его приятель Алехандро Сьерра, крещеный мавр Абдалла. — Маран?[465] — уточнил де Пернель. Абдалла согласно кивнул — видимо, это неизвестное Серову слово не являлось обидным. Он побарабанил пальцами по столу, поглядел на койку с разложенными картами и произнес: — Пожалуй, я отдам этих людей под ваше начало, командор. Разумеется, с теми четырьмя, что спаслись с шебеки. — Помолчав, Серов продолжил: — Вы трое плавали в этих водах, сражались у этих берегов и знаете, что за народы здесь обитают. Вы — люди опытные, и я нуждаюсь в вашем совете. — Я в вашем полном распоряжении, мессир. — Де Пернель склонил голову, и Абдалла с Деласкесом повторили этот жест. — Мы шли из Вест-Индии в северные моря, — сказал Серов. — В Россию, к царю Петру. Я слышал, он строит флот и щедро платит за услуги иноземных мореходов. Деласкес зашевелился, почесал в бороде, недоуменно приподнял брови: — Царь Питер? Мне рассказывали о нем, когда я добрался до Лондона, но о России я ничего не знаю. Кажется, он правит в Московии? — Его страна — Россия, а не Московия, — твердо промолвил Серов. — Запомни, Мартин: Россия! О ней еще услышат! — Но зачем вам плыть туда, дон капитан? Это же край света… это дальше, чем ваша Вест-Индия… где-то за турками, за татарами… или за Польшей и Лифляндией?.. У черта на рогах, прости Господи! — За татарами… Ты еще Китай вспомни! — Серов ухмыльнулся, но за державу было ему обидно. Держава, видимо, не пользовалась в Европах особым решпектом. — Россия — богатейший край, Деласкес! Сокровищ там больше, чем во всех землях от Польши до Британии! И к тому же царь Петр жалует иноземцам титулы графов и князей. — В нашем ордене известно про эту страну, — сказал де Пернель. — Ее владыка сражается с Карлом, шведским королем и великим воителем. Что до земель царя Московии… прошу простить, России — то они и правда богаты: оттуда везут лес, мед и меха. Но все же мне непонятно, мессир капитан… Вы — французский маркиз благородной фамилии Серра… Зачем же вам титул графа в чужой стране? Серов снова усмехнулся: — Маркизом был мой отец, знатный дворянин из Нормандии, а я — его незаконный отпрыск. Бастард! Нет у меня поместий и замков, и титула, если разобраться, тоже нет. Зато есть корабль, пушки и боевая команда. — Теперь я вас понимаю, — задумчиво промолвил де Пернель. — Понимаю! Благородство вашей крови нуждается в подтверждении, в дворянских грамотах, чего во Франции не добиться… Ах, наша прекрасная Франция!.. — Он поднял глаза к потолку. -Прекрасная, но недобрая и к бастардам, и к младшим сыновьям древних рыцарских родов… Что ж, мессир, незаконный отпрыск французского маркиза в России может сделаться графом. Это как минимум. — Вообще-то я надеюсь пробиться в князья, — заменил Серов, — но разговор сейчас не об этом. Итак, мы шли из Вест-Индии в Россию, но буря отогнала нас в южные широты, к Канарам. Вчерашним днем мы встретили испанский галеон, но мирно разойтись не удалось — испанцы нас обстреляли. Я взял их корабль на абордаж и высадил на него призовую команду. — Он помолчал, покрутил кружку, глядя, как плещется в ней маслянистый ямайский ром, вдохнул его запах. — Я рассказываю это для вас, рыцарь де Пернель, ибо Деласкесу и Абдалле все известно. Они с того испанского корабля, прятались на, нем, желая попасть на Канары. Командор нахмурился: — Остальных испанцев вы перебили? Не пожалели христианских душ? — Пожалел. Я отпустил оставшихся в живых и дал им шлюпки, чтобы могли добраться до Канар. Пусть им сопутствует удача! Серов поднял кружку, отхлебнул глоток, и Деласкес с рыцарем сделали то же самое. Но Абдалла к спиртному не прикоснулся. — Что было дальше, мессир капитан? — Ночью на нас напали сарацины, чему вы были свидетелем, де Пернель. Мой корабль отбился, но команду с галеона взяли в плен. Они не погибли, я точно это знаю! Мортимер… мой человек из призовой команды, взорвавшийсудно… он видел! Утром мы выловили его из воды. Он говорит, что в плен попали двадцать человек или около того. — Создатель, помилуй их! — Де Пернель перекрестился, отпил из кружки, и Серов с Деласкесом последовали его примеру. Потом рыцарь произнес: — Двадцать человек… Я догадываюсь, мессир капитан, что вы хотите их выручить. — Безусловно. Даже если мне придется плыть за этим Одноухим Караманом до самого Стамбула! — Такой нужды нет. Если Господь пошлет удачу, вы настигнете его в Эс-Сувейре. А если не получится, надо идти на Джербу или искать ваших людей на невольничьих рынках Алжира и Туниса. Они, вероятно, крепкие мужчины… Дорогой товар! Но настоящую цену можно взять только в больших приморских городах, в том же Алжире или Тунисе. Там есть миссии нашего ордена и люди, которые выкупают христиан. — За ценой я не постою, мой корабль набит серебром и золотом, — сказал Серов. Подумал и добавил: — Кроме того, у меня есть пушки. Они снова выпили, и Абдалла, так и не прикоснувшийся к рому, произнес: — Могут не продат. Могут посадит в яму. Надолго! — Он заговорил на арабском, а когда речи мавра завершились, Деласкес перевел: — Ваши люди, синьор капитан, воины и опытные мореходы. Им предложат перейти в веру Магомета, и если они согласятся, Караман примет их в число своих бойцов. Тем более… хм-м… что они — корсары из Вест-Индии. Они сражались за добычу, топили корабли, резали христиан… пусть испанцев, но все же христиан… Не все ли равно, как искать богатства в море, под знаком креста или полумесяца? — Это, в общем-то, без разницы, — согласился Серов. — Важно не как искать, а с кем. Не думаю, что они променяют «Ворон» на шебеки Карамана. Но мысль у Абдаллы верная — могут не продать, а в яму посадить. И в таком случае, где они могут очутиться? Его собеседники переглянулись и призадумались. Затем де Пернель произнес: — Думаю, на Джербе. Как сказал Пирс Броснан, У Карамана там усадьба и его галеры там зимуют. А зима и зимние бури уже не за горами. — Замолчав, он уставился в потолок, потом продолжил: — Клянусь ранами Христовыми, я не ищу выгод, мессир капитан… Но если вы не найдете своих моряков в Эс-Сувейре, советую идти на Мальту. Там можно перезимовать и подготовить экспедицию на Джербу. Я уверен, что мессир Раймонд, великий магистр ордена, вам в этом посодействует. И я тоже! А я не последний человек среди братьев-рыцарей! — Де Пернель торжественно вскинул руку. — И я даю обет, что… Серов стукнул костяшками пальцев о столешницу: — Подождите с обетами, командор, вы еще не знаете всей истории. Боюсь, что она намного сложнее! — Поднявшись, он подошел к распахнутому окну и поглядел на звезды, сиявшие над океаном. Ему показалось, что щеки гладит слабое дыхание бриза. — Мне нужно пополнить команду, — сказал Серов, поворачиваясь. — Мне нужны смелые парни… смелые и умелые… моряки, мушкетеры, канониры, опытные бойцы… Я хочу знать, есть ли в Эс-Сувейре пленники — такие, как вы, де Пернель, готовые драться как дьяволы. Желательно британцы, итальянцы и французы. Испанцев я взять не могу — команда не поймет. — Есть, — кивнул де Пернель. — Караман пришел в Эс-Сувейру на четырех шебеках, но в гавани были и другие суда, не меньше дюжины… — Он наморщил лоб. — Можно расспросить Пирса, Антонио, Луи и Жана, вдруг что-то вспомнят… На берегу, рядом с причалами, высокая изгородь, а за ней — сараи. Мне кажется, что туда загоняют невольников-гребцов с пиратских кораблей. Должно быть, их несколько сотен. Серов вернулся к столу, достал лист бумаги, кивнул на чернильницу: — Какие в Эс-Сувейре укрепления? И где? Нарисуйте, шевалье, и пусть ваши люди уточнят. Сколько орудий и каких? Кто охраняет гавань? Большое ли войско у Мулая Исмаила, который правит в этих землях? Сколько его солдат в Эс-Сувейре? Какая численность пиратских экипажей? — Боюсь, что не смогу ответить на все ваши вопросы, — промолвил рыцарь, однако взял бумагу, обмакнул перо в чернильницу и принялся рисовать. В его точных, экономных движениях ощущалась сноровка военного человека. Абдалла внимательно следил за тем, как на бумаге появляется чертеж, щурил темные глаза-маслины, склонял голову к плечу и вдруг заметил: — Здэс нэ так, эфенди. Я жить в этот страна и побывать в Эс-Сувэйр, я знаэт. Они с Деласкесом принялись подсказывать де Пернелю, тут же исправлявшему рисунок. Серов внимательно слушал. Войско у Мулая Исмаила было огромное[466], но пехотинцы и всадники стояли большей частью в крупных континентальных городах, у Феса, Марракеша и Мекнеса, а также у Касабланки, принадлежавшей португальцам, и на границе с Алжиром. Эс-Сувейра являлась незначительным пунктом на окраине державы, местом ссылки инвалидов и одряхлевших солдат, одной из мелких баз магрибских пиратов в Атлантике; население тут пробавлялось торговлей, рыболовством и добычей раковин, из которых получали пурпурную краску. Этот марокканский городок не мог похвастать крепкой обороной: порт охраняли две батареи со старыми четырех- и шестифунтовыми пушками, увечных воинов Исмаила было сотни две, и Абдалла назвал их ленивыми свиньями и хадиджами, что означало «недоноски». Самую серьезную опасность представляли пиратские суда и их команды, которые могли насчитывать тысячу бойцов, и две, и три. Но Абдалла утверждал, что в преддверии зимы боевых кораблей в Эс-Сувейре немного — возможно, дюжина или десяток. Еще он добавил, что между городом и портом лежит большая базарная площадь с харчевнями и кабаками, где пираты продают и покупают, дерутся друг с другом, торгуются с купцами, а в промежутках между этими занятиями пьют и ходят к женщинам. — Пьют? — удивился Серов. — Аллах запретил магометанам пить. — Аллах запрэтит вино, но ест гашиш и ест другой напитки, крэпче. — Абдалла приподнял кружку с ромом. — Этот напиток в Коран нэ сказан, потому пьют. Но турок пить всэ. Турок сын Иблис, почти нэ правовэрный. — Магрибцы турок не любят, — пояснил Мартин Деласкес. — Но ты, Абдалла, рома не пьешь, хоть христианин, — сказал Серов. — А христианину положено закладывать за галстук — это, знаешь ли, символ веры. Но ты не пьешь! Почему? В самом деле еретик? Или все еще предан Аллаху? Мавр покачал темноволосой головой: — Аллах, Христос — разный названий для Бога, который чэловек придумат. Я учится у суфий[467] Али ибн Джарир, и учитэл сказат: Бог, чэловек — едины. Вахдат аль-вуджуд! Вахдат аль-вуджуд — доктрина «единства бытия», которую сформулировал один из арабских суфиев-философов — Ибн аль-Араби. Жизн ест постижэний Всевышний и собствэнный душа… Но вино — плохой дорога к Богу. «Философ!» — подумал Серов с уважением, забрал у Абдаллы емкость со спиртным и разлил по трем другим кружкам. Сам он относился к православному роду-племени, а де Пернель с Деласкесом были католиками, но похоже, что настоящим христианином в их компании являлся Абдалла. Рыцарь закончил чертеж и протянул его Серову: — Это все, мессир? Все, чем мы можем быть вам полезны? — Нет. Есть еще одно обстоятельство. Оно касается женщины. — А! — воскликнул Деласкес. Он видел Шейлу на испанском судне и, вероятно, догадался, о чем пойдет речь. — Среди пленников, захваченных Караманом, моя жена, молодая красивая женщина. Очень красивая! У нее должен быть… — Серов почувствовал, как перехватывает горло, глотнул рома и закончил: — Она на третьем месяце. Мы ждем ребенка. — Дева Мария! — произнес де Пернель. — Заступись и сохрани! Эти мусульманские собаки могут… Но Абдалла прервал его, заговорив на арабском, и говорил он довольно долго, делая по временам скупые жесты, прикладывая к сердцу ладонь и протягивая руки к открытому окну, то ли к звездам и небу, то ли к близкому африканскому берегу. Деласкес несколько раз о чем-то переспрашивал мавра, затем повернулся к Серову и сказал: — Он говорит, дон капитан, что молодые красавицы всегда достаются предводителю — обычай такой, что у турок, что у арабов. Караман возьмет ее себе, но насиловать не будет. Красивые женщины со светлыми волосами и синими глазами очень, очень дорогой товар! Редкий! Караман продаст ее в гарем или подарит большому владыке, султану Мулаю Исмаилу, который любит европейских женщин, или дею Алжира, а может, отвезет в Стамбул. Но сначала позволит ей родить дитя, потому что с животом она не представляет ценности. У магометан есть опытные старухи, они проверят, что ваша жена в тягости, и присмотрят за ней. Не беспокойтесь, синьор! Они это сделают лучше, чем любой лекарь из стран Европы. Серов, наконец, смог вздохнуть полной грудью. Пряча лицо в тенях, он проворчал: — Надеюсь, ей не придется жить в неволе семь месяцев и рожать у арабов или турок. Я должен раньше еe найти! А если будут там опытные старушки, так мы их с собой прихватим. Я за одну такую старушку тысячу песо отдам! — Вы благородный человек, — сказал де Пернель. — Вы преданы своей супруге, и вы хотите выручить своих людей… Я встречал множество знатных людей, более родовитых, чем вы или я, которые, забыв о близких, подняли бы паруса и уплыли из этих проклятых вод. А вы… вы настоящий рыцарь, мессир Серра! И потому я все же хочу произнести обет. — Он поднял правую руку, а левой стиснул висевший на груди крестик. — Клянусь, что не покину вас, пока вы не найдете свою супругу! Клянусь, что буду вам верным спутником, пока не ступят на палубу «Ворона» ваши люди! И если придется мне пролить кровь или отдать жизнь во исполнение этого обета, то пусть так и будет! Клянусь в том спасением своей души и Господом, моим заступником и водителем! Серов вытер повлажневшие глаза. «Такого в мои времена не услышишь! — подумалось ему. — Да, спутники, компьютеры, ракеты, ванна джакузи, теплый сортир и остальная хренотень — это пожайлуста, это у нас есть… А благородство где?.. Самопожертвование, гордость, рыцарская честь?.. Чувство благодарности и душевная щедрость?.. Умение выразить словом и жестом свой порыв, и сделать это открыто и прямо, не боясь ни косых взглядов, ни кривых усмешек? Если придется пролить кровь или отдать жизнь, то пусть так и будет… Надо же! А ведь мы с ним и дня не знакомы!» — Благодарю вас, рыцарь, — глухо произнес он. Порой его голос окреп, он повернулся к койке с картами и вымолвил: — Ну, вернемся к делу. Мальту я нашел, а теперь покажите мне, где остров Джерба и залив Сирт. Я хочу прикинуть, за сколько дней мы туда дойдем при попутном ветре. На тот случай, если Караман оставил Эс-Сувейру…* * *
Когда советники удалились, Серов опять подошел к окну и встал там, жадно глотая прохладный воздух. Думы о Шейле не покидали его, и сейчас он размышлял о том, можно ли верить Абдалле. Возможно, этот странный тип, выкрест, говоря по-русски, или вообще атеист арабского розлива, хотел его успокоить? Хотел вселить в него уверенность?.. «Уверенность, ха! Да я ведь, пожалуй, самый уверенный на планете человек, ибо мне известно будущее, — думал Серов. — Конечно, не в деталях и не в ближайшие дни и месяцы, но все же, все же… Я знаю, что Людовик Французский, „король-солнце», протянет еще лет пятнадцать и что война за испанское наследство кончится ничем… Знаю, что шведов разобьют при Полтаве и Гангуте, что в середине века начнутся войны с турками, а через столетие — с Наполеоном… Знаю, что Эйлер, Ломоносов и Суворов еще не родились, а Рембрандт и Гюйгенс уже умерли… Знаю о великих людях, что живут сейчас, не о царях и королях, но гениях, что сохранятся в памяти людской, когда о нынешних особах царской крови будут помнить лишь историки… Ньютон, Лейбниц, братья Бернулли, Бах и этот английский философ… как его… Джон Локк?..[468] Все они нынче мои современники! С ума сойти! Да что там современники, есть и покруче чудеса! Вот сундук в моей каюте, и в нем,под нарядами Шейлы, ларец, а в ларце — завещанный Джулио Росано манускрипт, что написал Леонардо да Винчи! Книга пророчеств, составленных им со слов несчастного Игоря Елисеева, который провалился из аномальной зоны в пятнадцатый век и умер во Флоренции, то ли от чумы, то ли от холеры…» Мысли его вновь вернулись к Шейле и к их еще нерожденному ребенку. Вот появится на свет это дитя любви и продолжит род Серовых, и через три столетия его, Андрея, гены и кровь, пропутешествовав через века, появятся в настоящем, которое для него сейчас далекое будущее… Можно ли считать это вмешательством в историю? Изменится ли мир от того, что некий Андрей Серов изъят неведомым способом из своей эпохи и переправлен в прошлое? А ведь в этом прошлом он не прячется в нору, как рак-отшельник, а живет весьма активно; будут у него потомки, дети, внуки, правнуки, будут жизни, которые он оборвал, всадив в чью-то грудь клинок или пулю. Собственно, детей и внуков еще нет, а покойных уже целая рота! Эдвард Пил, заколотый им на «Вороне», испанец, убитый в Пуэнте-дель-Оро, другие испанцы, к которым добавились теперь магрибские разбойники… Сколько он их перебил? Наверняка не один десяток… Это ли не вмешательство в историю! Явился отморозок из двадцать первого столетия, стал по случаю пиратом и, как положено в этом ремесле, бьет да режет! «А ведь я не один такой, — внезапно подумал Серов. — Не один, есть еще двадцать исчезнувших на Камчатке и в прочих аномальных зонах. Евгений Штильмарк, врач из Твери, Линда Ковальская, экономист, Наталья Ртищева, Игорь Елисеев, парни из Нижегородского политеха, Губерт Фрик из Мюнхена и остальные… Все они провалились в прошлое, и где бы ни довелось им приземлиться, от эпохи фараонов до Второй мировой, всем — даже женщинам — придется убивать. Убивать, чтобы выжить, чтобы спасти близких, тех, кого нашел в новом времени, чтобы защитить себя, не умереть голодной смертью в чистом поле… Убивать, ибо история мира полна жестокости, борьбы и войн, так что, в какую эпоху ни попадешь, меч или мушкет сами запросятся в руки. И потянется вслед за пришельцами список убитых и спасенных либо иные хроноклазм…[469] Вот Игорь Елисеев, попавший к Леонардо во Флоренцию: возможно, он никого не убил и, может, даже спас, а еще поведал мессиру да Винчи столько всякого, что на целый том хватило. Спасенные и отнятые жизни, рождение потомства, собственная смерть, сведения, переданные предкам, идеи, что появились до времени… Изменит ли это грядущий мир, исказит ли историю, и в чем?» — размышлял Серов. Ведь история — не математика, которая едина, историй множество, и объективность их зависит от личного мнения летописца. Для человека амбициозного история — схватка великих королей и полководцев, для верующего — промысел Господень и приближение к Страшному суду, для инженера — череда открытий, смена технологий, для марксиста — переход от первобытно-общинного строя к коммунизму на фоне классовой борьбы… У каждого своя история, и каждый по-разному оценит те несообразности, что происходят тут и там, запоминаясь или теряясь в тысячелетиях. Некогда в Египте и Шумере возникла письменность — почему?.. Вавилоняне решали квадратные уравнения, майя составили точный календарь, халебы с Кавказских гор плавили железо, китайцы придумали порох… Опять же, почему и как? Один историк скажет — закономерность развития, другой усмотрит в этом чудо, парадокс, влияние космических пришельцев, научивших и подсказавших то и это. Но от пришельцев из космоса недалеко до странников во времени. Если он, Серов, провалился в темпоральную дыру, если это случилось с другими его современниками, то понятно: случай не единичный. Во все эпохи, во всех временах и странах такое случалось с людьми, и, вероятно, этих таинственно исчезнувших, загадочно пропавших многие, многие тысячи. Они попадали из своего настоящего в прошлое, кто-то погибал, кто-то выживал, одаривал предков новыми идеями, и если они были к месту, что-то появлялось — скажем, порох, письменность или железо. И значит, он, Андрей Серов, волен делать что угодно, ибо история все учтет, ненужное отбросит, ценное отставит, и уж во всяком случае не будет обижаться на него и Шейлу за их ребенка. Такие мысли успокаивали, вселяли уверенность в прочности его Вселенной. Серов ощущал себя не случайным винтиком в сложном механизме бытия, а его законной частью, столь же необходимой миру и времени, как Ньютон, Лейбниц или философ Локк. Выходит, было предопределено, что в марте 1701 года появится на палубе «Ворона» некий Андре Серра, что станет он капитаном и супругом Шейлы Джин Амалии и что они со всей своей командой поплывут в Россию. Но доплывут ли?.. Серов вздохнул, отошел от окна, убрал карты с койки и растянулся на шерстяном одеяле. Для него и Шейлы койка казалась узковатой, но ему одному была широка. От подушек пахло лавандой и нежным ароматом женской кожи, и это благоухание перебивало запахи свечей, дерева и недопитого рома. Полежав минут пять или десять, Серов поднялся, погасил свечи, снова лег и попытался уснуть. Против ожиданий, это ему удалось — видимо, сказались усталость и нервное переутомление. И приснился Серову сон, будто он в своей квартире, в Москве, на Новослободской; будто идет он от входной двери в гостиную, а там все как встарь: древний буфет из мореного дуба, обитый плюшем диван, шкаф с зеркалом и стулья с прямыми спинками у круглого стола. На стенах — знакомые картины, снимки и афиши: бабушка Катя порхает над крупом гнедого жеребца, прадедушка Виктор на цирковой арене — важный, в усах, верховых сапогах и с шамберьером, папа Юра идет по канату, а мама Даша, в розовом трико, тянется к нему рукой. И будто бы все они здесь, в Москве, а вовсе не в Америке — чинно сидят у стола, гоняют чаи и заедают баранками. Вся их цирковая семья: папа Юра, мама Даша, сестренка Леночка, ее супруг Володя-канатоходец и даже кто-то мелкий, то ли племяш, то ли племяшка. А самое удивительное, что на диване, разбросив широкие юбки, восседает Шейла Джин Амалия, графиня графиней, в сапфировых серьгах и ожерелье, что так идут к синим ее очам. Сидит она на плюшевом диванчике, смотрит на новую свою семью и улыбается. «Ну, Андрей, как тебе в морских разбойниках? Не жмет?» — спрашивает папа Юра. «Поначалу тошно было, а теперь ничего, привык, — отвечает Серов. — Теперь я большой человек, стою на капитанском мостике, на палубе — мой экипаж, а под ногами — двадцать четыре пушки. Тяжелые орудия, ядра — с пуд, дальность стрельбы — четыре кабельтова. С ними я в море первый после Бога!» Мама с сомнением поджимает губы: «Но все-таки, сынок, быть пиратом как-то неприлично. Не нравилось тебе в цирке, так ты в бизнесмены пошел, там не прижился, офицером стал, повоевал за отчизну, уволился, подался в сыщики… В наше время любое из этих занятий почтенно. А пиратом… Фи!» — «Зато Шейлочка у него как елка разукрашена, — говорит зять Володя, косясь на Шейлу. — Камешки-то настоящие, значит, прибыльное ремесло! Я бы тоже в пираты пошел и спроворил Ленке такой же гарнитурчик». Сестра возмущенно поднимает брови: «И не мечтай! Ты по канату идешь, через шаг запинаешься! Куда тебе в пираты! Опять же ты семейный человек, с детьми!» — «Я тоже семейный и тоже вскорости буду с детьми, — говорит Серов. — И не пират я вовсе, а флибустьер! Это пиво совсем другого розлива! Приду к царю Петру Алексеевичу, выправлю патент и стану капером и благородным кавалером!» — «Так ты уже пришел, — замечает мама Даша. — Ты ведь уже в Москве, сынок, только царя Петра здесь нет, а есть мэр Лужков Юрий Михайлович. Может, к нему на службу пойдешь?» — «Почему бы и нет?! — отвечает Серов, чувствуя, однако, некоторое разочарование. — Мэр тоже чем-нибудь да пожалует. А сейчас пойдем смотреть мой фрегат. Он, должно быть, стоит на Москве-реке, у Москворецкого моста». Тут они поднимаются и выходят из дома на Новослободскую, где ждет их семейство открытый лимузин с тройкой орловских рысаков и Риком Бразильцем на месте кучера. Все рассаживаются, и вдруг Серов замечает, что Шейлы с ними нет. Сердце его бьется тревожно и часто, он бежит в подъезд, потом в квартиру, в гостиную, где сидела она на плюшевом диванчике, и видит, что диван пустой. «Шейла! Шейла!» — зовет Серов, но откликается только эхо: «Ла-а-а… ла-а-а…» Потом он слышит грохот. Грохнула оконная створка и разбудила Серова. Поднималось солнце, небо было синим и глубоким, и ветер гнал по нему редкие облака.
Чего ни совершили бы эти люди при своем мужестве, терпении и других воинских доблестях при благоприятствовавшем им счастии, если бы гениальный человек соединил их всех, подчинил предприятия их правильной системе и образовал таким образом лучшее целое! Но этого не случилось. Поэтому история флибустьеров состоит из отдельных, без всякой связи, часто совершенно изолированных деяний, из которых каждое, по мере важности цели, имело больший или меньший интерес, который определялся также иногда характером и подвигами предводителей.Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
Глава 4 ЭС-СУВЕЙРА
Утром, в девятом часу, Серов собрал экипаж на шканцах и объявил о перемене курса, о том, что идут они не север, к британским гаваням, а на восток. Идут в Эс-Сувейру, чтобы выручить Уота Стура и его парней, ибо нельзя бросать их в сарацинских лапах, не по-божески это будет — тем более не по закону Берегового братства. Да и лапы сарацинские надо бы укоротить, отплатив за погибших сторицей. Одно дело смерть принять и раны, когда за добычу бьешься, и совсем другое, когда прибытка нет, а есть четырнадцать покойников. Это значит, что за сарацинами должок! Не за всеми, разумеется, а конкретно за гиеной Караманом и всеми его сотоварищами по ремеслу, какие имеют место быть в Эс-Сувейре. Все, что они награбили у христиан или других магометан, следует экспроприировать, корабли их поганые сжечь, старшин повесить, порт разгромить, но первым делом найти Уота Стура. Один за всех, все за одного! Вперед, камерады! Речь Серова приняли с большим воодушевлением, одобрительными криками и лязганьем клинков. Дождавшись тишины, он объявил награду от себя лично: триста дукатов[470] золотом тому, кто разыщет его достойную супругу Шейлу Джин Амалию. Это вызвало новую бурю восторгов. Затем люди разошлись. Часть отправилась с Теггом на орудийную палубу чистить пушки, подтаскивать ядра и пороховые рукава, часть под присмотром ван Мандера работала с парусами, а остальные точили палаши, острили кинжалы и заряжали мушкеты. У штурвала стоял Стиг Свенсон, и его соломенная грива, повязанная красным платком, золотилась под солнечными лучами. Хрипатый Боб, выкатив бочонок, помешивал спиртное черпаком и шумно принюхивался — выдача рома перед сражением являлась боцманской привилегией. Юго-восточный ветер был устойчивым, «Ворон» резво бежал к африканскому берегу, делая восемь узлов, и это значило, что после полуночи фрегат доберется до Юс-Сувейры. Ночью Серов атаковать не хотел, рассчитывая лишь на то, что в сумерках и мраке фрегат не заменят с береговых укреплений. Он ударит утром, с первыми лучами солнца. С подзорной трубой за поясом Серов расхаживал по квартердеку, чувствуя, как палуба под ногами идет то вверх, то вниз. Штиль кончился, и его корабль ожил: полнились ветром тугие паруса, поскрипывали мачты и реи, басовито гудели канаты, шипела под килем вода, и голоса людей, готовившихся к бою, вливались в эту симфонию как вскрики чаек. Глядя на море с барашками пены, он вспоминал свой сон и усмехался — надо же, привидится такое! Но хорошо, что привиделось — значит, еще не позабыл родные лица, еще звучит в ушах мамин голос… А пройдет лет тридцать, так ничего и не вспомнится! Заслонит восемнадцатый век и двадцатый, идвадцать первый, и будут приходить в кошмарах Петр Алексеевич с кошачьими усами, хитрюга Меншиков да пьяные рожи царских лизоблюдов… «Хотя, — подумал Серов,- должны к тому времени вырасти дети, мои и Шейлины потомки, и я их увижу в снах и наяву — если, конечно, протяну тридцатник. А это совсем не просто! Можно пасть со славой в Полтавском сражении или в битве с турками, можно при Гангуте утонуть, а можно загнуться от простуды, не говоря уж о холере и чуме… Антибиотиков нет, дажеаспирин еще в проекте, и панацея от всех болезней — ром и джин. Ну, в России водка и малиновое варенье… Зато народ со СПИДом незнаком, с куриным гриппом и атипичной пневмонией! Помирает честно и просто — от ран, полученных в бою, от геморроя, грудной жабы, подагры и удара»[471]. Он ухмыльнулся, вытащил из-за пояса трубу и осмотрел горизонт. Ничего… Ни корабельного паруса, ни рыбачьего баркаса… Только море в белых барашках, солнце да небо с перьями полупрозрачных облаков. Ясный день, даже не верится, что уже ноябрь… Но, с другой стороны, места тут южные, южнее Севильи и Гранады километров на шестьсот. Одно слово, Африка! Африка впереди, а за спиной Канарские острова, что станут лет через триста модным курортом, и не боевые галеоны будут плавать у их берегов, а яхты и серфингисты… На мостик поднялся Сэмсон Тегг. От него пахло металлом, кожей и порохом. Встав рядом с Серовым, он кивнул ван Мандеру, подзывая его к капитану, и вымолвил: — Умеешь ты с парнями толковать, Андре. Трудятся как дьяволы, клянусь Пресвятой Троицей! Я всегда считал, что язык капитану важнее ножа и пистолета. — Покойный Брукс был лихой капитан, хоть и неразговорчивый, — произнес подошедший ван Мандер. — Спаси Господь его душу! Как подумаю, что мается он сейчас в преисподней, так в пот бросает! — Все туда попадем, — легкомысленно заметил Тегг. — А пока мы еще пребываем в этой юдоли слез и печалей, надо добавить того и другого магометанским псам. Как будем брать их городишко? Ты уже придумал, Андре? — На ночь ляжем в дрейф у берега, а ранним утром атакуем, — сказал Серов. — Главное, не пропустить городских огней, подойти на четверть мили и не напороться на какую-нибудь скалу. Надеюсь, Абдалла послужит нам лоцманом. Бомбардир покосился на шканцы, где ватага де Пернеля заряжала мушкеты, осмотрел Абдаллу и с сомнением хмыкнул. Потом спросил: — Куда мне стрелять? Как считаешь, крепость там есть? Или форты, равелины, береговые батареи? Серов вытащил из-за обшлага камзола лист с планом укреплений, развернул и показал своим помощникам. Глаза у Тегга округлились. — Чтоб мне в аду гореть! Это откуда, капитан? — Де Пернель и Абдалла нарисовали. Рыцарю кое-что запомнилось, а Абдалла бывал в магрибских городах и в Эс-Сувейре тоже. Мелкий городок, население — «тысяч пять, рыбаки да торговцы. Крепости нет, гарнизон малочисленный и слабый. Он принялся объяснять диспозицию, а когда закончил, Сэмсон Тегг, метнув взгляд на шканцы, произнес: — Подозрительны мне эти двое, что Абдалла, что Деласкес. Парни наши их разговорили — ну, как обычно бывает… надо же знать, с кем ешь и спишь и с кем под пули лезешь… Тем более что взяли их не на Тортуге или Ямайке, а на испанской посудине. — И что они говорят? — Странная история, капитан. Будто приплыли они в Малагу за партией оружия. С Мальты пришли, на фелюке[472]. — За оружием? — Серов приподнял брови. — По заданию ордена или как? — Или как. То есть по собственному разумению. Орденэтот, видишь ли, на Мальте укрепился и воюет с турками да сарацинами, так что оружие всегда в больной цене, особенно толедские клинки. Их из Испании трудно вывезти… Но наши шустрилы такое прежде проворачивали и барыши имели приличные. А в этот раз попались. — На контрабанде? — Нет. Местному алькальду[473] их рожи не понравились, слишком на мавров похожи. Судно велел арестовать, а приятелей наших схватить — и на дыбу. Деласкес, помнится, сказал, что прямо в Малаге их повязали… Но потом признался, что один знакомец их предупредил — бросили они свою фелюку и утекли в Кадис, от греха подальше. А там корабль стоял, этот проклятый «Сан-Фелипе», который мы разбили… Сунули взятку офицеру, все золото отдали, что было при себе, и тот их в трюме спрятал, обещал из Испании вывезти и высадить на Канарах. Такая вот история. — Кому они это рассказывали? — поинтересовался Серов. — Всем, кто спрашивал. Брюсу Куку, Мортимеру, Люку Форесту… ну, и другим тоже. — И что тебе не нравится, Сэмсон? В Испании — инквизиция, и шутки с нею плохи. Правильно сделали, что утекли. Бомбардир пожал плечами: — Слишком ловко у них это вышло. Я по карте смотрел: от Малаги до Кадиса — сотня миль, три раза могли их словить, а не словили! Опять же этот испанский офицер с «Сан-Фелипе»… Наверняка из дворян, а деньги взял! Странно, разрази меня гром! — Деньги всем нужны, так что я в их байках ничего странного не вижу, — заметил Серов и поглядел на шканцы. — А что ты о рыцаре скажешь, о де Пернеле? Он тебе тоже подозрителен? — С этим хлопот не будет. Прямой, как мачта, простой, как топорище. Что на душе, то на морде и на языке. Но к берегу не он нас поведет, а этот Абдалла. А у нас осадка девять футов. Не приведи Господь, сядем на мель! — Другого лоцмана нет, — рассудительно сказал ван Мандер. — Но я за этим парнем послежу! В два глаза буду смотреть! — Пошли на мачты Рика Бразильца и Олафа, — велел Серов. — Пусть высматривают берег. А теперь… Они склонились над чертежом, обсуждая план атаки. Попутный ветер раздувал паруса «Ворона», и с каждым часом судно приближалось к земле. К таинственному и страшному Магрибу, где правит султан Мулай Исмаил.* * *
Их опасения были напрасны — Абдалла не посадил фрегат на мель и не разбил о скалы, а вывел точно к Эс-Сувейре. Берег, залитый тьмой, разглядеть не удавалось, город и порт тоже тонули во мраке, но мавр ориентировался по зареву, что затмевало звезды у горизонта. Как объяснил Абдалла, то были отблески костров на базарной площади, где веселье продолжалась всю ночь. Судя по этим огням, берег находился в миле с четвертью. Корабль дрейфовал под зарифленными парусами до той поры, пока на востоке не засияла золотистая точка восходившего солнца. В ту же минуту ван Мандер распорядился поставить кливер, фок и фор-марсель, и судно, подгоняемое свежим бризом, направилось к гавани. Неширокий проход в нее охраняли две батареи на южном и северном мысах, и Серов разглядел в трубу, что пушки там и правда малого калибра, как говорил Абдалла, и годятся лишь пугать ворон. Между этими жалкими фортами тянулись деревянные причалы с лодкамирыбаков и пиратскими судами, а за ними стояли в ряд хлипкие сараи, крытые пальмовым листом и тростником. Три сарая у северного форта были побольше, и их окружала высокая изгородь из столбов и жердей, переплетенных ветвями колючего кустарника; за южным укреплением виднелись хижины, привязанные к кольям ослы и бродившие на свободе собаки и козы. Абдалла пояснил, что за изгородью держат рабов-христиан с пиратских галер, а хижины — солдатские казармы, для тех из воинов, кто не имеет городского жилья. Остальные сараи были торговыми складами. За портом лежала базарная площадь, забитая повозками, палатками, навесами, глиняными хибарами, верблюдами, быками и множеством людей; несмотря на ранний час, там дымили жаровни, и оттуда доносился гул толпы, рев быков, пьяные выкрики и звонкие удары молота о наковальню. Дальше начинался город: хаос улочек между глиняных стен, загоны для скота, растрепанные кроны редких пальм и три-четыре белых минарета при мечетях. Еще были какие-то башни — то ли незаконченные укрепления, то ли развалины крепости или дворца в дальней стороне от моря. Над городом, перекрывая шумы с базарной площади, плыл протяжный стон муэдзинов, призывавших правоверных к утреннему намазу. Звуки показались Серову знакомыми — слышал такое в Чечне. У причалов он насчитал семь шебек, подумав с сердечным трепетом, что, быть может, три из них принадлежат Караману. Пленники в этом случае сидели в загоне для рабов, но была ли там Шейла?.. Этого он не знал. Возможно, ее заперли на одном из кораблей, возможно, отвезли в город… Серов снова осмотрел пиратские шебеки, надеясь обнаружить следы ночного боя, поломанный фальшборт или что-то в этом роде, но не увидел ничего подходящего. Мачты кораблей были голы, паруса свернуты, палубы пустынны, да и вблизи никакого движения не наблюдалось — видимо, магометане загуляли, чувствуя себя в полной безопасности. — Пьянство и гульба до добра не доводят, — пробормотал Серов и приказал открыть порты. Двадцать четыре орудия «Ворона» мрачно уставились на город. До берега было метров триста, и обе береговые батареи находились сейчас в точности на траверзе[474], под прицелом бортовых пушек. Он отдал команду, и над бухтой раскатился грохот залпа. Тегг стрелял из шести орудий с каждого борта; тяжелые снаряды развалили защитный бруствер, разбили и опрокинули пушки. Над батареями магометан заклубилась желтая пыль, раздались панические вопли, Заметались фигурки солдат. Вероятно, ночная стража дремала на укреплениях — воины были полуголыми, и среди них Серов различил темнокожих сенегальцев. Снова рявкнули орудия «Ворона». На этот раз Тегг выпалил картечью: мечущиеся фигурки попадали, и желтое облако сделалось гуще — разрушив глиняные брустверы, ядра и картечь взбили густую пыль. Вероятно, живых на фортах уже не осталось — «Ворон» неожиданно напал на них, как гром небесный. — Спустить паруса! — выкрикнул ван Мандер. Абдалла, навалившись на штурвал, разворачивал корабль бортом к берегу, трое корсаров готовились бросить якорь, Хрипатый Боб распоряжался у шлюпок, висевших на талях. Абордажная команда, сорок с лишним человек, бряцая оружием, собралась на шканцах и шкафуте. Из люка высунулся Тегг: — Куда стрелять, капитан? Врезать по лоханкам, что болтаются у пирсов? — Нет. — Серов опустил подзорную трубу. — Суда без экипажей, и, думаю, они нам еще пригодятся. Бей по складам, Сэмсон, и постарайся не попасть в торговые ряды. — Хм-м, по складам… А если в них что-то ценное? — Вряд ли, судя по их виду. Мы возьмем свое на базаре. Тегг исчез. Якорь с плеском пошел в воду, захватил грунт, и цепь натянулась, тормозя движение «Ворона». Наконец корабль замер, развернувшись к берегу левым бортом. До твердой земли оставалось около кабельтова, и подходить ближе Серов опасался, так как осадка у фрегата была гораздо больше, чем у пиратских шебек. Но даже с такого расстояния пушки могли послать ядра через базарную площадь, сокрушить городские строения и уничтожить десятки их обитателей. Однако бомбардировать город он не собирался — в конце концов, жившие в Эс-Сувейре люди не отвечали за Ибрагима Карамана и прочих магрибских разбойников. Ядра со свистом понеслись к берегу, и над глинобитными складами взмыла такая же желтая туча, как над поверженными фортами. В ней кружились сорванные кровли, жерди, балки, какие-то корзины и тюки, потом над одним из складов громыхнуло, и в небо выплеснул фонтан огня — видимо, снаряд угодил в запасы пороха. Площадь, что простиралась за линией складов, замерла; разглядывая ее в трубу с высоты квартердека, Серов увидел, что всякое движение прекратилось, даже перепуганные животные перестали реветь. В этот миг пестрый восточный базар походил на картину: застывшие купцы и покупатели, ослы, верблюды и быки; груды овощей и фруктов на повозках, яркие ткани, медная посуда, корзины с рыбой в серебристой чешуе; кузнец, поднявший молот, торговцы мясом и лепешками у своих жаровен, группы ошеломленных пиратов рядом с кабаками. В следующую секунду все смешалось; переворачивая лотки и повозки, топча товары и друг друга, люди бросились прочь. Большая часть бежала к городу, но сотни две или три, вооруженных саблями и пистолетами, ринулись в порт. — Не стрелять! — распорядился Серов, прижимая к глазу подзорную трубу. — Картечью заряжай! Жди моей команды! Через минуту пиратская орда хлынула в развалины и потонула в пыльном облаке. Сейчас они топтались среди складских руин, между разбитыми стенами и грудами мусора, и были отличной целью. Серов прикинул расстояние — метров двести или чуть больше — и выкрикнул: — Картечью… прямой наводкой… огонь! Тегг не промазал, накрыв толпу атакующих и развалины складов на всем протяжении от северного до южного форта. В ту же секунду на «Ворон» обрушилась какофония звуков: стонали раненые и умирающие, в ужасе вопил разбегавшийся с площади народ, ревели быки и верблюды, и над загоном для невольников поднялся крик — похоже, гребцы сообразили, что в порту творится нечто странное. Тегг ударил картечью еще раз и вылез на палубу, оставив распоряжаться у пушек опытных канониров Дирка Боутса и голландца Питера ван Гюйса. — Шлюпки на воду! — велел Серов, спускаясь на шканцы. Четыре шлюпки плюхнулись в волны, в них полетели бочонки для воды, затем начали спускаться корсары. На каждом из этих суденышек был свой старшина — Хрипатый Боб, Брюс Кук и Кола Тернан; в четвертую шлюпку, где сидел Деласкес, погрузились Серов и Тегг. Три первых отряда должны были осмотреть склады и взять добычу в торговых рядах, Серову и Теггу предстояло разбираться с гребцами-невольниками. На борту «Ворона» остались ван Мандер, Абдалла, трое часовых на палубе и два десятка канониров. Весла вспенили воду. — Джентльмены, напоминаю о награде за мою супругу. Триста дукатов золотом, — сказал Серов, потом окликнул Хрипатого: — Боб! Если не найдете Шейлу, поймай мне несколько магометан с галер. Живыми приведи. Я их допрошу. — Сделаю, капитан. Шлюпки разошлись — три прямо к пирсам, четвертая — к развалинам северного форта и невольничьему загону. Плыли недолго, и все это время Серов не сводил Глаз с пиратских шебек. Потом спросил: — Как думаешь, Сэмсон, есть среди них суда Карамана? Бомбардир нахмурился, пожал плечами: — Дьявол их знает! Дрались почти что в темноте, много не разглядишь… Но наши ядра угодили в рангоут, а я не вижу здесь посудин с поломанными реями. Все вроде бы целы. Сердце Серова тревожно сжалось. Борт фрегата озарился вспышками выстрелов, и над их головами просвистела картечь — ван Гюйс и Боутс, как было приказано, обстреливали склады и ближний край базарной площади. Там, похоже, уже ничто не шевелилось, не ворочалось и не вопило. Нос шлюпки ткнулся в песок, корсары перебрались на сушу. Кроме Тегга и Деласкеса тут были самые надежные люди: Рик, братья-датчане, Кактус Джо и Страх Божий. У каждого тесак, мушкет и пара пистолетов. Отряд обогнул руины форта. Облако пыли уже осело, и над трупами двух дюжин полунагих солдат кружили вороны. Пахло порохом, кровью и нагретой солнцем глиной. Серову чудилось, что их атака была такой стремительной, что с первого залпа прошло не более пятнадцати минут. Он сдвинул обшлаг камзола, взглянул на запястье и вспомнил, что отдал часы жене. Свой драгоценный брегет «Орион», последнюю память о прежней жизни… Кто теперь их носит, кому они достались?.. Мысль мелькнула и исчезла. Шейла, и новая жизнь, и их дитя, которое она носила во чреве, были гораздо дороже любых потерь. Они вышли на площадку перед воротами загона. Плотная, прокаленная солнцем земля имела красноватый оттенок, и из нее торчала шеренга столбов; одни — пустые, отполированные до зеркального блеска, с других свисали какие-то лохмотья, прикрученные истлевшими веревками. С ужасом Серов сообразил, что перед ним останки людей, скелеты с гниющей плотью, от которых тянуло мерзким запахом, таким отвратительным, что даже вороны-трупоеды здесь не кружили. Он судорожно вздохнул, бросил взгляд на своих спутников, но их лица были равнодушными. Только Страх Божий пробормотал: — Басурмане, свинячьи хари… турецкая нечисть… Для Страха, ворочавшего весло на турецкой галере, все правоверные являлись турками. Изгородь, за которой виднелись крыши сараев или навесов, была ярда три в высоту и щетинилась шипами в половину пальца — преграда не хуже чем колючая проволока. За ней слышался гул сотен голосов; орали на английском, французском, испанском, итальянском и еще на каком-то языке, смутно знакомом Серову — должно быть, на португальском. Ворота из толстых досок — не иначе как с корабельных палуб — содрогались под ударами; били изнутри чем-то тяжелым, и сквозь грохот и треск дерева звучали торжествующие вопли. — Подождем, — сказал Серов. — Еще немного, и они разнесут ворота. Кактус Джо огляделся: — Что-то не видать охраны, капитан. Прикажешь осмотреть? — Не нужно. Думаю, их охраняли солдаты с форта, и теперь они либо мертвы, либо сбежали. Но мушкеты держите наготове и растянитесь вдоль края площадки. Покосившись на столбы с мертвецами, Серов занял позицию шагах в двадцати от ворот. Их запирала балка полуфутовой толщины, окованная железом, переломить которую не смог бы даже слон. Не успел он об этом подумать, как ворота рухнули вместе с балкой и столбами, к которым крепились створки, и наружу хлынула толпа оборванцев. Разобрать, кто к какому роду-племени принадлежит, возможности не было — все казались истощенными, с обожженной солнцем кожей, грязными, засыпанными пылью, скрывавшей даже цвет волос. На плечах, руках и бедрах лиловели шрамы от бича, тела покрывали язвы, синяки и ссадины, тряпье, обернутое вокруг пояса, свисало до колен. То была толпа оживших мертвецов, жутких зомби или вампиров из голливудских лент в жанре хоррор; ни в прежней, ни в этой жизни Серову не доводилось видеть ничего подобного. Орда валила прямо на него. Он поднял пистолет, выстрелил в воздух и крикнул: — Стоять! Ни шага дальше! Крикнул на английском, повторил на французском и кивнул Мартину Деласкесу — мол, переведи. Тот повторил приказ на испанском, португальском и итальянском. Зомби остановились. Судя по массе, подпиравшей передние ряды, их было сотен пять или шесть — возможно, больше. Но Уота Стура и других людей с «Ворона» в этой толпе не оказалось. — Я — капитан корсарского судна с британским а французским экипажем, — громко произнес Серов. — Мое имя — Андре Серра, и мной захвачен порт Эс-Сувейра. Я ищу Карамана по прозвищу Одноухий Дьявол, ищу его людей и гребцов с его галер. Тот из вас, кто может что-то рассказать о Карамане, будет награжден. Деласкес начал переводить, но, похоже, речь Серова была и без того понятна — гребцы-невольники на магрибских галерах говорили на смеси едва ли не всех европейских языков. В их рядах наметилось шевеление, и, расталкивая товарищей по несчастью, вперед вышел невысокий, но крепко сбитый человек в лохмотьях, в которых угадывался некогда приличный морской камзол. Ноги у него были коротковаты и кривоваты,и двигался он, слегка покачиваясь, словно шагал не по твердой земле, а по настилу корабельной палубы. — Чак Бонс, сэр, шкипер из Саутгемптона[475]. — Человек поклонился в пояс, но с чувством собственного достоинства. — Галеры Карамана сюда заходили, сэр, но ненадолго, на половину дня. В заборе дырки есть, я смотрел… Три галеры, и на одной меняли стеньги и нижние реи. Спешили, сэр, команды на берег не пускали, только сам Караман съехал. Потом вернулся, и ушли его суда вчера, после полудня. — Дьявольщина! Опоздали! — пробормотал Серов, сжимая кулаки. Потом сказал: — У тебя зоркие глаза, мастер Боне. Кто был в шлюпке с Караманом? — Четыре гребца и трое турок с саблями. Видать, телохранители, сэр. — Больше никого? — Никого, сэр. Клянусь якорем и мачтой! — Моряк, — шепнул бомбардир за спиной Серова. — Ты посмотри, как он ходит, как держится, как говорит… Настоящий моряк! Наш парень! Берем! Серов едва заметно кивнул и вытер пот с висков шелковым платком. — Ты достоин награды, мастер Боне. Чего хочешь — денег или попасть в мой экипаж? — Если дозволите, сэр, я хотел бы присоединиться к экипажу. А деньги… что деньги… Кто плавает с вольными мореходами, у того всегда звенят в карманах монеты. — Ты сделал верный выбор, — произнес Серов. — Иди сюда и встань рядом с моими людьми. — Дождавшись, когда Боне займет место рядом с Эриком Свенсоном, он оглядел толпу невольников и спросил: — Тот, кто желает чего-то добавить, пусть говорит. Нет таких? Ладно! Объявляю вас всех свободными. Испанцы могут идти на причал, садиться на галеры, выбирать себе начальников и отправляться в море. И торопитесь, души христианские, пока мои пушки смотрят на город! Из остальных я хочу отобрать в команду полсотни человек. Кому интересно, тот строится здесь, у ворот, прочие идут за испанцами и выбирают себе корабли. Это все! Вместе с Теггом и Деласкесом он отступил к шеренге корсаров, стоявших с оружием наготове. Толпа забурлила. Множество течений вдруг зародилось в ней; бывшие рабы перекликались, сбивались в группки по три-четыре человека, группы соединялись в отряды, и у каждого, похоже, был свой вожак и некое ядро из близких к предводителю людей. Вскоре от этого человеческого водоворота оторвалась толпа поменьше — собственно, уже не толпа, а команда в сотню душ — и заторопилась к причалам. За этим отрядом последовал другой, третий, четвертый. — Не передрались бы из-за кораблей, — промолвил Серов. Тегг пожал плечами: — Там семь корыт, на всех хватит. А передерутся, так то не наше дело. Ты уже оказал милость испанским псам. Я бы их… — Он вытянул руку, ткнул указательным пальцем в спины уходящих, и очень похоже изобразил звук пистолетного выстрела. У ворот остались сотни две. Корсары, раздавая пинки и зуботычины, построили их в шеренгу, и Серов в сопровождении Тегга прошелся пару раз туда-сюда, всматриваясь в изможденные лица. Тощими были все, но сквозь отупляющую маску страданий и лишений проглядывало временами нечто иное — несгибаемое упорство, отблеск надежды и веры, гордость и даже намек на интеллект. Эти люди больше не казались Серову ожившими покойниками; каждый был как распрямившийся росток, хилый, едва пробившийся сквозь землю, и вдруг обласканный солнечным светом и теплом. Но это относилось к разряду эмоций, а разум подсказывал, что выбрать нужно мореходов и опытных бойцов. Этого, этого и этого… Он слушал, что шепчет за спиною Тегг, — его помощник, промышлявший много лет пиратским ремеслом, лучше разбирался в людях. Чему не приходилось удивляться — ведь Сэмсон Тегг был уроженцем этой эпохи и инстинктивно чувствовал, кому суждено убивать и грабить, а кто пополнит ряды ограбленных. Они отобрали пятьдесят семь волонтеров. Остальным Серов велел убираться, спешить на пристань к кораблям, а если свободных уже не найдется, сказать испанцам, чтоб убирались с шебеки вон. Строго сказать, от лица капитана Серра, который стоит за справедливый дележ и готов подтвердить свое мнение пушками. Несостоявшиеся корсары удалились, а Серов прошелся еще раз вдоль строя, вгляделся в физиономии новых своих бойцов и молвил: — Надеюсь, все поняли, на что идут. Если кто-то решил, что прокатится на моем корабле в Европу и слиняет в первом же приморском городе, то это большая ошибка. Такому прохиндею я обещаю пеньковый воротник и уютное место на свежем воздухе, на грот-рее. Ну что, никто не одумался? Еще не поздно выйти в море с другим капитаном и на другом корабле. Он махнул в сторону галер, на которые грузились бывшие невольники. Ни один человек не вышел из строя, и Серов, довольно усмехаясь, разбил шеренгу на три ватаги, отдал их в подчинение братьям Свенсонам и велел идти к шлюпкам, выкатить бочки, залить их водой и доставить обратно на корабль. Миновал полдень. Они с Теггом собрались уже двинуться вслед за волонтерами, но тут появились Джед Мортон и Ин Коллет из ватаги Тернана, гнавшие прикладами трех окровавленных бритоголовых турок. Серов, памятуя опыт прежней жизни, отличал их от арабов с легкостью: турки были светлокожими и походили на европейцев много больше, чем смуглые, с резкими чертами сыны аравийских пустынь. Среди магрибских пиратов турки мнили себя белой костью и занимали офицерские посты. — Подарок от Хрипатого, сэр, — доложил Джед Мортон. — Трое живых сарацин. Прятались под возком на базаре. — Кто такие? Должности, имена? — Серов кивнул Деласкесу. — Спроси их, Мартин. Деласкес бегло заговорил по-турецки, но пленники молчали, и лишь один презрительно бросил: гяур! Слово в переводе не нуждалось, так что Серов, нахмуривались, велел Рику и Страху Божьему привязать турок к столбам. Лицо Страха налилось кровью, и клейма на лбу и щеках сделались заметными — особенно то, которое он получил в турецком плену. Несомненно, эта отметина была знакома пленникам; они бледнели на глазах, сообразив, что от бывшего галерника пощады не дождешься. Выкручивая им руки, Страх невнятно бормотал на турецком — видно, обещал массу удовольствий от ножа и огня. Деласкес снова обратился к пленникам, но не услышал от них ни слова. — Так дело не пойдет, — заметил Тегг, вытаскивая емкость из рога, в которой хранился порох. Оттянув шаровары у крайнего турка, который выглядел постарше, он сыпанул ему порох на живот и ниже и с дьявольской усмешкой произнес: — Сейчас твои яйца поджарю, пес помойный. Рик, отколи от ворот хорошую щепку и сделай мне факел. А ты, мальтиец, переводи. Скажи, что смерть у них будет долгой и весьма мучительной. По щекам турка заструился пот. «Дурбаши[476], — пробормотал он с ужасом, и снова: — Дурбаши!» Потом начал говорить. Его звали Селим, и на одной из шебек он служил помощником капитана. Два его молодых приятеля командовали воинами, каждый — десятком бойцов. — Вчера в Эс-Сувейру приходили корабли Карамана, и он, с семью своими людьми, побывал на берегу, — сказал Серов. — Кто из этих троих его видел? Куда он ушел? Деласкес начал переводить, турки закачали бритыми головами, потом один из молодых пустился в какие-то объяснения. — Они говорят, что не встречались с Караманом, но знают о его флотилии, — перевел мальтиец. — На одной шебеке были разбиты реи, их заменили и тут же отправились в море. Осенью хорошая погода — редкость, и Караман спешил к себе, на Джербу, что у берегов Туниса. Вот этот десятник, — Деласкес показал на молодого турка, — был в гавани и говорил с одним из карамановых людей, с гребцом, что слонялся у шлюпки. Он уверен, что Караман отплыл на Джербу. Обычно он там зимует. — Что еще сказал гребец? Пусть этот нехристь припомнит все, о чем говорили. Жизни я ему не обещаю, но быструю смерть подарю. Иначе… — Серов показал на факел в руках Рика Бразильца. На этот раз турок что-то объяснял довольно долго. — Человек Карамана хвастался, что они потопили два корабля христиан. Правда, потеряли шебеку и многих людей убитыми, не взяли ни золота, ни серебра, но реис Караман все равно доволен. Аллах послал ему красавицу-махвеш, которая стоит корабля и всех ахмаков[477], что плавали на нем. Караман подарит ее дею Алжира, и тот осыпет его милостями. Серов глубоко вздохнул. Ледяные тиски, сжимавшие его сердце, исчезли. Мысленно он уже видел, как «Ворон» подходит к пристанищу пиратов у тунисского берега, как летят ядра, разбивая башни, брустверы, стены, как сотня его парней, выхватив клинки, идет в атаку, как Шейла Джин Амалия выбегает навстречу ему и бросается на грудь. Завершалась эта картина еще одним сладким видением: Одноухий Дьявол пляшет в петле на рее «Ворона». Он сделал знак Страху Божьему: — Убей их, Стах. Быстро убей, не мучай. Повернувшись, Серов зашагал к шлюпкам, у которых суетились новобранцы, затаскивая бочки с водой. Над ним пролетели ядра, грянули где-то на базарной площади, потом сзади раздался предсмертный хрип — Страх Божий резал турецкие глотки. Тегг, отстав, принялся расспрашивать Мортона и Коллета, что за добычу взяли в торговых рядах, и есть ли что-то ценное в разбитых складах. Мортон отвечал, что в складах масло, финики, рыба и прочая дрянь, жалеть о которой не стоит, — такого добра на базаре полно. А вот в торговых рядах сыскались предметы поинтереснее — слоновые бивни, неплохие ткани, деньги и украшения. Из ювелирных лавок выгребли все, а в оружейных взяли сабли с камнями в рукоятях и в драгоценных ножнах. Нашлась и кое-какая посуда из серебра, подносы, миски да кувшины. В общем, как считает боцман, тысяч на сорок песо отоварились. Когда Серов со своей свитой приблизился к пирсам, шлюпки, груженные бочками, уже отплыли, и пять шебек из семи готовились к выходу в море. Бывшие невольники с прежней сноровкой разбирали весла, те, кто умел работать с парусами, лезли на мачты, и несколько человек тащили из складских развалин что под руку попадется — смоквы и финики в корзинах, соленую рыбу в мешках, пальмовое масло в глиняных кувшинах и остальной провиант. Серов вызвал Эрика Свенсона, велел облить маслом палубы на двух оставшихся шебеках и поджечь суда. С базарной площади стали возвращаться корсары — повеселевшие, бодрые, с тем хищным блеском в глазах, который рождается в поисках чужих сокровищ, быстро и равнодушно меняющих хозяина. Брюс Кук со своей ватагой погонял запряженных в повозки быков, в повозках громоздились кипы ярких тканей, наваленные грудами одежды, сапоги из мягкой кожи, узкогорлые чеканные кувшины, широкие тазы и прочая рухлядь. Что было подороже, тащили в руках: мешочки, в которых позванивало серебро, дорогие клинки, ларцы и шкатулки, набитые серьгами, подвесками и ожерельями. Мортимер, с сияющей рожей, волочил огромный серебряный поднос, украшенный арабскими письменами; Герен и Форест гнали блеющих овец, Кирстен Брок нагрузился верблюжьей упряжью с колокольчиками, Алан Шестипалый нес сундучок с флаконами благовонного масла. Следом за этой процессией, тащившей богатства Востока, явился Хрипатый Боб, а с ним три сарацина в белых одеждах. Один был почтенным старцем с бородой до пояса, другой тоже пожилым, тучным и осанистым, тяжко вздыхавшим на каждом шагу. Третий, тощий и вертлявый, казался рангом пониже; он шел за первыми двумя, испуганно озираясь и что-то бормоча под нос. Серов с удивлением нахмурился: — Это что за три волхва?[478] — Хр-р… Стар-рички от пр-равителя этой дыр-ры и при них — толмач, — доложил Хрипатый. — Выкуп обещают. Чтобы мы, значит, не бр-росали ядер-р в их гадючник. Толстяк, отдуваясь, повел рукой, и тощий выступил вперед: — Мой, недостойный, говорить на инглиш. Кади Хасан ибн Фатих аби Хамза, светоч правосудия, опрашивать: как твой почтенный имя? Откуда ты пришел, ага? И зачем громишь город? — Я ищу женщину по имени Шейла и своих людей, захваченных Караманом, — сказал Серов. — А пришел я с запада, из-за океана, и зовут меня капитан Серра. — Рейс Сирулла? — переспросил тощий. — Дьявол с ним, пусть будет Сирулла! Где Караман? — Караман нет. Ушел! — Рука тощего вытянулась в сторону моря. Потом он низко поклонился, сложив ладони перед грудью. — Ля илляха иллялах, Мухаммад расулла… Мудрый кади говорить, мой перекладывать речь почтенный акил, чтобы текла из мудрый уст в благожелательный уши реис-ага и расцветала в них, как роза в сад Аллаха. Мой… — Смолкни, — приказал Серов. — У меня есть свой переводчик. Ну-ка, Мартин, узнай, что им нужно. Деласкес заговорил на арабском, тучный отвечал, морщась после каждого слова так, будто в глотку ему вливали уксус. Бородатый старец уставился на море, пальцы его двигались, перебирая четки, губы беззвучно шевелились — должно быть, он читал молитвы. Тощий переводчик отступил назад, спрятавшись за спиной толстяка. — Это посланцы эмира, дон капитан, — молвил Деласкес, перейдя на английский. — Тот, что с четками — улем, служитель Аллаха, а другой — кади, городской судья. С ними катиб правителя… это как писец в западных странах, помощник во всяких делах, тайных или явных. Он… — Секретарь, — подсказал Серов. — Значит, улем и кади… Важные персоны! А почему этот писец назвал их акилами? — Акил означает мудрец, — сообщил мальтиец. — Улем и судья — самые мудрые люди в городе. Конечно не считая эмира, который их прислал. Они говорят, что Караман удалился из гавани, и что он — не их человек, даже не магрибинец, и они за него не отвечают. Они просят — ради Аллаха и христианского Бога! — не обстреливать город и не губить людей. Они говорят, что хоть наша и их вера различны, но Аллах и Христос благоволят милосердным, добрым и щедрым. Они готовы заплатить и хотят услышать цену. «Восток — дело тонкое, особенно когда касается торговли», — подумал Серов и переглянулся с Теггом. Его помощник положил ладонь на грудь, вытянул три пальца, побарабанил ими по камзолу, потом сунул пятерню за пазуху и принялся чесаться. — Тридцать тысяч испанских талеров, — вымолвил Серов. — И передай улему и кади, что мое милосердие зависит от их щедрости. Сейчас я буду обедать. Когда закончу, сундуки с монетой должны быть на пристани. Катиб-переводчик и Мартин Деласкес заговорили разом, и лицо толстого кади вытянулось. Обменявшись парой фраз с улемом, он сообщил, что надо подумать и посоветоваться, ибо сказано Пророком: торопливый теряет, мудрый находит. Но в этот момент вспыхнули два пиратских корабля, подожженных Эриком Свенсоном, и посланцы эмира догадались, что время совещаний и раздумий истекло. Кади повернулся к Деласкесу и что-то пробурчал. — Выкуп будет уплачен, но у них не хватает талеров, — сообщил мальтиец. — Половина будет в турецких курушах[479], из расчета пять курушей за четыре талера. Это справедливо, синьор капитан. — Куруши так куруши, — кивнул Серов. — Хоть тугрики, только выплату пусть не затягивают. Я обедаю быстро. Он повернулся и зашагал вдоль берега к возвращавшимся шлюпкам. От пылающих шебек тянуло жаром, ветер раздувал огонь, от дыма перехватывало дыхание. Пять галер с бывшими невольниками уже скользили по водам бухты, огибая застывший на якоре «Ворон». Его экипаж, вместе с новым пополнением, сгружал у линии прибоя захваченное добро. Разочарование… Тяжкой ношей легло оно на грудь Серова и сдавило так, что чудилось — еще немного, и треснут ребра. Он так надеялся найти здесь Шейлу! Шейлу, Уота Стура, Клайва Тиррела и остальных парней… Взять их на борт, сняться с якоря, распустить паруса и поплыть в пролив Ла-Манш, в Северное море, а оттуда — на Балтику, в родные воды… То есть еще не совсем родные, так как нужно их отвоевать у шведа, построить крепости и корабли, возвести великий город, что станет российской столицей на двести с лишним лет… И все эти дела ждут его, Андрея Серова! И будет ему за свершения ради отчизны почет и слава, богатства и титулы… Потом, все потом, думал он. Первый долг человека — перед своей семьей, ибо на нем, как на краеугольном камне, стоят все остальные долги: перед соратниками и друзьями, перед страной, ее правителями и народом. И всякий, кто скажет иное — лжец или глупец! Долг перед самыми близкими является инстинктом, диктуемым любовью — а что на свете сильнее любви? Он дождался, когда причалят шлюпки, сел в одну из них и приказал править к кораблю.
* * *
Вечером, часа за два до заката, когда «Ворон» был уже в море, Тегг вызвал Серова на палубу. Здесь, вдоль борта, разложили добычу, и вожаки, ван Мандер и Хрипатый Боб, Тернан, Кук и лекарь Хансен, осматривали ее, щупали восточные ткани, звенели посудой, перебирали испанские и турецкие монеты, заполнявшие четыре сундука, прикидывали вес украшений, остроту ятаганов и сабель. «Богатая земля Магриб!» — подумал Серов, глядя на эти сокровища. Богатая! Есть где разгуляться! А если разгуляются его сподвижники в магрибских водах, то захотят ли плыть на север? На сей вопрос он пока не знал ответа. — Нет с нами Шейлы, — сказал Сэмсон Тегг, — и потому мы просим, чтобы ты оценил добычу и разделил на доли по правилам Берегового братства. Прежде, Андре, у тебя это здорово получалось! Здорово, клянусь спасением души! Бомбардир подмигнул, и перед Серовым пронеслось воспоминание: жаркое солнце, синее море, золотой песок, безымянный остров в Карибском море, где он впервые подсчитывал награбленное, суровая физиономия Джозефа Брукса, надменная рожа Пила, лица Садлера, Росано, Галлахера и прочих убиенных и до времени погибших. Как давно это было! И как недавно!.. Он прошелся по шканцам, заглядывая в раскрытые ларцы и сундуки, взял турецкую монету с вязью загадочных письмен, осмотрел ее, бросил обратно, коснулся сабельной рукояти, украшенной бирюзой, полюбовался блеском рубинов в перстнях, заколках и серьгах и вдруг, наклонившись, застыл, как громом пораженный. В шкатулке из слоновой кости красовалось ожерелье из драгоценных камней, а под ним лежали тонкой работы сережки. Камни были синими, как Шейлины глаза, и искусный магрибский ювелир заключил их в золотую филигрань, в плетеное кружево из проволоки, и сделал подвески из золотых остроконечных листьев. Дорогая вещица! Но ее цена была Серову безразлична; наморщив лоб, он вспоминал свой сон, с каждой секундой убеждаясь, что там, в сонном его видении, Шейла носила именно это убранство. Случайное совпадение или знак судьбы? Зримый символ того, что их одиссея кончится благополучно?.. На душе у Серова вдруг полегчало. Он выпрямился, окинул быстрым взглядом первую магрибскую добычу и сказал: — Шкипер, распорядись — пусть принесут из моей каюты перья, бумагу и чернильницу, будешь записывать. Сейчас все оценим, подсчитаем и разделим, никого не обидев, но перед тем я возьму свою капитанскую долю. — Он поднял серьги и ожерелье, сверкавшие синим пламенем. — Вот это! Для нее! Нет возражений? Возражений не было.
Часть 2 МАЛЬТИЙСКИЕ ВОДЫ
Владычество испанских эмиров было эпохой великого благоденствия. Государи эти, вместе духовные и воины, отнюдь не враждуя к христианским племенам, видели вокруг себя только один народ. Исполняя сами великие работы для пользы общей, которым так много обязаны своим обширным развитием земледелие и торговля, они приглашали людей всех наций без разбора, которые могли оплодотворять развитие наук и возродить промышленности прошедшего. Деятельность их и правосудие превратили дикую Испанию в земной рай, бродячие толпы ее народа — в просвещенную нацию, трудолюбивую и образованную.Ф. Архенголъц. История морских разбойников Средиземного моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
Глава 5 ПУТЬ В СРЕДИЗЕМЬЕ
«Ворон» плыл к Гибралтару, Сеуте и Средиземному морю. Погода благоволила; дни стояли ясные, ночи — звездные, что было редкостью для начала зимы, устойчивый ветер дул с зюйд-веста, нес корабль вдоль африканских берегов от Эс-Сувейры к Сафи, от Сафи — к Эль-Джадиде и дальше, к Касабланке и Рабату, к Сале, местной пиратской столице, и Танжеру, за которым открывался пролив, самый знаменитый в истории мореплавания. Тут плавали тысячу лет назад, и две, и три, а может, все четыре; плавали эллины и финикийцы, карфагеняне-пуны и римляне, норманны, сицилийцы, марсельцы, генуэзцы и множество иных народов и племен, живших в Испании и Италии, на Корсике, Сардинии и Балеарских островах. Каждый называл пролив по-своему, но сохранились в веках лишь два имени: пунийское — столбы Мелькарта, и греческое — столбы Геракла. Столбы Геркулеса! Сменившись с вахты, Серов шел в свою каюту, садился у распахнутых окон, глядел на пенный след за кормою фрегата и вполголоса напевал:Флибустьеры не знали, как бы наискорейшим образом прогулять свою добычу, и потому, возвратясь из похода, предавались всяким излишествам: надевали роскошные платья, дорогие материи и быстро опорожняли магазины на островах Тортуге и Ямайке. На пиршествах своих они разбивали вдребезги всё попадавшееся под руки: бутылки, стаканы, сосуды и мебель всех родов. Если их упрекали в том, что так безумно тратят добытое кровью и трудами богатство, они отвечали: «Судьба наша, при беспрерывных опасностях, не походит на судьбу других людей. Сегодня мы живы- завтра убиты; так к чему же скряжничать? Мы считаем жизнь свою часами, проведенными весело, и никогда не помышляем о будущих неверных днях. Вся наша забота о том, чтобы поскорее прожить жизнь, доставшуюся нам без нашей воли, а не думать о продолжении ее».Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
Глава 6 САРДИНИЯ
Слава — капризная госпожа. Иной трудится годами и десятилетиями, рвет жилы, поет, танцует или лицедействует, пишет картины или книги, водит войска и корабли, а Славы нет как нет, к другому же она приводит в считаные дни или часы. Взять, к примеру, Александра Македонского: разгромил персов при Гранике, и понеслось его имя по азиатским землям, вырывая изумление и страх. Случается, ласкает Слава людей недостойных, корыстных и жестокосердных, таких как Генри Морган и братья Барбаросса. Но об этих хоря бы известно, что были они мерзавцами, но есть и другие персонажи, столь овеянные Славой, что людская молва считает их образцом доблести и рыцарства. Вот Ричард Львиное Сердце… Сей великий государь, снаряжаясь в Святую Землю и нуждаясь в деньгах, содрал две шкуры с подданных: сначала устроил еврейский погром, а после него разорил самих погромщиков, йоркширских рыцарей и баронов. По дороге же к Гробу Господню хватал любое добро, что плохо лежит: Грабил на Сицилии, грабил на Кипре, грабил в Акке, брал выкупы за пленных, а если не платили, резал их без жалости[490]. Однако — благородный рыцарь! А бывает Слава не только быстрая, но и вполне заслуженная, особенно если ходит она под руку со своей сестрицей Удачей. Те, кто удостоился их благосклонных взоров, поистине Божьи избранники; что бы они ни начинали, что бы ни делали, всему сопутствует успех. Морковь на их пажитях гуще, вино слаще и крепче, всякий золотой приносит две, а то и три монеты, мушкет стреляет без осечек, ядра падают куда положено, и бури, как житейские, так и вполне реальные, не сносят крыши их жилищ и не туманят мозги. Хотя, конечно, есть всему предел, и рано или поздно наступает время, когда морковку обглодают кролики, вино прокиснет, а порох отсыреет. Но пока улыбаются Слава с Удачей, несет как несет! «Ворон» ворвался в Средиземье подобно урагану. От Гибралтара до Мальты — тысяча миль, неделя плавания при сколь-нибудь попутном ветре, но заняла эта дорога больше месяца. Были бури, трепавшие фрегат у берегов Марокко, а после — у Балеарских островов и в море между Тунисом и Сардинией; были беззвездные ночи, когда корабль плыл словно в никуда и ошибка в счислении курса грозила катастрофой; налетали короткие злобные шквалы, рвали паруса, раскачивали судно, заливали палубу дождем. «Ворон», к счастью, не пострадал, если не считать потерянного кливера, пары лопнувших вант и сломанной стеньги[491] на грот-мачте. Шебекам, которыми к тому времени обзавелся Серов, досталось крепче, но и они уверенно держались на плаву — эти магрибские суда были на удивление устойчивыми и прочными. Отнимали время и другие события, из разряда военных операций и поиска добычи. Обдумав рассказы Пернеля и Деласкеса, Серов решил, что зима — зимой, а торговля — торговлей, и никакие капризы поводы, войны в Европе и неурядицы с Турцией ей не помеха. Что бы ни творилось на суше, какие бы там ни вершились схватки и сражения, Средиземное море было тем, чем было — дорогой, что связывала континенты, огромным торговым трактом между Востоком и Западом. В ту и другую сторону шли корабли, везли товары из Малаги и Картахены, Марселя и Тулона, Мессины и Триеста, Измира, Стамбула и Александрии, но более всего — из Генуи и Венеции. Раз плавали в море купцы, было занятие и для пиратов; значит, не юсе они зимовали на Джербе и в иных местах, а выходили поохотиться. Серов взял за правило задерживать всякий корабль, похожий на пиратскую галеру, производить ревизию и допрашивать экипаж: видали ли в море либо в гавани Карамановы суда, где конкретно и в каком состоянии? Море, однако, было широким и Большим, так что до первых дней января и встречи с Эль-Хаджи толку от этих расспросов не имелось. Зато нашлась добыча, и богатая! Полторы дюжины фелюк и тартан[492], принадлежавших контрабандистам с Корсики, Сардинии и Мальорки, Серов отпустил; они везли английское и голландское сукно, латунную посуду, опиум из Леванта, табак и испанское вино. Может, небесполезный товар, однако претензий к хозяевам и капитанам не возникло: все мореходы, включая гребцов, были людьми свободными. Иное дело, магрибские шебеки с сотней невольников на веслах и легкими пушками — те, кого удавалось догнать и взять на абордаж. Одни команды сражались яростно, лезли на борт с воплем: «Аллах акбар!» — и этих не щадили, налаживали по доске в пучину, другие сдавались, падали на колени, подметали бородами палубы, и их Серов отпускал на волю волн и ветра, высадив в шлюпки. Затем грузил товары в трюмы «Ворона», брал порох и охочих людей из гребцов, а остальным советовал ставить паруса, садиться на весла и плыть в ближайший европейский порт. Должно быть, доплывали — и магрибинцы с турками, и бывшие рабы — ибо стали гулять по берегам Средиземья рассказы о рейсе из Вест-Индии и его боевом корабле, о грозном христианине-разбойнике. Одни называли его Сируллой, сыном шайтана, другие — доном, мессиром или синьором Серра, освободителем и мстителем; одни проклинали и ругали, другие ставили свечи за его здоровье. Но тем и другим было известно, что ищет Сирулла свою возлюбленную Сайли и своих товарищей, схваченных Караманом, а когда найдет, даже вошь под ногтем Караману не позавидует. Были победы, была добыча, была Удача, и вместе с ней летела Слава…* * *
Первый приз Серов взял у побережья Эль-Хосеймы[493], сразу после того, как закончился шторм. Должно быть, в этом городишке, как в Эс-Сувейре, стояли у пирсов полдюжины пиратских шебек, и все они ринулись в море, завидев будто бы беспомощный корабль. Для большего маскарада Серов велел не трогать стеньгу с обломанным концом, спустить паруса, поднять испанский флаг, а фок и фор-марсель сбросить вниз, словно их сорвало ветром. Время шло к вечеру, море все еще штормило, и разглядеть в сумерках, сколько у добычи пушечных портов, было трудновато. Серов, стоя на квартердеке, смотрел на приближавшиеся галеры, скалил кубы в невеселой ухмылке и шептал: «Жадность фраера сгубила». С расстояния полукабельтова Тегг ударил тяжелыми ядрами, скованными цепью, переломал рангоут на трех шебеках, порвал такелаж. Фрегат, вмиг одевшись парусами, двинулся навстречу уцелевшим кораблям. Самый благоразумный повернул к берегу, остальные не успели; грохнула носовая пушка «Ворона», приказывая лечь в дрейф, белые полотнища упали с мачт шебек, весла замерли, команды, бросив оружие, сгрудились у бортов. На трех галерах, которым достались подарки от Тегга, шла резня — видно, рабы сообразили, что у хозяев неприятности, и самое время намотать их кишки на весло. Серов отправил в помощь невольникам своих людей на шлюпках, встал борт о борт с пиратскими шебеками и обратился через Деласкеса к экипажам: сотня талеров тому, кто что-то знает о Карамане. Знающих не нашлось, и он, помрачнев, велел магрибцам и гуркам садиться в лодки и убираться вон. Ценного груза на этой флотилии не нашлось, зато ему достались сотня пылающих местью бойцов и две шебеки. Три других корабля, с разбитыми мачтами и реями, вполне могли идти на веслах, и, пересадив на них персон «нон грата», Серов отправил их в Малагу, до которой было восемьдесят миль. Но перед этим канониры Тегга осмотрели корабли, забрали порох, ядра и восьмифунтовые орудия, а четырех- и шестифунтовые[494] сбросили в воду. Два новых своих корабля Серов назвал «Дроздом» и «Дятлом». Бродила у него мысль увековечить кого-нибудь из русских флотоводцев, но времена Нахимова, Корнилова и Ушакова были еще впереди, а их фамилии звучали слишком непривычно для англичан, голландцев и французов. Вот «Дрозд» и «Дятел» — то, что надо! Боевые птицы, с крепкими клювами, но все же не сильнее ворона, и если флагман — «Ворон», то для ведомых кораблей «Дрозд» и «Дятел» в самый раз. Посовещавшись с Теггом, Бобом и ван Мандером, Серов назначил на «Дрозда» де Пернеля, дав ему в шкиперы Пирса Броснана, а на «Дятла» — Чака Бонса. С легкими быстрыми шебеками дело пошло веселей. В сухопутных битвах есть масса вариантов: можно атаковать и отступать, скрытно обойти противника, разделить свое войско или собрать дивизии в кулак, передвинуть туда или сюда артиллерию, конницу и пехотные полки, сесть в осаду, взять измором крепость, закопаться в землю и начать позиционную войну. Но в море не выроешь окоп, а корабль не разделишь пополам, и оттого все здесь проще и очевиднее: в море есть только две возможности — либо сражаться, либо бежать. Случаи взаимоисключающие; если корабль связан боем, он маневрирует и стреляет, а экипаж трудится у пушек и на реях, борется с огнем и водой, спасает раненых. Не та ситуация, чтобы бежать на всей возможной скорости, на парусах и веслах! «Дрозд» и «Дятел» были у Серова как две гончие: настигали врага и, не вызывая подозрений, вступали в схватку; затем приближался «Ворон», бил по палубам картечью, и корсарские ватаги шли на абордаж. Продырявить шебеки, сжечь и утопить было бы самым простым решением, но с затонувшего судна не снимешь груз и гребцов-невольников, а от команды не узнаешь про Одноухого Карамана. Жгут и топят на войне, а у пиратов, что карибских, что магрибских, цель была другой — они не воевали, а занимались промыслом. Миновало Рождество, отмеченное краткой молитвой, звоном судового колокола, бараньим жарким и попойкой на всю ночь; протрезвели и взяли в рождественские дни восемь шебек — может, алжирских, а может, тунисских; встретили в море большой генуэзский галеас и две боевые галеры, подняли британский флаг, отсалютовали из носового орудия; потом попался испанский военный корабль — решили с ним не связываться, проплыли мимо под кастильским флагом. Наступил новый, 1702 год. В ночь на первое января Серов пил в своей каюте, перебрал рома и заснул в койке, еще хранившей запах Шейлы. И снилось ему, будто вернулись застойные брежневские времена, будто они с сестрой Леночкой все еще малыши и прыгают у елки в их родной московской квартире. А отец с мамой и взрослые гости смотрят «Голубой огонек», пьют шампанское и закусывают редкой снедью — твердокопченой колбасой да мандаринами, что выдали в цирке в праздничных наборах. Эта картина была такой мирной и такой невозвратно далекой, что Серов проснулся с влажными глазами.
* * *
— Сидим на фут глубже, чем положено, — сказал ван Мандер, перегнувшись через планшир. — Даже на фут и четыре дюйма. — Тр-рюмы забиты доверрху, — сообщил Хрипатый Боб. — Палец не пр-росунешь, даже если мочой его облить. — А крюйт-камера пуста наполовину, — добавил Тегг. — Ядер мало. Порох, правда, есть — тот, что приращен с магрибских лоханок. Дерьмо, а не порох! Совсем никудышный! Надо хорошего достать, испанского или английского. Мастер Боне и де Пернель, вызванные со своих галер на совещание, промолчали. Серов, однако, знал, что их судам нужен ремонт после бурь и многочисленных схваток. На «Дятле» обнаружилась течь, а «Дрозд» нуждался в замене сломанных весел и части фальшборта — то и другое пострадало при столкновении с вражеским кораблем. Его флотилия дрейфовала в одном из самых узких мест Средиземья, между Тунисом и Сардинией, где от берега до берега было сто морских миль. Дул слабый юго-западный ветер, разогнавший тучи, и поверхность моря отсвечивала густым сапфировым блеском. Команда, используя погожее утро, трудилась: мыли палубу, заменяли лопнувшие канаты такелажа, чистили пушки. — Перегруз. Много добра взяли, — сказал Сэмсон Тегг. — И куда его девать? Добра и правда взяли много. Те магрибские шебеки, что не успели отовариться до встречи с «Вороном», были пустыми, но попадались и груженые, и самая ценная часть награбленного лежала сейчас в трюмах фрегата. Были тут кошениль и вермильон[495] с испанских судов, английские и голландские сукна, тонкий полупрозрачный муслин и шелк, стальные клинки и драгоценные хрупкие изделия — венецианские зеркала и цветная стеклянная посуда; было французское оружие из Марселя либо Тулона — мушкеты, пистолеты-мушкетоны и странные штуковины с пятью стволами, что расходились веером — «рука смерти», как назвал этот пистолет де Пернель; были пряности и дорогие товары с Востока, из Турции, Сирии и Египта, которые, очевидно, везли на генуэзских либо венецианских кораблях. Так что перед главарями флибустьеров стояли две задачи: обратить груз в звонкую монету и раздать ее командам. — Хр-р… — прочистил горло боцман. — Пар-рни скучают. Наши так вообще два месяца земли не видели. — Разве в Эс-Сувейре не повеселились? — возразил Серов. — Гр-роб и могила! Какое там веселье, капитан! Чужая земля! В кабаках др-рянь какую-то кур-рят из своих вонючих кальянов, р-рома нет, бабы р-разбежались… Да и были там от силы полдня. — Боб прав, — подтвердил Тегг. Прав, молча согласился Серов. Вот тебе и третья задача: найти такую гавань, где можно не только товар продать, но и денежки спустить. Чтобы были кабаки, ром, жратва и, разумеется, бабы. Он повернулся к де Пернелю: — Мы можем высадиться в каком-нибудь порту на магрибском побережье? Не испанском, а французском? Например, в Ла-Кале? — Можем, мессир капитан. Но это не Европа, и груз там с выгодой не продать. Кому в Ла-Кале нужно веницейское стекло? Перекупщик его повезет в Марсель или Геную, а туда через море плыть, с риском, что ограбят… Потому и цена будет невысокой. — Марсель или Генуя… — задумчиво повторил Серов. — Далековато! Дальше, чем до Мальты! Собственно, на Мальту он стремился только ради Лейлы. Раз не удалось найти Карамана на водах, придется искать на земле, снаряжать экспедицию и брать поганца на Джербе. Раймонд де Рокафуль, магистр ордена, может, в этом посодействует, а может, нет, так что деньги за товар пригодятся, чтобы пополнить флотилию наемниками и судами. О Джербе Серов тоже расспрашивал невольников-гребцов и магрибинцев с пиратских шебек, и создалось у него впечатление, что идти туда с тремя-четырьмя сотнями — пустое дело. Еве тысячи бойцов нужны! В крайнем случае, полторы! А воевать задаром никто не будет. Однако плыть в Марсель, Геную или другой крупный торговый порт ему не хотелось. Во-первых, потеря времени, а во-вторых, в большом городе — большие бастионы, а на них — большие пушки. Стоять в гавани под их прицелом было бы неуютно. Де Пернель как будто заметил его колебания. — Там — Кальяри. — Рыцарь вытянул руку на север. — Сардинский порт, до которого миль двадцать пять. Ветер попутный, и, если Господь позволит, мы будем там еще до полудня. — Сардиния годится, — сказал Серов. — Это ведь итальянская территория? — Итальянская? — Глаза де Пернеля удивленно расширились. — Нет, мессир капитан. Уже четыреста лет, как Сардинией владеет король Арагона. — Не лучше ли тогда пойти на Корсику? Это ведь французский остров? Глаза де Пернеля округлились еще больше. — Простите, мессир, но вы ошибаетесь. Корсика принадлежит лигурийцам… то есть Генуе[496]. «Черт! Ну и лопухнулся! — подумал Серов. — Нет еще никакой Италии! Есть Генуя и Венеция, а еще Флоренция, Милан, Неаполь… В Венеции и Генуе правят дожи, Флоренция — это Тоскана, и там, должно быть, герцог Медичи сидит, Милан — Ломбардия, и там банкиры, самые богатые в Европе, а Неаполь — столица королевства Обеих Сицилий… Гарибальди, объединитель Италии, еще не родился, и бог его знает, когда появится на свет — вроде бы даже не в этом столетии»[497]. Затем он подумал, что Германии тоже, в сущности, нет, а есть Саксония, Пруссия, Бавария и другие независимые королевства. Эта мысль его поразила — так же, как поразил вид испанского побережья за Гибралтаром. Тут, в Европе, он бывал, и память невольно подсказывала знакомое еще со школы: вот Италия, вот Германия, а это — Австрия, Швейцария и прочие страны, вполне благополучные, если не считать студенческих смут и атак исламских террористов. Но сейчас он был у рубежей совсем другой Европы, расчлененной на княжества и королевства, то воевавшие друг с другом, то дружившие — но исключительно против общего врага. Де Пернель принял его замешательство за глубокие раздумья. — Конечно, на Сардинии испанцы, но их там немного, и времена для них тяжелые. Король Карл Габсбург умер, спаси Господи его душу, — рыцарь перекрестился, — в стране смута, и, рано или поздно, явится новый государь, скорее всего, из Франции. Так что, если вы поднимете французский флаг и представитесь капером, хлопот, думаю, не будет. Это казалось разумным, и Серов кивнул. — У вас найдутся знакомые в Кальяри, которым можно сбыть товар? Пусть дешевле, но побыстрее и без лишних расспросов? — Я поищу, мессир капитан. В Кальяри должны быть мальтийцы, и все они люди небедные. На том и порешили. Ван Мандер велел ставить паруса и развернул фрегат на север, «Дрозд» и «Дятел» потянулись следом. На мачте «Ворона» плескался флаг с королевскими французскими лилиями, люди приоделись, натянули сапоги, и хоть не походили на мушкетеров короля, однако уже не выглядели толпой оборванцев, прохиндеев и висельников. У всех бренчало в карманах золото и серебро, рожи расплывались в ухмылках в предчувствии береговых утех, шпаги были начищены до блеска, к поясам подвешены пистолеты. Серов полагал, что Кальяри у него в долгу: за сутки его команда спустит минимум двадцать тысяч талеров. Великий букет день для лавочников, кабатчиков и потаскух! Может рыть, никому из них даже кровь не пустят… Он вышагивал по квартердеку, улыбался, посматривал на приободрившихся корсаров и вполголоса мурлыкал:
Еще до середины прошлого века на многих побережьях (например, в Калабрии или в Каталонии) создавалась цепь дозорных вышек или башен-крепостей, расположенных с интервалом от трех до пяти километров, и весть о нападении пиратов долетала вглубь материка или острова в считаные минуты, все небоеспособное население спешило укрыться внутри этих башен вместе со скотом, а мужчины создавали ополчение и старались продать свою жизнь и свободу как можно дороже. Эти ополчения организовывались по корабельному принципу: каждый заранее знал, с чем он должен явиться к месту сбора и как действовать в бою. Развалины таких башен можно сегодня увидеть на многих плодородных островах Средиземного моря: на Аморгосе, Андросе, Астипалее, Китносе, Корсике, Косе, Крите, Леросе, Сардинии, Серифе, Сифносе (здесь их более десятка), Сицилии, Скиатосе, Скопелосе, Фасосе. Иногда роль таких башен-крепостей выполняли монастыри и церкви — преимущественно те, что располагались на скалистых кручах.А. Б. Снисаренко. Рыцари удачи (Санкт-Петербург, 1991 г.)
Глава 7 ПРИВЕТ С РОДИМОЙ СТОРОНЫ
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды».Серов захлопнул маленькую карманную Библию на французском и сунул ее за обшлаг камзола. После небольшого шторма, слегка потрепавшего его флотилию, море было блестящим, как зеркало, спокойным и пустынным. Казалось, оно простирается до бесконечности — привычная иллюзия для морехода, которую легко разрушить, поглядев на карту. Карта утверждает, что они находятся в Тунисском проливе, где от берега до берега — от мыса Эт-Тиб в Тунисе до Сицилии — около семидесяти миль. По масштабам двадцатого века совсем небольшое расстояние; Серов даже слышал, что между Сицилией и Тунисом собирались проложить подземный тоннель. Однако: «Земля безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой…» Может быть, носилсяи кувыркался именно в этом месте… Вытащив из-за пояса трубу, Серов осмотрел горизонт. Ни мачт, ни паруса… Через триста лет такого бы произойти не могло — Средиземное море стало одной из самых оживленных транспортных артерий. Но сейчас на планете обитали не шесть с половиной миллиардов, а много меньшее число людей. Сколько, Серов не представлял, но наверняка меньше миллиарда, так что Земля в самом деле была пуста — разумеется, с его точки зрения. Северо-западный ветер подгонял «Ворона» и две галеры; корабли плыли на восток со скоростью пять с половиной узлов и через сутки должны были оказаться в мальтийских водах. Конечно, если продержится попутный ветер и не случится нового шторма; бури в зимнем Средиземье налетали с пугающей внезапностью. Серов нес утреннюю вахту, у руля стоял Стиг Свенсон, в «вороньем гнезде» на грот-мачте устроился Рик Бразилец, а прочая команда отдыхала, расположившись кто на верхней, кто на орудийной палубе. Корсары уже очухались после Кальяри, но это событие было еще свежим, порождавшим массу воспоминаний и споров: кто больше выпил и кому досталась девушка погорячей, самая страстная и ненасытная. Над кораблем повис раскатистый хохот, гул голосов и стук костей — те, у кого оставались монеты, играли, их безденежные приятели болели и советовали. Солнце грело умеренно, но Серов полагал, что сейчас никак не меньше пятнадцати градусов тепла, прекрасная погода для начала января. Впрочем, то было мнение северного жителя, а его моряки, привыкшие к африканской и вест-индской жаре, временами ежились. Глядя на свой экипаж, Серов размышлял о грядущем походе на Джербу, бомбардировке фортеций и высадке десанта. Все это нуждалось в четком планировании, которое он еще не мог произвести — слишком мало знал о топографии и укреплениях острова. Но, по утверждению де Пернеля, такие данные имелись у рыцарей-мальтийцев, неоднократно пытавшихся взять штурмом пиратский притон и спалить его дотла. Однако успеха они не имели и, невзирая на храбрость и упорство, были битыми не раз. Серов, бывший офицер спецназа, догадывался, где кроется ошибка. Военная доктрина этого столетия была примитивной, как в эпоху Александра Македонского: пехота строилась для битвы, пушки и конница располагались на флангах полков или за линией пеших солдат, затем начиналась пальба из орудий и мушкетов, после чего солдаты сходились шеренгами под барабанный грохот, чтобы колоть и резать друг друга. Артиллерия поддерживала их, стреляя временами в гущу собственных отрядов, конница наносила внезапный удар или отражала атаку вражеских всадников, но в любом случае битва была сражением тысяч и тысяч бойцов, сгрудившихся на небольшом пространстве. Такая тактика являлась в общем-то верной, ибо успех сражения решали сабля и штык, а не снаряд и пуля; пушки и ружья стреляли на небольшие дистанции, перезаряжались долго, и огонь был малоэффективным. Батальон не пошлешь в атаку разреженной цепью, если у солдат не автоматы, а кремневые мушкеты; цепь будет прорвана массой противника и, с вероятностью десять к одному, уничтожена. В эту эпоху солдат еще не стал автономной боевой единицей и мог сражаться и выжить только в отряде своих сотоварищей. Были, однако, исключения. Русские и украинские казаки умели воевать небольшими мобильными группами, подбираться скрытно и атаковать неприятеля сразу во множестве мест, повергая его в хаос и страх. Эту же тактику приняли американские повстанцы, боровшиеся с войсками Британии; они считали ее изобретением трапперов и индейцев. Казалось, что на море она неприменима, ибо боевые корабли европейских флотов обстреливали врага из орудий и редко сходились борт о борт, но карибские пираты, мастера абордажей и внезапных десантов, доказали иное. Фактически они являлись морской пехотой, лучшей в мире, так как других прецедентов не было — и не будет еще долгие, долгие века. Ни «морских котиков», ни «зеленых беретов», ни иных бойцов, способных атаковать превосходящего числом противника и одержать над ним победу. Жестокость и хитрость, упорство и ярость, владение любым оружием, искусство драться на зыбкой палубе, высадиться на берег вплавь или на шлюпках, рубить и колоть, стрелять и бросать гранаты — все это было для них привычным, как и сознание того, что дерутся они не по приказу, не во славу короля, а как люди вольные, за добычу и собственную жизнь. Это делало их непобедимыми как в Вест-Индии, так и в других морях. Хотя, конечно, магрибские пираты были противником вполне достойным. — Ко-а-а-бл! — долетело с мачты, где сидел Рик. — Ко-а-а-бл на ист! Серов встрепенулся, направил трубу на восток, поймал крохотные прутики мачт. Паруса и корпус судна были еще не видны, скрытые горизонтом, и оставалось неясным, то ли это двухмачтовый бриг, то ли пиратская шебека или торговая галера. Мачты дергались в поле видимости, то приближаясь, то отдаляясь — корабль шел галсами на север, к берегам Сицилии. «Купеческая лоханка?» — подумал Серов, не опуская трубы. Минут через десять он понял, что ошибается. Две мачты с латинскими парусами, узкий корпус, пушки на палубе и прорези для весел в темном борту… Несомненно, то была пиратская шебека. Высокий корпус и мачты «Ворона» на ней уже заметили, но двигался пират по-прежнему неторопливо, словно хотел намекнуть: не трогай меня, и я тебя не трону. Причина такой беззаботности скоро выяснилась — за первой шебекой шли еще две. Втроем они могли напасть на боевой корабль, рассчитывая прорваться сквозь огонь бортовых батарей. Видимо, «Дрозд» и «Дятел», плывшие вслед за «Вороном» и сидевшие низко в воде, были пиратам еще не видны. «Три шебеки, — подумал Серов, чувствуя, как пресеклось дыхание. — У Карамана тоже три… по крайней мере, столько вышло из Эс-Сувейры… эти идут с юга на север — может, от тунисских берегов, а может, с Джербы… И их тоже три!» Он опустил трубу, шагнул к планширу и крикнул: — Боцман! Свистать марсовых наверх, ставить все паруса, готовить абордажную команду! Магометане на горизонте! Внизу, на шканцах, заорал Хрипатый Боб, и кубики костей, вместе с серебряными монетами, вмиг исчезли. Одни корсары полезли на мачты, другие, подгоняемые Куком и Тернаном, ринулись за мушкетами или нырнули в люк, спеша к орудиям, затем появился хирург Хансен со своим медицинским сундучком, а вслед за ним — Тегг и ван Мандер. Этот переход от мирных игр и шутливых перебранок к полной боевой готовности был таким стремительным, что Серов не успел сосчитать до тридцати. Его офицеры вдруг оказались на квартердеке, ватаги Кука и Тернана встали с оружием у бортов, раскрылись пушечные порты, а мачты оделись парусами. Этот сигнал был понятен для капитанов галер — там тоже подняли все паруса и часть команд села на весла. Серов знал, что от его гребцов пиратам не уйти: свободные люди, в чьих душах бушует ненависть, трудятся с большей охотой, чем невольники. — Ну, что там у нас? — поинтересовался Сэмсон Тегг, разглядывая в трубу шебеки. — Вижу трех недорезанных козлов… Сейчас мы их опустим рожами в дерьмо! Во имя Бога, Сына и Святого Духа! Магрибцы, кажется, заметили фрегат, но в бегство не пустились, а повернули навстречу. Ветер дул для них противный, но был слаб, и шебеки шли теперь на веслах. Их бесполезные паруса поползли вниз, на палубах, у мелких пушек, засуетились люди в фесках и чалмах, и над морем раскатился рокот барабанов. Вскоре темп ударов стал быстрей, заставляя гребцов выкладывать все силы; теперь три узких хищных корабля точно летели над волками, и встречный бриз, раздувавший запальные фитили, относил за корму клочья сизого дыма. — Наглые!.. — пробормотал Тегг. — Пальнуть из носового орудия? Что скажешь, капитан? — Не нужно. Идут прямо на нас, и пугать их не стоит. Хорошо бы пройти между двух галер и ударить по палубам картечью… Но аккуратно, чтобы не задеть надстройки на юте. — Сделаем! — кивнул бомбардир, приподнимая бровь. — Думаешь, это Караман? Думаешь, с ним наши и Шейла? Серов пожал плечами: — Не знаю. Если в самом деле Одноухий, то Шейла вряд ли с ним — ни к чему тащить в море женщину на пятом месяце. А вот наши могут оказаться на этих посудинах — внизу, на гребных скамьях. — Я их не задену, капитан, — сказал Тегг, сбежал по трапу и скрылся в люке. Серов велел Рику спускаться с мачты и принести его шпагу и пистолеты. Потом объявил команде, чтоб не забыли о пленных, пообещав особый приз за предводителя и за любого турка в богатых одеждах. Скорость сближения фрегата и шебек была слишком велика, и, по совету ван Мандера, он приказал спустить паруса на фоке и гроте. Внизу, орудийной палубе, слышался зычный голос Тегга, скрип пушечных станков и лязг ядер, что катились в пушечные жерла. Пиратские суда шли треугольником: две шебеки впереди, на дистанции полукабельтова друг от друга, а третья шебека, более крупная, окрашенная в синий цвет, держалась ярдах в двухстах за передовыми кораблями. Серов изучал ее в трубу, пытаясь вспомнить, была ли лоханка Карамана синей. На палубе он видел турка в огромной чалме, судя по властным жестам — рейса, но разглядеть его черты не удавалось за дальностью расстояния. Подзорная труба сильно уступала цейссовскому биноклю. Марсовые, спустив паруса, сидели на реях с мушкетами, упираясь спинами в мачты, чтобы не сбросило отдачей после выстрела. Над ними свисали канаты. Разрядив мушкет, стрелок перелетал на вражеское судно с тесаком в зубах и превращался в бойца абордажной команды. Опасный фокус, но пришедшие с Серовым с Карибов владели им в совершенстве. Барабаны, подгонявшие гребцов, вдруг сбились с ритма — видно, пираты заметили «Дятла» и «Дрозда». Эти галеры были такими же, как магрибские шебеки, и вражеским рейсам выпала тяжелая задача: сообразить, что происходит. Быстро, не теряя времени! Может быть, фрегат удирал от судов правоверных и вдруг напоролся на новую, их флотилию; но, возможно, две шебеки рядом с ним — в союзе с христианами и охраняют корабль. Выбор между жизнью и смертью! Идти вперед или пускаться в бегство?.. Секунды шли, весла пенили воду, шесть кораблей сближались, срок решения истекал — и вот последняя капля скользнула в клепсидре судеб: «Ворон» очутился между пиратскими судами. Серов поднял клинок с крестообразной рукоятью, запрокинул лицо к небу. Ввиду изрядной скорости фрегата и шебек, молитва была коротка: — Да будет к нам милостив Господь! И пусть пошлет нам этих нехристей в добычу! — «А мне — одноухого гада», — добавил он про себя и рявкнул: — Картечью… огонь! Дружно взревели пушки, сметая бойцов с вражеских палуб и круша фальшборт, мачты и реи. Серов бросился вниз, к абордажным ватагам, а на мостике уже распоряжался шкипер, приказывал живо спускать кливера и паруса с бизани. Теперь «Ворон» двигался по инерции, замедляя ход и целясь острым бушпритом в синий пиратский корабль. Столкновение казалось неизбежным, но в последнее момент ван Мандер отвернул, и тут же затрещали весла, ломаясь о корпус фрегата. Полетели крюки, грохнул залп мушкетеров, «Ворон» потащил за собой шебеку, и вдруг ее низкий борт и заваленная телами палуба оказались совсем рядом, на расстоянии протянутой руки. Снова затрещали выстрелы — на этот раз с мачт фрегата; сидевшие там корсары били прицельно, истребляя канониров и тех, кто был еще способен оказать сопротивление. Не пришибли бы рейса, мелькнуло у Серова в голове. В следующий миг он ринулся со всей своей ордой на магрибское судно, выстрелил в грудь одному противнику, проткнул горло другому и очутился у люка, ведущего на гребную палубу. Оттуда несло густой вонью, как из нечищеного нужника. Сумрак полнился хрипами, криками, проклятьями на десяти языках, мольбами о помощи; кто-то во весь голос читал молитву на латыни, кто-то стонал под ударами плети — резкий свист рассекаемого воздуха и влажный хлопок о кожу завершались мучительным воплем. То был ад, пекло в миниатюре, устроенное одними людьми для других. Серов сунул за пояс разряженный пистолет, вытянул другой, с пулей, и, морщась от смрада, начал спускаться. Рик и кто-то еще — кажется, Черч из нового пополнения — шли за ним с мушкетами наперевес. Низкое и мрачное подпалубное пространство занимало середину корабля; в центре тянулся помост, вровень с ним, по обе стороны, виднелись скамьи для гребцов, заполненные невольниками. Картина была знакомой: разинутые в крике рты, выпученные глаза, спины и плечи в багровых рубцах, поникшие в ужасе головы, зловоние и грязь. «Дева Мария, — пробормотал Черч за спиной Серова, -Дева Мария, заступница!» Месяца не прошло, как он сидел на такой же скамье и, обливаясь кровавым потом, гнулся над веслом. Турок с кривой короткой саблей заступил Серову дорогу, но Рик, черной тенью проскользнув вперед, проломил ему череп ударом приклада. Другой надсмотрщик, огромный, как буйвол, трудился в дальнем конце помоста, с яростью хлестал гребцов — толстая плеть свистела и брызгала кровью. Это тоже было привычно Серову, побывавшему на двух десятках пиратских шебек: в момент схватки на палубе невольников избивали, чтобы предотвратить мятеж. Обычно их не ковали в железо, кроме самых дерзких — кандалы и цепи мешали грести, но тут был в оковах каждый второй, а может, и все. — Возьмите его. Живым! — приказал Серов, вытягивая клинок к гиганту-надсмотрщику. Рик и Черч бросили мушкеты, обнажили тесаки и, как пара волкодавов, устремились к турку. Черч перерубил рукоять бича, Рик, ловкий, как пантера, зашел сзади, накинул на шею османа петлю и потянул, упершись коленом в поясницу. Надсмотрщик захрипел, пытаясь освободиться, но тут же замер, глядя на саблю Черча, просунутую между ног. — Дернешься, пес помойный, яйца отрежу, — пообещал Черч. Его глаза горели дьявольским огнем. — Ведите на палубу, — приказал Серов, разглядывая невольников. — Спокойно, пропащие души! Я, капитан Серра, взял этот корабль. Все будут свободны, клянусь Господом. Считайте, что вы родились во второй раз. — Повторив это на французском, он спросил: — Кому принадлежит шебека? Кто тут рейс? Караман? — Эль-Хаджи, — зашелестело в ответ. — Проклятый Эль-Хаджи, зверь, негодяй, ублюдок… Дьявол из преисподней… — Черт! Опять неудача! — Серов повернулся и полез по трапу наверх. Там корсары уже обшаривали убитых, резали раненых и швыряли трупы за борт. «Дрозд» и «Дятел», сцепившиеся с двумя другими шебеками, в помощи не ну ждались — там тоже шла резня, слышались вопли погибающих и пистолетные выстрелы. Не приходилось удивляться, что гребцы-невольники из Эс-Сувейры и с пиратских шебек так быстро слились с командой «Ворона», усвоив приемы и обычаи Берегового братства. Попавшие на гребные скамьи турецких или магрибских галер были солдатами и моряками, плененными в бою; они не могли надеяться на милосердие своих хозяев и даже на выкуп, ибо считались убийцами правоверных. Те, кто выжил на галерах, были яростны, жестоки и крепки, как сталь; отличный материал для вербовки в корсарское воинство. Рик и Черч тащили турка-надсмотрщика на ют, Серов шел следом, перешагивая через мертвые тела. «Доска не нужна, — подумалось ему, — живых, похоже, не осталось». Но он ошибся. — Капитан! Капитан, якорь мне в бок! Сюда иди! Глянь, кого словили! Серов обернулся. На палубе у грот-мачты был распластан турок в чалме и шитой серебром епанче; он лежал ничком, уткнувшись носом в доски, а на его спине и ногах сидели Мортимер и Алан Шестипалый. Турок, очевидно, задыхался и то и дело начинал ворочаться. Тогда Алан колол его в задницу острием кинжала. — Моя добыча! — заявил Мортимер. — Он в меня из пистоля палил, и саблей размахивал, но я… — Не ты, а я его взял! — ухмыльнулся Алан. — Ты, краб вонючий, уже штаны намочил, когда он едва до кишек твоих не добрался! — Взял! Надо же, взял! Врезал сзади по башке, когда я с ним дрался! Мой сарацин, клянусь преисподней! И награда тоже моя! Алан ощерился и стиснул кулаки: — Язык у тебя длиннее тесака. Я твою печень спас ублюдок! — Спас! Ты, навоз черепаший, отродье шестипалое! От какой скотины тебя мать родила? Какой урод трахнул ее в сортире? И как у него пупок не развязался от напряги? Алан начал багроветь. — Заткнитесь оба, — приказал Серов, содрал с турка чалму и убедился, что уши у него целы. Затем, дернув за волосы, приподнял его голову и молвил: — Это не Караман. Точно не Караман! За этого я дам вам по двадцать талеров. Оружие поделите: одному — сабля, другому — пистолет. И никаких свар на судне! Хотите поплавать под килем? Так я сейчас кликну боцмана и… Но боцман был уже тут как тут — стоял, расправив плечи, и поигрывал широким ножом, какими буканьеры с Эспаньолы свежевали бычьи туши. При виде Хрипатого Алан и Морти сразу присмирели, поднялись, дернули турка вверх и поставили перед Серовым. У пленника оказалось породистое и явно не восточное лицо: длинный нос, узкие скулы и серые глаза. Возможно, он был из черкесов, которых брали в янычары. На палубу шебеки перебрался Тегг, спросил: — Есть пленные, Андре? — Только двое. Этот, — Серов ткнул пальцем в огромного турка, которого держали Рик и Черч, — надсмотрщик над гребцами, а второй, я думаю, Эль-Хаджи, рейс. Сейчас я с ним побеседую. Ну-ка, Морти, отпусти его и поищи Деласкеса либо Абдаллу. Но пленник внезапно заговорил, мешая французские, английские и итальянские слова: — Я знаю ваш собачий язык. Псы и те приятней гавкают! Скоро я не услышу ваших речей и не увижу ваших мерзких лиц. Я буду пить шербет из рук гурий, а вы — плавать в помоях и блевотине! Ибо я попаду в сады Аллаха, а вы, неверные свиньи, — добыча Иблиса! — Путь в сады Аллаха может быть нелегким, — сказал Серов. — Я бы не советовал тебе торопиться. Возможно, я отпущу тебя, Эль-Хаджи, и гурии поднесут тебе шербет в Тунисе или Стамбуле. Клянусь, так и будет, если правдиво ответишь на один вопрос: где Одноухий Караман? Тонкие губы рейса искривились в усмешке. — А! Ты ищешь Ибрагима Карамана и женщину по имени Сайли! Я слышал о тебе. Ты — шайтан Сирулла! — Так меня называют. Повторяю вопрос: где Караман? Пленник молчал. Серов огляделся. Шебеку уже очистили от трупов. Снизу доносились лязг и грохот — там разбивали оковы гребцов и одного за другим выводили их на палубу. Рик и Черч стояли за спиной гиганта-надсмотрщика, Алан и Мортимер стерегли рейса Эль-Хаджи, и было ясно, что от этих четверых дельный совет не получишь. Вот Тегг и Хрипатый Боб — те были отличными советниками! — Надо бы его разговорить, джентльмены. Есть предложения? — Само собой, — промолвил Тегг и подмигнул Хрипатому. — Видишь, Боб, этого бугая? — Он покосился на турка. — Башка как котел, шея бычья! Спорим, что ты ему глотку не перережешь — так, чтобы от уха до уха и за единый раз. Фартинг ставлю! Боцман хмыкнул, и не успел Серов слова молвить, Жак сверкнуло широкое лезвие, на шее турка налилась алая полоса, и, заливая его мощную грудь, хлынули потоки крови. Но ни капли не долетело до палубы — Хрипатый, подхватив огромную тушу за ноги, отправил убитого за борт. Потом сказал: — Ты должен мне фарртинг, Сэмсон, — и поднес окровавленный нож к лицу Эль-Хаджи. Но тот не дрогнул, а уставился на Боба с надменным вызовом. Ищет смерти, сообразил Серов и поглядел на толпу невольников, что выбирались из люка. — Быстрой кончины тебе не будет, — произнес он, кивая на гребцов. — Эти люди сказали, что ты — зверь и негодяй, дьявол из преисподней. Я тебя им отдам. Пусть порадуются! На висках рейса выступил пот, дернулось веко на левом глазу. Вероятно, этот путь в сады Аллаха его не устраивал. — Кто для тебя Караман? — продолжал Серов. — Он тебе не брат и не товарищ… Расскажи, что знаешь, и выбирай: жизнь или легкая смерть. Иначе… — Он снова осмотрел невольников, чьи глаза, при виде Эль-Хаджи, вспыхнули хищным блеском. — Знаешь, что они с тобой сделают? Зубами и ногтями будут рвать! А мой боцман проследит, чтобы не с горла начинали, а с паха и прочих мягких частей. — Пр-рослежу, — подтвердил Хрипатый. — Ты, Тегг, пр-ро фарртинг-то не забудь! Хр-р… Если хочешь, я потом еще тр-роих заррежу, и будет целый пенс! Эль-Хаджа судорожно сглотнул: — Хвала Аллаху, господу миров! Он взвешивает, Он судит, Он карает, и нет препятствий Его воле! Два дня назад я вышел с Джербы. Караман-реис там, и женщина у него… Только тебе их не взять, Сирулла, ни Карамана, ни женщину. У него дом неподалеку от касбы[499]. Ты еще на берег не ступишь, как он в крепость уйдет. А в касбу ты не проникнешь! Не захотят твои псы гибнуть у ее стен даже из-за райской гурии! Да и маловато их. А правоверных воинов на Джербе многие и многие тысячи! Серов покивал головой, пробормотал по-русски: — Ну, ничего, ничего… На всякую хитрую задницу найдется свой штопор. — Потом спросил: — Что выбираешь, Эль-Хаджи, жизнь или смерть? — Жизнь, — прохрипел рейс. — Ты обещал! — Обещал. Если не врешь, отпущу, а до того посиди в цепях на собственной галере. Я ее возьму. «Дрозд» и «Дятел» у нас есть, а эта будет «Стриж». Пусть ее вычистят от клотика до киля и наберут экипаж из охочих людей. Остальных отпустить, пересадив на другие шебеки. Боб, проследи! — Хр-р… Будет сделано, капитан. Серов повернулся и зашагал к высокому борту фрегата.
* * *
Пока разбирались с грузом, набирали команду «Стрижа», рассаживали бывших невольников по шебекам и чинили на скорую руку такелаж, миновала половина дня. К корсарам присоединились семьдесят три человека, а остальные, большей частью испанцы, португальцы и моряки из Генуи и Венеции, решили плыть под охраной фрегата на Мальту и просить о помощи великого магистра Раймонда де Рокафуля. Многие из них были ранены или до предела истощены, а в Ла-Валетте, мальтийской столице, находился огромный госпиталь с лучшими в христианском мире лекарями. Наконец в пятом часу пополудни подняли паруса, и «Ворон», возглавляя флотилию из пяти галер, неторопливо двинулся на юго-восток, к грозному оплоту Мальтийского ордена. Серов, не слишком утомленный битвой с Эль-Хаджи, заканчивал свою вахту, размышляя о встрече с великим магистром — если тот, конечно, захочет принять вест-индского корсара, губителя испанцев. Здесь существовали определенные сомнения, но де Пернель утверждал, что прошлые грехи искуплены — все же, плавая в Средиземье, Серов и его сотоварищи спасли немало христианских душ, побили изрядно пиратов и не ограбили ни единого судна, даже испанского. Хотя временами удержаться было трудно. На капитанский мостик поднялся Хрипатый Боб, дорожил о взятом на шебеках грузе (кроме пороха, ядер, муки и фиников — ничего ценного), затем помялся а каркнул: — Тут один висельник с сар-рацинской лоханки пр-ро-сится к тебе. Я его на боррт взял из интерреса. Чего-то он хочет, капитан, а чего, не пойму — болтает по-тар-рабар-ски. Слово понятно, два — нет. Должно быть, этот… как их… китаец. — У него что же глаза косые, кожа желтая и нет бороды? — полюбопытствовал Серов. — Глаза как глаза, а борродища — во! — Хрипатый провел ладонью над пупком. — И кр-рестится… только не так, как положено, а на свой дур-рацкий манер. — Тогда он точно не китаец. — Серов с задумчивым видом почесал в затылке. — Может, эфиоп? Я слышал, они тоже христиане, и бороды у них растут как у нормальных людей. Боцман с сомнением хмыкнул: — Эфиопы чер-рные, а этот белый, только рожа у него шир-рокая, как пудинг. Прривести ублюдка? — Давай. И Мартину скажи, чтоб был наготове — может, столкуемся на турецком. Через минуту на квартердек в сопровождении Хрипатого поднялся высокий худой мужчина, густо заросший светлым волосом. Русая борода, сливаясь с усами, падала ему на грудь, соломенные патлы стояли нимбом вокруг головы, топорщились густые брови, обширная поросль золотилась на руках и плечах. Он уже вымылся — тело было чистым, и пахло от него не смрадом галерного чистилища, а соленой морской водой. Его обрядили в турецкие шаровары и суконную безрукавку — она не сходилась на широкой груди, и Серов увидел, как из-под кожи, испещренной полузажившими следами от побоев, проступают ребра. Широкоскулое крупное лицо незнакомца, обожженное солнцем и знойными ветрами, хранило странное детское выражение — возможно, так казалось из-за сочетания светлых волос и синих глаз, напоминавших о поле спелой ржи с цветущими васильками. Серов посмотрел в эти глаза, и сердце у него захолонуло. Таких глаз не могло быть ни у немца, ни у британца или француза, ни у скандинава — тем более у китайца. — Бью челом, милостивец мой, — произнес мужчина на русском и, кланяясь земно, забормотал на двунадесяти языках, но на всех — что-то непонятное: Серов вроде бы уловил английское «сенкью» и арабское «рахмат». — Ты из какой губернии, братец? -спросил он, и родная речь была как мед на языке. — Какого ты рода-племени и какого состояния? Дворянин или простой человек? — Батюшка-капитан! Отец родной! — Незнакомец вдруг повалился на колени, обнял ноги Серова, прижался щекой к сапогу. — Неужли ты из наших? Пресвятая Богородица! Сколь годков я слова русского не слышал! С той поры, как Ивашку кнутом захлестали! Оторвавшись от сапога, он поднял голову. По его щекам текли слезы, теряясь в бороде, лицо вспыхнуло лихорадочным румянцем. — Выходит, не китаец он, — сказал Хрипатый Боб. — Не китаец, р-раз ты, капитан, его понимаешь. Хр-р… Откуда же взялось это чер-ртово отр-родье? — Он русский, — пояснил Серов. — Из той земли, куда мы плыли на государеву службу. Ты, боцман, иди… Иди, а я с ним потолкую. Речь его мне немного знакома. Боб, хрипя горлом и удивленно хмыкая, спустился на шканцы. Бывший невольник, все еще стоя на коленях, широко крестился, и крест клал по православному обычаю: от лба — вниз, потом к правой стороне груди и к сердцу. Руки у него были крупные, мощные, в мозолях от весла. — Ты вот что, братец… — Серов похлопал его по макушке. — Ты кончай креститься да слезы лить. Думаю, не зря ты в гребцах очутился — наверное, и порох нюхал, и саблей махал, и басурманские головы рубил… Так что встань и доложись, как положено военному человеку. Повторяю вопрос: кто ты есть и какого чина-звания? Незнакомец поднялся и стал во фрунт. Ребра выпирали из-под кожи, и шрамов от хлыста на ней было не счесть. — Михайло Паршин, капитан третьей роты Бутырского полка! — отрапортовал он. — Взят в плен супостатом в Азовском походе![500] Раненым пленили и токмо потому, что душа едва не отлетела. — Он продемонстрировал рубец между плечом и шеей — след от удара ятаганом. — Четыре года ворочал весло на османских галерах, потом еще три — у песьей рожи Аль-Хаджака. Ну, этот самый лютый был! Прям-таки зверь неистовый! — Михайло помолчал, потеребил в смущении бороду и спросил: — А ты, батюшка мой, правда из наших? И как мне тебя звать-величать? — Зови Андреем Юрьевичем. Но я не из России, братец, я из Франции, из Нормандии. Слыхал про такую? — Паршин отрицательно помотал кудлатой головой. — Отец мой — знатный дворянин, маркиз, а я, Андре Серра, его непутевый отпрыск… Ты ведь, Михайло, тоже из дворян? — Из дворян. По-новому, как государь повелел, из дворян, а по-прежнему — так из сынов боярских. Род наш из Москвы и прилеплен с давних пор к большим боярам, к Толстым… в свойстве с ними состоим, и Петр Андреич даже дозволил звать себя дядюшкой. — Это какой же Петр Андреич? — насторожился Серов. Из Толстых он мог уверенно опознать лишь Льва Николаевича, но до «Войны и мира» и «Анны Карениной» было еще лет сто пятьдесят, а то и больше. — Толстой Петр Андреич, царский стольник[501]. Ба-альшой человек! Может, искал он меня, чтобы выкупить, да, видно, не нашел… — Михайло развел руками и снова бухнулся на колени. — Челом бью, батюшка-капитан Андрей Юрьич, и тщусь надеждой! Помоги добраться до отчизны! Век буду тебя поминать в своих молитвах! И детям, буде появятся они, закажу, чтоб во всякий день молили Господа о твоем благополучии, о фортуне твоей и здравии! А я тебе чем смогу, отслужу! Отслужу сей же час, живота своего не жалея! — Отслужишь, — сказал Серов, крепко запомнив о свойстве Михаилы с царским стольником Толстым. — Непременно отслужишь, но как, о том мне нужно поразмыслить. А теперь иди, братец, бороду сбрей, патлы обрежь и стань похож на человека. Боцману передай, кто я зачисляю тебя в экипаж и велю выдать нормальное платье, а не турецкие обноски. Михайло замялся, переступая с одной босой ноги на другую. — Спросить чего хочешь? Ну, спрашивай! — Хочу, Андрей Юрьич, хочу… ты уж не гневайся на мои пустые речи… Где ты толковать по-нашему выучился? Хорошо говоришь, токмо непривычно. — Носило меня по морям-океанам много лет, и видел я всяких людей, — молвил Серов. — Был среди них один купец из Калуги, ныне покойный, и встретились мы в Вест-Индии. От него и выучился. Я способен к языкам. — Из Калуги… в Вест-Индии… — повторил Паршин и вздохнул. — Куда нашего брата ни заносило… А я вот гораздо глуп к языкам, потому дядюшка Петр Андреич не изволил пристроить меня к государевой посольской службе, а испросил офицерский патент в Бутырском полку. Поручиком я служил, потом, в тридцать годов, вышел в капитаны… Рубиться да фузилерами командовать я мастак. — Еще покомандуешь и генералом станешь, — пообещал Серов. Он глядел вслед Паршину, думая, что вот свела его судьба еще с одним чистым душой человеком, с рыцарем вроде де Пернеля, а точнее, с витязем, ибо рыцарей на Руси отродясь не водилось. Этот русский офицер наверняка был потомственный воин, солдат отважный и умелый, ибо стать капитаном в тридцать лет было непросто, и царь Петр Алексеевич зря такими чинами не баловал. «Похож на де Пернеля, похож!.. — думал Серов. — Вот только счастье у него русское, такое, что приходит через кровь, и пот, и сорок бед… Де Пернель сидел у весла немногие месяцы, а этот — семь годов!» Вечером, когда вахту стоял ван Мандер, а остальные главари собрались на ужин в кают-компании, Серов велел привести Михаилу. Теггу, боцману и сержантам объяснил, что взяли с галеры Эль-Хаджи капитана русской армии, который в родстве с большим вельможей, и это изрядная удача. Если отправить его домой, снабдив деньгами и письмом, то, глядишь, посодействует родич, чтобы письмо в царские руки попало, и доброе слово замолвит. Тегг покивал головой и молвил, что доброе слово стоит многих талеров, тем более если посланец окажется речист и распишет, как бились с шайкой Эль-Хаджи. Хансен, хирург, с этим согласился, сказав, что раз царь сражался с турками, а они их нынче бьют, то можно считать, что вся флотилия уже на царской службе. Хрипатый Боб добавил, что в этом случае царю придется заплатить — ибо какая служба без жалованья? Кук и Тернан заспорили, что за монета в России — гульден, как у голландцев, или же крона, как у шведов. Серов объяснил, что монета — рубль, а происходит ее название от слова «рубить». Это компании понравилось — рубить они умели и любили. Рик привел Михаилу, уже в приличном платье, в сапогах и при оружии. Сели за стол, отужинали, принялись за ром и херес, поднимали кружки в честь победы над басурманами, и чем больше пили, тем лучше понимали Паршина. Хоть был он не горазд в языках, но смог каким-то чудом рассказать и про Азовский поход, и про своего полковника Патрика Гордона[502], и про османские галеры, и про Ивашку, своего солдата, тоже попавшего в плен и забитого насмерть плетьми. Тут он пустил слезу, но потом приободрился и сказал, что ром, конечно, не водка, но тоже мальвазея добрая, и надо выпить за упокой Ивашкиной души. С чем все общество охотно согласилось. Что было потом, Серову запомнилось плохо. Вроде Паршин плакал в жилетку Хансену, жаловался на свою несчастную планиду и семь пропавших даром лет, и юроде Хансен свалился под стол, а он, Серов, успокаивал Михаилу и все пытался рассказать про грядущие победы русского оружия и про Полтаву, где они смогут найти великую честь и славную смерть; вроде Паршин этим утешился, и пили они с ним на брудершафт, бормоча друг другу: «Ты — капитан, и я — капитан, оба мы капитаны…»; вроде вспомнилась ему Шейла Джин Амалия, и, затосковав, выпил он цельную кружку хереса; вроде Хрипатый Боб пожелал дать салют из кормового орудия, отправился за порохом и исчез, а Тегг пошел его искать и тоже не вернулся; вроде Кук и Кола Тернан, достав топорик, принялись рубить серебрянные ливры, утверждая, что делают рубли; вроде кончились и ром, и херес, и Паршин сказал, что хватит пить, теперь и поразмяться не грех, и начал искать весло, но не нашел, а упал на Хансена. Сколько продолжались эти чудеса, Серову не запомнилось, но очнулся он поутру в своей каюте и обнаружил рядом с койкой кружку, а в ней — кислое андалусийское. Не иначе как Рик постарался, решил он, выпил с охотой мансанилью и вылез на палубу. Солнце уже взошло и озарило темно-синие морские воды и бурые скалы острова, встававшего на горизонте. «Ворон» и пять галер шли к нему на всех парусах, и ван Мандер, стоя на капитанском мостике, разглядывал берег в подзорную трубу. Из «вороньего гнезда» на грот-мачте, где сидел наблюдатель, долетело: «Мальта! Земля! Гавань с зюйда, сэр!» «Вот уже и Мальта, — подумал Серов. — Быстро течет жизнь! Чем больше пьешь, тем быстрей течет…»
Глава 8 МАЛЬТА
Мальтийский орден существует до сих пор. Во главе его стоит Великий магистр. Орден состоит из рыцарей, давших религиозные обеты, рыцарей-послушников и светских лиц — всего около 7000 членов. У него крупные земельные владения, и до сих пор он имеет дипломатических представителей в тридцати странах. Его основная деятельность заключается в благотворительности: несколько больниц и сотни санитарных самолетов. Долгое время военные дела считались важнее дел святых, но теперь Мальтийский орден в какой-то мере вернулся к прежней благотворительной деятельности, когда госпитальеры святого Иоанна Иерусалимского лечили больных и с оружием в руках защищали паломников в Святой Земле во время крестовых походов.Жорж Блок. Великий час океанов. Средиземное море (Париж, 1974 г.)
На возвышенность у Большой гавани Серова затащил де Пернель. Дело того стоило: отсюда, с вершины горы Скиберрас, виды открывались изумительные. Синева заливов, врезавшихся в земную твердь и походивших на многопалую драконью лапу, контрастировала с темными скалами, с мощными фортами и зданиями, сложенными из желтоватого известняка, с редкой зеленью, затаившейся среди городских кварталов. Прямо род ними, на мысу полуострова, что отделял Большую гавань от залива Марсамшетт и носил такое же имя, как гора, лежала Валетта, мальтийская столица, город-крепость в квадрате каменных башен и стен, к которому в дальнем конце, у самого моря, был пристроен форт Сент-Эльмо. Справа в синюю ленту Большой гавани врезались четыре полуострова поменьше, и на двух из них тоже находились крепости: форт Сент-Анджело с Кастильским бастионом и городком Биргу и форт Сент-Микаэль с другими малыми поселениями, Ислой и Бормлой. В гавани замер на рейде «Ворон», казавшийся сверху игрушечным корабликом, и рядом с фрегатом отдыхали захваченные Серовым шебеки, а также боевые галеры ордена и три десятка торговых парусников; у пристаней и причалов грудилось множество судов помельче, от рыбачьих лодок до фелюк, бригантин и тартан. Слева, за полуостровом Скиберрас и заливом Марсамшетт, тоже виднелись стены, дома и боевые башни. Серов не сомневался, что здесь всякий клочок суши и моря простреливается с трех-четырех батарей, и орудия там стояли огромные, крепостного калибра, такие, что могли швырнуть ядро за четыре кабельтова. — Там произошла первая схватка, мессир капитан, там, у бастионов Биргу. — Лицо де Пернеля выглядело торжественным и мрачным. — Мустафа-паша явился с войском в сорок тысяч, на двухстах галерах, а у ордена было семьсот рыцарей, тысяча солдат и пять-шесть тысяч местных ополченцев. Два наших брата попали в плен во время высадки и, уповая на Господа, приняли страшные муки от неверных — те желали знать, где уязвимое место в обороне. Братья, притворно сдавшись, указали Биргу, но там османов ждала засада — конница ордена пала на них, как Божья десница, и уничтожила сотни врагов. Это случилось в мае двадцатого дня. Может, двадцать первого — я точно не помню. Командор рассказывал про оборону Мальты от полчищ османов, самое великое событие в истории ордена[503]. Память о нем была увековечена многими памятниками и названием столицы: орден тогда возглавлял великий магистр Иоанн де Ла Валетт, и город назвали его именем. Собственно, Ла Валетт его и построил, отразив нашествие турок. — Что было дальше, командор? — спросил Серов. — Паша велел обстреливать Сент-Эльмо, и канонада была такой ужасной, что братья-рыцари хотели уйти из форта или атаковать османов и погибнуть с честью. Он отправили гонца к мессиру Ла Валетту, и тот сказал: «Уходите! Я пришлю других людей». Но это было бы позором для оборонявшихся в Сент-Эльмо, и они, укрепив сердца Христовой верой, бились еще восемь или девять дней, пока в форт не ворвались янычары. Пленных не было, были только мертвые… Турки отрезали головы у трупов, привязали тела к крестам и пустили их на плотах по водам Большой гавани. Де Пернель перекрестился и зашептал молитву. Вероятно, сейчас он видел, как плывут эти плоты с обезглавленными рыцарями, и, может быть, сожалел, что слишком поздно родился и не пролил своей крови в стенах Сент-Эльмо. — На наш век хватит врагов и войн, — утешил его Серов. — Нам хватит, и нашим детям, и самым далеким потомкам. Поверьте, рыцарь, нет и не будет дня в нашем мире, чтобы где-то не убивали и не сражались. — Очередное ваше пророчество, мессир капитан? — Я бы так не сказал, командор. Пророчество есть результат божественного откровения, а я… гм-м… я исхожу скорее из нынешней ситуации. Будущее бросает тень перед собой, и эта тень — наше настоящее. — Он покачал головой. — Ну, не будем о грустном… Значит, турки все же захватили форт Сент-Эльмо? — Да. Их галеры могли войти в Большую гавань, и мессир Ла Валетт приказал вбить в морское дно сотни заостренных бревен. Мустафа послал янычар для разрушения преграды, но рыцари вплавь добрались до них и стали рубить прямо в воде. Потом такое случалось неоднократно: османов либо разили клинками, либо громили из пушек. И Мустафа-паша решил атаковать форты на другой стороне залива, Сент-Анджело и Сент-Микаэль, ибо их орудия не позволяли кораблям проникнуть в гавань. Но Божьим промыслом все нападения были отбиты, и тогда паша велел поставить пушки на берегу, под горой, где мы сейчас стоим, и стрелять по фортам через залив. Выдержали и это, хотя дома жителей в Исле и Биргу были разрушены, а многие из них убиты. Османы взорвали Кастильский бастион, захватили Ислу, но мессир Ла Валетт собрал всех своих бойцов, даже раненых и недужных, ударил на турок и оттеснил их с помощью Господа. Лето уже кончалось, и вскоре подошла подмога из Испании… Мустафа устрашился и бежал, оставив мертвыми половину войска. — Великий человек был ваш магистр, — задумчиво произнес Серов. Зыбкие видения поплыли перед ним: для этого времени — будущее, для мира, который он покинул, — прошлое. Блокада Ленинграда, битва на Волге, битва на Курской дуге… В каждом из этих великих сражений участвовали миллионы, а что такое сорок тысяч турок и восьмитысячное мальтийское войско?.. Вместе — две дивизии! Но мужество не измеряется числом, а героев, ведущих в бой своих сотоварищей, в любую эпоху немного. Вздохнув, он отвернул рукав камзола, чтобы взглянуть на часы, и, как не раз уже бывало, вспомнил, что они у Шейлы. «Где ты, родная?.. — подумал Серов с привычной тоской. — Где ты, мой якорь, что держит меня в этом далеком столетии?.. Сегодня я сделаю шаг к тебе… еще один шаг… возможно…» Взглянув на солнце, он сказал: — Полдень. Пора возвращаться, командор. Они спустились вниз, где Рик Бразилец ждал с парой лошадей и мулом. Де Пернелю с конем повезло — вороной жеребец из конюшен великого магистра бил копытом, косил на всадника огненным глазом. Серову достался смирный мерин, как раз по его умениям наездника. Хоть его детство и юность прошли в цирке, с лошадьми он дела не имел — да и разве можно сравнить цирковую лошадь с боевым конем! Серова оправдывало то, что корсары были неважными всадниками и на земле воевали в пешем строю, расправляясь при этом с конницей вполне успешно: делали волчьи ямы и засеки или становились в каре, понатыкав перед шеренгой стрелков длинные колья. С другой стороны, он выдавал себя за благородного, а для дворянин текущей эпохи ездить верхом было так же естественно, как пить вино или дышать. Де Пернель весьма удивлялся его неуклюжести, и всякий раз Серову приходилось бормотать, что, мол, отвык от лошади за годы плаваний, и палуба ему теперь привычнее седла. Мерин, однако, был в летах и потому спокойный — трусил себе рядом с вороным да помахивал хвостом, отгоняя мух. Для середины января день стоял прекрасный, солнце грело, но не пекло, с моря дул свежий ветерок, и редкие деревья, что попадались по дороге, стояли зеленые — в Средиземье даже зима была щедрой. Они въехали в город через Главные врата — единственные, обращенные не к морю, а к суше. На центральной улице, проложенной от ворот к форту Сент-Эльмо, праздношатающиеся не толпились: в тележках везли продукты, шли ремесленники, солдаты и скромно одетые женщины, иногда встречался рыцарь в красном орденском камзоле или оруженосец — юный, благородной крови, имевший шанс стать рыцарем, либо рубака-ветеран простого сословия. Люди Серова и моряки с торговых кораблей сюда не ходили — им хватало таверн и веселых домов у гавани, рядом с другими вратами, что назывались Воротами Победы. Город, лежавший на оконечности полуострова Скиберрас, был поразительным — во всяком случае, Серов не встречал подобных ему ни в своем времени, ни в нынешнюю эпоху. Строгие линии улиц, замкнутых в многоугольник стен, пересекались под прямыми углами, фасады домов, тесно прижатых друг к другу, выглядели слишком узкими и очень высокими — удивляло, как люди живут в этаком тесном скворечнике. Но теснота оказалась иллюзией — дома были длинными, словно поставленная на бок коробка спичек, и в их глубине нашлось место даже для внутренних двориков. Все тут, и жилые постройки, и соборы, и служебные здания ордена, и оборонительные бастионы, возвели из желтоватого известняка, и остров был усеян каменоломнями. На бастионы Серов насмотрелся с моря — мощные форты громоздились в два-три яруса стен, ипервый из них вставал прямо из воды, а последний обычно являлся огромной башней. Но кроме внешних укреплений и жилых скворечников в Валетте имелись и другие сооружения — монументальной архитектуры храмы, дворцы и госпитали. Чего почти не было, так это зелени — вероятно, по той причине, что камень защищал от ядер гораздо лучше, чем деревья, кустарник и цветы. Над головой нависали узкие закрытые балкончики, подковы лошадей звонко цокали по каменным плитам. Иногда ровная поверхность мостовой прерывались лестницами, такими же странными, как все остальное в этом городе — скошенные под углом ступени, широкие, но невысокие. Де Пернель объяснил, что такая конструкция удобна для воинов, закованных в тяжелый доспех — не нужно ноги задирать. Внутри Валетта являлась такой же крепостью, как и снаружи; все здесь, от планировки города до жилых домов, подчинили идеям обороны, мобильной переброски войск и внезапной атаки на неприятеля, если он прорвется за стены. И в то же время город был красив — той суровой красотой, что присуща рыцарским замкам и защитным бастионам. Серову он напоминал Петропавловскую крепость в Петербурге — такой, какой она видится с Невы. — Оберж[504] Прованса, — произнес де Пернель, вытянув руку. — Здесь живут наши соотечественники, мессир капитан. Серов кивнул: — И много их, командор? — Десятков пять-шесть. Но это лишь те, кто вступил в орден недавно. Здание обержа было как крепость в крепости: узкие окна-бойницы, стены невероятной толщины, массивная дверь. Около нее несли стражу два мушкетера и два солдата с алебардами. Улица пересекала площадь с собором Иоанна Крестителя, строгим строением с двумя колокольными башнями. Этот главный храм не выглядел роскошным, по крайней мере, снаружи, но внутри был убран с потрясающим великолепием. В нем Серов уже побывал, прошелся по мраморным плитам, под которыми лежали кости сотен славных рыцарей, и осмотрел латинскую надпись у бокового входа. Надпись гласила: «Вы, идущие над умершими, помните, что когда-нибудь пройдут и над вашим прахом». Ознакомившись с ней, Серов подумал, что место тут тихое и надежное, такое, где он сам не отказался бы лечь. Но становиться мальтийским рыцарем в планы его не входило. К тому же он был женат. Проехав еще квартал, они повернули направо, к дворцу великого магистра. Здесь тоже стояли часовые, принявшие лошадей и пропустившие де Пернеля и Серова во внутренний дворик. Его окружала аркада в два этажа, и среди каменных плит благоухал крохотный цветник, редкая роскошь в островной столице. Вышедший к ним Служитель поклонился, попросил мессиров обождать и исчез в одной из арок. «Подождем. Дольше ждали», — подумал Серов, осматривая колонны с незатейливым украшением и галерею, тянувшуюся вдоль второго этажа. Он скучал на Мальте уже две недели, дожидаясь, когда великий магистр Раймонд де Перелое де Рокафуль соизволит его принять. Магистр был еще не стар, но, по слухам, страдал от раны или какой-то болезни — что, впрочем, не помешало ему призвать во дворец де Пернеля и расспросить про плен и счастливое избавление от неверных, а заодно — про капитана Серра, вест-индского искателя удачи. Де Пернель, однако, уверял, что та беседа была благожелательной — в том, что касалось Серова и его людей. Видимо, так; корсарам сразу же отвели казарму у Ворот Победы, назначили довольствие, а раненых забрали в госпиталь. Магистр разрешил вербовать солдат для набега на Джербу и потребовал лишь одного: чтобы опасные визитеры не учиняли беспорядков. — Этот дворец возведен мессиром Пьетро дель Монте, — сказал командор. — По Божьей воле он наследовал магистру Ла Валетту и купил землю для постройки сто тридцать лет назад. — Должно быть, по дорогой цене? — рассеянно поинтересовался Серов. Сейчас его мысли бродили в иных местах — слишком многое зависело от встречи с де Рокафулем. Окажет ли помощь магистр в деле с Джербой? Или решит не связываться с корсарами? — Нет, цена была невелика, — улыбнулся де Пернель. — Пять пшеничных зернышек и пять глотков воды[505]. — Выгодная сделка, — заметил Серов, разглядывая цветник. За его спиной кто-то кашлянул, потом послышался знакомый голос: — Дон капитан… мое почтение, дон капитан. Да хранит вас Дева Мария! Обернувшись, он увидел затылки двух склонившихся мужчин, две шляпы, подметавшие пыль, две загорелые руки на эфесах мавританских сабель. Мартин Деласкес и Абдалла… В приличных одеждах и башмаках, с ухоженными бородами и дорогими фибулами, скреплявшими плащи… «Что за дьявол! — пронеслось у него в голове. — Откуда они тут взялись?..» Экипажи с «Ворона» и галер жили в просторной казарме под стеной, выходившей к гавани, ели, пили и веселились в портовых кабаках, спуская ливры, куруши и талеры. Но у Деласкеса, Абдаллы и пары дюжин других мальтийцев имелись семьи и дома в Бормле и Биргу; эти испросили отпуск и были отпущены до боевого сигнала — трех орудийных выстрелов. Как полагал Серов, Абдалле и Мартину сейчас полагалось кушать бэббуш и канноли[506], гладить головки детишек и развлекаться с женами. Может быть, сидеть в таверне, навещать родню или проворачивать торговые сделки — как-никак афронт в Малаге, где они потеряли свои капиталы, требовал компенсации. Словом, они могли находиться в десятках мест, только не в покоях великого магистра Раймонда де Рокафуля. Вероятно, эта мысль отразилась на лице Серова, так как Деласкес живо выпрямился и произнес: — Мессир Хорхе де Энсерада, казначей и квартирмейстер ордена, вызвал нас, дабы узнать, привезли ли мы испанские мушкеты и клинки. Пришлось сказать ему, что в этот раз Господь не послал нам удачи. Мы потеряли все. — Вы сохранили свои жизни, — возразил Серов, и Абдалла энергично закивал. — И вы не пропили в Кальяри свою добычу. У вас в карманах должны звенеть куруши и ливры… Или я не прав? — Гаспадин видэт суть, — промолвил Абдалла. — Дэн-ги приходит и уходит, а душа, когда расстаться с тэлом, нэ вэрнешь. Душа — все, дэнги — прах! — Вот речь истинного христианина! — согласился де Пернель, одобрительно поглядывая на мавра. — Но нам пора, мессир капитан. Слуга вернулся за нами. Они прошли под аркой в сумрачный чертог, украшенный старинными клинками и секирами. Служитель вел их дальше по переходам, лестницам, коридорам и просторным покоям, и де Пернель, склонившись к уху Серова, шептал: — Это трапезная, мессир… Оружейная палата… Посольский зал… В Оружейной палате грозно сверкали копья, мечи и рыцарские доспехи, выставленные на деревянных болванках — глухие шлемы, панцири, изукрашенные золотом и серебром, стальные юбки, поножи, башмаки, щиты с восьмиконечными мальтийскими крестами. Похоже на Эрмитаж, решил Серов, но там коллекция побогаче. Стены Посольского зала были расписаны фресками, изображавшие отъезд рыцарей с Родоса и другие важные события. Вся долгая, трудная история иоаннитов явилась ему, напоминая, что их орден живет и здравствует даже в будущем, через триста лет, когда забылись тамплиеры, Ливонский и Тевтонский ордена, сообщества испанских рыцарей Алькантары и Калатравы. Все они стали тенью в круговороте времен, а мальтийцы, вечные странники, выжили — и там, в далеком двадцать первом веке, близились к тысячелетнему юбилею[507]. За Посольским залом находился личный кабинет великого магистра. Здесь было темновато, но Серов разглядел дубовый стол и массивные кресла, рассчитанные на великанов, камин и украшавшие стены знамена и клинки, щиты и модели кораблей, большой крест с распятым Иисусом и несколько картин. Среди них выделялся нагрудный портрет пожилого воина с грозным и решительным лицом, в стальных доспехах, но без шлема; на его кирасе был отчеканен мальтийский крест. Иоанн де Ла Валетт, догадался Серов. Старый рыцарь строго взирал со стены на своих потомков, будто предчувствуя грядущие бури и призывая их к терпению и стойкости. — Маркиз Андре де Серра, капитан флотилии, — громко объявил служитель, дипломатично опустив, что флотилия — корсарская. — Командор ордена шевалье Робер де Пернель, рыцарь по справедливости! Последнее означало, что де Пернель имел восемь поколений предков благородной крови и соответствующие грамоты. Серов, если б ему пожелалось вступить в орден, мог стать лишь рыцарем по милости, так как происходил от отца-дворянина и матери-простолюдинки. «А может, вступить?.. — мелькнула шальная мысль. Тогда мой потомок лет через двести выбьется в первый разряд, в рыцари по справедливости…» Он сдержал улыбку и отвесил изящный поклон. На сиденье, похожем на трон и стоявшем под крестом Спасителя, между двумя знаменами, расположился мужчина лет пятидесяти в алом бархатном камзоле. Седина и залысины на лбу, глубокие морщины у рта и глаз, шрам, пересекавший щеку, делали его старше, но серые глаза были по-юношески блестящими, а их взгляд — острым и быстрым. Раймонд де Рокафуль не мог похвастать те лесной мощью — его плечи показались Серову узкими, а запястья — тонкими, но, несомненно, это был военачальник и вождь, достойный магистерского жезла и меча. Эти две реликвии лежали на небольшом столике, а третья, усыпанный самоцветами крест, покоился на груди магистра. «Их привезут в Петербург, — подумал Серов, — этот крест, и меч, и жезл. Лет через сто к ним прикоснется наш император, несчастный Павел». Он снова поклонился. — Приветствую вас, маркиз де Серра, — сильным звучным голосом произнес магистр. — И вас приветствую, брат де Пернель. Моя благодарность маркизу, капитану отважному и славному… — Он привстал, с достоинством склонив голову. — Вы спасли нашего брата от неволи… Господь вам за это воздаст! — И мы тоже. Из-за кресла выступил человек, прятавшийся до того в тенях. Темные глаза, черные, как смоль волосы, небольшая бородка, гладкая оливково-смуглая кожа, гибкая стройная фигура… Но, несмотря на живость движений, юным он не выглядел — скорее всего, являлся ровесником магистра. — Командор Марк Антоний Зондадари[508], — представил его де Рокафуль. — Мой друг и ближайший помощник. — Мессир… — Серов поклонился в третий раз. Де Пернель шагнул навстречу Марку Антонию, и они обнялись — видно, не первый год были знакомы. — Брат де Пернель поведал нам о своих бедствиях, о днях, проведенных у весла, и о вашей битве с безбожным Караманом, — произнес магистр. — Поведал и о других сражениях, в которых вы, мессир де Серра, потопили или пленили множество галер пиратов, освободив томившихся в рабстве христиан. Это достойно похвалы! Несомненно достойно, чем бы вы и ваши люди ни занимались прежде. Серов молчал с почтительным видом, понимая, что речи магистра еще не закончены. — Нам нужны такие воины. Здесь, в этих морях, — де Рокафуль повел рукой, словно обозначив все Средиземье, — крест бьется с полумесяцем, и хотя неверные слабеют, до торжества над ними далеко. Немало еще прольется крови, и за победу мы заплатим многими жизнями… Христианские владыки — там, на севере, в могущественных королевствах — спорят из-за власти и земель, делят короны и престолы, а кто сражается с магрибским и османским флотом? Только мы, рыцари святого Иоанна! Есть у нас помощь от Генуи и Венеции, но купец — ненадежный союзник, ибо глядит туда, где больше выгоды, и ради выгоды предаст… — Магистр коснулся шрама на щеке — должно быть, имелись у него не слишком приятные воспоминания, связанные с купцами. — Но мы не жалуемся, мессир де Серра, не жалуемся и выполняем свой долг, как делали это шесть столетий. И Господь вознаграждает нас! — Нас и тех, кто встанет под наши знамена, — уточнил командор Зондадари. — Это было бы великой честью для меня, — произнес Серов. — Однако я человек женатый и не могу расстаться с моей возлюбленной супругой. А это было бы неизбежно, стань я мальтийским рыцарем… Не так ли, мессиры? — Так, — кивнул де Рокафуль. — Мы — слуги Бога, маркиз, и Он разрешает нас от всех земных обетов. То Его jus divinum![509] — От этого обета я не хочу отказываться, — твердо произнес Серов. — Тем более что моя супруга в плену и ждет дитя. — Да, я знаю, брат де Пернель мне говорил. — Магистр повернулся, взглянул на крест Спасителя, на его искажённое мукой лицо и произнес: — Вы еще молоды, маркиз, молоды и влюблены, и мирское крепко вас держит. Но в том — Его власть и воля! Значит, вы еще не исполнили своего земного предназначения… Но если когда-нибудь захотите предаться Богу душой и телом, знайте: мы вас ждем. Это наша вам награда, мессир де Серра. — Но не единственная, — добавил Марк Антоний. — Кроме брата де Пернеля есть другие люди, что поручились за вас, сказав, что вы искусны в воинском ремесле, что вы справедливы и правите своими людьми железной рукой. Поэтому наш досточтимый магистр решил помочь вам в нападении на Джербу и отмщении магометанам. Если мы разорим это змеиное гнездо, польза будет обоюдной: вы найдете свою синьору супругу и пленных товарищей, мы избавим моря от Карамана и других злодеев, что грабят христиан. Скажите, мессир, какими силами вы располагаете? — Фрегат с двадцатью четырьмя тяжелыми орудиями и три шебеки, на каждой по шестнадцать восьмифунтовых пушек, — сказал Серов. — В моих экипажах около четырехсот бойцов, и здесь, на Мальте, я нанял еще шесть дюжин. Кроме того, я покупаю бригантину, которая сможет взять сотню солдат. Пороха и ядер у меня хватает. Не знаю, как покажут себя мальтийцы, но те, кто пришел со мной из Вест-Индии, и бывшие гребцы с галер — отборные люди. Каждый в схватке стоит трех. — Большая сила, но недостаточная, — молвил командор Зондадари. — На Джербе возведены укрепления — не такие мощные, как здесь, но все же… Гарнизон там велик. Вы будете нуждаться в хорошей пехоте и всадниках. — Лишним это не будет, — подтвердил Серов. Командор и магистр переглянулись. Потом де Рокафуль наклонил седую голову, словно разрешая Марку Антонию говорить, и тот, потеребив смоляную бородку, произнес: — Мы пошлем с вами двенадцать боевых галер. Сто пятьдесят конных рыцарей, тысяча двести солдат, не считая канониров и матросов. Добыча — пополам. — Согласен. — Пойдем под мальтийским флагом. — Нет возражений. — Под общей командой. — Под моей, — жестко сказал Серов. Де Рокафуль приподнял брови: — Вы молоды, мессир Серра. Хватит ли у вас опыта? — Не сомневайтесь, досточтимый магистр. — Хм-м… посмотрим… Как вы намерены действовать? — Я полагаю, у ордена есть карты и зарисовки укреплений Джербы. Мне нужно на них взглянуть для уточнения плана. Но в общем он таков: пехота и конница с ваших галер высадятся на берег в уединенном месте и, уничтожая по пути врага, продвинутся к укреплениям. Их задача — вывести из строя как можно больше неверных и блокировать форты с суши. Я со всеми кораблями атакую с моря и нанесу внезапный удар из всех орудий. Стрелять придется несколько часов, до последнего ядра и фунта пороха, поэтому начнем канонаду на рассвете. Под прикрытием огня я высажу десант. Часть моих людей попытается залезть на стены, но это будет отвлекающий маневр. Остальные, разбитые на небольшие отряды, должны ударить по уязвимым местам и проникнуть в крепость, взорвав пороховыми зарядами стены, или забраться на них и отворить ворота. Вслед за ними ворвутся всадники и самые резвые из ваших пехотинцев. Одновременно начнется штурм с моря. Нужно посеять панику, чтобы избежать больших потерь. Может быть, взглянув на карты, я придумаю что-то еще. Челюсть у командора Зондадари отвалилась. Магистр вдруг захохотал, а отсмеявшись, коснулся креста на груди и произнес с уважением: — Вы, юноша, стратег, клянусь Господом! Вы хотите, чтобы конница, корабли и отряды пехоты действовали стремительно и согласованно. Но как этого добиться? — С помощью условленных сигналов и надежных командиров. Выстрел из пушки, звук трубы, флаги на мачтах — все подходит. Но лучше всего сигналить дымом. — Дымом, капитан? — Да, мессир. Небольшой запас дров, фляги с маслом, смола и свежая зелень. Дымный столб виден за несколько миль. — Это хитрость карибских корсаров? Серов ухмыльнулся: — Да, достопочтенный. Мы знаем массу всяких уловок. Их хватит, чтобы отправить в ад всех сарацин на Джербе. Великий магистр смежил веки, сложил ладони на груди, обхватив пальцами крест, и погрузился в раздумья. Шрам на его щеке, тянувшийся от уха до подбородка, выглядел как тонкий розоватый червь. Марк Антоний молчал, удивленно покачивая головой, и де Пернель тоже безмолвствовал, но Серов поймал его торжествующий взгляд. — Теперь я понимаю, почему вас прозвали Сиррулла! — Голос магистра внезапно нарушил тишину. — На арабском Сирулла означает «помысел Божий», но может трактоваться как «Божий гнев», что в данном случае ближе к истине. Я принял решение, сын мой! Я доверяю вам своих воинов и надеюсь, что вы приведете их к победе. — Его взгляд обратился к де Пернелю. — Брат Робер, вы плаваете с мессиром де Серра больше трех месяцев и знакомы с его приемами. Возьмете ли вы наши галеры, рыцарей и солдат под свое начало? Но де Пернель с сожалением развел руками: — Не могу, достопочтенный брат, и прошу вас не настаивать. В первые дни свободы я принес обет не покидать маркиза де Серра, пока дама его сердца томится в плену. Я поклялся именем Господа и спасением своей души! Маркиз дал мне людей и корабль, и я должен сражаться рядом с ним. Поймите меня и дайте на то свое разрешение! — Пусть будет так. Обеты надо выполнять, — произнес де Рокафуль. — Завтра, мессир капитан, вы увидите рисунки, сделанные нашими лазутчиками на Джербе. А я тем временем подумаю, кому из командоров поручить свои галеры. — Если позволите, брат Раймонд, я возьмусь за это. — Марк Антоний с поклоном коснулся руки магистра. — Помнится мне, что я не раз командовал галерами и водил рыцарей в бой… Сколько, уже не перечтешь… Если считать по отметинам сабель и пуль, то получается тринадцать. Нехорошо! Чертова дюжина! — Его глаза сверкнули озорством. — Но, может быть, на Джербе я получу еще одну почетную рану. — Плыви с капитаном, Марк, и возвращайтесь оба с победой. Лучшего выбора мне не сделать. — Де Рокафуль перекрестил командора и повернулся к Серову. — Есть ли у вас еще просьбы ко мне, маркиз? — Если позволите, магистр. Одного христианина, бывшего раба с шебеки Эль-Хаджи, нужно отправить в Геную или Венецию. Он хочет добраться в родные края, на север, в Россию. — Хорошо. Смотритель порта получит мой приказ. Корабли из Генуи — частые гости на Мальте. Это все? — Да, достопочтенный. Де Рокафуль кивнул и поднял нагрудный крест, благословляя Серова. Откланявшись, гости направились к выходу, но у порога Серов остановился, пропустив вперед де Пернеля, и спросил: — Вы сказали, мессир, что прозвание Сирулла на арабском — Божий гнев. А как переводится женское имя Сайли? — Это не арабское слово, а турецкое. Оно означает «праздник». «Праздник! — думал Серов, шагая по роскошным залам. — Праздник! В самую точку попали! Она — праздник, который был со мной! И будет снова — ныне, присно и во веки веков! Ну, не во веки, а до тех пор, пока не разлучит нас смерть… Но и тогда мы ляжем рядом, пусть не на солнечной Мальте, а в другой земле, холодной и суровой. Будем спать триста лет, а потом… Кто знает? Кому ведомы причуды времени?.. Может быть, возродимся и встретимся вновь…» Де Пернель остановился в Посольском зале. — Вы поразили великого магистра своим военным дарованием. Я не ожидал, что он согласится отдать часть флота в ваши руки. Прежде речь шла о раздельном командовании. — Магистр — мудрый человек, — сказал Серов, отвлекаясь от дум о Шейле. — Вор скорее поймает вора, пират — пирата… А два начальника — верный путь к поражению. Опять же я согласен плыть под мальтийским флагом… Вы понимаете, Робер, что это значит? — Да, мой капитан. Добыча — пополам, но слава достанется нашему ордену. А вам — возлюбленная супруга и другие пленники. Это справедливо. — Справедливо, — согласился Серов. Бродила, правда, у него мысль купить черного шелка и найти в Валетте живописца, чтобы намалевал череп с костями. Если прозвали его Божьим гневом, то «Веселый Роджер» будет в самый раз! Жаль только, что вест-индским корсарам про этот флаг ничего не известно![510] — Вы довольны, мессир? — спросил де Пернель. — Вполне, командор. Двенадцать сотен пехотинцев и отряд рыцарской конницы… Это больше, чем я рассчитывал. Лишь одно меня смущает… — Да? — Мессир Зондадари сказал, что кроме вас нашлись у меня и другие поручители. Любопытно, кто? Лица Деласкеса и Абдаллы мелькнули перед Серовым, но он сдержался и не назвал их имена. В конце концов, они могли и в самом деле явиться во дворец по вызову квартирмейстера. — Господь не оставляет праведных. Его заботами у ордена есть доброжелатели, — пояснил де Пернель. — Не только в Касабланке, Ла-Кале, Триполи и других христианских городах Магриба, но даже при дворах беев и султанов. Многое рассказывают те, кто выкуплен из магометанского плена… Завтра, мессир, вы увидите карты Джербы и восхититесь их подробностью. Стоит ли удивляться, что наши лазутчики узнали о ваших деяниях и донесли эту весть до магистра? Лучше взгляните на то, что окружает нас. — Рыцарь обвел рукой расписанные картинами стены, изящные высокие подсвечники из серебра, мебель с инкрустацией из слоновой кости, кресла для капитула ордена и послов, большие сундуки с дарами. — Как величественно, какая красота! Не обижайтесь, мессир Андре, но вряд ли вы видели такую роскошь в доме вашего батюшки или на вест-индских островах. «Знал бы ты, что я видел, когда и где!» — подумал Серов, пригасив улыбку. Лувр, Прадо, Эрмитаж, соборы и дворцы в Москве и Риме, Мадриде и Праге, Париже и Флоренции, сокровища десятка стран и трех десятков городов! Ему, повидавшему так много, уверенному в том, что за недолгие часы полета можно добраться до любой из европейских столиц, восторг де Пернеля казался наивным и детским. Но он послушно изобразил восхищение, закатил глаза и произнес: — Потрясающе, клянусь якорем и мачтой! Большое счастье для провинциала вроде меня лицезреть орденскую мощь и эти несметные богатства! Лишь об одном скорбит мое сердце: что супруга моя не со мной и не может усладить взор таким великолепием. Они вышли во внутренний дворик, а потом — на площадь, где дожидался Рик Бразилец с лошадьми.
* * *
Вечером Серов, квартировавший на «Вороне», призвал к себе Михаилу Паршина, родича царского стольника Толстого. Когда тот явился и выпил первую кружку, Серов кивнул на постель, где были разложены шпага, два пистолета, дорогой костюм при поясе, шляпе и башмаках и три увесистых кошелька с монетой. Было в них золото и серебро. — Бери, Михайло, владей. Все твое! Паршин оторопел. — Андрей Юрьич! — Он взвесил в ладони мешочек с дукатами. — Это ж такое богатство… Да все имение батюшки моего половины не стоит! На эти деньги я бы батальон вооружил! — В России, может, и вооружил бы, даже на водку хватило бы, но ты поедешь по Европам, где цены куда повыше. До Генуи тебя торговый корабль отвезет, а дальше коня покупай и езжай через Милан на Вену. В Вене осмотришься, решишь, как к своим пробираться. Дальше Вены я тебе не советчик. — Храни тебя Христос, милостивец мой! — Михайло отхлебнул из кружки и запустил пятерню в русый чуб. — Чем отслужу за такую подмогу? — Отслужишь, — строго сказал Серов и вытащил из-за отворота рукава пакет с заготовленным письмом. Было оно писано на французском, на лучшей бумаге, и запечатано тремя печатями, а на пакете значилось русскими буквами: «Государю и Императору Всея Руси, Его Величеству Петру Алексеевичу от покорного слуги Андрея де Серра, морского капитана и французского маркиза — в собственные Его Величества руки». Он протянул письмо Паршину и молвил: — Вот служба твоя, Михайло. Доставишь сей пакет царю или через родича передашь, через большого вельможу. Золото и серебро даю тебе, чтобы дорога легла быстрей, оружие даю, чтобы от лихих людей отбиться. Как по-твоему, сколько путь займет? — К Масленнице не поспею и к Прощеному воскресенью[511] тоже, — деловито сказал Паршин, пряча пакет за пазуху. — А вот к середине Великого поста доберусь! Голову потеряю, а пакет твой доставлю! Токмо… — он замялся, — не разумею я языков фрязинского[512] и германского. Как без них в Европах странствовать? — Это верно, — согласился Серов и вытащил из сундука еще один мешочек с золотом. — Ты, Михайло, товарищей себе подбери, двух или трех молодцов из команды — таких, чтобы тебя понимали. Есть у меня казак, Страхом Божьим кличут, вот с ним и потолкуй. Я ему тоже награду дам. — Потолкую, Андрей Юрьич. — Паршин потянулся к оружию, осмотрел пистолеты, примерился к шпаге и сказал уважительно: — Гишпанская работа! Добрый клинок! Они помолчали. Потом Серов бросил на своего посланца испытующий взгляд и молвил: — Что ж ты не спрашиваешь, Михайло, о чем письмо? — Батюшка меня наставлял: не лезь со свиным рылом в калашный ряд. Если дело у тебя к царю, так мне о том любопытствовать не должно. — Но знать надо. Вдруг письмо не довезешь, так скажешь на словах. Скажешь так: маркиз Андрей де Серра, Юрьев сын, капитан из Вест-Индии, просится на государеву службу и готов бить супостата на земле и на море, а если придется, положить живот за новое свое отечество. Приведет тот капитан в Неву боевой корабль, и не галеру, а фрегат с пушками и командой, и будет с ним сотни полторы, а может, три охотников, умелых мореходов и солдат. Ежели то по душе государю, пусть шлет патент с верными людьми, и шлет его, скажем, в Геную, а капитан Серра там будет в начале лета. Все понял, Михайло? Все запомнил? Паршин во время этой речи сидел точно оцепенелый. Потом хватил рому и пробормотал: — Вон оно как, Андрей Юрьич… Выходит, даст Бог, станем товарищи по оружию? — Если государь захочет. — Чего ж ему не захотеть? Ныне у него свара со шведом, и всяк канонир и матрос ему в помощь, а ты — капитан, да еще лихой, удачливый и почти не пьющий! Он тебя адмиралом поставит, Богом клянусь! Ему удачливые да тревезые во как нужны! — Паршин чиркнул по горлу ребром ладони, потом его глаза вспыхнули — видно, пришла в голову какая-то мысль. — А знаешь что, Андрей Юрьич? — пробормотал он, склонившись над столом к Серову. — Знаешь что? Покладем на эту Геную с Миланами да Венами! Что тебе ждать да деньгу на меня тратить? Поднимем щас паруса и поплывем в Расею-матушку северными водами! Против шведа баталию учиним! Где встретим, там ограбим и пожжем! Пустим их галеры щепками по синю морю! Ой и погуляем, Андрей Юрьич! — Рад бы, да не могу, — сказал Серов, и глаза Паршина погасли. — Ты ведь, наверное, слышал, что нехристи жену мою пленили и два десятка сотоварищей. На Джербе они, на острове тунисском, и я пойду их выручать с мальтийцами. Но не сейчас, а через месяц — надо план составить, войско подготовить, погоды дождаться. Путь туда не далек, но и не близок — двести тридцать миль, а галеры пойдут сильно груженные… Вот и посуди, Михайло, — могу ли я бросить жену и людей своих?.. Могу ли на север идти и драться со шведами?.. — Не можешь, — согласился Паршин, — никак не можешь. Любушка-жена для мужика — первая забота. Конечно, после Бога, царя и отечества. — Он бросил на камзол кошельки, пистолеты, шляпу и прочую одежду, свернул в тугой узел, сунул под мышку клинок и спросил: — Ну, а к лету справишься со своей бедой? Я сам в Геную попрошусь и буду ждать тебя с патентом. — Справлюсь, Михайло. Может, уже весной и справлюсь. — Храни тебя и твоих семейных Царь Небесный, — сказал Паршин, допил ром и вышел вон. Серов подождал с четверть часа и тоже отправился на палубу. Смеркалось, и стены Ла Валетты сияли чистым золотом в свете угасающего дня. Из кабаков и харчевен, тянувшихся вдоль гавани длинным рядом, слышались песни и пьяные выкрики, над трубами плыли дымы, грозили небу купола соборов и крепостные башни, а на другой стороне залива, в форту Сент-Анжело, маршировали под стеной солдаты — видно, сменялся караул. Волнение моря усилилось, «Ворон» покачивался на крутой волне, и вместе с ним плясали вверх-вниз «Дятел», «Дрозд», «Стриж» и большие орденские галеры. Кликнув подвахтенного, Серов велел звать гребную команду и везти его на «Стрижа». Примчался Мортимер с тремя корсарами из новых; они спустились в шлюпку, прыгавшую у борта фрегата, налегли на весла — плыть было недалеко, половину кабельтова. Мортимер был на редкость хмур и молчалив — похоже, спустил уже деньги и чувствовал, что завтра, сменившись с вахты, расстанется с сапогами. Серов поднялся на шканцы «Стрижа», выслушал рапорт вахтенного и приказал ему взять фонарь и идти на бак, где под палубным настилом, рядом с гальюном, в тесной каморке держали Эль-Хаджи. Они спустились вниз. Вахтенный сдвинул засовы, распахнул дверь, посветил — пленник, прикованный за щиколотку, встрепенулся, узнал Серова, ощерился волком. — Аллах в помощь, рейс. Выглядишь ты неплохо — лучше, чем бывшие твои невольники, — сказал Серов и услышал в ответ пару неразборчивых проклятий. Турецкий он уже немного понимал. Кажется, ему обещали жуткие муки в когтях Иблиса. — Заткнуть ему пасть, капитан? — Подняв фонарь левой рукой, вахтенный потянулся за ножом. — Нет. Пусть сидит и скалится. У нас с ним джентльменский договор, и он еще не выполнен. — Серов проверил цепь на ноге турка и остался доволен — цепь была крепкой. — Слушай, рейс: скоро я пойду на Джербу и сделаю из вашей крепости кучу щебня пополам с дерьмом. Если ты не солгал, и я найду там Карамана, получишь лодку и отплывешь к тунисским берегам в целости и сохранности. А если солгал… — Что тогда? — прошипел пленник. — Что ты сделаешь со мной, гяур, сын шайтана? Что, если я солгал? Серов скрипнул зубами: — Если ты мне ботву гнал, я тебя, мон шер, отдам на растерзание невольникам. Отдам, как обещал, ты уж не обессудь. Ждать смерти будешь долго. Он повернулся и зашагал к трапу.
Глава 9 ДЖЕРБА
Южнее Габеса в заливе Сирт лежит центр гончарного производства остров Джерба, заселенный ныне в основном берберами-ибадитами и евреями. Это «земля лотофагов» — древних греков, где по преданию рос чудесный лотос, вкусив который спутники Улисса, героя «Одиссеи» Гомера, забыли родную Итаку, своих прекрасных жен и детей и остались на острове наслаждаться божественной пищей. Издали Джерба кажется длинным низменным мысом, заросшим пальмами. На его берегах возвышаются замки, сооруженные некогда для защиты от мальтийских рыцарей и испанцев. Среди рощ и садов разбросаны отдельные группы домов и хижин. Изредка белеют гробницы или купола мечетей. По дорогам, ведущим к морю между песчаными насыпями, на гребнях которых растут маленькие пурпурные агавы, медленно идут верблюды, навьюченные громадными связками кувшинов.Б. Е. Косолапое. Тунис (Москва, 1958 г.)
Мальтийские скалы медленно таяли на северо-востоке, весенний ветер гудел в снастях, солнышко грело так, как бывает не всяким летним днем в России. Благодать! «Чудные места, — думал Серов, расхаживая по квартердеку. — Мальта, конечно, остров каменистый, и бананы с ананасами тут не вырастишь, зато теплого моря, солнца и разных почтенных древностей сколько угодно. Но все это станет товаром лишь в двадцатом веке, после двух разрушительных войн, когда живущие в сытости счастливцы из Штатов и Европы откроют туристический сезон. Тогда потекут реки долларов и евро на Мальту и в Коста дель Соль, в Марокко, Тунис, Алжир и Египет, в Турцию и Грецию, и родятся из того потока многоэтажные отели, аэродромы, круизные лайнеры, яхтклубы и пляжи с золотым песком. Но это только будет, а сейчас цена красотам природы и древним диковинам — фартинг в базарный день». Его фрегат шел во главе флотилии. Справа и чуть позади плыли «Стриж» и бригантина «Ла Валетта», слева — «Дятел» и «Дрозд», а за ними тянулась дюжина орденских галер, больших низкобортных судов с орудиями на палубах. Галеры глубоко сидели в воде; на каждой — сотня солдат со всем снаряжением, больше десятка лошадей, запасы пороха и провианта. Шли они не Быстро, делали узла четыре, но все-таки за трое суток могли добраться до пиратского гнезда. Если, конечно, погода позволит. Сейчас флотилия огибала южную оконечность Мальты. Остров был довольно велик, тринадцать морских миль в длину и семь в ширину, но плодородием не отличался — тут водилось больше камней и скал, чем лугов и полей, так что продовольствие завозили с Сицилии. К северо-западу лежал еще один клочок земли под названием Гозо, копия Мальты, только раза в три поменьше, а между двумя главными островами была совсем уж крохотная территория, необитаемый остров Комино[513], миля поперек, заросли кустарника и полчища кроликов. Судя по картам, Джерба, куда направлялась флотилия, не уступала размерами Мальте и торчала у самого тунисского берега, словно затыкая горловину довольно обширной бухты. Существовали, конечно, и отличия: остров был плодороднее мальтийских палестин и не такой скалистый, хотя утесов и холмов там тоже хватало. Сейчас на Джербе имелись сады и пастбища, но в прошлом, как утверждали мальтийцы, остров был пустынной землей. На что он годился? Кому был нужен? Разве только рыбакам да морским разбойникам. Эти крепко обосновались на Джербе, еще со времен первого Барбароссы, которому остров пожаловал местный эмир. — Курс — зюйд-вест, — сказал Серов стоявшему у штурвала Олафу Свенсону. Тот плавно крутанул рулевое колесо, паруса на миг заполоскали, потом снова взяли ветер. Мальта медленно тонула за кормой, растворяясь в морской синеве; теперь бушприт корабля смотрел точно на юго-запад, где пряталась за солеными водами магрибская Тортуга. — Сигнал! Грохнула носовая пушка. Галеры флотилии поворачивались, ложились на курс, указанный флагманом; над «Святым Петром», где держал флаг командор Зондадари, вспухло облачко дыма, затем ветер донес звук выстрела. Серов довольно кивнул. За минувший месяц было потрачено много усилий, чтобы мальтийские союзники привыкли отвечать сигналом на сигнал. Всякая команда нуждалась в подтверждении — тем более что войско с ним шло изрядное, две тысячи бойцов и корабли с сотнями орудий. На капитанский мостик поднялся Сэмсон Тегг, доложил, что людям Брюса Кука выданы порох, пистолеты и мушкеты, что они сидят в полной готовности и ждут. То была особая команда для спецзаданий из сорока корсаров; основой стала ватага Брюса, пополненная меткими стрелками. Про их задачу Серов пока не говорил никому. — Ветер устойчив, — заметил Тегг, принюхиваясь. — Если бы не корыта этого Дадара, за двое суток дошли бы. А так ползем, как беременные черепахи. — Не важно, за сколько дойдем, важно, что встретим, — возразил Серов. — Помнишь келью под дворцом магистра — ту, с картами и рисунками? Помнишь, о чем мы говорили? — Такое я не забываю, клянусь троном Сатаны, — буркнул Тегг. В самом деле, будучи человеком подозрительным, забывчивостью он не страдал и замечал любую мелочь. К людям он относился так же, как чрезвычайные «тройки» сталинских времен: всякий был в его глазах виновен и обязан доказать свою благонадежность. Они молча следили за юркими шебеками, за бригантиной, купленной Серовым в феврале, и за большими орденскими галерами. Там спустили в воду весла, по тридцать с каждого борта, и скорость флотилии увеличилась. Пожалуй, теперь суда делали пять или шесть узлов. — Кстати, о разговоре в той келье… Ты что-нибудь придумал, Андре? — наконец поинтересовался Тегг. — Ты говорил… как это называется по-ученому?., о пре… при… — О превентивных мерах, — подсказал Серов. — Придумал, Сэмсон. Вон она, одна из моих придумок. Он показал взглядом на шкафут, где люди Брюса Кука возились с мушкетами и точили тесаки. Вооружились они не до зубов, а по самые брови: у каждого два пистолета и мушкет, пороховые гранаты, сабля, пара метательных ножей, кинжал и топорик. Брюс прохаживался между шлюпками, загромождавшими палубу, следил, как чистят стволы и набивают порохом глиняные кувшины. — Как бы у парней кишка не лопнула или пупок не развязался, — сказал Тегг. — Тащить такую кучу груза… Не надорвутся по жаре? — Жары не будет, ночью пойдут и с минимальным запасом провианта, — пояснил Серов и, усмехнувшись, добавил по-русски: — Ничего, лоси здоровые! — Что ты сказал? — Сказал, пусть пояса подтянут, тогда пупок будет в целости. — И чем займется эта шайка? — Прикроет высадку мальтийцев. В первую очередь конницы. — Вот как! Об этом ты мне ничего не говорил. — Ну, так сейчас говорю. — Где мы их высадим? — У скал на северном побережье. Примерно в двух милях от места, где с галер сойдут мальтийцы. Лоб Тегга пошел морщинами. — Плохой берег! На картинках, что мы разглядывали, камни торчат из самой воды. На шлюпках трудно подойти! — Надо постараться. Чем хуже берег, тем меньше вероятность, что нас там ждут. — Хмм… Ты в этом уверен? В том, что ждут? — Такой расклад не исключается. Мы ведь это обсуждали, Сэмсон. Тегг кивнул. Глядя в его хмурое сосредоточенное лицо, Серов перенесся в мыслях на пять недель назад, когда они, явившись во дворец магистра, спустились в подвал, в тайную камеру с главными сокровищами ордена. Запах сухой древесины, старинных пергаментов и бумаги снова коснулся его ноздрей, вспыхнули свечи в медных шандалах, добавив к смеси запахов аромат воска, и сгорбленный брат-библиотекарь поднял крышку одного из сундуков. Он опять услышал его голос, увидел, как морщинистые руки бережно касаются свитков, раскрывают кожаные футляры с желтоватыми листами, перебирают их, гладят и ласкают…
* * *
— Здесь, дети мои, карта и листы с изображениями Джербы. — Голос брата-библиотекаря шуршал, как сухие листья под ветром. На вид этому монаху[514] было лет восемьдесят, но держался он прямо, а его руки в старческих пигментных пятнах не потеряли былой гибкости. — Карта передает очертания острова и его берега, ибо во внутренних областях наши лазутчики не побывали, а кто побывал, тот не вернулся. Не было на это Божьего соизволения! Но виды с моря удалось зарисовать. Вот город на юге и крепость, что у неверных именуется касбой, вот северные гавани и поселения, вот рисунки скалистых и пологих мест вдоль побережья, бухт и камней, что торчат из воды. А вот еще… Он выкладывал на большой стол все новые и новые листы, а Серов с интересом оглядывал подземную келью. Обшитое дубовыми досками помещение казалось довольно просторным, хотя у стен в три ряда громоздились сундуки. Судя по приятному аромату, их изготовили из кедра и стянули полосами бронзы; к каждому сундуку была прибита дощечка с надписью на латыни, a крышка запиралась на тяжелый замок. Ключи висели у пояса монаха, но, видимо, не все — сундуков насчитывалось с полсотни, а ключей — десятка два. Воздух в келье был сухим, плесени нигде не замечалось, и по верху стен темнели продухи — похоже, этот подвал специально оборудовали для хранения старинных документов. Тегг и ван Мандер, пришедшие с Серовым, уже склонились над картой и рисунками, а он все смотрел на запертые сундуки. Вероятно, в них таилась письменная история ордена за шесть столетий, секретные донесения шпионов, дарственные грамоты и послания пап, а также всех европейских государей, начиная с эпохи Крестовых походов, постановления капитула, записи о каждом рыцаре, погибшем в бою или умершем в своей постели, и многое, многое другое. Для историков — бесценный архив! Где он теперь? Сохранился ли в скитаниях между Мальтой, Россией и Италией? Или захвачен Наполеоном и вывезен во Францию?.. Серов вздохнул. Ответы на эти вопросы были ему неизвестны. — Оставляю вас тут, дети мои, — сказал брат-библиотекарь. — Запасные свечи, бумага, перья и чернила, буде понадобятся вам, здесь, в этом шкафу, а вот шнур с колокольчиком. Дерните, и я вас выпущу. Старик удалился. Загрохотали засовы на тяжелой двери, пламя свечей колыхнулось и снова застыло. Тегг сунул нос в шкафчик, стоявший в углу, пробормотал недовольно: — Вот оно, монашеское жлобство! Все есть, кроме вина! Чем глотку промочить? Чернилами? Он вернулся к столу, и теперь они втроем склонились над картой. По периметру остров был окружен римскими цифрами от единицы до ста сорока, и эти цифры повторялись на листах бумаги, так что не составляло труда отыскать рисунки многих мест на побережье. Изображались они разными людьми, но все, по мнению Серова, были неплохими рисовальщиками. На гравюрах он видел скалы и галечные пляжи, утесы, торчащие из воды и омываемые волнами, малые и большие бухты, одни пустые, другие заполненные пиратскими судами. Крепость, выходившая к морю, изображалась со всеми подробностями: башни, стены, врата и десятки бойниц, а в самых больших — круглые пушечные жерла. Для сравнения рядом с воротами были пририсованы часовые с кривыми саблями, в арабских бурнусах, и Серов прикинул, что высота стен — метров шесть-восемь, а башен — около двенадцати. Тегг вытащил кинжал. — К морю выходят три городишки, — произнес он, осторожно касаясь карты острием. — Один на юге, с крепостью — как ее?.. касба?.. — самый крупный, обращенный к бухте и берегу Туниса. Два других, на сервере, деревня деревней, ни стен, ни бастионов нет, и гавани тут небольшие. Ставлю дукат против дохлой крысы, что сарацины зимуют в большой бухте, у касбы, а к лету переводят свои лоханки в северные гавани. Из них можно сразу выйти в море. — Так оно и есть, — подтвердил Серов. — Командор Зондадари говорил мне об этом. В крепости — постоянный гарнизон, пять или шесть сотен, а считая с экипажами шебек — тысячи три бойцов. Но с началом весны кто-то отправится на промысел или переведет свои суда в северные бухты. Этих раздавят наша конница и пехота. Других мы перебьем на юге, в окрестностях касбы. Если сделаем это быстро, в крепости останется не больше тысячи защитников. — Как быстро? — спросил бомбардир. — От заката до рассвета. К ночи высадим пехоту и всадников, а утром они должны нагрянуть к крепости. Между городами семь-восемь миль, не расстояние для конницы. Часть мальтийских солдат пусть прочесываетостров, остальные с всадниками обложат касбу с суши. Мы подойдем с моря и начнем обстрел. Проговорив это, Серов уставился на карту. Какая-то мысль билась в его голове, пытаясь облечься в слова; он смотрел на пергамент с чертежом острова, на десятки листов с рисунками, и думал, сколько лет собирались эти сведения, сколько золота и скольких жизней они стоили. Несомненно, разведка у ордена была хороша, и магистры не жалели денег для своих осведомителей. — Солдат можно высадить здесь. — Тегг показал кинжалом на северное побережье, затем придвинул к карте рисунок. — Видишь, галька тут, а не скалы, для лошадей удобно. До каждой из деревень около четырех миль, и если подойти к берегу в сумерках, никто галеры не заметит. — Подойти в сумерках! — фыркнул ван Мандер. — Чтобы напороться на мель или камни? Хотя… вот эта мелкая цифирь… красным помечено и похоже на промеры глубин… Так и есть, чтоб меня черти взяли! Основательные парни в этом ордене! Серов присмотрелся. В самом деле, кое-где у берегов стояли цифры, обведенные овалом, а в бухте перед крепостью таких пометок было не менее десятка. Странным образом это подстегнуло мысль, кружившуюся в его сознании; он подумал, что на всякое КГБ есть свое ЦРУ, и что это верно не только для двадцатого столетия. Затем положил на карту ладонь, накрыв ею Джербу. — Что тебя удивляет, шкипер? Конечно, должны быть промеры глубин! Я полагаю, орден давно мечтает разделаться с пиратами — может быть, еще со времен магистра Ла Валетта… Они собирали сведения и намечали пункты, где их корабли могут приблизиться к берегу и высадить конницу и пехоту — видите, промеры есть везде, где берег пологий и более доступный. Мы тоже выбрали бы такие места… мы, и любой болван, желающий сойти на сушу, не замочив сапог. Тегг уставился на Серова немигающим взглядом: — Что ты имеешь в виду? — Не будем забывать, что лазутчики есть не только у ордена, — пояснил Серов, снова касаясь карты. — Вот чертеж вражеской земли, вот рисунки берегов и укреплений, вот отметки мест для нанесения удара… Это план атаки на Джербу, придуманный орденом. Но, возможно, существует и другой — план атаки на Мальту, придуманный магометанами. Ван Мандер пожал плечами: — И что с того? Наше дело — освободить своих и взять добычу. Потом пусть дьявол сожрет эту Мальту с потрохами! — Андре не о Мальте беспокоится. — Тегг, более проницательный, чем шкипер, насупил брови. — Разрази меня гром! Я понимаю, о чем ты, капитан: хочешь сказать, что на Мальте есть соглядатаи? Ублюдки, в чьих карманцах сарацинское золото бренчит? Мы готовимся к походу, а они считают наши лоханки, наши пушки и наших людей, так? И дня за три-четыре пошлют гонца к магометанам — ждите, мол, гостей? — Это не исключено, — подтвердил Серов. — Наш план строится на внезапности атаки, и это преимущество терять нельзя. Нужны превентивные меры. — Чего? — разом молвили Тегг и ван Мандер, раскрыв рты. — Нужно учесть, что нас, возможно, поджидают, и внести в план кое-какие изменения. Положим, в нашей команде есть предатели… — Есть, и я их знаю! — Тегг грохнул по столу кулаком. — Деласкес, бородатая морда! И этот черномазый Абдалла! Вызову-ка я их на «Ворон» и пропущу под килем! Конечно, если ты не возражаешь, капитан. — Возражаю. Вина их не доказана, и дрались они вместе с нашими парнями храбро и честно. Хотя, согласен, водятся за ними странности. — Лучше повесить двоих, чем потерять потом целую ватагу, — упрямо сказал бомбардир. — Покойный Брукс так бы и сделал. Серов нахмурился: — Я — не Брукс! И я клянусь Спасителем, что лишних потерь не будет! — Он резко дернул головой и повернулся к шкиперу: — Ван Мандер, возьми бумагу, перья и чернила, перерисуй карту со всеми отметками и подумай, как нам маневрировать в бухте у крепости. На какую дистанцию мы сможем подойти к стене и башням? Куда достанут наши пушки? Куда послать галеры? После выгрузки солдат у них осадка на четыре фута меньше нашей, но орудия в восемь и двенадцать фунтов, стену им не пробить… — Пусть стреляют картечью, — примирительно молвил Тегг. Потом спросил: — Так что нам делать, Андре? Мы не можем возиться с Джербой ни месяц, ни неделю… Быстро налететь и раздолбать — вот наши козыри! Иначе придет сарацинским псам подмога от тунисских козлов, от беев и султанов, и отправит нас в преисподнюю! Если, конечно, ты что-нибудь не придумаешь. Ван Мандер согласно кивнул, и Серов, покосившись на их хмурые рожи, перевел взгляд на карту и сказал: — Я придумаю, камерады, непременно придумаю. Шейла в этом гадючнике, Стур, Тиррел, Хенк и другие наши парни… Как я могу не придумать? — Он посмотрел на свою ладонь, стиснул пальцы в кулак и добавил: — У Шейлы моей срок уже пять месяцев…
* * *
Спецкоманда Брюса Кука являлась одной из превентивных мер. Будь Серов магрибским предводителем, знающим о набеге, он устроил бы ловушки повсюду, где можно высадить на берег пешие сотни и конницу. Мест таких на каменистом острове немного, и если послать в каждое триста-четыреста стрелков и легкие пушки, они разнесут десант или уж во всяком случае, перебьют лошадей. А всадники, как хорошо понимал Серов, давали огромное преимущество нападающим — и не только потому, что рыцари в кирасах и шлемах, с мечами, копьями и пистолетами были мощной ударной силой. Главное их достоинство заключалось в мобильности; на острове шириною в десять-двенадцать миль они могли добраться до любого пункта за считанные минуты. Но прежде надо было перевести на сушу боевых коней, что в этом примитивном веке, невзирая на сноровку воинов ордена, являлось делом непростым. Правда, Серов внес кое-какие усовершенствования, но в любом случае высадка требовала пары часов и хотя бы относительной безопасности. Флотилия приблизилась к Джербе в предвечерние часы, когда солнечный свет уже начал тускнеть, но еще не угас. У штурвала стояли Абдалла и Стиг Свенсон, а на капитанском мостике собрался весь командный состав: Серов, Тегг, хирург Хансен и ван Мандер, управлявший кораблем в этих незнакомых водах. За кормою «Ворона» шли на буксире четыре шлюпки с вооруженными бойцами, и фрегат, не убирая парусов и не сбавляя хода, подтащил их к берегу на двести ярдов. Затем канаты были обрезаны, корсары взялись на весла, и легкие скорлупки полетели к гряде камней, торчавших из воды, и маячившим за ними утесам. Несмотря на слабое волнение, у подводных скал волны бурлили и кружили в яростном танце; один неверный взмах весла, и лодку ударит о каменный лоб, расшибет вместе с людьми и затянет на дно. Глядя на шлюпки, нырявшие в волнах, Серов невольно поежился; секунды и ловкость гребцов решали успех его плана. «Помолиться, что ли?..» -мелькнула мысль, но Тегг, ухмыльнувшись, подтолкнул его локтем и буркнул: — Я говорил, хреновое место, чтоб перебраться на сушу. Однако кому суждено быть повешенным, тот не утонет. — Мудро сказано, и к месту, — подтвердил лекарь Хансен. Весла таранили воду, рулевые правили с мастерством, отточенным в сотнях набегов, абордажей и высадок на дикие неприветливые берега. Серов наконец перевел дух — шлюпки проскочили между каменными клыками и двинулись к берегу, позволив мощным волнам швырнуть их друг за другом на узкий галечный пляж. Первым на сушу выбрался Брюс Кук, помахал рукой — мол, все в порядке — и тут же разослал своих людей искать проходы в скалах. Рассматривая берег в подзорную трубу, Серов увидел, как десантники вытянулись цепочкой, направились к скалистой стене и быстро исчезли в неразличимом за дальностью ущелье. Если карта была точна, им предстояло шагать пару миль, одолевая это расстояние минут за тридцать-сорок. — Идем в двух кабельтовых вдоль суши, — сказал Серов ван Мандеру. — Скорость — четыре узла, не больше. Куку нужно время, чтобы выйти на позицию. Прикажи, пусть просигналят Зондадари, что операция прошла успешно. Флаг на мачте «Ворона» пополз вниз, затем снова приподнялся. «Святой Петр» ответил — мальтийское знамя над галерой дважды дернулось. Фрегат, сбросив часть парусов, неторопливо плыл на запад, бригантина, шебеки и галеры тянулись следом. Шли к месту высадки основного десанта, лежавшему почти на равном удалении от двух деревень или городков на северном побережье. Света еще хватало и можно было различить, как скалы отступают вглубь острова, превращаясь в невысокие холмы, освобождая бесплодную сухую землю, на которую ряд за рядом катились зеленоватые валы. Вскоре корабль обогнул мыс, за которым открылась неглубокая бухта. Берег здесь был сравнительно ровным и довольно широким — холмы поднимались ярдах в семидесяти от воды. Солнце, висевшее на западе, освещало их голые, заваленные камнями вершины, и, как ни вглядывался Серов, он не смог заметить ни малейшего движения. — Подойдем на кабельтов? — спросил ван Мандер. — Если промеры мальтийцев верны, глубина здесь восемнадцать футов. Серов кивнул, и фрегат, а следом за ним бригантина направились к берегу. Шебеки, сбросив паруса и двигаясь на веслах, обгоняли «Ворон», их осадка позволяла приблизиться к суше почти вплотную. Тяжело груженные галеры ползли за ними, и на их палубах толпились солдаты, готовились спускать плоты. — Паруса долой! Якорь в воду! — выкрикнул команду шкипер. Бригантина застыла рядом с «Вороном», но «Стриж», «Дрозд» и «Дятел» продолжали идти на веслах, пока до усыпанного галькой пляжа не осталось футов тридцать. На орденских галерах сушили весла и бросали якоря. Затем послышался громкий плеск и удары дерева о дерево — на воду сбросили плоты, а на них спустили широкие сходни. — Вот тут мне нравится, — заявил Тегг, осматривая береговую полосу. — Отличное место для высадки! — И для засады, — добавил Серов. Надвигались сумерки, от северных склонов холмов легли длинные тени, но каменный частокол на их вершинах был еще ясно различим. Ему показалось, что там что-то поблескивает — то ли прожилка кварца, то ли мушкетный ствол. Он вытащил шпагу, начертил ею в воздухе крест и махнул в сторону берега, подавая сигнал для высадки. Первым в воду прыгнул де Пернель, затем с шебек стали спускаться корсары, держа мушкеты и пороховницы над головой. В начале марта вода не баловала теплом, но не раздалось ни крика, ни проклятия; слышался лишь плеск волн да скрип сапог о камни. Негромко заржали лошади — их, уже оседланных, с шорами на глазах, заводили на плоты. — Вы не торопитесь, сэр? — спросил Дольф Хансен, разглядывая передовой отряд, уже выбиравшийся на берег. — Если, как вы предполагали, тут засада, сарацины могут перещелкать наших парней. — Не думаю. Сейчас отплывут плоты с лошадьми, и вот тогда начнется! Но они не успеют. — Серов, прищурившись, поглядел на солнце. — Брюс уже у них в тылу. Он словно видел это, видел безмолвных людей, что растянулись в цепь и шагают к берегу, высматривая врага, видел готовые к стрельбе мушкеты, грозные лица корсаров, тусклый блеск палашей и секир, пороховые гранаты с тлеющими фитилями. Никто из засевших в холмах не уйдет — может, лишь крикнуть успеет, ужаленный сталью или свинцом… Это предчувствие было таким ярким и сильным, что кровь ударила Серову в виски; он стиснул кулак, грохнул им о планшир и зашипел от боли. Его движение будто породило лавину звуков: за холмами грянул мушкетный залп, послышались вопли — «Алла! Алла!» — и сразу раздались взрывы, сухой треск пистолетов и лязг клинков. — Отряд Брюса атакует, — сказал Серов, чувствуя, как разливается в груди спокойствие. — Они уже бросили гранаты… Сэмсон, если будет нужда, ты достанешь до тех холмов картечью? Тегг с подозрением покосился на Абдаллу, замершего у штурвала, и пробурчал: — Далековато для картечи… Но, с Божьей помощью, достану. — Тогда иди к пушкам и жди команды. Тегг исчез. Открывать орудийный огонь Серов не спешил — грохот залпа раскатился бы на несколько миль, оповестив врага о начале вторжения. Мушкетные выстрелы и взрывы пороховых гранат звучали не так громко и скрадывались рельефом местности. Де Пернель построил свой отряд в шеренгу и скорым шагом двинулся к холмам. Судя по воплям и звону сабель, за ними шла ожесточенная схватка — сорок молодцов Брюса Кука сражались с неведомой численности противником. Серов полагал, что в засаде могли находиться двести или триста человек и что половину уложили гранатами, а также из пистолетов и мушкетов. Значит, на каждого десантника пришлось двое-трое сарацин; вполне приемлемое число для отборной корсарской команды. От галер отплыли плоты — на каждом по четыре коня, рыцари в кирасах и моряки, гнавшие плоты к берегу. Это были мощные сооружения, изготовленные по указанию Серова: большие винные бочки, связанные канатами, с прочным деревянным настилом. Лошади, чувствуя надежную опору, стояли спокойно, только дергали ушами, когда за холмистой грядой слышался выстрел или особо пронзительный крик. На вершинах замелькали среди камней фигуры дерущихся, потом волна магометан, преследуемых десантниками, покатилась вниз, прямо на шеренгу бойцов де Пернеля. Тот вскинул шпагу, и его отряд остановился; полторы сотни мушкетных стволов глядели на бегущих, и темные их зрачки сулили смерть. — Молодец Брюс, выбил их с позиции, — пробормотал Серов. — Вот что, лекарь, отправляйся-ка на берег. Будут раненые, и ты понадобишься там. Хансен поклонился и сбежал на шканцы. Шеренга, которой командовал де Пернель, разразилась беглым огнем. Корсары били из мушкетов и пистолетов, в спины отступающим стреляли люди Кука, и магрибцы, зажатые между двумя отрядами, падали, как колосья под серпом. Их было около сотни, но ни один не добрался до берега и не скрестил саблю с бойцами, стоявшими на пляже. Их шеренга сломалась, корсары ринулись на поверженных врагов, добивая их ударами приклада, тесака или секиры. Десантники не спешили покинуть холмы и, убедившись, что драться не с кем, стали исчезать за каменистыми вершинами. Зачем, для Серова не было тайной — там лежали сотни трупов мусульман, убитых при неожиданной атаке. Начиналось самое святое — грабеж. Солнечный диск наполовину погрузился в море, когда плоты один за другим ткнулись в берег. Лошади занервничали, ощутив запах крови, их начали выводить на усыпанный галькой пляж, и топот сотен копыт заглушил людскую перекличку. От галер плыли шлюпки, набитые пехотинцами, и Серов, заметив в первой лодке командора Зондадари, спустился с высокого квартердека на палубу. Марк Антоний, стоявший у средней банки, махал ему шляпой — видно, хотел перемолвиться словом. Из люка вылез Сэмсон Тегг, поглядел на берег, где корсары раздевали мертвецов, и ухмыльнулся: — Не пригодились мои пушки… А жаль! — Еще постреляешь, — пообещал Серов. — Ночь пройдет, и будешь палить из всех орудий. Лодка Марка Антония стукнулась о борт фрегата. Командор приподнял шляпу; его смуглое лицо сияло, глаза горели воодушевлением. — Поздравляю, мессир капитан! Вы были правы, нас поджидала засада. Но вы — настоящий стратег! Дар предвидения — вот что делает воина истинным полководцем! Auspicia sunt fausta![515] — Я плохо знаю латынь и потому не могу насладиться вашим последним комплиментом, — сказал Серов. — Это изречение свидетельствует, что начало положено доброе. Хвала Господу! И да будет с вами Его благословение! — Он перекрестил Серова и оттолкнулся от борта. — Благословение! — пробурчал вслед ему Тегг. — На кой дьявол! Лучше бы к нашей доле прибавил… скажем, не поровну делиться, а шесть к четырем… Как-никак, у нас большие пушки, а на их лоханках — просто пукалки! Пехота ордена, вслед за всадниками, ступила на берег. Шлюпки поплыли к галерам за пополнением, капитаны сотен начали строить своих бойцов, и повсюду, на кораблях и на суше, разгоняя сумерки, зажглись факелы и фонари. Солдаты продолжали высаживаться при их зыбком свете. Хоть их называли мальтийцами, но смуглых, похожих на арабов уроженцев Мальты насчитывалось среди них немного — больше наемников из Генуи и Милана, Франции, Испании и Швейцарии, из Британии и германских земель. Они были дисциплинированными бойцами — проверяли оружие и походную кладь, быстро разбирались по сотням, и вскоре темная масса, шевелившаяся на суше, разбилась на три колонны, возглавляемые всадниками. Серов видел, как в свете факелов и восходящей луны поблескивает металл кирас и шлемов и вьются по ветру флажки на пиках капитанов. Наконец высадка закончилась. Два небольших отряда зашагали на запад и восток, к поселениям на северном берегу, третий, более многочисленный — его задачей была атака крепости — стал подниматься на холм. Дождавшись, когда смолкнут цокот копыт и скрип гальки под сапогами, он окликнул Хрипатого, велел отправляться на сушу и прекратить грабеж. До рассвета оставалось около пяти часов — только-только обогнуть остров и обрушиться на укрепления магометан. «Будет ли атака внезапной?..» — мелькнула мысль. Здесь их ждали — возможно, у крепости тоже ждут?.. С мрачным удовлетворением Серов подумал, что его предчувствия оправдались — лазутчики у магрибцев были не хуже, чем у ордена. И возможно, кто-то из них сейчас находится на «Вороне»… Он бросил взгляд на Абдаллу, замершего у штурвала. Этот мавр и Деласкес, его приятель? Возможно, но маловероятно; эти парни скорей шпионы ордена. Хотя не исключалось, что они работают на обе стороны. Корсары, навьюченные добычей, уже грузились в шлюпки. Появился Хансен, опустил на палубу свой медицинский саквояж и деловито потер руки. Выглядел он не слишком утомленным — должно быть, раненых оказалось немного. — Дольф! — позвал Серов. — Наши потери? — Убитых нет, сэр. В отряде Кука семь раненых, большей частью сабельные порезы… Ничего серьезного. — Дьявол к нам милостив, — пробормотал Тегг за спиной Серова. — Потери противника? Хирург пожал плечами: — Трудно сказать, капитан. Сотни три уложили или четыре… Брюс божится, что никто не ушел. Ни единая сарацинская душа! Серов кивнул. На палубе было уже тесно — люди Кука с лихими выкриками поднимались на борт, сваливали на шкафуте груды ятаганов и огнестрельного оружия, волокли пестрое тряпье, обувь и ремни. Похоже, они раздели трупы турок и магрибцев догола. Три шебеки, «Стриж», «Дрозд» и «Дятел», отвалили от берега. Ван Мандер крикнул, чтобы выбирали якорь. Затопотали босые ноги, хлопнули паруса, и «Ворон» направился в море. «Завтра, — думал Серов, — завтра я увижу Шейлу… Возможно, увижу — если Эль-Хаджи не соврал… По словам рейса, караманова усадьба, где держали пленных, находилась сразу за городскими воротами, обращенными к суше — белые стены, белый, с синим цветочным орнаментом дом, несколько пальм во дворе и загон для рабов. Туда пойдет Кук… Главное, отрезать поместье от укреплений, не дать увести невольников… Может быть, это сделают всадники Зондадари…» Фрегат бесшумно скользил вдоль берега, и следом кралась флотилия галер. Взгляд Серова обратился к открытому морю. Там, за волнами, лежали Мальта, Сицилия, Италия, а за нею, за вершинами Альп, которые лет через сто будет штурмовать Суворов, другие страны, Австрия, германские земли, Венгрия, Чехия, Польша… «Наверное, Паршин их уже миновал, — подумалось Серову, — все же больше месяца прошло, как Михайло отправился в Геную… Наверное, он сейчас на Украине и пробирается со Страхом Божьим в Москву и Петербург…» Эта успокоительная мысль смирила сжигавшее его нетерпение. Приказав, чтобы разбудили перед рассветом, Серов ушел к себе и крепко проспал четыре часа.
Глава 10 ШТУРМ
Грабежи и хищничества были так выгодны и сообразны с дикими нравами этих людей, что они не могли не предаваться им страстно. Впрочем, они знали, что, не скрепив своих взаимных отношений условиями, не могут надеяться на верную добычу и на разгульную жизнь. Следствием этого было уложение, которое, при вступлении в общество, каждый член клятвенно обязывался исполнять, подписываясь за незнанием грамоты крестом. Уложение это составляло небольшое собрание законов, которое с незначительными отступлениями было принято всеми отдельными отрядами флибустьеров, и даже в начале XV столетия, после совершенного прекращения общества их, сохранялось отдельными морскими разбойниками, после войны за испанское наследство грабившими на морях в отдаленных частях света.Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
Все было серым — серые стены и башни крепости, серые хижины, сгрудившиеся на берегу, серые пальмы и платаны, серые рыбачьи лодки и пиратские шебеки, качавшиеся на мелкой волне. Солнце еще не взошло, восточный небосклон лишь начал розоветь, и предутренний сумрак поглощал цвета и краски, будто перед глазами плавало в воздухе закопченное стекло. Но все же что-то удавалось разглядеть, и Серов, обозревая береговые укрепления, мысленно соотносил их с картой и рисунками лазутчиков. Стены касбы казались ему не очень высокими, а жерла орудий, глядевших в море, небольшими — видимо, то были двенадцатифунтовые пушки. Стена, изогнутая серпом, выходила к причалам и тянулась ярдов на двести; у обоих ее концов были насыпаны невысокие равелины с батареями, охранявшими вход в гавань. Над стеной торчали башенки минаретов, но ничего похожего на дворцовые кровли не замечалось — видно, пиратские главари не шиковали и белокаменных палат не строили. Для них Джерба была деловым центром и военной базой, а что до отдыха с гуриями, шербетом и танцем живота, то для этого больше подходили тенистые сады Алжира и Туниса. Команда Брюса Кука уже сидела в шлюпках, бригантина, три шебеки и орденские галеры разворачивались по обе стороны от «Ворона». Они могли подойти ближе к берегу — во всяком случае, так же близко, как пиратские суда, стоявшие в сотне ярдов от крепостной стены; согласно промерам орденских лазутчиков, глубина там была двенадцать футов. Серов, отвлекшись от эволюции своей флотилии, разглядывал в трубу ворота, выходившие к гавани. Они были собраны из мощных брусьев и окованы железом, но без сомнения пушки фрегата разнесут их в щепки — да и сама стена, сложенная из обожженных на солнце кирпичей, не являлась серьезным препятствием. Что бы ни говорил Эль-Хаджи о неприступности этих укреплений, касбу можно было взять. При правильной осаде — дня за три, решил Серов. Другое дело, что трех дней у него не имелось; за спиной — тунисский берег, и помощь оттуда подойдет через считанные часы. Возможно, через сутки, если тунисский бей не распоследний лох. — Все спокойно, клянусь преисподней, — заметил стоявший рядом Тегг. — Похоже, не ждут нас магометанские псы. Нет, не ждут! — Если их предупредили о набеге — а это несомненно, — то они понимают, что высаживать конницу под дулами пушек мы не рискнем, — сказал Серов. — Для высадки есть подходящие пункты на побережье, и там, я полагаю, всюду засады, как на северном берегу. Раз нет оттуда сообщений, значит, нет и врага. — Он подумал и добавил: — Хорошо, что мы обошлись без пушечной стрельбы. Звук канонады разлетелся бы по всему острову. — Хорошо, — согласился Тегг, посматривая на Деласкеса, сменившего у штурвала Абдаллу. — Но хотел бы я знать, какой гад ползучий нас продал! Не пропустить ли под килем этого бородача с его приятелем? Прополоскать раза три, и они в чем угодно признаются! — В том-то и дело, что в чем угодно, — усмехнулся Серов, вспоминая, как его самого протащили под килем. Тогда он признался, что его зовут Андре Серра, что он внебрачный сын маркиза и служит помощником квартирмейстера на фрегате «Викторьез». Если бы таскали дольше, узнали бы много любопытного — например, что он летел по небу в железной птице и свалился в прошлое на триста лет. Вдалеке, за городом и крепостью, поднялся в небо столб сизого дыма. — Сигнал! — промолвил Тегг. — Наш Дадар обложил сарацинов с суши! — Ну, тогда и начнем, благословясь. — Серов перекрестил суда на левом фланге, потом на правом и забормотал молитву: — Царь Небесный, пощади моих прохиндеев и висельников, пошли им удачу, а кому суждено — легкую смерть. На Тебя, Господи, уповаем, и суду Твоему покорны, а потому… — …Вели, чтоб Сатана смазал сковородки салом, — ухмыляясь, закончил Тегг. — Сегодня в аду будет изрядное пополнение! — Все в руках Божьих, — произнес Серов. — Ты, Сэмсон, бей сначала по воротам, а после — картечью по верху стены. Ворота крепкие, но думаю, бортового залпа не выдержат. — Я разобью их в клочья, — пообещал бомбардир и ринулся к люку. Серов махнул рукой ван Мандеру: — Поднять сигнальный вымпел! — Поднять вымпел! — Голос шкипера раскатился над фрегатом. — Паруса на гроте и бизани долой! Поворот бортом к берегу! На мачте затрепетал узкий красный флажок. С берега донесся гул, нараставший с каждой секундой — похоже, там заметили флотилию и подступавшие с суши отряды. На стенах и равелинах замелькали смутные тени, несколько фигур появилось на палубах шебек, которых в гавани было дюжины три. Раздался тоскливый вопль муэдзина — но он, похоже, не славил Аллаха, а призывал правоверных к оружию. Но было поздно — шлюпки с корсарских судов уже плыли к берегу, орденские галеры шли к защищавшим бухту фортам, «Дрозд», «Дятел», «Стриж» и бригантина — к стоявшим у берега кораблям пиратов. Первые солнечные лучи блеснули на востоке, и Серов, глядя в трубу то на ворота, то на лодки с командой Кука, приказал: — Правым бортом — огонь! Готовься к повороту! Десять тяжелых ядер врезались в деревянные створки, и врата с треском рухнули. «Ворон» шел под кливером и фоком к одному из фортов, разворачиваясь в просторной бухте, шлюпки с десантными отрядами спешили к берегу. Галеры ордена окутались клубами дыма — били по батареям на равелинах, где суетились ошеломленные турки; грохот выстрелов заглушал поднявшийся там крик. С шебек Серова тявкали малые пушки, ломая рангоут врага, и летели пороховые гранаты; на нескольких пиратских кораблях уже взметнулись алые огненные языки. Облако темной гари потянулась к кирпичной стене и жалким домишкам у ее подножья. Там метались люди — возможно, не пираты, а местные рыбаки и ремесленники. Стиснув зубы, Серов наблюдал, как толпа оборванных женщин, детей и мужчин ринулась к воротам. Он не мог им помочь, только пробормотал сквозь зубы: — Когда дерутся слоны, достается траве… — И тут же выкрикнул: — Левым бортом… картечью… огонь! Магрибцев, что появились на стене, будто смело железным ливнем. Но из амбразур в башнях полыхнуло пламя, и орудия на равелинах тоже начали стрелять — похоже, противник опомнился. Над водой засвистели ядра, и Серов вознес благодарность небесам, что у врагов нет крепостных орудий, огромных пушек и мортир, бросавших двухпудовые ядра. Таких чудовищ на гигантских станинах он как-то видел в Петербурге, во дворе Артиллерийского музея; они были больше орудий в Скалистом форту, что охранял Бас-Тер, — ствол руками не охватишь! Пара снарядов могли покончить с любой галерой, да и «Ворону» хватило бы четырех… Шлюпки достигли берега. Ватага Брюса Кука высадилась в отдалении от крепости и быстро исчезла за кустарником и стволами пальм; остальные, разбившись на группы и паля из мушкетов, бросились к фортам и стене. Самый крупный отряд ворвался в ворота, расшвыривая горожан; этих бойцов вел де Пернель, неистовый рыцарь. «Ворон», развернувшись правым бортом, послал на стену и в башни новую порцию картечи, носовые и кормовые орудия непрерывно стреляли по батареям равелинов, поддерживая залпы галер. Грохот канонады не позволял услышать звуков сражения, что шло на севере, за касбой, но Серов не сомневался, что конница ордена уже в городских предместьях. Два дымных столба поднимались в небо, и это значило, что Марк Антоний блокировал крепость с суши и бьется у самых стен. На «Дятле», подошедшем слишком близко к горевшим шебекам, вспыхнуло пламя, одна из орденских галер, сильно кренясь на бок, вышла из боя. Орудия в фортах и крепости уступали мощью пушкам «Ворона», но было их вдвое больше, чем на всей флотилии; из башен касбы стреляли прямой наводкой, форты вели перекрестный обстрел и, похоже, кроме ядер тоже принялись палить картечью. Это было опасно; среди палубной команды, управлявшей парусами, раздались проклятия и крики. — Тегг, отставить картечь! — рявкнул Серов. — Бей ядрами по форту! Ван Мандер, правь туда! — Он вытянул руку с трубой, указывая на левый равелин. — Подойди на сотню ярдов и разворачивай судно бортом! С него сорвало шляпу, и по макушке будто прошлись раскаленным рашпилем. Он закашлялся — кислый запах пороха висел в воздухе, в глотке и носу першило от дыма. Первые струйки крови потекли по лбу, преодолели барьер бровей и стали заливать глаза. Серов выругался, вытер лицо платком и прижал его к царапине. На стенах касбы кипела яростная схватка — люди де Пернеля забрались наверх и теперь резались с защитниками и сбрасывали товарищам канаты. Корсары, привычные к снастям, лезли по стене с кошачьей ловкостью, палили в бойницы, бросали в пушечные жерла мешочки с порохом. Поверхность стены внезапно вспучилась, на ней распустился алый цветок, полетели обломки кирпичей и из рваной дыры вывалилась пушка. Потом рвануло сразу в двух местах, и вместе с орудиями вниз посыпались изувеченные трупы. Серов подобрал свою шляпу и напялил ее на голову. Кровь продолжала струиться, но большей частью текла на затылок и уши. Ядра размером с кулак упрямо били в корпус «Ворона», пела смертельные песни картечь, но равелин приближался с должной быстротой. То была насыпь с невысокими земляными валами, частью развороченными обстрелом с галер; небольшие пушки торчали здесь как зубья гребенки, и около них копошились сотни две турок и магрибцев. Фрегат повернулся бортом, Серов скомандовал «Огонь!», и под ударом тяжелых ядер земля, смешанная с плотью и кровью, брызнула фонтанами. Корсары, что залегли у равелина, волчьей стаей бросились наверх; даже после убийственного залпа «Ворона» их было втрое меньше, чем неприятелей, но выручала сноровка: стреляли из пистолетов и мушкетов, бросали гранаты, а тех, кто избежал пуль и пороха, добивали прикладами и тесаками. За спиной Серова оглушительно грохнуло. Он обернулся, успев заметить, как ван Мандер, раскрыв рот, тычет рукою в крепость: одна из ее угловых башен раскололась от подножия до вершины, и из огромной трещины било ярко-оранжевое пламя. Не прошло и пары секунд, как половина башни, обращенная к гавани и морю, рухнула, погребая под собой ветхие лачуги, причалы и рыбачьи лодки, другая медленно оседала, разбрасывая по сторонам кирпичи, тлеющие балки, пушечные станины и стволы. К двум дымным столбам со стороны суши присоединился третий — это означало, что солдаты ордена тоже ворвались в крепость. Вероятно, одна из корсарских команд открыла им дорогу, подорвав ворота или часть стены. — Город наш! — торжествующе воскликнул ван Мандер и хлопнул ладонью по эфесу палаша. — Похоже на то, — согласился Серов, протер глаза и, прищурившись, посмотрел на солнце. Первый залп прозвучал в шестом часу, а сейчас было не больше девяти; на грабеж пиратского гнезда и поиски Шейлы оставался целый день. Перегнувшись через планшир, он крикнул: — Тегг! Поднимайся на мостик! Бомбардир был черен, как дьявол. От него разило потом и порохом, камзол куда-то исчез, кожаная безрукавка, расстегнутая до пупа и покрытая нагаром, топорщилась словно жестяная. Выпучив глаза, он уставился на Серова: — Чтоб мне в пекле гореть! Ты ранен, Андре? — Макушку задело, — объяснил Серов и тут же добавил: — Принимай командование, Сэмсон. Я съезжаю на берег. Возьму с собой Хрипатого, Рика, Джо и Олафа с братьями. Еще Абдаллу. Мне нужен переводчик. Бомбардир кивнул, не задавая лишних вопросов: — Распоряжения, капитан? — Иди ко второму форту и расстреляй его. Фрегат поставишь на рейде, двести ярдов от берега. Галеры пусть подойдут ближе и будут готовы к погрузке добычи и людей. У пушек оставить канониров, остальные могут отправиться в город. Я вернусь… — он снова взглянул на солнце, — после полудня. Вернусь и отпущу тебя повеселиться. И вот что еще… Накажи парням, чтобы не очень лютовали. Детей не трогать! — Хорошо, — кивнул второй помощник. — Тех, кто ниже четырех футов, резать не будем. Клянусь в том спасением души! Бросив на него мрачный взгляд, Серов спустился в капитанский ялик. Как всякий полководец со времен Рамсеса и Юлия Цезаря до генерала де Голля и маршала Жукова, он понимал, что есть моменты, когда войско становится неуправляемым. Особенно если счет победителей к побежденным долог, кровав и писан пером злобы на пергаменте ненависти. Братья Свенсоны и Кактус Джо сели на весла, Абдалла устроился на носу, Хрипатый Боб оттолкнулся от борта, а Рик Бразилец протянул хозяину тряпку, смоченную водой. Серов вытер лицо и шею, пощупал под шляпой — волосы слиплись в колтун, остановив кровотечение. Боцман молча сунул ему бутылку рома, потом тоже отхлебнул и плеснул на плечо — там, под разорванной рубахой, багровел рубец от шрапнели. Когда лодка достигла береговых камней, они вышли на сушу и всемером прикончили бутыль. Отшвырнув ее, Серов сказал: — Значит так, джентльмены: направляемся к городским воротам и ищем беленую постройку, расписанную синими узорами. Думаю, парни Кука уже навели там порядок и поджидают нас. Помолитесь, чтобы Шейла, Уот и все остальные были живы и не лишились ни глаз, ни рук, ни ног. На три секунды воцарилась тишина, нарушаемая только шелестом волн и далекими воплями, что доносил из города ветер. Потом Абдалла провел по лицу ладонями, соединил их перед грудью и склонил голову. Боцман произнес: — Хр-р… Кажется, мы помолились, капитан. Если Бр-рюс поймал Кар-рамана, ты мне его отдашь? — Отдам, — пообещал Серов.
* * *
Усадьба Карамана стояла в пальмовой рощице, протянувшейся по обе стороны дороги. Этот тракт шел от городских ворот вглубь острова, и в отдалении виднелись другие дома, выстроенные в мавританском стиле, с навесными галереями и стрельчатыми окнами. Вероятно, то были поместья других пиратских главарей и перекупщиков награбленного, носившие следы быстрого штурма и безжалостной расправы с их обитателями, женщинами и слугами: где взорваны стены и выбиты ворота, распахнуты окна и двери, а где еще бушует огонь, пожирая валявшиеся во дворах и на галереях трупы. Район богатых особняков отделяла от городских предместий каменистая пустошь, заваленная мертвыми телами, но уже не женщин и слуг, а воинов, едва успевших дотянуться до оружия. Их было сотен пять или шесть, многие — с переломанными ребрами и черепами, расколотыми ударом копыт; несомненно, тут прошла конница ордена, а за нею — пехота, добившая выживших. Домишки горожан, лепившиеся к крепостной стене, пылали, источая сизый дым, ворота, ведущие в касбу, были распахнуты настежь, и около них стоял отряд мальтийцев, пикинеры и мушкетеры. На дороге тоже лежали мертвецы, и пираты, и люди иного звания — валялись среди перевернутых тележек с фруктами и овощами, дохлых ослов и расколотых глиняных кувшинов. В сравнении с этой картиной смерти и бедствий, дом Карамана казался оазисом покоя и тишины. Направившись во двор вместе со своей свитой, Серов увидел дюжину корсаров, сидевших в тени под пальмами, и полтора десятка служанок и слуг, закутанных в бурнусы, хаики[516] и покрывала, — эти жались в углу, бросая на страшных пришельцев испуганные взгляды. Ни Шейлы, ни людей Уота Стура, ни каких-либо других невольников тут не нашлось, и осознав этот факт, Серов нахмурился и помрачнел. «Может быть, они в доме?..» — мелькнула мысль. При появлении капитана пираты поднялись. Трое были давними знакомыми — Жак Герен, Мортимер и немой Джос Фавершем; имена и прозвища остальных, пришедших в последние месяцы, смешались в памяти Серова. — Где? — выдохнул он, чувствуя, как пересохло горло. — Где наши? — Прах и пепел! Нет никого, капитан! — зачастил Мортимер. — Ни Хенка, дружка моего, ни Тиррела, ни Уота, ни других парней! Яма на заднем дворе пустая и… — Заткнись, — сказал Серов. — Пусть говорит Жак. — Пустая яма, сэр, — повторил Герен. — Здоровая такая, двадцать рыл можно засунуть, но пустая. Был тут кто из наших, не был — пока непонятно. Эти, — он кивнул в сторону слуг, — только по-своему балабонят. Но дом мы обыскали. — И что? — Не похоже, чтобы здесь держали женщину, знатную леди вроде нашей Шейлы. — Герен опустил глаза. — Я сожалею, капитан… Глупцы твердят, что женщина на корабле не к добру, но она… она приносила нам удачу. Еще когда была мисс Шейла Брукс. — Мы ее вер-рнем, — прохрипел боцман за спиной Серова. — Ее, Уота и его р-ребят! Всем сар-рацинам пустим кр-ровь, а вер-рнем! Серов скрипнул зубами и на мгновение закрыл глаза. «Вер-рнем! Вер-рнем!» — звучало у него в ушах, било в виски, словно вопль попугая. «Вернем», — произнес он про себя, стараясь успокоиться, и поднял взгляд на Герена: — Где Брюс? И чем он занят? — В доме, капитан. Беседует с управляющим этого гадючника. А парни… хм-м… ну, шарят в комнатах. — Хрипатый и ты, Абдалла, пойдете со мной. Остальные могут передохнуть. Серов повернулся и зашагал к арке входа, украшенной синими цветочными узорами. Просторная комната за ней носила следы тщательного обыска и вдумчивого грабежа: у стены стопкой составлены серебряные подносы, рядом — кувшины из того же благородного металла, небольшая шкатулка с монетой, забитый тканями сундук, сваленные грудой сабли и пистолеты, несколько свернутых ковров. Около этого добра стоял на страже Алан Шестипалый. — Неплохо, — пробурчал Хрипатый. — Тысяч на двенадцать потянет. — Он выудил из-за пазухи еще одну бутылку рома и протянул Серову. — Не хочешь подкр-ре-питься, капитан? Больно р-рожа у тебя бледная. Серов молча глотнул и переступил порог, очутившись во внутреннем дворике. Сюда выходили двери и окна десятка комнат, у задней стены зеленел развесистый платан, а под ним, на вымощенном плиткой полу, стояла пара диванов — из тех, что в двадцатом веке назывались оттоманками. Дворик казался довольно большим, и в его середине было нечто наподобие бассейна, который Серов вначале принял за фонтан. Но, очевидно, до таких изысков местная техническая мысль не дошла, и над поверхностью воды в круглом каменном водоеме не поднималась ни единая струя. У этого сооружения стоял Брюс Кук и задумчиво разглядывал чью-то спину в турецком узорчатом халате. Его обладателя держали, завернув локти за спину, Люк Форест и Колин Марч; голова пленника находилась в воде, и, судя по тому, как дергались тощие ноги в остроносых туфлях, ему это не слишком нравилось. Увидев Серова, Хрипатого и Абдаллу, Кук радостно ощерился и приказал: — Вынимайте, парни, эту вошь. Пусть капитан на него глянет. Люк и Колин дернули страдальца вверх. То был костлявый щуплый турок лет пятидесяти; он задыхался и кашлял, пучил глаза и хрипел что-то неразборчивое. Вода стекала по бритой голове на бороду и усы, пятнала халат, и так уже наполовину мокрый, растекалась лужей возле ног. На пирата этот человек не походил, и, вероятно, под его командой были не воины с саблями, а слуги с вениками. — Ну, в чем тут у нас сложности? — поинтересовался Серов, осматривая пленника. — Человеческих слов не понимает, — доложил Брюс Кук. — Я его спрашиваю: где Караман, козел Одноухий? Где девушка-красавица и двадцать наших камерадов? Где Карамановы шебеки? Где? Где? — С каждым «где» Брюс дергал турка за бороду. — На английском спрашиваю, на французском и даже на чертовом кастильском, прости Господь мне этот грех! Не понимает, краб вонючий! Может, на дереве подвесим и разведем под пятками костерок? Или макать его дальше? «Первый раз вижу, чтобы так учили языкам», — подумал Серов, а вслух сказал: — Макать не надо. Пусть отдышится, и Абдалла с ним побеседует. Ну-ка, Люк, похлопай его по спине. Люк хлопнул, заставив турка согнуться в три погибели. Наконец тот перестал кашлять, уставился на Брюса, пробормотал «эфенди» и что-то еще, совсем непонятное. — Просит пащады у гаспадина, — невозмутимо перевел Абдалла. — Вот господин! — Кук показал на Серова. — Большой-пребольшой эфенди! Не ответишь ему, огрызок, к шайтану попадешь! Упав на колени, турок заговорил, мешая слова с хрипами и кашлем. Абдалла слушал, склонив голову к плечу и поглаживая рукоять сабли. На турка мавр глядел без всякого сочувствия. — Мурад его прэзренный имя, — сказал он. — Он… как это на англиски?.. хазяин двор?.. — Дворецкий или управляющий, — подсказал Серов. — Что еще он говорит? — Он клястся, что нэ ходил в морэ, нэ брал чужой корабл, нэ обижал сынов Христа… только чут-чут, кагда они сидэт в яма. Просыт милости, мой капитан. Турэцкий сабака! — В темных глазах Абдаллы сверкнула ненависть. — Милость будет, — буркнул Серов. — Будет, если он расскажет, где Караман, моя жена и мои люди. Мне сообщили, что Караман пришел на Джербу со всей своей флотилией и захваченными невольниками. Почему его здесь нет? Где он зимует? Спроси-ка турка об этом. Мавр вступил в переговоры с пленным. Мурад то униженно кланялся, то падал на колени, то воздевал руки к небесам, призывая Аллаха в свидетели; было ясно, что он перепуган до судорог и говорит чистую правду. — Караман быват здэс рэдко и нэ всякий зима, — наконец произнес Абдалла. — Он приходить сюда, эсли нада сгаворится с другим рейс о большом набэге. Тут у нэго малый дом, мало слуг, мало жэнщин, мало… как это?.. вэселых дел. — Мало развлечений, — уточнил Серов. — Дальше! — Зима он жить в балшой памэстье у Аль-Джезаир[517], болшэ, чем тут. Там гаван для корабл, там хароший дом, там много раб, там тюрма, где раб ждат выкуп. Все там! — Абдалла показал рукой на запад. На миг в глазах Серова потемнел белый свет. Зря он поверил Эль-Хаджи, проклятому мерзавцу! Все оказалось бессмысленным, бесполезным! Долгое ожидание на Мальте, переговоры с великим магистром, этот поход, гибель множества людей — и магрибцев, и тех, что были в его воинстве… Он втянул воздух сквозь стиснутые зубы и постарался успокоиться. Он был уроженцем иного времени, сыном двадцатого века; в его эпоху разум превалировал над чувствами, а отчаяние смирялось логикой. И эта логика подсказывала, что поступил он верно: нашел союзников, набрал бойцов и не позволил им скучать в бездействии и лености. Последнее стало бы большей ошибкой, чем налет на Джербу, ибо лишь тот корсарский вождь имеет власть, чьи люди не остались бездобычи. Это диктовала логика пиратского ремесла, и Серов понимал: случись такое, и он лишится и корабля, и команды. Эта мысль его отрезвила. — Спроси, был ли здесь Караман, — велел он Абдалле. — Был, — отозвался через пару минут переводчик. — Был надолго, два или три дна. Оставит тут поврэжденный шэбек и младшэго рейса Сулэйман Аджлах, что значит Лысый. Приказат, чтобы Лысый чинил корабл и сдэлал новый команда. — Где он сейчас, этот Сулейман? — Жить в касба, — сообщил мавр после переговоров с Мурадом. — Тэпер навэрнака мэртвец, и Сулэйман, и его люди. — Уж точно, все мер-ртвяки, — с мрачным видом заметил Боб. — Хр-р… А их лохань, скорей всего, сгор-рела. — С Караманом была женщина? Этот, — Серов кивнул на пленника, — ее видел? Молодая женщина, волосы светлые, глаза голубые… Видел ее или нет? Абдалла начал новые переговоры с турком. Серов ждал, сунув ладони за пояс, чтобы не было заметно, как дрожат пальцы. — Этот пэс ее нэ видеть, — произнес мавр. — Но Караман хвастал, что ест на его шэбек жэнщин. Очэн красивый жэнщин, толко с этим… — Абдалла обозначил рукой выпуклость живота. — Когда разрэшится от брэмени, Караман подарить ее дэй Алжир, и дитя тожэ. Дэй на нэго сэрдит — мало платит Караман дэю. Нада дэлать хароший бакшиш… красивый жэнщин, красивый рэбенок, золото… «Шейла должна родить в мае… три месяца осталось… — мелькнуло у Серова в голове. — Успеем!» Он вытащил руки из-за пояса — пальцы больше не дрожали. — Спроси о наших парнях, Абдалла. Про Стура, Тиррела и прочих. — Я ужэ спрашиват, мой капитан. Он ничэго нэ знат, — молвил мавр. — Но я думаю, что эсли гаспажа в Алжир, они тожэ в Алжир. Там болше дават за крэпкий раб. Наступило молчание. Серов покачивался с пятки на носок, с носка на пятку, посматривая то на турка, то на бассейн, будто примеряясь, не утопить ли в нем пленника. Мурад с ужасом озирался, встречая хмурые взгляды корсаров. Они глядели на него как волки на кролика. — Что будем делать с этим ублюдком? — нарушил тишину Брюс Кук. — И с остальными бабами и мужиками? — Хр-р… — произнес боцман, дождался кивка Серова и посоветовал: — Загнать бы всех в камор-рку поменьше, двер-рь и окна забить, а дом поджечь. Сар-рацинским душам одна дор-рога — в пр-реисподнюю… Пусть к огоньку пр-ривыкают. — Мы сделаем лучше, — сказал Серов и кивнул Абдалле: — Переводи! Скажи турку, что я его милую и дарю ему это поместье со всеми слугами, ибо он мне не лгал. То моя жертва Христу или Аллаху… Что за месть Караману — сжечь этот дом и дюжину слуг и служанок? А если пощадим их, Бог, глядишь, зачтет и нашем деле поможет. Абдалла забормотал на турецком, а Боб и Брюс переглянулись и одновременно кивнули. — Твоя воля, капитан. Может, и правда нам зачтется, — произнес Кук. — Ну, дом и жизнь ты ему подарил, но добычу-то мы вынесем? — Разумеется. Что наше, то наше. Мурад, выслушав Абдаллу, всполошился, упал на колени, начал бить земные поклоны и горестно вопить. — За жизн очен благодарен, — пояснил Абдалла, — а дом боится взят в падарок. Говорит, Караман придти и зарэзат. — Скажи, чтобы из-за этого не беспокоился. Караман долго не проживет. С этими словами Серов покинул дом и, вместе с семью своими спутниками, вышел за ворота усадьбы. Время двигалось к полудню, но яркое весеннее солнце застилали дымы от пылающих строений и пыль, поднятая взрывами, — минеры Марка Антония катили бочки с порохом к стенам касбы, методично уничтожая укрепления. Над сотнями мертвецов, валявшихся по обе стороны дороги, уже трудились вороны. Зрелище было жутким, но Серов, поглощенный своими мыслями, не видел страшных безглазых лиц. Он очнулся, когда они подошли к ялику. Его фрегат застыл в двухстах ярдах от берега, и к нему, а также к другим судам флотилии тянулись караваны груженых шлюпок. К борту «Ворона» пришвартовался «Дятел», и плотники обоих кораблей, под бдительным оком мастера Бонса, заменяли на шебеке обгоревшие реи и поврежденный фальшборт. Рядом чинилась орденская галера — там накладывали пластырь на основательную пробоину под гребной палубой. На водной поверхности плавали, догорая и чадя, обломки пиратских шебек, среди которых попадались трупы и всякая малоценка, не привлекшая внимания победителей — пустые бочки и корзины, корабельная мебель и прочий хлам. Из разбитых городских ворот, обращенных к морю, тянулись запряженные мулами и ослами повозки. Добыча была богатой: множество изделий из серебра, от массивных тазов и кувшинов до тарелок, кубков и подсвечников, ларцы с украшениями местной и европейской работы, сундучки, полные монет всех народов и стран, турецкий шелк[518] и английская шерсть, жемчуг и слоновая кость, страусиные перья, дорогое оружие, богатые одежды… На причале, где все это добро грузилось в лодки, возвышался стол из драгоценного черного дерева, за которым шустро скрипели перьями четыре орденских писца, фиксируя взятую добычу. Трудились они под диктовку Сэмсона Тегга и командора Зондадари, лично проверявших груз каждой повозки. Гребцы расселись по местам. Хрипатый занял место у руля и спросил: — Плывем на «Вор-рон», капитан? — Нет. Идем к «Стрижу». Боцман с пониманием ухмыльнулся: — Хр-р… Хочешь должок отдать? — Не без того, Боб. Весла зачерпнули воду. Пока плыли на «Стриж», под лопасти попадались то обгорелые деревяшки, то распухший труп, обративший к небу незрячие глаза. Над водой тянуло едким запахом дыма. «Стриж» был почти пустым, его команда грабила город, и на борту остались только стражи, восемь корсаров и капитан Клод де Морней. Он редко съезжал на берег — похоже, стеснялся своего уродства, отрезанного носа, отрубленных пальцев и головы, с которой кожу сдирали полосками вместе с волосами. Происходил де Морней из небогатого рода дворян из Бретани и дослужился до первого помощника на военном французском бриге, а потом в несчастный день попал в лапы Эль-Хаджи. Выкупа ждал четыре года, а чтобы поторопить его бретонских родичей Эль-Хаджи рубил де Морнею пальцы, резал нос и драл кожу с черепа. Возвращаться домой в таком жутковатом виде бретонцу никак не улыбалось, зато для карьеры пирата внешность у него была самая подходящая. — Клод! — окликнул его Серов. — Для тебя хорошая новость: Эль-Хаджи — твой. По лицу де Морнея промелькнула плотоядная улыбка. — Да сгноит Господь его душу! Могу заняться им сейчас, сэр? — Займешься ближе к вечеру, когда выйдем в море. Сейчас с тобой восемь человек, а счет к Хаджи есть у каждого в твоей команде. Не стоит обижать людей. — Это верно, — согласился бретонец. — Ну, обещаю, что быстро он не умрет! — На твое усмотрение, — сказал Серов и распорядился править к «Ворону». В четыре часа пополудни к фрегату причалила шлюпка командора Зондадари. Выглядел он довольным, но утомленным — сказывались бессонная ночь в седле, атака на крепость и пересчет захваченных богатств. — Думаю, Тегг, ваш офицер, справится без меня, — сказал Марк Антоний, поднявшись на палубу. — Я слышал, что вашей супруги здесь не оказалось? — Серов молча кивнул. — Мои сожаления, маркиз… Но в остальном… в остальном!.. Хвала Господу, мы наконец-то уничтожили это осиное гнездо! Не навсегда, разумеется, но лет на пять-шесть. Орден вам обязан! — Не желаете ли отобедать со мной, командор? — спросил Серов, глядя на шлюпки, что все еще тянулись к кораблям. — Кроличье рагу, сыр, фрукты, а к ним — херес и бургундское… Стол накрыт в кают-компании, на палубе шумновато. Было не только шумновато, но и тесно — полсотни корсаров под командой ван Мандера принимали груз, спуская его в трюмы фрегата. Скрип талей, грохот сундуков и звон серебряной посуды перекрывали ругань и проклятия, временами по палубным доскам катился кубок или рассыпалась горсть монет. — Отобедать не откажусь, — произнес командор. — Бог дарует хлеб насущный тем, кто трудится. А кто особенно усерден, получает рагу, фрукты и херес. Он бросил взгляд на разгромленный город и направился вслед за Серовым в кают-компанию. Рагу из кролика относилось к числу национальных мальтийских блюд — эти шустрые зверьки в изобилии водились на островке Комино, на радость охотникам и гурманам. В Ла Валетте Серов нанял кока-мальтийца, некоего Рикардо Чампи, который в совершенстве готовил рагу, спагетти, бэббуш и канноли. Обглодав пару кроличьих лапок и запив мясо хересом, Марк Антоний порозовел и заметно расслабился. Ему было за пятьдесят, и в восемнадцатом веке этот возраст считался весьма почтенным — особенно для воина, таскавшего рыцарский доспех всю ночь и половину дня. — У вас отличный повар, маркиз! — Командор отхлебнул глоток вина. — Скажу не таясь: в моих годах человеку нужны пища и отдых хотя бы единожды в день. Лет двадцать назад я мог не слезать с седла от рассвета до заката, а потом отплясывать на балу… Но — увы! — эти дни миновали! Как говорится, singula de nobis anni praedantur euntes…[519] — He сомневаюсь, мессир, что вы и сейчас могли бы станцевать тарантеллу, — сказал Серов. — Нет, мой друг, менуэт[520], только менуэт, да и его — с Божьей помощью! — Командор рассмеялся, потом его лицо стало серьезным. — Кстати, ваше предвидение оправдалось — на Джербе было известно о нападении. Мои люди схватили в касбе одного из пиратских главарей… — Случайно не Сулеймана Аджлаха? — спросил Серов, насторожившись. — Нет. Его звали… звали… кажется, Гассан Бекташи — конечно, турок. Я велел его пытать, а затем — повесить. Так вот, этот Гассан признался, что еще месяц назад ему и другим рейсам пришло послание, и говорилось в нем, что капитан Сиррулла — ведь так вас прозвали в этих водах?.. — непременно нападет на Джербу. И знаете, кто отправил это письмо? — Не знаю, но думаю, что какой-то лазутчик из сарацин, обосновавшихся на Мальте. — Вот тут вы ошиблись, маркиз! Письмо пришло не с Мальты, а с Сардинии, из Кальяри. Отослано неким Вальжаном, марсельским купцом… Нашим единоверцем, мессир! Этот купец — личность известная, и обещаю, что мы им займемся. Воистину падение нравов в наши времена достойно горечи и порицания! «То ли еще будет, — подумал Серов, вспоминая змеиный взгляд мсье Вальжана. — Страсть к богатству ходит об руку с предательством, и в будущих веках это станет аксиомой. Чем больше золота в руках людских, тем меньше в душах понятий о чести и благородстве, долге и верности…» Он стиснул кулаки и произнес: — Я знаком с этим Вальжаном. Что вы с ним сделаете? Убьете? Марк Антоний покачал головой: — Не стоит проливать кровь христианина. Есть способ лучше: показания Бекташи записаны, и мы добьемся для Вальжана отлучения. От имени святейшего отца![521] После этого Вальжан — конченный человек. Конец обеда они посвятили более приятным темам, обсуждая, сколько сокровищ погружено в трюмы кораблей и стоит ли делить добычу прямо сейчас, или лучше продать ткани, слоновую кость и другие товары и рассчитаться в звонкой монете. Сошлись на последнем варианте, после чего командор Зондадари отвесил Серову поклон, спустился в шлюпку и отбыл на свою галеру. К семи часам пополудни операция была закончена, и войско победителей стало возвращаться на корабли. Солнце склонялось к закату, на месте касбы и города дымились груды развалин, на тысячи трупов слетелось воронье, и звуки отгремевшей битвы сменились оглушительным карканьем. Наконец, на плотах, поспешно сколоченных из обломков, перевезли последних лошадей, подняли их на галеры, и флотилия вышла в море. Тогда к фрегату приблизился «Стриж» — так близко, что Серов мог различить без подзорной трубы ухмылку на роже капитана де Морнея. Вокруг него столпились десятки людей, и каждый сжимал что-то блестящее, небольшое — гвоздь, крохотный ножик или иглу, которой шили паруса. Затем на палубу вывели Эль-Хаджи, и морской простор огласился жутким воем. Пленник выл всю ночь, и Серов, отстаивая вахту, слушал эти звуки, пока над голубыми водами не загорелся первый луч рассвета.
Глава 11 СНОВА МАЛЬТА
Пираты наткнулись на испанцев, когда они только еще укреплялись. Все взвесив, они свернули в лес и обошли несколько испанских укреплений. Наконец пираты вышли на открытое место, которое испанцы называли саванной. Пиратов заметили, и губернатор тотчас же выслал им навстречу конников и приказал им обратить пиратов в бегство и переловить всех до одного. Он полагал, что пираты, видя, какая на них надвигается сила, дрогнут и лишатся мужества. Однако все произошло не так, как ему думалось: пираты, наступавшие с барабанным боем и развевающимися знаменами, перестроились и образовали полумесяц. В этом строю они стремительно атаковали испанцев. Те выставили довольно сильную заградительную линию, но бой продолжался недолго: заметив, что их атака не действует на пиратов и что те беспрерывно ведут стрельбу, испанцы начали отходить, причем первым дал деру их губернатор, который бросился к лесу, стараясь побыстрее скрыться. Но немногие добежали до леса — большинство пало на поле битвы.А. О. Эксквемелин. Пираты Америки (Амстердам, 1678 г.)
«Где ты, Шейла? Где ты, карибский цветок, счастливый дар, радость души? Что с тобою? Носишь ли дитя или исторгла в крови и муках мертвый плод? Не претерпела ли насилие? Есть ли у тебя хлеб, есть ли питье, есть ли платье, чтобы прикрыть наготу, спастись от холода и жадных взоров?..» Сердце Серова сжимала тоска. «Ворон» застыл на рейде в гавани Ла Валетты, и звездное ночное небо укрыло корабль непроницаемым пологом. В распахнутые окна капитанской каюты светила луна, прокладывая серебристую дорожку на морской поверхности, весенний воздух был ароматным и свежим, свечи на маленьком столике горели ровно, и Серову казалось, что его жизнь сгорает в этих крохотных огнях как заблудившийся мотылек. С берега плыли мелодии далекого пиршества, грохот кружек о столы, песни и крики, выстрелы и женский визг — корсары пропивали в кабаках и тавернах богатую добычу. Наверняка славили удачливого капитана, поднимали кружки в его честь, но капитану это было безразлично. Мертвый холод теснил его грудь. «Где ты, Шейла? Где ты, любимая?..» Тяжко вздохнув, Серов погладил переплеты книг, лежавших перед ним. Может, эти манускрипты подскажут, что делать?.. Мессир Раймонд де Перелос де Рокафуль, великий магистр ордена, решил, что за Джербу он достоин особой награды. Серов, однако, отказался от драгоценного оружия, от миланской кирасы, от кубков венецианского стекла и золотых дукатов; спросил книги, только не божественные, сказав, что Библию уже имеет, а книг на латинском, излюбленном Отцами Церкви, не читает. Магистр к просьбе отнесся с уважением, вызвал брата-библиотекаря и повелел проводить капитана в книгохранилище светских сочинений — пусть выберет и примет в дар любую книгу. Или две и даже больше, хоть книги в этот век являлись редкостью и стоили едва ли не дороже дамасской сабли с рукоятью, усыпанной рубинами. Серов выбрал три: одну небольшую, другую побольше, а третью — огромную, в переплете телячьей кожи, с богатыми картинками. Самую малую он читать не мог, ибо она была издана в Амстердаме в 1678 году, а на голландском он знал лишь ругательства да морские термины. Она называлась DE AMERCAENSCHE ZEE-ROOVERS. Beschreven door A. O. Exquemelin[522], и в ней был описан остров Тортуга, а также кровавые подвиги Франсуа Олоне, Моргана и других знаменитых карибских корсаров. Серов решил, что этот труд о собратьях по ремеслу ему переведет ван Мандер. Вторая книга, пухлая и увесистая, была на английском. Открыв ее, он прочитал:
* * *
Совет собрался у большого стола в кают-компании. Карта, расстеленная на столе, и две пушки, мрачно взиравшие сквозь бойницы на форт Сент-Анджело, напоминали, что характер совещания — военный, что люди встретились тут не ради застолья и выпивки, хоть плещутся в кружках ром с Ямайки и испанское вино. Тегг прислонился к казенной части орудия, Серов сидел на капитанском месте во главе стола, остальные четверо устроились на табуретах и в жестких деревянных креслах. За дверью стояли Кактус Джо и Рик Бразилец — на тот случай, чтобы всякие бездельники не беспокоили капитана. Вообще-то парни из боцманской ватаги, вооруженные до зубов, несли у кают-компании круглосуточную стражу — здесь, слева от пушек, громоздились четыре сундука, набитых золотом. Дукатов в них было столько, что, если ткнуть в монеты саблей, кончиком лезвия до дна не достанешь. Ван Мандер, попыхивая трубкой, с одобрением взглянул на сундуки. — Взяли, как никогда, — пробормотал он. — И дележ был честный… Все-таки уважает орден вольных охотников! Тут моя лавочка в Амстердаме, а для других — что пожелается: бабы, камзолы с кружевами и спиртное бочками… — Оторвавшись от созерцания сундуков, шкипер повернулся к де Пернелю: — А ваш магистр как потратит свой доход? Храм построит или новый бастион? — Деньги пойдут на богоугодные дела, — сообщил рыцарь. — Прежде всего на выкуп христианских душ, что истомились в плену у неверных. За это золото можно тысячи спасти и заслужить себе райское блаженство! Тегг поерзал задом о пушечный ствол: — Мы своих в Алжире тоже могли бы выкупить. Что скажете? Ты, Мартин, и ты, Абдалла? — За один сундук можно скупить весь алжирский невольничий рынок, — подтвердил Деласкес. — Если угодно дону капитану. Серов поворочал головой и с сомнением хмыкнул. — Дону капитану не угодно, — истолковал эти звуки Сэмсон Тегг. — Дон капитан понимает, что, если выкупать у Карамана Шейлу и Стура с парнями, тот догадается, что за пташек к нему принесло. Мы его шебеку потопили, Джербу взяли и гонялись за этим гадом от Эс-Сувейры до Туниса… Пойдет он к дею и нас продаст. Золото отнимут, а наши головы будут торчать на пиках у ворот касбы… Верно я говорю, капитан? — Верно, — согласился Серов. — Можно действовать через посредника, — предложил де Пернель, ткнув пальцем в карту. — Тут, в Алжире есть французские купцы и братья-монахи трех-четырех орденов. Все они способствуют выкупу единоверцев. Серов снова хмыкнул. Купцы, монахи… Именно эти ублюдки и заложили трижды дона Мигеля! — Твое предложение, рыцарь, капитану не нравится, — снова пояснил Тегг. — Мы привыкли брать, а не платить. Это что же такое! Взяли золото у сарацин, — тут он грохнул в сундук тяжелым морским сапогом, — и им же возвращаем! Это… это… — …Безнравственно, — подсказал Серов и процитировал на английском бессмертные строки поэта: — Все куплю, сказало злато, все возьму, сказал булат… Я — за булат! Выручить своих ему очень хотелось, а за Шейлу он бы голову отдал. Но хотелось еще и другого — увидеть, как Одноухий болтается в петле, как меркнут его глаза, как вываливается язык… Он ненавидел его больше, чем Эдварда Пила, едва не отнявшего когда-то и Шейлу, и корабль. Во всяком случае, Пил был уже мертв, а Караман — еще жив. Его глаза скользнули по лицу Абдаллы и остановились на Деласкесе: — Если мы натянем халаты и придем на бригантине в Алжир, это вызовет подозрения? Если будем все в чалмах, будем славить Аллаха и представляться магрибскими разбойниками? Конечно, на османов и арабов мы не похожи и языков их не знаем, но вид у нас что ни на есть пиратский. Что сделают стражники дея? — Ничего, синьор, — сказал Деласкес. — Ничего, если вести себя по-умному. — Дать бакшиш портовому начальству и городским стражам? — Нэпременно тэм и другим, — заметил Абдалла. — Одна рука в ладоши не хлопат. — Кроме бакшиша нужно кое-что еще. — Деласкес погладил бороду, коснулся медной серьги в ухе. — Мессир капитан не похож на магрибца или турка, не знает их речи, но это ничего — среди разбойников есть греки и сардинцы, сицилийцы и испанцы, даже люди из Франции, Голландии и Англии. Те, кто отринул Христа, признал Аллаха и вышел в море грабить бывших соплеменников. — Ренегаты, — процедил сквозь зубы де Пернель. — Презренные ренегаты! — Да, так их называют, — согласился Мартин Деласкес. — Вы, мой капитан, можете надеть халат и чалму, стать французом-ренегатом и смело плыть в Алжир. Это никого не удивит, если вы будете иногда заглядывать в мечеть и хотя бы раз в день творить намаз. Вы знаете, что это такое? — Знаю и умею, — отвечал Серов, вспоминая чеченскую службу. — Ополоснуть лицо и руки, встать на колени, повернуться к Мекке, почаще кланяться и бормотать «иншалла». Нет проблем! — О! — Казалось, Деласкес поражен. — Простите мое любопытство, сэр… Сыновей французских маркизов и этому учат? — Только незаконных — так, на всякий случай. Мало ли в какую передрягу попадешь… Тегг захохотал, ван Мандер ухмыльнулся, и даже по суровому лицу де Пернеля скользнула усмешка. — Я надеюсь, Мартин, — произнес Серов, — что вы с Абдаллой научите полсотни наших молодцов, как творить намаз и как вести себя в мечети. — Нет, мессир, с пятьюдесятью это не получится, хотя я рад вам услужить. Вы не знаете турецкого и арабского, но Абдалла и я будем вашим языком и вашими ушами. Но еще пятьдесят ренегатов будут, конечно, подозрительны. — Согласен, — кивнул Серов, переглянувшись с Теггом. — Дюжина ренегатов должна раствориться среди людей арабского происхождения — например, мальтийцев. Сколько их сейчас на наших кораблях? — Не меньше чем две сотни рыл, — сообщил второй помощник. — Те еще головорезы! Думаю, тридцать-сорок наберем, из самых надежных… — Он почесал грудь под камзолом и добавил: — Жаль, Фарука нет… Он бы сейчас пригодился. Фарук был турком, коего неведомыми путями занесло в Вест-Индию. Он плавал с капитаном Бруксом лет пять или шесть и погиб во время смуты в Пуэнте-дель-Оро, когда Эдвард Пил поднял мятеж. — Жаль, — подтвердил Серов. — Придется Хрипатому турка играть. Я возьму его со всей ватагой… — Он посмотрел на Тегга. — Обойдешься без боцмана, Сэмсон? Тот кивнул: — Моя задача, капитан? — Будешь месяц болтаться у берега со всей флотилией и ждать нас. Полагаю, мы справимся раньше — месяц это условный срок. Плыви на запад к Орану, плыви на восток к Ла-Калю, пускай на дно магрибские шебеки… Сезон охоты начался, не заскучаешь! — Тут большое расстояние, — молвил ван Мандер и провел пальцем вдоль алжирских берегов. — От Орана до Ла-Каля четыреста миль, и, плавая туда-сюда, мы можем вас не встретить. Нужно договориться точнее. — Хорошо. Раз в десять дней заходите в Ла-Каль. Если не встретимся в море, мы будем там вас ждать. — Серов повернулся к де Пернелю. — Это ведь французский город? — Да, маркиз. Там большой гарнизон и есть отряд нашего Ордена. Магометане туда не сунутся. — Хм-м… есть орденский отряд… — протянул Серов. — А что в Алжире? Найдутся там верные ордену люди? Ваши лазутчики? Де Пернель потупил взгляд: — Не знаю, клянусь Святой Троицей… секретное дело, мессир капитан… Я военачальник, предводитель рыцарей и солдат, а лазутчики не по моей части. — Поговорите, друг мой, с великим магистром. Мы будем нуждаться в помощи — надеюсь, очень небольшой. Необходим человек, который знает, где поместье Карамана, и, может быть, проводит нас к его усадьбе. За эту услугу я его вознагражу. Щедрей, чем король Франции! Рыцарь кивнул: — Я сделаю это. Я поклялся Святой Троицей, что кое-какие секреты мне неведомы, и это воистину так. Однако не сомневаюсь, что в Алжире найдется не один десяток тайных христиан, которые служат Господу нашему и ордену. И потому мессир де Рокафуль в точности знает, что у алжирского дея на ужин и с какой наложницей он развлекается ночью. — Ценные сведения, но о Карамане мне такие подробности не нужны, — промолвил Серов. Потом спросил: — Есть, очевидно, слова, которые надо сказать лазутчику? Секретные пароли? — Да, разумеется, и я произнесу их в нужное время и в нужном месте, — заверил его рыцарь. — Вы ведь понимаете, мессир, что я вас не оставлю, а пойду с вами. Не только потому, что связан клятвой, есть и другая причина: я испытываю к вам искреннее расположение. «Открыт и честен, как всегда», — подумалось Серову. Он стиснул руку рыцаря в знак молчаливой благодарности и произнес: — Вы одарили меня своей дружбой, и это значит, что Бог милостив ко мне. Спасибо всем. Совет закончен. …В ту ночь он долго не мог уснуть — пришли воспоминания о прежней жизни, о семье, приятелях, знакомых девушках, еще не появившихся на свет, о времени, которое он все еще считал родным. Но было ли так на самом деле?.. С новой реальностью, с ее событиями и людьми, его уже связали нерасторжимые узы; они крепли день ото дня, оттесняя прошлого Серова на задворки памяти и все яснее намекая, что он не притворяется корсарским капитаном, супругом Шейлы Брукс и мстителем Сирруллой, он и есть капитан и корсар, муж чудесной женщины и мститель за свое поруганное счастье. Острое сознание того, что иного нет и не будет, пронзило Серова. Может быть, подумалось ему, он преуспеет на государевой службе, станет генералом или адмиралом, получит титулы и поместья, и жизнь его прервется на поле брани или в глубокой старости, в кругу детей и внуков. Но как бы ни повернулась судьба, здесь его мир, его отчизна, и дом, который он построит в питерских болотах или подмосковных рощах, станет для него родным. Другого не будет никогда. Он уснул, и во сне пришли к нему люди, пропавшие в безднах времени, — врач Евгений Штильмарк, журналист Максим Кадинов, Игорь Елисеев, несчастный всезнайка, Фрик, Ковальская и все остальные, кого он пытался найти, да так и не нашел. Обступив Серова, они глядели на него, и на их лицах блуждали смущенные улыбки. Это удивляло, и удивление длилось, пока издатель Добужинский не сказал: «Мы виноваты, Андрей, все перед тобою виноваты… Мы — причина того, что ты здесь очутился. Не было бы нас, ты бы жил-поживал по-прежнему в Москве, в своем законном веке, ловил мошенников, а о пиратах читал бы только в книжках… Ты уж нас прости, Андрюша!» «Однако он и тут неплохо устроился, — пробормотал экстрасенс Таншара. — Авантюрист! Тут ему самое место». — «Кто знает, где человеку место? — печально сказал Елисеев и, сделав паузу, добавил: — Мы должны ему помочь — не делом, так советом. Что ты хочешь знать, Андрей? Что-то о будущем и великих событиях, о королях и странах, бедствиях и войнах? Я все помню, дружище, помню, хоть уже умер…» Серову стало его жалко, так жалко, что разрывалась душа. «С будущим я справлюсь, Игорь, — сказал он. — Как-нибудь совладаю, ведь у меня твоя книга есть… нет, не твоя, а мессира Леонардо… Справлюсь! А хочу я знать другое, хочу узнать про вас — куда вы попали и что случилось с каждым. Можете мне рассказать?» И они заговорили, и были их повести непростыми. Кто очутился в Китае эпохи Мин, кто в половецком становище, кто вовсе на другом конце света, среди индейцев-пауни, а кому повезло, тот попал в родные языки и земли, в Черниговское княжество или в древний Новгород. Так проходили они друг за другом, рассказывая о себе, и последним был Женя Штильмарк из Твери, почти ровесник — исчез он, как помнилось Серову, в 27 лет. Ехал домой из больницы, с работы, шагнул из трамвая и пропал… И было тому двадцать свидетелей. «Ну, а ты где?» — спросил Серов. Штильмарк усмехнулся: «Где, где… Может, около тебя, Андрей. Не совсем около, но поблизости. Встретимся, узнаешь!» Сказал так и исчез, а вместе с ним растаяли прочие невольные хронавты. Владимир Понедельник, программист… Наталья Ртищева, врач, как и Штильмарк… Линда Ковальская, налоговый инспектор… четверо парней из Нижегородского политеха… Серов вздохнул и открыл глаза. В кормовые иллюминаторы вливались солнечный свет и свежий утренний воздух. За водами гавани пропел горн и грохнула пушка — там, над башнями форта Сент-Анджело, поднимали флаг. «Ворон» тоже просыпался — слышалось шарканье ног, потом раздался резкий голос Тегга, стоявшего ночную вахту. «Штильмарк, — подумал Серов, — Евгений Штильмарк… Что еще за загадки?» Он помотал головой, прогоняя сонные видения, и потянулся к одежде.
* * *
Несколько дней прошли в суете и хлопотах сборов. Бригантина «Ла Валетта» получила новое имя — «Харис», что значило «Страж» на арабском; энергичное название, звуки которого понравился Серову. Двухмачтовый парусный корабль генуэзской постройки был быстрым и вполне подходил для капитана-ренегата: при попутном ветре он мог уйти даже от стремительных шебек. Его вооружили восемью двенадцатифунтовыми пушками, в трюм погрузили партию английского сукна, порох, воду, провиант и кое-какие редкости для подарков алчным чиновникам дея. Не был забыт и сундучок с монетой, с испанскими талерами и дукатами; прихватили и ларцы с украшениями, ибо Деласкес сказал, что бакшиш включает дары чиновничьим женам. Сережки и ожерелье с сапфирами Серов переложил в мешочек и спрятал на груди — это предназначалось для Шейлы, и временами, закрывая глаза, он видел ее в синем и золотом убранстве. Точно, как во сне… Бригантину он выбрал недаром — парусное судно было удобнее шебеки, на которую пришлось бы взять сотню гребцов да еще следить, чтобы они изображали невольников. Опытных в этом деле нашлось бы предостаточно, но Серов полагал, что чем меньше народа знает об алжирской экспедиции, тем лучше. От Мальты и христианских портов на севере тянулись тайные нити к магрибским городам и весям, и любой купец вроде мсье Вальжана, любой контрабандист и скупщик краденого мог продать их султану Туниса, дею Алжира или пиратским главарям. Так что стоит взять людей поменьше, но понадежнее и сняться с якоря в темную ночь. Мальту покинет бригантина «Ла Валетта», собственность мессира Андре Серра, а в Алжир придет «Харис», разбойничье судно под командой капитана-ренегата. Он уже и прозвание себе выбрал — Мустафа, и легенду придумал. Аллах акбар! Аллах послал нам «купца» из Неаполя с тюками отличной английской шерсти… Покупатели, ау! Дешево отдам! К боцманской ватаге, не очень многочисленной, Серов добавил испытанных людей, из тех, что плыли с ним и Шейлой на Барбадос, спасаясь от Эдварда Пила. Тернана пришлось оставить, чтобы не оголять командный состав, но Брюса Кука он взял, а с ним — Алана Шестипалого и Мортимера. Морти пару дней суетился под квартердеком и не давал капитану прохода, напоминая о прежней дружбе и клянясь мачтой и якорем, что лучше бойца во всей команде не найти и что он должен выручить Хенка. Пришлось его тоже взять. Воин из Морти был так себе, но Серова не покидало ощущение, что этот парень в воде не тонет и в огне не горит и что веревку для него еще не намылили. Вместе с Серовым и Хрипатым пришельцев из Вест-Индии получилось ровно чертова дюжина, тринадцать человек, а к ним — де Пернель, мальтийский рыцарь, и пара темных лошадок, Деласкес и Абдалла. Из уроженцев Мальты Серов отобрал тридцать восемь молодцов, свободно говоривших на арабском и неотличимых видом что от алжирцев, что от тунисцев. Были они смуглые, сухощавые, темноволосые, по реям лазали лучше обезьян, а спать ложились в обнимку с тесаком и мушкетом. Вполне пристойная команда! Хотя на Балтику с ними Серов бы не пошел — снега да вьюги нагнали бы тоску на любого жителя Средиземья. Перед отходом Тегг отозвал его в сторону, зыркнул глазом — не слышит ли кто, и вымолвил: — Прими, Андре, последний совет. Эти парни с Мальты — люди нам чужие, и если кого заподозришь, если почуешь что-то странное, не доискивайся правды, не бей линьками, а сразу стреляй. Покойный Брукс так делал, и потому все ходили у него по струнке. Раз кого-нибудь пристрелишь, и эти тоже будут так ходить. Нашим скажи, чтобы держали курки на взводе и сабли под рукой. Наших у тебя двенадцать рыл — в случае чего, пустят кровь хоть всем мальтийцам! Пустят, клянусь подштанниками Господа! Серов уважительно кивнул — Теггу случалось бывать в таких разборках и передрягах, какие ему, корсару с крохотным стажем, и не снились. Он повернулся, осмотрел причаленную к «Ворону» бригантину, Деласкеса, стоявшего у штурвала, смуглых мореходов в чалмах, что суетились на палубе, и сказал: — Ты прав, Сэмсон, в команде должен быть порядок. Может, пристрелить кого-нибудь без всяких подозрений? Terr вздернул острый подбородок: — Смеешься, капитан? А я тебе вот что скажу: драться ты горазд и командуешь отменно, но сердце у тебя мягкое, будто явился ты из царства пресвитера Иоанна[524]. Страны такой, как нынче ведомо, нет, а если бы была, так мы бы ее отыскали, содрали золото с крыш, растрясли сундуки и утопили пресвитера в гальюне. Тот побеждает, кто жесток! — Бомбардир понизил голос и шепнул Серову в ухо: — Если самому стрелять противно, ты Хрипатому мигни — тут же глотку перережет. И за этими двумя приглядывай, за Мартином и Абдаллой. Ну, на их счет я Бобу сделал наставление… Выслушав эти советы, Серов перебрался на палубу «Хариса» и, дождавшись глухой ночной поры, велел поднимать паруса. Выбрали якорь, поставили кливер, и бригантина канула в море словно призрачная тень, словно клочок тумана, унесенный ветром. Шли на северо-запад, к Тунису, до которого было двести сорок миль; там Серов хотел остановиться и проверить маскировку. Когда заалела заря, припомнилось Серову, что день нынче особенный: ровно год, как он появился в этом мире. Год! А казалось, что провел здесь всю жизнь.
Глава 12 ТУНИС
Тунис — «благоухающая невеста Магриба», как называют его арабы, — расположен на северном побережье на перешейке между себхой Седжуми и громадным мелководным (глубиной менее метра) лагунным озером Эль-Бахира, отделяющим город от Средиземного моря. Серо-зеленые воды этого озера, где некогда сталкивались флоты карфагенян и римлян, ныне оживляются только стремительными чайками и спокойно стоящими в воде розовыми фламинго.Б. Е. Косолапов. Тунис (Москва, 1958 г.)
На смену марту шел апрель, и море у африканских берегов было лазурным, тихим и обманчиво-ласковым. Будто не резали его в далекие годы узкие карфагенские триремы, не сталкивались с кораблями римлян, дробя таранами обшивку, не отправлялись вместе на дно; будто не плавали тут пираты с Корсики, Сардинии и Сицилии, хватая в этих водах добычу и рабов; будто не шли тут суда крестоносцев курсом на Святую Землю, полные рыцарей, оруженосцев и стрелков; будто не грохотали здесь пушки, и будто нынешний покой был свидетельством мира, а не ложным фантомом. Горе тому, кто в это поверит! Горе, если кормчий задремал, если орудия не заряжены, а команда отложила топоры и сабли! Выскользнет из-за мыса быстрая шебека, плеснет веслами, догонит, ужалит чугунным ядром, пошлет в мореходов свинцовый ливень; а после вопьются в планшир стальные крючья и хлынет на палубу хищная орда. Нет от нее спасения, и нет пощады! А потому выбирай, моряк: или неволя и рабская доля, или честная смерть. Прихватишь с собой пару-другую басурман, вот тебе и оправдание перед Господом за все грехи; тебе — рай, а басурманам — преисподняя… — Тихо, — сказал де Пернель, всматриваясь в поросший пальмами и лавром берег. Зеленая равнина тянулась вглубь суши на несколько миль, и за ней в ярком солнечном свете вставали горы. — Тихо! — повторил рыцарь. — А ведь в былые времена… Вам знакома история сих мест, маркиз? — Разумеется. — Отняв подзорную трубу от глаза, Серов хлопнул ею о ладонь. — Здесь легионы Сципиона Африканского разбили Ганнибала и сокрушили Карфаген, великий древний город. Где-то там, на берегу, его развалины… Рим владел Африкой лет шестьсот, затем в эти края вторглись вандалы, а еще через пару веков пришли магометане. Мне рассказывал об этом духовник отца… Мудрый был старец! — Но и вас, его ученика, Бог одарил усердием и отличной памятью, — произнес де Пернель, потом наклонился к Серову и прошептал: — Что было, мессир, то прошло… А что будет? Не подскажет ли этого ваш пророческий дар? — Будет, что всегда, — хмуро буркнул Серов. — Войны, мятежи, резня и разорение… Не надо быть пророком для такого предсказания. Хотя… — Он сощурился, увидев, как разорвалась стена зелени и вдали возникли белые городские стены. — Хотя со временем, командор, страсти поутихнут. — Хвала Иисусу! Но осмелюсь спросить: со временем — это когда? — Лет через триста, — пояснил Серов и, чтобы не вдаваться в печальную тему, добавил: — Из нас получились два великолепных ренегата, де Пернель! Вы знаете,что вам очень идет чалма? А эти малиновые штаны просто бесподобны! Сам он тоже был в чалме, в мягких сапожках и широких турецких шароварах, только синего цвета. Бархатная безрукавка оставляла открытыми руки и грудь, талию перетягивал скрученный в жгут шелковый пояс, и за ним торчали ятаган и пистолеты. Хрипатый Боб и Брюс Кук, помощники рейса Мустафы, тоже имели полный комплект одежд, от тюрбанов до сапог, остальным же хватило нижней половины, штанов и сандалий. Но при оружии были все, и ни первый, ни второй взгляд не отличил бы команду «Хариса» от настоящих магрибских пиратов. Город лежал на западе, за мелкой, похожей на озеро лагуной. Ее заполняли рыбачьи лодки и баркасы, темные точки и черточки на огромной серо-зеленой поверхности; в воздухе витал запах рыбы, терпкий аромат гниющих водорослей и соленой воды. Вдоль берега, на рейде или у причалов, виднелись торговые и боевые корабли числом в несколько десятков; их мачты и реи были почти незаметны на фоне пальмовых стволов и сочной зелени. Дальше за кораблями, пристанями и подступавшими к воде складами, харчевнями и мастерскими, возвышался обширный холм, скорее даже, гора, будто бы усыпанная снегом или тщательно выбеленной шерстью. Холм венчала цитадель-касба, от которой сбегали вниз крутые улочки и переулки — хаос белых построек, домов и крытых галерей, а над ними — пухлые купола мечетей и минареты, тонкие, как карандаши. Хрипатый, стоявший с Абдаллой у штурвала, сплюнул через борт и презрительно сморщился: — Это на мор-ре не похоже, хр-р… Что за лужа? — Эль-Бахира[525], — пояснил мавр, делая плавный жест рукой. — А вышэ, на тот холм — аль-мадина[526], старый город. Круглый бэлый крыша — мэчет. Самый болшой, самый старый, самый знамэнитый — мэчет Эль-Зитуна! — Ты бывал здесь, Абдалла? — спросил Серов. — Да, мой капитан. Нэт в Магрибэ мэста, где нэ ступат моя нога. Бригантина, пересекая мелкое озеро, осторожно пробиралась среди рыбачьих челнов. По знаку мавра, Хрипатый, стоявший дневную вахту, велел спускать паруса. Полуголые смуглые мальтийцы полезли на мачты, дюжина корсаров во главе с Брюсом Куком рассредоточились вдоль бортов — все при оружии. Серов снова поднял трубу. К северу от города лежали руины древнего акведука, за ними вставали зеленые холмы с рощами диких олив; среди их серебристых крон и узловатых стволов белели купола гробниц, кое-где бродили по склонам овцы и виднелись клочки небольших полей. Возвышенность с городом и крепостью заслоняла часть пейзажа, но, вероятно, за ней тянулась до самых гор такая же холмистая равнина. Приближался берег — каменистый откос с пальмами, причалами, лодками, мелкими судами и толпами народа. Люди гомонили, тащили корзины с рыбой и еще какой-то груз, размахивали руками, торговались; временами их выкрики перекрывал протяжный вопль осла. Женщин видно не было; у воды суетились только мужчины, одетые в белые рубахи и просторные шаровары. Иногда взгляд выхватывал то стражников в кольчугах, то богатый халат купца, то водоноса с кувшином, то группу вооруженных молодцов, по внешности — явных пиратов. Спустили кливер, Хрипатый рявкнул команду, и якорь с плеском пошел на дно. — Мартин! — позвал Серов. — Что дальше? Подошел Деласкес — такой же смуглый и темноволосый, как остальные мальтийцы: — Приедут стражники, дон капитан. Каждому нужно дать два серебряных куруша. Тогда они позволят нам сойти на берег и принести дары начальнику порта. — А бею? Деласкес усмехнулся: — Мы слишком мелкие люди, чтобы нас допустили к владыке, но ему, конечно, тоже положен бакшиш. Его отдадим начальнику. Правда, никто не знает, достанется ли бею хотя бы часть этого дара. — Ну, то не наше дело, — сказал Серов, глядя, как от пристани отвалила лодка с тремя стражами. Арабы, не турки, отметил он; видно, для турок служить в портовой охране считалось зазорным. Стражники на палубу не поднялись — обменялись парой фраз с Деласкесом, получили свою мзду и отбыли восвояси. — Начальник ждет синьора капитана с подношением, — пояснил Мартин Деласкес. — После этого можно выгружать товар. Начальник его осмотрит и возьмет седьмую часть. — Седьмую часть! Лихоимцы, псы помойные! — прорычал Хрипатый. — На Тор-ртуге бр-рали десятину! — Успокойся. — Серов похлопал боцмана по широкой спине. — Здесь мы разгружаться не будем. Спустили шлюпку, а в нее — три ларца и длинный сверток. На весла сели мальтийцы, Серов, де Пернель и Деласкес разместились на носу и корме. Хрипатый, оставшийся на «Харисе», сорвал чалму, хлопнул ею о колено и пробормотал проклятие — ему было жалко ларцов, как и тех серебряных монет, что пошли стражникам. Лодка уткнулась в мелкую гальку, и Мартин спрыгнул на берег. — Сюда, дон капитан, и вы, сэр рыцарь… Стражи сказали, что смотритель порта сидит вон в той кофейне. — Непыльная у него работа, — произнес Серов, покидая шлюпку. Впереди, прокладывая дорогу в толпе рыбаков и грузчиков, шли Деласкес и два мальтийца, за ними — ага рейс со своим помощником; еще четыре морехода, тащивших подарки, замыкали шествие. На рейде, меж шебек, фелюк и тартан, стояли два торговых судна под французским флагом, и среди мельтешивших вокруг смуглокожих людей изредка встречались европейцы — то ли предатели-ренегаты, то ли честные скупщики краденого. Разглядев их, Серов совсем успокоился, поправил на голове чалму и буркнул на арабском: «Аллах велик!» Кофейня, находившаяся в кубическом строении из беленого кирпича, была чистой, прохладной и совершенно пустой — видимо, смотритель ее абонировал под свою штаб-квартиру. Он тоже оказался магрибцем, а не турком — сонным на вид толстяком в широком белом балахоне, поверх которого был накручен полосатый шелковый хаик. Как положено чиновнику во все времена и в любой стране, он занимался важным делом: пил кофе и курил кальян. При виде Серова и его спутников с ларцами глазки смотрителя заблестели; он отложил мундштук кальяна и поинтересовался: — Инглези? Франк? Деласкес ответил, низко кланяясь, и физиономия смотрителя расплылась в улыбке. — Как приятно встретить правоверных из людей севера! — молвил он на приличном французском. — Садись на эту подушку, почтенный рейс! И ты садись, ага помощник! — Смотритель хлопнул в ладоши и приказал слуге, возникшему словно из-под земли: — Кофе! — Потом его взор вновь обратился к Серову: — Скажи мне, рейс Мустафа, давно ли Аллах зажег свет истины в твоей душе? А заодно поведай, кто ты и откуда. — Я жил в Марселе, эфенди, возил из Испании табак, вино и всякие иные мелочи, — сказал Серов. — Работал много, но был беднее последнего гяура, ибо вера моя не являлась истинной, а тем, кто заблуждается, Аллах не благоволит. Но два года и четыре месяца назад, попав случайно в Эль-Хосейму, я задумался о бедственной своей судьбе, пришел в мечеть, пал на колени и трижды возгласил: нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — Его Пророк! С той поры дела мои поправились, и теперь я владею кораблем, храброй командой и ценным грузом. История была вполне правдивая: мелкий контрабандист из Марселя, став мусульманином и пиратом, разжился кораблем и сколотил шайку, чтобы грабить бывших единоверцев. Вероятно, смотритель уже выслушивал нечто подобное; его глазки утонули в складках жира, руки взметнулись вверх, а голова склонилась над пузатым кальяном. — Аллах дает, Аллах берет, Аллах посылает и отнимает, и все в Его руках и Его воле! — пробормотал он. — Что же послал тебе Аллах на этот раз? Надеюсь, твои трюмы не пусты? — В них английское сукно, но торговать им здесь я не буду, — молвил Серов. — Я должен поставить эти ткани моему приятелю, купцу из Аль-Джезаира. Аллах не любит тех, кто нарушает обещанное. Любезность чиновника как водой смыло — он лишался изрядных доходов. С раздражением отодвинув кальян, смотритель стиснул пухлые кулаки и грозно уставился на Серова. — Здесь правит великий бей, потомок Хусейнидов![527] И наш город ничем не уступит Аль-Джезаиру! — прошипел он. — Зачем ты пришел сюда, Мустафа, если не хочешь торговать на нашем базаре и платить пошлину нашему бею? — Единственно, чтобы склониться перед великим беем и принести дары ему и тебе. — Серов щелкнул пальцами, и его мореходы раскрыли три ларца. — Здесь серебро для тебя, золото для бея и украшения его прекрасным женам. Кроме того, сабля, усыпанная индийскими рубинами, достойная руки владык… — Он вытащил из свертка драгоценное оружие. — Не гневайся, почтенный, прими мой скромный дар и позволь моим людям сойти на берег. Мы месяц в море, и нам нужны свежая вода и хорошая пища. Лицо смотрителя разгладилось. Он внимательно оглядел ларцы, будто взвешивая их содержимое, и с довольным видом кивнул: — Я вижу твое почтение к великому бею… Можешь отправить своих людей за припасами, водой и всем, что тебе угодно. Ты поступил как истинный мудрец, пожелав приобрести необходимое в этом городе, чьи стены крепки, а воины многочисленны. Аллах тебе благоволит! Не советую приставать к берегу в других местах — ни в Табарке, ни в Джиджелли, Беджайе или Деллисе[528]. Иди прямо в Аль-Джезаир! — Я последую твоему совету, эфенди, — сказал Серов и после паузы спросил: — А что случилось в Табарке и прочих городах? Какие-то неприятности? — Аллах наслал на них кару — разбойников с гор. Обычно племена этих пожирателей праха трепещут перед силой правоверных, но случается, что какой-то их вождь, пес из псов, вдруг возомнит о себе и, собрав сотню-другую дикарей, спустится с гор на равнину. — Смотритель смолк, провел по лицу ладонями и погрузился в молитву. Потом заметил: — Диких горцев видели со стен Джиджелли, а окрестности Беджайи они разграбили. Не высаживайся там на берег, Мустафа. И да хранит тебя Аллах! С этими словами чиновник запустил пятерню в ларец с золотом, и Серов понял, что аудиенция окончена. Они с де Пернелем выпили кофе из крохотных чашечек, отвесили низкие поклоны и, дружно помянув Аллаха, вышли из кофейни. — Вы настоящий лицедей, маркиз, — промолвил рыцарь. — Я бы не смог устроить такое представление. — Доля внебрачного сына тяжела, — ответил Серов. — Требуются разные умения, если хочешь выжить. — Он тронул за плечо Деласкеса. — Кстати, Мартин… Что за дикие горцы, про которых толковала эта жирная вошь? — Берберы, мессир капитан. Я вам о них рассказывал… В горах и пустыне живет много берберских племен, но самое грозное и воинственное из всех — кабилы. Думаю, что смотритель говорил о кабилах. Они верят в Аллаха, но обычаи у горцев прежние, и арабы с турками для них добыча, как и другие люди, живущие у моря. Тунис и Алжир слишком сильны и велики, их кабилам не взять, но малые города страшатся их больше, чем Иблиса. — Ну и ладно, — сказал Серов. — Нам делить с кабилами нечего: мы — в море, они — на суше. Вернувшись на корабль, он послал на берег почти всю команду, приказав, чтобы парни Хрипатого и Кука ходили только в компании двух-трех мальтийцев. Для вида им полагалось закупить провиант, а на самом деле — пройти по базару, по лавкам, кофейням и харчевням и осторожно расспросить про Карамана Одноухого. Был ли этот рейс в Тунисе? Если был, то когда и с кем? Упоминал ли о пленных и особенно — о девушке, предназначенной алжирскому дею?.. Побывав в Чечне, стране полувосточной, Серов убедился в верности пословицы: чего не знают эмиры и султаны, то ведомо всему базару. Может быть, его посланцы услышат нечто полезное, найдут какие-то зацепки… Он не хотел рисковать. Вдруг Караман решит, что лучше подарить красавицу Сайли не дею Алжира, а бею Туниса?.. Оставив на «Харисе» де Пернеля с Олафом, Стигом и Эриком (братья-датчане были слишком приметны), Серов и сам отправился в город, а в напарники взял Деласкеса с Абдаллой и Жака Герена, черноволосого смуглого француза. Они бродили по узким улочкам древней каменной медины, заглядывали в лавки златококузнецов и оружейников, прошлись вдоль крепостной стены касбы, осмотрели Великую Мечеть Эль-Зитуна и медресе при ней — там, по легенде, когда-то росло волшебное оливковое дерево. На базаре и в бесчисленных мастерских лепили горшки, мяли кожу антилоп, шили одеяния и туфли, давили масло из оливок, ткали ковры, чеканили сосуды из серебра и меди; грохот молотков смешивался с криками торгующих, скрипом давилен и ревом животных. Прилавки и повозки ломились от корзин с миндалем, финиками, яблоками, персиками, лимонами; ароматы фруктов сменялись вонью кож и бычьего помета или острым пряным запахом жаркого из барашка. Многие улицы были прикрыты галереями, спасавшими от солнца в полуденный зной, — сотни колонн поддерживали округлый свод, и сквозь широкие арки виднелись озеро Эль-Бахира, лодки и корабли или покрытая зелеными холмами равнина, плавно поднимавшаяся к горам. По крутым проездам гнали на базар овец, трусили ослики с поклажей и важно шествовали верблюды, свысока поглядывая на людей, ослов и прочих мелких тварей. У врат мечети, выложенных изразцами, Герена толкнул рослый бородатый турок с отвисшим животом. Жак выругался и стиснул кулаки, но Серов покачал головой — святое место для драк и скандалов не подходило. Впрочем, поучить османа вежливости не возбранялось, и вчетвером они оттеснили его в узкую улочку, к глухой стене жилого дома. Абдалла, ненавидевший турок, ухватил незнакомца за бороду, Герен вытащил нож, а Серов уставился на щель между домами, прикидывая, влезет ли в нее толстяк-покойник. Но не успел клинок Герена вспороть халат, как турок завопил на английском, обдавая их запахом перегара: — Христовы костыли! Своих резать? Вы что, братва, совсем очумели! Рука Герена замерла. Серов всмотрелся в разбойничью рожу незнакомца. На араба тот явно не походил — физиономия широкая, борода густая, нос сворочен на бок, рожа цвета кирпича и губы, как лепешки. Натуральный турок! В видавшем виды полосатом халате, пыльной чалме и с кривым ятаганом за поясом. — Отпусти его, Абдалла, а ты, Жак, убери нож, — распорядился Серов. Потом ткнул османа в грудь: — Ты кто таков, прохиндей? И чем промышляешь? — Махмуд Челеби, ныне верный сын Аллаха, — сообщил толстяк. — Но в юные годы, в Уолласи, что под Ливерпулем, был крещен Майком Черрилом. По роду занятий — купец. — Надо же! И я купец, — произнес Серов, догадавшись, что видит европейца-ренегата. — И тоже Аллахов сын по имени Мустафа. — Такую встречу нужно обмыть, — сказал Майк-Махмуд, покосившись на спутников Серова. — Я гляжу, с тобой еще трое, и все — купцы, если судить по их ухваткам. Парни, вы ведь не шербетом пробавляетесь? Или я не прав? Сунув кинжал в ножны, Герен буркнул: — Это от тебя разит как из бочки, приятель, а мы вина не пьем. Аллах запрещает. Махмуд потер свой кривоватый нос: — Сразу видать, что вы обратились недавно и рыскаете на курсе, как судно в галфвинд. Надо изучать Коран и Божьи заповеди! Аллах не велел пить вина, а про джин и ром не сказал ни слова. Это большая милость с его стороны и повод надраться. Есть тут одно местечко… зовется «Ашна»…[529] — Веди, — кивнул Серов, и через пять минут они окунулись в суету базара. Махмуд шел уверенно, словно гончий пес по следу кролика — похоже, в «Ашне» он бывал не раз и мог найти дорогу хоть с закрытыми глазами. Встречные и поперечные отскакивали от его брюха как от огромного упругого мяча; тех, кто не успел посторониться, сын Аллаха из Уолласи швырял на прилавки и корзины с фруктами, а то и под верблюжьи копыта. Видимо, туркам это дозволялось. Они вступили на улицу, крытую галереей, и лжеосман, оглянувшись, протиснулся в незаметную щель в беленой стене. За нею зигзагом шел темный узкий коридор, кончавшийся крутыми ступенями. Серову показалось, что он спускается куда-то вглубь холма, на котором был выстроен город, в некое тайное подземелье, замаскированный бункер. Очевидно, это было недалеко от истины — хотя Аллах не вспомнил про ром и джин, в Магрибе за торговлю спиртным сажали на кол. Отдернулась тяжелая шерстяная занавеска, и в ноздри ударило приторным сладковатым ароматом. Вдоль стен большой квадратной комнаты, скудно освещенной двумя фонарями, сидели и лежали на коврах мужчины, — все, как один, в полной прострации. Вился в полутьме дымок, булькала и сипела вода в кальянах, слышались хриплое дыхание и стоны блаженства. Опиумокурильня, догадался Серов. — Нам дальше, братва, — проинформировал толстяк, увлекая их в более освещенную каморку. Тут были две двери с засовами, стол, табуреты, десяток зажженных свечей и потертый ковер на каменном полу — вполне приличное убранство для тайного притона алкоголиков. В дверь, что вела в курильню, просунулся старик в чалме — то ли чауш[530], то ли хозяин заведения. Махмуд буркнул что-то на арабском, Абдалла добавил, и толстяк поморщился: — А ты, похоже, настоящий сарацин! Ну, хочешь кофе, будет тебе кофе… Только, парни, я сейчас не при деньгах, поиздержался малость. Но клянусь бородой пророка, при случае отдам! А лучше выпивку поставлю! — Забудь, — сказал Серов. — В наших карманах кое-что еще бренчит. На столе с похвальной скоростью возникли кружки, две бутылки можжевелого джина, блюдо с мясом барашка и круглый тонкий хлеб. Абдалле старик принес дымящийся кофейник. — Значит, ты купец, почтенный Мустафа, — молвил Махмуд, разливая спиртное. — И где же ты ведешь свои коммерческие операции? — Большей частью за Гибралтаром, — пояснил Серов. — Торгую с кастильцами да португальцами. — Хе-хе! — Джин забулькал в глотке толстяка. — С кастильцами, значит, торгуешь! С кастильцами да португальцами! Ты им, значит, ядра и пули, а они тебе — золото и серебро! И где товар берешь? На подходе к Кадису и Лиссабону? — У каждого свои угодья, Махмуд. Наша торговля тогда прибыльна, когда нет лишней болтовни. — Это верно, Мустафа. А я вот, — толстяк запустил пальцы в бороду и понурился, — я вот нынче не у дел… нет, не у дел… А ведь с какими людьми плавал! С какими добытчиками, с какими кровопийцами! С Сала-Реисом, Юсефом ад-Дауда и самим Абу Муслимом! Эти с кем только торговлю не вели! И с кастильцами, и с генуэзцами, и с марсельцами да тулонцами! Само собой, с венецианцами тоже… Да, были времена! Серов молча пригубил из кружки и строго зыркнул на Герена — чтобы не увлекался. За Деласкеса можно было не тревожиться — тот цедил спиртное по капле, поглядывал на лжеосмана и что-то проворачивал в уме. Абдалла, держа крохотную чашечку тремя пальцами, наслаждался ароматом кофе. Принялись за барашка, и Махмуд, обглодав мясо с ноги, произнес: — У Сала-Рейса я присматривал за гребцами, а у Юсефа и Муслима был канониром. Тебе не нужен пушкарь, Мустафа? Или надсмотрщик? У меня гребцы не зажиреют… — Он вытер сальные руки о халат и отпил из кружки. — Я, знаешь ли, бичом до кости прошибу! Я… — На моем судне нет гребцов. Парусный корабль, бригантина… Ты слишком отяжелел, Махмуд, чтобы лазать по мачтам. Но если ты хороший канонир, мы можем договориться. — Со ста ярдов выбью глаз воробью! Кружка взлетела вверх, джин снова булькнул в горле лжеосмана. Серов покосился на Деласкеса — тот едва заметно покачал головой. Но это предостережение было лишним; нанимать толстого пьянчугу он не собирался. Другое дело, угостить и расспросить. Серов мигнул Деласкесу, и тот наполнил кружку Махмуда. — Тебе довелось плавать только с тремя капитанами? С Сала-Реисом, Юсефом и Муслимом? — Были и д-другие. — Язык у ренегата слегка заплетался. — Б-были, б-были, как н-не б-быть… В этих краях я уж-же с-семнадцать лет… — Ибрагима Карамана знаешь? Карамана по прозвищу Одноухий Дьявол? — С-слышал о таком, но к н-нему не н-нанимался. А ч-что? — Очень мне нужен этот Караман, — сообщил Серов. — Счет за ним неоплаченный… Случайно он в Тунис не заходил? Месяца два-три назад? — Н-нет. Я бы з-знал. Я с-слежу за всеми к-кораблями в гавани. — Махмуд выпил и осведомился: — А ч-что за счет у т-тебя к Караману? — Сошлись мы с ним в Эс-Сувейре, что в Марокко, и поспорили, чей клинок острее. — Серов огладил рукоять своего ятагана. — Спорили при свидетелях и на деньги. Караман рассек саблей газовый шарф, а я — волос одной гурии… Меня признали победителем, но Караман денег не отдал, а той же ночью улизнул из Эс-Сувейры. — Эт-то с-серь-рьезно, — согласился Махмуд и присосался к кружке. Потом спросил: — Н-на б-болыпие деньги с-сп… с-спор-рили? — На один серебряный куруш. Но, сам понимаешь, дело чести. — П-пра-авильно! — Махмуд хотел ударить по столу кулаком, но промахнулся и врезал себе по колену. — Ч-честь пр… пр… прежде в-всего! К-клянусь Аллахом! — Значит, не было его в Тунисе? — Н-нет. Точно, н-нет! 3-зато им… им… имеются д-дру-гие н-новости! — Расскажи. И Махмуд, сопя и запинаясь, принялся рассказывать. О том, что любимая белая верблюдица бея родила двухголового верблюжонка; о том, что в Стамбуле, лишившись своих привилегий, бунтуют янычары, грозятся поднять султана на копья; о том, что евнух из гарема кади вдруг оказался вовсе не евнухом и ему залили в задницу свинец; о том, что в горах появилась банда разбойников-берберов, которые режут всех без пощады, а главарь той банды зовется Турбат, что на арабском значит «могила». Серов послушал-послушал, плюнул и полез в кошель за поясом. Достал горсть серебра, бросил на стол и произнес: — Нам пора, Махмуд. Доедай, допивай, плати, а что останется — твое. — Так к-ха… кханонир т-тебе нуж-жен, М-муста-фа? — спросил ренегат, еле ворочая языком. — Приходи в порт завтра на заре. Обсудим. Серов направился к двери, ведущей в опиумокурильню, но Махмуд что-то захрипел, тыкая пальцем в другую дверь: — Н-не сюда… В-вх-ход в од-дну дверь, в-вых-ход — в д-другую… За этой дверью тоже были ступеньки и длинный узкий проход, ведущий к базарной площади. Потолкавшись среди ковровых рядов, лавок с украшениями и мастерских чеканщиков, Серов вернулся на корабль часа за три до заката. Экипаж был в полном сборе. Он выслушал новости, но ни единого слова о Шейле, Стуре, Карамане люди его не принесли. На базаре толковали все о том же — о двухголовом верблюжонке, шустром евнухе кади, разбойнике Турбате, а также о янычарах, вопивших в Стамбуле: «Казан калдымак!»[531] Когда на город пала ночь и в небесах зажглись первые звезды, бригантина тихо снялась с якоря, прошла озером Эль-Бахира к морю и повернула на север, огибая выступ африканского берега. К полудню следующего дня слева по курсу появился город, окруженный садами, пальмовыми рощами и плантациями олив. Город был невелик, но зелен и чист. Серов разглядел в подзорную трубу дома европейской и мавританской архитектуры, порт, где на рейде стояла дюжина парусников, и крепость с башнями, высокими бастионами и пушками, что глядели на все стороны света. Над крепостью развевался французский флаг, и золотые королевские лилии гордо сверкали в жарких солнечных лучах. — Ла-Каль? — спросил Серов у де Пернеля, и тот согласно кивнул: — Ла-Каль. Французское поселение. До Алжира оставалось 270 миль.
Часть 3 АЛЖИРСКАЯ ЗЕМАЯ
Глава 13 АЛЖИР
Несмотря на все договоры, дани, подарки, Алжир все-таки казался ненасытным, и пираты доводили донельзя дерзость своих набегов. Несколько месяцев после договора они уже нападали на английские корабли, а в 1685 году без всякого зазрения совести стали брать корабли французские. Тогда эскадра под начальством маршала д’Эстре выступила в море и бросила якорь в виду Алжира в конце июня 1688 года. Огонь с галиотов не прерывался в продолжении двух недель и произвел в Алжире страшные опустошения. Десять тысяч бомб были брошены в него в это время, они опрокинули множество домов, убили большое число жителей, потопили пять кораблей и сбили маяк. Но эти опустошения, вместо того чтобы привести в покорность алжирцев, произвели новые бесчеловечия. Отец Монмассон, священник, сделался первой жертвой, потом предали одного за другим смерти пред жерлами пушек французского консула Пюлля, еще одного священника, семь капитанов и тридцать матросов.Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
Сидя на плоской кровле небольшого особняка, Серов глядел на раскинувшийся внизу город. На славный Аль-Джезаир, гордость Магриба, построенный семь столетий назад эмиром Заиром… С моря он выглядел великолепно, даже ослепительно. Алжир поднимался амфитеатром по склону горы и, как многие другие магрибские города, был похож на белоснежную кошму, окаймленную снизу лазурными водами залива, а с прочих сторон — зеленью садов и рощ. Город будто вырастал из моря; над белой массой домов, брошенных на берег словно пена, блестели купола мечетей, минареты, соперничая стройностью с кипарисами, тянулись к солнцу, а выше вставали стены касбы и дворца дея, с огромным корабельным фонарем, водруженным на кровле. Этот фонарь напоминал, что богатство в Алжир приходит с моря, что везут сокровища и рабов в трюмах пиратских шебек и что с каждого куруша, талера, дуката дей взимает законную дань. За городом, охватывая залив и прибрежную местность, гигантской подковой синели горы. Самые высокие и величественные — на востоке, где начиналась земля кабилов. Среди них как великан-предводитель в более мелком воинстве — хребет Джурджуры, с вершинами, покрытыми снегом, окутанными туманами. Ниже линии льдов и снегов тянулись коричневатые обрывистые склоны, переходившие в изумрудную зелень высокогорных лугов и дремучий лес. Белое, зеленое, коричневое, под серебристой вуалью туманов… Яркие краски, блеск лазурных вод, небо, как полированная бирюза… Да, с моря Алжир выглядел великолепным! С крыши особняка, вознесенного на склон горы, вид открывался иной. Улицы, круто сбегавшие вниз, были грязными, узкими, извилистыми, напоминавшими мрачные ущелья, стиснутые домами; люди еще могли на них разойтись, но пара ослов — уже с большим трудом. Дома высотой в три-четыре этажа походили на кубики, слепленные из глины и побеленные еще в незапамятные времена; их стены были глухими, и только под крышей удавалось разглядеть пару-другую окон, забранных решетками. Ниже по склону, куда доставали ядра с кораблей, виднелись развалины, следы безжалостной бомбардировки. Повыше, где находился особняк, снятый Деласкесом у местного купца, руин не замечалось и улицы выглядели попригляднее. В этом квартале, примыкавшем к стенам цитадели и дворцу дея, селилась местная знать и крупные торговцы; здесь было просторнее, и на небольших площадях, к которым сходились улицы, жизнь била ключом — в основном в кофейнях, лавках и у артезианских колодцев. «Сколь часто видимая издалека красота вблизи оборачивается нищетой и уродством», — подумал Серов и вздохнул. Он находился в Алжире уже двенадцать дней и был им сыт по горло. Город напоминал ему палубы фрегата, переполненные людьми — та же теснота и скученность, тот же гомон многих голосов, а вдобавок — запах пищи и фекалий. Нет, на корабле все-таки лучше! Там непотребную вонь уносит ветер, и нет верблюдов и ослов с их диким ревом! Де Пернель, сидевший напротив Серова на жесткой подушке, вытер пот со лба и прищурился на солнце. — Он скоро придет, капитан, он точный человек. Хвала Господу, близится вечерний час, и жара стала поменьше… Может быть, еще кофе? — Нет. — Серов решительно отодвинул низкий шестиугольный столик с чашками и кофейником и произнес: — Кофе в таких количествах вреден. Лучше поведайте мне, командор, откуда там, внизу, развалины. Похоже, били из стволов крупного калибра… Давно? — Лет четырнадцать назад, — ответил де Пернель и принялся, уже не в первый раз, излагать новейшую историю Алжира. Для ордена это пиратское гнездо было бельмом на глазу, и для французов и испанцев тоже. Правда, «король-солнце» Людовик заигрывал с алжирскими деями и держал при них своего посла, терпевшего изрядные поношения. Опасная была должность; случалось, вешали послу на шею чью-нибудь отрубленную голову или привязывали к пушке и грозились пальнуть по французским фрегатам, если те не уберутся прочь. За такие бесчинства французский флот дважды громил Алжир, и каждый раз весьма капитально; в 1683 году это проделал адмирал Дюкен, а в 1688-м — адмирал д’Эстре. Бомбардировали с моря, не жалея ядер и пороха, били во всю мощь и на всю дистанцию пушечных залпов, благо море в этих краях глубокое, и корабли могут приблизиться к берегу. Во время первого погрома горожане, не выдержав страшной стрельбы, восстали, зарезали дея и поставили на его место пиратского рейса Хаджу Гассана по прозвищу Мертвая Голова. Хаджа Гассан отбил атаки Дюкена и д’Эстре, но потом бежал из Алжира, опасаясь нового бунта. После него правил дей Шабан, которого горожане тоже зарезали, а нынче владыкой над Алжиром был дей Гассан Чауш[532]. Ему, а также портовым властям, Серов поднес подарки, затем продал две трети английского сукна купцу, с которым договорился об аренде дома, и снова заплатил. Но треть товара приберег — были для этого основания. На крышу поднялся Рик Бразилец с докладом, что долгожданный гость у дверей. — Пусть идет сюда, — велел Серов. Абд аль Рахман, хоть был в годах, наверх забрался с легкостью. Сухощавый, с редкой седоватой бородкой, он, как и положено лазутчику, обладал внешностью ординарной и неприметной; таких в Алжире на десяток считалась дюжина. Де Пернель разыскал его в торговых рядах, сказал тайное слово от мессира Рокафуля и передал кошель с золотом — это уже от Серова. Получив приказ и деньги, аль Рахман, резидент шпионской сети ордена в Алжире, послал шустрых и ловких парней взглянуть на Карамановы владения. Где его усадьба, он представлял вполне. — Благословен Аллах! — произнес аль Рахман и, скрестив ноги, уселся на подушку. Кроме арабского и турецкого, он неплохо говорил на трех европейских языках — на английском, французском и испанском. — Воистину благословен! — хором откликнулись Серов и де Пернель. Рик подал горячий кофейник, Абд аль Рахман пригубил первую чашку и сказал: — Девяносто курушей за сверток пойдет? — Сто двадцать, и ни курушем меньше! — ответил Серов. — Прокляни меня Аллах, если я уступлю хоть одну акче! Считалось, что аль Рахман ходит к рейсу Мустафе и его помощнику Пиркули, чтобы сторговать оставшееся сукно. Первая его цена была семьдесят курушей за рулон ткани, а Мустафа и Пиркули требовали сто пятьдесят. За десять последних дней цены несколько сблизились, но консенсус был еще далекой перспективой. На крышу поднялись Деласкес и Хрипатый Боб, уселись на подушки — Мартин с привычной ловкостью, а Боб трижды проклял дом, в котором нет ни единого стула. Аль Рахман неторопливо прихлебывал кофе, сопел и жмурился от удовольствия. В Алжире, как и положено в восточной стране, спешить не любили. Наконец лазутчик допил первую чашку и произнес: — Мои посланцы вернулись и принесли важные новости. Хвала Аллаху, все они целы. Никто не попался на глаза гиене Одноухому и его приблудным псам. — Это говорит о ловкости и искусстве твоих людей, — сказал Серов. — Они подобны змеям — так же стремительны, изворотливы и невидимы, — продолжил рыцарь де Пернель. — Аллах возлюбил их, скрыв от недостойных взоров, — добавил Мартин Деласкес. Но аль Рахман молчал, ибо все присутствующие должны были вознести хвалу его разведчикам. Вспомнив об этом, Серов покосился на Хрипатого. Тот нехотя буркнул: — Твои пар-рни молодцы. Хр-р… Я бы отвесил каждому по дюжине линьков, да вот нет подходящего инстр-румента. Хоть аль Рахман и был способен к языкам, но про линьки не знал и слова такого не ведал. Решив, что речь идет о награде, он благосклонно кивнул головой и принялся рассказывать. Поместье Карамана располагалось на побережье, милях в тридцати пяти к востоку от Алжира, и было чем-то вроде удельного княжества. В бухте, хорошо защищенной от зимних штормов, стояли восемь его кораблей, а на берегу раскинулась целая деревня, где жили мастера-корабельщики и другие умельцы, знавшие, как шить паруса, лить пули, чинить оружие и снаряжение. За этим поселением, ярдах в шестистах, стояли большие дома для экипажей, окруженные валом и частоколом, а дальше начинался господский сад с апельсиновыми и персиковыми деревьями, яблонями, сливами и прочей растительностью, дарившей плоды и тень в знойные дни. Караманова усадьба, большое трехэтажное строение в мавританском стиле, находилась в саду, и с юго-запада к ней примыкали конюшни, птичники, поварни и кладовые с всевозможными припасами. На юго-востоке, ближе к предгорьям, высилась сторожевая башня римских времен, заботливо подновленная и служившая тюрьмой для самых ценных пленников. Гребцов с галер держали в крепких сараях рядом с домами пиратов, трудившихся в саду рабов — в каморках у конюшен, а для свежего и еще не рассортированного улова предназначалась яма-зиндан около башни. К тюрьме и к дому Одноухого люди аль Рахмана подобраться не смогли, так как эта территория охранялась бдительной стражей и свирепыми псами. Лазутчики явились в деревню у бухты под видом ищущих работу подмастерьев и осмотрели укрепления в разбойничьем поселке, загоны для невольников-гребцов, сад и службы — от конюшен до последнего курятника. Еще послушали разговоры в кофейнях, у колодцев, в мастерских, и эта информация оказалась самой ценной. Ее аль Рахман приберег напоследок. — Госпожа, о которой ты спрашивал, похищенная Караманом, — да возьмет Иблис его душу! — точно в его доме. Еще зимой он повелел прислать из деревни опытных женщин и лучших повитух, и они находятся при той госпоже неотлучно, и даже к семьям их не отпускают. Но всем известно, что та госпожа — алмаз среди красавиц, махвеш, фезли, лямин![533] — Аль Рахман в порыве чувств поцеловал кончики пальцев. — Она предназначена в дар дею Гассану Чаушу после того, как разрешится от бремени. Дей об этом знает — так говорил мой человек во дворце, носитель опахала над владыкой. И еще он сказал, что дей ждет ее с нетерпением. Серов скрипнул зубами и пробормотал проклятие. Потом спросил: — Эта госпожа такая ценность, что дей отпустит за нее Караману все провинности? Кстати, в чем они состоят? Он не платил портовых сборов и пошлин? Абд аль Рахман важно погладил бороду: — Пошлины — это одно, и Караман, как многие рейсы, старался от них уклониться. Но есть за ним вина гораздо большая — он был приятелем прежнего дея Шабана и поддерживал его вооруженной рукой. Когда кишки Шабана все же увидели свет и власть досталась Гассану Чаушу, Караман решил, что новый дей долго не усидит во дворце, а значит, не нужно проявлять к нему почтения. Аллах видит, как он ошибся! Такую ошибку золотом не искупишь… ни золотом, ни дорогими камнями, ни благовониями или редкими тканями… Тут нужен особый дар! А дей Гассан Чауш падок на женщин — особенно на тех, у кого волосы светлые, а глаза голубые. — Падок… хр-р… не знает, что в девчонке кр-ровь Бр-рукса… Да она ему глотку в пер-рвую же ночь пер-рережет! — заметил Хрипатый, но для Серова это было слабым утешением. — Что узнали про других людей? — спросил он. — Я описал их тебе, почтенный аль Рахман. Их видели среди невольников? — Нет, мой господин. Я обещал своим помощникам по пять золотых в награду, и их зоркость превосходила зоркость сокола… Но похожих людей нет среди гребцов и тех, кто работает в саду, на конюшнях и в других местах. А еще я готов поклясться бородой пророка, что Караман — да сожрут его джинны! — не продал их на Бадестане[534]. Он привез много рабов и торговал ими зимой, но таких, как ты говорил, среди них не попалось. Должно быть, они сидят в зиндане или в башне. — Помоги Господь им и нам, — сказал де Пернель и перекрестился. — Если они в тюрьме, мы их выручим. — Это не так-то просто. — Покачивая головой, аль Рахман отхлебнул кофе. — Не так-то просто, мой господин, ибо мои посланцы, возвратившись, сообщили нечто странное. Я бы сказал, много странных вещей. — Он принялся перечислять, загибая пальцы: — Во-первых, все псы Карамана при нем, хотя обычно он отпускал их повеселиться в наш чудесный город. Но в этот раз не отпустил — кормит, поит и держит при себе! Во-вторых, в деревне толковали, а мои помощники слышали, что он получил весть о разорении своего дома на Джербе, и теперь стража у него удвоена, он рассылает дозорных на запад и восток, и особые люди следят за морскими водами. И наконец, в-третьих, он не вышел в море, хотя бури уже стихли, персиковые деревья расцвели, и многие рейсы отправились за добычей. Он ведет себя так, мои господа, словно боится мести какого-то могущественного человека… — Старый лазутчик погладил бороду, вскинул глаза вверх и будто про себя пробормотал: — Слышали во многих городах Магриба… я слышал и другие тоже… и, думаю, слышал Караман, пес из псов… Серов нахмурился: — Что слышали? Говори без недомолвок, почтенный! Мы тебе достаточно платим! — Слышали, что некий рейс Сирулла, явившийся из западных стран, разыскивает женщину по имени Сайли… Но это, клянусь Аллахом, не мое дело! К тому же я стар и быстро забываю имена. — Полезная привычка, — заметил Серов. — Значит, ты говоришь, что у Карамана восемь шебек и все их экипажи сейчас в поместье? Это сколько же народу? — Тысячи полторы или две, мой господин. Большая сила! — Большая, — согласился Серов. — Так возьмешь сукно по сто десять? — Сто. Только из уважения к тебе, светоч Аллаха. — Сто пять, и разгрузка за твой счет. — Ах-ха… — вздохнул аль Рахман. — Даже сам Пророк тебя не переспорил бы… Сто пять. Договорились! Они ударили по рукам, и старый лазутчик удалился. Солнце садилось, и над алжирскими крышами повеяло свежим морским ветерком. На небе бледным призраком замаячила луна, потом вспыхнули первые, по-южному яркие звезды, и темно-синий хрустальный кубок ночи накрыл город, прибрежную равнину и хребет Джурджуры, встававший на горизонте непроницаемой черной тенью. С минаретов ближних мечетей раздались призывы муэдзинов, и им тут же начали вторить другие протяжные голоса, призывая горожан повернуться к Мекке, пасть на колени и восславить Аллаха. По его соизволению конец света еще не наступил, день прожит, и завтра, если он не решит иначе, наступит новый день и принесет кому-то радость, а кому-то горе. Все в руках Аллаха! Но в этот час Серова не занимали мысли о божественном. Он побарабанил пальцами по столу, переглянулся с де Пернелем и задумчиво сказал: — Полторы или две тысячи… в полной боевой готовности… Это значит, что прямая атака невозможна. — Согласен с вами, мой друг. — Рыцарь склонил голову. — Если мы нападем со всей силой и если даже получим помощь от великого магистра, за недолгий срок их не одолеть. У Карамана будет время — и как он поступит? Что сделает с вашей супругой и другими пленными? Господь видит, мы можем лишь гадать… Хрипатый пошевельнулся. Его профиль в темноте походил на личину дьявола. — Чего гадать? Пошлет своих ублюдков, и те всадят Уоту и нашим парням по пуле в печенку! — Он повернулся к Серову. — Что будем делать, капитан? Все же вызовем Тегга с «Вороном»? — Нет. Действовать надо быстро и тайно. Обойдемся своими силами. Серов не стал вдаваться в подробности и объяснять, что небольшая группа подготовленных людей может добиться успеха там, где завязнет полк или дивизия. Тактика спецназа была неизвестна в эту эпоху, однако его бойцы не уступали «зеленым беретам», «морским котикам» и прочим героям голливудских сериалов. Пожалуй, даже превосходили их — его корсары не боялись ни крови, ни лишений, и трупов на счету у каждого было столько, сколько не снилось роте спецназовцев. «Жестокое время, жестокие нравы, — подумал Серов. — Пожалуй, у царя Петра будет то же самое…» Этот государь не прятался в дворцовых покоях, а лично водил гренадеров в атаку. Он повернулся к Деласкесу и спросил: — Сведения насчет Бадестана точны? — Да, синьор капитан. Мы с Абдаллой и другие мальтийцы много дней провели на базарах, в порту, в харчевнях и других местах, где собираются торговцы невольниками. Твоих людей не выводили на Бадестан. Каждый, кто продает рабов, желает получить за них цену побольше, а цена зависит от умений. Их объявляют непременно, и о невольниках, которых мы ищем, было бы сказано: крепкие мужчины, опытные в морском деле, умеющие грести. Но таких не было. — Разумно, — сказал де Пернель. — Не думаю, чтобы наших пар-рней пр-родали, как овец, — добавил Хрипатый. — Уж пар-ре купчишек они бы пустили кр-ровь! Это бы запомнилось! — Значит, они все еще сидят у Карамана, — подвел итог дискуссии Серов. — Нас, считая с Мартином и Абдаллой, пятнадцать человек. Надо пробраться в тюрьму без шума, прикончить охранников, вооружить Стура и его парней. Их два десятка, и с этими силами мы захватим дом Одноухого. После этого прорвемся к морю. — Нас не пятнадцать, а шестнадцать! — воскликнул рыцарь. — Если помните, мессир, я поклялся, что… Серов остановил его движением руки: — Я сказал: прорвемся к морю. Кто будет нас там ждать? Вы, командор, на бригантине с мальтийским экипажем. И крайне желательно, чтобы мальтийцы были в нужный час в нужном месте, а не в пятидесяти милях от него. Ваша задача — добиться их повиновения. Де Пернель склонил голову: — Я понял, мессир капитан. Но удастся ли вам выйти на берег? Положим, вы скрытно захватите тюрьму — молю Бога, чтобы это получилось! Но дом не тюрьма, там кроме охраны есть слуги, женщины… Малейший шум — и вас обнаружат, а затем… — Пусть обнаружат. Главное — добраться до Карамана. — Разве? Я полагал, что главное — ваша супруга. — И это в самом деле так. Но Караман — гарантия ее и нашей безопасности, и потому, ворвавшись в дом, мы его схватим. — Тут боцман провел ребром ладони по горлу, но Серов покачал головой. — Нет, Боб, ты его не зарежешь, а будешь беречь как лучшего друга… даже как родного брата. — Хр-р… У меня нет бр-рата, — сообщил Хрипатый Боб. — Я вообще сир-рота. Я эту мочу чер-репашью… — Сказано — нет! Мы ведь должны попасть на судно, вместе с Шейлой и нашими людьми. Караман будет нашим заложником. Пока он жив и в наших руках, мы можем диктовать условия. Например, такие: жизнь Карамана в обмен на свободную дорогу к морю и надежный баркас. Я думаю, он согласится. ДеПернель, Хрипатый и Деласкес обменялись взглядами, потом рыцарь произнес: — Я снова убедился, что вы, маркиз, видите дальше нас всех и способны предсказывать то, что еще не случилось. Таким уж вас сотворил Господь, наградив особым даром, коего нет у нас, обычных людей. Вы — капитан корсаров, но, повернись ваша судьба иначе, вы бы стали великим полководцем! «Может, еще стану», — подумал Серов, протянул руку и дружески стиснул плечо де Пернеля: — Уже поздно. Идите спать, друзья мои. Я останусь тут, подумаю… Мне надо разработать подробный план. Его собеседники поднялись и молча направились к лестнице. Глядя им вслед, Серов размышлял о том, что он, дитя двадцатого столетия, и правда отличается от этих людей. Меньше эмоций, больше разума и намного больше предусмотрительности… Ведь ни Деласкес, ни Боб, ни де Пернель не спросили, как он намерен доставить к берегу Шейлу, то ли пешком, то ли на носилках или, положим, на спине ишака… Женщина на девятом месяце, а ее необходимо провести милю или две мимо разбойничьего стана! Даже для этой суровой эпохи случай неординарный… Вдруг по дороге она соберется рожать! Его дитя, его ребенка! Представив это, он судорожно вздохнул и пожалел, что Хансен остался на «Вороне». На сборы ушло два дня. Деласкес купил шестерку мулов — этим выносливым животным предстояло тащить припасы, оружие для парней Уота Стура, одежду и дамское седло для Шейлы. Абдалла, знавший, кажется, любую пядь земли в Магрибе, совещался с аль Рахманом, выбирая маршрут понадежнее. Местность, лежавшая между городом и Карамановым владением, была не очень населенной, однако тут попадались деревни, поля и выпасы для коров и овец, а кое-где стояли укрепленные усадьбы богатых купцов и приближенных дея. Чем дальше от морского берега, тем реже попадались поселения, а поля, масличные и фруктовые рощи уступали место дремучим лесам: в предгорьях — из пробкового дуба, лавра, мирта, земляничного и мастикового дерева, а выше — из алеппской сосны и нумидийской пихты. Абдалла утверждал, что под их сенью можно пройти от Агадира и Эс-Сувейры на далеком западе до Туниса на востоке, и значит, эти субтропические леса тянулись больше чем на тысячу морских миль[535]. На третий день, ранним утром, отряд отправился в дорогу. Город покинули мелкими группами по три-четыре человека, под видом торговцев и погонщиков. Мушкеты, сабли и запасы пороха и пуль были надежно укрыты рогожей и походили на тюки с товаром; припасами — вяленой бараниной, лепешками и финиками — набили корзины и мешки; люди, в низко надвинутых чалмах, с лицами, закрытыми от пыли кисеей, ничем не отличались от других бродячих коробейников, возивших вдоль побережья Магриба посуду, ткани и недорогие украшения. Миновали, не собираясь вместе, нищие окраины с глинобитными лачугами, потом — обширную территорию с особняками знати; тут зеленели сады, журчали арыки, и в воздухе плыло благоухание цветущих персиковых деревьев. Встретились в условленном месте и повернули на северо-восток, к горам. Их склоны постепенно становились круче, плодородная земля делалась все более твердой и каменистой, сады кончились, начался лес с раскидистыми пробковыми дубами и почти непроходимым подлеском. Но мавр шагал вперед с уверенностью опытного проводника, отыскивая то ли по собственному разумению, то ли по советам аль Рахмана узкие, едва заметные тропинки. Как пояснил Абдалла, местность между горами и морем называлась Телль, и сейчас они находились на южной ее окраине. В горной чаще, где можно было встретить берберийского льва[536], муфлона или стадо диких кабанов. К полудню отряд углубился в горы, и Абдалла нашел еще одну тропу, ведущую прямо на восток. Под густыми древесными кронами было прохладно, люди и животные двигались в бодром темпе, не ощущая усталости, и Серову чудилось, что впереди их ждет не схватка с жестоким врагом, а пикник с шашлыками. Вокруг буйствовала весна, более щедрая и яркая, чем жаркое лето в Подмосковье. В узких глубоких каньонах, заросших розовыми цветущими олеандрами, слышался рокот бегущей воды — то ожили сотни уэдов[537], питаемых снегом горных вершин. Эти вершины, то каменистые и покрытые жесткой травой, то одетые льдами, высились над изумрудным поясом лесов; волнистые очертания ближнего хребта и дальних, еще более высоких, словно текли бесконечной чередой с запада на восток, радуя глаз фиолетовыми, голубыми и розовато-лиловыми переливами. Вверху синело небо, разорванное в клочья древесными кронами, и солнечный свет, пройдя сквозь зеленый полог, падал на землю тысячей призрачных, полных сияющих искр колонн. Шагая вслед за Абдаллой, Серов вспоминал службу в Чечне, не очень долгую — был он там пять месяцев, — но оставившую след. Точнее, следы, и в душе, и на теле… Вертолет со всем их взводом упал, подбитый ракетой, Серов и его сотоварищи чудом остались в живых — спасло искусство пилота да то, что летели метрах в десяти над лесом. Первый случай, когда смерть рядом прошла и по лицу крылом задела… Первый, но не последний; потом в бэтээре горел, трех ребят потерял из вверенного под команду взвода и сам был ранен. Чечня — южный край, там тоже горы и леса, пусть не такие роскошные, как здесь, однако похоже… Львы не водятся, зато под каждым кустом — по снайперу… Мог ли он тогда представить, что занесет его в Вест-Индию, а после — в Африку?.. Мог ли вообразить, что станет пиратским вожаком и поведет своих бойцов против другого пирата?.. Что будет у него фрегат с медными пушками, команда их сотен висельников и любимая жена, родившаяся в семнадцатом веке?.. Чушь, абсурд! Однако… Позади зашелестели голоса. Серов прислушался. — Разрази меня гром! — Это был Мортимер. — Не худо бы пошарить в доме у Одноухого козла… Домишко, видать, богатый! — Хр-р… Кр-ретин ты, Мор-рти, пустая башка! Наше дело — Стур-ра с пар-рнями отыскать, взять Кар-рамана и девчонку — и смыться по-тихому. А ты — по-шар-рить, пошар-рить… В волосне своей шар-рь и блох лови! — Стур, девчонка капитанова… отыскать, освободить… Это все очень бла-а-родно, Хрипатый, но отчего не уцепить какую ни есть мелочевку? Колечко там, монету или камушки… Батюшка мой покойный говаривал: от пустых карманцев в душе печаль, а в животе… — Ведр-ро помоев на твоего батюшку! Если задер-ржишься — бр-росим! Пусть сар-рацины яйца тебе отр-режут и скор-рмят псам! — Ты, боцман, не горячись, — раздался голос Брюса Кука. — Морти, конечно, трепло, но по большому счету прав. Взять усадьбу — и ничего не тронуть?.. Это не по обычаю! Это… Конец фразу потонул в гуле голосов: — Серебро и посуду брать не стоит, но золотишко… — И камушки, камушки!.. — Все одно, сарацины сами разграбят, моча черепашья… — Обшарить по быстрому… — А чтобы в доме не вопили, всех — на нож! — Всех нельзя. Одноухого капитан трогать не велел. — Его и не тронем. А остальных… Серов обернулся, оглядел свою ватагу и произнес: — Лес тут густой и ветви у деревьев крепкие. Кто хочет на них повисеть? Ты, Мортимер? Позади воцарилось молчание. Потом Хрипатый буркнул: — Слышали капитана, недоноски? Ну, так шевелите костылями поживей! «Как дети малые», — мелькнула мысль у Серова. В его цивилизованные времена алчность рядилась в разные одежды, прикрываясь то благом народным, то заботой о своем семействе или государственными интересами, но здесь она была неприкрытой, как язвы на теле нищего. Высокие понятия о долге, верности и рыцарской чести соседствовали с корыстью, жестокостью и злобой; на одном полюсе был де Пернель, на другом — пожалуй, Тегг, с его советом не доискиваться правды, а стрелять. Самое странное, что оба были дороги Серову. «Контрасты эпохи», — подумал он и вздохнул. Часа за два до заката, одолев десяток миль, они остановились и принялись обустраивать лагерь. Развьючили мулов и пустили их пастись, развели костер, набрали воды в ближнем ручье, и скоро в лесу запахло жареным мясом и подогретыми над огнем лепешками. Для ночлега Абдалла выбрал прогалину на горном склоне, заросшую травой. С юга, запада и востока ее обступали густой кустарник и могучие кедры, ниже зеленел дубовый лес, а на горизонте темнели скалистые вершины, словно войско марширующих гигантов в причудливых шлемах. Солнце висело над далеким хребтом, от скал и деревьев протянулись длинные тени, накрыв людей вечерним сумраком. Стало прохладнее, и корсары жались к огню. — Когда-то тут быт равнина, — произнес Абдалла, вытянув руку на север. — Совсэм ровный мэсто до самый морэ. Гора, много гора, стоят в западный край — там, где нынче правит Мулай Исмаил. — Это невозможно, — возразил Серов. — Тут всегда были горы — по крайней мере, всегда на людской памяти. — Людской памят — короткий, дон капитан. Суфии сказат: памят — как слэд вэрблюда в пэсках: дунэт вэ-тер, и слэда нэт. — Мавр помолчал, огладил бородку; в его темных глазах мелькали отблески костра. — Давно это случилос… Горы из западный край рэшит поклонится Аллаху, а гдэ это сдэлат лучше, чэм в Мекка? И горы пойти на восток… Одни горы был богаты с золото и серебро, другой — бэдны, и потому нанялис слугами богатых гор, трэтий свэршать хадж благочэс-тия, чэтвертый шэл, чтобы вымолит прощэние за грэхи умэрших гор, тэх, что нэ успэли увидэт свэт божьей истины… Самый могучий горы шагал в чалма из облаков, а впэреди быт Джэбел Загуан, подобный льву — тот, что сэйчас стоит у Тунис. Легенда, понял Серов, он рассказывает легенду! Должно быть, эта история насчитывала тысячу лет — столько, сколько арабы жили на берегах Западного Сре-диземья. — Дэн был жаркий, и когда пришла ночь, один гора захотэл совэршит омовений. Долго искал вода, потом найти болото, влэз в нэго и застрял. Нэ выбратся ему! Начал плакат и стонат, и услышат его Загуан и всэ другие горы. Они остановится и думат, как помоч. Но тут спустилас тьма, а джинны — тэ, что почитал нэ Аллах, а Иблис, — послал ужасный холод, и всэ горы-паломник замэрз и погрузился в сон. Вэчный сон, глубжэ смэрт! Так они и стоят вдол морской бэрег, стоят много-много лэт, и будут стоят, пока… В кустах раздался шорох, корсары вскочили и бросились к деревьям, подальше от света костра. Этот переход от покоя к готовности биться с неведомым врагом был стремителен; миг, и мушкеты глядят в лесную чащу, палаши обнажены, глаза сверкают хищным блеском. — Кабан, — сказал Жак Герен. Безъязыкий Джос Фавершем, обладавший отличным нюхом, замотал головой. — Джос говорит, что от кабана должно вонять, а вони он не различает, — прокомментировал Брюс Кук. — Тогда баран! — Горные бараны тоже вонючие. В кустах снова хрустнуло. — Не звер-рь, человек, клянусь пр-реисподней! — рявкнул боцман. — Звер-рь бы смылся, а этот чего-то высматр-ривает! — Олаф, Эрик, Стиг, заходите слева, Джо, Алан и Люк — справа, — распорядился Серов. — Остальные будут со мной. Ну-ка, парни, найдите мне этого кабана! Шестеро корсаров исчезли в зарослях. Послышались шум, ругательства, чей-то сдавленный вопль, и не прошло и пяти минут, как из кустов вылез Стиг. На его плече, отчаянно дрыгая босыми ногами, болтался парень в рваном балахоне, подпоясанном веревкой. Стиг опустил добычу у костра, пленник ринулся было бежать, но скандинав ухватил его за длинные черные волосы. Глаза паренька испуганно блестели. На вид ему было лет пятнадцать. — Мальчишка, — сказал Серов, приглядевшись к пленнику. Тот не походил на араба: лицо широкое, нос короткий, губы пухлые и кожа заметно посветлее. — Что он тут делает? Ну-ка, Мартин, расспроси парня. И скажи, чтобы не трясся! Мы его не съедим. Усевшись на землю рядом с мальчиком, Деласкес похлопал его по спине и протянул лепешку и финики. Видимо, то был верный ход: паренек принял еду дрожащими руками, потом впился в лепешку и начал с остервенением жевать — видно, помирал от голода. Мартин заговорил, в ответ послышалось какое-то невнятное бурчанье, мало напоминавшее арабский язык. Но Деласкес вроде бы все понял. — Пастух, — пояснил он, кивнув на мальчика. — Козопас. Его селение — в предгорьях, но где, он не хочет говорить. Боится нас. — А тут как очутился? — Ищет козу, что отбилась от стада. С полудня ищет. Очень голоден. Нашел наш стан по запаху пищи. Паренек прикончил лепешку, получил другую с куском мяса и стал есть помедленней. — На араба не похож, — заметил Серов. — Он не араб, синьор капитан, он бербер. Но не кабил, какого-то другого горного племени. Их тут как фиников на пальме. — Деласкес что-то спросил у мальчишки, тот ответил, не прекращая жевать. — Говорит, что он — шауия и что больше не боится нас. Он тоже увидел, что мы не похожи на турок или арабов. — Не боится? Хр-р… Это он зр-ря! — прорычал боцман. Но мальчишка не глядел на него, а уставился на Серова — очевидно, понял, кто тут главный. Когда лепешка и мясо кончились, пленник хлопнул себя по животу — мол, наелся, ткнул в Серова пальцем и заявил: — Турбат! Затем слова полились потоком. Паренек то вздымал к небу обе руки, то кланялся, то благоговейно складывал ладони перед грудью, а выражение лица у него было такое, словно он декламирует «Илиаду» или, как минимум, «Песнь о Роланде». Деласкес захихикал: — Он решил, что вы — Турбат, дон капитан. Сей разбойник объявился недавно и, по слухам, похож на франка либо инглези. Мальчик говорит о его подвигах, о том, что Турбат не обижает бедных берберов, а грабит османов, арабов-работорговцев и остальную нечисть. Клянусь Девой Марией! Этот мальчишка прямо поэт! Так прославляет Турбата! По его словам, Турбат скоро захватит Алжир, выпустит кишки туркам, арабам и дею и воссядет на престол! — Ну, у меня таких намерений точно нет, — сказал Серов. — Но парню это знать не обязательно, пусть думает, что я — Турбат, и держит язык за зубами. Скажи ему, что у Турбата тут секретные дела, и о встрече с ним говорить не стоит. Серов нашарил за поясом кошелек, вытащил дукат и протянул мальчишке. Глаза у того расширились — видимо, золотая монета была целым состоянием для нищего пастушка. Он снова заговорил, кланяясь и бурно жестикулируя. — Теперь он просится в нашу… ээ… банду, — с усмешкой произнес Деласкес. — Он говорит, что ему известны все богатые усадьбы в окрестностях, и куда бы ни направился великий Турбат, он проведет его самым коротким путем. Быстрей, чем слетаются ангелы на зов Аллаха. Повернувшись к Абдалле, Серов спросил: — Нам нужен проводник? Или ты и без него найдешь дорогу? — Нэ нужэн. Почтэнный аль Рахман повэдал о каждой тропа, что идэт чэрез горы. Я знать это мэсто. — Тогда пусть парень отправляется домой. Скажи ему, Мартин! Сегодня он уже не отыщет козу. …Костер прогорел. Корсары спали, пристроив оружие под рукой, мулы, всхрапывая, паслись в траве у деревьев, Фавершем и Кактус Джо стояли на страже. Серов, сидя у рдеющих алым углей, посматривал на лунный диск, висевший над темным хребтом, и прокручивал в голове план будущей атаки. По сведениям лазутчиков аль Рахмана, Одноухий рассылал дозорных вдоль берега — значит, уверился, что враг нападет с моря. Но это было бы плохим решением, ибо укрепленный лагерь пиратов лежал в полумиле от побережья и был недоступен для орудий «Ворона». Пришлось бы высаживать десант и брать обнесенную валом позицию без артиллерийской поддержки, что представлялось Серову чистой авантюрой. Будет много крови и много погибших — тем более что Караман готов к нападению и людей у него хватает. Решение верное, размышлял Серов. Он нагрянет не с моря, а с гор, явится не в полной силе, не с сотнями бойцов, а с малым отрядом. Сейчас его союзники не корабли и пушки, а ночь, тишина, внезапность и хорошо заточенный клинок. Перерезать стражей, забрать своих и уйти, даже без Карамана… Дьявол с ним, с Одноухим гадом! Не удастся проскользнуть к морю, где ожидает де Пернель, — можно скрыться в горах… Горы здесь что китайская головоломка — семь потов сойдет, а ни хрена не найдешь… Он лег на спину, заглянул в ночное небо и подумал, что эти звезды светят сейчас Михаиле Паршину и Страху Божьему, его посланцам. Должно быть, они на пути из России к Италии — спят на постоялом дворе в Польше или Чехии, а может, уже и в Австрии… Спит Михаиле, а в головах у него дорожная сума с драгоценными патентами, и каждый — с царской размашистой подписью и российским гербом. Как выглядят эти патенты Серов не очень представлял, но сильно надеялся, что будет на них двуглавый орел и что он еще повоюет под знаменем с этой грозной птицей. С этой мыслью он погрузился в сон.
Глава 14 ПОМЕСТЬЕ КАРАМАНА
Население защищалось как могло. Около 1500 года жители Мелоса после долгого преследования поймали одного неудачливого турецкого пирата на своем побережьи и медленно поджаривали его на костре в течение трех часов. Это практиковалось повсеместно и вполне легально. Известен случай, когда паша Морей самолично доставил в Лепанто приказ сжигать всех ловцов удачи, промышляющих в Адриатике. Англичане в XV веке ввели у себя ставшее обычным наказание для выловленных пиратов: их подвешивали на берегах рек и морей так, чтобы пальцы ног слегка касались воды.А. Б. Снисаренко. Рыцари удачи (Санкт-Петербург, 1991 г.)
К вечеру третьего дня отряд спустился с гор. Дожидаясь полной темноты, корсары разбили лагерь на небольшой возвышенности, расположившись за могучими стволами дубов и кедров. Заросший лесом склон был футов на триста повыше тянувшейся внизу равнины; она лежала перед Серовым точно огромная карта, где море раскрасили привычным синим цветом, растительность — зеленым, а дома, укрепления и старинную башню — белым, серым и коричневым. Он изучал ландшафт в подзорную трубу; вторую Хрипатый и Брюс Кук передавали друг другу, а Деласкес с Абдаллой обходились без зрительных приборов. Дом Карамана, стоявший в саду, прятался в густой листве — над древесными кронами торчали только угловые башенки, служившие Серову ориентиром. Дом был довольно велик и выстроен квадратом, в традициях местной архитектуры — в нем наверняка имелось патио, внутренний дворик с галереей, куда выходили двери и окна господских комнат. Серов решил, что дюжина человек сможет обыскать их довольно быстро, а два десятка парней Уота Стура лучше поставить в оцепление — так, чтобы из дома никто не улизнул… Но дом — вторая цель, а первая — тюрьма! Ее, а также хозяйственные службы, выстроенные за садом, он мог разглядеть во всех подробностях. Слева — конюшня и большой навес, где дымили печи — наверняка поварня; там же — сараи-кладовые и мелкие строения, у которых невольники кормили кур. Справа — каменная башня монументальной древней кладки, торчавшая в вершине вытянутого треугольника. Эту фигура была образована частоколом из неошкуренных дубовых бревен: две длинные ограды, расходившиеся от башни, и короткая, соединявшая их. В ней виднелись массивные ворота, а по углам — вышки с платформами, приподнятые над частоколом, и на каждой — по три часовых с мушкетами. Колючая проволока и пулеметы отсутствовали, но в целом зиндан походил на концентрационный лагерь в какой-нибудь не очень продвинутой африканской стране. Территория внутри ограды частично просматривалась, и там Серов мог наблюдать пыльный двор, выгребную яму с перекинутой над нею доской и невысокое бревенчатое ограждение, прикрытое сверху железной решеткой. Эта конструкция находилась неподалеку от ворот. — Решетка, — произнес он, не отнимая от глаза трубу. — Подземная тюрьма? — Да, дон капитан, — подтвердил Абдалла. — Гдэ-то должэн быт… как это называют?.. да, приставной лэст-ница! Но можэт и нэ быт — если яма мэлкий, плэнник туда прощэ бросат. — Мы поднимем их на канатах, — сказал Серов. — Я вижу замок на решетке… еще один — на двери, что ведет в башню… ключи, видимо, у охранников. Поищи их, Хрипатый. — Не найду, так выр-режем кр-рая кинжалами. Адвер-рь в башню можно не тр-рогать, если наши в яме. Либо Свенсоны ее высадят. — Полезешь с ними на частокол и еще возьмешь Рика и Джо. Тут шестеро стражей, и вас будет шестеро… Смотри, чтоб было тихо! — Не беспокойся, Эндр-рю. Задавим, как клопов! Хрр… Не пискнут, кал собачий! — На изгородь нужно взбираться у самой башни, с западной стороны, — уточнил Серов. — На восходе луны там будет тень. Я с Деласкесом, Морти и мулами буду ждать у ворот. Абдалла, где отрава для собак? — Здэс, сэр. — Мавр хлопнул по кожаному мешку. — Пойдешь с Брюсом, Шестипалым и Гереном к дому. Разбросаете мясо, добьете псов, а заодно и часовых, которые обходят сад. Люк и Джое прикроют вас со стороны конюшен. Осмотрите дом и подходы к нему, но не суйтесь близко, ждите нас. — Сделаю, капитан. — Кук хмыкнул и покосился на мулов, груженных оружием и остатками припасов. — Я вот что соображаю… У нас есть лошаки, целых шесть… Шесть, акула меня сожри! Неужели к берегу они пойдут пустыми? Серов нахмурился: — Что ты хочешь на них навьючить, пустая башка? Серебряные блюда, кубки и кувшины, чтоб звякало погромче? Или тебе нужен коврик для намаза? — Ну-у, — протянул смущенный Кук, — можно найти вещички полегче и подороже. Такие, что не гремят. — Что влезет в карман, то твое, и ничего более, — с мрачным видом сказал Серов. — Мы, Брюс, год плаваем вместе, но клянусь спасением души, что прикончу любого, кто увлечется экспроприацией. — Экс… э-э… Чем, капитан? — Грабежом! А мулы пригодятся Шейле и парням Уота. Бог знает, все ли смогут идти… вдруг басурмане кого-то запытали… — Капитан знает, что делает, — подал голос Хрипатый. — Заткни пасть, Бр-рюс, и выполняй, что велено. А ежели увидишь пер-рстенек или еще какую мелочь, так суй в кар-рманцы. Ясно? Наступила тишина. Серов сосредоточенно разглядывал побережье, изучая теперь лагерь пиратов, находившийся между садом и поселком мастеров-корабельщиков. Как предупреждал аль Рахман, лагерь был обширен и основательно укреплен: валы, бревенчатый частокол, блокгаузы по углам и три десятка мелких пушек. Настоящий форт! Внутри стояли глинобитные дома, похожие на казармы, перед ними — большие котлы, и у каждого — группа людей в пестрых одеждах; видимо, пираты ужинали. Не меньше пятнадцати сотен, а то и все двадцать, отметил Серов и перевел взгляд правее. Там зеленела пальмовая роща, тянувшаяся почти до самой воды, — отличное укрытие, особенно в ночную пору. В бухте дремали восемь узких хищных шебек, но, как и ожидалось, были и суда поменьше, баркасы, фелюки и тартаны. Фелюка вполне подойдет, прикинул Серов; скажем, та, что причалена у самого берега. Как раз для трех дюжин мореходов… Обрубить канат, навалиться на весла, распустить паруса… Пройти мимо шебек и забросать их пороховыми гранатами… На одном муле было навьючено двести фунтов пороха, засыпанного в холщевые мешочки и в глиняные кувшины с фитилями. — Лагерь обогнем с востока, — промолвил Серов. — Абдалла, мулы пройдут через пальмовую рощу? — Да, дон капитан. Там ест тропы… Людям из дэрев-ни нада собират финик. — Хорошо. Видите ту фелюку? Сразу за рощей? Стоит у причала, весла у бортов, паруса подвязаны… Словно для нас приготовлена… Ее и возьмем. — Подойдет, — согласился Хрипатый. — Кор-рыто вр-роде пр-рочное. Серов повернулся и оглядел склон горы, на которой был разбит их лагерь. С ней соседствовала другая поросшая лесом возвышенность, а между ними виднелась узкая лощина с каменистым дном, где струились воды ручья. Судя по направлению потока, лощина уходила на юго-восток, к темневшим вдали хребтам Атласа. — Справа — ущелье с уэдом… Запомните место. Если не пробьемся к берегу, отступим в горы. — Ну, это на крайний случай, капитан, — сказал Брюс Кук. — Кто знает, какой случай — крайний? — отозвался Серов и опустил трубу. — Все, камерады! Отдыхаем до темноты. Хрипатый, Герена и Фореста поставь часовыми. Пусть следят за домом и тюрьмой. Он лег на спину и смежил веки. Внезапно личико Шейлы явилось ему; синие глаза сияют, светлые волосы как золотая корона над головой, губы шепчут: «Где же ты, Андре?.. Почему не шел так долго?..» — «Вот он я, весь тут, — мысленно ответил ей Серов.- Как ты, милая? Кого нам ждать, девчонку или парня?» И она с улыбкой скажет: «Кого Бог пошлет, Андре. Если родится мальчик, оставим ему пистолеты, шпагу и твои чудесные часы, а если девочка… Ну, не знаю! Наверное, мои наряды». И тогда он достанет ожерелье и серьги с сапфирами и молвит: «Не только наряды, еще и это. Сначала будешь ты носить, потом она. А потом наши внучки и правнучки до седьмого колена». — Стемнело, синьор капитан, — раздался голос Деласкеса, и Серов открыл глаза.
* * *
Прижавшись к сухой, нагретой солнцем земле, он следил, как полдюжины теней скользнули в траву. Хрипатый и его сотоварищи были нагими по пояс и тащили с собой только кинжалы да прочную веревку с крюком. Их спины, вымазанные сажей, казались в свете луны темными панцирями черепах, неторопливо ползущих к изгороди; потом они исчезли в непроглядном мраке у стены, и до Серова долетел едва различимый звук удара — крюк забросили на частокол. Он покосился на вышки, но на одной стражи болтали и пересмеивались, а на другой, похоже, бросали кости и звенели серебром. Прошло минуты три — за неимением часов, он отсчитывал время по ударам пульса. Где-то в саду, за тюрьмой, заскулили и сразу смолкли собаки, потом раздался тихий хрип. Смолкли голоса часовых, не стучали кости и не звенели монеты — должно быть, переместились в карманы к другим хозяевам. На вышке, торчавшей слева от ворот, возникла полунагая фигура, послышалось негромкое «хр-р…», и ворота приоткрылись. Все кончено, решил Серов и поднялся: — Деласкес, веди мулов. Морти, помоги ему. Он зашагал к воротам. Внутри частокола, в неярком лунном свете, копошились у подземного узилища братья Свенсоны, пытались поддеть решетку кинжалами. Эрик повернулся к Серову — его лицо, зачерненное сажей, казалось ликом дьявола. — Никто не отзывается, сэр. Мы боимся звать погромче. Из ямы несло жуткими запахами крови, мочи и фекалий. Вцепившись пальцами в решетку, Серов выдохнул: — Уот! Тиррел! Хенк! Мы пришли за вами! Ни звука в ответ, ни шороха, ни стона. Серов похолодел. Мертвы? Все мертвы? Возможно ли такое? Запах, правда, подходящий… — Уот! — позвал он снова. — Чума на твою голову! Что не откликаешься? Молчание. Тишина. С вышки спустился Хрипатый, позвенел парой тяжелых ключей. За ним Рик и Джо Кактус тащили незажженные факелы. — Сейчас откр-рою, капитан. Запалите огонь, пар-рни. Ключ заскрипел в замке, Стиг и Олаф приподняли решетку. — Ну-ка посветите! — приказал Серов, склонившись над ямой. Она была глубиной футов десять и загажена, как хлев, не чищенный годами. Тут могла поместиться сотня человек, но, кроме истоптанного пола, осклизлых стен да куч дерьма и каких-то отбросов, Серов ничего не разглядел. Зиндан был пуст как курятник, в котором пировали лисы и хорьки. Раздался тихий топот, и во двор вошли Мортимер и Деласкес с маленьким караваном мулов. Мартин приблизился к яме, заглянул в нее и произнес: — Пусто! Помнится, аль Рахман говорил, что многие пленники Карамана были проданы зимой. А еще… — Еще он сказал, что самый ценный товар — в башне. — Серов повернулся к высокому строению, где не было ни окон, ни бойниц, только массивная дверь с огромным замком. — Открой, Боб. Должно быть, наши в этом склепе. Хрипатый принялся возиться с замком. Пятеро корсаров, разобрав привезенные мулами тесаки и мушкеты, столпились за его спиной. Серов, поджав губы, хмуро поглядывал на них — его одолевали невеселые мысли. «Яма для простых невольников, для тех, кого отправят на Бадестан, башня — для дорогой добычи, для знатных персон, ожидающих выкупа, — думал он. — Вроде морским разбойникам с Карибов сидеть там не по чину! Может, Стур что-то наплел Одноухому? Что люди его — все, как есть, — графы да маркизы, а сам он — персидский принц? Но Караман не идиот, чтобы такому поверить! Ни Хенк, ни Тиррел, ни другие на графов не похожи, да и взяли их не в королевских покоях, а на обычном корабле…» Хрипатый Боб справился с замком и распахнул дверь: — Впер-ред, пар-рни! Все обыскать! Где тут наши висельники? Стур-р, якор-рь тебе в бок, отзовись! Чей-то слабый зов послышался в ответ. Шесть корсаров исчезли в башне, двигаясь бесшумно, как огромные коты. Мортимер взглянул на Серова, дождался его кивка и ринулся следом за боцманом. В ворота проскользнул Брюс Кук, его руки и кожаная безрукавка были запачканы кровью. — Нашли Стура, капитан? — Пока нет. Яма пуста, проверяем башню. Что у тебя? Кук потер ладонь о ладонь: — Псы были здоровые. Кровищи в каждом, что в быке! Дозорных, что бродили по саду, тоже успокоили. — Где твои люди? — За кустами у входа в дом. Вход один — арка и деревянная решетка, прикладом можно выбить. Больше ни дверей, ни окон… Никому не выбраться, если только с крыши не прыгнуть. Так что мы… — Подожди, — прервал его Серов. — Кажется, Боб кого-то нашел. Стура? Он поднял горящий факел и направился к башне. Хрипатый и Эрик вели высокого тощего мужчину, но это был не Стур и не корсар из ватаги Тиррела. У незнакомца были вырваны ноздри, обе щеки исполосованы шрамами, на голове, среди темных волос, зияли розовые проплешины, на шее виднелся явный след ожога. Но в его изуродованном лице было нечто такое, что не поддавалось ни ножу, ни огню — некое гордое благородство, несокрушимое, точно горы Атласа. Он шел прихрамывая, и сквозь дыры когда-то богатого камзола и шелковых штанов просвечивала мертвенно бледная кожа. «Должно быть, сидит в башне не первый год», — подумал Серов. Человек сделал жест, будто снимая шляпу, выставил вперед ногу в драном сапоге и поклонился. — Родриго де Болеа, граф Арада, маркиз Монтаньяна. С кем имею честь? Он говорил на изысканном французском; видимо, сообразил, что его освободители — не испанцы. — Андре де Серра, предводитель вольных мореходов, — представился Серов. — Мой помощник Уот Стур и другие люди в плену у Карамана. Что вам известно об их судьбе? — Ровным счетом ничего, дон Серра. Я заточен в этой башне уже шесть лет, и все эти годы не видел иных человеческих лиц, кроме обличья своих тюремщиков. — Арада запрокинул голову и глубоко вздохнул. — Звезд не видел тоже… А они так прекрасны! Воистину лучшее творенье Божье! — Кр-роме этого испанца в башне никого, — с мрачным видом сообщил Хрипатый. — Нужно наведаться к Кар-раману, капитан. — Мы двинемся через минуту, — сказал Серов, рассматривая пленника. — Кажется, вы в бедственном положении, граф. По какой причине? Испанец усмехнулся. Усмешка на его лице казалась страшной. — Причина вечная, любезный капитан, — безденежье. Я отплыл в Перу, дабы обрести состояние, а очутился здесь, и выкуп мне назначили в несколько тысяч дукатов. Хоть я маркиз и граф, но наша семья небогата. Возможно, братья и сестры собрали бы нужную сумму, но после остались бы нищими. Было бы безнравственно требовать с них деньги. И я не требовал, хотя меня к тому понуждали. Арада коснулся руками носа и щек, и Серов заметил обрубки пальцев. Острое чувство жалости пронзило его; казалось, он встретил живого Мигеля Сервантеса или, по крайней мере, славного рыцаря Дон Кихота, плененного сарацинами. Его кулаки непроизвольно сжались. — Вместе с моряками Караман похитил мою супругу. Вы слышали о ней, граф? Они ожидает ребенка… совсем молодая женщина, синеглазая, светловолосая… Ваши тюремщики что-нибудь говорили? — К сожалению, я не владею их языком, дон Серра. — Секунда молчания, затем: — Я вам сочувствую, капитан. Могу быть чем-то полезен? Располагайте мной. — Я отправляюсь к Караману. Вы готовы сражаться, граф? Арада вытянул руки с остатками пальцев: — Я не могу держать шпагу или нажать курок пистолета. Караман смеялся, уродуя мое лицо и руки, говорил, что граф без денег все равно что нищий, а нищему не нужна красота, не нужно оружие. Но я еще гожусь на роль мула. Дайте мне бочонок пороха и пули, и я их понесу. У меня к Караману свой счет. Серов кивнул Хрипатому: — Выдай графу порох в мешках, фунтов тридцать, и несколько кувшинов с фитилями. Выступаем, камерады! Здесь нам делать нечего. Пробираясь по тропинке в саду, он размышлял о загадочном исчезновении Уота Стура и двух десятков лихих молодцов. Аль Рахман и его лазутчики решили, что их держат в тюрьме для рабов, но они могли ошибаться — в этом пиратском владении были другие места, чтобы гноить невольников. Вряд ли Стура с его людьми поселили в хибарках у конюшен, скорее — в укрепленном лагере, в сараях или ямах, где обитали гребцы с галер. Это казалось Серову возможным и даже очень вероятным; с одной стороны, Карибские волки — твари опасные, и лучше держать их там, где больше вооруженного народа, а с другой — Стур и сам мог напроситься в гребцы, решив, что с шебеки проще удрать, а то и захватить корабль. Обе причины были реальными, но результат не слишком радовал Серова — вместо двадцати бойцов он получил испанца-инвалида. К тому же, если Стур и его люди — в пиратском лагере, придется его выкупать, точнее, обменивать на Карамана. «Ценность Одноухого возрастает с каждым часом, — подумал Серов. — Нужно присмотреть, чтоб ненароком его не зарезали». Рядом с тропой валялась дохлая собака — оскаленная пасть, кусок мяса, застрявший в клыках, располосованное горло… Трава под большой темной тушей промокла от крови. В нескольких шагах лежали еще один пес и трупы четырех магрибцев. На телах людей ран не было — похоже, их задушили. Увидев мертвецов, граф Арада хищно оскалился. Мешки и кувшины с порохом, связанные попарно, висели на его плечах, но он, казалось, не ощущал их тяжести — шел, выпрямившись и придерживая груз изувеченными руками. Возможно, у него имелось больше прав свести с Караманом счеты. Абдалла, Шестипалый и трое остальных корсаров поджидали отряд в кустах тамариска, покрытого белыми и розовыми цветами. Серов велел привязать мулов к деревьям, разобрать оружие и зарядить мушкеты. Заросли тамариска подходили к самым стенам строения, абсолютно глухим, без намека на окна, украшенных поверху мозаичными узорами. Ко входу тянулась дорожка, обсаженная розами и исчезавшая под изящной мавританской аркой; ее перекрывала резная деревянная решетка. Серов вытянул к ней руку и молвил: — Джос, проверь вход. Кивнув, немой корсар пополз к решетке. Отсутствие языка компенсировалось у Джоса Фавершема другими талантами: нюхом и слухом как у сторожевого пса, ловкостью и умением пробраться сквозь любые заросли, не задев ни листика, ни ветви. Он присел рядом с аркой, вытянул саблю в ножнах, коснулся решетки и подтолкнул ее. Створки разошлись с тихим шелестом. Если не считать темниц и тюрем, запоры в Магрибе не были в обычае. — Вперед, — шепнул Серов. В полной тишине корсары ринулись к дому. За аркой находился широкий проход с полукруглыми сводами, а дальше — квадратный внутренний дворик, выложенный плиткой. Двор был в точности таким, как представлял Серов: галерея с мощными колоннами, к которым крепились полдюжины масляных ламп, обегала его по периметру, к галереям второго и третьего этажей вели неширокие лестницы, по углам росли платаны, в центре темнел довольно большой водоем. Дежа вю, мелькнуло у Серова в голове; этот двор являлся более просторной копией другого, виденного им на Джербе. Впрочем, для домов богатых мавров и магрибцев такая планировка была обычной. Он махнул рукой, и Кук, Герен, Форест и Мортимер исчезли в комнатах первого этажа. Остальные корсары полезли наверх, чтобы осмотреть хозяйские покои. Хрипатый сжимал в одной руке палаш, в другой — кляп и веревку, предназначенные для Карамана. В неярком свете ламп чудилось, что по лестницам взбирается орда призраков. — Граф, осмотрите галерею, — сказал Серов. Он остался у колонны рядом с входом, внимательно оглядывая двор, деревья с густой листвой и стены, уходившие вверх на тридцать футов. Его напряженный слух уловил короткие вскрики, что донеслись из нижних комнат, — парни Брюса резали прислугу. Наверху все было тихо. Арада, прижимая к груди мешки с порохом, скользил под сводами галереи точно тень. Никаких следов женщины, отметил Серов, рассматривая оттоманку у ближнего платана. Ни веера, ни брошенной шали, ни забытых туфель или гребня… Возможно, Шейлу держат в заточении… Или ее беременность осложнилась и потому… На галерее второго этажа грохнул выстрел, и Шестипалый свалился во двор с пробитой головой. Затем рявкнул сразу десяток мушкетов, и трупы стали падать точно град — арабы и турки со страшными ранами от пуль и палашей, и среди них — Джос Фавершем, пронзенный ятаганом. По лестнице с отчаянным воплем скатился Рик Бразилец, за ним, ревя во все горло: «Засада, капитан! Ловушка!» — возник Хрипатый Боб. Корсары начали прыгать с галереи, и Серов, с замиранием сердца, пересчитывал своих людей. Олаф, Стиг и Эрик — трое… Абдалла и Кактус Джо — уже пятеро… Деласкес — шестеро… Еще Хрипатый и Рик Бразилец, всего восемь человек… Убиты только Фавершем и Шестипалый… На втором и третьем этажах над балюстрадой показались головы в чалмах. Серов выстрелил из пистолетов, два магрибца свалились вниз, с глухим звуком ударившись о каменные плитки пола. Во двор выскочил Герен, за ним появились Мортимер, Форест и Брюс Кук. — Все за колонны! — выкрикнул Серов. — Прячьтесь в галерее! Ни страха, ни отчаяния не было в его сердце, только холодная ярость. Он уже понимал, что Шейлы здесь нет, что лазутчики аль Рахмана ошиблись, что случилось нечто непредвиденное — то ли Шейла, Стур и прочие пленные мертвы, то ли запрятаны так далеко, что не найдешь и не достанешь. Он запретил себе думать об этом. Двое его людей погибли, но остальных он должен сохранить и вывести отсюда. Конечно, уже не к морю, эту дорогу блокируют, но ретирада в горы вполне возможна. Если удастся улизнуть отсюда… Над балюстрадами верхних галерей возникли мушкетные стволы и лица стрелков. Не меньше полусотни, отметил Серов, перезаряжая пистолеты. «Пулемет бы сейчас!.. — подумалось ему. — Или хотя бы „калаш» с полным рожком…» — В чем дело, капитан? — раздался голос Брюса Кука. Ему ответил боцман: — Тут куча чер-рножопых, Бр-рюс! Сидели в задних комнатах, ублюдки! И на крыше кто-то есть… А вот Шейлы нет! И Кар-рамана тоже! Но Хрипатый ошибался. — Эй, Сирулла! — послышалось откуда-то сверху. — Хочешь выслушать мои условия? Тогда прикажи, чтобы твои аскеры[538] не стреляли. «Одноухий!» — толкнуло в сердце. Караман говорил на французском вполне прилично — не хуже, чем тунисский портовый начальник. — Я слушаю, — сказал Серов. Его бойцы прятались за колоннами, однако выход был под прицелом мушкетеров. Возможно, арабы и турки плохие стрелки, но если броситься всем скопом, в спину грянет залп, и выживут немногие. Караман об этом знал. Серов — тоже. Он выступил из-за прикрытия и повторил: — Слушаю. Что скажешь, Одноухий? Стрелки на галерее второго этажа раздвинулись, и Серов заглянул в глаза Карамана. Их разделяло ярдов двадцать, и даже в тусклом свете ламп он ясно видел лицо врага: тонкие губы, нос с горбинкой, как у коршуна, и прядь темных волос, что закрывала потерянное ухо. Караман усмехался. — Велик Аллах! Я знал, что ты придешь, Сирулла. Я слышал от многих, что ты меня ищешь. Ну, нашел, гяурское отродье! И что теперь? «Тянет время, — мелькнуло у Серова в голове. — Не желает затевать перестрелку, ждет, когда явятся сотни и сотни бойцов из лагеря. Там наверняка слышали пальбу и понимают, что это значит…» — Твои условия, — внятно произнес он. — У меня здесь восемь десятков верных слуг, — молвил Караман. — Твои псы убили многих, но оставшихся хватит, чтобы всадить каждому из вас по четыре пули в спину или брюхо. Тебе не на что рассчитывать, Сирулла. Руки Серова легли на пистолеты. Он почти физически ощущал, как течет драгоценное время. Корсары ждали его команды. Если бежать к выходу по одному, то… — У меня нет твоей женщины, Сирулла, и нет твоих людей. Гассан Чауш сильно разгневается… Но я подарю дею тебя. Хотелось бы живым! Да и псы, которых ты привел, живыми стоят больше! Может быть, дей проявит милость и пощадит вас всех… особенно тебя, Сирулла… Ты ведь такой знаменитый рейс! «Насмехается», — подумал Серов, отступил за колонну и сказал на английском: — Внимание, парни, слушать меня! Кого назову, тот бежит к арке, остальные прикроют его огнем! Хрипатый и Кук, цельтесь в Одноухого! Приготовиться! — Хочешь умереть? — сказал Караман, отступая от балюстрады. — Но даже в смерти ты будешь моим! Я поднесу твою голову дею и скажу: Аллах подарил мне вождя неверных, который дороже женщины! — Аллах еще не сказал последнего слова, — внезапно послышался голос Арады, и Серов, готовый выкрикнуть имя Люка Фореста, с поспешностью захлопнул рот. Видимо, граф Родриго, никем не замеченный, двигался в тени галереи и теперь стоял прямо под Караманом и шеренгой его бойцов. Стоял под ними, обвешанный порохом, и в его изувеченных руках была зажата лампа. — Помнишь меня, Караман? Я, Родриго де Болеа, нищий граф, твой пленник! Ты долго держал меня в оковах и пытал… Теперь мне не удержать ни пистолета, ни шпаги, но все же я тебя убью! Он поднес лампу к мешку с порохом, и Серов, рухнув на пол, заорал: — Ложись! Все на пол! Адский грохот взрыва заглушил его возглас. В том месте, где стоял Арада, взметнулся багровый огненный столб, взрывная волна ударила в потолок галереи, пробив огромную дыру. В воздух взлетели тела погибших и обожженных, обломки оружия, глины и камней, серое облако порохового дыма и известковой пыли заволокло двор, деревья и стрелков на крыше — эти, судя по паническим воплям, начали разбегаться. От графа Родриго, кажется, не осталось ни клочка, но недостатка в трупах не ощущалось — они падали из дымного облака точно град. То была жуткая смесь из оторванных голов и конечностей, изуродованных тел, тлеющей одежды и мушкетных стволов, согнутых или скрученных в штопор — вероятно, взорвался и тот порох, что был у стрелков в пороховницах. Среди этого хаоса Серов разглядел труп Карамана — без обеих рук, с дырой в животе и обгоревшими волосами. Но узнать его было можно; раскрыв рот, он скалился в лицо Серову, будто издеваясь над ним. «Ну что, получил свое?.. — говорила эта усмешка. — Я-то хоть и мертвее мертвого, но при своей добыче, а где она запрятана, ты никогда не узнаешь… Воистину, Сирулла, Аллах от тебяотвернулся!» Сглотнув застрявший в горле комок, Серов поднялся и выкрикнул во весь голос: — К воротам! Уходим, парни! Боб, Брюс, ведите людей к воротам! Он и сам ринулся туда же, а по дороге ухватил за шиворот Мортимера, поднял на ноги и дал хорошего пинка. Они промчались под аркой, в щепки разнесли решетку, створками которой играл легкий бриз, преодолели открытое пространство до тамарисковых зарослей и остановились на мгновение, тяжело дыша и глядя друг на друга выпученными глазами. В доме что-то продолжало взрываться — наверное, боеприпасы, заготовленные Караманом на случай схватки с Сируллой. В темное небо взлетали то пылающие обломки, то языки пламени, запах пороховой гари перебивал аромат цветущих персиков, отсветы пожара затмевали звезды, и казалось, что в благолепный рай тихой южной ночи вторглась преисподняя. — Джос… Алан… — с хрипом выдохнул Боб. — Упокой Господь их гр-решные души… — Они попадут к Сатане в большой компании, — заметил Жак Герен и перекрестился. Брюс Кук вытер ладонью пот с лица: — Что там случилось, Хрипатый? Внизу мы не нашли никого, кроме слуг. — Засада там случилась, вот что! Хрр… Псы помойные нас ждали, и мы вляпались р-рожами пр-рямо в дер-рьмо! Кто-то их прредупредил, Бр-рюс! И я клянусь, что… — Отставить разговоры! — приказал Серов. — Берем мулов и уходим в холмы. К берегу нам, пожалуй, не пробиться. Словно подтверждая его слова, где-то на севере — должно быть, в лагере пиратов — грохнула пушка. Взрывы в доме прекратились, и теперь стали различимы отдаленные, но быстро приближавшиеся выкрики, гул множества голосов и лязг оружия. Очевидно, к пылавшей усадьбе уже неслись сотни магрибцев, и промедление грозило гибелью. Корсары отвязали мулов, и Серов кивнул Абдалле: — Веди! — Куда, дон капитан? Нада идти обратно в Аль-Джэзаир? Или навстрэчу солнцу? — Сначала на юг, в горы, а миль через шесть-семь свернешь к востоку. Пойдем в Ла-Каль. — Сотни миль по камням… — пробурчал кто-то. — Хреновое дело, капитан! — Если не будет погони, вернемся на побережье, найдем подходящую посудину и — в море! А сейчас всем шевелить костылями, и поживей! Вперед, камерады! В полном молчании они пересекли сад. Позади нарастал топот сотен ног, раздавались крики и беспорядочная пальба — вероятно, пираты уже окружили горящий дом и шарили в окрестностях, разыскивая неприятелей. Серов надеялся, что это их задержит хотя бы на четверть часа, позволив оторваться от погони. Впрочем, погони могло и не быть: Караман мертв, пост главаря свободен, и значит, начнется передел богатств и власти. Опыт веков, отделявших первую жизнь Серова от второй, подсказывал, что в таких ситуациях жажда мести отступает перед более насущными заботами. Конечно, бывали и исключения, так что он мог лишь гадать, как повернется дело в данном случае. Впереди послышалось журчание ручья. Абдалла вел отряд к лощине меж двух невысоких гор, к тому каньону, что был намечен для отступления. Справа и слева темнели в лунном свете лесные массивы, почва стала каменистой, изборожденной корнями сосен, вылезавших из земли подобно скопищу змей. Шум за спиной постепенно стал отдаляться, заглушаемый пением вод, шелестом деревьев и скрипом камней под ногами. Повеяло прохладой, и Форест, шагавший вслед за Серовым, произнес: — Благословение Божие… А как подумаю, где сейчас Джос и Алан Шестипалый, так страх пробирает… Там, должно быть, жарковато! — Думать надо меньше, чума тебя возьми, — буркнул Брюс Кук. — Хотя, само собой, обидно: сгинули парни ни за что. Ни золотой висюльки не взяли, ни блюда из серебра, ни даже паршивого кувшина. — Ни кошеля с монетой, — подпел Мортимер. — Еле, братцы, ноги унесли! — Не унесли бы вовсе, если бы не тот хромой урод. Хоть испанец, а человек был достойный! — промолвил Жак Герен. — Помилуй Господь его душу! Клянусь, что в память о нем оставлю в живых трех испанцев, какие первыми подвернутся под руку! — Три — это слишком, хватит одного, — не согласился Кактус Джо. — Опять же у нас нынче свара не с испанцами, а с сарацинами. Где их тут возьмешь, этих испанских козлов? — И то верно, где? Где, разрази меня гром? — снова поддакнул Мортимер, затем мечтательно добавил: — А вот отыщем наших, уйдем в моря на севере и будем, как обещал капитан, резать шведов… Швед, ежели с деньгами, ничем не хуже испанца. Швед, он… Тут Морти прикусил язык, сообразив должно быть, что рядом шагают братья Свенсоны и у каждого из них рука тяжелая. Но скандинавы промолчали. Были они датчанами, и мысль зарезать шведа их абсолютно не смущала. Отряд проник в ущелье, копыта мулов застучали по камням, журчание ручья сделалось громче и настойчивей. Сюда проникали лишь отблески лунного света, тьма сгущалась вокруг, и лишь вода поблескивала светлым серебром. Голоса за спиной Серова все бубнили и бубнили; прагматик Кук сокрушался отсутствием ценной добычи, Герен спорил с Кактусом Джо по поводу числа испанцев, коих полагалось пощадить, Рик Бразилец клялся, что проткнул ножом магрибца, застрелившего Шестипалого, а боцман бормотал невнятные угрозы в адрес «чер-репашьего дер-рьма, пр-роклятых пр-редателей». «Это он про кого?..»-мелькнуло у Серова в голове. Но он и сам был зол, разочарован и подавлен, так что на этой мысли не сосредоточился. Шейла, любовь моя, где ты? Что с тобой? Смотрят ли твои глаза на луну и звезды или навсегда закрылись?.. Думать о ее смерти было так горько, так мучительно! Временами Серову казалось, что земля уходит у него из-под ног и что сейчас он полетит в бездонную пропасть — возможно, в тот самый временной провал, что поглотил его уже однажды со всем родным столетием. И где он окажется?.. Вернется в свой век или нырнет в тысячелетние глубины, очнувшись среди сражений Столетней войны, в Риме времен Нерона, у первобытных троглодитов или, того ужаснее, в прошлом, где нет ни людей, ни даже обезьян, а только одни динозавры? Он помотал головой. Нет, такого не должно случиться! В нем крепло осознание того, что с этой эпохой он связан сильнее, чем с двадцатым или двадцать первым веком. Там, за горами еще не истекшего времени, он был такой незаметной, такой незначащей персоной! Даже не винтик в сложном механизме — без винтика машина поломается или хотя бы замедлит ход, а его гибель не значила ровно ничего для переполненной людьми планеты. В многомиллионных муравейниках, какими были привычные Серову города, терялась жизненная цель, исчезали понятия чести, долга, благородства, доблести, размывались родственные узы, и даже любовь, самое сильное и драгоценное из человеческих чувств, превращалась во что-то обыденное вроде предмета сделки или торговли. В том, первом мире Серов мог любить или не любить, завести потомство или обойтись без оного, воевать или не воевать, суетиться по мелким делам или сидеть, уткнувшись в телевизор, ловить преступников и гордиться тем, что исполняет свой долг, но любой выбор, не принимая во внимание удачи или большого несчастья, не делал серую судьбу заметно светлее или чернее. Новая фаза его существования была совсем иной — в этом диком, жестоком и неуютном времени многие понятия обретали исходную ясность и определенность: долг был долгом, честь — честью, любовь — любовью, и все это составляло жизнь. Иногда Серову казалось, что в том далеком цивилизованном мире он не жил, а медленно умирал, двигаясь к неизбежному концу вместе с миллиардами других людей, стоявших в длинной скучной очереди в крематорий. Нет, новая жизнь больше ему нравилась, и он не хотел вернуться назад или отправиться к динозаврам! Вот только бы Шейлу отыскать… Серов полез за пазуху, ощупал сапфировое ожерелье, укололся об острый золотой листок, и это его странным образом успокоило. Дар должен найти ту, которой предназначен! А раз должен, то найдет! Дорога пошла вверх, камни под ногами сделались крупнее, ручей то огибал их, то прыгал водопадами с глыбы на глыбу. Небо посерело, звезды стали блекнуть, и резвости у людей и мулов поубавилось — они двигались быстрым шагом уже часа полтора, преодолев мили четыре в труднопроходимой горной местности. Наконец перед самым восходом ущелье вывело их на скалистый, поросший кустарником и корявыми соснами склон горы. Ноги Серова налились тяжестью, а за его спиной начали толковать о привале — сказывалась бессонная ночь. Услышав эти разговоры, Абдала, шагавший впереди, обернулся и молвил: — Нада идти далшэ. Идти быстро! Люди Караман, они… как это по-англиски?.. они нас преслэдоват. Они нэ успокоится. — Ничего не слышно, ни голосов, ни шорохов, — отозвался Серов. — Думаю, у них найдется дело поважнее — драка за пост главаря. До нас ли им? — Он знаком велел Деласкесу приблизиться. — Как ты считаешь, Мартин? — Абдалла прав, синьор капитан, они не успокоятся, клянусь Девой Марией! Часть может пойти с собаками по нашим следам, другие направятся вдоль побережья, чтобы отрезать нас от моря. Дорога по берегу легче, а у Карамана много воинов и много опытных рейсов. — Но Караман мертв, и его рейсы делят сейчас вакантный портфель. Разве не так? — Делят… что? Простите, дон капитан, я не понял ваших мудрых слов. — Я хотел сказать, что они выбирают нового вожака, а это такое увлекательное занятие! Без стрельбы и резни не обойдется. — Обойдется, если прежний вождь пал в бою, а не преставился по воле Аллаха. Тот, кто за него отомстит, будет новым главарем. Такой здесь обычай, мой господин. Кто взденет на пики наши головы, тот и избранник. Остальные ему покорятся. «Резонно», — подумал Серов и, обернувшись, произнес: — Все слышали? — Он выдержал паузу. — Двигаемся до тех пор, пока не найдем надежное укрытие. Встанем там на дневку, переждем жару, поспим. А дальше… — Дальше, капитан? — спросил Брюс Кук, когда молчание затянулось. — Устроим засаду. Побеждает нападающий, а не тот, кто бежит. Кук захохотал: — Вот это мне нравится! Нравится, будь я проклят! Пустим сарацинам кровь! Заодно и карманцы обшарим! — Двух-трех надо взять живыми, — предупредил Серов и вытер с лица испарину. — Хр-р… Зачем, капитан? — подал голос Хрипатый. — Караман говорил, что Шейлы и наших людей у него нет и что Гассан Чауш из-за этого сильно разгневается… Где же Шейла? Где Тиррел, Стур и все остальные? Если возьмем языка, то, быть может, узнаем. Помолчав с минуту, боцман пробурчал: — А как ты думаешь, Андр-ре? Что с ними пр-рик-лючилось? Зар-резал Кар-раман, сучий потр-рох? — Вряд ли. Подарки дею берегут… Возможно, они бежали. — Серов сглотнул и постарался увериться в этой мысли. — Не знаю, как им это удалось… как они выбрались из ямы… — «И как умыкнули Шейлу», — добавил он про себя. — Ну, поймаем сарацина, разберемся. — Р-разберремся, — согласился боцман. — И с этим, и с кое-чем др-ругим. — Голос его был угрожающим. Взошло солнце, и воздух быстро потеплел. Мулы спотыкались на крутом откосе, братья Свенсоны, Рик, Герен и Кактус Джо тащили их за уздечки, а иногда подпирали сзади. Пороха в мешках и еды в корзинах хватало, но путь до Ла-Каля был неблизким, и Серов, присматриваясь к животным, уже оценивал их упитанность. Встававшие впереди горы казались в первых солнечных лучах розовыми, сиреневыми, лиловыми, на их склонах щетинился лес, а выше грозили небесам острые каменные громады, исполинские шлемы, лезвия мечей и пик, рога застывших в тысячелетнем сне драконов. Чудилось, что сон их вот-вот прервется, гиганты вскинут головы, расправят плечи и зашагают неторопливо в жаркую Аравию, чтобы поклониться Аллаху у стен священной Мекки. В девятом часу, когда солнце стало припекать, Абдалла отыскал тропинку, ведущую на восток. Очевидно, то был какой-то древний тракт, проложенный через лес к перевалу; кое-где из грунта и слоя опавшей листвы выбивался ровный шлифованный камень, а в самых опасных местах виднелись руины стен, некогда ограждавших дорогу. Люди и мулы пошли веселее, Рик раздал лепешки и финики, съеденные с жадностью; потом каждый подкрепился парой глотков спиртного. Прислушиваясь и оглядываясь назад, Серов пока не находил признаков погони — правда, заметить ее в этих дремучих лесах и хаосе скал было сложновато. Опыт войны в «зеленке» подсказывал, что в какой-то момент нужно определиться с противником: залечь по обе стороны дороги, пропустить врагов, сосчитать их силы, зайти в тыл и ударить. При внезапной атаке десяток бойцов мог положить роту — если, конечно, в руках не кремневый мушкет, а «калаш» и подсумок с рожками. Архаичное оружие диктовало иную тактику: подкрасться ночью и забросать преследователей пороховыми гранатами. Кроме мешков, мулы тащили десятка три кувшинов, набитых порохом, и Серов, оглядывая окрестности, прикидывал, где и как использовать их с максимальной пользой. Абдалла повернулся к нему: — Скоро быт старый башни, дон капитан. Очэн, очэн старый — стэна остатся так или вот так. — Мавр провел ладонью на уровне пояса, затем поднял ее к плечу. — Прэжний люди их строить — нэ сыны Аллаха, нэ кабил, нэ хамьян, нэ улэд-наиль, лаарба, улэд-сиди-шэйх[539] и никакой другой бэрбер. Те прэжний люди приходить сюда из-за моря так давно, что пророк еще нэ родится. «Римляне или карфагеняне», — подумал Серов, кивая. Те и другие пришли из-за моря, жили тут в незапамятные времена, строили крепости, сражались с племенами пустынь и гор, с ливийцами и нумидийцами. Эта дорога тоже была делом их рук. К полудню отряд поднялся на перевал. Развалины некогда оборонявшей его цитадели заросли корявыми соснами и олеандрами с белыми и розовыми цветами, так что нельзя было понять, уничтожена ли крепость природной стихией или людским старанием. Тут и там из зелени выглядывали останки стен из белого камня, валялись обтесанные глыбы, резные капители колонн и массивные блоки, служившие когда-то ступеньками лестниц. Лианы, ветви и корни оплетали разбитые статуи, скрывая лица свергнутых богов или, возможно, владык; их мраморные тела поросли мхом, пьедесталы треснули, надписи стерлись. Странно, но эта картина разорения не вызывала ни печали, ни тоски: древняя крепость, покорившись времени, всего лишь приобрела иной облик, ту красоту, которой пленяют древние руины. Абдалла провел их во внутренний двор между развалинами башен. Здесь лежали щербатые каменные плиты, а над ними, подобно сломанным зубам гигантской челюсти, торчал двойной ряд колонн. Здесь, выбрав тенистое место, отряд остановился, и Серов объявил привал. — Джо, Герен, Деласкес, разгрузите мулов. Рик, раздай еду, — распорядился он. — Олаф, полезай на стену, будешь следить за дорогой. Брюс, вернись по тропе на сот-ню-другую шагов и прислушайся, не орет ли кто. Может, собаки лают или оружие брякает… А ты, Хрипатый… — Подожди, капитан, р-рано бр-росать якор-ря! — внезапно рявкнул боцман. — Надо кое с чем р-разо-бр-раться. Кое с чем и кое с кем… Сожр-ри меня адский огонь! Пока мы с этим делом не закончим, я пальцем не шевельну! — С каким еще делом? — спросил Серов. Хрипатый с мрачным видом уставился на него: — А ты забыл? У Одноухого ублюдка нас ведь поджидали! Это с чего бы? — Он сам сказал. Многие говорили Караману, что я его ищу, вот он и подготовился. Мне это кажется вполне резонным. — Хр-р… А мне нет! — Вытащив нож и резко повернувшись, Хрипатый Боб ткнул лезвием в Деласкеса, а потом — в Абдаллу. — Я вот думаю, сэр-р, что нас пр-родали! Эти два мошенника вместе с тр-ретьим, стар-рым пнем Р-рахманом! — Есть доказательства? — холодно поинтересовался Серов. — Р-разведем костер-р, подвесим над огнем, будут и доказательства. А можно и без них — вот так! — Боцман чиркнул в воздухе кинжалом. Корсары придвинулись к Абдалле и побледневшему Деласкесу — видно, идея Хрипатого пришлась им по сердцу. Серов знал их буйный нрав и склонность к пролитию крови, а причиной к тому могли быть усталость, раздражение и неудачный рейд. Двое убитых, добычи не взяли и Стура не нашли! Кто за это ответит? Может, мальтиец с мавром, два чужака, а может, и сам капитан… «Сразу стреляй! — всплыл в голове совет Сэмсона Тегга. — Стреляй! Покойный Брукс так делал, и потому парни ходили у него по струнке…» — Клянусь Девой Марией и ранами Господними! — выкрикнул Деласкес. — Нет на нас греха, дон капитан! Служили мы верно и вам, синьор, и вашему братству, шли под пули, бились с врагом и у штурвала стояли! Не обижай нас недоверием! Хрипатый хищно оскалился: — Вер-рным чего бояться? Вер-рному ножик вр-ро-де щекотки, и огонь он тоже выдер-ржит… Ну-ка, Олаф, Эр-рик, Стиг, хватайте их! А остальные пусть р-разло-жат костер-рок. Узнаем, кто вор-рожил Кар-раману! — Стоп, — негромко произнес Серов и положил ладонь на рукоять пистолета. — Здесь командую я, и потому — никаких костров, болваны! Если нас преследуют, увидят дым. Опять же, Хрипатый, если тебе поджарить пятки, ты тоже во многих грехах признаешься. Скажем, что был у Карамана в наложницах и подставлял ему зад после каждого вечернего намаза. Брюс Кук загоготал, следом грянули остальные. Серов небрежно помахал пистолетом. — Отставить, парни! — Он перевел взгляд на Деласкеса и Абдаллу, и его глаза были холодны, как лед. — Я не против разборки, только делать это будем по-моему. Мартин правильно сказал: они с Абдаллой под пули шли, и у штурвала стояли, и были верными проводниками… Все так! Однако история с их бегством от кастильцев очень подозрительна. — Серов нахмурился, припоминая рассказанное Теггом. — Кому вы оружие покупали? Как добрались из Малаги в Кадис? Как очутились на испанском судне? И во дворце магистра в Ла-Валетте вы тоже вроде не чужие… Так что ты, Хрипатый, ножик не убирай, пока у нас неясность с этими вопросами. Абдалла и Деласкес переглянулись. Похоже, им есть в чем признаваться, решил Серов и покосился на мрачного боцмана. Слова Тегга звучали у него в ушах: если самому стрелять противно, Хрипатому мигни — тут же глотку перережет… Ну, с глоткой — это слишком, подумалось ему, а вот пугнуть двух этих молодцов — нелишнее. С одной стороны, Хрипатый успокоится, с другой — здесь не мадридский двор, и тайны не нужны. Он поднял пистолет, направил его на Деласкеса и взвел курок. Абдалла кашлянул и огладил бороду. — Не делайте этого, дон капитан. Я все объясню, хотя мои речи не для досужих ушей и длинных языков. — Его взгляд скользнул по лицам корсаров, задержавшись на Мортимере. — Мартин и я, мы оба, служим рыцарям Мальты и Мулаю Измаилу, повелителю Марокко. Мы служим им, как и другие люди в Магрибе, Франции, Испании и Королевстве Обеих Сицилии, и люди эти могут достать клинки, мушкеты и пушки, нанять корабли и солдат, подкупить чиновников. Многое могут! Если подать им тайный знак, придут на помощь и спасут. Так и случилось в Малаге и Кадисе… Но лучше не спрашивайте меня, что мы делали в Испании. Зачем вам это знать? Вы найдете супругу, отправитесь на север, и это будет новая жизнь для вас и вашей команды. Мы останемся здесь. Мы и наши секреты. Мавр изъяснялся на правильном английском, и это было так неожиданно, что Серов на мгновение онемел. Но замешательство прошло, и слова Абдаллы, их звук и смысл, уже не казались удивительными — во всяком случае, для человека двадцать первого столетия. Здесь, как и в покинутом им мире, существовали тайные службы, шпионские сети, агенты, резиденты и асы-разведчики, к которым, видимо, относился Абдалла; здесь, вероятно, уже процветал нелегальный бизнес, поставки оружия, вербовка наемников, картирование чужих территорий и кража чужих секретов. Все, как положено, и удивляться нечему; еще век, и Европа начнет завоевывать Африку и Азию, — точно так же, как захватила в прошлом два американских континента. — Объяснения принимаются, — молвил Серов. — Я верю тебе, Абдалла, и не буду выпытывать то, о чем ты не желаешь говорить. Это и правда не наше дело. — Он повернулся к Хрипатому. — Есть еще вопросы, Боб? Боцман помотал головой, но Брюс Кук, отличавшийся практичностью, с сомнением хмыкнул: — Не очень я понимаю, капитан, как можно служить двум господам. Этот Мулай Исмаил — магометанин, а всем известно, что рыцари воюют с нехристями. С чего бы султану и магистру грести одним веслом? — Рыцари воюют с турками и магрибскими пиратами, — возразил Абдалла. — Мулай Исмаил ненавидит тех и других. Османы ему враги, им не нужен сильный владыка в Магрибе, и пираты тоже враги, ибо не признают его власти и творят бесчинства во всех приморских городах. — Вы это видели в Эс-Сувейре, — добавил Деласкес. — Кто хозяин в этом городе — бей, поставленный султаном, или тысячи разбойников? Их предводители, турецкие рейсы, враждуют с Мальтой, с Марокко и со всеми христианскими странами. Чтобы бороться с разбоем, султану нужны пушки, мушкеты, порох и опытные воины. Где он найдет все это, если не у христиан?[540] Тайный союз, понял Серов, негласный договор между султаном и великим магистром ордена. Он не очень ориентировался в высокой политике этой эпохи, но в его времена такое не вызывало удивления. Дипломатическая формулировка подобных союзов звучала так: дружба против общего врага. Серову помнилось, что Карл, король христианской Швеции, вступил в союз с турками против России. — У Британии нет друзей, у Британии есть интересы, — пробормотал он, кивая. Потом сказал: — Вы перешли на мой корабль в Атлантике. Хотели быстрей попасть на Мальту? Но почему вы там не остались? — Долг благодарности, сэр капитан, — ответил Деласкес. — Бог видит, что мы искренне желаем вам служить, пока вы плаваете в этих водах. — Долг благодарности? И только? — Ну-у… — начал Деласкес, но тут же смолк, взглянув на мавра. Не было сомнений, что в этой команде главным являлся Абдалла. — Не только, — произнес он. — Во-первых, вы захватили испанское судно, и деваться нам было некуда. А во-вторых… — Мавр помедлил, затем произнес: — Во-вторых, на Мальте нам велели помогать капитану де Серра. — За что такая милость? — А вы не догадываетесь, сэр? Вы и ваши люди хорошо потрудились в этих морях. Не даром пираты прозвали вас Гневом Аллаха. — Я понял, — произнес Серов и сунул пистолет за пояс. — Разборка закончена. Повторяю свои приказы: разгрузить мулов, есть и спать. Брюс, проверь тропу, Олаф, полезай на стену. Хрипатый, проследи за сменой часовых. Они отдыхали в древней крепости, пока солнце не начало склоняться к горизонту. Затем Абдалла повел их на восток, но не успел караван отдалиться от развалин, как он остановился, склонил голову к плечу и прислушался. Серов слушал тоже. Ему показалось, что он различает далекий лай собак. — Люди Караман идти по наш слэд, — сказал мавр. — Нада торопится, дон капитан. Он уже не был тайным лазутчиком султана и магистра, асом разведки и знатоком языков, а снова стал Абдаллой. Только Абдаллой, всего лишь Абдаллой, верным соратником, проводником корсаров.
Глава 15 СКИТАНИЯ В ГОРАХ
Древнее коренное население Алжира — маврусии, гетулы и ливийцы, которых греки, а затем римляне, называли «варварами». Это наименование, видоизмененное в «берберы», сохранилось за их потомками. После завоевания Магриба в V-X вв. арабы растворились в массе берберов, но одновременно арабизировали их. По внешнему облику алжирцев можно разделить на два основных типа. Первому из них, арабскому, свойственны смуглый или матовый цвет кожи, черные глаза и волосы, редкая борода, орлиный нос, овальное лицо с высоким выпуклым лбом. Для второго типа, берберского, характерно более широкое лицо, короткий нос, большой рот с довольно толстыми губами и более светлая кожа. Часто встречаются светловолосые и голубоглазые берберы.Б. Е. Косолапое. Алжир (Москва, 1959 г.)
Серов высунулся из-за каменной глыбы, и сразу грянул залп. Турки и магрибцы стреляли плохо, но от удара пуль о поверхность скалы летел рой осколков. Один прочертил кровавую полоску под скулой Серова, и тот поспешно пригнул голову, пробормотав: — Дьявол! Сегодня они подобрались на сотню ярдов! Его отряд, петляя среди горных вершин, ущелий и скал, уходил от погони одиннадцать дней. Трижды они пытались выйти к берегу, но всякий раз их поджидал сильный вражеский заслон. Возможно, они сумели бы прорваться сквозь пиратское воинство, но Серов не сомневался, что половина его людей поляжет в этом бою, а остальные будут изранены. К тому же у моря их ничего хорошего не ожидало. Найти рыбачью деревушку и подходящее судно, взять припасы, погрузиться и отчалить — все это требовало времени. Если враг наседает по пятам, долго искать нельзя, выйдешь в море на любой лоханке, а там либо догонят шебеки разбойников, либо прикончит первый же шторм, либо посудина пойдет на дно из-за незамеченной течи. Нет, так рисковать он не хотел! Волоча за собой мушкет и два горшка с порохом и фитилями, Серов переполз к соседним камням, просунул в щель между ними ствол, подождал, пока в зелени ниже по склону не мелькнет чалма, и выстрелил. Раздался пронзительный вопль. Хрипя и брызгая кровью, человек заворочался в кустах, но быстро затих — то ли потерял сознание, то ли отошел к Аллаху. Слева и справа тоже грохнули мушкеты, а внизу послышались крики — корсары целили гораздо лучше турок и магрибцев. Приподнявшись, Серов свистнул и помахал рукой, приказывая стрелкам сменить позиции. Затем пополз к другой скале. На вторые сутки после бегства из усадьбы Карамана, дождавшись вечерней поры, он устроил ловушку. Путь, выбранный Абдаллой, вел в узкое глубокое ущелье, мимо бурного уэда, и Серов, отправив с мулами мавра и Кактуса Джо, велел остальным бойцам подняться на склоны. Там они и засели, имея при себе мушкеты и дюжину набитых порохом горшков. Все прошло как по писаному. Преследователи, три десятка человек с двумя собаками, устали к концу дневного перехода и, завидев ручей, ринулись к воде. Их забросали пороховыми гранатами, оставшихся в живых добили из мушкетов, кроме двух магрибцев, которых Серов допросил. Но знали они немногое. Вроде бы месяца два или три назад что-то случилось в саду у Караманова дома или у хозяйственных служб — стрелять не стреляли, но шум какой-то был, и Одноухий после этих событий ходил мрачнее тучи. Возможно, турок, командир отряда, смог бы что-то еще рассказать, но получил горшком по темени и валялся теперь у ручья безголовым. После такой успешной операции Серов решил, что с погоней все закончено, но то была ошибка. Турок, оставшийся без головы, просто оказался самым шустрым, самым торопливым — за что, видать, Аллах его и наказал. За ним шел большой отряд, сабель четыреста и псов десяток, а начальствовал над этим войском опытный предводитель — во всяком случае, он своих сил не распылял, и заманить его в засаду никак не удавалось. С другой стороны, с дюжиной бойцов засаду на батальон не устроишь; тут можно только отбить атаку, оторваться и бежать со всех ног. Что Серов и делал. Сзади его теснили, от побережья отрезали, на юге дышала зноем пустыня, но путь на восток оставался свободным, и тактика была ясна: отстреливаться, идти к Ла-Калю и не дать себя окружить. Он присел за скалой и перезарядил мушкет. Ползать по камням со всем снаряжением было не подарок — мушкет, горшки, сумка с пулями и пороховница тянули фунтов на двадцать, а кроме них имелись еще два пистолета, шпага и кинжал. Майское солнце в Алжире палило так, что подмосковная жара казалась разминкой перед финской баней, скалы дышали зноем, воздух теснил грудь, пыль забивалась в рот и нос. Зато позиция была неприступна: слева втыкался в небо утес тысячефутовой высоты, справа зияла пропасть, а между ними — россыпь каменных глыб, надежное укрытие, где можно спрятаться и, оставаясь невидимым, палить в щели как в бойницы. От россыпи склон уходил вниз градусов под пятьдесят и просматривался отлично, так как был абсолютно голым, ни деревца, ни кустика. Зелень начиналась ниже, в полутора сотнях шагов, и там, среди зарослей и корявых сосновых стволов, засели магрибцы. Хоть и было их четыре сотни, но в атаку они не рвались: слишком крут подъем, а за камнями — меткие стрелки. Впрочем, четыре сотни было неделю назад, во время первой стычки, а их с тех пор случилось пять или шесть. Серов полагал, что в этих схватках враг потерял двадцать или тридцать бойцов, не считая раненых. В горной местности даже небольшой отряд мог отбиться от превосходящих сил и уйти, оставив противника в полном недоумении — в том ли ущелье искать беглецов или в другом, в третьем либо в четвертом? Если бы не собаки, они растворились бы в этих горах словно ночные тени, но псы у пиратов были отличные и всякий раз отыскивали след. Перебить их никак не получалось, подстрелили лишь двоих. Серов подумывал о том, чтобы пройти ручьями, но в этих краях они текли не по пути, с гор на равнину, то есть с юга на север. Да и речки эти были непохожи на российские или кавказские — выбивались из скалы, струились на три-четыре мили и исчезали под каким-нибудь камнем. Не реки, не ручьи — уэды! Имелись тут потоки и побольше, в глубоких каньонах, прорытых водой за многие тысячелетия, но приближаться к ним оказалось опасно. Здесь, на крутых склонах над ложами уэдов, жили кабилы, не слишком жаловавшие чужаков. Турки, арабы, мавры, европейцы — им было без разницы: любого пришельца встречали пулями, стрелами и камнями. Эти дети гор обитали в деревнях, прилепившихся к обрывистым склонам и выстроенных в форме конуса, так что крыши домов нижнего ряда служили основанием для верхних жилищ, а ряды постепенно сужались к венчавшей этот муравейник башне-цитадели. Попасть в такие селения можно было только по приставным лестницам, и в этот век, не знавший ни ракет, ни вертолетов, они казались совершенно неприступными. Серов и трое братьев Свенсонов держали оборону в центре, Хрипатый с Кактусом Джо, Деласкесом и Риком прикрывал левый фланг, на правом засели Кук, Форест, Морти и Герен. Абдалла скучал в тылу, при мулах; Серов боялся, как бы его не ранили и берег, как собственное око. Не для того он спас Абдаллу от посягательств Хрипатого, чтобы потерять проводника в случайной перестрелке. С половиной мулов пришлось расстаться — двух, сбивших копыта о камни и захромавших, Серов велел отпустить, а третьего зарезали и съели, чтобы сберечь продовольствие. Запас подходил к концу, пуль и пороха тоже было немного, так что приходилось стрелять наверняка. Серов страшился рукопашной схватки, понимая, что с сотнями пиратов им не справиться. Тактика его была простой: прикончить полдюжины магрибцев и, пользуясь их замешательством, делать ноги. Кусты внизу зашевелились, в зелени замелькали смуглые тела и белые одежды, сверкнула сталь ятаганов и сабель. Серов поднял руку: — Внимание, камерады! Они собираются атаковать. Огонь по моей команде! Он наблюдал за перемещением противника, прислушиваясь к ругани турок-главарей, поминавших Иблиса, шайтана и прочую нечисть. Похоже, турки гнали своих подчиненных плетьми и палками, а те совсем не хотели вылезать из кустов. И правильно! Склон шириною в двести футов, крутой и голый; солнце бьет в глаза и укрыться негде. Половина атакующих ляжет, не добравшись до камней. — Стиг! — позвал Серов. — Приготовить горшки! — Да, капитан, — отозвался датчанин. — Боб, Брюс! Накроете их перекрестным огнем. — Будет сделано, сэр! Толпа магрибцев повалила из кустов. Их оказалось больше сотни — полунагих, вооруженных пиками и ятаганами, орущих: «Аллах акбар!» Эти вопли напомнили Серову Чечню. Правда, оружие там было другим, да и воевали большей частью одетыми. По камням защелкали пули, веером разлетелись осколки гранита. — Не стрелять! — приказал Серов. — Пусть подойдут поближе. Атакующие, размахивая клинками, лезли вверх по склону. Пираты, засевшие в кустах, прикрывали их огнем, но толка от их стрельбы не было никакого — свинцовые мухи жужжали над скалами или плющились о каменную поверхность. Серов подождал, когда толпа приблизится шагов на тридцать, поджег фитиль, поднялся во весь рост, выкрикнул: «Гранаты!» — и метнул горшок с порохом. Вслед за ним полетели еще три фунтовых снаряда, рванулось рыжее пламя, жутко завопили раненые и обожженные. — Боб, Брюс! Огонь! Серов разрядил в толпу свой мушкет и оба пистолета, убедился, что мертвых там едва ли не больше, чем живых, и начал торопливо перезаряжать оружие. Пираты с воем откатились обратно, оставив на склоне десятки мертвых и умирающих. «Теперь их в атаку не погонишь», — злорадно подумал Серов и свистнул, подавая сигнал к отходу. Его малочисленная команда двигалась быстрым шагом, огибая утес, защищавший их тылы; люди возбужденно переговаривались, Кук гоготал, подбрасывая мушкет в воздух, Мортимер пересчитывал убитых сарацин, и получалось у него не меньше сотни. Сотня не сотня, но уложили изрядно, решил Серов, оглядывая своих сотоварищей. Слава Богу, вроде бы никто не ранен… Он вытер кровь, струившуюся из царапины под скулой, и велел строиться в колонну. За утесом была небольшая площадка, где их поджидал Абдалла с мулами. Дальше тропинка суживалась до трех футов и круто сбегала вниз, в очередное ущелье, заросшее олеандрами и серебристыми ивами. Оказавшись в их густой тени, Серов перевел дух, сказал Абдалле, чтоб поторапливался, пропустил отряд вперед и зашагал последним, вслед за мулами. Одно из животных хромало и явно просилось в котел. Два других шли резво, ибо копыта их были целы, а поклажа невелика: корзины с лепешками, вяленым мясом и финиками, десяток гранат, свинцовые пули в кожаной суме и мешок с порохом. Огненного зелья оставалось фунтов тридцать, и Серов с тревогой подумал, что еще одну схватку они выдержат, а дальше — как Бог даст. Ошибка! В чем была его ошибка? В эту эпоху он являлся незаурядным стратегом, но самый лучший полководец должен считаться с реальностью. Данные о ней — задача разведки, и горе тому командиру, который неверно их истолкует либо не проверит трижды! Впрочем, Серов не имел претензий к аль Рахману — старик сделал все возможное, и винить его в том, что ни Шейлы, ни Стура не оказалось в усадьбе, было бы нелепо. Его лазутчики расспрашивали жителей поселка и уверились в том, что пленные здесь; с чего бы им соваться в пиратский лагерь, с риском вызвать подозрения? Да и пираты — во всяком случае, рядовые — толком ничего не знали, как показал недавний допрос. Случилось что-то: стрелять не стреляли, но шум какой-то был, и Одноухий после ходил мрачнее тучи… Это понятно: обещал подарок дею, раззвонил на весь Алжир, а подарок-то утек! Наверняка боялся, что об этом узнают, что Сирулла не придет, и значит, не будет замены подарку… Переиграл его Караман, с горечью признал Серов. Хоть сдох, а переиграл! Если бы не дон Родриго — упокой его Господь! — было бы все как задумал Одноухий, и его, Серова, голова пускала бы нынче пузыри в горшке с винным уксусом. А так получилось ни то ни се: Стура и Шейлу не нашли, Карамана в заложники не взяли, план провалился, но хоть сами живы и целы. Правда, не все, но это уж кому чего судьба наворожила… Он отвлекся от этих дум и попробовал сообразить, где же теперь Шейла и Стур. Добрались до Алжира и скрываются там? Сомнительно! Два десятка мужчин разбойного вида и женщина на сносях — компания заметная; появись они в городе, аль Рахман об этом бы знал. Возможно, Уот захватил фелюку или тартану и вышел в море. Но где он тогда скитается два или три месяца? За этот срок можно десять раз на Мальту сплавать и столько же — в Геную или Марсель… А там бы он услышал про капитана Серра, про союз его с Орденом и славный набег на Джербу! Непременно услышал бы и объявился! А коли не случилось так, значит, корабля у Стура нет и в море он не плавает. Путь через горы на юг Серов забраковал, ибо то была дорога в преисподнюю, в Сахару, к туарегам. Нечего там Стуру делать — тем более с женщиной на седьмом месяце. Стур был человеком опытным, расчетливым, прошедшим воду, огонь и медные трубы и обладавшим редким для людей этой эпохи даром — умением предвидеть результат своих поступков. В плену он, наверно, в первую неделю разобрался, где пахнет жареным, а где — паленым… Словом, сообразил, в какую сторону бежать! И сторона та — восточная! Не в Оран же ему двигаться, не в Касабланку, где заклятые враги испанцы с португальцами да и слишком далеко те города… Ла-Каль — другое дело! Французская колония, а французов Стур не грабил и не резал… надо надеяться, что так… И расстояние не столь уж большое, всего две сотни миль… Всего!.. Серов представил, как Шейла, в нелегком ее положении, бредет по горам две сотни миль, и едва не застонал. Затем приободрился, подумав: что бы ни случилось с ней, все позади, все это — худшее! Караман, неволя, побег… А сейчас она наверняка в Ла-Кале и родит через несколько дней. Может быть, уже родила! Он принялся высчитывать сроки на пальцах — получалось, что до девяти месяцев не хватает тринадцати дней. Чертова дюжина, вполне в характере Шейлы! Впрочем, девять месяцев — срок среднестатистический, рожают и раньше, и позже. Вдруг он уже отец! Эта мысль наполнила душу Серова тревогой и счастьем. Ла-Каль, Ла-Каль, Ла-Каль, повторял он в такт шагам. Ла-Каль, где ждут его Стур и Шейла, Тегг и де Пернель, его корабли, его люди! Он доберется до Ла-Каля, дойдет, доползет! Хватило бы только пуль и пороха…
* * *
Но пороха не хватило. Через сутки люди Карамана снова догнали их, и пришлось вступить в сражение. Позиция, как и прежде, была превосходной: Абдалла выбрал место у входа в горную теснину с неприступными склонами. Вход в нее был узок, не больше семидесяти ярдов, и часть этого пространства занимал уэд. Должно быть, где-то в горах прошли дожди, напитав поток, и теперь он выглядел на диво бурным и полноводным. Вода ярилась и ревела, подтачивая восточный край горы, и даже стадо слонов не смогло бы подняться к ущелью против течения. Между берегом уэда и западным склоном лежала каменистая пустошь в двадцать шагов шириной, а дальше громоздились обломки скал, рухнувшие с вершины. Из этой природной крепости пустошь простреливалась великолепно, а к тому же, если подняться на склон и выбрать подходящую расщелину, можно было метать в атакующих гранаты. Оценив удобство позиции, Серов велел Рику и Форесту лезть наверх, а остальным спрятаться за камнями. Затем они устроили кровавую баню магриб-цам, завалив трупами нападавших полосу от речного берега до скал. Бились до двух или трех часов пополудни и одержали полную победу, отстояли ущелье и собственные головы, но пороха осталось на единый чих, то есть фунтов шесть. Свинцовых шариков, служивших пулями, тоже было немного, по дюжине на брата. Серов дал команду отступать, и отряд двинулся в глубь теснины, петляя среди огромных, покрытых влагой валунов. Дорога была тяжелая: слева, закручивая струи бешеными водоворотами, грохотала река, справа на тысячу футов поднимался вертикальный склон, кое-где рассеченный трещинами. В воздухе, затрудняя дыхание, висел водяной пар, ноги скользили по мокрым камням, мулы (их осталось двое) ревели, протискиваясь в узкие проходы между гранитных глыб, и иногда сверху срывался увесистый камень, с громким плеском падая в воду. Абдалла, однако, шел уверенно, пояснив на своем пиджин-инглише, что большому отряду тут придется еще тяжелей, и значит, у беглецов появится выигрыш во времени. Какой-то выигрыш был всегда, ибо после схватки турки и магрибцы пару часов отдыхали, ели, молились и хоронили убитых. Но рано или поздно Серов различал за спиной лай собак, топот, крики, лязг оружия, и не сомневался, что услышит это снова. После каждой стычки его отряд уходил изнуренный сражением, тогда как противник, располагавший сотнями бойцов, мог послать вдогонку свежие силы. При всей выносливости корсаров этот многодневный марафон уже наложил отпечаток на их лица: глаза запали, губы обветрились, щеки ввалились, а у Морти и Фореста, и без того тощих, под кожей проступили ребра. «Догонят опять, — думал Серов, посматривая на мулов с пустыми корзинами и мешками. — Догонят, а пороха — полфунта на нос! До Ла-Каля же еще идти и идти — миль семьдесят, если верить Абдалле. Семьдесят миль, а больше двенадцати в день по этим горам не сделаешь… Шесть суток идти, и в каждый час могут нагнать и навязать сражение… Псами что ли заняться, устроить засаду и перестрелять проклятых.. Без собак след потеряют, особенно если бросить мулов и затаиться где-нибудь в щели…» Он вдруг ощутил безмерную усталость. Странное, непривычное Серову чувство; не было ни страха, ни отчаяния, ни даже физического утомления — тяготила ответственность. Не только за дюжину корсаров, что шли с ним сейчас, но и за всех людей на «Вороне», «Дятле», «Стриже» и «Дрозде», за тех, кто приплыл с ним из Вест-Индии, и тех, кто поднялся на палубы его кораблей, сбив рабские оковы. Что будет с ними? Он мечтал увести их на север, и там, в воспрянувшей от сна России, их разбойное прошлое было бы предано забвению, и каждый, кто пожелает, стал бы новым человеком, честным моряком. А без него останутся они ворами и бандитами, головорезами и душегубами… И Шейла, Шейла Джин Амалия и их дитя! Что будет с ними, если он погибнет? Тягостные раздумья! Сам того не понимая, Серов вступал в период возмужания, в новую жизненную фазу, которой достигает не всякий человек, а лишь готовый поднять и тащить ношу многих. Такими людьми были вожди и полководцы, великие пророки и правители и множество людей помельче, ибо каждому доставался свой груз: кто отвечал за сотни судеб, кто — за тысячи и миллионы. Ноши разные, душевные муки и тревоги одинаковы… Теснина сделалась шире и распалась на три ущелья, подобных отпечатку трехпалой драконьей лапы. Более крупный каньон сворачивал вместе с уэдом на северо-восток, и здесь река струилась спокойнее, без рева и грохота, а вдоль ее берега шла тропинка, явно натоптанная людьми. Два других ущелья были сухими, более узкими и дикими; среднее тянулось к востоку, а крайнее шло южнее и резко поднималось вверх. Абдалла без колебаний направился в средний каньон, но Серов окликнул его и велел остановиться. — Надо поразмыслить. Сейчас, — он прищурился на солнце, — пятый час или около того. Думаю, вечером нас не потревожат, но завтра… Завтра снова сядут на хвост. — Что с того, капитан? — буркнул Форест. — Сунутся, так снова пустим кровь. — Прах и пепел! Перебьем гадов! — поддержал его Морти. Начался галдеж, но боцман и Брюс Кук, бывшие поумнее прочих, хранили мрачное молчание. Наконец Боб прохрипел: — Пор-poxy мало… Так, капитан? — Так. — И что ты пр-редлагаешь? Серов пожал плечами: — Есть разные планы. Можно залезть на склон, дождаться сарацинов и сверху отстрелятьсобак, а заодно и турецких старшин. Можно проникнуть ночью в лагерь и поискать там порох и еду. Можно опять свернуть к побережью, пощупать, что там творится… Но все это — дела рисковые. Можно оставить ложный след — пройти в среднее ущелье, потом обмотать ноги травой, вернуться и двигаться в воде на северо-восток. Для этого мне надо знать, куда ведут эти теснины. — Он сделал паузу, затем спросил: — Что скажешь, Абдалла? — Эта, — мавр ткнул пальцем в южный каньон, — идти чэтыре мили, пят, шест и далше — тупик. Будэм… как это по-англиски?.. да, попаст в капкан. Срэдная дорога лутшэ — идэт на гору, гдэ можна поднатся. К ночи будэм на пэревал. А та, гдэ уэд, опасна. Там кабил, балшое сэление. — Селение… кабилы… — в задумчивости повторил Серов. — Ты уверен, Абдалла? — Когда быт молодой, я ходит по этот горы от Си-ди-Ифни[541] до Тунис. Мой памят хороший. — Значит, там деревня кабилов… — Серов повернулся лицом к потоку. — Не попросить ли у них помощи? — Они чужих не любят, — напомнил Мартин. — У нас есть золото. Мы можем заплатить, если нас приютят в селении. Можем купить еду и порох. Деласкес покачал головой: — Сожалею, дон капитан, но кабилы не торгуют ни пищей, ни своим гостеприимством, а пороха у них и вовсе нет. Что до золота, то они добывают его силой, отбирая у купцов и путников. Нам повезло, что мы с ними не столкнулись. — Мы встретили мальчишку-пастуха. — Он был шауия, мой господин. Это племя более мирное, а кабилы воиственны, жестоки и коварны. Серов кивнул, не сводя взгляд с ущелья с уэдом. Потом сказал: — Ты, Мартин, и ты, Абдалла, не раз говорили мне, что магрибцы не любят турок, а берберские племена питают ненависть к тем и другим. Если кабилы столь воинственны, не могли бы мы натравить их на людей Карамана? Мы дважды проходили мимо их деревень, и нас встречали камнями и стрелами. Но за нами той же дорогой шли турки и магрибцы! Мы бились с ними, и, быть может, кто-то из местных следил за этими сражениями. Во всяком случае, они слышали выстрелы и грохот взрывов. — Слышали… Ну и что? — спросил Брюс Кук. — Они же не идиоты. Легко понять, что мы отличаемся от турок и магрибцев. Мы их враги. — Р-разр-рази меня гр-ром! Ты можешь говор-рить яснее, капитан? — Враг моего врага — мой друг, — пояснил Серов и бросил взгляд на мавра. — Скажи, Абдалла, быстро ли разносятся вести в этих горах? — Он кивнул в сторону потока. — Знают ли про нас в этом селении? — Да, дон капитан. Мне знакомы главный тропы, но быт другой, тайный, свой у каждый плэмени. Новост здэс лэтит как птица. — Если так, идем туда, — Серов решительно кивнул в сторону ущелья с рекой. — Далеко ли это селение? — Солнцэ будэт спускатся к гора, пока дойдем. — Значит, впереди вечер и вся ночь. За это время я успею придумать какую-нибудь провокацию. — Пр-р… Хр-р… Это что такое, капитан? — поинтересовался Хрипатый. — Способ стравить кабилов с турками и магрибцами. Ну, парни, вперед! В дорогу! Повернув в каньон с уэдом, они шли до вечера. Ущелье и текущая в нем река постепенно делались шире, скальные стены уже не выглядели такими отвесными и недоступными, и, вглядываясь в них, Серов замечал то темный зев пещеры, то намек на тропинку, то нависший над пропастью карниз. У подножия гор росла трава и неизменные сосны, но ближе к вечеру появились оливы, дикие или окультуренные, сказать было трудно — во всяком случае, ухоженными они не выглядели. Затем на горных склонах возникло нечто похожее на поля — крохотные клочки земли, засаженные какой-то зеленью. То был уже явный признак обитаемых мест, как и стены из дикого камня, предохранявшие почву от сползания в ущелье. К полям тянулись довольно широкие тропы, и по одной из них, на высоте двух сотен футов, брели, под присмотром мальчишки, четыре козы. Завидев вооруженных людей, пастушонок заторопился, бросил свое маленькое стадо и исчез за скалами. — Отлично, — молвил Серов. — Он их предупредит. — Пр-редупредит, — заметил боцман. — И нам на головы сбр-росят камни пополам с дер-рьмом. — Пусть бросают, только не в нас, а в басурман. Искусство стратегии, Боб, в том и состоит, чтобы поставить под камень чужую башку. — Ты капитан, тебе виднее, — проворчал Хрипатый и смолк. Деревня открылась за поворотом ущелья. Она оказалась большой, как и предупреждал Абдалла, и походила на прочие селения кабилов, виденные Серовым: сужавшийся кверху конус из домов-ячеек, прилепившийся к склону горы и увенчанный широкой каменной башней. Плоские крыши нижнего яруса, до которых было футов восемьдесят, охватывала серая лента парапета, подобного крепостной стене, и за нею толпились сотни две или три народа, большей частью вооруженные мужчины. Одни поспешно вытягивали приставные лестницы, другие подносили связки дротиков и стрел, а третьи разогревали смолу в огромных чанах, готовясь поприветствовать гостей. Внизу, на речном берегу, лежали поля и огороды, скудные небольшие угодья, разбитые на тонком слое почвы, принесенной из более плодородных мест. В ботанике Серов смыслил мало и потому не мог сказать, что там со временем вырастет, морковка, капуста или какой-то экзотический овощ, но при виде культурных насаждений он хмыкнул с довольным видом и сказал: — Не будем тревожить хозяев. Перейдем реку и встанем лагерем за теми скалами. Поток здесь разливался шире и был не таким стремительным и бурным, как у входа в ущелье, однако течение могло сбить с ног. Реку перешли с трудом, погружаясь в воду где по колено, где по пояс, волоча за собой упиравшихся мулов. На узком восточном берегу поднимались утесы, служившие хорошим укрытием, и росли сосны, впившиеся корнями в каменистый грунт. Серов велел нарубить смолистых ветвей и разложить костер. Поужинали на виду у деревни, выставили часовых и легли спать, всем видом показывая, что доверяют опасному соседству. Утром не вышли в дорогу, а сели завтракать, после чего Серов, сопровождаемый Куком и Хрипатым, осмотрел прибрежные скалы и назначил позиции стрелкам. Уэд, с его ледяной водой и быстрым течением, защищал их не хуже стен цитадели; преодолеть поток под обстрелом окажется задачей непростой. Был бы порох!.. Но ввиду скудных запасов придется отступать, и Серов, помня об этом, послал Абдаллу на разведку. Они могли ретироваться вдоль речного потока, скрываясь за утесами, или, бросив мулов, лезть по склону вверх, расположиться на горной вершине и скатывать на сарацинов камни. Наверняка имелись и другие варианты. Абдалла удалился, а Серов вытащил зрительную трубу и начал изучать зеленые насаждения на другом берегу и плоские крыши деревни. К полям и огородам в это утро никто не спустился, лестницы были подняты, на нижнем ярусе дежурили воины с луками и копьями, а повыше тут и там виднелись кучки вооруженных кабилов. Должно быть, мужчины толковали о своих делах и о самом из них насущном — как бы спровадить незваных гостей? Отпустить ли с миром или устроить где-нибудь засаду и вышибить мозги? Проблема, видимо, была серьезной, и кабилы совещались все утро напролет, пока не дождались гонца — наверняка из стражей, следивших за ущельем. После этого в деревне начался переполох, мужчины бросились к стене нижнего яруса, а через несколько минут из-за поворота стало выползать магрибское воинство. Впереди шли араб с крупным пегим псом и турецкий старшина — видно, невысокого ранга, если судить по дырявой епанче и сбитым сапогам. За этой парой нестройными рядами валили пираты, кто с мушкетом, кто с пистолетом, кто при холодном оружии. В головном отряде было с полсотни человек. — Брюс, в собаку попадешь? — спросил Серов. — Хоть в глаз, хоть в дырку в заднице, — послышалось в ответ. — Османа тоже надо бы прикончить. Люк, справишься? — Как Бог свят. — Тогда стреляйте! Грохнули два мушкета, пес завизжал, забился на земле, турок рухнул без звука. Передние ряды смешались, подались назад, послышались проклятия и крики. Затем, вне досягаемости выстрелов, появился турок поважней убитого и стал осматривать скалы и берег реки в подзорную трубу. Кабилы и их деревня его внимания не удостоились. — Мортимер! — позвал Серов. — Видишь того турка? — Да, капитан. — Он ведь тебе не нравится? — Гори я в пекле, если не так! — Ну, покажи, как ты его не любишь. Морти прыгнул на камень, спустил штаны и принялся мочиться, делая обеими руками непристойные жесты. Потом развернулся задом к реке хлопнул себя по ягодицам. — Щас он тебя поцелует, — сказал Кактус Джо, заржал и, расстегивая пояс, тоже полез на камни. — Вниз, — распорядился Серов. — Беритесь за оружие, и чтоб ни единый выстрел даром не пропал! Турок — наверняка предводитель — выхватил саблю, указывая острием в водный поток. По камням с привычным звуком защелкали пули, сотня пиратов бросилась к реке, завывая и безжалостно топча посевы, и в деревне тоже взвыли. Боевой клич кабилов был дик и яростен; он раскатился эхом по ущелью, и казалось, что горы отзываются на вопль людей. Но даже сквозь этот адский шум Серов услышал, как хохочет Хрипатый Боб. — А ведь ур-рожая им не собр-рать! — ржал боцман, тыкая пальцем в сторону деревни. — Р-разве с сапог тур-рецких отскр-ребут! Хор-рошо пр-ридумал, Андр-ре! За атакующим отрядом оставалась изрытая земля и втоптанные в почву стебли. Первая шеренга достигла реки, пираты ринулись в воду, кого-то сбило течением, и он покатился под ноги сотоварищей. Серов скомандовал «Огонь!» — грянула дюжина мушкетов, и первая кровь пролилась в поток. Затем в спину магрибцам полетели стрелы. Лучники в деревне были отменные — последний ряд скосили как серпом. Турок-командир заорал, закрутил саблей, и мушкетеры дали залп по селению. Серов, возившийся с шомполом, пулей и своим неуклюжим оружием, не успел подсчитать потери кабилов, но трое-четверо были убиты наверняка — их тела рухнули с крыш на землю. Из деревни ответили гневным ревом, потом — меткими стрелами, и нападавшие, кто остался жив, стали выбираться из реки. Магрибцы отступали, прячась за камнями и стволами сосен, а Серов взирал на эту картину с полным удовлетворением. Затем поднялся во весь рост, потряс над головой мушкетом и завопил: «Банзай!» — «Рры-ы!» — откликнулись из деревни. — Вот мы и союзники, — произнес он. — Конечно, жаль, ребята, что у вас лишь стрелы, копья да ножи. Было бы с полсотни ружей, мы бы эту орду живо устаканили. Он уже не хотел отступать, а думал о том, чтобы, вступив в союз с местным воинственным людом, расправиться с турками и магрибцами. И план был готов: мужчин в деревне пара сотен с лишним, и надо бы им разделиться, послать один отряд по горным тропам в тыл врагу, а другой — на помощь ему, Серову, и тогда они зажмут пиратов в клещи. Но время шло, полдень миновал, а кабилы не проявляли должной активности. Разглядывая плоские крыши с толпившимися на них жителями, Серов пока не замечал, чтобы воины собирались вокруг вождей; кроме того, лестницы были подняты и ни один человек не спустился к реке и уничтоженным посевам. Странно! Там валялись десятки трупов, пики, пистолеты и клинки — неплохая добыча для кабилов. Вернулся Абдалла и доложил, что лучше уходить вдоль речного берега, где есть тропа, доступная для мулов. Нести животным было нечего, кроме полупустой корзины с сухими лепешками, но Серов рассматривал их как источник мяса и бросать не хотел. Последние пули и порох распределили среди корсаров, и стало ясно, что мулов, скорее всего, они не успеют съесть — новой атаки отряду не выдержать. Что до кабилов, то те, похоже, не желали мстить за погибших односельчан, разгромленные огороды и поруганную честь. Возможно, надеялись, что турки с магрибцами уйдут и оставят их в покое. Часа через два Серов подозвал к себе Кука, Хрипатого, Деласкеса и Абдаллу. — Эти молодцы совсем разленились. — Он кивнул в сторону деревни. — Может, надо их подтолкнуть? Вступить в переговоры? Они понимают арабский? — Понимают, мой господин, — подтвердил Деласкес. — К тому же Абдалле известно их наречие. — Тогда покричите им. — Что именно, дон капитан? — Что начальник франков и инглези хочет говорить с их старейшиной. Пусть он придет сюда или мне спустят лестницу. Абдалла покачал головой: — Мы сдэлать, как вэлено, но кабил очэн упрямый. Кабил уважат толко силный, а нас мало. — Кричи, а там посмотрим, — сказал Серов и повернулся к Куку и Хрипатому: — Если мы с ними не договоримся, придется уходить. Время идет и риск возрастает. — Чего ты опасаешься, капитан? — Я думаю, что турки и магрибцы ищут сейчас брод через реку ниже по течению. Не найдут, так переправятся в любом месте — уэд не так уж глубок. А когда переправятся сюда, на восточный берег, снова атакуют нас, нападут еще до вечерней зари. И если кабилы не помогут… — Он чиркнул по горлу ребром ладони. — Это точно, — согласился Хрипатый, встряхнул почти пустую пороховницу и злобно плюнул. — Псы помойные, недоноски, вонючие кр-рабы, моча черрепашья! Пусть Господь сгноит их души, а кости бр-росит дьяволу! Абдалла и Деласкес, спустившись к самой воде, принялись кричать и делать миролюбивые жесты. Против ожиданий им ответили: бородатый мужчина спустился на нижний ярус крыш, замахал руками и что-то заорал в ответ. Но эти переговоры были недолгими: выпалив две-три фразы, кабил полез наверх, не обращая больше внимания на союзников. Мальтиец и мавр вернулись. — Кабил сказат: ждитэ, — сообщил Абдалла, — И больше ничего? — Ещэ сказат: сэгодна коршун и шакал наэдатся досыта. — Надеюсь, не нашими трупами, — буркнул Серов. Он бросил взгляд на запястье, вспомнил, что часов у него нет, и перевел глаза на солнце. — Сейчас около трех пополудни. Подождем еще немного. Но если… Его прервали дикие крики, раздавшиеся в деревне. То был вопль торжества, больше похожий на рык волчьей стаи, загнавшей добычу; толпа вооруженных мужчин хлынула к нижнему ярусу, на землю полетели лестницы, и первый воин с луком за спиной полез на парапет. Серов живо поднял трубу, приставил к правому глазу, всмотрелся — на башне, нависавшей над селением, приплясывал какой-то человек, тыкал копьем себе под ноги и орал во всю глотку. Потом он вытянул копье на север, туда, куда струился уэд, и новый вопль кабилов потряс окрестности. Они лезли вниз словно десятки юрких черных муравьев. — Похоже, у этих пар-рней есть добр-рые новости, — сказал Хрипатый и проверил, легко ли выходит из ножен палаш. — Тот тип, что пляшет на башне, наверняка гонец, — заметил Кук. — Должно быть, подходит помощь из других селений. Что скажешь, капитан? — Возможно, — кивнул Серов, ощущая внезапный прилив надежды. — Во всяком случае, это объясняет их поведение. — Нэт. — Голова Абдаллы качнулась, и он задумчиво огладил бороду. — Нэт, дон капитан. В эти горы от дэревни до дэревни два или три дна пути. Я помнит, что вблизи здэс нэт другой сэлений. Чтобы получит помощ, нада много врэмени. — С этим мы после разберемся, а пока… — Серов махнул рукой корсарам, глазевшим с камней на кабильских воинов и их деревню. — Вниз, ребята, вниз! Всем занять позиции! Если сарацины перешли реку и кто-то атакует их с тыла, они побегут в нашу сторону. Готовьтесь к бою, парни! Приказ был своевременным — за поворотом ущелья уже слышались вопли, топот множества ног, выстрелы и лязг клинков. Серов побежал к укрытию в камнях, остальные бросились следом, озираясь на бегу. Кабилы продолжали спускаться по лестницам. Толпа за рекой ширилась и росла, первые воины, завывая и размахивая оружием, вошли в воду. Присев за скалой с тяжелым мушкетом в руках, Серов прислушался к их воплям, но были они неразборчивы — у-у-у-ба-а-а!.. у-у-у-ба-а-а!.. — или что-то в этом роде. «Странный боевой клич! — подумалось ему. — Как-никак, кабилы — мусульмане, и должны идти в бой с именем Аллаха на устах…» Он не успел додумать эту мысль, как орда турок и магрибцев хлынула к камням. Они в самом деле перешли реку ниже по течению, но, кажется, не собирались атаковать его отряд, а мчались в полном беспорядке, оставляя тут и там раненых и убитых. Трещали выстрелы, свистели стрелы, крик и стон стоял над берегом, сливаясь с воплями кабилов. Выбравшись из воды, они ударили во фланг врагам, но тех, кто преследовал пиратов, Серов еще не разглядел. Они показались через минуту — толпы воинов в белых бурнусах, поднимавшиеся вдоль реки по всей ширине берега. Большинство из них были лучниками или несли сабли и копья, но в середине двигалась шеренга бородатых оборванцев, паливших из мушкетов. Они наступали в полном воинском порядке, развернувшись цепью, останавливаясь, чтобы дать залп и перезарядить оружие. При виде этого зрелища сердце Серова забилось сильней, а тяжелый мушкет стал легким, как пушинка. Теперь он отчетливо слышал клич кабилов, гремевший над рекой: Турбат!.. Турбат!.. Турбат!.. — Огонь! — выкрикнул он, выстрелил и, обнажив шпагу, покинул свое укрытие. — За мной, ребята! Атакуем! Размахивая тесаками, корсары выскочили из-за камней, и на речном берегу зазвенели клинки.
Глава 16 ЛА-КАЛЬ
Пираты… вооружили пять галер и отправились грабить французские конторы в Ла-Кале. Эта экспедиция, совершенная с быстротой и смелостью, доставила им несметную добычу и более трехсот пленных, которые, по прибытии в Алжир, были брошены в темницы. Но в следующем году арабы, соседние с разоренным поселением и извлекавшие большие барыши из торговых сношений с французами, вдруг отказались платить туркам дань — под предлогом, что изгнание французов лишило их единственных источников к уплате. Корпус янычар, посланный против них, был изрублен, и вскоре это восстание сделалось до того страшным, что угрожало самому Алжиру, и последний мог заключить мир только тогда, когда согласился на все условия туземцев. Их освободили от взноса недоимочных налогов, и турки обязались возобновить за собственный счет заведения в Ла-Кале. Работы эти кончены в 1640 году, и марсельские торговцы, восстановленные в своих владениях, не были более тревожимы даже посреди почти беспрерывных войн, которые вел Людовик XV с мусульманскими пиратами. Выгоды арабов защищали купцов лучше, нежели ядра французских эскадр.Ф. Архенгольц. История морских разбойников моря и Океана (Тюбинген, 1803 г.)
— Чтоб мне гореть в аду, капитан! Ты ведь не думал, что мы задержимся в яме у вонючих нехристей? — сказал Уот Стур. Он улыбался, но улыбка на его обычно хмурой физиономии казалась чем-то лишним или, во всяком случае, неподобающим грозному Турбату, атаману разбойников. Он был оборван, грязен, с нечесаными волосами и бородой, спускавшейся на грудь, — словом, выглядел так, как и положено человеку, бродившему в горах несколько месяцев. Но Серову Стур казался ангелом, слетевшим с небес. — Шейла, — произнес он, — Шейла… — За нее не тревожься, она в Ла-Кале, под присмотром лекаря. Вроде бы еще не родила… Если поторопимся, успеешь к подъему якорей. — Лекарь надежный? Кто он? — Кто? Черт знает! То ли арабский табиб, то ли французский хирург. Говорит на всех языках, какие мне известны. Старый пень, но еще крепкий. В Ла-Кале врачует всех от мала до велика. — И роды принимает? — А как же! К Шейле прям-таки присох… Я ей домик снял, так он три раза на дню прибегает. Нет, лекарь что надо, клянусь господней задницей! Вокруг них стояли шум и гам. Бывшие пленники и люди Серова, перекрикивая друг друга, обменивались историями своих похождений, тянули хмельной напиток из бурдюков, принесенных кабилами, ругались, орали. Клайв Тиррел стучал кулаком в грудь Хрипатого Боба, Герен и Астон, хохоча, пили на брудершафт, Робин Маккофин обнимался с Олафом Свенсоном, а Мортимер, устроившись рядом с подельником Хенком, рассказывал всем желающим, как он зарезал Карамана: — От уха до уха, парни! Поганец «иншалла!» булькнуть не успел! — Когда вы ноги унесли? — спросил Серов. Запустив пятерню в бороду, Стур нахмурился. — Месяца три будет… Или не будет? Я в числах не силен, Андре. Шейла — та да! Та тебе точно скажет! Она все дни высчитывала. Понимаешь, — он хлопнул себя по животу, — тут у нее живой календарь! — Как вы ее доставили в Ла-Каль? Она же была на седьмом месяце! Больше двух сотен миль по горам… — Ну, не совсем по горам — взяли лошадей и часть пути проехали берегом. А в горах, где сама не могла пройти, несли на руках. Хенк и нес! Что ему твоя Шейла? Так, телочка! На Эспаньоле он быков таскал. Дошли до Ла-Каля и ее донесли, а потом решил я чуть развлечься. Здесь только свистни, — Стур обвел рукой реку и горы, — так сразу набежит разбойный народец. Я набрал парней из силуне и тултах[542], потом пришли кабилы… Эти гордые, поладили не сразу… Но теперь здесь меня уважают! — Что же ты весть мне не подал? — Как утекли из ямы, не до того было, капитан. Я об одном думал: добраться бы с Шейлой до Ла-Каля. Ну, когда ее устроил, она и стала той вестью. Ты, я слышал, Джербу взял… А не таскался бы туда, приплыл в Ла-Каль — и вот она, твоя Шейла! — Человек предполагает, а Бог располагает, — сказал Серов. — Это верно, Андре. Они неторопливо направились к кострам, пылавшим на речном берегу. На вертелах жарилась баранина, кипело варево в котлах, сизый дым струился над водой. Ниже по течению пленные магрибцы (турок перебили всех) стаскивали трупы, выкладывали их рядами, и над погибшими уже кружились стаи птиц. Оружие было уже собрано, и теперь кабилы и разбойники Турба-та обшаривали мертвых, сдирали с них одежду, кушаки, сандалии. Зрелище было неприглядное, но Серов к нему давно привык; что морской разбой, что сухопутный всегда заканчивались грабежом. Поиск добычи — апофеоз войны! — Сказать по правде, я не спешил отсюда уходить, — промолвил Стур и опустился на землю у костра. — С Одноухим хотелось сквитаться и всей его бандой, но больно уж он осторожничал. У меня три сотни молодцов, с ними мелкий городишко можно взять, но не укрепленный лагерь… Ну, теперь это дело прошлое! Теперь Караман сковородки лижет в магометанском аду! — Стур хищно оскалился и добавил: — Все случилось как обещано. — А как обещано? — спросил Серов. — Когда расставались, я ему крикнул, что вернусь и кишки вырву. А ежели у меня не получится, так это сделает мой капитан. Так и вышло. — Не совсем. Дыра у него в животе была большая, кишки в клочья разнесло, но все-таки не я его убил, не Кук и не Хрипатый. Прикончил испанец. Я тебе о нем рассказывал. — Испанец, не испанец… — Стур упрямо помотал головой. — Раз с вами пошел, значит, наш! Его рука была твоей рукой, и хвала Творцу, что так случилось. Он мертв, а ты жив. Баран, висевший над огнем, уже подрумянился. Они отрезали по куску мяса и начали есть. Сок капал на бороду Стура, стекал на голую грудь. От бывшей на нем рубахи остались одни лохмотья. — Теперь я бы послушал, как вы от Карамана утекли, — молвил Серов. — Мы осмотрели яму и решетку над ней. Прочная! Снизу не своротишь. — И не надо. Из ямы нас Караман велел выпустить. — Это как же? Стур рыгнул и вытер губы: — Чума на него и всех сарацинских свиней! Есть у них, видишь ли, такой обычай: если попались умелые парни, пушкари там, оружейники или моряки — не матросня с купеческого брига, а такие люди, кто знает, как саблей махнуть и выпалить из пистолета, — так тех людей они искушают дьявольским соблазном. Свободу сулят, коль перейдешь в их поганую веру, обещают на корабль взять и дать оружие, говорят: поклонись Аллаху, иди с нами и бей прежних единоверцев. Но это дело нечестивое! Серов расхохотался: — Я слышал об этом обычае, Уот. Но разве мы не те же нечестивцы? Мы и раньше били братьев-христиан — тех, что плавают под кастильским флагом. Били, грабили их корабли, занимали города, хватали жителей для выкупа, не щадили ни детей, ни женщин, ни старого, ни малого. Разве не так? — Не так, — буркнул Стур. — Наши свары — те, что между христиан — наше дело, и сколь бы мы ни нагрешили, всегда есть шанс покаяться. Души наши попадут в чистилище, но не в ад, и значит, отмучавшись свое, вознесутся к Господу. А война с магометанами — дело иное, дело Божье, дело между Ним и дьяволом. Предайся их вере, и ад обеспечен. — Прежде я не замечал, чтобы ты боялся ада. — В твоих годах его не боятся, а в моих пора задуматься о вечном, — сказал Стур, вздыхая. — Так вот, очень хотелось Одноухому переманить нас к себе всей командой, а я ему не дал, и в том, надеюсь, моя заслуга перед Господом. А ведь чего сулил, как соблазнял, змеиное семя! Парни могли и дрогнуть. Однако… — Что? — спросил Серов, когда пауза затянулась. — Однако я его перехитрил. Сказал, что Шейла — знатная дама, наша хозяйка и госпожа, владелица судна, и что будет так, как она повелит. Прикажет веру их поганую принять — примем и будем служить Караману, а не прикажет, Аллаху не поклонимся. Хоть к веслу сажай, хоть на части режь, хоть в кандалах гнои, а все одно не поклонимся! — Стур в сердцах сплюнул и ударил по колену кулаком. — Одноухий долго поверить не мог, говорил, так, мол, не бывает, чтобы женщина стала госпожой над воинами-мужчинами. Но все же поверил! Случай помог — Шейла до ятагана добралась. При ней неотлучно три бабки были и два охранника, а ятаган на ковре висел. И в некий день, когда Караман отлучился и стражи в доме осталось немного, она ту саблю и схватила. Одному сарацину проткнула печень, с другим рубиться принялась, сбросила с лестницы во двор, и он башку расшиб. Бабки, слуги — врассыпную, а Шейла — к конюшням, чтобы лошадь взять. На ее беду случился там какой-то турок с двумя магрибцами, все при оружии. Так что коня она не добыла, но этих троих изранила, пока они ее ловили да вязали. А на другое утро Караман к яме пришел и говорит: велик Аллах и чудны дела Его! Теперь я верю, что эта девка — ваша госпожа! Это, говорит, не женщина, а дочерь джиннов! Али и Азиз мертвы, у Сулеймана порез на шее, бен Барах двух пальцев лишился, а Махмуду она чуть нос не откусила! Сказал так, усмехнулся и добавил: будет, будет дею подарок! Она его зарежет в первую же ночь, и я избавлюсь от хлопот! Серов слушал эту историю как сказку из «Тысячи и одной ночи». Все тут было: странствия по морям и горам, побеги и битвы, интриги и хитрости, яма-зиндан, пираты и разбойники-кабилы, женолюбивый правитель, красавица принцесса, захваченная в плен мерзавцем-турком, и благородный принц, то бишь самозванец-маркиз, пустившийся на поиски возлюбленной. Сейчас, когда он знал, что Шейла в безопасности, это в самом деле напоминало легенду с восточным колоритом, где действие происходит на фоне пальм, мечетей и верблюдов. «Когда-нибудь в старости, — мелькнула мысль, — я расскажу эту сказку своим внукам — в гостиной, при свечах, у печки с голландскими изразцами. За окном будет падать снег, и Шейла, постаревшая, но прекрасная, сядет около меня и кивнет головой, подтверждая: да, дети, так все и было. Было!» Это видение мелькнуло перед ним и исчезло как птица, которую спугнул голос Стура. — Он смеялся и говорил, что верит мне, что отведет нас к этой дьяволице и будет выкалывать нам глаза, резать уши и языки, пока не услышит нужных слов. А если не услышит, если госпожа смолчит, то, значит, такова воля Аллаха, и нас, одноглазых и немых, отведут на галеры и посадят к веслам. С ним была дюжина басурман, и они принялись вытаскивать нас из ямы и забивать в колодки[543]. Разрази меня гром! Ты знаешь, Андре, — Стур прищурился с задумчивым видом, — у нас с сарацинами земля и вера разные, обычай не схож, а вот колодки одинаковы. Когда я сидел на каторге… — Об этом в другой раз, — сказал Серов. — Я хочу узнать, как вы освободились. — Да, конечно, капитан. Вся штука была в том, чтобы вылезти из ямы и добраться до Шейлы. Чтобы нас, значит, за ворота выпустили, а ее — из дома… — Стур отрезал еще кусок баранины и принялся жевать. Прожевал, сглотнул и усмехнулся: — Тут нам удача улыбнулась: Шейлу к конюшням привели, а нас построили друг за другом, и первым, помню, оказался Тиррел. Вот стоим мы, как в очереди на виселицу, голова и руки в колодке, перед нами Шейла, Караман и двое сарацин, а позади — еще десяток, и у каждого — кинжал, чтобы резать языки и уши. Но не тут-то было! Мигнул я Хенку, и тот ремни на колодке разорвал и нехристя стукнул деревяшкой. Здоровый бык! Так рассадил сарацину башку, что мозги наружу брызнули! Кинжал схватил, обрезал ремни у меня и Джека Астона и начал стражников крушить! Одноухому, видишь ли, думалось, что если мы в колодках, а при нем двенадцать сарацин, то нам и деваться некуда. Ошибся ублюдок! Пока мы от колодок избавлялись, Хенк троих уложил, да и Шейла не дремала, заехала стражнику в зубы и за пистолетом потянулась. Караман заорал, и к дому, а мы побили басурман, и в конюшню. Взяли всех лошадей — было их там дюжины три — и понеслись вдоль берега. Чума и холера! Так я еще в жизни не скакал! Миль восемь отмахали, потом конь под Хенком задыхаться начал, пришлось ему пересесть на другую клячу. В общем, ушли! — Господь вас хранил, — молвил Серов и, неожиданно для себя самого, перекрестился. В этот миг ему казалось, что над ним, над Шейлой и всеми их людьми простерта рука Провидения, что капризная Фортуна на их стороне, что ветер Удачи будет надувать их паруса — сейчас, и присно, и во веки веков. И понесет тот ветер их корабли в северные моря, и будут там новые победы и приключения, новые люди и новая жизнь. Кого благодарить за это? Бога? Судьбу? Всемогущий Случай?.. Уот Стур прочистил горло: — Так было, но все уже кончилось. Турбата больше нет. Какие твои приказы, капитан? Серов взглянул на солнце, висевшее над западными горами: — Вечер близится… Сегодня надо отдохнуть. Выйдем утром. На восток, в Ла-Каль! Сколько дней займет дорога? — Четыре, капитан. — Четыре… — повторил Серов и улыбнулся.
* * *
Эти дни тянулись бесконечно. Он шагал словно в забытьи, смотрел, как встает и садится солнце, как плывут в бирюзовом небе облака и как, раскинув широкие крылья, парят над горами орлы. Одно ущелье сменялось другим, рокотала вода в быстрых уздах, отряд то поднимался на перевал, то двигался вниз, в узкие теснины, заросшие цветущими олеандрами, и их тонкий аромат будил память о запахе Шейлы. Вечером он долго сидел у костра, думал о странной своей судьбе и, что было совсем уж удивительно, молился. Не за себя и даже не за Шейлу, а за пропавших собратьев, за тех, кто канул подобно ему в бездны времени. Владимир Понедельник, программист… Наталья Ртищева, доктор… Евгений Штильмарк, тоже врач… Константин Добужинский, бывший математик, издатель… Максим Кадинов, Линда Ковальская, Губерт Фрик и все остальные, кого он помнил до сих пор, кто приходил к нему в снах, напоминая о прошлой жизни и о том, что было потеряно навсегда. Он молился, чтобы судьба была к ним благосклонней, чем к Игорю Елисееву, умершему в молодых годах, чтобы век их оказался долог и по возможности счастлив, чтобы потерянное ими не висело тяжким грузом, чтобы в их далеком далеке нашлись другие люди, скрасившие их одиночество, другая любовь — такая же, как послана ему. И, заканчивая эти молчаливые беседы то ли с Богом, то ли с Судьбой, то ли с пропавшими сотоварищами, он шептал подслушанное у де Пернеля: dominus vobiscum[544]. В другие дни он размышлял о будущем, о том, как уговорить своих людей, увлечь на север — не тех, что приплыли с ним из Вест-Индии, а бывших магрибских невольников, гребцов с пиратских шебек, составлявших сейчас большую часть его экипажей. Насчет службы государю Петру с ними договора не было, но почему бы не сразиться им со шведом, не постоять за Россию, если царь окажется не скуп? К тому же они ненавидели турок, а Карл, властитель шведский, заключил союз с султаном… Карла побить — туркам ущерб… Может, эта идея сыграет? А может, соблазнят патенты, что привезет Михайло Паршин? Ведь все его люди, думал Серов, и старые, и новые — просто морские разбойники, и нет у них ни отчизны, ни законного государя, ни флага. Даже знамени нет, под коим не стыдно в бой вступить, а если случится, то и погибнуть! Все они изгои, бывшие каторжники или рабы, а для таких людей новая родина — честь и благо. Может, это их соблазнит? Или царское пожалование? Россия — страна богатая… С такими мыслями он шел и шел вперед, и в урочный час открылся ему городок у моря, белые здания, церкви, мечети, крепость на холме, гавань и рейд, где дремали корабли со спущенными парусами. И среди них увидел Серов свой трехмачтовый «Ворон», и бригантину «Харис», и все свои шебеки — все они ждали его, нисколько не сомневаясь, что капитан де Серра вернется, поднимется на свой фрегат, встанет на мостике и скомандует: «Поднять якоря! Курс — на север!» При виде города и кораблей запела душа Серова и показалось ему, что сейчас он взлетит с горного склона, раскинет руки и помчится вниз, к домам среди персиковых садов, к узким извилистым улочкам, к морю и судам, застывшим в бухте. Невеликий городок Ла-Каль, не самый богатый на свете и, уж конечно, не самый красивый — не Москва и не Париж. Пусть так! Разве это имело значение? Пусть не самый красивый, зато теперь Серов в точности знал, как выглядит рай. — Сюда, — промолвил Уот Стур, и он послушно начал спускаться к городской окраине. Приклад мушкета бил его по бедру, сзади гомонили корсары, предвкушая рейд по местным кабакам, жарко палило солнце, дул с моря бриз, но Серов не замечал ничего. Ничего, кроме белого домика в саду и мощенной камнем дорожки, что вела к распахнутым дверям. Окна в доме тоже были открыты, и ему почудилось, что там, в комнате, плавно двигается какой-то человек, то поднимает руки, то опускает их, то вроде машет белым полотном. Обогнав Стура, Серов бросился к домику, но войти не решился, замер у порога, услышав долгий, протяжный, облегченный вздох. Так вздыхают после тяжелой, очень тяжелой работы… Затем раздался пронзительный крик младенца. — Похоже, ты не опоздал, капитан, — сказал Уот Стур, направляясь к нему. — Голосистый у тебя паренек, сожри меня акула! — Откуда ты знаешь, что это мальчик? — Орет громко. Глотка как у боцмана. Верно, парни? — Он оглянулся на корсаров, столпившихся у дорожки под деревьями. — Хр-р… Когда меня спишут на бер-рег, будет кому заменить, — сказал Хрипатый. — Когда тебя спишут, парень уже в капитаны выйдет, — возразил Кактус Джо. — На кой хрен ему твоя боцманская дудка? — Выше бери: адмиралом станет и знатным разбойником, — промолвил Брюс Кук. — Разбойником? Почему? — удивился Серов. И ему тут же пояснили: — Ты разбойник, Шейла разбойница — так кто у вас родился? — Чтоб тебя чума взяла, Брюс! — Серов шагнул было к дому, но в дверях, загораживая вход, возник высокий худой старец. Был он в белом арабским бурнусе, но на араба совсем не похож: глаза — серые, волосы — рыжие с сединой, лицо широкое, тщательно выбритое, с морщинками у губ и на высоком лбу, а на щеках сквозь слой загара просвечивают веснушки. При виде этого старика — несомненно, лекаря-табиба — сердце Серова дрогнуло, а мысли понеслись галопом. Было в нем что-то очень знакомое, привычное, словно здесь, на краю света, в чужой эпохе, Серов столкнулся с москвичом или, быть может, с парижанином, жителем Вены, Лондона или Берлина, только не нынешних городов, а тех, что когда-нибудь будут. Мнилось, что этот человек ездил не раз в машине и поезде, летал самолетом, разогревал обед на газовой плите, что не в диковинку ему метро, компьютер, телевизор и даже спутники Земли, что он способен перечислить все планеты Солнечной системы от Меркурия до Плутона и определенно знает, что все тела слагаются из атомов и молекул. Серов, ошеломленный, глядел на старика и вдруг заметил, что тот улыбается. — Вы — Андре де Серра? — У него был негромкий приятный голос, и на французском лекарь говорил отменно. — Поздравляю с наследником, сударь! Взвесить не могу за неимением детских весов, но ручаюсь, что в мальчугане фунтов восемь-девять. Шейла сейчас отдыхает. Хансена, коновала с фрегата, я к вашей супруге не допустил, так что с нею тоже все в порядке. Хотите ее повидать? Горло Серова перехватило. Он чувствовал, что не может выдавить ни звука. — Ах да! Чуть не забыл… ну, вы понимаете — память-то стариковская… — Лекарь вытащил из пояса что-то круглое, блестящее и протянул Серову. — Вот! Шейла попросила сразу вам отдать. Забавная вещица для этих мест… Но я такие видел — только давным-давно. На его ладони лежали часы Серова, золотой швейцарский «Орион». Часы шли — должно быть, лекарь завел их и выставил верное время. — Видели? Где и когда? — хрипло произнес Серов, не замечая, что в волнении говорит на русском. — Где вы могли видеть такие часы? Кто вы? Теперь лекарю пришел черед удивляться. Его седоватые брови вспорхнули вверх, морщины обозначились резче. Он выдохнул воздух и тихо, почти что шепотом, промолвил: — Здесь меня зовут доктор Эуген Штиль из Кельна. Но там, откуда пришли вы и я, мое имя было Евгений Зиновьевич Штильмарк. Он тоже перешел на русский и явно был возбужден — его дыхание участилось, щеки порозовели, и россыпь веснушек стала заметнее. — Вы — мой соотечественник? Понимаете, я-то думал, вы француз… Андре Серра… Выходит, не Андре, а Андрей? Так? Что же вы молчите? Не отвечая, Серов повернулся к Уоту Стуру: — Веди людей на «Ворон», Уот. Я останусь здесь, с Шейлой и лекарем. Теггу и де Пернелю скажешь, что к вечеру я буду на судне. — Да, капитан. — Сюда прислать охрану, человек шесть. Выбери людей понадежнее, из тех, что пришли с нами с Карибов. — Слушаюсь, капитан. Стур отступил на шаг, уставился на корсаров грозным взглядом и гаркнул: — На корабль, бездельники, на корабль! Вас ждут мясо, ром и сухари! Хрипатый, Тиррел, Кук, ведите прочь эту ораву! И поживей, моча черепашья! Когда топот ног затих, Серов повернулся к лекарю и произнес: — Не стоит при моих людях говорить на непонятном языке и забивать им головы всякими домыслами. Я, Евгений Зиновьевич, и правда Андрей — Андрей Серов из Москвы. И о вас я кое-что знаю, брат мой, странник во времени… — Он опустил веки, чувствуя, как в душе разливается покой. — Евгений Штильмарк, врач из Твери — был дерматологом, если не ошибаюсь? Исчез в возрасте двадцати семи лет, ехал с работы в трамвае и исчез… Провалился сквозь время после того, как с компанией друзей посетил некий объект на Камчатке… Наконец-то я вас нашел! — Нашли? — с изумлением вымолвил Штильмарк. — Ну, вы понимаете… Как нашли? Прилетели на машине времени? Как вы очутились здесь, сударь мой? По губам Серова скользнула усмешка. Он уже справился с потрясением и полностью владел собой. — Как очутился, об этом будет поведано лет через тридцать, в первом томе тайных записок о жизни маркиза Андре де Серра. Но вам, Евгений Зиновьевич, я, так и быть, расскажу свою историю. Только, простите, не сейчас — мне очень хочется увидеть жену и сына. — Да-да, разумеется. — Штильмарк посторонился. — Часы, Андрей… возьмите ваши часы. — Оставьте их у себя, в знак нашей благодарности, моей и Шейлы. Я могу притащить вам сундук с дукатами, талерами и курушами, но мало ли в этом мире таких сундуков? А эти часы — одни-единственные. Страшно подумать, Евгений Зиновьевич, — еще не родился тот швейцарец, чьи правнуки их соберут. С этими словами Серов вошел в дом и потонул в сиянии глаз своей жены.
* * *
Спустя пару дней они с Штильмарком сидели в саду, пили сухое вино с местных виноградников и обменивались своими чудесными историями. Шейла спала, и рядом с ее кроватью спал в наскоро сделанной колыбели младенец, крохотное существо, изменившее статус Серова в этом мире. До сих пор он был корсарским капитаном и супругом Шейлы, теперь же стал отцом, и это новое состояние казалось еще непривычным, даже пугающим. Он начинал понимать, что вырастить ребенка в восемнадцатом веке гораздо труднее, чем в двадцатом или двадцать первом — ведь не было здесь ни педиатров, ни детских поликлиник, ни антибиотиков, ни искусственного питания. Правда, имелась отличная замена — материнское молоко. Серов разлил в кружки вино, и они выпили за здоровье малыша и Шейлы. Рубиновый напиток был густым и терпким, впитавшим ароматы этой земли и щедрость африканского солнца. В крепости на холме грохнуло орудие, оповещая о приходе ночи. С рейда, где стояли корабли, долетел медный перезвон склянок — там заступала ночная вахта. — Вы меня ждали, — произнес Серов. — Ждали, — согласился Штильмарк. — Девочка… простите, ваша супруга… она не сомневалась, что скоро вы придете. Теперь, выслушав вашу историю, я ее понимаю. — Он качнул кружку, глядя, как плещется в ней вино. — Вы, Андрей, человек долга. Та проклятая гора на Камчатке… Вы ведь могли забыть о ней, не правда ли? Забыть про Володю Понедельника, Игоря, Наташу и всех остальных… Остались бы в той, будущей Москве, жили бы спокойно и, как положено детективу, искали бы людей, которых все-таки можно найти. Однако… — Дурная голова ногам покоя не дает, — сказал Серов. — Но вы, Евгений Зиновьевич, не просто меня ждали. Вам было известно, кто я такой. — Не кто, а откуда, точнее, из какого времени. — Шейла подсказала? — Нет. Она и понятия не имеет, из каких дальних далей явился к ней Андре де Серра, внебрачный сын нормандского маркиза. — Штильмарк бросил взгляд на открытое окно и улыбнулся. — Нет, все по-другому получилось, сударь мой. Когда я в первый раз увидел Шейлу, она была не в лучшем состоянии — ну, вы понимаете, ее таскали по горам чуть ли не месяц и кормили всякой дрянью… Здесь, в Ла-Кале, у меня есть помощницы, почтенные дамы. Они раздели и вымыли Шейлу и передали мне эти часы — она прятала их… гм-м… прятала в той детали нижнего белья, что в наше время назовут бюстгалтером. В общем, часы попали ко мне, и я, разумеется, сообразил, что вещица не из этого столетия. Такие и в девятнадцатом веке не сделают, даже в начале двадцатого! Можете вообразить мое изумление… Когда девочка… простите, Шейла… когда она отдохнула и пришла в себя, я стал ее расспрашивать. Она говорила о вас, Андрей, говорила много и охотно — ну, вы понимаете… Она вас любит, очень любит… Отчего же не поболтать со старым доктором?.. Это элементарная психотерапия… Так что я представлял, с кем встречусь. Не думал только, что вы из России, и, разумеется, помыслить не мог, что вы меня искали… нас, всех нас… в том, будущем времени… — В этой эпохе Россия тоже существует, — негромко произнес Серов. — Хотите туда вернуться? Пусть в восемнадцатом веке, но — домой? Голова Штильмарка отрицательно качнулась. — Спасибо,Андрей, но мой дом — здесь. Я прожил на этих берегах много лет, объездил их от Египта до Марокко, стал врачом-универсалом, изучил арабскую медицину, принял сотни ребятишек, уврачевал тысячи ран и болезней. Здесь у меня жена, сын, дочери и целый выводок внуков. Есть кому похоронить и прочитать молитву над могилой и есть кому добрым словом помянуть… Тут моя родина, и другой я не ищу. Да и смешно что-то искать в моих-то годах! — Я понимаю, — молвил Серов, — понимаю… — Затем, выдержав паузу, поинтересовался: — Скажите, Евгений Зиновьевич, вы не жалеете, что очутились здесь? Я не из пустого любопытства спрашиваю. Я в этом веке прожил чуть больше года, а вы — сорок с лишним лет… И как, не тосковали, не скучали? Не проклинали судьбу? Не вспоминали близких — тех, кого еще нет? Штильмарк помрачнел, морщины на его лице выступили резче, глаза потемнели: — Проклинать не проклинал, но остальное… да, остальное случалось — тосковал, скучал и вспоминал. Особенно тяжелыми были первые три-четыре года — накатывало временами чувство безмерного одиночества, будто кроме меня во всем мире и людей-то нет. Но это проходит, Андрей, это проходит… Когда обвенчался с Ивонной и дети пошли, стало легче… А вам повезло — у вас тут уже жена и сын. Дай Бог, дочери тоже будут и другие сыновья! Это, знаете ли, как якорь — держит нас и не дает провалиться глубже в бездну. Кивнув, Серов подумал, что не ему одному пришла аналогия с якорем. Жизнь — как плавание из никуда в ничто, но плывешь-то вместе с потоком времени, и место твое в этом течении зафиксировано, ни вперед не перескочишь, ни назад. Держит тебя реальность как судно на якоре, и якорь этот ты называешь всякими именами, смотря по тому, что тебе дороже — дело, долг, любовь или какой-то иной интерес. А если нет этой связи с миром, в котором выпало тебе жить и умереть, будешь ты несчастен во все свои дни, а когда уйдешь — забыт навеки. Старик, прищурившись, следил за ним, точно догадывался об этих раздумьях. Потом сказал: — Могу, Андрей, слегка вас воодушевить. Я полагаю, что в каждой эпохе есть нечто такое, что теряется в других временах, и потому те, кто будут жить в грядущем, смотрят в прошлое с долей зависти. Возьмите хотя бы век Перикла, Алкивиада, Александра Македонского… Мир казался тогда таким сказочным, таким огромным! Ареной для великих свершений и далеких странствий, походов в земли, где дома покрыты золотом, где реки текут молоком и медом, где водятся василиски и драконы и живут люди с песьими головами… — Вы хотите сказать, что восемнадцатый век груб, жесток, опасен, однако ярче нашего времени? Эпоха великих авантюр и великих людей, подобных Ньютону, Лейбницу, Вольтеру, великих правителей и полководцев, век Петра, Екатерины, Потемкина, Суворова… Так? — Не так. Наше время тоже жестоко и опасно, и породило оно великих гениев и великих злодеев, жутких чудовищ, которых свет не видел. Тут мы не уступим этому веку, а в зверствах даже превзойдем! Есть, однако, и отличие. Видите ли, сударь мой, у многих хомо сапиенс нашего времени нет души. Наша наука, наш технический прогресс, наше искусство, политика, воспитание — все это, вместе взятое, упразднило душу! И, кажется, в двадцать первом столетии эта процедура завершится во всепланетном масштабе. А тут у людей есть душа. Понимаете? Наличие души для них бесспорный факт. — Вы говорите о вере в Бога? — Нет… пожалуй, нет, хотя в этой эпохе вера крепка, а религия почти всемогуща. Я говорю скорее о мироощущении. Эти люди, что стали нашими современниками, твердо знают, что у любого из них, будь он король, султан или убогий нищий, злодей, убийца или личность вполне достойная, магометанин или христианин, — есть душа. Понимаете, независимо от состояния и веры, каждый имеет душу, и в этом их отличие от нас, Андрей. — Штильмарк усмехнулся. — Так что я вам советую срочно обзавестись душой. Серов тоже улыбнулся: — Душа у меня уже есть. Шейла и ребенок, что спят сейчас в доме, — вот моя душа! Старик покивал головой: — Наверное, вы правы. Когда я встретил Ивонну, у меня тоже появилась душа. Душа прирастает любовью, чистой бескорыстной любовью, которой в нашем практичном веке меньше, чем здесь. Кто обрел душу, тот обрел себя, а что до всего остального… Ну, в моем случае это просто: врач — везде и всегда врач. Они замолчали, вслушиваясь в ночные звуки, глядя на южное небо, усыпанное звездами. Стрекотали цикады, ветер шумел в листве и на стенах крепости перекликались часовые. Серов налил вина, выпили тоже молча, но каждый знал, что пьет за сотоварищей по странной своей судьбе, за тех, кого он никогда не увидит. Эта их встреча была чудом, но чудо — слишком редкий дар; если встречается в жизни, то единожды. — Когда вы отплываете? — наконец спросил Штильмарк. — Дней через пять-шесть. Шейле и ребенку надо окрепнуть. — Могу я попросить у вас на это время книгу? Помните, вы говорили мне о ней — книгу, написанную да Винчи со слов Игоря Елисеева? Я свободно читаю на итальянском. Игорь… словом, мы с ним дружили. — Хотите, я ее вам подарю? — Нет. Кому я ее оставлю? Положу в сундук забвения? Заберу с собой в могилу? Для этого книга пророчеств слишком ценный раритет! Я старик, а вы — в расцвете сил, вам жить и жить… Вам пригодится. Они снова замолчали. Потом Штильмарк поднялся, протянул Серову руку и сказал: — Удачи вам, Андрей. Еще одна просьба: случится заехать в Тверь, поклонитесь ей от меня и попросите прощения. — За что, Евгений Зиновьевич? — За то, что в Тверь не добрался и лечил людей всех народов, кроме своих сограждан. Его высокая фигура растаяла в темноте.
Северная Африка осталась пиратской и была ею не одно столетие — по крайней мере до завоевания Алжира французами в 1830 году. Но побережье между Сеутой и Алжиром оставалось пиратским и позднее, еще несколько десятилетий, питаясь за счет разбойничьих племен пустыни и Атласских гор.А. Б. Снисаренко. Рыцари удачи (Санкт-Петербург, 1991 г.)
Эпилог ГЕНУЯ
Большой, богатый город Генуя! Правда, дни его величия и славы миновали, нет уж заморских колоний в Крыму, отнятых турками, флот не столь уж могуч, как прежде, и генуэзский дож, когда-то равный королям, теперь проходит по разряду герцогов. Новое время ломится в дверь, время царей, королей, императоров, и нет в нем места вольным торговым городам. Все подомнут! Не испанцы, так французы, не французы, так австрийцы… Но пока что Генуя свободна, ибо сильным мира сего не до нее. Они воюют: кто на западе бьется за испанское наследство, кто — на востоке, за окно в Европу. «Великий многолюдный город!» — думал Серов, глядя с квартердека «Ворона» на гавань, полную судов и лодок, на крепостные бастионы, на море черепичных крыш, в котором терялись узкие ущелья улиц, на древние площади с дворцами знати, фонтанами и статуями, на верфи, торговые склады, церкви, соборы, кабаки и лавки, на все великолепие морской лигурийской столицы. А Петербург, хоть столицей и объявлен, таким не скоро будет, да и Москва с ее хоромами из бревен рядом с Генуей — деревня… Но, как заметил мудрый старец Штильмарк, Серов находился в расцвете сил, жить ему предстояло долго, и потому надеялся он увидеть, как поднимается каменный град Петра под северным нежарким солнцем. Даже сны ему снились, будто лет через двадцать гуляет он по Невской першпективе с красавицей женой — непременно в сапфировом ожерелье! — и будто идут они от Фонтанки к Адмиралтейству, и там, стоя на берегу Невы, любуются дворцом Меншикова и зданием Двенадцати коллегий. Пока ни дворца, ни коллегий и в помине не было, но будут же, непременно будут! В Геную они приплыли в первых числах июня. Правда, не все — «Стрижа» и бригантину Серов отдал не пожелавшим идти с ним в балтийские воды, а таких нашлось сотни три. Мальтийцам на севере делать было нечего, а многие французы, англичане и голландцы решили, что тут у них своя война, и хватит на их век османов и магрибцев. Серов никого не неволил, долю добычи выделил честно, и сожалел лишь о том, что нет с ним больше Мартина Деласкеса и Абдаллы, асов-разведчиков, и славного рыцаря де Пернеля. С рыцарем расставаться не хотелось, но и его Серов не уговаривал, понимая, что де Пернель — человек служилый, военачальник ордена. Клятву свою он исполнил и, больше того, сделался другом, а кто же друзей принуждает! Встав на генуэзском рейде с «Вороном», «Дроздом» и «Дятлом», Серов велел поднять мальтийский флаг. Право это было даровано ему магистром Раймондом де Рокафулэем, но при том условии, что будут над его кораблями орденские кресты лишь в мирных гаванях либо в праведном бою, каким магистр полагал единственно битву с турками или пиратами. Так что с Карлом, государем христианским, Серов под мальтийским флагом воевать не мог, да и не стремился к этому, надеясь скоро обрести другое знамя. Если Паршин жив, если добрался он со Страхом Божьим до невских берегов и выполнил обещанное, то в Геную он мог явиться в любой июньский день. Серов, посовещавшись со своими офицерами, решил, что ждать Паршина надо до июля, а если не придет, плыть самим на север. Путь вокруг Европы через Гибралтар, Ла-Манш и датские проливы был не короче перехода через океан, так что упускать удобное для навигации время не стоило. Каждое утро, ровно в десять часов, Серов съезжал с супругой и сыном на берег и пускался в променад по набережной. Сына Джозефа, окрещенного в мальтийском храме, нес облаченный в ливрею Рик Бразилец, а за ним шли шестеро молодцов в начищенных сапогах, добротных морских камзолах, при пистолетах и шпагах. За эту честь в команде разгорелась конкуренция, так как Серов заглядывал в самые приличные таверны у гостиниц и в каждой ставил охранникам по рюмке — правда, небольшой. С Паршиным была договоренность, что, явившись в Геную, он поселится на этой набережной, откуда виден рейд, и пристани, и корабли, сядет за стол в каком-нибудь питейном заведении и будет сидеть с утра до обеда каждый божий день. Но дни проходили, а его все не было. «Где он мог застрять? — прикидывал Серов. — В Польше, Чехии, Венгрии, Австрии? В Карпатах или Альпах? На переправе через Дунай? Может, в Польше на шведов наткнулся либо на разбойных шляхтичей? Или австрийцы его задержали и проверяют сейчас с въедливым усердием подлинность царских патентов и грамот?..» За неделю добрые жители Генуи и торговые гости из других городов привыкли к прогулкам Серова. Поговаривали, что этот знатный господин — посол великого магистра к его величеству Людовику, французскому монарху; еще говорили, что ждет он фрегаты из Тулона и Марселя, дабы обрушиться всей силой на Алжир и проучить неверных; ходила и более романтическая история: дескать, маркиз Серра — бывший мальтийский рыцарь, нарушивший обет безбрачия, тайно женившийся на златовласой красавице графине и потому изгнанный орденом из своих рядов. Но самые осведомленные шептали, что маркиз вовсе не маркиз, не орденский посол и не мальтийский рыцарь, а капитан Сирулла, морской разбойник, гроза магометан, а его прекрасная супруга — не графиня, а тоже разбойница. Так ли, иначе, но власти Генуи, уважая мальтийский флаг, претензий к загадочному капитану не имели — тем более что портовый сбор он оплатил сполна, а его люди хоть и буянили в кабаках, но расплачивались честно и никого пока что не прибили. Так тянулось время, и в один из дней, когда Серов неторопливо шел мимо таверны «Корсиканец», в дверях показался огромный детина с клеймами на лбу и щеках, жуткий видом и обвешанный оружием. Завидев капитана, этот каторжник заорал — да так, что люди от него шарахнулись, — выхватил два пистолета и выпалил в воздух. В ответ взревела охрана Серова, и все, кроме Рика с младенцем в руках, бросились к клейменому и, оглашая улицу воплями и криками, стали хлопать его по спине и плечам. — Страх Божий, — сказала Шейла, улыбаясь. — Добрался, хвала Пресвятой Богородице! Значит, Андре, твой московит тоже здесь. И правда, подняв голову, Серов увидел, что в окне второго этажа, прямо над входом в таверну, стоит Михайло Паршин собственной персоной. Был он в новом мундире с золотыми галунами и в шляпе-треуголке; сдернул ее, завидев Шейлу и Серова, поклонился, а затем достал из-за спины объемистую сумку и нежно ее приласкал. Похоже, сумка была предметом невероятной ценности. — В самом деле Паршин, — произнес Серов и облегченно вздохнул. — Пойдем к нему, дорогая, я вас познакомлю. — Нет уж, — ответила Шейла. — Ты иди, а я в таверне посижу, с Джозефом и парнями. Не напились бы на радостях! Еще и кабак разгромят, ребенка перепугают… Надо последить. Серов поднялся наверх, в просторную светлую комнату с видом на море. Паршин ждал его с раскрытой сумкой — из нее выглядывали запечатанные бумаги, а под ними лежало что-то еще, белое и шелковистое, как первый снег. — Грамота славному маркизу де Серра, капитану и морскому начальнику, от его величества Петра Алексеевича, — молвил Михайло с торжественным видом и протянул Серову верхний пакет. Потом не выдержал, расплылся в улыбке и быстро, горячо затараторил: — Вот и я, благодетель мой, вот и я! Прибыл в ночь, загнавши кобылу, а что припоздал, так извини — государь наш скор в делах, а дьяки его — пьянчуги, мздоимцы и тягомотники! Пока патенты написали, пока царю отнесли, чтоб руку приложил, да припечатали печатями — улетели месяц с неделею. Опять же дорога… Путь-то какой, прости Господи! Через десять стран, через сотню рек, а о горах и вспомнить не хочу, до того противно! — Долгий путь, — согласился Серов, вспоминая, что через три столетия от Москвы до Генуи лету будет три часа. Затем он обнял Михаилу, принял царское послание и сломал печати. Затейливые буквицы — будто не по-русски писано — прыгали перед глазами, складывались в слова и фразы, и хоть язык был странен и витиеват, смысл письма дошел до Серова. Сложив с почтением бумагу, он промолвил: — Милостив наш государь. В морскую службу меня принимает и жалует капитаном, если с фрегатом приду, а если с двумя кораблями, так сразу адмиралом. И пишет еще ко всем монархам, изводящим состоять с ним в дружбе, чтобы препятствий мне не чинили, а, обратно, давали провиант, канаты, парусину и пороховое зелье, ежели будет в том нужда. А еще пишет, что если не промедлю я, ударю на шведа в балтийских водах и будет мне в той баталии фортуна, то это знатно, и встретят меня на Неве под фейерверк и гром орудий. — Надо же! Честь-то какая! — восхитился Михайло и начал выкладывать из сумки другие бумаги с сургучными печатями. — Вот, прими остальное, батюшка мой Андрей Юрьич… Вот патенты для ближних твоих людишек, кого поставишь в офицеры… вот каперская грамота и договор о царской доле с взятых в битве кораблей… корабль, значит, с пленными — его величеству, а груз — тебе… А вот подарки от государя — сделанный им самолично пистоль, а еще… — Погоди, Михайло, — прервал его Серов. — Скажи-ка мне, братец, как в Геную добрался? Благополучен ли ты, здоров ли? И что на тебе за мундир? — Здоров, милостивец мой, токмо голова кругом идет с устатку. Непременно выпить надо! А что до мундира, — Паршин с гордостью выпятил грудь, — так нынче я майор! И царским повелением буду при тебе. А службу какую служить, ты мне сам назначишь. — Добро. Теперь давай царские подарки. Паршин выложил пистолет с кремневым замком и рукоятью из дуба, затем появился белый шелк, целая груда, плотно сложенная и перевязанная вервием. — Вот! Царь жалует тебе и всем офицерам! — Что такое? — спросил Серов, придя в недоумение. — Шейный плат, по-иноземному — шарф. Государева воля такая, чтобы морские высшие чины вязали белый плат на шею, дабы имелось у них отличие от чинов армейских[545]. — Повяжем, отчего не повязать, — кивнул Серов. — Все, что ли, Михайло? — Еще вот это, батюшка мой. Он достал из сумки еще один тканевый сверток, но это были не шарфы. Огромное трехцветное полотнище развернулось во всю ширину и длину; Паршин держал его на вытянутых вверх руках, нижний край касался пола, и яркие цвета, белый, синий, красный, сияли как снег, как море, как солнце в час заката. — Флаг, — выдохнул Серов, — флаг…[546] Сделав шаг к Паршину, он коснулся полотнища пальцами, затем потянул ткань к себе. Флаг, будто признав хозяина, окутал его плечи, доверчиво прильнул к груди; синяя полоса пришлась у сердца, красная и белая трепетали в ладонях. «Вот и дождался, — думал Серов, поглаживая свое новое знамя. — Дождался! Будет что поднять на мачте, если встретим шведа, и будет салют из всех орудий, будут дым и грохот, и свист тяжелых ядер, и полетит этот стяг над морями, над волнами, знаком победы. Даст Бог, и под другим еще поплаваю, под синим андреевским крестом!» — Спасибо, Михайло, — он кивнул Паршину, — этот подарок самый дорогой. Спасибо, что довез в целости. Не выпуская полотнища, Серов подошел к распахнутому окну, подставил свежему бризу разгоряченное лицо. На рейде, спустив паруса, дремали корабли, и среди них — его фрегат, его трехмачтовая крепость и дом его семьи, ибо другого он пока что не имел. Лазурные южные воды тянулись от берега до горизонта, играли переливами синего и голубого и где-то там, на западе, встречались с океаном. Завтра «Ворон» покинет Геную и выйдет в море… И поплывет его капитан с сыном, женой и всей своей флотилией мимо французских берегов, мимо испанских, португальских и британских, мимо Голландии и Дании, Германии и Польши, поплывет туда, куда зовут душа и сердце. И будут бури, будут сражения, песни ветра и рокот волн, гром орудийных залпов и лязг клинков, будут раны, боль и торжество победы, будут смерть и жизнь. Целая жизнь в бурную, неспокойную эпоху перемен, но где бы ни носило капитана и его фрегат, они непременно вернутся на родину. Взгляд Серова, оторвавшись от горизонта, вернулся к трехмачтовому кораблю, и по его губам скользнула улыбка. «Ворон» обрел свой флаг.Михаил АХМАНОВ и Кристофер ГИЛМОР КАПИТАН ФРЕНЧ ИЛИ ПОИСКИ РАЯ
Мы не будем отрицать, что эта книга впитала вдохновение многих писателей-фантастов, как живых, так и умерших, но равно любимых и почитаемых нами. Мы надеемся, что некоторые из живущих встретят что-то знакомое для себя в нашем романе и снисходительно улыбнутся при этом.Авторы
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ
Мы хотели бы со всей ответственностью заявить, что этот роман — не мистификация и мы оба, его авторы, также не являемся фантомом, иллюзией, миражом или изобретением издателей. Мы — вполне реальные личности, и один из нас — гражданин Соединенного Королевства, проживающий в городе Бедфорде, что в пятидесяти милях от Лондона, а другой — гражданин России, петербуржец. Но хоть мы локализованы в разных и весьма далеких точках пространства и говорим на разных языках, мы ухитрились сочинить эту книгу. Как именно — это наша тайна; однако наша реальность не подлежит сомнению. Мы специально подчеркиваем сей момент, в полной мере сознавая всю необычность свершившегося: британский и российский авторы написали вместе фантастический роман! Пожалуй, за всю историю английской и русской фантастики ничего подобного не случалось, и этот факт нас чрезвычайно вдохновляет — независимо от достоинств нашей книги. Мы ощущаем себя первопроходцами, кем-то вроде пионеров Дикого Запада, только нам не пришлось воевать с издателями-индейцами — в своих скитаниях мы (к счастью!) набрели на дружелюбное племя под названием “ЭКСМО”. И мы ему очень благодарны, так как без поддержки издательства “ЭКСМО” мы не смогли бы осуществить свой необычный проект. Теперь, чтобы доказать любителям фантастики свою реальность и вещественность, мы хотели бы им представиться. Первым в нашем списке следует Кристофер Николаc Гилмор из Бедфорда, Англия. Ему пятьдесят один год, он холост, но имеет семь братьев и сестер, а также великое множество племянников и племянниц. По профессии — издатель, критик и редактор, приложивший руку к выпуску двух сотен книг. “Капитан Френч, или Поиски Рая” — его первый роман, но есть надежда, что дело этим не ограничится. Все зависит от вас, дорогие читатели; как сказал Козьма Прутков, поощрение столь же необходимо писателю, как канифоль — смычку виртуоза. Вторым из авторов является Михаил Ахманов, он же — Михаил Нахмансон из Петербурга, Россия. Ему пятьдесят два года, он женат, имеет сына и прочих родственников, но не в таком изобилии, как Крис Гилмор. По профессии — физик, с 1990 года занимается переводами англо-американской фантастики, с 1995 года пишет фантастические произведения. Опубликовал книги: “Скифы пируют на закате”, “Странник, пришедший издалека”, “Другая половина мира”, “Пятая скрижаль Кинара”, “Тень Ветра” (все — в издательстве “ЭКСМО”). Сообщив эти сведения, мы, авторы, полагаем, что читатель уже не сомневается в нашей реальности. Всех недоверчивых мы отсылаем к издательству “ЭКСМО”, где есть наши адреса (в том числе — E-mail), а также к литературному агенту Игорю Толоконникову, который нас познакомил и связал, за что мы приносим ему самую теплую благодарность. Теперь, покончив с представлениями и реверансами, перейдем к делу и скажем пару слов о нашем романе. Это роман о будущем, очень далеком будущем когда люди станут бессмертными и заселят бесчисленное множество звездных систем, когда Галактику будут бороздить гигантские корабли, когда возникнут новые расы и народы, временами непохожие на предков-землян, когда космос превратится в арену новых драм и фарсов — новых по видимости, не по существу. Люди все-таки останутся людьми, и их все так же будут снедать честолюбие и гордыня, жажда богатства и власти, любопытство, мстительность и ревность, забота о потомстве, страсть к перемене мест, стремление познать божественные истины; они будут жестокими и милосердными, коварными и рыцарски благородными, жадными и щедрыми, добрыми и злыми. Но, кроме всех этих чувств, возвышенных и низменных, в их сердцах сохранится огонь любви — прекраснейший цветок, который не посадишь в одиночестве, ибо лишь двое могут его взрастить и лишь двоим дано насладиться его чарующим ароматом. И потому мы предупреждаем: не ищите в нашем романе космических схваток и битв, суперменов со стальными мышцами, которые покоряют Галактику, злодеев-киборгов, телепатов-мутантов и принцесс-изгнанниц с Бетельгейзе или Сириуса. Кое-что у нас, конечно, есть — ракеты и бластеры, роботы и рабы, несущие гибель кометы и огромный лазер, коим поджаривают целый мир; есть даже принцесса и старый космический волк, способный при случае сделаться крутым суперменом. Однако не обольщайтесь, дорогой читатель: все это — лишь фон, задник, декорация, а сам спектакль — совсем о другом. Это роман о любви, о скитаниях вечных и поисках Рая, который несомненно существует, но не в небесах, а единственно в душе человеческой. Кристофер ГИЛМОР, Михаил АХМАНОВЧасть 1 МЕРФИ
ГЛАВА 1
Нет, Мерфи определенно не являлся Раем! Должен признаться, что за тысячелетия скитаний я много размышлял о предмете своих поисков и наконец сообразил, что Рай — понятие неоднозначное. Тот Рай, который устроил бы меня, безусловно, не имеет отношения ни к христианству, ни к мусульманству, ни к иным религиям и культам, процветавшим на Старой Земле. Судите сами: в христианском Парадизе разрешается лишь бренчать на арфах и петь осанну, и там совсем не место непоседливым торговцам вроде меня — ведь недаром же Христос изгнал торгующих из храма! Древние германцы и скандинавы были в этом отношении демократичней, поскольку в их Вальхалле допускались битвы, поединки и повальное пьянство в теплой компании с одноглазым Одином, но меня такое времяпрепровождение тоже не соблазняет. Я — человек мирный и, хоть умею постоять за себя, предпочитаю обходиться без бластеров, копий, мечей и секир — и даже без элементарного мордобоя. Мусульманский Эдем выглядит более приятным, без драк и осанны, зато с гуриями и шербетом, но и он — увы! — не для меня. Во-первых, я не обрезан; во-вторых, предпочитаю шербету что-нибудь покрепче; а в-третьих, что касается гурий… Ну, о них разговор особый. После длительных размышлений и консультаций с компьютером “Цирцеи” я пришел к выводу, что мне не подходят все прочие модели Рая — буддистский и синтоистский, иудейский и индуистский, а также Рай ацтеков, древних египтян и индейцев майя. Так что не спрашивайте меня, какой именно Рай я ищу, — боюсь, я не сумею ответить. Но если мое представление о Рае весьма туманно, это не значит, что я не способен родить две-три здравые мысли на сей счет. Скажем, действуя от противного, я совершенно точно уяснил, чего в Раю не может быть и Что не является Раем. Так вот, Мерфи им определенно не был. Это умозаключение никак не связано с ценой, заплаченной за Шандру. Я выложил за нее полтора килограмма чистой платины (правда, без доплаты за личные вещи), но готов признать, что никогда не делал более выгодного приобретения. Клянусь Черной Дырой! Ни разу за двадцать тысяч лет! Когда я в последний раз посещал Мерфи, этот мир находился в состоянии индустриального подъема. Они уже овладели ядерной энергетикой и быстро прогрессировали в социальной сфере — причем Не просматривалось никаких опасных признаков коммунизма, фашизма или надвигавшейся общепланетной войны. Я полагал, что тут близится эпоха глобальных проектов, когда материки соединяют Стокилометровыми мостами, поворачивают реки вспять, сносят горы в одном месте и засыпают моря в другом Все эти титанические деяния весьма опасны для экологии, но, невзирая на печальные примеры Ямахи и Эльдорадо, редко ведут к катастрофам. Так что сейчас я рассчитывал застать здесь вполне процветающее общество, где можно кое-чем поживиться — к пользе аборигенов и своей собственной. Я вынырнул из безвременья поля Ремсдена в весьма приятном расположении духа, надеясь заключить пару-другую хороших сделок. Трюмы и блоки памяти “Цирцеи” были переполнены моим обычным товаром — модной одеждой, экзотическими животными вроде шабнов и пернских птерогекконов, различной литературной дребеденью, голографическими фильмами и всякими сплетнями и слухами, собранными в половине Галактики. Я также полагал, что сделаю неплохой бизнес на произведениях искусства, до которых падок каждый нувориш на любом из благополучных и сравнительно новых миров. Особые мои надежды были связаны с панджебскими эротическими статуэтками, отличным пособием во всех видах секса, включая сто двадцать три способа совокупления в полной невесомости; вдобавок их отлили из превосходного серебра с незаурядным художественным талантом. Панджеб был моей последней остановкой перед Мерфи и не очень приятной, если не касаться бизнеса. Он тоже не являлся Раем — хотя бы потому, что там начался пуританский период, когда юбка чуть выше щиколотки мнится смертным грехом. Такими болезнями страдают время от времени все миры — и старые, и молодые, но они не столь опасны, как принято думать. В конце концов, когда люди благодаря клеточной регенерации живут тысячи лет, им нужно какое-то разнообразие; так что вполне естественно, когда век оголтелого атеизма сменяется столетием торжества пуританской морали. На моих торговых делах это сказалось весьма неплохо. До той поры, как Панджеб склонился к христианским добродетелям, его состоятельные граждане имели обыкновение украшать свои жилища фривольными серебряными изваяниями, которые, как говорилось выше, иллюстрировали все виды секса, не исключая таинств лесбийской любви. Теперь, в эпоху нравственного Ренессанса, им приходилось кромсать свои сокровища или отдавать в переплавку, хотя многие статуэтки отличались превосходной работой и были чем-то вроде семейных реликвий. Я дал этим жертвам воспрянувшей морали тройную цену серебряного лома и, скупив их раритеты на корню, забил ими средний трюм “Цирцеи”. По завершении сделки я, испытывая вполне законное довольство самим собой, отправился к дальним границам системы Панджеба с крейсерским ускорением в две сотых “же”, включил двигатель Ремсдена и перепрыгнул на тридцать световых лет, к Мерфи. Я уже предвкушал, как очереди оптовиков потянутся к моему прилавку, рассчитываясь за серебряные безделушки контейнерами рения, золота и платины. Но реальность была гораздо печальней и никак не совпадающей с моими мечтаниями. С Мерфи случилась беда — несчастье, описанное учеными Старой Земли еще в двадцатом веке, задолго до моего рождения, и, насколько мне известно, не происходившее ни разу в человеческой Галактике за все двадцать с лишним тысячелетий. На Мерфи пала комета. Думаю, не стоит винить мерфийцев в том, что они были совершенно не подготовлены к такому эпохальному событию. Если б среди них нашлась пара квалифицированных астрономов с оптическими телескопами, они сумели бы заметить приближение кометы и как-то предотвратить бедствие, но визуальная астрономия мало популярна в нашу эпоху. Кому интересно созерцать планеты, астероиды и прочие мелкие небесные тела? Звезды — иное дело! Но если вы интересуетесь звездами и имеете толстый кошелек, то покупайте космический корабль вроде моей “Цирцеи” и отправляйтесь странствовать по Галактике. Tempora mutantur et nos mutamur in illis! Времена меняются, и мы меняемся в них — так, кажется, говорили латиняне? Что касается Мерфи, то это был слишком молодой мир, еще не созревший для проектирования колониальных транспортов и лайнеров дальней разведки. Если бы у мерфийцев имелась солидная практика исследований собственной звездной системы, они могли бы отправить корабль-робот, который состыковался бы с кометой и разнес ее в клочья термоядерными зарядами. Но такой практики у них не было. Их светило, небольшая алая звезда класса К, имеет пару спутников кроме Мерфи: Энгус, подобный Меркурию, но еще более жаркий и раскаленный, и Маэв, похожий на Марс, но опять-таки более холодный и безжизненный. Согласитесь, что у мерфийцев было ровно столько же причин посещать эти небесные тела, как у меня самого. А я не трачу время даром, разглядывая необитаемые планеты. Мерфийский флот — если эти жалкие лоханки можно было назвать флотом — состоял из нескольких десятков катеров и барж на ионной тяге. Их использовали для обслуживания орбитальных энергетических станций с солнечными батареями, для запуска спутников телевизионно-коммуникационной сети и для полетов к останкам колониального корабля, некогда доставившего на Мерфи колонистов с Бруннершабна — или с Преобразования, как теперь именуют этот мир. Колониальный корабль был, как водится, разобран, и из его отсеков смонтировали на орбите три завода; все они занимались литьем в невесомости и выращиванием кристаллов для компьютеров и андроидных мозгов. Так что, сами понимаете, отбиться мерфийцам было нечем. Но это их не слишком беспокоило — чуть ли не до самого момента столкновения казалось, что комета пройдет мимо и все ограничится красочным небесным зрелищем да двухметровой приливной волной. Ведь космос так велик, а планеты — так малы! Однако снаряд угодил в самое яблочко, а если говорить точнее — в мелкий прибрежный залив к западу от единственного мерфийского континента. Последствия?.. Разрушительное цунами, землетрясения, извержения пробудившихся вулканов плюс облако водяного пара, скрывшее солнце на целый год. Что было дальше?.. Мрачная история упадка цивилизации, гибели, дикости, голода и вынужденного каннибализма… Сохранилось считанное число энергетических станций (в основном на солнечных элементах) — капля в море для миллионов людей, охваченных паникой и совершенно не приспособленных к тяготам примитивной жизни. На протяжении многих веков они не сталкивались с болью, страданием и борьбой за выживание, и теперь их деградация была стремительной и ужасной. В благополучные времена у них имелся то ли Парламент, то ли Сенат, рухнувший в первые дни катастрофы — как я подозреваю, под грузом свалившейся на него ответственности. Не стану винить местных правителей. В конце концов, чем они занимались последние четыреста лет? Распределением пособий, выдачей сертификатов на продолжение рода, руководством кое-какими службами — полицией, судами да налоговым департаментом… Разве могли они помочь толпам лишенных крова, отчаявшихся, оголодавших граждан? И эти граждане вскоре сообразили, что выживут из них немногие. Всем остальным была уготована малоприятная судьба: кого поджарили на костре, а кого растерзали в клочья и пожрали без всяких кулинарных изысков. Спустя какое-то время нравы смягчились, и среди катастрофически уменьшившегося населения воцарился относительный порядок. Не буду кривить душой — главная заслуга в том принадлежала адептам Арконата, религиозной секты, не слишком популярной в эпоху процветания и изобилия. Можно говорить что угодно об их теологической доктрине, но уж выдержкой их Создатель не обделил! Веками они сносили насмешки своих молодых сограждан, а это, как вы понимаете, способствует самодисциплине, сознанию избранности и сплоченности. Пожалуй, сплоченность была их главным козырем, присущим всякой небольшой группе, где все друг друга знают, друг другу доверяют и повинуются вышестоящим без споров и раздоров. К тому же их поддерживали вера, отличное знание священных текстов и своеобразная концепция Апокалипсиса, утверждавшая, что Вседержитель может частично воздать за грехи людские еще до наступления Страшного Суда. Словом, сторонники Святого Арконата были гораздо меньше деморализованы, чем остальное население, — и стоит ли удивляться, что Бог отдал им власть над планетой? Это явилось лишь актом Божественной справедливости, и только! Во всяком случае, именно так заявил аркон Жоффрей в процессе наших коммерческих переговоров, столь же бесплодных, как опаленные солнцем равнины Энгуса. Мы с Жоффреем встречались в его кабинете-келье, располагавшемся в недрах Святой Базилики — мрачного кирпичного здания о трех этажах, напоминавшего формой незабвенный Пентагон. Я опускался с небес на катере “Цирцеи”, а достойный и почтенный аркон (именно таким был его полный титул) выныривал из каких-то закоулков Святейшей Канцелярии. В его келью меня провожали двое молодых послушников в штатском, но под их грубыми серыми хламидами явственно топорщились рукояти нейрохлыстов. Их оловянные взгляды говорили лишь об одном: они сожалеют, что старый греховодник Френч на целых полвека разминулся с убийственной кометой. Такой способ контактов с местным населением для меня совсем нехарактерен. Спейстрейдера, космического торговца, всюду встречают с уважением, с радостью или хотя бы с надеждой на выгодную сделку. Обычно я покидаю “Цирцею” на орбите на два-три месяца, абонирую президентский номер в лучшем местном отеле, нанимаю пяток агентов, хорошенькую секретаршу и, если необходимо, телохранителей; затем начинается организация всевозможных шоу, торгов и аукционов — параллельно с заслуженным отдыхом. Но на Мерфи вся эта привычная программа провалилась в Черную Дыру. Какие там отели, какие агенты и секретарши?.. Здесь вся торговля и все сношения с межзвездными странниками были монополизированы Арконатом — столь же прочно, как все иные виды деятельности, начиная со стирки пеленок и кончая пением святых хоралов. Что поделаешь, теократический тоталитарный режим… Никаких тебе компаний и консорциумов, никакой свободной прессы, никакого частного бизнеса с пришельцами со звезд — и, разумеется, никаких хорошеньких секретарш… Словом, не Рай, отнюдь не Рай! Удар Молота Господня (так здесь именуют случившуюся катастрофу) произошел лет за пятьдесят до моего посещения, и это были не лучшие годы для мерфийцев. Те, кто выжил, — не говоря уж о тех, кто родился в смутное время, — попали под прочный контроль и, судя по всему, пока не помышляли об освобождении. Пресс идеологии — страшная вещь, и особенно он давит и калечит молодых, вроде тех послушников с оловянными глазами. Я хорошо представлял, что им вдалбливали с самого детства… Разве Молот Господень не нанес удар по нечестивым — в точности так, как предсказывали святые отцы Арконата?.. И разве сам Великий Архимандрит не поклялся спасти уцелевших детей своих от гнева Создателя, просветить их души и направить к путям благочестия — желают они того или нет?.. Если желают — превосходно; а коль не желают, действует древняя армейская формула: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Ибо из-за немногих грешников могут пострадать все! Ведь Господь, раздраженный упорными и неверящими, может нанести по Мерфи еще один удар! Не лучше ли умилостивить Его смирением, дабы Он излил свой гнев на Другие миры, еще не испытавшие Его карающую мощь?.. И так далее и тому подобное… В общем, Рая я тут не нашел, а к тому же потерял надежду продать свои серебряные статуэтки, свои записи развлекательных шоу, легкомысленные одеяния с Секунды и длинноногих шабнов, похищенных некогда на Малакандре… Мой бизнес окончательно вылетел бы в трубу, если б Жоффрей не оказался столь энергичным и настойчивым коммерсантом. Сказать по правде, старался он больше для себя, чем для меня. Космический торговец — редкий зверь, и невозможно представить, чтобы один из них отбыл с планеты порожняком, ничего не продав, а главное — ничего не купив. Такое положение дел понизило бы акции Жоффрея в Святом Арконате, и потому он старался изо всей силы, желая всучить мне хоть что-нибудь. Не питая к нему никаких симпатий, я тем не менее шел во всем навстречу. Я согласился приобрести несколько книг и видеозаписей, связанных с Ударом Молота, — эта информация будет интересна специалистам на многих мирах, да и широкая публика не откажется поглазеть на катастрофу. Еще я купил пару контейнеров с торием для моего реактора, но торий — весьма дешевое сырье, да и его запасы на “Цирцее” были еще немалыми. Платина — другое дело; этот металл повсюду дорог и вместе с золотом, рением, палладием и прочими элементами платиновой группы служит основным расчетным средством в Галактике. Я имел неплохой запас благородных металлов, а возрождающаяся промышленность Мерфи испытывала в них огромную нужду. Но расставаться с платиной мне не хотелось — тем более что аркон Жоффрей не мог предложить мне ничего по-настоящему ценного и достойного высокой оплаты. С отчаянием он попытался всучить мне осколки святого кометного ядра (булыжники с ближайшей свалки), оплодотворенные зиготы местных животных (весьма заурядных и не выдерживающих конкуренции с моими шабнами), семена растений (то же самое), а еще всякую благочестивую писанину, банальную в такой степени, что она могла бы продаваться как неплохое снотворное. С самым ценным, с голографической записью богослужения в столичном храме Бейли ат-Клейс, Жоффрей попал впросак, спустив мне этот раритет совсем по дешевке. Он неплохо разбирался в коммерции, но не обладал фантазией и ничего не смыслил в искусстве — во всяком случае, в том, что касалось танцев и пения. Просмотрев приобретенную голограмму, я убедился, что зрелище мерфийских религиозных мистерий необычайно красочно, а хор (хоть я не понял ни слова) выше всяких похвал. Подобную запись я мог сбыть на дюжине миров по самым высоким расценкам. Итак, мы торговались, а мое беспокойство все росло и росло. Ведь Мерфи не являлся Раем и к тому же не представлял интереса с деловой точки зрения — по крайней мере, в настоящую эпоху. Я не люблю задерживаться в таких местах, хоть время не слишком много для меня значит. Еще больше я не люблю, когда мне запрещают свободно общаться с людьми и вкушать свои маленькие радости — скажем, бродить по улицам полузнакомых городов, глазеть на объявления и витрины, погружаться в местную жизнь и попутно вынюхивать след выгодной сделки. Все это было здесь невозможным. Аркон Жоффрей откровенно объяснил, что мое присутствие на Мерфи рассматривается как дьявольский соблазн для простого народа, способный поколебать его душевную гармонию. Не то чтобы я был персоной нон грата, но все же… Вся деликатность ситуации была мне понятна. Я проходил тут по разряду нечестивцев, тех самых грешников, на которых Создатель рано или поздно обрушит карающую длань возмездия. Но к тому же я был знаменитым нечестивцем, и самый древний из аборигенов мог призадуматься о том, что капитан Грэм Френч старше его на десять или пятнадцать тысяч лет и, по всей видимости, переживет его на такой же срок. Это как-то не вязалось с представлением о моей нечестивости и Божьем возмездии, которого я, безусловно, достоин. Не надо быть великим теологом, чтобы сообразить: долгая жизнь — самый драгоценный дар Господа. Так считалось на Старой Земле, и так считается сейчас, когда люди стали почти бессмертными благодаря КР, клеточной регенерации. Бессмертными! Почти! Все дело в этом “почти”… Смерть рано или поздно приходит ко всем, даже к счастливым обладателям КР, — как правило, в результате трагической случайности. Например, если звезда станет сверхновой или вам на голову свалится комета… На своей “Цирцее” я был гораздо лучше защищен от подобных печальных событий, чем любой мерфиец. И разве это не значило, что нечестивец вроде меня воистину осенен Божьей благодатью? Опасный пример! И очень опасная тема для размышлений!ГЛАВА 2
Прошла неделя-другая, и я вознамерился покинуть Мерфи ради иных миров, более подходящих для отдыха и частного бизнеса. Я решил, что, пожалуй, на Эскалибуре или Малакандре оценят по достоинству экзотические одеяния с Секунды и панджебские игривые статуэтки, а Барсум — вполне подходящее место, чтобы сбыть моих шабнов и птерогекконов. Аркон Жоффрей понимал все это не хуже меня. А еще он, очевидно, размышлял о том, как бы выцедить из моего кармана хотя бы фунт платины. Надо отдать ему должное — он оказался неплохим психологом и начал издалека. — По милости Господа Высочайшего мир устроен весьма мудро, — произнес он во время нашей очередной встречи, изобразив улыбку на длинном постном лице. — Вначале Бог сотворил Вселенную, затем даровал людям жизнь и чудо КР — то есть не просто жизнь, а жизнь безмерно долгую… И в ней всему есть место и время — время для греха и раскаяния, время для дел земных и для молитв, время для радостей плоти и размышлений о вечном… Мысли эти показались мне тривиальными, и я лишь вежливо кивнул в ответ, озирая келью Жоффрея. Это была длинная мрачная комната с огромным распятием на стене; рядом с ним помещалось весьма неудобное кресло, а в кресле сидел аркон Жоффрей. Еще тутнаходился стол из серого тусклого пластика и жесткий табурет — под моими многострадальными ягодицами; вот и вся обстановка, если не считать древнего компьютера, пережившего падение кометы. Наверное, за компьютером не числилось никаких серьезных грехов, так что Господь пощадил его, определив теперь в помощники Жоффрею. — Мне кажется, у вас особенно много времени, — продолжал аркон, по-прежнему растягивая в улыбке тонкие сухие губы. — Ведь вам, капитан Френч, приходится странствовать в полном одиночестве, а одиночество способствует раздумьям — не всегда приятным, как я полагаю. Особенно для мужчины, подобного вам… Не сомневаюсь, вы часто испытываете… как бы это сказать?.. потребность в общении, в компаньоне, с которым можно было бы перекинуться парой слов… и не только слов… Вам, вероятно, не хватает женского общества, а? — Тут он пронзил меня проницательным взглядом и поинтересовался: — Или я не прав? Многозначительная речь! И это замечание о “мужчине, подобном вам”… Что он имел в виду? Разумеется, что я — нечестивец, безбожник и холостяк, по крайней мере, на данный момент. Я усмехнулся и посмотрел на него с некоторым превосходством, как человек зрелый может взирать на юнца, не достигшего еще и двух тысячелетий. Я видел перед собой довольно высокого широкоплечего джентльмена, светловолосого и сероглазого, с длинным, вытянутым книзу лицом. Если пользоваться старыми земными мерками, выглядел он лет на двадцать восемь, самое большее — на тридцать. Мальчишка! Сопливый рыболов, мечтающий подсечь старую мудрую щуку! Под моим взглядом его улыбка сделалась несколько нервной. — Не собираюсь отрицать свое одиночество, хотя компьютер “Цирцеи” является неплохой компанией, — произнес я. — Но, как вы отметили, в долгой жизни найдется место для дел земных и для радостей плоти. Временами я вовсе не одинок. Я был женат на нескольких прелестных женщинах… И я не обделен женским вниманием, когда попадаю в очередной мир — в обычный мир, я хочу сказать, не столь благочестивый, как Мерфи. Наконец, если мне хочется общества, я могу заключить контракт с небольшой группой переселенцев, желающих отыскать девственную планету где-нибудь на Окраине. Среди них попадаются женщины с романтическим складом характера, весьма приятные собой… Или я не прав? Жоффрей сглотнул и покосился на распятие, словно борясь с дьявольским искушением. В его жизни наверняка было больше молитв и размышлений о вечном, чем радостей плоти. — Но сейчас, — возразил он, — вы не состоите в браке и не перевозите на Окраину романтичных колонисток. И если бы вам предложили женщину… Неужели вы бы не знали, что с ней делать? Этот риторический вопрос граничил с прямым оскорблением, и я, выпрямившись на своем жестком сиденье, сухо ответил: — Вы слишком молоды, друг мой, и переоцениваете силу эмоций. По мере того как человек взрослеет, воспоминания о прошлом и предвкушение грядущих радостей становятся не менее важными и значительными, чем сиюминутная реальность. А посему время полета между двумя мирами не кажется мне долгим. Мне есть что вспомнить, уверяю вас… — Я пожал плечами и добавил: — Вы хоть представляете мой возраст, почтенный аркон? Жоффрей стушевался. — Я слышал, — нерешительно пробормотал он, — что вы — один из первых астронавтов Старой Земли, достигших звезд… А это значит, что вам — по милости Всевышнего! — больше двадцати тысяч лет. Ну так что же? Разве греховные желания не вечны? Я не стал этого отрицать и, улыбнувшись, коснулся своих волос. — Как говорят, друг мой, седина в голову, бес в ребро. Похоже, он меня не понял. Его недоуменный взгляд остановился на моей шевелюре, глаза округлились, брови приподнялись. Теперь бы я дал ему не больше двадцати пяти, невзирая на постную благочестивую физиономию. Поистине КР и биоскульптура творят в наше время чудеса! — Что же странного в вашей прическе? — Жоффрей наморщил лоб. — А, понимаю! Цвет волос! Мода какого-нибудь из миров, склонных к экзотике… Они у вас окрашены или это искусственное генетическое изменение? — Ни то, ни другое. Результат возраста, друг мой. Я прожил добрых пятьдесят лет, пока не удостоился К Р. Теперь я его напугал: вздрогнув, Жоффрей уставился на распятие и принялся бормотать молитву. Когда с этим богоугодным делом было покончено, он, не глядя на меня, неуверенно произнес: — Я слышал… слышал о подобной практике на некоторых мирах… Но у нас на Мерфи… у нас такое не применяли никогда… ибо долгая жизнь угодна Господу… и великий грех отказать человеку в ней… — Он смолк, потом его губы снова шевельнулись: — Простите, капитан… вы можете не отвечать на мой вопрос… но за какое преступление вы заслужили эту кару?.. У него был настолько растерянный вид, что я расхохотался. — Ничего ужасного, достойный аркон, ничего такого, в чем не были б повинны мои и ваши предки! Просто в те времена, когда был сконструирован первый межзвездный двигатель Ремсдена, медицина находилась в зачаточном состоянии. Клеточную регенерацию открыли позже, много позже! В двадцать четвертом веке, если не ошибаюсь… А моя молодость прошла в двадцать первом. Там остались первая из моих жен, с которой мне пришлось развестись, и моя дочь, малышка Пенни… Мне стукнуло сорок, я считался самым удачливым из внутрисистемных пилотов, и я был абсолютно свободен — а потому не возражал против долгих экспедиций. Мне предложили опробовать двигатель Ремсдена в полете на Тритон, и я согласился. Это не тот Тритон, о котором вы слышали, почтенный, — не планета, где изобрели кристаллошелк и где люди меняют пол подобно устрицам. Мой Тритон — крохотный мирок, который вращается вокруг Нептуна в системе Старой Земли. Жоффрей кивнул. Сделав паузу, я размышлял о том, что же ему известно о столь древних временах. Кажется, меньше, чем положено аркону, одному из девяти столпов мерфийского просвещения! По крайней мере, ему полагалось знать, что в прошлом люди старели, седели и лысели, а лица их покрывались морщинами. Быть может, он читал об этом в книгах, но прочитанное запоминается хуже увиденного, а древние видеозаписи весьма редки и несовершенны… Вполне вероятно, что аркон Жоффрей за все пятьсот, восемьсот или тысячу лет своей жизни не видел ни одного изображения старика. Решив простить его, я продолжил: — Испытания оказались успешными, и тут началась гонка — в добром десятке стран занялись переоборудованием планетолетов и установкой двигателей Ремсдена. Как вы понимаете, каждый хотел первым добраться до звезд и водрузить в Галактике свой национальный флаг. Мой корабль уже переоснастили, так что выбор был очевиден… Правительство Соединенных Штатов намеревалось отправить его к одной из ближайших звезд, к Альфе Центавра — конечно, под моим командованием. Ведь я был единственным астронавтом, имевшим опыт прыжков в поле Ремсдена! Итак, я отправился в путь и нашел в системе Центавра весьма привлекательную планету, которую назвал именем дочери — Пенелопой. После этого мне полагалось вернуться и доложить о своих открытиях, но я ограничился кратким рапортом, посланным на Землю. Мой корабль был полностью автономен, запасов у меня хватало, и я не испытывал никакого желания возвращаться. Отчего бы не постранствовать в Галактике? — решил я. Тем более что в окрестностях Альфы Центавра имелось несколько звезд со спутниками, весьма похожими на Старую Землю… Я направился к ним, и это первое путешествие заняло сто восемьдесят стандартных лет. Потом… — Потом вы все-таки вернулись, — прервал Жоффрей затянувшуюся паузу. Я кивнул, подумав: к чему рассказываю ему все это? Он не был мне настолько симпатичен, чтобы я принялся излагать свою биографию и пускаться в откровенности — совсем наоборот! Но с другой стороны, жизнь моя обросла таким количеством мифов, домыслов и невероятных легенд, что временами я испытываю потребность поведать правду — пусть даже такой неприятной личности, как аркон Жоффрей. К тому же он, казалось, проявлял искренний интерес к моей истории — или делал вид, что проявляет Вероятно, и то и другое было справедливым; хотелось получше узнать меня и подцепить на крючок. Недаром же он завел разговоры об одиночестве и женщинах!.. — Вы вернулись, — повторил Жоффрей, посматривая на меня с нескрываемым любопытством. — Но почему? Что заставило вас принять такое решение? — Две причины — я уж не помню, какая из них была важнейшей… Во-первых, мне пришло в голову, что моя бывшая супруга давно мертва и что сто восемьдесят лет — вполне солидная гарантия от всех семейных дрязг и неприятностей. А во-вторых… Я, видите ли, люблю комфорт, а на “Покорителе звезд” — так тогда именовался мой корабль — кончились запасы яиц, кофе и специй. В моих гидропонных отсеках имелось достаточно биомассы, но растительные волокна задубели, сделавшись грубыми и невкусными… Так что я отправил свой последний отчет — о прекрасном Эдеме в созвездии Кассиопеи — и вслед за ним повернул к Земле. Я снова смолк, размышляя о тех далеких временах. Память моя хранит много неприятных и страшных историй — вроде трагедии, случившейся с Филом Регосом, одним из моих коллег, или ядерной войны на Бруннершабне, но сейчас я думал о другом. Например, об Эдеме и поисках Рая… Я ведь не только ищу свой туманный Парадиз, я пытался его создать — пусть не своими руками, но даруя другим предпосылки для его созидания. Я открыл великое множество прекрасных девственных планет, я дал им названия, я торговал с ними, я им помогал, и я надеялся, что хоть один из этих миров, совершенствуясь и развиваясь, станет со временем Раем. Я сильно ошибался. Даже лучшие из них — не говоря уж о Мерфи! — были всего лишь подлакированным вариантом чистилища. Жоффрей шевельнулся в кресле и кашлянул, возвращая меня к реальности. — Итак, вы вернулись, — повторил он в третий раз. — Я полагаю, Земля приняла вас с распростертыми объятиями? — В общем — да. Я заработал неувядающую славу и место в учебниках, но во всем этом ощущалось что-то наигранное… Я был, что называется, белой вороной. Моя бывшая жена, моя дочь, мои внуки давно умерли, а мои прапраправнуки, которым перевалило за семьдесят, выглядели непозволительно молодыми. Клеточной регенерации еще не изобрели, но генетическое программирование, омолаживающие процедуры и пересадка клонированных органов уже являлись повседневной практикой. Старость отошла в прошлое, и я, со своими седыми волосами и морщинами у глаз, был анахронизмом. Разумеется, анахронизмом героическим и популярным — меня осыпали докторскими званиями в неведомых мне областях, меня приглашали на банкеты, женщины жаждали переспать со мной, а мужчины — свести знакомство и выпить рюмку коньяка… Но слава моя казалась чем-то эфемерным и нереальным. Никто не предложил мне работы, и, судя по всему, мне пришлось бы читать лекции бойскаутам и выступать с воспоминаниями в дамских клубах. И так — до самой смерти! Жоффрей покачал головой. — Да, старение и смерть… наказание Божье… я читал об этом… Люди вашей эпохи сталкивались с такими ужасами, что порой удивляешься, как они сохраняли рассудок. — Ну, это было естественным и привычным, а значит, не таким страшным, — возразил я. — Ведь после открытия КР многие отказывались от вечной жизни — по религиозным соображениям или боясь превратиться через столетие в цветущего вида склеротиков, не помнящих, как их зовут. Но все эти опасения оказались ложными, и противники КР просто вымерли. — Вы, очевидно, к ним не относились? — Разумеется, нет! Я — прагматик и предпочитаю видеть вещи такими, какие они есть. В свой первый визит на Землю я пересадил себе новые печень и сердце, мне очистили сосуды, предохранив их от атеросклероза на ближайшую сотню лет. Закончив с этим и погревшись в лучах славы, я занялся делами. Денег у меня хватало, поскольку мой счет рос в течение пары веков, но вот с кораблем, с “Покорителем звезд”, который я переименовал в “Цирцею”, случилась неприятность. Раньше он принадлежал НАСА, космическому ведомству США, приказавшему долго жить в двадцать втором столетии, когда экспансией в Галактику занялись частные корпорации и фирмы. Вся собственность НАСА, как наземная, так и блуждающая в космосе, была либо ликвидирована, либо распродана. Что касается “Покорителя” — то бишь моей “Цирцеи”, — ее вроде бы списали за давностью лет, а может быть, продали, причем не раз, так как я обнаружил, что на нее претендуют целых три владельца: Музей старой космической техники штата Мэн, японский банк “Асахи” и какая-то темная индонезийская компания по экспорту пряностей и напитков, проявлявшая наибольшую активность. Адвокаты уже потирали руки, поджидая, когда я ринусь в свалку претендентов, но вышло все по-иному. Эти воспоминания грели мое сердце, и я поведал о них Жоффрею с законной гордостью. Собственно, в тот раз — первый и единственный за все тысячелетия моей карьеры — я совершил акт пиратства. Конечно, он являлся вынужденным, и к тому же я действовал не под влиянием импульса, а по зрелом размышлении. Но кто рискнет бросить в меня камень? Не мог же я в самом деле допустить, чтобы “Цирцея” досталась любителям древней техники из штата Мэн или индонезийским торговцам лимонадом! Я объявил, что созываю пресс-конференцию на своем корабле, человек этак на триста, и под этим предлогом трюмы “Цирцеи” были загружены деликатесами и напитками — возможно, тех самых индонезийских жуликов. Пресс-конференция оправдала все ожидания пишущей братии: с вершины своих двухсот двадцати четырех лет я рассуждал об изменениях, произошедших в мире, о непрерывной экспансии в космос, о проблемах экологии и демографическом взрыве — словом, о королях и капусте. После вполне пристойного банкета, убедившись, что все мои гости погрузились в челночные катера, я включил маршевый ионный двигатель и на всех парах направился к окраинам Солнечной системы. Одновременно я сделал свое последнее заявление по волновой связи. Я сказал, что отказываюсь от всех положенных мне пенсий и от любой собственности на Земле; что средства на моих счетах могут делить японские банкиры, индонезийские лимонадники и музейные крысы из Мэна; наконец, что я более не претендую на земное гражданство. Еще я сказал, что в одностороннем порядке экспроприирую “Покоритель” который отныне называется “Цирцеей”, — ибо лишь я, ее пилот и командир, могу найти кораблю настоящее применение. Затем, добравшись до орбиты Марса, я перешел с ионной тяги на Ремсдена, совершив прыжок в двенадцать парсеков. Я направлялся на Логрес, один из Пяти Миров, заселенный во время первой волны эмиграции вместе с Иссом, Лайонесом, Пенелопой и Камелотом. В те дни Логрес был самой процветающей колонией в человеческом космосе, и я надеялся что-нибудь там продать — или, возможно, прикупить. Я прибыл туда через несколько дней после сверхсветовой депеши с Земли и обнаружил, что являюсь предметом жестоких дискуссий. Половина населения требовала, чтобы меня, согласно полученным из метрополии инструкциям, повязали и засадили в тюрьму и чтобы мой корабль был конфискован. (Правда, они не очень представляли, как это сделать — я болтался на орбите, а космических катеров на Логресе тогда не имелось.) Что касается другой половины, то эти доброхоты собирались принять меня как почетного колониста, а “Цирцею” разобрать до винтиков и пустить на нужды своей зарождающейся индустрии. Я сделал логресцам контрпредложение: я объявил, что готов взять на борт их товары и сырье, которым богат Логрес, экспортировать эти грузы в любой другой колониальный мир и вернуться с тем сырьем и промышленными изделиями, в которых нуждается их колония. После долгих междуусобных споров (к счастью, дело обошлось без кровопролития) они решились подписать контракт. То было первое торговое соглашение в моей жизни, и, вспоминая о нем, я невольно вздрагиваю — столько в нем наворотили оговорок, обязательных условий и прочей чепухи. При всем том мои прежние противники считали меня закоренелым ворюгой и грабителем с большой дороги, а союзники — ловкачом, хитрецом или как минимум сумасшедшим. Пересказывая этот эпизод, я наблюдал за Жоффреем. Без сомнения, ему тоже хотелось считать меня мошенником и ненормальным, хотя по причинам иного свойства, чем имелись у древних логресцев. Он не прерывал меня, никак не комментировал мою историю и слушал с напряженным вниманием — то ли для того, чтобы в нужный момент закинуть крючок, то ли мысленно сравнивая мой рассказ с историческими хрониками, которые, быть может, сохранились на Мерфи. Кстати, тот мой первый контракт рассматривается во всех курсах и пособиях по бизнесу — он стал прототипом такого рода соглашений и даже частично включен в Клятву Космического Торговца. Итак, после трехмесячных препирательств договор с Логресом был подписан, ознаменовав рождение межзвездной коммерции; я принял груз и отбыл в направлении Исса, лежавшего в пяти с половиной световых годах. Отсутствовал я лет пятнадцать, зато возвратился с неплохой прибылью, которая делилась с моим арматором фифти-фифти. Свою долю я взял горючим и товарами и отправился странствовать по Пяти Мирам. На Иссе и Пенелопе меня принимали с восторгом, на Камелоте — со сдержанным энтузиазмом, а на Лайонесе попытались сперва ограбить, но я пригрозил, что спущу на их столицу треть своих запасов ионного топлива и сброшу горящую спичку. Это касается Логреса, моего первого партнера, то к этому времени мы были в отличных дипломатических отношениях. Выйдя на орбиту вокруг Логреса в пятый раз, я объявил привал. У меня уже хватало средств, чтобы приобрести товары по собственному усмотрению, и я собирался отбыть с полным грузом к далекой Арморике — далекой в те времена, когда от Земли до Окраинных Систем насчитывалось тридцать или тридцать пять парсеков. После Арморики я посетил еще несколько дюжин планет, торгуя и накапливая информацию в банках памяти “Цирцеи”, тщательно отбирая груз, выискивая предметы искусства, оседавшие в трюмах моего корабля. Такие вещи всегда имеют цену; и чем они древней, тем выше цена. Наконец, посетив Логрес то ли в двадцатый, то ли в двадцать второй раз, я проложил курс к Земле. Я не был там целое столетие, но для меня прошло шесть лет — разумеется, в относительном времени “Цирцеи”. За этот срок я превратился из пирата и беглеца в уважаемого спейстрейдера, родоначальника галактической торговли. Такой успех стоило отметить, и я пожелал сделать это на Старой Земле. * * * Наша беседа была долгой, и я рассказал Жоффрею почти все — конечно, без детальных описаний своих визитов в тот или иной мир. Мы прервались лишь однажды, когда я потребовал и получил чай с кексом и рюмку недурного местного бренди — не хуже панджебского. Угощение доставил тип с оловянными глазами — из той парочки, что дежурила в коридоре, под дверью кельи почтенного аркона. Когда с чаем, кексами и спиртным было покончено, Жоффрей спросил: — Как приняла вас Земля? Ведь вы, если не ошибаюсь, числились в розыске? — Прекращенном за давностью лет, — откликнулся я с улыбкой. Прием в самом деле оказался восторженным. Немногие в новых мирах, подобных Мерфи, представляют, что такое Солнечная планетарная система. Кроме Старой Земли, там есть Венера и Марс, Луна и спутники газовых гигантов, пояс астероидов, Уран, Нептун и Плутон — и большая часть этих небесных тел была колонизирована еще в эпоху межпланетных перелетов. Кроме того, существуют сотни городов и станций в открытом космосе, и кое-какие из них могут соперничать по населенности с колониями на Титане, Ганимеде и Каллисто. Словом, народу на Старой Земле и вокруг нее хватает. Я вынырнул из поля Ремсдена где-то посередине между Юпитером и Сатурном, можно сказать, в абсолютной, мрачной и холодной пустоте. Но едва был послан опознавательный сигнал, как мой приемник чуть не взорвался — пустота вдруг ожила, и на антенны “Цирцеи” градом посыпались приветствия, приглашения и поздравления в стихах и прозе. Этот ливень не иссякал на протяжении нескольких дней, пока маршевые ионные двигатели несли меня к Земле. Итак, мнение древней прародины на мой счет решительно переменилось — как я полагаю, вследствие чистых сантиментов. Забавная метаморфоза: в прошлый раз я был пилотом, нарушившим дисциплину, а приняли меня как героя; теперь я числился в грабителях, но оказанный мне прием сделал бы честь божеству. Вероятно, разгадка заключалась в том, что целое столетие на Земле получали вести о моей активности в Пяти Мирах. Колониальная администрация относилась ко мне благосклонно, и В результате все доклады с Логреса, Пенелопы и других планет приобрели нежно-розовую окраску и тот едва ощутимый привкус легендарности, который так дорог людским сердцам. Из колоний сообщалось, что я снабжаю их жизненно важными материалами и техникой, что я предотвратил экономическую катастрофу в одном месте и стал основателем целой отрасли промышленности в другом, что я кого-то спас и кому-то помог мудрым советом. Как утверждали колонисты, куда бы я ни прилетал, там начиналась эпоха прогресса и процветания, Ренессанс в сфере искусств и безусловный подъем морали. В последнем я не уверен; это утверждение отдает периферийной сентиментальностью, как и те прозвища, которыми меня награждали: Торговец со Звезд, Друг Границы, Старый Кэп Френчи… Ну, и так далее и тому подобное. Словом, все эти рапорты и депеши лили воду на мою мельницу, а вода, как известно, камень точит. Теперь моя самовольная экспроприация “Цирцеи” трактовалась как деяние Человека Судьбы, решившего послужить человечеству, как акт высшего гуманизма или как прозорливое предвидение титана духа и ума, порвавшего бюрократические сети. На самом деле — ничего подобного! В те годы я не стремился найти свой Рай или создать его, поддерживая колонистов в каком-нибудь симпатичном мире; я просто искал стоящее занятие и немного выгоды. Но если быть честным до конца, я не остался равнодушным к лести. Разумеется, я не вообразил себя ангелом Господним, но кто знает, не сказки ли о благородстве Старого Кэпа Френчи побудили меня искать Рай? Но до этого было еще много тысяч лет и много тысяч парсеков… Очутившись на Земле, я довольно выгодно распродал свои колониальные товары, а заодно обнаружил, что мне удалось убежать от смерти. КР, клеточная регенерация, была тогда новым делом, но никто, пожалуй, уже не сомневался, что вреда эта процедура не приносит. Очереди желающих растягивались на десятки миль, но кто был в первую очередь достоин бессмертия, как не великий Торговец со Звезд, славный Друг Границы, Старый Кэп Френчи?.. Я упомянул о своем желании на одной вечеринке, устроенной в мою честь, и в течение трех следующих дней три лучшие клиники предложили позаботиться о моем бренном теле. Ведомый ностальгическими воспоминаниями, я выбрал ту из них, где мне пересаживали сердце и печень, и спустя неделю превратился в Мафусаила. В этот свой визит, кроме бессмертия, я приобрел вместительный катер, чтобы не зависеть от челноков, принадлежащих моим клиентам, и модернизировал реактор “Цирцеи”. Прежде моя энергетическая установка работала на уране и плутонии, но это сырье имеет плохую репутацию еще с медиевальных времен, так как применялось для начинки бомб. Теперь мне установили ториевый реактор на медленных нейтронах, которым я, если не считать небольших переделок, пользуюсь до сего времени. В этом месте аркон Жоффрей перебил меня, шевельнув рукой. Ему хотелось знать, почему ториевый реактор предпочтительней уранового. Я пояснил, что уран с давних лет сделался синонимом атомной угрозы и до сих пор человек реагирует на негр как на смертельную опасность. Вероятно, это стало безусловным подсознательным рефлексом; мне доводилось посещать миры, где корабль с урановым реактором воспринимался как источник потенциальной агрессии. Отчасти это верно, если вспомнить капитана Фила Регоса и Землю Лета. Жоффрей кивнул и перекрестился. — Да, мне доводилось читать об этом… Жуткая история! Но правитель того мира узурпировал власть и творил не праведные дела, так что Регос явился карающей десницей Господней — такой же, как рухнувшая на нас комета. Я обнаружил, что согласен с этим утверждением, хотя мы с арконом исходили из совершенно разных предпосылок. Но он еще не кончил: — Если вернуться к ядерной войне… Это, должно быть, нечто ужасное! Более ужасное, чем падение Молота! Ибо Молот олицетворял волеизъявление Творца, тогда как войны меж людьми, без сомнения, спровоцированы дьяволом! — Тут Жоффрей с подозрением уставился на меня и молвил: — Вам не приходилось принимать в них участие, капитан Френч? Хоть я убежденный атеист, меня тоже потянуло перекреститься. — Господь миловал, почтенный аркон! Но спустя тридцать лет после атомной войны на Бруннер-шабне я был там, видел все последствия и помогал заново колонизировать планету. Там не осталось людей и ни единой живой твари… Все пришлось восстанавливать заново — почву, растительность, моря и реки… Колонисты назвали этот мир Преобразованием, и так он известен до сих пор. … Аркрн вздрогнул, будто лишь сейчас осознал мой возраст. — Это случилось десять тысяч лет назад… — Его губы шевелились, как две бледные маленькие змейки. — Десять тысяч лет назад… А через семь тысяч с Преобразования отправили колонистский корабль на Мерфи, чтобы заселить во славу Господа этот мир… Значит, вы видели моих далеких предков, капитан Френч? — Несомненно, друг мой. — А эта трагедия на Бруннершабне… и в других воюющих мирах… Как вы думаете, чем она вызвана? Кознями дьявола? Мне не хотелось разрушать его иллюзии, но я искренне полагал, что Старина Ник [547] здесь ни при чем. — К чему дьяволу уничтожать целый мир, достойнейший? Это слишком грубый способ для Великого Ловца Душ… Он — заядлый игрок и со временем получил бы больше, чем два или двадцать два миллиона обгорелых трупов… Нет, не вините дьявола, ибо все это сотворили люди! Чей-то страх… чье-то тщеславие… буквальное и тупоумное подчинение приказам… нежелание посоветоваться с другими и учесть их мнение… наконец — кровожадность… Выбирайте любую причину! Но я уверен, что это случилось лишь по человеческой глупости и безнравственности. — Или греховности… — Всего лишь еще одно слово для обозначения безнравственности, мой дорогой. Наступила пауза; потом аркон пробормотал: — На Мерфи тоже лежит грех… Наш мир был наказан… — Богом или Провидением, если угодно. А Бруннершабн погиб по вине людей. Казалось, Жоффрей меня не слышит. Он продолжал шептать, время от времени осеняя себя крестом: — Кара пала на Мерфи за грехи людские… Ибо люди бродили во тьме, предаваясь стяжательству и любострастию, лелея гордыню и честолюбие, насмехаясь над слугами Божьими, мечтавшими обратить их к свету… А свет, исходящий от Создателя нашего, сияет для всех, кто желает его увидеть… Но они не желали… не желали… Не потому ли, что мы, слуги всеблагого Господа и проводники света, не отличались должным усердием?.. И Бог наказал нас вместе с нечестивцами… Но теперь… теперь!.. Несомненно, теперь мой собеседник и его коллеги строили Рай по своему разумению, только мне он не подходил. В моем Раю людям не придется ходить в серых балахонах, шепча молитвы и уставившись в землю оловянным взглядом. И они, разумеется, не будут таскать за пазухой нейрохлыст, дабы подстегнуть благочестие своих нерадивых сограждан. Когда бормотание Жоффрея мне надоело, я усмехнулся и кашлянул. — Простите, почтеннейший, но голос веры заглушает в вашей душе голос разума. Он ощерился. — Вас это не устраивает, капитан? Вы из тех, кому неприятен голос веры? Но каким же голосом мне еще говорить?.. Когда обрушился Молот, я был арконом полтора столетия, а до того двести лет носил сан арколита… На протяжении этих веков я наблюдал, как угасает светоч веры в сердцах людских, как торжествует дьявол! Церковь моя была пустой, я проповедовал дубовым скамьям, пока меня не деклассировали… Да что там меня! Даже Архимандрита Святой Базилики… даже его… Он был занесен во все компьютерные файлы как управитель мелкого фонда милосердия! Он, столетиями учивший и вдохновлявший нас!.. — Жоффрей задохнулся от возмущения и закончил: — Можете представить, что творили с нами, слугами Господа! Зато теперь Бог даровал нам власть и силу, и мы выведем этот мир из бездны греха. Молот сразил нечестивых, грешники пожрали грешников, как говорится в наших святых книгах, а потом Арконат вывел всех уцелевших к свету и новой жизни. Вера спасла наш мир, только вера! И, быть может, она спасет всех остальных безбожников, кои, подобно вам, бродят во тьме. Я смотрел на него с горечью и почти нескрываемой неприязнью. Этот фанатик являлся антитезой всем моим представлениям о справедливости, о назначении человека и человеческом достоинстве. Он прожил на свете в двадцать или в пятьдесят раз меньше меня, но это тоже приличный срок; за такое время можно научиться чему-то полезному, кроме слепой веры в собственную непогрешимость. Его ужасала ядерная война, но то, что творилось сейчас на Мерфи, было не менее разрушительным и печальным. Война калечит тело, идеология — дух, а этого не могут исправить никакие усилия биоскульпторов… Только время, время! Сколько же потребуется времени? Сто лет? Двести? Тысяча? Сейчас аркон Жоффрей обладал огромной властью, и для каждого юного создания на Мерфи, Для каждого ребенка, рожденного после катастрофы, его голос был гласом божества. А с божеством, как известно, не спорят… Во всяком случае, для этого надо набираться отваги не один год — или не одно столетие. Я тоже не собирался спорить с Жоффреем или поучать его, хотя дьявол — или Бог? — искушал меня ответить этому мракобесу. Но тут я припомнил что являюсь всего лишь ключиком — живым ключом с помощью коего аркон возжелал открыть кладовую “Цирцеи”, где хранился запас драгоценных металлов. Это вернуло меня к реальности, и я решил сменить тему разговора. — Мы потратили много времени, почтеннейший, — произнес я, — и мне остается лишь поблагодарить вас за интерес, проявленный к такому жалкому грешнику. Полагаю, вы хотите сделать мне какое-то предложение, но в настоящий момент я слишком взволнован воспоминаниями и не хочу возвращаться к делам практическим, требующим ясной головы. Я согласен отложить отлет на десять или пятнадцать дней, если мне будет позволено немного развлечься в вашей столице — разумеется, под присмотром Святого, арконата. Скажем, какое-нибудь невинное зрелище… Спектакль… меня бы это вполне устроило. Я даже готов закупить права на голографическую запись, если вы не станете раздевать меня до нитки. Выслушав эту просьбу, аркон Жоффрей величественно кивнул. Засим я был препровожден двумя субъектами с оловянными глазами во двор Святой Базилики, к своему катеру. Я задраил люк, сел в кресло и несколько минут размышлял о намеках аркона по поводу моего одиночества. Что-то за всем этим стояло! Как и за его интересом к моей биографии. Похоже, он прикидывал, сколько с меня удастся содрать, а это значило, что мне будет предложен весьма необычный товар. Ведь есть такие вещи, цена которых зависит от покупателя: один не даст за них ни гроша, а другой пожертвует жизнью. Решив, что с Жоффреем надо держать ухо востро, я ткнул кнопку автопилота и вознесся в небеса, к моей дорогой “Цирцее”.ГЛАВА 3
Не стоит ждать веселых зрелищ на планете, где властвует теократический режим, да и число их не поразит воображение. Список, представленный мне помощниками Жоффрея, включал всего шесть позиций, и четыре из них относились к театрализованным религиозным мистериям. Немного поколебавшись между двумя оставшимися, я предпочел опере Драму. Представление состоялось в прекрасном крытом амфитеатре, сохранившемся от старых времен. Я был доставлен туда служителями в серых робах, только на этот раз их было не двое, а целая дюжина, и они так плотно обступили меня, что контакт с местным населением исключался полностью. Мне приготовили ложу, из которой я мог следить за спектаклем и любоваться на зрителей напротив — метров этак с восьмидесяти. Не лучше обстояли дела и по дороге в театр, поскольку мой глайдер двигался с большой скоростью, а колпак кабины был затемнен. Правда, я успел заметить, что Бейли ат-Клейс, мерфийская столица, сохранил остатки былого очарования; тут не попадалось руин, и лишь несколько памятных мне высотных зданий исчезли начисто. Вероятно, отсутствие разрушений объяснялось тем, что Бейли положен в самом центре крупного материка и в другом полушарии, чем тот злополучный залив, куда обрушилась комета. Убедившись, что мне не удастся ни с кем поболтать, я вздохнул, опустился в кресло (чуть более мягкое, чем табурет в келье Жоффрея) и приготовился наслаждаться местным искусством. К чести мерфийцев должен отметить, что спектакль увлек меня — как своей красочностью и мастерством актеров, так и множеством нелепостей и несуразностей, допущенных драматургом. Называлось сие произведение “Гамрест” и было по сути своей дикой мешаниной из историй о Гамлете и Оресте с кое-какими добавками из земной классики. Я подозреваю, что записи древних книг либо погибли во время Удара Молота, либо подверглись затем ужасающей цензуре, сократившись раз в пять или в десять. Мне показалось, что автор пьес прочитал по несколько страниц из Шекспира, Достоевского, сэра Томаса Мэлори и Эврипида или Софокла; эти страницы и послужили источником его вдохновения. Конечно, главной сюжетной линией была вендетта — месть за предательски убитого отца, осуществить которую герою помогали отцовский дух, Офелия, Электра и братья Карамазовы. Этот дружный секстет пару часов добирался до глотки Клитемнестры, а затем еще такое же время Гамрест страдал от угрызений совести, пока один из авгуров по имени Пилад Полоний, снизойдя к его мукам, не отправлялся с ним в заоблачный Авалон, где небожители Круглого Стола во главе с королем Артуром свершали обряд очищения. Все это было сыграно убедительно, с большим энтузиазмом, и мастерство актеров слегка компенсировало отсутствие здравого смысла. К сожалению, в пьесе тут и там проглядывали цензурные дописки — в монологе Гамреста “Быть или не быть — вот в чем вопрос” через каждое четверостишие воздавалась хвала Господу, а Старину Ника хулили самыми черными словами. Но я был не в претензии, в полной мере сознавая специфику ситуации. Меня пленила одна из актрис, игравшая Электру, — стройная рослая красавица с белокурыми кудрями, облаченная в скромный хитончик; ее лицо, как мне показалось, не носило никаких признаков вмешательства биоскульптора. Должен заметить, что мерфийцы вообще рослый и красивый народ, по большей части с серыми и синими глазами, что подтверждает их происхождение от русских и скандинавов. Есть, разумеется, примеси и другой крови, но без компьютера “Цирцеи” я не мог детально восстановить их генеалогию. Вместо этого, любуясь своей Электрой, я принялся гадать насчет ее возраста, но тут любая из версий могла оказаться ошибочной — в наше время все женщины выглядят юными девами не старше двадцати четырех. Очень немногие соглашаются выбрать более зрелый возраст, откладывая процедуру КР на три-четыре года; и я, пожалуй, не встречал за последнее тысячелетие ни одной привлекательной особы, которая выглядела бы лет на тридцать. Женщина есть женщина; ни Бог, ни дьявол, ни гнет теократии или иного авторитарного режима не заставят ее отказаться от вечной чарующей юности. Итак, спектакль шел к концу, а я прикидывал, сколько драгоценного металла могу предложить за это красочное действо. В его нелепости таилось своеобразное очарование, способное привлечь даже тех, кто был лучше знаком с Шекспиром и Достоевским, нежели автор этой пьесы; я не сомневался, что сумею продать запись на доброй дюжине миров. Наконец я решил, что нужно предложить сто граммов золота и согласиться после торговли на сто пятьдесят — разумеется, если голографическая запись будет хорошей. На этом мои мерфийские развлечения закончились, и я отбыл к своему катеру, а затем — на “Цирцею”, где отобедал в привычном и совсем не угнетавшем меня одиночестве. * * * Утром следующего дня мы (Гарконом Жоффреем снова сели за стол переговоров. После того как вопрос с “Гамрестом” был решен (я выторговал запись за сто тридцать граммов), Жоффрей произнес: — Капитан, в свой прошлый визит вы удостоили меня доверием, рассказав о первых веках вашей жизни. Я взял на себя смелость сравнить эту историю с немногими записями, что сохранились на Мерфи и посвящены тем давним временам. Хвала Господу, теперь я смог дополнить и уточнить их! Однако… Он смолк, и я поощрил его легким кивком. Как выяснилось, аппетит приходит во время еды: Жоффрей хотел узнать побольше о моих приключениях, и в частности, о том, чем я занимался, покинув Землю. — Записи утверждают, — сказал он, — что вы отправились с Земли на Пенелопу, а потом странствовали среди звезд целое тысячелетие — разумеется, в планетарном измерении. Зачем? Ведь вы, я полагаю, были уже богатым человеком? — Все относительно, почтенный аркон. Я ведь говорил вам, что занялся модернизацией “Цирцеи”, сменив первым делом реактор? — Дождавшись кивка Жоффрея, я решил, что могу продолжать: — Так вот, реактором дело не ограничилось. Я приобрел новый корабельный компьютер класса “Гений” и кучу программ к нему — собственно, этот компьютер и сделался тем существом, которое я называю Цирцеей. Еще мне были нужны многофункциональные автономные роботы самых новейших моделей, оборудование для мастерских, сырье, запчасти и инструменты. Уйму хлопот доставили мои оранжереи и теплицы — ведь это важнейшая часть корабля, связанная с системами жизнеобеспечения, регенерации воздуха и так далее. Новые тканевые культуры, животные и растительные, тоже обошлись мне в копеечку — все они подверглись процедуре КР и стали фактически бессмертными. Кроме того, я запасся первоклассным медицинским оборудованием и теперь, если нужно, могу клонировать любой орган и трансплантировать его, не покидая корабля. Мои роботы составляют первоклассную хирургическую команду — не хуже, чем в ведущих земных клиниках. Как видите, друг мой, — я бросил взгляд на Жоффрея, — мне удалось с толком потратить свое богатство. Но траты есть траты, и вскоре я сел на мель, хоть каждый из поставщиков не скупился на скидки для Торговца со Звезд. Пришлось снова заняться извозом и подыскивать арматоров… Собственно, я сделал всем заинтересованным лицам такое же предложение, как когда-то на Логресе: я беру их товар, реализую в колониях, а прибыль мы делим пополам. Но земляне оказались много сговорчивей логресцев… О том периоде я вспоминаю одновременно с удовольствием и с чувством некоторой неловкости — товар мне предлагали за сущие гроши. Мои объяснения, что я не являюсь Санта-Клаусом и не раздаю подарков колонистам, никто не принял всерьез; их приписывали моей скромности, моему благородству, моему бескорыстию, наконец. Однако мои поставщики бескорыстием не отличались, и в какой-то момент я понял, что сделался центром гигантской рекламной шумихи. Пожалуй, суть происходящего лучше всего выразил глава одной из крупнейших фирм по производству нейроклипов — устройств, позволявших погружаться в виртуальную реальность и переживать во сне самые невероятные приключения. — Вы возьмете наши нейроклипы, — сказал он, — и сделаете их недосягаемым эталоном для десятков миров, для Пенелопы и Эдема, Исса и Камелота, Арморики и Трантора. А затем вы отправитесь с ними на Окраину, к Сан-Брендану, Шангри-Ла и Перну… Вы возьмете их, и это послужит доказательством, что наши нейроклипы — лучшие в Солнечной системе! Как вы думаете, во сколько обошлась бы мне такая рекламная кампания, если действовать традиционным путем?.. А потому не говорите со мной о деньгах! Я не собираюсь подкупать вас, но я не настолько жаден, чтобы требовать плату за несколько рекламных образцов! Когда я пересказал Жоффрею эту речь, на его лице промелькнула бледная тень улыбки, а потом он заметил, что на Мерфи такого рода бизнес мне не угрожает. Несомненно, он был прав; теократй раздают даром лишь благословения. Покинув Землю, я направился к Пенелопе, первому миру, который был открыт и назван мной, а затем совершил тысячелетнее турне в галактических просторах, заселенных моими беспокойными сородичами. В те времена я еще не искал свой Парадиз, я всего лишь осваивал профессию, которой занимаюсь до сих пор. Нам было хорошо вдвоем, мне и “Цирцее”; миры мелькали перед нами подобно вспышкам стробоскопа, разделенным промежутками темноты, в компьютерных банках накапливалась масса полезных сведений, а торговля шла лучше некуда — любой товар приносил десятикратную прибыль. Но постепенно я начал понимать, что космический торговец никогда не станет поистине богатым, хотя и бедность ему не грозит. Предположим, у меня завелся бы лишний капитал — и как прикажете с ним обойтись? Чтоб деньги работали, их надо вложить в промышленность какого-нибудь перспективного мира, то есть доверить чужим рукам, банку или финансовой компании, лет этак на триста-четыреста — поскольку раньше я не свижусь со своими должниками. За этот срок может случиться что угодно: банки лопнут, компании прогорят, война или революция позволит власть имущим экспроприировать мои сбережения, и в результате я останусь с носом. Нет, спейстрейдер все свое должен возить с собой! Он живет в комфорте, но никогда не будет владеть алмазными россыпями, нефтяными приисками и сотней дворцов на пяти материках; ему принадлежит только корабль и груз в корабельных трюмах. Зато он свободен, как свет далекой галактики, миллионолетия пронизывающий тьму! Свободен и одинок… Мы вернулись к теме одиночества, и аркон Жоффрей, помявшись, сделал наконец свое предложение: — Во время прошлой встречи я намекал, сэр, что вы, быть может, нуждаетесь в женском обществе. Отчего бы вам не взять супругу с Мерфи? Если хотите, даже нескольких… Я расхохотался. Боюсь, мой смех мог показаться ему обидным. — Наверняка вы не ждете, что я заведу гарем и осяду на Мерфи? — Мы недостойны подобной чести, — перекрестившись, пробормотал аркон. — Я имел в виду совсем другое: вам предоставят возможность выбрать женщину — или женщин — из некоторого числа… гмм… особо упорных инакомыслящих. Я даже могу гарантировать их невинность — как обязательное условие сделки. Причем без всяких дополнительных оплат с вашей стороны! Челюсть у меня отвисла. Кажется, этот Божий человек пытался всучить мне невольницу — или невольниц! Впрочем, чему удивляться: я знавал миры, где работорговля считалась самой обычной практикой и срок рабства исчисляли от нескольких лет до нескольких веков. Вспомнить хотя бы Регоса и Землю Лета… Да, не везде вечная жизнь почиталась благословением! Переварив новость и собравшись с силами, я поинтересовался: — Эти инакомыслящие… ваши диссиденты… Кто они такие? — Жалкая горстка мужчин и женщин, упорно повторяющих прежние ошибки, — откликнулся Жоффрей. — Но Святой Арконат милостив к ним. Они содержатся в специальных заведениях, где их поят и кормят, и немалое число слуг Божьих днем и ночью печется об их грешных душах… Но все тщетно! Упрямцы погрязли в заблуждениях, и мы в нашем несчастном мире вынуждены тратить на них драгоценные ресурсы, не получая ничего взамен — даже благодарности! И потому, отчаявшись, мы решили, что истинно верующие Мерфи могли бы извлечь хоть какую-то выгоду из их бесполезного существования… — Тут елейный тон Жоффрея сменился деловым, и он быстро закончил: — Вы можете получить любое количество женщин, одну, двух или пятьдесят, ценою два килограмма платины за голову. Вот так-то! Аркон Жоффрей умел часами ходить вокруг да около щекотливых тем, но в нужное время его формулировки сделали бы честь любому коммерсанту. Все ясно и четко: отвешивай металл, получай рабыню! Мысленно пожелав, чтобы земля поглотила его со всем Святым Арконатом, я протянул: — Необычное предложение… особенно если учесть, что оно исходит от духовного лица… Скажите, почтеннейший, мне положена оптовая скидка? И как вы определили цену? Почему два килограмма, а не пятьдесят? Почему не тонна? Аркон слегка поморщился: — Мне известно, что оптовые скидки — краеугольный камень коммерции. Однако, капитан, греховно применять это правило, когда речь идет о человеческих душах — пусть нечестивых и погрязших в опасных заблуждениях. Что же касается цены, то ее установили путем тщательных подсчетов. Два килограмма платины — таков эквивалент полного содержания инакомыслящей особы на протяжении полувека. Сделав быстрый подсчет, я прикинул, что эти особы половину столетия могли купаться в молоке и носить туалеты из кристаллошелка. Правда, Арконат еще заботился и об их душах… Видимо, такие услуги расценивались по самому высокому тарифу. — Скажите, — спросил я, — в чем именно заключалось инакомыслие этих женщин и их неповиновение властям? Они склонны к антисоциальным поступкам? К воровству, проституции, мошенничеству, обману? Они истязали детей и животных? Летали на помеле и распутничали с дьяволом? Пропагандировали сексуальные извращения? Жоффрей с испуганным видом перекрестился: — Что вы, что вы, капитан! Во имя Господа Высочайшего! Подобные грехи мы безжалостно искоренили еще лет двадцать назад… Но эти особы повинны почти в таких же тяжких преступлениях. Одни из них не пожелали принять с любовью назначенного им супруга, другие отвергали труд, к которому призвала их Святая Базилика, третьи требовали возврата к порядкам, царившим до Удара Молота… А главное — их упорство, их дьявольское упорство! Они не поддаются убеждениям и не внимают слову Божьих слуг! Я кивнул и перевел взгляд с физиономии аркона на висевший рядом с ним огромный крест. Лицо распятого Иисуса было полно скорби, и я разделял это чувство. — Похвально, что вы действуете лишь методом убеждения. — Мой голос дрогнул от скрытого гнева. — Я знаю, что во многих мирах инакомыслящих не переубеждают — они просто становятся жертвами психохирургических операций. Например, на Транае… В техническом смысле это высокоразвитый мир, но их общественные отношения в чем-то подобны вашим — они тоже верят в конечный триумф всеобщего счастья и добродетели над пороком. Эту веру они распространяют с помощью ментального аннигилятора, этакой машинки для выжигания мозгов… Ужасно, не правда ли? Аркон Жоффрей пожевал губами. — Ужасно? Не буду этого утверждать с полной определенностью. Если грешник упорствует, не лучше ли лишить его воспоминаний, а потом создать новую личность, достойную и законопослушную? Это решило бы массу проблем… Жаль, что на Мерфи нет такого прибора… Как, вы сказали, он называется?.. Ментальный аннигилятор с Траная? Я содрогнулся. Жоффрей испытывал страх перед уничтожительным ядерным оружием, но без колебаний уничтожил бы Вселенную человеческой души, попадись ему тот транайский цереброскоп-аннигилятор. Причина подобного дуализма мнений была как на ладони: атомный взрыв отправил бы к праотцам самого Жоффрея и всех его святых собратьев, а цереброскоп мог бы применяться избирательно, к несогласным и недовольным. И тогда… Я не успел додумать свою мысль, как аркон спросил: — Этот Транай, о котором вы упомянули… Там тоже веруют в Творца, карающего грешников, и в высшую справедливость? — Не совсем, почтенный. Они вовсе не религиозны в обычном смысле, и все же их воззрения сродни религии. Они исповедуют гуманный коммунизм или коммунистический гуманизм… что-то в этом роде, точно не помню. Примат общественного над личным, всеобщее равенство, счастье простого труда, и никакого интеллектуального умничания. — Хмм… Не так глупо, как кажется, — протянул Жоффрей, наморщив лоб. — И какими же способами они осуществляют свои идеалы? — Очень простыми. Во-первых, они приняли за аксиому, что добродетельный и законопослушный гражданин всегда счастлив. Во-вторых, они сконструировали аппарат, измеряющий объективное счастье — во всяком случае, так утверждается их официальной пропагандой. Согласно исследованиям транайцев, обобщенная кривая счастья подобна колоколу или статистическому распределению Максвелла, известному с давних времен. Пик ее соответствует наивероятнейшей величине, и можно вычислить некую сигму, среднестатистическое отклонение от самого вероятного счастья. Каждый транаец, начиная с восемнадцати лет, ежегодно подвергается испытаниям. Если его показатель на сигму выше вероятного, ему даруют право продления рода; если на сигму ниже — сажают под цереброскоп. Все просто, все справедливо! Аркон Жоффрей облизнулся; вероятно, транайские изобретения пришлись ему по вкусу. — Добродетель порождает счастье, — задумчиво изрек он. — Верная мысль! Пожалуй, этот прибор, измеряющий счастье, был бы полезен нам не меньше аннигилятора. Он выжидающе уставился на меня, но я покачал головой и произнес: — Мне удалось приобрести спецификации на оба аппарата, но я не буду предлагать их вам. Не скрою, я продал чертежи в десятке миров, где измеритель счастья используют как прибор для психометрических экспериментов или как развлекательную игрушку. Но истинное свое назначение он обрел на Розе Долороса. Там его купили Сестры из Ордена Плотских Наслаждений, и он был вмонтирован в каждую постель в каждом из их веселых домов. Теперь они могут оценивать счастье, полученное клиентами, и взимать соответствующую плату — конечно, сверх минимального тарифа. Лицо Жоффрея перекосилось в гримасе отвращения; теперь он взирал на меня, будто на монстра, посланного в мерфийский рай самим Сатаной. — Вы хотите сказать, — пробормотал он, — что продали это устройство проституткам? — Вот именно, достойнейший аркон. Но такого термина на Розе Долороса не существует. Согласно их профсоюзным спискам, почтенная леди, глава Ордена, подвизается на ниве образования. Она руководит школами, где обучают танцам, пению, изящным манерам, искусству любви и сервировке стола. И смею вас уверить, что эту даму никогда не деклассируют, как то случилось с вами. Жоффрей молча проглотил мою шпильку. Подождав пару минут, я вернулся к предмету нашей беседы и начал расспрашивать его о воспитании и занятиях местных диссиденток. Если уж мне хочется искать Парадиз, так почему не делать это вместе с Евой? — подумал я. Здесь мне предлагали целых пятьдесят Ев по сходной цене, и для одной из них я мог бы явиться ангелом освобождения. Но прежде чем совершить выбор, стоило поинтересоваться, чему обучена моя предполагаемая супруга — или супруги. — Их содержат в женских обителях, в аббатствах, под неусыпным присмотром непорочных сестер-монахинь, — пояснил Жоффрей. — Конечно, они не имеют никаких привилегий, положенных верующим. Скромная одежда, простая еда, жесткое ложе… Но никакого насилия к ним не применяется, клянусь Господом! Они лишь обязаны выслушивать ежедневные поучения и практиковаться в женских искусствах. — В женских искусствах? Какого рода? — спросил я, не удержавшись от саркастической усмешки. — — Совсем не в том, что вы подразумеваете, капитан. Они занимаются вышивкой, чисткой кухонных котлов и стирают монашеские одежды. Такого рода занятия смиряют дух и укрепляют тело. Я хмыкнул и поинтересовался насчет ежедневных поучений. — Эти беседы должны отвратить их от прежних ошибок. Иногда их проводят непорочные сестры аббатства, иногда к ним в камеры… гмм… я хотел сказать, в помещения этих несчастных, передается голографическая проекция какого-нибудь опытного проповедника, вовлекающего их в диспут о природе добра и зла, о вере и способах, какими можно избежать дьявольских козней. Они могут обращаться к компьютерным записям и книгам, но лишь богоугодного содержания, способного пробудить дремлющие в них источники добродетели и целить заблудшие души. И наконец, они участвуют в Радостном Покаянии, когда к тому возникает повод или причина. — В покаянии? — Я приподнял бровь. — В Радостном Покаянии, — строго поправил Жоффрей. — За неповиновение, упрямство и всякий грех, совершенный ими, положено отстоять весь день перед алтарем Господним, не поднимаясь с колен и не вкушая еды и питья. Временами мать-аббатиса требует, чтобы покаяние свершалось на церковных ступенях, дабы прохладный воздух смирял плотские мысли… Кажется, тут и без транайской машинки неплохо умели, бороться с инакомыслием. Я подумал, что женщины, прошедшие такую школу, должны иметь гордый и непокорный дух, и поделился этим соображением с Жоффреем. Аркон мрачно кивнул: — Что правда, то правда. Не хотите ли взглянуть на некоторых из них? Мне пришлось передвинуть табурет, чтобы очутиться напротив компьютерного экрана. Аркон дважды перекрестил его — очевидно, этот жест, уловленный сенсорами, вызывал некую демонстрационную программу — то ли постоянную, то ли подготовленную в спешном порядке персонально для меня. Экран мигнул, затем в его прозрачной глубине возникла хмурая голубоглазая физиономия с упрямым подбородком и веером поясняющих надписей. — Аделаида, — произнес аркон Жоффрей. — Девственница, возраст — сорок пять, родилась после падения Молота, упорствует в заблуждениях с двадцати лет. Экран показал мне еще несколько лиц — Анна, Бригитта, Вероника, Галина, Джейн, Долорес — в строго алфавитном порядке. Все они были хороши, несмотря на мрачность во взоре, все были молоды, и все казались отлитыми в одной и той же форме, с едва заметными вариациями. Серые глаза сменялись голубыми и снова серыми, цвет волос колебался от золотистого до светло-льняного, кожа отливала густым медным загаром, а что касается очертаний скул, носа и рта, то любая из этих красоток сошла бы если не за родную сестру, так за кузину Жоффрея и его оловянноглазых послушников. Евгения, Ефимия, Жанна и Зинаида промелькнули на экране, пока я размышлял о блеске и нищете современной генетики. Все колонисты начинают с сердцами, полными благих намерений, и с баками, полными спермы — лучших мужских гамет, принадлежащих самым здоровым, самым жизнестойким и умным представителям рода людского. Но этот драгоценный фонд редко используется хотя бы на одну двадцатую, так как перспектива неограниченной рождаемости пугает переселенцев; если уж производить потомство, считают они, так естественным путем, без всякого внутриутробного осеменения. В результате через пару веков все они связаны родственными узами и все являют собой единый расовый тип — а это ведет к более жестким стандартам красоты, чем принято на Земле. Отмечу, что близкородственные связи не порождают умственных или физических дегенератов, поскольку генетическое программирование способно исправить любой дефект. К тому же имеется биоскульптура, а значит, всякий, обладающий своеобразной внешностью, может изменить ее, подогнав под местный эталон. Компьютер показал мне Ирину, Кандию, Катарину — таких же светловолосых и голубоглазых, как их предшественницы. Девиации в форме носов и подбородков, в разрезе глаз и в очертаниях губ вполне укладывались в статистический коридор, такой узкий, что все эти лица начали сливаться в одно, в некий классический типаж славяно-скандинавской блондинки в мерфийском исполнении. Мы приближались уже к середине алфавита, когда монитор одарил меня чем-то иным, нарушившим золотисто-голубое однообразие. Во всяком случае, глаза у этой девушки были зеленоватыми, в волосах (коротких и неаккуратно подстриженных) просвечивала рыжинка, а подбородок хоть и казался упрямым, но все-таки не походил на угловатую корму моего челночного катера. Очень премилеяький подбородок, отметил я, даже с каким-то намеком на ямочку. — Киллашандра, — прокомментировал тем временем Жоффрей. — Девственница, возраст — пятьдесят девять, родилась до падения Молота, упорствует в заблуждениях не меньше сорока четырех лет. Рекордный срок, должен отметить! — Вот и остановимся на ней, — предложил я. — Но должен вам сказать, что цена в два килограмма платины за этот экземпляр меня не устраивает. Во-первых, она рыжая, а не блондинка, а во-вторых, самая закоренелая из ваших грешниц. Надо бы сбросить, почтенный аркон. Жоффрей задумчиво нахмурился. — Рыжая? Хмм… действительно… А почему бы вам не выбрать блондинку, сэр? Я ухмыльнулся — самым премерзким образом. — Видите ли, я скуповат, а это единственный экземпляр, не отвечающий вашим стандартам красоты. Значит, мы можем поторговаться… Как вы сказали, эта девица упорствует рекордный срок, и я уверен, что такую и могила не исправит. Продавайте, аркон! Даю килограмм платины. — Килограмм восемьсот, — откликнулся Жоффрей. — Ведь мы кормили и поили ее сорок четыре года! — И будете делать это до Второго Пришествия, — дополнил я. — Килограмм триста — только из уважения к вам, мой друг. — Килограмм семьсот. Взгляните, какая у нее фигура! — Жоффрей уменьшил изображение, представив Киллашандру в полный рост. Фигурка в самом деле была прелестной — длинные ноги, стройный стан и крутые бедра, которых не могла скрыть даже бесформенная бурая хламида. — Килограмм четыреста, — сказал я. — На экране она выглядит неплохо, а вот какова в реальности? Может, у нее одна нога короче другой? Аркон сбросил сто грамм и с оскорбленным видом заставил изображение двигаться; я отметил, что это ничего не доказывает, так как возможности компьютерного моделирования безграничны, и предложил полтора килограмма. — Это ваше последнее слово? — Щека Жоффрея раздраженно дернулась. Его обуревали два противоречивых чувства: с одной стороны, он боялся продешевить, с другой — упустить возможность избавиться от самой закоренелой из всех грешниц. Я с торжественным видом протянул руку к распятию. — Полтора килограмма, друг мой, и ни унцией больше! Клянусь спасением своей души и всеми Черными Дырами космоса! Кажется, это произвело впечатление: сглотнув, аркон согласно кивнул, перекрестился и заметил, что с болью в сердце передает эту мерфийскую смоковницу в мои нечестивые руки. Руководствуясь пословицей “куй железо, пока горячо”, я просигналил на “Цирцею”, распорядившись подготовить выкуп — полтора килограмма платины в изящной упаковке. Упаковка и бантик на контейнере — за мой счет. Покончив с этим делом, я повернулся к Жоффрею и сказал, что желаю ознакомиться с биографией своей невесты. Прежде всего меня интересовало ее имя, экзотическое и весьма странное для мира с русско-скандинавской этимологией. — Имя ей дал отец, мечтавший о сценической карьере для своего дитяти, — пояснил аркон. — Насколько мне известно, Киллашандра — певица со Старой Земли, чья жизнь была описана некой Аннет Макклоски. К сожалению, сохранились только четыре фрагмента ее книги, но полагаю, что Киллашандра — известная личность на Земле и вы, капитан, что-нибудь знаете о ней. — Ровным счетом ничего, — признался я. — Возможно, она жила в шестнадцатом или семнадцатом веке и подвизалась в Италии или при французском дворе. Почти все Людовики питали склонность к пению и к певичкам… — Заметив, что это ничего не говорит Жоффрею, я перебил сам себя: — Ну, Бог с ним, с именем! Расскажите мне что-нибудь об этой девице. Жоффрей уставился на монитор, где бежали какие-то закодированные обозначения — даты, цифры и бессмысленные наборы букв. — Боюсь, мне надо освежить память… Она — из заблудших овец, чьи души врачую не я, а достойный аркон Свенсон… Так, вот здесь! — Мелькание символов на экране прекратилось, и Жоффрей начал свои комментарии. — В момент падения Молота ей стукнуло девять; она — из немногих детей, рожденных на Мерфи перед катастрофой. Ее родители ждали веками чтоб получить разрешительную лицензию, и, мне думается, слишком ее любили. Это такая трудная задача — не избаловать ребенка… Ведь дети — редкость, когда население стабилизируется… — Аркон вздохнул и перекрестил компьютер, вызвав на экране новый поток символов. — В годы хаоса, последовавшие за Господней карой, ее родители боролись за выживание и спасли свое дитя — вернее, спас отец, Лазарус Лонг; мать погибла жуткой смертью в котле проклятых каннибалов. Когда их истребили и Арконат восстановил порядок, Лонг объявился в окрестностях Бейли ат-Клейс. Им с дочерью уже ничего не грозило; небеса вновь были чистыми, плодородие почв возрождалось, и Святой Арконат контролировал всю территорию Мерфи — к вящей славе Господней и посрамлению дьявола. Девочке исполнилось пятнадцать лет, и, хоть она многое пережила, ее раны начали затягиваться — но это, увы, не склонило ее сердце к Богу! Лазарус, ее отец, проявил раскаяние и полную покорность. В прежние йремена ему неплохо жилось, и он не помышлял ни о спасении души, ни о грядущей каре; он не был под готовлен к тяготам и страданиям, что выпали на долю тех, кто пережил День Божьего Гнева. Но муки просветлили его — муки и память о бесчинствах, сотворенных им в смутные дни хаоса, беззакония и борьбы всех со всеми. Он понял, что гибнет под гнетом грехов, и обратился к Господу, искренне воззвал к Нему, моля о благодати спасения. Отрадный факт, очень отрадный! Ведь Молот затем и был ниспослан Богом, дабы вернуть нас на путь добродетели — а дверь для добродетели отворяет раскаяние. Вскоре Святейший Архимандрит провозгласил амнистию и отпущение грехов, призвав верующих сплотиться вокруг крепких стен Базилики, и от его речей благочестивый огонь еще ярче возгорелся в душе Лазаруса Лонга. Как многие другие грешники, пережившие катастрофу, он решил, что нуждается в особой искупительной жертве, в самом тяжком и долгом покаянии. Что же он мог пожертвовать Господу? Какая жертва была бы достойна Спасителя и Творца? Разумеется, самое дорогое, чем владел Лазарус, — его жизнь и жизнь его дочери… Я слушал Жоффрея с вниманием, но временами смысл речей аркона будто бы ускользал от меня, сменяясь интуитивным ощущением разверзавшейся под ногами пустоты. Дело не в словах, слова были понятными. Еще в двадцать первом веке английский превратился в международный язык, и с тех пор все правительства на всех мирах стремились защитить его от семантических изменений. Это казалось величайшим бедствием — обнаружить, что вы не способны общаться со спейстрейдерами, оценить интеллектуальные сокровища, привезенные из космических глубин, понять книги и записи иных миров. Не менее ужасно, если торговец утверждает, что ничего не может купить у вас, потому что язык непонятен его возможным клиентам; значит, вы выпадаете из человеческого космоса, из круговорота культурных связей, поддерживаемых спейстрейдерами. На Мерфи этого, к счастью, не случилось, однако я с трудом понимал Жоффрея. Грех, благочестивый огонь, искупительная жертва, покаяние… От этих слов попахивало временами, когда народ Авраама, Исаака и Иакова скитался в земных пустынях, где в каждом терновом кусте сидел Дух Господень, следивший за избранным племенем сотней ревнивых глаз, Жоффрей, опьяненный собственными речами, продолжал: — Итак, направляемый Господом, Лазарус примкнул к Ордену Кающихся. Братья этой святой организации проводят дни свои в трудах, и работа их такова, какую обычно поручают роботам, — на химических фабриках, в горячих цехах, где разливают металл, и в шахтах, в вечном полумраке и спертом воздухе. Спят они на голом полу, возле своих станков, носят грубое рубище, не омывают тел своих и питаются черствым хлебом, а в перерывах между сном и праведными трудами славят Господа, даровавшего им возможность искупления. И будет оно длиться до тех пор, пока… Я прервал аркона, чувствуя, как от этих неаппетитных подробностей по моей спине побежали мурашки. — Верно ли я понимаю, что свою дочь Лазарус отдал в такую же организацию? В некий Орден, где не омывают тел, носят рубище и питаются исключительно сухарями? Это предположение шокировало аркона: руки его взметнулись, на лице застыла обиженная гримаса. — Что вы, капитан! Ведь в годы хаоса Киллашандра была ребенком, а значит, Бог простил ее грехи что и подтверждается амнистией Святейшего Архимандрита. Ее приняла община непорочных сестер-монахинь, одна из самых почитаемых на Мерфи; члены ее в мире и спокойствии обитают за Высокими стенами своего монастыря, недоступного Для мужчин — даже для служителей моего ранга. Они занимаются поиском и искоренением грехов; их терминалы подключены к общепланетной системе, и всюду присутствуют их чуткое ухo и зоркий глаз. Возможно, — тут Жоффрей понизил голос почти до шепота, — и в моей скромной келье… А кроме того, непорочные сестры рукодельничают, вышивают ризы для высшего духовенства и гобелены с ликами святых и картинами из Писания… Одно из их любимых занятий — пение; они славят Господа гимнами в монастырских часовнях, и записи их хора звучат в главном храме Святой Базилики. Вот почему Киллашандра попала в обитель непорочных сестер — Лазарус надеялся, что с течением лет она превратится в великую певицу и замолит его грехи. — Скажите, достойный аркон, а эти ризы и гобелены — все они ручной работы? — спросил я. — Каждый стежок, клянусь Господом! — Было бы любопытно взглянуть… — Вам их покажут, но предупреждаю, что эти святыни не рассматриваются как товар. Возможно, когда-нибудь мы сумеем снарядить миссионерский корабль… Они станут его драгоценным грузом. — Тогда мне придется обуздать свое любопытство, — произнес я, отметив, что через пятьсот или тысячу лет, когда с Арконатом будет покончено, Мерфи превратится в источник ценных древностей. Разумеется, если эти ризы и гобелены не пустят на подстилки для собак… Тут самое главное — вовремя поспеть, а это — вопрос гипотетический. Очень сложно догадаться, когда сменятся власть и настроение умов, так что удачи вроде выпавшей мне на Панджебе случаются редко. Жоффрей снова перекрестил свой компьютер, взглянул на экран и с сокрушенным видом покачал головой. — Тут записи достойного аркона Свенсона за много лет… Он сообщает, что с каждым годом Киллашандра все упорнее отвергала свет Божественных истин и наконец разразилась потоком богохульств, не иссякающим до сих пор. Дьявол вселился в эту девушку, сам дьявол! Она отказалась внимать мудрым поучениям сестер и своего наставника, не пожелала петь в церковном хоре, отвергала исповедь и Святое Причастие… о, больше сотни раз!.. Она прокляла своего родителя и насмехалась над мистическим браком, который Господь заключает с каждой из непорочных сестер… Она заявила, что хочет настоящего мужчину, а не болвана с молотом вместо детородного органа… Прости меня, Творец! — Аркон в панике перекрестился. — А еще она сказала… Нет, этого я не могу повторить! Экран мигнул и погас, а я опустил веки, чтобы не видеть физиономию Жоффрея и поразмыслить над услышанным. Вероятно, эта Киллашандра была редкостной женщиной, своеобразной и вольнолюбивой, с необычайной для ее возраста силой духа. Судите сами: больше четырех десятилетий она сопротивлялась жесткой догматической системе, без надежды на победу, без союзников и друзей, без поддержки и знака одобрения… Можно представить, сколько кухонных котлов она вычистила, сколько отстирала монашеских ряс и сколько дней провела в Радостном Покаянии! Я ощутил невольную жалость и симпатию к ней — первые признаки зарождающегося чувства. К тому же ее лицо… эти зеленые глаза… рыжеватые локоны… изящный носик… подбородок с намеком на ямочку… Она была прелестна, и ее мужество являлось достойным фоном для ее красоты. — Так что вы решаете, капитан? — Слова аркона вывели меня из задумчивости. — Если эта фурия вам не подойдет, вы можете выбрать что-то не столь экзотическое… Но цена будет выше, и я не уступлю ни грамма! — Старый скупердяй Френчи не привык отказываться от своих слов, — усмехнулся я. — Пусть будет Киллашандра! И пусть ее известят о моем решении и о том, что я желаю встретиться и поговорить с ней — конечно, по голографической связи. Это, надеюсь, не нарушит правил непорочных сестер? — Нет, я полагаю, — откликнулся Жоффрей, поворачиваясь к компьютеру. — Если вам угодно, я могу тут же связаться с монастырем. — Не сейчас. Я хочу увидеть ее через два дня, и говорить мы будем через передатчик “Цирцеи”. Жоффрей пожал плечами: — Она ваша. Все в хозяйской воле! В хозяйской воле! Я миролюбивый человек, но за эти слова готов был прикончить его на месте. Сделка свершилась, он уже не прятался за паутиной благочестивых слов и не скрывал, что мне продана рабыня — хотя можно ли представить более мерзкое рабство, чем существующее на Мерфи? И я поклялся, что спасу от него Киллашандру, дарую ей свободу и сделаю ее своей — разумеется, если она того захочет.ГЛАВА 4
Срок в два дня был назначен мной недаром: во-первых, я хотел, чтобы Киллашандра свыклась с мыслью о предстоящем путешествии, а во-вторых, собирался сделать кое-какие приготовления к нему. Они сводились в основном к покупкам, и мне опять пришлось прибегнуть к посредничеству достойного Жоффрея. Впрочем, это развлекло меня гораздо больше, чем прогулки по магазинам Бейли ат-Клейс, которых я был лишен. Покупка тех или иных вещей — самое заурядное занятие на свете, а вот на аркона, когда он узнал, чего я хочу, стоило поглядеть! Собственно, все необходимое имелось на “Цирцее”, а чего не имелось, то мои роботы могли изготовить за несколько часов. Но я решил не скупиться и потрясти кошельком, чтобы как следует взбесить Жоффрея. Это была моя маленькая месть — за все страдания Киллашандры, за причиненное ей зло и за все остальное, чего она лишилась по милости Арконата. А приобрела она немногое: отвращение к Божественным предметам, ненависть к своим мучителям да грубую хламиду, в которой тут полагалось щеголять инакомыслящим. С хламиды мы и начали. Я заявил Жоффрею, что такой туалет в качестве подвенечного платья меня решительно не устраивает и что я желаю приобрести тридцать сортов лучших тканей, какие только производятся на Мерфи: шелк, атлас, парчу и тому подобное, самого высшего качества и по самым высоким ценам. Еще я подал заявку на женское белье, косметику и те милые пустячки — сумки, пудреницы, изящные флаконы, брошки, кольца да сережки, — что так пленяют женский взор. Половина этих вещиц оказалась греховной роскошью, которую на Мерфи не производили; а из доставленной мне половины я отобрал пяток экземпляров, забраковав остальное как слишком грубые и примитивные изделия, недостойные моей невесты. Лицо Жоффрея перекосилось. На его глазах нечестивая упрямица Киллашандра покидала суровый мерфийский рай и отправлялась в преисподнюю — весьма комфортабельную и уютную, с шелками и коврами, с бесконечным числом изысканных туалетов, с ларцами драгоценных украшений и с грудами полупрозрачного белья, будившего самые греховные страсти. Не знаю, что он еще себе воображал, но я постарался добить его, потребовав партию самоцветов — рубины и изумруды, топазы и огненные опалы, бриллианты чистой воды и розовый нефрит. Все это водилось на Мерфи в изобилии. — Собираетесь украсить брачное ложе? — выдавил аркон с кислой улыбкой. — Всенепременно, — ответствовал я. — Ложе, стены, пол и потолок; а лучшими экземплярами будет усыпана новобрачная. Я немолод, мой дорогой, и не гожусь на роль юного Давида; мой идеал — царь Соломон. Разумеется, в том возрасте, когда он стал седым и мудрым и научился понимать женщин. Пожалуй, это было не слишком хорошо — будить в Жоффрее низменные чувства, алчность, зависть и бессильную ненависть, но я всего лишь человек, и я наслаждался своим триумфом. В конце концов, я имел на это право, так как полтора килограмма платины достаточно веский довод, чтобы оправдать любые мои капризы. Жоффрей потребовал и принял оплату, а значит, моя система ценностей являлась более веской, чем все его благочестивые рассуждения. Я не стеснялся это показать. — Вы говорили, аркон, что непорочные сестры прекрасно поют. Есть ли записи их хора? Я мог бы кое-что приобрести… вместе с тканями и драгоценными камнями… Расчет — в платине. Он посмотрел на меня с недоумением, подозревая новую ловушку, но мысль о платине согрела его сердце. На миг мне стало его жаль — но лишь на один-единственный миг. Подумав о тех бесконечных годах, что Киллашандра провела за мытьем кухонных котлов, я настойчиво произнес: — Ну, что же насчет записей? Жоффрей молча уткнулся в свой компьютер и через пару минут напряженных поисков пробормотал: — Кое-что есть… В прошлом году была записана оратория “Поражение ереси”… и еще — благодарственные гимны… — Гимны не надо, а оратория сойдет, — молвил я. — Ее название кажется мне символическим… Беру! — Зачем она вам, капитан? Насколько я понимаю, вы не горите желанием бороться в ересью в иных мирах? К тому же запись — предмет священный, и я не могу отдать ее меньше, чем за… хмм… пятьдесят граммов. — Беру! — повторил я, и сделка свершилась. Я мог позволить себе эту маленькую роскошь — ведь я сторговал Киллашандру на полкилограмма дешевле запрошенной цены. Значит, я мог купить целый десяток этих священных ораторий. Аркон Жоффрей с подозрением уставился на меня: — Возможно, теперь вы скажете, к чему вам эта запись? Ей надо внимать, преклонив колена и устремляясь сердцем к Божественному… Я надеюсь, она поможет вам сразить дьявола в собственной душе, и… — Не надейтесь, — — отрезал я. — Этот хор будет звучать в моей спальне в брачную ночь. Вместо эпиталамы Гименею, если вы знаете, что это такое. Вот так я и развлекался целых два дня, стараясь сочетать приятное с полезным и прищемить аркону Жоффрею благочестивый хвост. * * * Наступило утро, когда я встретился с Киллашандрой — точнее, с ее топографическим изображением. В телесном плане моя суженая еще пребывала в обители непорочных сестер, а я находился на капитанском мостике “Цирцеи”, у голопроектора. Предполагалось, что наша беседа состоится наедине, но я не сомневался, что целая дюжина благочестивых гусениц торчит сейчас у экранов, внимая каждому нашему слову. Впрочем, мне было на это наплевать. Прелестное личико Киллашандры возникло передо мной. В ее зеленых глазах горел колдовской огонь, короткие рыжие локоны казались пламенным ореолом. — Доброе утро, девочка. Ты знаешь, кто я? — Ты — моя награда за терпение. Я могу любить или не любить тебя, но ты все равно моя награда! Что ж, по крайней мере, она была искренней; она не лгала и не пыталась внушить мне, что с первого взгляда пылает необоримой страстью. Лицемерие — один из самых мерзких пороков, и я был счастлив, что он не коснулся моей Киллашандры. Ее губы шевельнулись. — Мне сказали, что я имею право выбора. Я могу назвать тебя мужем или остаться навеки здесь, сохранив непорочность и вверив сердце Господу. Сестры считают, что я должна выбрать Его. Я улыбнулся, интуитивно почувствовав владевшее ею напряжение. — Я не могу конкурировать с Господом, милая, но готов стать твоей наградой. Только… — я помедлил, обдумывая свои слова, — только мне хотелось бы, чтоб ты понимала: я-не бесплотная тень с небес, я — живой человек, мужчина. Со всеми мужскими желаниями, каких у Господа, разумеется, нет. Ее щеки полыхнули румянцем. — Сестра Серафима говорит, что ты вообще не человек… не мужчина… — Это придется принять на веру, девочка. До нашей следующей встречи! Боюсь, голографическое изображение не сможет ни в чем убедить сестру Серафиму. — Она сказала, что ты когда-то был человеком, но теперь ты жуткий киборг, с сердцем из платины и стальными волосами… — Волосы у меня естественные, и скоро ты проверишь это, коснувшись их ладонью. А сердце… Если в нем и была платина, то я отдал ее аркону Жоффрею — в обмен на твою непорочность. Не знаю, поверила ли она, но колдовской огонек в зеленых глазах будто бы стал ярче. Я чувствовал, что таю под ее взглядом. Я уже любил эту женщину — за ее красоту, за ее сомнения и за то, что она сочла меня своей наградой. — Сестра Эсмеральда говорит, что ты — сам дьявол, — продолжила Киллашандра перечень моих достоинств. — Ты изнасилуешь меня, пожрешь мое тело, а кости выбросишь в открытый космос. — Сестра Эсмеральда преувеличивает мой аппетит. Клянусь, что с твоим телом не случится ничего плохого. Ничего, что ты не одобрила бы сама. — Сестра Камилла говорит, что ты отвезешь меня на один из рабовладельческих миров, разденешь догола и выставишь на аукционе — на забаву похотливым самцам. И меня купит жуткий монстр с рогами и длинным хвостом… — Сестра Камилла не разбирается ни в торговле, ни в биологии, ни в сексе. Люди в рабовладельческих мирах дешевы, им предпочитают роботов, но ни один робот не обошелся бы мне дороже тебя. А что касается монстров… Есть, конечно, оригиналы, есть существа, непривычные нам, но пока что никто не додумался отрастить пару рогов или хвост. А если б такое случилось, то я уверен, что хвостатые самцы предпочли бы хвостатых самок. Кажется, она мне поверила. А что еще оставалось бедной девочке? Пусть я был киборгом, работорговцем и самим Сатаной, но слово мое перевешивало все измышления Серафимы, Эсмеральды, Камиллы и других непорочных сестриц. Не потому, что я умел убеждать — просто я был средоточием всех надежд Киллашандры, свалившимся с небес к ее ногам. Какая ни есть, а все-таки — награда… Я потянулся к панели голопроектора, и лицо Киллашандры отодвинулось, как бы подхваченное порывом ветра. Теперь я видел ее всю, от рыже-золотистой макушки до самых пят — в грубой бесформенной робе с рукавами по локоть, с неровно обрезанным краем, из-под которого выглядывали кончики сандалий. Но даже в этом одеянии она казалась мне прелестной и желанной. Вот только руки… Пальцы у нее опухли и были покрыты ссадинами и мелкими язвами, а на локтях багровели настоящие раны — след близкого знакомства с каждым кухонным котлом непорочных сестер. Я чертыхнулся и вновь приблизил изображение; не хотелось, чтоб она думала, будто ее разглядывают, как скаковую лошадь. — Ты умная девушка, — негромко произнес я, — и ты понимаешь, что речи Божьих сестриц идут по цене снега в зимний день. Всего лишь их слово против моего, а слова — это только слова… Я не собираюсь их опровергать, я прошу о другом: доверься мне, Шандра. Ее голова поникла. — Довериться? Я верила своему отцу… и я любила его… Он спасал меня от голода и смерти, он защищал меня от тех, кто охотился за человеческой плотью, он убивал ради меня… И он говорил, что я буду счастлива… что я покорю сотни мужчин и выберу из них прекрасного принца… А на самом деле он обвенчал меня с бесполым божеством, чтоб откупиться от своих воспоминаний! И теперь, через многие-многие годы, какой у меня есть выбор? Или чудовище из космоса, или Бог, которого я ненавижу! — Она вскинула голову, и я увидел, что по её щекам текут слезы. — Отец предал и обманул меня… мой отец… Могу ли я верить тебе? Должна ли? И почему? — Потому что я — твоя награда и надежда. А надежда, милая, страшный дар… Если ты отвергнешь меня, то будешь мучиться вечными сомнениями, не сказал ли я тебе правду… Или ты узнаешь ее когда-нибудь от непорочных лживых сестриц, от Серафимы, Камиллы и Эсмеральды… Они расскажут, кто я такой на самом деле, но меня уже не будет здесь — ни Грэма Френча, ни надежды на избавление… Подумай же, кому стоит верить? Тем, кто мучил тебя многие-многие годы, или киборгу и дьяволу? Она подумала. Я видел, как слезы высыхают на ее щеках и как в глазах вновь разгорается изумрудное пламя. Она была отважной малышкой и, безусловно, неглупой; тот, кого не сломили сорокалетние унижения, вряд ли станет бояться киборга и дьявола. Так оно и получилось. На губах Шандры расцвела робкая улыбка — впервые за всю нашу встречу. Потом я услышал: — Ладно, Грэм Френч, чудовище из космоса! Ты не похож на принца, обещанного отцом, но все-таки я полечу с тобой. Ведь не каждой детской сказке Суждено сбыться, верно? И она снова улыбнулась. * * * Шандру привезли на следующий день в Скельд Ярвик, единственный космодром в окрестностях столицы. Орбитальных транспортных средств на Мерфи почти не сохранилось, и взлетно-посадочное поле было заброшено — кое-где заросло травой, а трещины в бетонных плитах наскоро засыпали утрамбованной щебенкой. На самом краю космодрома торчало уродливое здание с открытой галереей, где толпились немногочисленные провожающие: почтенный аркон Жоффрей, его помощники с оловянными глазами и десяток репортеров местной хроники. Как-никак отлет Торговца со Звезд, Друга Границы, Старого Кэпа Френчи являлся событием планетарного масштаба! Катер, доставивший мою невесту, оказался под стать космодрому — такой же древний, уродливый и запущенный, с исцарапанной обшивкой и черными от нагара дюзами; вряд ли их чистили с тех пор, как на Мерфи обрушилась комета. Я стоял у своего челнока, с ужасом наблюдая за посадкой: эта рухлядь чудом держалась в воздухе, и в какой-то момент я испугался, что аркон Жоффрей решил отомстить мне, угробив Шандру вместе с катером. Однако эта груда хлама благополучно приземлилась, затем со скрипом сдвинулся люк, и Шандра, живая и невредимая, спрыгнула на обгорелую бетонную плиту. Ее сопровождала женщина-пилот — с таким суровым видом, что сам Люцифер не рискнул бы осчастливить ее парочкой гнусных предложений. На пилоте была черная монашеская ряса и башмаки до колен, а моя невеста щеголяла в своем буром бурнусе и в сандалиях на босу ногу. — Киллашандра! — вскричал я, делая шаг вперед. — Счастлив встретиться с тобой, моя прекрасная леди. Позволь приветствовать тебя по старому земному обычаю. С этими словами я склонился к ее руке и поцеловал ее бедные пальцы, распухшие от чистки котлов. Кажется, Шандре это было приятно; мельком коснувшись моих волос, она убедилась, что их сотворили не из стальной проволоки, а значит, я не был киборгом. Дождавшись, пока она улыбнется, я снова с нежностью поцеловал ее пальцы. Женщина-пилот возмущенно фыркнула — то ли на Мерфи такие жесты не были приняты, то ли она решила, что я собираюсь откусить своей нареченной руку. Я выпрямился и бросил на пилота суровый взгляд. — Багаж леди Киллашандры, будьте добры. И поскорее! Я не хотел бы затягивать свой визит на Мерфи. Рот женщины скривился. — Багаж? Какой багаж? Члены нашей общины приносят обет нестяжательства, и у нас нет личных вещей. Даже платье и обувь вашей будущей супруги принадлежат аббатству! — Она дернула Шандру за рукав балахона и добавила: — Платье полагалось бы снять и оставить здесь, но нравственность превыше всего! Считайте, что наша община делает вам подарок. — Мы его вернем. Не могу допустить, чтоб бедные сестры стали еще беднее, — сказал я, поворачиваясь к Шандре и осторожно взяв ее под локоток. — Идем, любовь моя! Ты можешь опираться на мою руку — это еще один обычай Старой Земли, знак доверия и защиты. Идем! Я повел ее к катеру, обнаружив, что с трудом поспеваю за ней. Леди Киллашандра торопилась покинуть Мерфи, а ноги у нее были длинные — во всяком случае, длиннее моих. Я уже говорил, что мерфийцы в большинстве рослый народ, и Шандра не являлась исключением: сто восемьдесят пять сантиметров против моих ста семидесяти шести. Так что мы, наверное, были забавной парой; юная рыжекудрая валькирия в балахоне до самых пят и седой, побитый жизнью бобер из бездонных космических омутов… Люк моего челнока бесшумно сдвинулся за нами, мы миновали шлюзовой отсек и очутились в коридоре. Налево была кабина пилота, направо — салон для пассажиров и ценных грузов, а прямо перед нами располагался запасник, где хранились скафандр, аптечка, инструменты и всякие мелочи. Я откатил дверь кладовой. — Переоденься, милая. Здесь есть комбинезоны — не слишком хорошая одежда, но все-таки лучше подарков от непорочных сестриц. Шагнув внутрь, она оглядела тесную каморку и обратила ко мне вопрошающий взгляд. Казалось, она чего-то ожидает. — Ты… ты разве не пойдешь со мной? Это были первые слова, которые я от нее услышал. с момента посадки. Она произнесла их так, с такой робостью и надеждой, что мне захотелось пойти за ней хоть в преисподнюю — и еще дальше. — Отчего бы и нет? — пробормотал я. — Если это не оскорбит твоей девичьей скромности… — Не оскорбит. Разве ты не хочешь поглядеть на меня?.. На мое тело?.. Она с кокетством склонила рыжекудрую головку, но в тоне я различил отзвук паники. Подозрение в том, что я киборг, уже отпало, но я еще мог оказаться дьяволом — тем самым, что изнасилует ее, а затем сожрет и выбросит кости в открытый космос. Бедная моя девочка! Бедная моя, прекрасная моя Киллашандра! Когда я вспоминаю тот миг, у меня сжимается сердце… Я сказал ей, что очень интересуюсь ее телом, но сейчас не место и не время любоваться им. Шандра, однако, настаивала: — Но я хочу, чтобы ты взглянул на меня! Я хочу знать, буду ли я желанной! Она втащила меня в запасник и скинула свою бесформенную робу. Под этимодеянием, как я и думал, на ней не было ничего. Ничего, кроме чарующей, ослепительной, юной женственности! Я безмолвствовал, и уголки ее рта горестно поползли вниз. — Ну, — спросила она дрогнувшим голосом, — это не то, на что ты надеялся? — То, и даже больше, — ответил я с полной искренностью. — А теперь одевайся, моя прекрасная леди. Через несколько дней, когда я лечил ее руки и занимался необходимым медицинским тестированием, я смог описать ее во всех подробностях, хотя сантиметры и килограммы, очертания черепа, объем легких и оттенок кожи немногое скажут о ее красоте. Ее надо видеть! Тело у Шандры было восхитительным: упругая грудь с крупными алыми сосками, чуть покатые плечи, тонкий стан, широкие округлые бедра и стройные ноги изящной формы. Кисти рук и ступни оказались на удивление маленькими для ее роста; пальцы были длинными, и когда их припухлость исчезла, я любовался на них часами: они походили на чашечку распустившейся золотистой лилии с розовыми кончиками ногтей. Этот оттенок — золото осенних листьев, растворенное в розовом сиянии зари, — теперь всегда напоминает мне о Шандре, о ее коже, нежной и мягкой как бархат, о ее губах, о водопаде шелковистых волос… И все эти сокровища, все эти богатства были не творением биоскульптора, но одной лишь природы; она отпустила Шандре все, о чем мечтают женщины, о чем они грезят, с тревогой взирая на морщинки у глаз и блекнущие губы. Правда, теперь к их услугам КР и биоскульптурная трансформация, так что все они, все женщины и все мужчины, могут купить красоту и молодость и сохранить их навечно. Все, исключая преступников, приговоренных к старению, и вашего покорного слуги. Эти мысли настроили меня на минорную ноту, но я сказал себе, что вечная жизнь прекрасна и в пятьдесят лет и что мои современники, давно обратившиеся прахом, не могли и мечтать о таких чудесах. К тому же теперь у меня была Шандра! Она натянула комбинезончик телесного цвета, который не столько скрывал, сколько подчеркивал фигуру, ибо рассчитан был на меня. Я не люблю безразмерной одежды; она кажется мне вульгарным наследием тех времен, когда все, начиная от пеленок и кончая колготками, подверглось принудительной стандартизации. Конечно, такая мера была вынужденной, связанной с демографическим взрывом, грозившим Земле, но я-то один в просторных каютах “Цирцеи”! И мои роботы, поднаторевшие в портняжном мастерстве, шьют только для меня. Я убедился в мудрости своих привычек, когда мы вышли из кладовой. Пусть комбинезон был тесен Шандре, зато я мог любоваться ею, не опуская глаз, без тени смущения, хотя не без грешных мыслей. Надо сказать, полетный комбинезон — замечательное одеяние, легкое и облегающее вас, будто вторая кожа; на “Цирцее” я всегда ношу его, предпочитая, правда, не телесный, а темно-коричневый цвет. Подняв бурую хламиду Шандры, я завернул в нее сандалии, перевязал тючок и надписал на упаковочной ленте адрес: “Непорочным сестрам — с наилучшими пожеланиями”. Затем посылка оказалась в шлюзе, а мы проследовали в кабину, к мигавшей алыми и зелеными огнями панели автопилота. Я усадил Шандру в кресло, пристегнул ремни и уселся сам. Теперь оставалось лишь включить монитор и настроиться на один из каналов местных новостей, где шел репортаж о моем отлете. Снимали, видимо, из здания космопорта, поскольку сам этот шедевр архитектуры в кадр не попал — как и достойный Жоффрей со своими послушниками. Зато я мог любоваться собственным катером, выглядевшим, словно нарядная игрушка — в сравнении с той древней рухлядью, на которой привезли Шандру. — Нажми-ка, девочка вон ту кнопку, — сказал я. — Так, правильно… Ты загерметизировала внутренний люк шлюзового отсека. Теперь покрути черный верньер, пока в окошке над ним не появится цифра “десять”… Это значит, что давление в шлюзовом отсеке равно десяти атмосферам, и любой находящийся там предмет устремится наружу — конечно, если мы сдвинем крышку внешнего люка. А мы ее сдвинем — вон тем рычагом с красной головкой. Не знаю, что она поняла из моих объяснений, но все было выполнено в точности. Женщине ее лет полагалось бы кое-что знать о космических кораблях и шлюзовых камерах, но я сомневался, что в программу ее обучения входили математика, электроника и физика. С другой стороны, Шандра обладала несомненным интеллектом и воображением, так что, как мне казалось, могла представить, что случится с ее хламидой. Одним глазом я глядел на нее, другим косился на экран с серебристым цилиндром застывшего челнока. Аварийный рычаг с красной головкой двинулся вниз под ладонью Шандры, и катер чуть заметно дрогнул, выплюнув плотный бурый ком. Подобно пушечному ядру, он взвился над бетонными плитами и исчез за верхним обрезом экрана, направляясь, судя по начальной траектории, прямиком к зданию, откуда вели репортаж. Я пожелал ему свалиться на голову Жоффрея и врубил двигатель. Мы стартовали под серебристый смех Шандры, и я наслаждался этими звуками, пока челнок не нырнул в грузовой шлюз моего корабля. * * * Я отправил роботов разгружать катер, а сам познакомил Шандру с импульсным душем, с бассейном, кают-компанией, большим салоном и прочими чудесами. Главным из них являлась моя спальня — наша спальня, как ей предстояло отныне именоваться; во времена оны я полностью автоматизировал ее, так как не люблю прибирать за собой постель. Я включил систему МИДов, малых ионных двигателей, обеспечивающих вращение корабля, чтобы создать иллюзию гравитации — всего лишь намек на нее, привычные мне две сотых нормального земного тяготения. Шандре это понравилось; теперь она хохотала не над нашим прощальным салютом Мерфи, а над собственными забавными прыжками и над тем, что я способен движением пальца подбросить ее к потолку. Она вдруг пришла в легкомысленное настроение и расшалилась, словно ребенок, но я ее не останавливал; в конце концов, отчего бы девочке не пошалить во время своей брачной ночи? Меня же, сказать по чести, обуревала тревога. Когда мы купались, Шандра искоса поглядывала в мою сторону — не выказав, впрочем, ни тени замешательства или нервозности. Быть может, ее вдохновляло отсутствие рогов и хвоста, а также патрубков, куда киборги заливают смазку, но мне все это казалось не слишком большим утешением. В мечтах ей, вероятно, мнился бронзовокожий и мускулистый юный принц, а получила она нечто совсем иное — товар не первой свежести, довольно жилистый и бледноватый. Словом, не Адонис и не Аполлон, а натуральное чудище из космоса! И теперь этот монстр с седыми волосами собирался уложить ее в свою постель… С постелью тоже намечались проблемы. Если не считать моего первого брака (минувшего так давно!), мне не доводилось встречаться с невинными девушками. Сами понимаете, какой это редкий товар во Вселенной, когда рождаемость низка, а женщины столетиями сохраняют красоту и юность (но отнюдь не девственность!). Так что мой опыт по этой части был ограничен, и, напрягая память, я смог извлечь из ее кладовых лишь три практических момента: Первое: дефлорацию сопровождает легкое кровопускание. Второе: этот акт не приносит счастья невинной жертве, так что его исполнителям стоит ждать скорее духовных радостей, чем физических. Третий: дар девственности, отданный мужчине — величайшая честь для него. К этому перечню из трех пунктов я мог бы еще добавить, что Шандра взирала на меня с надеждой и нетерпением. Кажется, ей было уже ясно, что я не киборг, не Сатана и не проклятый работорговец; кем же в таком случае я был?.. Ее наградой, ее долгожданным супругом, мужчиной из плоти и крови, который обучит ее великому множеству чудных вещей… Она ждала его сорок лет, она надеялась и мечтала, она стремилась принести ему драгоценный дар любви… Я в полной мере ощущал свою ответственность. Это могло бы плохо кончиться, но, когда мы очутились в спальне, инстинкты возобладали. Должен отметить, что наш совместный опыт подтвердил первое и третье правила и опроверг второе. Вероятно, разгадка заключалась в том, что женское начало Шандры попирали, унижали и игнорировали столько лет, что теперь она получала наслаждение не от самих моих действий, а просто от моей близости. Поцелуи и объятия, ласки и нежные слова, не говоря уж об апофеозе страсти — все это явилось таким новым, таким волнующим для нее… И таким чудесным! А для меня? Надо ли спрашивать… Она была щедра, она верила мне, и она стала моей женой… Мог ли я не полюбить ее, зная, какой терпеливый и отважный дух таится в этом прекрасном теле?.. Прошло полчаса, и мы поднялись, чтобы отправиться в душ. Тем временем спальня все привела в порядок: простыни были сменены, подушки взбиты, а на тумбочке у кровати появились фужеры с розовым эскалибурским вином. Покосившись на них, я подумал, что Шандра, быть может, голодна, но ей не хотелось есть. Мы нырнули в постель и снова занялись любовью — уже с меньшей торопливостью, но с прежним энтузиазмом. “Цирцея”, добрая душа, включила музыку — разумеется, не “Поражение ереси”, а что-то плавное, нежное, убаюкивающее. Затем мы уснули — под тихий посвист флейт и протяжную мелодию скрипки.Часть II БАРСУМ
ГЛАВА 5
Позже я не раз вспоминал нашу первую ночь и удивлялся смелости, с какой Шандра пошла навстречу моим желаниям. На самом деле тут не было никаких загадок, никаких тайн. Все объяснялось двумя обстоятельствами: странным и, я бы сказал, нетипичным началом ее жизни, а также революцией, которую свершило в нашем обществе открытие К Р. Несмотря на долгожительство, физиологически люди созревают по-прежнему в восемнадцать-двадцать лет, а сексуальные потребности начинают обуревать их еще раньше. Ergo, они стремятся к их удовлетворению, в чем обычно не встречают ни отказа, ни преград — даже в рабовладельческих мирах или в транайском раю гуманного коммунизма. Ситуация, когда подросток на пороге зрелости попадает в тиски целибата, исключительна — но именно это и прозошло с Шандрой. Что же дальше? В древности потребность в сексе снижалась с возрастом, пока не наступала менопауза и желания такого рода окончательно не отмирали. Если бы Шандра жила в двадцатом веке, ей давно пришлось бы перейти в категорию “старых дев”, как их тогда называли; гормональная перестройка организма началась бы у нее раньше, чем у замужних сверстниц, и годам к пятидесяти пяти она сделалась бы идеальной Христовой невестой, без всяких грешных мыслей под седыми и поредевшими локонами. Но в современном мире женщины незнакомы ни с менструальным циклом, ни с климаксом; они вечно молоды — и, следовательно, вечно жаждут. Попробуйте выдержать сорок лет в безводной пустыне вроде обители непорочных сестер! Но сейчас жажда была наконец утолена. Губы моей Шандры запеклись, но виной тому было не отсутствие живительной влаги, а поцелуи. Проснувшись, я услышал рядом ее тихое дыхание. Это был волшебный момент: повернуться и увидеть ее лицо, немного утомленное, но такое прекрасное и юное!.. Было ли мне с ней лучше, чем с другими? Частый перестук сердца отбивал “да”, но вторая моя половина, холодная и прагматическая, говорившая со мной мерным голосом “Цирцеи”, напоминала, что я и раньше испытывал нежность, сострадание и любовь. С другими женщинами, не с Шандрой… Но сейчас она была рядом, она улыбалась, и я потянулся к ней и прижался губами к розово-смуглой щеке. Она проснулась мгновенно. — Грэм! — Ее руки обвили мою шею. — Грэм, я видела тебя во сне! И мы снова занялись друг другом. Отличный завтрак, клянусь Черной Дырой! Потом я спросил, не хочет ли она чего-нибудь перекусить. — Конечно! — воскликнула Шандра с таким восхищением, будто я изрек самую гениальную мысль со времен Демокрита. — Конечно, милый! Мы пойдем в трапезную? И я могу надеть тот красивый розовый костюм, который ты мне вчера подарил? Я призадумался, что она имеет в виду, но тут же сообразил, что речь идет о комбинезоне из кладовой моего челнока. В спальне его не замечалось — должно быть, его прибрали вместе с простынями. Но мы могли придумать что-нибудь получше для первой совместной трапезы. — Сегодня, — сказал я Шандре, — мы будем завтракать в постели. Это еще одна земная традиция, такая же приятная, как все остальные. — Тут я поцеловал ей руку и бросил взгляд на потолочный экран. Он был голубым, как небеса над штатом Огайо, моей полузабытой родиной, и в самой его середине медленно плыла тучка, похожая на древний испанский галеон. Окликнув “Цирцею”, я распорядился насчет завтрака и велел приготовить одежду для моей прекрасной леди — какой-нибудь легкомысленный и экзотический секундианский наряд. Через несколько минут прибыли роботы с завтраком — точно таким, к какому я привык со времен детства. Яичница с ветчиной, оладьи с кленовым сиропом, кофейник с ароматным кофе и капелькой бренди, сливки и охлажденный апельсиновый сок… Пока мы ели, я объяснял Шандре, откуда все это взялось. Ветчиной я запасся на Логресе, яйца были с Секунды, а кофе, бренди, сахар и апельсины — с Панджеба. Что касается сливок, то их приготовляли из молока моей корабельной коровы. Она была одной из тех удивительных тварей, подвергнутых генетической перестройке и процедуре КР, которых я приобрел во время второго визита на Землю. Выходит, лет ей насчитывалось немногим меньше, чем мне, и все эти тысячелетия она провела в огромном баке, поглощая питательный раствор и снабжая меня молоком и парной говядиной. Я обещал показать это чудо Шандре. К тому времени, когда мы покончили с завтраком, появились белье и одежда — нечто воздушное, невесомое, оттенка свежих весенних трав, так подходившего к глазам Шандры. — Такой туалет надевают дамы с Секунды, когда им хочется выпить чашечку кофе и посплетничать с подругами, — заметил я. — Весьма элегантно! Если не ошибаюсь, эта мода держится у них пять столетий, как и обычай перемывать косточки ближним. Мне пришлось проконсультироваться у “Цирцеи”, как положено надевать и носить утренние секундианские наряды — уверяю вас, это не так-то просто! С нижним бельем было меньше хлопот — Шандра знала о назначении трусиков, но вот бюстгальтер оказался для нее новостью. Я объяснил ей, что этот предмет туалета защищает грудь от ударов и столкновений, почти неизбежных для новичка в условиях низкой гравитации. Затем я помог ей облачиться — приятнейшее из занятий, которое я не собирался доверять роботам-камердинерам. На какой-то миг у меня промелькнула мысль, что все это похоже на детские игры с куклами. Не знаю, не знаю… Шандра была наивна, неопытна, покорна, но даже ее покорность не походила на безжизненное безразличие манекена. Ей хотелось обучиться всему, выслушать и запомнить все, о чем я мог ей рассказать, — о “Цирцее” и роботах, исполняющих каждое мое желание, о чудесном экране на потолке, об удивительной корове из гидропонных отсеков и об этом воздушном платье, в котором положено сплетничать с подружками… Она была чудесной, восхитительной, неповторимой! Разумеется, я необъективен — ведь я люблю ее и, вероятно, полюбил раньше, чем встретил воочию. Не праведный ли гнев аркона Жоффрея явился тому причиной?.. Не его ли негодование, когда он перечислял весь список грехов и богохульств моей Шандры?.. Сейчас она стояла передо мной, и по ее щекам текли слезы — не горя, а благодарности. Благодарности, подумать только! Я дал ей всего лишь одежду, в какой нуждается всякая женщина, красивая или не очень, а она даровала мне честь — величайшую честь, которой может гордиться мужчина! Возможно, наша первая ночь не была моим неведомым Раем, но уж наверняка преддверием к нему… Итак, Шандра плакала, да и я с трудом сдерживал слезы. Полагаю, они не к лицу мужчине такого солидного возраста, даже перед собственным обручением; как ни крути, а этот земной предрассудок сидел во мне столь же крепко, как вбитый в стену гвоздь. Я постарался справиться с чувствами и надел Шандре на шею платиновую цепочку, а потом, для завершения картины, браслет на левое запястье и диадему, пристроив ее среди золотистых кудрей. Ее изготовили из мерфийских изумрудов еще вчера, и она в точности копировала свадебное украшение одной из британских принцесс — то ли в двадцатом, то ли в двадцать первом веке. — Теперь, моя дорогая, — сказал я Шандре, — мы должны вступить в брак. Она шмыгнула носом, вытерла мокрые щеки и с изумлением уставилась на меня. — Грэм, а разве мы не?.. — Лишь частным порядком, милая, однако не с точки зрения закона. — Но ведь тут, на корабле, ты и есть закон? Отметив про себя, что Шандра обладает не только красотой, но и здравомыслием, я улыбнулся. — Это верно. Но закон — дитя власти, а власть разделяется на исполнительную и законодательную. Иными словами, я устанавливаю законы, а компьютер “Цирцеи” следит за их выполнением. Я обнял свою невесту, а затем мы вышли в кольцевой коридор. Он обегает весь жилой модуль; в нем, будто камень в оправе, находится рубка “Цирцеи” — или капитанский мостик, как я ее называю. Этот коридор делится массивными переборками на две секции, помеченные как запад и восток. На западе живет капитан Френч (теперь — с супругой); здесь расположены кают-компания, медицинский отсек, склады с предметами первой необходимости, кухня, столовая, карцер и, разумеется, спальня. Только отсюда можно проникнуть в рубку, а из нее — в гимнастический зал и большой салон, где я устраиваю презентации, и к шахте осевого лифта, которая пронизывает корабль от носа до кормы. На востоке находятся помещения для пассажиров, и сейчас эта секция была перекрыта — за временной ненадобностью. Прежде жилая зона не делилась на две части, но горький опыт, лучший из наставников, подсказал мне такое решение. Случается, я перевожу колонистов, небольшие группы, которым не нужен огромный корабль, а среди этих людей попадаются всякие. Пару раз я обжегся, и потому в коридоре появились две переборки, а вместе с ними и правило: не разобравшись, кто есть кто, не допускай миграции с востока на запад. Разумеется, я всегда был готов сделать исключение для хорошеньких женщин. Но это — прошлые грехи, а сейчас я привел Шандру на капитанский мостик и велел “Цирцее” отпечатать бланки брачного контракта. Принтер зашелестел и выплюнул несколько плотных листов бумаги; вручив их Шандре, я сказал, чтобы она внимательно прочитала документ. Моя невеста приступила к делу с самым серьезным видом. С каким восторгом я смотрел на нее! В своем воздушном зеленоватом одеянии, с диадемой в рыжих кудрях, она была неотразима! Губы Шандры дрогнули: — Дорогой, тут гораздо больше обязательств для тебя, чем для меня. Я улыбнулся: — Так что же, малышка? Мы должны произнести эту клятву вслух, а я люблю послушать собственный голос. Кажется, это ее не убедило, но она продолжала читать, едва заметно шевеля губами. Через минуту последовал новый вопрос: — Что такое “законы космоса”? И еще вот здесь — “согласно традиции чести”? Мне пришлось объяснять, что такова стандартная формулировка во всех клятвах и обязательствах спейстрейдеров. Законы космоса были приняты на заре времен, когда человечество начало осваивать Солнечную систему; основой для них послужил древний Морской Кодекс, Тогда считали, что по мере освоения галактических бездн между населенными мирами будет поддерживаться регулярная связь: лайнеры будут перевозить туристов, колонистов и деловых людей, торговые суда — всяческий груз, а боевые корабли станут болтаться в космосе, отлавливая мошенников и пиратов. Словом, этот закон был рассчитан на случай, когда множество звездных систем объединятся в некую федерацию или империю — само собой, под властью Земли. Нелепый проект, должен заметить! Полеты от звезды к звезде занимают пять, десять или двадцать лет стандартного времени, и хоть для астронавтов этот срок уменьшается раз в пятьдесят, о каком центральном правительстве и регулярном товарообмене можно тут говорить? Предположим, любопытный турист отправится с Пенелопы на Малакандру; такой вояж потребует минимум полутора столетий, а за это время супруга может бросить нашего туриста, а поверенные разбазарить его имущество. Не слишком ли дорогая цена любопытства?.. Если же наш путешественник не имеет ни имущества, ни жены, то он наверняка не сможет оплатить проезд, ибо странствия в галактических просторах весьма недешевы… Вот почему Галактику бороздят лишь редкие корабли переселенцев и спейстрейдеров, а закон космоса стал всего лишь древним анахронизмом. Но я тоже анахронизм, и потому признаю его. Я объяснил все это Шандре, и она повторила вопрос насчет традиции чести. — Это означает, что мы не должны нарушать своих обетов, — сказал я. — А если уж придется их нарушить, то в самой безвыходной ситуации, с душевной болью и горьким сожалением. Мой голос дрогнул, и Шандра внимательно посмотрела на меня: — Грэм, ты… ты когда-нибудь это делал? — Однажды, — признался я, — еще до всех моих звездных эскапад. Мы разошлись с женой — давно, на Старой Земле, но у нас была дочь, девятилетняя малышка Пенни… И я обещал, что никогда не брошу ее, что буду ей помогать и видеться с ней, а если случится беда, я приду и спасу ее… А потом я отправился в космос и не вспоминал о Пенни… Правда, первая планета, найденная мной, была названа ее именем, но это не искупает моей вины. Я вернулся на Землю через сто восемьдесят лет и не застал в живых даже внуков Пенни. — О, Грэм!.. Прости! — Глаза Шандры вновь подозрительно заблестели. — Что же случилось? Ведь сто восемьдесят лет не такой уж большой срок… — Видишь ли, милая, в ту эпоху люди в своем большинстве умирали, не дожив до восьмидесяти. Клеточная регенерация еще была неизвестна, клонирование органов стоило бешеных денег, и человек в твоем возрасте выглядел много хуже, чем я. Это называлось старостью… И вот ее первый признак. — Я коснулся своих волос и объяснил, что означает седина. — Разумеется, если бы я захотел, то опять сделался бы темноволосым или обзавелся зелеными кудрями… Но это означает клонирование и пересадку нового скальпа, а я слишком ленив и никогда не беспокоился из-за таких мелочей. Но если тебе неприятно… Она обхватила меня за шею: — Нет, Грэм, нет! Я хочу, чтоб ты был таким, каким я увидела тебя впервые… Всегда таким! Ты самый лучший мужчина на свете! В благодарность я нежно поцеловал ее. Затем мы предстали перед компьютером “Цирцеи”, и я приказал записать нашу клятву в защищенный от уничтожения сектор памяти. Должен заметить, что в кое-каких вопросах “Цирцея” сохраняет автономность: даже я не могу стереть вечные файлы, где хранятся мои обязательства, не могу подделать судовые документы или, скажем, взорвать корабль. Все остальное — пожалуйста! “Цирцея” готова кормить, поить, лечить и лелеять меня и отвезти хоть в Рай, хоть в ад. К сожалению, я знаю множество адресов преисподней и ни одного райского. Но сейчас, произнося свою брачную клятву, я не думал об этом. — Я, Грэм Френч, капитан и владелец космического корабля “Цирцея”, спейстрейдер, беру тебя, Киллашандра Лонг, в супруги, и союз наш будет столь длительным, насколько захотим мы оба. Я обещаю любить, почитать и защищать тебя — во все дни, пока действителен наш брак. Я обещаю, что не стану искать объятий другой женщины и не приму их, какой бы ни представился случай; во все дни я буду верен лишь тебе одной. Я обещаю, что ты никогда не покинешь борт нашего корабля против своей воли — до тех пор, пока я являюсь его капитаном и владельцем. Я обещаю, что не оставлю тебя ни в одном из обитаемых миров и ни в одном из космических поселений, если на то не будет твоего ясного и недвусмысленного желания. Если ты выскажешь такое желание или же мы решим расторгнуть брак по обоюдному согласию, я обязуюсь обеспечить тебе достойную жизнь в том мире, который ты изберешь. Я обещаю, что любые доходы от торговых сделок, которые я могу получить в период нашего брака, и любое приобретенное мной имущество будут считаться нашей совместной собственностью, и в том случае, если мы расстанемся, половина этих средств будет принадлежать тебе. Я подтверждаю, что все эти обеты даны мной по доброй воле и собственному желанию, согласно традиции чести и законам космоса. Теперь наступила очередь Шандры. — Я, Киллашандра Лонг, рожденная на Мерфи, беру тебя, Грэма Френча, капитана и владельца космического корабля “Цирцея”, в супруги, и союз наш будет столь длительным, насколько захотим мы оба. Я обещаю любить и почитать тебя, носить твое имя и подчиняться тем приказам, которые ты, как капитан корабля, можешь отдать мне — во все дни, пока действителен наш брак. Я обещаю, что не стану искать объятий другого мужчины и не приму их, какой бы ни представился случай; во все дни я буду верна лишь тебе одному. Я обещаю не предпринимать никаких действий, которые лмогли бы нанести вред тебе лично или твоим делам — как в обитаемых мирах, так и в космическом пространстве. Я подтверждаю, что все эти обеты даны мной по доброй воле и собственному желанию, согласно традиции чести и законам космоса. Затем мы по очереди обратились к “Цирцее” с ритуальным приказом: — Я, Грэм Френч, даю команду корабельному компьютеру, который является душой “Цирцеи”, занести мой обет в неуничтожимую секцию памяти. — Я, Киллашандра Френч, даю команду корабельному компьютеру, который является душой “Цирцеи”, занести мой обет в неуничтожимую секцию памяти. Мы поцеловались, и “Цирцея” сыграла нам свадебный марш. “ Finis coronat opus” После обеда она спросила: — Почему ты иногда называешь меня Шандрой, а иногда — Киллашандрой? Этот вопрос показался мне забавным; кажется, она не понимала, что человека могут звать по-разному — в разных ситуациях и в зависимости от чувств, которые испытывают к нему. — Киллашандра — твое единственное и настоящее имя, — сказал я, — и его полагается использовать в официальных случаях — например, когда мы вступаем в брак. Но жизнь не состоит из одних официальных событии, и чаще я буду звать тебя Шандрой. Это имя является знаком моей любви к тебе, понимаешь? Она кивнула и улыбнулась. — Еще одна древняя земная традиция, да, Грэм? — Не только земная. Во многих мирах любящие называют друг друга ласковыми уменьшительными именами, и так же родители зовут детей. Ты помнишь, милая, как звал тебя отец? На ее лице отразилось такое страдание, что я едва не откусил свой грешный язык. Стоило Ли напоминать ей об отце? Об ужасных годах разрухи и хаоса и о том, как самый близкий человек предал и бросил ее? Но Шандра была крепким орешком; глаза ее сверкнули, подбородок выпятился вперед, и почти, без паузы она ответила: — Я не помню и не хочу вспоминать. Сорок четыре года среди непорочных сестер многое стерли в моей памяти. — Ты бы хотела это восстановить? — спросил я. — Видишь ли, воспоминания детства очень устойчивы, их почти невозможно потерять безвозвратно. Я думаю, мы с “Цирцеей” могли бы тебе помочь… а если не выйдет у нас, то хороший психотерапевт на Барсуме… Она покачала головой: — Нет, Грэм, нет. Спасибо тебе, но я не хочу вспоминать о тех годах. Ты назвал меня Шандрой, и мне не нужно другого имени… И лишних воспоминаний тоже не нужно. Будем считать, что моя жизнь началась сначала. Я не возражал, но тем не менее отправился с ней в медицинский отсек, чтобы сделать кое-какие анализы. Вряд ли аркон Жоффрей или непорочные сестрицы отравили ее каким-нибудь долгодействующим ядом, но, когда контактируешь с фанатиками и религиозными ортодоксами, предосторожность не помешает. Тут я вспомнил о Детях Света и их Пророке (как раз после истории с ним мне пришлось разгородить жилую зону), и моя решимость разобраться с этим делом окончательно окрепла. Я объяснил Шандре, что медицинские процедуры — первый шаг в исполнении моих обетов любить и защищать ее, так что она стоически претерпела все, хотя и без особой радости. Ей пришлось раздеться; кажется, она рассматривала этот акт (если затем мы не отправлялись в спальню) как пустую трату времени. Пока она любовалась мерцанием лампочек автоматического диагноста, я велел роботам унести — ее шикарный секундианский туалет и доставить что-нибудь попроще, подходящее для гимнастического зала. Наконец аппарат звякнул и выдал медицинское заключение — всего пять-шесть строчек. Зубы у Шандры были отличные, хоть не менялись ни разу, и я решил, что с имплантацией новых торопиться не следует. Ссадины на ее руках начали подживать — регенерация кожных покровов, подстегнутая целительным излучением, шла нормально. Однако выяснилось, что у нее имеется аппендикс — вероятно, в результате слишком небрежной генетической коррекции, произведенной с кем-нибудь из ее предков. Я впервые столкнулся с подобной проблемой, но в полной мере сознавал ее опасность. В прошлом этот червеобразный отросток слепой кишки прикончил немало людей, не успевших получить медицинскую помощь. Обычно такое случалось в экспедициях и в местах, далеких от госпиталей и больниц. Мне самому вырезали аппендикс еще в те времена, когда я был внутрисистемным пилотом. Я еще раз перечитал заключение. Кажется, Святой Арконат слишком увлекся совершенствованием духа Шандры и не уделил должного внимания ее телу… Ну, ничего, “Цирцея” могла справиться с этой проблемой! Но не сейчас; мне не хотелось оперировать Шандру во время нашего медового месяца. Гимнастический зал и бассейн имели явное преимущество перед хирургическим столом, и, выйдя из медотсека, мы направились в это приятное место. По пути я объяснял Шандре, что зал и главный салон снабжены автономными двигателями, которые позволяют раскрутить их и создать полную иллюзию земного тяготения. На орбите и в свободном полете я поддерживаю гравитацию на уровне двух сотых “же” — это весьма удобно, но не дает нужной нагрузки мышцам. Поэтому каждый день я трачу два-три часа в гимнастическом зале и до сих пор похож на нормального человека, а не на сакабона. Хотя сакабон, если разобраться, весьма функционален, и при моем образе жизни такая метаморфоза могла оказаться нелийней. Тут Шандра прервала мои рассуждения, спросив, кто такие сакабоны. Я объяснил, что с давних времен люди обитают не только на планетарных телах, но и в искусственных космических поселениях, где гравитация практически равна нулю. Это тоже часть человечества, хотя сходство сакабонов с обычными людьми весьма и весьма проблематичное. — Ты можешь мне их показать? — спросила Шандра, поворачиваясь к экрану. Экран в гимнастическом зале огромный — метров пятнадцать, над дальним бортиком бассейна. Когда я купаюсь, на нем проецируется какой-нибудь тихоокеанский пейзаж и создается полное впечатление, что плывешь к далекому коралловому атоллу с растрепанными пальмами и живописной скалой на заднем плане. Сейчас экран затопила безбрежная ласковая морская синева — полный штиль где-нибудь в районе островов Фиджи. Я с сомнением покосился на эту картину. — Хочешь увидеть сакабона, милая? Не слишком приятное зрелище, поверь мне. — Я буду держать тебя за руку, — сказала Шандра с полной серьезностью. — Тогда я не испугаюсь. И все же она вздрогнула, когда экран показал нам трехметровое существо с огромными конечностями, тонкими и длинными, как паучьи лапы. Женщина-сакабон уставилась прямо на нас круглыми карими глазами; ее глазные яблоки будто вылезали из орбит, выпирающие кости грозились проткнуть бледную кожу, вид суставов и сочленений наводил на мысли об анатомическом атласе. Ее груди были малы по любым общепринятым стандартам, но, несмотря на почти полное отсутствие плоти, обвисали застывшими каплями. Фактически у нее не имелось жировых тканей и мышц, а лишь все те же кости, суставы, кровеносные сосуды и сухожилия. Она была отлично приспособлена к жизни в невесомости; тяжесть в одну десятую земной сломала бы ей позвоночник. — На руках и ногах — по два сочленения, а пальцы очень длинные, гибкие и цепкие, — сказал я Шандре. — Мечта, а не пальцы! Это недавняя генетическая модификация, и я знаю кое-кого из моих коллег, заполучивших такие. Например, Шард с “Шаловливой красотки”… Он считает, что с такими загребущими лапами легче обделывать торговые дела и пилотировать челнок… Но вернемся к этой леди. — Я покосился на экран. — Видишь ли, милая, в глазах сакабонцев она невероятно красива, но у нас с тобой другое мнение, не так ли? И раз мы не хотим сделаться похожими на нее, нам нужно заниматься гимнастикой. Вцепившись в мою руку, Шандра очарованно взирала на экран. Похоже, сакабонская леди вовсе не казалась ей отвратительной; наверное, потому, что она не видела нагих человеческих тел — не считая моего и своего собственного. Интересно, каким представлялся ей сказочный принц, о котором она мечтала?.. Вряд ли в облике сакабона… Я махнул рукой, и изображение растворилось в аметистовых морских волнах. Шандра взволнованно вздохнула. — Грэм… скажи мне, Грэм… мы много встретим таких… таких странных людей в чужих мирах? — Нет, моя дорогая. Сакабоны стали такими почти естественным путем, в результате направленной эволюции, но искусственное моделирование разумных существ нигде не поощряется. По большей части слишком радикальные трансформации запрещены законом и считаются безнравственными. Да и кто из родителей позволит, чтобы их ребенок превратился в монстра? Наоборот, они прибегают к генетической корреляции, чтобы дитя походило на них, но обладало большими талантами, здоровьем и красотой. Хотя, конечно, бывают и исключения… Например, Тритон и Бесценная Жемчужина… Я опустился на бортик бассейна. Шандра устроилась рядом и принялась болтать ногами в воде. В ее зеленоватых глазах плясали чертики любопытства. — Бесценная Жемчужина? А что там случилось, Грэм? — Это гедонистический мир, малышка. Они решили, что человек — продукт жестокой земной эволюции и плохо приспособлен для чувственных наслаждений. А Жемчужина — прекраснейшая из планет, и жизнь на ней сплошное удовольствие, почти как в Раю… Это недалеко от истины; даже я был поражен, отыскав эту чудную мирную планетку. Не стану описывать ее, скажу лишь, что она была прекраснее Пенелопы и Эдема, вместе взятых, и будто самим Творцом предназначалась для райского бытия. Я питал на этот счет большие надежды, предложив заселить ее некой секте эпикурейцев с Логреса. Они-то все и испортили! У них были генетические программаторы, и с их помощью эти жизнелюбы превратились за сотню лет в настоящих боровов, а их потомство — вообще в нечто неописуемое. Странные существа, гермафродиты, способные лишь к чувственным наслаждениям… Вдобавок все их тело являлось эрогенной зоной, так что они предавались любви, почесывая себе коленку или за ушами… А вот между ушей был полный вакуум! Конечно, эти ребята хотели сделать как лучше, а получилось как хуже. Человеческая психика не приспособлена к постоянному оргазму — как и к тому, что его может вызвать простое рукопожатие. В результате среди несчастных прокатилась волна самоубийств, а те, кто не желал наложить на себя руки, требовали, чтоб их переделали обратно. Такая операция не очень сложна в физиологическом плане, но как исцелить дефекты психики? Большинство трансформированных так и не смогли приспособиться; они страдали нимфоманией и необоримой тягой к эксгибиционизму и самым извращенным формам проституции. Не думаю, что их осталось много. Не думаю, что они были счастливы: Не думаю, что их мир был Раем! Выслушав меня, Шандра кивнула: — Эти переселенцы с Логреса… они ведь желали счастья своим детям и все решили за них… совсем как мой отец… — Очень похоже, — согласился я. — Продлить свою жизнь через детей — один из главных человеческих инстинктов еще с той эпохи, когда жизнь измерялась шестью или семью десятилетиями. В нем нет ничего дурного, если предки не уродуют потомков, не подгоняют их физически и нравственно к своей системе ценностей… — Я криво усмехнулся. — Мой грех — противоположного свойства. Я породил тысячи потомков, но не воспитал ни одного из них. Точеные брови Шандры приподнялись, придав ее лицу тревожное выражение. — Тысячи… Ты так часто женился? И твои браки были короткими? — Браки тут ни при чем, девочка, мое потомство — продукт искусственного осеменения. Когда-то я считался знаменитостью, а женщины так тщеславны… Мой генотип был модным, и они желали растиражировать и увековечить его. Кажется, она почувствовала облегчение. — Это совсем не похоже на естественный процесс… Я думаю, такие потомки не могут требовать твоего внимания и помощи. Но ты сказал, что считался знаменитостью… Разве ты уже не знаменитость, Грэм? — Увы, слава преходяща! Двадцать тысяч лет слишком большой срок, и теперь я сделался скорее историческим персонажем вроде Александра Великого, Нерона и Альберта Эйнштейна. Знаешь, меня вполне серьезно спрашивали, не доводилось ли мне встречаться с этой троицей, — и спрашивали не детишки! Ну, и кое-что еще… У меня масса клонированных органов, подвергнутых генетической коррекции, и хоть я не киборг, но, если разобраться, я уже не прежний Грэм Френч… Тебя это не смущает? Искоса взглянув на меня, Шандра взболтала воду ногами. — Вовсе нет, Грэм! Ведь твои клонированные органы лучше старых! Только одно хорошее и ничего плохого. — Ну, если так… Но ты не беспокойся, детка, в настоящий момент я бесплоден. Ее глаза расширились. — Насовсем? — Конечно, нет! Это всего лишь мера предосторожности. Знаешь, на перенаселенных мирах не поощряется рождение детей, даже если их отцом стал знаменитый Кэп Френчи… Но мою способность можно вернуть. Я хорошо запомнил этот разговор — первую нашу беседу о детях. Если б я мог предвидеть, к чему это приведет! Ну, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает… Шандра снова взбила воду и одобрительно заметила: — Знаешь, Грэм, ты очень рассудительный мужчина! Это мне нравится. Я боялась заполучить более страшного космического монстра… — Тут она хихикнула и заявила: — Ты говорил что-то о гимнастике… А как насчет плавания? Без купальных костюмов? Поучишь меня? И мы занялись плаванием — конечно, без купальных костюмов, раз так пожелала моя леди.ГЛАВА 6
Шло время. Мы направлялись к окраине системы Мерфи, откуда я собирался стартовать к Барсуму. Как всегда, наш полет состоял из трех стадий: разгон на маршевых ионных двигателях, свободный дрейф (чтобы удалиться от планеты на приличное расстояние), а затем прыжок в поле Ремсдена — или переход, как его еще называют. Во время прыжка мы двигались с околосветовой скоростью и покрывали огромные расстояния за считанные дни — разумеется, с нашей собственной точки зрения. Для обитателей планетарных тел проходили годы, а иногда десятки лет, но тут уж ничего не поделаешь, таков темпоральный парадокс теории относительности. Еще никто не научился перемещаться в пространстве быстрее светового луча, и я сомневаюсь, что такой фокус вообще возможен. Итак, шло время. Я вылечил Шандре кожу на руках и познакомил ее со всеми помещениями “Цирцеи”, кроме тесной каморки, прилегавшей к ториевому реактору и двигателю Ремсдена; она перестала называть столовую трапезной, спальню — опочивальней и уже уверенно командовала роботами. Гимнастика и плавание стали обязательной частью нашего дневного распорядка. Они приносили мне массу удовольствий — ведь куда веселее бросать мяч в Шандру, нежели тренироваться с роботом. Вскоре мы обнаружили, что эти забавы подхлестывают наше взаимное влечение, и маршрут из гимнастического зала в спальню сделался для нас традиционной предобеденной процедурой. Занятия сексом при пониженном тяготении имеют свою прелесть, но случалось, что мы не добирались до кровати — если Шандра атаковала меня на трамплине или в бассейне. В такие моменты она не очень беспокоилась насчет гравитации. Сказать по правде, ее сексуальные поползновения очень мне льстили, но я был достаточно стар и мудр, чтобы приписывать их своему мужскому очарованию. Она была страстной женщиной и обладала временем для любовных утех, но не одна лишь физическая потребность руководила ею — прежде всего она желала сделать меня счастливым, испытывая чувство огромной благодарности ко мне. Разве я не вырвал ее из лап Святого Арконата, пожертвовав солидный вес платины? Разве, выкупив ее, я не даровал ей свободу и не сделал своей законной женой? Разве я не проводил с ней все свое время, не заботился о ней, не холил ее? Разве я не учил ее многим и многим вещам, которые полагалось знать леди Киллашандре, хозяйке космического корабля “Цирцея”? Разве я не осыпал ее подарками, не увешивал греховными побрякушками, как сказал бы аркон Жоффрей? Да, я делал все это — фактически ради собственного удовольствия. Какой-нибудь педант или психоаналитик назвал бы это своеобразным проявлением мужского эгоизма, но я всегда плевал на мнение педантов — как, впрочем, и психоаналитиков. Подарки нравились Шандре, однако не приводили ее в телячий восторг1. Я не сомневаюсь, что она была бы довольна, позволь я носить ей тот самый розовый комбинезончик из моего челнока. Она носила бы его до тех пор, пока он не расползся бы по швам, и лишь обрадовалась бы, если б я предложил ей ходить по такому случаю голой. Во всяком случае, я уверен, что мои рассказы нравились ей гораздо больше подарков; рассказам она внимала с жадностью человека, сорок лет просидевшего на необитаемом острове. Но еще больше, чемслушать эти истории, ей хотелось помочь мне. После котлов непорочных сестриц никакое дело ее не пугало; она бы и бровью не повела, если б я предложил ей почистить ходовые дюзы в компании роботов. Впрочем, я нашел ей более интересное занятие. Мой бизнес заключается в основном в торговле идеями и демонстрационными образцами. Перевозить сырье — кроме самого дорогого, вроде благородных металлов, — бессмысленно; любой населенный мир столь же богат рудами и минералами, как праматерь Земля, и не нуждается в подобном импорте. Равным образом бессмысленно тащить за десятки светолет станки, компьютеры или глайдеры; в развитых мирах их легче воспроизвести по чертежам, а в отсталых они бесполезны — ввиду отсутствия запасных частей, источников энергии и опытных техников. Что же остается? Предметы искусства, необычные животные, странные растения, а также, само собой, идеи. Идеи могут быть самыми разными; для меня в эту категорию попадают научные открытия, технологические новшества, спецификации всевозможных приборов или машин, серьезные труды и развлекательная литература, записи зрелищ итеатральных постановок, рецепты странных блюд, музыка и, разумеется, мода. Мода — иными словами, платья, костюмы, белье и Эверест сопутствующих аксессуаров — важная часть моего бизнеса, хотя и несколько рискованная: не всякий мир воспримет обычаи, родившиеся за сотню парсеков, в другой галактической спирали. Но если вы все же намерены что-то продать, вам придется устраивать выставку — настоящее шоу с показом мод’, с аукционом, с выпивкой и закусками, в добром старом земном духе. Обычно я провожу такие мероприятия в главном салоне “Цирцеи” (для чего он, кстати, и предназначается) либо снимаю демонстрационный зал в одном из лучших отелей. Но перед этим шоу мне приходится изготовить образцы (то есть дать указания роботам), нанять агентов, изучить их рекомендации, разослать приглашения журналистам и местным законодателям мод, а главное, найти подходящих манекенщиц. Это не простая проблема; мои модели должны быть привлекательными, популярными и не безумно дорогими — во всяком случае, не настолько, чтобы пустить меня по миру. Иногда мне с ними не везло, иногда везло, а случалось, очень везло — когда эти девушки, закончив демонстрацию, скрашивали мое одиночество. Но теперь я был не одинок: я обладал женщиной, прекрасной во всех отношениях, с великолепной фигурой, с врожденной грацией, с тонкими чувствами и незаурядным умом. Вдобавок этой женщине было нечем заняться — кроме постели, спортзала и поучительных бесед… Вы понимаете, куда я веду?.. Словом, я показал ей голограммы всех предыдущих шоу, велел соорудить в большом салоне помост и перепрограммировал двух роботов, сделав их костюмерами. И пока мы удалялись от Мерфи с ускорением в две сотых “же”, Шандра занялась демонстрацией своего гардероба — с огромной пользой для себя и к моему непреходящему удовольствию. К тому времени, когда мы очутились в восьми астрономических единицах от Мерфи, мне пришлось признать, что наши труды успехом не увенчались. Шандра была очаровательна, изящна и прелестна, но я оказался бездарным режиссером; я понимал, что чего-то не хватает, а вот чего — о том ведал один Господь! Или Старина Ник, если угодно. Мы просматривали ее голограммы, сравнивая их с записями профессиональных моделей, и я слышал, как Шандра вздыхает от разочарования. Постепенно мы оба приходили к мысли, что красота и прирожденный шарм — еще не все, что нужно манекенщице; в этом достойном занятии имелись свои тайны, но посвятить в них Шандру я не мог. В некотором роде я был виноват перед нею: я втянул ее в дело, оказавшееся, мне не по зубам. Она переживала свои неудачи без упреков и отыгрывалась ночью, когда я попадал в полную ее власть. Тут, в постели, она могла оседлать меня — в прямом и переносном смыслах — и выплеснуть свои эмоции в продолжительной яростной скачке, пришпоривая и понукая своего жеребца. Должен признать, что этот болеутоляющий рецепт был не из самых плохих, но временами мне приходилось туго. В конечном счете я попросил тайм-аут. — Похоже, мы имеем дело с искусством, — сказал я, — а все его тонкости и нюансы нельзя освоить с помощью голограммы. Давай устроим передышку, милая. В мире полно важных вещей, более важных, чем помост, с которыми тебе необходимо ознакомиться. А что до помоста… Думаю, тут или там мы найдем мастеров, способных дать тебе у рок-другой. Я показал ей, как пользоваться банками данных “Цирцеи”, и для начала подсунул “Экономику космического полета” Баслим-Крауза. Чтобы эта премудрость не иссушила ее вконец и легче укладывалась в ее хорошенькой головке, я извлек из своей библиотеки “Легенды Старой Земли”, прекрасный •труд Ван дер Паулссона, добавив к нему развлекательные романы — “Жизнь и мнения барона Мюнха”, “Грезы любви” и “Кентервилльский призрак”. Еще я клятвенно пообещал ей, что на Барсуме она сможет поучиться ремеслу у лучшей манекенщицы. Теперь наши дни были заполнены делами, и ночные порывы страсти начали стихать, сменяясь спокойным течением — как раз в том темпе и ритме, который подходит для человека в моем преклонном возрасте. Наконец наступил миг, когда местное солнце превратилось в яркую точку на усеянном звездами небосводе, и “Цирцея” отрапортовала, что можно включать двигатель Ремсдена. К такому событию нужно подготовиться, решил я; вызвал на экран популярную книгу Шефера и Джуса “Практика космического путешествия”, и мы с Шандрой прочли несколько глав. Разумеется, технические детали не вызвали у нее интереса, но какое-то представление о том, что ее ждет, моя прекрасная леди все-таки получила. "Поле Ремсдена связано непосредственно с метрикой пространства, — писали Шефер и Джус, — ибо является материальной основой Мироздания, порождающей все остальные формы излучений и разновидности микрочастиц. Первые попытки обнаружить эту неуловимую субстанцию были сделаны в двадцатом веке, и согласно научной традиции их приписывают Альберту Эйнштейну. Разумеется, речь шла о чисто теоретическом исследовании, поскольку в ту эпоху конвертер еще не был изобретен, а его прообразы, ускорители элементарных частиц, являлись слишком маломощными и ненадежными установками. Эйнштейн, однако, не смог вывести фундаментальных уравнений Единого Поля, которые описывали бы все типы известных взаимодействий: самое слабое и дальнодействующее — гравитационное, более мощное — электромагнитное и, наконец, ядерное, которое проявляется с огромной силой, но на небольших расстояниях, сравнимых с размером атома. Честь открытия Единого Поля досталась Кристоферу Ремсдену, гениальному физику двадцать первого века, который не только обосновал теоретически свои гипотезы, но также построил первый конвертер-преобразователь, выполнявший две основные функции: трансформацию массы в излучение и обратный переход излучения в массу. При этом был открыт так называемый Закон Тождественности; массы до и после двойного преобразования соответствуют друг другу с точностью до соотношения неопределенности Гейзенберга. Этот вывод равно справедлив для мертвой и для живой материи, и, следовательно, спроектированный Ремсденом конвертер открывал перед человечеством двери в Галактику. Любой объект, помещенный в поле Ремс-дена (например, космический корабль с экипажем), приобретал способность двигаться со скоростью света “С” — вернее, со скоростью, практически неотличимой от “С”; таким образом, расстояние в десять светолет можно преодолеть за немногие минуты относительного времени”. Дальше шла затейливая вязь уравнений. Шандра, как вы понимаете, не разбиралась в квантовой теории Единого Поля, и я не возражал, чтобы эти страницы были пропущены. Но в следующем разделе Шефер и Джус описывали историю космических путешествий, и вот тут-то моя леди была само внимание. Еще бы! Ведь тут говорилось о ее супруге, Старом Кэпе Френчи, чудовище из космоса! “Историю космических странствий нельзя рассматривать как триумфальную дорогу к звездам; она изобилует трагическими случайностями, и список кораблей, погибших или канувших в вечность, достаточно велик (смотри Приложение F). Практически единственной причиной всех этих трагедий являются расчетные погрешности или не правильная прокладка курса, в результате чего корабль “выныривает” из поля Ремсдена вблизи крупных тяготеющих масс, планеты или звезды. Их дестабилизирующее влияние было предсказано теоретически и подтверждено долгой и печальной практикой. Возможно, этих трагедий удалось бы избежать, но человеческий разум обладает некой инерцией, которая, вместе с надеждой на чудо, приводит временами к фатальным результатам. Прошло немало столетий, пока пилоты осознали: двигатель Ремсдена дает им шанс достигнуть любой звезды в Галактике, но этот шанс не равен ста процентам, ибо никакой компьютер не может точно рассчитать прыжок на сорок или пятьдесят парсеков. Чем больше расстояние прыжка, тем больше неопределенность финишных координат — а это значит, что повышается вероятность “вынырнуть” рядом с планетой или звездой. Интересно отметить, что стратегия дальних космических полетов в полной мере отражает характер навигатора или владельца корабля. Одни из них — такие, как легендарный капитан Френч, великий навигатор, — преодолевают пространство сравнительно короткими прыжками, жертвуя скоростью ради надежности и безопасности; другие — например, Рокуэлл Шард — ловят выигрыш в смертельной рулетке, передвигаясь разом на пятьдесят или сто парсеков и рискуя очутиться в опасной близости от тяготеющих масс. Что подталкивает их к этому? Жажда славы или нездоровая склонность к риску? Рокуэлл Шард, владелец “Шаловливой красотки” и рекордсмен по дальности прыжков, отвергает оба этих обвинения. Вселенная вечна, констатирует он, а это значит, что со временем всякий корабль обратится в прах в дестабилизирующей гравитационной ловушке. С этой точки зрения у “Цирцеи” и “Шаловливой красотки” равные шансы пополнить список в Приложении F…” Прочитав этот пассаж, Шандра побледнела, но я ее тут же успокоил поцелуем. Я знал, что и как возразить Шарду; и в любом случае я намеревался попасть в список F значительно позже его. — Кажется, там говорится, — моя леди покосилась зеленым глазом на экран, — что ты должен умереть. Это правда, Грэм? Я пожал плечами: — Всякому существованию приходит конец, девочка. Теоретически процедура КР сулит нам вечную жизнь, но лишь немногие прожили дольше трех-четырех тысяч лет. Старение не властно над нами, но кто защитит нас от несчастного случая, людской злобы, войн, стихийных бедствий? Рано или поздно они приводят нас к концу… Я прожил долгую жизнь, больше двадцати тысяч лет, но девять десятых этого срока я провел в поле Ремсдена, где понятие времени весьма и весьма относительно. Так что на самом деле я не могу сказать, сколько мне лет — двадцать тысяч или только две… Да и какое это имеет значение? Я ведь жив и собираюсь жить долго! Во всяком случае, пока не найду свой Рай, добавил я про себя. Что бы там ни утверждал Рокуэлл Шард, рекордсмен дальних прыжков, я буду придерживаться своей стратегии, которая — как верно отметили Шефер с Джусом — обеспечивает надежность и безопасность. Космос огромен, Вселенная расширяется, и в сравнении с ней пространство у звезд, где может произойти губительная дестабилизация, ничтожно мало. Разумеется, малы и шансы обратиться в прах. Я могу совершить ошибку в расчетах и пролететь мимо цели, могу вынырнуть в Магеллановых Облаках, в Плеядах или в другой галактике, но вероятность очутиться в опасном районе составляет одну миллиардную или еще меньше. Но именно эта перспектива заставляет многих отказываться от космических путешествий, чего я никогда не понимал. Ведь никто не проживет вечность, никто не может предвидеть свой конец, и для большинства из нас смерть является своего рода трагическим сюрпризом… Однако многие отказываются! Быть может, потому, что иррациональность — неотъемлемое свойство человеческой природы, пустившее слишком глубокие корни в нашей душе, как бы мы ни возились со своими генами… Вот отчего люди испытывают страх перед,всем незнакомым и непонятным, который временами равносилен неосознанному самоубийству. Например, в начале эры КР было довольно много отдельных личностей и религиозных групп, не желавших подвергаться необходимым процедурам. Фактически они предпочитали неизбежность дряхления через полвека долгой жизни и случайному заключительному финалу… Какая глупость! К счастью, она изжила себя — все диссиденты вскоре вымерли. Я продолжил свои рассуждения. — Мы живы, девочка, и проживем еще много веков, если судьба не будет к нам слишком неблагосклонна… Надеюсь, мы увидим, как изобретут сверхсветовой двигатель, и тогда… О, тогда!.. Я куплю его, даже если придется заложить реактор и дюзы “Цирцеи”, и мы пустимся в самое дальнее из странствий! Мы облетим нашу Галактику, мы доберемся до Туманности Андромеды, мы… Шандра со снисходительной улыбкой выслушала мои фантазии. — Я останусь с тобой, если ты еще этого захочешь, — сказала она. — Мы будем неразлучны, как Том и Джерри, мой дорогой. Глаза у меня полезли на лоб. — Где ты отыскала эти древние фильмы? Этих историй нет в сказках Ван дер Паулссона! — Нет, — согласилась моя прекрасная леди. — Но я нашла другие сказки — Шаурля Перра, Асты Линрен и Боба Гарварда, а в них — столько всякого! Про Майти Мауса и Куклу Барби, про Бонди с двумя нулями и семеркой, про Карллсона, Который Живет на Крыше, про Кинг Конга и Конана Варвара, который расправился с ним! Стоит ли удивляться, что я был горд ею? В этом очаровательном теле пылал дух настоящего исследователя! Теперь я уже не боялся ее провала в качестве манекенщицы, я был уверен, что занятие для нее найдется. Она приобщилась к самой великой армии всех времен и народов, к мирному воинству зрителей и читателей, а библиотека “Цирцеи” была поистине бездонна. Ведь только о Конане Варваре были написаны сотни увесистых книг! Межзвездный двигатель был включен, и теперь мы неслись к системе Барсума подобно живому теплому фотону, затерянному среди ледяной космической тьмы. Непривычного человека в поле Ремсдена охватывает странное чувство — кажется, что ты шаг за шагом продвигаешься к вселенской нирване, к слиянию с неким Мировым Разумом или с самим Господом Богом. Эти ощущения усиливаются тихими невнятными голосами, которые что-то нашептывают вам в уши — что-то понятное и ясное во время прыжка, но неизбежно ускользающее из памяти, едва корабль вынырнет в обычном космосе. Одна женщина-математик, разделявшая в прошлом мое одиночество, говорила, что ей удалось доказать теорему Ферма, но суть ее размышлений затерялась где-то за хвостом “Цирцеи”, в темной бездне, которую мы покрыли стремительным прыжком. “Мне мнится, — жаловалась она, — что меня окружают мириады двойников, и каждый хочет дать мне совет, подсказать и напомнить — но говорят они все разом, так что я не понимаю ни слова”. Служители всевозможных культов, которых мне случалось перевозить, особенно остро реагируют на этот шепот. Одним кажется, что их соблазняет дьявол, направляя прямой дорогой в преисподнюю, другим — что с ними беседует Бог, передавая священные заветы, которые нужно довести до сведения всего человечества. Сам я привык к этому феномену, и Шандра тоже освоилась с ним поразительно быстро. У нее была здоровая психика — в отличие от моих религиозных пассажиров. С ними я хлебнул беды; платили они хорошо, но временами требовали, чтоб я снова и снова включал поле Ремсдена: им хотелось вспомнить все Божественные речи, нашептанные Творцом. Разумеется, они получали отказ, и, разумеется, я тут же становился для них смертным врагом, исчадием ада и пособником Сатаны. Бывало, мне приходилось подавлять мятеж, чему весьма способствуют перегородки в жилой зоне. В первый раз это случилось двенадцать или тринадцать тысячелетий тому назад — точно я не помню, но мог бы справиться у “Цирцеи. Меня нанял джентльмен сомнительной репутации, именовавшийся Первым Пророком Детей Света Господнего — я думаю, того же самого света, о котором толковал мне аркон Жоффрей. Это была религиозная секта с Новой Македонии, весьма воинственная и оказавшаяся по таковой причине бревном в зрачке у местных властей. Всех ее членов деклассировали и лишили права на потомство; пожалуй, их могли бы наказать и строже — принудительным старением. Но тут объявился я и позволил Пророку (и собственной алчности) склонить себя к неким договорным обязательствам. Наш контракт предусматривал, что я обязан доставить полсотни сектантов и самого Пророка в подходящий для жизни мир на Окраине; там они собирались обосноваться, а мне надлежало лететь на Македонию к их единоверцам — будто ангелу с благой вестью про обретенный Рай. Вся операция была рассчитана на четыреста-пятьсот лет стандартного времени; за этот срок оставшиеся на Македонии рассчитывали построить большой колонистский корабль и распрощаться с безбожной отчизной. В ту эпоху Македония, один из сравнительно старых миров, находилась в двухстах световых годах от Окраины. Конечно, я не мог преодолеть такую дистанцию одним прыжком и вдобавок собирался делать остановки по пути, торгуя и закупая новый груз в пограничных мирах, как это допускалось нашим контрактом. Я совершил в общей сложности семнадцать прыжков, устраивая при каждом удобном случае демонстрацию мод с выпивкой и закусками — греховное зрелище для моих благочестивых пассажиров. Они молились и роптали; я предложил им бесплатно воспользоваться моим катером и посещать во время остановок планеты — с целью отдыха и смены впечатлений. Мое великодушие осталось неоцененным; они не желали обозревать череду погрязших в разврате миров, напоминавших им о библейских Содоме и Гоморре. Они торопились в свой Рай — и в поле Ремсдена! Для их Пророка каждый прыжок сделался праздником. Он все более убеждался, что на него вот-вот снизойдет откровение Господне, хотя половина его компаньонов (не столь святых, как их духовный вождь) испытывала то же самое. Пророк, однако, не допускал, что все подобные ощущения объективны; он лишь боялся, что к кому-то из единоверцев Бог обратится раньше, чем к нему, намекнув тем самым, что Дети Света нуждаются в новом предводителе. Шаг за шагом он пришел к мысли, что я способен как-то влиять на Божественное расположение и что глас Господень громче всего звучит в рубке. Туда он и заявился — с бластером “Филип Фармер — три звезды” из своих первопроходческих запасов. Наставив пушку на меня, он потребовал, чтобы двигатель немедленно включили — а мы болтались всего в двух астроединицах от какого-то пограничного захолустья — то ли Селены, то ли Скилла! Словом, я не знаю лучшего способа вознестись к небесам, о чем и поведал Пророку, с опаской поглядывая на “фармер”. Весомый аргумент, должен признаться! Его владелец был настойчив и не желал слушать ничего о гравитации, дестабилизации и прочих греховных материях; ему, видите ли, приспичило пообщаться с Богом! Я такого желания не разделял и, подойдя к управляющей консоли, притворился, что программирую очередной прыжок. Все это было чистой иллюзией и пылью в глаза; я лишь собирался связаться с “Цирцеей” — но по-тихому, не повышая голоса. Вняв моим воплям о помощи, она прислала робота, и этот шустрый малый срезал бластер тяжелым лучеметом. Заодно он прихватил и конечность моего оппонента, но разрез, к счастью, был чистым, а медицинский отсек — всего в двадцати шагах. Мой хирург-автомат пришил пострадавшему руку, вколол стакан антишоковой сыворотки со снотворным, после чего наш Пророк очутился в корабельном карцере. Попытка бунта — серьезное преступление, и я имел полное право вышвырнуть его в космос, но все же проявил снисходительность. Просидев пару лет под арестом, мой заключенный так и не удостоился откровения, хоть карцер гораздо ближе к рубке, чем пассажирские каюты. В конечном счете я доставил всю эту компанию в новый мир, называвшийся Белл Рив и уже частично заселенный. Все крупные континенты были заняты, но мне удалось отыскать приличных размеров остров, где я избавился от сподвижников Пророка и от их главаря-Редкий случай, когда мне пришлось наплевать на свои обязательства! Остров был каменистый, размером с Гренландию и почти с таким же климатом, так что даже слепец не спутал бы его с райскими садами. Но моим постылым спутникам выбирать не приходилось: мятеж на борту и попытка убийства караются гораздо серьезнее, чем нарушенный контракт. Когда я вернулся на Македонию, ситуация с Детьми Света рассосалась сама собой. Во-первых, их новый лидер (кстати, объявивший себя Первым Пророком) крепко сидел в кресле и поумерил свой благочестивый пыл; правительство тоже пошло ему навстречу, аннулировав рескрипт о поражении в правах. Те, кто еще помнил о прежнем Пророке, считали его изгоем и жалким трусом, покинувшим своих единоверцев в годину бедствий. Во всей Македонии набралось не больше трехсот человек, желавших присоединиться к нему, что было абсолютной химерой: построить собственный корабль они не могли, а брать их на “Цирцею” я не собирался. Для меня та давняя история имела два последствия. Об одном я уже говорил: в коридоре жилой зоны появились перегородки, так что теперь мой капитанский мостик, моя столовая и моя спальня гарантированы от вторжения болванов с бластерами. Что же касается второго… Пожалуй, лишь много лет спустя я осознал, чем обязан тем воинственным сектантам с Македонии. Они искали свой Рай, а мне захотелось найти свой… Я, вечный бродяга, тысячелетиями скитавшийся по всей Галактике, вдруг возмечтал о Рае! Забавно, не правда ли? Забавно по многим причинам; например, что бы я стал делать, обнаружив этот гипотетический Парадиз? Передо мной возник бы нелегкий выбор: осесть там навсегда, остаться надолго или продолжить вечные странствия. Что бы я выбрал? Не знаю… С одной стороны, в Раю — в моем Раю! — не действует Закон Конфискации, и значит, я мог бы оставаться там хоть целое тысячелетие без риска потерять “Цирцею”. С другой стороны, я по натуре скиталец и непоседа. Вполне вероятно, я покинул бы свой Парадиз и стал бы мучиться воспоминаниями о том, что было обретено и утеряно… Вот почему мысль о Рае одновременно притягивает и страшит меня. Но обсуждать с Шандрой подобные темы было рановато. Я рассказал ей историю македонских изгнанников как пример того, что может ждать нас во время прыжка. Она кивнула, я запустил двигатель, и привычный мир вокруг нас сменился зыбкой смутной фантасмагорией. Надежные стены “Цирцеи” растаяли, краски умерли, россыпи ярких звезд расплылись призрачными серыми пятнами, а туманности и далекие галактики исчезли, поглощенные непроницаемым вязким мраком. В этой великой, безмерной и жуткой пустоте мы были беспомощны и одиноки; она погружала в транс, она навевала сны, она убаюкивала нас — не ласково и не с тайным коварством, а с полным и абсолютным безразличием. Мы падали в бездну, с каждым мгновением приближаясь к чему-то огромному, загадочному, а невнятные голоса времен и пространств гудели над ухом, бормотали, плакали, звали, шептали… Затем это кончилось, и я, взглянув на приборы, убедился, что “Цирцея” нас не подвела — мы вынырнули в двадцати астрономических единицах от Барсума, над плоскостью эклиптики, в совершенно безопасной зоне. Зеленоватое местное солнце казалось отсюда крошечным изумрудным диском, и наша крейсерская скорость относительно звезды была равна лишь нескольким километрам в секунду. Перед тем как начать разгон на маршевых двигателях, я спросил у Шандры, что она чувствовала. Ее глаза, похожие на светило Барсума, потемнели. — Я вспоминала эпоху хаоса… Мне чудилось, что все дети, погибшие в то время, окружают меня, плачут, зовут, молят о чем-то… Но их голоса были такими слабыми и невнятными! Как писк летучих мышей, что жили на чердаках нашего монастыря… — Тебе было неприятно? — Нет… Грустно. — Ты боялась? Ее тонкие пальцы скользнули в мою ладонь. — Не боялась, Грэм. Ведь ты был со мной.ГЛАВА 7
В какой-то степени Барсум отвечал моим смутным грезам о Рае — если только вы можете представить Рай, населенный двухметровыми дистрофиками. Гравитация здесь составляла шестьдесят процентов от земной, климат был тропическим, почвы — плодородными, и в силу этих причин все на Барсуме росло и цвело с необычайной щедростью; деревья были высотой в километр, а травы казались джунглями, произрастающими на берегах местных Конго И Амазонок. Барсум являлся старым миром, заселенным еще в первое тысячелетие космической экспансии, и люди жили тут достаточно долго, чтобы планета успела переделать их на желательный ей манер. В результате сформировалась особая человеческая раса, не столь экзотичная, как сакабоны, но все же резко отличающаяся от первопоселенцев. Если не ошибаюсь, они были выходцами с Земли, а если говорить конкретно, из Бразилии, Перу и Аргентины. Но сейчас, по прошествии двадцати тысячелетий, об этом помнили лишь историки. Мужчины на Барсуме отличаются высоким ростом, более двух метров, да и женщины им не уступают. Сложение у них гибкое, хрупкое, изящное; лица клиновидные, с небольшим подбородком и ястребиными чертами, цвет кожи — темно-оливковый, волосы — черные или темно-каштановые, длинные и волнистые. У них покатые плечи, длинные конечности и небольшие пухлые рты; как многие иные племена, рассеянные в бесконечном космосе, они считают свой облик самым прекрасным и единственно возможным. Второе из этих утверждений явно сомнительно, но с первым я готов согласиться — они не лишены своеобразного очарования. Когда я был здесь в последний раз, у меня случился роман с одной из моих манекенщиц, весьма экспансивной и страстной девицей. Мы любили друг друга целую неделю и расстались без слез, истерик и сцен; никто из нас не претендовал на более серьезные отношения. Она была для меня всего лишь экзотической красоткой, а я для нее — столь же экзотическим монстром из космоса, украсившим ее коллекцию любовников. Не сомневаюсь, что в этой коллекции я занял почетное Место в первой десятке. Выйдя на орбиту вокруг Барсума и объявив о своем появлении по всепланетной связи, я с облегчением убедился, что Барсум по-прежнему процветает. На него не падали кометы, здесь не случилось ни ядерного побоища, ни внезапной вспышки религиозности, ни экологической катастрофы, ни иных губительных бедствий; как и раньше, Барсум был богатым, щедрым миром с весьма своеобразной и утонченной культурой. Это меня вдвойне порадовало: во-первых, я желал барсумийцам всяческого благополучия, а во-вторых, намеревался познакомить Шандру с нормальным и приятным человеческим сообществом. Итак, я предъявил свои верительные грамоты и перечень товаров, а затем мы опустились на столичном космодроме. Сравнительно с мерфийским убожеством он казался особенно ярким, пышным и привлекательным. Шандра с восхищенными вздохами осматривала строения из белого камня, украшенные мозаикой порталы и стрельчатые арки, спиральные пандусы, обсаженные по бокам зеленью, террасы, висевшие на головокружительной высоте, и гигантские деревья, маячившие где-то вдали подобно покрытому зеленым лаком горному хребту. Жаркое зеленое солнце и нефритовые небеса придавали этой картине поистине неземное очарование. Космодром был оживленным местом, так как на Барсуме имеется весьма солидный планетарный флот, но нас приняли на почетную первую полосу и встретили с барабанами и литаврами: министр торговли, делегация представителей деловых кругов, взвод лейб-гвардии, полицейский кордон и две сотни репортеров. Обменявшись рукопожатиями с каждой местной шишкой, я сунул Шандру в слидер, уселся сам, и мы покатили в столицу, в прекрасный приморский город Гатол. Сервис здесь на высоте: наши апартаменты (президентский пентхауз с дюжиной комнат, садом, бассейном и тремя позолоченными ванными) уже дожидались нас — вместе с десятком тоскующих горничных и носильщиков. Кроме того, я снял обширное помещение для офиса этажом ниже; там уже дежурил некто Эстебан Мария Хорхе дим Рио, знойный красавец баскетбольного роста и по совместительству мой пресс-секретарь. Две ближайшие недели были заполнены хлопотами; я должен был нанять агентов, открыть счета в местных банках, встретиться с бизнесменами и журналистами, принять десяток почетных дипломов и адресов, а также отдать дань уважения властям. Барсум не склонен к анархии; тут действует многопартийная демократическая система, а партии по давней традиции называются хунтами. Барсумийцы — открытый, горячий и экспансивный народ, не склонный к политическим интригам, но ценящий славу и жизненный успех. На заре времен эти их качества вели к ожесточенным столкновениям между хунтами; иногда в ход шли кулаки, излучатели и мачете, хоть до гражданских войн дело не доходило. Затем политические страсти остыли, и в настоящую эпоху обитатели Барсума предпочитают заниматься сексом, бизнесом, всевозможными видами искусства и спортом. На спорте, особенно на футболе, они буквально помешаны, и этот факт нашел отражение в их политическом устройстве. Теперь каждая из партий, претендующих на власть, должна выставить футбольную команду; кто победит, тот и займет президентский дворец. Интересно отметить, что претенденты на высший государственный пост всегда выступают в качестве голкиперов; похоже, искусство ловить мячи ассоциируется на Барсуме с умением справляться со всякими социальными передрягами и катаклизмами. В настоящий момент у власти стояла хунта Атакующих Быков, люди энергичные и напористые, так что я никак не смог увернуться от банкета в президентской резиденции. Я не любитель подобных торжеств; слишком много еды и выпивки, слишком много народу и слишком много пустых речей. Но Шандра пришла в восторг, и это слегка подсластило пилюлю. Затем, отбыв повинность, мы были предоставлены сами себе. Мой пресс-секретарь, которому я поручил отыскать наставницу для Шандры, справился с этим делом, найдя трех кандидаток; я выбрал ту из них, которая именойалась Кассильдой Долорес дим Каракоса, по прозвищу Черная Звезда. Это была крайне энергичная особа ростом с Шандру, но вдвое меньшего веса, с черными горящими глазами, с копной черных волос и с ресницами такой длины, что их можно было бы заплетать в косички. Ее самоуверенность, ее манера выражаться и запрошенный ею гонорар наводили на мысль, что она пребывает на вершинах успеха и популярности. Я заплатил с легким сердцем: для Шандры мне не жалко ничего. Первая встреча с великолепной Кассильдой состоялась в моем офисе, на сороковом этаже отеля “Симмонс-Гиперион”. Мы беседовали тет-а-тет; Шандру я с собой не взял, опасаясь слишком стремительно и резко погрузить ее в мир барсумийской богемы. Приняв чек с царственным безразличием, Кассильда опустилась в кресло, выставив напоказ хрупкие коленки, и оглядела меня с ног до головы. Затем она поинтересовалась, когда будет готов ее гардероб и когда состоится первая демонстрация. — Демонстрация одежды — не главная из ваших задач, — заметил я. — Вы наняты с иной целью. — Массаракш! — Это сочное барсумийское ругательство вспорхнуло с ее уст с легкостью бабочки. Я, кстати, до сих пор не ведаю, что оно означает. — Массаракш! Зачем же я вам тогда нужна, толстячок? Чтобы согреть постельку? Я не обиделся; с точки зрения любого барсумий-ца, я страдал тучностью и недостатком роста. Что же касается намеков на постель, то нравы на Барсуме свободные, и секс не относится к числу запретных тем. Кроме того, мы ведь были не на президентском приеме. Тем не менее я решил поставить ее на место, сделал строгое лицо и рявкнул: — Тридцать три раза массаракш! Я не сплю со скелетами, моя дорогая! Мне нравятся женщины, у которых есть под платьем что-то поосновательней нахальства, кожи и костей! К тому же я женат, стар, скуп и не привык пускать деньги на ветер. Кассильда поглядела на меня с уважением. Закрепляя успех, я раскупорил бутылку игристого, мы выпили и перешли на “ты”. — Ну так чем же мне предстоит заниматься? Если ты так скуп, как утверждаешь, — тут она помахала моим чеком, — то выжмешь из меня ведро пота за такие денежки! — Не сомневайся, — подтвердил я и перешел к делу, объяснив, что моя супруга, леди Киллашандра, желает овладеть ремеслом манекенщицы и ей необходим наставник. Кассильда бросила на меня откровенно оценивающий взгляд. — Такая же коротышка, как ты? Или еще пониже? — Вовсе нет. Ростом она с тебя, изящная, стройная, гибкая, но более… гмм… плотного сложения. — Значит, под платьем у нее не только кости, кожа и нахальство, — заметила Кассильда. — И где ты раскопал такое чудо? — На Мерфи, во время предыдущей остановки. Левая бровь Кассильды приподнялась, уголки рта опустились, и теперь на ее подвижном личике было словно написано: не самый удачный выбор, парень! Вот это как раз и отличает барсумийцев от ангелов, обитающих в Раю: они слишком эгоцентричны и временами грешат высокомерием. Им нужно бы помнить, что в девяноста девяти из ста обитаемых миров их внешность не вызвала бы никакого восторга. Впрочем, большинство планетарных жителей страдает такой же узостью взглядов. Я сказал Кассильде, что моя супруга не будет участвовать в шоу на Барсуме и не составит ей конкуренции, поскольку не может считаться профессионалом. Она практиковалась только с помощью голографических записей, она владеет определенной техникой, неплохо двигается, знает все нужные жесты и приемы, однако какие-то тонкости ускользают от нее, какие-то тайны высокого искусства, ведомые лишь настоящим мастерам. Вот мы, поразмыслив, и пригласили мастера. Выслушав меня, Кассильда важно кивнула черноволосой головкой: — Ладно, я займусь с твоей леди. Ты прав в одном: помост — непростая штука, и тут полно всяких секретов… в том числе и таких, какие может открыть лишь женщина женщине. Надеюсь, твоя подружка не слишком стыдлива? Если дело дойдет до демонстрации трусиков, бюстгальтеров и чулок? Я подтвердил, что с этим не будет проблем, намекнув на премию в случае успеха. При этом обещании Кассильда хлопнула ресницами и заявила: — Ты слишком щедр для скупца, который не любит пускать деньги на ветер! Но если уж речь зашла о премии… Что ж, тридцать процентов к основному гонорару меня устроят. — Двадцать, — возразил я. — Двадцать плюс все наряды, которые ты будешь демонстрировать. — Наряды? Массаракш с ними! Ты думаешь, у меня не хватает нарядов? Да вся моя жизнь проходит среди них! Среди платьев, манто, юбок, блузок, шляп и брюк! Меня уже тошнит от них! — А как насчет хорошего изумруда с цепочкой из платины? — спросил я. — Думаю, он будет прекрасно смотреться в твоих кудрях. Это ее удовлетворило, и мы ударили по рукам. Мы также условились, что обучение начнется через десять дней на “Цирцее”, где роботы с легкостью изготовят самое изысканное одеяние; что занятия будут продолжены после шоу, которое состоится через месяц — тоже на корабле, поскольку в этом есть элемент привлекательной экзотики; что я обязуюсь доставить на борт всех главных барсумийских модельеров, представителей ведущих фирм и журналистов — к неувядающей славе Кассильды Долорес дим Каракоса. С великолепной Кассильдой на помосте мы никак не могли провалиться! Затем мы расстались. Моя новая служащая легким шагом направилась обналичивать чек, а я поднялся в пентхауз к Шандре. Не могу сказать, что в эти минуты я чувствовал себя абсолютно спокойным — ведь Кассильда была той еще штучкой! Само ее прозвище представлялось мне двусмысленным: я знал, что всякая черная звезда со временем становится Черной Дырой, ненасытной, как дьявольская пасть. Оставалось лишь гадать, прошла ли Кассильда эту стадию, да надеяться на удачу на то, что Шандра извлечет из этой дыры только хорошее и ничего плохого. Я надеялся. * * * Теперь, когда сроки были определены, я мог нанять рекламного агента, взвалив на него всю рутинную подготовку к шоу. Ему предстояло связаться с местными кутюрье и производителями модной одежды, оповестить журналистов светской хроники и прочих заинтересованных лиц — словом, процедить весь Барсум и выжать сливки в пассажирский салон моего катера. Агент мне попался деловой, так что теперь у меня было свободное время. Я решил использовать его с толком и ввести Шандру в блистательный новый мир. Эту операцию полагалось совершать с осторожностью; я понимал, что моя прекрасная леди еще слишком наивна, слишком уязвима, чтобы разом нырнуть в вавилонское столпотворение, царившее на Барсуме. Тут я был ее единственной защитой и проводником; ведь ее красота (дар, всегда вызывающий почтение и восторг) была непривычной для барсумийцев и столь же странной, как цветок лилии, выросший на розовом кусте. Мы наняли маленький, но вполне комфортный атмосферный спидер-гид и отправились странствовать по Барсуму. Этот вояж не являлся тем видом отдыха, к которому я склонен; как правило, спускаясь на планету, я трачу свое время в городах, желая возместить дефицит человеческого общения. Все эти картины природы — водопады, низвергающиеся с гор, и сами горы в ледниковых шапках, живописные ущелья, величавые реки и леса с гигантскими деревьями — словом, все это нагоняет на меня тоску; мне кажется, что эти виды отштампованы специально для туристов на какой-то чудовищной автоматической фабрике. Но Шандре, взиравшей на них впервые, наша поездка казалась чудом. Она восхищалась и восторгалась, изумлялась и вздыхала, впитывала эту картинную красоту и делала снимки — точь-в-точь как юная школьница из Бруклина, попавшая в дебри Амазонки. Впрочем, разве она не была школьницей, невзирая на свой возраст и положение?.. Я глядел на нее и умилялся. Но школьницы бывают глупыми и умными, а Шандра относилась к числу последних. Довольно быстро усвоив, как обращаться с автоматическим гидом, встроенным в наш кораблик, она затеяла с ним игру. Наш гид, весьма хитроумная псевдоличность, был верным слугой своих хозяев; он посылал нас в определенные отели и рестораны, приземлялся перед заманчивыми барами, рекомендовал те или иные развлечения, суля бесплатную выпивку, если мы удостоим их своим вниманием. Изучив туристические проспекты, Шандра начала выбирать конкурирующие заведения; гид откликнулся более щедрыми посулами — к выпивке тут же добавились скидки, лотерейные билеты и всевозможные сувениры. Это повторялось раз за разом, вызывая у Шандры приступы хохота; она с детским наслаждением вела этот странный матч, заставляя гида раскошелиться на сто процентов. Как правило, ей это удавалось. Нынешнее поколение (я имею в виду рожденных в последние пятьсот-шестьсот лет) привыкло иметь дело с роботами. Даже Шандра, хоть на Мерфи после вселенского катаклизма сохранилось не так уж много роботов, а в ее монастыре их было не больше дюжины. Нынешнему поколению роботы представляются чем-то обыденным и привычным; оно появилось на свет и выросло среди думающих машин и воспринимает их с полным безразличием, как обязательный предмет обстановки — во всяком случае, в богатых и высокоразвитых мирах вроде Барсума. Такое отношение имеет свои достоинства и свои недостатки, и я не знаю, чего больше. Я предпочел бы, чтоб люди относились к роботам более эмоционально — скажем, считали бы их не эквивалентом стула или кресла, а чем-то близким к ним самим. Я вовсе не поборник прав роботов; смешно говорить о правах, ведь они — машины, не наделенные самосознанием! — но для людей было бы лучше поверить в наличие у них электронной души, подобия чувств и даже способности к страданию. Это, как мне кажется, дало бы людям возможность самоутвердиться, не причиняя горестей друг другу. Например, они могли бы смотреть на роботов как на рабов, удовлетворив тем самым свое подспудное стремление к власти, к превосходству над другим мыслящим существом, тягу наказывать и награждать, поощрять и казнить… Но нет, нет! Кому же доставит удовольствие казнить стул или властвовать над креслом? Над человеком — иное дело… ‘Сам я отношусь к роботам с некой опасливой осторожностью. Это может показаться странным — ведь двадцать тысяч лет я обитаю в теле гигантского робота, каким, в сущности, является моя “Цирцея”! Можно было бы и привыкнуть, скажете вы? Ничего подобного! И тому есть пара-другая веских оснований. Во-первых, все роботы, компьютеры и думающие машины делятся для меня на две категории: к одной относится “Цирцея” (которой я доверяю вполне), к другой — все остальные. А во-вторых… Во-вторых, вспомните про Айзека Азимова (был такой древний писатель) и его законы робототехники. Робот не может причинить вреда человеку… Робот должен подчиняться человеку… Это звучит очень благородно и впечатляюще, но реальность оказалась совсем иной! Наши роботы не одарены интеллектом и подчиняются не человеку вообще, а лишь своему хозяину, и делают это с безразличием запрограммированного станка. Если им велено, они могут шить нарядные туалеты и взбивать подушки, а могут пытать и убивать… Вспомните моего благочестивого пассажира, лишившегося вместе с бластером конечности! А ведь если бы я приказал, он расстался бы с головой! Вот по какой причине я осторожен с роботами. Что касается моих собственных гвардейцев, я знаю, что несу полную ответственность за них и за все, что им случится сотворить. Я осторожен, очень осторожен… Итак, наше путешествие продолжалось. Временами мы ели и спали на корабле, временами останавливались в отелях, попадая под прицел голопроекторов репортерской братии. Всякие комментаторы, репортеры, обозреватели и журналисты, с моей точки зрения, — зло, но зло, необходимое в цивилизованном мире, порожденное человеческим любопытством. Есть ли иные способы к его удовлетворению? Не знаю, не знаю… Но уверен в том, что в Раю нет репортеров. Обычно мне удавалось справляться с ними, намекнув, что мы с Киллашандрой находимся в свадебном путешествии и не расположены давать интервью и позировать перед голокамерами. Это был наилучший способ отбить их атаки; если к чему на Барсуме и относятся с пониманием, так это к любовной страсти, владеющей молодоженами. А страсть, как известно, требует уединения. Я нарушил это правило только один раз, устроив деловой завтрак с представителем крупной местной фирмы “Инезилья” — да и то лишь потому, что на встрече настаивал мой рекламный агент. Сферой интересов “Инезильи” являлась мода — во всем ее пугающем многообразии: от одежды, украшений, дизайна жилищ до необычных животных и антикварных редкостей. Я надеялся сбыть им свои серебряные панджебские статуэтки. Завтрак состоялся в роскошнейшем отеле города Зоданда, такого же пышного, огромного и яркого, как всепланетная столица Гатол. За первой переменой блюд мы договорились, что “Инезилья” поучаствует в предстоящем шоу; за второй я сторговал двух черных единорогов, а за третьей — небольшую партию кристаллошелка, изумительной тритонской ткани, которую умели делать также и на Барсуме. Я не слишком нуждался в единорогах и кристаллошелке, но, если хочешь что-то продать, нужно что-то и купить, не так ли? К тому же кристаллошелк мог пригодиться Шандре; платья из этой материи носят лишь настоящие леди — а также настоящие манекенщицы. Мы покончили с единорогами и мануфактурой, раскурили сигары, и за десертом наш сотрапезник стал рассуждать об искусстве. Тут беседа покатилась сама собой, по проторенной дорожке, прямо к нижним конечностям моих панджебских статуэток. Я продемонстрировал их голограммы во всех соблазнительных ракурсах и аспектах, но представитель “Инезильи” остался холоден как лед. Допив кофе, он нехотя промямлил: — Неплохие композиции, капитан Френч, весьма неплохие для Панджеба… Думаю, их мастера знакомы с предметом не только теоретически. Однако… Это “однако” повисло в воздухе, испортив вкус моей сигары. Обождав минуту-другую, я принялся толковать о моральном рецидиве на Панджебе, о пуританских нравах и их губительном влиянии на искусство. В общем и целом смысл моих речей сводился к тому, что предлагаемые статуэки — не меньшее сокровище, чем полотна Рафаэля и творения Микеланджело. Не уверен, слышал ли мой собеседник эти великие имена; во всяком случае, они его не убедили. — Хмм… да… — многозначительно промычал он. — Как долговременное помещение капитала эти изваяния представляют некий интерес… Жаль, что они такие… хмм… тяжеловесные! И он назвал цену раз в двадцать меньше заплаченной мной. При таком старте торговаться не имело смысла, и мы, покончив с десертом, мирно разошлись, каждый в свою сторону. Когда мы покинули ресторан, Шандра спросила: — Грэм, этот тип из “Инезильи”… Что он подразумевал под тяжеловесностью? Я улыбнулся: — Это слово барсумийцы очень любят употреблять по отношению к другим человеческим расам. Оно означает тучность, прирожденную полноту… скажем, некоторый излишек плоти. — Ты уверен? Упомянув об этом, он перевел взгляд на меня. С чего бы? Ее рот обиженно приоткрылся, и я решил, что вычеркну “Инезилью” из списка своих гостей — что бы там ни толковали мне агенты. — Видишь ли, девочка, это называется антропоцентризмом. Барсумийцы считают, что они — центр Мироздания, что внешность их совершенна, что все остальные люди, которым не повезло жить на Барсуме, что-то среднее между бегемотом и беременной свиньей. Не обижайся на них, это всего лишь невинное тщеславие, пока речь идет о критериях красоты. Вот если такую же узость взглядов проявят в моральных вопросах, в том, что касается нравственности, идеологии и вопросов веры, это по-настоящему страшно! Шандра печально кивнула: — Страшно, Грэм! Это… это Мерфи! В тот день она была задумчива и не пыталась забавляться с нашим хитроумным гидом. Через пару дней мы возвратились в столицу, а затем — на свой корабль, трудолюбиво кружившийся вокруг Барсума. Вскоре к нам присоединилась Кас-сильда — очень энергичная, очень деловая, с группой роботов-костюмеров и объемистым багажом. От ее сундуков за милю несло косметикой. Шандра ей понравилась. Во всяком случае, именно так я интерпретирую реплику: “Что-то в тебе есть, крошка!” — и медленный таинственный взмах длинных ресниц. Затем наша гостья оккупировала главный салон и привела там все в движение. Роботы вытягивались перед ней в струнку (как ее собственные, так и мои), помост грохотал и гудел от цоканья каблучков, по всему жилому модулю тянуло сладким парфюмерным запахом, и неизменное “массаракш!” перемежалось другими словами, более древними и оттого, должно быть, понятными динозавру вроде меня. Я изумлялся энергии этой субтильной особы: за пару часов она перемерила все платья, забраковала десяток из них и прогулялась по банкам памяти “Цирцеи” в надежде найти что-нибудь древнее, позабытое, но подходящее для Барсума. Не знаю, была ли она звездой или черной дырой, но уж специалистом она являлась классным! Установив этот факт и отметив, что Шандра тоже благоволит к своей наставнице, я успокоился. Мне пришлось вернуться в Гатол, на презентацию голофильмов и литературных произведений, устроенную Эстебаном дим Рио. Это было важное мероприятие, сулившее мне солидный доход, если удастся продать хотя бы десятую часть записей из банка “Цирцеи”. Теперь, когда моя авантюра с панд-жебскими статуэтками рухнула, я возлагал большие надежды на рынок зрелищ, книжной продукции и особенно спортивных состязаний, столь популярных на Барсуме. Зрелища — ходовой товар в любом из высокоразвитых миров, а вот технологиями тут не поторгуешь — есть свои, а чего нет, то дешевле и легче придумать, чем покупать у спейстрейдера. Бывают, конечно, исключения — скажем, дубликатор массы, с которым возились Шард с “Красотки” и Джонс с “Асгарда”; но дубликатор на Барсуме уже был, а транайская машинка для выжигания мозгов здесь, к счастью, не требовалась. Мои записи не вызвали ажиотажа, но в целом презентация состоялась; как я и надеялся, десять процентов скупили на корню (спорт, балет, эротика, нейроклипы и шлягеры), а кой-какая поэзия и проза отправились в столичный университет, к литераторам-экспертам, которым полагалось выявить непреходящую ценность этих творений для барсумийских библиотек. Я мог рассчитывать, что продам права на половину литературных записей, если критики будут не слишком суровы. Вернувшись на “Цирцею”, я обнаружил, что милые дамы пребывают в согласии и добром расположении духа, что занятия двигаются полным ходом,’ а роботы трудятся не покладая конечностей. Кас-сильда, разыскав с полсотни древних туалетов, велела воссоздать их в шелке, бархате и парче, и кое-что явилось настоящим открытием. Я был в восторге, хотя бальные платья времен величия Тритона могли показаться нескромными даже для барсумийцев. Они слишком открытые и полностью обнажают грудь, а также другие интимные части тела, но весь фокус в том, что их нужно клеить из кристаллошелка. Его благородное сияние скрывает то, что должно быть скрыто, окутывая плечи и бедра радужной мерцающей дымкой. Да, кристаллошелк — это нечто восхитительное! Вид его прекрасен, цена стабильна (и огромна!), и лишь в немногих мирах умеют творить подобное волшебство. Пришлось мне снова обратиться в “Инезилыо” с дополнительным заказом. К счастью, я не сторонник торопливости в делах и еще не отменил приглашения; прикинув же возможные выгоды, решил не отменять его вовсе. Надеюсь, их представитель не хотел обидеть Шандру, а допущенную им небрежность я мог компенсировать ей туалетами из кристаллошелка. Наступил день, когда катер доставил орду гостей с Барсума, и мой тихий, мирный, спокойный корабль превратился в подобие Колизея накануне гладиаторских боев. Рубку, спальню, кладовые и медотсек я предусмотрительно запер, но в остальных помещениях (кроме, пожалуй, карцера) кружились пестрые людские водовороты, сверкали яркие огни, развевались одежды и темные локоны, блестели глаза, и на оливково-смуглой коже рассыпались искры самоцветов. В кают-компании (там был оборудован бар) закусывали и пили; в гимнастическом зале, украшенном цветочными гирляндами из моих оранжерей, пили, закусывали и сплетничали; во всех остальных местах, не считая салона, творилось то же самое. Двери в салон были пока закрыты — в ожидании предстоящего священнодействия. Вероятно, оно являлось событием всепланетного масштаба, так как кроме деловых кругов и журналистов пожаловали политики — от правящей хунты, а также от хунт Свирепых Ягуаров, Серого Кондора, Анаконды и Оцелота. Пили много, но все вели себя на удивление прилично, не исключая репортеров, — наверно, потому, что у карцера дежурил наряд роботов с лучеметами. Наконец огромные двери салона распахнулись, и публика, истомившаяся в ожидании, валом хлынула внутрь. Должен заметить, что все спейстрейдеры стремятся сохранить порядок на таких мероприятиях, а я — еще больше, чем остальные. У меня имеется свой способ проведения аукционов, абсолютно объективный и не позволяющий участникам сунуть нос в чужие дела. Итак, первым делом зрители занимают места в бельэтажа, а непосредственные участники — в партере, подальше друг от друга. Каждому из них выдается миниатюрный терминал, связанный с компьютером “Цирцеи”, и каждый может отстучать на нем предлагаемую цену. Высшая ставка загорается на табло; желающие прибавить делают это скрытно, так как их кресла скорей похожи на кабины, не позволяющие разглядеть ни движений руки, ни выражения лица. Затем трижды падает молоток. Все! Продано! Есть в этом деле маленький секрет — мой собственный терминал, на котором высвечивается максимальная цена и с которого я могу ее повысить, если недоволен наилучшим предложением. Это значит, что ни одна модель не уйдет задешево — в крайнем случае она остается у меня; ведь только мне известны номера терминалов и фамилии победителей. Уверяю вас, что при такой системе никто не знает, какое платье кому досталось и сколько из них выкупил сам жадный Старина Френчи. Демонстрация проводится неторопливо, чтобы манекенщица успела переодеться. В паузах я развлекаю публику всякими шуточками, роботы разносят прохладительное и горячительное, а гости обмениваются впечатлениями. Смысл длительного показа — двоякий; во-первых, я могу нанять только одну манекенщицу (зато самую лучшую, вроде Кассильды), а во-вторых, оценить реакцию покупателей. Стоит ли добавлять, что со своего места я вижу всех, а также их имена и предложения на своем терминале? Мы начали в обычном неспешном ритме. Кассильда была выше всяких похвал — безусловно, звезда, а не черная дыра: макияж великолепен, жесты отточенны, движения плавны, ткань струится с покатых плеч, глаза сияют, волосы вьются. Зрители хлопали в восторге, покупатели трудились над терминалами, “Цирцея” подсчитывала прибыль, роботы метались с подносами туда-сюда, а мы с Шандрой развлекали гостей. Как я уже упоминал, моя прекрасная леди не демонстрировала платья, однако являлась полноправной участницей шоу. То был ее первый выход в свет, и я не поскупился на закуски и напитки, дабы обставить его надлежащим образом. Пусть привередливым барсумийцам Шандра казалась “тяжеловесной”, пусть ее рыжеватые локоны и изумрудные глаза являли для них непривычную гамму, пусть!.. Но здесь, на борту “Цирцеи”, она была хозяйкой — госпожой, владычицей, повелительницей! Королевой, черт побери! И ее король (вернее — престарелый принц) желал подчеркнуть ее власть. Я выбрал для Шандры изысканное черное платье, расшитое золотом; в ее волосах, отросших к тому времени до плеч, сияла изумрудная корона о шести зубцах; ее обнаженные руки были унизаны браслетами, в ее ушах сверкали серьги, подобранные в тон диадеме; ее стройную талию перехватывал пояс, и угольно-черная ткань спадала до щиколоток плавными мягкими волнами; ее грудь была полунагой и прикрытой изящнейшими кружевами, переплетением темных, алых и золотых нитей, подобных взрыву сверхновой. Как она была прекрасна! Барсумийцы, по большей части — мужчины, не сводили с нее восхищенных глаз. Тяжеловесная или нет, она была женщиной, восхитительной женщиной, достойной поклонения! Держалась она превосходно. Темы ее бесед с гостями были ограничены пейзажами Барсума, действием, творившимся на помосте, да двумя десятками книг, которые она успела прочесть, но все это Шандра выкладывала с той обворожительной улыбкой, что придает любым словам женщины некий загадочный смысл, намек на тайну. При всей своей невинности она подхватила у Кассильды пару крепких выражений, но в ее устах они казались вполне уместными — словно королева снисходит до жаргона подданных. Во всяком случае, брови барсумийцев не поднимались слишком высоко, а их оливковые физиономии сияли, будто натертые маслом. Наконец я заметил, как наш привередливый друг, агент “Инезильи”, кудахчет и распускает хвост перед моей супругой, и восторжествовал. Это была победа! То же самое относилось к аукциону. Мы завершили его, и я начал обходить участников, передавая им сертификаты — вместе со своими поздравлениями и чарующими улыбками Шандры. Только одна вещь осталась непроданной, цены были вполне приличные, и я уже подсчитал, что наше путешествие в мир Барсума полностью окупилось. У меня мелькнула мысль, что теперь стоит заняться экспортом — приобрести большую партию кристаллошелка, записи спортивных состязаний, два-три патента на технические новшества и — чем черт не шутит! — дюжину черных единорогов. Вместе с моими шабнами и птерогекконами они бы составили целый передвижной зверинец. Вечером я отметил очередную улыбку Фортуны в скромном, но приятном обществе, вместе с Кассильдой и Шандрой, а наутро спустился в Гатол, дабы заняться экспортными операциями. В течение следующей недели я редко видел обеих своих дам, хотя к ужину неизменно возвращался на “Цирцею”. Они почти не покидали салона, но, вслушиваясь в переменчивый рокот центробежных двигателей, я догадывался, что Кассильда Долорес дим Каракоса натаскивает мою супругу в полном диапазоне гравитационных сил, в котором люди еще думают о тряпках и нарядах. Это составляло от двух сотых до одной и трех десятых “же”, так что я мог надеяться, что после подобной полировки Шандра не ударит в грязь лицом ни в городах сакабонов, ни в тяжелом мире Сан-Брендана. Коридор и гимнастический зал были все еще пропитаны густыми парфюмерными ароматами, помост звенел от перепляса каблучков, а роботы носились как оглашенные, таская грудами одежду и белье, ларцы с косметикой и тяжкие подносы с закусками и бутылками. Вероятно, превращение моей Шандры в профессиональную манекенщицу сопровождалось особым голодом и жаждой. Дня через три-четыре я забеспокоился и, отужинав, потребовал отчет об их успехах. Моя супруга с готовностью принялась докладывать, но Кассильда живо стреножила ее. — Он — мужчина! — Темные глаза окатили меня таким презрением, словно я был самцом макаки, посягнувшим на райскую птичку. — Он мужчина и не должен лезть в женские секреты, моя дорогая. Запомни это получше, если не хочешь его потерять! А ты, Грэм, — тут она повернулась в мою сторону, — ты занимайся своим делом. Массаракш! Почему бы тебе не позавтракать со своими разгильдяями-агентами? Почему бы не напиться? Почему бы не сходить в приличное заведение, в какой-нибудь клуб или университет? Может, купишь там пару умников для своего зоопарка! Вот так меня выпроводили с собственного корабля — при молчаливом попустительстве моей же собственной супруги. Будь я моложе, я мог возмутиться, но мудрость прожитых лет подсказывает мне: там, где сошлись две женщины, всегда присутствует дьявол. И лучше с ним не спорить! Я спустился вниз, но своих агентов решил не тревожить — я не люблю стоять у них над душой. Пресс-атташе Эстебан готовил мою очередную встречу с репортерами, второй парень дожимал университетских литераторов, и, чтобы им не мешать, я отправился на экскурсию по салонам мод, скупая все, что представляло хоть малейшую ценность. Нагрузившись информационными дисками, я заглянул к поставщикам мануфактуры и выбрал несколько отрезов — памятуя о том, что одежды любого мира лучше выглядят в местных тканях. Завершив эти хлопоты, я пообедал в роскошном ресторане “Буэнос-Лимас”; впрочем, там не было ничего, что не сумели бы приготовить кибернетические повара “Цирцеи”. Спать я отправился в свой одинокий пентхауз с позолоченными ванными, но спалось мне плохо; снились глупые сны, будто Кассильда умыкнула мой корабль и, совершив прыжок в поле Ремсдена, кружит над Мерфи — с гнусной задумкой продать Шандру в рабство непорочным сестрицам. Глупость, конечно, но я пробудился в холодной испарине в самый темный из ночных часов и тут же послал запрос на “Цирцею”. Она откликнулась и сообщила, что на борту все в порядке, что госпожа и гостья спят и, согласно показаниям датчиков, вмонтированных в их постели, находятся в добром здравии. “Мне бы так…” — пробурчал я сквозь зубы, на что “Цирцея” дала совет принять слабительное. Юмор всегда являлся ее слабым местом, и, поразмыслив, я решил, что она не шутит, а пытается сорвать на мне злость. Что ж, у нее были к тому причины: попробуйте сохранить покой, когда вами командует пара женщин! Рекомендация насчет слабительного меня не соблазнила; я пошарил среди записей, отыскал нейроклип с нежными мелодиями Лайонеса, сунул его в щель за подушкой и отключился. Два следующих дня я посвятил местному зоопарку. Среди гидропонных отсеков и оранжерей “Цирцеи” есть два особых помещения, гибернатор и зверинец, где хранятся мои коллекции животных, птиц, насекомых и рыб. В гибернаторе, который по сути является установкой глубокого холода, я держу оплодотворенные яйцеклетки и другой генетический материал, а в зверинце — некоторых забавных тварей, представленных, так сказать, в полный рост. Там есть десяток птерогекконов с Перна — маленьких летающих ящерок, ярко окрашенных и на диво сообразительных; я даже подозреваю, что эти миниатюрные дракончики владеют даром телепатии. Там есть пара шабнов, результат генетического скрещивания лошади и верблюда; эти горбатые голенастые животные способны развивать огромную скорость, нести тяжкий груз и неделями обходиться без воды. Их вывели на Малакандре, а я их похитил, подкупив техников, ведавших клонированием. Собственно, это был не подкуп, а частное соглашение; в результате мои партнеры сделались чуть богаче, а я получил образцы нужных мне геномов. И не ошибся! К шабнам до сих пор проявляют интерес, особенно в пограничных мирах. Еще у меня имеются птицы, бабочки и жуки, большие аквариумы со всякой подводной живностью, гигантские слизни с Авроры, змеи с Ямахи, мутировавшие после случившихся там катастроф, и много других созданий, полезных, красивых или устрашающих. Теперь я пополнил свою коллекцию черными единорогами, но фауна Барсума была очень богатой, и тут, возможно, удалось бы найти что-нибудь поудивительней приземистых черных чудищ с ороговевшим носом. Подходящие экспонаты я обнаружил на второй день после обеда. Если память меня не подводит, они походили на пушистых оранжевых горилл, только размером с котенка; да и нрав у них, как уверяли служители, был ласковым и дружелюбным. Они отлично размножались, ели все подряд и не пакостили в каждом углу; словом, вполне подходящие зверюшки для домашнего содержания. Кстати, не барсумийские — их привез Альдис, владелец “Двойной звезды”, столетие назад. Их родиной был Глободан, окраинный мир, о котором я до сих пор ничего не слышал. Словом, неплохой товар, довольно редкий, если меня не обскакали конкуренты. Я связался с центральной диспетчерской и выяснил все насчет маршрутов Альдиса и двух других спейстрейдеров, Даваслатты с “Королевы пчел” и Дарса с “Анастасии”, посещавших Барсум за последние сто лет. Один улетел на Панджеб, другой — в сектор Эскалибура, а третий отправился к Пенелопе… Отлично! Моей следующей целью была Малакандра, а дальше — Солярис, так что наши дороги никак не могли пересечься. Я нанес деловой визит директору зоопарка. Располагает ли он оплодотворенными яйцеклетками?.. Или подходящим для клонирования материалом?.. У него нашлось и то и другое, так что мы приступили к торговле, длившейся до самого вечера. Директор (из тех высоколобых умников, которым палец в рот не клади) сумел всучить мне икру каких-то экзотических рыб с дюймовыми клыками, прожорливых, словно пираньи. Не очень привлекательный товар! Но я их взял — вместе с десятипроцентной скидкой на оранжевых зверюшек. В офисе меня поджидало сообщение от литературного агента. Парень оказался не промах — он завершил операцию с высоколобыми критиками и даже ухитрился сбыть им “Гамреста” и “Поражение ереси”. Представьте, как я был доволен! Такой успех полагалось отметить — и с кем же, как не с моей прекрасной леди? В конце концов, все мерфийские приобретения могли считаться ее приданым, что бы ни говорил по этому поводу аркон Жоффрей! Словом, мне захотелось ее увидеть, и я отправился в космопорт, а оттуда на “Цирцею”. Час был поздний, дело шло к полуночи, но мне казалось, что пробуждение Шандру не огорчит — особенно если я ее разбужу самым нежным из всех поцелуев. С этой мыслью я пристыковал челнок, вышел и направился в спальню.ГЛАВА 8
До спальни я не дошел — меня перехватили в кают-компании. Обе мои дамы бодрствовали, хотя я не мог сказать, что они полностью владеют своими чувствами. Их волосы были распущены, взоры — затуманены, от них попахивало спиртным, и они качались, словно тростинки в бурю — это при тяготении в две сотых “же”! Еще я заметил, что они поменялись платьями; платье Шандры никак не могло удержаться на обоих плечах Кассильды, тогда как наряд Кассильды едва сходился на талии Шандры — и более нигде. Их макияж являл пример злоупотребления косметикой, нанесенной дрожащими руками перед запотевшим зеркалом; Кассильда раскрасила себе нос, а Шандра спутала тени для век с помадой. В углу кают-компании громоздился робот с кувшином в верхних конечностях, а в кувшине что-то плескалось — судя по запаху, панджебское бренди с шампанским. — А вот и наш котик! — вскричала Кассильда при моем появлении. — Наш толстячок-коротышка! Вернулся, не запылился! И вовремя! Мы тут едва не утонули… Вот только в чем? В дзинь-инь-не? В брр-ренди? Или в вис-кис-кис?.. — В чаш-ше с люб-бовным напитком, — уточнила Шандра с преувеличенной важностью неофита, прошедшего инициацию спиртным. Она потянулась к кувшину, плеснула в рот (и вдвое больше — на себя) и бросилась мне на руки. Я успел подхватить ее вместе с кувшином — и с тем, что еще оставалось от платья Кассильды. — Я люблю т-тебя, т-ты любишь м-меня, м-мы оба любим Кассильду, а “Цирц-цея” обожает н-нас всех! — заявила моя женушка. Я не стал спорить, отхлебнул из кувшина и передал его роботу. Я был в полном восторге: раз они напились, значит, обучение Шандры движется семимильными шагами — может, уже закончено! И оно, выходит, было успешным — если судить по объему истребленного горячительного! — Сс-час я ее переодену — и на п-помост! — бодро воскликнула Кассильда, спуская платье с левого плеча. — Ты, котик, правильный мужчина — приходишь в самый раз, когда нужно! Сс-час мы представим тебе прелестную ком… ком… комп-ззи-цию! Последний ак-корд, можно сказать! Какие там композиции, какие аккорды! Отпустив Шандру, я с очарованным видом наблюдал, как она плавно опускается на пол, смежив веки и откинув рыжеволосую головку. Кажется, она уже спала; во всяком случае, она уснула раньше, чем коснулась пола. Я нежно улыбнулся ей и посмотрел на Кассильду. — Ну как? Ты заработала свой изумруд? Она хорошо подготовлена? С минуту Кассильда трясла головой — видимо, чтоб прояснилось в мыслях. Потом она пробормотала: — Блл-лестяще… Природный талант, масс-саракш! Точь-в-точь как у меня в юности… А что ты там говорил об изз-зумруде? — Он будет очень большим, если ты не соврала. — Кас-ссильда никогда не врет! Искус-сство не терпит лжи! Вот сейчас мы выпьем и проверим… Она потянулась к кувшину, но я его перехватил и бросил взгляд на разрумянившееся личико Шандры. Моя леди спала сладким сном труженика. — Пожалуй, ей не до проверок. Ей лучше отправиться в постель. — Д-да… И мне тоже… — пробормотала Кассильда — как раз в тот момент, когда платье Шандры, отчаявшись удержаться на ее плечах, прекратило сопротивление и свалилось на пол. Я счел это простительной неловкостью, а не намеком и повернулся к роботу. — “Цирцея”, пусть этот парень проводит госпожу Кассильду до постели. Позаботься, чтобы она легла головой на подушку, и включи нейроклип… что-нибудь нежное, убаюкивающее. А здесь все прибрать. Пойло вместе с кувшином — в утилизатор, ковры отчистить, картины пропылесосить, мебель расставить по местам, отсек продуть свежим воздухом… Выполняй! С этими словами я поднял Шандру на руки и вышел в коридор. Нести женщину ее комплекции нелегко, даже при двух сотых нормального тяготения — вес почти нулевой, а вот с инерцией приходится считаться. Я мог бы позвать на помощь “Цирцею”, но это сравняло бы Шандру с Кассильдой, не признававшей супружеских уз. Mores cuique sui fingunt fortunam — судьбу человека создают его нравы, как говорили латиняне. Отсюда — резюме: замужнюю даму относит в постель супруг, а незамужнюю — роботы. Я раздел Шандру и уложил в кровать, потом, стянув свой комбинезон, прилег рядом с нею. Вскоре она очнулась, оседлала меня и попыталась заняться любовью, но снова заснула — в самый волнительный момент. Бедная девочка! В ее прекрасной плоти обитал неукротимый дух, жаждущий и упорный, но в тот вечер плоть была слаба. На следующий день утром я выскользнул из постели, стараясь не разбудить Шандру, и отправился на капитанский мостик. “Цирцея” доложила, что наша гостья уже проснулась и трезва, как стеклышко. Поэтому я связался с каютой Кассильды и попросил ее зайти в рубку. Выглядела она слегка помятой. — Привет, Грэм! Надеюсь, мы тебя не слишком шокировали? Вчерашним вечером, я имею в виду? Напустив задумчивость, я притворился, что размышляю над ее вопросом. — Видишь ли, красавица, я повидал столько всякого, что меня ничем не удивишь. Вчера ты была не такой скромницей, как обычно, — ну так что же? Главное — повод, а не результат! С чего вы напились? С горя или с радости? — С радости, — буркнула Кассильда. — Тебе, Грэм, повезло с женой — очень способная малышка! Конечно, ты обучал ее не так и не тому, но что с тебя, с мужчины, взять! Разве премиальные да изумруд! Я разблокировал сейф, тут же выдав и то и другое. Изумруд был размером с фасолину, из лучших мерфийских приобретений, так что Кассильда осталась довольна. — Прекрасный камень! Ну, сегодня вечером мы его отработаем… Готовься к спектаклю, Грэм! А как там наша примадонна? — Спит. Пала жертвой собственной невоздержанности. — Я тоже. — Кассильда поморщилась. — Как ты справляешься с похмельем, Грэм? — Контрастный душ, полчаса гимнастики, крепкий кофе и апельсиновый сок на завтрак. Можно добавить чего-нибудь соленого… Хочешь устриц или икру? Кассильда помотала головой: — Ох, не надо! Все это традиционные рецепты, Грэм. Вот если б ты придумал что-то новенькое, то мог бы скупить половину Галактики! Покачиваясь и стеная, она все же отправилась в душ, а я возвратился в спальню. Шандра как раз открыла глаза. Ее лицо казалось слегка зеленоватым. — Грэм, милый! Это ты или твой призрак? — Она села в кровати и принялась тереть виски. — Знаешь, я так себя чувствую, будто подверглась Радостному Покаянию на трое суток… Я не стану тебя целовать… Подожди, пока я почищу зубы, ладно? Вторая дама, покачиваясь и стеная, направилась в ванную. Хорошо, что на “Цирцее” эти заведения автоматизированы: стой и не двигайся, а струйки воды поливают тебя со всех сторон. Пока моя леди наслаждалась этой процедурой, я заказал кофе и апельсиновый сок. Что бы там ни говорила Кассильда, я доверяю старым проверенным рецептам. Когда моя супруга вернулась, она уже больше походила на саму себя. Кофе почти привел ее в чувство, а разделавшись с соком, она наконец заметила платье, валявшееся на полу. — Массаракш! Это же не мое, это — Кассильды! Откуда, Грэм? Она глядела на меня чистым ясным взором, без малейшего подозрения; она, несомненно, являлась моей прежней Шандрой, если не считать этого барсумийского словечка “массаракш”. Я был доволен, что Кассильда образовала ее лишь в части выпивки и изящной словесности. В конце концов, это такая мелочь! Я поднял платье и бросил на постель. — Ты что же, не помнишь, как поменялась с ней? Шандра задумчиво нахмурилась. — Нет… да… Кажется, я начинаю припоминать… Мы поспорили, кто больше выпьет… Кассильда сказала, что я превосхожу ее объемом, а она меня — выдержкой и опытом. А я сказала, что объем мне не помеха и что я влезу в любое ее платье. Вот мы и поменялись… Я кивнул. — Все ясно, дорогая. Со временем ты поймешь, что объем все-таки ограничен, а опыту пределов нет. Так что Кассильда была права. — Я тебе верю, Грэм. Уж ей-то опыта не занимать! Знаешь, она ведь родила пятерых! Подумать только — пятеро детей, и все — от разных мужчин! — Это меня не удивляет: Кассильда — девушка темпераментная. Ей, вероятно, лет шестьсот… За такой срок, хоть рождаемость на Барсуме ограничена, можно обзавестись солидным потомством. И солидной коллекцией любовников! Шандра вдруг покраснела и принялась навивать золотисто-рыжий локон на палец. Казалось, ее мучает некий вопрос, весьма интимный и щекотливый — точно соринка, застрявшая в глазу. Наконец она решилась: — Грэм… Кассильда еще сказала… сказала… что если б ты не был со мной, вы… вы… Я расхохотался. Интересные темы обсуждают женщины, когда излишек спиртного делает их подружками! Впрочем, я не был в обиде на Кассильду; рано или поздно моей супруге пришлось бы узнать, что человеческая нравственность — понятие растяжимое. — Это давняя традиция, девочка, — сказал я. — Когда спейстрейдер гостит в каком-нибудь мире, женщины вьются вокруг него, как пчелы над кружкой с патокой. Он нанимает на работу девушек — манекенщиц, секретарш, агентов… Все они — очень шустрые и привлекательные леди, а бедное чудище из космоса так одиноко! Ну, и… Словом, сама понимаешь. Она внимательно посмотрела на меня: — Но ты бы не стал этого делать, Грэм? Во всяком случае, пока ты со мной? Зеленые глаза Шандры затуманились, и я нежно поцеловал их. — Ты помнишь нашу клятву, милая? — Мои руки будто сами собой обняли ее, а губы коснулись дрожавшей на виске жилки. — Я обещаю, что не стану искать объятий другой женщины и не приму их, какой бы ни представился случай; во все дни я буду верен лишь тебе одной. Я подтверждаю, что эти обеты даны капитаном Френчем по доброй воле и собственному желанию, согласно традиции чести и законам космоса. И я должен признаться, что глупый Старый Кэп Френчи до сих пор верит в честь и закон. Она вздохнула с явным облегчением и прилегла на постель. Странно, но в этот миг тянулись друг к другу наши души, а не тела. Я испытывал такое чувство прежде — много лет назад, с другими женщинами, под светом иных солнц, но для Шандры оно было новым. Кажется, она начинала понимать, что есть любовь плотская, а есть — духовная и что в истинном чувстве они нераздельны, как ночь и день, как жар и холод, тьма и свет” звезды и космическая бездна, что окружает их. Все эти крайности не могут существовать поодиночке; лишь чередуясь и сменяясь, кружась в вечном водовороте, переплетаясь и противоборствуя, они поддерживают равновесие Вселенной. А что такое душа человеческая? Та же Вселенная, в которой пылают свои звезды и разливается своя тьма… В таких мыслях (и соответствующих разговорах) мы провели утро, целомудренно держась за руки. Потом я отправился в гимнастический зал, а мои дамы стали готовить вечерний спектакль. Шандра сияла от предвкушения, а Кассильда явно собиралась доказать, что изумруд получен ею не за красивые глаза. В этом шоу Кассильде предназначалась роль ведущего, я изображал придирчивого покупателя, а “Цирцея” вела запись. Отснятый ею голофильм не предназначен для продажи — нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Это — память! Память о златокудрой Афродите, родившейся из пенных волн, о легком мотыльке, покинувшем свой кокон; о том, как раскрылись лепестки орхидеи, радуя взор своим изяществом и нежностью красочных переливов… Иногда я смотрю эту запись, вспоминаю, вздыхаю и думаю о тех Временах, когда Шандра снова будет со мной. Я не слишком часто просматриваю ее; потом, ночью, ко мне приходят тревожные сны, и кажется, что корабль уносит меня не на окраину человеческой Вселенной, а в межгалактическое пространство, откуда нет возврата… Если отвлечься от лирики, я был потрясен. Какой разительный контраст с прежним бесцветным исполнением! Будто девочка-подросток обрела разом зрелость, изящество, ум и победительное женское очарование… Постепенно я стал понимать, в чем заключалась моя ошибка: я бессознательно подталкивал Шандру к десяткам мертвых эталонов, к подражанию другим женщинам, которые были непохожи на нее, иначе выглядели, по-иному двигались, имели другой темперамент и характер. Что же сотворила с моей женой Кассильда? Всего лишь постаралась выявить ее индивидуальность… Массаракш! Тридцать три раза массаракш! У этой Черной Звезды водились светлые мысли! Когда все закончилось, я обнял свою супругу и выразил Кассильде благодарность и восхищение. Она порозовела; странно было видеть румянец смущения на ее лице, таком решительном и энергичном. Роботы уже позаботились о ее багаже, и нам оста-. валось только проводить Кассильду до грузового шлюза. На пороге они с Шандрой обнялись и зашмыгали носами, а я подумал, что, может быть, им предстоит еще новая встреча — когда мы снова окажемся на Барсуме, через двести, триста или пятьсот лет. Через пятьсот? Вряд ли… Человеческая Вселенная так обширна и расширяется с каждым годом… Кассильда повернулась ко мне и чмокнула в щеку: — Ты хороший парень, Грэм Френч, и у тебя хорошая жена. Береги ее! Диафрагма шлюза закрылась, и мы остались одни. Лифт перенес нас на север, в жилую зону. Ее разделение на запад и восток, о котором я уже упоминал, было несколько искусственным, а вот север и юг на “Цирцее” определялись самой ее конструкцией. Замечу, что корабли спейстрейдеров весьма непохожи друг на друга; их достраивают и совершенствуют тысячелетиями, и попадаются среди них сферы и конусы, тороиды и многогранники, а также иные пространственные формы, которые в двух словах не описать. Моя “Цирцея” — гигантский цилиндр, пронизанный шахтой осевого лифта. На нем, точно шайбы на штыре, сидят резервуары для рабочего вещества, грузовые трюмы, технические и гидропонные отсеки, шлюзовые камеры, установки системы жизнеобеспечения и все остальное, что полагается иметь звездному кораблю. Это очень практичная конструкция; я всегда могу распилить “Цирцею” напополам и добавить что-то новенькое — как случалось уже неоднократно. Тот, прежний корабль, называвшийся “Покорителем звезд”, на котором я отправился в первую экспедицию, был вдвое короче “Цирцеи” и на девять десятых состоял из контейнеров, где хранился лед — рабочее вещество для ионных двигателей. Цилиндр, как известно, имеет два конца, нос и корму, бак и ют, если пользоваться терминологией древних земных мореходов. Бак занимает жилая зона с рубкой управления, затем следуют гимнастический зал с бассейном, большой салон, оранжереи и теплицы, шлюзовой отсек, мастерские и помещения для роботов, грузовые трюмы, дополнительные и основные резервуары для льда, реактор, ионные двигатели и дюзы. Это уже ют, и здесь жарковато, когда я включаю ионную тягу; значит, имеются все основания считать это место югом. А север, как вы понимаете, лежит в противоположном конце. Итак, мы отправились на север и, покинув кабинку лифта, шагнули в главный салон. Здесь еще царила атмосфера праздника; потолок сиял голубизной земного неба, светились экраны, на главном табло горели какие-то сумасшедшие цифры — так покупатель (то есть я) оценил последний из представленных нарядов. Мы стояли, обнявшись, перед помостом, а вокруг нас суетились роботы, прибирая, полируя и отсасывая пыль. Странное чувство охватило меня; мне казалось, что с перерождением Шандры, свершившимся здесь, наши брачные узы окрепли и мы стали лучше понимать друг друга. Я размышлял о прежних своих спутницах, о женщинах, с которыми вступал в супружество, — их было не очень много, но и не так уж мало. Чем-то мой нынешний союз отличался от всех предыдущих… Не тем ли, что Шандра была молода и я мог следить за ее взрослением и сопутствующими метаморфозами? Или тем, что она мне доверяла больше прочих, а требовала гораздо меньше? Доверие же — странный цветок: он взрастает постепенно и не расправит лепестков, пока не придет его пора… Я чувствовал, что в этот день мы сделали важный шаг друг к другу и что доверие меж нами окрепло. Шандра улыбнулась мне. — Чем ты занимался “внизу”, милый? Она уже освоила торговый жаргон: “низ” означал Барсум, а “верх” — наш корабль, со всеми его четырьмя частями света. — Томился ожиданием и видел глупые сны, — откликнулся я. — А в промежутках бродил по зоопарку. Я привез очень забавных зверьков, пушистых, с оранжевой шерсткой… Хочешь посмотреть на их голограммы? — Не сейчас. — Она снова улыбнулась с самым загадочным видом. — Я бы хотела кое-что показать тебе… подарок от Кассильды, дорогой. Если ты не против, я на минутку зайду в спальню, а после… После — еще одна маленькая демонстрация… Только для тебя, Грэм! Я был не против. Эта ее новая манера, попытка заинтриговать меня, тоже была даром Кассильды — как и словечко “массаракш” и то искусительное лукавство, что теперь ощущалось в ней. Я подумал, что занятия с Кассильдой привели к любопытному результату — видимо, Шандра сознавала теперь свое женское очарование. Не к этой ли цели стремилась Кассильда в своих уроках?.. Не эту ли тайну старалась раскрыть?.. Через минуту Шандра впорхнула в салон, и челюсть у меня отвисла. Вначале я решил, что она нагая, но в этот момент рот мой захлопнулся, и стук зубов, отдавшись под черепом, прояснил разом и зрение, и мысли. Она облачилась в полетный комбинезон — вернее, в нечто похожее, но не совсем адекватное и явно не подходившее для того, чтоб протирать сиденье в пилотском кресле. Телесного цвета шелк облегал ее как перчатка, спина и руки были обнажены, тонкая ткань подчеркивала изящные линии икр, глубокий вырез оставлял полуоткрытой грудь… Это было в своем роде совершенством — наряд, скрывавший все и в то же время намекавший столь о многом… Он, само собой, предназначался не для пилотирования и спортивных тренировок, не для приемов и танцев, но исключительно для соблазна мужчин. — Нравится? — Кокетливо склонив головку, Шандра вертелась передо мной, словно балерина в большом фуэте. — Кассильда придумала! Помнишь свой первый подарок — там, на Мерфи? Я в нем занималась с Кассильдой — мы изучали науку жестов, телодвижений и поз, которые дарят женщине неотразимость… И Кассильда сказала, что если урезать там и тут, и взять ткань поблагороднее, и надеть туфли на высоких каблуках, то все мужчины сойдут с ума! — Шандра уставилась мне в лицо зелеными глазищами и призывно махнула рукой. — Ну как, Грэм? Права ли Кассильда? Или ты еще в своем рассудке? — Уже нет, — пробормотал я, вытирая влажные виски и пытаясь сообразить, где же тут дверь, ведущая в спальню. Впрочем, до спальни мы так и не добрались.ГЛАВА 9
Я завершил свои дела на Барсуме, рассчитался с агентами, дал прощальное интервью и погрузил последние товары. Затем “Цирцея” отчалила — медленно и плавно скользнула в космическую тьму со своей орбиты, отсалютовав жаркими вспышками ионных двигателей. Барсум, с его гигантскими деревьями, живописными скалами, водопадами и городами, подобными сказкам Шахразады, превратился сначала в мглистый размытый диск, затем — в зеленую яркую точку и наконец исчез с экранов. Мы поднялись над плоскостью эклиптики и, набирая скорость, устремились в тот сектор, где ослепительно сияла золотистая звезда — солнце Малакандры. Постепенно наша жизнь вернулась к привычному распорядку: мы ели, спали и любили друг друга, занимались гимнастикой, плавали и коротали долгие вечера, беседуя или просматривая голофильмы. Я научил Шандру управляться с катером; вскоре она освоилась на капитанском мостике “Цирцеи” и хоть не могла еще проложить курс, но уже уверенно манипулировала с МИДами и отдавала команды роботам. Через месяц, когда разгон закончился и мы были готовы к прыжку, я отвел ее в шлюз, показал, как надевать скафандр, и раскрыл диафрагму грузового люка. Теперь одни лицевые пластины шлемов отделяли нас от безмерной, холодной, необозримой пустоты, от пылающих звезд, от мягкого мерцания газовых облаков, от темных угрюмых космических провалов, на дне которых, недоступные нашим глазам, таились бесчисленные галактики и туманности. Шандра была околдована; перед ней впервые открылись вселенское величие и блеск, а это зрелище воздействует на человека, словно удар молнии. К нему нельзя привыкнуть, им можно лишь восторгаться или ужасаться — в зависимости от того, ощущаете ли вы себя всемогущим царем природы или самым жалким и ничтожным из ее творений. Эти две крайности присущи оптимистам и пессимистам, а я по натуре прагматик, и я уверен, что попытки поставить себя над Вселенной или унизиться перед ней равно бессмысленны и нелепы. Она, эта Вселенная, была, есть и будет, и мы — ее неотъемлемая частица, не самая лучшая, но и не самая худшая, как я полагаю. Во всяком случае, так Старый Кэп Френчи, Торговец со Звезд и славный Друг Границы, думает лично про себя. Я попытался втолковать это Шандре, но, потрясенная величием Мироздания, она была не расположена к философским проблемам. Она наслаждалась! Она впитывала сказочное сияние звезд, она грезила наяву, она поддалась очарованию вечности… Мне пришлось чуть ли не силой затаскивать ее в теплые, безопасные, но такие будничные недра нашего корабля! Она уже свободно ориентировалась в жилой зоне, и я начал знакомить ее с отсеками гидропоники. Их было почти два десятка, у каждого — свое назначение, и я называл их по-разному — то своим огородом и садом, то теплицами и оранжереями, то зоопарком и хлевом. Собственно, гидропонные культуры располагались в двенадцати секциях: овощи, зелень, низкорослые фруктовые деревья (специально выведенные для первых космопроходцев), ягодные кусты и виноградная лоза, оплетавшая при низком тяготении потолок и стены. Два самых просторных отсека, таких же больших, как гимнастический зал, но поменьше, чем главный салон, были отведены для сада и зверинца. О зверинце я уже рассказывал (добавлю только, что одно из отделений отводилось для аквариумов), а что касается сада, то я завел его исключительно из ностальгических соображений. Пользы от этих цветочных клумб, серебристых елей и канадских кленов не было никакой, но временами так приятно опуститься в траву под настоящим деревом! Остальные отсеки предназначались для моей кормилицы коровы, для хранения оплодотворенных яйцеклеток и для водорослей. Хлорелла-мутант была главным источником кислорода, поступавшего в систему жизнеобеспечения “Цирцеи”, что позволяло создать замкнутый цикл газообмена. Разумеется, как все прочие животные и растения, водоросли подверглись процедуре КР и были практически вечными. Сад пленил Шандру, и почти три недели она не вылезала из гамака, подвешенного между двух кленов. То были дни, когда она выздоравливала после удаления аппендикса и кое-каких других операций; автоматический хирург провел их виртуозно, но все же возиться в гимнастическом зале его пациентке не рекомендовалось. Я решил повременить с прыжком и почти все время проводил с Шандрой, установив в саду переносной голопроектор. Большей частью мы болтали, а если нам надоедало разговаривать, вся фильмотека “Цирцеи” была к нашим услугам. Разумеется, имя Кассильды часто всплывало в наших беседах. Я чувствовал, что Шандра привязалась к ней, хоть сходства меж ними было не больше,чем между лебедушкой и орлицей. Каждая из них по-своему красива, но это разная красота: лебедь пленяет изяществом и грацией, орел — энергией и грозной силой. Но, как ни крути, Кассильда была единственной подругой Шандры, единственным человеком, кроме меня, относившимся к ней по-доброму и с любовью. Много ли значило то, что они были так несхожи? — Знаешь, дорогой, — сказала как-то Шандра, — я попросила “Цирцею” сравнить нас… ну, по физическим параметрам, как ты это называешь. И что же получилось? — Она в притворном ужасе всплеснула руками. — У нас совпадают только три характеристики — рост, очертания глазных впадин и длина ступни! Все остальное — вес, пигментация кожи, форма черепа, объем груди и бедер — все, все различно! Мы даже свет отражаем по-разному! Однако, — тут Шандра не без лукавства покосилась на меня, — ты считаешь, что мы обе — красивы. Кому же из нас ты льстишь? — Никому, — отозвался я. — Различия меж вами существенны для тех парней, что проводят жизнь в своем болоте, а не шатаются среди звезд. А я — старый мужчина со Старой Земли, где когда-то насчитывалось множество рас и народов, и я привык к разнообразию. Разнообразие красоты — это самое удивительное, что только можно себе представить, дорогая. Хочешь, я расскажу тебе… — Тут я взглянул на экран голопроектора и хлопнул себя по лбу. — Но зачем рассказывать? Мы можем поглядеть! Шандра вопросительно приподняла брови, но я уже давал задание компьютеру. Я распорядился, чтоб нам показали прекраснейших женщин, всех признанных красавиц, известных на Земле с древности и до эпохи космических перелетов. Я пожелал увидеть их нагими, в трехмерном изображении (“Цирцея” при необходимости могла сделать компьютерную реконструкцию) и в самых разнообразных позах — но предпочтительно стоя. Этих прелестниц могла набраться добрая тысяча, и я приказал, чтобы каждая маячила перед нами не больше десяти секунд — вместе со сведениями о ее этнической принадлежности. — “Цирцее понадобится пара минут, чтобы выполнить эту программу, — сказал я, поворачиваясь к Шандре. — Знаешь, мне самому любопытно взглянуть, что у нас выйдет… Половина из этих женщин наверняка относится к народам, уже не существующим ни на Земле, ни в космосе. Одни вымерли в глубокой древности, другие исчезли, слившись с остальным земным населением… Но кое-кто сохранился — те, кто эмигрировал в первое тысячелетие космической экспансии, породив новые расы в новых мирах. Впрочем, эти миры называют теперь не новыми, а Старыми — Логрес, Исс, Лайонес, Пенелопа, Камелот, Панджеб, Эдем, Эскалибур и дюжина других… А вот и наша первая голограмма! Это была японка, хрупкая и изящная, как цветок лилии. За ней последовали девушки из Тироля, Индии, Мозамбика, Северного Китая; десять секунд перед нами кружилась смуглая красавица-маори с Новой Гвинеи, потом возникли черноглазая франко-вьетнамка с золотистой кожей, светловолосая девушка из Белоруссии, итальянка, испанка, грузинка, женщина из племени туарегов, узбечка с сотней косичек, свисавших до плеч… Шандра шевельнулась в гамаке, и я остановил демонстрацию. — Ты находишь их красивыми? — с сомнением спросила она. — Ну, каждая в своем роде… Видишь ли, критерии прекрасного неоднократно менялись, и можно сказать, что это понятие есть функция времени и места. Я думаю, что сакс с холмов Ноттингемпшира и ассириец из Ниневии не оценили бы по достоинству красотку племени навахо… Но это — древность, моя милая, седая старина, когда мир был раздроблен на тысячу глухих углов и их обитатели не видели дальше собственного носа! А в мою эпоху — я имею в виду, в то столетие, когда я родился, — люди мыслили гораздо шире, и понимание прекрасного изменилось. Так что я полагаю, что эта девчушка с косичками, как и все остальные, смуглые, темнокожие и белые, ни в чем не уступит нашей Кассильде. Кроме, быть может, энергии и напора… Шандра расхохоталась, потом призадумалась. Я уже предчувствовал ее следующий вопрос. — Грэй, но какая нравится тебе больше всех? — Вот эта. Я быстро прогнал изображение, и перед нами возникла девушка-датчанка, очень похожая на Шандру — только глаза у нее были голубыми да скулы чуть поуже. Сказать по правде, я смог бы выбрать кое-кого из предыдущего списка, что не давало Шандре повода для ревности — ведь все эти женщины были мертвы по крайней мере двадцать тысяч лет. Но все же я остановился именно на этой. Мудрость супружеской жизни, которую я усвоил к зрелым годам, такова: делай приятное своей избраннице, и все будет в порядке. В относительном порядке, так как случались и исключения — например, первая из моих жен и еще Йоко, которую я подобрал на Аматерасу. Тем временем Шандра критически рассматривала датскую леди, оценивая мой выбор. — Она похожа на мерфийку, Грэм, хотя ростом не вышла. Или это я слишком высокая?.. Ты можешь что-нибудь рассказать о ней? — Только то, что известно “Цирцее”. Как выяснилось, голубоглазая датчанка с полным правом пребывала в моих компьютерных файлах, выиграв во времена оны конкурс красавиц Копенгагена. К тому же о ней пару раз упоминалось в биографии ее ученого правнука, который жил на Логресе и занимался то ли социальной динамикой, то ли динамической социологией. Я даже удостоился чести познакомиться с ним; в те времена я возвращался на Землю и прихватил его письмо для родичей, призывавшее их эмигрировать с перенаселенной планеты. Я совсем забыл об этом эпизоде, но теперь мне вспомнилось, что родственников социолога я так и не нашел и передал письмо датским властям, сохранив копию в памяти “Цирцеи”. Вот таким образом эта девушка и попала в мой банк данных и сейчас ожила перед нами в голографическом изображении, через двадцать тысячелетий после того, как ее прах смешался с землей… Почти бессмертие, клянусь всеми Черными Дырами космоса! Я велел возобновить демонстрацию. Шандра, полюбовавшись еще на нескольких златовласых красавиц, сказала: — Грэм, дорогой, ты ведь не выбрал эту датчанку лишь потому, что мы с ней похожи? — Конечно, нет! — соврал я с невозмутимым видом, как полагается прожженному спейстрейдеру и старому космическому волку. — Понимаешь, милая, мои сексуальные предпочтения, как у любого человека, заложены в генах и унаследованы мной от предков. Не от тех, что жили в штате Огайо и пару сотен лет звались американцами, а от настоящих предков, насельников Европы. Сейчас я тебе покажу, откуда я родом… Перед нами возникла карта восточного земного полушария. — Дай Европу крупным масштабом, — велел я “Цирцее”. — Широты — от Мурманска на севере до Гибралтара на юге, долготы — от Ирландии до… ммм… тоже до Мурманска. Обозначь страны в границах двадцать первого столетия — Англию, Францию, Германию, Данию, Швецию. Выполняй! Изображение дрогнуло и сменилось. — Взгляни, — я повернулся к Шандре, — здесь некогда жили величайшие земные сказочники — Андерсен, Аста Линрен, Перр, братья Гримм и Джон Толкиен… Ты читала их истории у Ван дер Паулсбона и в других книгах. Помнишь? Ее глаза расширились. — Помню… А Боб Гарвард, придумавший Конана, тоже жил здесь? — Его предки, как и мои, родом отсюда, но сам Гарвард жил и умер на западном материке, который называется Америкой. Я тоже американец, дорогая, хотя теперь это ничего не значит… Но мое имя — Френч, и я уверен, что когда-то мои предки обитали тут, в стране Перра, — я показал на Францию, — затем перебрались в страну Толкиена, а уж после этого переплыли океан и сделались американцами. Должен тебе сказать, что во Франции и Англии, где мой род обитал восемь или девять столетий, предпочитали женщин твоего типа — светловолосых, с синими или зелеными глазами. Правда, они были не такими высокими, как мерфийки, но сейчас люди выше, чем в старину, — кроме тех, кто попал в мир с высоким тяготением. — Я обнял Шандру, поцеловал ее пониже розового ушка и прошептал: — Теперь ты понимаешь, что я вовсе не собирался тебе льстить? Страсть к златовласым принцессам просто заложена в моих генах. Это было не правдой, но как часто мы лжем, чтобы доставить радость своим любимым! Я-не исключение, и я считаю, что подобная ложь — не грех и что в моем личном Раю мужья всегда лгут женам, утверждая, что прекрасней их нет женщин на всем белом свете. Ибо во все времена подобная ложь являлась залогом счастливого супружества. От моих слов Шандра расцвела и в самом деле стала похожей на принцессу из зачарованного замка. Я опять поцеловал ее, сожалея, что сам я-не юный сказочный принц, а всего лишь бродяга-торговец, за которым волочится шлейф бесконечных тысячелетий — такой же длинный, как хвост динозавра. Впрочем, это не помешало мне любить ее с пылом юной страсти. Мы совершили переход в поле Ремсдена и, очутившись в восьми астроединицах от золотого солнца Малакандры, направились к планете, легли в дрейф и отрапортовали о своем прибытии. Местная звезда была не столь горячей, как барсумийское светило, но обитаемый мир находился к ней ближе, чем Бар-сум к своему солнцу. В результате климат на Мала-кандре имел шанс сделаться не просто тропическим, а буквально невыносимым, но два ее материка — к счастью для земных переселенцев — тяготели К полюсам. Так что, хоть там и было жарковато, зной не являлся препятствием для колонизации. Малакандра, подобно Барсуму, Старый Мир, найденный и освоенный в двадцать шестом столетии — а это значит, что с местной цивилизацией мы почти одногодки. Культура Малакандры высока и отличается изысканной утонченностью; если сравнивать с Барсумом, тут не любят грубых забав вроде футбола, предпочитая им художественную гимнастику — в основном в постели. Мир этот богат минералами, почвы его щедры, континенты и океан кишат всевозможной живностью, а роботы (которых на Малакандре десяток на каждого аборигена) отличаются усердием и есть не просят. Словом, все условия для процветания! И Малакандра процветает, а в особенности — биологические науки. Это местная традиция, связанная, согласно легенде, с колонизацией данного мира, которая являлась своеобразный евгеническим и социальным экспериментом. На Малакандру переселялись исключительно из Южной Африки, а этот земной регион столь изнемог от бесконечных расовых конфликтов, что их продолжение в новом мире. страшило всех и каждого. Дабы избежать грядущих неурядиц, эмигрантов отбирали среди смешанных пар, требуя, чтобы один из супругов был обязательно чернокожим, а другой — белым. Из тех первопоселенцев до нынешней эпохи не дожил никто, но они породили расу малакандрийцев, не черных и не белых, а цвета кофе с молоком, с весьма приятной внешностью и легким нравом. Несмотря на такое происхождение, я бы поостерегся назвать их мулатами; ведь это земной термин, бытовавший уйму столетий назад, а все эти столетия переселенцы прове ли на Малакандре, и она перекроила их на свой манер. Изредка меж ними попадаются светловолосые и рыжие, с серыми и синими глазами, но и среди брюнетов негроидных черт, пожалуй, не заметишь. Самым распространенным был арабо-семитский тип, в чем я усматривал влияние жарких пустынь, покрывавших большую часть малакандрийских континентов. Политический климат на Малакандре был чрезвычайно устойчив, поскольку планета являлась просвещенной монархией. Мне кажется, что такой режим лучше всего противостоит соблазну разнузданной демократии и коммунистическим идеям — равно как и фашизму, капитализму, феодализму, теократической диктатуре и полной анархии. Просто поражаешься, сколь многое может сделать для своих подданных просвещенный монарх! Особенно если его генетическая линия подвергнута Тщательной корректировке, дабы привить ее царственным представителям благородную сдержанность, терпимость и необходимую твердость. Согласно малакандрийской конституции оба местных материка поделены на сорок пять краалей, управляемых губернаторами; все губернаторы — внебрачные потомки царствующего короля, что делает политическую систему Малакандры исключительно стабильной. Сам монарх, Его Краальское Величество Ван Дейк Умслопогас Номер Такой-То, плодит детей, вручает министерские портфели и издает законы; за их выполнением следит наследный принц — по совместительству премьер-министр. За все прошедшие тысячелетия на Малакандре сменилось лишь двадцать три монарха — а это, согласитесь, случай уникальный! При этом все владыки отправлялись в мир иной не в результате заговоров или бунтов, а только по собственной неосторожности, в силу тех самых непредсказуемых причин, которые препятствуют нам, обладаггелям КР, жить вечно. Три или четыре короля были растерзаны во время охотничьих сафари — причем так, что клонировать их не представлялось возможным; двое утонули; еще двое пали жертвой любви к альпинизму; один свалился с шабна на скачках и сломал шею; кое-кто умер во сне — вероятно, после обильных пиров, возлияний и развлечений с наложницами. Не помню, что случилось с остальными, но уверен, что никто из них не был задушен, отравлен или располосован излучателем. Рай, скажете вы? Должен вас разочаровать — только самое первое к нему приближение. Хоть на Малакандре не свергали королей и стремились к покою и порядку, во всем прочем этот мир был далек от совершенства. Здесь обитали люди, а не ангелы, и этих людей снедали честолюбие, гордыня, тяга к земным благам и плотским наслаждениям, зависть и ревность, суесловие, карьеризм, кокетство, жадность и тысяча других греховных чувств. Кое с чем я мог бы примириться, так как сам страдаю такими же пороками, но другие казались мне не слишком подходящими для райской обители. Впрочем, все это — суета сует и всяческая суета. Главное же заключалось в том, что тяготение на Малакандре равно стандартному, и, следовательно, конституция аборигенов близка к норме. Никакой барсумийской субтильности или массивности обитателей Сан-Брендана! Здесь жили обычные люди, с обычным понятием о красоте, а значит, они могли оценить мою Шандру по достоинству. Для них, как и для меня, она являлась царственной красавицей — высокая, стройная, гибкая, с золотисто-рыжими кудрями, падавшими на точеные плечи! Я не сомневался, что наше шоу будет иметь потрясающий успех, и это радовало по двум причинам сразу: во-первых, успех — это прибыль, а во-вторых, он прибавит Шандре уверенности. Вдохновленный такими соображениями, я чуть не совершил элементарную ошибку — не ознакомился с местной традицией аукционов мод. Самонадеянный глупец! Когда-нибудь гордость погубит меня — именно гордость и вера в свою удачу, а не оплошность в расчете точки, где надо вынырнуть из поля Ремсдена! К счастью, фортуна улыбнулась мне и в этот раз. Завершив стандартные процедуры (представление властям, аренда офиса и поиск агентов), я решил устроить пробную демонстрацию — так сказать, для узкого круга избранных лиц. Репортеров я не звал, поскольку все мероприятие носило кулуарный характер, и присутствовали на нем лишь десять-двенадцать специалистов самого высокого уровня — модные кутюрье из столичного крааля Фотсвана. Я напоил и накормил их, преподнес, как положено, сувениры, а когда мои гости пришли в самое благодушное настроение, представил хозяйку: — Леди Киллашандра, моя супруга и манекенщица. Она появилась на пороге салона, точно фея из сказок Перра. На ней было старопанджебское платье для вечерних приемов — свободная белая туника, украшенная золотыми шнурами, с низким вырезом сзади, без пояса и рукавов. С этим нарядом отлично гармонировали ее рыжеватые волосы и топазовые браслеты на обнаженных загорелых руках; была, разумеется, и диадема — тоже из золотистых топазов. Я с удовольствием заметил, что мужчины (а наша компания была исключительно мужской) взирают на нее с нескрываемым восхищением. Тут, на. Малакандре, она вовсе не казалась тяжеловесной; тут она была воплощением женственной прелести и грации. Убедившись, что тропинка к сердцам гостей проложена, я объявил первый выход, и Шандра пошла переодеваться. Если не ошибаюсь, в тот вечер мы показали шесть или семь нарядов — в основном древние земные платья, реконструированные Кас-сильдой. Все они удостоились внимания и самых горячих похвал и все были проданы, как говорится, не отходя от кассы. Демонстрация закончилась, и я, опьяненный успехом, не сразу заметил, что мои гости перешептываются и словно бы ждут чего-то еще. Наконец один из них, шоколадный красавец с огненным взором, похлопал меня по плечу (этот жест на Малакандре не считается вульгарным — напротив, является выражением искренней приязни). — Сэр? — Чем могу служить? — ответил я, уверенный, что речь пойдет о какой-нибудь приватной сделке. Глаза у этого красавца сверкали так, словно он мечтал обскакать разом всех конкурентов. — Сэр, это все? — Не все, — откликнулся я в некотором недоумении. — Мой запас напитков еще не иссяк, и кухня не оскудела. Если вы обратите внимание на этот салат… и на улиток под майонезом… Но подносы в руках роботов его не интересовали; он с жадным нетерпением взирал на помост. — Разве леди… гмм… не будет демонстрировать заключительную фазу? — Фазу? Какую фазу? — Брови у меня полезли вверх. — Раздевание, сэр. Так сказать, последний и самый впечатляющий элемент. — Минуту, сэр. — Я повернулся к гостям и громко объявил: — Джентльмены, прошу не забывать о напитках и закусках. Ветчина — с Логреса, омары — с Секунды, коньяк — с Панджеба, а вон там — лимонад из панджебских апельсинов… Все кулинарные чудеса Галактики ждут вас! — Выполнив долг хозяина, я оттеснил моего красавца в угол и зловеще поинтересввался: — Итак, сэр, о каком раздевании идет речь? С эротическими плясками или без оных? Не желаете, чтоб леди Киллашандра исполнила для вас танец живота? Он был смущен и принялся торопливо объяснять мне, что за последний век Малакандра обогатилась новой традицией — теперь подобные шоу включали маленький стриптиз. Манекенщице полагалось сбросить последний из нарядов, передать его счастливому покупателю и совершить круг почета в нижнем белье, а то и раздеться догола — с реверансами и ужимками, по изяществу коих судили о ее мастерстве. Этот завершающий этап считался апофеозом демонстрации и привлекал публику едва ли не больше, чем выставленные на аукцион наряды. Если на помосте работали две-три девушки, то зрители обычно бились об заклад, кто именно осуществит последнюю и самую пикантную процедуру. И так далее и тому подобное… Словом, в этот век стыдливость на Малакандре была не в моде. Обогатившись этими сведениями, я поднялся на помост и включил микрофоны. Есть речи, которые надо произносить с возвышенного места и твердым голосом, чтобы они воспринимались с необходимой серьезностью. Я не против экзотических обычаев, но я сохраняю за собой право принять или отвергнуть их — согласно своим понятиям о чести и достоинстве. Как-то на Тритоне (это та самая планета, где изобретен кристаллошелк) мне предложили для разнообразия сделаться женщиной. Но пасаран, сказал я им, не выйдет! Я свыкся с собственным естеством, как Геракл с львиной шкурой, и не желал сменять его на оперение райской пташки. Конечно, в нашу эпоху это всего лишь предрассудок, но некоторые предрассудки, как я считаю, достойны уважения. И один из них таков; моя жена — не для публичного стриптиза. Эту мысль, однако, мне пришлось изложить со всей подобающей случаю деликатностью, не оскорбив моих гостей, не заставляя их подумать, что я презираю их обычай или — Боже упаси! — разгневан их бесцеремонностью. Я поведал им, что леди Киллашандра, хозяйка и повелительница “Цирцеи”, привыкла жить как принцесса со Старой Земли; что она относится к благородному роду и статус ее таков, как у сестер и дочерей правящего малакандрийского монарха; что манекенщицей она сделалась лишь из любви к искусству, но эта любовь не простирается столь далеко, чтобы жертвовать скромностью. Словом, я дал им понять, что Шандра — из тех особо важных персон, которым законы не писаны; они подчиняются лишь своим прихотям и собственному кодексу чести. А потому — никаких стриптизов, никаких раздеваний! Гостям это не понравилось, но, будучи людьми деликатными, причастными к высокой моде, они оставили недовольство при себе, не закидав меня тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Они допили и доели все; что оставалось на подносах, сели в катер и мирно удалились в свой крааль вместе с покупками и сувенирами (их я выдал в двойном количестве, с целой кипой рекламных проспектов). Ну что ж, — подумал я, — как говорили латиняне, mihi sic est usus, tibi ut opus facto est, face! Мой обычай таков, а ты поступай, как знаешь… * * * Едва мы выпроводили гостей, как мне пришлось объясняться с Шандрой. Должен сказать, я бессовестно лгал, приписывая скромность своей принцессе. Смирение и скромность в нее пытались вколотить на Мерфи насильственным путем, а всякое насилие порождает вполне понятное противодействие. Так что скромницей она не была — во всяком случае, в нашей спальне. Но спальня есть спальня — почти священное место, где меж супругами творится таинство любви. Спальня — это вам не помост! Можете счесть меня ревнивцем и ханжой, но я был бы неприятно потрясен, увидев, как моя супруга раздевается под жадными взорами зрителей. Нет, нет и еще раз нет! Не столь уж часто за свою жизнь я заключал браки, чтоб выставлять своих женщин на публичное обозрение! Я отношусь к супружеству слишком серьезно, с позиций монополиста — и, будучи таковым, я полагаю, что право на эрогенные зоны моих жен принадлежит исключительно мне. Шандра, не возражая по сути, оспаривала частности. — Ты сомневаешься, дорогой, что я могла бы сделать это? Сделать с таким же искусством, как лучшие их манекенщицы? Ты не прав, мой милый! Кассильда меня обучила всему, что полагается. Вот, смотри! Она сбросила свой наряд, сложила его и танцующим шагом направилась к роботу, игравшему роль покупателя. Вручив ему сверток (конечно, с изящными поклонами), она принялась разоблачаться — так чарующе грациозно, что я не выдержал и поощрил ее громким свистом. Хоть мы находились не в спальне, зато были одни, так что поводов для ревности не имелось. Любуясь Шандрой (дьявольский соблазн, заметил бы аркон Жоффрей!), я думал о всех преимуществах долгой жизни и о несчастных наших предках, чей век казался мне мимолетным светлым проблеском во мраке подземелья. Разумеется, долгая жизнь отсрочила наше свидание с Господом — или, предположим, с Сатаной, но для всех трех сторон игра обрела новый интерес. Я бы сказал, что игровое поле стало гораздо просторней, что дает возможность совершить множество грехов и либо искупить их, не беспокоясь о нехватке времени, либо окончательно предаться дьяволу. Так что прогресс в генетике и геронтологии только на руку обоим главным партнерам, что бьются за наши бессмертные души. Шандра закончила приседать и кланяться, набросила легкий халатик и порхнула ко мне. — Ну, ты видел? Не стоит недооценивать меня, дорогой! И Кассильду тоже! Массаракш! Наука Кассильды пошла ей впрок, с этим я не рискнул бы спорить! Я видел, что моя Золушка, моя монастырская затворница, превратилась в юную принцессу, и я знал, что на этом метаморфозы не закончились: еще год-два, и она станет настоящей королевой. Я сказал ей об этом, и Шандра, рассмеявшись, поцеловала меня в щеку. Потом хихикнула и дернула за рукав. — Знаешь, Грэм, о чем я сейчас думаю? Я вспоминаю сестру Камиллу… — Почему? С ней связано что-то приятное? — Нет, скорее смешное… Она пугала меня, говорила, что я буду стоять раздетой перед толпами похотливых самцов… что ты продашь меня в каком-нибудь рабовладельческом мире… Пусть так, думала я, и знала, что все равно уйду с тобой. А теперь… теперь… — Шандра задохнулась от смеха. — Теперь я рада бы раздеться, да ты не позволяешь!ГЛАВА 10
Мы провели на Малакандре три счастливых месяца. Как я упоминал, биология являлась тут модной наукой, и половину моего зверинца расхватали в считанные дни. Разумеется, не шабнов и не черных единорогов (их завезли с Барсума еще тысячелетие назад), но оранжевые обезьянки, птерогекконы и прочая живность пользовались заслуженным успехом. Кое-что я обменял, пополнив свой зоопарк малакандрийскими экземплярами и памятуя о том, что инопланетные формы жизни всегда находят сбыт на развитых мирах. Самым ценным из моих приобретений являлся скачущий сфинкс — здоровенная тварь, напоминавшая кенгуру-переростка, с крокодильей пастью и могучим двухметровым хвостом. Эти сфинксы, эндемики пустынь южного материка, отличаются резвостью, неутомимостью и невероятной свирепостью, и потому охота на них стала одной из любимых забав местной знати. Схватка в этих сафари идет с переменным успехом: охотники мчатся на шабнах и вооружены лучеметами, а сфинксы скачут на своих двоих и пускают в дело когти и зубы. Они всеядны и страшно прожорливы, так что, если охотнику не повезет, клонировать нечего. Помните, я говорил о малакандрийских монархах, любителях таких забав? Ну, теперь вам известно, в чьем желудке они упокоились. Я приобрел оплодотворенную самку сфинкса и заморозил в криогенной камере. Вид ее — когти, клыки, хвост и все остальное — не внушал доверия; животные в зверинце не поняли бы меня, если б я сунул такую тварь в одну из клеток. К тому же я не собирался делить с ней мясо корабельной коровы — это был совершенно лишний расход, причем немалый, учитывая ее аппетиты. Я не нуждался в том, чтобы держать ее бодрствующей и активной. Облик и повадки этих монстров запечатлели голофильмы, а если б какой-нибудь зоопарк пожелал разжиться таким экземпляром, я продал бы ткань для клонирования. Кристаллошелк с Барсума расхватали за неделю, и это был отличный бизнес, хотя три отреза мне пришлось преподнести Его Краальскому Величеству Ван Дейку Умслопогасу Двадцать Третьему. Ну, что ж, это одна из привилегий царствующего монарха — принимать дары и благодарить за них парой милостивых улыбок. Но и в этом случае малакандрийская традиция была достаточно разумной и гуманной: одаривший монарха не должен был одаривать губернаторов краалей и всяких мелких чиновников, которым нет числа. Собственно, такие действия грозили бы мне опалой и изгнанием с планеты, так как дар королю — знак уважения, а все прочие дары — бессовестный подкуп. Теперь вы понимаете, чем я рисковал, добывая своих шабнов! Но самый потрясающий успех выпал на долю панджебского серебра. Заслуга в том принадлежала Шандре. Я арендовал зал в лучшем из столичных отелей, и ее первое выступление прошло на самом высоком уровне — хотя потом ее прозвали Леди-Которая-Не-Раздевается. Возможно, это подбавило огонька к нашему костру, а может, дело заключалось в другом — в вольном толковании моих речей, произнесенных на “Цирцее”. Если помните, я говорил, что Шандра живет как принцесса, и, намекнув на благородство ее родословной, не касался фамильных титулов. Но слова мои были перетолкованы, искажены и перевраны — в том смысле, что Шандра в самом деле является принцессой, и не откуда-нибудь, а со Старой Земли! Я отрицал это на каждой пресс-конференции, но репортеры светской хроники предпочитали мне не верить, интригуя читателей и зрителей невероятными измышлениями. Бытовали три конкурирующие версии. Согласно первой Шандра отличалась своенравием, непокорностью и романтическим складом характера — что и подтвердила, сбежав из королевского дворца с космическим бродягой-спейстрейдером. Вторая версия была помягче: согласно ей леди Шандра покинула престол ради научных изысканий в области онтогенеза, филогенеза и общей морфологии. Наконец, гипотеза номер три объявляла ее изгнанницей, которой суровый монарх-отец велел покинуть Землю и маячить перед глазами тысячелетие-другое, пока не сотрется след ее проступка. Спектр предполагаемых проступков трактовался весьма широко — от убийства из ревности до мезальянса и адюльтера. Все это выглядело таким смешным! В масштабах Галактики Мерфи был совсем неподалеку от Малакандры, и мне казалось, что трое малакандрийцев из четырех должны представлять облик своих ближайших соседей. Но такова человеческая иррациональность: если хочется, чтобы желаемое стало реальным, рассудок спит и логика безмолвствует. Ergo, они пожелали принцессу со Старой Земли — и они ее получили! Хотя бы лишь в собственном воображении. Но вернусь к моим панджебским статуэткам. Я нанял шустрого агента по имени Ван Рийс Галази, и этот парень, испросив полную свободу действий и пять процентов с выручки, устроил целое представление. Он ухитрился собрать коллекцию снобов из всех краалей Малакандры; речь, которую он произнес перед этой публикой, меня восхитила, и я записал ее слово в слово — как образчик самого беспардонного вранья, какое мне доводилось слышать за последние шесть или семь тысячелетий. — Леди и джентльмены! — начал мой многоопытный агент. — Вам сказочно повезло, так как Ее Высочество принцесса Киллашандра пожелала одарить наш мир своим фамильным серебром. Вы спросите о поводах и причинах? И я отвечу вам, что Ма-лакандра напоминает Ее Высочеству о покинутой родине, об утонченных нравах королевского двора, об изящных искусствах, процветавших под сенью царственных башен и стен… Вот их плоды! — Широкий жест в сторону панджебских статуэток. — Вот малая часть великих земных творений, наследие Ее Высочества принцессы, завещанное ей благородным отцом, пронесенное через космические бездны на Малакандру, в наш прекрасный и достойный мир. Малая часть, повторю я, очень малая — на всех вас не хватит! Ибо принцесса не может расстаться со всеми своими сокровищами, а эти, — новый широкий жест, — предлагает вам не ради наживы, а исключительно в знак симпатии, в надежде, что каждый предмет попадет в достойные руки и превратится в родовую реликвию, хранимую бережно, как память о той, что принесла их вам и даровала в своей безмерной щедрости. Даровала, повторю я! Ибо цена этим предметам, украшавшим некогда опочивальни и гостиные королевского дворца, назначена чисто символическая. Вот, взгляните, наш первый номер, группа из трех нагих лесбиянок… — Голограмма во весь экран. — Какие позы! Сколько грации и изящества! Какая экспрессия! Сколько чувства, неги и сладострастия! Их руки и ноги переплетены, их станы изогнуты, их губы полураскрыты в экстазе, и мнится, что с них слетит сейчас упоительный стон… Вершина любви, леди и джентльмены! Чрезвычайно поучительное зрелище! А это чудо предлагается вам всего лишь за… Тут он назвал такую стартовую цену, что я чуть не свалился со стула. Но публика отреагировала иначе — никто со стульев не падал и не пытался покинуть зал. Наоборот, они начали прибавлять, и после ожесточенной борьбы три лесбиянки достались тучному господину из крааля Мозамбо, южный континент. Мой Галази перешел ко второму номеру, такому же соблазнительному на вид (юная леди совокупляется со змеем), и дело пошло-поехало. Вечером, прикинув выручку, я понял, что мои панджебские статуэтки окупились двадцатикратно — хвала Ее Высочеству принцессе Киллашандре! Рассчитавшись с агентом, я перевел часть выручки на личный счет своей супруги, как справедливую компенсациею ее имиджа. В глазах местных снобов она была принцессой — неважно, изгнанной или покинувшей родину из любви к наукам, — а достояние принцесс ценится гораздо выше товаров какого-то бродяги-спейстрейдера. Теперь я уверился, что любое шоу, любой аукцион, любой бизнес с участием моей Шандры просто обречен на успех. Закончив торговые дела, я не спешил улетать с Малакандры. Мне хотелось, чтобы моя прекрасная леди вкусила толику одобрения людей, не похожих на меня, чтобы она прошла испытание известностью и славой и обрела необходимый иммунитет. К чести Шандры, должен заметить, что ей это удалось. Она была в меру таинственна и экзотична, в меру вежлива и приветлива и бесспорно умна — словом, она не разочаровывала. Она научилась держать публику на расстоянии, вести беседу с холодной сдержанностью, а временами — с едким сарказмом; она могла отстаивать свои убеждения с такой логичностью и силой, что я порою изумлялся. Пожалуй, за это ей стоило благодарить Мерфийский Ар-конат — ее упрямый, непокорный дух был закален сорокалетием испытаний, не снившихся в благополучных мирах, подобных Барсуму и Малакандре. И репортеры светской хроники не раз убеждались в этом. Мы объездили северный материк, затем перебрались на южный, чтобы осмотреть те необычные места, где плодородные равнины смыкаются с засушливой бесплодной прерией, предвестницей жарких пустынь. Здесь тоже было жарко; но днем, когда мы выезжали на прогулку, защитой от зноя служили искусственные облака, а ночью мы останавливались в маленьких отелях под куполами с микроклиматом. Этот крааль, называвшийся Кафра, был знаменит своими природными ландшафтами, неисчислимыми стадами шабнов и, разумеется, охотой. Вдоль всей его северной границы, рядом со степью, напоминавшей австралийский буш, тянулась цепочка тех самых отелей — убежищ для благородных охотников, желавших сразиться со сфинксами и прочей нечистью, водившейся в пустыне. Эти убежища были вполне комфортабельными, со смешанной обслугой из роботов и людей, с проводниками-следопытами и обязательным загоном, где содержались верховые шабны. Губернатор Кафры, Ван Дейк Мбона, пятнадцатый сын правящего монарха, пожелал устроить для нас сафари, но я отказался. Я — мирный торговец и не люблю поднимать оружие, даже на хищных тварей вроде сфинксов; я предпочитаю продавать их, а не убивать. Зато мы с Шандрой получили огромное наслаждение от прогулок верхом — одного из немногих удовольствий, коим “Цирцея” не могла нас побаловать. Я вновь убедился, что шабны соединяют достоинства лошади и верблюда, но лишены их недостатков — они послушны и неутомимы, могут скакать от зари до зари и не пытаются сбросить неопытных седоков на землю. У них длинные голенастые ноги и могучие спины (это — от дромадеров), а шеи — изящные и гибкие, с пышными гривами; морды же как у лошадей, с бархатными ноздрями и кротким взглядом огромных карих глаз. Шандра была в восторге от наших скакунов и научилась управляться с ними удивительно быстро. В один из дней мы возвратились к ужину и на пороге гостиничного ресторанчика попали в засаду. Этот парень (я имею в виду репортера), вероятно, поджидал нас несколько часов и теперь готовился за все отыграться. Над его макушкой торчали две голо-камеры на гибких стержнях, на шее болталось ожерелье из микрофонов, а прочий арсенал заключался в наглости, бесцеремонности и неплохо отточенном языке. Видом он походил на рептилию — тощий, длинный, зубастый, с вытянутыми челюстями и кожей сероватого оттенка; кабели от голокамер тянулись за ним, словно хвост. Атаковал он напористо и стремительно: — Добрый вечер, сэр, мадам… Капитан Френч, если не ошибаюсь? И Ее Высочество принцесса Шандра? Могу я вас так называть? — Нет, — отрезала моя прекрасная леди. — Это имя подарил мне супруг, а в ваших устах оно будет непростительной фамильярностью. Репортер, однако, не стушевался: — Тогда, если позволите, миледи Киллашандра… Только пару вопросов, Ваше Высочество… Мы, малакандрийцы, горды происхождением от двух древних земных народов, от черной и белой расы, чей союз даровал нам все достоинства и таланты наших предков. Разделяете ли вы это мнение? Согласны ли, что у нас есть повод гордиться? Шандра оглядела рептилию с ног до головы. — Не вижу причин, сэр, если судить по вашей внешности. Отчего вы не обратились к биоскульпторам? Они могли бы подправить кое-какие дефекты и привести вас в пристойный вид. Щека нашего собеседника нервно дернулась. — Простите, миледи… Неужели мой вид вас шокирует? Что же именно? Цвет моей кожи? Вы разделяете расовые предрассудки? — Никоим образом. Но ваши челюсти и ваши зубы… Наследственный дефект генетики, я полагаю? Кажется, наш репортер не был готов к таким зигзагам интервью. Он ожидал, что Шандра либо похвалит малакандрийцев, либо начнет перемывать им косточки; первый ответ был бы традиционным и тривиальным, второй — скандальным. Однако моя принцесса перешла на личности — верный способ дать наглецу подзатыльник, не сообщив ровным счетом ничего интересного. Теперь у рептилии дергалось левое веко. Покосившись на меня (точней, на мою заиндевевшую шевелюру), он пробормотал: — Но ваш супруг, миледи… Как полагают, капитан Френч прожил двадцать тысяч лет и родился в ту эпоху, когда о генетическом программировании и КР слыхом не слыхивали… Мысль о его дефектных генах вас не беспокоит? Шандра надменно вздернула подбородок: — Мой муж — человек предусмотрительный, сэр! Все его органы клонированы из клеток, прошедших самую тщательную селекцию и обработку! В них нет пороков — как и в его внешности! — Выходит, — заявил репортер, — капитан Френч уже не тот человек, который отправился в странствия в медиевальную эпоху? Он — всего лишь суррогат прежнего Френча, биологический механизм, собранный из запасных частей. И если он дарует вам дитя, можно ли считать, что это его истинный потомок? Или его отец — банк клонированных органов вкупе с кибернетическими хирургами? Надо заметить, что парень был отчасти прав, он только спутал физиологию с психологией. Самосознание человека, его ментальность, его память и накопленный опыт — словом, все определяющее свойства личности — остаются прежними, но наши клетки непрывно обновляются, и спустя какое-то время мы уже состоим из других атомов — факт, известный еще в глубокой древности. Раньше этот процесс приводил к накоплению дефектов в кровеносной, нервной и эндокринной системах; мы старели, дряхлели и умирали. Теперь все изменилось: благодаря препаратам КР наши клетки воспроизводятся с абсолютной точностью — но, само собой, из нового строительного материала. Так что все мы — точные копии самих себя, с учетом поправок, внесенных при генетическом редактировании. Эти поправки, безусловно, полезны, а потому нас сегодняшних нельзя считать суррогатами нас вчерашних — не в большей степени, чем отшлифованный брильянт счесть суррогатом природного алмаза. Что же касается потомства, тут ситуация сложней: хоть все генетические особенности наследуются, одни из них заметны и активны, другие пребывают как бы в латентном состоянии и проявляются лишь через два-три поколения. Правда, есть способы пробудить их. К примеру, специалисты Тритона… Но я слишком увлекся. Вряд ли такие нюансы пришли Шандре на ум в этот момент; она лишь тряхнула головкой и заявила с неподражаемым женским высокомерием: — Массаракш! Уверяю вас, я вполне способна отличить кибернетический механизм от своего супруга. Особенно в постели! Мы проследовали на ужин, а наш рептилоид удалился в прямо противоположную сторону. Не могу сказать, что я ему сочувствовал; я не люблю напоминаний о том, сколько мне лет. Мои годы — мое богатство, и пересчитывать их дозволено не всякому. Затем случился еще один эпизод, весьма любопытный и подтвердивший, что я могу довериться своей супруге. Она стремительно взрослела; я уже не сомневался, что через пару лет она справится с любой щекотливой ситуацией. И лишь один вопрос беспокоил меня — справлюсь ли с ней я сам?.. Вернувшись с очередных степных скачек, мы обнаружили записку от Ван Бюрен Файт, моего агента по связям с местными кутюрье. Собственно, эти дела я считал уже завершенными, и Файт оставалась моим сотрудником по двум причинам: во-первых, я увольняю своих людей за час до вылета; а во-вторых, Файт была прелестной девушкой, толковой и энергичной, и Шандра ей благоволила. В ее записке сообщалось, что некая Ван Трей Удонго желала бы привлечь принцессу КиллаШандру к демонстрации мод осеннего сезона — разумеется, за весьма приличный гонорар. Если миледи не возражает, ей остается только поставить подпись под соглашением и выйти на помост — вместе с еще одной манекенщицей не столь именитой, но уже снискавшей определенную известность. Каков же будет ответ? Шандра была полностью “за”, но я сомневался. С одной стороны, мне хотелось, чтоб она заработала немного собственных денег, округлив те суммы, что уже хранились на ее счетах (помните наше представление с панджебскими статуэтками?..); с другой стороны, теперь я знал, чем кончается демонстрация мод на Малакандре, и ничего не ведал о мадам Удонго. Ее имя не значилось в списках моих покупателей — верный знак второсортности или подмоченного реноме. Я связался с Файт, но ее отзыв меня не вдохновил. — Оборотистая леди, — доложила мой агент. — Владеет сетью ателье и модных лавок, не первоклассных, но вполне пристойных и недорогих. В основном обслуживает клиентуру со специфическими запросами — всяких типов, что желают выглядеть точь-в-точь как король на коронации, но при пустом бумажнике. Она, эта Удонго, неплохой модельер, с фантазией, но ее вещам недостает изящества и вкуса — наденешь их пару раз и выбросишь в утилизатор… Миледи Киллашандра таких платьев не носит! Да и я бы не стала; — Что ей нужно от моей жены? — спросил я Файт, уже догадываясь об ответе. — Ну, сэр, ваша супруга для нее — величайший из шансов! Такая реклама на все сорок пять краалей! Принцесса со звезд… или даже со Старой Земли… — Звезды можно оставить, а вот про Землю мы лучше замнем, — откликнулся я. — Твои рекомендации, Файт? Что ты посоветуешь? Она подумала, поджав пухлые губки, затем решительно покачала головой: — Я против, сэр! Конечно, я получила бы процент от сделки, но я против. Репутация миледи стоит дороже моих комиссионных. Я кивнул, взмахом руки выключил голопроектор и повернулся к Шандре. Моя супруга казалась опечаленной. — Миледи не терпится раздеться? Она порозовела, но не опустила глаз. — Грэм, ты ревнуешь? Ты огорчен тем, что твоя жена выглядит привлекательной для других мужчин? — В одежде, — уточнил я, — только в одежде, моя дорогая. — Но ведь этот финал… эта заключительная сцена… это всего лишь аспект искусства! Я хотела бы его продемонстрировать, а ты бы посмотрел, как у меня получится… Знаешь, ведь этот обычай мог уже распространиться в других мирах! Тебе это не приходило в голову? Не приходило, хотя должно было прийти — ведь я считался великим распространителем культурных традиций! Впрочем, ничего нового на Малакандре не изобрели; стриптиз как таковой известен всюду, кроме, быть может, ортодоксальных миров. Но там — свои развлечения… кометы, посланные Господом, или цереброскоп-аннигилятор… Что до меня, я все же предпочитаю стриптиз. Только не в публичном исполнении моей жены! Япосмотрел на нее и с дрогнувшим сердцем решил сменить гнев на милость. — Ладно, девочка, можешь подписывать этот проклятый контракт! Я только прошу тебя не увлекаться в финале. Там есть вторая манекенщица — вот пусть она и раздевается! — Но, Грэм, дорогой… Это же привилегия манекенщиц высочайшего класса! — Что поделаешь, — вздохнул я, — у манекенщиц свои привилегии, у принцесс — свои… Положение обязывает, детка! Наша репутация должна быть на высоте! Я — Старый Кэп Френчи, Торговец со Звезд, Друг Границы, а ты — Леди-Которая-Не-Раздевается… На этом мы и закончим нашу дискуссию. В ее зеленых глазах замерцали дьявольские огоньки. — Леди-Которая-Не-Раздевается… — медленно повторила Шандра. — Но ведь бывают исключения, дорогой? Например, сейчас? Она сбросила платье, и лишь через пару часов я смог связаться с Файт и сообщить, что ей все-таки светят комиссионные. * * * Я не таскался на репетиции — кроме самого первого раза, когда был представлен мадам Удонго. Справедливости ради должен сказать, что внешность ее меня приятно удивила. В ней чувствовался свой стиль — слишком пышный и яркий, слегка небрежный и безалаберный, но, безусловно, индивидуальный. Словом, знойная женщина, мечта поэта! Она выбрала зрелый возраст, от тридцати пяти до тридцати восьми, в чем усматривался оттенок покровительства — ведь ей приходилось работать с женщинами, которые выглядели на десять или пятнадцать лет моложе ее. Разумеется, все это было чистой бутафорией, но всякий бизнес в сфере искусства наполовину мираж, наполовину ловкий рекламный трюк. Судя по всему, мадам Удонго, игравшая роль старшей сестрицы своих клиенток, это отлично понимала. Я познакомился с ней, вручил ей Шандру и распрощался, дабы заняться своими делами. Мои оранжевые обезьянки и птерогекконы, мои панджебские статуэтки и кристаллошелк, мои наряды и многие записи были распроданы, но кое-что еще оставалось. Например, великая драма “Гамрест”, которую я собирался всучить Фотсванскому обществу изящной словесности. По словам Шандры, подготовка к осеннему шоу мадам Удонго продвигалась вполне успешно. Клев был изрядный; половина прежних моих покупателей собиралась участвовать в аукционе — конечно, не ради знойной мадам, но мечтая снова взглянуть на романтическую принцессу с древней Земли, то ли беглянку, то ли изгнанницу, то ли жертву своих научных пристрастий. Поговаривали, что даже наследный принц пожелал осчастливить мадам Удонго своим присутствием; ну а где принц, там и его жена, его наложницы и фрейлины. Короче говоря, высший свет! Офис мадам Удонго был осажден репортерами, столичные снобы чистили перышки, и все шло к тому, что повторится история с панджебским серебром. Правда, Файт скептически поджимала свои пухлые губки и, в отличие от меня, не пропускала ни одной репетиции, но ей не удалось обнаружить никакого подвоха. Вторая манекенщица, Ван Хазен Ратхи, оказалась приятной и сговорчивой девицей — во всяком случае, она не спорила с Шандрой, кому какое платье надевать. И, разумеется, последний номер программы оставался за ней, как было оговорено в составленном Файт контракте. Ратхи ничего не имела против, даже наоборот: ведь эта демонстрация, вместе с финальным апофеозом, могла стать вершиной ее карьеры. — Прелестная девушка, — отзывалась о ней Шандра. — Еще не выбилась в звезды, как наша Кассильда, но смотрится очень неплохо. Такая же высокая, как я, а тут и тут, — она коснулась груди и бедер, — у нас тоже все сходится. Я могу носить ее платья, а она — мои. Внезапно ей захотелось сделать Ратхи подарок, и за пару дней до демонстрации Шандра слетала на корабль, чтобы воспользоваться услугами роботов-портных. Я ничего не подозревал, клянусь! Мне и в голову не пришло, что этот подарок (вечернее платье из камелотского бархата) был лишь предлогом и что моя хитроумная леди планирует некие меры предосторожности. Она вернулась с большим свертком, в котором что-то шелестело, но я туда не заглядывал. Она показала мне платье Ратхи, и я его похвалил — синий бархат отлично гармонирует со смуглой кожей и темными волосами малакандриек. Ну а что еще было в том свертке, осталось тайной — до самой последней секунды демонстрации. В день выступления я проследовал с ШанДрой и Файт в отель, где полагалось вершить высокое действо. Шандра сунула мне программку, а затем мои девушки юркнули в костюмерную, оставив меня с мадам Удонго и женоподобным субъектом, которому предстояло вести шоу. Дым стоял столбом, публика валила валом: журналисты и участники аукциона, дамы и джентльмены из высшего света, и даже пяток наложниц принца (сам он все-таки не явился, отягощенный государственными заботами). Атмосфера была накаленной, и я никак не мог понять, чего же ждут все эти расфуфыренные снобы: изящного спектакля или громкого скандала. Знойная мадам Удонго в этот раз не вызвала у меня теплых чувств. Невольно я сравнивал ее с Кассильдой; было в них что-то общее, то ли энергия, бившая через край, то ли резковатая манера держаться. Но Кассильда обладала великодушием и юмором, а в нынешней моей собеседнице я не ощущал ни того ни другого. Мне почудилось, что она нервничает; временами в ее глазах мелькало выражение кошки, готовой сцапать хозяйскую канарейку. О причинах я мог лишь догадываться. С Шандрой она расплатилась вперед, и я уже инкассировал выданный чек, переведя средства в платину. Проблем со спектаклем вроде бы тоже не намечалось: обе манекенщицы — профессионалки, а одна к тому же принцесса. Ну а публика — сплошной бомонд из столичного крааля! Чего же еще?.. И все-таки она нервничала. Я отнес это да счет волнения, раскланялся с мадам и сел на свое место, весьма почетное и приятное. Слева от меня щебетали наложницы принца, справа сверкала огненным взором супруга губернатора, а за спиной приземлилась стайка еще каких-то дам, источавших райское благоухание. Так я и сидел, вроде сухой сосновой шишки, брошенной в розовый куст. Мадам Удонго скользнула за кулисы и минут через десять возникла на помосте с самым удрученным видом. На меня она старалась не смотреть. — Благородные дамы и господа, — объявила знойная леди, — у нас маленькое изменение. Моей второй манекенщице нездоровится, и она, к величайшему своему сожалению, не может выйти на помост. Но принцесса Киллашандра готова порадовать вас и провести все шоу от начала до конца. До самого конца, мои благородные гости! Я думаю, вы только выиграете от такой замены! Тут, театрально взмахнув руками, она рискнула поглядеть на меня. Я оскалился — точь-в-точь как хищный сфинкс над горлом обреченной жертвы. Увы, до ее шейных позвонков и нежной шейки изменницы Ратхи мне было не добраться! Сами представьте: слева — наложницы принца, справа — супруга губернатора, а за спиной — весь местный бомонд… Оставалось только скрипеть зубами да слушать, как сзади шепчут: “Ну, на этот раз ей не отвертеться!..” С этим самым зубовным скрежетом я раскрыл программку, протер глаза и вздрогнул — на белом поле крупными буквами значилось: “Не стоит недооценивать меня, дорогой!” Надпись была сделана второпях, красным пишущим стилом, и не могу сказать, что, прочитав ее, я успокоился. Я лишь догадался, что меня ждут сюрпризы — как, впрочем, и всех зрителей вместе с мадам Удонго. Демонстрация началась. Прошествовав первый раз вдоль помоста, Шандра лихо подмигнула мне и больше уже не косилась в мою сторону. Как положено классной манекенщице, она делала пируэты и реверансы, вышагивала с гордым видом, обольстительно улыбалась, кружилась и кланялась, колыхала бедрами, застывала в элегантных позах и кутала плечи в невесомый мех накидок. Струились золотые волосы, струилась и сверкала ткань — то алая, подобная заре, то бирюзовая, как море на закате, то черная, словно космос, расшитая серебряными блес-ками звезд. Ведущий комментировал наряды, мадам Удонго объявляла покупателей, публика восторженно гудела, репортеры не отрывались от микрофонов и камер, наложницы принца хихикали и ели сладости, а я сидел молча и слышал голос Шандры: “Не стоит недооценивать меня, дорогой!” Я ждал сюрприза. Распродажа шла в бодром темпе, хотя демонстрируемые туалеты не отличались оригинальностью и не могли тягаться с моими моделями; пожалуй, ни один из них я не стал бы хранить в банках данных “Цирцеи”. Наконец дошла очередь до последнего номера: согласно давней земной традиции это было белое подвенечное платье с кружевами, прикрывавшими грудь, и с длинным шлейфом. Я прикинул, что Шандра вроде бы задержалась в костюмерной чуть дольше обычного, но такой наряд не наденешь за две минуты. Еще мне показалось, что под кружевами у нее что-то поблескивает, но что именно, я не мог разобрать. Если брильянты, то почему она спрятала их под лифом? Накал страстей достиг апогея. Досужая публика пристыла, а волки модельного бизнеса сражались за подвенечный наряд с таким упорством, будто каждый мечтал осчастливить свою любимую избранницу. Наконец мадам Удонго сверилась с регистрирующим компьютером и объявила: — Продано! Продано сэру Ван Нимейеру Чаке, представителю “Карден Ракель”! Этот господин сидел напротив меня, по другую сторону помоста, так что я мог любоваться, с каким изяществом моя супруга распускает магнитные застежки, подбирает шлейф и вылезает из платья, не забывая при том улыбаться и кланяться. В следующий момент все мы, собравшиеся в зале, были ослеплены: казалось, тело моей принцессы от плеч до самых щикотолок внезапно превратилось в огромный сверкающий алмаз, который пылал и горел ярче искусственного освещения. Она повернулась; волны мягкого радужного сияния окутывали ее, и на мгновение сквозь них дразнящим намеком проступали то округлое гладкое колено, то загорелое плечо, то розовая вишенка соска. Зрители ахнули и застыли. В своем обычном состоянии кристаллошелк прозрачен и бесцветен; вы можете сложить его сто раз и разглядеть под ним маковое зернышко. Вся красота этой сказочной ткани постигается в движении — стоит ее встряхнуть, провести по ней ладонью, как поверхность сразу начинает переливаться и мерцать, напоминая все самоцветы разом. Вы увидите яркий рубиновый свет, нежное сияние аквамарина и сапфира, золотистые топазовые отблески, изумрудную зелень и сверкающие стрелы серебра, какие испускает лишь хорошо отшлифованный алмаз… Чудо, воистину чудо! Особенно если учесть, что толщина ткани не превосходит двухсот молекулярных слоев. Но эти слои защищали целомудрие моей супруги с надежностью космического скафандра. Окруженная сиянием и блеском, она сложила платье и, сделав последний реверанс, вручила его сэру Ван Нимейеру Чаке из “Карден Ракель”. Потом повернулась ко мне. — Грэм, лови! Я едва успел подняться, как она прыгнула прямо мне в руки. Должен напомнить, что Шандра — девушка рослая и при стандартном тяготении весит немало. К счастью, я устоял: помогли тренировки в спортивном зале “Цирцеи”, а пуще того — мужская гордость и упрямство спейстрейдера. Так что мы не рухнули на пол под креслами. Я даже ухитрился взойти на помост, не забывая покачивать свою драгоценную ношу, чтобы она светилась и сияла поярче. В зале на секунду наступила мертвая тишина, затем зрители разразились овациями, хохотом и свистом. На лице мадам Удонго промелькнула симфония бурных чувств: стыд сменил растерянность, а за ним смуглые щеки знойной красавицы побагровели от гнева. Ну что ж, подумал я, направляясь за кулисы, она хотела скандала — она его получила! Сопровождаемые ревом зрителей, мы добрались до костюмерной. Перед ее дверью несла стражу бдительная Файт. Увидев нас, она отвернулась; кажется, ее одолевал смех. Из зала все еще слышались выкрики и хохот. Всем все было ясно: подставка с недомоганием Ратхи, шитая белыми нитками хитрость мадам и ответный ход моей принцессы. Она ни в чем не подвела свою хозяйку, перевыполнив контракт; ее попросили раздеться, и она разделась. А уж что у нее было под платьем, знал один всеведущий Творец — и, быть может, верная Файт. В костюмерной Шандра быстро переоделась, и теперь я разглядел, что ее наряд из кристаллошелка скроен по образцу нашего незабвенного комбинезончика. Она натянула платье, в котором явилась в отель, и я спросил, почему она не надеваетодин из туалетов мадам Удонго. Это было традицией, знаком уважения к хозяйке шоу. Шандра тряхнула гривой золотистых волос: — Я не собираюсь носить ее модели и спасать ее репутацию! — Ты думаешь, ее репутация нуждается в спасении? — Еще как, Грэм! Ведь всем ясно, что она подстроила… Она распускала слухи, что ожидается нечто неординарное, всякие сплетни и намеки — знаешь, как это бывает: слово здесь, слово там… А Файт держала ушки на макушке и все рассказывала мне. — Тут Шандра, окинув меня задумчивым взглядом, заметила: — Конечно, этим меня не смутишь — я бы разделась, милый, присела, поклонилась и помахала публике ручкой. Но раз ты запретил… раз тебе это неприятно… Я не хочу сердить тебя, Грэм, я не хочу расстраивать. Я тебя люблю. Мне показалось, что сам Господь прошелся босыми ногами по моему сердцу. В смущении я пробормотал: — Спасибо Файт… Как говорится, praemonitus praemunitus. Брови Шандры изогнулись. — Что это значит, Грэм? — Кто предупрежден, тот вооружен. Это на латыни, Шандра. Так говорили римляне, древние римляне, двадцать два тысячелетия тому назад. Они были мудрым народом и очень предусмотрительным… почти как ты, дорогая. Вечером я пригласил Файт в наш номер — лучший в лучшем из отелей Фотсваны. Здесь он назывался не президентским, а королевским, и это значило, что вас обслуживают не роботы, а люди, что ковры на полу вдвое толще, чем на Барсуме, а постель — вдвое шире. Пожалуй, Его Краальское Величество мог бы улечься тут со всем своим гаремом! Но я не собирался смущать Файт видом этого чудовищного ложа и принял ее в кабинете. Шандра, разумеется, была со мной — сидела на ручке моего кресла. — Твои комиссионные, детка. — Я протянул Файт заполненный чек, но она отдернула пальцы. — Сэр, могу ли я обратиться с просьбой к миледи Киллашандре? — Конечно. Но возьми же чек! — Сэр, миледи… Прошу прощения, я предпочла бы иную форму компенсации. Я посмотрел на Шандру — она улыбалась. Кажется, эти две птички уже у спели: почирикать за моей спиной! Ну и какие же песни споют они мне? Опустив чек на стол (столешница из малахита, инкрустированного серебром), я откинулся в кресле и устремил взгляд в потолок. Файт сидела напротив, поджав пухлые губки и скромно сдвинув колени; ее милая смуглая мордашка порозовела от смущения. — Сэр, Ван Нимейер из “Карден Ракель” сделал мне предложение… — Поздравляю, — отозвался я без особого энтузиазма. Этому Ван Нимейеру я не слишком симпатизировал — быть может, оттого, что Шандра все-таки сбросила перед ним платье. — О, сэр, вы не правильно меня поняли! Это деловое предложение, а не… Шандра фыркнула у меня над ухом, нагнулась и прошептала: — Перестань мучить бедную девочку, Грэм, а то я тебя укушу! Я милостиво кивнул. — Ну так чего хочет бедная девочка от миледи? — Ван Нимейер готов выпускать белье из крис-таллошелка… понимаете, сэр, такое же, какое было на миледи под тем свадебным платьем… — Дорогая вещь, — заметил я. — Не каждому по карману. — Верно, — согласилась Файт. — Но “Карден Ракель” — поставщик королевского двора, а те дамы, что были на демонстрации, просто в восторге… Я имею в виду — от миледи и ее комбинезончика. Я вспомнил наложниц принца, супругу губернатора и снова кивнул. Пожалуй, Файт было нельзя отказать в деловом чутье! — Хочешь получить лицензию на производство вместо комиссионных? И вступить в долю с Ван Нимейером? — Вот именно, сэр. Для меня это верный шанс. Но, кроме лицензии… Она бросила взгляд на Шандру, и теперь моя супруга принялась милостиво кивать. — Кроме лицензии, сэр, я хотела бы обладать эксклюзивным правом на рекламу изделия. Если миледи позволит использовать свое имя… разумеется, не бесплатно… Кажется, у миледи возражений не имелось, и я понял, что скоро местные модницы будут щеголять в белье а-ля принцесса Киллашандра, а “Карден Ракель” обзаведется новым компаньоном. Но — не бесплатно, не бесплатно, как сказала Файт! Какую же плату возьмет с нее моя супруга? Я спросил ее об этом. Шандра задумалась. — Помнится мне, был один случай с Кассильдой… в те времена, когда ее не считали знаменитостью… Она говорила, что как-то раз, после удачного выступления, ее прокатили в карете с черными единорогами, с шампанским и грудами цветов… С тех дней началась ее слава! И если Файт устроит нам такую прогулку… скажем, по кольцевому шоссе вокруг столицы… Файт расцвела, вскочила из кресла и чмокнула Шандру в щеку. — Карета, шампанское и цветы! Вы, я и капитан Френч вместо кучера! Изумительно, миледи! Потрясающе! Вот только где бы разжиться единорогами? Такими, что приучены ходить в упряжке? Может, в поместьях короля? Или принца? Мы посовещались еще немного, решив остановиться на шабнах — все-таки надо учитывать местный колорит, хотя бы в части тягловой силы. Что до цветов и шампанского, то они на Малакандре не хуже, чем на Барсуме, а в выборе кучера мы оказались полностью оригинальны. С кем бы ни ездила Кассильда на черных единорогах, то был — клянусь! — не Старый Кэп Френчи, великий Торговец со Звезд!ГЛАВА 11
После той очаровательной прогулки мы пробыли на Малакандре еще пару недель, посвятив их отдыху и развлечениям. Должен признаться, что в этом смысле столичный город не оставляет желать лучшего. Во-первых, Фотсвана лежит на восьмидесятом градусе северной широты, и здесь не столь жарко, как в южных степях, граничащих с пустынями. Во-вторых, окрестности столицы прелестны: парки с фонтанами и дворцами, озера среди древесных кущ, скалы с хрустальными водопадами, уединенные дорожки для верховых прогулок и довольно крутые холмы, где разбит городок аттракционов. В-третьих, здесь находятся резиденции короля, наследного принца и губернатора, и каждый держит свой двор — а как известно, придворным дамам и кавалерам подавай все самое лучшее. Вот почему в Фотсване самые лучшие отели, самые лучшие театры и самая лучшая кухня. Еще тут есть магазины — не огромные универмаги с роботами у прилавков, а крохотные лавчонки антикваров и ювелиров, где можно с легкостью просадить целое состояние. В одной из таких лавочек выставили часть моих панджебских изваяний (приобретенных, видимо, на аукционе), и я ее посетил, выбрав нитку розового жемчуга для Шандры. Владелец, почтенный Ван Рох Балеки, выглядел лет на тридцать, но было ему за девятьсот; он пережил двух малакандрийских королей и надеялся, что переживет третьего. Мудрый человек, должен заметить, и большой ценитель жемчуга-у него скопилось с полсотни ящиков ожерелий, браслетов и диадем, так как в последнее время жемчуг на Малакандре вышел из моды. Ван Рох был готов уступить мне половину с двадцатипроцентной скидкой, если миледи Киллашандра выйдет в свет в жемчужном колье — а лучше обвешанная жемчугом с головы до ног. По его мнению, это пробудит интерес к прекрасным древним традициям, когда жемчуг считался первой драгоценностью королей. Я заключил с ним сделку, и в тот же вечер мы с Шандрой собрались в балет. Она решила надеть платье с глубоким вырезом — розовые жемчужины отлично гармонировали с ее смуглой бархатистой кожей. Нам предстояло смотреть “Месть капитана Рего”, историю сложную и драматическую, так что я счел необходимым заранее просветить Шандру. Балет есть балет — прекрасное, но довольно условное искусство, и лучше, если вы знаете, что происходит в начале, посередине и в конце. Если вам ясен сюжет, вы с большей легкостью следите за ним и, уж во всяком случае, не приметесь хохотать, когда положено прослезиться. Сам я не встречался с Филом Регосом с “Прекрасной Алисы”, но, разумеется, знал о его трагических похождениях. Это случилось восемь тысячелетий тому назад — вполне достаточный срок, чтобы история Регоса облетела всю Галактику, вдохновив многих романистов и драматургов. Но, кроме литературных интерпретаций, у меня имелись объективные данные о случившемся — как и у всех спейстрейдеров, сколько их есть на белом свете. Если не ошибаюсь, я получил эту информацию от Даваслатты с “Королевы пчел” — через планетарный компьютерный банк Лайонеса, где было оставлено сообщение. — Месть Рего — одна из самых мрачных космических легенд, — сказал я Шандре, — и, пожалуй, самая поучительная. Она имеет к нам прямое отношение, дорогая, — да и к любой супружеской паре, связанной узами любви. Странно, что любовь и ненависть идут временами рука об руку или следуют друг за другом по пятам… У Рего был второй случай. На самом деле его звали Регосом, Филипом Регосом, и он, я думаю, до сих пор странствует на “Прекрасной Алисе” — но, как утверждают, в одиночку. Возможно, это лишь слух, но мне он кажется правдивым. Поджав ноги, Шандра уютно устроилась в кресле. Мы только что отобедали и сидели в нашей гостиной за спущенными шторами, наслаждаясь прохладой и полумраком. До спектакля оставалось еще три часа, и я был расположен использовать их с толком. Знаете, бывает настроение, когда хочется рассказать какую-нибудь историю — пусть даже такую мрачную, как о Филе Регосе. И хоть повесть моя была невеселой, Шандра слушала, затаив дыхание. — Фил Регос, космический торговец, летал на “Прекрасной Алисе” вместе с женой, обвенчанной с ним согласно традициям чести и законам космоса. Ее звали Сдина Бетин Сди, и я полагаю, они были счастливой супружеской парой — во всяком случае, Регос любил ее до безумия. Вероятно, он являлся человеком романтическим и сентиментальным, способным на глубокие чувства; в то же время он был спейстрейдером, а это занятие дарует способность к анализу и расчету. Такие люди, как Регос, ничего не забывают, никому не прощают и во всем идут до конца — что и подтвердилось дальнейшими событиями. Итак, в один бедственный день Регос прибыл на Землю Лета, не самое лучшее место в Галактике и не самое безопасное — по крайней мере, в ту древнюю эпоху. Его корабль оставался на орбите, а сам Регос и его жена спустились вниз, дабы заняться делом, развлечься и ощутить твердую почву под ногами. Визит торговца — огромное событие для всякого мира, а если мир сей погряз в невежестве и нуждается в технических новинках, то спейстрейдер там все одно что Господь Бог. Но божество на Земле Лета уже имелось — богоимператор и самодержец Клерак Белуг. Но все-таки пришествие Регосов было событием грандиозным, и по этому поводу Клерак устроил роскошный прием в своей резиденции. Регос с супругой облачились в лучшие одежды и отправились во дворец. Сдина Бетин блистала красотой… Тут Шандра, прервав меня, поинтересовалась, какого рода-племени была эта несчастная красавица. Я не знал, где Регосу удалось ее отыскать, и связался с корабельным компьютером. Как выяснилось, у “Цирцеи” тоже нет такой информации, но она переслала нам голограмму Сдины Бетин — в полный рост, в парадных одеждах, с великолепными украшениями. Да, за такую женщину стоило мстить… Волна черных блестящих волос падала на спину, открывая смуглое лицо с мелкими точеными чертами; глаза были огромными, карими, губы напоминали лепестки тюльпана, лоб, высокий и выпуклый, обрамлял венец из кроваво-красных рубинов. Ее одеяние, длинное платье с высоким воротником, тоже отливало цветами кровавой зари, золотистые молнии струились вдоль подола, золотые ромбы украшали воротник, лиф был расшит золотыми розами. Платье облегало ее как перчатка, подчеркивая высокую грудь, тонкий стан и длинные стройные ноги. Перед нами было одно из последних ее изображений; возможно, в этом наряде она и явилась на императорский прием. — Вот это красавица! — с восторгом выдохнула Шандра. — Высокая, грациозная и такая, такая… Грэм, клянусь, я не могла и представить, что в мире есть подобная красота! — Уже нет, — грустно отозвался я, всматриваясь в строчки под зыбким трепещущим изображением. “Цирцее” не удалось идентифицировать ни расу, ни племя, к которому принадлежала супруга Регоса, и это само по себе являлось поразительным фактом — ведь банки ее были бездонны, а распознающие возможности программ фактически неограниченны. Но сейчас она предлагала мне только одну гипотезу — что прекрасная Сдина Бетин являлась с начала и до конца биоскульптурным творением, созданным клетка за клеткой, молекула за молекулой в генетической лаборатории. Фил Регос мог выбрать первичный образчик ткани для клонирования, оплатить труды генетика в каком-нибудь из развитых миров и удалиться в космос на сто или двести лет, пока его суженая не достигнет зрелости… Я слышал о подобном, но отношусь скептически к таким попыткам сконструировать свой идеал. Если даже эксперимент успешен, если не допущены ошибки в зиготе и ее последующих метаморфозах, если девушка уродилась красавицей, остается некое большое “НО”… Эти красотки желают кого угодно, только не спейстрейдера, который оплатил, заказ, и этот бедняга в лучшем случае не получит ничего, а в худшем приобретет вместо жены рабыню. Но, быть может, Регосу выпал счастливый шанс?.. Наверное, Сдина Бетин все-таки любила его… Я поделился своими соображениями с Шандрой, и она, поколебавшись, спросила: — Грэм, а ты… ты когда-нибудь это делал? — Делал что? — Ну, ты пытался заказать себе девушку в генетической лаборатории? Вот такую… — Она ревниво покосилась на голограмму Сдины Бетин. Я расхохотался. — Знаешь, крошка, сколько это стоит? Не дешевле планетолета с ионным приводом! Старый скупердяй вроде меня скорее удавится, чем просадит такие деньги! Да и зачем? Зачем, моя милая? Ведь я купил прекраснейшую женщину во Вселенной всего за полтора килограмма платины! Она выскочила из кресла, метнулась ко мне и впилась зубками в шею. Должен признаться, это было не самым неприятным ощущением в моей жизни. Убрав голограмму, я погладил мягкие волосы Шандры и продолжал рассказ: — Итак, они явились на прием к императору-самодержцу, Фил Регос и его прекрасная супруга. Сдина была очаровательна; можно представить, как на нее взирали аборигены. В том мире люди невысоки и худощавы, вроде меня; у них белая бледная кожа, глаза серые, как у мерфийцев, высокие скулы и узкие челюсти с мелкими острыми зубами… Неприглядная внешность, одним словом! Сдина была для них не просто красавицей, а яркой сказочной орхидеей среди пожухлых серых трав… И божественный Клерак Белуг не спускал с нее жадных взоров. Как все самодержцы, он обзавелся гаремом, но его красивейшие наложницы и рабыни были ничто рядом со Сдиной Бетин. Она затмевала их, как солнце затмевает звезды… Шандра поморщилась: — Гарем, наложницы, рабыни… Что же, у этих девушек не было выбора? И как обстоит дело здесь, на Малакандре? — На Малакандре узаконено многобрачие, с равными правами для женщин и мужчин, — пояснил я. — Тут просвещенный монархический строй, а на Земле Лета процветала деспотия. Так что выбор в самом деле был невелик — или в гарем, или под нож… К тому же Клерака чтили как божественного императора, и в этом титуле “божественный” значило много больше, чем “император”. Те, кто ублажал его, свершали священный акт, и я думаю, что девушки рвались в его гарем и покорялись самым жутким его капризам — даже если они приводили несчастных к смерти. Жертва и смерть по воле божества считались высшим счастьем. — Мерзость! — пробормотала Шандра, сверкнув зелеными глазами. — Покорность убийце и развратнику такая же мерзость, как самоубийство! Мой рассказ привел ее в мрачное настроение, и я догадывался, в чем причина: она думала о Лазарусе Лонге, о своем отце. Разве тот послушно и добровольно не отдал ее в лапы Арконата?.. Отдал с той же покорностью, с какой летнеземельцы и их девушки “чтили” кровавого деспота, предаваясь ему душой и телом?.. Эта тема была запретной, и я не хотел поминать об отце Шандры. Но жизнь есть жизнь; ее суровые реальности, страдание и боль, так же полезны для воспитания чувств, как нежность, ласка и доброта — даже в том Раю, который я пока еще не нашел. В том Раю живут сильные чистые души, но возможно ли достичь силы и чистоты без страданий?.. Вот в чем вопрос! Ответа я, к сожалению, не знаю. — Ты права, — сказал я Шандре, — покорность мерзости тоже есть мерзость. Но это непростой процесс, моя дорогая, очень непростой! Однажды, под давлением обстоятельств и пропаганды, ты смиряешься с ложной идеей — например, с мыслью, что некая личность сделалась Богом или непогрешимым вождем. Спустя какое-то время ты теряешь ощущение реальности: ложная идея кажется тебе допустимой, затем — вполне вероятной и, наконец, единственно возможной. Все, ты угодил в капкан! Ты, собственно, уже не человек, а запрограммированный робот; ты можешь свершать ужасные вещи, поскольку идея правит тобой, диктует тебе, насилует тебя… И если ты когда-нибудь сумеешь от нее освободиться, капкан все равно тебя прихлопнет. Ведь если ты — человек, невозможно жить с памятью о бесчинствах и зле, свершенных тобой, когда ты был бездушным роботом! Кивнув, она попросила продолжить рассказ о Регосе. Сценарий его злоключений был стандарт ным: С дина Бетин приглянулась Клераку, и тот без лишних церемоний послал к ней дворецкого с предложением заглянуть в императорскую опочивальню. Будучи незнакома с местными нравами, она ответила, что благодарит за честь, но ее супружеские обеты не позволяют обманывать мужа. А затем… Тут Шандра снова перебила меня. — Обеты, Грэм? Такие же, как наши? — Да, девочка. Я ведь сказал, что Филип Регос и Сдина сочетались согласно традициям чести и законам космоса. В точности как мы с тобой. Но слушай, что случилось дальше… Итак, император сделал предложение и получил отказ. Казалось, это его не разгневало; он лишь начал уговаривать Регоса задержаться в его резиденции на день-другой, дабы отметить визит торговца пирами и пышным балом. Регос, подумав, согласился, и вечером они со Сдиной отправились в свои покои. — Не слишком предусмотрителен этот Регос, — заметила Шандра. — Вот ты, Грэм, не остался бы ночевать в доме, где делают гостю такие предложения! — Скорее всего нет. Но вспомни, милая, что мы, как и чета Регосов, спейстрейдеры, — а значит, нам надо ладить с планетарными властями. С диктаторами и тиранами, с президентами и королями, с первосвященниками и вождями всех политических раскрасок… Ведь мы, спейстрейдеры, тоже прожженная шайка и странствуем в космосе ради выгоды! Мы повидали многое, и хорошее и дурное, и знаем, что все проходит. Все проходит, девочка моя! Со временем разваливаются диктатуры, гибнут монархии, коллапсируют демократические общества; тысячелетие безбожия сменяет век религиозности, и наоборот… Так случилось на Мерфи, на Панджебе и во многих иных мирах… Но эти перемены не касаются нас, космических странников; мы — связующая нить всех человеческих культур, мы летаем повсюду, и всюду торгуем, и переносим жемчужные зерна с планеты на планету… Мы — неприкосновенны! Так считал Регос, и я не могу винить его в неосторожности. К несчастью, у богоимператора были свои понятия о гостеприимстве. Ночью его гвардейцы ворвались в спальню, связали Регоса, отволокли на катер и включили автопилот. Через полчаса он болтался в приемном шлюзе “Алисы” — беспомощный, как удавленник в петле; а император насиловал Сдину Бетин. Затем ее судили. Вероятно, она сопротивлялась насильнику, так как обвинение включало два пункта: отказ разделить с императором ложе и непокорность его божественным желаниям. Последнее было тягчайшей виной, ибо Клерак не получил ожидаемого удовлетворения, а значит, Сдина совершила святотатство. Итак, ее судили, приговорили к смерти и сожгли излучателями на главной дворцовой лестнице. Шандра вздрогнула и побледнела: — Ужасно! Это ужасно, Грэм! Но Регос ведь не остался в долгу? Он за нее отомстил? — Не сразу, моя милая, не сразу. Помнишь, я говорил: такие люди, как Регос, ничего не забывают, никому не прощают и во всем идут до конца? Но при этом не спешат, дабы приблизить чужой конец и отсрочить собственный… Вот и Регос не торопился. Ведь самое страшное уже случилось! Да и что он, собственно, мог сделать? Корабли торговцев не вооружены, а бросаться на гвардейцев Клерака с парой бластеров было бы самоубийством.’.. Когда роботы развязали Регоса, он включил голопроёктор, связался с императорской резиденцией и потребовал, чтобы ему вернули Сдину. Только бы вернули — опозоренной, израненной, мертвой, лишившейся рассудка, какой угодно! Ему был показан холмик пепла, и я видел эту запись… Но лучше нам ее не глядеть, дорогая. Кивнув, Шандра прикрыла ладонью глаза. Голос ее, однако, был ровным. — Что же случилось после, Грэм? — Регос улетел, и богоимператор забыл о его существовании. — Но разве он не боялся мести? Как он рискнул отпустить Регоса живым? — Видишь ли, он царствовал уже целых два столетия, и ложная идея — та самая, про которую мы Говорили, — уже пустила корни в его сознании, взросла, расцвела и принесла плоды. Он в самом деле считал себя Богом! Он действовал по законам своей планеты, а высший из них был таков: воля императора — священна! Чего же ему бояться? Помимо того, он имел свой взгляд на женщин: они считались всего лишь живыми куклами, игрушками для удовольствий, и им надлежало покорствовать… Будь Сдина покорной, ее бы убили, но не сожгли, и Регос, получив ее тело, мог бы клонировать свою жену… Если б, конечно, захотел… — Но сам он… — Сам он являлся гораздо более важной персоной, потому его и оставили в живых. Космических торговых кораблей не так уж много, пара сотен на всю огромную Галактику, и если мы, торговцы, соблюдаем правила игры, никто нас не тронет и не покусится на наше имущество. Убить или ранить спейстрейдера значит, подвергнуться тысячелетнему остракизму. Это очень серьезно, дорогая! Остаться в полной изоляции на долгие-долгие века… Даже Мерфийский Арконат и диктаторы Траная не захотят рискнуть такой возможностью… Но вернемся к нашей истории. В системе Земли Лета был пояс астероидов, совершенно безлюдный, поскольку летнеземельцы не имели космических транспортных средств и не разрабатывали космических месторождений. По большей части эти глыбы состояли из железа, никеля и других тяжелых элементов, включая актиноиды. Регос удалился туда, лег на стационарную орбиту, переоборудовал свои мастерские и начал добывать металл. У него были отличный компьютер, все нужные спецификации и несколько десятков универсальных роботов, способных бурить скважины, перерабатывать руду и создавать самые сложные конструкции. Он трудился наравне с ними много лет, и я полагаю, что это спасло его от безумия — труд и жажда мести сделались лучшим лекарством. Он нуждался в оружии, в сокрушительном оружии и энергетических источниках, более мощных, чем корабельный реактор. Самым простым было бы наладить производство ракет с ядерными боеголовками, но Регос не хотел губить планету. Ядерные взрывы страшны не сами по себе — гораздо страшнее последствия, радиоактивное заражение, которое длится веками. После массированной бомбардировки летнеземельцы просто бы вымерли, а это Регосу — даже в том состоянии, в котором он пребывал, — казалось излишней жестокостью. В концов концов, он собирался отомстить владыке, а не всем его несчастным подданным. Все иные варианты, кроме ядерного, требовали времени, но время мало значило для Регоса. Он трудился тридцать пять лет, пока не построил то, что ему хотелось, — гигантский лазер, самый мощный из всех, когда-либо созданных в обитаемом космосе. Его излучение могло вскипятить моря, расплавить горы, обратить в прах и пепел любой из городов лет-неземельцев — без всяких вредных последствий в будущем. Конечно, если не считать цунами, землетрясений, озоновых дыр, губительных ливней и ураганных ветров… Для опыта Регос спалил пару каменных глыб диаметром в милю, а затем направился к вражеской вотчине. Оборониться летнеземельцы не могли — за неимением боевых планетолетов и орбитальных космических баз. Над планетой кружили пять навигационных спутников, заодно ретранслировавших телепередачи; эти автоматические устройства сделались первой жертвой Регоса. Теперь вся планетарная связь была у него в кармане. Он мог говорить с каждым городом, с каждым материком — угрожать, запугивать, требовать, ставить помехи, препятствовать навигации, предъявлять ультиматумы… Он сжег несколько фабрик, испарил с полдюжины озер, обрушил в море склады и пирсы в крупнейших портах, а затем наполнил эфир своими передачами. Он требовал, чтобы богоимператор явился на “Алису” — вернее, чтобы его доставили на корабль в наручниках и кандалах. Альтернативой был Апокалипсис — примерно в том же варианте, какой случился на Мерфи. Но излучатель Регоса был страшнее кометы — комета свалилась один раз, а он мог кружить над обреченным миром годами, терзая его, будто безжалостный гриф-падалыцик. Он клялся, что не уйдет, пока не очистит планету для новых переселенцев. И клятвы эти не были пустым звуком. Времени на раздумья он дал в обрез — ровно один день; и в тот же день внизу вспыхнула гражданская война. Имперские гвардейцы и духовенство боролись со всем остальным населением, а Регос, словно карающий меч Господень, парил в небесах и ждал, когда минуют отпущенные сроки. Ему пришлось продлить время ультиматума, но в конце концов он своего добился: Клерак был схвачен после очередной резни, закован в железо и поднят на орбиту. Я замолчал, соображая, стоит ли рассказывать Шандре дальнейшие подробности. Они были слишком жуткими, эти описания пыток, достойных “Молота ведьм”, — только Регос использовал не раскаленные иглы, огонь и клещи, а электрошок и своего робота-хирурга. Он записал несколько нейроклипов, раздарив их потом во многих мирах — как я полагаю, для устрашения и назидания. Эти записи у меня имелись, как у любого спейстрейдера, но я не хотел показывать их Шандре. — Что же было потом? — спросила она, прервав затянувшееся молчание. — Потом? Потом Клерак умер, и смерть его была нелегкой. Я думаю, ты это увидишь — в облагороженном балетном исполнении. — Уфф! Какая ужасная история, даже для балета! Не уверена, что хочу его смотреть! Я улыбнулся. — Даже в своих жемчугах и шелках? Но ведь это искусство, милая! Такое же танцевальное шоу, как демонстрация нарядов с легким стриптизом под конец. Она покачала головой: — Нет, не такое же. Все это случилось на самом деле — пусть в прошлом, пусть давно, но это может повториться. С нами, Грэм, с тобой и со мной! И что ты будешь тогда делать? — Построю излучатель вдвое больше, чем у Регоса… Но не волнуйся, детка, его историю знают повсюду, и ни один тиран, ни один самозваный бог не рискнет потягаться со спейстрейдером. В конце концов, мы живем наверху, они — внизу, а значит, преимущество за нами! Это была святая истинная правда. Если б я, вдруг сделавшись императором и богом, вознамерился создать земной Рай, не уверен, что такая задача пришлась бы мне по плечу, как и любому из моих коллег. А вот преисподнюю мы можем устроить запросто! В памяти “Цирцеи” масса сведений на этот счет — о ракетах и пушках, о лазерах и боевых киберах, о психотропных средствах и цереброскопах-аннигиля-торах, о ядовитых газах, жутких микробах, губительных генетических мутациях, о фризерных бомбах, способных вызвать оледенение, о геодеструкторах и глобальной санации почв и атмосферы. Есть из чего выбирать! Вас это не удивляет? Не длинный перечень оружия, а тот факт, что зло всегда творится с меньшими затратами и с большей легкостью, чем добро? Наступил вечер, мы принялись собираться, но Шандра еще успела расспросить меня, что же случилось потом с летнеземельцами. Ничего хорошего, насколько я помнил: приверженцев Клерака частью перебили, частью покарали старением, война увяла, и начался дележ добра, шахт, заводов, фабрик и земель, бывших прежде имперским достоянием. Летнеземельцы хотели все устроить по совести, создав с этой целью множество компаний, комитетов и комиссий по приватизации, которым и достался весь навар. Теперь у них правительство национальной справедливости: земли, заводы и власть принадлежат самым активным горлопанам, а остальное население поделено на двадцать категорий, носит дерюжные одежды и питается вареной брюквой. Мрачное местечко, доложу я вам! Не Рай, отнюдь не Рай! За нами пришла машина, мы спустились вниз и отправились в театр. К балету я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, танец и музыка чаруют меня; что может быть прекрасней человеческих тел, их плавных либо стремительных движений, их грациозной гибкости, их пластики, выразительной и одухотворенной?.. Но есть и другая сторона медали — отсутствие текста. Человек — животное, способное говорить, большую часть информации мы получаем именно этим путем, и никакая пантомима не заменит мне острого словца, едкой реплики или возвышенного монолога. Впрочем, как бы я ни относился к балету, я посещаю представления едва ли не в каждом из обитаемых миров и обычно ухожу с чувством, что деньги потрачены не зря. Так случилось и на этот раз. Тяга к биологической науке совсем не вредит искусствам малакандрий-цев — пожалуй, даже придает им большую естественность и тонкость и, несомненно, большую глубину. В данном случае либреттист и постановщик не пытались копировать все злоключения Регоса, избрав свою оригинальную трактовку, и многие сцены привели меня в восторг. Скажем, та, где он в отчаянии и гневе сражается со своими путами… Конечно, я знаю, что его развязали роботы, однако здесь натурализм неуместен; искусство танца взывает не к разуму и логике, а к чувствам. Была великолепна и заключительная сцена пыток: злодей-император, прикованный к стрелке гигантских старинных часов, поднимался вверх с каждым шагом маятника (что символизировало нарастающие муки), а Регос кружил вокруг него в стремительном яростном танце. Не уступал солистам и кордебалет, изображавший придворных Клерака, его гвардейцев и киберов с “Алисы”; восхищенный, я упивался огненной феерией в звездных небесах, когда под гул барабанов и звон литавр танцоры-роботы собирают гигантское орудие мести. Во время всего спектакля настоящие роботы не раз заглядывали в нашу ложу — с цветами для миледи Киллашандры. В букетах нашлись и записки; половина — любовных, с такими же недвусмысленными намеками, как от злодея Клерака, а половина — деловых. Дамы и кавалеры Фотсваны хотели узнать, где принцесса раздобыла такие жемчуга — возможно, привезла с Земли, как исеребряные статуэтки? Всем этим корреспондентам я переслал адрес лавочки Ван Роха; что же касается букетов с любовными посланиями, их мы отправили в дар труппе. Не был забыт и режиссер — ему я послал видеодиски с “Погоней за Гамрестом”. Тонкий намек, признаюсь вам! Уже через день мы получили полную запись спектакля — “дабы капитан Френч и леди Киллашандра могли наслаждаться малакандрийским искусством, странствуя среди звезд”. Именно так написал режиссер, и я уверен, что наша маленькая сделка была для иего небезвы годной. Как, впрочем, и для меня.ГЛАВА 12
В последующие дни, проведенные нами в столице, Шандра не раз возвращалась к истории Регоса. Я счел это добрым знаком. Она взрослела, горизонты ее делались шире, размышления — глубже, наблюдения — точней; из монастырской послушницы с захолустной планетки она становилась леди Кил-лашандрой, супругой капитана Френча, спейстрейдера. Она уже понимала, что, кем бы я ни был — ее нежданным избавителем, чудовищем из космоса, киборгом, бродягой или богачом, — я не всемогущ. Ergo, она желала знать границы моих возможностей. Я уверен, что это диктовалось не эгоизмом, если что и беспокоило Шандру, так это моя безопасность. Наша безопасность, точней говоря. Как-то вечером она раскрыла программку, принесенную из театра, и прочитала вслух: "Судьба огромного лазера и остальной боевой техники капитана Рего покрыта мраком тайны до настоящих времен. Бытуют легенды, что он оставил все это вооружение на орбите у безымянной звезды, известной лишь спейстрейдерам — на тот случай, если кто-нибудь из них попадет в такую же ситуацию, как некогда сам Рего. Возможно, это правда, возможно — домыслы, распространяемые космическими торговцами в подкрепление своего исключительного статуса; мы не имеем сведений о том, чтобы губительные устройства Рего были найдены кем-нибудь и пущены в ход. Абсолютная чепуха, сказал я Шандре. Слишком долгий и сложный вариант — лететь к этой мифической звезде и тащить обратным рейсом гигантский излучатель. Если уж спейстрейдера обидят, у него найдется способ оплатить долги, причем без всяких задержек. Что же касается устройств Регоса, то реактор он демонтировал, радиоактивные материалы забрал с собой, а лазер сбросил с орбиты в жерло вулкана, чтобы тот не достался летнезем ельцам. Разумеется, Шандра поверила мне, но все-таки, связавшись с бортовым компьютером, забавлялась час-другой, разыскивая информацию о том безымянном светиле, где Регос будто бы припарковал свой лазер. Полезный эксперимент, надо отметить: он дает представление о масштабах человеческого космоса, который не столь уж велик, но и не мал — три-четыре спиральных рукава в нашей части Галактики. Тысячи обитаемых миров и десятки тысяч исследованных, расположенных в сфере радиусом триста пятьдесят парсеков, — вот результаты космической экспансии землян. Я согласен, что это выглядит весьма внушительно, но хотел бы напомнить, что диаметр галактического диска двадцать пять килопарсеков и что в Галактике сто миллиардов звезд. К счастью, многие из них имеют крупные спутники, сложенные из твердых пород и, как правило, окруженные атмосферой. Разумеется, пригодных для обитания миров гораздо меньше — ведь значительная часть светил относится к красным карликам или гигантам либо представляет собой слишком мощный источник света, тепла и радиации, убивающий жизнь. Еще есть кратные звездные системы из двух, трех или четырех объектов, в которых планетарные тела движутся по столь прихотливым траекториям, что создается огромный перепад давлений и температур, губительный для человека. Но все-таки землеподобных планет не так уж мало. В начале периода космической экспансии были открыты и заселены пять звездных систем: Логрес, Исс, Лайонес, Пенелопа и Камелот; в то время от Земли до Окраины было рукой подать — каких-то десять-пятнадцать светолет, ничтожное расстояние. Но сфера человеческой Вселенной все расширялась и расширялась, включая десятки, а вскоре — сотни планет: Арморику и Транай, Панджеб и Секунду, Эдем и Шангри-Ла, Виолу Сидера и Новую Македонию — словом, все миры, колонизированные в первом тысячелетии после начала межзвезных полетов, которые мы теперь называем Старыми. Это отодвинуло Окраину на восемьдесят световых годов, а в последующие эпохи, когда были обжиты Навсикая и Калипсо, Лимра и Белл Рив, Бруннершабн, Тритон, Пойтекс и недоброй памяти Земля Лета, Окраина отдалилась еще на тридцать-сорок парсеков, сделавшись для обитателей Старых Миров чем-то эфемерным, мифическим, непостижимым. Они вспоминают про Окраину лишь тогда, когда приходит срок снаряжать колонистский корабль, когда их мир теряет девственность в третий раз. Что касается планетарной девственности, тут у меня разработана собственная теория. Всякий мир расстается с нею трижды — когда его заселяют (после чего происходит бурный рост населения), когда популяция стабилизируется и рождаемость ограничивается (особым законодательным кодексом и выдачей лицензий на потомство) и когда демографическая напряженность заставляет власти продолжить колонизацию. На втором этапе из перечисленных мной обычно вводится наказание старением, для чего разработана масса способов нейтрализации сыворотки КР. Подобные репрессии, конечно, ведут к X недовольству, к появлению тайных диссидентов и явной оппозиции, и дело обычно кончается социальным взрывом. Решающую роль тут играют матери — неистовые матери, как я их называю. Есть такая категория женщин, которые видят в детях смысл существования; они готовы рожать сколько угодно и от кого угодно — тем более что в нашу эпоху акт зачатия отделен от секса и роды совершенно безболезненны. Мне доводилось сталкиваться с ними, но не могу утверждать, что я получил удовольствие; они — беспокойные пассажирки, а как любовницы не стоят ломаного гроша. Шандра бросила развлекаться с компьютером и повернулась ко мне: — Ничего, дорогой… Абсолютно ничего! — А тебе хотелось отыскать пушку Регоса? Но это сказки, девочка моя, всего лишь сказки! — Пусть сказки! — Она упрямо наморщила лоб. — Но ты мог бы припугнуть Арконат этой сказочкой, а не платить за меня драгоценный металл! — Это называется вымогательством под угрозой смерти, — ответил я. — Нет, освобождением из рабства! — Лучшей формой освобождения все-таки будет выкуп. Мы, торговцы, стараемся не нарушать законов планет, даже самых обременительных и необычных. Нам гарантируют безопасность, а мы гарантируем джентльменское поведение… если, конечно, не пострадает наш бизнес. Ведь самый честный бизнеса всегда немножко обман — как с нашим панджебским серебром. — Но если торговец нарушил закон, его могут приговорить к наказанию? — Само собой, детка, — вышвырнуть с планеты без всяких церемоний или наложить штраф. Но никаких потасовок, погонь и пальбы из бластеров! Равно как и посягательств на наше имущество и свободу. За одним-единственным исключением… Я собирался рассказать Шандре про Закон Конфискации, но она меня перебила: — А если торговец свершит нечто ужасное? Грабеж, изнасилование, убийство?.. — Насколько я знаю, таких прецедентов нет, если не считать истории Регоса. Грабеж — преступление бедняков; грабит нищий, мечтающий разбогатеть любой ценой, а мы и так богаты. Но если даже торговец сядет на мель, кто помешает ему поправить дела извозом? Корабль-то у него остался! Он может транспортировать колонистов и груз на Окраину либо взять фрахт в каком-нибудь из развитых миров… Я сам не раз так делал, когда нуждался в средствах для переоборудования “Цирцеи”. Шандра повела рукой. — Ну, грабеж отпадает. А как же изнасилование и убийство? — Ответ такой же — отсутствие мотивов. Куда бы ни занесло спейстрейдера, он найдет себе подружку в самом экзотическом из миров, хоть на Сан-Брендане, хоть в сакабонских городах… Представь, что женщин на планете — миллиард, и пусть одна из тысячи готова переспать с космическим чудовищем… — Я подмигнул Шандре. — Сколько же мы имеем таких любопытных? Целый миллион! И разыскать их не составляет проблемы — они слетаются к пришельцу, как пчелы на мед. Ну а убийство… Видишь ли, девочка, люди гораздо чаще убивают тех, кто им хорошо известен и особенно ненавистен. А мы нигде не задерживаемся надолго и не успеваем обзавестись кровными врагами. Глаза Шандры потемнели, а лоб прорезала морщинка. — Разве аркон Жоффрей — не враг? Или ты думаешь, что он относится к достойным людям? — Он — всего лишь мерзавец! Я могу презирать его, могу обмануть и унизить, но не убить. Зачем? Он уже наказан. Он будет нести свой крест до скончания веков, и ноша эта с каждым годом будет все тяжелее и тяжелее… — Что ты имеешь в виду, Грэм? — Разве не ясно? Ему вынесен пожизненный приговор — он должен до самой смерти оставаться арконом. — Но он ведь только о том и мечтает! — Нет. Он мечтает о власти и могуществе, и пост аркона дорог ему до тех пор, пока приносит могущество и власть. Но вспомни девиз спейстрейдеров, милая: все проходит! Все проходит, но люди остаются людьми. Им хочется развлечений, а не молитв, они жаждут богатства, любви, свободы, они желают чревоугодничать, спать в мягких постелях и одеваться в шелка… Так было, есть и будет! И потому судьба Жоффрея незавидна: он — кандидат в деклассированные, дорогая. Когда на Мерфи разберутся с Арконатом, он будет жить в тисках презрения и ненависти, он станет отщепенцем и изгоем… как и сестры из твоего монастыря. Им даже. не доверят чистку котлов! На лице Шандры отразилось сомнение: — Ты уверен, Грэм? Я провела с ними сорок лет, но чистить котлы приходилось мне. — В древнюю эру, на Старой Земле, за сорок лет рождались вероучения, приходили к власти и умирали великие вожди, создавались и рушились империи. Теперь это занимает больший срок — жизнь человеческая не ограничена временем, и социальные процессы идут медленней. На Мерфи, я думаю, побыстрей, чем в других мирах. После катастрофы там нет запретов на рождаемость, и через век-другой молодые устроят кровопускание старым клерикалам… Вот увидишь, так и случится! Мы можем посетить твой мир, и, бьюсь об заклад, мы найдем Жоффрея в очереди безработных, в компании сестер Эсмеральды, Камиллы и Серафимы. Шандра опечалилась. Думаю, в этот момент она вспоминала не о Жоффрее и непорочных сестрицах, а о своем отце. Падение Молота, как всякая катастрофа, ведет к социальным потрясениям; они взмывают волна за волной, они берут свою дань жизнями и кровью, пока воды человеческого океана не успокоятся, восстановив прежнее равновесие. И каждая волна рождает хаос, в котором выжить сумеют немногие… Упрямо тряхнув головой, Шандра сказала: — Пусть!.. Пусть катятся к дьяволу! Все девять арконов с Архимандритом, их Святая Базилика и их монастыри! И все остальные, кто им покорствовал, кто предавал и продавал! Я отвернулся. Я знал: что бы ни случилось, я не повезу Шандру обратно на Мерфи. Во всяком случае, в ближайшие двадцать тысяч лет. * * * Утром моя принцесса встала веселой и бодрой и, поглощая обильный завтрак, вновь принялась мучить меня расспросами. На сей раз ей хотелось узнать, вышибал ли кто-нибудь ее супруга с планеты — i за жульничество, подлог, контрабанду или мелкие проступки, вроде плевка в чай инспектору таможни. Мне пришлось ее разочаровать; кроме истории с шабнами, обмана с панджебским серебром и других таких же операций, я не свершил ничего героического и противозаконного. Могу сказать, я даже не крал “Цирцею”, ибо в момент хищения она называлась иначе и выглядела по-иному — ведь длинный цилиндр так же не похож на короткий, как целая сигара на окурок в пепельнице. Шандра, пребывая в романтическом настрое, желала докопаться до причин моей лояльности. — Все дело в моих сединах, — объяснил я. — Человек моих лет семь раз отмерит и только потом примется шарить в кобуре. И тут он вспомнит, что она пуста, а бластер — в корабельном сейфе, под тремя замками… Хорошая привычка! В девяноста девяти случаях из ста она позволяет избежать больших неприятностей. — А кулаки? У тебя ведь есть кулаки, и ты умеешь драться! Ты мог разбить физиономию Жоффрею! — с кровожадным видом воскликнула Шандра. — Грозный космический волк измордовал слугу Божьего… Нет, дорогая, обойдемся без таких экзекуций. Для спейстрейдера лучший способ решения всех проблем — здесь! — Я помахал своей чековой книжкой. — Хотя бывают и исключения… Шандра насторожилась: — Ты это о ком? — Ну, к примеру, о Траске с “Немезиды”… Импульсивный парень, без всяких тормозов… Был оштрафован и изгнан с трех планет — с Хепера, Беовульфа и Америции… драка, дерзость, сопротивление властям, попытка справить малую нужду в стенах святого храма… еще — пьяный разгул… Впрочем, я ошибаюсь — пьянствовал не Траск, а Шард, и случилось это после того, как он похитил у Макса Джонса дубликате массы. — Шард? Рокуэлл Шард с “Шаловливой красотки”, любитель дальних прыжков? — Брови Шандры приподнялись. — Твой соперник в борьбе за титул лучшего навигатора? Это о нем писали Шефер и Джус? — О нем. Но мне он не соперник, дорогая; как говорится, suum cuique, каждому свое. — Чем же он прославился? За кофе и десертом я рассказал ей эту повесть. Тут не пахло трагедией, поэтому Шард не превратился в героя балетов, опер и драм, а был лишь упомянут в книжке Шефера и Джуса и в других трудах, посвященных истории космоплавания. Известность пришла к нему не так давно, в результате рейса с Аластора на Землю; он одолел весь путь тремя прыжками, сорвал приличный куш и пропил заработанное в земных кабаках, едва не лишившись своей “Красотки”. Но началось все с Аластора, где лет восемьсот назад изобрели дубликатор массы. Очень хитрое устройство: суешь в него эталон, и оно штампует любое количество копий — разумеется, с чудовищным энергопотреблением. На брильянтах тут не разбогатеешь, но есть кое-что подороже — кристаллошелк и микросхемы для роботов и компьютеров, особенно гениального класса. Такой прибор можно продать лишь на планете с высокоразвитой технологией, но уж на ней вам отсыплют золота полные трюмы! Если вы доберетесь туда первым. Но Шард, к его великому сожалению, был вторым. Первым являлся Макс Джонс с “Асгарда”, закупивший спецификации на дубликатор двумя годами раньше. Не стоило гадать, куда направился Джонс: в соседнем галактическом рукаве кружились вокруг своих светил Марун, Аэрлит, Траллион, Уисти Смейда, планеты бедные и малонаселенные, но за ними располагался индустриальный Алфанор, а дальше — Логрес, один из Пяти Миров, в котором денег куры не клевали. Ну а за Логресом шла Земля, конечный итог всей гонки, где победителя ждал драгоценный приз — слава, признание и самые выгодные контракты. Шард полагал, что если рискнуть и отправиться прямо с Аластора на Алфанор, преодолев одним прыжком семьдесят три парсека, то Джонс останется за кормой. Затем он мог посетить высокоразвитые миры в окрестностях Логреса — Новую Македонию, Розу Долороса и Горизонт либо проложить маршрут к Логресу, а оттуда — прямиком на Землю. Прикинув все эти варианты, Шард приобрел спецификации (по более низкой цене, так как он считался вторым покупателем) и прыгнул к Алфанору. Теперь это уже история, и я могу сказать, что никто таких переходов не делал — Шард был первым и последним среди кандидатов в самоубийцы. Ему повезло; и в итоге, когда Джонс достиг Алфанора, дубликатор уже трудился там, штампуя мозги для роботов и записи с нейроклипами. Джонс — парень сообразительный и сразу понял, что произошло. Он направился к Логресу, рассчитывая, что соперник торгует на Новой Македонии, но Шард и здесь успел его опередить. Земля, само собой, тоже отпадала. — Должно быть, Джонс сильно разозлился, — прокомментировала Шандра. — Если и так, то вида он не подал. Они с Шар-дом являлись конкурентами, и Шард рискнул заплатить дорогую цену — и победил! Что мог сказать Джонс? Ну и дьявол с ним! Я бы тоже присоединился к такому пожеланию. Старый Ник, несомненно, пребывал с Шардом, так как “Красотка” благополучно достигла Земли, дубликате? принес своему владельцу фантастическое состояние, а затем Шард пустился в загул и пьянствовал двенадцать месяцев без одной недели. Земля же; надо отметить, теперь прелюбопытное местечко: население — семь миллиардов, считая с Марсом, Венерой и космическими городами, но бедняков там не сыщешь днем с огнем. Все бедняки, все недовольные, все диссиденты, сектанты, фанатики и фашисты, коммунисты и террористы давно эмигрировали; остались те, кому и под земным солнышком жилось неплохо. Понятно, что это значит: там, на древней нашей прародине, не возникает проблемы, как разбазарить деньги. Не возникло их и у Шарда. Очнувшись в одном орбитальном борделе, он выяснил, что на счетах полный ноль, а в трюмах — вакуум, что время истекает, и “заинтересованные лица” готовы взять его “Красотку” на абордаж. Это Шарда совсем не устраивало; он дополз до челнока, перебрался на корабль и врубил двигатели. Глаза Шандры недоуменно округлились: — Взять на абордаж, Грэм? Что это значит? Разве Земля — прибежище разбойников? Или экспроприаторов? — Нет, дорогая. И на Земле, и на любой другой планете экспроприаторы действовали бы совершенно легально, в рамках Закона Конфискации. Понимаешь, просторы Галактики необъятны, в ней тысячи обитаемых систем, и торговых космических кораблей всегда не хватает. Все заинтересованы в том, чтобы корабли летали, перевозили груз и поселенцев, а спейстрейдеры не сидели на месте, просаживая деньги в кабаках. И потому ни в одном из миров спейстрейдер не может оставаться дольше года. Это — максимальный срок; затем любой авантюрист имеет право захватить корабль, оставив бывшему торговцу свои” планетарные владения. Все до последней нитки — дом, имущество, финансовые средства, любую собственность плюс гражданский статус… Но это паршивая сделка для спейстрейдера, чистый проигрыш! Хоть в пограничных мирах, хоть на богатой Земле! Шандра призадумалась, но тогда я не обратил внимания на ее рассеянный вид и складку меж бровей. Мы допили кофе, вызвали аэрокар и отправились в усадьбу принца, прелестное имение с обширным парком среди холмов, километрах в сорока от Фотсваны. Его Высочество пригласил нас посетить этот чудесный уголок дня через три после шоу мадам Удонго — как я считаю, в благодарность за удовольствие, полученное его наложницами. Нашим гидом был управляющий поместьем; сам принц слишком занят, чтобы уделять внимание гостям, даже если они прилетели из космоса. Как я упоминал, принц-наследник ведает исполнительной властью, а отец-монарх — законодательной, и в том — средоточие государственной мудрости малакандрийцев. Принц, трудясь с утра до ночи, руководит кабинетом министров, общается с губернаторами, разбирает всевозможные споры, судит, карает и награждает. Но после восшествия на престол он может отдыхать до конца дней своих, ибо все законы на Малакандре давно изданы и должность монарха всего лишь приятная синекура. Словом, как говорили латиняне, aquila non captat muscas, то есть орел не ловит мух. В усадьбе принца есть заболоченная низина с небольшими речками, где водятся крокодилы — разумеется, африканские, привезенные на Малакандру десять или двенадцать тысячелетий тому назад. Собственно, это главная достопримечательность поместья, так как крокодилов нет больше нигде — разве лишь в самых богатых зоопарках на Пенелопе и Логресе. Как вы понимаете, переселенцы везут с собой более полезных животных — свиней, коров и овец, лошадей и шабнов, или, на худой конец, страусов; а вот лететь к звездам в компании зубастых рептилий никому не приходило в голову. Так что крокодилы Его Высочества — большая редкость в обитаемом космосе, и мы с Шандрой с благоговением любовались на них. Правда, за минувшие тысячелетия они очень измельчали и теперь походят на метровых ящериц с мясистыми хвостами. Тушеный хвост крокодила считается на Малакандре королевским блюдом, и мы имели честь его отведать — в беседке у реки, под вековыми деревьями и свисающими с них цветущими лианами. Во время трапезы живые крокодилы плескались почти у наших ног, и Шандра, глядя на разверстые пасти и буро-зеленые спины, сказала: — Несправедливо! Это несправедливо, Грэм! — Такова жизнь, моя милая. Одни — едят, других — едят, — отозвался я, имея в виду крокодилов. — Нет, я о Шарде… Ведь даже космическим торговцам нужно временами передохнуть. Почему их лишают права поселиться в каком-нибудь мире и провести там пять или десять лет? Это несправедливо! — Люди, живущие на планетах, так не думают. Они ценят нас, они относятся к нам с уважением — особенно в пограничных мирах, но они хотят, чтобы мы продолжали летать. Поэтому мы нигде не можем задержаться надолго. Глаза моей принцессы потемнели, она задумалась. — Неужели нельзя обойти этот закон? Ведь Бог не обидел спейстрейдеров хитростью! Должны быть способы! — Разумеется, детка, но все они достаточно тривиальны, неприятны и небезопасны. Можно отыскать безлюдный мир и жить там в полном одиночестве… Можно высадиться тайком на малонаселенной варварской планете… Можно, наконец, болтаться на окраине какой-нибудь системы, как это сделал Регос. — Мрачные перспективы, — пробормотала Шандра. — Согласен. И все-таки спейстрейдеры идут на это. Мы тоже люди, милая, нам необходима новизна, нам надо ощутить, что мы не выброшены из потока времени… Но лучшим способом считаются странствия за пределами Окраины и изучение новых миров. Ведь кто-то должен их открывать! И кто-то — быть может, мы с тобой — когда-нибудь встретится с чуждым разумом… Но эти исследования весьма опасны, и не всем везет так, как повезло мне. Я все еще жив, хотя разыскал сотни пригодных для колонизации планет. — А те… те, кому не повезло… Что стало с ними? — спросила Шандра после долгой паузы. Я пожал плечами. — Никто не знает, так как ни один из них не вернулся в обитаемую вселенную. Взять хотя бы Дэвидса с “Четырех грачей”… Его корабль был найден на орбите у прекрасного, но безлюдного мира, получившего имя Баратария. Кому ведомо, что там случилось? Корабль нашли Эдвард Смит с женой Ивонной (тогда они оба летали на “Жаворонке пространства”), и был он в полном порядке — хоть сейчас врубай двигатели. Поднявшись на борт, Смит поинтересовался у компьютера, где же находится хозяин. Тот ответил, что хозяин внизу, вместе с “Китом-полосатиком” и “Трилобитом”, и от этой компании нет никаких сообщений уже сто сорок три стандартных года. “Кит-полосатик”, дорогая, это катер Дэвидса, а “Трилобит” — земноводный мобиль на воздушной подушке. Я слышал, что оба эти суденышка имели неплохие компьютерные мозги, да и оборудовал их Дэвиде наилучшим образом, словно космическую яхту какого-нибудь миллионера. Смит тут же велел передать позывные на частоте “Кита”, и катер отозвался. Он, как и корабль, был в полной исправности, только дюзы грязью занесло и корпус оплели лианы. Смит с женой и парой роботов спустился к нему, велел откопать, а потом устроил форменный допрос. Но ничего толкового не узнал: по утверждению компьютера, хозяин на “Трилобите” отправился исследовать окрестные болота и леса и сгинул. Связи с “Трилобитом” не было, и Смит не сумел его отыскать — возможно, случилась авария, и мобиль погрузился в трясину. Вот так-то, девочка… Опасное это занятие — прогулки по неведомым мирам! Шандра покивала головой, затем печаль на ее лице сменилась любопытством: — А корабль? Корабль Дэвидса? С ним что произошло? — Корабль достался Смитам, и это уже совсем другая история. Эд с Ивонной решили продать его на какой-нибудь из богатых планет и отправились в путешествие: Смит — на “Жаворонке”, а Ивонна — на “Грачах”. И первой на их пути Была Песня-в-Сердце, недавно колонизированный мир, где они с успехом поторговали, опустошив корабельные трюмы. Смит хотел там избавиться от “Грачей”, но Ивонна его убедила, что надо лететь к Трантору — на Транторе, дескать, возьмем втрое против цены, назначенной колонистами. В чем-то она была права: Трантор — высокоразвитый мир и находится всего в шести парсеках от Песни, так что Смит согласился. Ему и в голову не пришло, что у супруги есть свой план насчет “Четырех грачей”. Добравшись в систему Трантора, он выяснил, что Ивонна на планете не появлялась. Бедный парень! Решив, что случилась беда, он стал обшаривать астероиды и сателлиты газовых гигантов, холодея при мысли, что Ивонна не правильно рассчитала прыжок и угодила в точку дестабилизации. Но Смит не нашел ничего — ни останков, ни радиоактивного облака, какое образуется при мощном взрыве… Лишь спустя двести или триста лет он узнал, что супруга решила самостоятельно заняться бизнесом и странствует по Галактике в одиночку. А самое обидное — что она переименовала корабль, назвав его “Лопнувший Смит”! Шандра смущенно хихикнула. — Ужасная женщина, да, Грэм? Ведь они были обвенчаны? Как мы с тобой, согласно традиции чести и закону космоса? — Не знаю, дорогая, не знаю… Конечно, она носила его имя, но это ни о чем не говорит — есть множество форм брака и множество видов брачных контрактов. Ходят слухи, что Смит — неплохой парень и что во всем виновата Ивонна, но я не спешил бы ее осуждать. Представь, может быть, он пилил ее денно и нощно, унижал, попрекал или считал бесплатным приложением к кораблю… А может, ей надоела роль “второй половины команды Смита”… Не знаю, детка! Так ли, иначе, она надула его, и я не берусь судить их спор — ни сейчас, ни в прошлом. Особенно в прошлом, когда мне хватало своих неприятностей. Перегнувшись через стол, Шандра сжала мое запястье. Пальцы у нее были прохладными, сильными. — Тебя тоже обманули? Кто? Женщина? Одна из прежних твоих жен? Я молча кивнул, стараясь изгнать из памяти образ Йоко. Я думал о том, что счастлив с Шандрой и что человеческое счастье так ненадежно, так хрупко и так до обидного нелепо зависит от обстоятельств. Если бы я не собрался на Мерфи… Если б туда не свалилась комета… Если б власть не захватили клерикалы… Если б отец не отдал Шандру в монастырь… Если бы, если бы, если бы! При ином раскладе карт Шандра вышла бы замуж за высокого стройного мерфийца с золотыми кудрями до колен… Отсюда следовал неутешительный вывод, что встреча наша случайна и случайно счастье — как у бабочки и мотылька, занесенных бурями с двух далеких материков на необитаемый остров. Но все-таки эти бури соединили нас и даровали радость! А если б мы не встретились?.. Я поделился этой мыслью с Шандрой, и она вздрогнула — будто ухоженный парк вокруг нас внезапно заледенел под холодным ветром. — Если б мы не встретились… Это ужасно, Грэм! И я не хочу об этом думать!ГЛАВА 13
Безусловно, истории Регоса и Смитов натолкнули Шандру на некоторые размышления. И тут, и там фигурировала супружеская пара, но первый случай являл пример неистовой и бурной страсти, второй же — мерзкого обмана. Я полагаю, именно так судила Шандра об Ивонне Смит, невзирая на все мои оговорки. Прекрасная Сдина Бетин была для нее примером самоотверженности и благородства, а хитроумная супруга Смита — синонимом предательства. Но в конце концов эти истории не касались непосредственно меня — точнее, моего прошлого. Они послужили лишь катализатором определенной фазы наших отношений, столь же неизбежной, как шепот мириад голосов в поле Ремсдена. Представьте мужчину моих лет, который не склонен к целибату, который изрядное время таскается по Галактике — и, само собой, встречает самых разных женщин. Одни становятся его подружками на ночь, другие — любовницами на пару недель, а с третьими он заключает брачный контракт согласно традициям чести и законам космоса… Отбросим всех подружек и любовниц (даже с помощью “Цирцеи” я не сумел бы сосчитать, сколько их было); тогда в сухом остатке мы имеем жен — женщин, с которыми я делил постель, которых любил и с которыми был связан долгие десятилетия. Теперь представьте юную леди Киллашандру, супругу поименованного выше ловеласа. Неизбежен момент, когда ей захочется узнать о прежних его привязанностях, о женщинах, пленявших его в былые годы; и то, что он расскажет, будет упрятано ею в дамять, не раз обдумано и истолковано — к пользе его либо к вреду. Хорошо, если к пользе — а если наоборот? Это грозило нарушить нашу супружескую идиллию. Я не скрывал от Шандры ржавчину прежних брачных уз, что тянулись за мной подобно цепям каторжника. Было бы нелепо отрицать этот факт; нельзя прожить столь долгую жизнь без женщин, в ожидании той, что станет твоей единственной любовью. Но все-таки мне не хотелось, чтоб тема о женах слейстрейдеров всплыла так быстро в наших разговорах. Я полагал, что Шандра еще не готова ее обсуждать с полной и беспристрастной объективностью; и ее волнение, когда я рассказывал истории о Регосё и Смитах, лишь подтверждало этот вывод. Но ведь с чего-то я должен был начать, не так ли? Наш супружеский кодекс (я имею в виду торговцев) определяется нашей профессией. Есть разные формы брака, и заключенный между мной и Шандрой является сравнительно редким; он — словно пик меж пологих холмов, вершина, увенчанная самыми искренними и прочными обетами. Гораздо чаще практикуется временное супружество, когда девушка сопровождает спейстрейдера в так называемом “кольцевом полете”: спустя триста, четыреста или пятьсот лет он обязуется доставить ее к родным пенатам и выплатить определенное вознаграждение за ласку и любовь. Бывает, такие брачные узы расторгаются в другом месте, если супруга намерена оставить корабль по достижении одного из миров, оговоренных контрактом; в этом случае она заключает брак с целью совершить бесплатное путешествие. Оба эти способа практикуются на сравнительно благополучных планетах; а там, где узаконено рабство, спейс-трейдер может просто купить девушку — или целый гарем, если здоровье позволит. Судьбе таких невольниц не позавидуешь: хозяин может продать их, высадить в любом порту или выкинуть в открытый космос. Правда, я не слыхал о таких зверствах — как и о том, чтобы спейстрейдеры торговали рабами. Обычно этих девушек отпускают где-нибудь на Окраине, в каком-нибудь мире, где женщин еще немного и где любой из них нетрудно обзавестись семьей. К счастью, я никогда не покупал рабынь и не заводил гаремов. Я-не гений лицедейства и не сумел бы скрыть от Шандры такую историю; рано или поздно она догадалась бы о моем позорном прошлом либо нашла компромат в компьютерных файлах. Жена — что совесть; со временем она расколет вас, узнав и лучшее, и худшее, а дальше все зависит от темперамента и чувств: на основании одних и тех же фактов любящая женщина сочтет вас благородным рыцарем, а ведьма и мегера — отъявленным мерзавцем. Итак, едва мы покончили со Смитами, я приготовился к дальнейшим расспросам, и с ними дело не задержалось. Снежная лавина, помилуй Бог! Потоп на Малакандре! Мою супругу интересовали все подробности: сколько раз я был женат?.. вспоминаю ли тех женщин?.. любил ли их больше, чем ее?.. где встретился с ними, как расстался?.. И, наконец, — какие они были? Я твердо знал, что Шандра не относится к числу мегер, и все же мне не хотелось тревожить скелеты в своих шкафах. Во всяком случае, не сразу; когда-нибудь я расскажу ей о первой своей жене, матери малышки Пенни, и о коварной Йоко. Когда-нибудь, но не сейчас! И потому я начал говорить о Дафни. Мы встретились с ней на Кадате, одном из тех миров, что был заселен в шестнадцатом или семнадцатом тысячелетии космической экспансии. Дафни была маленькой стройной блондинкой, с округлыми формами, упругой грудью и шаловливо вздернутым носиком; ей стукнуло тридцать, и в современных понятиях она являлась совсем девчонкой. В своей короткой жизни она повстречала немногих, и все были к ней добры, все представлялись ей милыми, достойными полного доверия и самой горячей приязни. Наверняка это было не так, но как именно, Дафни не интересовало; на любой из тем она могла задержать внимание не дольше пяти секунд и оказалась на редкость пустоголовой. Удивительный случай! До сих пор не знаю, кто так подшутил над бедняжкой! Гены она унаследовала превосходные: ее отцом был безымянный гений из местного банка спермы, а матерью — самая деловая из всех деловых кадатских дам. Ей принадлежала четверть планетарных алюминиевых заводов, а кроме того — лесные угодья величиной с земную Сицилию. К несчастью, с мамашей-миллионершей случилась финансовая катастрофа, и этот крах ей пережить не удалось — под руками у нее был бластер, и в тот момент, мне кажется, она думала не о дочери, а о своем рухнувшем богатстве. Но что-то ей удалось сохранить, и все эти средства были отписаны на имя Дафни — не слишком много для транжиры и глупца, но вполне достаточно для человека разумного. Увы, Дафни к этой категории не относилась! В ее хорошенькой головке бродила всего лишь тройка мыслей — да и тем, как я подозреваю, было тесновато. Первая: счет в банке со временем растет, а его владелец — богатеет; вторая: в богатом мире легче и проще жить, чем в бедном; и третья: через четыре-пять столетий Кадат будет богатым миром, а ее счета вырастут до небес. Она, можно сказать, зациклилась на этих идеях и хотела подловить спейстрейдера, обратив свои мечты в реальность. Тут я ей и подвернулся… Я замолчал, и Шандра с тревогой уставилась на меня. — Грэм, милый, ты печалишься? У тебя такой тоскливый взгляд… Еще немного, и я начну ревновать! — Что сделаешь, принцесса, тебе достался потертый товар… без надписи на упаковке: “Невинность, обращаться с осторожностью!” Жаль, верно? С таким штампом ты сильней любила бы меня? Ее глаза сверкнули от обиды. Я вновь забыл, как она ранима; наверное, пройдет немало лет, пока она научится смеяться каждой моей шутке, даже самой глупой. — Грэм, это несправедливо! Массаракш! Ты, старое чудище из космоса… Я поднял руки, сдаваясь и вымаливая прощение. — Не сердись, милая… можешь меня укусить, если я заслужил… Но от своих воспоминаний не скроешься и не сбежишь! А я вспоминаю о Дафни с сожалением и с радостью. Я вижу ее мордашку, касаюсь ее щеки, целую губы, и мне приятно; но стоит услышать ее голосок… — Что-то у вас не получилось, дорогой? — Все не получилось! Все, кроме постельных забав! Но секс — не самое главное, а в остальном мы подходили друг другу не больше, чем еж и курица. Да, именно так: еж и курица в одной упряжке… Я понял это не сразу — слишком много дел навалилось перед отлетом. Я собирался понадежнее разместить капиталы Дафни — теперь на мне лежала ответственность за ее состояние, а значит, за ее судьбу. Я продал остатки лесных угодий и земли; это имущество без хозяйского глаза грозило одними убытками. Я вложил ее средства в несколько разных отраслей: морские перевозки, системы коммуникации и связи, переработка вторичного сырья, жилищное строительство, пивоваренный завод, частная клиника, муниципальные займы… Если прогресс на Кадате не остановится (что маловероятно), то деньги будут делать деньги — особенно в таких надежных областях, как выбранные мной. Затем я назначил крупнейший из столичных банков надзирать за всем имуществом моей супруги, договорился о процентных ставках и премиальных платежах, подписал все нужные доверенности и упрятал акции в банковские сейфы. Покончив с этими делами, мы с Дафни отправились странствовать среди звезд. Согласно нашему контракту я обязался возвратить ее домой ровно через половину тысячелетия. Разумеется, речь шла о стандартных годах; наше личное время могло колебаться от пяти до семи десятилетий. Но это тоже немалый срок, и через два-три месяца я начал сожалеть, что он не равен, скажем, году. Дафни была милой и ласковой девушкой, но что она могла мне предложить — разумеется, кроме секса? Увы, ничего! Если у нее имелась пара извилин под черепом, это никак не влияло на наши беседы. Кончались они всегда одинаково: Дафни, подняв мечтательный взгляд к потолку, размышляла о том, как вернется домой, как разбогатеет и будет хвастать всем и каждому, что была супругой великого капитана Френча, Торговца со Звезд. Живи мы где-нибудь “внизу”, на планете, ее разговоры и наивное тщеславие не раздражали бы меня, но корабль — более ограниченная территория, и скрыться от Дафни я мог разве что в реакторном отсеке. Шандра усмехнулась: — Не понимаю, Грэм! Если она была такой надоедливой, почему ты не разорвал контракт и не выплатил неустойку? — Видишь ли, дорогая, я очутился в ловушке: Дафни меня любила, я это знал, и я не мог обмануть ее доверия. Слишком она была неприспособленной и беззащитной! Она надеялась лишь на меня и на свое грядущее богатство — две стены, которым полагалось оградить ее от всех опасностей и тягот мира. Я не мог ее бросить! К тому же я сомневался, что ее состояние на Кадате будет таким большим, как она надеялась. Эта мысль, сказать по правде, мучила меня всю дорогу и не давала спать. — Но отчего? Ведь ты поместил ее деньги в самые выгодные предприятия, и… Я взмахнул рукой. — Не говори мне о выгоде, которая светит через половину тысячелетия! Это как икра от лосося из той речки, что потечет с гор, если случится жаркое лето и ледник растает… Может, лето и впрямь будет жарким, и речка появится, и лосось — да только не ты его выловишь, и не тебе достанется икра! Словом, миновал год, и у меня начались галлюцинации. То мне чудилось, что на Кадате власть захватили коммунисты и, по своему обыкновению, национализировали все, от заводов и фабрик до последней курицы; то я маялся, представляя, как на Кадате грянула чудовищная гиперинфляция — мне снились купюры с бесконечным числом нулей, и каждый нуль хохотал над старым доверчивым Френчи, нагло разевая пасть. Еще я думал о том, что ка-датские банкиры могли меня ограбить и надуть, что все компании, включая пивоваров и старьевщиков, могли благополучно лопнуть, что какой-нибудь дальний родственник Дафни мог обратиться в суд, чтобы ее признали погибшей и лишили материнского наследства. Помимо всех этих страхов не исключалась вероятность демографического взрыва и как следствие — жесткого кодекса для эмигрантов; иначе говоря, Дафни могли не пустить на родину, словно загулявшую без спроса кошку. Такое уже случалось — на Транае, Сан-Брендане и в других мирах. Эти мысли мучили меня из месяца в месяц; я чувствовал, что близок к безумию, когда пытался представить все возможные неприятности. Особенно самую страшную: Дафни не пускают на Кадат! И что мне тогда с ней делать?.. — Хмм… — Шандра принялась задумчиво накручивать золотистый локон на палец. — А что ты скажешь про амплуа любимой зверушки? Ты мог бы гладить ее, а она мурлыкала бы в ответ… Или ты поселил бы ее в саду, чтоб она поливала цветочки и болтала с рыбками… А может, наоборот… Не сомневаюсь, ты бы справился и что-нибудь придумал. Ты ведь такой хитроумный мужчина, Грэм! Кажется, ревность покинула Шандру, сменившись иронией. Или она вообще не ревновала, а только делала вид? Во всяком случае, прогресс был налицо: там, где звучат шутки, нет места раздражению и неприязни. — Я не люблю домашних зверушек, дорогая. И при всем своем хитроумии я мог бы сделать только одну вещь: дождаться окончания контракта и подыскать для Дафни новый мир. — Это было бы сложно? — Не думаю. Какая-нибудь планета на Окраине или развивающийся мир, где еще не приняли жестких иммиграционных законов… Я мог бы снабдить ее деньгами, оставить там и забыть о ней. Но надолго ли? Я знал, что она будет мучиться и страдать, если мы расстанемся таким вот образом; деньги мои превратятся в подачку, и чем я буду щедрее, тем с большей остротой она почувствует свою нищету. Не унижать ее, не оставлять ей ничего? Такой вариант тоже исключался: без денег она бы погибла. По лицу Шандры промелькнула тень. — Неужели деньги так много значат? Больше, чем любовь и доброта, милосердие и справедливость? — Нет, девочка, разумеется, нет. Доброта, милосердие и любовь, оплаченные деньгами, неискренни и лицемерны, а купленная справедливость попахивает коррупцией. И все-таки деньги очень важны — не сами собой, а как залог свободы. Такова реальность, моя дорогая! Лишь богатый свободен, свободен в той мере, в какой это дозволено Мирозданием. Заботы о пище и крове не беспокоят его, он волен идти куда пожелает и делать то, к чему стремится… За деньги не купишь любовь, но как отыскать ее бедняку и как сохранить? Я знаю людей, которые брезгают деньгами, считая их злом, но это лишь поза, нелепая поза, признак скудоумия или гордыни. Ведь деньги не творят ни зла, ни добра — и то, и другое свершается человеком! Деньги лишь мера его могущества, силы и власти. Шандра покачала головой. — Не знаю… Наверное, ты прав… Не знаю, Грэм… Я никогда ничего не имела. — Но теперь имеешь и должна распоряжаться этой силой с толком. Как в случае с Файт. Она улыбнулась, кивнула, и я продолжил рассказ о Дафни. — Я пытался развить ее ум, но эта нива, кажется, была абсолютно бесплодной. Книги ее не интересовали — равным образом как и музыка, живопись или голофильмы, которые она смотрела со скучающим видом, не спрашивая ничего. Ей не требовались объяснения, ни мои, ни “Цирцеи" — ; главное, чтоб зрелище было красочным — и желательно со стрельбой, эротикой и мордобоем. Я не против таких картин, но все хорошо в меру; мера же означает разнообразие, а вкусы Дафни отличались удивительным постоянством. Временами я приходил в отчаяние, едва ли не в бешенство, и был готов придушить ее — но тут она прижималась ко мне, брала мою руку, начинала лепетать свои глупости, и сердце мое оттаивало. Ее губы были такими сладкими! Моя супруга не удержалась от комментария: — Кассильда бы сказала: вот лучший способ укрощения мужчин! И твоей Дафни он был известен! Не такая уж она глупенькая, как ты считаешь. Я мог бы кое-что возразить Шандре, но предпочел вернуться к Дафни. — Сколько же длилось мое нелегкое супружество? Не пятьдесят лет, в этом я точно уверен. Совершив дюжину длинных прыжков, я выиграл за счет релятивистского эффекта какую-то толику времени — два десятилетия или побольше; возможно, лет двадцать пять или тридцать. Хвала Ремсдену, хоть с этим я мог управиться! Соотношение личного или физиологического времени к стандартному колеблется у спейстрейде-ров в широких пределах и в конечном счете зависит от избранной ими тактики. У сторонников коротких прыжков этот коэффициент может быть равен одному к семи или к двенадцати, а Шард и другие торопыги добились феноменальных результатов — одинк сорока и даже один к пятидесяти. Очевидно, это отражает характер каждого из нас, так как на протя-. жении тысячелетий коэффициент практически не меняется, подтверждая справедливость поговорки, что горбатого лишь могила исправит. Как-то я произвел расчеты и выяснил, что мой реальный возраст чуть больше двух тысяч лет, и это соотношение, один к десяти, меня вполне устроило. Чтобы выдержать его, я перемещаюсь прыжками в восемь-двенадцать парсеков и провожу в каждой из звездных систем месяцев пять-шесть, считая с торможением и разгоном на ионных двигателях. Но из-за Дафни я пренебрег своими правилами; риск дестабилизации был не так страшен, как опасность умереть со скуки. Наконец звезды отмерили нужный срок, время истекло, мы добрались до Кадата, и я облегченно вздохнул. А потом вздохнул опять, но уже с самым горьким предчувствием. — Почему, дорогой? — перебила меня Шандра. — Ты не хотел с ней расставаться? Или ее богатство пошло прахом? — К счастью, нет. За эти пять столетий Кадат превратился в уютный и тихий мирок, где не было еще ограничений для иммигрантов — тем более весьма состоятельных. Я выяснил, что Дафни сохраняет свой гражданский статус и что капиталы ее приумножились стараниями опекунов. В их банке — удивительное дело! — командовала прежняя администрация, и теперь я мог доверять этим людям как самому себе. Ведь они, в конце концов, не обобрали мою жену, устояв перед всеми искушениями! — Прекрасно! У этой истории отличный конец, дорогой! Почему же тебя терзали горькие предчувствия? — Потому что я слишком хорошо знал Дафни. Она не понимала, зачем существуют деньги и как ими пользоваться. Ей казалось, что главная цель, с которой их придумали умные люди, состоит в том, чтобы все остальные могли платить за удовольствия и развлечения. Пожалуй, это было верно в каком-то смысле, если считать всех остальных глупцами! Словом, я беспокоился из-за того, что Дафни промотает свой капитал и сядет на мель — а может, ее подтолкнут туда чьи-то заботливые руки. Я обратился к нашим банкирам, уговорив их не расторгать опекунский договор и выплачивать Дафни ренту, пока она не выйдет замуж за разумного и порядочного человека. Но критерии разумности и порядочности я описать не мог, поэтому кандидатура ее будущего мужа вызывала большие сомнения — им мог оказаться какой-нибудь мерзкий тип, ловец удачи, желающий попользоваться ее доходами. Но тут уж я ничего не мог поделать — как и мои банкиры! Я улетел с Кадата в расстроенных чувствах, терзаемый мрачными мыслями; я не сомневался — и не сомневаюсь сейчас, — что Дафни влипнет в какую-нибудь историю с самым печальным концом. Шандра пожала плечами: — Наверно, такой опыт был бы для нее полезен. Но я думаю, остаться без гроша на тихом уютном Кадате — не самое страшное. Вот удрать от компании людоедов… или вычистить котлы в монастыре… или провести денек-другой в Радостном Покаянии, без пищи и питья… Такие вещи вырабатывают характер! — Не думаю, чтоб Дафни это пошло на пользу, — людоеды сожрали бы ее, а в монастыре она бы повесилась. Не суди по себе, моя милая; трудности закаляют характер, если он есть, и губят, когда закалять нечего. Потому-то я и беспокоился о Дафни! ВеДь она, как и все мы, бессмертна, а в долгой жизни есть свой риск — рано или поздно сталкиваешься с ситуацией, когда необходимы мужество, мозги или хотя бы выдержка. Ничего такого у нее нет, и первая же передряга окажется для нее роковой. Ей будет мниться, что все к ней добры, что все вокруг — честнейшие милые люди, что денег у нее без счета, что она молода и прекрасна и никогда не умрет… Но все-таки ей суждено умереть. Я только надеюсь, что это случится не самым болезненным способом. Я замолчал. Шандра тоже молчала, опустив зеленые очи и разглаживая локон на виске. Потом губы ее шевельнулись: — Это был самый неудачный из твоих браков, Грэм? Самый неприятный и тоскливый? Оставивший самые тяжкие воспоминания? Я невесело усмехнулся. — Если бы так, моя милая! Если бы так! Все познается в сравнении, и Дафни была еще не самым худшим вариантом.ГЛАВА 14
Хоть эти воспоминания о прошлом не приносили мне радости, мы были счастливы на Малакандре. Мы занимались здесь всем тем, что невозможно делать на “Цирцее”, для чего необходим целый мир — с лесами, горами и океаном, с множеством людей, животных и птиц, с настоящими рассветами и закатами, с жарким солнцем и высоким небом. Мне хотелось, чтоб Шандра воочию испытала все, что видела прежде в голографическом изображении. Природные чудеса и красоты восхищали мою принцессу; не замечая времени, она могла любоваться радугой над хрустальным водопадом, прибоем у скалистых берегов или бескрайней оранжевой степью, что где-то вдали, за горизонтом, сливалась с песками пустыни. Хоть Малакандра не столь живописна, как Барсум, на этой жаркой планете есть свои очаровательные местечки — пещерный лабиринт у полюса, изрезанные фиордами берега, полноводные реки равнин, причудливые скалы, что приняли под действием солнца и ветров невероятные очертания. Все это — и многое другое, на что нам удалось взглянуть, — вызывало у Шандры восторженный трепет, и я с невольным беспокойством думал о том времени, когда ей придется покинуть Малакандру. Были и другие вещи. Она никогда не ходила на яхте под парусом, не плавала в пенных волнах прибоя, не скользила среди облаков на воздушном крыле, не опускалась в глубины вод, к подножиям рифов, в чащу зеленоватых водорослей, колеблемых робким плавным течением. Она не играла на скачках, не бродила по тихим уютным лавчонкам, заполненным всякой чепухой, не рылась на полках, отыскивая древние записи и книги, не посещала концертов и спортивных состязаний, не делала тысячу других вещей, приятных и возбуждающих. Я мог подарить ей все это, и я дарил, дарил без числа, упиваясь ее восторгами, восторгаясь ее восхищением, наслаждаясь ее детской радостью. Мрачные тени Арконата медленно, но неизбежно испарялись из глубин ее души, воспоминания о прошлом все реже и менее остро тревожили ее, она становилась спокойней, сильнее, уверенней; иногда она походила на ребенка, впервые познающего мир, иногда поражала меня зрелостью своих суждений. Теперь, оглянувшись назад, я думаю, что это было самое счастливое наше время — чуточку беззаботное и шальное, как теплый ветер, пролетавший над травяными равнинами Малакандры. Я не могу утверждать, что возродил в ней женственность — отнять ее у Шандры не удалось бы никому, и даже годы заключения в монастыре не вытравили в ней всепобеждающего женского начала. Однако жизнь ее до встречи со мной была тяжела и протекала в лишениях и унижениях, а подобные вещи не забываются сразу и вдруг. Лишь время вылечивает эти раны, всемогущее время, яркие впечатления, положительные эмоции и участие близкого человека. Я делал все, что мог, но я понимал, что прошлое не отпустит ее в ближайшие годы — быть может, в десятилетия. Были, были такие признаки — увы!.. Скажем, она никогда не пела, хоть в детстве отец пророчил ей карьеру великой певицы; я даже не знаю, каков ее голос — вероятно, сопрано или меццо-сопрано, но не контральто. Она не любила шить и заниматься кухонными делами, оставляя эти заботы роботам; она не терпела церковную музыку, хотя отличалась редкостной музыкальностью; вид свободного платья, напоминающего рясу, повергал ее в ужас; она с большей охотой ела овощи, фрукты и сладости, чем мясное. Очевидно, мясные блюда казались ей подозрительными — то была инстинктивная боязнь, наследие каннибальских времен, жуткая память о Мерфи. Итак, я не возрождал ее, а лишь предоставил возможность распуститься из бутона в розу — или в лилию, орхидею, пион либо иной цветок, яркий, ароматный и прекрасный. Отчасти я возвратил ей детство — вернее, его запоздалое подобие, так как настоящее детство у нее украли. Не важно, кто: Ар-конат, ее отец, страшные годы хаоса или сам великий Вседержитель, метнувший на Мерфи свой проклятый разрушительный снаряд. Стоило ли вспоминать об этом, взвешивать вины и терзаться мрачными мыслями?.. Верно, не стоило! И мы не вспоминали. Последняя неделя на Малакандре ознаменовалась двумя событиями, которые стоит упомянуть — в том порядке, в каком они случились. Одно из них забавное и веселое, другое — забавное и грустное, но теперь я думаю о нем без горечи, не упрекая судьбу, подсунувшую Шандре сей соблазн. Рано или поздно такое должно было случиться — так стоит ли сожалеть о неизбежном? Отвечу так же, как на предыдущий вопрос: не стоит! И я не сожалею. Однажды утром с нами связалась верная файт. Какой-то ее приятель, то ли из признанных местных авторов, то ли из окололитературной богемы, пожелал обессмертить себя и Шандру великим творением — истинной и неподдельной биографией моей супруги. Файт вообще-то девушка четкая и деловая, но, когда она излагала свою просьбу, ее охватило смущение, сходное с симптомами шизофрении. Ясно, отчего: с одной стороны, ей хотелось услужить приятелю (подозреваю, что их знакомство было очень близким), а с другой Файт превосходно понимала, что намеренье ее друга граничит с бестактностью. Великие мира сего (а Шандра, как вы понимаете, уже попадала в эту категорию) сами находят себе биографов — либо, желая вконец осчастливить потомков, пишут биографии своею собственной рукой. Последний способ предпочтительней, ибо я считаю автобиографию самой деликатной из всех возможных сделок — сделкой с совестью. Словом, у нас не было нужды в сторонних биографах, но Файт, хотя и заикалась, проявила настойчивость. Видно, ее приятель с полной серьезностью решил написать про леди Киллашандру, земную принцессу и изгнанницу, самую романтическую из всех фигур, какие ему встречались! Не желая обидеть Файт и понимая, что настойчивый литератор горы сметет и моря осушит, я согласился представить запись с основными фактами, касавшимися моей супруги. Мы посвятили этому делу один из вечеров, и трудно сказать, кто из нас получил максимальное удовольствие: то ли наш литератор, то ли принцесса Шандра, то ли я сам. Биография вышла восхитительная! Согласно ей моя супруга происходила из Амазонии — королевства, отделившегося некогда от Бразилии и славного своими традициями, благородной кровью и обычаями старины. Самый священный из них таков: любому из знатных нобилей сопутствует в жизни огромная белая птица, потомок мутировавших попугаев какаду, способная к эмпатии и даже отчасти наделенная ментальным даром. Эти птицы существуют в тесном симбиозе с благородными ама-зонцами, обогащающем каждую из сторон; их владельцы общаются с ними телепатически и могут, желая того или нет, наслаждаться всеми ощущениями пернатых — скажем, чувством полета, удовольствием от пищи и от иных занятий, коим предаются их симбионты. Итак, у короля Амазонии был какаду-самец, у Киллашандры, его единственной дочери, — самка, а у их благородных подданных — другие птицы, молодые и старые, самцы и самки, согласно возрасту и полу своих хозяев. И вот в один из дней, когда принцесса, достигнув зрелости, почувствовала любовное томление, импульс этот передался ее пернатой спутнице; та взмыла в небо и отправилась в свой первый брачный полет. Брак же у благородных амазонцев поистине заключается в небесах: молодые самцы устремляются вслед за самкой, и догнавший ее предается в воздухе любовным играм, а его владелец должен стать супругом той, что выпустила самочку в полет. Это не просто обычай и дань традиции, это неизбежность — ведь чувства пернатых передаются людям, пробуждая в них страсть, жар любви и стремление обладать друг другом. Такие браки — самые прочные, и, подчиняясь выбору птиц, два юных существа уверены в грядущем счастье и в том, что не расстанутся на протяжении тысячелетий. А посему белоснежные птицы-мутанты сделались в Амазонии священным символом, чем-то вроде телепатического Эрота или Гименея, осеняющего новобрачных шелестом быстрых крыл. Но принцессе, прекрасной Киллашандре, не повезло. В ту роковую минуту, когда ее птица взмыла к небесам, за ней устремился королевский самец, самый могучий среди пернатых Амазонии; ему, конечно, достались победные лавры, а также любовь и все свидетельства любви, которые ничем существенным не различаются у птиц и у людей. Это была катастрофа! Это был беспрецедентный случай, какого в Амазонии не бывало от века! Больше того, это был позор для благородного короля и его несчастной дочери, ибо страсть пернатых подталкивала их к инцесту! Проще всего было б свернуть шеи развратным птичкам, однако этот выход запрещался соображениями религии. Значит, кому-то предстояло удалиться в изгнание, или королю, или принцессе, причем на солидную дистанцию, так как телепатическая связь с симбионтами-какаду ощущается за пять-десять парсеков. Этот вывод был неизбежен, и в Амазонии уже приступили к строительству королевской яхты, когда на Землю прибыл капитан Френч. Он не обзавелся белой птицей любви, зато у него была “Цирцея” — плюс деньги и незапятнанная репутация; словом, это был именно тот человек, который подходит в супруги любой из королевских дочерей. И принцесса Киллашандра, забрав фамильное серебро, вспорхнула к нему на колени. — О чем не жалеет, — добавила моя жена, потребовав, чтоб ее биография завершалась именно этой фразой. Я не возражал. Не знаю, что сделал приятель Файт с нашей записью, но совесть моя чиста; я уверен, что он получил отличный материал для сказки или фантастического романа. Быть может, мы когда-нибудь вернемся на Малакандру и вместо балета о злоключениях Регоса посмотрим спектакль о необычном любовном треугольнике — два какаду и капитан Грэм Френч, великий Торговец со Звезд. Завершающим штрихом нашего пребывания, на Малакандре явилась экскурсия в пещерный город у северного полюса. Это частью природное, частью рукотворное образование; тут первопоселенцы устроили главную базу, и тут они обитали несколько веков, пока их организмы не адаптировались к знойному малакандрийскому климату. Мы осмотрели весь комплекс с группой туристов, поахали и повосхищались во всех положенных местах, а затем вылезли на поверхность через какую-то дыру, довольно далеко от стоянки аэрокаров. Это был последний аттракцион: туристам предлагалось отправиться туда на ослах. К моему изумлению, никто не отказался; а Шандра — та была в полном восторге! Я потрусил за ней, размышляя, отчего это каждому хочется взгромоздиться на спину небольшого серого животного с длинными ушами и совершить тур по тропинке, продуваемой всеми ветрами и палимой солнцем. Ослы, конечно, редкость; немногие колонисты берут их с собой, справедливо считая, что в их компании хватит двуногих ослов. По всем параметрам осла не сравнишь ни с лошадью, ни с верблюдом, ни с шабном или черным единорогом; осел не может похвастать ни силой, ни изяществом, ни послушанием — особенно бессмертный осел, проживший не один век и закосневший в своем упрямстве. Отчего же люди так благосклонны к ослам? Редкость? Экзотика? Да, но все же не такая, как крокодилы! И к тому же их нельзя есть… Мы приблизились к стоянке мобилей, и восторженный визг прервал мои раздумья. Тут были дети. — вероятно, их привезли на экскурсию в древний пещерный замок, дабы вселить в них чувство патриотизма и гордости достижениями предков. На Малакандре детей встретишь не часто, как и в других развитых мирах, где принят ограничительный кодекс. Но в обществе бессмертных тоже бывают грустные эпизоды и фатальные случайности, так что на любой из старых планет давно отработан механизм восполнения этих естественных убытков. Для всех категорий граждан (кроме, разумеется, деклассированных) властями выдаются лицензии, разрешающие произвести потомство; их приходится ждать, временами две, три или четыре сотни лет, но человек богатый может приобрести внеочередную лицензию, хоть стоит она целое состояние. Я думаю, что это справедливо; ведь на эти деньги кормят деклассированных, пресекая их стремление к мятежам и беспорядкам. Процент детей на Малакандре невелик; это мир со стабильным населением, где на шесть тысяч взрослых приходится один ребенок. До сих пор мы не встречались с ними, и мне казалось непривычным и очень странным видеть целую толпу детишек — двадцать пар огромных карих глаз, что уставились на меня и Шандру с жадным интересом. Кто-то — быть может, воспитатель — сказал им, что эти чужаки с белой кожей — знаменитый капитан Френч и его супруга, принцесса Киллашандра; ну, вы понимаете, что за этим последовало. Нас окружили плотным кольцом, послышался шелест автоматических фотокамер (а их у всякого мальчишки и всякой девчонки оказалось по паре штук на брата), и мы мгновенно были запечатлены во всех возможных ракурсах, в профиль, в фас и даже со спины. Потом нас атаковали с просьбами об автографах; пришлось надписать каждый снимок, в том числе тот, где я гордо восседаю на осле, вцепившись в его редкую жесткую гриву. Пожалуй, я предпочел бы общество ослов этой шумной разбойной компании; ослы, прожив немало столетий, если не накопили мудрости, то хотя бы притерпелись к своему положению и ведут себя со спокойным достоинством. Дети — иное дело; намой взгляд, они слишком бесцеремонные и любопытные, и с ними я чувствую себя как-то неуверенно. Не то чтобы я их боялся — я видел детей на пограничных планетах, и я не забыл, сколько их было на Земле в медиевальную эпоху, — но дети всегда вселяют в меня тревожное ощущение, сходное с чувством вины. Я вспоминаю малышку Пенни, мою дочь, которую я покинул, и это чувство вины становится все сильнее и сильнее… Но Шандра ни в чем не была перед ними виновата, скорей наоборот: ведь ее раннее детство, пока на Мерфи не случился хаос, прошло среди таких же ребятишек, а значит, они напоминали ей о счастливых и спокойных временах. Во многом она сама походила на ребенка — своей непосредственностью, чистотой и страстью, с которой она стремилась познать окружающий мир, и даже своими шутливыми угрозами искусать меня, когда я отпускал повод своих дидактических рассуждений. Дети были для Шандры вполне подходящей компанией; они висли на ней, а она любовалась их смуглыми мордашками и что-то ворковала, не забывая надписывать свои фотографии. Рай, да и только! Мадонна в окружении темнокожих шустрых херувимов! Но я сомневался, что это мой Рай — слишком он был шумным и суетливым, а я — сторонник тишины. Как хорошо, что на космическом корабле нельзя заводить детей! — мелькнула мысль. А вслед за ней другая: хорошо ли?.. * * * Я рассчитал своих агентов и помощников, мы дали последние интервью, закатили прощальный банкет, а затем перебрались на корабль. Малаканд-ра плыла под нами в золоте своих пустынь, в оранжевых красках степей и лесов, в сочной синеве океанов; кое-где над планетой грудились облака, блистали редкие ледники над высочайшими из пиков, а в безмерной дали, за этим пестрым разноцветным шаром, окутанным голубоватой дымкой атмосферы, пылало яростное солнце. Ресницы Шандры дрожали, а щеки были влажными, когда я включил ионный двигатель; здесь, в этом мире, пусть непохожем на Рай, пусть не самом лучшем из возможных миров, она оставляла так много! Память о первых радостях и победах, о верной Файт и коварной мадам Удонго, воспоминания о стремительной скачке средь опаленных солнцем трав, о ласковой океанской волне, о маленьких уютных отелях Кафры, о древней Фот-сване, ее улицах, домах и парках, фонтанах и дворцах… Я утешил свою прекрасную леди, сказав, что список местных чудес еще не исчерпан, и нас ожидает впереди самое величественное и прекрасное из зрелищ. То была Лурга, газовый гигант, объятый ледяным кольцом, круживший во тьме и холоде на самых дальних подступах к системе Малакандры. Мы направились к ней, чтобы загрузиться рабочим веществом для МИДов и главного ионного двигателя. Мы прошли над блистающими серебристыми обручами, выбросив огромный невод, в котором скапливались ледяные обломки; одни были размером с кулак, другие — с приличный валун, а третьи напоминали угловатый, изъеденный трещинами айсберг или крохотную планетку стометрового диаметра. Их приходилось дробить перед загрузкой в резервуары, а потом плавить и очищать, прогоняя через фильтр — космический лед обычно загрязнен аммиаком и другими примесями, и если его не очистить, стенки дюз покрываются нагаром. Нередко я исследую “мусор”, который скапливается в фильтровальных отстойниках, но до сих пор я не нашел там ничего ценного: ни золотых самородков, ни платины, ни бриллиантов, ни загадочных обломков инопланетных кораблей. Впрочем, я не теряю надежды; вдруг в каком-нибудь ледяном обломке меня поджидает письмо от братьев по разуму с точными координатами Рая? Было бы так интересно выяснить, совпадают ли наши мнения на этот счет… Но раскопки “мусора” — занятие прозаическое, а вид гигантской планеты, окруженной ледяным кольцом, великолепен; он ужасает, изумляет, повергает в прах и внушает самые высокие чувства. Например, о вечном и бесконечном, о ничтожестве человека и могуществе космических сил, о романтике дальних странствий, позволяющих увидеть подобные чудеса, и о неисчислимом их количестве, обо всем том, что еще предстоит отыскать и узреть. Во всяком случае, огромный зеленоватый диск Лурги, опоясанный ледяным ожерельем, висевший на наших экранах, будил во мне именно такие ощущения, вселяя трепет перед величием и необъятностью Вселенной. Но я видел такие каруины множество раз, а для Шандрыони были новыми, и значит, она трепетала несравненно сильней. Казалось, вид Лурги притягивает ее, восхищает и в то же время будит страх; она побледнела, стиснула щеки ладонями, но не отвела взгляда от экранов. Шандра — храбрая девушка, и я не понимал, что ее так пугает. Ведь она не боялась, когда мы вышли в открытый космос! Нет, не боялась! Совсем наоборот — зрелище звездного неба так пленило Шандру, что я не мог уговорить ее вернуться на корабль… Что же ее пугает теперь?.. Прошел час, и сомнения мои разрешились. Глядя на экран, на сверкающую серебристую арку и диск планеты, маячивший под ней занесенным кулаком, она пробормотала: — Какая огромная… какая чудовищно огромная… Если б она упала на Мерфи, Грэм, от нас бы не осталось ничего… Даже горсти праха! Молча кивнув, я направился к пульту и приказал сворачивать сеть. Потом ожили маневренные двигатели, “Цирцея” вздрогнула и повернула, одновременно всплывая над ледяным кольцом. Гигантский газовый мир остался на юге, отделенный пламенем, бившим из раскаленных дюз; север, передняя часть корабля, был теперь обращен к звездам, и при виде этих далеких мирных огоньков Шандра успокоилась. Затем включился главный двигатель, и мы стартовали к Солярису.Часть III СОЛЯРИС
ГЛАВА 15
Я — прагматик. Мы, спейстрейдеры, все прагматики. Нельзя заниматься торговлей, не будучи прагматиком; это дело не для романтически настроенных людей, поскольку требует строгого учета и контроля. Вы можете мне возразить, что Регос, к примеру, был романтиком, но я вам отвечу, что это глубокое заблуждение. Вы ошибаетесь, считая, что лишь романтики способны мстить;, как раз самую страшную месть свершает человек с холодным, трезвым рассудком, представляющий, что надо делать, как и когда. Регос был именно таким, и я не сомневаюсь, что все у него было рассчитано и обдумано тридцать три раза. Я знаю это, потому что я сам таков. Если бы мне пришлось мстить за Шандру — так, как Регос мстил за Сдину Бетин, — я тоже просчитал бы все возможные варианты и отыскал лучший способ добраться до горла обидчика. Клянусь Черными Дырами! Только не дай мне Бог попасть fi такую ситуацию — ведь я человек мирный и не люблю кровопролития, особенно в планетарных масштабах. Впрочем, мой прагматизм не мешает мне разыскивать Рай. Эти поиски — моя единственная романтическая слабость, но если как следует разобраться, то причины ее самые прагматические. Я полагаю, что Рай — реальный Рай, а не загробный — должен существовать сейчас или осуществиться в будущем. Почему бы и нет? Вы только подумайте: люди переселились во множество звездных систем, люди практически бессмертны, и все они, само собой, стремятся к счастью. А что есть счастье, как не райская жизнь? Так неужели где-то, на какой-то из сотен планет им не удастся осуществить свою мечту? Но не так, как на Транае, и не так, как на Тритоне, а иным способом, более подходящим для капитана Френча, спейстрейдера? Я не говорил с Шандрой на эту тему, я считал это преждевременным. Быть может, я просто боялся ее вопросов, и главного из них — что я буду делать, добравшись в этот свой Парадиз? Действительно, проблема! Увы, пока неразрешимая… Положим, в Раю нет Закона Конфискации и никто не посягнет на мой корабль… Ну и как же мне быть? Остаться там навсегда? Или на время? Или убраться поскорей, чтоб не мучил соблазн? Улететь, зная, что я нашел-таки Рай и потерял его по собственной воле? У меня нет ответа на этот вопрос, и потому мысль о Рае одновременно притягивает и страшит меня. Но если отбросить эмоции, я думаю, что главной движущей силой моих поисков является любопытство. Мне кажется, что я не остался бы там, но было бы интересно взглянуть на это местечко. Представляете — Рай в соответствии с персональными склонностями и мечтами Грэма Френча, спейстрейдера! Что-то неописуемое, смею вас уверить! Но пока я ничего не нашел, хоть мне довелось повидать едва ли не все обитаемые планеты. Во всяком случае, большую их часть, а их, поверьте, совсем немало… И где же мой Рай, где вожделенный Парадиз, затерянный среди сотен миров?.. Увы! Все они больше напоминают чистилище, причем каждый — на свой манер. И в этом они не слишком отличаются от нашей древней прародины. Что же, если не считать любопытства, подталкивает меня к поискам? Разумеется, не тяга к комфорту и беспечальному житью — все это, и даже больше, мне обеспечивает “Цирцея”. Как настоящий прагматик, стремящийся проследить цепочку причин и следствий, я долго раздумывал на этот счет, пока не решил, что поводом в каком-то смысле является мое одиночество. Должен признать правоту аркона Жоффрея: я — одинок! Вернее, был одиноким… Браки мои складывались не очень счастливо, и я интуитивно полагал, что в Эдеме — на то он и Эдем! — меня поджидает удача. Там, и только там, ждет меня моя женщина! Та, о которой я грезил тысячелетиями! Но теперь я ее, похоже, нашел, и не в Раю, а на Мерфи, в очередной преисподней. Забавно, не так ли? Не значит ли это, что я могу отказаться от поисков? Нет, не думаю; пусть я нашел Шандру, но ведь остается еще любопытство! Неутоленное любопытство! И оно мне подсказывает, что гораздо интересней искать Рай вдвоем. Так вот, о моем прагматизме… Я вспоминал, как Шандра смотрела на детей в том древнем пещерном городе, и меня начинали терзать смутные предчувствия. Ни одна из моих жен — кроме самой первой, земной, — не подарила мне ребенка по вполне понятным причинам: нельзя вынашивать плод на космическом корабле, при двух сотых нормального тяготения. То, что у вас родится, будет потомком са-кабона, и два-три десятилетия в невесомости лишь стабилизируют ситуацию — да так, что никакая генетическая корректировка не спасет. Дитя надо вынашивать не “наверху”, а “внизу”, на планете; и там же ребенок должен жить как минимум пять-шесть лет, а лучше — двадцать, пока не достигнет физической зрелости. Невероятно долгий срок, если вспомнить об угрозе конфискации! И потому спейстрейде-ры не имеют детей. Есть, впрочем, и другие причины, о которых я не буду сейчас распространяться. Дети, дети… Собственно говоря, их у меня много, тысячи или десятки тысяч, но я не стал бы считать их своими детьми. Генетические потомки — вот правильное определение! Совсем не то, что твой собственный ребенок, зачатый добрым старым способом… Ребенок, который вырос на твоих руках, сидел на твоих коленях, лепетал тебе всякие детские глупости, требовал на ночь сказку и поцелуй… Таким дитем у меня была лишь Пенни, моя малышка; она прожила свой век на Земле и умерла там, не дождавшись бессмертия. Может быть, я увижу ее в Раю?.. Нет, вряд ли… Мой Рай реален, он не место для загробных встреч. Я надеялся, что Шандра не будет торопить событий, и в то же время со страхом ожидал, когда она заговорит о детях. Но она молчала, и мой прагматический внутренний голос шептал все тише и тише, пока не исчез совсем. Дабы изгнать все дурные предчувствия, я обучил ее управляться с компьютером “Цирцеи” и пилотировать корабль — это заняло всего половину дня и развлекло нас обоих. Под конец урока я сказал ей, что теперь она — отличный навигатор, не хуже, чем я сам и все остальные спейстрейдеры. Шандра с сомнением уставилась на меня своими зелеными глазами: — Ты шутишь, Грэм? Я думала, это лишь первое занятие! И что их будет еще много, очень много! — Зачем? Ты научилась обращаться с навигационными программами, то есть указывать нужный маршрут и точку выхода из поля Ремсдена. Все остальное — дело “Цирцеи”! Кроме того, ты знаешь, как открывать воздушный шлюз, как оперировать с МИДами, придавая вращение кораблю, как заполнять резервуары рабочим веществом и контролировать систему жизнеобеспечения. Вот и все основные функции экипажа. Остальное мы делаем для развлечения — к примеру, ты любишь возиться с цветами, хотя за ними мог бы ухаживать робот. Шандра улыбнулась. — Пусть я теперь управляю кораблем не хуже тебя, Грэм, а ты у нас великий пилот. Значит, я тоже великий пилот? Массаракш! Это же смешно, мой дорогой! — Кто сказал, что я — великий пилот? — Я сморщил лоб в нарочитом недоумении. — Ах, да, так пишут Шефер и Джус… моя стратегия перелетов и способ этого воришки Шарда… Не верь им, милая; ученым людям свойственна потребность усложнять самые простые вещи. В эпоху суперкомпьютеров нет такого понятия, как великий навигатор или пилот. Все, что нам надо сделать — это задать вектор направления и оценить возможный разброс точек финиша. Чем длиннее этот вектор, тем неопределенней наша будущая позиция и тем больше риск. Оценка риска — последний и единственный момент, требующий нашего вмешательства; все остальное сделает “Цирцея”. Это она, а не я, великий навигатор! — И человек не может с нею соревноваться? — Ровные дуги бровей Шандры приподнялись. — Ни один человек, даже такой мудрый и опытный, как ты? — Человек не всемогущ, моя девочка. Это одно из заблуждений медиевальной эпохи — быть может, самое стойкое и вредное… А Гете — был на Земле такой мыслитель и поэт — утверждал: нет ничего опаснее для новых истин, чем старые заблуждения. В глазах Шандры мелькнули зеленые искорки — верный признак того, что тема ее интересует. — Каковы же они, эти новые истины, Грэм? Что-то более сложное, чем навигация среди звезд? — Вовсе нет. Истина заключается в том, что человек не может сделаться всемогущим и сохранить в себе человеческое. Есть несколько путей к всемогуществу, быстрых и медленных, но все они гибельны для человеческой расы. Вот один способ — имплантация электронных и механических устройств, чтобы на равных потягаться с “Цирцеей” и ее роботами… Но тогда мы превратимся в киборгов, расплатившись за могущество своим человеческим естеством. Тебя устроит такая цена? Она медленно покачала головой: — Разумеется, нет. Но есть ли другие способы? Ведь человеку так многое доступно… — В том числе и власть над собственным телом. Вот и другой способ, моя милая! Радикальная генетическая коррекция, направленные мутации, создание новых физиологических систем — а вскоре, глядишь, мы научимся производить гениев по своему желанию! Умников-телепатов с огромной головой и рахитичным тельцем… или вообще без тела, один мешок с мозгами… В мои времена считалось, что человек в будущие тысячелетия сделается именно таким — за счет эволюционных факторов и снижения физической нагрузки. Но вскоре открыли КР, а долголетие и стабильность — враг эволюции, так что наши головы все еще меньше тела, даже у сака-бонов. Мы не умеем исторгать губительных лучей, мы нуждаемся в пище и воздухе, мыслим медленней компьютеров, и мы не телепаты, как белые птички из твоего легендарного королевства… Зато мы остались людьми! Шандра с улыбкой взглянула на меня. — Не все так считают, Грэм, дорогой! Вспомни о сестрах Камилле, Эсмеральде и Серафиме! Для них ты — чудище из космоса. Или еще хуже — сам дьявол! — Но это тебя не страшит, верно? — пробормотал я, зарывшись лицом в ее пушистые волосы. Час был поздний, и вскоре моей принцессе представился случай доказать, что она не из пугливых. Первый прыжок в поле Ремсдена перенес “Цирцею” за семь световых лет от Малакандры. Бесплотные духи вновь окружа-in нас, шепчущие голоса назойливо долбили что-то невнятное, плакали и жаловались, а временами выли, точно стая бездомных псов на разоренном пепелище… Затем все кончилось; мир обрел привычные краски, запах и вкус, смутные тени, насытившись плотью, больше не прятались по углам, свет перестал мерцать и дрожать, и надежный корпус “Цирцеи” снова сомкнулся вокруг нас — будто стальная колыбель, защищающая от тьмы и холода свою хрупкую сердцевину. Мы начали ориентировать “Цирцею” для второго перехода, но я не спешил; мне хотелось, чтобы Шандра выполнила все необходимое своими собственными руками, убедившись, кто из нас троих великий навигатор. А также великий финансист — ибо прокладка курса не помешала “Цирцее” свести баланс и подсчитать малакандрийские доходы. Окончательный результат был выдан в платиновом эквиваленте, и я ознакомил с этими цифрами свою принцессу. — Вот общий итог, который относится к нашим прибылям, детка. А это — твой персональный счет. Здесь отчисления от продажи серебра и гонорар от мадам Удонго… чтоб ей провалиться в Черную Дыру! Но и в этом случае ты у нас — состоятельная женщина. Около двух килограммов в платиновом эквиваленте, солидный капитал! — Кажется, я себя окупила, — прокомментировала Шандра. — Не перевести ли эти деньги на твой счет? Как компенсацию убытков, причиненных тебе Арконатом? — Разве ты — убыток, моя прелесть? Ты — настоящее сокровище! — отозвался я, нежно обнимая ее за талию. — Эти деньги — твои, и ты можешь тратить их по собственному усмотрению. Покупать все, что захочешь! Шандра с интересом уставилась на меня. — Что именно, дорогой? — Ну, скажем… Я смолк в замешательстве, не в силах придумать ничего толкового. Наряды, косметика, украшения, книги и записи — все у нее имелось в изобилии, и за неделю “Цирцея” могла удвоить ее гардероб. Дьявольщина! На что ей деньги? Оплачивать услуги роботов?.. Шандра взирала на меня со снисходительной улыбкой. — Ты как-то сказал, мой дорогой, что деньги — эквивалент свободы. Но разве я не свободна? Моя свобода — ты и наша любовь! Что мне покупать, на что мне тратить эти деньги? На Малакандре ты платил за все — за номер в отеле, за наши развлечения и за мои наряды… Ты говорил, что такова традиция Старой Земли, что это один из способов выразить твою любовь… А больше мне ничего не надо! Я усмехнулся, пытаясь скрыть смущение. Она была права! Деньги значат так много, когда их нет, но, коль они есть, могущество их эфемерно. Во всяком случае, в сравнении с тем, что представляет истинную ценность. Красота, любовь и власть… Все это у Шандры было, даже власть — ибо я ощущал ее все сильнее с каждым месяцем и с каждым днем. — Один раз ты все-таки что-то купила, — сказал я, пробегая взглядом ровные строчки на экране. — Что-то такое, чего я не мог бы приобрести тебе? — Конечно, мог. Но это не для меня, Грэм, для тебя. Помнишь, ты водил меня в лавочку, где такой забавный хозяин… кажется, Ван Рох Балеки?.. Ты увлекся, выбирая жемчуг, и у нас с Балеки было время посекретничать. Он предложил мне одну вещь, очень древнюю вещь с Земли, и сказал, что она когда-то считалась залогом супружеской верности и счастья. Наверное, он большой знаток традиций Старой Земли, этот Балеки! Он запросил дорого, но я купила… Вот! Расстегнув комбинезон, она вытащила что-то из внутреннего кармашка, протянула ко мне руку со стиснутым кулачком, разжала пальцы… На ее ладони сверкнул золотой блик — гладкое обручальное кольцо, в точности моего размера. Несомненно, очень древнее; в нашу эпоху не носят таких украшений, предпочитая им что-нибудь попышнее. К тому же долгая жизнь способствует вольности нравов, и в развитых мирах не принято подчеркивать свое семейное положение. — Ты будешь его носить, Грэм? — Глаза Шандры подозрительно заблестели и увлажнились. — Ты будешь его носить? Ради меня? Я поцеловал ее веки и надел подарок на палец. Кольцо оказалось неожиданно тяжелым, но тяжесть эта была мне приятна. Я вспомнил, что никогда не носил таких колец — даже во время своего первого, земного брака. Мать Пенни не отличалась склонностью к романтике и не признавала подобных сантиментов. Шандра хлюпнула носом. Вид у нее был примерно такой, как во время нашего бракосочетания, когда мы обменялись клятвами верности и занесли их в вечный файл “Цирцеи”. Я тоже был растроган; я внезапно почувствовал, как удаляется и меркнет образ златокудрого стройного принца, возможного избранника моей любимой при иных обстоятельствах и ином повороте судьбы. Более того, я, седовласый, невысокий и немолодой, вдруг ощутил себя этим принцем-избранником, будто юные годы во всей их прелестной наивности возвратились ко мне вместе с Шандрой. Чтобы разрядить обстановку, я пробормотал: — Спасибо, девочка… За всю мою жизнь мне не досталось подарка драгоценней — если не считать тебя. Но всякий дар требует ответного, не так ли? Скажем, платье из кристаллошелка или… Перебив меня, она звонко расхохоталась. — Платье! Грэм, дорогой, моими нарядами забита целая кладовая! Мне их за тысячу лет не сносить! А вот твой гардероб нуждается в пополнении. — С чего ты это взяла? — Проверила инвертарную опись “Цирцеи”. У тебя шесть рабочих комбинезонов и всего пять юетюмов — не считая черного с серебром мундира, который ты носишь в официальных случаях. Еще — спортивная одежда, рубашки, свитера и куртки… Не слишком много для старейшины спейстрейдеров! Ты заботишься о моих нарядах, но абсолютно равнодушен к своим. Почему? Еще одна традиция Старой Земли? — Ты права, — мне с трудом удалось сдержать улыбку. — Должен тебе объяснить, что мои привычки… — Не надо! Я знаю, ты способен объяснить все на свете, все, что угодно! Отчего красное выглядит красным, почему вода мокрая и сколько одежды положено космическому торговцу… Но мне не нужны никакие объяснения, чтобы заняться твоим гардеробом. — Однако, дорогая… — Хочешь, чтоб я тебя покусала? На этом дискуссия закончилась. Увы, я не был щеголем! И мне вполне хватало пяти костюмов и парадного мундира! Меа culpa [548], каюсь! Добавлю, что Шандра была не первой из женщин, споткнувшейся на сем дефекте моего характера, но остальные не посягали на мою одежду. С другой стороны, я не принимал от них в дар обручальных колец… А обручальное кольцо, как говорят, первое из звеньев в цепи супружества… Но я, клянусь всеми Черными Дырами, был готов носить эти оковы! С радостью, черт побери! Наш полет продолжался. В крохотном теплом уютном мирке “Цирцеи” день сменяла ночь, за нею снова следовал день, и каждый приносил нечто новое, нечто такое, что заставляло меня погружаться в омут раздумий. Шандра менялась. Разумеется, она уже не была тем упрямым, несговорчивым, ожесточенным существом, которое я выкупил у аркона Жоффрея. Не была она и той лихой девчонкой, готовой броситься в объятия киборга и работорговца, лишь бы покинуть Мерфи и свой проклятый монастырь. Все это являлось маской, надетой от отчаяния и страха и хранимой с поразительным мужеством, отличавшим Шандру от всех известных мне женщин. Но доверие между нами росло, и Шандра менялась. Были и другие причины для ее метаморфоз; я думаю, успех и почет, сопутствовавшие ей в мала-кандрийских краалях, изменили ее не меньше, чем уроки Кассильды. Впервые ощутив власть своей красоты и ума, она уже не являлась беззащитной и столь ранимой, как прежде, и ее трогательную детскую обидчивость постепенно сменяли уверенность и горделивое сознание собственной силы. Она расцветала, будто теплолюбивый цветок, пересаженный из мрачных теней на солнце, со скудной почвы в плодородную землю. Не в первый раз я замечал, что женщина, уверенная в мужской любви и благодарная за это чувство, обладает неотразимым очарованием; оно не зависит ни от ее физического совершенства, ни от характера, темперамента либо интеллектуальных достоинств. Любовь поистине творит чудеса — но лишь с теми, кто умеет любить. Я не сторонник расхожего мнения, что даром любви обладает всякий, словно привычкой дышать, переваривать пищу или почесывать там, где чешется. Любовь — не секс, а именно любовь в наивысшем ее выражении — такой же редкостный дар, как гениальная способность складывать из звуков музыку, из слов — стихи или песню, из формул и абстрактных понятий, невыразимых ни звуками, ни словами, — математическую теорию. Да, любовь сродни таланту творчества, но не каждый из нас одарен им так щедро, как Моцарт или Чайковский, Шелли или Эль Греко, Данте или Бодлер… Я полагаю, не важно, где и как проявляется гениальность, что служит ее орудием — кисть или перо, скрипка или постель; во всех случаях главное — божественный талант, тонкость чувств, накал страсти, мощь воображения… Без этого нет ни музыки, ни поэзии, ни прекрасных картин — ни, разумеется, любви. Шандре этот талант был отпущен с избытком — так, что хватало на нас обоих. Я чувствовал, что дар ее искупит мои недостатки — мой прагматизм, мою рассудочность и склонность к нравоучениям, мой слишком долгий и печальный опыт общения с людьми. Я знал об этих своих грехах, но сам не мог перемениться; ведь человек таков, каким сотворен природой, — по крайней мере, в отношении психики, нрава, духовных склонностей и интеллекта. Ножи биоскульпторов и генетическая коррекция позволили нам исправить кое-какие недостатки, но это касается лишь телесной сущности, не разума. Мы можем выжигать мозги, но не умеем производить гениев по собственному желанию и, думаю, не научимся этому никогда. Сейчас процент гениальных людей даже меньше, чем в медиевальную эпоху; такова расплата за наше долголетие, за отсутствие регулярной смены поколений, за относительную стабильность цивилизации. Гении, как и другие странные личности вроде прекогнистов и телепатов, появляются большей частью в мирах Окраины, где нет ограничений на потомство, но до сих пор ни одна из планет не породила их в массовом числе и не раскрыла тайну гениальности. Значит ли это, что человек, овладев тайнойбессмертия, затормозил эволюцию? Несомненно — да! Как всякое из великих открытий, КР имеет свои отрицательные последствия, и я догадываюсь, что написано на той, другой, стороне медали. Стагнация, упадок, потеря интереса к жизни… Впрочем, двадцать тысячелетий слишком небольшой срок для окончательных выводов — но вполне достаточный, чтобы смириться с мыслью, что сам я никогда не буду ни гением, ни телепатом. Хотя кому о том известно?.. Временами странные шутки происходят в чужих мирах; их влияние на людей пробуждает в гомо сапиенс удивительные качества и таинственные способности. Взять, к примеру, Коринф… Я не был на этой далекой планете, но кое-что слышал о ней — вполне достаточно, чтобы прийти в изумление. Если не считать тех белых птичек из мифического королевства Шандры, Галактика небогата телепатами; — возможно, они проживают в двадцати-тридцати мирах, и возможно, что все их таланты — сплошное надувательство. Нет телепатов и на Коринфе, однако, если верить слухам, половина его обитателей владеет паранормальной способностью, приобретенной в первый же век колонизации. Говоря о половине населения, я имею в виду женщин, так как мужчины-коринфяне ничем не примечательны — разве лишь несокрушимой супружеской верностью. Другое дело — женщины; они умеют погружаться в своеобразный транс, позволяющий им найти того единственного избранника, который уготован им судьбой. Эта способность теперь передается по наследству, но пробудилась она под влиянием эндемической флоры Коринфа — определенного растения, похожего на земную орхидею и обладающего тонким ароматом. Видимо, то был наркотик, разновидность афродиака, к коему чувствительны женщины, и я готов поверить в такое чудо — ведь их эротические переживания деликатней и глубже, чем у мужчин. О цветке, одарившем коринфянок столь удивительным талантом, рассказывают всякое — и, в частности, то, что он не выносит мужского взгляда. Вымысел? Миф? Во всяком случае, забавная история, с которой мне хотелось познакомить Шандру. Я не помнил ее в подробностях, но “Цирцея” не забывает ничего, и мы смогли получить такую справку: "Стыдливая орхидея (Orchidaceae pudica) — цветковое растение, эндемик Коринфа (вероятно, существовавшее когда-то, но научных данных о нем не имеется). Согласно рассказам женщин-первопоселенцев, наделено таинственными свойствами и нежным приятным ароматом, напоминающим запах цветущей черемухи. Естественная окраска бутонов — белая, но цветок обладает уникальной способностью сжиматься и багроветь, если взор мужчины случайно коснется его, неважно, с какого расстояния. Скорость этой метаморфозы так велика, что глаз не успевает среагировать; и, следовательно, ни один мужчина не имеет представления об истинной форме и цвете Orchidaceae pudica. Мужские взгляды не только заставляют бутоны краснеть, но угнетающе действуют на все растение; оно чахнет, засыхает и в конце концов гибнет. В начале колонизации Коринфа стыдливая орхидея произрастала на всех материках, но затем в связи с ростом населения (и, разумеется, числа мужчин) исчезла практически полностью. Ее влиянию приписывают ту особую загадочную эмоциональность и провидческий дар, которые присущи коринфянкам в момент выбора супруга. Последний факт вполне достоверен и подтверждается многими источниками”. Ознакомившись с этим текстом, Шандра недоуменно приподняла брови. — Получается, ни одна из женщин не могла показать цветок своему избраннику? — Получается, так, — подтвердил я. — Но это же нелепость, Грэм! Разве нельзя засушить или заморозить бутон, или сделать его голографическое изображение? Будь я на их месте… — Ты хороша на своем. А что касается этой истории, то суть не в орхидее, а в легенде. По-моему, очень поэтично: цветок, который краснеет и гибнет под взорами мужчин, а женщинам дарит возможность безошибочного выбора… Считай это сказкой, моя дорогая, такой же сказкой, как историю Кота в сапогах или Джека — Потрошителя великанов. Ты ведь не собираешься выяснять, как пошили Коту сапоги и как они налезли на кошачьи лапы? Шандра усмехнулась и покачала головой. — Пожалуй, нет… Но если цветок — всего лишь сказка, то как быть с женщинами? Вернее, с их способностью делать правильный выбор? Это тоже сказка? Вместо ответа я кивнул на экран, где горели слова: "Последний факт вполне достоверен и подтверждается многими источниками”. — Как видишь, нет! Их дар — реальность, хотя никто не знает, цветок ли тому виной или иные факторы, исчезнувшие со временем. В Галактике, милая, много чудес, и коринфянки — одно из них, столь же удивительное, как сакабоны, кристаллошелк или гигантские деревья Барсума. — Ты сказал — иные факторы, исчезнувшие со временем… — медленно повторила Шандра. — Значит, прилетев в Коринф и поселившись в том мире, я ничему не научусь? Не стану настоящей коринфянкой? — Увы! — Я с нарочитым сожалением развел руками. — Цветок погиб под взорами мужчин, и теперь загадочная способность передается лишь по наследству. И только коринфянки владеют ею, только они — во всей человеческой Галактике! Пару минут Шандра размышляла, хмуря брови и поглядывая на экран, потом решительно тряхнула головой. — Ну и пусть! Пусть! Я и так знаю, что сделала верный выбор! Без всяких волшебных орхидей и телепатии! В следующий момент она оказалась на моих коленях, и теплые влажные губы скользнули по щеке к моим губам. Однако мой прагматизм подсказывал, что поцелуями и байками о колдовских цветочках я не отделаюсь. Так оно и случилось — после второго прыжка, переместившего нас еще на девять с четвертью светолет ближе к Солярису. Мы отдыхали после занятий гимнастикой; высокий купол над нами, имитировавший небеса, сиял хрустальной голубизной, а вдалеке — там, где средь бирюзовых вод маячил коралловый остров, — метались под ветром и шелестели растрепанные кроны пальм. Тепло, мир да покой, солнечный жар на коже и кувшин холодного лимонада под носом… Но Шандра нарушила эту идиллию. — Грэм… — Я повернулся к ней, всматриваясь в потемневшие зеленые глаза. — Грэм, ты не мог бы рассказать мне о прежних своих женах? Я тяжко вздохнул. Неизбежное свершилось; она хотела знать не только о Дафни, но о всех моих увлечениях за последние двадцать тысяч лет. Вы спросите зачем? О некоторых причинах я уже говорил, однако имелись и другие. Представьте себе юную леди с пылким воображением и врожденной склонностью к любви; представьте, что долгое время она находилась в темнице, в условиях, когда ее чувства игнорировались и подавлялись; добавьте к этому ее невинность и мой несомненный опыт, и вы получите адскую смесь под названием “комплекс неполноценности”. Ergo, Шандра не могла забыть о прежних моих женах; не зная о них почти ничего, она тем не менее сравнивала себя с ними и полагала, что сравнение идет не в ее пользу. Ведь она являлась такой неискушенной, такой неопытной! Правда, гордость мешала ей пуститься вниз по дорожке самоуничижения, но, чтоб наверстать упущенное, она была готова ринуться в любую другую сторону. Я снова вздохнул. — Отчего бы тебе не заглянуть в вечные файлы “Цирцеи”? Там хранятся контракты со всеми моими женами, кроме самой первой, матери Пенни… она, если помнишь, жила на Земле и умерла на Земле… и я расстался с нею так давно, что не могу уже вспомнить ни глаз, ни губ, ни лица. Но облик всех остальных сохранила “Цирцея”. Ты можешь увидеть каждую и убедиться, что нет среди них милее тебя. — Льстец! Неисправимый льстец! — Она куснула мое плечо, потом, приподнявшись на локте, спросила: — Зачем ты хранишь все эти записи? Эти контракты, снимки, голограммы? Они тебе дороги? — Можно и так сказать, но думаю, что истинные причины другие. Они — эквивалент моей совести, милая; они напоминают о женщинах, деливших со мной постель, и о том, как я обошелся с ними. Я старался быть честным с каждой… очень старался… насколько позволяли обстоятельства… — Мне вспомнилась Йоко, и я помрачнел; потом, отбросив тяжкие мысли, добавил: — Так ли, иначе, тебе стоит пошарить в архивах “Цирцеи”, там собрано много любопытного. Все мои торговые договора, спецификации грузов, соглашения с пассажирами, финансовые отчеты и описания экстраординарных ситуаций. — Каких? — вскинулась Шандра. — Экстраординарных. Случаев, когда я был вынужден применить силу и капитанскую власть. Кажется, моя попытка заговорить ей зубы имела успех: рот Шандры приоткрылся, глаза округлились, и она с интересом уставилась на меня. — Ты применял силу? Когда же, Грэм? Ведь ты — человек мирный! Ты столько раз мне это повторял! — Мирный, само собой, но кому понравится, когда в тебя тычут бластером? — откликнулся я. — Помнишь ту историю с Детьми Света и их Пророком? Когда я пустил в ход оружие? Крючок был заброшен, и Шандра тут же его проглотила. Я не испытывал сомнений, что вопрос о прежних моих женах еще всплывет в будущем, но сейчас ей хотелось послушать о Детях Света Господнего, которых я подобрал на Новой Македонии и вышвырнул с корабля на Белл Риве. Мне пришлось снова пересказать все душераздирающие подробности: о Пророке, чей ум помутился во время перехода, о бластере “Филип Фармер — три звезды”, об отрезанной руке и двухлетней отсидке Пророка в карцере. Шандра вовсе не симпатизировала Пророку, но, когда я упомянул о том, что его сторонники были деклассированы и лишены права на потомство, она воскликнула: — Это несправедливо, Грэм! Несправедливо! Пусть они были фанатиками, пусть их ненавидели и презирали, но разве это повод, чтобы лишить их детей? Ты говорил, что Македония — высокоразвитый мир, а значит — гуманный, но я не вижу в таком решении ни гуманизма, ни справедливости! Только жестокость! — Технологический прогресс и гуманизм вовсе не сопутствуют друг другу, и македонцы не являлись исключением, — пояснил я. — Их общество было демократическим, но их правители были так привержены демократической идее, что древний лозунг “цель оправдывает средства” не казался им кощунственным. — vis pacem, para bellum! Хочешь мира, готовься к войне! — Что это значит? — спросила Шандра, наморщив лоб. — Лишь то, что они являлись приверженцами теории Ли Герберт. Я не рассказывал о ней? — Шандра кивнула, я понял, что она прочно сидит на крючке. — Так вот, согласно мнению Ли Герберт, в каждом из населенных миров последовательно сменяются три этапа — демократический, тоталитарный и теократический. Слабость демократии в том, что она не признает кровавых расправ с оппозицией, и та, объединившись пусть в небольшую, но монолитную группу, рано или поздно захватывает власть. Затем следует передел собственности, коллективизация и трудовые лагеря для несогласных; кого-то сажают, кого-то пытают, кого-то вешают или стреляют без всяких затей. Большая часть населения оказывается в рабстве, и это не может продолжаться слишком долго; бунт неминуем, а за ним следуют возмездие и раскаяние в прежних грехах. В этот момент наблюдается вспышка религиозности: бывшие владыки взывают к Творцу как к источнику милосердия, бывшие рабы — как к Верховному Судье, карающему несправедливость. В конце концов Бог примиряет всех — при условии, что миром будут править его адепты. И правят они железной рукой, пока не рассеется мистический туман, вновь приоткрыв манящие формы Богини Демократии… И все начинается с самого начала! — И в Македонии верили этому? — Не только верили, но и вели эксперименты, чтобы продлить демократическую фазу. Македония — довольно старый мир, прошедший через несколько этапов, и у ее социологов была солидная сравнительная база. Они утверждали, что всякой стадии сопутствует доминирующий генетический архетип, некая усредненная схема личности, тяготеющей к идеалам свободы, фанатичной веры либо подчинения. Эти признаки, как им казалось, передаются в потомстве и определяют смену социальных формаций. Иными словами, геном запрограммирован природой на один из этих трех режимов, так что вера в Бога, в непогрешимого Вождя или в демократию передается нам в миг оплодотворения яйцеклетки. Ты понимаешь? Шандра призналась, что нет, и я рассмеялся. — Я понимаю, но не верю. Слишком все просто, девочка! Слишком примитивная связь генетики и социологии… И слишком ясные выводы! Определи генетический тип и уничтожь всех, кто тяготеет к мистике и тоталитаризму… или откажи им в праве на потомство… Один глобальный акт геноцида, зато потом наступит Рай! Рай вечной демократии! Так считали на Македонии, но я не берусь их судить. Для себя я давно уже выбрал наилучшее из всех общественных устройств. — Вот как? — брови Шандры приподнялись. — И какое же? — Монархию, детка, монархию. У нас на “Цирцее” царит абсолютная монархия: я — король, а ты — моя королева! Это ей понравилось, и я решил, что Шандра стала верным адептом моей социальной системы. Затем мы вернулись к Детям Света Господнего. По моему распоряжению “Цирцея” показала нам Пророка — его пухлая самодовольная физиономия зависла на фоне бирюзовых вод и белых утесов атолла. Глаза у него пылали голодным волчьим огнем. Шандра неприязненно покосилась на голограмму. — Ну и гнусный тип! Похож на аркона Сайласа… Я не встречался на Мерфи с этим Сайласом, но готов был поверить в самое худшее насчет него: ведь он делал карьеру, полируя мозги Шандре и другим бедным монастырским узницам. К счастью, одними речами, на свой дилетантский манер, без церебро-скопа-аннигилятора и генной инженерии. Мысленно пожелав Сайласу адский котел погорячее, я повернулся к Пророку: — Видишь, какой он важный? У этого парня лицо человека, который беседует с Творцом… Запросто беседует! И Бог слушает его со всем вниманием. — Он той же породы, что наши арконы, — заметила Шандра. — Теперь я думаю, что македонские социологи были правы: этаким типам нельзя иметь детей. Да и зачем ему дети? Он любит только себя… и он угрожал тебе бластером… Удивляюсь, как ты не выкинул его за борт! — Было такое желание, — признался я. — Но мне показалось, что в случившемся есть доля моей вины: я был обязан предвидеть события и предотвратить их. В конце концов, я знал, что испытывают новички в поле Ремсдена — особенно те, которым Бог шепчет в уши! Надо было дать ему транквилизатор на время перехода или эротический нейро-клип… Он счел бы свои видения дьявольским соблазном, но так все же гуманней, чем выбрасывать его в пустоту. Я взмахнул рукой, и изображение сменилось. Теперь мы видели Пророка таким, каким он был в момент высадки на Белл Риве. Поразительный контраст! Вместо самодовольного властного клерикала — истощенный узник с погасшим взором, опустившийся, грязный, худой, точно жердь… Он выглядел так, будто его покарали старостью, но в этом не было моей вины. Я щедро кормил его и не отказывал в развлечениях; ну а все остальное решалось между ним и Богом. Шандра тревожно взмахнула ресницами. — Ну и вид! Грэм, дорогой, надеюсь, ты не морил его голодом? — Будь уверена, он питался с капитанского стола. Робот таскал ему пищу четырежды в день, и каждое утро его поджидали чистое белье и свежий комбинезон. У него был монитор, связанный с фильмотекой “Цирцеи”, были записи и нейроклипы, бумага и пишущий стержень, так что он мог развлекаться по собственному усмотрению. Наконец, никто не лишал его элементарных удобств: в карцере есть санузел, с туалетом, ванной и установкой для гидромассажа. Он мог сидеть под теплым душем целыми сутками, внимая ангельским хоралам и распивая лимонад! — Неплохо, совсем неплохо, — прокомментировала Шандра. — Но я думаю, он томился в одиночестве. Или ты позволил единоверцам его навещать? — Это было бы непростительным легкомыслием — он мог склонить их к мятежу, а бунт на корабле ничем не лучше взрыва реактора. Нет, никого я к нему не пускал! А так как Дети Света стали коситься на меня, я распорядился насчет бронированных щитов, разгородивших жилую зону, и выставил пост у своей спальни и капитанского мостика. Так мы и путешествовали целых два года… Не скажу, что это время было приятным! — Ты тоже к нему не заглядывал? — Нет. У него были бумага и стилос, так что он мог передать мне с роботом записку. Его послания я не сохранил — они полны проклятий и всякой мерзости. Роботу тоже доставалось: я считался то Сатаной, то Люцифером, а бедный механизм — моим пособником из категории мелких бесов. Однажды наш Пророк перешел от слов к делу и закидал робота экскрементами… Представляешь? Залепил ему Видеодатчик! Пришлось послать беднягу в гидропонные отсеки. Там его отскребли, а все лишнее бросили в резервуар с хлореллой… Шандра кивнула с сочувственным видом, потом призадумалась и прошептала: — Этот человек сидел в тюрьме, как и я… Но он был виновен и опасен, а я никому не сделала плохого… И к тому же, — голос ее окреп, — он знал, что заключение скоро кончится, а мне такого не обещали… Совсем наоборот! Мне говорили, что я буду вечно чистить те проклятые котлы! Я поцеловал ее ладошку. — Ты потрудилась недаром, девочка. Представь свой самый большой котел, начищенный до блеска, а в нем — Жоффрея с Сайласом, и нашего Пророка, и трех непорочных сестриц, Камиллу, Серафиму и Эсмеральду… Чарующее зрелище, не так ли? Она грустно усмехнулась и покачала головой: — Нет, дорогой, такого мне не надо. Знаешь, если б ад существовал на самом деле и если б они очутились в нем, я бы не стала злорадствовать. Нет, не стала! — Ты бы простила их? — спросил я, внимательно всматриваясь в потемневшие глаза Шандры. — Нет… пожалуй, нет… Ни прощения, ни сочувствия они бы не дождались, но и дров в их костер я подбрасывать не желаю. Ведь их страдания не вернут потерянного… Шандра уткнулась мне в грудь, и я понял, что она говорит о своем отце.ГЛАВА 16
Наш разговор, завершившийся грустным аккордом, имел продолжение в спальне. Замечу, что на этот раз мне повезло; Шандра не расспрашивала о моих женах и не выпытывала детали моего темного прошлого. Наша беседа касалась скорей семантики и морали. — Грэм, — начала она, прижавшись щекой к моему плечу, — когда ты рассказывал о Пророке, то заметил, что он бросался экскрементами… ну, в твоего робота, которого пришлось потом чистить… — Извини за эти неаппетитные подробности, дорогая. Я только хотел объяснить, с каким человеком мне пришлось столкнуться. Он… Острые зубки Шандры впились в мое плечо — правда, не очень сильно. Затем началась потасовка; с меня содрали халат и бросили на ложе, а победительница, усевшись на моем животе, прижала коленками предплечья. Глаза ее горели озорством, волосы были растрепаны, на висках поблескивала испарина, грудь бурно вздымалась за вырезом ночной рубашки. — Грэм, ты невозможен! — пропыхтела Шандра. — Думаешь, меня смущают твои неаппетитные подробности?.. Я ведь о другом, совсем о другом! Я хочу знать, почему ты сказал “экскременты”? — Тебе не нравится это выражение? — Ее груди соблазнительно колыхались надо мной, и я попробовал дотянуться до них. — Ну-ка, прекрати! Ничего тебе не будет, пока не ответишь! Я хочу знать, почему ты сказал “экскременты”, а не “дерьмо”, как говорит любой нормальный человек. И я в том числе! Этот вопрос, хоть его задавала такая раскрасневшаяся и растрепанная личность, был непростым и требовал серьезного ответа. А серьезные темы лучше обсуждать в сидячем положении… Я поднатужился, стараясь освободиться, но Шандра лишь крепче стиснула меня ногами. Теперь любое резкое движение при двух сотых “же” подбросило бы нас к потолку. Мне пришлось сдаться. — Ты знаешь, принцесса, что я — старый человек со Старой Земли, а там, когда я был молод, кое-какие слова считались запретными. Ну, не совсем запретными; просто джентльмену не полагалось их употреблять. Я имею в виду то, что касается репродуктивных и каталитических функций организма — не научное их описание, а слова попроще и погрубей, бытующие в пролетарских массах. Если уж джентльмену доводилось затрагивать эту тематику, он использовал медицинские термины, метафоры, иносказания и эвфемизмы… Я смолк, любуясь двумя розовыми бутончиками, что просвечивали сквозь ее рубашку. Тоже иносказание, клянусь Черной Дырой! Пусть потертое, избитое, старое, но полное дьявольского соблазна! Шандра, шаловливо ерзая на моем животе, фыркнула. — Репродуктивные функции и эвфемизмы! Иносказания и метафоры — для дел, которыми мы занимаемся днем и ночью! Мы с тобой и все джентльмены, все леди и все пролетарские массы! Бедный Грэм, чем же забита твоя голова? — Тобою, — честно признался я, — сейчас исключительно тобою. В этом я не отличаюсь от остальных мужчин, употребляющих слово “дерьмо” вместо термина “экскременты”. Я наконец изловчился и опрокинул ее на спину. * * * Мне удалось выиграть немного времени, но это было лишь передышкой. Мое прошлое притягивало Шандру, словно громоотвод — молнию, и я не мог запретить ей грядущих археологических раскопок. Конечно, шепни я словечко “Цирцее”, все файлы с моей биографией будут закрыты и запечатаны на сорок замков, но это решение я даже не желал рассматривать. Говоря словами Шандры, оно было бы “несправедливым” — ведь она имела полное право убедиться, что ей достался в мужья человек порядочный, хотя и не лишенный кое-каких недостатков. Итак, мушкетеры — вперед! Смирившись с этим, я хотел теперь лишь одного: чтобы Шандра приступила к раскопкам в мое отсутствие. Я не труслив, не склонен к фарисейству и не пытаюсь выдать черное за белое, но, как говорилось, эти файлы были для меня чем-то вроде электронной совести. Вся моя жизнь — и жизни многих других людей — лежала на вечном депозите в бездонных банках “Цирцеи”, и только взрыв сверхновой, вселенский коллапс или фатальная оплошность с прокладкой курса могли разрушить это хранилище. Но и само по себе оно обладало разрушительной мощью; тот, кто познакомится с ним, мог карать или миловать Старого Кэпа Френчи, Друга Границы, Торговца со Звезд. А если не миловать и не карать, так судить, что тоже являлось не слишком приятной процедурой… Словом, я предпочел, чтоб Шандра перетряхивала мою совесть в одиночестве — или скорей на пару с бортовым компьютером. За день до последнего перехода, который должен был завершиться на подступах к Солярису, мне вдруг захотелось посетить зверинец и оранжерею. Это желание было отчасти иррациональным, отчасти продуманным; инстинкт подсказывал мне, что не стоит тянуть с раскопками, а разум намекал, куда можно скрыться, чтоб пересидеть тяжелые времена. Итак, я облачился в рабочий комбинезон, поцеловал Шандру за ушком и сказал: — Наведаюсь в гидропонные отсеки, дорогая, а заодно взгляну на животных. Временами они начинают беспокоиться… думают, что я оставил их с роботами и что на “Цирцее” нет ни единой живой души… Но они ошибаются, правда? — Правда, — согласилась моя принцесса, — тут целых две живых души. Хочешь, я пойду с тобой? — Нет, не стоит. Я собираюсь еще наведаться в гибернатор, осмотреть зародыши, проверить генофонд, а это неприятная процедура. Ты… — Я на секунду задумался, потом хлопнул себя ладонью по лбу. — Отчего бы тебе не развлечься? Иди на мостик и просмотри мои записи. “Цирцея” подскажет, где их искать. С этими словами я развернулся и зашагал к лифту. Дел в гидропонных отсеках было немного: главным образом продемонстрировать себя животным и убедиться, что они хорошо перенесли прыжок. Не знаю, что чудится им в поле Ремсдена, но иногда они испытывают беспокойство, словно понимая, что корабль уносит их в космическую пустоту, все дальше и дальше от привычных мест, от солнечного света и тепла. Однако все мои звери являлись опытными путешественниками, не исключая оран-“жевых обезьянок, купленных на Малакандре; никто из них не сошел с ума, не впал в бешенство или депрессию и не питал намерений угрожать мне бластером. В отличие от беспокойных двуногих пассажиров мои животные всегда дружелюбны и миролюбивы; они ценят заботу и ласку, не лезут на капитанский мостик и не забрасывают роботов всякой дрянью. Я полюбовался на них, заглянул в гибернатор (там было все в порядке — лютый холод, стерильная чистота и мерцание зеленых огоньков), а затем устроился рядом с аквариумами и выпил рюмку бренди. Я чувствовал, что мне необходимо подкрепиться; я не спеша цедил свой золотистый бальзам, поглядывая на застывшие ленты водорослей, пестрые камешки и разноцветных рыбок, мельтешивших в подсвеченной лампами воде. Это зрелище обычно успокаивает меня; если зажмурить веки, то кажется, что слышишь мерный рокот волн и то негромкое умиротворяющее шипение, с которым волна покидает песчаный берег. Если подвернется случай, размышлял я, надо купить большой резервуар и врезать его между салоном и гимнастическим залом.’ Отличное будет приобретение; хватит места на пляж с золотым песочком, на пальмовую рощу и на целое озеро, раз в десять побольше моего бассейна. Чем не океан? Я представил, как Шандра плещется в его прозрачных водах, улыбнулся и раскрыл глаза. Прошло больше четырех часов; пожалуй, можно было возвращаться. Моя прекрасная леди сидела в кресле, пребывая в глубокой задумчивости. Перед ней, на расстоянии двух метров от вогнутой чаши голопроектора, виднелось чье-то знакомое лицо, слегка полноватое, розовощекое, со строгими серыми глазами и выпуклым лбом в темных кудряшках. Жанна… Жанна Дюмо-рье, первая моя спутница в бесконечной космической эскападе… Несомненно, самая образованная из всех моих женщин; она была доктором психологии и почтила меня своим вниманием на Пенелопе девятнадцать тысячелетий тому назад. Ей очень хотелось написать мою биографию, и с этой целью меня исследовали круглые сутки: днем — на сеансах психоанализа, а ночью — в постели. Когда работа завершилась, я отвез ее на Эдем. Насколько помню, расстались мы друзьями. — Ты не торопишься, — заметил я, поворачиваясь к Шандре. — Жанна была первой моей супругой, если не считать матери Пенни, и самой первой женщиной, рискнувшей связаться с космическим торговцем. Другие шли по ее стопам. — Вот мне и любопытно, зачем она это сделала. Но я не нахожу причин! Никаких оснований! — Шандра всплеснула руками. — Большое чувство? Пожалуй, нет… Попытка к бегству? Тоже не годится; на Пенелопе она занимала почетную должность, ее никто не преследовал, никто ей не угрожал… И в отличие от Дафни она была умна! — Шандра покосилась на голограмму и сквозь зубы буркнула: — Пожалуй, довольно красива… если тебе нравятся женщины с отвисшими щеками…, — Она хотела написать мою биографию, детка. — Да, я знаю! Но это следствие, а не причина. Причина в другом! В чем же? Шандра вопросительно взглянула на меня, так что волей-неволей пришлось пуститься в воспоминания. Жанна… Мой Бог, как давно это было! Горы времени разделяли нас, целая геологическая эпоха, столько лет, что Земля успела б оледенеть и оттаять вновь… Но это лишь гипербола, поэтическое преувеличение; земной климат стабилен и с давних пор находится под полным контролем. Жанна… Она была из первого поколения родившихся на Пенелопе и, как я думаю, едва ли разделяла мою тягу к странствиям и перемене мест. Но она была честолюбива, а честолюбие может подвигнуть людей на самые странные поступки. Ей хотелось прославиться, войти в историю — если не с парадного входа, так с черной лестницы; я был ее шансом, ее заявкой на бессмертие, ее неиссякаемым рудником. К тому же она мечтала стать профессором психологии, а еще лучше деканом в солидном университете, в одном из высокоразвитых миров, не дальше тридцати светолет от Земли. При всем том Жанна являлась вполне сносной партнершей: женщина не без юмора, с ровным характером, уверенная в себе, способная поддержать беседу. Были, само собой, и у нее недостатки: ей не хватало темперамента в постели, да еще эти психоаналитические опыты… Научное помешательство, я полагаю. Выслушав мой комментарий, Шандра снова уставилась на Жанну. Взгляд зеленых и серых глаз скрестился, и на какой-то миг мне почудилось, что они будто играют в гляделки, прощупывают друг друга, как два фехтовальщика перед боем. Но вот Шандра улыбнулась, разрушив иллюзию; теперь она глядела на меня, а взор Жанны был все так же устремлен на спинку кресла. Темные кудри скрывали ее лоб, и я вспомнил о бороздивших его морщинках, отпечатке научных раздумий, так не вязавшихся с гладкой кожей и пухлыми щечками Жанны. — Достойная женщина, — наконец проговорила Шандра. — Значит, она хотела сделаться профессором? Ну и как? Ей это удалось? — Да, дорогая. Много столетий она трудилась на Эдеме не покладая рук, а потом бросила кафедру, распрощалась с университетом и открыла бар для деклассированных. Там, в столичных трущобах, я ее и нашел, завернув на Эдем. Рот Шандры округлился. — Но почему? Почему она это сделала? Я пожал плечами. — Ей надоел университет, интриги, карьеризм, сплетни… Она сказала, что хочет изучить людей из низшего слоя общества — тех, кто обращается к психоаналитику, лишь угодив в тюрьму. Но ничего не вышло. Такие исследования требуют анонимности, а Жанну знали все, она считалась одной из старейших обитательниц Эдема. Когда я снова там побывал, она исчезла. Может быть, улетела куда-то, а может, покончила с собой… Такое случается с интеллектуалами. Стоит им обнаружить, что жизнь и наука — разные вещи, как они ударяются в панику, сходят с ума или глотают транквилизаторы. Жанна, правда, была крепким орешком… — И все же ты думаешь, что она умерла? — Жизнь сродни игре, но никто не выигрывает вечно — ни я, ни ты, ни Жанна… Она, во всяком случае, свой шанс не упустила. Когда мы покинули Пенелопу, это был довольно примитивный мир по нашим нынешним стандартам, хоть он и считался самой богатой и благополучной колонией после Лог-реса. Десяток городов, сотня поселений и один планетарный университет… Должность профессора психологии занимал учитель Жанны, и ей пришлось бы ждать, интриговать или надеяться на случай — фатальный для него, счастливый для нее. Это ей не подходило; при всем своем честолюбии она не собиралась строить карьеру на чужой беде. Я вовремя ей подвернулся… — Ты и Эдем, так? — Да, я и Эдем… Мир, открытый мною, прекрасный, будто сновидение детства… В те годы он считался Окраиной, но все понимали, что это одна из самых перспективных колоний. Жанна была там первым и единственным психологом, причем с немалыми заслугами — я говорю о биографии Кэпа Френчи, первооткрывателя и почетного колониста… И она была моей женой, самым близким мне человеком, а это на Эдеме являлось наилучшей из всех возможных рекомендаций. Кому же, как не ей, вручить профессорскую мантию?.. В конце концов, Жанна ее дождалась — когда открылся планетарный университет, а Эдем стал цивилизованным миром. Но не Раем, мысленно добавил я и вздохнул. Шандра бросила на меня быстрый взгляд. — Ты жалеешь, что расстался с ней? — Нет, милая. Мы заключили временный брак, и я знал, что когда-нибудь она меня покинет. Но мне было приятно с ней. Мы смогли ужиться; она оказалась женщиной здравомыслящей и спокойной, а к тому же помогала мне в коммерческих делах. В ту эпоху начальной колонизации в заселенных мирах не слишком интересовались нарядами, книгами или редкостными животными; им нужна была технология, и я продавал чертежи. За пару веков я успевал посетить все планеты… Я был тогда один — один-единственный спейстрейдер на всю обитаемую Галактику! Но все изменилось с тех пор, даже “Цирцея”… Вот, посмотри! Я отдал приказ, и пухлое розовощекое личико Жанны сменилось изображением корабля. Он был почти вдвое меньше, чем теперь; исчезли часть топливных резервуаров, главный салон и несколько блоков системы жизнеобеспечения, а технические и гидропонные отсеки казались двумя неширокими кольцами, втиснутыми между жилой зоной и грузовым трюмом. Повинуясь моей команде, картинка мигнула и стала чуть-чуть иной: теперь к техническому отс&ку добавился еще один модуль, помеченный красным. Галерея роботов с ремонтными мастерскими… Их оборудовали на Логресе за пару лет до того, как я распрощался с Жанной… Черные Дыры Космоса! Как давно это было! Шандра, с непривычной робостью погладив мое плечо, шепнула: — Грэм, скажи… ты любил ее? Любил? Можешь не отвечать, если не хочешь… — Ну, отчего же… Любил, разумеется, хоть ее психологические фокусы бывали утомительны. Но и я не оставался в долгу! Я ведь тоже хороший фокусник… Так что она исследовала меня, а я — ее, и трудно сказать, кто из нас получал большее удовольствие. — Значит, исследовал… В постели, я полагаю? Невероятная проницательность! Мне оставалось лишь усмехнуться. — Как ты догадалась? Шандра ответила мне улыбкой. — Я тебя знаю, Грэм, уже знаю… Лучшие фокусы ты выкидываешь в постели. — Знаешь? И все еще любишь меня? — Да, хоть твое грязное прошлое… Что ты делаешь, Грэм? Руки прочь, космический монстр! Не снимай с меня платье! Тут я вынужден сделать паузу и перебраться из рубки в то самое место, где мне удавались самые лучшие фокусы. Путь был тяжелым, но, к счастью, не очень долгим; я умею перемещаться при низком тяготении с любой ношей — даже с такой, которая брыкается, кусается и вопит. Правда, кусалась она не слишком сильно — так, для приличия. Минут через сорок, а может быть, через час мы отдышались и смогли вернуться к Жанне. — Значит, она написала твою биографию? И эта книга хранится в файлах “Цирцеи”? Я кивнул. — Ты можешь прочитать ее в любой момент. Вместе с предисловием, выводами и резюме. — Больше всего меня интересуют выводы. Жанна, как ты признал, была неглупой девушкой и, я надеюсь, сумела тебя раскусить. И поделиться опытом с другими твоими жертвами. — Не знаю, не знаю… Она, видишь ли, относилась к романтической школе психологии, а романтику трудно понять прагматика. Она утверждала, что я — человек судьбы, над коим довлеет рок детерминизма. Этот вывод не поддается критике по одной простой причине: что бы я ни делал, как бы ни старался обмануть судьбу, все это лишь исполняет веления рока. Так считала Жанна, не я; мне-то кажется, что я абсолютно свободен. Шандра лукаво улыбнулась. — Только кажется, мой дорогой! А я согласна с выводами Жанны. Они мне очень нравятся! — Но почему? — Потому что ты здесь, рядом со мной. Судьба, рок или этот детер… — она запнулась, потом упрямо выговорила до конца: — или этот ваш де-тер-ми-низм привел тебя ко мне! Вот так-то, Грэм Френч! А книгу я прочитаю. Попрошу распечатать и буду наслаждаться ею в постели. Вот так универсальный сексуальный возбудитель! — с легкой насмешкой подумал я. Но Шандра еще не кончила. — Кстати, о постели… Она доставляла тебе удовольствие? Намек прозрачный, как стекло: кто лучше, я или она?.. Вопрос, который женщина всегда задает мужчине, так что ответ стоит приготовить заранее. Я был готов. — Это было так давно, дорогая,.. Я почти ничего не помню… — Грэм! — Меня чувствительно куснули за ухо. — Ты можешь ответить без уверток? — Ну, я полагаю, что был вполне доволен. Эрос — необходимая часть любви, и если женщина неприятна мужчине — или наоборот, — им лучше не лезть под одну простыню. Некоторое время моя принцесса обдумывала эту мысль, потом, обняв меня, прошептала: — Грэм… скажи мне, Грэм… Жанна, и Дафни, и другие… они делали все, что ты хотел?.. Все-все? — Все — слишком растяжимое понятие, — ответил я, пряча улыбку. — Мне ведь не так много нужно… только три вещи… Шандра встрепенулась. Теперь она напоминала охотницу, загнавшую зверя в угол. Добыча, похоже, ожидалась неплохая — олень, кабан или лось; словом, что-то крупное, основательное и мясистое. — Ты скажешь мне, что это за вещи? Или надо тебя укусить? — Не надо, милая, я готов сознаться во всех грехах… Итак, чего я хочу от женщины?.. Первое: чтобы она пришла ко мне по собственному желанию, а не по иным причинам, не ради денег, подарков или суетного любопытства. Второе: чтобы она не стеснялась в постели и действовала инициативно… ну, конечно, в разумных рамках. И третье: чтоб я ей подходил. Если последнее справедливо, она не будет разочарована — ни до, ни после. Ты согласна со мной? У Шандры был вид охотницы, поймавшей мышь вместо оленя. Вздохнув, она пробормотала: — Но ведь есть что-то особенное, что-то такое, что могут делать женщина и мужчина… такое, что понравится тебе… что сделает тебя счастливым… то,’ что умели твои другие жены… Бедная девочка! Кажется, она считала, что я скрываю нечто необычайно важное и не хочу признаться в своих извращенных вкусах! Которым, разумеется, потакали все прочие мои супруги… Глупые, как Дафни, или умные, как Жанна, но, безусловно, более опытные… Познавшие главный галактический секрет: как ублажить в постели Грэма Френча, спейстрейдера… Массаракш! Клянусь, я никогда не требовал, чтоб моя женщина знала все тайны Камасутры, всю тысячу поз и способов, или сколько их есть в этом древнем талмуде. Большинство из них не так приятны, как опасны — разумеется, если вы не индийский йог, не сакабон и не занимаетесь сексом во сне, с помощью нейроклипов. Но и последний вариант грозит бедой; сны снами, но вы рискуете что-нибудь вывихнуть, если не жизненно важный орган, так собственные мозги. А потому я не сторонник искусственных эротических грез; я предпочитаю реальность и настоящих женщин. И не требую от них слишком многого. Я обнял Шандру, притянул к себе, приласкал золотисто-рыжие пряди. Она глядела на меня с тревогой и надеждой, словно я был пифией из храма Аполлона. — Поверь мне, милая, нет никаких секретов и тайн, которых ты бы уже не знала. А что не знаешь, о том можно прочитать и можно посмотреть — “Пир-цея” полностью к твоим услугам. Но я не думаю, что тебе понравится. Эта экзотика подходит далеко не всем, и многие позы опасны, болезненны либо, по крайней мере, неудобны. Ты спросишь, зачем же их практикуют? Ответ один: в некоторых мирах секс сделался спортивным зрелищем, чем-то вроде танца в невесомости или акробатических номеров. Но я хочу остаться любителем, не профессионалом. Шандра удивленно моргнула. — Любовь, превращенная в спорт? В публичное зрелище? Разве такое возможно? — Не любовь, принцесса, а секс. Любовь — гораздо более сложное чувство, и в нашу эпоху его не смешивают с эротикой. Как я говорил, секс — составляющая любви, но он существует и сам по себе, точно так же, как функция деторождения, не связанная физиологически с половым актом. Наши предки знали только один, естественный способ воспроизводства потомства, а у нас их несколько, и породила их технология, а не любовь. Клонирование, искусственное осеменение, слияние гамет в пробирке, доращивание плода в инкубаторе… Все это, как зрелищный секс, не имеет никакого отношения к любви! — Кажется, я понимаю. — Шандра кивнула, и ее пушистые волосы защекотали мне грудь. — Любовь — это таинство, дорогой… Приязнь, сочувствие, интерес, доля эротики и, как ты выразился, разумной инициативы… Все это — любовь! А еще… Я замер, предчувствуя, что она скажет. Она обладала острым умом, и — клянусь всеми Черными Дырами! — ей был уже ясен способ, как обойти моих прежних жен, как восторжествовать над ними, как доказать мне свою безмерную преданность и любовь. Способ, древний, как мир… Губы Шандры шевельнулись. — А еще любовь — это дети. Наше продолжение, Грэм! Незачатые в пробирке, не выращенные в инкубаторе, а настоящие дети! Ты меня понимаешь, дорогой? Я вздохнул и поцеловал ее в висок. Думаю, она восприняла это как обещание.ГЛАВА 17
На том ревизия моего прошлого не завершилась. Кроме Жанны и Дафни, были еще пылкая Ильза с Камелота, нежная, тихая Тея с Виолы Сидеры, транторианки Нина и Джессика, Айша и Деви Са-ньян. Наконец наступила очередь Йоко. Мы были уже на границах системы Соляриса, и это позволило мне оттянуть неприятный рассказ. С гораздо большим удовольствием я говорил о мире, ожидавшем меня и Шандру, о его диковинах и чудесах, о его истории, обычаях и нравах… Не то чтоб я стеснялся рассказать о Йоко или стыдился произошедшего с ней, но любой из нас подсознательно откладывает тяжкие объяснения, прячет давнюю боль в самый прочный ларец памяти, запирает его покрепче и задвигает в самый темный угол. Это всего лишь психологическая самооборона, которой владеет каждый человек, и здесь я не был исключением. Итак, Солярис… Жил в медиевальную эпоху один выдумщик и фантазер, и представилась ему как-то такая картинка: всепланетный океан, плывущий в космической тьме, чудовищный сгусток протоплазмы, обернутый вокруг твердого ядра, ровная бескрайняя поверхность темных вод — ни континента, ни острова, ни рифа, ни скалы… Таким возникнет перед вами воображаемый Солярис пана Станислава — если вы, разумеется, помните, кем был пан Станислав и что он написал. Могу лишь добавить, что океан на его Планете фантомов и миражей оказался мыслящим — не как человек, но каким-то иным таинственным способом, совершенно непостижимым для скудного человеческого ума. Представляете, мыслящий океан! Да, пан Станислав был великим фантазером, и Солярис — лучшая из его придумок! Временами я перечитываю этот роман и размышляю над ним. Мне все-таки кажется, что пан Станислав не верил в существование разумных океанов; он лишь хотел предупредить нас, что в космосе мы встретим много чудесного, но не все чудеса тут же падут перед нами на колени. Не помню, кто из спейстрейдеров открыл планету, к которой мы сейчас приближались, но уверен, что он относился с почтением к пану Станиславу. Иначе зачем называть этот мир Солярисом? Конечно, тут был всепланетный океан, но из нормальной солоноватой воды, и хоть материков не имелось, зато существовали острова — в количестве нескольких сотен, жалкие вкрапления тверди среди необъятных водных пространств. Они были голыми и такими крохотными, что сливались с темной водой, и чудилось, что, кроме океана, здесь нет ничего — только сизо-серые волны, блеклые небеса да редкие стайки перистых облаков. Молчаливый, тихий, загадочный мир… Быть может, этим он походил на Солярис?.. Во всяком случае, его назвали именно так. При ближайшем рассмотрении каких-либо тайн и загадок на Солярисе не обнаружилось. Здесь наступил силурийский период, а это такая эпоха, когда в океане можно найти лишь планктон, червей, моллюсков да пращуров современных рыб, а на суше нет ровным счетом ничего — если не обращать внимания на мхи и папоротники. Тем не менее Солярис стал лакомым кусочком для колонистов. Причин к тому было много. Во-первых, хороший климат, нормальное тяготениеи отсутствие вредоносной фауны; во-вторых, богатые залежи металлов на шельфах и избыток солнечного тепла (что решало энерсетичес-кую проблему — ведь нефть и каменный уголь могли появиться здесь только через полмиллиарда лет); в-третьих, гигантские зоны на морском дне, покрытые водорослями — примитивными, но вполне подходящими для производства удобрений, углеводов и белков. Что же касается суши, то она как-никак составляла тридцатую часть планетарной поверхности, а это не такая уж скромная величина — пятнадцать миллионов квадратных километров, две земных Австралии. В конце концов Солярис был колонизирован переселенцами с Авроры, привычными к виду бескрайних морских пространств. За два последующих тысячелетия они устроились тут с завидным комфортом: все архипелаги экваториальной и субтропической зон были засажены лесами (сплошь пальмовые рощи, ливанский кедр, дуб, секвойи и магнолии), сырье из шельфовых шахт потекло рекой, на мелководье встали города, средоточие роскоши и соблазнов, а океанские фермы обогатились живностью, доставленной со всяких экзотических планет. Так что теперь Солярис вполне созрел для взаимовыгодной торговли. Главными ее предметами считались морские пряности, парфюмерия, жемчуг, деликатесы из рыбы и моллюсков, целебная соль и ароматические эссенции — словом, все, чем богаты силурийские моря. При всем том жизнь переселенцев была довольно тихой — так сказать, полинезийский стиль в сочетании с благами цивилизации. Они даже не удосужились избрать центральное правительство, и каждым архипелагом (а их было добрых три десятка) управляли свои персональные советы, сенаты, конгрессы или директории. Что;же касается океана, то он считался общей собственностью и, будучи неразумным, не имел против того никаких возражений. Мне остается добавить, что соляриты — морской народ; они стройны, невысоки, изящны и плавают с легкостью и грацией дельфинов. Часть из них подверглась добровольной генетической корректировке, вырастив жабры и перепонки между пальцами, но эта метаморфоза обратима: переселяясь в город с ферм или с подводных шахт, они могут вернуться к Прежнему облику. Но и в своем гидроидном обличье они остаются людьми — плавательные перепонки не слишком режут взгляд, а жабры — всего лишь пара отверстий под лопатками. Такая возможность приспособления к океанической среде очаровала Шандру, и вопросы посыпались градом. Ей хотелось узнать абсолютно все: как живут соляриты-гидроиды, как общаются под водой, что едят и чем запивают? Как выглядят их жилища? Есть ли у них свои города, транспорт, книги, связь, искусство? Как они любят? В постели или средь бурных волн? И, наконец, что они носят? Скафандры, плавки, чешую или тот самый наряд, который Адам и Ева предпочитали до грехопадения? Увы, я не мог насытить ее любопытства. Я был на Солярисе не раз, но почти не общался с гидроидами; в местной иерархии они относятся к низшему классу, они — фермеры и пастухи, шахтеры и китобои, сборщики жемчуга и рабочие с подводных фабрик. Я твердо знал лишь одно: мои товары — не для этих людей. Не потому, что они гидроиды, а по иным причинам, скорей социального, чем генетического порядка. И это со всей определенностью доказывало, что тихий, мирный Солярис тоже не был раем. Во всяком случае, тем Раем, который я ищу. Глаза Шандры мечтательно затуманились. — Должно быть, там очень красиво… — прошептала она. — Безбрежный, залитый солнцем океан и острова, покрытые зеленью… Душистый запах магнолий, пальмы с огромными глянцевитыми листьями и секвойи, что поднимаются над лесом, подпирая облака… Я ведь не ошибаюсь, дорогой? Секвойи выше пальм, магнолий и дубов? Подтвердив, что это правильно, я добавил: — Там есть и другие восхитительные виды, на островах вулканического пояса. Они необитаемы, девственны и пустынны: темные скалы над серыми водами, бурый и сизый лишайник, стремительные водопады и неприступные вершины, над которыми вечно курится дымок… Грозная красота! Такого ты еще не видела. Ты будешь делать снимки, а я встану рядом, обниму тебя и почувствую, как под моей рукой бьется твое сердце… — Ты будешь вознагражден! — Шандра с королёвским величием кивнула головой и принялась расстегивать комбинезон. — Прямо сейчас! Я не возражал. Мы миновали пояс астероидов, проплыв над россыпями черных, алых и серебристых глыб; они мерцали и переливались, выхваченные на мгновенье из космической тьмы яростным пламенем, бушевавшим за кормой “Цирцеи”. Там был наш условный юг; там плавился лед и превращался в воду, затем — в струю ионизированного газа, раскаленного до звездных температур; там дюзы беззвучно раскрывали свои огнедышащие жерла, извергая потоки огня; там, в жаркой и страшной преисподней, метались демоны, рычали, бунтовали — и, укрощенные магнитными полями, летели в холод и мрак беспредельной пустоты. Пятьсот пятьдесят метров отделяли нас от этого ада, ничтожное расстояние по меркам космоса, но для нас оно равнялось дистанции между жизнью и смертью, между понятиями “быть” и “не быть. Впрочем, о смерти я не думал; моя “Цирцея” была надежным кораблем. Я размышлял о Йоко и других своих женщинах. Это была своеобразная ревизия, мотивом к коей послужили вопросы Шандры. Я выяснил — не без удивления и грусти, — что плохо помню многих своих жен; их внешность, их привычки, голоса, манера двигаться и говорить как бы подернулись туманом, гасившим все — черты лицы, фигуру, запахи и звуки. С не меньшим удивлением я понял, что все они, такие разные по виду и своей конституции, принадлежали к двум основным группам, будто я сознательно избегал всех других женщин, считая их неподходящими для себя или недостойными ступить на борт моей “Цирцеи”. К первой относились авантюристки — может быть, не в полном смысле этого слова, но все же девушки, не лишенные огонька. Каждая из них преследовала свою цель, диктуемую честолюбием, любопытством, врожденной непоседливостью или страхом, который внушала им действительность; для них я был опорой и защитой, возлюбленным, предметом гордости, а в редких случаях — объектом для экспериментов. Совсем иными были те, кого я называю неистовыми матерями. Эти женщины помешаны на детях; смысл их жизни заключается в том, чтобы вынашивать, рожать, воспитывать и снова вынашивать и рожать. Мужчину они рассматривают как некий полезный механизм, приспособленный для зачатия и создания комфорта; впрочем, в нашу эпоху они обходятся без мужчин, предпочитая постели хирургическое кресло. Когда население возрастает и на планете вынуждены ограничить рождаемость, они оказываются в первых рядах недовольных; им не нужны лицензии и один ребенок в столетие, они жаждут рожать, рожать и рожать! Желательно ежегодно. Подобные дамы, если их вес в обществе высок, инициируют строительство колонистского корабля с последующей эмиграцией; они в своем роде героини, пионеры дальних дорог и покорители Галактики, сеющие тут и там наше человеческое семя. Но эмиграция — долгое дело, связанное с большими затратами и созданием коллектива в десятки, а то и в сотни тысяч людей; так что, если неистовой матери подвернется торговец, способный доставить ее на Окраину, она лезет из кожи вон, чтоб угодить к нему в постель. Такой, кстати, была Нина с Трантора. Как потенциальный супруг я ее не слишком интересовал — ввиду своего бесплодия и невозможности заселить “Цирцею” ордами младенцев; однако она заключила со мной контракт и даже попыталась протащить в нашу спальню пару-другую своих подружек. Надо отметить, что это не такой уж редкий случай — неистовые матери всегда солидарны, поскольку их объединяет и ведет одно и то же желание. Некоторые из спейстрейдеров бессовестно эксплуатируют их, набивая в корабль целый гарем, который должен ублажать владыку-капитана, пока тот не расстанется со своими одалисками в каком-нибудь подходящем мире. Все они идут на это добровольно и — поразительный факт! — еще проливают слезы благодарности, очутившись там, где можно плодиться и размножаться без помех. Я думаю, что человек завоюет Галактику не потому, что он умен, жесток или упорен, а в силу неукротимого инстинкта размножения,свойственного определенным представительницам нашей расы. Дай им шанс, и все светила погаснут, задохнувшись под грудами мокрых подгузников. Из двух описанных выше категорий я твердо предпочитаю авантюристок. Во-первых, они не рассматривают меня как транспортное средство, а во-вторых, проигрывая матерям в душевной силе, авантюристки берут реванш в ином: они веселей и добрей, с ними приятней общаться, и их разговоры не так однообразны и скучны (не считая Дафни, которая на свой манер тоже была авантюристкой). Кроме того, в неистовых матерях есть что-то примитивное, маниакальное; когда дорога близится к концу, физиономии их суровеют, а в глазах вспыхивает фанатичный блеск. Они начинают изнурять себя гимнастикой, однако прибавляют в весе; их аппетит (в том числе — сексуальный) внезапно возрастает, и они все чаще любопытствуют, не собираюсь ли я избавиться от стерильности. Бесполезно напоминать им, к чему приводит беременность на космическом корабле — голос здравого смысла негромок, тогда как сирена инстинктов вопит во всю мочь. Шандра была не такой. Разумеется, и с ней перешептывались инстинкты, однако рассудка она не теряла. А может быть, ею руководил не рассудок, а гордость — та гордость, что свойственна сильным и независимым существам. Вы понимаете, что я имею в виду: куры несутся чаще орлиц, но их потомству — булькать в кастрюле, а не парить среди горных вершин. Классификация — основа многих вещей, и, разработав ее, я успокоился и ощутил готовность к дальнейшим раскопкам. Осталось только преподнести Шандре плод моих раздумий, что я и сделал, едва мы миновали зону астероидов. Выслушав сагу о неистовых матерях, она слабо усмехнулась. — Бедные крольчихи… Сердце кровью обливается, как подумаешь о них… Но ты ими не пренебрегал, мой дорогой. — Тут Шандра бросила взгляд на экран. — Их в твоем списке не меньше четверти. — Что поделаешь, принцесса… мне нравятся женщины, всякие женщины. Ты не рада? — Я не могу радоваться за всех и каждого. Я нравлюсь тебе, и это главное. — Она опять посмотрела на экран, заполненный именами, и брови ее приподнялись. — Массаракш! Целое созвездие… даже два, если верить твоей классификации… И где же тут мое место? — Ты — самая бесценная из звезд! И ты — одна-единственная, неповторимая и яркая! Я не могу тебя причислить ни к одержимым матерям, ни к девушкам-авантюристкам. То, что любишь, не поддается классификации. — Льстец! — Она взглянула на меня не без лукавства. — Но все же?.. Кто я, Грэм? Кто я такая? Я пожал плечами. — Моя жена. Тех, других, я тоже любил — во всяком случае, сначала, — но расставался с ними без сожалений и забывал о них через год или десять лет. Но с тобой все случилось иначе… все есть иначе, понимаешь? Мысль о нашей разлуке страшит меня, я не могу с нею смириться. И еще одно… Я думаю, что полюбил тебя еще до нашей встречи, когда аркон Жоффрей рассказывал мне твою историю. Странно, правда? Будто мне довелось вдохнуть аромат той орхидеи, что когда-то росла на Коринфе… Шандра хихикнула. — Ты — мужчина! Бессовестный соблазнитель! Ты бы лишь уморил тот прекрасный цветок! — Может быть, моя дорогая. Но, повстречавшись с тобой, я как бы обрел вещий талант корин-фянок. Можешь мне верить или не верить, но так уж случилось! Я знаю, чувствую: мне нужна только ты, и мне не надо никого другого. И тогда, и теперь, когда я остался один, я могу повторить все слово в слово. Теперь, пожалуй, с большим основанием… Киллашандра, моя принцесса, моя прекрасная леди! Как далека ты от меня! И как пуст и мрачен мир без твоей улыбки… В тот раз она тоже разулыбалась. — Такие речи приятно слушать! Не знаю, кому ты их говорил до меня, и знать не хочу… Но мне все-таки нужно место в твоей классификации, и ты над этим подумай, дорогой. Скажем, так: Шандра, бесценная, неповторимая, сверхновая звезда! Затмившая все прежние светила! — Стоит подумать, — согласился я. Обернувшись к экрану, она коснулась пальцем одного из имен, и список исчез. Теперь перед нами возникло женское лицо — маленькое, темноглазое, с широковатыми скулами и узким подбородком, покрытое плотным слоем белил. В мире Аматерасу, родине Йоко, грим расходовали с невероятной щедростью, так что без мокрой тряпки не выяснишь, красива ли женщина или нет. Но я помнил, что Йоко была красивой, несмотря на все косметические излишества: тонкая, невысокая, изящная, с загадочными раскосыми глазами и шелковистым водопадом угольно-черных волос. — Похожа на японку, — заметила Шандра. — Вроде бы хорошенькая… Но почему она так накрасилась? — Национальная традиция, — пояснил я. — Таков обычай Аматерасу: чем девушка красивей, тем больше на ее физиономии помады и белил. Фыркнув, моя принцесса пожелала, чтоб Йоко представили в натуральном виде, но у “Цирцеи” такой голограммы не нашлось. Тогда, убрав изображение, Шандра углубилась в документы. Она просматривала их, а я размышлял о том, не скрыться ли мне куда-нибудь — в оранжерею, в мастерские или в воздушный шлюз, где находился катер с отличным ассортиментом спиртного. К несчастью, я не мог ничего придумать — никакой завалящей причины, способной оправдать мое отсутствие. Мне не хотелось, чтоб оно походило на бегство. Закончив чтение, Шандра вынесла свой вердикт: — Скудные данные! Слишком уж все лаконично и сухо. Запись о торговых сделках на Аматерасу… Файл с брачным контрактом… Запись о расторжении контракта, когда “Цирцея” находилась в мире Аткинсона… Отметка: считать Инамура Йоко пассажиром… Запись о высадке пассажира на Сан-Брен-дане — вместе с приличным грузом платины… Очень приличным! Ты что же, Грэм, дал ей отступного? Я откашлялся, мысленно прокляв скрупулезность “Цирцеи”. Она учитывала все! Каждый мил-,. лиграмм металла и каждую рваную тряпку, брошенную в утилизатор! А все учтенное было, само собой, доступно для просмотра — хоть через десять тысяч лет. — Послушай, девочка, я расскажу тебе о Йоко… — Горло у меня пересохло, и слова давались с трудом. — Я прибыл на Аматерасу и занялся торговлей; все как обычно — книги, записи, наряды, груз специй с Навсикаи, нейроклипы с Беовуль-фа и долоросские кружева… Все как обычно! Я дал объявление, чтобы найти манекенщицу, ко мне обратились три дюжины девиц, и я выбрал Йоко. Она казалась старше и опытней прочих, и она была самой изящной и милой, даже со всей своей штукатуркой на лице. Словом, мы устроили отличное шоу, расторговали все туалеты, а после отметили свой успех… Я ведь тебе говорил, как это бывает? — Да. Потрясающие откровения! Но я уже не удивляюсь. — Я тоже не удивился, когда она захотела остаться еще на пару дней. На “Цирцее” нам было так хорошо! Так уютно! Мы… — … не вылезали из постели? — предположила Шандра. — Ах ты старое космическое чудище! Совратитель юных манекенщиц! — Вовсе нет. Мы с нею беседовали, почти как сейчас с тобой. Я говорил о межзвездной торговле о мирах, что хотел посетить, о планетах Окраины и о Старой Земле… Помню, мы болтали еще о тканях — о том, как надо подбирать их цвет, сообразуясь с оттенком кожи манекенщицы и спектральным классом местного светила… Потом зашел разговор о ее родине. Аматерасу — вполне благополучный уголок Вселенной, но Йоко там не нравилось. Она была недовольна — не своими гонорарами (ее услуги как раз оплачивались неплохо), а тем, что манекенщицы имели низкий статус в местном обществе: повыше гейш, но много ниже, чем мастера чайной церемонии и икебаны. Она сказала, что была бы счастлива отправиться со мной и путешествовать среди звезд. И добавила: с таким добрым и чутким супругом ей ничего не страшно. Шандра рассмеялась. — Старая песня! Как говорила Кассильда, назови мужчину добрым и чутким, и он у тебя в кармане. Ты тоже клюнул на эту приманку, мой бедный Грэм? — Разумеется, — ответствовал я с кислой улыбкой. — Итак, мы отправились “вниз”; мне надо было закончить дела на планете, а Йоко принялась распродавать имущество, превращая все в стандартную валюту. Мы не скрывали своих отношений. Нас часто видели вдвоем — репортеры светской хроники, комментаторы, журналисты… ну, ты знаешь эту публику. О нас писали и сплетничали, но это меня не волновало. Я уже принял решение. Понимаешь, я знал, что не влюблен в нее, но она мне очень нравилась. Она была такая милая, маленькая, хрупкая… Шандра скосила глаза на свое отражение в блестящей металлической консоли и недовольно нахмурилась. — Ну, меня маленькой и хрупкой не назовешь… Это большой недостаток, Грэм? — Не слишком — особенно ночью, в постели. Девушка вроде тебя не затеряется среди подушек и одеял, а это огромное преимущество в глазах мужчины. Успокоив ее таким образом, я продолжал свой рассказ о Йоко: — Мы отправились в путь, и все шло великолепно, пока “Цирцея” не достигла мира Аткинсона. Люди там высокие и стройные, почти как барсумий-цы, но их звезда, красный карлик К-3, не балует теплом и светом. Холодный мир, суровый! Кожа у его обитателей мертвенно бледная, глаза — огромные, голубоватые и почти не различают цветов. Правда, на Аткинсоне велись генетические эксперименты, дабы улучшить зрение, и я полагаю, что им удалось добиться успеха, но в тот период нас это не спасало. Йоко, маленькая смуглая Йоко, совсем не была здесь эталоном красоты, и мне пришлось нанять местную манекенщицу. Она не обиделась, только сказала, что ей тяжело смотреть, как другая девушка выступает на помосте, делая ее работу. Не возражаю ли я, если она отдохнет? Осмотрит достопримечательности, развлечется и все такое… Я, конечно, не возражал, и Йоко уехала — с моим благословением и приличной суммой на мелкие расходы. Если б я догадался, что из этого выйдет! Привстав в кресле, Шандра потянулась ко мне, поцеловала в висок. — Тяжело вспоминать, Грэм? Я молча кивнул. Эти воспоминания и в самом деле не относились к приятным. — Она тебе изменила? Предала? — Изменила и предала, только не так, как ты думаешь. Представь, через неделю-две меня разыскал один из клиентов, хозяин салона модной одежды. Он был взбешен! Он утверждал, что все проданное ему — проданное эксклюзивно, по самым высоким ценам! — продается вновь, в южном полушарии; все наряды, белье, косметика, все патенты на прически и макияж! Его разорили! Разорили по моей вине! Гнусный космический бродяга над смеялся над ним1 Жулик, мошенник, вор! Остановить этот поток претензий можно было только деньгами. Я выплатил штраф, принес извинения и начал чесать в затылке. В общем-то я понимал, что случилось: Йоко устроила новую распродажу, для второразрядных фирм, по минимальным ценам. И теперь все эксклюзивные права моих покупателей были пустым клочком бумаги; а я, капитан Френч, сделался в их глазах жуликом, мошенником и вором! Видели они не очень хорошо, но в делах финансовых не ошибались! Я был ошарашен. Меня подставили — и как! А главное — кто! Кто! Собственная моя супруга, олицетворение нежности и чистоты! Вызвав ее, я потребовал объяснений. А что тут такого? — сказала она. Чтоб заработать деньги, любой способ хорош! Я объяснил ей, что мы ничего яе заработали; вся прибыль от нашего шоу пойдет на выплату штрафов. От твоего шоу — уточнила она, прибавив, что отправилась со мной делать деньги и торговать. Неужели я так наивен, что считаю ее идиоткой? Ей-то известно, чего я хочу! Набить карманы да поразвлечься с девушкой, пока не надоест, а затем выкинуть ее с корабля! Бросить в самом гнусном из всех галактических притонов! Рассказ мой был прерван: Шандра вскинула руки к лицу, и я с изумлением увидел, что губы ее подрагивают — то ли от гнева, то ли от сдерживаемых слез. Но глаза ее были сухими, лишь зрачки потемнели, и по этому признаку я догадался, что она в ярости. — Дрянь! Какая дрянь! Ведь ты бы никогда такого не сделал, Грэм! Вы были связаны клятвой! И она об этом знала! — Конечно, знала. Но человек бесчестный редко признается в своих грехах; он ищет самые абсурдные оправдания, а если ты отвергнешь их, обвинит тебя в предвзятости. Бесчестный чиновник будет вопить, что воровал для своих голодных детей; жулик-банкир — что утаил доходы из-за налоговой политики правительства, которое тянет с него последний грош; и даже у разбойника с большой дороги найдется тетушка со сломанной ногой и пара счетов из больницы… Оправдания, оправдания!.. Кто не нуждается в них? Быть может, тиран вроде Клерака Белуга, уверенный в своих божественных правах… — Это все философия, Грэм! Давай забудем о Клераке и вернемся к Йоко. Что ты с ней сделал? Что ты мог с ней сделать? — Почти ничего, если следовать букве закона. А закон, если помнишь, таков… — Я поднял палец и процитировал: — “Я обещаю, что ты никогда не покинешь борт нашего корабля против своей воли — до тех пор, пока я являюсь его капитаном и владельцем. Я обещаю, что не оставлю тебя ни в одном из обитаемых миров и ни в одном из космических поселений, если на то не будет твоего ясного и недвусмысленного желания. Если ты выскажешь такое желание или же мы решим расторгнуть брак по обоюдному согласию, я обязуюсь обеспечить тебе достойную жизнь в том мире, который ты изберешь”. Таков закон, милая, закон чести! И все его пункты оставались нерушимыми, хоть Йоко больше не ложилась в мою постель… Разумеется, я мог покинуть ее в мире Аткинсона или вышвырнуть в космос, мог велеть роботам, чтоб утопили ее в баке с хлореллой… Но это было бы несправедливо, это было бы нарушением клятвы, хранившейся в вечных записях. Так что я развелся с ней, переселил со своей половины в одну из пассажирских кают и стал ждать, когда ей захочется убраться с моего корабля. — И это ее устроило? — Еще бы! Она сказала, что мода — очень подходящий бизнес для красивой женщины, и если я, мужчина, хочу посостязаться с ней, то в добрый путь! Только как бы мне не обжечься на молоке! Нарядов у нее хватит и денег — тоже; в любом из обитаемых миров она найдет агента и подходящую посудину, чтобы спуститься вниз и показать товар лицом. Шандра с возмущением фыркнула. — И ты ее таскал от звезды к звезде и обращался с ней как с пассажиром! С этой предательницей! С женщиной, оскорбившей тебя! С тем бедолагой Пророком ты был куда суровей! — Тот бедолага Пророк чуть не отправил меня в мир иной, а Йоко… Она всего лишь предала и опозорила меня. Сажать ее в карцер? На хлеб и воду? А как же с моими обетами? Помнишь: я обещаю любить, почитать и защищать тебя — во все дни!.. — … пока действителен наш брак, — откликнулась Шандра. — А ты с ней развелся! — Ну так что же? Теперь я был не обязан любить и почитать ее, а вот защищать… Этот пункт контракта оставался справедливым. По крайней мере, я не мог морить ее голодом, держать взаперти и ограничивать ее свободу. — Бедный Грэм! Твои обещания похожи на клетку без дверцы… Ты — внутри, клетка прочна, выхода нет, и ты не можешь протиснуться между прутьев… Я мрачно усмехнулся. — Насчет клетки и прутьев хорошо сказано! Но я, девочка, старый космический волк, прожженный торговец… Не мошенник, нет! Но в любую щель я без мыла пролезу. Шандра расхохоталась — вероятно, представила, как ее супруг превратился в блин на тонких ножках, коему решетки не помеха. — Не сомневаюсь! Ты — мудрый старый мужчина со Старой Земли. И ты — великий хитрец! Так что же ты придумал, счастье мое? Поощренный, я пустился в объяснения. Надо сказать, что, если мужчина приятен женщине, ее восторги минуют как бы три этапа: на первом в мужчине ценится внешность, на втором — искусство любовника, а на третьем — ум. Не талант, не Божий дар гениальности, а хитроумие — иными словами, находчивость, способность выкрутиться в любой ситуации. Выкрутиться можно всегда; в крайнем случае проделать бластером дырку между глаз, но такое решение женщина не оценит. А вот пролезть в щель… да еще без мыла… Но вернемся к Йоко. Кажется, она считала, что я начну таскать ее по всей Галактике, связанный клятвой по рукам и ногам, и повсюду она будет стричь купоны, пока не найдет подходящий уголок, более Приятный, чем Аматерасу. Так могло бы случиться; у нее были собственные средства, был обширный гардероб, был опыт первоклассной манекенщицы, и я никак не мог пресечь ее занятий модельным бизнесом. Если не считать маршрута… Тут ей не стоило надеяться на мое благородство! Нарядами интересуются лишь в развитых мирах; потребность в роскоши и соответствующий рынок — дитя благополучия, пусть относительного и не связанного с прогрессом в социальной сфере. Не так уж существенно, какой царит на планете режим — монархия, демократия или диктатура. гуманного коммунизма; когда начальный период колонизации завершен, когда поля, фабрики и рудники снабжают всем необходимым, тогда можно заняться нарядами. Это развлечение элиты, а элита, уверяю вас, есть во всех мирах, даже там, где исповедуют доктрину коммунизма. Кроме, разумеется, Окраины. Сто, двести или триста лет мода там неизменна: Скафандр и комбинезон, комбинезон и скафандр. Временами шуба или шорты, это зависит от климата, но при любом раскладе платья для коктейлей переселенцам не нужны. Их интересует технология, а еще — домашние животные вроде шабнов и продуктивные сорта пшеницы. Словом, Окраина — неподходящее место, чтоб торговать духами и шелками. Туда я и направился. Мы мотались от звезды к звезде, словно передвижной завод; в мастерских грохотали станки, в жилых каютах тянуло запахом пластика, а трюмы были забиты бурильными установками, грейдерами, слидерами, комбайнами и тракторами. Я редко торгую готовым оборудованием, только спецификациями, но тут был случай особый: на каждой второй планете нуждались в машинах, не в чертежах. И я делал машины —. простые, прочные, надежные. Я покупал сырье, алюминий и медь, цинк и никель, стальные болванки или прокат, целлюлозу и нефть для химических конвертеров, и мои роботы трудились не разгибая спин. Чего не скажешь о Йоко — после пары попыток что-то продать она затосковала. Тут, в мирах Окраины, нуждались не в манекенщицах, а в проститутках и судомойках. Миновало восемь месяцев, и мы очутились на Сан-Брендане. Мерзкая планета, по крайней мере в ту эпоху! Тяготение на десять процентов больше стандартного, сейсмическая активность выше нормы, неисчерпаемые запасы руд, но плодородных земель повсюду не хватает — как и чистой воды и воздуха без примеси сернистых паров. Стоит ли удивляться, что Сан-Брендан уже вступил в период перенаселения? Не так уж много людей обитало в нем, но жили они впроголодь, хотя под любым из их городов были закопаны целые клады. В таком мире понимаешь, что истинное сокровище — не брильянты, не платина и золотые рудники, а хлеб, молоко и мясо. Отмечу, что с течением лет бренданцы решили вопрос с продовольствием, наладив искусственный синтез и укротив вулканы, но в ту эпоху их жизнь была нелегкой. Сто двадцать миллионов — на клочках земли, самый большой из которых не превышал площадью ста квадратных километров! Одни из этих участков занимали города, другие находились во владении лендлордов, и каждый такой хозяин сделал свои угодья неприступной крепостью, собрав и вооружив всех чад и домочадцев, всех арендаторов и работников. Нелишняя предосторожность! Голодные бунты и погромы случались здесь с поразительной регулярностью. Я завернул на Сан-Брендан, чтоб отовариться металлом. Все тут было дешево — рений и платина, никель и медь, не говоря уж о железе; за банку мясных консервов расплачивались золотыми слитками, а яблоки шли в цену алмазов. Попутно открылась еще одна возможность: я мог отлично заработать на фрахте, уменьшив голодное население Брендана. Их правительство субсидировало эмиграцию, но корабль для колонистов был еще только заложен, и, судя по темпам работ, его собирались поднять на орбиту как раз к тепловой смерти Вселенной. Я не имел гибернаторов, какими оборудуют огромные колонистские корабли, а живьем на “Цирцее” разместилось бы человек пятьсот. Ничтожное количество, разумеется; зато я мог сделать полсотни рейсов за шесть месяцев, так как колонизируемый мир, называемый Бруннершабном, находился в трех световых годах. Его не успели как следует освоить; там вспыхнула ядерная война — и с таким размахом, что теперь, по прошествии сотен лет, от людей остались лишь воспоминания. Не знаю, чего они не поделили и откуда взялись у них бомбы; быть может, какая-то часть переселенцев притащила их с собой, как самый веский аргумент на выборах в конгресс. Ну, чем это кончилось, вы теперь знаете. Безлюдный Бруннершабн маячил перед голодными бренданцами, будто морковка перед ослиным носом, и они его все-таки проглотили — при моем, надо сказать, содействии. А потом все вернулось на круги своя: через тысячелетие Бруннершабн тоже был переполнен, неистовые матери принялись драть глотку, вспыхнул мятеж, и в результате корабль колонистов отправился к одной безымянной планетке. Вел их Саймон Мерфи, планету назвали в его честь, а потом этот Мерфи погиб во время падения Молота. Так, во всяком случае, утверждал Жоффрей… Шандра дернула меня за рукав. — Подожди-ка, Грэм… Ты что-то путаешь! Мой мир заселили люди с Преобразования, а не с какого-то радиоактивного Бруннершабна! — Все верно, детка. Бруннершабн погиб вместе со всем своим населением, и колонистам с Брендана пришлось поработать, чтоб привести планету в пристойный вид. Дезактивация почвы, очистка вод и все такое… Вот они и назвали свой новый мир Преобразованием. Символично, не правда ли? Имелись и другие предложения, но из скромности я о них умолчу. — Выходит, эти переселенцы с Брендана — мои предки? Предки всего моего народа? И ты их знал? — Шандра, казалось, была поражена; впервые она получила веское свидетельство, что я — древнейшая из исторических реликвий. Так сказать, раритет былых времен! Из эпохи динозавров! А может, причиной ее изумления стал ее собственный возраст… В сравнении со мной она была так молода! Так непозволительно молода! Дитя рядом с космическим Мафусаилом… Шандра задумчиво пропустила меж пальцев прядь золотистых волос. — Грэм, а эти люди с Брендана… мои предки… какими они были? Высокими? Стройными? Красивыми? — Голодными, моя дорогая. Голод гнал их из родного мира, голод и нужда в больших количествах пищи, необходимой людям при высокой гравитации. А их внешность… Боюсь, они не показалис бы тебе красавцами. Бледные, редковолосые, рост — мне по плечо, массивный крепкий костяк, и вес под сотню килограммов… Правда, сплошные мускулы, ни капли жира. — Но мы, мерфийцы, совсем на них не похожи! Мы… — Конечно, конечно! Вы — высокие и стройные, с бронзовой кожей и золотистыми волосами, как у древних скандинавов и славян. Вполне закономерно, девочка: люди меняют мир, мир изменяет людей. Изменяет их внешность, я хочу сказать; сущность их остается прежней. — Что ты имеешь в виду? — Глаза у Шандры округлились. — Некий наследственный признак. Скандинавы и русские, общие ваши предки, твои и бренданцев, были людьми упрямыми. Это совсем неплохая черта: лишь упорные могут выжить на Сан-Брендане, а затем переселиться в радиоактивный мир и привести его в нормальное состояние. Или сорок лет чистить котлы… — Выходит, я им обязана? — спросила Шандра после недолгого раздумья. — Само собой. Я полагаю, даже в большей степени, чем ты могла бы вообразить. Ты исключительно упрямый экземпляр! Ты… Только не кусайся, дорогая! Но она меня все-таки укусила — очевидно, затем, чтобы направить мои мысли в нужную сторону. К Йоко, как вы можете догадаться. — Я заключил контракт с властями Сан-Бренда-на, обязавшись перевезти на Бруннершабн двадцать тысяч переселенцев, вместе с их роботами, установками для дезактивации и прочим имуществом, сколько его поместилось в трюмах “Цирцеи”. Переселившись в рубку, я освободил для пассажиров все коридоры и каюты; даже в карцере ютились трое, а в гимнастическом зале — целая сотня. Йоко тоже пришлось уплотнить: теперь в каждом рейсе бок о бок с нею жили пять брендианок, а это было не самым приятным соседством. Любая из них весила вдвое больше моей экс-супруги и без труда открутила бы ей голову, случись им встретиться в рукопашной. Кроме того, характер у брендианок был крутоват, и Йоко, изящная, утонченная, в изысканном гриме, их раздражала; они походили на голодных волчиц, посаженных в клетку к сытой домашней болонке. Они бы ее проглотили, если б не страх наказания… Но я предупредил, что выброшу в космос любого, кто прикоснется к ней — неважно, с какими целями, со злым умыслом или наоборот. Впрочем, в сексуальном смысле она не была привлекательной для бренданцев — не более чем стрекоза для шайки навозных жуков. Во время пятого рейса я принял ее капитуляцию. Странствия среди звезд, комфортные, небезвыгодные и такие романтические, обернулись своей неприятной стороной — или я повернул их в нужную сторону. Так ли, иначе, но мы обсудили условия перемирия, и первым из них являлся пункт о скорой и вечной разлуке. Йоко хотела покинуть корабль как можно быстрее, но выбор был у нее невелик: или Сан-Брендан, не слишком гостеприимный к эмигрантам, или Бруннершабн, где ветры вздымали серую пыль над опаленными равнинами. Из двух зол она выбрала меньшее, а меньшим злом был, конечно, Брендан: все-таки там существовал хоть намек на цивилизацию. Не слишком большой, чтоб обеспечить процветание в сфере модельного бизнеса, но у нее нашлись бы и другие варианты. Скажем, какой-нибудь спейстрейдер, завернувший туда в поисках золота и платины… Уверен, она своего бы не упустила! — Ты ее ненавидишь? — Шандра прижалась ко мне, заглядывая в лицо. — Ненавижу? Нет… теперь, пожалуй, нет… Все-таки я победил! Но мне тяжело вспоминать о ней и о своей победе. Не потому, что она меня одурачила или пыталась меня унизить… нет, не потому! Но Йоко лишила меня иллюзий. Расставшись с нею, я узнал кое-что о себе — например, что не являюсь таким уж хорошим человеком, что могу свершить жестокость или насилие, ответить злом на зло… Печальный вывод, милая! Очень печальный! До сих пор на совести моей были только похищение “Цирцеи” и моя дочь, которую я покинул; теперь к ним добавилась Йоко. Неважно, кто был прав, а кто виноват; неважно, чем я откупился, — вся платина со всех миров не стоит слезинки человеческой! И того горя, которое мы, люди, причиняем друг другу… Я замолчал. Гнетущее чувство терзало меня; я снова видел фигурку Йоко, озаренную пламенем, длинными струями пламени, что били из дюз, раскаляя серый бетон… Я умчался “наверх”, к “Цирцее”, а Йоко осталась “внизу”, в мрачном бренданском космопорте, стиснутом складами и ангарами… Она выглядела такой беспомощной, такой маленькой!.. В тот миг мне чудилось, что я бросаю Пенни — бросаю снова, не в силах защитить ее от себя самой… — Ты все-таки не смог выбраться из клетки, мой бедный Грэм, — сказала Шандра, и мне оставалось лишь кивнуть. Она была права; мой личный кодекс, все эти правила чести и благородства, законы космоса, традиции Старой Земли — словом, все побрякушки, придуманные мной, были в то же время и цепями. Странно, скажете вы? Странно для человека, который так ценит свободу, что сбежал от всех и всего — от родины, от дочери, от смерти? Даже от смерти… В том-то все и дело! Долгая жизнь может превратиться в адский груз, если вы откажетесь играть по правилам. Я это понял, и я придумал законы, которые подходят мне; и я буду следовать им, пока очередной прыжок не приведет меня к финалу. Иными словами, в точку дестабилизации… Быть может, там и находится Рай?ГЛАВА 18
История с Йоко имела свои последствия: теперь Шандре хотелось узнать, как я прокладываю курс, какие звездные системы выбираю в своих нескончаемых странствиях, отчего направляюсь в ту сторону, а не в другую. Есть ли какой-то смысл в перемещениях “Цирцеи”? И если да, то что же служит мне путеводным маяком? Интуиция? Подсознательные желания? Трезвый расчет? Прогностика? Передачи и сигналы с обитаемых миров? Быть может, как в случае с Йоко, я выбираю маршрут, который избавит меня от строптивой жены? Или послужит к пользе любимой и верной супруги — такой, как Жанна Дюморье? Признаюсь вам, эта гипотеза Шандры меня очаровала, и я готов былсогласиться с ней. Ведь сплошь и рядом я вез своих женщин с конкретной целью: то ли в мир, застроенный от горизонта до горизонта родильными домами, то ли в научный рай, где колосятся на факультетских нивах профессорские кафедры, то ли на остров сокровищ, где золотые реки текут в алмазных берегах… Выходит, весь мой маршрут определялся матримониальными соображениями! Логично, весьма логично! Браво, Шандра! Она позабыла лишь то, что большую часть своей жизни я в супружестве не состоял — и, следовательно, прокладывал курс в гордом одиночестве. Должен отметить, что галактические путешествия, если не касаться желаний дам, нельзя планировать рационально — во всяком случае, у меня это не получалось. Я Направляю свой полет в зависимости от сиюминутных обстоятельств — от груза, принятого “Цирцеей”’ в том или ином порту, от наличия пассажиров и специфических товаров, от сведений, оставленных мне коллегами, или от слухов, которые циркулируют в том районе, где я очутился в данный момент. Так было всегда, и мой визит на Мерфи вовсе не исключение: я полагал, что окажусь в процветающем мире, где можно с выгодой сбыть панд-жебские статуэтки. Если б мне было известно о катастрофе, о диктатуре теократии и прочих мерфийских прелестях, я скорее всего миновал бы этот галактический закоулок и никогда не встретился бы с Шандрой. Ужасающая перспектива! Но случай или рок хранит меня и направляет верными путями. Возможно, Жанна Дюморье была права: я — человек судьбы, хоть не хочу признаться в этом. Вы спросите: а как же межзвездная связь? Сигналы, передачи, сообщения, что мчатся из мира в мир со скоростью света? Увы, я не могу извлечь из них ничего полезного — как правило, не могу. Во-первых, подобная связь — удовольствие не из дешевых; тут нужны орбитальные радиотелескопы, дорогое оборудование, мощные источники энергии и команда энтузиастов, которая будет заправлять всем этим делом. Нужен, разумеется, богатый меценат или правительственное финансирование — а у меценатов и властей есть на что расходовать деньги, и обычно они не желают выбрасывать их в космическую пустоту. Так что межзвездная связь — явление редкое, можно сказать — уникальное; за двадцать тысяч лет я перехватил сто двенадцать таких посланий, и толку от них не было никакого. В последнем, направленном с Секунды, местный математический гений информировал коллег, что ему удалось доказать Великую Теорему Ферма. Большое достижение, согласен, но бесполезное для меня — как и проповеди, которыми засоряют эфир религиозные фанатики всех направлений и мастей. Вот вам и вторая причина: межзвездные передачи касаются либо математики, либо теологии, но никак не вещей практических и нужных. Кому придет в голову транслировать описание полезного устройства, машинки для синтеза ананасов из опилок или даже новой симфонии? Все это — товар, ценный товар, предназначенный для нас, спейстрейдеров; информация, которую можно обменять на другую информацию или на деньги. Так что бесплатных пирожных не бывает; бесплатно — лишь теоремы и псалмы. Мы двигались к Солярису, и с каждым днем он рос на наших экранах, минуя стадии последовательных метаморфоз: вначале — яркая искорка на фоне бархатистой тьмы, затем — жемчужно-серая округлая капля, сиявшая опалесцирующим светом, и наконец — крошечный диск, шарик тверди, окутанный теплым покрывалом океанов. Солярис странствовал вокруг светила в одиночестве, не имея естественных спутников вроде земной Луны, и потому силур здесь затянулся; местная жизнь никак не могла выбраться из вод на сушу без помощи приливов. Теперь в том не было нужды: переселенцы потрудились вместо сателлита, и жизнь на их островах и в океане била, что называется, ключом. Правда, от прежней энде-мичной флоры остались только водоросли да лишайник на вулканических архипелагах, а истинно солярисская фауна была представлена креветками да ракушками. Зато теперь тут были земные дельфины и киты, и всевозможные породы рыб, и настоящая почва с травой и деревьями; перепрыгнув разом через несколько геологических эпох, Солярис как бы очутился в современности — в той современности, которая подходит людям. Разглядывая планету, ближайшую цель наших странствий, Шандра спросила: — Куда мы опустимся, Грэм? Я вижу десятки архипелагов, больших и малых, и в каждом — столько островов! Они — как изумрудные зерна на палевом шелке… Какой мы выберем? Вот этот? — Нет. Мы сядем на Фаджейре. — Я показал ей остров вблизи экватора. — Здесь правит фаджер-ский Ареопаг, здесь несколько городов и самая крупная из биостанций. Приятное местечко! Пальмы, песчаные пляжи, дельфины, океан… Тебе понравится. Закончим с делами, поедем на север или на юг. Там и там есть вулканические острова, теплые гейзеры, скалы и водопады — словом, все приманки для туристов. Вытянув руку, Шандра погладила колечко на моем пальце — словно хотела убедиться, что подарок ее не исчез, не обратился бесплотным фантомом. Голос ее был тих. — Мы могли бы задержаться здесь подольше, Грэм? На пару лет? Этот мир так прекрасен… И хочется верить, что он будет добр к нам. — Не обольщайся, девочка! Ты ведь знаешь правила; они едины и на Солярисе, и на Земле, и в любом из обитаемых миров. Спейстрейдер словно фотон — живет, пока движется, пока не потерял свой корабль. Ты ведь не хочешь, чтобы мы лишились “Цирцеи”? — Нет, — она покачала головой. — “Цирцея” — твоя жизнь, Грэм… я понимаю… я все понимаю… Значит, не год, а месяц? Или два? — Скорее два. Но ты не грусти, дорогая, — в Галактике столько прекрасных планет! Особенно если глядеть на них с орбиты после плотного завтрака, с чашкой кофе под носом. — И мы их увидим? — Непременно. Вот, взгляни! — Я вызвал звездную карту окрестностей Соляриса. — Алоха — одно направление, Пойтекс — другое, Александрия и Фидлерс Грин — третье и четвертое… Солнце цвета серебра или багряное, как кровь, алое светило или с зеленым оттенком… Выбирай! Пара-тройка прыжков, и мы на месте! Она покосилась на голограмму, мерцавшую перед нами в воздухе россыпью ярких цветных огоньков. — Какой из этих маршрутов ведет к Окраине? — Все, кроме зеленой звезды Фидлерса. А почему ты спрашиваешь, детка? — Даже не знаю… Я вдруг подумала об этих любвеобильных матерях… ну, о женщинах, которых ты эвешь неистовыми… Ведь они всегдастремятся на Окраину? А живут на древних планетах, где население стабильно И каждый ребенок мнится чудом… И с этих планет до Окраины так далеко… чем дальше, тем труднее выбраться… Я объяснил Шандре, что она не права. В Старых Мирах, таких, как Исс, Панджеб или Македония, легче построить корабль для переселенцев и легче набрать команду. Именно там рождаются звездолеты или большая часть из них; и это, как правило, колонистские корабли. Каждый — огромный летающий холодильник без всякого комфорта, десятки тысяч гробов-гибернаторов плюс трюмы, забитые всяким добром; с одной стороны — рубка и каюты экипажа, с другой — реактор, дюзы и двигатель Ремсдена. Такой корабль рассчитан на путешествие в один конец. Добравшись до нужного места, переселенцы съедают его по частям: сперва с орбиты транспортируется полезный груз, затем — все гайки, винтики и болты, все оборудование, что годится в дело, а через сотню-другую лет приходит очередь внешней обшивки. Поэтому ни одна из колонистских лоханок не стала торговым кораблем; они словно кусочки сахара в чашке с горячим чаем — растворяются и оседают вниз, на дно, мириадами крохотных крупинок. Наши суда — я имею в виду корабли спейстрейдеров — рождаются на свет иначе. Это редкое событие, столь же редкое, как сеанс межзвездной связи, однако чего не бывает в Галактике? Она ведь так велика и так стара, что было бы чудом, если б в ней не случалось вещей редкостных, маловероятных, почти невероятных… Поверьте мне, что это происходит; время, демоны Максвелла и Закон Больших Чисел воистину могут творить чудеса. Вот, например… Случается, что людей в каком-то мире внезапно охватывает мания — странный недуг социального или религиозного свойства, способный, по мнению захворавших, осчастливить все человечество. И что же дальше? Дальше, само собой, они желают донести благую весть до самых звезд, не считаясь ни с какими затратами. С этой целью строится миссионерский корабль, надежная посудина с командой из жертвенных агнцев; все, как один, — святые мученики, герои и пророки. Они отправляются в путь, но с течением лет их пыл угасает, а потом какой-нибудь мученик и герой берется за бластер, чтобы устроить всем остальным Варфоломеевскую ночь. Если он из предприимчивых парней, то становится спейстрейдером, а если нет, то корабль можно продать на аукционе и жить безбедно хоть до Страшного Суда. Есть и другие варианты, иные причины, способные подвигнуть нас — я имею в виду людей — к странствиям среди звезд. Главной из них является любопытство. Этот каприз стоит немалых денег, но, как я говорил, чего не бывает в Галактике! Какой-нибудь невероятный богач, властитель целой планеты, какой-нибудь филантроп, обуреваемый исследовательским зудом, какой-нибудь романтик, получивший нежданное наследство… Такие типы, идеалисты и мечтатели, вполне созрели для космических вояжей, но согласно статистике судьба их незавидна. На каждого романтика во Вселенной найдется сто прагматиков, и рано или поздно все пойдет по накатанной схеме: бунт на борту, резня и насилие, кровь и смерть… А там, глядишь, появился новый спейстрейдер, не обязательно негодяй, прикончивший прежнего владельца, а просто везучий парень. Из тех, что всегда попадают в нужное время в нужное место. Правда, таким новичкам еще предстоит обучиться искусству коммерции среди звезд, а это, надо сказать, дело тонкое и непростое. Планетарный опыт здесь скорее опасен, чем полезен, ибо внушает ложную уверенность в своих способностях — каковые, весьма вероятно, не годятся для занятий космической торговлей. Почему, спросите вы? Да потому, что любой финансист с Барсума, Логреса или Эдема привык получать десять процентов прибыли на вложенный капитал. Двадцать — это уже причина пить шампанское и бить на радостях фужеры; тридцать — невероятный успех, улыбка Фортуны; ну а пятьдесят — чистая фантастика, дающая повод для подозрений в мошенничестве (по крайней мере, на цивилизованных планетах). Такие рамки не для космических торговцев. Мы путешествуем из мира в мир, а это — дорогое занятие; мы нуждаемся в своевременном ремонте, в топливе для реакторов, в самых лучших приборах, компьютерах и машинах, в изысканной пище и других предметах, способных скрасить наш бесконечный полет. В этой игре приемлемая ставка — пятьте одному, но лучше, если вы ухитритесь выжать десятикратную прибыль. Не забывайте, что, кроме актино-идов, вам необходима платина, то есть свободный капитал; ведь многие ваши товары осядут в трюмах на столетия, пока не найдется тот уголок, где можно сбыть их с максимальной прибылью. Значит — выдержка, выдержка и еще раз выдержка! Плюс немного лукавства. Взять хотя бы мою аферу с панджеб-ским серебром… Да, наша профессия — не для романтиков и дилетантов! И не для типов, склонных к легковерию! Впрочем, легковерных можно понять, пожалеть и простить; и я не безгрешен — если вы вспомните о Йоко. Но женщина есть женщина, вполне простительная слабость, а вот в остальных ситуациях легковерие неуместно. Так что, если вам предлагают искать сокровища в Магеллановых Облаках или купить двигатель, который доставит вас в Туманность Андромеды, будьте осторожны! Лучший ответ — сказать, что вы там уже побывали и что готовы поделиться всеми тайнами иных галактик — за вполне умеренную плату. Не назначайте слишком много: пара граммов платины будет в самый раз, чтобы отделаться от любого авантюриста и фанатика. Я знаю по личному опыту, что все такие прожектеры упрямы, нахальны и агрессивны, как стая голодных воронов, но самые наглые из них — те, кто вдохновлен религиозными идеями. Они обойдут даже неистовых матерей — на любом повороте и любой дистанции! Я получал от них массу заманчивых предложений: то набить корабль миссионерами и прокатить их в какой-нибудь грешный мирок (разумеется, бесплатно, из любви к Всевышнему); то отправиться в благочестивое турне, искореняя еретиков и атеистов вдоль и поперек Галактики; то, наконец, продать “Цирцею” за медный грош или пуститься на поиски Рая в приятном обществе пары десятков маньяков. Все эти почтенные джентльмены, грозившие мне то адским огнем, то вечным проклятием, паслись на том же лугу, что Дети Света, только в их кошельках царила космическая пустота. Неподходящие мне пассажиры; если уж иметь дело с фанатиками, я предпочитаю тех, которые платят за проезд. Crede experto! * * * Я дал Шандре книгу пана Станислава — ту самую, о сказочном Солярисе. Она пришла в восторг и в ужас; она восхищалась грандиозной фантазией, но скорбела о судьбах человеческих и о любви, которую Бог дал и Бог отнял… Этот мыслящий океан был для нее адекватен Богу, реальному Богу — ведь его могущество и загадочность не поддавались осмыслению, и поступал он как Бог, жестоко и самовластно, — отыскивал тайное, дарил непрошеное, напоминал о запретном. Чуждое, странное и непонятное существо… Бывают ли такие? — спросила Шандра. Нет, ответил я. Я отвергаю Великий Вселенский Разум, способный читать в наших душах, словно с компьютерного монитора; это, по-моему, чушь и суеверия. Если б даже существовал этакий монстр, люди ему совсем не интересны, и вряд ли бы он стремился к контакту с нами. А раз он себя не проявляет, то его будто бы нет или нет совсем — по крайней мере, с нашей, человеческой точки зрения. Хоть эта мысль попахивает солипсизмом, я не могу поверить в то, чего не видел, — в огромные мыслящие океаны и плазменные облака, в зеленых человечков со звезд Большой Медведицы и прочих инопланетян. В глубокой древности Земля была охвачена психозом; космос мнился чем-то таинственным и угрожающим, и из этого холодного пространства неслись к нам армады чужих кораблей — с неясными, но недобрыми целями. Одна из болезней детства, я полагаю; космического детства, если можно так сказать. Ребенок в пустом и темном доме тоже боится призраков, но стоит ему повзрослеть, стоит обойти все комнаты при ярком свете, и призрачная ирреальность исчезает, сменившись креслами, столами и шкафами. Эту мебель мы и нашли — множество планет, в той или иной степени пригодных для человека, но Разум — не Великий Вселенский, а просто чужой — все еще относится к разряду призраков. Двадцать тысячелетий вполне достаточный срок, чтоб повзрослеть и убедиться в этом. Хотя… Кто знает, что ждет нас по ту сторону галактического ядра? Мы приближались к Солярису, и я послал стандартный рапорт: название корабля, сведения о маршруте, перечень товаров и просьбу разрешить посадку. Ответ был подписан первым архонтом Фад-жейры; весьма любезное приглашение, составленное пышно и витиевато, в соответствии с местной традицией. От этих строк, когда они появились на нашем экране, будто пахнуло морем и сладким приятным запахом, будившим воспоминания о пряностях и эссенциях, коими так знаменит Солярис. Я рассчитывал поживиться здесь всеми товарами, относящимися к косметике, и письмо архонта подсказывало, что от меня потребуют взамен. Кажется, этот океанический мир обратился к благоустройству суши; они нуждались в наземных животных, в пернатых и четвероногих, чтобы украсить свои дома и леса. Прекрасные перспективы для торговли! Я прикинул, что сбуду им оранжевых обезьянок — в качестве домашних любимцев; возможно, птерогекконы тоже подойдут для этого амплуа. Шабны и черные единороги были слишком большими и прожорливыми существами, но все-таки остров размером с Фад-жейру мог прокормить сотню-другую голов — так что и здесь намечались определенные перспективы. Для лесных угодий вполне подошли бы мелкие хищники и грызуны — лисы и зайцы, белки, еноты, ежи и барсуки. Крыс и кроликов в моем зверинце не было; первые вызывают неприятные ассоциации, а-вторые слишком плодовиты и опасны для культурных растений. Зато я мог предложить красивых (и совсем безвредных) жуков и бабочек с Эдема, а для экологического равновесия — огромный выбор птиц. Клеточные ткани пернатых я хранил в холодильнике, и числилось в нем двенадцать или тринадцать тысяч видов, описанных в красочном проспекте; все, чем богата Земля и прочие миры, — кроме, быть может, какаду-телепатов из сказочного королевства Шандры. Мы занялись подготовкой салона к намечавшимся торгам, столь же сложным, как демонстрация нарядов. Помост был заставлен передвижными голоэ-кранами, кресла собраны в центре, справа от них развернут бар, слева — выставка каталогов и проспектов, печатных и занесенных на голо графические диски; над входом в осевой лифт я приказал повесить изображение малакандрийского сфинкса в натуральную величину (чем черт не шутит, вдруг он кому-то приглянется?..), а в гимнастическом зале мы устроили временный зимний сад — с живыми экспонатами, с птицами, рыбками и мотыльками. Впрочем, рыбок я не надеялся продать — этого добра на Солярисе хватало. Когда “Цирцея” вышла на планетарную орбиту, приготовления закончились: экраны ожили, автоматический бар замигал огнями, роботы замерли вдоль стен, будто в почетном карауле, а мы без сил рухнули в кресла. Конечно, мы ничего не таскали и не поднимали (это, кстати, не слишком тяжелый труд при двух сотых “же”), но нам пришлось командовать всей своей механической сворой; а ведь давно известно, что главный босс утомляется куда сильнее своих дуболомов-подчиненных. Вот мы и утомились; распоряжаться — это такая неблагодарная работа! Оглядев плоды наших стараний, Шандра пробормотала: — Какое прекрасное зрелище… Но у Кассильды оно бы вызвало приступ бешенства. Массаракш! Столько хлопот из-за птичек и зверюшек! Из-за рыбок, бабочек и жуков! Кассильда бы этого не поняла. — Всякий кулик свое болото хвалит, — с ленивым благодушием отозвался я. — А болото у нас неплохое, и все расширяется да расширяется… Вот, взгляни на эту конкретную трясину… — Я ткнул пальцем в сторону помоста. — Ты о чем, дорогой? — утомленно поинтересовалась Шандра. — О том, что в былые времена мне такая роскошь и не снилась. Взять хотя бы наш главный салон… Я купил его на Арморике, и это была нелегкая операция — и для меня, и для “Цирцеи”. Шандра встрепенулась, предчувствуя новую историю. Мои рассказы все еще значили для нее больше книг и голографических записей; она могла их слушать в любом состоянии — голодной и сытой, веселой и грустной, усталой или наоборот. Время и место тоже значения не имели: рубка, бассейн, столовая или постель казались ей вполне подходящими, чтобы вкусить от мудрости Грэма Френча. Мне это льстило, и я старался не ударить в грязь лицом. — Так вот, во время своего второго визита на Арморику я обнаружил на орбите останки колониального корабля. Внутри его уже распотрошили и принялись за корпус; двигатель был демонтирован, секции гибернатора нарезаны металлической лапшой, но один из трюмов уцелел — как выяснилось, колонисты хотели устроить там что-то вроде космической фабрики или ретрансляционный Центр. А может, тюрьму, госпиталь или кабак — их планы насчет этого обломка были весьма спорными и смутными. Мне он приглянулся; довольно большой цилиндр диаметром точь-в-точь как у “Цирцеи”, с броневым покрытием и внутренней обшивкой из металлокерамики. Я подумал, что мне бы эта бочка пригодилась. Если воткнуть ее между гидропонными отсеками и обитаемым модулем, выйдет прекрасный Зал для торжеств или кубрик для перевозки пассажиров — словом, что-то полезное и небезвыгодное. Обдумав эту идею, я приступил к переговорам. Они были долгими, скучными и нудными. Мои партнеры набивали цену, толкуя про орбитальные тюрьмы и кабаки, хотя для подобных излишеств места внизу вполне хватало. Я мог бы еще понять их мысль насчет кабацкого бизнеса, но вот с тюрьмой был явный перебор! Какая тюрьма в невесомости? Это уже не тюрьма, а санаторий! Так я им и сказал, добавив, что в ближайшие столетия им будут нужны не орбитальные тюрьмы и рестораны, а пара спутников связи размером с футбольный мяч. С очевидностью не поспоришь; кисло улыбаясь, мои противники признали, что в этом есть резон, что старая бочка не столь уж важна для будущего армориканской цивилизации и что цена на нее, пожалуй, чуть-чуть завышена. Не откладывая в долгий ящик, я вызвал “Цирцею”, чтоб расплатиться наличными, но партнеры попросили обождать. Совсем немного: день-другой для размышлений и согласований, для подготовки всех бумаг и поиска консенсуса в парламенте (или в сенате — я уж не помню, как назывался их правящий орган, но, так как речь шла о национальном достоянии, только он ратифицировал контракт). Надо сказать, консенсус — сложная штука, особенно на Арморике, где партий столько же, сколько жителей, а мнений еще больше. Понимая всю трудоемкость согласований и размышлений, я терпеливо ждал. Не прошло и месяца, как посланник от парламента (или сената) явился передо мной, но не с контрактом, а с длинным перечнем товаров, в которых нуждались колонисты. Это был замечательный документ! Семьсот семьдесят две позиции; и чтоб разделаться с ними, мне пришлось посетить каждый мир от Арморики до Земли. Но я не возражал, так как могло быть и хуже; мы ударили по рукам, и Кэп Френчи, великий Торговец со Звезд, славный Друг Границы, отправился в полувековое путешествие. Вернувшись и выгрузив товары, я приступил к делам техническим — разумеется, с помощью армориканцев. Процедура была непростой и почти такой же трудоемкой, как поиск консенсуса в местном парламенте. Мы разрезали “Цирцею” пополам, встроили мое приобретение, заварили швы, отшлифовали корпус, установили дополнительные двигатели, и в результате я сделался хозяином роскошного салона — восемьдесят метров в диаметре и сорок высотой. Я был просто счастлив! Как подросток, обменявший груду металлолома на новенький велосипед! — И тогда ты занялся модельным бизнесом? — спросила Шандра. — Нет, это случилось позже. В те времена все Старые Миры, за исключением Логреса и Пенелопы, еще принимали колонистов, а их надо было расселить, трудоустроить и обеспечить всем необходимым. Они нуждались в оборудовании, в машинах и установках КР, а не в нарядах. Но через пять или шесть веков все эти миры обрели свою неповторимую индивидуальность, свой собственный стиль в одежде и развлечениях, и вот тогда пришел черед поторговать нарядами. Выгодный бизнес! Я был в нем первым, но всякая здравая мысль рождает последователей, а они со временем становятся конкурентами… — И много их? — Не слишком. Точно не знает никто. Сотня-дру-гая… может быть, чуть-чуть побольше. — Но почему? — Брови Шандры приподнялись и замерли двумя ровными дугами. — Почему, Грэм? Я хочу сказать, почему спейстрейдеров так мало? Это выгодное предприятие, и планетарные власти могли бы заняться межзвездной торговлей… или частные компании… или богатые люди… В общем, всякий, кому по средствам снарядить корабль. Но… — … желающих не так уж много, — закончил я. — Хочешь знать почему? Ответ несложен. Ты ведь читала Баслим-Крауза? Труд по экономике космических полетов? Что там сказано? Шандра, припоминая, наморщила лоб. — Там говорится, что торговый корабль с грузом стоит больших денег… очень больших… просто гигантских! Чтоб окупить вложения, надо отправиться в долгий полет — как минимум пять веков, если я не ошибаюсь… Такое время неприемлемо для любой корпорации или правительства. Слишком огромный срок! Либо правительство падет, либо компания разорится, либо корабль со всеми товарами будет присвоен экипажем… — В точности так, — подтвердил я. — Pecuniae oboediunt omnia, принцесса, что значит — деньгам повинуется все… Ну, пожалуй, не все, но космическая торговля — непременно. Это занятие для одиночек. — Пусть для одиночек, — Шандра упрямо выпятила губу. — Есть же богатые люди… Почему бы им не сделаться спейстрейдерами? Я негромко рассмеялся, разглядывая ее порозовевшее лицо.’Моя спорщица была такой прекрасной! И такой наивной! Заметив, что я смотрю на нее как зачарованный, Шандра вытянула руку условным жестом, и свет потолочных панелей померк. Нас окружила уютная теплая полутьма; ее создавали огни на стойке бара и чуть заметная люминесценция экранов. Склонившись к Шандре, я вдохнул ее аромат; это было так же приятно, как видеть ее лицо. — Богатым людям неплохо живется, моя дорогая. Зачем им покидать свой мир, свою эпоху, своих возлюбленных и друзей? Ради сомнительного удовольствия кануть в вечность? Ты только представь, что грозит нам, космическим странникам: дестабилизация, метеориты, черные дыры, взрывы сверхновых, вредные вирусы и негодяи вроде Клерака Белуга… Так стоит ли рисковать? Шандра отшатнулась. — Но, Грэм… Неужели все так ужасно? Помнится, ты говорил, что жизнь “внизу” опасней космических странствий. И что монархия лучше самой справедливой демократии! Неоспоримый факт. Она хорошо усвоила мои уроки! — Ты вспоминаешь теорию Ли Герберт? О трех Этапах — демократии, тоталитарном режиме и религиозной вакханалии, которые сменяют друг друга? В подтверждение Шандра тряхнула копной золотистых волос. — Не знаю, можно ли верить этой теории, — протянул я. — Однако почти во всех мирах случаются бунты и мятежи, гражданские войны и восстания, экологические катаклизмы и периоды упадка. Плюс всякие бедствия, проистекающие из-за легкомысленного обращения с наукой. Повсюду есть недовольные: женщины, которым хочется иметь детей, оппозиция, которая рвется к власти, а также преступники, террористы и деклассированные — атомный заряд под общественными устоями. Рано или поздно заряд взрывается, и наступает смута, а за нею — коллапс… После — новый подъем, но в смутные времена человек богатый рискует больше бедного. Во-первых, он разорен; во-вторых, его лишают гражданских прав, а в-третьих, могут прикончить как угнетателя и народного кровопийцу. Но если ты один-одинешенек… — Бросив взгляд на Шандру, я поправился: — Если нас двое на космическом корабле, двое любящих существ, неподвластных гневу, зависти, скуке, то что нам угрожает? Дестабилизация? Метеориты? Вирусы? Это, конечно, неприятность, но более редкая, чем общественные катастрофы. Я замолчал. Шандра размышляла, прикусив губу; свет в салоне был притушен, и по щекам ее скользили отблески цветных огоньков, переливавшихся на стойке бара. Миг — и ночные лиловые тени окутывали ее, тут же сменяясь тьмой, синим предрассветным флером и алым пламенем утренних зорь; потом блеск золотистой дневной паранджи заставлял меня щуриться и моргать. И снова — лиловое, черное, синее, алое, золотое… Как череда покрывал из кисеи, падавших на ее лицо. — Сделать свет поярче? — спросил я. — Нет, не стоит… — Она коснулась моей руки, ее глаза отсвечивали то изумрудным, то янтарным огнем. — Странно, дорогой… Тут скрыто какое-то противоречие… Если жизнь внизу опасна для миллионеров, отчего бы им не перебраться в космос? Или они не верят в неизбежность катастрофы? Не хотят ее признать? Не понимают? — Понимают, я думаю. И тот, кто понимает лучше всех, становится спейстрейдером — если он к тому же непоседлив, любопытен и не лишен здравого смысла. А остальные… Понимаешь, человек в общем-то иррациональное существо, и, будучи таковым, он по-прежнему готов оспорить древнюю муд-., рость: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Человеку кажется, что худшего с ним не случится — особенно теперь, когда самое худшее, смерть от болезней и старости, ему не грозит. А эти твои миллионеры — такие же люди, как любой из нас, и живут они в богатейших древних мирах, на Старой Земле и Лайонесе, на Барсуме и Малакандре, на Пенелопе и Эдеме. Покой, благолепие, комфорт… Не хочется думать, что этому все же наступит конец. — Однако он приходит, всегда приходит, — тихо промолвила Шандра с полуутвердительной, полувопросительной интонацией. — Из-за глупости человеческой или потому, что на голову людям свалилась комета… Результат одинаков — смута, хаос, кровопролитие, грабежи… Такое я уже видела, Грэм. Что еще? О каких катастрофах ты можешь мне поведать? — О самых разнообразных. О жутких чудищах, сбежавших из лабораторий биологов, как это случилось на Земле, или о гедонистических тритонских экспериментах. Еще была неудачная попытка исправить климат на Ямахе — там изменили наклон планетной оси, что привело к таянию льдов и всемирному потопу. На Эльдорадо с той же целью применялись мощные ультразвуковые генераторы; когда их включили одновременно, континентальный щит не выдержал, магма прорвалась наверх, ожили вулканы, и от людей остался только прах? пепел… На. Шан-гри-Ла был принят закон об имущественном цензе, определявшем гражданский статус, и через пару веков рабы и деклассированные составляли там большинство. Их возглавил какой-то горлопан и честолюбец из местных фюреров, и планета захлебнулась в крови. Еще вспоминается мне один мир со странным названием Кость-в-Горле… Они баловались с наследственностью, со всякими евгеническими штучками, желая вывести высшую расу, и не успели чихнуть, как их население удвоилось. Наступил голод, а затем… Ну, ты понимаешь, моя дорогая, — все было как на Мерфи. Высшую расу съели, а закусили евгениками-экспериментаторами… Шандра поежилась. — Разве никто не предсказывал возможность таких страшных катастроф? — Почему же, предсказывали, но всех провидцев ожидала судьба Кассандры. Их обвиняли в том, что они тормозят прогресс, сеют панику, препятствуют внедрению в жизнь великих идей. Обычно их деклассировали, а кое-где наказывали старением… Их прогнозы не принимались в расчет, над ними смеялись и издевались, пока не наступала катастрофа. Тогда их вешали. И это еще раз доказывает, что человек — существо иррациональное. Я смолк, задумавшись. Странно, но люди до сих пор игнорируют коллективный опыт человечества, не желая учиться на чужих ошибках и бедах. Взять тот же Шангри-Ла… Бруннершабн лежит в десяти парсеках от него, и, казалось бы, весть о ядерной катастрофе должна остудить самые горячие головы. Но нет, этого не случилось! На Шангри-Ла все же затеяли гражданскую войну, и погибших в ней было не меньше, чем на Мерфи после удара Божьего Молота. Так что в теории Ли Герберт есть рациональное зерно: всякий мир обречен на катастрофу, ибо таится в нем адский зародыш самонадеянности и глупости. Значит ли это, что люди не в силах сотворить Рай? Ведь Рай — символ стабильности; там не бывает катастроф, и само существование не сделалось вечным ужасом и перманентной катастрофой. Рай — это антитеза теории Ли Герберт и всем аналогичным измышлениям; это место, где разум торжествует над глупостью, благородство над эгоизмом, где вечная жизнь в самом деле является вечной. Я решил, что в моих представлениях о Рае наметился прогресс. Раньше я знал, чего там не может быть: занудных гимнов и плясок у престола Божьего, ангелочков с крыльями в две ладони, медовых рек, мармеладных берегов и тому подобной чепухи. Но все это, как говорилось уже не раз, было определением “a contrario”, а не “ab actu” — от противного, а не от действительного. Теперь же истинный свет забрезжил передо мной, словно путеводная звезда в холодной и темной космической пустоте. Да, там, в моем Раю, торжествует разум, царит благополучие, и вечная жизнь неподвластна внезапным катастрофам… Но не это главное! Не это! Так что же?.. В последнее время, глядя на Шандру, я склоняюсь к мысли, что главным там является любовь. Не стабильность, не мир и покой, не красота, не благородство, а только любовь! Одна лишь любовь, способная скрасить тоску бесконечного существования! Шандра махнула рукой, и потолочные панели вспыхнули ярким светом. — Ты устал, Грэм? Я измучила тебя своими расспросами? — Нет, моя принцесса. Спрашивай, и получишь ответ, если он мне известен. Только не промочить ли нам горло? Скажем, по рюмке панджебского бренди? Но она решила, что нам лучше отправиться в спальню. Я покорился.ГЛАВА 19
Мы приземлились в порту Фаджейры, на скромном, залитом пластбетоном пятачке, стиснутом скалами. Как и в прежние свои визиты, я не заметил никаких дорог, ведущих от космодрома к берегу, и тут же вспомнил, что сухопутные автострады на Солярисе — большая редкость; здесь сохраняют землю для парков и лесов, берегут ее, ибо земля — наивысшая ценность в океаническом мире. Препоручив челнок служащим маленького космодрома, мы перебрались в аэрокар. Мотор тихо заурчал, машина дрогнула и взмыла в воздух. Склон невысокой горы под нами полого скатывался к морскому берегу; тут и там среди салатной зелени лугов прихотливыми кляксами темнели пальмовые, кипарисовые и апельсиновые рощи, а кое-где возносились к блеклому небу гигантские стволы секвой. У каждого — три-четыре бунгало в полинезийском стиле: поместья тех, кто достаточно богат, чтобы жить на твердой земле и в относительном уединении. За рощами и усадьбами простирался берег, окаймленный широким поясом магнолий; и там, где их изумрудная глянцевитая стена встречалась с серо-голубой равниной океанских вод, сверкали и переливались хрустальные башни Фаджейры. Все — высотой в треть километра, с плоскими крышами для посадки летательных аппаратов, окаймленные подвесными улицами и террасами, где пестрели цветочные клумбы — строго определенных оттенков в каждом городском секторе. Половина зданий стояла на берегу, словно огромные деревья, пустившие корни в скалистую твердь острова, но другая половина вдавалась прямо в океанический шельф, и в глубоких ущельях меж ними, пересеченных сотнями мостов, скользили крохотные лодочки, гондолы, яхты, баржи и катера. На дальней городской окраине башни уступали место жилым плотам, причалам и низким квадратным сооружениям из прозрачного пластика; там находились склады и огромные крытые бассейны для гидроидов и дрессированных дельэинов. Дальше простирался порт: хаос мачт, вытянутых вверх решетчатых кранов и ярких вымпелов, плескавшихся на свежем ветру. Тут было множество кораблей со всех архипелагов Соляриса: щеголеватые клиперы и приземистые грузовые суда, похожие на жуков-плавунцов, роскошные пассажирские три-мараны и скромные парусники, плоты длиною в двести-триста метров и узкие юркие катера пограничных стражей. Но больше всего я насчитал субмарин: от совсем крохотных, прогулочных и пастушьих, до гигантских посудин, на которых гидроиды доставляли сырье и продукцию из своих подводных городов. Их серые корпуса почти сливались с волнами; они стояли у причалов, будто китовые самки на огромной ферме, которых с минуты на минуту начнут доить. Шандра восхищенно вздыхала, взирая на все это великолепие, а я уже отыскивал взглядом кровлю нашего отеля — разумеется, самого комфортабельного и дорогого на этой планете. Там нас поджидали агенты и секретари, целый штат моих новых сотрудников, а с ними — журналисты и чиновники Ареопага, представители фирм, репортеры пяти местных каналов головидения и полномочные послы от всех федераций, конгрессов и директорий Соляриса. Мой визит был важным событием — возможно, самым важным за последнее столетие, если не больше. Галактика так изобильна мирами, и так мало в ней космических кораблей! Но, быть может, это и к лучшему: конкуренты не докучают, торговля идет своим чередом, и нет ни повода, ни возможности для звездных войн. Наш летательный аппарат плавно скользнул к плоской крыше отеля, заполненной встречающими в одеждах пяти цветов. Мы вышли; грянул торжественный гимн, раздался лихорадочный стрекот голо-камер, в воздух полетели цветы, и две хрупкие смуглые девушки в голубом украсили нас венками из магнолий. Итак, капитан Френч, великий Торговец со Звезд, прибыл на Солярис со своей супругой! Виват, Френчи! Жизнь завертелась и понеслась. Прежде чем перейти к описанию наших торговых сделок и развлечений, должен остановиться на одной местной особенности, которую я забыл упомянуть. Солярис всем хорош; как говорилось выше, тут ровный мягкий климат и нормальное тяготение, много света и тепла, а также большие ресурсы биомассы, руд и минералов — хоть на морском дне, но вполне доступные для разработки. Однако день в экваториальных широтах длится восемь часов, а сутки — чуть более пятнадцати, и к этому обстоятельству человеческий организм привыкнуть не в силах. Слишком мало времени, чтоб переделать все дела, отдохнуть и успеть выспаться; как ни спеши, а часов не хватает. С другой стороны, если использовать двухсуточный цикл, часов оказывается слишком много, и я не уверен, что это было бы лучшим выходом. Соляриты, проявив несомненную мудрость, решили не спорить с природой, не тормозить вращение планеты и не копаться в тех генетических механизмах, что заставляют нас бодрствовать шестнадцать часов и спать восемь. Такие глобальные метаморфозы грозят опасными последствиями, что было доказано не раз — на той же Ямахе, на Эльдорадо и в других мирах, где ретивые преобразователи спрямляли планетарную ось или перемещали моря на место гор. На Солярисе нашли иной выход: все население было разделено на пять кланов, обозначенных пятью цветами — красным, желтым, зеленым, голубым и фиолетовым, — и каждая из этих групп, невзирая на подданство и местонахождение, живет в своем собственном времени, сдвинутом на пять часов относительно “спектральных соседей”. Время — главное различие меж кланами; все остальное не так важно и определяется в основном цветами одежд, транспортных средств и обивки на мягкой мебели. Нет никаких препятствий для перехода из клана в клан, для перекрестных браков и заключения сделок; во всех случаях молодожены или предприниматели могут выбрать удобное время, сообразуясь со здравым смыслом. Кроме таких скользящих суток, на Солярисе введен трехдневный цикл, составляющий местную неделю, а пять циклов равны месяцу, коих насчитывается двадцать семь. Обычно небольшие поселения, университеты, биостанции и частные усадьбы принадлежат одному из кланов, но в крупных городах, подобных Фад-жейре, есть пять районов, простирающихся до своего сегмента гавани. Три из них начинают, продолжают или заканчивают рабочий день; два — готовятся ко сну или спят. Должен признать, что это весьма удобно. Если вы нуждаетесь в компании (в то время как ваши приятели отдыхают), нужно всего лишь переместиться в другой район, где вечерняя жизнь в самом разгаре. А если вы намерены заключить сделку или пошататься по магазинам, отправляйтесь еще дальше — туда, где день не кончился, или в тот сектор, где наступило утро. Масса возможностей, чтоб поразвлечься и провернуть любые дела, если вы неутомимы, как шабн с Малакандры! Разумеется, описанная выше система не относилась к гидроидам, ноне оттого, что они являлись низшим классом солярисского общества. В океанских глубинах не столь уж важно, день сейчас или ночь, светит ли солнце или мерцают звезды; там вечная тьма, и ее разгоняют лишь фосфоресцирующие водоросли и сияние куполов над подводными городами. Шандре очень хотелось полюбоваться этим зрелищем, но я отложил его на самый конец, дабы не нанести ущерба нашему престижу. Солярис — благополучный мир, но и тут есть свои предрассудки, а главный из них таков: гидроидами не принято интересоваться. Они не преступники, не деклассированные и не рабы (или не совсем рабы); просто люди, которым не повезло. Они принадлежат к человеческой расе и признаются полезными членами общества; они делают девяносто процентов всех трудоемких работ, поскольку непригодны для более интеллектуальных занятий. И это все о них. Так сказать, sermo datur cunctis, amini sapientia paucis — дар речи дан всем, а мудрость — немногим. Руководствуясь данным правилом, я подсчитал свои визиты на Солярис и объявил, что мы с Шандрой облачимся в голубое. Каждый клан был бы счастлив принять нас в свои ряды как почетных гостей, но я не хотел никого обижать. Трижды я приземлялся на Солярисе и носил одежду красного, желтого и зеленого цветов; значит, в четвертый раз я буду жить ‘ по времени Голубого клана. Справедливость — превыше всего! Тем более что голубой цвет прекрасно сочетается с глазами и волосами Шандры. В местном обществе она произвела фурор, причина коего была понятна и совершенно объяснима. На Барсуме ее считали “несколько тяжеловесной” — иными словами, курьезом: невысокая и слишком полная, по мнению субтильных костлявых барсумийцев. На Малакандре она была экзотической красавицей; сочетание золотистых волос, зеленых глаз и сравнительно светлой кожи являлось столь редким среди подданных Его Краальского Величества, что они признали в Шандре царственную кровь. А это создавало вокруг нее сферу недоступности и почтительного обожания, которое следует питать к королевским особам; ведь принцесса и на помосте — принцесса! И даже в дезабилье! Словом, гляди, любуйся, восхищайся, однако воли рукам не давай. Но на Солярисе Шандру признали женщиной во плоти, столь же желанной, как любая из местных чаровниц. Ее глаза и волосы, ее загар, ее изящная фигура, длинные ноги, тонкий стан, полная грудь — все это соответствовало местным понятиям о красоте и женской прелести. Пожалуй, тут она выглядела слишком рослой, но не тяжеловесной, вовсе нет! А изобилие — там, где оно допустимо, — приводит сильный пол в восторг, даже если предмет восторгов выше вас на целую голову. Впрочем, я, кажется, отвлекся — ведь мы толковали о солярисских традициях, если мне не изменяет память? Так вот, одной из них (кроме табу на гидроидов) была простота одежд, вполне понятная в столь теплом и ровном климате. Рабочее одеяние включало легкую блузу и шорты и было одинаковым для женщин и мужчин; по торжественным поводам они облачались в брюки, а к рубашке добавлялся жилет или короткий плащ, напоминавший пончо. Расцветка у каждого из кланов была своя, но и здесь разнообразие не поощрялось: так, красный цвет варьировался от алого по багряного, но оранжевый или кирпичный был признаком плохого вкуса. Ну и как вы думаете, что же это значило? Только одно: Солярис был неподходящим местом для демонстрации моделей, и Шандра не могла блеснуть тут своими талантами. Зато наше зоологическое ревю имело потрясающий успех! Оранжевые зверьки разошлись мелкими партиями по всей планете, птерогекконов перекупил университет Илльской Директории (разумеется, чтоб продать их по монопольным ценам, с наивысшей прибылью), за шабнов и единорогов бились крупные землевладельцы — каждый, видимо, хотел доказать, что вполне сумеет позаботиться об этих прожорливых тварях и что в его поместье они не подохнут с голода. Солидный океанический картель “Киты, Каракатицы и К°” приобрел моих барсуков, енотов и зайцев; вероятно, они расширяли сферу своей деятельности, желая заняться не только китами и головоногими, но и животными суши. Эту тенденцию тут же почуяли конкуренты, и за белок и лис разыгралось настоящее сражение: с “Китами” спорили “Даймонд Дельфиниум” с Федерации Ста Островов, “Компания Желтого Клана”, “Синдикат Биостанций Южного Полушария” и “Объединенные Маурийские Университеты”. В этом забеге они настолько выдохлись, что позабыли о ежах, и те достались какой-то темной фирме под названием “МММ” — кажется, “Межостровной Мелиоративной Мафии”. Не знаю, что собирались делать мелиораторы с ежами; быть может, прокладывать с их помощью каналы или дарить ежей своим вкладчикам — вместо обещанных диви-дентов. Но главным предметом торгов были пернатые и насекомые. Птицам, жукам и мотылькам не требуется много места, и для Соляриса они являлись самыми подходящими обитателями. Тут уж Ареопаг Фаджейры не уступил никому; его биостанции, финансируемые правительством, закупали все подряд: голубей и соек, дроздов и воробьев, фазанов и попугаев, галок и канюков и, конечно, радужных бабочек с Эдема. В восторге от такой активности и в благодарность за гостеприимство я преподнес Ареопагу дар — оплодотворенные яйцеклетки малакандрий-ского сфинкса. Надеюсь, у них хватит ума держать этлх тварей в зверинце и не клонировать больше одной или двух пар. Итак, мы закончили с животными, но оставались еще мои записи, книги и голофильмы, причем самые свежие, с Мерфи, Барсума и Малакандры. Я поручил их продажу своим агентам, чтобы, освободившись от хлопот, заняться солярисскими товарами. Я приобрел партию рыбных деликатесов, но небольшую, только для собственных нужд, и принялся отбирать пряности, косметику и всевозможные бальзамы, которыми так славится Солярис. Здесь не было магических растений вроде коринфской orchidaceae pudica, но из перебродивших водорослей производили уксус, придававший рыбе неподражаемый аромат, а в раковинах моллюсков определенноговида выращивали спайс — сильный афродиак с нежным запахом лаванды. Что касается обычной косметики, духов, кремов и благовонных масел, то сырьем для нее служили ароматические губки, морская соль, плоды и спермацет — воскоподобное вещество, содержащееся в особых полостях в голове кашалота. Такой товар был повсюду дорог, особенно на Земле; там кашалоты давно сделались персонажами детских сказок — как, впрочем, киты, дельфины и моржи. Благовония я закупал вместе с Шандрой, и в том был двойной смысл: во-первых, она находилась при деле и проверяла каждую партию, а во-вторых, ее внешность и обаяние действовали на соляритов с неотразимой силой, что позволяло мне сбивать цены и выбирать лучшее из лучших. На протяжении шести циклов, пока я набивал корабельные трюмы контейнерами с парфюмерией, мы пропитались таким количеством запахов, что нас самих можно было б продавать на вес вместо ароматических губок. Особенно Шандру; ее волосы благоухали свежим океанским ветром, щеки пахли апельсинами, шея — магнолией, а о том, что ниже, я не рискую упоминать. Наконец с бизнесом было покончено, и у нас оставались еще три недели (обычных, не солярисских), дабы насладиться отдыхом. Мы потратили их, путешествуя по островам и архипелагам от южного до северного полюса и посещая приемы и вечеринки, устроенные в нашу честь. Было все, о чем мечтала Шандра: безбрежный, залитый солнцем океан и острова, покрытые зеленью, пряный запах магнолий, пальмы с огромными листьями, похожими на гигантскую растопыренную пятерню, отдых в апельсиновых рощах и в легких бунгало у побережья или под кронами секвой, что возносились над лесом, подпирая облака. Мы насмотрелись и прочих чудес, таившихся на пустынных вулканических островах: мрачные скалы над серыми водами, камни, источенные ветрами, бурый силурийский лишайник на отвесных склонах, быстрые водопады и теплые гейзеры, взрывавшиеся водными струями, неприступные вершины, над которыми вечно курится дымок… Шандра млела и делала снимки, а я, как было обещано, стоял рядом, обнимал ее (чтоб она не свалилась в восторге с утесов) и чувствовал, как под моей ладонью стучит, трепещет и бьется ее сердце. Что касается приемов и вечеринок, то приглашения сыпались на нас градом; мои секретари едва успевали их сортировать, откладывая то, что заслуживало внимания. Вот, например: Додсон Крайслер Сармишкиду, ректор Эмбер-лийского университета, действительный член Академии Ста Островов, обращается к высокочтимому и достойному КАПИТАНУ ГРЭМУ ФРЕНЧУ И ЕГО СОВЕРШЕННОЙ СУПРУГЕ ЛЕДИ КИЛЛА-ШАНДРЕ ФРЕНЧ С ПОКОРНОЙ ПРОСЬБОЙ посетить прием в Большой Зеленой Аудитории Эм-берлийского университета, устроенный в честь означенного выше КАПИТАНА ФРЕНЧА, ВЕЛИКОГО ТОРГОВЦА СО ЗВЕЗД, ДРУГА ГРАНИЦЫ. Программа: Чествование КАПИТАНА ФРЕНЧА с вручением ему наград от Федерации Ста Островов: степени “doctor honoris causa” Эмберлийского университета и ордена “Великий Кальмар”; представление стихотворной мерфийской оратории “Гамрест” (в записи); катание на дельфинах. Напитки и закуски — из ресторана “Сказочные сны Гонолулу”. Сказочные сны Гонолулу! Подумать только! Плюс незабвенный Гамрест, дипломы и ордена! И даже дельфины! На них мы еще не катались. Конечно, капитан Френч и его совершенная супруга не могли лишиться такого удовольствия, хоть из Фаджейры до Федерации Ста Островов путь не близок — примерно две пятых планетарного экватора. Помимо того, прием устраивал Зеленый клан, а это означало, что мы доберемся до постели на пять часов позже — то есть, если использовать аналогии, где-то на рассвете (разумеется, не имевшем ничего общего с солнечным восходом). Но Шандра решила, что купание с дельфинами нас освежит и что орден “Великий Кальмар” будет мне к лицу. Так что мы облачились в наряды цвета майских небес, сели в аэрокар и двинулись на юго-запад, прямиком к острову Эмберли. Должен вам сказать, что высшие университетские чиновники, как и руководители биостанций и океанологических институтов, обладают на Соля-рисе немалой властью. Они — непременные члены конгрессов, сенатов и ареопагов, они входят в наблюдательный совет каждой фирмы и компании, и это не удивительно: ведь животный мир Соляриса и почти вся его флора сотворены искусством биологов, ботаников,ихтиологов и генетиков. Ergo, все они пользуются заслуженным почетом, а где почет, там неизменно присутствуют власть и деньги. Я счел необходимым это объяснить, чтобы вы не заблуждались насчет вечеринки, которую устраивает ректор: это эквивалентно дипломатическому приему самой высокой категории. Там собирается местная элита, прекрасные дамы и состоятельные джентльмены; вино льется рекой, закуски выше всяких похвал, и благородная публика ест, пьет, сплетничает и флиртует. Подобные мероприятия всегда проводятся в университетах, поскольку они обладают необходимыми средствами и помещениями. В понятиях Соляриса, университет — это административный корпус двухсотметровой высоты, окруженный аудиториями пяти кланов, которые представляют собой не здания, а круглые, овальные или подковообразные амфитеатры либо площадки. Соляритам нравится жить в единении с природой, ибо природа милостива к ним; ветер тут теплый и нежный, дожди выпадают три раза в год, а о штормах и бурях имеется чисто теоретическое понятие. В таких условиях можно внимать лекциям на свежем воздухе, спать в бунгало с решетчатыми стенами и строить хрустальные башни, где в любой из оконных проемов въедут разом два слидера. Так что не думайте, будто аудитория, где мне навесили орден, серебряного спрута с жемчугами, напоминала дворцовые апартаменты. Здесь, правда, имелся пол — обширная площадка, облицованная мозаикой; с одной стороны — бассейн и фонтан с дельфином, на спине которого в изящных позах возлежали юноша и девушка, с другой — легкие пластиковые трибуны для студентов и кадки с пальмами. Однако потолком в этом огромном зале служили звездные небеса, а стенами — двойная шеренга колонн, увитых плющом и виноградной лозой. Средь этой колоннады были накрыты столики с яствами из “Гонолулу”, и публика ринулась к ним, едва отзвучал последний аккорд “Гамреста”. Мы с Шандрой выпили по рюмке с почтенным Додсоном Сармишкиду и разошлись: я-к пальмам, она — к фонтану. Мы были самой лакомой переменой блюд на этом празднестве, и нас полагалось распробовать порознь — тем более что и вкус у нас был различен. Я — всего лишь жесткий бифштекс, пережаренный и задубевший, как подметка башмака; ну а моя прекрасная леди — суфле с орехами и цукатами, нежный десерт на блюдечке с голубой каймой. Но впечатление это было обманчивым, словно мнимая хрупкость броневого стекла. Знали б вы, что за орехи в этом суфле! Знали б, как оно умеет кусаться! Вечеринка набирала обороты, и гости, включая прекрасных дам, постепенно пришли в легкомысленное настроение. Народ толпился у столов с напитками, компенсируя качество количеством: крепкого здесь не подавали, но выбор сухих и игристых вин потрясал воображение. Среди колонн уже шептались хмельные парочки, языки развязывались, речи становились откровенней, взоры — смелее; кто-то кому-то плакался в жилетку, кого-то деликатно запихивали в аэрокар, о ком-то сплетничали, кем-то пытались заткнуть фонтан с дельфином — но ненавязчиво, в рамках приличий. Я сунул массивный орден в карман, чтоб не оттягивал шею, прикончил бутылку красного и собирался разделаться с порцией взбитых сливок из китовьего молока, когда ко мне подгреб какой-то парень в голубом. На ногах он держался вполне устойчиво и говорил не заикаясь; поздравил меня с наградой, представился и заметил, что прием на редкость удачен и что моя леди — самое лучшее из украшений вечеринки. Звали этого типа Бенц Фиат Шалмуназар, профессор сексологической ихтиологии. Кажется, он изучал брачные обычаи китов, а может быть, устриц или трески. — Скажите, досточтимый сэр, — Бенц Фиат придвинулся ко мне поближе и скосил глаз в сторону Шандры, — каково это — жить с такой женщиной? Он совершенно определенно выделил слово “такой”, и я счел его вопрос комплиментом; Суть его, однако, оставалась для меня туманной. — Что вы имеете в виду? — Я отодвинулся от Бенца, но не тут-то было: он загнал меня в щель между пальмовыми кадками и не собирался выпускать. — Ну, вы же знаете, достойный капитан, этих женщин… знаете, как бывает… Чем красивее, тем капризнее… А ваша леди — само совершенство! И я полагаю, что у нее должны быть очень оригинальные капризы. Совершенно невероятные! — Вы правы, — согласился я, поглядывая на Шандру. Она стояла у бассейна, рядом с бронзовым дельфином, исторгавшим поток зеленоватой воды. Обожатели и почитатели сгрудились вокруг нее плотным кольцом, но она была выше всех, выше на целую голову. В ее золотисто-рыжих волосах, собранных высокой башней, сверкала диадема из голубого жемчуга. Профессор Шалмуназар перехватил мой взгляд. — Вот-вот, именно это я и имею в виду! Прически, драгоценности, развлечения… Эти красавицы, они такие требовательные… Один мужчина их не устраивает — да и какой мужчина справится тут в одиночку? Даже. вы, отважный покоритель космоса… Тем более что полет у вас был долгим, и вы с ней, вероятно, успели надоесть друг другу. Я пристально посмотрел на Бенца Фиата. — Хотите оказать мне помощь? Он облизнулся, не спуская с Шандры загоревшихся глазенок. — Я слишком хорошо воспитан, достойный сэр, чтобы ответить отказом. И я могу представить вас прелестным девушкам… три или четыре на выбор… спят и видят, как бы прокатиться с вами на дельфине. — Тут он понизил голос. — Это, знаете ли, любимое развлечение гидроидов… Но и мы им не брезгуем, отнюдь не брезгуем! Намек был мне неясен; вероятно, речь шла о каком-то местном обычае. — При чем здесь дельфин? — поинтересовался я. Шалмуназар подмигнул, заметив не без лукавства: — Спина у дельфина такая теплая и широкая… и так приятно подпрыгивать и качаться на ней среди волн, в темном и тихом океане, под яркими звездами… Но, разумеется, не в одиночку. Дельфины тем и хороши, что могут прокатить сразу двоих. Или троих — ведь, кроме спины, есть еще хвост, а он тоже довольно широк! Я призадумался. Воображение рисовало мне самые соблазнительные картины. — Скажите, профессор, а эти… хмм… эти подпрыгивания и покачивания на дельфиньей спине под яркими звездами… они безопасны? Так ведь можно и утонуть… в самый неподходящий момент… — Утонуть? — Брови профессора взлетели вверх, в то время как взглядом он пожирал Шандру. — Вы подразумеваете, сэр, пойти на дно подобно камню? Но разве такое может случиться с человеком? В каком угодно состоянии? Ведь человек — не камень, он легче воды! Я согласно кивнул. Перспектива утонуть представлялась любому соляриту дикой; все они плавали, как рыбы, а гидроиды — даже лучше рыб. — Но ведь можно захлебнуться, — пробормотал я, представив любовные игры на дельфиньей спине. — Захлебнуться и глотнуть соленой воды… — Великий Кальмар! — Бенц Фиат всплеснул руками. — К чему вам глотать воду, почтенный сэр? Прихватите с собой бутылочку этого прекрасного вина, — он кивнул на стол, где в ведре со льдом охлаждалось игристое. — Бутылку вина и девушку! Или две бутылки и двух девушек! Я обеспечу вам и то и другое. Договорились? В этом намеке уже никаких неясностей не было. Я призадумался. С одной стороны, нахальный сек-соихтиолог был достоин кары — за сводничество и за попытку выменять Шандру на парочку местных прелестниц. Но с другой стороны, он просветил меня насчет любопытных обычаев аборигенов, и мысль о подпрыгиваниях и покачиваниях на широкой дельфиньей спине все больше завладевала моим воображением. Я решил, что Бенц Фиат все-таки достоин наказания, но не слишком жестокого. Так, легкой порки или десятка оплеух. Пробормотав нечто неразборчивое (слова мои при желании можно было счесть знаком согласия), я доверительно склонился к профессорскому уху. — Мы толковали о женских капризах, почтеннейший… о невероятных капризах, какие случаются у красавиц… Так вот, знайте — моя леди не исключение. Шалмуназар радостно потер руки. — Она предпочитает оральный секс? — с деловитым видом осведомился он. — Нет. Любит чистить котлы. Это ее очень возбуждает. — Да-а?.. — протянул сексоихтиолог. — А что такое котел, почтеннейший сэр? Какое-то особое приспособление? Что-то вроде… Я остановил его движением руки. — Котел — это посудина, в которой варят пищу. Очень большая кастрюля с круглым дном. Размером с это ведерко. Я показал на ведро, где охлаждались бутылки. Приличная емкость, должен признаться; в ней помещалась дюжина игристого и целая груда льда. Ведерко изготовили из серебра в форме огромной чаши с накладными виноградными гроздьями; под воздействием влажного климата металл потемнел, и чудилось, что изнутри чаша покрыта черным лаком. Превосходная вещь, и наверняка старинная; я мог бы продать ее в любом из богатых миров с восьмикратной прибылью. — Поразительно! — заметил Шалмуназар. — Сколь необычными бывают женские капризы! Однако, достойный сэр, неужели вы варите пищу в таких котлах? Мне всегда казалось, что космический корабль оснащен киберповаром. — Разумеется, друг мой, — я потрепал его по плечу. — Однако я вынужден скупать котлы на слаборазвитых планетах, чтобы моя супруга получила удовольствие. Мы варим в них рис. Рисовую кашу без соли, если говорить точнее. — Рисовую кашу?! Без соли?! — Бенц Фиат выпучил глаза. — Помилуй, Великий Кальмар! И вы едите это… это… — Нет, клянусь Кальмаром! — Я вытащил свой орден и потряс им в воздухе. — Кашу я спускаю в утилизатор. Перерабатываю на удобрение для своих оранжерей. — Но зачем же вы ее варите? Разве ваша леди… — Вот именно, в леди все и дело. Рис пригорает к стенкам котла, и вычистить посудину непросто. Леди Киллашандра занимается этим по вечерам… ну, перед тем как мы отправимся в спальню. Легкие мазохистские причуды, мой дорогой… Чем больше котел и чем трудней его чистить, тем она великолепней — потом… Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Шалмуназар, разумеется, понимал — недаром его удостоили профессорского звания! Глаза его зажглись лихорадочным блеском, и он огляделся вокруг в поисках котла. — Этот подойдет, — я показал на серебряное ведерко. — К сожалению, нет нагара, но и с патиной не так-то просто справиться. Идите к ней, дружище, и предложите почистить этот сосуд. Гарантирую, вы тут же станете ее избранником! А мне не забудьте прислать девушек — столько, сколько поместится на дельфиньей спине. Благодарно улыбнувшись, Бенц Фиат ринулся в толпу поклонников, окружавших Шандру. Я задумчиво ел взбитые сливки и прикидывал риск. С одной стороны, Шандра была крепкой девушкой и весила не меньше Шалмуназара; с другой — он все-таки мужчина! Я решил, что челюсть она ему не сломает-в крайнем случае вывихнет. Но если удар придется в нос… нос такая хрупкая конструкция… Впрочем, восстановить его нет проблем, и я был готов профинансировать лечение, если Шалмуназару понадобятся услуги хирурга. Испуганный вопль и плеск воды прервали мои раздумья. Бенц Фиат барахтался под дельфином, парочка на дельфиньей спине взирала на ихтиолога с явной насмешкой, а гости — те, что еще держались на ногах, — корчились от хохота. Шандра, растолкав их, устремилась ко мне. Глаза ее пылали праведным гневом. — Грэм! Послушай, Грэм! Ты знаешь, что сказал мне этот пьяный тип? — Ее рука устремилась в сторону бассейна, где бултыхался сексоихтиолог. — Ты знаешь, что он предложил? Отставив вазочку со сливками, я грозно нахмурился. — Надеюсь, принцесса, он не хотел тебя соблазнить? Не то я брошу его на корм акулам! — Нет, но… Я нежно обхватил ее за талию. — Все остальное — пустяк и недостойные шутки, сыгранные с нашей благородной доверчивостью. Во всем виновато вино. Эти игристые вина — коварный напиток, девочка. Вроде бы стоишь на ногах, а язык мелет всякую чепуху… — Я обнял ее покрепче. — Кстати, не пора ли нам проведать дельфинов? Я узнал о них очень интересные подробности. Например, о спине — она такая теплая и широкая… и так приятно подпрыгивать и качаться на ней среди волн, в темном и тихом океане, под яркими звездами… Но, разумеется, не в одиночку. Ты готова? Она была всегда готова, и мы вслед за другими парочками направились к морю.ГЛАВА 20
Сознаюсь, не всякий прием кончался такой мажорной нотой; бывало, и я играл роль дичи, а не охотника. В фигуральном смысле, разумеется; на Солярисе слишком ценят жизнь, чтоб отнимать ее у любых теплокровных созданий — кроме, быть может, китов. Соляриты питают стойкое отвращение к насилию, и даже среди гидроидов, самого низшего класса, никто не подымет на сотоварища нейрохлыст, гарпун или мачете. Эти смертоносные вещи существуют, но их предназначение — работа; хлысты — чтоб отгонять китов на убой, гарпуны — чтоб бить крупную рыбу, мачете — чтоб заготавливать водоросли. Но при всем своем миролюбии обитатели Соляриса не отвергают агрессивных человеческих инстинктов, направляя их в иные сферы, нежели смертоубийство. В какие, спросите вы? Ну, например, в область нормальной торговой конкуренции, где хомо хомини все еще люпус эст1. И настолько люпус, что временами от конкурентов не остается ни костей, ни требухи! Другая область — спорт, но не его контактные разновидности вроде бокса, борьбы и футбола, а состязания пловцов, гребцов или яхтсменов, гонки на дельфинах и довольно опасные сафари в подводных джунглях, населенных кальмарами. Третья и самая важная сфера, доступная всем и каждому, а не одним лишь спортсменам и бизнесменам, — любовь. Выше я не раз рассуждал об этой материи и даже пришел к заключению, что мой персональный Рай наполнен любовью, как трюмы “Цирцеи” — отменным товаром. Для меня любовь — возвышенное чувство, но в понимании соляритов она была более плотской и приземленной; они склонялись к примату физиологии над духовностью и превращали ее в игру, в своеобразную охоту, где один догонял, а другой убегал — вернее, делал вид, что убегает. Правила этой игры определяли обычаи, традиции и брачный кодекс, весьма расплывчатый и либеральный. В соответствии с ним на Солярисе практиковалось множество видов брака, моногамного, полигамного, полиандрического и группового, так что супружеская верность была крайне растяжимым понятием. Во всяком случае, никто не почитал за грех “качаться на спине дельфина” с чужим супругом или супругой; ну а что до гидроидов, так те жили не семьями, а просто стаями. Во время моих предыдущих визитов на Солярис эти пикантные подробности меня не тяготили, так как — к великому счастью! — я пребывал в холостом состоянии и мог откликнуться на любую заявку. Но теперь — тоже к великому счастью — я был женат, а это накладывало на меня двойные обязательства: мне полагалось защищать Шандру от настойчивых поклонников и не пасть самому жертвой поклонниц. А это было нелегкой задачей! Они летели ко мне, как мотыльки на свет фонаря, как пчелки к блюдцу с медом; конечно, не ради моих прекрасных глаз, а исключительно из тщеславия. Ведь я был великим Торговцем со Звезд — вдобавок увенчанным орденом Великого Кальмара! Через пару циклов после банкета в Эмберли мы рискнули принять еще одно приглашение — в Маув, крохотную республику на трех островах, самый большой из которых был размером с Таити. Этот прием устраивали местные политики и социологи, и хоть меня не наградили ни орденами, ни дипломами, кухня, должен признаться, у них оказалась отменной — особенно моллюски под острым соусом. Стол был накрыт на арене овального амфитеатра, ступенями тянувшегося вверх, к просторной галерее, убранной статуями, мозаичными панно и неизменными пальмами. С внешней ее стороны было несколько балконов с широкими парапетами, небольших, увитых зеленью и укромных, как позабытые беседки в одичавшем парке. Но я не думаю, что кто-то о них забыл; эти таинственные балкончики являлись, вероятно, альтернативой дельфиньим спинам из Эмберли. Во всяком случае, стоявшие там кушетки были весьма просторными, а подушки на них — соблазнительно мягкими. Отведав моллюсков, я ускользнул на галерею, дабы насладиться в одиночестве сигарой и не травить гостей — на Солярисе ввиду скромности земельных угодий не культивируют табак и, следовательно, не курят. У меня был запас отличных сигар с Панджеба; они почти не уступают гаванским, которые теперь не экспортируются, а производятся малыми партиями лишь для семейства Кастро Рус, потомственных кубинских графов. Пять или шесть тысячелетий тому назад, остановившись на Земле, я посетил их резиденцию и удостоился высокой чести: Резного палисандрового ящичка с сотней отличных сигар. Говорят, такие курил их легендарный пращур, основатель кубинского графства — или в тот далекий век, которых даже мне не вспомнить, оно называлось иначе?.. Но я опять отвлекся. Словом, я раскурил сигару, вышел на балкон, присел на парапет и залюбовался сказочными крас-, ками заката. Чудилось, что где-то за морем, за горизонтом, развели гигантский костер; протуберанцы огня тянулись к зениту, обнимали западный небосклон, и редкие звезды были как бы мошками, улетевшими в страхе из пламенного горна, из породившей их жаркой купели. Посасывая сигару, я следил за небесным пожарищем и за мошками-беглянками, разглядывал их и вспоминал их названия, пока одна из мошек не приземлилась рядом со мной. На ней был алый жакет, перехваченный багряным поясом, и брючки того же цвета — а больше, я полагаю, ничего. Жакет и брючки обтягивали плоть с откровенным вызовом и оттопыривались там, где надо, но никаких следов иных одежд под ними я не замечал. Лицо у нее было узким, брови — тонкими, ноздри — розовыми и трепещущими, волосы — длинными и шелковистыми, скорее темными, чем светлыми; в глазах мерцали огоньки — как у пантеры, подстерегающей добычу. Звали эту мошку Ниссан Лада Виритрильбия, доктор социологии из Красного клана. И как только она меня выследила на этом укромном балкончике?! — Капитан Френч? — Голос у нее был низкий, мягкий, мурлыкающий. Один такой голос может свести мужчину с ума, не говоря уж об остальном — о том, что оттопыривалось под брючками и жакетом. Затянувшись сигарой, я выпустил струйку дыма и поклонился. — Он самый, миледи. Доктор гонорис кауза, Друг Границы, Торговец со Звезд и прочая и прочая. Еще, если не ошибаюсь, носитель ордена Великого Кальмара. Она хихикнула. — Вас не упрекнешь в излишней скромности, достойный сэр. И вы, наверно, не сомневаетесь, что признаны нести культуру и прогресс всем населенным мирам Галактики? Разумеется, за хорошее вознаграждение. — Почему бы и нет? Ведь я — торговец. Если хотите более романтическое определение — авантюрист и искатель приключений. Она придвинулась ко мне, и я ощутил едва заметный аромат, исходивший от ее волос и кожи. Ничего странного в том не было: Солярис — мир всевозможных запахов, большей частью приятных и тонких. — Ваша жена тоже так считает? — промырлыка-ла доктор Ниссан. — Считает? Что именно? — Ну, что вы — великий культуртрегер? — Об этом надо спросить у моей жены, — ответил я. — Леди Шандра — крупный специалист по капитану Френчу. Она ознакомилась с записями в моем компьютере, с сотней моих биографий и с мнением историков; она исследовала мою жизнь вдоль и поперек, день за днем, все двадцать с лишним тысячелетий. К тому же она знает живого Френча. Знает, что он ест и пьет, какую одежду носит и с какой ноги натягивает башмак, храпит ли во сне и о чем мечтает, укладываясь в постель. — Ну, об этом нетрудно догадаться, — Ниссан снова хихикнула. — Мечты у всех мужчин одинаковы. Исполнив их, вы засыпаете, а ваша жена размышляет, какой вы великий человек и сколь благородна миссия, которой вы посвятили двадцать с лишним тысячелетий. Так, кажется, пишут в сотне ваших биографий? Но я им не верю, достойный сэр. Она явно стремилась меня заинтриговать, в чем, без сомнения, преуспела. Я заметил, что губы у нее пухлые и алые и что каждое их движение напоминает поцелуй. Мне хотелось глядеть на них вечность. Впрочем, я вполне владел собой и произнес недрогнувшим голосом: — Если вы не верите моим биографам, значит, верите в нечто другое. Во что же? Она усмехнулась не без кокетства. — В то, что вы и подобные вам стали огромным бедствием для человечества. Одно ваше существование тормозит прогресс! Я готов был простить эти слова ради губ, которые их произнесли. Что это меня так разбирает? — мелькнула мысль. Неужели моллюски и острый соус подействовали так возбуждающе? — Ваш вердикт не столь уж оригинален, — заметил я. — Мне доводилось слышать и более суровые приговоры. Кто-то недоволен моим товаром, кто-то — ценами; одни проклинают меня за скупость, другие — за бессердечие, а теологи всех миров предали меня анафеме — за то, что я не согласен возить миссионеров без надлежащей компенсации. Но вы-то, прекрасная леди, не миссионер, а социолог! Вы-то должны соображать, как крутится экономический механизм и что в него капают для смазки! Ее грудь под тонкой тканью жакета приподнялась, и я почувствовал, что мои губы пересохли. Нет, слишком острым был этот проклятый соус! Да и вино на Мауве крепковато… — Деньги, товар, теология! Фи! — Ниссан изящно взмахнула ручкой, будто отметая все эти предметы разом. — Я имела в виду совсем другое! Технологический прогресс, распространение научных знаний… Кстати, вы знакомы с историей Шарда? Спейстрейдера, который продавал дубликатор массы? — Разумеется, — ответил я, кивнув. — Рокуэлл Шард и Макс Джонс купили чертежи на Аласторе с разрывом в несколько лет. Шард опередил Джонса, и тот направился к недавно колонизированным мирам, где сбыл дубликатор на тридцати шести планетах. Шарду достались Старые Миры и Земля; на Землю он прибыл сказочным богачом и спустил целое состояние меньше чем за год. Другие спейстрейдеры — вроде вас, почтенный сэр, — перекупили спецификации, разлетелись кто куда, и в результате все высокоразвитые планеты смогли приобрести прибор. Это заняло триста сорок семь лет, если верить историческим хроникам… Ну а теперь представим, что бы случилось, если б спейстрейдеров не было — ни Шарда, ни Джонса, ни вас, мой драгоценный Друг Границы, ни остальных великих Торговцев со Звезд. Что произошло бы с дубликатором? — Ничего, — я пожал плечами. — Им пользовались бы на Аласторе, и, наверное, изобрели бы в других мирах, в двух или трех, спустя пару тысячелетий. Так что триста сорок семь лет — не такой уж большой срок. Моя сигара еще курилась, и пряный запах табака сражался с женским ароматом. Ниссан, будто желая пробить мою последнюю защиту, подступила ближе; теперь я мог, наклонив голову, коснуться губами ее волос. Ее жакетик чуть распахнулся под натиском упругих смуглых полусфер, и тонкая ткань обрисовала напрягшиеся соски. Интересно, какого они цвета? — подумал я. Бледно-розовые или коралловые? Коричневатые или совсем темные, как у барсумиек? Я чувствовал, что соглашусь на любой вариант, но неизвестность интриговала меня. Если жакет распахнется немного пошире… — Три с половиной века! — воскликнула прелестный доктор, наступая на меня с горящими глазами. — Вы считаете это малым временем? Да эта’ информация распространилась бы вдвое быстрее без всякой помощи спейстрейдеров! Разве вы не согласны, что… Если расстегнуть ее жакет или дернуть его чуть-чуть вниз… Ужаснувшись столь грешной идее, я мысленно дал себе по рукам, но это не помогло. Как я сейчас нуждался в чем-нибудь прохладительном — в проповедях аркона Жоффрея или в ведре холодной воды! Даже в двух. Если окатить из второго Ниссан, ее жакетик намокнет и станет совсем прозрачным… Френчи, приятель!.. — возопил я в глубине своего сердца. О чем же ты думаешь, старая перечница! В твоем-то возрасте! И с такой женой, как Шандра! До нее рукой подать… стоит только выбраться на галерею и спуститься вниз… спуститься и увидеть, как она беседует с каким-нибудь профессором о силурийских водорослях или генезисе коралловых рифов… Шандра, милая Шандра!.. Я попытался вызвать в памяти ее лицо, чтоб огородиться этим спасительным талисманом, но тщетно. Пухлые алые губы манили, подрагивали, шептали… — Разве вы не согласны, что если б спейстрейдеров не было, знания не стали бы коммерческим товаром? И тогда любой ученый, любой специалист не Возражал бы, чтоб его открытия сделались достоянием всей человеческой расы, всех планет, богатых и бедных, не исключая сакабонских городов. Их, эти открытия, передавали бы из мира в мир по космической связи, и этот процесс был бы гораздо более быстрым и эффективным, нежели… Я не сомневался в целях прекрасной Несси, но моя воля и добродетель трещали по швам. Разумеется, она затеяла эту беседу не за тем, чтобы блеснуть эрудицией или распять спейстрейдеров у позорного столба. Вся эта научная чушь скрывала нечто иное, и я был готов к тому, что Ниссан, прервав свои обличения, захочет продолжить дискуссию на кушетке. К ней она меня и теснила — медленно, расчетливо, неумолимо. Кожа ее благоухала лавандой, и этот запах сводил меня с ума. Чем же я мог защититься? Жоффрея и холодной воды под руками не было, а значит, оставались лишь экономика и физика, сухие и отрезвляющие предметы. Ну и еще сигара. Я затянулся, отметив, что пальцы мои подрагивают, выдохнул дым и сказал: — Боюсь, вы ошибаетесь насчет космической связи. На межзвездных расстояниях любой энергетический пучок претерпевает диссипацию, она ведет к потере информации и дегенерации всего сообщения. Слишком велика небулярность и слишком мала каузальность! Чтобы исключить подобные факторы, нужны гигантские энергии и целая сеть орбитальных радиотелескопов, а это обойдется еще дороже моего корабля. Чтобы создать такую сеть, на реакторах или солнечных батареях, нужен опытный персо-. нал, специалисты, материалы и тысячи монтажных роботов. Это недостижимая роскошь для миров Окраины, и я могу аргументировать свой довод в цифрах. Сейчас я подсчитаю вам, сколько стоит каждый винтик и каждая гайка, если поднять их на орбиту, и сколько понадобится таких винтиков и гаек — вместе с трубами, муфтами, балками, швеллерами, проводами и баллонами, а также… Ее жакетик распахнулся, и твердые соски уперлись в мою грудь. Они были алыми и крупными, как спелая вишня. Запах лаванды стал сильней, и внезапно я сообразил, что она надушилась афродиа-ком — той самой спайс-эссенцией, что добывали из раковин моллюска с милым названием febris erotica1. Не то чтобы это меняло дело, но теперь я хотя бы знал, что согрешу не из гнусной похоти, а по причинам чисто химическим. С химией не поспоришь, подумал я, словно выписывая себе индульгенцию. В конце концов, я не мог отвечать за то, что творили молекулы спайса с моими гормонами? Febris erotica-любовная лихорадка (лая”.). Обхватив меня за пояс, крошка Ниссан прошептала: — Ах, оставим эту тему… все эти расчеты, балки, гайки и провода… или займемся ими попозже… Признайтесь, капитан, у вас ведь еще не было женщины с Соляриса? Ну, так возьмите с кушетки подушку и посадите меня на парапет… Я обнял ее правой рукой, а левой уже потянулся к подушке, как вдруг моя докторша взвизгнула, вырвалась из моих объятий и отскочила, держась за ягодицу. Я посмотрел вниз. Кончик моей сигары светился приветливым огоньком, будто радуясь, что порок наказан и добродетель торжествует. Запах лаванды стал слабее, и у меня наступило прояснение в Мыслях. Первым делом я поднес сигару к губам, затянулся и поставил меж собой и прелестной Ниссан дымовую завесу. — Вы меня обожгли! — воскликнула она, все еще потирая ягодицу. — Выбросьте этот ваш отвратительный, мерзкий, вонючий… — Ни в коем случае, леди! — оборвал я ее. — И не двигайтесь, иначе снова запахнет жареным! Счет за испорченные брюки пришлете мне в Фаджейру. — Я обошел ее, стараясь держаться подальше и дымя сигарой, как древний пароход на Миссисипи,. У прохода на галерею я на мгновение остановился и выпустил парфянскую стрелу: — Кстати, моя дорогая, как называются ваши духи? Обязательно куплю своей жене десяток флаконов. С тем я и удалился, выдернул Шандру из льстивой толпы поклонников (кажется, они обсуждали сравнительные достоинства малакандрийского и со-ляритского жемчугов), запихнул ее в аэрокар и врубил двигатель на полную мощность. Афродиак еще игриво плескался в моей крови, но, к счастью, от Маува до Фаджейры сравнительно недалеко, час-полтора лету при попутном ветре. Ветер был попутным и подгонял наш аппарат, заодно раздувая пламя, пылавшее в моих чреслах. Я сдерживался из последних сил. Мы приземлились на крышу своего отеля, спустились в свой номер, зашли в свою спальню (дабы переодеться), но стоило мне увидеть кровать и нагие бедра Шандры, как приворотный бальзам разбушевался во мне с такою силой, что я почувствовал не свежий ветерок, не шторм, не бурю, а самое настоящее цунами. Опустив дальнейшие подробности, замечу, что химическая страсть ничем не хуже естественной; соединившись же, они творят чудеса. Одним из чудес было то, что в эту ночь нам все-таки удалось уснуть. Я пробудился первым и потихоньку, чтобы не потревожить Шандру, отправился в свой кабинет. Я заказал и выпил две порции сока, потом связался с “Цирцеей”. Товары были погружены, дюзы отполированы, резервуары полны водой; мы могли тронуться в дорогу в любой момент. “Цирцея” уже закончила сверять свои файлы с библиотеками планетарных университетов, и вся последняя информация о Со-лярисе была обработана, разобрана и каталогизирована. Довольно кивнув, я переключился на своего секретаря, Седана Пежо Хаммурапи. Надо сказать, что у соляритов весьма своеобразные имена, коими они гордятся, считая, что следуют в том древней земной традиции. Это, несомненно, влияние Авроры, колонизировавшей Солярис; на ней придают большое значение родословной и производят все фамилии от римских и греческих корней или от еще более древних, времен Ассирии и Вавилона. Но случилось так (я уж не помню, пять или шесть тысячелетий тому назад), что компьютеры на Авроре подхватили вирус — скорее всего с файлами, приобретенными у одного из неаккуратных торговцев. В результате пропала масса данных и исторических сведений, и какой-то период на Авроре считали, будто автомобильная промышленность зародилась в эпоху Рамсеса, Саргона и Навуходоносора и что “Форд” или “Паккард” — имена великих властителей той далекой эпохи. Отсюда пошла традиция странных ав-рорских имен, которую продолжили переселенцы на Солярисе. Никто уже не помнит, кто такой Хамму-рапи и что такое “Седан”, но я-то знаю, что первый ходил на двух ногах, а второй — бегал на четырех колесах! Но Бог с ними, с заблуждениями соляритов. Я вызвал своего Седана Хаммурапи, чтоб навести кое-какие справки. — Скажи-ка, малопочтенный, — приветствовал я секретаря, — ты в курсе вчерашних событий на Мауве? Кажется, я плачу тебе за то, чтоб ты составлял распорядок моих визитов и гарантировал-их безопасность. Безопасность — главное и основное! Я контактирую лишь с порядочными людьми, и твоя задача, чтоб эти люди в самом деле были порядочными. Никаких психопатов, никаких миссионеров, никаких изобретателей вечного двигателя! И никаких экзальтированных леди! Ясно? Мой секретарь побледнел. — Что случилось, достойный сэр? Эти социологи С Маува очень приличные люди… и очень гостеприимные… — Даже слишком. Их гостеприимство могло разбить мою жизнь, — мрачно заметил я и рассказал ему о вчерашнем покушении. Хаммурапи сник. — Направить жалобу, сэр? Дипломатическую ноту в конгресс Маувской Республики? Я отмахнулся. — Дьявол с ней, с этой Ниссан Виритрильбией… Предпочитаю не жаловаться на дам. Но тебя оштрафую на десять процентов гонорара. Есть возражения? Мой секретарь помотал головой. — Штрафуйте хоть на четверть, сэр. Я виноват, конечно же, виноват! Я забыл, что ваши обычаи в… гмм… в сексуальной сфере… да, именно так… несколько отличаются от наших. Теперь насчет этого злосчастного приема… Только одна леди употребляла спайс? Или их было несколько? — К счастью, одна, и совершенно целенаправленно. Моя реакция была очень сильной — настолько сильной, что это нельзя объяснить ни красотой, ни интеллектом дамы. Она, конечно, хороша, но я не из тех петушков, что топчут любую наседку. — И вы не?.. Фраза повисла в воздухе, и я покачал головой. — Я, как ты выразился, “не”. Случай меня спас. Случай и моя жена, с которой я прилетел в этот проклятый Маув. А если б не жена и не случай, то было бы определенно “да”. Рот Хаммурапи округлился. — Понимаю, сэр, понимаю… случай и леди Шандра, ваша восхитительная супруга… — Он с изумлением уставился на меня. — Выходит, вы пренебрегли той дамой… Поразительно! Как все-таки ваши обычаи отличаются от наших! — Это ты уже говорил, малыш. — Пожалуй, я мог так обратиться к Хаммурапи, который был совсем юнцом, лет ста сорока от роду. — Теперь скажи-ка мне, разве на подобных приемах разрешено использование афродиака? Он пожал плечами. — У нас разрешено все, что не запрещено. Но надо заметить, что дама… эта Ниссан Виритрильбия… очень рисковала. Все-таки доктор социологии! Да и не в этом одном дело. Есть и другой риск. — Это какой же? — поинтересовался я. — Ущерб женской репутации. Если бы все раскрылось, ее коллеги подумали б, что она не способна увлечь мужчину без искусственных стимуляторов. Такие вещи ненаказуемы законом, но мнение окружающих… так сказать, неофициальная атмосфера… условности академической среды… Позор, такой позор! — А вне академической среды это уже не считается позором? Я имею в виду употребление спайса в общественных местах? Не в интимной обстановке? — Разумеется, нет, если люди попроще. Я говорю не о гидроидах, этим спайс просто не по карману, но те, кто трудится в сфере обслуживания… обычные работники, владельцы морских ферм или небольших ресторанчиков и лавок… Эти не пренебрегают спайсом! Есть даже межклановый союз Тантричес-ких Мистерий, и если б вы пожелали, почтенный сэр… — Расскажи-ка мне об этих мистериях, парень, — распорядился я, пропустив последний намек мимо ушей. Какая-то мысль стучалась мне в голову, еще не оформившись в расчеты и слова. — Ну, — начал Седан, — обычно их проводят в Какой-нибудь укромной пещерке на берегу или в пдавучем бунгало — словом, в замкнутом помещении, убранном только циновками и коврами. Участники садятся в круг или ложатся на подушки, едят и пьют и слушают ритмичную музыку. Пища, разумеется, со специями, а напитки — покрепче тех, какими потчуют на академических приемах… — Тут он позволил себе усмехнуться. — Затем свет выключают, в воздухе распыляется спайсовый аэрозоль, и все смотрят картинки… ну, вы понимаете, какие… Они, эти картинки и фильмы, большей частью безобидны, если не считать голограмм с Розы Долоро-са… Там та-акие мастера! — Знаю, — я кивнул головой. — Орден Плотских Наслаждений. Я их продукцией не торгую. — Разумеется, сэр. Так вот, об этих мистериях… Когда публика подогрета, все вскакивают и начинают рвать друг с друга одежду — прямо клочья летят! А потом валятся кучей на ковры — прямо как лягушачий садок! — ползают среди голых тел и совокупляются, пока не обессилеют от изнеможения. И вот тогда-то начинается самое интересное! Тогда, почтенный сэр… — Хватит, — прервал я Седана, ибо мысль моя, достучавшись до речевых центров, оформилась и созрела. — Я не желаю знать, что они вытворяют в голом виде, а вот про их одежду я бы послушал. Какая она? — Одежда? — недоуменно откликнулся мой секретарь. — А что в ней интересного, в одежде? — Для тебя — ничего, а для меня — возможный рынок сбыта. Давай-ка поподробнее! Одежда оказалась самой обычной, шорты да рубахи, без эротических изысков. Великолепно! Ведь я мог предложить этим любителям спайса кое-что получше — скажем, тот соблазнительный комбинезон, которым Файт с Нимейером заполонили Мала-кандру. Не из кристаллошелка, само собой; крис-таллошелк так просто не порвешь, да и дороговат он для тантрических мистерий. А вот местная ткань, попроще и попрозрачней, будет в самый раз! Вызвав изображение с “Цирцеи”, я показал ком-бинезончик Хаммурапи, и у секретаря отвисла челюсть. Значит, то, что надо! Если разработать мужскую и женскую модели, без рукавов, но с рюшками и бантиками, чтоб удобнее хватать и рвать, клиенты будут в полной прострации! А главное — какие клиенты! Ведь для всякого сборища им будет нужен новый комбинезон, так как от прежнего останутся только лохмотья! Оценив рынок сбыта, я велел Седану связаться с моими торговыми агентами во всех кланах и трубить всеобщий сбор. Вскоре мой монитор заполнили лица — бодрые, утомленные или сонные, смотря по тому, кто в каком времени пребывал и был ли выдернут из-за стола или с кровати. Мы успели распределить работу еще до завтрака; всем были посланы голографические образцы, а мои мастерские уже трудились над первой партией, выдержанной в традиционной пятицветной гамме. Я преисполнился уверенности, что свершу невероятное, то, о чем не мечтал ни один торговец: продам на Солярисе инопланетный наряд! Такое достижение стоило отметить. Покончив, с делами я перебрался в столовую, велел подавать завтрак, а к нему — бутылку игристого вина. Потом заглянул в спальню. Шандра как раз потягивалась и зевала. — Пират! — услышал я нежный воркующий голосок. — Пират, космическое чудище! — Я тоже тебя люблю, дорогая. Но почему пират?. — Ты на меня набросился, как пират. — Подняв глаза к потолку, Шандра уточнила: — Прошлым вечером, после того, как мы вернулись с Маува. Это во-первых. А во-вторых, разве ты не пират, дорогой? Разве не ты захватил “Цирцею”? Не отнял ее у несчастной компании Пряностей и Напитков? Пират, настоящий пират! Я ухмыльнулся. — Предпочитаю пиратствовать в спальне, а не в космосе. Ты ведь знаешь, я тихий и мирный мужчина со Старой Земли, и раскачать меня может только что-то неординарное — вроде моллюсков под острым соусом. Я и “Цирцею” не захватил, а украл! И хоть среди нас, спейстрейдеров, встречаются пираты, я — увы! — не отношусь к их числу. Ты разочарована, милая? — Не слишком, — отозвалась Шандра, продолжая зевать и потягиваться. — Но если ты — не пират, то кто же пират? — Например, Кордей. Крис Кордей с “Чиквери-ты”, который сейчас летает на “Космической гончей”. Он… Шандра резво выпрыгнула из постели. — Новая история, Грэм? Расскажешь? — Обязательно расскажу. — Я набросил ей на плечи халатик. — Завтрак и вино ждут, принцесса! А после завтрака… Она ринулась за мной в столовую.ГЛАВА 21
Повесть про Криса Кордея с “Чиквериты” — это история человека, который слишком потакал рвоим слабостям, отличался беспечностью и легкомысленным нравом, а также был переполнен благими намерениями — теми, которыми вымощена дорога в ад. Но я считаю, что большая часть его недостатков искупались верностью и добротой. Может быть, я не прав, но поверьте, я встречал парней и похуже Кордея. Он был очень любвеобильным малым, падким до женщин, и в силу этого свойства характера занимался пассажирскими перевозками. Перевозил он исключительно слабый пол, тех самых неистовых матерей, которые рвутся на Окраину из каждой благоустроенной галактической щели. Трудился он так, будто владел не торговым кораблем, а рейсовым лайнером, и годами сновал от одного Старого Мира к другому, набирая пассажирок, а после отправлялся к пограничным планетам, чтобы пристроить свой очередной гарем. Вот так он и попал на Дальний, с тридцатью беременными женщинами на борту. Кто на первом месяце, кто на втором, а значит, всех их полагалось срочно высадить “на землю”, так как для развития плода нужна нормальная гравитация. Ознакомившись с делами на Дальнем, Кордей пришел в ужас. Тут царили совершенный беспорядок и неразбериха; не иначе как экипажи трех колонистских кораблей слишком плохо подобрали по cd-ставу, или мир метрополии решил разом избавиться от всех проживавших в нем обухов. Скорее всего причина заключалась и в том, и и другом. Фермы переселенцев пребывали в самом плачевном состоянии, животные наполовину сдохли, наполовину готовились расстаться со своими невинными душами, продуктов не хватало, строительство велось через пень-колоду, аэрокары и слидеры выходили из строя один за другим. Правда, на Дальнем уже запустили сталелитейное производство, но заслуги колонистов в том не было никакой: роботы копали руду, роботы варили сталь, роботы стояли у прокатных станов, а командовал ими компьютер гениальной категории. И что, вы думаете, делалось из этого проката? Кожухи для реакторов, турбины, танкеры или хотя бы рельсы? Как бы не так! Лопаты, ломы и мотыги, что было неоспоримым свидетельством крайне низкой технологии. Разумеется, и уровень жизни был соответствующим. Итак, перед Кордеем предстал во всей своей красе и прелести примитивный мир, а на руках у него имелось три десятка женщин, и к каждой из них он испытывал нежные чувства. Ведь они собирались подарить ему тридцать наследников! А к своим детям Кордей был почти так же неравнодушен, как к своим женщинам. Он с удовольствием плюнул бы на Дальний и перебрался на какую-нибудь более приличную планету, да сроки поджимали. Пришлось ему перевезти их вниз, в единственный город на единственном и кое-как освоенном континенте. Госпиталь там тоже был в единственном числе, и не прошло и недели, как местные жители принялись ныть, что Кордей полностью его оккупировал. Не могу обвинить их в жестокосердии — в конце концов, у них тоже намечалось прибавление семейства. Заткнув глотки самым горластым щедрыми обещаниями, Кордей вернулся на “Чиквериту”, чтобы поразмышлять в покое и одиночестве. Первая мысль ‘его оригинальностью не блистала: послоняться лет пять или шесть в системе Дальнего, пока ребятишки не подрастут и не окрепнут в нормальном гравитационном поле, а затем прихватить их на борт вместе с мамашами и отправиться на поиски более подходящего мира. Но этот план мог не сработать по многим причинам. Во-первых, с какой бы стати жителям Дальнего делиться своими скудными ресурсами с такой оравой? С чужими женщинами и детьми, которые покинут их, никому не доставив ни радости, ни удовольствия? А во-вторых, думал Кордей, где же гарантия, что все удовольствия и радости предназначаются только ему? Скажем, детишкам стукнет два-три года, а их мамаши уже заведут других младенцев, не Кордеевых; и как их потом делить? Лучшим выходом являлось бы строительство дворца или тридцати дворцов, где потомки Кордея могли бы подрастать в холе и сытости, но этот вариант тоже не проходил: средств у Кордея не хватало, чтобы платить за такую роскошь. Собственно, он был вовсе не бедным человеком, но платина, зоологическиекурьезы и развлекательные нейроклипы на Дальнем пока что не требовались. Переселенцы не отказались бы от машин,” от буровых установок, от роботов и тракторов, от алюминия, рельсов и бронзовых труб, но, чтоб наладить такое производство, нужен не один год. Словом, Кордей почувствовал себя в ловушке: куда ни кинь, всюду клин. — И никаких других выходов? — перебила меня Шандра. На лице ее отражалось полное сочувствие Кордею и его бедным детишкам. Отхлебнув вина, я пожал плечами. — Собственно, дорогая, он мог распрощаться со своим гаремом и запустить двигатели. Но это решение казалось ему самым плохим; ведь он, как я говорил, отличался добротой и верностью. — Добрый пират? — Шандра улыбнулась. — Или он не был пиратом? Значит, кто-то другой? — Не спеши, доберемся и до пиратов, — пообещал я. — Сначала постарайся понять, какого сорта человеком был Кордей. Легкомысленным, несомненно, но готовым платить по своим счетам. На такое не всякий способен. — Кажется, ты испытываешь к нему симпатию? — Шандра с подозрением уставилась на меня. — Испытываю. Ну и что с того? Порядочные люди тоже бывают легкомысленными. Но Кордей, повторяю, всегда платил по счетам… почти всегда, но тот единственный случай не относился к его женщинам и детям. Так вот, о детях. Их ничего хорошего на Дальнем не ожидало, поскольку там не имелось оборудования для КР. При темпах, взятых колонистами, установку могли соорудить лет через сорок или шестьдесят, а до того времени детишкам Кордея пришлось бы полагаться на судьбу — на то, что они не помрут от гнойного аппендицита или, скажем, острой сердечной недостаточности. Гнусная перспектива, не так ли? А ведь на Дальнем были и другие дети, намного старше Кордеевых потомков. Шандра кивнула, подтвердив, что ничего хорошего в подобной перспективе нет. В нашу эпоху она кому угодно покажется чудовищным бедствием, хуже, чем падение кометы и вселенский потоп. Во всяком случае, когда на Мерфи разразилась катастрофа, это был процветающий мир, где клиник и аппаратов для клеточной регенерации вполне хватало. Их не смогли уничтожить даже в самые каннибальские времена, а Арконат (и у него были кое-какие заслуги!) первым делом восстановил медицинское оборудование, объявив все аппараты КР собственностью Святой Базилики. Но вернусь к Крису Кордею. Обдумав все варианты, он принял решение остаться на Дальнем. Он известил колонистов, что в ответ на их заботу о его женщинах и детях он предоставит им роботов с “Чик-вериты”, дабы те могли выполнять самые грязные, трудные и рискованные технологические операции. Кроме того, он обещал поделиться всем содержимым своего банка данных и продукцией своих оранжерей. Это значило, что он задержится на планете дольше годичного срока, но колонисты ничего не имели против. Помощь Кордея была для них важнее законов, придуманных в сотне светолет от Дальнего. — Очень благородно с его стороны, — прокомментировала Шандра. — Но пока что я не вижу, как это связано с пиратством. — Не видишь? Неужели? Я сделал паузу, наслаждаясь ее нетерпением и любопытством. — Ну, так слушай! В любом из колонизируемых миров найдутся недовольные — авантюристы или бездельники, или такие типы, кто получил меньше, чем рассчитывал. Со временем большинство из них адаптируется; одним везет, и они становятся планетарными магнатами, другие пополняют группы деклассированных, третьи делают политическую карьеру, четвертые ждут, пока не подвернется случай улететь куда-нибудь подальше — в новый мир, к новым возможностям и авантюрам. Эти последние всего опасней для космических торговцев; своих кораблей у них, разумеется, нет, и нет средств, чтобы построить хотя бы крохотное судно. Все они видят один и тот же сладкий сон: как умыкнуть корабль у зазевавшегося спейстрейдера, то ли прикончив его, то ли ограбив, то ли выждав момент конфискации. В случае с Кордеем все произошло законно, хотя закон вступил в противоречие с этикой. Двадцать один год Кордей со своими роботами трудился на колонистов, закладывал шахты и строил дома, монтировал спутники связи и аппараты для КР, и вот в один прекрасный миг какой-то джентльмен, воспользовавшись катером Кордея, добрался до “Чиквери-ты” и сделал Дальнему ручкой. Законное предприятие, но уж больно мерзкое! Все равно как ограбить путника, что поделился с тобой водой и хлебом! Шандра наморщила лоб. — Не понимаю… Корабль ведь управлялся компьютером, таким же умным, как наша “Цирцея”… Зачем же он пустил на борт воришку? Зачем позволил ему улететь? — Ну, с точки зрения закона, этот парень не был ни пиратом, ни вором. А законы — в том числе порядок конфискации — неуничтожимый файл, так что компьютеру пришлось подчиниться. Ведь он не разбирается в моральных категориях, он выполняет лишь то, что приказано человеком, если приказ не противоречив. По сути, логика его элементарна: нет противоречий с основными программами, нет и преступления! Щеки у Шандры побледнели. — Выходит, и наша “Цирцея”… — Разумеется! В ту же секунду, когда истечет годичный срок, она станет беззащитной, и любой мерзавец, добравшись до капитанского мостика, превратится в ее хозяина и повелителя. — И такую шутку сыграли с Кордеем? Я кивнул. — Бедняга! Из капитана и спейстрейдера он в единый миг сделался обычным колонистом, к тому же еще и безденежным. Правда, у него оставались роботы, но за двадцать лет они так износились, что хоть гвозди ими забивай. Он предъявил колонии счет за них и получил компенсацию, включая имущество похитителя, так что все же каким-то стартовым капиталом ему удалось разжиться. Дела на Дальнем к тому времени поправились, олухи-переселенцы поумнели, да и новое поколение, считавшее тот мир родным, оперилось и вошло в трудоспособный возраст. Но дети Кордея (с учетом того, что клан их пополнился) были еще молоды, и он, само собой, хотел бы им помочь, но их-то было уже за сотню, а он — один! Решив умножить капитал, он занялся транспортным бизнесом, влез в долги и прогорел; собрав остаток средств, ударился в дорожное строительство, но и тут ему не повезло; ничего не вышло с торговлей подержанными слидерами, с перепродажей зерна и с земельными аферами. Словом, через пару лет он был гол как сокол, и причина его банкротства заключалась в одном: он все еще мыслил космическими категориями и пытался выжать десятикратную прибыль из своих ржавых сли-деров и бесплодных пустошей. В конечном счете он разорился, но власти Дальнего, не отрицая Кордеевых заслуг, предоставили ему должность главного диспетчера космопорта. Эта была своеобразная синекура, так как торговцы посещали Дальний раз в столетие, а в прочие времена вся портовая деятельность сводилась к отправке ремонтной бригады на ретрансляционные сателлиты — примерно каждые десять лет. Так что Кордей был в порту главным и единственным диспетчером, жил там в казенных апартаментах и питался в соседнем баре “Магеллановы Облака”. И пробыл он в своей почетной должности не один век, а целых три. Может, пришлось бы ему и дольше курсировать от бара до пустого космодрома, да случай помог. Случай, сделавший его пиратом. Шандра огорченно склонила головку, явно полная сожалений о моральном падении Кордея. — Такой приятный джентльмен… такой преданный своей семье… Ты уверен, что он превратился в пирата? — Не только в пирата, еще и в вероотступника, поскольку ограбил Божьих слуг — миссионеров. Кажется, из братства Святой Чаши или Господнего Ночного Горшка… В общем, они везли какой-то сосуд, полный божественной благодати, и причащали из него желающих каким-то вонючим зельем. Так они и мотались из мира в мир, пока — на свое несчастье! — не встретились с Кордеем. Их корабль лег на орбиту около Дальнего, и Кордей, приняв рапорт, тут же сообразил, что эти пилигримы посланы ему Провидением. Их миссия была на грани краха: Горшок Господень вонял так отвратительно, что святым отцам рот не давали раскрыть, лишая их возможности объясниться. В мирах цивилизованных им грозили тюрьмой за нарушение благопристойности, а там, где нравы были попроще, на выбор предлагались пруд с пиявками, веревка с мылом и неоструганный кол. Пару раз их прокатили на шестах, вымазав дегтем и обваляв в перьях; на Калипсо высекли, на Абидоне забросали камнями, а на Фидлерс Грин спустили собак. Не только из-за вонючего горшка, но по причине несбывшихся надежд и разочарования. Судите сами: корабль — редкий гость, визит его — сенсация, и каждому хочется знать, что он привез и чем осчастливит твое отечество. Выясняется, ничем; вместо новых фильмов и книг, вместо нарядов и нейроклипов, вместо забавных зверей и потрясающей инопланетной парфюмерии — бадья с мощами да шайка проповедников. Вот народ и свирепеет! Миссионеры, знакомые с этим сценарием, были напуганы, но Кордей заверил, что тут их ждут не дождутся, как манну с небес. Дескать, люди на Дальнем смирные и богомольные, отгрохали в столице храм, а вот святынь в нем нету, как и служителей; ни исповедаться в грехах, ни причаститься, ни поболтать со смиренным Божьим слугой на эсхатологические темы. Такого им напел, что Божьи слуги бросились к катеру и, затянув благодарственный гимн, тут же ринулись вниз с орбиты. Кордей же поклялся, что немедленно вызовет мэра и весь городской совет, дабы встретить гостей речами, оркестрами и цветами. — Правда? — глаза Шандры распахнулись. — И что же потом? Он украл их челнок, пока они проповедовали мэру? — К чему такие сложности? Катер приземлился, Кордей поднес святым” отцам пучок салата вместо цветов, приветствовал от имени властей и сообщил, что комитет по встрече уже несется к космодрому со всех ног. Пока что гости могут освежиться, почистить перышки и выпить прохладительного — там, в его диспечерской, где накрыт шведский стол. Ну, вся компания направилась в диспетчерскую, где их почистили и освежили… Глаза Шандры сделались ещё больше. — Неужели он их?.. — Нет-нет, все было тихо-мирно, никаких убийств. Два подержанных робота со станнерами и долгий, крепкий, здоровый сон… А Кордей тем временем спокойно оприходовал челнок, врубил двигатель и вознесся к небесам. И стало в Галактике одним миссионерским кораблем меньше, а одним торговым — больше. Аминь! — И ты знаешь, что с ним случилось потом? — Разумеется. Он назвал свой корабль “Космической гончей” и трудился как проклятый еще сотню лет, чтобы “Гончая” не выглядела дворнягой. Ведь слуги Божьи двинулись в путь налегке: ни приличного компьютера, ни оранжерей, ни роботов, ни запасов. Пришлось Кордею попотеть! Денег у него не было, товаров и ценностей — тоже, за исключением вонючего горшка, зато он снова владел кораблем. Совершив тур среди Старых Миров, он набрал пассажирок — из тех, что платят в банке, а не в спальне, — и повез их на Окраину. Он сделал три-четыре таких рейса, а потом переоборудовал корабль на камелотских верфях. Говорят, вооружился до зубов… На тот случай, если найдет похитителя “Чиквериты”. — Ты его не знаешь? — Нет, милая. Он не появлялся в соседних с Дальним системах, и о его судьбе ничего не известно. Первый же переход мог окончиться для него трагически, в точке дестабилизации, но я думаю, что он выжил — ведь “Чикверита” имела хороший компьютер, ничем не хуже того, что стоит на “Цирцее”. Он, вероятно, сменил имя и название корабля и до сих пор болтается в космосе… Ничего незаконного он не совершил, но и гордиться ему нечем. — Нечем, — согласилась Шандра. — Кордей, быть может, и пират, но пираты мне нравятся больше воров. Гораздо больше!. Тут она нежно взглянула на меня, так что пришлось отплатить ей поцелуем. Некоторое время мы были очень заняты, и я уж подумывал о том, не перебраться ли в спальню. Я чувствовал, что способен на многое, даже без всяких химических средств; утром я хорошо потрудился, а есть ли лучший стимул к любви, чем гениальная идея? Особенно в части одежд для тантрических игрищ… Но Шандре, вдохновленной пиратской историей, хотелось узнать все подробности. Например, такую: как поживают на Дальнем ограбленные миссионеры. — Разве правительство не обязано возместить им ущерб? Ведь Кордей был государственным служащим… — И весьма высокого ранга, — согласился я. — Он обладал большими полномочиями: мог разрешить или не разрешить посадку и, уж во всяком случае, отвечал за все, что происходит на территории порта. Так что власти, безусловно, несли ответственность за его авантюру. Однако… — Я смолк и сделал мысленный подсчет. — Однако припомни, что Кордей провел на Дальнем больше трех веков, и ко времени грабежа двадцатая часть аборигенов являлась его прямыми потомками. Дочерьми и сыновьями, внуками, правнуками и так далее… Многие из них занимали важные посты, и никто из них не любил миссионеров. Выходит, ограбленным ничего не светило. Им предоставили гражданские права и земельный участок, чтобы они могли основать свою общину, вот и все. Не знаю, что случилось с ними потом. Когда я услышал эту историю, она была уже древней легендой и никаких следов от общины не оставалось. — Что ж, — заметила Шандра, будто подводя итог, — так им и надо. Я считаю, они и этого не заслужили. — Calamitas virtutis occasio [549], — процитировал я и добавил: — Никто из нас, принцесса, не получает больше того, что заслужил. Временами я задумывался над тем, не поощряю ли ее ненависть к Богу. Вера в Бога, в сущности, неплохая вещь; она возвышает душу, она дает утешение слабым и поддерживает сильных, она научает добру и справедливости, она взывает к нашему милосердию. Все это так, пока вера — личное дело каждого, пока она не связана с властью, с церковным аппаратом, с пышными обрядами и сложной иерархией, определяющей, кто ближе к Богу, а кто дальше. Вера — индивидуальное чувство; я бы сказал, столь же интимное, как любовь, и третий тут всегда будет лишним. Но третьи, тем не менее, появляются — попы и монахи, муллы и имамы, миссионеры и епископы, аббаты и арконы. Словом, все те, которые знают, как надо верить в Бога и как положено его чтить. В результате вера становится религией, заботой профессионалов, а это уже совсем иной вопрос. Еще я думал о странных аналогиях в судьбе моей принцессы. Много лет она провела за монастырскими стенами, где мужчины — верней, голографичес-кие проекции стариков — проповедовали ей терпение и смирение, терзали ее дух, подвергали нравственным мукам, пытаясь сломить ее и растоптать. Конечно, они считали, что творят добро; они всего лишь стремились, чтоб Шандра была похожа на них самих. А что теперь? Она в другом монастыре, в стенах “Цирцеи”, и другой старик преподносит ей свою мораль, обернутую в кристаллошелк забавных историй… Многое ли изменилось? Условия жизни получше, любви побольше, но все-таки Шандра несвободна и не может делать то, к чему стремится ее сердце. Например, стать матерью. Эти мысли меня не радовали, но я утешался тем, что проповедую не смирение и терпение, а нечто совсем иное. К тому же со мной не возбранялось спорить, а при случае можно было и укусить. Огромное преимущество по сравнению с монастырем! Ведь голограмму аркона не укусишь! Я закончил свои дела на Солярисе. Последней из торговых операций была продажа пресловутого ком-бинезончика, отредактированного по местной моде: Рукава убраны, штанины обрезаны до колен, а на груди — петельки, чтобы удобней было цепляться. Тантристы пришли в восторг от этого нововведения, и я тоже, поскольку удалось сорвать изрядный куш. Выбрав три изделия в оранжево-красных тонах, я переслал их в Маув, на имя доктора Ниссан Виритрильбии, с краткой запиской и флакончиком афродиака. В записке говорилось, что я считаю необходимым возместить почтенному доктору ущерб, причиненный моей сигарой. Разумеется, продав лицензий на комбинезон, я не забыл о Шандре. Треть прибыли была перечислена на ее счет, но десять процентов от этой суммы она возвратила — за услуги агента, как меня проинформировали. Об этом было сказано с милой улыбкой и насмешливым блеском в глазах, который я счел нашим главным приобретением. Похоже, чувство юмора стало возвращаться к ней, а этот дар я полагаю едва ли не важнейшим в жизни. Что касается прочих сувениров, то Шандра потратила на них немного. Серьги с маувским жемчугом, перламутровый ларец с Танграта, поясок, отделанный кораллами, какими славилась Фаджейра, изящные бокальчики из раковин… Вот, пожалуй, все. Сережки и поясок она надевала в тот день, когда мы покидали Солярис; ларец был подарен мне — чтобы хранить в нем диплом и орден с серебряным осьминогом; ну а бокальчики мы обновили перед стартом, прикончив бутылку игристого. Мы сидели на мостике, любуясь блекло-голубоватой сферой, сиявшей среди звезд, как опал в россыпи крохотных самоцветов. Шандра находилась в игривом настроении; то ли вино было тому причиной, то ли знакомая мне эйфория, которую чувствует каждый странник, отправляясь в далекий путь. — Грэм, помнишь, ты рассказывал мне о Кордее? — Да, дорогая? Ее глаза шаловливо блеснули. — Похоже, ты многое знаешь о нем. Его побуждения и мысли, и всякие личные обстоятельства… — Думаешь, что Кордей — это я? А истинный Грэм Френч давно рассыпался прахом у какой-нибудь безымянной звезды? На губах Шандры промелькнула улыбка. — Вообще-то такое приходило мне в голову… Двадцать тысячелетий — огромный срок, и ты сам говорил, что в космосе бывают разные чудеса. Но вы с Кордеем не похожи ни темпераментом, ни характером. Ты скорее однолюб, вроде Филипа Рего-са… Да и “Цирцея” не подходит под описание “Чик-вериты” и “Космической гончей”… И файлы ее — те, которые нельзя уничтожить, — ведутся с давних времен. Выходит, ты не Кордей. Но ты, — Шандра лукаво улыбнулась, — ты космический бродяга, а все бродяги любят приврать. Быть может, ты приукрасил всю эту историю, чтоб сделать ее позанимательней? Или нет? — Нет, моя проницательная принцесса. Кордей — один из немногих спейстрейдеров, с которыми я встречался, и потому в рассказе о нем я опираюсь на личные впечатления. Это не касается истории грабежа — сей инцидент был мне описан Кордеевыми потомками, когда я вторично попал на Дальний. — А что случилось в первый раз? — Тогда я и встретил Кордея. Он уже пару столетий трудился диспетчером, но оптимизма не терял. Он все еще думал о себе как о человеке космоса, осевшем “внизу” в результате временной неудачи. Он принял меня с самым радушным гостеприимством и показал все, на что стоило посмотреть. Я был для него не просто гостем, но собратом по профессии, хоть эта роль была временами утомительной — если припомнить все возлияния в “Магеллановых Облаках”… Но разве я мог оттолкнуть его? Сказать, что теперь он не космический торговец, а жалкий червяк, житель планеты? Это было бы слишком жестоко. Ведь мысль о том, что он вернется в космос, поддерживала Кордея; если уж говорить начистоту, она была единственным барьером, оберегавшим его от безумия. В каком-то смысле он был уже безумен… Мурашки шли по коже, когда он принимался сравнивать “Цирцею” с “Чикверитой” и рассуждать об их оборудовании и планировке… Он таскал меня к своим друзьям, к своим женщинам и потомкам, и это было ужасно. Ужасно и трогательно! Куда бы мы ни шли, всюду находились его дети, его внуки и правнуки, и казалось, что они участвуют в некоем молчаливом заговоре, имевшем целью поддержать его мнение о себе. А он представлял меня как “коллегу Френча с “Цирцеи”, будто мы были двумя торговцами, волею судеб повстречавшимися на Дальнем. И все вокруг млели и восторгались, ставили выпивку и слушали разинув рот, как два великих человека обмениваются воспоминаниями о своих великих делах… Мне казалось, еще чуть-чуть, и я окаменею, превратившись в собственный гранитный монумент. Шандра в притворном ужасе всплеснула руками. — Значит, вот откуда твои истории! Ты слышал их от других спейстрейдеров между выпивкой и закуской! И всякий раз вас окружали толпы благоговейных почитателей… Виски течет рекой, рюмки под носом, и на каждом колене — по девушке… А где-то маячат скульпторы, ваяющие обелиск, и целая армия живописцев… Или я не права, Грэм? Я ухмыльнулся. — Близко к истине, дорогая. Но должен заметить, что встреча двух спейстрейдеров — редкий случай, да и не каждый из них будет так откровенен, как Кордей. Мои истории в основном взяты из книг, из планетарных записей, из сплетен и слухов, которые мне пришлось проверять, отсеивая истину от шелухи легенд и сказок. Понимаешь, мы, космические торговцы — знаменитости, и всякое наше деяние, всякое наше слово перетолковывается на сотню ладов и порождает сотню мифов. Ты теперь тоже частица подобного мифотворчества. На Малакандре вышла твоя биография, и не единственная — ведь о ком пи-, сать романистам, как не о принцессах загадочной Амазонии?.. История с мадам Удонго, я полагаю, экранизирована, и приятель нашей милой Файт не иначе как написал сценарий… Кассильда, твоя подружка с Барсума, обмолвилась парой слов о ваших подвигах, о том, как вы напились и обменялись платьями, — вот тебе и сюжет для оперетты. А на Солярисе… Тут я вспомнил прелестную Ниссан и поперхнулся. Не сомневаюсь, что Хаммурапи, мой секретарь, мог бы сделать из этой истории комедию или трагедию, оперу или драму, все, что угодно, на выбор. Сюжетец позволял! Что-нибудь этакое, с клубничкой, под интригующим заголовком “Соблазн капитана Френча”… Шандра, не заметив моего смущения, протянула: — Легенды, мифы, сказки, сплетни, слухи… И на Мерфи тоже? Как ты думаешь, Грэм, что говорят о нас на Мерфи? — Смотря кто говорит, — заметил я. — Сестры Камилла и Серафима болтают про космического монстра или киборга, что затащил невинную девушку в постель и насажал ей синяков своими шестеренками. Аркон Жоффрей, я думаю, более Реалистичен. И если в ближайшие двести лет на Мерфи явится холостяк-спейстрейдер, ему преподнесут историю про капитана Френча, купившего Целый гарем из монастырских послушниц. Как говорится, exempla do cent [550]! — Но тебе не нужен гарем, — сказала Шандра. — Я знаю, знаю! Я смотрела в вечных записях… Жанна, Дафни, Ильза, Джессика и остальные… даже Йоко… Ты жил с ними, и ты их любил, но никогда — двух сразу. Значит, ты не Кордей! — Что поделаешь, детка! Кордей вдвое моложе меня и родился на Арморике, а я — старый мужчина со Старой Земли. Из Огайо, где наказанием за многоженство… Я собирался прочесть ей целую лекцию, но Шандра не дремала — прижалась ко мне, прикрыла ладошкой рот и укусила за ухо.ГЛАВА 22
Я был доволен своим визитом на Солярис. Не по причине успешных торговых сделок или отвергнутых искушений и даже не потому, что мы насладились чарующими видами, катаньем на дельфинах и приятным обществом — всем тем, чего не может предоставить нам “Цирцея”. Все это было великолепно и прекрасно, но чувства, испытанные мной, проистекали из других источников. Я радовался, что обнаружил этот мир благополучным и живым, что за прошедшее время здесь не случилось ни катастроф, ни бедствий, ни падений комет, ни вселенских потопов, ни социальных катаклизмов. И пусть я не сомневался, что все это когда-нибудь произойдет (ибо Солярис не был моим неизменно благоденствующим Раем), я все-таки испытывал умиротворение. Мысленно я отодвигал “когда-нибудь” в далекие века и старался не думать о том, что положит конец нынешнему процветанию — недостаток ли земель и войны за них меж островами, бунт ли гидроидов или некие эксперименты, после которых на Солярисе воцарится тишь да гладь и водная благодать без всяких признаков суши. Возможно ли иное? Возможно ли, чтоб этот мир когда-нибудь сделался Раем? Тем Раем, который я ищу? Я с удивлением заметил, что эта мысль уже не волнует меня — во всяком случае, не так, как прежде. Почему? Разве я собирался прервать свои поис1 ки? Разве они служили помехой хоть в чем-то? Отвлекали от дел? Или от Шандры? Разве они диктовали какой-то маршрут, которым мне полагалось следовать? Я должен был выяснить эти вопросы, хотел я того или нет. Никто не в силах совладать с собственной натурой, и прагматик, подобный мне, всегда стремится найти причины своих решений и побуждений, даже в той ситуации, когда над ними лучше бы опустить завесу неведения. Я размышлял на все эти темы, чувствуя, как мой недавний оптимизм сменяется тревогой и неуверенностью. Я понимал, что мысль о Рае была всего лишь мечтой, чем-то призрачным, эфемерным; стоило ли сожалеть, что ее вытесняет реальность? Сожалеть? Возможно, но не удивляться. Великий дух живет мечтой, прагматик — реальностью, и с этим ничего не поделаешь — как и с тем, что я не гений, не романтик и не возвышенный мечтатель. Я тот, кто я есть, сколько бы памятников ни воздвигли мне от Земли до созвездия Ориона. Omnial Dixi et animam levavi! [551]. Что же касается реальности, то она была такова: вместо Рая я обнаружил Шандру, узнал ее, полюбил и боялся ее потерять. В этих моих опасениях каким-то образом присутствовал Солярис —v то ли в качестве безмолвного статиста, то ли как знак, напоминающий о важной встрече или разговоре, который не стоит забывать. Из разговоров мне вспомнились три — с прелестной Ниссан, с Седаном Хаммурапи, открывшим мне тайны пещерных мистерий, и с Бенцем Фиатом Шалмуназаром, профессором сексоихтиологии из Эм-берли. Последняя из бесед была, я думаю, самой серьезной, несмотря на легкомыслие Шалмуназара. Собственно, легкомысленным был конец, но никак не начало. Он спросил: каково это — жить с такой женщиной? Что бы тут ни подразумевалось, я понимал вопрос по-своему. Сомнение в том, что я могу исполнить все капризы моей леди? Пожалуй, нет; Шандра была не капризна, если считать капризом обычные женские требования и причуды. Другое дело, насколько я соответствую ей? Кто я такой для Шандры? Свет в окне, ее прекрасный принц, ее мечта об идеальном возлюбленном? Или всего лишь человек, протянувший руку помощи в тяжелую минуту? Достоин ли я ее любви? И не найдется ли мужчина — пусть не сейчас, пусть в будущем, — к которому Шандра могла бы испытывать более сильное чувство, чем ко мне? Эти вопросы являлись скорее риторическими, чем насущными, что, однако, не делало их tabula rasa [552]. Напомню вам, я — прагматик, а прагматик просчитывает все свои действия и поступки на сто ходов вперед. Прагматизм был моей сильной стороной, и он же подсказывал мне, что я не самый лучший из мужчин в обитаемой Вселенной. С другой стороны, и Шандра котировалась не всюду; в мирах, подобных Барсуму и Малакандре, она выглядела слишком экзотично, чтобы привлечь внимание серьезного соперника. Человек порядочный не будет соблазнять ее, поскольку чужд сиюминутного порыва; ну а более долгая связь со столь непривычной с виду женщиной станет для него обузой. Человек легкомысленный, самовлюбленный или жестокий, привыкший потакать своим капризам, ей неинтересен, а от любых подобных посягательств я сумею ее защитить. Что же остается? Мир вроде Земли и тех процветающих колоний, где люди похожи на меня и на нее, где жизнь богата и благополучна, где нет калечащих душу жестокостей и уродств, — словом, некий питомник благородных златовласых принцев. И какова же моя стратегия в такой ситуации? Абсолютно ясная и очевидная — держаться подальше от этих, соблазнительных миров! Иными словами, посадить свою птичку в прочную клетку и делать вид, что я предоставил ей самостоятельность и свободу, что она финансово независима, что в любом порту она может выгрузить свой багаж и удалиться на все четыре стороны. Гнусная мысль! Мой прагматизм ее подсказал, и он же определил ее суть: лицемерие, достойное мерфийского Арконата. Арконат продал ее мне, а я ее купил, и это было законной сделкой — во всяком случае, на Мерфи. Но сделка та свершилась за ее спиной и независимо от ее желания, а значит, не являлась честной, и я не мог к ней апеллировать. Шандра — такая, какой она стала теперь, — не была моей собственностью, и этот факт совершенно не зависел от того, даробана ли мною ей свобода или нет. Из невежественной девчонки, монастырской послушницы, она превратилась в женщину и человека, а всякий человек свободен по определению. Он волен сам наложить на себя оковы, узы любви или дружбы, тяготы обязательств, иные цепи, что связывают нас, людей, — но лишь по собственному соизволению. У Шандры же не было этой воли, и никакой брачный контракт, ни сто килограммов платины на ее счету не изменяли ситуацию. Все-таки “Цирцея” летела туда, куда приказывал капитан Френч. Обычно я предавался этим горестным размышлениям ночью, когда моя юная супруга, набегавшись за день и наигравшись в постели, тихо посапывала рядом со мной. Иногда я глядел на нее и гадал, что же ей снится. Временами сон ее был глубок и спокоен, но бывали минуты, когда лоб ее страдальчески морщился, брови сдвигались и веки чуть заметно подрагивали, словно она хотела, но не могла отвести взгляд от чего-то ужасного, тягостного, жуткого. Быть может, призраки Мерфи еще приходили к ней в снах, мучая и беспокоя? Орды каннибалов, выслеживавших друг друга, облавы солдат Арконата, отец, искупавший грехи на какой-нибудь свалке нечистот, монастырские стены, кухня, полная нечищеных котлов, и Радостное Покаяние на ледяном полу под мрачными церковными сводами… Я не будил ее; я был не в силах ей помочь. Одоление призраков и страхов, гнездящихся в нашем подсознании, нелегкая задача, и человек должен решить ее сам. Мы покинули систему Соляриса; разгон закончился, тихий шелест ионных двигателей смолк, и черный занавес с яркими блестками звезд опустился на наши экраны. Теперь я мог избрать любой из четырех маршрутов к ближайшим населенным мирам — к серебристому солнцу Алохи или багряному — Пойтекса, к алой звезде Александрии или к зеленому, как хризолит, светилу Фидлерс Грин. Но я не торопился с выбором; те прагматические планы, о коих рассказано выше, довлели надо мной, терзая мою совесть. Как странно! Я разработал стратегию, логичный порядок действий, но не мог исполнить его, не мог последовать велению рассудка! Есть ли более веское свидетельство человеческой иррациональности? Впрочем, любовь, как и совесть, не относится к рациональным категориям. Наконец, решив доверить выбор Шандре, я спросил, куда она хочет направиться. — К Пойтексу, — ответила она без колебаний. — Почему? — “Цирцея” утверждает, что люди там похожи на нас с тобой, только темноволосые и ниже ростом. Значит, я смогу выйти на помост! А чтоб не смущать их вот этим, — dha тряхнула своей золотистой гривой, — покрашусь! Ты будешь любить меня с черными волосами? Вот так-то, Грэм Френч, сказал я себе, вот чего стоят твои стратегические планы! Что мне оставалось? Спасать то, что еще можно было спасти. — Не советую тебе краситься, — пробормотал я. — Из деловых соображений. Видишь ли, этот бизнес с модой — тонкая штука, и он гораздо успешней идет, когда у манекенщицы есть собственная индивидуальность. Я полагаю, тебе нужно играть экзотическую роль, а не пытаться соответствовать местным стандартам. Тем более что твой рост… с ним-то ты ничего не поделаешь! Она кивнула — с видом настоящего спейстрейде-ра, который обдумывает, как бы привлечь, а затем ободрать покупателей. — Массаракш! Наверное, ты прав, Грэм. Я не буду краситься, я останусь благородной принцессой с Земли, из Амазонского королевства… Так, кажется, ты придумал? Но мы, — тут она важно приосанилась, — мы наймем еще одну манекенщицу, из местных. Для контраста. Предположим, я буду демонстрировать длинные платья, а она — короткие. Или наоборот. — Смотри только, чтобы короткие не были слишком короткими, — предупредил я. — Пойтекс — это не Малакандра, тут предпочитают строгий и скромный стиль. — Я знаю, я смотрела записи “Цирцеи”. Я даже распорядилась, чтобы наряды были заново… как ты это называешь?.. ах, да — отредактированы! Я одобрительно хмыкнул: — Кажется, ты все подрассчитала, дорогая! — Учусь у тебя, дорогой. Ведь прикидывать и рассчитывать для тебя самое большое удовольствие. Разумеется, после постели. Несколько ошарашенный таким заявлением, я промычал: — Вот как? И с чего ты это взяла? Шандра покровительственно усмехнулась. — Я тебя знаю, Грэм, уже знаю. Ты планируешь дела со всеми подробностями, а потом переживаешь и маешься, пока они не завершатся. И если все идет как надо, ты бываешь такой гордый! Наверное, оттого, что опять доказал: Грэм Френч умнее всех! — Хмм… Довольно мерзкая личность этот Грэм Френч, не так ли? — буркнул я, чувствуя холодок, пробежавший вдоль позвоночника. Мы не прожили вместе и двух лет, а она уже видела меня насквозь! Что же будет через пару столетий?.. Воистину, Шандра стоила десятка таких, как я! Ее глаза смеялись. — Почему же мерзкая, Грэм? Разве предугадывать ход событий — это плохо? — Излишняя расчетливость не относится к числу человеческих достоинств, — ответил я. — Ну а теперь скажи-ка мне, что я делаю, если все идет не так? Если я оказался не самым умным? — Тогда ты начинаешь ана… да, анализировать! Ты стараешься найти причину неудачи и докопаться, что же было не так, отчего и почему. И когда ты это выяснишь, ты опять говоришь себе: какой же я хитроумный! — Все хуже и хуже, — откликнулся я. — Ну и мерзавец, клянусь всеми Черными Дырами! И как ты живешь со мной, дорогая? — Живу, потому что люблю. И потому что знаю: ты гордишься мной. Тебе нравится, если я замечаю разные разности… разгадываю все твои секреты… все-все… Вид у нее был чрезвычайно довольный — как у ребенка, подглядевшего, где прячут варенье. Я пробормотал: — Выходит, я не могу утаить от тебя никаких секретов? Ни одной самой паршивой тайны? Шандра склонила головку к плечу, многозначительно погрозила пальцем и сдвинула брови, словно готовясь прочесть мне лекцию. Что-то знакомое было во всех этих манипуляциях, но я не сразу догадался, что она копирует меня самого. — Кассильда рассказала мне многое о мужчинах… и Файт, и даже мадам Удонго… Ты, Грэм, из тех людей, которые не любят хранить тайны. Ты слишком горд тем, что делаешь, и тебе нужна публика, чтобы похвастаться. А публика — вот она, перед тобой! — И она коснулась своей груди. Ну и ну! — подумал я. Психоаналитик не хуже Жанны! И ведь она права! Взять хотя бы Жоффрея: я рассказывал ему о своей жизни, хотя аркон не внушал мне ни доверия, ни уважения. Но с кем еще я мог поболтать в бесплодной мерфийской пустыне? И все-таки об одной из моих тайн Шандра не ведала. Я говорю о своих поисках; не то чтобы я делал из них секрет, но эта тема казалась мне неподходящей для обсуждения. Поймет ли Шандра, что мой Рай — совсем не тот, о коем ей толковали на Мерфи? Мой Рай пока что неосуществленная вероятность, и в этом смысле он реален, тогда как рай Корана или Библии всего лишь фикция, мираж, иллюзия для слабых духом. И мой Рай не имеет отношения к Творцу, к его пророкам, ангелам, архиепископам, арко-нам, ко всем неприятным личностям, что тиранили Шандру столько лет. Но будет ли это ей понятно? Затем я подумал, что мой стратегический план — тот самый, продиктованный прагматизмом — нуждается в корректировке. И если моя леди столь сообразительна, пусть она и корректирует его. Во всяком случае, ее совет не был бы лишним. Я дернул Шандру за рукав комбинезона: — Скажи-ка, девочка, а как я поступлю, если дела пойдут из рук вон плохо? Как я выкручусь из ситуации почти безвыходной? — Ты бы что-нибудь придумал, Грэм. Посмотрел туда и сюда, поразмыслил и отыскал что-то новенькое, неожиданное. Ведь ты — старый мудрый мужчина со Старой Земли! И ты не раз попадал в почти безвыходные ситуации… например, с Йоко… Вот глупая женщина! Самая глупая во Вселенной! — Это почему же? — Потому что захотела обыграть тебя. И что получила? Ссылку в неприятный мир, где металл ее дешев, где сама она не значит ничего и не может заниматься своей профессией. Разве не так? Я должен был согласиться с этим. Йоко обыграла саму себя. — И ты, принцесса, стала не слабым игроком — если вспомнить эпизод с мадам Удонго. Она блаженно улыбнулась при этом воспоминании: — Да, Грэм, мы с тобой два великих хитреца! Интересно, какие у нас были б дети… — Если верить генетическим законам, они дали бы нам сто очков вперед, — произнес я и добавил: — Жаль, что не представится случай это проверить. Шандра вздрогнула, словно получив удар. Мгновением раньше она улыбалась, в глазах прыгали чертики, лукавый взгляд поддразнивал меня, но миг прошел, и все переменилось. Лицо ее окаменело; еще не мертвое, оно уже не было живым. — Что с тобой? Я протянул к ней руки, но она отшатнулась. — Разве мы не можем завести ребенка, если захотим? Ведь ты говорил, что можешь избавиться от бесплодия… А я могу зачать и родить… Это ведь безопасно… Не сложнее, чем удалить аппендикс… У нас превосходные хирурги в медотсеке… И “Цирцея”… Она столько знает… знает, как нужно вынашивать дитя… — Не на корабле, милая. — Я постарался, чтоб голос мой звучал помягче. — На корабле нельзя вынашивать детей. Вспомни историю Кордея. — Я помню! Но мы могли бы остаться в одном из миров на пять или шесть лет… подождать, пока малыш не окрепнет… Наша веселая пикировка вдруг обернулась серьез-ным разговором. Но что я мог ей сказать? — Вспомни Закон Конфискации. Вспомни Кордея и то, что случилось с ним. Или ты хочешь, чтоб мы нашли какой-нибудь необитаемый мир за пределами Окраины и поселились в нем? На долгие годы? Шандра покачала головой: Ее глаза подозрительно блестели. — Нет, Грэм, не хочу. Без людей, без сверстников наш мальчик вырастет дикарем, а мы не должны лишать его детства. Нам гораздо больше подходит какой-нибудь тихий высокоразвитый мир вроде Со-ляриса… чтоб было море и горы, и красивые города, и множество университетов… — Она шмыгнула носом и вдруг расплылась в улыбке. — А знаешь, Грэм, я ведь придумала! Придумала, как обойти закон! Как прожить на планете несколько лет и не лишиться “Цирцеи”! Моя принцесса выглядела такой счастливой, что я чуть сам не разрыдался. Все хитрости и уловки спейстрейдеров были давно известны, и ни одна из-них не гарантировала успеха. Торговец должен летать и жить на своем корабле и должен расстаться с женщиной, которая хочет детей. Собственно, не навеки: что мешает вернуться лет через двадцать-тридцать, когда его возлюбленная натешится материнством?.. Правильно — ничего! И вернувшись, наш торговец обнаружит, что у возлюбленной новый супруг и новые дети, если в мире, где он ее оставил, еще не ограничена рождаемость… Такова жизнь! Даже для нас, бессмертных, расстаться на долгие годы — все равно что потерять друг друга. Тем временем Шандра, вытерев слезы, с энтузиазмом посвящала меня в свой план: — Нам надо выбрать такую планету, где люди не слишком отличаются от нас, чтобы мальчик не выглядел среди детей чужаком. Конечно, там все должно быть: большие города, океан, леса, животные… Как на Малакандре, но не так жарко… Как на Соля-рисе, только суши побольше… И еще хотелось бы, чтоб в том мире знали, кто ты такой, и относились к нам с уважением… и чтоб у тебя нашлось занятие на несколько лет… ну, например, ты мог бы преподавать в университете… И, конечно, мир, который мы выберем, должен быть… как ты говоришь? Устойчивым? Нет — стабильным! Никаких катастроф, никаких войн и никаких опасных научных опытов! Никаких диктаторов и арконов! И никаких… — Подожди, — прервал я ее. — А что же будет с “Цирцеей”? Зеленые глаза Шандры широко распахнулись: — Как, разве я еще не сказала? Ты запрограммируешь прыжок на два с половиной года в самом безопасном направлении; “Цирцея” прыгнет, а потом прыгнет снова — в ту систему, где мы ее будем ждать. Понимаешь, она вернется за нами! И подберет нас! Через пять лет! И мы улетим — вместе с нашим сыном! Она торжествующе уставилась на меня. Тяжкие будут пять лет, промелькнуло в моей голове. Ждать и думать: вернется — не вернется… Каждую ночь и каждый день… А если все-таки вернется и пойдет на ионных двигателях к планете, вот тут-то за ней и начнут охоту! Еще бы! Через год она будет считаться бесхозным имуществом, и всякий, кто первым доберется к ней, тот ее и подберет — согласно Закону о Конфискации. Я должен быть очень шустрым парнем, чтоб обскакать десяток тысяч претендентов… Но обсуждать это с Шандрой не стоило — ведь она так верила в меня, в мой разум — или в мое хитроумие. К тому же были другие обстоятельства, более веские и серьезные, и под их напором весь ее план, все ее хрустальные мечты обращались в пыль. Я — именно я! — должен был их разбить! Я чувствовал себя ужасно. Я не сомневался, что желание Шандры не было навязчивой эгоистичной идефикс неукротимых матерей. Она любила меня, она ревновала меня к прошлому, и это, быть может, явилось толчком, пробудившим в ней жажду материнства. Вполне естественный порыв… естественный и безудержный, если вспомнить о силе ее характера, ее терпении и гордости. Внезапно я понял, что ее любовь ко мне была не одним лишь источником счастья, дарившим наслаждение; она еще налагала огромную ответственность. Я взял Шандру за руку, и мы покинули мостик. Слева и справа от нас круглились стены кольцевого коридора; две стальные переборки разгораживали его, отделяя западный сектор от восточного. Пол был покрыт пластиком, имитировавшим ковровую дорожку, на потолке сияли овальные светильники, и их отражения яркими пятнами скользили по дверям кают. Светло-серые хромированные двери — хранилища, кладовые и медотсек; двери поуже, обшитые дубом, — наша столовая и спальня; широкий проем под аркой ведет к гимнастическому залу. Все такое знакомое, привычное… Эта картина успокоила меня; я был в своем доме, а в нем, как известно, и стены помогают. Я привел Шандру в кают-компанию — она же гостиная, библиотека и мой кабинет. Здесь стояли шкафы с настоящими древними книгами, письменный стол из кедра (я вывез его с Пенелопы), пара кресел и мягкая кушетка; на дальней стене серебрились экраны, а над шкафами и столом тянулся фриз картин. Большей частью пейзажи, писанные маслом, изображавшие водопад в горах Эдема, хвойную рощу на Секунде, шторм в океане Авроры или равнины Огайо — разлив золотистых полей маиса и затерявшийся среди них фермерский домик. Над домом, почти над самой трубой, плыли тучи, но в разрывах меж ними виднелось небо — точно такой лазурной голубизны, каким я помнил его с детства. Я сел на диван; Шандра прилегла, доверчиво опустив головку мне на колени. Я коснулся ее волос. Их цвет былтаким же, как у маисового поля на картине. — Милая, ты ведь знаешь, что дети растут и становятся взрослыми? И что этот процесс остановить нельзя? — Знаю. — Она шевельнулась, потерлась щекой о мою ладонь. — Ну так что же? Я уверена, что наш мальчик получит хорошее воспитание. Он будет заниматься с “Цирцеей”, в ее лабораториях и в гимнастическом зале, и с тобой — во время наших перелетов. А когда мы опустимся “вниз”, он встретит других людей и сможет у них поучиться — у самых лучших и знающих, у тех наставников, которых мы выберем для него. Он получит прекрасное образование! Он… — Заметив мою невеселую улыбку, Шандра сбилась и заглянула мне в лицо. — Ты сомневаешься, Грэм? Боишься, как бы не избаловать его? Думаешь, он вырастет самовлюбленным и испорченным? Сын такого великого человека? Я криво усмехнулся: — Нет, проблема в ином. Ученье, воспитание, образование — все это игры для ума, но у тела есть свои потребности. И они просыпаются лет в пятнадцать, а в двадцать их уже не удержать. В двадцать его не устроят эротические нейроклипы. Ему захочется чего-то более реального и… ммм… более возвышенного. Шандра встрепенулась. Кажется, этот аспект нашей проблемы ей в голову еще не приходил. — Ну-у, — протянула она, — мы же будем посещать множество миров… Найдутся там и девушки, и женщины… и всякой польстит его внимание… Ведь мальчик — твой сын! Сын капитана Френча! Юноша со звезд! — Вот именно, — заметил я. — Теперь представь, что ему исполнилось семнадцать и что мы попали в прекрасный мир, в Эдем, — тут я кивнул на картину с водопадом, — где есть все, что душе угодно: горы и города, леса и равнины, реки и океаны,” и, конечно, девушки. Очаровательные девушки! Он вращается в молодежной компании; он — сын капитана Френча, он экзотичен, богат и хорош собою, и юные леди идут в атаку со всех сторон, с фронта, с тыла и с флангов. Уверен, долго ему не продержаться. Он выберет кого-нибудь, влюбится и завязнет в этой любви по самые уши. Так? — Так, — согласилась Шандра. — Было бы странно, если бы он не влюбился. Особенно в этом твоем Эдеме. — Но вот наш бизнес завершен, мы покидаем Эдем и разлучаем его с любимой. А чувство — как мнится ему самому — уже достигло галактических размеров. И он — наш сын! Он унаследовал твою неукротимость, мою расчетливость и нрав упрямца — от нас обоих! И что же он сделает? Как ты думаешь? Шандра выглядела растерянной. А я — я ощущал себя последним подлецом, пуская по ветру ее мечты. Ломать — не строить! Особенно такую нежную и хрупкую постройку… — Я скажу тебе, как он поступит: втайне от нас возьмет девицу на корабль, вскроет вечные файлы и свяжет себя обетом. А после… Знаешь, первое чувство непостоянно, и через год-другой молодые пожелают разойтись. А мы к тому времени будем парсеках в пятнадцати от Эдема… значит, в мире той девушки пройдет лет пятьдесят… Вернуть ее обратно? Но захотят ли ее принять на родине? И приспособится ли она к переменам? Высадить ее в каком-то другом порту? В каком? Мир благополучный и богатый закрыт для эмиграции, а пограничные миры непредсказуемы и опасны… Я мог бы, конечно, купить ей гражданство, но перед этим нам придется странствовать из мира в мир в поисках мест, где люди подобны нам… Понимаешь? Эта проблема гораздо хуже, чем с моими прежними женами. Наш корабль станет ареной свар и раздоров, а наша жизнь… — … будет такой же, как у тебя с Йоко, — закончила Шандра. — Ты прав, Грэм. Ты, разумеется, прав. — Она поднялась с кушетки, сделала пару шагов и замерла, разглядывая картину с водопадом. Над ним висело разноцветное облако — бабочки Эдема купались в теплом и влажном тумане, застыв подобно окаменевшей радуге. Но вряд ли Шандра видела их. Она промолвила: — Мне надо подумать, Грэм. Знаешь, мне ведь казалось, что ребенок будет моим и твоим… нашим… только нашим… Но ты объяснил, что это неверно; он повзрослеет и будет принадлежать себе — не нам, а себе, как всякий человек. Но его поступки… то, что он сделает… и он сам… все это не безразлично для нас. Теперь я это понимаю. И я должна подумать. — Шандра сдвинула брови и после паузы сказала: — Прости, Грэм, мне надо остаться одной. Я поцеловал ее и вышел. * * * По корабельному времени близился вечер. Свет в коридоре пригас, жилые отсеки окутал сумрак, и только в рубке сияли вечные огни, подмигивая мне с компьютерных стоек и панелей, с пультов и мониторов. Полусферический экран, ухо, глаз и губы “Цирцеи”, светился успокоительным зеленым; очередной прыжок был рассчитан, вероятность дестабилизации не превышала одной стотысячной, и корабль терпеливо ждал приказа отправиться в путь. Вздохнув, я перебрался в спальню, залез в постель и раскрыл книгу. Не помню, о чем я читал; похоже, память моя не фиксировала текста, и начало фразы испарялось, когда я добирался до ее конца. Автоматически перелистывая страницы, я думал о Шандре, о том, что она скажет, когда вернется. Если вернется… А если нет? Ее раздумья могли занять всю ночь или множество ночей, так как проблема, с которой она сражалась, была неразрешимой. Наконец она пришла — задумчивая и немного грустная. — Грэм, дорогой… Ты еще не спишь? Я отложил книгу. — Нет. С недавних пор я расстался с привычкой спать в одиночестве. — Мы можем поговорить? — Конечно. — Видишь ли, я запросила “Цирцею” о детях спейстрейдеров… Не тех, что рождаются от случайных связей на какой-то планете, а о детях супружеских пар — таких, как Регос и Сдина Бетин или чета Смитов. Оказалось… — Шандра судорожно вздохнула, словно у нее перехватило горло. — Оказалось, никто из них не имел детей. Ты знаешь об этом? — Знаю и знал всегда. Но не будем апеллировать к этим примерам, милая. Если тебе нужен ребенок, ты его получишь. А я сделаю все возможное, чтобы отсрочить неприятности. Я постараюсь… я очень постараюсь… хотя уверен, что ничего хорошего не выйдет. Шандра побледнела. — Грэм, ты хочешь, чтобы я бросила эту затею? Я вздохнул. Вздох старого утомленного человека, который пререкается со своей женой… Очень неприятно, но получилось так. — Ничего не надо бросать, девочка. Клянусь тебе и обещаю! — Я поднял руку, щелкнул пальцами, и потолочный экран ответил серебристой вспышкой. — “Цирцея”! Брачный контракт с леди Киллашандрой Лонг! Добавка: я, капитан Грэм Френч, оставляю на усмотрение моей супруги все, что касается наших детей. Я должен подчиниться ее желанию, если она решит их завести; я обещаю содержать их и заботиться о них, пока леди Киллашандра не сочтет, что мои помощь и покровительство им не нужны. Единственное условие, которым сопровождается этот раздел контракта: каждый наш ребенок должен быть выношен и рожден при тяготении от 0,95 до 1,05 “же”. Конец раздела. Опустившись на кровать, Шандра уставилась на меня. Зрачки ее потемнели, губы беззвучно шевелились. — Грэ-эм… Ты внес этот пункт в вечные файлы? Я кивнул. — Разумеется. Теперь только ты будешь решать этот вопрос. Ты, и никто иной. Она вздрогнула, будто осознав всю тяжесть свалившегося на нее груза. Ее рука скользнула к моей руке, стиснула запястье. — Грэм, ты ведь не думаешь, что я похожа на одну из этих неистовых матерей? — Нет, дорогая. Если не считать их главного таланта, все они — посредственности. Ими правит не разум, не чувство, а только инстинкт. Один инстинкт, как у кроликов, и больше ничего. — На нашем корабле нет кроликов, — сказала Шандра, склоняясь ко мне. — Нет и не будет! Мы что-нибудь придумаем, Грэм. Ведь нас двое… двое таких хитрецов, да? Я зарылся в ее волосы и вдохнул их пьянящий запах.ГЛАВА 23
Мы что-нибудь придумаем! Легче сказать, чем сделать! И хотя новый пункт контракта возлагал решение на Шандру, это не освобождало меня от ответственности. В конце концов, ее мечта была такой естественной и простой — исполнить предназначение природы! Она хотела, чтоб у нас родился мальчик, похожий на меня, но без груза прожитых мною лет; чтоб он рос и мужал под ее любовным взором и чтоб когда-нибудь я мог опереться на него, сделав своим компаньоном и помощником. А она, моя Шандра, гордилась бы нами, любила бы нас и наслаждалась тихим семейным счастьем. Увы, эта идея была столь же реальной, как путешествие в соседнюю галактику! Быть может, там я нашел бы Рай, где не действуют человеческие законы, где алчность не властна над людьми, где нет ни олухов, ни властолюбцев, ни завистников, — словом, такое место, где моя “Цирцея” могла бы уснуть на пару столетий, не тревожась о горьком пробуждении. И я бы не беспокоился — ни о ней, ни о своих потомках, которых оставлю “внизу”, когда мне наскучит райская жизнь. Все-таки Рай есть Рай; единственная катастрофа, которая может в нем случиться, — наводнение вселенской скуки. ‘ В Раю, само собой, нет и расхожих штампов, что бытовали на Земле времен моей юности. Самый обычный из них таков: преуспевающий папаша, продемонстрировав наследнику свои богатства, хлопает его по спинке и говорит: потерпи, сынок, и все это будет твоим! Но в наше время такие заявления бессмысленны — нет причин, по которым папаша мог бы переселиться в мир иной прежде своего сынка. Если тот участвует в семейном бизнесе, то дело их необходимо расширять, в территориальном смысле или в отраслевом, и, когда оно достигнет впечатляющих размеров, выделить средства потомку для самостоятельного плавания. Но спейстрейдерам это не подходит. Корабль может иметь лишь одного хозяина и капитана, и, пока я жив, этот пост останется за мной. Шандра в том не сомневалась, однако думала, что проблему все-таки можно решить. — Ты откроешь какое-нибудь дело, которым он мог бы заняться, — сказала она. — В зависимости от его склонностей. Например, институт роботехники, банк или картинную галерею… Что тут сложного? — Ничего. Я с радостью куплю ему гражданство в одном из процветающих миров и выделю начальный капитал. Но ты уверена, что это осчастливит мальчика? Если он с пяти лет жил на корабле, ему совсем не захочется переселяться “вниз”. Воспитанный человеком космоса, он воспримет жизнь на планете как вечное и безысходное заключение, даже в самом прекрасном из миров. Поверь мне, так оно и случится! Он будет ждать и мечтать о том времени, когда окажется хозяином “Цирцеи”, и эта мысль отравит его сердце. И тогда… тогда… не исключено, что он решит поторопить события. Шандра вздрогнула, потом, нахмурившись, сказала: — А мы не могли бы купить ему собственный корабль? Я невесело усмехнулся. — Лет через тысячу, дорогая. И в том случае, если торговля будет успешной. Вспомни, что большую часть доходов мы тратим на свой корабль, на то, чтобы поддерживать “Цирцею" — в отличном состоянии. Тут нет иных альтернатив, ибо от корабля, от его силовых установок, от механизмов и роботов зависит наша жизнь. Те, кто забывал об этом, плохо кончали. Шандра принялась задумчиво навивать на палец свой золотистый локон. — Но разве все-таки мы не могли бы ужиться одной семьей? Трое или четверо, если он найдет себе пару… Как близкие люди, которые любят и уважают друг друга? — Возможно. Такое не получалось ни у кого, но я согласен рискнуть, принцесса. Ведь я дал обещание! Так что же ты решишь? Ее пальцы терзали золотистую прядь. — Я еще не готова, милый. Я не могу решиться, пока есть хоть малейшие сомнения, хоть самый крохотный риск. Я не желаю, чтоб ты проклял день, когда встретился со мной! Но должен ведь найтись какой-то выход… какой-то способ избежать опасностей и бед… Мы что-нибудь придумаем… Мы обязательно придумаем! * * * Бедная моя Шандра! Она пыталась быть такой благоразумной! Она желала примирить непримиримое, решить противоречия, связать прочное кружево из гнилых ниток, скрепив его своей любовью. Но нити расползались, оставляя в ее кружевах зияющие дыры. — Может быть, нам завести девочку? — как-то спросила она. — Я думала о сыне, не о дочери, но разве девочка принесет нам меньше счастья? И потом, не нужно придумывать ей никаких занятий — мы станем трудиться вместе, и у тебя будут целых две манекенщицы! Я чуть не клюнул на эту идею. Представьте себе помост, а вдоль него танцующим шагом идут две красотки: моя милая Шандра в сиянии золотых волос, и другая девушка, пониже и посветлее кожей, темноволосая и грациозная, — моя любимая дочурка! Какое зрелище! Я бы назвал ее Пенелопой… Пенни… Я бы ее обожал… Я бы… Полет моей фантазии стреножила трезвая мысль о том, что мы с Шандрой не заменим ей возлюбленного. Эта фигура обязательно возникнет, разрушив нашу идиллию; а с ней появятся и все прочие сложности, включая внуков и правнуков. Результат неизбежен: мою “Цирцею” будут достраивать и перестраивать, пока она не замрет навеки у какой-нибудь из звезд, превратившись в город сакабонов. И в том городе мы с Шандрой будем выглядеть сущими уродами. Итак, мне пришлось разбить очередной проект моей принцессы. Я делал это с тяжелой душой, испытывая к себе презрение и ненависть; сердце мое разрывалось, а разум дремал, никак не проявляя хваленого хитроумия. Увы! Не тот был случай, чтобы хитрить, тем более с самим собой. Ответы были ясны изначально, так как не первый век и не первую тысячу лет мы, спейс-трейдеры, странствуем в космосе; и за весь этот долгий срок ни один из нас не связал то кружево, над которым трудилась Шандра. Спейстрейдер летает один или с женщиной, если не считать пассажирских перевозок… Это правило было таким же незыблемым, как Закон Конфискации, и все попытки обойти его являлись источником бед и горя. Впрочем, никто их не предпринимал, поскольку итог просчитывался без компьютеров, на пальцах одной руки. Во-первых, торговец мог добровольно перебраться “вниз”, продать корабль, приобрести гражданство и сделаться планетарным магнатом. Ему становились доступны любые семейные радости; он мог жениться, мог содержать дворец с одалисками и заводить детей — столько, сколько позволено его лицензией. Но я о подобных случаях не слышал — кроме вынужденной посадки, что приключилась с Кордеем. Второй вариант был более опасным. Торговец мог провести “внизу” двенадцать месяцев и подождать, пока его жена не разродится; затем улететь в короткий рейс, не больше пятилетия — к примеру, в пояс астероидов, где есть металлы, лед и масса времени для изысканий. Покончив с ними, он мог вернуться за супругой и окрепшим отпрыском, забрать их (разумеется, обоих — какая женщина покинет пятилетнее дитя!) и продолжить свой космический вояж. Если рассматривать этот случай — разумеется, гипотетически, — то ребенок, выросший на корабле, не мыслил бы иного существования. Значит, все проблемы, о коих я говорил Шандре, встали бы в полный рост: мальчик превратится в юношу, девочка — в девушку, и им потребуется пара. А у всякой пары есть тенденция заводить детей, если время и место позволяют, и, следовательно, круг замкнется: мы приедем к тому, с чего начали. Третья возможность не так фатальна и не грозит перенаселением, бунтами и семейными разборками. Наш гипотетический торговец мог бы оставить жену с младенцем на более долгий срок, лет на шестьдесят или семьдесят, а то и на пару веков. Надо думать, что материнский инстинкт за это время будет удовлетворен, и женщина вернется с радостью к законному супругу. В этом случае она покинет не беспомощного малыша, а родоначальника семьи, который сам уже стал дедом и прадедом; для него планета — дом родной, где он в силу богатства и происхождения один из самых именитых граждан. Великолепный вариант! И надо заметить, такие эксперименты проводились, чего не скажешь о двух первых случаях. Однако женщины — не ангелы; кто из них способен ждать целых семьдесят лет, лелея внуков, правнуков и супружескую честь? Правильно, никто! И космический Одиссей, возвратившись к своей Пенелопе, видел трех-четырех Телемахов, не имевших к нему ни малейшего отношения. Что касается Пенелопы, та пребывала в счастливом супружестве, или вынашивала ребенка, или у нее намечался новый брак — словом, были житейские причины, не позволявшие броситься на шею Одиссею. И тут он понимал, что для него прошли два года, а для нее — семьдесят лет или целое столетие; а это поверьте, очень немалое время! В общем, все как в поговорке: влюбленный обещает больше, чем может исполнить, но не выполняет даже возможного. Являлась ли Шандра счастливым исключением? Мог ли я покинуть ее — пусть не на семьдесят, пусть на сорок лет — и надеяться, что не буду забыт, что она вернется ко мне, что наша любовь не сгорит в кострах прошедших десятилетий? Размышляя об этом, я испытывал мучительное раздвоение; чувства шептали мне, ‘что любовь неподвластна ни времени, ни пространству, но голос рассудка напоминал: ты, Грэм Френч, не лучший мужчина в Галактике. И не единственный! Найдутся и умнее, и добрей, и красивей; и все они будут порхать над цветком по имени Шандра. Долгие-долгие годы! Можно ли упрекнуть цветок, если он раскроет свои лепестки?.. Будь проклят мой прагматизм! И будь проклята моя память! Каково это — жить с такой женщиной? — спросил Шалмуназар… Иными словами — достоин ли я ее? Ответ давала трезвая самооценка. Я знал, что умен, однако не гениален — у той же Жанны мозги были устроены лучше, чем у меня. Я добр — во всяком случае, не злобен, — однако не отличаюсь открытым и доверчивым нравом, свойственным Дафни. Я, безусловно, холоднее, чем пылкая Ильза с Каме-лота, и нет во мне той жертвенной готовности, что наполняла душу Теи. И я не романтик. Я человек, который просчитывает свои действия от альфы до омеги. Сравнение с женщинами, которых я близко знал, лишь оттеняло мои недостатки. Правда, в этом букете отсутствовало коварство — я никогда не оставил бы Шандру среди людей неприятных и непохожих на нее, в каком-нибудь мире, подобном Тритону или Сан-Брендану. Хватит с меня Йоко! К тому же Шандра ничем не провинилась перед мной и не заслуживала ссылки в монастырь. А Сан-Брендан, Тритон или тот же Барсум были б для нее монастырем; вряд ли в этих мирах к ней проявили бы интерес как к женщине. Чего же я, в конце концов, боялся? Лишь одного: что за тридцать или сорок лет ей встретится мужчина более достойный, способный оценить ее и привязать к себе навеки. Навеки! Или на очень долгий срок, что для меня, скитальца и кочевника, равнялось вечности. Я был готов смириться с эпизодическими связями; с физиологией не поспоришь, и всякому нужна разрядка. Конечно, есть препараты, снимающие сексуальный жар, есть нейроклипы и программируемые сновидения; я сам прибегал к этим средствам, когда становилось невмоготу. Но лучший метод — традиционный. Пусть без особой любви, без нежности, без тепла, зато без химии и гипноза. Добрый старый способ… Если бы Шандра прибегла к нему, я даже не счел бы это изменой. Нет, другое пугало меня! Я страдал и терзался, мучимый смутными видениями, призраками, что грозили отнять мою Шандру, едва я покину ее. Вот он, мой недруг, мой соперник, ненавистный белокурый принц! Нежный и ласковый, умный и властный, пылкий и романтичный… Кладезь всех мужских достоинств… Квинтэссенция мужества… Мечта одиноких женщин… О, если б я мог отыскать Рай! Такое место, где Шандра была бы счастлива и где мужчины не слишком интересовались бы ею! Я не хочу сказать, что все они там святые или бесполые ангелы, но все же… В Раю не принято отнимать чужих жен. Мы совершили первый прыжок, затем второй и третий, оказавшись на дальних подступах к системе Пойтекса. Шандра, хоть и отягощенная своими думами, была, однако, ровной и спокойной, и я не слышал от нее упреков. Временами это тревожило меня; было бы легче, если б она закричала, заплакала или вступила со мною в спор. Но нет! Она ушла в себя, пытаясь разрешить проблему, которую я полагал неразрешимой. Мы были по-прежнему ласковы друг с другом, но кое-что в ее поведении изменилось — она не угрожала укусить меня, когда я впадал в дидактический тон. Огромная потеря! Ее шутливые угрозы воспринимались мной как знак доверия и любви, и вот их не стало… Надолго ли? Навсегда? Как-то раз она влетела в рубку с сияющим лицом. Я стоял у мониторов, беседуя с “Цирцеей”; мы разрабатывали касавшиеся Пойтекса прогнозы, подкрепленные обрывками радиопередач, которые уже улавливал наш приемник. Судя по всему, планета пребывала в мире; фракции конгресса бились лишь у микрофонов, без членовредительства и драк, число бастующих не достигало критической черты, союз неистовых матерей был в оппозиции, и за ним, а также за деклассированными и остальным подрывным элементом бдительно следила Служба Ленсме-нов. Она выполняет на Пойтексе множество функций, от полицейских до таможенных, и дня через три я рассчитывал связаться с ее терминалом и доложить о своем прибытии. Шандра бросилась ко мне, заслонив мелькающие на экранах строчки и колонки цифр. — Грэм! Я прочитала, что женщина может иметь детей с разными хромосомными наборами! То есть оба они — ее потомки и дети ее супруга, но в генетическом смысле они не являются родственниками. Это правда? Несколько удивленный ее горячностью, я кивнул. — Правда. Такие способы существуют. Их разработали там, где увлекаются генетикой, — например, на Тритоне и в Мире Аткинсона. Но это не простая штука! Есть ряд методик замещения хромосом в зиготе, после чего… Она прервала меня, нетерпеливо взмахнув рукой. — Но все-таки это возможно? Выносить двух детей, мальчика и девочку, которые не будут кровными родственниками? И смогут вступить в брачный союз? Тут я догадался, к чему она клонит. Это была бесперспективная мысль — не потому, что на “Цирцее” не имелось средств для тончайших хромосомных операций, но по другим причинам. В конце концов, оборудование можно купить или отправиться в тот же Мир Аткинсона, где умели делать подобные вещи, но все это — паллиатив, а не решение проблемы. Пусть нашим потомкам, воспитанным на корабле, не надо искать возлюбленных, пусть они могут вступить в брачный союз, как полагала Шандра, — и что же дальше? Дальше случится то, о чем я уже говорил, описывая ситуацию под вторым номером: мы придем к тому, с чего начали. Даже к более худшему! Ведь, кроме генетических аспектов, была еще и психология. Я обнял Шандру. — Милая, представь себе, что катастрофы на Мерфи не случилось, что твой отец и твоя мать живут в покое и согласии и что со временем у них родился сын. Твой брат. Предположим, его зиготу прооперировали, и в генетическом смысле он — не твой родственник. Но вы росли и воспитывались вместе, и ты абсолютно точно знаешь, что он явился на свет из чрева твоей матери и при участии твоего отца. Как ты будешь к нему относиться? Как к брату? Или как к партнеру по сексуальным играм? И если б даже вы этим занялись, не будет ли вас преследовать чувство вины? Чувство, что вы свершили что-то недозволенное? Что все случившееся надо держать в тайне? И эта гнусная тайна будет преследовать вас всю жизнь… всю вашу долгую-долгую жизнь… Она поняла. Она вдруг обмякла в моих объятиях, всхлипнула и залилась слезами. Контраст был шокирующий — до сих пор я не видел ее слез, вызванных не радостью, не восхищением, а горем. Это были ужасные, мучительные рыдания, стон обессилевшей души, и, прижимая ее к себе, я подумал, что так плачут не женщины, мужчины. Мужчины, которым слезы не приносят облегчения. — Грэм, я… я думала… я надеялась… я считала — так будет лучше… но это… это… в самом деле гнусно! Как ты можешь любить меня? Как? Я… я… Не слишком связный текст, но мысль была ясна. Опять, как на Мерфи, она очутилась меж молотом и наковальней. Молот — ее воображение, ее надежды, ее отточенный ум, ее упорство; наковальня — ее чувство ко мне, ее любовь; ведь я был для нее и возлюбленным, и отцом, и наставником, и спасителем. Молот и наковальня… А между ними — хрустальный замок ее мечты… Я поднял ее, отнес в спальню и дал успокоительного. Потом, когда она заснула, выбрал нейроклип с “Волшебной флейтой” Моцарта, вставил его в прорезь у изголовья и выдвинул эмиттер. Сон и музыка — лучшие из известных мне лекарств. Во всяком случае, с тех пор, как телесные недуги отступились от нас, оставив на растерзание демонам чувств и рассудка. Ближе к вечеру Шандра проснулась. — Грэм… Ты здесь? — Здесь, дорогая. — Что со мною было? — Ничего серьезного. Так, небольшое расстройство… Это пройдет. — Уже прошло. Я слышу… слышу музыку… Откуда? Она зевнула, ее глаза закрылись. Успокоительный препарат еще действовал, и флейты играли, верша свое волшебство. — Спи, — сказал я, — спи. Сон тебя исцелит, принцесса. Сон и музыка. Долгие, долгие часы провел я рядом с ней. Мы словно прощались под мелодию оркестра, неслышимую мне, под нежный посвист флейт, легато скрипок и грустные аккорды арф. Сомнения покинули меня. Я уже знал, что делать; я знал, что выберу для моей Шандры лучший из миров и оставлю ее там вместе с нашим сыном. С сыном, которого она так хотела… И будь что будет! Я вернусь за ней, и, если наша любовь сохранится, мы улетим — только мы, она и я, двое скитальцев в теплом уютном мирке “Цирцеи”. А если нет… Что ж, придется утешиться тем, что ей достался настоящий принц. Принц, достойный любви принцессы. Мы что-нибудь придумаем, говорила она… И я, отягощенный годами и опытом, почти поверил ей… Глупец, какой глупец! Поистине, такому место лишь в Раю.ГЛАВА 24
Мы приближались к Пойтексу, и я отправил рапорт, указав название корабля и перечислив список своих товаров. В ответ Служба выслала легкий патрульный крейсер; под этим почетным эскортом мы пристыковались к орбитальному терминалу, выполнили необходимые формальности, а затем пересели в челнок и направились “вниз”. Встретили нас без лишней помпы, но дружелюбно. Пойтекс хоть и не Рай, однако спокойная планетка, весьма подходящая для бизнеса. Люди тут очень похожи на землян медиевальной эры — вернее, на мои воспоминания о них, несколько приукрашенные и идеализированные. Они темноволосы и невысоки (здесь я считался бы крупным мужчиной), с карими, серыми и черными глазами, светлой кожей и квадратными лицами. Шандра смотрелась среди этой низкорослой публики как арабская кобылка в косяке шотландских пони. Очень красиво и элегантно, но, если продолжить аналогию, упряжь ее была для пони великовата. Я постарался объяснить ей этот нюанс как можно тактичнее, но она лишь усмехнулась. — Ах, дорогой, не стоит щадить моих чувств! Я понимаю, что мы не на Мерфи и не на Барсуме. Ну и что? Ты ведь помнишь, как мы договорились сделать: найдем вторую манекенщицу, темноволосую малышку, и приготовим платья поскромней. Что-нибудь в испанском стиле… строгий лиф в талию, подол до щиколоток и кружева на груди и запястьях… Я этим займусь! — Хорошо. Я свяжусь с прессой и сообщу, что нуждаемся в манекенщице, а ты погляди на девушек и выбери ту, что понравится, — предложил я. Мне не хотелось заниматься этим самому; хоть наш семейный кризис миновал, песчинка все-таки могла обрушить гору. А кто и что эта песчинка? Не из красоток ли, что явятся по объявлению? Нет, я не собирался рисковать. Пусть выбирает сама! Но за мной оставался совещательный голос. — Дорогих не бери, — посоветовал я. — Строптивые и дорогие, вроде Кассильды, нам ни к чему. Девушка помоложе, из тех, что еще не успели пробиться, будет в самый раз. Учить ей тебя не надо, но следует помнить, кто первый номер, а кто — второй. Словом, ты — хозяйка! — На помосте? — Шандра приподняла бровь. — И в моем сердце тоже, — галантно ответил я. Потом вызвал своих агентов и распорядился, чтоб объявления дали в крупнейших столичных газетах я по всем каналам головидения. Шандра выбрала скромную тихую девушку, очень юную, с нежной белой кожей и мечтательным взглядом серых глаз. Звали ее Этере, и, увидев ее впервые, я замер с раскрытым ртом. Кого-то она мне напоминала… какой-то призрак из моих видений… однако не страшный, не угрожающий, а приятный… Я представил их с Шандрой на помосте и довольно кивнул. Так и есть! Та, другая, девушка ростом пониже Шандры и посветлее кожей, темноволосая и грациозная, с большими серыми глазами — такими же, как у меня! Пенни… Пенелопа… Было ли это случайностью? Не знаю… Возможно, Шандрой руководил инстинкт, возможно, мои советы, возможно, жалость или симпатия к Этере. Судьба ее была нелегкой; она родилась среди деклассированных, у женщины, выигравшей право на ребенка в лотерею. Это был правительственный розыгрыш, и в нем участвовали все и совершенно бесплатно — весьма неглупый метод смягчения общественных конфликтов. Выигранную лицензию разрешалось продать, ценилась она недешево, и Покупатели летели как мухи на мед — согласно местным приметам, такая лицензия приносила удачу. Муж той женщины, матери Этере, жаждал денег, а она — ребенка; так что пути их разошлись, и родителем девочки стал безымянный эталон из банка спермы. Они с матерью перебивались на пособие, как и прочие деклассированные, но, согласно законам Пойтекса, Этере могла претендовать на бесплатное образование. Выбрав хореографию, она какое-то время была танцовщицей в благопристойных ночных клубах (кстати, других на Пойтексе не имеется), где ее и заметил Издатель журнала мод. С тех пор началась ее карьера манекенщицы. Она не входила в число местных “звезд”, но считалась девушкой перспективной, неглупой и без капризов, что большая редкость для ее профессии. Жила она с матерью. Очень трогательно, не так ли? Я спросил у Шандры, где она хочет дать представление — в нашем салоне или “внизу”, в каком-нибудь из столичных отелей либо демонстрационных залов. Не колеблясь, она ответила: — На “Цирцее”. “Внизу” мне не нравится. Слишком много лишних глаз, а из стен растут уши. Это делало честь ее наблюдательности. Люди на Пойтексе очень привержены порядку и, мне кажется, слегка помешались на этой почве. Нравы у них не пуританские, но строгие, я бы сказал, консервативные и чопорные; и за приличиями следят все те же ленсмены, некий отдел, организованный Службой, чей символ — широко раскрытый глаз. Его “глазастые” сотрудники имеют доступ всюду и могут приходить переодетыми либо при всех своих регалиях, в мундире, с записывающей аппаратурой и ней-рохлыстом. Так что о непринужденной обстановке не приходится мечтать. Что поделаешь! Такова плата за спокойствие и порядок. — Мы пригласим только избранных, — промолвила Шандра, — и попытаемся их расшевелить. Показать им что-то завлекательное… Что ты скажешь, Грэм, о шоу в малакандрийском духе, с финальным раздеванием? Я содрогнулся. — Скажу, что не мешает подумать об Этере и не губить ее-репутацию. Мы-то улетим, а девочка останется. И что с ней будет? Шандра кивнула. — Ты прав, как всегда, дорогой. Для нее наше шоу — прекрасный шанс, возможность прославиться и сделать карьеру. Еще бы! Выступить на помосте на звездном корабле, продемонстрировать инопланетные модели, показать себя избранной публике… Да еще с самим капитаном Френчем в роли ведущего… Нет, никаких раздеваний! Никаких откровенных нарядов! Все будет чинно и благопристойно, а публику мы подогреем не туалетами, а спиртным. Это ведь не запрещается? Они, кажется, пьют, дорогой? — Да. Рюмку сухого мартини за ужином. Шандра развеселилась, и я был чрезвычайно рад, что чувство юмора возвращается к ней. Она не вспоминала о наших беседах во время полета к Пойтек-су, не говорила о детях и даже, казалось, не строила планов на этот счет. Всю ее поглотила подготовка аукциона; она совещалась с Этере, выбирала модели и ткани, давала задания роботам в пошивочной мастерской, просматривала образцы и бесконечно меняла их, стараясь учесть местные нравы и в то же время представить что-то изящное, невиданное, необычное. Это было нелегкой проблемой; цензура на Пой-тексе строга, и зрители, повосхищавшись нашими трудами, могли ничего не купить. Я имею в виду ничего подходящего для серийного воспроизводства. Доверив Шандре эту деликатную операцию, я занялся другими делами. Я выгодно сбыл малаканд-рийский жемчуг и часть косметики с Соляриса, различные кремы, притирания и помады, не имевшие резкого запаха и без возбуждающих эффектов. В животных и растениях Пойтекс не нуждался, во-первых, в силу естественных причин (этот мир, во многом подобный Земле, обладал собственной флорой и фауной, разнообразной и богатой), а во-вторых, из-за драконовских законов, регулировавших импорт живых существ. Как выяснилось, столетием раньше здесь побывал Просперо с “Трибулета” с целым зверинцем на борту, но не сумел продать даже мухи. Это настораживало, и мне пришлось ознакомиться с местным законодательством на сей счет. Я понял, что завязну в бесконечных согласованиях и попытках доказать, что мои шабны, единороги, птерогек-коны и обезьянки не поражены каким-нибудь вредоносным вирусом и абсолютно безвредны. Такой вариант меня не устраивал, и я поставил крест на торговле животными. Конечно, я мог бы сунуть взятку санитарным врачам и выправить лицензию, но не рискнул пойти на это. С “глазастыми” ленсме-нами шутки плохи: если бы нас поймали, врачам грозило пожизненное заключение, а мне — гигантский штраф. Так что я не стал соблазнять местных эскулапов, а занялся сортировкой своих культурных ценностей — книг, видеолент, картин и тому подобного, включая самые безобидные нейроклипы. Мне показалось, что записи спортивных зрелищ с Барсума, а также дельфиньих гонок в Эмберли и ритуальных панджебских танцев никого здесь не шокируют; я велел “Цирцее” подобрать аналогичный материал и переслать его моим агентам. С художественными го-лофильмами ситуация была трудней, так как на Пой-тексе запрещено демонстрировать интимные сцены и обнаженную натуру. Наконец, я решил, что подойдет искусство Траная; идеология коммунистического гуманизма, царившая там, начисто отрицала секс, эротику и тому подобные вещи. Поколебавшись, я добавил в список свои мерфийские приобретения: “Гамреста” и ораторию “Поражение ереси”. Любопытно, как воспримут ее здесь? Обитатели Пойтекса были абсолютно нерелигиозны, но у них имелась скдонность ко всему величественному, монументальному, особенно в музыке и архитектуре. Их города, застроенные домами из серых гранитных блоков, с лепниной, фризами и квадратными колоннами, напоминали скопища мавзолеев; и для состоятельных граждан было позором жить в особняке, где меньше дюжины колонн. С учетом этих обстоятельств я решил, что “Поражение ереси” им понравится, и не ошибся: товар раскупали, словно горячие пирожки в воскресный день. Равным образом, как и ленты спортивных зрелищ, и транайские мелодрамы по двести серий каждая; в них порицался порок, клеймился разврат, и герои — чистые духом, как вымытый слон, — торжествовали в конце концов над всеми своими врагами. Одна из этих эпопей, о благородных транайских полицейских, была закуплена Службой Ленсменов; полагаю, в качестве учебного пособия. Остальные шедевры тоже не залежались, и, так как выручка была значительной, я решил, что могу закупить кое-какое оборудование для “Цирцеи”. Пой-текс — высокоразвитый мир; он славится своими роботами и астроинженерной техникой, вроде спутников связи, космических станций, силовых агрегатов и автоматических комплексов для разработки руд на астероидах. Станции и спутники мне были не нужны, а вот парк роботов нуждался в пополнении. Все-таки нас теперь было двое, я и Шандра, а значит, у “Цирцеи” прибавилось хлопот. Просмотрев каталоги, я остановился на фирме “Ю. С. Роботе энд Мекэникл Мен Корпорейшн”. Она являлась самым древним предприятием на Пойтексе, ветвью легендарной земной компании “Азимов, Келвин и К°”, с которой я был отлично знаком — ведь первых роботов “Цирцеи” (тогда еще — “Покорителя звезд”) собирали на ее заводах. Это было неплохой рекомендацией, и я, связавшись с местным отделением “Ю. С. Роботе”, заказал трех горничных-андроидов (блондинку, брюнетку и шатенку), камердинера для Шандры и автоповара, похожего на спрута с десятком щупалец. Еще меня интересовали многофункциональные космические монтажники, способные произвести очистку дюз, полировку корпуса и сварочные работы. Я взял двоих; они стоили гораздо дороже прислуги, но менеджер, почувствовав солидного клиента, сделал мне скидку. Затем он попытался всучить мне робота-телохранителя, какими пользовались ленсмены, но этот оружейный шкаф на четырех ногах был мне не нужен. Зато мы договорились, что “Ю. С. Роботе” поставит мне по спецзаказу дублирующие цепи для главного компьютера и партию имитационных манипуляторов. Я знал, что вся эта машинерия не добавит компьютеру ума, однако надежность, надежность!.. Впрочем, и счет, выставленный мне, был вполне приемлемым. Все мои приобретения были доставлены на борт’ за пару дней до намечавшегося шоу, так что мы с Шандрой могли их испробовать и оценить. Она заказала ужин из блюд барсумийской кухни, с белым вином, при свечах, на полупрозрачном и хрупком фарфоре, который я вывез из Шангри-Ла. Все было отлично; повар оказался на высоте, служанки-андрои-ды сервировали стол, не раздавив ни единого блюдца, а камердинер плавно скользил вокруг нас, подливая вино и наигрывая тихую мелодию. После третьего бокала Шандре взгрустнулось. — Такое пиршество, Грэм, было б приятней разделить с друзьями… Но где они, наши друзья? Видно, ей вспомнились Кассильда или Фант, или девушки из монастыря, ее компаньонки по заключению. О них она мне никогда не говорила. Не потому ли, что терзалась ощущением вины? Ей повезло, ее подругам — нет… Временами мне казалось, что я должен был выкупить их, выкупить всех и отвезти в какой-нибудь приличный мир, где нет ни монастырей, ни арконов. Но эта идея была химерической — ведь я не мог осчастливить всех женщин на Мерфи, всех мужчин и всех детей. В конце концов, любая страна, любая планета получает таких владык, каких заслуживает! Но вернемся к нашей беседе. — Нам трудно заводить друзей, — промолвил я. — Такова уж специфика профессии! Тебе мнится, что ты рассталась с Кассильдой двадцать два месяца назад, но для нее прошло семь десятилетий. А если мы полетим на Барсум, чтоб повидать ее, пройдет еще семь. Вспомнит ли она нас? Шандра моргнула, будто осознав с внезапной пугающей ясностью огромность разделяющих нас расстояний и времен. — Сто сорок лет… — прошептала она. — Больше, чем я прожила на свете… От Мерфи до Барсума двенадцать парсеков… потом — пять до Малаканд-ры, восемь — до Соляриса и еще восемь — от Соля-риса до Пойтекса… Выходит, когда мы покинули Со-лярис, Этере еще не родилась! Она могла бы быть — нашей дочерью, Грэм… — Как и Файт, — заметил я, — если считать от Мерфи. Мы, спейстрейдеры, и обитатели планет живем в разных временах, дорогая. К тому же для них темп времени неизменен, тогда как мы регулируем его по собственному желанию. Вот, например… Если б я захотел рискнуть, преодолев расстояние от Барсума до Пойтекса одним прыжком, прошло бы не двадцать два месяца, а два или три. Столько, сколько нужно на разгон и торможение. Ведь переход в поле Ремсдена практически мгновенен… — И если б ты оставил меня здесь, на Пойтексе, и улетел на Окраину или на Землю, твой месяц равнялся бы моим годам — трем или даже пяти, —, грустно подытожила Шандра. Это была отрезвляющая мысль, но на следующий день она проснулась переполненная энергией и в самом бодром настроении. Я выслал катер за Этере, и до’ самого вечера две мои прекрасные манекенщицы репетировали и перетряхивали свой гардероб. Мне выпало подготовить достойную выпивку и закуску. Немалый труд; но, к счастью, мой новый повар оказался просто чудом: никаких подсказок, кроме общих рекомендаций и, разумеется, сырья, ему не требовалось. Я велел приготовить солярисские блюда и не скупиться на пряности; они вызывали жажду, а чтоб ее утолить, имелся набор игристых вин с того же Соляриса и отличное бренди с Панджеба. К вечеру прибыли гости: директора солидных фирм со своими модельерами, пара дизайнеров, пять журналистов и один официальный представитель властей в штатском. Его визит был для нас полнейшей неожиданностью (“глазастых” мы не приглашали), но он держался так уверенно и властно, что у меня не хватило пороху выкинуть его за борт. Всего собралось восемнадцать человек, в основном мужская компания, но были среди них две женщины — мисс Зоэ Коривалл, художник-модельер, и мисс Барра Саринома, обозреватель “Всепланетного Ревю”. Дамы показались мне очень миленькими, но на физиономиях их было самое постное выражение — точь-в-точь, как у пятнадцати джентльменов. Не потому ли, что среди них присутствовал шестнадцатый — блюститель нравов и благопристойности? Я подозвал андроида, блондинку с роскошными формами, и тихо распорядился, чтоб над “глазастым” установили персональную опеку. Затем я объявил первый лот, и демонстрация началась. При каждой перемене платья гостей обносили закусками и спиртным: вина — в высоких фужерах, слегка охлажденные, бренди — в хрустальных креманках, с долькой лимона на блюдечке. По странному совпадению незваный блюститель нравов всегда получал коньяк и лимон, и через час его сморило: рот приоткрылся, а веки опустились, чтоб скомпенсировать отвисшую губу. Заметив, что “глазастый” дремлет, общество оживилось. Аплодисменты стали энергичней, мужчины с новым пылом налегли на выпивку, а две прелестные дамы встречали каждый туалет вскриками восторга. Надо отметить, что шоу, как мы и планировали, было построено на контрасте. Манекенщицы появлялись одновременно: Шандра — в длинном платье яркой расцветки, Этере — в коротком, блеклых и приглушенных тонов, великолепно гармонировавших с ее нежной кожей и невинным взглядом. “Длинное” и “короткое” не слишком различались, дабы не эпатировать покупателей; в одном случае подол плескался у щикотолок, а в другом — на две ладони выше. Последнее не нарушало местных понятий о нравственности, и все модели были раскуплены, едва я выкладывал их на прилавок. Тем временем острые закуски и обильные возлияния сделали свое дело. Гости раскраснелись, и лица их уже не казались постными, будто на похоронах; репортеры отложили свои камеры, кутюрье сбросили пиджаки, а директор “Эмейзинг Фэшн”, цветущий юноша с гривой темных волос, рискнул ослабить галстук. Мисс Саринома и мисс Коривалл перебрались в кресла поближе к помосту и обменивались друг с другом восхищенными репликами; глазки у них блестели, и мысленно, я полагаю, они примеряли каждый наряд, что проплывал перед ними волнующим видением. Дело шло к концу, и я, убедившись, что “глазастый” мирно дремлет в уголке, подмигнул Шандре. Они с Этере скрылись на минуту; затем под высоким сводом салона раздался грохот литавр, свет угас и вспыхнулснова с ослепительной яркостью, и мои девушки возникли словно из воздуха — на этот раз в действительно коротких платьях. Что означало на палец выше колен. Публика встретила их восторженным ревом, и я заметил, что темногривый директор “Эмейзинг Фэшн” стягивает пиджак. В следующее мгновение рев стал громче: мои манекенщицы изобразили скромное подобие канкана, отрывая ноги на метр от пола. Но здесь это было невиданным, восхитительным зрелищем! Мисс Саринома и мисс Коривалл не утерпели и, подобрав свои длинные юбки, выскочили на помост; за ними последовал директор (уже без пиджака) и три журналиста. Взявшись за руки, эта компания принялась выплясывать с таким энтузиазмом, что помост загудел, будто огромный барабан. "Глазастый” встрепенулся, но мои андроиды, блондинка с брюнеткой, уже тащили его на выход, в гостевую каюту восточного сектора. Там он и провел ночь, а для нас она прошла куда веселее. Славная получилась вечеринка! И надо бы мне на том и закончить с Пойтексом, собраться и улететь. Но дела — делами, а отдых — отдыхом; к тому же Этере сказала Шандре, что знает одно великолепное местечко, морской курорт Мельнон на побережье Центрального материка. Туда мы и отправились. Там был прелестный городок, весь в зелени, с уютными виллами и отелями — не из гранита, как в столице, а из ракушечника, декорированного розовым и желтым мрамором. Два живописных мыска — кипарисы, утесы и скатанные морем валуны — обнимали голубой залив, напоминавший тихоокеанскую лагуну; имелись также превосходный пляж, отличный ресторан, десяток баров и заведения, где выдавали напрокат гребные лодки, катера и яхты. Но главной местной достопримечательностью был прилив. Ежевечерне пологие длинные волны катились к берегу, и каждая из них взбиралась все выше и выше, ровняя песок на пляже или грохоча по камням, а в прозрачном фиолетовом небе висел туманный спутник Пойтекса, его естественный сателлит, раза в полтора побольше земной луны. Чарующее зрелище! Но не одно лишь зрелище; час прилива предназначался для занятий серфингом, и пенные гребни валов несли целую флотилию из ярко раскрашенных досок. Я не любитель этого вида спорта, но Шандре он нравился, и мы с ней катались, когда могли удержаться на ногах. Еще ходили под парусом и плавали с аквалангами, не забывая о водных лыжах, о катеpax и об экскурсиях по лавочкам Мельнона. Все это отчасти напоминало Солярис — если забыть, что к востоку от городской черты лежал огромный континент, простиравшийся тысяч на десять километров. И тут не водились дельфины, качавшие влюбленных в тихом и теплом море, под звездами… Впрочем, дельфинов нам вполне заменяла кровать, а теплое море и звездное небо были совсем рядом, за окнами нашей спальни. В один из вечеров, когда мы нежились в бассейне у отеля, смывая морскую соль, нас окружили ребятишки. Такие же, как в пещерном малакандрийском городе, лет девяти-десяти, только не смуглые от природы, а загорелые, с розовыми ладошками и без намека на курчавость в волосах. Вероятно, воспитатель сказал им, кто мы такие, и маленькие чертенята, плюхнувшись в бассейн, атаковали нас не хуже банды репортеров. Им все хотелось знать: была ли леди Шандра всегда такой высокой или это результат генетической коррекции?.. часто ли я женился, пока не встретил леди Шандру?.. а сколько было у нее мужей?.. зачем я покрасил волосы в белый цвет?.. правда ли, что на Земле водились мамонты, саблезубые тигры и люди с темной кожей?.. и правда ли, что люди там умирали?.. и что дрались друг с другом?.. а я тоже дрался?.. и чем рубил врагов, саблей или мечом?.. (Голос из заднего ряда: глупый! Тогда сражались на боевых топорах! Верно, сэр?) а леди Шандра тоже билась с последней из моих жен, чтобы завладеть мною?.. той даме, конечно, не повезло — ведь леди Шандра та-акая бо-ольшая… И так далее и тому подобное. Шандра болтала с ними, повествуя о Барсуме и Малакандре, об океанах Соляриса, об охоте на сфинксов, о шабнах и черных единорогах, о барсу-мийских деревьях, подпирающих облака, о комете, свалившейся на Мерфи, о шепчущих голосах, что слышны во время звездных прыжков, — словом, о королях и капусте. Я тоже рассказал пару легенд: о том, как я высадился на Пенелопе, добравшись в систему Альфы Центавра со Старой Земли, и о Брун-нершабне. Согласен, рассказ о Бруннершабне мрачноват, но детям полагается взрослеть, умнеть и не повторять ошибок прошлого. Особенно таких, когда в целом мире не остается ни взрослых, ни детей… Наконец воспитатель призвал эту банду к порядку и выручил нас. Мы вылезли из бассейна, переоделись, поужинали в ресторане и отправились к себе в номер. Шандра выглядела задумчивой, но не могу сказать, чтобы лицо ее было печальным или мрачным. И лишь когда она улеглась рядом со мной, я заметил на глазах у нее слезы. — Что случилось, милая? Конечно, вопрос был риторическим; я знал, что случилось. — Ничего, Грэм, ничего… Эти ребятишки… Она прижалась ко мне и заплакала. Я понял, что больше не в силах откладывать решение. Я был кругом виноват, даже с этой затеей с брачным контрактом: вроде бы возложил на нее ответственность, добавив к ней лишь доводы “contra” и ни единого “pro” [553]. Критиковать неизмеримо легче, чем сделать что-то конструктивное, и орудие критики, увесистый молот и наковальня, требует лишь силы, а не изощренности ума. Не чувства, не любви, не доброты, не готовности к самопожертвованию… Воистину этот молот — самое ужасное из всех орудий, и я использовал его с энтузиазмом неандертальца! Обняв Шандру, я прошептал: — Не плачь, милая. У тебя будет ребенок. — Но, Грэм… Ты же сказал… — Шшш… — Мой палец коснулся ее губ. — Я знаю, что я сказал. Но ведь наша любовь важнее, чем наш брак, не так ли? Без любви все наши клятвы и обещания — лишь мертвая запись в компьютерных файлах. Ты ведь не хочешь, чтоб так случилось? — Она отчаянно замотала головой. — И я не хочу. Значит… Я рассказал о своих планах, о мире, который я выберу для нее, где ей предстоит вырастить сына и ждать — ждать долгие-долгие годы, пока я не вернусь за ней. Я сказал, что этот мир будет прекрасен, что его обитатели будут похожи на нас и что она ни в чем не испытает недостатка — ни в друзьях, ни в средствах, ни в свободе. Да, и в свободе тоже… Она сама решит, как ей жить и с кем, кому подарить свое сердце или знак мимолетной благосклонности. А потом, когда я вернусь, она улетит со мной — если захочет… И, вспоминая о прошлом, мы будем думать только о нашем сыне, о детях его и внуках; все остальное, все наши слабости и грехи, все, что может случиться в разлуке, будет забыто. Именно так: забыто, а не прощено. Но если она решит покинуть меня, если тот мир для нее окажется новой родиной и если найдется человек… такой человек, который будет ей дорог… которому она нужна… Что ж, в этом случае я смирюсь и покорюсь ее решению, не стану ее неволить, напоминать о наших клятвах и апеллировать к чувству долга. Мы с ней расстанемся; я улечу и никогда не появлюсь в том мире, чтоб не тревожить ее и не смущать воспоминаниями. Мы постараемся забыть друг друга, и мы… В этом месте мой монолог был прерван: Шандра вдруг оттолкнула меня, с самым решительным видом вытерла нос и, скрестив ноги, уселась на постели. — Погоди-ка, Грэм… что-то я не пойму, о чем ты толкуешь… Ты боишься, что я тебя брошу? Но с какой стати? — Она сделала паузу, гневно сверкая глазами. — Ты хочешь найти подходящий мир для нашего сына, ты хочешь, чтоб этот мир сделался его родиной, чтоб он вырос там и возмужал и чтоб я жила с ним, пока ты не вернешься… Вполне разумно, если нет иного выхода. Но почему ты считаешь, что я тебя брошу? Что я подарю кому-то свое сердце или знак благосклонности? — Тут она очень похоже скопировала мою интонацию, продолжая сверлить меня яростным взглядом. — Ты думаешь, что мне необходим другой мужчина? Что я не сумею вытерпеть несколько лет? — Несколько лет? — мрачно откликнулся я. — Тридцать или сорок, а может, и все пятьдесят! Я не хочу, чтоб ты жила, словно в монастыре… ты в нем уже насиделась, дорогая. На губах Шандры вдруг промелькнула улыбка. — Значит, мне не привыкать! Я проведу эти годы в заботах о нашем сыне. И потом, мой новый монастырь будет такой приятный! Такой уютный! Ни сестры Камиллы, ни Серафимы с Эсмеральдой, ни их поучений, ни проклятых котлов… Чего ты боишься, Грэм? Я выдержу! Я обязательно выдержу! И я ведь буяу не одна, а с нашим сыном. — Первые двадцать лет, — заметил я. — Потом мальчик вырастет и перестанет нуждаться в твоей опеке. Знаешь, как это бывает, — девушки, студенческая компания, работа, женитьба… Он будет жить своей жизнью, вращаться в своих сферах, а ты — ты почувствуешь себя заброшенной и одинокой. Это чувство будет шириться, нарастать, терзать и через десятилетие достигнет апогея. Тут-то мне и надо появиться и увезти тебя! Если кто-то другой не опередит… Шандра призадумалась. Я знал, какие мысли мелькают у нее: она привыкла доверять моим суждениям, и теперь на одной чаше весов лежали мой опыт и дар предвидения, а на другой — ее понятия о верности, ее любовь ко мне, ее неукротимый темперамент. И тридцать или сорок лет разлуки… Внезапно лицо ее прояснилось. — Дорогой, ведь Барсум — очень подходящая для нас планета? Богатая, мирная и очень красивая… Ты мог бы оставить меня там и не тревожиться попусту. В глазах барсумийцев я настоящий урод… слишком тяжеловесная, не так ли? Никто не удостоит меня вниманием, и никому я там не нужна. — И наш сын тоже, — добавил я. — Он не найдет на Барсуме ни любви, ни достойного дела; он будет для всех чужаком, экзотикой, выродком — кем угодно, только не нормальным человеком. Разумеется, в понятиях барсумийцев… И он сообразит это много раньше, чем через тридцать лет, моя милая. Дети, знаешь ли, бывают жестоки… Шандра принялась навивать на палец свой рыже-золотистый локон — признак глубокой задумчивости, который подсказывал мне, что мысли ее кружат в каких-то неведомых сферах. В каких? На сей раз я не мог угадать. Вероятно, она искала выход, пыталась разрешить проблему, не имевшую ни решения, ни смысла. Чтоб овцы были целы и волки сыты… Так не бывает. Принцип “quaerite et invenietis” здесь неприменим. Я не прерывал молчания, я не мог ничего сказать. Все было ясно; Шандра любила меня и доверяла мне, и все же наш союз не вынес бы испытания разлукой. Ведь разлука разлуке рознь, и тридцать лет — не пять и не десять… Можно ли вынести одиночество? Ведь мир полон соблазнов — особенно тот мир, где ты не являешься уродом, где ты прекрасна и желанна, где ты — драгоценная добыча для всякого охотника… Ты не вернешься ко мне, дорогая, — сказал я себе. Ты не вернешься, и краткие годы, что я провел с тобой, будут прелюдией к долгим тоскливым столетиям, к бесконечным скитаниям и к одиночеству. К мыслям о том, что утрачено, что нельзя обрести еще раз — даже в Раю! Даже там, если Рай существует где-то в бесконечной и вечной Вселенной… Да и зачем он мне? Зачем, если ты не вернешься? Губы Шандры дрогнули. — Ты прав, дорогой, Барсум не подойдет. Обидно! Я так хотела бы встретиться с Кассильдой… Но мы выбираем мир не для меня, для нашего мальчика, а Барсум ему не годится. А что ты скажешь про Коринф? Люди там похожи на нас? — Коринф? — тупо повторил я. — Почему Коринф? Отсюда до него путь неблизкий. Я туда не добирался, но в записях “Цирцеи” есть кое-какая информация… та легенда, которую я рассказал… о белом цветке и женщинах-телепатках… — Ну, я-то не телепатка, — с важным видом заметила Шандра. — И если ты не скажешь, как выглядит Коринф и люди, живущие в нем, я тебя покусаю. Покусаю! Я встрепенулся. Это был благоприятный признак; впервые за месяц или два она собиралась исполнить свою шутливую угрозу. Что же ее вдохновило? Я не успел додумать эту мысль, как зубки Шандры впились мне в ухо. — Грэм! — Сейчас, дорогая! Ну, насколько мне помнится, тяготение там нормальное, а климат — умеренный. Люди похожи на нас, и женщины, и мужчины, но у последних нет дара предвидения, и потому в семейной сфере главенствует слабый пол. Не матриархат, я полагаю, но что-то вроде… Во всех же прочих отношениях Коринф весьма приятное местечко. Развивающийся мир с самими неплохими перспективами… Хочешь, справимся у “Цирцеи”? Шандра, внезапно развеселившись, уселась мне на грудь и стиснула ребра коленями. — Значит, слабый пол главенствует в семейной сфере? Не матриархат, но что-то вроде? Это мне нравится! Мир, где женщины сами выбирают мужчин, а те покоряются их выбору! Прекрасно! И очень мудро! Наверняка там не будет ни войн, ни катастроф, ни идиотских экспериментов… Такой мир подходит нашему мальчику! — А тебе? — промолвил я и тут же разинул рот. Я догадался! Наконец-то я догадался! Мой опыт, мой прагматизм, моя уверенность в том, что приемлемый выход не существует, — или все это, вместе взятое, — будто околдовали меня. Наверное, я слишком стар для неожиданных решений… А может быть, Шандра права — женщины мудрее нас, мужчин. Особенно в тот момент, когда их припирают к стенке. Шандра смеялась. Золотые волосы падали ей на грудь, змеились по плечам, глаза блестели, и мнилось, будто два искрящихся изумруда сверкают из-под ровных густых бровей. — Подойдет ли мне Коринф? Ах, дорогой, только Коринф и подойдет! Ведь там женщины-колдуньи выбирают себе мужей, а каждый мужчина знает, что когда-нибудь удостоится выбора и что он будет счастлив… Счастлив, потому что колдуньи не ошибаются! А я — я обычная женщина, не колдунья, не телепатка и не могу ею стать — цветок-то уже исчез! Ну и кому я там нужна? Лишь тебе и нашему сыну! Но рано или поздно кто-нибудь выберет мальчика, и тогда останешься только ты… Только ты, Грэм!ГЛАВА 25
Никто не знает в точности, где находится Окраина, но каждому ведомо, как туда попасть. Разверните корабль кормой к любому из Старых Миров и трогайтесь в путь. Спустя какое-то время вы обнаружите, что расстояния меж обитаемыми системами увеличились, а ваш товарооборот упал. Изысканную одежду еще приобретают и парфюмерию тоже, но ничего такого не продают — потому как продавать нечего; есть рынок сбыта, но отсутствуют достойные предложения. Затем модельный бизнес полностью сходит на нет, но книги, фильмы и записи еще покупают, хотя и не в таких количествах, чтоб это сулило прибыль. Вскоре и с этим делом приходится распрощаться; теперь вы можете торговать животными и семенами либо грузить в свои трюмы киберов, горнопроходческое оборудование, слидеры, аэрокары и трактора. Все! Вы на Окраине! В какой-нибудь Богом забытой дыре, где ходят в штанах из дубленой кожи, где не читают книг, где нет городов, а только сплошные красоты природы. Но это крайний случай, это фронтир, где колонисты высадились десять, двадцать либо тридцать лет назад. Что касается Коринфа, его история насчитывала пять или шесть веков, и был он расположен не на дальней границе, а в области между Окраиной и теми мирами, где люди давно распрощались с одеждой из шкур и первобытной дикостью. Сушу Коринфа, три основательных материка, полностью заселили во втором столетии, и теперь там, надо думать, имелись сотни городов, мосты, дороги и поля, Промышленные зоны и головидение — словом, цивилизация. Конечно, в подробностях я о ней многого не знал и мог лишь строить гипотезы да прогнозы. Откуда же взяться точным данным? Уж очень был он далек, этот сказочный Коринф… Но мы не торопились; решение было принято, и время как таковое не изменяло ничего. Дни, месяцы и годы могли нестись стремительно или ползти как черепаха, могли скакать, бежать, лететь или тянуться с неспешной монотонностью, могли застыть совсем или мчаться губительной кометой. Их бег или неторопливая поступь как бы не затрагивали нас; мы жили ожиданием разлуки. Мимо проплывали звезды, светила, хороводы безлюдных планет, обитаемые миры… Кокаин, Карно, Тригисмус, Нил-Карборунд, Конская Грива, Радев-ски… Причудливые названия, странные имена… Кто-то связывал с ними надежду, кто-то дал волю фантазии, кто-то лелеял горделивые мечты, а для кого-то они были памятью — о близком человеке, о друге или возлюбленной. Я знал, что отныне они станут Памятью и для меня. Вечной памятью! Назовите мне любой из миров, мимо которых я пролетал — в любое время суток, днем или ночью, — и я скажу вам, была ли тогда со мною Шандра. Конечно, не так уж много времени прошло с тех пор, как мы расстались… Но даже через десять тысяч лет все эти звезды и миры не потеряют свой неповторимый блеск, свое очарование; память о них подобна нитям, связавшим меня и Шандру. Мы приземлились только в одной из этих звездных гаваней, в Кадате, где много-много лет назад я распрощался с Дафни. Так пожелала Шандра; не знаю уж отчего, но к Дафни она прониклась особой симпатией. Не потому ли, что Дафни была так беззащитна и доверчива? А сильным натурам, как я замечал не раз, свойственна тяга к покровительству. Кадат… Самый мрачный из эпизодов нашего последнего путешествия… Мир, испытавший весь ужас катастрофической войны… Все началось довольно невинно — с биокибернетических экспериментов и опытов по клонированию, причем клонированные существа, с обычной человеческой физиологией, снабжались “контуром послушания” — неким электронным блоком, гарантировавшим их верность и лояльность. Кому, вы спросите? Разумеется, хозяевам, тем, кому надоели роботы и кто желал обзавестись иными слугами — такими, что были б подобны людям, могли испытывать боль и страх, чувство привязанности и благодарность. Власть над этими созданиями, возможность покарать их за мнимые провинности или осчастливить словно возвысила людей; они ощутили себя породой богоравных, если не самими богами. Власть сладка… А власть, подкрепленная знанием и финансами, всемогуща. И генетические лаборатории приступили к делу, плодя рабов — созданий, слишком похожих на человека, чтобы можно было счесть их андроидами. Затем “контур послушания” отказал — с подозрительной и пугающей одновременностью — и на планете разразилась война. Будь у нее иной конец, нам, людям, пришлось бы столкнуться с нелегкой этической проблемой: как относиться к расе разумных существ, которых мы сами же сотворили, наделив всеми человеческими достоинствами и пороками. При том, что наше творение не имеет ни поводов, ни причин возлюбить нас или испытывать признательность! Это был бы тот еще казус… Но, так или иначе, война его перечеркнула; сражения шли с невероятной жестокостью, пленных не брали, бомб не жалели, и в результате победа досталась кадатцам. Правда, три четверти их населения погибло или пропало без вести, а выжившие находились в шоке — и будут пребывать в нем, по самому благоприятному прогнозу, еще лет пятьдесят. Торговать тут было нечем и не с кем. Я забрал видеоленты с записью всех грандиозных битв и потрясающих зверств, с картинами тотального уничтожения, с реками крови и океанами огня. Ленты мне выдали даром — под обещание, что я сообщу о случившемся во всех обитаемых мирах, дабы предостеречь их от ошибок. Я не возражал. Я лишь подумал о том, что люди не склонны учиться на ошибках ближних. Возможно, та раса, которую создали в уничтожили кадатцы, была бы более благоразумной?.. Я навел справки о Дафни, но она среди выживших не числилась. Однако мой розыск был поневоле ограничен: все местные архивы находились в самом плачевном состоянии, компьютеры разбиты, файлы разорены, связь и транспорт практически не действуют, на месте городов — руины, а люди ютятся в хижинах среди сохранившихся чудом полей… Кадат погрузился во тьму, и мрачная ночь смутных времен поглотила Дафни. Жаль! Безумно жаль! Ведь она была такой молодой и прекрасной… Я не стал задерживаться на Кадате — то, что там случилось, очень напоминало период мерфийского хаоса, а всякие ассоциации на этот счет были для Шандры истинной пыткой. Набрав скорость, мы вошли в поле Ремсдена, прыгнули, рассчитали новый отрезок маршрута и прыгнули вновь; затем переходы слились в моей памяти в один гигантский скачок, туманный и размытый, как утренная мгла над озерными водами. Мир колебался и дрожал, надежные стены “Цирцеи” таяли, холод безмерных пространств леденил душу, Вселенная кружилась хороводом мутной вязкой пелены, а голоса шептали, шептали… О чем? Кажется, на этот раз я понимал их невнятный лепет, напоминавший, что путь наш близится к концу и что разлука неизбежна. Мы вынырнули там, где я и рассчитывал, на дальних подступах к Коринфу, за поясом внешних планет, чудовищных конгломератов застывшего таза и льда. Мы миновали их; мы двигались прямо на юг, к жаркому солнцу, к теплу и свету. Нефритовый диск Коринфа рос перед нами, будто напоминая и поторапливая — Шандра уже носила мое дитя, и первый месяц беременности, по нашим расчетам, должен был закончиться как раз к моменту высадки. Занявшись прослушиванием радиопередач и визуальными наблюдениями, я убедился, что мы не ошиблись с Коринфом. Планета преуспевала: два колонистских корабля, висевших над экватором, были почти демонтированы, а третий преобразован в орбитальный терминал; мощность передатчиков была вполне приличной, что говорило о прогрессе в системах связи; озера и реки хранили естественный цвет — значит, их не загадили промышленными отходами; на суше я разглядел несколько сотен мелких и крупных поселений и прихотливую вязь соединявших их дорог. Этих признаков цивилизации могло бы насчитываться и побольше, но, вероятно, Коринф не торопился в технологическую эру, предпочитая сберечь свои леса, свой воздух, воды и богатства недр. Я отнес это за счет облагораживающего женского влияния и окончательно успокоился, нигде не отыскав зарослей белых орхидей. Вот их-то мужчины повывели вконец! И это было хорошо. Это означало, что Шандра будет тут в полной безопасности. Я связался с терминалом, сообщив о своем визите, и лег на орбиту, проходившую над полюсами. Я рассчитал ее так, чтоб не встречаться с останками двух кораблей; их вид напоминал мне, что может случиться с “Цирцеей”, а это, поверьте, не слишком приятное зрелище для спейстрейдера. Труп корабля, как труп человека, внушает мне самые мрачные мысли тем более в нынешней ситуации и после того, что мы лицезрели на Кадате. Конечно, Коринф был не похож на Кадат — прекрасный девственный мир в синеве океанов и зелени рощ, планета, бурлившая жизнью, сказочный замок семейного счастья… Но что меня здесь ожидало? Ничего приятного. Год пролетит, а после — разлука, воспоминания, тоска… Чтобы отвлечься от этих мыслей, я стал размышлять насчет колонистских кораблей, двух обглоданных трупов, болтавшихся над экватором. Может,; удастся их сторговать у коринфян? Отличный биз-,i нес для нашего парня, если он заинтересуется кос-а мической техникой… Из этих обглодышей я бы смон-тировал нечто полезное — скажем, энергоцентраль 2 на солнечных батареях или завод для производства сверхчистых веществ в условиях невесомости… Решив, что вернусь к этому плану попозже, я перебрался в катер — разумеется, вместе с Шандрой, — спустился “вниз” и занялся другими исследованиями. Главным из них являлась оценка политической ситуации на Коринфе. С точки зрения природных условий, планета подходила по всем статьям: тяго-,тение 1,02 “же”, солнце земного типа, климат умеренный, соотношение суши и поверхности вод — один к трем. Не кроме данных обстоятельств, были и другие, связанные с человеческим фактором, и тут предвиделось множество вопросов. В настоящий момент Коринф являлся демократической страной со всеми положенными институтами — Законодательным Собранием, Кабинетом Министров и президентом, с дюжиной партий и конституцией, закреплявшей священное право частной собственности. Но что тут будет через двести лет? Или через пятьсот? Гуманный коммунизм в его транайском варианте? Империя богоцаря, подобного Клераку? Либо катастрофа — такая же, как на Бруннершабне, Ямахе и Эльдорадо? Я не хотел рисковать. Я помнил, что сказала Шандра: — Ты планируешь дела со всеми подробностями, а потом переживаешь и маешься, пока они не завершатся. И если все идет как надо, — ты бываешь таким гордым! Итак, я маялся и переживал, переживал и маялся. Я не мог обмануть ее доверия. Ведь речь шла о ней и о нашем сыне! Но все сложилось благополучно. Коринф в силу особого статуса женщин пребывал в полнейшем равновесии, каким не могли похвастать и более развитые миры. Этот “особый статус”, как и провидческий дар его обладательниц, нигде не афишировался прямо, но и не скрывался; это был общепризнанный факт, столь же естественный, как солнечные восходы и закаты. Естественно, что женщины выбирают мужчин; естественно, что выбор их безошибочен; естественно, что всякий избранник счастлив; естественно, что всякий совет супруги воспринимается как указание к действию… Прожив на Коринфе несколько месяцев, я осознал всю прочность такого нехитрого механизма. Его нельзя считать матриархатом или правлением властолюбивых амазонок; женщины, собственно, не правили и не лишали мужчин власти, они только советовали. Всего лишь! Но, стены Коринфа держались на этих советах. Стены эти были высокими и без ворот для чужаков. Почти без ворот; мужчин-эмигрантов еще принимали, но в самом ограниченном количестве, а женщин — нет. Этот закон соблюдался уже четыре столетия, с тех пор, как исчезли орхидеи, а с ними — возможность приобрести провидческий дар. Коринф! не нуждался в женщинах-калеках. С другой стороны, полный гражданский статус был Шандре не нужен. А посему я заключил с властями договор, предоставлявший ей право убежища на пятьдесят лет; по истечении этого срока ей полагалось покинуть Коринф, но сын наш мог остаться — ведь он считался бы местным уроженцем мужского пола, и никакие ограничения на него не распространялись. Должен сказать, что я попотел с этим контрактом, хоть его составляли лучшие юридические умы, имевшие вес в Законодательном Собрании. Но в какой-то момент мне намекнули, как сдвинуть дело с мертвой точки: продемонстрировать, что сын мой будет человеком состоятельным, а значит, достойнейшим из граждан. Я тут же откупил полуразобранные корабли (ту пару трупов, что болталась над экватором) и направил к ним своих монтажников. Само собой, за несколько месяцев они не успели построить завод или энергетический комплекс, но это задача будущего; ее пусть решает мой мальчик — с теми средствами, что хранятся в Промышленном банке Коринфа. Главное, я доказал, что он не останется бедняком; и я надеюсь, что он приумножит свое состояние, достигнув зрелости. Зрелость — это возраст, когда мужчина вступает в брак и начинает выслушивать женские советы, а женщины Коринфа не обижены умом. Я полагаю, что самая умная из них станет со временем миссис Джонатан Френч. Джонатан — так мы его назвали. Он появился на свет в положенное время, крикливый розовощекий паренек с зелеными глазами, довольно крупный и смугловатый. Вылитая Шандра! Вначале мне казалось, что в нем нет ничего от меня, но я ошибся. Этот малыш был хитер, как лис, и проявлял здоровый прагматизм: вопил, если голоден, спал, если ему хотелось спать, и мочил пеленки с удивительной регулярностью. Прагматизм — мое наследие, самое ценное, что я оставляю ему, вместе со всеми страхами, коим подвержен расчетливый и логичный человек. Но ведь бесплатных пирожных не бывает, не так ли? Я старался не расставаться с Шандрой до рождения ребенка, но последние месяцы на Коринфе мне пришлось посвятить делам. Я продал кое-какие технические спецификации, животных, голофильмы и нейроклипы; скромный бизнес, но средств хватило, чтоб приобрести усадьбу в окрестностях столицы и городской особняк. Он предназначался не для жилья; там разместится лучший на Коринфе центр мод, салон леди Киллашандры, непревзойденной манекенщицы, супруги капитана Френча. Я должен был заняться им — установить компьютеры, перегрузить информацию из файлов “Цирцеи”, нанять персонал, обеспечить запасом тканей, перевезти роботов… Еще я депонировал на имя Шандры средства в драгоценных металлах, разместив их по самым надежным банкам; ведь разумный человек не складывает все яйца в одну корзину. Моя принцесса следила за этими хлопотами — разумеется, когда Джонатан не требовал ее забот. — Грэм, ты покидаешь меня на тридцать или сорок лет, а кажется, что на тысячелетие. Меня это пугает, дорогой. Салон, поместье, и эти вклады в банках, и орбитальная станция, и еще… Что ты еще затеял? Не слишком ли много? Зачем? — Чтоб ты не заскучала. Когда ребенок подрастет, ты не останешься без дел, а бизнес — лучшее средство от тоски. Это один резон, милая, но есть и другие. Я — старый… Она рассмеялась, махнула на меня рукой. — Знаю, знаю! Ты — старый мужчина со Старой Земли, и ты предусмотрительный человек. Но не слишком ли? Ведь ты вернешься, и мы покинем Коринф… улетим вдвоем… — Мы так надеемся, — пробормотал я. — Но я могу кануть в вечность в любой из галактических дыр, и тебе придется похлопотать о бессрочном контракте с коринфянами. Все будет проще, если ты станешь богатой и влиятельной персоной… все будет проще, дорогая, поверь мне. Головка Шандры качнулась. — Нет, Грэм, в это я верить не хочу и не стану! Ты вернешься за мной, ты заберешь меня, и мы улетим с Коринфа… — Она протянула руку и стиснула мои пальцы — на одном из них сверкал золотой ободок. — И ты сохранишь это кольцо! — Сохраню, — отозвался я. — Кольца принцесс не теряют. Я улетел. Великий Торговец со Звезд, славный Друг Границы, Старый Кэп Френчи покинул Коринф… Но за день до расставания с Шандрой с “Цирцеи” был спущен драгоценный груз — пятьсот килограммов платины и золота. Я доставил его в Первый Промышленный банк Коринфа, в кабинет управляющего, где было заготовлено все необходимое. Металл взвесили, оценили и отправили в хранилище; затем я ввел своею собственной рукой вечную запись в компьютер — для надежности, под паролем. Этот шифр был известен двоим, мне и хозяину кабинета. — Итак, — произнес управляющий, — если дела вашей леди будут идти хорошо, я сохраняю тайну вклада. Я или мой преемник правомочны наращивать капитал, распоряжаться им по собственному усмотрению, но без ущерба для вкладчика… то есть для вас, сэр. Если же у леди Киллашандры возникнут трудности… у нее или у вашего сына… в таком случае я должен поддерживать их вплоть до вашего возвращения. Эффективно поддерживать — так, чтобы они ни в чем не нуждались, не зависели от государственных субсидий или пожертвований частных лиц. Это все, сэр? — Почти, — вымолвил я. — Есть последний пункт, из тех, что не пишут в контрактах. Но он, как водится, дороже всех остальных. Управляющий приподнял брови. — Надеюсь, сэр, вы не будете склонять меня к чему-то противозаконному? — Ни в коем случае. — О чем же речь? — О доверии. О доверии и возможности обмана. Он многозначительно покивал головой. — Конечно, доверие… доверие… Самый тонкий вопрос и очень щекотливый… Но мы — деловые люди, сэр, и понимаем, что стопроцентных гарантий не существует. — Не существует, — согласился я. — Скажите, вам знакома история Регоса? Капитана Регоса с “Прекрасной Алисы”? Брови снова приподнялись — на этот раз в недоумении. — Да, разумеется, сэр… Весьма трагический эпизод… весьма печальный и поучительный… Так что же? Вы собираетесь кому-то мстить? Так, как мстил Регос? — Это не в моих привычках. Но, если, вернувшись, я узнаю, что моя леди обманута, я сделаю с вами то же, что Регос сделал с Клераком. Он не обиделся, и это был хороший признак. Он протянул мне руку и сказал: — Принято, сэр. Я не хочу, чтобы моя жена стала вдовой. Это все гарантии, какие я могу вам дать. И я ему поверил. Все-таки есть на Коринфе своя специфика…ЭПИЛОГ
Я вернусь. Я обязательно вернусь! "Цирцея” — надежный корабль; пока я с ней, под ее покровительством и защитой, мне ничего не грозит. Мы путешествуем вместе не первое тысячелетие, и было бы странно, если бы что-то случилось сейчас, когда я, Грэм Френч, принадлежу не только себе, но и Киллашандре. Она ждет… Ждет и растит нашего сына… Надеюсь, он доставляет ей много радости. Надеюсь, что ее любовь ко мне стала еще сильней. Ведь это мой сын! И хочется думать, что Джонатан напоминает ей меня… Я вспоминаю девиз спейстрейдеров, о котором говорил когда-то Шандре: ВСЕ ПРОХОДИТ. Несомненно, так! Все проходит, и горе, и радость, и воспоминания; все проходит, оставляя за собой пустоту… Пусто! Как пусто без нее! Пусто в спальне и в салоне, в спортивном зале и в кают-компании, в коридорах и в оранжереях… Пусто на севере и юге, на западе и востоке, и на всех мирах, которые я посетил без нее… Пусто! И слишком широка кровать, на которой я сплю в одиночестве. И поэтому я стараюсь проводить время на мостике, взирая на экраны и высматривая среди причудливых созвездий далекое солнце далекого Коринфа. Далекого не в пространстве — во времени; я считаю день за днем, перебираю их, как серую морскую гальку, в надежде отыскать алмаз, сверкающий камешек, которым отмечу день возвращения. Иногда, любуясь на звезды, я думаю о Рае. Где же он, мой ненайденный Парадиз? Вот светило Коринфа, вот солнце Старой Земли, вот Абидон, Уленшпигель, Тапиона, Баратария, Алойзис, Ченга… Как много звезд, туманностей, галактик — миллиарды миров сияют передо мной немеркнущим вечным светом! Но Рая нет среди них; Рай — не какое-то место, не планета, не космический город, не постоянная точка в пространстве. Теперь я это понимаю. Рай и преисподняя — в каждом человеке; мы носим их с собой, в собственном сердце, в душе, в каком-нибудь потаенном углу или щелке, не ведая, не замечая или не желая замечать, что они — с нами. Всегда с нами! Но вот приходит великое горе или великое счастье, и мы — в аду или в Раю… Где же ты, мой Рай?.. Где мое счастье?.. Я знаю, знаю… Я уверен: Рай был там, где была она.1. УПОМИНАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАЗВАНИЯ И ИМЕНА
ГЛАВА 1 Мерфи — планета, упоминаемая в романе Джеймса Блиша “Вернись домой, землянина (тетралогия “Города в полете”). Пернские птерогекконы — летающие ящерки, похожие на крохотных драконов и способные к телепатическому общению; описаны в романах Энн Маккефри (цикл “Всадники Перна”). Перн — планета из вышеуказанных романов Энн Маккефри. На ней обитают переселенцы с Земли и огромные драконы, выведенные из ящерок-телепатов. Драконы живут в тесном симбиозе со своими всадниками и сражаются с жуткими тварями, которых время от времени заносит на Перн из космического пространства.ГЛАВА 2 Барсум — название Марса на языке его абориге— нов, описанных в знаменитом Марсианском Цикле Берроуза. Кристаллошелк — упоминается в романах Бертрама Чандлера. Биоскульптура — придумана Полом Андерсоном. …какая-то темная индонезийская компания по экспорту пряностей и напитков… — компания ван Рийна, космического торговца и одного из главных персонажей “Полисотехнической Лиги” Пола Андерсона.
ГЛАВА 3 Эдем-название планеты взято из одноименного романа Станислава Лема. Трантор — столичный мир Галактической Империи, описанный в сериале Айзека Азимова “Основание”. Т р а н а и — мир, придуманный Робертом Шекли. Киллашандра — великая певица, о которой Энн Маккефри написала несколько романов. … насколько мне известно, Киллашандра… — певица со Старой Земли, чья жизнь была описана некой Аннет Макклоски — Энн Маккефри, чье имя подверглось искажению за двадцать тысячелетий. … отец, Лазарус Лонг… — персонаж романа Роберта Хайнлайна “Достаточно времени для любви, или Жизни Лазаруса Лонга”.
ГЛАВА 4 Без примечаний.
ГЛАВА 5 Шард с “Шаловливой красотки” — главарь космических пиратов, персонаж книг Лорда Дансени.
ГЛАВА 6 … я нашла другие сказки… — Шаурля Перра, Асты Линрен и Боба Гарварда — речь идет о Шарле Перро, Астрид Линдгрен и Роберте Говарде, родоначальнике “Конанианы”; их имена подверглись искажению за прошедшее время. Бонди с двумя нулями — Джеймс Бонд, агент 007. Бластер “Филип Фармер — три звезды” — назван в честь Филипа Фармера, автора “Саги о Мире Реки” и других замечательных историй.
ГЛАВА 7 … на сороковом этаже отеля “Сим-мо,нс-Гиперион”… — отель, разумеется, названа честь Дэна Симмонса и его знаменитого романа “Гипе-рион”. Массаракш — это ругательство изобретено Аркадием и Борисом Стругацкими (роман “Обитаемый остров”). Зоданга — название марсианского города, упоминавшегося в “Принцессе Марса” (Берроуз, Марсианский Цикл). Джонс с “А с г а р д а” — Макс Джонс, герой романа Хайнлайна “Астронавт Джонс”.
ГЛАВА 8 Без примечаний.
ГЛАВА 9 Без примечаний.
ГЛАВА 10 Без примечаний.
ГЛАВА 11 Богоимператор и самодержец-Клерак Белуг — это имя принадлежит предводителю каннибалов, упомянутому в одной из новелл Пола Андер-сона.
ГЛАВА 12 Виола Сидера — мир, придуманный Кордвай-нером Смитом; Планета воров. Дэвиде с “Четырех грачей" — персонаж одной из новелл Роджера Желязны. Эдвард Смит с “Жаворонка пространства” — его прототипом стал Э. Э. “Док” Смит, написавший роман “Жаворонок пространства”, а также знаменитый цикл о Ленсменах в шести книгах.
ГЛАВА 13 Без примечаний.
ГЛАВА 14 … любому из знатных нобилей сопутствует в жизни огромная белая птица, потомок мутировавших попугаев какаду, способная к эмпатии… — вся последующая история взята из романов Энн Маккефри о всадниках Перна, только всадники и драконы заменены благородными амазонцами и попугаями. Солярис — название планеты взято из одноименного романа Станислава Лема.
ГЛАВА 15 Без примечаний.
ГЛАВА 16 Без примечаний.
ГЛАВА 17 Жил в медиевальную эпоху одинвы-думщик и фантазер… — речь идет о Станиславе Леме, писателе и философе. Солярис был колонизированпересе-ленцами с Авроры… — Аврора — одна из планет (Внешних Миров), упоминаемых в сериале Айзека Азимова “Основание”.
ГЛАВА 18 … время, демоны Максвелла и Закон Больших Чисел воистину творят чудеса… — имеются в виду умозрительные демоны Максвелла, способные управлять движением молекул.
ГЛАВА 19 Без примечаний.
ГЛАВА 20 Крис Кордей с “Чиквериты”, который сейчас летает на “Космической гончей”… — название второго корабля Кордея фигурирует в романе Альфреда Ван Вогта “Путешествие “Космической гончей”.
ГЛАВА 21 … питался в соседнем баре “Магелланов ы Облака”… — названном в честь одноименного романа Станислава Лема.
ГЛАВА 22 Без примечаний.
ГЛАВА 23 … за подрывным элементом бдительно следила СлужбаЛенсменов… — эти Ленсме-ны — аналог галактической полиции, описанной “Доком” Смитом в “Саге о Ленсменах”.
ГЛАВА 24 Просмотрев каталоги, я остановился на фирме “Ю. С. Роботе энд Мекэникл Мен Корпорейшн”. Она являлась самым древним предприятием на Пойтексе, ветвью легендарной земной компании “Азимов, Келвин и К0”… — эти реалии взяты из рассказов Айзека Азимова о роботах. В частности, Сьюзен Келвин служила главным робопсихологом в компании “Ю. С. Роботе”. … среди них две женщины — мисс Зоэ Коривалл, художник-модельер, и мисс Барра Саринома — эти две дамы — персонажи романов о Ричарде Блейде, написанных Джеффри Лордом и его последователями. … директор “Эмейзинг Ф э ш н” — иначе говоря, “Amazing Fashion”, или “Удивительная Мода”. Название этой компании происходит от известного журнала фантастики “Amazing Stories”. … морской курорт Мельнон — это название относится к роману “Башни Мельнона”, повествующему о приключениях Ричарда Блейда.
ГЛАВА 25 Без примечаний.
ГЛАВА 26 Без примечаний.
2. ОБИТАЕМЫЕ МИРЫ ГАЛАКТИКИ
Земля, или Старая Земля, как ее чаще называют, — мир, откуда двадцать тысячелетий назад началась космическая экспансия человечества. Окраина, или Граница, — область пространства, где находятся миры, заселенные в последнюю тысячу или две лет. Космические города — искусственные поселения в космическом пространстве, в которых обитает одна из ветвей человеческой расы — сакабоны.Пять Миров Пять Миров — пять планет в ближайших к Земле звездных системах, заселенных в период первой волны эмиграции. Исс — мир в пяти с половиной световых годах от Логреса. Камелот — мир, который капитан Френч посетил во время своего второго путешествия. Отсюда происходила Ильза, одна из его жен. Лайонес — мир, который капитан Френч посетил во время своего второго путешествия. Логрес — высокоразвитый мир, который капитан Френч посетил первым во время своего второго путешествия. Пенелопа — мир у Альфы Центавра, открытый капитаном Френчем и названный им в честь своей дочери Пенелопы. Самая первая из земных колоний. Здесь родилась Жанна Дюморье — первая из “космических жен” капитана Френча.
Старые Миры Старые Миры — планеты, заселенные в первое тысячелетие космической экспансии. Аврора — водный мир; его обитатели колонизировали Солярис. Арморика — один из Старых Миров; здесь капитан Френч некогда купил остатки корпуса колонистского корабля, переоборудовав их в салон “Цирцеи”. Арморика также является родиной капитана Криса Кордея. Б а р с у м — планета с низким тяготением (0,6 земного), населенная очень высокими тонкокостными людьми. Виола Сидера-Старый Мир, с которого происходила Тея, одна из жен капитана Френча. Горизонт — высокоразвитая индустриальная планета. Малакандра — здесь в результате генетического скрещивания верблюдов и лошадей вывели шабнов. Новая Македония — высокоразвитый мир, откуда изгнали Детей Света, религиозных сектантов. Панджеб — мир, откуда капитан Френч попал на Мерфи. П е р н — планета, на которой обитают птерогекконы — летающие ящерки, похожие на крохотных дра-кончиков. Роза Долороса-довольно веселая планета; одним из ее важнейших Общественных институтов является Орден Плотских Наслаждений. Славится Предметами роскоши (в частности, тканями и кружевами). Сан-Брендан — отличается скудостью и высоким тяготением, на десять процентов выше стандартного земного. Его обитатели колонизировали Бруннер-шабн, когда тот обезлюдел после ядерной войны, и переименовали его в Преобразование. Секунда — мир, который славится своими экзотическими одеждами. Транаи — высокоразвитый в технологическом отношении мир, где царит гуманный коммунизм; здесь изобрели ментальный аннигилятор. Трантор — весьма высокоразвитый мир; вего окрестностях капитан Смит разыскивал свою сбежавшую жену Ивонну. Две супруги капитана Френча, Нина и Джессика, были транторианками. Шангри-Ла — планета, на которой произошло разрушительное восстание деклассированных; также славится своими изделиями из фарфора. Эдем — прекраснейшая планета в созвездии Кас-сиопеи, открытая капитаном Френчем; отсюда происходят огромные яркие бабочки. В этом мире Френч оставил Жанну Дюморье. Эскалибур — здесь производят знаменитые розовые вина.
Прочие Миры А6идон — ничем не примечательная планета. Аластор — планета, где изобрели дубликатор массы и где этот прибор был куплен капитанами Джонсом и Шардом. Александрия — мир вблизи Соляриса. Алойзис — ничем не примечательная планета. Алоха — мир вблизи Соляриса. Алфанор — высокоразвитый мир, где Шард впервые продал спецификации на дубликатор массы. Аматерасу — мир, откуда происходит Йоко, одна из жен капитана Френча. Америция — один из миров, где буянил капитан Траск. Аэрлит — ничем не примечательная планета. Баратария — мир на Окраине, где погиб капитан Дэвиде с “Четырех грачей”. Белл Рив — мир, в котором капитан Френч высадил Детей Света, своих пассажиров с Новой Македонии. Беовульф — еще один мир, где буянил капитан Траск. Но Беовульф знаменит не только этим; здесь высокоразвитая промышленность, и здесь производят нейроклипы, не уступающие по качеству земным. Бесценная Жемчужина — прекрасный мир, найденный капитаном Френчем, куда переселились колонисты с Логреса. Там произошла катастрофа — вследствие опасных генетических экспериментов по перестройке человеческого организма. Бруннершабн — планета, население которой было уничтожено в результате ядерной войны. После повторной колонизации названа Преобразованием. Глободан — окраинный мир, где водятся зверьки с оранжевым мехом, похожие на обезьянок. Дальний — мир, где у капитана Кордея похитили корабль и где он приобрел новое судно, “Космическую гончую”. Земля Лета — довольно отсталый мир, где некогда правил диктатор Клерак Белуг. Упоминается в связи с историей капитана Филипа Регоса. Кадат — мир, откуда происходила Дафни, жена капитана Френча. Был разорен в результате опустошительной войны между людьми и искусственными человекоподобными существами. Калипсо — ничем не примечательная планета. Карно — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Кокаин — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Конская Грива — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Коринф — планета, на которой капитан Френч оставил Шандру. Удивительный мир, где женщины обладают даром безошибочного выбора супруга. Кость-в-Горле — мир, где производили опасные генетические эксперименты, результатом которых явились голод и война. Лимра — ничем не примечательная планета. Марун — ничем не примечательная планета. Мерфи — планета, заселенная колонистами с Преобразования. Названа в честь руководителя колонистов Саймона Мерфи. На Мерфи капитан Френч купил Киллашандру. Мир Аткинсона — довольно холодная планета, населенная рослыми бледнокожими людьми. Навсикая — мир, который, как и Солярис, славится своими специями. Нил-Карборунд — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Песня-в-Сердце — мир, в котором сделали остановку Эдвард и Ивонна Смит на пути к Трантору. Пойтекс — весьма благополучный мир, который капитан Френч посетил после Соляриса. Преобразование — см. Бруннершабн. Радевски — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Селена — ничем не примечательная планета. Скилл — ничем не примечательная планета. Смейда — ничем не примечательная планета. Солярис — водный мир, где суша (в виде островов) составляет тридцатую часть планетарной поверхности. Основной предмет экспорта — косметика, специи и лекарственные препараты. Тапиона — ничем не примечательная планета. Траллион — ничем не примечательная планета. Тригисмус — один из миров, мимо которого пролетал капитан Френч по пути к Коринфу. Тритон — исключительно высокоразвитый мир; тут изобрели кристаллошелк и способ генетического изменения пола. Уист — ничем не примечательная планета. Уленшпигель — ничем не примечательная планета. Фидлерс Грин — обитаемая планета вблизи Соляриса. Хепер — еще один мир, где буянил капитан Траск. Ченга — ничем не примечательная планета. Эльдорадо — здесь произошла экологическая катастрофа в результате искусственно вызванных землетрясений. Ямаха — здесь произошла экологическая катастрофа в результате попытки изменить наклон планетарной оси.
3. СПЕЙСТРЕЙДЕРЫ И ИХ КОРАБЛИ
Альдис — корабль “Двойная звездам. Даваслатта — корабль “Королева пчел”. Даре — корабль “Анастасия”. Джонс, Макс — известен тем, что Шард обскакал его в сделке с дубликатором массы; корабль “Асгард”. Дэвиде — погиб на Баратарии; его корабль “Четыре грача” достался Ивонне Смит. Кордей, Крис — спейстрейдер, у которого похитили на Дальнем корабль “Чикверита” и который, в свою очередь, похитил судно миссионеров, названное им “Космической гончей”. — Просперо — корабль “Трибулет”. Пейн — корабль “Ворг”. Регос, Филип — супруг Сдины Бетин Сди, погибшей на Земле Лета; корабль “Прекрасная Алиса”. Смит, Эдвард — разыскал корабль Дэвид са на Баратарии и вступил во владение им совместно со своей женой Ивонной; корабль “Жаворонок пространства”. Смит, Ивонна — бывшая супруга Эдварда Смита, сбежавшая от него на корабле “Четыре грача”, переименованного ею впоследствии в “Лопнувшего Смита”. Траск, известный драчун и богохульник, — корабль “Немезида”. Фоул — корабль “Номад”. Френч, Грэм, старейший из всех космических торговцев, — корабль “Цирцея” (прежнее название — “Покоритель звезд”). Шард, Рокуэлл — любитель дальних прыжков, прославившийся тем, что первым привез на Землю дубликатор массы, — корабль “Шаловливая красотка”.Михаил Ахманов Крысолов
Глава 1
Протяжная трель звонка раздалась в тот самый момент, когда я предавался любимому развлечению – читал словарь иностранных слов. Вы удивились? Право, не стоит. Что еще делать интеллигентному непьющему холостяку в теплый августовский вечерок? Альтернатив, собственно, две: женщина и телевизор. Не отвергая их с порога, я все-таки предпочитаю словарь. Очень, знаете ли, обогащает. Итак, я добрался до редкостного слова «оогоний» и выяснил, что так называются органы размножения у некоторых водорослей и грибов. Дальше следовали «оолиты», но разобраться с этим термином мне было не суждено. По крайней мере, в тот день и тот в момент. Дверного глазка у меня нет, зато украшает стену редкостный топор финского производства, одна тысяча девятьсот пятого года, с длинным топорищем и тяжеленным лезвием. Такими топорами наши северные соседи валили сосны в старину, но потом им это надоело и они перешли на бензопилы. А зря: физический труд полезен, особенно в зимнюю пору. С одной стороны, согревает, с другой – облагораживает, а с третьей – предохраняет генофонд от диабета, СПИДа и алкогольной деградации. Я приласкал топорище, снял топор с крюка и приоткрыл дверь. Лестничные площадки в нашей кооперативной казарме длинные, узкие и освещаются лишь по большим праздникам, а тут, в дальнем углу коридора, и вовсе темно. Но из прихожей падал свет – прямо на физиономию незнакомца, ничем не примечательную, но снабженную острым, длинным и хрящеватым носом. Нос и оттопыренные, чуть заостренные уши придавали ему сходство с доберман-пинчером, но не простым, а матерым, знающим себе цену, удостоенным многих медалей и наград. По виду ему было порядком за сорок. За спиной остроносого стояли трое. В коридорной полутьме я не мог разглядеть их во всех деталях, но было ясно, что это бульдоги, крепкие молодцы, парни тертые, битые и бывалые. У всех пиджак под левой мышкой оттопырен, челюсть – квадратом, шея бычья, а на лицо так и просится омоновская маска с прорезями для глаз. Я поддался естественному порыву: правой рукой сгреб топор, а левой попытался затворить дверь. Но было поздно: меж дверью и косяком уже торчал лакированный штиблет остроносого. Проделал он это с удивительной быстротой и профессиональным изяществом. – Майор Скуратов, УБОП, управление борьбы с организованной преступностью, – представился мой гость, протягивая документы, но не делая попыток перебраться через порог. Удостоверение на первый взгляд казалось самым настоящим, и звали майора не Малютой, а вполне пристойным именем – Иван Иванович. – Мы, собственно, к вашей соседке, – майор покосился на дверь, располагавшуюся рядом, в торце коридора. – Она отсутствует? – Раз не открывает, значит, отсутствует, – буркнул я. Соседка у меня появилась месяцев шесть назад, когда Сергей продал свою квартиру. Очень тихий серый мышонок в очках; уходила рано, приходила поздно, скользила по стеночке, как тень, а при редких наших встречах смущенно опускала глазки и бормотала: «Здрассьте, Дима». Я знал лишь то, что зовут ее Дарьей и что у нее есть горластый попугай – судя по иногда проникавшим сквозь бетонные стены воплям. – Вы позволите войти? – с отменной вежливостью спросил остроносый. – Хотелось бы побеседовать с вами… возможно, вы знаете даже больше, чем гражданка Малышева… Мои сотрудники подождут. Внизу. Он повелительно кивнул, и трое предполагаемых омоновцев затопали к лестнице. Пол содрогался под их шагами. Распахнув дверь, я сделал приглашающий жест. Должен заметить, что человек, изучающий словари, обладает определенным недостатком: он любопытен. Наверняка любопытен, и я не исключение из правил. К тому же любопытство – необходимый атрибут моей профессии: нелюбопытные люди редко становятся математиками и уж никак не склонны к благородному ремеслу крысолова. Скуратов шагнул в прихожую, покосился на топор и охватил единым взором мои апартаменты: две тесноватые комнатки, кухню, ванную, санузел, встроенный шкаф и антресоль. – Один живете? – Холостяк, – уточнил я, вешая топор на место. – Значит, можно курить, – проницательно заметил остроносый, принюхиваясь к атмосфере. Мы прошли на кухню, сели за стол и закурили. Каждый – свои. При остроносом обнаружился чемоданчик. Он извлек оттуда папку, раскрыл ее, выложил чистый лист бумаги, а остальные, напоминавшие компьютерные распечатки, быстро пролистал в поисках нужного. Нашел и уставился на меня пронзительным взглядом. – Дмитрий Григорьевич Хорошев, возраст – тридцать шесть лет, кандидат наук, сотрудник Института проблем математики? – В бессрочном неоплачиваемом отпуске, – уточнил я и добавил: – Вообще-то, Иван Иваныч, вам полагалось спросить, кто я такой, а не выдавать чохом всю эту секретную информацию. Он усмехнулся, став похожим на доберман-пинчера, оскалившего клыки. – Детективов начитались, Дмитрий Григорьич? Я не сторонник формальностей. Впрочем, если хотите, можете показать паспорт. Я показал – и паспорт, и служебное удостоверение, и пропуск с разноцветными печатями. Этот пропуск являлся свидетельством моей благонадежности: напомню, что Промат – строго режимная контора, а я работаю в вычислительном секторе, в главном хранилище военных тайн и стратегических секретов. Вернее, работал – до той поры, пока не случилось хроническое безденежье, а за ним – повальное сокращение. Меня, однако, не сократили, а отправили передохнуть от научных трудов, что было бесспорным признанием моих заслуг перед державой. Остроносый Иван Иванович вытащил ручку, черкнул на листке: «13 августа 1997 г. Протокол допроса» – и задумчиво уставился на меня. – В соседней с вами квартире за номером сто двадцать два проживает гражданка Малышева Дарья Павловна? – С попугаем, – добавил я. Скуратов кивнул, но попугая в протоколе не зафиксировал. – А до нее там проживала семья Арнатовых? Арнатов Сергей Петрович, его супруга Жанна Саидовна и Маша, их малолетняя дочь? Я кивнул, припомнив давешний звонок Сергея – недели две, а может, три тому назад – и его обычную просьбу. Самую обычную, с которой он обращался ко мне не первый год, не в первый и, надеюсь, не в последний раз… Странно! С чего бы мои прежние соседи интересуют борцов с организованной преступностью? Если только родичи Жанны до них не добрались, что было б для Сергея весьма печальным обстоятельством… Я уже собирался спросить, здоровы ли они с Машуткой, да вовремя вспомнил, что мне полагается не задавать вопросы, а отвечать на них. Со всей подобающей осторожностью и деликатностью. Сергей был, в сущности, парнем неплохим, однако не без изъянов, так что наши добрососедские отношения не обернулись дружбой. Не жадный, но из тех, у коих рубль между пальцев не проскочит; с немалым и заметным самомнением, не переросшим, впрочем, в гонор; жизнелюб, любитель закусить и выпить, при случае – пофлиртовать, но в меру: все-таки он оставался семьянином, и к Жанне – а особенно к дочке – относился с трепетной нежностью. В общем, намешано в нем было всякого, хорошего и дурного, а я предпочитаю людей цельных. И в результате мы с ним не то чтоб дружили, но по-соседски приятельствовали; он был моим ровесником, трудился в Психоневрологическом институте, в знаменитой Бехтеревке, но о трудах своих предпочитал молчать. Если что и рассказывал, так анекдоты и байки о своем чудаковатом шефе профессоре Косталевском. Впрочем, шефом его Сергей не называл – ни шефом, ни боссом, ни профессором и уж тем более начальником, а исключительно патроном. Не знаю, что их связывало кроме работы, но упоминалось о Косталевском именно так: патрон, и точка. Скуратов почесал переносицу: – Какие отношения были у вас с Арнатовым? – Дружелюбно-соседские, но без детального проникновения в личную жизнь, – ответствовал я. – Стаканчик белого по праздникам и мелкие взаимные одолжения. – Но год назад кое-что переменилось? «Переменилось, само собой, – подумал я. – Дела у Бехтеревки шли не лучше, чем у Промата, и в тот же исторический момент, когда я стал охотиться на крыс, Сергей занялся магией и колдовством». Семья, понимаете! Любимая женщина, пятилетняя дочка плюс легкий флирт на стороне… Кормить-то надо всех… И в результате каждый день я слушал по «кухонному радио»: – Известный психолог, доктор эзотерических наук Серж Орнати, используя магию и профессиональное мастерство, устраняет ощущение жизненного дискомфорта, стабилизирует ауру, избавляет от сглаза, гармонизирует семейные отношения, помогает освободиться от алкогольной зависимости без ведома больного. Прием в офисе на Садовой, пятьдесят, ежедневно с десяти до шести. Запись по телефону… – Далее следовал телефон. При всей сходности наших с Сержем метаморфоз имелись и отличия. Мой крысоловный промысел оплачивался неплохо, в разумных, но дефинитных пределах, а Серж, похоже, забогател. Не знаю, какие клиенты гармонизировались у него с десяти до шести, а вот по вечерам – домой, не в офис – подкатывала очень солидная публика. Помню я один «Мерседес»… вишневый, с позолоченным бампером… Скуратов раздавил окурок в пепельнице. – Так что же, Дмитрий Григорьич? Переменилось или нет? – Переменилось, – согласился я. – Сосед мой, Арнатов Сергей Петрович, занялся частной эзотерической практикой. Духи были к нему благосклонны, не обходили вниманием, и в результате он приобрел другую квартиру, пороскошней и попросторней. А эту, за номером сто двадцать два, продал гражданке Малышевой Дарье Павловне и ее попугаю. – Что вам до этого попугая? – пожал плечами остроносый; вероятно, сон его не тревожили птичьи вопли. – Скажите-ка лучше, когда у вас был последний контакт с Арнатовым? Не звонил ли он вам? Не присылал ли записок? Может, в гости заглядывал по старой дружбе? На стаканчик белого? Стаканчик был упомянут с явным сарказмом, и мне пришлось разъяснить, что речь идет не о том белом, что превратилось в национальный спорт, а о сухом вине восьмиградусной крепости. Иван Иваныч презрительно хмыкнул – мол, не вешай лапшу, интеллигент! – и повторил вопрос насчет контакта. Я ответил, что с магом Орнати не контактирую месяцев шесть – с тех пор, как он перебрался из нашего кооперативного стойбища в более шикарную конюшню. Это так же соответствовало истине, как белые ночи в январе, но я не собирался обсуждать с майором УБОП интимные тайны соседей. Жанна – вернее, Джаннат – была чеченкой из Грозного, сбежавшей в наши палестины, в Педиатрический институт, и ее брак с Арнатовым, неверным гяуром и безбожником, противоречил законам шариата. Отец, Саид-ата, а также дяди и братья, коих у Жанны насчитывался целый батальон, такого позора не снесли бы: Сержу вспороли бы живот, Машутку предположительно удавили, а Джаннат до конца своих дней лила бы слезы и крутила овечьи хвосты в ауле Верхний Басарлык. Поэтому родичам Жанны не был известен ни факт ее супружества, ни счастливое разрешение от бремени, ни вполне реальное – и столь же счастливое – материнство. Единожды в год ее навещал отец, летом или ранней осенью, и на период визита все детское и мужское барахло перетаскивалось ко мне либо к другим знакомым, а Серж с Машуткой исчезали – или на юг, или в Лодейное Поле, к православным бабушке с дедушкой, или под Приозерск, на личную мою фазенду, в бревенчатый домик, оставшийся мне от мамы. Так случилось и в этот раз: Серж позвонил и намекнул, что грозный Саид-ата ожидается с ревизией, а я ответил – знаешь, мол, где ключ запрятан. Еще подумал, как будет Жанна объясняться с родичем: их новое жилье тянуло на такую сумму, какую врач-педиатр не мог заработать при всех стараниях за сотню лет. Но это было их проблемой, не моей, и уж совсем не касалось остроносого майора Скуратова. Я не желал посвящать его в эти пикантные подробности. Лист перед ним был исписан всего лишь на четверть, но он не спешил, оглядывал кухню и мой кабинет по ту сторону коридора, где находились стол с компьютером, книжные полки до потолка, диван и рабочее кресло. На компьютере скалил зубы чугунный дьявол – старинная статуэтка каслинского литья, символ моей профессии. Сам Сатана, Ловец Душ, Великий Аналитик и Великий Крысолов… Мне показалось, что он взирает на Скуратова с неодобрением. Но тот не смотрел на Сатану, а изучал обстановку. Глядел внимательно, то ли присматриваясь к мебели, чтоб оценить мои доходы, то ли прикидывая, много ль ожидается хлопот, если затеять глобальный обыск. Причин к нему не было, но все же я слегка вспотел, представив, как обыскивают мой крысоловный компьютер. Наконец остроносый, закурив сигарету, побарабанил пальцами по столу: – Добавите что-нибудь еще, Дмитрий Григорьич? – Возможно, Иван Иваныч. Если буду посвящен в суть проблемы. Трудно, знаете ли, ориентироваться впотьмах… не различишь мелкого от крупного. Мой гость выпустил пару колечек, изображая глубокую задумчивость. Соврет, понял я. – Арнатов, ваш друг и сосед… – Приятель и бывший сосед. – Пусть так. Словом, он исчез, а перед тем… – остроносый впился в меня глазами, – перед тем ему удалось получить крупную сумму в валюте по поддельному авизо. Вы знаете, что такое авизо, Дмитрий Григорьич? Я неопределенно пожал плечами. Я мог бы сказать ему, что словари – мое любимое чтение: они надежны, основательны и лишены авторского субъективизма и к тому же расширяют кругозор. Тот, кто читает словари, никогда не спутает авизо с авеню, простатит с протектором, а протектор – с проституцией. Но я промолчал. Чем меньше хвастаешь своей осведомленностью, тем больше узнаешь о людях – а про майора Скуратова мне хотелось узнать побольше. Скажем, почему он майор? На вид – сорок пять… возраст скорее полковничий… – Так вот, авизо… бог с ним, с авизо… Деньги перевели из Сингапура – миллион двести тысяч в американских долларах. На поставку оптических линз… – Что же, кроме магии, он еще и линзами занимался? – перебил я. – А вы как считали? Не благосклонность же духов квартирку ему принесла и не эзотерические пассажи. Наивно все это, Дмитрий Григорьич, наивно. Магия там, колдовство и прочая экстрасенсорика для отвода глаз… Фантом, так сказать, иллюзион… А за ним – реальные вещи. Лес, металл, дорогостоящая оптика… ну, еще кое-что. Семейство свое он обеспечил – квартира записана на жену, а сам урвал кусок пожирнее и – в бега. – В каком же направлении? – В каком… Хотел бы я знать, в каком! По сведениям Интерпола, Крит, Кипр, возможно, Мальорка… – Тон его вдруг изменился, стал жестким, лицо посуровело. – Так что же вы можете нам рассказать, Дмитрий Григорьевич? Меня интересует абсолютно все, любая мелочь, всякая деталь. В том числе и обстоятельства, при которых была продана соседняя с вами квартира. Например, что связывает Арнатова и Малышеву? Возможно, постель или финансовый интерес? Не получала ли она писем на его имя? Бывали ли телефонные звонки? Не появлялся ли… Он говорил, а у меня перед мысленным взором маячила забавная картинка: сидит Сергей на потертом крылечке моей фазенды, курит сигарету «Бонд» и пересчитывает миллион двести тысяч долларов в крупных и мелких купюрах. Фантастика пополам с мистикой! Мог ли он вправду чего-то там подделать? Теоретически сей расклад не исключался: деньгами он отнюдь не брезговал. Но вот практически… Чтоб получить крупную сумму по поддельному авизо, надо иметь сопутствующие фальшивые бумаги либо крутых сообщников – дело-то тонкое, рисковое и непростое. Значит, либо чеченские родичи помогли, либо Сергей атаковал банкиров на ментальном уровне, загипнотизировав весь персонал от уборщиц до управляющего, либо остроносый Иван Иваныч нагло врет. Я остановился на последней версии – для родичей с гор Сергей был персоной нон грата, а в его гипнотические таланты мне не верилось. Пожалуй, стоит его навестить, мелькнула мысль. Съездить на дачу и разобраться в этой истории. Прямо завтра! Поскольку иного времени не будет: дней через пять я собирался отправиться на отдых, и не куда-нибудь, а в солнечную Андалусию. Пальмы, море, фламенко под перезвон гитарных струн… Малага, Кордоба, Уэльва, Кадис… От Севильи до Гранады раздаются серенады, раздается звон мечей… В общем, хотелось мне в тишине и покое дочитать словарь, забраться в самолет и вкусить все прелести отдыха в славном испанском королевстве. Но остроносый взирал на меня с требовательным вниманием, будто сделав стойку: глаза прищурены, ноздри раздуты, и кадык на жилистой шее дергается вверх и вниз. Что-то надо было сказать, и я поведал ему о вишневом «Мерседесе» с позолоченным бампером, попутно сообщив, что аморальных связей между моими соседями, прошлыми и настоящими, не замечал. – Хорошо! «Мерседес» – это уже зацепка… неплохая зацепка… – Его пальцы коснулись бумажного листка, подвинули ко мне. – Прочитайте и распишитесь… вот здесь… Для Малышевой я оставлю повестку. Не откажите в любезности передать… Пусть заглянет на Литейный, четыре… – Он выписал повестку, обвел аккуратным овалом телефонный номер и поднялся: – Спасибо, Дмитрий Григорьевич! Если что вспомните – звоните. Надеюсь, еще увидимся. Я его надежд не разделял. Наоборот, мне казалось, что я никогда не встречусь больше ни с самим Иван Иванычем, ни с его крепкими молодцами, дежурившими внизу. Как я ошибался!Глава 2
Проводив остроносого, я сунул повестку Дарье под дверь и приложился к ней ухом. В квартире царила тишина, если не считать эпизодических попугайных выкриков – он бормотал что-то неразборчивое – каррамба или курва, а может, коррида или кранты. Неодобрительно покачав головой, я вернулся к себе на кухню, сварил кофе и, прихлебывая из кружки, раскрыл словарь на букве О. Итак, оолиты… Внезапно раздавшаяся трель звонка заставила меня подпрыгнуть. Вечер визитов, черт побери! Ну что тут поделаешь! С горечью в сердце захлопнув словарь, я снова направился к дверям, почти не сомневаясь, что звонит соседка. Серый, так сказать, мышонок с повесткой в зубах. Прочитала, расстроилась, взволновалась… Еще бы! Такое потрясение! Не каждый день нас приглашают на Литейный, четыре… В УБОП! Допрос, расстрел и сразу в гроб! Однако звонила вовсе не Дарья. На моем пороге обнаружился молодой человек в темном сюртуке, тощий, бледный и белокурый, с лицом изголодавшегося херувима, который бродит меж адских сковородок, где, брызгая жиром и аппетитно шипя, поджариваются грешники-бифштексы. В руках у юноши наблюдалась книга, синяя и небольшая, с золотым тиснением по переплету; он бережно прижимал томик к груди и улыбался мне ангельской улыбкой. – Брат во Христ! – молвил незнакомец по-русски, но с сильным заокеанским акцентом. – Май принэсть ви блэск истина! – Объективной, субъективной или трансцендентной? – спросил я, чтобы не оставалось сомнений в моей компетентности в данном вопросе. – Истина – один! – торжественно возгласил молодой человек. – Господь довэрить истина Иосиф Смит, энд эсли ви позволит май кам ин, май рассказа… – Мормон? – Пришлось прервать его на полуслове, так как от русского пополам с английским в ушах началось какое-то невнятное жужжание. – О, йес, мормон! Зе бук оф мормон! – Его пальцы бережно погладили книгу. – Это есть новие свидэтелтва про Исус Христ! – Заходи! – произнес я со вздохом и закрыл дверь в кабинет, чтоб гость не смутился при виде чугунного Сатаны. Затем перешел на язык Шекспира: – Кто ты такой, великомученик? Услышав родную речь, парень порозовел, оживился и проследовал за мной на кухню. Имя свое он произнес невнятно – что-то вроде Джек-Джон-Джим; во всяком случае, там доминировало «дж» с каким-то неопределенным окончанием. За кружкой кофе выяснилось, что гость мой – студент теологического колледжа в Прово, штат Юта: их, истинных христиан, рассылают повсюду, от Соломоновых островов до карельских рощ, для миссионерской практики и с целью обращения прозелитов. Два прозелита – зачет, три – экзамен, четыре – благодарность от ректора в приказе, а ежели один, зато погрязший перед тем в грехах закоренелый нечестивец, то полагается диплом с отличием. Моему мормонышу пока что ничего подобного не светило, но надежды он не терял и действовал с похвальным усердием. Я глядел, как он глотает кофе, не выпуская «Книгу Мормона» из рук, слушал, как он разглагольствует о евангельских истинах, и думал: истина, где ты, ау! Истина в данном случае была трансцендентной – иными словами, завуалированной и скрытой, и заключалась она в том, что мой мормоныш был фальшив, как авизо – то самое авизо, о котором давеча толковал остроносый. Обидно, что за морями – океанами нас числят по разряду дикарей. Будто не знаем мы, что мормонам – в отличие от свидетелей Иеговы – запрещено вербовать в свою конфессию, таскаясь по домам и приставая к прохожим. Мормон – настоящий мормон – стоит навытяжку с книгой в руках и ждет, когда к нему обратятся заинтересованные лица. Вот когда обратятся, тогда он и расскажет о «нових свидэтелтвах про Исус Христ»! А до того – молчание, скромность и никакой агитации. К тому же мормоны не пьют горячего, а если и пьют, то не чай и кофе, напитки дьявольские и греховные. Такой вот у них порядок, и всякому читателю энциклопедий и словарей о том доподлинно известно. Вывод напрашивался сам собой, и я раздумывал, не принести ли топор и не прижать ли гостя в щели меж холодильником и кухонным пеналом. Я не сторонник насилия, но этот Джек-Джон-Джим мог оказаться в лучшем случае коммивояжером-хитрецом, а в худшем – наводчиком или воришкой. Язык? И что с того? Жулики нынче пошли образованные: надо – так китайский выучат. Я уж совсем собрался сбегать за топором, но тут наша беседа перетекла в иное, весьма любопытное русло. – Мир погряз в грехе и дьявольских кознях, – вещал мормоныш, размахивая кружкой. – Одни стяжают богатств и сокровищ, другие – славу, власть и почести, иные же полны высокомерия, жестокосердны и не внемлют стонам голодных, убогих и сирых, иные же жаждут крови и веселятся на пепелищах, иные торгуют словом божьим, требуя мзду за всякое священное деяние – даже за то, чтоб проводить усопшего в последний путь. Воистину, они грешны! Забыты ими слова господни, а ведь он повелел, чтоб люди не убивали, чтобы не лгали, чтобы не крали, чтобы не произносили всуе имя господа бога их, чтобы не завидовали, чтобы не имели злобы, чтобы не ссорились один с другим, чтобы не совершали прелюбодеяний, ибо преступивший через законы господа погибнет! Спасибо, брат… да будет с вами милость Всевышнего… – (Я подлил ему кофе.) – Но самый мерзкий грех свершают те, кто предан Люциферу не по неведению или по слабости своей, не ради богатства или славы, но алчет дьявольского могущества и пособничает ему в улавливании душ, творя колдовство и чародейство. Вот вы, мой добрый мастер, кто вы такой? – Крысолов, – отрекомендовался я, – скромный крысолов-токсидермист. Ловлю крыс и набиваю чучела – для музеев и кунсткамер. Разумеется, во славу господа, ибо крыса – тоже дьявольский пособник. – Вполне достойное занятие, – кивнул Джек-Джон-Джим, – хотя, я полагаю, не очень приятное. Но всякий смертный несет свой крест, и всякий труд почетен перед господом, если свершается во славу и во имя его… – Аминь, – молвил я, предложив мормонышу сигарету. Он не отказался. – Но те нечестивцы, маги и колдуны, о коих я упомянул, трудятся не на бога, на дьявола, за что гореть им в геенне огненной! Ибо сказано, – он потряс книгой, – сказано так: если пытались вы делать зло во дни вашего испытания, то будете признаны нечистыми пред судилищем божиим, а ничто нечистое не может существовать при боге, и потому вы должны быть отвергнуты навек. Но сказано также: если праведная душа, жертвенная и не запятнанная грехом, – тут он ударил себя в грудь, – спасет нечестивца и выведет его на верную дорогу, то обретут они оба благоволение господа и рай в его объятиях. И вот я… – Погоди-ка, парень. – Мне пришлось дернуть его за рукав, чтобы остановить этот поток красноречия. – Кто тут у нас нечестивец? Ты на кого намекаешь? На меня? Мормоныш перекрестился. – Ни сном, ни духом, добрый мастер! Ваше занятие, как сказано мною выше, почетно и полезно. Я же говорю о колдунах, об истинных нечестивцах, предавшихся Люциферу. Не думают они про Страшный суд и кару господню, а лишь плодятся и увеличиваются в числе – и у нас, и у вас, и в иных странах, и даже в Святой земле, политой кровью Спасителя нашего. Повсюду видны их злые лики, а богомерзкие слова звучат в эфире и… Не понимая, к чему он ведет, я привстал и выглянул в окно. – Не вижу злых ликов. Оголодавшие, правда, попадаются. Джек-Джон-Джим сокрушенно покачал головой: – Здесь не видны. Но если вы пройдете дальше, к супермаркету и доске с рекламой, то узрите, брат мой, обличье колдуна и прочтете имя его и призыв, исполненный дьявольской гордыни. И это лишь один из многих! Серж Орнати, нечестивец, пособник Сатаны! В самом деле, был у нашего универсама щит, а на нем – плакаты и листовки с объявлениями, и среди них встречалось и такое: мой бывший сосед с горящим магнетическим взором, в кольце самонадеянной надписи: «Серж Орнати: Бог предначертал, а я исправлю!» Перебор, конечно, но в рекламных агентствах служат сплошь одни атеисты. Я поскреб в затылке, выдавил наивную улыбку и произнес: – По странному совпадению, Джек, этот самый нечестивец был моим соседом. Из квартиры сто двадцать два. Зрачки мормоныша вспыхнули, он вздрогнул, прижал святую книгу к сердцу и приподнялся, готовый бежать, обращать и спасать. Пришлось хлопнуть его по плечу, дабы привести в чувство. – Спокойней, парень. Был сосед, да сплыл. – Это как понять, брат мой? – Он перешел на русский. – Это есть ваша рашен идиом? – Она самая. Русская идиома, и сосед мой тоже был русским, а потом сделался «новым русским» и переехал. Дом у нас, видишь ли, старый, в нем «новые русские» не живут. Глаза у Джека-Джона-Джима округлились. – А где они живут, сэр? Я пожал плечами: – На Кипре, Крите или Мальорке… Не знаю! И никто не знает. Ни УБОП, ни Интерпол. – Что есть УБОП? Также рашен идиом? – Не идиом, а аббревиатура, – ответил я и объяснил ему ситуацию. Почему бы и нет? Подписки о неразглашении остроносый с меня не потребовал. Осознав, что грешник исчез в неопределенном направлении и избавить его от геенны не удастся, мормоныш погрустнел. Нашлось у него еще несколько вопросов – все о том, как нечестивец Орнати дошел до жизни такой и нельзя ли спасти его супругу, его чад или хотя бы соседку, что обитает сейчас в сто двадцать второй квартире. Пришлось сказать, что жена у него мусульманка и проходит по другому ведомству, а чадо имеется одно, пятилетнее, и значит, юное и безгрешное. Оставалась соседка, и мой мормоныш желал познакомиться с ней с упорством, свойственным религиозным фанатикам и придуркам. Правда, на мой вкус, он чуть-чуть переигрывал. В конце концов это мне надоело, и я сказал: – Ждать соседку бесполезно, она на гастролях в Туруханске. Очень далекий город в сибирской тайге. Вокруг одни концлагеря, еще со сталинских времен. Сталин, кстати, тоже был Иосифом, как ваш преподобный Смит. Проигнорировав мою последнюю реплику, Джек-Джон-Джим приподнял белесые брови и с заметным разочарованием воскликнул: – На гастролях! – Вот именно. Моя соседка в цирке служит, дрессировщицей. Тигры, львы, медведи, крокодил и два мастифа… Есть и третий, говорящий, но его она дома оставила. Злой, как Сатана! Мормоныш поперхнулся кофе. – Говорящий пес? Это есть такой рашен шутка? – Какие шутки! – с чувством сказал я. – Сам по стеночке каждый божий день пробираюсь, дрожу, чтоб зверюга дверь не вышиб! Да что говорить – выйди на площадку, приложись ухом и послушай. Знаешь, что он орет? Прр-раведника мне, прр-роповедника! Жрр-рать хочу! На том мы и расстались, навешав друг другу лапши на уши. Я потянулся к словарю, но настроение было не читабельным. Мысли кружились медленно, будто грифы над свежим трупом, не успевшим как следует протухнуть. Трупов – или, если угодно, крыс – было две: одна, остроносая, предъявила мне удостоверение, другая – книгу с золотым тиснением, но я полагал, что все это сплошная иллюзия и обман. Обе они подбирались к Сергею, и оставалось лишь догадываться, когда и как он ухитрился насолить и нашим, и вашим. Кто они – наши и ваши – тоже было не совсем ясно, но нюхом опытного крысолова я чуял, что люди это серьезные, привыкшие вершить свои дела не при солнечном свете, а преимущественно в сумерках. Конечно, не составляло труда позвонить Жанне и спросить, но это было б опрометчивым поступком. Раз заварилась такая каша, то телефон Арнатовых скорее всего на слуху, и что бы я ни спросил, чем бы ни поинтересовался, все будет Сергею не к пользе, а мне поставлено в вину. С чего бы, действительно, мне звонить? Был у меня сосед, не брат, не друг-приятель; потом переехал и, по официальной версии, стал заниматься превращениями досок, железных чушек и стекла в капусту. Напревращал, сколько хватило магической силы, и отвалил. На Кипр, на Крит или на остров Мальорку… Ну и что же? Обычная история по нынешним временам… В общем, я не рискнул звонить и, укрепившись в намерении отправиться завтра на дачу, включил телевизор. Шли последние известия. В Подольске в очередной раз был воздвигнут памятник жестоко убиенному государю Николаю II. Памятник этот регулярно взрывали, и теперь, для лучшей сохранности, цоколем ему служил настоящий бетонный дот с бронированной дверью и четырьмя амбразурами – дабы отбить атаку с любой стороны слезоточивым газом. В Москве, на улице Горького, торговали вразнос взрывчаткой, киллеры отстреливали видных демократов, экономисты толковали о долгах, дефолте, инфляции и реструктуризации, левые сражались с правыми, Дума билась с президентом, губернаторы – с мэрами, а в дыму этих баталий всякие умники приватизировали державу оптом и в розницу. Собственно, она была уже давно распродана, расчленена и препарирована, и меж ее руин бродили крысы и гиены всех мастей, выхватывая тут и там кусочки пожирнее. Не успел я додумать эту мысль, как на экране возникла физиономия престарелого кудесника и мага из бывших южно-союзных краев, который мог обставить Сержа, как дитя, в искусстве превращений: был он первым секретарем, стал президентом, но не исключалась и дальнейшая трансформация – в хана, султана или короля. Слушать его мне не хотелось, я переключил канал и напоролся на рекламу мебельного салона «Венеция», который не обещает клиентам морковок, не делает из них петрушек, но честно экономит их капусту. Прослушав это объявление, я восхитился, сделал себе овощной салат и съел его, размышляя о венецианских маврах, венецианских дожах и венецианской мебели. И приснилось мне в эту ночь, что я поехал не в Испанию, а в Италию, в Венецию, и там, у собора Святого Марка, встретился с Сержем: он стоял подобно монументу на груде долларовых пачек, загадочно усмехался и протягивал мне блестящий шарик из оптического стекла. А с тыла к нему подбирались мормоныш и остроносый.Глава 3
Утром в субботу я встал пораньше, плотно перекусил, добрался до вокзала и вместе с толпой дачников влез в пригородную электричку. Путь от Питера до Приозерска неблизкий, часа три, и, скучая на жесткой скамье, покрытой изрезанным рваным пластиком, я размышлял о разных разностях. К примеру, о том, отчего бы России не вступить в НАТО. Геополитический фактор за нас: альянс нуждается в усилении, а мы – в финансах; получим их и достроим Байкало-Амурскую магистраль, чтобы пресечь китайские амбиции… Почему бы нет? Политика – это искусство возможного, а парадоксам истории несть числа… В такт моим раздумьям за окнами мелькали стволы карельских сосен, кто-то из пассажиров включил магнитофон, и томный голос певца посоветовал: не прогибайся под этот изменчивый мир, пусть он прогнется под нас. Я, собственно, не собирался прогибаться. Психика у меня устойчивая, закаленная жизненными испытаниями, учебой, армией, аспирантурой и Проматом. Эти четыре периода моей жизни резко различались между собой, но было и сходство: подчинение вышестоящим, отсутствие нижестоящих и вечное безденежье. Даже в армии я никем не командовал, а подвизался в качестве лейтенант-программиста при чуде отечественной техники компьютере «Пурга». Этот компьютер, по задумке, должен был заменить в бою пятерых генералов, но в мирную эпоху его – и меня вместе с ним – рассматривали как чистый нонсенс. В лучшем случае как нонсенс, а в худшем – как опасную диверсию империалистической шлюхи-кибернетики. Оно и понятно: генералам вовсе не улыбалось, чтоб их заменили компьютеры. Но теперь, впервые за много лет, моя позиция стала иной. Теперь я был крысоловом, человеком свободной профессии, уважаемым в определенных кругах; я обладал репутацией почти непогрешимого пророка, я не имел конкурентов, зато имел заказчиков и даже кое-какие деньги. Собственно, я математик и занимаюсь теорией игр. Играю, разумеется, не в шашки и не расписываю пульку на четверых, зато могу промоделировать третью мировую войну или какой-нибудь политический катаклизм: что, например, случится, если Дума заломает президента или наоборот. Само собой, эти прогнозы носят гипотетический характер, однако они гораздо более определенны, чем смутные догадки политиканов, финансистов или дельцов теневого бизнеса. Прежде я трудился над такими проблемами, как оптимизация зон поражения при обстреле потенциального врага со спутников, а теперь больше рассчитываю вероятности выигрыша во всевозможных «пирамидках» и лотереях. И не жалею об этом. Как-то, в бытность мою в Промате, пришлось нам моделировать последствия аварии на ЛАЭС – иными словами, играли дяди-математики в Чернобыль, но только под Петербургом. Поверьте, выглядело это страшно, даже в компьютерном исполнении. Так что я ничуть не сожалею, что переквалифицировался в крысолова. Надо отметить, что данный термин несет троякий смысл – прямой, жаргонный и переносный. Прямой очевиден: крысолов – это борец с вредоносными грызунами, искусник по части капканов, ловушек и ядов. Жаргонный обозначает одну из категорий квартирных воришек, которые (о польза чтения словарей!) подразделяются на «обходчиков», «наводчиков», «хвостовщиков», «балконщиков», «форточников», «сычей», «ходящих по соннику» и «крысоловов». Но переносный смысл этого термина не столь очевиден и весьма глубок. Происходит он, разумеется, от крысы, только не серой, а финансовой, каких в условиях демократических свобод расплодилось видимо-невидимо; ну а где крысы, там и крысолов. Если угодно, считайте меня сыщиком, аналитиком или специалистом в области прогнозов, но я определяю свою профессию иначе: охотник на крыс. Случается мне оказывать и другие услуги, в смежных и сопредельных областях – так что если вам нужен деловой совет, если вы стонете под гнетом налогов, если вас интересует рейтинг определенных фирм, если вы нуждаетесь в кредитах или в финансовой «крыше», если вы подыскиваете партнеров или намерены утопить конкурента – словом, если при минимуме затрат вы хотите добиться максимальной пользы, навестите меня. Вместе мы пересечем океан коррупции, инфляции и девальвации, минуем отмели монетаризма и рифы налогообложения, уцелеем в мафиозных штормах, переживем обвальные лавины и окажемся на благодатных островах, густо заросших «черным налом». В конце концов, экономика должна быть экономной, и я продемонстрирую вам это на практике – но, разумеется, не бесплатно. Еще я объясню вам законы нынешнего российского рынка, согласно которым социалистическая экономика плавно переросла в криминальную. Промелькнули Орехово, Сосново, Лосево, затем электричка прогрохотала по мосту над Вуоксой. Внизу ревел, ярился и стонал широкий поток; волны хищно облизывали скалы, две отважные байдарки мчались по самому стрежню с маниакальным упорством самоубийц. В течение следующих сорока минут поезд приближался к Приозерску, вагон постепенно пустел, а пейзаж за окном становился все более девственным, суровым и диковатым. Местность тут, говоря языком топографов, сильно пересеченная: овраги и буераки, холмы и скалы, ручьи и речушки, а также болота, озера и лужи. Все это – за исключением водных пространств – поросло соснами да елями, осинами да березами, все обильно увлажнено, украшенопапоротником, мхами и зарослями дикой малины. Поселки тут небольшие, однако, по давней финской традиции, просторные – от дома до дома не докричишься. Отличное местечко, чтоб спрятаться, когда отоваришь пару-другую поддельных авизо. Я вышел на станции Морозное, в одном перегоне от Приозерска. Отсюда до моей фазенды полчаса пешком: сначала по шоссе, потом по грунтовке, ведущей к совхозу «Три Сосны», потом мимо озера за холм к детскому лагерю «Солнышко», а от него – по колдобистой дорожке через лес, потом снова через лес, но уже без дорог и тропинок. Дорожка сворачивала к хутору Петровича, служившего пожарником в «Трех Соснах»; Петрович, основательный мужик в годах, его супруга Клава, их дочь, зять и малолетние внуки были самыми близкими из моих соседей. Не в смысле духовной близости, а чисто территориально. Одолев дорогу в бодром темпе, я подошел к калитке, остановился и осмотрел свои владения поверх штакетника. Дом – небольшой бревенчатый сруб с трубой, под крашенной охрой железной крышей; слева – веранда с крыльцом и дверью, справа – дровяной навес на четырех столбах и кубометра четыре неколотых дров. Еще имелись деревянный столик со скамьей, будка – отхожее место, колодец, большая ель, десяток сосен, кусты одичавшей смородины, а также трава – в буйном и непобедимом изобилии. Дверь на веранду была притворена, трава не примята, дым из трубы не вился, на кустах смородины алели грозди ягод, еще не оприходованных дроздами. Безлюдье, тишина, покой… Только с дровами случилось что-то непонятное – они были раскиданы, словно под навесом порезвился средних размеров носорог. Но старые, заляпанные краской лабораторные халаты, в которых я красил крышу, по-прежнему висели на вбитом в столб гвозде. Халатов было два: один – синий, другой – коричневый, и в кармане коричневого хранились запасные ключи от веранды и от двери в дом. Сергей, разумеется, знал про этот тайник. Я окликнул его и, не получив ответа, направился к крыльцу, сшибая по дороге желтые головки одуванчиков. Тягостное чувство вдруг охватило меня; внезапно подумалось, что если звонок Сергея действительно связан с визитом кавказских родичей, то ему положено находиться тут, на моей фазенде, вместе с дочкой. А Маша была весьма непоседливым существом, достаточно шустрым и активным, чтобы крыльцо и стол, трава и каждый смородинный куст носили явный отпечаток ее присутствия. Правда, Сергей не говорил, что собирается сюда с Машуткой… Ее могли отправить в Лодейное Поле или к какой-нибудь Жанниной подружке… «Или на Крит», – мелькнула дурацкая мысль, когда моя ладонь коснулась двери. Она была не заперта, и ключи торчали в замке. Веранду – почти пустую, если не считать колченогого столика с газовой плитой, двух табуретов и полки с разбросанными по ней кастрюлями, тарелками и сковородками – щедро заливал полуденный солнечный свет. Тени оконных переплетов рисовались на желтом дощатом полу четкими прямоугольниками, и в самом большом из них, скорчившись на боку, нелепо вывернув шею и выбросив правую руку за голову, лежал мой бывший сосед Сергей Арнатов. Мертвый, с черной дырой в виске, уткнувшись носом в черное пятно засохшей крови. Лежал он здесь давно, и смрадный дух накатил на меня, заставив остановиться на пороге. Шока, однако, не было. Я привычен к виду трупов. Нервы у меня крепкие, ростом и силой бог не обидел, и потому в скудные студенческие времена мне доводилось прирабатывать, в морге Третьей Городской. Не каждый день, но уж, во всяком случае, не реже, чем на Ленинградской товарной. На станции обычно разгружали лес, а в морге приходилось ворочать покойников, обмывать их, перекладывать с каталок на столы, где их обряжали либо вскрывали – словом, подсобничать прозектору «от и до». Не самая лучшая, но и не самая худшая из работ, какими мне приходилось заниматься; вдобавок она изгоняет мистические надежды на бессмертие, на опыте подтверждая, что из праха мы вышли и, несомненно, обратимся в прах. Правда, в Третьей Городской я имел дело с чужими трупами, а этот, вытянувший руку будто в мольбе или для защиты, был мне хорошо знаком. Был… Это слово, отнесенное к человеку, который помнился мне здоровым и живым, резануло внезапной болью. Затем я подумал о Машутке, огляделся в поисках детских вещей, не обнаружил ничего и, осторожно обогнув Сергея, направился в дом. Единственная комната была перерыта, но – к облегчению и счастью! – ни игрушек, ни Машиных платьев тут не наблюдалось. В шкафу и на самодельном книжном стеллаже явно что-то искали, как на веранде в разгромленной кухонной полке. Постельное белье и книги выброшены на пол, шкаф отодвинут, одеяло содрано с тахты и вместе с подушкой, матрасом и одеждой Сергея валяется в углу, пакля в бревенчатых стенах кое-где повыдергана, стол перевернут, а стулья разбиты в щепки; перед печкой-голландкой – груда золы: значит, шарили в печке и дымоходе. «Возможно, – подумал я, – искали похищенный миллион?.. Или сколько там слямзил Сергей в своем банке?.. Может, остроносый меня не обманывал?.. Насчет авизо, цветных металлов и оптических стекол?..» Все, что я наблюдал сейчас, напоминало работу суровых подельщиков, весьма недовольных своим партнером. Компаньонов, которых надули, от коих скрылись в карельские чащи, стиснув в клювике заветный миллион. Но они, эти подельщики, шустрые парни, произвели оперативный розыск, добрались до партнера и клювика и свернули его набок вместе с шеей… А потом принялись искать. Вот тут-то и получалась неувязка! Зачем искать, если партнер-обманщик вычислен и изловлен? Не проще ли спросить? Само собой, с пристрастием, с битьем по ребрам, резекцией ушей и поджиганием конечностей. Спросить, выпытать, забрать свое законное, а уж потом… Я вернулся на веранду и осмотрел Сергея, не прикасаясь к нему даже кончиком пальца. Одет он был в домашнее – в тапки на босу ногу, в потертые джинсы и ковбойку. Уши целы, пятки – тоже… Никакого криминала, кроме отверстия в виске… Конечно, я не сыщик, а крысолов, но, чтоб восстановить картину произошедшего, не требовалось состязаться ни с Шерлоком Холмсом, ни с Эркюлем Пуаро. Сержа, видимо, застали врасплох: дверь распахнулась, он обернулся и вытянул руку, стремясь защититься – возможно, что-то в ней находилось, пистолет или нож, но сейчас его ладонь была пустой и как бы повернутой к себе, словно в последний миг он изучал свою линию жизни. Наверное, его движение испугало вошедшего – тот выстрелил с порога и угодил в висок. С одной стороны, такая скорая расправа попахивала дилетантизмом, с другой – как мне, во всяком случае, казалось, – стрелял профессионал, стрелял быстро, четко и метко. И вряд ли он был один – в одиночку за миллионом не едут. Значит, целая команда: приехали, обложили дом, пристрелили Сержа и принялись за розыски… Странная история! Я размышлял об этом, уже шагая к лагерю, где был ближайший форпост цивилизации – иными словами, телефон. Зрительная память у меня отличная, и, прокручивая в голове печальный пейзаж смерти и хаоса, я вдруг подумал, что все это напоминает вендетту. Не добрались ли до Сержа джигиты с кавказских гор, родичи Жанны-Джаннат? Вот эти бы точно сперва пристрелили, а после начали разбираться – кровь южная, горячая… Но первая часть спектакля под названием «Месть гяуру» не стыковалась со второй, с поисками на веранде, в доме, в дровяной пристройке и, быть может, во дворе. Что им было надо, этим гипотетическим джигитам? Охальника они прикончили, чего ж искать? Скорей спалили бы они мою фазенду, и делу конец… Добравшись до лагеря, я с боем проник в кабинет тощей и склочной директрисы, объяснил, что не шучу, что я не телефонный хулиган и что ей, директрисе, будет, если она рискнет чинить помехи правосудию. Затем, отыскав в справочнике номер Приозерского УВД, позвонил и описал ситуацию: мол, явился в выходной на дачу отдохнуть, открыл дверь, сунулся на веранду, а там – труп недельной свежести с дырой в виске. Директриса не спускала с меня бдительных глаз, но вроде бы успокоилась, заметив, что после звонка я не собираюсь убегать. Чувствуя, как спину сверлят стальным сверлом, я снова склонился над телефоном и – чудо из чудес! – смог дозвониться в Питер, остроносому майору Скуратову. Новости его не порадовали, но разбираться со мной и с ними на расстоянии он не пожелал. Буркнул: «Едем. Ждите!» – потом спросил, кто еще в курсе, и очень неодобрительно засопел, узнав, что приозерские коллеги тоже будут. «Скажите им, чтоб ничего не трогали и не топтались возле дома», – распорядился он и повесил трубку. Под конвоем директрисы я направился к воротам лагеря, украшенным фанерным солнышком с широкой лукавой улыбкой. Минут через двадцать подкатил «газик», а в нем – молодой лейтенант УГРО, шофер, фотограф и два сержанта. Лейтенант оказался парнем распорядительным: одного подчиненного оставил у лагеря, дабы сопровождать высокое питерское начальство; другой был отправлен в обход по ближним и дальним соседям – не слышал ли кто пальбы, не видел ли подозрительных рож под стрижкой бобриком; ну а все остальные, включая меня, погрузились в «газик» и отправились к фазенде. Пока протоколировался мой отчет в расширенной версии (приехал, открыл, вошел, а там…), пока фотограф, резво подпрыгивая и приседая, щелкал снимки с крыльца и через окно, пока сержант, вернувшийся с обхода, докладывал о скромных результатах (не знаю, не видел, не слышал) – словом, пока крутилась вся эти кутерьма, миновала пара часов. Лейтенант отправил водителя в лагерь, справедливо решив, что питерским гостям не одолеть колдобистой лесной дорожки на «Жигулях»; «газик» взревел и вскоре вернулся с новой командой сыщиков: остроносый, два эксперта в штатском и, разумеется, еще один фотограф. Меня опять допросили с пристрастием, засняли на пленку виды снаружи и изнутри, очертили мелом контуры трупа, собрали в пробирку засохшую кровь, нашли и осмотрели пулю, потом перенесли Сергея в «газик» и приступили к совещанию. Участников было четверо: Иван Иваныч, его эксперты и лейтенант. Я болтался у калитки и смог уловить немногое: «Дней десять тут пролежал… Стреляли из „макарова“, в висок… Казанские?.. Сомневаюсь. Свидетель (взгляд в мою сторону) упоминал о вишневом „мерсе“… Думаете, связь имеется?.. Почему же нет? Знакомый почерк – „макаров“ и приметная машина… Ну, машину тут никто не видел… В городе видели, значит, связь была… Выходит, Танцор?.. Возможно… А он откуда? У нас тут казанские плясуны, а о танцорах не слышно… Да все оттуда, лейтенант. Из новых, из отколовшихся… Тот еще отморозок!..» Тем временем к моей калитке подобрался хмурый пожарник Петрович с зятем, супругой Клавой и десятком взбудораженных односельчан. Выглядели они как стадо лосей в преддверии массового отстрела. Петрович дернул меня за рукав: – Слышь, Димыч, чего случилось-та? Вовка-сержант сказывал – убили кого? – Убили, – подтвердил я, протягивая Петровичу сигареты. Это было непременным ритуалом, маленькой данью, снимаемой с городских. Он прикурил от моей зажигалки, выпустил струйку густого дыма и произнес: – Убили, значитца… А кого? – Серегу помнишь? Который у меня тут с дочкой жил? Прошлый год и позапрошлый? – Его, что ли? – Петрович поскреб в густой бороде. – Вот, б… убивцы! Ха-ароший ведь был мужик… В прошлом годе мы с ним пиво на станции пили… – Тебе все пиво да пиво! – прошипела тетка Клава, но, развернувшись в мою сторону, тут же сменила тон: – А дочка ихняя где? Такая шустренькая, масенькая, чернявенькая… Никак и ее?.. – Без дочки он был, – откликнулся я. – Дочка, наверное, в городе. Тетка Клава, доброй души человек, пригорюнилась. – Теперь безотцовщиной вырастет… ой, вырастет! Чего ж на верхах-то смотрют? Чего глядят на энтих иродов? Иль они всех купили? – Вопрос был явно риторическим, и тетка Клава, выдержав паузу, запричитала: – Вот ироды так ироды! Поганцы так поганцы! Дите малое папани лишить… – Ха-ароший, бля, мужик… – угрюмо пробурчал Петрович, дымя моей сигаретой. – Пиво я с ним пил… Тут, закончив совещание, к нам приблизился остроносый майор Скуратов и велел очистить территорию от посторонних. Затем он повернулся ко мне с явным намерением поговорить – но не для протокола, а так, по душам. – Ну, что скажете, Дмитрий Григорьич? – Плохо работает Интерпол, – отозвался я. – Вроде бы нам обещали Крит или Кипр? Или Мальорку, на худой конец? Он проглотил мой намек не поморщившись. – Вы первым осматривали дом. Что-нибудь нашли? Ценности, деньги, бумаги? Перед словом «бумаги» он слегка замялся. Я выдавил улыбку. – В дымоходе был чулок, а в нем – миллион двести тысяч долларов в мелких ассигнациях. Я их зарыл в лесу. Хотите, пройдемся до этого места? – Не стоит язвить, Дмитрий Григорьич. Совсем не стоит, – с легкой обидой сказал остроносый. – Не стоит вешать лапшу, Иван Иваныч, – парировал я. Скуратов наклонился, поднял валявшийся у калитки ржавый гвоздик и с минуту разглядывал мое лицо – будто выбирая, куда бы его воткнуть, в ноздрю или прямо в глаз. Было ясно, что я ему не нравлюсь – как, впрочем, и он мне. Шумно выдохнув, он что-то пробормотал о тайнах следствия, затем поинтересовался: – Вчера вы действительно не знали, что Арнатов прячется у вас на даче? – Действительно не знал. Ему доводилось тут бывать, а я не делаю секрета, где спрятаны ключи. Мы обогнули дом, и я показал ему старые халаты, висевшие на темном от времени столбе. Остроносый кивнул. – Однако вчера вы не были со мною откровенны, Дмитрий Григорьич. Мы ведь беседовали с Жанной Саидовной, с супругой Арнатова, и знаем, что он здесь бывал. Знаем также, по какой причине. А вы мне ни полслова не сказали. – Это их семейная тайна, – объяснил я. – Сами понимаете, Восток – дело тонкое. – Восток, значит… А если я вас привлеку за ложные показания? – А если я вам напомню протокол? – Я поднял глаза к ясному синему небу и процитировал: – Вопрос: какие отношения были у вас с Арнатовым? Ответ: дружелюбно-соседские, но без детального проникновения в личную жизнь. Стаканчик белого по праздникам и мелкие взаимные одолжения… – Мой взгляд переместился на физиономию майора. – Вы ведь не спросили об этих мелких одолжениях? Если б спросили, я бы, возможно, о них рассказал. Остроносый вытер ладонью вспотевшее лицо. – Непростой вы человек, Дмитрий Григорьич… Ох, не простой! – Это точно, – признался я. – Могу взять интеграл Лебега по любому контуру. Даже во сне. – Ну, раз вы такой крупный специалист, – с сарказмом заметил остроносый, – мы ограничимся пока подпиской о невыезде. Но это меня не устраивало – ведь я собирался в Испанию! В Андалусию – к маврам, пальмам, теплому морю и огненным пляскам фламенко. – Никаких подписок, – твердо заявил я. – В четверг я вылетаю за рубеж. На отдых. В Коста-дель-Соль. Глаза майора мстительно блеснули. – Никуда вы не полетите, Дмитрий Григорьевич. Вы – важный свидетель. – Он подумал и со значением добавил: – А может, и подозреваемый. Я приподнял бровь. – Отчего же не полечу? Билеты, путевка и паспорт с визой у меня в руках. Если вы меня тормознете – к примеру, в таможне, сунув в мой чемодан ЛСД, – то я гарантирую вам трех свидетелей-журналистов, которые проверят мой багаж на каждом километре от города до Пулкова. – Вот как? – Теперь бровь приподнял остроносый. – У вас такие обширные связи с прессой? Я подтвердил, что именно так, и мы принялись торговаться. Вероятно, получить санкцию прокурора остроносый никак не рассчитывал и потому давил на сознательность и гражданские чувства. Но я держался как скала, которая не идет к Магомету, и в скором времени победил. Мы условились, что мой вояж неприкосновенен, но, возвратившись из теплых краев в Северную Пальмиру, я тут же отзвонюсь и в будущем стану всемерно содействовать следствию. На том мы и разошлись. Вещи Сергея забрали, остроносый со своими сыщиками погрузился в «газик» и исчез, а я, перекусив по-быстрому бутербродами, начал прибираться: вынес с веранды битую посуду, поставил на место шкаф, сложил в него разбросанное постельное белье, вернул на стеллаж книги. Имущества в моей фазенде немного, и все это заняло не больше двадцати минут. Покончив с уборкой, я запер обе двери – на веранду и в дом, проследовал к навесу, огляделся и решил, что сложу дрова в поленницу попозже. В другой, значит, раз, поскольку в этот мне и так досталось. Приняв такое решение, я направился к коричневому халату, сунул в его отвисший карман запасные ключи и окаменел. Там что-то было! Что-то гладкое, деревянное, похожее на небольшую коробочку, чуть поменьше ученического пенала. Я вытащил ее и открыл. В ней лежали разноцветные патрончики – примерно такие, в каких хранится фотопленка. Патрончиков было пять: черный, белый, пестрый, желтый и золотистый – но в этой коробке, наверное, поместились бы еще два. Надписи или какие-нибудь условные значки отсутствовали, и на коробке тоже не нашлось никаких указаний – ни орнамента, которым обычно украшают пеналы, ни марки изготовителя, ни, разумеется, цены. Просто лакированная деревянная коробочка, сделанная очень аккуратно – похоже, на заказ. Осмотрев ее, я присел на корточки, вынул черный патрончик, поднес к уху и встряхнул. Предположение о том, что в этих футлярах хранится пленка с суперсекретной информацией – к примеру, как дюжина гейш моет в бане новосибирского губернатора, – не подтвердилось: над ухом чуть слышно брякнуло. Там находился какой-то твердый предмет величиной с футлярчик, ибо звук был слабым и глухим: ничего не перекатывалось, не шуршало и не скребло по внутренней стенке. Алмаз?.. – мелькнула мысль. Здоровенный алмаз на двести тысяч долларов; пять футляров – как раз миллион… Знающие люди, успешно подделав авизо, тут же обращают доллары в камешки, чтоб вывезти их затем на Кипр или Крит под видом оптического стекла… Конечно, это являлось нелепостью; я был уже уверен, что мой покойный сосед не воровал никаких миллионов, равно как и стратегического сырья – в слитках, досках или очковых стеклах. Дело было в другом. В чем же? Я отщелкнул тугую крышку с черного патрончика и вытряхнул его содержимое на ладонь. Это было что-то спиральное, плоское, перекрученное, размером в половину мизинца, изготовленное из стекла или какого-то полупрозрачного сплава. Предмет оказался довольно тяжел, цвета обсидиана, и его очертания, а также мерцавшие в глубине крохотные серебристые огоньки не давали пищи для разумных гипотез. Ровным счетом никакой! Выяснив это, я сунул странную штучку в футляр, закрыл его и положил в карман. Потом повторил эксперимент – на сей раз с белым патрончиком. Как и ожидалось, там было нечто белое, переливчатое, неопределенной формы, притягивающее взор. Я попытался рассмотреть эту вещицу внимательней, но ее контуры как бы дрожали и расплывались – и, что самое интересное, я тоже словно бы расплывался вместе с ней. В голове воцарилась звенящая гулкая пустота, ток мысли замедлился, мозг оцепенел, и я внезапно обнаружил, что не могу вспомнить ни имени своего, ни фамилии, ни адреса, ни телефона. Пустота тем временем тоже расплывалась и ширилась, захлестывая все новое пространство, окружая меня со всех сторон, обволакивая невидимым туманом; теперь я казался себе самому крохотной точкой, падавшей в бесконечную пропасть, в какой-то бездонный провал, в трещину бесчувствия и безвременья. Это падение длилось, длилось, длилось… … Удар! Свет! Яркий, режущий… Путь окончен. Ощущение бесформенного предмета, стиснутого в ладони, взгляд на часы… Кажется, что я просидел здесь на корточках, привалившись спиной к бревну, минут сорок – сорок пять, пребывая все это время в полном ступоре. В таком же, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб, или как те несчастные, коим довелось узреть ужасный лик Горгоны… А если не касаться мифологических сюжетов, то просто как мамонт в вечной мерзлоте. Поднявшись и утвердившись на ногах, я на ощупь сунул белую штучку в футляр, футляр – в коробку, закрыл ее и опустил в карман халата. Это был превосходный тайник для таких опасных игрушек, на которые и поглядеть-то нельзя – лучше сразу в печку, вместе с халатом. Но жечь я их не хотел, а чего хотел, так доискаться до их сокровенного смысла. Грешен, что поделаешь! Самонадеян и любопытен! Впрочем, не только это двигало мной. Я понимал, что в коробке – что-то запретное, колдовское; быть может, некие амулеты для экстрасенсорной практики или трансперсонального погружения в нирвану. Возможно, так оно и было – если вспомнить, где до недавних пор трудился мой сосед. Странные слухи ходили о Психоневрологическом институте… Не менее странные, чем о загадочном «ящике» под вывеской «Красная заря» и некоторых лабораториях Военно-медицинской академии… Но слухи слухами, а реальность была тут, передо мной. Я уже не сомневался, что Сергея убили из-за этих опасных игрушек, и печалился о нем – а еще больше о Жанне и Машеньке. Что с ними будет? Допросы, обыски, угрозы, уговоры? Все возможно! Если до меня добрались – до приятеля, десятая вода на киселе! – то уж их-то в покое не оставят… Я поглядел на халат, соображая, не отдать ли эту чертовщину кому следует. Отдать, чтоб отвязались… Вот только кому? Остроносому? Либо вчерашнему мормонышу? Либо иродам и поганцам, убившим Сергея? Пожалуй, найдутся и другие желающие… А раз ситуация смутная, если неясно, что отдаешь и кому, то лучше не спешить. Как гласит народная мудрость, поспешность нужна при ловле блох. С этой нехитрой мыслью я покинул дом, где на полу белели контуры мертвого тела, и зашагал к станции. Уже переминаясь на платформе в ожиданиии приозерской электрички, потянулся к карману за сигаретами и обнаружил там нечто твердое и гладкое. Маленький черный цилиндрик с обсидиановой спиралькой… Не амулет ли смерти? Но я глядел на него и остался жив. Значит… Пронзительный гудок всколыхнул прохладный вечерний воздух и раскатился гулким вибрирующим эхом. Приближалась электричка.Глава 4
В воскресенье утром, после завтрака, я наконец познакомился с оолитами. Оказалось, что это мелкие округлые зерна из углекислой извести или окислов железа концентрически-скорлуповатого, иногда радиально-лучистого строения. Кто бы мог подумать! В общем, почти бесполезные сведения, однако прилагательное «концентрически-скорлуповатый» меня восхитило, и я произнес его вслух два или три раза, добиваясь легкости звучания. После оолитов в словаре шла «оология», наука о птичьих яйцах, но тут пришлось остановиться, чтобы позвонить Жанне. После вчерашних событий не имело значения, прослушивается ли ее телефон. Самое страшное уже случилось, и в чем бы – истинно или ложно – ни обвиняли Сергея, факт его смерти перевешивал все его прегрешения, а также всю правду и ложь. Я позвонил, но безуспешно – ни Жанны, ни Машеньки не было дома. Потом начались звонки ко мне. Звонили заказчики: двое – из новых, один – из старых клиентов. Старым оказался Андрей Аркадьевич Мартьянов, мужчина во всех отношениях положительный: не пьющий, не курящий и не бедный. Он отзывался на кличку Мартьяныч и торговал бытовой техникой, в основном «Сименсом» и «Бошем»: холодильниками, стиральными машинами, пылесосами, чайниками и утюгами. Были у него четыре больших магазина, приносивших немалый доход, и при всем том мафия его не трогала: Мартьянов, мужик предусмотрительный, из бывших милицейских, первым делом обзавелся крепкой стражей и теперь не только сам себя берег и защищал, но и оказывал знакомым всякие полезные услуги. Его охранное агентство называлось «Скиф» – то ли потому, что скифы наши предки, то ли из-за пристрастия Мартьяныча к поэзии и персонально к Александру Блоку. Девиз агентства был таким: «И хрустнет их скелет в могучих наших лапах». Чей именно скелет, однако, не уточнялось. Месяцев шесть назад я сделал для Мартьянова прогноз о сроках предстоящего обвала. Должен заметить, что такие предсказания весьма трудны; здесь надо учесть огромное количество факторов, от позиции МВФ и ставок ГКО до состояния президентской печени и тому подобных кремлевских интриг. Но я с этим справился и определил, что падение курса рубля произойдет в сентябре – октябре девяносто восьмого. Возможно, в июле – августе, если кабинету Черномырдина сделают харакири, что отнюдь не исключалось. Во всяком случае, мой клиент должен был сбросить рублевую массу не позже мая и обратить свои капиталы в валюту и товар. С валютой не предвиделось проблем, а вот насчет товара Андрей Аркадьевич и хотел со мной посовещаться. Мы договорились о рандеву – через час, на моей квартире, – и я положил трубку. Почти тут же раздался новый звонок: некая дама, директор страхового общества «Гарантия и покой», мечтала получить у меня консультацию. Мы поговорили о том о сем; из ее намеков было понятно, что даме не терпится схарчить пару-другую конкурентов, тоже подвизавшихся в страховом бизнесе. Дело это тонкое, непростое, и я, уведомив просительницу о расценках, сказал, что возьмусь за него, но не сейчас, а через две недели, когда отгуляю отпуск. Она удивилась: разве у людей моей профессии бывают отпуска?.. Бывают, ответил я, ибо крысоловы – тоже люди. Последним позвонил какой-то старец с рекомендациями от Петра Петровича, а может, от Абрам Абрамыча. Этот интересовался, что ему делать с обязательствами «МММ», «Хопра» и «Гермес-Финанса». Я сказал, что делать, и в утешение добавил, что за этот свой совет не требую гонорара. Тем временем подъехал Мартьянов – на скромных «Жигулях», никакой помпезности, никаких золоченых бамперов. Комплекция его впечатляла: повыше меня и пошире в плечах, с брюхом шестидесятого размера. Он, безусловно, относился к сословию «новых русских», но был не из тех навороченных мужиков, у коих пальцы веером, а уши трубочкой. Это был боец! Конквистадор Писарро, ковбой с Дикого Запада! Дни стояли теплые, но он облачился в плащ, карманы которого подозрительно отвисали. Этот старый милицейский дождевик являлся его обычной униформой, и я знал, что в левом кармане хранится кастет – на случай мелких разборок, а в правом – «беретта», на случай крупных. Еще под плащом скрывался обрез с чем-то колюще-режущим, так что Мартьянов мог хоть сейчас идти в штыковую атаку или залечь и отстреливаться в траншеях. Он стиснул мою ладонь, пробормотал: «Люблю тебя, предвестник рока, люблю твой неподкупный вид» – и величественно проследовал на кухню, к столу с крепким чаем и бисквитами. Мы сели и занялись делом. В данный момент бизнес Андрея Аркадьевича процветал, но не было сомнений, что после обвала его ожидают полный застой и диссипация. Причин к тому имелось две: во-первых, холодильник «Бош» не самый нужный из предметов в эпоху кризиса, а во-вторых, с падением рубля правительство тут же начнет аннексировать выручку в твердой валюте. А это означало, что с «Бошем» придется раздружиться: «Бош» не делает поставок за фуфу. С учетом всего вышесказанного я посоветовал клиенту переменить товар. Лучше заняться топливом и продовольствием, мясом или зерном; можно подумать о птицефабрике, о свиноферме, пивном заводике либо бензоколонках. Мартьянов слушал и горестно вздыхал. В холодильниках и утюгах он разбирался неплохо, а к мясу, зерну и бензину испытывал недоверие. Оно и понятно: мясо портится, зерно гниет, а бензин приходится разбавлять – иначе какая выгода? Дослушав до конца, мой гость вздохнул в последний раз, наморщил крутой лоб и поинтересовался гулким басом: – Предложишь еще что-нибудь? По радио в этот момент передавали увертюру к «Баядерке», и я сказал: – Можно девочками торговать… Или контрабандными сигаретами. Мартьянов ухмыльнулся и процитировал: – По рыбам, по звездам проносит шаланду; три грека в Одессу везут контрабанду… Нет уж, Дима, друг дорогой, стар я для этаких выкрутасов. Я уж лучше в Канаду эмигрирую и займусь каким-нибудь законным промыслом. К примеру, вешалками из лосиных рогов. – Тоже дело, – согласился я. Наступила пауза. Мы прихлебывали крепкий горячий чай – единственный напиток, который признавал Мартьянов, – и размышляли каждый о своем. Андрей Аркадьевич думал, вероятно, о предстоящем кризисе, о холодильниках, бензине, вешалках и рогах; мои же мысли текли сразу по нескольким направлениям: одно ответвлялось к Андалусии, другое – к амулету, прихваченному с дачи, а третье – к новым моим знакомцам, ко всяким мормонышам и остроносым. Наконец, вспомнив о милицейском прошлом гостя, я спросил: – Мартьяныч, ты в нашем УБОПе кого-нибудь знаешь? – Знаю. Примерно всех. Видишь ли, мой «Скиф» это и есть УБОП. Или, если угодно, наоборот. Людям-то жить надо… – Он с удовольствием вдохнул курившийся над чашкой пар и сощурился: – А что, есть проблемы? – Собственно, никаких. Про майора Скуратова не слыхал? Иван Иваныча? Тощий, жилистый, лет сорока пяти и с носом, как у Буратино? С обстоятельной неторопливостью Мартьянов допил чай, вытер испарину со лба, подумал и вынес заключение: – Не наш. Даже не из Питера. И не из нашего УБОПа. Если ему за сорок, так я его должен знать. А раз не знаю, выходит, что фрукт со столичной елки. Их сюда понагнали целый батальон, только не в УГРО, не в УБОП и УБЭП. Я думаю, твой Иван Иваныч не с Петровки, а с Лубянки. – А Танцор кто такой? Мартьянов помрачнел. – Редкая гнида! Авторитет купчинской группировки… Ко мне подкатывался, «крышу» сулил… Ну, парни мои его наладили! Двигай, говорят, пока твоя крыша протекать не начала! Запихнули в «Мерседес» и дали пинка под бампер. – В «Мерседес»? – А куда ж еще? Он в вишневом «мерсе» разъезжает. Приметная тачка! Любит шляться по кабакам, форсить и девочек снимать… Правда, льстятся на него немногие. Он замолчал, с невозмутимым видом разглядывая потолок. Мол, спрашивай – отвечу… Такой уж у него стиль, и мне он импонирует. Не лезет в душу, не хитрит и не пытается разнюхать, зачем тебе эти сведения и что ты на них наваришь; но если возникнет проблема, поможет. Само собой, не всякому и с соблюдением деловых интересов. Я налил ему чаю и спросил: – А почему немногие льстятся? – А потому, друг мой, что рожей он не вышел. Или мама таким родила, или по пьянке кирпич приложили… Уродлив как черт! И хамоват. Ни обаяния, ни вежества… Говорили, он даже у экстрасенсов лечился, чакры подкачивал – чтоб, значит, симпатию в девушках пробуждать. Только я в это не верю. Чего бы ему ни накачали в эти чакры, наружу вылезет одно дерьмо. Мартьянов поднялся и стал собираться, пыхтя и прилаживая свой арсенал по местам. Отзвучала музыка из «Баядерки», приемник прокашлялся и хрипло вздохнул; затем пошли новости – о таджикских сепаратистах, о кавказских неурядицах, о схватках в Приморье между мэром и губернатором, об импичменте, интригах Чубайса, угрозах Зюганова и президентских болезнях. Мой гость послушал-послушал и мрачно произнес: – «Мой дядя – самых честных правил; когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог». На этой многозначительной цитате мы и распрощались. Я послушал радио, размышляя о нашей сегодняшней жизни, являвшей забавную смесь российских и зарубежных реалий – большей частью американского производства. У нас разом появились городовые и полицейские, губернаторы и мэры, черная сотня и мафиози, импичмент, дефолт, бизнесмены и могила последнего монарха; все это смешалось в кашу, достигло точки кипения, а затем выплеснулось за край кастрюли обычным российским беспределом, сдобренным клейкой подливкой коррупции. Этот последний штрих роднил нас со странами Черного континента, которые мы успешно догоняли в сфере повального воровства и взяток. Отсюда резюме: если мой покойный сосед проворовался бы в самом деле, то я его не осуждаю. Ведь все воровали – и Центробанк, и просто банки, и депутаты Думы, и министры, и Пенсионный фонд, и таможенники, и генералы. Словно по мановению палочки злого волшебника, наша держава превратилась в один гигантский лохотрон, где честь и совесть были самым бросовым товаром. Начались криминальные новости, и среди прочих угонов, аварий и грабежей мелькнула пара фраз о Сергее Арнатове, сотруднике Психоневрологического института. Труп найден за городом, убийство случилось дней десять назад, причина неизвестна, стреляли из пистолета «макаров», версии отрабатываются… Все. Я вздохнул и снова набрал номер Жанны. На этот раз она была дома и рыдала навзрыд – мне удалось лишь понять, что ее вызывали на опознание, что Машенька у подруги и что родители Сергея приедут вечером. Отплакавшись, она немного успокоилась, и мы смогли поговорить. Кажется, ей было очень стыдно, что все приключилось на моей даче, что я каким-то образом втянут в эту историю, что пострадали мое имущество и реноме, а также я сам – если не в физическом, то в моральном смысле, поскольку вид трупа никого не радует, а погружает в шок, и ей, как медику, это понятно, а потому… – Кончай, – прервал я этот водопад сожалений и извинений. – Скажи-ка, твой отец собирался приехать? – Собирался, – пробормотала она сквозь слезы, – но только в сентябре. А что такое, Дима? – Ничего, – ответил я. – Так, любопытствую. Выходит, Сергей скрывался на моей фазенде не от кавказских родичей! И уж, конечно, не потому, что похитил мифический миллион с хвостиком в двести тысяч. Все это были сказки да байки, народный фольклор, лапша от липовых остроносых майоров. – К тебе приходили? Жанна всхлипнула. – Еще две недели назад, когда Сережа исчез… Сказал, что у него неприятности и надо месяц пересидеть в каком-нибудь тихом месте. Я ругать его принялась… знаешь, не нравилось мне, что он Косталевского бросил, из института ушел, и дело его не нравилось, вся эта магия с эзотерикой, и люди, которые к нам ходили… Вот, говорю, доигрался! Наверное, бандиты наехали! А он хохочет – не бойся, с бандитами я разберусь, век будут помнить! Вот и разобрался… Телефонная трубка нагрелась. Пришлось поднести ее к другому уху. – В самом деле бандиты пришли? – Нет, из милиции. С Литейного… из отдела организованной преступности… – Борьбы с преступностью, – уточнил я. – Ты уж нашу милицию так не обижай… А кто приходил-то? – Майор… – чувствовалось, что она лихорадочно вспоминает, – майор Скулаков… нет, Скуратов, Иван Иванович. Допрашивал, где Сергей, а его помощники всю квартиру перевернули, искали какие-то деньги и документы. Я им показала, где доллары лежат, две тысячи, Сережа на жизнь оставил, а они – никакого внимания и снова ищут… Я потом три дня прибиралась… – Погоди-ка… Он что же, обыск у тебя учинил? С санкции прокурора? С понятыми? – А разве ему нужны какие-то санкции? Я и не знала… Этот Скуратов – большой милицейский начальник… сказал, Сергей в чем-то плохом замешан и надо квартиру обыскать… Тут я испугалась, Дима… не обыска испугалась, а того, что Сергей попал в историю… Он ведь изменился, понимаешь? Сильно изменился за последний год. Не из-за денег этих шальных, а как-то по-другому… будто силу почувствовал… власть над людьми… и надо мною тоже… Мы все вместе решали, вдвоем, а теперь он по-своему делает и не спрашивает… то есть делал… Она опять всхлипнула. Я молчал, вслушиваясь в полубессвязное бормотание, давая ей выговориться. Мы не были особенно близки, но горе есть горе, и я ее понимал. Мне самому доводилось чаще терять, чем находить. – Понимаешь, Дим, я этой милиции больше напугалась, чем бандитов… Этого Иван Иваныча… Раз пришел, значит, защиты искать негде… ведь он – власть… Ну и… – Ну и гони его в шею, если еще раз придет, – посоветовал я. – Терять тебе больше нечего, так что лучше признайся отцу во всех грехах. Он теперь твоя защита. Пусть приезжает с братьями в Питер и объяснит Иван Иванычу, что такое закон шариата. – Я… я… – кажется, она снова собралась заплакать, – наверное, я так и сделаю. Я только за Машутку боюсь… – Не зверь же Саид-ата, признает родную внучку! Скажи ему, что твой Сергей на самом деле был Сулейман и правоверный татарин. За татарина тебе можно замуж? – Н-наверно, м-можно… не знаю я… Она заплакала, и мне пришлось ее утешать, что не совсем удобно по телефону. Телефон не предназначен для этаких деликатных переговоров, так что, когда мы закончили, я был в испарине, будто ишак, перетащивший тонну груза. К вечеру похолодало, небо затянули тучи, и стал моросить мелкий противный дождик – напоминание о том, что лето, в сущности, на исходе, осень не за горами, а за нею – долгая, ветреная и сырая петербургская зима. Но это не вызывало у меня сожалений. В перспективе ожидалась солнечная Андалусия, а здесь и сейчас я был вовлечен в сферу событий, от коих тянуло загадочным ароматом мистики и опасности. Какое соблазнительное сочетание! Хоть я не отношусь к авантюристам, разгадка тайн всегда влекла меня: тайна, в сущности, один из немногих моментов, что придают остроту нашей пресной – а временами страшной – обыденности. К тому же сам процесс разгадки является захватывающей игрой, и главная ее прелесть в том, что эта процедура не алгоритмизируется. Иными словами, ее нельзя положить на компьютерный язык и расписать по пунктам – делай то, затем это и в результате с неизбежностью получишь верный ответ. Разумеется, здесь нужна логика, но в не меньшей степени – интуиция, подсознательный инстинкт, искусство правильной оценки событий и фактов – все то, чего не объяснишь компьютеру ни на одном алгоритмическом языке. Крайне увлекательное занятие! Я раскрыл словарь на термине «оология», потом отложил его и, вытащив из ящика письменного стола черный патрончик, вытряхнул на ладонь спиральный амулет. Два опыта с игрушками Сергея давали мало данных для гипотез, но кое-что я уже понимал. А раз понимал, то мог проанализировать факты, осуществив затем ретроспекцию в прошлое. Базовым фактом, конечно, были странные штучки, запрятанные в футлярах: не оставалось сомнений, что Серж использовал их для магических процедур и что они – причина драмы с летальным исходом в последнем акте. От них, как из начала координат, тянулось множество версий-векторов – и к прежней работе Сергея Арнатова, и к его эзотерической практике, к его внезапному богатству, к его патрону Косталевскому, к Танцору на вишневом «Мерседесе» и, наконец, к необходимости скрываться и к тому, что им активно занимались три команды разом. Я обозначил их как альфа, бета, гамма, расположив по мере поступления заявок: сначала остроносый, затем мормоныш, а на последнем месте икс, пробивший дырку в черепе Сергея. Что-то – пожалуй, интуиция – нашептывало мне, что этот икс – особая величина, не связанная ни с альфами, ни с бетами; от них он отличался слишком своеобразным почерком – не вел душеспасительных бесед и не строчил протоколов, а сразу стрелял на поражение. Что, как отмечалось выше, выглядело чрезвычайно странным. Я поборол искушение пройтись по каждому из векторов, ибо, при дефиците информации, все они вели в никуда, в область беспочвенных домыслов и фантастических гипотез. Из всех фактов, какими я располагал, только один являлся объективным и вполне надежным: белый амулет подействовал на меня, а черный – тот, который лежал сейчас в моих ладонях – казался столь же безобидным, как подвеска от хрустальной люстры. И что бы это значило? Что амулеты обладают какой-то селективностью? Правом выбора? Что эта черная спиралька безопасна для меня, но на других людей – каких? – воздействует с необоримой силой, погружая в транс или лишая памяти? Я размышлял над этими проблемами, когда раздался звонок. Не телефонный: кто-то желал пообщаться со мною face to face – иными словами, лицом к лицу. Это была моя соседка Дарья, серый мышонок с повесткой в зубах. – Дима, вы ко мне не зайдете? – произнесла она дрожащим от волнения голоском. Я, разумеется, зашел. На первый взгляд в квартире Арнатовых ничего не изменилось: все та же полутемная прихожая с маленьким диванчиком, стенным шкафом и вешалкой, прямо – кухня, налево – спальня, направо – гостиная, она же – бывшая детская. Мебель тоже была прежней: в спальне – широкая тахта, трельяж, гардероб и тумбочка с вычурной лампой, в гостиной – стол, стулья, книжные полки, два кресла и диван. Исчезла лишь кроватка Машеньки, а вместо нее я увидел новый телевизор и древний комод с большой цилиндрической клеткой, в которой сидел на жердочке хохлатый белый попугай. Несомненно, какаду, с Молуккских островов, и наглый до невозможности. Заметив меня, он тут же встрепенулся и завопил: – Прр-рохиндей! Прр-ронырр-ра! Вон! Вон! Дарья порозовела. – Извините, Дима. Петруша у нас такой невоспитанный… – Прр-роехали вопрр-рос! – гаркнул попугай. – В поррт, в поррт! Сигарр-ру, крр-реолку, р-ром – в номерр-ра! Я невольно вздрогнул. – Это Колин попугай, – пояснила Дарья. – Коля, мой брат, первый помощник на сухогрузе. Он мне квартиру купил, но с тем условием, чтоб я забрала Петрушу. – Здрр-равая мысль, здрр-равая, – проскрипел попугай. – Петрр-руша прр-редпочитает крр-реолок! «Невероятная птица, – подумал я. – Правда, сексуально озабоченная». Дарья улыбнулась: – У Коли очень строгий капитан. Он решил, что Петруша разлагает команду, хотя все было наоборот. Но он так решил и сказал: «Или Коля утопит Петрушу в Карибском море, или их вдвоем спишут на берег». – Надо было утопить в Китайском, – отозвался я под аккомпанемент возмущенных криков Петруши. Самым невинным его выражением было «прр-рохвост!», а еще он бормотал какие-то гнусности на испанском, китайском и бенгали. – Дима, я получила повестку, – сказала Дарья трагическим шепотом. В прихожей было темновато, и мне вдруг подумалось, что я еще не видел ее лица при ярком свете. Мы сталкивались раз десять или двадцать, на лестничной площадке, в полутьме, как призраки, сбежавшие с кладбищенских погостов. Соседи-привидения… «Здравствуйте, Дима…» «Здравствуйте, Даша…» И до свидания. Вот и весь контакт. Но теперь я заметил, что соседка моя высока и стройна, что ее волосы темной волной спадают на плечи и что в зрачках ее мерцают подозрительные огоньки. Пахло от нее чем-то нежным, приятным, будившим греховные мысли и желания. Женские флюиды, не иначе. Должен признаться, она испускала их весьма интенсивно. – Повестка, – произнес я, сглотнув слюну. – От майора Скуратова Иван Иваныча. Так я ее лично под дверь вам подсунул. – И что же мне делать? – с растерянностью спросила Дарья. – Плевать. Никуда не ходить, ни в чем не признаваться и все валить на брата, который плавает сейчас у Соломоновых островов. Если начнут пытать, кричите громче и обещайте пожаловаться ВладимируВольфовичу Жириновскому. Его милиция боится. Даже УБОП. – Вы шутите, Дима. А повестка-то – вот она… Дарья протянула мне измятый клочок бумаги и включила лампу – наверное, для того, чтоб я мог прочитать каракули Иван Иваныча и удостовериться еще раз, куда и зачем ее вызывают. Однако повестка не привлекла моего внимания: в этот миг Дарья казалась мне гораздо более интересным предметом. Только сейчас я разглядел ее по-настоящему и поразился: ничего от серой мышки, от тихони-скромницы, скользившей день за днем мимо моих дверей. Она сняла очки – может быть, носила их не по причине слабого зрения, а так, для пущей солидности. Такие девушки обычно обходятся без очков. Какие – такие? – спросите вы? Для тех, кто не понял, даю детальное описание. Рост – сто семьдесят без каблуков, вес – под пятьдесят, талия тонкая, ноги – длинные, кисть изящной лепки, пальцы с розовыми ноготками, без всяких следов маникюра. Щеки – гладкие, с симпатичными ямочками; подбородок округлый, носик пикантно вздернут, губы – пухлые, и нижняя чуть выдается вперед; глаза – карие, с едва заметной раскосинкой, а волосы – цвета спелого каштана. Все на месте, все в масть, а масть та самая, которую я люблю. Проверено на опыте. Блондинки ленивы и холодны в постели, рыжие – изменницы и стервы, брюнетки тоже стервозны и агрессивны, а вот шатенки – в самый раз. То, что надо. Я снова сглотнул, взял протянутую мне повестку и куда-то бросил. Может быть, на пол, а может, под вешалку. Глаза Дарьи заметно позеленели. – Знаете, Димочка, – сказала она, отступив на шаг к дверям спальни, – господь с ней, с повесткой. Мне нужен ваш совет, но по другому вопросу. Я… я… Словом, со мной происходит нечто странное. Нечто такое, чего мне не удается объяснить. Речь у нее была четкая, правильная, но несколько книжная, как бывает у прирожденных гуманитариев, закончивших филфак. Еще я заметил, что ее халатик – не слишком длинный и не слишком короткий – слегка распахнулся, явив моим взорам стройные ножки до середины бедер. Бедра были безупречными. – Вы ведь были знакомы с прежними владельцами моей квартиры? – Она отступила еще на шаг, и я последовал за ней. Меня приглашали в спальню, и я совсем не возражал в ней очутиться. Правда, попугай опять разразился воплями: «Прр-роходимец! Порр-ка мадонна! Попорр-чу прр-ропилеи!» – но я показал ему кулак, и он заткнулся. – Вот, Дима, взгляните. – Дарья, заметив, куда устремлены мои глаза, порозовела, одернула халатик и остановилась у тахты. Ее палец с розовым ноготком указывал на лампу. Этот светильник я помнил – Арнатовы привезли его с юга, из Ялты, а может, из Сочи. Изображал он маяк высотой сантиметров тридцать: основание, обклеенное ракушками, затем латунное колечко, цилиндр матового стекла, а над ним – еще одно кольцо и лампочка под абажуром, словно прожектор под маячной крышей. Довольно убогое изделие, и я не удивился, что его бросили здесь, вместе с мебелью, вряд ли подходившей к новым арнатовским апартаментам. – Лампа, – сказал я, выдавив глубокомысленную улыбку. – Напряжение двести двадцать, патрон стандартный, больше сорока ватт не вкручивать. Есть еще какие-то проблемы? Дарья вздохнула: – Как вы все понятно объясняете, Дима… Сразу чувствуется, что вы – человек с техническим образованием. – С математическим, – уточнил я. – А я вот филолог… переводчица… Английский, немецкий и французский языки. – Тоже неплохо. – Я подошел поближе, принюхался (от Дарьи пахло все соблазнительней) и сообщил: – Лампы необходимы математикам и переводчикам, чтоб создавать комфортную освещенность изучаемых текстов. У вас есть к ней претензии? Сейчас починим. Возьмем отвертку и… – Отвертка, я думаю, не нужна, – сказала Дарья, наклонилась, и прядь ее каштановых, с рыжеватым отливом волос скользнула по моей щеке. – Вот, горит! Она повернула верхнее латунное колечко, и под крышей крохотного маяка вспыхнул свет. – Горит, – подтвердил я, с наслаждением вдыхая ее запах. – Так в чем проблема? – Позавчера я повернула нижнее кольцо. Я никогда этого не делала, Дима. Случайно получилось… Вот так… Там была еще одна лампочка, в матовой колбе, изображавшей башню маяка. Она зажглась, наполнив стеклянный цилиндр неярким бледным сиянием, но в его глубине просвечивало что-то голубоватое, трепещущее, ритмично колыхавшееся в такт частым ударам моего пульса. Мы с девушкой не могли отвести глаз от этого голубого мерцания, и я внезапно ощутил, как воздух в спальне сгущается и тяжелеет, становится возбуждающе-пряным, вливается в глотку, будто вино, течет по жилам огненной струей и гонит кровь к чреслам. Глаза Дарьи вдруг сделались огромными, влекущими, манящими, как два чародейных озера, в которых мне предстояло утопиться – утопиться наверняка, с единственной альтернативой – нырнуть ли в одно из них или же в оба сразу. Я глубоко вздохнул и потянулся к девушке. – Порр-рок торр-жествует! Карр-рамба! Карр-раул! – каркнул попугай в гостиной, но мы с Дарьей даже не повернулись к нему. Я рухнул на постель, судорожно пытаясь выскользнуть из брюк, а Дарья рухнула на меня. Под халатиком на ней ничего не было.Глава 5
Я проснулся рано и не в своей постели. Моя была холодной, узкой, жестковатой, пропахшей одиночеством и табаком – постель холостяка, где женщины – редкие гости и столь же случайные, как ананас в банке сардин. Но это ложе было рассчитано на двоих. Широкое, мягкое и теплое, как летний луг, согретый солнцем… И витали над ним ароматы любви, запах духов, накрахмаленных простынь и сплетенных в экстазе тел. Я покосился направо – Дарья спала, свернувшись калачиком, прижавшись щекой к моему плечу; веки ее были сомкнуты, веера ресниц подрагивали в такт дыханию, каштановые локоны рассыпались по подушке. Я посмотрел налево – лампа, хрупкий маяк моего нежданного счастья, казалась темной и мертвой, как руины Вавилона. Где путеводный свет звезды, толкнувший нас в объятия друг друга? Где огонек, мерцающий вдали над летним, полным знойной страсти лугом?.. Строчки, слетевшие стрелами с тетивы Эрота, возникшие из вакуума, из астральных бездн, мелькнули в сознании и погасли. Я криво усмехнулся. Должен сказать, подобная манера выражаться мне совершенно несвойственна. Как многие из нас, в юные годы я отдал дань романтике и поэзии, сложив десяток очень посредственных виршей, но те времена давно миновали. Теперь я предпочитаю размышлять и действовать. Так что звезды звездами, Эрот Эротом, но пора приниматься за дело. Медленно, стараясь не разбудить Дарью, я соскользнул с ложа любви и выбрался в коридор, прихватив ворох своих одежд и матовый стеклянный маячок. Когда я крался мимо гостиной, попугай приоткрыл один глаз, уставился в мою сторону и буркнул: – Прр-релюбодей! – Прр-ридурок! – отреагировал я. – Петрр-руша хочет жрр-рать! Жрр-рать! Порр-ртвейн! Крр-реолку! – Обойдешься, крр-ретин. Обменявшись любезностями, мы расстались, и я отправился на кухню. В ящике кухонного стола нашелся кое-какой инструмент – большая погнутая отвертка, молоток, едва державшийся на рукоятке, тупое шило, ломаные пассатижи и перочинный ножик с половинкой лезвия. Взяв в руки отвертку, я с недоверием осмотрел ее, размышляя о том, сколь странные существа эти женщины. Они уверены, что отвертка – всегда отвертка, а значит, в хозяйстве вполне достаточно единственного экземпляра. Они не могут сообразить, что для винта с крестовой нарезкой необходимо соответствущее жало, а если перед вами винтик, а не винт, то и отвертка должна быть небольшой, а не размером с кочергу. В конце концов, негромко чертыхаясь и скрипя зубами, я разобрал проклятую лампу. В ней обнаружился синий футлярчик – точно таких же габаритов, как в спрятанной на даче коробке. Он был пуст, а под ним лежало нечто голубоватое, приятно-округлое и гладкое, похожее на окатанный морем камешек – загадочный Венерин амулет, приворотное зелье, талисман неиссякающей страсти… При виде его я почувствовал жжение в паху и ощутил, как воздух снова сгущается и тяжелеет, но справился с собой, быстро отвел глаза и на ощупь сунул опасную штучку в футляр, а футляр – в карман. Потом опустился на табурет и призадумался. В коробке, обнаруженной на даче, хватало места для семи футлярчиков. Но было их пять, считая с черным, который я забрал с собой, а семь минус пять равняется, как известно, двум. Где же они? Один сейчас в моем кармане, другой – весьма вероятно – похищен гаммиками, убийцами Сергея… Вполне логичный вывод! Я вспомнил его позу, руку, вытянутую вперед словно в попытке защититься – или что-то показать напавшим на него. Что-то ужасное, способное испепелить их, превратить в камень или свести с ума… некий могущественный амулет, который он держал при себе, на всякий случай, для защиты… Может, потому в него и стреляли? Сразу, без разговоров и обсуждений? Эта мысль тоже казалась логичной, и от нее тянулась нить к команде гамма и к иксу. Кем бы ни были таинственные гаммики, об амулетах им было кое-что известно, а значит, они входили в окружение Сергея, вращались по близким к нему траекториям. «Возможно, кто-то из его клиентов?» – подумал я, припоминая сказанное Мартьяновым о несимпатичном Танцоре из купчинской преступной группировки, которого лечили экстрасенсы. Штучка, лежавшая в моем кармане, могла бы исцелить его… во всяком случае, на некий временной период… Но при чем тут лампа? Сергей, конечно, не отличался аккуратностью, но чтоб устраивать тайник у изголовья супружеской постели… Что-то в этом было вопиюще нелепое, смешное и в то же время закономерное, понятное, но не в рамках бесполой компьютерной логики, а в человеческих соображениях. Я догадался, что, зацепившись за эту самую супружескую постель. Все мы люди, все человеки, и всем нам хочется женской ласки и тепла, всем мечтается, чтоб нас любили… Особенно в те черные мгновения, когда нас занесло куда-то не туда, и любимая супруга говорит: а ты ведь изменился, понимаешь?.. сильно изменился за последний год… А сказавши это, поворачивается к вам спиной… Как тут избегнуть искушения? Ежели в ваших руках Венерин амулет любви… Сергей, вероятно, пал в борении страстей, а после то ли забыл о своем амулете, то ли скорее всего не догадался вовремя вынуть его из лампы. Возможно, он пользовался им не раз, и это сделалось привычкой, а о привычном не вспоминаешь в хаосе переезда. Остановившись на этой версии, я решил пока не рассматривать прочих гипотез. Так ли уж важно, зачем, почему и для чего амулет оказался запрятанным в лампу? Со временем все прояснится. А в это утро у меня имелись другие поводы для размышлений. Не очень приятные, надо заметить. Я думал о кареглазой девушке в теплой и мягкой постели, о том, что свела нас случайность, кривая тропинка судьбы, коварный похотливый ведьмин знак, что прятался сейчас в моем кармане. Свести-то свел, а вот что дальше? Что она сделает, проснувшись, как поглядит на меня? С радостью? С гневом? С недоумением? А может, с отвращением – как смотрят на ловкача и насильника, который все-таки добился своего? Или повеет от нее холодом равнодушия – ни гнева, ни приязни, ни ласки, ни укора? Случилось так случилось, с кем не бывает… Всякий зверь спаривается в должный срок и в подходящем месте, не исключая мокриц и пауков-птицеедов… Вообще-то я с легкостью расстаюсь с женщинами, без всяких комплексов, претензий и проблем, так что мысли, посетившие меня, казались отчасти удивительными. Я подумал, что эти терзания и опасения, возможно, связаны с тем, что Дарья – моя соседка, что правило «не гуляй, где живешь» нарушено самым грубейшим образом и что, встречаясь с ней, я буду испытывать вечное чувство вины и неловкости. Однако не стоило обманываться на этот счет. Никакой вины и никакой неловкости! Она мне просто нравилась, без всяких приворотных зелий и колдовских амулетов. Мне не хотелось расставаться с ней, терять ее – мысль об этом казалась нестерпимой. Я был готов на любые жертвы – даже согласен терпеть оскорбления ее нахального попугая. Видно, эти думы погрузили меня в окончательный транс, и я не услышал, как Дарья явилась на кухню. Только почувствовал вдруг ее запах, и тут же меня обхватили за шею, прижали к чему-то упругому, ароматному, куснули за ухо, поцеловали. Мой серый мышонок, внезапно обернувшийся принцессой… В отвертках она не разбиралась, но что касается всякого-прочего, была на должной высоте. Нацеловавшись всласть, Дарья осмотрела стол и строго произнесла: – Зачем ты разобрал нашу лампу? «Нашу!..» – с восторгом отметил я, поглаживая что-то теплое и бархатистое. А вслух сказал: – Все разобранное, птичка, будет собрано и починено. Хотя с такой отверткой придется попотеть. И пассатижи у тебя сломаны, и ножик… Меня опять куснули за ухо. – Зануда! Чини и собирай! А я займусь яичницей и кофе. Ты как любишь, черный или с сахаром и молоком? Я опустил веки, ощущая, как в душу нисходит блаженный покой. Можно было не волноваться: я находился при деле, и женщина хлопотала вокруг меня. Что еще надо для счастья? – Яичницу, пожалуйста, глазунью, на три яйца, с беконом или с ветчиной. Кофе без сахара и молока, покрепче. С кофе – бисквит, с яичницей – хлеб. Хлеб надо бы поджарить… У нас есть тостер? Самое интересное, что она казалась ужасно довольной.* * *
Три дня до отъезда прошли в любви и покое, если не считать звонков. Чаще всего звонили клиенты, и приходилось информировать их, что у меня медовый месяц, что я отбываю на отдых в Испанию или скрючен в штопор приступом подагры. Пара звонков была от остроносого и один – от мормоныша: команда альфа желала знать, когда я покину российские пределы, где доверенная мне повестка и что там слышно от моей соседки; команда бета любопытствовала насчет души Орнати, греховного мага и колдуна. Отметив, что мормоныш уже раздобыл мой телефон, я дал исчерпывающие комментарии по всем вопросам: что отбываю в четверг, в шесть тридцать пять утра, чартерным рейсом на Малагу; что соседка уехала в Пермь, на встречу местных нефтяников с японским микадо; что вернется она не раньше, чем от Перми до Токио проложат нефтепровод; что повестку сожрал хулиган-попугай, обитающий в ее квартире, и что душа Арнатова уже в раю, о чем сообщила мне лично посредством телепатической связи. Последняя информация предназначалась для мормоныша. Он, кажется, был искренне опечален, пытался разузнать подробности, но я сурово заметил: «Враг не дремлет!» – и надавил на рычаг. Во вторник, когда Дарья отправилась по своим переводческим делам, а я перебрался из ее постели за свой письменный стол, произошла еще одна беседа. Довольно странная, надо признаться, и в иных обстоятельствах я бы принял ее за розыгрыш. Но в данном случае шутками не пахло. Телефон брякнул, я поднял трубку, и в ней раздалось: – Ты, козел? Ты? Слушай и не щелкай клювом. Подавив естественную реакцию рыкнуть: «От козла слышу!», я отозвался с сильным акцентом: – Вы звонить в норвежский консульство. У телефона Олаф Торгримссон Волосатый Пятка, атташе по культурный связь. Я слушать как одна большая ухо. Андестенд? Компроне ву? – Слушай, фраер, – повторили мне пропитым баритоном, – все схвачено и повязано, от крыши твоей до хазы поганой. Найдешь и отдашь добром, будут бабки, а не отдашь… Наступило многозначительное молчание, но тут Олаф Торгримссон перестал понимать русский язык, перешел на английский и разразился градом вопросов: – О, йес! Фак мани хам? Фейс он де тейбл? Дринк лав секс? Ор драйв файф смок? Рили? Ю о'кей? – Не стучи кадыком, а шевели рогами, веник, – посоветовали в трубке. – Ясно сказано: найдешь, и мы тебя найдем да побазарим. Договоримся, если не станешь динаму крутить. Торгримссон – благослови Творец справочники и словари! – вдруг овладел искусством ботать по фене. – Не размножай мне мозги, перхоть, – грозно заметил он. – Сунь шнобель в варзуху, болт – в грызло и изобрази сквозняк. Режь винта, пока кислород не перекрыт! Ошеломленная пауза в трубке. Потом: – Ты что, придурошный? Вальты гуляют? – Уже отгуляли, – сказал Торгримссон. – Так что не извольте метать икру. Снова молчание. Затем хриплый протяжный выдох: – Ну, гляди, шустряк! Встретимся! – Встретимся, мой расписной, – пообещал атташе, опуская трубку. Однако шутки шутками, а разговор меня обеспокоил. Я быстро собрался, бросил в сумку черный и голубой футлярчики, поехал в Промат и проследовал в свою лабораторию (три поста, три пропуска, кодовый замок на дверях и одинокий завлаб Борис Николаевич – сидит, пьет чай и режется в шахматы с компьютером). Выпив с Борисом чайку и проиграв ему партию (все же начальник, надо уважить!), я спрятал колдовские раритеты в сейф. В мой персональный сейф, где в былые годы хранились папки с внушительным грифом «Секретно», а теперь валялся древний отчет о Чернобыльской катастрофе да лежала пустая мыльница. Вот в мыльницу я и сунул оба футляра, а после отправился домой, размышляя о полученных рекомендациях. Найдешь и отдашь добром, будут бабки, а не отдашь… Кажется, команда гамма вступает в игру, подумал я, с тревогой ощутив, насколько не подкован в этой области. Собственно, кроме фени и циркуляции финансов теневого бизнеса, я ничего не знал – ни кличек, ни структурной иерархии, ни сфер влияния различных группировок. Мои контакты с преступным миром были исключительно редкими и сводились, как правило, к обмену информацией с их аналитиками. Этих я тоже не знал по именам и не встречался с ними лично, но мы беседовали – не с помощью телефона, а исключительно по электронной связи. Все они были специалисты не слабей меня (а попадались и покруче!), и все являлись интеллигентами-сявками на службе у «крестных отцов» – могли общаться хоть на греческом, но только не по фене. Я с горечью признал, что сам такой же лох-интеллигент и что топор в моей прихожей – сплошной обман для слабонервных. Ментальность у меня не та; может, и врежу топорищем, а вот железкой да по черепу – слабо. Отсюда следовал вполне логичный вывод: ну, гляди, шустряк! Будешь глядеть, возможно, и не встретимся… «На дачу бы съездить, коробку забрать, – мелькнула мысль. – Все-таки сейф в Промате надежнее карманов старого халата…» Но этим я решил заняться по возвращении, когда восстановлю свой тонус с помощью фламенко и болеро, морских купаний, корриды и прогулок под пальмами. Предстоявший вояж был счастливым подарком судьбы. Прошлой осенью я потрудился на некую питерскую фирму под скромной вывеской «Голд Вакейшн»: она организует отдых для солидных людей в Испании, Франции, Греции, на Канарах и еще в десятке мест, где теплые волны плещутся у берегов, заросших бананами и ананасами. Суть проблемы состояла в том, что голды льстились зафрахтовать «Тарас Шевченко» – самый шикарный одесский теплоход, совершавший круизы по Средиземному морю, от Стамбула до Гибралтара. Однако их предложение, весьма разумное и даже щедрое по нынешним временам, почему-то отвергли. Одесское морское пароходство склонилось в пользу москвичей, агентства «Тур Марина Групп», не столь солидного, как «Голд Вакейшн», но чем-то потрафившего одесситам. Может, им нравилось нежное имя Марина, напоминавшее об известной московской писательнице (тогда как при слове «голд» на ум приходит разве что Голда Меир), а может, девицы у маринистов были более длинноногими или шутили веселей – в Одессе ведь ценят юмор… Так или иначе «Марине» улыбнулось, а «Голду» – нет. Зафрахтовав корабль, маринисты тут же взвинтили цену путевок до небес, ополовинили команду, а после разбавили ее столичным блатняком – стюардами, у коих коленки тряслись при первом запахе спиртного, переводчиками с нижегородского на вологодский и мюзик-холльными спайс-герлс – эти, правда, предпочитали плясать не на эстраде, а в постелях. Словом, был выдержан железный принцип наших крыс: дать поменьше, содрать побольше, а заодно пристроить всех друзей и родичей. Голды погоревали, подергались, посовещались и обратились ко мне – за консультацией и активной помощью. Я забрался через сеть в кадры маринистов и пароходства и сразу выяснил, что здесь и там фигурируют важные шишки по фамилии Горчак. Подумать только, какое совпадение: есть московский Горчак, отечественный, и есть одесский Горчак, зарубежный; итого два Горчака – пара, а длинноногие девицы с юмором – так вовсе ни при чем! Эти Горчаки были кузенами: один возглавлял в пароходстве секцию грузопассажирских перевозок, а другой – опять-таки по странному совпадению – был хозяином «Марины». Установив сей важный факт, я спровоцировал пару-другую сбоев в перечислении платежей из Интербанка в банк «Сицилия Коммерсиале», после чего радяньский письменник «Тарас» застрял в Палермо на мели. Ввиду отсутствия финансов дозаправка топливом задержалась, корабельная касса пустила течь под грузом портовых сборов, корабль был арестован, а пассажиры – сплошь столичный бомонд – осатанели от скуки и взбунтовались. Их вывезли самолетами, поили шампанским и коньяком, но, появившись в Москве, все они как один (о, неблагодарность людская!) ринулись судиться с «Тур Мариной». Что до «Тараса», то он бы долго не увидел родных одесских берегов, если бы голды не покрыли неустойку. В результате фрахт достался им, одного Горчака погнали, уличив в коррупции, другой разорился и поехал крышей, а мне – в качестве премиальных – досталось провояжировать в Коста-дель-Соль. Шесть дней в пятизвездных апартаментах, с карточкой «голд-сеньор» (что означало бесплатный харч и выпивку) плюс перелет бизнес-классом… Я, разумеется, не отказался. В Испании я еще не бывал – как и в иных приятных странах, где можно любоваться солнцем триста дней в году. Промат – закрытая контора, а это значит, что мы сидели в нем как за каменной стеной; если же дверка приоткрывалась, то с другой стороны с удручающей регулярностью маячили Чехословакия, Польша и ГДР. Но все же я побывал в Берлине, Праге, Оломоуце и Кракове – понятно, на научных конференциях и под присмотром сероглазиков из КГБ; прочие территории, от Сингапура до Оттавы, посетили мой директор-академик и два его зама-членкора – само собой, с моими докладами. Но я на них зла не держу – дело прошлое, гримасы социализма… Игра, которая кончилась проигрышем для всех. Сейчас, пребывая в статусе крысолова, я мог бы поехать в любую страну, в ту же Канаду или Австралию, но выпало мне испанское королевство, о коем я читал, пожалуй, лишь в исторических романах. И помнились мне сплошные дублоны и галеоны, Дон Кихот и Дон Жуан, а также Кортес и Мерседес из Кастилии. Но в век космической связи и Интернета не существует проблем с информацией. Сам я, к слову сказать, не чайник, любитель туристских брошюр: я все могу выведать и разузнать вполне современным способом, с помощью веб-сайтов и телеконференций. И вот, возвратившись домой, я выбросил мрачные мысли об альфах, бетах и гаммах, сел к компьютеру, подмигнул чугунному Сатане, пошарил здесь и там и выяснил, что галеоны и дублоны канули в вечность, а нынче у нас имеются песеты и авиакомпания «Спейн Эрлайнз». Еще мне удалось установить, что генерал Франко, почивший в бозе, призвал на трон законную династию, что доллар тянет сотни полторы песет, что рыба и вино в Испании дешевы и что отели в Коста-дель-Соль (а это не что иное, как андалусийское побережье к востоку от Гибралтара) принадлежат в основном англичанам. Попутно я обогатился и другими полезными сведения – об оливках и карнавалах, соборах и пальмах, устрицах и омарах, испанских монархах и нудистских пляжах. Назавтра, в среду, приспела пора собираться в путь. В этом процессе главную роль играла Дарья, испросившая по такому случаю отгул. По наивности я считал, что в дорогу хватит плавок, пары джинсов и носового платка. Не тут-то было! «Прр-ровинция! Прр-ростак!» – как выражается Петруша. Согласно списку Дарьи, мне полагался костюм для вечерних приемов, шесть рубашек (по одной в день), столько же смен белья, две пары брюк (для завтраков и ленчей), шорты, туфли, кроссовки и сандалеты, солнечные очки, крем от загара, таблетки от головной боли, мыло, шампунь, одеколон, банки с икрой и значки (для подарков испанским камерадос) и три галстука. Все недостающее мы разыскали, обследовав десяток магазинов, но лично я приобрел лишь один предмет – синий галстук с белоснежным попугаем, удивительно похожим на Петрушу. Я не собирался его носить, но галстук прельстил меня своей длиной и прочностью; если когда-нибудь повешусь, то Дарья поймет, кто в этом виноват. Итак, я приобрел галстук, а Дарья купила все остальное, включая икру и значки. Вот уже третий день, как я ощущал на своем загривке руководящую и направляющую женскую руку, и временами мерещилось мне что-то странное: пара золотых колечек, эпиталама Гименею, семейные ужины по вечерам и пухлый младенец в люльке. Хватит, хватит наслаждаться любовью вне священных брачных уз! Странно, но эта мысль уже не вызывала у меня отвращения.Глава 6
Я летел бизнес-классом. В салоне имелось еще пять пассажиров, все – мужчины, и все – в летах. Кресла стояли просторно, и можно было положить ногу на ногу без риска зашибить голень или растянуть связки. Этим я и занимался – то клал ногу на ногу, то снимал, а в промежутках пил шампанское, любовался стройными стюардессами и поглядывал в иллюминатор. К моменту финиша, когда мы спустились пониже, выяснилось, что берега Андалусии сильно отличаются от побережья Карелии. Нет, определенное сходство все-таки было: необозримая морская гладь, а перед ней – холмы, овраги и даже горки, однако никаких болот, родимых елей и привычного изумрудно-зеленого фона. Зелень присутствовала здесь совсем в иных оттенках: масличные плантации казались сверху оливково-серебристыми, а пальмы – салатно-серыми. Море тоже выглядело другим – не унылым плацем сизо-стального цвета, а сапфировой равниной, отороченной белым жемчугом пены. Между морем и горами тянулась набережная километров в триста, и на нее были нанизаны все местные городишки и города – Гибралтар, Эстепона, Марбелья, Фуэнхирола, Торремолинос, Малага, Альмуньекар – и так далее, вплоть до Альмерии. У набережной в живописном беспорядке высились отели, построенные в форме египетских пирамид, цилиндров, кубов, спичечных коробков и Великой Китайской стены. Все остальное пространство, насколько я мог разглядеть, занимали фазенды и гасиенды, бассейны и пальмы, пляжи и автостоянки, а также лавки и лавочки. Мы приземлились, я вышел, получил от солнца кулаком в лоб, потом еще раз – в затылок, и поспешно скрылся в прохладном автобусе. К автобусу меня и прочих постояльцев проводили шустрые парни Леша и Гриша, агенты «Голд Вакейшн» в этих тропических краях. По их словам, местечко тут было райское: ни комаров, ни жуликов, ни сквозняков. Полная безопасность везде и всюду; про грабежи и разбой не знают сто лет, а последняя кража пляжных тапок случилась в девяносто втором году, когда здесь стали появляться российские туристы. В целом же публика европейская – немцы, британцы и испанцы, а ежели встретится негр, так непременно сенегальский принц. Правда, попадаются цыгане, но не слишком нахальные: кинешь песету, будут кланяться и благодарить. Пока пассажиры знакомились друг с другом и внимали голосу Леши (а может, Гриши), мы покинули аэропорт, пересекли предместья Малаги и покатили к западу, к Торремолиносу. По краям дороги, за шеренгами мохнатых пальм, выросли корпуса гостиниц с непременными автостоянками и бассейнами, а дальше, на узких улочках, круто уходивших вверх, виднелись окруженные зеленью дома поменьше – те самые гасиенды, фазенды и венты, которые я разглядывал с самолета. Они походили на цветки лотоса, вырезанные из кремовой слоновой кости. Я то озирал окрестности, то с любопытством косился на своих компаньонов по предстоящему отдыху, летевших – в отличие от почетного гостя «Голд Вакейшн» – за свои кровные. Всего их было одиннадцать душ: пожилая чета, молодые супруги с шустрым парнишкой лет четырех, престарелый, но очень бодрый джентльмен с офицерской выправкой (кажется, он единственный тоже летел бизнес-классом), двое плечистых молодцов, похожих, как горошины из одного стручка, и три девицы – Элла, Стелла и Белла, все – вяловатые крашеные блондинки, определенно не в моем вкусе. Надо сказать, вино я люблю сухое, белое, а женщин – поярче и потемпераментней. Таких, как Дарья. «Дмитрий и Дарья, – произнес я про себя. – Дима и Даша…» В этой двучленной последовательности ощущалось что-то созвучное и гармоничное. Я пожалел, что ее нет со мной. Ее стараниями два моих кофра ломились от бесполезных одежд, значков и баночек с икрой, но это уже не казалось нелепостью: впервые с тех пор, как мама покинула меня, я ощутил чарующее тепло женской заботы и ласки. Случай, Великий случай! Эксперименты Сергея, его загадочная гибель и приворотный амулет… Почувствовав, что на меня глядят, я обернулся. Два братца-близнеца, по имени Лев и Леонид, сверлили мой затылок одинаково серыми глазами. Ненавижу серый цвет! Он лжив и опасен. В Первом отделе Промата у всех сотрудников КГБ были серые глаза, и мы называли их сероглазиками. Вот и еще двое на мою голову… Два сероглазика в лейтенантском возрасте… Откуда? Из УБОП? Команда альфа? Это казалось невероятным. Трудно поверить, что столько внимания уделено моей скромной персоне. Вот если б то был не УБОП… как в прежние времена… в той же Праге и в том же Берлине… При этих воспоминаниях я усмехнулся и начал размышлять о том, есть ли теперь российские агенты в испанском королевстве. Раньше они здесь, несомненно, были и не спускали с генералиссимуса проницательных серых глаз, но в данный момент их пребывание в Коста-дель-Соль казалось гипотетическим. Как по причинам финансового свойства, так и ввиду полной бесполезности. Что им тут делать? Вербовать сенегальских принцев? Или следить за неким Дмитрием Хорошевым, специалистом по ловле крыс? Фантастика! Невероятно! За Торремолиносом автобус свернул с бесконечной набережной, проехал в горку с полкилометра и остановился у белого ажурного строения примерно в десять этажей, дремавшего среди платанов, пальм и мандариновых деревьев. Отель «Алькатраз», конец дороги, финиш! Мы начали шумно выгружаться и расселяться. Номер мне достался на восьмом этаже, с гигантской лоджией и видом на горы. Обследовав спальню и гостиную, я обнаружил там кровать, диван, раскладные кресла, стол маркетри и телевизор; в стенном шкафу имелось тридцать вешалок и столько же полотенец и простыней. Еще была ванная со всеми удобствами и кухонька – плита, шкафчики, полный комплект посуды на четверых и холодильник с пивом и минералкой. Распаковав свои кофры, я принял душ, вытащил в лоджию кресло, прихватил пару баночек «Гиннеса» и стал обозревать пейзаж. Внизу простирался внутренний двор отеля: бассейн в форме эллипса, обсаженный цветущими кустами, площадка со столиками под тентами, вход в ресторан, бар и маленький уютный парк, куда можно было удалиться с бутылочкой чего-нибудь холодного и распить ее в прохладе, под сенью огромных платанов. За парком простирались поля для гольфа, их огибало шоссе, а по другую его сторону торчали ржаво-красные, поросшие кактусами андалусийские холмы. Над ними висело солнце – то же самое, что слепило глаза Колумбу и накаляло кольчугу Сида Воителя. Я глубоко вздохнул, расслабился и прошептал:Глава 7
Утром я собирался на пляж, но у подьезда уже стоял автобус, и Гриша (или Леша) объявил, что все желающие могут прокатиться в горы. Там был какой-то зоопарк – вернее, увеселительное заведение с рыбно-орнитологическим уклоном. Этот загадочный намек меня сразил, и я поплелся к автобусу. Там уже сидела вся наша питерская компания: пожилые и молодые супруги, три девицы с бравым полковником, специалистом по металлам, и, разумеется, мои сероглазые лейтенанты. А кроме того, еще одна личность, прилетевшая, видимо, с утренним рейсом – хмурый бровастый тип богатырского телосложения, и тоже сероглазый. В нем ощущалась основательность трехстворчатого шкафа, и его лицо – ничем ни примечательное, если не считать бровей – навевало определенные мысли. Например, о тертых бывалых парнях, сотрудниках остроносого, маячивших на лестничной площадке за его спиной. Однако я бы не рискнул держать пари на этот счет. Мы тронулись в дорогу и через полчаса достигли седловины меж двух горок, напоминавших грудь царицы Савской. Четыреста лет назад здесь выстроили монастырь, лежавший теперь в руинах и запустении: пара колонн, чудом сохранившаяся арка и груды битых кирпичей. Но монастырский парк с прудами был по-прежнему роскошен, и практичные испанцы (а может, англичане) наладили в нем современный бизнес. В озера запустили рыб – красных и золотых, но размером с доброго сома; воздвигли ресторан в псевдомавританском стиле, с кухней a la marin; устроили фонтаны, цветники, лавчонки с сувенирами и прочие качели-карусели. Но главной приманкой служил птицепарк: бродили тут по дорожкам павлины, плавали гуси-лебеди, а остальная фауна сидела в клетках, ела, пила, размножалась, а в промежутках общалась с публикой. Мы разбрелись по парку, и каждый делал, что хотел: пожилая чета кормила рыбок, молодая, вместе с отпрыском, отправилась смотреть орлов, девицы в восторге пищали у загородки бантамских курочек, а полковник Гоша, изрядно клюкнувший в автобусе, пытался выдрать у страуса хвост, то и дело выкрикивая: «Надраить кафель, шашки наголо! Гуляш по почкам, батарея – к бою!» Лично я прошелся по попугаям, но в Испании даже эти мерзкие птицы были до отвращения культурными и посетителей не оскорбляли. Бровастый тип тащился за мной, а в отдалении маячили два братца-лейтенанта – делали вид, что интересуются колибри. Осмотрев попугаев, я перешел к туканам. К сведению тех, кто не читает словарей: тукан (не путать с птицей-носорогом) живет в Бразилии и Аргентине и делится (с точки зрения орнитологии) на две основные части: клюв и все остальное. Туканы бывают пестрыми, оранжевогорлыми, златоухими (или пятнистоклювыми), а также временами исполинскими. Вот у такого исполинского я и замер, рассматривая его с почтительным и искренним восторгом. Я глядел на это чудо, невольно воображая, как мой собственный нос растет и увеличивается в размерах, превращаясь в этакое полуметровое желто-сиреневое долото с основательной рукоятью-набалдашником. Таким долотом только каменькрушить либо щелкать кокосовые орехи – размер как раз подходящий… Ну почему природа так обидела людей? Было б у нас подобное орудие, не пришлось бы изобретать ни клещи, ни кирку… Тем временем мой химерический нос продолжал расти, и когда он уткнулся в туканий клюв, за спиной раздалось деликатное покашливание. – Здоровая носопыра… Как думаешь, размножаться не мешает? Я подмигнул тукану, тукан весело подмигнул мне. Кажется, проблем с размножением у него не имелось – не то что у сексуально озабоченного попугая Петруши. Потом я обернулся и увидел, что сзади стоит тот самый бровастый тип – с сигаретой в зубах, с фотоаппаратом на шее и зеленой сумкой через плечо. Сумка была вместительной, хотя не такой огромной, как у Льва с Леонидом, зато усеянной блестящими заклепками; фотоаппарат был, разумеется, японский, из самых дорогих. Тип взирал на меня с каким-то пристальным и нездоровым любопытством. «Может, голубой?» – мелькнула мысль. Но хрупкие кондиции голубых обычно сопоставимы с этажерками, а этот, как сказано выше, напоминал шкаф: брюхогрудная дверца была массивной и выпуклой, и к ней прилагались плечеручные, диаметром с мое бедро. В целом конструкция была капитальной и крепко сколоченной – не хуже, чем у вчерашнего зулуса. – Борис! – Бровастый шкаф протянул мне руку. – Можно Боря или Боб. А ты – тот самый парень, который поит земляков? Всех без разбора и задаром? Что ж, это объясняло его интерес к моей персоне. Но на обычного халявщика он все-таки не походил: во-первых, абсолютно трезвый, а во-вторых, без всякой искательности во взоре. Мы обменялись рукопожатием, и я представился. Затем, потеряв к тукану всякий интерес, мой новый знакомец начал расспрашивать про карточку «голд-сеньор». Я вынул ее из кармана и продемонстрировал с чувством законной гордости. В определенном смысле она являлась таким же чудом, как амулеты моего покойного соседа. Боря-Боб, ослепленный блеском золотых полосок, с восхищением причмокнул: – Именная, каленый пятак тебе к пяткам! И где ты ее раздобыл? – У голд-вакашников, – ответил я. – А мне почему не дали? За кровные бабки? – А потому, что ты – обычный гость, а я – почетный. Шкаф Боря осмотрел меня с ног до головы и покачал головой: – Не похож ты на почетного. Стрижка не та, перстней на пальцах нет, и рожа, как у профессора Менделеева. Тоже небось химик? – Химик, – согласился я и помахал у него перед носом своей карточкой. – Видишь документ? Его ведь подделать недолго, если с умом… Но здесь, – мой палец коснулся золоченого края, – содержится особый реактив. Макнешь в спиртное, полоска пропадет, а вынешь – появится снова. Простенько и со вкусом… Никаких подделок или машинок, чтоб подлинность проверять. Усек? – Усек, – Боря-Боб склонил массивную голову. – А вот чего я не усек: при чем здесь ты? – При том, что химик. – Я сунул карточку в карман, золоченым обрезом наружу. – Реактив-то мой! За него и отвалили. Шесть дней плюс перелет бизнес-классом… И все за хозяйский счет. – Вот оно как… – протянул Борис, задумчиво поигрывая бицепсами. – Небось еще и бабок отвалили? – Не без того. Я подхватил его под руку и повлек мимо клеток с туканами. Играл он неплохо и в иной ситуации сошел бы за простачка, милейшего, в сущности, парня, любителя выпить и закусить – особенно если земляк угощает. В ином раскладе он мог оказаться бандитом, отстрельщиком из команды гамма либо приспешником мормоныша – опять же из тех, что мостят дорожки на тот свет. Но был один характерный признак, одна существенная деталь – два сероглазых братца-лейтенанта его не отшивали. Совсем наоборот: увидев, что мы с Борисом подружились, они направились к полковнику – затем, чтоб придержать страуса, никак не желавшего расставаться с хвостом. Вывод был ясен и тривиален: эта троица подавала в одни ворота. Видимо, в те, где ловил мячи остроносый вратарь. По завершении экскурсии мы с Борей-Бобом были не разлей вода. За обедом в мавританском ресторанчике дружба наша расцвела и окрепла. Ресторанчик баловал гурманов сугубо морскими блюдами, и я, заметив, как посетителям тащат суп из мидий и как скрипят на зубах устрицы, внутренне содрогнулся, призвал официанта, проконсультировался с ним и заказал «биг фиш» – иными словами, не просто рыбу, а очень большую, величиною с том «Истории КПСС». Боря, по незнанию языка не принимавший участия в переговорах, мой выбор одобрил: тарелка с рыбой напоминала колесо от «Жигулей», орнаментированное с краю жареной картошкой. Всю эту благодать мы запили бутылкой белого и отправились в автобус – во главе с полковником, тащившим пук страусиных перьев. Наступило время сиесты, когда природа замирает, в торговле перерыв, мухи не ползают по стенам, а испанские доны и доньи сладко дремлют в своих фазендах. Мы возвратились в отель, и я последовал их примеру.* * *
Акклиматизация протекала успешно; длительный сон меня освежил, и я был готов к новым подвигам и авантюрам. Мудрый обычай – устраивать сиесту, но еще мудрее кончать ее в положенный час. Вот в наших родных палестинах сиеста затянулась и плавно переходит в мертвый сон, который называется стагнацией. И кто в том виноват?.. Вероятно, особенности национального климата… Спустившись в ресторан, я отужинал (цыпленок под соусом кэрри, салат – похоже, из кактусов, бутылка минеральной) и направился в бар – только не в тот, что на открытом воздухе, а в тот, что имел место рядом с обеденным залом. Здесь хлопотал Санчес, и мы с ним на правах знакомых обменялись улыбками; у стойки паслись британцы, пили на шестерых бутылку «Джека Даниэлса», а в углу сидели те самые веснушчатые, которых я не сумел опознать – может, шведы или голландцы, а может, датчане с Фарерских островов. Эти пробавлялись пивом. Позорр-ники, как сказал бы Петруша. Вспомнив про Петрушу, я, естественно, подумал о Дарье, заскучал и спросил у Санчеса чего-нибудь подкрепляющего. Чего-нибудь местного, но не слишком экзотичного, чтобы грусть развеяло, но до пяток не прожгло. Бармен выставил квадратную бутыль с желтоватой маслянистой жидкостью, налил стаканчик и пояснил, что русские сеньоры «это» любят. Прекрасное средство, чтоб разогнать грусть. А что касается последствий, то дон Диего пусть не беспокоится: у русских сеньоров расстояние от глотки до пяток намного больше, чем у нормальных людей. «Это» оказалось текилой. Я глотнул, чуть не выронил стакан и еле отдышался. Видимо, я нетипичный русский сеньор. Санчес, догадавшись о моих затруднениях, тут же плеснул в стаканчик белого. Я принялся шарить рукой по стойке, булькая и на ощуть разыскивая стакан, но вдруг меня чувствительно хлопнули ниже лопаток. Глубоко вздохнув, я вытер слезы, повернулся и увидел перед собой черную губастую физиономию с расплющенным носом и улыбкой до ушей. Разумеется, то был мой белозубый зулус. Оставалось лишь удивляться, как незаметно и быстро он очутился в баре и подобрался ко мне – не человек, а призрак, порхнувший на ароматы спиртного. Или тень. Тень Джеймса Бонда, скользящая в кремлевских коридорах в поисках секретов Политбюро… При виде его мускулистой фигуры и мыслей о Джеймсе Бонде у меня невольно вырвалось: – Агент? – Агент, – подтвердил зулус на отличном английском, демонстрируя белоснежные зубы. – Страховой. Интересуетесь? На случай безвременной кончины? Чтоб скрасить горе безутешным родичам? Он с усмешкой покосился на бутыль с текилой. Глаза у него были большими, круглыми и темными, как ночь в амазонской сельве. – Я холостяк и круглый сирота. Точно такой же, как мой отец и дед, – буркнул я, оглядываясь в поисках двух своих лейтенантов. Но их в обозримом пространстве не наблюдалось – то ли бдительность потеряли, то ли затеяли хитрую комбинацию с ловлей на живца. Томимый неясными предчувствиями, я нахмурился, нашарил стакан и отхлебнул порядочный глоток. Белое вино оказалось великолепным: в меру кислое, в меру терпкое и очень холодное. Зулус тем временем не отставал: вытащил огромный, крокодиловой кожи бумажник, раскрыл его, нащупал визитку и сунул мне. На карточке – роскошной, розовой с серебром, с виньетками в уголках – значилось: Ричард Бартон, страховой агент «Фортуна Индепенденс», штат Алабама, адрес, телефон, е-мейл. Кивнув, я сунул это произведение искусства в задний карман джинсов, под седалище. Теперь он протягивал мне лапу – вилы с насаженными на острия коричневыми сосисками. – Дик! Ричард Бартон – для клиентов, а для друзей – Дик! Дик из Таскалусы, Алабама. «Когда это мы стали друзьями?» – мелькнула мысль. Руку, впрочем, пришлось пожать: негры – народ темпераментный и обидчивый. Особенно из Алабамы, где их угнетали проклятые белые плантаторы. – Хорошев. Дмитрий Хорошев. Из Петербурга. – Кхо-ро-шефф? – произнес он по слогам, комично двигая челюстью. – Это фамилия? Очень сложная, очень… А как на английском? Я объяснил. – Значит, Гудмен… Хорошее имя для хорошего человека… Ну, чем занимаешься, Гудмен? Белых медведей пасешь? Или сажаешь кукурузу в вечной мерзлоте? Интонация явно изменилась – он перешел на «ты». Такой, знаете ли, простецкий черный парень из Алабамы, из неведомой мне Таскалусы… Скромный страхователь жизни с мускулатурой борца-тяжеловеса. «Такому ни один клиент не откажет», – подумал я и пояснил: – Кукурузой в наших краях занимаются исключительно по четвергам. А что касается медведей, то они у нас перевелись, теперь завозим крокодилов из Алабамы. На всех, говорят, не хватит, так что в свободное время я столярничаю. Кии строгаю. – Кии? – Лоб зулуса пошел морщинами, потом он резко двинул рукой. – Это которые для бильярда? Шары гонять? И что же, выгодное дельце? – Не жалуюсь, – откликнулся я, допил вино, вытащил свою карточку с золотым обрезом и заказал нам по двойному «Джеку Даниэлсу». Но тут подгреб шкаф Боря, и пришлось взять третий стакан, чтоб не обидеть земляка. Он так спешил, что даже запыхался. Капельки пота повисли на кустистых бровях, грудь в вырезе майки влажно блестела, но в остальном они с зулусом являлись симметричными фигурами, будто черная и белая шахматные ладьи. Оба – широкоплечие, тяжеловесные, напоминавшие киборгов из голливудских лент, с массивным прочным костяком, к которому там и тут было привинчено нечто бугристое, покрытое для маскировки кожей. – Это Дик, – сказал я, поворачиваясь к Борису. – Дик Бартон из Таскалусы, штат Алабама. Агент, только не ЦРУ, а из «Фортуны Индепенденс». Страхует алкоголиков – на тот случай, если вдруг возьмут и сыграют в ящик. А это, – тут пришлось перейти на английский, – это мой земляк Боб. Но я не в курсе, чем он промышляет… Боб! Очнись! Где ты трудишься, задумчивый мой? Боря, впавший в каталепсию при словах «агент» и «ЦРУ», слегка расслабился, пошевелил бровями а-ля Леонид Ильич и пробурчал: – Мы по коммерческой части. Фруктой торгуем. Яблочки там, груши-бананы и прочая капуста. Я перевел. Боб и Дик поглядели друг на друга без особой приязни, однако чокнулись, как подобает джентльменам, и выпили за знакомство. Потом в огромной лапе Бартона, будто по волшебству, возник пакетик жвачки, украшенный желтой полосой. Он угостил нас, а после Боб и Дик принялись обмениваться при моем посредстве маловразумительными репликами. Боб, например, любопытствовал, выдает ли «Фортуна» полисы на коммерческие риски, а Дик отвечал, что нет, не выдает, поскольку дело это пахнет керосином, особенно во фруктовом бизнесе. Купил ты, скажем, партию груш, а они погнили – и кто виноват? Поди докопайся! Может, товар был с гнильцой, а может, ты сам его сгноил, чтоб на страховке приподняться… Может, вяло соглашался Боря: на чем же еще приподниматься, как не на страховке? Это сам бог велел. Самое богоугодное мероприятие – нафакать страховую компанию! «Нас не нафакаешь, – отвечал Дик, – в нашей конторе одни орлы, которые мух не ловят». – «Знаем, чего вы ловите», – бурчал Боб. Они болтали о том о сем, но я ощущал, что наблюдаю некий спектакль, корриду, где бык принюхивается к матадору, а матадор – к быку. Но это сравнение было скорее всего неверным; не бык и матадор кружились на арене, а два здоровенных крысюка, клацавших челюстями, искавших, где бы куснуть, куда бы вцепиться, откуда выдрать клок и как бы добраться до печени или до селезенки. Я уже почти не сомневался, что Ричард Бартон, страховой агент, питает к моей персоне не бескорыстный интерес, и оставалось лишь произвести его опознание и точную классификацию. Наверняка не команда альфа, значит, из гаммиков либо бетян… Смотря по тому, за кого он играет – на стороне мормоныша или ублюдков, которые так невзлюбили Сергея. Мормоныш казался мне предпочтительней (все-таки Таскалуса ближе к Юте, чем к Санкт-Петербургу), однако не исключалось, что бета и гамма-единый и неделимый объект, а всякие звонки («Ты, козел? Слушай и не щелкай клювом!») – инсинуация и обман. Это не исключалось, но я, подумав, решил оставить все как есть. С одной стороны, Оккам предупредил: не умножайте сущностей сверх необходимого; с другой – всякая мобильная система в трехмерном пространстве должна иметь три степени свободы. Пусть будет так! Альфа, бета, гамма-три Декартовы координаты моего расследования. Часы над головою Санчеса пробили одиннадцать, разговор увял, рот мой все чаще сводило зевотой, а в животе «Джек Даниэлс» сражался с текилой и сухим вином. Наконец я предложил: – По «колпачку» на ночь, и на покой? – «Колпачками» здесь не пьют, – возразил Боря, кивнул бармену и широко развел ладони. – Три сомбреро, компаньеро! Три стаканевича, и чтобы в каждом – по двести грамм! Понял, рыло усатое? Санчес понял и налил, сколько просили. Одолев последнюю порцию, я направился к лифту. Боря-Боб тащился за мной, как Люцифер за грешником, зыркая туда-сюда из-под насупленных бровей и позванивая ключами в кармане. Не знаю, может, у него там не только ключи лежали, может, он – как мой знакомец Мартьянов – не расставался с табельным оружием ни наяву, ни во сне, как и положено бойцам незримого фронта и нынешним российским коммерсантам. Не знаю… Но звенело у него в кармане здорово. Мы забрались в лифт, ткнули в нужную кнопку (Боря тоже поселился на восьмом этаже) и начали плавно подниматься. Мой собутыльник шевельнул бровями, нахмурился, вытащил руку из кармана и произнес: – Не нравится мне этот негритос из Капибары… И бармен тоже не нравится… Последний стакан не долил, жучила! – Слишком ты привередливый, дружок, – откликнулся я. – Одно из двух: или негр тебе не нравится, или бармен. А оба сразу – это уже перебор. – Не в очко играем, – строго заметил Борис, опустил левую бровь, приподнял правую и распорядился: – Завтра пойдем на пляж. И негритосика с собой возьмем. Возьмем и выясним, чего этот фраер из Потрахомы к нам привязался. – Мудрая мысль, – подтвердил я. – А как выясним, камнем по кумполу, и концы в воду. Море-то рядом. Боря-Боб усмехнулся, и вдруг мне почудилось, что маска простоватого рубахи-парня сползает с его физиономии. Он был абсолютно трезв, будто не нюхал спиртного: губы кривились, густые брови сошлись у переносицы, а в прищуренных серых глазах мелькало что-то насмешливое, ироничное, будто он в точности знал, кто из нас двоих олигофрен и веник. Кто подследственный, а кто – следак. – Ну, зачем же в море, кровожадный мой… Есть ведь еще и бассейн. Он ближе. Слова эти были пророческими, но мог ли я узреть кровавый карбункул истины среди стекляшек, вращавшихся в калейдоскопе судеб?.. Правильно, не мог. И лишь ухмыльнулся в ответ на ухмылку Бориса. Нет пророка в отечестве своем…Спал я неважно, донимали жара и глупые сны, кошмар в трех сериях. В первой, беспомощный и безгласный, я наблюдал, как Серж Арнатов, чародей и маг в темной строгом сюртуке, охмуряет Дарью: вытаскивает из карманов блестящие разноцветные шары, вертит у нее под носом и швыряет вверх, где шарики тотчас прилипают к потолку, образуя некое подобие гороскопа. Этот магический сеанс производился в спальне: Дарья лежала на кровати, закутанная в шубу из черных соболей, в зимних сапогах и шапке, но каждый шарик уносил что-то существенное, какую-то деталь – шапку, шубу, платье, трусики, – пока не осталось ничего, кроме соблазнительной, манящей наготы. Тогда Дарья с сонным видом улыбнулась кудеснику, поманила рукой, и он тоже начал разоблачаться, неторопливо и важно расстегивая сюртук. На груди у него мерцало созвездие из голубых амулетов Венеры, и я в бессильном томлении видел, как обнаженная девушка, взглянув на него, вдруг начала стонать и извиваться. Чудовищный сон! А дальше – еще веселей… Дальше была вторая серия, в которой Боб и Дик, в образе огромных крыс, рвали друг друга на части. Происходило это в баре, и все его посетители, британцы и бледнокожие с Фарерских островов, подбадривали крыс лихими воплями и свистом. Санчес сновал меж публики с огромной бутылью текилы, и все по очереди прикладывались к ней, но только дело дошло до меня, как бутыль превратилась в белый мерцающий амулет, и я окаменел, глядя на его гипнотическое сияние. Я понимал, что должен что-то сделать, как-то прекратить побоище и развести по клеткам крысюков, однако не мог и пальцем шевельнуть. А после рухнул в пропасть, в бездну, что оказалась все той же бутылью из-под текилы, бесконечно длинной, гулкой и пустой. Вылетев с другой ее стороны, я как раз поспел к заключительному кошмару, фоном которого был птицепарк. Я метался по его дорожкам, среди бамбуковых зарослей, беседок, фонтанов и прудов с золотыми рыбками, а попугай Петруша и исполинский тукан гонялись за мной, пикируя сквозь древесные кроны, словно два начиненных ненавистью «мессершмита». Петруша при этом вопил: «Крр-ровь и крр-рест! Педрр-ро педрр-рила! Попорр-рчу прр-ропилеи!», а тукан налетал молча, пытаясь долбануть меня огромным клювом в самую маковку. Но все когда-нибудь кончается; кончился и мой кошмарный сон – в шесть тридцать по местному времени. Я открыл глаза, поднялся, залез под душ, чтоб смыть липкую испарину, потом вышел на балкон покурить и отдышаться. Утренняя заря уже, естественно, позолотила небосвод, но все-таки было рано-даже очень рано для курортной публики. Бассейн – пустое голубое око, лежаки вокруг тоже пусты, в парке – ни души, над полями для гольфа вздымается легкий туман, бар под полосатым тентом безлюден, зонтики сложены, а стулья перевернуты ногами вверх и аккуратно составлены на столиках. И лишь один из них был занят – у дорожки, ведущей в парк, под развесистой пальмой, напоминавшей страусиный хвост, до коего добрался полковник Гоша. Перистые листья и раскрытый зонт мешали разглядеть сидящих, так что я видел лишь их зады и спины. Три спины и три подспинных фундамента. То и другое впечатляло, создавая ощущение чего-то монументального, могучего и надежного, словно египетские пирамиды. Лев, Леонид, Борис. Два сероглазых братца-лейтенанта и, надо думать, сероглазый капитан… По какому же случаю курултай? Я отступил к стене, докурил сигарету, достал вторую и призадумался. Что там творится, под пальмой и зонтиком? Оперативный совет УБОП? Очень сомнительно… Не те возможности, иные средства… Шесть дней в отеле «Алькатраз» стоили шесть сотен долларов, и столько же – дорога в оба конца плюс виза. Прибавим еще по триста на нос – закуска, выпивка и прочие мероприятия, чтоб боевой дух остался на должной высоте… Выходило, что слежка за мной – или, если угодно, охрана – обошлась неведомым благодетелям в четыре с половиной тысячи. Солидная сумма! И явно превосходящая возможности УБОП. Значит, остроносый врал, аттестуясь по этому ведомству? Разумеется, врал, как и о прочих делах, о миллионе, похищенном Сержем, о стеклах и слитках металла, о сингапурских инвестициях и поддельных авизо. Все это иллюзия, и сам майор Скуратов являлся миражом. Не было таких майоров ни в УБОП, ни в УГРО, ни даже в УБЭП и УБПЭ, боровшихся, соответственно, с экономическими преступлениями и политическим экстремизмом. Все эти эмвэдэшные структуры были слишком бедны, чтоб рассылать своих людей по андалусским курортам. Что оставалось еще? Криминал? Налоговая полиция? Или ФСБ? Последний вариант казался мне наиболее правдоподобным: во-первых, мафию я учел, сгрузив ее в команду гамма, а во-вторых, ни Боб-Борис, ни братцы-лейтенанты никак не походили на гангстеров. Можно, конечно, и обмануться, но тут вступал в игру решающий фактор: Федеральная служба безопасности была, есть и будет наследником КГБ. А эта контора занималась не одной лишь разведкой, шпионами и диссидентами; ее интересы были гораздо шире и простирались в такие области, что не приснились бы научным ортодоксам в самых страшных снах. Взять хотя бы наш Промат… Формально он состоял в академической системе, но курировали его армейское управление стратегических исследований и, разумеется, все то же вездесущее КГБ… Многое можно было припомнить на этот счет – и «спецотдел 17», в коем трудились масоны и чернокнижники, и «ящик 241», где изучали экстрасенсов, и спин-торсионный локатор, определявший лояльность трудящихся масс, и всякие эксперименты с инопланетными сплавами, с клонированием дрозофил, с искусственным интеллектом и чтением мыслей. Все это относилось к сфере домыслов и фантазий лишь отчасти: «ящик 241» действительно существовал, а над искусственным интеллектом работали не покладая рук в киевском институте кибернетики. И если Серж – верней, его патрон и шеф – придумал что-то стоящее, нечто такое, что позволяет манипулировать рассудком, не приходилось сомневаться, кто им за это платил и кто претендовал на результат. Совещание под пальмой закончилось, бойцы невидимого фронта разошлись, и настало время отправиться в постель, досыпать.
* * *
Открыв глаза через пару часов, я включил телевизор, чтоб приобщиться к новостям, но ничего любопытного не узнал. По испанским каналам – пляски, музыка и спорт, по британским – то же самое, но в обратном порядке. В промежутках – реклама подгузников и что-то невнятное о Сербии и миротворцах ООН, о коварном Саддаме Хусейне, об амурных делишках Клинтона и матче Глазго – Эдинбург. О России – ничего. Россия будто выпала из времени и пространства, обрушилась сама в себя, как мертвое светило под действием гравитационных сил, став невидимой «черной дырой» на небосклоне среди других, более ярких и счастливых звезд. Такие мысли могли бы вызвать острую тоску, но вспоминалось кое-что о «черных дырах»: они хоть невидимы, но тяготение их по-прежнему ощутимо. Приободрившись, я спустился в ресторан и заказал черный кофе и яичницу с ветчиной. Мои лейтенанты уже позавтракали и теперь сидели под пальмами в парке, пускали дым колечками и пробавлялись банкой пива на двоих. У ног их стояла большая сумка, полная – судя по их решительным лицам – противотанковых гранат. Что до Бориса, то он отсутствовал в поле зрения: может, залег в кустах, а может, с конспиративной целью прикинулся скамьей – той самой, на которой кейфовали братцы-лейтенанты. Я уже доедал яичницу, когда за моей спиной скользнула тень – зыбкая, размытая, но в полном пляжном камуфляже: шорты, майка, тапки и белозубая улыбка. Потом жалобно скрипнул стул, тень уселась и полюбопытствовала: – Какие планы, Гудмен? Сразу к девочкам или сперва позвеним стаканами? – Хочешь, чтоб я подхватил цирроз? И умер без страхового полиса? Не дождешься. Не застрахуюсь и не помру. Назло всем капиталистическим акулам. Сообщив это, я подцепил на вилку кусок ветчины, осмотрел его и отправил в рот. Бартон усмехнулся, пошарил в карманах, вытащил блестящую серебром упаковку с белой восьмиконечной снежинкой, высыпал половину в огромную ладонь и тоже отправил по назначению. Сохранить белизну зубов не просто, а очень просто, подумал я, глядя, как мерно двигается его квадратная челюсть. Некоторое время мы оба сосредоточенно жевали. – О полисе мы еще потолкуем, – наконец произнес зулус. – А что до стаканов, так это вовсе не обязательная процедура. Я, знаешь ли, и сам не любитель… Вот девочки – другое дело. Сеньоры там, сеньорины… – Он мечтательно прижмурил глаза. – Так что насчет девочек? Пойдем пошарим по кабакам? – Лично я отправлюсь к морю и солнцу. Девочек и в Петербурге хватает, а теплое море для нас – экзотика. Не прекращая жевать, Бартон кисло поморщился: – Ну, к морю, так к морю… Чем не пожертвуешь ради дружбы? Даже девочками… Он явно набивался мне в приятели. Такое упорство и жертвенность заслуживали поощрения, и пару минут я размышлял, не рассказать ли Бартону мой сон о крысах. Но сны – слишком интимная материя, чтоб толковать о них за кофе и яичницей с ветчиной. С психоаналитиком – еще куда ни шло, но только не со страховым агентом из Таскалусы. Впрочем, тема беседы уже была обозначена. Легкий сексуальный жанр. – Будут тебе девочки, дорогой. Там, у теплого синего моря. Там их как мух на сладком пудинге. И сеньориты есть, и сеньоры, и их мужья – во-от с такими рогами! Я изобразил, с какими, и мой зулус расхохотался. – Похоже, тебя рога интересуют, Гудмен? Какие? Бараньи, оленьи или лосиные? – Лосиные. Вешалки делаю из них, – ответил я, припомнив последнюю встречу с Мартьяновым. Бартон, раскрыв в удивлении рот, уставился на меня. – Ты ведь вроде бы столяр? Кии строгаешь? – И это тоже. Зарабатывает тот, кто больше умеет. Пол под моими ногами дрогнул – к нам шествовал Борис. Тоже в пляжном снаряжении, в соломенной шляпе, шортах и майке, с фотоаппаратом и зеленой сумкой, из которой выглядывал краешек полотенца. Вид у него был самый победительный: шляпа набок, брови веером, заклепки на сумке надраены до блеска. Он сел и окинул зулуса пронзительным взглядом. – Хай агентам из Подсадены! Я перевел. – Вообще-то я из Таскалусы, – сказал Дик, – но это мелочи, не достойные внимания джентльменов. Угощайтесь! Он положил на стол пачку жвачки – на этот раз с розовым квадратиком. Я взял одну, а Боря-Боб – все остальное, в соответствии со своей комплекцией. Потом он вытащил монету в пятьсот песо – новенькую, блестящую, красивую, с благородными профилями королевской четы – и начал подбрасывать ее в воздух. Раз подбросил, второй, а на третий поймал в ладонь и скрутил в трубочку. – Инкредэбл! – восхитился Бартон. – Невероятно! Наш друг Боб и в самом деле всего лишь торгует фруктами? – Это опасное занятие, – пояснил Боря, когда я перевел ему вопрос. – Разборки, стрелки, конкуренты, должники, то да се… Всякое бывает. – И трупы тоже? – поинтересовался Бартон, выкатив глаза. – Как Боб разбирается с конкурентами? Вот так? – Он оттопырил большой палец и чиркнул себя по горлу. – Кто, я? Каленый пятак тебе к пяткам! Да я и мухи не обижу! – воскликнул Борис, хлопнув огромной ладонью по столу. Стол застонал, но выдержал. Мы поднялись и, выйдя из ресторана, окунулись в знойный, насыщенный запахами асфальта и зелени воздух. Небо было безоблачным, и палящий солнечный жар навевал воспоминания о Калахари, Нубийской пустыне и Сахаре. Впрочем, до Сахары было рукой подать – всего-то пятьсот километров к югу. – Ну и жарища! – недовольно пробормотал Боб. – А черному хоть бы хны… Небось у них в Трихамате еще пожарче! Всю дорогу до пляжа они молчали, но когда мы устроились на лежаках под пестрыми зонтиками, окунулись по первому разу, а затем разглядели и обсудили всех близлежащих сеньорит, затеялась серьезная беседа. Боб, как оказалось, был поклонником кунфу и карате (искусства, абсолютно необходимые торговцу фруктами), а Дик отдавал предпочтение таиландскому боксу. Они принялись обсуждать достоинства этих систем, размахивая руками, все больше горячась и накаляясь, и наконец совсем отказались от переводчика (то есть от меня) и перешли на выразительный язык междометий и жестов. Бартон, свирепо оскалившись, отодрал деревянную планку от лежака, переломил, сложил вдвое и перешиб одним ударом. Боб снисходительно усмехнулся и начал молча разбирать свой лежак: под верхними планками были бруски посолидней, сантиметров в пять, сухие и прожаренные солнцем до гранитной твердости. Вскоре от них остались щепки, а звуки ударов и азартные возгласы привлекли к нам внимание сеньорит, сеньор и их сеньоров. Одна из них, костлявая желчная англичанка лет под шестьдесят, что-то с возмущением втолковывала супругу, такому же костлявому и желчному; он наконец поднялся, окинул нас злобным взглядом и побрел к набережной. «Не иначе как за полицейскими», – с тревогой подумал я. Не все, однако, были против наших молодецких забав. Вокруг нас собралась стайка тоненьких и смуглых девушек-испанок: они восхищенно взирали на Боба и Дика, хихикали и щебетали, словно канарейки. За ними расположился толстый немец с банками пива в обеих руках: две банки он прижимал к животу, а из третьей прихлебывал и подбадривал моих приятелей утробным рыком. Были еще какие-то молодые люди спортивной наружности, и среди них – Леонид: он то приподнимался на носках, то вращал глазами, то азартно вскидывал вверх стиснутые кулаки и мычал что-то неразборчивое – словом, переживал. «А где же его братец?» – подумал я и тоже приподнялся. Лев обнаружился метрах в десяти от нас. К моему удивлению, спортивные игрища его не занимали; он простерся на лежаке с закрытыми глазами и с упоением слушал музыку. Магнитофон, очевидно, находился в сумке: провода от наушников тянулись к ней и исчезали в ее объемистом чреве. Временами Лев поднимал руку, поправлял наушники и делал плавный, волнообразный жест, как бы дирижируя оркестром или подчиняясь неслышимой мелодии; это выглядело забавно и трогательно. В который раз я дал себе зарок не судить о людях по первому впечатлению. Взять хотя бы этих братцев-лейтенантов… Может, они не лейтенанты вовсе, а студенты консерватории, которых богатый папа отправил отдохнуть? Может, и папы богатого нет, и эти два молодца трудились не покладая рук – точно так же, как я в моем студенчестве – чтоб посетить на каникулах Испанию? Может, глаза их серые от природы, а не посерели согласно служебным уставам? «Сложная штука жизнь», – мелькнуло у меня в голове. Если использовать строгий и точный математический язык, любая мало-мальски серьезная жизненная проблема относится к классу некорректных задач, где случайность, помеха или внезапная подсказка могут радикально изменить решение. Предположим, был я свободен и холост, гулял, как кошка, сам по себе, не глядя на всяких серых мышек; но тут приходит остроносый волк и просит передать повестку мышке… Цепь случайностей, флуктуация на флуктуации! А в результате… Тем временем шкаф и зулус, покончив с лежаками, взялись за зонтики. Эти большие зонты, стоявшие над каждым лежаком, крепились к металлическим штырям толщиной в два пальца; и вот теперь Дик, под одобрительные вопли публики, гнул такой штырь, превращая его из стройного латинского «I» в русскую букву Г. Боб дождался, пока эта операция закончится, подбоченился и презрительно пошевелил бровями, напомнив мне в этот момент Дарьиного попугая. Думаю, что на английском он знал десяток слов, но, чтоб объясниться, сейчас хватило двух. Он ткнул себя кулаком в грудь, оттопырил большой палец и сказал: «Йесс!» Потом плюнул Бартону под ноги и произнес: «Фак!» Подумал и добавил: «Фак, Читафуга!» Затем в свой черед взялся за железный стержень. Чувствовалось, что они оба завелись. Я попытался представить, что произойдет, если зулус и шкаф сойдутся в смертельной схватке на этом тихом берегу, под теплым андалусским солнышком. Вероятно, на всем пляже не останется ни единого целого зонтика, ни одного лежака, а гальку перетрут в песок… А заодно – и зрителей… Но тут появился костлявый британец с каким-то испанским кабальеро. Испанец, вероятно, был пляжным смотрителем; разглядев причиненный ущерб, он начал темпераментный монолог, но Бартон вытащил бумажник, а из него – стодолларовую купюру. Страсти вмиг остыли, инцидент был исчерпан, и зрители разошлись; супруги-англичане перебрались подальше от нас, Леонид улегся рядом с братом, толстый немец вскрыл вторую банку пива, а смуглокожие испанки упорхнули в море. Бартон пошарил в карманах, вытащил зеленоватую упаковку – казалось, запасы жвачки были у него неисчерпаемыми – и протянул Борису. Вероятно, это являлось знаком примирения; они поделили жвачку на двоих, потом Боб потянулся к своей сумке, достал сигареты и угостил Бартона. Я закурил свои. Минут пять мы дымили, поглядывая на море, в котором весело резвились сеньориты. Наконец Борис поднялся и сказал, обращаясь в пространство между мной и Диком: – Надо бы окунуться. Как-никак за соленую водичку тоже деньги плачены. Он вразвалку направился к воде, всем видом демонстрируя, что торопиться не намерен, а намерен получить максимум удовольствий за свои денежки: и окунуться, и поплавать, а может, и сеньорит пощекотать. Бартон же, наперекор своим утренним намекам, на девушек внимания не обращал, а глядел почему-то на усеянную заклепками зеленую сумку Боба, что валялась рядом с разбитым лежаком. Странно глядел, с опаской – так, словно из сумки вот-вот выскочит ядовитый тарантул. Внезапно он подмигнул мне, придвинулся ближе, выплюнул жвачку в ладонь и залепил ею крайнюю заклепку на Бориной сумке. Смысл этой загадочной манипуляции остался для меня неясным; мне показалось, что он собирается подшутить над Борей и приглашает меня в сообщники. Но если подшутить, то как? Я терпеливо дожидался объяснений, но вместо них зулус еще раз подмигнул и протянул мне руку. – Поздравляю, Гудмен! Ты застрахован в моей компании, а чтоб не пришлось беспокоиться о взносах, тебе открыли счет в швейцарском банке «Хоттингер и Ги». Небольшой, но очень почтенный банкирский дом – солидность, надежность, вековые традиции и абсолютная тайна вкладов… Счет на предъявителя, вот его номер и телефон. – Зулус протянул мне бумажку с двумя группами цифр, выписанных четким, разборчивым почерком. – Позвони, представься, продиктуй номер счета и скажи, какой ты желаешь выбрать пароль. Любое восьмизначное число или восемь любых символов… – Идентификатор, – перебил я с кислой улыбкой. – Это называется идентификатором. Кодовое слово, по которому счет будет доступен только мне. Брови Бартона приподнялись. – Ты очень образованный человек, Гудмен. Слишком образованный для парня, который мастерит бильярдные кии. – Не забудь еще про вешалки из лосиных рогов, – добавил я с таким кислым видом, будто мне поднесли лохань с сотней мелко нарезанных лимонов. Клянусь, что не притворялся; как большинство соотечественников, я знаю, что следует за словами: поздравляем, вы выиграли приз! Какой бы приз ни имелся в виду – автомобиль, компьютер или кандидат в парламент, – выигрыш рано или поздно оборачивался мнимой величиной. Корнем квадратным из отрицательного числа, нажигаловкой и лохотроном. Бартон, бросив искоса взгляд на братцев-лейтенантов, придвинулся еще ближе. Мне показалось, что они забеспокоились: Лев, ценитель музыки, что-то объяснял Леониду, тыкая пальцем в наушник. Потом они оба склонились над своей необъятной сумкой, и теперь я видел только две загорелые спины и пару стриженых макушек. – Образованные люди очень нуждаются в деньгах, – произнес Бартон, пощипывая вислую нижнюю губу. – Особенно в России. Спорить с этим не приходилось, и я мрачно кивнул, размышляя, в какой капкан меня пытаются загнать. Я испытывал странную смесь раздражения и любопытства: первое – от того, что меня считали лохом, а второе, пожалуй, носило профессиональный характер. Все-таки крысоловы разбираются в капканах! Причем не только отечественного производства. Зулус Дик жарко дышал мне в ухо: – Ну, ты доволен? Учти, наша компания работает только с избранной клиентурой. Полная гарантия анонимности, полная безопасность плюс надежная страховка… – И на сколько же меня застраховали? – поинтересовался я, не спуская глаз с лейтенантов. Похоже, оба были в полной растерянности. – Пока – на две тысячи. На две тысячи американских долларов. Целых двадцать бумажек с портретом президента Франклина. Я небрежно пожал плечами: – За кий мне больше платят. Не говоря уж о вешалках. Глаза у Дика выпучились. – А ты не врешь? Не набиваешь цену? Дороговаты вешалки у вас в России! – Не вешалки, а рога. Рога всегда в цене. Он задумчиво покивал, посматривая на Льва и Леонида. Они суетились возле сумки, как пара автомехаников у разбитого вдребезги «жигуля». – Ты умный человек, Гудмен. Ты, разумеется, понимаешь, что две тысячи долларов – лишь первый взнос. За ним последуют другие. – Какие? Нельзя ли уточнить? – Возможно, десять тысяч или пятьдесят… Все зависит от тебя. – Пятьдесят – это уже разговор. За пятьдесят можно продать пару-другую секретов. Скажем, что ест на завтрак президент… или каким нарзаном поливают друг друга депутаты Думы. Про нарзан он не понял и лишь помотал головой. – Ваши мелкие разборки мою компанию не интересуют. Полируйте друг другу косточки хоть до Страшного суда – нам-то что? У нас свои заботы. – Например, страховой бизнес? – Например, – согласился Дик. – Сфера его растет, ширится и процветает, и хоть мы не страхуем торговлю гнилыми бананами и тухлыми грушами, но относимся с пониманием ко всем запросам клиентов, даже к самым экзотичным. А многие из них – клиенты, не запросы – чуть-чуть повернуты… или даже не чуть-чуть… – Он покрутил толстым пальцем у виска и оглянулся на лейтенантов. Там явно назревала драма: Лев в полном отчаянии сорвал наушники, а Леонид угрюмо хмурился и щипал губу. – Так вот, в последнее время наши клиенты страдают вичфобией, – продолжал Дик, переменив позу и задумчиво рассматривая сероглазиков. – Такое вот дело… Вичфобия… Тебе понятен этот термин? Я кивнул. Речь шла не о вирусе СПИДа, а о боязни черной магии и колдовства:[554] выходит, мы наконец подобрались к нашим колбасным обрезкам. – Многие жалуются, что над ними производят магические эксперименты, накладывают заклятья, очаровывают, заставляют делать то и это, чего им в голову бы не пришло, если б не влияние магов, призраков и всяких потусторонних сил. Скажем, кто-то вдруг загорелся желанием совратить президента – разумеется, нашего, а не вашего, – или выпустить кишки конгрессмену, или подбросить бомбу в Белый дом, или разрезать маму бензопилой, а папу провернуть в мясорубке… Ужасные вещи, Гудмен, просто ужасные! Но люди полагают, что их вины тут нет, а все – влияние астрологов и магов. Люди хотят застраховаться от таких событий, и это желание – их неотъемлемое право согласно божественному закону и нашей конституции… Ты улавливаешь мою мысль, Гудмен? – Вполне, – ответил я. – Вы, значит, в затруднении? Клиентов неохота упустить и конкурентов надо обскакать, однако предмет страховки весьма туманен? Сфера ментального, сплошные загадки и неопределенности… Если супруг зарезал супругу, чтоб завладеть ее полисом, все ясно: дело идет в суд, супруг – на электрический стул, вопрос исчерпан, и можно не платить. Но при ином повороте событий, когда супруга угасает от чар злокозненного колдуна, вам, парни, не отвертеться… Вроде как естественная смерть… или не смерть, а полная амнезия либо утрата дееспособности… В любом случае – плати! Я верно понимаю ситуацию? – Более или менее, – подтвердил зулус. – Я убеждаюсь с каждой минутой, что ты, Гудмен – настоящий интеллектуал, и всякие вешалки и рога – лишь эпизод в твоей карьере. Кем ты, кстати, был в восьмидесятых? В эпоху, когда у вас еще не слышали о демократии? Я улыбнулся – печально, но с достоинством. – В ту эпоху, Дик, я сидел в заточении, как мамонт в вечной мерзлоте. Не Соловки, но очень похоже… Там меня и обучили всяким полезным ремеслам. Строгать рога, дубить медвежьи шкуры, химичить и заниматься ловлей крыс. – О! – произнес Бартон. – Так ты еще и крысолов? – Самой высшей квалификации. С полным университетским образованием и ученой степенью. Он покачал курчавой головой: – Удивительная у вас страна! Верно сказано: умом Россию не понять… – И не пытайся, парень, только грыжу заработаешь. – Я бросил взгляд на Леонида и Льва, которые с отчаянными лицами сидели по обе стороны своей сумки. Лев снова подключился к ней, но можно было поклясться, что слышит он лишь шорох предвечного эфира. По моим губам снова скользнула улыбка. Нет, все-таки я разбираюсь в людях! – В общем и целом, – сказал Бартон, проследив мой взгляд и тоже усмехнувшись, – моя компания нуждается в информации. О магах, колдунах и их приемах, о формулах и раритетах черной магии, о всяком этаком-таком… – Он неопределенно пошевелил пальцами. – Сам понимаешь, Россия нынче – держава ведьмовства. Откуда еще получить надежные данные? Только от вас. У вас там все экстрасенсы и маги, все одной космической энергией питаются… опять же Тибет с Индией близко… – Дик наклонился ко мне и, заговорщицки подмигнув, прошептал: – Соглашайся! За ценой не постоим! Ну как, договорились? – Договорились, – кивнул я и спрятал в нагрудный карман бумажку с координатами банка «Хоттингер и Ги». – Договорились, ежели по десять тысяч за раритет и пятьдесят – за формулу. Формулы, как и рога, нынче в цене. Мы ударили по рукам, и Бартон пообещал, что в Петербурге меня непременно разыщут. В самом скором времени, как только появятся вышеозначенные раритеты. Медлить не станут, сразу найдут. «Не представитель ли некой религиозной конфессии?» – поинтересовался я. «Очень может быть», – ответствовал Бартон, тщательно удаляя жвачку с сумки Бориса. Потом он щелкнул по заклепке ногтем, заставив Льва подпрыгнуть на лежаке, и громко произнес: – … Представляешь, Гудмен, лежу я на этой бабе в чем мать родила, и тут открывается дверь и входит ее благоверный. Во-от с таким гаечным ключом… Я обернулся. К нам шествовал Боря-Боб – могучий, рослый, сероглазый, с влажно поблескивающей кожей и победительной улыбкой на устах. Потом он взглянул на загрустивших лейтенантов, и его улыбка поблекла.Глава 9
Вернувшись с пляжа и отобедав (салат из креветок, бифштекс с кровью и, для разнообразия, бутылочка сладкой «Сангрии»), я обнаружил, что третий день гощу в испанском королевстве, а, собственно, не видел ничего. Ровным счетом ничего, кроме моря, пальм, отеля «Алькатраз» и его постояльцев – если, разумеется, не считать вчерашнего тукана. Согласен, он был весьма забавной птицей, но все же не мог заменить соборов, башен, витражей, дворцов и прочих местных достопримечательностей. А потому я быстренько собрался, взял нанабережной такси и, несмотря на сиесту, покатил в Малагу. Боб, конечно, увязался со мной. Я не возражал. Во-первых, как всякий бывший советский человек, я не чужд духа коллективизма, въевшегося в кости, плоть и кровь, а этот дух подсказывал мне: бродить одному по заграницам нехорошо, лучше гулять в компании. Под надлежащим, так сказать, присмотром. Во-вторых, я все еще надеялся, что смогу разговорить Бориса, что в какой-то момент спадет с него маска болвана и олуха и слабое дуновение истины долетит до меня, позволив ясней разобраться в подоплеке событий. Это совсем не исключалось: ведь самый опытный актер не может рядиться изо дня в день в отрепья идиота, являясь, в сущности, неглупым человеком. Конечно, Боря-Боб не был гигантом мысли, но у меня бродили подозрения, что парень он не простой – поумнее, чем кажется на первый взгляд. Итак, мы отправились в Малагу и осмотрели собор, дворец епископа, бульвары и портовые причалы, мавританскую крепость под названием Хибральфаро, арену для боя быков, полуразрушенный замок последнего арабского эмира и римский амфитеатр. Из всех этих сокровищ испанской культуры я с наибольшим энтузиазмом осмотрел дворец. Снаружи было под сорок, мозги плавились и растекались манной кашей, а здесь, под защитой полутораметровых стен, царила приятная прохлада. Вдобавок вход был бесплатным, и посетители могли бродить тут в тишине и холодке, попутно любуясь современной скульптурой (сталь, бронза и бетон), а также огромным фикусом, который рос в патио. По крайней мере, я решил, что это фикус, но не исключалось, что то была кокосовая пальма или нечто другое, не менее экзотическое. Дворец был последним в нашем списке, и, передохнув душой среди его гостеприимных стен, мы отправились за подарками, обследуя одну за другой узкие городские улочки. Мне нравится делать подарки. Это большое искусство, в котором я изрядно преуспел и знаю: чтобы найти подходящую вещь, надо напрячь воображение и не жалеть ноги. Итак, мы искали сувенирную лавку – не с туристским ширпотребом, как в районе отелей, а что-нибудь более солидное, с испанским колоритом, однако доступное по цене. Последний фактор был решающим, и, посетив ряд заведений, где торговали натуральной кожей, фарфором, хрусталем и прочими брошками-сережками, мы несколько приуныли. – Подарки – дело серьезное, – бурчал Борис, обмахиваясь широкополой шляпой и изучая очередную витрину. – Враз не ущучишь, где и чего купить… и чтоб без нажигаловки… без крепкой нажигаловки, каленый пятак тебе к пяткам… Нажгут все равно, усатые гниды, так хоть не втрое, не вчетверо… Вот хотя бы браслетик этот взять, серебряный, с зеленым камушком… Сорок тысяч песюков, с ума сойти! Ты говоришь, изумруд? И даже наклейка есть? И в ней написано, что изумруд? Написано, ха! Чтоб я так жил! Доверчивый ты, Дмитрий… сокровища тебе мерещатся, дружбишься с кем попало, в наклейки веришь… а там стекляшка вместо изумруда, и серебро небось разбавлено… За полуразрушенным римским амфитеатром нашлось заведение поскромней, и Боря, насупившись и шевеля бровями, стал пристально разглядывать витрину. То была лавочка всяких скандальных штучек, какие люди состоятельные и эмансипированные держат где-нибудь на каминной полке, дабы изумлять друзей. За толстым прозрачным стеклом располагались: гипсовый муляж слоновьего фаллоса в натуральную величину, раскрашенный с неподражаемым искусством; чучело летучей мыши с имплантированной крохотной женской головкой, смутно напоминавшей какую-то из голливудских кинозвезд; маска графа Дракулы с оскаленными клыками; сатир, совокупляющийся с нимфой на танковой броне – нимфу я не признал, а вот рожа сатира носила явное сходство с незабвенным Лаврентием Палычем Берией. Кроме того, там были выставлены наши родимые матрешки – Блин Клинтон со всеми его женщинами, причем Хиллари, законная супруга, была из них самой крошечной. Над головой президента висел запаянный в пластик марочный блок несуществующей республики Нагаленд – с тем же Клинтоном и Моникой Левински в интересных позах. Пожалуй, через век-другой цены ему не будет, как «голубому Маврикию», подумал я, борясь с искушением приобрести этот шедевр. Но, с одной стороны, тянул он на пять тысяч песет, а с другой – завещать его мне было абсолютно некому. Я посоветовался со своим бумажником и смирился. В эту лавку мы все-таки заглянули. Боб приобрел игральные карты с лесбийскими мотивами, бисерный веер с «Обнаженной махой» и раскрашенную статуэтку Колумба: великий мореплаватель стоял в полный рост, а перед ним согнулся индейский касик, протягивая гроздь бананов. Думаю, эти бананы и соблазнили Борю – в отличие от Колумба и касика, они были похожи на оригинал. Я, после долгих размышлений, купил для Дарьи палисандровую шкатулку, инкрустированную серебром. Она была небольшой, тщательно сделанной, изящной, и внутри нашлось бы место только для пары колец. Каких? Это был вопрос вопросов! Глобальная проблема для всякого холостяка! Мужчина в тридцать шесть не молод и не стар, он – личность ответственная, самодостаточная, закаленная жизнью, и это хорошо. Хорошо в том смысле, что он созрел, но не успел подгнить, и может без иллюзий распорядиться своей судьбой. Например, решить, какие кольца лягут в палисандровую коробочку… Но, с другой стороны, его гнетет боязнь перемен. Он понимает, что наступила пора целовать кого-то в щечку, кого-то качать на коленке, однако такие метаморфозы внушают ему панический страх. Ужас, скажем начистоту! И я, признаться, не был исключением. Такой вот морально-психологический коктейль… Боря-Боб не замечал моих терзаний. Пересчитав карты с нагими лесбиянками, он поморщился и пробурчал: – Хоть здесь не нажгли… Кругом одни кидалы… чмо и хоботы… торчки и шмурдяки… и этот жлоб из Манивоки… Доберусь я до него, почищу перышки! Печень вырву! – Тут не Россия, – напомнил я, – тут самое безопасное место во всем испанском королевстве. Ну, станешь ты печень рвать… Мужик он здоровый, без шума не обойдется… А в результате – международный скандал. Скажут, русская мафия за чернокожих взялась. Нехорошо! Мы ведь все-таки интернационалисты! – Лично я – без «интер», – сказал Боб, вдруг становясь серьезным. – А что до чернокожего, так он не простой угнетенный негр, а хмырь из Лэнглипусы. И тебя, кретина, охмуряет… Гляди, охмурит! Был ты дурик, а будешь жмурик. Ясно? Куда уж ясней! Особенно про Лэнглипусу, где штаб-квартира ЦРУ… Я принял эту информацию к сведению и простодушно улыбнулся. – С чего ты решил, что меня охмуряют? Боб поиграл бровями, сплюнул на торчавшую у обочины пальму, задумчиво посвистел сквозь зубы. – Знаем мы охмуряльные методы, знаем! Вначале – изолировать фигуранта, лишить гласности и связей с общественностью, потом – наобещать с три короба, а под занавес отправить на погост, кормить червей. С веночком на гробике. – Если быстро и безболезненно, так не столь уж плохая перспектива, при нашей-то нынешней жизни, – заметил я. – Опять же венок… Может, еще и похороны оплатят. – Похороны я сам тебе оплачу, – пообещал Боб. Он неожиданно развеселился, раскрыл веер с «Обнаженной махой» Гойи, поглядел на него, одобрительно хмыкнул, закрыл и, пользуясь веером вместо клинка, стал объяснять мне, куда положено колоть и резать, чтоб фигурант быстрей переселился в мир иной. Потом – куда положено бить: в висок, в глазницы, под основание черепа, по горлу… Нельзя сказать, что я совсем уж неофит в таких делах: в студенческие годы, в промежутках между моргом, лекциями и ленинградской товарной, я успел позаниматься «рестлингом». «Рестлинг» – это мы так его называли для пущей важности. На самом деле то была борьба без правил, и суть ее заключалась в краткой формуле: дать в зубы, чтоб дым пошел. Поэтому, внимая Борису, я не слишком ужасался и не впадал в прострацию, а размышлял о том, что хомо сапиенс, если брать по-крупному, делятся не на расы, народы и племена, а всего на две категории: одним угробить ближнего что муху раздавить, другим же этот подвиг не по силам. К тому же большинство людей не знает, к какой категории относится, пока им не сунут автомат и не отправят в афганские горы или вьетнамские джунгли. И слава Творцу, что не знает! Я представил Боба с топором в руках – с тем самым, что висел в моей прихожей, – и содрогнулся.* * *
Перекусив в пиццерии, мы взяли такси и вернулись в отель в девятом часу. Дальнейшая программа была кристально ясной: бассейн и променад до бара. Я спросил бутылку белого, а Боб – стакан покрепче; затем мы вынесли столик в парк, уселись под цветущим тамариском и стали потягивать каждый свое. Мои лейтенанты куда-то запропастились – должно быть, от смущения за утренний провал, но Ричард Бартон из Таскалусы был тут как тут: приплясывая и поводя плечами, двигаясь как бы под звуки неслышимого джаза, подтанцевал к нашему столику с порцией виски и карманами, набитыми жвачкой. Поразительная личность! Если не пьет, то говорит, а если не говорит, так жует. Правда, угощать нас он не забывал. Мы потрепались о том о сем – о национальных пристрастиях в сфере напитков, о династии Бурбонов и испанском короле, чей гордый профиль украшал песеты, о паре гомиков, появившихся сегодня в отеле «Алькатраз», о толстой немке, которая хоть не отличалась стройностью испанок, но вряд ли уступала им в постели. Выпили мы немного: я одолел половину бутылки сухого, а Боб с Диком – по три порции горячительного. Время за разговорами (вполне мирными, без посягательств на чью-либо печень) летело незаметно и быстро. Меж тем небеса потемнели и озарились яркими южными звездами, над горным хребтом поднялась ущербная луна, посеребрив воду в бассейне и выложенные искусственным мрамором дорожки, поле для гольфа покрылось мраком, а платаны и пальмы оделись густыми сумрачными тенями, став похожими на гигантских рыцарей в черных плащах. В парке и на открытой площадке у бара вспыхнули фонари, но публика – большей частью народ семейный, малопьющий – уже расходилась. Проковыляла толстая немка со своими чадами, тащившими ворох бутылок с пепси; чинно удалились британцы и датчане; тихонько уползли гомики; покинули бар пожилая чета из Питера и молодые супруги с шустрым малышом. Только неугомонный полковник Гоша все колобродил у стойки, заливая Элле, Стелле и Белле, а также бармену Санчесу, как довелось ему командовать полком в Афгане, как он гарцевал на полевой кухне и рубил моджахедов в лапшу. Девушки попискивали в самых драматичных моментах, а Санчес вежливо улыбался и ждал, когда же русский сеньор угомонится и свалится под стойку. По-моему, шансов у Санчеса не было. – Вот она, справедливость, – задумчиво протянул Боря-Боб, скосив глаза на полковника. – Одни отчизне служили, кровь проливали, а нынче топают на костылях… Другие жрали-пили и набивали карман, и теперь им все позволено – и та же выпивка, и бабы, и брехня о драчках, где задницы их отродясь не бывало. И власть опять же у них… Иду на спор, что этот шмурдяк всю жизнь просидел в тихой дыре под Питером или Москвой и на горы глядел отдыхаючи в Сочи… А нынче врет и не краснеет! И где ведь врет, каленый пятак ему к пяткам – не в Сочах каких-нибудь сраных, а в заграницах! Куда за рубль не долетишь! – Но ты ведь тоже долетел, – произнес я. – Долетел!.. – Борис резко оборвал фразу, и мне показалось, что он хотел добавить: «За казенный счет». – Долетел, зато не вру. А мог бы порассказать… мог бы… Он выплеснул содержимое стакана в глотку, поднялся и твердым шагом направился к стойке. Бартон дернул меня за рукав: – Боб расстроен? Почему? Из-за утреннего инцидента? Так я готов искупить. Может, мы и ему откроем счет в банке «Хоттингер и Ги»? – Боб душой тревожен, а это деньгами не поправишь, – объяснил я. – Он хочет не денег, а справедливости. – Справедливость – тоже вопрос денег, – заметил Бартон с истинно американским прагматизмом. – Отнюдь. И то и другое надо рассматривать в аспекте конкретной национальной идеи. Американская идея какова? Что Штаты – оплот демократии, а раз оплот, то должны быть сильны и богаты. Богатство и сила измеряются деньгами; значит, кто при деньгах, тот и прав. Русская же идея совсем иная и коренится в православных и коммунистических догматах. Русские считают, что богатство – зло, а бедность – не порок, что духовное превалирует над материальным и что их миссия – распространить такие идеи по свету, в обоих земных полушариях, не исключая Антарктиды. Вот когда распространят, тогда и установится справедливость! Героям дадут по ордену, честным труженикам – по медали, а мошенники и тунеядцы вымрут сами собой. Понял? – Не понял, – отозвался Дик. – По-моему, это чепуха, и вот тебе живой пример: все страховые агенты – мошенники, но я не собираюсь вымирать. – Вымрешь, когда мы до вас доберемся. – Не доберетесь. Пока что мы вам одалживаем деньги, а не наоборот. Мы замолчали, чтобы в покое и тишине обдумать национальную идею: он – свою, а я – свою. Боб тем временем топтался у стойки с полной емкостью в руках, но, против моих ожиданий, морду полковнику бить не стал, а даже чокнулся с ним и перекинулся парой слов с девицами. Затем вернулся к нам – повеселевший и возбужденный. Глаза его хитро поблескивали из-под нависших бровей, и даже квадратная физиономия вроде бы сделалась округлой. – Что приуныли, братаны? – провозгласил он. – Порох отсырел или градус в душе не играет? Так я вас щас развеселю! Есть у меня одна штучка… Он полез в карман, а Дик взглянул на меня с явным вопросом во взоре. Пришлось переводить. – Боб боится, что у нас порох отсырел, и обещает развеселить. – Я уже веселый, – промычал Бартон, отхлебывая из стакана. Я потянулся к своему, но моя конечность внезапно застыла в воздухе, будто стрела подъемного крана, не обнаружившего груз. Боря-Боб, поглядывая то на меня, то на зулуса, подбрасывал на ладони небольшой футлярчик, пестренький, цилиндрический, как раз такой, в каком хранят непроявленную фотопленку. И был этот футляр, за исключением расцветки, полным подобием найденных мной, распиханных по сейфам и халатам: точно такого же размера, той же формы и, кажется, из того же пластика. Признаюсь, что к этому фокусу я не был готов. Совсем не был! Хоровод цветных футлярчиков мелькнул перед моими глазами; черный и голубой будто выпрыгнули из сейфа в Промате, а остальные присоединились к ним, покинув продранный карман, и закружились надо мной по эллиптическим орбитам. Двигались они неторопливо, будто давая возможность как следует их разглядеть и даже пересчитать, так что я смог убедиться, что память меня не подводит, что их по-прежнему шесть, и пестрый никуда не делся – вот он кружится за белым и золотым, подмигивая разноцветными полосками. – Никак ты привидение увидел? – с насмешкой произнес Борис, хлопнув меня по руке. – Знакомое привидение, а? – Он перевел взгляд на Бартона, но тот разглядывал пестрый цилиндрик с явным недоумением. Потом спросил: – Это что такое? Видимо, Боря-Боб понял вопрос по интонации, так как тут же откликнулся: – Это такая штука – «веселуха», которой у нас в любом ларьке торгуют. Погляди-ка! Он отвернулся и вытряхнул на ладонь что-то крапчато-полосатое, искристое, с плавными округлыми обводами, напоминающее маленькую фигурку енота или иного зверька, кошки или белки, причем было абсолютно неясно, где у этой кошки-белки хвост, а где голова. Она показалась мне такой забавной, такой смешной, что на губах волей-неволей родилась улыбка; потом, не спуская глаз с широкой ладони Бориса, я рассмеялся и наконец захохотал. Бартон вторил мне гулким басом. Говорят, что смех – ужасное оружие, но где пределы его власти? Смех способен вызвать слезы, героя превратить в паяца, владыку – в глупого шута; из красавицы смех сделает дурнушку, из академика – кретина; он может привести к дуэли, к самоубийству или драке, разжечь костер ненависти, уязвить гордость; еще он умеет жалить, жечь, ранить, унижать и убивать. Но все это – фигуры речи, включая смерть; мы понимаем их иносказательно, и потому нам мнится, что смех сам по себе безвреден. Но это не так. Наш смех не был обидным, злобным или мстительным, издевательским или саркастичным. Мы просто смеялись; первые две минуты с удовольствием, причем хохотали так, что скамейка тряслась, а с тамариска осыпалась половина цветов. В следующие две минуты удовольствие приуменьшилось, но мы не могли остановиться, мы смеялись с натугой, еще не понимая, чем кончится внезапное веселье. Затем смех принялся выворачивать нам внутренности, и наступило время испугаться, но испуг был каким-то вялым, заторможенным, неспособным бороться со смехом: мы хохотали по-прежнему, зачарованно глядя в ладонь Бориса, наши расслабленные тела содрогались, пот заливал глаза, а из разверстых глоток рвался хриплый каркающий рев. Наш мучитель сжал кулак, и мы в изнеможении откинулись на спинку скамьи. В горле у меня хрипело и клокотало; Бартон то ли постанывал, то ли повизгивал, и с нижней его губы стекала на подбородок слюна. В данный момент все его мускулы, крепкие кости, непрошибаемый череп, могучие челюсти, как и умение пользоваться этим добром, не значили ровным счетом ничего; он был беззащитен, словно новорожденный младенец. Мешок с трухой, и только. Впрочем, и я оказался не в лучшей форме. – Ну, повеселились, и хватит, – сказал Боря-Боб, прибирая пестрый футлярчик в карман. – Пощипали перышки кое-кому… всяким хитрожопым умникам… Глядел он при этом не на Бартона, а на меня, так что не приходилось сомневаться, кто тут хитрожопый умник. Дмитрий Григорьевич Хорошев, специалист по части крыс, полировальщик рогов, великий химик и токсидермист… В этот момент я и в самом деле готов был содрать с Бориса кожу и набить чучело. Ведь он меня купил! Купил со всеми потрохами! Я мог долдонить сколь угодно, что знать не знаю о штучках Арнатова, но у противной стороны будет иное мнение: теперь им известно, что я их видел. А раз известно, они меня дожмут. Навалятся скопом, устроят допрос и выдавят истину пытками… хотя бы той же веселухой… Такой вариант полагалось обмозговать, и я, шатаясь, поднялся. – Хрр… Ты, Боря, лучше фруктами торгуй. Серьезное занятие, там не до смеха… Опять же грыжу не наживешь… – Я-то не наживу, – с усмешкой сообщил Борис. – Ты о себе позаботься, химик! – Вот это правильно, с этим я согласен. Главное – забота о здоровье, так что пойду-ка я спать. Смех продляет жизнь, если подкреплен долгим сладким сном. Я развернулся, но тут Бартон пришел в себя, вытянул длинные ноги в коричневых замшевых башмаках и хриплым голосом спросил: – Что это было, Гудмен? Меня словно перышком щекотали… по пяткам и в других местах… Даже внутри, по селезенке… О-ох! Брюхо до сих пор сводит… – Магия и колдовство, колдовство и магия, – сказал я, мстительно улыбаясь Борису. – Это, Дик, был тот самый раритет ценою в десять тысяч долларов. Переведи их для Боба в банкирский дом «Хоттингер и Ги». – А формула? – Формула за мной. Зулус поскреб курчавый затылок, достал непочатую жвачку в золотистой обертке, медленно развернул и кивнул Борису – мол, угощайся, друг дорогой. Перешагнув через его ножищи в гигантских башмаках, я потащился к лестнице и лифтам, чувствуя, как в животе что-то екает, подпрыгивает и раскачивается, словно кишки затеяли футбольный матч с желудком. По дороге я нагнал девиц и полковника – он тоже тащился на полусогнутых, опираясь на хрупкое плечико Эллочки. – Т-ты, ммуж-жик… – произнес полковник Гоша, уперев в меня мутный взор. – В-вы, ммуж-жики… ч-чего там рр-жали? Анн-хдот ннов-вый, х-хе? – Самый новый, – сообщил я. – Про Афган. Как моджахед ставил клизму одному интендантскому полковнику. Эллочка хихикнула, а Гоша, хоть и был крепко пьян, побагровел. – Т-ты н-на что н-намекаешь, щ-щенок? Я бы объяснил, на что, но тут кишки забили гол желудку, и мне пришлось срочно юркнуть в лифт.Глава 10
Я проснулся в восьмом часу от истошного визга. Он был громким, паническим, но довольно мелодичным – похоже, вопила женщина с незаурядным вокальным даром. Мне чудилось, что где-то подо мной, на нижних этажах, ведет бесконечную партию колоратурное сопрано: визг то поднимался до самой высокой пронзительной ноты, то смолкал на мгновение, как будто визжавшая набирала побольше воздуха в грудь, то начинался с новой оглушительной силой. В чем был, я выскочил на балкон. Визжала толстая немка. Не знаю, что побудило ее подняться в такую рань – может, неистребимая немецкая пунктуальность или гигиенические соображения. Нормальный человек, который находится в отпуске, обычно спит до девяти, потом неторопливо продирает глаза, завтракает, пьет чай и только после этого лезет в бассейн купаться – с полной гарантией, что он проверен ответственными лицами. Теми, которым положено осматривать и проверять бассейны, а также беречь постояльцев от нервных стрессов. Если же вы пренебрегаете этим правилом, то можете наткнуться на что-то неприятное – скажем, на дохлую крысу или кошку, на жабу, собачьи фекалии или, как в данном случае, на свежий труп. Труп прибило к бортику, и с моего восьмого этажа он был отлично виден с тыла. Человек лежал в воде ничком: майка обтягивала мощную спину, руки были распластаны, ноги в синих линялых джинсах дрейфовали вслед за квадратным корпусом, как две баржи за широким кургузым буксиром. Стриженый затылок напоминал чугунное ядро, приделанное к короткому толстому основанию шеи, зад был приподнят, а плечи опущены, словно утопленник с разбега нырнул в бассейн вниз головой. Вода в бассейне была прозрачной, дно выстлано голубоватой плиткой, и на этом пастельном фоне труп казался каким-то темным инородным включением – гигантский жук, угодивший по случайности в миску с формалином. Немка продолжала визжать. Я протер глаза, сглотнул и убедился, что не ошибаюсь: там, в бассейне, раскинув конечности и тыкаясь носом в дно, плавал мой земляк Боря-Боб, безгласный и недвижимый, точно останки шкафа, распотрошенного и выброшенного за ненадобностью. Эта картина была резкой и четкой, однако какой-то неестественной: во-первых, я еще не осознал случившегося, а во-вторых, увиденное опровергало все уверения Леши и Гриши о безмятежном отдыхе в испанском королевстве. Теперь приходилось признать, что если тапок и полотенец в Коста-дель-Соль не воровали, то все же здесь случались иные неприятности. К немке подскочил дежурный портье, глянул вниз, отшатнулся и что-то завопил по-испански. Прибежали еще люди, кажется, из местного персонала: двое, бережно обняв немку за талию, принялись ее успокаивать, потом повели к Санчесу, уже спешившему к ним со стаканом воды; остальные склонились над трупом, будто хотели его выловить, но портье прорычал: «Полисиа! Дотторе!» – и один из служащих метнулся в холл отеля – видимо, к телефону. Когда, торопливо умывшись и одевшись, я спустился вниз, полиция и медики уже приехали, а Борю выловили из воды и положили на носилки. В гостиничном холле, выходившем на две стороны, к шоссе и к парку с бассейном, толпилось человек десять – видимо, немка разбудила не всех. У выхода в парк стоял полицейский в роскошной форме с серебряными шнурами, не пропуская желающих взглянуть на мертвеца. Самую яростную активность проявляли Лев и Леонид – с отчаянными лицами пытались что-то втолковать служителю закона, однако тот лишь отмахивался от них и время от времени рявкал: «Но, сеньоре! Но!» Меня он пропустил – когда Санчес, которого допрашивал какой-то тип в штатском, ткнул рукой в мою сторону и разразился воплями сначала на испанском, а после на английском. Из слов его можно было понять, что покойный сеньор выпивал прошлым вечером с доном Диего и чернокожим американским доном, что они веселились и хохотали, а потом дон Диего – вот он!.. в дверях стоит!.. – ушел, а чернокожий дон остался. И беседовал с русским сеньором тихо-мирно, хоть оба были в приличном подпитии – в чем у него, у Санчеса, нет сомнений, повидал он всяких сеньоров, и русских, и финских, и американских, и на ушах, и на бровях. А после он, Санчес, закрыл бар и тоже ушел, и что случилось, не знает, но думает так: американский сеньор отправился спать, а русский, наверное, еще добавил – по этой части русские сеньоры будут покруче американских. Добавил он, значит, и пошел прогуляться, а по дороге свалился в бассейн. И решил, что самое время поспать… Вот чернокожий сеньор из Америки то же самое скажет… Чернокожий сеньор из Америки был тут как тут, стоял слева от детектива в штатском и кивал с печальным видом. А также грустно причмокивал губами, мотал головой и закатывал глаза, будто собирался огласить окрестности протяжными звуками спиричуэлс. Портье, врач в белом комбинезоне и детектив тоже кивали – видимо, изложенная Санчесом версия устраивала всех, как не грозившая крушением туристскому бизнесу в Коста-дель-Соль. Мне пришлось подтвердить, что вчера Боря-Боб и в самом деле набрался, однако не слишком, если учесть его габариты и спортивный тонус. Детектив с кислой миной возразил, что тонус тонусом, а градус градусом; ведь дон Диего не знает, чем закончились вчерашние посиделки и сколько спиртного принял его земляк en masse.[555] «Если принял, то из чего?» – поинтересовался я. Бар был закрыт, но всякий запасливый русский сеньор имеет при себе бутылку либо фляжку. Так где же она? Где роковая емкость, оборвавшая жизнь моего земляка? Начались поиски бутылки – безрезультатные, хотя искали тщательно, под скамейками и лежаками, среди травы и на дне бассейна. Тем временем я наблюдал, как детектив шарит у Бориса по карманам. В них обнаружились: солнцезащитные очки, российский зарубежный паспорт, сорок долларов и тысяч пять песет, монетки, зажигалка и размокшая пачка с сигаретами. Никаких следов цилиндрика с пестрым забавным зверьком, то ли кроликом, то ли белкой… Я бросил взгляд на Бартона, но тот по-прежнему шлепал губами да закатывал глаза, будто бы в горестном недоумении. Носилки с телом Бориса подняли и потащили к шоссе – кружной дорогой, не через холл, дабы не эпатировать собравшуюся там публику. Ей портье объявил, что произошла трагическая случайность, что полиция во всем разберется и что бассейн будет надраен, вымыт и спрыснут французскими духами, так что уважаемые постояльцы смогут резвиться в нем через пару часов. Бартона, с которым мы не успели перемолвиться ни словом, детектив забрал с собой: все-таки мой чернокожий приятель являлся последним, кто видел Бориса в добром здравии, и это полагалось отразить в официальном протоколе. Едва полицейский в дверях исчез, как Лев и Леонид, два братца-лейтенанта, ринулись ко мне со скоростью космических ракет. Они были бледными – краше в гроб кладут! – и я их вполне понимал: во-первых, не досмотрели по службе, а во-вторых, могли очутиться на месте Бориса, порознь или парой. Бассейн велик, а запасы виски и коньяка у Санчеса неисчерпаемы… Я ознакомил их с официальной версией, и минут пять они поливали тупых испанских детективов, врачей, портье и полицейских, не обходя вниманием и королевскую чету. Монархи были, конечно, последними с края, но чего не сболтнешь под горячую руку… Так что меня раздражала не столько ненормативная лексика, сколько ее неандертальский примитивизм – с позиции цивилизованного кроманьонца, читающего нужные словари. Я послушал-послушал, затем вмешался в их диалог и высказал свои соображения по этому поводу – в пяти этажах, с завитушками и прибамбасами. Близнецы почтительно примолкли. Затем Леонид отправился звонить начальству – думаю, в Петербург, а может, и в Москву. Мои лейтенанты уже не скрывали, что связаны с Борисом; об этом хоть не говорилось, но будто разумелось само собой. Если в процессе компьютерных расчетов произошли неприятности, нажмите клавишу «эскейп»… Тоже не говорится, но разумеется, как и многое другое в нашей повседневной жизни. Лев остался со мной и, пощипывая усы, начал дотошно выпытывать каждую деталь вчерашних посиделок. Я рассказал в подробностях, что пили, о чем говорили и как хохотали над анекдотом про интендантского полковника. Затем подвел его к скамье, уже исследованной полицейскими; стол был убран (видимо, Санчесом), а под скамейкой и вокруг нее валялись увядшие цветы тамариска, окурки и четыре скомканные обертки от жвачки. Лев покосился на этот мусор, пожал плечами и направился к бассейну, пробурчав, что криминала и вещдоков тут не наблюдается. Но у меня сложилось иное мнение. Какая-то мысль стучала в мозгу отбойным молотком, или, если использовать более поэтический образ, кружила, как чайка над океанскими волнами. Что-то смутное, связанное с ненайденной бутылкой… Я вдруг подумал, что смерть Бориса разительно непохожа на смерть Сергея: ни огнестрельной раны, ни ссадин, ни синяков – словом, ни единого следа насилия. Похоже, он в самом деле напился вдребадан и ухнул в воду, пребывая в абсолютно невменяемом состоянии… Напился? Но при мне он выпил чуть-чуть, в общей сложности граммов сто пятьдесят, а чтоб напоить такого лося, нужна не бутылка – бочонок… Да и зачем ему пить с коллегой из враждебной конфессии? Пить до бесчувствия, имея с собой футлярчик с драгоценным амулетом?.. Это как-то не вязалось. Совсем не вязалось… Ни бутылки, ни бочонка, ни смысла, ни резона… Другое дело – если его одурманили… Но чем? Я наклонился, поднял валявшиеся в траве обертки и начал их разглаживать. Две – от «Дирола» – вайт, без картинок, с синей и белой надписями по серебристому фону, одна – от «Стиморола», со снежинкой, и еще одна – неведомой мне марки, золотистая, с едва заметным медицинским запахом. Вот и нашлась искомая емкость, промелькнуло в голове, пока пальцы автоматическими движениями расправляли золотой фантик. На обороте был какой-то текст, на английском и очень мелкий, но у меня хорошее зрение. Я вгляделся и прочитал, что лечебная жвачка с клофелином предназначена для гипертоников, что она стабилизирует давление, но, в сочетании с алкоголем, оказывает мощный седативный эффект. Клонит в сон, иными словами. Затем перечислялось еще пять препаратов, добавленных к жвачке, с формулами и названиями из двадцати букв, но это я пропустил; к стыду своему, должен сознаться, что не силен в органической химии. Как, очевидно, и Борис. А зря! Временами не мешает знать, что мы едим, что пьем и что жуем.* * *
Я поднялся в номер, принял душ, побрился и переоделся, затем решил позавтракать. Пока допивал кофе с бисквитом, чистку бассейна закончили, но ни один постоялец не спешил плюхнуться в голубовато-хрустальные воды. На лежаках и шезлонгах тоже не было никого, зато портье с мрачной миной наблюдал, как немка со своими отпрысками и багажом садится в такси. За ней отбыли гомики, полдюжины англичан, две наши супружеские пары из Питера и еще кое-какой излишне впечатлительный народец. Санчес тоже был мрачен: на завтрак явилось всего человек двадцать, и среди них – полковник Гоша с красными, как у вампира, глазами. Я подумал, что ему бы клофелиновая жвачка не помешала, обеспечив разумную экономию средств. Хотя кто его знает? Вполне возможно, цена чудодейственной жвачки была побольше, чем у бутылки «Столичной». Ко мне за столик подсели Гриша с Лешей и завели разговор о том, что, в силу прискорбного случая, есть возможность переменить прописку. Я ответил, что собираюсь купаться в море, что вполне доволен «Алькатразом» и не хочу съезжать, что у меня тут завелись друзья, включая бармена Санчеса, и все мы должны поддерживать друг друга в горестях, хранить российские традиции, бодриться и не кукситься. Затем я отоварил свою карточку, и мы, как положено, выпили не чокаясь – за упокой души Бориса. Весь этот день я провел на пляже – разумеется, под неусыпными взорами братцев-лейтенантов. Лев – тот, что с усиками – намекнул, что ожидается приезд большого начальства, но других скользких тем не касался; Леонид же был немногословен, как его тезка, спартанский царь, защитник Фермопил. По небу скользили облака, дул приятный ветерок, температура опустилась с тридцати восьми до тридцати – уже не африканский зной, а просто теплая погода. Мы отобедали в индийском ресторанчике на набережной, съели цыпленка под соусом кэрри, окунулись два-три раза и возвратились к ужину в отель. Я отметил, что Дика Бартона нигде не видно, поразмышлял о судьбе своих вкладов в банке «Хоттингер и Ги» и в восьмом часу поднялся в номер, собираясь предаться дальнейшим раздумьям в плане сложившейся ситуации. Однако мои намерения были нарушены. Только я вышел на балкон, вдохнул прохладный вечерний воздух и закурил сигарету, как в дверь постучали. «Кам ин!» – крикнул я, решив, что сейчас повидаюсь с Бартоном; дверь отворилась, но вошел не зулус из Таскалусы, а остроносый майор Иван Иванович Скуратов. Был он запылен и мрачен, в пропотевшей рубашке и панаме военного образца. И тянуло от него неприятными запахами – теми, какими пропахли морги и полицейские участки во всем мире. Во всяком случае, что касается моргов, я мог положиться на личный опыт. Не здороваясь, он подошел к креслу, сел, снял панаму и вытер ею вспотевший лоб. Потом уставился на меня суровым прокурорским взглядом. Пришлось поздороваться первому. – Не рад вас видеть, Иван Иваныч. Встречаемся в третий раз, и дважды – при трупах моих знакомых. Боюсь, это стало дурной традицией. – Майор Чернозуб – не ваш знакомый. Он выполнял задание, – отчеканил остроносый железным голосом. «Майор Чернозуб… вот как его звали…» – подумал я и покачал головой. – И что с того? Майор так майор, каленый пятак ему к пяткам… Мы чуть ли не подружились… – Я отправился к холодильнику, налил в стакан минеральной и протянул гостю. Он жадно выпил, бормоча: «Неплохо вы здесь устроились… Любопытно, за какие такие заслуги?» Вопрос был явно риторическим и остался без ответа – тем более что меня интересовали совсем другие материи. – Значит, Борис у нас майор… А вы в каком же звании? – Полковник ФСБ. Северо-западное региональное управление аналитических исследований. – Поздравляю, – откликнулся я и налил ему еще один стакан. – Десяти дней не прошло, а вы уже полковник и служите не в УБОП, а в ФСБ. Стремительный рост в чинах! Может, покажете удостоверение? На этот раз он пил воду мелкими глотками, дергая кадыком на жилистой шее и бормоча: – Не будьте идиотом, Дмитрий Григорьевич… глот-глоп… такие удостоверения за рубеж не берут… глот-глоп… а берут паспорт и справку… глот-глоп… а в справке той написано, что я… глот-глоп… родной дядюшка Бориса Чернозуба… глот-глоп… и явился, чтоб увезти тело племянника на родину… глот-глоп… – Он отставил пустой стакан и сообщил: – Однако я – полковник ФСБ, и беседовать мы с вами будем, исходя из этой диспозиции. То есть я спрашиваю, вы отвечаете. Предельно точно и откровенно. Без всяких уверток и неуместного паясничанья. Вы меня поняли, Дмитрий Григорьич? И в самом деле полковник, решил я, кивнув. Ничего не имею против полковников, даже из ФСБ, но этот остроносый тип не просто был полковником – он играл в полковника. Полковник ФСБ должен быть суров – особенно с нашим братом интеллигентом, со всякими физиками-шизиками, литераторами-дегенератами и прочими музыкантами сомнительных национальностей. Суров настолько, чтоб яйцеголовый интеллектуал тут же наложил в штаны и во всем сознался: как продал родину, как удавил жену, как утаил нетрудовой доход и как подделал банковское авизо. Должен заметить, что эта манера беседы никак не зависит от политического режима, авторитарного или демократического; это некий глобальный конфликт между шустрой лошадкой и всадником. Лошади – это мы, люди творческих профессий; мы стремимся свободно гулять в пампасах, но всадники-хозяева направляют нас к определенным и стратегически важным целям. К атомной бомбе, например, к теории расового превосходства, к марксизму, неопозитивизму и соцреализму, к ваянию статуй вождей и отцов нации. Или, как в данный момент, к приятной беседе. Я спрашиваю, вы отвечаете… Предельно точно и откровенно… Поняли, Дмитрий Григорьич? Бывший майор Скуратов коснулся переносицы, с отвращением оглядел свою пропотевшую рубаху и произнес: – Первое: не демонстрировал ли Чернозуб что-то необычное? Какую-нибудь странную вещицу? Второе: кому демонстрировал? Вам, или имелись еще зрители? – Отвечаю точно и откровенно, – сказал я. – Демонстрировал. Вчера вечером, в садике при отеле. Мне и гражданину США Ричарду Бартону. Чернокожий, лет тридцати восьми, здоровый, как лось. Служит в компании «Фортуна Индепенденс», Таскалуса, штат Алабама. Это, как я понимаю, к востоку от великой реки Миссисипи… – Выдержав паузу, я поинтересовался: – А что это было, полковник? – Называйте меня Иваном Ивановичем, светиться нам ни к чему, – сказал остроносый. – А был это следственный эксперимент. – Неудачный, – заметил я. – Как сказать, – не согласился Иван Иванович. – Если б мы знали его результаты… – А труп в бассейне – не результат? Он нахмурился: – Я имел в виду не Чернозуба. Хотя его смерть в определенном смысле тоже результат… как и отсутствие объекта, которым он манипулировал… – Иван Иванович на секунду прикрыл глаза, потом веки его приподнялись, и серые зрачки пришпилили меня к стене – как мотылька, проколотого двумя булавками. – Этот объект… у вас?.. – спросил он после недолгой паузы. Я молча помотал головой. Взгляд полковника изменился – теперь он глядел на меня не пронзительно, а с укоризной и даже вроде бы с легким сочувствием. – Позвольте заметить, Дмитрий Григорьич, что вы еще не осознали, в каком очутились положении. Вы пока что не обвиняемый, но исключительно важный свидетель… друг человека, которого мы искали… – Я сделал протестующий жест, но он не обратил на него внимания. – Убитого, кстати, на вашей даче… похитившего перед тем объекты государственной важности… Что же может вас спасти, Дмитрий Григорьич? Откровенность, откровенность и еще раз откровенность! Вот ваша соседка пошла нам навстречу… кстати, очень привлекательная девушка… сказала, что Арнатов был у нее пару раз после продажи квартиры… крутился там и тут, болтал о пустом, но делал многозначительные намеки… А к вам он не заглядывал? Ну и ну! Уже и Дарью отловили, и та созналась во всех грехах! А мне она о визитах Сержа не говорила… Впрочем, я и не спрашивал: мы увлеклись другими делами. – Так заходил к вам Арнатов или нет? – раздался голос полковника. – Какие вы с ним поддерживали связи? И где упоминавшаяся мной вещица? Та, что была у Чернозуба? Вы учтите, Дмитрий Григорьич, я ведь на вас надавить могу… крепко наехать… могу взять вас в разработку и выяснить, чем живет уволенный сотрудник Промата, на какие деньги ест-пьет и разъезжает по заграницам… кто ему платит и за что… и все ли доходы декларированы должным образом… – Все, – ответил я, начиная злиться. – И не валяйте дурака, полковник, вы все уже выяснили, все, что смогли. Да, я – ученый, один из многих, которых выбросили на улицу, и я работаю с частными фирмами как аналитик-консультант… И что тут такого? Вы предпочли бы, чтоб я сдох с голоду или отправился в Ирак, рассчитывать выход плутония на атомных станциях? И то и другое – не для меня. Лучше я буду консультировать мелких жуликов да честно платить налоги… ну, еще в Андалусию съезжу, коль повезет. На всех законных основаниях, по договору с «Голд Вакейшн». Остроносый слегка оторопел, потом приложился к стакану с минеральной, сделал пару глотков и произнес: – Пусть так, Дмитрий Григорьевич, пусть так. Готов согласиться, что лично вы, – он подчеркнул слово «лично», – ни в чем таком не замешаны… Но речь не о вас, а о вашем покойном соседе. И вы пока что не ответили на заданные вам вопросы. – Почему же, ответил. При первой нашей встрече заявил, что близких отношений с Арнатовым не поддерживаю и контактов в последние месяцы не имею. Что же касается вещицы… объекта, продемонстрированного Чернозубом… я ведь ясно дал понять, что у меня ее нет. Однако… – Я замолчал, и в комнате повисла тишина, прерываемая шелестом листвы под налетевшим с моря бризом. – Однако?.. – Иван Иваныч выгнул бровь. – Я мог бы поделиться с вами своей гипотезой. Весьма правдоподобной. Но гипотеза – это не факты, которыми я, в силу гражданского долга, обязан с вами делиться: гипотезы и версии – плод моих раздумий, моя, так сказать, интеллектуальная собственность. Так что заключим джентльменский договор: я вам – гипотезу, а вы мне – обещание. – Какое? – Что оставите меня в покое. Хотя бы на пару ближайших недель. Он медленно допил минералку, призадумался, что-то прикидывая и просчитывая, потом резко кивнул головой: – Ладно! Выкладывайте ваши соображения. – Подозреваю, что Ричард Бартон из Таскалусы агентствует не только в страховой компании, – сказал я. – Это факт, а не версия. Факт, уже известный мне. – Разумеется. Вам ведь доложили о случившемся на пляже? Не далее как вчера? Один из ваших сотрудников оглох, а мне тем временем были сделаны намеки. Странные, должен признаться. Суть их осталась мне неясной. Что-то о черной магии, о заклинаниях, об амулетах и ведьмовстве… Остроносый дернулся. – Вы посоветовались с Чернозубом? – Нет. Я же говорю, что не понял намеков. Мне показалось, что это шутка… знаете, юмор страховых агентов… А может, он хотел надо мной посмеяться. Поразвлечься… Он – черный, я – белый, зато он из Америки, а я – из России… Разумное допущение? – Вполне, – Иван Иваныч криво улыбнулся. – Над нами скоро готтентоты смеяться будут. – Вот-вот… Похоже, мы раньше вымрем, чем они. – Я придвинул к нему бутылку с минеральной, сделав широкий гостеприимный жест. – Вечером мы устроили междусобойчик на троих, выпили по капле. Я – исключительно сухое, а Чернозуб с Бартоном – виски, но понемногу, двухсот граммов не наберется. Тут Борис нам и выдал… Мне, во всяком случае, хватило. Еле в номер добрался… – Остроносый что-то хотел сказать, но я поднял руку. – Погодите, Иван Иваныч. Это все факты, а теперь начинается версия. Я ушел, Бартон остался с Чернозубом, но Чернозуб не был пьян и не имел намерения напиваться. А утром его находят в бассейне, без ран и царапин, зато и без штучки… без упомянутой выше вещицы… И что мы должны думать? Я уставился на остроносого с тем неописуемым выражением, с каким подчиненный, вложивший умную мысль в голову шефа, глядит на начальника. Пора, мол, бабки подбивать, да чин не позволяет, тогда как вы… Скуратов с легкостью принял эту игру, важно кивнул и промолвил: – Чем-то одурманилиЧернозуба. Потом освободили от вещицы – и в бассейн. Жаль! Работник он был неплохой. Ну, проведем экспертизу, посмотрим, чего ему дали понюхать… – А негр-то исчез, – добавил я. – Уехал утром с полицейскими и не вернулся. – Зачем же ему возвращаться? – На лице Иван Иваныча мелькнула злорадная усмешка. – Он ведь думает, что бриллиант ухватил. Вот и понес к себе в гнездышко… в эту самую Такзалупу, что к востоку от Миссисипи… Мы переглянулись, как два сообщника, ухмыльнулись разом, и я спросил: – А на самом-то деле – что? – Так, пустячок… Приманка. Приманка? Для кого? Об этом он забыл упомянуть. Скуратов поднялся: – Ну, Дмитрий Григорьевич, собирайтесь. Домой полетим. Примерно такой конец и ожидался, невзирая на джентльменский договор. Эти договоры – как поддельное авизо: вроде бы есть, однако не всякий получит означенную в документе сумму. Получишь, если тебя боятся, а коль не боятся – при напролом, может, чего-то и выйдет. Наша российская тактика, и, кстати, не хуже прочих. – Домой? – Мой рот скривился в недоумении. – А если я не соглашусь? Остроносый хмыкнул и пожал плечами: – Тогда выбирайте, Дмитрий Григорьич: соляные копи, урановый рудник, галеры или каленые пятаки к пяткам. Пожалуй, он не шутил, однако скоропалительное возвращение никак в мои планы не входило. По множеству причин. Во-первых, мне просто хотелось отдохнуть; во-вторых, я нуждался в покое и некотором времени, чтобы обдумать ситуацию и отыскать зернышко истины в груде навоза; в-третьих, я не терял надежды на встречу с Диком Бартоном – а вдруг ответит на парочку вопросов?.. Существовали и другие резоны, и среди них такой: что я скажу в славной компании «Голд Вакейшн»? Что недоволен отдыхом? Что пиво в Испании кислое, а гранаты – не той системы? Или что меня насильно вывез полковник ФСБ? В любом случае это положило б конец нашим доверительным отношениям и плодотворному будущему сотрудничеству. А я не столь богат, чтобы разбрасываться клиентурой. Пришлось упереться рогами, трясти хвостом и бить копытами. В ответ остроносый воззвал к моим чувствам: к чувству ответственности и чувству долга, к патриотизму и гордости за державу, и, наконец, к чувству самосохранения. Я возразил, заявив, что обозначенное в первых пунктах кануло в вечность вместе с имперскими замашками, а что до самосохранения, так это не чувство, а инстинкт. Разумеется, он мне не чужд, и он говорит мне сейчас, что лучше пару деньков погреться на андалусском солнышке. Иван Иваныч сморщился, обозвал меня эгоцентристом и посулил заковать в кандалы; я презрительно сплюнул и напомнил ему, что мы, во-первых, живем в демократической стране, а во-вторых, пребываем сейчас на территории испанского королевства. Которое, кстати, диссидентов не выдает. «Это кто же тут диссидент?» – насмешливо сощурился Скуратов. А я ответил, что магнитофон включен и все его шуточки про кандалы и рудник уже на пленке. На том мы и расстались, слегка недовольные друг другом. Может быть, больше, чем слегка: хоть остроносый своего не добился, зато посеял в моей душе тревогу. Эти намеки о Дарье и Арнатове… Зачем приходил Сергей?.. И почему оставил в спальне любовный амулет?.. Странно, но в эту ночь мне ничего не приснилось. То ли погода стояла прохладная, то ли запас вещих и страшных снов был у Морфея временно исчерпан.Глава 11
Признаюсь – к собственному стыду – что смерть Бориса меня не огорчила. Как, в сущности, не огорчали и другие смерти, происходившие внезапно и не касавшиеся близких мне людей – гибель предпринимателей и депутатов, банкиров, журналистов и чиновников. Все они знали, на что идут, все разделяли профессиональный риск с пожарными, саперами и милицейскими, но получали при этом гораздо больше благ, влияния и власти. Одних было жаль, других – не очень, но даже чувство испытанной жалости оставалось мимолетным и очень далеким от истинного сострадания. Что, разумеется, неудивительно. Совсем неудивительно – ибо в эпоху киллеров запасы сострадания быстро иссякают, а нищета подталкивает к жестокости. Бедность не порок, учили нас, но то был всего лишь один из мифов советской эпохи. От каждого – по способностям, каждому – по труду… Тренируйся, и будешь прыгать, как Валерий Брумель… Прилежно постигай науки, и станешь умным, как Альберт Эйнштейн… Пиликай на скрипке по двадцать часов ежедневно, и будешь играть, как Давид Ойстрах… Все это было ложью, ибо талант, фантазию и гений подменяли унылым трудом, который есть в конечном счете удел невольников и крепостных. Но самой чудовищной ложью являлась теза о том, что богатство – зло, что богач бесчестен, мерзок и жаден, тогда как бедняк, в силу одной лишь классовой принадлежности, является средоточием всех достоинств. Ложь! Наглая ложь! Богатый – или скажем скромнее, состоятельный – свободен и независим. Конечно, его свобода не абсолютна, но страх голодной смерти ему неведом, а это многое значит: богатый не продаст свой голос на выборах за бутылку пива, не убоится неправедной власти и не пойдет за преступным маньяком. Это все привилегии бедности, ибо бедный народ – это народ рабов. Рабы же не знают сострадания и верят любому, кто обещает их накормить. Особенно плотью и кровью богатых соседей. Beggars must not choosers, как говорят британцы: нищие не выбирают. Я сам – из племени рабов, привыкших к насильственной смерти, и потому, быть может, призрак Бориса не являлся мне в снах и не стонал ночами под балконом. В повестке дня были другие вопросы, не оставлявшие места сожалению, и я размышлял над ними, как терпеливый и усердный крысолов. Помимо того, выгреб значки из своих баулов и подарил их Санчесу вместе с синим попугайным галстуком; позвонил в банкирский дом «Хоттингер и Ги» и сообщил пароль («петрруша» – только латинскими буквами); еще я пил сухие вина, ел курицу под огненным соусом кэрри, смотрел непристойные фильмы по телевизору и плавал по два километра каждый день – для сублимации сексуальной энергии. Но обратимся к моим размышлениям. Кем был, в сущности, Шерлок Холмс? Вы скажете – сыщиком? Но это слишком узкий термин, обозначение профессии, и только; как множество других реалий, изобретенных человечеством, он подлежит классификации и более строгому описанию. Я бы сказал, что Шерлок Холмс был гениальным системным аналитиком, а эта область приложений интеллекта определяется с гораздо большей четкостью, чем дар выслеживать преступников. Системный анализ – часть математики; но стоит ли толковать с непосвященными об оценке количества информации, об уравнении связи и о корреляционных матрицах? Правильно, не стоит, тем более что все это – лишь колдовской ритуал, творимый при помощи формул, компьютеров и математических заклятий. Суть же заключается в том, что системный анализ позволяет связать различные – и на первый взгляд далекие – факты, классифицировать их и ранжировать, создав тем самым некую информационную структуру – зрелый плод экспериментов и раздумий, который криминалисты называют версией. У вас есть версия, Ватсон? Да, разумеется, Холмс, целых пятнадцать. Выбросьте их на помойку, Ватсон. Но почему же, Холмс?! А потому, что их пятнадцать. Не стоит умножать количество сущностей сверх необходимого. Я действовал, руководствуясь этим правилом. Я не нуждался ни в компьютерах, ни в формулах, ни даже в карандаше и бумаге. Впрочем, бумажный лист существовал, но только лишь в моем воображении – пустой и белый, будто поверхность арктической льдины, припорошенная свежим снежком. Сцена для лебединых танцев гипотез и половецких плясок фактов под гром барабанов логики… В левом и правом углах воображаемой страницы я написал «Команда альфа» и «Команда бета», затем обвел написанное овалами. Немного поколебавшись, изобразил под первой надписью «КГБ – ФСБ, Управление аналитических исследований», а под второй – «ЦРУ, разведка», добавив в обоих случаях жирный вопросительный знак. Не исключалось, что остроносый Иван Иваныч, бывший майор УБОП, а ныне полковник ФСБ, при нашем очередном свидании окажется генералом, главой управления по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности. Не менее забавные метаморфозы могли приключиться и с Ричардом Бартоном, так что вопросительные знаки казались мне уместными в обоих овалах. Между ними я разместил прямоугольную рамку с декорацией и главными героями спектакля. В рамке содержались такие надписи:«Институт – секретная лаборатория Косталевский – шеф Сергей Арнатов – ассистент Исследования психологических феноменов Открытие?»Левый овал я соединил с прямоугольником сплошной линией, пометив ее словами «Контроль и курирование»; от правого овала протянулся пунктир, тоже помеченный, но иным образом: «Утечка информации? Возможно». Затем, будто сами собой, под рамкой возникли еще два прямоугольничка: в одном мерцала надпись «Магический кабинет Сержа Орнати», в другом – «Квартира Арнатовых». Теперь мне осталось изобразить последний овал, в самом низу, и обозначить в нем «Команду гамма»; я сделал это, соединил гаммиков двумя штриховыми линиями с «Квартирой» и «Магическим кабинетом» и надписал их одинаково: «Случайность?» Версия, сложившаяся у меня во время разработки этой схемы, была такой. В лаборатории Косталевского, которую курировало КГБ, а после – ФСБ, созданы своеобразные психологические катализаторы, или, если угодно, волшебные амулеты. Сам я познакомился с четырьмя: влияние черного было неясным, белый погружал в забвение, пестрый провоцировал веселье, а голубой – любовную страсть. Но были, вероятно, катализаторы других реакций – гнева, ненависти, надежды, веры, самомнения, и только богу известно, чего еще; словом, эпохальное открытие, какие даже в век прогресса торчат египетскими пирамидами среди жилых особнячков. Но чтоб навести завершающий марафет – облицевать пирамиду, замуровав при том все входы и выходы, – нужна, разумеется, проверка. Статистически значимый ансамбль результатов, как говорят в научных сферах. И вот появляется маг и кудесник Серж Орнати и начинает творить диковины и чудеса. Причем под прочной «крышей», ибо никто его пальцем не трогает и не пасет, ни рэкетирская мелочь, ни милицейские, ни крупный криминал, что было б вполне естественно при этаком хлебном деле… Никто! И я об этом знал. Бродила у меня идея связать его с Мартьяновым, хозяином агентства «Скиф», но Серж сказал, что нет нужды – мол, бритоголовых не боится, поскольку «крыша» его не течет и даже не капает. Вспомнив про сей разговор, я провел сплошную линию от овала команды альфа к магическому кабинету и призадумался. Широкомасштабный эксперимент всегда грозит утечкой информации… И все же на него решились – была, видать, необходимость… С другой стороны, если трудиться аккуратно, откуда протечет? Магия есть магия: пассы, заклятья, свечи и пентаграммы, снадобья и гороскопы, и среди всей этой шелухи – катализатор-амулет… Одного беглого взгляда довольно… И как догадаться потом клиенту, что тут подействовало, что присушило любимого? Или, наоборот, заставило забыть… Нет, никакого риска – конечно, при соблюдении техники безопасности. Но Серж сим правилом пренебрег и начал практиковать на дому. Не отсюда ли все его неприятности? Об этом стоило поразмышлять, но я понимал, что могу ошибиться: все-таки мотивы его бегства, его попытки пересидеть в карельских лесах тяжелые времена, оставались мне неизвестными. Но так или иначе, он сбежал и прихватил с собой коллекцию волшебных амулетов… объектов государственной важности, как выразился остроносый. Видимо, эти объекты были неравноценными: одни – приманка и пустячок, другие – нечто более серьезное и существующее, может быть, в единственном невосполнимом экземпляре. Этот вывод показался мне логичным. В конце концов, что такое «веселуха» и приворотный амулет? В зависимости от обстоятельств – орудие пытки либо способ поощрения, каких и без того придумано немало. В самом деле, пустячок… И таких пустяковин могло быть несколько, и было наверняка, если говорить о «веселухах». А вот белую штучку пустяком не назовешь… никак не назовешь! Можно считать, что мне с ней повезло: я глядел на нее секунду и потерял всего лишь час – час или сорок минут полноценной жизни; но более долгое созерцание могло привести к катастрофе. К тихому помешательству, амнезии или летаргическому сну… К чему еще? Не стоило гадать и строить гипотезы на песке, реальность все равно могла оказаться ужасней. Итак, Сергей сбежал, но неудачно – нашли кудесника и тут же припечатали. Однако не альфы и не беты – те стали бы уговаривать и торговаться, а не стрелять. Может, конечно, и пристрелили бы, но потом. А так вот сразу – никаких резонов. Ну, абсолютно никаких! Альфы из команды остроносого в курсе дела, а значит, могли применить подходящую тактику: газ или ампулу с сонным зельем. А бетам пальба и вовсе не с руки – они ведь не в трупах нуждались, а в информации. Их тактика была понятна: сначала поманят пряником, счетом в швейцарском банке, а уж затем столкнут в бассейн. Теперь я был уверен, что стреляли гаммы. Кто-то из расторопных клиентов, обскакавших разом и ФСБ, и ЦРУ, кто-то, знавший половину правды и оттого боявшийся до судорог. Я вспомнил позу Сергея, руку, протянутую над головой, и мои последние сомнения исчезли. Он что-то собирался показать – им?.. себе?.. – но показать непременно; этот жест угрозы был очевиден нападающим, и на него ответили огнем. А после забрали амулет, что находился у Сергея, и принялись за розыски остальных. Не нашли и позвонили мне… Такой, в общих чертах, была моя версия, и, завершив ее, я приступил к неясным вопросам. Верно поставленный вопрос – тропинка к решению проблемы; однако еще существенней их иерархия – иными словами, соотносительная важность. Вопросов второстепенных скопилось множество, и я перечислил их и записал на оборотной стороне листа – в том порядке, в каком их генерировал мой распаленный любопытством мозг. Откуда взялся пестрый амулет у Чернозуба? Контрольный экземпляр? Или нашли коробку, что спрятана на даче? И обнаружили, что не хватает трех футляров? В этом случае я – не свидетель, а подозреваемый: шкуру спустят, но свое возьмут! Зачем Борис продемонстрировал нам «веселуху»? Остроносым было сказано – следственный эксперимент… Однако над кем? Над нами обоими скорее всего: ведь Боря-Боб мог показать эту штуку отдельно мне, отдельно Бартону. Но он желал поглядеть на нашу совместную реакцию: не начнем ли подмигивать друг другу и прикладывать палец к губам. Дик, похоже, ничего не знал, а я – я вот провалился! Выдал себя с потрохами, точно младенец в мокром подгузнике! Правда, мой промах был исправлен Бартоном – с помощью жвачки и бассейна… Как информация о трудах Косталевского попала к бетам? Все-таки через магический кабинет? Или был осведомитель в институте? Впрочем, неважно. Я полагал, что они присматривают за интересными российскими объектами поосновательней, чем за дворцами Саддама Хусейна; к тому же, по нынешним голодным временам, осведомителей у них хватало. Но о работе Косталевского им, кажется, было известно немногое – что-то открыли, изобрели – а вот что именно? Почему Сергей бежал и прятался? И от кого? Зачем наведывался к Дарье? И что означает забытый в лампе амулет? Но все эти вопросы являлись – повторяю – второстепенными. Важных, в сущности, было два: где Косталевский и почему все три команды в конечном счете вышли на меня. Зачем им я? Зачем Сергей, если имеется Косталевский – шеф, патрон, руководитель разработки? Он мог бы изготовить груду амулетов, набрать себе других помощников, нанять батальон экстрасенсов и магов под прочной «крышей» ФСБ… Существовала, конечно, опасность, что Сергей разгласит его тайны, продаст при случае шпионам Парагвая и сбежит в Австралию, но Сергей мертв, а розыск продолжается. Только ли потому, что Арнатов похитил нечто ценное, нечто такое, что обязательно надо найти? Если причина в этом, то за Иван Иванычем должен маячить Косталевский, главное из заинтересованных лиц… Но Косталевский никак себя не проявил, и даже намека об этом в речах остроносого не было. Это казалось странным, и я подумал, что шеф Сергея либо исчез, либо отправился в лучший мир – возможно, с помощью спецов команды бета. Но так или иначе, он был ключевой фигурой в нашей истории, ферзем на шахматной доске, и в силу этого не мог пропасть бесследно. Отметив данный факт, я перешел ко второму вопросу, который являлся не столько важным, сколько шкурным. В самом деле – при чем тут я? Ни брат, ни сват, ни друг… сосед, десятая вода на киселе… в лучшем случае – приятель… Ну, распивали иногда бутылку, одалживались по мелочи… ну, гостил он на моей фазенде… И что с того? Внезапно я понял, что все зависит от точки зрения. Я, Дмитрий Хорошев, доподлинно знал, что ничего серьезного, глубокого и доверительного нас с Арнатовым не связывает; но мог ли я вложить свое знание и свою убежденность в чужие головы? Разумеется, нет. Эти чужие головы мыслили логическими категориями и оперировали фактами, не вдаваясь в их психологическую подоплеку, в соображения духовной близости или ее отсутствия, в тайные течения души, в водовороте коих рождаются симпатия, сердечная склонность и любовь… А зримые факты бывают так обманчивы! Люди могут контактировать годами, оставаясь в рамках приличий, и кто поймет, что за внешней канвой дружелюбия и приязни таятся жуткие монстры – ненависть, злоба и зависть? Или пылает алый цветок тайной любви… Я обратился к фактам и признал, что они весьма и весьма подозрительны. Мы с Сержем были одних лет, из одного и того же социального слоя: оба – ученые, мечтавшие сделать карьеру, а это предполагает множество общих тем: аспирантура, диссертация, защита, научные сплетни и байки, руководители и шефы, женщины, наконец… Мы оба уважали литературу – я, правда, предпочитал справочники и словари, а Сержу были милей детективы. Мы оба трудились в закрытых конторах и шли ноздря в ноздрю – в том, что касалось степеней и должностей, диссертаций и публикаций; значит, не было повода для тайной зависти. Мы не чурались взаимных услуг, а иногда пускались в откровенность – к примеру, я мог бы припомнить по именам двух или трех девиц, к которым Сергей был очень неравнодушен… А главное, он гостил неделями на моей фазенде и, как говорится, догостился… Пожалуй, ознакомившись с этими фактами, любой подумал бы, что Дмитрий Хорошев и Сергей Арнатов – друзья не разлей вода, а значит, Хорошев – поверенный всех тайн Арнатова, его вероятный сообщник и очевидный наследник… Дьявольщина! До чего же хорошо я подходил на эту роль! К тому же я и в самом деле был сообщником и наследником. Сообщником – потому что пустил Сергея к себе на дачу, то есть предоставил ему укрытие; наследником – ибо владел сейчас шестью амулетами, похищенными Сергеем. Факты были именно таковы, и если остроносый Иван Иваныч до них доберется, то легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем мне доказать свою невинность, неведение и непричастность. Говоря без гипербол и метафор, я был бесспорным претендентом на камеру в Крестах. Нельзя сказать, чтоб эта перспектива меня не взволновала. Обеспокоила, и даже очень! Пришлось напомнить самому себе, что крысоловы ловят крыс, а не наоборот. И если я хороший крысолов, с чувством самоуважения и профессиональной гордости, то должен – просто обязан! – расставить ловушки, рассыпать приманку и яд, а после, когда оприходую трупы, замуровать каждую дырку и щель, добавив к песку и цементу побольше битого стекла. Эта аллегория меня вдохновила. Я уснул и увидел сон: огромный белый лист с моей воображаемой схемой, только во всех прямоугольничках и овалах нет ни надписей, ни вопросительных знаков, ни имен, ни обозначений ведомств и команд. Зато из них подмигивали, кривлялись и насмешливо скалились фигуранты моей детективной истории. Я тоже подмигнул им и нарисовал внизу листа большую прочную клетку с гостеприимно распахнутой дверцей.
Глава 12
Хороша страна Испания, а Россия лучше всех… Неухоженный, неприбранный, небезопасный, но все-таки дом. А дома и цветы благоухают слаще, и девушки прелестней, и вороний грай кажется пением канарейки. Итак, я вернулся. Возвратился в свою тесноватую квартирку на пятом этаже, к своему компьютеру и своим клиентам, к телефонным звонкам и неразборчивым воплям Петруши за стеной. Прибыл, нажал кнопку звонка, перешагнул порог и глубоко вздохнул. Серыми буднями вроде не пахло, с кухни струился аромат яблочного пирога, и это, несомненно, подтверждало, что праздник все еще со мной. Карнавал, что начался в Испании, а продолжался здесь. И самая милая маска, в цветастом платьице Коломбины, в белом передничке и с чайной розой в каштановых кудрях, призывно улыбалась мне и подставляла губы для поцелуя. Я постарался ее не разочаровать. Если вы прожили с мое и не способны догадаться, чего ожидает от вас женщина – примите соболезнования. Сам я все-таки научился, после утомительных экспериментов, кратких интрижек и капитальных романов, в процессе которых мог запросто выпасть в брачный осадок. Но все завершилось благополучно, так что теперь я был свободен и весел, как юный воробей, еще не свивший своего гнезда. А значит, имел возможность выбрать птичку посимпатичнее. Мы расцеловались, потом я начал распаковывать свои сумки и докладывать, в каком туалете посетил дипломатический прием, в каких штанах обедал в ресторане и какой повязывал галстук, ныряя в море. Вся эта информация шла под рефрен: что бы я делал, если б моя пичужка не позаботилась о надлежащем гардеробе, о плавках и значках, о тапках и баночках с икрой (икру я потом умял в одиночестве и под большим секретом). Пичужка цвела, топорщила перышки и улыбалась мне все ласковей. Да, я льстец, не отрицаю! Но сколь немногое нужно женщине для счастья! Поцелуи, нежные слова, преподнесенный вовремя подарок… Мы добрались до испанской коробочки. Дарья восторженно взвизгнула, повисла у меня на шее, потом, открыв шкатулку, прикинула, что в нее может влезть, и призадумалась. Она была отнюдь не глупой девушкой, и я представлял, как в ее филологической головке крутится разом на четырех языках один-единственный вопрос: а что же дальше? Но я не сторонник торопливости. Поэтому дальше был пирог, бутылка «Сангрии» и андалусские истории в духе Вашингтона Ирвинга; а затем, когда мы перебрались в квартиру Дарьи, постель. И после нее обличья прекрасных испанок, звон кастаньет, смуглые лица, гибкие талии и полные груди будто поблекли, подернулись дымкой и отодвинулись в тот уголок, где им надлежало пребывать – в пятое или шестое измерение Гильбертова пространства. Протянув руку, я зажег маленький маячок на прикроватной тумбочке, и спальня с зашторенными окнами наполнилась неярким золотистым светом. – Наша лампа, – со значением сказала Дарья. В глазах ее тоже мерцали золотистые огоньки. – Не превращай ее в секс-символ, – откликнулся я. – Во-первых, символы уводят нас из реального мира, а во-вторых, мы не знаем, для чего она служила раньше. Тогда, когда здесь жили Арнатовы. – Я думаю, Димочка, для того же самого, – с коротким смешком заметила Дарья, положив мне на живот теплую восхитительную ножку. – Наверное, у прежних хозяев были связаны с ней чарующие воспоминания… такие же романтические, как у нас… – Она мечтательно вздохнула и крепче прижалась ко мне. – Хм, романтические… А если нет? Почему они бросили здесь этот маяк любви? – Тебе лучше знать, милый, ты прожил рядом с ними много лет. Но я уверена, что не бросили, а позабыли. Как говорится, два переезда равны одному пожару… нервы, хлопоты, сумки-чемоданы… еще и малышка на руках… – А почему ты уверена, что позабыли? – спросил я, поглаживая шелковистое бедро. Длинные ресницы Дарьи затрепетали. – А потому, что прежний хозяин – Сережа, кажется?.. – за ней приходил. Только я его в спальню не пустила… я в нее не всех пускаю… – Нога, лежавшая на моем животе, из теплой вдруг сделалась горячей – можно сказать, обжигающей. Дарья хихикнула. – А он так огорчился! Застыл на пороге и смотрит жалобно – то на лампу, то на меня… будто ему чего-то надо… Братец квартиру купил со всей обстановкой, но из-за лампочки я бы не стала мелочиться. И говорю ему – Сереже то есть… – берите, мне она не нужна. А он вздохнул и отвечает: в лампе ли дело, милая Дашенька… вовсе не в ней, а в вас… И смотрит странно… Тут я перепугалась и выставила его… наврала, что на работу пора бежать… вечером, в восьмом часу! Она рассмеялась, щекоча мне подбородок ресницами. – Вы раньше виделись? – спросил я, поцеловав ее в кончик носа. – До того, как ты стала моей соседкой? – Один раз, у нотариуса, когда братец квартиру покупал. Я тогда думала, что Сережа не женат. Он как-то сразу начал в комплиментах рассыпаться и глазки строить… ну, ты понимаешь… женщины это чувствуют… А Коля, братец мой, нахмурился и сделал бровями вот так… – Дарья забавно сморщилась. – И шепчет мне: женатого кобеля не отмоешь добела. Ну, я… Она что-то еще мурлыкала и ворковала, нежась в моих объятиях, а я думал: ай да Серж, ну и ходок!.. Увидел приятную девушку и тут же сообразил, что лучше забыть и лампу, и то, что в лампе… Так, на всякий случай… Чтобы наведаться в гости, пробраться в девичью спаленку, а там и в постель запрыгнуть при помощи магии и колдовства… Я не был на него сердит, однако испытывал странное чувство, будто коснулся чужой и неприличной тайны, которую всякий человек старается скрыть, не афишировать, не выставлять напоказ, а хранить где-нибудь дома, в особом месте, в шкафу за зимними одеждами. В то же время я был вполне удовлетворен, ибо секрет позабытого амулета уже не мучил меня. Все объяснялось простыми житейскими причинами: похотью, желанием гульнуть на стороне, надеждой, что обломится кусочек сладкого… И обломилось бы, если б Сергей добрался до лампы. Еще я подумал, что голубой амулет был у него не один. Любовь, пусть суррогатная и временная – предмет дефицитный, и Серж Орнати, кудесник и маг, наверняка торговал ею оптом и в розницу. Значит, часто нуждался в подсобном средстве, и если б было оно одним-единственным, то не оставил бы его здесь, как бы ему ни хотелось приворожить Дарью. Ее тонкие пальцы скользнули по моей щеке. – О чем ты задумался, Димочка? Я ведь сказала, что в спальне он не был… А в коридоре я любовью не занимаюсь. Я девушка строгих правил. – Это хорошо. Это просто отлично! – Я наклонил голову и стал целовать ее соски, чувствуя, как они оживают под губами, напрягаются и расцветают, словно два маленьких упругих розовых бутона. Дарья протяжно вздохнула, всхлипнула, прижалась ко мне, гладя мои волосы и едва слышно шепча: «Лампа… Выключи лампу, Димочка, милый… Пожалуйста… Выключи…» Протянув руку, я повернул латунное колечко.* * *
Потом мы снова ели пирог, пили «Сангрию» и мечтали о том, чем займемся в ближайшие выходные. Я предлагал отправиться на дачу, желая совместить приятное с полезным – во-первых, отдохнуть и показать свои владения, а во-вторых, увезти амулеты от греха подальше. Как говорят британцы, an ounce of discretion is worth a pound of wit – унция благоразумия стоит фунта остроумия. Но Дарья заявила, что в Приозерск на один день не ездят, если уж ехать, так на трое суток; в эту субботу она поработает, а на следующую пятницу возьмет отгул, и вот тогда-то мы навестим мою фазенду. А в воскресенье мы можем прогуляться в Эрмитаж и посмотреть бессмертные полотна Тициана. Или в Русский, полюбоваться Куинджи с Айвазовским. Я намекнул, что Тициан – не актуально, что в Гавани открылась выставка компьютерного оборудования, и что на Среднем есть отличная шашлычная; мы немного поспорили и сошлись на шашлычной и музее Академии художеств. Она уснула, а мне как-то не спалось. Я поднялся, натянул брюки, влез в тапочки (в мои тапочки, скромно примостившиеся у ее постели) и пошел на кухню покурить. Потом заглянул во вторую комнату – в ту, где прежде спала Машенька, а теперь обитал Петруша. Приоткрыв один глаз, он поглядел на меня и буркнул: – Прр-ричаливай! – Уже причалил, – отозвался я. – Вот только куда? Ты как полагаешь, пернатый? Может, к семейному очагу? – Прр – равильно, – похвалил Петруша. – Прр-равильно. Порр-ра, бррат, порр-ра! Крр-ровь и крр-рест! Порр-рка мадонна! Я погрозил ему пальцем: – Давай-ка без выражений. А то запакую в конверт и отправлю куда подальше. В Бразилию! Петруша внезапно оживился: – Брр-зилия! Брр! Рр-рио! Поррт, огрр-ромный поррт! Ягуарр – карр-рамба! Рр-ром – отрр-рава! Крр-реолка – курр-рва! Прр-ропади прр-ропадом! Прр-ристрелю! Просунув ладонь меж прутьями клетки, я попытался дернуть его за хохолок, но Петруша изловчился, клюнул меня в палец и завопил: – Урр-род! Грр-рубиян! – А ты – курр-риное отрр-родье! – Прр-римат! – Прр-рохвост! – Прр-ропойца! – Дрр-рянь! – Дерр-рмо! Мы препирались так минуту-другую, затем Петруша прикрыл глаза и томным голосом заявил: – Хочу дев-чку. Хочу! Хочу! – Выпишу я тебе девочку из Испании, во-от с таким клювом, – мстительно пообещал я. – Тукан называется. Она тебе попорртит прр-ропилеи! Потом, довольный, что поле боя осталось за мной, я повернулся к полкам. В прошлые свои визиты я не разглядывал, что и где на них стоит, но сейчас, ведомый безошибочным инстинктом, бросил якорь в книжной гавани. Прр-ричалил, по выражению Петруши. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты. Так кто же? Внизу стояли толстенные словари – английские, немецкие и французские, с потертыми корешками и поблекшей позолотой надписей. Над строем этих ветеранов филологических битв блестела шеренга изящных щеголей – альбомы по искусству с репродукциями картин, с шедеврами из стекла, фарфора и фаянса, с резьбой по дереву и кости. Великие имена – Врубель, Мане, Рафаэль, Гейнсборо, Тинторетто… Ну, разумеется, и Тициан. Как же без Тициана? Он был первым среди захороненных в альбомах гениев и находился в левом углу. Выше шли романы для души и сердца, и, присмотревшись к ним, я слегка обалдел. Тут сверкали мечи и клыки чудовищ на обложках саг о Конане Варваре, Ричарде Блейде и Рыжей Соне, тут громоздился пирамидой «Многоярусный мир» Филипа Фармера, парили драконьи стаи Энн Маккефри, загадочно улыбались «Девять принцев Эмбера», грозил клюкой седобородый Мерлин. Толкиен, Мери Стюарт, Андре Нортон, Танит Ли, Кэтрин Керц, Семенова, Дьяченки, Олди, Перумов и Бушков… Фэнтези. Сказки для девочек и мальчиков от восемнадцати и старше. Рыжая Соня, великая воительница из Хайбории, а может, из Киммерии, занимала в этой шеренге центральное почетное место. – Это что ж такое? – вопросил я, оборотясь к Петруше. – Прр-рофанация, – раздался сонный скрипучий голос. – Прр-резираю! Но я не был столь категоричен. Прежде чем вынести вердикт, надо поразмышлять и выпить кофе. И выкурить сигарету. На кухне, где еще остался кусочек яблочного пирога. Чем не занятие? Прочищает мозги и продуцирует здравые мысли. Особенно если пирог хорош… Так что же я знал о Дарье? Знал, что ей исполняется двадцать семь, что нет у нее ни мужа, ни родителей, зато есть попугай и братец Коля, лет на двенадцать постарше, но холостой, первый помощник на сухогрузе. Еще знал, что Дарья трудится в переводческой фирме «Линк Транслейшн», владеет, помимо русского, еще тремя языками и, будучи девушкой строгих правил, не занимается любовью в коридорах. А также, надо полагать, на антресолях и в стенных шкафах. Вот, собственно, и все! Но шеренги книг на верхних полках намекали о многом, выдавая натуру мечтательную, романтическую, взыскующую авантюр, героических битв и подвигов, сверкания шпаг и скачек под луной с плащом, что вьется за плечами. Разумеется, этот список включал любовь до гроба и прекрасного принца, не лысого, но можно с благородной сединой, с интеллигентной внешностью, пусть небогатого, зато с мозгами. Страшно подумать – вылитый мой портрет! Вообще-то такие мечты опасны для девушек, ибо приводят к забвению реальности. Первые признаки – потусторонний взгляд, тяга к духовному общению и отрицание плотского, а также пренебрежение модой и кулинарным искусством. Но с Дарьей случай был не тот. Определенно не тот! Воспоминания о яблочном пироге все еще грели мою душу, а кроме того, она одевалась со скромной, но заметной элегантностью, отлично готовила яичницу с ветчиной и плотского общения не отвергала. Может, мне достался бриллиант? Романтическая женщина с тягой к прекрасному плюс превосходная хозяйка… Может, прав Петруша? Может, и в самом деле пора? Порр-ра, порр-ра! Крр-ровь и крр-рест! Порр-рка мадонна! В глубокой задумчивости я возвратился в спальню, сбросил свои одежды и лег в постель. За окном плыл по звездным течениям тонкий лунный серп, Дарья улыбалась во сне и тихо посапывала над ухом, а мне все слышалось: пора, пора… Пора!Глава 13
Утром моя возлюбленная исчезла, собравшись тихо, как мышка, не потревожив мой сон. Я проспал до одиннадцати, затем раскрыл глаза и нашел под лампой записку: «Милый, обед в твоем холодильнике. Петрушу я накормила. Вернусь поздно. Люблю, целую. Дарья». Ну что тут скажешь? Мой бриллиант сиял все ярче день ото дня… Поумилявшись, я перебрался в свою квартиру, обладавшую в данный момент большим преимуществом: в ней были компьютер и обед и не было попугаев. Рядом с компьютером лежал словарь, раскрытый на букве О. «Оология», наука о птичьих яйцах… Затем – «оомицеты», подкласс низших грибов, «ооспора» – нечто одноклеточное у водорослей, «оофорит» – воспаление яичников, и «опак» – сорт белой глины, применяемый для выделки фаянса. «Совсем неплохо, – подумал я, – такими темпами можно добраться до буквы П как раз к новому году». За «опаком» шли знакомые и потому неинтересные слова: «опал», «опалесценция», «опера», «операция» и «опиум», а после «опиума» – странный термин «опопанакс». Но телефонный звонок прервал мои изыскания в самом любопытном месте. С минуту я глядел на верещавший телефон, раздумывая, брать или не брать трубку. С одной стороны, мой плановый отпуск еще не кончился (в том смысле плановый, что я запланировал его сам), с другой – нельзя же сидеть отрезанным от мира? Если звонит страховая директриса (как там ее?.. «Гарантия и покой»?..), я скажу, что начал разработку операции под названием «Опопанакс» и что у ее конкурентов случится вскорости оофорит. А если меня домогается тот самый старец от Петра Петровича, с «Хопром» и «Гермес-Финансом», я отошлю его в банк «Хоттингер и Ги», намекнув, что там скупают любые векселя, причем за твердую валюту, бразильские юани и марокканские талеры. Работать абсолютно не хотелось. Но мог звонить Мартьянов или другой серьезный клиент, могли потревожить бывшие сослуживцы, друзья по институту, дальние родичи, Жанна или остроносый; мог, наконец, прорезаться пропитый баритон («Ты, козел? Слушай и не щелкай клювом!»), что было уже интересно. Словом, я не выдержал, поднял трубку, услышал непривычный писк и свист, а после – голос: – Квартира Дмитрия Григорьевича Хорошева? С кем имею честь? – Голос был твердым, ясным, чуть грассирующим на звуке «р» и совершенно незнакомым. Но не из тех, каким сулятся дать в грызло и посадить на примус. Очень интеллигентный голос, приспособленный к чтению лекций и научным дискуссиям с оппонентами. – Дмитрий Григорьевич Хорошев у телефона. Слушаю вас, – произнес я с тем же дискуссионно-лекторским акцентом. Эти неуловимые интонации что-то вроде визитной карточки: стоит произнести три слова, как людям ученым – без разницы, физикам, гуманитариям или биологам – уже понятно: свой! – Прошу простить за беспокойство… – (Свой, подумал я, свой! И чином не ниже профессора. Доценты, те погрубее, попроще…) – Я дозваниваюсь к вам вторую неделю, Дмитрий Григорьевич. Но, к сожалению… – К взаимному, – подхватил я, уловив, что обозначилась пауза. – Мне пришлось отправиться в зарубежную командировку. Кембридж… Симпозиум по компьютерному моделированию иерархических связей в стаях крупных хищников… Львы, гиены, волки… И человек, само собой. Опасное занятие! Послышался вежливый смешок. – Рад, что вы уцелели, Дмитрий Григорьевич, и прошу простить покорно, что не называюсь. Уверен, моя фамилия вам ничего не скажет. Я… э-э… коллега и сослуживец вашего знакомого. Того, с которым произошло несчастье. Ррад… Дмитррий Грригорьевич… Пррошу прростить покоррно… Уверрен… Раскатистое долгое «эр», но совсем не такое, как у мерзавца Петруши; впрочем, Петруша с сухогруза и слов-то таких не знал – прошу простить покорно… – Кажется, несчастье случилось на вашей даче? – деликатно поинтересовался голос. – Увы! Масса эмоций и ноль информации. Теперь послушаем коллегу и сослуживца. Я почти не сомневался, что знаю, кто он такой. Вот только имя-отчество не мог припомнить. – Дмитрий Григорьевич… – Голос приобрел задушевные интонации. – Не хочу обидеть вас… либо, паки того, оскорбить напрасным подозрением… Но если вы что-то нашли… что-то странное, непонятное… может быть, пугающее… будьте осторожны, батенька мой! Батенька мой… паки того… Это тянуло уже не на профессора – на академика! Со знанием классических языков, от древнеславянского до латыни! – Милостивый государь, – произнес я с вежливым придыханием, – не могли бы вы выразиться более определенно? – Попытаюсь. Пропала некая вещица… точнее, три вещицы, каждая – в своем футляре особенного цвета… черный, красный, голубой… Футляры небольшие, в форме цилиндриков, с плотными крышками… Так вот, Дмитрий Григорьевич, не открывайте черный и красный футляры. Ни при каких обстоятельствах! Прошу поверить, я забочусь лишь о вашей безопасности. Я – врач, Дмитрий Григорьевич, я клятву давал… клятву Гиппократа… Вы понимаете, что это значит? «Давал ты клятву, старый пень, – промелькнуло в моей голове, – а потом такое напридумывал, что взглянуть страшно!» Но вслух я трагическим тоном пробормотал: – Уже… Увы мне, уже! Уже! – Что «уже»? – встревожился голос. – Я не знал, что вы давали клятву Гиппократа… не знал и посмотрел на черный амулет… как раз перед отъездом на симпозиум… нашел его на даче… после несчастья с нашим общим знакомым… Что теперь, профессор? Что со мною будет? Кажется, на профессора он внимания не обратил, только раскашлялся, будто вдруг запершило в горле. Справившись с приступом, поинтересовался: – Вы были одни? – Один, как перст. – А красный футляр не открывали? – Нет, – подтвердил я, не уточняя, что вовсе его не видел. – Хорошо. Вы спрятали гипноглифы в надежном месте? – Гипноглифы? – Да. Амулеты, как вы их называете. – В надежном. Я не знал, что с ними делать. Тут столько желающих объявилось… Я запутался. И уехал на симпозиум, от греха подальше. – Никому их не отдавайте! – Голос был близок к панике. – Никому, Дмитрий Григорьевич! Никому, кроме меня! – Но кто вы, сударь? – Я… Ну, не важно. Я вас навещу, я знаю ваш адрес. Приду через несколько дней. Ждите и не волнуйтесь. Только не открывайте черный и красный футляры! Он повесил трубку, в ней что-то снова пискнуло, и я витиевато выругался. Конспиратор хренов! Значит, черный и красный не открывать, а голубенький – можно! Так сказать, для наслаждений души и тела… Впрочем, что гневаться и сердиться? Косталевский (сомнений не было, что звонил именно он) добавил ценную информацию, которой тут же сыскалось место на моей воображаемой схеме. Теперь я знал, что гаммиками похищен красный амулет, что амулеты именуются гипноглифами и что они бывают разной силы или, верней, представляют для окружающих разную степень опасности. От одних хохочешь или прыгаешь в постель к любимой, а от других… Что? Что именно? Черный гипноглиф не оказал на меня воздействия… вроде бы не оказал… правда, я любовался им в одиночестве… А как положено? Вдвоем? Или втроем? Тогда как белый… Я вдруг подскочил, сообразив, что о гипноглифе белого цвета речь у нас не шла. Но разве он не представлял опасности? Странно… Если уж о чем предупреждать, так о неполадках с головой и вероятной амнезии… Или тут был коварный умысел? Откроет Дмитрий Григорьич, батенька мой, белый футляр, посмотрит, поглядит – и позабудет обо всем на свете… Забудет Сержа Арнатова, и Косталевского, и их катализаторы-гипноглифы, и собственное имя… Почему бы и нет? Очень изящное решение проблемы! Что ж, прибережем эту мысль на будущее. Чутье крысолова подсказывало мне, что она еще пригодится, дозрев до кондиции в запасниках подсознания. Есть многие виды ловушек, засад и капканов, но самые надежные из них – те, что лишают доверия к собственному рассудку. К своей компетентности, знаниям, памяти… Я сталкивался с этим не раз и знаю, что потерявший веру в себя – конченый человек. А что такое, кстати, человек? На девяносто пять процентов – память плюс пять процентов самомнения. Итак, мысль об амнезийной ловушке внедрилась в мою подкорку – вместе с еще одной идеей: о том, что Косталевский не доверяет никому. Даже команде остроносого, хоть тот являлся, несомненно, его куратором по линии секретных ведомств. Однако: «Никому не отдавайте!.. Никому, кроме меня!..» Крик души, можно сказать. Даже вопль. Поразмышляв над причинами возможного конфликта и не придумав ничего, я бросил это занятие, снял трубку и позвонил в «Голд Вакейшн», дабы высказать благодарность за приятный и пользительный отдых. В начале нашей короткой беседы в трубке опять что-то пискнуло – чуть слышно, но весьма многозначительно. Томимый дурными предчувствиями, тревожась, что разговор с Косталевским записан, я перебрался в квартиру Дарьи и сделал пару звонков – в справочную Аэрофлота и компанию «Бритиш Эвэйс», интересуясь ценой билетов до Нью-Йорка. У Дарьи тоже пищало. Может, перекликались вольные ветры эфира, а может, наши жилища были нашпигованы «жучками» – ведь аккуратно вскрыть замок и учинить негласный обыск не составляет проблем. Подумав об этом, я похолодел, помчался к себе, оскалил зубы в ответ на мрачную ухмылку Сатаны и торопливо влез в компьютер. Его не включали. Определенно не включали. Никаких следов хищения: все файлы, каким полагалось бы в этом случае изобразить сквозняк, целехоньки и на своих местах. Все цело, базы и программы, все тайны и секреты, чужие и мои, и никаких попыток вскрыть и поживиться информацией. На этот счет сомнений не было. Я редко пользуюсь паролями, схемная защита надежнее, и, чтобы забраться в мою машину, нужно знать, как включить и где включить. Аесли не знаешь, то фарт проедет по ушам, как выражаются в краях обетованных, за Воркутой и Колымой. Немного успокоившись, я сделал вид, что ничего особенного не случилось, и начал дозваниваться Мартьянову. В своих магазинах он отсутствовал, но обнаружился на Васильевском, в агентстве «Скиф», слегка запыхавшийся, но бодрый. Узнав мой голос, пробормотал: – Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! – Взаимно. Есть предложение встретиться, Андрей Аркадьевич. – Всегда рад. Подъедешь к четырем в агентство? Раньше не выйдет. Я тут чечако натаскиваю… пополнение новобранцев… Ребята крепкие, но об охранной службе ноль понятий. – Зато они молодые, красивые, – утешил я. – Еще научатся. – Вечером синим, вечером лунным, был я когда-то красивым и юным, – задушевно сообщил Мартьяныч. – Ну, приходи! К четырем. Почему его сегодня на Есенина потянуло? Может, юбилей? Я включил телевизор, прослушал новости, но о великом поэте в них не сказали ни слова. Вообще ничего экстраординарного – вроде налета боевых драконов из Персии на Вашингтон – не случилось. Несмотря на все ухищрения, опять взорвали монарший памятник в Подольске; в Чечне украли трех англичан и двух французов; по Москве маршировали заединщики в черных рубахах, а в строительных магазинах наблюдался острый дефицит саперных лопаток. Во всех же прочих местах богоспасаемой отчизны все было тихо, все шло путем: врачи отказывались лечить, учителя – учить; шахтеры лежали на рельсах, а шахты – в руинах; Центробанк сражался за стабильный рубль, а все остальные – за выживание; парламентарии прибавили себе зарплату, а грань между пенсионерами и нищими успешно стиралась – те и другие дружной колонной переселялись на кладбище. Дослушав до конца, я полез в холодильник и в самом деле обнаружил там обед: окрошку и свиные отбивные с рисом. Это являлось веским доказательством, что в Дарье счастливо соединились два начала: возвышенно-романтическое и кулинарно-прагматичное. Я пообедал, выпил кофе и поехал к Мартьянову, размышляя о тайнах женской души. Окрошка была превосходной: я не пробовал такую лет пятнадцать, с тех пор, как скончалась мама. Частное охранное агентство «Скиф» размещалось в розовом двухэтажном особнячке, а сам особняк прятался за домами, что на углу Десятой линии и Малого проспекта. Я вылез из метро на «Василеостровской», закурил, принюхался к воздуху (тут он особенный – смесь бензиновых паров с влажным ароматом близкого залива) и зашагал к Десятой, а по ней – к Малому. День был прохладный; скудное петербургское лето кончалось, а за семью морями и семью горами, в теплой щедрой Андалусии, лишь начинался бархатный сезон. Эта мысль вызвала у меня острый приступ ностальгии. Впрочем, я всегда ностальгирую на Десятой линии. Тут, в доме за номером тридцать пять, прежде находился матмех, и я успел тут поучиться – до того, как всех физиков, химиков и математиков переселили в Петродворец. Здание бывшего матмеха все еще относилось к университету, но его массивные двери были плотно затворены, а в окнах не наблюдалось признаков жизни. Над дверями висела поцарапанная табличка, на которой я разобрал лишь одно слово – «Научный», а ниже, на стене, мелом было накорябано: «Одна наука на Руси – не верь, не бойся, не проси!» Несомненно, этот лозунг обладал высшей степенью интеграции и хронологической протяженности; он оставался справедлив и во времена Ивана Грозного, и в кровавую петровскую эпоху, и в период диктатуры пролетариата, и сейчас, в славные годы разгула российской демократии. Повторяя в такт шагам – не верь, не бойся, не проси!.. – я добрался до Малого, свернул направо, проник через арку во двор, приблизился к розовому особнячку, был узнан неусыпной стражей и допущен внутрь. Внутри имелся коридор с выходом к лестнице и парой дверей: одна вела в туалет, а другая – в тренировочный зал (он же раздевалка и аудитория для теоретических занятий). Оттуда доносился гулкий бас Мартьяныча: – … Классиков надо читать, обалдуи! Классик что сказал про недотеп-охранников? Не знаете? Ну, так я вам повторю: есть одна хорошая песня у соловушки – песня панихидная по моей головушке! Это о вас, имбецилы! Персонально о тебе, Колян! И о тебе, Осадчий! И о тебе, Груздев! Я что говорил, чему вас учил? Не торчать у дверей, не глазеть на девиц, не строить им рожи, а постоянно перемещаться по торговому залу! Так, чтоб охраняемый объект был под контролем во всех своих частях, а злоумышленник не мог зафиксировать, где в данный момент находится охрана. Ясно, кретины? Запомните: у дверей не охранник стоит, а мальчик напоказ, он же – живая мишень! А настоящий охранник должен появиться вдруг, выпрыгнуть из-за прилавков и полок, как тигр из тростников, и сразу стрелять на поражение! Если злодей с пистолетом, бить в руку – в ту, которая держит пистолет! Ежели с автоматом – бить в лоб! Понятно? – А если он с гранатой? – раздался чей-то робкий голос. – А если с гранатой, любознательный мой, то нужно не палить, а прыгнуть на него, хватать за кулак, где граната, валить на пол и заворачивать руку ему под брюхо. А после кричать: разбегайссь!.. И ждать, когда рванет. – Так ведь если рванет… – Если рванет через два тела, последствия будут минимальны. А ты, Груздев, станешь героем, и похоронят тебя на Южном кладбище под залп «Авроры». Все на сегодня! И Мартьяныч, отдуваясь и вытирая потный лоб платком, явился в коридоре. – Приветствую, друг мой! Поднимемся наверх, ко мне, выпьем чайку? – Спасибо. Я только из-за стола. И сыт, и пьян. Андрей Аркадьевич сунул платок в карман и уставился на меня внимательным оком. – И правда, сыт, пьян и нос в табаке… А еще – бодрый, свежий, загорелый и довольный… Ты никак жениться собрался, парень? – Может быть, – отозвался я, в который раз потрясенный его проницательностью. – Хм… Ну что ж, пора, пора. Ты – мужчина в самом соку. Только помни, что сказано поэтом… – Он откинул голову, и я решил, что сейчас опять последует цитата из Есенина, но это оказался Багрицкий: – От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены… – Согласен на супружеские измены. В разумных пределах, конечно. – Все вы так говорите поначалу. А как до дела дойдет… – Мартьянов махнул рукой, и мне припомнилось, что сам он женат по третьему или четвертому разу, и, следовательно, опыта ему не занимать. – Ну, раз чая не хочешь, так прогуляемся? До «Антарктиды»? Я там машину оставил. «Антарктидой» назывался его магазин на Шестой линии, где торговали холодильниками и прочей «бошевской» техникой. Дойти туда можно было минут за двадцать, и я согласно кивнул. По знаку Мартьянова какой-то рыжий лохматый молодец принес ему плащ-дождевик из кабинета, что находился на втором этаже, и Андрей Аркадьевич, ощупав карманы (на месте ли любимая «беретта» и кастет?), стал облачаться, кивая рыжему и приговаривая: – Ты, Кирпичников, этого человека запомни… Это Хорошев Дмитрий Григорьич, ба-а-льшая голова! У него в пятке больше, чем у тебя промеж ушей… Он – великий боец научно-финансового фронта, тореадор и ас… Из тех людей, о коих сказано: из тени смерть и солнце встали вдруг, цирк загудел, арена завертелась – ее пронзил фанфары алый звук… Вот ты, Кирпич, знаешь, откуда это? Не знаешь… И потому годишься только палить и баранку крутить. А Дмитрий Григорьич знает… ведь знает же, а? – Рафаэль Альберти. Бой быков, – откликнулся я и подмигнул рыжему. Тот подмигнул в ответ и с наигранной вежливостью поинтересовался: – Чем занимаетесь, Дмитрий Григорьич? В свободное время, когда не бьетесь на финансовых фронтах? – Откармливаю аллигаторов, – сказал я, и мы расстались, вполне довольные друг другом. – Хороший парень Паша Кирпичников, – произнес Мартьянов, когда мы вышли на улицу. – Бывший гаишник, но честный. А за баранкой – просто гений! Можно сказать, Александр Блок. И поэзию уважает, в Лермонтове начитан… Теперь я ему Шекспира подсунул с Киплингом. Осилит, бригадиром сделаю. – Кивнув массивной головой, Андрей Аркадьич искоса взглянул на меня: – А ты, друг мой, в предсвадебных хлопотах? Может, достать чего надо? Редкостное, в подарок для новобрачной? Микроволновку из Аргентины, чтобы бифштексы жарила и песни пела, как Лолита Торрес? Хочешь? – Хочу, но не сейчас. А сейчас скажи мне, Андрей Аркадьич, как выяснить, прослушивается ли телефон? – Если оборудование хорошее, заграничное, то никак. А если наше и вдобавок старое, то могут быть шумы. Писк, когда снимаешь трубку и когда ее кладет твой абонент. – Кажется, мой случай, – признался я, и Мартьянов высоко вздернул брови. С минуту он молчал и пыхтел, погромыхивая железом в карманах дождевика, потом деликатно полюбопытствовал: – Не тот ли Скуратов тебя достает, который майор Иван Иваныч? Тощий, жилистый, лет сорока пяти и с носом, как у Буратино? Память у него была великолепная: он в точности процитировал мои слова, хотя с той нашей воскресной встречи прошло уже двенадцать дней. Я кивнул. – Скуратов, он самый. Однако уже не майор, а полковник, и служит не в УБОП, а в ФСБ. – Этих я плохо знаю. Не наши люди, не милицейские… Особая каста. – Мартьянов потер ладонью крутой лоб и, выдержав паузу, спросил: – А что ему надо? Занятия твои не нравятся? Или клиентура? – Нет. Ни с клиентурой, ни с занятиями никаких проблем, если налоги с доходов уплачены. Так, случайное дело. Кое-какая информация им нужна, вот и привязались. – Информация всем нужна, – заметил Андрей Аркадьевич. – А тебе что нужно? Помощь? Совет? Или что-то еще? Помнится мне, ты об одном уроде расспрашивал… о том, который в вишневом «мерсе» разъезжает… А с этим тоже нет проблем? Я, сам понимаешь, против ФСБ не потяну и ссориться с ними, как лояльный гражданин, не буду, но с плясунами-танцорами справлюсь. «Полюс» – то мой в Купчине, в ваших краях! «Полюс» был еще одним мартьяновским заведением, и, вероятно, к нему и подкатился Танцор, суля непробиваемую «крышу», и был налажен прочь, с пинком под бампер, о чем рассказывал Андрей Аркадьич при прошлой нашей встрече. Не исключалось, что сей наезд купчинской братвы был не единственным и мог повториться в будущем, а значит, Мартьянов имел законный интерес ко всяким плясунам-танцорам. Я собирался развить эту тему, но тут мы подошли к перекрестку Малого проспекта с Шестой линией, и мой спутник вдруг остановился. – Дай-ка мне, Дима, закурить. Только без резких телодвижений и не озираясь по сторонам… Вот так, спокойно, спокойно… – Он затянулся, поморщился, ибо курил вообще-то редко, и проникновенным басом сообщил: – Над окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший тополь серебрист и светел… Пасут тебя, друг мой, пасут, точно йоркширскую овечку. И даже не очень скрываются твои корефаны… Я их тебе покажу. Вот подойдем сейчас к той витринке с колбаской и молочком, сам поглядишь. Мы подошли к витринке и начали пристально изучать сыр «Российский», пакеты с «Пармалатом» и кефиром, сосиски «Школьные» и твердокопченую колбасу «Дон Кихот». Мартьяныч даже растопырил известным жестом пальцы и сунул мне под нос, будто мы с ним приятели-алкоголики, выбирающие закуску к заветной бутылке. А сам в то же время азартно шептал: – Вот этот кент, в лиловой рубахе… и второй… видишь, у киоска остановился, мороженое приобретает?.. Тощий и длинный, как глист… Я их тотчас заприметил, как мы со двора вышли. Думал, по мою голову, но ребята явно служивые, а у меня с ФСБ никаких взаимных претензий… Тем более с нашими, с эмвэдэшниками… половина УГРО и УБОПа в моем «Скифе» кормится, подрабатывают на денежных конвоях… Выходит, твои это кореша. Что скажешь, Дмитрий? – Спасибо скажу, – пробормотал я, приглядываясь к Лиловой Рубахе и Глисту. Эти были другой породы, чем Боря-Боб и братцы-лейтенанты – неприметные, без выпирающих мышц и какие-то юркие – не ротвейлеры, не бульдоги, а скорее пара охотничьих лаек. Но лайки – тоже собачки серьезные: взявши след, его не теряют, не щелкают попусту клювом и не считают ворон. Словом, я догадывался, что от них не уйти. В сфере абстрактных понятий я, быть может, тореадор и ас, но вот на практике – жалкий дилетант. В том, как сбрасывать «хвосты» и делать лыжи, любой дебильный урка даст мне фору в сто очков. Впрочем, ничего ужасного не случилось. Ходили за мной в Андалусии, ходят здесь – ну и что с того? Пусть ходят. Надо будет, я от них избавлюсь. На их стороне упорство и опыт, длинные ноги и острый нос, а на моей – воображение. Что бы такое вообразить? Ну, например, амнезийный гипноглиф, продемонстрированный в нужном месте и в нужное время – скажем, прямо сейчас. Подойти к этому тощему, к Глисту, достать амулет и сунуть в физиономию… а потом – к Лиловой Рубахе… – О чем мечтаешь? – Мартьянов потряс меня за плечо, и я очнулся. Мы уже шагали по Шестой, два «хвоста», Глист и Лиловая Рубаха, тащились следом, и никаких магических амулетов у меня с собою не было. Ни черного, ни белого, ни голубого, на даже пестрой «веселухи»… «На дачу нужно ехать», – промелькнула мысль. Нужно… Но как избавиться от топтунов? Нельзя их за собой тащить… Нагрянут и возьмут вместе с халатом, коробкой и амулетами… Тем более если наш разговор с Косталевским подслушан… Машинально перебирая ногами, стараясь не отстать от широко шагавшего Мартьянова, я припоминал подробности утренней телефонной беседы. Было мною сказано: посмотрел на черный амулет, нашел его на даче, но вряд ли это являлось бесспорным признанием. Важно не что сказано, а как и в каком контексте; может, я просто подшутил над престарелым профессором? Таков мой стиль общения, и остроносый Иван Иванович с ним уже познакомился, как говорится, из первых рук. Так что ничем особенным я не рискую, в отличие от Косталевского. Он-то ведь говорил всерьез! И признался, что конфликтует со своими покровителями… А еще сказал, что навестит меня. Ждите, Дмитрий Григорьич, и я приду! Придет и попадется в лапы Глисту и Лиловой Рубахе… Какая-то смутная идея забрезжила в моей голове, что-то связанное с Косталевским и истинными намерениями Скуратова, но тут Андрей Аркадьевич толкнул меня локтем в бок: – Ты что, друг мой? Спишь на ходу? – Не сплю. Думаю. – И что надумал? – Нанять тебя, Мартьяныч. Чтобы твои ребята дали отсечку моим «хвостам». Разик-другой… А с остальным я сам разберусь. – В секретное место нужно сбегать? – Вот именно, в секретное. На дачу мою, под Приозерском. Только без топтунов. – Я покосился на другую сторону улицы, где, облизывая мороженое, неторопливо шествовал Глист. Потом спросил: – Какой возьмешь гонорар, Андрей Аркадьич? – Никакого. Ты оказал мне услугу, я окажу тебе. И все в ажуре. – Нет, не пойдет. Мои услуги были щедро оплачены. В твердой валюте, насколько помнится. Так что и я готов платить. – Тоже в твердой валюте? – насмешливо прищурился Мартьянов. – В какой назначишь. – Раз так, я назначаю доллар. Ровно один американский доллар – знаешь, серенький такой, с портретом Джорджа Вашингтона. Есть у тебя доллар, друг мой? Доллара у меня не было, зато через каждые сорок шагов нам попадались обменники. Я, скрывая улыбку, тормозил у каждого и спрашивал, не продадут ли Джорджа Вашингтона, но попадались сплошь Франклины да Гранты, либо, в крайнем случае, Джэксоны. Наконец искомое нашлось – в пункте Промстройбанка, у молодой красотки с наклеенными ресницами. Пролистав мой паспорт, она сунула в окошко доллар и сдачу, потом ехидно осведомилась: – Справку на вывоз оформлять? Я покачал головой: – Не надо. Доллары я вывожу исключительно контрабандой. Зашиваю под кожу. – А в какое место? – Девушка игриво хлопнула ресницами. – В мошонку, – буркнул Мартьянов, сунул доллар в карман и потащил меня дальше. Глист и Лиловая Рубаха шли за нами как приклеенные. – Ну, шеф, какое будет задание? Отвезти на дачу под Приозерском и чтобы без топтунов? Я молча кивнул, размышляя о том, что Мартьяныч хоть и бывший милицейский, а человек. Кстати, богатый человек: мы приближались к «Антарктиде», и за ее огромными окнами уже сверкала шеренга белоснежных холодильников, сияли серебром газовые и электрические плиты, громоздились на полках чайники и утюги, вентиляторы и тостеры, мясорубки и микроволновки. При виде их Мартьянов мечтательно улыбнулся и сказал: – Договоримся так: ежели тебе на дачу ехать, ты звонишь и произносишь пароль. Такой, к примеру… – Он запрокинул голову, опустил веки и продекламировал: – Из Петербурга в Хамадан, чрез горы и моря, до пограничников дошли раскаты Октября. Скажешь, и ровно через час подъедет Паша Кирпичников, чтоб обрубить «хвосты» всяким шавкам. А если тебе в какое другое место понадобится, скажешь другой пароль: отговорила роща золотая березовым, веселым языком… Как дальше, помнишь? – И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком, – закончил я и, прощаясь, протянул ему руку.Глава 14
Выходные дни и начало следующей недели выдались на удивление спокойными. Никто нам с Дарьей не звонил, никто нас не тревожил, если не считать моей постоянной клиентуры, но консультации были нужны пустяковые, и я выдавал их с ходу, изредка заглядывая в компьютер. Все остальное время я предавался занятиям, рекомендуемым для новобрачных в медовый месяц: ходил с Дарьей по выставкам и музеям, любил ее ночью, преподносил цветы и с аппетитом поглощал ее обеды. Еще размышлял об имени моей возлюбленной, вдруг обнаружив, что в нем сокрыт вполне определенный смысл: Дарья – значит, дар, ниспосланный мне провидением или каким-то особым божеством, которое печется о математиках-холостяках. Кто бы это мог быть? Возможно, Софья Ковалевская? Или графиня Ада Лавлейс, дочь великого Байрона, первый программист на нашей планете? Говорят, была красавицей… И, несомненно, умницей… Если у меня родится дочь, не назвать ли ее Адой? Или все-таки Софьей? Помимо этих важных дел я занимался и другими: листал фантазийные книжки с Дарьиных полок, почитывал словарь (добравшись уже до саксаула, саксофона и саламандры), знакомился с подвигами Рыжей Сони, а также обучал Петрушу приличным выражениям: «прошу простить покорно» и «мерси». Но птица попалась испорченная вконец; сколько ни старайся, а слышишь лишь всякие глупости да гадости, уместные на сухогрузах: «Прр-ромах, прр-ридурок! Прр-рокол, крр-ретин! Поррт, курр-вы! Прр-робка, штопорр, фужерр – наливай!» Словом, порр-рок торр-жествует! Но все-таки это могло считаться развлечением – в те часы, когда Дарья была на работе. Еще одним моим занятием стали на первый взгляд бесцельные прогулки – на почту или в магазин, в торговый комплекс у метро, на рынок, в мебельный салон, в аптеку. Кроме продуктов, покупать мне, в общем-то, было нечего, но я ходил по улицам, разглядывал витрины и прилавки, спрашивал о тех или иных товарах, рылся в ящиках с фруктами, высматривал белые вина, грузинские или рейнские, которые предпочитаю всем остальным. Вскоре выяснилось, что мою любовь к прогулкам разделяют шестеро, трудившиеся в три смены. Глист и Лиловая Рубаха (потом он появлялся в других одеждах, но я звал его так) были самыми скучными спутниками – уныло тащились за мной, поедая по пути мороженое да изредка пробавляясь пивом. Другая пара выглядела повеселей. Молодой рыжеватый блондин, который двигался приплясывая, посвистывая и поводя руками, получил кличку Танцующий Койот; с ним корешился верзила Три Ноги в куртке с блестящими блямбами, явно косивший под рокера. Он сильно потел и временами стаскивал куртку, плотно сворачивал ее и засовывал сбоку под ремень, где она болталась на манер недоразвитой ноги, как у трехногого марсианина, пораженного с детства полиомиелитом. Два последних напарника казались мне самыми симпатичными: Итальянец, смуглый парень с полоской щеголеватых усиков и темными, как ночь, глазами, и Джеймс Бонд, высокий, светловолосый, похожий на Роджера Мура. Эта шестерка топтунов отслеживала меня изо дня в день, а кроме них, был еще кто-то в белом неприметном «жигуле», девятая модель, под номером Е-701ВБ. Пешие, как и положено, топали за мной пешком, автомобиль катился на колесах, но неторопливо, в темпе вальса, а не марша. Иногда он замирал где-нибудь на углу, поджидая, когда я доберусь со своим эскортом до парикмахерской, почты или универсама, и будто намекал: от нас и на трамвае не убежишь. Не скроешься, господин хороший, он же – фигурант Хорошев Дмитрий Григорьевич! Если я находился дома, один из моих соглядатаев сидел на скамеечке во дворе, другой обычно гулял, разминая ноги, а что касается «жигуля», тот дежурил в метрах пятнадцати от ближайшей троллейбусной остановки. Окна в моей квартире выходят во двор, а в Дарьиной – на проспект, так что я мог следить за топтунами в любой из указанных позиций, разглядывать их с помощью бинокля и делать любезные жесты ручкой. Но это были реверансы собственному самолюбию; я знал, что не заметил бы их, если бы не Мартьяныч. Верней, заметил, но много позже и наверняка не всех; надо отдать им должное, они умели сливаться с пейзажем. Дачный выезд наметился у нас в четверг, в один из первых сентябрьских деньков, когда воздух еще тепел и ласков, солнышко греет, стараясь из последних сил, деревья еще щеголяют сочной зеленью без признаков багрянца и желтизны, а яблоки, наша скромная северная радость, начинают румяниться и розоветь. Птичку мою отпустили с обеда, она прилетела в четвертом часу и, хоть трудилась денно и нощно неделю, потрясла меня своим цветущим видом. Где ты, серая мышка, где?.. Глазки сверкают, локоны вьются, губки алы – и никаких очков! Ни строгого серого тона в одежде, ни пепельных колготок, ни босоножек «прощай, молодость»… Платье – зеленое, выше колена, пуговки – изумрудные, шарфик – серебристый, пояс – золотой плюс итальянские туфли на высоком каблуке да румянец во всю щеку… Верно сказано, что красит женщину любовь! Как, впрочем, и мужчину: я натянул новые джинсы, причесался и побрился. А кроме того, собрал баул с провизией, сунул в него одежду и книжку о Рыжей Соне, дал Петруше банан и позвонил по известному номеру, сообщив, что раскаты Октября уже добрались из Петербурга в Хамадан. На том конце линии хмыкнули и сказали: «Брось хулиганить, парень!» – и повесили трубку. А тут и Дарья появилась, и вместе с ней – приятные занятия: шарфик снять, пуговки расстегнуть, а то, что под ними, поцеловать. Раз поцеловать, два поцеловать, потом – под ее визг и смущенный смех – расстегнуть что-нибудь еще и вспомнить, что вроде бы собирались на дачу… Времени заняться серьезным делом – увы! – не оставалось. Мы привели в порядок шарфики и пуговки, распрощались с Петрушей (он напутствовал меня мудрым советом «Порр-рох дерр-жи сухим, морр-рячок!») и спустились вниз. Дежурили в тот день Койот и Три Ноги; сидели на скамейке за песочницей, курили и изображали задушевный разговор. Потом поднялись и не спеша последовали за нами. Дарья рванулась по привычке на остановку троллейбуса, но я ее придержал, сказав, что договорился с приятелем Пашей – заедет, мол, за нами на машине и довезет до места. – Когда заедет? – Минуты через три-четыре, – ответил я, взглянув на часы. – А что за приятель, Димочка? Ты мне о нем не рассказывал. – Нарочно. Он – Казанова. Страшный ловелас! Боюсь, тебя отобьет. – Хи-хи… А где он служит? – По автомобильной части. – А какая у него машина? Об этом я понятия не имел и потому пришлось соврать: – У него три машины. Не знаю, на какой он нас повезет. Думаю, на «Вольво», а может, на «Тойоте» или… Тут к нам со скрежетом подкатила «Волга» – голубая, слегка проржавевшая, местами побитая и с легендарной фигуркой оленя на капоте. Паша Кирпичников распахнул дверцу, высунул рыжую башку и доложил: – Транспорт в вашем распоряжении, Дмитрий Григорьевич. Садитесь. – Потом, поглядев на круглые коленки Дарьи и итальянские туфельки, добавил: – Даму можно вперед! – Вот уж фиг, – ответил я и запихнул мою птичку на заднее сиденье. Она пребывала в некотором ошеломлении, но салон оказался просторным, чистым, обтянутым светло-серым бархатом, а диванчик, на котором мы устроились, – широким и мягким. Правда, машина тронулась с места погромыхивая и екая, как томимый жаждой верблюд, но на скорости в тридцать пять километров в час подозрительные звуки прекратились, и тряску сменило ровное, плавное покачивание. Неторопливо и величественно мы плыли мимо купчинских многоэтажек, а за нами, в столь же неспешном темпе, следовал белый «жигуль-девятка» под номером Е-701ВБ. Тоже не бог весть что, однако ж не «Волга» в бальзаковском возрасте. К моей птичке, кажется, вернулся дар речи. – Пашенька, – сказала она, – вы только, пожайлуста, не обижайтесь, но мы к утру все-таки доберемся в Приозерск? Паша поскреб макушку, хмыкнул (точь-в-точь, как мой приятель Андрей Аркадьевич Мартьянов) и разразился лермонтовскими стихами, немного подкорректированными к случаю: – Какое право вам дано шутить святынею моею? Когда коснуться я не смею, ужели вам позволено? Как я, ужели вы искали свой рай в моторе сем? Едва ли! – Он перестал завывать и произнес нормальным деловым тоном: – Будем не позже половины седьмого. Фирма веников не вяжет! Дарья, приоткрыв рот, в изумлении уставилась на рыжий затылок Паши, а я начал громким шепотом объяснять ей, что мой друг не только ловелас и спец по автомобильной части, но еще и фанатик изящных искусств. Обожает русскую поэзию, читает в подлиннике Апулея и меценатствует над кордебалетом Театра варьете. Пока я об этом рассказывал (а Паша одобрительно хмыкал и гмыкал), мы добрались до Софийской улицы, широкой и почти безлюдной в этот час. Паша свернул – не налево, к центру, а направо, к окраине, где стояли корпуса овощебазы и где улица упиралась в окружную железную дорогу. За дорогой когда-то была свалка, а теперь тянулись бетонные стены пяти или шести огромных кооперативных гаражей. Я там бывал; кое-кто из моих знакомцев-неудачников держит свои тачки в этих отдаленных палестинах. Мимо гаражей идет дорога к Московскому шоссе, разбитая грузовиками, очень опасная для лиц несведущих и потому получившая название Гробиловки. Есть на ней ямы, есть и камни, а также холмы, колдобины, канавы, пруды и бетонные обломки с торчащей ежиком арматурой. Словом, все, чтобы водитель поседел и выпал в кому. Итак, «Волга» свернула направо, а рыжий Паша взглянул на зеркальце, где рисовался смутный силуэт «девятки», и произнес: – Держитесь! Под капотом что-то взревело, машина скакнула вперед, Дарья взвизгнула, инерция вжала нас в спинку сиденья, заставив откинуть головы; мне показалось, что асфальт встал дыбом и через секунду обрушится на нас, прихлопнув машину вместе с водителем и пассажирами. Стрелка на спидометре ушла за цифру сто пятьдесят, за остеклением дверец с бешеной скоростью промелькнули овощебазные корпуса, затем – чуть медленнее – домик у переезда, шлагбаумы и рельсы; мы еще раз повернули, сбросили скорость, взлетели на холм, рухнули в яму и помчались устанавливать рекорд Гробиловки. Паша, автомобильный гений, лихо крутил баранку, стены и ворота гаражей уносились назад под грозный рык мотора, Дарья пищала – не то от ужаса, не то от восторга, – и прижималась ко мне, а я успокоительным жестом гладил ее коленки. Наконец мы обогнали какой-то древний «Форд», увернулись от встречного трейлера (его шофер с разинутым ртом крутил пальцами у виска) и выехали на Московское шоссе. Паша обернулся, взглянул на наши бледные физиономии и не без ехидства спросил: – Ну, как? – Зз-зачем? – выдавила Дарья. – З-зачем в-вы это сделали, Пашенька? – Не надо было его подзаводить, – объяснил я. – Насчет того, когда мы доберемся и куда. Теперь он нас вместо Приозерска в Тихвин отвезет. Кирпичников ухмыльнулся, но повернул все-таки на север, а не на юг. От белых «Жигулей» не осталось даже воспоминания. Мы в бодром темпе пересекли город, сделали остановку в Парголове, понаблюдали, не тащится ли за нами хвост, не обнаружили ничего, выпили квасу и тронулись дальше – на скромной скорости сто десять, притормаживая лишь у постов и засад ГАИ. Минут через сорок Паша начал крутить головой, оглядываться, хмыкать и посматривать в зеркальце, потом сказал: – Едет кто-то за нами. Катафалк на колесах за пятьдесят штук баксов. За Парголовом привязался. Только не пойму – просто из любопытства или по делу? Мы обернулись, рассмотрели «катафалк», и Дарья восхищенно произнесла: – Ка-а-кой красавец! – Джип «Чероки», – прокомментировал Кирпичников, и в этот момент означенное транспортное средство, блистая черным глянцем, пронеслось мимо нас. – «Крутые» поехали, – со вздохом сказала Дарья. – Щас я их сделаю, этих «крутых», – отозвался Паша, врубил сто восемьдесят и начал декламировать Лермонтова. Теперь сквозь рев и грохот мотора до нас доносились бессмертные строки: – Я жертвовал другим страстям, но если первые мечты служить не могут снова нам – то чем же их заменишь ты? Чем успокоишь жизнь мою, когда уж обратила в прах мои надежды в сем краю, а может быть, и в небесах? Под эти стансы мы с ветерком обогнали наглый джип, припудрив его хромированный бампер дорожной пылью, форсировали автомобильный мост над ревущим потоком Вуоксы и в четверть седьмого, как и планировалось, прибыли в Морозное, притормозив у пивного ларька, дабы передохнуть и выпить чего-нибудь освежающего. Там уже обретался хмурый пожарник Петрович, сосал из литровой банки светло-янтарную жидкость и с мрачным видом дул на пену. Я подошел, поздоровался с ним и, по давней традиции, заказал две кружки (вернее – банки), для себя и для соседа. – Никак забогател ты, Димыч, – произнес пожарник, разглядывая наш пыльный экипаж. Потом отхлебнул пивка и разочарованно покачал головой: – Нет, бля, не забогател… Гробовастая тачка… Ездит ишшо? – Ездит, – подтвердил я. – А брал почем? – Не знаю. Не моя машина, приятеля. Петрович поглядел на Пашу и Дашу, угощавшихся фантой, снова покачал кудлатой головой и спросил: – А девка тоже его? – Нет, моя. – Ви-идная… Ну, дай вам бог! А Серегиных убивцев не нашли? Ха-ароший был мужик… Пивом меня угощал… – Не нашли. – Во жизнь пошла! Ничего найти не могут! У нас, б… пожарную машину сперли, с брандсбойтом и лестницей – и ту не найти! Как корова языком слизнула! – Он вдруг наклонился ко мне, обдавая сложным запахом пива, пота и солярки, и прошептал: – Слышь-ка, Димыч, болтался у твоей избы один… и к нам приходил, выпытывал, когда, мол, хозяин будет… Клавка моя пасть разинула и давай выкладывать, что знает и чего не знает, но я ей по сусалам… чтоб, значитца, не болтала лишку… Ты меня, Димыч, знаешь: я чужих не люблю. Ходют тут, б… выпытывают… – Знаю, – кивнул я и заказал еще одну банку – само собой, для соседа. – А каков он был… этот, который выпытывал? – Сильно чернявый и в кепке, – пояснил Петрович. – Здоровый жлоб! Был бы похилей, так я бы по его сусалам съездил, не по Клавкиным. Мы распрощались и через десять минут достигли ограды моей фазенды. Колдобистую лесную магистраль Паша преодолел с той же изящной легкостью, что и Гробиловку. Конечно, машина была у него зверь, но и сам он дорогого стоил, и я не сомневался, что ему суждена блестящая карьера у Мартьяныча. Особенно если он осилит Шекспира с Киплингом. Ужинать с нами Паша отказался, сел в свой броневик и укатил. Пока Дарья бродила по участку, ахала над одуванчиками, восхищалась соснами и проверяла, не осталось ли чего на смородинных кустах, я открыл дверь, взошел на веранду и первым делом стер тряпкой меловой рисунок на полу. Допрашивая Дарью, Скуратов не рассказывал ей о судьбе Сергея, и я об этом тоже не собирался говорить. Во всяком случае, сейчас. У женщины, склонной к романтике и фантазиям, бывают странные предрассудки насчет трупов: так зачем же портить настроение и себе, и ей? Незачем, решил я, распахивая вторую дверь – ту, что вела в дом. В доме было сыровато. Я затащил в комнату баул, вытряхнул из него продукты, книжки и прочее, потом окликнул Дарью: – Печку умеешь топить? – Попробую. Братец меня учил. – Проверим, – сказал я и начал переодеваться. Дарья развязала шарфик, сняла свои туфельки и зеленое платьице, покосилась в мою сторону и торопливо влезла в старые джинсы. Правда, до того, как она натянула ковбойку, я успел проверить, не спрятан ли в ее бюстгальтере пистолет. Потом, улыбаясь и насвистывая, отправился к дровяному навесу. Здесь ничего не изменилось: халаты, синий и коричневый, по-прежнему висели на столбе, поленья были разбросаны, и те, которые выкатились из-под навеса, промокли под недавними дождями. Я постоял, обозревая этот беспорядок, потом сложил дрова в поленницы и занес большую охапку в дом. Дарья уже азартно суетилась возле печки, складывала слоями старые скомканные газеты, щепочки и корье, а также осваивала инструментарий – зажигалку и кочергу. Кочерга, толстый железный прут, изогнутый и расплющенный с одного конца, была в саже, и моя птичка успела перемазаться, но это, как и хозяйственные хлопоты, доставляло ей одно лишь удовольствие. Увидев меня с дровами, она счастливо улыбнулась. – Положи к печке, Димочка… Ты не проголодался? Сейчас я печку растоплю, подмету на веранде и в комнате, протру окна, сполосну посуду и займусь ужином. А потом… Мне едва удалось сдержать улыбку. – Потом я намерен подгрести к тебе с гнусными домогательствами, принцесса. Щеки Дарьи порозовели, а я, убедившись в обширности ее планов, снова направился к дровяному навесу. Наступило время изъять сокровища из тайника и подготовить их к транспортировке. Пенал мне, пожалуй, не нужен – хоть и небольшая вещица, а все-таки заметная. Лучше вытащить четыре оставшихся футлярчика и распределить их по карманам. Желтый, пестрый и золотистый можно засунуть подальше и поглубже, а белый амнезийный – так, чтоб находился под руками. На случай нежеланных встреч… С такими мыслями я подступил к халату, ощупал его и похолодел. Коробки не было! Только жалобно звякнули запасные ключи. Я содрал оба халата с гвоздя, встряхнул их, затем с лихорадочной поспешностью проверил карманы. Пусто! Если не считать ключей… И, разумеется, никаких следов на земле и в обозримом пространстве. Если что и было, то я затоптал в процессе складирования дров, а если б не затоптал, так все равно не разобрался бы – я ведь крысолов, а не следопыт Соколиный Глаз. Мои сильные стороны – логика плюс интуиция. И если пустить их в дело… Шорох, раздавшийся за спиной, заставил меня отвлечься от горестных размышлений. Я резко обернулся и встретился взглядом с коренастым мужчиной лет сорока, который небрежно опирался на поленницу. С ним были еще двое: высокий черноволосый парень в кепке и стриженный наголо тип, лениво ковырявший под ногтями ножиком. Лица их, а также ножик и торжествующие ухмылки ничего хорошего не предвещали. На дворе смеркалось, однако ножик был ясно виден – длинное, слегка изогнутое лезвие на костяной рукояти с латунными кольцами. Еще я отметил, что вся эта троица – не из местных, что высокий похож на жлоба, описанного Петровичем, и что в коренастом – вероятно, их вожаке – ощущается некая странность. Это касалось его физиономии: обычный рот, нормальный нос, скулы, брови, подбородок – все вроде бы на месте и выглядит пристойным, но вот в комплексе впечатление мерзкое. Я не успел понять из-за чего: слова Мартьянова «рожей не вышел… чакры подкачивал…» вдруг промелькнули в голове, а вслед за ними всплыли и другие: «не верю… чего бы ему не накачали в чакры, наружу вылезет одно дерьмо». – А вот и наш норвецкий аттюше, – хрипловатым баритоном произнес коренастый. – Как тебя? Олаф Волосатый Член? Так что же нам с тобою делать, фраерина? Грабки переломать? Или со шнифтов начнем? А может, цырлы подпалим? «Подпалят и переломают, – понял я. – Это не остроносый с его протоколами и разговорами; тут если и состоится разговор, то самый задушевный – в смысле изъятия души из тела». Следующая мысль была о Дарье: еще не решив, бояться ли мне самому, я уже страшился за нее. Страшился? Слабо сказано! Я просто дрожал от ужаса и ненависти! А еще проклинал свою глупость. Вот так крысолов, перхоть неумытая, колобок хренов! От дедки ушел, от бабки ушел и в капкан попался! И кому? Не медведю, не волку, не лисичке-сестричке, а бритоголовым гаммикам! У которых два уха, а между ними – пустота, вакуум в минус пятой степени! Но все же они меня переиграли, и эта мысль, видимо, отразилась на моем лице. – Не ожидал? – усмехнулся коренастый. – А ведь предупреждали тебя, козлик: найдешь и отдашь добром, будут бабки, а не отдашь… – Не отдашь, Танцор кивнет, и я из тебя подтяжки нарежу, – уточнил стриженый. Он шагнул ко мне, обогнув поленницу и стоявшего рядом с ней главаря, крепко взял за локоть и что-то сделал с ножом – что-то такое за моей спиной, чего я не мог увидеть, а лишь ощутить. Кончик стального лезвия кольнул меня под левую лопатку, словно напоминая, что до сердца осталось сантиметров восемь: исчезни эта дистанция – и все, конец. Или сначала все-таки нарежут подтяжек? – Что молчишь? – поинтересовался коренастый Танцор. Я пожал плечами, и стальное шило вновь ужалило кожу. – А что сказать? Вот и молчу. Ничего не находил, и отдавать мне нечего… Я ведь думал, тот звонок – розыгрыш… Шутка! Кто-то из приятелей развлекается. Талдычит по фене, и все такое… Словом, для смеха. Что еще я мог сказать? И вправду, ничего. Но ясно понимал, что если Дарья – не ровен час! – выйдет из дому, то тут я запою соловьем. Или ввяжусь в безнадежную драку. Силой меня бог не обидел, и с одним – может, с двумя – я бы справился, но трое это уже перебор. Явный перебор! Учили меня многому, учили, но вот убивать и калечить я был не мастер. Рука Танцора нырнула в карман щегольской кожаной куртки. – Значит, думал, приятели развлекаются? Значит, не искал? А, случаем, ничего не нашел? Вот такого? – В его пальцах вдруг появился крохотный алый цилиндрик. – Таких вот штучек не видел, прибираясь в своей хибаре? Только другого цвета? Я отрицательно покачал головой. – Ну, лады… Может, и впрямь не видел. Может, я тебе верю, болт волосатый. Так что ж? – Он переглянулся с приятелями. – Разве это нам помеха? Если мы тоже решим поразвлечься? Теперь коренастый разглядывал меня крохотными, близко посаженными глазками, перекатывая между ладоней маленький красный футляр. Тот, которого недоставало в пенале. Тот, который Серж таскал с собой… Если б я мог до него добраться!.. – Твой приятель, который давеча муху башкой словил, хитрое чмо… – Танцор подбросил футлярчик в воздух. – Были у него разные штучки-дрючки, были… Только не всякую стоит глядеть. Одни – так, для мебели, другие – для приварка, а на иные глянешь, и враз копыта отбросишь. Вот эта – для чего? Сердце у меня подпрыгнуло – он снова показывал мне алый цилиндрик, стиснув его между большим и указательным пальцами. Выходит, взять-то взяли, а посмотреть – боятся! Думают, не зря Сергей его с собой носил… Не зря! Вот только для чего – чтоб самому полюбоваться или гостям незваным предложить? Шансы были пятьдесят на пятьдесят, но привередничать не приходилось. – Первый раз вижу такую штуку, – пробормотал я, прищурившись, будто рассматривал футлярчик. – Там пленка? А цвет почему красный? Патроны для пленки обычно серые или черные. – Соображает! Шустряк, хоть и с волосатой елдой! – Кивнув в мою сторону, коренастый протянул футляр черноволосому. – Сделаем так: ты, Антоша, сзади встань и держи его на перышке, а Конг пусть штучку ему преподнесет. И поглядим, чего случится. Может, просветление в мозгах, а может, полный облом по части крыши… Поглядим! – Он сплюнул и задумчиво поскреб подбородок. – Конг, слышь-ка! Ты зенки-то прижмурь… и не коси, не муську за титьки щупаешь… Черноволосый оскалился: – А если клиент взволнуется? А у меня буркалы закрыты? – А если взволнуется, так мы его успокоим, – негромко пообещал коренастый, вытягивая из кармана пистолет. Если глаза меня не обманули, то это был видавший виды «макаров» с вороненым кургузым стволом. – Замри так, чтоб я его башку видел! – распорядился Танцор, кивая черноволосому. – Я взволнованных не люблю… страсть не люблю… я сам взволнованный… что не по мне – враз дырка под прической! Конг приблизился, встал сбоку от меня, прижмурил веки и начал сворачивать крышку с футлярчика. Мы были с ним одного роста, и его физиономия маячила прямо передо мной в сером свете надвигавшихся сумерек темным ликом вурдалака. За спиной я чувствовал лезвие ножа, по-прежнему упиравшегося под лопатку, и слышал сопение стриженого; его пальцы сомкнулись на моем предплечье, дыхание обдавало шею. Танцор стоял в пяти шагах – видимо, зная, что на таком расстоянии крошечный гипноглиф не разглядишь; рукоять пистолета стиснута в правой руке, а рука согнута в локте и кисть прижата к плечу, так что дуло глядит вверх. Классическая поза из голливудских боевиков… Из них он, наверно, и подцепил ее. Но позы позами, а я печенкой чувствовал, что он не промахнется. – Ну, начнем экскремент, – хрипло выдохнул Танцор и облизал губы. – А ты, веник, гляди, глазки не закрывай… Закроешь, веки вырежу и в пасть запихну. На широкой ладони черноволосого Конга алел игрушечный, с ноготь, тюльпан. Нет, не тюльпан! Маленький костер с багровыми скачущими языками, напоминавшими цветочные лепестки! Он разгорался все сильней и сильней, заслоняя поленницу дров, фигуру Танцора в коричневой кожаной куртке, бурые стволы сосен, разлапистую ель, что виднелась за ними, небо и розовые облака, подсвеченные садившимся солнцем. Костер заполыхал с невыносимой яркостью, огненный протуберанец потянулся ко мне жарким шершавым драконьим языком, и в моих висках грохнуло. Я больше не был ни Дмитрием Хорошевым, ни математиком, ни крысоловом, ни вообще лояльной и цивилизованной общественной единицей – я, несомненно, сделался кем-то другим. Возможно, Конаном, варваром из Киммерии, который геройствовал в Дарьиных книжках, или Гераклом эллинских легенд; возможно, другой мифической личностью – из тех, которые носят львиные шкуры и пьют не квас, не лимонад, а исключительно кровь чудовищ. Многоголосые ветры гневно взревели за моей спиной, раздувая пожар вселенской ярости, в ушах зазвенели литавры, жилы на шее напряглись, а пальцы стриженого, лежавшие на моем предплечье, внезапно стали вялыми и слабыми, как у столетнего старца. – Убери руки, мразь! – прохрипел я и резко, с чудовищной силой двинул локтем назад, попав ему в солнечное сплетение. В следующие, стремительно промелькнувшие секунды тело мое вдруг обрело отдельную от разума жизнь: я словнонаблюдал со стороны, как швыряю темноволосого Конга под ноги Танцору, как тот валится навзничь, выронив пистолет, как мой каблук сокрушает чьи-то ребра, как кто-то стонет – жалобно, чуть слышно, как на мои штанины брызжет кровь, как я наклоняюсь, хватаю упавшее наземь полено и… Рядом с поленом, втоптанный в землю, лежал гипноглиф, и только редкие алые искры просвечивали сквозь покрывавшую его грязь. Бешенство мое еще не утихло, ярость не насытилась, но я внезапно вспомнил, что самое важное – драгоценный амулет: эта мысль пробилась в сознание берсерка и завладела мной. Я схватил гипноглиф скрюченными пальцами, поднялся, сунул в карман и осмотрел поле битвы. Стриженого мой удар отбросил к стене дома; он приложился к ней затылком и теперь тихо дремал, не выпустив из кулака свой бесполезный ножик и свесив голову на грудь. Танцор и черноволосый тоже были без сознания; Конгу я, вероятно, свернул челюсть и раскровянил нос, а Танцор глухо стонал в беспамятстве, прижимая ладонь к ребрам. Секунду я колебался, кого первым добить, потом, оскалив зубы, шагнул к Танцору и услышал: – Браво, Дмитрий Григорьевич! Не ожидал от вас подобной прыти! Я обернулся и увидел бледное лицо мормоныша.Глава 15
Джек-Джон-Джим стоял метрах в десяти от меня, рядом с углом бревенчатого сруба. С нашей последней – и единственной – встречи он разительно переменился. Выговор его был чист, без всяких следов акцента, одежда была вполне мирской – вельветовые штаны и толстой вязки свитер с закатанными по локоть рукавами, с рожи исчезла умильная мина пастыря-рыбаря, который обещает неразумным рыбкам, что в тенетах господних им будет куда вольготнее, чем на дьявольской сковороде. Фигура его, по-прежнему тощая и узкоплечая, уже не казалась мне субтильной; шея, руки и запястья были тонкими, но жилистыми, крепкими, и держался мой мормоныш так, будто дома, в заветном сундучке, хранились у него три каратистских пояса, и все как один – черные. Имелись и другие перемены – скажем, пистолет с глушителем, глядевший мне прямо в лоб. И не какой-нибудь там «макар» пятидесятого года выпуска, а что-то современное, скорострельное, заграничное и абсолютно смертоубийственное. – Поговорим? – предложил мормоныш. – О чем? – спросил я, придвинувшись на шаг. – О том, что лежит в вашем кармане, и о других аналогичных предметах. Ценою в десять тысяч долларов. – С перечислением в банк «Хоттингер и Ги»? – Или в любой другой, если вам будет угодно. Так что же вы можете мне предложить? – Сперва хотелось бы кое-что выяснить. Эти – с вами? – Я кивнул на распростертые тела. – Предположим, да. Это что-нибудь меняет? – Собственно, ничего. Но я так любопытен… Вечные вопросы – зачем, почему, отчего… Так вот: зачем? Зачем, если мы договорились и банк «Хоттингер и Ги» меня вполне устраивает? Я сделал еще один шаг. Бешенство уже не туманило мне голову; ярость стала кристально чистой, острой и холодной, как арктические льды. Я представил, как сломаю ему хребет, и чуть не застонал от наслаждения. – Мы договариваемся не только с вами, – пояснил мормоныш без всяких признаков смущения. – Этот, – он ткнул стволом в Танцора, – негодяй, однако полезный союзник. Мы его нашли и заключили договор: что-то ему, что-то нам. Обычный бизнес, не так ли? – Значит, что-то ему, что-то вам… А что мне? Еще один шаг, но на этом мое везение кончилось: мормоныш понял, что ему заговаривают зубы, и отступил к углу веранды. «Прр-рофессионал! – как выражается Петруша. – Крр-ровь и крр-рест! Прр-ропади он прр-ропадом! Как же мне достать этого сукина сына?» – Ближе не подходите, Дмитрий Григорьевич, – предупредил Джек-Джон-Джим. – В данный момент я предпочитаю общаться с вами на расстоянии. Я совсем не хочу прострелить вам ногу. Внезапно я понял, что он боится. Боится до судорог! Не знаю, что там ему удалось разглядеть и что услышать – может быть, все, так как заборчик у меня символический, а кусты за ним негустые. Но финальную часть переговоров с Танцором он, кажется, видел. И догадался, что три черных пояса его не спасут. Только пистолет! Плюс дистанция метров десять. Наблюдая за своим состоянием, я отметил, что начальный яростный взрыв уступает место холодной сосредоточенности. Нечто, ускорившее мою реакцию, утроившее силы, продолжало кипеть и бурлить, оставаясь, однако, под контролем разума, и разум подсказывал мне: не успею! Не достану, не дотянусь! Вот если б нашелся камень, килограммовый булыжник, и прямо в руке… Камнем я бы его пришиб! Определенно пришиб! Не знаю, что давало мне в том уверенность; видимо, алый амулет пробуждал не одну лишь звериную ярость, а что-то еще, что-то такое, что свойственно бойцам. Тореадорам, идеальным солдатам, суперкиллерам. Стиснув зубы от безысходности, я сделал крохотный шажок вперед. – Вы меня не поняли? – раздался тихий голос мормоныша. – Было сказано: не приближаться! – Ствол пистолета плавно пошел вниз, уставившись в мое колено. – Так хочется пожать вам руку и все простить, – со злобой процедил я. – Может, помиримся и поцелуемся? Как братья во Христе? – В другой раз. – На губах Джека-Джона-Джима зазмеилась улыбка. – А теперь достаньте из кармана тот предмет и бросьте его мне. Спокойно, не торопясь, не… За его спиной в сгущавшихся сумерках мелькнула чья-то тень, раздался глухой удар, мормоныш вскрикнул, покачнулся и осел на землю. Вслед за его воплем – а может, и раньше – я услышал боевой клич, с каким ирокезы снимают скальпы с бледнолицых; потом на фоне кустов смородины обрисовалась фигурка Дарьи. Это была она, моя птичка… но в каком виде! Волосы растрепаны, щеки в саже, брови грозно сведены, губы стиснуты, глаза горят боевым задором, а в руках – поднятая к небу кочерга! Словом, валькирия, Рыжая Соня! Кочергой она и приложила мормоныша, действуя в точности так, как советовал своим ученикам Мартьянов: выскочить внезапно из-за угла и бить на поражение. Мы стояли над телом поверженного врага и молча глядели друг на друга. Глаза у Дарьи были совершенно круглыми. Я первым нарушил молчание: – Знаешь, милая, есть у меня один знакомый, любитель поэзии… кстати, Пашин шеф… Так вот, ему бы на ум пришли сейчас такие строки… – Подражая Мартьянову, я устремил взор в небеса, где уже загорались первые звезды, и с выражением произнес: – Он мертвым пал. Моей рукой водила дикая отвага. Ты не заштопаешь иглой прореху, сделанную шпагой. Моя принцесса ойкнула и опустила кочергу. – Димочка, родной мой… неужели я его?.. Что же будет?.. Я ведь видела, как он тебе пистолетом грозит… Гангстер какой-то… И я его… я… Может, доктора вызвать? Пришлось наклониться и пощупать пульс на шее Джека-Джона-Джима. Пульс еще бился. – Живой! – успокоил я Дарью. – Крысы, они живучие, им доктора не нужны. Сейчас я его куда-нибудь утащу, а ты успокойся и в дом иди. Может, он на машине приехал… Пусть в ней и убирается. Хоть к доктору, хоть к дьяволу. Дарья заметно приободрилась: – А кто он такой, Димочка? Ты его знаешь? Я пожал плечами, поднял пистолет с глушителем, взвесил его на ладони и сунул за пояс. – Первый раз вижу, счастье мое. Жулик какой-то… а может, шутник… Пистолет-то у него, кстати, пластмассовый, игрушечный. Понимаешь, местность тут у нас глухая, леса дремучие, а он мимо шел, увидел беззащитного мужчину, вытащил пушку-игрушку и говорит: выворачивай карман! Кошелек или жизнь! Не рассчитал, поганец, что я под защитой амазонок. – Амазонки! – уточнила Дарья и, гордо задрав нос, удалилась на веранду. Силы во мне так и играли – я с легкостью вскинул мормоныша на плечо. Он застонал и приоткрыл один глаз. – Что… ох!.. Что это б-было? – Пизанская башня. – К-какая б-башня? – Из итальянского города Пиза. Стояла, наклонившись, много лет, а потом рухнула. Тут вы мимо проходили. Ну и… – Я вытащил его на дорогу. – Где ваша тачка? Куда нести? Налево? Направо? – Н-направо. – Он что-то неразборчиво пробормотал на английском – кажется, проклятие. Потом спросил: – Разве м-мы в Италии? Я д-думал, под П-петербургом… – А вы в этом уверены? Не чувствуя веса, я бодро топал по ухабистой дорожке и вскоре наткнулся на черный джип. «Чероки» стоял под деревьями и по причине сгущавшейся темноты был едва заметен – только хромированный бампер поблескивал. Мощная машина, повышенной проходимости… Танцор, разумеется, знал, на чем надо ехать в наши края: его любимый вишневый «мерс» засел бы в первой луже. Сгрузив мормоныша на сиденье, я поинтересовался: – Баранку крутить можете? – Ох… – Он пощупал затылок. – М-могу… наверное, могу. – Тогда ждите. Сейчас доставлю прочих пострадавших. – Я сделал пару шагов, потом обернулся и сказал: – Кстати, у одного из них переломаны ребра. Надо бы о нем позаботиться. – П-позабочусь… Ох! Чем же вы все-таки меня?.. – There is a time to speak and a time to be silent,[556] – пробормотал я и направился к дому. Все-таки я их не убил – стриженый уже поднялся, бросил свой ножик и массировал живот, а черноволосый Конг сидел, привалившись к поленнице, и пытался вправить челюсть. У Танцора дела были похуже – скорчившись, он по-прежнему лежал на земле и временами глухо постанывал. – Забирайте своего крестного папу и выметайтесь, – распорядился я. – Живо! Пока Олаф Волосатый Член опять не осатанел. Со стонами и охами они очистили территорию. Я отыскал футляр от алого гипноглифа, подобрал «макаров» и ножик, а потом прошелся до ближайшего озерца. Уже совсем стемнело, но я тут знаю каждый корень, каждый куст, а что касается озер и прочих водоемов, их у нас не перечесть: идите прямо, и через семь шагов будете в воде по щиколотку, а может, и по горло. Этим Карелия и отличается от Андалусии. Итак, я добрался до озера, швырнул в него нож и оба пистолета, промыл от грязи алый гипноглиф, вытер носовым платком и спрятал в футлярчик. Этот катализатор ярости на ощупь казался дисковидным и вовсе не похожим на цветок тюльпана; видимо, это являлось лишь зрительной иллюзией, тогда как тактильные ощущения меня не обманывали: диск, довольно плоский, диаметром в пару сантиметров. Под деревьями у озера царила темнота, но все же я старался не глядеть на амулет. Возбуждение мое прошло, наблюдался даже упадок сил, а кроме того – зверский голод. Видимо, потраченная энергия нуждалась в восполнении. С мыслями о скором ужине я помчался обратно, перепрыгнул три ступеньки крыльца и распахнул дверь на веранду – чистую, вымытую, с развешанными по окнам занавесочками. Под потолком тускло мерцала лампа в матерчатом абажуре, на газовой плите стояли чайник и кастрюля; чайник призывно булькал, а от кастрюли тянуло вкусными запахами. Дарья встречала меня на пороге – умытая, благоухающая, уже не в джинсах, а в коротеньком халатике; глаза ее блестели, локоны рассыпались по плечам. Я потянул носом воздух, ориентируясь на кастрюлю, но она обняла меня и прошептала: – Кажется, кто-то собирался подгрести ко мне с гнусными домогательствами? Так вот, я буду сопротивляться! Изо всех сил! Должен заметить, она немного преувеличивала.* * *
Мы провели незабываемую ночь. Попутно выяснилось, что у моей принцессы скоро будет день рождения – не далее чем в ближайший вторник. Это меня вдвойне порадовало: как повод для маленького семейного торжества и как возможность преподнести моей красавице подарок. Мне нравится дарить подарки – конечно, приятным мне личностям. В этом обычае есть нечто интимное, тайное, если вы понимаете, как подходить к делу. Выбрать подарок – настоящий подарок, я имею в виду – непросто, ибо в нем обязаны в нерасторжимом единстве сочетаться две индивидуальности, дарителя и одаряемого. Подарок – это всегда намек: я, даритель, знаю, что ты хотела бы получить, знаю, что тебе приятны многие вещи, но выбрал из них одну, именно эту; задумайся, отчего?.. Вы скажете, что мои рассуждения слишком заумны и неконкретны? Вовсе нет: профессия системного аналитика располагает к четкости формулировок и генерации здравых идей. Если вы еще не поняли, как выбирать подарки, поясню свою теорию на примере. Положим, дар назначен женщине, прекрасной, молодой, желанной; если вы преподнесете ей мельничку для перца – это оскорбление, если духи – робкий намек, а если трусики с бюстгальтером – то и это намек, однако уже не робкий. Словом, выбрать подарок для дамы сердца отнюдь не просто, и я, взирая на спящую возлюбленную, обдумывал это с восьми до девяти утра. Она преподносила мне сюрприз за сюрпризом, и с каждым новым открытием я ощущал, что моя привязанность к ней расцветает и крепнет. Мне было уже известно, что она очаровательна и добра, нежна и романтична, заботлива, не лишена хозяйственных талантов, но нынче я понял, что провидение не обделило ее мужеством. Возможно, это не то понятие: мужество, храбрость, отвага – прерогатива мужчин, и их эквивалент у женщины должен называться как-то иначе. Вероятно, стойкостью, умением не кланяться невзгодам и отвечать ударом на удар… Не знаю, прав ли я, но кочергой моя принцесса владела с отменным мастерством. А это доказывало, что трепетная лань способна обернуться яростной тигрицей. Но подобная двойственность ее загадочной натуры лишь привлекала меня: смею напомнить, что любопытен и обожаю загадки. Возможно, я встретил идеальную женщину, которую мне не разгадать до конца? Возможно. По крайней мере, я числил за ней лишь один недостаток – склонность к нахальным попугаям. Однако совместные усилия, терпение и любовь способны творить чудеса; могло случиться так, что мы сумеем перевоспитать Петрушу, избавив его от сухогрузной лексики. Я на это твердо надеялся. В пять минут десятого протяжный автомобильный гудок сорвал меня с постели. Мой дом стоит глухой стеной к дороге, окна прорезаны с южной стороны и выходят в сад, поэтому звук казался далеким и будто бы нереальным. Однако гудели настойчиво и долго. – К нам гости, – сказал я, заметив, что Дарья встрепенулась. – Ты лежи, солнышко, я их сюда не пущу. Но она принялась натягивать халатик и то, что носят под халатом. Я покачал головой, сунул ноги в кроссовки и отправился посмотреть, кого там к нам занесло. Оказывается, двух братцев-лейтенантов, Леонида и Льва, на милицейском «газике». Вероятно они решили, что на правах старых знакомых могут поднять меня во всякий момент, хоть после ночи любви. Но я был с ними неласков: кисло улыбнулся и спросил, какого дьявола им надо. В ответ Лев протянул мне мобильный телефон. В трубке раздался голос остроносого: – Дмитрий Григорьевич? – Он занят. Принимает душ. – Не паясничайте, гражданин Хорошев! Вчера, в шестнадцать сорок семь, вы исчезли из зоны нашего наблюдения. Почему? – Какого-такого наблюдения? – искренне изумился я. – А вы что же, не догадывались? Мало вам смерти Чернозуба? И вашего друга Арнатова? Хотите за ними отправиться? Так вот, мы этого не допустим. Мы охраняем вас денно и нощно как ценного свидетеля, а вы, проявив несознательность, звоните черт-те куда, болтаете черт-те что, а потом исчезаете! Да еще на пару с вашей соседкой! На мусорной «Волге»! – Это в каком же смысле мусорной? – спросил я оскорбленным тоном и, не получив ответа, продолжал: – Мы с вами, Иван Иванович, заключили договор об обмене информацией. Выполняя его, докладываю: вчера я отбыл с гражданкой Малышевой на принадлежащую мне дачу, по известному вам адресу. К упомянутой выше гражданке питаю серьезные чувства, так что похороните идею прижать меня за разврат и моральную неустойчивость. Транспортное средство предоставил мой приятель, большой оригинал и шутник: он, видите ли, обожает Багрицкого и старые машины с новыми моторами. Вы удовлетворены? В трубке раздалось неразборчивое ворчанье. – В таком случае хотелось бы кое-что спросить у вас. Откуда вы узнали, что я болтал черт-те что своему приятелю? Прослушиваете мой телефон? А если я обращусь к прокурору? И к журналистам? – Обращайтесь, – милостиво разрешил остроносый. – Все равно ничего не докажете. – А вдруг докажу? Мой компьютер тоже висит на телефонном кабеле, а сам я – специалист не из последних. Что вам известно о специальных функциях Интернета? Скажем, о системе анти-лиснин?[557] Об этом Иван Иваныч ничего не знал и тут же пошел на попятный: – Не будем ссориться, Дмитрий Григорьич. Мы в вашу частную жизнь не лезем, мы только охраняем вас. То есть действуем в ваших же интересах. Как верные и преданные стражи. «Где ты вчера был, верный страж?» – подумал я, но вслух сказал: – Охраняйте, но неназойливо. Информирую вас, что мы с гражданкой Малышевой вернемся по месту постоянной прописки в воскресенье вечером, примерно в двадцать-ноль-ноль. Отбой связи! Он повесил трубку, а тут и гражданка Малышева вышла на крыльцо. Не в соблазнительном халатике, а в полном боевом облачении – в джинсах, ковбойке и с кочергой. Увидев, что меня не обижают, она опустила кочергу и сделала Льву с Леонидом ручкой. – Это кто? – спросил Лев. – Моя невеста. – Серьезная девушка! А кочерга ей зачем? – Лупить иностранных шпионов. Вчера вот одного пришибла… Хотите, расскажу в подробностях? Но они не захотели, переглянулись с кривыми усмешками, будто я собирался объявить импичмент доллару, погрузились в «газик» и исчезли. Меня скрутил острый приступ жалости – не к ним, а к самому себе. Ну почему я уродился таким нескладехой?.. Говоришь людям правду – ноль внимания, врешь – верят за милую душу… Вроде бы мать меня в детстве не роняла… И все же, все же… Тут подошла Дарья, обняла и пожалела меня. Потом спросила, кто эти милые молодые люди, и я сказал, что лесники. Она прижала к моей щеке свою зардевшуюся щечку и прошептала: – Ты не шутил, что я – твоя невеста? – Святым не шутят, дорогая. Клянусь, в этот момент я не лгал!Глава 16
Как и было намечено, мы вернулись домой в воскресенье, на электричке, часам к восьми. Дарья посвежела, порозовела и после активного дачного отдыха с такой силой излучала женские флюиды, что попугай учуял их и тут же завопил: – Прр-любодеяние! Порр-рок! Порр-ка мадонна! – Но бытовые обстоятельства перевесили, и он тут же принялся клянчить: – Жррать! Петрруша хочет жррать! Прр-ровиант! Дай прр-ровиант! – Скажи: прошу простить покорно, – велел я. – Не то даже банановой шкурки не получишь. Но Дарья, добрая душа, уже тащила ему бананы, яблоки, булку и чищеные орехи. Затем мы отужинали и сели в гостиной у телевизора. Вернее, сел я, а Дарья устроилась у меня на коленях. Шел фильм (разумеется, американский) о нежной страсти миллионера и красотки-куртизанки. Собственно, по складу характера куртизанкой она не была: ее толкнули на панель тяжкие жизненные обстоятельства, а также дурной пример подруги. Миллионер был у нее всего лишь пятым или десятым, и к концу фильма они выяснили отношения и собрались пожениться. Затем мы посмотрели новости, и я уже готов был переключить канал, но тут началась петербургская криминальная хроника. Пейзаж оказался до боли знаком: автомобильный мост над Вуоксой, ревущий поток внизу, проломленные перила и битый джип «Чероки», который вытягивали на мост подъемным краном. Дарья, разглядев джип, ахнула: – Димочка! Это же тот катафалк, который Паша обогнал! Помнишь? Или не тот? Наверное, есть и другие такие машины? Как ты думаешь? Я думал, что, конечно же, есть – город большой, богатых много. А диктор тем временем вещал: – В ночь с четверга на пятницу, в районе станции Лосево, автомобиль с тремя пассажирами пробил заграждение и рухнул с моста в реку. Все пассажиры мертвы и сильно искалечены. Среди погибших опознан Клим Таценко, криминальный авторитет по кличке Танцор, рецидивист, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы; по мнению сотрудников УБОП, он возглавлял купчинскую группировку. Двое остальных – шофер и личный телохранитель Таценко. Начато следствие. Наиболее вероятная версия, что в данном случае правоохранительные органы столкнулись не с результатом разборки между мафиозными структурами, а с трагической случайностью. В крови всех трех погибших обнаружен алкоголь; это дает основание предполагать, что нетрезвый водитель не справился с управлением, и машина на большой скорости врезалась в ограждающие мост перила. Возможно также, что… Обещал мормоныш позаботиться о «союзниках» – и позаботился, промелькнуло у меня в голове. Дал хлебнуть для бодрости и спустил с моста в речку… Ну, что ж, Сергей был отомщен, а я мог приплюсовать три трупа к той рамочке на своей схеме, где фигурировали гаммики. Как говорится, их дружный коллектив понес невосполнимые утраты… Однако не по моей вине. Мы легли спать, а утром Дарья ушла в одиннадцать, чмокнув меня в щеку и предупредив, что вернется поздно: у нее намечались переговоры с немцами, а после них – фуршет. Я позавтракал, сунул в клетку Петруши банан, перебрался в свою квартиру, выглянул в окошко и выяснил, что сегодня дежурят Джеймс Бонд и Итальянец. Затем натянул свитер (погода стояла прохладная), взял сумку и совсем уж собрался отправиться в институт, в родимый свой Промат, да призадумался. После произошедших событий сейф в Промате уже не казался мне идеальным тайником. Пусть команда бета до него не доберется, рассуждал я, равно как и лишенные руководства гаммики; но можно ли считать, что сейф недоступен сотрудникам ФСБ? Разумеется, нет. Остроносый Иван Иванович – человек неглупый и быстро сообразит, где спрятаны объекты государственной важности. Собственно, таких мест всего лишь три: мое жилище, моя фазенда и моя работа. Фазенда сгорела: кто-то (люди Скуратова?.. вряд ли Танцор с мормонышем…) учинил квалицифированный обыск и разыскал коробку. Может быть, и в квартире искали, в моей и в Дарьиной, да ничего не нашли. Значит, остается работа. Есть, разумеется, и другие варианты, но этот явно обладает приоритетом. Пошарят опытные умельцы в моей проматовской лаборатории – и амулеты будут найдены, а мне предъявят обвинение и закатают в Соловки. Ну, не в Соловки, так в другое место… куда там сейчас закатывают всяких неблагонадежных типов… Отсюда следовал вывод, что гипноглифы лучше всего держать при себе – как средство защиты и как товар для возможных переговоров с достижением взаимного консенсуса. Консенсус, правда, оставался под вопросом, а вот оборонительная функция была вполне очевидной. Пусть я не знал, не ведал, на что годится черный амулет, пусть я лишился белого, зато приобрел красный, превращавший меня в супермена, что являлось определенной гарантией безопасности. Если успею взглянуть на него… Серж, например, не успел… Надо успеть! Насколько я помнил, действие всех гипноглифов было стремительным и необоримым, но лезть в карман за патрончиком, открывать его, вытряхивать гипноглиф на ладонь – слишком длительный процесс, чреватый потерей темпа. Я представил его во всех подробностях и сморщился от досады: за это время меня могли раз десять пристрелить и раз пять повязать. Требовалось что-то иное, какой-то другой способ, сравнимый с той скоростью, с которой палец давит на спуск, а кулак бьет в челюсть. К счастью, я вспомнил, что алый амулет имеет форму диска, и тут же полез в письменный стол, разыскал старые часы на металлическом браслете, разобрал их, вытряхнул механизм и сунул вместо него гипноглиф. Затем катализатор ярости устроился на моей руке, надежно скрытый под рукавом свитера – готовое к бою оружие, которым можно воспользоваться за полсекунды. Ощутив себя в безопасности, я собрался, уложил в сумку бумажник, сигареты, пустой футляр из-под алого гипноглифа и пару нечитанных газет, спустился по лестнице, бросил призывный взор на Джеймса Бонда с Итальянцем и неторопливо зашагал к метро. По дороге в институт мысли мои кружились вокруг загадочных свойств черного амулета. Желтый и золотистый исчезли, но пять остальных были испытаны, вольно или невольно, на собственной шкуре. Полученный опыт служил необходимой пищей для анализа, для генерации гипотез и всевозможных любопытных выводов; размышляя на эти темы, я ощущал себя котом, который резвится в стайке разноцветных мышек. Четыре уже пойманы, две убежали, а вот пятая, черненькая, никак не давалась в лапы… Если верить Косталевскому, эта мышка была опасной – может, не мышкой вообще, а дьяволом, принявшим облик маленького хвостатого зверька. Патрон Сергея говорил: не открывайте красного и черного футляров… Я убедился, что его предупреждение – отнюдь не пустой звук: ведь алый катализатор ярости, увиденный несколькими людьми, привел бы к неизбежному побоищу. А черный? Может быть, посмотрев на него, я овладел каким-то неведомым даром? Скажем, гипнотизировать на расстоянии? Чуть-чуть повернув голову, я уставился на Джеймса Бонда и Итальянца, маячивших в пестрой толпе пассажиров, и приказал им спустить штаны. Дохлый номер! Оба и бровью не повели. Тогда я начал внушать полной даме средних лет, сидевшей рядом, что у нее расстегнулся ремешок на босоножке. Дама поднялась, наступила мне на ногу, отдавив ее своим немалым весом, и гордо выплыла в дверь на остановке «Горьковская». Я, прихрамывая, юркнул за ней: мне тоже полагалось выходить, так как Промат находится неподалеку, на улице Мира, справа от Австрийской площади. Добираясь туда, я думал уже о Косталевском. Воображаемый белый лист с квадратиками и овалами мерцал передо мной компьютерным дисплеем, будто предлагая изобразить новые линии, стрелочки, пунктиры, а над центральной рамкой с фамилией Косталевского торчала голова – лысая, с мощным академическим лбом и и маленькими хитрющими глазками. Голова подмигивала мне, ухмылялась и беззвучно шевелила губами, как бы спрашивая: ну, догадался, крысолов? Допер, чем мы повязаны? Все еще нет? Ну, так шевели рогами, недоумок! Я шевелил, и постепенно в конце тоннеля моих рассуждений начала брезжить истина. Вероятная истина, поскольку абсолютной не существует, а в трансцендентную я, как праведный атеист, не верю. Итак, предположим, что Косталевский скрывается и делает это гораздо успешней, чем Серж Арнатов; его, конечно, ищут – ищут всеми силами команды альфа, однако профессор неуловим. О причинах неуловимости Косталевского тоже стоило поразмышлять, но не сейчас, потом; главное – ищут и не могут найти. Он тоже ищет – ищет амулеты, оставшиеся у Сергея; цель поисков – неясная, однако след привел ко мне. И было сказано: никому не отдавайте!.. Ждите и не волнуйтесь!.. Я вас навещу… Навещу! Не в этом ли суть вопроса? Иными словами, кто же такой Дмитрий Григорьевич Хорошев? Последняя надежда ФСБ, луч света в темном лабиринте и путеводная ниточка к профессору Косталевскому… Не так уж мало, но и не так уж много… Зато профессор – это дичь! Во всех отношениях крупная и подходящая для высших чинов ФСБ. Но почему он с ними не поладил? В конце концов, Федеральная служба безопасности – не мятежное графство Тулузское в средневековом французском королевстве; ФСБ – одна из государственных структур, над ней – правительство и президент, а сбоку тоже всякого понаверчено, от Думы до генеральной прокуратуры. Не поладил с ФСБ – значит, не поладил с властью. Отчего? По каким таким соображениям? Оставив этот вопрос без ответа, я нырнул в проматовскую проходную, миновал в надлежащей очередности первый, второй и третий посты и добрался до своей лаборатории. Там оставалось все по-прежнему: Борис Николаевич, мой шеф и начальник, играл с компьютером в шахматы, зевал и пробавлялся крепким чайком. Увидев меня, он энергично помахал рукой: – Дмитрий!.. Что-то вы к нам зачастили… Когда же я вас видел? Вроде бы и трех недель не прошло? – Ровно двадцать дней, – сказал я. – Непогрешим и точен, как настоящий математик… Но я ошибся на день, то есть в пределах квадратичной погрешности. Ну, неважно. Двадцать дней или двадцать один – какая разница? Ничего не изменилось. «Борис, ты не прав», – мысленно возразил я. Восприятие времени субъективно, и если ничего не изменилось для тебя, то всяких прочих двуногих разумных смололи жернова судьбы или осыпал дарами капризный рок. Кто-то умер и кто-то родился, кто-то погиб под пулями, кто-то взошел на вершины власти, а кто-то сверзился вниз, кто-то женился, кто-то развелся, кто-то уверовал в бога, а кто-то предался дьяволу. Со мной провидение тоже наигралось всласть. Кто я был? Крысолов с компьютером вместо волшебной дудочки. А кем я стал? Надеждой ФСБ, хранителем секретных государственных объектов. Вот извлеку их сейчас из сейфа… В сейфе, кстати, тоже ничего не изменилось – сейф, как и Борис Николаевич, был неподвержен влиянию времени. В дальнем его углу валялась старая мыльница, а на полке лежал абсолютно секретный отчет о Чернобыльской катастрофе. Гипноглифы, к счастью, были на месте. Я, не глядя, перебазировал амулет любви в красный футлярчик и бросил его в сумку, на самое дно, под газеты; черный спрятал в карман, а пустой голубой оставил в мыльнице, на память будущим поколениям. – Чайку хотите, Дмитрий? – предложил Борис Николаевич. – «Липтон», с яблочным ароматом… Заодно и в шахматы сыграем. Мы выпили чаю, сыграли в шахматы, и я отправился домой, но, выйдя на Австрийскую площадь, вспомнил о завтрашнем семейном торжестве. В прежние времена я, случалось, проскакивал площадь, не озираясь и не оглядываясь, а между тем тут было несколько шикарных магазинов – парфюмерный, компьютерный, галантерейный и что-то еще, с двумя просторными витринами, где за стеклом сверкали яркие пестрые краски тропической флоры. Я сунулся к ним; как оказалось, то был салон с вычурным названием «Орхидиана. Экзотические цветы». За прилавком – две миленькие девушки, брюнетка и блондинка, а вокруг – горшки и кадки, букеты и гирлянды, а также воздух, сдобренный такими ароматами, что кружится голова и начинается дрожь в коленках. От цен, кстати, тоже. Если не считать меня, посетителей в этой лавке не имелось. Я начал озираться по сторонам, задумчиво морщить лоб, чесать затылок, не забывая поглядывать на Джеймса Бонда с Итальянцем. Они остались на улице, у витрины; их фигуры смутно маячили сквозь плотный полог зелени, но все же можно было разобрать, что они с восторгом изучают какой-то кактус. Девушки-продавщицы ринулись ко мне, но тут вошел еще один потенциальный покупатель, рослый мужчина в пиджаке и с сумкой через плечо. Пиджак был из натуральной кожи, и блондинка (она казалась пошустрей и постройней) бросилась к рослому на всех парах. Ну а мне досталась брюнетка. – Могу я вам чем-то помочь? – Разумеется, моя милая. Как обстоят дела с экзотикой? Она улыбнулась, кокетливо стреляя глазками. – Превосходно. Наш магазин как раз для таких мужчин, как вы. – А я какой? – Ну-у… – она изобразила в воздухе параболу, – вы тоже экзотический. И хотите купить букет для экзотической женщины. – Да вы просто прелесть! – с энтузиазмом воскликнул я. – Прямо как в воду глядели… Так что тут у нас самое экзотическое? – «Одонтоглоссум гранде», «дендробиум нобиль» и «катлея лабиата», – доложила моя брюнеточка. О, польза чтения словарей! О, тайный клад энциклопедий! Я с изяществом повел бровями, бросил взгляд на второго клиента (он, похоже, интересовался не цветочками, а блондинкой) и небрежно произнес: – «Катлея лабиата»? А «брассокатлеи» у вас не найдется? Я люблю сорт «олимпия альба». Такая, знаете ли, нежная, беленькая, с резными лепестками и с желтоватым нацветом внутри. Из бразильских орхидей. Брюнеточка была потрясена, но, к великому несчастью, «олимпии альбы» у нее не оказалось. Зато была «голубая луна» – только для вас, монсеньор, только для истинных знатоков, для ценителей и фанатов! Прямо из Англии, в кувшинчике с питательным раствором и в герметичной упаковке. Каждый цветок – по отдельности, каждый – по сорок долларов, и всего их осталось пять. Не плебейские орхидеи, а уникальные розы потрясающей красоты! Нет, здесь мы их не держим, прошу вас в служебное помещение… Сами понимаете, редкий товар… Меня повели к служебной дверце, что вела в темноватую комнатку. Мужчина, флиртовавший с блондинкой, вдруг встрепенулся и сказал, поворачиваясь ко мне: – Вам покажут что-то особенное? Не возражаете, если я тоже взгляну? Он пристроился за мной в кильватер, да так ловко, что блондиночка отпала сразу, а брюнетка оказалась впереди. В дверях я почувствовал, как его дыхание греет мое ухо. Затем раздался шепот: – Из этой комнаты есть выход во двор, Гудмен. Там стоит голубой «БМВ». Садитесь и ни о чем не беспокойтесь. Отвезут туда, где вас рады видеть. Мои губы чуть заметно шевельнулись: – Я не один. – Знаю. Я же сказал, не беспокойтесь! «Голубая луна» была изумительна: рядом с ней обычные розы казались посудомойками, коих не пристало сравнивать с принцессой. Изящный цветок, в общем-то, белый, но с несомненным налетом голубизны: небольшой, довольно плоский и в самом деле похожий на луну, мерцающую за голубыми облаками. Края лепестков имели более интенсивный, почти сиреневый оттенок, а сердцевина сияла снежной белизной. Очень загадочно и романтично! Я забрал все розы, а вместе с ними – массу улыбок и комплиментов темноволосой продавщицы. Мой спутник тоже даром времени не тратил и из мужчины в пиджаке преобразился в мужчину в свитере. Пиджак отправился в сумку, откуда перед тем был извлечен свитер, а сумка повешена за спину – точь-в-точь как у меня. Вдобавок этот тип не уступал мне ростом, и свитер вроде был похож, и брюки, и эта самая сумка, и башмаки, не говоря уж о волосах; завершив метаморфозу, он кивнул, вернулся в зал и, встав спиной к окну, продолжил флирт с блондинкой. Не мешкая, я подхватил свои розы в кувшинчиках и выскочил во двор. Любопытство терзало меня: голубой «БМВ», подпольная кличка Гудмен и таинственность обстановки распаляли воображение. Юркнув в машину, я посмотрел на часы (было 14. 10), бросил водителю: «Едем!» – но он не торопился, внимательно оглядел меня и спросил: – Вы – Хорошев? Дмитрий Григорьевич Хорошев? Он же – Гудмен? – Нет, великий дух Маниту! Кажется, пароль был правильным; рявкнул двигатель, и мы дворами выползли на Каменноостровский проспект. Дорога была недолгой, зато извилистой; минут пятнадцать мы петляли по узким и разбитым улочкам Петроградской стороны, потом проехали под древней аркой и остановились во дворе-колодце у единственного подъезда. Дом был самым обычным – четырехэтажным, столетней постройки, с трещинами на грязно-розовых стенах и осыпающейся штукатуркой. Двор тоже был не в лучшем состоянии. Вход в подъезд закрывала массивная дверь, вероятно дубовая, окрашенная в мрачный черный цвет. – Поднимайтесь на четвертый этаж, – сказал водитель. – Вас ждут. – А что на первых трех? – с невинным видом поинтересовался я. – Школа стриптиза для начинающих, – раздалось в ответ. – Хотите записаться? Мысленно поаплодировав, я вылез из машины и потащился на самый верх, бережно придерживая пакет с розами и кувшинчиками. На площадке второго этажа притормозил, ощупал правое запястье – невидимый гипноглиф-берсерк был там, прятался под толстой тканью свитера. Это придавало мне уверенности. В конце концов, что могут сделать с благородным боярином? Вздернуть на дыбу? Посадить на кол? Я сам их вздерну и посажу! Все три команды! Как советовал Мартьянов – выпрыгнуть из-за прилавка, словно как тигр из зарослей, и сразу бить на поражение! При мысли о Мартьянове я еще больше взбодрился и стал напевать: – Три короля из трех сторон решили заодно: ты должен сгинуть, юный Джон Ячменное Зерно! Погибни, Джон, – в дыму, в пыли, твоя судьба темна! И вот взрывают короли могилу для зерна… На четвертом этаже была только одна дверь, распахнутая в ожидании дорогого гостя. На пороге стоял мормоныш с белой нашлепкой на темени. – Как голова? Не болит? – спросил я. Он лишь поморщился и махнул рукой – не задавай, мол, глупых вопросов, а проходи скорее в нашу конспиративную квартиру. Она оказалась большой, ухоженной, но без излишней роскоши – никаких евростандартов, венецианских зеркал и мебели маркетри. Из холла, оклеенного светлыми обоями в васильках и маргаритках, мы попали в просторную комнату, где на обоях зеленели ветви шиповника с нежными розовыми цветами. Еще тут обнаружился массивный круглый стол с отполированной до блеска столешницей, два мягких кожаных диванчика у стен, плотно закрытый шкаф, камин и кресла. В одном из них сидел мой старый чернокожий друг из Таскалусы. Челюсти его мерно шевелились, перетирая жвачку. – Какой приятный сюрприз! Дик Бартон, страховой агент, если не ошибаюсь? – Я перешел на английский и подмигнул ему с оттенком интимности. – Увы, Гудмен, ошибаешься! Дик Долби, коммерсант. Интересуюсь закупками рашен пива. – Он вытянул из кармана смятую бумажку и прочитал по слогам: – Стэ-панс Рэй-зенс. – Не стоит, – посоветовал я, усаживаясь в кресло. – Лучше «Балтика». Особенно рекомендую четвертый номер. Но третий тоже хорош. – Моча, – угрюмо буркнул мормоныш и плюхнулся на диван. – Скунсовая моча плюс керосин из енотовой задницы. Я обиделся. Этому заокеанскому хмырю не стоило критиковать чужое пиво. Тем более что в их Заокеании не умеют делать даже приличные сухие вина. Их белое калифорнийское – вот это моча! – Ну, к делу, – произнес Бартон-Долби, который явно был тут за старшего. – К делу, джентльмены! Время – деньги… – Он повернулся ко мне, оглядел пакет с кувшинчиками и розами, который я поставил на пол, и спросил: – Так чем порадуешь, Гудмен? – Чем-нибудь порадую. Но прежде хотелось бы справочку… такую маленькую справочку… Кажется, в ЦРУ нет воинских званий? А что там есть? Младший полевой агент, старший полевой агент, ведущий и так далее, вплоть до самого главного? Зулус прекратил жевать и недоуменно моргнул. – Зачем это тебе, Гудмен? – Для расширения кругозора. Вот он, – я ткнул пальцем в мормоныша, – кто он такой? Рядовой незримого фронта? Обычный агент? – Примерно так, – согласился Бартон-Долби. – А ты, друг мой, в каком же чине? – Тоже агент, но ответственный, специальный и полномочный. Это все, что ты хотел узнать? – Все. Теперь мы можем урегулировать один небольшой инцидент, как подобает джентльменам. – Я грозно нахмурился и заявил: – Требую сатисфакции и извинений! Желаю, чтобы ответственный и полномочный агент сделал выговор просто агенту. Строгий выговор, с занесением в личный файл, за некорректные действия в прошлый четверг. Пусть просто агент топит в Вуоксе гангстеров сотнями, это его проблемы, но я контактировать с данной публикой не собираюсь. И не хочу, чтобы меня беспокоили, равно как в моей городской резиденции, так и в загородном поместье. Это нарушение договора, сэр! Очень серьезное нарушение! Согласно кивнув, Бартон-Долби сделал знак мормонышу, и тот нехотя поднялся с дивана. – Я вроде бы и так наказан, – пробормотал Джек-Джон-Джим, дотронувшись до нашлепки на голове. – Но не по административной линии, – возразил я, развалился в кресле, закинул ногу на ногу и закурил. Полномочный агент принялся выговаривать просто агенту, но выглядел выговор жидковатым – английский лишен тех красочных эпитетов и сравнений, с какими положено мылить шею подчиненному. Тем не менее пришлось дослушать до конца. Потом зулус сказал: – Все, Гудмен? Ты доволен? – Не совсем. Бизнес есть бизнес, и если одна сторона нарушила соглашение, должны последовать штрафные санкции. Все-таки я понес моральный ущерб. Мне угрожали ножом и пистолетом и говорили нехорошие слова… Думаю, что штраф в десять тысяч долларов будет вполне уместным. На мой счет в банке «Хоттингер и Ги». – Ты деловой человек, – произнес мой чернокожий приятель с уважением. – Ты прав, бизнес есть бизнес. И я согласен с твоей претензией, если наш договор состоится не только де-юре, но и де-факто. Поэтому вернемся к вопросу: чем порадуешь, Гудмен? – Вот этим, – сказал я, раскрыл сумку и выложил на стол красный футлярчик с амулетом любви. Бартон-Долби встрепенулся и бросил взгляд на мормоныша: – Тот самый? – Да, сэр. Мне его показывали наши… гм… покойные компаньоны. Разумеется, в закрытом виде. Изъят у Арнатова после смерти. К счастью, он тоже не успел открыть футляр. – Показывали? – переспросил я. – А зачем? С какой целью? Зулус и мормоныш обменялись взглядами, затем чернокожий кивнул, будто разрешая говорить. – С целью продажи, – пояснил Джек-Джон-Джим. – Подробнее! – Ну, если хотите… Ваш друг Арнатов пользовал клиентов на дому. Один из них, некто Танцор, сделал ему предложение. Ну, вы понимаете… наладить совместный бизнес под прочной «крышей», доходы – пополам. Арнатов отказался, но и свою настоящую «крышу» не проинформировал – видимо, его домашние эксперименты не слишком поощрялись. Затем что-то произошло, Арнатов спрятался на вашей даче, но люди Танцора шли за ним след в след, и вам известно, чем это кончилось. После визита к вам и убийства Арнатова я разыскал Танцора по своим каналам и заплатил ему за информацию. Но все эти сведения нуждались в проверке. Вот это, – мормоныш кивнул на красный футляр, – это – факт. Факт, но еще не доказательство. А остальное – просто слова. Вот если б мы нашли на вашей даче что-то интересное… Я мог поздравить себя с успехом – кажется, все обстояло так, как мне удалось смоделировать. Лишь одного я не предвидел – что векторы двух команд, беты и гаммы, пересекутся, образовав могильный крестик. Но он уже торчал над троицей покойников, и, значит, гамма, лишенная вождя, закончила игру. Иными словами, выпала в осадок. – Вы разыскали Танцора, заплатили, – медленно произнес я, – и оставили у него футлярчик? Как-то не верится, брат во Христе. – Я платил за информацию. А что касается футляра… В цене мы сошлись, но были сомнения, насколько эффективен спрятанный в нем объект. Тут тоже требовалась проверка. Вы понимаете, мафиози – это такой ненадежный народец… – Понимаю. Я гораздо надежнее. Те раритеты, которые вы получите от меня, будут испытаны и снабжены сертификатами. Вот этот, – я постучал ногтем по алой крышечке, – формирует психологию идеального бойца. Прилив сил, потрясающая скорость реакции, уверенность в себе, отвага, презрение к смерти… – Я широко улыбнулся Долби-Бартону. – Твой подчиненный все это видел не далее как в четверг. Можешь лично проверить. – Проверю, – пообещал зулус, – проверю незамедлительно и дам команду об оплате. Десять тысяч плюс штрафные санкции плюс, возможно, премиальные… Но что ты скажешь, Гудмен, насчет его головы? – Плавный жест всторону мормоныша. – Похоже, ты в четверг перестарался и нанес ему определенный ущерб. Он ведь просил отдать футлярчик, а ты не отдал. Отчего же? – Оттого, что я – человек образованный и предпочитаю вести дела не с простыми агентами, а с полномочными и специальными. Из них можно выжать побольше. А образованные люди, как ты понимаешь, очень нуждаются в деньгах. Не век же мне крыс ловить и делать вешалки. Зулус уставился мне в глаза, будто пытался измерить всю глубину моего морального падения. Но увидел он то, что хотел увидеть: как в бездне моей души полыхает костер стяжательства. Я знал, как это изобразить. Приглашали меня на всякие презентации липовых снадобий и подозрительных «пирамид», и помнилось мне, как пляшут перед толпой клиентов-кретинов их отцы-основатели: рожи перекошены, зенки выпучены и с клыков капает слюна. Слюна у меня не капала, но насчет алчной рожи и зенок я постарался на совесть. Бартон-Долби кивнул, довольный осмотром. – Ладно! Будем считать, что договор вступил в силу, и мы разберемся и с магией, и с вичфобией, и с прочим колдовством. Сколько еще раритетов ты сможешь нам предложить? Я пожал плечами. – А что, двух недостаточно? Один у тебя уже есть – от Боба, торговца фруктами… Как его в бассейн занесло, бедолагу! Приступ веселья, что ли? Но «веселушка» – то у тебя? Не затонула в испанских водах? – Не затонула, – подтвердил зулус, разом поскучнев, – но копии не сделать. Пытались, не получается! Вообще непонятно, как эти штучки устроены. Формула нужна, технология, спецификации, и все такое… Ведь в них ни чипов, ни шестеренок, ни батарей… Однако работают! Дьявольщина, да и только! – Русский ум изобретателен к зависти Европы, – сказал я и после паузы добавил: – Значит, копии не сделать? Тогда за формулу, приятель, оплата по двойному тарифу. Договорились? – Ну, ты и жук! – вскинулся Долби-Бартон. – Я – крысолов. Так как, по рукам? Он потеребил отвислую нижнюю губу, кивнул, поднялся, сгреб футляр с любовным амулетом, открыл шкаф и выудил из него радиотелефон. – Вот, возьми… Аппарат самый обычный, но, если трижды нажать клавишу «pause», сигнал уйдет на мой пейджер. Понятно? – Чего ж не понять, – сказал я, вставая. – Мы не только по крысам специалисты. – Не сомневаюсь. Иди вниз, машина доставит тебя к метро. К этой… – … к Черной Речке, – услужливо подсказал мормоныш. На пороге я обернулся и напомнил: – Товар не забудь проверить. Лучше один погляди. Так безопаснее. И надежнее. Лестница загудела под моими ногами, розы запрыгали в своих горшочках, когда я ринулся во двор. Бежал и думал: сейчас он достает футляр… касается крышки… открывает… вытряхивает на ладонь… глядит, окутанный голубым сиянием… Что же дальше? А собственно, что? Девушек в этой конспиративной квартире не имелось, зато был мормоныш.Глава 17
Домой я вернулся, когда уже начало темнеть. На улице дежурил знакомый автомобиль «Жигули», а во дворе, на скамейке за песочницей, дремали Глист с Лиловой Рубахой. Меня они словно не заметили – то ли из соображений конспирации, то ли в отместку: мол, обдурил наших приятелей Бонда с Итальянцем, так мы на тебя, мазурик, и смотреть не желаем. Я помахал им ручкой и направился к лифту, но он, как бывало в трех случаях из пяти, был погружен в нирвану. Пришлось тащиться на пятый этаж пешком, прижимая к груди упаковку с драгоценными розами. Надо сказать, что после визита к заокеанским друзьям я был изрядно взвинчен. Не нахожу иного объяснения тому, что далее случилось; в общем-то я человек мирный, не склонный к рукоприкладству, не мучаю кошек, не обижаю собак и только к двуногим крысам питаю определенную неприязнь. Но, как сказано выше, я находился в сильном возбуждении, а коридор на нашем пятом этаже не освещался ни единым квантом света. Впрочем, нет, преувеличиваю, квант там, безусловно, был, но один-единственный, и в тусклом его сиянии, в опасном коридорном сумраке, маячила какая-то фигура. Может, у моих дверей, а может, у Дарьиных, в темноте было трудно разобрать. Равным образом и то, чем занималась эта личность: разглядывала на ощупь номер квартиры, искала кнопку звонка или шуровала отмычкой. Первое, что пришло мне в голову, была мысль о Дарье. После произошедшего между нами я ощущал ответственность за нее саму, за ее безопасность, ее здоровье, а также за ее квартиру, ее имущество и даже за проклятого попугая. Второй была мысль о розах: я аккуратно поставил пакет к дверям бездействующего лифта и присмотрелся к подозрительной фигуре. Кажется, стоит спиной… еще и наклонился… Удачная позиция для атаки! Вспомнив, как покойный Боб с Бартоном раскалывали деревяшки, я ринулся к незнакомцу и стукнул его ребром ладони под череп. Он мешком свалился мне на руки. Придерживая его одной рукой, я вытащил ключ, повернул в замке, распахнул дверь, занес свою добычу в спальню и бросил на кровать. Потом вернулся за розами, поставил их на кухне, у окна; они, как пять голубоватых лун, таинственно мерцали в полумраке, взывая к миру, не к войне. Я направился в спальню, включил лампу и увидел на своей кровати пожилого джентльмена лет шестидесяти, прилично одетого, с седой шевелюрой и благообразным академическим лицом. Что-то в нем намечалось от великих, от Менделеева и Лобачевского, от Нильса Бора и Эйнштейна, может быть, даже от директора Промата, который, в сущности, был неплохим мужиком и математиком не из последних. Этакая сановитость и вальяжность, спутница успехов на научном поприще… А еще – росчерк прямых бровей, твердый абрис рта и тяжеловатый подбородок: они говорили о быстром уме, решительности и упорстве. Лицо его, правда, выглядело в данный момент бледноватым. Мой пленник зашевелился, и пришлось закончить экскурс в физиогномику. – Э-э… кхгм… воды… прошу вас, воды… пожалуйста… Голос его дрожал, но раскатистое грассирующее «эр» звучало вполне отчетливо. Я принес стакан воды, помог ему сесть, напиться, потом проводил в другую комнату – в рабочий кабинет, где находится компьютер – и устроил в кресле. Мой гость, опустив веки, замер, расслабился, размеренно втягивая и выдыхая воздух-кажется, делал дыхательную гимнастику. Через пару минут щеки его порозовели, он помассировал шею под затылком, открыл глаза и твердым голосом произнес: – Что это было, молодой человек? – Это был я. Прошу простить, что принял вас за вора. Или за соглядатая. – Соглядатые – там, во дворике, на лавочке. Дремлют… А я – не вор и не соглядатый, сударь мой. Я – Косталевский Александр Николаевич, шеф лаборатории экспериментальной псионики, доктор медицины, профессор, член десяти академий на трех материках. Но главное – врач! – Он подчеркнул это слово, будто оно стоило всех его титулов, вместе взятых, затем опять помассировал шею и добавил: – Вы что же, батенька, врача от жулика отличить не можете? – Темно было, – я с виноватым видом развел руками. – Готов искупить… Он посмотрел на меня, усмехнулся, зыркнул глазами на компьютер и вдруг сказал: – Не знаю, как сложится у нас беседа, Дмитрий Григорьевич, но хочу заметить, что я тоже не беззащитен. Отнюдь не беззащитен. Вот… В его ладони появились два футлярчика – белый и желтый. Продемонстрировав их мне, он что-то сделал с желтым: крышка его приподнялась, выпустив мерцающее облако, будто сотканное из мириадов крохотных кристалликов цитрина. Я не мог отвести от него глаз, а облако стремительно росло, сияло, расширялось, струилось, пока не накрыло меня с головой. И в тот же момент все мириады кристалликов впились в мою кожу, обратившись в маленьких юрких пчел; укусы их не были болезненны, но отзывались невероятным, нестерпимым зудом. Мои руки дернулись к шее, к плечам, к груди, потом вниз; чесалось всюду, даже в местах, не поминаемых в приличном обществе, и в них-то чесалось сильнее всего. Пока я раздумывал, откуда начать, крышка футляра щелкнула, облако исчезло, а сам футлярчик скрылся в профессорском кармане. – Кажется, мы квиты, – пробормотал я и перевел дух. Потом выглянул в окошко. В тусклом свете фонарей на скамейке по-прежнему дремали две фигуры – ни дать ни взять алкаши-кореша после доброй попойки. – А этих вы чем заворожили? Белым? – Мне пришлось наклониться, чтобы разглядеть лицо Косталевского. Он улыбался. – Есть много способов, батенька мой. Меня пытаются найти – ходят по знакомым, расспрашивают… Не так это просто! Они упорны, но и я упрям. Было слабое звено – Сергей Петрович, мой ассистент… Было, и нет. К сожалению… или к счастью. Но остались вы. Вернее, осталось нечто, попавшее к вам по чистой случайности. Он замолчал, будто давая мне время поразмыслить над сказанным, обдумать его слова и сформулировать догадку. Она витала в воздухе, и я, еще не спросив, уже предчувствовал ответ. – Вы знали, что Сергей скрывается на моей даче? Профессор опустил веки. Видимо, этот жест выражал согласие. – Вы знали, где хранится ключ? – Да. Сергей Петрович сказал об этом тайнике, когда мы приняли решение исчезнуть. Окончательное решение… Но в тот последний раз мы с ним общались не лично, а по телефону. В противном случае я бы все-таки изъял у него гипноглифы или заставил их уничтожить. При мне. Но, понимаете, Сергей Петрович был слишком нервозен и тороплив, а также не лишен определенной меркантильности. Большой недостаток для психолога. Я чувствовал, что он не хочет расставаться со своим контейнером. Я не смог его переубедить. Ну а после… после его убили, о чем сообщалось в криминальных новостях. Я узнал об этом от знакомых. От тех людей, у которых я… э-э-э… – У которых вы скрываетесь? Он угрюмо кивнул. Видимо, мысль о том, что приходится таиться и скрываться, была ему глубоко антипатична. – Выходит, коробку… этот пенал… забрали вы? Его веки снова дрогнули. – Мы называем его контейнером. Стандартный контейнер на семь гипноглифов. Семь довольно распространенных реакций человеческой психики. Ярость, похоть, смех, способность забывать и вспоминать, определенные физиологические ощущения… Ну, вы их испытали, сударь мой. – Кажется, я и другое испытал, профессор. Лишь вспомнить ничего не удалось. – Это золотистый гипноглиф. Инициирует память и абсолютно безопасен. Если хотите, я вам его подарю. В благодарность за сотрудничество. Подражая ему, я опустил веки. Затем поинтересовался: – Вы назвали шесть реакций. Какая же седьмая? – А этого, батенька мой, я вам не скажу. Пока. Видите ли, гипноглифы, как и человеческие реакции, различны: есть безобидные, есть неприятные. А есть весьма опасные! Конечно, все зависит от обстоятельств – ведь даже гипноглифом смеха можно убить, а тот, что рождает сексуальный импульс, способен подтолкнуть к насилию. Но существуют и безусловно опасные, опасные в любой ситуации. Во-первых, немотивированная ярость при резком усилении мышечного тонуса. А во-вторых… Он смолк, и я догадался, что речь идет о черном амулете. Что-то ужасное было связано с ним, что-то такое, о чем он не хотел говорить. Пока. Пока этот гипноглиф не будет уничтожен. Видимо, вместе с красным. Я взглянул на часы. Половина девятого. Вечер, однако, не слишком поздний. Дарья придет не раньше полуночи… – Вы не хотите перекусить, Александр Николаевич? Кофе, чай, бутерброды? – Не откажусь, но только когда мы разрешим ситуацию. Видите ли, было два контейнера – мой личный и тот, которым распоряжался Сергей Петрович на стадии экспериментальной проверки. Еще – отдельные экземпляры, в общем-то, безопасные… кое-что – у кураторов… Но алый и черный… их приготовлено только два. Свою пару я уничтожил, раскрошил в пыль, но дубликаты в контейнере Сергея Петровича отсутствуют. И, если не ошибаюсь, они у вас. – У меня. А разве белый – тот, что приводит к амнезии, – не опасен? – Практически нет. Недолгий ступор с потерей незначительных воспоминаний… Хотя, если разбираться в технологии изготовления гипноглифов, можно создать такой, который обеспечит длительную амнезию, полную либо выборочную. Иными словами, глобальную или селективную. – Арнатов в технологии разбирался? Мой гость выдавил слабую улыбку. – Технология проста, сложна теория, сударь мой. И все основное – здесь… – Он приложил палец к выпуклому виску. – Лучшее хранилище для всяких опасных идей… Не зная теории, не обладая необходимой аппаратурой, гипноглифы не сделать. Никому не сделать! А все приборы и записи мной уничтожены. – Мы оба – ученые, – сказал я. – Мы оба знаем бесспорную истину: нет открытий, которые невозможно повторить. – Разумеется, Дмитрий Григорьевич, разумеется. Но это будет не мой грех. Кивнув, я отправился на кухню, достал из инструментального ящика пассатижи, отвертку, тяжелый молоток и плотный суконный лоскут, которым протираю мебель. Снял браслет с правой руки, отвернул крышку старых часов, не глядя, сунул алый гипноглиф в тряпицу. Потом вытащил из кармана черный футляр. В этот момент мне вспомнилось, что, пригласив гостя на ужин, я не проверил холодильник. Что там, собственно, есть? Мой обычный рацион холостяцких ужинов и завтраков состоял из яиц, сосисок, кетчупа и горчицы плюс, разумеется, масло и хлеб. Но трепетная женская забота так разнеживает! Последние две недели о пище насущной заботилась Дарья, а я только ел и покупал бананы для Петруши. Ну, еще, быть может, кетчуп и минеральную водичку. Открыв холодильник, я обнаружил там сыр, ветчину, сметану, макароны в томатном соусе, холодные котлеты и сырники, а также баллон «Екатерингофской» и, разумеется, кетчуп. Пробка на минералке была белая, а на бутылочке кетчупа – черная. Черная, как антрацит, из твердого пластика и небольшая. Как раз подходящего размера. Я задержался в кухне еще на пару минут, потом, с молотком в руках, заглянул в комнату. – Это подойдет, Александр Николаевич? – Да. Только, батенька мой, в пыль, в пыль… – Извольте на кухню. Там все приготовлено. Под бдительным оком профессора я начал охаживать суконку молотком. В тряпке ломалось и лопалось, хрустело и трещало, но вскоре треск прекратился, сменившись глухим звуком, какой бывает, когда колотишь камнем по песку. Лицо Косталевского с каждым ударом светлело, будто он мало-помалу сбрасывал с плеч неимоверный груз или освобождался от тяжких обетов. Спустя недолгое время он прикрыл глаза веками и произнес: – Хватит, Дмитрий Григорьевич. Экзекуция завершена. Развернув тряпку, я подошел к раковине, высыпал черно-красную пыль и пустил воду. Косталевский, вздыхая и поглаживая седую шевелюру, с явным облегчением следил за мной; сейчас он был похож на моего директора-академика после удачной лекции где-нибудь в Мельбурне или Торонто. С тем же благостным видом он наблюдал, как я расставляю тарелки и чашки, режу хлеб, накладываю ломтики сыра и ветчины. Наконец мы устроились у стола, съели по бутерброду, отхлебнули кофе, и я спросил: – Так что же там с черным гипноглифом, профессор? Мне ведь довелось на него поглядеть – раза два или три, и никакой реакции. Может, психика моя – нечеловеческая? Косталевский покровительственно похлопал меня по руке. – Самая что ни на есть человеческая, батенька мой, и вы это сейчас доказали. – Он кивнул на раковину и усмехнулся. – Черный гипноглиф власти инициирует абсолютное подчинение. На него не глядеть надо, а показывать. И давать инструкции, сиречь команды. Вот так-то, сударь! Собственно, это и было генеральным направлением моих работ. Все затевалось ради подчинения и ради власти… еще в конце семидесятых, когда, после защиты докторской, мне предложили возглавить лабораторию псионики. Военный заказ, Дмитрий Григорьевич. Даже не столько военный, сколько политический – курировало нас КГБ. О генерале Зубенко Георгии Александровиче не слыхали? Вижу, что нет… да и откуда вам знать… А он надзирал за всеми подобными разработками. У нас, и в Москве, в Новосибирске, в Киеве… Вы ведь, кажется, математик? Специалист по компьютерному моделированию? Ну, тогда понимаете, что это означает. – Психотронное оружие? – произнес я, приподняв бровь. – По правде говоря, верится с трудом. Слишком все просто, Александр Николаевич. Стекляшки там, кусочки пластика… На магию похоже, на колдовские амулеты… – Тут я вспомнил недавнюю встречу с зулусом и подлил масла в огонь: – Ни чипов, ни шестеренок, ни батарей… Несерьезный прибор! Косталевский рассмеялся: – Ни чипов, ни шестеренок! Вот оно, мышление технаря! А как, по-вашему, должно выглядеть психотронное оружие? Или психоэнергетический прибор? Что это такое? Ментальный агрегат с сотней лампочек и циферблатов? Телепатический шлем для генерации благонамеренных мыслей? Спутник на орбите, облучающий вражеские армии и города? Все проще, молодой человек, много проще и потому страшнее… Вам приходилось катать что-нибудь гладкое в ладонях? Бутылочку, аптечный пузырек? Вы его крутите, крутите и не можете остановиться… Как бы своеобразный самогипноз… Так вот, это тоже оружие. И если применить его со знанием дела… Он аккуратно доел бутерброд, отодвинул тарелку, откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Выглядел он так, будто перед ним аудитория на двести мест, с учеными мужами и сосунками-аспирантами, готовыми внимать его докладу. – Вы знаете, батенька, что такое ПЭМТ? – Разумеется. Позитронно-эмиссионный томограф, который показывает очаги возбуждения в коре головного мозга. Конечно, после необходимой компьютерной обработки и мониторинга. – О! – Кажется, он был удивлен. – У вас весьма широкий кругозор, Дмитрий Григорьевич! А с работами Грейвса вы не знакомы? Это американский психиатр, который первым экспериментировал с томографом. Пришлось с виноватым видом развести руками. Все знать – увы! – невозможно. – Так вот, Грейвс предлагал испытуемым перемножать простые числа – скажем, два на три – и следил на мониторе за состоянием коры. Работали, как и полагалось, лобно-теменные очаги логического мышления, вот эти. – Косталевский провел ладонью от висков к макушке, пригладив свою белоснежную шевелюру. – Затем Грейвс предложил испытуемым по пять долларов за правильный ответ, и тут же в работу включились затылочные доли, а когда ставка поднялась до сотни долларов, кора на мониторе пылала! Представьте, трудились все центры, включая зрительные! Кстати, такое явление наблюдается у шизофреников… И о чем это нам говорит? – О мощи внешних стимулов, – отозвался я. – О том, что внешний импульс – зрительный, тактильный, звуковой – может возбудить кору, породив определенное желание. Что и происходит чуть не всякий миг. Скажем, увидел я девушку со стройными ножками и… – … и вы все же не бросаетесь на нее и не срываете одежду. Вы контролируете свое желание, сколь бы соблазнительные ножки ни привиделись вам. А почему? Всего лишь потому, что возбуждаются определенные центры коры – новообразование нашего мозга, приобретенное недавно, вместе со способностью к абстрактному мышлению. Но кора – очень тонкий субстрат; под ней лежит подкорка, вселенная инстинктов и неосознанных желаний, область иррационального, где бродят древние ужасы и побуждения, накопленные за миллионы лет… Теперь представьте, что имеется внешний стимул, вызывающий резонанс между осознанным и неосознанным желанием… мощнейший резонанс… а стимул, например, такой… – Он выложил на стол два футлярчика, с белым и желтым амулетами. Слушая его, я испытывал истинное наслаждение. Не от смысла произносимой речи, который был довольно страшен, а от манеры общения с собеседником, от мерного, спокойного речитатива, от всей атмосферы научной дискуссии, столь приятной и привычной для меня. Последние пару лет я общаюсь со своим компьютером, а не с коллегами по работе; ну а еще с заказчиками, среди которых попадаются достойные люди наподобие Мартьяныча, но голод мой им не утолить. Я уже почти позабыл, как приятно потолковать о чем-нибудь этаком… О пространствах Банаха, о кривых Пеано или о резонансе между сознательным и подсознательным. Хотя бы об оологии… Мне пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к теме разговора. – Резонанс, упомянутый вами, может быть следствием как искусственных, так и естественных стимулов? – Да, разумеется. – Веки Косталевского опустились. – Скажем, иррациональный страх перед огнем, высотой, стихийным бедствием? Ужас, когда рассудок человека помрачен, и он мчится куда-то, не разбирая дороги, не думая о погибающих близких, с одной лишь целью – спастись, убежать? – Хороший пример… Да, именно так, Дмитрий Григорьевич. Я мог бы сотворить гипноглиф страха, но это оказалось бы самым жутким из моих деяний. Более жутким, чем… – Профессор резко оборвал фразу, словно чего-то испугался или не желал о чем-то вспоминать. Были, видимо, вещи, не предназначенные для обсуждения за чашкой кофе. С минуту он сидел, рассматривая эту самую чашку, затем с нарочитой медлительностью произнес: – Вы ведь уже поняли, Дмитрий Григорьевич, что я ничего не хочу отдавать? Ни гипноглифы, ни тем более технологию их производства… кроме того, что уже отдал… – Почему? Это был вопрос ребром, и Косталевский постарался на него ответить – не в рамках лекции, а вполне нормальным языком. Ему, похоже, было больно и стыдно, и я его понимал: мне ведь тоже в не столь отдаленные времена довелось моделировать последствия ядерных атак и ракетных ударов со спутников. Мы были с ним, как говорится, две горошины из военно-промышленного стручка: он – убийца-психолог, а я – убийца-математик. Но совесть у нас еще оставалась: мы оба не желали продаваться за тридцать иудиных сребреников. Даже за триста тридцать, перечисленных в банкирский дом «Хоттингер и Ги». Из слов Косталевского получалось, что его лаборатория была как бы диссипированным объектом – иными словами, распределенным в пространстве между несколькими структурами. Формально она входила в штат Психоневрологического института, но числились там Арнатов, мой бывший сосед, да пара девочек-лаборанток. Сам Косталевский являлся профессором Первого меда,[558] преподавал на кафедре нервных болезней, а остальные сотрудники были сплошь военными инженерами и врачами, приписанными кто куда, от Академии тыла и транспорта до воинской части в кронштадтском гарнизоне. Состав лаборатории не был постоянным; время текло, особых успехов по части псионики не наблюдалось, одни специалисты уходили, другие приходили, менялось оборудование, но куратор оставался неизменным: Комитет государственной безопасности в лице генерал-майора Зубенко, руководившего Главным управлением аналитических исследований. Оттуда, из управления, из Москвы, сочился ручеек дотаций, мелевший с каждым годом; потом он полностью иссяк, когда КГБ превратилось в ФСБ, а генерала Зубенко уволили в почетную отставку. По слухам, он на пенсионных лаврах не дремал, а ринулся в коммерцию, то ли в металлы, то ли в бокситы, а может, в «Росвооружение». Словом, ценный кадр, опытный, проверенный. А лаборатория, лишившись покровителя, вовсе захирела, люди разбежались, кроме приписанных к Бехтеревке Сержа Арнатова, лаборанток (уже не девочек, а солидных матрон) и престарелого химика-пенсионера, трудившегося из любви к искусству. Но через год стагнации и упадка явился вдруг Иван Иванович Скуратов, ходивший тогда в подполковниках, и деньги потекли рекой. А с ними – импортное оборудование, всякие энцефалографы и томографы, компьютеры и сканеры, лазерный модуль для операций на мозге, а также крысы, собаки и шимпанзе в неограниченных количествах. Вот тут что-то и начало получаться – все же Косталевский был голова! А Сергей, его ученик и верный сподвижник – руки. В эти руки в нужный час и передали контейнер с гипноглифами, а заодно – магическое заведение, дабы проверить теорию на самой широкой практике. И стал Арнатов Сергей Петрович кудесником Сержем Орнати. Остроносый Иван Иваныч, удостоверившись в первых, пока еще зыбких успехах своих подшефных, не торопил, выделил на завершающие эксперименты три-четыре года, а если понадобится, то и больше. Существовало множество резонов, чтобы не гнать волну до времени. Мозг человеческий – штука тонкая, непростая, и хоть поддается внушению и охмурению, результаты подобных процедур неоднозначны. Взять хотя бы голубой гипноглиф… Чем не средство от импотенции? Но импотенция бывает разная, по причинам нервного либо физиологического свойства, и во втором случае любовный амулет был бесполезен. Однако и в первом разброс результатов оказался довольно широк. К примеру, были изготовлены гипноглифы ослабленного действия, не спонтанного, а как бы пролонгированного, предназначенные для пациентов; их полагалось носить на виду, чтобы инициировать добрые чувства у окружающих. Так вот, в одних ситуациях эффект симпатии был долговременным и стойким, а в других ослабевал в течение нескольких дней, будто мерзкая личность носителя подавляла искусственный стимул. (Я думаю, так произошло с Танцором, и по этой причине он не испытывал к Сергею теплых чувств.) Что же касается тех гипноглифов, которые сам Косталевский считал «опасными», то с ними полагалось обращаться с осторожностью, а отчеты об опытах редактировать, не доводя до сведения куратора в полном и истинном объеме. Ибо отчеты эти были весьма впечатляющими, если не сказать страшными: так, носитель черного амулета воспринимался любым испытуемым в качестве Босса, Хозяина и Вождя, чье слово – закон, а приказ подлежит незамедлительному исполнению. Имелись и другие поводы не торопиться. Как утверждал Скуратов, у больших начальников в Москве были на сей счет свои соображения, причем вполне понятные и ясные: кто в кресле усидит в очередной перестановке, кто переберется в Думу, а кто – в кабинет министров. Так что Иван Иваныч, получивший для демонстрации пару забавных игрушек, «веселуху» и «почесуху», был вполне доволен, небрежно пролистывал месячные отчеты, не торопил и даже настаивал, чтобы работа пока велась в режиме строгой секретности и чтобы с ней на самый верх не выходили: так, меж ним и Косталевским было условлено, что инициативу начнут проявлять после президентских выборов. Мол, будет новый президент – он и решит, кому смеяться, а кому чесаться. Но годы шли, и Александр Николаевич, завершив теоретические изыскания (и может, даже примериваясь исподволь к различным научным наградам), начал размышлять о последствиях своих открытий. Известно, что такие раздумья до добра не доводят; лет пятнадцать назад он стал бы диссидентом, как академик Сахаров, и кончил жизнь где-нибудь в Сыктывкаре, ординатором областной больницы. Но времена переменились, и Косталевский, либерал и гуманист, жаждал потрудиться во славу России и российской демократии. То есть в девяносто втором жаждал, и в девяносто третьем, и даже еще в девяносто четвертом, а в девяносто пятом, когда был испытан первый гипноглиф, сделалось ему не по себе. Чего уж о девяносто шестом говорить? Тут он вконец испугался, так как в хрустальной башне российской демократии пахло не либеральным гуманизмом, а пованивало разбойничьей берлогой, где делят награбленное и режут конкурентам глотки. А под башней, в супротивных станах, дела обстояли тоже не лучшим образом: там кучковались капиталисты и анархисты, фашисты и коммунисты, а также прочие мафиози, которых либерал-профессор на дух не выносил. Вы скажете, попахивает фарсом? Возможно, но у меня другое мнение. Если профессор Косталевский, российский интеллигент, ни в грош не ставит российское правительство и не желает доверять ему своих открытий (в чем я с ним солидарен), то это уже не фарс – трагедия! Обдумав все со всех сторон, он наконец решил похоронить работу. Это как будто не составляло труда: он мог уничтожить компьютерные файлы, гипноглифы и установку для их производства и объявить кураторам, что не продвинулся дальше «почесух» и «веселух». Ни один его сотрудник, за исключением Сергея, масштабов разработки не представлял, а в лояльности Арнатова он не сомневался – то был вернейший из помощников, alter ego, первый жрец при божестве. Однако мнения жреца и бога разошлись: как выяснилось, жрец не хотел расставаться с приобретенным благополучием. Собственно, он тоже не стремился сдать карты Скуратову, но по иной, чем у патрона, причине: Серж справедливо полагал, что главные козыри будут разыграны не им, а значит, и выигрыш ему не достанется; в лучшем случае кинут медаль и премию в три месячных оклада. У него бродили иные мысли – правда, довольно смутные: о том, чтобы запатентовать открытие, взять в долю надежных компаньонов и заниматься частной практикой, с прицелом на оздоровительный психотерапевтический комплекс, который предстоит создать в ближайшем будущем, при наличии необходимых средств и зарубежной поддержке. Разумеется, не ЦРУ; речь велась о крупных фармацевтических фирмах, которым можно было б уступить права на производство гипноглифов. Конечно, безопасных и предназначенных для исцеления невротиков и импотентов. Планы эти явились для Косталевского малоприятным сюрпризом. Он полагал их химеричными, но после нескольких бесед уверился, что не сумеет переубедить Арнатова; с другой стороны, насильничать над ним с помощью черной магии и амулетов ему решительно не хотелось. Он сказал ученику, что прежде надо разобраться с основной проблемой – то есть отбить претензии ФСБ. Вот когда отобьем, тогда и посмотрим. В конце концов, все зависит от отношения кураторов: если оно серьезное, отбиваться придется долго и с кровью, а может, и вообще не отобьешься; если же все эти штучки, «веселухи», «почесухи» и сексуальные эректоры, считаются за пустяк, то это совсем иное дело. Такое впечатление и нужно создать, спуская тему на тормозах месяц за месяцем, год за годом: докладывать о неудачах, о неоправданных надеждах, об опытах, что завели в тупик, о сложности научных поисков и о том, что девять женщин не выносят за месяц одного ребенка. В общем, тянуть резину, как в советские времена. Потом – сожаления о пущенных на ветер средствах, извинения и покаяние. И – баста! Вопрос закрыт. Арнатов отвечал, что этот путь традиционный и разумный, однако слишком длительный. Все можно выяснить надежней и быстрей, придумав подходящий тест; кому ж тут карты в руки, как не психологам? Несколько пробных шаров, и все предельно ясно… Какие шары? Ну, скажем, не подавать отчета за июль, закапсулироваться, лечь на дно или исчезнуть вовсе… И что тогда будет? Будут, разумеется, звонки, сначала – на работу, затем – в институтскую администрацию, и, наконец, домой. А шеф исчез, вместе с любимым учеником и помощником… Может, подался в Сочи, может, трамвай его переехал и неопознанный труп валяется где-нибудь в морге… А ученик бросил семейство и умотал за границу с комплектом гипноглифов… Отличный тест! Вроде бы шутка и вроде бы нет… И время подходящее – летнее, отпускное. Как раз для маленького розыгрыша: исчезнуть на месяц и посмотреть, когда начнутся поиски. Ежели через день, значит, они сидят под крепким колпаком, а ежели вовсе искать не будут, так оно и к лучшему. When the cat is away the mice will play – без кота мышам раздолье. Косталевский подумал, поразмышлял и согласился на этот план. С одной существенной поправкой: все, что стоит уничтожить, должно быть уничтожено. Мне показалось, что здесь он пытался схитрить – может, надеялся, что Серж вернет ему «опасные» гипноглифы? Но тот не вернул, а позвонил по телефону, и было ясно, что личной встречи он не жаждет. Косталевский мог бы нагрянуть к нему и разобраться с этой историей, да все не решался – не в его привычках было скандалить с близкими людьми. Тем временем в Питер примчался остроносый, Сергею всадили пулю в висок, и амулеты пошли по рукам. Тут-то и началось… Я выслушал его исповедь и спросил, что же теперь он собирается делать: сдаваться и виниться или стоять до последнего? Он признался, что пребывает в растерянности. Его задача – уничтожение «опасных» гипноглифов – разрешена, так что можно и повиниться; вот только с каким результатом? В сущности, и результат неважен: ведь сколько ни бегай, сколько «хвостов» ни обрубай, а все равно найдут. Бог, как известно, на стороне больших батальонов… Высказав свои сомнения, Александр Николаевич помрачнел, уставился в окошко, потом перевел взгляд на розы, что выстроились на подоконнике, и вдруг улыбнулся. – Какие необычайные цветы… И какие прекрасные! Никогда таких не видел… Девушке? – Невесте. – Это хорошо, Дмитрий Григорьевич, это правильно. Женитесь, батенька мой, будьте счастливы и нарожайте детишек. А мне вот дарить цветы некому… Я, увы, вдов и бездетен… Взор его снова сделался угрюмым, голова поникла, и мое сердце сжалось в печали. Я чувствовал к нему симпатию; он был одиноким, немолодым и преданным своим учеником, но никого не винил и не просил о снисхождении – он собирался отвечать за все свои грехи. И первым делом – за грех творца, который выдумал такое, что малограмотным его собратьям не прожевать и не переварить… Он нуждался в помощи, в добром совете, а это как раз одна из сторон моей деликатной профессии. Ее, так сказать, светлый штрих на фоне грязноватого тумана – помочь клиенту выкрутиться из беды, вернуть себе прежний статус, чтоб сделался он уважаемой личностью, а не гонимым беглецом. Тем более что гонорар с Косталевского был уже взыскан. И какой!.. Я поднял голову: – Скажите, Александр Николаевич, вам приходила мысль избавить чрезмерно любопытных от лишней информации? С помощью гипноглифа власти? Или вот этого? – Мой палец коснулся белого футлярчика, все еще стоявшего у профессорской тарелки. – Приходила, – ответил он, и его сильный грассирующий голос вдруг потускнел и поблек. – Приходила, батенька мой, как не прийти… Только можно ли до всех добраться? Зубенко я знаю, Скуратова, еще нескольких… А остальные? Кто они, где? Что им известно? Длинная цепочка, неопределенная… И разветвленная, если вспомнить о других командах, о зулусе и Танцоре. Даже не цепочка, а дерево, как называют по научному такую информационную структуру. Если капнуть в нее яд, подобный компьютерным вирусам, он просочится везде и повсюду, отравит корни, корешки и ствол, доберется до веток, веточек, плодов и листьев. Возникнет, так сказать, топологическая неизбежность глобального распостранения отравы… «А отрава-то – вот она, под руками!» – подумал я, поглаживая белый цилиндрик. – Кажется, вы упоминали, что визуальный стимул может быть другим? Не столь предметным и овеществленным? Жест, печатное слово… Текст, способствующий резонансу и порождающий определенное желание… Так? Косталевский утвердительно опустил веки. – Так. Текст – мощнейший психотронный стимул, если составить его как полагается, если он достаточно велик и прочитан полностью, с первой до последней строчки. Тут все работает, сударь мой, все ведет к определенной цели – слова, ритмика фразы, порядок следования ударных и безударных слогов, чередование звонких и глухих согласных – в общем, тот звуковой аналог письменного текста, который с неизбежностью формируется в мозгу. Двадцать-тридцать абзацев, и разум настроен на подчинение; затем следует команда, тоже зафиксированная в тексте… – Профессор подбросил желтый футлярчик, поймал его и усмехнулся: – Например, такая: почеши левое ухо правой рукой. – Или такая: прочитай, забудь прочитанное и передай текст дальше, – подсказал я. Лицо Косталевского вдруг побледнело и тут же порозовело, будто заря надежды коснулась его теплым багряным крылом. С минуту он молча шевелил губами, то ли уставившись в пол, то ли разглядывая в задумчивости свои гибкие сильные кисти, лежавшие на коленях; потом вздрогнул, встрепенулся, посмотрел мне в глаза и пробормотал: – А ведь дельная мысль… очень дельная… Почему я об этом раньше не подумал? Мог бы подготовить необходимый вариант… даже несколько вариантов… прямо сейчас, на вашем компьютере, сударь мой… Этакий гипноглиф для селективной амнезии… Вот только как заставить прочитать? Как сделать так, чтобы его прочитали все нужные лица? – Ну, вот с этим-то проблем не предвидится, – произнес я, поднимаясь. – Нужные лица прочтут. Все прочтут. Это я вам гарантирую, Александр Николаевич! В очередь встанут, чтоб прочитать… А сейчас – не угодно ли вам выпить чашечку кофе и отправиться со мной к компьютеру? «Забавная выйдет комбинация, – промелькнуло у меня в голове. – Точь-в-точь как в английской поговорке: you cannot have your cake and eat it». А переводится это следующим образом: либо иметь пирог, либо съесть его. Все-таки мудрые люди – британцы!Глава 18
Косталевский ушел поздно, но Дарья вернулась еще позже. Собственно, не вернулась, а приползла: после деловых переговоров был визит в Эрмитаж, затем банкет, ну а после банкета гостей, утомленных российским гостеприимством до положения риз, развозили по «Европам» и прочим «Асториям». Среди них, кроме немцев, были шведский подданный, говоривший на английском, и два франкоязычных бельгийца, так что Дарье пришлось соображать разом на трех языках. В результате, когда я открыл дверь, она пробормотала: «Данке шён» – и тут же перешла на благозвучный язык Вольтера и Расина. Пришлось отпаивать ее чаем, кормить сырниками, раздевать и нести в постель. Разумеется, в ее квартиру: на моей холостяцкой кровати мы бы вдвоем не поместились. Утром, едва я начал ее целовать и поздравлять, она заявила, что мчится на продолжение переговоров, а вот этим – да-да, вот этим и всем остальным, включая поцелуи и подарки, – мы займемся ближе к вечеру. Все равно она родилась в двадцать тридцать шесть, если верить покойной мамочке – а отчего бы ей не верить?.. Значит, все знаки приязни, дружбы и любви, а также торт, вино, холодные закуски и кура в гриле – вечером, мой дорогой. Адью! Она чего-то поклевала и упорхнула, а я отыскал в холодильнике яблоко, очистил, разрезал на дольки и предложил Петруше. Потом выслушал все, что он думает на мой счет («Дррянь!.. дерр-мо!.. прр-рохвост!.. прр-ридурок!.. хочу банан!.. хочу, хочу!..»), и попытался объяснить, что яблоки для попугаев полезнее бананов. Черта с два! Карраул!.. Прр-ровокация! Плюнув и желая обрести покой, я ушел к себе, но едва затворил двери, как раздался телефонный звонок. Как же без звонка? Ведь вчерашним днем я опять выпал из поля зрения компетентных органов. О чем мне было сказано строгим тоном, с предложением сделать немедленные оргвыводы. Я признался Иван Иванычу, что такая уж у меня манера, modus vivendi, так сказать; вечно куда-нибудь выпадаю, а в данном случае – в цветочный магазин. Не с целью приобретения цветов, а чтоб соблазнить продавщицу-брюнетку; любовный акт состоялся в кладовой и был повторен многократно, под нежный шелест роз и трепет орхидей. Скуратов скрипнул зубами и сказал, что у меня могут возникнуть проблемы: так, из разряда свидетелей можно выпасть в категорию подозреваемых. Пришлось объяснять ему, что я уже не свидетель, не подозреваемый и даже не обвиняемый, а посредник. Посредник! Так как вчера имел удовольствие встретиться с профессором Косталевским, который – в отличие от некоторых! – лапшу мне на уши не вешал и баков не забивал, а честно признался, в чем суть вопроса. И поручил урегулировать конфликт. После этого наступила тишина, продолжительное ошеломленное молчание, будто Скуратов собирался с мыслями и раздумывал, что же со мною сотворить: представить ли к ордену «Знак Почета», пустить ли на фарш для пирожков или прижечь каленым пятаком пупок. Наконец он с сомнением произнес: – К вам приходил Косталевский? Вы в этом уверены? Может быть, не приходил, а птичкой порхнул в окошко? Но мы бы его и в этом случае… Фраза повисла в воздухе, и я припомнил, что нахожусь под колпаком, что мой телефон прослушивается и что Косталевского, разумеется, ждали. Но ждать и поймать – разные вещи. Мой вчерашний гость умел защищаться, причем не только гипноглифами; если верить его словам, он был способен на нечто большее. Он не распространялся, как ему удавалось распознать топтунов и избавиться от слежки, но эти приемы были, вероятно, эффективными, коль его не смогли разыскать за целый месяц. В конце концов, у психологов свои секреты, а Косталевский мог считаться выдающимся психологом. Член десяти академий, как-никак! Я мстительно усмехнулся и сказал: – Вы его не поймаете. Никогда, ни под каким видом! Не тот случай, Иван Иванович. Он как кошка – гуляет сам по себе. Захотел, и ко мне наведался… В дверь вошел, не в окно. Не сомневайтесь! Видимо, Скуратов уже не сомневался, так как рявкнул, отставив дипломатию: – Где он? Адрес, живо! – Чего не знаю, того не знаю. Да и к чему вам адрес? Он сам меня нашел и попросил выступить посредником. Чтоб отвязались и от него, и от меня. Кстати, упоминались им кое-какие опасные игрушки… Так вот, имейте в виду, что он их уничтожил. Самым радикальным способом! Сунул под десятитонный пресс, они и не выдержали, лопнули. Пластик все-таки, стекло… – Где вы, там неприятности, – пробормотал остроносый. – Значит, арнатовские гипноглифы все-таки были у вас? А Косталевский их забрал? И вы ему отдали? – Гипноглифы? Какие гипноглифы? – Мой голос звучал в меру удивленно и в меру возмущенно. – Я и слова такого не знаю, Иван Иванович! Давайте-ка лучше делом займемся, урегулируем проблему, подпишем мирный договор и в заключение пожмем друг другу руки. Вы ведь этого тоже хотите. Или я не прав? В трубке послышалось, как Скуратов переводит дух. Потом: – Надо бы встретиться, Дмитрий Григорьевич. Такие проблемы не решаются по телефону. – Встретимся, – пообещал я, – но не сейчас. Три раза мы с вами встречались, и дважды – при трупах. Не желаю, чтоб мой был следующим. Вот когда договоримся, тогда и назначайте свидание. – Ладно, черт с вами! Чего вы хотите? – Не я, а Косталевский. Договоренность такая: во-первых, он увольняется и ставит условие, чтобы имя его, в связи с известными вам предметами, нигде и никогда не упоминалось. Он считает свое открытие антигуманным. – Интеллигент хренов… – проскрежетало в трубке. – Гуманист недорезанный… – Во-вторых, – продолжал я, – Косталевский не возражает, если вы отыщете менее щепетильных специалистов, которые выступят восприемниками его работ – если угодно, авторами теории ментального резонанса. Найдутся такие? – В любых количествах, – заверил Иван Иванович. Тон у него стал пободрее. – Тогда – третье и последнее: регламент операции. За три-четыре ближайших дня Косталевский подготовит технологическое описание установки – той самой, которая в данный момент разобрана и уничтожена. Ну, вы понимаете, о чем речь… об агрегате,выпекающем «веселухи» и «почесухи»… может, кое-что еще. Этот документ я передам вашему ведомству, а вы позаботитесь, чтобы отставка Косталевского была воспринята спокойно. Гарантией спокойствия будет благодарность за беспорочную службу, на фирменном бланке, со всеми положенными подписями и печатями. Когда Косталевский ее получит, ждите второй документ: теоретическое обоснование целенаправленной стимуляции психической деятельности и эффекта ментального резонанса. Все будет изложено в подробностях и деталях и передано вам самим профессором. В эти его откровения я даже заглядывать не желаю. Зачем это мне? И кто я, в сущности, такой?.. Математик в отставке, утлый челн в водовороте случайности… Хотелось бы выбраться из него, и побыстрее. – Вы не утлый челн, а хитрый жук, – приговорил меня Скуратов. – Но это не принципиально. Вы, Хорошев, теперь для нас не интересны. Ни с какого боку… Ни вы, ни ваш покойный приятель, маг-недоумок, ни его убийцы… Нам Косталевский нужен. – Ну, так я вам его преподнес и умываю руки. Максимум через четыре дня. Согласны? – Согласен. Но наблюдение с вас пока не снимается. – Не возражаю. Посредников нужно беречь крепче свидетелей. Кстати, еще одно маленькое условие… Вы, Иван Иванович, действительно полковник? – Сомневаетесь? – А что вас удивляет? Вчера вы были майор УБОП, сегодня – полковник ФСБ, а завтра – кто знает? – окажетесь генералом из армейского ГРУ. – Я – точно полковник, и точно из ФСБ, – с нажимом на слово «точно» произнес Скуратов. – И я точно не генерал. Генерал у нас уже имеется. В Москве. – Вот и хорошо. Ему и будут переданы обещанные манускрипты. Еще раз напомню – в обмен на почетную отставку и благодарность. – Э, постойте, Хорошев! – в голосе остроносого прозвучали тревожные нотки. – У вас никак мания величия приключилась? – Ничем не могу помочь. Это условие выдвинул Косталевский. Он полагает так: чем важней начальник, тем надежнее гарантии. Его право! В конце концов, он тоже генерал, а может, и маршал от науки… С вами ему контактировать не по чину. Я повесил трубку и подмигнул Сатане, скалившему зубы с моего компьютера. Великий Крысолов, Великий Ловчий и Великий Обманщик… Он словно поощрял и в то же время предупреждал меня: будь бдителен!.. Будь осторожен и хитер – как всякий смертный человек, желающий выполнить за дьявола его работу. Щелкнув чугунного Сатану в нос, я заглянул на кухню, полюбовался розами и отправился за покупками. День рождения любимой, как-никак! Наш первый совместный праздник, не считая брачной ночи… Голубые луны роз кивали мне с подоконника, напоминали о грядущем торжестве. Они казались свежими, будто их только что срезали с куста: видимо, питательный раствор в кувшинчиках обладал чудодейственной жизненной силой. Во дворе топтались Танцующий Койот и Три Ноги; дул прохладный ветерок, и Три Ноги напялил свою куртку, став временно двуногим. Я направился к универсаму. Два соглядатая шагали сзади, не скрываясь, дыша в затылок и наступая на пятки. В мыслях моих витало смутное соображение – не слишком ли я продешевил, торгуясь со Скуратовым. Подумаешь, благодарность! Можно было б и большего добиться… ордена и пожизненной охраны от посягательств заокеанских агентов, например… для Косталевского и для меня… плюс бесплатный телефон, раз уж все равно прослушивают… Я купил бутылку «Цинандали», торт, салями, кое-какие деликатесы и, разумеется, шампанское. Вернувшись, рассовал покупки в холодильник, допил минеральную воду, а белую пробку свинтил, чтобы закрыть бутылку с кетчупом. Гляделась она ничуть не хуже черной. Потом направился к телефону и позвонил Жанне Арнатовой, решив, что остроносому этот звонок полезных сведений не добавит. Дело, в сущности, завершено; пропавшие найдены, мертвые мертвы, а вдовы нуждаются в сочувствии и утешении. У Жанны все обстояло не так уж плохо. Из Грозного прибыл чеченский десант – старый Саид-ата, ее отец, а с ним и другие родичи, суровые отпрыски гор, блюстители законов шариата. И хоть законы те строги, сердце Саида не выдержало, растаяло при виде внучки, которую он тут же начал звать Марзией.[559] Жанну, за поругание семейной чести, пообещали забить камнями или обрить наголо, но, осмотрев богатую квартиру, успокоились и отложили экзекуцию на неопределенный срок. Саид-ата был, вероятно, человеком разумным и действовал по принципу: где спешка, там убытки. Жанну еще не простили, но дело двигалось к тому, что скрашивало ей внезапное несчастье. Вспомнив о смерти мужа, она поплакала в трубку и принялась рассказывать мне, как изменился Сергей за последние месяцы, каким он стал заносчивым, самовлюбленным, нетерпимым – хоть о покойных не говорят плохого, но и случившегося не вычеркнешь из памяти. Я верил ее словам. Метаморфоза, произошедшая с Сергеем, была обычной и скорее всего неотвратимой, как наступление сумерек после заката солнца. Он не выдержал искуса власти, но воздаяние за этот грех, в котором повинны многие, обычно следует не в жизни сей. Вот недооценить врагов – гораздо большая ошибка! И он ее сделал, если припомнить все обстоятельства смерти: он мог бы защититься черным амулетом, а выбрал красный… Отчего? Чтоб доказать Танцору свое превосходство на уровне кулака?.. Видимо, так: после рассказов Жанны эта гипотеза казалась мне самой приемлемой. Мы распрощались, и я включил компьютер, чтоб потрудиться над описанием, обещанным Скуратову. Этот документ должен был выглядеть солидно и убедительно, со всеми финтифлюшками и прибамбасами, какие требуются по научной части. Основной текст я набросал вчерашним вечером со слов Косталевского; в общем и целом у нас получилась вполне развесистая клюква, в которой были как бы рассмотрены суть открытия, конструктивные особенности установки и способ подбора инициирующих частот. В процессе сотворения этой дезы я узнал, что установка, в физическом смысле, не производит никаких гипноглифов. Их основой мог являться любой подходящий по нескольким параметрам носитель – гладкий предмет из стекла, металла, дерева или пластика, хорошо отшлифованный, определенного цвета и формы, без выступающих ребер или торчащих углов. Но эта исходная структура была тусклой, инертной и мертвой, не испускающей таинственных флюидов, пока ее не подвергали необходимой обработке, или инициированию, по словам Косталевского. Процесс был довольно прост и состоял из напыления мономолекулярной пленки с последующим электромагнитным воздействием. В зависимости от частоты гипноглиф приобретал те или иные свойства; его помещали в футляр (разумеется, автоматически), и вся эта операция занимала от тридцати минут до часа. Текст, над которым я работал, являлся таким же исходным сырьем, как те объекты из пластика и стекла, которые еще не прошли инициации. Иначе и быть не могло: ведь если бы продиктованное Косталевским, все эти слова и фразы и скрытые в них команды могли воздействовать на нас, то, по завершении своих трудов, мы бы забыли, о чем, собственно, речь. К тому же добиться необходимого психологического эффекта ручным, что называется, способом, было попросту невозможно: такое удавалось кое-каким ораторам и писателям, но всех их история числит в разряде гениев. Так что в данном случае я работал с полуфабрикатом, который затем полагалось трансформировать в окончательный текст-гипноглиф с помощью программы-инициатора. И то, что получится, станет могущественным колдовским заклятьем… Правда, с очень узкой, очень специфической функцией: забыть те события и имена, которые должны быть позабыты. Забыть, но передать наш текст тому, кто еще помнит. С программой трудностей не ожидалось: все, что поведал мне Косталевский, я мог описать несложными формулами и разработать необходимый алгоритм трансформации. В сущности, дело сводилось к определенному подбору слов и их расстановке в предложении, столь искусной, что мысль вроде бы формулировалась с предельной ясностью, но после прочтения в голове зияла пустота. Полный вакуум! С подобным эффектом селективной амнезии я уже сталкивался, да и вы, разумеется, тоже. Вспомните речи политиков в предвыборной кампании, бессмысленные статьи, унылые доклады и книги ни о чем… Вспомните! Не содержание их, но факт: вы что-то прослушали и прочитали. И что же? Через день (бывает – через час) все испарилось и забылось… Велик и могуч русский язык, да и английский ему не уступит, и оба, с сотнями тысяч слов, с идиомами, сленгами и жаргонами, были в полной моей власти. Я собирался подключить к программе словари, редакторы, трансляторы и прочую лингвистику, какую смог разыскать на дисках и в Интернете – гигантские базы данных, где всякому слову нашелся бы синоним, а всякую мысль можно было выразить и так и этак, и наоборот. В общем, как говорится у Киплинга, есть шестьдесят девять способов сочинять песни племен, и каждый из них – правильный. Часам к семи я завершил работу над исходным документом, перевел русский текст на английский (с помощью новейшего оксфордского транслятора), проверил и подредактировал компьютерный перевод, вставил в нужных местах команды («передай дальше и позабудь») и зафиксировал их, чтобы дальнейшие манипуляции не исказили смысла приказа. Настала очередь программы, но это были завтрашние хлопоты; сегодня, как говорили латиняне, – finis! Имелось у них еще одно мудрое изречение, на тот счет, что женщины изменчивы и непостоянны (varium et mutabile), но мы их любим, ибо дарят они нам блаженство – beatitudo. Сегодня я с полной определенностью рассчитывал на beatitudo, а потому, выключив компьютер, занялся столом. А также розами: они уже скучали в своей прозрачной упаковке, и стоило содрать ее, как комната наполнилась чудесным ароматом. Тут и Дарья заявилась – вроде бы не уставшая, а свежая, как маргаритка в майский день. Сегодня она сопровождала шведа. Бельгийцы после вчерашних утех окончательно рухнули, а немцы (тип нордический, выносливый) по завершении переговоров отправились в кабак. Видно, не только в кабак – Дарью от этой экскурсии отстранили, предложив развлечь шведа. А швед, мужчина в возрасте, серьезно озабоченный здоровьем, был большой любитель дендрологии и пожелал «гулять на свежий воздух, ту зе парк». Дарья отправилась с ним в Пушкин и прогуляла так, что он уснул по пути в гостиницу. Все это она выпалила единым духом и на чистейшем русском языке; потом сказала, что можно ее поздравлять, чем я и занялся – сперва в прихожей, потом – в коридоре и, наконец, в комнате, между накрытым столом и компьютером, одной рукой разливая вино, а другой обнимая именинницу. Вдруг ноздри ее затрепетали, глаза расширились и увлажнились – она почуяла пьянящий запах роз, перебивавший аромат шампанского. Похоже, я угодил с подарком, что подтверждает мои теоретические изыскания: всякий дар – еще и намек, и то, на что намекали дивные розы, моей принцессе было приятно. Такие романтические девушки, способные врезать злодею кочергой, к цветам испытывают трепетную нежность. Особенно к розам, и это неудивительно: розы голой рукой не возьмешь, они ведь тоже воительницы, хотя без кочерги, зато с шипами. – Димочка, какая красота… – проворковала Дарья. – А запах, запах!.. Ах, какой запах! «Шанель номер пять»… Или «Дольче энд Габбана вумен»… Это мне? Правда, мне? Нет, Димочка, ты не шутишь? Какие необычные оттенки… переливаются, как небо в летний полдень… и лепестки резные… и каждая – ах! – в своем кувшинчике! – Она ткнулась жаркими губами мне в щеку. – Но они, наверное, стоят безумно дорого? – Любовь крреолки дорроже! – каркнул я и на гусарский манер приложился к ручке. – Прр-равильно! – со смехом откликнулась Дарья. – Крровь и кррест! Подать рром в номерра! Мы чокнулись, выпили и сели за стол. Голодные, как волки: я – потому, что заработался и позабыл про обед, а Дарья нагулялась со своим шведом до спазмов в желудке. Так что следующие десять минут мы закусывали и чокались, чокались и закусывали, уговорив бутылку шампанского и половину емкости с «Цинандали». Дарья захмелела и порозовела, глаза ее начали опасно поблескивать, и мне вдруг пришло в голову, что она без очков. Будто никогда их и не было! Загадочный случай. Очков нет, зато глазки подведены, ресницы накрашены, и на губах – помада. Раньше я не замечал, чтоб моя птичка пользовалась косметикой. Впрочем, макияж был ей к лицу, усиливал загадочную романтичность. Немного поколебавшись, она вытащила розу из кувшинчика и приколола к волосам, став еще краше. – Ты без очков? – спросил я. – И, кажется, видишь неплохо? – Это очки на даль, милый, и они мне совсем не идут. На близком расстоянии я и без них разгляжу все, что полагается. – Например? – Например, тебя. – А что ж ты их раньше носила? – А раньше нечего было разглядывать на близком расстоянии, – сказала она, подставляя мне губы. Потом подперла щеку кулачком и начала рассказывать, как лет в девятнадцать, на третьем курсе филфака, влюбилась в сорокалетнего доцента. Он был красив и элегантен, а также холост, и все девчонки сходили от него с ума. Преподавал он классическую французскую литературу и, в свой черед, любил помопассанить с хорошенькими студентками от восемнадцати до двадцати. Такой вот любопытный персонаж. Дарью он мопассанил года два, а после нашел себе новую пассию, блондинку Верочку из группы испанистов. Дарья на Верочку не сердилась (тем более что ее вскоре сменила брюнетка Рита), однако плакала, переживала и терзалась, как и положено натурам романтическим, взыскующим не одного лишь секса, а чувств, возвышенных и постоянных. Этот случай отбил у нее охоту общаться с сильным полом и привлекать внимание мужчин; впредь она старалась держаться незаметнее и выглядеть скромнее – редкий случай по нынешним временам, можно сказать, уникальный. Затем она переехала на новую квартиру, наткнулась в коридоре на соседа (то есть на меня) и, невзирая на очки и полумрак, что-то в соседе разглядела. Что-то такое, всколыхнувшее былые чувства: сосед, оказывается, был темноволос, высок и строен и по каким-то неуловимым признакам напоминал ей первую любовь. С поправкой, разумеется, на Мопассана: сосед то ли его не читал, то ли пренебрегал традицией знакомства в темных коридорах. Так или иначе, но Дарья снова мучилась и терзалась, и лампа, маячок любви, лишь увеличила ее страдания. Последней каплей стал эпизод с повесткой. Бедная девушка перепугалась: посовещаться не с кем, братец Коля плавает в южных морях, а из Петруши какой советчик?.. Она ему про повестку, а он ей в утешение: «Прр-ротокол!.. Прр-рокурор!.. Камерр-ра!.. Харра-кирри!.. Допррос с прр-ристрастием!..» Раз так, решила Дарья, пан или или пропал – и позвонила ко мне. Как выяснилось, очень кстати. Последнюю часть этой истории я выслушал, когда мы забрались в постель. Дарья лежала в своей любимой позе, согнув коленки, на боку; хрупкое плечико поднято, щека прижата к ямке над ключицей, тонкие пальцы скользят по моим волосам. Я поцеловал свою принцессу; на ее губах был вкус шампанского, а маленькие твердые груди пахли лунными розами. Она вдруг заплакала, вытирая ладошкой слезы и размазывая их по щекам, а я стал ее утешать, целуя мокрые ресницы; потом она успокоилась, потом развеселилась и сказала, что креолкам доценты совсем не нравятся, а любят они исключительно математиков. Скромных, которые не пристают к девушкам в темных коридорах. Потом… Ну, вы понимаете, что бывает потом, вслед за такими событиями, как цветы, шампанское, слезы, смех и поцелуи.Два следующих дня мне пришлось заниматься программой, игнорируя клиентуру. Впрочем, звонков было немного и лишь один серьезный заказ, со ссылкой на Мартьяныча: какой-то его приятель хотел открыть счета за рубежом, но непременно в австрийских банках. Деньги он мог переправить сам, через «коридор» на таможне, но без легальной «истории» австрийцы их не брали, поскольку сумма была довольно приличной. Не миллион, однако и не пустяк в пять тысяч баксов, что было предельной квотой для наличности без соответствующих бумаг: где и каким образом наличность заработана и сняты ли с нее налоги. Всех этих документов, называемых «историей» денег, знакомец Мартьянова, конечно, не имел, а дробить свои средства на двадцать вкладов в различных банках ему совсем не улыбалось. Я сказал, что займусь его проблемой и разрешу ее не позже октября. Законы в Австрии суровы, но не настолько, чтобы лишать доходов финансовую олигархию, а это значит, что в законах есть лазейки. Например, такие: каждый крупный банк курирует две, три и больше страховые компании и открывает счета их клиентуре без лишних сложностей и проволочек. В целом схема выглядела так: мартьяновский знакомец приобретает полис, а также рекомендацию страховщиков; по ней ему открывают счет на сумму втрое-вчетверо больше страховки, и с этого вклада перечисляются взносы в страховую компанию. Средства, вложенные в полис, приносят пять-шесть процентов годовых и лет через десять возвращаются к владельцу с изрядной прибылью. Все законно, все путем! Осталось лишь подобрать надежную компанию и патронирующий банк да получить «добро» на таможне… Но это уже не мой вопрос. В четверг, закончив трудиться над программой, я инициировал оба варианта текста, на русском и английском языках, занес их на дискеты, распечатал и уничтожил в памяти компьютера. Чтобы случайно не наткнуться и не прочитать. А чтоб не перепутать, кому какой материал, дискеты и распечатки пришлось разложить по конвертам, изобразив на них стилизованных орлов: двуглавого российского и американского, с одной башкой, но очень хищной. В это историческое мгновение я ощущал себя дьяволом-обманщиком, этаким агентом-двойником, который водит за нос британскую МИ-6 и ведомство папы Мюллера, а может, кого-нибудь еще – МОССАД, ЦРУ или недоброй памяти Лаврентия Палыча Берию. Но это были пустые фантазии. Пока что я обманул по-крупному лишь одного человека, расколотив молотком алый гипноглиф и черную пробку с бутылки от кетчупа. Да, обманул!.. Не слишком достойный поступок, но что поделаешь… Амулет власти являлся моей единственной надеждой и защитой, броней, отгородившей меня от неприятностей и бед. От мелких и крупных, и от того, что случилось с Сергеем Арнатовым. Крысоловы наивностью не отличаются, и я понимал, что неизбежно наступит момент, когда моя жизнь повиснет на волоске – в тот миг, когда отдам дискету, и до того, как ее прочитают. Когда прочитают, все позабудут – о Косталевском, о гипноглифах и обо мне, но эти два события могли разделяться минутами или часами. Это время нужно пережить. Весьма опасный период, когда я стану не посредником, а лишним свидетелем, коего, рассуждая логически, надо быстрее спровадить в ящик. Может, так не случится, может, сперва решат прочитать, выяснить ценность доставленного, но мне что-то не хотелось рисковать. Месяца не прошло, а пять покойников уже маршировали в ад, и я не собирался стать шестым в их дружной шеренге. Вот почему черный гипноглиф занял место алого в корпусе из-под часов, и этот браслет я таскал весь день, а ночью, чтоб не заметила Дарья, прятал под кроватью в тапки. Не потому, что боялся внезапных налетов и похищений, а ради создания привычки. Привычка – вторая натура: где интеллект подведет, где интуиция откажет, там выручит привычка. И, разумеется, тренировка. Для тренировки я показал свой амулет Петруше и принялся внушать ему строгим голосом: – Я – твой хозяин, хохлатый охальник. Слушай внимательно и повинуйся! Во-первых, ты должен забыть все нехорошие слова. Если не понимаешь, какое слово гадкое, а какое – нет, то позабудь их все. Уяснил алгоритм? Выполняй! Теперь во-вторых: увидев меня, ты должен кричать: «Дмитррий, прривет пррофессор!» Увидев Дарью: «Даррья, крреолка, кррасавица!» А еще – «пррошу прростить покоррно!» И если хочешь банан, не вопи «жрать, жрать!», а попроси, как полагается интеллигентной птице, – «фррукт, хочу фррукт!» Понял, сухогрузный недоумок? Во время этой речи я водил гипноглифом у петрушиного клюва, а он, склонив хохлатую голову к крылу, косился круглым глазом на темную обсидиановую спираль с мерцающими в глубине серебристыми искорками. Казалось, что он поддается гипнотическому воздействию, что резонанс между сознательным и подсознательным сейчас наступит и я услышу наконец: «Прошу простить покорно». Или хотя бы: «Дмитрий, привет!» Но вот мощный изогнутый клюв приоткрылся и раздалось: – Прр-нография, прр-ридурок! Порр-тянка! Прр-резираю! Я плюнул, вытащил радиотелефон, дар полномочного агента Бартона, и трижды нажал кнопку «pause». Через минуту в аппарате пискнуло, потом заверещало, и все кнопки озарились мертвенным зеленым сиянием. Сквозь эту иллюминацию пробился гулкий голос: – Гудмен? Сукин ты сын, Гудмен! – А что такое? – спросил я с откровенным интересом. – Ты что нам подсунул, Гудмен? Ты что обещал, немочь белесая? Ты обещал бойца! Скорость реакции, уверенность, отвага и потрясающий прилив сил! Или я в чем-то ошибся? – А разве прилива сил не было? Мой собеседник внезапно хихикнул: – Был, но совсем в другом месте! Не там, где договаривались, понимаешь? Но если разобраться, Гудмен, я не в обиде. Штучка-то забавная… редкостный раритет, посильней виагры… как раз для белых извращенцев. – Может, и другую подарю. Та – специально для черных, – пообещал я, вызвал в памяти свою воображаемую схему и раскрасил рамочку команды бета в цвет небесной голубизны. – Ну, к делу! – распорядился Бартон. – Есть новости? – Есть хорошие новости, мой чернокожий друг. – Отлично! Хорошие новости нам пригодятся. Где и когда? – Завтра. На том же месте, в тот же час. – Машина будет ждать. А как твои… хм… спутники? Помощь нужна? – Нет. Теперь уже нет. Спутники ко мне претензий не имеют. Он снова хмыкнул и отключился. Я посидел минут пять, разглядывая умолкнувший аппарат и размышляя, сколько штыков и сабель имеется в строю у Бартона. Получалось, что не очень много, но и не так уж мало: он сам плюс мормоныш, плюс шофер голубого «БМВ» и тот парень в цветочной лавочке, мастер переодеваний; конечно, были и другие люди, раз отыскался тип, похожий на меня. Но вряд ли они вникали в суть и смысл операции; вполне возможно, кроме зулуса и мормоныша, в курсе был лишь один человек, гипотетический резидент ЦРУ в Петербурге. Так или иначе, дискетка до него доберется… до него и прочих заинтересованных лиц… Представьте, как ее передают друг другу, все дальше и дальше, все выше и выше по служебной лесенке, и каждый прочитавший текст недоуменно пожимает плечами, хмыкает и тащит ее начальнику – мол, ознакомьтесь, сэр, какую чушь понаписали… сам я уже позабыл про эти бредни, но вас они, возможно, развлекут… вот так, сэр, а мне позвольте заниматься делом. Дискетка, мой троянский конь, капля амнезийного бальзама… Я сознавал, что, выпустив ее из рук, совершу насилие над личностью, над многими личностями, в памяти коих внезапно возникнет трещина. Должен признаться, эта мысль меня не радовала. Конечно, мы свыклись с насилием: оно сопровождает нас на протяжении тысячелетий, и вся история хомо сапиенс – сплошная эскалация насилия. Насилия над телом и насилия над духом… В этом смысле Косталевский не изобрел ничего нового, так как идеология и религия действуют тем же насильственным путем, как и его гипноглифы. Если разобраться, что такое внешний стимул, который порождает те или иные желания, двигает нас к тем или иным поступкам? Это символы и фетиши, придуманные человечеством, это святые книги, непогрешимые догматы и зажигательные речи… «Все это – прр-ропаганда – прр-ропади она прр-ропадом!» – как сказал бы Петруша. Это запомни, в то поверь, а се – позабудь… Чтобы успешнее справиться с муками совести, я включил телевизор. Как оказалось, два последних дня на российских просторах топтался красный петух. Всюду что-то горело: горело просто так или сначала взрывалось, а уж потом начинало полыхать. В Петрозаводске – от протечек газа, в Самаре – от короткого замыкания, в Грозном – от канистр с бензином, в Нижнем Тагиле и Ельце – от всеобщей безалаберности. Горели троллейбусы и храмы, вокзалы и банки, тюрьмы и шахты, автомобили и резиденции мэров, воздушные лайнеры и леса. Кроме того, в Новосибирске разгромили синагогу, а в Москве бабушка за семьдесят зарезала дедушку под восемьдесят, который регулярно напивался и бил ее ногами. На фоне таких событий мои намерения казались даже не мелким злодейством, а так, каплей верблюжьей мочи на тропке меж аравийских барханов. Приободрившись, я позвонил остроносому и доложил, что описание готово. Текст будет представлен в двух экземплярах, на гибком диске и на бумаге, с грифом высшей секретности – перед прочтением сжечь (эту идею я позаимствовал у братьев Стругацких). – Сейчас приеду, – откликнулся Скуратов, намереваясь бросить трубку. – Не спешите, Иван Иванович, – осадил я его. – Во-первых, документации у меня еще нет, а будет завтра, после конспиративной встречи с профессором Косталевским. Во-вторых, свидетели рандеву нам не нужны, так что отзовите своих барбосов. А в-третьих, где благодарность? И где генерал? – Доставим и то и другое прямиком из столицы, – пообещал остроносый. – Но вот насчет барбосов… Тут вы, Дмитрий Григорьич, не правы, сильно не правы! Недооцениваете сложность ситуации. Разве случай с Чернозубом вас ничему не научил? Тоже хотите поплавать кверху задом? Представьте, что за вами вслед пойдут не наши, а другие люди, и не барбосы, а ротвейлеры; пойдут, накроют вас вместе с профессором, и конспирации конец. Что скажете о таком варианте? – Накроют, буду молчать, как партизан, – ответил я. – Итак, завтра у метро «Горьковская», в семнадцать ноль-ноль. Скажите генералу, чтобы погладил парадный китель.
* * *
Когда моя птичка прилетела в гнездышко после дневных трудов, я стоял в прихожей ее квартиры с топором в руке и примерялся к стенному шкафу. Стенка, в которую его вмонтировали, была у нас общей, то есть с другой стороны, в моей прихожей, располагался точно такой же шкаф размерами метр семьдесят на два шестьдесят. Не надо быть знатоком топологии, чтобы додуматься до идеи: если снести шкафы, получится проем, объединяющий две прихожие – и тем самым две квартиры, – в нечто более просторное, величественное и пригодное для обитания. Этот «ап грейт» я и готовился совершить. Представьте теперь пейзаж: явилась девушка домой, а шкаф ее нараспашку, коробки с обувью на полу, на них – простынки, пододеяльники и шляпки, полотенца свалены на стуле, плащ и пальто – на вешалке, а шубка вообще исчезла – может, валяется в ванной или утепляет холодильник. А в довершение к этой картинке – добрый молодец с топором! Весьма законный повод возмутиться. Уверен, девять женщин из десяти сказали бы: «Ах ты, мерзавец!..» Реакция десятой была бы, вероятно, энергичней, с упоминанием ненормативной лексики. Но моя принцесса лишь поглядела на меня, на творившийся вокруг разор и улыбнулась. Потом промолвила: – Димочка, ты не устал? Этот топор такой тяжелый… Не принести ли молоток? – Есть время для молотка, а есть – для топора, солнышко мое. С этими словами я вышиб заднюю стенку шкафа. Протяжно заскрипели гвозди, доски с грохотом рухнули в мою прихожую, сверху посыпалась штукатурка, и, будто салютуя воссоединению, взметнулись клубы пыли. Я раскашлялся, Дарья чихнула, а Петруша пронзительно завопил: «Карр-раул! Рр-рифы по куррсу! Прр-ротечка, прр-ридурок!» Пыль осела, и сделалось видно, что из двух маленьких прихожих получился вполне приличный холл. Птичка моя уже озиралась по сторонам, вертела каштановой головкой и, кажется, мысленно расставляла мебель: диванчик – туда, столик – сюда, а вот на эту стену – полочки и что-нибудь яркое, акварель или батальное полотно. Скажем, Рыжая Соня убивает гиперборейского лазутчика… Разумеется, кочергой. Наконец Дарья сморщила носик, взмахнула ресницами и с одобрительным видом произнесла: – Как хорошо получилось, Димочка! Как просторно! И на площадку не нужно выходить… Знаешь, боюсь я этой площадки, темно там и страшно… Я внимательно посмотрел на нее – то ли шутит, то ли правду говорит?.. И о чем – заметьте! – думает? Какие там мысли вертятся под каштановыми кудрями – кроме тех, куда приткнуть диванчик? Но лицо Дарьи было воплощением невинности; стояла она, скромно потупив глазки, сдвинув ножки в итальянских туфельках, и будто бы чего-то ждала. Я решился, бросил топор на груду досок, обнял ее и кивнул в сторону пролома: – Ты, надеюсь, понимаешь, что эта дыра – новый этап в нашей жизни? Утвердительный взмах ресниц. Та же манера, что у Косталевского, но у женщин это получается гораздо выразительней. – Могу я предложить вам руку и сердце, прекрасная сеньорита? В дополнение к официальным обязательствам? Темные веера ресниц снова поднялись и опустились. Я чувствовал, как под моей ладонью колотится ее сердце. – Вы согласны? Вы окажете мне честь? Вы… Она внезапно прижалась ко мне и шепнула, обдавая горячим дыханием щеку: – Много говоришь, Димочка… Давай-ка лучше доски приберем. … Когда мы уже лежали в постели и шептались в темноте, в гостиной наметилось шевеление, будто Петруша расправлял крылья, проверяя клетку на прочность, или шебуршился так, для моциона. Он скрипел, возился, щелкал клювом и вдруг внятно, с паузами в нужных местах произнес: – Даррья – крр-расавица… Дмитррий – фррукт, фррукт… Прр-рошу прр-ростить покоррно! Дарья вздрогнула: – Что это с ним? Не заболел ли? Может, тронулся умом? Как ты думаешь, милый? – Думаю, он от счастья орет. Теперь у него и хозяйка есть, и хозяин, – объяснил я, поднялся и дал Петруше банан.Утро выдалось ясное, теплое, какие случаются в сентябре: в небесах – ни облачка, ветер спит, солнце сияет так, будто под ним не карельские мрачные сосны, а андалусские пальмы и оливы. Проводив Дарью, я позавтракал, сложил стопкой доски от разбитого шкафа и плотно их перевязал. Затем подошел к окну, присмотрелся, однако знакомых топтунов не обнаружил. Ни Джеймса Бонда, ни рыжего Койота, ни Итальянца, ни прочих остальных. Зато появились два новых типа, коренастые и с усиками – вероятно, крупные специалисты по ловле блох. День предстоял ответственный, и Скуратов, надо думать, выделил лучших из лучших, не позабыв усилить их автотранспортом – «девятка» «Жигули» дежурила, как обычно, со стороны проспекта. А коренастые-усатые сидели на лавочке, но не на той, что у песочницы, а ближе к мусорным бачкам. И это было хорошо. Просто отлично! Я ведь не Косталевский, с сорока метров гипнотизировать не умею, мне надо ближе подойти, чтобы бабахнуть прямой наводкой. А вдруг не подпустят? Встанут и смоются? Бегать за ними мне не хотелось, а потому был нужен повод. Мусорные баки, например. Я вернулся в спальню. Там, на прикроватной тумбочке, рядом с лампой-маячком, стояли розы. Все пять, и каждая – в своем кувшинчике. Пахли они одуряюще и выглядели абсолютно свежими, не исключая и той, что побывала у Дарьи в волосах. Несомненно, питающий их бальзам обладал огромными животворными силами. Вполне достаточными, чтоб поддержать в одном горшочке существование двух цветков. Итак, я переставил розы, понюхал темноватую жидкость в кувшинчиках (ничем предосудительным она не пахла) и заткнул емкости пробками. Потом спрятал два кувшинчика в сумку, вместе с конвертами, бумажником и сигаретами, сумку повесил на плечо, доски взял под мышку и спустился вниз. Этакий хозяйственный мужчина: сломал в своей квартире шкаф и тащит доски на помойку. Чтобы добро не пропадало, и граждане, охочие до досок, могли попользоваться ими. С толком и в полное свое удовольствие. Топтуны даже голов не повернули в мою сторону. Я избавился от ноши, оставив ее у кирпичного паребрика за мусорными баками, ощупал браслет на правой руке и неторопливо зашагал обратно к подъезду. Как раз мимо лавочки, где сидела пара усатых. Там внезапно притормозил, дернул вверх рукав свитера и произнес: – Взгляните, мужики, что-то хронометр мой барахлит. А вы, часом, не мастера? По виду, так крупные специалисты… Сработало! Они дернулись и застыли, не спуская глаз с гипноглифа. Темная обсидиановая спираль мерцала на моем запястье, перемигивались в ней крохотные серебристые огоньки, и два человека с окаменевшими лицами глядели на нее – глядели так, будто явился им сам Моисей, груженный скрижалями Завета. В глазах их была покорность. Глаза казались плоскими, будто бы даже оловянными, и в них не отражалось ничего – ни мысли, ни яростного гнева, ни экстаза любви, ни желания вспомнить или забыть. Ничего такого, что порождали другие амулеты… Страшное зрелище! В этот момент я сам перепугался. Но был в моем испуге рациональный элемент: дошло внезапно, что Косталевский прав и что в такие игры нормальным людям играть не полагается. То есть я это и раньше понимал, но понимание происходило от логики, от рассудка, а чувства – те, что питаются неосознанными желаниями, – подсказывали совсем иное. Гипноглиф власти у меня в руках… владеющий им – Повелитель… Владыка Мира, которому все позволено и все доступно… завоеватель и мессия в одном лице, Вождь и Отец народов… Или – проявим скромность! – Господин. Хозяин над душами людскими, диктующий, что плохо и что хорошо, какие желания греховны, какие – праведны, кого надлежит распять, кого отправить в лагеря, кого бомбить, какие страны сжечь, каким идеям верить… Искус, великий искус, дьявольский соблазн, которого не выдержал мой сосед!.. Бывший сосед, а ныне покойник Арнатов Сергей Петрович. Судорожно сглотнув, я опустил рукав свитера и сказал: – Ну-ка, ребята, подвиньтесь. Они освободили место посередине и вылупились мне в лицо преданным собачьим взглядом. Такого взгляда в России теперь не встретишь, не та эпоха и не тот электорат: так, наверно, глядел на Сталина комбайнер, когда ему вручали за ударный труд. Я приземлился. Сказать по правде, ноги меня не держали. Не гожусь в повелители и вожди! Видно, харизмы не хватает. Сердце мое постепенно успокоилось, дыхание стало ровным, ледяной комок в животе растаял, и только испарина холодила лоб. Давно я таких встрясок не испытывал. Даже ворочая трупы в морге… Но те были абсолютно мертвыми, а эти – как бы живыми. Но в то же время и не живыми: ведь человек, попавший под беспредельную власть другой личности, мертв. Несомненно мертв – как полено под топором дровосека. – Откуда вы, мужики? – спросил я, чувствуя, что мой голос дрожит и вибрирует, подобно натянутой струне. – От Скуратова Иван Иваныча? Они ответили разом оба: – Так точно. – От него. – Говори ты. – Я кивнул сидевшему справа. – Скуратов еще кого-нибудь прислал? – Еще двоих. – Где они? – На улице, в машине. Сказать, как зовут? – Не надо. Ты и так молодец. – Его лицо дрогнуло в жалкой пародии улыбки: казалось, он был счастлив услышать похвалу. Вытащив из сумки два кувшинчика, я передал их топтунам. – Пейте! Это новейший препарат дозированного сна. Спать будете ровно двадцать минут, затем проснетесь и до вечера останетесь бодрыми и свежими. О нашей встрече – забыть. Продолжать наблюдение за подъездом. Докладывать начальству по мере надобности. Они выпили. Они выпили бы даже тогда, если б в кувшинчиках был яд. Конечно, можно было обойтись без театральных эффектов, но я хотел выяснить пределы своей власти. Похоже, Косталевский меня не обманул: она была полной, неограниченной и беспредельной. Глаза соглядатаев закрылись, горшочки выпали из ослабевших пальцев. Я поднял их, бросил в мусорный бак и быстрым шагом направился к метро. Разумеется, дворами, чтобы не наткнуться на сидевших в «жигуле». Амулет в футлярчике из-под часов жег мне запястье, словно плоть моя была поражена гангреной.
* * *
Ровно в четырнадцать десять я подошел к заднему входу «Орхидианы», той самой цветочной лавочки на Австрийской площади. Голубая машина уже поджидала меня: осталось лишь устроиться на сиденье, захлопнуть дверь и кивнуть водителю. Мы выехали на улицу, в бодром темпе миновали метро и покатили по Большой Зеленина прямиком на Крестовский остров, к Морскому проспекту. Эта магистраль проходит в парковой зоне и упирается в залив, так что оживленной ее не назовешь: с обеих сторон деревья и заборы, а меж древесных крон мелькают крыши обкомовских дач. Бывших обкомовских; понятия не имею, кому они теперь принадлежат. Может, и никому, так как вокруг – полное безлюдье и никакого шевеления в кустах. Шофер «БМВ» высадил меня в какой-то лишь ему известной точке, пробормотав: «Ждите здесь», – затем дал газ и исчез. Над безлюдным проспектом проносился ветерок, долетавший с моря, шелестели листвой старые липы за высоким каменным забором, серой лентой тянулся в обе стороны асфальт, на удивление чистый и ровный, без трещин и вздутых опухолей заплат. У забора и в тенях под деревьями асфальт был не серым, а угольно-черным, с блестящим отливом, будто смоченный водой, и эти тени самых причудливых форм и размеров казались фантастическими персонажами спектакля. Другая тень, прямая и четкая, падавшая от изгороди, служила им подмостками, и, подчиняясь ветру, тени-актеры раскачивались туда-сюда, подрагивая и шевеля скрюченными конечностями. Одно из этих пятен напомнило мне физиономию зулусского воина: четкий профиль с перьями на макушке, расплющенным носом и толстой отвислой нижней губой. Больше любоваться было нечем, и я, закурив сигарету, уставился на это темное пятно. Вылитый Бартон из Таскалусы! Очень похож! Неординарная личность… И весьма заметная – при такой-то внешности… Странно, что ему поручили эту операцию и что-то поручают вообще: агент, по моим представлениям, должен быть таков, чтобы не цеплять людские взоры, чтобы взгляд соскальзывал с него, как вода с промасленной бумаги. А Бартон выделялся. Даже в Коста-дель-Соль, в пестрой толпе отдыхающих, ибо не так уж много там чернокожих из Таскалусы или других подобных мест, где водятся чернокожие. Собственно, кроме Бартона, я никого и не видел. Автомобильный клаксон прервал мои размышления. Машина – тоже «БМВ», но серебристая, с тонированными стеклами – подъехала незаметно на широких шинах и застыла, будто огромный жук, под древним дубом с бугристой морщинистой корой. Задняя дверца чуть приоткрылась, огромная рука с пальцами, похожими на связку темно-коричневых сосисок, повелительно махнула мне; блеснули антрацитовые зрачки, раздулись ноздри плосковатого носа, шевельнулись челюсти. Зулус, как всегда, жевал. Станиолевая обертка выскользнула из его пальцев и, подхваченная порывом ветра, понеслась над тротуаром. Я подошел к машине. Салон ее оказался просторен, так что, несмотря на габариты Бартона, мы с удобством разместились на заднем сиденье. За рулем был мормоныш. В мою сторону он покосился крайне неодобрительно – так, словно штопор в печень воткнул. Мне хотелось утешить его остротой в национальном духе – мол, любовь зла, полюбишь и козла, – но идти на обострение ситуации явно не стоило. – А вот и наш специалист по вешалкам и рогам, – благодушно произнес Бартон, потянувшись к стоявшему рядом кейсу. Он положил чемоданчик на колени, щелкнул замками и спросил: – Значит, есть хорошие новости, Гудмен? В полном соответствии с твоей фамилией? – Новости зависят от моего сальдо в банке «Хоттингер и Ги», – заметил я, вытащив из сумки конверт, но не выпуская его из рук. – Он пополнился на десять тысяч. Но больше ни цента не получишь! Никаких там штрафных выплат! После сыгранной с нами шуточки… – Он бросил взгляд на мормоныша, осекся и лишь басовито хохотнул. Затем добавил, покосившись на конверт: – Этот материал мы сначала проверим, и только потом будет сделана выплата. Пятьдесят, как договаривались. – Как договаривались – сто. – Сто, так сто, – с подозрительной легкостью согласился Бартон, подмигнув одним глазом мне, а другим – мормонышу. – Я – парень сговорчивый, как большинство чернокожих ребят. Мы, Гудмен, привыкли, что с белыми не стоит спорить. Особенно о деньгах. – Потому тебя и прислали? Такого сговорчивого чернокожего? Зулус усмехнулся, не переставая жевать. – Не только. Сейчас мы уже подружились, и я могу сознаться, что человеку моей расы проще вступить с тобой в контакт и завоевать доверие. Вы, русские, уникальный народ: вы питаете необоримую склонность к черным и к другим цветным или цветным отчасти, – тут он опять ухмыльнулся во всю свою шоколадную физиономию. – К арабам, латиносам и желтокожим, ко всем косоглазым и губастым, не исключая папуасов… Многие из них давным-давно живут получше вас, но вы в своем нелепом высокомерии считаете их обиженными и угнетенными, несчастными и бедными, как церковные крысы. Вы готовы сочувствовать им и снять, как говорится, последнюю рубашку вместе с кожей, чтобы… – Устаревшая информация, – перебил я. – Это все в прошлом, Дик. У нас уже ни рубах, ни кожи не осталось, и теперь мы черных не любим. А также арабов, китайцев и лиц кавказской национальности. Вот если б ты в самом деле был папуасом или краснокожим из племени могикан… Зулус с мормонышем переглянулись. – Стоит учесть, – пробормотал Джек-Джон-Джим. Это были первые сказанные им слова, и я отметил, что голос мормоныша звучит хрипловато. Он расположился на месте водителя, вполоборота ко мне, и вроде бы не собирался включать мотор. – Мы куда-нибудь едем? – А зачем? – Огромные руки зулуса потянулись к конверту. Дискетка выпала на сиденье, он бережно подобрал ее, сунул в кейс и принялся перелистывать бумаги, приговаривая: – Зачем нам куда-то ехать? Место здесь тихое, спокойное… посидим, поговорим… А заодно почитаем… – Все будешь читать или как? – Пачка листов выглядела солидно, ибо я постарался на славу. Кое-где документ был украшен графиками и даже формулами, а в иных местах попадались таблицы. По личному опыту мне было известно, что наукообразие внушает доверие, но с этим делом – с наукой то есть – нельзя переборщить. Графиков, формул и таблиц должно быть столько, чтобы клиент поверил и пустил слюну, и в то же время, чтоб у него создалось впечатление, будто текст ему вполне понятен и доступен. Тонкая механика, но после Промата я владел ею в совершенстве. – Все читать не буду, – бормотал меж тем зулус, – тут вон сколько понаписано… Прогляжу… – Листы шелестели в его толстых пальцах. – Внушительный документ! Но все, мне кажется, по делу… да, по делу… формулы, описание промышленной установки… таблицы, чертежи… Где взял? – Осталось в наследство от соседа. Прятал у меня на даче. Дискету, разумеется, не распечатку. – И ты нашел? А другие найти не смогли? – Местанадо знать, – солидно произнес я. – Поместье – не городская квартира, все сосны там не выкорчуешь. Бартон, одобрительно кивнув, сунул бумаги в кейс. – Это была здравая идея – выйти на связь с тобой. Все же ты его друг-приятель… Кому знать, как не тебе? В лаборатории он ничего не оставил, дома – тоже, а также и в офисе, где пациентов принимал… Мы всюду проверяли. – Он выплюнул жвачку в ладонь, поглядел на нее в задумчивости и выбросил в окно. – А шеф твоего дружка исчез. Кост-лев-ски, кажется? Думаю, его ваши люди замели. Как полагаешь? – Не исключается. Но можно было б и поискать… конечно, за отдельную плату. – Я ненавязчиво продемонстрировал свою материальную заинтересованность. Мой образ алчного жука нуждался в постоянной подпитке, точно так же, как лунные розы – в своих горшочках. – Хм… А сколько возьмешь? – Много. Но не деньгами – гражданством. Зулус с мормонышем опять переглянулись, потом Бартон медленно протянул: – Вот как… Гражданство желаешь получить… А грин-карта тебя не устроит? – А какие с гражданством проблемы? Для ЦРУ это раз чихнуть. Или я ошибаюсь? Мне кажется, в вашем-то ведомстве… Бартон вскинул растопыренную пятерню, будто затыкая мне рот, будто я, нарушив какий-то неведомый кодекс, произнес запретные слова. Но губы его кривились в усмешке. – При чем здесь ЦРУ, мой бледнокожий друг? Разве я говорил, что мы из ЦРУ? Это все твои фантазии… это ты меня расспрашивал, какие там бывают агенты, полномочные или не слишком. А я всего лишь подтвердил, что тоже агент, и тоже полномочный… Но о ЦРУ не было ни слова. Ни полслова! Или я ошибаюсь? Он передразнивал меня. Он явно забавлялся, а я сидел в ошеломлении, как Буратино, которого Кот Базилио с Лисой Алисой нажгли на акциях «Хопра». Или «МММ», или ГКО, или «Гермес-Финанса», что было, в общем-то, без разницы. Голубая рамочка команды бетян, мерцавшая на моей воображаемой схеме, стремительно истончалась, исчезала, а за ней проглядывало что-то смутное, непонятное, неясное и потому угрожающее. Может, террористы из «Алого джихада», может, «черные пантеры» или пришельцы из космоса. Марсиане в мормоно-зулусских скафандрах… Заметив мою растерянность, Бартон обидно захохотал и хлопнул меня по колену: – Вот так-то, приятель! Думаешь, только ты умеешь голову морочить? Ну, ничего, урок тебе на пользу… – Он принял серьезный вид и, наставив мне в переносицу толстый палец, заговорил внушительным гулким басом: – Значит, так, Гудмен, вот тебе новые инструкции: разыщешь этого Костлевски, уговоришь сотрудничать, тогда и потолкуем о гражданстве. В принципе это для нас несложно, хоть мы не ЦРУ. Мы, Гудмен, мой белокожий брат, из тех астральных сфер, откуда на ЦРУ падает манна небесная… Понятно? – Его палец пошел вверх, едва не продырявив крышу салона. – Что до твоих материалов, то мы их посмотрим и, если все в порядке, перечислим гонорар. А если не в порядке, если опять шуточки шутишь, с тобой разберется Джек. Ведь разберешься, Джек, не так ли?.. – Бартон подмигнул мормонышу и снова наставил мне в лоб указательный палец. – Гудмен, малыш, имей в виду, что он на тебя обижен. Сильно обижен! А он у нас великий мастер по части разных катастроф… Хочешь с моста в реку – пожалуйста! Хочешь в ванне или в окно – никаких проблем! Хочешь пилой – будет тебе пила. А хочешь, чтобы твоя подружка под поезд в метро угодила – тоже сделает. Сделает, не сомневайся! Вот это был уже перебор. Это было уже слишком! Подумаешь, ванны, пилы, топоры, окна, крыши и мосты!.. Чего не случается меж джентльменами… Как сказал бы Мартьяныч, все уйдем помалу-понемногу в ту страну, где тишь и благодать… Но при чем тут, простите, леди? Тем более – моя?! Почувствовав, как в висках ударила кровь, как что-то холодное, скользкое зашевелилось в желудке, я скрипнул зубами, оттянул рукав свитера и медленно, напирая на каждое слово, произнес: – А пятаки к пяткам твой Джек умеет ставить? Каленые пятаки? Вот такие?* * *
Знаете, каков первый принцип рекламы? Уверить клиента в особом к нему отношении, в том, что он – божественный избранник, которому свалилась в рот большая и сочная груша. Этот ночной горшок с крышкой в цветочках и бабочками на донышке – пятьсот, но для вас – только для вас, сэр! – двести. Всего двести, потому что вы – это вы, а не ваш сосед, который цветочков от бабочек не отличит. А этот взнос в общество падших женщин – сотня, но ваше имя – только ваше, мэм! – будет пропечатано во всех газетах, на самом верху и самыми крупными буквами. Желаете, чтобы на иностранных языках?.. Хоть на китайском и иврите! На китайском ваша фамилия выглядит очень изящно… два иероглифа – «мяу» и «мрр»… А вот – взгляните и удивитесь! – вот информация только для вас! Даром, бесплатно, для вас одного, единственный наш, неповторимый! Правда, она разглашению не подлежит, и от нее случаются запоры, но вы уж решайте сами: кушать – не кушать, слушать – не слушать, играть – не играть. Я сыграл. Не потому, что насмотрелся рекламных роликов и был убежден в своем праве знать такое, что и не снилось нашим мудрецам; не потому, что был напуган и полагал, что, зная больше, сумею лучше защититься; и, разумеется, не потому, что льстился на даровой кусок – он застревает костью в горле, а если все-таки сглотнешь, так обеспечена изжога. Нет, не эти резоны двигали мной, когда я сидел на мягких подушках в серебристом «БМВ» и задавал вопрос за вопросом, а после, морщась, как от зубной боли, выслушивал ответы. Нет! Не вера в свою исключительность, не страх и не жадность к халяве… Любопытство, дамы и господа, одно лишь любопытство. Не буду скрывать, с оттенком злобного торжества: я помнил, чем и как мне угрожали. Впрочем, все мы, крутившиеся вокруг да около гипноглифов, были обреченными людьми. Кроме Косталевского: он являлся слишком ценным призом, той незаменимой единицей, которую никак нельзя списать в расход. Но все остальные числились по разряду нулей. Всех, включая остроносого с его командой, сотрудников лаборатории псионики и даже корешей Танцора – всех их полагалось отловить и ликвидировать на всякий случай, в целях сохранения секретности. Ну а Гудмена, жучилу алчного, и ловить не стоило – сам пришел, товар принес. Раз принес, два принес, три принес, а затем, когда нести будет нечего, мистера Гудмена пустят в распил, вместе с любимой подругой и попугаем. Или наладят в окошко, или с моста, или, опять же, в метро под поезд… Как и рядовых участников операции, вроде мормоныша Джека, дабы лишнего не болтали… Но Джек о своей судьбе не знал; мирно похрапывал на переднем сиденье, так как речи ответственного агента были не для его ушей. Агент вещал тихим спокойным голосом, уставившись в пространство над моим плечом. Его лицо казалось неподвижным, мертвым, будто отлитым из темного чугуна; не трепетали ноздри, не шевелились брови, не морщился лоб, и только щель меж толстыми губами ритмично распахивалась и закрывалась, выталкивая слово за словом, фразу за фразой, нанизывая их в монотонный, усыпляющий речитатив. Но спать мне не хотелось. Совсем наоборот, я был напряжен и внимателен. Увы! Мои познания в сферах высокой политики, в конгломерате намерений и идей, доктрин и фактов, о коих рассказывал Бартон, были слишком ничтожными. Он называл фамилии и имена – большей частью мне незнакомые; перечислял магнатов и политиков, кардиналов в сером, которых не избирали, не назначали, но тем не менее у них имелась власть – значительная доля власти, при всех конгрессах, сенатах и президентах от Рузвельта до Клинтона; он говорил о тайных альянсах и секретных фондах, о частных и государственных структурах, поддерживающих мир словно три слона с китом, плескавшимся в океане финансов; об их интригах, интересах, инициативах, которые, по его словам, являлись той самой дудочкой, под чью мелодию плясали все. Все! На каждом из континентов, включая Антарктиду. Разница состояла только в том, что для одних, огромной массы подданных, обывателей и избирателей, или, если угодно, быдла эти пляски являлись вполне естественными, тогда как другие, немногочисленные, но кучковавшиеся на вершинах социальных пирамид, знали, кто им наигрывает танго, вальс или фокстрот и с какой скоростью требуется шевелить ногами. Однако не каждый из этих избранных был согласен с заданным темпом, и время от времени их приходилось подгонять или, наоборот, осаживать. Черный гипноглиф мог бы стать для этого идеальным средством. Кем же были эти люди, на коих трудился Бартон? Я понял лишь, что они не имеют непосредственного отношения ни к вашингтонской администрашии, ни к Пентагону, ни к ЦРУ, ни к ФБР. Равным образом как и к другим явным и тайным структурам, к НАТО, ООН, сицилийской мафии, исламским террористам, масонам, гаитянским колдунам, папе римскому и ку-клукс-клану. Они находились как бы в стороне. В стороне, но, несомненно, выше. Выше всех. Я резко взмахнул рукой, и Бартон смолк. – Ты утверждаешь, что существует заговор? Всемирный заговор с целью захвата власти? Его массивная голова отрицательно качнулась. – Не заговор, Гудмен, нет, ты неправильно понимаешь. Какие заговоры в наше время, да еще всемирные? Мир – это не Куба, не Чили, и на дворе у нас не XIX век… Есть средства понадежней заговоров – крепкие связи между влиятельными людьми, объединенными деловым интересом. Связи, Гудмен, контакты! Что и как поделить, кого убрать, кого поставить, с кем торговать и чем, где воевать, где пригрозить экономической блокадой… Связи, контакты! И никаких всемирных заговоров. – Кто они? Кто эти люди? – Большей частью американцы, но это скорее вопрос подданства, чем национальной принадлежности. Есть из Западной Европы… Есть из Бразилии, Японии, Объединенных Эмиратов… Есть из Сингапура и ЮАР… Всех я, конечно, не знаю. Они платят, мы работаем. – Кто это – мы? – Оперативный центр при их сообществе. Международная внеправительственная структура. Если угодно – бюро, где собраны лучшие специалисты, работающие в то же время и в иных организациях, вполне официальных. В том же ЦРУ, например… – Зачем твоим хозяевам гипноглифы? Нет, подожди, не отвечай, – я стиснул его закаменевший локоть. – Вопрос будет сформулирован иначе и точнее. Каковы их движущие мотивы и намерения? Видят ли они в гипноглифах угрозу своей реальной власти? Боятся ли, что кто-то, владеющий этой технологией, будет оказывать на них влияние? Хотят ли закрыть проблему, уничтожив гипноглифы и всех причастных и непричастных, или желают использовать их? Несколько секунд Бартон молчал, словно соображая, как с максимальной точностью и ясностью ответить на мои вопросы. Затем губы его зашевелились. – Первое. Одна из наших глобальных задач – поиск и наблюдение за всеми разработками, способными изменить сложившийся баланс сил и технологий. Главным образом в сфере транспорта, энергоносителей и новых боевых систем, включая психотронное оружие, лазеры, роботехнику и средства защиты и атаки через компьютерную сеть. Второе. Если обнаружена перспективная разработка, ее стремятся монополизировать, а затем изъять из обращения – либо с целью консервации, как это сделано с аккумулятором АСП, либо с целью дальнейшего, но тайного использования. Третье… Я поднял руку, и он послушно смолк. – Что такое аккумулятор АСП? – Хранилище электроэнергии, очень емкое, но небольших размеров. Не знаю, какой головастый тип его придумал. Работает по принципу аномальной сверхпроводимости при комнатных температурах. Эта штука, Гудмен, могла прикончить половину нефтяных компаний… Я могу продолжать? – Да. – Третье и последнее. В данном случае – я имею в виду гипноглифы – разработку завершат, и ее результаты будут активно использоваться. – Для чего? Разве у твоих нанимателей не хватает власти? На застывшем чугунном лице Бартона промелькнула улыбка или, точнее, ее слабая тень. – Власти у них хватает, Гудмен, но им известно, что цель достигается разнообразными средствами. Есть долгие, сложные и дорогие пути: не автобан, а тропа, ведущая в обход, где надо хитрить и комбинировать, обманывать и угрожать, вводить в игру человеческий фактор, не очень надежный и поддающийся глупым эмоциям. А мои шефы не любят бросаться деньгами. Вот, скажем, американский президент, ключевая фигура мировой политики, важная персона… свой, собственно, парень, но временами слишком резвый… шустро прыгает, и не туда… Сейчас, чтоб подобраться к нему, чтоб надавить и напугать, нужна орава потаскух и клоунов. Подумай сам: бесноватый прокурор, бабы, помешанные на сексе, продажные друзья-приятели, не считая целой банды сенаторов и адвокатов. Головоломная комбинация, Гудмен! Путь тайный, но прямой, гораздо предпочтительней. Можно влиять на президента и на его семью, на госсекретаря, на все их окружение, на всех сторонников, помощников, советников… Ты понимаешь? Бесценная возможность! Уникальная! – Но неосуществимая, – выдохнул я хриплым клокочущим голосом. – Слушай меня, Дик: сейчас ты заснешь на десять минут и проснешься с твердым намерением ознакомиться с материалами, которые лежат в твоем кейсе. Затем ты доставишь их в ваш оперативный центр. Ты будешь помнить, что мистер Гудмен оказал вам чрезвычайные услуги, что жизнь его – и всех, кто связан с ним – священна. Будешь помнить до тех пор, пока не исчезнут любые воспоминания о Гудмене. Ты проследишь, чтоб материалы прочитали все, кто хоть намеком посвящен в проблему, а когда это случится, ты их уничтожишь. Потом… Какой твой любимый журнал, Дик? – «Плейбой», Гудмен. – Сделай так, чтобы в нем поместили цветную фотографию: букет роз «голубая луна», можно с какой-нибудь красоткой. Это изумительные цветы, Дик… я думаю, ты сможешь договориться с издателями… – Смогу, Гудмен. – Тогда усни. Спи, и пусть тебе снятся розы. Голубые, как небо сегодняшним днем. Это был мой прощальный подарок. Я выскользнул из машины и зашагал по безлюдному проспекту, надеясь, что розовый куст расцветет в душе Бартона, наполнит ее благоуханием и в ней воцарится мир. Как-никак красота – великая сила… Многие предпочитают ее власти и богатству, ибо в красоте – любовь и радость, то, что мы ищем, к чему стремимся как к идеалу счастья: дом, утопающий в цветах, детский лепет у наших ног и женщина на наших коленях… Возможно, Бартон тоже мечтает об этом? Возможно, он бросит свое людоедское ремесло, найдет себе девушку и примется разводить сады на теплом и щедром калифорнийском побережье или где-нибудь во Флориде?.. Чудные сады, каких не вырастишь под Петербургом, с персиками и грейпфрутами, с изумрудной травой и увитыми виноградом беседками, с орхидеями, розами и сказочно прекрасной эритриной… Если бросит… И если ему позволят бросить, в чем имелись немалые сомнения. Но все мы, рано или поздно, ляжем под цветочки и попадем в свой сад – пусть небольшой, не слишком роскошный, зато персональный. Так что шансы Бартона на этот счет были не равны нулю.Глава 21
К станции метро я добрался в назначенный срок, но остроносый встретил меня неласковым взглядом. – Где вы шатались, Хорошев? Внешнее наблюдение мне докладывает, что вы у себя, но в окнах не мелькаете и не отзываетесь на звонки. Я уж думал, дверь пора ломать. Может, до вас цэрэушники добрались и поджаривают на конфорке… Я бы им помог. С большим, надо признаться, удовольствием! – Я сам до них добрался, не далее как час назад. Встретил Косталевского, взял у него бумаги, копию продал агентам ЦРУ, получил сто тысяч баксов и поспешил на встречу с вами. Честное благородное слово! Вы знаете, что я не врал – разве чуть-чуть подредактировал истину. Но Скуратов недоверчиво осклабился: – Сумка у вас мелковата, Дмитрий Григорьич, сто тысяч не влезут. Может, вам их не баксами выдали, а йенами? – Гонорар перечислен на мой счет в швейцарском банке, – с оттенком обиды вымолвил я. – Хотите, дам адресок и телефончик? Мне от органов ничего скрывать. Может, я с этих денег даже налог заплачу! В приступе клинического патриотизма. – Таких патриотов, да лет пятнадцать назад… – он выразительно чиркнул по кадыку, потом рявкнул: – Ну, хватит комедию ломать, Дмитрий Григорьевич! Документы при вас? И еще: как вы ушли от наблюдения? – Документы при мне, – я продемонстрировал уголок конверта. – А что касается наблюдения… По крышам ушел, Иван Иванович, по крышам! Поднялся на чердак, увидел, что вертолет вы не прислали, и рванул к метро… Перепрыгивая с крыши на крышу. Я, знаете ли, на удивление прыгуч и гибок. На прежнем месте службы обучили. Скуратов мрачно осмотрел меня, потер переносицу и начал теснить к машине. Она стояла слева, за деревьями и торговыми палатками – не «Жигули», а «Волга» последней модели, окрашенная в неброский бежевый цвет. Народу в этот час у станции крутилось изрядно, одни входили-выходили, другие покупали-торговали, а третьи примеривались, как бы обчистить тех и других. Поэтому я не сразу усек помощников остроносого: они затерялись в этой толпе, как пара ворсинок в пестрых узорах персидского ковра. Но в нужный миг ковер как следует тряхнули, ворсинки выпали и приземлились рядом с «Волгой»: Лев и Леонид, мои неусыпные стражи. Я успел соскучиться по ним, хоть виделись мы всего неделей раньше. Дверца распахнулась. Лев нырнул в салон, а Леонид с гостеприимным видом дернул бровью: садитесь, мол, Дмитрий Григорьич, в ногах, как говорится, правды нет. Я сел. Место мне подобрали уютное, в середине, меж двух сероглазых молодцов, так что ни влево, ни вправо не шевельнешься, да и по крышам тоже не убежишь. Скуратов погрузился на переднее сиденье, захлопнул дверь и отдал водителю непонятный приказ: – В сплавы! – Когда машина тронулась, он обернулся, как бы желая проверить, надежно ли меня упаковали, сделал озабоченное лицо и произнес: – Приедем, я с вас подписку о неразглашении возьму. Чтоб не было соблазна. Сто тысяч вы заработали, и хватит. Я кивнул и пошевелил плечами. Сдавили меня с двух сторон довольно крепко. Как ожидалось, наш экипаж проследовал к мосту, промчался над серыми невскими водами и застрял в солидной пробке у Марсова поля. Пока мы маневрировали взад-вперед, отвоевывая пространство у многочисленных конкурентов, я покрылся потом; было душно, жарко, и мысли текли какие-то вялые, тусклые, медлительные. Но все же текли, и я размышлял о том, что день сегодня неприятный. Тяжелый выдался денек! Это с одной стороны, с другой – я мог питать надежду, что развяжусь наконец со Скуратовым, и с Диком Бартоном, и всеми их шефами, боссами и нанимателями. Собственно, с Бартоном уже развязался. Правда, не без душевных потерь: его откровения были ужасны, и, приобщившись к ним, любой нормальный человек мог превратиться в неврастеника. Вероятно, я не лишен какой-то доли наивности, хоть и считаюсь отменным крысоловом. Наивность, впрочем, свойственна любому, невзирая на род занятий и социальный статус; даже люди невероятно жестокие – диктаторы, отцы народов и вожди, изобретатели лагерей и газовых камер – страдают ею ничуть не в меньшей степени, чем, например, рядовой обыватель. Обывателю хочется верить, что все вокруг хорошо или, в крайнем случае, не так уж плохо (ведь хуже может быть всегда); диктатор же искренне полагает, что трудится на благо нации и что признательные потомки не покинут светлый путь, начертанный в его гениальных сочинениях. Но все мы смертны, и через пару лет – в лучшем случае, десятилетий – реальность торжествует над наивностью, и бывший вождь предается анафеме. Sic transit gloria mundi, как говорили латиняне: так проходит мирская слава. Но я размышлял не о бренности славы, а о своей наивности. Мне казалось, что я представляю все применения гипноглифов, даже самые невероятные, с мирной и немирной целью, во зло и благо, на счастье и на горе. С их помощью можно было лечить, исцелять людей, забывчивых и нервных, воскрешать воспоминания, вселять уверенность, гасить стрессы и поддерживать страсть, внушать симпатию и даже развлекать. Еще с их помощью можно было уничтожать и калечить, навязывать свои желания, будить в человеке самое низменное, жуткое, первобытное – страх, необоримую ярость, ненависть, похоть. Я мог представить разнообразные сюжеты, один другого гаже и страшней: солдат-убийц, подобных запрограммированным роботам, неустрашимых киллеров-камикадзе, вернейших слуг, рабынь и рабов, покорных хозяйским капризам, людей с изъятой памятью, писателей, ученых, интеллектуалов, коих отныне не придется ссылать, гноить в лагерях, сводить с ума в психушках; наконец, я мог вообразить самое жуткое, чудовищное, беспросветное: человеческий океан, неисчислимые людские массы, зараженные иррациональным страхом или сокрушительной яростью – белые против черных, черные против желтых, и все – против рыжих и косоглазых… Но еще ужасней казались толпы, охваченные ликованием. Я видел, как, веселясь и ликуя, идут они на подвиг и на труд, текут к избирательным урнам, корчуют лес, копают землю и ложатся в нее миллионами – ложатся в вечную мерзлоту с застывшей улыбкой на губах и искренней радостью в сердце. Такое – или почти такое – уже случалось, и все это я мог вообразить, но позабыл о масштабах. О том, что над миллиардами рабов должны стоять миллионы надсмотрщиков, над ними, в свою очередь, тысячи ответственных лиц – и так далее, и тому подобное, до самых главных боссов, командующих этим социальным криминалом. Скольких же придется обработать? Скольким доверить гипноглифы, необходимые для обработки? Скольких посвятить в секрет? И неизбежно наделить их властью – властью пастуха и дрессировщика с кнутом-гипноглифом в руках… И что потом? Ведь с властью расстаются неохотно… Это являлось совершенно невероятной, апокалипсической картиной, и я был вынужден признать, что метод бартоновских боссов и тоньше, и мудрее. Они, эти серые кардиналы, не собирались делиться властью с надсмотрщиками и пастухами; им было известно, где рычаги управления миром, где самая важная рукоять, которую надо давить и крутить. Чего же проще! Выбрав главного пастушка и контролируя его, они могли добиться тех же результатов, какие я вообразил в своей наивности. Добиться чего угодно, не раскрывая волшебных карт – того же ликования у избирательных участков или погрома рыжих и косоглазых. Их способ действий исключал фантазии и миражи – наоборот, он был реален, как рулевая тяга или клавиши рояля. Реален до судорог! Когда мы выбрались из затора и покатили по Садовой, мое настроение поднялось. Все-таки я захлопнул крышку – тяжелую крышку над рояльными клавишами, прищемив кардиналам пальцы! Совесть теперь меня не мучила, сожаления не терзали, и акт свершенного мной насилия казался вполне приемлемым и даже где-то благородным. Если же говорить начистоту, откровенно и без обиняков, я ощущал себя защитником демократии, спасителем Билла Клинтона, Мадлен Олбрайт и английской королевы. Да что там Билл, Мадлен и королева! Спасителем мира, вот так! Конаном и Джеймсом Бондом в одном лице, который, совершив все подвиги, положенные по сценарию, вернется к своей Рыжей Соне. И, разумеется, к ее попугаю. Я размечтался об этом, очнувшись лишь в ту секунду, когда машина тормознула у Невского. Странно! Очень странно! Чтобы попасть на Литейный, четыре, в Серый Дом, нам полагалось свернуть у цирка или еще на Кутузовской набережной – в общем, где-то свернуть, а вовсе не тащиться к Невскому проспекту. Разве что с целью моциона… И теперь, прогулявшись и взбодрившись, мы повернем в нужную сторону, к историческим серым стенам, преодолеем гранитные ступени, войдем в вестибюль и поднимемся в уютный, обшитый дубом кабинет… К генералу, начальнику остроносого… Генеральские кабинеты всегда отделывают дубом, и двери в них тоже дубовые: дуб прочней сосны, так что если придется отбивать атаку… Мысль моя прервалась – вспыхнул зеленый свет, рявкнул мотор, и «Волга» покатилась дальше по Садовой. Мимо Гостиного Двора и здания библиотеки, мимо лавочек, кафешек и ресторана «Метрополь», будто никаких серых казенных домов в природе вообще не существует. Я встрепенулся, раскрыл рот, и Лев с Леонидом сразу напряглись. Это тоже выглядело странно: на меня они не смотрели, даже пальцем не шевельнули, но в плечах ощущалась гранитная твердость. Будто два жернова готовились сплющить и растереть ячменное зернышко. Я закрыл рот, сглотнул слюну, потом снова открыл и осведомился: – А куда мы, собственно, едем, Иван Иванович? – А собственно, куда положено, Дмитрий Григорьевич. Вы ведь хотели к генералу? Так мы к нему и направляемся. – Иван Иваныч повернул голову, посмотрел на меня и добавил: – Генералу тоже захотелось с вами встретиться. Даже из Москвы для этого прибыл. Он, понимаете, человек любопытный и очень убедительный. В том смысле, что умеет убеждать. – Не водятся на Садовой генералы, – мрачно возразил я. – Генеральское место известно где – на Литейном. Ну еще в Главном штабе на Дворцовой площади. – Много вы понимаете в генералах! – отбрил меня Скуратов. – Ровно столько же, сколько в полковниках ФСБ! – Он помолчал, затем, смилостивившись, пустился в объяснения: – Во-первых, заметьте, Дмитрий Григорьевич, мы едем не на Садовую, а по Садовой, прямо к Московскому проспекту. А во-вторых, наше ведомство носит скорее организующий, научно-аналитический характер и тем отличается от прочих служб системы безопасности. Мы не привыкли дислоцироваться в местах традиционных, набивших оскомину – Литейный или, положим, столичная Лубянка. Кстати, для нас там и места нет… Главное Управление в Москве располагается на Лесной, неподалеку от Белорусского вокзала, рядом с химико-технологическим институтом. Если помните – тот самый, имени Менделеева… и в нем – несколько наших лабораторий… изучают внеземные материалы и артефакты… Очень забавная тематика! И очень перспективная! А региональное Северо-Западное Управление – то есть наше, петербургское – находится в одном НИИ. Почтовый ящик, разумеется. Чипы, электроника, связь, вычислительная техника… Ну, увидите сами. «Что это он разболтался? – промелькнуло у меня в голове. – Зубы заговаривает или желает на работу устроить? В тот самый НИИ, где чипы с электроникой? Чтоб Хорошев Дмитрий Григорьич сидел на трассировке плат и был всегда под боком и приглядом?.. Пожалуй, не выйдет. Не слюбится и не станцуется. Насиделся я в таком НИИ, в родном Промате. Формально даже сейчас сижу. Никто ведь меня не увольнял… всего лишь бессрочный отпуск… скажем, с целью благоустройства личной жизни…» Мысль о личной жизни заставила вспомнить Дарью, что потянуло цепочку иных ассоциаций, но не лирических, а совсем другого свойства. Я наклонился вперед, к затылку Скуратова, торчавшему над спинкой кресла, и пробурчал: – А мою соседку вы на Литейный вызывали. Это как понять? – А так, что вызывал ее не полковник ФСБ, а майор УБОП, и совсем по другому делу. Удовлетворены, Дмитрий Григорьич? – Вполне, Иван Иваныч. Но подозрения мучили меня на всем пути по Московскому проспекту, а это, должен признаться, очень длинная магистраль. Скуратов молчал, словно наслаждаясь моей нервозностью, и я, чтоб отыграться, стал издавать всевозможные звуки – кашлял, хмыкал, сопел, кряхтел, с удовольствием ощущая, как Лев с Леонидом напрягают мышцы при каждом моем хмыке и кряке, а голова у Иван Иваныча непроизвольно дергается. Временами я запускал пальцы левой руки под правый рукав свитера, ощупывал браслет с гипноглифом и представлял чугунную рожу зулуса, а также двух «хвостов», уснувших на скамье, рядом с помойными бачками. Это придавало мне уверенности, напоминало, кто тут хозяин, кто командует парадом и правит бал. Если не сам Сатана, то крысолов, его приятель и посланник. Наконец мы выехали на шоссе, повернули три-четыре раза и минут через десять остановились у бетонного низкого корпуса, над которым возвышался небоскреб в целых шестнадцать этажей. Отраслевой НИИ по кличке «Сапсан», почтовый ящик и военный отпрыск объединения «Светлана»… Эту контору я знал: случалось здесь бывать и даже выполнять заказы – конечно, в прежние проматовские времена. Занимались тут проектированием начинки для компьютеров спецприменения – тех, что ставят на ракеты и подлодки, истребители и комплексы ПВО. Какая существовала еще тематика, не ведаю, не знаю: я тут выше восьмого этажа не поднимался и к самой небоскребной верхотуре допущен не был. Но и нижние ярусы впечатляли: стерильные цеха для напыления микросхем, мраморные стены, округлые стальные двери-люки, герметичные тамбуры, техники в белых халатах, компьютеры, автоматика – и все, заметьте, высшего качества и отечественной разработки. И кому это мешало?.. Покинув машину, я заметил, что «Сапсан» переживает не лучшие времена. Вывесок на нем отродясь не бывало, и нечему было трескаться и падать, но окна, когда-то сиявшие, как полированный хрусталь, казались покрытыми пылью, и по обе стороны от приземистого нижнего корпуса тянулись уродливые загородки из стальных прутьев, а за ними торчали навесы, забитые доверху серыми алюминиевыми чушками и латунными болванками, блестящими желтизной. Еще было несколько трейлеров: их то ли нагружали, то ли разгружали небритые мужики в тельняшках. В общем, результат конверсии военно-промышленного комплекса был, как говорится, налицо. – Люди гибнут за металл, – пробормотал я, поторапливаясь вслед за Скуратовым к подъезду. Он обернулся: – Что? Что вы сказали? – Ничего существенного, Иван Иваныч. Вам вся эта бурная деятельность не мешает? – Я кивнул в сторону загородки и навесов. – «Крыша», – многозначительно отозвался остроносый. – Источник финансирования и надежная «крыша», вполне созвучная времени. Мы перешагнули порог и очутились в просторном вестибюле. Тут все еще стояла охрана, но не гэбисты, как в нашем Промате, а милицейские сержанты – правда, с автоматами и в бронежилетах. Сторожили они вход в коридор и два лифта усиленной грузоподъемности; на левом была табличка «НИИ „Сапсан“, этажи 2–14», на правом – «АО „Российские сплавы“, Петербургский филиал, этажи 15–16». И хоть у «Сплавов» площадь была поскромней, чем у «Сапсана», не приходилось сомневаться, кто тут вверху, а кто – внизу: дверцы левого лифта выглядели потертыми и исцарапанными, а дверцы правого сияли свежей полировкой. Скуратов кивнул охранникам, приказывая посторониться. Меня стражи словно не заметили; впрочем, я шел вслед за полковником, а сзади топали два лейтенанта, так что расклад был ясен: кого-то конвоируют. Может, шпиона, а может, соперника «Российских сплавов», перехватившего заказ на бронзовые канделябры. В кабинку мы вошли вдвоем, я и Скуратов: то ли нужда в конвоирах отпала, то ли Лев с Леонидом не имели допуска на самый верх, к генеральскому апартаменту. Лифт мягко тронулся, не останавливаясь на нижних этажах, поднимая меня в те небоскребные ярусы, куда лет восемь назад мог добраться лишь наш проматовский директор-академик, да и то по особому приглашению. Говорили, что в этих заоблачных высях обитает местная администрация: сам генеральный «Сапсана» плюс куча его замов, плюс первый отдел и представители заказчика, плюс референты, секретари и остальные прихлебалы. Но теперь там, судя по всему, располагалась служба ФСБ, региональное Управление аналитических исследований, и я терялся в догадках, когда и как это произошло. В какую, так сказать, эпоху? Год назад? Пять лет? Или же десять? Или Управление было там всегда и лишь в последние годы, отмежевавшись от «Сапсана», прикрылось вывеской «Российских сплавов»? Но, спрашивается, почему? «Сапсан» являлся государственной конторой, а «Сплавы», надо думать, частной; чем же такая фирма предпочтительней для маскировки? Да еще не группы, не отдела, а целого управления! Я чувствовал, что меня морочат. Дурят, дезинформируют, водят за нос, забивают баки и вешают лапшу на уши. В чем, в чем, а в этом остроносый Иван Иванович Скуратов был превеликий мастер! Мне вспомнилось, как он вломился в мою квартиру – с историей о поддельном авизо, о краденых досках, стекле и металле. Похоже, уши у этой байки росли отсюда, из «Российских сплавов»: тут как раз торговали металлом и, вероятно, не пренебрегали досками и стеклом. Но если так… Дверцы лифта бесшумно раздвинулись, и мы вышли в холл шестнадцатого этажа. Он был роскошен. Куда там генеральский кабинет! Здесь стены были обшиты палисандром, с золотистого потолка струился свет невидимых светильников, нога утопала в пушистом ковре желто-салатных оттенков, а из огромного окна открывался бесподобный вид на город Пушкин, лежавший к югу километрах в пяти-шести, на его дворцы, озера и парки, сиявшие осенним великолепием. Вдоль стен красовались обтянутые палевым шелком канапе во французском стиле, с гнутыми ножками и приподнятым изголовьем, меж ними – затейливые бюро, тоже из палисандра, двери с отделкой маркетри, серванты и огромные зеркала; на застекленных полках и на столешницах бюро – продукция «Российских сплавов». Вернее, образцы товара; я был уверен, что эта фирма ничего не производит и, вероятно, ничего не покупает, а только продает. Товар был оформлен превосходно: не чушки и не обрезки проводов и рельсов, а бронзовые изваяния, пепельницы из оптического стекла, серебряные подсвечники и мельхиоровая, редкой красоты, посуда. Везде – рекламные таблички с ценами в долларах, марках и франках, но ни один из этих текстов ни сном ни духом не намекал, что тут или где-то поблизости (возможно – на крыше?..) располагается секретное подразделение ФСБ. Правда, тут были охранники – трое верзил в серо-зеленом, напоминавшие статью покойного Борю-Боба. Среди палисандровых дизайнов и серебристых зеркал они смотрелись неважно – как самодельные шкафы в изящной французской гостиной. Но дело, видимо, знали: я не успел из лифта шагнуть, как три ствола нацелились мне в лоб. – К Георгию Санычу, – отрывисто сказал Скуратов. – Он ждет. Один из шкафов – видимо, главный – кивнул, и мы проследовали к дверям. От эрмитажных они отличались лишь в незначительных деталях: ручка была из серебра, в виде нагой наяды, а поперек узорчатой филенки шла надпись, тоже серебряными буквами: «Приемная». Мой спутник нажал на ручку, толкнул, и плечи его на долю секунды перекрыли поле зрения. Я, озираясь, ввинтился в комнату вслед за ним, глянул и обомлел: у вторых эрмитажных дверей с табличкой «Генеральный директор», за антикварной красоты столом, при компьютере и остальных секретарских аксессуарах, маячило что-то знакомое. Можно сказать, очень знакомое! Не иначе как Эллочка, крашеная андалусийская блондинка. Вот так сюрприз! Сидела она в креслице, изящно сложив ножку на ножку, и занималась самым секретарским делом: полировала ноготки. – Какая встреча!.. – воскликнул я и резво устремился к ней. – А, собственно, какая? – отложив пилку, она окатила меня холодным неузнавающим взором и тут же улыбнулась – но не мне, а остроносому: – Здравствуйте, Иван Иванович! Этот – с вами? – Этот – с ним, – подтвердил я, решив сражаться до последнего патрона. – А вы – вы этого не узнаете? Вот этого самого, Эллочка, который перед вами? Коста-дель-Соль и «Алькатраз» вам ничего не говорят? – Ровным счетом ничего. – Она сделала жест, каким сгоняют надоедливую муху, и снова улыбнулась Скуратову. Тот ухмыльнулся в ответ. – В Коста-дель-Соль я не была и с вами незнакома. К счастью. Вы не в моем вкусе, юноша. С нее еще андалусский загар не сошел, но врать она умела: ресницы даже не дрогнули. Кстати, глаза под ресницами были серые, точно асфальт в сухую погоду. – К счастью, вы тоже не в моем, – произнес я с чарующей улыбкой. – Если этот вопрос исчерпан, доложите Георгию Санычу, что к нему пришли. И не забудьте подать нам кофе. – Кофе я подаю не всем, а кому шеф прикажет, – откликнулась Эллочка, поднялась и грациозно порхнула за генеральскую дверь. Иван Иваныч прошипел: – Перестаньте паясничать, Хорошев! Вы хотели к генералу, и я вас привел к генералу. Но там, – он показал глазами на дверь, – там не цирк, не оперетта и не театр комедии. Будьте серьезны и приготовьтесь не болтать, а слушать. И отвечать! Отвечать на заданные вам вопросы. Я приготовился. Я был готов к любым сюрпризам. Даже к тому, что увижу сейчас не генерала, а Стеллочку с Беллочкой. Но в кабинете, в компании разноцветных телефонов, рядом с сейфом-мастодонтом, под картой бывшего Союза из ценных древесных пород, сидел интендантский полковник Гоша и взирал на меня строгим отеческим взглядом.Глава 22
Это был, несомненно, он – престарелый, но бодрый джентльмен с офицерской выправкой, в строгом темном костюме и с нахмуренным челом. Взор его и в самом деле был суров и светел. Будто не он пару недель назад тащился на полусогнутых к лифту, опираясь на хрупкое плечико Эллочки; будто не он, налившись кровью, рычал: «Н-на что н – намекаешь, щ-щенок?..» Будто и не было никогда милых курортных шалостей: ни страуса с выдранным хвостом, ни стопок, стаканов и рюмок, что щедро подносил нам Санчес, ни песен боевых, ни баек о моджахедах, порубленных в лапшу, ни пьяных воплей: «Батарея, к бою!.. надраить кафель!.. шашки наголо!..» «Может, и правда не было?..» – думал я, устраиваясь в глубоком кожаном кресле и озирая строгие черты, массивный квадратный подбородок, гранитную основательность шеи, твердые, жесткие губы и волевые складки у рта, какие бывают от государственных дум. Но если не было того, о чем я помнил, то что же было? Клоунада, цирк? Которому не место в этом кабинете, но в других краях и при других обстоятельствах он, этот цирк, вполне допустим и даже желателен… В самом деле, отчего солидному человеку не вспомнить юность и не спустить пары? Повеселиться, покуролесить, подурачиться… Тем более что дурачества безобидные – выпивка там, анекдоты… ну, секретарша… И что с того? С кем не бывает? Бывает! Как говорится, седина в бороду, бес в ребро! Имелась, впрочем, и другая версия: все могло оказаться иначе, не клоунадой, а игрой, точно рассчитанным лицедейством, желанием не подурачиться, а одурачить. Кого? Меня? Покойного Бориса? И прочих алькатразских постояльцев? К примеру, Бартона из Таскалусы? Георгий Саныч что-то нажал под столешницей, и в кабинет просунулась головка Эллочки в светлых кудряшках. – Коньяк. Лимон. Кофе. И группу охраны к моим дверям. Все появилось мгновенно, с армейской точностью – я и глазом моргнуть не успел. При виде рюмок с коньяком черты у нашего хозяина расслабились, взор помягчел; сделав широкий, гостеприимный жест, он произнес: – За продолжение приятного знакомства! В новом, как я надеюсь, качестве! Мы выпили. Коньяк был дорогой, французский; такой у нас не принято закусывать, его положено воспринимать нёбом, и пищеводом, и всеми фибрами души. Заметив, что я проигнорировал лимон, Георгий Саныч одобрительно кивнул и покосился на Скуратова. – Представь нас друг другу, полковник. По всей форме. – Хорошев Дмитрий Григорьевич, – произнес остроносый в той же официальной тональности, как при нашей первой встрече. – Возраст – тридцать шесть, холост, но собирается жениться, кандидат наук, сотрудник Института проблем математики в бессрочном неоплачиваемом отпуску. Наш информатор. А это, – он с почтением приподнял брови, – это Зубенко Георгий Александрович, в прошлом генерал КГБ, а в данный момент – генеральный директор компании «Российские сплавы». Наш шеф. Прибыл вчера из столицы. Цените, Дмитрий Григорьевич, – приехал ради вас! Из этой краткой прелюдии слух мой выхватил сперва всего три слова: «Холост… собирается жениться…» Кажется, о наших с Дарьей отношениях знали все: команда альфа, и команда бета, и даже попугай Петруша. Петруша был сравнительно безвреден, покуда клюв не разевал, а вот зулус намеревался бросить мою красавицу под поезд. Не знаю, какие планы были на этот счет у остроносого, но он меня предупредил. Жениться собираетесь, Дмитрий Григорьич? Так будьте поосторожней. Ведь, кроме поездов метро, есть и трамваи, и электрички. Осознав сей факт, я тут же столкнулся еще с двумя, такими же ясными и неприятными: во-первых, из посредников меня разжаловали в информаторы, а во-вторых, надули с генералом. То есть генерал присутствовал, и даже не просто генерал, а сам Зубенко, куратор Косталевского, но – бывший. Отставной! Не эфэсбэшный генерал, а кагэбэшный. И какое, спрашивается, он имел отношение к делу? Да, нелегкий выдался денек! Можно сказать, ревизия всех аксиом и постулатов… Две команды, и обе – перевертыши! Зубенко похлопал ладонью по крышке стола: – Материалы, Дмитрий Григорьевич! Кажется, вы что-то нам принесли? – Принес, – выдавил я. – Но прежде хотелось бы прояснить ситуацию. – Дмитрий Григорьевич не любит блуждать в потемках, – проворковал остроносый. – Такой уж он человек… Предпочитает определенность. С этими словами Скуратов поднялся, на пару секунд приоткрыл дверь в приемную и продемонстрировал мне стражей – три зеленых вместительных шкафа на белокуром фоне секретарши Эллочки. Для полной, так сказать, определенности. Изображая нерешительность, я вытащил конверт, покрутил в руках и положил на колени. Затем уставился на экс-генерала. – Вы, Георгий Саныч, не из ФСБ. И здесь не Управление аналитических исследований. Он коротко хохотнул: – Какая проницательность! Так вот, мой дорогой, такого управления больше не существует. Упразднено! Лет этак семь тому назад. Управление не существует, структура исчезла, а люди, заметьте, остались… И этот ваш Косталевский, и другие, а среди них – Скуратов Иван Иванович, мой прежний помощник. Вот он – действительно из ФСБ! Начальник отдела. Трудится на обновленную державу, но помнит о старых друзьях и начальниках. И старые друзья его не забывают, содействуя в меру сил и средств. Общие деловые интересы, Дмитрий Григорьевич! Деловые интересы плюс патриотизм! Вы ведь, надеюсь, тоже патриот? И этот о деловых интересах, подумал я, вспомнив о Бартоне. Деловые интересы, дьявол их побери, да еще с патриотическим уклоном! В какую только сторону, в левую или в правую? Затем я мысленно принес свои извинения ФСБ. Справедливость есть справедливость; хоть Скуратов и относился к этому ведомству, работал он все-таки на прежних начальников и друзей. Экс-генеральская ладонь нетерпеливо хлопнула по столу. – Так что же, Дмитрий Григорьевич? – Вы – не из ФСБ, – упрямо повторил я, стиснув конверт побелевшими пальцами. – Я – из КГБ, – с любезной улыбкой сообщил Зубенко. – Такой организации больше не существует. – Вы уверены? Вы в этом абсолютно уверены? Как в торжестве российской демократии? Может, вам мнится, что прошлое кануло в вечность, что Политбюро ЦК –смутный сон, что не осталось в живых ни одного секретаря обкома, что миллионы членов партии – руководители, офицеры, ученые, специалисты – все как один ушли на покой или перекрестились в либеральных демократов? – Он выдержал паузу, разглядывая меня, словно какое-то мелкое диковинное насекомое. – Все не так, Дмитрий Григорьевич, все не так. Я ведь сказал вам: структура исчезла, а люди остались. Люди, кадры! Те, которые трудятся и верят, и те, которые следят; ну и, конечно, те, которые руководят и платят. А раз платят, значит, рассчитывают на окупаемость вложенных средств. Вы спросите – каким же образом? Какую прибыль мы надеемся извлечь? И я вам отвечу: прежний Союз. Прежнюю нашу державу, в прежних ее границах или, быть может, продвинутых на запад и на юг. Великую страну, достойную великого народа! Ответьте, Дмитрий Григорьевич, разве это не патриотично? – Этот патриотизм пахнет большой кровью, – возразил я, и ладони Зубенко тут же взлетели над столом, как два боевых вертолета. Их пальцы-орудия были нацелены в мои виски. – Нет, нет и еще раз нет! Есть множество способов для достижения цели, и одно из них – в ваших руках, Дмитрий Григорьевич! Вы можете гордиться тем, что… Он говорил о моей высокой миссии информатора-стукача, а мне опять вспоминался Бартон. Какое совпадение! С той, бартоновской, стороны тоже знали о множестве способов для достижения цели, о средствах предпочтительно бескровных, тайных и тихих, но эффективных, как петля на шее… Еще я думал, что Зубенко прав, посмеиваясь над нашей российской демократией: да, прежняя структура исчезла, но кадры остались, а значит, бессмертные традиции живы. Живы, хоть ФСБ сменило КГБ, хоть правят страной не генсеки, а президент с премьером, хоть прежний Верховный Совет теперь называется Думой. И что с того? Как говорят британцы, a bad penny always comes back – фальшивая монета всегда возвращается. Экс-генерал Зубенко продолжал говорить. Сейчас ни тоном, ни манерами он не был похож на бесшабашного полковника Гошу; он казался убедительным, где надо – обтекаемым, где надо – ласковым, где надо – строгим. Он напоминал мне кривую Пеано, проходящую через каждую точку плоскости: ни один момент не был упущен, ни один довод – позабыт; он обо всем побеспокоился и все учел. Кроме, вероятно, амулета на моем запястье. – Не упорствуйте, Дмитрий Григорьевич, не упрямьтесь. Вы математик, интеллигентный человек, вы понимаете ситуацию. Волею случая вы узнали то, чего не должны были знать, и теперь перед вами альтернатива: или преданное служение, или бесславный конец. Бесславный и безвестный, что было б трагично для столь молодого человека… Подумайте! Я не хотел бы на вас давить… – (взгляд в сторону дверей), – я надеюсь, что ваш выбор будет правильным, объективным и свободным. Свободным в смысле убеждений: вы должны быть внутренне уверены, что встаете на правильный путь и отдаетесь в надежные руки. А чтобы ваша решимость окрепла, поговорим о другом, о том, кем вы были и кем вы стали. Вспомните, Дмитрий Григорьевич, вспомните! Вы были ученым, уважаемой личностью, доверенным из доверенных, в каком-то смысле избранником – и вы потеряли все. Все! Работу, почет, материальную обеспеченность, защиту государства… да и само государство тоже… Вы – нищий! И кто же в этом виноват? Не я и не полковник Скуратов… Вы знаете, кто! Но я не призываю к мести, я призываю к тому, чтобы бороться, чтобы трудиться над изменением ситуации, для вас и для прочих россиян. Ибо она позорна, нетерпима, и потому… А ведь он меня гипнотизирует, мелькнула мысль. Без всяких там научных выкрутасов, без гипноглифов и хитро закодированных текстов, даже без пресловутого стеклянного шарика… Именно так, как говорил Косталевский: все работает, все ведет к определенной цели – слова, ритмика фразы, порядок ударных и безударных слогов, чередование согласных… Двадцать-тридцать минут, и разум настроен на подчинение; затем команда – и кранты! Будешь чесать левое ухо правой рукой… Я так и сделал, чтобы разрушить наваждение: хмыкнул, почесался и нерешительно пробормотал: – Есть, однако, моральный аспект проблемы… этическая, так сказать, сторона… Мы с Косталевским считали, что документ предназначен властям. Точнее – Федеральной службе безопасности, которая курировала проект и в данном случае олицетворяет власти. А теперь выясняется, что исследования финансировались частным порядком, и вы, Георгий Саныч, – частный предприниматель, желающий использовать гипноглифы в личных своих интересах. С той, вероятно, целью, чтобы влиять на президента и его окружение, на политиков и облеченных властью лиц. Немного слишком, вы не находите? Зубенко обернулся и посмотрел на карту Союза, сверкавшую на стене полированным деревом. Потом, будто почерпнув в этом зрелище решимость, он подмигнул остроносому: – А Дмитрий Григорьич соображает! Аналитик! Голова! Влиять на президента… Именно так, мой дорогой, – это уже относилось ко мне. – Но кое в чем вы ошиблись. Я – не частное лицо; как было отмечено ранее, есть люди, которые руководят и платят. И они, эти люди, тоже власть. Хотите доказательств? Ну, что ж… – Экс-генерал откинулся на спинку кресла, и черты его приняли задумчиво-отрешенное выражение. – Я не стану касаться имен, Дмитрий Григорьевич: многие вам знакомы, а незнакомые лучше не вспоминать. Давайте используем доводы логики – чистой логики, в которой вы, бесспорно, профессионал. Представим, что я хочу влиять на президента… с помощью вот этого, – он показал на конверт, лежавший на моих коленях. – Но как это можно практически осуществить? Помилуй бог, я ведь не пью с президентом коньяк и не отдыхаю в Испании! Меня к нему и близко не подпустят! Я – здесь, а он – тут! – Зубенко хлопнул одной ладонью по столу и приподнял другую, отмерив изрядное расстояние. – Однако есть люди, которые рядом с президентом, которым он доверяет, к которым прислушивается – и будет доверять безоглядно, не так ли? И раз эти люди близки к президенту – да и не только к нему – значит, они – это власть! Более реальная, чем все депутаты Думы и чем кабинет министров. Вы следите за ходом моих размышлений, Дмитрий Григорьевич? Вы понимаете, что мы, – он подчеркнул это «мы», – такая же власть, как и любая государственная структура? Или назвать вам пару имен? Я покачал головой. В именах, пожалуй, не было необходимости, как и в использовании черного гипноглифа. Главное мне поведали и так, а что опустили, то не представляло трудов домыслить. В родной тайге российского истеблишмента я все-таки ориентировался лучше, чем в политических заокеанских джунглях. Иными словами, людей, упомянутых Бартоном, я большей частью не знал, а вот о неназванных экс-генералом мог догадаться. Кто были эти загадочные «мы»? Личности, не раз мелькавшие на телеэкранах, по разным поводам, в различных ракурсах и позах. Министр Икс, стяжатель и взяточник; лидер парламентской фракции Игрек, болтун со склонностью к авантюризму; генерал Зет – мракобес и хам, прямолинейный, как штыковая атака. Были, конечно, и другие: свора алчных парламентариев, тосковавших по прежним временам, а в нынешние не обижавших себя зарплатой; партийные боссы, что набивали карман, попутно горюя о бедах народных; служители закона с подмоченной репутацией, губернаторы – уголовники и аферисты, мэры – лихоимцы и разбойники, и, само собой, генералы, кабинетные полководцы, обожавшие играть в войну, будто гибли в ней не живые люди, а валились с глухим могильным стуком оловянные солдатики. Все – при погонах и должностях, в орлах и звездах; иные – ближе к власти, иные – дальше, но все, подобно нанимателям Бартона, спаяны деловыми интересами и круговой порукой. Плюс, разумеется, патриотизмом. Нет, я не нуждался в амулете, чтоб выведать их имена. Они меня, в общем, не интересовали; проблема заключалась в другом. Собственно, в двух вопросах: чего добивается Зубенко, и уберусь ли я отсюда на своих двоих. Иными словами, живьем. Последнее не исключалось: Скуратов раньше говорил, что я ему не интересен, но ведь зачем-то он меня сюда привез! А экс-генерал уламывал с таким упорством и настойчивостью! Хотя они могли бы вызвать стражу и вмиг изъять мой драгоценный документ… Однако не изъяли! Привезли и теперь уговаривают, хотят, чтоб я отдался, как невеста-девственница в первую брачную ночь… Значит, что-то им надо! Либо сейчас, либо в отдаленной перспективе. Откуда им знать, что век у наших перспектив короткий: до той секунды, пока они не прочитают документ. Решив, что время пришло, я вытащил пачку листов и дискету и разложил их на столе. – Хватит, Георгий Саныч. Вы меня убедили. Предположим, что убедили… Вам хотелось, чтоб я передал документ по доброму согласию, без принуждения и страха – и вот я его отдаю. Владейте, распоряжайтесь, и будем считать, что мой долг перед грядущим поколением исполнен. Но есть еще договоренность с Косталевским, если вы в курсе… почетный пенсион, грамота с виньетками и все такое прочее. Не знаю, какой теперь в том смысл, раз Косталевский трудился не на ФСБ, но все же… – Он трудился на меня, – внушительно произнес Зубенко. – И раньше, и теперь. Я ему платил! И я договоренность выполняю. Хотя предпочел бы, чтоб Александр Николаевич лабораторию не покидал. Может, вы его убедите? Косталевского не просто заменить… Последние фразы повисли в воздухе – вместе с листком бумаги, украшенным подписями и печатями, который протягивал мне генерал. Я принял его из рук в руки и ознакомился. Все в порядке, все о'кей, все по высшему разряду… Такие люди подпись приложили! Такие высшие чины! Этот и тот… тот и этот… и даже!.. Мать моя родная!.. Вероятно, я изменился в лице, так как Зубенко сказал с покровительственным смешком: – Читайте, Дмитрий Григорьевич, читайте! Этот документ я привез с собой. Теперь вы понимаете, что я не обманываю ни вас, ни уважаемого профессора Косталевского? Мы имеем неплохие контакты – и с ФСБ, и с Министерством обороны, и – как вы могли убедиться – даже с Российской академией наук. Все, как я вам объяснял: структура исчезла, люди остались. А люди – решающий фактор… Затем они с остроносым углубились в мой меморандум, просматривая его по диагонали, мельком, как делал Бартон, то есть в безопасном режиме. Листая страницы, Георгий Саныч с одобрением бормотал: «Кажется, все в подробностях… прекрасная работа… инициирующий модуль описан в деталях… частоты… где тут частоты?.. Так, в таблице… ну, формулы пропустим, это для специалистов… а вот этот график любопытен… оч-чень любопытен!..» Судя по репликам, экс-генерал был более в курсе разработки, чем полковник, и не оставалось сомнений, что оба они изучат мой манускрипт с начала и до конца. Ну а потом – легкая лоботомия, и эти листки с дискетой отправятся дальше. В столицу. Все дальше и выше… Возможно, прямиком к министру Икс, политику Игрек и полководцу Зет… Шуршали страницы, а я, прислонившись затылком к мягкой кожаной спинке кресла, вспоминал Испанию, теплый вечерний воздух, звездные андалусийские небеса и гостеприимный отель «Алькатраз». Но на фоне этих красот маячило мертвое лицо Бори-Боба и слышался его хрипловатый, будто простуженный после бассейна голос: «Вот она, справедливость… Одни отчизне служили, кровь проливали, а нынче топают на костылях… Другие жрали-пили и набивали карман, и теперь им все позволено – и та же выпивка, и бабы, и брехня о драчках, где задницы их отродясь не бывало. И власть опять же у них…» У них! Знал ли майор Чернозуб, кому он действительно служит? Известно ли это другим – Леониду и Льву, Лиловой Рубахе и Джеймсу Бонду и прочим моим топтунам? Или они подчиняются дисциплине и лишних вопросов не задают? Приказано следить – следят, велят убить – убивают… Где тут правда? А главное – где вера и любовь? Все так непросто в мире, а особенно в нашей стране, веками бредущей из ночи в туман, а из тумана в ночь… Все тут переплелось, проросло друг в друга и намертво сцепилось – истина и ложь, алчность и бескорыстное служение, жестокость и доброта, маразм и великий взлет творческой мысли… И каждый из нас должен найти свою дорогу в этих дебрях, сообразуясь со своими понятиями о честности и достоинстве; каждый решает, чему служить, за что бороться – или не бороться вовсе. Экс-генерал закончил просматривать описание и ткнул пальцем в дискету: – Что здесь? – Копия, Георгий Саныч. – Хм… Предусмотрительно… Надеюсь, себе не оставили? – Если оставил, сдайте меня в утиль вместе с компьютером. Зубенко соизволил улыбнуться. – Может, и сдадим. Главное условие нашего плодотворного сотрудничества, мой дорогой, – искренность. А также преданность. Не забывайте об этом, и вас не забудут. В смысле поддержки, защиты и благ земных… – Он повернулся, спрятал бумаги в сейф и произнес начальственным тоном: – Когда поступит второй документ? Теоретическое обоснование? – В самом ближайшем времени, – доложил я. – Например, тринадцатого, в понедельник. – Хорошо. Иван Иванович, – кивок в сторону Скуратова, – будет держать ситуацию под контролем. В наблюдении больше нет необходимости, однако никаких шуточек и фокусов, Дмитрий Григорьевич! Сидите на месте, никуда не уезжайте. Двенадцатого, в воскресенье, вам позвонят, условятся о встрече. Скорей всего здесь. – Он хлопнул ладонью по столу, потом начал приподниматься как бы для прощального рукопожатия, но вдруг снова сел и заговорил таким тоном, словно оставалась еще одна, позабытая за важными делами мелочь. – Увидитесь с Александром Николаевичем, скажите, чтоб перестал дурить, вышел из подполья и взялся за работу. Все прощено и забыто, никто его не обидит, и все – а прежде всего я, – он ткнул пальцем в грудь, – все понимают, что Косталевский – человек незаменимый. Труднозаменимый, скажем так. И нам бы его заменять не хотелось. Он ученый, так пусть работает! Он, кажется, вам доверяет, Дмитрий Григорьевич. Так что вы постарайтесь донести до него мое мнение в самой… гм… лестной форме. Очень постарайтесь, мой дорогой! – Слушаюсь! – Я поднялся, щелкнул каблуками и принял в обе руки широкую экс-генеральскую ладонь. Потом сказал: – Позвольте один вопрос, Георгий Саныч? Какого черта вы ездили в Испанию? Сами, лично? Там ведь были три таких орла. верней, орел и два подорлика… Вам-то зачем беспокоиться? – В серьезных делах стоит побеспокоиться всегда, и всюду нужен хозяйский глаз и присмотр, – прищурившись, произнес Зубенко. – Взять ту же Испанию… Помните негра, который к вам в приятели набивался? Того, которого наш Чернозуб потешил «веселухой»? Помните, вижу… Так вот, он ведь и номер Чернозуба обшарил и кое-что там нашел… еще один футлярчик, коричневый… Нашел и увез с собой, своим, значит, специалистам – чтоб поглядели, разобрались… Ну, пусть глядят! Пусть изучают! Вещица-то редкостная – парализатор. Вам Александр Николаевич о нем не рассказывал? Я, в полном ошеломлении, смог лишь помотать головой да припомнить – вроде бы был момент, когда Косталевский засмущался. Точно, был! Когда обсуждались возможные потенции – гипноглиф страха, например, и прочая жуть и ужас. Что же он еще сотворил, почтенный наш профессор?.. Зубенко с остроносым переглянулись. – Значит, не рассказывал… постеснялся… А это, Дмитрий Григорьевич, такой предмет, который редуцирует ментальную активность. Проще говоря, отключают мышление. Но не сразу, не сразу… Кто месяц продержится, кто – целый год, но рано или поздно тихий кретинизм обеспечен. Профессор наш Александр Николаевич сделал такую штучку, одну-единственную, в порядке эксперимента. Давно еще, в самом начале… Вот и пригодилась. Пусть разбираются, пусть! Он засмеялся, а я, почтительно выдавив: «О!..» – шмыгнул за дверь. Волосы у меня стояли дыбом, а по спине струился пот. Спускаясь на лифте (конечно, в сопровождении охранника), я размышлял над тем, успеет ли Ричард Бартон дать фотографию в «Плейбой» – ту самую, с лунными розами, на фоне какой-нибудь топ-модели. Может, и успеет, но завести свой садик в Калифорнии ему, похоже, не судьба. Ну, тут ничего не поделаешь. He should have a long spoon that sups with the devil – кто обедает с дьяволом, должен запастись длинной ложкой.* * *
В этот день я вернулся домой попозже Дарьи, что было событием редкостным и чрезвычайным. Пережитое и передуманное зашторило лик мой чадрою грусти и притушило блеск очей; а если говорить без выкрутасов, то был я голоден, грязен, мрачен и утомлен. Любимая мной, однако, не пренебрегла – обняла, утешила, приголубила. Пахло от нее розами, и я, прижимаясь колючей щекой к ее волосам и вдыхая их аромат, вдруг понял, что этот запах отныне будет ассоциироваться с Дарьей – и сейчас, и после, и во веки веков, в те далекие-предалекие времена, когда мы будем скрипеть суставами, пить не вино, а корвалол, и нянчиться с внуками. Должен признаться, что эта картина меня уже не пугала. – Что-то я по тебе соскучился, птичка… – Губы мои скользили по шее Дарьи, спускаясь все ниже и ниже, к ложбинке между маленьких грудей. – Чего-то мне хочется, а вот чего, не пойму. Может, подскажешь, моя красавица? – Есть пирог с капустой, – доложила она. – Еще – салями и салат с кальмаром. И брусничный морс. Ты любишь брусничный морс, милый? Потрясающе! Все-таки женщины – догадливые существа, в меру практичные и в меру романтические, и главная их ценность в том, что они отлично знают, что нужно оголодавшему мужчине. И не просто нужно, а в первую очередь. За первой придет вторая, а после – третья, четвертая и так далее, но все – в свое время и в своем месте, под мудрым женским руководством. Так что я расслабился и согласился на пирог. Когда мы расправились с ним, Дарья спросила: – Что ты так поздно, Димочка? Много дел? – Много великих дел, – уточнил я. – Великих, но неприятных. Пришлось мир спасать, солнышко. Сначала – западную демократию, потом – восточную. Хоть она убога и хромонога, но все-таки наша, российская… И я, подумав, решил ее тоже спасти. Так, заодно… Как ты считаешь, это патриотический поступок? Но она, не ответив, лишь улыбнулась: – И это – все? Все, чем ты сегодня занимался? – Не все. Спасение мира было глобальной задачей, а кроме того, я поработал с моей агентурой из ЦРУ и ФСБ. У них, понимаешь, возникли разногласия по одному вопросу… очень серьезные разногласия. К счастью, консенсус был достигнут. Само собой, не без потерь, но все же… Дарья прижала ладошку к моим губам, а другой рукой дернула за ухо. Голос ее звучал укоризненно. – Димочка, милый!.. Ну, когда ты серьезным станешь? Когда, выдумщик мой? Карр-рамба! Крровь и кррест! Она мне тоже не верила, но я был согласен ее простить.Эпилог
Двенадцатого, в воскресенье, мне никто не звонил; не позвонили в понедельник и в другие дни, будто Хорошев Дмитрий Григорьич, со всеми чадами и домочадцами, не исключая попугая, переселился в иное измерение, где не было ни КГБ, ни ФСБ, ни генерала Зубенко, ни остроносого полковника Скуратова. Зато через пару месяцев, когда в серых петербургских небесах затанцевали первые снежинки, я обнаружил в «Плейбое» красотку на полный разворот, с лунными розами в самом интимном месте. То была весточка от Бартона; значит, он еще оставался жив, в здравом уме и полной ментальной дееспособности, хоть неизвестно, надолго ли. Впрочем, зулус, парень бывалый и тертый, мог поостеречься и не заглядывать в коричневый футляр, подброшенный экс-генералом; тогда его шансы на садик в Калифорнии становились вполне реальными. Итак, ловушки захлопнулись, и все постепенно устаканилось. Все, кому надо забыть, забыли; все, кому надо помнить, помнят. Министр Икс, политик Игрек и полководец Зет, как все их заокеанские коллеги, сидят по кабинетам, подогревают народ на митингах и выступают в парламенте с патриотическими речами, то есть трудятся на благо родины, не жалея языков и сил. Не знаю, честен ли их труд, и как его воспримут потомки, но о глобальных переменах ситуации вроде бы пока не слышно. Скажем, чтобы продвинуть в президенты генерала Зет… И то хорошо! Beneficium latronis non occidere, как говорили латиняне: благодеяние разбойника – не убить. Георгий Саныч Зубенко пашет на ниве металлов и сплавов, торгует, жиреет и богатеет; недавно распространился слух, что он займется в скором времени благотворительностью и через год-другой, заработав надлежащий имидж, сядет в губернаторское кресло в одном из хлебных регионов. Остроносый Иван Иванович, вместе со всей своей бравой командой, занят полезным делом – ловит шпионов, наркодельцов и террористов на необъятных российских просторах. Судя по всему, ловить их не переловить! Они – как сказочный дракон: вместо отрубленной головы сразу вырастают три новых, гарантируя Скуратова от безработицы. Жанна, вдова Сергея, отплакала свое и утешилась, выяснив, что, кроме квартиры-люкс, ей принадлежит сберкнижка в финском «Окобанке». Гнев ее родичей тут же пошел на убыль, и Жанна из позора семьи сделалась вдруг кормилицей и поилицей целого клана голодных горцев; ну а кто кормит и поит, тот и заказывает музыку. Пока что она не сняла вдовий траур, но Саид-ата уже вступил в переговоры с лучшими семьями петербургских магометан, а Жанна кокетничает с претендентами, капризничает и выбирает. Конечно, теперь и речи нет, чтобы обрить капризницу наголо или подвесить за уши к люстре. Ловушки захлопнулись, и я тоже попался в назначенный мне капкан. Живу я по прежнему адресу, однако в просторных апартаментах: четыре комнаты, прихожая, две кухни плюс один нахальный попугай. Я бы спровадил его в кастрюлю, да только супруга не разрешает, а мне ее огорчать не хочется – как и держать ответ перед братцем Колей, который все еще странствует в южных морях. За год счастливого супружества я дочитал словарь (последний термин – «яшма», пестрый поделочный камень), связался с банком «Хоттингер и Ги» (сто тысяч долларов мне, к сожалению, улыбнулись) и даже научил Петрушу произносить «мерр-си». Правда, как говорилось выше, от сухогрузного жаргона он не избавился и временами вместо «мерр-си» вопит «мерр-твяк!..» и «мерр-зость!..», так что я загоняю его в туалет, чтоб не шокировал моих клиентов. Видимо, черный гипноглиф власти не действует на птиц, или же наш Петруша – кадр с особым менталитетом, пернатый монстр и охальник, не поддающийся колдовству. Но люди гипноглифу покорны. Люди повинуются ему и могут умереть или уснуть, забыть и вспомнить, выдать тайну, лечь под нож, предать, убить, сойти с ума, метаться в беспричинном страхе, впасть в ярость или млеть от счастья… Но главное все-таки – забыть! Забыть то, что должно быть забыто. Я знаю. Проверял! Один лишь раз, после тех опытов с моими топтунами, с Бартоном и мормонышем… Меня подвигли на сей эксперимент последние слова Зубенко – о той вещице, что редуцирует ментальную активность, об амулете-парализаторе. Я посовещался сам с собой, потом взял в союзники дьявола и сделал то, что сделал. Грех? Возможно. Но в результате научные интересы профессора Косталевского разительно переменились: теперь он исследует мозг приматов, держит при кафедре обезьяний питомник и разъезжает по конференциям с прелестной юной самочкой шимпанзе. Она не так умна, как попугай Петруша, но все-таки умеет говорить целых пятнадцать слов – и, заметьте, никакого сухогрузного жаргона! Если ей нужен банан, она говорит «пна», а если груша – «ша». Очень отчетливо и разборчиво. Так что профессор счастлив и ни о чем не тревожится, чего не могу сказать о себе. Моя ловушка – не мой дом и даже не брачные узы; капкан, в который я попал, неощутим, невидим и не скреплен стенами и печатями, но он существует, он так же реален, как человеческие чувства, как моральный долг, любовь и ненависть, горе и радость – и, разумеется, страх. Да, я боюсь! Боюсь, что Косталевский – не последний гений в нашем мире, боюсь, что найдутся другие, умные, но не столь щепетильные и благородные, как он, боюсь, что деловые интересы возобладают над совестью и разумом – и тогда всем нам крышка, всем нам придется плясать под дудочки новых гамельнских крысоловов. А временами мне кажется, что открытие Косталевского уже где-то повторили, что кто-то тайно владеет им, использует его, подталкивая всех нас к пропасти; что мир вот-вот сойдет с катушек, и генералы станут самолично резать инородцев, прокуроры – бегать по шлюхам, шлюхи – ловить президентов на живца, а президенты – прятать в подвалах своих дворцов обогащенный уран и контейнеры с ядовитыми газами. И тогда я достаю тот дьявольский соблазн, амулет власти, черную обсидиановую спираль с мерцающими в глубине серебристыми искрами, и гляжу на нее в смутной надежде, что все эти страхи мне примерещились, что мне не надо никого спасать, не надо никуда бежать, поскольку ничего чудовищного, жуткого в мире еще не случилось. Пока не случилось. Но если случится, если кто-то когда-то перешагнет запретный рубеж, я до него доберусь. Доберусь вместе с черным гипноглифом власти! В конце концов, у меня тоже имеется свой деловой интерес.Михаил АХМАНОВ ШУТКИ БОГАЧА
Глава первая
Небо было знойным, мутным, подернутым желтовато-серой пеленой; казалось, оно давит на плечи Каргина неподъемным грузом, пригибая к пыльной, такой же желтовато-серой земле. Будто и не небо вовсе, а плоский каменный монолит, крышка огромного гроба, подпертая тут и там изломанными конусами гор. Горы выглядели мрачными, бесплодными, совсем непохожими на Альпы в уборе из льдов и снегов или никарагуанские нагорья, заросшие влажным тропическим лесом. Чужое небо, чужие горы… Яма. Глубокая, трехметровая, с валом небрежно откинутого каменистого грунта. На дне – люди, молодые парни в защитных гимнастерках. Двое мертвых, пятеро живых. Вернее, полуживых: ворочаются, стонут, скребут обрубками пальцев по стенкам ямы, крутят головами; лица в засохших кровяных потеках, на месте глаз – багровые впадины, щеки изрезаны ножом, в провалах ртов – беззубые десны, вспухшие языки. У земляного вала – мужчины. Смуглые, горбоносые, в странных круглых шапках, с карабинами и автоматами, притороченными за спиной. В руках – кетмени. Их стальные блестящие лезвия ходят вверх-вниз, засыпая лежащих в яме ровным слоем земли и камней. Слой вначале тонок, и Каргину удается различить очертания мертвых тел под ним и тех пятерых, которые еще ворочаются и мычат в бессильной попытке отсрочить неизбежное. Но кетмени в неспешном ритме взлетают вверх и падают вниз, глухо стучат комья почвы, яма мелеет на глазах, сливается с бурым горным склоном, исчезает… Мужчины, выпрямившись, стирают пот, переговариваются резкими гортанными голосами, спускают штаны, мочатся. Каргин, невидимый призрак, грозит им кулаком, скрипит зубами, потом запрокидывает голову, смотрит в небо – там, на сером облачном покрывале, расплывается багряный круг. Чужое небо, злое… Кто-то тронул его за плечо, и он очнулся. – Please, sir, fasten your belt… Миловидное личико хрупкой чернокожей стюардессы маячило перед ним; правую щеку, заставляя щуриться, грело солнце. Каргин моргнул, потом, как было ведено, нашарил пряжку, застегнул ремень, повозился в кресле, косясь в иллюминатор: небеса за бортом самолета сияли чистой бирюзой, плыли в них белые полупрозрачные перышки облаков, и где-то вдали, на востоке, вставал над хребтом Сьерра-Невада золотистый и ласковый солнечный диск. Мерно гудели моторы, “боинг”с буйволиным упорством таранил воздух, зевали проснувшиеся пассажиры, стюардессы голубыми тенями скользили в проходах, склонялись над дремлющими, улыбались, щебетали. Ночь закончилась, а вместе с ней подходил к концу рейс Нью-Йорк – Сан-Франциско. "Плохой сон, афганский”, – подумал Каргин, разминая затекшую шею. В Афгане ему не довелось повоевать, а в других местах – скажем, в Боснии или Руанде – он не видел, как людей живыми закапывают в землю. В Боснии стреляли, в Руанде жгли, в Заире душили стальной проволокой, а в Никарагуа контрас втыкали мачете под ребра и резали наискось живот, как в фильмах про японских самураев. Об этом эпизоде, об израненных пленных, закопанных живьем, ему рассказывал отец. Случилось это в начале восьмидесятых, когда старший Каргин, уже генерал-майор и командир бригады, собирался к новому и последнему месту службы – на родину, в Краснодар. Младший в те годы осваивал воинскую науку в Рязанском училище ВДВ и, по молодости лет, мечтал о ратных подвигах и благородной миссии воина-интернационалиста. Правда, недолго: месяцев через восемь его отправили стажироваться на Кубу,а после – в Никарагуа, где все иллюзии испарились под жарким тропическим солнцем. Подарок от контрас пуля в плечо-этому тоже поспособствовал. Рана долго не заживала, начались воспаление и лихорадка; месяц Каргин провалялся в бреду в лесном лагере сандинистов, пока его не вывезли в Гавану. С той поры снился ему временами сон о закопанных солдатах, и было им замечено, что сновидение это не к добру – вроде бы вещее, к большой крови, но непонятно чьей, своей либо чужой. Кровь лилась всюду, где он побывал, но с особым обилием в Африке, в Анголе или той же Руанде, когда его группа штурмовала вместе с бельгийскими парашютистами Кигали, руандийскую столицу. А через год, в девяносто пятом, он снова увидел тот же сон – в Боснии, под Сараево. Там подразделения Легиона вели диверсии и разведку, и Каргин вместе со своими солдатами угодил под бомбы, когда авиация НАТО равняла сербские позиции с землей. Его контузило, а вдобавок пара осколков прочертила кровавые полосы на скуле под глазом и под левой ключицей. К счастью, контузия оказалась легкой, а шрам на скуле был невелик и мужского обаяния Каргина не портил… "Боинг” устремился вниз, и под крылом промелькнули река среди изумрудных берегов, серебристая поверхность залива, похожего на наконечник копья, и длинные мосты, казавшиеся сверху стальными блестящими рельсами, усеянными армадой цветных жучков-автомобилей. Через минуту-другую из утренних туманов выплыл город: улицы, круто сбегавшие к воде, бесчисленные трубы и дома, зеленые деревья, желтые пляжи и небоскребы – не столь грандиозные, как в Нью-Йорке, но все же намекавшие, что в этих заморских краях Фриско – город не из последних. Шпили небоскребов вдруг стремительно рванулись вверх, рев турбин на секунду оглушил Каргина, под ложечкой засосало – как в то мгновение, когда вываливаешься из самолетного люка и парашют еще не раскрыт, но грохот двигателей тут же стал тише, город исчез, и под брюхо “боингу” ринулось поле в изумрудной траве, расчерченное серым бетоном взлетно-посадочных полос. Затем – слабый удар шасси о землю, плавное неторопливое торможение, гусиная шея трапа, мелькнувшего за иллюминатором, и голосок стюардессы, приглашавшей к выходу. – Мы изгнаны с высот, низвергнуты, побеждёны…-пробормотал Каргин.Он произнес это на английском, и сидевшая рядом пожилая дама в пепельном, с голубоватыми прядками парике, с недоумением уставилась на него. “Видно, Мильтона не читала”, – решил Каргин, дружелюбно улыбнулся соседке и расстегнул ремень. Тоскливый сон проваливался в прошлое вместе с воспоминаниями о джунглях Анголы и Никарагуа, пыльных равнинах Ирака, хорватских горах, заирских реках и прочих местах, где довелось ему повоевать в бытность легионером или “стрелком”. Теперь его ожидала другая работа – какая в точности, в его контракте не было обозначено, однако Каргин рассчитывал на что-то сравнительно мирное. К примеру, на должность технического эксперта или консультанта. По предварительной информации, полученной в Москве, его наниматели были связаны с оружейным бизнесом, а в оружии Каргин разбирался неплохо – даже отлично, если не говорить о какой-нибудь экзотике вроде орбитальных лазеров. Существовала, правда, одна неясность: к чему им российский офицер, пусть и повоевавший на всех континентах за исключением Австралии? На сей счет у Каргина не имелось никаких разумных гипотез. Однако такие неясности не повергали его в смущение: во-первых, как всякий хороший солдат, он привык к внезапным зигзагам судьбы, а во-вторых, платить обещали щедро – вдвое против его капитанского жалованья в Легионе. Он поднялся, ощупал бумажник с документами в заднем кармане брюк, прихватил в багажном отсеке сумку и покинул “боинг”, смешавшись с гомонящей толпой пассажиров. У нижней ступеньки трапа стояла стюардесса – не та темнокожая малышка, что разбудила его, а высокая, длинноногая, с оливково-смуглым лицом и жгучими испанскими глазами под веером темных ресниц. Каргин подмигнул ей и получил в ответ многообещающую улыбку. Он привык к успеху у женщин, особенно у черноглазых брюнеток лет под тридцать, лишенных как брачных иллюзий, так и излишней скромности. Впрочем, шатенки и блондинки тоже дарили его вниманием. На всех континентах и материках, во всех городах и весях высокие крепкие парни с рыжеватой шевелюрой и холодным блеском серо-зеленых зрачков были в хорошей цене; такой товар шел нарасхват, ибо годился для многого, от резвых плясок в постели до марш-бросков в заирских болотах. В части постелей Каргин был весьма разборчив, а вот по болотам, холмам и пескам пришлось поползать основательно, и этот опыт не исчез без следа. Кроме заметной внешности, он обладал тем, что женщины больше всего ценят в мужчинах: уверенностью в себе. Шагая к зданию аэропорта, Каргин обернулся и увидел, что девушка у трапа провожает его долгим призывным взором. “Спросить, что ли, телефон?..” – мелькнула мысль. Он даже замедлил шаг перед стеклянной вращающейся дверью, но тут ее створки крутанулись, и Каргин нос к носу столкнулся с другой девицей, державшей в руках табличку с его именем. Эта тоже была загорелой и длинноногой, но с карими глазами и масти посветлей, что-то среднее между блондинкой и шатенкой. “Лет двадцать пять, симпатичная”, – отметил он и решил, что от добра добра не ищут. Кареглазка, поймав его заинтересованный взгляд, резко затормозила. – Мистер Кар-р-гин? – она сделала ударение на первом слоге, вдобавок растянув “р”, и это заставило его усмехнуться: голос мягкий, приятный, а получилось будто ворона каркнула. – Можно Керк, бэби, – произнес Каргин, придерживая ногой дверь. В спецподразделении “Стрела” он проходил подготовку по западноевропейским странам, Британии, Франции и Испании, и там его называли Алекс – вполне пристойная трансформация имени Алексей, проставленном в метрике,паспорте и прочих российских бумагах. Но в Легионе не признавали ни пристойности, ни имен, и там он сделался Керком – или просто КК. Капитан Керк, командир диверсионной группы “Би”, еще именуемой синей ротой “гиен”.. – Кэтрин Финли. Можно Кэти, – сказала девушка, протянув ему руку. Пожатие оказалось энергичным и крепким. – А вы, значит, Керк? Это гораздо лучше. Наводит на мысль о героях-солдатах, крутых парнях с квадратной челюстью и “кольтом” на ремне. – Кольт – это в прошлом, – заметил Каргин, просачиваясь вслед за девушкой в дверь; – Нынче крутые парни предпочитают что-нибудь поосновательней. К примеру, гранатомет. Какой-нибудь там “панцерфауст” или М-19…– он пощупал подбородок и добавил: – Кстати, здесь – никакой квадратности, одна небритость. В Нью-Йорке я пробыл всего ничего, и было не до бритья. Таможня, паспортный контроль… ну, сами понимаете. – Не огорчайтесь, дружок. Сейчас семь двадцать, – она приподняла маленькие часики-кулон, – а мистер Мэлори ждет вас к трем после полудня. Успеете навести красоту. – Мистер Мэлори? Кто такой? – О, это большая шишка! Мой шеф, вице-президент ХАК и глава административного отдела. Они уже шли вдоль ряда овальных транспортеров, безостановочно круживших сумки и чемоданы, с трудом протискиваясь сквозь толпу; народа было многовато, с трех или четырех утренних рейсов. – Ваш багаж? – Кэти бросила взгляд на табло с надписью: “Нью-Йорк”. – Все здесь, – Каргин приподнял висевшую на плече сумку. – Солдаты путешествуют налегке. – И что там у вас? – “Панцерфауст”, – ответил он с серьезным видом. – Еще бутылка коньяка, чтобы распить с самой красивой малышкой Калифорнии. – Это, увы, не со мной. Красотки у нас пасутся в Голливуде, – со вздохом сообщила Кэти и вдруг насмешливо усмехнулась: – Идете на приступ, солдат? Не рано ли? – А чего время терять? – Каргин приобнял ее за талию, отодвинув плечом толстяка с мясистой физиономией, волочившего огромный чемодан. Тот с возмущением хрюкнул, щеки его налились кровью, но тут же поблекли под холодным взглядом Каргина. Они вышли на площадь, к автомобильной стоянке. С запада, со стороны океана, задувал легкий бриз, утреннее солнце еще не жгло, а с нежной лаской гладило руки и шею, в дальнем конце площади замерли на страже магнолии и пальмы. Пальмы были высокими, с глянцевыми блестящими листьями, и каждая походила на застывший зеленый взрыв. Каргин пробормотал: “В краю магнолий плещет море…” – и глубоко вздохнул, всей грудью втянув теплый воздух. Морские ароматы смешались в нем с запахами зелени и бензина. – Можем ехать, если вы меня отпустите, – сказала Кэти. Он с неохотой убрал руку. Талия девушки была восхитительно гибкой, и под тканью платья не ощущалось ничего лишнего. Их ждал двухместный алый “ягуар”. Во всяком случае, Каргин решил, что это “ягуар”; в дорогих автомобилях он разбирался похуже, чем в вертолетах, танках и БМП, хотя мог управиться с любой машиной, которая ездила, плавала или летала. Ключи торчали в замке зажигания – вещь, немыслимая в родимых палестинах. Каргин сел, поставил сумку на колени. Ножка Кэти в изящной туфельке коснулась педали газа, край платья приподнялся, обнажив гладкие стройные бедра. – Не туда смотрите, солдат. В городе есть виды поинтересней. – Доберемся – посмотрим, моя прелесть, – сказал Каргин и прикрыл глаза. Под мерный рокот мотора думалось хорошо. С минуту он размышлял о том, что снова находится в Америке – однако не в джунглях, не на Антильских островах, а в месте цивилизованном и вроде бы тихом и безопасном. Единственная проблема, что место это – не его. Свое место он потерял в конце девяносто третьего, когда расформировали “Стрелу”. Случилось это после октябрьских событий и штурма Белого Дома силами “Альфы” и “Стрелы”; люди в обоих подразделениях колебались, и президентский приказ был выполнен не сразу. Вполне понятные колебания – ведь их готовили не за тем, чтобы разгонять законно избранный парламент. Они, разумеется, были Силой, однако не из тех сил, какие применяют для разрешения споров и дрязг политиков, не безмозглым пушечным мясом, а элитарными отрядами, чьей задачей была безопасность страны. Они умели думать, а всякий мыслящий человек подвержен сомнениям и избегает неблаговидных дел. Были сомнения, были… Впрочем, для “Альфы” все закончилось с минимальными потерями: ее простили, а “Стрелу” – нет. Но пережевывать былые обиды Каргин не собирался, и мысли его обратились к другим материям. Что-то странное творилось здесь – с ним, вокруг:него или за его спиной. В Нью-Йорке все выглядело иначе, привычней и проще: он отстоял очередь в паспортный контроль вместе с сотней московских туристов и бизнесменов, прошел таможню и в павильоне “Дельта эрлайнс” встретился с тощим янки, местным служащим ХАК, компании его нанимателей. Тощий вручил ему билет до Фриско, угостил пивом и посадил в самолет; на этом торжества по случаю встречи были закончены. А вот тут… Тут его ожидали красотка, роскошная “тачка” и визит к мистеру Мэлори. Вице-президент, личность из разряда VIP – ОВП, Очень Важная Персона… Такие обычно не знаются с простыми смертными. “Калифорнийское гостеприимство?.. – мелькнула мысль. – Может быть… Однако любопытно, всякому ли наемнику положены такие почести? И такой оклад? Вероятно, – решил Каргин, – меня завербовали для чрезвычайно ответственной операции. Например, чтобы прикончить Клинтона… Или Монику Левински…” Голос Кэти вывел его из задумчивости. – Проснитесь, Керк, взгляните на город. Забавно, не так ли? Плоского места с ладонь, а все остальное – холмы да ущелья…– она оживилась, тряхнула головкой в пышных каштановых кудрях и зыркнула на Каргина карим глазом. – Вы слышали, что Фриско стоит на сорока трех холмах? Туин-пикс, Ноб-хилл, Теле-граф-хилл, даже Рашен-хилл… ну, и еще тридцать девять. Слева от нас Ноб-хилл, справа – здание “Пирамиды”, а прямо – Ван-Несс-Авеню, Муниципальный центр и Музей современного искусства, лучшая в мире коллекция Матисса… Вы знаете что-нибудь о Матиссе, солдат? – Я не отношусь к его поклонникам, – буркнул Каргин. – Слишком помпезно и ярко… В моем вкусе больше Мане или Дега. Особенно Дега: он рисовал прелестных женщин. – Вот как? – брови Кэти взлетели вверх. – Для солдата вы очень неплохо разбираетесь в живописи. Мане, Дега… И где же вы видели их картины? В России? – В Петербурге, – уточнил Каргин. – Еще в Париже и Лондоне. – В Париже…– на губах Кэти расцвела мечтательная улыбка. – О, Париж, Париж… Вы должны рассказать мне о Париже, Керк. – В любое время дня и ночи, клянусь Одином! – он бросил выразительный взгляд на ее колени, и девушка зарделась. "Ягуар” съехал с очередного холма на набережную, тянувшуюся вдоль залива. Теперь к западу от них вздымался мост Золотых Ворот, знакомый Каргину по фотографиям и фильмам, а к востоку еще один: стальная блестящая полоса, уходившая, казалось, в бесконечность. Кэти прибавила скорость и повернула на восток. – Я думал, что штаб-квартира ХАК в Сан-Франциско, – осторожно произнес Каргин, когда автомобиль преодолел-половину моста. – В Большом Сан-Франциско, – пояснила Кэти. – Это очень широкое понятие. Окленд, Беркли, Ричмонд, Сан-Хосе, Ньюарк и бог знает, что еще… Я, дружок, не сильна в географии. – Хороший повод, чтоб заблудиться… особенно с красивой девушкой. – Сейчас не выйдет, – Каргин уловил в ее голосе нотку сожаления. – Как-нибудь попозже, Керк. Я бы хотела отдать должное вашему коньяку… Французский? Из Парижа? – Армянский, бэби. Большая редкость по нынешним временам.
Мост кончился, потянулись городские окраины – Окленд, сказала Кэти; затем шоссе неторопливо полезло вверх, и Каргин, обернувшись, смог любоваться бесчисленными крышами городов и городков, теснившихся на берегах залива. Километрах в пятнадцати от Окленда они перевалили водораздел, и пейзаж разительно изменился: зеленая долина между двумя хребтами казалась почти безлюдной, и лишь в одном месте в разрывах древесных крон мелькало серое, оранжевое и белое: асфальт дорог, черепичные кровли и стены невысоких домов. – Уолнат-Крик, центр местной цивилизации. Бензоколонка, гостиница, три кафе и пять баров, – Кэти покосилась на городок и сообщила: – Наши владения южней. Несколько административных корпусов, выставочные ангары, полигон и поселок для служащих. Вы? будете жить на Грин-авеню, семнадцать, – Это что-нибудь значит? – поинтересовался Каргин. – Значит, солдат. На Грин-авеню – резиденции управляющего персонала – А где живете вы? – Там же. Коттедж под номером шестнадцать. От неожиданности Каргин сглотнул, едва не подавившись слюной, но тут же пришел в себя, стал незаметно ощупывать сумку и строить планы на вечер. Под прочной тканью круглилось нечто цилиндрическое, с плоским дном и узким горлышком – бутылка марочного коньяка из давних отцовских запасов. Бутылку сунула мать, когда он гостил у родителей в Краснодаре; сунула и сказала с грустной улыбкой: найдешь, Алешенька, невесту – выпьешь. Каргин не возражал, чтобы не расстраивать мать, мечтавшую о внуках. К тому же был он не против невест в любых обозримых количествах; в конце концов, не каждая из них становится женой. Они свернули с шоссе на неширокую дорогу, тонувшую в тенях; густые кроны дубов и вязов нависали над ней, а щит на повороте извещал: “Частное владение. Въезд воспрещен”. Ни шлагбаумов, ни заборов Каргин не заметил, но дорога патрулировалась: дважды им попадались джипы с парнями в пятнистых комбинезонах, встречавших машину Кэти коротким гудком. Вскоре слева поднялись низкие широкие корпуса ангаров, к которым вели подъездные пути, а справа возникло здание из металла и стекла, но не какой-нибудь небоскреб, а тоже невысокое, о двух этажах и с крытой галереей на тонких ребристых столбиках. Тут нигде ничего не блестело и не сверкало: ангары были окрашены в защитный цвет и прятались в зелени, а окна в здании с галереей тоже отсвечивали зеленым, будто стенки гигантского, полного воды аквариума. "Хорошая маскировка”, – подумал Каргин и, обернувшись к Кэти, спросил: – Это что такое? – Первый административный корпус. Облегченная конструкция, каркас из алюминиевого сплава, плюс небьющееся стекло, – она сделала паузу, наморщила носик и с сомнением произнесла: – Впрочем, я не уверена, что это стекло. Понимаете, Керк, оно какое-то странное – пружинит, и его нельзя ни сломать, ни поцарапать, ни пулей пробить. Забавная штука, правда? – Ни поцарапать, ни пулей пробить…– с задумчивым видом повторил Каргин. – А к чему такие предосторожности? Девушка фыркнула. – Не забывайте где вы, дружок! В сейсмически активной зоне! Здесь раз в месяц потряхивает, раз в год трясет, а дважды в столетие трахает так, что младенцы седеют! Слышали, что было в восемьдесят девятом? Сотня погибших, тысячи раненых, сто тысяч разрушенных зданий! Я тогда училась в колледже и… – Однако вы не поседели, – Каргин примирительно погладил каштановый локон. – Совсем даже наоборот. – Ну, я ведь не младенец… Она заложила лихой вираж, съехав с дороги в обсаженную пальмами аллею. С одной ее стороны простирался парк, с другой тянулись коттеджи под номерами на аккуратных табличках, и, как показалось Каргину, двух одинаковых меж ними не было. Еще он обратил внимание, что дома не теснятся, а стоят просторно, разделенные не оградами, а шпалерами из роз, акации или подстриженных кустов. Чем дальше, тем строения выглядели вычурней и роскошней – уже не коттеджи, а виллы со стрельчатыми окнами, с балконами, верандами и галереями, оплетенными плющом и виноградной лозой. Аллея постепенно поднималась вверх, взбираясь на пологий холм, склон которого украшал особняк в испанском стиле: колонны, внутренний двор за распахнутыми воротами, зеленая черепичная крыша и четыре башенки по углам. – “Эстада”, президентская резиденция, – пояснила Кэти, притормозив у номера семнадцать. – Только старика там давно не видели. – Старика? – Старого Халлорана. Он, собственно, не президент, глава Наблюдательного Совета, а в президентах у нас теперь его племянник, Бобби Паркер. Живет в “Эстаде” вместе с сестрицей, ставит подписи на контрактах и надувает щеки…-девушка состроила неодобрительную гримаску. – Правда, старик по-прежнему крутит всем и каждым… – Похоже, вы не одобряете Бобби Паркера, – заметил Каргин, выгружаясь из машины. Ему показалось, что в карих глазах Кэти промелькнула злая искорка. На мгновение ее губы дрогнули. скривились в презрительной усмешке, но будто совершив какое-то внутреннее усилие, она овладела собой и лишь небрежно повела плечами. – Бойскаут и плейбой… Ну, это не нашего ума дело, Керк. Заходите в дом, располагайтесь, ешьте, пейте и наводите красоту. Можете даже поспать. Я заеду за вами в два сорок. – Благодарю, – Каргин щелкнул каблуками, отвесил Короткий поклон, будто приглашая девушку на тур вальса. – Но отчего бы нам не позавтракать вместе? Я расскажу вам про Париж, а вы мне – про землетрясение в восемьдесят девятом… О’кей? – Не выйдет. Вы еще вольный стрелок, а я на работе. Бай-бай, солдат! Она упорхнула, а Каргин направился к дому, размышляя, случайно ли Кэти назвала его стрелком. Такое прозвище присвоили оперативникам “Стрелы”, однако не потому, что они походили на киллеров-убийц. Майор Толпыго, наставник Каргина, утверждал, что смысл тут в ином: летящий к цели подобно стреле, по самому краткому и точному маршруту. Бывало, разумеется, и так, что “стрелки” поражали цель, но это не шло им в заслуги; самой удачной операцией считалась бескровная. В этом была разница между “Стрелой” и Легионом. В Легионе слишком любили палить, а в частях поддержки – жечь и пускать кровь сотней изощренных способов. Каргин открыл дверь, бросил сумку на диванчик в просторном холле и отправился исследовать свое новое жилье. Коттедж был в два этажа, с подвалом; внизу – холл, гостиная и кухня, вверху – спальня, ванная, кабинет и веранда под пестрым тентом. За домом – крыльцо о трех ступеньках, бассейн среди плакучих серебристых ив, в кухне – гигантский холодильник, набитый продуктами, банками пива и апельсинового сока, в гостиной – кожаные диваны, кресла, лампы из бронзы телевизор, бар… Обозрев спальню – ложе “кинг-сайз”, лиловый ковер, встроенный шкаф с одеждой, крытые шелком стены и зеркало на потолке, – Каргин присвистнул и пробормотал: – Для состоятельных парней со вкусом… Чтобы мне к Хель провалиться! Квартира, купленная им в Москве, была на порядок скромней, хоть на нее пришлось угрохать все легионные заработки. “С другой стороны, Уолнат-Крик все-таки не Москва, – размышлял Каргин, задрав голову и любуясь своим отражением в зеркале. – Нет, не Москва, не Лондон и не Париж; труба пониже, дым пожиже”. Он шаркнул ногой по роскошному лиловому ковру и спустился вниз, разбирать вещи. Их было немного. Белье, легкий костюм с галстуком и парой башмаков, Три рубашки, стопка книг, бутылка с коньяком, бритва и зубная щетка. Еще берет – потертый, выгоревший, цвета хаки, с едва заметными дырочками там, где некогда была приколота эмблема. Берет был отцовским, служившим Каргину талисманом, подаренным в тот год, когда его зачислили в “Стрелу”, – а значит, являлся и памятью о “Стреле”. Все остальное, касавшееся его причастности к опальному отряду, хранилось в недрах ФСБ и Министерства обороны. Два года после училища, когда он проходил спецподготовку, грыз испанский и английский и дрался в джунглях за Ортегу; еще три года – Школа внешней разведки, французский язык, практика в Лондоне и Париже; и, наконец, “Стрела” – четыре года, Кувейт, Ирак, Югославия, операции в России и иных местах, победы и неудачи, раны, кровь и пот, гордость и офицерская честь… Все это сейчас покрывалось плесенью в каком-то архиве вместе с его подпиской о неразглашении; девять нелегких лет, которые, если верить официальным свидетельствам, он проваландался в пехотном полку где-то между Челябинском и Омском. У самого дна, рядом с бритвой и другими мелочами, лежала плоская кожаная сумочка-кобура на тонком ремешке. Каргин раскрыл ее, полюбовался холодным блеском отточенных звездочек-сюрикенов, примерил кольца с натянутой меж ними проволочной удавкой и одобрительно кивнул. Оружие неприметное, тихое, но смертоносное… Без оружия он чувствовал себя как бы голым; сказывалась многолетняя привычка, особенно три последних года в Легионе. Пошарив в холодильнике, Каргин вытащил банку пива, ростбиф и круглые маленькие булочки, похожие на бриоши, сделал несколько бутербродов и съел их, прихлебывая, из банки и поглядывая на плоскую кобуру. Она являлась военным трофеем; ее, вместе с сюрикенами, он взял на трупе какого-то японца, служившего у Фараха Айдида, правителя Сомали. Айдид кончил, как многие из африканских диктаторов, под пулями Легиона, а с ним переселился в лучший мир и взвод охраны. Сопротивлялись они с большим упорством, и рота “Би”, которой командовал Каргин, потеряла четверых. Что до удавки с кольцами, то это был подарок. Ее по пьяной лавочке всучил Каргину майор-бельгиец, некий Кренна, башибузук и кондотьер, под чьим началом был отряд таких же басурман редкого отребья, не подходящего для службы в Легионе. Но Легион ими отнюдь не брезговал: их нанимали для черной работы, платили сдельно и называли “частями поддержки”. “Поддерживать” Кренна умел с завидной лихостью и профессионализмом; его солдаты считались отличными диверсантами и мастерами облав, зачисток и акций устрашения. Одно было плохо: они не понимали различий между людьми в мундирах и штатской публикой… Покончив с бутербродами, Каргин отправился в ванную, побрился, принял душ, залез в бассейн и отмокал в нем около часа, мысленно сравнивая Кэти с былыми подружками в Париже и Москве. Однако воспоминания о них были смутными, трехлетней давности, и от того, быть может, он поставил Кэти самый высокий балл. За бассейном и серебристыми ивами просматривалась полянка с кустами жасмина и роз, а в дальнем ее конце – коттедж под номером шестнадцать, тоже двухэтажный, но, в отличие от каргинского, с затейливой башенкой под шпилем, на котором то обвисал, то вновь полоскался по ветру звездно-полосатый флаг. Кроме этих судорожных всплесков в соседнем доме и окрест него не замечалось никаких движений, и Каргин резонно заключил, что Кэти живет одна и в данный момент горит на трудовом посту. Вздохнув, он вылез из бассейна, обсох на жарком солнышке, съел еще один сандвич, выпил апельсинового сока и оделся поприличней – в летний светло-серый костюм, при галстуке и штиблетах. В пиджачный карман сунул бумажник с документами, которых было всего ничего: паспорт, водительские права, три кредитные карточки и контракт, аккуратно сложенный и пришпиленный к паспортной обложке. Контракт был оформлен через посредника, московскую фирму “Эдвенчер”, уже знакомую Каргину – три года назад он очутился в Легионе при ее содействии. В газетах эта фирма объявлений не давала, до телевидения не снисходила, рекламных буклетов не рассылала, но заинтересованное лицо могло связаться с ней по Интернету. Был там некий сайт, в котором значилось: “Крепкие молодые мужчины в хорошей спортивной форме, склонные к приключениям, могут получить работу в любой точке земного шара”. Одна фраза, плюс интернетовский адрес-кратко, но вполне вразумительно. Затем желающим направлялась анкета, и если кандидат подходил, назначалась встреча с вербовщиком, – но не в офисе фирмы, а на нейтральной территории, в кафе или, по летнему времени, садике. Там изучались рекомендации и документы, оценивались послужной список и опыт и делались предложения – обычно два-три на выбор. Этот путь прошли многие приятели и сослуживцы Каргина. Власть их предала, страна отвергла, а наниматься к бандитам и резать сограждан они не хотели; если уж убивать, так в чужих краях и за хорошие деньги. Оттрубив свое в Легионе, Каргин прилетел в Москву, купил квартиру, съездил в Краснодар проведать родителей, а когда вернулся, ему позвонили. Вероятно, фирма “Эдвенчер” имела обширные связи повсюду, где можно раздобывать адреса, и бывших своих клиентов из вида не теряла. На этот раз ей заказали особый “товар”: боевого офицера не старше тридцати пяти, с обширным опытом сражений в джунглях и пустынях, со знанием английского и испанского, крепкого телом и твердого духом. Каргин подходил идеально. На тело он не жаловался, на дух – тем более; три года в Легионе под его рукой ходили шестьдесят “гиен”, а это что-нибудь да значило… Перевалило за полдень, есть и пить ему больше не хотелось. Послонявшись по дому, Каргин отыскал в подвале шезлонг, разложил его в тени под ивами, сел и стал любоваться синим калифорнийским небом. Минут через десять веки его опустились, голова свесилась на грудь, дыхание стало тихим и ровным, будто размеренный плеск прибоя, которому вторили шелест листьев и чуть слышное стрекотанье цикад. Сон его был безмятежным и длился до той поры, пока чей-то голос не произнес: – Вставайте, дружок! Вставайте! Каргин поднял голову и открыл глаза. Кэти, сморщив носик, придирчиво взирала на него, постукивала туфелькой о ступеньку и крутила на пальце брелок с ключами от машины. Вероятно, осмотр ее удовлетворил. Довольно кивнув, она произнесла с интимной интонацией, означавшей, что они перешли на “ты”: – О’кей! Отлично выглядишь, солдат! Просто душка! Думаю, мистер Мэлори будет доволен. – Мэлори? – пробормотал Каргин спросонок. – Шон Дуглас Мэлори, – повторила Кэти. – Тот, кто тебя купил. Платит он щедро, но любит, чтобы товар был первоклассный. И очень не любит, когда опаздывают. – Уже иду, – отозвался Каргин, вскочив на ноги.
Глава вторая
Кабинет Шона Мэлори был просторен и пустоват: стол с селектором и хозяйским креслом, пара стульев и массивный широкий диван у противоположной стены. Единственным украшением комнаты служило большое полотно в черной лаковой раме, висевшее над диваном: скалистый остров среди изумрудных волн, будивший смутные воспоминания о развалинах средневековой цитадели. Сквозь зеленоватые окна виднелись крыши ангаров и падал солнечный свет, будто профильтрованный океанской толщей; это придавало круглому улыбчивому лицу Мэлори нездоровый трупный оттенок. Но Каргин, сделав поправку на освещение, сообразил, что видит энергичного джентльмена лет шестидесяти, лысого, плотного и невысокого, с твердой линией рта и несомненной армейской выправкой. Голос у него был громкий, звучный, с командными нотками. – Садитесь, капитан. Я – шеф административного отдела и отвечаю в нашей компании за подбор кадров, секретность, безопасность, а также… хм-м… за другие вопросы, которых мы коснемся со временем, – Мэлори смолк, погладил лысый череп, бросил взгляд на пейзаж с островом и добавил: – Позвольте представить вам Брайана Ченнинга, одного из вице-президентов “Халлоран Арминг Корпорейшн”. Можно сказать, что мистер Ченнинг – наш коммерческий гений. Он возглавляет отдел финансов и инвестиций. Мистер Ченнинг благожелательно хрюкнул. Он расположился под картиной на диване и занимал его большую часть – совсем немало, так как этот предмет обстановки был весьма капитальным. Диван прогибался под его тяжестью и жалобно постанывал, когда Ченнинг менял позу; казалось, еще чуть-чуть, и кожаная обивка не выдержит, треснет, и стальные пружины с мстительной яростью вонзятся финансисту в зад. Видимо, подобная перспектива не являлась секретом для Ченнинга – ворочался он с большой осторожностью. – Курите, – Мэлори с благожелательной улыбкой подвинул на край стола коробку гаванских сигар. – Спасибо, сэр. Не курю, – Каргин, стараясь скрыть удивление, повернулся – так, чтобы свет не падал в лицо. А удивляться было чему: выходит, он представлялся разом двум Очень Важным Персонам, руководителям компании. Это придавало будущей работе ореол загадочности и несомненной перспективности. Мэлори обрезал кончик сигары, закурил, откинулся в кресле и некоторое время с откровенным интересом изучал физиономию Каргина. Внезапно он усмехнулся и произнес: – Обращение “сэр” у нас не принято. Слишком официально и слишком попахивает англофильством. Вы, надеюсь, не питаете каких-то особых симпатий к Британии? – Ни в коем случае, – отозвался Каргин. – Я служил Франции, в Иностранном легионе. Там британцев не любят. – Что же, отлично. Мистер Халлоран, наш босс – ирландец. Точнее, американец ирландского происхождения. Как, кстати, и я. Мы с ним из тех ирландцев, что не забыли о своих корнях, – раскрыв папку, лежавшую на столе, Мэлори пошелестел бумагами, затем промолвил: – Мистера Ченнинга можете называть Брайан, меня – коммодор. Я служил на “Миссури”… Это вам что-нибудь говорит? – Говорит. Линкор, тип “Айова”, полуметровая бортовая броня, главный калибр – четыреста шесть миллиметров, три башни по три ствола, плюс десять спаренных 127-миллиметровых орудий и восемнадцать счетверенных 40-миллиметровых зенитных пушек. Еще два вертолета и экипаж три тысячи человек. Скорость хода – до тридцати узлов, дальность плавания – пятнадцать тысяч миль. Твердая линия губ коммодора внезапно смягчилась; теперь он внимал с полузакрытыми глазами и порозовевшим лицом. Пальцы его отбивали ритм боевого марша, сигара, зажатая меж крепких зубов, мерно подрагивала, будто ствол главного калибра в поисках достойной цели. Когда Каргин смолк, Мэлори глубоко втянул дым, выпустил его через ноздри и произнес: – Великолепно! Сказать по правде, бортовая броня была поменьше полуметра, а экипаж – двадцать семь сотен, но все равно – великолепно! Что вы окончили? – он снова зашелестел бумагами. – Пехотное училище? – Воздушно-десантное, – пояснил Каргин, решив не уточнять, что учился на отделении разведки. – Хм-м… так…– Мэлори, поворошив бумаги, выдернул одну и быстро пробежал глазами. – Значит, воздушно-десантное, Рей-зань… Неплохо там учат, в этой Рей-зани, черт побери! Итак, выучились, потом служили… девять лет служили, до января девяносто четвертого… Ну, а потом – под зад коленом. Вышвырнули вон, так? – Не вышвырнули. Я подал рапорт с просьбой об отставке. – Почему? Каргин пожал плечами. – Хотелось жить по-человечески, в Москве. Деньги были нужны. Вот завербовался в Легион и заработал. Крыша теперь есть…– он сделал паузу и вымолвил: – Ну, кроме денег была и другая причина… – Какая? – Чечня. Я считал, что без войны не обойдется, и не ошибся. Ухмыльнувшись, Мэлори ткнул сигарой в сторону Каргина. – Не любишь воевать, сынок? – Даром – не люблю. "За деньги – тоже, – добавил он про себя. – Особенно в Чечне”. Каргин, потомственный офицер, не боялся ни смерти в бою, ни крови, ни ран, но та война казалась ему не праведной, несправедливой с обеих сторон, ибо свои сражались в ней со своими, и ветераны Афгана, недавние однополчане и сослуживцы отца, рвали друг другу глотки. Это было не противоборство народов, а упрямое, исступленное соревнование амбиций их лидеров, которых Каргин не уважал. Ни Чечня, ни Россия еще не имели вождей, озабоченных благом народным, а значит, способных договориться и отстоять самое важное – мир. Он полагал, что такие вожди появятся в будущем, лет через сто, а нынешние были тем, чем были, – недавними функционерами КПСС в наспех наложенном гриме демократов, либералов или диктаторов, поборников русской идеи, православия либо ислама. В своем роде из лучших людей, но лучших из худших, ибо по-настоящему лучшие еще не народились. Коммодор переглянулся с Ченнингом, буркнул: – Разумная позиция… Ну, мы готовы платить, и если вы оправдаете наши надежды, крыша в Москве вам не понадобится. Будет другая, пороскошней. Где-нибудь в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке… Где захотите, капитан. "Любопытное заявление!” – промелькнуло в голове у Каргина. Он погладил шрам под левой скулой, покосился на Ченнинга (тот, казалось, дремал на своем диване), затем спросил: – И что же я должен сделать, коммодор? Взорвать Капитолий? Или похитить супругу Президента? Мэлори сухо хохотнул. – Ни то и ни другое, сынок! У нас тут не цирк Барнума, и клоуны нам не нужны. У нас серьезный бизнес и серьезные связи. Мы поставляем снаряжение армии США, а также странам Атлантического блока и их союзникам. Все, что угодно, от консервов, шнурков для ботинок, пуль, снарядов и гробов до систем космической обороны. Мы, “Халлоран Арминг Корпорейшн” – солидная фирма со стажем в сто тридцать лет, с высоким рейтингом и годовым оборотом в шесть миллиардов. Что нам мадам Клинтон и вся эта свора сенаторов и конгрессменов? Если мы пожелаем, они продадут Хилари в гарем брунейского султана, и глазом не моргнут. То есть, я хочу сказать, голосование будет единогласным…– он снова усмехнулся и закончил: – Ваша задача – служить на благо корпорации, как оговорено в контракте, в течение трех лет. Служить преданно и верно, а там посмотрим. Я правильно излагаю, Брайан? С дивана донеслось одобрительное хрюканье. – Хотелось бы ближе к делу, – заметил Каргин. Мэлори кивнул и уже начал приподниматься в кресле с вытянутой рукой, как бы желая на что-то показать, но тут в селекторе раздался женский голос: – Коммодор, на связи мистер Паркер. Просит зайти вас и мистера Ченнинга к нему. Срочно! – Срочно!.. – Мэлори чертыхнулся. – Подумайте – срочно! Срочно я только в гальюн бегаю. Холли, скажите ему, что я занят. Инструктирую персонал. Освобожусь через сорок минут. – Я сказала, но он настаивает. Он говорит…– начала секретарша, но тут послышался щелчок, а вслед за ним – слегка визгливый раздраженный баритон: – Ченнинг у вас, Мэлори? Так вот, приподнимите задницы – вы, оба! – и отправляйтесь ко мне. У нас неприятности с поставками Каддафи. Эти чертовы мины… Коммодор резким движением отключил селектор, бросил настороженный взгляд на Каргина и пробормотал: – Чертов болван! Язык вместо галстука… Брайан, может, вы сходите, утихомирите его? Диван жалобно заскрипел, Ченнинг поднялся с неожиданной для такого грузного человека легкостью и шагнул к дверям. На пороге, еще не коснувшись золоченой ручки, сделанной в форме револьвера “Смит и Вессон”, он замер, потом развернулся всем телом к Каргину и прогудел: – Хр-р… Отличный у вас английский, капитан! Мои поздравления… хр-р… Просто не верится, что вы служили в Легионе… хр-р… да, в Легионе, а не в САС [560]. Надеюсь, испанский столь же хорош? Каргин молча кивнул. Лицо его хранило выражение полной дебильности, какую должен демонстрировать солдат при спорах между начальством – ибо, как говорил, майор Толпыго: “Когда слоны дерутся, достается траве”. Эта мудрость была бесспорной и понятной Каргину, однако мины для Муамара Каддафи уже улеглись в арсенал его памяти. Все-таки мины, не консервы и не шнурки для ботинок! Каддафи же, разумеется, не относился к союзникам НАТО, и получалось, что ХАК, при всей своей солидности и связях, не брезгует приторговывать на черном рынке. “Может, не только минами и не с одним Каддафи? – мелькнуло у Каргина в голове. – Шесть миллиардов оборот – это не хрен собачий!” Ченнинг боком протиснулся в дверь и что-то загудел секретарше, перемежая короткие рубленые фразы хрипом и хрюканьем. Кажется, ему был нужен какой-то журнал – немедленно, срочно! – однако названия Каргин не разобрал: дверь захлопнулась, отрезав приемную от кабинета. – Ну, пора переходить к делам, – произнес коммодор звучным командирским голосом. Он отложил сигару, привстал, вытянул руку и ткнул в висевший над диваном пейзаж: – Остров Иннисфри. Открыт в семнадцатом веке испанцами. Тысяча миль к западу от побережья Перу и две с половиной – к востоку от Маркизского архипелага. Несколько южней Галапагосов… хм-м… скажем, миль так на семьсот-восемьсот. Счастливая земля! Здоровый климат, тропический, однако не слишком жаркий – остров находится в зоне Перуанского течения, с юга поступают прохладные воды, дожди идут еженедельно, и все благоухает и цветет. Пальмы, саговник, магнолии, сейбы, гибискус и виргинский кипарис… Разумеется, пляжи, живописные скалы и морские прогулки, плюс все блага цивилизации. Никаких опасных тварей. Птицы, ящерицы, крысы… кажется, еще летучие мыши… – Должно быть, райское местечко, – произнес Каргин, поворачиваясь к пейзажу и соображая, что этот островок, если верить словам коммодора, лежит где-то” пониже экватора, повыше южного тропика: примерно двенадцать градусов южной широты и девяносто – западной долготы. – Райское, – согласился Мэлори. – И живут на нем как в раю. Сотни две с половиной… Сто шестьдесят гражданских лиц обоего пола и гарнизон, рота из трех взводов. Огневые точки, радары, патрулирование берегов, бдительный персонал, круглосуточное дежурство… Ваши задача: спланировать операцию захвата. При условиях скрытности, внезапности и минимума атакующих сил. С учетом того, что силы эти дислоцируются в двух-четырех тысячах миль от Иннисфри. Возможно, в районе Сан-Диего на мексиканской границе, или в Гондурасе, Коста-Рике, на Кубе, в Колумбии или же в Чили. – Цель операции? – поинтересовался Каргин, изучая картину в темной траурной рамке. – Уничтожение определенного лица. А заодно, всех остальных обитателей рая. Всех, до последнего человека! Представьте, что у вас есть полный список – мужчины, женщины, солдаты… – Дети? – К счастью, детей нет, – сделав паузу, Мэлори взял сигару, понюхал ее и вдруг усмехнулся краешком рта: – Что, сынок, шокирован? – Я не склонен к сентиментальности, – сказал Каргин. – Я лишь уточняю задание. Значит, детей нет… к счастью… Какая же будет у нас смета? Коммодор одобрительно хмыкнул. – Деловой подход, мой мальчик, очень деловой! Так вот, желательно уложиться миллионов в двадцать, максимум – двадцать пять. И найти хороших исполнителей. Надежных и не болтливых. – При таких деньгах с исполнителями нет проблем, – откликнулся Каргин, помолчал и, чувствуя, как холодеет под сердцем, твердым голосом спросил: – Полагаю, что руководство акцией будет за мной? Как и ее практическая реализация? – Этого я не говорил, – усмехнулся Мэлори и, раскурив сигару, пустился в объяснения. Из них Каргину стало ясно, что операция носит превентивный и даже скорее умозрительный характер. Правда, не во всех деталях: так, например, остров действительно существовал и являлся резиденцией и частным владением старого Халлорана, приобретенным у правительства Перу на девяносто девять лет. Население Иннисфри состояло из трех групп, две из которых, числом за двести душ, обитали в поселке на западном берегу. Тут базировалась рота охраны и жили специалисты, обслуживающий персонал маленького порта и аэродрома, электростанции, ремонтных мастерских, пары питейных заведений и крохотной больницы. Повыше, на склоне горы, был выстроен замок – весьма комфортабельная вилла со штатом в сорок служащих. Садовники и слуги, конюх и шофер, великолепный повар, личный врач, телохранители, а также референты и эксперты – миниатюрный штаб, правивший империей Халлорана. Остров был его убежищем уже лет десять или двенадцать, но Патрик Халлоран отнюдь не играл в отшельника – во всех делах последнее слово принадлежало ему. Он и только он считался Хозяином, Боссом и Патроном. Причины, в силу которых Халлоран предпочитал уединение, были изложены Мэлори вскользь. Одна из них – усталость от всемирной суеты и частой перемены мест; в зрелых и молодых годах старик достаточно постранствовал, чтобы оценить покой на склоне лет. Другим немаловажным поводом была забота о здоровье, что понималось очень широко: похоже, старый Халлоран отождествлял себя с компанией и полагал, что если он здоров и крепок, то тоже самое относится и к ХАК. Третьей причиной являлись давние счеты с налоговым ведомством США и пронырливой пишущей братией, совавшей нос в любую щель. К последним Халлоран питал патологическую неприязнь еще и от того, что на него была объявлена охота: приз репортеру, который сумеет проникнуть на Иннисфри и не расстаться со скальпом. Но главная и основная причина касалась безопасности. Остров, свой королевский домен, Халлоран мог контролировать с большим успехом, чем любое владение на континенте – хотя бы потому, что Иннисфри не подпадал под перуанскую юрисдикцию, являясь как бы крохотной, но независимой державой со своими законами, порядками и судопроизводством. Впрочем, ни суда, ни полиции на острове не было; роль первого выполнял Халлоран – на правах монарха-самодержца, а полицейских вполне заменяли солдаты-наемники. О тех, кто мог угрожать Халлорану, Мэлори не слишком откровенничал, но намекнул, что врагов у старика хватает. Он торговал оружием без малого сорок. лет, и попадались среди его клиентов люди влиятельные и мстительные, не забывавшие обид и не прощавшие разных накладок и трений, почти неизбежных в случае тайной коммерции. Клиенты, по словам Мэлори, не всегда понимали, чем рискует ХАК, снабжая их пушками и минометами, танками и джипами, боеприпасами и амуницией; а если снабжать приходилось две противоборствующие стороны, то тут уж наступал конец всякому пониманию. До клиентов не доходило, что ХАК свободна от политических пристрастий и торгует с любым, кто может заплатить; ergo, плативший больше, получал технику мощнее и истребительнее – и, разумеется, истреблял противников. В удачном случае – до конца. Однако бывали и неудачи, когда недобитая сторона еще дышала, шевелилась и даже строила планы мести, в которых, кроме ненавистных победителей, мог фигурировать Халлоран. Для Каргина, повоевавшего в разных пределах, от Никарагуа до Ирака и от Анголы до Боснии, было нетрудно домыслить остальное. Видимо, многих нажгли Халлораны – и Патрик, и его отец и дед, что подвизались в оружейном бизнесе не первое столетие. Быть может, за этим семейством тянулись долги от партизан Панчо Вильи до гвардейцев Сомосы и тонтон-макутов “папы” Дювадье; а это значило, что охотников за головой Халлорана не перечесть. Фашисты и арабские террористы, сепаратисты всех мастей и всех оттенков кожи, Ливия, Ирак, Иран, Камбоджа, Чад, Ангола и Заир, афганские моджахеды, якудза и курды, ваххабиты и колумбийская наркомафия… Словом, врагов у Халлорана действительно хватало, так что остров Иннисфри был для него вполне подходящим местом. Но сколь безопасным? Это предстояло выяснить, и Каргин, внимая речам коммодора, решил, что тот не даром ест свой хлеб. Его идея была вполне разумной: пригласить специалиста по диверсионным акциям и заказать ему проект атаки Иннисфри. Возможно, нанять не одного, а нескольких экспертов из разных стран, с различным боевым опытом и связями; их разработки позволят обнаружить слабые места в системе безопасности и устранить их, укрепив заблаговременно оборону. А также проверить компетентность экспертов и выбрать из них наилучшего – такого, который возглавит гарнизон на Иннисфри. “Быть может, – мелькнуло в голове у Каргина, – эксперты были наняты, и каждый выполнил свою работу, представив некий план”. Тогда получалось, что сам он участвует как бы в негласном конкурсе по боевому планированию. И если победит… Это все объясняло: и солидные деньги, прописанные в контракте, и щедрые коммодорские посулы, и даже то, что нанят бывший российский офицер. “Русского если наймут, так в последнюю очередь”, – подумал Каргин, соображая, что в этом есть свои преимущества: выходит, все остальные претенденты были отвергнуты или, во всяком случае, оставлены про запас. При этой мысли он усмехнулся и, прищурившись, еще раз оглядел картину над диваном; двенадцать лет явной и тайной войны вселяли в него уверенность в собственных силах. Коммодор, затянувшись в последний раз, бросил окурок в пепельницу. – Работать будете в особом помещении, рядом с моим кабинетом. Там есть все необходимое: карты, справочники, компьютер, местный телефонный справочник, связь с любыми базами данных. В компьютере – вся информация об Иннисфри… вся, за исключением точных координат. Приступите завтра, в девять ноль-ноль, срок – неделя. Ни с кем о задании не болтать. Подчеркиваю – ни с кем! В курсе вашей работы только трое: я, Брайан и мисс Кэтрин Финли. Она из самых доверенных сотрудников отдела и будет выполнять роль вашей тыловой службы. Связь со мной, дом, машина, питание, развлечения… словом, любые вопросы. Надеюсь, возражений нет? – Ни в коем случае, – заверил коммодора Каргин с трудом сдержав желание облизнуться. – Тогда передайте ей ваш паспорт. Она свяжется с консульствами во Фриско, получит необходимые визы. Все, какие могут пригодиться. – Слушаюсь, коммодор. Каргин поднялся, одернул пиджак и, дождавшись кивка Мэлори, вышел в приемную. В отличие от кабинета, приемная была обставлена великолепно: коллекция старинных револьверов, “кольтов”, “магнумов” и “смит и вессонов” на западной стене, сабли, палаши и самурайские мечи – на восточной, бар с калифорнийскими винами и французскими коньяками, фотографии бронемашин и самолетов в золоченых рамках, мягкие кресла с гнутыми ножками и два огромных звездно-полосатых флага по обе стороны двери – той, что вела в коридор. Над дверью в кабинет Мэлори была закреплена стальная пластина с отчеканенной надписью: “Halloran Arming Corporation. New York, 1863”, а слева от нее располагался стол секретарши. Там Каргина поджидала мисс Холли Роббинс, полная дама лет сорока, с повадками голливудской кинозвезды и чарующей улыбкой. Зубы у нее были просто загляденье – ровные, белые, один к одному. “Наверняка вставные”, – подумал Каргин. – Пропуск и ключи от вашей машины, мистер Керк. Поищите на стоянке справа от входа открытый песочный “шевроле” с подушками цвета кофе с молоком. Пропуск нужно носить вот здесь…– она ловко прицепила жетон к лацкану каргинского пиджака, затем, покопавшись в ящике, извлекла прошлогодний номер “Форчуна”. – Еще вот это. Мистер Ченнинг просил разыскать и обязательно передать. – Благодарю, – надев колечко с ключами на палец, Каргин бросил завистливый взгляд на револьверы и мечи, потом с сомнением уставился на журнал. – Вообще-то, я читаю “Милитари ревью”… Мисс Холли игриво погрозила ему пухлым пальчиком. – Не интригуйте меня, юноша! Я знаю, что читают в вашем возрасте… и что разглядывают по вечерам… Свежий “Плейбой” купите сами. А это, – ее пурпурный ноготок коснулся глянцевой обложки, – это вы почитайте днем, как посоветовал мистер Ченнинг. Здесь статья о нашей корпорации и о мистере Халлоране. Мистер Ченнинг полагает, что вам полезно с ней ознакомиться. – Непременно, милая леди, – сказал Каргин, сунул журнал под мышку, еще раз полюбовался “кольтами” и вздохнул. Потом не спеша направился к выходу разыскивать песочный “шевроле” с подушками цвета кофе с молоком. Пару часов Каргин покрутился среди ангаров, административных корпусов и поселковых коттеджей. Ангары были большими, квадратными в основании и группировались вокруг просторного плаца, частично забетонированного, частично засыпанного гравием, с крутыми насыпями, рвами и противотанковыми надолбами; здесь, вероятно, демонстрировалась бронетехника. Административных зданий оказалось пять. Они стояли друг за другом и были все на одно лицо: вытянутые двухэтажные строения с галереями и зеленоватыми окнами, похожие на аквариумы. Справа от них находилась автостоянка, и Каргин, прикинув количество машин, понял, что в штаб-квартире ХАК вкалывают тысячи две сотрудников. Пространство между корпусами-аквариумами использовалось с толком: во-первых, здесь были разбиты скверы с беседками и фонтанчиками, а во-вторых, имели место три кафе, бар с игральными автоматами и бесчисленные киоски с сигаретами, напитками, пончиками, газетами, солнечными очками и жевательной резинкой. Поселок располагался километрах в трех от рабочей зоны, у подножия холма с президентской виллой. Параллельно Грин-авеню шли пятнадцать или двадцать улочек с поэтическими именами вроде “Аллеи Роз”, “Бульвара Утренней Зари” и “Большой Секвойи”; на каждой – тридцать-сорок уютных домиков, тонувших в зелени и цветах. Растительность была пышной, разнообразной и радовала глаз: стройные пальмы соседствовали с кипарисами и дубами, рододендронами, калифорнийскими кедрами и еще каким-то хвойным деревом, неведомым Каргину. В конце улочки Большая Секвойя обнаружился древесный гигант неохватной толщины, подпиравший, казалось, самое небо, и он решил, что это и есть секвойя. Среди ее чудовищных корней ютился автомат с банками кока-колы. На Грин-авеню нашлось питейное заведение посолидней – бар, стилизованный под испанскую венту, где подавали пиво, виски и вино. Он стоял напротив коттеджа под номером двадцать два, а рядом высился бревенчатый салун под названием “Старый Пью”, с бильярдной, кегельбаном и тиром, располагавшимся несколько поодаль и огороженным дубовой стойкой. Проезжая мимо, Каргин втянул носом воздух и расплылся в блаженной улыбке: пахло жареными цыплятами и какой-то острой мексиканской приправой. В шесть часов атмосфера наполнилась запахом бензина и гулом машин; их пестрый поток устремился к дороге под вязами и дубами, распадаясь на два полноводных ручья: одни катились к поселковым улочкам, другие – в Уолнат-Крик, а возможно, и дальше, на запад, к заливу. Сообразив, что рабочий день закончился, Каргин подрулил к “Старому Пью”, со вкусом пообедал, выпил пива в баре и приценился к шампанскому. Местное стоило пятнадцать долларов, французское – семьдесят пять. Он вздохнул, поскреб в затылке, но купил французское; бросил тяжелую бутыль на сиденье “шевроле”, снял пиджак и направился к стрельбищу. Публики там не было, если не считать чернокожего паренька, содравшего с Каргина пяток “зеленых”. В обмен ему были предложены спортивный пистолет, “беретта”, “кольт” модели девятьсот одиннадцатого года и“специальный полицейский” сорок пятого калибра. Каргин выбрал полицейский револьвер и под восхищенное улюлюканье мальчишки всадил шесть пуль в десятку. Стреляли здесь по мишеням армейского образца, прибитым к фанерному щиту и представлявшим поясной контур без рук, но с головой. От револьверных пуль фанера летела клочьями, а гром стоял такой, будто палили все батальонные минометы разом. Каргин пошарил в карманах, сунул парню мелочь, какая нашлась, и расстрелял еще пару обойм. Когда рассеялся дым и смолк грохот последнего выстрела, сзади раздались аплодисменты. Он обернулся и встретился взглядом с рыжеволосой девицей в красной маечке и шортиках. Она была по плечо Каргину, невысокая, стройная, хрупкая, но с полной грудью; майка так обтягивала ее, что выделялись соски. Бледное личико с веснушками у вздернутого носа казалось бы приятным, даже красивым, если бы не губы, кривившиеся в ухмылке, и некая облачность в серо-зеленых глазах. Причину такого тумана Каргин определил с пяти шагов: от рыжеволосой красотки попахивало спиртным. Запах стал особенно заметен, когда она, шагнув поближе, ткнула его кулачком в плечо. – Ты кто, ковбой? Новый охранник? Откуда? – Спецагент Алекс Керк, сестренка, из самой Черной Африки, – ответил Каргин и свирепо оскалился. – Киллер! Нанят мистером Ченнингом, чтобы пришить мистера Мэлори. – Киллер, ха! А я – майское дерево! – Не веришь? – он похлопал себя по карманам. – Черт, мелочь кончилась… Доллар-другой у тебя найдется? Дай мальчишке, пусть набьет барабан, и я пристрелю вас обоих. – А если без пистолета, руками? – она придвинулась так близко, что напряженные соски уперлись в грудь Каргину. – Можно и руками, – согласился он, взял ее за талию, приподнял и отодвинул на полметра. – Ты как желаешь: чтобы я тебе шею свернул, сердце проткнул или вырвал печенку? Рыжая захихикала. – Лучше проткни. Только начинай снизу, – она уцепилась за локоть Каргина и потянула его к бару. – А ты ничего, ковбой! Как тебя?.. Алекс? Ну, Алеке так Алекс… Весельчак! Люблю весельчаков… Пой-дем-ка, отметим знакомство… Угостишь бедную юную леди? – В другой раз, – пообещал Каргин, шагая рядом и искоса разглядывая ее. «Леди, может, и бедная, однако не юная, – подумалось ему. – Постарше Кэти, но не намного, на год или два. Нахальная, но вполне ничего… ежели в трезвом виде и приличном платье… или вовсе без платья… Посмотрим сначала, что с Кэти выйдет!» – решил он и, осторожно выдернув руку из цепкой хватки рыжей, поинтересовался: – Имя у юной леди есть? – Мэри-Энн, – пробормотала девушка, покачнулась и привалилась к плечу Каргина, обдавая его запахом виски и горьковатым ароматом духов. Он поддержал ее под локоток. – Мэри-Энн? Проще Нэнси… Рыжая вздрогнула и резко отстранилась. Возможно, она была не так уж пьяна или протрезвела на мгновенье, но сейчас, когда девушка стояла перед Каргиным, в ее глазах он не заметил ни облачности, ни туманной мглы. Совсем наоборот! Они блестели и сверкали, и казалось, что из них вот-вот с шипеньем вылетят молнии, испепелив его дотла. – Не проще! – покачиваясь, она погрозила ему пальцем. – Не проще, ковбой! Запомни: никаких Нэнси! Меня зовут Мэри-Энн! – А меня – Керк! И никаких ковбоев. Он повернулся и зашагал к машине… Смеркалось тут рано, в девятом часу. Добравшись домой, Каргин пошарил в шкафах, нашел спортивный костюм, переоделся, устроился на крыльце и приступил к изучению соседнего коттеджа. Небеса, усыпанные звездами, располагали к приятным мечтам, в траве верещали и пели цикады, ветер шелестел листвой, рябил воду в бассейне и пах чем-то приятным – жасмином или розами, или цветущей акацией. Дом за поляной был почти не виден, как и флаг, полоскавшийся над ним, но вместо флага трепетала в освещенном окне занавеска – будто призывный сигнал, в единый миг заставивший Каргина позабыть о рыжей. На фоне полупрозрачной кремовой занавески скользила тень. Он разглядел стройную фигурку Кэти у большого овального зеркала; руки девушки ритмично двигались вверх-вниз, волосы струились темным облаком, обнимали плечи, шаловливыми змейками ласкались к груди. Временами ветер приподнимал занавеску, и тогда Каргин мог бросить взгляд в глубину комнаты, на столик у дивана, где горела лампа и что-то поблескивало и сверкало – кажется, хрусталь. Налюбовавшись, он поднялся, прихватил бутылки с шампанским и коньяком, распугивая цикад, пересек лужайку и, очутившись под окном, продекламировал: – Моряк возвратился с моря, охотник вернулся с холмов… [561] Пустят ли его в дом? – Пустят, – послышался голос Кэти, и занавеска отдернулась. – Но должна заметить, что ты не торопился. – Зато я принес шампанское, – сказал Каргин и, единым махом перескочил через подоконник. Он не ошибся: на столике у дивана блестелихрустальные бокалы и небольшие стаканчики, замершие на страже при вазе с фруктами. Его несомненно ждали и встретили ласковым взглядом и поощрительной улыбкой. В комнате царил полумрак, в овальном зеркале у окна отражались звезды, лампа под голубым абажуром бросала неяркий свет на лицо Кэти. На ней было что-то воздушное, серебристое, неземное – одна из тех вещиц, какими женщины дразнят и тешат мужское воображение. Впрочем, Каргин не приглядывался к ее наряду, интересуясь больше тем, что находилось под тонкой полупрозрачной тканью. Однако дело – прежде всего, и он, вытащив паспорт, вручил его Кэти. Она раскрыла красную книжицу. – Тебе тридцать три? – Хороший возраст, – сказал Каргин, открывая шампанское. – Уже есть, что вспомнить, и есть еще время, чтобы об этом забыть. Кэти, поджав ноги, устроилась рядом на диване. – О чем же ты хочешь забыть, солдат? О неудачной любви? О женщине? – О женщине? Хм-м, возможно… Такая рыжая, с манерами герлскаут на школьной вечеринке… Много пьет и липнет к незнакомым парням. Не хочет отзываться на имя Нэнси. Зрачки Кэти внезапно похолодели, будто пара замерзших темных агатовых шариков. Отодвинувшись, девушка с подозрением уставилась на Каргина. – Где ты ее подцепил, Керк? – Не подцепил, а встретил. В “Старом Пью”. – Рыжая шлюха… Где ей еще сшиваться…– Кэти презрительно поджала губы. – Держись подальше от Мэри-Энн, солдат! Если тебе интересны такие… такие… Каргин был не прочь разузнать побольше о загадочной Мэри-Энн, но обстановка к тому не располагала. Притянув Кэти к себе, он нежно поцеловал ее в шею. – Совсем не интересны, и я о ней уже забыл, детка. О всех забыл, кроме тебя. Личико Кэти смягчилось. – Льстец! Ну, ладно, что тут поделаешь… все вы льстецы… в определенное время…– она подняла бокал и с мечтательной улыбкой промолвила: – Раз ты забыл про Мэри-Энн, выпьем за Париж! Ты расскажешь мне о Париже, Керк? – О Париже? Как-нибудь потом. Сначала поговорим о тебе и о твоих прекрасных глазах. Глядя сквозь янтарную жидкость на свет лампы, Каргин с чувством произнес: Карие глаза – песок, Осень, волчья степь, охота, Скачка, вся на волосок От паденья и полета. – Киплинг…– зачарованно прошептала Кэти. – Ты знаешь Киплинга, солдат? – Я его просто обожаю, – сказал Каргин, обняв Кэти за гибкую талию. – Выпьем! Они выпили. Жизнь прожить – не поле перейти, но в жизни той были проложены разные тропки для разных целей, в том числе – для покорения женских сердец. Каргин ведал многие из них. Тропки вились прихотливо и были. столь же отличны одна от другой, как женские души. Кого-то покоряли нежностью, кого-то – лестью, кого-то – кавалерийской атакой; одни клевали на грубую силу, на мундир в золоченых шнурах, на блеск погон и крепкие мышцы, других приходилось обольщать ласками и поцелуями, цветами и сладкими речами, третьим пускать пыль в глаза, повествуя о ранах, битвах и подвигах в африканских джунглях. В общем, годилось все, кроме угроз и прямого обмана. Кэти, как полагал Каргин, нужно было брать напором и интеллектом. Тоска по Парижу выдавала натуру романтическую, мечтательную, склонную к лирике и поэзии, но в то же время он подозревал, что лирика с романтикой замешаны на здоровом американском прагматизме, идеалами коего были успех, энергия и сила. Это обещало сделать их отношения не только приятными, но и полезными. Романтика подогревает страсть и хороша в постели, а с женщиной практичной можно потолковать, узнав немало нового. Скажем, о том, какие эксперты шли на приступ халлорановых владений, и чем им это улыбнулось. Он разлил коньяк в маленькие стаканчики. – Теперь – за тебя, – сказала Кэти, перебираясь к нему на колени. – Люблю мужчин с серыми глазами. Хотя среди них встречаются такие…-она хотела что-то добавить, но вовремя прикусила язычок и лишь с брезгливостью передернула плечами. – За тебя, Керк! Как там у Киплинга?.. Серые глаза – рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены… Воздушное одеяние Кэти распахнулось, и Каргин стал целовать ее соски. Они ожили под его губами, напряглись, распустились, стали розовыми и твердыми, как ягоды шиповника. Внезапно Кэти вздрогнула, застонала, склонившись над ним; ее дыхание обожгло шею, пальцы принялись торопливо расстегивать рубашку Каргина, потом коснулись шрама под левой ключицей, нащупали длинный тонкий рубец, погладили его, спустились ниже. Халатик девушки с легким шелестом соскользнул на пол. "Как-то все очень быстро получается”, – подумал Каргин, и это было его последней мыслью. Дальше – лишь ощущение нежной упругой плоти, жадно прильнувшей к нему, запах жасмина и роз, тихие вздохи, страстная песня цикад за окном и чувство, какое испытывает пловец, покачиваясь в ласковых, теплых, плавно бегущих к берегу волнах. Это повторялось снова и снова, пока сладкая истома не охватила Каргина, заставив смежить веки. Он задремал, прижав к себе теплое тело девушки, и в эту ночь ему не снились ни яма в афганских горах, ни джунгли Анголы, ни перепаханная бомбами боснийская земля.Глава третья
Три следующих дня Каргин пил кофе большими кружками, рылся в справочниках и картах и терзал компьютер. Компьютеров в его рабочей комнате было, собственно, два: один обеспечивал доступ в сеть и выдачу всевозможных сведений, в другом, автономном, хранилась информация об Иннисфри. Первым делом Каргин попытался уточнить географические координаты острова, но вскоре выяснил, что объект с таким названием нe существует ни в одном из земных океанов. Впрочем, имелась справка, что остров, после его приобретения Халлораном, был переименован на ирландский манер по желанию нового владельца, а прежде носил имя Мадре-де-Дьос. Для этого координаты нашлись, но с тем примечанием, что их исчислил в восемнадцатом веке какой-то испанский капитан из благородных кабальеро, не слишком сведущий в навигации, а потому ошибка могла составлять полсотни миль в любую сторону. Что же касается острова как такового, то он имел овальную форму, вытянутую с запада на восток, и площадью равнялся Мальте. Длина Иннисфри составляла двадцать, а максимальная ширина – четырнадцать километров, и этот солидный кусок тверди являлся ничем иным, как разрушенным и частью затопленным кратером древнего вулкана. Его западный склон был пологим, сглаженным ливнями и ветрами, и тянулся от бухты, похожей на круглый рыбий рот в обрамлении стреловидных челюстей, до скалистого гребня стометровой высоты. Два мыса-серпа были самыми западными точками Иннисфри; между ними пролегал пролив, довольно. глубокий, шириною в триста метров, переходивший в. просторную бухту Ап-Бей – иными словами, Верхнюю. Лоу-Бей, или Нижняя бухта, располагалась в четырех-пяти километрах на юго-востоке и была не круглой, а вытянутой, напоминавшей фиорд, поскольку ее обрамляли с двух сторон обрывистые базальтовые утесы – след давнего разлома кратерной стены. В самой ее глубине имелся искусственный песчаный пляж, а больше ничего, если не считать пляжных домиков и тентов. Вся остальная часть острова, за исключением западного склона, являла собой вулканический кратер, занесенный камнями, песком и слоем довольно плодородной почвы. Кратер охватывала скалистая стена, кое-где в двести-триста метров высотой и совершенно неприступная с моря, но с осыпями, трещинами и пещерами с внутренней стороны. В этом базальтовом кольце рос сырой и душный мангровый лес, переходивший иногда в трясину, с редкими пальмами, панданусом и болотным кипарисом на более сухих местах. Бросовые земли, занимавшие три четверти Иннисфри и совсем не похожие на рай; но для создания рая все-таки оставались западный склон, продуваемый свежими морскими бризами, и обширная низменность около Верхней бухты. Бухта имела в диаметре километра два, дальний ее конец был отгорожен молом с маячной башенкой, а на берегу располагался вполне современный поселок с казармой для солдат охраны, полусотней коттеджей, складами, причалами и питейными заведениями. Северней поселка лежал аэродром, не очень большой, но и не маленький, вполне подходящий для пятитонных транспортов и, разумеется, вертолетов. Там же находились электростанция, склад горючего, ремонтные мастерские, ангары и гаражи, обрамлявшие прямоугольник взлетного поля. К востоку от бухты местность постепенно повышалась, и в самой высокой точке, посередине западной кратерной стены, стоял замок Патрика Халлорана – судя по фотографиям, монументальное сооружение в древнеегипетском стиле, с прилегающим парком, жилым трехэтажным корпусом для персонала, конюшнями, бассейнами, антенной спутниковой связи и обзорной террасой. От поселка к дворцу поднималось серпантином благоустроенное шоссе, а по гребню кратера были проложены дороги: на юг, к Нижней бухте и пляжу, и на север, до небольшого мыса, где находился наблюдательный блок-пост. Имелись и другие магистрали, а также луга, леса, ручьи, пальмовые рощи и тропки для пеших и конных прогулок; все-таки обитаемая часть Иннисфри была отнюдь не малой, раза в три побольше, чем княжество Монако. Но главной достопримечательностью острова был не дворец и не поселок, не мангровый лес, заполонивший кратер, не живописные разломы скальных стен и не каменистые осыпи и пещеры. На западном гребне, в двух километрах к югу от дворца, лежало горное озеро эллиптической формы, и эта странная деталь пейзажа повергла Каргина в недоумение. Горные озера полнятся ручьями, текущими с заснеженных хребтов, а здесь не имелось ни снега, ни подходящего хребта – зато был ручей, струивший воды по склону к Верхней бухте. Даже не ручей, а целая река: неподалеку от устья через нее был переброшен мост, и от него дорога поднималась в горы, к замку. Мост, конечно, охранялся – на плане; в этой точке был изображен кружок с крохотным пулеметом. На первый взгляд происхождение озера было загадкой, поразительным и непонятным феноменом. Однако порывшись в файле с геологическим описанием острова, Каргин выяснил, что в земных глубинах, где-то под вулканической подошвой Иннисфри, есть водяная линза, питавшая озеро с неиссякающей щедростью. Разумеется, не Божьим промыслом – скважину пробурили лет десять назад, в период интенсивного благоустройства, прокладки дорог и насаждения пальмовых рощ. Данный факт казался весьма любопытным, однако имел десятое отношение к задачам Каргина. Его гораздо больше интересовали бетонные ячейки блок-постов, наземные радары и сектора обстрела, спаренные крупнокалиберные пулеметы, авиационные пушки, “стингеры”, три патрульных вертолета и шесть катеров береговой охраны. Все это хозяйство, само собой, удалось бы приговорить и раздолбать силами десантного батальона при шестикратном превосходстве в численности, с артподдержкой с воздуха и моря, но такую операцию скрытной не назовешь. Никак не назовешь! И потому парашютный десант и ковровое бомбометание исключались, равным образом как “Черные акулы” и “апачи”, “стелсы” и “МиГи”, транспортные амфибии, ударные авианосцы и атомные субмарины класса “Стерджен” и “Лафайетт”. Морская пехота тоже могла спать спокойно, как и другие части спецназа великих и мелких держав. Такие солдаты не подходили для резни, тотального уничтожения гарнизона и полутора сотен гражданских лиц. Тут требовался контингент иной выучки, убийцы и башибузуки вроде тех, какими командовал Кренна – мастера зачисток и облав, получавшие плату с головы. Там, где они прошли, живых не оставалось, пленных они не брали и потому носили с честью имя “эскадрона смерти”. Но кроме исполнителей определенных качеств, нужна была и техника. Не самолеты и не надводные корабли, которые можно засечь в любой из точек тысячемильной траектории, но средство скрытное, мобильное не поддающееся наблюдению, невидимое для наземного радара. Одна из тех субмарин, какие предназначались не для торпедных атак или ракетных залпов, а для разведки и переброски диверсионных групп. Такое судно стоило дорого и не укладывалось в предложенную коммодором смету, что, впрочем, не смущало Каргина: к чему покупать, если можно арендовать? Он исчислил арендный взнос в десять-пятнадцать миллионов и, закончив с транспортными проблемами, приступил к наземной операции. Тут была некая сложность, связанная с размерами обитаемой части острова. Ее прикрывали восемь блокпостов, но кроме них имелись другие объекты стратегической важности: во-первых, казарма и пункт управления обороной, во-вторых – аэродром, и в-третьих – замок с системой спутниковой связи. Все эти точки полагалось атаковать одновременно, сломив сопротивление и захватив контроль над связью в течение пяти-семи минут. Связь была самой важной проблемой; если промедлить, сообщение об атаке уйдет в Кальяо, Лиму и десяток других мест, и помощь оттуда поступит незамедлительно. Патрик Халлоран был слишком важной персоной, чтобы не реагировать на его звонки. Итак, одномоментный удар. Азы военной науки гласили, что нанести его без вертолетов невозможно, а это значило, что два или три “помела” предстоит захватить либо привезти с собой. Каргин остановился на последнем варианте. Захват аэродрома стоил нескольких потерянных минут и не давал гарантий, что патрульные “вертушки” снаряжены и полностью готовы к бою. А “вертушек” требовалось никак не меньше двух: один экипаж атакует дворец и три ближайших блок-поста, другой уничтожает огневые точки на северном мысу и у моста через ручей. Все расстояния, если отсчитывать их от поселка у Верхней бухты, укладывались в пять-восемь километров; значит, была возможность атаковать любой объект в течение двух-трех минут… Военные штудии Каргина длились строго по расписанию, с девяти до шести, и проходили в комнате без окон, похожей на глухую, обитую звукоизолирующим пластиком внутренность сейфа. При комнате были душ и туалет, а также кухонная ниша, большой кофейник и неиссякаемый запас растворимого кофе “Седло Дорадо”. В комнату вели стальные двери, которые не открывались, а откатывались в стены; за ними изгибался узкий коридорчик, а в его конце имелась еще одна дверь, уже привычной конструкции, но с кодовым замком. Карта с паролем на вход хранилась у Кэти; утром она отводила Каргина на рабочее место, вечером забирала, а ровно в тринадцать ноль-ноль выпускала погулять и закусить в одном из кафе между вторым и первым административными корпусами. В это время тут не болтался никто; у служащих ХАК перерывы на ланч были в двенадцать и в три пополудни. В час отдыха Каргин был всегда рассеян и ел торопливо, уносясь мыслями к острову Иннисфри и прикидывая, откуда начать атаку, с Верхней или Нижней бухты, и как половчей захватить дворец – с террасы или же с главного входа. Кэти, казалось, его понимала и не старалась разговорить. Для долгих неспешных бесед у них хватало времени по вечерам, и говорили они о российском житье-бытье, Питере и Москве, родителях Каргина, но главным образом о Париже, его мостах, ведущих к Ситэ и Сен-Луи, донжонах Венсенского замка, о площади Вогезов и храме Валь-де-Грас. Правда, до бесконечности те разговоры не тянулись, а прерывались иногда протяжными стонами и вскриками – мелодией любовных флейт и тамбуринов, звучавшей под скрипичный оркестр цикад. Судьба наемника полна превратностей и перемен: сегодня ты жив, а завтра мертв, утром здоровый и бодрый идешь на приступ, а в полдень валяешься в воронке без ноги и истекаешь кровью, падаешь в ночную тьму под нераскрывшимся парашютом, подрываешься в джунглях на мине, получаешь удар штыком и глядишь, как стервятники копошатся в твоем распоротом животе. И никакой благодарности, ни памятников, ни орденов, ни залпов над могильным камнем… Да и могилы нет; скорей упокоишься в звериной пасти, как предрекал Киплинг. Гиены трусов и храбрецов жуют без лишних затей… И, помня об этом, Каргин времени зря не терял. Что в руки солдата попало, на том и спасибо! На третий день боевых трудов, во время ланча, кто-то остановился за его спиной. Каргин не видел подошедшего; он доедал салат и размышлял о том, не подорвать ли казарму и ближние к ней посты минами ПТМ, от коих танк взлетает в воздух на два человеческих роста. Одновременно он любовался Кэти – если не считать пальмы у их столика, увитой лианой в алых цветах, она была самым приятным украшением пейзажа. Вдруг лицо ее переменилось. Зрачки потемнели, яркие полные губы вытянулись в шпагат, брови сошлись на переносице, а под нежной смуглой кожей щек наметились желваки. Она была будто взведенная граната – отпусти кольцо, грохнет взрыв, метнется пламя и полетят во все стороны осколки. Такая Кэти совсем не нравилась Каргину. За его спиной раздался голос. Чем-то он был знаком – раздраженный, чуть визгливый, с заметными повелительными нотками. – Когда я подхожу к своим сотрудникам, им полагается вставать! Каргин прожевал листик салата и поднял голову. Молодой мужчина, примерно его лет, в безупречном белом костюме и замшевых туфлях; высокий, рыжеватый, с серо-зелеными глазами и надменным капризным ртом. Кого-то он напомнил Каргину – кого-то очень знакомого, виденного многократно, в различных обстоятельствах и ракурсах. Не его ли самого?.. “Все может быть”, – мелькнула мысль. Правда, подбородок у Каргина был покруче, скулы пошире, а волосы – потемней, и рыжинка в них едва просвечивала. Но сходство, безусловно, существовало – такое, какое волей случая бывает между чужими людьми, рожденными в разных концах планеты. Осмотрев незнакомца с ног до головы, Каргин отвернулся и подмигнул Кэти: – Кто такой? – Бобби. Он же – Роберт Генри Паркер, наследник и президент, – пояснила она без особой приязни, выделив слово “наследник”. – Нынешний босс корпорации. Брови у Каргина полезли вверх. В сказанном девушкой не было и намека на пиетет или хотя бы обычную вежливость, с которой мелкий служащий обязан относиться к шефу, главе могущественной фирмы. Выводов можно было сделать два: либо Кэти не являлась мелким служащим, либо ее связывало с Паркером нечто личное, позволявшее общаться накоротке. “Может быть, имеют место оба варианта”, – решил Каргин и медленно протянул: – Значит, босс и президент… А что же ты не встаешь? Губы Кэти скривились в торжествующей усмешке. – Я из административного отдела, который ему не подчинен. А если бы и был подчинен, ему все равно меня на улицу не выбросить! Никак не выбросить! – До поры до времени, крошка, – ядовито заметил Паркер, приземляясь на стул рядом с Каргиным. – До поры до времени… У всех твоих покровителей из задниц уже сыплется песок. А когда высыпется весь, мы потолкуем об улицах и панелях. Или я не прав? Кэти, побледнев от ярости, хотела ответить чем-то не менее ядовитым, но Каргин накрыл ладонью ее стиснутые руки. Он был поборником дисциплины и привык к тому, что человека можно не уважать, но чин его и звание – совсем другое дело. Как говорил майор Толпыго со всей армейской прямотой: “Честь отдаешь не морде, а погону”. – А я ему подчинен? Я обязан вставать? – Если пожелаешь, – пожала плечами девушка. – Но ты нанят Мэлори – службой безопасности, проще говоря, а она подчиняется только старику… то есть, я хотела сказать, мистеру Патрику Халлорану. Диспозиция прояснилась, и Каргин, повернувшись к Бобу, взиравшему на него с каким-то нехорошим интересом, обматерил президента по-русски. Это заняло пару минут, так как ненормативной лексикой он владел в совершенстве, как и положено всякому командиру роты. – Что это было? – поинтересовался Боб, когда список сексуальных привычек его родителей подошел к концу. – Это был великий и могучий русский язык, – объяснил Каргин. – Цитата из “Братьев Карамазовых” нашего гения Достоевского. Президент хочет еще что-нибудь послушать? Щечки Кэти порозовели. Паркер недовольно пожевал губами, нахмурился, потом буркнул: – Сестра говорила, что ты неплохо стреляешь… – Какая сестра? – Рыжая стерва Мэри-Энн, – с усмешкой промолвила Кэти. – Та, которая много пьет, липнет к чужим парням и не желает отзываться на имя Нэнси. – Было такое, – Каргин согласно кивнул. – Послезавтра суббота, – Паркер резким щелчком сбил пылинку с пиджака. – Приходи в двенадцать к “Старому Пью”. Постреляем. Он встал и, не прощаясь, двинулся к проему в подстриженных кустах, обозначавшему выход из кафе. – Фрукт, однако, – заметил Каргин. – Самоуверенный болван! – прошипела Кэти. – Наследничек… – А другие у Халлорана есть? Дети, там, или внуки? – Старик, я слышала, женщин любил, но не был женат и о прямом наследнике не позаботился, – взгляд Кэти, скользнув по лицу Каргина, переместился на пальму, усыпанную алыми цветами. – Бобби и Мэри-Энн – дети его сестры Оливии Паркер-Халлоран… Но это ничего не значит. Ровным счетом ничего! – Почему же? Кэти неторопливо навивала на палец длинную каштановую прядь. – Во-первых, потому что могут найтись и другие наследники. Во-вторых, Патрик Оливию терпеть не может. Она младше на двадцать лет и родилась в четвертом браке его отца, Кевина Халлорана. Потом связалась с нищим баронетом из Йоркшира Джеффри Паркером, а тот ее обобрал и бросил. А Халлоран британцев ненавидит. Ирландский националист, поклонник фениев… субсидировал ИРА… говорят, субсидирует и сейчас. А кроме того… Она замолчала, и Каргин, выждав минуту-другую, осторожно напомнил: – Кроме того, есть и третье, так? И что же? – Есть, и дело в Бобби. Старик уверен, что лишь настоящий мужчина может возглавить компанию, а Бобби… – Бойскаут? Или плейбой? – Глупец, фанфарон и самовлюбленный идиот… корчит из себя супермена…- Кэти передернула плечами. – Любитель патронов большого калибра, больших машин и волосатых задниц. Может и свою подставить, не сомневайся! Присвистнув, Каргин заметил: – Я вижу, ты в курсе всех семейных дел! – Если ты о пристрастиях Бобби, так в этом нет ничего секретного…– Кэти оперлась подбородком на переплетенные пальцы, продолжая глядеть куда-то мимо Каргина; лицо ее приняло задумчивое выражение. – Видишь ли, Керк, я из хорошей семьи, но небогатой, и манна мне с неба не падала. Был один случай, был да сплыл… А раз сплыл, то я решила, что позабочусь о себе сама. Найду богатого парня, вскружу голову и увезу в Париж…– она вдруг лукаво сощурилась и заглянула Каргину в глаза. – Кажется, твой отец – генерал? Наверное, он человек богатый? Каргин, расхохотавшись от души, поднялся. – Выстрел мимо, бэби! Старый русский генерал – это тебе не новый русский! – он подхватил девушку под локоток. – Ну, пойдем… Пора трудиться. Отец его был из кубанских казаков, служивших Отечеству верой и правдой без малого два столетия, но кроме чести, ран и орденов не выслуживших ничего ни у царей, ни у самодержавных генсеков. Отец никогда и не жаждал богатства, повинуясь иному императиву, ясному и четкому: солдат должен служить, сражаться и защищать. Что он и делал тридцать лет, пока не лишился пальцев на ноге во время штурма Панджшерского ущелья. За все труды и пролитую кровь получил неплохую должность, вернулся на родину в Краснодар, служил там в штабе округа, но в девяносто шестом, когда закончилась первая чеченская война, подал в отставку. Каргин расспрашивал, зачем да почему, а отец отмалчивался, темнел лицом и лишь однажды буркнул: орлы, мол, с лебедями и грачами в одной стае крыльями не машут. Род свой Каргин считал по отцу, но походил на мать, светловолосую и сероглазую москвичку. По матери считаться было нечего – бабка Тоня ее “нагуляла” в сорок четвертом в оголодавшей, пропахшей порохом Москве, а от кого, о том в семье не говорилось. Должно быть, мать сама не знала – бабку Тоню Бог прибрал в шестидесятом, еще молодой и до того, как отец, учившийся в Академии Генштаба, повстречался с матерью. Помнились, однако, Каргину фотографии красивой женщины в старом семейном альбоме да десяток книжек на английском – бабка Тоня была переводчицей, и мать, посмеиваясь, говорила, что от нее он унаследовал дар к чужим языкам. "Драгоценный дар, – думал он временами, – дороже всяких денег!” Языки шли у него легко, особенно испанский, который вместе с английским преподавали в училище ВДВ, а потом – в Питере, на курсах спецподготовки. В Гаване и Кампечуэле он овладел им в совершенстве, а заодно обучился метать ножи и лассо, вспарывать горло навахой и драться на мачете. В память о тех временах остался не только язык, но и отметина над коленом, где вспороло кожу стальное лезвие в руках инструктора. Инструктор дон Куэвас был человеком суровым и таким же безжалостным, как его мачете – длинный изогнутый клинок, вдвое тяжелей кавалерийской сабли. Каргин иногда тосковал по этому оружию; в сравнении с ним сюрикены и проволока-удавка казались елочными игрушками. В пятницу рабочий день завершился пораньше, к четырем, и Кэти повезла Каргина в город. Видимо, Сан-Франциско уже оправился от прошлых бедствий; все его здания – знаменитая Пирамида и миссия Долорес, консерватория и Янговский мемориал, музеи Азии и современного искусства, сто сорок театров и даже тюрьма на острове Алькатраз – все они выглядели вполне пристойно, а пальмы и другие насаждения успели вымахать метров на двенадцать. Впрочем, Каргин порадовался бы любому городу, что Москве, что Краснодару или Фриско, так как за время службы в Легионе в нормальных городах бывал не часто – пару раз в Париже, один раз в Риме, в период отпуска. Что же касается иных городов, каких-нибудь Киншас и Могадишей и даже Сараева, то они в момент появления там Каргина дружно лежали в развалинах или горели, или простреливались насквозь из минометов и тяжелой артиллерии. Центрально-Африканская Республика, где под Бозумом и Ялингой дислоцировался Легион, казалась сравнительно мирной землей, но ее города, те же Бозум и Ялинга, были просто огромными деревнями без всякой экзотики, кроме скакавших по пальмам обезьян и потаскушек, сшивавшихся в каждом баре. В силу этих причин Фриско очень понравился Каргину – так же, как нравилась ему Кэти. В сравнении с женщинами племен мбунду, барунди или пенде она была просто королевой красоты. Приятный вечер завершился в китайском ресторанчике, дав повод обмыть и растрясти аванс. Он оказался весьма солидным, девять тысяч долларов, как сообщила Холли Роббинс, и был перечислен на счет Каргина в одном из парижских банков. Очень кстати; квартира в Москве проехалась по его финансам словно дорожный каток. Из ресторана они уехали за полночь, выпили в кэтиной опочивальне бутылку белого калифорнийского и, разумеется, не спали до утра. В шестом часу Кэти на-конец угомонилась и уснула, а Каргин задремал в полглаза и увидел во сне то ли подмосковные березы, то ли. краснодарскую цветущую черешню, то ли тайгу под Хабаровском и барачный военный городок, где он появился на свет – словом, увидел что-то родное, знакомое, русское, и от того, вдруг пробудившись, пришел в настроение мрачное и неспокойное. Опять показалось ему, что он не в том месте, не в своем, и занимается, в сущности, ерундой; и воздух здесь не тот, и запахи не те, и женщина не та, что надо. Он выругался шепотом, посмотрел на Кэти, прильнувшую к его плечу, смежил веки и постарался заснуть. Это ему удалось, ибо в любой стране и части света люди его профессии жили по принципу: солдат спит, служба идет. Второй раз он проснулся в одиннадцать. Кэти сладко спала и видела сладкие сны; они скользили под ее сомкнутыми ресницами, набрасывали на смуглое личико вуаль румянца. Каргин осторожно сполз с постели, прихватил рубаху и брюки, отправился на кухню и съел, пару сандвичей. Потом стал одеваться. За этой процедурой его и застала Кэти. – Ты куда, дорогой? "Знакомый вопрос, – подумал Каргин. – Тот, который раньше или позже задают все женщины”. Взглянув на часы (было двадцать минут до полудня), он неопределенно ответил: – Кажется, приглашали пострелять. Кэти потянулась, откинула полы халатика, обнажив стройные ножки. – А я думаю, у нас найдется занятие поинтереснее. – Занятия должны быть разнообразными, – промолвил Каргин, вытянул руку и растопырил пальцы. Они, несмотря на бурную ночь, не дрожали. – Пойдешь со мной, детка? – Не пойду, – Кэти помотала головой. – Нет желания глядеть на гомиков и рыжих шлюх, – она вдруг усмехнулась и буркнула, пряча глаза от Каргина: – Ты с Бобби поосторожнее, солдат… Тыл береги, не то получишь пулю в задницу. Путь до “Старого Пью” и стрельбища был недалек, и Каргин отправился пешком. По дороге он размышлял о странных делах, творившихся в фирме ХАК, где президент был геем, его сестрица – шлюхой, а дядюшка, глава семейства – затворником и англофобом. Все это загадочным образом переплеталось с Кэти; с одной стороны, она была обычной служащей и, по собственным ее словам, девушкой небогатой, которой манна с неба не падает, но с другой – обладала особым статусом и привилегиями. Подумать только, сам президент не мог ее уволить! Плюс коттедж для управляющего персонала, алый “ягуар” и подчеркнутая независимость, даже враждебность, с которой она держалась с Бобом. Похоже, ее позиции были крепки и обустроены огневыми точками, противотанковыми рвами и крупнокалиберной артиллерией. "Чья-то пассия?.. – подумал Каргин. – Но чья? Мэлори, Ченнинга, Халлорана? Или всех сразу?” Вполне возможно, так как упоминался песок, что сыплется из задниц покровителей. Значит, люди они немолодые, и самый пожилой из них, как утверждала Кэти, был падок на женщин. Был!.. Может, чувства его не увяли до сих пор? Но тогда Кэти нечего делать во Фриско, место ее – на острове или, как минимум, в Париже… Однако она здесь и даже пустила под одеяло какого-то солдата, наемника и бывшего “стрелка”… Почувствовав, что совсем запутался, Каргин злобно сплюнул, обогнул бревенчатые стены “Старого Пью” и замер с приоткрытым ртом. На стрелковой позиции у обшитого дубом барьера лихо подбоченился Бобби Паркер – в широкополой шляпе, пятнистом комбинезоне рейнджера и щегольских ковбойских сапогах. Рядом стояла машина – пошире кровати в каргинской опочивальне; в ней, вытянув стройные голые ноги поверх руля, с удобством расположилась Мэри-Энн, а сзади сидел какой-то тип с кудряшками до плеч, пребывавший, как показалось Каргину, в сонном оцепенении. Его лицо с тонкими женственными чертами словно оттеняло оживленную мордашку Мэри-Энн; волосы ее были растрепаны, с губы свисала сигарета, а в правой руке сверкал никелированный “целиски” – спортивный австрийский револьвер сорок шестого калибра с чудовищно длинным стволом. Прочее оружие было разложено на стойке и тоже отличалось солидными калибрами: испанская;”астра”, “магнум-супер”, “гюрза” с узорчатой гравировкой по стволу, плюс израильский “дезерт-игл”. Однако не оружие и его владельцы поразили Каргина – удивительней были мишени, которые устанавливал чернокожий парень в дальнем конце стрельбища. Они были выпилены из фанеры, тщательно раскрашены и изображали пожилого джентльмена с падавшими на лоб рыжеватыми волосами и худощавым суровым лицом. Две – в фас, и две – в профиль. Джентльмен, будто чувствуя, что предстоит, выглядел мрачновато и взирал на барьер, оружие и стрелков с немым укором. Мэри-Энн, заметив Каргина, бросила револьвер и замахала призывно белоснежной ручкой. – Алекс! Хай, ковбой! Или киллер? – она протянула ему бутылку. – Выпить хочешь? – Киллеры с утра не пьют, – буркнул Каргин, придвигаясь поближе. – Кстати, по эту сторону “железного занавеса” меня называют Керк. – Керк так Керк, – согласилась Мэри-Энн. – А что, он еще существует? Этот гребаный занавес? – Само собой. В загадочной русской душе. – Вот дьявольщина…– протянула Мэри-Энн, вылезая из машины. – Ты, выходит, русский… А я-то думала, ты – немец. Или поляк. – Если не лезть в душу, большой разницы нет, – сказал Каргин, разглядывая кучерявого. Здороваться тот не пожелал, даже прикрыл глаза и будто совсем отключился. Лицо его казалось равнодушным как мраморный лик бесполого ангела. – Это Мэнни, – пояснила Мэри-Энн. – Не удивляйся, он всегда такой. Спит на ходу, пока не забьет косячок. Пожав плечами, Каргин отвернулся и сделал шаг к стойке, любуясь выложенным на ней арсеналом. Бобби сухо кивнул ему: – Выбирай! Стреляешь первым, по левой мишени. Четыре выстрела – нос, бровь, глаз, ухо. – Поправка, – Каргин поводил рукой над оружием и опустил ее на “дезерт игл”. “Пушка” была тяжелой, около двух килограммов; нагретая солнцем рукоять удобно устроилась в ладони. – Поправка: кончик носа, середина брови, зрачок и мочка. Он поднял пистолет к плечу и замер, дожидаясь, когда мальчишка уберется от мишеней. Рыжий джентльмен неодобрительно косился на него, будто говоря: “Что же ты, парень, в детские игры играешь? Цель неподвижная, беспомощная, и вокруг не лес, не горы, не пустыня, а место вполне цивилизованное, без блиндажей и дотов, окопов и траншей. Не стрельба – потеха!” "Потешиться тоже не грех”, – мысленно возразил Каргин. – Ну, давай! – голос Бобби визгливой сиреной взорвался над ухом. Бах! Бах, ба-бах! Четыре выстрела слились в один аккорд, короткий, будто дробь зовущего в атаку барабана. Нос у рыжего сделался на сантиметр короче, в глазу и брови зияли две аккуратные дырочки, а ухо словно подрезали ножом – видать, фанера отщепилась. Каргин щелкнул предохранителем и, вздохнув, опустил пистолет. В Легионе у него был такой же, но с алюминиевой рамкой и удлиненным стволом. Пришлось бросить. Может, и удалось бы провезти его в Москву, однако зачем? В Москве хватало своего оружия. – Теперь я! Две средние мишени! – возбужденно выкрикнул Боб и принялся палить. Было заметно, что этот процесс доставляет ему огромное наслаждение: он раскраснелся, оскалил зубы и картинно упер левую руку в бедро. Стрелял он из “магнума” и совсем неплохо, но в нос и мочку не попал: пули пробили переносицу и верхнюю часть уха. – Прилично, – похвалил Каргин, представив на мгновение другой пейзаж: вздыбленную землю, грохот разрывов, торопливое стакатто автоматных очередей и фигурки в зеленом с черными лицами; они бегут к нему, посылая веер пуль, и кричат, кричат, кричат… Помотав головой, чтобы прогнать это видение, он повторил: – Вполне прилично, клянусь Одином! – Этот Один – твой приятель? – проворковала Мэри-Энн, прижавшись к плечу Каргина. От нее заметно попахивало спиртным. – Нет. Приятеля звали Лейф Стейнар. Датчанин, лейтенант… Клялся то Одином, то молотом Тора, то Валгаллой. Ну, сама понимаешь, сестренка… Дурной пример заразителен… – Скандинав! – Мэри-Энн привстала на цыпочки и соблазнительно потянулась, демонстрируя пышные груди. – Обожаю скандинавов! Такие горячие парни! И где же он теперь, этот Лейф Стейнар? – В земле! – отрезал Каргин и поднял пистолет. – Гниет в ангольских джунглях. Глаза девушки широко раскрылись, она отступила назад, будто ее ударили. – В ангольских джунглях… А ты… тоже там бывал? – Бывал. Три года в Легионе. – Хватит болтовни! Стреляй! – выкрикнул Боб. Лицо его налилось кровью, и Каргин подумал, что этот парень слишком самолюбив. Самолюбив, обидчив и любит всегда побеждать… В компенсацию за извращенные вкусы? За этого Мэнни с ангельским личиком? Возможно… В тонкостях психологии “голубых” Каргин не разбирался. "Дезерт игл” в его руке загрохотал, дернулся, грохнул снова. Всадив пять пуль в правую мишень, он выщелкнул опустевший магазин, направил ствол в землю, нажал на спуск и опустил пистолет на стойку. Боб, кусая губы и хмурясь, скосился на кучерявого, потом начал осматривать мишени завистливым взором. Итог был явно не в его пользу. – Я знала, что ты никакой не киллер, – раздался голос Мэри-Энн. – Ты, выходит, легионер… И как у вас с сексуальной ориентацией? – Мы, в основном, некрофилы, – сообщил Каргин. – Обожаем побаловаться с трупами. Глаза девушки заблестели, она возбужденно вздохнула. – И многих ты поимел, ковбой? – Многих, не сомневайся! – рявкнул Бобби. – Многих! Он – наемник, руки по локоть в крови! Каргин, отступив к машине, миролюбиво улыбнулся. – Не бей копытом, президент, не всем же портреты дырявить… Кстати, кто там на них? Очень благообразный старичок, однако с характером… – С характером!.. – Мэри-Энн хихикнула, потом согнулась и, звонко хлопая ладошкой по колену, залилась смехом, поглядывая то на Боба, то на Мэнни и будто приглашая их повеселиться. Но кучерявый по-прежнему дремал, а Боб, не обращая на сестру внимания, с хмурым видом следил, как чернокожий парень укладывает пистолеты в оружейный ящик. – Еще с каким характером, ковбой! – Мэри-Энн потянулась к “целиски”, подняла обеими руками тяжеленный револьвер и с грохотом выпалила с правую мишень. – Нрав у дядюшки Патрика точно могильный камень, пулей не прошибешь, – сообщила она. – Старый козел, а характера на целый полк легионеров хватит! Изумленно подняв брови, Каргин уставился на девушку, потом перевел взгляд на мишени. – Так это Патрик… Патрик Халлоран? – Нет, леденец на палочке! – передразнила Мэри-Энн, явно наслаждаясь его ошеломлением. – Для недоумков-ковбоев! "Братец – болван, сестрица – стерва, – решил Каргин. – Чудят, миллионерские ублюдки! Кони сытые бьют копытами… С жира бесятся… А чего же не беситься – при обороте в шесть миллиардов и собственных островах?” Отступив еще подальше, к бревенчатой стене, он процедил: – Забавная у вас семейка, Нэнси… что Паркеры, что Халлораны… А по другим портретам вы стрелять не пробовали? Папин, там, вывесить или мамин… Тоже ведь развлечение, а? Лицо девушки начало бледнеть, застывшая на губах усмешка вдруг превратилась в злобную гримасу, тяжелый “целиски” медленно пополз вверх. “Что-то сейчас будет!” – мелькнуло в голове у Каргина, и он, не промедлив ни секунды, юркнул за угол “Старого Пью”. Вслед ему раздались выстрел и яростный вопль Мэри-Энн: – Не смей называть меня Нэнси!Глава четвертая
"Да, забавная семейка”, – размышлял Каргин, устроившись на траве под серебристыми ивами. Кэтин коттедж в другом конце лужайки стоял тихим, молчаливым; алый “ягуар” исчез, и никто не отзывался на стук и разные соблазнительные предложения. Кэти скрылась, зато на месте был журнал, полученный от Холли Робине – какая-никакая, а все же альтернатива одиночеству. Прежде чем залечь в кустах и насладиться чтением, Каргин, памятуя о Нэнси и ее револьвере, тщательно запер дверь, которая, по его российскому разумению, выглядела слишком хлипкой и ненадежной. Правда, ломиться в дом для рыжей не было нужды; она могла его обогнуть и пристрелить обидчика прямо здесь, под ивами у бассейна. Пытаясь не вспоминать о страстных калифорнийских девушках, Каргин быстро просмотрел журнал. Нужная статья под заголовком “Потомок пушечных королей” нашлась в середине; ее украшало цветное изображение на целую полосу – Патрик Халлоран собственной персоной, в рамочке из мортир, мушкетов, кольтов и кавалерийских сабель. Портрет, вероятно, скомпилировали с каких-то давних фотоснимков; Патрик на нем был не стар и выглядел цветущим рыжеволосым джентльменом лет сорока пяти. Зрачки у него оказались серыми с зеленью, и Каргин, представив лица Мэри-Энн и ‘Боба, решил, что цвет волос и глаз – фамильный признак Халлоранов. Может быть, все ирландцы были такими, светловолосыми или рыжими, с серо-зелеными глазами. В период тайных стажировок в Лондоне Каргин не отличал их от британцев, но под его командой в роте “Би” служила пара молодцов из Типперэри, рыжих и осыпанных веснушками от бровей до пупа. Полюбовавшись на портрет, он изучил историю династии – эти сведения занимали две страницы, а дальше автор, некий Сайрус Бейли, слегка касался дипломатической карьеры Патрика и плавно переходил К важнейшей и наиболее интересной для “Форчуна” теме – то есть к финансам. Что до истории, то выяснилось, что первый из Халлоранов, прапрадед нынешнего, переселился за океан в самом начале прошлого столетия, в эпоху наполеоновских баталий, но прожил в Штатах недолго: породил единственного сына, завербовался в армию, защищал Детройт от англичан, а когда город был оставлен, бился на Великих Озерах под командой легендарного Оливера Перри, на его флагманском корабле. Погиб он со славой и в великий день – 10 сентября 1813 года в бухте Путин-Бей, где Перри разгромил британскую эскадру. Жизнь прадеда Патрика, Бойнри Халлорана, была счастливой и долгой, хоть он отличался изрядной воинственностью – в юности дрался с семинолами, потом – с мексиканцами, в дивизии генерала Тейлора, из рук которого получил наградную саблю и звание капитана. Когда началась война между Севером и Югом, Бойнри было за пятьдесят, и он уже не рвался на поля сражений, а основал в Нью-Йорке фирму “Халлоран Арминг Корпорейшн” и правил ею тридцать лет, снабжая войска северян, а после – переселенцев в западные края, винтовками и ружьями. Шон Халлоран расширил семейный бизнес, перенес штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в тысяча девятисотом году и построил первую фабрику, где делали полевые орудия, револьверы, винтовки и “мэшин-ганс” – иными словами, пулеметы. Фабрика была полностью разрушена в девятьсот шестом во время страшного землетрясения, но Шон ее восстановил и даже благополучно пережил биржевой крах, случившийся в марте девятьсот седьмого. С началом первой мировой войны дело его расширилось, но богатеть он стал еще раньше, получив контракт на пушки и винтовки для американской армии – в период интервенции в Мексику и сражений с отрядами Панчо Вильи. Но самым удачливым в этой династии оказался Кевин Халлоран, отец Патрика. Он прожил семьдесят восемь лет, был женат четыре раза, создал финансовую империю ХАК и во время второй мировой производил уже не только полевые пушки, но также минометы, гаубицы и самоходную артиллерию с соответствующим боекомплектом. Умер он в пятьдесят восьмом, оставив сыну процветающее и перспективное предприятие. Дабы завершить историю рода, Бейли отмечал, что Кевин Халлоран являлся не только ловким, но также предусмотрительным дельцом. С полным основанием считая, что в оружейном бизнесе связи драгоценнее капиталов, он направил сына по дипломатической стезе и продвигал его вперед с достойным похвалы усердием. В двадцать два года, закончив Йель в разгар мировой войны, Патрик очутился в Москве, в должности помощника секретаря посольства; в сорок пятом его перевели в Лондон, в сорок шестом – в Токио, затем последовали Турция, Иран, Египет, и хотя восхождение подипломатической лестнице не было ярким, блестящим и стремительным, оно все же являлось довольно быстрым и неуклонным. В пятьдесят седьмом Патрик занял пост американского консула в Ла-Плате, Аргентина, и имел все шансы к сорока годам удостоиться должности посла – если не в Париже или Бонне, то по крайней мере в Афинах, Осло или Дублине. Судьба, однако, распорядилась иначе: Кевин умер, и королевский трон освободился для Патрика. Далее обозреватель писал, что заслуга нынешнего босса ХАК вовсе не в том, что он довел годовой оборот компании до шести миллиардов, а в выгодном вложении прибылей. Шесть миллиардов являлись только вершиной айсберга, причем не из самых высоких – так, оборот корпорации “Боинг” составлял тридцать миллиардов, но при этом крупный пакет ее акций принадлежал Халлорану. Надежды Кевина оправдались: связи Патрика в странах третьего мира оборачивались дивидендами в виде выгодных контрактов, контракты приносили прибыль, прибыль расчетливо вкладывалась в фирмы союзников и конкурентов, что позволяло держать и тех, и других на коротком поводке. В начале девяностых, когда Патрику перевалило за семьдесят, ХАК ничего не производила и даже торговала без прежней нахрапистой энергии, зато в ее активах были сосредоточены контрольные пакеты “Армамент системе энд продакшн”, “Кольте индастриз”, “Глок ГмбХ”, “Хаук Инжиниринг”, “Макдоннел Дуглас” и трех десятков других компаний, производителей оружия. ХАК превратилась в огромный холдинговый центр; бывшие поставщики и партнеры были скуплены на корню, сделки их контролировались, политика, по мере нужды, подвергалась корректировке, а прибыли утекали в карман Халлорана. О его личной жизни сообщалось немногое. В молодые годы он был человеком контактным, поклонником искусства и прекрасных дам, любителем выпить в приятном обществе, но с двух сторон свечу не жег; с его именем не было связано ни одного скандала – ни пьяных дебошей, ни соблазненных жен коллег, ни вывоза в дипломатическом багаже культурных ценностей. Вероятно, он обладал талантом не афишировать свои прихоти и не болтать лишнего, а рты недовольных и оскорбленных умело затыкал деньгами. Однажды, будучи в зрелых годах, он чуть не женился, но, поразмыслив, переменил решение: ему стукнуло пятьдесят, невесте – восемнадцать, и бурная супружеская жизнь могла отвлечь Халлорана от более важных дел. Но как сообщалось в статье, он не прервал знакомство с отставленной невестой мисс Барбарой Грэм и даже, когда та вышла замуж и сделалась счастливой матерью, принял участие в ее потомках. Однако с течением лет он стал подозрительным и нелюдимым, чему способствовали ряд покушений и пара авиакатастроф, то ли случайных, то ли подстроенных неведомыми доброхотами. К счастью, все окончилось благополучно,но Халлоран, вняв предостережениям судьбы, решил, что наступило время поддерживать лишь те контакты с миром, какие не грозят здоровью. Он обзавелся частным владением среди океанских вод и, удалившись туда, стал такой же недосягаемой загадочной фигурой, как Говард Хьюз, названный обозревателем миллиардером-невидимкой. Но Халлоран, в отличие от Хьюза, вел жизнь весьма активную и твердо правил корпорацией; мощь его была велика, энергия – неиссякаема, и никто не рискнул бы заподозрить его в старческом слабоумии. Он был – и оставался – человеком жестким, даже жестоким; старый волк, не растерявший ни прыти, ни зубов. В последнем абзаце Каргин прочитал о вещах, уже ему известных, – британских антипатиях Халлорана, связях с ИРА и о наследном принце династии мистере Роберте Генри Паркере. За сим перечислялся поименно совет директоров – Ченнинг, Мэлори и еще пяток незнакомых Каргину персон. Отложив журнал, он лег на спину и закрыл глаза. Информация не давала поводов для оптимизма, но погружаться в меланхолию тоже не было причин. С одной стороны, его теперешний наниматель – явная сволочь, акула капитализма; с другой – прежние были не лучше. Отнюдь не лучше! Они посылали Легион туда, куда по законам la belle France нельзя было послать французов, и Легион, во имя демократии и мира, творил расправу над виновными и невиновными. Последних почему-то оказывалось больше – видимо, от того, что всякий виновный старался переселиться в рай не в грустном одиночестве, а в окружении толпы подданных. Так же, как Патрик Халлоран: если бы кто-то в самом деле попробовал снять с него скальп, это стоило бы жизней всего населения Иннисфри… В этот миг раздумья Каргина были прерваны раздавшимся шорохом в кустах. Он быстро перевернулся на живот, начал приподниматься, но что-то тяжелое с размаху обрушилось на него, кто-то оседлал спину, чьи-то колени стиснули ребра, чья-то рука вцепилась в волосы, и тут же в затылочную ямку ткнулось твердое, холодное, с распознаваемым на ощупь очертанием револьверного ствола. Покосившись налево и направо, он разглядел две стройные ножки, услышал учащенное дыхание и замер, чувствуя, как вдавливается в затылок ствол. Он был абсолютно беспомощен. "Добралась-таки, рыжая стерва!” – мелькнула мысль. Он скрипнул зубами. Не всякий конец годится солдату, а этакий просто позорен. Впрочем, почетная смерть тоже не прельщала Каргина, и потому он был готов вступить в переговоры. Однако противник его опередил. – Не двигаться! – послышался грозный, но знакомый голосок. – Шевельнешься-мозги полетят! Каргин облегченно перевел дух и пробормотал: – Я буду отомщен. У Кремля руки длинные… Может, лучше договоримся? Чего ты хочешь? Денег? – Крови! Крови изменника! – острые Кэтины зубки куснули его за ухо. – Это почему же я изменник? – Каргин осторожно освободился, посматривая на бутыль в руках девушки. Ее длинное горло и правда напоминало револьверный ствол. – Ты флиртовал с рыжей! – заявила Кэти, размахивая бутылкой. – Фокси, бармен из “Старого Пью”, мне все доложил! Как она к тебе прижималась и хихикала, и тянула в машину! А ты не очень-то сопротивлялся! – Этот Фокси или кривой на оба глаза, или большой шутник. Она меня чуть не пристрелила, – возразил Каргин и приступил к подробному повествованию, не скупясь на краски и детали. Бутылка в Кэтиных руках была верным признаком мира: калифорнийское белое в одиночку не пьют. Не пьют и без закуски. Значит, что-то его ожидало в соседнем коттедже – может быть, лобстер или тунец. Он вдруг почувствовал, что страшно проголодался. Кэти слушала его, покачивая головой. – Стреляли в старого Патрика… вот ублюдки… Мама узнает, руки им не подаст! – Причем тут твоя мать? – Каргин с интересом взглянул на девушку. – При том… Она знакома с семейством Халлоранов. С самим боссом… – И потому Бобби не может избавиться от тебя? Выбросить на улицу? Но Кэти на этот вопрос не ответила, а принялась перемывать косточки Мэри-Энн, сообщив под занавес, что не завидует ее будущему супругу. Если вообще сыщется кретин, падкий на богатство рыжей ведьмы, – в чем лично она испытывает большие сомнения. С такими девицами, как Мэри-Энн, под венец не идут! Каргин содрогнулся и сказал, что ни с кем под венец не собирается. “Это мы еще посмотрим!” – ответила Кэти, схватила его за руку и потащила к своему коттеджу. В холодильнике у нее в самом деле оказался лобстер. Планирование операции Каргин завершил во вторник, уложившись в отведенные сроки. Все было увязано, согласовано, взвешено, дважды проверено и занесено в компьютер. Расчет строился на внезапности атаки и высокой квалификации исполнителей, которых, как предусматривал план, было не больше четырех десятков. Им полагалось добраться к Иннисфри на субмарине класса “Сейлфиш”, радиус действия которой составлял десять тысяч миль; такие дизельные подлодки использовались лет пятнадцать тому назад для радиолокационного дозора и, как установил Каргин, две из них не были демонтированы и сдавались флотом США в аренду в качестве исследовательских судов. Справка, выданная компьютером, подтверждала, что субмарины – в отличном состоянии, только без торпед и пушек – ждут арендаторов на базе ВМФ Оушенсайд, между Лонг-Бич и Сан-Диего, и что цена аренды вполне приемлема – восемь миллионов за неделю, без экипажа и горючего. На первом этапе операции подлодка являлась залогом успеха, но – подлодка особого типа. Такая, как “Сейлфиш”, длиною в сотню метров, с просторными трюмами, где могли разместиться что батискафы, что вертолеты, с системой подачи вертушек из трюмов на палубу, с затопляемым люком, через который могли выбраться пловцы-аквалангисты – и, конечно, с кубриком на восемьдесят коек. С субмариной, лишенной вооружения, могли управиться два десятка человек, задача которых была не слишком сложной: проникнуть в бухту, выпустить группы пловцов, дождаться их сигнала, всплыть и поднять вертолеты. Затем убраться на рас-стояние миль четырех от берега и, оставаясь в глубине, э, снова ждать – на этот раз команды к эвакуации десантников. Их отряд делился поровну на группы “тюленей” и “коршунов”. Пловцам-“тюленям” полагалось скрытной высадиться на берег в рассветный час, уничтожить блок-посты у мола и на мысах по обе стороны ведущего в Ап-Бей пролива, потом заминировать казарму и ряд других объектов – штаб управления обороной, офис мэра Иннисфри, почту и офицерские коттеджи; словом, каждый пункт, откуда островитяне могли связаться с материком. По завершении этой фазы операции субмарина должна была всплыть, и тут в игру вступали “коршуны” на двух вертолетах “Гриф”. Многоцелевые машины с артиллерийским и ракетным вооружением, способные перебросить дюжину бойцов, – лучше для десанта не придумаешь! Они взлетали с палубы “Сейлфиша”, и через шестьдесят секунд “тюленям” полагалось взорвать поселок, захватить аэродром и начинать глобальную зачистку. Тем временем первое “помело” уничтожало антенну ретранслятора, высаживало десантников на крыше дворца, затем поворачивало к югу, дабы разделаться с двумя блок-постами, – у горного озера и в районе Лоу-Бей. Вторая “вертушка” атаковала пост за рекой, у пересечения дорог, после чего высаживала бойцов в дворцовом парке и отправлялась на север, к последнему блок-посту. С момента взрыва до разрушения дальних опорных точек должно было пройти не больше двенадцати минут; затем вертолеты возвращались и начинали барражировать над виллой и поселком – в качестве средств наблюдения и огневой поддержки. Таков был, в общих чертах, план операции, и в среду утром Каргин доложил его коммодору. Они устроились у компьютера и заваленного бумагами стола в той же комнатке-сейфе, в которой он трудился; Шон Мэлори попыхивал сигарой, Каргин пил кофе и, тыкая в клавиши, давал пояснения. На экране всплывали то карта Иннисфри, раскрашенная коричневым и зеленым, с алыми отметками блок-постов и голубой ленточкой ручья, то изображения отдельных объектов: вид на поселок с высоты; волнолом, маяк и квадратное здание склада; ангары, электростанция и мастерские рядом со взлетным полем; мост, переброшенный через ручей, и серпантин уходящей в гору дороги; каменное полукружье дворца с колоннадой, портиками и широкой лестницей по обе ее стороны высились изваяния сфинксов с застывшими в улыбке получеловечьими-полузвериными ликами. Затем эти пейзажи сменили ровные строчки цифр и буквенных обозначений: расчет потребных сил и средств, тактико-технические данные “Грифов” и субмарины, повременный график действий, опись боекомплекта – в расчете на одного десантника и общая, итоговая. Мэлори неторопливо изучал всю эту информацию, особенно задержавшись на описании “Сейлфиша”; видимо, перископы, штурвалы и рули были особенно дороги коммодорскому сердцу. – Неплохо, капитан, – вымолвил он наконец. – Совсем неплохо. Должен заметить, что вы оправдали мои надежды, – пристроив дымящуюся сигару в пепельнице, Мэлори наморщил лоб. – Ну, экипаж для субмарины мы найдем… “Грифы” тоже не вопрос… А что… хм-м… с непосредственными исполнителями? Можете кого-то рекомендовать? – Могу, – отозвался Каргин. Игра шла как бы всерьез, по-настоящему, без дураков, и он против этого не возражал. Впрочем, какие возражения? Правила тут диктовались не им. – Могу, – повторил он и вызвал на экран данные по эскадрону Кренны. Этот меморандум, хоть и составленный на память, неплохо отражал специфику подразделения бельгийца: перечень операций, способы действий, деление на роты и взводы, имена командиров, число бойцов. У Кренны было человек двести, и выбрать из них четыре десятка особых умельцев не составляло проблем; по крайней мере, треть его людей, пришедших из морской пехоты, умела обращаться с аквалангами. Были у него парашютисты и снайперы, подрывники и пилоты, а самым лучшим считался Горман, некогда – лейтенант бундесвера, разжалованный и изгнанный за слишком явное пристрастие к “Майн кампф”. Насколько помнилось Каргину, Фриц Горман был пилотом от Бога и в воздухе мог управиться с любой “вертушкой”, что с “Апачем”, что с “Тигром”, что с двадцать восьмым “Ми”. Стрелял он тоже неплохо – всаживал ПТУР в любую щель размером в пятнадцать дюймов. – Впечатляет…– пробормотал Мэлори, изучив характеристику Кренны и список его подвигов. – Очень энергичный субъект… И сколько он стоит? Вместе с командой своих ублюдков? – Тысяч шестьсот. Двойная ставка, с учетом секретности акции и санитарных мероприятий. – Легион как-то его контролирует? – Никак. Есть работа – нанимают, нет – гуляй. Его парни трудятся сдельно. – Хм-м…– пробормотал коммодор, огладил череп и потянулся к сигаре. С минуту он пускал дым в потолок, любуясь сизыми кольцами, которые медленно расплывались под круглым белым светильником, потом стукнул пальцем по экрану, по строчке с именем бельгийца. – Хм-м… И где он теперь? Каргин покачал головой, в задумчивости потрогав шрам на скуле. – Либо в Намибии, под Омаруру… была там какая-то заварушка на рудниках "Де Бирс”… либо в Бозуме. В Бозуме у него пункт постоянной дислокации. – Бозум – это где? – ЦАР, река Уам, сто шестьдесят километров к западу от шоссе на Банги, – доложил Каргин, затем подумал и прибавил: – Банги – это их столица. Четыреста тысяч жителей – банда, байя, сара и так далее. форпост для операций в Заире. – Ты и в Заире бывал? – Мэлори, оторвавшись от экрана, поскреб голую макушку. – Гнусное местечко, говорят… конечно, не в смысле нашего бизнеса… бизнес в том районе процветает! И чем ты там занимался, сынок? – Иллюстрировал детские книжки, – буркнул Каргин. – Еще работал землемером, фермы отводил: шесть футов в длину, три – в ширину и глубину. Хмыкнув, его собеседник одобрительно кивнул. – Полезное занятие… Это я не о книжках, о фермах… Выходит, ты уже тогда трудился на корпорацию. – Тогда корпорация мне не платила, – Каргин поиграл клавишами, и на экране возникла заставка: скалистый остров среди изумрудных волн, похожий на развалины средневековой крепости. Точь-в-точь как на картине, висевшей в кабинете Мэлори. Секунд десять он любовался этим пейзажем, подсвеченным серебристым отблеском электронной трубки, затем перевел взгляд на коммодора: – Эта работа завершена. Что дальше? – Дальше? Ночью, в два ноль-ноль, отбудешь на Иннисфри. Самолетом. Да, еще одно… Твой аванс увеличен до пятнадцати тысяч долларов. "Неплохо, – подумал Каргин. – Похоже, мне удалось обскакать гипотетических конкурентов”. Изобразив на лице благодарность, он огладил тщательно выбритые щеки и поинтересовался: – Там, на Иннисфри… в каком качестве я должен служить? – В качестве помощника Альфа Спайдера. Этот Спайдер забавный тип… Любит повеселиться и поболтать, но палец в рот ему не сунешь… Кстати, он отвечает за безопасность мистера Халлорана, – сделав недолгую паузу, коммодор уставился на остров, темневший в серебряном мареве экрана, и неторопливо произнес: – Хочу, чтобы ты понял, мой мальчик, в чем смысл существования Иннисфри… В том, чтобы Патрик Халлоран жил в покое, не вспоминая о мерзавцах, жаждущих вырвать ему печенку, высосать кровь и сплясать качучу на хладном трупе. А такие есть, уж ты мне поверь! Лично я знаю троих, и каждый поклялся на Библии, торе или коране, что Патрик своей смертью не умрет. Вот почему мы наняли тебя – и других парней, с которыми ты встретишься на острове. Ты будешь с ними работать под началом Спайдера. Крупный специалист, не глуп, осторожен и в прекрасной физической форме… из бывших агентов, что охраняли Рейгана… – Вероятно, достойная личность, – заметил Каргин. – И с большими полномочиями. Он постарался, чтобы последняя фраза не прозвучала вопросом. Как утверждал майор Толпыго, никто не благоволит любопытным, и долго они не живут. – С очень большими, – кивнул Мэлори и затянулся сигарой. – В экстремальных случаях Спайдер командует всеми, вплоть до Арады, Квини и Тауэра, – заметив приподнятую бровь Каргина, он пояснил: – Остин Тауэр – поселковый мэр, Хью Арада – секретарь и референт, а Квини – дворецкий. Очень надежные люди, и близкие мистеру Халлорану. Он их ценит. – Учту, – буркнул Каргин. – Теперь о гарнизоне… В нем четыре офицера, подчиненных напрямую Спайдеру: капитан Акоста и лейтенанты Моруэта, Гутьеррес и Сегри. – Испанцы? Коммодор ухмыльнулся. – Испанцы – это у вас, в Старом Свете. А здесь – кубинцы и парни из Сальвадора, Гондураса, Никарагуа… Все наемники на острове – латинос. Сброд, разумеется, головорезы и изгои, но это неплохо. Совсем неплохо! Кому обещали виселицу, тот не боится пуль. ‘Однако…– его круглое лицо вдруг сделалось озабоченным, – однако есть проблемы… скучают, пьют… Акоста хороший командир, но с пьянством ему не справиться. Должно быть, русского опыта не хватает. Мэлори подмигнул Каргину, поднялся и раздавил в пепельнице окурок. – До вечера свободен, капитан. Отдохни, с какой-нибудь девочкой повеселись… На острове выбор скромный, так что не упускай случая…– он снова подмигнул. – Как тебе Кэти Финли? – Бездна обаяния, – откликнулся Каргин. – Ты еще не знаешь, какая бездна, – сказал Мэлори и вышел. Каргин, откинувшись на спинку кресла, прижмурил веки и сквозь зыбкую чадру ресниц вгляделся в выплывающий из компьютерного экрана остров. Звонить Кэти и веселиться ему отчего-то не хотелось. Взгляд его был прикован к Иннисфри. Голубое небо над ним вдруг выцвело, будто затянутое мутной пеленой, яркий зеленый наряд сполз с вулканических склонов, явив бесплодную наготу каменных осыпей, черных ноздреватых глыб и мрачных трещин, солнце на сером облачном покрывале расплылось в багряный круг. “Афган!” – стукнуло под сердцем. Где-то там яма с валом земли, летящей под взмахами кетменей, резкий безжалостный свет, танец пылинок в воздухе; они взлетают, кружатся и оседают на смуглой коже могильщиков-землекопов, на лаковых автоматных прикладах, на лицах тех, кто в яме – безглазых, с изрезанными щеками. Мелькает блестящая сталь, падают комья почвы, глухо стучат, рассыпаются в прах, хоронят… Каргин замотал головой, и видение исчезло, сменившись блеском лазурных небес и отливающей изумрудом океанской ширью. “Это еще что за дьявольщина?.. К чему бы?..” – пробормотал он, поднялся и начал мерить шагами тесную комнатенку. Семь шагов от стола до стены, пять – до бронированных дверей, и восемь – обратно до стола… Постепенно мысли его приобрели иное направление, афганский пейзаж поблек и стерся; теперь он размышлял об Иннисфри, знакомом ему лишь по снимкам да картам, зато во всех подробностях, о поселке у бухты, вилле в горах и о людях, с которыми встретится завтра. Он негромко назвал их по именам, стараясь зафиксировать каждое в памяти: Альф Спайдер, человек больших полномочий… Хью Аррада, секретарь и референт… Квини, дворецкий… Остин Тауэр, мэр… Люди, близкие Халлорану… Троица лейтенантов – Моруэта, Гутьеррес, Сегри… И капитан Акоста, проигравший матч с зеленым змием… "Не его ли придется мне сменить?.. – мелькнула мысль. – Возможно… Во всяком случае, русский опыт? будет кстати, как и познания в испанском языке”. Ровно в час двери разъехались, пропустив Кэти. Она встала у порога; длинные пряди с мягким каштановым блеском переброшены на грудь, брови сведены, глаза опущены, взгляд – быстрая змейка, скользящая в тени ресниц. Мнилось, будто хочет она что-то сказать, в чем-то признаться, да не решается – то ли из девичьей скромности, то ли по иным причинам, какие могут найтись у молодой калифорнийской леди из благородного семейства. Но Каргин почему-то решил, что скрытое ею и недосказанное – вовсе не объяснение в любви. – Ночью улетаешь? – Улетаю, – он кивнул и начал складывать разбросанные тут и там карты и бумаги. – Тогда не стоит терять времени. Губы девушки дрогнули, приоткрылись в улыбке, но взгляд ее Каргин поймать не смог. Змейка в холодной скользкой чешуе… – Не стоит, хотя мы его все равно потеряем. Время, – он пошевелил пальцами, – это такая материя, которую не купишь, не продашь, не найдешь и не вернешь. Можно только потерять. Вместе с человеком… – Слишком ты мрачен, солдат, – Кэти, пряча глаза, по-прежнему улыбалась своей зовущей улыбкой. – Мы еще встретимся. Разве не так? – Встретимся, – согласился Каргин и про себя добавил: “Может быть, где-нибудь, когда-нибудь. Скажем, в будущем тысячелетии”. Выключив компьютер, он шагнул к двери.Глава пятая
Сверху остров был похож на камбалу с круглым разинутым ртом и глубокой раной под нижней челюстью. Голова камбалы являлась обитаемой частью местной ойкумены; ее пересекали ниточки дорог, едва заметных среди вечнозеленого леса, изогнутым луком падала с гор река, огибая аэродром и поселок, синело озеро в раме бурых утесов, а в двух километрах от него начинался парк, разбитый на вулканическом склоне – и там, сливаясь с базальтовыми скалами, вставала частая гребенка дворцовой колоннады. С запада горный склон неторопливо стекал к поселку и бухте, а на востоке резко обрыва-лея вниз; подножие его тонуло в диких зарослях, лабиринте мангровых джунглей и изумрудных, поросших мхами зрачках трясин. Весь этот хаос обрамляли стены. древнего кратера, на первый взгляд несокрушимые, как вечность, но Каргин заметил, что в трех-четырех местах на севере и юге скалы иссечены расщелинами и ядовитая зелень болотистого леса отступает под натиском: темных каменных осыпей. Самолет, тридцатиместный комфортабельный “оспрей”, сделал пару кругов над бухтой, развернулся хвостом к встававшему H горами солнцу и плавно скользнул вниз, к серому прямоугольнику аэродрома. В дальнем его конце маячил павильон – сталь, стекло, белые тенты, полоскавшееся на ветру; рядом несколько машин и небольшая толпа, человек пятнадцать в легких тропических одеяниях. Мужчины – в шортах и гавайках, женщины – в, цветастых платьях; лица у тех и других затенены широкими полями шляп. "Встречают?.. – подумал Каргин. – Ждут? Но кого?” В “оспрее” – он сам, да два пилота… Были, правда, тюки в багажном отделении, но вряд ли с письмами. Письма, как и барачный военный городок в тайге, печи, топившиеся дровами, и многое другое, остались в далеком детстве. Письма – настоящие письма – были, теперь редкостью, особенно в краях торжествующего прогресса; телефон: и компьютерная связь хоронили их с каждым годом все надежнее и глубже. Колеса стукнули о землю. Взвыли, тормозя разбег, турбины, машина прокатилась и замерла метрах в тридцати от павильона. Щелкнул замок люка. Каргин поднялся, откинул невесомую дюралевую дверцу и спрыгнул на серый ноздреватый бетон. Солнце ударило по глазам. Он вытащил темные очки, водрузил на нос и ровным солдатским шагом направился к толпе. Если тут кого-то ждали, то не его. Женщины – их было три или четыре – шептались о чем-то и хихикали, собравшись тесным кружком, мужчины лениво следили за парнями из аэродромной команды – те, подогнав цистерну с горючим к белому боку “оспрея”, уже разматывали шланг. Вновь прибывший был удостоен пары нелюбопытных взглядов, вежливой улыбки какого-то седого джентльмена (тот даже приподнял шляпу) и взмаха рукой. Махал мускулистый загорелый тип, небрежно опиравшийся на дверцу обшарпанного джипа. "Спайдер”, – понял Каргин и зашагал прямиком к мускулистому. У Альфа Спайдера, человека больших полномочий, оказался глубокий гулкий бас. Он был высок, длинноног, жилист и, вероятно, очень силен; выглядел на тридцать пять, но глазки, маленькие и хитроватые, выдавали более зрелый возраст. Хлопнув Каргина по спине, Спайдер поздравил его с прибытием в рай и пообещал те радости, какие там положены солдату – холодное пиво и девочек. Пиво через пару часов, а девочек попозже, к вечеру, когда они наведаются в “Пентагон”. Этот клуб располагался в поселке, и стало ясно, что в данный момент поселок не был их ближайшей целью. Другим обитаемым местом на Иннисфри являлась вилла Халл орана, и Каргин решил, что к ней они и направятся – если только спецов по безопасности не селят в джунглях и пещерах. Это не исключалось; как-никак, безопасность – дело тайное, секретное. Спайдер полез в машину, кивнул на сиденье рядом. Потом, заметив, что Каргин разглядывает людей у павильона, объяснил, что здесь собрались отпускники. Магуар, личный доктор босса, Джерри Квини, Остин Тауэр и кое-кто еще; отбывают с женами на континент, но непременно возвратятся через три недели, к намеченному празднику. Праздником был королевский “хэппи-бездэй”, иными словами – день рождения Халлорана, справлявшийся с большой помпезностью. Тем более, что дата нынче ожидалась круглая: семьдесят пять, три четверти столетия. Альф, как и предупреждал коммодор, оказался мужчиной словоохотливым и компанейским. В ближайшие пять минут он обрушил на Каргина массу сведений о жителях Иннисфри, администраторах, техниках, слугах и барменах, об офицерах охранной роты и капитане яхты “Дублин”, а также о девочках, которых Альф называл чикитками. Без умолку тараторя, он вырулил на главное шоссе, соединявшее поселок с взлетно-посадочным полем и мостом, и прибавил газу. Вдоль обочин кивали зелеными гривами пальмы, за ними тянулся лес, но не дикий, как в кратере, а окультуренный: сейбы с похожими на доски корнями, раскидистые и будто приплюснутые гинкго, небольшие стройные панданусы с пучками узких листьев, рододендроны, агавы и бамбук. Воздух был приятен и свеж, без всяких миазмов, донимавших в конголезских джунглях, и мнилось Каргину, что он и в самом деле очутился в раю – пусть даже этот рай был вовсе не предназначенным ему местом, никак не похожим на подмосковные леса и краснодарские степи. Промелькнул мост над речкой, полноводной и чистой, будто младенческая слеза. За мостом шоссе разделялось натрое: прямо – к северному блок-посту, направо – в горы, к хозяйской вилле, и налево – к морю. Последний, западный путь, шел вдоль мыса до самой его оконечности, где находился пятый блок-пост, защищавший вместе с четвертым ведущий в бухту пролив. Шестой пост был выстроен у дорожной развилки: купол из бетона с амбразурами и пулеметами, глядевшими во все стороны. Рядом, в тени, стоял армейский джип, и в нем дремали крепкие смуглые коммандос. При виде Спайдера они поднялись, изобразили на лицах бдительность и отдали салют. – Взвод Хайме Гутьерреса… их дежурство…– сообщил Альф, прервав на мгновение байку о том, как он выбирал для Нэнси Рейган белье и вечерние туалеты. Джип свернул направо, в гору, но подъем был не крут, и с километр дорога шла по прямой; времени как раз хватило, чтобы досказать историю про Нэнси. Каргин, чтобы не остаться в долгу, поведал о лейтенантах-танкистах из подмосковного гарнизона, давших зарок при каждой встрече пить что-нибудь новенькое. Встречались они через день, перепили все жидкости от водки до денатурата, и перешли к коктейлям из зубных паст и средствам для чистки блях, разболтанным в чифире. Это их желудки вынесли, но следующим был сапожный крем, а от него случилась неприятность: сыпь в паху и почернение близлежащего органа. Спайдер похохотал, подивился российской смекалке и принялся расспрашивать о девочках: какие будут погорячей, беленькие, парижские да московские, либо черненькие, с берегов Убанги и Арувими [562]. Каргин высказался в том смысле, что темперамент – фактор генетический и узнается по цвету белья, не кожи; если белье на девушке белое, так это дохлый номер, а если зеленое или красное, то самый смак. “Откуда же белье у черненьких?” – заинтересовался Альф, и пришлось ему объяснять, что даже в самой жаркой Африке девушки голыми не бегают, а носят юбки из белого лыка или из свежих пальмовых листьев. Когда джип, подвывая и взревывая, полез в гору, отношения у них наладились окончательно: они стали если уж не друзьями не разлей вода, то добрыми приятелями. Дорога извивалась серпантином, и с высоты Каргин мог разглядеть залив с застывшей у мола океанской яхтой, бело-оранжевую башенку маяка и весь поселок, разделенный пополам короткой широкой улицей. Его дома тонули в зеленях, и только здание казармы, массивное и высокое, соперничало с кронами саговников и пальм. Он вздохнул. Видно, не судьба командовать охранной ротой, гонять Гутьерреса, Сегри и Моруэту… Нет, не судьба! С другой стороны, неведомый пока что пост мог оказаться неплохим и более престижным, чем должность гарнизонного начальника. На этот счет разговорчивый Спайдер не вымолвил ни слова, а лишь болтал о том, о сем, расспрашивал об Африке и Легионе, травил анекдоты и деликатно прощупывал Каргина. Вопросы были вполне невинными, однако Каргин уверился: его послужной список изучен с начала и до конца, без пропусков и купюр. Глухой отдаленный рык прервал беседу. Над бухтой мелькнула светлая тень с распластанными крыльями и, ввинчиваясь в воздух, устремилась к облакам. “Оспрей” быстро набирал высоту, рев двигателей делался тише, затем яркая искорка корпуса истаяла в небесной синеве, будто капля росы под жаркими солнечными лучами. Проводив самолет взглядом, Каргин вымолвил: – Говорили, я буду ходить в твоих помощниках. – Кто говорил? – поинтересовался Спайдер, притормаживая перед очередным поворотом. – Шон Мэлори. Нужен тебе помощник. Альф? И по какой части? – Это старику решать. Может, займешься восточным побережьем, наладишь охрану… Хотя, чего там охранять? Все вроде бы о’кей… камни, болота и скалы… Так что, я думаю, он тебя егерем определит. Егерь ему не помешает. Я вот с ним бегаю по утрам, но в кратер таскаться – увольте! Ни за какие деньги! А он желает поохотиться. На попугаев или, к примеру, на крыс… Ты как стреляешь-то, парень? – В крысу не промажу, – сообщил Каргин, мрачнея и хмуря брови. Идти в крысиные отстрельщики? Еще чего! Впрочем, вряд ли его ожидал такой позор. Что-то в тоне Спайдера и выражении маленьких хитрых глазок будто намекало, что помощник измерен, взвешен и распределен, что участь его решена и палить в попугаев и крыс ему не придется. Разве что для собственного удовольствия. Они проехали между двумя коническими пилонами и очутились в парке. Справа, за шеренгой аккуратно подстриженных темно-зеленых кипарисов, голубел овальный бассейн, слева тянуло сладким запахом от рощи цветущих магнолий, прямо лежала аллея – ровная, как стрела, и упиравшаяся в лестницу с широкими гладкими ступеньками. Ступени стерегли каменные сфинксы, а над ними полукругом возносилась колоннада, придававшая дворцу сходство с древним египетским святилищем. По обе его стороны темнели скалы, увитые лианами; сквозь их изумрудную паутину просвечивал черный бугристый базальт, будто сжимавший дворец в своих объятиях. В сущности, так оно и было: здание врезали в горный склон, выстроив в форме подковы о трех этажах, с южным и северным портиками и плоской кровлей, увенчанной ажурным цветком антенны. К южному портику примыкал утес, напоминавший сидящего медведя, а за ним располагался флигель служащих с хозяйственным двором, конюшнями, гаражами и вторым бассейном. Каргин, изучивший планы сооружения вдоль и поперек, знал и о других деталях, недоступных взгляду: про бункер в основании дворца и выбитый в скале тоннель, ведущий к служебному флигелю. Кроме того, севернее, метрах в пятистах, находился седьмой блок-посту охранявший энергетическую подстанцию – не назем” ную, как в поселке, а тоже упрятанную в скалы. Парк был безлюден и тих, но на ступенях виллы маячил чей-то тощий силуэт. Джип, миновав аллею, притормозил у лестницы, и Каргин смог разглядеть встречавшего подробней. Худощавый узкоплечий человек лет сорока, с высокомерным смуглым лицом; глаза спрятаны за темными очками, волосы странные, с медным отливом, будто угли, тлеющие под слоем пепла. Одет, несмотря на жару, в строгий костюм при галстуке и жилете; у пояса – мобильный телефон, на пальцах – золотые перстни. Он не понравился Каргину – слишком напоминал нового русского кавказской выпечки. – Этот костлявый хмырь – Умберто Арада, он же Хью, – негромко пробасил Спайдер. – Личный референт старика. Не из нашей компании. Во-первых, чертов аргентинец, а во-вторых, пива не пьет и брезгает чикитками из “Пентагона”. В голосе его слышалось легкое презрение – такое, каким человек упитанный и склонный к житейским радостям одаривает тощих анахоретов и святош. Отметив это, Каргин кивнул и поинтересовался, какая же компания – “наша”. “Скоро увидишь”, – ответил Альф и полез вон из машины. – Мистер Халлоран ждет наверху, – английский аргентинца был столь же безупречным, как и его костюм. В молчании они вошли в большой прохладный холл с колоннами и двумя изгибавшимися полукругом мраморными лестницами, ведущими на второй этаж. Колонны отгораживали жерла арок; одна, как помнилось Каргину, обрамляла ход к гостевым покоям в северном крыле, а в южном располагались столовая, кухни, кладовые и спуск в убежище. Простенок между лестницами украшало тускло поблескивающее мозаичное панно: орел, как на американском гербе, но с добавлением – парой револьверов, стиснутых в когтистых лапах, и надписью: "Кольт создал Соединенные Штаты”. Мрамор лестницы был окутан ковровой дорожкой, заглушавшей шаги, перила держал строй бронзовых римских воинов в доспехах, сияли светильники и зеркала, бугрились мускулы статуй: Марс в гривастом шлеме, кующий меч Вулкан, Минерва с грозно подъятым копьем. Не останавливаясь, они миновали площадку второго этажа; по обе ее стороны открывались анфилады залов со стенами в панелях из дуба и красного дерева либо обтянутых шелками; люстры, драгоценная мебель, изваяния, картины… “Парадная миллиардерская берлога”, – решил Каргин и бросил взгляд на аргентинца. Тот шагал как заведенный, с окаменелым невозмутимым лицом. Очки его торчали из кармана, и теперь можно было рассмотреть глаза – не темные, а серо-зеленые, совсем не подходящие для представителя латинской расы. “В точности как у Паркеров”, – мелькнула мысль, но додумать ее он не успел. Под ногами загрохотали каменные плиты, налетевший порыв ветра взъерошил волосы, солнце брызнуло в лицо, заставив сощуриться. – Чтоб меня Тор пришиб!.. – пробормотал Каргин и огляделся. Они очутились на верхней террасе, скорее даже – эспланаде, открытой к востоку, закругленной с одного конца и висевшей над стометровым обрывом. Эта площадка была продолжением дворцовой кровли на уровне третьего этажа; сам этаж возвели прямо здесь, будто пентхауз на крыше какого-нибудь нью-йоркского небоскреба. Со стороны парка фасадом служили массивные колонны и глухая, без окон, стена, но с террасы вид был иной, более веселый и приятный: широкие оконные проемы за водопадом виноградных лоз, полосатый тент, защищавший от солнца, скамьи под невысокими пальмами и мандариновыми деревцами, фонтан и крохотный пруд, где в тишине и прохладе сияло чудо – огромная амазонская кувшинка. Отдельно, метрах в двадцати от здания, у южного края террасы стоял павильон с полусферическим куполом; купол был раздвинут, и в щель выглядывало стеклянное око телескопа. Референт шагнул к дверям, едва заметным под вуалью виноградных листьев, и что-то тихо сказал сидевшему у порога человеку. Тот поднялся – будто перетек из одной позы в другую без всяких видимых усилий, не напрягая мышц. “Не европеец, – отметил Каргин, – китаец или японец. Скорее, японец; широкоплечий, среднего роста, молодой, однако не юноша и на слугу не похож – держится спокойно и с достоинством”. Японец выслушал Араду, повернулся, приоткрыл дверь, и Каргин, заметив пистолетную кобуру на ремне, понял: телохранитель. – Томо Тэрумото, – пророкотал над ухом Спайдер. – Можно, Том. Этот – из наших. К девочкам, правда, не бегает, но пиво пьет. Повинуясь жесту Арады, они направились к распахнутым дверям. В двух шагах Каргин остановился, сделал короткий поклон и протянул японцу руку. – Саенара, Томо-сан. Я – Алекс Керк. Ответный поклон, блеск антрацитовых зрачков, крепкое пожатие… – Саенара, Керк-сан. Был ли ваш путь легким? – Как у ласточки, что несется со склонов Фудзи к ветвям цветущей вишни, – с улыбкой произнес Каргин. Спайдер чувствительно ткнул его в спину. – Шагай, парень, шагай! Не время для восточных церемоний. Хозяин ждет! Хозяин расположился в кресле у стола с разложенными на нем книгами. Книг было много – не современные “побрекито” в пестрых бумажных обложках, а фолианты в коленкоре и ледерине, синие, черные и темно-серые, с вязью готических букв, хмурые, как генеральская улыбка. Немецкий Каргин знал посредственно, но догадался, что видит труды о второй мировой, причем первоисточники – Роммель, Вальтер фон Рейхенау, Гудериан… Практики и теоретики танковых битв, сражавшиеся в песках Сахары, на тучных нивах Франции и в польских болотах… Он перевел взгляд на сидевшего в кресле старика. Лицо – как на мишенях, расстрелянных Бобом Паркером… Сухое, костистое, с рыжими бровями и прядями волос цвета глины, свисающих на лоб; рот будто прорубленный ударом топора; глубокие складки, что пролегли от крыльев носа к подбородку; широко расставленные глаза – их серо-зеленый цвет поблек, но зрачки были колючими, как острия штыков. Ни признака старческой дряхлости и никаких воспоминаний о юном дипломате, поклоннике искусства и прекрасных дам… Как и писал в “Форчуне” обозреватель Сайрус Бейли, этот потомок пушечных королей был человеком жестким, не ведавшим ни жалости, ни сомнений. "Акула”, – подумал Каргин, вытягиваясь по стойке “смирно”. Сесть ему не предложили. Халлоран разглядывал его с непонятным интересом. – Где воевал? – губы раскололись узкой щелью. Голос – резкий, отрывистый, скрипучий. – Африка, сэр. Руанда, Ангола, Чад, Сомали, Заир. Еще Югославия. Летом девяносто пятого. – В России? – В России не воевал. Служил. В десантных войсках. Стена против входа была увешана клинками. Сабли, шпаги, ятаганы, кавалерийские палаши… Мачете. Зеркальное лезвие, слегка изогнутое, как тонкий лунный серп… Каргин, не моргая, уставился на него. – Женат? – Нет. Не тороплюсь, сэр. – Родители? Возраст, где живут, чем заняты? – Отец – офицер в отставке, возраст – шестьдесят шесть. Мать – врач, пятьдесят четыре. Живут в Краснодаре. "Странный вопрос”, – мелькнула мысль. Странный, хотя понятный: о родителях он в фирму “Эдвенчер” сведений не сообщал, а значит, их не имелось у нанимателя, ни прошлого, ни нынешнего. В том не было нужды, поскольку гибель завербованного и все его наследственные и семейные дела фирмы “Эдвенчер” никак не касались. Легиона тоже. Легион платил за риск, за кровь и раны, но любопытства там не проявляли ни к женам, ни к детям, ни к родителям. В лице Халлорана что-то дрогнуло. Во всяком случае, так показалось Каргину; резкие складки у губ вроде бы смягчились, померк пронзительный холодный блеск зрачков. – Пятьдесят четыре…– повторил он. – Еще молодая… Ты у нее один? Каргин молча кивнул. Старик уткнулся глазами в книгу, лежавшую на коленях, но можно было поклясться, что он не видит ни строчки; он о чем-то раздумывал, что-то прикидывал, взвешивал, соображал. Этот процесс был не долог и занял секунд тридцать; потом рыжие брови шевельнулись, и по этому знаку Спайдер, стоявший рядом, подтолкнул Каргина к выходу. – Иди, прогуляйся под пальмами… Я сейчас. Каргин вышел. Арада куда-то исчез, но японец Том по-прежнему дежурил за дверью, сидел на пятках с выпрямленной спиной и ладонями, прижатыми к бедрам. Взгляд его был устремлен к белому облаку, похожему на гигантскую птицу, взмахнувшую крыльями; то ли он любовался ею, то ли с самурайским терпением ждал, когда эта птица пролетит над головой и скроется в утренней дымке. Вздохнув, Каргин тоже взглянул на облако, на кувшинку, дремавшую в пруду, потом зашагал к дальнему краю террасы – туда, где она, закругляясь, висела над горной кручей. Это была прекрасная обзорная площадка, расположенная с умом, в самой высокой точке западного склона. Скалистая гряда, подпиравшая ее, тянулась на север и юг, затем плавно сворачивала к востоку и где-то у горизонта смыкалась в неровный базальтовый овал. Вид был знакомым и точно таким, как на снимках и компьютерных изображениях: темные стены кратера, ядовито-зеленый мангровый лес, пронзительная синева Нижней бухты с золотистой песчаной полоской, а чуть подальше – хаос каменистой осыпи, торчащих под невероятными углами плит и глыб, трещин, разломов и пещер. “Хорошее место для игры в прятки!” – мелькнуло в голове у Каргина. Он повернулся, осмотрел дорожку, повисшую серой бетонной лентой на самом гребне кратерной стены. Этот тракт, петляющий среди утесов, тоже был знаком Каргину – на планах и картах он назывался Нагорным. Тут и там огражденная перилами, дорога прерывалась тоннелями и металлическими мостиками, проложенными от скалы к скале; она шла от парка к голубому глазу озера, а потом спускалась к Нижней бухте и пляжным домикам. Их закрывали утесы, но озеро с округлым куполом второго блок-поста Каргин разглядел во всех подробностях и удивился, что там отсутствуют охранники. Ни солдат, ни пулеметов в амбразурах… Странно! Мэлори утверждал, что на каждом блок-посту дежурят по три человека или хотя бы два, стрелок и наблюдатель… “Впрочем, не мое это дело, – решил Каргин. – Мне, возможно, придется не солдатами командовать, а отстреливать попугаев да крыс в мангровом болоте”. Тяжелая длань опустилась на его плечо. – Двигай, дружок! – пробасил Спайдер, вытирая вспотевший лоб и посматривая на небо. – Жара… Пора пиво пить… Я ведь тебе обещал? – Определиться бы прежде, – буркнул Каргин. – Уже определились. Старик распорядился: в егеря не пойдешь, а будешь у нас пятым. Я, Сэмми, Том, Крис и ты, –Спайдер, пересчитывая, загибал пальцы. – Время твое – ночное, с двух до восьми утра. Сменяет Том, после – очередь Криса, а Сэмми достанется вечер… Что глядишь? Хочешь узнать, когда дежурю я? "Хинштейн твою мать!.. Никак в телохранители сосватали!” – подумал Каргин и выдавил: – Д-да. – От случая к случаю, – пояснил Альф с широкой улыбкой. – И знаешь, почему? Потому что я тут босс! А босс… – … всегда прав. – 0’кей! – он поднял указательный палец, похожий на сосиску. – 0’кей, парень! Тебя, я вижу, хорошо учили. Первый принцип во всех флотах и армиях – начальник всегда прав! А знаешь, какой второй? – Спайдер выдержал паузу и продолжил: – Не медли, если начальник зовет пить пиво! Он схватил Каргина за руку и потащил к лестнице.Глава шестая
Прошло недели три – может быть, меньше, может быть, больше. Время на острове не тянулось, а словно плелось; совсем не так, как в других местах, где оно бежало и прыгало под бичом переворотов и войн, аварий и катастроф, землетрясений и эпидемий. Здесь не случалось ровным счетом ничего. Жизнь шла по заведенному распорядку: взводы охраны сменялись у пулеметов, техники копошились в мастерских, повара готовили, горничные прибирали, конюхи выгуливали лошадей, матросы драили палубу яхты. Утром, ровно в восемь, когда наступал конец дежурству Каргина, на маленькой площади, между почтой и кафе, встречались трое: мистер Балмер, вице-мэр, мистер Гэри, капитан “Дункана”, и Руис Акоста, просто капитан. Каргин мог разглядеть их в малый телескоп, стоявший в павильоне-обсерватории, но день ото дня ничего не менялось: три джентльмена выкуривали по сигаретке и отправлялись по боевым постам. Балмер шел в контору, Акоста – в штаб за зданием казармы, а Гэри неторопливо поднимался на борт, садился в шезлонг, снимал фуражку и снова закуривал – уже не сигарету, а сигару. «Тоскливая жизнь у миллиардеровых слуг…» – думал Каргин. Но сам он являлся таким же слугой, качком-телохранителем, и близость к телу патрона тут ничего не меняла. Ровным счетом ничего, за исключением сна. Спал он днем, с девяти до трех, ночью дежурил, а в остальное время большей частью маялся от бездедья. Правда, платили за эту работу неплохо. Спайдер выдал ему оружие – “беретту” последней модели под девятимиллиметровый патрон и десять запасных обойм. Кроме того, полагались нож, бронежилет, бинокль и различная амуниция, комбинезоны и шорты, шляпы и башмаки, ремни и подсумки, а также сотовый мобильник с памятью на тридцать номеров. – Номера были уже внесены: первым шел телефон Альфа, вторым – врача, помощника Магуара и его вре:менного заместителя. Жил Каргин, как все холостяки, в служебном флигеле, в двух просторных комнатах с удобствами, однако без роскоши, которой его побаловали на Грин-авеню. Ванна была, но не было кухни и личного бассейна, а также набитых одеждой шкафов и спальни с зеркалом на потолке; кровать оказалась самой обычной, не ложе “кинг-сайз” для любовных утех, а неширокая холостяцкая койка. Правда, были тут и другие постели, рассчитанные на двоих, однако не во дворце, в поселке. Каргин в них побывать не успел – с одной стороны, не жаловал профессионалок, с другой, еще не выветрилась память о Кэти. С ней не выдерживала конкуренции ни одна из местных сеньорит. В поселке, кроме почты, кафе и четырех разнокалиберных лавчонок, имелась пара мест, где можно было поразвлечься. Рядом с казармой – не там, где находился штаб, а поближе к дороге – стоял салун, известный как заведение доньи Каталины Соль. В нем обслуживали девушки числом шестнадцать – чикитки, как звал их Спайдер; все – завербованные в Пуэрто-Рико и все на одно лицо: темноглазые, черноволосые, с кожей цвета кофе с молоком и пухлыми яркими губами. Каргин их пока что не различал и к близким контактам не стремился. Тем более, что донья Соль ориентировалась на публику попроще – солдат, аэродромных техников и моряков с “Дункана”. Пили у нее в салуне не пиво и вино, а ром и джин, и пили крепко; случались потасовки – но, по неписанному закону, без поножовщины и пальбы. Словом, то было место не для кабальерос, к которым по должности принадлежал Каргин. Чистая публика облюбовала “Пентагон”, названный так не по причине пятиугольной конфигурации, а потому, что чикиток там было пять. Немного, но, с другой стороны, и холостых джентльменов насчитывалось лишь десятка два – охранники и старшие слуги с виллы, Гэри, Балмер, три инженера и, разумеется, Акоста со своими лейтенантами. Еще захаживал Стил Тейт, шеф-повар Халлорана, бывший сержант морской пехоты, невысокий и жилистый, с огромными ухватистыми руками. Но Тейту было под шестьдесят, и пиво занимало его больше девушек. Стил Тейт, по словам Спайдера, тоже относился к “нашей компании”, куда входили, вместе с поваром и телохранителями, старший садовник, конюх и шофер, он же – личный камердинер босса. Какое-то время Каргин подозревал, что этих людей объединяет страсть почесать языки за кружкой пива, но данный вывод оказался слишком поспешным. Две силы, гражданская и военная, определяли порядок на Иннисфри, и их полагалось поддерживать в равновесии – так, чтобы мелкие ссоры и дрязги не нарушали покой или, не приведи Господь, не требовали королевского вмешательства. И Альф Спайдер, будто рессора на ухабистой дороге, гасил конфликты, судил, казнил и миловал, и узнавал о новостях из первых рук – что не мешало дружеским беседам и частым возлияниям. “Неглупый парень”, размышлял о нем Каргин, прикидывая, на какой попойке ему навесят роль осведомителя. Первая неделя из истекших трех прошла повеселей – его водили по хозяйским апартаментам, по саду окружавшему дворец, и лесу на западном склоне горы. В теории эти места были ему известны по фотографиям и картам, но практикой тоже не стоило пренебрегать. Хотя бы из тех соображений, что он знакомился и с островом, и с людьми. По дворцу и саду он бродил со Спайдером, тогда как обзор прилегающей местности был возложен на Тома и Сэмми. Крис, последний из телохранителей, в этом участия не принимал, так как они с Каргиным работали в противофазе – Крису выпало дежурить дневное время, с четырнадцати до двадцати. Это не огорчало Каргина. Крис Слейтер, угрюмый сорокалетний техасец, симпатий у него не вызывал и был к тому же на удивление неразговорчив, а если что и говорил, то понять его без переводчика было трудно. Согласные он проглатывал, гласные тянул и не имел никакого понятия о грамматике, так как обучался не в Принстоне и Йеле, а в подразделении техасских рейнджеров. Впрочем, как утверждал Спайдер, все недоумки от Аризоны до Арканзаса так говорят – мычат, как недоеные коровы на ранчо, зато стреляют с похвальной меткостью. Экскурсия по вилле началась с осмотра первого этажа. Его северное крыло именовалось “гостевым”, но там же обитали Хью и Альф – пара вельмож, прописанных в королевских покоях. Все остальные Служащие жили во флигеле за скалой, напоминавшей медведя, и в возведенных для семейных пар коттеджах. (} южном крыле была хозяйская трапезная с дубовой мебелью и стенами, отделанными орехом, а дальше шел коридор, тянувшийся до самого флигеля. В него выходили двери холодильных камер, кухонь и кладовых – царство Стала Тейта, повелевавшего плитами, фризерами, посудомоечными машинами и троицей поваров, а кладовыми располагался колодец мусоропровода – прямой наклонный тоннель, пробитый в скале и уходивший вниз метров на триста, до мангровых зарослей и болот. Еще имелась в коридоре металлическая дверь под кодовым замком, ведущая к лифту. Лифт предназначался для спуска в убежище – иными словами, в автономный бункер под толстым, прочным и несокрушимые базальтовым щитом. Но поглядеть на это чудо Каргину не довелось. Его провожатый лишь помянул, что запасов в убежище хватит лет на тридцать и что внизу, с внутренней стороны кратера, есть несколько выходов с системой проложенных к ним тоннелей. Видимо, там находился целый лабиринт – катакомбы, в которых можно было отсидеться на случай ядерной войны или атаки из космоса; переждать беду в покое, тишине и, разумеется, с комфортом. Каргин припомнил, что планов катакомб в его компьютере – том, на котором он разрабатывал операцию захвата – не имелось, хотя не скрывалось, что такое сооружение есть. Видимо, эти планы были одной из государственных тайн Иннисфри, недоступной для простых телохранителей. Великолепные залы и убранство второго этажа он осмотрел с полным равнодушием, проявив интерес лишь в библиотеке, продолговатом помещении, опоясанном по периметру балконом. Стен, если не считать гранитного камина, тут не было, а все пространство от пола до потолка занимали шкафы, забитые тысячами книг, журналов, атласов и видеокассет; посередине высился стол, на котором удалось бы разделать средних размеров носорога. Осмотрев все это богатство, Каргин сглотнул слюну и спросил, выдаются ли книги на дом. Скажем, любознательным телохранителям со склонностью к литературе. Спайдер изумленно воззрился на него. – Книги? Зачем тебе книги, приятель? – Картинки люблю разглядывать, – буркнул Каргин; – Девочек? – Нет. Морские пейзажи. Вздохнув, Альф почесал в затылке. – Загадочная русская душа… Значит, морских пейзажей тебе здесь не хватает… Нормальные парни смотрят в “Плейбое” на голых девок, а вам подавай пейзажи… – Ментальность у нас другая, – пояснил Каргин. – Семьдесят лет социализма, плюс изучение марксистско-ленинской теории… Это, знаешь ли, угнетает половой инстинкт. – То-то, смотрю, ты на чикиток не прыгаешь, – ухмыльнулся Спайдер, но заходить в библиотеку разрешил. Пентхауз с личными покоями Халлорана они осмотрели с особым вниманием, как два генерала, изучающих оборонительные рубежи. На эспланаду можно было подняться по лестницам с обеих сторон от верхней надстройки, делившейся примерно пополам: северная половина – для служебных дел, а в южной находились спальня старика, процедурная с кучей медицинской аппаратуры, гостиная и кабинет, в котором Каргин уже побывал. В процедурной днем дежурили врач или медсестра, а в служебной половине был оборудован аналитический центр с телетайпами, компьютерами, ксероксами и печью-сейфом, служившим для уничтожения документов и дискет. Здесь, с десяти до восемнадцати, сидели пять референтов-секретарей, трудившихся под недреманным оком тощего Хью; тут, среди мерцающих экранов и шороха бумаг, под торчавшей на крыше антенной, таился мозг халлорановой империи; тут решали, что продавать и что покупать, какие войны будут выиграны, какие страны обратятся в прах, где президенты сменят королей и где короли повесят президентов. Одно из немногих тайных мест, вершивших судьбы мира; магическая точка, где деньги, превратившись на миг в эскадрильи, флотилии и танковые корпуса, оборачивались еще большими деньгами. "Гадючье гнездо, нора пауков”, – думал Каргин, разглядывая помещение с широкими окнами и вслушиваясь в мягкий шелест телетайпов. Он напоминал тот звук, с каким сухая земля сыпется в яму, скрывая под бурой своей пеленой и мертвых, и живых. Низко нависшие тучи, яма в горах, и люди с карабинами над ней… Африканская степь, свежеотрытый окопчик с торчащим вверх минометным стволом, визг налетающего снаряда… Гнилые заирские джунгли, чернокожий солдат, кургузый “узи” в его руках… “Все – отсюда”, – мелькнула мысль; все, что целилось в него и извергало огонь и смерть, явилось из этой комнаты, где окна были увиты зеленью и по компьютерным экранам неспешно и мирно скользили столбики цифр. Впрочем, если не вспоминать о мрачных снах, это его не касалось. Сам он ничем не торговал и даже, на нынешнем своем посту, не убивал и не командовал солдатами; он был всего лишь стражем, охранником главной гадюки. Или паука… Тихое место, тихая жизнь на райском острове… Именины сердца, отдохновение души, отпуск с приличным содержанием… Счастье! Туз, да еще козырный!.. Странно, что выпал ему, а не кому-то из своих, поближе, из Калифорнии либо Техаса… Ну, что выпало, то выпало, и повода для огорчений нет. Даже утешиться можно: лучше ходить в телохранителях у Халлорана, чем у московских мафиози. Не говоря уж про Легион… Служба и в самом деле была непыльной. Без четверти два Каргин натягивал комбинезон, брад бинокль, подвешивал к поясу нож, мобильник и две кобуры, с сюрикенами и “береттой”, затем, миновав коридор, ведущий к вилле, взбирался на эспланаду. Считалось хорошим тоном являться на пост заранее и покидать его не сразу, а лишь поболтав со сменщиком и обменявшись новостями, если таковые были. Каргин традицию не нарушал, хотя разговоры с Сэмми сводились к обмену сплетнями, анекдотами и спорам о преимуществах “магнума” перед “береттой”. Что до японца, то он к оружию был равнодушен и оказался гораздо более интересным собеседником, тонким ценителем и знатоком танка и хокку. С ним было о чем поговорить, и всякий утренний разговор имел продолжение – в дневной либо вечерний час, когда они бродили по склонам кратера. Ночные дежурства Каргина не утомляли. Распорядок их был несложен: Во-первых, ему полагалось глядеть в оба, а во-вторых каждые полчаса подходить к спальне и слушать, как дышит босс: если неровно и с хрипами – вызвать врача, если стонет – будить и действовать по обстановке. Еще – контролировать двери на лестничных площадках, пролетом ниже эспланады. При запертых дверях забраться в пентхауз мог только альпинист, что, в принципе, не исключалось; тогда обязанности были таковы: включить сигнал тревоги, стрелять на поражение и защищать хозяйскую спальню до последнего вздоха и капли крови. Помощь являлась через пару минут – Спайдер с остальными телохранителями и солдаты с седьмого блок-поста, расположенного рядом с виллой. Однако ночи проходили спокойно, террористы-альпинисты Каргину не докучали и не мешали любоваться звездным небом, пальмами в подсветке ярких ламп и амазонской кувшинкой, дремавшей посреди пруда. Временами он подходил к павильону, заглядывал в телескопы – в большой, нацеленный в пространство, в безбрежную космическую даль, и в малый, глядевший на берег залива. Этот можно было двигать на треноге, рассматривать башню маяка, яхту, мол и освещенные фонарями коттеджи. Насколько он мог разобрать, там не происходило ровным счетом никаких событий и ничего не шевелилось, кроме антенны радара над третьим блок-постом. Другим источником развлечений был кратер. Стоя над обрывом, Каргин всматривался в темноту и слушал, пытаясь угадать, кто там шелестит среди ветвей, шуршит, попискивает, булькает. Птицы?.. Крысы?.. Жабы?.. Помимо этого зверья, в манграх обитали ящерицы, жуки и бабочки, а в пещерах – летучие мыши, страшные видом, но безголосые и безобидные. Скорее всего, булькали жабы, а пищали и шуршали крысы, пировавшие на свалке – там, у подножия скал, под жерлом мусоропровода. К джунглям у Каргина было двойственное отношение. В заирских лесах он поползал изрядно и полагал, что лучшего укрытия в мире не найти – в том случае, когда отступаешь и прячешься. Но при иных тактических задачах – к примеру, если приходилось выбивать из джунглей партизан – лес оборачивался не союзником, врагом. Прятал он хорошо, но ничего не отдавал. Вернее, был не прочь отдать, но по своей цене: трое за одного. В этом смысле из всех разнообразных мест, где воевал Каргин, лишь тайга могла сравниться с джунглями. Но в тайге войсковые операции не проводились. Максимум – рейд по чащобам, облюбованным контрабандистами, или облава на сбежавших зэ-ков, как в девяносто третьем, под Жиганском. Тогда убили Николая, его дружка – пуля из обреза разворотила затылок, крикнуть не успел… Глядя во тьму, он прокручивал в памяти скорбный список погибших. Не столь уж длинный, однако и не короткий; и странным было то, что большей частью гибли “стрелки” не за бугром, в матушке-России. Друг Колька – в жиганских болотах, Валентин – в Чечне, Юра Мельниченко – в Карабахе, а Паша Нилин – в Дагестане, все трое – в девяносто пятом; потом погибли сразу четверо – в Москве, при невыясненных обстоятельствах. Тянулось время, секунды ползли цепочкой змеек, вцепившихся в хвосты друг другу, потом небосклон начинал сереть, меркли колючие точечки звезд, и это было признаком рассвета. Старый Патрик просыпался без четверти пять, когда заря еще не занялась. Вставал он быстро, натягивал ярко-красный спортивный костюм, пил сок и, появившись на террасе, сухо кивал Каргину. В этот момент полагалось разблокировать двери. За одной из них уже переминался Спайдер – тоже в спортивном трико, но синего цвета, с изображением пумы между лопатками. Они спускались вниз, к скале, напоминавшей присевшего медведя, и тут Каргин минуты на три-четыре терял их из поля зрения. Потом фигурки возникали вновь – у тоннеля, откуда выныривал Нагорный тракт – и, шустро перебирая ногами, мчались к озеру и серому куполу второго блок-поста. Два километра в одну сторону, два – в другую. Разглядеть их в предрассветных сумерках было делом непростым, но тут помогал телескоп: десять минут Каргин мог любоваться на их затылки и еще пятнадцать – на лица. Возвращались бегуны помедленней, хоть признаков усталости у Халлорана не замечалось никаких. Потом он плавал в бассейне, принимал душ, завтракал в компании Спайдера и Арады и ровно в шесть тридцать поднимался к себе. Время до десяти утра предназначалось для чтения; затем – ланч, работа с референтами до трех, обед и, если бизнес не поджимал, прогулка в парке, конный променад в окрестностях либо поездка на пляж, в Нижнюю бухту. Ужинал босс в восемь, а в десять ложился спать. Этот промежуток, по словам дежурившего вечером Сэмми, был посвящен изучению звездных небес либо картам. В большой телескоп Халлоран любовался величием Галактики, обозревая ее периферию и Млечный Путь, а играл неизменно в бридж, и партнеры его были неизменными – Хью Арада и Спайдер. Министры внешних и внутренних дел в негласной иерархии Иннисфри. Внутренние дела касались покоя и монаршей безопасности, а внешнее было одно – бизнес. Вероятно, тощий Хью разбирался в нем получше Бобби Паркера и был в халлорановой империи столь же весомой фигурой, как коммодор и финансовый гений Брайан Ченнинг. Во всяком случае, так представлялось Каргину, хотя с Арадой он не контактировал. Похоже, не контактировал никто, кроме патрона, Спайдера и подчиненных аргентинцу служащих. Судьба их была нелегкой: Арада казался человеком замкнутым, высокомерным и промороженным, словно бифштекс из мамонта, скончавшегося в ледниковую эпоху. Таким же был и Халлоран. Сходство их характеров казалось почти мистическим и неслучайным; то ли старик подобрал Араду в процессе долгих поисков, то ли имелись иные обстоятельства и связи, тянувшиеся с тех еще времен, когда Халлорана назначили консулом в Аргентине. Во всяком случае, по возрасту Арада годился ему в сыновья, а медный отлив шевелюры Хью и серо-зеленые зрачки наводили на некоторые подозрения. Случалось, старик был разговорчивей обычного – то вспоминал войну и годы, проведенных в Москве, бомбежки и артобстрелы, темное небо, гул самолетов, пронзительный вой сирен, то принимался расспрашивать Каргина о России и Африке, о службе и делах семейных. Как-то Каргин упомянул, что сам наполовину москвич, по бабке Тоне, непутевой переводчице. Но это, видимо, не интересовало Халлорана; кивнув, он погрузился в книгу. Такие разговоры бывали не часто, но и не редко, раз в три-четыре дня. Какой-то закономерности в них не ощущалось; старик их начинал и обрывал по настроению, и темы тоже были случайными. Быть может, он просто нуждался в новизне, в каких-то собеседниках и людях, с коими стоит потолковать не о делах, не о бизнесе, а о чем-то совсем ином; вспомнить ли молодость и повздыхать о безвозвратно ушедшем, расслабиться, поспорить, расспросить. Однажды, оторвавшись от книги, он ткнул костистым пальцем в берет Каргина: – Зачем это носишь? – Реликвия, сэр, – откликнулся Каргин. – Счастливый амулет. – Ты веришь в такую чушь? Ну, и много принес он счастья? – Много, и не только мне. Главное, сэр, я жив. И жив отец. Берет был отцовским, прошедшим афганскую кампанию, ни разу не пробитым пулей, не посеченным осколками. Даже во время бомбежки под Сараевым его не задело, так что у веры Каргина имелись кое-какие основания. Старик хмыкнул и принялся расспрашивать об отце – какого тот рода-племени, где и как познакомился с матерью, чем награжден и за какие подвиги произведен в генералы. Узнав о казачьем происхождении Каргиных, приподнял рыжую бровь, проскрипел: – Казаки – из беглых каторжников? Изгои, разбойники и неплательщики долгов? Судя по тону, последнее из этих преступлений казалось ему самым чудовищным. – Можно и так сказать, – кивнул Каргин, – но время те долги списало. Время, честный труд и пролитая кровь…– он вдруг ухмыльнулся и добавил: – В Австралии тоже живут потомки каторжан, однако народ вполне миролюбивый и приличный. Или взять ирландских эмигрантов… тех, что бежали в Штаты за неимением Дона, Кубани и Сибири… Те же казаки, изгои и разбойники… Разве не так, сэр? Морщины на лице Патрика сделались резче, на висках вздулись и запульсировали синие жилки. – Что ты знаешь об ирландцах, идиот? – каркнул он. – Ирландцы – великое древнее племя! Не выскочки-саксы и не славянские недоумки! Воины, не разбойники! – голос его стал глуше и тише, морщины разгладились. – Каждый ирландец – эрл, человек благородной крови… каждый, в ком есть хоть капля… Внезапно старик смолк, потом, не глядя на Каргина, заговорил опять – резко, отрывисто, короткими рубленными фразами, будто с усилием проталкивая их сквозь узкую щель рта. То была сага о семействе Халлоранов – о пращуре, переселившемся за океан и сгинувшем в схватке с британцами, о Бойнри Халлоране, воителе и основателе ХАК, о Шоне и Кевине, ловких дельцах, и о самом Патрике, сорок без малого лет возглавлявшем семейный бизнес. Еще говорил он о том, что всякому делу нужен хозяин с твердой рукой и сильным духом; человек, который не ведает жалости и не боится крови, способный утвердить себя и отстоять принадлежащее ему богатство. Не только отстоять и сохранить, но приумножить! Ибо в богатстве – сила и власть, а они нуждаются в непрестанном приумножении. Таков их смысл в современном мире, где много разных сил и множество рвущихся к власти; поэтому сила, которую не растят, оборачивается слабостью, а власть, которую не умножают – потерей влияния и безвластием. "Отстоять, сохранить, приумножить!..” – звучало в ушах Каргина грохотом артиллерийских залпов. Видно, тема была больной для Патрика, и что-то за всеми этими рассуждениями стояло – что-то конкретное, связанное с дальнейшим сохранением и приумножением. "Бобби, наследник…– мелькнула мысль, – Любитель патронов большого калибра, больших машин и волосатых задниц…” Может, он не боялся крови, не ведал жалости, но вряд ли был человеком с твердой рукой, достойным своих ирландских. предков. Тех, что приумножали силу, богатство и власть уже второе столетие. Глупец, фанфарон и самовлюбленный идиот, сказала Кэти… Видимо, были к тому основания, и старый Патрик знал о них. Может быть, знал и больше – скажем, о мишенях, в которые палят его наследнички. "Сдохнет волк, и все достанется шакалам!” – не без злорадства подумал Каргин и, дождавшись паузы, пробормотал: – Ваш племянник, сэр, мистер Роберт Паркер. Я познакомился с ним во Фриско. Очень энергичный джентльмен и превосходный стрелок. Тверд во всех телесных членах. Губы старика сжались, на впалых щеках заходили желваки. С минуту он сидел, уставившись в раскрытый на коленях фолиант, потом откинулся в кресле и прикрыл глаза. Веки у него были морщинистые, с редкими рыжеватыми ресницами. – Порченая кровь…– донеслось до Каргина. – Порченая, в этом все и дело… кровь проклятого англосакса… деньги промотал и бросил дурочку с двумя щенками… Были б еще щенки породистые!.. Так нет… Каковы кобель, такие и его ублюдки… Вероятно, речь шла о супруге Оливии, сестры Патрика, и данный отзыв не предназначался для чужих ушей. Подумав об этом, Каргин бесшумно выскользнул из комнаты и поглядел на часы. Без трех восемь… Солнце уже поднялось над иззубренной восточной стеной кратера, безоблачные небеса сияли яркой лазурью. На лестнице послышался шорох, затем возникла черноволосая макушка Томо Тэрумото. Быстрым скользящим шагом он приблизился к Каргину, сложил руки перед грудью, поклонился. – Саенара, Том. – Саенара, Керк-сан. Все спокойно? – Спокойней не бывает. – Как уважаемый сэр Патрик? – Предается воспоминаниям. Думает об ошибках юности, и потому слегка раздражен. – Не суди его строго, Керк-сан. Он стар, а у старости есть свои привилегии. И главная из них – право на понимание и жалость… – японец вздохнул и опустился на пятки у Деверей пентхауза. – Знаешь, был у нас поэт, Исикава Таубоку… хороший поэт, только умер совсем молодым.. говорил он так…– снова вздохнув, Том прищурился на солнце и прочитал:Я в шутку Мать на спину посадил Но так была она легка, Что я не смог без слез И трех шагов пройти…
– Боюсь, это не тот случай, дружище, – возразил Каргин и, пожелав спокойной смены, направился к лестнице. Бывали у них Патриком и другие разговоры, вращавшиеся не в личных, а, так сказать, профессиональных сферах. О том, как воюют в горах и пустынях, в лесах, болотах и городах; о новом высокоточном оружии, ковровых бомбардировках и тактике выжженной земли, об отрядах коммандос, способных заменить дивизию в локальной войне или акции устрашения; о системах космического базирования, орбитальных атаках и стратегических оборонных инициативах. Старик полагал, что грядет революция в военном деле, столь же необратимая, как в средние века, похоронившие меч и лук под грохот пушечных салютов. Но сейчас перемены вершились быстрей, прогресс поторапливал отстающих и недвусмысленно намекал, что время пороха проходит, что танк рожден не ползать, а летать, и что на ядерные арсеналы не стоит полагаться, так как пустить их в распыл вполне посильная задача для хитроумного противника. И, взбаламученный такими перспективами, уставший от революций, мир содрогался в предчувствии жутких истребительных чудес: пучковых, лазерных, микроволновых и даже психотронных. Корпорации полагалось быть на уровне, чтоб конкуренты не обскакали. Само собой, всех конкурентов было желательно разорить или сделать партнерами, включив в империю ХАК под тем или иным предлогом – через слияние фирм, организацию дочерних предприятий либо создание пулов. Способ решающего значения не имел, коль соблюдалось одно условие: контроль за торговыми операциями осуществляла ХАК. Что до торговли, то о ней у Халлорана были свои понятия. Однажды он изложил их Каргину в своем обычном лапидарном стиле; отрывистая речь лишь оттеняла четкость и логику формулировок. – Там, где ты учился… в Рьязани…– “Рязань” он произнес правильно, чуть смягчив на первом слоге. – В Рьязани тебе говорили, что прогресс вооружений раскручивает контрадикция между снарядом и броней? – Говорили, сэр, – подтвердил Каргин. – Противоречие как стимул развития… Снаряд пробивает броню, и значит, необходимо разработать новый сплав и новую защитную конструкцию. Такую броню не пробить, а это ведет к созданию нового снаряда. Потом – брони… Процесс циклический и бесконечный. Будто дебил пересчитывает пальцы, не в силах остановиться. Последнюю фразу старик пропустил мимо ушей. – Торговлю движет аналогичный стимул, – заметил он. – Вот персы и арабы… У арабов – танки. Продай персам орудия и жди, пока арабы не лишатся танков. Тогда продай им вертолеты и снова жди…– Патрик сделал многозначительную паузу. – Жди, пока персам не понадобятся “стингеры”. Продай их. По самой высокой цене. Когда задет престиж, денег не считают. – Продано! – Каргин хлопнул ладонью по колену. – Пушки, вертолеты, “стингеры”… Что дальше, сэр? Бомба? Эйч-бомб, которая делает громкий “бум”? Чтоб не осталось ни персов, ни арабов? – Не правильный ответ. Арабы и персы-рынок, а рынки нужно оберегать. На вертолетах и “стингерах” ресурсы воюющих истощены, а третья сторона, – Халлоран ткнул себя пальцем в грудь, – получила законную прибыль. Враги должны примириться, а мы – освоить новый рынок. Индия и Пакистан, Эфиопия и Эритрея, Вьетнам и Камбоджа, Китай и Вьетнам… Он смолк, будто давая время поразмыслить над сказанным. "К чему это?.. – думал Каргин: – К чему все эти разговоры? Больше, чем Разговоры – поучения… Может быть, – мелькнула мысль, – служба моя – лишь этап на пути к каким-то иным занятиям, более ответственным, чем дежурства у дверей хозяйской опочивальни?. Но к каким? Все-таки предложат заменить Акосту? Или даже Спайдера?” Это соображение казалось ему нелепостью. Тут, на Иннисфри, Спайдер был свой, кадр проверенный и преданный; такого не заменяют в одночасье, тем более – российским наемником. Опыт их тоже разнился, ибо глубоких познаний в новом своем ремесле Каргин не имел. Его задачи до недавних пор были совсем другими: не охранять, не защищать, а нападать. Через день или два он сговорился с Томо Тэрумото прогуляться к Нижней бухте. Там Каргин еще не был и не присутствовал при купаниях Патрика. Они совершались трижды в неделю под медицинским присмотром, с четырех до шести, когда дежурил Крис. Кроме телохранителя и врача, в сопровождающую свиту входили Спайдер и Гарольд Симе, шофер и личный камердинер. У каждого были свои обязанности: врач наблюдал, чтоб пациент не перегрелся, Крис и Спайдер сторожили и страховали, Симе держал наготове апельсиновый сок и полотенце. Машина тоже была на нем – за исключением случаев, когда купанья совмещались с конными прогулками. Но Каргин и Том отправились в бухту на своих двоих. Путь туда был недалек и нетруден, как все остальные дороги на Иннисфри: Пара километров по Нагорному тракту до озера и еще полтора – до смотровой площадки, повисшей над Лоу-Бей. Здесь они остановились, чтобы передохнуть и оглядеться; день выдался знойный, и налетавший с моря свежий бриз приятно холодил разгоряченную кожу. Перед площадкой, выложенной базальтовыми плитами, тракт разветвлялся: Направо, вдоль побережья, шла дорога к Первому блок-посту, налево змеилась лента серпантина, ведущего к бухте и пляжу. Пляж был искусственным. Дальний берег разлома в кратерной стене очистили от камней, засыпали песком и насадили пальмы, но за истекшие десять лет волны и ветер слегка подпортили картину. Песок частично смыло, а остальной перемешался с ракушками и водорослями; ветер поразбойничал в пальмовой роще, принес семена кустов и трав, бросил на землю, полил дождями, и пальмы теперь сиротливо жались средь буйной и дикой зеленой поросли, смыкавшейся с чащобой мангр. Дальше, метрах в пятистах от рощи, внутренняя стена кратера осыпалась, похоронив деревья под гигантскими глыбами, и Каргин, рассматривая этот пейзаж с высоты, мысленно назвал его Хаосом. Не просто хаосом – Хаосом с заглавной буквы. Тут вздыбленная земля перемешалась с древесными пнями, вулканической пемзой и щебнем; над ней торчало воинство каменных глыб, будто покосившиеся монументы на разоренном кладбище, а у их подножий зияли щели и ямы, трещины и овраги – голые, бесплодные или заросшими колючкой и ядовито-зелеными столбообразными кактусами. Шеренга утесов причудливых форм подпирала Хаос с моря; одни из них напоминали полуразрушенные башни и стены крепостей, другие – динозавров, прильнувших к почве или поднявшихся на дыбы, грозивших лапами с обломанными когтями. Самая высокая из этих скал была похожа на ступенчатую пирамиду майя: четыре террасы в трещинах и выбоинах, осыпь, казавшаяся издалека проложенной к вершине лестницей, зев пещеры под нижней террасой, а наверху – огромный плоский камень, точно жертвенник для пленника-гиганта. "Живописно, но мрачновато”, – решил Каргин и, нахмурившись, повернулся к Нагорной дороге. Она была безлюдна; вдали сверкало озеро, а за ним, словно серый гриб на краю начищенной сковородки, высился второй блок-пост. Пустой, как яичная скорлупа. – Людей, что ли, не хватает…– с неодобрением пробормотал Каргин. – Хватает, – эхом откликнулся Том. – Но Патрик-сан велел убрать солдат от озера. Недавно. Недели три назад. – Зачем? Они медленно направились к берегу по извивавшейся змеей тропе. Под обрывом, облизывая подножия скал, рокотали волны. – Зачем? Хороший вопрос…– по губам Тэрумото скользнула улыбка. – Если Керк-сан позволит, я бы сказал, что у старых людей свои причуды. Наш почтенный хозяин необщителен и нелюдим. Ему не нравится, когда на него глядят. А солдаты глядели. Каждое утро, когда он бегал к озеру. – Даже кошка имеет право глядеть на короля, – вымолвил Каргин, подумал и добавил: – А как же мы? Ты, я, Арада, Симе и все остальные? Мы ведь тоже глядим. – Мы – другое дело. Мы не чужие. Мы из его дома. – Принадлежим ему? – Что-то вроде того, Керк-сан. За поворотом тропы открылся пляж – полоска желтого песка, стиснутая утесами, мотавшиеся по ветру кроны пальм, пара легких решетчатых домиков с натянутым между ними тентом и шезлонгами на деревянном помосте. – Я бы не назвал старика необщительным. Случается, он даже разговаривает, – задумчиво произнес Каргин и покосился на японца. – С тобою тоже? – Время от времени. Он…– Том, будто в нерешительности, опустил голову. – Если позволишь, Керк-сан, я расскажу… Наша семья знакома с ним давно и многим ему обязана. Еще с тех пор, как он работал в Токио, в американском посольстве… лет, наверное, пятьдесят… Говорили, что он был близок с Кику-сан… с матерью моего отца… очень близок, но я подробностей не знаю. Кику-сан умерла, когда я был ребенком. А отец… – Что – отец? – спросил Каргин, сбрасывая рубашку и шорты. Они ступили на помост. Доски его были гладкими, теплыми, сухими. – Отец об этом не говорит. Не принято порицать родителей и тех, кто оказал благодеяние… Отец – управляющий “Сумитомо Арсенал Индастриз”, одной из компаний Патрика-сан. И он дал мне хорошее воспитание, в древнем самурайском духе… классическая поэзия, веротерпимость, понятия долга и чести, бу-дзюцу и кэмпо… [563] Еще – искусство благодарить и кланяться. Но Патрик-сан сказал, что этого не хватит. – Правильно сказал. Не знаю, как в Японии, но в остальных местах кланяются редко. Еще реже благодарят. – Теперь я это понимаю, – кивнул Том. – Мне двадцать восемь, и десять лет я прожил в Америке и здесь, на острове. Теперь я понимаю… Мир – это вовсе не Япония. Хотя Япония – лучшая его часть. "Тоже парень не у дел, – мелькнуло в голове у Каргина. – Чужой в чужой стране…” Они опустились в шезлонги, помолчали, взирая на вышитый пеной шелк океанских вод. Потом Каргин спросил: – И все эти десять лет ты был при старике? – Нет. Сначала – колледж, после – школа секьюрити, Гарвард и магистерский диплом… В школе учили стрелять, а в Гарварде – бизнесу, честному бизнесу, но когда научили, Патрик-сан сказал, что бизнес честным не бывает. Бизнес – это драка, в которой все дозволено. Занятие для настоящих мужчин. Для тех, кто не ведает жалости и не боится крови. "Знакомая песня”, – мелькнуло в голове у Каргина. – И потому тебя определили телохранителем? Чтоб ты таскал пистолет и нож и не боялся крови? Том невесело усмехнулся. – Наверное. Может быть. Не знаю. Видишь, сколько ответов… Но стоит ли их искать? Патрик-сан сказал: “Будь при мне. Служи”. И это все. – Долго ты здесь? – Три месяца. С тех пор, как получил диплом магистра. "На кой он тебе?.. – подумалось Каргину. – Пистолет протирать? Так, верно, бумага жестковата…” Но вслух он этого не сказал, а предложил искупаться. Больше в тот день они про хозяина не вспоминали, а говорили о другом – о детстве, о том, что оба родились в краях дальневосточных, что от острова Хонсю до уссурийской тайги рукой подать, и что, возможно, их поливало одними и теми же ливнями и ветром сушило тоже одним. Но тут Каргин сообразил, что он постарше на пять лет, и стал прикидывать, где обреталось их семейство в тот период, когда младенца Тома еще кормили из бутылочки. В Монголии?.. Или под Абаканом?.. А может, уже в Туркестане, в городе Кушке?.. Про Кушку он помнил, что отучился там четыре года в первой из своих школ, пока отца куда-то не перевели-в Тулу или в Ирбит под Свердловском. На обратном пути, когда они добрались до озера, Каргин заглянул в пустовавший блок-пост. Проем в полуметровой бетонной стене, три амбразуры, затянутые паутиной, пол в сеточке трещин, светильник у потолка… Строение примыкало к утесу, и здесь к стене был принайтован бронированный шкаф – видимо, с боезапасом и снаряжением. Не найдя ничего любопытного, Каргин хмыкнул и вернулся к дороге. Четвертое июля, День Независимости, был отмечен подъемом флагов, торжественным ужином, салютом и фейерверком, грянувшим на закате. После все перепились, а Каргин отправился в библиотеку и разыскал увесистый томик японской поэзии в переводах на французский. Но это чтение показалось ему слишком интеллектуальным; сунув книгу обратно в шкаф, он взял “Мартовские иды” Уайлдера, стопку детективов – Дэй Кин, Спиллейн и Макдональд; затем потянулся к “Сказкам южных морей” в темно-синем тисненом переплете, с серебряной шхуной, летящей на всех парусах к далекому, заросшему пальмами острову. Джека Лондона он обожал с детства: в Кушке, в гарнизонной библиотеке, детских книжек не нашлось, зато имелся Лондон в восьми томах, и Каргин прочитал их от корки До корки. Было ему тогда одиннадцать лет. В середине месяца, за неделю до хозяйских именин, прилетел серебристый “оспрей”, но почему-то без Магуара, Квини, Тауэра и прочих влиятельных отпускников. Возможно, эти персоны, которых хозяин любил и ценил, еще не нашли для него подарка; возможно, задерживались по делам или же в силу иных причин, неведомых Каргину; возможно, намечался еще один рейс, поближе к великой дате. Но их отсутствие было возмещено с лихвой. Первым из самолета вышел наследный Принц и президент Роберт Генри Паркер, в костюме колониальных времен, пробковом шлеме и темных очках; ни дать, ни взять, сагиб-британец, готовый поохотиться на тигра. За ним шагали полусонный Мэнни и взмокшие пилоты с багажом; один из них тащил знакомый ящик с крупнокалиберными “пушками”. И, наконец, явилась Мэри-Энн, будто королева в тронном зале: рыжие локоны до плеч, алый хитон, расшитый блестками, туфли на высоких каблуках, алмазные серьги и ожерелье. Под утренним солнцем она светилась и сияла как новогодняя елка, доставленная на Иннисфри то ли с некоторым запозданием, то ли с расчетом на неминуемый праздник, который случится месяцев через пять. "Трезвая, и при параде”, – отметил Каргин, приникший к телескопу. Он поглядел, как вице-мэр и капитан Акоста, встречавшие гостей, целуют ручку Мэри-Энн, ведут ее и Бобби к “кадиллаку” как взвод Сегри берет “на караул”, а лейтенант Гутьеррес открывает дверцы; как грузят багаж и как рассаживается по джипам почетный эскорт; как Мэри-Энн воркует с черноусым Гутьерресом, а Боб, недовольно скривив губы, посматривает на них. Кортеж тронулся, и Каргин, оторвавшись от телескопа, невесело вздохнул. Жизнь на Иннисфри была скучноватой, однако не лишенной прелестей – таких, как свежий воздух, не слишком обременительные труды, беседы и прогулки с Томом, книги и даже пиво, приправленное анекдотами Спайдера. Но главным достоинством был, несомненно, покой. Покой, распорядок, отсутствие суеты. Но, кажется, им наступал конец.
Глава седьмая
Предчувствие не обмануло Каргина. Из троицы гостей самым тихим оказался Мэнни. Вставал он не раньше полудня, но этот акт был чисто символическим и означал, что он перебирается с постели на лежак к бассейну. Здесь, за кипарисовой рощицей, укрывшись в их густых тенях, Мэнни проводил часы от завтрака до обеда, и от обеда до ужина; то ли спал, то ли мечтал с открытыми глазами. Склонность к горизонтальной позе была, вероятно, заложена в нем генетически, как и другие привычки, о коих в приличном обществе не принято упоминать. Но вряд ли мечтательная пассивность огурца, произрастающего в теплице, была характерной для любого гея. Боб Паркер, например, кипел как перегретый чайник, полный кипятка, и эта злобная энергия взывала к осторожности. Он был постоянно недоволен – конюхом, который заседлал не ту кобылу, официантом, подавшим тарелку не с той стороны, горничной, смахнувшей пыль с оружейного ящика, и, наконец, капитаном “Дункана” – тот во время морской прогулки не разрешил поднять на палубу подстреленных акул. Главным же поводом к недовольству были не конюхи и слуги, не мистер Гэри и не пилот, которого Бобби поучал, как управлять “вертушкой”, но аргентинец Хью Арада. Казалось, их обуревает неприязнь столь же прочная, как между грифом и шакалом, не поделившими падали, но проявлялась она по-разному: Боб язвил и не стеснялся давить на мозоли, а референт был сдержан и холоден, точно снега Килиманджаро. При всем при том он увивался за Мэри-Энн и делал это с испанской галантностью: Цветы, прогулки под луной и пламенные взоры. Правда, Каргин сомневался, что этот сушеный лещ действует по склонности, а не по расчету, но Нэнси, вроде, поощряла его старания – может, с намерением братца подразнить, а может, Хью ее забавлял. От Боба Каргин держался подальше из общих стратегических соображений, а еще потому, что вспоминать об их стрелковом состязании как-то не хотелось. Уж больно опасные были мишени! Наследный принц мог получить за эти шалости всего лишь выволочку, а мушкетер короля – расчет без всяких выходных пособий. Что Каргину никак не улыбалось. Само собой, не в интересах Бобби хвастать, когда и с кем дырявили физиономию дядюшке, однако стоило Учесть, что мистер Паркер – человек неординарный. С особой сексуальной ориентацией, проще говоря. Такие типы слишком неуравновешены и импульсивны, болтливы и ненадежны – так, во всяком случае, предполагал Каргин. Данный тезис являлся чисто теоретическим, ибо с голубыми ему общаться не приходилось; к “Стреле” их, разумеется, не подпускали на дух, да и к Легиону тоже. В рязанском училище, вроде, сыскался один, но все, что помнилось по этому поводу, было весьма неприятным, если не сказать трагичным: парня били смертным боем и через месяц отчислили. Итак, он старался не попадаться Бобу на глаза, и, вероятно, эта тактика была взаимной: Боб его тоже не замечал, как бы по молчаливому уговору. ОднакоМэри-Энн тот уговор не касался. На третий день после прибытия гостей Каргин сидел в баре служебного корпуса и пил пиво. Пиво уже текло у него из ушей, но отказаться он никак не мог, не потеряв престиж в “нашей компании”. Впрочем, сидели хорошо, травили в очередь анекдоты, а рассказавший подержанный пил штрафную кружку – кварту, что в нормальной системе мер составляло около литра. Каргин обходился без штрафов, так как для местной публики весь российский армейский фольклор был абсолютно новым – даже бородатая повесть про напророчившего мину боцмана и его дурацкие шутки. Эту историю он как раз и пересказывал, когда в дверях возникла Нэнси. За ее спиной маячила тощая фигура Хью. Девушка оглядела сидевших за столом – Спайдера. Тома, Сэмми, Стила Тейта и Каргина; затем, ткнув в него пальцем, промолвила: – Вот этот! Хью, без большой радости в голосе, пояснил: – Сеньорита желает искупаться в Лоу-Бей. Прогулка на лошадях. Необходим сопровождающий. Мистер Спайдер, распорядитесь. – Уже распорядился, – пробасил тот, вставая с улыбкой от уха до уха. — Лучший спутник для сеньориты – папа Альф! Если кобылка заартачится, сеньорита может оседлать меня. В любом удобном месте. Но у Мэри-Энн были свои соображения, кого и где седлать. Кивнув на Каргина, она топнула ножкой: – Сказано – хочу вот этого! Щеки Тома порозовели, Сэмми хихикнул, а Спайдер развел руками: – Блаженны ничего не ждущие, ибо они не обманутся… Собирайся, парень! – Слушаюсь, сэр, – сказал Каргин и с неохотой поднялся. Пиво бултыхалось в его желудке, тянуло книзу. Он коснулся живота, пробормотал: – Один момент… сбегаю за оружием… – На полную обойму заряди! – рявкнул Спайдер ему вслед. Сэмми и Тейт расхохотались. Через пять минут Каргин был у конюшни, где Дуган, старший конюх, держал под уздцы двух лошадей – вороную кобылу и мышастого мерина. Хью с непроницаемым видом следил, как Мэри-Энн устраивается в седле. Ее рыжие волосы были распущены, короткая юбка не закрывала колен, под розовой маечкой подрагивали полные груди. “Что за пристрастие к ярким цветам…” – подумал Каргин. Нэнси подмигнула ему. – Ездить умеешь, киллер? – Как-нибудь справлюсь, – он вскочил в седло, не коснувшись стремени. Мышастый с одобрением фыркнул. – В бухту заплывают акулы, – произнес Хью, мрачно уставившись на Каргина. — Будьте внимательны. Как вас?.. Керк?.. – Да. – Так вот, Керк, не спускайте с сеньориты глаз. Я слышал, вы хорошо стреляете? Надеюсь, не только в тире? – Да у него руки по локоть в крови! – дернув повод, Мэри-Энн послала кобылу рысью. Дуган еле успел отскочить. Они промчались мимо служебного флигеля, затем – по пандусу, который вел вверх, к Нагорной тропе. Там вороная перешла в галоп. Мышастый, грохоча копытами по асфальту, отстал на половину корпуса. Ветер хлестнул в лицо, волосы девушки взвихрились, юбка вздулась пузырем; сейчас она напоминала ведьму, летевшую на шабаш. Не иначе, как к самому Сатане. Тьма, свет, тоннель, мостик, снова тоннель… Солнце бьет в глаза, щекочет шею теплыми лучами… Слева – провал, изумрудная зелень мангров, скалы на далеком горизонте; справа – стекающий вниз горный склон, синяя ленточка реки, поселок среди прибрежных пальм и бухта – словно разинутый рыбий рот. Впереди – рыжая ведьма на черном коне… Промелькнули озеро, купол второго поста и водопад, питавший реку. Перестук копыт делался то глуше, то звонче, асфальт сменяли горбатые спины мостов, тяжелый пистолет в кобуре хлопал Каргина по бедру, серый ковер дороги разворачивался все быстрей, и казалось, что в очередном прыжке кони взмоют в воздух, проплывут в нем и рухнут без всплеска и фонтанов брызг в океанскую синь. "Как бы в самом деле куда-нибудь не рухнуть”, – забеспокоился Каргин, но у дорожной развилки вороная сбавила ход и, пофыркивая, начала спускаться по серпантину на пляж. Пришпорив лошадь, Каргин поравнялся с девушкой. Ее глаза сияли чистым изумрудом, бледные щеки разрумянились, и веснушки у вздернутого носика стали почти незаметны. С ним была другая Мэри-Энн, абсолютно трезвая и лет на пять младше рыжей стервы из “Старого Пью”. Может быть, на все десять. – Скучал, ковбой? – Нэнси лукаво покосилась на него. – Не было повода, сестренка, – отозвался Каргин. – Вот как? А я-то думала, в этой дыре только и делают, что скучают. – Ну, отчего же? Тут масса интересных занятий. Можно на звезды глядеть, выслеживать космических пришельцев, можно пить пиво или охотиться на крыс… Еще – присматривать за твоим дядюшкой. – И как тебе дядюшка? Неопределенно пожав плечами, Каргин произнес: – А что? Дядюшка о’кей… Пожилой джентльмен, но в хорошей физической форме. Правда, слегка суховат… Но это уж проблема его племянников и племянниц. Ответная реплика Мэри-Энн была выразительной, но неразборчивой. Лошади спускались вниз, поматывали головами, шли неторопливо, будто давая всадникам время поговорить. Над дорогой смыкались ветви деревьев, ее асфальтная лента была перечеркнута тенями и походила на блеклую мозаику из серых и черных пятен. – Моей матери Оливии Халлоран по завещанию деда досталась шестая часть фамильного состояния, – вдруг сказала Мэри-Энн. – Потом она вышла замуж за Джеффри Паркера, моего отца… за англичанина… Но это было не единственным его грехом. Каргин не произнес ни слова. Вероятно, в семье Халлоранов имелись свои счеты, но он не горел желанием в них разбираться. – Отцу хотелось участвовать в делах компании…– взгляд Мэри-Энн скользил по резным кронам дубов и сейб. – Его право, верно? Как ты считаешь, Керк? Все-таки член семейства и крупный акционер… Но дядюшка не признает компаньонов. Особенно тех, которые любят противоречить и спорить… Таких он гнет в бараний рог. Так ли, иначе, но сгибает. Учти, ковбой: он – великий мастер сыграть на человеческих слабостях. – А слабости были? – с вежливым интересом спросил Каргин. – Были. Отец… он увлекался женщинами. Дядюшка это поощрял… не сам, конечно, через десятые руки. И все записывалось и подшивалось к делу. Два года или три, а может, четыре… Не знаю. Я была слишком мала. Потом… Ну, ты понимаешь, что случилось потом. – Сообщили матери? Она кивнула. – Да. Но сразу они не разошлись. Ссорились долго… Мать отобрала у отца доверенность на управление имуществом. Деньги, однако, давала… а может, дядюшка Патрик старался… Отец их проматывал, мать запила, оба скандалили из-за детей, из-за нас с Бобом, и оба звали меня Нэнси, – Мэри-Энн зябко передернула плечами. – Ненавижу это имя! И ненавижу вспоминать о детстве! "Богатые тоже плачут”, – подумалось Каргину. Он посмотрел вперед. Спуск закончился, и дорога уходила в заросли, подступавшие к пляжу сплошной зеленой стеной. Воздух тут был душноватым; морские запахи смешивались с влажными испарениями мангр. Солнце еще висело высоко, не доставая пару ладоней до причудливых скал Хаоса. Каргин заглянул в лицо девушки. – Где же теперь твой отец? – Умер. Лет через пять после разрыва с матерью. – A c ней что? – Она в Санта-Кларе, в лечебнице… Клиника “Рест энд квайет”… так мы ее называем – клиника. А в сущности, психушка для богатых. "Покой и тишина”, – мысленно перевел Каргин, а вслух спросил: – Поэтому ты и живешь в “Эстаде”? С братом? Губы Мэри-Энн скривились, словно в рот ей попало что-то кислое. – С ним живет Мэнни… ну, и другие из клуба “Под голубой луной”. А я – так, навещаю… У меня квартира в Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню. Подарок щедрого дядюшки. – Могла бы не принимать такие подарки, – заметил Каргин. – Как-никак, шестая часть фамильного состояния – за вами. Нэнси замотала головой, рыжие волосы разлетелись, вспыхнули на свету огненными нитями. – Уже нет. Если ты, ковбой, имеешь на меня виды, то учти: я сижу в кармане у старого козла. Все мы там сидим – и я, и мама, и Бобби… Бобби – глубже всех. – Почему? – Потому, что хочет больше. И думает, что все получит. – Разве не так? – Так, не так… Не знаю, – Мэри-Энн поморщилась. – А знаю одно: все проекты дядюшки насчет Боба терпели крах. Полное фиаско! А такой, какой он есть, он Патрику не нужен. – Насчет тебя тоже есть проекты? – Сомневаюсь, Керк. Наследственность у меня неважная. Пью, как мать, гуляю, как отец… В общем, я не пай-девочка и никогда не пела в церковном хоре. – Это я заметил, – откликнулся Каргин. Они выехали на пляж. Ветра не было, и тент, растянутый между домиками, уныло провис над полукругом шезлонгов. Поверхность бухты казалась недвижной как полированный лазуритовый стол; блики солнца дробили ее внезапными вспышками-взрывами. – Ну-ка, сними меня, – сказала Мэри-Энн, когда лошади остановились у помоста. Вороная косила на мерина огненным глазом, но тот, опустив голову, равнодушно уставился в песок. Спешившись, Каргин обхватил талию девушки, поднял ее, осторожно извлек из седла. На этот раз он не почувствовал запаха спиртного – ароматы были совсем другими, сладкими, волнующими. Так пахло молодое желанное женское тело… плоть, разгоряченная скачкой и солнцем… так пахла Кэти… Наверное, что-то дрогнуло в его лице при этой мысли – Мэри-Энн, отступив на шаг и искоса поглядывая на Каргина, принялась с неторопливостью разоблачаться. Под майкой у нее не было ровным счетом ничего, да и под юбкой тоже, если не считать треугольного клочка ткани, который держался на тонком шнурке. Сдернув его, она отступила подальше – так, что лопатки уперлись в решетчатую стенку домика, – привстала на носках, потом, будто балерина, вытянула ногу и согнула ее в колене. Кожа у нее была на удивление белая, только лицо и шея тронуты легким загаром. – Раздевайся, киллер… И погляди, какие ножки… – Хорошие ножки, – согласился Каргин. – Жаль, если их оттяпает акула. Поэтому лезь в воду, а я уж, не раздеваясь, постою на бережку. Вот с этим, – он похлопал по кобуре. – Я сюда не купаться приехала. Купаюсь я обычно в ванне, – призналась Мэри-Энн и, оторвавшись от стены, шагнула к нему. – Ты когда в последний раз занимался сексом? И с кем? С потаскушками из “Пентагона”? В очередь с папой Альфом? – А что, там неплохие девушки…– пробормотал Каргин, чувствуя, как тонкие ловкие пальцы расстегивают поясной ремень. Пояс упал вместе с кобурой, Грохнув о доски, и пришел черед молнии на комбинезоне. Удобная одежка; одевается быстро, снимается еще быстрей. Особенно, если есть помощник. От башмаков и берета он избавился сам. Губы Мэри-Энн были горячими и влажными. Он приподнял ее, раздвигая бедра, касаясь лицом полной упругой груди. Мышцы под нежной кожей напряглись, потом – будто поверив, что держат крепко, не уронят – девушка расслабилась, вздохнула и закрыла глаза. Ее ноготки царапали спину, но Каргин уже не ощущал ни боли, ни тяжести приникшего к нему тела. Оно казалось легким, хрупким и, в то же время, пленительно округлым; теплая спелая плоть, кружившая голову почти неуловимыми, но знакомыми ароматами. Чем-то сладким и горьковатым… Запах магнолий в дворцовом саду?.. Он повернулся и, не прекращая сильных ритмичных движений, прижал Мэри-Энн к решетчатой деревянной стене. Она вскрикнула; кольца обхвативших его рук и ног сделались крепче, на висках у нее выступил пот, острые зубки впились в шею под ухом. “Вампиров просят не беспокоиться”, – пробормотал Каргин, запустив пальцы в ее локоны и заставляя откинуть рыжеволосую головку. Теперь Мэри-Энн стонала и всхлипывала все громче, и, будто аккомпанируя этим звукам, вороная ответила негромким ржанием. Дыхание девушки стало горячим, прерывистым – будто жаркий ветер, скользнувший сквозь рощу магнолий, впитавший их запах, овеял лицо Каргина. Он стиснул челюсти, выгнулся в пояснице и тоже застонал – коротко, глухо. Потом, ощутив, как обмякло тело Мэри-Энн, с осторожностью опустил ее на пол. Минуту-другую она глубоко дышала, полузакрыв глаза и прижимая к груди ладошку с тонкими пальцами. Каргин, отвернувшись, натягивал комбинезон. Он не испытывал неловкости или смятения; может быть,лишь нежность, какую чувствует мужчина к женщине, отдавшейся по собственному, явному и очевидному желанию. Но по прежним опытам он знал, что чувство это преходяще, ибо за ним стояла физиология, а не любовь; то, что на английском называют коротким и емким термином – sex. Такое слово имелось и в родном языке, но в нем ему придавали иной оттенок, отчасти постыдный, отчасти связанный с медицинской практикой. И потому, если б Каргин пожелал перевести это слово с английского либо французского, самым удобным эквивалентом стал бы такой: встретились – разбежались. Как с Кэти Финли. – А ты темпераментный парень, – услышал он, застегивая пояс. – Жаль, что я тут ненадолго… Ну, приедешь в Нью-Йорк – заглядывай! – Отчего ж не заглянуть, – пообещал Каргин и уже хотел добавить что-то ласковое, соответствующее моменту, но тут в кармане штанов раздался гудок мобильника. Вытащив его, он приложил крохотный аппаратик к уху. Звонил Арада. – Как сеньорита Паркер? – Отдыхает после заплыва, сэр. – Все в порядке? – Так точно. Стою на страже, сэр. Акул в обозримом пространстве не наблюдается. – Все равно, будьте бдительны. На пляж из рощи заползают змеи. – Слушаюсь, сэр. Оружие на взводе, сэр, – отрапортовал Каргин. Мэри-Энн захихикала. – Хью? – Он самый…– дождавшись гудков отбоя и сунув мобильник в карман, он опустился на пол рядом с девушкой. – Хью-хитрец, Хью-ловкач…– тихо произнесла Мэри-Энн…– Шьется который год… Под одеяло не лезет, церковь ему подавай, тощей крысе…– она потянулась, забросив руки за голову. – А я – девушка честная! Под одеяло, может, и пустила бы, а в церковь меня не тянет! Бобби, конечно, идиот, но я ему пакостить не стану. – Причем здесь Бобби? – удивился Каргин. – При том…– ладошка Мэри-Энн коснулась его лица, погладила рубец под глазом. – А знаешь, хоть ты и киллер, а похож на Бобби… глаза такие же и лоб, и волосы, но потемней… Рот другой. И этот шрам… Украшает! Где ты его заработал, Керк? – Шрам на роже для мужчин всего дороже…– пробормотал Каргин на русском и пояснил: – В Боснии. Видишь ли, приняли нас за сербов и решили немножко побомбить. Так, для острастки… – Нас – это кого? – Роту “Би”, которой я командовал. Синюю роту “гиен”. Девушка рассмеялась. – Разве бывают синие гиены? Каргин мог бы ей объяснить, что в армии подразделения обозначаются по всякому – и прозвищами, и буквами, и цветом; что буквы, цвет, а также номера, проходят по официальной части, тогда как прозвище необходимо заработать; что в этом есть определенный смысл, хоть не всегда понятный человеку невоенному: перед своими – отличить, противника же – запугать. Но тут припомнился ему Арада, и вместо длинных лекций по армейской психологии, он сказал: – Согласен, синие гиены – редкий случай. Такой же, как чернокожие шведы и рыжие аргентинцы. Хотя с Аргентиной я, наверное, не прав: страна большая, люди разные… – Разные, – кивнула Мэри-Энн, натягивая майку. – Если ирландец постарается, будут тебе рыжие аргентинцы. Тощие, как крысы в мормонской церкви. – Выходит, он твой кузен? – Каргин поднялся и свистнул, подзывая лошадей. – Черт его знает… Слышала я, что дядюшка путался с мамашей Хью… Болтают разное…– Мэри-Энн ловко поднялась в седло. – С кем он только не путался, старый козел! Подсчитаешь – позавидуешь… С турчанками и египтянками, испанками и ирландками, даже с японками… Может, – заключила она, – я вовсе не в папашу уродилась, а в дядюшку Патрика. Отчего бы и нет? – А Том тебе, случайно, не племянник? – спросил Каргин, усевшись на мышастого. Мэри-Энн захихикала. – Если только случайно, киллер. Но эта… как ее… бабка его… – Кику-сан. – Да, Кику… Она была с ребенком, когда ее дядюшка купил. За четыреста долларов. Мать видела фотографию, а на обороте проставлены цена и год. Кику и ее трехлетний бэби… Красивая! Мать говорила… – Постой-ка, – перебил Каргин. – Выходит, этот бэби – отец Тома? – Выходит, но Патрик здесь ни при чем. Редкий случай, как говорила мама… Снимок датирован сорок шестым, в тот год Патрика перевели в Токио, а бэби уже большой. Конечно, он мог на расстоянии постараться… из Лондона… – Сильно его не любишь? —поинтересовался Каргин. Они неторопливо ехали по пляжу. Близился вечер, и длинные тени от скал Хаоса пали на песок. Солнце скрылось за утесом, похожим на пирамиду майя, расплескав по жертвенному камню свою золотистую кровь. – Сильно, – девушка закусила губу. – Знаешь, Керк, временами я думаю, что если б не он, ничего плохого с нами бы не случилось. Ни с мамой, ни с отцом… И Бобби, может, был бы другим… Все было бы о’кей… Да ладно! Черт его побери! – она хлопнула ладонью по голой коленке. – Ну его в задницу, паука! Скажи мне лучше – выпить есть? Джин, виски… что угодно… – Я же тебе говорил, что киллеры не пьют, – откликнулся Каргин. – Слишком опасно при нашей профессии. Печень пухнет, руки дрожат… – Ну, у тебя ничего не дрожит, – заметила Нэнси и погнала вороную в гору. День-другой Каргин размышлял о нравах миллиардерских семейств, потом забросил это занятие. Оно казалось бесплодным и даже более того – опасным; оно подтверждало марксистский тезис о развращающем влиянии богатства. С другой стороны, бедность вела к последствиям не менее жестоким, с поправкой на несущественный момент: одни давили ближних, чтоб обладать миллионами, другие рвали глотки тем же ближним за гроши. Но результат был одинаков, и это подсказывало, что истина лежит посередине. Но кто ее ведал, ту золотую середину? Во всяком случае, не Алексей Каргин, чья жизнь сломалась на грани двух эпох. Все, чему его учили прежде, в детстве и юности, стало теперь непригодным при новых порядках; авторитеты низринуты, идеалы разрушены, и нет им замены, и места в мире тоже нет. Он полагал, что в таких обстоятельствах не может судить ни богатых, ни нищих, поскольку личность его как судьи – понятие смутное. В самом деле, кто он таков, этот судья? Российский офицер Каргин, наследник подвигов и славы предков? Тот, кто присягнул Отчизне и готов пролить за нее кровь, отдать ей жизнь? Или Алекс Керк, наемник Легиона? Командир “гиен”, продавший ту же кровь и жизнь по контракту не родной стране, а чужакам? Бесспорно, он не имел права судить. Ему полагалось руководствоваться не зыбким призраком идей, канувших в небытие, но вещами реальными, такими, как контракт и кодекс наемника. А этот кодекс гласил: служи, будь верен хозяевам и не суди их – по крайней и мере до тех пор, пока их нельзя уличить в нарушении обязательств. Но обязательства выполнялись строго, с той же основательностью, с какой шла подготовка к хозяйскому юбилею. В парке был воздвигнут шатер, украшенный флагами и цифрой “75”, виллу скребли и чистили от сфинксов на парадной лестнице до пальм перед пентхаузом, в поселок со складов завезли спиртное, а перед казармой установили пушку – дабы произвести торжественный салют. Кроме того, за пару дней до юбилея Альф сообщил подчиненным о наградных – по тысяче на нос, плюс ящик ирландского виски для всей компании. Его, однако, полагалось распивать не торопясь, у чтобы служебный долг не потерпел ущерба. В тот вечер, подменяя Сэмми, Каргин обсудил с ним эти новости, и оба решили, что босс мог бы расщедриться на коньяк, но виски, в сущности, тоже неплохо, не говоря уж о тысяче наградных. Затем Сэмми удалился, а Каргин, побродив у павильона с телескопами, полюбовавшись звездным небом и кувшинкой, дремлющей в пруду, подошел к дверям хозяйской спальни. За ними царила тишина. Обеспокоенный, он заглянул в комнату. Патрик сидел в постели, и слабый отблеск ночника старил его лицо, подчеркивал морщины и бледность тонких губ, высвечивал белесый иней в рыжих волосах. и Казалось, он о чем-то размышляет; взгляд его был сосредоточенным, и мысль, надо думать, витала не в пространствах Иннисфри, а в неких иных краях, где президенты бились с королями, шли в атаку батальоны, где над развалинами городов клубился едкий дым, и где под грохот ковровых бомбардировок росли и крепли рынки сбыта и источники сырья. "Великая личность, великие мысли”, – подумал,Каргин, отступив назад. Старик поднял голову. – Керк? – Да, сэр. Молчание. Затем послышалось: – Ты веришь в Бога, Керк? – Я верю в удачу, – Каргин снова приблизился к двери, всматриваясь в лицо Халлорана. Оно было по-прежнему сосредоточенным, даже хмурым. – В удачу…– протянул старик. – Что же, неплохая вера. Не хуже прочих…-он бросил взгляд на Каргина. – От Бога – смирение и терпение, а удача – она от дьявола… Недаром удачливый получает больше смиренного и терпеливого. – Больше – чего? – Всего. Иди… Каргин вернулся на террасу. Он шагал от лестницы к лестнице, туда и обратно, мимо окон, занавешенных лозой, мимо скамеек и пальм, мимо пруда с амазонской кувшинкой, мимо павильона с телескопами, глядел на небо и на антенну, что возносилась над крышей пентхауза будто стальной цветок, считал про себя шаги и думал. Удача? Он верил в свою удачу, но знал, что гений ее капризен, а потому не стоит требовать всего – или же больше, чем обещано другим, смиренным и терпеливым. Для Каргина удача означала не власть и не богатство, не любовь, не выигрыш в лотерею, а только жизнь. Что при его профессии было желанием вполне разумным. Жизнь! И, коль повезет, без потери конечностей, простреленных легких и осколка под ребрами… Он ухмыльнулся, вытащил из-за пояса берет и нахлобучил его на голову.Глава восьмая
Две крохотные фигурки приближались к озеру. Солнце еще не взошло, и полумрак обманывал, менял оттенки, делал синее – чернильным, красное – коричневым. Внизу, в кратере, еще господствовала тьма, затопившая трясины и мангровый лес, и лишь на востоке смутно виднелся зубчатый контур скалистой стены. Озеро, серебристое при ярком свете, выглядело сейчас клочком дрожащего тумана, повисшего среди скал и будто готового растворить обоих бегунов в своем белесо-сером мареве. Каргин поднял висевший на груди бинокль, но передумал, наклонился и приник к окуляру малого телескопа. Теперь он видел обе фигуры, синюю и красную, гораздо отчетливей и так близко, что мог, казалось, пересчитать седые волоски на шее Халлорана. Тот, как обычно, двигался в арьергарде; темп, на правах лидера, задавал Спайдер. Его широкая спина мерно раскачивалась, и зверь с ощеренной пастью, изображенный на куртке, будто подмигивал Каргину. Он развернул телескоп к поселку. На главной улице меж фонарями были протянуты гирлянды, у мола красовалась арка из пальмовых листьев и цветов; поверх нее, как свечи на именинном пироге, торчали петарды, ровно семьдесят пять. Пушка у казармы, готовясь поддержать фейерверк, задрала в небо тонкий хобот, все лавки и злачные места были увиты зеленью, у “Пентагона” выставлены бочки, а на канате, протянутом от арки до офиса управляющего, трепетало полотнище с изображением юбиляра. То был официальный портрет, знакомый Каргину: рыжеволосый цветущий мужчина, еще не достигший пятидесяти, точь-в-точь, как в статье обозревателя Сайруса Бейли. Уже четыре дня он любовался на эту картинку и находил в ней только один недостаток – не хватало рамочки из мушкетов и мортир. Выпрямившись, он оглядел поселок невооруженным оком. Тишина… Пустынные улицы, темные окна коттеджей, пальмы и кипарисы – словно дамы с растрепанными кудрями в сопровождении строгих кавалеров… Покой, благолепие и ожидание праздника… Каргин прислонился к станине большого телескопа, ощущая лопатками твердый металлический кожух. Взгляд его скользнул к бухте, к пересекавшему ее молу и маяку, чей оранжевый глаз сиял на фоне темных свинцово-серых вод. Там, за молом, вдруг наметилось какое-то неясное шевеление; казалось, волны расступаются, выдавливая из морских глубин прямоугольную скалу, такую же серую, как неподвижная поверхность бухты. Скала вырастала, упорно тянулась вверх, подпираемая чем-то протяженным, длинным, округлым; не обман зрения, а реальность, столь же явная, как халлоранов портрет, пушка с задранным стволом и молчаливые спящие коттеджи. На висках Каргина выступил пот. Словно зачарованный, он наблюдал, как за молом всплывает подлодка – субмарина класса “Сейлфиш”, сто семь метров в длину, девять – ширину, с резко обрубленным носом и рубкой, похожей на спичечный коробок. Она казалась призраком, таким же порождением кошмара, как сон о яме в афганских горах, и потому Каргин на мгновение оцепенел. Но миг нерешительности был кратким:, он хлопнул себя по груди, нащупал бумажник во внутреннем кармане, чертыхнулся и полез в другой карман, к мобильнику. Щелкнула крышка телефона, палец нажал кнопку, и где-то внизу пронзительно взвыли сигналы тревоги. Затем, взглянув на часы, он стал прокручивать файл номеров на маленьком экране трубки. Вызвать Спайдера?.. Нет смысла; тот сейчас со стариком… Хью, разумеется, бесполезен… Балмер и Акоста подождут… В первую очередь – Гутьеррес! В эту ночь дежурят его люди, по три бойца на всех постах, у пулеметов и базук, на маяке, у радиолокатора… Гутьеррес – в штабе… у пульта связи… Он надавил клавишу вызова и двадцать секунд слушал вой сирены и протяжные долгие гудки. Потом к ним примешался шелест, стремительно перераставший в гул; звуки были привычными, знакомыми, и Каргин, еще не разглядев темных черточек под зонтиками вращающихся лопастей, догадался, что стартовали “Грифы”. Трубка дрогнула в его руке, будто напоминая, как надо действовать по инструкции; он высветил еще один номер, снова нажал клавишу, но на этот раз ответом была тишина. Полная, гробовая. Сверкнуло пламя, и на месте казармы поднялся огненный гриб. Грохот взрыва еще не успел докатиться до террасы, как рыжие языки взметнулись у мола, над третьим блок-постом, над офисом управляющего, почтой и офицерскими коттеджами. Арка из пальмовых листьев вспыхнула, выбросив очередь петард и расцветив небеса желтыми, изумрудными и розовыми искрами; они медленно растворялись в вышине, будто гаснущие с рассветом звезды. В ярком свете пожарищ Каргин увидел, что субмарины за молом уже нет, что по дороге к взлетному полю мчится пара джипов, а от берега цепью двигаются крохотные быстрые фигурки. Их было всего лишь шесть или семь, но дело свое они, похоже, закончили: со стороны охранявших гавань блок-постов не доносилось ни звука. Ни пулеметного тарахтенья, ни взрывов гранат, ни воплей, ни стонов. – Все путем и все по расписанию…– пробормотал Каргин, судорожно сглотнув. Бред сумасшедшего! Бред – возможно… Однако знакомый бред, в котором события шли по плану, составленному им самим: скрытный десант “тюленей”, всплывающий у мола “Сейлфиш”, “коршуны” в воздухе, взрывы, уничтожение гарнизона… Быстрая и эффективная резня; потом – зачистка… Бред? "Тюлени” уже во всю резвились в поселке под лай автоматных очередей, одна “вертушка” обстреливала пост у перекрестка дорог, другая устремилась в горы, однако не к дворцу, а к озеру. “Две минуты или три”, – подумал Каргин, припоминая график операции – и вдруг сообразив, что это значит, вздрогнул. Пальцы его тряслись, когда он поворачивал телескоп. Двое, в красном и синем, замерли метрах в пятидесяти от озера. Лица их Были на удивление спокойны, будто им не грозила смерть или они примирились с ней; Спайдер, поводя руками, что-то объяснял хозяину, а тот, отвернувшись, мрачно уставился в пустоту. На что он глядел? На дома, объятые огнем, и гибнущих людей? На искры фейерверка, похоронным салютом таявшие в небесах? На приближавшийся вертолет? "Бегите с дороги!.. Прячьтесь!.. – мысленно велел Каргин. – В лес или под мост!.. В любую щель, где вас не будет видно!” Словно очнувшись или услышав мысленный призыв, они направились бегом к темневшему среди утесов куполу второго блок-поста. Втолкнув в укрытие Халлорана, Спайдер на мгновение задержался и запрокинул голову – видно, рассматривал налетавшее “помело”; потом исчез в узком входном проеме. Бойницы озарились слабым светом – скорей от зажигалки, не от лампочки. Каргин, стиснув зубы, в бессилии застонал. Этот дурацкий бетонный колпак был не укрытием, а ловушкой! Спайдеру полагалось бы это знать… сообразить, что сотворит “хеллфайер” в замкнутом объеме… “Хеллфайер”, ТОУ, ХОТ, “мистраль” или любой другой снаряд… что бы там ни болталось у “Грифа” на консолях… Чертов спец по безопасности! Не отрываясь от окуляра, он покосился на часы. Пять минут десять секунд с момента включения сирены… График выдерживался точно. Выходит, работали не любители – профессионалы. Он убедился в этом, когда “вертушка” достигла блокпоста. Ее пилот был настоящим асом; ни долгих маневров, ни заходов на цель, а точный единственный выстрел. Ракета попала в амбразуру; Каргин увидел, как пламя вырвалось из бойниц и как по бетонной стене побежали трещины. “Гриф” развернулся; вероятно, пилоту хотелось превратить укрытие в руины. "Пора смываться”, – подумал он, набирая номер референта. Тот откликнулся сразу. Голос его был сух и холоден, словно арктический лед. – Охрана? Кто дежурит? Алекс Керк? Вы в курсе что творится на берегу? Откуда грохот? И кто включил сирену? Кто… – Тихо! – рявкнул Каргин. – Слушать внимательно! Нас атаковали. Поселок и гарнизон уничтожены. Всех, кого сможете собрать, выводите в холл. У нас три-четыре минуты. Не успеем, попадем под зачистку. Вы знаете, что это такое? Секундная пауза. Потом вопрос, с едва заметной дрожью в голосе: – Мистер Халлоран? – Отбыл в лучший мир. Вместе со Спайдером. – Иду. Должность Спайдера – за вами, Керк. Вы отвечаете за нашу безопасность. "Быстро сориентировался аргентинец!” – мелькнуло в голове у Каргина. Он попробовал снова вызвать Кальяо, как предусматривалось инструкцией-полицию, береговую охрану, базу перуанских ВМФ, но в трубке была глухая тишина. На этом он потерял минуту; затем, отключив сигнализацию, бросился в кабинет, сорвал мачете со стены, увешанной клинками. Лишнего оружия не бывает, как говаривал майор Толпыго… Жаль, что в хозяйской коллекции сабли, а не базуки! На верхней ступеньке лестницы Каргин обернулся. “Гриф”, покончивший с Халлораном и Спайдером, летел к дворцу, вторая машина уже кружила над блок-постом у парка. Оттуда вяло огрызался пулемет. “Пришьют ракетами, – подумал он, – высадят десантников, затем разделаются с северным и южным блок-постами. Там, небось, и сообразить не успеют, что к чему…” Все развивалось по плану. Все, если забыть про эпизод с убийством Патрика. Быстро его отправили на небеса! И всех остальных, невинных и непричастных… всех, кто обитал в поселке… При этой мысли он похолодел. Двести душ… солдаты, девушки-чикитки и куча прочего народа… Ну, бог с солдатами!.. Им умирать положено, профессия у них такая… А сколько было девушек?.. И сколько остальных?.. Он попытался вспомнить, но не смог. Внизу, у мозаичного панно с орлом, его поджидали семеро – Арада и шесть человек, кого референт счел нужным известить. Мэнни – вялый, полуодетый, в чем-то похожем на женское дезабилье; Том Тэрумото, Сэмми и Крис – все в комбинезонах и при оружии; бледная испуганная Мэри-Энн и Роберт Паркер – возбужденный, с тяжелым “магнумом” в наплечной кобуре. Увидев Каргина, Боб ринулся к нему. – Дьявольщина! Что случилось? Арада сказал… – Случилось то, о чем сказал Арада! – отрезал Каргин и повернулся к аргентинцу. – Вы знаете код на дверях бункера? Там, где лифтовая шахта? – Да. Ра… разумеется, – голос референта подрагивал и был хрипловат. – Идите и разблокируйте двери. Вы трое – за ним! – кивнув Бобу, Каргин подтолкнул Мэнни и девушку к южной арке. – Крис и Том, охраняйте лифт, Сэм – в служебный флигель. Что они, сирены не слышали? Всех поднимай – и к бункеру! Быстро! Сэмми умчался. За ним торопливо последовали остальные – все, кроме Боба. Каргин повернулся к нему: – Особое приглашение, президент? Щеки Паркера начали багроветь. – Не забывайся, киллер хренов! Ты правильно сказал – президент, и я здесь командую! Я… – Ты идиот, – уточнил Каргин и бросился вон из холла. За спиной грохнуло, по окнам хлестнула очередь, послышался звон разбитого стекла – видно, “Гриф”, круживший над парком, уже избавился от десантников. Проскочив столовую, Каргин помчался по коридору. Бобби, чертыхаясь, бежал следом. Из кухни выглянул Тейт. Лицо его выдавало крайнюю степень ошеломления. – Что, завтрак отменен? Или босс распорядился подавать? – Уже подали, – выдохнул Каргин. – Без тебя обошлись. Хватай еду, какая под руками, и в бункер! Пошевеливайся, старина! За кухнями и кладовыми было помещение с колодцем мусоропровода, а дальше коридор сворачивал градусов под пятьдесят, превращаясь в тоннель, ведущий к служебному флигелю. Тут, на изломе, и находилась заветная дверца – массивная, небольшая, покрашенная серым в цвет скалы. Хью ковырялся в замке, девушка и Мэнни жались за его спиной, Том и Крис Слейтер замерли у стен, один слева, другой справа. Физиономия Слейтера была угрюмой, но пистолет в руке техасца не дрожал. – Дверь не открывается, – шепнул Том, когда Каргин приблизился к нему. – Что будем делать? Выйдем в парк через тоннель и служебный корпус? – В парке нас и кончат. В лес надо, в кратер! С Нагорной дороги можно туда спуститься? – Нет, не думаю, – японец покачал головой. – Отвесный обрыв, Керк-сан видел… Спуск только у Лоу-Бей. А пока мы туда доберемся… – Будем, как на ладони, – мрачно закончил Каргин, поворачиваясь к референту. – Арада! Что там с дверью? Аргентинец выпрямился. Его смуглое лицо побледнело, волосы цвета меди свисали на лоб. Сейчас он был удивительно похож на старого Халлорана. – Я не могу открыть. Код изменен. – Чтоб мне к Хель провалиться! – пробормотал Каргин и прикусил губу. Интересная история… очень интересная… В бункер не попасть, на материк, в Кальяо, не дозвониться – выходит, отключен ретранслятор… И код на двери переменили… Какая скотина постаралась?.. И что теперь делать? Драпать или драться? Если драпать, то куда? А если драться… Он оглядел свое воинство. Четыре пистолета, считая с “магнумом” Бобби… Два гомика, повар, референт и нервная девица… один самурай с дипломом Гарварда, один техасец… Плохой расклад! Они смотрели на него с надеждой, ждали решения. Боб наконец утихомирился; замер, поглаживая Мэнни по плечу, уткнувшись взглядом в пол. Рядом Устоял Тейт, с мешком в одной руке и тесаком для рубки мяса – в другой. Вид у бывшего морского пехотинца был воинственный. "Может, Сэмми кого приведет?.. – подумал Каргин. – В коттеджах и служебном флигеле – человек тридцать… Половина – женщины, но конюхи, садовники, шофер – вполне боеспособные ребята… правда, без оружия…” Как бы в ответ на эту мысль что-то ухнуло, грохнуло, в тоннеле заклубилась пыль, и пол содрогнулся под ногами. Мэри-Энн пронзительно вскрикнула и сразу смолкла, зажимая ладонями рот. Боб Паркер поднял голову. – Это еще что? – Это, – пояснил Каргин, – “хеллфайер”. Или ХОТ… Ракета такая. Для поражения с воздуха наземных целей. – Он посмотрел на Тома. – Я полагаю, служебный флигель рухнул, так что теперь в тоннель нам не пройти и Сэма не дождаться. Там была еще одна “вертушка”… кроме той, что в парке… Сейчас они высаживают десантников. Чувствуя, как разгорается ярость, он подумал о взорванном служебном корпусе. Еще тридцать жертв, невинных и непричастных… Но ярость была сейчас плохим подспорьем. И в Легионе, и в “Стреле” имелись свои заповеди, традиции и правила, в общем-то разные, но кое в чем сходившиеся с поразительной точностью. Первая гласила: солдат существует, чтобы сражаться; вторая: гнев и героизм – плохая замена профессионализма. "В кратер, – решил Каргин, – нужно выбираться в кратер. В лес! А еще лучше – в пещеры и скалы за Нижней бухтой. В Хаос! Исчезнуть, пересидеть, сообразить – кто напал, зачем и почему… Зачем – пожалуй ясно. Старик мертв – так может, и уйдут?.. Решат что перебили всех, и уберутся к дьяволу? Главное – не попадаться на глаза…” Значит – в кратер! Он обвел взглядом стоявших перед ним людей, прислушиваясь к доносившемуся из тоннеля грохоту и уже понимая, что больше некого спасать. Потом сказал: – Мы спустимся вниз через мусоропровод. Попадем на свалку. За ней – болото и лес. Задача – добраться до леса. Быстро, бегом! Пока не стали выслеживать с “вертушек”. В лесу прячьтесь под деревьями – так, чтоб было незаметно с воздуха. Ложитесь, не двигайтесь и ждите моей команды. Теперь – вперед! Пошли! Живее! Хью, схватив за руку Мэри-Энн, первым ринулся к колодцу. Попахивало из него неважно – гнилыми фруктами и трупным смрадом от разложившегося мяса. Зато уходивший вниз тоннель был не слишком крут и довольно широк – не меньше полутора метров в диаметре. “Скорее даже больше”, – прикинул Каргин и кивнул Тому: – Сначала – ты. Будешь страховать внизу, чтоб никто не врезался темечком. И каждому – пинок под зад. Пусть никого не ждут, драпают к лесу. Все ясно? Тэрумото кивнул, спрыгнул на дно колодца, лег на спину ногами вперед и тут же исчез в зловонной дыре. – Мэри-Энн! Мэнни! Девушка испуганно вздрогнула, но повиновалась без возражений. Мэнни что-то пискнул, Каргин схватил его под локти, бросил вниз, велел: – Свой балахон держи под задницей. Не то кожу о камни обдерешь. Парень исчез с протяжным паническим воплем. – Ваша очередь, сэр президент. Отрешенность на лице Бобби сменилась злобной гримасой. Он брезгливо поморщился. – Быстрей! – поторопил Каргин, раздумывая, не врезать ли президенту между ног. – Если вы не спешите…– начал Арада, подступая к колодцу, но Боб оттолкнул его и прыгнул вниз. За ним последовали референт и повар. Стил Тейт прижимал к груди мешок и нож и двигался, несмотря на возраст, с завидной резвостью. “Бывалый мужик, хлопот с ним не будет, – решил Каргин. – Вот Мэнни – другое дело… Мэнни у нас не боец…” Видимо, Слейтер думал о том же. – Пропадем с этим дерьмом…– он кивнул на зев колодца. – Мошет, лушше с плохими парнями потолковать? Мошет, доховоримся? – Плохие парни не расположены к толковищу. Они – как у вас в Техасе: сперва стреляют, потом глядят, кого пришибли, – сказал Каргин, насторожившись. – Кажется, в столовой голоса… Вернее, голос, слов не разобрать, но тон резкий, начальственный. – А ты откуда знаешь? – Догадываюсь. Но если хочешь – оставайся, потолкуй. Крис сплюнул и исчез в колодце. Каргин, ступая на носках, приблизился к дверям, выглянул в щель и замер. Тускло освещенный коридор был пуст. Затем раздался топот, и в дальнем коцце возникли две фигуры: темные комбинезоны, шапочки до бровей, широкие ремни с подсумками и тарахтелки – угловатые, короткоствольные, “ингремы” или “узи”… “То ли коммандос, то ли боевики-террористы, не отличишь”, – подумалось Каргину. Их лица он не разглядел, а значит вопрос, кто поживился скальпом Халлорана, был пока что без ответа. Может, “Алый джихад”, может, якудза или колумбийская наркомафия… Его пальцы расстегнули кобуру с сюрикенами, потом он покачал головой и бесшумно отступил к колодцу. Гнев и ненависть – плохие советчики, если пытаешься выжить. Спасти доверившихся людей, спастись самому… Лучший выход – скрыться. Так, чтобы следов не осталось. Тем более, трупов… Он просунул ноги в дыру, оттолкнулся и заскользил вниз. Не слишком медленно, но и не быстро. Стенки мусоропровода были довольно гладкими, влажноватыми, так что казалось, будто он, как в сибирском детстве, скатывается на санках с полого речного бережка. Мешало мачете; ножны царапали камень, рукоять давила под ребро, и Каргин, извернувшись, вытащил оружие из-за пояса и стиснул между коленей. Впереди показался светлый круг. Ноги машинально напряглись, и на мгновение пронзила мысль – сколь высоко выходное отверстие?.. Может быть, метрах в двадцати над свалкой, и тогда там, внизу, не живые люди, а корчащиеся в агонии тела… Впрочем, маловероятно; отбросы копились как минимум десять лет, должно быть, приличная груда… и мягкая… Он вылетел из тоннеля и приземлился среди банановой кожуры. На часах было пять двадцать две с секундами; солнце еще не взошло над восточными скалами, но темноту сменил белесый зыбкий полумрак. Внизу, за краем мусорного холма, лежало болотце – вернее, большая мелкая лужа, смесь грязи и воды с торчащими кое-где кустами. Дальний ее конец тонул в предрассветной дымке, однако Каргин мог различить смутные контуры деревьев и бегущих к ним людей. Их силуэты были серыми, почти неразличимыми на фоне болотных вод, и лишь пламенеющая майка и светлые шортики Мэри-Энн казались недопустимым диссонансом. Каргин выругался и, распугивая пировавших среди отбросов крыс, зашагал к болоту. Откуда-то выросла фигура Тэрумото, возникнув из сгустившейся мглы. Его комбинезон был перепачкан, на башмаках налипла грязь, но в остальном японец выглядел как обычно – спокойным и невозмутимым. – Теперь куда, Керк-сан? Интонация была почтительной; Том признавал его главенство. – Пройдем через лес к пещерам на южном берегу, – ответил Каргин. – Попробуем отсидеться. Когда рассветет, я заберусь куда-нибудь повыше… может, что и разгляжу… – Правда, что Патрик-сан мертв? – Мертвее не бывает. Полез в дот у озера, а его разнесли ракетами. Хочешь подробности, будут попозже. А сейчас – бегом! Они помчались к лесу, огибая места с темной стоячей водой. Трясин тут вроде бы не было; просто низменность с вязкими почвами, затопленная дождем. Она примыкала к свалке и тянулась в обе стороны неширокой полосой – метров двести пятьдесят, не больше. Одолев треть дистанции, Каргин сбавил темп, склонил голову к плечу и прислушался: за скалами Лоу-Бей полыхнуло, и над водой раскатилось эхо далекого взрыва. Затем дважды громыхнуло на севере. – Последние блок-посты…– пробормотал он. – южный и северный… Все по графику. – Мы не выполнили свой долг, – произнес Том, глядя на дымное облако, что расплывалось на юге. Его башмаки разбрызгивали воду и грязь. – Если ты о Халлоране, так мы в том не виноваты, – откликнулся Каргин. – С ним был Спайдер. – Это ничего не меняет. Если хозяин погиб, защитник должен умереть. – Кодекс бусидо? – Каргин бросил взгляд на японца и выдохнул: – Ну-ну… Однако ты не спеши умирать, Томо-сан. Хозяин мертв, зато остались наследники. Как-никак, его семейство…Выходит, работа наша не закончена. Том промолчал. Они обошли Слейтера и Тейта; техасец угрюмо месил грязь, повар бежал ровным экономным шагом, будто пехотинец на учениях. “Надежный мужик, обстрелянный”, – снова подумал Каргин. Алая майка Нэнси маячила перед ним как полковое знамя. Он догнал девушку, схватил за локоть, зачерпнул ком грязи, размазал по ее спине. От неожиданности Мэри-Энн вскрикнула, потом обернулась и с яростью уставилась на Каргина. – Ты чокнулся, ковбой? Какого дьявола… – Маскировка, – пояснил Каргин. – Если мэм-сагиб не хочет, чтобы ей продырявили задницу… Он собирался добавить кое-что еще, но низкий рокочущий гул заставил его обернуться. “Грифы” не были видны, однако звук моторов наплывал с обеих сторон, с севера и юга, будто на гребне скалистой стены разворошили парочку шмелиных гнезд. Мэри-Энн вздрогнула, прижалась к нему; он с силой потащил ее вперед – туда, где древесные корни змеились по земле, а с ветвей зеленым ливнем падали лианы. Почва здесь тоже была влажной, чавкающей под ногами, засыпанной слоем гниющей листвы, и пахло тут немногим лучше, чем на свалке. Зато под кронами деревьев сгущалась полутьма, и полог их казался непроницаемым – таким, как и положено в джунглях, прибежище разбойников и партизан. – Рассредоточиться! – велел Каргин. – Всем на землю, закопаться по уши! Лежать и не дышать! И никакой пальбы! Толкнув Мэри-Энн под воздушные корни пандануса он забросал ее листьями, продвинулся метров на десять к опушке и там залег, всматриваясь в колыхавшийся над болотом туман. Белесая мгла растворялась и редела под первыми солнечными лучами, и мангровый лес, будто приветствуя зарю, оживал, наполнялся движением и звуками: где-то закурлыкала жаба, промчалась ящерка в коричневой блестящей чешуе, мелькнули пестрые крылья бабочки, а наверху вдруг зазвучал разноголосый птичий хор. Подопечных Каргина было не слышно и не видно, лишь правее возились в кустах Мэнни и Боб: парень скулил и дрожал в своей изодранной одежонке, а Боб пытался его успокоить. "Вот уроды! – со злостью подумал Каргин. – Сладкая парочка на мою шею! Ладно, если геи, а вдруг – торчки? Особенно этот, в пеньюарах… И что я с ним делать буду?” Он замахал рукой, рыкнул, чтоб успокоились, потом, слушая гул приближавшихся вертолетов, посмотрел на часы. Пять тридцать семь… Минут пятнадцать, как вылезли из мусоропровода… “Быстро работают, – решил он с невольным уважением. – Быстро!” Только зачем? Босса убрали – выходит, наиглавнейшая задача решена. И гарнизон перебит, и все свидетели упокоены… Что остается? Ну. для порядка обшарить виллу, а также развалины на берегу… особенно виллу – ради трофеев и всякой любопытной информации… Обшарить-то можно, но как догадаешься, что перебиты не все? Что кто-то под шумок слинял, сумел пробраться в кратер и прячется теперь в лесах? Вопрос, собственно, сводился к одному: будет ли, поиск целенаправленным, упорным, или “вертушки” покружат час-другой над болотами и джунглями, да уберутся восвояси. Вторая ситуация казалась более вероятной. С чего искать охапку сена из сожженного стога? Да и есть ли та охапка… Весьма сомнительно! Скорей всего, остались дым и пепел… Были, однако, в той охапке заметные соломинки, и если отстрел проводился по спискам и с опознанием трупов, то дело могло повернуться иначе. Смотря по тому, как сформулирован заказ: на одного Халлорана или с включением наследников. Додумать эту мысль Каргин не успел: два “помела” пали с прояснившихся небес. Они летели навстречу друг другу, одно – от южного блок-поста, другое – от северного; скользили неторопливо ниже скал, плевали в лес короткими очередями – не по какой-то цели, а так, на всякий случай, для проверки. Каждая очередь вызывала переполох: резкие вопли попугаев и негодующий щебет пичужек, метавшихся среди деревьев. Ищут? “Непохоже, – решил Каргин. – Скорей развлекаются. Либо палят на удачу в белый свет…” Пальба его не слишком волновала, и под случайным обстрелом он не нервничал. Главное – не высовывать нос, не шевелиться и прижиматься покрепче к земле. Даже к такой вонючей, как в этом гребаном лесу, где места сухого не сыщешь… Мокро, зато безопасно. Если не начнут бомбить по площадям и жечь напалмом. Но, как он полагал, до этого дело не дойдет. "Грифы”сближались. Гул моторов заполнил пространство, пулеметный стрекот сделался чаще и назойливей; пули посвистывали где-то вверху, секли древесные кроны, и в воздухе зеленой метелью закружились сбитые листья. Продолговатые, с волнистым колючим краем – с падубов, небольшие и узкие – с сейб, овальные, глянцевитые – с саподилловых деревьев. Очередь прошила панданус – высоко над замершей под корнями Мэри-Энн; брызнула кора, полетели пучки листьев, похожих на растрепанные страусиные хвосты. “Спокойно, бэби, – прошептал Каргин, будто девушка могла услышать. – Лежи, не дергайся. Это все семечки!” Нэнси лежала, то ли сомлев от страха, то ли понимая, что ноги не спасут. Скорее первое, чем второе. Для непривычного человека, попавшего под обстрел, ужас – нормальная реакция, но следствия из нее различны: один замирает, другой вопит, третий, теряя голову, пускается в бега. Пули, однако, летят, быстрее. Пронзительный визг ворвался в скороговорку пулеметов. Скосив глаза, Каргин увидел, как поднимается Мэнни – грязный, жуткий, в изорванном буром халате, с растрепанными волосами. Губы его кривились, к щекам прилила кровь, взгляд остекленел – как у оленя загнанного волчьей стаей. И, словно у гибнущего оленя, мысль у него была одна: бежать. Бежать! Его халат взлетел, оголив покрытое грязью тело. Он двигался с трудом, нелепыми скачками – ноги вязли в топкой почве. Он мчался по болоту, а не в лес; видно, страх отбил соображение или пустое пространство мнилось ему более подходящим для побега. Для бегства в никуда. Короткая хлесткая очередь. Пуля в шею, пуля под лопатку. Два кровавых пятна на грязной ткани… Мэнни рухнул, нелепо вывернув голову. Брызги взлетели фонтаном и опали, вода вокруг его тела начала розоветь. "Все, конец, – решил Каргин. – Теперь они знают, что кто-то смылся с виллы. Знают, и не отстанут”. Увидев, что вслед за Мэнни приподнимается Паркер, он вырвал из кобуры пистолет и прорычал: – Замри, кретин! Лежи, не то я сам тебя прикончу! Бобби ткнулся в палые листья лицом. Плечи его вздрагивали. Один из “Грифов” пошел вниз, повернувшись боком к лесу. Пилота Каргин в деталях не разглядел, но ему показалось, что тот осматривает покойника, причем тщательно и не спеша. Неужели отстреливали по списку?.. Вздохнув, он сунул пистолет в кобуру. Против “вертушек” “беретта” была оружием несолидным, если не сказать смешным. Как и его сюрикены, удавка-проволока и мачете. Вертолеты поднялись метров на двадцать, и на опушку обрушился свинцовый град. Теперь пули свистели над головой Каргина, буравили воздух со всех сторон, с глухим треском впивались в древесные стволы, с чмоканьем входили в землю. Сбитые листья снова закружились над ним, всполошенно заголосили птицы, из Дупла метнулся нетопырь – кожистые крылья, раскрытая пасть, когтистые лапки, прижатые к брюшку. Он взлетел бесшумно и плавно, скользнул над деревьями и умер. Кровавые клочья упали рядом с ногой Каргина. Тот лежал, приникнув щекой к земле, вдыхая ее гниловатый сырой запах. Лежал и молился. Не за себя, а лишь о том, чтобы не повторилась история с Мэнни. Чтобы никто не вскрикнул, не вскочил, не дернулся и не поддался панике; чтобы Боб не начал палить, Тэрумото – искать смерти, а Крис не вышел из леса с поднятыми руками; чтобы пули их миновали, обошлось без ран, и чтоб у пилотов скорей закончило боезапас. Грохот выстрелов смолк, машины покружили над лесом, поднялись и исчезли за гребнем кратерной стены. Наверное, его молитва дошла до Бога.Глава девятая
– С какой стати? – побагровевший Боб сверлил Хью злобным взглядом. – С какой стати, я спрашиваю? Снимать, назначать… Кто вам это позволил, Арада? – Ситуация и здравый смысл, – на губах аргентинца играла холодная усмешка. – Признайтесь, ситуация несколько… э-э… неординарна. Вы это понимаете? Они сидели на камнях у темного входа в грот; утес нависал над ними уступчатой майской пирамидой. Собственно, сидели Боб и Хью; Каргин лежал, опираясь на локоть, а остальные беглецы, утомленные утренним маршем, спали в пещере. Все, кроме Тома, назначенного часовым. – Ситуация…– пробормотал Боб. – В любой ситуации я принимаю решения! Я, и только я! – Решения должны быть разумными, иначе нам не дожить до рассвета. Надеюсь, вы не хотите, чтоб вас пристрелили? Вас и вашу сестру? – При чем тут Мэри-Энн? – Бобби вскочил, бросив мрачный взгляд на Каргина. – Мы говорим об этом киллере! И вашем самоуправстве! – Ладно, ни при чем. Согласен! Так что же желает босс? – последняя фраза звучала с явным сарказмом. – Керк вас не устраивает. Ну, и кого вы почтите своим доверием? Слейтера? Тэрумото? – К дьяволу этих косоглазых джапов! Слейтер… да, Слейтер подойдет. Опытный человек, из техасских рейнджеров. Хью язвительно усмехнулся. – Крутые парни эти рейнджеры, только слегка туговаты. И мелковаты, если сравнить с боевым офицером. Киллер он там или не киллер… Спор забавлял Каргина. Марш-бросок в джунглях был утомителен и долог, и на это время Боб погрузился в мрачное молчание – видимо, думы о Мэнни тревожили его. После пятичасовых скитаний среди болот и диких зарослей им повезло добраться в Хаос; Каргин распорядился насчет еды, выставил часового и приказал отдыхать. Сон ему был необходим; ночное дежурство, плюс утренний переход изрядно подорвали его силы. Он двигался во главе отряда и выбирал – а чаще прорубал дорогу; и после первых километров стало ясно, что в джунглях спутники его не ходоки. Не исключая Тэрумото; видно, на японских островах был дефицит тропических лесов для тренировки самураев. Боб устал не меньше остальных, но после трапезы и отдыха к нему вернулась прежняя энергия. Кровь Халлоранов, людей практичных, возобладала в нем, и он, вероятно, уверился, что если останется в живых, найдет себе другого Мэнни. Здравая мысль; такие, как Мэнни, шли по копейке за фунт, а президенты корпораций ценились, разумеется, дороже. Вместе с энергией к Бобу вернулась привычка повелевать, указывать и направлять. Сейчас он распекал референта, а поводом к склоке явился Каргин – верней, полномочия, возложенные на него Арадой. Непрошенные полномочия! Но суть заключалась в другом – а именно в том, кто будет одаривать ими служащих ХАК. Король или министр? Кто раздает посты и ордена? Кто производит мушкетеров в капитаны? Животрепещущий вопрос! Особенно в их положении. "Король мертв – да здравствует король!” – думал Каргин, прислушиваясь к спору. Но Спайдер тоже мертв – значит, ура его преемнику! Шефу безопасности разгромленного Иннисфри… Претензий на этот пост У него не имелось, как и иллюзий насчет карьеры в ХАК. Он был уверен, что если Бобби уцелеет в заварушке, то киллеров и косоглазых джапов разжалуют до рядовых. Или проводят пинком под копчик. Вместе с Кэти Финли и ее престарелыми покровителями. Покачиваясь на носках, Боб взирал на Араду, точно удав на недоеденного кролика. Потом изрек: – Значит, рейнджеры, по вашему мнению, туповаты? Простые американские парни, так? Не чета боевым офицерам? Особенно, я полагаю, латиносам? Тем, которых нанял мой драгоценный дядюшка… Славно они повоевали сегодняшним утром! Мастера!.. Жрать пить да валяться с потаскухами…– он выдержал паузу. – Что скажете, сеньор Умберто? Или я не прав? Хью с надменным видом промолчал. – Жаль, ни одного амиго не осталось… Собственноручно бы пристрелил, – пальцы Бобби легли на рукоять “магнума”. – Ну, о покойных ничего, даже xopoшего… А вот о живых…– он вновь одарил аргентинца неласковым взглядом. – Боюсь, синьор Умберто, что ХАК не нуждается в ваших услугах. Пожалуй, я в этом уверен. И за другой исход я бы не дал крысиной задницы. – Вы не вправе меня уволить, – холодно заметил Хью. – По уставу ХАК, в случае смерти основного держателя акций, пока не будет вскрыто завещание, фирмой руководит совет директоров. Мэлори, Ченнинг, Маклафлин и остальные… Вы это знаете, Паркер. – Мэлори, Ченнинг… Старые пердуны! – Боб пренебрежительно скривился. – Время их кончилось, Милейший! Босс теперь один – Роберт Генри Паркер! – Не рановато примеряете корону? Могут случиться всякие неожиданности… Бобби ощерился, навис над референтом, стиснул его плечо. – Какие неожиданности? Ты на что намекаешь, ублюдок? Ты…* * *
"Как бы до рукоприкладства не дошло”, – подумал Карги н, вставая. Он ухватил Бобби за локоть, дернул, заставив выпрямится, и всмотрелся в бешеные серые глаза. – Заткнитесь – вы, оба! Не стоит делить наследство, когда мы по уши в дерьме. Может, поговорим о вещах насущных? О том, как выбраться с острова? Или о том, что будем есть и пить? К счастью, вода у них была – в скалах нашлись родники, обязанные, видимо, происхождением подземной линзе, питавшей озеро. С едой дела обстояли хуже. Тейт прихватил окорок, хлеб, сухари и небольшую плоскую бутылку бренди; если не считать спиртного, пять-шесть трапез для семи едоков. Каргин полагал чтo через день-другой – если, конечно, они останутся в живых – придется перейти на крыс. Или на попугаев. Глаза Бобби потускнели, и Каргин ослабил хватку. – У нас четыре пистолета, десяток обойм, три ножа, два радиотелефона и кость от окорока, – произнес он. – Что будем делать, джентльмены? Бежать? Скрываться? Воевать? – А вы что предлагаете? – буркнул Бобби, опускаясь на каменистую землю. Каргин присел рядом. – Хотелось бы сначала разобраться кто напал, зачем, какими силами… Есть соображения на этот счет? Скажем, кто и с какой целью? – Кто угодно! – Боб пожал плечами. – Старый мерзавец многим насолил. Большой специалист по выкручиванию рук… Хью усмехнулся и поглядел на небо. – Не каждый, кому выкручивают руки, хватается за автомат. Лишь самые отчаянные – фанатики, экстремисты, люди с немалыми средствами… Кстати, как они сюда добрались со всем своим снаряжением? На вертолетах или наняли авианосец? – Подлодку, – пояснил Каргин. – Вот видите… Значит, при деньгах! – Арада сосредоточенно нахмурился. — Каддафи? Нет, скорее алжирцы или китайцы… Или Тегеран… имелись там финансовые сложности… А что касается их цели, то тут., я думаю, вопроса нет. Цель их уже достигнута. – Смотря какая цель. Если всего лишь убрать Халлорана, то можно надеяться, что нас не тронут. Не заметят и не тронут. Отсидимся в пещере, поголодаем, но будем живы… А эти, – Каргин махнул рукой в сторону дворца, – разграбят виллу и уберутся к чертям собачьим. Но есть и другой вариант, вполне реальный: убрать не только Халлорана, но всех свидетелей. Всех причастных и непричастных. А в первую очередь – наследников. Оглядев побледневшие лица Роберта и Хью, он решил, что развивать эту тему не стоит. Он был уверен процентов на девяносто, что реализуется последний вариант. Если только параллель между утренними событиями и планом, разработанным для Мэлори, не являлось чистой случайностью.* * *
Из пещеры выползла Мэри-Энн, села на пороге я принялась выбирать мусор из пышных рыжих волос Затем, повернувшись спиной к мужчинам, стянула майку и подставила грудь жарким солнечным лучам. Покосившись на нее, Арада шепотом спросил: – Если… они начнут нас искать… сегодня же начнут… какой в этом случае вы предлагаете выход? – Деньги? – встрепенулся Боб. – Договориться заплатить? Любую разумную сумму? – Они сюда не за деньгами явились, – возрази Каргин. – Если до вечера не уйдут – или, скажем, до завтрашнего утра – ждите неприятностей. Не так долго осталось… Скоро мы об этом узнаем. – И что тогда? – Вы – Роберт Генри Паркер, хозяин, босс.. Командуйте! Или разбудите Слейтера, пусть покомандует… У рейнджеров тоже бывают хорошие мысли. Щека Бобби дрогнула, но он сдержался. “Вот так-то, олух! – мстительно подумал Каргин. – Такая вот геополитика. Жизнь полна сюрпризов, а потому не стоит плевать в колодец”. – Мы можем связаться с побережьем? – спросил Боб и потянулся к телефону на поясе Арады. Тот вытащил мобильник, покачал в ладонях, передал хозяину. – Попробуйте. Я пытался, и не один раз… Керк, наверное, тоже…– Каргин кивнул, глядя, как Боб нажимает клавиши. – Связи нет. Что-то случилось с ретранслятором и с дверью бункера… Да и не только с ними…– на лице аргентинца было написано недоумение. – Странная вещь! Кое-что я не в силах объяснить… Приложив ладонь ко лбу, он снова уставился в небо. На пальцах его сверкнули золотые перстни. "Что он там высматривает?..” – подумал Каргин, а вслух спросил: – В бункере есть оружие? – Там все есть…– мобильник вернулся к Хью, и референт начал баюкать его в ладонях, посматривая то на Бобби, то на Каргина. – Возможно, идея с выкупом не так уж плоха… позволит выиграть время…– нерешительно пробормотал он. – Местная АТС работает, и мы могли бы связаться с виллой. Я думаю там их командир… Позвонить? – Как-нибудь в другой раз, – Каргин поднялся, запрокинул голову и оглядел пирамидальную скалу. С ее вершины свалился камешек, чиркнул по темной базальтовой глыбе и с легким шорохом исчез среди других камней. Сигнал от Тома… Что-то случилось в поселке, на взлетном поле или во дворце… “Может, убрались они к дьяволу?” – мелькнула мысль. Он повернулся к Бобу и Хью и произнес: – Если нет иных предложений, проходит мое: осмотреться, а потом решать. Вдруг наметится какой-то выход… Утром я схожу, взгляну. Арада тоже поднялся. – Сходите? Куда? – В поселок или к вилле. На разведку. Он направился к скале мимо Мэри-Энн, присевшей у входа в грот. Она подняла голову. Лицо ее казалось маленьким, постаревшим и осунувшимся, рыжие слипшиеся пряди падали на грудь, кожа была не белой, а в серых разводах и полосах от болотной грязи. Совсем другая Мэри-Энн… Измученная, жалкая… Так не похожая на рыжую ведьму из “Старого Пью” и на девчонку, любившую его на пляже… Что-то кольнуло у Каргина под сердцем, он наклонился и тихо произнес: – Помнишь, где родник? Иди, вымойся, станет легче. Жизнь не кончилась, бэби. Будет, что вспомнить в твоем гнездышке на Мэдисон-авеню. – Выпить бы…– прошептала она. – Ковбои веселятся, а девушкам страшно… – Страшно, но интересно. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Он быстро взошел на скалу, к огромной плите, напоминавшей жертвенник. Отсюда открывался вид на обе бухты, на кратер и внешний склон вулкана, разрушенный поселок с руинами домов среди обугленных деревьев, на мол, маяк и чудом уцелевшую яхту – она покачивалась на мелкой волне, и на ее реях и мачтах еще полоскались праздничные флаги. Поселок лежал километрах в шести к северо-западу, вилла – на том же расстоянии, но строго на север. Впрочем, сам дворец Каргин не видел – его закрывали скалы, деревья и дымящаяся обгорелая коробка на месте служебного флигеля. Том сунул ему бинокль. – Не пожелаешь ли взглянуть, Керк-сан? Что-то они делают… Что-то странное… Бинокль был мощным – двор между флигелем и конюшней будто прыгнул навстречу Каргину. Там суетились крохотные фигурки, копались в развалинах что-то разыскивали, тащили во двор и складывали, но не беспорядочной кучей, а в ряд, тянувшийся перед фасадом здания. Вдоль этой длинной шеренги двигалась долговязая фигура в черном, наклонялась и приседала, будто исполняя старинный менуэт в плавном неторопливом ритме. Ее движения почти завораживали. Волосы на затылке шевельнулись под теплым дыханием Тэрумото. – Чем они занимаются, Керк-сан? – Вытаскивают из-под развалин трупы. – Чтобы похоронить? Каргин хмыкнул. – Нет, дружище, это не похоронная команда.! Вытаскивают для опознания, пересчитывают…– Опустив бинокль, он погладил рубец под левым глазом и пробормотал: – Неважнецкие наши дела… Влипли по полной программе! Том вопросительно уставился на него. – Ищут, – пояснил Каргин. – А кого они могут искать? Конечно, не тебя и не меня… Мы – люди маленькие и никому не известные. Я думаю, для них даже Арада не представляет интерес. – Значит, Паркер-сан? – Значит, он. Заметная личность, наследник, президент… Получается, что заказали не только старого Халлорана. Ну, что будем делать, Томо? У них, – Каргин бросил взгляд в сторону виллы, – полный взвод, сорок или пятьдесят “стволов”, два “помела”, пулеметы. Нас – трое. Может быть, четверо, считая с Тейтом… И с нами девушка. Кратер же невелик, и сколько не бегай туда-сюда, когда-нибудь попадешься. Кроме того, мы почти безоружны. С нашими “пушками” против “Грифов” и “тарахтелок” не повоюешь. – Он хлопнул по кобуре и мрачно промолвил: – Такая вот получается диспозиция! Что остается? Глаза Тэрумото блеснули. – Керк-сан думает, что надо бежать? Захватить катер или яхту и уйти в море? – Догонят и расстреляют. На судне мы будем как мыши в мышеловке. – Есть еще вертолеты…– Том в задумчивости теребил губу. – Не их, а наши, те, что в ангарах рядом с электростанцией… Пять вертолетов. Три двухместных, патрульных, и два больших, пассажирских. Если до них добраться… – На патрульных нам не улететь, только на пассажирском. До Перу – тысяча миль, до Галапагосов – восемьсот… Далековато… Но есть и другие проблемы. Ты, к примеру, управишься с “вертушкой”? – Нет. А ты, Керк-сан? – Немного обучен. Не так, как настоящий пилот, но до материка дотяну. Жаль! – Каргин покачал головой. – Жаль, но это вариант опасный. “Грифы” – боевые машины, маневренные, быстроходные. Чтоб не догнали, нужна фора в три часа, даже в четыре. В противном случае…– он полоснул ладонью по горлу. – Как они нас найдут? Если взлететь ночью, пока темно? – Найдут! У них такая штучка есть, радар называется. А еще – ракеты с системой самонаведения. Дальность – пятнадцать километров. Понимаешь, я… Каргин смолк, чуть не проговорившись, что сам спланировал эту операцию и о “Грифах” ему все доподлинно известно. Об их тактических данных, скорости, вооружении… Он вдруг почувствовал злость, то ли на Тома, то ли на себя самого, и, чтобы скрыть замешательство, приложил к глазам бинокль. Темные фигурки перед обгоревшим флигелем исчезли, остался только длинный ряд покойников, которых он смог пересчитать. Тридцать два человека… Двенадцать женщин, двадцать мужчин… Хорошо хоть, детишек нет… Тэрумото кашлянул за его спиной. – Керк-сан… – Да? – Будем драться? Нет, я так спросил… не так и не о том… На мне – долг перед семьей хозяина, гири и гиму, и я буду драться. А будешь ли драться ты? Патрик-сан мертв, и ты ничем не связан… и в одиночку ты сильнее всех. Я ведь помню, как ты провел нас через джунгли! Один ты мог идти вдвое быстрее… мог спрятаться и переждать, мог выжить… Прости мои сомнения, Керк-сан, но я думаю, что мы для тебя – обуза. Каргин повернулся и оглядел японца с ног до головы. – Про джунгли помнишь? А про болото у свалки?! Что я тебе там сказал? Тогда, когда мы бежали в лес? – Что наша работа не закончена, – пробормотал! Том. – Вот тебе и ответ. С верхней дворцовой террасы неторопливо взмыли вертолеты, покружили над парком и потянулись в сторону кратера. “Пора вниз”, – решил Каргин. Позиция на вершине утеса имела свои преимущества, но у пещеры были свои – те же самые, что у мышиной норки. Кивнув японцу, он начал быстро спускаться, пробираясь среди темных, покрытых трещинами базальтовых глыб. На середине склона, приостановившись, спросил: – Что такое гири и гиму? Гири похоже на харакири… Ты меня, Томо-сан, не пугай! Я тебе в таких делах не помощник – головы рубить не стану и не позволю живот вспороть. Том усмехнулся. – Пусть Керк-сан не тревожится – к этой национальной традиции я не склонен. Но я получил японское воспитание, а суть его – верность долгу. Гири и есть чувство долга, а гиму – обязанность, которую нужно исполнить. Человек чести помнит о собственных гири и гиму. – Вот это уже понятней, – проворчал Каргин, ускорив шаг и направляясь к пещере. Он загнал в нее своих подопечных вовремя, когда “Грифы” начали утюжить лесную полосу у скал, то и дело огрызаясь короткими пулеметными очередями. Они двигались зигзагом, от северной стены кратера до южной, потом обратно, и Каргин прикинул, что эта первая рекогносцировка будет завершена часа за три. Как раз к темноте. Было ясно, что операцией руководит умелый командир, такой, у которого все разложено по полочкам: сперва ревизия трупов, затем поиск недостающих лиц. И пилоты его оказались парнями толковыми: над скалами зависали, над лесом шли помедленней, а над болотами – побыстрей. Болота, лужи и водоемы, примерно треть территории кратера, лежали в северной части, просматривались хорошо, и человек неопытный там спрятаться не мог. Спустились сумерки. Из пещер, пещерок и трещин серыми хлопьями взлетели нетопыри, повергнув в ужас Мэри-Энн; похожие на динозавров скалы будто сомкнулись за спиной, отгородив беглецов от моря и ветра; над краем восточных утесов поднялся бледный лунный диск, взглянул на заваленный трупами остров, поморщился и спрятался за облаками. "Грифы” исчезли, стрекот моторов смолк. Каргин велел раздать еду и по глотку спиртного, назначил в ночной караул Криса и Стила Тейта и минут двадцать скандалил с Бобби, пока тот не сдался и не швырнул повару свой “магнум”. После чего лег спать, наказав, чтоб разбудили на рассвете. Сон ему приснился мерзкий: все та же яма в афганских горах, только на этот раз закапывали его самого, и поверх стояли не моджахеды в приплюснутых шапках, а черные фигуры с черными, скрывавшими лица масками. Он видел только их глаза и рты; глаза были серо-зелеными, с колючими, как острия штыков, зрачками, а рты – будто прорубленными ударом топора. Они глядели на Каргина, который стонал и ворочался в яме, и усмехались. Тейт поднял его на заре и сообщил печальную новость – ночью Мэри-Энн подобралась к бутылке с бренди. Отнять ее повар не решился, и теперь молодая хозяйка спала глубоким сном, а запас спиртного был почти ополовинен. Чертыхнувшись, Каргин велел, чтобы бутыль припрятали получше, взял бинокль и пару сухарей и полез на скалу – понаблюдать за обстановкой и привести в порядок мысли. Обстановка была спокойной, а мысли – невеселыми. "Слишком много случайностей, странных накладок и совпадений, – думал он. – И слишком много вопросов, не разобравшись с которыми нельзя прогнозировать ситуацию”. Прогноз же был необходим. Прогноз включал в себя три основных элемента: предугадать намерения противника, блокировать удар и нанести ответный – там, где неприятель не ждет, и в то мгновенье, когда он считает себя в безопасности. Основы тактики и стратегии… Так его учили, и весь многолетний опыт лишь подтверждал нерушимую истинность преподанных аксиом. И первая из них гласила: собрался воевать всерьез – познай врага. Каддафи, Тегеран, алжирцы либо китайцы… Бред! Быть может, имелись у них счеты с Халлораном – или, по выражению Хью, финансовые сложности, – но очень сомнительно, чтоб кто-то из этой компании сумел добраться до Иннисфри. Все вместе или каждый по отдельности… Тем более, на субмарине “Сейлфиш”. Нет, тут ощущалась другая рука! Шон Дуглас Мэлори, коммодор и вице-президент, член совета директоров, шеф административного отдела… Возможно – Брайан Ченнинг, инвестор-финансист… "Все полковники мечтают прыгнуть в генералы, – размышлял Каргин, – а пути к генеральским погонам извилисты и различны, и есть меж ними такой: вышестоящему – бомбу в кресло, соперникам – пулю в лоб, ну а свидетелей – за потроха и в ножи… Потом всех покойничков закопать, поглубже и подальше… Очень логичное решение, и в духе российских разборок! А чтоб российский опыт втуне не пропал, нужно взять российского умельца, обласкать, пригреть, наобещать большие деньги и заказать ему план… Потом слегка подкорректировать всю операцию, чтоб от умельца отпечатков не осталось. Ни отпечатков, ни костей, ни праха…” Такая гипотеза объясняла многое – может быть, все. К примеру, коррективы, внесенные в исходный план. И то, как подобрали время для атаки – под юбилей, когда к престарелому дядюшке приехал любящий племянник. И то, что Мэлори и весь совет директоров не появились вслед за ним, не спели боссу “хэппи бездэй ту ю”. И то, как босс расстался с жизнью – не в спальне, не у рабочего стола, а в час спортивных экзерсисов на свежем воздухе. Последнее определенно подтверждало, что нападающие знали о его привычках и деталях местной топографии. Скажем, о Нагорном тракте. “Если нужно пришить человека, – рассуждал Каргин, – лучшего места не найдешь. Слева – пропасть, справа – пропасть, и никаих тебе укрытий, кроме тоннелей и блок-поста. Останешься на дороге – расстреляют, залезешь в тоннель или дот – размажут по стенкам “хеллфайером”… Да, отличное местечко! Вот если б сидел старик во дворце, его так просто бы не взяли. Большое строение, крепкое, с первого выстрела не сковырнешь… Сзади – скала, внизу – катакомбы, и если забраться в убежище – иши-свищи…” Если забраться! Он покачал головой, потом нахмурил брови, соображая, что же такое могло приключиться с дверью бункера. С дверным замком и ретрансляторной антенной… Винить нападавших в подобных казусах было бы неуместно. Совсем неуместно, сколь бы детальными инструкциями их не снабдили коммодор и весь совет директоров!.. Похоже, о ретрансляторе и двери побеспокоились заранее, и получалось, что у Мэлори был свой осведомитель во дворце. Сообщник, очень знающий и ловкий. Пятая колонна, ренегат… Личность проверенная и доверенная, вроде Спайдера или Арады. Но Спайдер был вне подозрений. Смерть его являлась лучшим свидетельством верности, а значит, ретранслятор и бункер нельзя списать на Альфа. Предатель – если он действительно существовал – скрывался среди живых, а тут, кроме тощего Хью, и выбрать-то было некого. Не Боб же постарался с дверью, не Нэнси и уж, во всяком случае, не повар Тейт… “Выходит, Арада, – решил Каргин, отбросив прочих претендентов. – Сынок! Или, как минимум, лицо из самых приближенных…” Вряд ли это имело значение. Сын он старому Халлорану или не сын, такие вещи в серьезном бизнесе в расчет не принимались; гораздо важней, что был у аргентинца свой финансовый интерес. К тому же Паркера он не любил, и в этом сходился с Брайаном Ченнингом и коммодором; они симпатий к Бобу тоже не питали. "Общий враг, общие цели – вот и удобрение для заговора, – мелькнула мысль. – Дядюшку – в расход, а вслед за ним – племянничка, чтоб не мешал и не вертелся под ногами… Такие вот шуточки с дверью…” Прищурившись на восходящее солнце, Каргин начал что-то насвистывать, отбивая на колене такт, потом вдруг хлопнул себя по лбу и с раздражением прошипел: – Чтоб мне к Хель провалиться! Ну и гнида, хинштейн твою мать! Шуточка с дверью… Не было никакой шуточки! Вернее, была, но совсем другая, чем мнилось простодушным зрителям. Умник Хью просто набрал липовый шифр и заявил, ничем ни рискуя, что дверь не открывается. Кто мог его проверить? Разумеется, никто! Спайдер, да сам Халлоран… еще инженер из дворцовой обслуги… Все к тому времени – покойники! Скрипнув от злости зубами, Каргин поглядел на часы, отметил, что натикало семь с минутами, а враг еще активности не проявляет. Солнце поднялось над восточной стеной и грело исправно, но он ощущал, как при мысли о шуточках Хью ползут по спине ледяные мурашки. Лезут откуда-то из-под лопаток, холодят бока и не спеша пробираются по позвоночнику… Если б не мусорная щель, всех бы положили у той двери! Или на кухне, в коридоре, в кладовых… Там бы он и кончил жизнь, меж замороженных цыплят и банок с пивом… Так, вероятно, и предусматривалось в ходе зачистки: тоннель в служебный корпус завалить, а тех, кто ринется к бункеру, перестрелять у запертой двери. Другой вариант отступления – через парк. Но тут пришлось бы выбраться на лестницу и на открытое пространство перед ней – верная смерть, когда над головой висит “вертушка”. На лестнице все, как на ладони, лишь за сфинксов и спрячешься… А толку? “Стингера” сфинкс не заменит… Вот и воюй с пистолетом против пулеметов!.. Он сплюнул и успокоился – ровно настолько, чтобы прикинуть последствия зачистки. Скажем, перебили бы всех у той двери… всех, кроме Хью-заговорщика… А после что? А после на сцену явилась бы мадам Оливия, безутешная сестра и мать, единственная и бесспорная наследница… И стала бы она хозяйкой ХАК, уселась бы на королевском троне, и в том бы ей никто препятствий не чинил – ни Мэлори, ни остальные руководящие фигуры. Ибо трон ее – в лечебнице, в психушке “Реет энд квайет”… В общем, в тех краях, где тишина и покой. И был бы тогда абсолютный порядок. Все маршируют стройными рядами под барабанную дробь, а барабанят те же лица… Существовал, однако, альтернативный вариант: быть может, после Бобби в наследницы предназначалась Мэри-Энн, но не сама по себе, а с приложением супруга. Надежного мужчины зрелых лет, снискавшего доверие у барабанщиков… Ему бы и барабанить позволили, только негромко и в такт с остальным оркестром. Или к роялю усадили, наигрывать вальсы для Мэри-Энн, чтоб танцевала в нужном направлении. "Она бы согласилась, – подумал Каргин. – Конечно, согласилась! Во-первых, миссис Арада-Паркер-Халлоран звучит совсем неплохо, а во-вторых, уж больно аргументы убедительны! Или под венец, или в мусоропровод с пулей в затылке… К тому же могли бы обставить дело покультурнее – вроде как Хью ее отторговал у этих гадов в черном… Или устроить романтический побег… На яхте под алыми парусами… Нэнси, Хью и ящик виски…” Минуло восемь. В поселке – никого, лишь часовой вышагивает вдоль мола да курится над руинами дымок. На вилле тоже никого – во всяком случае, в тех местах, какие доступны осмотру. На взлетном поле, у ангаров, шевелились – похоже, заправляли топливом “вертушки”. Зато Нагорный тракт был пуст. Серый бетонный купол уже не торчал у озера, и лишь обломки грудой битой скорлупы усеивали берег. "Надо бы сбегать, поглядеть”, – решил Каргин и опустил бинокль. Сойдя вниз, он отправил Тэрумото на скалу, перекусил (сухарь с глотком воды), затем проверил снаряжение: у пояса – нож и две кобуры, мачете – за спиной, берет – на голове, мобильник и обоймы – по карманам. Нэнси и Боб еще спали; Крис после ночного дежурства тоже дремал, но вполглаза; рядом Тейт мрачно пересчитывал сухари и скреб тесаком кость от окорока. Но она была уже отполирована дочиста. Референт, как и вчерашним вечером, надменно обозревал небеса. Он устроился в тени, за бурой глыбой, напоминавшей перезрелую тыкву, и, бросив туда взгляд, Каргин вдруг замер, словно пораженный ударом грома. Радиотелефон! Мобильники были лишь у него и у Арады. Тот, что у него – в кармане, второй аппарат в чехле, пристегнутом к поясу референта. Добротный кожаный чехол, даже щеголеватый, как и одежда Хью… Правда, после скитаний в джунглях его башмаки и брюки выглядели не лучшим образом. "А ведь он мог бы и заложить!.. – размышлял Каргин, присматриваясь к гипотетическому ренегату. – Забраться ночью в скалы, вроде по неотложной надобности, и вызвать этих, в черном… Тотчас были бы здесь и шуранули ракетами… И получился бы славный фарш – из президента, его сестрицы и верных мамелюков…” Однако не заложил! Выходит, не предатель? И шуточек с дверью не было? То ли замок сломался, то ли сменили код, но в этом деле аргентинец не замешан? Теряясь в догадках, Каргин подошел к нему, присел на базальтовый обломок. – Буэнас диас, дон Умберто… Тот удивленно вскинулся. – Знаете испанский? – Лучше английского. – Где изучали? – Далеко… Прищурившись, Каргин продекламировал: Там земля, где кактусы и агавы высятся, как органы в храмах зеленых, где Прозрачны своды, где воедино слиты воздух, вода и солнце, где стираются от Следов сандалий и уходят в сторону вдруг дороги; километры и лиги, пустившись в Бегство, без следа в глуши лесной пропадают [564]. Это было написано о Мексике, но к Никарагуа подходило ничуть не меньше. Благозвучная испанская речь журчала словно Гва-далквивир в тенистых зеленых берегах. Арада уже не глядел в небеса, а слушал с полузакрытыми глазами. Его высокомерное лицо смягчилось. – В самом деле, далековато… далеко и не похоже на Аргентину… Аргентина – это степи, пастбища и стада…– он поднял веки и, будто подчеркивая, что лирические отступления завершены, перешел на английский: – Хотите поговорить, Керк? – Хочу спросить. Насчет замка на двери в бункер… Код когда-нибудь меняли? – Каждый месяц, в целях безопасности. Этим занимался Спайдер. Определенного дня не было, иногда он вводил новый шифр в первую неделю, иногда – в последнюю. Затем в течение двух-трех часов сообщал комбинацию мне и мистеру Квини. – Квини – это дворецкий? Тот, который сейчас на материке? – Да. Шифр знали только мы – Спайдер, я и Квини. Возможно, Спайдер сменил его поздним вечером и не удосужился мне сообщить? Возможно… Он человек аккуратный, но, клянусь Девой Марией, это самая разумная гипотеза. Да, самая разумная, если не предаваться фантазиям…– холодные глаза Арады вдруг сверкнули, он снова покосился на безоблачное небо и заметил: – Впрочем, случилась более странная вещь… Ему хотелось что-то добавить, но Каргин перебил: – Выходит, босса… я имею в виду мистера Халлорана… не информировали о новой комбинации? И сам он не мог открыть дверь? Арада отрицательно покачал головой. – Я этого не утверждаю. Учтите, запирающее устройство – довольно сложный механизм. Масса электроники, распознающие системы и бог ведает, что еще… я в этом не специалист… Можно открыть, набрав двенадцатизначную комбинацию – ее-то Спайдер и менял. Можно открыть иначе… не знаю как, но думаю, паролем высшего приоритета. Он был известен только сеньору Патрику. "Похоже на правду”, – решил Каргин и с нарочитой небрежностью поинтересовался: – А что с другими дверями? С теми, которые ведут из убежища в кратер? – Там все проще. Только внутренние замки, очень надежные, однако без хитростей. Это запасные выходы. Так, на крайний случай… – Сколько их? И где они? – Пять… или, кажется, шесть… Один у свалки, другие…– на лице аргентинца отразилось раздумье. – Не помню. Такие вопросы находились в компетенции Спайдера. Сам я редко посещал убежище. Что мне там делать? "И верно – что? – согласился Каргин, вставая. – Ядерная война еще не началась… Дай бог, и не начнется”. Арада поднял голову, дернул его за рукав. – Послушайте, Керк… черт с ним, с убежищем и замками… У нас есть другая проблема, со связью. – Проблема есть, а связи нет, – откликнулся Каргин. – Мы можем гадать, как вырубили ретранслятор, но сожалеть об этом поздно. Теперь к антенне не подступишься, там неприятель хозяйничает. Да я и не знаю, где и что отключено… А вы? – Не будем об этом, – впалые щеки Арады порозовели от возбуждения. – Мы – то есть наш аналитический центр – были в постоянной связи с главной штаб-квартирой ХАК. В основном, со службой Брайана Ченнинга. Нам посылали финансовые обзоры, биржевые сводки, проекты договоров, ну, и другие материалы… От нас – от сеньора Патрика – шли распоряжения. Непрерывный обмен, сотни документов в сутки, мегабайты кодированной информации! От нас через антенну – на спутник, затем – в компьютеры штаб-квартиры… Ну и обратно, разумеется. Вы понимаете? – Понимаю…– протянул Каргин, сообразив, что подобный случай планом его не предусматривался. По плану все завершалось в считанные часы: атака, зачистка виллы и поселка, затем – стремительный отход. Действительность выглядела иначе: сутки остров не выходил на связь – и никакой реакции! – Вчера я думал, – произнес Арада, – что кто-то прилетит из Фриско. Или, как минимум, штаб-квартира свяжется с Кальяо, предложит выслать пограничный катер… Собственно, все это – прямая обязанность Шона Мэлори. Вам известно, кто он такой? – Известно, – кивнул Каргин, посматривая, как со скалы торопливо спускается Тэрумото. “Что-то случилось”, – мелькнула мысль. Он перевел глаза на референта, буркнул: – Будем считать, что мистер Мэлори разбит параличом, – и зашагал навстречу Тому. Встревоженный Хью поднялся. Тейт, отложив мешок с припасами, толкнул Слейтера. Техасец вскочил; его ладонь уже лежала на рукояти пистолета. Они сошлись, все пятеро, у входа в грот. – Спустились, – выдохнул японец. – Шестнадцать человек. Примерно у свалки. С автоматами. Короткие, похожи на “узи”… У двух – гранатометы. У одного – винтовка. Кажется, “эмфилд”, снайперская. – Спустились? – Каргин нахмурился. – Как спустились?, Вроде, “вертушек” не слыхать, а? – Будто из скалы возникли, – Том, успокаиваясь, сделал пару глубоких вдохов. – Если Керк-сан позволит высказать мое мнение, они спустились на лифте в бункер. Спайдер-сан говорил, что из убежища есть потайные выходы. – Ладно, примем эту версию, – согласился Каргин, переглянувшись с Арадой. – Примем, и сделаем так… С минуту он размышлял, озирая заваленный камнями склон, вздыбленные базальтовые глыбы, щели и овраги, поросшие колючкой; над ней, будто часовые в пыльной униформе, торчали кактусы. Вдруг вспомнилось: земля, где кактусы и агавы высятся, как органы в храмах зеленых… “Почему органы?.. – подумалось ему. – Скорей, канделябры… такие, какими лупили в прошлом веке шулеров…” Каргин оглядел свое войско и вымолвил: – Пойду им навстречу, погляжу да попробую замотать среди трясин и елок. Может, кого-нибудь подстрелю… Словом, будет у меня разведка боем. А ваша тактическая задача – сидеть тихо, не дышать и оставаться в полной боеготовности. Слейтер и Тэрумото – поочередное наблюдение, как прежде, со скалы. Если появится неприятель – сразу вниз, и всех загнать в пещеру. Сами займите позиции там и там, метрах в двадцати от грота, – он показал, махнув рукой на юг и север. – Устройтесь получше, замаскируйтесь… Если кто полезет, пропустите под перекрестный огонь и бейте в спину. Стил, на тебе пещера и Паркеры. Заляжешь у входа, поддержишь Криса и Тома огнем. Но главное, приглядывай за хозяевами. Чтоб не бузили и носа не высовывали! Понял? Тейт ухмыльнулся. – А если начнут бузить? – Если начнут, мисс Нэнси дашь бутылку, а мистеруРоберту – в челюсть. Всем все ясно? Том кивнул, Тейт хмыкнул и поскреб лысеющее темя, Крис выругался – витиевато и, как всегда, невнятно. Каргин велел повторить, но соль до него не дошла. Он напрочь не понимал наречие штата Одинокой Звезды [565]. – Мне что делать, дон капитане? – с надменным видом поинтересовался референт. "Дон капитане! Ехидничает? Нет, вроде бы серьезен… Тогда – с повышением вас!..” – поздравил себя Каргин и ткнул вверх пальцем. – Следите за воздухом, дон Умберто, за подходами с пляжа и по Нагорной тропе. Еще – молитесь! Вдруг кто-то из Фриско прилетит… Он повернулся и начал спускаться в джунгли.Глава десятая
За спиной грохнуло. Каргин упал, вжался лицом в сырой белесый мох; взвизгнули осколки, порыв жаркого ветра пролетел над ним, земля всколыхнулась, будто в ее глубине начал ворочаться Мировой Змей Мидгарда из скандинавских легенд. Об этом Змее ему рассказывал Лейф Стейнар, покойный приятель-датчанин. Говорил, что чудище лучше не беспокоить всякими бомбами да взрывами – не ровен час, проснется, всех отправит в Хель. Хель был скандинавским адом, и попадать туда Каргину вовсе не улыбалось. Как-нибудь попозже, в другой раз… Еще он надеялся, что ему, в силу профессиональных заслуг, уготовано место в Валгалле – там, где разносят пиво и соленые орешки голубоглазые валькирии в мини-юбках от “Коко Шанель”. Сейчас бы он от орешков и пива не отказался… Да и от валькирии тоже… Снова грохнуло. Меж деревьями взметнулся огонь, пронзительно заверещала и смолкла какая-то птаха, посыпались ветки и щепки, над головой со стоном пролетел кусок раскаленного металла. “Из гранатометов лупят, – подумал Каргин. – Хорошо еще, простым снарядом, не “лягушкой”…” “Лягушка” при ударе о землю подскакивала метра на полтора и лишь затем взрывалась, так что разлет осколков получался совсем иной, не снизу вверх, а во все стороны. “Лягушкой” бы его сейчас пришибли… Но и в обычных гранатах не было ничего приятного, а потому полагалось отступить. Выровнять линию фронта под давлением превосходящих сил. Он пополз, опираясь на локти и колени – мимо низко свисавших лиан, зарослей с гроздьями белых цветов, похожих на колокольчики, мимо чико, саподиллового дерева с глянцевитыми темно-зелеными листьями. Кору чико посекли осколки, и теперь из порезов текла мутноватая камедь. “В Никарагуа ее жевали”, – вспомнил Каргин. Поднявшись, он запетлял между деревьями, стараясь бежать бесшумно, но быстро, потом продрался сквозь колючие кусты, тремя ударами мачете расчистил путь, выбрал местечко посуше и залег. Мачете давало ему большое преимущество – он рисковал забраться в дебри, куда врагам заказан вход. Они, конечно, могли попробовать, но всякий солдат, попавший в непроходимую заросль, был уже не боевой мобильной единицей, а мишенью. С преследователями такого не случалось, а это значило, что в джунглях они не новички. Лиц их Каргин не видел, только темные силуэты, мелькающие меж стволов, но преисполнился уверенности, что гонят его не арабы и не китайцы. Коммандос, опытные наемники, профессионалы… Кто именно, он подозревал, но подозрения еще не перешли в уверенность. Двигались они неторопливо, развернувшись цепью, с упорством охотников на беззащитную дичь, и он поддерживал их в этом мнении – не выстрелил ни разу и кое-где оставил глубокие следы, будто дичь металась и кружила, охваченная паникой. Противник, впрочем, на эту уловку не поддался, что говорило о хладнокровии и изрядном опыте. Шли, как и прежде, не спеша и с осторожностью, палили по деревьям и кустам, пугали дичь, а в заросли не лезли. Зачем, коль есть гранатомет? Замысел их был Каргину понятен: вытеснить его из леса на открытое пространство, взять живьем и попытать, много ли беглецов засело в кратере и где обретаются те беглецы – то ли в манграх, то ли в скалах. В общем, если не считать пленения и допроса, это совпадало с его целью. Он уводил преследователей на северо-восток, подальше от Лоу-Бей и Хаоса, и занимался этим вполне успешно шесть часов. Он не устал и не испытывал особых неудобств, только хотелось есть и жгла царапина в боку от проскользнувшего излетного осколка. Противник, надо думать, поиздержался сильнее. Если говорить об экономии сил и средств, оборона всегда предпочтительней атаки, а в джунглях и горах этот тезис верен вдвойне: догоняющий и атакующий тратит больше сил, ибо, распутывая следы и опасаясь засад, проходит большее расстояние. В такие экстремальных местах оно исчисляется не километрами, а иной мерой, связанной с боеспособностью и выживанием: усталостью, реакцией на опасность, потерей бдительности. Каргин надеялся, что неприятель если не утомлен, то раздражен: все-таки мотаться шесть часов в тропическом лесу – не шутка. Раздражение давало ему выигрыш, было таким же козырем, как мачете; гнев туманит разум, и не всякий стрелок разглядит, где настоящая цель, а где – пеньки да кочки в пятнистых моховых комбинезонах. Шаг за шагом он вел погоню на северо-восток, туда, где мангровый лес переходил в болота, тянувшиеся до скалистой кратерной стены. Каргин здесь не бывал, как и его противники, но представление о местности имелось – разглядывал в трубу не раз, прикидывал из любопытства, где тут воды, где тут твердь, и что в краю далеком водится – может, кайманы с анакондами? Иных зверей, кроме огромных жаб, тут не нашлось, зато увидел он два озера, соединенные протокой. То, что поближе и поменьше, таилось в лесу, среди болотных кипарисов; то, что подальше, было километровых размеров окном в трясине, темным и блестящим, как вставленный в изумрудную раму обсидиан. Его обманчивая красота завораживала, но сейчас Каргин о ней не думал; он направлялся к ближнему озеру. Разрывов не было слышно, но за спиной, метрах в двухстах, постреливали и перекликались. Влажный тропический лес глушил все звуки – треск автоматных очередей казался шелестом дождя, а людские голоса делались невнятными, так что не разберешь ни о чем кричат, ни на каком языке. Однако перекличка и выстрелы помогали ориентироваться, и Каргин, прислушавшись, решил, что находится левее, чем середина цепочки загонщиков. Это было неплохо; он собирался нанести удар как раз по левому флангу, с той стороны, где мангры смыкались с болотом. “Бей крайнего, – гласила военная мудрость. – Бей, и выходи из окружения”. – Крайним всегда достается, – пробормотал Каргин, вскочил и короткими перебежками двинулся к озеру. Кажется, его не заметили; во всяком случае, крики и выстрелы не сделались громче. Озерный берег был где-то неподалеку – раскоряченные болотные кипарисы стояли тут шеренгами, словно дивизия на бивуаке. Но кроме них в земле торчало что-то странное и непотребное – пальмы, а может, папоротники-переростки с волосатым коротким стволом, похожим на огромную морковь, и пышным веером листвы. Из-за этих уродцев обзор был нулевым, да и проходимость почти такой же. Хмыкнув, Каргин вытащил мачете, приласкал обтянутую акульей кожей рукоять и через пару минут пробился к озеру. Следы за ним остались заметные – целая просека в охапках перистых листьев. На берегу было просторней; тут кипарисы потеснили пальмы, раскинулись между кочками и промоинами, а те, что посмелей, даже залезли в воду. Вода казалась черной, как деготь. "И кто ж тут водится?.. змеи?.. анаконды?..” – подумал Каргин, ступив на озерное дно и раздвигая круглые листья кувшинок. Почва пружинила, но держала. Он смочил губы, затем побрел осторожно, по пояс в воде, присматривая подходящее дерево. Водоем был невелик, солоноват и мелок – видимо, море просачивалось в кратер сквозь незаметные трещины. За озером по обе стороны протоки лежало болото – плоское, как стол; над ним высились скалы, и темная их стена, поднявшись на восходе солнца, плавно поворачивала к западу. Слева от озера, между болотом и лесной опушкой, тянулась полоса земли, покрытая кочками, мохом да кустами – лучший путь для отступления, или, по крайней мере, самый быстрый. Конечно, в сравнении с манграми и трясиной. Каргин очень рассчитывал на него. Подходящий кипарис нашелся в пятнадцати шагах от берега. Отличное место для засады: торчит на кочке, ветви полощутся в воде и так густы, что ствол не разглядишь. Каргин присел за деревом, стараясь не замочить бумажник в нагрудном кармане, сполоснул лицо, протер ладонью и расстегнул обе кобуры. Рядом, на соседней кочке, сидела жаба величиной с футбольный мяч. Темные выпуклые глаза изучающе уставились на него, ярко-красный горловой мешок подрагивал, словно жаба размышляла, не предложить ли себя пришельцу в жены. С тем, разумеется, условием, что впоследствии она обернется красой-девицей, наследницей корпорации ХАК. Каргин вытащил блестящую звездочку сюрикена, подбросил в ладони. Жаба протестующе заклокотала. Он подмигнул ей. – Не беспокойся, подружка, это не для тебя. Для очень плохих парней. Она не поверила, булькнула разочарованно на жабьем языке и спрыгнула с кочки. “Пожалуй, анаконды здесь не водятся”, – ухмыльнулся Каргин, наблюдая, как она с хозяйским видом гребет к берегу. За кипарисами что-то хрустнуло. Потом хруст сделался частым и размеренным, будто давили башмаками пальмовые листья на проложенной в манграх тропе, и через минуту к озеру вышел человек. Рослый, в темном комбинезоне, с короткоствольным автоматом, и совершенно не похожий ни на араба, ни на китайца. Скорее немец или скандинав – коротко остриженные волосы были светлыми, лицо – узким, с массивной нижней челюстью. Солдат настороженно огляделся, поводя туда-сюда стволом. “”Ингрем”, не “узи”, – решил Каргин. – Ствол покороче, тыльная часть поквадратней, обойма торчит из рукояти на ладонь… Хорошая “тарахтелка”! Не семьдесят четвертый АКС, но все же… Калибр девять миллиметров, в обойме тридцать два патрона, прицельная дальность – сто…” Не опуская оружия, светловолосый что-то вытащил левой рукой из кармана, поднес к губам и пробормотал несколько слов. “Вызывает поддержку, – мелькнуло у Каргина в голове. – Заметил, что листья порублены… А как не заметишь – старался!” Привстав, он метнул стальную звездочку и тут же, выхватив мачете, ринулся на берег. Но добивать светловолосого не пришлось – тот рухнул у самой воды, бессильно раскинув руки, не выпустив ни рацию, ни автомат. Глаза его были широко раскрыты и неподвижны, челюсть отвалилась, в виске смертельным украшением поблескивал сюрикен. Засел он прочно; наружу торчала едва ли третья часть. – Вот так-то, – пробормотал Каргин. – Это тебе не пикничок на лужайке… Он склонился над убитым, погладил нашивку на рукаве. Алый крылатый дракон, извергающий пламя… старый знакомый, герб эскадрона смерти… Выходит, не обошлось-таки без Мэлори! Последовал совету, лысый хмырь! Может, и Кренна здесь? Живьем и самолично? Или отправил лейтенантов? Скорее, здесь! Деньгу упустить – не в его правилах… Торопливо обшарив подсумки, Каргин выдернул автомат из пальцев светловолосого и произнес надгробное слово: – Бог велел делиться, приятель. Поделишься с неимущим, Бог простит грехи. После этого обряда он оттащил труп в сторону – так, чтоб не было заметно с просеки, затем направился к своей кочке, присел, сменил обойму и стал ждать. Явились три башибузука. Двоих он срезал короткой точной очередью, третий метнулся в папоротник-переросток, но листья его оказались неважной защитой – Каргин успел подранить беглеца. Нашел его, хрипящего в луже крови, и добил выстрелом в затылок. В бою убиваешь легко. Глаз не видно, слов не слышно, а если что и услышишь, так ругань и угрозы. Под них и убивать полегче… Ничего особо ценного на трупах не нашлось, все те же подсумки да “ингремы”, ни тебе базуки, ни снайперской винтовки. С другой стороны, тащить такую тяжесть было бы несподручно, а в данный момент успех определялся быстротой. Как говорил майор Толпыго, побил горшки – и деру! Вали, пока горшечники не добрались! "Хороший совет”, – думал Каргин, поспешно отступая вдоль опушки. Здесь, на топкой полоске земли между болотом и манграми, он двигался вдвое быстрей, чем в лесных дебрях. Ни лиан, ни сучьев, ни веток, ни корней… Ноги, правда, вязли, зато следов не оставалось – упругий мох поднимался с такой скоростью, будто каждый стебелек отрастил стальную гибкую пружину. Может, то был совсем не мох. Такая травка Каргину не попадалась ни в Африке, ни в Америке. Впрочем, тут был не континент, а остров, место совсем особое и непохожее на остальные места. Тропический остров Иннисфри, тысяча миль от побережья Перу и две с половиной – от Маркизского архипелага… Несколько южней Галапагосов – миль на семьсот-восемьсот… Крохотная частица суши, окруженная водой, со своими деревьями и травами, своим зверьем и своими законами: Главный же из них не изменился за промелькнувшее столетие и, как помнилось Каргину, гласил: ешь, не то съедят тебя. Джек Лондон, сказки Южных Морей… Его не преследовали – то ли разбирались с трупами, то ли погоня отстала так далеко, что он ее не слышал. Гнали его на восток, теперь же он двигался в обратном направлении, но не петлял в джунглях; от западной кратерной стены его отделяли всего километров пять. Может быть, шесть или семь. Он надеялся пре-; одолеть их за полтора часа. Тут было невозможно заблудиться: слева – лес, справа – болото, за ним – скалы. И где-то впереди – дворец с террасой, повисшей над горными кручами, и спрятанным в их глубине подземельем… "Любопытно, как они попали в бункер?.. – размышлял Каргин. – Может, Кренне сообщили код – тот самый, высшего приоритета? Мэлори, лысый черт, его, наверное, знает… А остальное случилось по сценарию Хью: Спайдер сменил комбинацию, да не успел сообщить… Возможное дело? Возможное! Но все равно с антенной непорядок… Не бомбили, не стреляли, а ретранслятор сдох… Кто постарался? Поди узнай! Может, человек не ведал, что творит… Приказали – сделал, а теперь валяется у служебного флигеля, мертвяк мертвяком!” От быстрого марша он вспотел, рана под ребрами начала кровоточить, пришлось залепить ее прохладным листом кувшинки. Посреди дороги в небесах раздался стрекот; разглядев “вертушки”, Каргин живо юркнул в лес, устроился под пальмами. Выслали оба “помела” – значит, эвакуируют всех, и мертвых, и живых… С одной стороны, хорошо: погони не будет. С другой – плохо; как, бы не заперли дверцу в бункер… Каргин очень надеялся туда попасть. “Ингрем” штука неплохая, но лучше воевать с винтовкой. С хорошей винтовкой и с километров двух… Тем более, когда имеешь дело с Кренной. Когда вертолеты возвращались назад, он уже вышел к свалке и спрятался за грудой ржавых консервных банок. Прямо над ним темнело отверстие мусоропровода, за банками валялись разбитые ящики и обломки пластиковых кресел, затонувших в половодье всякой мелкой дряни – костях и бутылках, рваных пакетах, бумаге, смятых сигаретных пачках и кучках гниющих фруктов. Дальше скала изгибалась, образуя глубокую выемку – грот не грот, но что-то вроде ниши. От свалки ее отгораживал естественный контрфорс – базальтовый выступ пятиметровой высоты, темно-бурый и словно отполированный усердными руками. Каргин подобрался к нему, бесшумно скользнул наверх, свесил голову. Дно ниши было залито бетоном, стены укреплены массивными стальными балками; в глубине зияло прямоугольное отверстие – не дверной проем, а целые ворота. На пороге сидел часовой, курил и сплевывал, стараясь попасть в валявшуюся на земле обертку от жвачки. Второй страж, с сержантскими нашивками, прогуливался как раз под Каргиным. Лица его он не видел, только темноволосую макушку да широкие, обтянутые комбинезоном плечи. Каргин свистнул, солдат у двери поднял голову и тут же сложился пополам; в горле, прямо под челюстью, блестела звездочка сюрикена. Второй, с широкими плечами, от неожиданности застыл, потом дернулся к напарнику, но было поздно: автомат в руках Каргина уже ударил его в затылок. Бил Каргин не сильно, однако в прыжке, и не успел извернуться – упал на рухнувшего стража, прижав всей тяжестью к бетону. Тело под ним не трепыхалось, и на мгновение он подумал, что перестарался: будет ему не “язык”, а труп. Поднявшись, он расстегнул комбинезон, ощупал рану – ладонь была в крови. Затем перевернул широкоплечего на спину, убедился, что дышит, спутал его запястья проволокой-удавкой, а щиколотки – ремнями от наплечной портупеи. Солдат был смутно знаком – видел его пару раз в каком-то из бозумских баров и даже помнил, что широкоплечий – немец из Баварии и зовут его то ли Мартином, то ли Бруно. Определив, что череп у пленника цел, Каргин усадил его, опер лопатками о камень и принялся похлопывать по щекам. Лечение продвигалось успешно: секунд через тридцать Мартин – или Бруно? – заворочался и приоткрыл глаза. Вид у него был ошеломленный. – Кр-х-х… Ты кто? – КК, – сообщил Каргин. – Капитан Керк, группа “Би”, синяя рота “гиен”. Помнишь такого? – Ты как тут очутился? – пробормотал Бруно или Мартин, с трудом ворочая языком. – Не брал майор с собой капитанов… кр-х… только сержантов и пилотов… – Пилоты кто? – Фриц Горман и Пирелли… Тебя не брал… Точно не брал… – Не брал, – согласился Каргин. – Нынче я по другую сторону баррикад. Не повезло тебе, Бруно. – Кр-х… Я не Бруно… Мартин… Мартин Ханс… – Значит, не повезло Мартину, – Каргин вытащил нож. Зрачки пленника расширились; кажется, он начал соображать, что к чему. – Ты что, капитан? Своих резать? – Был свой, да весь вышел, – со вздохом сказал Каргин, однако нож убрал. Не получалось у него с пленными. Знал, что надо пришибить, а вот руки поднять не мог. Хотя не сомневался, что этот Мартин Ханс его не пощадит и пулю всадит при первой возможности. – Ты старший в патруле, сержант? Где рация? – Кр-х… Я… Карман… левый… Он вытащил приборчик, сунул за пояс и поворочал Ханса, укладывая лицом к скале. Мало ли чем удастся поживиться… Не хотелось, чтоб немец видел, что он потащит из бункера. Но Ханс, похоже, терял сознание – щеки его побледнели, глаза закрывались. Каргин потряс пленника за плечо. – Дверь… дверь наверху перед лифтом… Как ее открыли? – Открыли, когда майор велел… кр-х-х… граната не брала… пла… пластиковая взрывчатка… бух! – и нет… Он отключился. "Выходит, нет Кренне полного доверия, – сообразил Каргин. – Не поделились с ним шифром… Выходит, не желали, чтобы совался в бункер со своими басурманами… А сунуться пришлось. Мэнни пристрелили на болоте, а президента Боба среди погибших нет как нет. Даже кретину ясно: смылся президент и где-то прячется, либо в убежище, либо в мангровом лесу. Если в лесу – то как он туда попал? Как спустился? Первая мысль – через бункер… Значит, надо взламывать дверь и обыскивать помещение. Все вполне логично!” Размышляя на эти темы, он осмотрел бесчувственного Ханса и его напарника, собрал оружие – пистолеты, “ингремы”, обоймы; пошарил в подсумках, но там ничего толкового не нашлось – ни пищи, ни гранат. Груз получился небольшой: три “ингрема” весили меньше одной винтовки “эмфилд”. Подумав о винтовке, Каргин сложил свои трофеи у порога и быстро направился внутрь. Ход был освещен неяркими лампами в металлических колпаках, дважды изгибался под прямым углом, и в трех местах его пересекали полозки для откатных дверей, сейчас задвинутых в стену. За ним находилась просторная камера: полки до сводчатого потолка, шкафы в глубоких нишах, коробки, сложенные аккуратным штабелем, какие-то баллоны, ящики, бочки. “Видимо, складское помещение”, – решил Каргин; в дальнем его конце блестела клетка лифта, и от нее разбегались коридоры, пять или шесть. Исследовать их и пересчитывать он даже не пытался. Времени для этого не было – Кренна мог вызвать своих часовых в любой момент и обнаружить, что они не отвечают. Вытащив нож, Каргин подступил к коробкам, вспорол первую попавшуюся и обнаружил в ней постельное белье – кажется, простыни. В трех следующих была одежда – рубахи, брюки и полотняные куртки, в четвертой – башмаки. Отрезав широкую ленту от простыни, он спустил с плеч комбинезон и обмотал рану; затем разочарованно вздохнул и огляделся. Огромный склад черт-знает-чего-на-всякий-случай… Копайся до второго пришествия; Нужного не найдешь… Может быть, в тех ящиках? Баллончики шампуня… Дальше – мыло, персиковый компот, банки с яичным порошком, икра, тушенка… Дьявол с ней! Оружие! Где тут оружие? Он бросился к шкафам, раздвинул дверцы и понял, что удача ему улыбнулась. Тут, в специальных ячейках, был выставлен целый арсенал: повыше – пистолеты и револьверы, пониже – охотничьи ружья и штурмовые винтовки, карабины и автоматы. “Тарахтелки” были российские, правда, не самых последних моделей, АКМ и АКМСУ. На дне лежали коробки с патронами, отдельно – штыки, прицелы и насадки для ночной стрельбы. Все – новенькое, но в надлежащей боеготовности, даже очищенное от смазки. Еще имелись компактные гранатометы “армскор”, а к ним – штабеля боеприпасов: осколочные, кумулятивные и дымовые. "На целую армию хватит”, – подумал Каргин, разглядывая винтовки. Одна оказалась особенной – с длинным стволом и в полном снаряжении, с телескопическим прицелом и вставленной обоймой. Редкостное оружие, точное и очень мощное… М82, под пулеметный патрон, прицельная дальность – две тысячи метров… Один недостаток – тяжеловата. “Ну, справимся”, – решил Каргин, уже рассовывая по карманам запасные обоймы. Он вытащил винтовку, достал из коробки с одеждой брюки,связал штанины и торопливо набил консервами. Затем направился к выходу. Трофейное оружие тоже уместилось в импровизированном мешке, но общий вес получился немалый, килограммов двадцать пять. Каргин крякнул, пробормотал: “Жадность фраера сгубила…” – но бросить что-то из найденного и отвоеванного было жалко. Он пересек лужу за свалкой, отметил, что тело Мэнни исчезло, и углубился в лес. Уже смеркалось, но временами в разрывах древесных крон он видел на западе утесы, что помогало ориентироваться. Выйти бы к пляжу до темноты… а там рукой подать до Хаоса… Рация Ханса вдруг пискнула: майор вызывал охранников. Каргин остановился, сбросил оседлавший его мешок, достал наугад консервы и вскрыл – оказалось, тушенка. Он оприходовал ее быстрее, чем прекратился писк; голод его был несравним с терпением Кренны. Затем, вытерев руки о влажный мох, он достал мобильник и вызвал Хыо. – Кто на дежурстве? – Керк, это вы? Слава Деве Марии! Я уже думал… – Я спрашиваю, кто на дежурстве? – терпеливо повторил Каргин. – Слейтер. Но… – Позовите Тома. Быстро! Через пару секунд раздался спокойный голос японца: – Саенара, Керк-сан. Слушаю. – Все в порядке? – Почти. Мистер Паркер грызется с мистером Арадой. – Ну, дьявол с ними… Помнишь рощу перед пляжем? Пальмовую? Через нее проходит спуск с западных скал… Мы там ходили. Помнишь? – Разумеется, Керк-сан. – Отправляйся к роще, спрячься и жди меня. Буду примерно через час. Пауза. Затем японец осторожно поинтересовался: – Керк-сан ранен? Нужна помощь? – Я цел, но от помощи не откажусь. Груз приличный – еда и всякое такое… Ну, встретимся, сам увидишь. – А те… в черном? – У них, друг мой, случились неприятности. Том с облегчением вздохнул. – Мы наблюдали за вертолетами. Видели, как они пронеслись к восточным скалам и обратно… Каргин ухмыльнулся. – Думали, меня везут? Везут, только четыре трупа, а моего там нет. Давай, Томо-сан, пошевеливайся! Он сунул аппарат в карман и зашагал, топча усыпанную гниющей листвой землю. Солнце повисло над рваной стеной кратера, день кончался, и он впервые ощутил смертельную усталость. Повязка набухла от крови, рану опять начало жечь, жаркий пот стекал по спине, затылок налился тяжестью, а ноги вдруг сделались неподъемными, непослушными, будто принадлежали не ему, а подагрическому старцу. Ремень винтовки давил на плечо, мешок пригибал книзу, штанины, полные консервов, таранили комбинезон, словно пытаясь сокрушить грудную клетку. Верно сказано: война – по большей части не выстрелы и взрывы, а бесконечный бег. Кто ходит быстрей, тот и победитель. Ходить Каргин умел. Ползать, бегать и ходить, прыгать с небес и зарываться по макушку в землю. Эти премудрости солдатской науки столь же важны, как искусство снайпера и ловкость в метании гранат. Вероятно, и поважнее. Временами думалось Каргину, что все армейские эмблемы – молнии, пушки, мечи и щиты, танки и звезды – стоит заменить одной: лопатой на фоне стоптанных сапог. За поясом пискнула рация, и он замер, тяжело отдуваясь и вытирая покрытый испариной лоб. С чего бы этой хреновине чирикать? Мартин Ханс и его компаньон-неудачник уже наверху, во дворце, так что Кренна мог пообщаться с любым из них без вспомогательных устройств. Эта мысль была вполне резонной; значит, вызывали не Ханса, а того, кому хреновина досталась. Рация пискнула снова. Поколебавшись, Каргин вытащил ее из-за пояса, нажал кнопку и произнес: – Прием. – Керк? – раздался полузабытый голос Кренны. – Только не говори, что ты – это не ты. Скажешь, я Ханса пристрелю. За представление ложного рапорта. – Это не я, – ответил Каргин. – Стреляй. Одним мерзавцем меньше будет. Бельгиец рассмеялся. Смех у него был отрывистый, словно рокот полкового барабана. – Ты как сюда попал? – Так же, как и ты – по контракту. У тебя ведь есть контракт, майор? – Разумеется, и я намерен его выполнить, от первой до последней строчки, — Кренна помолчал, затем добавил: – Видимо, мой контракт отменяет твой. Согласен? – Не согласен. Контракт есть контракт, так что сделка у нас не состоится. – Сделок не предлагаю. Людей у меня достаточно, лишние не нужны. Хотя…-он сделал паузу. – Я был бы не прочь с тобой повидаться. Как и со всеми остальными. Каргин через силу ухмыльнулся. – Хочешь пригласить на чашечку кофе в Тюильри? Никак не выйдет. Я человек занятой, и у тебя со временем проблемы… Ты ведь очень торопишься, майор? Ты ведь не можешь сидеть тут до бесконечности? В контракте – сроки… я полагаю, часов шесть-восемь на всю операцию вместе с зачисткой… Или я не прав? – Прав, но мне придется задержаться. На день, на два… Не так уж велик этот паршивый островок, чтобы неделями бегать по кругу… Так что я тебя разыщу, – в голосе бельгийца прорезались ледяные нотки. – Видишь ли, капитан, ты тоже в моем контракте. Не персонально, а как приложение к поименованным в нем личностям. – И кто поименован? – Думаю, знаешь. А я теперь знаю, что ты – при них. Немаловажный факт… Мои молодцы считали, что гонят кролика, а получилось – гиену… Ошибка вышла, капитан! Ценой в пять трупов! Люди обозлены… особенно Ханс… Так что, если живым попадешься, быстрой смерти не гарантирую. Каргин хмыкнул. – Что из-за трупов переживать, майор? Война, дело обычное! Ну, сдерешь с нанимателя неустойку… – Я с тебя шкуру сдеру. Завтра, – пообещал Кренна и отключился. – Не выйдет, замысловатый ты мой, – пробормотал Каргин. Злость придала ему сил, и он, переставляя ноги, продолжал бубнить под нос, будто споря с невидимым оппонентом: – Не выйдет, гнида… Думаешь, напугал? Козлами своими да “вертушками”? Козлы, они и есть козлы, хоть с рогом, хоть с помелом… Да и мы теперь не безрогие, – он нежно погладил ствол винтовки. – Вот завтра и пободаемся… Будет тебе Бородино и Курская дуга! Солнце село, когда он вышел к дороге, к последнему участку серпантина перед пальмовой рощицей. Недели не прошло, как мчались тут с Нэнси на резвых скакунах… И где теперь те скакуны? Вороная кобылка, мышастый мерин… Катают, видно, старого Патрика в аду, от сковородок до смоляных котлов… – Хай! – хрипло окликнул Каргин. – Томо-сан ты здесь? Ему вдруг сделалось совсем плохо. Он привалился к придорожной пальме, спустил с плеча винтовку и стоял, покачиваясь и наблюдая, как приближается темный расплывчатый силуэт. Контуры этой фигуры никак не желали становиться резкими то ли по причине наступавшей темноты, то ли потому, что все перед глазами Каргина плавало и дрожало. Смутные очертания скал сливались с фиолетовым небом, деревья прыгали взад-вперед как новобранцы под пулями, и в такт их беспорядочным скачкам ощутимо подрагивала земля, будто древний вулкан пробуждался от тысячелетней спячки, готовясь выплюнуть огненный лавовый язык. "Устал, черт, – подумалось Каргину, – крепко устал…” Он начал сползать на землю, но сильные руки Тома подхватили его.Глава одиннадцатая
Каргин блаженствовал у крохотного костерка, мерцающего в глубине пещеры. Его царапина была промыта и перевязана, голова покоилась на круглых девичьих коленях, в ногах, прислоненная к стене, поблескивала винтовка, а под руками – так, чтоб дотянуться – стояли вскрытые банки с тушенкой и персиками. Часовые, Тейт и Слейтер, несли дежурство у входа в грот, японец подбрасывал ветки в огонь, и даже Нэнси была при деле – гладила шею Каргина и щекотала за ухом. Пир души, именины сердца! Не хуже, чем в Валгалле. Пива, правда, нет, зато имеются компот и рыжая валькирия… Единственный диссонанс вносили Боб и Хью. Сквозь наплывавшую дрему Каргин лениво прислушивался к ним; голос Арады был холоден и спокоен, Паркер горячился, и в его раздраженном баритоне то и дело проскальзывали визгливые нотки. На этот раз спорили не о наследственных правах и не о том, кому положено снимать и назначать, а о вещах конкретных. Вопросов было два, очень знакомых любому россиянину: кто виноват и что делать? В случившемся Бобби винил уже не столько нерадивых стражей-латиносов, сколько старого Патрика и, не скупясь на сочные эпитеты, нес дядюшку по кочкам – за неуступчивость в делах с клиентами и жадность; Арада пытался его защитить, доказывая, что если человек не беспринципен, не склонен к алчности и не способен обувать сограждан, то он – не бизнесмен. Во всяком случае, пушками ему не торговать; мылом – еще куда ни шло. Дискуссия по первому вопросу была бесплодной, как арктические льды; второй был, в принципе, поинтересней, но спорщики и тут стояли каждый на своем. Арада считал, что делать ничего не нужно, а лишь сидеть в пещере, следить за небом и поедать консервы. Связь с островом отсутствует, и в штаб-квартире должны забеспокоиться – хотя бы необъяснимым молчанием в день юбилея босса. Значит, надо прятаться и ждать сутки-двое – и кто-то непременно прилетит или Из Фриско, или из Кальяо. Ясное дело, прилетит! Не та фигура мистер Халлоран, чтобы забыли о нем и о его “бездее”! Мнение Боба сводилось к тому, что за день и даже за час может случиться чертова уйма неприятностей. Или затопят остров ипритом, или заразят чумой, или найдут пещеру, или кого-то изловят – не все же киллерам везенье! – подвесят за ребро и попытают, куда запрятался мистер Паркер. Словом, нужно не ждать беды, а действовать, причем энергично и быстро! Тем более, что кроме побудительных мотивов есть реальный базис (тут Боб поглядывал на “ингремы” и прочие трофеи Каргина) и есть конкретный план. Ну и, само собой, есть полководец, новый босс, глава династии. План босса заключался в том, чтобы похитить вертолет. Подобную мысль Каргин уже обсуждал с Тэру-мото, но Бобби, дойдя до нее своим умом, внес определенные коррективы. В “вертушках” он кое-что он понимал – достаточно, чтоб не пытаться удрать на пассажирском “помеле” от боевого; и потому он собирался похитить “Гриф”. В теории такая возможность имелась: одна из машин, вернувшихся с десантом, стояла теперь перед виллой, согласно наблюдениям Слейтера. Где опустилась вторая, техасец в сумерках не разобрал, да и первую увидеть с пирамидальной скалы не мог, но утверждал, что она приземлилась на центральной аллее, между магнолиями и кипарисами – значит, к ней можно было подобраться скрытно. Подобраться, перебить часовых и стартовать на материк… Такая идея вдохновляла Боба по двум причинам: во-первых, он был ее автором, а во-вторых, присутствовал в ней героический элемент, нечто в духе бесстрашных бойскаутов из Голливуда. Вот это как раз и не нравилось Каргину. Бойскаутам он не доверял – ни их бесстрашию и выдержке, ни их намерениям и целям. Кроме интуитивных подозрений существовали и другие сложности, вполне реальные, но не из тех, какие могут вразумить бойскаутов. К примеру, топливо – даже при полной заправке “Гриф” мог не долететь до континента. Тут уж как с ветром повезет; а ветры в летний сезон бывали чаще не западными, а южными. Но Боба эта мелочь не смущала. Все возражения Арады лишь распаляли его; ему хотелось пострелять и погеройствовать, а что до противника, то он представлялся Бобу чем-то вроде фанерной мишени в “Старом Пью”: торчит шагах в двадцати и ждет, когда в него всадят пулю. "Не стоило б Араде спорить”, – мелькнула мысль у Каргина. Он понимал, что Роберт Паркер относится к особой человеческой породе, к людям упрямым и ревнивым, не признающим поражений и ошибок и мнящим себя победителями всюду и всегда. Таких противодействие ожесточает и заставляет настаивать на своем; глухие к доводам рассудка, они смирялись только перед силой – грубой силой, способной превратить в осколки стеклянный храм их самомнения. Глупец, фанфарон, самовлюбленный идиот, как утверждала Кэти… Знал ли Хью об этих президентских слабостях? Вроде, не тайна для проницательного человека… не больший секрет, чем остальные президентские привычки… Выходит, знал. А если знал, к чему дебаты? Игривая ручка Мэри-Энн нырнула за ворот комбинезона. Каргин извлек ее, со вздохом приподнялся, отхлебнул компота и промолвил: – “Вертушка” сама по себе не летает… – Несомненно! – с энергией поддержал Арада, наблюдая, как Том ломает ветки и подбрасывает их в костер. – Несомненно! – огонь вспыхнул, высветив на миг лицо аргентинца: он улыбался. – Представим, мистер Паркер, что вы перестреляли часовых, отбили вертолет… представим, что ни один из нас не пострадал, не ранен и не истекает кровью… представим, наконец, что баки – полные, и курс нам ясен… Представим все эти чудные вещи и спросим: кто поведет машину? Я, во всяком случае, за это не возьмусь. "Помнит о баках, умник!..” – с одобрением подумал Каргин. – Вы? Кто говорит о вас? – Бобби презрительно сморщился и отчеканил: – Я поведу! – Боюсь, что вместо Кальяо мы попадем в Ханой или Гонконг… Либо, что вероятней, на корм акулам, – Хью повернулся к Мэри-Энн, пытаясь разглядеть ее в темноте. – Что вы скажете, мисс Паркер? Вы летали с братом? Вам не страшно? Готовы рискнуть? – Если накачаюсь бренди. Но Тейт, старый пройдоха, припрятал бутылку и говорит, что Керк велел грызть персики…– она ущипнула Каргина за ухо. – Ковбои так не поступают с девушками! Хью пожал плечами. Блики от крохотных языков огня скользили по его лицу. Том сунул в костер очередную ветку и откашлялся. Голос его был ровен и тих. – Паркер-сан, Арада-сан…– два коротких поклона к ту и другую сторону. – В нашем положении главное – согласие. Три дружных пса, как говорят китайцы, одолеют тигра…– снова короткий поклон, на этот раз адресованный Каргину. – Смею заметить, что у нас есть пилот. Такой пилот, который мог бы доставить нас в Кальяо. Если Керк-сан не возражает… – Я возражаю! – Боб стукнул кулаком по колену. – Заткнись, Тэрумото! Твоего мнения никто не спрашивает! Твое дело – не болтать, а стрелять, когда будет приказано! Понял? – Понял, – с удрученным видом отозвался Том. – Я буду стрелять, Паркер-сан, – он что-то тихо произнес, сначала на японском, потом на английском, и Каргину послышалось: “Холод пробрал в пути… У птичьего пугала, что ли, в долг попросить рукава?” Хью хмыкнул и пожал плечами. – Ну, ладно, ладно, вернемся к делам насущным… А дела таковы: мы имеем план, и я бы хотел узнать соображения дона капитане. Как-никак, он среди нас единственный офицер. – Опасная затея, – зевнув, подвел итог Каргин. – Я бы попробовал взлететь и тут же связаться с материком. Может, получится – в вертолете есть передатчик… Но все равно – опасная затея! – Почему? – Неопределенные факторы риска. Ничего не известно о том, как охраняется объект, хватит ли горючего и где второе “помело”… Вторая машина, я хочу сказать. – Разве это важно? – Важнее некуда!.. Вторую “вертушку” необходимо уничтожить – скажем, расстрелять ракетами. Если нас догонят…– Каргин потер слипающиеся глаза – спать хотелось неимоверно – и добавил: – В общем, так, джентльмены: с “вертушкой” я управлюсь, но не в бою. Против опытного пилота мне не выстоять, а пилоты у неприятеля отличные, вы уж мне поверьте. Если нас догонят, всем конец. Наступило молчание – только потрескивали сучья в крохотном костре да слышались яростное сопение Боба и странные звуки из мангр. Может, верещали жабы, может, пищали птицы, устраиваясь на покой… Наконец Арада протянул: – Неопределенные факторы риска… слишком неопределенные… Но ваши рекомендации, дон капитано, тоже определенными не назовешь. Вчера вы заметили, что надо изучить обстановку, а лишь потом принимать решения. Согласен! Теперь обстановка, я думаю, изучена в деталях, – он бросил взгляд на “ингремы” и груду запасных обойм. – Да, в деталях… И что же вы нам скажете? – Скажу, что кое в чем согласен с вами. Лучшая тактика – сидеть, не высовываться, ждать… в крайнем случае – обороняться. Позиция наша практически неприступна, есть оружие, возможность маневрировать, плюс шестеро боеспособных мужчин. Трое – пожалуй, четверо – профессионалы, так что по-быстрому нас не взять. А время поджимает. – Нас? – Нет, их. Если продержимся день-другой, они уберутся. Пожалуй, уберутся… В конце концов, главная цель достигнута. Мы – так, мелочь… Объедки с барского стола… Бобби дернулся. Аргентинец взглянул на него, прочистил горло, будто подавляя смешок, и произнес: – Если продержимся, уберутся… Вы в этом уверены, дон капитане? – Смысл таких операций – секретность и быстрота, – пояснил Каргин. – За это заказчик и платит. Он лег, вытянулся на бугристом каменном полу и смежил веки. Бубнящие что-то голоса отодвинулись, стали далекими, неразличимыми, потом совсем пропали, будто южная ночь, окутавшая Иннисфри черной шелковой вуалью, поглотила их и растворила в теплом воздухе. Звуки ушли, сменившись снами. Каргин блуждал в тропическом лесу, но не таком, как в кратере – лес скорее был ангольский, с чудовищными деревьями, чьи кроны уходили в небеса, а корни змеились по земле подобно объевшимся удавам. Корни мешали бежать, однако он чувствовал, что останавливаться нельзя, что в беге – его спасение; погоня шла по пятам, терпеливая и незримая, как нож убийцы, запрятанный в рукаве. Кем были его преследователи? Башибузуками Кренны? Черными бойцами хуту? Фанатиками-моджахедами? Солдатами ИРА? Едва он об этом подумал, как перед ним явился Халлоран – живой, здоровый и огромный, в рамке из черепов и берцовых костей. Не человек, а монстр. – Что ты знаешь об ИРА, идиот? – прорычал он в самое ухо Каргину. – Что ты знаешь об ир-рланд-цах? Ир-рландцы – великое др-ревнее племя! Не то что славянские недоумки! Каждый ир-рландец – эр-рл с благор-родной кр-ровью… "Кр-ровью, кр-ровью, кр-ровью…” – раскатилось в джунглях, будто подгоняя Каргина. Халлоран не унимался, прыгал за спиной, наступал на пятки, вопил: – Пр-родай пер-рсам ор-рудия… Ар-рабам – вер-ртолеты… Пр-родай!.. Пр-родай!.. – Сам продавай, – буркнул Каргин и вдруг провалился в яму. Но то была не яма – пропасть. И он летел в нее мириады лет, пока не подернулись пеплом все звезды Галактики. Каргин проснулся внезапно, как если бы грянули набатные колокола или сработал тревожный сигнал, поданный Всевышней Силой. Не генералиссимусом-Творцом, но кем-то из его генштаба, каким-то сержантом или капралом, святым или ангелом-хранителем. Словом, тем, кому положено опекать воюющих и путешествующих. Он сел, нащупал прислоненную к стене винтовку и положил ее на колени. Костер прогорел, в пещере царила кромешная тьма, и только в рваном проеме входа раскаленными углями мерцали звезды. “Выходит, не погасли”, – мелькнула мысль. Рядом тихо посапывала Мэри-Энн, и откуда-то доносилось быстрое невнятное бормотание. Других звуков Каргин не слышал, будто все разом умерли или погрузились в летаргический сон – такой, в котором и дыхания не различишь. Поднявшись, он пристроил винтовку на сгибе локтя и направился к выходу, откуда доносилось бормотанье и где маячила темная фигура. Однако не Стила Тейта, кому полагалось дежурить в эту ночь – повар был массивен, а силуэт, рисовавшийся на фоне звездных небес, принадлежал скорее человеку худощавому и узкоплечему. Он шевельнул рукой, в лунном свете блеснули золотые перстни, и Каргин догадался – Арада. Молится, что ли? А где же Тейт? Где Тейт, черт его побери?! Под ногами скрипнул щебень, и бормотание оборвалось. – Молились, дон Умберто? – спросил, приблизившись, Каргин. – Да, капитан. Я – человек религиозный…– он перекрестился, одновременно шаря левой рукой у пояса. – Вы знаете, чем различаются три основные христианские конфессии? У вас, у православных, говорят: молись, и Бог простит. У лютеран иная заповедь: трудись, и за труды воздается. То и другое, дон капитано, крайности, точки зрения умов ленивых или алчных… Мы, католики, предпочитаем золотую середину: молись, трудись, и грехи твои будут отпущены, а труд не пропадет втуне. – Верная мысль, – произнес Каргин, осматривая хаос базальтовых глыб, оврагов и поваленных деревьев, над которыми возносились ребристые свечи кактусов. – Я даже согласен стать католиком, если вы скажете, куда подевался Тейт. Я с ним сейчас побеседую! – Ах, это…– референт неопределенно улыбнулся. – Они ушли, капитан, все ушли. Паркер, Тейт и остальные… Взяли оружие и ушли. Примерно полчаса назад. Я полагаю, мистер Паркер жаждет прокатиться на вертолете. На “помеле”, пользуясь вашей терминологией. Челюсть у Каргина отвисла. Хью с холодным интересом наблюдал за ним. – Хотите спросить, отчего не разбудили вас? Тут множество причин, мой дорогой, и все, надо признаться, веские. Во-первых, вы утомились, крепко спали, и босс решил вас не тревожить. Во-вторых, он опасался возражений с вашей стороны и даже, скажем прямо, физического противодействия… Вы бы возражали, не так ли?.. Поэтому он будить вас не позволил, хотя такая попытка была. – Томо…– пробормотал Каргин, – Томо-сан…– Стараясь успокоиться, он глубоко вдохнул теплый ночной воздух. – В-третьих, – будто неслыша, продолжал референт, – наш босс ревнив к чужим успехам. Он неудачник, но лезет в супермены, как таракан в блюдце с патокой… Надеюсь, вы это заметили? И понимаете, что суперменам конкуренты не нужны? Винтовка в руках Каргина словно налилась тяжестью. Он повесил ее на плечо, нащупал рукоять мачете, затем коснулся пояса: нож, две кобуры, берет, рация и обоймы в подсумках. Все было на месте. – Скажите, дон Умберто, зачем они с ним пошли? Тейт, Слейтер, Тэрумото? Верят его дебильным планам? Губы Арады скривились. – Пора бы вам усвоить, капитан: у босса дебильных планов не бывает, только гениальные. Босс велел – пошли… А я остался. К счастью, я не умею стрелять. Я бесполезен – так же, как сеньорита Мэри-Энн…– он вытянул руку, погладил длинный винтовочный ствол, торчавший над плечом Каргина. – В конце концов, готов признать решение босса мудрым, если хотите – гениальным. Не испугавшись риска, он сам повел людей но лучшего из лучших оставил тут. Зачем? Разумеется чтоб охранять его сестру. Ну, и меня заодно… Отличная версия, капитан, не так ли? Каргин молча натянул берет и стал спускаться вниз лавируя среди базальтовых обломков. Близилось полнолуние, и от висевшего в небе бледного диска, чуть ущербного с боку, струился призрачный свет. На часах – три сорок. Tertia vigilia, третья стража, как говорили в римских легионах… Он выспался и чувствовал себя вполне отдохнувшим. – Куда вы, дон капитане? Зачем? – крикнул вслед аргентинец. – Не спорьте с судьбой. Судьба неудачников не любит… – Что ты знаешь об удаче, тощий фраер? – пробормотал Каргин на русском, добавив пару непечатных фраз. Света хватало, и первую часть пути он одолел минут за десять, двигаясь быстро и бесшумно, стараясь ступать по крупным камням. Нижний край осыпи упирался в пальмовую рощу, и здесь идти было трудней: под деревьями – мрак, колючий кустарник и груды гниющих листьев, перемешанных с песком. Ствол винтовки цеплялся за ветви и лианы; пришлось снять ее с плеча и тащить под мышкой, оберегая прицел. Затем кусты расступились, почва под ногами сделалась прочной, и он понял, что выбрался на серпантин. Тут можно было бежать, хотя светлей не стало – кроны деревьев почти смыкались над узкой дорогой, и в их разрывах в такт шагам прыгали редкие звезды. “Чужие звезды, – подумалось Каргину, – те же, что в Африке”. И место чужое, и дело, в сущности, не его… Хотя где они – его место и его дело? Поднимаясь в гору, он размышлял о человеческом неразумии, алчности и жажде власти, способных испакостить множество всяческих мест, таких приятных еще в недавнем прошлом. Взять хотя бы Иннисфри и эти южные моря: рай у Господа за пазухой, крепче крепкого, дальше дальнего… Но и тут нашелся черт, свой дьявол с подручной нечистью – поубивал, пожег, и сделались из рая сущие Балканы. Или, например, Кавказ… Тоже бывший рай, всесоюзная здравница… А нынче – трупы под каждым кустом да невольники в ямах… Каргин злобно сплюнул и выругался. Со здравницей были давние счеты – за Юру Мельниченко, погибшего в Карабахе, за Вальку Дроздова и Пашу Нилина, и за других, погибших, преданных, но не забытых. А может, то бушевала и ярилась в нем казацкая кровь, не позволяя признать поражения. Но поражение было, чего там спорить… А где поражение, там и бегство – к примеру, в Легион: Он поднялся до обзорной площадки над Лоу-Бей. Вид отсюда был изумительный: Внизу зеркало бухты в темной базальтовой раме, на юге вздымаются скалы Хаоса, а с севера лежит Нагорная тропа – будто серый пояс с серебряной пряжкой-озером, брошенный поверх утесов. Лунный свет придавал пейзажу волшебное очарование, и Каргину вдруг вспомнились стихи, прочитанные как-то Томом: О, не забудь, Как в моем саду Ты сломала ветку азалии белой… Чуть-чуть светил Тонкий серп луны. Он даже покрутил головой, словно пытаясь разглядеть этот сад, азалию и девушку, сломавшую ветвь, ни все это было за гранью сиюминутной реальности. Может быть, не существовало вообще или осталось в прошлом, вместе с мирными землями Кавказа и солнечной тихой Югославией. Когда он добрался до озера, черный бархат небес стал выцветать, луна еще больше поблекла, и над восточными скалами начали гаснуть звезды. Мрак сменился сумерками, над озером поплыл туман, расползаясь по берегам, окутывая тропу, подвесные мостики и развалины блок-поста. Каргин миновал его, отметив, что взрыв был мощный – некоторые обломки отлетели шагов на пятьдесят. Но основная масса раздробленных бетонных блоков и скрученной арматуры осталась у скал, завалив до верха оружейный ящик, и где-то под ней лежали трупы Спайдера и Халлорана. В ящике могло найтись что-то полезное, но докопаться до него, как и До тел погибших, не представлялось возможным. Во всяком случае, без бульдозера и подъемного крана. За озером начались мосты и тоннели, и Каргин, отшагав с километр и решив, что этого достаточно забрался на скалу. Вершина ее походила на обломанный меч, стиснутый в каменном трехпалом кулаке; под ним и был пробит очередной тоннель, не слишком длинный, но и не короткий, метров восемь-десять. Вход и выход из тоннеля обрамляли бетонные арки, и с козырька любой из них парк и виллу можно было разглядывать как на ладони. Само собой, с поправкой на предрассветные сумерки. Но вертолеты Каргин увидел сразу: один приземлился на верхней террасе, за павильоном-обсерваторией, второй, подтверждая наблюдения Криса, стоял посреди аллеи, ближе к дворцовой лестнице. Деревьев тут не было, зато с южной стороны пышным цветом цвел розарий, великолепное место для скрытных дислокации и засад. К тому же охраны у “помела” не замечалось – факт невероятный, если вспомнить, что Кренна был человеком предусмотрительным. Каргин лег, пристроил винтовку на обводе козырька, подрегулировал прицел. Тут же стало ясно, где затаился часовой – сидел в “помеле”, в десантном отсеке у сдвинутой дверцы и, похоже, спал. Во всяком случае, откинулся на спину, как это бывает, когда сидящего сморит сон; головы его не было видно, только торчал под мышкой автомат, а ниже – обтянутые комбинезоном колени. Каргин мог прострелить любое на выбор. Он повел стволом, рассматривая кабину пилота с пушкой внизу, подвешенный на консоли ракетный блок, шасси, выступ топливного бака и узкий стрекозиный хвост. В кабине и десантном отсеке было темно, но на корпусе он мог пересчитать каждую вмятину и заклепку. Света хватало, хотя заря еще как следует не разгорелась. "А разгорится, так будет сложней, – подумал Каргин, присматриваясь к зарослям роз. – Сейчас было бы самое время… Полумрак, предрассветный час, даже птички не щебечут… И олух-охранник спит, как младенец… С чего бы? У Кренны, само собой, не та дисциплина, что в Легионе, но все же не “дикая дивизия”… За сон на посту – расстрел на месте! Ну, не расстрел, так штраф в размере месячного содержания…” Кусты зашевелились, гибкая фигурка выскользнула из них, и Каргин одобрительно хмыкнул. Тома пустили вперед – верное решение! Кого же, если не его? Стремительный, как атакующая змея! Сейчас приколет часового, сядут в “вертушку”, раскочегарят мотор, поднимутся… Дай Бог, долетят! Или радируют на континент… А что до погони, так с ней короткая беседа… Отчего не побеседовать, с этакой “пушкой” в руках?.. Он погладил приклад, наблюдая, как из кустов появляются крохотные фигурки нападавших, все – с автоматами. Том одолел расстояние до “помела” тремя прыжками, а может, и не прыгал вовсе, а катился по земле или летел; моргнуть не успеешь, а он уже тут, и нож перерезает горло… Но разглядеть, что именно он перерезал, Каргину не удалось; увидел только быстрый блеск клинка, а через миг – как валится из вертолета безвольное тело. Безвольное, мягкое и почему-то безголовое… Том обернулся, вскинул руку и что-то закричал подбегавшим к нему; его глаза расширились, лицо стремительно бледнело. "Кукла, – понял Каргин, холодея. – Кукла, набитый тряпьем манекен! Купили, гады! Поймали на куклу!” Он скрипнул зубами, и тут раздался треск автоматных очередей. Том был застрелен в упор, в затылок, и умер мгновенно. Тейт споткнулся на бегу и рухнул; его спина и шея будто взорвались, расчерченные красными воронками – били из двух “тарахтелок”, и помощней, чем “ингремы”. Слейтера, кажется, ранили в ноги – он свалился под консолью, но еще оставался жив, когда из “вертушки” полезли солдаты в черном. Двое – из кабины пилота, четверо – из десантного отсека… Паркер успел повернуть, и пули, выпущенные солдатами, разворотили ему плечо и левый бок. Его отшвырнуло к кустам, в мертвую зону, недоступную для наблюдения, однако Каргин за ним уже не следил. Мертвая зона и мертвый президент… Кончились скаутские игры… Поймав в перекрестье прицела точку между ухом и глазом, он плавно, на выдохе, нажал на спуск. Грохот выстрела. Отдача. Сильная… Будто носорог лягнул… – Это что же выходит? – бормотал Каргин, слегка разворачивая винтовку. — Это выходит натуральная засада… А почему? Откуда знали? Птичка принесла? Так птички разговаривать не умеют…– Выдох. Грохот. Удар в плечо. – Значит, не птичка…– Он закусил губу. – Майор у нас, видно, умница… Кукольник! Рыболов! А все равно непонятно… Хотел бы поймать, так посадил бы рядом два “помела”… Выдох. Грохот. Отдача. Он успел уложить троих, но остальные действовали на удивление слаженно и ловко – сообразили, что бьет снайпер, которого из “тарахтелок” не достать, и, пригибаясь, юркнули в кусты. Криса утащили с собой, и Каргин сперва не понял, зачем он им, а когда догадался, в розарии уже ни единая ветвь не колыхалась. Верно говорят: гнев – плохой советчик. Мог бы Слейтера избавить от мучений… Приподняв голову, он посмотрел на замерший в аллее “Гриф” с поникшими винтами и снова склонился к прицелу. Топливный бак, надежная броня… С другой стороны, калибр двенадцать и семь [566]… Пробьет или не пробьет? Не пробило, но вмятина вышла основательная. Он расстрелял обойму, всадив в одно и тоже место еще семь пуль, сменил магазин, и с девятого выстрела поднял машину в воздух. Правда, не так, как хотелось Паркеру, не целиком, а по частям, в дыму и пламени. Впрочем, мнения Роберта Генри Паркера были теперь интересны лишь для могильных червей. "Всех подставил, гаденыш гребаный, – размышлял Каргин, присматриваясь ко второму “помелу”. – А были неплохие парни… Особенно Томо… Томо-самурай, секьюрити с гарвардским дипломом… В плохой час встретила Кику-сан Халлорана… в дурной, несчастливый… И остальным не повезло… всем халлорановым родичам, слугам, помощникам, всем обитателям Иннисфри…” Огненный гейзер над пылающим вертолетом съежился и опал. Прощай, Томо… Второй “Гриф”он по-серьезному достать не мог – виднелись из-за обсерватории кабина да кончик винта. Позицию не переменишь, ни влево, ни вправо не уйдешь; сидел он на этой дороге как комар на бритвенном острие. Пожалуй, засиделся, пора бы назад… Каргин сполз с утеса и торопливо направился к озеру. На часах – пять ноль три, время, когда Халлоран бегал по этой дороге, а сам он, пристроившись у телескопа, мирно обозревал окрестности. Еще пару дней назад… Как давно это было! Он уже миновал озеро и путь до обзорной площадки и начал спускаться вниз, когда в подсумке пискнула рация. Голос Кренны был холоден и сух. – Никак не успокоишься, капитан? – Покой – он для усопших, а я пока что жив, – откликнулся Каргин. – Вроде бы у тебя потери, майор? Что-то там взорвалось и сгорело? Бельгиец хмыкнул. – Ты о “вертушке”? Эта потеря не моя. Заказчик платит. – Щедрый у тебя заказчик. – Щедрый, – согласился Кренна. – А кроме финансов ничем не балует? Советами там, подсказками? Кренна рассмеялся будто отбил на барабане походный марш. – Вот ты о чем… о нашей последней маленькой операции… Нет, то был не заказчик. Некий мсье Умберто Арада… Знаешь такого?.. – пауза. – Чувствую, что знаешь… Так вот, он позвонил и предложил обмен: я гарантирую жизнь ему и некой сеньорите, а он дает информацию. Очень важную информацию про нашего неуловимого клиента. В какой момент его поймать и как… Мы поторговались и договорились. Каргин вытер пот со лба. Ну, Хью, хитрец!.. Деловой мужчина! Подзадорил бойскаута, помолился в мобильник, и разом двух зайцев пришиб! От Боба избавился и сам цел… Для Нэнси еще и спасителем будет… Верный ход, чтобы добиться руки и сердца… Одно слово, католик: молись, трудись, и грехи твои будут отпущены, а труд не пропадет втуне! "Ну, я тебе отпущу грехи!” – подумал он и буркнул в рацию: – Значит, договорились? И ты исполнишь договор? – Тебе-то не все равно? Ты в этот договор не вписан, ты в основном контракте значишься, – с насмешкой проинформировал Кренна. И, после секундной паузы, прибавил: – Тут нам один недоумок попался из тех, что увязались за клиентом. Говорит невнятно, но с большой охотой. Про пещеру в прибрежных скалах, про рыжую сеньориту и мсье Умберто… Тебя там поблизости нет?.. Наверное, нет. Ты ведь с моими людьми развлекался… еще три трупа на тебе… А вот об этом мы с мсье Арадой не договаривались. Так что я считаю… Громкое гуденье заглушило его слова, и Каргин, задрав голову, увидел, что над ним проплывает вертолет. Снизу он выглядел толстым черным жуком, в которого сзади воткнули спичку; призрачные зонтики винтов были незаметны на фоне рассветного неба, и казалось, что жука поддерживают в воздухе лишь непропорционально узкие крылышки консолей. Машина летела высоко и направлялась к югу. К Хаосу! – Чтобы мне в Хель провалиться! – рявкнул Каргин и, не разбирая дороги, ринулся вниз по склону.Глава двенадцатая
Восток начал розоветь, и вскоре над бурой зубчатой стеной появился краешек солнечного диска – будто ослепительный глаз, с любопытством заглянувший в кратер. Слева, справа и сверху от него алыми ресницами изгибались перья облаков, темный утес внизу казался выступом титанической скулы, а небо – шапкой, надвинутой по самую бровь. Как всегда, рассвет на острове был великолепен и быть иным не мог, ибо все зори, утренние и вечерние приложения к Иннисфри, тоже оплачивались Халлораном. Вернее, ХАК; сам Халлоран вместе с наследником пребывали теперь в таких местах, где о рассветах и закатах вспоминать не приходилось. "Как бы за ними следом не отправиться, – размышлял Каргин, поспешно пробираясь среди мохнатых пальмовых стволов. – Вот связался с миллиардерской семейкой!.. Сплошные “разборки” да дележи, и что ни дележ, так подстава… В поганые влез дела!” Дела и правда были погаными, хуже, чем в Легионе. Там приходилось делать работу грязную и кровавую, но Легион своих не предавал – во всяком случае, друг другу в спину легионеры не стреляли и не устраивали на соратников засад. А тут у Каргина рождалось ощущение, будто его выставляют паяцем, манипулируют им так и этак, навязывают в партнеры то содержателя цирка, то фокусника или метателей ножей, то пару соблазнительных красоток или шута, которому лишь идиотов играть. Шут, впрочем, уже доигрался, зато остались красотка и фокусник. "Гриф” опередил его минут на тридцать, и когда Каргин вылез из пальмовой рощи, машина уже висела над осыпью, сверкая фасеточным оком пилотской кабины. Фигурок в черном видно не было; они, похоже, крались сейчас между камней, подбирались к пещере или достигли ее и высматривали, куда подевались мсье Умберто с рыжеволосой сеньоритой. Каргин надеялся, что осторожность Хью не изменила: услышав вертолетный гул, он мог сообразить, что договор нарушен и в пещере от солдат не спрячешься. Но в Хаосе хватало и других укрытий, так что референт и Нэнси могли сейчас лежать в каком-нибудь овраге, под защитой кустов и кактусов. Это было надежнее, чем полагаться на договоры с Кренной. Из них бельгиец признавал лишь те, что подкреплялись финансами, и, будучи личностью пунктуальной, старался выполнить их от первой буквы до последней точки. Сказано, зачистить остров – значит, будет сделано. Без всяких исключений для мсье Арады и сеньориты Мэри-Энн. Увидев “помело”, Каргин свалился в ближайшую канаву, сорвал с плеча винтовку, и в этот миг заверещала рация. – Поймали твою сеньориту, – сообщил майор. – Пирелли расстарался… Помнишь такого? Сицилийца? – Помню, – откликнулся Каргин. – Жмот. Вечно бозумским потаскухам недоплачивал. – Не жмот, а экономный парень. Крайне экономный! Теперь вот интересуется, сразу красотку кончать, или можно немного развлечься? Хороший товар, говорит, пропадает… Я велел, чтоб дожидался тебя. Ты ведь придешь, не так ли? Только поторопись – Пирелли уж очень не терпится. – Ах ты, вошь бельгийская!.. – рыкнул Каргин, добавив пару крепких выражений. Родной армейский лексикон был крут – рация крякнула, захрипела, но выдержала. Как, впрочем, и майор. Он лишь заметил: – Общайся на нормальном языке, не на своем тарабарском болгарском. – Я не болгарин. – А кто? – Кренна явно забавлялся. – Ну, так придешь взглянуть? – В другой раз, – пообещал Каргин. – Придешь! Вы, славяне, так сентиментальны… Думаю, ты уже на месте. Гормана разглядел? Приподнявшись, Каргин покосился на вертолет, неторопливо круживший над осыпью, и буркнул: – Что-то в воздухе мельтешит… – Вот и отлично! Ты тоже имеешь шанс поразвлечься, хоть не с такой приятностью, как Пирелли. Горман вызывает на дуэль. Твоя винтовка против его пулемета… Никаких ракет, никаких “стингеров” и никаких посторонних, ни зрителей, ни секундантов. Только ты и он. Подходит? – Почему бы и нет? – Каргин сменил обойму, лихорадочно соображая, не уготован ли ему какой-нибудь сюрприз. Конечно, на ровном месте с “помелом” не потягаешься, не та весовая категория, чтоб драться в огородах и пампасах… Среди камней – иное дело. Или, там, оврагов… Главное, чтобы никто со спины не пальнул… – Если подходит, вылезай и займись делом, – сказал Кренна. – Горман – не Пирелли, парень терпеливый, без сицилийских страстей, да я тороплюсь. Засиделся, знаешь ли, в этой дыре… – Сидишь – сиди и не сучи ногами, – посоветовал Каргин. Сунув рацию за пояс, он пулей вылетел из оврага. До вертолета было метров пятьсот, до ближайшей глыбы – пятнадцать; он метнулся к ней, вскинул винтовку, заглянул в прицел и разочарованно вздохнул. Нос машины был чуть-чуть приподнят – ровно настолько, чтобы пилота не разглядеть. Так что выбор представлялся скромный: хочешь – бей в бронированное брюхо, хочешь – в колпак кабины над головой противника. Стрелять по вращавшимся лопастям смысла не имело – при пулевом попадании в них “Гриф” живучести не терял. Вот если б пальнуть из “стингера”… "Был бы стингер, не было б дуэли”, – подумал Каргин, прицелился и выстрелил в колпак. Это являлось всего лишь вызовом, а еще – проверкой: с такой дистанции прищучить его из пушки. Горман никак не мог, а вот ракетами – за милую душу. Ракете без разницы, где камень, где человек… Он побежал, петляя меж кустов и рваных базальтовых глыб, стараясь не свалиться в яму и не высовываться зря. Кроме “вертушки”, имелся еще и десант – те молодцы, что рыскали сейчас в пещере. О них забывать не стоило, как и об “эмфилде”, который разглядел покойный Том. “Эмфилд” – оружие снайперов; значит, Кренна и снайпера прихватил. Так, на всякий случай… Снайпер был сейчас опаснее дюжины баши-бузуков с автоматами. "Вертушка” покачнулась с боку на бок – видимо, в знак того, что вызов принят – и резко пошла вверх. Забившись в щель между двумя обломками, Каргин следил за вертолетом, время от времени оборачиваясь и поглядывая в сторону пещеры. Смысл маневров Гормана был ему, в принципе, ясен: сейчас развернется над лесом, приподнимет хвост и зайдет от солнца. Вполне логичное решение – против солнца с меткостью не постреляешь… И деваться некуда! Никаких вариантов! На шахматной доске, разложенной среди утесов Хаоса, Горман являлся ферзем, а он – всего лишь пешкой. Каргин выбрался из щели, сменил позицию, встав за каменной плитой, торчавшей наискосок рядом с огромным кактусом и доходившей ему до плеч. Хорошее укрытие, надежное. Во-первых, есть опора для ствола снайперская винтовка – слишком тяжелый агрегат, чтоб целиться с руки. А во-вторых, имелся тут еще один оборонительный рубеж, плита повыше и помассивней, располагавшаяся за спиной. Тоже отличный камешек, из САУ [567] не прошибешь! Это вселяло в Каргина уверенность; крепкий тыл – залог успеха. Пока Горман разворачивался и ложился на боевой курс, он уговаривал себя не торопиться. Мало ли что там майор болтал про Пирелли и сеньориту… Штопано белыми нитками; выманить хочет, вот и плетет с три короба. Выманить, выпустить кишки по-быстрому и поскорей убраться с Иннисфри. “Сейлфиш”, небось, заждался… А может, уже и не ждет… "В такой ситуации, – думал Каргин, – самое верное дело – смыться в джунгли и отсидеться. Кратер, конечно, невелик, да лес густой, хрен достанешь… Во всяком случае, день-другой побегать мог бы, а столько майору здесь не высидеть. Спас бы скальп, а он, как ни крути, один-единственный… Кого еще спасать и защищать? Босса не по моей вине пришили, а с Мэри-Энн контрактов я не заключал. Тем более, с Арадой…” Мысли были верные, но гнусные, и Каргин, насупившись, склонился к прицелу. Золотое сияние почти ослепило его. Горман шел с солнечной стороны, черный жук на фоне огненных лучей; кабину еще разглядишь, а вот пилота – вряд ли. Зато пушечный ствол был виден отчетливо, дергался туда-сюда змеиным жалом и, наконец, остановился. Замер, глядя прямо в лоб Каргину. Фонарь кабины сверкал словно бриллиант с тысячей переливчатых граней. Поймав его в перекрестье, Каргин трижды надавил на спуск, целясь чуть ниже и правей середины – туда, где, по его соображениям, мог находиться пилот. Не в глаз попасть, так в сердце… не в сердце, так в плечо… Он присел, потянув за собой винтовку. В мерный рокот мотора ворвалось сухое тявканье пушки, брызнул щебень над головой, заставляя вжиматься в землю, зеленая свечка кактуса наклонилась, сочно хрустнула и осела, перебитая пулями. Каргин вскочил, ударившись боком о камень, чертыхнулся – царапина отозвалась укусом боли – и выпалил в боковое стекло фонаря. Попал, не попал, было не разобрать – целился с руки, торопливо, пока “вертушка” разворачивалась над осыпью. В ответ грохнули выстрелы, пуля сшибла гребень с плиты за спиной, другая с шипеньем вошла в почву. Горман предупреждал: знаю, мол, где ты. Не спрячешься! Уже не скрываясь, Каргин ринулся поперек откоса, прислушиваясь к нараставшему гулу; Горман, не закончив разворот, тянулся следом, как гончая за удирающим кроликом. Застрекотала пушка, взбив фонтанчики пыли, с хрустом рухнул кактус, сухой древесный ствол взорвался щепками, а за кустами, совсем поблизости, раскрылась яма – глубокая, как полнопрофильный окоп. Но в яму Каргин не прыгнул – не от того, что укрытие было плохим, а из чистого суеверия. Убьют, так лучше здесь, среди камней… Корчиться в яме не хотелось. Он повернулся, вскинул оружие, уперевшись локтем о подходящий обломок. Солнце светило слева, Горман надвигался прямо на него, и в перекрестье был виден летный шлем, белые выгоревшие брови и глаза – холодные, зеленовато-серые, будто он тоже был потомком Халлоранов. – Сейчас я тебя достану, холера, – пробормотал Каргин, плавно нажимая курок. Грянул выстрел, но не его. Пуля разорвала комбинезон на плече, и Каргин, стремительно присев, успел удивиться – кто стрелял?.. откуда?.. Потом вспомнилось про “эмфилд”, и где-то в животе возник и начал подниматься к сердцу тугой комок. Смерть пощекотала его крылом – не в первый и, надо думать, не в последний раз… Ее скупая ласка была холодной, как льды Асгарда. Извиваясь, он заполз в кусты, перевалил яму и на карачках двинулся к прежней позиции меж каменных плит. Нашел по дороге длинную почерневшую палку, прихватил с собой. Ободрал колено, выругался. Полз быстро, посматривая то вверх, на “помело”, то в сторону пещеры. Горман, похоже, его потерял – пальнул пару раз в кусты, затем направился к джунглям, на разворот; видно, рисковать и нарываться на пулю ему не хотелось. Неведомый снайпер молчал. Каргин, однако, не сомневался, что тот сидит не на прибрежной скале, а где-то в камнях перед пещерой; прицельная дальность у “эмфилда” – метров шестьсот, с М82 не сравнишь. Да и калибр мелковат… Он достиг пространства между плитами, выпрямился и взглянул на вертолет. “Гриф” висел над манграми словно черный жук под полупрозрачным зонтиком. Минуты три-четыре есть в запасе… Вытащив мачете, Каргин двумя ударами укоротил поваленный кактус, прислонил его к плите, выставив поверх толстый зеленый отросток, напоминавший руку в комбинезоне, вложил в нее палку и накрыл изделие беретом. Боец получился хоть куда – рослый, крепкий и небритый, будто коммандос, не вылезавший из джунглей неделю. – Оборонишь позицию, капрал Джек, будут тебе сержантские нашивки, – приободрил его Каргин, пальнул по вертолету и, низко сгибаясь, заторопился на юго-восток. Там, среди корявых пней и щебня, виднелись гладкий валун, похожий на слона с растопыренными ушами, и стадо слонят поменьше. Тоже отличная позиция, скрытная, а главное – солнце в спину. Спрятавшись за подходящим слоненком, он щелкнул по рации и ухмыльнулся. – Вот так, майор… Ты мне куклу, и я тебе куклу. Мы, славяне, народ сентиментальный, чего уж спорить… Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Горман развернулся и шел теперь к небритому капралу на всех парах. В боевой стойке: хвост приподнят, нос опущен, незримые лопасти винтов таранят воздух, мотор ревет, шасси под днищем – будто скрюченные когти. Черная молния, грозный гриф! Налетит, ударит – не поднимешься! Затарахтела пушка, высунув острый багровый язычок, над краем плиты взлетела мелкая каменная пыль, ствол в зеленой лапе капрала переломился пополам. – Вот сволочь, метко бьет! – пробормотал Каргин, прикидывая упреждение. Метра полтора на такой скорости, и хватит… Винтовка глухо рявкнула, и он увидел, как в серебристом стекле кабины зажглась на мгновение звездочка и тут же погасла. Орудие смолкло, но вертолет не дрогнул, не отклонился от курса – летел себе и летел, над неподвижным капралом Джеком, над глыбами и щебнем, кустами и оврагами, прямиком к пирамидальной скале. К самой ее вершине, где терпеливо дремал камень-жертвенник. "Что-то сейчас будет!” – мелькнула мысль у Каргина. Он заторопился, полез, царапая башмаками шершавый бок, на слоновью холку, откуда обзор был получше: отверстие грота – как на ладони, и каждый ступенчатый ярус просматривается во всю длину. Где-то там его поджидали; может, в пещере, а может, среди булыганов, где он определил вчерашним утром позиции Тому и Крису. Ну, будет по ним панихида… С летающей свечкой и музыкой… Прямо сейчас… "Гриф” ударился о камень, перевернулся, лег на него, заклекотал предсмертным воплем; винты в последнем усилии терзали неподатливую скалу, что-то темное взмывало вверх и падало в море, что-то шипело и взрывалось, что-то выстреливало длинными алыми копьями. Через секунду грохнуло по-настоящему: над жертвенником поднялся огненный столб, фонтаном полетели обломки, и вниз сошла лавина – не потрясающих масштабов, однако вполне приличная. "Боезапас рванул, бензин добавил, – подумалось —Каргину. – Самое время засуетиться…” Он быстро сменил магазин – в прежнем оставалось три патрона – и залег за оттопыренным ухом каменного слона. Из пещеры выскочили трое – смуглый горбоносый Пирелли и пара автоматчиков; четвертый, с “эмфилдом” в руках, поднялся из-за обломка скалы. Они уставились на пламя, бушующее над вершиной, являя картину полного ошеломления; лишь снайпер видел вертолет, а остальные, похоже, гадали, проснулся ли древний вулкан, или возник поблизости крейсер, приплывший от перуанских берегов, чтоб забросать Иннисфри снарядами. Каргин не дал им время поразмыслить. При виде сицилийца он облегченно вздохнул, но первым делом позаботился о снайпере – тот, после Гормана-ферзя, мог считаться самой представительной фигурой. Следующим номером шел Пирелли, за ним – два автоматчика; эти успели метнуться к гроту, и одного Каргин уложил на пороге, а второй то ли споткнулся, то ли получил свое – прилег на землю за трупом приятеля и замер, как раздавленная ящерица. В отголосках взрыва выстрелы не были слышны, и казалось, будто людей одного за другим сминает звуковой волной; взмахнув руками, они падали, не в силах выдержать ударивший с неба рев. Грохот раскатился, рассеялся в пространстве, огненный столб исчез, и теперь на вершине утеса плясало синее пламя догорал бензин. Каргин спустился со слоновьей спины, оттянул рукав над часами и довольно хмыкнул: виктория полная, и все уложилось в двенадцать минут. Теперь бы наградить капрала, и можно заняться спасением фокусников и девиц… Где они, кстати? Лежат в пещере, связанные? С охраной или без? Он поднес рацию к губам, нажал клавишу вызова. – Кренна? Послушай, майор, нет ли у тебя лишних сержантских нашивок? – А крест Почетного Легиона тебе не нужен? – отозвался бельгиец. Потом осторожно промолвил: – Ты еще жив? Удивительно! Я слышал, что-то взорвалось… Может, Горман пустил ракету, и ты имеешь претензии? – Ровным счетом никаких. Что, за претензии к покойнику? Каргин добрался до капрала и стащил с него берет, пробитый в двух местах. Ничего, мать заштопает… Поплачет, поругает, и зашьет… А этакую вещь бросать нельзя. Семейная реликвия! Опять же дырки… Чем больше дыр, тем драгоценней талисман. Голос Кренны вдруг сделался хрипловатым. – Ты что там болтаешь про Гормана и покойников? – Горман отправился на небеса в компании Пирелли, а с ними – кое-кто еще. Ты много народа послал?.. – не дождавшись ответа, Каргин вздохнул и произнес: – Ну, как знаешь, майор. Как говорят полицейские в Штатах, ваше право хранить молчание… И у меня есть право – стрелять, пока патронов хватит. Хочешь совет? – тишина, только хриплое дыхание в трубке. – Забирай своих басурман и беги с острова. На яхте. Подлодка, думаю, за вами не вернется. – Это еще почему? – А потому, что наши контракты ненадежны, и мой, и твой. Контракты ненадежны, клиенты – сущее дерьмо, заказчик – жулик. И лучше бы нам разойтись по-мирному. – По-мирному не получится, капитан. – Ищешь неприятностей, майор? Думаешь, я и есть самая большая неприятность? А зря! Смотри, не случилось бы похуже! Он сунул рацию за пояс, поднял с земли камешек и обратился к Джеку: – Прости, парень, нашивок не нашлось, так что останешься в капралах. Но бился ты храбро, и вот тебе медаль, – воткнул осколок базальта в колючую зеленую макушку и зашагал к пещере. В ней никого не было, если не считать лежавших на пороге тел. Один мертвый и один живой, но без сознания – пуля, как определил Каргин, попала в позвоночник. Тяжелый случай, однако не безнадежный… Он вытащил пистолет и призадумался, глядя на стриженный затылок раненого. Смутные видения проплывали перед ним: горящие коттеджи, взлетающая на воздух казарма, трупы, выложенные в ряд, бледное лицо Тома, Слейтер с перебитыми ногами… Он спустил курок, подождал секунду, пока не смолкло эхо выстрела, и вышел из пещеры. Но тут же вернулся, разыскал, не глядя на мертвецов, бинокль и плоскую бутылку с бренди, затем пошарил в консервных банках. Бутыль и две банки рассовал по карманам, а третью вскрыл и начал жадно насыщаться. Эта процедура была недолгой и не лишила его возможности понаблюдать: челюсти трудились сами собой, тогда как глаза перебегали с неподвижных тел Пирелли и снайпера на камни и землю, колючие заросли и пни. Земля была сухой, засыпанной щебнем, не сохранившей никаких следов; камни и пни молчали, как и положено пням и камням, но в ближних кустах что-то темнело. Слева, по направлению к пляжу, отметил Каргин. Глупый выбор, неудачный! Если бежать, так в другую сторону, к скалам и джунглям. А пляж – место ровное, пустое; где там скрыться?.. Разве только закопаешься в песок. Плохо закопаешься, в нем тебя и похоронят… Он бросил опустошенную банку, шагнул к кустам, присел. Тонкие ветки сломаны, с толстых содраны колючки и кора, свежие листья устилают землю… Кто-то тут ломился – в панике, не разбирая дороги. Почва у корней помягче – может, сохранился след? Хоть какой-то отпечаток? Нет, не видно… Зато имеется длинный рыжий волос и темная тряпка. Клочок ткани, однако вовсе не темный, а грязный. Красного цвета, от майки Мэри-Энн… Кивнув, Каргин пробрался сквозь кусты, преодолел овраг, заметил, что трава над ним измята – значит, лезли, хватались руками. Лезли не два человека, а больше-стебли примяты на расстоянии метров трех. Очень основательно примяты, будто прошлись по ним солдатским сапогом… "Разделились, – понял он. – Пирелли с тремя башибузуками остался при гроте, чтобы паяца свежевать, а прочие метатели клинков ищут красотку и фокусника. Нашли или нет, о том еще неизвестно, а взрыв услышали наверняка. Во-первых, сами не глухие, а во-вторых, майор сообщил по рации… И что приказал? Вернуться и снять скальп с капитана Керка?” За оврагом и жалкими кустиками травы шел голый каменистый склон, довольно крутой и неудобный для продвижения. Правда, его пересекали трещины и расселины – будто раны от боевой секиры, которой орудовал разгневанный великан. Одни побольше, другие поменьше, но каждое миниатюрное ущелье тянулось вниз; те, что западней, наверняка спадали к водам бухты, ну а восточные, надо думать, к пляжу. Выбрав самую широкую из трещин, Каргин начал спускаться, но заслышав шорохи и екрипы, быстро переметнулся в соседний разлом. Скрипели башмаки, шуршали камни под ногами поднимавшихся людей. Их было пятеро; забившись в свою щель, он видел только головы и плечи, проплывавшие на расстоянии броска ножа. Но о ноже, равно как и о винтовке, не приходилось вспоминать. Пристрелишь одного-другого, а остальные накроют огнем, прижмут к скале, изрешетят из автоматов… Вблизи винтовка “тарахтелке” не соперник, и песня у нее своя – поспешай неторопливо, не забывай: чем дальше, тем надежней. Вот если б было что-то взрывчатое… граната, лучше – две… Гранатой всех бы положил… Гранаты, однако, не было, и потому он затаился, не шевелясь и не дыша. Подождал, пока десантники исчезнут за оврагом, опять перебрался в широкую трещину – двигаться в ней было легче – и начал спуск. Трещина шла зигзагами, и синее зеркало Лоу-Бей то появлялось перед ним, то исчезало; он видел скалы на другом берегу, темные, изъязвленные такими же расселинами, и парапет смотровой площадки, казавшийся герцогским венцом на лысой маковке двухсотметрового утеса. "Вернуться, что ли?.. – мелькнуло в голове у Каргина. – Залезть обратно, выбрать позицию ненадежней и перещелкать басурманов. Прямо у пещеры, пока не оклемались от удивления…” Затем ему подумалось, что возвращаться нельзя. Скорее всего, бельгиец своих людей предупредил, так что они ворон считать не будут и что-нибудь на пятерых сообразят: к примеру, трое прочешут Хаос, а двое останутся в засаде. Возможный вариант, и лучше не дразнить судьбу, не искушать удачу… Как говорил майор Толпыго, не лезь под юбку госпоже удаче: пошаришь раз-другой, а на третий выяснишь, что гранаты там есть, да не той системы. Словом, Восток – дело тонкое, везенье – тоже… Будто подслушав его мысль, трещина расширилась и вильнула, доказывая ценность майорских афоризмов: за поворотом, раскинув ноги, уткнувшись носом в землю, валялся тощий Хью. Фокусник, которому не повезло. С маленькой аккуратной дырочкой в затылке… "Тут они их настигли, – понял Каргин. – С мсье Умберто, ясное дело, не церемонились, ратифицировали договор на месте. А вот где рыжекудрая сеньорита? Могла ведь и удрать… Девушка резвая, когда трезвая… Бегает получше референтов…” Он опустился на корточки, придерживая свисавший с шеи бинокль, коснулся слипшихся волос, потом отдернул руку и вытер пальцы о штанину. Кровь была свежей и только начала подсыхать – значит, Хью последовал за Бобом Паркером совсем недавно. Минут тридцать-сорок прошло, если вспомнить африканский опыт. В жарких краях кровь сворачивается с удивительной быстротой. Каргин поднялся, нащупал рукоять мачете, расстегнул кобуру и зашагал вниз по расщелине. Сорок минут – солидное время, можно двух сеньорит изловить, тем более на пляже и большой компанией. Одну уж непременно… Вот только зачем? Ловить, надрываться, потеть… Задачка-то простая, как с мсье Умберто: увидели – и пристрелили… Сомнительный исход! Хоть люди Кренны не отличались альтруизмом, однако в девушек зря не стреляли, а также не душили проволокой и не развешивали на столбах. Как правило, резали глотки – но после, а не до. Такой поворот событий, при всей его неприглядности, подбадривал Каргина. Может, Мэри-Энн поймали да не успели поразвлечься, а может, успели да не все – команда, как-никак, немалая. Может, скрутили, оставив на десерт, или приберегли начальству – Пирелли все же офицер, с законным правом первой ночи и сицилийским темпераментом. Такие очередь не уступают… В общем, имелись варианты. Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему, и Каргин уже представлял растерзанную Мэри-Энн на залитом кровью песке. Лежит она где-нибудь у пляжных домиков с располосованным горлом, нагая, как праматерь Ева в день творения, и вьются над ней синие мухи… Или ползают крабы, отщипывая по кусочку здесь и там. К счастью, он ошибся: она еще бегала, а вместе с нею – двое солдат. Каргин их не знал. Один – повыше, темноволосый; другой – коренастый, с бритым черепом, блестевшим от испарины. Вильнув последним изгибом, трещина, по которой он спускался, сомкнулась с соседней и вышла к пляжу словно раскрытый веер; песок в его основании загромождали камни, снесенные вниз в период дождей. Спрятавшись за этим валом, Каргин с мрачной усмешкой наблюдал, как пара десантников гоняется за Мэри-Энн. Она имела определенный профит: кроссовки вместо тяжелых башмаков, солидная доза адреналина и порожденное отчаянием упорство. Зато солдаты были поопытней и повыносливей: отрезали ее от рощи и потихоньку теснили к морю и камням. Медленно, не торопясь – похоже, игра их забавляла. Матч разворачивался шагах в двадцати от Каргина, и он, ощупав пояс, вытащил стальную звездочку и пистолет. Он мог с одинаковым успехом стрелять и метать сюрикены с обеих рук. Важный козырь, когда имеешь дело с двумя противниками. Темноволосый остановился, расстегнул ремень, намотал конец на руку. Взмахнул – тяжелая бляха со свистом разрезала воздух. Нэнси тоже замерла – будто перепуганный зверек при виде непонятной, но внушающей ужас ловушки. Коренастый, ощерившись в ухмылке, в свой черед потянулся к поясу. – Пари, Рамирес? Кто курочку подобьет, тот первым и ощиплет? – Ты уже проиграл, Хаммель. Внезапно прыгнув к девушке, темноволосый хлестнул ее по ногам. Мэри-Энн взвизгнула и упала; на бедре, чуть выше колена, вздулся алый рубец. Ее вопль заглушил торжествующий рев коренастого. Он бросил автомат, подскочил в восторге и, шлепнувшись на песок, принялся расшнуровывать башмаки, приговаривая: – Валяй, Рамирес, не задерживай… не в Гамбурге у потаскух… там время оплачено, трахайся до посинения, а тут живая очередь… по паре раз на брата, пока майор не высвистал… ты начнешь, а я закончу… ножиком… Помнишь – как тогда, в Киншасе?.. С черной девкой?.. С той барменшей в аэропорту? Ох, и вопила! Однако Рамирес не торопился, стоял над сжавшейся комочком Мэри-Энн, поигрывал автоматом, разглядывал ее с оттенком легкой брезгливости. – Грязновата, Хаммель… Не окунуть ли разок? Та девка в Киншасе хоть черная была, но мытая…– он вдруг подмигнул Мэри-Энн. – Ну, что, попалась, быстрые ножки? Молчишь? А ты покричи, покричи… Услышит твой приятель, прибежит… Ведь прибежит, а? – Буэнас диас, хомбре. Вот и я, – сказал Каргин, вставая. "Беретта” коротко рявкнула, и темноволосый осел на песок; слева на его груди расплывалось красное пятно. Сюрикен Каргину не понадобился – Хаммель стягивал комбинезон и до оружия никак не мог добраться. Пару секунд, но этого вполне хватило. Правда, пришлось подойти и добить, чтоб не мучился – первая пуля попала в живот. Спрятав пистолет в кобуру, Каргин шагнул к девушке, поднял ее и как следует встряхнул. – Идти можешь? Нужно отсюда убираться. И поскорей! – М-могу… Выпить бы… хоть чего-нибудь… хоть мочи от пьяного барана… – Возьми, подкрепись, – он вытащил бутылку. Сделав основательный глоток, Мэри-Энн плеснула бренди на ладонь и, сунув Каргину бутыль, потерла бедро. Потом плюнула на труп темноволосого. – Кобель поганый… Пусть тебя черви сожрут, вместе с твоими девками из Киншасы!.. С мытыми и немытыми…– она развернулась к Каргину, влепила ему затрещину. – А ты, ковбой? Где ты шлялся?! Где вы все шлялись? Том, Крис, Тейт и Бобби, братец мой недоношенный?! Вы почему меня оставили? Вы думали, Хью меня защитит? – она с яростью ткнула пальцем в сторону расщелины. – Там он, ваш Хью! Валяется, задрав копыта! – Вот и спасай девушек по умеренным ценам…– ошеломленно пробормотал Каргин, потирая щеку. Мэри-Энн внезапно ткнулась лицом ему в грудь, обхватила за плечи, расплакалась. Сквозь всхлипывания и причитания он разобрал: – Ты, Керк, несердись… Я сейчас… я пойду, куда скажешь… Ты только будь со мной, не бросай… и не сердись… хочешь, зови меня Нэнси… – Нэнси, так Нэнси, – Каргин отстранился, подобрал “ингрем” темноволосого с парой запасных обойм и сунул ей в руки. – Знаешь, где нажимать и как заменять магазин? Мэри-Энн молча кивнула, вытерла слезы и мертвой хваткой вцепилась в автомат. Глаза ее сверкнули. Надо отдать ей должное: она с удивительной быстротой оправилась от пережитых невзгод. "Стоит приободрить девушку”, – решил Каргин и погладил ее по спине. – Не бойся, бэби, я тебя не брошу. Только шевелись живей – место тут открытое, и оставаться нам – нельзя. Не ровен час, налетят басурмане… – Подожди. Дай бутылку! Спиртное исчезло в один прием, под неодобрительным взглядом Каргина. – Разглядишь, в кого целиться, сестричка? – Разгляжу, ковбой. – Ну-ну… Это тебе не в дядюшкины портреты палить, – буркнул Каргин и потянул ее к роще.Глава тринадцатая
Надолго Нэнси не хватило – свалилась под первой пальмой, нарушив планы Каргина. Он собирался уйти из рощи в лес; Хаос уже не мог считаться надежным укрытием, и если бы Кренна пожелал, все его камни, утесы, овраги и гроты были б обшарены до полудня. Враспоряжении майора еще оставалось около тридцати человек, и у него имелись вертолеты – двухместные патрульные машины с аэродрома Иннисфри. И хоть Пирелли с Горманом переселились в лучший мир, наверняка кто-то еще из людей бельгийца смог бы управиться с “вертушками”, пусть не с таким искусством, как погибшие пилоты. Каргин не собирался рисковать. В данный момент дела обстояли именно так, как в детской сказке про Мальчиша-Кибальчиша: нам бы лишь день простоять да ночь продержаться. А там, глядишь, нагрянут красноармейцы из Перу или латышские стрелки из корпуса морской пехоты, и вздернут буржуинов на фонарь! Но Мэри-Энн нуждалась в отдыхе. Не столько в передышке для восстановления сил, сколько в том, чтобы расслабиться и успокоиться. Слишком много событий произошло в последний час: погоня и бегство, гибель Арады, угроза насилия и смерти. Психика цивилизованных людей, привыкших к комфорту и безопасности, такого не выдерживает, их воля к сопротивлению слабеет, мужество дает трещину. Каргин, как всякий опытный командир, знал, что делать в подобном случае. Рецепт простой: сесть, поговорить, поднять моральный дух, обрисовать перспективы. Конечно, радужные; а если их нет, изобрести хоть что-нибудь, внушающее надежду. На все это он выделил сорок минут и начал с главного: – Есть хочешь? Мэри-Энн кивнула. Каргин вытащил банки, чертыхнулся – обе были с персиками – вскрыл одну и протянул девушке вместе с ножом. – Давай, сестренка! Аппетит у нее был хороший. Через минуту-другую щеки Мэри-Энн порозовели, темные круги под глазами исчезли, морщинки у рта разгладились, губы увлажнились и обрели манящую упругость. Похоже, она была готова на подвиг и на труд. “Отличное средство – бренди с персиковым компотом, – решил Каргин. – Надо будет запомнить”. – Я слышала грохот, – сказала Мэри-Энн, отбросив пустую банку. – Я спускалась в какой-то дыре, чуть ноги не сломала, а Хью тащился сзади… уж больно он неповоротливый, наш Хью… и вдруг как грохнет! Я думала, салют по усопшему дядюшке… Заупокойная месса, так сказать… А почему колокола не звонили? – Еще зазвонят, – пообещал Каргин, – если не уберемся в лес. А что до грохота, так это неприятность с “помелом” случилась. – С помелом? – Взорвался вертолет. При моем посильном содействии. Ты…– он помолчал, соображая, как лучше сообщить печальную новость, – Ты ничего не знаешь? Хью тебе что-нибудь говорил? – Хью мерзко ругался. На испанском, из-за какого-то договора. Разбудил меня, вытащил из пещеры и заорал как ненормальный – беги! Вертолет уже висел над нами, и эти ублюдки принялись стрелять… Я так испугалась, Керк! Мысли перепутались, словно голову мне отрезали, а приставили шейкер для коктейлей… Я даже не поняла, что все куда-то подевались… ты, и Бобби, и остальные…-она заглянула в лицо Каргину. – Где ты был, ковбой? И где мой братец? Каргин выглянул из-за мохнатого пальмового ствола, осмотрел пустынный пляж и скалы и повернулся к девушке. – Помнишь вчерашний разговор? Бобби хотелось провернуть это дельце с вертолетом…– она кивнула. – Так вот, дельце не выгорело. Они отправились вчетвером – Арада отказался, а я спал. Твой брат не позволил меня разбудить. И они ушли. Взяли оружие и ушли. Зрачки Мэри-Энн потемнели. – А Хью? Мог ведь пощекотать тебя за ухом? Или в бок ткнуть? – Мог, да не ткнул. Он… Скажем так, у него имелись свои соображения. Я сам проснулся. Проснулся и пошел искать твоего братца. Но, к сожалению, не успел. Понимаешь, бэби, этим парням, что к нам пожаловали, палец в рот не клади – руку оттяпают и до печенки доберутся! Ловкие, гниды! И с опытным главарем. Каргин вздохнул; полуправда кончилась, осталась только правда. – В общем, приготовили ловушку, и Бобби в нее влип. Вместе с Крисом, Томом и Тейтом… Не мучились, погибли сразу, под пулями… Мэри-Энн прерывисто вздохнула, но глаза ее были сухими. – Ты сам это видел? – Даже со свидетелем, – Каргин погладил приклад винтовки. – Теперь, сестричка, ты сделалась очень важной персоной… не бесприданница – наследница… Если это тебя утешит. – Мне утешения не нужны, – голос девушки был невыразителен и сух; ни эмоций, ни признаков горя – видно, кровь Халлоранов брала свое. – Я знала, когда-нибудь так и кончится… Боб… он… Он был неудачником, как мать и отец. Таким, я думаю, родился. Неудачник – это ведь очень заметно, ковбой! По многим признакам, и по тому, что все, кто рядом с ним, становятся точно такими же. Это как заразная болезнь! Взять хотя бы эту стерву Кэтрин Финли… Очередной дядюшкин план и очередной провал. То есть я хочу сказать, планировал Патрик, а провалился Бобби.. – Ну-ну, – промычал Каргин, навострив ухо. – И что там провалилось? – Интересуешься, ковбой? – Мэри-Энн окинула его холодным взглядом. — Интересуешься, я вижу… Эта Кэти Финли – дочь Барбары Грэм, последней дядюшкиной пассии. Он чуть на ней не женился лет тридцать назад, да передумал, решил, что староват для брачных уз. А через год она обвенчалась с Дугласом Финли. Грэмы и Финли – с Восточного побережья, из Филадельфии. Знать… Благородные предки, но не британские, шотландские, гордость, порядочность, и ни гроша за душой. Нищие, как церковные крысы! Но дядюшка их подкормил. Он, знаешь ли, бывал сентиментальным… когда ему выгодно… Каргин, изобразив недоумение, пожал плечами. – А в чем тут выгода? – Хотел, чтоб Кэтрин вышла за Боба и поскорей отправилась в родилку, за наследником. – Но ведь Бобби и есть наследник. Он…– начал Каргин, уже не с притворным, а настоящим удивлением. – Бобби, Бобби!.. – передразнила Мэри-Энн. При чем здесь Бобби? Что ты знаешь, Керк! У старого козла, была одна привязанность – не шлюхи, которых он трахал после дипломатических приемов, и даже не Барбара Грэм, а мисс “Халлоран Арминг Корпорейшн”! Ее высочество ХАК! И он считал, что должен отдать ее в крепкие руки – не женские и не такие, где ноготки покрашены голубым. Он просто шизанулся на этой идее, клянусь! Так что Боб для него не наследник. И с Кэти, сучкой, ничего не вышло… Она-то была согласна, старалась, как девка панельная, да Боб не смог… не может он с женщиной, понимаешь? – Понимаю…– протянул Каргин. Он уже жалел, что отдернулась очередная занавеска над семейными тайнами Халлоранов. Лучше было б вспоминать о Кэти как о сладком сне в солнечном Фриско. Море, пальмы, китайский ресторанчик, смуглая девушка и остальной калифорнийский антураж… Но миром правили деньги, и в борьбе за них девушки были таким же товаром, как нефть, оружие, зерно и ножки Буша. Что в Сан-Франциско, что в Париже, что в Москве… Его вновь пронзило острое чувство нереальности происходящего. Он был здесь лишним, чужаком – наемником, потерявшим хозяина, сцепившимся с такими же наемниками неведомо зачем и почему. В этом он был не похож на Тома и не мог сказать, за что и за кого сражается, так как их воспитание, менталитет и цели различались не меньше, чем вольная новгородская дружина и отряд дисциплинированных самураев. Томом руководила личная преданность хозяину, тогда как Каргин нуждался в ином, в некой позитивной идее, способной оправдать его существование. Эта потребность являлась чисто российской традицией, она не разменивалась на деньги, не продавалась за почести, власть и обещания любви, и тот, кто эту идею терял – неважно, по собственной воле или по другим причинам – терял вместе с ней и нечто большее. Понятие о добре и зле, о долге и справедливости, о собственном предназначении и месте в жизни. "Где оно, это место? – с тоской подумал Каргин. – Может быть, в яме среди афганских гор?” Среди погибавших солдат, которыми он никогда не командовал, не вел их в бой, и все же был им что-то должен – что-то такое, чего они уже исполнить не могли. То, что исполнялось на своей земле, к которой, по большому счету, Афганистан, Ирак, Ангола и этот остров никак не относились. Ровным счетом никак. – Что молчишь? – спросила Мэри-Энн, и он очнулся. – Думаю… Вспоминаю… – Думаешь о стерве Кэти? – И о ней тоже. За что она тебя так не любит? – Мы крепко цапались… не раз… Наверное, я была не права… говорила, что настоящей женщине удалось бы расшевелить Бобби… А она, – Мэри-Энн вдруг хихикнула, – она обозвала меня тощей шлюхой. Надо же! Конечно, я не мисс Америка и, может, шлюха, но не тощая! Я – девушка в теле! Желаешь убедиться, ковбой? Нэнси вдруг пришла в игривое настроение, прижалась к Каргину, подставляя губы. Глаза ее подернулись туманом, поясок шортиков был расстегнут, сквозь прореху просвечивала грудь с розовым соском. – С кем тебе было лучше, – проворковала она, – с ней или со мной? Хочешь попробовать еще разок? Чтоб сделать правильный выбор? "С чего ее так разбирает?.. – подумал Каргин. От бренди с персиками?” Но вслух произнес: – Время неподходящее, детка. Кроме того, с мисс Финли меня связывают только служебные отношения. Случалось, правда, мы болтали о том, о сем… – О чем же? – О Париже. – Я тоже хочу поболтать о Париже, – сказала Мэри-Энн и принялась стягивать майку. Но Каргин шлепнул ее по перепачканному песком бедру и встал, натягивая берет. – Сказано – не время! Прибереги свою энергию для джунглей. – А что мы там будем делать, дорогой? – Прятаться, ma chere, [568] прятаться. Ты ведь не думаешь, что я перебил всех нехороших парней? В небесах вдруг загудело. Вначале рокот был отдаленным, едва слышным, но с каждой секундой он становился все отчетливей и сильнее, будто к острову неслась эскадрилья разъяренных пчел. Звуки наплывали с севера, дробились в зубчатых коронах скал, перекликались отраженным эхом и падали вниз, сливаясь с шелестом волн и листьев. Затем мощное ровное гудение заглушило их, и хотя утесы загораживали от Каргина северный небосвод, он догадался, что над поселком и бухтой кружат самолеты. Скорее всего, не меньше пяти-шести. – Джунгли отменяются, – сообщил он Мэри-Энн и выскочил на пляж. Но не узрел ничего интересного – скалистые стены над Лоу-Бей ограничивали видимость. Каргин вернулся под деревья. – Хорошо бы подняться наверх… Туда! – он бросил взгляд на смотровую площадку. Она являлась лучшим пунктом наблюдения, самым досягаемым и безопасным, если учесть, что в Хаосе еще бродила пятерка басурман. К тому же к ней вела дорога, недлинный серпантин, соединявший пляж и рощу с Нагорным трактом. Четверть часа, и они доберутся до площадки. – Кто-то прилетел? За нами? Значит, приключения кончились, ковбой? – поправив майку, Мэри-Энн с широко раскрытыми глазами вслушивалась в слитный гул моторов. – Еще не знаю. Смотря кто явился, и зачем. Так что автомат не бросай! – он схватил ее за руку и потянул к дороге. Они шагали быстро, молча, сберегая дыхание. Серпантин поднимался вверх шестью извивами, и за последним поворотом, когда деревья расступились, стали видны узкий пояс Нагорного тракта с мостами, туннелями и круглой пряжкой-озером и дворцовая кровля с ажурным цветком антенны. В небе серебристо-серыми тенями мелькали самолеты: три “оспрея” – над взлетным полем и бухтой, а два, большие транспортные “бо-инги” – над виллой и прилегавшим к ней садом. Эта пара кружила в вышине, и пространство под ней было расцвечено яркими прямоугольными кляксами парашютов. “Сотни полторы”, – прикинул Каргин, глядя, как из чрева “боингов” вываливаются все новые и новые фигурки. Когда они забрались наверх, транспортные самолеты уже развернулись к северо-востоку, один “оспрей” приземлился, второй готовился к посадке, а третий все еще свивал круги над бухтой. Кроме того, у восточных скал возник вертолет, каких Каргину видеть еще не доводилось – черная угловатая машина, похожая на гоночный автомобиль под полупрозрачным диском рассекающих воздух винтов. Видимо, он прилетел из Кальяо, а вот самолеты, если судить по обратному курсу, явились с американских берегов. Вскоре эта гипотеза перешла в уверенность: парашютисты действовали со сноровкой, какую вколачивают не в перуанской армии, а в войске великой державы. Такая держава в окрестностях имелась лишь одна, и потому было бессмысленно строить иные предположения. – Кто это, Керк? Как ты думаешь? – Нэнси дернула его за рукав. – Думаю, твои соотечественники, детка, – буркнул Каргин. – Явились, не запылились, вояки хреновы… Ликвидаторы ликвидаторов… Он сплюнул, поднял бинокль, поднес к глазам. Верхняя терраса с павильоном-обсерваторией была пуста, но перед домом и на широкой дворцовой лестнице, среди колонн и сфинксов, уже кипела яростная схватка: парашютисты накатывались цепью, палили по окнам, приседали, падали, поднимались, шаг за шагом оттесняя людей Кренны; сколько тех было, Каргин разобрать не мог, но защищались они отчаянно, как стая попавших в ловушку волков. У южного флигеля метнулось пламя, взлетел бесформенный черный комок, потом под раскатистый грохот засверкали новые вспышки – били из подствольных гранатометов и базук. Сфинкс, украшавший лестницу, встал на дыбы, окутанный огнем и дымом, тут же завалился на бок, и его невозмутимое лицо внезапно пересекла трещина – будто шрам от сабельного удара. Под многотонной каменной тушей что-то ворочалось, корчилось, извивалось, и камень в том месте вдруг начал багроветь. – Какого дьявола, Керк? – Мэри-Энн подпрыгивала от нетерпения. – Что там происходит? – Битва лапифов с кентаврами, – пробормотал Каргин и сунул ей бинокль. — Вот, полюбуйся! Покруче, чем в голливудских боевиках. И все – настоящее! И пули, и кровь, и трупы… Все три самолета уже приземлились, и из распахнутых люков выпрыгивали десантники и еще какие-то люди, не в пестрых комбинезонах, а в штатском. Словно цепочка муравьев, они устремились к ангарам и гаражам, и на окраине взлетного поля тоже загремели выстрелы – видно, бились с часовыми Кренны. Но было тех наверняка немного, и вскоре большая часть атакующих отхлынула; затем распахнулись ворота ангаров, выехали набитые солдатами джипы и устремились к поселку и шестому блок-посту. “Могут и сюда добраться”, – подумал Каргин, нащупывая бумажник в нагрудном кармане. Бумажник был на месте – с паспортом, чертовой уймой виз, кредитными картами и контрактом, свидетельством его лояльности. Черное “помело”, сделав широкий круг, зависло над озерным берегом и руинами второго блок-поста. Теперь Каргину удалось подробнее разглядеть “вертушку”, и он, сдвинув берет на затылок, покачал головой и невольно присвистнул. В самом деле, такое ему живьем не попадалось! Лишь на картинках в “Милитари ревью”, под заголовком: “Техника двадцать первого столетия”! Если глаза его не обманывали, то был “Команч” – разведывательно-ударный вертолет RAH-70, для спецопераций в джунглях, горах и прериях, а также над океанами и морями. Крейсерская скорость – до шестисот километров в час, дальность полета – три тысячи, отсек для грузов и десантников, пушки, пулеметы, ПТУРы… Мечта! Особенно для тех, кто хочет быстро смыться. Пока он дивился на “помело”, бой на ступенях лестницы затих, взрывы смолкли, и теперь часть парашютистов копошилась среди мертвых тел, растаскивала трупы, тогда как другие прочесывали парк. Вполне понятная суета, но Каргину почудилось, что в здание никто не входит. Странно! Он покосился на Мэри-Энн, решил не отбирать бинокль и сбросил с плеча винтовку; потом заглянул в прицел, дернул стволом, отыскивая прятавшиеся за колоннами двери. Точно, никто не входил! Либо успели очистить виллу, либо такой деликатный труд – не для десантников… Он приподнял оружие. Теперь перед ним была эспланада: пальмы и мандариновые деревца, полосатый тент, скамейки, павильон с полусферическим куполом и вертолет, уже переместившимся от озера. “Команч” неторопливо опустился, сдвинулись створки пилотской кабины и пассажирского отсека, и на террасу стали выпрыгивать парни-рослые крупнокалиберные молодцы. “Преторианская гвардия, телохранители, – подумал Каргин, удерживая на весу тяжелую винтовку. – А кто за ними вылезет?” Вылез Шон Дуглас Мэлори, собственной персоной. Коммодор, вице-президент и шеф административного отдела ХАК, ответственный за безопасность… Каргин справился с искушением нажать на спуск – дистанция была слишком велика – и только проводил коммодора взглядом до дверей. Шагал тот быстро, энергично, даже подпрыгивая на ходу, и скрылся в кабинете босса. Стражи, числом семь человек, разбились на две группы, направились к лестницам и исчезли; восьмой остался на террасе. Он заглянул в павильон, затем подошел к массивному черному корпусу “Команча”, махнул пилоту. Тот спустился вниз, пошарил в кармане, что-то вытащил. Оба закурили. Опустив винтовку, Каргин повернулся к девушке. – Видела, кто прилетел? В той черной кастрюле, с гвардейцами? Нэнси кивнула с явным облегчением. – Шон! Весельчак Шон, старая задница… Самый рогатый козлик дядюшки Патрика, и самый верноподданный… Ну, наконец-то! – она приподнялась на носках, потянулась, сладко зажмурившись, потом бросила взгляд в сторону Нагорной дороги. – Пойдем? Увидят нас, пришлют кого-нибудь на четырех колесах и отвезут меня в ванну… и я из нее век не вылезу… Ванна, бутылка виски и сигарета – вот, что мне надо… И ты! Ты приходи, спинку потереть… Придешь, ковбой? – Как бы нам обоим спинку не потерли, под левой лопаткой, – задумчиво пробормотал Каргин. – Вот что, бэби: отсюда нужно уходить – место нехорошее, открытое. Мы уйдем и посидим немного под деревьями. Посмотрим, что случится. – А что случится? Что может случиться? – Мэри-Энн неуверенно улыбнулась. — Ты ведь не думаешь, что Шон… – Рогатый козлик этот Шон, сама сказала: А оборот у компании – шесть миллиардов… Бо-о-льшие деньги! И большой соблазн. Соблазн и в самом деле был велик, так что Мэри-Энн притихла и последовала на ним без. возражений. Они спустились по серпантину, но не до самого пляжа, а шагов на двести, зашли в лес и устроились между корнями огромной сейбы. Корни были похожи на доски, поставленные набок – широкие, толстые, пулей не прошибешь. Рядом струился ручей, питавшийся, видимо, из озера. Они напились; потом Мэри-Энн стащила шортики и майку, сполоснула лицо и удалилась в кусты. Каргин сидел с винтовкой на коленях, привалившись спиной к стволу, и размышлял, что предпринять в нынешней ситуации. Отсиживаться или вылезти наверх? Ждать или вступить в контакт? Может, позвонить? Позвонить, распорядиться, чтоб приготовили ванну для молодой хозяйки? Вряд ли это обрадует коммодора… Решит, что Кренна по двум объектам недоработал, не выполнил контракт… Впрочем, где он, Кренна?.. Надо думать, лежит в кровавой луже под мозаикой с орлом… Взгляд Каргина обратился к рации, он хмыкнул и нахмурился. Больше всего ему сейчас хотелось не вспоминать о Кренне, избавиться от Мэри-Энн, от Мэлори и корпорации ХАК, и очутиться где-нибудь подальше – так далеко от Иннисфри, чтобы орел не долетел и конь не доскакал. Где-то в Краснодаре или Москве… Либо, на худой конец, в Париже… Он прикрыл глаза, и в этот момент заверещал мобильник. Мэлори, кто же еще… Любопытствует, лысая нечисть, кого не добили и почему… – Ты, капитан? – голос коммодора был, как всегда, бодрым и жизнерадостным. – Докладывай! Есть еще уцелевшие? Кто? – Все, кого не пристрелили, не подорвали и не сожгли. – А если поконкретней? – Мэлори сделал паузу и сообщил: – Слушай, сынок, я очень рад, что ты остался жив. Ты оправдал мои надежды… Так кто же с тобой? Арада и девушка? Мы не нашли их тел. – Девушка, – сообщил Каргин после недолгого колебания. – Араде просверлили дырочку в затылке. – Что ж, неплохо…– похоже, коммодор был доволен. – Приводи ее и приходи сам. Или лучше сделаем так: скажи, где вы, и я пришлю машину. 0’кей? Вы, полагаю, устали… Ну, ничего, ничего! Зато тебя ожидает масса приятных сюрпризов! – Сыт я по горло твоими сюрпризами, весельчак, – пробормотал Каргин, нажав кнопку сброса. В кустах зашуршало, и появилась Нэнси – умытая и одетая. Брови ее приподнялись, вопросительный взгляд метнулся к телефону. – Козлик Мэлори звонил. Говорит, что ванна почти готова. Осталось только серной кислоты плеснуть. – Почему бы и нет? Согласна на кислоту, только б до ванны добраться…-девушка опустилась рядом. – А что он еще сказал? О дядюшке? О Бобби? – Сказал, что тело Боба найдено, а наши – нет. К большому сожалению. Щеки Мэри-Энн начали медленно бледнеть. – Пугаешь меня, ковбой? Или шутишь? Ты правда уверен, что… Мобильник снова зазвонил. Глядя в расширившиеся глаза девушки, Каргин поднес трубку к уху. – В чем дело, парень? Перестань дурить! – Дело в том, – негромко, с расстановкой, произнес Каргин, – что наша умозрительная операция реализована во всех деталях и подробностях. Это вызывает вопросы, не так ли? Или у вас другое мнение? – Операция… хм-м…– протянул коммодор. – Операция операцией, но все не так, как тебе представляется, мой мальчик. Считай, что это была проверка. Тест на дееспособность и выживание, так сказать. Плюс санитарная чистка… Я ясно выражаюсь? – Не очень. Для теста слишком много трупов, включая Халлорана и молодого Паркера. Не хотелось бы к ним присоединиться. Мэри-Энн дернула Каргина за рукав, прошептала: «Какая операция? Какой тест?» – Он отмахнулся. – Чего ты хочешь? – произнес Мэлори строгим генеральским тоном. – Что тебе нужно, парень? Я ведь сказал, что все о’кей, что для тебя все неприятности позади, а впереди – одни приятные сюрпризы. Чего же еще? Личное приглашение от президента США и “кадиллак” к подъезду? – Нужны гарантии. – Гарантии, вот как… А ты осторожен, мой мальчик! Рад! Это большое достоинство. Ну, слово чести офицера тебя устроит? "Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие”, – подумалось Каргину. Надо же – прислал убийц на остров, теперь офицерской честью клянется! Из этой чес-ти шубу не сошьешь, жизнь за нее не купишь… Как говорил майор Толпыго, коли враг коварен и хитер, есть одна гарантия: ставь на четыре кости, а к яйцам подвесь гранату. Но вслух он этого не сказал, а ограничился многозначительным молчанием. – Не веришь? Чувствую, что не веришь, – Мэлори шумно выдохнул в трубку. – Ладно, послушай меня, сынок… Согласен, все произошедшее на острове было жестоко, антигуманно, бесчеловечно, но – поверь мне! – совершенно необходимо. И все свершилось по воле и приказу мистера Халлорана. Ты спросишь, зачем? И я отвечу: вспомни, где умный человек прячет камень? Среди других камней… А где прячет труп – тем более, если и трупа-то не было? Среди других погибших на поле битвы. И вспомни еще одно: от покушений не спасет ни прочная крепость, ни преданные стражи. Атакующий всегда имеет преимущество и добивается своего. Рано или поздно, но добивается, и ты это знаешь. Ты – солдат! – Не понял ни слова из вашей галиматьи, – произнес Каргин внезапно охрипшим голосом. – Я думаю, понял. Ты парень сообразительный… Но если надо, могу поподробнее, – Мэлори вдруг начал чеканить слова, будто рапортовал адмиралу флота: – Мистер Халлоран, наш босс, желает, чтобы его считали мертвым. Жертвой поголовной резни, учиненной кровавыми фанатиками, которые от возмездия не уйдут. Ни в коем случае не уйдут! Когда мы изловим их всех – и, разумеется, перестреляем – здесь появятся репортеры, телекомментаторы и представители власти, которым положено оценить масштаб трагедии, а также проинформировать о ней мировую общественность. Трагедия, конечно, велика: сотни погибших, и среди них – Патрик Халлоран, достойнейший гражданин великой страны. Он мертв…-голос командора дрогнул, но тут же окреп: – Зато теперь его никто не потревожит. Что возьмешь с покойника? Лоб Каргина оросился испариной. Он вытер его рукавом, посмотрел на темные пятна, проступившие на ткани, поднял глаза на Мэри-Энн. Видно, она сообразила, что случились неприятности – отхлынувшая кровь сделала ее лицо похожим на мраморную маску. Чувствуя, как струйки пота стекают по спине, Каргин пробормотал: – Мне ваши поганые секреты не нужны… в гробу я их видел, со всеми тайнами мадридского двора… ни слышать не хочу, ни знать… Я что вам, исповедник? На кой черт? – А это, мой мальчик, уже другая песня и другой сюрприз. Придешь – узнаешь. Каргин взглянул на Мэри-Энн. Она закусила губу, зрачки ее стали не серыми, не зелеными, а темными, как туча, готовая пролиться дождем. – Не верю ни единому слову, – буркнул он в трубку. В ответ раздался короткий смешок. – Придется поверить! И сразу зазвучал знакомый голос – резкий, отрывистый, скрипучий: – Ты сохранил свой берет? Свою реликвию? – Да, сэр! – ошеломленный Каргин реагировал автоматически, согласно уставу. Все прочие слова будто выскочили из головы. – Так натяни его и отправляйся, куда прикажет Шон! Может, он и в самом деле принес тебе удачу… Снова сухой короткий смешок. Мэлори… – Ну, убедился? Можно послать “кадиллак”? К какому подъезду? Каргин уже овладел собой. – К чему такая спешка? Я тут не один, есть еще заинтересованные лица… Хотелось бы посовещаться, а потом перезвонить. – Посовещайся, – разрешил коммодор. – Кажется, У вас, у русских, говорят: где совет, там любовь? Так что посовещайся. А перезванивать не надо, просто сброс не нажимай. Ты у меня на громкой связи. Накрыв микрофон ладонью, Каргин уставился на Мэри-Энн. Она уже не кусала губы, сидела с приоткрытым ртом и словно ждала, что через минуту ее поведут на расстрел. Или бросят в Амазонку, на растерзание кайманам и пираньям. – Нэнси…– он произнес ее имя, не ощущая ничего, кроме брезгливой жалости – ведь в ней тоже текла проклятая кровь Халлоранов. – Я говорил с коммодором, Нэнси, и кое с кем еще… с твоим людоедом-дядюшкой… Он жив, хоть я не пойму, в чем тут фокус – сам видел, как его пришибли вместе со Спайдером. Ну, ладно… не об этом речь, а о другом… О том, что налет на остров сделан по его приказу. Чтобы пустить слух, будто его убили, и избавить от дальнейших покушений, – Каргин мрачно усмехнулся и добавил: – Убили вместе с твоим братом, с Томо и остальными… общим числом – за двести душ… Такая, знаешь ли, капитальная гекатомба на могиле скифского вождя… Все – покойники, а вождь-то жив! Из горла Мэри-Энн вырвался странный звук – то ли рыдание, то ли хриплый яростный вопль. Плечи ее затряслись; потом она вдруг начала раскачиваться, спрятав лицо в ладонях и глухо, невнятно повторяя: – За что?.. за что?.. Ублюдок гребаный… козел… пиявка… всех высосал, всех… чтоб тебе от гемофилии сдохнуть… всех, всех… Бобби, отца… мать в психушку засадил… меня… теперь меня прикончит… старый маразматик… прикончит, ведь так?.. – Не прикончит, – утешил ее Каргин, – а осыпет баксами и выдаст за принца Дублинского, чтобы наследника родила. Ты для него теперь драгоценней, чем зеница в глазу… последний, можно сказать, шанс… А вот что ему от меня надо? Что, сестричка? Но Мэри-Энн, похоже, его не слышала – раскачивалась и плакала взахлеб. – А ведь придется идти к дядюшке-людоеду… Иначе мне отсюда никак не выбраться, – пробормотал Каргин, скривившись, и поднес трубку к уху. – Мэлори? Слышите меня? – Да, мой мальчик. Что там у вас происходит? – У мисс Паркер истерика, так что совещания у нас не получилось. Я думаю, нужно прислать кого-нибудь с машиной и увезти ее. Только не на виллу к дядюшке, лучше – на самолет, и во Фриско. – А ты? – Пусть нижняя дверь в бункер будет открыта. Я сам доберусь, через пару часов. Надо подумать. – Подумай, – согласился командор. – Где вы сейчас? На дороге, ведущей к пляжу. Примерно посередине. – 0’кей. Я пришлю Спайдера. Он как раз собирается улетать… не во Фриско, в другое место, но тоже очень уютное. Каргин покосился на рыдавшую Мэри-Энн. – Пусть Спайдер захватит бутылку спиртного для леди. И чистый носовой платок. Лучше – полотенце. Он сунул мобильник в карман, подхватил девушку на руки и зашагал к серпантину. Сейба прошелестела ему на прощанье что-то ободряющее.* * *
Выбравшись на дорогу, он опустил Мэри-Энн в траву под цветущим рододендроном и погладил по спутанным рыжим волосам. – Сейчас за тобой приедут, бэби. Приедет надежный человек и увезет с острова. Нельзя тебе здесь оставаться. Здесь всякое может произойти. Девушка молча кивнула, хлюпая носом и вытирая глаза кулачками. Каргин постоял рядом с ней, глядя, как в разрывах древесных крон бегут на север облака. Полупрозрачные, легкие, они неслись подобно сказочным кораблям, и Каргину хотелось подняться в воздух и улететь вместе с ними. Он вздохнул, дождался, пока за поворотом не послышалось урчанье мотора, и бесшумно отступил в лес.Глава четырнадцатая
"Выходит, и Спайдер уцелел”, – раздумывал Каргин, пробираясь у подножия утесов. Почва здесь была влажной, но не болотистой, и он мог бы двигаться быстрее, однако не торопился. Тихим ходом до свалки и ведущих в бункер ворот можно добраться за полтора часа, и это время его устраивало; вполне достаточно, чтобы поразмышлять. Если резню затеяли по воле Халлорана, и если она, как утверждал коммодор, была своеобразным тестом, то многие факты прояснялись – к примеру, дверь в убежище, не пожелавшая открыться, и отключенный ретранслятор. Все это, видимо, предусмотрели заранее, вложив двоякий смысл: с одной стороны, чтоб усложнить проверку, с другой – чтоб оказать практическую помощь нападавшим и сохранить имущество. Скажем, антенна: зачем ее крушить, если через пару дней, когда башибузуков перебьют, появится необходимость в связи? Для репортеров и представителей властей, чтоб оценили масштабы трагедии… Значит, крушить нельзя, а нужно лишь гарантировать Кренне, что со связью не будет проблем. Что до убежища, то шарить там в задачу Кренны не входило. Он, вероятно, не сунулся бы в бункер, если б не искал сбежавших; а раз искал, то полагалось осмотреть и лишь затем устраивать облавы в джунглях. Все это стало теперь понятным, за исключением того, как Халлоран и Спайдер избежали гибели. Эта загадка подстегивала любопытство Каргина, привыкшего верить собственным глазам: если он видел, как подорвали дот, то значит, так оно и было. А от людей, укрывшихся в нем, должны остаться обгорелые лохмотья. Ни трупов, ни одежды, ничего; лишь частицы костей и запекшейся плоти, смешанные с крошкой и обломками. Если под бетонным куполом рванул “хеллфайер”, тела не опознать, да и тел-то нет – так, соскребешь с камней горстку праха и пересыпешь в наперсток… Обдумав данную проблему, Каргин решил, что со второго блок-поста есть, вероятно, выход в подземелье. Может, за оружейным шкафом, а может, и не шкаф там вовсе, а врезанная в скалы дверь; открыли и спустились в комфортабельный чертог где-нибудь под озером. Эта догадка казалась вполне логичной и отвечающей реальности: во-первых, Халлоран был жив, а во-вторых, где-то ведь он скрывался в эти дни! Конечно, не в поселке на пепелищах, и не в лесу… Кроме первых двух соображений напрашивались и Другие. Например, такое: Если сделан бункер под дворцом, отчего не выстроить резервное убежище? Запас, как известно, спину не ломит… Возможно, это второе подземелье соединялось с основным, или же оба они были единым комплексом – и потому лезть в бункер людям Кренны не полагалось. Но вряд ли они обшарили весь лабиринт. Надо думать, там предусмотрены тайные камеры и переходы – как раз, чтоб отсидеться парочке лже-покойников. Тут размышления Каргина свернули в иное русло. Ему подумалось, что только он следил за Халлораном и Спайдером, а значит, являлся свидетелем их смерти, зрителем устроенного шоу. Но с какими целями? Он понимал, что можно было разыграть другой спектакль: скажем, Патрик покидает остров – по-тихому, без шума, а вслед за этим начинается резня. Потом десант, отстрел убийц и чей-то обгорелый труп; даже не труп, а будто бы кости Халлорана – для демонстрации всем желающим. Но этот сценарий, видимо, не подходил за недостатком веских доказательств. Гораздо лучше, если Патрика взорвут, сообразуясь с его привычками; ну, а если есть тому свидетель, так это просто клад! А что касается костей и обгоревшей плоти, то их на острове теперь хватало – хоть ведрами таскай. – Свидетель! – пробурчал под нос Каргин, пнув башмаком ядовито-зеленый папоротник. – Свидетель нужен, чтоб ни у кого сомнений не осталось! Затем, видать, и приглашают… Деньги посулят, а после, когда допросят сыщики и репортеры, отправят к праотцам, чтоб не болтал. Такие вот приятные сюрпризы! Он замер на половине шага, потом замотал головой и двинулся дальше, уминая хрусткие сочные стебли. Не вязалось дело! Никак не вязалось! Кто знал, что он останется в живых и сможет что-то рассказать?.. Но если даже знали – предполагали, скажем так – он не являлся теперь беспристрастным свидетелем. Теперь, когда ему раскрыли тайну Халлорана! Предложат деньги, а за что? За то, чтоб поделился впечатлениями как разбомбили Патрика и умолчал об остальном? Нелепость! Нелепость, ибо нет проблем купить любых свидетелей – таких, что, поклявшись на Библии, расскажут, как вылез из моря отряд коммандос, разрезал босса на кусочки и скормил акулам. Да и зачем покупать, когда полно доверенных людей? Те же Спайдер и Хью, и остальные, калибром помельче – врач, шофер, дворецкий… Любую версию без денег подтвердят! Он понял, что запутался вконец, что целей Мэлори не знает и даже не может предположить, как повернется дело; а главное – что обещание сюрпризов не вызывает у него энтузиазма. Ровным счетом никакого! Халлоран, коварный змей, был жив-живехонек, и этот факт похоронил стройную версию о кознях совета директоров. А если в ХАК плелись иные козни и интриги, то было напрочь непонятно, при чем тут он. Телохранитель, военспец, наемник из России… Он представлял себя в любом из этих качеств, но места своего определить не мог. Это рождало желание подстраховаться. В условиях войны, которая была для Каргина привычным состоянием, он мыслил боевыми категориями, и в данном случае они гласили: подозреваешь ловушку – подумай об отступлении. Отступить можно было по-разному, но лучше всего – под прикрытием контратаки. Подтянуть резерв, расставить пулеметы, обдумать, кто ударит в лоб, кто с фланга обойдет, когда и по каким сигналам… Резерв у него имелся – те самые фанатики, что от возмездия не уйдут. Ни в коем случае не уйдут – изловят их, ублюдков, и, разумеется, перестреляют. Вывод из этих коммодорских обещаний был абсолютно ясным: во-первых, не всех башибузуков устаканили, а во-вторых, деваться им некуда. Каргин вытащил рацию, нажал на кнопку. – Кренна? Ты живой? – Живой, но сердитый. Очень сердитый! – послышалось в ответ. Голос майора был резким и хриплым, но безнадежности в нем не ощущалось. – Все еще хочешь содрать с меня шкуру? Молчание. Потом – сухой смешок. – С тебя, пожалуй, не хочу. Ты, в общем-то, был прав: контракт мой ненадежен, клиенты – сущее дерьмо, заказчик – жулик. Есть предложения, капитан? – Так точно. Я думаю, ты спустился через убежище в кратер? И много у тебя бойцов? Пауза. Он слышал дыхание Кренны, а еще – едва различимый лязг оружия, шелест листьев да ругань на трех языках. Слов было не разобрать, но тон не оставлял сомнений – прикладывали крепко. – Шестеро, – ответил наконец майор. – Двое ранены, но все боеспособны. Тех, кто не мог шевелиться, я сам… того…– он прикрикнул на своих людей, и гомон смолк. – Жду еще пятерых. Должны подойти от скал. С тех, где тебя ловили. – В лесу сидишь? – В лесу. Поганый тут лес, сырой… Хуже, чем в Анголе. Зато трясин полно. Есть, где утопиться. Каргин оставил это замечание без комментариев. – К северу от входа в бункер – свалка. Перед ней – болото, дальше – лес. Позавчера там парня пристрелили… кто-то из твоих, Пирелли или Горман расстарался… – Горман. Я помню это место. Каргин посмотрел на часы, потом бросил взгляд на Вершины утесов. – Встретимся в лесу, напротив свалки, через двадцать минут. Согласен? – А разве у меня есть выбор? – буркнул Кренна и отключился. Они сошлись на лесной опушке в тот момент, когда над скалами мелькнула тень “оспрея”. Сделав круг над островом, машина набрала высоту и скрылась в затянувших небо облаках, но не на севере, а на западе, со стороны океана. Было непохоже, что самолет отправился во Фриско. Впрочем, по утверждению коммодора, Спайдер летел в другое место, но тоже очень уютное. В какое именно, Каргин не знал и, по большому счету, не интересовался. Глядя в лицо Кренны, он думал сейчас о том, что у наемников судьба неблагодарная – все они с давних пор были не просто пушечным мясом, а мясом третьего сорта, какое швыряют в самую грязную из мясорубок войны. И там, кружась и вращаясь под стальным ножом, они ломали друг другу кости, а временами, заключив перемирие, пускали кровь хозяевам. Все зависело от обстоятельств: вчерашний друг мог обернуться врагом, вчерашний враг – другом. Ну, не другом, так союзником… – Похоже, тебя кинули, майор, – сказал Каргин, оглядывая солдат, столпившихся за спиной бельгийца. Мартина Ханса он среди них не заметил. Хмурые физиономии башибузуков были грязны, и от того казалось, что все они – на одно лицо, и даже вовсе не люди, а черти, удравшие от своих котлов и сковородок. Кренна хищно оскалился. Дрогнула тонкая нитка усов над верхней губой. – Кинули нас обоих, капитан. Надеюсь, ты хоть без аванса не остался? Нет? Ну, и я кое-что ухватил… Надеялся, будет больше, да дьявол с ними, с деньгами! Унести бы кости целыми! – Унесешь, если пороху хватит. И кости унесешь, и деньги, – пообещал Каргин. – Давай-ка прикинем диспозицию: мы – здесь, в кратере, а на западных склонах – двести десантников, и во дворце – наш наниматель. Твой и мой. Но не один… С ним пожилой джентльмен, важная личность, босс. Тот самый, которого вы у озера пришибли. – Живой? – Вполне. Бельгиец нахмурил брови, пошевелил усами. – Верится с трудом… Горман две ракеты всадил… От пожилого мсье даже вставной челюсти не осталось. Пришлось описывать майору ситуацию и убеждать, что челюсть у мсье цела – челюсть, скальп и прочие части тела в полном комплекте и, невзирая на возраст, в приличном состоянии. Справившись с этим, Каргин пояснил, что ждет свидетелей таких художеств: кого прибьют как бешеных собак, а с кем, после недолгой беседы и воинских почестей, расстанутся возле уютной ямки, где-нибудь под кипарисами и пальмами. Услышав про ямку, Кренна хмыкнул, задрал голову и оглядел скалистый склон с нависающей над ним подковой эспланады. – Ты можешь туда не ходить, капитан. Воля твоя. – Моя, – подтвердил Каргин. – Так отчего бы не сходить, раз наниматель приглашает? Мой шеф, твой заказчик… Или я неясно выражаюсь? – Ясно! – отрезал бельгиец, по-прежнему рассматривая скалу. – Был заказчик, стал заложник… А как мы туда попадем? Я полагаю, не с парадного подъезда? Тебя-то где поджидают? – За тем утесом, у входа в бункер. – Для нас не годится. Поднимемся на лифте, а у двери – часовой, и без стрельбы не обойтись. Или возьмешь часового на себя? – майор прищурился. – Слишком рискованно. На вилле десяток охранников, и все нужно сделать внезапно и тихо. Атаковать превосходящими силами, прорваться наверх, к боссу, а там ты – хозяин положения. Дивизия не страшна… весь Тихоокеанский флот… – Это я понимаю. Давай-ка подетальнее, капитан. – Взгляни, – Каргин протянул бельгийцу бинокль, – видишь, над свалкой – дыра… округлая такая… Нашел? Это выход мусоропроводной трубы. Я по ней спускался… все спустились, кого ты потом перещелкал… Но можно и подняться. С трудом, но можно. Думаю, час уйдет или два. – Вот, значит, как… мусоропровод…– Кренна опустил бинокль, побарабанил пальцами по автоматному прикладу. – А мне-то казалось, что вы через бункер вылезли… – Дверь к лифту заело, – пояснил Каргин, не вдаваясь в подробности. — Сделаем так: я отправляюсь к шефу и заговариваю зубы – час, другой, сколько удастся. Сорок минут – с гарантией, а там – как повезет. Ты лезешь наверх со своими людьми. Окажетесь в колодце, но неглубоком. Из помещения есть выход в коридор рядом с кухнями… – Помню, – буркнул Кренна. – … и дверью к лифту. Дверь ты снес, значит, там охрана. Убрать без выстрелов, ножами. Ну, а дальше знаешь сам… два дня гостишь на вилле. Бельгиец кивнул, сощурился и пристально оглядел Каргина – от побитых башмаков до простреленного берета. Усы его дрогнули, приподнялись, тонкая щель рта растянулась в усмешке. – Один вопрос, капитан. Где гарантия, что ты играешь честно? – Тебя просто кинули, а из меня сделали клоуна, – сказал Каргин. – Ты меня знаешь, я этого не люблю… Вот и все гарантии, майор. Хочешь – верь, хочешь – нет. Кренна снова кивнул. – Твоя доля? – Пожертвуй ее в приют для престарелых потаскух в Бозуме. Все? – Не все. Если я правильно понял, там будут два человека, мне незнакомых. Ценные люди, заложники… не ошибиться бы с ними… Кто из них босс, кто – наш заказчик? Я ведь его живьем не видел, капитан. Работу предложили как обычно, через посредников, – он помолчал, разглядывая дыру над свалкой, потом резко спросил: – Имя? Внешность? – Заказчик – Шон Дуглас Мэлори, вице-президент “Халлоран Арминг Корпорейшн”. Под шестьдесят, невысокий, лысый, улыбчивый… Но думаю, тебе он не станет улыбаться. Босс – Патрик Халлоран, владелец фирмы. Старый, рыжий, очень богатый и внешне напоминает акулу. Это все его, – Каргин развел руками, будто обнимая Иннисфри, кивнул на прощание и зашагал к похожему на контрфорс утесу… У приоткрытых ворот его поджидали два крепыша, из группы, прибывшей с коммодором. – Алекс Керк? – Он самый. – Ваше оружие, сэр. "Сэр!” – отметил Каргин, передавая крепышам винтовку. Ничего не скажешь, встречали его с отменной вежливостью. Он расстегнул пояс, сбросил с плеча мачете в запыленных ножнах. Снял ремни с подсумками, вытащил рацию и телефон. – Простите, сэр… Это что? Наколенный карман подозрительно оттопыривался. Вздохнув, Каргин достал банку персикового компота, бросил на пол и поинтересовался: – Обыскивать будете? – Не велено, сэр. Ворота закрылись;вслед за ними с раздирающим слух скрежетом задвинулись переборки в зигзагообразном тоннеле. Втроем они прошли к лифту мимо бочек, коробок и ящиков, загромождавших складское помещение, и поднялись наверх. Стальную дверь между камерой лифта и коридором, скрученную и полуоторванную, охраняла пара скучающих часовых. Было непохоже, что у Кренны с нимивозникнут неприятности. Крепыш-охранник, навьюченный имуществом Каргина, исчез. Второй проводил его через столовую к холлу, к мозаике с орлом, сжимавшим револьверы в когтистых лапах. Здесь уже навели порядок, и только пустые оконные проемы, бурые пятна полу да орлиный глаз, выбитый случайной пулей, напоминали про отгремевшую битву. Каргин двинулся было к лестнице, но провожатый ухватил его за локоть и деликатно направил к гостевой половине. – Сюда, сэр, в эту комнату. Здесь вам приготовлена одежда. Мистер Мэлори полагает, что вы захотите побриться и принять душ… Вот тут, прошу вас… Я подожду в коридоре. "Теплый прием”, решил Каргин, неторопливо разоблачаясь. Если не считать того, что сунули в камеру без окон и нежилую с виду – ни стула, ни стола, ни шкафа, ни кровати. Зато были упругий палас под ногами, обтянутый кожей диванчик и вешалка. На диване – белье и рубаха, на вешалке – роскошный костюм из чесучи, модель “сагиб в индийских джунглях”, под вешалкой – легкие светлые туфли. Против входа – дверь, за ней – ванная, пошикарнее, чем в коттедже на Грин-авеню: розовый мрамор, зеркала, краники из бронзы в форме миниатюрных дельфинов, на потолке – еще один дельфин, с оседлавшей его голоногой наядой. За зеркалами – шкафы: стопки полотенец, купальный халат, шампуни, дезодоранты, морская соль, коллекция бритв – электрических и с безопасными лезвиями… – Как в лучших домах Нью-Йорка, – пробормотал Каргин, соскабливая с физиономии щетину. Он принял душ, пошарил в шкафчиках, нашел бактерицидный пластырь и залепил царапину под ребрами. Потом переоделся, проверил, что карточки и паспорт с дюжиной виз на месте, и ничего не подмокло за время странствий в лесах и болотах. Сунул бумажник в карман, напялил берет, полюбовался на себя в зеркале. Выглядел он орлом – ни дать, ни взять, майор с “волосатой лапой”, коего, в обход завистливых сослуживцев, произвели в подполковники. Все это заняло минут тридцать, а больше он не осмелился отторговать у судьбы. Больше и не нужно. Полчаса – приличный срок; надо думать, бельгиец со своими молодцами уже карабкается в трубе и, может быть, преодолел ее наполовину. При этой мысли настроение у Каргина поднялось, он лихо заломил берет, промурлыкал: “Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…” – и вышел в коридор. Крепыш, подпирая стену, дымил сигаретой. – Куда теперь? Наверх? – Да, сэр. Если только не желаете перекусить, Сандвичи, кофе, сок, фрукты… – Перебьюсь, – сказал Каргин и повернул к лестнице. Тут ничего не изменилось. Мраморные ступени по-прежнему окутывал ковер – правда,немного затоптанный и в бурых пятнах; шеренга бронзовых римских воинов поддерживала перила, Марс грозно хмурился и тряс башкой в гривастом шлеме, Вулкан бил молотом по каменному мечу, Минерва целилась копьем в потолок, да все не могла дотянуться. Около статуи бога войны устроился очередной крепыш – с сосредоточенным видом подбрасывал и ловил в ладонь гильзу от автоматного патрона. Наверху по эспланаде гулял легкий бриз, шелестел листьями в древесных кронах, рябил поверхность воды в пруду, баюкал амазонскую красавицу-кувшинку. Тут тоже ничего не изменилось. Слева, на хозяйской половине, окна были задернуты шторами, справа, в компьютерном центре, за водопадом виноградных лоз просвечивали угловатые силуэты – сейфы, шкафы, столы со слепыми глазницами мониторов и вмурованная в стену печь. Каргин огляделся. Скамейки под пальмами, строй мандариновых деревьев, зеленый занавес лозы и полосатый тент, как парус над ладьей викингов… Мирный пейзаж, знакомый! Лишь корпус “Кяманча”, бугрившийся за павильоном, казался тут абсолютно лишним – будто клякса, посаженная реставратором-халтурщиком на полотне великого мастера. Пилот копался у “помела”, что-то перекладывал или искал в пассажирском отсеке, часовой, с висевшим поперек живота автоматом, бродил у лестницы. С губ его свисала сигарета. – К шефу, – коротко сказал провожатый Каргина. Часовой повел стволом. – Мистер Мэлори в кабинете. Прошу вас, сэр. Каргин, бросив жадный взгляд на черную тушу вертолета, направился к дверям. Ветер подталкивал его в спину, играл полами пиджака. Южный ветер, еще сохранивший прохладу антарктических льдов. В комнате с распахнутой настежь дверью тоже было прохладно. Патрик и Мэлори сидели за столом, на этот раз не загроможденным книгами – на полированной поверхности, рядом с пепельницей, лежал только большой, плотно набитый синий конверт. Мэлори курил сигару; старик, вытянув ноги и прикрыв глаза, откинулся в кресле. Прядь рыжих, с проседью, волос свисала на лоб, лицо казалось побледневшим, но в остальном он выглядел как обычно, будто рай на острове Иннисфри все еще существовал, такой же щедрый, безопасный и невинный, как пару дней назад. "Вот старый дьявол!.. – подумал Каргин с внезапным всплеском неприязни. – Все ему по барабану! Ничем не прошибешь!” Мэлори уже направлялся к нему, с широкой улыбкой на устах и распростертыми объятиями. – Отлично выглядишь, сынок! На миллион долларов! – Благодарю. Вы тоже. Особенно мистер Халлоран, – взгляд Каргина обратился к креслу. Коммодор похлопал его по спине. – Нет больше мистера Халлорана, мой мальчик. Увы! Расстался с жизнью и скоро будет захоронен, прямо на месте трагической гибели. Под орудийный салют, с приспущенными знаменами… Толпы репортеров, плач безутешных друзей, поминальная служба, мраморный саркофаг над обгорелой плотью да бетонными обломками, и так далее… Все – по высшему разряду! Старик в кресле кивнул. Вероятно, это полагалось считать знаком согласия, а заодно – и приветствия. – Если мистера Халлорана нет, если рыдания смолкли и траурный марш отзвучал, то что остается? – спросил Каргин, озирая комнату и невзначай поглядывая на часы. – Чем утешимся мы, живые? К примеру, вы и я? Коммодор загадочно усмехнулся. – Я буду знать, что мой старинный друг и покровитель благоденствует на далеком острове – не на этом, а на другом, однако не менее прекрасном. Там все уже подготовлено – дома, дороги и сады, порт, аэродром, надежная охрана… И там его поджидают. – Остин Тауэр? – будто по наитию вырвалось у Каргина. – Остин Тауэр, Квини, Магуар и другие доверенные лица, к которым вскоре присоединится Спайдер. Ну, а я…– лицо Мэлори вновь расплылось в улыбке, – я, как говорилось выше, буду знать, что мой покровитель живет в покое и безопасности, и не оставляет нас своими мудрыми советами. Каждый из них мы непременно исполним. Точно и в срок! Тем более, что мешать некому – наш молодой президент мистер Паркер уже поет псалмы у ног Господних… Помилуй и спаси его, Творец! – Для вас это большое утешение, – согласился Каргин. – А что приготовлено для меня? Он снова взглянул на часы и отметил, что Кренна минут через двадцать будет в колодце мусоросборника. Может быть, чуть запоздает – все-таки с ним двое раненых. Раненых, однако вполне боеспособных… Коммодор, отложив сигару, переглянулся с Халлораном. Казалось, они молчаливо советуются о чем-то – возможно, об условиях нового контракта или о том, надо ли вообще предлагать его Каргину. Затем послышался скрипучий голос старика: – Скажи ему, Шон. Я полагаю, время. Мэлори кивнул. – Время, так время…– огладив голый череп, он Взял сигару, затянулся, выпустил струйку дыма и поглядел на Каргина – пристально, многозначительно. Потом сказал: – Ты, мой мальчик, теряешь хозяина, но ты смиришься с этой потерей. Смиришься, так как получишь нечто гораздо большее. Мистера Халлорана нет – нет для деловых кругов и мировой общественности, для завистников и конкурентов, для журналистов, торговых партнеров и возможных мстителей, и нет для тебя. Но, в отличие от перечисленных выше, ты кое-что приобретешь…-коммодор торжественно расправил плечи и, взмахнув сигарой, проложил серый дымный след, нацеленный на Халлорана. – Вот оно, твое приобретение, сынок! Старый добрый Патрик… Твой Дед! Зубы Каргина лязгнули, и где-то под сердцем зародилась и стала расти и шириться холодная пустота. Дед!.. Надо же – дед! Только деда-людоеда ему не хватало… Он покачнулся, оперся кулаком о стол, чувствуя мерзкую слабость в коленях; на миг лицо Халлорана с колючими, как острия штыков, зрачками завертелось перед ним и ринулось навстречу, будто футбольный мяч к незащищенным воротам. Он прерывисто вздохнул и вытер пот со лба. – Кажется, мальчик удивлен, – раздался скрипучий голос. – Ничего, отойдет, – это был Мэлори, лысый хмырь. – Ваша порода крепкая, Патрик. Тем более, если смешать подходящий коктейль. Русская водка, ирландское виски… не разбавляя тоником… – Нечем было разбавлять, – снова голос Халлорана. – Ни водки не было, ни виски… Ты, Шон, не представляешь, что пили тогда в Москве. Спирт, неразведенный спирт! Однако закуска была неплохая. – Хр-р…– выдавил Каргин, – хр-р…– он прочистил горло и поднял глаза на Мэлори: – Чтоб мне к Хель провалиться! Это что у нас, шутки? Какого дьявола? Откуда?.. – Отсюда, – сообщил коммодор, игриво похлопав себя пониже живота. – Ты покопайся в своей родословной, мой мальчик. Может, сообразишь! Долго соображать не пришлось. – Бабка Тоня… Переводчица… – Я звал ее Тони, – каркнул Халлоран. Лицо его на мгновение смягчилось. — Она работала в нашем посольстве и, думаю, в ГПУ… У нее были волосы как золотая паутинка… У твоей матери похожие? Каргин не ответил. Самообладание постепенно возвращалось к нему, а в месте с ним и мысль, что ничего, по сути дела, не меняется. Сидевший в кресле старый хищник мог заказать его с такой же легкостью, как Паркера, Араду и всех остальных своих родичей, рыжеволосых и сероглазых, не взирая на возраст и пол. Но пол, возраст и кровная связь все же имели для него значение – такое же, как для турецкого султана, определяющего преемника среди сыновей, племянников и внуков. Эта аналогия почти развеселила Каргина. Он подумал, что все свершилось в лучших восточных традициях: турнир завершен, преемник избран, и конкуренты ликвидированы. – Если с лирикой все, то можем переходить к делам? – коммодор шагнул к столу, сдвинул синий конверт и под ним обнаружился еще один, желтый. – Я Думаю… – Минутку, – прервал его Каргин. – С лирикой все, но есть кое-какие вопросы. Это прекрасно, сэр – вдруг обрести старого доброго деда. Но если так, я получил и других родственников, причем безвременно усопших… Целый взвод! – Ну, взвод – это сильно, сказано. Двух, мой дорогой, всего лишь двух. Если я правильно понял, тебя интересуют кое-какие семейные дела?.. – дождавшись, когда старик кивнет, Мэлори продолжил: – Ну, рано или поздно, тебя придется посвятить… почему же не сейчас? – стряхнув пепел с сигары, он поднял глаза к потолку; его лицо стало задумчивым, будто коммодор подыскивал нужные слова. – Так вот, главное дело в том, что мой покровитель и твой дед весьма озабочен проблемой преемственности. Он еще бодр, но понимает, что корпорацию, основанную предками, надо передать в твердые руки. Твердость – это важнейшее условие, сынок; всему остальному можно научиться, но Гарвард и Йель не прибавят ума и силы, и, если хочешь, необходимой жесткости. Надо, чтобы люди, конкуренты и партнеры, ощущали твою силу, в этом залог успешного бизнеса, В этом и в умении ждать и беспощадно торговаться, понимаешь? Взять за горло в нужный час и выдавить побольше крови… Каргин кивнул. Ничего нового сказано не было. Вот персы и арабы… У арабов – танки. Продай персам орудия и жди, пока арабы не лишатся танков. Тогда продай им вертолеты и снова жди, пока персам не понадобятся “стингеры”. Продай их. По самой высокой цене. Когда задет престиж, денег не считают. – Ни Боб, ни Хью такими качествами не обладали, – произнес коммодор, задумчиво разглядывая тлеющий кончик сигары. – С большим самомнением, но слишком слабые и опасные, каждый в своем роде, ибо они претендовали на первую роль… И потому – мир их праху! Ты – иное дело. Ты – солдат, привыкший к жестокости, знающий цену крови. Ты доказал свое право на трон! – он вскинул взгляд на Каргина. – Мы долго тебя искали, сынок, и не жалеем о. потраченных усилиях. Ты, похоже, пришелся ко двору. Ты – Халлоран, и ты справишься! Ты будешь стоять во главе могущественной империи, сынок! Не сейчас, со временем… Но и сегодня ты кое-что получишь, – коммодор потянулся к синему конверту. – Сегодня – Европа, завтра – мир, – пробормотал Каргин. – Ну, ладно, Паркер с Арадой не годились в фюреры, и им снесли башку… А Тэрумото тут при чем? Тоже провинился? Мэлори покачал головой. – Нет. Способный парень, перспективный, преданный… Я сожалею, что его убили. Лет через двадцать мог бы претендовать на мое место, и тандем бы у вас получился неплохой… Ну, factum est factum, как говорили в Риме! Что сделано, то сделано. – В Москве говорили точней, – произнес Халлоран, пошевелившись в кресле. – Точнее и жестче. Сейчас я припомню…– он прикрыл глаза и с заметным акцентом произнес по-русски: – Льес рубьят, шепки летьят…– потом, кивнув с довольным видом, распорядился: – Пора заканчивать, Шон. Я устал, и у тебя дела – там, в кратере… Пусть твои люди зальют напалмом лес и выжгут, если необходимо. Ни-кто не должен ос-тать-ся в жи-вых… Ни-кто! – каждый слог сопровождался ударом сухой ладони по подлокотнику. "Не напасешься напалма, дедуля”, – злорадно подумал Каргин, взглянул на часы и прислушался. Но на эспланаде царила тишина, и часовой по-прежнему торчал у лестницы. – Все будет сделано, Патрик, – Мэлори придвинул к себе конверты, взял желтый, набитый не очень туго, и продемонстрировал Каргину. – Что ж, приступим к делам… Здесь – завещание твоего деда, подписанное и заверенное пару месяцев назад, сразу же после того, как мы тебя отыскали. Согласно этому документу, его наследницей становится мисс Мэри-Энн, но при том непременном условии, – коммодор повысил голос, – что ей подберут достойного супруга. Здесь же – доверенность супругу на управление контрольным пакетом акций, сроком на девяносто девять лет. Доверенность будет подписана счастливой новобрачной, когда отзвонит свадебный колокол… Ты ведь не против венчания в церкви, мой мальчик? Если желаешь, по православному обряду… – По католическому, – прервал Патрик. – Это надежней. – Ладно, по католическому, – согласился Мэлори, – хотя я разницы не вижу. Ну как, подходит? – он помахал желтым конвертом будто морковкой, подвешенной у носа Каргина. – Есть одно препятствие, – откликнулся тот. – Я, видите ли, мусульманин. Правда, необрезанный… Может, обвенчаемся в мечети? – Мусульманин? И когда ты успел? – брови Мэлори приподнялись. – Ну, ладно, ладно, я понимаю… мисс Мэри-Энн не лучшая кандидатура в супруги… прямо скажем, не подарок, – он отложил желтый конверт и придвинул к себе синий. – На этот случай есть у нас запасной вариант, более сложный в юридическом плане, зато без семейства Паркеров. Твой дед тебя усыновит. Все документы – здесь, – коммодор похлопал по конверту. – Все, включая новое завещание и просьбу о натурализации в США. Кстати, натурализация – это отдельный и самый простой вопрос: ты получишь гражданство как супруг миссис Алекс Керк-Халлоран, в девичестве – Кэтрин Финли. Очаровательная девушка, сынок, и очень неглупая. Ты с ней, кажется, свел знакомство? Или я не прав? Каргин машинальным жестом погладил рубец на скуле. Слова Мэлори пробивались к нему сквозь ватный туман, повисший над воображаемой ареной цирка; он все еще был в клоунском колпаке, и хитрец-шталмейстер искушал его и подталкивал, словно Иванушку-дурачка, к камню на распутье трех дорог. Налево пойдешь – рыжую ведьму найдешь, направо – страстную калифорнийскую царевну, и в обоих случаях – клад Кощея Бессмертного. А что потеряешь? Самую малость: имя свое и место в мире, которого так и не нашел… Зато теперь найдешь; кощеев наследник сам становится Кощеем. Был, разумеется, и третий путь, прямой и узкий, как труба мусоропровода, но тут не все зависело от Каргина. “Что-то басурмане не торопятся”, – подумал он, тайком посматривая на часы и прикидывая, сумеет ли потянуть время еще немного. – Ну, что скажешь? – поторопил его Мэлори. Каргин усмехнулся. – Второй вариант, пожалуй, предпочтительней. Только как к нему отнесется Мэри-Энн? И ко всему остальному, что случилось на острове? – Если станет твоей женой, промолчит. А если не станет, тоже будет молчать, иначе попадет в психушку к матери, – заметил коммодор. "Или произойдет несчастный случай”, – добавил про себя Каргин, а вслух поинтересовался: – Девушки знали? Кэтрин и Мэри-Энн? Знали, кто я такой? – Мисс Паркер – безусловно, нет. А мисс Финли…– коммодор описал сигарой изящную восьмерку. – За нее не поручусь. Умная малышка! И очень наблюдательная… Могла заметить твое сходство с Робертом. С покойным Робертом, – уточнил он. Он говорил что-то еще, но Каргин не слушал, а размышлял на темы вроде бы отвлеченные, но все же имевшие отношение к делу. Сперва – о своем родстве с Нэнси; получалось, что она приходится кузиной его матери, а сам он – ее троюродный племянник; правда, с учетом того, что Халлоран и Оливия Паркер – сводные брат и сестра. Затем мысли его переключились на Патрика. Волк с железным сердцем! Такой своего не упустит, да и чужого тоже… Он украдкой разглядывал его костистое лицо с рыжими бровями и ртом, будто прорубленным ударом топора, и думал, что по капризу этого старца погибли двести с лишним душ, и среди них – его кровные родичи, сын и племянник. Не считая любимого внука, прибывшего из российских палестин… Внук Алекс Твердая Рука… А мог ведь запросто отдать концы, если б не опыт, не выучка и удача. То, о чем толковал коммодор: умение ждать, взять врага за горло в нужный час и выдавить побольше крови… Ему послышался какой-то шорох – то ли тихие шаги на лестнице, то ли ветер прошуршал в листве. “Пора, – мелькнула мысль. – Пора бы Кренне объявиться и получить по векселям”. Он шагнул к Мэлори, взял у него синий конверт, взвесил в ладони, нахмурился и опустил на стол. Затем повернулся к старику. – Предположим, все это правда. Предположим, я в самом деле ваш потомок и наследник. Предположим… А теперь представим, что я отверг наследство и пожелал уйти. Удалиться тихо-мирно, без семейных склок и драм… И что же будет? – он выдержал паузу, потом бросил взгляд на часового за распахнутой дверью и повторил: – Что будет, я спрашиваю? Отправите меня в психушку? Или прикажете убить? Веки Халлорана приподнялись, лицо дернулось, окаменело, и Каргин вдруг с пронзительной ясностью понял, что не дождется пощады, а только станет из внука прежним наемником, а из наемника – трупом. На мгновение в комнате воцарилась тишина; старик мрачно молчал, но всем своим видом показывал, что этот мир не предназначен слабакам, что жизнь – штука жестокая, скверная, и в ней нет. места родичам, а только деловым партнерам. Мэлори швырнул сигару в пепельницу и попытался смягчить неловкость. – О чем ты толкуешь, мой мальчик? Богатство и власть идут тебе в руки, не говоря уж о красивой женщине… Не той, так этой… Что еще надо? Надо брать. Другие варианты исключены. – Исключены! – каркнул из кресла старик. – Он это понимает, Шон, он понимает… Ну, ничего!.. Как говорят у русских, перемелется – будет мука. Слабый треск где-то на лестнице, будто разорвали суровое полотно… Часовой покачнулся и стал оседать на каменные плиты эспланады. – Других мелите, а я на муку не гожусь, – буркнул Каргин и бросился к выходу. Мэлори шагнул следом, расставляя руки, словно хотел задержать его или оградить от неизбежных неприятностей – к примеру, от случайной пули в лоб. – Погоди! Ты не понимаешь… – Заткнись, Шон! – раздался резкий голос старика. – Слышишь, стреляют… Вызови охрану! Быстро! "Если есть кого вызывать!” – со злорадством подумал Каргин, устремившись к вертолету. Часовой лежал мешок-мешком, на обеих лестницах топали и орали уже не скрываясь, и сквозь лязг и грохот он различил голос Кренны: кого-то тот приказывал добить, кому-то – занять оборону и держаться, пока не возьмут заложников. Пилот “Команча” метнулся ему навстречу, вскинул оружие, узнал и крикнул: – Что происходит, сэр? – Завертелись мельницы Господни, – пояснил Каргин и рубанул его за ухом. Кабина была широкой, почти с круговым обзором, кресло – удобным, все рычаги и кнопки – под руками и на привычных местах. Он взлетел; не так стремительно и лихо, как получилось бы у Гормана, но и не хуже, чем девять пилотов из десяти. Каменный полуовал эспланады медленно качался и кружился внизу, телескоп, будто пушечный ствол, следил за ним стеклянным глазом, пальмы пустились в хоровод, и всюду мелькали темные фигурки – точь-в-точь как стая крыс у мусорного бачка. В парке и на дворцовой лестнице тоже царила суматоха: метались среди деревьев парашютисты, кто бил очередями по розовым кустам, кто подбирался к окнам, а на поваленного сфинкса взгромоздился офицер и что-то орал, размахивая руками. Видно, его услышали – отделение десантников, человек пятнадцать, подтянулось к дверям виллы. Каргин выровнял машину, поймал в прицел жилую часть пентхауза и закусил губу; его ладонь нависла над гашеткой. Сейчас он мог закончить то, что началось два дня назад – одно касание, и грохнет взрыв, и обгорелая плоть смешается с обломками и пылью, и опустеет сцена – ни гастролеров-басурман, ни фокусников, ни шталмейстеров… Мир их праху, как заметил коммодор. Мир, да не для всех; пусть теперь попрыгает в том цирке, где зрители с рогами и хвостами. Вместе с добрым старым Патриком… Он мог это сделать. Мог бы… Не дозволяла кровь, ни русская, ни ирландская. Голос ее был силен – сильнее обиды и жажды мести. – Эх, бабка Тоня, бабка Тоня… Знала бы, с кем загуляла…– пробормотал Каргин и перевел прицел. – Говоришь, льес рубьят, шепки летьят?.. Ну, вот тебе за одну из щепок… За Тэрумото… Палец его коснулся гашетки, и пламя взвилось над антенной ретранслятора; кровля просела, стебель серебряного цветка переломился, ажурная чаша рухнула вместе с бетонными плитами вниз, сокрушая столы, шкафы, компьютеры и сейфы. Взрыв раскатился гулким эхом, ветер подхватил черный дымный шлейф и поволок его, разматывая в кисею, к полупрозрачным облакам. Рыжие огненные языки заплясали над северной часть пентхауза, и Каргин, выплескивая ярость, послал туда еще один снаряд. Потом резко набрал высоту и повернул на север.* * *
Остров Иннисфри, открытый в Семнадцатом веке испанцами и названный ими Мадре-де-Дьос, таял в морской дымке, сливался с горизонтом, уходил из сердца и из памяти. Тысяча миль к западу от побережья Перу, две с половиной – к востоку от Маркизского архипелага, семьсот-восемьсот – к югу от Галапагосских островов… Призрак, а не земля… Особенно в те мгновенья, когда несешься над океанским простором, почти забыв, что где-то есть материки, другие острова, прочная твердь горных хребтов, рассыпчатый песок пустынь, леса и степи, города и веси… "Куда же мы полетим?.. – спросил себя Каргин. И ответил: – Лучше бы в наши края, в любое место от Кавказских гор до северных морей, от Сахалина до Карпат. Ну, раз держава сократилась, не до Карпат, а до Ростовской области. Либо, к примеру, до Смоленской… Места много, хватит для посадки, а вот в один прием не доберешься. Даже на этом чертовом “помеле” и с полными баками… А баки, – тут он покосился на указатель расхода топлива, – наполовину пусты. Значит, прощай Сахалин, Кавказ и даже Маркизский архипелаг, и остаются у нас Галапагосы либо Перу. В Перу, пожалуй, делать нечего, а вот Галапагосы подойдут. Скалы да черепахи, край земли, тихая юдоль… Чья она? Вроде бы эквадорская…” Каргин полез в бумажник, вытащил паспорт, полюбовался на десяток виз, а особенно – на эквадорскую, с орлом над огнедышащей горой. Спрятал документы, переключился на автопилот, пошарил под сиденьем, нашел НЗ, поел. Потом опять задумался о маршруте. Галапагосы, конечно, место тихое, как раз для подозрительных иностранцев, но до Москвы оттуда не долететь. А вот в Панаму – можно. В Панаму, Эквадор или Колумбию, а там – на Кубу, к инструктору дону Куэвасу… Хороший мужик! Отчего бы с ним не повидаться? Вспомнит, примет, обласкает и посадит в самолет, и через десять часов – Москва! Жаль, что мачете отняли, был бы ему подарок… Каргин задремал. И снились ему на этот раз не афганские горы, не равнины Ирака, не ангольские джунгли, не остров Иннисфри и даже не Париж, а иные края, то снежные, то залитые солнцем, то сумрачные под дождевыми облаками, но в каждом обличье – прекрасные. Снились лица друзей, живых и погибших, снились отец и мать и дон Куэвас, тоже чем-то походивший на отца; они кивали Каргину и что-то шептали – что именно, расслышать он не мог, но понимал, что его поддерживают и одобряют. Потом чей-то голос внятно сказал: там, где ты вырос, твое место. Не нашел – ищи! Но помни: в родных краях и вороний грай слаще пения соловья. Он проснулся и взглянул на солнце. Огненный диск уже висел на западе, и от него тянулась по морю сверкающая дорожка – будто пояс из серебра, охвативший весь обитаемый мир. Пройди по ней, и придешь в сказочное царство-государство, где нет ни убийств, ни насилия, ни лжи, где все люди – братья, где реки текут молоком и медом, а на зеленых холмах сверкают хрустальные замки… Мечта! Но думать о ней было приятно. Каргин улыбнулся. Ровно гудели моторы, и ветер был попутный.Михаил Ахманов Последняя битва
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА И АВТОРА
Не удивляйтесь, дорогой читатель, такому странному заголовку; со мной уже бывали метаморфозы, превращавшие меня из переводчика в автора и из автора в переводчика. Случилось такое и в этот раз. Причину я постараюсь объяснить в конце предисловия, а сейчас займемся Стерлингом Ланье, автором номер один, и его творением — двумя романами об Иеро Дистине. Первая книга о приключениях Иеро, воина-киллмена и священника Универсальной Кандианской Церкви, выходила в серии фэнтези издательства «Северо-Запад» дважды, в 1991 и 1992 годах. То было первое знакомство наших любителей фантастики со Стерлингом Ланье, канадским автором, чье творчество до того момента оставалось в России совершенно неизвестным. Судя по отзывам и тиражам (составившим в общей сложности триста тысяч экземпляров), роман понравился; в 1994 году он был переиздан вместе со второй книгой издательствами «Сфинкс Спб» и «Эгос», а в 1997 году издательство «Северо-Запад» выпустило вторую книгу отдельно. Так началось и продолжилось наше знакомство с Иеро Дистином и другой примечательной фигурой — Стерлингом Ланье, его творцом. Ланье родился в 1927 году и долгое время жил во Флориде, вместе со своей женой и двумя детьми. Он получил гуманитарное образование и по университетской специальности является антропологом и археологом — хотя, вероятно, в этой области впоследствии не работал. Судьба распорядилась иначе: Ланье сделался скульптором, редактором и писателем. Можно сказать, что на всех этих поприщах ему сопутствовал успех — так, его скульптуры экспонируются в нескольких музеях США, в том числе и в Смитсоновском Институте, а редактировал он не что-нибудь сиюминутное и пустяковое, а «Дюну» Фрэнка Херберта. Но написал Ланье немного, и два романа об Иеро Дистине стали самыми крупными и самыми лучшими его произведениями, подарившими ему известность и членство в ассоциации американских писателей-фантастов. Хотя впервые роман Ланье вышел в свет на русском языке в упомянутой выше серии фэнтези, он, пожалуй, лишь наполовину относится к этому сказочному жанру. На мой взгляд, обе книги об Иеро Дистине являются скорее классическим образцом приключенческой фантастики, так как за всеми упоминаниями о колдунах, Нечистом и злом волшебстве стоят совершенно конкретные вещи — мутации после ядерной катастрофы и климатические перемены, усиление телепатической мощи разумных существ, борьба за власть между сторонниками Добра и Зла. Безусловно и то, что в рамках приключенческой НФ роман принадлежит к разновидности жанра, повествующей о непобедимых суперменах, и что Иеро Дистин сродни таким героям, как Конан Варвар и Ричард Блейд. О чем же говорится в романах Ланье? В них описан мир семь тысяч четыреста семьдесят шестого года от рождества Христова — мир, переживший ядерную и биологическую катастрофу, которую наши далекие потомки называют Смертью. Смерть пришла на Землю за несколько тысяч лет до эпохи Иеро (предположительно — в наши времена); она уничтожила основные населенные центры и большую часть человечества. Затем на планете началось потепление, южная Канада и север США, где происходит действие романов, покрылись джунглями, а животные, в результате вызванных радиоактивностью мутаций, чудовищно видоизменились. Часть из них обрела разум; так появились новые племена и народы, враждебные человеку или готовые вступить с ним в союз. Изменились и люди. Хотя внешне они остаются похожими на предков, мутации пробудили в них ментальный телепатический дар, способность к предвидению будущего и другие паранормальные таланты. В целом же Североамериканский континент превратился в полуобитаемую «терра инкогнита»: в его северной части возникла структура Аббатств с республиками Метс и Атви, в районе Великих Озер — империя Зла, возглавляемая темными адептами, слугами Нечистого, а на атлантическом побережье — несколько королевств, населенных потомками чернокожих. Метс и Атви, объединенные в Кандианский политический и религиозный союз, борются с Нечистым и Темным Братством, но силы их на исходе; лишь древние машины и приборы, сохранившиеся в разрушенных городах, могут спасти северян. На поиски этих сокровищ и отправляется пер Иеро, боец, священник и заклинатель, владеющий могучим телепатическим даром. Но ищет он не оружие, а знания — компьютеры, с помощью которых Аббатства собираются спланировать стратегию борьбы с Нечистым. Странствуя по берегам Внутреннего моря, образовавшегося при слиянии Великих Озер, Иеро спасает юную чернокожую девушку-рабыню Лучар, принцессу из Д'Алви, одного из королевств, лежащих на побережье Лантика, прежнего Атлантического океана. Затем он попадает в плен к злобным колдунам Темного Братства, сражается с ними, бежит и спасается от погони с помощью старого эливенера брата Альдо. Эливенеры — древний орден ученых и хранителей знаний, верных Одиннадцатой Заповеди; ее нет в Библии и звучит она так: «Да не уничтожишь ты Земли и всякой жизни на ней». Хотя эливенеры придерживаются принципа непротивления злу насилием, Альдо готов заключить союз с Аббатствами, так как, лишь объединившись, Метс, Атви и эливенеры могут противостоять Темному Братству. Его адепты стремятся разыскать древние военные базы с ядерными ракетами и окончательно уничтожить жизнь на Земле. Три путника, Иеро, прекрасная Лучар и брат Альдо, отправляются на юг в поисках древних знаний. Они путешествуют вместе с Клоцем, огромным полуразумным лосем, скакуном Иеро, и Гормом, молодым медведем-телепатом, представителем одной из новых мыслящих рас; к ним присоединяются капитан Гимп и экипаж торгового судна, на котором странники пересекают Внутреннее море. Преодолев многие опасности, они добираются до подземной ракетной базы. Но там их подстерегает Дом, жуткий мутант, страшное чудовище, владеющее неодолимой ментальной силой — и, вдобавок, по их следам спешит целое воинство Темного Братства. К счастью, Иеро удается столкнуть злых колдунов с мутантом, и пока они выясняют отношения, он ухитряется взорвать базу. Древнее чудовищное оружие гибнет, но Лучар спасает самое дорогое — знания; она разыскала и вынесла из мрачного подземелья книги, в которых изложены принципы конструирования компьютеров. Первый роман заканчивается на том, что путники расстаются. Горм возвращается к своему медвежьему народу, дабы склонить его к союзу с людьми; брат Альдо идет на север, в республику Метс — он должен доставить туда драгоценные книги и согласовать совместные действия метсов и эливенеров против Темного Братства. Иеро и Лучар, ставшая его возлюбленной, вместе с верным Клоцем, отправляются на восток, в негритянское королевство Д'Алви, на родину прекрасной чернокожей принцессы. Дальнейшие приключения Иеро описаны во втором романе. Он становится счастливым супругом Лучар и принцем, но герцог Амибал Азо, претендующий на трон Д'Алви, поднимает мятеж и разбивает королевское войско. Лучар, с остатками армии, скрывается в джунглях, а Иеро враги захватывают в плен и лишают ментальной силы с помощью наркотика. Он бежит и, после долгих странствий, попадает во владения Солайтера — огромной разумной улитки-телепата. Это удивительное существо помогает беглецу, восстанавливает его телепатический дар, после чего Иеро, вернувшись к Внутреннему морю, встречается с армией соплеменников и принимает участие в битвах, уничтоживших силы Темного Братства. Отмечу, что второй роман безусловно предполагает продолжение, так как Иеро, разгромив полчища слуг Нечистого на севере, отправляется на юг, чтобы спасти свою принцессу. Подобный конец можно рассматривать как заявку на третью часть сериала, которую Ланье так и не написал. Подождав недолгое время, лет десять-одиннадцать, я решил закончить эту историю по просьбе наших российских издателей, «АСТ» и «Северо-Запада», а заодно подготовить новый русскоязычный вариант романов Ланье. В этот момент я превратился из переводчика в автора, и должен признаться, что эта метаморфоза случилась под несомненным ментальным воздействием Солайтера, той самой разумной улитки из второго романа. Напомню, что сказало это мудрое существо в самом конце пятой главы: «То, что отложено, надо закончить, иначе в мире воцарится беспорядок». Я с ним полностью согласен. Михаил Ахманов Санкт-Петербург, август-сентябрь 2000 г.ПРОЛОГ
В северный лес и великие южные джунгли, в просторы саванны и бесплодные плоскогорья запада пришла весна. Она не слишком отличалась от зимы, ибо в году семь тысяч четыреста семьдесят девятом от рождения Спасителя климат планеты сильно изменился; потепление, наступившее в начале нового межледникового периода, вызвало бурную вспышку жизни, какой Земля не знала с легендарных времен, с эпохи Гондваны и Пасифиды. Льды а Арктике и Антарктике растаяли, океан поглотил низменные континентальные берега, Тайг, дремучий хвойный лес, шагнул на север, вытеснив тундру, тропические джунгли затопили мир до уровня сороковой параллели, а на экваторе, в районах бывших могучих рек Конго и Амазонки, протянулись бесплодные, сожженные солнцем пустыни. Человек тоже внес свою лепту в эти метаморфозы; после Смерти — атомного побоища, произошедшего пять тысячелетий тому назад — развитие флоры и фауны под действием радиации породило множество новых, чудовищных форм; мутировавшие деревья теперь достигали сотен футов в высоту, гигантские животные, подобные бронированным древним динозаврам, бродили среди лесов и степей, жуткие монстры таились в руинах древних городов и в радиоактивных пустынях, мерцавших по ночам зловещими голубоватыми огнями. Кроме того, люди, изрядно уменьшившиеся в числе и растерявшие большую часть технологических достижений, уже не являлись единственными носителями разума; в результате мутаций возникли новые расы разумных существ, иногда враждебные человеку, часто не дарившие его вниманием, и в очень редких случаях готовые объединиться и сотрудничать с ним, чтобы вместе противостоять Нечистому. Да, мир изменился! Однако, как и в древние времена, он был разделен и расколот, и Добро по-прежнему мерилось силой со Злом в кровопролитных беспощадных битвах. Но что касается климата, он, безусловно, сделался мягче, и в главных зонах обитания, в Евразии и на Североамериканском материке, лето было долгим и жарким, а зима — почти бесснежной и, на первый взгляд, не слишком отличавшейся от осени и весны. Тем не менее деревья и травы, сохранившие память о четырех временах года, все еще покорно внимали весеннему зову. В этот период соки в огромных соснах Тайга струились быстрей, дубы, березы и клены красовались в свежем лиственном уборе, бамбук выпускал молодые ростки, мох у подножий пальм и хвойных деревьев вздымался пышной зеленой периной, а цветы казались ярче и благоухали сильней. В ту весну на болотах и полянах Тайга, и в южных лесах, увитых лианами, большая часть цветов имела кровавый оттенок, алый или багряный. Простые люди в Республике Метс и в Южных Королевствах, фермеры, трапперы и рыболовы, при виде их творили крестное знамение, говоря, что это злые цветы, возросшие на крови слуг Нечистого и их пособников, мерзких лемутов. Священники, как в северных Аббатствах Канды, так и в Д'Алви, Кэлине, Чизпеке и других приморских странах, хранили молчание на сей счет. Да и что они могли сказать? Пути Господни неисповедимы, и, быть может, Творец действительно слал знамение, дабы напомнить Нечистому, что гнев Его колеблет горы, что мощь Его не иссякла и выбор орудий Его воли не оскудеет никогда. Во всяком случае, пер Иеро Дистин, священник, воин и принц Д'Алви, думал именно так. Прошло полтора года с тех великих дней, когда при штурме Нианы был разгромлен Желтый Круг союза Темных Мастеров, а затем, в битве на озере Слез, флот, конница и стрелки метсов уничтожили два северных Круга, Красный и Голубой, вместе с их вождями и ордами лемутов, людей-крыс, Волосатых Ревунов, псов Скорби и прочей нечистью. То были дни торжества для Иеро, ибо Республика, которой он служил силой рук и разума, наконец сокрушила адептов Нечистого, поставив точку в многолетнем споре: кто будет властвовать над континентом от океана Лантика до западных гор и соленых вод. Он бился в том и в другом сражении, он одержал победу и был награжден: Горм и двое старейшин медвежьего племени принесли ему голову С'даны, вождя Голубых, его смертельного врага. Победа, почести и посрамление Нечистого… Чего еще желать священнику и воину? Но он был также принцем и супругом. Лучар, его темнокожая принцесса, ждала в дремучих южных лесах, и ждал ее народ, изнемогавший в междуусобной резне. Вести из Д'Алви, принесенные братом Альдо, главой эливенеров, были тревожными, если не сказать больше: мятеж герцога Амибала ширился, король Даниэл, отец Лучар, страдал от тяжкой раны, а его полководца графа Гифтаха, вместе с остатками армии, мятежники оттеснили в джунгли, отрезав от побережья и помощи верных королю племен. Возможно, Гифтах смог бы справиться с Амибалом и его советником жрецом Джозато, но их поддерживал Зеленый Круг — последний, еще не разгромленный оплот Нечистого на юге. К тому же Эфраим, король Чизпека, перешел с отборным воинством северную границу Д'Алви, действуя по принципу: если соседи дерутся, самое время стащить с их стола пирог и кувшин с вином. Зная, что Эфраим законченный мерзавец, Иеро полагал, что пирогом и вином тот не ограничится; скорее, прихватит и стол со скатертью. Он собирался в Д'Алви с Клоцем, Гормом и тремя своими верными иир'ова, но судьба в лице Куласа Демеро, генерала-аббата и гонфалоньера Республики, распорядилась иначе: он отплыл из Намкуша в Ниану на паровом дредноуте, в сопровождении флотилии парусных кораблей с двумя легионами Стражей Границы. Зеленый Круг должен быть уничтожен, а прах последних Темных Мастеров развеян по ветру! Так повелели Совет Аббатств и отец Демеро, и воин-священник выполнил их приказ. Оставив небольшой гарнизон в Ниане, он двинулся на восток, к побережью Лантика, и первым ударом сбросил в соленые воды армию Эфраима. Это была славная битва, на широком песчаном пляже, под неумолчный рокот волн! Тучи стрел затмили солнце, расступились воды и дрогнула под копытами лорсов земля, когда Иеро вел кавалерию в атаку; и там, где прошли его всадники, пески из золотистых стали алыми. Весть о том, что северный принц вернулся в Д'Алви, всколыхнула всю страну; в лагерь его начали стекаться рыбаки побережья, быстроногие му'аманы, сыны Давида и отряды верных королю нобилей. Через неделю он подступил к столице с многотысячной армией, взял город и очистил его от людей Амибала и их союзников. Затем началась долгая война в джунглях; войско герцога, избегая решительного сражения, отступало на юго-запад, теряя бойцов в непролазных чащах и безводных пустынях Смерти. Иеро шел за врагом по пятам, повторяя путь, проделанный им полугодом раньше, во время бегства от слуг Нечистого; тот путь, что привел его к Солайтеру. И он знал, что ожидает Амибала в конце дороги. После шести недель преследования поредевшая армия герцога выбралась в южные степи, в благодатный край непуганных животных и ручьев с чистой кристальной водой. Здесь были хищники и гигантские травоядные звери, но Амибал их, похоже, не опасался — с его войском шли колдуны Зеленого Круга, и все живое бежало перед ними. Выбрав подходящее место среди холмов, герцог велел разбить лагерь и возвести валы; его воины, люди и лемуты, отдыхали и отъедались, готовясь к решительной битве с северянами. Их оставалось еще много, тысяч пять или шесть бойцов, чье мужество подогревали телепатическим внушением адепты Нечистого. Но из саванны явились иир'ова, и вместо битвы произошла резня. Степных охотников было всего три сотни, но Ветер Смерти летел впереди них, внушая ужас и сея панику. Они нагрянули на спящий лагерь в темноте, и воины Иеро, сидевшие у костров в двух милях от противника, слышали не звон оружия, а жуткие вопли, стоны и предсмертный хрип. Это продолжалось все ночь, а утром, когда наступила тишина, над лагерем в холмах закружили грифы-трупоеды. Иеро не вмешивался в это побоище, и ни один его солдат не обнажил в ту ночь оружие. Дети Ночного Ветра мстили Темным Мастерам за свой позор, за годы пленения и мук — мстили так, как мстит раса воинов: клыком и ножом. То было их право, и Иеро полагал, что Господь простит им жестокость. Разве не сказано в Святой Книге: поднявший меч от меча и погибнет? В резне расстались с жизнью герцог Амибал, Джозато и полтора десятка колдунов, вместе с вождем Зеленого Круга С'лорном. Войско метсов повернуло назад, к побережью; шли не спеша, прорубая в джунглях дорогу, строя из неохватных бревен форты, прочесывая лес, отлавливая и уничтожая лемутов, шайки разбойников и жутких тварей, бродивших по окраинам пустынь Смерти. Меж армией северян и Д'Алви сновали гонцы, приносили добрые вести: король Даниэл оправился от ран и энергично наводит в стране порядок; граф Гифтах занял столицу Чизпека и королевским указом назначен в тех земляхнаместником; подписан договор с Кандой, и в Южных Королевствах учреждено Аббатство святого Бенедикта — дабы способствовать служению Господу и просвещению всех сословий. Иеро, успокоившись, взял малый отряд всадников и отправился вместе с Гормом за своей принцессой. Он знал, где ее искать — к северу от нового тракта, в стране лесных дриад прекрасной Вайлэ-ри. Там он и нашел Лучар, ставшую еще прелестней и повзрослевшую, словно племя дриад вложило ей в сердце силу и мудрость великого леса. Юность ее закончилась; вместо былой девчонки Иеро увидел зрелую женщину, познавшую себя и понимающую, чего она хочет. В сущности, немногого: быть с ним, дать жизнь его детям и сделать так, чтобы страна ее процветала, забыв с войнах и происках Нечистого. На той поляне, где их когда-то усыпили зельем, подмешанным в вино, они остались на несколько дней. Счастливые дни — а ночи были еще счастливее! Но Вайлэ-ри не явилась Иеро, и ни Горм, ни он сам не смогли нащупать ее ментальных излучений; лес молчал будто вымерший, оберегая свои секреты. Лучар тоже молчала. Ни в эти дни, ни позже Иеро не узнал, как она прожила эти месяцы, о чем говорила с Вайлэ-ри и видела ли ее дитя. И х дитя… Дар, который Лучар сделала когда-то лесной королеве… Кто родился у нее, девочка или все-таки мальчик, как она надеялась? Любопытство мучило священника, но эта тема была запретной, и лишь по тому, что Лучар все чаще заговаривала о детях, он догадался, что его семя не пропало втуне. Он попробовал расспросить трех воинов, телохранителей Лучар, оберегавших ее в этом лесу, но знали они немногое — лишь то, что принцесса временами исчезала, и что в эти ночи им снились восхитительные сны, полные любовных утех с бледнокожими прекрасными дриадами. Спустя пару недель они вернулись в столицу Д'Алви, в объятия короля Даниэла и свои дворцовые покои. Жизнь постепенно налаживалась; северные воины отправились на родину, в Канду, а вместо них прибыл аббат с десятком священников; братья-эливенеры бродили по лесам в сопровождении иир'ова, разыскивали последние логовища слуг Нечистого; ученые Аббатств трудились (пока — безрезультатно) над решетчатым экраном и другими машинами колдунов, что были найдены в Ниане, Мануне и прочих местах; мастер Гимп со своей командой бороздил морские просторы на новом коробле; брат Альдо отправился вместе с Гормом к медвежьему народу; его преподобие отец Демеро занимался сразу сотней дел: следил за разработкой первых компьютеров, искал затаившихся в Канде бывших шпионов Нечистого, прокладывал линию телеграфа между Саском и Монреем, столицей Союза Атви, строил дороги и новые Аббатства на берегах Внутреннего моря. Но было что-то еще, какая-то тайная миссия, о чем Иеро слышал от разведчиков, все чаще приходивших в Д'Алви; гонфалоньер рассылал их целыми группами в Затерянные города, на юг, восток и запад, уже не опасаясь слуг Нечистого. Эти люди что-то искали, но цель экспедиций была неизвестна им самим, в чем Иеро убедился, осторожно зондируя разумы разведчиков. Может быть, цель — старинные компьютеры? Или иные чудеса былых времен, средства транспорта или устройства связи? Легенды гласили, что в древности человек умел передавать без всякой телепатии не только звуки, но целые движущиеся картины, летевшие вокруг мира на десятки тысяч миль… Это расстояние казалось Иеро огромным; даже он, лучший телепат Республики, не мог послать связное слово дальше тридцати миль. Правда, приборы Темных Мастеров, с которыми сейчас работали ученые в Саске, могли увеличить эту дистанцию в десять раз. Однако сигнал, пришедший к нему темной январской ночью, был послан не из Саска, не отцом Демеро и даже не могучим разумом Солайтера. Озеро Солайтера лежало на юге, Саск — на северо-западе, тогда как сигнал пришел с востока — мгновенный слабый импульс, кольнувший мозг Иеро отточенной иглой. Он тут же поставил защиту; это было непроизвольныи инстинктивным действием, средством предохранить свой разум от чужого вмешательства. Затем, осторожно двигаясь, чтобы не разбудить Лучар, вылез из постели, зажег свечу и сел в плетеном кресле у окна, посматривая то на звездное небо, то на свою принцессу, прислушиваясь к ее тихому дыханию. Лучар спала на спине. Кончался третий месяц с того дня, когда они узнали, что в чреве ее зреет новая жизнь; живот был еще незаметен, но все-таки она спала на спине, как предписали королевские медики. Кроме того, она перестала есть острые блюда, почти не пила вина, а неделю назад отказалась от верховых поездок на хоппере, сменив их неспешными прогулками по дорожкам дворцового сада. Иеро обратил внимание, что временами она замирает, кладет ладонь на живот и будто прислушивается, склонив к плечу головку в кольцах темных кудрей; ходила она теперь так, словно под сердцем ее покоилось сокровище их тонкого хрупкого хрусталя. Эти перемены умиляли священника; и сам он временами, закрыв глаза, чувствовал, как детские пальцы касаются щек и треплют его усы. Однако он собирался поразмышлять о сигнале… Слабый, очень слабый, пришедший с востока и будто бы сверху, из астральный просторов, усыпанных яркими звездами… Впрочем, такое предположение нелепо; кто мог говорить с ним со звездный небес, кроме Великого Создателя? И если б такое случилось, — тут Иеро перекрестился, — то мысль Творца была бы сильной и внятной, ибо Он не шепчет, а говорит со своими слугами в полный голос. Конечно, в том случае, если желает им что-то сказать… Сам Иеро не удостоился подобной чести, но пер Сагенай, юный пророк и провидец Аббатств, утверждал, что именно так приходят Откровения от Господа, и не было причин ему не верить. Что же то был за сигнал? Явно не образы и не слова, а лишь какое-то чувство, такое же смутное, как контуры здания или фигуры, скрытые туманом. Да, чувство… Какое же? Что-то томительное, неясное, будто он должен был сделать какое-то дело, да позабыл… Странно! Сейчас его главное дело — хранить свою жену, а также покой в королевстве. И с тем, и с другим он вполне справлялся без подсказок — тем более, пришедших от неведомого существа. Но это чувство, этот импульс что-то ему напоминали. Что-то знакомое, уже случавшееся с ним однажды, и тоже, кажется, во время сна… Иеро нахмурился, глядя на свечу, но мысль-воспоминание была неуловимой, как ароматный дым сгорающего воска. Так, с недовольно сдвинутыми бровями, он и шагнул к постели, а потом заснул — в уютной темноте опочивальни, рядом со своей принцессой. Прошло полтора месяца, наполненных обычными трудами и заботами, и за этот срок сигнал с небес трижды касался его разума. С небес, бесспорно! В этом уже не было сомнений, как и в определении эмоции, которую нес короткий, едва ощутимый ментальный импульс, приходивший ночью. Его звали, звали за океан, на восток! В те края, где за солеными водами Лантика лежали древние материки, Евразия и Африка, Старый Свет, прародина его далеких предков — и тех, что относились к белой расе, и тех, что пришли гораздо раньше на этот континент и назывались теперь иннейцами… Его звали настойчиво и упорно, хотя уже тысячи лет ни один корабль и ни один человек не рисковал переплыть огромный океан Востока… И еще одно стало ясно: этот ментальный импульс в самом деле оказался знакомым и был похож на зов Солайтера, тот самый, которым гигантский моллюск когда-то приманил Иеро к озеру среди пурпурных холмов. В этом таилась опасность, и священник теперь отходил ко сну в непроницаемом панцире ментального барьера. Но над своими снами он был не властен, и все чаще являлись ему в тревожном ночном забытьи два человека, два старца — аббат Демеро с пронзительным взором темных глаз, и седобородый темнокожий эливенер брат Альдо. — Океан не безбрежен, — напоминал ему аббат. — За солеными водами лежат другие континенты, мой мальчик, и ты об этом должен знать, если припомнишь, чему тебя учили. Там, в Старом Свете, престол наместника Божьего на Земле, там камни Израиля, которых касался стопой Спаситель, и там… — …источник силы темных колдунов! — нахмурившись, вторил брат Альдо. — Это не древние легенды о Спасителе и его наместниках, а истина, пер Иеро! Наше Братство имеет сведения… туманные, собранные по крохам… информацию о том, что обитель Нечистого — в той, другой половине мира. Там обитает Нечистый, нечто злобное, могущественное, страшное, но реальное, клянусь жизнью и ее Творцом! Готов ли ты отправиться за океан, чтобы померяться с ним силой? Ты, священник и воин, равного которому нет среди нас? Старцы произносили слова, которые слышал от них Иеро, отплывая с легионами Стражей из Намкуша, торопясь на выручку своей принцессе. И, спящий, он отвечал им точно так же, как в тот день: — Я пойду туда, если отец Демеро разрешит. И если мне удастся преодолеть океан. Этот сон кончался всегда одинаково: старый аббат поднимал нагрудный крест и говорил: — Хорошо, мой мальчик, ты получишь разрешение! Сразить Нечистого — великий подвиг, и я благословляю тебя во имя Господа нашего и матери Церкви! Сон, видимо, был вещим; едва наступила весна, как всадник на истомленном лорсе привез послание от отца Демеро. Тот звал своего бывшего ученика на север, но не в Саск и не вообще не в Республику, а на остров Ньюфол, безлюдный, покрытый вековечным лесом, лежащий у восточного побережья Союза Атви. Странное место для рандеву… Даже во времена до Смерти, когда этот остров был населен и назывался Ньюфаундлендом. И дело было странным; сущность его старый аббат не сообщал, предупреждая лишь, что поезка может затянуться. «Если так, — думал Иеро, седлая Клоца, — я не услышу первого крика моего сына». Эта мысль наполнила его печалью, но потом он подумал о сотнях воинов, что пали в битвах на озере Слез и в Д'Алви, о тех, кто никогда не увидит своих сыновей, о своем долге перед ними и о том, что его судьба сложилась счастливей: он был жив, силен, любим, и мог, как прежде, бороться с Нечистым. И потому, прощаясь с Лучар, он не выказал печали; осторожно прижал к себе, расцеловал и шепнул ей в ухо, что в день, когда их сын народится на свет Божий, он непременно будет с ней. Затем поднялся в седло, выехал в сопровождении немногих спутников из города и повернул на север, к Монрею, столице Атви, куда и прибыл спустя неделю. Там его поджидал корабль, чтобы доставить на остров Ньюфол, в бухту на северном побережье, носившую в давние времена имя залива Нотр-Дам. Кончался март семь тысяч четыреста семьдесят девятого года от рождества Христова…ГЛАВА 1. СНОВА В ПУТЬ
Дирижабль был огромен. Пожалуй, тут, на берегу, рядом с хижинами временного поселка, где жили мастера и воины охраны, его не с чем было сравнить — кроме, разумеется, титанических сосен, тянувших к небу темно-зеленые вершины. Четыре таких гигантских дерева, росших тесным неправильным квадратом, были очищены от ветвей и перевязаны толстыми брусьями так, что получилась причальная мачта; там, на высоте, над площадкой из плотно пригнанных досок, и покачивалось сейчас серо-голубое чудо. Иеро знал, что цвет дирижабля не случаен, а должен маскировать оболочку с гондолой на фоне небес и океанских вод. Этот летательный аппарат, принадлежавший когда-то воздушным силам США и найденный вместе с запасами топлива и баллонами с легким негорючим газом на одной из заброшенных баз, предназначался для войны, но не для битв, а для каких-то других целей, неясных лучшим ученым Аббатств. Они говорили, что он построен почти без металла, а значит, его не могли обнаружить загадочные древние приборы, существовавшие до Смерти и называвшиеся по-разному — станции наблюдения, локаторы, радары. Они говорили, что дирижабль может скрыться за облаками, подняться на десятимильную высоту или скользить над морем на высоте человеческого роста; что он способен плыть в воздушных течениях не включая моторов, и что его оболочка странным образом почти не отражает света. Еще они говорили, что этот эфирный корабль надежен и прост в управлении, так как на нем стоит компьютер, соединенный со зрительной трубой, и судно, видимо, ориентируется по компасу и звездам; если задать маршрут, компьютер сам выберет направление, отыщет воздушный поток, а в нужные моменты включит и выключит двигатели. Словом, на этом корабле можно было облететь весь мир, и Иеро не сомневался, что его предназначили для шпионажа и тайной разведки. Может быть, для чего-то еще, но только не для воздушных сражений — никакого оружия на борту не имелось. Зато, кроме компьютера, были десятки непонятных приборов с круглыми и квадратными экранами, шкалами, лампочками, кнопками и рычажками, которые приводили капитана Гимпа в состояние полного изумления. Во время тренировочных полетов что-то светилось и работало, а что-то — нет, но специалисты-радиотехники из Саска и Монрея не демонтировали ни единого устройства, хоть руки у них чесались как после пучка крапивы. Однако никто не мог сказать, какой из этих приборов необходим в полете, а без какого можно обойтись, и потому ученые не вскрыли ни единого пульта и не коснулись ни одного проводка. Вскинув голову и запустив пальцы в шерсть прижавшегося к его коленям Горма, Иеро в десятый, должно быть, раз взирал на это чудо. От медведя исходило ощущение тревоги и неуверенности, и священник постарался передать ему то восхитительное чувство, которое охватывало его в воздухе. Он летал уже четырежды, с Гимпом, братом Альдо и парой техников-наставников, и самая долгая их экспедиция, облет вокруг Ньюфола, заняла половину суток. Во время нее мастер Гимп сам поднял и приземлил корабль и управлял им в воздухе; по его утверждению, это было куда проще, чем идти против ветра на хлипком паруснике, если только не пугаться чертовых мигающих огоньков и колдовских стекляшек в пилотской кабине. Впрочем, там нашлось для него кое-что знакомое, самый главный и привычный инструмент — штурвал; и Гимп управлялся с ним с той же сноровкой, что на «Красотке джунглей», новом своем корабле. Сейчас достойный капитан сопел за спинами стоявших рядом Иеро и его преподобия гонфалоньера, то почесывая мощную волосатую грудь, то дергая свисавшую с затылка косичку, то озирая свою команду придирчивым взором. Она была немногочисленной и состояла из двух белокожих рыжеволосых парней с глазами, подобными голубоватому льду северных озер. Эту парочку, Рагнара и Сигурда, Иеро помнил еще по «Морской деве», ибо их внешность была непривычной как для метсов, так и для жителей Южных Королевств; брат Альдо считал, что они пришли с далекого севера, с огромного острова, который в эпоху до Смерти назывался Гренландией. Впрочем, старый эливенер мог ошибаться. Убедившись, что оба моряка в полном порядке, то есть трезвы, как стеклышко, Гимп оглядел пассажиров — брата Альдо и Горма — а затем пробормотал в затылок его преподобию: — Чего я не понимаю, святой отец, так это имени нашей лоханки. Вы говорили, что эти знаки у нее на брюхе читаются как «вошинтан», а это, клянусь килем и клотиком, вовсе неподходящее название для корабля! А ведь известно, как назовешь, то и получишь! Что такое «вошинтан»? Да ничего! А вот «Небесный архангел» или хотя бы «Плевок Господень» звучало б гораздо лучше. — Не поминай Господа нашего всуе, сын мой! — аббат Демеро, обернувшись к Гимпу, строго приподнял бровь. — Не в правилах Творца плеваться, ибо гнев свой Он выражает иными, более грозными путями. Что же до названия, то читается оно «Вашингтон» и означает имя древнего мученика и святого. Он жил задолго до Смерти, но и тогда сражался с Нечистым, а потому… Брат Альдо вдруг хихикнул и дернул аббата за рукав. — Прости, друг мой Кулас, но в архивах нашего Братства несколько иные сведения. Этот Вашингтон — мятежник, поднявший бунт против заморского властелина, что правил в древности Кандой и южными землями на этом материке. Бунт увенчался успехом, и в честь Вашингтона назвали город, который лежал к западу от Кэлина, в нынешней пустыне Смерти. Впрочем, как утверждают древние хроники, он был человек достойный, однако не мученик, а герой. — А в наших архивах сказано, — произнес с упрямым видом отец Демеро, — что Вашингтона канонизировали еще за столетие до Смерти. Для Матери Церкви он — святой, и в том, что вы полетите на битву с Нечистым на корабле, который носит его имя, я вижу промысел Творца. — Хмыкнув, аббат повернулся к Иеро, вытянув руку к парившему над причальной мачтой дирижаблю. — Подумай, мой мальчик, сколько чудесных совпадений! В древности в южной империи, что звалась Соединенными Штатами, построили этот воздушный корабль, дали ему имя святого и спрятали в тайном месте, в Аллеганских горах, где наши разведчики и нашли его после долгих поисков. Со спущенной оболочкой, но целым и невредимым, с запасами горючего и газа, с подробными инструкциями, как подготовить аппарат к полету и как им управлять! Разве это не чудо? — Отец Демеро выдержал многозначительную паузу. — Нам оставалось только наполнить оболочку и перебраться из горной пещеры сюда, подальше от глаз людских и досужих сплетен… — Он наклонился к Иеро и тихо добавил: — Напомню, сын мой, лишь пять человек в Совете знают об этом корабле и вашей миссии, и, говоря откровенно, двое из них не уверены, что полет в воздухе не равнозначен богохульству. Они настаивали на постройке большого океанского судна, уверяя, что человек не должен летать подобно Божьим ангелам… Но мне хотелось найти что-нибудь понадежней и побыстрее. «Так вот что искали разведчики!» — подумал Иеро и усмехнулся, поглаживая мягкий загривок Горма. — Слуги Нечистого летали, и я сам связался с колдуном, парившим надо мной во время гадания, — произнес он. — Уж этот точно не был Божьим ангелом! — Ты прав, разумеется. Но мир устроен так, что новое часто пугает, особенно людей преклонных лет, имеющих заслуги перед церковью, однако лишенных воображения и смелости. — С этими словами старый аббат обернулся, посмотрел на небольшую толпу маячивших в отдалении стражей, техников и мастеров, над которыми высился темный силуэт Клоца, и легонько подтолкнул Иеро в спину. — Ну что ж, мой мальчик… Пора! Они направились к причальной мачте, с которой была спущена корзина на прочном канате, игравшая роль примитивного подьемника. Брат Альдо и Горм забрались в нее, мастер Гимп, Рагнар и Сигурд начали подниматься по лестнице на стофутовую высоту, пренебрегая недостойным моряков устройством. Горм жался к ногам эливенера и тихонько повизгивал; расставание с твердой надежной землей пугало медведя. Мысль, полная обиды, донеслась до Иеро: «Берешь толстого, бесполезного… Не может сражаться/защитить… не может быстро бегать… Только спит, ест…» Иеро бросил взгляд туда, где над толпой торчала голова Клоца, увенчанная мощными рогами. «Ты слишком большой, парень, — передал он, сопроводив эти слова чувством тепла и нежности. — Ты не поместишься в этой летающей штуке. И в ней нет ни веток, ни листьев, ни травы. Я вовсе не хочу смотреть, как ты умираешь от голода, когда мы полетим над водой». Отец Демеро, перехвативший эти мысли, улыбнулся и потрепал священника по плечу. — Не беспокойся о своем малыше, он скоро утешится. Весна, сын мой, весна! Я прикажу, чтоб его содержали месяц-другой в стаде лорсих. Здесь, в Атви, порода боевых скакунов мельчает, и надо бы влить свежую кровь… Вверху, на площадке, четыре крепких стража крутили ворот, корзина медленно ползла вверх, и три морехода уже обогнали ее. Подошвы их сапог мелькали в шестидесяти футах над головой Иеро. Проводив их задумчивым взглядом, он сказал: — Эти рыжие парни с северного острова… Надежны ли они, отец мой? Я помню, в джунглях они держались неплохо, и Гимп поручился за них, но все же… — Все же сомневаешься? — аббат пожал плечами. — Не знаю, сколь они искусны в мореходстве, но в душах их нет зла. Их проверяли наши лучшие специалисты-дознаватели, зондировали разум того и другого, и заключение их гласит: оба они чисты перед Господом. — Он помолчал и добавил: — Ты же знаешь, почему мы выбрали именно их. Иеро кивнул. Причин, собственно, было две: во-первых, из всей команды Гимпа только двое рыжеволосых согласились отправиться в полет, а во-вторых, часть предстоящего маршрута была им неплохо знакома. Северный остров, их родина, был обитаем, и, по словам Сигурда, старшего из двух мореходов, от него до Европы было не более семисот миль. Люди с острова давно уже не плавали на восток, но расстояние до континента помнилось с древних времен, как и название моря, отделявшего их от большой земли. Это море звалось Норвежским, и Сигурд утверждал, что норвеги, рослые светловолосые люди с серыми глазами, являются предками его племени. Но когда они заселили остров, еще до Смерти или после нее, никто из островитян не мог припомнить. Судя по древним картам, это была все-таки не Гренландия, а Исландия — или Асл, как называли родину Сигурд и Рагнар. До нее от Ньюфола считалось с тысячу миль, и потому Асл казался удобным местом для промежуточной остановки — тем более, что эливенеры и Аббатства желали исследовать те неизвестные земли. Как, впрочем, и любые другие, где обитают человеческие племена, ибо после Смерти их осталось слишком мало, и всякий народ, сохранившийся в годы уничтожения, считался великой ценностью. Иеро это понимал. Его миссия состояла не только в разведке сил Нечистого, но и в изучении тех земель, о коих пять тысячелетий Аббатства не имели информации. О том, что случилось в Европе, лишь строились предположения; вероятно, вся западная часть Евразии была сплошной пустыней, так как по этим странам, союзникам империи США, был нанесен удар с востока. Возможно, после катаклизма там расплодились жуткие породы лемутов, уничтоживших людей, возможно, там свил гнездо Нечистый… Но на огромном Евразийском материке все же была нормальная жизнь. Три года тому назад к берегам Ванка, самой дальней из провинций Республики, пристал корабль, переплывший Великий океан. Его видели иннейцы, населявшие ту область, но корабль вместе с экипажем, а также три иннейских стойбища, были уничтожены лемутами, посланными Нечистым. Оставшийся в живых старик-иннеец рассказал, что приплывшие на корабле имели желтоватую кожу и черные волосы, как и описывалось в древних хрониках Аббатств; возможно, то были потомки чинов, джапов или других легендарных рас, но главное заключалось не в том. Самое главное — они, несомненно, были людьми! А значит, в Сайберне и на его восточной оконечности сохранилась жизнь. Эта гипотеза казалась вполне разумной, поскольку в древности Сайберн был такой же малонаселенной территорией, как север Канды, и вряд ли подвергался массированным атомным бомбардировкам. Выжившие там народы и племена могли стать союзниками в борьбе с Нечистым, но чтобы добраться до них, надо было пройти половину мира — на запад или на восток. Любое из этих направлений требовало промежуточных баз, портов или хотя бы опорных пунктов, и остров Асл мог стать одним из них. Может быть, самым важным на пути к землям и морям Европы. Глядя, как мореходы с привычной сноровкой взбираются по лестнице, Иеро произнес: — Если души этих парней чисты перед Господом, то почему они покинули свой остров? Помнится, Гимп говорил мне и брату Альдо, что их изгнали… Но по какой причине? Удалось ли о том проведать дознавателям? Аббат покачал головой. — Ты же знаешь, мой мальчик, что разобраться в воспоминаниях, не оформленных в виде мысленного рассказа, почти невозможно. Могу лишь заметить, что они не убийцы, не воры и не разбойники, а люди честные и храбрые. Бог знает, что случилось с ними на родине… какая-то давняя темная история, что-то связанное с женщиной… Думаю, ты разберешься сам — твой мозг стоит дюжины лучших братьев-дознавателей. Главное, они хотят вернуться и готовы оказать нам помощь в контактах с их племенем. — Я разберусь, — пообещал Иеро. — Если там замешана женщина, это серьезно. Из-за женщины может пролиться много крови. На миг смуглое личико Лучар мелькнуло перед мысленным взором священника, и он подумал, что его принцесса стоит пролитой им крови, и собственной, и чужой. Ведь она носила его дитя! Наверху Гимп и два рыжеволосых морехода уже скрылись в гондоле дирижабля. Корзину подтянули к помосту, и Горм осторожно ощупывал лапой сосновые доски. «Высоко, очень высоко, — долетела до священника мысль медведя. — Мой народ не любит забираться на деревья». «Неправда, твои предки лазали за медом, — ответил брат Альдо. — Вспомни, как они это делали, мой мохнатый друг, и приободрись». Горм громко фыркнул. «Мед! Разве в этой летающей штуке — мед? Там нет даже мха и листьев! Все мертвое, холодное…» Иеро улыбался, слушая этот ментальный диалог. Старый аббат, дернув его за рукав кожаной куртки, придвинулся ближе и зашептал: — Послушай, сынок… То, о чем ты говорил на исповеди… этот ментальный зов Нечистого… ты слышал его в последние дни? — Нет. Может быть потому, что мой разум под прочной защитой, а сам я не в силах дотянуться до источника сигнала. Слишком большое расстояние, святой отец. И потом… — Иеро смолк; даже на исповеди он не признался, что зов приходит с неба, из тех просторов, где обитает Господь со своими ангелами. Такая новость могла привести к смущению умов, и он решил держать ее пока что про себя. — Помни, — тихо промолвил отец Демеро, — ты должен вернуться. Если Зло окажется слишком сильным, не вступай с ним в схватку, сын мой; повторяю, твоя задача — разведать и вернуться. Проложить первую тропу… Первую! — он поднял сухощавый палец. — А там ты снова пройдешь по ней, но не один — с тобою будут Бог и наши легионы. — Бог и сейчас со мной. Во всяком случае, я на это надеюсь, — сказал священник, шагнув к лестнице. Брат Альдо и Горм уже ушли с помоста, и воины, втащившие наверх корзину, стояли наготове у туго натянутых канатов. Их было два, и каждый кончался искусно сделанным якорем-замком, который открывался вручную либо нажатием кнопки в пилотской кабине. Правда, второй способ Гимп еще не проверял. — Подожди, сын мой. — Старый аббат поднял висевший на груди крест, поднес его к губам Иеро и зашептал молитву. Потом обнял его и произнес, щекоча теплым дыханием ухо: — Еще одна просьба, мой мальчик. Если ты навестишь Святой Престол в столице христианства Риме, церковь будет тебе благодарна, и я, разумеется, тоже. Постарайся сделать так, чтобы путь ваш лежал через Рим и Святую Землю Палестины, а если там ничего нет, разведай, что творится в другой христианской столице. — Другой? — Иеро нахмурился, положив ладонь на ступеньку лестницы. — Разве была другая столица, кроме Рима? — Да. Мы имеем о ней очень смутные сведения, как и о всей восточной ветви христианства, но точно знаем, что за Франсом и Джоменом, Странами Старого Света, был большой город Моск. Запомни, Моск! Ты найдешь его на древней карте, заложенной в компьютер. Там была другая империя, Раша, что враждовала с западными державами… огромная страна, владевшая Сайберном и половиной Евразии… И в ней, мой мальчик, тоже верили в Господа! — Отец Демеро перекрестился. — Странно, не так ли? И на востоке, и на западе поклонялись Творцу, славили Его в храмах, молили о счастье и покое, а потом совместными усилиями уничтожили мир! — Суровый урок для нас, — молвил Иеро. — Да, суровый… Пусть Господь хранит нас от соблазнов Нечистого! Иди, сынок! Взбираясь по лестнице, Иеро повторял про себя это последнее напутствие. Его сумки, вместе с оружием и остальным снаряжением, погрузили на борт еще вчера, и сейчас при нем остался только короткий тяжелый меч; еще — нож за поясом и драгоценный мешочек с магическими принадлежностями, прозрачным кристаллом и фигурками Сорока Символов, что помогали провидеть грядущее. Он был облачен в наряд Стражей Границы, в штаны, куртку и сапоги из мягкой оленьей замши, и на шее его висел серебрянный медальон — крест и меч в круге, знак его сана священника-заклинателя Универсальной Церкви Канды. Иных символов он теперь не носил и не раскрашивал лицо, так как в Д'Алви этот обычай считался варварским и совершенно неподходящим для члена королевской фамилии. Зато темнокожие жители побережья любили наряжаться и вешать драгоценные побрякушки всюду, где удавалось их прицепить к ушам, волосам, одежде либо натянуть на пальцы, запястья и щиколотки. Это казалось Иеро смешным, но все же на королевских приемах он облачался в расшитый золотом наряд и надевал пару-другую перстней. Главным достоинством этой одежды являлась ее необъятная ширина, позволявшая прятать у пояса меч и кинжал. Поднявшись на площадку, священник кивнул замершим в ожидании воинам и огляделся. К северу от него под лучами весеннего солнца сверкали воды залива Нотр-Дам, голубые и чистые, сливавшиеся вдали с безоблачным бирюзовым небом; на юге, западе и востоке высился лес, обнимая просторную бухту темно-зеленой подковой. Сколько видел глаз, ни один дымок не поднимался над кронами елей и сосен, ни одна дорога не рассекала лесной океан. Край тут был безлюдный, покинутый людьми тысячи лет назад, ибо охотничьих угодий и мест для огородов и пастбищ хватало на материке, а рыбачить в прибрежных водах стало занятием опасным — океан кишел гигантскими хищными рыбами, от коих не спасали ни гарпун, ни лодка, ни пирога. И сейчас, как заметил Иеро, три или четыре акульих плавника резали поверхность бухты, словно напоминая пришельцам, что эта частица мира людям не принадлежит. Надолго ли? — подумал он. Внизу уже вырос поселок, полсотни хижин, собранных на атвианский манер из вкопанных вертикально бревен, за ними пластались длинные низкие корпуса мастерских и складов, у берега тянулся причал, сложенный из массивных валунов, и на нем, на прочном деревянном настиле, высилась мачта для флага и блистали начищенной бронзой четыре орудия. Когда-нибудь здесь будут город, крепость и гавань, откуда корабли отправятся в Европу и дальше, в сказочные страны, Африку, Индию, Аравию, дабы проверить, жив ли там человеческий род и не нуждается ли в подмоге… В крепкой руке, которую протянут им Аббатства, в знаниях, просвещении и защите от Нечистого… Но до этого было еще далеко, и священник, вздохнув, шагнул в овальный люк гондолы. Она представляла собой обширное вытянутое помещение с плоским полом и закругленными стенами, похожее на корабельный трюм, тридцати шагов в длину и десяти в ширину; в задней ее части был уложен груз, мешки, ящики, корзины и бурдюки с пищей, водой и снаряжением, а в середине, на откидных койках у бортов, под с небольшими круглыми окнами, расположились седобородый эливенер и два северянина-морехода. Горм грудой коричневого меха свернулся у ног брата Альдо и будто бы окаменел; лишь громкое сопение доказывало, что он еще жив и изо всех сил старается бороться с паникой. Впереди гондолу перегораживала стена со странной дверью, которая не распахивалась и не откатывалась вбок, как дверца люка, а складывалась гармошкой, чьи полосы как бы слипались друг с другом; сейчас она была сложена, и за ней виднелась пилотская кабина с шестью удобными креслами и пультом, мерцавшим скудной россыпью огней. Среди желтых, зеленых и алых лампочек мертвым антрацитовым блеском отсвечивали прямоугольные и круглые экраны, чье назначение являлось большей частью неясным; но самый большой из них, справа от кресла пилота, светился как огромный голубой глаз, расчерченный сеткой темных линий. Мастер Гимп восседал у штурвала, короткого поперечного стержня с изогнутыми рукоятями на концах, похожего на рога кау, быков, которых разводили в Д'Алви. Шея и лысина капитана побагровели от напряжения, но руки, сжимавшие непривычное устройство, были тверды, и в линии широких плеч читались уверенность и несокрушимое упрямство. Гимп утверждал, что может управиться с любой посудиной, что плавает по водам; ну, а воздушная стихия не так уж отличалась от морской. Во всяком случае, не столь сильно, чтобы смутить лучшего из мореходов Внутреннего моря. — Ты на борту, мастер Иеро? — не оборачиваясь, пробасил капитан. — Отбываем? — С Божьей помощью, — отозвался священник. — Тогда вели тем четырем бездельникам у канатов отдать швартовы, — буркнул Гимп. — А потом задрай люк, не то наш мохнатый приятель глянет вниз и окочурится со страху. Иеро махнул воинам, но те, не прикасаясь к замкам, вдруг вытянулись, вырвали клинки из ножен, грохнули рукоятями о нагрудные бляхи и замерли, отдавая воинский салют. Видимо, это являлось сигналом; внизу раскатился гулкий орудийный выстрел, и на мачту пополз флаг с зеленым кругом на белом фоне, с крестом и мечом, что грозно сверкали среди изумрудной зелени. Салютуя, Иеро вскинул руку. Пушка выпалила трижды, и солдаты разом освободили якоря. Пол под ногами священника не дрогнул, только земля вдруг стала плавно и медленно уходить вниз, словно проваливаясь в бездну; люди превратились в муравьев, хижины и бараки — в кучки тонких палочек под зелеными кровлями из лапника, орудия — в четыре блестящих золотистых пятнышка. Потом горизонт внезапно расширился, пространство небес распахнулось вглубь и вдаль, солнце брызнуло в глаза, и Иеро вновь охватило чарующее, пьянящее чувство полета. Он перекрестился, шепча молитву, и замер, раскинув вверх, вниз, во все стороны свою ментальную сеть. Над миром царил покой, если не считать волн ликования, бушевавшего в поселке. Где-то далеко метались птицы, то камнем падая в морские волны, то взмывая с зажатой в когтистых лапах добычей; в их крохотных разумах были голод и ощущение тревоги, когда огромная стремительная тень вдруг поднималась из глубины к поверхности. Голод, терзавший океанских тварей, был иным, чем у птиц, яростным, неутолимым, рожденным гигантскими мощными телами, что находились в непрестанном движении; казалось, они готовы проглотить весь мир. И в их убогих ментальных излучениях не ощущалось страха; они считали себя владыками морских пространств, где все, что плавало и жило, годилось в пищу. Ярость и голод, отметил священник, анализируя их излучения. Он двинул дальше свой ментальный щуп, но ничего нового не обнаружилось — только птицы, рыбьи косяки да хищные мысли акул. Гимп окликнул его из кабины, и Иеро задраил люк. — Ну, наше корыто в воздухе. Как его, «Вашингтон»?.. Плывет в небесах, будто и впрямь святой… Не хочешь ли заняться стекляшками, добрый мастер? — Ладонь капитана легла на голубой экран. Роли в их команде были четко расписаны: Гимпу и двум его морякам полагалось нести восьмичасовые вахты и стоять у штурвала при взлетах и посадках, тогда как Иеро считался штурманом. Собственно, за маршрутом следил компьютер, и он же управлял кораблем во время крейсерского хода, но такие колдовские штучки были выше капитанского разумения. Как можно определиться на море, суше или в воздухе без компаса и карты? Этот вопрос для Гимпа был неразрешим. Картой же для него являлся лист бумаги, а компасом — стрелка в круглом бронзовом футлярчике, и если он не имел ни того, ни другого, то значит, не мог проложить курс. Впрочем, необходимости в его услугах не было. Твердыми шагами Иеро направился к кабине, сел в кресло перед экраном и надавил шарик, наполовину выступавший из пульта. Зажглась надпись; точный смысл фразы на древнем английском языке могли понять немногие из ученых-историков Канды, но священник знал, что управление «Вашингтоном» теперь перешло к компьютеру или к подчиненному ему устройству, которое называлось автопилотом. Затем на экране возникла карта — чудесная точная карта мира, каким он был до Смерти, со всеми материками, морями, океанами, россыпью островов, тонкими нитями рек, равнинами и горами. Это волшебное изображение казалось объемным; крошечные горные хребты будто пронзали поверхность экрана, долины рек и впадины как бы уходили вниз, а на месте крупных городов мерцали серебристые точки. Карта была забрана в привычную сетку меридианов и параллелей, и в центре ее светилась алая стрелка. Шарик повернулся под ладонью священника, и стрелка покорно двинулась влево и вверх. В северной части Лантика он остановил ее и снова нажал шарик; теперь на экране была укрупненная карта, примерно четверть прежней, изображавшая весь североамериканский континент, Европу и широкую синюю полосу разделявшего их океана. Еще одно нажатие, и океан словно раздался вширь, обрамленный берегами двух материков: слева — Ньюфол, огромная белая запятая Гренландии и еще один остров, видимо — Асл; справа — причудливо изрезанная линия европейского побережья с двумя островами. Один из них был похож на Асл, другой, вытянутый по меридиану, напоминал вставшую на дыбы ящерицу с раскрытым ртом. — Магия! — выдохнул Гимп, склонившись над плечом Иеро. — Похоже, эта дьявольская штука видит все моря и земли! Весь мир, чтоб мне повиснуть на рее! — Она не видит ничего, а только помнит, — возразил священник. — Помнит, каким был мир пять тысяч лет тому назад, в далекой древности. Взгляни на берег Канды, мастер Гимп — вот эти территории затоплены морем, а в самом низу, в районе Д'Алви, океан продвинулся еще далее на запад. А помнишь, мы разглядывали Внутреннее море? Совсем не такое, как сейчас, несколько больших озер и никаких болот на севере… Эта карта — всего лишь напоминание о том, что было, и чего уже нет. — Все равно, чудо! — заявил Гимп, дергая свою косичку. — Я не дикарь, не идиот и не пьянчужка-матрос из кабаков Нианы, я понимаю, как можно летать по воздуху… теплый дым стремится вверх, и если собрать его в пузырь какой-нибудь огромной рыбины, а к пузырю подвесить корзину, мы полетим не хуже, чем на святом «Вашингтоне»… Но эти стекляшки, дьявол меня побери! — он осторожно коснулся экрана пальцем. — Я торговал стеклянной посудой, и знаю, на что она годится! Бутыли — чтоб разливать вино, а кубки — чтоб его пить… Выпьешь пару бутылей, тогда увидишь любые картинки, хоть на стекле, хоть на столе, хоть под столом… Но сейчас-то я трезв! — А это разве не чудо? — с усмешкой пробормотал Иеро и, обернувшись, добавил погромче: — Сигурд, Рагнар! Идите сюда. Брат Альдо, ты не желаешь к нам присоединиться? — Пожалуй, я лучше останусь здесь, — отозвался эливенер, показывая глазами на Горма. — Кажется, он уснул… Бедный зверь! Не всякий из нас вынес бы такие переживания… — Он справился с ними как настоящий мудрец, — сказал Иеро, прислушиваясь к тихому сопению медведя. — Сон — лучшее средство от страха. Рыжеволосые моряки приблизились, встав за его спиной. Прежде, в первые дни плавания на «Морской деве», их лица казались священнику неразличимыми, как у близнецов, но затем он понял, что северяне ничем не походят друг на друга кроме, пожалуй, цвета волос и глаз. Старший, Сигурд, выглядел настояшим богатырем и был, вероятно, ровестником Иеро, широкоскулым, с тонкими губами и пристальным взглядом льдистых глаз. Младшему, Рагнару, еще не исполнилось тридцати, лицо и грудь у него были поуже, губы чуть пухлее, и вид не столь суровый, как у Сигурда; он плоховато знал батви и больше молчал, предпочитая, чтоб старший приятель общался за двоих. Впрочем, Сигурд тоже был неразговорчив. Иеро показал на экран. — Здесь Ньюфол, почти под нами, только на древней карте он выглядит больше, чем в нынешние времена. Этот огромный белый остров вверху — несомненно, Гренландия… А вот и Асл — или Исландия, как называли вашу землю до Смерти, — он показал на довольно обширный остров к востоку от пухлой гренландской запятой. Глаза у северян сверкнули. Рагнар что-то произнес на своем резком гортанном наречии, Сигурд коротко ответил, и священник, уловив его смутную мысль, догадался, что это было приказание молчать и не вмешиваться. Затем старший из мореходов склонился над его плечом. — Этот край, что ты зовешь Гренландией, мы знаем как Дондерленд — Опасные Земли на нашем языке. И я не понимаю, почему Асл и Ньюфол — коричневые и зеленые, а этот большой остров сплошь белый. Разве в древности там никто не бывал? Он изъяснялся на батви, торговом жаргоне, свободно и без акцента — видимо, плавал с Гимпом не первый год. Отметив это, священник произнес: — Белым цветом на старых картах изображали льды. Гренландия — или Дондерленд, как называют ее у вас — была под ледяным панцирем многофутовой толщины. В записях наших архивов утверждается, что даже горных вершин не было видно из-подо льда. Сигурд нахмурился. — Теперь там нет ни снега, ни льдов, мастер Иеро. Благодатный край, если бы не… Он смолк, и Иеро, выждав с минуту, поторопил моряка: — Если бы?.. — Чудовища, — угрюмо буркнул Сигурд. — Страшные твари вроде тех, что мы видели в южных джунглях. Но обликом другие — бегают на задних лапах, и кожа у них чешуйчатая. Передние лапы покороче, болтаются перед грудью, сзади — огромный толстый хвост. Они разные. Самые большие объедают деревья и не очень опасны, но те, что помельче… — Он вдруг побледнел и прикусил губу. — Те ростом с трех человек, быстро бегают, и пасть у них такая, что могут овцу проглотить. Иеро приподнял бровь. Эти твари, судя по описанию моряка, походили на динозавров, исчезнувших за миллионы лет до Смерти. На американском материке племя их не возродилось. Почти все огромные животные, бродившие в саванне и южных джунглях, были млекопитающими, хотя встречались и исключения. Например, произошедшие от лягушек фроги, которых он видел в трясинах Пайлуда, и снаперы, гигантские хищные черепахи, гроза озер и пресных водоемов. — Ты был в Дондерленде? — поинтересовался он, подняв глаза на северянина. — Да, будь он проклят! — Сигурд побледнел еще больше. — Мы быть вместе, — вмешался Рагнар, тыкая пальцем в южную оконечность острова. — Быть здесь, потом плыть на свой баркас. Плыть так! — Его палец прочертил извилистую линию от Гренландии к Ньюфолу, затем к реке Святого Лаврентия и Внутреннему морю. — Долго плыть, голодать, сражаться с акулой! — Я подобрал их примерно здесь, — вмешался мастер Гимп, показывая на озеро Эри, ставшее теперь восточной акваторией Внутреннего моря. — Это случилось… дай-ка вспомнить… лет восемь назад, когда я возил скотину на своей старой посудине, еще до «Морской девы». Баркас их был почти что разбит, и оба парня помирали с голода. Я взял их к себе, и не ошибся. Отменные мореходы! А как владеют гарпуном! — Не только гарпуном, — пробормотал Сигурд, хлопнув себя по левому боку, словно там находилась рукоять меча. — Но вся наша храбрость и все искусство были бесполезны в Дондерленде… Хотел бы я, чтобы ублюдок Олаф, сын Локи, очутился там! — Кто такой этот Олаф? — спросил Иеро. Зубы Сигурда скрипнули. — Наш враг! Тот, из-за кого мы покинули Асл! Уничтоживший две семьи свободных бондов — мою и Рагнара! — Локи — его отец? Рыжеволосый северянин мрачно усмехнулся. — Нет, мастер Иеро. Локи — бог обмана и зла, покровитель Олафа, его проклятых предков и всего его отродья. А наш покровитель — Тор, бог огня и солнца, что разъезжает по небу на колеснице и мечет молнии. Грозный бог, но честный и чистый! Они язычники, понял священник. Впрочем, это его не смутило, поскольку Сигурд определил главный момент в теологии северян: есть божество нечистое и есть чистое, и он, Сигурд, на стороне последнего. Значит, он не потерян для истинного Бога и когда-нибудь его признает! Но время для обращения язычников было неподходящее, и Иеро, двинув алую стрелку к Аслу, нажатием шарика увеличил остров в размерах. — Мы должны выбрать место для высадки, — пояснил он. — Лучше всего, в селении, где вы жили. Попробуйте найти его на этой старой карте, и я задам компьютеру маршрут. — У нас нет селений, — отозвался Сигурт. — Мы живем в хольдах. Это… — Не нужно объяснять. Я понял. — Перед священником промелькнуло длинное строение из бревен, с многочисленными сараями и загонами для скота, обнесенное невысокой каменной стеной. От ворот тропинка вела к причалу, где покачивался палубный одномачтовый баркас, а фоном для этой мысленной картинки служили горы. Сигурд и Рагнар, переговариваясь на своем языке и разглядывая карту, склонились слева и справа от него. Наконец, старший из северян сказал: — Линия побережья теперь другая, но я думаю, что наши хольды здесь, — он отметил две точки по обе стороны долины, спускавшейся от гор к морю. — Хольд Рагнара повыше, в предгорьях, а мой стоял здесь, у самого берега. — Почему «стоял»? — Иеро с удивлением повернулся к северянину. — Разве уже не стоит? — Наверное, стоит, — мрачно подтвердил Сигурд, — но это уже не мой хольд, а Олафа или одного из его сыновей. Я думаю, Олаф сам туда переселился. Это место, долина Гейзеров, самое прекрасное на острове, и только здесь растут пальмы и дерево бнан со сладкими плодами… Из-за нее все и завертелось! Из-за нашей земли и малышки Сигни! Теперь побледнел и скрипнул зубами Рагнар; видно, с этой Сигни у него были связаны тяжкие воспоминания. Бог знает, что случилось с ними на родине, подумал священник, припомнив слова отца Демеро. Какая-то давняя темная история, связанная с женщиной… Дав себе слово разобраться с этим, он передвинул стрелку на побережье у долины Гейзеров и трижды нажал на шарик. Короткая фраза промелькнула на экране, лампочки перед креслом Гимпа полыхнули красным и желтым, потом зажглись зеленые огоньки, и откуда-то из-под пола раздался чуть слышный рокот двигателей. Компьютер взял управление на себя и разворачивал «Вашингтон» курсом на северо-восток. — Чудо… — пробормотал мастер Гимп, с опасливым уважением взирая на штурвал, который двигался сам собой. — Чудо, будь я проклят! Колдовство! Рагнар, там, в конце трюма, есть небольшой бурдючок… Тащи-ка его сюда, парень! Когда я вижу оживший штурвал, мне надо выпить.ГЛАВА 2. НАД ОКЕАНОМ
Зов настиг его ночью. Едва заметный и неопасный, он тонкой струйкой просочился сквозь ментальный барьер, затрепетал в спящем сознании эхом далекой струны, которой едва коснулись пальцы неведомого музыканта. Столь неощутимый отзвук, что его можно было спутать с мелькнувшим на долю секунды сновидением. Но Иеро проснулся. Он лежал в темноте, вспоминая то смутное чувство, которое нес сигнал. Пожалуй, не только призыв, но что-то еще… что-то, кажется, изменилось… Нет, не изменилось, поправил он себя — добавилось! Хоть мысль, пришедшая к нему, была слабой, расплывчатой и туманной, он уловил с ней оттенок удовлетворения. Будто бы звавший пытался поощрить его и сообщить, что он доволен; все идет правильно, так, как задумано, так, как должно идти. Но что? Ответ казался ясен, и священник принял его без колебаний. Лишь одно изменилось за последние сутки: раньше он пребывал на твердой земле, а теперь находился в воздухе и летел на восток — точнее, на северо-восток, но так или иначе приближался к Старому Свету и древним материкам, прародине человечества. Этот полет каким-то образом был согласован с планом существа, окликнувшего его во сне; ему выражали признательность и удовлетворение. Нечистый гладил его по головке! При этой мысли Иеро резко поднялся, спустив ноги с узкого ложа, и стиснул челюсти. Пару минут он сидел, ворочая головой, подозрительно осматривая кабину, словно адепты Нечистого могли прятаться где-то за корзинами и ящиками, но, если не считать раскатистого храпа Гимпа, тут царили спокойствие и тишина. Брат Альдо лежал на спине с закрытыми глазами, и грудь его мерно вздымалась и опадала; Рагнар уткнулся лицом в одеяло и тоже спал; огоньки, мерцавшие в пилотской кабине, высвечивали темный силуэт Сигурда, стоявшего ночную вахту. Рядом с лежаком эливенера маячило что-то неопределенное, не очень большое, но и не малое, похожее на мягкий мешок, и оттуда, вторя руладам Гимпа, доносилось тихое сопение. Горм, подумал Иеро и выглянул в иллюминатор. Тьма и звезды… Он не представлял, на какой высоте компьютер ведет воздушное судно, но она, вероятно, была значительной — внизу священник не различил ни облаков, но поверхности океана. Зато вверху было на что поглядеть: в эту безлунную ночь созвездия горели так ярко, будто ангелы Господни смахнули с них пыль своими крылами. Некоторое время Иеро любовался ими и думал: может быть, с ним говорит не дьявол, а некое существо со звезд? Почему бы и нет? Если верить легенде, предки летали к другим мирам, не к звездам, а к ближним планетам; и еще они строили над Землей жилища, кружившие в небе — то ли затем, чтоб разглядеть ее получше, то с целью защититься от ракет противной стороны… Правда, это им не помогло, но другие разумные Божьи твари, обитающие на звездах, могли достигнуть большего! И одна из них пытается с ним связаться… Бредни! Фантазии! Священник яростно замотал головой, и тут же поймал холодную мысль Горма. «Я не сплю, друг Иеро, уже не сплю. Что-то разбудило меня. — Медведь замолчал, потом пошевелился, приподняв голову. — Я слышал… да, я слышал… кто-то хочет говорить с нами… с тобой… Кто-то очень далекий, похожий сразу на птицу и человека». «На птицу и человека? — Это странное определение удивило Иеро. — Отчего ты так решил?» «Мысли разных существ отличаются. Как-то ты объяснял мне, что люди и лемуты, птицы, рыбы, и те, с теплой кровью, что питаются мясом или травой, и мелкие, что ползают и летают, — (образ мухи, сменившийся муравьем), — все они думают и говорят по-разному, потому что у всех разный мозг. Ты сказал, что их мысли имеют…» Словесная передача прервалась, и перед священником возникла поверхность лесного озера, по которой катились волны; сначала крупные, затем все мельче и мельче. Это было вполне понятной демонстрацией; Горм хотел сказать, что различные существа используют разные частоты и длины волн ментального спектра. «Да, ты меня понял правильно, и ты сам об этом знаешь: мысль, пришедшая к нам принадлежит человеку. Она пришла с восхода солнца и с высоты, поэтому я думаю, что этот человек летает, как птица». «Люди не летают», — возразил Иеро, но тут же его настиг насмешливый ментальный возглас: «Вот как? А что ты делаешь сейчас? Что м ы делаем? — Пауза. Потом снова, с заметной иронией: — Кажется, друг Иеро, пришли такие времена, когда летают даже медведи!» Более всего священника поражала в Горме эта способность к юмору. Ни Народ Плотины, гигантские разумные бобры, ни, разумеется, лемуты не имели этого дара, присущего человеку. Иир'ова, произошедшие от кошачьих, понимали юмор и даже умели смеяться, но эта раса воинов, выведенная искусственно, была настолько приближена к людям, что черт несомненного сходства имелось больше, чем различий. Но племя Горма сохранило прежний облик, если не считать выпуклого черепа — и все же Бог даровал им склонность к юмору! Это было гораздо большим чудом, чем «стекляшки», удивлявшие мастера Гимпа. «Кажется, тебе не очень хотелось полетать, — заметил Иеро, развеселившись. — Брат Альдо тянул тебя чуть ли не силой!» «Старейший с белой шерстью на лице не тянул, а приглашал меня, — с достоинством ответил Горм. — Эта летающая берлога казалась мне не слишком надежной… Что ж, все мы можем ошибаться». Сделав это философское заключение, медведь поднялся, шагнул к Иеро и положил ему на колени тяжелую голову. «Будь осторожен, друг, — пришла его мысль. — Этот человек-птица очень хитер. И очень силен! К тебе еще не вернулось искусство сражаться мозгом?» «Я не проверял, — отозвался Иеро. — Не было такой нужды». «Проверь, и чем быстрее, тем лучше. Я чувствую, что это умение тебе пригодится». Горм направился в дальний конец кабины и лег; вскоре оттуда донеслось тихое посапывание. Иеро сидел не двигаясь и размышляя о последних словах медведя. Прошло немало времени с тех пор, как слуги Нечистого, похитившие его в Д'Алви, выжгли наркотиком ментальный центр его мозга, сделав могучего бойца-телепата слепым. Солайтер, чудесное создание, обитавшее в озере, восстановил его дар, однако не полностью; способность к мысленному общению вернулась к Иеро и даже усилилась, но он не мог, как прежде, взять контроль над живым существом, подчинить его своей власти и воле, уничтожить или заставить двигаться подобно кукле-марионетке. Это боевое искусство, окрепшее в сражениях с адептами Нечистого, а затем — с чудовищным разумом Дома, все еще не вернулось к нему. Или он ошибается? Способность к мысленным битвам тренировалась в смертельных поединках, ее вызывали к жизни и усиливали лишь страшное напряжение ментальной мощи и воля к победе. Сражаться с соперником-другом, скажем, с Эдвардом Маларо, было бессмысленно — ведь он вовсе не собирался его убивать! А смерть одного из бойцов была непременным условием подобного поединка. Смерть и яростное сопротивление противника, которое надлежало превозмочь и сломить… Способен ли он на это? Случаев для проверки пока не представилось, как и достойных врагов. С'лорн, глава Зеленого Круга, и все его колдуны пали от ножей иир'ова, и вряд ли в Тайге или в южных джунглях остался сейчас хоть один адепт Нечистого. В общем-то, к счастью, подумал Иеро, вставая. Он направился к пилотской кабине, сел в кресло рядом с Сигурдом и заглянул в его льдистые глаза. В свете лампочек, горевших на пульте, бледная кожа северянина приняла зеленоватый оттенок, словно он принадлежал к племени лесных дриад. Но это было, разумеется, иллюзией; у соплеменниц Вайлэ-ри рождались только девочки. — Не спится, мастер Иеро? — произнес Сигурд, глядя на звезды. Колпак пилотской кабины, сделанный не из стекла, а из какого-то очень твердого прозрачного пластика, был высоким и широким; если не глядеть вниз, то создавалось впечатления, что они оба висят в своих креслах в темной, полной звездных огней пустоте. Вдруг раздался негромкий шелест моторов, сам собою дрогнул штурвал, звезды всколыхнулись и чуть сместились вбок и вниз; компьютер корректировал курс или искал подходящие воздушные потоки. Не дождавшись ответа от священника, Сигурд кивнул на два светящихся циферблата. — Мастер Гимп объяснил мне и Рагнару, что цифры в этих окошках — высота и скорость полета. Но я боюсь поверить в то, что вижу, мой добрый мастер. Иеро бросил взгляд на циферблаты и кивнул головой. — Тем не менее, это так. Сейчас мы летим на высоте трех с четвертью миль со скоростью двадцать миль в час. И движение совсем незаметно — ветер несет нас, как сухой осенний лист. — Двадцать миль… — морща лоб, протянул Сигурд. — Это значит, что мы будем в долине Гейзеров послезавтра утром… Клянусь молотом Тора, капитан Гимп прав: чудо и колдовство! Путь, проделанный на баркасе мной и Рагнаром, занял много недель и унес много жизней… — Он помрачнел и добавил: — Собственно, все, кроме наших. Священник вытянул руку и стиснул плечо северянина, чувствуя под пальцами сильные мышцы. — Что-то терзает тебя, брат мой, и я знаю лишь один способ облегчить душу: рассказать о том, что было. Не считай это исповедью и говори лишь то, что хочешь, правду или ту ее часть, какой согласен поделиться. Думаю, ты к этому готов, да и время подходящее. Ведь скоро мы будем в твоих родных краях, и я желал бы послушать про долину Гейзеров, малышку Сигни, про Олафа, который вас изгнал, про его проклятых предков и его отродье. Кто он, этот Олаф? Ваш король или князь? — Нет. На Асле нет ни конунгов, ни ярлов, а только свободные бонды, скотоводы и рыбаки. Так повелось с давних времен, мастер Иеро, и так, как утверждают старики, было еще до Смерти. Каждая семья свободна и владеет своими угодьями, своей усадьбой, пастбищами и баркасами. И каждый бонд с братьями и сыновьями вправе защищать свое добро и свою честь. — С мечом в руках? — нахмурившись, спросил Иеро. Услышанное не очень понравилось ему; кажется, эти язычники признавали лишь право силы. Но оказалось, что он ошибался. — Не обязательно с секирой или мечом, — пояснил Сигурд. — Если соседские овцы забрели на твое пастбище, то стоит ли убивать соседа и наживать смертельных врагов? Нет, такие споры разбирает тинг, а судьи его — из лучших мужей Асла. Если же кто нанес кровную обиду, то назначается поединок. Честный поединок в огненном круге или на особом островке, и судьи следят за уговором противников — будут ли они биться до первой крови, до второй, до тяжкого увечья или до смерти. Я знаю, я сам ходил в стражах тинга в молодые годы! — Что ж, это справедливо, — согласился Иеро, думая, что все же есть на Асле закон и порядок. — И все подчиняются судьям? Никто не идет против их решения? — Никто. Никто, кроме Олафа и его ублюдков, порази их Тор! — Этот Олаф тоже свободный бонд? Рыбак или скотовод? Глаза Сигурда блеснули, и священник почувствовал вспышку ненависти. Ощущение было таким, словно в затылок ему всадили кинжал. — Он — проклятый колдун! Отродье Локи! Он знается с морскими троллями, с тварями, у коих на всех одна рожа, и та — гнусная да синяя! Тинг ему не указ! Он читает в мыслях и видит то, что еще не случилось! Он может приманить к берегу косяк трески или отогнать его! Может заставить верного пса впиться в хозяйское горло! Может превратить человека в овцу или в собаку, заставить пожирать навоз! Вот кто такой Олаф, сын Торвальда! Но я сомневаюсь, что Олаф и впрямь его потомок; Торвальд давно умер, и говорили, что он был честным бондом. Иеро внезапно выпрямился в кресле и стиснул кулаки. — Значит, читает в мыслях и видит то, что еще не случилось? — с расстановкой повторил он, темнея лицом. — И этот Божий дар использует во зло? — Священник помолчал, нахмурив брови, потом коснулся руки северянина и твердо произнес: — Ты расскажешь мне все, Сигурд! Все, что знаешь о своем острове и этом колдуне! Ибо я вижу, что им повелевает Нечистый!* * *
Если верить словам Сигурда, Асл был благословенным, хранимым Богом краем. Подъем океанских вод почти не коснулся гористого вулканического острова; море затопило лишь низменную прибрежную полосу на юго-западе и находившийся там древний город. Это поселение разрушил атомный взрыв, но угодившая в него ракета была, очевидно, единственной, которую выпустили по Исландии; эта пустынная земля посреди холодного моря не слишком интересовала сражавшихся противников. К счастью, взрыв не пробудил вулканы, а океанские волны, сомкнувшиеся над руинами, смыли радиоактивный пепел. В результате на острове не было ни пустынь Смерти, сияющих зловещими огнями, ни губительных развалин, ни кровожадных монстров и огромных растений, порожденных в других концах планеты атомной радиацией. Пожалуй, если не считать уничтоженного города, единственной потерей островитян явились пони, маленькие, но сильные лошадки; они вдруг перестали плодиться и вымерли за пару десятков лет. Приобретения были гораздо больше. Климат на острове потеплел, бесплодные прежде горные склоны покрылись травами и лиственными деревьями, в долинах, где били теплые гейзеры, выросли пальмы и виноград, а в самом благодатном месте, принадлежавшем семьям Рагнара и Сигурда, появились древесные исполины бнан с толстыми стволами и раскидистыми кронами; дважды в год они приносили сладковатые плоды, желтые, длинные и слегка изогнутые, будто нож для потрошения рыбы. Загадочный фактор, сгубивший пони — видимо, слабая радиация — совсем иначе подействовал на других животных, которых на острове было немного: овцы да псы. Овцы втрое увеличились в размерах, стали давать по ведру молока в день, а главное, руно их сделалось длинным, шелковистым, тонким, но таким прочным, что сплетенный из шерсти шнурок заменял рыбакам якорные цепи. В разных местах острова шерсть у животных приобрела различные оттенки — черный, как ночь, или белый, как снег, или серебристый, розоватый, голубой. Роду Рагнара и роду Сигурда повезло и тут: в их долине у овец были золотистые шкурки, и одеяния из их шерсти носили в торжественных случаях судьи тинга. С псами тоже произошла разительная перемена. Пастушьи собаки выросли, став не меньше прежних пони и уж во всяком случае разумнее; у них даже появилось что-то вроде языка, включавшего не только звуки, но определенные жесты и телодвижения. Но они не превратились в лемутов, подобных псам Скорби; преданность хозяину была для них первым правилом, а вторым являлся труд. Они понимали, что должны работать вместе с человеком, который давал им пищу, лечил, заботился об их щенках, строил для них загоны и навесы, защищавшие от дождей, стриг в жару густую шерсть. И они честно трудились, присматривали за овцами и детьми, возили людей и грузы, охраняли берег от морских тварей, каких у побережья Асла развелось немало. Эти перемены были благодетельными для людей, а в остальном их жизнь не слишком изменилась. Они и прежде обитали в уединенных усадьбах, и каждый род и двор — или хольд по-местному — обеспечивал себя всем необходимым, рыбой и мясом, шерстью и топливом, камнем и деревом для строений и даже небольшим количеством зерна и овощей. Теперь пищи стало вволю, и к ней добавились фрукты; холодные снежные зимы исчезли, сменившись дождливыми сезонами, а вместо сомнительных благ цивилизации островитяне вернулись к обычаям предков и возродили их религию. Они почитали Одина, отца богов, его супругу Фрейю, покровительницу матерей, и их сына, могучего Тора; Локи, темному божеству, не поклонялись, но приносили искупительные жертвы, дабы он оставил их в покое. В их длинных уютных домах теперь горели свечи, женщины пряли и ткали, мужчины трудились над утварью и орудиями, а место книжной премудрости заняли саги. Искусство рассказывать их ценилось очень высоко, наравне с умениями кузнеца, горшечника и стеклодува. Островитяне, однако, были воинственным народом, хоть не вели меж собою войн и не подвергались вражеским нашествиям. Рядом с мирной землей лежало немирное море, полное хищных тварей — гигантских акул и тунцов, змеевидных созданий, покрытых плотной чешуей, кальмаров-мутантов, что выползали на берег и притворялись камнями, хватая зазевавшуюся живность. Случалось, с моря приносились стаи гигантских птиц, для коих овцы были лакомой добычей; временами с юга или со стороны Европы приплывало какое-нибудь чудище, дробившее зубами и когтями рыбачьи баркасы. И потому каждый мужчина-островитянин владел мечом, секирой и арбалетом, умел метать копье и гарпун, а из пращи попадал в птичий глаз за пятьдесят шагов. Грабеж и воровство были на Асле неведомы, а что до иных проступков, то их наказывали по обычаю, имевшему силу закона: за мелкие вины присуждался штраф, за крупные — изгнание. Большой виной считалась трусость в схватке с морским чудовищем, или отказ путнику в гостеприимстве, или оскорбление, которое тот нанес хозяевам, или неявка на поединок; свершивший это лишался чести, а значит, и жизни. Изгоя, дав ему воду и пищу, сажали в парусный баркас, отталкивали судно от берега, и больше он никого не интересовал — ни своих родичей, ни судей тинга, ни остальных островитян. Что же касается судей, то они не правили народом, а лишь хранили закон, разрешали споры и приводили в исполнение приговор, для чего имелось при них тридцать стражей. Служба эта считалась почетной, и старые бонды нередко спорили, чей сын или внук окажется в числе тридцати. Семьи Рагнара и Сигурда вместе владели долиной Гейзеров. Считалось, что верхняя часть долины, у теплых источников — за Хельвигом, отцом Рагнара, а нижняя, у океана — за Отаром, старшим братом Сигурда, но овцы их паслись вместе, псы не грызлись меж собой, крепкий баркас был общим, как и урожай с пальм и бнанов, которого хватало для их хольдов и для обмена на железо, привозимое с севера. Семьи жили рядом столько времени, что перечислить предков было делом нелегким — если начать с утра, то кончишь как раз к обеду. Жили и временами роднились друг с другом; Сигурд был холост, Отар женат на дочери Хельвига, а сестра их Сигни была была обещана Рагнару, третьему из соседских сыновей. Сговор делали Отар и Хельвиг, бонды хольдов, но, по обычаю, никто молодых не неволил, и они вступали в брак лишь по сердечной склонности. Двор Олафа, сына Торвальда, стоял далеко от них, в сотне миль, на восточном побережье. Говорили, что там у него не хольд, а целая крепость с валами и тыном, с полусотней домов и причалами для дюжины баркасов. Говорили, что склады у него такие, что в них можно хранить руно с половины острова; говорили, что сыновей у него втрое больше, чем стражей тинга, так как женился он не раз, и ни один из восточных бондов не отказал ему в сватовстве. Говорили, что уже лет тридцать, с тех пор, как Олаф возмужал и взял власть в своем роду, к его причалам ежегодно приходят корабли с востока, а на тех судах нет ни парусов, ни весел, и ведут их морские тролли — синекожие, щуплые, безволосые, и все на одно лицо. Говорили, что Олаф торгует с троллями, сбывает им шерсть в обмен на оружие и железо, колдовские зелья и всякие странные вещи, и что тролли любят его по той причине, что он вовсе не сын Торвальда, а подменыш, отродье Локи. Все это были лишь слова, так как по собственной воле в хольд к Олафу никто не ездил — боялись, хотя из гордости скрывали страх. Помнили, как однажды явился к нему Грим, судья тинга, с пятью стражами, чтобы призвать к ответу за отнятые у соседей земли, и как все шестеро вернулись на четвереньках, рыча и лая словно псы, и собственные собаки их загрызли. Еще помнили, как вызвал Олафа на битву кузнец с севера, могучий воин, гнувший руками железные прутья — и Олаф явился в огненный круг без меча и секиры, толкнул кузнеца в огонь и глядел, усмехаясь, как тот горит, не в силах пальцем пошевелить и даже крикнуть. Еще помнили историю бонда, у которого Олаф забрал двух дочерей; бонд с сыновьями да соседями стали точить клинки, однако ночью вылез из моря неведомый зверь, разметал усадьбу по бревнышку, пожрал людей и собак и вывернул с корнями огромный дуб, столетнее дерево, что росло за воротами хольда. Потом два года у тех берегов не водилась треска, но плавало столько акул и кальмаров, что соседи покойных боялись близко к воде подойти. И потому с Олафом предпочитали не связываться — лет уже с пятнадцати, как проснулся в нем колдовской дар. Колдуны, умевшие говорить без слов, на острове считались не в диковинку, и занимались они, в основном, врачеванием ран, а еще рассказывали саги и судили — половина судей тинга была из таких. Но Олаф Торвальдссон оказался злобным колдуном, и таким сильным, будто в самом деле вышел из чресел Локи. Женщин, жен и наложниц, имелось у него во множестве, однако он посватался и к Сигни. Сигурд полагал, что хоть сестра его была девушкой видной, Олаф пленился не ею, а долиной Гейзеров. На востоке места скалистые, почвы скудные, а тут, на юго-западе, сухая палка росла, если воткнуть ее в землю. Опять же овцы с золотым руном, дерево бнан, пальмы и виноград, а в придачу — теплые целебные источники, речка и удобная бухта… Лакомый кусок! Сигни же, видно, была лишь предлогом; колдун не сомневался, что девушку ему не отдадут, а будут биться насмерть. Так оно и случилось: не успел Отар отказать в сватовстве, как спустились с гор на собаках сорок бойцов под водительством Гунара, старшего сына Олафа, и подпалили хельвигову усадьбу. Хельвиг с сыновьями дрался у ворот, и Отар с Сигурдом бросились им на помощь, но перед тем Отар, человек мудрый, велел женщинам готовить баркас. Не знал он, сколько пришло врагов, но думал, что дело добром не кончится — не тот человек был Олаф, чтобы добычу выпускать. А про Гунара, сына его, говорили, что хоть он не колдун, зато такой мерзавец, каких на острове не видели со дней Смерти. Отар и двое сыновей Хельвига погибли в том бою, а женщин и детишек все же не спасли — сжег их Гунар. Затем несколько врагов задержались около усадьбы, пересчитать своих убитых да помочь раненым, а остальные, числом десятка три, погнали Хельвига с Рагнаром и Сигурдом по долине вниз, и спаслись они лишь потому, что псы их набросились на пришельцев. Счастье еще, что Олаф сам не явился, не зачаровал псов, чтобы те перед ним на брюхе ползали! Пока враги и их собаки разбирались с четвероногими защитниками, трое мужчин, добежав до отарова хольда, отправили всех домочатцев к баркасу, а сами взялись за арбалеты. Но стрел и у Гунара хватало, так что не все добрались до пристани. Асбьерн, жена Отара, из трех детей спасла младшего, что был на руках; старую Хельгу, служанку, прикончили метательным ножом, а Сигни стрела воткнулась под лопатку и пробила навылет. Рагнар втащил ее на баркас, но рана была плохой — девушки кашляла кровью. Вышли в море вдевятером: Хельвиг, Рагнар да Сигурд, Асбьерн с маленьким сынишкой, умирающая Сигни, две малолетние сестры и младший брат Сигурда, которому еще и тринадцати не сравнялось. Гунар стоял на причале, грозил топором и орал, что нигде на острове они не скроются от мести Олафа, что тинг им не защита, а если вступятся за них судьи и стражи, то он, Гунар, вырвет им печень, а братья помогут — если раньше их отец, Олаф Торвальдссон, не превратит этих ублюдков в ящериц либо крыс. И самое страшное, что это было правдой — заступиться за них не рискнул бы никто. Хельвиг был вне себя, то рвал бороду, горюя о погибших и своем добре, то молился Одину, сохранившему в живых дочь, внука и последнего сына; Рагнар оплакивал Сигни, Асбьерн — своих детей, и потому Сигурд принял решение без них: поставил парус и развернул суденышко на юго-запад. Боги их хранили на всем пятисотмильном пути в Гренландию — ни акулы-убийцы, ни огромные кальмары, ни иные чудища не тронули баркас. В Дондерленд они прибыли через неделю — трое мужчин, одна женщина, четверо ребятишек и мертвая Сигни. На их острове знали об этих обширных землях, как и о том, что появляться здесь рискованно. В сагах говорилось о плаваниях, свершенных тысячи лет назад, когда гренландские горы и долины только стали освобождаться от снегов и льдов; земля была тогда еще сырой, топкой, перемешанной с камнями, без привычных деревьев и трав, но кое-где тянулись вверх огромные хвощи. Еще мореходы находили большие яйца, сохранившиеся в мерзлоте, а в них — жутких крошечных уродцев, похожих на ящериц, летучих мышей и прочих мерзких тварей. Никто не верил, что эти странные создания могут ожить, но как-то группа рыбаков наткнулась на зубастое чудовище в два человеческих роста и еле унесла ноги. Со временем такие и более страшные монстры заполонили Дондерленд, и плавания на запад прекратились. На восток, к Европе, островитяне не плавали никогда, памятуя о том, что море в двухстах милях от Асла начинало светиться, и возвратившиеся домой вскоре умирали от непонятного недуга. Итак, беглецы высадились на берег, обосновавшись на краю травянистой равнины, по которой бродили гигантские чудища — живые холмы на ногах-столбах с длинными гибкими шеями и хвостами. Живность их не интересовала; питались они растениями, к морю не подходили и выглядели тупыми и неповоротливыми. Выяснив это и похоронив Сигни, беглецы с месяц прожили на побережье, рыбача с баркаса и собирая моллюсков, так как другой пищи тут не было. Затем между Сигурдом и Хельвигом возник спор: Сигурд считал, что жить в этой земле опасно и следует отправиться дальше на юго-запад, где, как повествуют саги, есть огромный материк. Возражения Хельвига сводились к тому, что, как описано в тех же сагах, на материк упали тысячи снарядов, и он, скорее всего, сплошная пустыня, где кроме болезней и смерти ничего не сыщешь. А потому нужно вернуться на Асл и искать правосудия — не может быть, чтобы светлые боги от них отступились, предав выродку Локи! Сигурд в помощь богов не очень верил и напоминал Хельвигу о судьбе Грима, о несчастном кузнеце и многих других людях, но без особого успеха; а поскольку Хельвиг был старшим среди них, они начали готовиться в дорогу. Этот спор разрешился трагедией. Однажды, когда Рагнар и Сигурд возвращались с рыбной ловли, на берег выскочила тварь, совсем не похожая на травоядных ленивцев; она была не столь огромной, зато подвижной и стремительной, с клыками в две ладони и острыми, как нож, когтями. На их глазах чудище сшибло Хельвига хвостом, переломав ему все кости, потом растерзало Асбьерн с детьми и сделало это так быстро, что баркас не успел причалить к берегу. Тварь принялась поедать убитых, не обращая внимания на арбалетные стрелы и гарпун, который швырнул в нее Сигурд, и удалилась лишь насытившись. Рагнар, потеряв разум от ярости и бессилия, рвался к чудовищу с мечом; Сигурд связал его, бросил в трюм баркаса, похоронил кровавые останки и, поставив парус, направил суденышко к материку. Это был конец. От семей бондов из долины Гейзеров остались два бездомных беглеца.* * *
Северянин закончил свой рассказ и теперь сидел, глядя пустым взглядом на мерцающие в темном небе звезды. Ментальное чувство Иеро подсказывало, что этот человек сейчас опустошен; он был чашей, выплеснувшей напиток гнева, ненависти и тяжких воспоминаний. Чем же наполнить чашу теперь? Надеждой, решил священник, и осторожно коснулся каменного плеча Сигурда. — Ты рассказал эту историю отцам-дознавателям, которые беседовали с тобой в Саске? Голова северянина качнулась. — Нет. — Но почему? — Потому, что здесь ты, а не ваши любопытные дознаватели! Ты летишь с нами, со мной и Рагнаром! — Сигурд повернул к священнику бледное лицо и заговорил — глухо, отрывисто: — Ты, мастер Иеро, великий чародей и воин… Я помню, как ты прикончил ту жуткую тварь, что пришла к нам на судно вместе с Лысым Роком… помню, сколько раз ты спасал нас в лесу… знаю, что в подземелье, куда вы потом ушли, ты убил колдунов Нечистого и кого-то еще, что-то страшное, такую мерзость, с которой и Один бы не совладал… А еще мне говорили, что ты разгромил большое войско колдунов на озере Слез, а потом не меньшее — на юге, в стране чернокожих, и снял головы с их предводителей… Усмехнувшись, Иеро поднял руку. — Не приписывай мне того, чего не было, Сигурд! Головы я получил в подарок, и принес мне их тот самый медвежонок-увалень, что спит там, на мешках! — Он ткнул пальцем за плечо. — Ну, может быть, — с видимой неохотой согласился северянин. — Однако все остальное свершил не медведь, а ты! И мы с Рагнаром решили… — Он судорожно сглотнул и с надеждой уставился на священника. — Мы решили, что отправимся с тобой, возвратимся на Асл и будем просить… нет, молить тебя, чтобы ты выступил судьей в этом деле между нами и Олафом. Справедливым судьей на собрании тинга! Задумчиво кивнув, Иеро спросил: — Где его проводят, этот ваш тинг? — В любом месте, куда могут быстро добраться трое-четверо судей и полсотни бондов. В каком-нибудь хольде или просто на берегу… Скажем, в долине Гейзеров. — Чего же ты хочешь, брат мой? Льдистые глаза Сигурда сверкнули. — Только одного, добрый мастер, только одного! Сойтись в поединке с Гунаром и прикончить его на глазах Олафа, отродья Локи! И что б потом тинг вынес приговор колдуну, а ты проследил, что будет он исполнен в точности! — Это уже два желания, — произнес священник, подумав, что пора наполнить чашу. — Но стоит ли их пересчитывать? Я знаю, что ты рассказал мне истину, и ты в своем праве, а значит, достоин помощи. — Он положил ладонь на медальон с крестом и мечом и тихо промолвил: — Господь не любит клятв, и потому я лишь помолюсь, чтобы Он даровал мне силы исполнить твои желания. А теперь скажи мне, Сигурд, кто из судей тинга живет поблизости от долины Гейзеров? Северянин, с трудом скрывая возбуждение, наморщил лоб. — Старый Рогвольд уже, должно быть умер… Ближе всех Снорри Хромец… потом — Харальд и Хальфдан… Еще женщина, Кристина… — Достаточно. Кто-нибудь из этих людей умеет говорить без слов? — Снорри. Он, хоть и хромой, а отличный лекарь! Заживляет раны прикосновением рук. — Великое искусство! Я так не умею, — с сожалением покачал головой Иеро. — Зато ты умеешь их наносить, — с хищной усмешкой отозвался Сигурд. — Это важнее, мой конунг.ГЛАВА 3. АСЛ
Скрестив ноги, Иеро сидел на широком деревянном помосте, тянувшемся вдоль забора футов на тридцать. Сзади, за прочным бревенчатым частоколом, лежал просторный двор с несколькими строениями — парой длинных жилых домов, хлевами для овец, амбарами, кладовками и собачьими навесами. Прямо перед ним находилась круглая утоптанная площадка, окруженная народом; здесь собралось человек сто пятьдесят, немалое число по местным масштабам. Восемь стражей тинга обкладывали площадку вязанками хвороста, а рослый мужчина в коричневой одежде, судья Харальд, следил, чтоб хворост был разложен точно по кругу. За кольцом людей и огромных лохматых псов, столпившихся вокруг будущего ристалища, просматривались море и причалы у берега, а за ними — шесть рыболовецких посудин различной величины, от небольшого баркаса до вместительного парусника. Над ними, прочно привязанный к стволу могучего бука, реял «Вашингтон» — будто серо-голубая тень на фоне бирюзового неба. С другой стороны, за домами хольда, к горам тянулась долина, заросшая пальмами, дубами и деревьями бнан; где-то в дальнем ее конце каждые полчаса взлетал в воздух водяной фонтан, а каждые двенадцать минут — еще один, поменьше. Картина была чарующей, и Иеро невольно подумал, что любой человек, чьи предки жили здесь пять или больше тысячелетий, должен испытывать тоску и горечь, расставшись с этим местом. А также гнев, если расставание случилось не по доброй воле. По обоим краям помоста были расстелены мягкие шерстяные ковры, связанные с большим искусством; там, где сидели Иеро с братом Альдо и прилег на травке Горм, ковер был белым, а с другого края громоздилась целая залежь подстилок, розовых, голубоватых и серебристых. На них, опираясь на локоть, расположился Олаф Торвальдссон, крупный тучный мужчина за пятьдесят, с отвислыми щеками, квадратным подбородком и маленькими хитрыми глазками; в его левом ухе поблескивала золотая серьга. Рядом с Олафом, подчеркнуто не смешиваясь с толпой, стояли его сыновья, десятков шесть или семь молодцов от тридцати до семнадцати; все — при оружии, в нарушение законов тинга. Хоть матери у них были разными, каждый унаследовал от Олафа пару фамильных признаков — мощную угловатую челюсть и хитрый взгляд исподлобья. Перед этой группой — не толпой, а, несомненно, боевым отрядом — маячил мощный обнаженный торс Гунара. Он то вращал руками, то сгибал и разгибал их, разминая мышцы. — Крепкий парень, — прошептал старый эливенер, склонившись к Иеро. — Нелегко придется Сигурду! — Бог на его стороне, — отозвался священник. — Знаешь, сынок, есть старая, старая пословица… — Брат Альдо погладил бороду, озирая копья и секиры в руках сыновей Олафа. — Смысл ее примерно таков: Бог на стороне больших батальонов. Иеро искоса взглянул на старика. — Что такое батальон? — То же самое, что стая у ваших Стражей Границы. — Эти парни не выстояли бы против стаи и пяти минут, — заметил Иеро. — Даже против роя. — К сожалению, мой мальчик, у нас нет ни того, ни другого. Четверо бойцов, считая с Гимпом, один очень юный медведь и один бесполезный старик, не любящий кровопролития. — Не клевещи на себя, отец мой. — Священник на секунду замер, прикрыв глаза и сканируя окружающее пространство, потом спросил: — Если дойдет до схватки, ты сумеешь сдержать собак? — Собак — несомненно, — кивнул старый эливенер. — Но только сдержать. Не хотелось бы мне натравливать их на людей, даже на таких, как эти. — Он снова покосился на сыновей Олафа. Кажется, отголосок этой мысли долетел до Горма. Медведь шевельнулся, и в мозгу Иеро раздалось: «Псы очень миролюбивы. Глуповатые, но преданные. Думают, что все люди хороши, а те, с которыми они живут — лучше всех!» — Сообщив это, Горм фыркнул. «Молчи! — приказал ему Иеро. — Чем меньше мы говорим мыслями, тем меньше узнают о нас хозяева». — Он метнул взгляд в сторону розовых ковров с развалившимся на них Олафом. Тот насмешливо ухмыльнулся, обнажив крупные пожелтевшие зубы. Серьга раскачивалась и поблескивала в его ухе. «Толстый, слабый, — прокомментировал неслух Горм. — Что-то понимает в мысленной речи, но немного». Это было правдой. Вчера, подлетая к острову, Иеро протянул мысленную нить к долине Гейзеров и обнаружил две вещи: во-первых, там было полно людей, а во-вторых, один в этой компании являлся безусловно телепатом. Но слабым и не слишком тренированным; если то был Олаф, оставалось совершенно непонятным, как он творил свои злые деяния — вызывал чудовищ из моря, менял психику людей, превращая их в собак, и смог парализовать сильного разъяренного воина. Ментальный дар у него был, но, по мнению священника, его хватило бы лишь на команду женам подать кувшин браги. Неощутимый, как слабое дуновение ветра, он выскользнул из сознания колдуна и быстро разыскал другую восприимчивую личность — Снорри Густафссона, судью и целителя. В отличие от Олафа, в чьем разуме доминировали жажда власти, безмерная жадность и похоть, Снорри был достойным человеком — видно, не зря его избрали судьей. Обследовав его мысли, прыгавшие от хозяйственных забот к пациентам, от лова трески к пареньку, поранившему голень топором, Иеро открылся и испытал настоящий шок. В то мгновение, когда Снорри понял, что кто-то вторгся в его разум и говорит с ним мысленно, судью охватил такой ужас, что Иеро пришлось отдернуть свой ментальный щуп. Он попытался снова и тут же обнаружил причину страха: Снорри казалось, что его сознанием овладевает колдун, тот самый ничтожный Олаф, которого мог бы заткнуть за пояс любой ученик-первогодок из школы Аббатств. Иеро настойчиво, но осторожно, разъяснил его ошибку, и когда судья успокоился, напомнил историю с Сигурдом и Рагнаром. Они беседовали довольно долго; о себе Иеро сообщил, что он — священник Универсальной Церкви, владеющей западным материком, и сейчас возглавляет первую экспедицию в восточные заокеанские страны. В его экипаже — два уроженца Асла, и один из них, Сигурд, желает вызвать на праведный суд и поединок некоего Гунара, сына Олафа. Услышав такую новость, Снорри опять перепугался, и Иеро пришлось заверять судью, что он проследит за тем, чтоб схватка велась честно, без магии и колдовства. Факт мысленной связи с большого расстояния доказывал, что это в его силах. Данное соображение успокоило Снорри, и священнику почудилось, что у него промелькнула злорадная мысль: мол, на всякого колдуна найдется чародей посильнее. Он пообещал собрать всех бондов и судей тинга, живущих в тридцати милях от долины Гейзеров; заодно выяснилось, что Олаф и в самом деле перебрался в долину с восточного берега, и что местные бонды не слишком рады такому соседству. Прошедшие годы прибавили к списку колдуна несколько новых жертв, в основном — молоденьких девушек; его сыновья тоже желали обзавестись гаремами. Стражи, таскавшие хворост, закончили свою работу и замерли вокруг вала из сухих ветвей с зажженными факелами в руках. Харальд придирчиво измерил шагами диаметр площадки, загибая пальцы и что-то бормоча под нос. Следившая за ним толпа казалась на редкость мрачной и молчаливой — то ли островитяне вообще были неразговорчивы, то ли их угнетало присутствие колдуна. Но Иеро заметил, что среди собравшихся на тинг нет ни детей, ни женщин, ни молодежи, только зрелые мужчины и старики. Похоже, никто не хотел рисковать своей семьей, и в то же время, повинуясь обычаю, люди явились сюда безоружными, если не считать посохов и коротких кинжалов. Мечи, секиры и копья были только у стражей тинга — и, разумеется, у семейки Олафа. Сигурд стоял слева, шагах в двадцати от священника, уже обнаженный по пояс, и мастер Гимп что-то втолковывал ему, то и дело приподнимаясь на носках, чтоб дотянуться до уха рослого северянина. Мускулатура была у него не такой впечатляющей, как у Гунара, но горевший в глазах огонь подсказывал, что враг не уйдет из круга живым. Над плечом Сигурда маячило бледное, без кровинки, лицо Рагнара, рука которого то и дело тянулась к ножу. За ним застыли трое судей тинга: старая сморщенная Кристина, рыжеволосый бородатый Хальфдан и Снорри Хромец, оказавшийся щуплым сорокалетним мужчиной, припадавшим на левую ногу. Время от времени Снорри поглядывал на Иеро, будто спрашивая, все ли в порядке, и тут же переводил взгляд на голубоватую тушу «Вашингтона», чуть заметно колыхавшуюся под легким бризом. Дирижабль был еще одним свидетельством силы пришельцев с запада, явившихся не на большом корабле и без отряда воинов, зато фантастическим, необъяснимым способом — по воздуху! Зрелище воздушного корабля, парившего над берегом, как бы подтверждало ментальную мощь Иеро, вызывало доверие и надежду. Разве мог человек, прилетевший в этом чудесном судне, хоть в чем-то уступать Олафу Торвальдссону? Разумеется, нет; он был по крайней мере таким же сильным чародеем и, вероятно, имел более грозного божественного заступника, чем Один, Тор и злобный Локи. Священник заметил, что и другие мужчины в толпе посматривают на дирижабль, а сыновья Олафа не только глядели, но и шептались. Лица их с каждой минутой мрачнели, и было заметно, что «Вашингтон» внушает им неуверенность и страх. Стражи поднесли Харальду две секиры с широкими блестящими лезвиями, и по толпе впервые пробежал легкий шелест голосов, признак волнения. Секира — не меч; мечом можно ранить, оставить царапину, но удар секиры беспощаден и кончается смертью или тяжким увечьем. Вид оружия уже подсказывал, что поединок будет смертельным. Впрочем, никто не ожидал иного, помня о нанесенных Сигурду обидах. Харальд, стоя посередине круга, поднял оружие вверх. — Сигурд, сын Бьярни, вызывает на смертный бой Гунара, сына Олафа. Ответит лиГунар на его вызов? — Ответит! — донеслось с другого конца помоста. — Ответит, и выпустит ублюдку кишки! — Тогда подойдите ко мне, возьмите оружие и бейтесь. Один и Тор смотрят на вас, воины! — Я верю в другого бога! — прорычал Гунар, перепрыгивая через вал из вязанок хвороста. — Локи пошлет мне победу! Он вырвал секиру из руки Харальда. Тот отступил, протянул боевой топор Сигурду и махнул стражам: — Поджигайте! И в этот момент раздался негромкий уверенный голос Олафа. — Я просил бы подождать! Приподнявшись на ложе из ковров, он оглядел сначала Гунара, потом — Сигурда. — Конечно, мой сын зарубит этого дохляка. Думаю, что и второго тоже, — колдун сверкнул глазами на Рагнара. — Убьет их обоих и смоет оскорбление, что нанесли мне их семьи, лишив красивой молодой жены. Но что это докажет? Лишь то, что Гунар сильнее этих изгоев, каждого по отдельности и обоих вместе. Ведь так, люди? — Толпа угрюмо молчала, и Олаф продолжал, с насмешкой поглядывая на судей тинга: — Кое-кто из вас уверен, что все случится наоборот, раз к нам заявился жрец неведомых богов, бродяга из далеких мест. Кое-кто думает, что если он спустился с небес, значит, очень силен — может быть, сильнее меня! Но вспомните, люди, что в древности каждый болван летал по воздуху, как говорится в наших сагах! Но мог ли этот болван приманить в прибрежные воды треску? Слушались ли его акулы и кальмары? Мог ли он сделать другого болвана неподвижным, как столб для сушки сетей? И мог ли предвидеть будущее? Нет, не мог! — Колдун выдержал паузу и торжествующе закончил: — А я могу! Сев на своих коврах, он погладил одутловатые щеки, потрогал висевшую в ухе серьгу и впервые обратился прямо к Иеро: — Предлагаю тебе, пришедший с запада жрец, маленькое соревнование. Умеешь ли ты прорицать? Священник молча кивнул, не спуская с Олафа настороженных глаз. Это слизняк что-то задумал, крутилось у него в голове. Но что? Отвлекает внимание, а потом мигнет сыновьям, и те устроят резню? Непохоже… Другие трупы, кроме Сигурда с Рагнаром, в мыслях Олафа не маячили. Кажется, он в самом деле желал соревноваться. — Сделаем так, — произнес колдун, с хитрой усмешкой поглядывая на Иеро, — сделаем так, люди: я предскажу грядущее, и этот бродяга-пришелец тоже предскажет, а потом мы посмотрим, чье предсказание точнее. Если мое, то вы убедитесь, что Олаф, сын Торвальда, любимец Локи, не зря зовется лучшим чародеем Асла! — Он расправил плечи и стукнул кулаком в грудь. — Ну что, жрец, согласен? — Согласен, — отозвался Иеро. — Он выглядит слишком уверенным в себе… — шепнул старый эливенер. — Готовит каверзу? — Посмотрим. — Иеро распахнул куртку, нащупывая за пазухой мешочек с Сорока Символами и своим магическим кристаллом. — Ты знаешь, что я не очень силен в искусстве предсказаний, но с этим недоумком могу, пожалуй, потягаться. Готов поставить свой меч против серьги в его ухе, что он предскажет победу Гунару и ошибется. Толпа сдержанно загудела — один из сыновей Олафа вел пару огромных овец с мерцающей золотом шерстью; крутившийся сзади пес подгонял их, тыкая лобастой головой в овечьи курдюки. Гунар и Сигурд, замерев каждый в своей половине арены, мерялись взглядами будто два голодных волка. — Выбирай любую, жрец! — Олаф жестом щедрого хозяина показал на золотистых животных. — Зачем? — Как зачем? — на лице колдуна отразилось недоумение. — Ты ведь собирался гадать? Значит, тебе нужна овечья печень! — Печень годится для жаркого, а не для гадания, — усмехнулся священник. — У меня другие методы. — Ну, что ж… Олаф махнул рукой, и через пару минут ему поднесли дымящуюся печень на деревянном блюде. «Что делает этот толстый? — донеслась до священника мысль Горма. — Почему убили животное с пушистой шкурой?» «Ему нужна печень, чтобы предсказать будущее», — пояснил Иеро. «А все остальное? — Горм облизнулся. — Столько свежего вкусного мяса!» Тем временем колдун уже простер над блюдом пухлые руки. Голос его вдруг стал монотонным, протяжным, напомнив Иеро речитатив заупокойной мессы. — Вижу… вижу… — Ладони двигались над блюдом, пальцы будто что-то ощупывали и уминали. — Вижу кровь на секире Гунара… кровь двух людей, двух мерзких изгоев… Вижу, как мой сын потрясает топором и поет песню победы… Вижу два мертвых тела у его ног… два бездыханных трупа… Твой и твой! Выкрикнув последние слова, колдун ткнул пальцем в Сигурда, затем — в Рагнара. Они начали бледнеть, и священник, чтобы прервать нагоняющий страх спектакль, торопливо сказал: — А больше ты ничего не видишь? Что-нибудь обо мне и о себе самом? — Вижу. — Теперь палец указывал на Иеро. — Ты, чужеземный червь, и твои спутники, все вы станете моими рабами. Я заберу твой летучий корабль и все твое добро, а твой зверь отправится в котел. «Что говорит этот толстый? — полюбопытствовал Горм. — Я смутно чувствую… нет, почти уверен: ему что-то нужно от меня». «Твоя мохнатая шкура, — сообщил Иеро. — Он хочет ее содрать и поджарить тебя вместе с овцой». «Не думаю, что это хорошая мысль», — откликнулся Горм и обиженно смолк, утнувшись носом в лапы. Не обращая внимания на колдуна, Иеро высыпал из мешочка сорок крохотных, выточенных их черного дерева фигурок и положил на них левую руку. В правой его ладони, замершей на коленях, посверкивал прозрачный камень, и в глубине кристалла, предвестником наступающего забытья, кружились и мерцали радужные всполохи. На какую-то долю секунды он ощутил неуверенность; еще ни разу ему не приходилось гадать при таком скоплении народа, в потоках мыслей и чувств, что омывали его со всех сторон, будто скалу в океане, атакованную яростными штормовыми волнами. Неумолимый блеск кристалла помог отбросить это чувство и сосредоточиться. В конце концов, предсказание будущего не являлось таинством, подобным исповеди или святому причастию, и кто угодно мог за ним наблюдать; что же касается круживших в пространстве мыслей, то так несложно забыть о них… отрешиться… вынырнуть из этого суетного водоворота… Погружаясь в транс, Иеро дал ментальную установку глубины и краткости: его провидческий сон будет глубок, но недолог. Пять-шесть минут — на большее он не рискнул, боясь потерять контроль над ситуацией. К тому же во время транса он был совершенно беззащитен и мог полагаться лишь на своих спутников и этих мрачных, сломленных страхом островитян. Священник очнулся еще раньше, от резкого выкрика Олафа. Его голос сделался внезапно визгливым; видимо, он не понимал, что происходит, и странная неподвижность, молчание и отрешенность противника его перепугали. В маленьких глазках колдуна сверкало подозрение, одутловатые щеки побагровели, пальцы нервно мяли мочку с золотой серьгой. — Что, жрец, решил вздремнуть? — Ты прорицаешь над овечьей печенью, я — во сне, — откликнулся Иеро. — У каждого свой способ. Он обвел взглядом молчаливую толпу, стражей с пылающими факелами в руках, Гунара и Сигурда, сжимавших свои секиры, судей, Рагнара, брата Альдо и мастера Гимпа; все, будто зачарованные, смотрели на него. Священник раскрыл левую ладонь. В ней лежали четыре символа: крошечные Сапоги, Птица, Меч и Щит и Череп. Два первых легко поддавались толкованию — Сапоги означали странствие, а Птица — все, что связано с воздухом; значит, его полет продолжится, и «Вашингтон» благополучно покинет северный остров. Но не сразу, не сразу, думал Иеро, глядя на остальные фигурки. Знак Меча и Щита сулил ему опасный поединок, а маленький Череп, зловеще ухмылявшийся в ладони, был свидетельством чьей-то гибели, которая настигнет отмеченного роком в самое ближайшее время. Вообще говоря, Череп символизировал Смерть с большой буквы, древнюю Смерть, сгубившую человеческую цивилизацию, но имелось у него еще одно значение — смерть гадающего или кого-то, кто присутствует при гадании. За себя Иеро был спокоен — ведь вместе с Черепом выпали Птица и Сапоги; но что сказать насчет Сигурда? Возможно, северянин погибнет, а потом начнется кровопролитная резня между колдовским отродьем и бондами, о чем предупреждают Щит и Меч? Или в битву ввяжется он сам и прикончит противника? Оба толкования были возможны, и священник, задумчиво покачав головой, сгреб остальные фигурки и опустил в мешочек. Так ли, иначе, он был уверен в одном: если придется сойтись с Олафом — хоть в ментальном поединке, хоть с мечами, копьями или на кулаках — он скрутит колдуна ровно за одну минуту. Олаф уже успокоился и глядел на него, скаля зубы. — Ну, жрец-бродяга, твоя очередь. Каким будет предсказание? Внезапно в глотке у Иеро пересохло; он понял, что не уйдет отсюда, пока жив этот человек. Пусть Олаф не имел видимых связей с Нечистым, пусть его ментальный дар не мог устрашить даже ребенка, пусть! Этот человек был убийцей и тираном и, каким-то непонятным образом, внушал соплеменникам ужас. Значит, тут ему не место. Священник усмехнулся в ответ на кривую ухмылку колдуна. — Не знаю, чем кончится поединок, но вот твои дела плохи. Похоже, этот день тебе не пережить. Ты сдохнешь здесь, на этом помосте, на своих коврах, и я выдеру из твоего уха серьгу. Ту, за которую ты сейчас схватился. — Раньше я спляшу на твоем трупе! — хрипло рявкнул колдун и махнул стражам: — Огня, недоношенные щенки! Побольше огня! Чтобы хватило и на жреца, когда он поползет в костер! На четвереньках, как я прикажу! — Кажется, он раздумал брать меня в рабы, — сообщил Иеро брату Альдо и повернулся к ристалищу. Пламя вокруг него поднялось стеной, люди отшатнулись, а Гимп с проклятьем хлопнул по объемистому животу — видно от шальной искры затлела куртка. Рыжие огненные языки, с треском пожиравшие хворост, ненадолго скрыли бойцов, и минуту-другую священник видел лишь смутные силуэты, что метались по площадке, да слышал ритмичный звон, когда стальные лезвия били друг о друга. Впрочем, он не нуждался ни в зрении, ни в слухе, чтобы следить за схваткой; он явственно ощущал бешенство Гунара, его уверенность в победе, его яростный стремительный напор. К удивлению и радости Иеро Сигурд был спокоен; секира летала в руках северянина, и каждый удар, каждый выпад противника или приходился в пустоту, или наталкивался на лезвие секиры. Гунар, похоже, рассчитывал быстро разделаться с врагом и щедро тратил силы; надолго его не хватит, решил Иеро, переключая внимание на колдуна. Тот сидел на своих коврах, уставившись на арену прищуренными глазами. Никакой ментальной активности с его стороны не замечалось, кроме вялого интереса к происходящему на площадке, будто он был всего лишь зрителем, коему безразлично, кто победит и останется в живых, а кто падет на землю с разбитой головой. То и дело он ощупывал свисавщую с уха сережку, как бы играя с ней, и казалось, что это занятие увлекает его гораздо больше, чем зрелище поединка. Успокоившись, Иеро перевел глаза на ристалище. Пламя слегка опало, и теперь можно было разглядеть, как бойцы кружат в середине арены, подальше от огня, обмениваясь яростными ударами. Каждый старался хотя бы на шаг оттеснить противника к костру, что давало несомненный выигрыш: трудно размахивать секирой, когда подпекает лопатки. Пока что оба бойца выглядели полными сил, и ни один не выказывал утомления и не уступал другому. Гунар, пожалуй, чаще атаковал, но удары Сигурда были точнее, и предплечье его врага уже украшала длинная кровоточащая царапина. Гунар вдруг гневно взревел и в стремительном выпаде направил нижний конец древка в живот северянину. Сигурд отскочил, покачнувшись, попытался достать незащищенную голову сына Олафа, но тот, очевидно, предвидел такую возможность: его секира резко взмыла вверх, парируя удар. Он выиграл первый шаг, затем — второй, обрушив лезвие со страшной мощью на топор соперника и снова заставив его отступить. Теперь Сигурда отделяли от пламени девять или десять футов, и Иеро заметил, что он передергивает плечами — видимо, жар палил кожу. Тем не менее, он отступил еще и еще, с хрипом втягивая жаркий воздух, однако глаза его были по-прежнему холодны и спокойны. Что-то замышляет, догадался Иеро, чувствуя, как от Сигурда накатывают волны возбуждения. Он, однако, контролировал свои эмоции; ни один мускул на его лице не дрогнул, и лишь телепат смог бы предвидеть, что в голове северянина зреет какой-то план. Кажется, он не даром заманивал врага к огненному кольцу. Оно, в сущности, тоже являлось оружием, и каждый из сражавшихся мог использовать огонь в силу своего разумения. Сыновья Олафа, стоявшие под стеной, подбадривали Гунара пронзительным свистом и лязгом оружия; их физиономии раскраснелись, руки сжимали мечи и топоры, и казалось, что они вот-вот лишатся остатков самообладания и гиком ринутся на толпу молчаливых бондов. Очевидно, такие опасения возникли не только у Иеро; мужчины, окружавшие ристалище, старались не поворачиваться к вооруженным молодцам спиной, а многие нащупывали у поясов ножи и кинжалы. Харальд, двигаясь вдоль внешнего края огненного кольца и прикрывая ладонью щеки, следил за поединком, но остальные судьи с тревогой посматривали на Олафа, будто ожидая, что он вдруг поднимется и превратит Сигурда в собаку, а всех остальных — в стадо овец, которых тут же перережут его сыновья. Самым беспокойным из них был Снорри, обладавший ментальной чувствительностью; он то с надеждой глядел на священника, то прикрывал глаза, и в эти моменты до Иеро доходили слабые мысленные волны — Снорри пытался прощупать окружающее пространство. Он делал это инстинктивно, как всякий необученный телепат, и его сигналы были нечеткими и неуверенными. Старый эливенер за спиной Иеро возбужденно вздохнул — видимо, он, как и священник, уловил всплеск исходившей от Сигурда решимости и догадался: что-то сейчас произойдет. Северянин, отбив очередной удар, вдруг стремительно отпрыгнул, оказавшись слева от противника, и вытянул топор на всю длину, как бы собираясь зацепить Гунара под колено; тот повернулся боком к огню, и его секира, парируя выпад, со свистом рухнула вниз. Он выбил топор из рук Сигурда, но северянин, метнувшись к врагу, толкнул его изо всей силы. Инерция прыжка и немалый вес атакующего сделали свое дело: Гунар, яростно вскрикнув, рухнул в костер, а его соперник покатился по земле, ухитрившись подобрать свою секиру. Спустя мгновение он бросился к пламенным языкам, размахивая топором как легкой тростью, не думая об усталости; его лицо покрывали пот и копоть, но он, похоже, твердо решил, что враг не выберется из огня. Судьи замерли, переключив внимание на схватку, толпа возбужденно загудела, Рагнар, не спуская глаз со своего товарища, стискивал и разжимал кулаки, а мастер Гимп торжествующе заулюлюкал. Его свирепый вой, что звучал месяцем раньше в просторах Внутреннего моря, заставил отшатнуться стоявших рядом; даже Горм, закрывший глаза в знак полного безразличия к кровавым играм людей, вздрогнул и поднял лобастую голову. «Что-то горит?» — долетела его мысль к Иеро, и в следующий миг Гунар, объятый пламенем, вырвался из костра, подняв для защиты секиру и в то же время пытаясь сбить огонь с горящих шерстяных штанов. Сделать то и другое рядом с противником было невозможно, и Сигурд это доказал: блестящее лезвие взметнулось вверх, прорезало дымный воздух, ударило по топорищу, перерубив его напополам. Долю секунды Гунар ошеломленно взирал на бесполезную палку в своем огромном кулаке, потом, забыв об ожогах и тлеющих штанах, яростным жестом вскинул руки и завыл. То был предсмертный вопль зверя, почуявшего смерть, но не смирившегося с ней, еще не верящего, что через мгновенье наступит конец. Конец был близок: Сигурд, раскачивая секиру, подступал к врагу. Алые отблески огня мерцали в его глазах. Внезапно он остановился, с недоумением поглядел на свой топор и замер, будто не в силах сделать следующий шаг. Вопль Гунара смолк; взглянув на своего отца, сидевшего в странной напряженной позе, он ринулся к обломку своего оружия. — Кажется, тебе пора вмешаться, мой мальчик, — пробормотал над ухом священника брат Альдо и вздохнул. — Дикие нравы, дикий обычай! Но если кто-то и погибнет, я предпочитаю, чтоб это был не Сигурд. Молча кивнув, Иеро привычным усилием рассек ментальную нить, что протянулась от дальнего конца помоста к Сигурду. Он был разъярен; эта жирная тварь, убийца и насильник, пытался вмешаться в схватку — в его присутствии! Он вновь ощутил себя орудием в Божьей деснице — так же, как в те минуты, когда сражался со С'нергом и Обитающим в Тумане; смрад трясин Пайлуда защекотал ему ноздри, жуткая фигура, закутанная в саван, встала перед ним, будто напоминая о былой победе и исчезнувшем даре ментальных битв. Что-то срасталось, соединялось в его мозгу, пускало корни и крепло, подстегнутое палящим жаром ненависти — и, ощутив эту растущую мощь, Иеро обрушился на колдуна. И встретил стену. Перед ним был другой человек — не жалкий самоучка-телепат, а нечто сильное, грозное, цельное, и эта целостность и сила соединялись с великим искусством. Более совершенным, чем у мастеров Нечистого, несравнимым с умением твари, с которой он бился в болотах Пайлуда; пожалуй, лишь Дом, зловещий монстр из южных пустынь, мог отразить его удар с таким поразительным мастерством. Это было невероятно, но это было так! Олаф, терзая свисавшую с уха серьгу, глядел на него с мрачной ухмылкой, и до священника долетела мысль, просочившаяся сквозь ментальный барьер: пусть Гунар погибнет, пусть! У меня много сыновей, одним больше, одним меньше, какая разница? Но ты — мой! Подстегнутый этим посланием, Иеро бросился в битву. Сейчас он не видел и не ощущал ничего — ни глубокой тишины, что вдруг раскинула крылья над домами, ристалищем и всем берегом, ни сотен глаз, взиравших на него, ни присутствия седобородого эливенера, застывшего рядом со стиснутыми кулаками, ни тревоги Горма, резко вскинувшего голову. Мышцы его окаменели, мир затмился в его глазах; он наносил и отражал незримые удары, чувствуя, как чудовищная тяжесть то наваливается на ментальный щит, то отступает, опалив его зноем насмешки и ненависти. Но самое странное было в том, что эти эмоции принадлежали как бы двум различным людям: ненависть — колдуну, насмешка — кому-то другому, неизмеримо более могущественному и будто забавлявшемуся с ним; существу, для которого этот смертельный поединок являлся всего лишь игрой. Неужели он борется с Нечистым? С дьяволом, который вдруг вселился в колдуна? С неведомой тварью, что покровительствовала Олафу, источником его злобной силы? И этот демон смеялся над ним! Мысль была позорна, нестерпима! Его вдруг стали охватывать то жара, то удушье, то леденящий озноб, будто из сожженной солнцем пустыни он попадал в пространство без воздуха, а затем — на вершину покрытой снегом горы. Собразив, что враг подбирается к центрам дыхания и терморегуляции, священник, укрепив барьер, отбил атаку. Его ответный импульс был подобен острой спице; стиснув челюсти, собрав все силы, Иеро бросил это ментальное копье в разум колдуна, и ему показалось, что вражеская защита дрогнула. Снова и снова он направлял свои мысленные стрелы в расширявшуюся брешь, чувствуя, как Олафа охватывает ужас — но та, другая личность, главная в их странном симбиозе, была недосягаема. Раздался беззвучный смех — вернее, отзвук далекого смеха, и в то же мгновение барьер в сознании Олафа рухнул. Ментальное уничтожение стремительно; ворвавшись в его мозг, Иеро парализовал центры кровообращения и остановил сердце. Быстрая, легкая смерть, ибо мозг, лишенный притока крови, живет лишь несколько минут; но достаточно одной из них, самой первой, чтобы сознание отключилось, и человек впал в кому. Священник поднялся, пошатываясь, и бросил взгляд на тело колдуна, что корчился в дальнем конце помоста. Судорожные движения его рук и ног становились все беспорядочней и слабее, кожа побледнела, а на лбу выступил обильный пот; наконец он выгнулся дугой, рухнул на кучу шерстяных ковров и застыл с раскрытым ртом, уставившись в зенит потухшими глазами. Сыновья глядели на него с ужасом, и еще больший страх отражался на их лицах при виде Гунара. Тот лежал у угасающих костров, а Сигурд, стоя над окровавленным трупом, многозначительно поигрывал секирой. На неверных ногах, стараясь не показать охватившей его слабости, священник направился к телу Олафа и вырвал из его уха серьгу. Золотистая, плоская, размером и формой напоминающая большую монету, она показалась Иеро слишком легкой для украшения из драгоценного металла. Он бросил ее на помост и раздавил каблуком; послышался хруст, брызнули крошечные детальки, и прибор Нечистого перестал существовать. — Ну, чье предсказание точнее? — произнес Иеро и перевел глаза на толпу вооруженных молодцов. Уже толпу, не боевой отряд — смерть колдуна деморализовала его потомков. — Сейчас вы сдадите оружие судьям, — продолжал священник, — уберетесь отсюда на восточное побережье, и будете жить тихо, не чиня никому обид и насилий. Несогласных я превращу в жаб или крыс, по вашему выбору. И я объявляю, что отныне эта земля находится под покровительством Кандианской Конфедерации, и всякий, кто нарушит ее законы, будет наказан судьями так, как требует древний обычай. Это все! Над ристалищем и гаснущим огненным кольцом на мгновение воцарилось молчание, затем Сигурд грохнул своей секирой о лезвие топора Гунара, вытянул руку к священнику и выкрикнул: — Конунг! — Конунг! — взревели бонды, волной прихлынув к помосту и павшим духом сыновьям колдуна. — Конунг, защитник! В толпе сверкнули ножи, взлетели над головами посохи, но Иеро остановил людей одним мощным ментальным импульсом. Голос его раздался снова: — Я не гожусь в короли, ибо на моей родине нет благородных сословий. Канда населена такими же пастухами, охотниками и рыболовами, как ваш остров, и правят ею святые отцы Универсальной Церкви и выборные граждане, вроде ваших судей. Ничего не переменится для вас, если вы объединитесь со странами западного материка, ничего, за исключением одной повинности — бороться со Злом, как боремся с ним мы. — Он положил левую руку на свой медальон, а правой показал на тело Олафа: — Вот так мы боремся и побеждаем! А что касается потомков колдуна, то я прошу не чинить сейчас расправы, но следить за ними и наказывать, если будет на ком вина. С этими словами Иеро спрыгнул с помоста и, обогнув площадку с догорающими кострами, зашагал к голубоватой туше «Вашингтона». Брат Альдо и Горм последовали за ним. «Кажется, ты снова можешь сражаться мозгом, друг Иеро, — отметил довольный медведь. — Но объясни, что это было? Кто/что пришел на помощь этому толстому/слабому, который грозился меня изжарить?» «Не знаю, — коротко ответил священник. — Может, у тебя, брат Альдо, есть какие-то соображения?» Старик с задумчивым видом покачал головой. «Сказать по правде, сынок, я в недоумении! Я ощутил сигналы, очень далекие и приходившие как будто сверху, с восточной стороны небосклона. Однако импульс был очень слаб. Мог ли твой противник черпать в нем поддержку и силу?» «Разумеется, не мог, если б не то, что висело у него в ухе, — Священник мрачно усмехнулся. — Ментальный усилитель, вот что это было! Прибор, похожий на устройства, которые я видел у слуг Нечистого, но более миниатюрный и, клянусь святой троицей, гораздо более мощный!» «Ты думаешь…» — начал Альдо, морща лоб, но священник перебил его: «Не думаю — уверен! Те синекожие тролли, что приплывали к Олафу на кораблях без парусов и весел… Они, только они, способны доставить на Асл такой прибор. Сигурд говорил мне, что тролли все на одно лицо… Вспомни, отец мой — все темные мастера тоже были похожи друг на друга! Еще один факт, и он говорит о том, что тут не обошлось без Нечистого!» «Кто такие тролли?» — поинтересовался любопытный Горм, но Иеро оставил его вопрос без ответа. Нахмурившись, он шагал к берегу, размышляя, есть ли какая-то связь между созданием, что поддерживало колдуна, и тем неведомым, неуловимым, кто звал его в ночи. Не приняв никакого решения, он повернулся к брату Альдо и послал ему новую мысль: «Как ты полагаешь, отец мой, можно ли передать свою личность или часть ее, со всеми талантами и умениями, другому человеку? Так, чтоб этот другой вдруг получил несвойственное ему могущество? Например, искусство ментальных сражений?» Брови старого эливенера полезли вверх. «Никогда не слышал об этом, сынок! А я, поверь, прожил долгую жизнь и кое-что знаю! — Он усмехнулся, потом продолжал с ноткой иронии в беззвучном голосе: — Если подумать, мы умеем столь немногое! Собственно, что? Посылать слова и образы, зондировать пространство, но то и другое — на расстоянии в пять, десять или тридцать миль, в зависимости от силы телепата… Конечно, очень сильное возмущение ментальных полей улавливается на гораздо большей дистанции, но в этом случае мы отмечаем лишь мысленный гул и шум, не понимая слов, не видя образов… Еще мы можем общаться с нашими братьями, разумными или нет, — старик опустил руку на мохнатый загривок Горма, — и сообщать им о своих желаниях. Можем воздвигать барьеры, щиты, ментальные блоки, можем влиять на чужой разум, подчиняя его собственной воле — собственно, это и есть искусство ментальных сражений… Можем заставить человека видеть фантомы, ощутить жар или холод, голод или сытость, возбудить его гнев или, наоборот, успокоить и усыпить… Но я никогда не слышал о каком-нибудь гении, способном перенести свой интеллект в разум другого человека! Хотя…» Брат Альдо вдруг призадумался и, поглаживая седую бороду, замедлил шаг. Иеро терпеливо ждал, понимая, что мысль старца блуждает сейчас в пространствах и временах седой древности — может быть, не в легендарной эпохе до Смерти, а в тех веках и тысячелетиях, что протекли после нее. Их тоже было немало, и, надо думать, за этот гигантский по человеческим меркам отрезок времени свершилось множество всяких чудес. Когда они вышли к причалам и буку, за ствол которого был заякорен «Вашингтон», брат Альдо прервал молчание. На этот раз он не использовал ментальной речи, и голос его показался священнику грустным и будто бы нерешительным. — Ты помнишь нашу первую встречу, мой мальчик? Там, в руинах древнего города, где вас с Лучар настигли слуги Нечистого? — Да, разумеется. Ты спас нас, уничтожив их корабль, и ты распугал этих мерзких лемутов, людей-жаб, которые держали нас в осаде. Эливенер вдруг усмехнулся. — Воин! Ты — воин, и помнишь о том, о чем вспоминают солдаты, то есть о битвах о осадах… А я хотел бы напомнить тебе другое. Тогда я рассказывал вам, тебе и твоей принцессе, о Братстве Темных Мастеров и их Объединителе. — Объединитель? — Иеро сдвинул брови. — Нет, не припоминаю… Кто он такой? Темные пальцы брата Альдо зарылись в бороду. — Я говорил вам, что мы, эливенеры, долгое время следили за этими исчадиями зла, оставаясь невидимыми и неизвестными для них. Мы надеялись, что они уничтожат друг друга в междуусобной борьбе, ибо у таких людей есть главная слабость: каждый из них желает главенствовать, и ни один не уступит власти ее добровольно. Но, к сожалению, мы ошиблись. Тысячу — а, может быть, тысячу двести лет назад — среди них появился гений, обладавший могучим, но злобным разумом. Ему удалось свершить невозможное — объединить разрозненные группы темных мастеров, в то время ожесточенно враждовавшие друг с другом. Тогда и появилось их Темное Братство, союз Мастеров Нечистого, разбитый на четыре Круга — та структура, которую уничтожили твои соплеменники. — С помощью Господа и вашей, — отозвался Иеро. — Значит, этого злобного гения ты и называешь Объединителем? — Да, сын мой. Он сделал свое дело, а потом исчез, и его дальнейшая судьба покрыта мраком. Самое загадочное в том, — брат Альдо с силой дернул себя за бороду, — что мы не уверены в его смерти. Во всяком случае, в архивах нашего братства такое событие не зафиксировано. Он смолк, и больше не произнес ни слова, пока они стояли у дерева, поджидая своих спутников. Некоторое время Иеро размышлял над древней загадкой, потом, осознав тщетность своих усилий, пожал плечами. Мысли его обратились к Лучар; он представил, как она гуляет сейчас в саду, как осторожно, оберегая уже заметный живот, склоняется над кустами роз, и улыбнулся. Как он любил ее! Если б он мог дотянуться мыслью до своей принцессы, успокоить ее, утешить, ободрить! Или хотя бы сообщить, что он жив! Но их разделяли три тысячи миль, а самый сильный телепат мог послать сообщение только на тридцать. В этом брат Альдо был прав.ГЛАВА 4. СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
Вскоре они покинули Асл. Их путешествие было благополучным, но через пару суток, когда невидимый в облаках «Вашингтон» приблизился к Европе, Иеро охватила печаль. Это чувство разделяли все остальные путники, кроме, может быть, Горма, и причина его заключалась не в том, что они день ото дня удалялись от родных берегов, и не в разлуке с Рагнаром, который, приняв отчее наследие, остался в долине Гейзеров, чтобы восстановить свой род. Нет, повод был иным и гораздо более жутким. Алая стрелка, указатель курса на карте-экране, отмечала точку, в которой лежал город, когда-то называемый Вечным. Имя его сохранилось в памяти основателей Кандианской Церкви, и их далекие потомки, говоря о Святом Престоле, нередко добавляли: Вечный Рим, обитель наместника Господа на Земле. Этот город являлся для них почти такой же святыней, как легендарные земли Палестины, чьи камни помнили прикосновение ног Спасителя, где он проповедовал слово Божье и принял мученическую смерть. Но Рим, в отличие от историй Нового Завета, не был легендой, ибо о нем в архивах Аббатств имелась вполне достоверная информация: точное местоположение города, название реки, на берегу которой он стоял, его примерный план и даже перечисление всех семи холмов и расположенных на них святынь. Рим был реальностью и оставался ею на протяжении всех пяти тысячелетий, минувших после пришествия Смерти. Итак, алая стрелка указывала на Рим, и, повинуясь ей, дирижабль устремился на юго-восток. Они летели на большой высоте, с попутным ветром, гнавшим к берегам Европы стайки легких белых облаков. Внизу, под днищем гондолы, лежал Лантический океан, и в разрывах туч путники могли разглядеть синевато-серую водную поверхность и скользившие по ней отблески солнечных лучей. Ветер нес их по незримой границе Лантика с Норвежским морем прямо к двум островам, один из которых величиною соперничал с Аслом, а другой, больший, походил на ящерицу с разинутой пастью. Брат Альдо, чья память хранила древние названия земель и государств, справившись с картой пояснил, что малый остров зовется Ирландией, а более крупный — Британией. По его словам, в этих краях правили могучие владыки, чья власть простиралась на запад, юг и восток, и коим принадлежала когда-то половина мира, включая североамериканский континент. Но за столетия перед Смертью их могущество иссякло, далекие территории отделились от некогда обширной империи, и два острова на краю Евразии стали такими же жертвами схватки новых супердержав, как и другие страны погибшего мира. Что с ними произошло? Спустя недолгое время путники получили ответ. Внизу не было ни гор, ни рек, ни равнин, ни развалин городов — только безбрежный морской простор с торчавшими кое-где скалами, на которых темнели огромные, влажно блестевшие туши каких-то тюленеподобных существ. Иеро велел мастеру Гимпу опустить «Вашингтон», и теперь они неслись в двухстах футах от морской поверхности, всматриваясь в волны и утесы, отыскивая хотя бы жалкий след исчезнувшей цивилизации. Но тщетно! Дирижабль час за часом плыл над серо-стальными водами, однако картина не менялась: крохотные островки, каменные глыбы причудливых форм да чудовищные тюлени, оглашавшие воздух громоподобным ревом. Иногда в волнах мелькали плавники акул, и тогда море окрашивалось в багровые оттенки, а рев животных сменялся пронзительными жалобными стонами. Однажды Иеро заметил огромные круглые глаза всплывшего на поверхность кракена; чудовище следило за дирижаблем, и его необьятная плоть с растянувшимися на семьдесят ярдов щупальцами мерно колыхалась на волнах. Казалось, кракен разбирается в происходящем и понимает, что перед ним не птица, не облако, а нечто иное; взгляд его был почти осмысленным. — Разумен, — заметил брат Альдо, на миг сосредоточившись. — Бесспорно, разумен, но не желает вступать в контакт. И в то же время мы ему интересны… Нет, не как пища, — добавил он, бросив взгляд на многозначительно хмыкнувшего Гимпа, — вернее, не только как пища. Он словно бы видит наш будущий маршрут… знает, что мы должны пролететь над юго-западной оконечностью материка и очутиться в другом море — в том, которое в древности носило название Моря Среди Земель. Странно, не правда ли? Иеро пожал плечами. — Может быть, эти огромные головоногие путешествуют по морям и представляют, где какие находятся воды и земли? Если Бог одарил их разумом… — Нет, не Бог, — смуглая рука эливенера взметнулась в протестующем жесте. — Не Бог, мой мальчик, это я могу утверждать с полной определенностью! Разум этого создания полон холодной злобы и чего-то еще, что я не способен определить… Но симпатий он мне не внушает. Это был редкий случай, ибо эливенеры, Братство Одиннадцатой Заповеди,[569] относились с трепетным почтением ко всему живому и даже лемутов считали не ненавистными врагами человечества, а жертвами Нечистого, воспитавшего их в невежестве и злобе. Кто знает! Возможно, они были правы. Выслушав брата Альдо, Гимп покосился в сторону сложенного на корме оружия и пробормотал: — Не люблю слишком умных парней, особенно с таким количеством щупальцев… Не подколоть ли его гарпуном? Или мастер Иеро мог бы всадить ему в башку пару снарядов из метателя… Скажу-ка я Сигурду, чтобы спустил наше корыто пониже… — Не стоит, — священник покачал головой. — Эта тварь не трогает нас, зачем же ввязываться с ней в драку? Лучше помолимся и вспомним тех, кто жил на этой исчезнувшей в волнах земле. Тех, — добавил он, перекрестившись, — кто погиб по собственному неразумию, уступив место рыбам и морским чудищам. Наступила тишина, исполненная печали. Иеро молился, старый эливенер тоже выглядел погруженным в благочестивые раздумья, и даже взоры громко сопевшего мастера Гимпа пару раз обратились к небесам. Сигурд, стоявший на вахте, казался мрачным, и в его глазах, цветом похожих на море, застыло тоскливое обреченное выражение. Видимо, он представлял сейчас свой остров и то, что случилось бы с ним, если б на Асл обрушилась не одна ракета, а пара сотен. Только Горм безмятежно дремал, привалившись к мешку с пеммиканом и вдыхая его упоительный сладкий запах. Уже смеркалось, когда впереди по курсу, ощетинившись темными скалами, замаячил бесплодный берег. Нарушив молчание, брат Альдо пояснил, что эта страна называлась в древности Франс, что к востоку от нее лежала земля Джомен, к юго-западу — Спейн, а в той стороне, куда направляется корабль — море и длинный вытянутый полуостров Итали. Франс был когда-то цветущим краем, полным садов и виноградников, с городами, старинными замками и дворцами, где было тесно от сокровищ человеческого гения, но то, что видел Иеро сейчас, ничего подобного не сулило. В надвигавшейся тьме под ними скользили каменистые пространства, сменявшиеся участками спекшейся почвы да огромными оврагами, руслами бывших рек; кое-где скалы мерцали знакомым голубоватым сиянием — так же светились пустыни Смерти в Канде и более южных районах, там, где лежали в древности огромные города. Но континент, где родился священник, был обширен и не столь населен, как Европа, в которой поселения разделялись не десятками миль, а сотнями ярдов. Видимо, удар, обрушившийся на эти земли с двух сторон, был ужасным, и после атомной бомбардировки здесь не осталось ничего живого. Как, возможно, и в Итали, на месте Вечного Града, подумал Иеро. Томимый дурными предчувствиями, он удалился в заднюю часть кабины, сел рядом со сладко спавшим Гормом и вытащил мешочек с Сорока Символами. Прежнее предсказание исполнилось: он птицей мчался на юго-восток, выдержав схватку с колдуном и его безымянным пособником, так что пришло время еще раз провертеть дырочку в завесе грядущего. Вытащив свои магические принадлежности и трижды осенив себя крестным знамением, Иеро погрузился в транс и пробыл в нем более часа. Спутники его не тревожили; лишь брат Альдо прикрыл священника невидимым ментальным экраном. Когда сознание и чувства вернулись к Иеро, в его левом кулаке были зажаты три фигурки: стилизованная капелька-Слеза, Рыба и Пес. Слеза являлась знаком скорби и, в зависимости от других сопровождавших ее символов, могла означать печаль по усопшим родственникам, горе из-за потерянного имущества либо скота и тому подобные вещи. Но Пес и Рыба!.. Псы остались на острове Асл, а рыбой полнились соленые воды Лантика, однако ни то, ни другое не имело отношения к Слезе. Во всяком случае, так мнилось Иеро, решившему, что символы животных никак не связаны с печалью, которая постигнет его в будущем. Но если рассматривать их отдельно от Слезы, смысл их тоже казался загадочным. Рыба означала водную стихию и все, с ней связанное — корабли и мореходство, верфи, сети, рыбный промысел и так далее, что было бы вполне уместным, если бы он плыл не судне, а не летел по воздуху. Что касается Пса, то этот знак соответствовал собаке или волку, а вот что сулила такая встреча, определялось другими символами. Например, если бы Иеро вытащил вместе с Псом символ Копья, то это можно было бы истолковать как предстоящую схватку с волками или охоту на них, а если бы вместо Копья попалась Рука — Раскрытая Рука, символ дружелюбия — то, вероятно, дело с волками и псами кончилось бы миром. Однако с Псом были Рыба и Слеза, и это заставило Иеро погрузиться в бесплодные раздумья. Печаль, которую принесут собаки? Или корабль и что-то другое, связанное с водой? Или ему попадутся псы, живущие на побережье, у озера либо реки? Или пес пожрет рыбу, а, может быть, рыба — пса, и это доставит ему огорчение? Он комбинировал так и этак, вздыхал, проклиная свою неспособность проникнуть через завесу грядущего и вспоминал пера Сагеная, юного священника из Саска, который делал потрясающе точные предсказания. Прекогнистика являлась особым даром, чрезвычайно редким и высоко ценимом Аббатствами; талантливые гадатели могли вытащить по семь-восемь фигурок за раз и объяснить их смысл в мельчайших деталях. Карт Сагенай был, безусловно, гением в этом чудесном искусстве — еще не закончив школу Аббатств, он вытягивал дюжину символов и обладал интуитивным знанием, в каком порядке их располагать и толковать. Способности Иеро в этом отношении были средними, больше четырех-пяти фигурок в руки ему не шло, и скрывавший будущее туман лишь слегка редел перед его глазами. Но, в отличие от молодого Сагеная, Иеро окончил как школу Аббатств, так и Военную Академию в Саске, где наставники были людьми практичными, учившими извлекать все преимущества из тех даров, порою скромных, коими Господь наградил их учеников. Жди, что будет, говорили они, но ухо держи востро! По этой методе смутные предсказания полагалось расшифровывать с привлечением реальных фактов, сопоставляя символы с текущими событиями и отсекая те из них, которые уже произошли. Фактически это означало, что если бы перед священником сейчас явился пес, то, отложив в сторону его фигурку, он мог бы поразмыслить, как и чем связаны Слеза и Рыба. Но пес не явился. Покосившись на дремавшего рядом Горма, Иеро решил, что тот никак не походит на пса, снова вздохнул и спрятал символы вместе с кристаллом в мешочек. Грядущее оставалось загадочным и неопределенным. Ночь распростерла крылья над погибшей землей Франс, и воздушный корабль стал набирать высоту, словно ему надоело взирать на бесплодные пустоши и черные камни, то ли оплавленные останки зданий, то ли выдавленные из недр земных при атомном катаклизме. Внизу был ад, тогда как вверху царили спокойствие и благодать. Зыбкий облачный океан скрыл землю, задернув полог над жуткими картинами гибели и разрушения, а над ним распростерлись чистые обсидиановые небеса, сиявшие драгоценными ожерельями и диадемами звезд. На востоке блестел тонкий серп нарождавшегося месяца, небесный купол медленно вращался, с неторопливым величием кружа звезды, но одна из них, едва заметная, торопливо бежала к югу и в середине ночи скрылась за горизонтом. Священник обратил на нее внимание брата Альдо, но старец лишь задумчиво нахмурился; он тоже не знал, что это такое.* * *
Через день, перевалив высокие горы с островками чудом сохранившейся зелени, они оказались над морем. Дирижабль летел высоко, и священник, как и его спутники, не приглядывался к зеленым оазисам, так как вид их, весьма вероятно, погрузил бы их в еще большую печаль. Там что-то бушевало и кипело, посылая ментальные сигналы боли и ужаса; какая-то жизнь, порожденная атомной радиацией и прозябавшая в горных пустошах пять тысяч лет, ярилась и исходила злобой, не в силах добраться до небесного корабля. Иеро чудилось, что на этом мрачном фоне он улавливает осмысленные сигналы — возможно, людей, или, скорее, лемутов — но он не отдал команду Гимпу, не опустил корабль, ибо любопытство не оправдывало риск. Оболочка дирижабля была хотя и крепкой, но тонкой, и не стоило проверять, выдержит ли она удар копья или дротика, пусть даже с каменным наконечником. В конце концов, их экспедиция преследовала другие цели, нежели изучение жутких тварей, водившихся в теснинах Альп, но факт, что там обитало нечто враждебное человеку, уже наводил на размышления. Весьма печальные, увы! Впрочем, именно это и предсказывала Слеза. Смысл этого символа стал ясен для Иеро, когда дирижабль замер в воздухе, развернувшись против ветра и чуть отрабатывая моторами. Алая стрелка на карте-экране принялась мигать, и это означало, что «Вашингтон» достиг пункта назначения, и сейчас под ним должны находиться берег Тибра, семь холмов Вечного города, площади, улицы дома и храмы Господни, а также дворец наместника Божьего на Земле. Однако никаких сооружений, руин и даже земли внизу не просматривалось; большой морской залив, поглотивший речное устье, тянулся далеко к востоку, и лишь там, на расстоянии семи или восьми миль, торчали оплавленные утесы. Картина была такой же, как над Британскими островами: водная гладь в пенных барашках, синее небо, яркое солнце, а более — ничего. Правда, море тут было не синевато-серым, а лазурным, прозрачным, ласковым, и в его глубине, подлесом застывших водорослей, виднелись смутные очертания скал — то ли естественных образований, то ли чего-то рукотворного, древнего, как Смерть, скрытого от глаз людских водной толщей, наростами раковин и морской растительностью. Иеро глядел на эту картину и чувствовал, что на его реснице, будто напоминая о ночном гадании, повисла слеза. Чуткий Горм, уловив его грустные мысли, осторожно приблизился к распахнутому люку и положил голову на колено священнику. «Под нами — забытый и затонувший город?» — родились в сознании Иеро слова. «Да», — отозвался он, ощущая, как сочувствие медведя обволакивает его теплым, едва заметным облаком. «Но почему ты расстроен? Разве ты мало повидал забытых городов? А в этом, — Горм втянул ноздрями солоноватый воздух, — в этом даже исчез человеческий запах. Вода смыла его, как и злые мысли, приходящие от камней — те мысли, что вызывают болезнь». Иеро кивнул, сообразив, что Горм имеет ввиду радиацию. «Это был особый город, — с грустью улыбнулся он, почесывая Горма за ушами. — Город, куда тянулись чаяния и надежды людей со всего света. Обитель слуг Господних, святое место». «Святое… — с оттенком задумчивости в ментальном голосе протянул медведь. — Ты иногда произносишь это слово, но какой в нем смысл?» «Святой человек — посвятивший себя служению Богу, изгнавший зло из своей души, творящий для ближних только доброе, оберегающий и охраняющий их, — пояснил Иеро. — Место, где обитают такие люди, тоже становится святым». «Значит, ты — святой! — уверенно заявил медведь после недолгих размышлений, повергнув собеседника в шок. — Но я бы хотел узнать, что означают другие непонятные слова — Бог, душа и еще несколько, которые ты произносишь, беззвучно шевеля губами. Кажется, это называется „молиться“?» Брат Альдо, ловивший их ментальный разговор, хихикнул за спиной священника, и тот, мстительно усмехнувшись, произнес: «Я не могу быть святым, ибо я убивал и буду убивать, а истинно святые покоряют врагов лишь добротой и мудрым словом. Но если ты поглядишь на нашего старейшего, соединишься с ним мыслью, заглянешь в душу, то поймешь, что такое святой человек». «Увы, я тоже убивал, хоть не своими руками, — донеслось от брата Альдо. — Я тоже грешен, и не гожусь в святые, мой мальчик!» «Возможно, есть разные уровни святости, — заключил Горм. — Ведь даже шишки на сосне растут на разных ветках, пониже и повыше… Теперь, когда я понял, что означает это слово, я постараюсь выяснить, кто больше соответствует определению друга Иеро. Я буду размышлять и изучать вас — всех, кроме Гимпа. Гимп точно не святой. Он пьет ядовитый напиток и ест мой пеммикан!» Иеро расхохотался, и слезы, пролитые им над руинами Вечного города, вдруг высохли. Подмигнув брату Альдо, он повернулся к сидевшему у штурвала капитану и приказал: — Опусти-ка дирижабль пониже, мастер Гимп, футов на пятьдесят. Мы сбросим плотик, и я спущусь на воду. Возможно, если нырнуть, я разгляжу одно из зданий или церковь… В Риме было десять тысяч храмов и церквей… Неужели все они погибли? — Лучше я нырну, мой конунг, — сказал Сигурд, стаскивая рубаху. — И лучше взять с собой оружие. Думаю, эти воды небезопасны. Они разделись и сбросили вниз на канате плотик, довольно большой, три на четыре ярда, сделанный из гибкого прочного пластика. Пара таких плотов, особым образом упакованных, входили в комплект снаряжения «Вашингтона»; в момент удара о воду они чудесным образом разворачивались и надувались, превращаясь в устойчивые платформы с круглым низким бортиком. Еще на Ньюфоре Иеро выяснил, что каждый такой плотик может нести как минимум дюжину человек. Сигурд, с ножом у пояса и тремя гарпунами под мышкой, скользнул по канату вниз. Иеро последовал за северянином; он нес метатель, заряжавшийся с дула гладкоствольный карабин, десяток зарядов к нему и свой короткий тяжелый меч. Этот клинок являлся реликвией более древней, чем дирижабль, что подтверждалось надписями у рукояти: «U.S. 1917» и «Сделано в Филадельфии». Пятнадцатидюймовое лезвие служило когда-то тесаком бойцу морской пехоты США, древней империи, лежавшей южнее Внутреннего моря и поглощенной сейчас пустынями Смерти, саванной и джунглями. Спустившись на плот, священник положил свое огнестрельное оружие посередине, придвинулся к Сигурду, и оба начали пристально всматриваться в морскую глубину. Залив был мелким, и прямо под ними — казалось, в футах тридцати или тридцати пяти — маячил курган из каменных глыб, возможно обработанных руками человека. Густое покрывало водорослей не позволяло разглядеть детали, и взгляд все время отвлекался на живых существ, ползавших по дну и шнырявших в подводных джунглях. Тут были раковины размером в ярд, в приоткрывшихся створках которых розовели огромные моллюски, были большие крабы в шипастых багровых панцирях, причудливые морские цветы с трепещущими щупальцами или змеевидными отростками стеблей, какие-то твари, усеянные колючками, но больше всего было рыб. Иеро не подозревал, что подводная жизнь может излиться в таком изобилии, в таких причудливых формах и расцветках! У дна маячили плоские круглые рыбины с выпученными глазами, а над ними кружился хоровод золотистых, серебряных, алых, синих и желтых тел, пестрых в черную полоску на светлом фоне, пятнистых, узких и стремительных или похожих на раздутые бочонки, на ярких птиц с плавниками-крыльями, с пастью, вытянутой клювом, с выростами на голове, напоминавшими рога; все эти причудливые твари либо кормились в водорослях, либо гонялись друг за другом, и средние проглатывали мелкоту, чтобы сделаться добычей тех, что покрупнее. Правда, самый большой из подводных обитателей не превосходил в длину протянутой руки и казался не слишком опасным. Зрелище зачаровало Иеро, но Сигурд, морской странник, взирал на него с полным равнодушием. — Взгляни, — он ткнул гарпуном за борт, — не это ли ты ищешь? Вытянутый камень, похож на обломок колонны… Глубина небольшая, я могу нырнуть и очистить его ножом от водорослей. — Не торопись. — Священник опустил в воду ладонь и прикрыл глаза, но следов опасной радиации не ощущалось. Мысли же — или, вернее, инстинкты подводных тварей не содержали ничего любопытного; тут, казалось, не было грозных и страшных существ, подобных акулам или огромным кальмарам. «Ничего опасного поблизости, сынок», — пришла мысль брата Альдо, и Иеро, подняв голову, встретился с ним глазами. Старый эливенер выглядывал из люка, озирая морскую даль, и легкий теплый бриз бережно касался его седой бороды. На мгновение священнику почудилось, что за плечом Альдо возникло лукавое личико Лучар, но это был, разумеется, мираж. Он вдруг подумал, что между старцем и его возлюбленной есть несомненное сходство, и дело тут не в явных признаках их расы, полных губах и темной коже. Что-то еще, что-то почти неуловимое, промелькнувшее в выражении глаз, в жесте, которым они прикрывали лицо от солнца или касались тонкими пальцами виска… Эта мысль исчезла, когда брат Альдо окликнул его: — Нашли что-нибудь, мой мальчик? — Сигурд сказал, что видит цилиндрический обломок. Сейчас проверим. — Иеро кивнул северянину, и тот без плеска ушел в воду, сжимая в кулаке нож. Схватившись на канат, свисавший из распахнутого люка дирижабля, священник пристально следил за ним, одновременно сканируя окрестности. Далеко, у восточных берегов, на расстоянии десятка миль, резвились какие-то существа, и от них мощной волной накатывала радость. Похоже, играют, с улыбкой решил Иеро, уловив, что эти создания сыты, счастливы и довольны жизнью. На севере и западе тоже не было никакой угрозы, а на юге ощущался чуть заметный всплеск хищной активности, но тоже очень далекий — возможно, там охотились акулы. Не выпуская эту опасность из сознания, но и не слишком концентрируясь на ней, Иеро наблюдал, как Сигурд, ловко работая ножом, очищает каменный обломок. Кажется, это действительно была колонна из серого гранита, изъеденная временем и соленой морской водой. Чувство времени подсказало Иеро, что северянин трудится уже полторы минуты, а значит, пора бы ему всплыть на поверхность. Но Сигурд не выказывал никаких признаков удушья — скреб и скреб камень ножом, очищая его от водорослей и налипших ракушек. Внезапно он прекратил это занятие и принялся подкапывать обломок сбоку, то и дело запуская пальцы в образовавшуюся щель. Наконец, стиснув что-то в кулаке, он сильно оттолкнулся ногами от дна и вынырнул рядом с плотиком. Три с небольшим минуты, отметил Иеро, удивляясь ровному дыханию ныряльщика. — Сколько ты можешь пробыть под водой? — спросил он, наклонившись к Сигурду. — Вдвое дольше, — ответил тот, раскрывая ладонь с чем-то темным, но явно не каменным, а металлическим. — У себя на родине я был пастухом и стражем тинга, а потому ныряю хуже наших рыбаков. Мутация, мелькнуло у священника в голове; видимо, решил он, жители Асла отличаются от метсов не только цветом глаз и кожи. Затем он протянул руку и взял предмет с ладони северянина. То был потемневший серебряный крестик размером в пару дюймов, болтавшийся на обрывке цепочки, тоже серебряной, обросшей мелкими ракушками и почти потерявшей гибкость. На нем отчеканили узор, сейчас невидимый глазу, но ощущаемый кончиками пальцев — может быть, распятая фигурка Спасителя или другой священный символ. С благовением рассматривая древнюю реликвию, дарованную морем, Иеро думал, что для отца Демеро она станет надеждой и утешением. Хоть Вечный город и Святой Престол исчезли, Господь послал ему этот предмет, возможно — чудотворный, который будет храниться в Саске как самое драгоценное из сокровищ. Не сейчас, потом, когда он вернется на родину… Перекрестившись, священник бережно опустил находку в маленький карман на перевязи своего меча. — Может быть, найду что-то еще, — произнес Сигурд и, сделав глубокий вдох, скрылся под водой. Его сильное гибкое тело устремилось к наполовину очищенной колонне. — Да будет благословенным твой труд, — пробормотал Иеро и поднял голову, почувствовав ментальный оклик эливенера. «Что-то приближается с южной стороны, — пришла мысль брата Альдо. — Хищники, пять или шесть… Таких я еще не встречал», — добавил он спустя мгновение. «Можешь справиться с ними?» — спросил священник, направляя к югу свой ментальный щуп. Запоздалое сожаление кольнуло его; он любовался реликвией, выпустив из виду охотившихся в отдалении тварей. Теперь они неслись на север, и, прикинув их скорость, Иеро был потрясен: кажется, эти создания не плыли в воде, а летели по воздуху. «Всех я не смогу остановить, — откликнулся брат Альдо. — Одного или, может быть, двух… Лучше вам подняться в кабину, сын мой». Но этот совет запоздал — Сигурд еще оставался на дне, а с южного горизонта стремительно приближались несколько темных черточек. Сосредоточившись, Иеро коснулся разума северянина, но тот не понимал мысленной речи; пришлось потянуть его вверх, передавая приказ не разуму, но мышцам. Через пять секунд Сигурд вынырнул рядом с плотом и уставился на священника. — Ты звал меня, конунг? Что случилось? Иеро протянул ему руку. — Возвращаемся. Кто-то хочет поохотиться на нас, но если мы заберемся по канату хотя бы на три ярда… Он смолк, глядя на мчавшихся к ним существ и проклиная свою неосторожность. То были не акулы, а нечто гораздо более странное; мощные вытянутые тела с раздавшимися в стороны головами делали тварей похожими на кузнечный молот, а крылья или огромные яркие плавники по обе стороны брюха казались позаимствованными у птиц. Эти монстры скользили по волнам, едва касаясь морской поверхности и совершая гигантские прыжки по двадцать футов в высоту и впятеро больше в длину. Возможно, Иеро был неточен в своих оценках, но было ясно, что на канате от этих чудищ не спасешься — снимут, как рыбку с крючка. Может быть, если Гимп быстро поднимет корабль… Опускать его явно не стоило; если огромная тварь пробьет оболочку, им всем конец. К тому же времени на такие маневры не оставалось — странные полуптицы-полурыбы были на расстоянии нескольких прыжков. «Задержи их, Альдо!» — мысленно взмолился священник, схватив готовый к бою метатель. Сигурд поднял гарпун и, прищурившись, взвесил его в руке; стальное острие блеснуло в солнечных лучах. — Никогда не видел такое чудо, — пробормотал северянин, раскачивая оружие. — Вдвое больше крупной акулы! И если они такие же живучие, плохи наши дела, конунг! Тварь, что мчалась первой, взмыла над волнами, рухнула вниз, подняв фонтан брызг, и вдруг принялась описывать круги, изгибая туловище и будто пытаясь ухватить себя за хвост. Второе создание пронеслось над ней, устремившись прямо к плоту, и Иеро увидел, как в огромной распахнутой пасти сверкает частокол загнутых внутрь зубов. Пасть была такой, что могла заглотить человека до пояса. Он выстрелил, и небольшая ракетка, оставив в воздухе шлейф дыма, ударила в небо чудовища и разнесла черепную кость. Огромное тело пронеслось над ними, мелькнули радужные, просвечивающие на солнце плавники, затем мертвая туша шлепнулась в воду, и плот закачался на волнах. Иеро потянулся к сумке со снарядами, но перезарядка карабина была небыстрым делом, и, отбросив свое неуклюжее оружие, священник схватил гарпун. Атаку третьей твари они встретили стальными лезвиями, воткнув их в белесое брюхо. Удар огромного хвоста свалил Иеро на спину, и на мгновение перед ним мелькнуло напряженное лицо эливенера, прикусившего нижнюю губу — видимо, он пытался контролировать всех монстров, что было занятием непростым. Сколько их? — подумал священник, встав на колени и протягивая руку к карабину. Сигурд, вцепившись в последний гарпун, скалою высился над ним, а летающий гигант с распоротым брюхом бился в воде ярдах в пятнадцати от плотика. В его глазах, разнесенных на четыре фута, торчали арбалетные стрелы — очевидно, мастер Гимп тоже вступил в сражение. Еще две рыбы-птицы взлетели над волнами, но вдруг, изменив направление, свернули в сторону, огибая плот. Зато первая тварь перестала кружиться и, словно одумавшись, расправила плавники и разинула жуткую пасть. Похоже, она не могла подняться в воздух без разбега, но это ее не остановило, как и пущенная Гимпом стрела: гулко шлепая хвостом о воду, она стремительно ринулась к плоту. Когда-то эти огромные монстры были безобидными летучими рыбками длиною в десять дюймов и развлекали своими прыжками туристов на палубах океанских лайнеров; пожалуй, ни один круиз не обходился без такого экзотического зрелища. Но Смерть изменила их, как и множество прочих созданий, и перемена свершилась не в лучшую сторону. Тупые, почти не поддающиеся ментальному контролю, эти существа стали хищниками, более жуткими, чем акула-молот, и весь их крохотный разум был направлен к единственной цели: убивать и есть. Немногие из морских обитателей могли сразиться с ними или бежать в глубину, куда им не было дороги. Но их происхождение сейчас не занимало Иеро; он понял, что не успеет перезарядить метатель, а потому, снова отбросив бесполезное оружие, делал разом три дела. Во-первых, молился; во-вторых, выхватив меч, соображал, как бы половчее воткнуть его в пасть или в глаз чудовища; в-третьих, слушал ментальные возгласы Альдо. «Я держу двоих, — билось у священника в голове, — но с третьим мне не справиться. Они — глыбы голода и ярости! Будь осторожен, сынок, и не падай духом: помощь близка!» Какая помощь?.. — мелькнуло у Иеро в голове, и вдруг из-под края плота вынырнуло что-то темное, гибкое, стремительное, ринулось к плавнику чудовища, рвануло зубами толстую кожу и тут же метнулось вниз. Затем вода как будто вскипела: черные быстрые тени пронзили ее, повиснув на боках огромной твари будто атаковавшие медведя псы. Они терзали ее живьем, но, несмотря на изумление и трепет смертного ужаса, еще не покинувший его, священник понял, что перед ним не стая хищников. Эти существа, игравшие минутами раньше на мелководье у берега, были сейчас отрядом бойцов и действовали с умением, которое приносит только опыт. Рыба-птица уже лишилась одного плавника, ее распоротое брюхо сочилось кровью, но ни один из нападавших не попал в гигантскую пасть; они, вероятно, в точности знали, как и что полагается делать, чтоб избежать кривых зубов. Борьба с двумя другими монстрами велась еще более решительно и успешно — кажется, старый эливенер все еще «держал» их, не позволяя развить необходимую для полета скорость. В море расплывались большие алые пятна, а одна из огромных туш уже качалась на волнах кверху брюхом, выставив к небу полуоторванный плавник. Сильные пальцы Сигурда стиснули плечо священника. — Я знаю, кто это, — пробормотал он. — У нас на острове ходят легенды… саги, в которых они спасают рыбаков, а полюбившимся им людям приносят затонувшие сокровища… Их нельзя убивать, ибо они разумнее и благороднее, чем наши псы. Нарушивших этот закон судьи тинга приговаривают к изгнанию. Опустив меч, Иеро глядел на схватку, кипевшую в воде, и слушал Сигурда и брата Альдо, чей ментальный голос казался сейчас полным энергии и бодрости. «Дельфы, они называют себя дельфами или Морским Племенем, сынок, и, кажется, справятся без вас. Только не надо стрелять и метать копья — к вооруженным людям они испытывают недоверие». «Откуда ты это знаешь?» — беззвучно спросил священник. «Я обнаружил их, призвал сюда, и я говорю с ними. С десятком особей, которых Горм счел бы старейшими этого племени. Они не принимают участия в битве… впрочем, она уже закончилась. Ты можешь тоже с ними пообщаться. Какой замечательный народец! Весельчаки, мой мальчик, игруны, но обладающие отвагой и светлым разумом… Какое чудо эволюции! И как бы я хотел изучить их поближе!» Усмехнувшись восторгам старика, Иеро опустился на плот. Ноги его дрожали, а перед взором, к которому еще не вернулась ясность, маячило изображение крохотной деревянной Рыбы, хотя он уже понял, что спасшие их существа относятся к теплокровным. Впрочем, это не имело значения, так как Рыба символизировала всех созданий, что водятся в реках, озерах и морях. «Чтоб меня дьявол зашиб копытом! — подумал священник, вспоминая о последнем гадании. — Болван стоеросовый! Не разобраться с такой простой задачей! Всего лишь три символа, никак не связанных друг с другом… Слеза — печаль над руинами Вечного града, Рыба — эти морские твари, а Пес… — Он глубоко втянул воздух и закончил: — Пес — всего лишь пес, ты, тупоумное ничтожество! Вот только будет ли встреча с ним к беде или к добру?» Но этот вопрос пока что не имел ответа, и оставалось лишь полагаться на мудрость, преподанную в Академии: жди, что будет, но ухо держи востро! Над бортом возникла крупная лобастая голова, два антрацитовых глаза уставились на священника, раскрылась длинная клиновидная пасть, и на Иеро обрушился шквал щелкающих и скрипящих звуков. Настроившись на нужную ментальную волну, он с удивлением понял, что существо благодарит людей — они известили Морское Племя о ракшах и помогли их уничтожить. Ракши были врагами, как и другие Пожиратели, таившиеся в безднах вод или скользившие по их поверхности, и с ними полагалось сражаться, пока над морем светят неисчислимые глаза Небесной Рыбы. Эти глаза, как поясняло изображение ночных небес, являлись звездами, а оборот с упоминанием их символизировал вечность. — Он говорит, и ты его понимаешь, мой конунг? — прошептал Сигурд, присаживаясь рядом на корточки. Обычно невозмутимое лицо северянина светилось восторгом. — Я понимаю не речь, а мысли, — произнес Иеро. — Это один из их вождей, и он считает нас соратниками, что бились с врагом его племени. Он благодарен нам. — Если так… — Сигурд помедлил. — Клянусь Тором, я не жаден и не ищу богатства, но вдруг он захочет нас наградить? И принесет из моря сундук с сокровищами? — Самое ценное сокровище ты уже достал, — священник коснулся кармашка на перевязи. — И Аббатства наградят тебя, как ты захочешь: звонкой монетой, участком земли, кораблем или дорогими шкурками. Ты уже богатый человек, брат мой Сигурд! А так как ты еще и храбрец, то сможешь выбрать жен в лучших семействах Канды! С этими словами он повернулся к дельфу и спросил, стараясь мыслить четко и ясно: «Ты знаешь, что такое Смерть?» «Горячая Вода», — пришел ответный импульс, сопровождаемый зрительной картиной: кипящее море и огненный гриб, поднявшийся к небесам. «До Горячей Воды здесь была суша и стоял город. Где он теперь?» «Город?» — Недоумение; разумеется, дельф ничего не знал о городах. «На дне — камни, — пояснил Иеро. — Обычные камни или такие, которые сделал человек? С ровной поверхностью, круглые, правильной формы? — Он передал стилизованные изображения прямоугольной плиты и колонны. — Может быть, есть странные камни? Такие, каких нет в других местах?» Он ощутил теплое чувство дружелюбия и готовности помочь, пришедшее от дельфа. Морское Племя явно не относилось к лемутам, а также не походило на Народ Плотины, который не стремился контактировать с людьми. Интуиция подсказывала Иеро, что дельфы помнят о человеке, и что эта память для них драгоценна; видимо, они не знали, кто вскипятил воду в океанах и морях. «Камни, — повторило глядевшее на него создание, — камни здесь, на дне, ближе к берегу, дальше от берега. Много странных камней! Есть гладкие камни, есть такие, которые блестят, есть пещеры с отверстиями в стенах, есть камни-люди. Мы приходим и смотрим на них, чтобы не забыть, как выглядит человек». «Камни-люди?» — Иеро недоуменно нахмурился. «Статуи, мой мальчик, статуи, — пояснил брат Альдо, третий участник их безмолвной беседы. — Разве ты никогда не видел каменных изваяний?» «Я покажу», — отозвался дельф, и перед мысленным взором Иеро пронеслись вереницей древние боги, римские императоры, нагие нимфы и дриады, воины в шлемах и доспехах, святые с посохом или крестом — разбитые или уцелевшие, заваленные камнями, поросшие водорослями или каким-то чудом сохранившие прежнее место на крыше здания либо под его полуразрушенными сводами. Он вздохнул, перекрестился и вознес хвалу Господу; кажется, память о Вечном городе хранилась не только в людских сердцах и душах. Затем он махнул рукой мастеру Гимпу, и дирижабль начал медленно опускаться над плотиком.* * *
В этой бухте на западном побережье Итали они задержались на несколько дней. Суша оказалась тут не столь бесплодной, как в областях, лежащих к северу; среди скал пробивались трава и бамбуковые стебли, а кое-где зеленели рощицы пальм, давно одичавших олив, лавровых и фруктовых деревьев. В этих оазисах водились большие нелетающие птицы, весившие под сотню фунтов, в которых брат Альдо опознал далеких потомков фазанов. Оперение у них было ярким, хвосты — пышными, а мясо — нежным, и мастер Гимп, прихватив свой арбалет, проводил изрядное время в лесных зарослях и никогда не возвращался без добычи. Сигурд и Горм обычно сопровождали его; медведь, стосковавшись по твердой земле, с радостью взял на себя роль следопыта, предоставив двуногим спутникам метать стрелы и орудовать ножами. В рощах был настоящий птичий рай, и в нем, кроме огромных фазанов, водились голуби, скворцы и дрозды величиной с прежнюю курицу, аисты и журавли, совы и коршуны, а также вездесущие воробьи, тоже подросшие до приличных размеров. Но мясо их было невкусным и жилистым. Брат Альдо проводил большую часть дня на берегу, у скалы, к которой был привязан дирижабль, беседуя со старейшинами Морского Племени и делая заметки на плотных листах бумаги. Казалось, он очарован этим народом и двинется с места не раньше, чем опишет его историю во всех подробностях, начиная со времен до Смерти и кончая мифологией и брачными обычаями. Кстати, то и другое отличалось у дельфов большой сложностью; хотя они не имели рук, не знали огня и орудий, но вовсе не были примитивным племенем. Их культура включала богатую устную традицию, разнообразные обряды и виды искусства — танцы, игры и целые спектакли, а также что-то подобное обучению молодняка, законы, правила и настоящий боевой кодекс, ибо все они, кроме беременных самок, считались воинами. Здесь, в просторной бухте, обитал один из сотен кланов Морского Племени, но их владением и охотничьим угодьем было все обширное Море Среди Земель, простиравшееся далеко на восток, до Кавказского хребта и бескрайней среднеазиатской степи. В эту эпоху потепления и сильного подъема мировых вод Черное море слилось с Каспийским, затопив долины Кубани и Терека, дельты Дона и Волги, а Каспий продвинулся к востоку, добрался до Арала и залил Туранскую низменность до самых Памирских гор. Как утверждали дельфы, это огромное водное пространство тянулось между тридцатой и сорок пятой параллелями на пять с половиной тысяч миль. Им можно было верить; тяга к странствиям являлась характерной чертой Морского Племени, и каждый из них в зрелые горы свершал не одно путешествие с запада на восток и с востока на запад. Что касается Иеро, то он исследовал залив в сопровождении дельфа, приплывшего к нему после битвы с ракшами. Имя этого морского обитателя было длинным, состоящим из множества скрипящих и чирикающих звуков и совершенно непроизносимым, но он с охотой отзывался на кличку Вождь. От легкомысленных собратьев его отличали более серьезный нрав и склонность повелевать. Возможно, причиной тому являлся его возраст или занимаемый им пост — в представлении Иеро он был кем-то вроде военного предводителя — но Вождь никогда не играл и не участвовал в танцах, затеваемых молодыми дельфами сорок раз за всякий день. Дюжина крупных самцов, сопровождавших их с Иеро и тащивших плотик, слушались Вождя беспрекословно, напоминая отряд гвардейцев при королевской персоне. Но даже им старый дельф не доверял своего гостя: когда они ныряли в воду, Иеро держался только за плавник Вождя. Печальные и чудные картины открывались перед ним. Он видел руины гигантского овального цирка, остатки скамей, колонн и арок, утопленных в песок и ил; видел обелиски и изваяния, чьи лица сгладило время, а постаменты облепили раковины; видел развалины фонтанов и дворцов, ущелья улиц и поляны площадей, затянутые бурыми водорослями; видел покосившиеся, треснувшие ступени мраморных лестниц с резными перилами и рухнувшие галереи с чугунной вязью решеток; видел Господни церкви и храмы, базилики и часовни — совсем крохотные и такие, что в одном притворе поместился бы главный собор Саска. Немногое осталось от них — камни, фрагменты мозаики, тусклые разбитые витражи, детали из меди и бронзы, покрытые тысячелетним слоем донных отложений. Все остальное — картины и книги, ткани и фрески, мебель и священные покровы, статуи из дерева и кафедры проповедников — все это сгорело, развеялось прахом, а что не развеялось и не сгорело, сгнило давным давно в морской пучине. Теперь лишь камень, стекло и медь хранили воспоминания о древнем Риме, что наполняло душу Иеро тоскливым сожалением. В такие минуты он думал, что унесет с собой серебряный крестик, частицу Вечного города, и утешался тем, что дар этот послан ему не иначе, как Вседержителем. Однажды, когда священник отдыхал на плотике, Вождь принес ему странную вещицу — тонкий стержень длиною в палец с заостренным кончиком, сделанный из прочной черной пласмассы. Стержень явно предназначался для письма, его конец оставлял на ладони заметный темный след, хотя ничего похожего на перо и чернила в нем не нашлось. Однако гораздо удивительней казался другой факт: этот пишущий стержень выглядел новым, будто его изготовили с месяц назад. Вождь объяснил, что «тонкий черный камень» уронили или выбросили с корабля, и что такие корабли временами плавают в море, хотя и нечасто. Экипаж на них был странный — дельф назвал таинственных мореходов «ненастоящими людьми». «Что это значит?» — поинтересовался Иеро. «Настоящие люди — те, что говорят с нами, а если не могут говорить, то делают так, — дельф излучил волну удовольствия и приязни. — Но те, что плавают в море, не замечают нас». «Что-нибудь еще?» «Да. Они ненастоящие, потому что выглядят как один человек и думают одинаково. А люди, как дельфы, должны быть разными». Из дальнейших расспросов Иеро выяснил, что корабли «ненастоящих людей» отправляются в путь с северо-востока, из двух мест, лежащих в устьях больших рек и разделенных значительным расстоянием. Вождь, однако, не мог объяснить, что там находится — города, порты или крепости; он лишь добавил, что кораблей в каждом месте немного, не более десяти, и что ходят они в два океана, соединенных Морем Среди Земель. Вечером Иеро обсудил эту информацию со своими спутниками, и они решили, что речь идет о синекожих приятелях Олафа, проложивших дорогу на северный остров. Видимо, этот народ был немногочисленным, но сохранил — или открыл вновь — кое-какие древние технологии. Подобие облика мореходов наводило Иеро на мрачные раздумья; он помнил, что адепты Нечистого тоже не отличались разнообразием внешности. Наконец они покинули безопасные берега и теплые воды залива, похоронившие Вечный город. «Вашингтон» устремился на юго-восток, туда, где гигантский континент Евразии граничил с Африкой, где лежали древний Синай и Палестина. На время Иеро забыл о Нечистом и странном зове, звучавшем в ночи; мысли его и надежды то мчались вперед, к Святой Земле, то поворачивали вспять и устремлялись к Д'Алви и Лучар. Все чаще, глядя на брата Альдо, он вспоминал ее улыбку и размышлял о причинах сходства своей принцессы со старым эливенером. Эта тема была гораздо интересней, чем думы о синекожих карликах с загадочных кораблей, имевших на всю команду одно лицо. Дирижабль преодолел расстояние до библейских земель за трое суток и, повинуясь команде, начал кружить над берегом. От лазурных вод вглубь континента тянулась безжизненная пустыня; яростно палило солнце, ветер срывал тучи песка с вершин покатых дюн, а дальше к востоку высились барханы — такие огромные, что, казалось, любой их них мог запрятать в своей жаркой утробе целый город размером с Саск или столицу Д'Алви. Здесь не было ни животных, ни птиц, ни растений, и только странные колебания почвы да гребни внезапно вздымавшегося песка наводили на мысль, что в глубине земли перемещается что-то огромное и живое. Не приходилось размышлять над тем, была ли Святая Земля сожжена ракетами или ее пощадили в знак уважения к Спасителю; так ли, иначе, Апокалипсис добрался сюда, пригнав если не воды и вихри, не пламя и дым, так эти сыпучие пески. Что лежало под ними? Оплавленная земля или стены Соломонова храма? Голые скалы или легендарный Вифлеем, куда пришли благочестивые владыки с дарами божественному младенцу? Ментальное чувство было бессильно дать ответ… С последней надеждой в сердце Иеро проложил маршрут на север. Он никогда не слышал о городе Моск, упомянутом отцом Демеро, но на карте-экране этот пункт нашелся, и был он отмечен как столица со многомиллионным населением. Древний центр цивилизации, оплот восточного христианства… Чем оно отличалось от западной ветви, было тайной, покрытой мраком; все разногласия и споры канули во тьму тысячелетий, развеялись, оставив лишь зерно истины: Бог — добро, Нечистый — зло, и нескончаема борьба меж ними. Зов звал на восток, корабль плыл над облаками на север, ибо в душе священника звучали слова отца Демеро: «Запомни, мой мальчик, Моск! Там была другая империя, Раша, что враждовала с державами запада… огромная страна, владевшая Сайберном и половиной Евразии. И в ней тоже верили в Господа, славили Его в храмах и молили о счастье…» Стоят ли еще те храмы или превратились в прах? — размышлял Иеро, придвинувшись к иллюминатору. И где потомки людей, молившихся в них Создателю? Может быть, живут в Сайберне или на побережье Великого океана, откуда приплыл корабль в Ванк, западную провинцию Республики? Гимп, сидевший за штурвалом, внезапно окликнул его. — Взгляни вниз, мастер Иеро! Справа от нас разрыв в тучах… Видишь? Корабль, клянусь мачтой и клотиком! Большое судно без парусов, наподобие тех, что приходили к покойному колдуну… Чтобы ему в могиле перевернуться! В одной из багажных сумок хранилась зрительная труба. Достав ее, священник направился в пилотскую кабину. Брат Альдо и Сигурд шли за ним; Горм, почувствовав волнение людей, приоткрыл один глаз и поинтересовался, что случилось. «Спи, — передал Иеро. — Под нами корабль, но ты его не разглядишь». Глаза Горма значительно уступали ушам и не шли ни в какое сравнение с чутким носом. Дирижабль парил среди облаков, в трех милях от морской поверхности, и с этой высоты корабль выглядел как темный жук на сине-зеленом стекле. В трубу удавалось разглядеть только крохотные точки, мельтешившие на палубе меж двух надстроек, кормовой и носовой; ни мачт, ни труб на судне не было, и все же оно ползло вперед. Иеро передал трубу брату Альдо, потом Сигурду, но северянин лишь покачал головой. — Сам я не видел судов, что приходили к Олафу, сыну Локи, да и другие из наших глядели на них издалека. Посмотреть бы на людей… лысые, с синей кожей, и все на одно лицо… Тут уж не ошибешься! — Можно и посмотреть, — заметил Гимп, вопросительно взглянув на священника. — Что скажешь, мастер Иеро? Править вниз? — Нет. Мы летим в облаках, и если спустимся, нас заметят с судна. Может быть, у них нет пушки, стреляющей молниями, но я не хочу рисковать. — Кто знает, что есть и чего нет на таком корабле! — поддержал Иеро старый эливенер. — Он двигается, как корабли слуг Нечистого во Внутреннем море, но он гораздо больше их. Если бы мы не боялись себя обнаружить… — Брат Альдо коснулся виска и сделал жест, будто посылая ментальную волну в пространство. — И все же я попробую, отец мой, — произнес Иеро. — Я попробую, хотя мне не хочется убивать того, кто нас обнаружит. Дальновидение было одним из искусств, которым он владел в совершенстве. Вселиться в сознание другого существа, птицы, животного или человека, видеть его глазами, слышать его ушами… Тут была только одна опасность: высокоразвитый мозг мог обнаружить чужое присутствие, а тренированный разум телепата делал это в первое мгновение связи. Правда, с тех пор, как Иеро выдержал битву со С'нергом и плен на Мануне, его умение возросло; теперь он мог проскользнуть в бездны чужого мозга неощутимой тенью, мог завладеть не только ушами и глазами, но мышцами, центрами речи, дыхания, кровообращения. Если бы он пожелал, то человек, обнаруживший его, сделался бы безгласным и недвижимым — в лучшем случае; в худшем — умер бы во мгновение ока. К счастью, в экипаже корабля не оказалось телепатов. Создание, в чей мозг пробрался Иеро, было не лемутом, не демоном, а человеком, но очень странным — без дома, без родных, без имени и даже без клички. Все это заменялось номером, цифры которого обозначали место, где родился человек, код его группы и специальности, а также возраст, повергший священника в изумление: этому мореходу было одиннадцать лет, и по крайней мере семь из них он плавал по морям! Коснувшись других разумов, он обнаружил сходную картину: все эти существа явились на свет в каком-то месте на востоке, не имели имен и по возрасту были детьми. Но выглядели они совсем не так, как дети. Невысокие, подвижные, с синеватой кожей и голыми черепами, с резкими одинаковыми чертами маленьких лиц, они напомнили священнику синюков — племя, обитавшее к западу от Д'Алви, на границе радиоактивных пустынь. Они были редкими гостями в городе, но Иеро прекрасно помнил, что синюки отличны друг от друга и, несмотря на все их странности, испытывают тягу к тем вещам, какие дороги любому метсу или жителю побережья. Пища, выпивка, одежда, украшения, женщина, наконец… Но мореходы с загадочного судна не думали об этом; их рразумы были направлены лишь к работе, как у исправно действующих машин. Компьтеры, мелькнула мысль у Иеро, живые компьютеры! «Вашингтон» летел к северу, судно шло на юг, расстояние быстро возрастало, связь слабела. Наконец Иеро отдернул свой ментальный щуп, повернулся к седобородому эливенеру и сказал: — Те, что плавают на Асл, без сомнения. Очень странные существа, будто лишенные души и прожившие слишком мало для занятия мореплаванием… Они показались мне похожими на муравьев. — В стремительной мысленной речи он передал свои чувства Альдо, и брови старца задумчиво приподнялись. — Ты выяснил, откуда они вышли и куда идут? И каков их груз? — Гимп, будучи шкипером, первым делом интересовался такими вопросами. — Нет, не успел, — пожав плечами, Иеро смущенно улыбнулся. — Сказать по правде, я был слишком поражен… Конечно, надо было поискать их капитана. — Может быть, найдем их порт? — Мастер Гимп покосился на карту-экран. — Он должен лежать где-то впереди, в речном устье, если та говорящая рыба, что плавала с тобой, не ошиблась. Священник покачал головой. — Не думаю, что стоит из-за этого прерывать полет, даже если выяснится, что этот корабль отправился на Асл. В экипаже нет колдунов, и ни один из этих синекожих не имеет ментального щита. — Он взглянул на Сигурда, добавив: — Пожалуй, твоим соплеменникам ничего не грозит. — Пусть идут! Колдун и Гунар, его отродье, мертвы, так что их ожидает теплая встреча! И северянин оскалил зубы в волчьей усмешке.ГЛАВА 5. ОБОРОТНИ МОСКА
Он плыл под водой, держась за плавник Вождя, а вниз уходила темно-фиолетовая пропасть, мерцавшая призрачными сполохами. Почему-то он знал, он был уверен, что эти отблески — живые, и эта жизнь враждебна и ему, и дельфу; пропасть грозила опасностью, и двигаться над ней полагалось осторожно и скрытно, чтобы не потревожить затаившихся в бездне чудовищ. Нетерпение и страх терзали его; так хотелось быстрей очутиться в теплых безопасных водах, забыть ту эманацию хищной злобы, которой тянуло из мрачных глубин. Они его звали. Они шептали, что путь его неверен, что надо сделать усилие, разжать пальцы на плавнике Вождя и погрузиться вниз. Вниз, вниз, вниз, в глубокую темную впадину, на дне которой его встретят. Встретят и наградят по заслугам, даровав бессмертие и власть. Разве ты не стремишься к этому? — нашептывала пропасть. Ведь эти два желания так естественны! Вечная жизнь и власть над миром… Приходи, и ты получишь то и другое! Но он не хотел. Он не жаждал приобщиться к вечности и власти, и мечтал лишь о том мгновении, когда пропасть исчезнет, и можно будет подняться вверх, к солнцу и свету, и к золотым пескам, где, улыбаясь, сидит Лучар и смотрит, как резвится в волнах прибоя смуглый мальчуган с темными, как ночь, глазами… Его сын! Еще нерожденный, но уже любимый… Сполохи под ним обрели четкость, и он понял, что смотрит в глаза кальмара, огромного кракена, который следил за ним в океане, на месте потонувших островов. Его щупальцы коснулись кожи, потянули вниз, отрывая от дельфа, и он с лихорадочной поспешностью начал шарить над плечом — там, где находилась рукоять клинка. Но руки хватали пустоту, а бездна под ним выла и ликовала: наш!.. наш!.. наш!.. «Меч, — подумал он, сопротивляясь из последних сил, — где мой меч?» Внезапно другая мысль пронзила его: как он дышит под водой, в холодной бездне, в объятиях жуткого чудища? И тут же живые толстые канаты сдавили его грудь, вызвав приступ удушья. Он захрипел в предсмертной муке и вдруг почувствовал, как что-то теплое, шершавое касается виска, лижет ухо и волосы, толкает, будит… Иеро поднял тяжелые веки, сел, согнулся и раскашлялся. Треснувшие бетонные стены разрушенного здания нависали над его головой, темнея в предрассветном сумраке, по ним карабкался плющ с огромными, в три ладони, листьями, а рядом, на подстилке из тех же листьев, стонал и метался Сигурд. Видно, ему тоже снились кошмары. «Плохой воздух, очень плохой, — деловито заметил Горм, пихая Сигурда носом в шею. — Уходим, скорее! Тут можно уснуть и не проснуться». Иеро откашлялся, поднялся и растер грудь. Кололо в ней так, будто он проглотил ежа. «Вечером ты сказал, что воздух хороший». «То было вечером, друг Иеро. Ночью ветер переменился, дует с севера и несет дурной запах из железных джунглей». Железными джунглями Горм назвал полуразрушенную фабрику, которая встретилась им по пути. Ее забор и здания не уцелели, трубы рухнули, стальные фермы и агрегаты разъела ржавчина, но огромные газгольдеры из прочной керамики остались в целости и относительной сохранности. В них, видимо, был какой-то ядовитый газ, сочившийся сквозь незаметные трещины и даже в микроскопической дозе вызывавший кашель и рвоту. Они обошли это место с подветренной стороны, и Иеро отметил, что в полумиле от рухнувшего забора нет ни травинки, ни кустика. Сейчас их отделяло от фабрики не меньше двух миль, но в воздухе ощущался резковатый запах — глаза от него слезились, а в горле першило. Сигурд проснулся, встал на четвереньки, сплюнул. Лицо его было бледным, губы посерели, и теперь священник мог представить, как выглядит он сам. «Быстрее! — торопил Горм, уже взбиравшийся на груду заросшего мхом мусора. — В этом месте пахнет смертью! Шевелитесь, вы, сонные барсуки!» Люди подобрали свое снаряжение — фляги и мешки с едой, мечи, копья и арбалеты с запасом стрел — и полезли вслед за медведем. То, что находилось за холмами битого кирпича и треснувших бетонных плит, было когда-то улицей, плотно застроенной высокими домами. Стены их давно обвалились, превратившись в подобия длинных погребальных курганов, на которые ветер нанес скудную почву и семена растений; мох, папоротник и плющ покрывали их, а кое-где грозили колючками большие кактусы и тянулся вверх серо-желтый тонкий бамбук. Мрачная картина! Зато эта магистраль вела прямо в центр огромного города и была достаточно широкой, чтобы посередине ее осталось свободное от завалов пространство. Там, поверх устилавших улицу обломков, спрессованный тысячелетиями, кто-то протоптал тропу. Кто именно, Иеро не представлял, поскольку его ментальный поиск оказался безрезультатным. Никаких существ с интеллектом выше крысиного в этих развалинах не водилось. — Кладбище, — пробормотал Сигурд за спиной священника. — Не место для живых. Сны о том предупреждают. — Ты видел что-то жуткое? — Видел Олафа и Гунара. Гунар навалился сзади, а Олаф медленно резал глотку. — Это газ, — сказал Иеро. — Ветер за ночь переменился, и мы дышали плохим воздухом, что вызывает кошмары. — Он продублировал эту мысль для Горма, и медведь заметил: «Не думаю, что дело только в воздухе. Тебя снова звали, друг Иеро, и в этот раз зов был гораздо сильнее, чем над морем. Разве ты не почувствовал?» Пожалуй, Горм прав, мелькнуло у священника в голове. Он попробовалприпомнить свой сон: предупреждение о том, что он отклонился от нужной дороги, и обещание неслыханной награды. Что ему посулили? Кажется, бессмертие и власть? Опасные дары, если их преподносит Нечистый! В эту ночь, как и в четыре предыдущих, Иеро не ставил ментальный щит, ожидая пришествия зова. Это было опасным экспериментом, но зов являлся путеводной нитью их скитаний в небесах, над огромным и незнакомым континентом. Его пространства казались необозримыми; дальше к востоку изогнутым каменным поясом вставали горы, за ними на тысячи миль тянулся Сайберн, а южнее, за хаосом горных хребтов, пустынь, озер и рек, лежали совсем уж неведомые земли, сказочные Инди и Чина. Искать там источник сигналов вслепую было бессмысленным занятием; в этих розысках Иеро мог полагаться лишь на свое телепатическое чутье. И вот, одурманеный газом, он погрузился в кошмары и не сумел уловить нужного направления! Правда, священник был уверен, что слышит зов не в последний раз, и что Горм тоже уловил ментальные сигналы. Это позволяло надеяться, что дальнейший маршрут будет более или менее ясен. «Ты понял, откуда приходит зов?» — спросил он у медведя. «С восхода солнца и теплых краев, — отозвался Горм, что означало юго-восточное направление. — И теперь он идет не сверху, друг Иеро, а всего лишь издалека». Возможно, это означало, что источник ментальных импульсов приблизился? Но почему во время прежних сеансов сигнал приходил с небес? Не успел священник обдумать эти вопросы, как в его сознании прозвучал беззвучный голос брата Альдо: «У вас все в порядке, мой мальчик? Где вы? На месте ночного привала или уже тронулись в путь?» «Идем, — коротко ответил Иеро. — Думаю, к полудню окажемся на центральной площади». Их дирижабль добрался до Моска прошлым утром, и вид города поразил путников. Разумеется, он лежал в развалинах, но мнилось, что ядерная смерть не тронула это место, и лишь время, ветры и дожди потрудились над ним, превратив многоэтажные здания в руины. К городу со всех сторон подступали дремучие леса, полные жизни, и там, похоже, были разумные обитатели; Иеро заметил, что кое-где на южных опушках стоят бревенчатые форты, спрятанные под ветвями могучих дубов и буков. Люди не показывались, и, за дальностью расстояния, он не смог нащупать кого-нибудь из обитателей чащи, но почувствовал общий ментальный фон, который незримым туманом струился над южными лесами. Но в первую очередь его притягивал город. Они пролетели над руинами с юга на север, выяснив, что развалины пересекают несколько рек, что кое-где среди холмов кирпича и бетонных обломков вздыматся настоящие горы, невысокие и поросшие лесом, что в нескольких местах заметна слабая радиация, зато не видно ни пустынь Смерти, ни других свидетельств атомного уничтожения. Это казалось странным, и Иеро предположил, что Моск, огромную столицу одной из противоборствующих сторон, защитили гораздо лучше, чем другие поселения — возможно, каким-то оборонительным оружием, которого не имелось врагов. Во всяком случае, ни одна ракета не упала окрест, хотя по дороге от берега моря на север путники не раз встречали обширные пространства выжженных земель, засыпанные щебнем территории, гигантские воронки и остальные признаки отбушевавших в древности сражений. Кое-какие здания в городе сохранились, и одно из них притягивало священника с необоримой силой. Несомненно, то был храм, стоявший на центральной площади у развалин крепостных башен, неподалеку от большой реки; задняя часть его рухнула, фасад и стены оплела завеса дикого винограда, кровля просела, купола покосились, но на них еще торчали кресты. Спускаться в этом месте, да и во всех других, было опасно — весенние ветры ярились над городом, а из развалин торчали проржавевшие каркасы, железные балки и арматурные прутья, скрученные и согнутые под самыми невероятными углами. Проделав мысленный поиск и выяснив, что в древнем городе нет ни лемутов, ни других опасных чудищ, Иеро решил пройти его из конца в конец, от северной до южной окраин и как следует осмотреть; это привлекало его больше, чем поверхностный взгляд с высоты. Затем экспедиция разделилась: брат Альдо и Гимп остались в гондоле «Вашингтона», намереваясь облететь город по периметру, тогда как священник, Сигурд и медведь спустились вниз на пустыре у фабрики. Запах, которым тянуло из этих железных джунглей, подсказывал, что в городе все-таки есть чудовища, пусть неживые, но от того не менее опасные. Им предстояло пройти миль сорок-пятьдесят, и хотя первая ночевка была не очень удачной, в дальнейшем ничто не предвещало неприятностей. Куцый хвост их четвероногого проводника бодро мелькал меж куч мусора и ощетинившися шипами кактусов, воздух с каждой минутой становился чище, и в головах у путников прояснилось; кашель больше не мучил их, не донимали позывы к рвоте, тогда как желудок предъявил свои права. Взошло солнце, и его лучи, развеяв предутренний туман, сделали мрачный хаос запустения чуть повеселее. Добравшись до холма, где не было развалин, зато встречались клены и березы неохватной толщины, Иеро скомандовал привал. Они съели по куску вяленого мяса с сухарями, запили водой из фляг, а Горм, любивший сладкое, сжевал пластинку пеммикана. Немного, но и сам он был пока что невелик; до огромных размеров старейшин медвежьего племени ему предстояло расти еще годы и годы. — Этот город не бомбили, и все же люди покинули его, — сказал Сигурд, приглаживая рыжие волосы. — Странно, мой конунг! — Ничего удивительного, — возразил Иеро. — Люди могли здесь ютиться сотню-другую лет, но такому огромному поселению не выжить без деревень и малых городков, откуда поступает пища. Здесь человек зависит не от землм, не от природы, а от того, что древние называли техникой. Представь, как подать воду в эти огромные дома, как отопить их в зимнюю стужу, как починить без механизмов и машин? — Священник покачал головой. — Нет, это невозможная задача! Мы, метсы, хорошо знаем, что при любой катастрофе первыми гибнут большие города. Собственно, наши предки потому и выжили, что обитали в усадьбах и деревнях, как твои соплеменники. Мы жили в лесу, и лес нас спас. А тут… — Он обвел рукой открывавшийся со склона холма пейзаж. — Взгляни, что тут получилось! Город напоминал поле битвы меж племенами гигантов, растоптавших в ярости бетонные коробки домов, содравших крыши, разбивших секирами мосты и павших в сотворенных ими хаос. Тут и там торчали ржавые конструкции — будто скелеты огромных тел, лишившихся одежд и плоти; округлые холмы мусора намекали, что под ними лежат черепа, а сохранившиеся кое-где башни и трубы казались руками, то ли упрямо грозившими небесам, то ли протянутым к ним в безмолвной мольбе. Сходство довершали куски серого металла, неподвластного ржавчине — они выглядывали из-под камней и мха словно изломанные доспехи и оружие погибших гигантов. Льдистые глаза Сигурда потемнели, когда он глядел на город. Потом северянин спросил: — Ты уверен, что здесь никого нет? — Это все же не пустыня Смерти, — откликнулся Иеро. — Здесь обитают птицы, ящерицы, мыши… Есть кое-кто покрупней — несомненно, крысы и, возможно, собаки. Больше я не ощущаю ничего и уверен, что нам не грозит опасность. — Он помолчал, потом промолвил: — Почему ты спрашиваешь, Сигурд? Ладонь северянина лежала у горла — там, где во сне вонзился кинжал Олафа. Помолчав, он ответил: — Дурные предчувствия томят меня, конунг. Может, дело в том дурацком сне, а может, Один и Тор посылают мне вести, чтобы предостеречь или сказать, что вскоре я окажусь в их ледяных чертогах. Там, где вся моя семья… Иеро нахмурился. Как всякий воин и священник, он доверял предчувствиям и интуиции; временами они приоткрывали будущее ясней, чем Сорок Символов с магическим кристаллом. Может быть, этот поход в развалины был ошибкой, мелькнула мысль, и, подозвав Горма, он спросил, не ощущает ли тот угрозы. Их силы в ментальном поиске были равны, однако медведь имел преимущество перед человеком — его нюх и слух были недосягаемы для Иеро. Но Горм не чувствовал опасности. Тут, среди берез и кленов, суетились белки и немногочисленные птицы — голуби, вороны и почти не уступавшие им в размерах воробьи; в небе парил коршун, охотился на мышей, ютившихся в опавших листьях; где-то далеко были другие создания, мелкие хищники, обуреваемые вечным голодом, однако не страшные для двух вооруженных бойцов. Тем не менее Иеро снял с плеча арбалет и вложил в него стрелу. Взглянув на него, Сигурд сделал то же самое. Они снова отправились в путь, пробираясь меж рухнувших стен и завалов потемневшего от времени кирпича. На этих холмах торчали огромные, в три-четыре человеческих роста кактусы, и шипы, покрывавшие их мясистую плоть, цеплялись за одежду и шкуру Горма. Наконец медведь изнемог и переместился в арьергард их маленького отряда; Сигурд, повесив арбалет на плечо, вытащил меч и начал прорубать тропу в колючих зарослях. Выбравшись из них, путники очутились на небольшом открытом пространстве, которое было когда-то площадью; на три-четыре ярда ее обрамляли стены домов с пустыми оконными проемами, а верхние этажи рухнули вниз, завалив тротуары грудами щебня. Самое крупное здание, вытянутое в длину, было когда-то вокзалом; Иеро, видевший такие сооружения в Канде, опознал его по руинам платформ и грудам ржавчины, в которую превратились вагоны. От площади расходились пять или шесть улиц, и одна из них, наиболее широкая, вела к развалинам древней крепости и собору, который он разглядел с высоты. Этот проспект, вероятно, считался главным в прежние времена; тут сохранились фасады домов, отделанные прочным гранитом, и не было такого хаоса, как в районах, застроенных кирпичными и бетонными домами. Стоя спиной к развалинам вокзала, Иеро осматривал улицу, когда ментальный оклик медведя заставил его обернуться. «За нами следят, друг Иеро. Я не вижу и не слышу их, но чувствую запах, и он мне не нравится. Только запах, и никаких мыслей. Разве такое возможно?» Нет, согласился священник, с лихорадочной поспешностью обшаривая пространство. Всякая живая тварь, даже комар или улитка, испускает ментальные волны, и опытный телепат улавливает их с легкостью, если дистанция невелика. Не только улавливает, но и способен проникнуть в мозг другого существа, судить о его намерениях и, если телепат силен, отдать ему приказ. Скажем, такой: уйди, убирайся с дороги! Спасти свой разум от воздействия чуждой воли можно с помощью ментального щита или барьера, который воздвигает в сознании обученный человек, а необученный пользуется приборами, которые с равным успехом применяли и Аббатства, и адепты Нечистого. Но барьер заметен, и скрыть его можно с тем же успехом, что отражение в зеркале, поднесенном к лицу. Эти азы преподанной в школе науки промелькнули в сознании Иеро за пару секунд, пока он сканировал обступившие площадь развалины. Он не верил в ментальных призраков; если за ними следили, если готовились к нападению, воздух должен был трепетать от мысленных волн! Но он не обнаружил ничего. Пустота, одна пустота! Не успев удивиться, священник услышал, как звонко пропела стрела арбалета и что-то стукнулось о камни. Он вскинул свое оружие, поразив метнувшуюся из оконного проема тень, быстро перезарядил арбалет и выстрелил снова. Сзади, шепча проклятия Локи, трудился Сигурд, и, прислушиваясь к звону его тетивы, Иеро понял, что одной стрелой дело не обошлось. Внезапно наступила тишина, они опустили оружие и огляделись. Ветер, гулявший по площади, заметал пылью трупы пяти существ, довольно больших, четвероногих, с густой серой или рыжей шерстью и длинным хвостом. У них были крупные головы с выпуклыми черепами, но пасть и солидные клыки не оставляла сомнений, что это хищники. Священник, шагнув к ближайшему телу чтоб выдернуть стрелу, уже понимал, к какой породе они относятся. Горм сунулся вперед, обнюхал убитого и презрительно сморщил верхнюю губу. «Пес! Выглядит, как пес, и воняет, как пес… Они не очень умные твари, друг Иеро, но разве бывает пес, который вовсе не думает?» Иеро не ответил, разглядывая хищника — не столь огромного, как собаки Асла, однако не меньше сторожевых псов на его родине. «Вот и свершилось третье предсказание, — подумал он, вспомнив о гадательных фигурках. — Я встретился с псом, и встреча была немирной». — Пойдем, — поторопил Сигурд, уже подобравший стрелы. — Они прячутся в развалинах и могут снова напасть. Озираясь по сторонам, с арбалетами наготове, они торопливо двинулись вслед за Гормом по самой широкой из улиц. Иеро хмурился, Сигурд, наоборот, усмехался; казалось, небольшая стычка воодушевила его, развеяв ночные страхи. Покосившись на священника, он спросил: — Что-то тревожит тебя, мой конунг? Но что? Это всего лишь псы, дикие псы, гораздо меньше и слабей собак на Асле. Какую они представляют угрозу? — Возможно, никакой, но, может быть… — Иеро смолк, потом коснулся пальцами виска: — Это не простые собаки, Сигурд. Понимаешь, я могу остановить любое животное, заставить его убежать или сдохнуть на месте… Любое, самое злобное и огромное! Но этих… этих я просто не слышу. — Не слышишь? Клянусь молотом Тора, я тоже не слышал, как они подкрались! И что с того? Иеро невольно усмехнулся. — Обычный слух тут ни при чем, брат мой, я слушаю не ушами, а мозгом. Справа, в сотне ярдов от нас, сидит за каменной стеной ящерица и ловит мух — очень голодная и потому раздраженная. А под теми грудами щебня шныряют в своих норах крысы… очень большие крысы, но на поверхность они выходят только ночью, так как боятся хищных птиц. Я слышу множество других созданий и могу рассказать, что они делают, но эти собаки… «Где они, Горм?» — спросил он, мгновенно перейдя на мысленный язык. «Бегут за нами, по обе стороны этого ущелья, — доложил медведь. — Я ощущаю их запах, но не могу уловить ни единой мысли. Странно, очень странно! Может быть, я ослеп?» «Не ты один», — отозвался Иеро, оглядывая улицу. Эти ментальные призраки тревожили его; он не знал, сколько их крадется следом, и в какой момент они решат атаковать. Сам того не замечая, он высматривал какой-нибудь дом или холм со склонами покруче, где они могли бы отбить нападение. Мысль воина работала, оценивая ситуацию: на ровном месте они справятся с двумя дюжинами псов, но если их будет сотня, необходимо укрытие. Место, откуда можно стрелять и бить копьем, не подвергаясь опасности… Тут он вспомнил, что за храмом и развалинами крепости течет широкая река, и приободрился; стоит переправиться на другой берег, и они уйдут от погони. Вряд ли псы полезут в воду… К тому же можно вызвать «Вашингтон»; Гимп опустится над рекой и сбросит им канаты… Подумав об этом, Иеро вызвал дирижабль. Ментальная связь установилась сразу, но мысленный голос брата Альдо был едва слышен — видимо, воздушный корабль находился милях в двадцати от них. «Есть новости, мой мальчик?» «Да. На нас напали — собаки, и я думаю, разумные. Какой-то неведомый вид лемутов… Их ментальная активность так слаба, что я не могу их обнаружить». «В самом деле? Поразительно! — Кажется, брат Альдо не на шутку разволновался. — Их надо изучить, сынок! Обязательно изучить! Ты можешь до них добраться?» «Боюсь, что прежде они доберутся до нас, — с иронией отозвался Иеро. — Передай Гимпу, чтобы он летел вдоль большой реки до крепостных развалин. Ждите нас там. И пусть Гимп достанет из ящика побольше арбалетных стрел!» Он прервал связь, и в ту же секунду его настигла паническая мысль Горма: «Берегитесь! Они приближаются!» Из поперечной улицы, пересекавшей главную, хлынул поток серых, черных, бурых тел. Арбалеты Иеро и Сигурда щелкнули разом, но это оружие было сейчас бесполезным против стаи в сотню псов. Путники взялись за мечи и копья, полезли на холм из битого кирпича, пробираясь к развалинам, и в следующие десять минут священнику казалось, что он очутился в преисподней, полной клыкастых дьяволов. Он видел, как Горм встает на дыбы, грозно скалит зубы, замахивается передней лапой; трое псов лежали перед ним с переломленными хребтами, но дюжина других не давала медведю тронуться с места. Он видел, как сверкает меч Сигурда, как жалит его короткое копье; северянин отступал шаг за шагом, с его клинка стекала кровь, светлые глаза сверкали бешенством. Он видел, как из переулка текут все новые орды мохнатых тварей, и он наконец разглядел их предводителей — трех короткошерстных псов, выделявших огромным ростом и размерами черепа. Они держались позади, и священнику показалось, что морды у них почти безволосые. Десяток собак наскочил на него, он дважды ударил копьем, попав одному под лопатку, другому — в шею, потом опустил на голову третьего тяжелый клинок. Ему случалось отбиваться в Канде от волков, и прежний навык теперь пригодился: копье в левой руке — для обороны, чтоб отогнать подальше атакующих, меч в правой — рубить тех, кто подберется поближе. Имелась, однако, разница, и заключалась она не в том, что волки были сильней и стремительней этих псов. Волки были умны и дорожили жизнью; обычно хватало трех-четырех трупов для доказательства того, что малой кровью им не взять добычу. Волки благоразумно отступали, а эти псы рвались навстречу смерти, падали под ударами, но, видимо, считали гибель двадцати сородичей вполне приемлемой ценой за кровь и мясо жертвы. Но только ли голод вел их и правил ими? Иеро не мог этого сказать, так как разумы стаи были ему по-прежнему недоступны. Горящие глаза и клыкастые пасти надвигались волной. Если бы здесь оказался Клоц!.. — мелькнула мысль. Верный Клоц, с его острыми копытами и рогами, могучий, яростный в битве зверь! Но Клоц был далеко и, вероятно, обхаживал сейчас лорсих на какой-нибудь ферме в Атви. «На помощь, друг Иеро!» — Мысль Горма пронзила его, и, повернувшись, он увидел груду мохнатых тел, с рычанием и ревом катавшихся среди обломков камня и арматурных прутьев. Священник ткнул копьем в серый бок, ударил ногой в оскаленную морду, рубанул по стоявшему дыбом загривку; псы откатились, бросив Горма, и тот приподнялся, залитый своей и чужой кровью. «Под нами подземелье, — заметил он, тяжело отдуваясь. — Вход справа, среди белых развалин. Большая, длинная пещера! Чувствую, как в ней копошатся крысы». Облицованное белыми плитами здание, о котором говорил Горм, неплохо сохранилось — фасад его высился на целых два этажа. Окликнув Сигурда и следуя за медведем, Иеро отступил к нему, продолжая работать мечом и копьем. Вход, засыпанный щебнем до половины высоты, был удивительно широк, будто в подземелье ходили целыми толпами; проскользнув в эту щель, люди очутились в просторном зале с рухнувшим сводом, из которого тянулся куда-то вдаль сумрачный широкий коридор. Псы маячили на фоне проема, явно накапливая силы для атаки, и потому медлить не стоило; кивнув северянину, Иеро устремился в коридор. «Здесь стена, — сообщил медведь, — но в ней есть дверь. Прочная!» — добавил он с заметным облегчением. То была не стена, а толстая металлическая переборка, отсекавшая внутреннюю часть коридора. Дверь оказалась небольшой, прорезанной наспех, сваренной из стальных листов и снабженной запором — железной щеколдой в два пальца толщиной. Беглецы ринулись внутрь, Сигурд навалился на дверь, Иеро стукнул по засову рукоятью меча, и тот с протяжным скрежетом вошел в паз. Следующие пару минут в кромешной тьме раздавались только бурное дыхание людей и сопение медведя. Затем Иеро нашарил в сумке свечку, высек огонь, зажег ее и огляделся. Горму досталось не слишком — толстая шкура была хорошим панцирем, предохранявшим от собачьих клыков. Люди пострадали больше: штаны Иеро свисали лохмотьями, по бедрам тянулись кровоточащие царапины, а Сигурд ощупывал прокушенную у локтя руку. — Я знал, что сегодня не самый удачный мой день, — пробормотал северянин, обматывая рану полоской ткани, оторванной от рубашки. — Ну, ничего! Я буду счастлив, если обойдется только этим. Иеро, жестом приказав ему молчать, прижался ухом к металлической двери. Она была не такой толстой, как переборка, и священнику казалось, что он различает рычание, лязг зубов и скрежет когтей. Внезапно эти звуки смолкли, и перед мысленным взором Иеро, будто выступая из туманной мглы, стал вырисовываться смутный образ огромного пса с почти обезьяньей, лишенной волос головой. Тварь буравила взглядом железную дверцу, и от нее тянулся поток холодной смертоносной ненависти, заставившей священника вздрогнуть и перекреститься. Знакомое чувство, с горечью отметил он; такую же ненависть к человеку питали люди-крысы, Волосатые Ревуны и многие другие племена разумных, признавших власть Нечистого. Теологи Аббатств до сих пор спорили, что является ее причиной, врожденный инстинкт или влияние злобной силы, которая ожесточила лемутов. Это был очень важный вопрос, ибо в первом случае лемутов полагалось признать исчадиями преисподней, а во втором — еще не потеряными для Господа и подлежащими не уничтожению, а воспитанию в духе милосердия и добра. Тварь, стоявшая за железной дверью, не ведала этих чувств. Волна ненависти становилась все сильнее, все жарче и нестерпимей, и Иеро понял, что монстр старается его запугать. Страх тоже был оружием; так, иир'ова, люди-кошки с западных равнин, насылали внушавший ужас Ветер Смерти и резали парализованных врагов. Этот лемут, позволивший священнику себя увидеть, действовал точно так же: пытался внушить страх, овладеть разумом ужаснувшегося человека, заставить его открыть дверь. Его усилия, однако, были тщетны. Спрятавшись за ментальным щитом, Иеро готовил ответный удар и, внезапно обрушив барьеры, нанес его, послав противнику приказ не двигаться и не дышать. Но этот импульс, стремительный и смертоносный как арбалетная стрела, встретил пустоту; враг не отразил его, не попытался бороться, а просто ускользнул. Растаял, как призрак! И лишь одну мысль уловил Иеро, полную холодной злобы и угрозы: «Я выпью твою кровь, говорун!» Он оторвался от дверцы, встряхнул головой и, приподняв свечу, молча направился вглубь коридора. Сигурд и Горм шли за ним, не задавая вопросов; первый безгранично доверял вождю, второй был свидетелем несостоявшегося ментального поединка. Шорох шагов да смутные тени, плававшие в сером сумраке, сопровождали их. Коридор закончился тремя железными лестницами, ведущими вниз. Спуск был недолгим, но опасным: многие ступеньки отсутствовали или рассыпались под ногой в ржавую труху. Справившись с этим препятствием, они очутились в огромном длинном зале, разглядеть который не удалось бы и с тысячью свечей. К тому же по обе стороны от него зияли большие тоннели с рельсами — потемневшими, однако почти не тронутыми ржавчиной в сухом воздухе глубокого подземелья. Увидев их, Иеро понял, где они оказались. — Это подземная железная дорога, — повернувшись к Сигурду, пояснил он. — Такие дороги строили в больших городах Канды, и разведчики Аббатств спускались в них еще тысячелетия назад. Эти железные полосы, рельсы — хороший металл… Когда-то по ним ходили поезда, а тоннели тянулись под всем городом… может, и сейчас тянутся, если не обвалились. Сигурд молча кивнул, подавленный грандиозностью сооружения. На повязке, которой он обмотал руку, проступила кровь. «Плохое место, — пришла мысль от медведя, принюхивавшегося к кучам мусора, загромождавшим пол. — Место отчаяния!» Иеро пошевел мусор носком сапога. Обломки каких-то предметов из металла и пластика, битая стеклянная посуда, головка сломанной куклы… Видимо, тут, в подземелье, когда-то жили или спасались от разразившейся на поверхности катастрофы. Наклонишись, он заглянул в тоннель. Оттуда пахнуло холодом плесенью. — Куда мы пойдем? — спросил Сигурд. — Еще не знаю. Но попытаюсь выяснить. Закрыв глаза, священник направил вдоль тоннеля свой ментальный щуп. Здесь обитали крысы и мокрицы, черви и другие существа, небольшие и не опасные; он коснулся их крохотных разумов, подумал, что хоть этот подземный лабиринт создан людьми, безмозглые твари владеют им гораздо дольше человека. Целых пять тысячелетий! Громадность этого срока на мгновение ошеломила его. Но он был неправ — в тоннеле находились люди, где-то совсем неподалеку, в пятистах-шестистах ярдах. Удивленно наморщив лоб, Иеро замер, зондируя их сознания. Их было четверо, трое мужчин и женщина, вернее — юная девушка, почти ребенок. Они беседовали, но он воспринимал не незнакомую речь, а мысленные образы, и этого оказалось достаточно: он понял, что люди живут не здесь, а пришли из леса, что они кузнецы и целью их поисков является металл. Не железо, а, скорее, медь, латунь и бронза, а также другие материалы, почти не поддающиеся разрушительному воздействию времени. Эти лесные жители нашли, что искали, и собирались подняться на поверхность и идти к реке, где их ожидал плот или лодка, но девушка их остановила. Сейчас они о чем-то спорили. — Люди, — произнес Иеро, спрыгнув вниз, в тоннель. — Если мы поторопимся, то найдем их. Они недалеко. — Люди могут оказаться опаснее псов, — заметил Сигурд, следуя за священником. — Кто может жить в таком подземелье? Чудища, ублюдки! — Они из леса и пришли за металлом, как некогда наши разведчики в Канде. И их немного — мужчина-кузнец, двое парней, его сыновья, и дочь, девочка. Она… Иеро замер, будто прислушиваясь. Эта девушка по имени Наста понимала мысленную речь! Картины, рождавшиеся в ее мозгу, были ясными, четкими: она требовала, чтобы мужчины ждали, не поднимались наверх, ибо там — опасность. Эта угроза обозначалась двумя терминами, «волколаки» и «оборотни», причем последний имел конкретный облик большого пса с безволосой, почти обезьяньей мордой. Люди таились от подобных тварей и боялись их, но только тут, в развалинах; в лесу у них была защита. Какая же? — подумал Иеро, обследуя разум старшего из незнакомцев, которого звали Ондрой. Лесные крепости, бдительные стражи, оружие, порох и люди-телепаты, подобные этой девушке… Кажется, они умели находить ментальных призраков! Выяснив это, священник довольно улыбнулся и послал в сознание Насты свою мысль. Очень простую, чтобы не напугать ее: «Я — человек, заблудившийся в подземелье. Странник, чужой в этих руинах. Поможешь?» Он ощутил, как девушка вздрогнула и замолчала. Потом раздалось, негромко, но очень решительно: «Человек? Откуда ты взялся, чужой?» «Не из ваших краев, издалека. Нас двое — двое людей, и с нами разумное животное, — он передал облик Горма, стараясь, чтобы тот казался посимпатичнее. — Собаки загнали нас сюда. Мы не знаем, как выбраться на поверхность». «Не собаки, а волколаки, — строго поправила Наста. — Проклятые волколаки, и ведет их оборотень! Теперь мне понятно, почему они шныряют наверху! Ищут вас! Особенно тебя, говорун!» «Говорун? Кто это?» — с недоумением спросил священник. «Ты говорун, я говорун, — кажется, девушка пожала плечами. — Всякий, кто может обходиться без слов — говорун. А сейчас жди, пока я потолкую с отцом и братьями. И не лезь мне в голову без приглашения». «Очень разумный человеческий детеныш, — прокомментировал Горм, вылизывая окровавленный мех на груди. — Теперь я знаю, кто я такой. Говорун!» «Болтун», — поправил его Иеро, почти тут же поймав мысль девушки. Она их звала. Через двадцать минут, преодолев несколько завалов, где приходилось пробираться на четвереньках под низко нависшими сводами, они добрались до другого зала, где поджидали их Наста и ее семейство. В руках мужчин были топоры на длинных рукоятях и факелы, освещавшие их бородатые физиономии, русые волосы и широкие плечи; на спинах у них висели мешки, в которых что-то побрякивало — вероятно, добыча. Наста оказалась тоненькой и хрупкой девчушкой лет пятнадцати, но серые глаза на маленьком личике глядели не по-детски решительно и серьезно. При виде двух вооруженных путников и медведя Ондра, старший из мужчин, что-то сказал; звуки его речи были напевными, мягкими и совершенно непонятными священнику. Другое дело, мысль; если передать ее словами, кузнец любопытствовал, откуда взялись эти три недоумка, встревожившие волколаков. Ответ оказался краток — через девушку Иеро объяснил, что они прилетели с западного материка на воздушном шаре, и что шар ждет их над рекой, за развалинами крепости. Затем наступило молчание. Ондра размышлял, озирая пришельцев маленькими глазками под нависшими бровями, его сыновья зашли с тыла, не опуская топоров, и, казалось, ждали только отцовского знака, чтобы пустить их в ход. Однако Иеро оставался спокоен; эти люди не были ни разбойниками, ни убийцами, и он ощущал, как исходившая от них волна тревоги постепенно сменяется удивлением и дружелюбием. Наконец Ондра, шевельнув бровями, быстро произнес несколько фраз. «Отец сказал, — сообщила Наста, — что вы, должно быть, в самом деле те, за кого себя выдаете. Вид у вас необычный, хотя твой высокий приятель немного похож на наших мужчин. Но главное не в этом, главное в том, что ты — говорун! А наш народ очень уважает говорунов! — При этих словах она гордо вздернула маленький упрямый подбородок и стрельнула глазками в сторону Сигурда. — А он тоже умеет говорить без слов?» «Нет, — усмешкой откликнулся Иеро. — Но со мной есть еще один говорун — вон тот, в мохнатой шубе — и если ты как следует попросишь…» «Не надо меня просить, — заметил Горм, почесывая лапой брюхо. Я говорю без всяких просьб, когда хочу и сколько хочу». Серые глаза Насты изумленно распахнулись, рот приоткрылся, затем, справившись с удивлением, она что-то сказала отцу и братьям. Бородачи в три пары глаз уставились на Горма, потом старший хмыкнул, бросил пару фраз сыновьям и махнул рукой, показывая в конец длинного зала. «Разве в ваших краях нет говорящих животных?» — спросил священник, чувствуя, что они поражены. «Кроме оборотней — нет, а с ними не очень-то поговоришь. Я слышала, такие есть где-то далеко, там, куда падали бомбы. На севере точно есть. — Наста вдруг помрачнела и, после краткой паузы, добавила: — Оборотни как раз и пришли с севера. Давно! Тысячу, а может и побольше лет назад». Они уже шли, направляясь вслед за Ондрой и его сыновьями к лестнице, но не железной, как в предыдущем зале, а каменной и хорошо сохранившейся. Шаги будили эхо под сводами огромного помещения, пламя факелов чуть колыхалось в неподвижном воздухе, и Иеро разглядел, что они идут по тропке, петлявшей среди серых холмиков, сложенных из костей и черепов. Он перекрестился, и Наста, бросив взгляд на его помрачневшее лицо, пояснила: «Рассказывают, что когда пришла Смерть и всюду стали падать бомбы, объявили, что в городе защита надежная. Никто этому не поверил, и одни побежали в лес, а другие — сюда. Те, что прятались в лесу — наши предки, а эти… эти — вот, лежат! И никто не знает, как они погибли. Наши старики и воеводы говорят, что город их пожрал». «Как он называется на вашем языке?» — спросил священник. Наста пожала хрупкими плечами. «Никак! Город, и все… — Они подошли к лестнице, и девушка заговорила снова: — Плохое место, злое, но приходится сюда ходить. Металл нужен и разные вещи, что еще сохранились… Так что отец мой ходит с братьями, и все другие кузнецы да оружейники, и воеводы с ратью. Только рать мала, а город велик, и оборотней с волколаками в нем не найдешь, если сами не захотят показаться. Так и ходим… Идем в подземных коридорах, а потом я слушаю, нет ли наверху поганых, и если нет, поднимемся, возьмем, что надо, и скорее вниз. Волколаки тут не шастают, боятся. Где ворота поставлены, где лестницы обрушены — человек пройдет, а с их лапами — ни слезешь, ни залезешь…» Эхо смолкло. Теперь они поднимались по лестнице, и потолок был всего лишь на высоте двух человеческих ростов. Факелы мелькали впереди, но Наста шла рядом с Иеро и Сигурдом — то ли хотела поговорить с пришельцами, то старалась держаться поближе к чудесному зверю, понимавшему людские мысли. Может, ее истории предназначались вовсе не для двух чужаков, а для медведя, который с сопеньем ковылял по пологой лестнице. Хоть эти рассказы не оставили Иеро равнодушным, сейчас его занимало другое. Выбрав момент, когда мысли девушки прервали свой бег, он с нарочитой небрежностью поинтересовался: «Эти оборотни… Ты слышишь их?» Наста поморщилась. «Плохо… Но ни один говорун, даже самый сильный, не слышит их лучше. Они хитры, очень хитры! Умеют прикрывать и себя, и волколаков, своих пособников. Притворяются, что бегает стая крыс, или ящерица ловит мух, или что здесь одна пустота… Ловко притворяются! Если ящеркой, так и в самом деле ее слышишь, а чтоб разобрать, не мнится ли тебе, надо кое-что сделать. — Она помолчала и добавила: — Эти поганые кем хочешь обернутся, кроме человека! Любой морок наведут!» Не призраки, а действительно ментальные оборотни, понял Иеро. Видимо, эти лемуты владели природным даром к галлюцинации, и была она такой реальной, что обманулся даже он, один из лучших телепатов Канды! Видел ящерицу там, где поджидала хищная стая… На секунду стыд охватил его, но затем вспомнилось, что даже чуткий медведь не заметил опасности. А псы поджидали их в сотне ярдов! «Ты сказала, надо кое-что сделать, чтоб разобраться с мороком, — осторожно произнес священник, совсем не уверенный, что Наста откроет свою тайну. — Что же именно? Я ощущал и крыс, и ящерицу, и пустоту… Но мне не удалось увидеть оборотня, пока он сам не захотел». Девушка кивнула русой головкой. «Так оно и бывает. Пугал, угрожал, да? Что поделаешь, не любят они нас, говорунов! Если б не мы, прорвались бы в лес мимо застав, и много было бы крови! — Вздохнув, она снова коснулась священника мыслью: — А сделать нужно вот что…» Это был несложный, но оригинальный прием, отработанный, видимо, поколениями лесных жителей. Он не гарантировал успеха, но Иеро преисполнился благодарности к этой юной девушке и подумал, что полезному не стыдно поучиться даже у ребенка. Видимо, она перехватила эту мысль; в слабом пламени свечи он видел, как сердито блеснули ее глаза. Похоже, Наста не считала себя ребенком. Ее отец и братья поджидали пришельцев у стены, сложенной из массивных гранитных блоков. Ондра кивнул сыновьям, и те, поднатужившись, отодвинули камень; образовалась узкая щель — впору кошке пролезть. Кузнец покосился Горма и снова кивнул. Еще один камень был отодвинут, затем все семеро проползли под стеной, и дыру завалили новыми камнями. Их было много во внутреннем дворике огромного здания, с которым время обошлось милосердно — его галереи и лестницы поднимались до третьего этажа. Люди и ковылявший следом медведь направились к стене фасада и осторожно выглянули в пустые проемы окон. Перед Иеро лежала заросшая пыльной травой площадь — та самая, которую он видел с высоты и к которой стремился, держа путь от северных окраин. Наполовину рухнувший собор стоял чуть левее, похожий на раздуваемый ветром костер зеленого пламени; огромные виноградные листья были его языками, а покосившиеся купола торчали словно брошенные в огонь поленья. Если смотреть перед собой, то взгляд упирался в развалины башен и стен из кирпича, когда-то красного, нарядного, а теперь потемневшего от времени, засыпанного пылью и поросшего вездесущими кактусами. За останками стен, а также справа, лежали еще какие-то развалины, и меж ними можно было разглядеть вход в ущелье — наверняка в ту улицу, что тянулась к площади от руин вокзала. На всем обширном пространстве, что открывалось взгляду, царили покой и тишина, только ветер шелестел в траве и трепал виноградные лозы. Кузнец промолвил пару-другую фраз, но так быстро, что Иеро ухватил лишь общий смысл — кажется, шла речь о дальнейшем маршруте. Наста торопливо повторила, и он повернулся к Сигурду. — Отец девочки говорит, что надо перебраться через площать и развалины крепости. Место открытое и опасное — если появятся псы, придется мчаться со всех ног. Развалины дальней крепостной стены выходят к реке, и там есть круглая башня, почти целая, хороший ориентир. Под башней, в зарослях, спрятана их лодка. Вход в башню узкий, в случае чего можно засесть в ней и отбиваться, но кузнец сказал, что это почти смерть — псы будут ждать неделю, пока мы не ослабеем от голода и жажды, потом нападут. — Башня с узким входом — хорошая защита, — сказал Сигурд, сгибая и разгибая левую руку, прокушенную у локтя. — Жаль, что я не смогу точно бить копьем, но меч мой не подведет. — Он бросил взгляд на Ондру, что-то объяснявшего сыновьям, и добавил: — Но к чему нам их лодка? — Правильно, ни к чему, — согласился Иеро. — Мастер Гимп подберет нас с башни, сбросит лестницу и корзину для Горма. — Лучше мешок с пеммиканом, — усмехнулся северянин, посмотрев на медведя. — Там есть один, почти пустой, над которым он трудился, пока мы летели сюда от морских берегов. На губах Иеро тоже мелькнула улыбка, затем он начал слушать, пользуясь новым умением, полученным от девушки. Видимо, псы, которых она называла волколаками, потеряли их след — на расстоянии полумили не замечалось ничего опасного. Но дальше, в том месте, где он спустился в подземелье с Сигурдом и Гормом, крались, кружили и мелькали смутные тени. Именно так — тенями, неясными призраками — виделись ему преследователи, прикрытые иллюзией пустоты. Иеро переглянулся с Настой и кивнул. «У нас есть немного времени, — передал он. — Мы успеем забраться в крепость, даже если они помчатся во всю прыть. Может быть, доберемся до реки». «Может быть», — согласилась девушка и бросила отцу короткое отрывистое слово. «Идем», догадался священник. Они покинули руины и начали поспешно пересекать площать. Только теперь, при ярком солнечном свете, Иеро как следует разглядел лесовиков. Они и в самом деле были похожи на Сигурда и, несомненно, являлись представителями белой расы. Крепкие, русоволосые, с широковатыми скулами и серыми глазами, они двигались быстрой скользящей походкой, ни на миг не опуская своих топоров. Одеты они были так, чтобы удобней сражаться с четвероногим противником — высокие сапоги до половины бедра, кожаные шштаны и куртки, широкие поясные ремни, окованные бронзовыми бляхами, и бронзовые же наручни, прикрывавшие руку от запястья до локтя. Эти люди вызывали уважение и симпатию; не верилось, что когда-то их предки, схватившись в смертельной битве со странами запада, уничтожили мир. Впрочем, подумал священник, потомки за них не отвечают; им тоже досталось полной мерой за злодеяния предков. Он вспомнил груды костей в подземном зале и содрогнулся. Шесть человек торопливо шли к развалинам крепости, медведь переваливался следом, то и дело задирая голову и нюхая воздух. Путь их лежал мимо полуразрушенного храма с покосившимися куполами, и Иеро, отделившись на минуту от маленького отряда, преклонил колени, перекрестился и поцеловал каменную ступень перед входом. Долг был выполнен, и душа его успокоилась; ради этого поцелуя он добирался сюда от южных морских берегов. Догоняя спутников, он шептал молитву и просил у Господа счастливого разрешения от бремени для своей принцессы. Мысль Насты проникла в его сознание. «Что ты делал там, у развалин? Почему целовал камни?» «Это святое место, — отозвался Иеро. — Миллионы людей прошли здесь, чтоб вознести свои молитвы Богу. Веришь ли ты в Него, девочка? Просишь ли о помощи?» Наста покачала головой. «Бог не явил чуда, не защитил моих предков от зла, и просить мне его не о чем. Я полагаюсь на себя, на свою семью и добрых соседей». «Ты не права, — возразил священник. — Не стоит ждать чудес от Господа, надо верить и знать, что Он защищает и творит добро людскими руками. Твоими, моими и наших добрых соседей. Помни об этом, дитя мое!» Они уже миновали площать и руины стены, когда Горм тревожно вскинул лобастую голову. «Я чувствую их запах, друг Иеро! Они приближаются! Бегут со стороны ущелья, которое выходит на эту поляну!» — Быстрее! — крикнул Иеро, выхватив из ножен меч. Этот жест не требовал объяснений, и путники, лавируя среди груд кирпича и разлапистых канделябров кактусов, помчались вслед за Ондрой. Впереди, ярдах в пятистах, уже вставала обломанным темным зубом башня, а за ней зеленели кусты над речным берегом. На бегу Иеро обернулся и увидел, как из провала улицы хлынула стая разъяренных псов — вздыбленная шерсть, разверстые пасти, быстрые, стремительные ноги. Хотя бы до башни добраться, мелькнула мысль. Они не успели. Четвероногая орда настигла их у руин какого-то огромного здания, затопив серым, черным, бурым потоком. Пятеро мужчин взяли в кольцо девушку и медведя и теперь медленно пробивались к башне. Вздымались и опускались топоры и мечи, змеиными языками мелькали копья, поблескивали ножи лесовиков; эти трое, подобно Сигурду и Иеро, умели биться обеими руками. Священник заметил, что Наста тоже достала длинный кинжал, придвинулась к Горму и ухватила его за шерсть на загривке. «Не трусь, мохнатый, — уловил он мысль девушки, — мы отобьемся!» Медведь повернул голову, лизнул шершавым языком ее ладонь. Сапог Ондры был распорот до колена, по бедру струилась кровь. Лица и руки его сыновей тоже были в крови; один из них внезапно пошатнулся, едва не рухнув под тяжестью черного пса, впившегося ему в плечо, но Сигурд достал собаку копьем. Другой пес, огромный, серый с темными подпалинами, проскользнул под ногами у братьев, кинулся на девушку, но Горм, испустив яростный рык, тут же подмял его, а Наста вспорола шею кинжалом. Сам Иеро рубил, колол и резал точно машина уничтожения; самый опытный воин среди пятерых мужчин, он обладал большей выносливостью и точностью удара. В бытность Стражем Границы и в долгих одиноких странствиях ему приходилось биться и с лемутами, и с людьми, и с хищным зверьем, а эти псы были не страшнее вербэра или Оленя Смерти, жуткого чудища радиоактивных пустынь. Но их было так много! До башни оставалась еще полсотни шагов, а по лицам кузнеца и его сыновей уже струился смешанный с кровью пот. Движения их замедлились, топоры все чаще били в пустоту, куртки свисали жалкими лохмотьями, обнажая алые полосы от ударов когтистых лап. Но Сигурд, прикрывавший тыл, с прежней энергией размахивал мечом и что-то ревел — кажется, боевую песнь о Торе, неистовом воителе. Глаза его сверкали холодным блеском, рана на левой руке открылась, но он не выпустил копья — правда, колол им не в полную силу. В миг передышки Иеро хлопнул кузнеца по плечу, кивнул на девушку и медведя, потом вытянул меч в сторону башни. Тот понял, окликнул сыновей, и они, подхватив Насту под руки, ринулись к убежищу. «За ними!» — приказал священник Горму, медленно пятясь и отшвыривая ногами самых настойчивых псов.Сигурд, сражавшийся рядом, крикнул: — Иди, конунг! Я прикрою! — Конунги не бросают своих бойцов, — промолвил Иеро. — Мы дойдем до башни вместе. За половодьем мохнатых спин он видел троицу гигантских псов с обезьяньими мордами. Один из них выступил вперед; глаза его пылали дьявольским пламенем, и священнику показалось, что он читает в них отблеск торжества. «Чтоб тебе провалиться в девятый круг ада!» — пробормотал он, скрипнув зубами. Руки его начали неметь, но до башни оставалась пара дюжина шагов. В узком входном проеме уже стоял Ондра с топором и отирал свободной рукой пот со лба. Его лицо превратилось в кровавую маску, кровь запеклась в густой бороде, и сейчас он больше всего напоминал демона — как раз с девятого адского круга, где грешников поливают смолой и жгут живьем. Отбивая атаки наседавших тварей, священник и Сигурд шаг за шагом приближались к спасительной башне. В трех или четырех ярдах от нее несколько крупных псов разом бросились на священника, пытаясь свалить на землю, и в эти краткие секунды смертельной опасности он не видел и не слышал ничего. Затем псы отскочили, оставив двух с разбитыми черепами и одного с проколотым горлом, и в этот момент до Иеро донесся хрип Сигурда. Он обернулся, и время будто остановилось. Он глядел, как чудовищный пес ловит клыками руку северянина, впивается в запястье, оттягивает книзу меч; как другая тварь хватает зубами древко копья и тянет к себе; как третий монстр прыгает Сигурду на грудь, и как кузнец, вскинув топор обеими руками, спешит на помощь. Иеро рванулся к товарищу, ударил копьем, но было поздно — лязгнули мощные челюсти, и голова Сигурда откинулась на спину, будто цветок на сломанном стебле. Отшвырнув копье, Иеро подхватил северянина. Его меч и топор кузнеца залили кровью землю, предсмертный хрип и вой взмыли в воздух над речным берегом, но способны ли месть и ненависть вернуть погибших? Льдистые глаза Сигурда гасли, и, жутко булькая разорванным горлом, он прошептал: — Прощай, конунг… Сегодня не самый мой удачный день… Они с Ондрой втащили мертвое тело в башню и положили на груду кирпича. Наста вскрикнула, прижала ладошки к губам; Горм, лизнув языком холодеющий висок убитого, послал скорбную мысль: — «Жаль! Он был умен, упорен и храбр, и стал бы, наверное, вождем своего народа. Жаль, очень жаль!» Иеро застыл над трупом. Мышцы его еще дрожали после яростной схватки, рука железным капканом стискивала меч, перед глазами клубился алый туман, а душа погрузилась в тоску. Это состояние было ему хорошо знакомо — миг, когда теряешь друга, боевого товарища, и не можешь поверить в свою утрату и не хочешь смириться с ней. Он терял многих, слишком многих в лесах Канды и помнил, что есть лишь один-единственный способ справиться с отчаянием и горем. Он начал читать молитву вслух — солдатскую молитву, какую произносят над телом мертвого воина. Его слова гулко падали среди древних каменных стен, и четверо лесовиков глядели на него широко раскрытыми глазами. — Господь Всеблагой, вот боец, погибший за Тебя и святое дело Твое, честно искупивший кровью свои грехи и дурные дела, если творил он их во время жизни. Прости его, Создатель, прими его душу, исцели его раны, ободри его сердце, возьми его за руку и отведи к его умершим друзьям и родичам. И если это утешит павшего, скажи ему, что мы, живые, не забудем о нем и станем поминать в своих молитвах. Покойся с миром, друг! Аминь! Отзвучало последнее слово, и, после недолгой паузы, Ондра что-то хмуро буркнул. «Отец говорит, — пояснила Наста, вытирая слезы, — что вы, чужаки, нас спасли. Но зря, ибо из башни нас не выпустят и до лодки нам никак не добраться». «Лодка нам не нужна, — ответил Иеро, вытирая клинок полой изодранной куртки. — Мои друзья прилетят за нами по воздуху». Он оглядел внутренность башни. Кровля и верхняя часть ее рухнули, но прочные кирпичные стены еще тянулись на десять-двенадцать ярдов в высоту и не имели окон. Вверх вела каменная лестница, кончавшаяся чудом сохранившейся площадкой, и с этого уступа Гимп мог с легкостью их подобрать. Только корзину придется спускать дважды — за Гормом и телом Сигурда… Вздохнув, он направился к дверному проему, где, сжимая топоры, замерли сыновья кузнеца. Псов не было видно, лишь мелькали иногда за грудами мусора голова с оскаленной пастью, клок бурой шкуры или воинственно задранный хвост. Вероятно, враг перешел к осаде. Священник связался с братом Альдо. «Идем вдоль реки, — сообщил эливенер, — и видим руины крепости. Где вы, сын мой? Надеюсь, у вас все в порядке?» «Нет, — отозвался Иеро и, помолчав, добавил: — Они добрались до Сигурда. Разорвали глотку. Он мертв». Наступила тишина, пронизанная скорбью. Два телепата не нуждались в словах, чтобы выразить горе и ободрить друг друга; по невидимым нитям, связавшим их, струились сейчас сочувствие и сожаление об ушедшем. Наконец брат Альдо сказал: «Мы лишились достойного товарища. Надо похоронить его с честью, сынок. Кажется, на его родине тела воинов сжигают?» «Костер будет большим, — ответил Иеро, — а кроме похорон случится кое-что еще». В этот миг он не испытывал ни смирения, ни желания прощать, ни других чувств, подобающих христианину; душа его взывала о мести. Объяснив Альдо, как разыскать башню на речном берегу, он посмотрел на девушку и спросил: «Кажется, твой народ знаком с порохом? И много его у вас?» Наста недоуменно моргнула. «Много. В подвалах у воеводы Данила хранится, наверное, сто бочонков. Порох кладут в бомбы и мечут их со стен застав… Но почему ты спрашиваешь? Мы — здесь, а воины Данила — там, в лесу, и до первой из наших крепостей надо плыть половину дня». «Скоро нас здесь не будет. Мои друзья близко». С этими словами Иеро опять выглянул наружу и вздрогнул — шагах в сорока, под высоким ядовито-зеленым кактусом, сидел пес. Короткая шерсть, выпуклый череп, почти безволосая морда, жуткая пародия на человеческое лицо… Оборотень! Внезапно что-то случилось с личиной лемута — челюсти вроде бы усохли и под ними наметился подбородой, ноздри стали меньше, зато отчетливо обозначился нос, возникли скулы, а лобная кость словно раздалась в стороны. Изумленный священник перекрестился и протер глаза, но страшная метаморфоза продолжалась, и он не мог понять, была ли она иллюзией или реальностью. Странно знакомое лицо глядело на него — широколобое, с крючковатым носом, с глубоко запавшими глазницами, и внезапно он вспомнил, где и когда являлся ему этот облик. При первой встрече с Домом, на границе владений Вайлэ-ри! В те мгновения, когда Дом пытался овладеть его душой, и зыбкая его поверхность менялась и струилась, рождая обличья чудищ, людей, животных, лемутов… Там, именно там он видел это лицо, отлитое в плоти Дома! Иеро застыл будто камень, глядя в бездонные черные глаза; по его спине струился холодный пот. «Вижу, ты узнал меня, — пришла к нему холодная четкая мысль. — Мы не раз встречались, маленький священник. Я прикасался к твоему разуму через своих слуг, звал тебя ночами, и ты пришел. Наконец-то пришел! Ты еще не очень близко, но теперь я могу дотянуться до тебя». Ошеломленный, Иеро молчал. Пальцы будто сами собой нащупали рукоять меча, другой рукой он коснулся серебряного медальона. Господь сохрани и защити! Эта тварь, сидевшая перед ним, была… «Да, вы называете меня Нечистым, — услышал он, — но это имя, отзвук ваших древних суеверий, не отражает моей сущности. Зови меня Локи, священник, и иди ко мне. Иди на юго-восток, в степи, что лежат за морским берегом… Иди скорее, я не привык ждать!» Гнев вдруг охватил Иеро, яростный гнев и ледяная ненависть; они помогли справиться с ошеломлением и страхом. Нечистый пытается командовать им? Ну, что ж… Его ответная мысль была холодна, как снег. «Ты убил моего друга. Это не останется без возмездия!» На жутком лице мелькнуло подобие улыбки. «Возможно, я убью всех твоих друзей, ибо мне нужен ты, а не они. Но в данном случае чем я виноват? Тот рыжий дикарь, твой приятель, пал не от моей руки, а от собачьих клыков. Похоже, мои слуги слегка перестарались». В этих словах звучала явная насмешка. Иеро выпустил медальон, нашарил маленький крест в кармашке перевязи, вынул его и поднял над головой. «Твои слуги убили моего товарища, и за это они поплатятся. Я уничтожу их. Клянусь в том именем Господа и этим священным символом!» «Уничтожишь? Как, маленький священник? Жалкой полоской металла в твоей руке? — Пауза; потом снова: — Мысль твоя против них бессильна, но если ты придешь ко мне, я дам тебе истинное могущество, бессмертие и власть! Не отвергай моих даров, ибо в противном случае ты кончишь плохо. Я полагаю, в собачьих желудках». «Я приду к тебе, — сказал Иеро. — Приду, но не за дарами, а за твоей головой. Но прежде разделаюсь с твоими тварями». Беззвучный смех раздался в его голове, огромный пес исчез за грудой кирпича, и лишь последняя мысль долетела до священника: «Ты самонадеян… Что ж, посмотрим, есть ли к тому основания!» Иеро вытер пот со лба и оглянулся — как раз в тот момент, когда его спутники зашевелились. Он понял, что ни медведь, ни Наста не слышали, как искушал его Нечистый, усыпленные его чарами. Миг стремительного ментального диалога выпал из их жизни. Он поглядел на псов, мелькавших в развалинах, потом поднял глаза вверх: в ясном небе плыл голубовато-серый дирижабль. Иеро повернулся к девушке: «Скажи братьям, пусть возьмут тело моего друга и поднимаются на площадку. Ты и твой отец идите за ними. Воздушный шар уже близко». Наста бросила родичам несколько слов, потом тоже взглянула на небо. «Разве это шар? Он похож скорее на огромную дыню… И совсем не такой, как железные птицы с крыльями, в которых летали древние!» «У них было много всяких аппаратов, и мы нашли одну из их летательных машин, — пояснил Иеро. — Очень большую и удобную». Вполне подходящую для перевозки бочонков с порохом, добавил он про себя.* * *
Стоя посреди заваленного ржавыми балками и прутьями фабричного двора, Иеро смотрел, как люди воеводы Данила поспешно шагают к соседнему пустырю. Это были мощные крепкие мужчины, и транспортировка шести дюжин бочонков с порохом от места приземления «Вашингтона» совсем не утомила их. Другое дело, запах газа, вызывавший кашель и тошноту; от него спасались мокрыми тряпками, прикрывавшими рот, но помогали они плохо: то один, то другой из уходивших воинов перегибался в приступе рвоты. Лицо священника тоже было обмотано мокрой тканью до самых глаз, а в руке его пылал факел на длинной рукояти. У ног Иеро свернулись кольцами несколько примитивных фитилей — льняные веревки, щедро пропитанные маслом и посыпанные порохом. Запальные фитили тянулись к огромным керамическим газгольдерам, у оснований которых разместили взрывчатку. Люди воеводы были опытны в таких делах; они навалили поверх бочонков куски бетона, камни и ржавый металл, в котором тут, в железных джунглях, не ощущалось недостатка. Взрыв будет сильней, пояснил Иеро один из десятников, руководивших операцией. Приступ кашля заставил священника согнуться пополам, на глазах выступили слезы, но он терпеливо ждал, пока лесные воины не покинут пустырь. Их было здесь два десятка, но на юге, на стенах застав и валах засек, стояли сейчас тысячи, воины и ремесленники, охотники и пахари, мужчины и женщины; стояли, приготовив рогатины и топоры, пороховые бомбы и стрелометы, ждали, когда побежит из городских развалин хищная орда. Если побежит, с мстительной усмешкой подумал Иеро. Желтый ядовитый газ был тяжелее воздуха, значит, будет струиться у земли, заползать во все щели и логова, ямы и дыры… Ни одной твари не спастись! На миг его кольнуло чувство вины — ведь он готовился уничтожить лемутов древним оружием, одним из тех, которое вызвало Смерть. Бесспорно, это являлось грехом, и отец Демеро будет прав, если потребует от него самого сурового покаяния… Но, с другой стороны, огромные емкости с газом когда-нибудь треснут, отрава вырвется наружу — и как знать, кто окажется поблизости? Возможно, люди, возможно, безобидные животные… Значит, выпустив зло против зла, он спасает сейчас еще не родившихся потомков лесных жителей, сыновей или внуков сероглазой Насты… Он знал, что она тоже стоит на стене и ловит, как и десятки других говорунов, смутные тени, что мельтешат в ментальном пространстве над руинами древнего города. Стоит и ждет… Внезапно он понял, что должен сделать это не во имя мести за Сигурда, а ради тех, еще нерожденных детей, что, быть может, воздвигнут новый город на руинах Моска и других пепелищах этой земли. Для них и ради них, с надеждой, а не с ненавистью в сердце, творит он это греховное деяние! И пусть Бог его рассудит! Последний воин лесовиков скрылся в развалинах, когда Иеро, опустив факел, поджег фитили. Веселые алые язычки побежали к газгольдерам, и он тоже побежал — помчался через пустырь, кашляя и задыхаясь, все дальше и дальше от начиненных ядом железных джунглей, туда, где над пожухлой травой и низкими кустами покачивался на ветру корпус «Вашингтона». За спиной у него грохнуло, порыв жаркого воздуха сбил с ног, прокатился над пустырем и угас среди скелетов зданий. Поднявшись, Иеро увидел, что газгольдеры устояли, но в стенах их зияют огромные трещины. Желтый газ вихрился над ними, собирался смрадной тучей, и ветер — как раз подходящий, северный — нес ее к городским развалинам, растягивал на запад и восток, будто, вступив в союз с людьми, хотел заключить их врагов в губительное кольцо. — Не хуже, чем Ветер Смерти иир'ова, — пробормотал священник, но эта мысль тут же сменилась другой: он делает это ради надежды, не для возмездия. Иеро вздохнул, перекрестился и зашагал к дирижаблю.ГЛАВА 6. КАМЕННЫЙ ПОЯС
Два дня «Вашингтон» летел на юго-восток, покрыв без малого тысячу миль. Под днищем гондолы виднелись то бесплодные мертвые пустоши в воронках от атомных бомб, то руины городов, торчавшие на земной поверхности или полузатопленные разлившимися озерами, то редкие зеленые оазисы, в которых под кронами пальм, берез и огромных дубов копошились немногочисленные живые существа. Ни поселений, ни вьющихся дымов, ни иного человеческого следа тут не замечалось; хоть эта просторная равнина, тянувшаяся до Уральских гор, была перепахана ракетами не столь усердно, как запад Европы, жизнь тут не возродилась даже за пять тысяч лет. Это, а также воспоминания о гибели Сигурда, навевало на путников мрачные мысли; даже неугомонный мастер Гимп больше молчал и хмурился, разглядывая сквозь колпак кабины опаленную землю да оплавленные скалы, подобные могильным камням на гигантском кладбище. Брат Альдо шелестел своими бумагами, делая записи, Горм дремал, стараясь, как всегда во время полета, скрыться от реальности в мире сновидений; Иеро размышлял над явлением Нечистого и просил Творца укрепить его душу. Человек глубокой древности, живший в Америке или Европе в век торжествующего прогресса, воспринял бы случившееся как галлюцинацию или усомнился бы в своем умственном здравии. На худой конец он искал бы каких-то рациональных объяснений вроде гипноза, психотронного оружия, проделки ловких шутников, а исчерпав подобные возможности, свалил бы визит Нечистого на коварных инопланетян, пришельцев из космоса, которые могут представиться хоть демонами, хоть богами. Иеро, однако, не измышлял гипотез; бог и дьявол были для него такими же столпами Мироздания, как термодинамика и квантовая теория для физиков двадцатого столетия. К тому же теология и физика являлись, в конечном счете, сущностями духовными, продуктами мысли, а мысль воспринималась им совсем иначе, чем людьми, создавшими древнюю цивилизацию. При всех своих технологических успехах, они не раскрыли секрет телепатии и полагали мысль чем-то туманным и трудно определяемым, тогда как Иеро воспринимал ее в виде материального и действенного фактора; мысль была для него средством общения и связи, оружием и способом защиты, методом изучения и постижения иных, нечеловеческих существ. Любая мысль для него зиждилась на более прочном фундаменте реальности, чем для человека минувшей и канувшей в прошлое культуры, а это значит, что Нечистый тоже был реальностью. И этот Отец Зла, этот антихрист, Вельзевул, Люцифер или Локи, говорил с ним, вселившись в тело оборотня, и пытался соблазнить! Факт, не вызывавший сомнения и подтвержденный другими, столь же конкретными фактами: мерзкой личиной, что проступила на Доме и морде оборотня, зовом, звучавшим в ночи, странной метаморфозой Олафа Торвальдссона и, наконец, предупреждением Солайтера о том, что он улавливает мысли Другого Разума. Злобного и очень мощного, превосходящего даже ментальную силу гигантской улитки! А ведь Солайтер был не только самым сильным телепатом, какие попадались перу Иеро Дистину в долгих и опасных странствиях; Солайтер владел и другими умениями, недоступными для человека — он мог перестраивать свою плоть, выращивать подобия рук и тончайших щупалец и делать искусные операции. И это тоже было реальностью. Что ж удивляться силе Нечистого? — размышлял Иеро. Скажем, тому, что этот Локи смог дотянуться до его разума за тысячи миль или вселиться в колдуна либо собаку-оборотня… Важно понять, как дьявол это делает, и, по возможности, овладеть таким же искусством, чтобы сражаться на равных. И важно то, что эти приемы ему известны — ведь информация о них дает хоть небольшой, но перевес. Этим не стоит пренебрегать, ибо в Боевом Кодексе Аббатств, который он штудировал в Академии, ясно сказано: используй любое, самое крохотное преимущество, и тогда, возможно, их будет меньше у врага. На третий день, утром, «Вашингтон» приблизился к Южному Уралу. Этот каменный пояс, разделивший Европу и Азию, сильно изменился: бомбардировки привели к смещению подстилающих хребет пластов, и после нескольких землетрясений, уничтоживших вкупе с бомбами города, на поверхность поднялись из земных глубин девственные скалы, а меж ними пролегли ущелья с озерами и реками. Древние горы будто помолодели, избавившись от человеческого гнета, поглотив или разрушив все, что было создано людьми в предшествующие века. Природа, однако, оказалась милосердной, ибо не только уничтожала, но и создавала: склоны гор поросли лесом, огромными лиственницами, соснами и кедрами, на берегах ручьев и живописных водопадов поднялись заросли бамбука, а в прозрачных чистых озерах плавали кувшинки таких размеров, что не всякий человек ухитрился бы обхватить их руками. Скалы тоже не были безжизненны — сизые, алые, лиловые мхи и лишайники легли на них пестрыми мягкими коврами, и этот покров с удивительной красотой гармонировал с серым, розовым и бурым камнем. С пятимильной высоты, на которой летел «Вашингтон», эта местность казалась сущим раем — тем более, что за ущельями и горами виднелись не пустынные земли, а могучий лес Сайберна, подобный канадскому Тайгу. Зрелище этих бескрайних зеленых просторов радовало глаз, и путники, воспрянув духом, приникли к иллюминаторам гондолы. — Хвойный лес, но встречаются буки, клены и пальмы… — пробормотал брат Альдо, обозревая землю в подзорную трубу. — Точно, как в Канде, что не удивительно — Сайберн и Тайг лежат на одной широте… Впрочем, мой мальчик, — добавил он, поворачиваясь к Иеро, — есть кое-какие различия. Тут более сухой континентальный климат, и я полагаю, что южнее этих лесов не растут влажные джунгли. Скорее всего, лес переходит в саванну, а затем — в прерию. — И всюду водится живность, — заметил мастер Гимп, хлопнув себя по животу и бросив взгляд на Горма. — Клянусь якорем, не только мне надоели солонина и сухари! Если пер Иеро окажет нам милость… — Окажу, — кивнул священник. Ему, как и остальным членам команды, уже хотелось прогуляться по твердой земле, испить воды из чистых ручьев и поохотиться. Он видел, как внизу, над скалами и ярко-зелеными кронами кедров, парят птицы; наверняка, этот горный лес не был безжизненным. Мастер Гимп повел дирижабль вниз, а Иеро, приготовив копье и арбалет, удалился в хвостовую часть гондолы, сел, скрестив ноги, на пол и нашарил за пазухой мешочек с магическим кристаллом и Сорока Символами. Прошло изрядное время с тех пор, как он гадал над мертвыми землями Франса, и все, что выпало тогда, исполнилось: Слеза означала печаль по погибшему Вечному Городу, Рыба — встречу с дельфами, а Пес — жутких оборотней Моска. Что он узнает в этот раз? И сможет ли истолковать знаки грядущего? Выйдя из краткого транса, священник раскрыл левую ладонь и разочарованно вздохнул. Только две фигурки! Поистине, его талант предсказателя не слишком велик — гораздо меньше, чем у Клоца, который в точности знает, где самые сочные листья и самая вкусная кора! Потом он пригляделся к черным полированным символам и озабоченно нахмурил лоб. Округленные Губы и Книга! Эти фигурки выпадали очень редко и имели весьма четкие толкования. Губы символизировали нечто новое и при том удивительное, и этот неведомый фактор мог обернуться для гадающего и радостью, и горем; Книга же обозначала не какие-то записи вообще, а совершенно определенный манускрипт, Библию или Святую Книгу, и толковалась как надежда или Божья помощь. Были ли связаны между собой эти два символа? Поразмыслив, Иеро решил, что помощь Господа придет к нему через большое удивление, а значит, в том поразительном, с чем он встретится, нет ни опасности, ни угрозы. Хороший знак! Он повеселел, представив, что сможет удовлетворить свое любопытство при полном содействии и поощрении Творца. «Вашингтон» опустился с восточной частью хребта, над поляной с изумрудными травами и яркими цветами, и был заякорен к двум гигантским кедрам. Этот горный луг тянулся вниз по склону до крутого обрыва; там, с южной стороны, лежало довольно извилистое ущелье с бурной речкой, а с севера, за стеной деревьев, поднимались скалы. Оттуда, пересекая поляну, струился ручей и падал с обрыва стремительным звонким потоком; вода в нем была прозрачна, свежа и холодна. Над травами и цветами кружили большие мохнатые пчелы, и Горм, принюхавшись, уверенно направился к лесу. Иеро, прихватив копье и арбалет, шагал за ним. Быстрый ментальный поиск, произведенный перед приземлением, показывал, что это место и в самом деле рай: птицы, насекомые, мелкие хищники и столь же небольшие копытные животные. Вероятно, тварям гигантским и опасным было трудно прокормиться в столь пересеченной местности. Полоса леса была шириной в шестьсот-семьсот ярдов, и росли здесь кедры с толстой морщинистой корой, чьи корни, напоминавшие змеиные тела, соперничали твердостью с камнем. Деревья, оплетеные лианами, стояли далеко друг от друга, а между ними стелилась трава или выходили на поверхность каменные плиты, покрытые мхом; во многих местах почва была засыпана пустыми шишками. Отметив этот признак, Иеро поднял голову и тут же увидел, как в вышине мечутся тени, то пробегая по стволам, то перелетая с ветки на ветку, то раскачиваясь на лианах. Царство белок, понял он и поднял арбалет; белки казались крупными, по десять-пятнадцать фунтов, откормившимися на кедровых орехах, и мясо их наверняка было нежным. «Не стоит, — пришла к нему мысль Горма. — Эти хвостатые слишком высоко и бегают слишком быстро. Иди в сторону восхода. Тут, на земле, есть добыча получше». «Пойдешь со мной?» Горм облизнулся; розово-серый язык скользнул меж белых клыков, куцый хвост встал торчком, как у охотничьей собаки. «Нет, друг Иеро, я отправлюсь к скалам. Пчелы летят туда, и я чувствую, как пахнет медом. Наверное, они гнездятся в какой-то расселине… Я найду!» «Не пойти ли и мне с тобой? Меда, я думаю, много. Хватит на двоих», — забавляясь, послал мысль Иеро. «Меда много не бывает», — отозвался Горм и, будто призрак, растаял в лесу. — Когда дело доходит до меда, медвежьему племени свойственны все человеческие пороки, — с усмешкой пробормотал священник и зашагал в восточном направлении. Животные тут были непуганными, а значит, люди не появлялись в этих краях годами — может быть, столетиями или даже с момента Смерти. Стайка любопытных рыжих белок мчалась по ветвям вслед за Иеро, в опавшей хвое и шишках копошились бурундуки и скользили толстые, в руку, ужи, попадалось и другое зверье — лисы размером с крупную собаку, зайцы, удиравшие от них огромными скачками, лесные мыши и большие птицы в сизо-черном оперении, с мощными клювами и алыми полосками над глазами. Однажды мимо проковылял еж — не меньше, чем по колено человеку, с колючками длиною в палец; вид у него был независимый, и никакого внимания на лис он не обращал. Наконец деревья расступились, дав место поляне у высокого утеса, напоминавшего разрушенную башню. Основание этой гранитной скалы пересекала трещина, вход в нишу или пещеру, и оттуда, журча среди поросших мхом камней, струился ручеек. На дне его тускло поблескивала зеленая галька, а трещина будто светилась — очень слабо, но все же заметно в ярком сиянии солнечных лучей. На берегу ручья паслись животные — видимо, та добыча, о которой предупреждал медведь: небольшие олени или лани с коричневой, в желтых пятнах, шкуркой и четырьмя рожками: передняя пара над глазами, задняя — около ушей. Они удостоили Иеро не большим вниманием, чем еж — охотящихся лисиц. Он поднял арбалет. Короткая толстая стрела пропела в воздухе, вонзилась под лопатку оленю покрупней; тот, не издав ни звука, рухнул, как подкошенный. Стадо продолжало пастись — лишь одно из животных вытянуло шею, понюхало выступившую кровь и недовольно фыркнуло. Иеро уловил мгновенный всплеск тревоги, тут же сменившейся недоумением и чувством голода. Подойдя к оленьей туше, он выдернул стрелу, испросил прощения у Божьей твари, убитой ради пропитания и повернулся к трещине. В этом рваном треугольном проеме определенно виднелся свет! Не такой скачущий, красноватый, как дают факелы или костры, и не такой мертвенный и ровный, как от электрических светильников в подземельях Мануна; нет, это сияние казалось священнику мягким, зеленоватым, удивительно гармонирующим с лесом и скалами, замершими в покое и тишине. Секунду он колебался, раздумывая, не сходить ли за метателем и фонарем, но никаких тревожных сигналов из отверстия не поступало. Эта пещера не была берлогой хищника, и в ней, кажется, вообще не обитали живые существа, если не считать мокриц и жуков; он смутно ощущал лишь большую массу воды под нависшими сводами да радиоактивный след, едва заметный и неопасный. Удивительно! — мелькнула мысль. Тут мог бы кто-то поселиться — например, лиса… очень подходящее место… Удивление приняло зримый облик Округленных Губ, и Иеро решительно шагнул к трещине. Инстинкт подсказывал ему, что это нужно сделать; и, вместе с воспоминанием о последнем гадании, в нем пробудилось любопытство. Он зарядил арбалет и, двигаясь почти неслышно в своих мягких сапогах из оленьей замши, скользнул мимо журчащего ручья в пещеру. Перед ним раскрылся довольно широкий проход, явно естественный, а не рукотворный: стены и своды были из первозданного бугристого камня, заросшего мхом, а внизу, у самых ног, поблескивал мокрой галькой и пел свои песни ручей. Мох слабо флюоресцировал и, вероятно, являлся источником света; его зеленоватое сияние было слабым, но немигающим, ровным, что позволяло отчетливо различить дорогу. Проход, не опускаясь и не поднимаясь, вел в недра утеса, похожего на башню, и Иеро направился туда, зондируя стены и почву своим ментальным щупом. Через десять минут, одолев не более тысячи футов, он стоял на берегу подземного озера, из которого струился ручеек. Оно лежало в овальной чаше посреди обширной подземной полости, залитой неярким зеленоватым светом; мягкие языки мха ползли по стенам на высоту двух-трех человеческих ростов, но потолок был чист от зарослей и, судя по виду, являлся прочной и монолитной гранитной плитой. Пол, довольно ровный, плавно спускался к воде и позволял обойти озеро вокруг — что Иеро и сделал, насчитав больше четырехсот шагов. Кое-где на берегу лежали гранитные глыбы, одни — по пояс, другие — по колено, и священник, выбрав подходящую, сел и уставился в воду. У берега было мелко, озеро просвечивало насквозь, и по его каменному дну ползали какие-то крохотные существа. Вначале они показались Иеро похожими на крабов, но он быстро сообразил, что это не так: создания выглядели полупрозрачными, студенистыми, без всяких признаков панциря, клешней, рта и глаз — просто комочек слизи размером с ноготь, из которого высовывались многочисленные маленькие щупальцы. Больше всего они напоминали амеб, которых Иеро разглядывал в древнем, чудом сохранившемся микроскопе в первый год обучения в шконе Аббатств. Их движение казалось хаотическим, бесцельным, и никакой ментальной активности, даже проблеска мысли, от них не исходило. Временами амебы замирали, втягивали щупальцы и будто покрывались плотной кожицей, превращаясь в шарики величиной с лесной орех; несколько таких шариков развернулись на глазах священника, стали почти прозрачными и беспорядочно замельтешили в камнях. Наклонившись, он вытянул руку, коснулся пальцами воды, затем погрузил в нее всю ладонь. К его удивлению вода оказалась тепловатой и в ней ощущался слабый ток — видимо, озеро соединялось с подземным источником и, в свою очередь, питало ручей. Кроме того, вода была радиоактивной. Как и большинство его соплеменников, Иеро умел определять уровень радиации без всяких приборов; это чувство являлось таким же даром эволюции, как способности к мысленной речи, дальновидению, предсказанию будущего и другие паранормальные таланты, которыми, в той или иной мере, обладали многие. И сейчас он мог определенно утверждать, что никакой опасности не подвергается — просто радиоактивный фон был на треть выше обычного. Ровно настолько, чтобы не вредить при кратковременном облучении, но вызвать за годы и века некую мутацию, положительную или наоборот. Иеро пошевелил пальцами в воде, затем осторожно коснулся прилипшего к дну шарика. Его скорлупа действительно оказалась твердой, и священник, уже не опасаясь раздавить свернувшуюся амебу, вытащил шарик из воды и положил на ладонь. Крохотное существо будто бы ожидало этого; скорлупа вдруг расплылась и исчезла, десяток маленьких отростков выдвинулся из полупрозрачного тельца, щекоча кожу и поглаживая пальцы. Их обладатель не был холодным и склизким — наоборот, тело его казалось теплым, словно на ладони священника резвился кролик-лилипут с мягкой шерсткой. Как Сеги, подумал Иеро, полузакрыв глаза и вспоминая о своем скакуне, по неведению убитом и съеденном Солайтером. Сеги, собственно, являлся гигантским кроликом, переросшим крупного быка и способным нести воина в тяжелом вооружении; в Д'Алви и соседних королевствах эту породу разводили для гвардии копьеносцев, главной ударной силы в междуусобных сражениях. Год и восемь месяцев назад, когда Иеро, похищенный слугами Нечистого, бежал от них в южные саванны и леса, Лучар послала следом за ним Сеги, навьюченного снаряжением, и тот сумел отыскать хозяина. Не только отыскать, но и довезти его до горного озера среди пурпурных холмов, в котором обитал Солайтер — Иеро на счастье, себе на беду. Он был на редкость чутким и верным существом, этот Сеги, хотя и не таким разумным, как Клоц. При мысли о нем священника охватила печаль. С полузакрытыми глазами он представил себе темные зрачки Сеги, его сильные ноги и длинные уши, что двигались во время скачки взад-вперед, его пушистую шерстку, куцый хвост и литые мышцы, что позволяли мчаться гигантскими прыжками, вспомнил о его кротком нраве и преданности… Что за прекрасное создание! Лучший, самый быстрый скакун в Д'Алви! И так жаль, что он погиб… Веки Иеро приподнялись, и он, невольно вздрогнув, перекрестился: на ладони, уставившись глазками-бусинками ему в лицо, сидел кролик, миниатюрная копия Сеги.* * *
Пять тысячелетий тому назад, неподалеку от места приземления «Вашингтона», находился город. Совсем небольшой и тихий городок милях в шестидесяти от Челябинска; собственно, даже не поселение, а засекреченная военная база с научными лабораториями. Тут создавались не бомбы, не ядовитые газы и не штаммы смертоносных вирусов; тут вели вполне мирные исследования генетического плана. Одна из групп генетиков занималась клонированием; правителям страны, людям престарелым, отягощенным недугами, требовались новые почки, легкие, сердце или печень, выращенные из их собственных клеток, ибо чужеродный орган, полученный от донора, нередко отторгался в силу несовместимости тканей. Другие ученые трудились над проблемой радикального генетического видоизменения сельскохозяйственных культур и скота; ожидалось, что они вырастят пшеницу с зернами размером с фасоль или корову слоновьих габаритов, способную превращать в мясо и молоко сосновую кору и ветки. Третьи пытались получить дешевый растительный белок, скрещивая хлореллу с соей; четвертые работали с муравьями, рассчитывая вывести медоносный сорт; пятые курсировали между Уралом и Крымом, испытывая на дельфинах излучатели, повышавшие активность коры головного мозга. Были еще шестые, седьмые и десятые, и кому-то из них удалось разработать геноплант — чудесную живую протоплазму, способную пластично изменяться под влиянием внешних условий. Но это открытие осталось втуне: грянули война и Смерть, Челябинск под ударом ракет провалился в земные недра, и сокрушительная взрывная волна, вместе с потоками радиации, накрыла тихий городок. Никто и ничто не уцелело, ни люди, ни животные, ни растения, ни здания и приборы — никто и ничто, кроме генопланта. Эта субстанция впиталась в землю, и почвенные воды смыли ее, вместе с радиоактивными осадками, в гигантский подземный резервуар, подогреваемый внутренним теплом планеты. Там, на глубине десятков миль, геноплант, обладавший колоссальной приспособляемостью к среде, начал мутировать и трансформироваться, создав в конце концов живой организм поразительной универсальности — практически вечный, такой, который мог питаться водой или воздухом, твердой материей или электромагнитными волнами, мог перестраивать свою структуру, увеличиваться или уменьшаться, выращивать клешни и щупальцы, панцирь, кости и кожу, любые необходимые органы, вплоть до нервных клеток и мозга. Правда, мозг, если его вырастить, оставался пустым, но это не снижало достоинств подземных обитателей — они были восприимчивы к ментальному излучению, если оно несло определенную и позитивную программу совершенствования их организмов. С течением лет давление в подземном резервуаре нарастало, и, наконец, поток воды пробился вверх, в пещеру под скалой, похожей на полуразрушенную башню. Получилось озеро; тихое, уединенное, не очень глубокое — идеальное место для жизни после адских температур и давлений глубин. Потомки генопланта инстинктивно устремились сюда и провели долгие столетия в условиях, которые были для них тепличными. Однако они не потеряли ничего — ни своей долговечности, ни способности изменяться и воспринимать ментальный импульс. Ученые эпохи до Смерти назвали бы их метаморфами, но пер Иеро Дистин не был знаком с этим научным термином. Что, однако, дела не меняло: на его ладони сидел крошечный метаморф, преобразившийся под влиянием его воспоминаний в крошечного пушистого Сеги. Справившись с изумлением, Иеро попробовал установить с ним ментальный контакт. Отклик был слаб, почти неощутим, и он подумал, в этой маленькой головке размером с горошину явно не хватает мозгов. Наверное, их там было столько же, сколько у червяка, а значит, миниатюрный Сеги являлся всего лишь несовершенной копией, подделкой с обликом ушастого скакуна, но далеко не равным ему по умственным способностям. Вот если бы он был побольше… хотя бы размером с бурундука, а еще лучше — с белку… Воздух над ладонью Иеро взвихрился, потом раздался чмокающий звук, будто схлопнулась некая пустота — и он, снова пораженный, едва успел подхватить свободной рукой народившееся существо. Тот же Сеги, но уже не помещавшийся в ладонях, большой и довольно тяжелый, весом не меньше двенадцати фунтов… Священник глядел на него, сощурившись и приоткрыв в удивлении рот. Не оставалось сомнений, что пара-другая таких метаморфоз способны превратить Сеги в титана, в нечто такое, перед чем огромный парз, живущий в южных джунглях, будет беспомощен как ящерица под сапогом. Сознание этого Сеги было гораздо более совершенным, хотя и не равнялось в мощности с эталоном. Тем не менее Иеро ощутил исходящие от него волны покорности и приязни; сейчас священнику казалось, что к нему ласкается верный пес или кошка, жаждавшая, чтобы ее погладили. Он сделал это, устроив создание на коленях, и маленький, но уже не крохотный Сеги зажмурился и запрядал ушами. Шерсть его была шелковистой как драгоценное руно овец с острова Асл. В следующие полчаса Иеро произвел еще несколько опытов, преобразив Сеги и десяток его соплеменников в различных малышей — белок и бурундуков, зайцев, кошек и небольших собачек. Наконец, Сеги, лежавший на его коленях, превратился в маленькую копию Клоца и тут же испустил призывный трубный звук, подобие рева, каким огромный лорс приветствовал своего хозяина. Соприкоснувшись с разумом метаморфа, Иеро ощутил, что и в ментальном отношении тот стал подобен Клоцу — ни следа кротости Сеги, зато половодье яростной отваги и желания подраться. А также мысль — недоуменная, растерянная: «Хозяин здесь… огромный… не уместится на спине… Почему?.». — Это не я огромен, а ты мал, — вслух отозвался Иеро и превратил рогатого скакуна обратно в Сеги. Потом, глядя в прозрачные воды озера, он подпер кулаком подбородок и задумался. Воистину удивительные твари! — мелькало у него в голове. Существа, что позволяют смертному ощутить себя Творцом, подняться на одну ступеньку с Создателем Мира… Греховная мысль! Однако с фактом не поспоришь: любой подготовленный телепат способен сотворить из этих крохотных амеб что угодно и в любых количествах… В озере их миллионы, множество созданий, покорных его воле, готовых принять любое обличье — птиц, собак, быков, чудовищ, лемутов… Даже, вероятно, человека… Несколько мгновений он боролся с крамольной мыслью о воссоздании крохотной Лучар или отца Демеро ростом с ладонь, но это было уже слишком; здравый смысл подсказывал ему, что человек — не животное, что тут не хватит никаких воспоминаний, и что вместо любимой принцессы и почитаемого наставника он сотворит ущербных лилипутов. Иеро быстро перекрестился и прошептал слова молитвы, что отвращала излишнюю гордыню. Затем он с усмешкой подумал, что Бог дозволил человеку творить себе подобных одним и только одним способом — и хвала Ему, что этот способ так приятен! На минуту мысли его унеслись к Лучар, затем, очнувшись, он взглянул на странное существо на своих коленях. «Хочешь остаться со мной, малыш?» — невольно подумал священник и изумился вновь, получив отчетливое подтверждение. Этот крохотный зверек, способный изменяться и расти под действием его ментальных импульсов, впервые выразил собственную волю! Вполне разумно и ясно: он захотел уйти с человеком, покинув свой тихий подземный рай. Может быть, в этом желании что-то шло от Сеги, а что-то — от верного Клоца, от тех ипостасей, в каких успел побывать метаморф, однако Иеро не стал разбираться в подобных тонкостях; раскрыв кармашек на перевязи, где находился серебряный крестик, он отправил краткую мысль: — «Сюда!» С негромким хлопком создание уменьшилось до первоначальных размеров, шустро полезло вверх, перебирая щупальцами, скользнуло в карман и замерло. Иеро скосил глаза — едва заметная выпуклость на перевязи, будто в кармашке запрятан лесной орех… Он поднялся, окинул взглядом пещеру и озеро, пробормотал: «Чудны дела Твои, Господи!» — и вышел наружу. Олени исчезли, только убитый им самец лежал у ручья, а рядом, обнюхивая сочившуюся кровью ранку, вертелась лиса в нарядной рыжей шубке. Отогнав ее, священник взвалил добычу на спину и отправился к стоянке «Вашингтона». Там уже пылал костер, разожженный Гимпом, и капитан с братом Альдо сидели у огня; первый подбрасывал хворост, второй выбирал из шерсти развалившегося в траве медведя запутавшихся пчел. Вероятно, экспедиция за медом прошла успешно — Горм лежал с закрытыми глазами и время от времени облизывался и сладко позевывал. Кивнув своим спутникам, Иеро сбросил оленя у костра, вытащил нож и принялся свежевать тушу, поглядывая на старого эливенера и загадочно усмехаясь. Так продолжалось минут пять, потом брат Альдо произнес: — Ты что-то нашел, мой мальчик? Что-то интересное? Не промолвив ни слова, Иеро полез за пазуху, достал мешочек с Символами и, покопавшись в нем, вытряхнул на ладонь крохотную фигурку. Брови брата Альдо приподнялись. — Похоже на человеческие губы… Что это значит? Ты ведь знаешь, я не разбираюсь в вашей магии. — Это значит удивление, очень большое удивление, отец мой, — пояснил Иеро и, продолжая разделывать тушу, начал рассказывать. По мере того, как история обрастала все новыми подробностями, мастер Гимп чертыхался и хмыкал, а брови Альдо продолжали ползти вверх, его глаза округлялись, а рот становился похожим на букву «о». Сейчас он с новой силой напомнил священнику Лучар — в тот момент, когда изумленная девушка услышала первую фразу мысленной речи. Мнилось, это было совсем недавно, на берегу Внутреннего моря, куда он пришел через трясины Пайлуда… Точно так же сверкали ее глаза, и брови были изогнуты птичьими крыльями, а приоткрытый пухлый рот казался точно таким же, как у брата Альдо… Рассказ закончился, и старый эливенер, вцепившись в бороду, воскликнул: — Поразительно, клянусь Одиннадцатой Заповедью! Я знаю, сын мой, что мир полон чудес, но это самое дивное чудо из всех, о которых я слышал! И я хочу не только услышать о нем, но и увидеть! Где, ты сказал, эта пещера? — Брат Альдо резво поднялся на ноги и схватил посох. — Где, об этом я не говорил, — по губам Иеро блуждала лукавая усмешка. — Но я объясню дорогу, ибо какие тайны могут быть от тебя? У меня — никаких, и надеюсь, ты тоже ничего не скрываешь. Старец выпрямился, устремив на Иеро строгий взгляд. Лицо его посуровело. — Что это значит, мой мальчик? Кажется, ты намекаешь, что я храню от тебя какие-то секреты? — Только один, отец мой, только один. Он никак не связан с тайнами вашего братства и касается лишь нас троих — тебя, меня и Лучар. Может быть, еще короля Даниэла, отца моей жены… Холодок в глазах брата Альдо растаял, сменившись широкой улыбкой. — Вот оно что… я мог бы и самдогадаться… Если не ошибаюсь, твой вопрос касается нашего родства? — Он с задумчивым видом погладил бороду, посмотрел на мастера Гимпа, навострившего уши, и медленно произнес: — Это давняя история, друзья мои, очень давняя… Был когда-то в Д'Алви странный юный принц, наследник престола, не жаждавший власти… Был, и исчез! Но кровь его струится в жилах нынешних владык, и я надеюсь, что это не самое худшее наследство… — Брат Альдо повернулся к лесу с ноткой нетерпения спросил: — Ну, мой мальчик, ты доволен? Скажи теперь, куда я должен двигаться? Иеро объяснил, и старый эливенер скрылся за стволами кедров. Вдогонку ему полетела мысль священника: «Ты сказал слишком мало, отец мой. Признайся хотя бы, кем приходится тебе король Даниэл? Внуком?» «Я сказал главное. Что же касается Даниэла… — Иеро поймал короткий ментальный смешок, — он слишком молод, чтоб быть мне внуком. Я прожил долгую жизнь, сынок! Но она еще не закончилась, и я надеюсь, что еще покачаю на коленях твоего ребенка». Гимп, сопя и удивленно покачивая головой, принялся нарезать мясо тонкими полосками и насаживать его на прутья. Иеро направился к ручью сполоснуть руки, и в этот момент медведь пошевелился и передал образ брата Альдо с растрепанной бородой и сверкающими глазами. «Старейший взволнован, друг Иеро. Почему?» «Я нашел удивительных созданий, меняющих свой облик под действием мысли будто глина под руками гончара. Старейший пошел взглянуть на них». «Меняющих облик? — Горм перевернулся на спину и помахал в воздухе лапами. — Любопытно… Из них можно сделать медведя? Такого, как я?» «Даже человека. Но сомневаюсь, что Бог одобрил бы такое деяние… Ведь это были бы существа без души». «Опять непонятное — Бог, душа! — заметил медведь; видимо, поглощенные медовые соты настроили его на философский лад. — Когда мы разбирались со святостью, ты обещал объяснить, что это такое». «Душа — это твое „я“, связанное сейчас с плотью, — пояснил Иеро. — После смерти она освободится, и, сделавшись бестелесной, уйдет в чертоги Господни, где будет жить вечно среди других душ. Там мы встретим своих умерших друзей и родичей, возрадуемся и обнимем их». «Нельзя обнять нечто бестелесное, — возразил Горм и, подумав, добавил: — А эти чертоги… Это что-то вроде ваших человеческих берлог? Они кажутся мне не слишком подходящими для жилья. Не хотелось бы провести в них целую вечность!» «Термин „чертоги“ нельзя понимать в буквальном смысле. Для людей это могут быть прекрасный дом и сад, а для медвежьего племени — лес с чистыми ручьями, с зарослями малины и медовыми сотами в каждом дупле. Господь знает, что нужно тому или другому народу, и угодит всем. Конечно, если разумное существо не творило при жизни зла и достойно быть призванным к престолу Господню». «Мед — это хорошо, — согласился Горм, поглаживая лапами живот. — Но я заскучаю, если в тех лесах с чистыми ручьями можно лишь поедать малину и мед. Все же хочется чего-то нового… — Он перевернулся на бок и спросил: — Нет ли там деревьев, друг Иеро, на которых зреет пеммикан?» Хмыкнув, священник покачал головой. Как всегда, Горм задавал ему загадки, и оставалось лишь строить гипотезы насчет последнего вопроса: был ли это образчик медвежьего юмора или чистосердечный интерес, проявленный к растущим в раю деревьям? Да и каким должен мыслиться рай, чтобы нашлось в нем место и людям, и Народу Плотины, и медведям, и Клоцу с его драчливыми соплеменниками-лорсами? Слишком много существ обрели после Смерти разум и душу, и если проблема злобных лемутов решалась просто (им, разумеется, был уготован ад), то по поводу прочих рас и их места в Божественном Мироздании теологи Аббатств спорили уже не первое тысячелетие. Одни полагали, что есть различие между душой и разумом, и что бессмертная душа присуща только человеку, другие утверждали, что огромные бобры и прочие незлобивые создания тоже обладают душой, хоть и отличной от человеческой, а третьи, посмеиваясь над вторыми, намекали, что так можно договориться до чудовищной ереси — скажем, что среди апостолов Спасителя были бобры и медведи. И, к сожалению, нет арбитра в этих спорах, с горечью подумал Иеро, вспомнив, что Святой Престол не существует более, а с ним исчез непогрешимый наместник Бога на Земле. «Мне нравится мысль о том, что я не умру, — сообщил тем временем медведь. — Это очень полезное человеческое изобретение, как и душа. Оно кое-что объясняет. Такие вещи, в которых я не мог до сих пор разобраться». «Что же именно?» «Сны. Наши старейшие говорили молодым, что в бодрствовании мысли текут подобно рекам, а в снах беспорядочно кружат словно стая вспугнутых птиц, но объяснение с душой нравится мне больше. — После паузы Горм поинтересовался: — Вот только скажи мне, друг Иеро, может ли мое „я“, которое ты называешь душой, покинуть спящее тело и странствовать в лесу и других местах? Или души умерших слетаются ко мне и проникают в мой сонный разум, как пчелы в дупло с медом?» «Возможен и тот, и другой случай, — ответил священник, поразмыслив. — Но почему ты спрашиваешь? Разве сны важнее яви?» «По крайней мере, также важны. Если считать с зимним периодом, на сон приходится больше половины нашей жизни, а это значит, что все это время мы общаемся с предками или живем в лесах Господних. Думаю, это понравится старейшим! Особенно если ты объяснишь, кто такой Господь, где его берлога и где растут леса с малиной, медом и пеммиканом». Гимп, обжарив над огнем оленью печенку, протянул ее Иеро. — Что-то ты задумчив, добрый мастер… Неужели эти пещерные паучки так удивили тебя? Клянусь мачтой, встречались мне твари поинтереснее! Как-то раз, лет восемь назад, когда я перевозил скотину на старой своей лоханке, шли мы в бейдевинд мимо Поющих островов. И вдруг быки в трюме забеспокоились…* * *
Брат Альдо вернулся поздним вечером, когда оленья туша была разделана, Гимп закончил коптить мясо над огнем, а Иеро отчаялся объяснить Горму, что Господь обитает одновременно в двух местах — на небе и в душах разумных существ, если они отвергают грех и склонны к любви и добру. При всей своей философичности, медведь являлся созданием рациональным, и идея такого дуализма проникала в него с большими трудностями. Старый эливенер явился из темноты словно призрак с белой всклокоченной бородой, подошел к костру и сел, молча глядя в огонь. Гимп предложил ему палочку с мясом, но брат Альдо, отмахнувшись, повернулся к Иеро. — Я проделал те же опыты, что и ты, сын мой. Я даже… — Он на мгновение замолчал, потом хлопнул ладонью по колену. — Это… это поразительно! И очень опасно… Я имею в виду, что эти создания, в своей исходной форме, не мыслят и не различают добра и зла. Эти понятия возникают у них в тот миг, когда под действием сторонней мысли они приобретают некое обличье. Если дикого зверя, они ведут себя как дикий зверь, — он поднял руку с кровоточащей царапиной. — Если разумного существа, то все определяет его нрав — или, вернее, твои воспоминания об этом нраве, истинные или ложные, передаваемые в виде ментальной проекции. Знаешь, я сотворил двух лемутов… двух крохотных Волосатых Ревунов… один лизал мне пальцы, другой кусал их… Теперь представь, что какой-нибудь адепт Нечистого найдет эту пещеру и этих безгрешных созданий… Что он с ними сотворит? Сделает неисчислимое адское воинство? Людей-крыс, псов-оборотней, глитов? Это будет ужасно! Иеро нахмурил брови, сообразив, что не задумывался о такой возможности. Затем он неуверенно произнес: — Согласен, это было б ужасно… Но никто, кроме нас троих, не знает про эту пещеру, и, к тому же, адепты Нечистого уничтожены! — На нашем материке, но не здесь, — возразил брат Альдо. — Что мы знаем про этот континент? Например, про синекожих карликов, плавающих по морям до самого Асла? Кому они служат, кого почитают? — Выдержав паузу, он произнес: — Поклянемся, друзья мои, что тайна останется тайной. Мы должны забыть об этом месте, этой пещере и этих странных существах. По крайней мере, до того времени, пока Нечистый не будет окончательно низвергнут. Я клянусь! — И я тоже! — воскликнул мастер Гимп. — Пусть палуба треснет подо мной и киль разломится надвое, если я скажу кому-нибудь об этих маленьких поганцах! — Присоединяюсь к вашим обещаниям, — произнес Иеро, перекрестившись и положив левую руку на свой медальон. И клятва его была так крепка, что мысль о том, что лежало в кармане его перевязи, подернулась туманом забвения. Ночью он долго не мог заснуть — сидел у костра, глядел в звездное небо, думал о Лучар, о родстве меж нею и братом Альдо и считал дни, оставшиеся ей до разрешения от бремени. Небесный купол медленно вращался в вышине, увлекая за собою звезды, но одна из них — возможно, та, замеченная им после гадания над землями Франс — быстро двигалась к югу. Неяркий красноватый огонек, торивший путь среди плавно кружившихся созвездий… Странная звезда, подумал Иеро, погружаясь в сон.ГЛАВА 7. ЗНАК ДЬЯВОЛА
Брат Альдо оказался прав — в этих краях не было влажных джунглей, и хвойный лес Сайберна сразу переходил в простор лесостепи. Весь следующий день под ними тянулся изумрудный океан, где каждая крона сосны или кедра казалась взметнувшейся вверх волной, а все уменьшавшиеся в числе утесы были словно острова в бушующем море, полном мириадов зеленых хвоинок-капель. Затем наступили ночь и тьма, снова пришло утро, и обнаружилось, что под гондолой «Вашингтона» уже расстилается другая местность — бескрайняя равнина, поросшая травами и рощами лиственных деревьев, пересеченная медленными спокойными реками, разлившимися кое-где так широко, что лишь с высоты полумили были видны оба берега. Признаков человеческого жилья или кочевья по-прежнему не замечалось, зато в степи бродили гигантские стада антилоп и быков, похожих на баферов, а также другие животные, невиданные в прериях западного материка. Здесь были странные копытные — большие, неуклюжие, с огромными ногами и длинным мехом, свисавшим с боков, с горбатой спиной и шеей, что поднималась вверх изогнутым в обратную сторону вопросительным знаком. Бегали эти горбачи не слишком быстро и не имели рогов, но их копыта, как разглядел Иеро в подзорную трубу, казались страшным оружием — вдвое шире, чем у Клоца, и, вероятно, с острыми краями. Название этих животных не сохранилось в памяти брата Альдо, зато других он узнал — легконогих, стремительных, изящных, с развевающимися гривами и хвостами. По его словам, то были легендарные лошади, исчезнувшие на американском континенте, но процветавшие тут, в сердце Евразии, где наблюдалось множество их пород — крупные скакуны с гибкими шеями и гладкими шкурами белого, черного, серого и карего цветов, мохнатые бурые лошади помельче, и совсем небольшие, с длинными ушами и черной полоской вдоль хребта. Кроме травоядных, водились здесь огромные птицы с мощными кривыми клювами, покрытые то ли перьями, то ли пухом, и масса хищников; мелких, вроде волков и лисиц, было трудно заметить с высоты, но пару раз Иеро видел огромных полосатых кошек, а однажды — незнакомого зверя с белоснежным мехом и клыкастой пастью. Он был величиною с бафера, и лошади, быки и горбачи бежали от него в такой панике, словно их преследовал губительный степной пожар. В водоемах нашлось кое-что знакомое — снаперы, хищные чудища, произошедшие от безобидных черепах, а также большие водяные змеи и зубастые рептилии внушительной величины. В рощах обитали дикие свиньи, столь же крупные и злобные, как гроконы из лесов Канды, а кроме них — множество птиц и мелкого зверья. Эта степь, как и саванна иир'ова, кишела буйной жизнью, но, к счастью, здесь не водились твари, похожие на доисторических динозавров. Быть может потому, что этот не слишком населенный в прошлом район не подвергался интенсивным бомбардировкам, а значит, мутагенный фактор действовал тут слабее, чем в странах запада. Так считал брат Альдо, и Иеро готов был согласиться с его мнением. Теперь, когда они приближались к загадочной обители Нечистого, он непрерывно поддерживал свой ментальный щит — если не считать кратких периодов, когда приходилось зондировать пространство. Этим умением, доведенным практически до автоматизма, обладал всякий опытный телепат, и священник, воздвигнув однажды защиту, более не задумывался о ней. Его барьер был многослойным, надежным и прочным, будто стена, построенная из незримых мыслей-кирпичей, непроницаемых для стрел, снарядов и тарана. Но все же зов Нечистого, пришедший уже не с небес, а с юго-востока, проник через преграду. Это случилось в первую ночь, проведенную над степью, часа за два до рассвета, когда Иеро спал. Ослабленный защитными экранами, зов был едва заметен и не опасен; к тому же этим ментальным импульсом Владыка Зла не пытался подчинить себе разум священника, а лишь выражал свое удовлетворение. Ветры несли «Вашингтон» в нужную сторону, стрелка курсоуказателя алела посреди бескрайней равнины, и это было правильно. Точное место, где поджидали дирижабль, отсутствовало на карте; видимо, в прошлом там не воздвигли ни города, ни сколь-нибудь крупного поселения. Но общий курс был верен, о чем Нечистый — или его адепт по имени Локи — сообщал священнику. Иеро пробудился и сел, спустив ноги с узкого ложа. Слабые огоньки из пилотской кабины едва разгоняли мрак, в иллюминаторах полыхал пожар созвездий, а где-то внизу, в миле под дирижаблем, угадывались округлые смутные массы облаков. Мастер Гимп и медведь спали, оглашая гондолу дружным сопением, а над спинкой пилотского кресла виднелись плечи и голова эливенера. Теперь, когда их экипаж лишился и Рагнара, и Сигурда, сутки были разбиты на три восьмичасовые вахты, и брат Альдо взял на себя ночную. Спал он на удивление мало, не более трех часов, сохраняя при этом бодрость и юношескую подвижность. Эливенеры владели многими тайными искусствами, в том числе — крепкого, но кратковременного сна и долгой жизни, и в этих делах брат Альдо был, безусловно, мастером. Иеро мог лишь строить гипотезы о его возрасте да гадать, кем приходилась ему Лучар. Быть может, праправнучкой? Или их связывало еще более отдаленное родство? Поднявшись, он направился в кабину к старому эливенеру и сел рядом, в кресло штурмана. Экран-карта сиял разноцветными красками прямо перед ним, а справа на пульте темнели кнопки, лампочки и круглые глазки приборов с неведомым или неясным назначением. Роль одних была покрыта мраком тайны, другие приоткрывали свой смысл в надписях — как небольшой зеленоватый экран, под которым виднелся недлинный ряд клавиш. Слова на них были понятны: «включение», «выключение», «поиск», «пароль», «связь» — но связь с кем? Поиск чего? И какой пароль? Это оставалось загадкой. Иеро, насупившись, побарабанил пальцами по круглому зеленому экрану. Брат Альдо повернулся к нему; темное лицо эливенера озаряли блики сиявших на пульте огоньков. — Опять, мой мальчик? — Да. — Губы священника исказились в мрачной гримасе. — Кажется, он меня хвалил! Во всяком случае, был доволен, как объевшаяся россомаха… Курс верен, и движемся мы быстро, но не летим ли в ловушку? Как говорится, спаси меня Бог от заботы Нечистого, а с прочим я справлюсь сам… — Это верно, — согласился эливенер, всматриваясь в клубившиеся внизу темные тучи. — И что же ты предлагаешь? Покинуть «Вашингтон» и идти пешком по этой равнине? — Нет смысла — так мы от него не спрячемся, — Иеро покачал головой. — Ты помнишь, что у адептов Нечистого во многих приборах был маяк? Коварная штука! Пока он оставался при тебе, они знали, куда ты движешься, и могли тебя прихлопнуть как комара… — Ты полагаешь?.. — Брат Альдо приподнял брови. — Нет, отец мой, нет! Все тщательно проверено — никто не подкладывал таких штучек в «Вашингтон» или в наше снаряжение. Я вспомнил о маяках лишь потому, что этот Локи находит меня без всяких приборов и не взирая на мой ментальный щит. Тут какой-то другой принцип поиска… может быть, по возмущению ментального поля, которое я несу с собой… — Чтобы его обнаружить на расстоянии сотен и тысяч миль, надо обладать невероятной мощью. Но что мы знаем об этом таинственном существе? — Старик вздохнул. — Вдруг это лишь малая часть его возможностей? — Или он пользуется ментальным усилителем, подобным машинам Темного Братства, — добавил Иеро. — Но так или иначе, я не могу придумать, как скрыться от излишнего внимания. Он слишком силен и может найти меня всюду, и в небе, и на земле. Наступило молчание; потом брат Альдо погладил бороду, усмехнулся и произнес: — Но ты не выглядишь угнетенным, сынок, совсем не выглядишь! Выходит, что-то все-таки придумал? — Только одно, отец мой, только одно. — Иеро потянулся в кресле, напрягая сильные мышцы. — После школы Аббатств, когда я прошел Посвящение, меня отправили в Военную Академию в Саске. Его преподобие Демеро решил, что пастыря из меня не выйдет, а вот в солдаты я сгожусь… И знаешь, он был прав — там, в Академии, меня кое-чему научили. Не только палить из метателя и рубиться на мечах… — Хмм… Я согласен, что ты — великолепный воин, но что твои наставники знали о Нечистом? И какой совет могли они дать? — Очень простой: если не можешь научиться у друга, учись у врага. Это записано в Боевом Кодексе Аббатств, и теперь, когда я стал опытнее и старше, я думаю, что в этих словах — святая истина. — И великая опасность! — воскликнул брат Альдо. — Учиться ментальному искусству у Нечистого! Ведь это значит… Он смолк с раскрытым ртом, уставившись на юго-восток. Там, далеко-далеко, среди темных туч вдруг начало разливаться дрожащее розоватое сияние. Оно росло и ширилось, пламенело и наполнялось алыми отсветами, будто с земли, пробиваясь сквозь облачную пелену, трепеща огненными крыльями, взлетала сказочная птица феникс. Розово-алый отблеск быстро сменился пятном цвета пламени с размытыми краями, затем — багровой точкой, неудержимо и стремительно ползущей вверх, прямо в звездное небо; она пылала и катилась над миром словно дьявольский глаз, запущенный во Вселенную, чтобы спалить ее до тла. Или, по крайней мере, поджечь, уничтожив со злобной небрежностью пару-другую планет, включая Землю. Багряная точка превратилась в яркую искру, чиркнула по небосводу и исчезла. Священник и брат Альдо переглянулись; в глазах у обоих стыл ужас. Страх, впитанный с материнским молоком на протяжении сотен поколений, минувших после Смерти; страх, рожденный взмывающим в небо огнем и пламенем, что рушилось затем на города, поля, леса и горы, уничтожая жизнь в неистовом ядерном костре… Они не видели этого сами, но память предков, таившаяся в них, терзала воображение картинами нового Апокалипсиса. Наконец, кашлянув, Иеро хрипло пробормотал: — Что это было? Как ты думаешь? — Полет ракеты. — Брат Альдо прикрыл ладонью глаза, будто ожидая ослепительной вспышки взрыва. — Ракета, сын мой, такой же снаряд, что уничтожили в древности Землю! Знак, что Нечистый пробудился! — Он никогда не засыпал. — Иеро вытер пот с висков и, успокаиваясь, сделал несколько глубоких вдохов. — Но этот снаряд не взорвался! Он двигался вверх и вверх будто летящая звезда! Словно… — Внезапная мысль пришла ему в голову, и он, вытянув руку, показал на крохотный огонек, мерцавший в небе и торопливо бежавший на юг. — Звезда, отец мой! Звезда, которая летит так быстро, что обгоняет вращение небесной сферы! Помнишь, когда мы пересекли океан, то видели ее на востоке, а теперь она проходит почти над нами… Значит, она очень близка к Земле… Она вверху, она движется, и ракета тоже летела вверх… Что бы это значило? Что говорят о таких явлениях записи вашего братства? — Лишь то, что всем известно… всем, кто читал древние хроники… — Будто ища поддержки, брат Альдо коснулся смуглыми пальцами плеча Иеро. — Видишь ли, сынок, в столетие перед Смертью люди летали к иным мирам, к другим планетам нашей Солнечной системы… Может быть, не сами, может быть, их корабли вели компьютеры — мы об этом никогда не узнаем. Бесспорно другое: вокруг Земли тогда вращалось множество небесных тел. Искусственных станций или сателлитов, предназначенных для связи, для наблюдения за небесами, погодой и территорией противника, для защиты от вражеских ракет и метания своих снарядов… Одни были совсем небольшими, другие строились так, что в них могли находиться ученые или воины… Значит, были корабли, перевозившие экипаж и грузы к этим летающим арсеналам! Но считается, что их уничтожили во время битв, а если что-то осталось, то эти сооружения сгорели в атмосфере в первую сотню лет после Смерти. Трение о воздух привело к снижению скорости и падению… Ведь там, — он поднял взгляд вверх, — тоже есть воздух, хотя и очень разреженный. — Я слышал об этом, как и о других вещах, рассказанных тобой, — заметил Иеро. Слышал, но позабыл, отметил он про себя, размышляя о зове, приходившем сверху. А забывать не стоило — ведь там, в небесах, кружились не только звезды, рожденные словом Создателя, но и творения человеческих рук. Это кое-что объясняло… может быть, не все, но многое… Мысль о Нечистом, парящем над океанами и землями, повергла его в дрожь, но, справившись с нею, он продолжал: — Давай представим, что некая станция летает очень высоко — там, где нет воздуха… и предположим, что сохранились корабли, способные подняться к ней… Почему бы и нет? Вспомни ту огромную пещеру за владениями Вайлэ-ри, в которую мы спускались… Машины в ней были как новые, и, возможно, в каких-то отсеках были запрятаны ракеты… — Не стану с этим спорить, — кивнул эливенер. — В конце концов, мы путешествуем в дирижабле, который тоже построили до Смерти. Он превосходно сохранился и летает, хотя назначение его нам неизвестно. — Да, неизвестно… — повторил священник, бросив задумчивый взгляд на правую половину пульта. — Ученые парни на Ньюфоле говорили, что эти клавиши и экраны как-то связаны с системой ориентации. Будто есть на дирижабле телескоп, но совсем не такой, как зрительная труба, без стекол и металлического футляра… телескоп, который много точнее и действует по принципу радио. Он способен различить звезды даже днем и передать их положение в компьютер, который прокладывает курс. И вот этот экран, — Иеро коснулся зеленоватого круга, — служит вместо окуляра зрительной трубы… Возможно, если включить его, мы проследим, куда полетела ракета? Или увидим парящую в небе станцию? В глазах брата Альдо, еще недавно растерянных и тревожных, мелькнул огонек неподдельного интереса. Он провел ладонью по бороде — раз, другой, третий — и с каждым неторопливым плавным движением огонек разгорался все ярче и ярче. Наконец, хмыкнув, он произнес: — Ну, что ж, сын мой, думаю, мы ничем не рискуем. Что бы ни произошло, мы не свалимся на землю, и ветер, несущий нас, не превратится в ураган… Включай! После мгновенного колебания Иеро нажал клавишу пуска. Зеленоватый экран потемнел, налился призрачным мраком будто пластинка обсидиана, затем в его мерцающей глубине проступили линии координатной сетки и россыпь крохотных светлых точек. Брат Альдо, склонившись над плечом священника, взволнованно вздохнул: перед ними, в плоском маленьком круге, сияли звезды — те же светила, висевшие в данный момент в небесах, загадочные и безмерно далекие. С минуту они взирали на этот удивительный пейзаж, на точную копию Мироздания, что рисовал на светочувствительном экране электронный луч, затем рука Иеро потянулась к клавише с надписью «поиск». Вспыхнул еще один экран, прямоугольный, и по нему, спустя недолгое время, побежали слова — компьютер сообщал, что поиск завершен. Одновременно в темном круге замигала линия, пересекавшая звездное поле из конца в конец, и оба испытатели, не сговариваясь, подняли взгляды вверх, к красной искорке, что мчалась в ночных небесах. — Путь сателлита… — шепнул потрясенный эливенер. — Это устройство показывает, где он находился прежде, и где окажется в будущем… Видишь, на линии — точка… вот здесь, левее созвездия Кассиопеи… — он снова вскинул глаза вверх. — И эта летящая к югу звезда находится как раз там! А точка на линии движется… Я ведь не обманываюсь, сынок? Иеро кивнул и покосился на прямоугольный экран. Надпись на нем сменилась, и теперь он с трудом разбирал таинственные письмена. Для брата Альдо, владевшего древним английским, это являлось менее сложной задачей. — Тут написано, что установлен режим слежения за объектом, — пояснил эливенер. — Затем идет вопрос: желаем ли мы с ним связаться? Если да, надо послать пароль, а затем коснуться клавиши связи. «Сейчас был бы очень кстати один из бурдюков, которыми запасся Гимп», — мелькнуло у священника в голове. Глоток вина снимает напряжение… Резко выдохнув, будто перед прыжком в ледяную воду, он нажал клавишу «пароль», а за нею — «связь». Несколько секунд не происходило ничего — по прежнему ярко горели экраны, и в кабине слышалось взволнованное дыхание двух человек. Затем мелькнула надпись «Связь установлена», вспыхнули зеленые огоньки, и тут же из решетки динамика раздался голос: — Объект «Аргус», серийный номер 11-зет, на связи. Полный рапорт или сокращенный? Голос был гулкий, безжизненный и совершенно нечеловеческий. Иеро вздрогнул. Примерно так мог бы вещать Нечистый, спрятавшись где-нибудь в пульте «Вашингтона», за панелью с россыпями ламп и стеклянными глазами экранов.* * *
«Вашингтон», принадлежавший в древности Военно-воздушным силам США, являлся одним из дюжины мобильных пунктов слежения и контроля. Три из них были оборудованы на таких же дирижаблях, остальные — на самолетах «Супер-Авакс», и каждый тип воздушного судна имел свои преимущества и недостатки. Самолеты передвигались быстрее, маневрировали оперативней и несли на борту больше приборов, зато тихоходные дирижабли были практически невидимы — как для радарных станций, так и для визуального наблюдения. Они могли подниматься на высоту в десять-двенадцать миль, прятаться в облаках и плыть вместе с ними, они обладали огромным ресурсом хода и не нуждались в посадочных площадках. Это делало их отличным средством для выполнения поставленных задач. Согласно военной доктрине минувших времен, первый ядерный залп противника уничтожал две трети наземных пунктов централизованного управления войсками, и было сомнительно, что остальные переживут второй. Найти и поразить мобильные пункты, которые мчатся или плывут в воздухе, было гораздо труднее, и потому им отводилась важная роль на завершающей стадии противоборства. Их оснастили мощными всеволновыми передатчиками, радиолокаторами и компьютерами, позволявшими выполнить несколько функций: во-первых, установить масштаб разрушений на собственной территории и в стане врага; во-вторых, связаться с уцелевшими силами и средствами, оценить их состояние и рассчитать на боевом компьютере оптимальный вариант «удара возмездия»; в-третьих, послать все нужные команды — в том числе, атомным подводным крейсерам и силам космического базирования. Кроме того, «Линкольн», собрат «Вашингтона», и один из «Аваксов» были приспособлены под резиденцию президента и генеральный штаб, поскольку не исключалось, что базовый комплекс в Скалистых горах окажется не столь надежным укрытием, как воздушные аппараты. Все было рассчитано и предусмотрено, все направлено к тому, чтоб выжить и победить, но даже гениальнейший политик и самый опытный стратег не представляли размеров воцарившегося хаоса. Победителей в атомной бойне не было; в считанные минуты мир рухнул в пропасть, и над обезумевшей Землей сомкнулись объятия Смерти — такие прочные, что никто из президентов и генералов не мог ответить на простой вопрос: кем нанесен первый удар, и кем — удар возмездия? На фоне разрушения и гибели никто не выяснял, сколько мобильных пунктов поднялось в воздух и удалось ли им вообще взлететь; равным образом осталось тайной число подводных крейсеров, космических систем, секретных баз, что не попали под огонь противника. Что-то безусловно уцелело. И теперь мобильный пункт слежения и контроля «Вашингтон» мог поговорить с боевой единицей космического базирования под названием «Аргус», серийный номер 11-зет.* * *
— Полный рапорт или сокращенный? — раздавался в пилотской кабине грохочущий голос с небес. Шок, испытанный Иеро, был сравним лишь с тем, что наступал после тяжкого ментального поединка. Шокировали резкий тон, нечеловеческие обертоны и внезапность — он не ожидал услышать чью-то речь; а кроме того, он не понимал ни слова, ибо в его эпоху древнеанглийский сделался классическим, таким же мертвым, как латынь. Конечно, он, вместе с индейскими наречиями, лег в основу языка западных и восточных метсов, хотя в Союзе Атви добавилось влияние французского и говорили там немного иначе, чем в Республике; конечно, английский был базой негритянского жаргона, который со временем превратился в певучий язык Д'Алви, Чизпека и Кэлина; да, все это было так, но слова, интонация и построение фраз изменились, и теперь немногие специалисты-историки читали на древнеанглийском, и лишь один из десяти мог понимать живую речь. К счастью, брат Альдо владел почти забытым языком. — Я думаю, с нами говорит машина, — прошептал он на ухо Иеро под звуки грохочущего голоса. — Она желает что-то доложить и спрашивает, нужны ли нам подробные сведения. Ну, выбор тут ясен — чем больше мы узнаем, тем лучше. — И, набрав воздуха в грудь, брат Альдо гаркнул, подражая механическому голосу: — Полный рапорт! В ответ раздалось: — Хронологическая справка: объект «Аргус», серийный номер 11-зет, введен в эксплуатацию 22 сентября 2037 года. Участвовал в боевых действиях 7 августа 2039 года. Поврежден снарядом противника. Экипаж скончался в результате утечки воздуха. Произведены ремонт, а затем автоматическая консервация объекта — ввиду того, что команды наземного центра управления не поступали в течение пяти лет. Дата консервации — 30 августа 2044 года. Расконсервирован по команде с Земли 13 ноября 7422 года. — Он утверждает, — пробормотал брат Альдо, — что больше пяти тысячелетий находился в состоянии… ну, скажем, спячки. Но около пятидесяти лет тому назад его разбудили. — Кто? — шепнул Иеро, но эливенер лишь пожал плечами. — Состояние объекта на данный момент: работоспособен, все системы функционируют нормально. Штатное вооружение: ракеты «Торнадо» с ядерными боеголовками, класс «воздух-воздух» — ноль; ракеты «Вулкан» с ядерными боеголовками, класс «воздух-земля» — ноль; ракеты «Вулкан» с химическими боеголовками, класс «воздух-земля» — ноль; лазер — полный боевой ресурс, подзарядка за счет солнечных батарей. Брат Альдо вытер испарину со лба. — У волка выпали зубы… У этой штуки — там, вверху! — больше нет снарядов. Правда, упоминается лазер… Ты не знаешь, что это такое? На сей раз пожал плечами Иеро. — Не имею понятия. В Академии я прослушал курс об оружии древних — пушки, ракеты, ядовитые газы, болезни, которыми заражали воду, воздух и животных… Чем они только не воевали! Но про лазер я не помню ничего. — Нештатное вооружение, — продолжал грохотать голос. — Излучатели электромагнитных волн в диапазоне… — Последовал ряд цифр, терминов и кодированных обозначений, не говоривших слушателям ровным счетом ничего. Длинный перечень закончился фразой: — Монтаж излучателей продолжается. — Этот сателлит пробудили и теперь ведут на нем какую-то работу, — пояснил эливенер. — Неважная новость, сын мой! — Спроси: кто пробудил? — прошептал священник. Сердце его сжималось в тревоге, к горлу подступал ледяной комок. Ответ был для них непонятным — снова буквы и числа, условные координаты какой-то точки на земной поверхности, откуда «Аргусу» поступали команды и доставлялось на ракетах оборудование. Эти ракеты он называл странно — челноками, словно речь шла об иннейский пирогах, в которых плавают по озерам и рекам. Иеро и брат Альдо так и не смогли понять, являлись ли эти устройства беспилотными или же на них имелся экипаж — равным образом как и то, какие грузы перевозились и какую работу вели на «Аргусе» пробудившие его создания. Но священник уже не испытывал сомнений, что здесь пахнет Нечистым. Наконец их механический собеседник рявкнул: — Рапорт завершен! — и после краткой паузы поинтересовался: — Новые команды? Готов к выполнению! Усмехнувшись, эливенер погладил седую бороду и сообщил Иеро: — Он ждет от нас приказов, мой мальчик. Ну, и чего же ты хочешь? — Чтоб эта летающая гробница смерти провалилась в тартарары! Так же, как пещера с машинами, Домом и колдунами Нечистого! — Священник облегченно вздохнул, глядя, как тусклая искорка скользит по ночному небу. — Многие боевые механизмы древних имели систему самоликвидации. Наверное, есть такая и в этом сателлите. Значит… — Хорошая мысль, — согласился брат Альдо. — Лучший способ покончить с делом. Он вступил в переговоры с «Аргусом», о чем-то спрашивая его, выслушивая ответы, мрачнея и спрашивая вновь. Это длилось минут семь или восемь, и священник, покусывая губы, терпеливо слушал диалог двух голосов: теплого, живого и металлического, мертвого. Иногда он ловил знакомое слово — «порт», «пароль» или «челнок», но общий смысл беседы ускользал от него; звуки древнего языка казались непривычно резкими, будто разговор то и дело переходил в ругань. Наконец брат Альдо повернулся к нему и с угрюмым видом произнес: — Боюсь, сынок, мы не сможем взорвать эту штуку. Для этого, видишь ли, нужен особый пароль, известный только древним генералам. Тот, который излучается при нажатии на клавишу, разрешает сателлиту говорить с нами и выполнять наши приказы, однако не все. Пределов нашей власти я так и не выяснил, но ее не хватает, чтоб запустить механизм самоуничтожения. Правда, есть другой способ… не уничтожать, а сделать так, чтобы ракеты, летящие с земли, не могли соединиться с сателлитом. Он, — брат Альдо ткнул пальцем вверх, — называет это блокировкой стыковочных портов. Это не морские порты при гаванях, а что-то вроде особых дверей… я не совсем понял, как они действуют, но приказал, чтобы на них были навешаны замки. — Что ж, если ничего иного нельзя сделать… — Иеро развел руками и надавил клавишу выключения. Экран со звездным небом погас, как и другой, прямоугольный. Они сидели в молчании, глядя на громоздившиеся внизу облака и вспоминая про озарившее их дьявольское пламя. Лицо брата Альдо выглядело усталым, на лбу и у полных губ пролегли морщины, веки отяжелели. «Сколько ему лет? — подумал Иеро. — Наверняка не меньше сотни…» Такой возраст казался священнику почти бессмертием. Если обычный человек может достичь его и сохранить энергию и силу, чего стоят соблазны Нечистого? Все эти обещания власти и вечной жизни… Брат Альдо имел то и другое, не осквернив души союзом с дьяволом. Внезапно он откинулся в пилотском кресле, закрыл глаза и тихо вымолвил: — Не знаю, мой мальчик, верно ли мы поступили, отдав команду этому «Аргусу»… Враг коварен и хитер… Может, сами того не ведая, мы предупреждаем его? — Вздохнув, старик добавил: — Однако сделанного не вернешь! Надеюсь, рука у него не такая длинная, как мысль, и не дотянется до нас.* * *
Но эта надежда не оправдалась. Миновал день, и в сумерках дирижабль приземлился на вершине холма, торчавшего над степью как прыщик на коже великана. Верхушка этой возвышенности была плоской, окруженной гранитными глыбами, словно кто-то превратил ее в рукотворное укрепление, воздвигнув по периметру невысокие утесы и завалив проходы между ними камнями помельче. Тут струился ручеек, питавшийся, видимо, подземными водами; он пробивался среди скал и, проложив себе ложе по склону, наполнял довольно большое озеро у подножия холма. У ручья росли травы, а чуть поодаль — большой раскидистый граб, к стволу которого привязали канаты, подтянув гондолу почти к самой земле. Совершив быструю вылазку к озеру, Иеро и Горм возвратились с добычей, крупным гусем, весившим фунтов сорок. При виде его мастер Гимп облизнулся и начал торопливо раскладывать костер. Заночевали путники в гондоле — с приходом темноты с севера надвинулись облака и хлынул сильный дождь. Шорох и шелест водных струй убаюкивал, влажная теплая тьма заползала в кабину сквозь распахнутый люк, тихо журчал ручей, пахло землей, травой, дымом от погасшего костра, и священнику казалось, что он вновь находится в далеких степях иир'ова, Детей Ветра. Он заснул с этой мыслью, но пробудился среди ночи будто от внезапного внутреннего толчка. Не потому ли, что прекратился дождь, и стих усыпляющий монотонный шелест? Нет… Может быть, какая-то опасность витала в воздухе, какой-то зверь взбирался по склону холма? Сомнительно… Слух и быстрый ментальный поиск не говорили ничего. Сигнал от компьютера? Звонок или вспышка лампочки? Но огоньки в пилотской кабине чуть тлели, и оттуда не доносилось ни звука. Внезапно он понял и вскочил на ноги. Предупреждение! Сигнал от Локи, от Нечистого! Не одобрительный, не направляющий, не саркастичный — совсем с другим оттенком! Как обычно, едва заметный, с трудом проникший сквозь многослойную защиту, но совершенно недвусмысленный! Предупреждение! — Вставайте! — крикнул Иеро. — Вставайте! Груз — наружу! Выбрасывайте все, что удастся, и бежим! Он уже швырял сквозь раскрытый люк мешки с запасной одеждой, копья и арбалеты, ящики с продовольствием и стрелами. Брат Альдо и Гимп помогали ему без лишних вопросов. С минуту с кабине слышалось лишь громкое дыхание людей, мягкие шлепки мешков да лязг и звон оружия. «Горм!» — позвал священник. «Я уже на поляне». «Перетаскивай мешки к скалам, прячь в щели. Все, что успеешь! И не приближайся к дирижаблю!» «Понял», — пришел ответ. Внутренние часы Иеро подсказали, что время вышло. — Уходим! — распорядился он, хватая метатель, тяжелую сумку с зарядами и подвернувшуюся под руки корзину. — Брат Альдо, ты — первый! Хватай, что можешь — и к камням! Прячься! Они побежали, инстинктивно пригибаясь и скользя в мокрой траве, отбрасывая груз подальше от дирижабля; луна в разрывах туч да рычание Горма помогали ориентироваться. «Здесь проход среди утесов, — сообщил медведь. — Безопасное место. Но что случилось, друг Иеро?» Трое человек скользнули друг за другом в узкую щель, бросили на землю свою ношу, а затем и сами распластались на каменистом грунте. Здесь было темно, как в желудке у снапера. — Да, мой мальчик, что случилось? — повторил брат Альдо вопрос медведя. — То, чего ты опасался. Враг коварен и хитер, и рука у него такая же длинная, как мысль… Не знаю, как, но он сейчас дотянется до нас. Тонкий синеватый луч пал с неба, заплясал острием клинка в листве граба и по обшивке дирижабля, кромсая их в клочья; с глубоким шумным выдохом «Вашингтон» будто провалился внутрь себя самого, осел и расплющился, накрыв гондолу. Газ, наполнявший его оболочку, был негорючим, пластик корпуса тоже сопротивлялся огню, но дерево уже пылало, разбрасывая огненные искры. Затем синеватая игла нашарила баки с горючим, пламя вспыхнуло с громким хлопком, оранжевый столб взметнулся в воздух, и лицо священника опалило жаром. Он прикрыл глаза ладонью, а когда отвел ее, упавший с неба луч исчез, а на месте дирижабля пылал костер из обломков дерева и пластика. — Все! — Он поднялся, отряхивая куртку. — Теперь остается лишь подойти к огню и поглядеть, что можно спасти из нашего имущества. Капитан Гимп чертыхнулся. — Нас нашел Нечистый? Не так ли, мастер Иеро? — Нашел он нас давно, — откликнулся священник, — а теперь подверг наказанию. Отомстил! Думаю, за излишнюю самонадеянность. — Но как ты… — начал брат Альдо. Иеро резко вздернул голову. — Он расщедрился на предупреждение! Понимаешь, предупредил меня, послав сигнал, проникший сквозь защиту! Не знаю, по какой причине, но он не хочет нашей гибели. — Может быть, не нашей, а твоей? — тихо произнес брат Альдо, но эти слова безответно повисли в воздухе. Священник лишь пожал плечами и направился к разбросанным у пылающего огня мешкам и ящикам. Кто может предвидеть умыслы дьявола? Рука его безотчетно нащупала древний крестик в кармашке перевязи.ГЛАВА 8. СТЕПЬ И ГРАНИЦА
— Дальше они не пойдут, — сказал брат Альдо, поглаживая ноздри вороного скакуна. — И скажу тебе по чести, мой мальчик, я не намерен их гнать и чинить насилие над столь прекрасными животными. Они и так нам изрядно послужили. Иеро, положив руку на приклад свисавшего с плеча метателя, согласно кивнул. В самом деле, кони послужили им лучше некуда — без них пришлось бы бросить большую часть снаряжения и запасов. Да и путешествовать в степных просторах вместе с лошадьми было гораздо безопаснее — не каждый хищник рискнул бы напасть на табун, охраняемый тремя десятками яростных жеребцов. Шесть дней назад они встретили утро у обломков воздушного корабля, затерянные в саванне, что протянулась на все четыре стороны света. Большую часть имущества им удалось спасти; у них было оружие, одежда, пища и даже мешок с пеммиканом, который Горм оттащил к камням в первую очередь. Не было лишь одного — спин, на которые можно взвалить весь этот груз. Проблема, однако, разрешилась. Пока Иеро и мастер Гимп возились у груды вещей, откладывая нужное и соображая, что навьючить на Горма, а что — на собственные плечи, брат Альдо спустился с холма на равнину и вскоре исчез среди высокой, по грудь, травы. В этой степи, где обитали лишь птицы да звери, о нем не приходилось беспокоиться; ментальное искусство эливенеров служило защитой от любого хищника. Их Братство, изучавшее животный мир на протяжении пяти тысячелетий, стало уже такой же частицей природы, как ветер, дождь или солнечный свет, и Иеро не был бы удивлен, если бы родич его принцессы вернулся к холму верхом на полосатой кошке, которую он называл тигром. Но брат Альдо, похоже, рассудил, что тигры в данной ситуации бесполезны и не стоят усилий на их приручение. Солнце еще карабкалось к зениту, когда в степи возникла темная полоса, а почва дрогнула под ударами сотен копыт — и не прошло и четверти часа, как у подножья холма, рядом с озером, появился табун грациозных животных. Струились по ветру хвосты и гривы, пронзительное ржание оглашало воздух, мелькали то белоснежная спина, то золотистый или серый бок, то круп, широкий и темный, как ночь; резвились жеребята, кобылы щипали траву, а жеребцы гордо вскидывали головы и настораживали уши. Как они были прекрасны! Сердце Иеро затрепетало, охваченноедревним чувством близости к этим животным, чудесным творениям Господа, которых Он создал в помощь человеку. Но, несомненно, не только затем, чтоб ездить на них, возить грузы или мчаться в бой — эти утилитарные задачи не раскрывали их сути и смысла. Смысл же заключался в том, чтоб любоваться ими, поскольку Бог с безмерной щедростью отпустил им то, чего не хватало лорсам — красоту. Брат Альдо подъехал к спутникам на великолепном коне с черной блестящей шкурой. Казалось, они знают друг друга добрый десяток лет, проведенных в неизменном согласии; эливенер, держась за гриву, сидел свободно, точно на смирном быке кау, а жеребец нес его с плавным неторопливым величием и только пофыркивал на других лошадей, как бы желая предупредить: эта почетная ноша — моя! Видно, он был вожаком — кони расступались, давая ему дорогу. В сотый раз Иеро поразился той власти, которую эливенеры имели над животными; сам он мог бы убить любое из этих созданий или покорить силой, а вот подружиться было б гораздо трудней. — Я заключил союз, дети мои, — произнес брат Альдо, взирая с высокой спины на своих двуногих и четвероного спутников. — Наши новые друзья готовы отправиться к юго-западу и проводить нас до границ саванны. Я даже договорился, что они понесут груз и нас самих — за исключением, конечно, Горма. Он умное и благородное существо, но все же с мохнатой шкурой, клыками и когтями, а лошади таких не любят. Но они согласны потерпеть его присутствие, если он не станет им досаждать и приближаться к жеребятам. — Клянусь клотиком и мачтой!.. — выдохнул пораженный Гимп. — Усмирить этаких зверюг! Почтенный мастер творит чудеса! Если бы перевезти это стадо в Ниану и продать по пятьдесят монет за каждого, отбоя не было б! А доход… — Он оглядел табун, поднял глаза вверх и погрузился в сложные расчеты. «Наш старейший — святой человек», — сообщил Горм, осторожно подкатываясь к вороному и позволяя себя обнюхать. В следующий миг все касавшиеся его условия были нарушены: к медведю подскочил один жеребенок, затем — другой, а следом — целая орда. Волны игривого восторга текли от них к Иеро; улыбаясь, он следил, как Горм притворно рычит на малышей, бросается за ними в погоню, а те кружат рядом с медведем, пихая его мордами в бока и стараясь повалить. Подскакали несколько кобыл, тревожно раздувая ноздри, но вдруг успокоившись, стали щипать траву, не обращая внимания на игравших. Вид у них был такой, будто они не возражают свалить заботы о потомстве на мохнатую няньку. Брат Альдо погладил седую бороду. — Кажется, с Гормом и жеребятами у нас не возникнет проблем. Ну, тогда грузите мешки! Вот этот рыжий конь — для тебя, Иеро, а эта кобылка согласна подставить спину мастеру Гимпу… Те трое понесут имущество. Грузите его, и в путь! Путь занял шесть суток, и за это время Иеро дважды слышал зов, подтверждающий, что они двигаются в нужном направлении. Степь изо дня в день менялась; холмы и высокие деревья постепенно исчезали, травы становились ниже и жестче, мелели ручьи и водоемы, воздух казался суше — видимо, летом этот район превращался в полупустыню с выгоревшей растительностью и без источников воды. Но сейчас была весна, и среди изумрудных травяных стеблей пестрело множество цветов — алые маки, лазуритовые васильки и огромные желтые одуванчики. Тут и там паслись стада быков и антилоп, иногда попадались горбачи с длинными шеями и на редкость уродливыми мордами, кабаны и огромные птицы, от которых табун старался держаться подальше. Вероятно, среди копытных соблюдалась четкая иерархия, касавшаяся водопоев, пастбищ и того, кто кому обязан уступать дорогу; первыми шли быки — большие, косматые с трехфутовыми острыми рогами, затем — горбачи, чьи копыта и мощные ноги давали весомое преимущество в драке, а уж затем — лошади и антилопы. Птицы держались особняком; как заметил Иеро, они не проявляли интереса к траве, листьям и плодам, а выискивали мелких животных, степных зайцев, тушканчиков и крыс. Время от времени за табуном увязывались хищники, не столь крупные, как волки, и похожие на рыжих гладкошерстных псов. Их главным оружием была настырность; они могли преследовать стадо часами, разражаясь иногда дикими воплями, напоминавшими хохот обезумевшего человека. Цель погони была для Иеро неясной — ведь эти твари не могли догнать и одолеть кобылу или жеребца. Но однажды утром из бамбуковых зарослей прянул большой полосатый тигр, и рыжие хищники тут же разразились восторженным воем — видимо, они подбирали останки трапез более крупных собратьев. К счастью, метатель был у священника под руками, и тигр остался лежать в траве с разбитым черепом. Грохот выстрела перепугал табун едва ли не больше, чем огромная кошка, и лошади пустились в стремительный галоп; Иеро едва успел вцепиться в гриву своего скакуна и стиснуть его ногами. Удержаться на этом могучем животном без седла и стремян было нелегкой задачей, но в этот раз все обошлось — хотя капитан Гимп потом жаловался, что отбил себе задницу о тощий хребет кобылы. На первый взгляд табун перемещался неторопливо, то и дело останавливаясь, чтоб попастись в сладких травах, однако к вечеру путники одолевали не менее полусотни миль. Для ночевки вороной вожак выбирал ровное место, подальше от холмов и деревьев, дабы ничто не мешало обзору; Иеро и Гимп раскладывали маленький костер из собранных по дороге веток, а брат Альдо пускался в долгие беседы со своим скакуном. Разум лошадей был не столь ясным, как у Клоца, однако превосходил ментальные способности их предков, и старый эливенер ухитрялся получить массу любопытной информации. Как утверждал вороной, летом эта часть степи действительно выгорала, поступая в полное распоряжение горбатых длинношеих животных — они с удовольствием ели сухую траву и могли не пить по трое суток. Другие интересные сведения касались северной окраины равнины, граничившей с лесом и заселенной странными животными — огромными, косматыми, с кольцеобразными бивнями, длинным хоботом и ногами будто живые колонны. Они собирались в небольшие стада, ели траву и ветви и не трогали ни быков, ни лошадей, и даже временами защищали их от белых/длиннозубых/несущих-смерть — так вожак называл гигантских хищников с белоснежной шкурой. Когда костер затухал, и путники укладывались спать, являлся Горм. Пятьдесят миль в день не были для него проблемой, но он не всегда поспевал за лошадьми, а к тому же отвлекался на различные соблазны — дупла, полные прошлогоднего меда, свежие бамбуковые стебли, форелей и лососей, что попадались в каждой речушке и наиболее полноводных ручьях. Обычно он извещал о своем приближении кратким ментальным сигналом, адресованным не Иеро, и не брату Альдо, а лошадям: образ мохнатого медвежонка, который катается в траве среди жеребят. Затем приходила мысль: «Я здесь, друг Иеро, и я сыт»; следом за ней раздавалось тихое сопение, и священник чувствовал, как теплый шершавый язык касается его щеки. На пятый день с запада повеяло морским ветерком, а в полдень шестого запахи соли и влажных водорослей сделались совсем отчетливыми. Но степь, однако, становилась все засушливей, и среди травы начали попадаться проплешины песка. Он был не золотистым и не желтым, а грязновато-серым, и вскоре Иеро определил, что почва здесь хранит слабые следы радиоактивности. Кажется, они приближались к пустыне Смерти, хотя он не мог понять, что явилось целью для древних ракет в этих безлюдных краях. Ни разу они не встретили человеческого следа или развалин поселений, которые тут, несомненно, были — но, вероятно, редкие и небольшие, так что время стерло их до основания, а ветры развеяли прах. Наконец на западе засинело море, трава исчезла, и под копытами лошадей зашелестел песок. Они шли вперед все медленней и неохотней; вороной вожак останавливался через каждую сотню шагов, поворачивал голову к брату Альдо и косился на него укоризненным взглядом, будто говоря: «Неужели ты хочешь, чтоб мы пропали в этих гибельных песках?» Радиация была слабой и, по наблюдениям Иеро, не увеличивалась, однако ее хватало, чтобы отпугнуть животных. Брат Альдо слез с вороного и похлопал его по шелковистой шее. — Пора прощаться, малыш. Спасибо тебе и твоему племени. Иеро и мастер Гимп разгрузили вещи, которых осталось не так много — фляги, пара бурдюков с водой, одежда, метатель, копья и два арбалета с запасом стрел, сумка с картами, зрительной трубой и другими мелочами. Кроме того, у них был небольшой запас сухарей и сушеного мяса, а также полупустой мешок с пеммиканом. Нелегкая ноша для их маленькой экспедиции, но сущий пустяк для трех лошадей. Невольно вздохнув, священник проводил табун взглядом и повернулся к югу. Бесплодная равнина, засыпанная серыми песками, лежала перед ним; где-то далеко за ней маячили горные вершины, а справа, милях в трех-четырех, блистала морская гладь, над которой кружили чайки. Оттуда налетал порывали свежий ветер, гнал редкие облака, умерявшие знойную духоту; солнце хоть и перевалило зенит, но до вечера было еще часов пять. — Я думаю, — произнес брат Альдо, — сегодня нам не стоит трогаться в дорогу. С грузом по такой жаре мы не пройдем и пяти миль. — Согласен, — кивнул мастер Гимп, — но по другой причине. Моим ягодицам нужен отдых после шестидневной тряски на лошадиной спине. До чего же она костлявая! И я, клянусь мачтой, пересчитал все проклятые позвонки от шеи до самого крупа! — Мы заночуем здесь, — кивнул Иеро, — а дальше пойдем вдоль морского берега. Там прохладнее, и, наверное, есть сухие водоросли для костров. Но прежде… — Он поглядел на чаек, метавшихся над морем, и довольно усмехнулся. — Прежде я попробую разведать путь, взглянув на него чужими глазами. Запасы воды у нас небольшие, и мне хотелось бы знать, где и когда мы набредем на ручей или речку. С этими словами он сбросил с плеча метатель и сумку с зарядами, уселся, скрестив ноги, на песок, и закрыл глаза. Искусство дальновидения было одним из самых сильных его талантов, и за два последних года он усовершенствовал свое мастерство — теперь он мог не только увидеть местность глазами птицы, но и отдать ей приказ двигаться в нужную сторону. Это было непростой задачей, лишь внешне похожей на управление человеческим существом. В последнем случае Иеро подчинял себе разум и слух, зрение, обоняние и мышцы — словом, превращался в кукловода, который дергает нужные ниточки, но с птицей этот способ не годился. Он был человеком, а значит, мог делать с полной уверенностью то, что человеку привычно — идти или бежать, сесть или прыгнуть, лечь или метнуть камень. Но рефлексы, необходимые для полета, у него отсутствовали, и попытка управиться с крыльями была бы, скорее всего, фатальной — его пернатый компаньон просто бы рухнул вниз. Памятуя об этом, он осторожно внедрился в сознание чайки. Птица оказалась крупной — не таким гигантом, как хищницы, едва не убившие Лучар, но все же в три-четыре раза больше, чем чайки былых времен. Чайка кружила над морем, высматривая рыбу, а священник убеждал ее, что она сыта, что стоит подняться повыше, полететь к берегу и высмотреть местечко для отдыха. Понемногу это удавалось; синий морской простор, качавшийся под ним, сменился серой полосой песка, прибрежными камнями в плетях бурых водорослей и уже знакомой пустынной равниной. Она была неширока, от пятнадцати до двадцати миль, и за ней вдавался в море большой полуостров, рассеченный надвое горами. Ближняя часть полуострова зеленела лугами и лесами, среди которых сверкал голубой ятаган реки; дальняя была скрыта живописным хребтом, поросшим соснами и кедрами. Пустыня, над которой мчался сейчас крылатый разведчик, казалась с высоты плоской, как стол, если не считать курганов и тонких стройных башенок, тянувшихся цепочкой от морского берега до самых гор. Башни блестели металлом в солнечных лучах, а курганы никак не походили на гряду холмов: все одинаковые, лежащие на равном расстоянии друг от друга и чередующиеся с башенками. Более всего это напоминало оборонные сооружения, но довольно странные — ни патрулей, ни часовых, ни воинов на башнях Иеро не разглядел. Широкая песчаная полоса меж полуостровом и степью была безлюдной, и в ней не замечалось никакого движения — лишь ветер иногда вздымал песок, закручивая его небольшими серыми смерчами. Он направил птицу поближе к одной из башен, и тут же почувствовал ее сопротивление. Чайка не хотела туда лететь! Ее не соблазняли ни видение озера, полного серебристой форели, ни отмель с моллюсками, чья плоть соблазнительно розовела в приоткрытых раковинах, ни прочие миражи, внушаемые священником. Пришлось вообразить, что сверху нависает огромный орел с растопыренными когтистыми лапами, и что башня — скала со спасительной узкой расщелиной, куда пернатому хищнику не забраться. Пронзительно вскрикнув, чайка ринулась вперед, и Иеро увидел на мгновение далекую бухту за лесом или возможно, садом, краешек белокаменного здания и широкие ступени; затем панорама сместилась, внизу побежали серые пески с торчавшей из них металлической иглой и двумя курганами по обе стороны. Внезапно что-то блеснуло, страшный удар ослепил Иеро, обжег болью. Чайка умерла. Он разлепил веки и потер плечо, изгоняя гнездившуюся там боль. Гимп и брат Альдо глядели на него с тревогой. — Это, — Иеро повел рукой в сторону пустыни, — защитная полоса. Зверей и птиц отпугивает радиация, а кроме того от моря до гор протянулись заставы. Башни и конические холмы, похожие на иннейские вигви, только очень большие, ярдов двадцать в поперечнике… Стражи нет, но птицу, посланную к одной из башен, убили. Чем-то вроде огненной стрелы, похожей на молнию из пушек адептов Нечистого… Но я уверен, что на башне никого не было, и что там нет бойниц, сквозь которые можно выстрелить. Похоже, башня сама метнула эту стрелу! — Выходит, мы добрались до места, — произнес после недолгой паузы эливенер. — Выходит, — подтвердил Иеро, глядя, как мастер Гимп пристраивает на мешке с одеждой арбалет. Лицо капитана было хмурым и сосредоточенным; он явно готовился к соревнованию в стрельбе с Нечистым. Священник поднялся и, вытащив из сумки подзорную трубу, направил ее на горизонт. Теперь, когда он знал, что именно искать, курганы и башни нашлись без труда; первые были словно холмики на засыпанной песком равнине, вторые — как тонкие серебристые иглы, почти сливавшиеся с небесной синевой. Расстояние до этой оборонительной линии составляло милю с небольшим. — Взгляни, отец мой, там и там, — протянув трубу эливенеру, Иеро показал примерное направление. — И ты тоже полюбопытствуй, мастер Гимп, и скажи, что это тебе напоминает? Капитан хмыкнул, принимая трубу из рук брата Альдо, приложил ее к глазу, потом пробормотал: — Эти башни тонкие, как мачты, и человеку в них не забраться… во всяком случае, человеку моей комплекции… Наружных лестниц я не вижу, канатов тоже нет, и если башня стреляет сама, так это сущее колдовство! А что до холмиков, то они похожи на кучи мусора. Очень аккуратные кучи… вроде бы из бревен, камней и всякого хлама… что-то и правда напоминают… — Огромные муравейники, — подсказал брат Альдо и повернулся к священнику. — Больше ты ничего не видел, сын мой? — За песками — леса и горы, — отозвался Иеро, — и, кажется, есть дома… или один дом… не могу сказать в точности. Но это не крепость. Не замок, который я видел на Мануне, и на другие постройки слуг Нечистого он тоже не похож. Скорее… — Да? — Что-то вроде королевского дворца в Д'Алви. Белый камень, просторная лестница и зелень вокруг… Впрочем, я могу ошибаться. В молчании они выкопали яму в песке, разложили крохотный костер из запасенного по дороге хвороста, сухого и почти бездымного, обжарили мясо на кончиках ножей, съели его с сухарями и запили водой. Молчание не было полным — Иеро рассказывал Горму об увиденном, но комментарии медведя были краткими. «Если злой, который зовет тебя, — заметил он, — хочет, чтоб ты до него добрался, он не перепутает нас с птицами и не сожжет». Спустились сумерки. С моря надвинулись тучи, закрыв тусклый бледный месяц и мерцающие звезды; лишь пламя маленького костра, незаметного с пяти шагов, соперничало с темнотой. Медведь дремал, подставив огню мохнатый бок, мастер Гимп и брат Альдо молчали, но Иеро догадывался, о чем они думают. Он сам размышлял о том же: как пробраться в обитель Нечистого мимо охранных башен и что, собственно, делать дальше. Он послан сюда Советом Аббатств и отцом Демеро на разведку, и часть его миссии уже исполнена: он посетил святые места и обнаружил, где затаился Нечистый. Возможно, этого хватило, если бы он мог вернуться в Канду столь же быстро, как долетел сюда, в далекую азиатскую степь; отцы Церкви обсудили бы принесенные им вести и приняли решение. Скажем, такое: послать воинов и священников-телепатов на дирижабле или отправить на кораблях целую армию, два или три легиона Стражей Границ. Но «Вашингтон» погиб, и Иеро ясно представлял, что дорога домой займет не один месяц. Скорее всего, придется идти на восток, до самого побережья Великого океана, где живут желтокожие люди — те, что отправили некогда парусник в Ванк, тот самый корабль, что был уничтожен проклятыми лемутами… Чтобы добраться до этого племени, нужно пройти три с половиной тысячи миль, потом убедить их правителей в необходимости нового плавания и пересечь океан… Непростая задача! И долгая! В лучшем случае он окажется в Саске через восемь-девять месяцев, а то и через год! Что случится за это время? Какими силами овладеет Нечистый? Ведь ему уже повинуется рукотворная звезда, летящая в небе, за границами атмосферы… звезда, которая может бросать на землю молнии с фантастической точностью! Нет, решил священник, он не может уйти из этого места, так ничего и не выяснив. Это было бы трусливым бегством, недостойным воина-киллмена и заклинателя! Он не мог бы ни оправдаться в таком поступке перед собственной совестью, ни рассказать о нем отцу Демеро, Лучар и сыну, которого она ждет… Он должен остаться здесь, узнать побольше, и если придется, вступить в борьбу с Нечистым… Сразиться с ним, даже если такая битва означает гибель! Е г о гибель, но не смерть спутников. Они в любом случае должны вернуться в Канду и сообщить о случившемся. Поведать об острове Асл и затопленном Вечном Городе, о дельфах и Святой Земле, окутанной прахом, о людях и оборотнях, обитающих в Моске, о пещере с крохотными тварями, способными превратиться в любое животное и даже в человека… Обо всех чудесах и диковинах, которые встретились им на долгом пути! Ничего не должно пропасть, ни единая капля новых знаний… даже если он погибнет… Это предположение на миг омрачило Иеро — не потому, что он боялся умереть, но мысль, что он не вернется на родину, не увидит Лучар и свое дитя, казалась нестерпимой. Нахмурившись и укоряя себя за слабость, священник поднял голову, оглядел сидевшего напротив Гимпа, повернулся к старому эливенеру и сказал: — Наверное, все мы сейчас прикидываем план дальнейших действий, и я полагаю, что лучше бы нам разделиться. Я проберусь в обитель Нечистого, вы спрячетесь на морском берегу и будете ждать. Положим, десять или двенадцать дней… Когда этот срок минует, найдите новый табун лошадей и двигайтесь на восток, в страну желтокожих. Это самый разумный выход, отец мой. Все яйца не кладут в одну корзину — тем более, что рядом с нею вертится лиса. — Не нравится мне эта идея, сынок. Разумом я готов ее принять, но сердцем… — Брат Альдо сокрушенно покачал головой. Мастер Гимп стукнул по колену увесистым кулаком. — Мне тоже не нравится, будь я проклят! Конечно, пер Иеро, ты великий воин, искушенный вдобавок в магических фокусах, но даже у лучшего из бойцов всего лишь две руки. А еще — спина! Кто будет прикрывать твою спину, а заодно — и задницу? Мы, и только мы! Один медведь, один мудрец и один морской краб с крепкими клешнями! — Он вытянул мощную волосатую руку. — Или мы вместе погибнем, или… — Спокойнее, почтенный мастер, спокойнее, — прервал капитана брат Альдо. — Конечно, мы дороги перу Иеро, но в данном случае он заботится не о наших жизнях. Вернее, и о них тоже, но во вторую очередь. а в первую — о том, что мы увидели и узнали. Проще сказать, не о твоей голове, Гимп, а о ее содержимом. Физиономия капитана вдруг исказилась в гневной гримасе. Он сидел напротив Иеро, за ямой, в которой дотлевал костер, и отблески огня меняли его лицо странным, непонятным образом. Тени и морщины словно углубились, полные щеки стали суше, нос заострился, а лоб как бы раздался вверх и в стороны, нависнув над глубокими темными глазницами. Гимп снова вытянул руку и стиснул пальцы, будто пытаясь схватить пустоту или нечто нависшее над костром; губы его шевельнулись, но из горла вырвался лишь яростный хрип. — Что это с ним? — произнес Иеро, вставая. Обеспокоенный эливенер тоже вскочил на ноги. — Напоминает мозговой удар… Никогда б не поверил, что с Гимпом случится такое! Он крепок, как бык кау! — Брат Альдо ринулся к мешку, в котором хранились целебные снадобья. — Сейчас я поищу что-нибудь успокоительное, а ты прощупай его разум. Может быть, внезапный спазм сосуда… мозг в таких случаях отключается… Жутко хрипя, хватая воздух ртом, Гимп повалился на бок. Лицо его побагровело, но щеки тут же запали и начали бледнеть; он по-прежнему сжимал кулаки и двигал ими так, словно пытался ударить кого-то невидимого, неощутимого. Казалось, он сражается с тенью, но где находился его призрачный противник? В налетевшем порыве ветра, в клубе дыма, в песчаном смерче или в нем самом? Мощным усилием Иеро разрушил свой ментальный барьер, даривший безопасность, но делавший его почти слепым. Мысль его метнулась к Гимпу, мозг которого напоминал клокочущий вулкан; прочная твердь — разум капитана — таяла и содрогалась под напором огненной лавы, раскаленных газов и кипящих вод. То был припадок яростного умоисступления, но причина его заключалась не в дефекте кровеносных сосудов или другой внезапной болезни, а в борьбе, в сражении, что вели меж собою две силы, внутренняя и внешняя. Внешняя побеждала, и священник с ужасом видел, как лицо Гимпа меняется, приобретая знакомые черты: широкий лоб, крючковатый нос с четко вырезанными ноздрями, глубоко запавшие глазные впадины, тонкие, кривящиеся в насмешливой ухмылке губы. Перед ним был Нечистый! В том же облике, что являлся ему в плоти Дома и оборотня! Он ощущал, как крепнет ментальная нить, соединявшая разум его товарища с неким источником силы, таившимся где-то за песками, ветрами и тьмой, за башнями и курганами, что стерегли безмолвную пустыню. Этот канал становился все шире и мощнее, но вместе с ним рос и укреплялся гнев — холодный, тяжкий, готовый прянуть из разума Иеро неотразимой ментальной стрелой. Подскочил брат Альдо — с мягкой тканью и небольшими стеклянными флаконами; от них тянуло резким свежим ароматом. — Подержи Гимпа, сын мой! Я разотру ему виски, а потом заставлю проглотить вот это зелье… Надеюсь, оно подействует. — Нет, — пробормотал Иеро сквозь зубы. — Это не болезнь, это ментальная атака, и тут лекарства не помогут. — Челюсти его свело от страшного мысленного усилия, но он заставил себя говорить. — Нечистый овладевает Гимпом. Я постараюсь рассечь канал, и если это удастся, ты прикроешь нас щитом. Плотным и прочным, как броня снапера! Эливенер кивнул и, присев, положил голову капитана к себе на колени и обхватил его за плечи. Тело несчастного сотрясали конвульсии, но лицо было уже спокойным. Чужое лицо, лишь отдаленно напоминавшее мастера Гимпа. — Эта тварь, что хочет вселиться в него, способна менять облик своих жертв, — с полным самообладанием произнес брат Альдо. — Психическая трансформация сопровождается телесной… Никогда бы не подумал, что такое возможно! — Он наклонился, заглянул в темные мрачные глаза существа, завладевшего чужим разумом, и пробормотал: — Держись, сынок! Мы тебя не отдадим! Пружина мысленного арбалета все туже скручивалась в сознании Иеро. Виток гнева, виток презрения, виток ненависти… Он воззвал к Богу и приготовился метнуть незримую стрелу. Рот Гимпа раскрылся, и странный хриплый звук сорвался с губ. — Хрр… Твой приятель упрям, но я… хрр… заставлю его подчиниться… Слушай… хрр… Ты должен… — Я знаю, что я должен и чего не должен, — с холодным бешенством произнес священник. Стрела сорвалась, рассекла ментальную нить и тут же обернулась пламенем, яростным целительным пожаром, что выжигало следы чужого присутствия в разуме Гимпа. Одновременно путников накрыл ментальный щит, отгородившей их от злобной воли, что бушевала за его пределами. Барьер за барьером воздвигались братом Альдо с той же легкостью, с какой эливенер повелевал животными; невидимый колпак был прочен, но Иеро добавил к нему еще одну стену, ибо ни он, ни Альдо не представляли, какая сила им противостоит. Затем он выскользнул из сознания капитана, сел и вытер пот со лба. Гимп снова был Гимпом; щеки его еще багровели от прилившей крови, однако знакомые черты и шумное, но не хриплое дыхание доказывали, что Нечистый побежден и изгнан. Горм, застывший на земле во время недолгой схватки, коснулся разума Иеро. «Пожалуй, этой ночью мне лучше бодрствовать, — сообщил он, поднявшись и ковыляя в темноту. — Поброжу здесь и там, понюхаю, чем пахнет воздух, послушаю, что принесет ветер. Не беспокойся обо мне, друг Иеро, я буду осторожен». Брат Альдо поил Гимпа каким-то снадобьем, осторожно вливая жидкость капитану в рот. — Дам ему успокоительное… Он должен выспаться после такой встряски. Я знаю, вино ему больше по вкусу, но наш запас исчерпан, и к тому после моих бальзамов не болит голова. Завтра он будет таким же крепким и подвижным, как обычно. Но нам придется охранять его от Нечистого! — Эта тварь настигла самого слабого из нас, — произнес Иеро, слушая, как дыхание капитана становится размеренным и спокойным. — Мы, трое, телепаты, и наши разумы защищены, поэтому он выбрал Гимпа. Кажется, он пожелал что-то мне сказать. То ли поиздеваться, то ли намекнуть, какая дорога ведет к его логову. — Мы отбили его атаку, — заметил брат Альдо, собирая свои флаконы, — ментальную атаку, мальчик мой, но он может придумать что-то еще. Поставленный нами барьер охраняет от злобных мыслей, но не от копий и мечей. Иеро кивнул и, придвинув поближе метатель, склонился над сумкой, пересчитывая заряды. Потом он поднял голову и встретил взгляд брата Альдо. Соединив свои души и сердца, они долго смотрели друг на друга, черпая поддержку в борьбе со страхом и тревогой.* * *
Сигнал от Горма пришел в самое темное время, часа в два пополуночи. «Вставай, друг Иеро! Они идут!» «Кто и откуда?» — отозвался священник, стремительно поднимаясь. Метатель застыл в его руках, над левым плечом темнела рукоять клинка, над правым — ложе арбалета. «Кто — не могу разобрать, они прикрыты щитами. Идут от ближнего кургана. Быстрей, чем ходит человек, но медленнее, чем скачут лошади». Значит, будут здесь минут через восемь-десять, подумал Иеро и приказал: «Прячься! Что бы ни случилось с нами, ты должен быть свободен». От медведя пришла не мысль, оформленная словами, а чувство тревоги за друзей, смешанное с уверенностью, что его не найдут. Вряд ли Нечистый мог подслушать эти ментальные переговоры — они пользовались слишком необычной частотой, неведомой птицам и животным, рыбам, змеям, ящерам — и, разумеется, человеку. За всеми этими сигналами живых существ лежала область фона, который создавался излучениями насекомых; когда-то, в день пленения на Мануне, Иеро открыл, как пользоваться этой областью для передачи связных сообщений. Это была его военная тайна, но кроме нее он не имел никакий преимуществ: создания, что приближались к лагерю, были надежно защищены. Чем-то похожим на приборы адептов Нечистого, которые он видел прежде; ему казалось, что скрывающий их ментальный колпак носит скорее искусственный, а не природный характер. Но этот щит работал превосходно, и священник даже не мог сказать, сколько врагов явится из ночного мрака. Не один и не сотня, это было понятно, но между десятком и четырьмя дюжинами была большая разница. Брат Альдо тоже поднялся и стоял сейчас около храпящего Гимпа, напряженно всматриваясь в темноту. — Можешь его разбудить? — спросил Иеро. — Могу, но это займет время, — отозвался эливенер. — Времени у нас нет. Постарайся оттащить его от костра. Иеро бросил пару сухих веток на тлеющие угли и отступил в сторону, в тень. Подумав, он положил заряженный метатель на землю и снял с плеча арбалет. Метатель, самое мощное его оружие, останется напоследок; удачный выстрел мог уложить сразу нескольких врагов. Он ждал. Над засыпанной песком пустыней шелестели порывы ветра, и вскоре к ним начали примешиваться шорох и странные скрипы, напоминавшие звук трущихся друг о друга рассохшихся деревяшек. Ментальный щит над лагерем исчез, и Иеро почувствовал, как мысль брата Альдо ринулась к северу, к степям, заросшим сочной травой, где паслись могучие быки и быстрые кони. Стадо быков было б сейчас кстати, мелькнула мысль; да и пара огромных кошек тоже пригодилась бы. — Очень далеко, — вымолвил за его спиной брат Альдо. — Ни одно из животных, способных сражаться, не услышит моего призыва. На берегу спят чайки, не очень много, с десяток. Позвать их? — Не стоит. — Я тоже так думаю, — со вздохом откликнулся эливенер. — К чему губить невинных птиц? Высокая тень мелькнула за костром, Иеро вскинул арбалет, выстрелил и тут же перезарядил оружие. Тень исчезла, но он был уверен, что не промахнулся: стрела ударила во что-то прочное — может быть, в доспех — и пробила его с ясно различимым треском. Но нападавший не отозвался ни воплем, ни вскриком, будто убитый наповал. Шорох и скрипы раздавались теперь со всех сторон, а кроме того появился запах, едкий и неприятный, как от разлитой кислоты. В горле Иеро першило. — Слева и сзади, — спокойным голосом произнес брат Альдо. Быстро повернувшись, священник послал стрелу в смутный расплывчатый силуэт. Снова треск и мертвое безмолвие. Кажется, эти существа, кем бы они ни были, предпочитали умирать без стонов. Немые? — мелькнула мысль. Одновременно Иеро поразил третью тень. Но это не остановило нападавших. Скрипы и шорохи их движений слышались теперь совсем близко, и священник уже не сомневался, что имеет дело с какой-то новой породой лемутов, с тварями, не ведавшими страха, и равнодушными к жизни и смерти. Если б он мог изучить этих существ! Узнать их сильные и слабые стороны, их пристрастия и страхи! Но времени на это не оставалось. Мысль брата Альдо достигла его сознания. «Они слишком хорошо защищены, сынок. Я не могу уловить их ментальных излучений и почти ничего не вижу в этом мраке. Но клянусь Одиннадцатой Заповедью, это не теплокровные существа!» «Люди-ящеры? Похожие на глитов?» — отозвался Иеро, напряженно всматриваясь в темноту. «Нет. Что-то иное», ответил эливенер и замолчал. Едкий запах усилился, от него начала кружиться голова. Ветки, прогоравшие в костре, вдруг вспыхнули, брызнув фейерверком искр, и священник увидел, что тьма в одном месте сгущается, будто там находилось пять или шесть готовых к нападению созданий. Отбросив арбалет, он быстро поднял метатель и нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела раскатился над безмолвной пустыней, и яркая вспышка высветила на миг черные фигуры с сегментированными телами, гибкие конечности, огромные выпуклые глаза и торчавшие под ними жвалы. Жуки? Нет, скорее муравьи, подумал Иеро, выхватывая клинок. Где-то рядом вскрикнул брат Альдо, запах стал нестерпимым, и священник, развернувшись, со всего маха рубанул мечом. Казалось, лезвие прошло насквозь через тонкую, но прочную доску; он выдернул его с трудом и нанес новый удар, почти не сознавая, куда метит и кого бьет. Он терял сознание от плывшей в воздухе едкой вони; каждый вдох обжигал гортань и легкие, будто в них впивались тысячи иголок. Чьи-то жесткие конечности обхватили его, вырвали меч, спеленали, будто шуршащие прочные канаты, стиснули клещами. Падая в пропасть беспамятства, он вспомнил о Горме, послав ему прощальную весть, затем подумал о Лучар. Увидит ли он ее? Свою любимую принцессу и их ребенка? Мысль оборвалась, и мрак сомкнулся над ним.ГЛАВА 9. ТЕОН
Свежий бодрящий воздух, ласкающее тепло, ощущение мягкости… Ни тяжких цепей, ни рева адского пламени, ни ментальной иглы, пронзающей мозг… Тишина. Однако не гнетущее безмолвие склепа — откуда-то издалека слышались птичий щебет, шелест листьев и плеск воды, будто бы падавшей тонкими струями в озеро. Иеро осторожно открыл глаза и осмотрелся. Он был раздет, и потоки теплого воздуха, струившиеся сверху, приятно ласкали нагое тело. Ложе под ним казазось широким и мягким, а комната — просторной: квадратное помещение футов тридцати в поперечнике, с белыми стенами, высоким потолком и полированной дубовой дверью. Дверь была справа, а слева, за шестью колоннами с полукруглыми арками, открывался вид на внутренний дворик с увитой зеленью беседкой в одном углу и серебристой ивой — в другом. Между беседкой и деревом лежал пруд, края которого были облицованы гладким серо-зеленоватым мрамором; посередине находилось какое-то устройство, выбрасывающее в воздух прозрачные струйки воды. Чуть повернув голову, он разглядел во дворике усыпанные алыми цветами кусты, каменные скамейки на фигурных ножках, похожих на львиные лапы, и колоннаду с арками — видимо, проходами в другие помещения. Непохоже на ад, где правит Нечистый, подумал священник. Ни на ад, ни на темницы и подземелья Мануна, чьи стены пропитаны кровью и страданием… Ментальное чувство подсказывало, что во дворике нет никого, кроме певчих птиц и насекомых, но справа, за дверью, ощущалось чье-то присутствие. Не животное, не лемут, скорее всего человек… Разум его был открытым, но Иеро, подозревая ловушку, не торопился нырнуть в пропасть чужого сознания. Вместо того он попробовал связаться с братом Альдо и Гормом, но старый эливенер не откликнулся, а медведь был слишком далеко, милях в тридцати, если не больше. Слабые сигналы доходили, но понять их смысл Иеро не мог. Он восстановил свою ментальную защиту, потом сел, спустив ноги с мягкого низкого ложа. Теперь вся обстановка комнаты была перед ним: круглый стол и два кресла из такого же мореного дуба, что и дверь; высокий серебряный светильник в виде древесного ствола с хрустальными цветами-лампионами; еще один столик — маленький, резной, с кувшином и парой кубков на подносе; на полу — огромный серо-голубоватый ковер, на стене — необычное украшение: занавес из блестящих стеклянных шариков, за которым, в просторной нише, розовела мраморная ванна и сверкали золотистые рукоятки кранов. Хоть комната выглядела полупустой, роскошь и изящество ее обстановки поразили священника; каждый предмет, начиная с кубков и кончая креслами, казался произведением искусства, выполненным с великим мастерством и тщанием. Такого он не видел ни в королевском дворце, ни у вельмож в Д'Алви, ни у себя на родине; впрочем, Республика пренебрегала роскошью в пользу разумного аскетизма. Однако главным поводом для изумления был дальний угол комнаты, где аккуратно сложили мешок с запасной одеждой, и другой мешок, с картами, зрительной трубой, шкатулкой с лекарствами и прочими мелочами, а также оружие: два копья, два арбалета, стрелы к ним, мечи и ножи, метатель и сумку с зарядами. Тут было все, даже фляги и посох брата Альдо, все, кроме продовольствия; вероятно, кто-то решил, что пеммикан, сушеное мясо и сухари больше не понадобятся пленнику. Но пленник ли он? Иеро поднялся, бесшумным волчьим шагом пересек комнату и убедился, что не стал жертвой галлюцинации: в одном из кресел была разложена его одежда, а рядом стояли сапоги. То и дело бросая взгляды на дверь, он начал одеваться и тут же обнаружил под тщательно вычищенной курткой свой медальон и мешочек с магическим кристаллом и Сорока Символами. Вытряхнув на ладонь знак Книги, священник несколько секунд разглядывал его, соображая, не значит ли этот роскошный покой, что он удостоился Божьей помощи и угодил не в пасть Нечистого, а в чертоги премудрого Творца. Затем с горькой усмешкой бросил фигурку в мешок. Не стоило себя обманывать; если бы он находился сейчас в руке Господней, то Гимп и старый эливенер были бы, конечно, с ним. Когда он надел перевязь с коротким тяжелым мечом, дверь приоткрылась. Иеро резко обернулся, стиснув пальцами рукоять клинка, и окаменел. Вошедший человек был высоким и худощавым, с бледным лицом и безволосым черепом; крючковатый нос, узкие губы и глубоко посаженные темные глаза не оставляли сомнений в том, кто он такой. Черты, которые не раз являлись священнику, лицо, которое он не забудет до смерти! Впрочем, весьма вероятно, его обладатель и был смертью, гибелью для Иеро, предвестником телесных и душевных мук. Он перекрестился и, охваченный своими страхами, не сразу заметил, что посетитель выглядит как-то странно. Странной казалась цифра девять, выжженная над его левой бровью, и странным было выражение лица — не торжествующее, а скорее униженное; никаких следов триумфа, губы не кривятся в язвительной усмешке, глаза не пылают адским огнем. Жесты и движения плавные, а наклон головы и изгиб спины выражают готовность к поклону. Крючконосый в самом деле поклонился, почтительно и глубоко. Голос его был сильным, звучным и говорил он на торговом жаргоне батви почти без акцента. — Приветствую господина в Кентау. Чего желает господин? Иеро молча разглядывал крючконосого, поглаживая рукоять клинка. Господин? Кажется, его назвали господином? Что это, издевка? Однако вошедший в комнату человек застыл в поклоне, не поднимая головы. — Кто ты такой? Локи? — выдавил наконец священник, чувствуя, как по спине струится холодный пот. — Нет, господин. Деус Локи — великий властитель, а я — всего лишь его копия. Правда, самая совершенная и информированная из всех сохранившихся, и потому меня приставили к тебе. Теон оказывает честь гостю, — он снова поклонился. — Копия? Не понимаю… Что это значит? Кто такой Теон? И как тебя зовут? Отвечай! Веки крючконосого опустились, прикрыв темные глаза. — Я здесь, мой господин, чтобы отвечать на все твои вопросы. Теон — четыре повелителя, которых ты вскоре увидишь и, если будет на то их воля, сможешь с ними поговорить. Они — владыки над этой землей с древним именем Кентау, и над всем миром, над его океанами и континентами, морями и островами. Ты, быть может, этого не знал, но скоро узнаешь. — В тоне говорившего впервые проскользнула чуть заметная насмешка. — Владыки мира живут вечно, выращивая новые тела и создавая слуг из собственной плоти. Это называется клонированием, господин. Я — копия-клон великого Локи и несу частицу его индивидуальности. За минувшие столетия деус Локи создал девять своих совершенных копий и уничтожил восемь из них — по разным причинам, которых не стоит сейчас касаться. Я — Девятый! — он ткнул пальцем в знаки на лбу. — Так меня и называй! — Девятый… — ошеломленно пробормотал Иеро. Человек? Дьявол? Или прислужник дьявола? Он коснулся медальона, разглядывая крючконосого со смесью жалости и омерзения. Все-таки человек или подобие человека… Клон! Слово было незнакомым, но его овеществленный результат сейчас находился перед ним. Создание, выращенное из частицы плоти Локи, вместившее некую долю его индивидуальности… Какую же именно? Может, этот Девятый все-таки лемут в человеческом обличье? Был лишь один способ проверить. Стиснув свой медальон с изображением креста и меча, Иеро раздвинул ментальную стену, что охраняла его разум, и коснулся сознания крючконосого. Он сделал это с той виртуозной легкостью и тонкостью, с какой крохотная капля влаги просачивается в песок, неощутимо и незаметно даже для опытного телепата. Девятый, однако, вздрогнул и поднял руку ко лбу. — Разумы слуг открыты для властителей, мой господин, но ты еще не член Теона. Может быть, ты им никогда не станешь. — Скорее всего, нет, — согласился Иеро, отдергивая свой ментальный щуп. Девятый был несомненно человеком, но в нем не ощущалось грозной силы Локи; видимо, хозяин не делился со своими слугами ментальной мощью. Но его способность одушевлять их казалась священнику чудесным непостижимым искусством, которым не владели самые лучшие из телепатов Аббатств. Во всяком случае, он никогда не слышал о подобных опытах, и видимо их никогда не проводили — ведь факт такого одушевления граничил бы с кощунством. Как и отцы Кандианской Церкви Иеро был уверен, что только Бог способен вдохнуть в человека душу и одарить его индивидуальностью. Однако Девятый утверждал, что Локи — или загадочный Теон — тоже владеют священным таинством, и это открытие повергло Иеро в шок. Но здравый смысл подсказывал ему, что сейчас не время и не место разбираться с теологическими проблемами. Он выпрямился, посмотрел на Девятого, и тот, согнувшись еще ниже, молвил: — Может быть, ты нуждаешься в еде и питье? Только прикажи, мой господин. Тут все к твоим услугам. Сквозь широкие арки дворика священник бросил взгляд на небо. Солнце клонилось к закату, и это значило, что он провел в беспамятстве как минимум две трети суток. Однако ни есть, ни пить ему не хотелось; нервное возбуждение глушило телесные потребности, и к тому же он не желал вкушать пищу в логове Нечистого. Во всяком случае, до тех пор, пока не узнает о его намерениях. — Если ты не голоден, я провожу тебя в Зал Собраний Теона, — произнес крючконосый. — Владыки ждут тебя. Он распахнул перед Иеро дверь, затем прошел вперед, показывая дорогу. Зал за дверью был огромен и обставлен с большой пышностью: гранитный камин с узорчатой решеткой, кресла, столы и шкафы из черного дерева, обтянутые кожей диваны, светильники из хрусталя и бронзы на стенах и темных тонов ковры. За ним тянулась анфилада столь же роскошных помещений, чье назначение было загадкой для Иеро; возможно, в каких-то из них свершались обычные трапезы, в других — приемы и пиры, третьи служили для совещаний либо уединенных раздумий. Этот дом — или, вернее, дворец — поражал не только пышностью и количеством комнат, но и разнообразием их отделки: стены были мраморными, или покрытыми деревянными панелями, или задрапированными тканью; полы украшены мозаикой либо устланы коврами, в которых тонула ступня; потолки — то плоские, то сводчатые, расписанные звездами, странными пейзажами или орнаментом из цветов, ветвей и листьев. Но самым поразительным были слуги, которыхвстретилось не меньше двух десятков: все — на одно лицо, точная копия Девятого и повелителя Локи. Заметив, что Иеро глядит на них с удивлением, его провожатый пренебрежительно махнул рукой. — Низшие твари, мой господин, с четырехзначными номерами… Деус Локи передал им крохотную частицу своей сущности — ровно столько, чтобы они могли прибираться в саду и в комнатах, заботиться об одеяниях владык и подавать на стол. В этом их жизнь, и срок ее — не больше пятнадцати лет. — Я видел и других созданий с одинаковыми лицами, — молвил Иеро. — Невысокие, с голубоватой кожей… Они плыли на корабле, и возраст их был невелик для опытных мореходов. — Клоны деуса Нергала, транспортная служба, — отозвался Девятый без особого почтения. — Не удивляйся их малым годам, мой господин. Клоны творятся в биологических лабораториях во взрослом обличье, а затем поступают в Питомник на обучение, и длится оно от года до пяти лет — смотря по тому, нужны ли владыкам слуги или знающие техники. Копии деуса Нергала живут после Питомника пару десятилетий и все это время плавают по морям. Не тревожься за них; они — умелые моряки. — А сколько живешь ты? — Столько, сколько будет угодно моим владыкам, — сообщил крючконосый, и священник заметил, как по его лицу промелькнула мрачная тень. Вероятно, восемь его предшественников расстались с жизнью не по своей воле, подумалось Иеро, и он решил, что этим вопросом стоит заняться подробнее. Они миновали просторный холл, вышли на террасу и спустились по широкой лестнице в парк. Здесь Иеро остановился и оглядел здание снаружи. Оно оказалось большим, не меньше, чем королевский дворец в Д'Алви или главный собор в Саске; стены из белого мрамора вздымались на высоту трех этажей, по углам плоской кровли торчали четыре изящные башенки, а к парку выходила терраса с колоннадой и лестницей; над ее перилами слева и справа стояли на невысоких пьедесталах гранитные изваяния в полный человеческий рост. При виде их священник вздрогнул. Тут были Волосатые Ревуны, люди-крысы, люди-россомахи и другие лемуты, населявшие его родной материк, и множество других созданий, неведомых ему, но одинаково отвратительных и ужасных. Последними в этой череде мутантов и монстров красовались статуи вербэра и какой-то твари, похожей на гигантского муравья — в ней Иеро узнал подобие своих ночных пленителей. — Воин-мирмид, — раздался за спиной голос Девятого. — Кажется, ты познакомился с ними прошлой ночью, мой господин? Они охраняют землю Кентау и принесли тебя сюда. — Он помолчал и, с заметным колебанием в голосе, добавил: — Мы, клоны владык, не любим мирмидов. Даже те из нас, у кого четырехзначный номер и не слишком много соображения. — Почему? — По той причине, господин, что тела проживших свой срок являются пищей для мирмидов, а провинившихся отдают им живыми. Я постараюсь не заслужить такого наказания и умру легкой смертью… Но все же неприятно смотреть на этих существ. Могила для каждого из нас… Страх за Гимпа и брата Альдо когтями стиснул сердце Иеро. Неужели их скормили этим тварям? С холодной яростью сжав кулаки, он зашептал молитву; нарушая церковный обычай, он клялся именем Господа, что отомстит, и отомстит жестоко. — Что ты делаешь, господин? — раздался за спиной голос Девятого. — Любуюсь этим зданием, — сквозь зубы пробормотал священник. — Любуюсь и гадаю: кому оно принадлежит? Великому Локи? — О, нет! У деуса Локи и трех остальных повелителей есть свои дворцы, а этот предназначен для тебя. Конечно, если ты станешь пятым в Теоне. — И что я должен сделать, чтобы добиться подобной чести? — буркнул Иеро. — Об этом тебе скажут, господин. Священник кивнул, чувствуя, как ненависть и гнев туманят голову. Это было опасно, и он постарался успокоиться, напомнив себе, что все мало-помалу становится на свои места. Зачем-то он нужен Нечистому, и тот готов его купить — за этот дворец, за власть и могущество, обещанные при прошлой встрече. Что он сулил еще? Кажется, бессмертие? Теперь Иеро понимал, что эти посулы не были ложью; череда клонов, новых тел, сменяемых раз за разом, и в самом деле могла обеспечить бесконечно долгое существование. Но как Нечистый добрался до этой тайны? Нахмурившись, он сделал повелительный жест: — Ну, веди… веди к хозяевам, Девятый… Они двинулись по главной аллее, обсаженной большими липами и тянувшейся к морскому берегу. По обе ее стороны расстилался сказочный парк, обрамленный с юга горным хребтом; дорожки, отходившие влево и вправо, вели к фонтанам и цветникам, беседкам и беломраморным павильонам, нагромождению живописных скал с темным зевом пещеры, лужайкам, покрытым низкой густой травой, золотистым зарослям бамбука и пальмовым рощам. Кое-где сверкала серебристая гладь озер и прудов, соединенных извилистыми каналами; переброшенные через них мостики словно парили в теплом воздухе, насыщенном запахами цветов и моря. Иногда цепочка лип прерывалась или отступала, открывая вид на нечто особенное: яркие цветочные куртины и фруктовые сады, холм со строением, увенчанным двумя куполами, просторный луг на фоне гор, где дубы, лавры, кипарисы и магнолии были рассажены словно огромные зеленые букеты, озеро, в котором плавали лиловые и алые кувшинки размером с колесо фургона, и стоявшие в отдалении дворцы. Их было четыре, и проходя мимо самого большого, возведенного в форме пирамиды со срезанной вершиной, Девятый почтительно склонился и произнес: — Обитель деуса Локи, мой господин. А там, правее, участок земли под хрустальным колпаком — видишь, голая почва, песок и камни? Так выглядел Кентау в древние времена. До Смерти в восьмидесяти милях от этих мест лежало поле, откуда стартовали ракетопланы — машины, летавшие выше самых высоких гор; поле уничтожили, и волна радиации докатилась сюда с северо-востока, а с запада подступило море, когда воды его разлились и затопили равнину. Так образовался полуостров, и был он подобен пустоши, которую ты видишь у дворца владыки. Деус оставил этот участок как память о его могуществе и преобразующей силе. С этими словами Девятый распростер руки, будто обнимая чудесный пейзаж с его цветами, деревьями и строениями. — Твой владыка мог бы выбрать место поудачнее и не тратить попусту силы и труды, — заметил Иеро. — Есть земли, которых не коснулась Смерть. — Эта земля подходила более прочих. Что же до сил и трудов, то разве владыки считаются с такими мелочами? В их распоряжении вечность, а то, что ты видишь, сделано за тысячу лет. Моим клоном, строителями и служителями! — Девятый коснулся ладонью груди. Они неторопливо шагали по аллее к синевшему впереди морю. Берег с огромным зеленым парком, окрестный лес и нависавший над ними горный хребет были знакомы Иеро; совсем недавно, вчера, он глядел на горы, море и этот полуостров глазами птицы и размышлял, как проберется мимо муравейников-курганов и сторожевых башен. Однако Нечистый нанес ему поражение, позаботившись об этом сам… И преимущества Локи были сейчас огромны: он завладел не только Иеро Дистином, нерадивым Божьим слугой, но и его друзьями. Где они? Что с ними сделали? Эта мысль не давала Иеро покоя. Он вновь попробовал связаться с братом Альдо, но кроме разумов сотен копий-клонов не обнаружил ничего. Кажется, среди этих ущербных сознаний, горевших идеей подчиняться и угождать, были женские… Отметив это, он вновь замкнул врата своей ментальной крепости. К югу от аллеи, у морского берега, стояло круглое одноэтажное здание, окруженное колоннадой, с высоким куполом, сверкавшим в лучах вечернего солнца. Во времена Иеро вид его казался необычным, помпезным, вычурным, но и только; однако многие, рожденные до Смерти, узнали бы и этот купол, и кольцо колонн, и стены с высокими вытянутыми окнами. То была копия верхней части здания Конгресса США, одного из символов могущества минувшей эпохи; обломок былого, урезанный и усеченный, ибо вершившие судьбы планеты поубавились в числе: теперь их были не сотни, не тысячи, а только четверо. Вслед за Девятым Иеро поднялся по мраморной лестнице, миновал распахнутые двери с рельефным бронзовым изображением земных полусфер, сделал три дюжины шагов и очутился в центре обширного зала. Повторяя внешние очертания дворца, он был круглым, величественным и строгим, с куполообразным потолком; сквозь высокие окна струились солнечные лучи, озарявший подиум — возвышение в форме подковы с пятью креслами, одно из которых пустовало. Зал, полный воздуха и света, казался обителью богов, спустившихся с небес на Землю. Совсем непохоже на логово Нечистого, подумал священник, поднял взгляд и замер, изучая сидевших перед ним людей. Двое были ему незнакомы — плотный мужчина с желтоватой кожей и узкими, чуть раскосыми глазами и молодая женщина, смуглая, гибкая и прекрасная, как взлелеенный руками садовника редкостный цветок. Она не походила на девушек Канды и соплеменниц Лучар или погибшего Сигурда, а принадлежала к расе, с которой Иеро еще не встречался и даже не подозревал, что это племя еще сохранилось на древней своей прародине, среди индийских равнин и джунглей. Черные волосы и черные огромные глаза, пухлый алый рот, узкое лицо с изящным маленьким носом, тонкие брови и ресницы, подобные темным веерам… Она могла бы соперничать в прелести с Вайлэ-ри, однако имела немалое преимущество перед лесной дриадой: эта смуглая красавица была бесспорно человеком. Плотный мужчина походил на желтокожих мореходов, добравшихся в Ванк с азиатского материка. Этот народ тоже был незнаком священнику, но сохранилось его описание в архивах Аббатств, а также свидетельства иннейца, уцелевшего при нападении лемутов; то и другое совпадало с внешностью узкоглазого. Лицо его было невозмутимым и неподвижным словно восковая маска, и Иеро подумал, что этот человек то ли грезит, то ли спит с открытыми глазами. Красавица и желтокожий мужчина сидели слева от большого, похожего на трон кресла, в котором, откинувшись на спинку, развалился крючконосый Локи. Справа от него ерзал на сиденье карлик-синюк с голым черепом и резкими чертами маленького уродливого лица; кожа его заметно отливала голубым, а на костлявом плече, вцепившись когтями в темную ткань мантии и кутаясь в кожистые крылья, дремал крупный нетопырь. Нергал, догадался Иеро, переводя взгляд на человека в троноподобном кресле. Девятый стоял перед ним, кланялся и что-то говорил на непонятном языке — кажется, древнеанглийском; слова его лились рекой, напоминая молитву или песнопение. Властитель слушал слугу, поигрывая свисавшей на грудь золотой цепочкой, то пропуская ее меж пальцев, то комкая в кулаке; и, глядя на два одинаковых лица, священник ощутил озноб. Они были так непохожи! Бледные, безволосые, копирующие друг друга до мельчайшей черточки, они отличались в той же степени, в какой отличен император от своего прислужника. Одно лицо казалось жестким, твердым, властным, другое — униженно-покорным; одни глаза горели дьявольским огнем, другие были словно угасающие угли, подернутые слоем пепла. Сравнивая их, Иеро понимал, что больше никогда не спутает Девятого и его владыку. От копии, согнувшейся перед своим оригиналом, долетел едва заметный шепот: — Сними защиту, господин. Тебе здесь ничего не угрожает. С тобой хотят поговорить. Глядя в глаза Локи, два темных омута на бледном высокомерном лице, священник принялся уничтожать свои ментальные барьеры. Недолгая процедура, но он не успел справиться с ней, как в сознании ревом набатного колокола загрохотали слова: «Наконец-то он пришел!» Мысль была адресована не Иеро, и он лишь прищурил глаза, всматриваясь в темную бездну зрачков Нечистого. Дьявола? Сатаны? Люцифера? Сомнения терзали священника. Сейчас, когда он избавился от защиты и вновь обрел ментальный слух, он чувствовал силу Локи и понимал, что хоть она велика, однако не больше, чем у него. Сидевший на троне был тварью с черной душой, злобной, властолюбивой, не ведавшей жалости, но все же он оставался не демоном, а человеком, и дар его, в силу своей человеческой природы, казался не столь огромным, как у Солайтера или чудовищного Дома. Конечно, Локи был могущественней мастеров из Темного Братства, сильнее Обитающего в Тумане, искусней любого наставника из школы Аббатств, но в нем не ощущалось ничего потустороннего или сравнимого с сокрушительной мощью Дома. Иеро знал, что мог бы вступить с ним в битву с немалой надеждой на успех. И все же не оставалось сомнений, что Локи — человек ли?.. демон?.. — способен творить чудеса. Его ментальный зов летел на тысячи миль, воле его подчинялись Дом и оборотни Моска, его — Другого Разума — страшился даже Солайтер; он мог овладевать душами лемутов, животных и людей и придавать им собственный облик; он плодил свои копии, одушевлял их и уничтожал; и, наконец, он властвовал над огненным лучом и мертвым разумом летающей звезды. Как? Какими силами свершалось это? «Наконец-то он пришел!» — гремело в голове Иеро, потом грохот набата сменился серебряным звоном литавр. Говорила женщина: «Выглядит неплохо. Не каменный истукан вроде Ри Ма, и не такой уродец, как малыш Нергал». Карлик, сидевший между Локи и крайним пустым креслом, пошевелился и злобно сверкнул на женщину глазами. Его ментальный голос был похож частую глухую дробь обтянутого отсыревшей кожей барабана: «Хочешь узнать его поближе? Торопись, Кали, пока его не скормили мирмидам!» «Узнать? Почему бы и нет? Ваши двойники мне порядком надоели». «Как и твои — нам!» Ощеривщись в ухмылке, Нергал потянулся к дремавшему на плече нетопырю, и тот, внезапно очнувшись, вонзил мелкие зубы в хозяйское запястье. Брызнули алые капли, особенно яркие и заметные на синеватой коже, но длинный проворный язык тут же слизал их. «Вампир! — мелькнуло в голове Иеро. — Но зачем эта тварь синюку? Отсасывать дурную кровь?» Мысль Локи снова грохнула под черепом и раскатилась долгим эхом. «Ты мог бы добраться сюда быстрее, священник!» «Тебе известно, почему я задержался», — последовал ответ. «Да. Что ж, не стоило тебе тревожить „Аргус“ и посылать ему дурацкие приказы! Я не всеведущ, священник, и я не знал, что на твоем воздушном пузыре есть устройство космической связи… не знал и того, что у тебя достаточно мозгов, чтоб им воспользоваться… Это грозило моим планам, и потому твой пузырь был уничтожен. Но я ведь предупредил тебя, не так ли? — Темные глаза сверкнули насмешкой. — Ты должен благодарить меня, священник! Ведь вы спаслись — и ты, и твой чернокожий приятель-хайлендер, и этот боров по имени Гимп…» «Где мои спутники? — резко спросил Иеро. — Что с ними?» «Ты слишком тороплив, священник, и забываешь, кто задает здесь вопросы. Слишком тороплив и прыток… — Рот Локи издевательски кривился, цепочка мелькала и посверкивала в длинных беспокойных пальцах. — Прошлой ночью я собирался дать тебе кое-какие инструкции через борова Гимпа, но ты решил, что можешь ими пренебречь… Что подтолкнуло тебя к этому? Страх или глупая поспешность? — Впившись взглядом в лицо Иеро, он выдержал паузу. — Пришлось послать за вами мирмидов, и ты, надышавшись их ядовитых выделений, валялся без чувств до вечера. И кто в том виноват? Твоя торопливость, друг мой, только твоя торопливость!» «Он расправился с пятью мирмидами и залил Моск ядовитым газом, прикончив наших слуг, — прошелестел ментальный голос. — Он убил нашего эмиссара на северном острове. Он находился среди тех, кто вырезал Круги и все их войско. Этот дикарь опасен!» Голос, невыразительный, как шипенье змеи, принадлежал желтокожему. Злобен и осторожен, решил священник, соприкоснувшись на мгновенье с его разумом. «Мы все опасны, Ариман, — откликнулся Локи. — В Теоне слизнякам не место. Этот дикарь убивает с легкостью… Так что же тут плохого?» «Ничего, — подумал Иеро, — если смерть настигнет злобных тварей вроде вас». Он не дал этой мысли вырваться наружу. Тревога за Альдо и Гимпа терзала его сердце, лицо умирающего Сигурда маячило перед ним, взывая к мщению, и пальцы сами собой легли на рукоять меча. Он не сомневался, что в рукопашной схватке убьет всех четверых; карлик и женщина — не в счет, а Локи и желтокожий Ариман не выглядели могучими воинами. Пальцы его разжались. Здесь властвовал не меч, а сила мысли. «Ри Ма прав, он слишком дикий, — торопливой глуховатой дробью раскатились слова карлика. — Я бы скормил его муравьям, но не сразу, не сразу… Почему бы нам не развлечься? Пусть берет свою отточенную железку и бьется с ними один на один. Думаю, шестой или седьмой его прикончит». «Это глупо, Нерг, — возразил желтокожий. — Лучше отправить его в лаборатории и вырастить клон бойцов, умелых и послушных воинов. А прототип хранить в гибернаторе. Конечно, расчлененным». «Не раньше, чем я наиграюсь с ним, — прозвенела мысль Кали, смуглой красавицы. — Как-никак, пять убитых мирмидонов, не считая всего остального… Сильный мужчина! Такие мне еще не попадались!» «Возможно, я учту ваши мнения. — Откинувшись в кресле, Локи оглядел священника с головы до ног, будто прикидывая, на что тот годен. — Возможно… Но лишь в том случае, если мы снова вытянули пустышку». «В четвертый раз за последние двести лет», — невозмутимо констатировал узкоглазый Ариман. Слушая их речи и размышляя над своей судьбой, Иеро с осторожностью охотника, что скрадывает редкостную дичь, касался их ментальных аур. Исследование было, разумеется, поверхностным, неполным, но кое о чем он догадался: эти люди не питали симпатий друг к другу. Ненависти, впрочем, тоже; видимо, главным в их отношениях были скрытая неприязнь и чувство усталости, копившейся много лет — или, быть может, столетий. Однако — что казалось поразительным — усталость и неприязнь не исключали доверия. Несокрушимого и полного, какое существует лишь между людьми, объединенными общей целью. Странный союз! Но думать об этом не время, решил священник, исподволь готовясь к схватке. Мечом ли, мыслью, но он попробует одолеть Нечистого! Это намерение зрело и крепло в нем с каждой минутой. Он впился взглядом в бездонные глаза Локи. «Ты не ответил на мой вопрос. Где два человека, что были со мной? Куда вы их дели? Я хочу их видеть!» «Снова торопишься, священник… Ну, что ж, отвечу: оба в Питомнике, так что не стоит о них беспокоиться. — Сидевший на троне повел рукой, будто отметая все заботы и тревоги. — Может быть, я верну их тебе на какое-то время, чтоб ты проделал с ними пару опытов. Только будь поаккуратнее со стариком, он — хайлендер, как мы с Ри Ма, слишком редкостный мутант, чтоб уничтожить его без досконального изучения. Ну, а другой твой приятель, Гимп, нам тоже пригодится в качестве шута. Он так уродлив и уморителен! Пусть развлекает нас». «Урод у вас уже есть», — откликнулся Иеро, шагнул к трону и, призвав на помощь Господа, нанес удар. Атака его была стремительной и внезапной; только скорость и неожиданность давали шансы на успех. Локи вздрогнул и скорчился в своем кресле, запрокидывая голову, трое остальных оцепенели, будто пораженные молнией. Зрачки крючконосого закатились, губы начали синеть; сжимая его в незримых тисках, Иеро пытался добраться до центров, что регулировали дыхание. То был самый надежный путь к победе — две-три минуты без воздуха, и противник мертв. Если Нечистому нужен воздух… Если он все-таки был человеком, а не демоном… Кто-то зашевелился за спиной Иеро, и священник, вспомнив о Девятом и не отвлекаясь от борьбы, нанес короткий резкий мысленный удар. Грохот упавшего тела подтвердил, что цель поражена; одновременно ему показалось, что головы сидевших в креслах окутывает серебристый блеск, словно над ними загорались невесомые, подрагивающие в воздухе нимбы. Не придавая этому значения, он продолжал ломать ментальным тараном защиту Локи; ему казалось, что еще мгновенье, и охранительный барьер падет, стены цитадели рухнут, и безжизненное тело свесится с кресла. Скорее! Прикончить главаря, потом заняться остальными… Их сила не так велика, как у Локи, им не удастся устоять… Стиснув от напряжения челюсти, Иеро сделал еще один шаг вперед, всматриваясь в тускнеющие глаза крючконосого; тот вытянул руку с растопыренной пятерней, как бы желая оттолкнуть неумолимого врага, и трое сидевших по обе стороны синхронно повторили этот жест. Алая вспышка! Будто снаряд, начиненный порохом, взорвался под черепом священника, лишая воли и атакующего порыва. Он увидел, как сияющий туман окутывает противников, и как из этой серебристой мглы встает гигантская призрачная тень; ее очертания были смутными, словно размытыми ветром, и веяло от нее леденящим холодом и смрадным дыханием преисподней. Теряя сознание, он услышал громоподобный рык — не ментальный голос, а пригибавшие к полу звуки, что складывались в слова на его родном языке: — Неплохо, тварь! Пожалуй, ты тот, кого мы ждали! Иди, учись и докажи, что ты достоин слить свою силу с нашей! И если это произойдет, ты разделишь с нами дар бессмертия и власти. Иди! Иеро почувствовал, как против собственной воли поворачивается к выходу, как ноги несут его из зала, а ураган, ревущий за спиной, подталкивает и давит, вышвыривая прочь. Он споткнулся, чьи-то руки поддержали его, и в следующий миг вселенная утонула в непроницаемой тьме.* * *
Мерно рокотали волны, алый шелк вечерней зари полыхал над морем, и высоко-высоко в темнеющих небесах горела первая звезда — будто рубин в королевской диадеме, сотканной из туч и света заходящего солнца. Иеро приподнялся на локте и вытер холодный пот со лба. Голова еще кружилась, взгляд туманила полупрозрачная дымка, но все же он разглядел сквозь нее бледную физиономию Девятого. Тот сидел на прибрежном камне и тоже потирал лоб. Губы его страдальчески кривились. — Ты сильно ударил меня, господин… Зачем? Поверь, я тебе не враг… — Ты — тот, кто ты есть, — пробормотал священник. — Глаза и уши своего владыки… — Не так. Не совсем так, — донеслось вместе с дуновением ветра. Этот порыв освежил Иеро; он попытался разобраться с непослушными руками и ногами и сесть в рыхлом теплом песке. Через минуту-другую зрение восстановилось, под черепом перестало гудеть, но горечь поражения терзала его сердце. Нерадивый ученик, которого высекли и выбросили за дверь… — Что это было? Что случилось со мной? — хрипло вымолвил он, адресуя эти вопросы то ли себе самому, то ли ветру, гнавшему тучи и волны. Ветер, пронзительно свистнув, принес ответ Девятого: — Ты испытал мощь Теона, господин. — Теон? Что такое этот проклятый Теон? — Очень древнее слово, немного измененное. На каком-то забытом языке пантеон означал собрание богов… Наши владыки — всего лишь люди, но когда разумы их соединяются в Слиянии и мощь многократно растет, они подобны богам. Никто не в силах бороться с ними! — Разумы их соединяются и мощь растет… — повторил Иеро, отряхивая песок с одежды. Давняя картина предстала перед ним: мрачные своды огромной, полной неведомых механизмов пещеры, зыбкий силуэт Дома, застывшие воины Нечистого и группа фигур в черных плащах, сблизивших покрытые капюшонами головы. Объединившись, темные мастера сражались с Домом, и монстр не мог их победить! Значит, они владели техникой слияния разумов… пусть делали это не с таким искусством и необоримой силой, как Теон, но все же, все же… Видение пещеры померкло перед мысленным взором священника, и он, перекрестившись, прошептал: — Господи, Твоя воля и власть!.. Но почему Ты дал такую силу людям? Почему Ты сделал так, что нет страшнее чудищ? Это было правдой, горькой, как сок молочая, и пьяняще-сладкой, как перебродивший мед. Многие юные расы и многие странные существа, возникшие после Смерти, обрели самосознание, могучий телепатический дар или хотя бы способность к ментальной речи, но человек оставался сильнее всех. Иеро вдруг понял это с пугающей ясностью и остротой, будто сам Господь послал ему откровение. Люди, опытные, искусные, объединенные общей целью, могли одолеть и Дом, и Солайтера, и Ветер Смерти иир'ова, и лишь от них зависело, чем обратится эта сокрушительная мощь, Добром или Злом. Одни могли бы сотворить рай на Земле, другие уже сотворили Нечистого… Он вспомнил призрачную тень, что встала из тумана, и содрогнулся. — Идем, господин, — Девятый, покачиваясь, встал. — Тебе не помешает отдохнуть. И ты, наверное, хочешь пить и есть. — Почему меня не убили? — спросил священник, не трогаясь с места. — Потому, что ты должен войти в Теон и увеличить его власть. Сила Теона с каждым новым членом возрастает, но лишь одаренный необычайной мощью способен соединиться с ним и овладеть искусством переселения разума в других существ, а также иными дивными уменьями. Редко, очень редко рождается такой человек… всего лишь четверо за тысячу лет… Быть может, ты станешь пятым. — И что я должен для этого сделать? — Иеро поднялся на ноги, осматривая небеса с мерцающими звездами. — Владыки сказали тебе: иди, учись и докажи, что ты достоин слить свою силу с нашей! Сделай это, и ты удостоишься бессмертия и власти. — Кто же будет меня учить? При мысли о предполагаемом учителе холодная дрожь пронизала священника, но Девятый ответил: — Никто. Теперь ты знаешь, что возможны кое-какие вещи, и этого знания достаточно для человека с твоим даром. Или ты научишься сам, или… Он сделал паузу, и Иеро закончил: — Или стану пищей для мирмидов. Я это знаю, мой провожатый в преисподнюю! Человек и копия человека пересекли песчаный пляж, направляясь к аллее с огромными липами, чья листва в сгущавшемся сумраке еще отсвечивала изумрудом. Ветер гнал по небу темные облака, шелестел в траве и листьях, завывал и свистел, то мрачно, то насмешливо. Круглое здание Теона опустело, и над его высоким куполом кружились летучие мыши, родичи нетопыря, сидевшего на плече синекожего. Их перепончатые крылья и жуткие морды наводили на мысль о стае мелких дьяволов, слетевшихся по зову Сатаны. Минут через десять, когда они подходили к широкой дворцовой лестнице, Иеро промолвил: — Твой повелитель что-то толковал о хайлендерах… о моем друге-эливенере, о себе самом и узкоглазом… как его?.. Ри Ма?.. Кто они, эти хайлендеры? — Такая же редкая мутация, как человек с могучим ментальным даром. Бывает, то и другое соединяется в одной личности, как у владык Аримана и Локи… — Девятый усмехнулся и добавил: — Может быть, ты тоже хайлендер, мой господин. Ты узнаешь об этом лет через сто. Брови священника изумленно приподнялись: — Хайлендер — долгожитель? — Да. Я помню, что на древнеанглийском «хайлендер» означает «горец», но не могу сказать, отчего людей, подобных властителю Локи, называли в старину хайлендерами. Может быть, среди обитателей гор долгоживущие встречались чаще, чем на равнинах, или есть какое-то другое объяснение… Не знаю! Взойдя по ступеням меж каменных фигур лемутов, они шагнули в холл. — Где пожелаешь отужинать, господин? — спросил Девятый. — В дубовом, мраморном или звездном зале? Или, может быть, у пруда, во внутреннем дворике? — У пруда. Пусть принесут мясо, хлеб и кувшин с водой. — Ты не хочешь вина? — Мне нечего праздновать, — ответил Иеро и повернул к своей опочивальне. Там, устроившись на краешке мягкой постели, ждала девушка. Смуглая кожа, черные волосы и черные огромные глаза, пухлый алый рот, узкое лицо с изящным маленьким носом, тонкие брови и ресницы, подобные темным веерам… Еще три часа назад он принял бы ее за Кали, но с тех пор случилось многое; теперь он знал, что здесь не стоит доверять глазам. Ни глазам, ни слуху, ни обонянию… Подойдя к ложу, он стиснул плечи незваной гостьи. Рот девушки приоткрылись в нерешительной улыбке; от нее пахло цветущим жасмином и медоносными травами. — Твой номер? — Я — Сто Двадцать Третья, господин. — Откинув темный локон, она показала выжженные за ухом цифры. — Зачем ты здесь? Она снова улыбнулась, на этот раз уверенней. — Меня прислала повелительница Кали, чтобы служить тебе… служить так, как ты пожелаешь. Разум ее не отличался глубиной как у Девятого, и правили им не здравый смысл, а примитивные чувства: страх перед болью, потребность в еде и сне, инстинкт абсолютного послушания. Кукла с прекрасным женским телом… Правда, она умела запоминать и говорить о всем увиденном и услышанном, и в том, вероятно, была ее главная ценность — по крайней мере, для ее госпожи. — Сейчас ты уснешь, — велел Иеро, — а утром отправишься к повелительнице и перескажешь ей свой сон. Сон, который будешь считать реальностью… Ты скажешь ей, что я был холоден, неловок, груб и не доставил тебе удовольствия ни на минуту… да и минут было не очень много — так, одна-другая… Еще добавишь, что мой ужасный храп не позволял заснуть до рассвета, и что я имею привычку лягаться во сне. Девушка вскрикнула, когда он сдавил ее плечи, оставив на нежной коже десяток темных пятен. — Спи! — Она покорно закрыла глаза. — И пусть Господь простит мне грех насилия над беззащитным существом! Но Он все видит и поймет, что я не могу делить постель ни с ней, ни с ее хозяйкой-дьяволицей! Взяв плащ из мешка с одеждой, Иеро вышел во дворик, где уже суетились трое крючконосых слуг, сел на скамью и приступил к трапезе. Потом он бросил плащ на землю, лег и постарался уснуть. Сны в ту ночь снились ему плохие: будто Гимп в шутовском колпаке жжет каленым железом брата Альдо, выпытывая тайну долголетия.ГЛАВА 10. БЕССМЕРТИЕ И ВЛАСТЬ
В сумерках над деревьями и крышами зданий носились нетопыри. С первыми звездами они покидали пещеру или расселину, темневшую в нагромождении скал в южной части парка и, покружив над ним, темной тучей устремлялись в горы — кормиться. Там, в поросших соснами утесах и ущельях, водилась кое-какая живность с теплой кровью, источник пропитания для маленьких летающих вампиров. — Стая владыки Нергала, — сказал Девятый, запрокинув голову и глядя на небо. — Минуло триста лет, как он явился на зов повелителя Локи, а затем призвал своих любимцев. Он мутант, из племени карликов, что обитало в Европе в пустынях Смерти. Точнее, на их рубежах, хотя и там радиация была немалой. До сих пор в пустынях сияют голубые огни, и наверно поэтому кожа у карликов поголубела. — Такой народ есть и на Западном материке, — отозвался Иеро. — Мы называем их синюками. Они стояли у заросшего кувшинками озерца, неподалеку от пещеры. Ее овальный зев еще курился дымом — последние нетопыри взмывали в воздух. Девятый покачал головой. — В Европе этого племени уже нет. Видишь ли, господин, у них был наследственный недуг, болезнь крови, и жили они в симбиозе с нетопырями. Те отсасывали кровь, и какие-то вещества в их слюнных железах стимулировали кроветворную функцию, так что без вампиров синекожие существовать не могли. Когда владыка Нергал появился в Кентау, его клонировали, и в новом теле болезнь его покинула — в лабораториях умеют исправлять генетические дефекты. Став членом Теона, владыка отправил мысленный приказ нетопырям, они покинули его народ и переселились сюда, на полуостров. А синекожие вымерли. Иеро перекрестился, наблюдая, как темное облачко потянулось в горы. Кувшинки, застывшие на поверхности озера, уже закрывали бутоны, готовясь к ночи. — Уничтожить собственный народ… Зачем? Зачем он это сделал? — Не знаю, господин. Среди копий деуса Аримана — а им, специалистам, ведомо многое — идет слух, что повелитель Нергал недолюбливал соплеменников. Кое-кто утверждает, что ненавидел, и потому решился заменить их своими клонами. Он очень жесток, наш крошка Нергал, бессмысленно жесток, и прочим владыкам приходится его обуздывать. Хотя и они не мед, клянусь девятым кругом ада! Выслушав это, Иеро довольно кивнул. Еще неделей раньше Девятый не рискнул бы сделать такое крамольное замечание, но с той поры кое-что изменилось. Сеансы одушевления, проводимые над крючконосым, имели неожиданный эффект: подопытный мало-помалу приобретал черты его личности. За два последних дня это стало особенно заметным. Клянусь девятым кругом ада! Копия Локи, которой Девятый был еще недавно, не могла бы так сказать! Тем более, критиковать владык! — Ну, — произнес священник, — займемся делом, мой несчастный брат. Хоть ты творение дьявола, а не Бога, милость Его беспредельна… Глядишь, Он вразумит тебя через мое посредство. Сосредоточившись, Иеро проник в сознание Девятого, тут же закапсулировав его личность, как бы переселив ее на островок в бурном потоке собственных ментальных излучений. С каждым разом — а он, наверное, проводил уже сотый эксперимент — эта операция осуществлялась быстрее и легче, что говорило о его возросшем мастерстве. И с каждым разом он все больше узнавал о Девятом, внедряясь в омуты памяти и кладовые накопленных знаний. Это существо сотворили полвека назад, но оно хранило воспоминания всех своих восьми предшественников. Очень мрачные воспоминания, как полагал Иеро, ибо всех их бросили муравьям, и те пожрали их живыми. Отсюда проистекала ненависть, которую Девятый питал к мирмидам; ненависть, страх и жажда мести, поскольку одной из черт его прототипа было умение не забывать и ничего не прощать. Творя своих совершенных клонов, Локи не наделял их ментальным даром, но многие нюансы характера передавались им с той же неизбежностью, с какой отпечаток ладони в мокрой глине будет иметь пять пальцев. Линии судьбы, пересекающие ладонь, как и другие мелкие детали, могут не оставить следов, но пальцы отпечатаются непременно — и пальцы, и бугорки у их оснований, и общий контур. Ментальный контур, разумеется; а он, как понимал уже священник, определяет главные свойства личности. Коварство или простодушие, покорность или жажду власти, скромность или самомнение… Амбиции! У всех совершенных копий Локи амбиции были не меньше, чем у него самого. Пламя амбиций ярилось в клетке ограниченных возможностей и прорывалось иногда наружу; в этот момент клон восставал на своего творца в бессмысленном и жалком мятеже, и дело кончалось муравейником. Девятый об этом помнил. Видимо, память о гибели его предшественников и их предсмертных муках делала его осторожнее — или, если угодно, придавала стабильность его нраву. Временами Иеро подозревал, что Локи, творя и умертвляя эти копии, намерен вывести особую породу — не телепатов, но существ равного с ним интеллекта, способных властвовать и править, однако помнящих о бесполезности восстания. Возможно, размышлял священник, Девятый будет не последним в этом семействе совершенных клонов. Наложив свою индивидуальность на мозг подопытного, он быстро сплетал паутину, соединявшую разум с периферийной нервной системой, с мышцами и органами чувств. Этот деликатный процесс сильно отличался от привычного ему искусства завладевать чужим сознанием, превращая его владельца в куклу-марионетку. Разница была огромна: в одном случае он держал человека под непрерывным ментальным контролем, в другом — переселял в его разум частицу своей личности. Какую именно? И что происходило с покоренной, закапсулированной прежней сущностью? Тут были десятки возможностей и вариантов, которые он изучал с упорством воина, готовящего доспех, копье и меч к грядущим битвам. Вскоре выяснилось, что нельзя расстаться с собственной плотью, переселившись в чужое сознание, или сотворить полный ментальный аналог, если мозг-приемник не абсолютно пуст и чист. Если б в распоряжении Иеро была первозданная копия-клон, тело без души и мыслей, он мог бы перенести в нее свой разум безвозвратно или изготовить двойника. Десять двойников, сто или тысячу, целое войско — были бы только тела! Прежде бы он не поверил, что такое возможно, но лучший способ обучения для одаренного ментальной силой — увидеть результат и попытаться его достигнуть. Что, собственно, и повелел Нечистый. Кроме полного копирования существовал другой вариант, когда в новосотворенный мозг переносилась часть сознания прототипа. Она могла быть довольно большой или урезанной и скудной; в первом случае в мир являлись существа, подобные Девятому, а во втором — его убогие собратья, служители с четырехзначными номерами и клоны Кали для постельных развлечений. Но даже в последней ситуации не удавалось полностью очистить мозг, избавиться от прежней личности, пусть убогой и ущербной, и внедрить частицу своего сознания. Такая попытка убивала мозг-приемник, а вместе с ним и плоть, словно закапсулированный разум, плененный и подавленный, мстил захватчику. Имелись, однако, приемы, как избежать летального исхода. Простейший из них заключался в том, чтобы изолировать и оставить в покое плененную личность, оккупировать мозг и попользоваться телом в течение какого-то времени; другой — договориться с носителем разума. Это было уже не столь элементарной задачей, так как всякий мозг упорно и инстинктивно сопротивлялся захвату, и договор, хоть письменный, хоть устный, служил неважным способом борьбы с реакциями подсознания. Преодолеть эту трудность удавалось внушением покорности, инертности и чувства безопасности, но успокоительные процедуры срабатывали не всегда. Лишь в одном случае тут не возникало проблем — если хозяин мозга-приемника испытывал к временному оккупанту огромное, всепоглощающее доверие. Доверие выключало защитные механизмы, и битва с чужим сознанием превращалась в иной процесс, в равноправное партнерство, цель которого была известна и понятна каждой из сторон. Иеро подозревал, что этот путь сулит невероятные перспективы, если союз заключен меж опытными телепатами. Как минимум, их мощь удвоится и даже удесятерится, причем вероятней последнее, если вспомнить необъяснимую силу Нечистого и все попытки завербовать в Теон достойных волонтеров. Настойчивые, долгие попытки — ведь поиск шел на протяжении столетий! Паутина была сплетена, и священник оборвал мысленную нить, соединявшую его с Девятым. Теперь в мозгу крючконосого обитала часть его индивидуальности — ментальный блок, крохотная частица, позволявшая двигаться, видеть, слышать и воспринимать команды. Незримые стены, в которых томился сейчас подопытный, должны были вскоре рухнуть, и тогда блок растворится в сознании Девятого, что-то добавит к нему, что-то уничтожит, что-то изменит. Очень немногое, ибо добиться позитивных сдвигов за один сеанс не представлялось возможным. Иеро, однако, помнил одну из заповедей Боевого Кодекса Аббатств: великие результаты достигаются медленными, но терпеливыми усилиями. — Иди за мной, — сказал он стоявшему рядом существу. — Гляди под ноги и по сторонам, чтоб не споткнуться и не налететь на дерево. Эти инструкции были необходимы при частичном одушевлении; в первый раз Девятый, управляемый блоком, ударился о валун и разбил колено. Обогнув озерцо с кувшинками, Иеро вышел на боковую аллею, добрался до главной, обсаженной липами, и направился к дворцу. Крючконосый шагал сзади, ступая след в след. Оборачиваясь время от времени, священник видел, что Девятый ставит ногу точно так же, как он сам, и что в его движениях появилось нечто ему несвойственное: легкая, скользящая и бесшумная поступь охотника. На лестнице, у изваяния вербэра, подопытный вдруг глубоко вздохнул и пробудился. — Я здесь, господин… я снова здесь… Странное чувство, клянусь Творцом! Будто вынырнул из темного омута… Прежняя копия Локи так бы не сказала бы, отметил Иеро. Кажется, его неусыпный страж и соглядатай стал превращаться в союзника… Он похлопал Девятого по плечу, широко улыбнулся, да так и застыл с улыбкой на губах. Краткая повелительная мысль достигла его сознания — Локи ждал его в своем дворце.* * *
Здание в форме усеченной пирамиды было темным и мрачным — черное пятно с резкими контурами, маячившее на фоне звезд. У портала, глубокого, как вход в пещеру, стояли часовые — шестнадцать мирмидов, застывших будто обсидиановые статуи. Звездный свет тускло поблескивал на их хитиновых панцирях. Клон Локи с двузначным номером над бровью дожидался священника. Поклонившись, но не промолвив ни слова, он повел его коридором, задрапированным фиолетовой тканью с золотистым росчерком молний; у потолка висели светильники в виде хрустальных комет, пол, устланный коврами, пружинил под ногой. Ковры были шерстяными, пышными, серебристо-голубоватыми, и Иеро подумал, что сотканы они их руна овец, водившихся на Асле. Может быть, за ними и плавали на далекий северный остров синекожие мореходы?.. Мелькнули колонны из бронзы с полукруглой аркой, и огромный зал поглотил его. Провожатый снова поклонился и исчез, оставив священника в полусферическом пространстве, напоминавшем гигантскую половинку ореха. Зал был почти пуст, лишь слева у стены тянулась панель с какими-то приборами, а справа нависала над столом и креслами смутно знакомая конструкция. Приглядевшись к ней, Иеро вздрогнул и машинально перекрестился, шепча слова молитвы. Решетчатый экран! Такой же, какой он видел в Ниане, в тайном подземелье Темных Мастеров! Массивный обод рамы из голубоватого металла, провода, изгибающихся под какими-то невероятными углами, хаос разноцветных нитей, сплетенных в прихотливый узор… Но по экрану не блуждали огни, не корчились нити и провода, лишенные прежней странной и отвратительной жизни; паутина, что источала когда-то эманацию зла, была застывшей, мертвой, будто пучок иссохших от зноя лиан. Уста Нечистого, передававшие его приказы на Западный материк, смолкли; там, на западе, уже не нашлось бы ушей, еще недавно внимавших ему с почтительной покорностью. Это воспоминание подбодрило Иеро; он выпрямился, расправил плечи и бросил взгляд на приборную панель. Она, в отличие от решетчатой конструкции, казалась живой; что-то потрескивало и шелестело, тут и там вспыхивали огоньки, а меж ними мерцал большой экран с изображением звездного неба, пересеченный мигающей линией. Точь в точь как в пилотской кабине «Вашингтона»! Вероятно, пульт для связи с «Аргусом», решил священник, но не успел обдумать эту мысль, как за спиной раздался резкий голос. Слова звучали на его родном языке. — Любопытствуешь? Что ж, не удивительно… Это очень древнее устройство, станция связи с боевыми космическими объектами. Отродья Нергала нашли ее на одной из полуразрушенных военных баз, на острове в Великом океане. Не так давно, лет пятьдесят тому назад… Локи шагнул в зал. Его черная мантия распахнулась, блеснула золотая цепочка, и Иеро увидел, что на ней висит шарик, крохотный глобус — видимо, символ власти над континентами и океанами Земли. — В вашей стране дикарей учат бояться ракет, — продолжал темный владыка. — В ваших архивах наверняка записано, что эти снаряды погубили мир, что их пускали с воды и суши, а также из космоса, с искусственных сателлитов, подобных «Аргусу», и что они несли ядовитые газы, атомные заряды и крохотных существ, возбудителей болезней. Может быть, вы помните и о лазерных лучах, подобных тому, что сжег твой летающий пузырь… Может быть! Но истинная причина того, что вы, по своему недомыслию, зовете Смертью, а я — Очищением, вам неизвестна. Он подошел к пульту, оперся на него рукой и посмотрел на звездный экран. Иеро молчал и следил за ним настороженным волчьим взглядом. — Не сверкай глазами, священник, не думай, что в одиночку я беззащитен… Ты ведь уже убедился, что не справишься с Теоном, не так ли? Кали, Нергал и Ариман сейчас в своих покоях, но расстояние нам не помеха. Мы можем объединиться в любую секунду. Желаешь проверить, мой недоверчивый друг? Иеро закусил губу. — Мы говорили о причинах Смерти, — произнес он, не отвечая на вопрос. Его жуткий собеседник усмехнулся. — Я говорил… Я, не мы! Ибо ты не можешь сказать по этому поводу ничего разумного. — Он сделал паузу, потом коснулся алого огонька, что медленно полз по звездному экрану. — Таких боевых сателлитов были десятки у каждой из сражавшихся сторон, и до войны считалось, что они, вместе с ракетами, поддерживают в мире равновесие. Но в одном из государств — в том, на чьей территории мы находимся — изобрели кое-что поновее. Ты слышал о психотронном оружии? — Его горящий взгляд вонзился в священника и вспыхнул торжеством, когда тот покачал головой. — Не слышал? Нет? А зря! Ладони Локи с длинными гибкими пальцами ласкали пульт. Казалось, он тронет сейчас какую-то кнопку, и в воздух с ревом взметнулся сотни ракет, неся уничтожение всему живому на планете. — Не забывай об этом оружии, мой наивный друг, ибо оно сродни тому, которым мы владеем — ты, я, другие телепаты… Не столь утонченное, как наши разумы, зато исключительно мощное, способное влиять на человеческую психику за сотни и тысячи миль! Но это была теория, а чтобы проверить ее, смонтировали на сателлитах излучатели и запустили их — я полагаю, ненадолго, на пару минут или пару часов. Хотели устрашить, однако противник сошел от ужаса с ума, и тут же ответил ракетными залпами. Космические базы с излучателями были уничтожены, но управлявшие ими стратеги успели отправить ментальный приказ во вражеский стан. Часть снарядов переориентировали, и это спасло их столицу, но не мир. В мире воцарился хаос! «Столица, — подумал Иеро, — столица, Моск, где не упало ни единого снаряда!» Теперь он догадывался, почему. Нечистый, однако, был прав — ни города, ни мира это не спасло. — Откуда ты это знаешь? — спросил он вдруг охрипшим голосом. Локи усмехнулся. — Не все уничтожено, священник, и не все забыто. У тех, чья жизнь не измеряется жалкими десятилетиями, есть время, чтобы искать, сопоставлять и думать. Я родился очень давно, не здесь — за океаном, и звали меня не Локи… Там, в Забытых Городах и тайных убежищах, нашлись сведения об этом месте, а здесь я отыскал остальное — пленки, документы, записи. Но не только их! Видишь ли, владыки древних стран, лежавших на Западном материке, знали про вражеский космодром к северу отсюда и уничтожили его ядерной атакой. Но была запасная площадка, тщательно спрятанная, законсервированная… Она за горами, в южной части моего полуострова! — Он вытянул длинную руку, потом, будто снимая возбуждение, подбросил в ладони крохотный шарик-глобус. — На равнине — взлетное поле, в скалах — лаборатории и склады… Тут, в Кентау, нет атомных снарядов, зато есть вещи более ценные — пара космических кораблей, топливо и излучатели… И есть «Аргус», последний уцелевший сателлит! Он принадлежал другой стране, и нам пришлось потрудиться, чтобы проникнуть в эту космическую цитадель… Но дело сделано, и клоны Аримана уже ведут монтаж излучателей. Один из них собран и испытан, и хотя сигнал его слаб, но не настолько, чтобы… Локи смолк, с усмешкой глядя на священника. Впрочем, недосказанное было ясно, как солнечный свет погожим утром: слабый зов, что приходил с небес, все же ощущался на западных берегах Лантика. А на родине Сигурда и в Моске силы его хватало, чтоб одушевить приспешников Нечистого! Иеро почувствовал, как где-то под сердцем растет ледяная глыба, протягивая холодные щупальцы в мозг. Множество ярких образов мелькнули перед ним на мгновение: всадники на лорсах, идущие в атаку, дредноуты под флагом Аббатств у берегов Нианы, Божий храм в Саске, дворцы, сады и пашни Д'Алви, Солайтер над водами тихого озера, стойбище желтоглазых иир'ова, лица отца Демеро, Лучар и Вайлэ-ри… Затем на эти картины торжества и счастья пала мрачная тень; она стремилась с востока, закрывая солнце, и корабли, здания и города под ней вспыхивали и сгорали в клубах яростного багрового пламени. — Что будет, когда закончится монтаж излучателей? — хрипло выдохнул священник. Темный владыка все еще ухмылялся, взирая на него — видно, отзвук жутких грез, просочившись сквозь ментальные барьеры, был уловлен сознанием Локи. — Что будет? — повторил он. — Ничего пугающего твое воображение. Ни катастроф, ни взрывов, ни пожарищ… Ты слишком торопишься с выводами, священник! Ты забываешь, что я мог бы построить тысячи кораблей, клонировать сотни тысяч бойцов, послать на юг и север, на запад и восток флоты и армии, затопить все страны ордами лемутов… Но зачем? Для чего? Я милостив, и вовсе не жажду крови… Мне — нам, Теону! — нужна лишь покорность! И мы своего добьемся, когда заработают излучатели, и наша ментальная мощь достигнет всех уголков Земли. Ты испытал эту силу, не так ли? И ты понимаешь, что, сложившись с твоей, она возрастет? Так пойми и другое: «Аргус», — кулак Локи грохнул о пульт, — лишь подстраховка! Мы недосягаемы и бессмертны, мы можем ждать и искать. И когда нас будет шесть или семь, мы обойдемся без излучателей. Смертная тоска сдавила грудь Иеро. Он пробормотал: — Но какой в этом смысл? Чего вы добиваетесь? Твои адепты из Кругов хотели уничтожить жизнь. И вы… Локи прервал его, резким жестом вскинув руку. — Адепты из Кругов! Черви, лысые твари, возомнившие, что они похожи на меня! Когда-то я сделал на них ставку… я думал, что за сотни лет найдется трое-четверо достойных, которые придут в Теон, усилят нашу мощь… Тщетные надежды! Они — всего лишь кучка честолюбцев, глупых, кровожадных и мстительных! Очень глупых, если твоя варварская страна сумела воздать им по заслугам! Какое теперь мне дело до них? Если волки севера пожрали лысых червей, я буду править волками… Править с тем большей охотой, что среди них есть достойный вожак, с которым можно разделить могущество и власть. И, разумеется, бессмертие… Речь его вдруг стала тягучей, елейной и сладкой, как патока, резкие ноты исчезли, и даже лицо смягчилось. — Мы наблюдаем за тобой уже давно, священник, с тех дней, когда ты прикончил в Тайге лысую тварь. Как ее звали?.. Кажется, С'нерг?.. Помнишь, С'дана потом говорил с тобой и предлагал сотрудничать? Считай, что в те минуты ты первый раз услышал мой голос… Мой, а не С'даны! Тогда ты отказался прийти ко мне, и это было правильно; мощь твоя росла от битвы к битве, от испытания к испытанию, и теперь ты можешь влиться в Теон и разделить с нами ответственность за судьбы мира. Я знаю о твоих успехах; я доволен, и я тебя вознагражу. Сейчас, немедленно! Этот твой приятель, твой чернокожий хайлендер… Желаешь, чтоб он возвратился к тебе? — Чего ты за это потребуешь? — произнес Иеро. — Что хочет от меня Теон? И что он такое? — Разве ты еще не понял? — Лицо Локи посуровело, глаза блеснули темным огнем. — Теон — бессмертие и власть, и оба дара предложены тебе, священник! Знай, что мы — ты, я и остальные — мутация человечества, породившего своих генетических владык. Ты спросишь, зачем и для чего? И я тебе отвечу: ради собственного самосохранения, ибо лишь сильная вечная власть может спасти планету от новой катастрофы. Полный контроль над Землей — вот наша цель! Контроль над жизнью и смертью, над мыслями и делами… Великая цель, не так ли? — Он сделал паузу, потом наклонился к Иеро и продолжал доверительным тоном: — Для нас неважно, кто победил на вашем материке, Круги или твоя страна… неважно, поверь, ибо, во имя высшей цели, мы готовы поддержать сильнейшего. Мы даруем победителю владыку, тайного правителя и нашего собрата, который будет властвовать в западном полушарии. Властвовать, опираясь на нашу мощь и ваши Аббатства, коль они оказались сильнее, править северным континентом и тем, что лежит за экватором, а также всеми морями и островами… Подумай, сколь обширное поле для приложения сил! Подумай, лорд-протектор Запада! В огромном зале воцарилась тишина. Нахмурившись, священник молчал, разглядывая игру огоньков на пульте, раму из голубого металла и паутину разноцветных проводов. Его несомненно искушали! Не женщинами, не богатством и даже не призраком вечной жизни, ибо к подобным соблазнам он был равнодушен. Власть, а значит, возможность творить добро — вот в чем заключался искус! Дьявол знал, как уловить его в сети! — Я подумаю, — вымолвил он наконец, ни на секунду не ослабляя ментального барьера. — Я подумаю, и эти раздумья будут недолгими, клянусь самой большой из адских сковородок! Ты сказал — лорд-протектор Запада? Что ж, это мне нравится! Но я не желаю быть слабейшим в Теоне и приду к вам тогда, когда почувствую, что готов. Эти опыты по слиянию и переселению душ так забавны… Еще немного, и я овладею этим искусством в совершенстве. — Похвально, очень похвально. — Локи поднял костистый палец. — Должен лишь предостеречь тебя от переселений в убогий мозг какой-нибудь крысы, змеи или ящерицы. Видишь ли, у низших животных слишком неразвито самосознание, и в результате они не способны вместить человеческий интеллект. Можно держать крысу под телепатическим контролем, но если ты переселишься в нее, возврата назад не будет. Ставь свои опыты над Девятым или… — тут темный владыка хихикнул, — или над своим приятелем-хайлендером! Он — твоя награда, и завтра будет в твоем дворце. А теперь — иди! Не вымолвив ни слова, священник зашагал к арке меж парных бронзовых колонн. Там он остановился и, обернувшись, бросил через плечо: — У меня два приятеля, и мне хотелось бы получить обоих. Могу я надеяться на твою щедрость? Локи, видно утомленный разговором, вяло махнул рукой. — Можешь, но не сейчас. Всякую награду нужно заслужить. Сытый пес хуже ловит кроликов, не так ли, священник? Губы Нечистого скривились в насмешливой улыбке.* * *
В ту ночь Иеро долго не мог уснуть. Вернувшись в свою опочивальню, он вышел во двор, сел на камень у пруда и мрачно уставился на темную водную поверхность, в которой отражалось усыпанное звездами небо. Мысли его струились как горный ручей и были столь же стремительны и холодны. Господь Всемогущий! Править Кандой! Нет, не только ею; властвовать над Чизпеком и Д'Алви, Кэлином и прочими королевствами юга, над западным горным краем, над океанскими побережьями и легендарными странами Тексус, Мексано и Калифар… Больше того, дотянуться к земле, лежащей за экватором, к далекому таинственному материку, который тоже станет его владением… На века, тысячелетия, ибо жизнь его никогда не прервется! Сколько можно сотворить добра! Сколько жизней спасти, скольким народам и племенам поведать милосердном Творце! Избавить мир от лемутов, вступить в союз с негуманоидными расами и доказать им, что человек умеет не только разрушать и убивать… Проложить новые пути по суше, морю и воздуху, выстроить новые города, исследовать материки — и, быть может, обнаружить загадочных созданий, подобных Солайтеру… Пустые мечты, сказал себе Иеро. Мираж, иллюзия, так как власть от дьявола принесет лишь страдания и несчастья. Всякое дело Нечистый повернет ко злу, извратит добрый замысел, предаст и обманет, ибо он — отец лжи! И сейчас он лжет, искушая бессмертием и властью, пытаясь разжечь костры гордыни и честолюбия. Он сказал: какое мне дело до лысых червей, до побежденных адептов Темного Братства… Ложь! Он — тот Объединитель, который создал их, злобный гений из рассказов брата Альдо; он правил Кругами тысячу лет, он — их хозяин и владыка, и он отвечает за всех замученных и убитых, за каждую каплю крови, что пролилась во имя его! А крови было море, и потому его слова — обман! Даже если брат Альдо вернется, если отпустят Гимпа, это тоже будет обманом. Это не бескорыстное деяние, а хитрая уловка, трюк, чтобы уснула бдительность души, которой желает завладеть Нечистый. Дьявольские козни! Однако на хитрость отвечают хитростью, подумал священник, отыскав взглядом алую точку «Аргуса», торившую путь в ночных небесах. Если четыре ублюдка с разных концов Земли объединились и породили демона, то почему бы слугам Божьим не сотворить архангела с огненным мечом? И, сотворивши, поразить владыку зла… Эта мысль и ожидание брата Альдо не давали Иеро покоя. Он попробовал связаться с эливенером, но безуспешно — Питомник, прикрытый ментальным щитом, оставался недоступен. Тогда он отправил мысленный импульс дальше, за пределы песчаной пустыни, что ограничивала Кентау. Чувствуя, как возросла его мощь, Иеро касался разумов степных обитателей, дремлющих или искавших добычу на расстоянии в тридцать, сорок и пятьдесят миль. Теперь он мог бы протянуть ментальный щуп на большую дистанцию, но в этом не было нужды — то, что он искал, нашлось. Знакомый бесплотный голос зазвучал в его сознании: «Друг Иеро! Наконец-то! Я уже думал, что остался один… Жизнь тяжела, когда не с кем поговорить, кроме быков и оленей. Скучные создания! Все время жуют траву». «Надеюсь, ты не пасешься вместе с ними?» «Пока еще нет. Когда на нас напали — (образ мирмидона), — я спрятал мешок со сладкой пищей — (пеммикан, его запах и чувство удовлетворения). — Но эта пища подходит к концу, а здесь, в пустыне, нет ни орехов, ни ягод, ни дупел с медом. Сказать по правде, я немного отощал». «Потерпи, сладкоежка», — отозвался Иеро, улыбаясь впервые за этот долгий день. Радость затопила его, вытеснив на миг воспоминания о Локи и Теоне, но этот миг был кратким, как порыв налетевшего свежего ветра. «Я ни о чем не спрашиваю, ни о старейшем, ни о Гимпе, — заметил медведь. — Боюсь, нас могут услышать, даже если мы станем обмениваться мыслями словно пара жуков». Он говорил о связи на частотах насекомых, но Иеро, сформировав ментальный блок с долей своего сознания, тут же откликнулся: «Теперь я знаю лучший способ. Я вышлю к тебе посланца, Горм. Не удивляйся, если узнаешь его. Он скажет, что ты должен делать». Блок выскользнул, отправившись по невесомой нити, соединявшей их разумы, и священник тут же прервал контакт. Все, что он хотел поведать Горму, было заложено в этом ментальном импульсе; он будет храниться в сознании Горма, поддерживать и направлять его, спасать от одиночества. Он подскажет, какая помощь нужна Иеро. Не слова, а только образы; картины южной части полуострова со взлетным полем, лабораториями и складами. Что там творится? Чем заняты клоны Аримана, о коих толковал Нечистый? Размышляя об этом, Иеро сунул руку за пазуху, нащупав увесистый мешочек из оленьей кожи. Почти машинально он вытащил его, раскрыл и высыпал на камень маленькие деревянные фигурки, потом всмотрелся в свой магический кристалл. В нем, будто в крохотном озерце, отражались созвездия, горели туманности, мерцал серебряный лунный диск, и Млечный Путь делил напополам космическую пустоту — яркая тропинка, что тянулась из сегодня в завтра. Не задумываясь, он вступил на эту дорогу и погрузился в провидческий транс. Забытье было глубоким и длилось больше часа — когда Иеро очнулся, луна прошла зенит, а с запада, с моря, стадом гроконов наползали тучи, глотая звезду за звездой будто рассыпанные по небу желуди. Священник глубоко вздохнул, раскрыл ладонь и замер, всматриваясь в две лежавшие на ней фигурки. Книга и Округленные Губы! Те же символы, что в предыдущем гадании! Совпадение? — мелькнула мысль. Нет, ясный знак судьбы! Книга лежала в ямке посередине ладони, Губы — на первых фалангах среднего и безымянного пальцев, и Иеро решил, что знаки нужно трактовать именно в такой последовательности. Выходило, что Божья помощь придет к нему через нечто удивительное, и, подумав об этом, священник кивнул головой и зашептал молитву. Все правильно, так и должно быть, ибо пути Господни неисповедимы! Он вдруг успокоился, словно почувствовал, что Божья рука лежит на нем, и что ему дарованы огненный меч и мощь архангела. Пусть не сейчас, а только в краткие секунды битвы, пусть! Мгновения хватит, чтоб сокрушить Нечистого… Повернувшись к морскому берегу, туда, где высился пирамидальный дворец, Иеро усмехнулся и прошептал: — Господни мельницы мелят медленно, и редко бьет Господь, да метко. Берегись, ибо гнев Его страшен!ГЛАВА 11. ЗНАК СВЯЩЕННОЙ КНИГИ
— Мы сможем это сделать. Думаю, что сможем. Голос священника был едва слышен, и брат Альдо, склонив седовласую голову, придвинулся ближе. Они сидели в увитой зеленью беседке, плотная завеса из стеблей и листьев гасила звуки, двор и комнаты вокруг были пусты, и все же Иеро говорил шепотом. Ментальная речь вообще исключалась; для мысли листва и стены не помеха, и тут, в обители Нечистого, всякая мысль могла предать — либо, как минимум, насторожить владык Кентау. — Нечистый — плод их союза, рожденный злыми мыслями кошмар, — продолжал лихорадочно шептать Иеро. — Власть! Они объединились ради безграничной власти, их могущество растет, и вскоре над миром сомкнутся темные тучи… Я знаю, Локи говорил мне… Их Богом проклятый Теон отыщет пятого… не меня, так другого, не сейчас, так через сотню лет… отыщет, и сила их удвоится… А если не отыщет, они смонтируют машины на той летающей звезде, что говорила с нами… чудовищные машины, лишившие древних разума, призвавшие Смерть… Прошла неделя с той поры, как брата Альдо освободили из Питомника. Это был, по его словам, комплекс биологических лабораторий, запрятанных под землю и охраняемых мирмидами, в котором синтезировали пищу и выращивали клоны четырех пород. Из клеточных тканей Нергала производились мореходы, Кали поставляла девушек для развлечений, а копии Локи, в зависимости от интеллекта, выполняли роль надсмотрщиков, секретарей, строителей и слуг. Клоны узкоглазого Ри Ма были биологами и техниками; первые трудились в Питомнике, вторые — на взлетном поле, откуда раз в несколько месяцев стартовали к «Аргусу» космические корабли. Был в Питомнике и гибернатор, особая камера, в которой, в глубоком холоде, хранились сменные тела владык, но о самом процессе одушевления биологи не знали ничего. У них отсутствовал ментальный дар, и, как прочие клоны, они не могли давать потомство, хотя их жизнь, по меркам Кентау, была довольно долгой — тридцать-сорок лет. Во всем, что не касалось ментального искусства, эти создания были неплохо проинформированы, как и положено специалистам. От них брат Альдо узнал массу любопытного — к примеру, о том, что Локи и в самом деле является той легендарной личностью, объединившей в прошлом Темное Братство. Но этот плод оказался гнилым; ментальный дар адептов братства не возрастал, как ожидалось, от поколения к поколению, зато в иных краях рождались люди с уникальными талантами. Или почти люди, если вспомнить о синюке Нергале. Но первым сподвижником Локи сделался Ри Ма, принявший имя Аримана, хайлендер-долгожитель, почти не уступавший ему возрастом. Народ Ри Ма происходил от белых и желтокожих, уцелевших в период Смерти в Сайберне, а также в степях и плоскогорьях, лежавших к югу от зоны лесов. Со временем их потомки расселились в огромной речной долине, носившей древнее имя Аймор; так же звалась и страна на океанском берегу, обширная территория, богатая сырьем и плодородной почвой. Айморцы были людьми энергичными и суровыми; задолго до рождения Аримана они уничтожили лемутов в своих пределах, а заподозренных в злом колдовстве бросали в жерла вулканов или на съедение огромным полуразумным муравьям. Ни та, ни другая перспектива Ри Ма не устраивала, и он, повинуясь ментальному зову Локи, бежал на запад. С ним, лет девятьсот назад, пришли муравьи, предки нынешних мирмидов, а также обычай скармливать им бунтовщиков живьем. Кали, третий член Теона, нашлась через пять веков в индийских джунглях, среди развалин древних храмов, в собственном княжестве, где ей служило хищное зверье и лемуты, произошедшие от местных обезьян. Ей не грозила гибель в жерле вулкана, на власть ее никто не покушался, и в княжестве царил порядок: люди-рабы трудились, кормили лемутов и трепетали перед владычицей-ведьмой. Она, однако, не была хайлендером, как Локи и Ри Ма, а потому ее не пришлось уговаривать — в сравнении с бессмертием княжество в джунглях шло по цене соломы. Последним приобретением Теона был Нергал, синекожий карлик, любивший своих соплеменников не больше, чем Ри Ма. Но айморцы, в отличие от синюков, были слишком сильным и многочисленным народом, так что справиться с ними Теон еще не мог — или, возможно, не хотел, предпочитая не убивать прибрежных обитателей, а обратить со временем в рабов. Такая перспектива, касавшаяся в равной степени и айморцев, и метсов, и остальных разумных рас, была вполне реальной, ибо с каждым новым членом мощь Теона возрастала вдвое; к тому же не стоило забывать об излучателях «Аргуса». Эти четверо в самом деле готовились править Землей, и править вечно, о чем намекали их имена, принадлежавшие злобным древним демонам. Иеро не знал, какие народы придумали их и поклонялись им в далеком прошлом, но брату Альдо припоминалось кое-что, хранившееся в архивах эливенеров. Смутно, очень смутно, так как имена былых божеств, покрытые тысячелетней пылью, преданные забвению, исчезли из человеческой памяти и отыскать их удавалось лишь в редкостных старинных книгах. Впрочем, Альдо был уверен, что Кали символизирует Смерть, а Локи — Ложь; и хотя он ничего не помнил про Нергала с Ариманом, не приходилось сомневаться, что оба были достойными спутниками лжи и смерти. Налетел ветер; листья лозы, оплетавшей беседку, зашелестели, струя фонтана над прудом дрогнула и рассыпалась мириадом алмазных капель. Эливенер склонил голову, и его седая борода защекотала щеку Иеро. — Ты говоришь, мы сможем это сделать. Но что же именно? Что ты задумал, пер Иеро Дистин? — Объединить два наших разума и нашу силу! — В возбуждении священник стиснул кулаки. — Помнишь, отец мой, ты как-то сказал, что мы умеем столь немногое! Мы посылаем слова и образы на тридцать миль, мы воздвигаем ментальные стены и сражаемся с помощью мозга… Но мы никогда не пытались перенести свой интеллект в сознание другого человека или объединиться с ним в ментальной сфере. Мы даже не знали, что такое возможно! Но я научился этому. Я могу скопировать частицу собственного «я» и бросить ее в чужой разум, как камешек в воду… Я помещаю в эту частицу все, что захочу: свои воспоминания, мысли, чувства или определенный приказ… Вот первый шаг к объединению, к тому, чтоб увеличить нашу силу, сковать защитный доспех и меч. Это непросто, но я уверен, что мы добьемся своего. Раз получилось у Нечистого, получится у нас. И тогда… Брат Альдо с сомнением хмыкнул. — Опасный план, мой мальчик, очень опасный. Не думай, что я боюсь смерти или ментального порабощения — для меня второе сводится к первому, а смерть не так уж страшна, если знаешь, как ее призвать и сделать милосердной… Но я хочу, чтоб мы победили, а не погибли зря. И в этом смысле… хмм… должен признать, твой план меня пугает. — Другого у меня нет, — с мрачным видом заметил Иеро. — Тогда обдумай его получше и постарайся ответить на кое-какие вопросы. Нас двое, их — четверо, а это значит, что они сильнее нас. Опыт тоже на их стороне; за долгие годы они притерлись друг к другу, как черенок к лезвию ножа, и мысль, объединяющая их, направлена к уничтожению. А я… я не воин, а эливенер! Не уверен, сын мой, что пожелаю смерти даже своему врагу… нет, не уверен! — Но ты убивал… там, у Внутреннего моря, в затонувшем городе… ты вызвал огромную рыбу, перевернувшую судно слуг Нечистого… Лицо брата Альдо страдальчески сморщилось. — Я заставлял убивать, сынок. Заставлял! Большая разница в сравнении с тем, когда уничтожаешь живое собственной рукой… Или мыслью, что тоже самое. — Нахмурившись, он признался: — Я чувствовал бы себя уверенней, если б эта схватка не сулила смерть для проигравшей стороны. Возможно, какая-то другая альтернатива добавила бы мне стойкости. — Тут нет другого выбора — или мы, или они. И если мы проиграем… С минуту они молчали, глядя друг на друга словно пара рыбаков, соображающих, как справиться с акулой. Потом брат Альдо произнес: — Если б нам удалось их разделить… — Если б Горм и мастер Гимп могли сражаться мыслями… — Если б у нас были два Иеро! Бесполезные фантазии, сынок, и ты это знаешь не хуже меня! Снова наступила тишина. Уставившись взглядом в пол, Иеро думал о Горме, который скитался где-то в горах полуострова, и о сидевшем в Питомнике Гимпе. Скорая опасность им как будто не грозила, даже капитану. Над ним, а прежде — и над братом Альдо, вели эксперименты, но не мучительные; возможно, их целью являлось создание новых клонов, а также попытка раскрыть секреты долгожительства. Во всяком случае, биологи, копии Аримана, проявляли к брату Альдо особый интерес. Он был взаимным, так как подобная форма жизни, произведенная искусственным путем и не способная к естественному размножению, казалась Альдо чем-то необычным, не зафиксированным в анналах эливенеров, а значит, подлежащим изучению. Ему вспоминалось, что в старинных записях была кое-какая информация о клонировании, но до Смерти человека как будто не воспроизводили целиком, выращивая лишь органы и ткани для замены больных и с целью омоложения. Впрочем, сведения об искусственных людях могли держаться в тайне — ведь древний мир был переполнен тайнами, из коих, как полагали в те времена, произрастает мощь государств и армий. Эливенер поднял голову, задумчиво рассматривая Иеро — так, словно видел его в первый раз. — Ты утверждаешь, мой мальчик, что научился копировать частицу своей сущности и помещать ее в разум другого создания… Значит ли это, что ты способен изготовить свой двойник, такого же воина-телепата? К примеру, из Девятого или другого твоего слуги? — Нет, к сожалению… Эта попытка убьет их, так как полная смена сущности невозможна. Чтобы передать все — все, чем я владею, что спрятано здесь, — Иеро коснулся пальцем виска, — нужен чистый мозг, то есть разум, лишенный собственной индивидуальности. Такой, как у младенца или новорожденного клона. — Хмм… Подобные клоны есть в Питомнике… — протянул брат Альдо. — Питомник недоступен, отец мой. Ты видел мирмидов, стерегущих подземелье, и ты, конечно, чувствуешь ментальный щит, воздвигнутый над ним. — Да, разумеется. И муравьев я видел… еще одна порода лемутов, которые служат Нечистому! Люди… нет, эти несчастные копии людей… они их боятся и ненавидят. Они сказали мне, что есть причины для такого страха. — Есть. — Развивать эту тему Иеро не хотелось, как и признаваться в том, почему он не желает одушевить новорожденный клон. Мысль о сотворении своего ментального двойника с обличьем Локи или Аримана вызывала в нем не больший энтузиазм, чем идея вселиться в тело Кали или синекожего уродца. Он думал об этом с отвращением и ничего не мог с собой поделать; любой из четырех сосудов выглядел слишком неподходящим вместилищем для копии его души. Брат Альдо снова склонился к нему. — Если такое возможно… если чистый мозг способен принять отпечаток чьей-то личности, то объясни, мой мальчик, зачем ты нужен этому Локи? Ты и все остальные? Он мог бы сотворить десяток своих полных копий или, если это ему не по нраву, копировать своих союзников… Два Аримана, три Нергала и четыре Кали… Хватит, чтоб покорить мир! — Он этого не сделает. Ни он и ни один из тех, кого ты назвал его союзниками. Знаешь, почему? Эливенер усмехнулся. — Догадываюсь… Слишком самолюбивы и эгоцентричны, да? Считают себя неповторимыми, и даже мысль о двойнике пугает их? — Именно так. Кроме того, боятся соперничества. Уверен, если бы Локи размножил свою личность, то копии и сам он передрались бы словно пауки. Двойник — очень близкое существо, с теми же чувствами, что у тебя… ближе, чем брат или отец… настолько близкое, что лишь человек, чье сердце раскрыто для любви, может с ним смириться… Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, сынок. Ты говоришь о Лучар и своем нерожденном сыне. Как разделить такое на двоих? Или на троих? — Ты понял правильно. — Священник поднялся и шагнул к порогу беседки. — Сюда идут. Закончим на этом, отец мой. Я буду думать над твоими словами и постараюсь найти какое-то решение. Может быть… Он смолк, когда в саду появились четверо крючконосых с трехзначными номерами. Скользя будто тени, они прибирали дворик, терли каменные скамьи и облицовку водоема, сметали с дорожек землю и опавшие лепестки алых цветов. — Все же они различаются друг от друга, — произнес за спиной Иеро старый эливенер. — Не так заметно, как ученые копии Аримана, но различаются. Посмотри, трое с застывшими, как у покойников, лицами, а тот, который трудится у розовых кустов, поглядывает на нас с любопытством. И движения его живее… — Да, — согласился Иеро и, помолчав, добавил: — Возможно, если бы их не отдавали на корм мирмидам, каждый лет через десять обрел бы душу и стал человеком. Не знаю только, было б это плохим или хорошим деянием. — Я тоже не знаю. — Брат Альдо опустил веки, словно от вида четырех одинаковых фигур у него начало рябить в глазах. — Но мир, населенный копиями, был бы бесконечно скучен, сын мой.* * *
Ближе к вечеру Иеро направился в южную часть парка, к нагромождению скал, где обитали нетопыри, и озеру, заросшему кувшинками. Он думал о Лучар, о сроке, оставшемся ей до разрешения от бремени, и о том, увидит ли он когда-нибудь сына и свою принцессу. Сердце его стеснилось от этих мыслей, и он, обратившись лицом к западу, туда, где лежала его родина, коснулся кармашка перевязи с древним крестом и начал шептать молитву. Может, Бог подскажет, как ответить брату Альдо? Он понимал, что старый эливенер прав: их только двое, силы их слишком малы, и к тому же один из них — не воин. Мудрец, а не солдат, способный отнять у ближнего жизнь… Это значило, что в битве с Теоном их ожидает неминуемое поражение. Бесславная, бессмысленная гибель… Кто же вернется в Канду? Кто расскажет отцу Демеро об этом змеином гнезде? Горм? На миг Иеро представил необозримые пространства земель и вод, что отделяли их от родины, и содрогнулся. На запад — степи, горы и пустыни, потом — океан на тысячи миль; к востоку — лес, гигантские реки, другой океан, наверное, вдвое шире Лантика… И всюду — опасности! Лемуты, хищники, голод, пустоши, зараженные радиацией… Сколько же надо месяцев или лет, чтобы в одиночку добраться к побережью? Конечно, к восточному, ибо на западе, в Европе, нет ни людей, ни жизни, ни кораблей… И если Горм это сделает, если дойдет до страны айморов, что ожидает его там? Встретится ли человек, который поймет, что перед ним не дикий зверь? И как объясниться Горму с этим человеком? Или же их разговор начнет и закончит арбалетный болт? Нет, надо сражаться, решил Иеро. Разделить врагов или хотя бы отвлечь их внимание, найти союзника и нанести внезапный удар… Господь вразумит и поможет! Недаром Он дважды послал ему знаки — Книгу и символ Округленных Губ! Помощь придет через нечто удивительное… Сообразить бы, через что! Покинув берег озера, он медленно зашагал к скалам и зияющей в них пещере. Небо гасло; на западе, над морем, громоздились стаи туч с вытянутыми округлыми формами, и Иеро вдруг показалось, что к полуострову несется флотилия воздушных кораблей, неизмеримо больших «Вашингтона», и в каждом огромном судне — Стражи Границы в медных шлемах и кирасах, с копьями и мечами; целое воинство, спешащее ему на выручку. Подивившись на это видение, он глубоко вздохнул и снял ментальную защиту. Никаких сигналов от Горма… тольно ощущение, что медведь — на какой-то вершине и смотрит вниз… еще — чувство голода… видно, пеммикан подошел к концу… Иеро не успел додумать эту мысль, как другая, чуждая, проникла в сознание. «Дикарь что-то замышляет», — простучало глухой барабанной дробью. Ей ответил серебристый звон литавр: «Ты, синяя плесень, тоже замышлял, когда явился сюда. Как помнится мне, целых пятнадцать дней, до первого Слияния… Ты думал, что очень силен, что уничтожишь нас или заставишь подчиниться… Но Слияние все расставляет по местам, не правда ли?» Нергал и Кали! Еще ощущалось присутствие третьего, молчаливо следившего за разговором; на миг коснувшись его ауры, священник понял: Ариман! Эти три ментальных источника были разбросаны в пространстве; видимо, каждый из собеседников находился в своем дворце. «Слияние… — Мысль Нергала протяжным эхом отдалась в голове Иеро. — Да, Повелительница Шлюх, Слияние все расставляет по местам. Окончательно и необратимо! Только Слияние объединяет нас… Иначе я приказал бы своим летающим слугам выпить твою кровь, старая ведьма!» Окончательно и необратимо… Иеро содрогнулся. Внезапно он понял, что это в самом деле так: для слившегося с Теоном не существует обратной дороги. Одно прикосновение Нечистого к его душе — и он пропал! «Пощады, Владыка Нетопырей, пощады! — в тоне Кали слышалась издевка. Потом она добавила: — Когда-то я правила жалким народцем в жалкой стране… давно, очень давно… Они были покорными, эти мокрицы, но временами покорность их меня бесила. Я вселялась то в одного, то в другого, наделяя духом неповиновения, а затем их распинали на земле, в одном из двориков, под окнами моей опочивальни». «И что же?» — с явным интересом спросил Нергал. «В том дворике рос бамбук, очень быстро, на пол-ладони за день… Как они корчились, как кричали! — Смех звенел в ментальном голосе женщины. — Тут, в моем дворце, есть такой же дворик, и в нем хватит места для тебя и всех твоих синекожих ублюдков». «Одна из твоих копий сейчас со мной, — отозвался Нергал после паузы. — Знаешь, что я с ней делаю?» «Сосешь кровь, на пару с твоим вампиром?» «О, нет, нет! Я придумал кое-что получше! Не столь примитивное!» Играют, развлекаются, подумал Иеро, не выпуская наружу ни единой мысли. Пароксизм удовольствия, сотрясавший Нергала, смешанный с отзвуком жуткой муки, докатился до него, заставив похолодеть от ненависти. «Можешь творить с ней все, что угодно, — заметила Кали, — меня это не трогает. А вот в дикаре я разочаровалась!» «В самом деле? Почему?» — Дрожь наслаждения пронизала карлика. Иеро перекрестился и сплюнул. «Он пренебрег моими девушками! Надеюсь, если он не подойдет, Локи отдаст его мне. Бамбук уже прорастает в моем дворике…» «Не надейся, — прошелестел тусклый голос Аримана. — Он подойдет. Сильный, безжалостный…» «И это примиряет меня с ним. Это и еще одно…» «Что именно, Нерг? Трудно представить, что тварь вроде тебя способна с кем-то примириться!» С минуту карлик молчал. Ожидая ответа, Иеро уставился в быстро темнеющие небеса, на армаду наплывавших с моря туч. От скал протянулись длинные тени, и зев пещеры потонул в них как черный камень в темной воде. Наконец барабанный рокот снова зазвучал в сознании священника: «Он будет пятым, и наша мощь удвоится… Еще один шаг к полной и безграничной власти! Власти над всей Землей!» Образ планеты возник перед Иеро — туманный, медленно вращающийся шар, с пятнами синего, зеленого, коричневого в разрывах облаков. Невесомый и бесплотный, он парил над миром, разглядывая его с высоты; потом мысль Нергала ринулась вниз, словно тараня облачные покровы, и ширь европейской равнины раскрылась от голубого зеркала Лантика до возвышавшихся на востоке гор. Теперь Иеро мчался над этим пространством, над выжженными пустынями и руинами городов, над окруженным лесами Моском, над реками и утесами, озерами и степями — мчался к Каменному Поясу, маячившему вдали подобно крепостной стене, поросшей изумрудной щетиной сосен. При виде этих гор что-то дрогнуло и пробудилось в памяти священника; он выпрямился, откинул голову и, наблюдая за медленно таявшим видением, с трудом сдержал торжествующий вопль. «Дикарь нас слышит. — Мысль Аримана непрошенным гостем проникла в сознание. — И, кажется, он доволен». «А я — нет. Пусть знает, что я обижена, — прозвенел серебряный голос Кали. — Я не привыкла к пренебрежению… Не забывай о моем дворике, дикарь!» Ментальный колпак сомкнулся над Иеро, отрезав назойливые голоса. Усмехаясь, он ощупал свою перевязь, затем поглядел на скалы, отыскивая скрытый тенями проход. Из него уже вылетали первые нетопыри. Каменный Пояс! Священная Книга и Округленные Губы! Помощь и удивление… Бог надоумил его устами врагов! Твердым шагом священник направился к пещере. Кожистые крылья шелестели над ним, то одна, то другая из бестий ныряла вниз, норовя вцепиться ему в лицо или волосы, но Иеро представил, что он — огромная сова, любительница всяких мышей, и бегающих, и летающих. Вампиры с пронзительным писком ринулись прочь, и он, войдя в отвоеванное подземелье, остановился у самого входа, куда еще дотягивался угасающий солнечный свет. Пахло пометом, сыростью и гнилью. Чей-то импульс толкнулся в ментальный щит, и Иеро, на миг ослабив защиту, принял его и поместил в дальнем уголке сознания. Наконец-то весть от Горма… Но — потом, потом! Он ощупал кармашек перевязи, вытащил древний крест и подумал, что руки отца Демеро все же коснутся этого сокровища. Затем пальцы его снова нырнули в карман, пошарили там и извлекли нечто гладкое и темное, величиной с орех, закованное в скорлупу. — Вылезай, малыш, — негромко произнес священник и, опустив свою находку на пол, проделал едва заметную щель в своем ментальном барьере. — Вылезай и расти! Настало твое время! Скорлупа дрогнула и исчезла, будто эти слова или подкрепившая их мысль были услышаны и поняты крохотным существом; маленький шарик расплылся в диск, затем из полупрозрачного тельца выдвинулись щупальцы-отростки, приподнимая его над каменной поверхностью, напрягаясь в заметном усилии. Раздался чуть слышный хлопок, щупальцы окрепли, и тело амебы, уже размером не с орех, а с яблоко, вспыхнуло и заиграло радужными красками. Иеро, затаив дыхание, следил за этой сказочной метаморфозой, потом опустил веки и, сосредоточившись, представил себя самого: лицо, фигуру, одежду, темную полоску усов на верхней губе, орлиный нос, смуглую кожу, широковатые скулы… Он творил этот образ с той любовью, какую должен испытывать человек к собственной плоти и душе; ведь если сам себе не дорог, то кто иной тебя полюбит? Душа, конечно, была важнее внешности, и он не обделил ее ничем и ничего не скрыл, вложив все тайные свои богатства — любовь к Лучар, благоговейную веру в Господа, стойкость, мужество, жажду победы и свой ментальный дар. Воздух взвихрился, снова хлопнуло, и существо, продолжая расти, вдруг принялось обретать некие полузнакомые очертания. Теперь оно походило не на яблоко, а на вытянутый огромный огурец, доходивший священнику до пояса; снизу его поддерживали четыре прочные подпорки, а сверху, чуть покачиваясь на толстом стебле, стала оформляться сфера. Ее поверхность пошла волнами, и две из них внезапно застыли, приняв форму губ; над ними прорезалось что-то похожее на ноздри, глазные впадины, брови и лоб. «Господи, прости меня! — мелькнуло у Иеро в голове. — Прости за то, что я присвоил Твою власть творения… Сожги меня молнией, если я виновен! А если невиновен, позволь отковать этот меч и сразить Нечистого!» Легкое дуновение ветра шевельнуло волосы священника; Бог промолчал и лишь погладил его ладонью, сотканной из воздуха и алого света вечерней зари. Существо стояло перед ним, покачиваясь на нижних отростках; их оставалось только два, зато вверху от корпуса отщепились руки — неуклюжие, с корявыми, похожими на корни пальцами. Исходивший из плеч стебель превратился в шею; рот, нос, подбородок и скулы отвердели, в глазницах что-то ворочалось и трепыхалось, будто невидимый скульптор трудился над этой частицей лица, отсекая лишнее и добавляя нужное. Ментальный поток, исходивший от Иеро, стал напряженным, как с силой натянутая струна; казалось, еще немного — и она зазвенит под напором чувств, образов, воспоминаний. Они струились благодатным ливнем, падали в девственную почву, пускали корни, росли, расцветали, повинуясь древней истине, гласившей, что человек — плодоносящий сад: что изначально посеешь в его душе, то со временем и пожнешь. Иеро сеял не скупясь, с той же стремительностью, с какой свершалась метаморфоза. Существо перед ним уже не покачивалось, а стояло твердо; его черты, совсем человеческие, оформились, кожа казалась упругой и гладкой, губы порозовели, но глаза еще были закрыты. Будто он размышлял, открыть ли их, вступить ли в жестокий тревожный мир, полный борьбы, сомнений и боли, или остаться прежним невинным созданием, не различавшим добра и зла. — Брат… — Прервав ментальную связь, Иеро протянул к нему руку. — Очнись, брат… Мне нужна твоя помощь. Глаза раскрылись, и пальцы священника встретили такую же сильную крепкую ладонь. Он улыбнулся, и лицо стоявшего перед ним человека отразило улыбку как в зеркале. — Я готов, брат. — Его рука поднялась в салюте, каким приветствовали друг друга Стражи Границы. — Я готов… Не говори ничего, я знаю все твои замыслы. Ведь я — это ты! — Нет. С этого мгновения уже нет. С первых слов, произнесенных тобой… Ты — не Иеро Дистин, ты — мой брат, и должен выбрать себе другое имя. Помнится… — Да, помнится, — подхватил двойник с лукавой улыбкой, — помнится, что матушка хотела назвать меня Шарлем, но отец сказал: этот шустрый парень будет Иеро. Я… ты… вцепился ему в бороду. Священник кивнул. — Шарль Дистин — хорошее имя. А как насчет всего остального? Глаза и улыбка брата погасли. — Остальное, конечно… Все остальное я потерял — любимую жену, еще нерожденного сына и даже родину… Об этом я догадался в тот момент, когда стоял с закрытыми глазами и слушал твой голос… Но разве бывают приобретения без потерь? А я получил два драгоценных дара — душу и жизнь! И я готов их защищать! — Тогда ты знаешь, чтоделать, брат мой. Жди здесь… жди, пока я не позову. Кивнув, Иеро повернулся и вышел. Стемнело, яркие звезды мерцали в разрывах туч, и ветер, гнавший облака к востоку, то открывал, то закрывал окошки в звездных небесах. На фоне одного из них метнулась тень нетопыря. Священник проводил его взглядом, потом внезапно усмехнулся, хлопнул себя по лбу и пробормотал: — Убогий мозг!.. Лучше не придумаешь! Пожалуй, даже совет Нечистого может быть полезен… Хотя бы для того, чтоб успокоить добрейшего из эливенеров… Сердце его пело, нервы напряглись в предчувствии грядущей битвы. Он больше не был одинок! Божьим промыслом и собственной волей он отковал карающий меч! Его сила сложится с силой Шарля и брата Альдо и сокрушит Нечистого! Трое против четверых — уже неплохо, но лучше — трое против троих, если удастся разделить Теон. Как? Об этом стоило поразмыслить. Все еще посмеиваясь, священник зашагал к аллее, остановился там у огромной липы и распечатал присланный Гормом ментальный блок. В нем сообщалось, что медведь пробрался мимо сторожевых башен и охранников-мирмидов — не в пустыне, а в горах, где имелось множество ущелий и тропинок, протоптанных козлами. Выбрав подходящее место на вершине скалистого отрога, Горм пролежал там сутки, изучая спускавшуюся к морю равнину. Зрение у него было не таким острым, как чутье и слух, и переданные образы казались дрожащими и слегка размытыми, словно их заволакивала пелена тумана. Но все-таки за день медведь сумел увидеть больше, чем удалось бы самому Иеро, воспользуйся он глазами птицы или горного козла. К тому же подобный сеанс дальновидения был бы сейчас делом опасным или, как минимум, нежелательным — священнику вовсе не хотелось настораживать врагов. Пролистывая воспоминания Горма будто альбом с движущимися картинками, он разглядывал залитую бетоном обширную площадку, низкие одноэтажные здания, что пластались у самых гор, подъездные рельсовые пути и решетчатые фермы с космическим снарядом посередине взлетного поля. Его бетон потемнел, опаленный ракетными выхлопами, а от зданий веяло невыразимой древностью; их стены кое-где потрескались, кровли просели и поросли травой, а часть корпусов вообще лежала в руинах. Но рядом с остальными мельтешили техники, тянули к ракете кабели и шланги, катили тележки с ящиками и баллонами, и столь же активная суета наблюдалась у решетчатой конструкции: там сверкал огонь, взвивался дымок, десятки людей что-то подтаскивали, поднимали, грузили, сновали вверх и вниз по массивным фермам, в которых прятался блестящий корпус корабля. Физиономий усердных работников было не различить, однако Иеро не сомневался, что все они на одно лицо — копии Аримана, коренастые, плотные, желтокожие, с узкими, чуть раскосыми глазами. Готовят ракету к старту, решил священник, соображая, что Локи упоминал о двух кораблях. Второй, вероятно, сейчас находился у «Аргуса», и его полет они с эливенером наблюдали неделями раньше — тот дьявольский глаз, горевший в небесах… При этом воспоминании Иеро вздрогнул, и на висках его выступил холодный пот. Сейчас он видел глазами Горма одну из древних военных баз, и эта обитель Смерти была не заброшенной, не уснувшей, а готовой к действию. Ужасная, пугающая картина! Угол зрения изменился, открыв шеренгу широких цилиндрических танков с топливом и огромный бетонный куб — видимо, энергостанцию, от которой тянулось несколько линий подвешенных на столбах проводов. Тут сторожили мирмиды, вышагивали вдоль взлетного поля как заведенные, поблескивая хитином панцирей. Было их не очень много — пара дюжин против нескольких сотен техников. Дрожь, сотрясавшая Иеро, улеглась. Он вызвал Девятого, велел собраться в путь, затем направился к дворцу, посматривая на темные вершины гор и бледный лунный диск, мерцавший в тучах. Планы, что родились в его голове, принимали все более ясные контуры, обрастали подробностями и деталями, их звенья притирались друг к другу словно песчинки, которых неумолимое давление извне соединяло в прочный твердый камень. Сегодня ночью, подумал он, ступив на лестницу. Сегодня все решится! Девятый, в темном дорожном плаще с капюшоном, поджидал его у изваяния вербэра. — Что прикажешь, господин? Я должен куда-то идти? — В Питомник, а затем — на взлетное поле. Как добраться туда побыстрее? Помнится, брат Альдо говорил, что его везли какой-то подземной дорогой? — Да, есть рельсовый подземный путь, который ведет сквозь горы. Луна еще не поднимется в зенит, как я уже буду в Питомнике… И что я должен там сделать? — Передай копиям Аримана, что в Кентау новый властелин. Деус Иеро Дистин! А ты — его помощник и правая рука. Они обязаны тебе повиноваться. При этих словах Девятый вскинул голову, и глаза его сверкнули. Дождался своего часа!.. — подумал священник, протягивая к собеседнику мысленную нить и зондируя его разум. Там боролись торжество, сомнение и страх. — Боюсь, они мне не поверят, повелитель… Боюсь, что… Прервав его взмахом руки, Иеро отправил ментальный блок, мгновенно растворившийся в сознании Девятого. Страх и сомнения исчезли, будто смытые незримой волной, и чувство вдруг обретенной власти заставило помощника гордо расправить плечи. Дар, полученный им, был невелик и заключался в искусстве влияния на незащищенный мысленным барьером разум. Теперь клоны Аримана воспримут любой его приказ словно божественное откровение! Тем более, если знаешь, что приказать… Священник усмехнулся и стиснул сильными пальцами плечо Девятого. — Скажешь, что деус Иеро повелевает уничтожать мирмидов… В Кентау не место лемутам! Пусть перебьют их всех — в Питомнике, на взлетном поле, в горах и пустыне… Всех до последнего! Скажи, что норы их нужно залить ракетным топливом и сжечь. И чтоб огня было побольше! Столько, чтоб в нем сгорели все мерзкие твари! — Они сгорят, мой владыка! — восторженно подхватил Девятый. — Все до последнего, как ты повелел! Он ринулся было исполнять порученное, но пальцы Иеро не разжались. — Во имя Создателя! Стой, слушай и запоминай! Там, в Питомнике, мой товарищ по имени Гимп. Пусть дадут ему оружие и повинуются его приказам. Он должен очистить Питомник от мирмидов и захватить подземную дорогу. А ты пойдешь на взлетное поле и сделаешь так, чтоб клоны Аримана поняли: или они сожгут мирмидов, или отправятся к ним желудки. Такова моя воля! — Он подтолкнул Девятого в темноту. — Теперь иди! Когда плащ крючконосого растворился в ночном сумраке, Иеро, перекрестившись и подняв взгляд вверх, произнес: — Дай мне силу, Господи! Надели дух мой твердостью, ибо я буду сражаться по воле Твоей и во имя Твое! И пошли мне знамение, дабы Твой верный слуга не дрогнул в этой последней битве! Он зажмурился. Секунду перед мысленным взором Иеро царила темнота, потом явились ему божественные лики: Бог-отец, Бог-сын и пресвятая Богородица. Саваоф был грозен и похож на отца Демеро, а божий сын — на погибшего Сигурда; глаза у обоих метали молнии, и с губ срывалось слово гнева: не мир принес я вам, но меч! Но Богоматерь с прелестным лицом Лучар была задумчива и спокойна. Склонившись над колыбелью, она улыбалась лежавшему в ней дитю и что-то шептала. «Вернется… он обязательно вернется…» — донеслось до Иеро вздохом ветра.ГЛАВА 12. ГИБЕЛЬ БОГОВ
Багровое зарево полыхало над горами. Похоже, Девятый с мастером Гимпом времени зря не теряли, устроив там настоящий Армагеддон — огненные языки взвивались в темное ночное небо, рассыпались мириадом искр, и за каждой вспышкой яростного пламени неизменно слышался мощный басовитый рокот взрыва. Временами фонтаны огня были особенно высокими, так что Иеро мнилось, будто некий гигант, спрятавшись за горной стеной, мечет в облака громовые стрелы. Что порождало их? Танки с горючим? Топливо, хранившееся в корабле? Или что-то другое, о чем он не знал, тоже способное взрываться и гореть? Это оставалось тайной, ибо барьеры, непроницаемые для мысленного излучения, по-прежнему окружали Питомник и взлетное поле. Иеро не мог пробиться сквозь них, а значит, такое не удалось бы никому из деусов и даже Теону; в битве, которая шла за горами, решала не мысль, а огонь и меч. Еще — челюсти и лапы мирмидов. Они шагали к горам по аллее — сотни угловатых рослых фигур в хитиновых панцирях, над которыми кружили перепуганные нетопыри. Войско, явившееся с северного рубежа Кентау, казалось столь многочисленным, что у мятежников, пожалуй, не было ни единого шанса справиться с этой ордой. Через час-полтора мирмиды будут в галерее, проходящей под горным хребтом, и начнется битва… скорее — бойня! Мирмиды сильны, их нелегко одолеть даже опытным воинам, а клоны Аримана — не Стражи Границ… Их судьба, однако, не тревожила священника. Час — долгий промежуток времени, и главная схватка будет не в горах, а тут, в окутанном тьмою парке, среди дворцов и цветников. Бой, думал Иеро, в котором не сверкнут мечи и не взовьется огонь, и только незримый таран мысли ударит в ментальную крепость противника… Один из врагов был перед ним. Ариман стоял шагах в тридцати, за темным смрадным потоком мирмидов, то ли наблюдая за ними, то ли направляя свое воинство. Лицо его, обычно бесстрастное, кривилось в презрительной гримасе: глаза — будто две щели над плоскими скулами, губы сжаты, углы рта опущены. Рядом — пара мирмидов с факелами; пламя металось на ветру, и отблески делали смуглую кожу айморца подобной раскаленной бронзе. — Ты зря затеял это, дикарь. Теперь ты умрешь. — В отличие от ментального голоса, невыразительного и глухого, речь Аримана была мелодичной, похожей на птичий щебет. Резковатый язык Канды звучал в его устах словно песня. — Я так не думаю, — произнес Иеро, оставаясь в тени огромной липы. — Ничто в мире не свершается зря. И если я умру, изгой, то не твоим попечением, а волей Господа. — Волей Господа! — Ри Ма оскалил мелкие зубы. — Подумать только! Я говорил, что ты опасен, и вот теперь я знаю, почему: не силой своей, но верой! Верой в нелепых богов и древние сказки! Да, ты опасен, дикарь, опасен глупостью! Заразная болезнь! — К тебе она не перейдет. — Иеро выступил из сумрака на освещенное пространство. — Бог со мной, а не с тобой, и Он дает мне силу. Хочешь ее испытать, трусливая тварь? Хочешь проверить, правда ли в древних сказках или ложь? Один на один, не уповая на помощь Теона… Или испугаешься и сбежишь, как бегал когда-то от соплеменников? Сбежишь и спрячешься за спинами Локи и остальных ублюдков? Кажется, насмешка угодила в цель — смуглые щеки Аримана побледнели, он прикусил губу и повелительно взмахнул рукой. Колонна мирмидов застыла; едкая вонь повисла в воздухе, перебивая свежий запах листьев. Священник чувствовал, что в этот раз гигантских насекомых не прикрывает ментальный щит. — Зачем мне прятаться, дикарь? Мне не нужна помощь, чтобы вскипятить твои мозги. Ты бился с жалкими червями из Кругов и думаешь, что кто-то из них равен Ри Ма? Ты ошибаешься. Черви, которых ты одолел, они… — С тех пор я многому научился, изгой, — прервал его Иеро. Поймав взгляд Аримана, он сдвинул брови и нанес удар. Его противник пошатнулся, вскинул руки, будто защищаясь от напора ментальной энергии; на миг глаза Аримана остеклянели, струйка слюны потекла изо рта. Это надо сделать быстро, сказал себе священник. Так быстро, чтобы враг, распаленный яростью, отправился в ад, не успев призвать на помощь. Так стремительно, чтобы в Теоне уловили лишь кратковременный всплеск ментального поля, эхо умирающего сознания. Если хитрость удастся, их будет трое против троих… Где-то на самой грани восприятия Иеро чувствовал, что его соратники готовы к битве: в мыслях эливенера смешались решимость и сожаление, от Шарля веяло холодной яростью и скрытой мощью. Он был как натянутая тетива, как бочка с порохом, к которой поднесли запал. Сомкнув ментальные тиски, сметая защитные преграды, Иеро усилил нажим. Сопротивление врага слабело, и это казалось ему подозрительным — его противник был много сильней, чем С'нерг, чем С'дана или другие адепты Темного Братства. Готовит ловушку, мелькнула мысль, и в тот же момент он понял, в чем и где таится опасность: Ариман противодействовал атаке лишь частью своих сил, пытаясь в то же время управлять мирмидами. Восемь или десять ближайших тварей вдруг развернулись к священнику, шагнули вперед, растопырив жвалы, и он увмдел, как в их огромных выпуклых глазах мерцают багровые отблески. Слева, над горами, поднялся столб огня, и громовые раскаты взрывов сотрясли воздух. Поток сознания Иеро распался надвое. Если б ментальная схватка была зримой, он выглядел бы в эти мгновения как воин, который одной рукой пытается задушить противника, другой — оборониться от прочих неприятельских бойцов. Они подступали все ближе и ближе, их запах становился нестерпимым, мешал дышать и думать, а распростертые челюсти грозили смертью. Не разжимая ментальных тисков, Иеро отдал приказ мирмидам: остановиться, лечь на землю, замереть. Движения тварей тут же сделались беспорядочными; два приказа в их примитивных мозгах, взаимно исключавшие друга друга, заставили гигантских насекомых исполнить странный танец: шаг вперед, шаг назад и снова шаг вперед. Несколько долгих секунд Иеро и Ариман боролись за власть над телами мирмидов, затем новый огненный фонтан расцвел над горными вершинами, и священник, уловив краешком глаза сияние багровых всполохов, перенес их мысленно поближе. Теперь огонь бушевал между ним и мирмидами — яростный, грозный, обжигающий. Огонь, который раскаляет панцири, обугливает тело, превращает все живое в прах… Чистая иллюзия, но вполне достоверная, чтоб устрашить чудовищных монстров. Мирмиды отшатнулись. Их замешательство было столь недолгим, что Иеро не успел вздохнуть, но в ментальном бою время течет иначе, нежели в реальности, и ценится по-другому. Краткий миг, неразличимый квант временного потока, вмещающий, казалось, столь же краткое, ничтожное событие — трепет птичьего крыла, падение песчинки в песочных часах… Но краткость его обманчива; в схватке разумов он измеряет дистанцию между жизнью и смертью. Ментальный удар проник сквозь мираж бушующего пламени, заставив Аримана рухнуть на колени; внезапный и мощный, он был подобен молоту в сильной руке кузнеца. Ужас и ненависть, последняя вспышка гибнущего разума, ответным эхом пронзили Иеро; еще он уловил мольбу о помощи и удивился, с какой быстротой ему удалось погасить панический призыв. Долю секунды сознание Аримана, плененное в мысленном коконе, билось в его тисках, и в это мгновенье Иеро понял, сколь велика и безраздельна его власть. Он мог уничтожить этот разум или оставить навек заключенным в незримой темнице, мог искалечить, бросить в пучину воображаемого ада или перенести в другую плоть. В какой-нибудь мозг, слишком убогий и тесный для человеческого «я»… Он предпочел уничтожение. Тело Аримана еще не успело коснуться земли, как мирмиды, повинуясь команде священника, темной рекой хлынули прочь. Срок ментальной битвы завершился — две минуты от первого удара до последней сокрушительной атаки. Побежденный умер, а победитель, спасаясь от невыносимого запаха мирмидов, отступил и прижался спиной к шершавому древесному стволу. Недолгое время Иеро стоял в неподвижности, чувствуя, как мощь и сила древних лип вливаются в сознание, гасят усталость и заставляют трепетать каждый нерв и каждую мышцу. Война началась, подумалось ему, и началась удачно, но главная схватка еще впереди. Тем не менее, он был доволен: первый этап его плана принес победу и успех. Сыграть на ненависти клонов к муравьям, устроить бунт, отвлечь внимание Нечистого, заставить кого-нибудь из деусов заняться мятежом, разделить Теон и уничтожить врага-одиночку… Он так и думал, что это будет узкоглазый Ариман; в конце концов, ведь взбунтовались его клоны! А значит, ему и подавлять восстание, ему судить, пытать, казнить… Теперь Ариман был мертв, и над его не успевшим остыть телом уже кружили нетопыри. Кроме них да быстро удалявшихся мирмидов, в парке не было ни одного живого существа, но над дворцами, в которых обитали деусы, клубилась и разрасталась эманация ужаса. Сотни слуг, несовершенных копий Кали и Локи, замерли, охваченные страхом; грохот взрывов, блеск огня, вторжение мирмидов — все это было таким необычным, таким пугающим! Мир содрогался и рушился, и яростный рык из-за гор внушал опасные мысли; казалось, он предвещает гибель богов. Священник пересек аллею, склонился над мертвецом и прошептал: — Нелепые боги, древние сказки… Ты сомневался? Ну, теперь ты знаешь истину. Душа твоя в руках Господа, которого ты отверг; и там, за гранью смерти, Ему судить и карать, не мне! Мысль брата Альдо коснулась разума тоскливым звоном колоколов: «Ты убил его, убил… Я не жалею об этом человеке, мой мальчик, но памяти его жаль. Он прожил долгие века, едва ли не тысячелетие, и мог бы поведать о многом… Я перед ним — младенец!» Иеро усмехнулся. «Не печалься, у нас есть второй долгожитель, которого я не стану убивать. Если он не сотрет нас в пыль, я подарю его тебе. Возможно, ты заставишь его разговориться». Выпрямившись, он вышел на середину аллеи, расправил плечи и поднял лицо к небесам. Серый свет, предвестник утренней зари, уже мерцал у восточного горизонта, сливаясь с отблесками неутихавшего пожарища; звезды меркли, бледнел и становился призрачным серебряный диск луны, над головой клубились облака, двигались, колыхались, пока их тяжелая темная масса вдруг не явила взгляду знакомое обличье: сухие губы, крючковатый нос, глубокие, будто у черепа, глазные впадины. Иеро погрозил ему кулаком. — Локи, властитель тьмы! Ты видишь меня? Я здесь! Там, в Моске, я обещал, что приду за твоей головой… И я пришел! Один твой дьявол уже мертв — так веди в бой остальных! Я жду! Молчание было ему ответом. Небо светлело, тучи текли в вышине, и гигантское лицо Объединителя Темного Братства становилось все больше похожим на череп; в его глазницах тускло мерцали звезды, сухие губы разомкнулись, явив бездонный черный провал. Эта бездна затягивала, и священнику вдруг показалось, что верх и низ поменялись местами, будто он висит над пропастью чудовищного рта, готового проглотить его, и парк с дворцами и деревьями, и горы с морским побережьем, и весь мир. В голове у него грохнул набат, зарокотал, зазвенел и рассыпался гулкими осколками, из коих рождались слова: «Священник, маленький священник! Думаешь, перехитрил меня? Думаешь, я стал слабее? — Гулкая, наполненная звенящей тишиной пауза. — Зря ты убил Аримана… он — частица нашей общей мощи… И все же я доволен. Я не порицаю тебя; ты силен и жесток, и ты доказал, что место твое — среди нас. Ты лучше Ри Ма, и ты его заменишь. Может быть, я даже награжу тебя, переселив в его тело… Хорошая мысль, священник, не так ли?» Тьма сомкнулась над Иеро, и внезапно он с ужасом понял, что его не собираются уничтожать, а лишь понуждают к Слиянию. Кажется, к этому вела не одна дорога, а две — насильственный путь и добровольный, но результат в обоих случаях был одинаков. Обе дороги — без возврата и без надежды вернуться к собственному «я»… Слияние объединяло в столь тесном и нерушимом союзе, что даже один-единственный акт не проходил бесследно: черты доминирующей личности передавались партнерам, необратимо изменяя психику. Иеро не мог объяснить, откуда пришло это знание, но сомневаться в нем не приходилось; оно отвечало догматам Церкви, словам его наставников и тяжкому опыту истории, наследию тысячелетий. Разве человек, соединившись с Нечистым, не становился дьяволом? И разве тот, чьи мысли устремлялись к Богу, не превращался в святого? Схватившись за свой серебряный амулет, священник упал на колени. Темная сила Теона давила его разум, хищные щупальцы шарили в голове, сортируя и отбирая воспоминания — что оставить и извлечь, что выбросить, как бесполезный мусор. Ему казалось, что его душа вот-вот покинет тело и рухнет в пропасть, которая разверзлась перед ним, в бездонный провал глотки Нечистого; рухнет, и будет падать годами, столетиями, пока не окажется в преисподней. Что ожидает его там? Дьявольское служение? Плоть Аримана, в которую его заставят переселиться? Или, лишенный веры в Господа, чувств сострадания и любви, он станет жестоким убийцей? Бессмертным владыкой, чудовищем, проклятым в веках? Вот что стоит за посулами Локи, за обещанием Нечистого, подумал священник, сопротивляясь злобной хищной воле, сжимавшей его сознание. Лорд-протектор Запада, милостивый, справедливый, благородный… Как бы не так! Воистину, дьявол — отец обмана!.. — Шарль, — прохрипел он из последних сил, — Шарль, Альдо! Помощь! Мне нужна помощь! Видимо, этот призыв, произнесенный вслух, сопровождался ментальным импульсом. На одно бесконечно долгое мгновение Иеро увидел дворик в своем дворце, мраморные скамьи, водоем с серебристой ивой, а также темный пещерный свод и смутно серевшие в рассветном сумраке контуры деревьев. Эти два изображения накладывались друг на друга, соединялись в странную картину, которую он наблюдал глазами Шарля и брата Альдо: двор под куполом пещеры, скамьи и деревья выступают из стен, поверхность пруда будто висит в воздухе. В следующий миг видение исчезло, и реки ментальной энергии хлынули в изнемогающий мозг Иеро. Еще не Слияние, а только начальный этап, мелькнула мысль, тут же сгоревшая в пламени яростной радости. Он снова был силен! Как он был силен и могуч! Пресс, давивший разум, вдруг сделался легким, невесомым; отодвинув его одним усилием, он принялся выдирать жадные щупальцы, ломая и скручивая их, рассекая мысленным лезвием словно копошащихся червей. Это было мучительно больно, но мука несла радость, блаженство очищения, сознание власти над собственным телом и мозгом. Эта власть возвратилась к нему! С торжествующим воплем Иеро поднялся с колен, ощущая, как тают, растворяются в тройном единстве его душа и разум. Реки энергии сливались в один стремительный поток, который нес его к океану неисчерпаемой силы. Не было больше пера Дистина, священника и воина Аббатств, не было брата Альдо, эливенера и хайлендера, и не было странного существа с далеких гор, одушевленного им метаморфа; в их союзе рождалось нечто новое, иное, могучее и грозное, нечто сродни стихийным силам, колебавшим горы и двигавшим материки. Может быть, архангел с огненным мечом? — подумал Иеро, и это было его последней мыслью.* * *
Два титана, два дракона, белый и черный, столкнулись в ментальном пространстве. Битва их была жестокой, но невидимой для глаз; подобно левиафанам древности, летающим и плавучим кораблям, они исторгали сгустки энергии, незримые копья чудовищной мощи, смертельные снаряды и огонь, но бились они в иной реальности, в сфере, вмещавшей не Землю, но разум и мысль. Мысль была их оружием, копьем, снарядом и огненной стрелой; мысль пронзала и сжимала, таранила и жгла, пленяла и покоряла. Схватка была недолгой, но возмущение ментального поля катилось волнами из сердца Евразии, охватывало весь огромный материк, неслось над просторами океанов, огибало планету, чтобы столкнуться с самим собой в далеком западном полушарии. К счастью, эта точка, антипод сражения, пришлась в безлюдных водах, в тысячах миль от обитаемых мест, ибо, попав в нее, любое создание Божье лишилось бы разума. Там, где прокатились волны, отзвук ментального сражения обрушился на людей, на все существа, способные чувствовать и мыслить. Одни испытали смутное беспокойство, другие — вспышку страха, третьи — непереносимый ужас; лишь тренированные телепаты могли защититься от него, укрыться за барьерами, однако их тоже снедал страх. Им было ясно, что происходит нечто жуткое, небывалое и не имевшее объяснений — может быть, преддверие Апокалипсиса или Рагнарека. Может быть, что-то другое, не описанное в древних легендах и книгах, но столь же ужасное, сулящее конец времен… Для этих страхов имелись основания; многое было забыто пережившими Смерть, но в каждом уголке Земли помнилось старинное предание: мир окончательно рухнет, когда боги вступят в битву. А в том, что сражаются боги, сомнений не оставалось. …Лишь одно существо во всем огромном мире хранило нерушимое спокойствие. Подняв над водой массивную голову, Солайтер замер, вслушиваясь в эхо ментальной схватки. Мощь, которой он не ведал за все тысячелетия долгой жизни, струилась над его озером и над пурпурными холмами, билась и трепетала в воздухе; мощь, рожденная людьми, чей мозг казался таким маленьким и слабым, но в то же время вмещавшим Вселенную, все необъятное Мироздание, от крохотного атома до Бога. Этот парадокс выглядел неразрешимым, но Солайтер, мудрое и долговечное существо, знал, что еще не раз вернется к нему — не сейчас, так в более спокойные времена. Сейчас он с надеждой следил за сражением, и только ему были открыты смысл и суть ментальных возмущений. Он наблюдал, как черный дракон распался на три клубка, три разума, плененных мысленным барьером; видел, как победитель сминает их и давит, однако не за тем, чтоб уничтожить — цель, как мнилось Солайтеру, была иной. Там, над полем битвы, метались другие разумы, убогие и жалкие, принадлежавшие ночным крылатым тварям, и три из них будут живыми темницами для побежденных. Такое предчувствие не покидало Солайтера и оказалось верным; уже погружаясь в воду, он отметил, что пленники исчезли, слившись с сознанием нетопырей. «Закономерный результат, — подумалось ему. — Люди, несомненно, прогрессируют, хотя и не очень быстро — с этим делом они тянули целое тысячелетие. Но все-таки история завершилась, и в этом доказательство их разума. Они понимают: то, что отложено, надо закончить, иначе в мире воцарится беспорядок».* * *
Сильная рука Шарля лежала на плече Иеро, морской ветер трепал их волосы, зеленовато-прозрачные мелкие волны облизывали песчаный берег, тянулись к сапогам из мягкой оленьей замши. Оба они стояли лицом к морю и к западу; за их спинами шумели листвой деревья и блистали под утренним солнцем кровли дворцов и башен. — Куда теперь? — Шарль прищурился — солнце, отражаясь в поверхности моря, слепило глаза. — На восток, брат, к океанскому берегу. Думаю, айморцы встретят нас благосклонно… «Вашингтон», как ты знаешь, погиб, и вся надежда на их корабли. Однажды им удалось переплыть океан… Почему не попробовать снова? — Ты мог бы отправиться на запад с клонами Нергала. У них хорошие корабли, и путь в Асл им известен. А там и до Атви недалеко. Иеро покачал головой. — Не хочу плыть на судне Нечистого. К тому же… Он смолк, но Шарль с улыбкой продолжил: — …тебя терзает любопытство. Добраться до Аймора через степи, леса, горы и реки, увидеть новый народ и новую страну, так непохожую на Метс… Брат, я понимаю, о чем ты думаешь! Не забывай, во мне — твоя память, твои желания и мечты! — И что же они тебе подсказывают? Пойти со мной или остаться здесь? Шарль ковырнул песок носком сапога и уставился на лунку, которая быстро наполнялась водой. — Ты знаешь сам. Дело еще не доделано, и тут для меня найдется работа. Эти копии… эти несчастные люди, мужчины и женщины… разве их можно бросить? И эти опасные игрушки — там, за горами, и в небесах… Разве их можно оставить без присмотра? Буду трудиться во имя Господа и ждать, когда приплывут ученые и воины из Канды… — Он снова улыбнулся и стиснул сильнее плечо Иеро. — Ты вовремя обзавелся братом, парень! Иначе пришлось бы остаться самому! Они с усмешкой глядели друг на друга. Потом Иеро снял перевязь с мечом, вытащил из кармашка древний крестик, стиснул его в кулаке, а оружие протянул Шарлю. — Возьми. Не забывай меня. И помни еще об одном — о той пещере в Каменном Поясе, где я тебя нашел. Возможно… — Возможно! — подхватил Шарль. — Клянусь святой троицей, возможно! Мне нравится быть человеком — так почему не понравится и другим? Тем, что остались в пещере… И кто-то из них станет прекрасной женщиной, моей принцессой… Почему бы и нет? — Почему бы и нет? — эхом повторил Иеро. Они замолчали, слушая, как свистит над морем ветер и шуршат волны, накатываясь на песок.ЭПИЛОГ
В дебрях Сайберна, в тысяче миль от океанского побережья, под корнями гигантской сосны, вывороченной бурей, спали три человека и медведь. Костер, разложенный путниками, погас, груда углей подернулась пеплом и не давала света, хотя от нее еще струилось приятное тепло. Два копья, арбалет и метатель были разложены на мешках, а около них, в клетке из прочных прутьев, скорчился нетопырь, летучая мышь с уродливой злобной мордочкой, похожая на крохотного дьявола. Лесной кот подбирался к ней, медленно продвигаясь на мягких лапах по сосновому стволу. Кот был крупным, двадцать фунтов мышц, костей и хищной ярости, но люди, не говоря уж о медведе, были для него сейчас недосягаемой добычей. Зимой, собравшись в стаю, коты могли одолеть оленя, и волка, и даже человека, но летом каждый из самцов жил и охотился в одиночку. Лето — время свободы, период сытости и изобилия, когда повсюду дремлет, кормится и суетится мелкая дичь… Взять хотя бы этого нетопыря — чем не ужин? Кот оскалил зубы, замер ярдах в трех от клетки, переместился на шажок, но внезапно с паническим визгом спрыгнул вниз и ринулся в лесную чащу. Ухо медведя приподнялось и сразу опустилось, когда лежавший рядом человек открыл глаза. «Кошка, друг Иеро, всего лишь кошка. Хотела сожрать нашего пленника и наткнулась на твой барьер… Что ты вообразил на этот раз? Пожар, наводнение или канаву с гадюками?» Человек усмехнулся и погладил медвежий загривок. «Спи, мохнатый! Сегодня нас охраняет стая голодных волков. Тут их целые сотни», — он коснулся пальцем лба. «И ты спи. Волки — надежные сторожа. Особенно те, — пробормотал медведь, засыпая, — что бродят в твоей голове». Но человеку не спалось. Необъяснимая тревога снедала его; казалось, он слышит чьи-то стоны и чувствует чью-то боль, однако не ту, какая бывает от ран или пыток, а долгую сладкую муку, которая вот-вот должна завершиться облегчением. Он посмотрел на своих спящих спутников, подмигнул нетопырю, взиравшему на него злобным кровожадным взглядом, подбросил хвороста в костер и раздул огонь. Минуту или две человек сидел, уставившись в яркое пламя и слушая лесные шорохи, затем мышцы его напряглись, и на виске, едва заметно, начала биться голубая жилка. «Слышишь, брат? Слышишь, я чувствую… Тогда помоги мне. Что-то происходит — там, в далеком краю, на побережье Лантика… что-то важное… Хочу узнать. Очень большое расстояние, но вместе мы сумеем дотянуться…» Он опустил веки, сосредоточился, бросил мысленную нить в далекое королевство Д'Алви и услышал первый крик своего сына.КОММЕНТАРИИ
АББАТСТВА — теократическая структура Кандианской Конфедерации, охватывающая Республику Метс на западе и Союз Атви на востоке. Каждое Аббатство выполняет военно-политические, научные и религиозные функции; Совет Аббатств обладает властью, аналогичной прерогативам Палаты Лордов в Англии восемнадцатого века и возглавляется Первым Гонфалоньером. АЙМОР — страна в бассейне Амура и на тихоокеанском побережье Азии; предками айморов являются народы Сибири, а также русские, монголы и небольшие группы китайцев, спасшихся после Смерти и бежавших на север. АСЛ — остров Исландия. БАТВИ — торговый жаргон; искусственный язык, используемый в областях, граничащих с Внутренним морем. БАФЕРЫ — гигантские быки, результат мутации бизонов. Огромные стада баферов ежегодно мигрируют через западные кандианские районы. БНАН — видоизменившееся банановое дерево, произрастающее на острове Асл. ВАНК — бывший Ванкувер, область на юго-западе Республики Метс, на побережье Великого океана. ВЕРБЭР (МЕДВЕДЬ-ОБОРОТЕНЬ) — мало известный вид лемутов. Он является не обычным медведем, а разновидностью гризли с коротким мехом и обладает невероятной силой, неким подобием рук и странной способностью к гипнозу, с помощью которой завлекает своих жертв. Пользуется примитивными орудиями. В основном бродит ночью; вербэров видели мельком только один или два раза. Их также относят к Нечистому, но они кажутся скорее его союзниками, чем слугами. Их современный аналог неизвестен. К счастью, они являются очень редкими. ВЕТЕР СМЕРТИ — зелье в виде порошка, приготовляемого специально обученными самками иир'ова (владычицами Ветра Смерти); вызывает чувство необоримого ужаса. ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ — большое море, образованное в древности в результате слияния Великих американских озер; в нем имеется множество островов. Многое во Внутреннем море не отмечено на картах. Его берега усеяны руинами древних городов. По водам Внутреннего моря осуществляются интенсивные торговые перевозки, несмотря на постоянную угрозу со стороны пиратов. Наиболее крупные порты: Намкуш — на северо-западе; Ниана — на юго-востоке. ВОЛОСАТЫЕ РЕВУНЫ — наиболее опасная разновидность лемутов. Они являются большими, покрытыми мехом бесхвостыми приматами с высоким интеллектом, и используются Нечистым в качестве солдат. Они ненавидят всех людей, кроме своих темных мастеров. Более всего они походят на огромных бабуинов. ГЛИТЫ — один из видов лемутов, выведенных Нечистым (возможно, произошли от рептилий). Чешуйчатые и очень сильные физически, обладают разумом, способны к гипнозу; находятся в полном рабстве у Темных Мастеров. ГРАНТЕР — большая хищная рептилия, напоминающая крокодила; водится в болотах Д'Алви. ГРОКОН — гигантский потомок современной свиньи, обитает в северных лесах. На гроконов интенсивно охотятся, но они могут быть очень опасны для охотника, так как достигают размеров крупного быка и отличаются умом и ловкостью. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА — Д'Алви, Чизпек, Кэлин и другие. Расположены на побережье Лантического океана, на месте современных мегаполисов Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон; населены, в основном, расой чернокожих. Называются также Южными или Черными Королевствами, так как в этих странах монархическая система правления. ДАВИДЫ — Народ Давида, потомки чернокожих иудеев, проживающие в Южных Королевствах и сохранившие свою религию. По внешнему виду не отличаются от остального населения. Д'АЛВИ — крупнейшее и наиболее развитое государство на восточном побережье Лантического океана. Королевство организованно по принципу просвещенной деспотии, однако рядовые члены общины — крестьяне и ремесленники — пользуются в нем очень немногими правами. В королевстве существует низшая ветвь Универсальной Церкви. ДЕЛЬФЫ — Морское Племя, разумные дельфины, обитающие в Море Среди Земель. Разум у этих существ был пробужден еще до Смерти, в результате генетических экспериментов; они весьма благожелательно относятся к людям. ДЕТИ НОЧНОГО ВЕТРА — см. иир'ова. ДЛИННОРЫЛ — хищный осетр-мутант размером с крокодила; водится в реках и озерах Канды, а также на Евразийском материке. ДОНДЕРЛЕНД — Опасная Земля; так называют Гренландию жители острова Асл. ЗАБЫТЫЕ ГОРОДА — города древних, разрушенные в период Смерти. ЗАЩИТНИК — прибор, разработанный Темным Братством; создает искусственный ментальный барьер, защищающий разум своего обладателя. Имеет форму квадратного медальона с цепочкой. ЗМЕЕГЛАВЫ — гигантские всеядные рептилии, небольшие стада которых обитают в глубине южных лесов. Преимущественно питаются мягкими ветвями растений и фруктами, но также едят падаль. Очень похожи на доисторических двуногих динозавров, но на самом деле происходят от небольших рептилий, существовавших в период до наступления Смерти. ЗОЛОТИСТАЯ УТКА — утка величиной с лебедя с золотистым оперением и алым клювом; водится в Канде. ЗОНЫ СМЕРТИ — то же самое, что и пустыни Смерти. ИИР'ОВА — самоназвание людей-кошек, искусственной расы, выведенной адептами Нечистого; дословно означает «Дети Ночного Ветра». Иир'ова обитают в великих прериях; непревзойденные охотники и воины, они отличаются исключительной подвижностью и быстротой реакции. Ведут ночной образ жизни. ИННЕЙЦЫ — потомки чистокровных индейцев, обитающие в Канде; весьма немногочисленны. КАЛИФАР, МЕКСАНО, ТЕКСУС — Калифорния, Мексика, Техас. Аббатствам практически ничего не известно об этих странах, и жителям Канды они представляются легендарными. КАНДА — территория древней страны Канады, сохранившая свое наименование почти неизменным, хотя во времена Иеро многие об этой стране уже забыли. Память о ней сохранилась только в центральных районах Республики Метс и Атвианского Союза, на западе и на востоке соответственно. КАНДИАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ — государственная религия Метсианской Республики и Союза Атви. Образовалась в результате слияния наиболее распространенных направлений протестантской церкви с католицизмом, хотя контактов с Римом не было в течение тысячелетий. Из древних христианских религий в Универсальной Церкви сохранились многие обычаи — такие, причастие, исповедь, символ креста и т. д. Родственные церкви, хотя менее строгие и цельные, существуют во всех Южных Королевствах на побережье Лантика, таких, как Д'Алви. В некоторых моментах они отличаются от Кандианской Церкви — например, на юге священники соблюдают целибат (обет безбрачия). КАУ — вьючное животное, используемое для сельскохозяйственных работ и верховой езды в районах южнее Внутреннего Моря (подобно волу в современной Корее). Большой бык; по-видимому, почти не изменившийся с древних времен потомок домашнего рогатого скота. КИЛЛМЕН — исключительно опытный и умелый воин Республики Метс, прекрасно тренированный физически, прошедший длительное обучение военному искусству в специальной академии в Саске, владеющий всеми видами оружия. Киллмены автоматически являются офицерами Стражей Границы, а также используются в качестве лесных рейнджеров, стражей и специальных агентов Аббатств. Иеро — человек необыкновенный (хотя и не исключительный), так как он является также священником и заклинателем. Подобная комбинация способностей высоко ценилась, но встречалась крайне редко. КРУГИ — административные области, обозначаемые определенными цветами, принадлежащие Нечистому и его мастерам из Темного Братства. Иеро во время своих путешествий пересек все четыре Круга — Красный, Голубой, Желтый и Зеленый. Верховные мастера Кругов: С'тарн (Красный), С'дана (Голубой), С'дига (Желтый, столица — Ниана), С'лорн (Зеленый). ЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН (соленое море Лантик) — древний Атлантический океан, хотя линия его западного побережья сильно изменилась. Не сохранилось документов о существовании каких-либо трансатлантических контактов в течение последних трех тысячелетий. ЛЕМУТ — термин обозначает животное или другое негуманоидное существо с человеческим разумом, которое служит Нечистому. Медведя Горма и Народ Плотины никогда не считали лемутами. Этот термин образован сокращением слов «летальный мутант», обозначавший животное, которое не может выжить и воспроизводиться в естественных условиях. Во времена Иеро смысл этого термина был изменен; под ним понимали существо, враждебное нормальным людям и нормальной жизни во всех ее видах. По мере расширения исследованной территории постоянно открывают новые разновидности лемутов — например, такие, как обнаруженные Иеро люди-жабы. Однако не все эти новые создания являются лемутами. ЛОРС — основное пахотное и верховое животное Канды. Впервые было выведено в Республике Метс. Является очень крупной разновидностью современного канадского лося, обладает зачатками интеллекта. Используется в кавалерии. ЛОУН — невероятно огромная нелетающая водоплавающая птица, которая была найдена в отдаленных районах Внутреннего моря. Питается рыбой. Хотя лоун очень пуглив и робок, у него мало врагов, так как эта птица достигает восьмидесяти футов в длину при соответствующем весе. Лоун встречается очень редко, хотя не раз упоминается в легендах. ЛУКИНАГА — наркотическое средство, известное Аббатствам. Используется священниками для усиления духовной мощи, когда они вступают в мысленный контакт. В малых дозах лукинага расслабляет и вызывает сон. ЛЮДИ-ЖАБЫ — лемуты-амфибии, которые обитают в Забытых Городах на побережье Внутреннего моря. ЛЮДИ-КРЫСЫ — огромные, величиной с человека грызуны. Один из наиболее свирепых видов лемутов, часто используется Нечистым в качестве воинов. Вероятно, мутация крысы, на которую они походят во всем, кроме мозга и размеров тела. МАНУН (Мертвый остров) — скалистый остров на севере центральной части Внутреннего моря, место, где Иеро был взят в плен. Один из главных центров Голубого Круга Темного Братства. МЕТАТЕЛЬ — гладкоствольный карабин, который заряжается с дула. Огнестрельное оружие в Республике Метс, очень редкое и дорогое. МЕТС — преобладающая раса в Канде, которая образовалась в результате смешения индоевропейской («белой») и индейской рас. Метс является сокращением древнего слова «метис». Метсы выжили в период Смерти в большей пропорции относительно других рас, так как они селились в древности маленькими группами в отдаленных сельских и лесных районах Канды. В результате атомные и бактериологические болезни уничтожили относительно немногих. Метсы, проживающие в Восточной Канде, на территории Атвианского Союза, имеют более светлую кожу, так как в их генах примесь индоевропейской крови больше. МИРМИДЫ — огромные мутировавшие муравьи. Полуразумны; в Айморе используются в качестве сторожей, охотников и с другими целями. МОНРЕЙ — бывший Монреаль, столица Союза Атви. МОСК — бывшая Москва, полностью покинутая людьми, переселившимися в окрестные леса. МОРЕ СРЕДИ ЗЕМЕЛЬ — Средиземное море, которое в описываемую эпоху поглотило Красное, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря и простирается на восток до бывшего бассейна Сырдарьи и отрогов Памира. МУ'АМАНЫ — одно из темнокожих племен, обитающих в Д'Алви; занимаются скотоводством. Они — великолепные бегуны; отличаются воинственностью и поставляют лучших пехотинцев в королевскую армию. Истоком их религии является мусульманство. НАМКУШ — город и порт в северо-западной части акватории Внутреннего моря. Стоит в дельте Дождливой реки, которая, вместе с озерами Слез, Опадающих Листьев и другими, является кратчайшим водным путем, связывающим Республику Метс с Внутренним морем. До захвата Намкуша метсианскими войсками, он носил статус вольного торгового города, однако фактически находился подконтролем Красного Круга Братства Нечистого. НАРОД ПЛОТИНЫ — водные грызуны, обладающие высоким интеллектом и размерами превосходящие людей. Живут в искусственных озерах на территории Республики Метс; находятся под охраной соглашения о взаимной терпимости. Являются результатом мутации бобров. Очень миролюбивы. НЕЧИСТЫЙ — общий термин, обозначающий как дьявола, так и Темное Братство и всех его слуг и союзников — так же, как и все другие формы жизни, осмысленно стремящихся уничтожить нормальных людей и разрушить естественные законы природы и общества со злыми целями. НИАНА — крупнейший порт на юго-восточном побережье Внутреннего моря, торговый центр. Фактически в нем правит Нечистый; Совет Купцов города выполняет, как правило, его указания. В действительности Ниана является главным центром Желтого Круга Темного Братства. Тот, кто опасается зла, не задерживается в Ниане. Она расположена примерно на месте древнего города Толидо. НЬЮФОЛ — остров Ньюфаундленд. ОБИТАЮЩИЙ (БРОДЯЩИЙ) В ТУМАНЕ — таинственное злобное существо, обитатель Пайлуда; питается телепатической энергией своих жертв. Даже колдуны Нечистого опасаются этого ментального вампира. ОЗЕРО СЛЕЗ, ОЗЕРО ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬВ, ДОЖДЛИВАЯ РЕКА, РУЧЕЙ ТЕТИВЫ — система озер и рек к западу от Намкуша, где разыгралось сражение между армией Республики Метс и войсками Красного и Голубого Кругов. ОЛЕНЬ СМЕРТИ — чудовищный мутант, обитающий в пустынях Смерти. Обладает невероятной живучестью, очень силен, плотоядный хищник. Свое название получил из-за растущих на морде шипов, похожих на оленьи рога. ОТР — огромный морской зверь, водится во Внутреннем море и других водоемах; результат мутации тюленей. На него охотятся с гарпуном, как на китов древности. ПАЙЛУД — обширнейшее из всех северных болот. Пайлуд тянется на сотни миль вдоль северного побережья Внутреннего моря. Его избегает даже Нечистый. Много странных форм жизни, не обнаруженных в других местах, существует в его безбрежных просторах. Ужасные лихорадки часто поражают тех, кто отваживается проникнуть в Пайлуд. Его точные границы на карту не нанесены и неизвестны. ПАРЗ — крупное травоядное животное с четырьмя бивнями. Обитает в южных лесах, достигает двенадцати футов высоты в холке. Его предок неизвестен. ПЕР — сокращенное «патер» (отец). Уважительный титул священника Кандианской Универсальной Церкви. ПОМНЯЩАЯ — самка иир'ова, глава прайда, которая хранит историю племени. ПРОТЕСТАНЫ — протестанты, последняя секта в Канде, присоединившаяся к Универсальной Церкви около двух тысячелетий тому назад. ПСЫ СКОРБИ — чудовищные собаки размером с крупного пони. Используются в отрядах Нечистого в качестве ездовых животных для Волосатых Ревунов. Очень сильны и свирепы. ПУСТЫНИ СМЕРТИ — клочки земли, пораженные древней атомной радиацией в результате бомбардировок. Здесь мало или совсем нет воды и растений. Однако жизнь существует даже в этих ужасных местах, хотя по большей части она странная и враждебная, развивающаяся в условиях сильной радиации и свирепой борьбы за существование. Некоторые пустыни занимали площадь в сотни квадратных миль и во времена Иеро их сторонились подобно самой Смерти. Пустыни редко встречались в Канде, но на юге их было много. Наиболее страшные из них испускают ночью голубое радиоактивное сияние. РАКШ — огромная хищная морская рыба с большими плавниками, способная к прыжкам над водой — мутант, произошедший от летучих рыбок прошлого. РЕСПУБЛИКА МЕТС — государство на территории центральной и западной Канады, входящее в Кандианскую Конфедерацию (см. Аббатства). Столицей Метсианской Республики является город Саск, чье название происходит от древней канадской территории Саскачеван. В Саске расположено Центральное Аббатство, его школы, архивы и научные лаборатории. САЙБЕРН — Сибирь; на большей части этой огромной территории растет лес, подобный Тайгу. САСК — столица Республики Метс. СИНЮКИ — народ с синеватой кожей, обитающий рядом с пустынями Смерти. СМЕРТЬ — болезни, вызванные радиацией и применением химического и бактериологического оружия, уничтожившие основные населенные центры и большинство людей пять тысяч лет тому назад. Во времена Иеро эти события давнего прошлого все еще оставались синонимом ужаса и неотвратимой опасности. Существовала поговорка: «Все зло мира принесла Смерть». СНАПЕР — огромная хищная черепаха размером с легковой автомобиль. Нападает на крупных животных в воде, является свирепой и почти неуязвимой. СОРОК СИМВОЛОВ — крошечные фигурки-символы, вырезанные из черного дерева, с помощью которых прошедший обучение священник-заклинатель может предсказывать будущее. При этом используется магический кристалл, позволяющий гадателю быстрее входить в состояние транса. В романах упоминаются следующие символы: Копье — битва (все виды сражений) или опасная охота; Рука (Раскрытая Рука) — друг; Рыболовный Крючок — скрытая опасность или скрытое значение чего-либо, тайна, загадка; Рыба — вода и все, с ней связанное (корабли, верфи, сети, мореходство и т. д; также обозначает мужскую силу); Крест и Глаз — Зло; опасность, угрожающая не только телу, но и душе; Скрещенные Руки — друг, очень близкий, на всю жизнь; Молния — буря, шторм, плохая погода; сильный гнев, который может испытать гадающий; молния, которая попадет в гадающего; Сапоги (или Башмаки) — долгое путешествие; Дом — сам по себе этот символ означает кров, убежище, но в сочетании с другими знаками допускает множество толкований; Меч и Щит — гадающему предстоит опасная схватка; Лист, проколотый Мечом — Мир и Война, с возможностью выбора между ними; Череп — символ древней Смерти (или гибели, которая настигнет гадающего или близких ему людей). Пес — собака или волк; смысл символа зависит от других фигурок, которые попадутся гадающему вместе с ним; Птица — нечто, связанное с воздухом; Слеза — знак печали; Округленные Губы — нечто новое, удивительное (может оказаться как хорошим для гадающего, так и плохим); Книга — знак Библии, Священной Книги; толкуется как надежда или Божья помощь. СОЮЗ АТВИ — государство на территории восточной Канады, братское Метсианской Республике, получившее свое название от древнего города Оттава. Союз меньше Республики и отделен от нее обширным пространством диких земель и Тайга, через который проходит несколько дорог. Между обеими странами установлены тесные контакты, в обеих существуют Аббатства (см.), выполняющие роль правительства как в Союзе, так и в Республике. Столица Атви — город Монрей. СТРАЖИ ГРАНИЦЫ — армия или лица, входящие в состав вооруженных сил Республики Метс. Союз Атви имеет аналогичное формирование. В Метсианской Республике имеется шестнадцать «легионов» или «полков», полностью автономных воинских частей. Они находятся под командованием Совета Аббатств, который, в свою очередь, докладывает Нижней Палате (Ассамблее) о своих решениях, которые всегда одобряются. Стражей Границы обычно возглавляют священники. Численность легиона составляет от тысячи до двух тысяч бойцов. Более мелкие подразделения легиона — стая и рой (эквиваленты батальона и роты). СТРАНЫ СТАРОГО СВЕТА — Франс (Франция), Джомен (Германия), Спейн (Испания), Итали (Италия), Раша (Россия), Инди (Индия), Чина (Китай), Джап (Япония). ТАЙГ — великий хвойный лес Канды, не похожий, однако, на современный; он содержит много лиственных деревьев и даже некоторые виды пальм и кактусов. Деревья в среднем стали выше, чем в настоящее время, на далеком юге растут еще более гигантские деревья. ТЕМНОЕ БРАТСТВО — самоназвание союза Мастеров Нечистого. Используя слово «темный», они подчеркивают, что пытались завоевать мировое господство и уничтожить жизнь; они гордятся этим, понимая, что главное зло исходило от них. Аналогом этой организации является современный сатанизм. ФРОГ — чудовищный лягушкоподобный монстр, обитающий в болотах Пайлуда. ХАЙЛЕНДЕР — долгожитель; человек, жизнь которого измеряется двумя веками или даже большим сроком. Исключительно редкая мутация среди людей. ХОППЕРЫ (прыгуны) — домашние ездовые животные, напоминающие огромных кроликов или кенгуру, которых разводят в Южных Королевствах. Сила и скорость хопперов позволяет использовать их в качестве скакунов в армии Д'Алви. ЧИЗПЕК, КЭЛИН — небольшие королевства на побережье Лантического океана, то выступающие в союзе с Д'Алви, то воюющие с этим своим непосредственным соседом. Чизпек расположен к северу от Д'Алви, Кэлин — к югу. ЭЛИВЕНЕРЫ — Братство Одиннадцатой Заповеди («Да не уничтожишь ты ни Земли, ни всякой жизни на ней»). Группа ученых, экологов и социологов, которая образовалась после Смерти с целью сохранить человеческую культуру и знания, проповедующая любовь ко всему живому. Эта группа проникла во все сферы социальной жизни человечества на американском континенте и постоянно сражается с Нечистым, часто тайными путями.Михаил Ахманов Я – инопланетянин
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Парят летающие тарелки над городами Земли, маячат над Парижем и Дели, Петрозаводском и Киевом, Лимой и Бостоном, рушатся в пустыню Нью-Мексико на головы американских коммандос, а их обломки – возможно, и целые корабли – складируют на авиабазе Райт-Паттер-сон, что в штате Огайо. У нас в России тоже есть подобное хранилище, где-то в районе падения Тунгусского метеорита, соединенное с Москвой секретной магистралью. На полях Ставрополья и в амазонских джунглях, в Сахаре, Уэльсе и других местах находят следы приземления ино-планетников – то концентрические круги на кукурузном поле, то ямку с повышенной радиацией, то спекшийся в стекло песок. Пленив и досконально изучив одну супружескую пару, пришельцы в благодарность объяснили, откуда они взялись; затем супруги, возвратившись к жизни сей, стали чертить звездные карты и потрясать ученых эрудицией. Некий бразильский юноша тоже попался чужакам, но эти были покруче – бесед про астрономию не вели, а подвергли парня принудительной копуляции (разумеется, с инопланетянкой). Случалось и такое: летит тарелка над Аризоной, садится у фермы миссис Смит, и вышедшие из нее пилоты просят стаканчик водички (миссис Смит, по доброте душевной, напоила их компотом). Их аппараты я называю тарелками лишь по традиции, а вообще-то они имеют форму шляп и огурцов, карандашей и веретен, чайников, сапожных щеток и перевернутых котелков. Есть, конечно, и другие виды, но их разнообразие меркнет перед числом народов и племен, слетевшихся на Землю со всех концов Галактики. Среди них – зеленые человечки и лилипуты всяких расцветок, трехметровые гиганты и пришельцы обычного роста и средней упитанности, с серой кожей или напоминающие итальянцев, а также негуманоиды, андроиды, биороботы, призраки, расплывчатые тени и так далее. Нет лишь трехногих на шарнирах – видимо, по той причине, что этих уже описал Уэллс. Контактеры (так называются земляне, поддерживающие телепатический контакт с пришельцами) давно установили, что Землю изучают семьдесят семь инопланетных цивилизаций, и я бы им поверил, если бы не знал истины. А она такова: если бы некая раса, способная странствовать среди звезд, пожелала нас исследовать, мы бы этого попросту не заметили. К чему кружить над Землей, хватать зазевавшихся супругов, страдать от жажды в Аризоне, топтать озимые в Ставрополье? Уж очень это глупо выглядит, неубедительно, будто слетелись к нам космические простофили со всей Вселенной. Профессионалы будут действовать иначе: засядут в троянской точке или на Луне и все узнают из наших телепередач. Если кого и отправят на Землю, так роботов, неотличимых от мух и комаров, чтобы скачать что-нибудь из Интернета и подглядеть за нами в разных позах, включая интимные и политические. Но я полагаю, что это тоже вымыслы и домыслы, так как ломиться через Галактику на кораблях, подслушивать наши секреты, устроившись на Луне, и запускать к нам мушек-роботов невероятно примитивно. Все это глупости – точно такие же, как пресловутые аварии тарелок в штате Нью-Мексико и прочие «ангары 18» и «контакты третьего рода». Взять хотя бы эти аварии… Представьте, явились к нам пришельцы, преодолев невероятно длинный путь, примчались на сверхсветовых скоростях или вынырнули из подпространства, что говорит о высочайшей научной потенции, – явились, значит, запустили на разведку боты, а те вдруг падают! Не на Венере, не в Красном Пятне Юпитера, а на Земле, где даже самолетом можно долететь из пункта «а» в пункт «б». Невелика надежность инопланетной техники! Что, разумеется, невероятно. Я полагаю, что все упомянутое выше от этих нелепых аварий до компота миссис Смит – чушь, суета и томление душ, склонных либо к мистификации, либо к шизофрении. Но чужие на Земле, конечно, есть, и, не комментируя более россказни всяких подозрительных супругов и бразильских копуляторов, я познакомлю вас с одним из них. Отмечу, что, описывая его жизнь, все, что свершилось в ней и еще свершится, я не стремился к внешней занимательности. Предметом моего интереса были не столько его деяния, сколько мысли, и я полагаю это верным; в конце концов, не столь уж важно, чем он занят на Земле, – гораздо важнее, что он думает о нас, о нашем обществе, традициях, культуре. Что удивляет его, что ужасает, что восхищает? Что заставляет испытывать радость или горе? Есть ли у него привязанности? Что его гнетет, что помнится ему, видевшему те миры, которые нам только снятся? И, наконец, главный и самый животрепещущий вопрос: он, разумеется, человек – но люди ли мы для него? Взгляд со стороны бывает так полезен…Посвящаю этот роман Асие, моей дорогой кареглазой жене, которая фантастику не читает. Но главное – не читать, а вдохновлять.Автор
ГЛАВА 1 СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА БАКТРИЙСКОЙ ПУСТЫНИ День первый
Гул двигателя сделался тише, тряска сменилась мерным плавным покачиванием, ровная поверхность песка на маршрутном экране уже не убегала стремительно под гусеницы, а струилась неторопливым течением серой, чуть поблескивающей на солнце реки. Потом линия горизонта, сорок минут качавшаяся вверх-вниз перед моими глазами, дрогнула в последний раз и замерла. Танк остановился. – Здесс, – прошелестел голос полковника Чжоу – Далше мы не мочь. При всем увашений. Он говорил по-английски с чудовищным акцентом. – Благодарю, – отозвался я. – Этого вполне достаточно. Негромко лязгнув, сдвинулась крышка овального люка. Сиад, гигант-суданец, вылез первым, за ним – Джеффри Макбрайт и Фэй и, наконец, мы с Жилем Монро, координатором. Танк возвышался над нами огромной коричневой черепахой с двумя головами-башнями, в каждой – узкая вертикальная пасть с задранным к небу пушечным стволом. Мотор тихо урчал, и казалось, что эти звуки издает огромное животное, приползшее сюда не с востока, а с запада, из самых недр Бактрийской пустыни. Из глубины Анклава, который нам предстояло пересечь. – Да поможет вам бог, Арсен, – сказал Монро и принялся прощаться: пожал изящную ручку Фэй, огромную — Сиада, холеную – Джефа Макбрайта. Я, как начальник, удостоился рукопожатия последним; затем координатор хлопнул меня по плечу и произнес в блестевший на воротнике диск переговорника: – Шестая экспедиция Совета по экологической безопасности ООН. Состав: руководитель – Арсен Измайлов, Россия; члены – Цинь Фэй, Восточная Лига, Сиад Али ад-Дагаб, Союз мусульманских государств, Джеффри Коэн Макбрайт, Союз Сдерживания. Бактрийская пустыня, девять часов тридцать две минуты по местному времени, третье апреля две тысячи тридцать седьмого года. Старт. – Информацию подтверждаю, – вымолвил я в микрофон и отступил на пару шагов от танка. Монро, кивнув, нырнул в кабину, люк захлопнулся, негромко взвыл мотор, широкие гусеницы пришли в движение, коричневая черепаха со скрежетом развернулась на песке и, слегка покачиваясь, двинулась на восток, к китайскому сторожевому посту вблизи Кашгара. Отличный образец российской военной техники – МБЭУ, машина для боя в экстремальных условиях… Как раз для нас, для экстре-малыциков! Я включил пеленгатор, закрепленный на запястье, – тут, в десяти—пятнадцати километрах от границы Анклава, техника еще работала. Собственно, и за границей тоже, на протяжении дня пути, но затем любой прибор – от электрического фонарика до рации и компа – можно было выбрасывать на свалку. Почему? Хороший вопрос! Один из тех, которые нам предстояло выяснить. – Двинулись! Я махнул рукой, показывая направление. Фэй послушно зашагала вперед, и Макбрайт, нарушая установленный во время тренировок порядок, тотчас пристроился за ее спиной. Тут в отличие от тайн Анклава никакой загадки не имелось: «катюха», комбинезон «КТХ», вообще-то одежда мешковатая, но на Фэй она сидела как влитая, обтягивая тонкую талию и длинные ноги. А ноги Фэй стоили того, чтобы на них поглядеть. – Макбрайт идет третьим, – произнес я. Вроде негромко сказал, но голос раскатился над плоской песчаной равниной громовыми отзвуками. – Дружище, мы же еще не в Анклаве! – пробурчал Макбрайт, замедлив шаги и нехотя пропуская Сиада. Тот двигался, как заведенный механизм: темное равнодушное лицо под желтой каской, мощные плечи и спина, точно гладильная доска. Ножки Фэй и прочие соблазнительные выпуклости его абсолютно не интересовали. – Не скажете, Джеф, когда мы туда попадем? – полюбопытствовал я. – Может, хотите возглавить колонну? Макбрайт обиженно засопел, но больше не пререкался. Немалая уступка для человека богатого, привыкшего к власти, чье слово ловят на лету! Возможно, причина состояла в том, что он был по-настоящему богат, а значит, неглуп и сдержан. Я давно заметил, что миллионеров и миллиардеров разделяет незримый, однако реальный рубеж: первые более тщеславны и суетливы, тогда как вторые, штучный товар на местном рынке, ведут себя поспокойнее. Неудивительно: они уже всем доказали, кто есть кто. Я обернулся. Солнце на выцветшем блеклом небе било в глаза, но широкая корма и башни «черепахи» еще не скрылись за горизонтом. Танк улепетывал с похвальной резвостью, вполне простительной вблизи границ Анклава. Имелась гипотеза, что эти границы подвижны, что временами вуаль то наступает на несколько километров, то отступает или колеблется, словно кисейный занавес, однако не плавно, а с высокой частотой. Правда это или нет, оставалось неизвестным, но попасть под такое спонтанное колебание, хоть в пешем строю, хоть в танке или экранолете, было бы рискованно. Это могло оказаться последней в жизни неприятностью. Поэтому шли мы довольно быстро, растянувшись цепочкой из четырех разноцветных фигурок. Первая – Цинь Фэй, наш юный проводник в оранжевом комбинезоне, затем ад-Дагаб в яично-желтом, Макбрайт в травянисто-зеленом и я – в темно-фиолетовом. Последовательность цветов, как в радуге… Я, на правах руководителя, мог выбрать себе оттенок поярче, однако остановился на этом, напоминавшем уренирский океан – тихую водную гладь под теплыми солнцами, что виделась мне в снах и в забытьи восстановительного транса. Семьдесят лет… Да, семьдесят лет прошло с того мгновения, как я любовался этой картиной наяву! Впрочем, срок не очень большой, да и океаны Земли ничем не хуже. Мы двигались в полном молчании и тишине часа полтора. Под ногами скрипел песок. Очень странная формация – такой я не видел ни на одном континенте, ни в Каракумах, ни в Сахаре, ни в Аравии. Крупный, серый и слежавшийся почти до плотности асфальта… Песок чуть заметно пружинил под подошвами, и отпечатков на нем не оставалось – даже после Сиада, весившего добрый центнер. Не песок, а спекшаяся каменная крошка, частицы базальта, гранита и слюды, прах хребта Кунь Лунь… Впрочем, не только прах – на горизонте уже маячили возвышенности, однако не горы, не скалы, а что-то похожее на пологие холмы. Плоские, длинные, будто их вылепили из теста, раскатанного скалкой с вогнутым профилем. Над холмами висела полупрозрачная дымка – флер, на профессиональном жаргоне исследователей Анклава. Дыхание вуали уже коснулось меня, но Цинь Фэй еще ничего не замечала. Я был бы лучшим проводником для нашей экспедиции, если бы мог раскрыть свою тайную сущность, но в этом случае, боюсь, стал бы не уважаемым членом общества, а пациентом маленькой психиатрической больницы. Этот мир, устроенный так примитивно и так нелепо, рождает тем не менее крупицы мудрости, одна из которых гласит: всякому овощу – свое время. Мое время еще не наступило – быть может, не наступит никогда, а потому доверимся несовершенным чувствам Фэй. Или хотя бы сделаем вид, что доверяемся. Пеленгатор на моем запястье показывал на восемь градусов левее нашего курса. Мы повернули, и минут через сорок я разглядел первую вешку – длинный тонкий шест с вымпелом и радиомаяком, торчавший на склоне ближнего холма. На голубом вымпеле, лениво трепетавшем в порывах слабого ветра, темнела цифра «один», указание, что мы подобрались вплотную к границам Анклава. Неподалеку от вешки лежал на песке багажный контейнер, прикрытый ярко-алой парашютной тканью, – то и другое было сброшено с самолета, с двухкилометровой высоты, куда не дотягивалась наружная поверхность флера. Смысл этой операции заключался в том, чтобы облегчить для нас первые часы движения – без рюкзаков мы шли с приличной скоростью, покрывая не меньше восьми километров в час. Отнюдь не предел для экстремалыциков, но я не хотел, чтобы Цинь Фэй выдохлась до срока. Ее физические возможности были пока что вещью в себе, а с тем, что усталость притупляет чувства, не приходилось спорить. Вскоре мы добрались до контейнера, и молчаливый Сиад сбросил с него алую ткань. Я расписался на вымпеле и поглядел на Фэй. Ни следа утомления, хотя ее милое личико было сосредоточенным и над переносицей, меж темными бровями, залегла морщинка. Она склонила головку в оранжевом шлеме к плечу, будто к чему-то прислушивалась, потом кивнула: – Скоро, командир. Думаю, за гребнем холма… метров пятьсот или шестьсот. Фэй звала меня командиром, Макбрайт, пользуясь преимуществом возраста, то боссом, то приятелем, то другом, а Сиад не называл никак. Желая обратиться ко мне, он лишь поворачивался всем корпусом и испускал хриплое рычание, похожее на рев оголодавшего льва. С ним могли возникнуть проблемы! Правда, Монро гарантировал, что таковых не будет, и приходилось ему верить: ровно полдень, а Сиад как будто не собирается бухнуться на колени и сотворить намаз[570]. – Откройте контейнер, разберите и проверьте снаряжение, – приказал я. Мои спутники принялись за дело. Кроме шлемов, башмаков, ремней и «катюх» – «КТХ», модернизированных военных комбинезонов тепло-холод, у нас имелись посохи-альпенштоки, оружие и рюкзаки. Внутри посохов – дротики с отравленными остриями. Кроме того – газовые гранаты, мачете, ножи и два арбалета, у Джефа и Фэй. Только острая сталь и парализующий газ; ни лучевое, ни огнестрельное оружие в Анклаве не действовало. Рюкзаки были удобными, плоскими, с креплением к затылочной части шлема, чтобы часть нагрузки приходилась на шею. Их набили под завязку: галеты, плитки шоколада, питательный концентрат, фляги с водой, аптечка с лекарствами и биобинтами, блокноты для зарисовок и записей, котелки, спиртовка, бинокли и альпинистское снаряжение – крючья, клинья, молотки, канаты. Часть этого добра теперь полагалось разложить по карманам, подвесить к ремням и закрепить на бедре или предплечье. Благодаря сорокалетнему опыту я справился раньше других и теперь стоял, повернувшись спиной к солнцу и глядя на тянувшийся вверх пологий склон холма. Фэй не ошиблась: до границы Анклава было с полкилометра, и я уже различал паутину мелких проходов на юге и две щели, располагавшиеся немного севернее. Обе они казались достаточно просторными: устье одной – стометровой ширины, другой – метров сто пятьдесят, и дальше – прямые рукава средь стен вуали, будто ущелья, прорезанные в невидимых горах. Они уходили на юго-запад, к Тиричмиру[571] и Кабулу, совпадая с маршрутом экспедиции, и мой пеленгатор показывал, что где-то неподалеку от более широкого устья торчит вторая вешка. Минуем ее и попадем в зачарованную страну, где не работают видеокамеры, магнитофоны и рации, куда не добраться на танках и джипах и даже на лошадях – умрут, но не приблизятся к вуали… И потому мы пойдем пешком, потащим немалый груз, будем смотреть, запоминать, записывать – просто на листах бумаги, как делалось в этом мире издревле. Это наша официальная цель – смотреть и запоминать, пересекая Анклав, Бактрийскую пустыню, с северо-востока на юго-запад, от китайского Кашгара до иранского Захедана. Что же до целей неофициальных, то они у каждого свои, и пока мне в них не разобраться. Я заперт в своем человеческом теле, как в темнице, и редко могу уловить отзвуки мыслей – то, что здесь зовется телепатией. Впрочем, грех жаловаться: на Сууке я и этого не слышал. Мои спутники разобрались со снаряжением и навьючили на спины рюкзаки. Каждому – по силам: Фэй – пятнадцать килограммов, нам с Макбрайтом – по тридцать, ад-Дагабу – сорок. Однако гигант-суданец выглядел так, словно сумел бы без труда прихватить Цинь Фэй со всей ее поклажей. Насколько мне помнилось, он был чемпионом Африки по многоборью, а значит, являлся разносторонней личностью, способной прыгнуть в Ниагарский водопад, свернуть гиппопотаму шею и переплыть Ла-Манш – зимой и непременно в самом широком месте. Конечно, я имею в виду не олимпийское многоборье, а то, которым занимаются экстремалыцики, люди слегка повернутые – хотя, если судить с разумных позиций, на этой планете повернуты все. В том числе и Арсен Даниилович Измайлов; как-никак, я тоже человек. Макбрайт пошарил в кармане, вытащил плоскую фляжку и протянул ее Фэй. – По традиции, босс? – По традиции! – Кивнув, я вскинул руку: – Путь тяжел, но мы сильнее! Фэй пригубила, Сиад – даром что мусульманин! – сделал основательный глоток, я тоже приложился не без удовольствия. Старый французский коньяк, какой вкушают лишь миллиардеры! Макбрайт отпил последним, вылил янтарную жидкость на песок и отшвырнул флягу. Все, конец ритуала! Я не одобряю тяги землян к символике, но в данном случае некий торжественный акт казался вполне уместным. Как принято у экстремалыциков, он означал, что мы идем в поход командой, что будем делить каждую каплю воды и крошку концентрата, не поддаваться слабости, смешивать с партнером пот и кровь и защищать его до последнего вздоха. Глоток вина, рукопожатие и слово о том, что мы сильнее самой тяжелой дороги… Высокие звезды! Если б другие земные проблемы решались с такой же легкостью!.. Фэй, тоненькая, высокая, изящная, как фарфоровая статуэтка, начала подниматься по склону. За нею двинулся Сиад; желтый комбинезон, желтый шлем и желтый рюкзак делали его еще огромней, кисти рук и лицо казались по контрасту угольно-черными. Губы, на удивление узкие для чистокровного нуэра[572], были плотно сжаты; если Сиад и обращался к Аллаху, то для меня это прошло незамеченным. А вот Макбрайт молился, беззвучно шевеля губами, и, хоть мой скромный ментальный дар не позволял услышать его мысли, я ощутил направленный вверх поток энергии. Я мог бы перехватить ее, впитать, чтоб не расходовалась зря, но сей поступок был несовместим с земной моралью и с этикой Уренира. Как говорится, богу – богово, кесарю – кесарево… К счастью для кесаря, то есть для меня, на Земле имелись столь щедро делящиеся своей энергией секвойи, а также буки и дубы. Мы перевалили через пологий гребень, и Цинь Фэй замерла в своей любимой позе, откинувшись назад и чуть склонив головку. На ее полудетское личико легла тень раздумья: какую избрать дорогу, в какую из двух щелей нырнуть? Паутина, разумеется, исключалась: в этом хаосе мелких, беспорядочно ориентированных крысиных нор мы могли блуждать неделями, упираясь в пазухи и тупики. – Туда! – Фэй протянула руку, и я понял, что избран более широкий проход – тот, в котором нас поджидает вешка с радиомаяком. Все-таки есть у девочки чутье! Мы прошли три сотни шагов, двигаясь вдоль незримой границы Анклава, потом еще немного – Фэй выводила нас к самой середине щели. Здесь девушка остановилась и, будто прощаясь, подняла лицо к солнцу, щуря темные раскосые глаза. – Рукав очень широкий, – как бы подчеркивая это, она развела руки в стороны. – Пойдем по осевой линии. Можно отступать влево и вправо на тридцать-сорок метров. – Лучше этого не делать, – поспешно добавил я. – Двигайтесь следом за Фэй. Так надежнее. – Как скажете, приятель. – Макбрайт коснулся плеча девушки и произнес: – Что еще заметила юная леди? Проход прямой? И что в конце? Развилка или бассейн? Под бассейном, согласно общепринятой терминологии, понимают район стабильности километровой и более величины, полость помельче зовется карманом, а совсем крошечная – пазухой. Все эти зоны и зонки соединены щелями и проходами-рукавами, и все это вместе напоминает кусок деревяшки, источенный трудолюбивым червяком. Очень большой кусок на месте бывшего Афганистана – полторы тысячи километров в длину и тысяча в ширину. Цинь Фэй повела плечом, сбросив руку Джефа. – Я не всесильна, мистер Макбрайт! Я чувствую, что проход прямой – очень прямой, широкий и длинный… Не могу различить тупик или значительное расширение. Я видел дальше ее – за грядой холмов проход разветвлялся, и к вечеру мы вполне могли бы добраться до этой точки. Там, перед разветвлением, был бассейн, но его размеры мне оценить не удавалось. Я тоже не всесилен. – Наша птичка-экстрасенс тупик не видит… – негромко пропел Макбрайт и повернулся ко мне: – Отлично, сэр! Кажется, нам повезло? – Дойдем до Захедана, узнаем, – неопределенно промолвил я и кивнул Фэй: – Вперед, девочка! Трое моих спутников разом подобрались. Сосредоточенные лица, прищуренные глаза, четкие экономные движения… Это мне было знакомо. Главное, что раскрывает в человеке экстремальный спорт, заключается в даре точного расчета и осторожности, а не в физической подготовке или каких-то особых умениях. Да, мы способны влезть на отвесную скалу, пересечь пустыню без пищи и почти без воды, выпрыгнуть из самолета, оставив в кабине парашют, сломать хребет аллигатору и справиться с любым транспортным средством от батискафа до дельтаплана. Но это дело опыта и тренировки, тогда как расчет и осторожность – качества врожденные. Экстремалыцик помнит, что смысл его игрищ не в том, чтобы победить, а чтобы победить и выжить. Ведь мы соревнуемся не друг с другом, а с собственной человеческой природой, доказывая, что она не так слаба и уязвима, как представляют медики и физиологи. Выигрыш в этом соревновании – жизнь, проигрыш – смерть. Мы пересекли границу Анклава. Внешне ничего не изменилось – сзади, спереди и по обе стороны от нас по-прежнему лежали холмы из плотного серого песка, тянувшиеся к горизонту, словно спины чудовищных китов. Вокруг – ни кустика, ни травинки, ни единой живой твари… ни бурных потоков, ни оползней, ни лавин… ни льдов, ни холода, ни иссушающей жары… Мертвенный покой, безопасность и тишина… Но безопасность, как многое в этом мире, была иллюзией. Незримые стены Анклава сомкнулись над нами, и я всей кожей ощущал их смертоносную близость. Сотня шагов в одну сторону, сотня в другую – вот широта, в пределах которой можно жить и двигаться. Склон холма на севере, гребень возвышенности на юге, а между ними – отмеренный нам коридор… На протяжении первого часа пейзаж не изменился, но дымка над холмами начала сгущаться. Загадочное образование этот флер: с земли он казался полупрозрачным туманом, а сверху – белесым облаком, что растеклось однажды в рубежах Анклава, да так и застыло, неподвластное ветру, непроницаемое для взгляда и недоступное любым приборам. Флер простирался в высоту до двух километров, не пропускал радиоволн, не позволял зондировать рельеф поверхности ни в видимом диапазоне, ни в ультрафиолете, ни в тепловых лучах; его альбедо было побольше, чем у Венеры. Огромный овал, с равномерной засветкой и без каких-либо структурных деталей – так это выглядело на фотографиях, сделанных со спутников и третьей МКС[573]. Попытки его активного исследования кончались печально – экранолеты, самолеты и беспилотные зонды тонули в этом мареве, как металлические гайки в миске с молоком. За девять лет ни один аппарат не вернулся, и что с ними сталось, не ведал никто. Впрочем, такой же была и судьба экспедиций, легальных, полулегальных и нелегальных, счет которым, как помнилось мне, перевалил за сотню. В четыре часа пополудни мы, не сбавляя шага, проглотили по паре пищевых таблеток, запив их глотком воды. Вскоре Фэй сообщила, что видит разветвление – или, на научном жаргоне, точку бифуркации[574]. Мы одолели уже шестнадцать километров, считая от входа в щель, и до развилки оставалось примерно столько же – вполне приемлемая дистанция, чтобы оценить размер бассейна рядом с ней. Мои чувства подсказывали, что он не очень велик – вытянутый эстуарий треугольной формы, впятеро шире у основания, чем прилегающий к нему рукав. Дымка над нами сгустилась, солнечный диск расплылся в золотистое пятно, небо казалось уже не голубым, а желто-серым, похожим на пещерный свод из грубо отшлифованного песчаника. Мы углубились в недра Анклава, но мой пеленгатор еще работал – зеленая линия на крохотном экранчике чуть подрагивала в такт шагам и постепенно отклонялась к западу. Вокруг по-прежнему покой и тишина. Можно было немного расслабиться. Хоть наше странствие едва началось, я размышлял о том, где, когда и как оно закончится. Согласно принятому плану, нам предстояло пересечь Анклав по диагонали, закончив поход у городов Хормек или Захедан, в месте, где сходились границы Ирана, Пакистана и Афганистана. Последняя из этих держав являлась уже понятием историческим, так как в 2028 году Афганистан исчез – вместе со всем своим населением, хребтами, реками, долинами и весями. Кроме этой многострадальной земли, Анклав накрыл значительную часть Памира, северные провинции Пакистана и Индии и запад китайского Синьцзяна, но, к счастью, не дотянулся до таких городов, как Душанбе, Кашгар и Равалпинди. Судьба поселений, как и заметных деталей рельефа, попавших в зону опустошения, была до сих пор неясна, но география с топонимикой от них еще не отказались. В рамках указанных наук наш маршрут определялся следующим образом: от Кашгара до Тиричмира, затем до Кабула, Кандагара и озера Гауди-Зира, откуда до Захедана либо Хормека рукой подать. Что случилось с озером и городами, ведал лишь Вселенский Дух, но насчет Тиричмира я не питал иллюзий. Тиричмир – точка заметная, семитысячник, расположенный там, где Гималаи сходятся с Гиндукушем и Памиром, где берут начало притоки Инда и Аму-Дарьи и где… Словом, это весьма примечательный объект. Куда уж больше – семь тысяч шестьсот девяносто метров! Однако над облачной пеленой, что затянула Анклав, ничего не торчало – ни Тиричмир, ни другие вершины, более скромные по высоте. Тайна, внушающая уважение! Мой кругозор достаточно широк, чтобы осмыслить бренность людских творений, святилищ и пирамид, дорог и городов, космических станций и мнемокристаллов, но даже мне горы кажутся символом Вечности. Примерно таким же, как наши Старейшие… Старейшие, пожалуй, долговечней гор, но эти массивы из камня и льда, пронзающие синий купол неба, выглядят столь несокрушимыми! Разумеется, это мираж, если мыслить геологическими категориями; бывает, что горы гибнут, но это происходит в громе и грохоте, в огне и дыму, с потоками лавы и тучами пепла… Не наш случай, должен признать! Тихая, стремительная и загадочная катастрофа – факт, достойный внимания Наблюдателя, тем более что я не понимал ее причины. Тиричмир являлся местом особым: это столь же редкостный феномен, как Бермудский треугольник и три другие эоитные области: в Кордильерах, Антарктиде и в Карском море у Таймыра. Но к тому же он был местом обитаемым! Я не сомневался, что Аме Пал и каждый из его учеников, от самых просветленных до пятилетних неофитов, осознавали особенность этой земли, хоть выражали ее по-своему: священный храм, открытый небу, источник животворной силы, место, где боги говорят с людьми… Может, и правда с ними поговорили боги? Братцы по разуму из точки Лагранжа? Я полагал, что найду ответ у Тиричмира, на чем и завершится экспедиция. Ставить спортивные рекорды – занятие не для меня, равным образом как таскать каштаны для Жиля Монро, при всем уважении к его ведомству… Если я не ошибся, мы унесем от Тиричмира ноги по самому короткому маршруту – повернем на восток, доберемся до Каракорума и индийской границы, а там… Фэй остановилась, вытянула руку с длинными тонкими пальцами в оранжевой перчатке и промолвила: – Второй маяк, командир. – Стоять на месте и ждать, – распорядился я. – Подойду ближе, посмотрю. – Маяк вне рукава, за вуалью. Вы можете приблизиться на шестьдесят… нет, на пятьдесят ваших шагов, не больше! – Больше не понадобится. Я повернулся и зашагал к невидимой стене вуали. Маяк с шестом и вымпелом угодил на склон холма слева от нас, в запретную область, но это особой роли не играло – главное, что мы могли его заметить. Таких вешек с пронумерованными флажками сбросили с воздуха тысячи полторы, чтобы примерно оконтурить линию нашего движения. Здесь, в Анклаве, мы не могли полагаться на компас, пеленгатор или иные приборы и торили путь почти вслепую, ориентируясь по солнцу – желтой размытой кляксе, скользившей над дымкой флера. Ярко окрашенные вешки облегчали ориентацию. По идее, они должны были встречаться каждый час-полтора, каждые пять-восемь километров. Сдвинув с налобника каски очки-бинокль, я рассмотрел маяк. На вымпеле темнела цифра семь – значит, пять маяков, не считая самого первого, приземлились где-то за холмами, в невидимой и недоступной для нас зоне. Ну, неудивительно, если учесть, что сбрасывали их с самолета и с приличной высоты… Удивительным было другое: облупившаяся краска на шесте, поблекший цвет флажка и тронутые ржавчиной нижние опоры. Казалось, что наш ориентир, сброшенный совсем недавно, простоял здесь не пару дней, а пару месяцев или был изготовлен небрежно и наспех. Но в это, зная педантичность и аккуратность Монро, я поверить не мог. Я возвратился к своему отряду. – Все в порядке, босс? – обеспокоенно спросил Мак-брайт, повернув ко мне крупную лобастую голову – Да. Если не считать того, что вымпел полинял, а с шеста облезла краска. – Быстрое старение? Ну, случается… какой-нибудь кислотный дождик… – Здесь не бывает дождей, Джеф. – Откуда мы знаем? И что мы знаем вообще? Эта жердь, – Макбрайт ткнул пальцем в сторону вешки, – первый увиденный нами предмет, который подвергся воздействию в глубине Анклава. Или я не прав? Он был прав, и я молча кивнул. Мы направились дальше, ступая следом за Фэй и держась на равном удалении от левой и правой стенок рукава. Часа через три Сиад обнаружил еще две вешки, за номерами двенадцать и тринадцать, приткнувшиеся почти что рядом. К этому времени мой пеленгатор отказал, пятнышко солнца скатилось к западному горизонту, а дымка над нами стала сереть и темнеть. Пейзаж оставался неизменным: длинные пологие холмы меридиональной протяженности, грунт – щебень и плотный песок. Двигались мы без труда и шли быстро. Еще через час наша группа достигла бассейна с развилкой. Этот треугольный эстуарий не совпадал с рельефом местности: его восточный край тянулся наискось по склону холма, скрываясь за его вершиной, а западный пересекал распадок между возвышенностями и шел затем по осыпи, покрытой довольно крупной, с кулак, щебенкой. Мы остановились примерно в центре этой безопасной зоны, и я велел готовиться к ночлегу. Это не заняло много времени. Сиад разровнял лопаткой место для спанья, Джеф зажег спиртовку и поставил котелок с водой, Фэй бросила в воду концентрат – сублимированные бобы со свининой. Лично я предпочитаю пшено или гречку, но тут приходилось учитывать вкусы коллег: в Великом Китае, Штатах и Судане бобы – универсальная пища путников. Спать нам предстояло на земле. Наши комбинезоны-«катюхи» – хитрая вещь; из них, конечно, удален экзо-скелет и вся электроника, но в остальном это полный аналог скафандра частей спецназначения. В жару в них прохладно, в холод – тепло; есть устройство для удаления отходов жизнедеятельности, механический хронометр, шагомер и чертова прорва карманов. Еще – насос, которым накачивают воздух в прослойки на груди и спине на тот случай, если придется форсировать водный рубеж или ночевать в постели с матрасом из булыжников. Такая же штука имеется и в наших рюкзаках: при нужде их можно превратить в весьма приличное плавсредство. Стемнело, и над нами слабо замерцали размытые пятнышки звезд. Я сделал необходимые записи в рабочем дневнике, отметив пройденное расстояние и обнаруженные маяки, затем мы, дружно работая ложками, опустошили котелок. Сумерки этому не помешали – у большинства экстремалыциков отличное ночное зрение, еще один повод для меня, чтоб затесаться в их компанию. Как говорится у Честертона, умный прячет лист в лесной чаще, а гальку – на каменистом морском берегу… Странное тоже скрывают среди странного. – Давно я так не ужинал, – заявил Макбрайт, с благодушным видом растянувшись на песке. – Крепинет, марешаль[575], омары, икра, устрицы с белым вином, утка по-пекински… Чушь и ерунда! Ничто не сравнится с бобами, если приправить их тишиной, свежим ветром, светом звезд, а еще… – он задумчиво пошевелил пальцами, – еще ощущением опасности… Вот напиток для настоящих мужчин! Но в городах его не подают, и дело идет к тому, что в середине века не нальют нигде. – Джеф перевернулся на живот. – Собственно, что нам осталось? Сахара, Антарктида, Гималаи, север Канады и Сибири… ну, пара точек в Африке и Амазонка, пока там не покончили с джунглями… Мир опасного стремительно сужается, этот процесс необратим, и в будущем нас ожидает вечная скука! – Мистер Макбрайт – большой романтик, – с вежливой улыбкой сказала Фэй. – Может быть, он вспомнит, где мы находимся? Джеф хмыкнул. – В местеэкологического катаклизма, Тихой Катастрофы, где же еще! Но на такие благодатные места романтикам рассчитывать не стоит. Это – исключение, юная леди, случай нетипичный и потому особо редкостный. Если бы тут постарались мы, все было бы залито нефтью, пропитано ядами и химикатами, насыщено радиацией, завалено ржавым железом и прочим дерьмом. Однако песок чист и воздух тоже, значит, причина не в нас… А в чем же? Наш миллиардер уставился на меня, явно желая продолжить дискуссию, но я отмолчался. До сих пор мне удавалось избегать подобных тем, и нарушать такой порядок не хотелось. Но, если придется, я напомню Макбрайту сколько нефти вылилось в море из его танкеров и сколько радиоактивной дряни вывозят с его оружейных производств. А еще – о нескольких экологически чистых проектах, скупленных его концернами и спрятанных на нижнюю полку сейфа… Он бы весьма удивился, узнав, что кто-то об этом проведал! Ну, был бы невод, а рыба найдется… К счастью, в этом мире уже имеется компьютерная сеть. – Мы пришли сюда, чтобы выяснить причину, – рассудительно заметила Цинь Фэй. Сейчас, в тусклом мерцании звезд, она и в самом деле походила на фею – тоненькая, с гладкой золотистой кожей и карими, слегка раскосыми глазами. По внешности она была типичной аму однако до боли в сердце, до дрожи в коленях напоминала мне другую женщину, тень, коснувшуюся моей жизни в те времена, когда я был не Арсеном, а Даниилом… Даже голос был похож, особенно если Фэй говорила по-русски. Как многие аму, русским она владела практически свободно. Воспользовавшись тем, что ему ответили, Макбрайт подсел поближе к девушке и принялся очаровывать ее рассказами о подвигах и странствиях, какие выпали на его долю. Фэй слушала с вялым интересом, даже историю о пребывании на «Вифлееме», международной космической станции, куда Макбрайт просочился в качестве туриста за девяносто миллионов долларов. Впрочем, там он был не первым, зато на обратном пути испытал аварийный скафандр с автономными движками – покинул шатл на высоте двенадцати миль и приземлился в полях Иллинойса, под Спрингфилдом. Можно сказать, в собственной вотчине, поскольку штат, включая соседние Висконсин, Мичиган и Индиану, принадлежал его компаниям. Фэй вздохнула, выразительно уставилась в мутные темно-серые небеса, и я похлопал ладонью по песку. – Отбой! Дежурства двухчасовые, в порядке следования по маршруту: Цинь, ад-Дагаб, Макбрайт. Мое время – от пяти до семи утра. Итак, леди на страже, а джентльменов прошу ложиться. Фэй снова вздохнула, на этот раз с облегчением, поднялась и начала обходить наш крохотный лагерь. Макбрайт недовольно покосился на меня, однако накачал воздуха в комбинезон, лег, пристроив рюкзак под голову, и опустил веки. Сиад, шаркая по песку, подошел ближе, сел, стянул шлем. В ночном сумраке он казался огромным безголовым зомби: волосы и темная физиономия почти неразличимы, а одеяние, ярко-желтое при свете дня, приняло оттенок недозревшего лимона. – Хрр… – хриплый рык родился в груди суданца. – Я мог бы подежурить в эту ночь. В эту и во все последующие. Это не скажется на моей форме. Его английский был безукоризненным. Где он его изучал, в Кембридже или в Оксфорде? – Чтобы сохранить форму, нужно спать, – произнес я, всматриваясь в сгусток тьмы над воротом «катюхи». – Мне не нужно, – негромко пророкотал Сиад, сверкнув зубами. – Нет потребности. Месяц, два… Если захочу выспаться, скажу. Любопытное заявление! Я резко приподнялся, опираясь на локоть. – Гипнофединг? – Да. Кажется, называется так. – Ну, что ж… Цинь Фэй, подойди! Она приблизилась, и я сказал: – Можешь ложиться. Сиад подежурит. – Вы мне не доверяете, командир? – В ее мелодичном голосе проскользнула нотка обиды. – Доверяю. Просто Сиаду не хочется спать. И не захочется – ни в эту ночь, ни в остальные. Брови девушки взлетели вверх. – Но почему? Как такое может быть? Почти автоматически я перешел на русский. Из всех языков – а я их знаю не менее трех дюжин – русский лучше других подходит для обсуждения тем щекотливых, деликатных, для выражения приязни и неприязни и для того, чтоб скрыть за словами радость и гнев, страх и удивление. К тому же возможность обратиться к собеседнику на «ты» придает этому языку особую интимность. – Ты обладаешь способностью видеть вуаль, чувствовать воду, улавливать признаки жизни с большой дистанции… Повторю твои слова: как такое может быть? Однако это есть, и это тебя не удивляет, верно? Это кажется тебе естественным, а нас ты, наверно, считаешь слепцами… Ну, так что удивительного в Сиаде? В том, что ему не нужен сон? Не больше, чем в тебе, девочка. Разве не так? – Так. – Она кивнула. – Я поняла, командир. Я больше не буду задавать глупые вопросы. Только… – Да? – Вы не слепец. Многие слепы, но только не вы. Фэй отошла и опустилась на песок подальше от Макбрайта, а я кивнул Сиаду: – Принимай дежурство. Разбудишь нас в семь утра. Закрыв глаза и лежа в уютной песчаной ямке, я размышлял над этим происшествием. Гипнофединг, затухание сна, способность не спать долгое время без ущерба для психики, являлся редким паранормальным талантом, однако я знал по крайней мере пятерых, имевших этот дар с рождения. Скажем, тот же Ярослав Милош… Да и я мог обходиться без сна неделю, а после восстановительных процедур где-нибудь под ветвями секвойи или в дубовой рощице хоть целый месяц. Так что сам феномен меня не удивлял, а удивляло другое – то, что в личных файлах Сиада Али ад-Дагаба, майора секретной службы и весьма известного спортсмена-экстремалыцика, об этом феномене напрочь умалчивалось. Возможно, дар его не афишировали? Все же Сиад являлся персоной «non populus»[576], шефом охраны двух суданских президентов… Но дотошным сотрудникам Монро полагалось докопаться до каждой мелочи, а до подобных вещей – в первую очередь. Может, и докопались, да не сказали мне? Оба этих варианта были безрадостны; и в том и в другом случае напрашивался вопрос: о чем еще я не имею информации? Чего не знаю о чернокожем Сиаде из племени нуэр? А также о Джеффри Коэне Макбрайте, миллиардере из Иллинойса, и юной девице Цинь Фэй? Плохо, когда вступаешь на дорогу смерти и не уверен в спутниках… Расслабившись и уловив жалкую струйку энергии, сочившейся из песка, я повелел себе увидеть хороший сон, и это желание исполнилось. В эту ночь мне снились лица родных – двух моих отцов и трех матерей.ГЛАВА 2 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Два отца, три матери… Многовато? Что ж, могло быть и больше, поскольку эта моя миссия – третья. Но на Ра-хени и Сууке связь поколений иная, чем на Земле и Уре-нире, моей далекой родине. Причины кроются в физиологии – ведь именно она формирует понятия о материнстве, отцовстве и брачных коллизиях. Скажем, на Рахени размножение – функция общественная, и осуществляется она гласно и зримо, в водной среде; если пользоваться земными аналогиями (правда, весьма отдаленными), женские особи мечут икру, а мужские ее оплодотворяют. Как установишь в такой ситуации, кто твоя мать и кто отец? Но это рахенийцев не волнует; кровная связь у них заменена четкой субординацией между поколениями и строгим порядком наследования рыбных угодий и устричных отмелей. Суук, местечко, в общем-то, райское в смысле воспроизводства потомства более трагичен, чем Рахени. На Суу-ке нет разделения по половому признаку; каждая особь рождает новое существо и гибнет при этом с близкой к единице вероятностью. Те счастливчики, коим удается выжить, правят обществом и производят второе дитя, а тут уж смерть неизбежна. Аффа'ит, мой суукский родитель, в число счастливцев не попал, так что я с ним не виделся и даже не имел его портрета, хотя изобразительное искусство на Сууке не оставляет желать лучшего. Судя по генетической памяти, оставленной в наследство Аффа'итом, он являлся личностью ничем не примечательной – конечно, не считая того, что породил меня. Что касается Земли и Уренира, то тут гораздо больше сходства. Мыслящие в этих мирах – гуманоиды, подобные друг другу обликом, метаболизмом, системой размножения, и, вспоминая о необычных автохронах Суука и Рахени, приходишь к мнению, что между землянами и уренирцами разница не столь уж велика. Она коренится не в физиологических различиях, весьма незначительных, должен признать, а в психологии, технологическом уровне и социальном устройстве. Может быть, когда-нибудь земляне станут подобны нам и в этих отношениях… может быть, если минуют коридор инферно! Он становится все уже и уже, но еще нельзя сказать, куда он ведет: в тупик ли стагнации и упадка или к возвышенным чертогам прогресса и зрелой мудрости. Да, мы похожи… Не потому ли я не спешу покинуть этот мир, колеблющийся на изломе судеб? Не потому ли продлеваю снова и снова свое существование, чтобы понять, разобраться и зафиксировать, к чему он движется – к пепельным краскам заката и ночной тьме или к сияющему полудню? Не потому ли придумываю долг перед Землей, сопоставляю его с уренирским долгом и решаю остаться – еще на десять или двадцать лет? Впрочем, долг не придуман, а существует в реальности – ведь я в такой же мере человек Земли, как эмиссар Уренира. И потому я здесь, в Анклаве, в зоне загадочного бедствия. А мог бы пребывать в ином, гораздо более приятном месте…* * *
Последние годы я провожу осенний период в Чехии, под Оломоуцем, вблизи моравских гор. Я приобрел там усадьбу в деревне с нежным названием Девичка; не опорный пункт, как в Осло, Мадрасе, Калифорнии и других местах, а просто скромный домик на краю поселка, куда я добираюсь на автомобиле, без всяких подпространствен-ных фокусов. Кроме дома, есть тут двор с колодцем, сад с яблонями, вишней, сливой и беседкой – ее решетчатые стены оплетены виноградной лозой, а от беседки к дому тянется тропинка, обсаженная кустами сирени и алых пионов. Сад и этот павильон напоминают мне жилище на Сууке; временами, бросив взгляд на небеса, я представляю, что вновь сижу в своей мастерской на ветви древесного исполина, и налетевший ветер щекочет перепонки моих крыльев… Однако вернусь к своим земным владениям. В них, кроме сирени, пионов и яблонь, растут могучий древний кедр, жасмин с пьянящим нежным ароматом, розы, нарциссы и лилии; маленький рай на околице Девички, у дубового леса, который карабкается вверх по склонам невысокого хребта. В этом раю даже присутствуют гурии: моя кухарка и экономка пани Клара и дочка ее Анелька. Анелька, которой стукнуло семнадцать, в меня влюблена, но я надеюсь, что это в скором времени пройдет; увы, я не герой ее романа! В селе меня уважают: во-первых, потому, что я свободно изъясняюсь на чешском, а во-вторых, из почтения к пану журналисту, личности интеллигентной, состоятельной, владельцу информационного бюро. Здесь, в моравской глубинке, нет игрунов, модификантов и имплантов, люди тут простые, добрые, богобоязненные, не то что в Париже, Москве или тем более в Нью-Йорке; я был бы сильно удивлен, если бы в этих столичных клоаках прохожие при встрече снимали шляпы, желая мне доброго здравия. А пожелания девиченцев искренни и очень мне на пользу – хотя, разумеется, главное в этих краях дубовый лес. Два-три восстановительных сеанса, и я опять силен и молод… Щедрое дерево – дуб! Энергии в нем поменьше, чем в секвойе, но отдает он ее охотно и любит прикосновение человека… Шел октябрь, когда, созвонившись со мной из Праги, приехал Жиль Монро. Могу сказать точнее, ибо в памяти моей не пропадают даты, картины и события: было седьмое октября, шестнадцать десять, когда Монро выбрался из лимузина у моей калитки. Я решил, что он – лицо значительное; в машине маячили шофер и еще один спутник, надо думать, телохранитель. Оба – модификанты, судя по ширине плеч, бесстрастным лицам и профессионально отточенным движениям. Шофер выскочил, открыл перед Монро заднюю дверцу лимузина, телохранитель распахнул калитку, а за ней уже поджидала пани Клара, онемевшая от изумления. Дипломатично улыбнувшись, Монро одернул легкий твидовый пиджак, поправил диск переговорника на лацкане и приложился к ее пухлой ручке. Щеки пани Клары заалели; потом, игриво покачивая бедрами, она повела важного гостя ко мне в беседку. – Вино, чай и фрукты, – сказал я, когда с приветствиями было покончено и мы уселись за круглым столиком в плетеных креслах. – Может быть, кофе для пана координатора? И булочки с медом? – Моя экономка взирала на Монро с неутоленной женской нежностью. – Благодарю, мадам, но лучше чай. И, пожалуй, булочки… Я сыт, но не могу отказать себе в удовольствии… – Он приласкал томным взглядом пышную талию пани Клары, затем повернулся в мою сторону и незаметно подмигнул, будто говоря: ох уж эти женщины!.. «Очаровательный мужчина! – подумал я. – Учтив, галантен, умеет расположить к себе и, несомненно, тот, за кого себя выдает». Быстрый ментальный анализ подтверждал, что Жиль Монро не проходимец: от него проистекали флюиды уверенности и властности, свойственной чиновникам высшего ранга. Мощь их была достаточной для покорения женских сердец, но мне опасность не грозила, все-таки я – не пани Клара. – Ваш секретарь звонил мне, чтобы договориться о встрече, но не обмолвился ни словом о вызвавших ее причинах, – проговорил я на французском. – Чем могу служить, координатор? Монро усмехнулся краешком рта. – Я, разумеется, француз, мсье Измайлов, но из Квебека[577]. Язык пращуров великолепен, и русский с чешским хороши, но о серьезных делах я предпочел бы беседовать на английском. Конечно, если вы не возражаете. – Ни в малейшей степени, – ответил я. – А что, дела настолько серьезны? Он снова улыбнулся, на этот раз пошире, и, словно не заметив моего вопроса, произнес: – Зовите меня Жиль. Без титулов, научных званий и почетных степеней. Просто Жиль. – Арсен. – Я протянул руку, и мы еще раз обменялись рукопожатием. – Арсен? Это ведь не русское имя? – Давно уже русское. Происходит от Арсения, а оно, в свою очередь, от греческого… – Арсениос, что значит «мужественный», – закончил он. – Должен заметить, вы прекрасно соответствуете своему имени. Я склонил голову в знак благодарности. Когда я родился в пятьдесят пятом, мама, моя земная мать, назвала меня по деду Даниилом, и Даниилом Петровичем Измайловым, профессором-египтологом, я был до 2015 года. Затем профессор погиб на раскопках в Судане, под Мероэ, за пятым нильским порогом, и на свет явился его тридцатилетний сын. На этот раз я сам себе придумал имя, но выбор мой определялся отнюдь не стремлением подчеркнуть свой мужественный облик. Просто Арсен созвучно Асенарри, моему настоящему имени. Оно, по уренирской традиции, составлено из имен родителей: моего отца зовут Наратагом, а матерей – Асекатту и Рина. Появилась пани Клара с подносом – чайник, чашки, медовые булочки и огромная миска с грушами и персиками. Анелька, кокетливо стреляя глазками, тащила за матерью большую бутыль с местным розовым вином и пару хрустальных фужеров. Они уже принарядились: на старшей – полупрозрачное платье с разрезом на бедрах, ну а на младшей почти ничего. Если не считать узкого топика, символической юбочки и пары гранатовых сережек. – На сегодня вы свободны. Обе, – сказал я, когда напитки и закуски сгрузили на стол. Пани Клара надулась. – То шкода! А кто вас будет ужином кормить? – До ужина я не задержусь, – сказал Монро, цапнул булочку, впился в нее зубами и изобразил неземное блаженство. – О! Ни в одном из пражских кафе… – он проглотил кусок, – даже в парижских и венских такого не получишь! Пани Клара великая кулинарка! Не говоря уж обо всем остальном! Моя экономка зарделась от удовольствия. – Конечно, не получишь, – подтвердил я, разливая вино по бокалам. – Откуда в городах свежий мед? Да еще от горных пчел? Я шевельнул бровью и бросил взгляд в сторону калитки. Обычно пани Кларе этого хватает: женщина она догадливая. Хватило и на этот раз. – До повидання, пан Арсен, пан координатор. Если пожелаете ужинать, все на плите. Кнедлики с вишнями, свинина под кислым соусом и салат. Салат в фарфоровой миске с незабудками. – До повидання, пане, – пискнула Анелька, одарив нас ослепительной улыбкой. – Может быть, принести табак и трубку для пана журналиста? – Не стоит, милая. Я не хочу курить. Они удалились, и Монро проводил их задумчивым взглядом. – Мать и дочь? – Да. Мои соседки. Их дом ниже по улице. – Вы, насколько мне известно, одиноки? – Вы не ошиблись, Жиль. Мать моя рано умерла, отец погиб лет двадцать назад, жениться я так и не собрался… Теперь уж поздно. Я не делаю тайн из своей биографии – по крайней мере, из ее частицы, принадлежащей Арсену Измайлову. Тайны всегда привлекают внимание. – Поздно? – Монро наморщил лоб. – Вам пятьдесят один… – Скоро пятьдесят два, – перебил я. – Пусть так, Арсен. Но я бы не дал вам больше сорока. Вы в отличной форме! – Потому, что холост и могу потакать всем своим нездоровым прихотям. – Да-да, я знаю! Вы ведь, если мне не изменяет память, кончили Беркли и долгое время жили в Штатах? По временам работали, но чаще развлекались – так, как любят развлекаться экстремалыцики… Спуск на плоту по Амазонке, штурм Анкоумы и Чогори[578], охота на акул в Австралии… Затем, уже в России, экспедиции на Памир, Тянь-Шань и Тиричмир, поход к полюсу недоступности, зимовка в тундре – кажется, на Таймыре? Ну, еще разные мелочи… прыжки со стратоплана, спуск в Марианскую впадину, рыцарские игры и поединки с бенгальскими тиграми… Клянусь Вселенским Духом, он был неплохо осведомлен! Но чего же ждать от координатора СЭБ[579]? Они там ребята ушлые! Я ухмыльнулся. – Тигры – это уже перебор. Это слишком, Жиль! За всю свою жизнь я придушил лишь одного, на Амазонке, да и тот оказался ягуаром. – Но остальное – правда, Арсен? – Почти. На здраве! – Я поднял бокал с вином, мы чокнулись и выпили. Затем Монро спросил: – Почему эта милая девушка назвала вас журналистом? Не слышал, чтоб вы занимались журналистикой. – Ну, отчего же… Я не пишу, но иногда снабжаю журналистские агентства информацией. К тому же таскаю с собой компьютер… Этого достаточно, чтоб здесь меня считали журналистом. Мой гость, кивнув, надкусил персик. – Да, я понимаю. Простые люди, бесхитростные… На самом деле вы занимаетесь компьютерными технологиями и экстремальным спортом, так? У вас, кажется, частное информбюро? Где? В Петербурге? Я опустил веки в знак согласия. – Большое предприятие? Доходное? – Кое-как кормит. Мои потребности невелики, и в крупных средствах я не нуждаюсь. Щекотливая тема! Сказать по правде, мое так называемое предприятие было весьма небольшим, но очень и очень доходным. В штате имелся директор (то есть я сам) и пятьдесят сотрудников – экономисты, аналитики, юристы, спецы по поиску данных, программной и аппаратной защите, а также секретари, бухгалтеры и референты. Располагались они в моей петербургской квартире, в одной из комнат, выделенной под офис, и были на удивление скромными – трудились сутки напролет, не пили, не ели и никогда не бастовали. Интеллектуальные программы, каждая с собственным именем, голосом и, разумеется, физиономией… Девушек я предпочитал хорошеньких, смуглых и кареглазых, мужчин наделил обличьем российских политологов и тележурналистов начала века, забытых за давностью лет. Мои сотрудники общались с миром через компьютерную сеть, и ни один из ее абонентов не сомневался в их реальности. Монро задумчиво глядел на меня, вращая хрустальный бокал. На светлой столешнице то появлялась, то исчезала крохотная радуга. – Вы, Арсен, богаты, умны, сравнительно молоды и обладаете прекрасным здоровьем… Все наслаждения мира вам доступны! И вы, надеюсь, доживете до времен, когда имплантация мозга в тело клона станет обыденной процедурой… А это, мой дорогой, путь к вечной молодости и бессмертию! И все же, все же… – Он сделал паузу и усмехнулся. – Все же вам этого мало. Четверть века, если не больше, вы предаетесь смертоубийственным играм, ищете опасности, рискуете жизнью! Почему? Я пожал плечами. – Обычным людям трудно нас понять, и в том никто не виноват, ни мы, ни вы… Откуда эта тяга к риску, к смертельным авантюрам? Спросите у любого экстремаль-щика, и все вам ответят одно и то же: мы такие, какие есть. Все! Богатые, бедные, старые, молодые… Странный народ, согласен! Но разве мир не полон странностей? Взять хотя бы ваших спутников – тех, что остались в машине… – Их сделали такими, что-то добавив, а что-то отняв. Они модификанты, продукт генетической реконструкции, а вы человек без всяких добавок и изъятий и обладаете свободой воли. Но воля ваша направлена на… Впрочем, не важно! – Будто подводя черту, Монро откинулся в кресле и скрестил руки. – Мы очень кстати заговорили о странном. Вы правы, Арсен, мир полон странных людей, странных событий и явлений. Вот, например, Анклав… Сердце Азии, Бактрийская пустыня… Вы слышали о ней? – Кто же не слышал о Тихой Катастрофе! – откликнулся я, насторожившись; похоже, мы подбирались к цели визита координатора. – Не только слышал, но и бывал когда-то в тех краях. Разумеется, в прежние годы и, разумеется, не у талибов, а в Пакистане. – Да, конечно же, Тиричмир… Вы были там в двадцать шестом, а через пару лет случилось это бедствие. – Поверьте, в этом нет моей вины! – съязвил я, все еще не понимая, куда он клонит. О зарождении Анклава мне было известно не больше, чем компетентным лицам из ООН и прочим шишкам нашей многополярной реальности. Правда, к гипотезам специалистов я мог добавить еще две, но их бы приняли всерьез лишь маги, чародеи да уфологи. Но с ними, как и с ученой публикой, я не делюсь информацией, и поэтому зигзаг, совершенный мыслью координатора, остался для меня загадкой. Жиль Монро, важный чиновник СЭБ, кое-что выяснил об Арсене Измайлове и этого не скрывал… Что ж, превосходно! Раз не скрывает, значит, нуждается в помощи, в консультации либо посредничестве… Но при чем тут катастрофа и Анклав? Свой интерес к подобным темам я никогда не афишировал. Монро побарабанил пальцами по столу, прищурился на алый напиток в бокале, затем произнес: – Мы собираемся отправить экспедицию, Арсен. Не в этом году, а весной, месяцев через пять-шесть… И мы хотим, чтобы вы ее возглавили. В ранге аккредитованного эксперта СЭБ. Признаюсь, меня нелегко удивить, но после этих слов я вдруг почувствовал, что рот мой приоткрылся, а брови лезут вверх. И недаром! Бывают, конечно, случайности, но все же, все же… Сказанное Монро совпадало с моими намерениями с такой удивительной точностью, что на секунду я усомнился в сущности координатора. Мы, обитатели Уренира, умеем изменять свое обличье; быть может, сие и доступно талгам? И Жиль Монро – не человек, а кто-то из моих приятелей с седьмого неба? Мысль промелькнула и исчезла. Нелепое предположение! Во-первых, талги не способны к телесной трансформации, а во-вторых, мой гость не являлся искусной подделкой, что подтверждалось его ментальным излучением. Выходит, случайность, подумал я и, сохраняя маску удивления, промолвил: – Подробности, мой друг, подробности. Что за экспедиция? Каков ее состав? В чем состоят ее цели и какова причина отправки? Что-то произошло в Анклаве? Или во внешнем мире? И наконец, с какого бока вы вышли на меня? И почему? Монро уставился на свой фужер, и я плеснул ему вина. Сделав нескольно глотков, координатор одобрительно причмокнул и произнес: – Могу вас заверить, Арсен, что ничего достойного внимания в Анклаве и в мире не свершилось. Над Бак-трийской пустыней небо в дымке, а что под ней, то ведомо лишь одному создателю. Мир… Что ж, эта шестиголо-вая гидра гниет по-прежнему и потихоньку сползает в пропасть. Все как обычно: говорильня в ООН, конфликты Индии с Китаем, арабов с Израилем, склоки Канады с Данией из-за Гренландии, голод в Заире и Поволжье… Ну, о последнем вы, вероятно, наслышаны. Я кивнул. Правда, у нас в России это называли не голодом, а временными перебоями снабжения. Солнечный луч скользнул сквозь ажурный полог виноградных листьев и разлегся на столе, около миски с фруктами. Приподняв бокал, Монро полюбовался алыми искрами в напитке. – Теперь о причинах и, собственно, об этой экспедиции… Было пять попыток, предпринятых СЭБ, проникнуть в зону недоступности: с воздуха – на экранолетах и с помощью парашютного десанта и с земли – на джипах, танках, лошадях, верблюдах… даже, если не ошибаюсь, на яках. И знаете, чем все это кончилось? – Сделав паузу, он угрюмо сообщил: – Ничем! Животные в пустыню не идут, а люди и техника не возвращаются. Великолепное оборудование и наши лучшие специалисты! Мы даже трупов их не видели! – Лицо координатора омрачилось еще больше. – Предпринимались другие попытки – Китаем, Индией, Россией, Союзом Сдерживания и, разумеется, исламистами… По нашим подсчетам, около ста экспедиций за восемь с половиной лет, и все безрезультатны! Все по одному сценарию: люди уходят, связь слабеет, затем прерывается, и – тишина… Как на кладбище в зимнюю ночь. Это было мне известно. Информацию, касавшуюся Анклава, отслеживал в бюро Сергей Даренков, столь же въедливый искусственный интеллект, как и его прототип, скандальная звезда телеэкрана почти сорокалетней давности. Так что я был в курсе всех экспедиций, явных и тайных, ибо никакие тайны не скроешь от Всемирной компьютерной сети. Нужно только уметь искать, сопоставлять и анализировать. Деньги стали большей частью электронными, и, значит, все приобретения, будь то як или джип, банки свинины с бобами или билет на стратоплан либо иное средство передвижения, регистрируются в компьютерах, а о том, кто таков покупатель-путешественник, можно узнать в медицинских и полицейских базах данных. Высокие звезды! Я и столетия не прожил в этом мире, а он уже сделался прозрачным, как стекло! Разумеется, не считая моих личных секретов, связанных с Ники Купером, Жаком Дени и доном Жиго Кастинелли. – Вот вам и повод, мой дорогой, – произнес Монро тем строгим официальным тоном, каким сообщают о крушении экспрессов, губительных землетрясениях, разливах рек и соответствующих жертвах. – Вот вам и повод! Случилась загадочная катастрофа, и мы – десятилетие без малого! – не в состоянии с ней разобраться! Естественно, что будут новые попытки, как с нашей стороны, то есть по линии международного сообщества, так и… гмм… в рамках инициатив отдельных стран, особенно тех, которые граничат с Анклавом. Последнее, разумеется, нежелательно. Вы понимаете меня, Арсен? Я понимал его прекрасно. Часть гипотез о причинах, повлекших катаклизм, сводилась к применению нового оружия – пи-бамб, или планетарной бомбы, как называли его в западном мире. Было ясно, что такая штука в тысячу раз мощнее ядерных зарядов или, к примеру, орбитальных лазеров. Стереть с лица планеты целые хребты, развеять в прах территорию в миллион квадратных километров, сделать ее анклавом абсолютной недоступности среди живых и здравствующих стран и совершить все это по-тихому… Такое и в кошмаре не приснится! Кошмар, однако, был реален, и это значило, что гипотеза пи-бамб имеет не меньше прав на жизнь, чем все остальные. Кто мог изобрести подобное оружие? Талибы? Неведомый гений? Высокоразвитая держава, чей боевой продукт нуждался в испытаниях? Соседствующие с Афганистаном Иран, Пакистан или Туранская Федерация, в которой трудилось немало российских специалистов? Любое из этих предположений имело свои источники, свой вес в политических играх, своих сторонников и противников, но я-то знал, что в современном мире секреты долго не живут. Во всяком случае, такие секреты! Отсюда следовал бесспорный вывод, что если пи-бамб не иллюзия, то ее творцы покоятся прахом среди праха в созданной ими пустыне. Почему бы и нет? Скажем, решили испытать что-то перспективное, а процесс вышел из-под контроля… Этот вывод, однако, не исчерпывал всех последствий гипотезы пи-бамб. Тень ее дразнила воображение, эфемерный блеск могущества и власти кружил политикам головы, и потому в Анклав шли экспедиции одна за другой – в среднем каждый месяц. Совет по экологической безопасности ООН, ЕАСС, сменивший НАТО, СМГ, ТФ, ВостЛига[580], Россия, Индия, Китай… Кто раскроет тайну первым, тот и получит преимущество! И в результате многополярный мир, который Монро уподобил шестиглавой гидре, вмиг превратится в однополярный… Да, я его понимал! Хотя вряд ли координатор мог оценить причины и степень моего понимания. – Вы, вероятно, слышали о многолетних исследованиях граничных областей Анклава, – произнес он, гипнотизируя меня взглядом. – Упомянув о неудачных попытках, я, собственно, имел в виду глубинное зондирование, хотя бы на тридцать-сорок километров… Этого сделать не удалось, но пограничную зону наши специалисты изучили. Даже разработали терминологию: вуаль, а в ней – проходы-щели, ведущие к пальцам и рукавам, к бассейнам, карманам и пазухам… Об этом много говорилось и писалось года четыре назад… Помните? Конечно, помните! У вас же эйдетическая память! Я молча кивнул. Память у меня и в самом деле неплохая. – Теперь мы знаем больше об Анклаве. Физики из МТИ[581] считают, что это зона повышенной энтропии, и с ними многие согласны – в Кембридже, в институтах Вейцмана и Макса Планка, в Беркли и у вас в Москве. Возможно, физики правы: любой источник питания разряжается там с поразительной скоростью, генераторы не вырабатывают ток, не действует радиосвязь, магнитные носители не держат информации, меняется период полураспада у радиоактивных материалов и не происходят кое-какие химические реакции… – Горение? – полюбопытствовал я. – Нет, взрыв… любая экзотермическая реакция со слишком быстрым и бурным выделением энергии. Но воду для кофе вы там согреете. – Если туда попаду. Мой гость усмехнулся. – Думаю, попадете, так как СЭБ планирует пешую экспедицию. Раз техника несостоятельна, нужно отправить людей, которые пройдут определенным маршрутом, выполнят первую рекогносцировку и, главное, докажут, что в Анклаве можно выжить. Людей с уникальной подготовкой, умелых, крепких телом и духом, и вдобавок таких, что будут трудиться из любви к искусству, а не за деньги или славу. Людей, способных… – …к смертоубийственной игре, – закончил я. – Не продолжайте, Жиль, я понял. Вам в самом деле нужны экстремалыцики. – Разумное решение, не так ли? – Монро снова усмехнулся. – Вы и подобные вам от природы приспособлены к выживанию, и все вы – любители смертельных авантюр. К тому же есть среди вас таланты, каких не сыщешь в МТИ и Кембридже. Вот вы, например… Вы не просто информационщик, вы – живой компьютер! О вашей памяти рассказывают чудеса! – Нет никаких чудес, координатор. И дар мой не такой уж редкий. – Редок не дар, а сочетание даров. Память, техническое образование и опыт, ваши спортивные подвиги, умение руководить людьми… – Я сделал протестующий жест, но он упрямо замотал головой. – Не спорьте, мсье журналист, не спорьте! Я знаю о вас побольше, чем дочка пани Клары! – Что же именно? – Все, что знаю, будет передано вам. – Монро наклонился к диску переговорника и буркнул: – Кейс! Живо! Модификант-телохранитель доставил плоский чемоданчик. Пиджак, распираемый мышцами, сидел на этом парне как седло на корове, шея была толще головы, а лоб – шириной в два пальца. Люди, люди! Что вы с собой творите! Мой гость откинул крышку, вытащил плоскую пластину ридера и перебросил мне. – Ознакомьтесь, Арсен. Здесь несколько разделов: самые свежие данные об Анклаве, план и маршрут экспедиции, список участников и сведения о каждом – в том числе о вас. Подробность оцените сами… – На его губах мелькнула улыбка. – Оценю. Я ткнул пальцем в клавишу ридера, и по экрану стремительно побежали шеренги букв и цифр, сливаясь в колонны строк и чередуясь со снимками и схемами. Документ был обширен. Пришлось прикинуться, что я его просматриваю по диагонали, хотя вся информация, от первой буквы до последней точки, уже отпечаталась в моей памяти. Кое-что вызывало вопросы – например, состав участников. Трое, кроме меня, и ни с одним не довелось свести знакомство! Конечно, я слышал о Макбрайте и ад-Дага-бе – наше сообщество невелико, и на всей Земле не наберется пары сотен настоящих экстремалыциков. А эти были настоящими, пусть не из первой десятки, но уж в двадцатку они входили точно! Тем не менее я с ними раньше не встречался и предпочел бы посетить Анклав с людьми хорошо знакомыми, а значит, более надежными – скажем, с Уэсли Райкером и Ярославом Милошем. Что же касается некой двадцатилетней девицы по имени Цинь Фэй, то про нее я ничего не знал, и необходимость в ее услугах казалась мне сомнительной. – Вы включили девушку? Зачем? Тройка – оптимальный вариант: лидер с двумя помощниками. Если уж брать четвертого, то нужен обязательно мужчина, человек с опытом. Монро принял загадочный вид. – За нее, Арсен, не беспокойтесь. Опыта, согласен, маловато, но превосходно тренирована: сильна, вынослива, отличный пловец и скалолаз, владеет у-шу и знает русский и английский. Однако наш выбор определялся не этим. Она – ваш проводник! – Бывала в Анклаве? – Да, на границе, в составе нескольких китайских групп. Она ощущает вуаль на расстоянии… врожденное свойство, мой дорогой, – чувствовать то, что недоступно приборам! Драгоценный дар! Здесь, – он постучал пальцем по ридеру – об этом нет ни слова, но мы провели тщательную проверку. Не сомневайтесь, она понимает, куда нельзя соваться! – Ясновидящая? Экстрасенс? – Я нахмурился: люди подобного сорта не пользовались моим доверием. – Термины слишком неопределенные, – с тонкой улыбкой заметил Монро. – Я бы выразился иначе: она умеет делать то, что делает. Ну, и еще кое-что… сложится вдвое, пролезет в любую щель… Говорю вам, Арсен, вы за нее не беспокойтесь! – В любую щель? Она модификант? – Эти продукты местной генной инженерии нравились мне еще меньше экстрасенсов. – Нет. Я же объяснил – врожденный дар плюс обучение, не изменяющее человеческого естества. На Востоке, мой дорогой, умеют многое, что и не снилось нашим мудрецам! – Хорошо. Поговорим о других. – Вас что-то смущает? – Да. Ад-Дагаб мусульманин. Особая пища, религиозные обряды, неприятие иноверцев и безбожников… Мак-брайту пятьдесят. Слишком стар, слишком богат и, как я слышал, весьма капризен. Монро хохотнул. – Что есть, то есть! Но он в отличной форме и, думаю, вам не уступит. Богатство не помешало ему стать великолепным инженером, а нам необходимо выяснить, что происходит в Анклаве с техникой. Ну, и еще одно… Бюджет ООН невелик, а СЭБ и того меньше… Словом, Мак-брайт взял на себя половину расходов. – С этого бы и начинали, – проворчал я. – А что с другой половиной? Внес Аллах или шейхи из нефтяных эмиратов? – Нет, обошлись своими силами, – с достоинством сообщил мой гость и покосился на ридер, куда я вызвал фото ад-Дагаба. – Учтите, этот – наименьшее зло из всех вариантов, предложенных правоверными. Человек военный, дисциплинированный и не фанатик… Специалист по рукопашному бою, силен и вынослив, как верблюд… – Монро поморщился и протяжно вздохнул. – Войдите в наше положение, мой дорогой… Это международная экспедиция, и в ней должны быть представлены три доминирующие в мире силы: Запад, Восток и исламисты. Плюс максимально нейтральный руководитель – лучше всего бразилец или индус, но там нет экстремаль-щиков вашего класса. Так что, по рукам, как говорят у русских? – Я подумаю. – Гмм… Мы еще не затронули вопрос о награде… Она… – Пусть наследная принцесса Дании поцелует меня в щечку. Как-то я ее видел… Очень милая девушка! Монро ухмыльнулся. – Если хотите, я уложу к вам в постель всех европейских принцесс и пару наложниц микадо в придачу. Вы согласны? – Подумаю, – повторил я и потянулся к бутыли с вином.* * *
На Уренире любят ясные ответы. Там «да» означает согласие, «нет» – отказ, и, если кто-то просит время на раздумья, такая просьба не диктуется капризом или стремлением набить себе цену. Там понимают, что не любому дано искусство мгновенного выбора, определение верных путей и всех последствий, к которым приведет то или иное решение. Случается, что нужно взвесить «за» и «против», призвать на помощь опыт, логику, советы старших или, погрузившись в транс, услышать шепот интуиции. И это не игра; это – осознание ответственности за свой поступок, которая понятна всякому. Иначе на Земле. Здесь, если речь заходит о делах серьезных, каждое «да» и каждое «нет» сопровождается взаимным обнюхиванием и вылизыванием, оскалом челюстей, потоками слов, интригами и ритуальными жестами. Причем жесты эти весьма многообразны: жест доброй воли или адекватного ответа, разрекламированной гуманитарной помощи или последнего сто первого предупреждения. Требуя время для раздумий, я тоже совершаю жест, который должен подчеркнуть значительность моей персоны. Решения скорые здесь не ценятся, и принцип местной дипломатии таков: чем дольше вы тянете с ответом, тем выше его вес. Отправиться в Анклав, возглавить экспедицию, добраться к Тиричмиру в район эоита? Что за вопрос! Конечно, я был согласен! Я – Наблюдатель, и все необычное и непонятное, что происходит в мире автохронов, мне полагается расследовать. У непонятного есть тенденция быстро становиться неприятным, а что может быть неприятней масштабных экологических катастроф, причины которых неведомы? Случившееся могло отразиться лишь на Земле и местной солнечной системе, но с равным успехом представить пангалактическую угрозу – а это уже касалось Уренира и множества других разумных рас. Взять хотя бы пресловутую пи-бамб… Не очень верилось, что технология землян способна на такое, а вот у талгов – очень может быть! Мои соперники-коллеги, что прячутся в точке Лагранжа, словно пауки при издыхающей мухе… Если они рискнут нарушить Равновесие, то неприятностей не оберешься! Но, кроме веления долга, был у меня в этом деле и свой интерес. Аме Пал, старый мудрец, мой добрый приятель… Конечно, он погиб, так же как погибли все его ученики из гиндукушской Общины Света и двадцать миллионов пуштунов и белуджей, таджиков, хазарейцев, чарамайков[582] и других, сцепившихся в братоубийственной войне. Когда рассыпаются горы, гибель людей неизбежна… Но Аме Пал относился к людям особым, владеющим даром предвидения, к тем, чья воля противоборствует смерти, и он к тому же постиг мою сущность. Правда, не до конца – для него я был Хранителем, спустившимся с небес, чтобы оберегать землян от зла и освещать им дороги мудрости… Но я всего лишь Наблюдатель и отлично помню, чему меня учили: мудрость, принесенная с небес, не прививается в земле чужого мира. Мудрость – капризный цветок, и каждая раса должна взлелеять его на собственной крови. Однако вернусь к Аме Палу. Внимательный и чуткий, он мог предвидеть катастрофу и уловить какие-то признаки бедствия, что надвигалось на его оазис тишины, лежавший средь горних высей. Возможно, он даже догадался о причине совершившегося? Как-никак, он был очевидцем событий и человеком наблюдательным, умевшим слушать и песни ангелов небес, и бормотание духов земли… И если он что-то услышал, то, может быть, оставил для меня предупреждение? Какой-то знак или намек? Не представляя, что это такое, но полагаясь на свое предчувствие, я верил, что знак существует и что он явится ключом к разгадке тайны. Только б добраться до Тиричмира… К сожалению, это было непросто даже для меня. Быстрый и привычный способ – накопить энергию для подпространственного прыжка и перенестись в интересующее место – в данном случае не подходил; ни в самом Анклаве, ни вблизи него не открывались телепорта-ционные каналы. Сказать по правде, я сумел бы их открыть, но ощущаемый при этом дискомфорт являлся верным признаком беды; нарушенная ткань Вселенной сопротивлялась моему проникновению, и это значило, что в точке финиша меня поджидает опасность – скорее всего смерть. Что до других вариантов, доступных не Асенарри, а господину Измайлову, российскому гражданину, то все они были ненадежны. Я не мог претендовать на участие в экспедициях СЭБ или России, но если бы даже такое случилось, возникла бы масса проблем. В любой многолюдной команде я оказался бы лицом зависимым и подчиненным, решающим неразрешимую задачу: сбежать или идти со всеми, оставить спутников и двинуться своим путем или погибнуть в дружном коллективе. Если бы я удрал и если бы мне – единственному! – удалось вернуться из Анклава, то как объяснить подобное везение? Ясно, что появились бы вопросы… то есть сначала вопросы, а потом – допросы… Скорее всего я был бы вынужден расстаться с Арсеном Измайловым, сменить личину на запасной вариант или изобретать с нуля другую биографию… Слишком существенные потери! Но время шло, и я уже подумывал о собственной спортивной экспедиции вместе с Милошем и Райкером. Конечно, сей поход привлек бы ко мне внимание прессы, а это нежелательно для Наблюдателя – но что поделаешь? Super omnia Veritas, как говорили латиняне. Да, истина превыше всего, а случай редко стучится дважды! И потому я знал, что рассмотрю предложение СЭБ благосклонно – оно развязывало мне руки и пришлось как нельзя вовремя. Официальный статус и небольшая группа, в которой мне отводится роль лидера… Хоть спутники мне незнакомы, но двое из них – экстремалыцики, да и присутствие Цинь Фэй, если как следует поразмыслить, окажется совсем нелишним. Координатор, мой обаятельный гость, уверен в ее способностях… Что ж, великолепно! Если мы выберемся из Анклава, я объявлю, что этим успехом мы обязаны Цинь Фэй и собственной удаче. Удача, деленная на четверых, трех экстремалыциков и экстрасенса, уже не столь феноменальна… Усмехнувшись этой мысли, я поднялся и прошел в дом, к своему покет-компу[583], включенному в общепланетную сеть. Овальный голографический экран развернулся передо мной, мелькнули алые символы кодов защиты и связи, потом из хрустальной глубины всплыла бледная сосредоточенная физиономия Даренкова. Я приказал собрать все данные о будущих моих коллегах и просидел у компьютера до полуночи, просматривая поступающие файлы. Сиад Али ад-Дагаб – рост, вес, возраст, успехи в спорте, продвижение послужбе… Макбрайт – большой любитель сладкого, женился многократно, но в данный момент свободен от брачных уз… детей и прямых наследников не имеется… последний спортивный вояж – в пустыню Калахари… Ничего важного, ничего такого, о чем не сообщил бы мне Монро. И ничего интересного, если не считать генеалогии Цинь Фэй. Она была не китаянкой, как я полагал, но аму, из новой народности, сложившейся в минувшее тридцатилетие, после того как Приамурье отошло к Китаю и началась программа по межрасовому скрещиванию. Отец – полукитаец-полукореец, мать – русская, с примесью нивхской крови… Я не сторонник подобного аутбридин-га, но, глядя на юное личико Цинь Фэй, признал, что в данном случае эксперимент удачен. Брови, приподнятые к вискам, широковатые, но мягких очертаний скулы, маленький твердый рот и вертикальная морщинка над переносицей… В этой девочке чувствовался характер! Чем-то неуловимым она походила на Ольгу, мою земную возлюбленную, с которой мы… Впрочем, это грустная история, и мне не хочется к ней возвращаться. Я перевел компьютер в режим ожидания и отправился в постель, но долго не мог уснуть. Ольга и девушка-аму будто живые, стояли передо мной, потом их лица слились, и я уже не различал, кто мне явился: призрак ли прошлого или грядущий неясный мираж. Память, память, вместившая два века моей жизни!.. Не раз я испытывал трепет перед ее необъятностью и думал, что помнить обо всем случившемся со мной, о всех потерях, одиночестве, долгих и страшных годах слияния – сомнительное благо. Память моя – палимпсест, переписанный многократно, но прежние тексты-личности не уничтожены, а лишь замазаны слоями краски, которую нетрудно снять. Снять, содрать, стереть и возвратиться к Даниилу Измайлову, затем к тому, кто жил на Рахени и Сууке, и, наконец, к Асенарри, страннику, явившемуся в этот мир из галактической бездны… Слои дробят мое существование, но все-таки оно едино, как прочная основа палимпсеста – пергамент с запечатленными на нем воспоминаниями. Я мог бы заблокировать их, но для чего? Нет радости без боли и боли без радости… Юное женское лицо маячило перед моими глазами, все больше делаясь похожим на Цинь Фэй. Я пристально разглядывал его, замечая новые и новые детали: ямочку на подбородке, густые, загнутые вверх ресницы, блеск безупречных зубов и детскую припухлость щек. Жаль, что она так молода, мелькнула мысль. Жаль!ГЛАВА 3 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Дни второй и третий
Я уже говорил, что Анклав подобен сухой деревяшке, источенной червями. Там, где древесина – вуаль, зона недоступности, а в червоточинах – карманах, рукавах, бассейнах – можно передвигаться, будто в лабиринте среди незримых стен. Собственно, ничто не мешает проникновению через вуаль, ни силовое поле, ни иные физические препятствия, и я бы сказал, что этот барьер присутствует лишь в нашем сознании. Некая информационная граница, психологический рубеж, отделяющий узкие тоннели жизни от более обширных и смертоносных пространств… Мы знаем, что в них скрывается опасность, но нам неведома ее природа. Сгорим ли мы, перешагнув роковую черту? Распадемся на атомы или растечемся слизью по каменистой земле? Хороший вопрос! Весьма актуальный для Джефа, Спада и Цинь Фэй. В какой-то степени и для меня, ибо со смертью тела Арсена Измайлова закончится мое земное существование. Но, как сказал поэт, весь я не умру – в миг гибели мой разум и моя душа умчатся к звездам, пронзив земную ноосферу. Я совершу путешествие в далекий звездный кластер, я возвращусь в свою плоть, что ждет меня на Уренире, поведаю о том, что видел и слышал, коснусь руки отца, погреюсь в тепле улыбок Рины и Асекатту… Да, в мгновение смерти я не умру, а лишь покину Землю, превратившись на ничтожный отрезок времени в энергоинформационный луч. Но стоит ли с этим торопиться? Определенно не стоит, думал я, глядя на гибкую фигурку Фэй в оранжевом комбинезоне. Второй наш день прошел без заметных событий. Утром мы миновали точку бифуркации за треугольным бассейном и углубились в левый рукав. Он оказался извилистым, но шел примерно на юго-запад, в нужном направлении, петляя по склонам пологих холмов. Почва под ногами по-прежнему напоминала спрессованный асфальт, однако холмы стали повыше, и кое-где я замечал скалистые образования да россыпи каменных глыб. Гранит, темные плиты сланца и грязно-серый мрамор… В этом не было ничего удивительного, если учесть, что мы приближались к восточным отрогам Гиндукуша, который сложен из древних метаморфических пород, прослоенных гранитами. Странность заключалась в другом – в отсутствии гор и ледников, речных долин, да и самих потоков. К полудню третьего дня мы углубились в пустыню уже на восемьдесят километров, двигаясь к перевалу Найзаташ, однако ни перевала, ни русла Оксу ни пиков-четырехты-сячников, ни горных хребтов на горизонте не маячило. Правда, виднелся вдали скалистый массив, но был он невысок и черен, как совесть дьявола, – ни снежной белизны, ни ослепительного блеска льда. Дымка над нами сгустилась, и нижняя поверхность флера была теперь не мутновато-желтой, а скорее серой с редкими проблесками желтизны. Солнце, подобное разверстой розоватой ране, еще просвечивало сквозь нее, но ни луны, ни звезд во время второго ночлега мы не увидели. Впрочем, в дневной период света хватало, хотя он казался сумеречным, нереальным, будто мы странствовали не в земных пределах, а приближались к вратам преисподней. Возможно, эта мысль была не столь уж далека от истины. На скрипевшем под башмаками щебне не росли травы, и ничего зеленого, кроме «катюхи» и рюкзака Макбрайта, вокруг не наблюдалось. Унылый серый мир, накрытый серым небом… Но в его бесплодности и пустоте были свои преимущества: во-первых, никаких опасностей, кроме вуали, а во-вторых, кусты и деревья не закрывали обзора. Мы обнаружили пять вешек, и у четвертой из них, за номером двадцать два – цистерну с водой. Этот маяк приземлился удачно, не в запрещенной зоне, а в карман трехсотметровой ширины, и выглядел как полагается – то есть новехоньким. Я расписался на вымпеле, затем мы наполнили фляги водой, разоблачились и смыли с кожи пот и пыль. Фэй, повизгивая от наслаждения, плескала из котелка на грудь, Макбрайт жадно косился на девушку, а ад-Дагаб, умывшись, призадумался, потом разостлал на земле комбинезон, опустился на колени и сотворил намаз. Ко мне не снизошли ни грешные, ни святые мысли; я разглядывал мрачный пейзаж, и мое мачете, а также посох с дротиками лежали на расстоянии протянутой руки. Безлюдье и тишина – не повод, чтобы расслабляться. Впрочем, зрение, слух и даже ментальный поиск в доступных мне пределах не говорили об опасности. На двадцать-тридцать километров от нас, к югу и северу, западу и востоку, не ощущалось ничего живого; ничто не росло, не копошилось в песке, не двигалось и не охотилось. Все, что я смутно чувствовал, сводилось к эмоциям спутников: восторгу Фэй, вожделению Макбрайта и исходившему от чернокожего нуэра каменному спокойствию. Странно! Он был спокоен и холоден во время молитвы и, обращаясь к Аллаху, явно не испытывал религиозного экстаза. Но в тот момент я не задумался над этой странностью. Натягивая комбинезон и обуваясь, я размышлял о других вещах, казавшихся мне более важными. Например, о вешках: отчего с попавших за вуаль облезла краска, а эта, за номером двадцать два, выглядит новее новой? К вечеру, на третий день пути, мы оказались в обширном эстуарии, пересеченном скалистой грядой. Похоже, то были остатки Вахханского хребта, примыкавшего с севера к Гиндукушу, однако ни высоких гор, ни озер и рек, ни питающих их ледников мы не обнаружили. Горы рассыпались, будто придавленные непосильным грузом времени, миллионами непрошедших лет; хребет осел и рухнул, оставив после себя гранитные обломки, щебень, крупнозернистый песок и эту жалкую преграду, где самый высокий утес не дотягивал до четырехсот метров. Но склоны их были отвесными, и, обозрев их, я решил, что подъем займет не меньше половины дня. Мы стояли в центре бассейна, перед скалистой стеной, и я, рассматривая ее склоны, прикидывал, где мы поднимемся следующим утром и нужно ли для подъема альпинистское снаряжение. Внезапно у моего плеча раздался хриплый рык Сиада; обернувшись, я увидел, что он протягивает руку к границе зоны безопасности, лежавшей в километре от нас. – Там! Справа от пирамидального камня! Оставалось дивиться остроте его зрения – он что-то заметил с большой дистанции, не прибегая к биноклю. Лично мне показалось, что правее гранитной пирамиды торчит невысокий холмик, то ли песчаный, то ли усыпанный ржаво-коричневым щебнем; ничем не примечательная груда, какие на нашей дороге встречались сотнями. Я опустил с налобника очки-бинокль, и Фэй с Макбрайтом, будто по команде, повторили этот жест. В тусклом свете, сочившемся сверху, было трудно разглядеть детали, но все же не оставалось сомнений в искусственном происхождении холма. Какие-то искореженные, покрытые ржавчиной штыри, напоминавшие стекло осколки, серые лохмотья, которые еще обозначали форму вытянутого, как огурец, эллипсоида с остроконечной, сходившей на конус приставкой… Весьма знакомые очертания! Макбрайт коснулся моего рукава. – Что скажете, приятель? – Вертолет. Старая машина, каких давно не выпускают. Думаю, либо китайский, либо туранский. Пожалуй, одна из первых попыток проникнуть в пустыню. – Подойдем поближе? – Да. Мы с Сиадом. – Я инженер и буду вам полезнее, чем Сиад. Бесспорное замечание. Я кивнул и сбросил с плеч рюкзак. – Согласен. Идемте, Джеф. Остальные пусть разбивают лагерь. Лицо ад-Дагаба было равнодушным, не выражавшим ничего, ни любопытства, ни недовольства моим решением. Цинь Фэй произнесла: – Объект за вуалью, командир. Не стоит ли мне пойти с вами? – Нет. Попробуй определить, на сколько мы можем продвинуться. Она прищурилась. – До тех камней, похожих на драконьи ребра. Видите? – Вижу. Я повернулся и зашагал к каменистой гряде, напоминавшей скелет огромного древнего чудища. Дар Цинь Фэй работал с безукоризненной точностью: от полосы этих сланцевых плит до границы зоны насчитывалось с полсотни шагов и примерно столько же – до обломков вертолета. Видимо, это была боевая машина, каких не делали уже лет двадцать, с тех пор, как появились экраноле-ты и циклотурбинный двигатель. В России, однако, до сих пор производили запчасти и комплектующие к «Черным акулам» и «Ми-36», проданным в свое время Китаю, Индии, Турану, Аравии и половине Африки. Макбрайт догнал меня. Щебенка поскрипывала под его башмаками, ножны кинжала глухо стучали о флягу. В молчании, сопровождаемые лишь этими звуками, мы добрались до гряды камней и сдвинули с налобников шлемов бинокли. – Сделан в России, – заметил Макбрайт после пятиминутной паузы. – Думаю, «Шива», пятнадцатого или шестнадцатого года выпуска. Если не ошибаюсь, потом их производство свернули. В странах ЕАСС «Шивой-громовержцем» назывался вертолет «Ми-ЗбН», мощная и очень маневренная машина, предназначенная для борьбы с наземной техникой. Летающий танк, набитый оружием под завязку! Что же его сокрушило – здесь, в сумрачной, но безлюдной пустыне? – Откуда ржавчина? – спросил я. – Корпус – из металлокерамики, несущие лопасти – из композита… Вроде бы нечему ржаветь. – Крыло для подвески вооружения, – произнес Макбрайт. – Каркас у него керамический, но консоли и пилоны с ракетами да и сами ракеты – из стали. А те блестящие осколки – бронестекло… там, у передней части фюзеляжа… – Джеф помолчал и добавил: – «Шива» очень надежный аппарат, очень устойчивый… Но посмотрите, как он свалился, приятель! На бок! Крыло торчало вверх – видите эти скрученные ребра и распорки? Потом все металлическое окислилось, осыпалось на корпус, отсюда этот рыжий цвет… Однако взрыва не было! – Разумеется. Это ведь Анклав! Мы сдвинули на лоб очки-бинокли и уставились друг на друга. Лицо Макбрайта – серые глаза, крутой подбородок, решительный рот – выражало недоумение, да и я, наверное, выглядел немногим лучше. Вдруг он поежился, словно от порыва ледяного ветра, и прошептал: – В него не стреляли, клянусь Творцом и всеми святыми апостолами… Эти разрушения – все, что мы видим! – от удара о землю при резком спуске с километровой высоты. Ну, еще от времени… Как думаете, дружище, что с ним случилось? – Моя задача – не измышлять гипотезы, а накапливать факты. Что до гипотез… Вы у нас инженер-конструктор, Джеф. Уклончивый ответ, но мне хотелось убедиться, что он заметил кое-какие странности. Лоб Макбрайта пересекла морщина. – Больше менеджер, чем инженер, – пробормотал он, всматриваясь в груду ржавчины и стеклянных осколков. – Однако скажу вам, приятель, что вид у этого мусора удивительный – будто пролежал он здесь не девять лет, а девяносто. Или трижды по девяносто… Оболочку снарядов делают из прочного сплава, их толщина – как минимум десять-пятнадцать миллиметров. Краска за эти годы сошла, корпуса ракет могли покрыться ржавчиной, но не осыпаться трухой. – И что отсюда следует? Мой спутник пожал плечами. – Если верить отчетам СЭБ, в Анклаве невозможен ряд химических реакций. Или, вполне вероятно, они происходят, но очень медленно. Зато другие идут с огромной скоростью – например, окисление металла и иные процессы деструкции. Вспомните маяки, которые мы обнаружили, – те, что за вуалью… Вид у них был весьма потрепанный. Я молчал, и Макбрайт, выждав минуту, произнес: – Жаль, что ближе нам не подобраться. Там должны быть тела… или хотя бы скелеты… еще – одежда, амуниция, приборы… органика, ткань, пластик, магнитные носители… Хотел бы я на это поглядеть! – Думаю, случай еще представится, – заметил я. – Надеюсь, босс. Некоторые экспедиции были очень многолюдными…* * *
В этот вечер мы долго не могли уснуть. Макбрайт рассуждал о нашей находке и строил всевозможные гипотезы, Цинь Фэй то возражала ему, то соглашалась, ад-Дагаб, застывший в каменной неподвижности, внимал им, словно некое непогрешимое божество, коему предстояло объявить истину и тем закончить спор. Я, надув комбинезон, расположился на песке и, прислушиваясь к уверенному баритону Джефа и чистому высокому сопрано девушки, ловил дыхание близкой вуали. Она колыхалась, то отступая на метр-другой, то приближаясь к нашему крохотному оазису. Ее беззвучное незримое движение порождало эхо, будто какие-то волны проносились над нами, отражались от скал и границ бассейна и гасли, наполняя воздух умирающими отзвуками иной реальности. Не уверен, что Фэй воспринимала их; ощутить эти реверберации было нелегкой задачей даже для меня. Я думал о том, что способ, которым мы, уренирцы, исследуем Вселенную, имеет свои преимущества и недостатки. Нам в отличие от талгов не требуются корабли; мы посылаем к обителям разума не эти медленные неуклюжие конструкции, а энергоинформационную матрицу, стремительный луч, хранящий человеческую личность. И каждый уренирский Наблюдатель, очнувшись от забвения, является в мир во плоти, привычной для этого мира; он – не чужеродный объект, а столь же законная часть среды обитания, как все живое на планете. Он проживает срок, отпущенный природой, он копит информацию, и этот внутренний взгляд важнее данных, собранных при внешнем наблюдении. Это случай, когда субъективное дороже объективного; исследователь может многое узнать о пчелах или воробьях, но он узнает много больше, став на какое-то время пчелой или воробьем. Есть, разумеется, и недостатки. Елавный из них заключается в том, что я на долгие десятилетия ввергнут в темницу плоти, хоть и подобной внешне уренирской, но не прошедшей тот же эволюционный путь и не способной ко многому, что для меня знакомо и привычно. Свободный телепатический обмен, телесная трансформация, перемещение в пространстве без помощи живых источников ментальной энергии, связь со Старейшими, естественная долговечность… Увы, здесь мне все это недоступно! К тому же земное тело при всей его мощи, универсальности и красоте не слишком надежный индикатор внечувствен-ного – вернее, тех феноменов, которые нельзя увидеть и услышать, пощупать, попробовать на вкус и запах. Меньше центров восприятия энергии плюс барьеры в психодинамических каналах, и в результате я не способен изменять свой облик, а вместо мысленной речи улавливаю лишь эмоциональный фон. Но грех жаловаться – на Ра-хени и Сууке я был лишен и этого. – Как вы считаете, дружище? – Голос Макбрайта прервал мои размышления. – Простите, Джеф, я не следил за вашей дискуссией. О чем разговор? – Мистер Макбрайт утверждает, – произнесла Цинь Фэй, – что катастрофа вызвана внешними причинами. Имеется в виду не гибель обнаруженного нами вертолета, а Анклав и все, что окружает нас… – Она изящно повела затянутой в оранжевое ручкой. – По мнению мистера Макбрайта… – Детка, я же просил называть меня Джефом! – Это, сэр, слишком близкая дистанция, – Фэй иронически усмехнулась. – Стоит ли скромной девушке из Хэйхэ[584] так приближаться к персоне почти божественной? К лицу, владеющему богатством и в силу этого способному играть человеческими судьбами? Нет, неподходящая и очень опасная компания! Ли Бо говорил: «Я жителей неба не смею тревожить покой…» Макбрайт дернулся и скривил губы. – Кто этот чертов Ли Бо? Один из ваших коммунистических лидеров? Ему не нравятся богатые? И он, как некогда Мао, требует, чтобы его цитировали? – Он был поэтом, великим поэтом, – пояснил я, решив, что полезно сменить тему. – Восьмой век, династия Тан… Фэй произнесла строфы из «Храма на вершине горы». Даже в сумраке, что обволакивал нас грязно-серой пеленой, было заметно, как вспыхнули ее глаза. – Вы знаете Ли Бо, командир? – Лично не встречались, но с его поэзией знаком. – Перейдя на китайский, я нараспев промолвил:ГЛАВА 4 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Инопланетник, пришелец, чужак… Чужой – значит, не такой, как я, отличный по ряду параметров; существо, имеющее органы, которых я лишен, с иным функционированием эндокринной, нервной и других систем, что обеспечивают жизненный цикл, с иным обменом веществ, репродуктивным аппаратом и странными последствиями, к которым приводит процесс питания. Все эти обстоятельства, связанные, в общем-то, с физиологией, ведут и к психологическим различиям. Если вдуматься в этот краткий перечень, нелогичность землян поражает. Они упорно ищут разум во Вселенной, высматривают среди звезд Космическое Чудо[588], шлют радиосигналы в пустоту и дискутируют о сроках существования цивилизаций, жизни на Марсе и феномене НЛО; они пытаются расшифровать язык дельфинов, муравьев и пчел и выяснить, насколько те разумны; они, наконец, впадают в эйфорию при мысли о гуманных и всеведущих инопланетных братьях или, подобно Макбрайту, страшатся встречи с ними, считая их чудовищами. Вся эта суета лишь затуманивает истину, ясную для постороннего взгляда: здесь, на Земле, возникли четыре породы разумных существ, живущих в тесном симбиозе и обозначенных земными мудрецами расплывчатым – я бы сказал, небулярным[589] – термином «человечество». Издревле население Земли делилось и обособлялось: по облику и цвету кожи людей относили к различным расам; по языкам, религии, обычаям и ареалам обитания – к различным языковым семьям, конфессиям, народам, племенам; по праву собственности и виду занятий – к различным классам, группам и прослойкам. Но с точки зрения существ инопланетных различия в сферах этнической и социальной не важны; они, эти создания со звезд, зрят в корень, то есть рассматривают физиологию. Дети, женщины, мужчины, старики – четыре симбиоти-чески связанные группы… Вот глобальная стратификация земного общества, ибо у этих четырех слоев различия гораздо основательнее, чем у охотника-зулуса и члена британской палаты лордов. Это неоспоримый факт, который в истории земной цивилизации весит больше, чем все научные открытия и разрушительные войны. Дети стремительно растут, масса их тела увеличивается к моменту пубертации на порядок, их половые инстинкты спят, их разум еще не созрел, но в то же время они обладают своим специфическим виденьем мира, более ярким и острым; они иначе, чем взрослые, воспринимают время. Дети – первый язычок огня в костре обновления жизни, но есть в этом костре, разумеется, и пепел – старики. Их организм претерпевает патологические изменения, их разум, как правило, менее ясен, чем у молодых особей, половая функция отмирает, различия между полами нивелируются, исчезает разнообразие психологических типов; обычно они демонстрируют две основные модели поведения: раздраженно-злобную и вяло-безразличную. Физиология и жизненный цикл женщин ориентированы на вынашивание потомства; они слабее мужчин физически, их хромосомный аппарат отличен от мужского, они уступают мужчинам в творческих поисках, зато одарены интуитивным знанием. Им свойственно стремление к равновесию, к стабильности, однако не в сфере чувств; для них стабильность общества – лишь почва, на которой можно вырастить жасмин любви, пион тщеславия и кактус ревности. Но в общем и целом я полагаю, что женщины в этом мире мудрее мужчин, созданий воинственных, властолюбивых и беспокойных. Благодаря агрессивности, силе, дару к рациональному мышлению и творчеству мужчины доминируют над остальными группами и обеспечивают то, что на Земле считается прогрессом. Великие властители, завоеватели, политики, религиозные пророки, великие гении и злодеи, ученые, адепты искусства и странники, исколесившие мир от полюса до полюса… Мир этот, собственно, мужской, как вся земная цивилизация, и это яркое свидетельство ее незрелости. Тот симбиоз, о коем говорилось выше, держится на угнетении и инстинктивной тяге к продолжению рода, а это значит, что ни одна из рас землян не осознала своего предназначения. Они, эти четыре группы, вечно конфликтуют, нередко питая друг к другу злобу и зависть; дети восстают против тирании взрослых, старцы требуют почета в память о былых заслугах, а женщины добиваются равноправия. Какого? Права перетаскивать рельсы, трудиться в шахтах и носить штаны? Равноправие – миф, рожденный страхом и всеобщей несвободой, откуда проистекает идея уравнять талант с бездарностью, физика с лириком, а женщину – с мужчиной. На Уренире нет понятия о равноправии, зато там есть один-единственный неписаный закон: каждая личность неповторима, а потому свободна и священна. Конечно, я подразумеваю цивилизованную личность. Мужчину, чья функция – поиск и творчество, женщину, чье назначение – поддерживать жизнь и украшать ее, ребенка, который знает, что перед ним счастливое, долгое, лишенное тягот старости существование, и если оно когда-нибудь прервется, то лишь по его свободной воле. Вот о какой свободе я говорю! Свободе от страха увядания и ужаса неотвратимой смерти! Но это приходит лишь к тем, кто терпеливо ждет, кто не пытается поторопить природу и не вершит над ней насилия. Возможно, Монро прав, и я доживу до времен, когда имплантация мозга в тело клона станет обыденной процедурой… Но он ошибается, думая, что это путь к бессмертию и вечной юности. Это тупик, куда забьется кучка старцев в молодых телах, еще один повод для зависти, злобы и несвободы… Есть несколько базовых аксиом или, если угодно, великих открытий, свершаемых со временем цивилизацией. Одна из них развенчивает миф о познаваемости Вселенной, всех без исключения законов Мироздания, которых не существует in rerum natura[590]; есть лишь модели, которые мы примеряем к загадочным и непостижимым до конца явлениям. Другой, более оптимистичный постулат гласит, что вечная жизнь – естественное состояние человека или того существа, которым он захочет стать. Это долгий, но вполне естественный процесс, инициированный тягой к жизни и свободе, который, подчинив эволюцию, ведет ее к желанной цели. И первый шаг на этом поприще есть осознание того, что личность властвует над смертью; личность – и только она! – выбирает, где, когда и как. Грандиозный, драгоценный дар – возможность выбирать! Не менее щедрый, чем страсть между мужчиной и женщиной, чувство нежности, мечты, томление, объятия, поцелуи и дети, плод любви… Плод сладкий или горький, но придающий новые оттенки любовной связи и заставляющий ее искриться и сверкать, словно ограненный бриллиант. Выбор смерти и разнообразие любви… В сущности, великое богатство, клад сокровищ! Но в бесконечной Вселенной, средь звездных россыпей, пугающих Макбрайта, оно даровано не всем. Далеко не всем! Помню, на Сууке…* * *
Суук… Экваториальный континент, охватывающий планету почти замкнутым кольцом, с огромным выступом-подбрюшьем, что протянулось до Южного полюса; на севере – безбрежный океан, на юге – полярная зона, сумеречный, окутанный снегами мир, а между севером и югом – просторные зеленые равнины, холмы, поросшие дремучими лесами, изобилие прозрачных чистых вод во внутренних морях и реках, невысокие горные цепи, кратеры древних вулканов, извилистые ущелья и живописные водопады… Теплый и благодатный край, не ведающий погодных перемен, – ось Суука перпендикулярна плоскости эклиптики, и потому на экваторе вечное лето, а севернее и южнее, в высоких широтах, – весна, которая тянется здесь с тех пор, когда по Земле еще бродили динозавры. Стайки белых облаков в аметистовом небе, солнце, подобное алому цветку, легкие светлые дожди, ветры, что дуют с завидным постоянством… Суук! Прекрасное творение природы, мир, породивший жизнь и разум, место, где не ведают о первородном грехе, да и о прочих тоже… Это была моя первая миссия, и не могу сказать, что она завершилась успехом. Конечно, я многое узнал, однако период моего визита был слишком недолгим; хоть я покинул этот благодатный мир по собственному выбору, однако не по своему желанию. Странно, не так ли? Но наши желания и выбор, который мы делаем, необязательно совпадают, это уж как повезет. Обычно Наблюдатель проживает жизнь автохрона или несколько больший срок, если имеются к тому причины и если есть возможность поддерживать организм в работоспособном состоянии. Одна из важных задач Наблюдателя в том и состоит, чтобы запечатлеть все возрастные нюансы вплоть до естественного конца и упорхнуть на Уренир с грузом всеобъемлющих данных. Суук казался для этого идеальным местом: его однополые крылатые обитатели жили почти столетие, не ведали старческой дряхлости, являлись на свет с генетической памятью предков и быстро взрослели. Смерть не вызывала у них страданий; как я упоминал, они уходили, рождая потомка, и этот акт был облегчен милосердной природой, ибо свершался в полной каталепсии. Если учесть, что авто-хроны не развивали вредных технологий, не домогались богатства и власти, не сражались меж собой и даже не охотились, мир Суука и в самом деле являлся идеальным полигоном для начинающего Наблюдателя. Старейший, пославший весть о нем, заметил, что во Вселенной не найти планеты безопаснее. Однако судьба, судьба! В этом райском местечке я ухитрился погибнуть через двадцать восемь лет, и моя смерть оказалась нелегкой. Аффа'ит, мой родитель, был плетельщиком гирлянд, браслетов и ожерелий, не самым искусным, но все же вполне уважаемым среди не слишком взыскательной публики. Я унаследовал от него ремесло, древесную ветвь – аналог фруктового сада, гнездовье-мастерскую в одном из поселений у внутреннего моря Ки, а также имя Аффа'ит, которое передавалось в нашем клане столь долгий период, сколь далеко я мог продвинуться в памяти предков. Кстати, ее пробуждение и активация, процесс естественный для молодых суукцев, явились для меня большим подспорьем – сплав сущностей Аффа'ита и пришельца Асенарри произошел без драм, совсем не так, как на Земле. Внутренний голос, картины былого и шепот подсознания привычны для обитателей Суука и не считаются знаком психической неполноценности; собственно, за одним исключением, они не страдают душевными недугами. Мой дом-гнездовье находился в месте, которое с определенной натяжкой можно назвать городом. Человек Земли принял бы его за рощу древесных исполинов трехсотметровой высоты, но город являлся единым деревом с сотнями гигантских стволов и мириадами соединяющих их ветвей, с громадными изумрудными листьями, подобными чашам, в которых скапливалась дождевая влага, с множеством эпифитов, плодоносящих растений и цветов, пускавших корни в бугристой коре и наполнявших воздух тонким ароматом. Ветви – ярус за ярусом – поднимались от покрытой мхами почвы, из глубины зеленоватого сумрака к солнечному свету и теплу, и каждая была обителью и щедрым садом для множества существ: многоцветных юрких ящерок, летающих змей, птиц с серебристой чешуйчатой кожей или покрытых пухом, шестикрылых бабочек, крошечных, похожих на белок зверьков и огромныхпарителей-дайров, которых суукцы считали своими родичами. Дерево-дом, дерево-город, дерево-кормилец… Можно провести всю жизнь на его ветвях, покачиваясь в гамаке под кровлей жилого павильона, можно отправиться куда-то еще: на небольшое расстояние – с помощью собственных крыльев, а если путь далек, то на спине неутомимого дайра. Многие отправлялись, и не в одиночестве, а прихватив своих у'шангов; в компании приятней мчаться в поднебесье, любуясь новыми местами и попивая веселящий сок. Моя мастерская – помост с крышей на резных столбах, с которых свисали образцы моего искусства, – располагалась на среднем ярусе, в самой середине ветви, тянувшейся над берегом и морем. Вид отсюда открывался изумительный: зеркальная морская гладь до горизонта, плывущие в небе облака, а среди них – парители-дайры: то неподвижно зависнут, то ринутся к воде и разобьют серебряное зеркало на тысячу осколков. Но вид был не единственным достоинством моего гнездовья – стоило руку протянуть, как в ней оказывался плод, гроздь ягод или съедобная лиана. К тому же здесь было много света, много цветов и зелени, необходимых в ремесле плетельщика, а в сотне метров подо мной – пляж с причудливыми ракушками и перламутром, панцирями крабов и разноцветной галькой. Весь этот материал отлично годился для ожерелий и браслетов. Но в тот день – помню отлично! – я мастерил необычную вещь, нагрудник из плоских голубоватых и розовых раковин, оплетая их нитями, пропитанными клейким веществом. Это была приятная работа; я трудился, вспоминая украшения, принадлежавшие Рине и Асекатту, моим матерям, слушал щебет птиц и размышлял о всевозможных философских проблемах – к примеру, о художественных традициях двух культур, местной и уренирской. Затем я поднял голову и прищурился: над скалами в дальней оконечности пляжа что-то шевельнулось. Обычно в скалах курился дымок – там, подальше от города-рощи, стояла мастерская Фоги, моего у'шанга. Фоги был личностью разнообразных дарований, но по наследству работал с металлом и огнем, что на Сууке считалось редкой и не слишком почетной профессией. Хотя бы потому, что от печей и горнов валил такой вонючий дым, а все металлические орудия, ножи и сверла, резцы и молотки, были ничем не лучше каменных или изготовленных из гибкой прочной кости. Кто в них нуждался на Сууке? Плетельщики вроде меня да резчики по дереву… Второсортное искусство в сравнении с тем, чем занималась элита – художники-живописцы, певцы, музыканты, целители и дрессировщики всяческой живности, включая дайров. Дыма над скалами не было. То, что шевелилось там, никак на дым не походило – скорее некая конструкция, ящик без дна и крышки, обтянутый белесой пленкой из рыбьих пузырей. Порыв ветра подхватил его, взметнул в воздух, понес к облакам, и мне удалось разглядеть, что внизу болтается какой-то груз – вроде бы корзинка с четырьмя ручками. Пожалуй, она! Та самая, которую я сплел для Фоги! Воздушный змей с корзиной-гондолой поднимался все выше и выше, пока не попал в устойчивое течение, стремившийся к югу ветровой поток, рожденный поверхностью теплого моря. Пятерка дайров кружила и кувыркалась рядом, изучая странного летуна; они с любопытством вытягивали шеи и, вероятно, соображали, можно ли с этой штукой поиграть и для чего она годится, кроме игр. Вскоре, потеряв интерес к мертвому, несомому ветром предмету, дайры потянулись к морю Ки, а змей пропал среди облаков, плывших на юг по аметистовому небу. Над скалами возникла темная крылатая фигурка. Глядя на нее, я ощутил трепет в собственных крыльях, окутавших мое тело, будто плащ. То была инстинктивная реакция, страстный, почти необоримый позыв к полету, свойственный автохронам Суука, а значит, и мне; хоть разум мой являлся сплавом двух различных сущностей, но тело принадлежало этой планете. Привычным усилием воли я погасил возникшее желание. Фоги, мой у'шанг, энергично взмахивая длинными кожистыми крыльями, мчался к мастерской-гнездовью. Его собственный жилой павильон был рядом, на соседней ветви, и тут же, поблизости, обитали трое других моих у'шангов: Сат'па, сушильщик плодов, Оро'ли, составлявший напитки из соков, и Нор, который занимался резьбой по дереву и кости. Конечно, не музыканты и художники, но существа достойных профессий, вполне подходящая компания для плетельщика. Сложив крылья, Фоги ловко приземлился на краю помоста. Как все суукцы, он был невелик, худощав и жилист; тело, за исключением лица и крыльев, покрывала плотная короткая шерсть, четырехпалые руки и ноги были гибки и подвижны, а непривычные для людей Земли и Уренира черты маленькой светлоглазой физиономии тем не менее не выглядели уродливыми. Самой примечательной деталью его внешности являлись остроконечные уши и плечи, широкие и могучие, оплетенные маховыми мышцами; казалось, что к легкому тельцу пигмея добавили нечто инородное, достойное племени титанов. С шеи Фоги свисало сплетенное мной ожерелье, талию охватывал защитный пояс с сумками, а голени и предплечья украшали широкие браслеты – правда, прожженные и изрядно помятые. Не успел он сесть, как над моим гнездовьем снова зашелестели крылья, и Нор, Сат'па и Оро'ли друг за другом опустились на помост. Вся наша компания была в сборе – пятеро наследственных у'шангов, почти семья согласно суукским понятиям. Фоги бросил на нас торжествующий взгляд. – Ну? Вы видели?! – Видели, – шевельнув крылом, подтвердил резчик Нор. – Это было забавно. – Забавно? – Фоги взъерошился. – Клянусь памятью предков! Он говорит, забавно! И больше тебе нечего сказать? – По крайней мере, не так опасно, как горючий порошок, – рассудительно произнес Сат'па. – Помнишь то зелье, которое ты намешал из всякой вонючей дряни, добытой в вулканическом кратере? Когда ты бросил его в печь… – …печь полетела вверх быстрее дайра, – закончил Оро'ли, топорща уши. – А новый пресс, который ты мне сделал! Не спорю, сок он выжимает, но стоит зазеваться, и половина сока – на твоем животе! Или взять тот каменный круг для заточки резцов… Он вращался с такой скоростью, что разлетелась станина и повредила кровлю в гнездовье Нора! – Оро'ли сорвал плод с ближайшего куста, распугав стайку крохотных пушистых птичек, и принялся рассеянно его жевать. – Нет, мой драгоценный у'шанг, не стоит на нас обижаться. Если Нор сказал «забавно», то это не порицание, а похвала. – Да, похвала, – согласился резчик. – На этот раз ты ничего не разрушил, и сам вполне здоров, так что не нужно тревожить целителя Тьи. А это уже большое достижение! Фоги возмущенно приподнялся и замахал руками, сохраняя равновесие с помощью полураспущенных крыльев. – Забудьте о прессе, круге и порошке! Забудьте о лопнувших глиняных чашах и про трубу из меди для музыканта Са! Эти ошибки не стоят того, чтоб сохранить их в памяти! Но нынешним утром случилось нечто иное, совсем иное… Летун! Я придумал вещь, которая летает и поднимает в воздух корзину с грузом! Вы понимаете? – Что тут удивительного? – фыркнул Нор. – Летать мы сами умеем, и с корзинами, и без них. Этот летун, которым ты восхищаешься, сделан из дерева, а значит, мертв и не обгонит самого захудалого дайра. Его просто несет по ветру… Разве не так? – Не так! Если построить… Оро'ли выплюнул косточки плода и пошевелил подвижными ушами. – Я не ослышался, ты вспомнил о глиняных чашах? Тех, которые треснули в огне? Ну, не печалься, друг… И вообще, нужно ли болтать о пустяках и бередить душу памятью о неудачах? А вот о чашах забывать не стоит! С этими словами он полез в корзинку, которую принес с собой, вытащил сосуд с веселящим напитком и пять чаш – не глиняных, а из ореховой скорлупы, прочных, легких и изящных. Запах вина привлек маленьких, похожих на белок зверьков; оккупировав кровлю над нашими головами, они пронзительно застрекотали, топорща носы-хоботки. Мы приложились к напитку, закусывая фруктами и ягодами с моей плодоносящей ветви, а когда сосуд иссяк, троица у'шангов разлетелась по своим жилищам. Фоги остался. Несмотря на выпитое, выглядел он совсем не радостным. – Ты молчал, Аффа'ит… Не одобряешь? Или просто нечего сказать? Я хмыкнул – вернее, издал звук, который на Сууке сходит за хмыканье. Надо ли поощрить изобретательного Фоги или подрезать крылышки его талантам? Тяжелый случай! Хоть я Наблюдатель, но это не значит, что я не могу вмешаться и проявить завуалированную активность; тут все зависит от ситуации, диктующей самые разнообразные решения. Но на Сууке ситуация была стабильной, поскольку его автохроны вкушали мир, жили в мудром равновесии с природой, не суетились, никуда не спешили и не нуждались в технологии. Ни в танкерах и стратопланах, ни в тракторах и компьютерах, ни – упаси Вселенский Дух! – в бомбах, пулеметах и нервно-паралитическом газе. С давних времен они обходились костью, камнем, деревом и небольшим количеством металла, но все, к чему прикасался их гений, от обычнейших гребешков до живописных пейзажей, выглядело потрясающе. Мир, где чаша, циновка и тот же гребешок – произведения искусства! Долговечные, выполненные с великим тщанием, по освященным древностью канонам… В то же время прогресс на Сууке потихоньку двигался, о чем свидельст-вовала напряженность планетарной ноосферы, зарегистрированная Старейшим. Прогресс шел в сфере духа; цивилизация здесь развивалась, порождая не кладбища мертвых машин, но знания о живой природе и артефакты, которые их отражали: симфонии, картины, статуи, целебные снадобья, книги и, разумеется, жизненную философию. Главный ее принцип был таков: живи и наслаждайся этим счастьем. Мудрая рекомендация, и я не стремился к ее нарушению. Но что же делать, если у Фоги, моего у'шанга, свое понятие о счастье? Впрочем, не у него одного – Суук обширный мир с двухмиллиардным населением, и в нем найдется тысяча-другая диссидентов. Демон технического прогресса обуревает их, подталкивая к странным и бесполезным деяниям: производству пороха, гидролизу спирта, обжигу извести и глины, строительству плотов и кораблей, снабженных паровыми двигателями, даже к изобретению ткацких станков, хотя суукцам не нужны одежды. Целители рассматривают это как душевное заболевание, которое нельзя лечить – не потому, что нет снадобий, а по этическим соображениям: целители Суу-ка врачуют телесные недуги и не касаются души. Душа – не тот предмет, чтобы в нее вторгался посторонний; душа принадлежит не индивидууму, но роду, длинной цепочке поколений, обогащающих ее чувствами, опытом и памятью. Великая ценность – душа! Даже с вывихом, как у Фоги. Существовал, однако, способ ее успокоить. Хмыкнув еще раз, я произнес: – Не думаю, у'шанг, что ты нуждаешься в моем одобрении. Может быть, в совете… Я сделал паузу, и Фоги тут же встрепенулся: – В совете? Каком? – Сначала поделись своими планами – я имею в виду, как ты намерен поступить с этим летуном из рыбьих пузырей и дерева. Построишь штуковину посолиднее? С такой корзиной, чтобы поместиться в ней? Его глаза вспыхнули. – Да! Большой летун, а под ним – огромная корзина! И еще… Я слышал, что на восточном побережье моря Ки живет Ур'та, изготовитель красок… Он гонит из древесины бесцветную жидкость, горючую, но не такую опасную, как мой порошок… Слетаю к нему на дайре, попрошу – он не откажет! И тогда я сделаю толкатель! Такую, понимаешь, вещь, что если прицепить ее к корзине… Я швырнул в него огрызком фрукта. – Забудь об этом, недоумок! Забудь, во имя своего родителя и всех поколений предков! Я не хочу, чтоб мы сгорели в воздухе! – Мы? – В недоумении он шевельнул ушами. – Разумеется. Я ведь не брошу тебя, когда ты построишь новый летун и отправишься на юг, в Сумрачные Земли… Я полечу с тобой! – Хмм, на юг… – Он вытащил гребешок из поясной сумки, почесал под крылом и призадумался. Потом бросил на меня пару полных надежды взглядов. – Думаешь, это правда? Про Сумрачные Земли и Фастан? Думаешь, кто-то там живет? В кратерах, у теплых источников? Я помассировал плечевые мышцы – они затекают, когда сидишь в гнездовье целый день. – Ты работаешь с металлом, Фоги, тебе лучше знать. Разве не из Сумрачных Земель, не с плато Атрим мы получаем медь и железо, серебро и олово? А еще – стальные ножи, лучшие пилы и сверла, серебряные шарики и диски? Его глаза затуманились; он советовался с генетической памятью, но, судя по мрачному виду моего у'шанга, там не нашлось ничего полезного. – Не знаю, – пробормотал Фоги, – не знаю… Этот Фастан – слухи и сплетни, которых полно в памяти родителя и предков… Что за мусор я унаследовал! – Хлопнув ладонью по лбу, он уставился на меня. – Плато в Сумрачных Землях и Фастан… Думаешь, можно туда добраться? На моем летуне? – Дайры подошли бы лучше, но за горами Сперрин для них слишком темно и холодно. И потом, тебе ведь, наверное, хочется испытать свою машину? – Конечно! Ринувшись с помоста, Фоги перевернулся в воздухе и с радостным воплем начал снижаться к своей мастерской. В последующие дни он был очень занят: с помощью Нора собирал каркас большого летуна, клеил легкие полотнища из рыбьих пузырей, обтягивал ими деревянные рейки, возился с канатами, вымененными на бронзовые резцы, ходил на поклон к живописцам – с просьбой, чтоб расписали и украсили машину. Моей задачей была корзина, и вышла она вместительной, из прочной коры, с сиденьями на носу и корме и кольцами для подвески гамаков. Кроме того, я посоветовал Фоги, как сделать устройство, сворачивающее полотнища и уменьшающее тем самым подъемную силу летуна. Раньше чем взлететь, сообрази, как сядешь! Мы, разумеется, могли покинуть аппарат и опуститься на собственных крыльях, но было бы жаль бросить на ветер столько трудов и запасов – наши товары, а также сушеные фрукты и напитки, что приготовили для нас Сат'па и Оро'ли. Летун был готов, испытан и даже раскрашен под огромного дайра, когда мне передали приглашение от Тьи. Целитель просил его навестить – в любое время, удобное почтенному плетельщику, но лучше на закате, в часы вечерней трапезы и отдыха. Большая честь для скромного мастера Аффа'ита! Тьи вместе с тремя другими пережившими рождение потомства считался нашим старейшиной и управлял общиной – или, вернее, давал советы в затруднительных ситуациях. Он был по-прежнему силен и бодр, но жизнь его подходила к концу; через год-другой он расстанется с нею, подарив нам второго отпрыска и обессмертив свой род. Редчайший случай на Сууке! Таких долгожителей здесь почитали. Я отправился к нему, когда алое солнце коснулось моря, рассыпав в серебристых водах рубиновые отблески. Гнездовье Тьи на верхнем ярусе располагалось у самого ствола, в развилке двух могучих веток, и было просторным, убранным циновками, портретами предков и чудесными пейзажами на деревянных и костяных пластинах. Резные столбики поддерживали кровлю из желтой полупрозрачной коры, паутинные занавеси и гамаки трепетали на легком ветру, и весь пронизанный светом павильон казался похожим на сказочный корабль, который вот-вот оторвется от дерева и с неторопливым величием начнет подниматься к облакам. Тьи ждал меня в нише-дупле, чьи стены скрывали ковры из ярких птичьих перьев, а внизу тянулась широкая полка, где были сложены книги – увесистые фолианты в цветных переплетах. Мы выпили по чаше сока, насладились фруктами, а затем я преподнес ему нагрудник – тот самый, с голубыми и розовыми раковинами. Целитель долго глядел на него, бережно поглаживал дар ладонью, потом произнес: – Эта вещь прославит твое имя… Ты стал великолепным мастером, Аффа'ит! Лучшим, чем твой родитель. Похвала была мне приятна – Тьи считался тонким ценителем прекрасного. В конце концов, зачем мы трудимся? Лишь из удовольствия и для того, чтобы нас похвалили! Когда на Земле признают эту истину, здесь начнется золотой век. Мы выпили еще по чаше сока, и Тьи сказал: – У тебя мало у'шангов, Аффа'ит, только четыре, и, думаю, каждый тебе драгоценнее собственных крыльев. Не хочешь ли поговорить об одном из них? У'шанг… Мне трудно объяснить это понятие несуукцу В некотором смысле оно означает «сосед», или «друг», или «потомок» того, с кем соседствовали и дружили веками твои предки, и потому тебе он ближе брата – тем более что братья в земном понимании здесь, на Сууке, невероятная редкость. Мир, лишенный контрадикторных полов, а значит, и плотской любви, все же не обделен любовью, и эта любовь, возможно, самая чистая, какая есть в Галактике, – ведь ею правят не физиология, не эгоизм, не жажда обладания, а платонические чувства. Разум, осознающий себя, не в силах смириться с одиночеством и ищет опоры и понимания в родственном разуме – вот закон, справедливый повсюду, на Уренире и Земле, чьи обитатели двуполы, и на Сууке, где неизвестны радости секса. Фоги, мой маленький крылатый брат и друг… Я вспоминаю о тебе и временами стараюсь угадать, как ты прожил свою жизнь, был ли счастлив в Сумрачных Землях и где теперь твои потомки… Пусть пребудет с тобою Вселенский Дух! Надеюсь, жизнь твоя была полна, а моя жертва не напрасна. Однако вернусь к целителю Тьи и комнатке, завешенной коврами. Не дождавшись от меня ответа, он пригладил шерсть на могучих плечах и вымолвил: – Я говорю о Фоги, твоем у'шанге. О взрывчатом порошке, придуманном им, а также о трубе из меди, нелепых глиняных чашах, что оскорбляют взор, и этой летающей коробке из дерева и рыбьих пузырей. От одного – клубы вонючего дыма, от другого – шум и треск, и от всего – беспокойство… Я сожалею, Аффа'ит, но нам, целителям, знакомы эти симптомы. – Уши Тьи печально поникли. – Знаешь ли ты, что твой у'шанг недужен? И что его болезнь неизлечима? – Болезнь ли? – Я пошевелил крыльями. – Стоит ли считать его шалости болезнью? Возможно, дело всего лишь в том, что Фоги отличается от других? – Готов согласиться с тобой, Аффа'ит. Я прожил долгую жизнь и накопил немного мудрости, но всю ее можно выразить в двух словах: мы разные! Да, мы разные, и это хорошо – ведь непохожесть порождает интерес друг к другу, желание познать чужие мысли и высказать свои… Но Фоги слишком отличается от нас. Я знаю, Аффа'ит, я говорил с ним… – Целитель тяжело вздохнул. – Я попытался направить его в иную сторону, увлечь творением прекрасного, но он толкует лишь о бесполезном – о своем летуне и мертвых вещах, способных двигаться будто живые. Это ему интересно, но не занимает ни меня, ни остальных. Теперь представь, что отличия Фоги усилятся в его потомке, и этот потомок окажется одинок – совсем один, без понимающих его у'шангов… Поистине, страшная судьба! – Страшная, – подтвердил я, невольно содрогнувшись. – Чтоб этого не случилось, подобное должно идти к подобному, не так ли? Тьи, ожидая продолжения, смотрел на меня, и светлые глаза целителя полнились печалью. Других его эмоций я уловить не мог – здесь, на Сууке, я был лишен внечувст-венного дара, как и способности к телепортации за счет энергии деревьев. Таков организм автохронов, и такова их психика; я, заключенный в теле Аффа'ита, вынужден был примириться с этим и не роптать. Возможно, их ограниченность в этом смысле, их ментальная невосприимчивость и глухота являлись платой за генетическую память? Возможно. Не исключено, что так… Природа не изливает всех своих щедрот в одну-единственную чашу. – Наверное, Фоги стоит переселиться, – произнес я. – Если слухи о Фастане верны, то это место как раз для него. Конечно, Нор, Сат'па, Оро'ли и я потеряем у'шанга… Зато уверимся, что там, в Сумрачных Землях, он нашел единомышленников и никогда не будет одинок. Эта мысль успокаивает нас, хотя предчувствие разлуки угнетает… – Сделав жест сожаления, я добавил: – Скоро мы отправимся в Фастан на летуне Фоги. Он и я… Провожу его и вернусь. – Мудрое решение, – согласился Тьи с облегченным вздохом. Потом спросил: – С ним полетишь только ты? – Да. Летун поднимет нас двоих, наши запасы и кое-какие товары. Совсем по-человечески целитель покачал головой. – Думаю, причина не в этом, Аффа'ит. В конце концов, Оро'ли, Сат'па и Нор могли бы сесть на дайра и проводить вас до гор Сперрин или хотя бы до Четырех Морей… Но их страшит тяжелая дорога, долгий путь в неведомые земли, и со своей потерей они уже смирились. Ты – другой… Ты, как Фоги, непохож на остальных, но в чем отличие, мне непонятно. Я знаю, ты талантливее своего родителя… Может быть, еще и умнее? Или любопытнее? Он повернулся к полке с книгами и начал перебирать их, пока не извлек солидный том, переплетенный в лиловую рыбью кожу. – Вот, возьми… Ты сделал мне щедрый подарок, и я одарю тебя в ответ… Это редкая книга, в которой описаны южные земли, горы Сперрин и край, лежащий за ними, – равнина, где воды замерзают, тускнеет свет, а воздух так холоден, что жжет лицо и горло. Будьте осторожны, пересекая ее… холод в этой пустыне – не единственный враг. Вернувшись в свое гнездовье, я раскрыл драгоценную книгу, собранную из тонкой, но прочной, как пергамент, коры. Там были чудные рисунки, изображения озер и рек, морей, лесов и гор, невиданных мною животных и поселений на юге – таких же, как наше, или других, необычных, подобных пещерным городам. Там были пейзажи Сумрачных Земель – огромного, покрытого снегами полуострова, что протянулся до Южного полюса; хребет Сперрин отгораживал его от обитаемых краев, а в центре этой ледяной пустыни лежало невысокое плато – древние вулканы и источники, нагретые земными недрами. Там был Фастан – кратер, превращенный в город: пологие склоны, ступеньки террас, причудливые арки у входов в жилые пещеры и шахты, теплое озеро внизу в зеленой лесной оправе и сумрачные небеса, в которых играли сполохи полярного сияния. Красивое место, решил я и перевернул страницу. Жуткий зверь уставился в мое лицо. Тусклый, будто заиндевевший панцирь из крупной чешуи с шипами по всему хребту, глаза, мерцающие пламенем, когтистые лапы, длинный гибкий хвост и пасть с остроконечными клыками… Катраб, ледяной ящер, владыка Сумрачных Земель… Правда, в тексте под рисунком сообщалось, что эти чудища не любят тепла и потому на плато не поднимаются. Дальше шла история Фастана, изложенная с лапидарной краткостью цветными буквами-значками. Место это, населенное издревле, снабжало металлами весь Суук, и по этой причине народ здесь подобрался особый – рудознатцы и кузнецы, литейщики и плавильщики, химики и механики, гончары и стеклодувы. Они не нуждались в обучении: их опыт и навыки ремесла хранились в памяти предков и умножались с каждым поколением. К ним приходили отовсюду – мечтавшие о странном, те, кем овладел гений изобретательства, создатели мертвых и бесполезных вещей вроде паровой повозки и жерновов, вращаемых силой воды или ветра. Чуть тронутые умом, как полагали на Сууке, но все же не сумасшедшие, не отдельный народ и уж тем более не отщепенцы и не изгои. Просто непохожие на других… Такие, как Фоги, мой у'шанг. Глядя на страницу, испещренную зелеными, алыми и фиолетовыми буквами, я размышлял о том, что рано или поздно должен посетить столь примечательную область с Фоги или без него. Без этого отчет о технологии суукцев будет неполон и я не смогу передать нюансы их отношения к технике – то ли как к делу, бесперспективному и даже опасному, то ли как к игре, которой тешатся тысяч десять—двадцать недоумков. К тому же я подозревал, что вулканическое плоскогорье – зона эоита, то есть связующий канал между вселенской и планетарной ноосферами; возможно, у живущих в этом месте проснулись паранормальные способности? Это было бы славным открытием, опровержением моих концепций о Сууке! Словом, масса поводов, чтоб нанести визит в Фастан… Так почему бы не сейчас? Мы вылетели через пару дней, я и Фоги, в трехметровой плетеной гондоле, привязанной канатами к воздушному змею. Мощный ветровой поток, струившийся от моря Ки, подхватил нас и понес над лесом, расчерченным синими жилами рек, над пологими холмами, чьи вершины пламенели ковром багряных и пурпурных мхов, над голубым ожерельем озер и травянистой изумрудной степью с серыми и бурыми кляксами – смотря по тому, мчался ли под нами прайд кочующих хищных птиц или ползли, пожирая зелень, стада огромных шестиногих сатлов. Не утихающий ни на секунду ветер тащил наше легкое суденышко на юг, к экватору и Четырем Морям; солнце сияло, небосвод искрился и сверкал, а дайры провожали нас протяжными звонкими криками. Не буду описывать наше странствие в подробностях. Мы пролетели над центральной частью континента, где, подобная цветку с четырьмя лепестками, серебрилась поверхность Четырех Морей; миновали равнины Тибанга и Иннискилинга, заросшие древними лесами, среди которых струили воды две гигантские реки и тысяча речек и ручьев помельче; пронеслись над Мулланом, страной хризолитовых озер и скал из черного базальта; полюбовались с высоты на горный край Танари, пересеченный ущельями и темными глубокими каньонами; спустились вниз, в дюжине городов и городков, меняя наши товары: браслеты, ожерелья, стальные ножи и бронзовые резцы на пищу и питье. Пожалуй, термин «товары» неточен, ибо мы не занимались торговлей, а дарили подарки и получали ответные дары, какие преподносят на Сууке путникам. И если бы у нас ничего не имелось, щедрость хозяев, которые нас принимали, была бы такой же неиссякаемой. Примерно через тридцать дней, покрыв семь тысяч километров, мы добрались до поселения Зу'барг на северных склонах Сперрина. Этот хребет, самый высокий на Сууке и вытянутый в широтном направлении, перегораживает путь теплым пассатам, дующим с экватора, и не пускает на материк волны холодного воздуха с Сумрачных Земель. Для нас сие означало, что путешествие в летуне закончено; поток, тащивший наше судно к югу, иссякал, а по другую сторону хребта ярились встречные ветры. Разобрав свою машину, мы навьючили ее на огромного косматого шестиногого сатла. Порода этих тягловых животных, которую разводили в Зу'барге, отличалась от остальных величиной, густым мехом, хорошей дрессировкой и неприхотливостью; упитанный полярный сатл мог дойти от Зу'барга до Фастана за четырнадцать дней, глотая снег и не нуждаясь в корме. Дорога была известна и хорошо утоптана, ибо по ней трижды, а то и четырежды в год шли караваны за металлом и металлическими изделиями. Для этих экспедиций в Зу'барге собирались сотен шесть животных и пара тысяч путников, нуждавшихся в металлах или в помощи фастанских мастеров, а кроме них – погонщики, проводники и те любознательные персоны, которым хотелось взглянуть на край полярного сияния и вечных льдов. Многолюдность была необходима, чтоб отпугнуть катрабов; к счастью, они охотились поодиночке, а не стаями и избегали шума. Очередной караван предполагалось выслать в Сумрачные Земли лишь через девяносто дней. Не такой уж долгий срок, и мы могли бы провести его с приятностью, летая тут и там, осматривая живописные окрестности и принимая участие в дружеских пирушках. Фоги, однако, спешил; нетерпение сжигало его, словно Фастан со всеми своими чудесами, террасами и пещерами, их обитателями и рукотворными механизмами мог, не дождавшись нас, кануть в бездну небытия. Наверное, причина торопливости моего у'шанга объяснялась тем, что град мастеров в Сумрачных Землях казался ему сказкой, в которую жаждешь, но в то же время опасаешься поверить. Сказкой, запечатленной в книге Тьи, в отрывочных сведениях памяти предков, в слухах и байках странников… Но здесь, у гор Сперрин, сказка вдруг обрела черты реальности, подкрепилась словом очевидцев, точным расстоянием и сроком, холодом, которым тянуло из ущелий, и даже перемещением солнца, не поднимавшегося в этих краях в зенит. Так стоило ли медлить, когда не сказка, а настоящий живой Фастан уже маячил за ледяными равнинами? В общем, мы отправились в дорогу, хоть нас предупреждали об опасности. Моя ошибка, признаю! Обычно я не склонен к авантюрам, но в тот момент поддался на уговоры Фоги и разделил его нетерпение. Быть может, услышал зов снегов… Взглянуть на них после вечного лета на побережье Ки, вдохнуть морозный свежий воздух и погрузиться в полумрак полярного дикого края – в этом было нечто влекущее, сулившее разнообразие после тихой жизни в древесном гнезде. Божественный аромат приключений! И, ощутив его, я согласился рискнуть. Я, обладавший неуязвимостью, вдруг позабыл, что смерть для Фоги была концом существования, а для меня – всего лишь точкой старта в кратком стремительном полете… Мы миновали ущелье, рассекавшее хребет Сперрин, и очутились на бесконечной равнине, где завывал холодный ветер, а пар, вырываясь изо рта, падал на землю сверкающим инеем. Край, лежавший перед нами в косых солнечных лучах, казался неприветливым, угрюмым, но прекрасным: девственный белый покров, голубоватые ледяные торосы, смерчи серебряных снежинок в воздухе и низко нависшее небо, в котором днем пылали звезды. Под их колючими взглядами мы двинулись на юг. Наш дрессированный зверь, отлично помнивший дорогу, шел вдоль цепочки ледяных столбов с вмороженными в них опознавательными знаками, а мы лежали в гамаке, устланном мехами и подвешенном к его необьятному брюху. Густая шерсть животного и исходившее от него тепло спасали от холода, который без благодетельной защиты сатла убил бы нас за пару часов; питье и пища находились под руками, и мы могли на выбор спать, болтать или, высунув голову наружу, смотреть на льды, снега и звезды в темных небесах. Сатл шагал и шагал, не ведая усталости, но временами нам хотелось поразмяться – тогда я протягивал руку к палке с железным острием, тыкал зверя под челюсть, и он останавливался с коротким недовольным ревом. Мы вылезали из гамака, валялись в снежных сугробах до полного окоченения, прыгали, подскакивали, не решаясь, однако, взмыть в воздух. Сумрачные Земли – не место для полетов; тонкая пленка на крыльях промерзает, трескается, и, по словам целителей Зу'барга, эти раны неизлечимы. Кроме холода, ветра и скуки монотонного движения, мы не встречали иных опасностей. Наконец, на четырнадцатый день пути на горизонте поднялось плато Атрим, покрытое хвойным лесом, воздух слегка потеплел, и даже небо выглядело приветливей; казалось, еще чуть-чуть, и мы достигнем врат ущелья, ведущего наверх, а там и конец путешествию. Там ждали отдых в гостеприимных гнездовьях, щедрое тепло земли, новые встречи и знакомства, полеты над синим озером, невиданные машины – все чудеса Фастана, которые я собирался запечатлеть в своей бездонной памяти. Но рок, подстерегающий мечтателей и фантазеров, не дремал. Рок – темная ипостась судьбы, удача – светлая, и существуют они в неразрывном единстве, сменяя друг друга по воле случая. Наверное, в тот час удача наша задремала или судьба решила напомнить, что милости ее небезграничны, не даются даром и требуют оплаты. Словом, нас выследил катраб. Гибкое тело хищника было почти незаметным на фоне сверкающих льдов, однако сатл его почуял. Тревожно взревев, он бросился к ущелью; огромные ноги разбрасывали снег, клубившийся за нами белым облаком, гамак мотался под шерстистым брюхом, и мы тряслись в нем, цепляясь за веревки и сбившиеся комом шкуры. Трех-че-тырех сатлов катрабу не напугать, да и сам он не рискнет на них наброситься, но с одиноким животным дело иное. Сатл – тварь огромная, однако мирная и не имеет никакой защиты, кроме ног; плохое оружие против клыков и когтей катраба. Зная об этом и не пытаясь вступить в поединок, наш зверь мчался к спасительному ущелью. – Уйдем, – пробормотал Фоги, высунувшись из гамака. – Успеем! – Нет, – возразил я, прикинув скорость, с которой мчался хищник. До него было метров пятьсот, но с каждой минутой расстояние сокращалось. Гигантские прыжки! Снова и снова он взлетал над торосами, и тусклый солнечный свет струился по серому, будто присыпанному пеплом панцирю. Фоги придвинулся ко мне, его била крупная дрожь. Суукцы – не воины, они лишены инстинкта агрессии и убийства; больше того, они не охотятся, не ловят рыбу, а лишь обдирают трупы животных или морских обитателей, погибших по завершении репродуктивного цикла. Шкуры, перья, кожа, кость и рыбьи пузыри – все это не результат кровопролития, не охотничьи, а прозекторские трофеи. Мысль о том, чтобы отнять у кого-то жизнь, пусть даже для защиты собственной, чужда их философии, и это вполне объяснимо: ведь на Сууке насильственная смерть – гибель не одной особи, но всех ее предков и будущих потомков. Я высунулся из-под мохнатого бока сатла и повертел головой. Снег летел мне в глаза, космы шерсти били по лицу, но кое-что удалось разглядеть: до гор и ущелья – с километр, до хищника – впятеро ближе. Он не выказывал утомления и настигал нас все теми же огромными прыжками; казалось, его несут ветер и смерчи, кружившие снежную пыль. – Мы погибнем, – пробормотал Фоги, – погибнем по моей вине… Себя мне не жаль, но ты, мой у'шанг… мой драгоценный у'шанг… – Он всхлипнул. – Ты, лучший мастер среди плетельщиков! Самый добрый, самый верный! Ты… – Оба мы не погибнем, – отозвался я, сжимая копьецо с железным острием. Шест погонщика, мое единственное оружие… Только бы оно не сломалось… – Что ты делаешь, Аффа'ит? – вскричал Фоги, увидев, что я приподнялся над краем гамака. – Я его остановлю. Ты попадешь в Фастан, у'шанг. – Нет! Не-ет! Крик его был пронзителен. Он цеплялся за мое плечо, но пальцы соскальзывали с покрытой изморозью шерсти. Я оттолкнул его руку. – Ты должен жить, Фоги, и помнить обо мне. Такова моя воля. Я завещаю тебе свою память. Ты ведь не хочешь, чтоб на Сууке забыли о плетельщике Аффа'ите? Я стиснул его запястье, потом разжал пальцы и вывалился в придорожный сугроб. Средняя нога сатла подтолкнула меня, добавив скорости, однако падение было мягким, не повредившим ни копью, ни телу. Наш скакун, не заметив потери пассажира, улепетывал к горам, и Фоги не мог его остановить – ведь шест остался у меня. Шест, крылья, крепкие мышцы и умение убивать… Ну, скажем иначе: обороняться. Поднявшись в воздух, я почувствовал, что крылья словно закаменели – летательная перепонка, не защищенная шерстью, промерзала с устрашающей быстротой. Скоро я не смогу маневрировать… Ну, не беда! Продержаться бы минуту-другую, а большего мне не отпущено! С трудом махая крыльями и выставив перед собой копье, я ринулся к катрабу Он выглядел точно таким, как на рисунке в книге Тьи: шипастый хребет, когтистые лапы, багровые глаза, клыкастая пасть, жаркая, словно пламя в кузнечном горне. Чудовищный монстр! Не могу сказать, насколько он был велик – солнце светило мне в лицо, и я не пытался оценить размеры хищника, сосредоточив взгляд на разинутой пасти. Он прыгнул, и мы столкнулись в воздухе. Железный наконечник вошел ему в глотку, пробил ее насквозь и вылез на ладонь у основания короткой шеи. Но тварь была живучей; когти вонзились в мою грудь, терзая и выворачивая ребра, предсмертный вопль раскатился над ледяной пустыней, а затем мы рухнули в снег, и я услышал, как хрустят, ломаясь, мои крылья. Но боли в них почти не ощущалось; другая боль – страшная, нестерпимая! – давила сердце, и, не в силах терпеть эту муку, я закричал. Мрак, тишина, забвение… Беззвучный стремительный полет, потом – чье-то знакомое лицо над крышкой моего саркофага, белый купол депозитария и мелодичный посвист флейт, зовущих к пробуждению. Родина… Уренир… Конец пути.ГЛАВА 5 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ День четвертый
Скальная стенка была высотой метров триста-четыре-ста и тянулась по обе стороны, на запад и восток, насколько хватало взгляда. Не слишком серьезное препятствие для экстремалыциков, даже учитывая наш немалый груз. Но, к сожалению, тут имелась другая проблема: обширный бассейн, в котором мы ночевали, ближе к стене претерпевал бифуркации, дробясь на несколько рукавов, к тому же довольно узких и извилистых. То место для подъема, которое опытный скалолаз счел бы самым подходящим, было ловушкой: проход между стен вуали тянулся метров на сорок вверх, а после начинал вилять по склону, и все эти зигзаги да изгибы не предвещали нам ничего хорошего – по крайней мере, дорога удлинялась втрое. Посоветовавшись с Макбрайтом, я выбрал для восхождения участок более отвесный, зато с широким и почти прямым рукавом; лишь посередине склона он изгибался градусов на пятнадцать, напоминая огромный, впечатанный в скалы бумеранг. Фэй вывела Макбрайта к середине щели, служившей проходом в рукав, наметила ориентиры, и наш миллиардер, приладив к башмакам шипы, ринулся на штурм. Лез он быстро, с той сноровкой, какая дается лишь опытом и уверенностью в собственных силах, и я, довольно кивнув, подумал, что не ошибся, назначив его лидером: привычный труд – лучшее средство от подсознательных страхов и кошмаров. Цинь Фэй тоже следила за Джефом с одобрением, и даже Сиад пробормотал нечто поощрительное, призвав на помощь Джабраила и самого Аллаха. Поднявшись на изрядную высоту, Макбрайт вбил первый клин и пропустил страховочный трос в кольцо. Позиция была выбрана удобная: рукав тут расширялся до полусотни метров, а в склоне виднелась трещина, вполне достаточная для отдыха двух человек. Макбрайт, однако, отдыхать не пожелал, а резво полез по отвесной скале, цепляясь за невидимые снизу выступы и вытягивая за собой змейку тонкого прочного каната. На мой взгляд, техника его казалась безупречной – ни одного лишнего движения, ни единой заминки. Снизу он выглядел зеленой ящеркой, упорно взбиравшейся по черному стволу необъятного окаменевшего дерева. Я кивнул Цинь Фэй: – Вперед! Звякнул страховочный карабин на поясе, затем она ухватилась за канат, и через мгновение гибкая оранжевая фигурка поползла вверх, догоняя зеленую. Чудилось, что тело девушки лишено костей; она поднимала согнутую ногу, касаясь коленом подбородка, и делала плавный рывок, точно рассчитанный, но легкий, будто взбиралась не по отвесной стене, а прыгала где-нибудь на танцевальной площадке. Наблюдая за ее подъемом, я убедился, что Жиль Монро меня не обманул: хлопот с ней не будет. Во всяком случае таких, что связаны с преодолением утесов и маршировкой по пескам. Склон становился все круче, и стук молотка Макбрай-та звучал теперь почти без перерыва, отдаваясь в скалах раскатистым эхом. Впрочем, темп его подъема не замедлился, и мне опять припомнились слова Монро: Джеф, несмотря на возраст, был в хорошей форме. Даже в превосходной! Трудно поверить, что человек пятидесяти лет, пусть опытный и сохранивший крепость мышц, способен к таким усилиям! Опыт и выносливость для скалолаза необходимы, но это лишь первое из условий; второе – гибкость и координация движений, а тут уж возраст не обманешь. Но к Джефу это, кажется, не относилось. Дождавшись, пока Фэй поднимется до трещины у первого клина, я пропустил трос в карабин на поясе и повернулся к Сиаду В скудном утреннем свете его лицо было словно сгусток тьмы, одушевленной только фарфоровым блеском белков. – Полезешь, когда я доберусь до расщелины. Может, оставишь рюкзак? Втащим потом на канате. Еще ведь и клинья надо выдернуть… Он покачал головой. – Нет. Сил, дарованных Аллахом, у меня довольно. Это была не похвальба, а констатация факта, подкрепленная уже знакомым мне чувством уверенности. Ее ментальная аура окружала Сиада и казалась столь же заметной, как свет электрического фонаря в безлунную ночь. Кивнув, я натянул канат и начал восхождение. Это знакомая работа; лет семьдесят я лазаю по скалам и горам и сорвался лишь однажды, в юности, еще не завершив слияния с Асенарри. Забавный случай! В чем-то он мне помог, словно подсказка Вселенского Духа, желавшего намекнуть, кто я такой на самом деле… Давнее, очень давнее воспоминание! Само собой, в масштабах недолговечных землян. Мои руки перебирали трос, подошвы царапали шипами черный камень, а голова оставалась свободной. Подъем со страховкой не требует пристального внимания, и первое время, будто вдохновленный чувством высоты, я размышлял о полетах над безопасным зеленым Сууком и о Фоги, моем крылатом побратиме. Но место, в котором я очутился, было так непохоже на Суук! Даже в самом худшем варианте Сумрачных Земель, где я убил катраба и погиб, растерзанный его когтями… Те края манили мрачной прелестью, да и катраб, если отвлечься от наших с ним разборок, был существом красивым, мощным, а главное – живым. Творение природы в своей естественной среде… А то, что я видел здесь и сейчас, являлось не средой, а мертвой землей, сожженной в чудовищном крематории. Перехватить канат, переставить ногу, слегка подтянуться… Снова перехватить и переставить… Бросить взгляд вверх, на двух ящерок, оранжевую и зеленую, что карабкаются по отвесной стене… Посмотреть вниз, на серые мертвые пески, пологие холмы и желтую фигуру ад-Дагаба – он полз по канату, выбивая клинья и складывая их в подвешенный к поясу мешок. Монотонность моих движений не мешала думать, и постепенно мои мысли обратились к Тихой Катастрофе, к тому, что здесь произошло, к жуткому факту, которому не было объяснений. Насколько я сведущ в земной истории, здесь воевали испокон веков. Горцев всегда отличают воинственность и тяга к разбою, чему способствуют вечная бедность, неукротимый дух и сила – ибо рожденный в горах, привыкший покорять вершины и приобщенный к их величию сильнее жителя равнин. В древности тут воевали с персами, парфянами, китайцами и македонцами, затем с арабами, монголами и Тамерланом – конечно, не забывая про Индию, Китай и прочие сопредельные страны. В новейшее время схватились с Британией, после – с Россией, намылили шеи обеим великим державам, а после изгнания агрессора затеяли междоусобную резню. Такое уже бывало на многострадальной афганской земле – за неимением внешних врагов пускали кровь друг другу и занимались этим с особенным усердием. Но, как я уже сказал, наступила новая эпоха, эра не сабель, стрел и лошадей, а автоматов, мин и танков. Пули, ракеты, снаряды косили виновных и невиновных, сметали селения и города и не щадили ни малых, ни старых; вряд ли найдется на Земле подобный край, где оргия самоуничтожения была бы настолько яростной, тянувшейся без малого сорок лет на рубеже тысячелетий. Мне приходилось здесь бывать. Я Наблюдатель, и мой долг порою печален: я вижу, фиксирую, запоминаю не только прекрасное, но и чудовищное, мерзкое; я все обязан пережить – восторг перед полотнами Эль Греко и радости земной любви, нежную грусть Сен-Санса, тоску Уайльда, страх Франсиско Гойи, томление Сапфо… Все это плюс ужас разрушения, насилия, убийств – ужас, который превращает одних в червяков, других – в бессмысленную скотину, а третьих – в жалящих змей, несущих ненависть и горе. Земля вообще переполнена горем и ужасом, но есть места, где их накапливали слишком долго, слишком тщательно – и,подобно лаве, прорвавшей земную твердь, они выплескивают из кратера, рождая новые Помпеи. Перехватить, подтянуться и переставить ноги… Взглянуть наверх, в мутную дымку флера, на розовый солнечный блик, подбирающийся к зениту… Послушать стук молотков над головой и под ногами и отзвуки эха, затем проверить, как там Сиад, желтый мотыль на конце стометровой лески… Ползет! Пожалуй, догоняет! Да, мне приходилось здесь бывать – еще в ипостаси Даниила Измайлова, через несколько лет после захвата Кабула талибами. Я видел руины больниц и школ, посольств, кинотеатров, магазинов, видел вздыбленный асфальт на улицах, перепаханных танками, развалины университета, политехнический институт с рухнувшей кровлей и остатками стен, обгорелых и почерневших… Видел людей, похожих на призраков, с погасшими глазами и кожей, словно у мертвых ящериц, которых сутки-двое коптили над огнем… Ни книг, ни газет, ни ти-ви; новости – на нищих рынках, громкоговорители – только в мечетях, дабы сзывать на молитву, а кроме нее, второе или, возможно, первое развлечение: публичные казни и экзекуции. Древние святыни уничтожены, взорваны храмы, разбиты статуи, сожжены картины; любой рисунок – святотатство, любые книги, кроме священных, – грех. Однако истинной сути Корана тут не понимали и не пытались вникнуть в его смысл – ведь в нем заповеданы мир и любовь, а не война, терпимость, а не насилие. Здесь же царил людоедский закон, уничтожающий людей и всякое проявление культуры, что было несомненным надругательством над божеством… Увы! Это еще одна из нелепостей цивилизации землян! Книги пророков мудры и гуманны, но каждый ищет в них то, что собирается найти, и подгоняет прочитанное под собственную хищную натуру… Так вот, о режиме Талибана и о том, что наступило после него: в один далеко не прекрасный день все кончилось. Все в буквальном смысле – кончилась жизнь со всеми ее несчастьями и кончилась война, а вместе с ними исчезли горные хребты и реки, мосты, дороги, аэродромы, леса и города, люди и твари земные, водные и небесные – словом, все, от Гималаев на востоке до иранских нагорий на западе. Случилось это в двадцать восьмом году и заняло ничтожное мгновение, как утверждали многочисленные очевидцы и редкие кадры телезаписей. Тихая Катастрофа… Ни колебаний земли, ни огненных потоков лавы, ни грохота, ни радиации, ни ураганов… На горизонте сгустился туман – позднее его назовут флером, – и это было единственным признаком свершившегося катаклизма. Был Афганистан – и нет Афганистана… ни его, ни части таджикских, пакистанских и индийских территорий… Есть Анклав, Бактрийская пустыня… О версиях по поводу причин свершившегося я уже говорил, но, кстати, предположение о пи-бамб было не самым распространенным, если прикинуть число сторонников той или иной гипотезы. Буддисты, христиане, индуисты, синтоисты усматривали в произошедшем божественную кару, и с этим в принципе соглашались мусульмане, но с одной поправкой: вместо кары фигурировало предупреждение Аллаха или, в крайнем случае, его немилость. Эта немилость была настолько явной, что на какое-то время снизился исламский экстремизм, и с целью его подогрева пропаганда Ирака, Ливии и Пакистана стала отрабатывать назад, все к той же планетарной бомбе, которую якобы сбросили отродья Иблиса из ЕАСС. Или, возможно, из Индии либо Великого Китая… В мире, учитывая его многополярность, хватало претендентов на данную роль. Над головой раздался протяжный окрик девушки – наша юная фея-хранительница предупреждала Макбрай-та, что рукав изгибается и пора менять траекторию подъема. Я продолжал движение, вслушиваясь в едва заметное эхо, рожденное колебанием вуали, и в их голоса; они переговаривались несколько минут, выбирая ориентиры на новой линии восхождения. Она должна была привести нас к распадку между двумя утесами, там рукав кончался, вливаясь в настолько обширный бассейн, что его границы не поддавались определению. Затем я посмотрел под ноги, на ад-Дагаба, почти догнавшего меня, и на секунду замер в изумлении: гигант-суданец, весивший не меньше центнера, лез вверх, подтягиваясь на руках! С тяжелым сорокакилограммовым рюкзаком! Справедливости ради замечу, что я и сам способен на такие подвиги, если использовать энергетический резерв – но где и как его восполнишь? С помощью пищи и отдыха – слишком долго, а деревья здесь не росли, да и вряд ли Сиад умел брать от них энергию… По идее, после подъема ему полагалось лежать пластом, и я решил проверить его пульс, а заодно – и самочувствие двух остальных моих партнеров. На всякий случай, чтобы не вызвать подозрений… Мы миновали изгиб рукава – сначала Фэй с Макбрай-том, затем я и Сиад. Все шло без каких-либо странностей, если не считать манеру восхождения суданца, но с этим я разберусь потом. Попозже… Мы поднялись уже на триста метров, и, поглядев через плечо, я обозрел лежавшую на северо-востоке равнину, серую и бесплодную, как залитый бетоном космодром. Восстановив в памяти карту, я убедился, что нахожусь в весьма примечательной точке: здесь, следуя изгибу Вахханского хребта, земли Афганистана и Пакистана тянулись узкими языками на восток, встречаясь с таким же языком со стороны Китая. Этот коридор отделял Памир от Индии, и здесь, на пятачке в семьдесят километров, встречались границы пяти держав – правда, одной из них на карте уже не было. Да и другие потерпели изрядный ущерб… Впрочем, политики, особенно китайские, так не считали. Близость к этому региону мирового пространства, а значит, и к щекочущим воображение секретам сулила веские преимущества, и хотя Китай и вся ВостЛига не препятствовали международным экспедициям, однако относились к ним без всякого энтузиазма. Зато половина походов в пустыню была совершена китайской стороной, и никаких ресурсов – тем более людей – на это не жалели. Понятная щедрость: если секрет раскроют специалисты СЭБ, то он, весьма возможно, окажется всеобщим достоянием, и монополия на пи-бамб выскользнет из рук. К тому же укрепятся позиции ООН в многополярном мире, а это ВостЛигу не устраивало – как, впрочем, исламистов и ЕАСС; этой троице хотелось катать шарик ООН на мировом бильярде по собственному усмотрению. Верно сказал Наполеон: Китай спит, и горе будет, когда он проснется! Мудрая мысль! Вот только император забыл про силу мусульман, хоть и сражался у пирамид с мамелюками… Макбрайт, а за ним – Цинь Фэй добрались до распадка, исчезли за гребнем стены, но через минуту я снова увидел Джефа, он приблизился к краю пропасти и возбужденно размахивал руками, чтобы привлечь мое внимание. – Эй, босс! – Да? – отозвался я, перехватывая канат и ритмично переступая ногами. – Тут такое… такое!.. Дьявольщина! Много я всякого повидал, но это… – Нашли летающую тарелку с трупами пришельцев? – Сколько угодно! Есть и трупы, и тарелки, – мрачно предупредил Макбрайт. – Что делать? – Стоять на месте, не приближаться. Где Фэй? – Здесь она, рядом. За зеленым комбинезоном Джефа мелькнула оранжевая «катюха» девушки, и я успокоился. Что бы они ни нашли, торопиться не стоило; поспешность – плохой помощник в серьезных делах. Тем более если придется увидеть братцев по разуму с седьмого неба… Но в это мне верилось с трудом; формально талги соблюдают принцип Равновесия и не десантируются на Землю. Не думаю, что Джеф и Фэй наткнулись на их диск… Хотя чем черт не шутит! Анклав – это такой соблазн… Вдруг захотели исследовать и потерпели аварию? Я не ускорил темп восхождения, а лишь наклонил голову и окликнул ад-Дагаба: – Все в порядке, Сиад? – Да, – прогудел он, выдергивая очередной клин без помощи молотка, прямо рукой. Потом подтянулся на пару метров и спросил: – Что случилось? Голос его звучал на удивление спокойно, никаких следов одышки и усталости. Вряд ли стоит проверять его пульс, подумалось мне. – Макбрайт и Цинь что-то обнаружили. – На все воля Аллаха, – сказал суданец и выдрал из скалы еще один клин. Трос дернулся, и на мгновение мои ступни потеряли опору. Я поднялся наверх, в распадок, отлепил шипастые колодки с подошв, сунул их, не глядя, в карман рюкзака и взялся за рукоять мачете. Потом опустил руку; Джеф и Фэй, поджидавшие нас с Сиадом в дальнем конце распадка, не прикасались к оружию, даже к альпенштокам, притороченным поверх рюкзаков. Видимо, близкая опасность нам не грозила. Ад-Дагаб вылез следом за мной, смотал канат и повесил его на плечо. Разбираться с его поразительными талантами было не время, и я, кивнув суданцу, направился к своим спутникам, застывшим, словно пара статуй из ли-ственита и родонита. Шагавший позади Сиад был, очевидно, свеж как огурчик; дыхания его почти не слышалось. Мы выбрались из глубокой трещины между утесами, закрывающими обзор, и я моментально понял, что талга-ми тут даже не пахнет. Перед нами лежало плоскогорье; темный плотный базальт с бугристой поверхностью тянулся, слегка понижаясь, до горизонта, а там вставала другая стена, подобная преодоленной, – будто еще один вал, катившийся к нам из глубины застывшего каменного океана. Рассеянный солнечный свет, пробивавшийся сквозь затянувшую небо дымку, был скуден, однако очертания скал, камней и груды каких-то развалин левее распадка виделись с удивительной четкостью – здесь не было обманчивых теней и блеск светила не слепил глаза. Пейзаж, напоминающий гравюры трехсотлетней давности: скупой колорит, зато все тщательно прорисовано, каждый штрих отточен и выверен, всякая деталь на месте. Лишь наши яркие костюмы нарушали гамму черного, серого и бурого цветов. Макбрайт, сдвинув на лоб бинокль, повернулся ко мне. – Помните нашу вчерашнюю находку? Старый вертолет? Молча кивнув, я прищурился, разглядывая серые руины. Они походили на кладбище, пережившее пару землетрясений. – Я сожалел, что не могу его обследовать, и вы сказали, что случай нам еще представится… Вот он, этот случай! – Джеф протянул руку к развалинам. – Тут не один аппарат и не единственный труп, дружище! Причем техника новейшая, тоже из России, но вроде бы я разглядел «Бамбуковый лист», японскую машину. Недавняя разработка самураев… Эти экранолеты, если не ошибаюсь, производят года четыре. – Не ошибаетесь, – подтвердил я и покосился на Цинь Фэй. – Полагаете, китайцы? – Скорее вся Восточная Лига! Шесть их последних попыток… – Я о них знаю. Я, как и все мы, изучал материалы СЭБ. Фэй шевельнулась и, не снимая бинокля, пробормотала: – Это экспедиция тридцать четвертого года… пятнадцать экранолетов, сотня десантников, техники, военные инженеры… десяток наших уважаемых ученых… очень уважаемых… – Она судорожно сглотнула. – Ни один не вернулся, ни один! Исчезли, словно камни в воде! – Не стоит так расстраиваться, детка, – с суховатой усмешкой заметил Макбрайт. – Было несколько американских экспедиций, и я не помню, чтобы кто-нибудь выжил и дал интервью. – Все они люди, ваши и наши, и я сожалею о них… – Фэй прикусила губу и буркнула: – В отличие от вас. Теперь усмешка Макбрайта стала снисходительной. – Вам жаль, мне – нет, и вы полагаете, что в этом главное отличие? Вы не правы! Есть кое-что еще. – Он выдержал паузу, затем кивнул в сторону груды обломков. – Этих людей заставили отправиться сюда, и в гибели их повинен не Анклав, а ваша власть. В наших же экспедициях участвуют добровольцы. Понятна разница, юная леди? – Им платят, вашим добровольцам! – А что тут плохого? Всякий риск должен быть вознагражден, и потому… – Прекратить дискуссию, – распорядился я. – Фэй, сколько до границ бассейна? Она сразу успокоилась, передвинула бинокль, наморщила лоб и замерла, зондируя серую гулкую пустоту, лежавшую перед нами. Искоса, почти украдкой я любовался ее лицом. Бледно-смуглые щеки, упрямый подбородок, мягкие, чуть выступающие холмики скул… Ольга в юности – та Ольга, которую я не знал и видел лишь на плохих любительских фотографиях… Сердце мое сжалось и дрогнуло, и грусть его была не грустью Асенарри, звездного странника, пришельца с небес, а безысходной тоской земного человека. Печалью о навсегда потерянном, канувшем в смертный покой существе, таком дорогом и в то же время чуждом… Страшное это слово – навсегда! Мне повезло, что о нем позабыли на Уренире. Цинь Фэй пошевелилась. – Здесь мы в безопасности. Границы вуали далеко – так далеко, что я не могу до них дотянуться. Но… – Она замолчала, недоуменно щурясь, затем, словно в поисках поддержки, коснулась моего плеча. – Не могу дотянуться, но мне кажется, что эти границы в движении и как бы удаляются от нас… Странно, правда? Может ли такое быть? – Почему бы и нет? – отозвался я. – Мы в глубине Анклава, в неисследованной зоне, где странного больше, чем знакомого. Вот этот бассейн, например… Если ты не чувствуешь его границ, значит, он такой огромный, что в нем поместится Пекин, Москва или Нью-Йорк! Может, и для Хэйхэ найдется место? Успокоенная, она улыбнулась этой немудрящей шутке, затем бросила взгляд на руины и помрачнела. Мак-брайт, наоборот, печали не испытывал, и страх его тоже испарился, ибо останки экранолетов были явлением понятным, не связанным с агрессией из космоса и жуткими тайнами пришельцев. Он прямо-таки рвался в бой, но я решил, что после восхождения нам нужен отдых. По крайней мере, трем из нас. – Привал на два часа. Снимаем мешки, достаем рацион, пьем, едим, восстанавливаем силы. После этого – за работу! – Не понимаю вас, дружище… Перед нами загадка, а вы заботитесь о брюхе… Не поменять ли телесные радости на духовные? – Нет, – отрезал я. – Усталый человек плохой наблюдатель. Голодный тоже. Я в самом деле проголодался. Еще мне было любопытно понаблюдать за Сиадом – выразит ли он желание поесть и отдохнуть. Но он молчал.* * *
Могильник китайской экспедиции оказался обширным – обломки были разбросаны на территории километр на полтора. Мы разделились на две группы – Джеффри Макбрайт с Спадом, я с Фэй – и начали планомерный обход, осторожно двигаясь среди скелетов, металлокера-мических остатков фюзеляжей, сгнившей до черной трухи внутренней обшивки, осколков бронестекла и разных проржавевших железяк. В основном это было оружие – базуки, автоматы, снаряды «воздух – земля» и даже несколько стационарных лазеров или бластеров, как их называли на Западе. Почти все – российского производства; Россия, член ВостЛиги с правом совещательного голоса, являлась главной оружейной мастерской для Индии, Китая и мусульманских стран. Погибшая экспедиция была многочисленной – мы с Фэй обнаружили девяносто два скелета, а Макбрайт насчитал еще больше. Люди не покидали летательных аппаратов; черепа пилотов и десантников скалились на нас из кресел сквозь трещины в кабинах и разбитые иллюминаторы, ржавая пыль автоматных стволов лежала на тазобедренных костях, одежда и кожаная амуниция исчезли – скорее всего их прах развеялся в воздухе. Что до самих машин, то выглядели они словно куча глиняных горшков, которые, ничуть не заботясь о сохранности, с размаха швырнули на каменистую землю. Экранолет – прочная конструкция, живучая, без хрупких шасси и несущего винта; благодаря системе ориентации движков он взлетает и приземляется на пятачке размером с обеденный стол. Его, разумеется, можно сбить прямым попаданием или разнести о скалы, но об авариях мне слышать не доводилось: циклотурбинный двигатель надежен, как швейцарский хронометр. Даже еще надежнее, поскольку в нем ничего не крутится, не дергается и вообще не шевелится. Однако – битые горшки… В точности как корпус вчерашнего «Ми-36»: никаких следов атаки либо аварии, случившейся в полете. Такое впечатление, будто все пятнадцать аппаратов сверзились с небес одновременно то ли по причине опустевших баков, то ли из-за отказа двигателей… Турбины – вернее, их остатки – и правда выглядели не лучшим образом. Такая же ржавая труха, как автоматы, ракеты и прочий металлический хлам. Пока Цинь Фэй с застывшим лицом осматривала черепа и кости, я попытался обнаружить «черный ящик» – кристаллический чип в оболочке из прочного пластика, похожий на маленькую цилиндрическую гильзу. В нынешние времена это устройство снабжают индикатором записи: если торец цилиндра светится, значит, какая-то информация в чипе есть, и чем сильней свечение, тем больше в нем сохранилось данных. Обследовав пульты в кабинах пилотов, я разыскал с полдюжины гильз, на первый взгляд не поврежденных, однако мертвых, как вся остальная электроника – локаторы, маршрутные компьютеры и средства управления огнем. Иного было трудно ожидать, если припомнить, где мы находимся. Лавируя среди серых, покрытых трещинами стреловидных корпусов, мы медленно продвигались к середине этого странного кладбища, заваленного скелетами людей и жалкими остатками машин. Солнечный диск, розовая размытая клякса, еще не коснулся скалистой стены на юго-западе, но свет уже чуть-чуть померк. Подул ветер – слабый, очень слабый; не ветер даже, а его бессильная тень, едва шевелившая бурую пыль на холмиках ржавчины. Удивительно, но здесь существовали атмосферные течения – пожалуй, потому, что зона безопасности, в которой мы нашли приют, была такой огромной, не пара-тройка километров, а, вероятно, сорок – сорок пять. Однако, невзирая на эту дистанцию, я ощутил далекое колыхание вуали, переходившей в небесную дымку, и, подобно Фэй, уверился, что она будто бы отступает, одновременно истончаясь, как бы рассасываясь в воздухе с неторопливым, едва заметным постоянством. И что это могло означать? Как минимум то, что данный бассейн был поначалу невелик и лишь с течением лет расширился и охватил обширное пространство. За этим выводом сами собой напрашивались другие, не менее забавные. Скажем, такой – наверное, углубившись в пустыню, мы найдем бассейны еще большей протяженности. И если так, то можно полагать, что начался процесс распада вуали, самопроизвольный или инициированный каким-то внешним фактором. Влиянием эоита? Почему бы и нет? Даже на Уренире не ведают обо всех эффектах, присущих этим областям… Вот если бы я мог посовещаться со Старейшим!.. Зычный вопль Макбрайта и непонятный грохот прервали мои размышления. Мы с Фэй тревожно переглянулись и заспешили к коллегам, блуждавшим в другой оконечности кладбища. К счастью, ничего фатального с ними не случилось: Джеф наткнулся на японский аппарат, и ад-Дагаб, действуя то молотом, то ледорубом, сокрушал его обшивку, выбивая куски металлокерамики вокруг иллюминатора. Дырка была уже основательная, и я догадался, что наши спутники хотят добраться до замершего в кресле человека. В следующий миг мне стало ясно, что это существо совсем иной природы. Массивная головогрудь, обводами похожая на пулю, две пары верхних конечностей, темные окуляры глаз и дуло лазера, торчавшее на месте рта… Робот! Боевой робот, но не российский и не японский; в России их вообще не делали, считая неэффективным оружием, в Японии производили лишь механических слуг и полицейских. Этот, с мощным лазером в башке и резаками на концах манипуляторов, явно был не стражем порядка. – Модель Р-33, – произнес Макбрайт. – Выпускается моим заводом в Висконсине для спецчастей ЕАСС и всех, кто может выл ожить шесть миллионов за этого недоумка. В голосе его не слышалось особой гордости. – Сильно поврежден? – спросил я. – Корпус в трещинах, шасси разбито, силовой блок деформирован и, вероятно, гидравлике конец… Он дохлый, как панцирь лобстера, приятель! Убыточное изделие! Не то что… Макбрайт ухмыльнулся и кивнул на Сиада. Тот, сокрушив богатырским ударом обшивку, наклонился и с силой дернул робота на себя. Манипуляторы, жалобно скрипнув, отвалились, нижняя часть корпуса с шасси и силовым блоком не пожелала покинуть кабину, но верхнюю суданец вытащил – головогрудь с торчавшими из нее проводами и платами, похожими на кишки трубками и рычагами псевдоскелета. Этот обломок весил побольше сотни килограммов, но, кажется, это Сиада не волновало; он аккуратно опустил его на землю, сунул конец альпенштока в трещину панциря, нажал… Керамика поддалась с протяжным визгом, что-то хрустнуло, лопнуло, брызнули разноцветные детальки. – Осторожней! – выкрикнул Макбрайт, оттолкнув суданца. – Для чего он вам? – спросила Цинь Фэй, брезгливо уставившись на робота. – В нем тоже есть «черный ящик», – пояснил я. – Сейчас Джеф его достанет и… Макбрайт лихорадочно копался в переплетении проводов и трубок, которые с сухим треском ломались под пальцами. Не просто ломались, а рассыпались в пыль и прах, будто этот механизм, выпущенный на заводах Эм-эй-си в не столь уж далекую пору, провалялся в Анклаве три или четыре столетия. Может, на порядок дольше, если припомнить, с какой легкостью Сиад расправился с металлокерамическим панцирем. – Есть! – С торжествующим криком Макбрайт выдрал из внутренностей робота маленькую гильзу, подбросил ее на ладони, повернул торцом и тут же поскучнел. – Черт меня побери… Штучка-то пустая! – Не огорчайтесь, Джеф, – сказал я. – Мне повезло не больше вашего. Он поднял голову, ткнул пальцем в распотрошенный механизм. – Вам попался другой недоумок? – Нет. Но в экранолетах тоже есть информационные капсулы. – А, конечно! Как же я забыл! – Джеф поднялся с колен, отряхнул штанины комбинезона. – Поищем, босс? – Бесполезно. Я проверял – данные в чипах отсутствуют. Хотя по идее эти устройства очень долговечны. – Насколько? – Информация хранится лет сто пятьдесят. В воде, в глубоком вакууме, в холоде… Разумеется, чип можно разрушить механическим путем, но все найденные мной капсулы были целы и невредимы. А чтобы стереть информацию, нужна температура, как в доменной печи, либо электромагнитное поле – мощное, вихревое, высокочастотное. Примерно в сотню мегагерц. Джеф огляделся. – Непохоже, чтобы тут бушевал пожар… И я не помню, чтобы сообщалось о необычных электромагнитных явлениях в Анклаве… Я молча пожал плечами. Глаза Цинь Фэй округлились от любопытства; забыв о почтении к командиру, она дернула меня за рукав. – Что… О чем вы говорите? – Понимаешь, – я покосился на гильзу в руке Мак-брайта, – если не считать керамики, «черный ящик» прочнее и долговечнее всего, что мы обнаружили в этих руинах. Долговечнее человека, оружия, экранолетов и компьютеров. Он предназначен… – Да, я знаю! В нем фиксируются показания приборов, сведения о маневрах, переговоры экипажа, и все это хранится на случай аварии. Однако капсулы пусты, и вам неизвестна причина? – Именно так, – подтвердил я. Макбрайт, потирая лоб, задумчиво осматривал могильник. От Джефа опять повеяло страхом и тревогой. – Если верить нашей юной леди, – наконец произнес он, – то этим останкам всего три года. Но посмотрите: металл проржавел, одежда и вся органика рассыпались прахом, кости скелетов потемнели и сделались хрупкими… Такое невозможно за трехлетний срок! – Ускоренное старение в зоне повышенной энтропии… – пробормотал я, припомнив сказанное Монро. – С этим мы уже сталкивались, Джеф, вспомните вчерашний вертолет и вешки. Кстати, и вашу собственную гипотезу об ускорении деструкционных процессов. Она представляется мне весьма разумной. Джеф раздраженно пнул ногой корпус разбитого робота. – Святые угодники! Не притворяйтесь наивным, приятель! Конечно, мы можем допустить, что здесь, в Анклаве, присутствует некий фактор, влияющий на деструкцию. Но!.. – Он с многозначительным видом поднял палец. – Мы здесь, мы живы, и наши комбинезоны не рассыпаются в пыль! Мы притащили с собой массу металла – оружие, ледорубы, крючья, молотки, – и все это, заметьте, не ржавеет! Почему? Ведь мы стоим на месте катастрофы, в самом ее эпицентре! Стоим и не гнием заживо! – Значит, что-то изменилось, – заметила Фэй. Я кивнул в знак согласия. – Разумеется, изменилось. Во-первых, экранолеты прошли сквозь флер, а во-вторых, три года назад бассейн был, очевидно, не таким обширным. Фэй заметила, что вуаль отступает… Сейчас здесь чисто, но прежде вся эта зона могла оказаться под вуалью. Макбрайт, вывернув шею, уставился в сумрачное, затянутое дымкой небо. – Вуаль… Говорите, зона повышенной энтропии? Не верю я в эти заклинания физиков! Возможно, все намного проще… Скажем, какой-то коллоид, взвесь, распыленная в воздухе… Субстанция, инициирующая окисление… Если ее частицы заряжены, их можно связать силовыми полями и удержать в локальных границах… Со временем взвесь оседает на почву, создавая зоны безопасности, данный процесс идет с различной быстротой в разных частях Анклава, и это вполне естественно, если учесть огромность его территории… А также возможную неоднородность поля… Значит, все эти бассейны, рукава и остальная дребедень дают нам картину распределения напряженности – точно опилки, к которым поднесли магнит… – Опустив голову, он посмотрел на меня. – Разумная гипотеза, приятель? Что скажете? – Скажу вам то же, что и раньше: гипотез не измышляю, – ответил я и решительно взмахнул рукой. – Берем пробы, заполняем контейнеры и уходим! Мне совсем не хочется тут ночевать.* * *
Мы разбили лагерь у вешки за номером тридцать четыре, километрах в трех от мрачного могильника. Он казался не только мрачным, но и древним; человека, попавшего в такое место, невольно тревожат призраки неупокоен-ных, их жуткие стенания и звон цепей – или, учитывая профессию погибших, лязг запасных обойм в подсумках. Странно, но жители Земли, каким бы божествам они ни поклонялись, никак не смирятся с мыслью, что смерть для них – факт окончательный и непреложный. Это касается всех, даже мудрецов, подобных Аме Палу, которые ближе к истине, чем миллиарды остальных землян. Тем не менее они не теряют надежды восстать из праха в цепи перерождений, или перебраться после смерти в рай, или уж на крайний случай попасть в чистилище. Мне кажется, что именно в этом, в вере в загробную жизнь, а не в понятии о Высшем Существе, и состоит притягательность религии. Разумное и живое не мирится со смертью; вначале разум изобретает все новые трансцендентальные системы, ну а потом… Потом появляются Старейшие. После ужина Цинь Фэй уснула; кажется, переживания в могильнике утомили ее больше, чем восхождение на скалы и попытки зондировать вуаль. Сиад, как обычно, стоял на страже, я заполнял походный дневник, а Джеф, вооружившись отверткой и плоскогубцами, возился с блоками, выдранными из останков робота. Не знаю, что он хотел там обнаружить – может быть, весточку от жутких инопланетян? Но аура, окружавшая его, была не столь безнадежно угрюмой, как прошлым вечером. Наконец он отложил инструменты и с пренебрежительным видом отпихнул один из модулей – кажется, ржавое плечевое сочленение. Затем пробормотал: – Тупиковый путь… Железка, она и есть железка. Никак не комментируя эту мысль, вполне справедливую и очевидную, я уткнулся в свои заметки. Особой нужды в них не было; память моя необъятна, и в ней уложены все факты, все случившееся с нами и все детали наших разговоров. Но стоит ли демонстрировать ее могущество? Надо ли напрашиваться на вопросы или ловить удивленный взгляд? Это совсем ни к чему. Ergo[591], мне положено вести дневник, и я его вел. Макбрайту хотелось поговорить. Беседы со мной дарили ему уверенность и силу, которые он в иных обстоятельствах черпал, надо думать, у своего окружения. Своеобразный вампиризм людей влиятельных, миллиардеров и представителей высшей власти… Кто откажется поделиться с ними энергией или снабдить парой-другой незаезженных мыслей? – Вы слышали об органороботах? Андроидах? Я отложил свои записи и покачал головой. – Нет, Джеф. И что это такое? Разумные машины на базе игрунов? Или модификантов? Он пренебрежительно хмыкнул: – Эти ублюдки? Нет, они годятся лишь на свалку! Из человека, даже бывшего, не сделаешь андроида. Слишком непрочный материал. Это меня заинтересовало. Последние лет двадцать или двадцать пять мои земные соплеменники ставили над собой эксперименты, чреватые непредсказуемыми последствиями. Я имею в виду не аутбридинг, породивший аму – аму во всех отношениях были и оставались людьми, такими же, как мексиканцы или бразильцы, соединившие наследственность и кровь различных рас. Но кое-кто – и в первую очередь модификанты и игруны – с натугой вписывались в человеческий стандарт. Первых из них выращивали из оплодотворенных яйцеклеток, подвергнутых по мере их развития генетическому программированию – обычно для того, чтобы добиться максимальных физических характеристик: силы, выносливости, скорости реакций. Или, например, способности извлекать кислород из водной среды, что привело к созданию модификантов-гидроидов. Все эти существа не отличались высоким интеллектом и вне профессиональной сферы и привычных развлечений были совершенно беспомощны. Игруны являлись продуктом не генетической перестройки, а электронной микрохирургии. Вживленные в тело импланты фактически делали их киборгами, однако в глазах закона и общества термин «киборгизация» имел вполне определенную трактовку. Так, в случае неизлечимой болезни пациент мог выбирать между естественным органом – клонированным сердцем, почками или поджелудочной железой – и приборами, их заменяющими, причем замена была эквивалентной, в том смысле что больной, восстановив здоровье, не получал каких-либо иных, сверхчеловеческих способностей. Согласно этому правилу, киборгизацией считалось только внедрение боевых и силовых имплантов, а также чипов, подключенных к мозгу, либо «розеток» – то есть интерфейсов для связи с компьютерной сетью и виртуальной реальностью. Именно от них, от этих «розеток», произошло понятие «игрун» – лет тридцать назад их устанавливали себе фанаты компьютерных игр. Что касается роботов, то это были прочные, могучие и дорогие недоумки, поскольку интеллект, даже столь ограниченный, как у модификантов или клинических идиотов, не поддавался алгоритмизации. Что же в том удивительного? Мозг, да и весь человеческий организм – сложнейшая нелинейная система, творение хаоса, устойчивая парадоксальная неупорядоченность; земной науке, скованной цепями редукционизма[592], такое не постичь. Впрочем, какое-то движение, ведущее к смене парадигм, здесь уже наметилось: возникли кластерный анализ, фрактальная геометрия и нелинейная динамика[593]. А если наметилось, будет неизбежно расти, цвести и развиваться, это значит, что искусственный мозг поумнеет, импланты станут совершеннее, а методы генной инженерии – изощреннее и тоньше. И вот результат: где-то, в какой-то точке, в некий момент модификанты, игруны и прочие человекоподобные встретятся с роботами и сольются с ними… Может быть, уже встретились и слились, да я прохлопал? Это было бы непростительной оплошностью! Я смотрел на Макбрайта, чувствуя, что он колеблется: что-то хочет рассказать, но как бы не уверен, что я желаю приобщиться к тайнам Эм-эй-си. Проявить инициативу? Что ж, пожалуй! – Вы знаете, Джеф, что я владелец информационного агентства? – Он кивнул. – Не могу пожаловаться на своих сотрудников: добрая старая школа, люди с интуицией и опытом, не пропустят ни единой новости в сферах политики, культуры или науки. Да и как ее скроешь, эту новость? Что-то да просочится в сеть, а просочившееся можно выпарить и изучить сухой остаток… Но об этих… как вы сказали?., органороботах?.. я ничего не слышал. Абсолютно ничего! Про андроидов, правда, читал, но большей частью в фантастических романах. Макбрайт обернулся, взглянул на Сиада и спящую Цинь Фэй, затем придвинулся поближе. На его губах играла снисходительная усмешка. – Значит, ничего не слышали? Ну, что ж… Ваши люди охотятся за секретами, мои берегут их, и я доволен, что не зря плачу им деньги! – Он склонился к моему уху. – Андроиды – общий термин для искусственных существ, неотличимых от человека, но создавать их можно разными путями. Скажем, эволюционным: воспроизвести первичный акт творения и подождать, пока архейская амеба станет человеком. Или придумать агрегат, в который загружают аминокислоты, белки, кальций, воду и все остальное, а он печет андроидов, как пончики. Но это, дружище, фантастика; тело да кости мы как-нибудь слепим, а мозг… вот мозг нам не осилить! Но можно взять готовый – скажем, у погибшего либо от клона… – Полегче, Джеф! Не увлекайтесь! – Я похлопал его по колену. – Полное клонирование людей запрещено. Насколько мне помнится, это единственный вопрос, не вызывающий разногласий в ООН, а также споров между ЕАСС, ВостЛигой и мусульманскими странами. – Ну, я говорю гипотетически… к тому же есть территории, не признающие ООН… – Макбрайт отвел глаза. – В общем, представьте, что проблема мозга решена и мы имплантируем его в тело, созданное искусственно. Чем не андроид? – Чем не человек? – отпарировал я. По лицу моего собеседника вновь скользнула улыбка – из тех, какими взрослые потчуют детишек. – Люди нам не нужны, – сказал он. – Производство людей налажено еще Создателем, и нынче это массовый продукт, а потому дешевый и не слишком качественный. Слабые мышцы, хрупкий скелет, потребность в воздухе, пище, сне, комфортной температуре и сотнях других вещей, включая инстинкт продолжения рода… К чему нам это? Скопируем внешний облик, но усовершенствуем внутри, избавив от человеческих недостатков. А заодно улучшим исходный материал. – Джеф растопырил пальцы и повертел ладонью перед моим лицом. – Эти кожа, клетки и кости такие непрочные… – Что вы имеете в виду? Искусственные ткани небелкового происхождения? – Искусственные, но белковые. Более прочные, энергоемкие и долговечные. – Он сделал паузу, потом, склонившись ко мне еще ближе, шепнул: – Слышали про Эрнста Алданова? Был, знаете ли, в России такой биохимик и врач… Знакомое имя? Брови мои приподнялись. – Изобретатель биопланта? Нобелевский лауреат? Вы о нем? – О нем, о нем… Он ведь долго не раскрывал своего секрета, лечил, но только в собственной клинике, в Уфе или Казани… – В Сыктывкаре, – уточнил я. – Это было в Сыктывкаре, в конце прошлого века и в начале нынешнего. – Ну, пусть… Премию ему присудили в две тысячи пятнадцатом, не без участия нашей корпорации и при условии, что он продаст патент либо опубликует открытие. Так сказать, для общественной пользы… Он опубликовал, и мы получили доступ к его технологии. Затем – двадцать лет трудов праведных, и биоплант стал органоплантом. Новый биологический материал, очень перспективный… – Алданов исцелял людей, – произнес я, – а вы хотите делать роботов – так называемых роботов с человеческим мозгом… Но роботы ли это? Идлячего они нужны? Хотите вывести суперрасу, которая заменит или вытеснит нас? Он покачал головой. – Нет, разумеется, нет. Это будут бойцы и слуги, неуязвимые и сильные, стремительные и покорные… Наши защитники! В этом их назначение! – И от кого они нас защитят? Макбрайт пожал плечами. – Мало ли опасностей вокруг… Желтая угроза, исламская угроза, черная, красная, коричневая… Наконец, угроза из космоса и в результате – этот Анклав… Нет, не говорите мне, что нам не нужны защитники! – Он запрокинул голову и поглядел вверх, в беззвездное небо, затянутое пеленой. – Если прилетят оттуда… Он не закончил фразы, но я отозвался на нее – правда, мысленно, а не словами. Если прилетят оттуда… Что ж, я уже прилетел!ГЛАВА 6 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Должен признаться, я странная личность. Прежде всего это касается возраста, хоть данный параметр, казалось бы, универсален для всех живых существ. Для всех, но только не для вашего покорного слуги! Я родился в пятьдесят пятом; значит, сейчас мне восемьдесят два, однако это возраст тела, а не обитающей в нем личности. Тело старше Измайлова-Асенарри на двенадцать или двадцать лет, смотря от какого момента считать – от начала слияния или от той поры, когда оно завершилось полностью. Я выбрал первый вариант и сам с собой договорился, что пребываю в этом мире семь десятилетий – но это, разумеется, чистая условность. С другой стороны, я старше тела на полтора столетия. Опять же примерно, если включить периоды слияния на Сууке и Рахени, а это как минимум лет пятнадцать-во-семнадцать. Если разложить мой возраст по полочкам, то диспозиция такова: сорок четыре бесспорных года на Уренире, которые я провел в ученичестве и подготовке к дальним вояжам; двадцать восемь лет на Сууке, шестьдесят с небольшим – на Рахени и семьдесят – на Земле. Каждый срок нужно откорректировать, уменьшив либо увеличив в соответствии с периодом планетарного оборота, который в разных мирах колеблется от трех до двадцати процентов, если принять за основу уренирский год. Так что возраст мой – вещь в себе, некий объект фрактальной геометрии, который может быть тем или иным, смотря по тому, какой измерять его мерой. Это и понятно; что скажешь о возрасте существа, которое четырежды рождалось, трижды сливалось с другими разумами и дважды умирало? Могу лишь заметить, что о рождениях я ничего не помню, а что касается слияний, то на Земле и Рахени этот процесс был непростым и всюду – довольно долгим. В отличие от смерти – эта дочь первородного греха настигает быстро и разит стремительно. Все эти несообразности и перипетии связаны с родом моих занятий. Я – Наблюдатель, а это значит, что пять или шесть веков я проведу в чужих палестинах, влекомый к ним неистощимым любопытством и тягой к знанию; я проживу десяток или больше жизней, сливаясь с разумами автохронов и улетая в миг кончины в свой далекий мир. Как уже говорилось, мой полет не занимает времени, ибо передается не телесная субстанция, а энергоинформационный или ноосферный луч – собственно, мысль, скорость которой нельзя представить и измерить. Конечно, мое путешествие требует содействия Старейших и определенной подготовки, в которой важнейший момент – отбытие: я должен уловить ментальную ауру планеты и как бы приобщиться к ней, чтобы попасть в нужное место. С обратной дорогой проще: спектр уренирской ноосферы впечатан в мою память, и этот нерушимый мыслеблок – гарантия благополучного возвращения. Странный способ путешествий во Вселенной, не так ли? Но если припомнить, насколько она разнообразна и велика, странным покажется иное: попытки преодолеть пустоту в телесном обличье и понять создания, живущие на другом конце Галактики, чья природа вам чужда, намерения неясны, а психология – дремучий лес. Другое дело, если вы не вломились к ним, а тихо вошли с черного входа в привычном облике, никого не пугая, не вызывая переполоха, не заставляя нервно дрожать конечности на ядерных кнопках и вообще никак не афишируя своего присутствия. Рождаясь в этом мире, вы становитесь одним из них и знаете, что делать с крыльями, хвостом или с восемью ногами и лишней парой рук; вам с детства известны язык, обычаи, физиология, религиозные предрассудки и все остальное, что непонятно чужаку. Даже если чужак с компьютером вместо левого уха и бластером – вместо правого… Но существуют, разумеется, и сложности: я не могу общаться со Старейшими и делать то, к чему аборигены не приспособлены природой – скажем, изменять свой облик. Но сей момент не так уж и важен, главное – процесс слияния, весьма специфичный для каждого мира и только в редких случаях не вызывающий проблем. Ноосфер-ный луч, упомянутый выше, содержит мою психоматрицу, то есть полный отпечаток личности, подготовленный к одной из двух возможных трансформаций – телесной или, так сказать, духовной. В последнем случае я превращусь в Старейшего – великая честь, но думать об этом пока рановато. Телесная же метаморфоза сводится к внедрению матрицы в мозг – мой собственный, оставшийся на Уренире, или иного существа, потенциально разумного, способного принять свалившийся к нему подарок. Однако есть нюансы: разум, принадлежащий взрослой особи, воспримет это как агрессию, вторжение чужой, враждебной и непонятной индивидуальности. Ergo, я могу подселиться лишь в мозг новорожденного, что происходит автоматически; выбор случаен, и только один из параметров можно проконтролировать: здоровье и жизнеспособность ребенка. Пройдет какое-то время, и мы соединимся в единую цельную личность… Но не считайте меня демоном, который вселяется в невинного младенца; скорее я – коснувшийся его перст Мироздания. На первых порах это нежное, почти незаметное прикосновение, ибо матрица, внедрившись в мозг, переходит в латентную фазу – иными словами, дремлет. Вполне разумная мера; ребенок, даже осознающий себя в трех-четырехлетнем возрасте, не готов к контакту с эмиссаром, и если бы даже за несколько лет слияние произошло, личность была бы какое-то время ущербной – нелепый синтез Наблюдателя с еще незрелым и неопытным подростком. По этой причине матрица себя не проявляет, а дожидается сигнала, свидетельства некой радикальной перестройки, которая неизбежна для взрослеющего организма; так, в случае земных аборигенов сигнал – рост гормональной активности в период полового созревания. С этого момента матрица начинает пробуждаться – сперва незаметно, постепенно, затем со все большей энергией, и этот процесс идет лет восемь, до полной физической зрелости. Нелегкое время! Мне оно запомнилось как пытка из двух ступеней самопознания: просто страшной и очень страшной. Просто страшная ступень – годы, когда пробуждается паранормальный дар…* * *
Мои родители, Петр и Ирина Измайловы, были потомственными врачами. Отец, великолепный хирург, трудился в мечниковской больнице, мать – терапевтом в поликлинике; помню, как после обхода больных она, усталая, забирала меня из садика, мы приходили домой, а я, совсем еще малыш, подкрадывался к маминой сумке, чтобы завладеть чудесной игрушкой – стетоскопом. Мама сердилась и толковала мне про грипп, микробы и вирусы, которые просто обожают маленьких мальчишек, но грипп да и другие болезни обходили меня стороной; я рос на удивление здоровым для коренного ленинградца. Ближе к вечеру появлялся отец, топал перед дверью, стряхивая снег, звонил, подхватывал меня, сажал на плечи… Какими они казались мне могучими! Какими надежными, сильными! Лишь лет в пятнадцать я сообразил, что отец невысок и щупловат, а после этого произошло еще одно открытие – что он уже немолод. Я был поздним и единственным ребенком, и это, думаю, к лучшему: ни лаской, ни вниманием меня не обошли. И потому, вспоминая о них, о Петре и Ирине, я ощущаю то светлую грусть, то острое щемящее чувство боли,даже обиды – ведь жизнь их была такой нелегкой и такой короткой! Отец умер в шестьдесят, когда я учился в университете, мама – в шестьдесят три, когда я копал сарматов в Средней Азии, и в Ленинград меня вызвали телеграммой… Я до сих пор ее храню – в шкатулке, где мамин стетоскоп, два обручальных колечка и перчатки, те, что сняли с рук Петра Измайлова. Последнюю операцию он не успел завершить. Но хватит о печальном. Я помню дом на углу Дегтярной и Шестой Советской улиц, квартиру, где мы жили, – тесную, двухкомнатную, зато отдельную; редкость по тем временам. Помню дачи – их снимали в Соснове или в Орехове, у озер, среди хвойных чащ; отец был заядлым грибником, и я, очарованный лесом, бродил с ним часами, высматривал белок и птиц, а как-то на болоте встретился со старым лосем… Помню свой детский сад, мордашки друзей-приятелей, румяные с мороза; помню первую пару коньков, первый велосипед, овчинную шубку, в которой – мама смеялась! – я был похож на медвежонка… Потом – цветочный сладкий запах от огромного букета, торжественные лица родителей, черный портфельчик с пеналом и тетрадками – мы отправляемся в школу, и по дороге отец сообщает поразительную новость: школа—в Заячьем переулке! Глаза у меня расширяются, я забываю про букет, верчу головой, разыскивая зайцев… Детство! Воспоминания о нем туманны, как промелькнувший и забытый сон, ибо не я владею ими, а только маленький Даня, тот мальчуган, которым он был в пять и в десять лет – счастливый, беззаботный, не знающий своей судьбы и своего предназначения. В двенадцать лет детство закончилось. Первое, что дарит пробуждающаяся матрица, – это память. Разумеется, не память Асенарри, Аффа'ита и того существа, которым я был на Рахени, а просто память. Я вдруг обнаружил, что, пролиставши книгу за пару минут, помню каждое слово на каждой странице; помню слова учителей, их жесты и выражение лиц, помню наши ребячьи разговоры, все передачи по телевизору, все фильмы, улицы, дома, физиономии прохожих, помню в мельчайших подробностях все, на чем сосредоточил взгляд, что привлекло мое внимание. Это казалось забавным, и вначале я развлекался сам и развлекал приятелей, читая на спор отрывки из учебников, из Вальтера Скотта и Майн Рида, Дюма и Джека Лондона. Родители считали мой талант естественным и даже вспоминали, что будто бы я получил его от маминого деда, преподавателя латыни в одной из питерских гимназий. Еще гордились – я стал непременным участником олимпиад, математических, физических, литературных; за первые места там выдавали книги или шахматы, и вскоре под моим столом скопилось столько шахматных коробок, что я одаривал своих приятелей, друзей отца и мамы и всех соседей, до каких сумел добраться. Потом начались сны. Сны, точнее – видения, приходят неизбежно; в ночной период снижается активность мозга, а значит, падает сопротивление процессу переплавки разумов, слиянию в единый и нерасторжимый комплекс. Сны страшили своей непонятностью. Временами мне снился саркофаг с прозрачными стенами, необозримый и холодный белый зал и странные создания, чем-то похожие на людей, но все-таки не люди – слишком огромные зрачки и слишком маленькие рты… Они стояли, ждали, глядя на меня в молчании, и мне казалось, что я должен что-то сделать – не шевельнуться, не подняться, но предпринять какое-то могучее усилие. Мысль о нем пугала; откуда-то я знал, что, совершив его, расстанусь с телом и перестану существовать. На краткий миг? Надолго? Навсегда? Эти мучительные вопросы были безответными, и я, задыхаясь и плача во сне, пытался выкрикнуть их, но звуки гасли в этом белом зале и падали на пол пластинками льда. Это сновидение повторялось с изнуряющим постоянством, но приходили и другие. Темная пустота, и в ней – светящийся туман; я поднимаюсь к нему, и нечто, какой-то внутренний порыв, подсказывает мне, что это расплывчатое облако – всего лишь мираж, иллюзия, что-то подобное чадре из кисеи, скрывающей облик человека. Не совсем человека, скорей – божества, могущественного, мудрого, почти всезнающего… Оно говорит со мной, шепчет, зовет, и я теряюсь в догадках: зачем этот настойчивый зов?.. Чего оно хочет?.. Что ему нужно от меня, такого ничтожного, крохотного, уязвимого?.. Снова вопросы, вопросы… Они тревожат, и я мечтаю избавиться от них, прервать свой сон, но не могу – видение, вцепившись в мой бессильный разум, держит крепко… Я не рассказывал родителям об этих снах, но из других не делал тайны. Мне снилось иногда, что я несусь по волнам, лишенный рук и ног, вдруг превратившихся в плавники; вода кипит и расступается под моим телом, ветер срывает ажурную пену, уносит брызги к небесам, а в небе висит огромное алое солнце, такое большое, что, поднявшись, оно накрывает океан жарким палящим щитом. Я ныряю, спасаясь от него, ухожу в бирюзовую мглу глубины, к лесам зеленоватых водорослей, но тут картина стремительно меняется: нет океана, огромного солнца, нет ласт – руки и ноги вернулись ко мне, а с ними – крылья. Широкие, сильные, надежные… Я парю над рощей древесных исполинов и знаю, что это не роща, а целый город: изящные навесы на ветвях – будто дома, окруженные цветами и плодоносящими деревьями, сами ветви – проспекты и улицы, а между ними переброшены мосты-площадки, и среди зелени – сотни существ, побольше и поменьше, напоминающих то птиц, то белок или вообще ни на что не похожих. Невиданное зрелище, но почему-то мне знакомое, и, наскучив им, я взмахиваю крыльями и устремляюсь ввысь… Мама, слушая, улыбалась: растешь, сынок… Отец усмехался тоже: и мне доводилось летать, когда я был мальчишкой… Аура заботы и любви, что исходила от них, окутывала меня теплым нежным покрывалом – невидимый, но прочный щит, спасавший от страхов и тревоги, гнездившихся во мне, а заодно от всех неприятностей внешнего мира. Это понимание чувства было столь же новым и неожиданным, как моя безошибочная память: не слыша невысказанных слов, я мог представить ощущения, гнев, симпатию, радость, ненависть, злобную зависть, любопытство. Это был тяжелый искус; в тринадцать лет я понял, что далеко не все добры, отважны, благородны, что суть таится не в словах, а в совершенно иных материях – быть может, в человеческой душе, которой, как утверждали учителя, не существует вовсе. Казалось бы, неразрешимый парадокс! Но, жадно поглощая книги, я вскоре разобрался с тем, что называют лицемерием, и понял, что это – не моя дорога. Тот путь, который мне пришлось избрать ради защиты и безопасности, вел в другую сторону, туда, где горел девиз: ложь во спасение. «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои…» Кончались шестидесятые годы, и на слуху было новое слово: экстрасенс. Модное, но почти запретное; чаще их называли шаманами и мошенниками, а в статьях, публиковавшихся регулярно то в одной, то в другой центральной газете, разъяснялась их антинародная, вредная массам и обществу суть. Были, правда, и другие статьи, в моих любимых журналах «Знание – сила» и «Техника – молодежи», – статьи, от которых струился аромат таинственности, терпкий запах загадочного и непознанного. В них говорилось про кожное зрение, бескровные и бесконтактные операции, телекинез, телепортацию и пиро-кинез, про парапсихологов и лозоходцев, про опыты с картами Зенера и прекогнистику – словом, о вещах, способных возбудить воображение подростка. Они и возбудили; в пятнадцать лет я был уверен, что вырасту экстрасенсом. Возможно, я унаследовал сей дар от маминого деда? Возможно, он обладал не только редкой памятью, но мог исцелять наложением рук и двигать спички по столу? И даже улавливать чужие мысли? Конечно, гипотеза про маминого деда-латиниста была притянутой за уши, но странности, происходившие со мной, требовали объяснений. Я не был телепатом, но мог улавливать чувства, настроения, намерения людей, особенно те, что касались меня, и эта способность распространялась на животных. Мог приманить голубиную стаю, успокоить свирепого пса или отпугнуть, оскалив воображаемые клыки и сделав их побольше… Каким-то чудом я понимал чужой язык – вернее, мог изучить его с голоса: слушал передачи то на китайском, то на финском, то на албанском, и через месяц-другой они внезапно обретали смысл. Это было похоже на странную игру: в океане слов, в торопливой скороговорке диктора вдруг появлялись знакомые термины, тащившие за собой шеренги других понятий, как бы привязанных к ним на веревочке, и вся эта конструкция, покорно распавшись на совокупности звуков, тут же укладывалась в памяти. А память моя была поистине бездонной… Ну, чем не экстрасенс? Были и другие свидетельства. Лет в четырнадцать я обнаружил, что не мерзну в самый жестокий мороз, если представлю, что попал на юг, куда-то на залитые солнцем пляжи или в пустыню Сахару. Примитивный, но безотказный способ управления центрами терморегуляции… Еще я научился различать деревья – не по внешнему виду, а по тому, какое испытываешь чувство, касаясь ствола: одни словно что-то вытягивали, другие, наоборот, делились, наполняя мышцы энергией и мощью. Что это за мощь, мне оставалось непонятным, однако последствия таких сеансов были уже знакомы: отсутствие чувства голода и тяги ко сну, а также инстинктивное желание отдать энергетический избыток. Словно я превратился в кувшин, переполненный вином, и жаждал перелить его в тела-бокалы… Но это умение пришло ко мне в зрелые годы, слишком, слишком поздно… Жизни отца и матери я не сумел сохранить. Мне стукнуло шестнадцать, когда я всерьез увлекся альпинизмом. Секций по этому виду спорта не имелось, были полулегальные кружки, и я проник в один из них, при университете. Явился к Олегу Арефьеву, преподавателю с геофака и по совместительству тренеру и капитану скалолазов, и тот меня пригрел. Правда, не в первый же момент, а лишь тогда, когда я подтянулся сорок раз и сделал сотню приседаний на одной ноге. После этих подвигов Арефьев, сложив губы трубочкой, протяжно посвистел и сообщил, что из меня, возможно, выйдет толк – если за ближайшие четыре года я не разленюсь, не заболею диабетом, не надорву пупок и, разумеется, не шлепнусь со скалы. Насчет последнего он будто в воду смотрел. Я отзанимался всю весну, а летом, после сессии, мы поехали в Карелию, на скалы, – есть там такой оазис, где собираются будущие покорители вершин. Холмы, поросшие сосной, ольхой и елью, десяток проточных озер, питающих водами Вуоксу гранитные валуны и утесы двухсотметровой высоты, тишь, гладь, благодать плюс тучи комаров… Словом, самое что ни на есть романтичное местечко, где лишь влюбляться да петь песни под гитару. Я был единственным школьником среди студентов, отпущенным мамой под личную ответственность Арефьева: на скалы выше второго этажа не лазать, некипяченую воду не пить, носки держать сухими и питаться вовремя. Ах, мама, мама! Забыла, что мне шестнадцать, а в этом возрасте есть и другие опасности, кроме промокших носков и сырой воды… Была там одна студентка, Аня с биологического, кудри золотые, серые глаза… Вообще-то я не люблю светлоглазых блондинок – они мне кажутся бесцветными, как моль; да и брюнеток тоже не жалую – эти слишком вызывающе-яркие, почти вульгарные. Мне больше нравятся шатенки с карими очами и тонким гибким станом, что, несомненно, отзвук генетической памяти: именно этот женский тип превалирует на Уренире. Аня была совсем не такой, но в силу юных лет я плохо понимал, что мне нужно. Подружки в школе у меня не завелось, а значит, ухаживать я не умел, и все мое образование по этой части сводилось к книгам да мудрым маминым советам: во-первых, девушкам дарят цветы, водят в кино и кафе-мороженое, а во-вторых, изредка держат за ручку, читают стихи и смотрят проникновенно им в глаза. Но подержаться за Алины пальчики охотников было не счесть, и потому я решил, что выражу чувства иначе: залезу на Колокольню и напишу ее имя где-нибудь пониже туч, повыше сосен. Вот и полез, благо ночи в ту пору стояли белые, а часовых Арефьев не выставил. Какие часовые, какая стража? Патриархальные времена, семьдесят первый год… Но и тогда Колокольня была не подарок. Настолько не подарок, что забирались на нее лишь мастера и чуть ли не каждый сезон платили за победы кровью. Плата взималась согласно простому правилу: из десяти падали двое, причем один – со смертельным исходом. В грядущие годы я много где побывал, но свое первое восхождение и этот карельский утес, прыщ в сравнении с той же Чогори либо Тиричмиром, не позабуду никогда. В нем ощущалась некая надменность и враждебность, будто, презирая нас, людишек, что копошились на его груди, он предупреждал: есть, мол, пики и повыше, а для вас и я высок. Как полетите вниз, увидите! И я увидел, когда распластался над стометровой бездной, цепляясь скрюченными пальцами за камень. Дороги я не знал, и занесло меня на стенку, где мастерам без крючьев и страховок делать было нечего. Хорошая стена! Ни вверх, ни вперед, ни назад, а только вниз… Там я и висел, испытывая муки отчаяния и позора. Крикнуть или не крикнуть? И если крикнуть, кто услышит? Было пять утра, и в нашем лагере – восемь палаток-серебрянок под темными лапами сосен – еще ни звука, ни движения. Все спали. Может быть, услышали бы, но я не сомневался, что громкий вопль сдует меня со скалы. Сорвет, словно пушинку, и бросит вниз… Закрыв глаза, я прижимался к теплому граниту и думал об отце и маме. Думы были мрачными, безнадежными; что-то не совсем понятное брезжило передо мной, шептало где-то под черепом странные слова: будто принадлежу я не только себе, но и другим, родившим и воспитавшим меня, а кроме них, еще есть долг – неясно, перед кем, но чрезвычайно важный, не разрешающий кончить жизнь под этой скалой. Жизнь должна продолжаться, шептал бесплотный голос, а то, что случилось, – лишь эпизод, один из тугих узелков в ее нескончаемой нити. Ты его развяжешь, этот узел, а если не сумеешь развязать – разрубишь… Стоит только пожелать! Я пожелал. Я не хотел висеть на этой проклятой скале, будто пришпиленный к ней булавкой, и падать я тоже не собирался. Сосна у моей серебрянки и кочка под ней – вот место, о котором мне мечталось. Я видел эту кочку, уютную, мягкую, заросшую мхом; видел не глазами, а как-то иначе, по-другому, словно она пребывала не в пропасти подо мной, не в дремучем карельском лесу, а гораздо ближе – возможно, в моей голове. Это ощущение казалось таким отчетливым и ярким, что… Земля мягко толкнула меня под ступни, и, не удержавшись на ногах, я повалился прямо на эту самую кочку. Какие-то секунды я лежал, ошеломленный и устрашенный, потом в палатке рядом завозились, и из нее выглянул сонный Арефьев. – Ты чего, Данька? – Живот прихватило, – отозвался я и проворно уполз за кустик. Там, сидя в зарослях шиповника, вдыхая влажный утренний воздух с привкусом смолы и хвои, я попытался разобраться в случившемся. Настолько, насколько это было по силам подростку, уверенному, что он – без пяти минут экстрасенс… Впрочем, какие пять минут? Я только что свершил невероятное – телепортировался! Но кажется, это была лишь часть моих талантов: ссадины на исцарапанных ладонях затягивались прямо на глазах, и почему-то я знал, что должен прижаться к дереву – вот к этой могучей сосне с золотистой корой, торчавшей над кустами. Следуя странному порыву, я перебрался к ней и обнял теплый ствол. В эти мгновенья мне было так спокойно и хорошо! Но в глубине сознания копилась и зрела тревога; интуитивно я ощущал, что под каким-то этапом моей жизни подведена черта. Так и произошло. Страшный период закончился, и начался очень страшный. Пробуждение внечувственных способностей – если, конечно, мозг и плоть аборигена готовы воспринять их – является первой защитной реакцией. Несмотря на то что мы исследуем миры с богатой и развитой ноосферой, а значит, уже перешедшие от первобытной дикости к неким зачаткам культуры, данный факт не исключает разнообразных опасностей, болезней и ран, пленения и смерти. Наблюдатель должен выжить в самых суровых условиях и продолжать свою миссию, что бы ни творилось на планете: пандемия, повальный голод или бесконечная война. Шансов на выживание тем больше, чем ближе организм автохронов к уренирскому, что позволяет пробудить паранормальный дар – если не полностью, то хоть отчасти. Вполне понятно, что существо, способное к те-лепортации, к восстановлению сил за счет живой энергии и безошибочному восприятию эмоций, имеет массу преимуществ, и все эти свойства – первая линия защиты от неприятных случайностей и бед. Но существует и вторая, чье назначение не внешняя, а внутренняя оборона. Защитить от безумия – вот ее цель! В мире, где полно безумцев, где каждый третий невменяем и где душевные болезни – неоспоримый медицинский факт, попытка к слиянию разумов, естественно, воспринимается как ненормальность. Паранойя, шизофрения, раздвоение сознания… Если ваш взрослеющий партнер зациклится на этих мыслях, фатальный конец неизбежен: напуганный происходящей метаморфозой, он раскрывает свой секрет и подвергается лечению. Варварскому, принудительному, жестокому, которое делает здорового больным… И потому паранормальный дар несет еще одну функцию – защиты психической полноценности. По мере его пробуждения паранорм осознает, что он вполне нормален, но отличается от большинства людей; это, конечно, для подростка тяжкий груз, но все же не такой мучительный, как мысль о мнимой болезни. Впрочем, меня она не миновала, и несколько жутких черных месяцев я втайне рылся в родительском книжном шкафу, отыскивая труды по психиатрии и медицинские учебники попроще. За это время я стал изрядным знатоком душевных недугов и психоанализа, а также общей и частной сексопатологии, но никаких опасных симптомов в себе не обнаружил. Ни нервных расстройств, ни навязчивого идефикса, ни мании преследования, ни раннего склероза, ни – спаси Вселенский Дух! – тяги к некрофилии[594] или каннибализму. Я был здоров, абсолютно здоров и крепок, как молодой дубок, хоть обладал эйдетической памятью, умением читать эмоции и, пообщавшись с подходящим деревом, мог переместиться в пространстве – пока еще на пару-другую километров. Несомненно – экстрасенс, возможно – супермен, о чем говорили мои наливавшиеся силой мышцы, но уж во всяком случае не сумасшедший… Вот только эти сны! Более яркие, живые, чем прежде, и более разнообразные… Я видел Уренир и знал, что это – моя родина, такая же, как Суук, Рахени и Земля; я видел людей с огромными зрачками, я слышал их имена – На-ратаг, Асекатту, Рина, и эти созвучия были мне всего дороже; каким-то неведомым образом я ощущал, что вспоминаю своих родичей, настолько же близких и любимых, как обретенные на Земле. Я снова скользил в океанских водах, спасался от знойного алого солнца, парил над городом древесных исполинов, однако теперь являвшееся мне вдруг обрело названия; язык, вернее, множество языков, то напевных, то гортанных, резких, стучались в мой разум, просачивались в него, пускали корни, расцветали… Бездонная память Асенарри! Еще не мысли, но уже – воспоминания… Мои! Память – фундамент личности; без передачи запечатленного в ней не завершить метаморфозы. Память – это факты, события, знания, но под этой основой зиждется еще одна – почва, на которой заложен фундамент. Врожденные склонности и таланты, интуитивные влечения, фантазии и страхи, зыбкий мир подсознательного, генетическая предрасположенность, унаследованная от далеких предков… Все это переходило к Дане Измайлову вместе с воспоминаниями Асенарри, капля за каплей, зерно за зерном; психоматрица растворялась во мне, я растворялся в ней, земля под фундаментом крепла, и камни его уже не делились на свои и чужие. Я, Даниил Измайлов, рождался заново и был уже не прежней, а новой, более сильной и мудрой личностью – той, что возводила дом обновленного «я» на почве слившихся подсознаний и на фундаменте общей памяти. Даниил? Асенарри? Пришелец из галактической бездны или земной человек? Нет, ни тот и ни другой. В каком-то смысле нефелим, потомок ангела и смертной женщины… Процесс завершился, когда мне исполнилось двадцать, но уже тремя годами раньше я предчувствовал, куда свернет дорога. Не к биологии и медицине, где не было особых тайн, и, разумеется, не к математике и технике – их уровень я мог оценить без всякого труда. В том, что касается технологических реалий, цивилизации, подобные земной и уренирской, проходят близкий путь с одними и теми же вехами: огонь, копье с кремневым наконечником, плуг, колесо и парусный корабль. Затем – паровая машина, двигатель внутреннего сгорания, электрогенератор, радиосвязь, химические производства, компьютеры, атомная энергия и сокрушительное оружие. Здесь надо поставить многоточие и вопросительный знак как символ ожидаемого кризиса; необходимость в энергии, компьютерах и бомбах означает, что мир переполнен людьми, коммуникации налажены, земли поделены, торговля и войны идут своим чередом, природа покорена и дышит на ладан. Все это признаки грядущих перемен, благоприятных или гибельных, ибо цивилизация попала в коридор инферно, который сужают экологические катастрофы, пандемии, демографический взрыв и, разумеется, военное противостояние. Пройдет ли она критическую точку или погибнет, уткнувшись в тупик, вопрос неясный, но совершенно очевидно, что главной ее ценностью являются не стратопланы и буровые установки, а история и достижения культуры. С этого и надо начинать. Я поступил на исторический, затем стал параллельно заниматься на восточном. По причинам, неведомым для меня, в университете древнюю историю подвергли вивисекции, отрезав восточникам Египет, Шумер и Китай. Что же касается истфака, то там ценилась лишь новейшая история, ибо римляне и греки, карфагеняне и персы, а также инки и индейцы майя не признавали руководящей роли КПСС и знали о подобном чуде ровно столько же, сколько о социал-демократах, фашистах, анархистах и прочих монстрах общественного самосознания. Я же питал склонность к эпохе архаичной, к канувшим в тысячелетия культурам, ибо мир, в котором мне предстояло жить, не родился из пустоты, а был воздвигнут на их камнях и прахе. Прошлое – великий учитель, и, подступаясь к делам сегодняшнего дня, нельзя пренебрегать его уроками. Трюизм, конечно, но из тех, которые не стоит забывать. В те годы, в конце семидесятых, мне стало уже ясно, что Асенарри вытащил не самый лучший жребий. Не слишком хороший, но и не очень дурной; в этом раздробленном, разъединенном мире имелись страны побогаче, с более мягким режимом, не практикующим тотального контроля за своими гражданами, но были и тиранические деспотии, где ценность личности определялась преданностью вождю, были регионы бедные, подверженные всем несчастьям – от землетрясений до вспышек повальных недугов, и, наконец, существовали места безвластия, где бились за господство непримиримые враги и кровь лилась рекой. Страна, в которой мне выпало счастье родиться, считалась могучей, влиятельной и прогрессивной, последнее было под вопросом, но все остальное как будто не вызывало сомнений. Огромная территория, неистощимые природные ресурсы, богатое культурное наследство, технический потенциал и многочисленное деятельное население… Не страна – империя сотни народов и племен! И в этом была ее слабость. Судьба империй одинакова; поведать о ней могут развалины фортов – римских, испанских и британских. Но я – Наблюдатель, и не мне печалиться о рухнувших империях. Империи прошлого – продукт невежества, жестокости и жажды власти, и нынешние не отличаются от них ничем; чтобы понять сей парадокс, мне предстояло спуститься по лестнице времен в седую древность и припасть к первоисточникам – таким, как Египет, Аккад и Шумер. Моей специализацией на историческом факультете были кочевники Средней Азии, но их вклад в земную культуру казался мне довольно скромным, не связанным с главной линией ее развития. Затратить годы, копаясь в курганах в поисках скифских блях и черепов… Нет, это было слишком расточительной тратой дорогого времени! По этим причинам я выбрал египтологию и восточный факультет. Имелся и другой резон: я еще застал великих египтологов Коростовцева, Перепелкина – личностей легендарных, обитавших скорее в царстве Тутмосов и Рамсесов, нежели в эпохе Брежнева. У них было чему поучиться, и я благодарен судьбе, позволившей мне встретить их, хотя и на закате дней. Подобные люди – находка для Наблюдателя: с одной стороны, они обладают широким диапазоном знаний, ретроспективным взглядом на мир и несомненной мудростью; с другой, они далеки от власти, а значит, контакты с ними не привлекают излишнего внимания. Это важно – не привлекать внимания! Либо, как паллиатив, иметь наготове причины для объяснения собственных странностей… Скрытность – одна из проблем, что возникают у Наблюдателя; ему полагается выбрать удобную нишу в общественной структуре, найти себе занятие, решить материальные вопросы, а затем – трудиться, максимально дистанцируясь от властей. Не только от них, но и от всякой известности, шумихи и сенсаций. Словом, свет юпитеров не для нас… Мне казалось, что египтология станет отличным прикрытием; ее объекты были так далеки от повседневной реальности и, в сущности, так бесполезны! Не атомная физика, не вирусология, не кибернетика и даже не вопрос о том, были ли скифы нашими предками… Чисто академическое занятие, не связанное с политикой, идеологией и практикой и потому незаметное, как незаметен стебель травы среди деревьев и кустов. Я, разумеется, ошибался, но не жалею об избранном пути – полученное оказалось большим, чем потерянное. Конечно, не считая Ольги… Но список моих потерь не так уж длинен. Хоть мою нишу не огораживала непроницаемая скорлупа, я все же находился в безопасности и даже продвигался вверх в своей научной касте, минуя все необходимые ступени: ассистент, преподаватель, доцент, профессор. Профессора, особенно египтологи, – люди чудаковатые: могут неделю не выходить из дома, или умчаться на Памир, на поиски йети, или увлечься раджа-йогой. Но их основное чудачество – папирусы и стелы, обелиски и мумии, храмы, сфинксы, пирамиды и научные труды; все это так поглощает беднягу профессора, что нет желания и сил на что-то иное, личное… Скажем, на то, чтобы завести семью. Семьи у меня и правда не было, но сына я изобразил – Арсена, виртуального наследника, который придет на смену Даниилу. Это еще один сложный вопрос, с которым сталкивается Наблюдатель – конечно, в тех мирах, где автохроны подвержены старению. Обычно эмиссару удается остановить этот процесс, выбрав период зрелости, когда организм в хронопаузе и перемены не так заметны; но все же время идет, и приметы возраста должны быть налицо. Макияж – не выход из данной ситуации; это способ неудобный, ненадежный и неподходящий для многих планет, таких, как водный мир Рахени. Есть другие методы, более эффективные, отработанные на Урени-ре за десятки тысяч лет, и первый из них – простейший: менять свою внешность сообразно возрасту. Это самое удобное решение, но годится оно лишь в тех случаях, когда метаболизм автохронов подобен уренирскому и допускает перестройку кожной ткани и центров пигментации. Вторая возможность – переезд, полная смена личности и поиск новой ниши, то есть жилища, средств существования и подходящих занятий. На Рахени, где нет паспортов, дипломов и кредитных карточек, я выбрал бы этот способ, но на Земле он слишком трудоемок; к тому же связан с потерей привычного окружения и статуса, а также, что весьма существенно, этим ты можешь нанести определенный вред знакомым. Земля – формализованный мир, и в той стране, где я родился, бесследное исчезновение людей не поощряется. Поэтому я выбрал третий способ и, кроме запасных вариантов, вроде Ники Купера и Жака Дени, озаботился собственным продолжением. Мой сын считался, разумеется, внебрачным, родившимся от связи с женщиной, чье имя не упоминалось; думаю, что все мои коллеги и друзья подозревали Ольгу. Я выправил Арсену метрику (что стоило не так уж дорого), а после случившейся с Ольгой трагедии переместил ребенка-призрак в пансион, затем – в некую школу в Британии или во Франции, где за хорошие деньги выпекают юных джентльменов. Это случилось уже в середине девяностых, когда я читал лекции в Сорбонне и Стенфорде, а потому не вызвало ни удивления, ни вопросов – во всяком случае, финансовых. Я навещал свое дитя с похвальным постоянством и информировал знакомых о его успехах. В две тысячи третьем мой Арсен отправился в Беркли, где пребывал ближайшие десять лет, достигнув звания магистра, а после – доктора; затем он работал там и тут, приобрел недвижимость в Калифорнии и даже – ходили слухи! – намеревался жениться, однако был отвергнут Линдой Калуш, своей избранницей, не поощрявшей увлечений экстремальным спортом. А этому занятию он предавался с искренней страстью, бесспорно унаследованной от меня: лазал по горам, спускался на плоту по Амазонке, прыгал с трамплина без лыж и, вооружившись кинжалом, сражался с акулами у побережья Квисленда. В России он не появлялся, зато в других местах, особенно вблизи секвой, дубов и эвкалиптов, с ним можно было познакомиться и убедиться в полной его реальности. Эта моя двойная жизнь закончилась в пятнадцатом году, когда профессор Даниил Измайлов отправился в Судан. Там, за пятым нильским порогом, находилась когда-то цветущая страна; звалась она Мероэ, имела тесные связи с Египтом и была во всех отношениях прелюбопытным и экзотическим объектом исследования. Сын профессора Арсен тоже клюнул на экзотику или на что-то другое: то ли хотел повидаться с отцом, то ли переплыть Нил на спине крокодила. Так ли, иначе Измайловы встретились и, наняв рабочих, принялись копать; проложили штольню в какое-то забытое святилище, затем профессор спустился вниз, и кровля рухнула ему на голову. Может, плохо укрепили, а может, его настигло проклятие фараонов Мероэ… Кто знает? Власти Северной провинции этим вопросом не задавались, но за приличную мзду выправили все необходимые бумаги. Хорошая страна Судан. Вполне подходящая, чтобы затеряться в ней навсегда… Тело, разумеется, не нашли – видимо, в святилище имелись тайные колодцы, сглотнувшие труп вместе с камнями и землей. Ну, не нашли так не нашли… Арсен Измайлов пролил слезу, поставил памятник над руинами, съездил в Калифорнию, в свою усадьбу, день-другой раздумывал: продать?., не продавать?.. – решил, что продавать не стоит, нанял сторожа и перебрался в Петербург. Принял наследство, заказал по отцу панихиду, перезнакомился с его друзьями, поплакал, выслушал соболезнующие речи, справил поминки… Все нашли, что он хороший парень и чрезвычайно похож на отца. На Даниила Измайлова, каким тот был лет в тридцать. Глаза как будто потемнее, а волосы – посветлее… Ну, это, наверное, от матери. От Ольги…ГЛАВА 7 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Дни пятый, шестой и седьмой
Два дня мы шли по серому каменистому плоскогорью, удаляясь от останков китайской экспедиции. Бассейн, в который мы попали, был не просто обширен, а огромен; Фэй не могла дотянуться до его рубежей, а я ощущал их как смутные зыбкие стены, что, постепенно отступая, колыхались где-то вдалеке, по обе стороны от нас. Еще мне чудилось, что вуаль на плоскогорье будто бы другая, менее плотная, чем у точки нашего старта, но поручиться за это я не мог – возможно, то была лишь игра воображения. Во всяком случае флер, висевший над нами грязноватой желтой пеленой, казался по-прежнему непроницаемым; ночью мы не видели звезд, а днем солнце катилось в вышине тусклой, побитой молью и выцветшей от времени орифламмой. Иногда дул слабый ветер, кружил пыль, взлетавшую из-под подошв, или по вечерам слегка пошевеливал пламя спиртовки. На большее силы его не хватало; даже у ветра в этой пустыне были подрезаны крылья. По пути обнаружилась пара десятков вешек, у двух – контейнеры с пищевыми капсулами, консервами и водой. Все маяки казались новыми, будто их выкрасили час назад, подвесив затем к шестам яркие цветные вымпелы. Последнюю вешку, за восьмидесятым номером, Мак-брайт обнаружил под утесами, что замыкали плоскогорье с юга; там мы заночевали, а утром забрались на скальный гребень. Эта стена оказалась значительно ниже, чем первая, – сто—сто двадцать метров в высоту и к тому же иссеченная трещинами, с множеством узких карнизов, выступов, впадин, и, чтобы преодолеть ее, нам не понадобилось ни крючков, ни канатов. Я поднимался в первой связке вместе с Цинь Фэй и повредил запястье о камень. Неглубокий разрез, почти царапина; крови вылилась капля, и вся – на этот базальтовый зуб, острый, как ножик самурая. Пятно небольшое, но Фэй, взбиравшаяся следом, его заметила. Не знаю как; возможно, не глазами, а по запаху? Или слышала, как я чертыхнулся? В общем, мы поднялись, и она, сдернув с моей руки перчатку, полезла в карман за пластырем. Потом поискала, куда же его прилепить, и ничего не нашла – такие ранки я заживляю машинально, хотя на этот раз, пожалуй, торопиться не стоило. Глаза у Фэй округлились, рот приоткрылся в изумлении, и с минуту она растерянно глядела то на меня, то на полоску пластыря в собственных пальцах. Затем фыркнула и бросила ее на землю. Фыркает она очень выразительно, и в данном случае звук означал, что требуются объяснения. Но я лишь усмехнулся, подмигнул ей и натянул перчатку. Какие еще объяснения? Слепому ясно, что у каждого из нас – быть может, за исключением Цинь Фэй – есть тайны, не отраженные в досье Монро. Сиад обходится без сна и отличается феноменальной силой, Макбрайт, наш денежный мешок, вынослив и резв не по возрасту, а я, представьте, порезав руку, не нуждаюсь в пластыре… Вторая пара поднялась, и некоторое время мы постояли на гребне, осматриваясь и обмениваясь впечатлениями. За два минувших дня нам удалось пересечь полоску земли, принадлежавшей некогда Афганистану, – она тянулась с запада, смыкаясь на востоке с китайской территорией. Если верить показаниям моего механического шагомера, мы углубились в Анклав уже километров на двести, достигнув северо-восточных предгорий Гиндуку-ша и границы с Пакистаном. Конечно, эти географические понятия являлись чисто умозрительными, никак не привязанными к реальности; нас окружали не живописные ущелья, не горные вершины в сверкающих уборах из снега и льда, не реки и водопады, а серая унылая пустыня. Правда, за второй стеной утесов она отличалась более сложным рельефом: тут были овраги и трещины, завалы из огромных глыб и невысокие скалистые образования, перекрывавшие видимость. Изучая местность, я подумал, что здесь мы не сможем двигаться с прежней скоростью и, вероятно, не отыщем маяков, попавших в расселины или упрятанных за камнями. Ну, ничего! Воды и пищи мы запасли с избытком, а до Тиричмира, если двигаться по прямой, оставалось километров сто семьдесят или немного больше. Неделя пути, даже с учетом сложностей рельефа… Я по-прежнему надеялся, что найду там какое-то послание от Аме Пала, хотя окружавший нас пейзаж противоречил этой мысли. Что – а главное, каким образом – он мог мне сообщить? Написать на бумаге, вырезать в бронзе, высечь на каменной плите? Но Тихая Катастрофа стерла не только металл и бумагу, но сами горы! Что здесь могло сохраниться? Ровным счетом ничего, кроме скелетов и обломков техники, рухнувшей с небес и появившейся в пустыне после, а не до катаклизма. И все же я надеялся. Надеялся, хотя не ощущал влияния эоита, которое чувствуется задолго до приближения к его центральной части. В ментальном плане эоит подобен зеркалу с тусклыми краями и блестящей серединой; его периферия слабо отражает земные ноосферные потоки, но прежде это излучение мне удавалось уловить. Даже в Кабуле, в трехстах километрах от Тиричмира… Сейчас мы были гораздо ближе, но чувства мои безмолвствовали, словно я попал в необитаемый мир, где нет ни разумных созданий, ни ноосферы, рожденной их совокупными мыслями. Сосредоточившись, я начал зондировать лежавшее перед нами пространство, затем искоса бросил взгляд на Цинь Фэй. Кажется, она отошла от изумления и тоже занималась делом: головка склонена к плечу, глаза полуприкрыты, фигура – будто натянутая струна. – Граница бассейна? – поинтересовался я. – Да, командир. Десять-пятнадцать километров. Наверное, за теми скалами. – Она показала рукой. – Но… «Но» тут, пожалуй, имелось. Я ощущал стену вуали, пересекавшую наш путь, как нечто зыбкое и очень тонкое; сейчас, когда мы приблизились к ней, прежнее чувство, шептавшее о ее размытости, эфемерности, стало вполне определенным. Это была не та вуаль, что на границе Анклава, – она как будто медленно растворялась в воздухе или уходила вверх, в скрывающий небо туман. Странное явление! Непонятное! Но неожиданности на этом не кончались: что-то еще поджидало нас у скал, маячивших впереди. Еще одна вуаль? Паутина узких проходов в запретной зоне? «Пожалуй, нет, – подумал я. – Какие-то новые, еще не встречавшиеся формации, подобные колоннам, соединяющим флер с землей…» Казалось, наша юная проводница их не замечает. Макбрайт нетерпеливо пошевелился. – Леди сказала «но». Что дальше? – Вуаль меняется, – произнесла Цинь Фэй с неуверенным видом. – Да, меняется… Прежде была как ливень в Гуанси[595], теперь – как дождик… мелкий слабый дождик. – Больше ничего не замечаешь? – спросил я. Она покачала головой, поправила выбившийся из-под шлема завиток темно-каштановых волос. – Нет, командир. Дорога до той скалистой гряды безопасна. «Все-таки не видит, – мелькнуло у меня в голове. – Ну, подойдем ближе, посмотрим…» Я махнул рукой. – Вперед! Порядок следования прежний: Цинь, ад-Дагаб, Макбрайт. Я – замыкающий. Двинулись! Идти на начальном этапе было несложно – путь к этим скалам пролегал между расселиной слева и тянувшейся справа россыпью базальтовых глыб. Я двигался почти автоматически, глядя в обтянутую зеленым широкую спину Макбрайта и ощущая струившуюся от него тревогу. Пора бы уже привыкнуть, что он – как сжатая невидимым усилием пружина или натянутая тетива… По временам пружина щелкала, тетива распрямлялась, и в этот момент он нуждался в поддержке, в том, чтобы с ним поговорили или хотя бы выслушали. Странный характер для экстремалыцика, нетипичный; такие при наших занятиях долго не живут. Райкер и Милош, мои постоянные партнеры, больше походили на Сиада: никаких метаний на дистанции, спокойствие, надежность и уверенность в себе. Зачем Макбрайт отправился с нами? К тому же, как говорил Монро, еще и профинансировал экспедицию… Загадка! Возможно, он пытался перебороть свой страх, справиться таким путем со всеми фобиями и ужасом перед таинственными пришельцами? Возможно, считал, что обнаружит некий повод существования Анклава, вполне земную причину вроде пи-бамб и это избавит его от комплексов? Если так, он даже достоин похвалы… Но, быть может, все прозаичней, проще и никак не связано с душевными терзаниями? Скажем, медицинские файлы врут, и Макбрайт все-таки подвергся операции или какой-то процедуре с эффектом омоложения… что-то дорогое, уникальное, суперсовременное вроде клон-заместительной терапии… И теперь он отправился в поход, чтоб апробировать результаты и убедиться, что медики его не надули… Причина для его решения могла быть той или иной, однако я не понимал другого – зачем Макбрайту пускаться со мной в откровенности. Тот разговор об андроидах, органопланте и клонированных мозгах… Зачем он мне это рассказывал? Минутная слабость, желание выговориться? Нет, непохоже; в этом мире миллиардеры и спецслужбы тайн своих не выдают. Тем более журналистам или, к примеру, шефу информбюро, личности с абсолютной памятью… Выходит, намек? Но с какой целью? Смысл его был мне непонятен, но вариант дезинформации, по-видимому, исключался. Ложь я распознаю не всегда, но с правдой нет проблем – ее ментальный отзвук не подделаешь. Собственно, Макбрайт сообщил мне две вещи, и первая их них, касавшаяся роботов и пресловутого органо-планта, могла, при всей своей сенсационности, лишь возбудить любопытство. Но вот вторая! Второе признание тянуло в странах ЕАСС лет на двадцать пять без права переписки. В иных местах кара была пожестче: китайцы за это расстреливали, бразильцы вешали, а темпераментные мусульмане забрасывали камнями или, связавши преступника колючей проволокой, закапывали в песок. Как там сказал Макбрайт? Тело слепим, а мозг не осилить – но можно взять готовый, у погибшего либо от клона… Насчет погибших явный перебор – земной науке процесс мозговой трансплантации, или попросту пересадки, еще не по плечу. Мозг ребенка или взрослого не приживается в теле клона, поскольку регенерация нервной ткани естественным образом невозможна, а для мастерства хирургов есть предел: никто из них не свяжет мириады окончаний, соединяющих мозг с нервной системой. Мозг, однако, поддается клонированию, как и любые другие органы и ткани; можно вырастить его в неповрежденном организме природного или искусственного происхождения либо воспроизвести вместе с этим организмом – так сказать, in toto[596]. Это «чистый» мозг, в который могла бы внедриться моя психоматрица, если бы в прошлом веке сумели создать подобную «tabula rasa»[597]. Но, к счастью, я появился здесь с опережением и удостоился обычной, то есть естественной плоти. Что же касается полностью клонированных субъектов, то они, без сомнения, люди, если воспитаны должным образом – как воспитывают детей, подростков и молодежь. Но тут имеется большой соблазн: задержать их умственное развитие и получить раба, то есть взрослый организм с интеллектом младенца или животного, что-то вроде Маугли, однако взращенного не волками, а стадом овец. В качестве доноров эти ущербные личности не нужны, поскольку любой орган можно клонировать отдельно; их не используют как слуг, телохранителей или рабочую силу – для этого есть модификанты. Обычно клон – всего лишь живая игрушка, что тешит низменные человеческие инстинкты: жажду власти над безответным существом, садистскую жестокость и, разумеется, похоть. По этой причине и многим другим религиозного и юридического свойства полное клонирование запрещено под страхом тяжкой кары. Однако есть умельцы-храбрецы… Само собой, не в мусульманских странах, не в Китае, а в краях далеких и диких либо в цивилизованном ЕАСС, где смертная казнь отменена. Выходит, есть у Макбрайта такие умельцы? Ну, предположим, есть… К чему же это афишировать? Я мог бы задать пару-другую вопросов, но интерес к подобным щекотливым темам не поощряется, тем более – сильными мира сего. А Макбрайт, вне всякого сомнения, был из их когорты, и мнене хотелось бы иметь его своим противником. Хороший дипломат не увеличивает числа врагов… Отсюда вывод: если чего-то не понимаешь, молчи и наблюдай. Мое внимание переключилось на дорогу: мы приближались к гряде невысоких утесов и тем непонятным формациям, которые я заметил с час назад. Они, как уже говорилось, были похожи на лес подпирающих небо колонн или цилиндрических образований разного диаметра – от двух до пятнадцати метров; каждое обрамляла тонкая стена вуали, и за этой незримой преградой кружились, вздымая невесомую пыль, воздушные вихри. Я видел их не с помощью глаз (пожалуй, слово «видеть» тут совсем не подходило), но ощущал тем редким для человека чувством, что позволяет следить за перепадами энергии, движением подземных вод, а также молнией, еще не блеснувшей, но готовой через миг обрушиться на землю. Вихри вращались, закапсулированные в пленке из вуали, словно миниатюрные Красные Пятна на поверхности Юпитера[598], и по тому, что Фэй направлялась прямо к ним, я понял, что наша проводница их не замечает. – Стоп! Все трое замерли, мгновенно выполнив мою команду. Затем Фэй обернулась, спросила: – Что, командир? – Меняем порядок движения. Я пойду первым. – Но вуаль… – Ты предупредила, что вблизи ее нет, а значит, дорога безопасна. Конечно, если не считать проходов между скалами… Пока не минуем их, я буду лидером, Макбрайт – замыкающим. Идите по моим следам и смотрите в оба. Чувствуя спиной подозрительный взгляд Макбрайта, я перебрался в голову колонны и наметил наш дальнейший путь. Пройти между двумя незримыми цилиндрами, обогнуть третий, стоявший наособицу, затем – прямо, вдоль выстроившихся шеренгой образований, в десятке шагов от них… И, наконец, перевалить через покатую возвышенность и тут же нырнуть в ущелье. Оно уходило к востоку, и я не видел его конца, но чувствовал, что проход сквозной. Мы двинулись вперед и через минуту-другую оказались среди формаций, хранивших застывшие смерчи. Пленка вуали, отгородившей их, казалась тоньше волоса – возможно, по этой причине Фэй не сумела их определить. Переступая в пыли, я прошел так близко от одного из столбов, что мог бы коснуться его руками. Странное чувство владело мной: я почти не сомневался, что наблюдаю распад невидимой стены, пересекавшей когда-то эту равнину. В ней, вероятно, были проходы, рукава и пальцы, карманы и пазухи; их пространство расширялось, вуаль отступала, свободные зоны соединялись друг с другом, пока источенная вуаль не превратилась в эти хрупкие отдельные формации. «Она исчезает, – мелькнуло в моей голове, – уходит, растворяется! Естественный распад, происходящий со временем? Или же этот процесс ускорен влиянием эоита? Чем ближе к его центру, тем больше свободных пространств и меньше запретных областей… Возможно, в самом сердце зеркала, у Тиричмира – вернее, у его остатков, – вуали вовсе нет, и только небесная пелена не позволяет опуститься в том районе…» Тихий шорох, воспринимаемый не ухом, а центрами аккумуляции энергии, заставил меня вздрогнуть и замедлить шаг. Колонна в метрах сорока от нас распалась и исчезла; крохотный вихрь, почуяв свободу, взметнул фонтанчик пыли и растаял в воздухе. Фэй, похоже, что-то уловила; ритм шагов за моей спиной внезапно изменился, затем послышался ее напряженный голос: – Пыль, командир! Справа от нашего маршрута! – Ветер, – отозвался я. – Всего лишь ветер. В молчании мы миновали область цилиндрических формаций и, преодолев покатый каменистый склон, углубились в ущелье. Стены его были невысокими, но обрывистыми, монолитными и абсолютно черными – верный признак, что породу выперло из недр Земли во времена совсем недавние, секунду или две назад в геологическом масштабе. Каньон заметно отклонялся на восток, и, пробираясь среди мрачных шершавых поверхностей, мы озирались с невольной тревогой и ускоряли шаги. Не слишком долгий, но такой гнетущий и тоскливый путь! Небо, скрывая солнечный свет, текло над нами серой бесконечной лентой, камень поскрипывал под башмаками, и мнилось, что, покинув эту щель, мы очутимся то ли в преддверии ада, то ли прямиком на сковородке сатаны. У поворота я оглянулся, поймал настороженный взгляд Цинь Фэй, увидел невозмутимого Сиада и нашего замыкающего с поблекшим лицом. Вид у него был такой, словно за ним, лязгая клыками и роняя пену, тащилась стая инопланетных монстров. Предчувствия! Нам ничего не угрожало в этой теснине, и все же мы – по крайней мере, трое из нас – готовились к встрече с чем-то неприятным, даже жутким. Coming events cast their shadows before, как говорят британцы, – будущее отбрасывает тень перед собой… Я полагаю, что всякий человек, сколь бы он ни был рационален или туп, владеет даром прекогнистики, как свойственно разумным существам во всех мирах Вселенной. Взгляд в будущее – базис нашего сознательного поведения, бесспорный modus vivendi[599]. Но в этот момент я радости не ощущал. Мы миновали скальную гряду. На юг от нее местность понижалась, переходя в неглубокую котловину, заваленную обломками; среди нагромождений камня, остатков глиняных стен, истлевшего дерева и ржавого железа белели кости, словно какой-то злобный шутник порезвился на кладбище, выворотив содержимое могил и разбросав их среди разбитых памятников и оград. Однако представшее нашему взгляду не было кладбищем – во всяком случае, до начала катастрофы. Макбрайт, Цинь Фэй и я одинаковым жестом сдвинули с налобников бинокли. Котловина будто прыгнула навстречу – осевшие жилища, остовы полуразрушенных оград, кучки домашнего скарба и кости, кости, кости… Мне показалось, что мелькнуло яркое пятно ковра, но, очевидно, я ошибся – вряд ли в этих развалинах мог сохраниться предмет из ткани или шерсти. – Селение, – пробормотал Макбрайт. – Даже город… тысяч пятнадцать жителей… Дьявол! Разве тут были города? В этих проклятых горах, под скалами и ледниками? – Были, – подтвердил я, вернув на место бинокль. – Дехи-Гуляман на афганской территории и Лашт – в Пакистане. Думаю, что это Лашт, если учесть, насколько мы углубились в пустыню. Город, населенный читральцами[600]. Фэй подняла ко мне побледневшее личико. – Они погибли, командир? Все? Мужчины, женщины, дети? Я кивнул. – Наверное, это случилось быстро, девочка. Смерть пришла и унесла их всех – коз, лошадей, овец, людей. Пятнадцать или больше тысяч правоверных… Сиад, к моему удивлению, даже глазом не моргнул. Сейчас ему полагалось опуститься на колени и сотворить молитву или на крайний случай молвить что-то подходящее: «Аллах велик… лишь он единственный решает, когда дать и когда отнять… длань Аллаха над нами, и мы лишь покорствуем воле его…» Это сказал бы любой мусульманин при виде картины массовой гибели, шиит или суннит, дервиш, шейх или простой земледелец. Однако Сиад не произнес ни слова: стоял столбом и с равнодушием посматривал на мрачные развалины. Быть может, его закалила служба при суданских президентах? Шеф охраны, как-никак; надо думать, навидался всякого… не меньше, чем я в Мероэ… Макбрайт перекрестился. Руки его дрожали. – Что будем делать, приятель? – Еще не знаю. – Я повернулся к нашей проводнице. – Надо бы взглянуть, но, кажется, там вуаль? – Да, командир. Вуаль, но неширокая и разреженная. – Как дождик? Мелкий слабый дождик? Она кивнула с вымученной улыбкой. Я, изобразив раздумье, насупил брови. Вуаль, протянувшаяся к востоку и западу шагах в семидесяти от нас, висела поперек плато, и в ней, по моим ощущениям, не было проходов. Обойти ее? Трудно сказать, сколько это потребует времени; я не мог добраться до ее краев, но чувствовал, что возникшая преграда очень тонка – метр, не больше. Она рассеивалась, подобно той стене, которую мы преодолели перед скалами, но этот процесс шел, вероятно, по-другому. Та, первая стена была источена ходами и, распадаясь на фрагменты, образовала лес колонн; эта, висевшая сплошной завесой, таяла как единое целое. Рискнуть пробраться сквозь нее? Это было бы простейшим выходом и, похоже, безопасным, как подсказывала интуиция, а я привык ей доверять. Мы обнаружили развалины селения – печальная находка, но в то же время и удачная; быть может, во всем Анклаве другой такой не сыщешь. Наверняка есть шанс увидеть что-то новое, осмыслить какие-то закономерности и факты и в чем-то разобраться… В общем, я не мог пройти мимо. Макбрайт и Фэй глядели на меня в ожидании, Сиад с непроницаемым видом уставился в землю под ногами. Я кашлянул. – Плотность вуали упала, и, как утверждает Фэй, она не слишком широка… Может, пройдем через нее? Напрямик! Что скажете? Макбрайт нахмурился. – И кто же будет первым? – Есть сомнения? Его щека дернулась. – Сомнений, предположим, нет, есть возражения. Без юной леди, – поклон в сторону Фэй, – мы как слепые щенки, без вас – свора, потерявшая хозяина, а заодно и память. Вы наш босс, эксперт Совета, назначенный Монро… Может, он дал вам какие-то инструкции, наметил секретные цели… Откуда я знаю? – Никаких инструкций, Джеф, кроме известных всем нам. – Я снял рюкзак и, дотянувшись до блокнота, вытащил его и сунул Макбрайту – Если со мной что-то случится, вы возглавляете экспедицию, ведете записи и отмечаетесь на вымпелах. Никаких секретов, цели прежние: смотреть, запоминать и выйти к иранской границе в районе Захедана. Это все. – Не все! Зачем вам рисковать, если найдется другой доброволец? – Макбрайт покосился в сторону Сиада. – Да и вуаль мы можем обойти… День-другой ничего не значат, как, впрочем, и неделя… Он был по-своему прав, и это заставило меня решиться. Я признаю доводы логики, но эта лукавая дама, как было известно еще философам Афин, подмигивает спорщикам то левым, то правым глазом. Иными словами, на всякий аргумент найдется контрдовод, на всякий довод – контраргумент, и в результате время ушло, все утомились и охрипли, вопрос же остался неразрешенным и темным, словно апории Зенона. В этом смысле я сторонник древних египтян; они в отличие от греков не увлекались философией, но доверяли интуитивному знанию. Есть стена, но нет ворот; не будем спорить, кто на нее полезет, а сделаем это сами. Лично! Утыбнувшись и кивнув Макбрайту, я зашагал к незримой преграде, слыша за спиной легкую поступь девушки. На половине дороги она нагнала меня и, не поворачивая головы, произнесла на русском: – Я покажу дорогу, командир. – Разумеется, милая. – Идите к тому камню. За ним – граница вуали. Странно! Вуаль начиналась перед этой заостренной глыбой, на пару метров ближе, чем предупреждала Фэй. Ошиблась? Или?.. На всякий случай я переспросил: – Ты уверена? – Да. Приметный камень. – Она показала рукой. – Видите? Он похож на рог цилиня[601]. В ее ментальной ауре чувствовалось напряжение – словно в туче перед яркой вспышкой молнии. Что-то она задумала, мелькнула мысль, но разбираться с хитростями Фэй было не время и не место. Мы приближались к границе вуали, и я, непроизвольно замедлив шаг, пробормотал: – С плеч ниспадает пленяющий взгляд шелковый красный халат, смотрят зловеще драконы, цилини с непробиваемых лат… Конь его мечет копытом огонь – это не конь, а дракон… Феникс на острой секире сияет…[602] – Время фениксов не прошло! – звонким голосом перебила меня Цинь Фэй и вдруг рванулась вперед, да с такой резвостью, что я на мгновение оторопел. До вуали – пять шагов, восемь – до остроконечной глыбы, похожей на бивень, и она проскочила их единым духом, как мчатся по россыпи рдеющих жарких углей. Чертыхнувшись, я бросился следом и даже не заметил, как пересек вуаль; мы стояли, глубоко дыша, глядели друг на друга, и я увидел, как на ее губах расцветает улыбка. – Какого дьявола… Она гордо выпрямилась. – Я – ваш проводник! Я вижу опасность и иду первой! Так меня учили! – Я думал, тебя учили дисциплине. Долг младшего – слушать и повиноваться… Разве не так? Разве в Китае что-то изменилось? Фэй отвела глаза. – Ну-у, все же я не совсем китаянка… Я – аму! В той школе, в Хэйхэ, мне об этом постоянно напоминали. Еще говорили, что аму любят своевольничать… Я запомнила! – Вижу, память у тебя отменная, – буркнул я и помахал рукой Макбрайту – Идите сюда! Кажется, мы живы… А если и нет, так лучше умереть, чем заржаветь![603] …Когда мы, следуя уже обычным порядком, стали спускаться к руинам Лашта, Макбрайт поравнялся со мной и произнес: – Подозреваю, приятель, что юная леди к вам неравнодушна. – Завистливый огонек мелькнул и погас в его глазах. – Определенно неравнодушна, а потому – берегитесь! Я был женат шесть раз, и дважды – на китаянках… конечно, наших, не из Китая… Прелестные женщины, тихие, ласковые и покорные, ну а в постели – просто чудо! Однако не без странностей. – Он с многозначительным видом поднял палец. – Как говорят у вас, у русских, в тихом… э-э… омуте черти водятся. – Кто были остальные ваши жены? – поинтересовался я. – Очаровательная мулатка – топ-модель, еврейка из очень порядочной семьи бостонских банкиров и шведка. Последняя – итальянка, настоящая, из Милана… Красавица, но ведьма! Черные глазищи, голос сирены и бешеный темперамент… выжала меня словно лимон… Пришлось с ней расстаться, – добавил он со вздохом. Я сочувственно хмыкнул, припоминая, что этих интимных подробностей в досье Макбрайта не было, хотя там отмечалось, что женщин он любит и был не раз женат. Но все-таки – шесть жен! Почти как это было у Синей Бороды… И последняя – ведьма-итальянка! Черные очи и бешеный темперамент… Немудрено, что ему мерещатся инопланетные пришельцы!* * *
Руины Лашта тянулись на несколько километров, и мы разошлись, чтобы обследовать максимальную территорию. Блуждая среди развалин домов, сараев и мечетей, фиксируя в памяти груды костей, целые и проржавевшие котлы, кожаную упряжь, обломки глиняной посуды и остальное имущество нищих горцев, я размышлял о Фэй. Чувства ее не укладывались в строгие рамки повиновения и уважения, питаемого в ВостЛиге к старшим, тем более – к начальникам и командирам, источнику мудрости и власти. Это было нечто иное, симпатия или неосознанное стремление к человеческому теплу, надежда обрести кого-то, с кем можно говорить, не опасаясь упреков в слабости. Судьба, бесспорно, обделила Фэй, отняв последние права, которыми еще владели в этом мире дети, и главным из них являлась любовь. Впрочем, ее при всех обстоятельствах надо рассматривать как главный фактор и движущий мотив, понимая при этом те чувства, какие одно живое существо испытывает к другому. Только так, и никак иначе! Все остальное, что на Земле зовется любовью к родине, богу, творчеству, – ошибка, ибо любовь к идее всего лишь абстракция, не утоляющая духовный голод и не дающая тепла. Такая простая, но непонятная людям мысль… Слышал я про школу в Хэйхэ, слышал! Школы образцового воспитания одаренных в Хэйхэ и других городах… Цель – сделать из одаренных преданных, чтоб не удрали они куда-нибудь за океан, в Австралию, Штаты или Бразилию, а на худой конец – в Россию. Россия, конечно, не подарок, но по сравнению с Китаем – светоч свободомыслия… Бедная Цинь Фэй! Там, в Хэйхэ, ей скармливали голые абстракции, не заменявшие отцовской строгости и ласки и материнской любви… Такие девочки, став взрослыми, испытывают склонность к зрелым мужчинам, желая компенсировать минувшее и подчиняясь неизбежному закону: психика личности должна развиваться в гармонии с биологическим возрастом, не перепрыгивая через отрочество и детство. Быть может, в этом кроется объяснение центростремительных сил, толкавших Фэй ко мне? Быть может… Даже наверняка. Готовность к самопожертвованию, попытка разделить груз горестных воспоминаний, взять силу у дорогого человека и одарить его своей… Этот букет душевных движений и обстоятельств, переплетенных туманными лентами подсознательного, был обозрим и ясен, как радуга, повисшая над водами. Удивляло иное: не желание рискнуть и тем избавить меня от опасности, а странная ошибка, допущенная Фэй. Положим, ей не под силу заметить формации перед скалами – вуаль в них необычно тонкая, а всякая паранормальная способность имеет свой предел… Но в остальном она не ошибалась! Я прокрутил воспоминания об этом эпизоде, представив, как замедляю шаги перед невидимой вуалью, зондирую ее и собираюсь с духом. Не уловила ли Фэй мои колебания? Тогда случившееся предстает в ином и совершенно новом ракурсе: не странная ошибка, а проверка! Возможно, ей хотелось убедиться, что я ощущаю вуаль и мне не нужен проводник – как, впрочем, и остальные спутники… Интересуется моим талантом из чистой любознательности? Или по указке свыше? Или боится, что я однажды исчезну, покинув их где-нибудь в этой пустыне? Жаль, что я не могу коснуться ее мыслей, жаль! Но собственная память в отличие от дара телепатии мне подвластна, и, обозрев ее закоулки, я вытащил кое-что забавное. Наш разговор о Сиаде в первую ночевку… Слова, интонации, жесты, паузы – я помнил все, даже песок, запорошивший колени Фэй, и каждую складку на ее оранжевом комбинезоне. Я сказал, что мы, наверное, кажемся ей слепцами, а после произнес: «Что удивительного в Сиаде? В том, что ему не нужен сон? Не больше, чем в тебе, девочка. Разве не так?» Фэй кивнула, соглашаясь: «Так. Я поняла, командир. Я больше не буду задавать глупых вопросов. Только…» Здесь она сделала паузу, и я ее поторопил: «Да?» Она закончила мысль: «Вы не слепец. Многие слепы, но только не вы». Случается, что женские речи загадочны и ставят нас в тупик. Новых идей в них обычно не встретишь; ими питают цивилизацию мужчины, а женщины, хранительницы Равновесия, следят, чтоб эти идеи не сокрушили мир. Но это не все, на что они способны, – я говорил уже об их предназначении, о том, что женщины украшают жизнь, и, разумеется, сей тезис можно отнести к их облику, духовному настрою, их поведению, их запаху и, наконец, их способности любить. Но лишь незрелые умы закончат этим, остановившись на рубеже, где начинается главное: тайна. Тайна, загадка, секрет… Женщины дарят их нам, и лишь последний недоумок усомнится в ценности этих сокровищ. «Вы не слепец… Многие слепы, но только не вы…» Понимай как хочешь: может, имелась в виду вуаль, а может, и нечто другое. Ну, поживем – увидим… Я ведь и в самом деле не слепец. Эти раздумья не мешали мне осуществлять рабочую функцию: смотреть, анализировать, запоминать. Слушать – увы! – было почти нечего, кроме проклятий Мак-брайта, возившегося где-то неподалеку. Голос Джефа казался настырным, как комариный зуд, и, постепенно удаляясь от него, я двинулся к развалинам мечети. Ее минарет и купол с фронтальной стеной рухнули на маленькую площадь, смешавшись с развалинами оград и домов, задняя и боковая восточная стены тоже не устояли, но западная лишь обвалилась до половины, обнажив древнюю прочную кладку. Здесь, к своему изумлению, я обнаружил то яркое пятно, которое заметил с края котловины. Оно и в самом деле оказалось ковром, из тех, какими устилают пол в мечети, багряно-коричневого оттенка, потертым, грязным и весьма изношенным. К тому же сохранился только кусок ковра, полоска в пару шагов шириной у самой стены, а все остальное истлело, напоминая теперь черный низкорослый мох. Тут и там валялись груды битой черепицы с кровли, но граница между целой и истлевшей частью сразу бросалась в глаза, словно ее прорезали ножом. Четкая плавная линия, похожая на параболическую кривую… Подумав о ноже, я вытащил мачете и, приподняв край разреза кончиком лезвия, осмотрел его. Никаких следов от режущего инструмента либо термического или химического воздействия – нити не размахрились и не выглядели обожженными. Только старыми, очень старыми… Здесь, в Анклаве, не было дождей и резких температурных перепадов, так что ковер в сухом недвижном воздухе мог сохраняться хоть двести лет – и, как подсказывал мой опыт археолога, на столько он и выглядел. Но сгнившая часть казалась древнее, намного древнее! Если б ее поливало персональным дождиком, прихватывало морозцем и сушило солнцем, она превратилась бы в труху за считанные годы, но при прочих равных с сохранившимся куском этот процесс занял бы доброе тысячелетие. Нонсенс, парадокс! Вырезав пробу, я упаковал ее в контейнер, во второй набрал черной трухи, потом отступил на три шага и принялся разглядывать свою находку. Мне (если быть совсем уж точным – Даниилу Измайлову) пришлось покопаться в древних могилах, храмах и цитаделях, исследовать свитки папирусов и пергаментов, таблички из глины, обелиски и стелы, а также прочее добро, оставленное предками, движимое и недвижимое, включая кости, камни, дерево, металл и даже вина и фекалии тысячелетней давности. Я представлял, что происходит с шерстью или с полотняной тканью в том или ином регионе, как выветривается каменная кладка, что остается через пять веков от медной посуды или смоленого бревна где-нибудь на Новгородчи-не или, к примеру, на берегах Гвадалквивира, – словом, мои познания в области тлена вещей и жилищ были весьма обширными. Но я впервые видел артефакт с двумя печатями, оставленными временем. Некогда цельную вещь, хранившуюся в одинаковых условиях, но постаревшую в одной своей части больше, чем в другой. Я стоял и глядел на потертый грязный коврик, а в голове у меня трудился некий механизм, выкладывая на белой стене – или, возможно, полу – яркие камешки мозаики, с усердием шлифуя и подгоняя их друг к другу. Всей картины я обозреть еще не мог, но что-то уже мелькало, брезжило, пусть не в центре, не на переднем плане, так хоть по углам и краям. То, чем я занимался, было не поиском решения, а лишь подготовкой к нему. Если проблема по-настоящему серьезна, решение всегда интуитивно, поиск происходит в трансе, и его успешность пропорциональна объему накопленных данных, которые необходимо собрать, упорядочить и обдумать. Вот я и обдумывал – здесь, в развалинах мечети, под желто-серым небом, с тусклой, будто гноящейся раной светила. Факт влияния вуали на процесс старения был уже бесспорным, но получалось, что влияет она в разных местах по-разному и что граница между зонами влияния четко определена – собственно, я наблюдал сейчас эту границу. Она прочертила след не только в ковре: три стены мечети обрушились, четвертая еще стояла, и между ее камнями даже виднелись следы скрепляющей кладку глины. Были иные, не менее важные признаки, касавшиеся, например, костей, распределенных по Лашту изотропно: в домах – человеческие скелеты, в загонах – останки ослов, лошадей, овец и коз, а во дворах и на улицах – то и другое, примерно в равном соотношении. Кость – прочная штука, но все же уступает камню, внешний вид которого – если камень, конечно, не обработан – не позволяет осуществить датировку. С костями проще: если они желтоватые, значит, прошло лет десять или двадцать, если серые, срок увеличивается до столетия, а если черные, то их хозяин мог расстаться с жизнью на заре времен. Кости на городской территории были различного возраста и, главное, попадались не вперемешку, а строго локализование: на одном участке – желтые, на соседнем – серые, почти незаметные среди развалов камня. Значит, на этих участках старение шло по-разному, где-то медленней, где-то быстрей, и скорости данных процессов могли отличаться на три-четыре порядка. Иными словами, желтые кости лежали тут двадцать лет, а черные – двадцать или двести тысячелетий. Любопытный вывод! Особенно если припомнить, что катаклизм случился совсем недавно, в 2027 году! Прокручивая в памяти увиденное, я попытался оценить величину участков и разобраться в закономерностях их расположения. Последнее не удалось – эти зоны, самых причудливых очертаний, были перемешаны хаотически, имели то плавные, то резкие обводы, вторгались друг в друга шипами и остриями или граничили почти по прямой. Что касается размера, то в среднем он составлял метров сто двадцать – сто пятьдесят с сорокапроцентным отклонением в обе стороны. В точности своих подсчетов я не сомневался: схема Лашта, поделенного на участки, сидела в моей памяти, как прочно вбитый гвоздь, а что до обработки данных, то тут я мог потягаться с любым не очень мощным компьютером. Распад вуали, образование больших бассейнов, локальные зоны деструкции… Что бы это значило? Чувствуя, что информации недостаточно, я терялся в догадках. В этот момент я мог скорее отвергнуть ту или другую гипотезу, чем изобрести нечто толковое, оригинальное; хороводы из вешек, костей, обломков летательных аппаратов и развалин жилищ кружились в моей голове, но новых камешков в мозаику не добавлялось. Божий гнев? Несмотря на абсурдность такого предположения, я рассмотрел его и отверг. Бог – лучший из всех канониров, он не бомбит по площадям, гнев его избирателен и падает на тех мерзавцев, что заслужили справедливую кару. В данном случае на талибов… Но при чем тут женщины и дети? Или совсем уж безгрешные овцы? Правильно, ни при чем, овцы из автоматов не палят, книг не жгут и школ не взрывают. Планетарная бомба? Очень сомнительно. Принцип ее действия таков: ослабить межмолекулярные связи, после чего все сущее рассыплется в пыль, труху и прах. С одной стороны, очень похоже, если вспомнить про исчезновение гор, с другой – вот он, Лашт, где сохранились кости, утварь и развалины. Даже часть ковра… Явная неизотропность! Вывести валентные электроны из связанного состояния можно десятками способов, в том числе – энергетическим лучом, но, если удар наносится по обширной территории, результаты всюду будут одинаковы. Пустыня, да, но вполне доступная; никаких зон и эффектов деструкции, никаких пролонгированных последствий в виде вуали, бассейнов, рукавов… Нет, здесь не бомбу взорвали, здесь случилось что-то странное, связанное либо с талгами, либо с эоитом. Возможно, с тем и другим… Гипотезу Макбрайта о субстанции вроде коллоида или взвеси, погруженной в поле, я не рассматривал, ибо такие соображения казались совсем уж наивными. Конечно, определенные реагенты можно удержать в силовых полях, но их обнаружит элементарный химический анализ, который проводили у границ Анклава неоднократно и всеми возможными методами. Кроме того, здесь не было энергетических полей, ни слабых, ни сильных, и, чтобы выяснить этот факт, я не нуждался в анализах и приборах – подобные вещи я ощущаю, даже находясь в несовершенном земном обличье. Возможно, талги, братцы по разуму с седьмого неба? Выбираясь из лаштских руин, я снова и снова обдумывал это предположение, однако и здесь концы с концами не сходились. После трагедии с Ольгой я мало контактирую с талгами – да, собственно, о чем мне с ними разговаривать? Я обозначил свое присутствие на Земле, они сообщили, что обретаются в околоземном пространстве, и кончен дипломатический бал. Я – Наблюдатель, они – Наблюдатели, но цели наши разные: я в меру сил тружусь во благо жизни, а талги хоть не торопят смерть, но дожидаются ее с упорством вцепившихся в лакомый кусок бульдогов. Их право! А мое – следить, чтобы законы Равновесия не нарушались ни в едином пункте. Талги этим не грешат – во всяком случае, явно. Активный народ, склонный к межзвездным миграциям, к неограниченной экспансии и полагающий, что чем их больше, чем многочисленнее их колонии, тем они сильнее. Но все случается как раз наоборот: колонии, окрепнув, вступают в конфликт с метрополией, целостность расы рушится в планетарных войнах, культурные связи слабеют, и наступает эпоха заката – или как минимум разъединения. Талги в этом еще убедятся… Молодая раса – тысячу лет назад в Галактике о них не слышали, а до трагедии Диниля не принимали всерьез. Жадность талгов к благоустроенным мирам общеизвестна, и поэтому в текущий исторический период они находятся под подозрением. Но хоть они потенциальные агрессоры, однако не отличаются безрассудством и уважают чужую силу – особенно с тех пор, как познакомились с нашими Старейшими. Динильского урока им хватило… В общем, они не нарушают Равновесия, а только следят за избранным миром, облизываются и ждут. Тихо и упорно. Ждут, следят, не нарушают… Но когда-то все происходит в первый раз, и потому не будем забывать о талгах. С такими мыслями я выбрался к точке встречи за южной городской окраиной, собрав по дороге образцы и распихав их по контейнерам. Меня ждали. Цинь Фэй была бледна, Сиад невозмутим, а Джеф сверх меры возбужден; казалось, еще немного, и он начнет подпрыгивать на месте. Сосредоточившись, я разобрался в ментальных волнах, что исходили от них: суданец, как обычно, сохранял спокойствие, Мак-брайт торжествовал, озаренный очередными идеями, от девушки тянуло печалью, ледяной и безысходной, словно могильная плита на зимнем кладбище. Я приблизился и, встав с ней рядом, послал энергетический импульс. Фэй вздрогнула, вскинула голову, повернулась ко мне; щеки ее порозовели, в темно-янтарных глазах мелькнуло и исчезло удивление. – Что-нибудь нашли, дружище? – Макбрайт с любопытством уставился на меня. – Ковер. Не молитвенный коврик, а часть напольного покрытия в мечети. Представьте, неистлевшее. На сей раз Сиад выдавил пару слов, что подходили к случаю: – Аллах сберег! – Лучше бы он сберег людей, – пробормотала девушка и отвернулась. Макбрайт иронически покосился на нее, потом спросил: – Как общие впечатления, босс? Мне ковры не попадались, только камни, скелеты да проржавевшие сковородки. Юная леди и Дагаб видели ту же картину, так что новых сведений в принципе нет. На улицах – кости людей и животных, в домах – человеческие останки, и каждый будто бы при деле… Ни следа паники, все как с той китайской экспедицией. Знаете, условный рефлекс – если что-то случилось, выбраться наружу, покинуть дом, автомобиль… я наблюдал такое в Калифорнии… Но тут рефлекс не сработал. Эти горцы, кажется, ничего не заметили до самых последних мгновений. Все случилось быстро, очень быстро. – Согласен с вашими выводами, – отозвался я и замолчал. Макбрайт смотрел на меня с вопросом, явно надеясь на продолжение, но мои собственные мысли были не для него и даже не для СЭБ. Пожалуй, я поделился бы ими с Аме Палом, с другом и единственным из людей, который, прозревая мою сущность, мог понять меня и поддержать. Но Аме Пал был мертв, и, представив это, я ощутил свое одиночество во всей его безмерности. Ну, не будем унывать… Макбрайт дернул меня за рукав. – Вы слушаете, что я говорю? Или спите? – Прошу прощения, Джеф. Я задумался. – Я тоже, но не сейчас, а в те часы, пока бродил в проклятых развалинах. И знаете, что пришло мне в голову? – Задрав подбородок, он бросил на меня торжествующий взгляд. – Мы неверно выбрали точку для приложения сил. Я говорю о всех этих поисках на пепелищах, осмотре костей, руин и ржавых железок, тогда как есть занятие поинтереснее. Исследовать факт, который мы обнаружили! Факт исключительной важности! – То, что можно вуаль преодолеть? – Да! Изучение этого феномена… Я положил руки ему на плечи и слегка встряхнул. – Очнитесь, Джеф! У нас имеются инструкции Монро: мы должны исследовать любой искусственный объект, к которому сумеем подобраться. А вуаль… Здесь, как определила Цинь, она разреженная, тонкая, и мы провели в ней долю секунды, преодолев одним стремительным прыжком. Желаете вернуться и посидеть подольше? Сколько? Минуту, две? Или хотите за кем-то понаблюдать? За мной, за Сиадом или за девушкой? Макбрайт побагровел, гневно стиснул кулаки и вдруг перешел на испанский: – Понимаете меня, хомбре? Конечно, понимаете – вы ведь у нас полиглот… Должен признаться, я не имел в виду девчонку, вас или себя. Наш чернокожий брат готов исполнить эту миссию, причем абсолютно добровольно, во славу Аллаха и суданского знамени. Он сам предложил. – Макбрайт покосился на спокойную физиономию нуэра. – Он… Видите ли, дружище, нас троих объединяет спорт, любовь к романтике, опасности, но в остальном мы с вами и он – по разную сторону баррикад. Нам его не понять, не разобраться в его желаниях и резонах… Возможно, он метит в герои или… Не слушая, я повернулся к Сиаду: – Хочешь пересечь вуаль? Проверить ее влияние на организм? Макбрайт обиженно поджал губы, Цинь Фэй побледнела и раскрыла рот, будто ей не хватает воздуха, а наш невозмутимый спутник буркнул: – Да. Пророк, избранник Аллаха, меня не покинет, даст силу и отвагу. Его повеление… Я ткнул ад-Дагаба в грудь кулаком – так, что тот покачнулся, – и медленно произнес, глядя в непроницаемые черные глаза: – Здесь у Аллаха один избранник, и он – перед тобой. Первый после бога! Ты, брат, выполняешь только мои повеления, а они таковы: хранить нас и беречь, идти, куда приказано, и не соваться в вуаль. – Повернувшись лицом к юго-западу, я скомандовал: – Походный порядок, и вперед, во имя СЭБ и Аллаха! Там, кажется, вешка… Рядом с ней заночуем. Мы тронулись в путь. Оранжевый комбинезон, яично-желтый, зеленый, фиолетовый… Четыре фигурки в серой пустыне, под блекнущим беззвездным небом. Четыре нераскрытые тайны.ГЛАВА 8 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Тайны, тайны… К любой, кроме тех милых секретов, которые загадывают нам женщины, я отношусь с предубеждением. Тайны – знак разобщенности, обычно за ними скрывается что-то постыдное, нехорошее, связанное с притязаниями на власть, особое могущество или особое знание, недоступное для остальных людей и редко направленное к всеобщему благу. Владеющий тайной может продать ее, обменять или хранить для собственной выгоды, используя так или этак, но все возможные варианты, если отбросить болтовню о государственных интересах и счастливом неведении, в котором должно оставаться общество, преследуют единственную цель: шантаж. У вас есть новое оружие? Ну, а мы имеем еще новее и мощнее. У вас есть интересы в Персидском заливе? Ну, так у нас найдется кое-что в одной из ближних к этим интересам стран. Вы подвесили спутник с грузом смертоносных бомб? Ждите адекватного ответа. Интересуетесь, какого? Ну, возможно, с ним произойдет авария или наши субмарины всплывут у ваших берегов… Есть случаи попроще, такие, где гарантируются неприятности в личном плане. Скажем, снимки или голографи-ческая запись развлечений в сауне, сбыт зараженного трихинеллезом мяса, несчастный случай с конкурентом, любовником жены или политическим врагом, пристрастие к лицам определенного пола и остальные маленькие слабости. Мелкие постыдные грешки – неиссякаемый источник шантажа, дающего власть одним над другими… Но есть ситуации много опаснее и сложнее. Давление этих тайн еще не ощущается людьми, кроме отдельных прозорливых личностей, и пока что их голос – глас вопиющего в пустыне. Сколько на Земле модификантов и киборгизированных? Тайна… Статистика психических расстройств? Еще одна тайна… Запасы «грязного» оружия? Ну, это тайна тайн! Секрет за семью печатями, ибо известно, что такого оружия больше не существует: все вредоносные вирусы выжжены, а радиоактивный шлак и яды лежат себе в могильниках, то ли на границе с Китаем, то ли на Новой Земле, то ли в Антарктиде… Это не те тайны, которые скрашивают существование, однако приходится в них копаться. Делая это, я вспоминаю мысль, мелькнувшую лет сорок назад в книге Андрея Смолянского, философа, науковеда и, что может показаться удивительным, профессионального уфолога[604]. Забавные были у него идеи насчет пришельцев-гуманоидов! Смолянский предположил, что сообщения о них правдивы, причем его не волновало, где в этой каше явная чушь, а что напоминает правду. Он постулировал факт их присутствия на Земле и, исходя из этой аксиомы, пытался ответить на вопрос, почему они не контактируют с землянами. Речь, разумеется, шла не о случайном контакте с каким-нибудь фермером в аризонских пустошах, а об открытом, официальном, на уровне ООН и лидеров ведущих государств. Помню, чем увлекла меня эта книга – автор писал фактически обо мне, исследуя резоны, мешавшие пришельцу-гуманоиду, высокоразвитому существу, вступить в прямой контакт. Выводы были парадоксальными: ужас, неприязнь, отвращение… Такое же, какое человек питает к приматам, которые испражняются под себя и, не стесняясь зрителей, прыгают на самок. В каком-то смысле это верно. Если бы на Землю явились создания, чуждые людям, – например, с Рахени или Суука, – им было бы нелегко понять особенности местной жизни, взаимодействие полов, народов, поколений и отдельных личностей. Вполне возможно, эти существа списали бы неприглядные факты за счет физиологии землян, секретов их странной психики и философии, не отвергающей насилия и извращений. И в результате они испытали бы не отвращение, а удивление – как мы при виде глодающей падаль гиены. Но я-то гуманоид! Я понимаю, что обитателям Урени-ра многое тут покажется страшным, отвратительным – ведь мы похожи друг на друга в большей степени, чем человек и шимпанзе! И, глядя на земное человечество, мы вспоминаем, какими были сами – в те времена, когда Галактика была моложе на пару миллионов лет. Глядим и ужасаемся…* * *
Так вот, об отвращении. С семидесятых годов, едва осознав себя Наблюдателем, я занимался некой проблемой, одной из тех, что могут привести планету к вымиранию. Проблема была не совсем экологическая, не связанная напрямую с загрязнением среды, прорехами в озоновом экране и даже с ядерным оружием – все эти бедствия мира либо локальны и не ведут к стремительной общепланетной катастрофе, либо их можно взять под контроль тем или иным путем, не допустив фатального конца. Гораздо опаснее инфекции, ведущие к пандемии, штаммы микробов и вирусов. Распространяясь по воздуху, в водной среде и через живые организмы, они способны охватить гигантскую территорию – в принципе весь мир, со всеми его океанами и континентами. Процесс занимает считанные дни, и, если возбудитель получен искусственно и медикам неведом, нет времени, чтобы отыскать противоядие. Тем более что возбудителей может быть много, а значит, спасенного от паратифа с успехом прикончит новый штамм чумы или холерный вибрион. В России все эти милые вещи производились на объекте 117 под Челябинском, а в Штатах – на Аляске, в бухте Гаррисон. Разумеется, в условиях строгой секретности и с соблюдением всех надлежащих мер, хотя бывали и утечки – то за сибирской язвой недосмотрят, то лихорадка Эбола, вырвавшись из бункеров, слизнет десяток жизней. Печальные случаи, но во имя объективности готов признать: была в трудах микробиологов своя жестокая необходимость. Создавали смертельные штаммы, а к штаммам – целительные сыворотки (что, правда, получалось не всегда); прикидывали, как эффективнее умертвить врагов, заслав к ним зараженных мух и крыс, но в то же время размышляли и над борьбой с эпидемиями; искали причины рака, диабета, СПИДа – и доискались наконец. Нашли, как убивать и как лечить, и первое оправдано вторым – ведь в этом мире жизнь неразрывно связана со смертью. Надеюсь, пока… Комплекс на Аляске меня не слишком волновал; Штаты – страна богатая, изобильная, более прозрачная, чем Россия, и в силу своей прозрачности обеспокоенная строгим соблюдением секретов. Там жертвуют любые деньги, чтобы какой-нибудь секрет со смертоносным запахом не выплыл из небытия, сделавшись пищей для сенсаций и сенатских прений. По этим причинам контору в бухте Гаррисон финансировали бесперебойно и щедро, ее сотрудники трудились за страх и совесть, не воровали спирт, а промывали им автоклавы, и остальные меры безопасности были вполне на высоте. С объектом 117 все обстояло как раз наоборот: ни денег, ни спирта, ни, собственно, надежных сотрудников и автоклавов. Я понимаю, развал империи… Однако не Римской, где самым грозным биологическим оружием были трупы, гниющие после сражений и осад. Правитель нынешних времен, приняв имперское наследие, обязан представлять, что не должно разрушиться и развалиться, – в противном случае наследством станет кладбище. Как минимум континентальное, поскольку вирусы не признают границ. В конце девяностых, в годину бедствий, объект 117 стал угрозой глобального масштаба, и с течением лет эта угроза росла в геометрической прогрессии. Опытные специалисты разбегались, копились всевозможные долги, оборудование дряхлело вместе с лабораторными корпусами, началось воровство – мелкое, жалкое, не по злому умыслу, а от безденежья и безнадежности. Словом, микробиологический зоопарк был на грани краха: служители ушли, клетки проржавели, и обитавшие в них чудища грозили вырваться наружу. Проблема усугублялась тем, что факт существования объекта 117 российскими властями не признавался, а значит, не поступали даже скудные дотации от зарубежных филантропов. Вскоре произошло ужасное: в две тысячи восьмом подняли рубильник (а может, опустили), и в результате объект остался без энергии. Только сутки, но об этом дне и этой ночи можно воистину сказать, что идиотов бог хранит. Ну, сохранил… Опыты с самой опасной дрянью не велись, крысы из клеток не разбежались, и ни один лаборант, по счастью, не разбил пробирку, не сунулся в темноте к криогенным камерам, да и температура в них не успела подняться. Дело замяли, сняв замминистра обороны и пару шустрых энергетических начальников, но шок получился такой, что были выделены деньги – за счет учителей, врачей и прочих персон inutile terrae pondus[605]. На эти средства объект протянул десятилетие; потом история забылась, страх поуменыпился, испарился, и компетентные лица решили, что кормить микробов ни к чему. Бюджет, известно, не резиновый… Необъяснимый зигзаг государственной мысли! Хоть в эти годы Россия, как всегда, не процветала, но к экспорту сырья добавился бизнес с оружием – в Азии, Африке, Латинской Америке, на прежних и отвоеванных у конкурентов рынках. Деньги, в общем-то, были, но, как свойственно деньгам, текли в ту сторону, где намечалась прибыль, к месторождениям газа, нефти и алмазов, в энергетику и транспортную сеть, к обогатительным комбинатам и оружейным производствам. К ним относился и объект, терзавший меня, как заноза в пятке, но относился лишь формально; чума, холера, тиф, энцефалит не пользовались спросом ни в мусульманских странах, ни в Индии, ни в Великом Китае. И потому финансовый поток упорно огибал окрестности Челябинска, равным образом как и карманы микробиологов. В две тысячи двадцатом шестом энергию отключили вторично. Опять обошлось, но я уже понял, что это финальный звонок: больше не прозвенит, ударитпохоронным колоколом, а там – как будет угодно Вселенскому Духу… Может, кто и выживет, а может, через век заселят Землю талги-колонисты, и будет это не Земля, а тридцать третья копия Талгала… Вывод напрашивался сам собой: вмешаться и выдрать «занозу» – то есть, согласно духу времени, приватизировать и конвертировать. Возможности к тому имелись: с одной стороны, был покупатель, финансовый магнат Олыпанников, с другой – горячее желание Минобороны избавиться от всех микробиологов с их жутковатым зоопарком. Я предпринял необходимые шаги, дело двинулось, потом зависло, и настолько прочно, что Олыпанников, имевший связи, средства и влиятельных друзей, смог лишь обнаружить «точку зависания». Ею была администрация президента, узкий круг чиновников, столь же продажных, как остальные, но в данном случае вопрос деньгами не решался. Бродили опасения, что новый собственник предаст огласке некоторые факты, а то и всю историю с объектом 117, что нанесло бы властям невосполнимый ущерб. Толпы испуганных граждан, паника, бунты, запросы в парламенте, смена правительства, международный скандал – все это мыслилось вполне реальным, если в зоопарк прорвутся чужаки – к примеру, эксперты СЭБ. А с ними – спаси господь! – гринписовцы и журналисты, репортеры ти-ви, члены Совета Европы, Хурала ВостЛиги и Общепланетного Суда! Возможное развитие событий, если учесть, кто станет собственником! Память об информационных битвах, которые вел отец Олыпанникова, была еще свежа, как и о том, что он победил в войне или, по крайней мере, не проиграл, оставив сыну десяток газет, издательства, радиостанции и телеканалы. Все это выяснилось при осторожном зондировании, осуществленном моими агентами, живыми и виртуальными. Редкая ситуация на Земле, когда не работает формула «деньги—товар», но в данном случае товарец смердел, как покойник, и требовались гарантии, что трупный запах будет похоронен вместе с трупом. Тихо, незаметно, без салюта и оркестра… Кроме того, был нужен человек определенного веса – такого, чтобы передать мои гарантии вышестоящим лицам и успокоить страсти по Оль-шанникову. Такая персона нашлась – к моему изумлению, мелкий чиновник из ведомства управделами президента. Впрочем, как докопались мои компьютерные аналитики, Павел Сергеевич Казин должность исполнял для вида, являясь, по сути, советником-парапсихологом и составителем астрологических прогнозов. В Кремле его уважали, а главное, верили ему и консультировались в различных деликатных случаях – ну уж а мой был деликатней некуда! Его прогнозы в самом деле сбывались с вероятностью три к двум – маловато для прекогниста, но верный признак того, что здравый смысл предсказателю не чужд. Заручившись рекомендациями, я отправился в столицу. Ехал ночным монорельсом, чтобы не растратить энергии; она, как шептало предвидение, могла пригодиться для более важных дел. Помню, как добирался от вокзала в Кремль – случилось это двадцатого мая, в Москве уже цвела сирень, и ее аромат преследовал меня, вливаясь в кабину сквозь распахнутые люки. Мой лимузин затормозил у служебного входа, я сунул кредитную карточку в щель, кивнул таксисту, вышел и спустился в полуподвальчик, к бюро пропусков. Там маячили двое в штатском, три модификанта при оружии и тощий игрун – провод от вставленной в череп розетки тянулся к блоку распознавания. Пропуск, как обещали поручители, был готов; игрун обнюхал мои документы, блок звякнул, подтверждая их подлинность, и один из типов в штатском проводил меня в заветный кабинет. Светильники по углам, стены с гипсовыми барельефами в шумерском и древнеегипетском стиле, темный ковер на полу и ни единого окна… По правую руку – стойки с лазерным голопроектором, контролем прослушки и кое-какими приспособлениями для аналитического шпионажа; все оборудовано не хуже, чем в Лэнгли, штат Вирджиния[606], где я бывал не раз. В глубине комнаты, под портретом президента, – кресла и стол, широкий, как взлетное поле для стратопланов. На столе – компьютер-видеофон, большая пепельница и какие-то официального вида бумаги; за столом – человек лет сорока, лысоватый, губастый, с нависшими дремучими бровями. Виски асимметричные, один впалый, другой выпуклый; явно вставлен мозговой имплант. В общем, маг из современных, из тех, что не гадают на кофейной гуще, а чертят гороскопы на компьютере. Ощутив его ауру, я успокоился. Эта публика – я имею в виду магов, кудесников, целителей и тому подобный сброд – делится на две категории, на фанатиков и мошенников. Фанатик искренне верит в свою идею – к примеру, о том, что с ним общаются ангелы или что все недуги можно исцелить с помощью штопора в левой ноздре. Это суггестивная, подсознательная вера, часто граничащая с душевным расстройством; она облекает фанатика броней, непробиваемой для разумных доводов. Что же касается мошенников, то их интересуют предметы вещественные: гонорары, связи, водка, девочки, ну, на худой конец хвалебная статья. Мошенники – реалисты, фанатики – идеалисты и потому опаснее. Есть и еще одно отличие: фанатик готов встретиться с чудом, мошенник – нет, и потому оно его поражает и пугает. К счастью, Павел Сергеевич Казин был из породы мошенников. Это давало серьезный шанс договориться. Не поднимаясь и не протягивая руки, он кивнул мне на кресло. Я сел. – Измайлов Арсен Данилыч? Шеф Северо-западного информбюро? За вас просили… – Казин насупился, пожевал губами. – Ну, так чего вы хотите, голубь мой? Интервью? Возможно, гороскоп? Или заговор, чтобы иметь успех у женщин? – Ни то, ни другое, ни третье. Он коснулся импланта под туго натянутой бледной кожей. – Не верите в астрологию, любезный? – Как можно! Верю. Кстати, мой батюшка был египтологом и понимал в таких вещах. – Я бросил взгляд на барельеф с изображением Гора и столбиками иероглифов. Скопировано грубовато, но все же мне удалось их прочитать: некий Сенусерт подтверждал продажу осла ливийцу Техенне. – Хмм… Ваш батюшка… – протянул маг, взирая на меня с внезапно вспыхнувшим интересом. – Надеюсь, он в добром здравии? – Увы! Одиннадцать лет, как погиб на раскопках… – Придвинувшись к собеседнику, я принял таинственный вид и прошептал: – Считают, что его поразило проклятие фараонов… вы, конечно, слышали… всякий, кто нарушит покой, забравшись в непотревоженную гробницу… – Да-да! – Он широко, словно напоказ, перекрестился. – Спаси и сохрани его Отец Небесный! Ну, а мы придвинем стул к столу переговоров и перейдем к земному. Цель вашего визита? Я изложил свое дело, напирая на добропорядочность Олыпанникова, сумму выкупа и проценты от сделки – те, которые свалятся в карманы сочувствующих и понимающих. Казин слушал и в такт моим речам подрагивал ногой. Затем спросил: – Ваш интерес, любезнейший Арсен Данилыч? – Комиссионные, Пал Сергеич, комиссионные. Я посредник. – Связаны с Олыпанниковым? – Не лично с ним. Иногда выполняю просьбы его людей. – Почему? – Вы, как парапсихолог, поймете… владею даром убеждения. Он снова пожевал губами. – Скажите, голубь мой, как будет использоваться объект? – Во-первых, никакой огласки и никаких фотографий на память. А во-вторых, месяц – и все пойдет под нож бульдозера, кроме, разумеется, коллекции. Это, знаете ли, сокровище… уникальный зоопарк… Все прочее, как я сказал, под нож, затем – новые корпуса, современное оборудование, лучшие специалисты, беспрецедентные меры безопасности. Производство сывороток и вакцин… Для России, Индии и ВостЛиги. Гигантские рынки, огромные прибыли… Казин на секунду закрыл глаза, сосредоточился и изрек тоном профессионала: – Да, предвижу, что прибыль будет, предвижу с полной ясностью. Значит, говорите, новые корпуса и лучшие специалисты… А что с прежним персоналом? Я передернул плечами. – Команчи пленных не берут. – Это, Арсен Данилыч, не годится! К чему плодить обиженных? От них – слухи, сплетни, пересуды, болтовня… Ежели дойдет до щелкоперов, не оберемся лиха! Изобразив глубокое раздумье, я вытащил сигарету, покатал в ладонях, бросил в пепельницу, потом с недовольным видом пробурчал: – Ладно, трудоустроим! Но это, скажу вам, проблема, да и средства немалые: ссуды на жилье, рабочие места, возможно – лечение… Но так и быть, трудоустроим, расселим и вылечим! Само собой, под подписку о неразглашении. Брови мага шевельнулись, сошлись на переносице и снова разошлись, будто две мохнатые гусеницы, танцующие краковяк. Наигравшись в эту игру, он произнес: – Кажется, вы пришли по адресу. Даже не кажется – наверняка! Осталась, голубь мой, пара маленьких вопросов, совсем пустяковых… Первый: я не заметил в вас особого таланта убеждать. Ну, а второй… сами понимаете… – Начнем со второго? – вымолвил я, и Казин согласно кивнул. – Есть предложения насчет борзых щенков или каких-нибудь цифр? – Щенки предпочтительней. По ним я буду судить о ваших талантах и возможностях. В тот день энергия бурлила во мне; я был в ударе, а значит, способен на маленькие чудеса. Кроме того, переговоры шли к концу, и это тоже вдохновляло; как говорили латиняне, quod potui, feci[607]. Я наклонился к магу, приставил ладони к ушам и, понизив голос, пробормотал: – Тут не?.. – Никакой прослушки, можете быть спокойны, любезный. – Я забочусь только о вашем спокойствии, сударь мой. Мои пальцы шевельнулись, потом забегали по столу, вычерчивая рядом с компьютером невидимый узор из прямых и волнистых линий, что складывались в переплетенные кольца, окружности и эллипсы, гауссианы и спирали, пятиугольники и звезды. Казин, то поигрывая бровью, то теребя отвислую губу, следил за моими манипуляциями с заметным удивлением; в какой-то миг пренебрежительная усмешка скользнула по его лицу, но тотчас же он нахмурился и громко засопел. – Насколько я понимаю, вы собираетесь изобразить Пентаграмму Власти. Но вы – любитель, не профессионал. Вот тут ошибка… еще здесь и здесь… – Никаких ошибок, – заметил я, кончая свои труды. – Это Пентаграмма Власти, завещанная мне отцом. Истинная Пентаграмма, прямо из древнеегипетских захоронений. Маг хмыкнул и оскалился в ухмылке. – Так это и есть ваши борзые щенки? Вы что, серьезно? Не делайте из меня идиота, любезнейший! А заодно – из себя! – Серьезнее не бывает. – Я поднял руку, вытянув два пальца. – Клянусь Гермесом Трисмегистом, покровителем магов, алхимиков и астрологов! Все совершенно серьезно, голубь мой. Коснитесь Пентаграммы, и к вам заявится дьявол. – Пожалуйста, раз вы настаиваете… – Все еще усмехаясь, он хлопнул ладонью рядом с компьютером и вперил в меня насмешливый взгляд. – Ну? – Что – ну? Дьявол уже здесь. Я вытащил из пачки сигарету, сунул в рот и прикурил от пальца. Казин поморщился. – Фокусничаете? – Отнюдь. – Я помахал сигаретой, разгоняя дым. — Но если это вас не убеждает, попробуем что-нибудь другое. Хотите оказаться в преисподней? Его ухмылка стала шире, но тут же сменилась воплем ужаса. Мы висели над жерлом вулкана Колима, что в Западной Мексике; в адском котле внизу перекатывалась и бурлила лава, лизала стены кратера огненными языками, зловеще потрескивала и шипела словно хор из тысячи чертей; откуда-то из глубины, из знойной пропасти, доносился грохот орудийной канонады, а небо над нами застилала непроницаемая бурая пелена. Тут и там, срываясь с раскаленных склонов, кружили дымные смерчи, в коих фантазия рисовала то фигуры демонов, терзающих добычу, то искаженные мукой физиономии грешников; жаркий воздух дрожал, чудовищные лики гримасничали, таяли и возникали вновь – пепельные, полупрозрачные, озаренные багровым светом, напоминавшим реки крови. То еще зрелище! Вдобавок едкие пары и жар… Я мог не дышать какое-то время и регулировать теплообмен, но магу приходилось туго. Щеки его набрякли и посинели, глаза выпучились, вопли перешли в вой, затем – в жалобный хрип; он сучил ногами, будто старался взбежать по незримой лестнице, не замечая, что лестницы нет и что никакой опоры вообще не существует. Как быстро ужас превращает человека в животное, думал я, причем не в трепетную лань, не в перепуганную кошку, а просто в червяка… В нечто низшее, не способное думать или хотя бы воспринимать реальность адекватно, в тварь, которой управляет даже не понуждающий к бегству инстинкт, а только страх перед физической гибелью… Я мог продержать его в огненном жерле минуты три-четыре, но этот срок великоват – мой подопечный в самом деле стал бы червяком. К тому же не тратить зря энергию – закон для Наблюдателя, и я, освободив частицу силы, телепортировал нас в тихий кабинет, в кресла у широкого стола, к портрету президента и копиям древних барельефов. Боги Египта и Шумера взирали на нас с высокомерием, но президент поощрительно улыбался. Щеки Казина постепенно бледнели, глаза возвращались в свои орбиты. Наконец он вздрогнул, наклонился, снял башмаки, швырнул их в угол и, пошатываясь, проследовал к гипсовой плите с изображением Энлиля. За ней скрывался бар; мой хозяин, хлебнув из первой подвернувшейся бутылки, принялся копаться в нем, испуская хриплые стоны и проклятья. Вытащил виски, водку, коньяк, недовольно сморщился, добрался до рома шестидесятиградусной крепости, разлил по стаканам. Мы выпили. Ром, конечно, не секвойя, живой энергии в нем нет, но все же он поддержал мои силы, смыв легкую усталость после пространственного перемещения. – Ну и ну… – просипел Казин, массируя шею и затылок. – Ну, твою мать, гипнотизер!.. Такого дара внушения я не… – Это не внушение, – прервал я его. – Взгляните на свои ладони – кажется, там есть ожоги? На левой, у большого пальца, и на правой, у запястья. Маг обозрел волдыри, покачал головой и буркнул: – Чушь, ерунда! Известно, что видения влияют на психику, а та – на физиологию. Стигматы, раны, ожоги и все такое… На это не купишь, гипнотизер! – Ваши туфли я тоже загипнотизировал? И ваш пиджак? Он покосился в угол – туфли еще дымились, потом осмотрел мелкие дырочки от искр на пиджачных рукавах. Я был спокоен; страх из его ментальной ауры исчез, Казин меня не боялся, не собирался звать охрану, вышвыривать вон или устраивать допросы третьей степени. Он, очевидно, соображал, чем можно поживиться. И наконец сообразил. Стаканы были наполнены снова, мы выпили на брудершафт, и не прошло и получаса, как вдрызг подружились. Признав, что я владею несомненным даром убеждения, Казин принялся выпытывать, какие другие таланты мне присущи. Может, я умею прогнозировать кризисы?.. А если не кризисы, то хоть перемещения в высших эшелонах власти?.. Или способен насылать инфаркт с помощью магии мумбо-юмбо?.. А если не инфаркт, так хоть диабет или чахотку?.. Или, скажем, адские видения – но так, чтоб башмаки не просто дымились, а пылали ярким пламенем?.. Ответы были уклончивы, однако Казин начал сватать меня в помощники, суля кремлевскую синекуру или приличные должности в Думе либо в правительстве. Я, не обижая прямым отказом, напирал на то, что имею частный и доходный бизнес и что таланты мои не очень надежны, хотя по временам как будто пробуждаются, переливаясь в коммерческий эффект. Потолковав о коммерции и покончив с ромом, мы уговорили бутыль «Курвуазье» и сошлись на том, что я согласен поставлять прогнозы – по три-четыре в год и, разумеется, по самым важным случаям. Я до сих пор их поставляю, поддерживая рейтинг Казина. Он все еще на прежнем месте; меняются правительства и президенты, но Пал Сергеич сидит, где сидел, дурит головы вышестоящим лицам и слушает то, что я нашептываю в ухо. Сделка с объектом 117 состоялась, а после нее был визит в зоопарк, чтобы обозреть приобретенное имущество. Нечто вроде десанта: сам Олыпанников, его советники, его телохранители, врач, секретарь, массажисты и лизоблюды – в общем, свита номарха, как в Древнем Египте, с носителями табуретов, опахал и прохладительных напитков. Я затерялся среди них, как скромный писец в толпе сановитых придворных, общаясь от случая к случаю только с одним советником-вельможей, из давних моих знакомцев. Олыпанникову я не представлен и представляться не собираюсь; мой девиз – держаться подальше от олигархов, президентов, королей и генеральных секретарей. Но хоть знакомства мы с ним не свели, я знаю о нем немало, и даже такое, о чем не ведает никто, включая самого Олыпанникова: я владею половиной его капиталов. Даже более чем половиной, что позволяет направлять финансы в нужную сторону – скажем, к объекту 117. Конечно, ни один налоговый чиновник не найдет моих следов в империи Олыпанникова или в другом подобном месте, но я присутствую в них отнюдь не виртуально. Я – Наблюдатель, не судья и не защитник, однако бывают коллизии, когда приходится судить, карать и защищать. Желательно без лишней крови, а с помощью традиционных сил и средств: влияния на тех или иных людей, на политическую или культурную сферы и, разумеется, на реки информации и денег. Деньги! Феномен, с которым я не сталкивался до сих пор ни на Рахени и Сууке, ни в уренирском социуме! Конечно, я понимаю, что деньги – признак общепланетной бедности, отсутствия изобилия и даруемой им свободы; я понимаю, что деньги развращают, потворствуют низменным инстинктам, плодят несправедливость и насилие; и, наконец, мне очевидна трагическая неизбежность денег – в данный момент и в данном месте, именуемом Землей. Но если рассматривать деньги в разрезе моей миссии, приходишь к парадоксальному выводу: сей феномен для Наблюдателя – благо! Ведь я обязан не только выжить, но и продлить свое существование, чтобы собрать достаточно данных, – и потому мне нужен статус с гарантией уважения и безопасности. Но как его достичь? На Сууке уважают искусных мастеров и поклоняются великим художникам, на Рахени ценят красоту, изящество манер, воспитанность, отвагу, а на Земле – pecuniae oboediunt omnia![608] Разве не удача для меня? Ведь гораздо проще стать богатым, чем обрести талант и красоту; они – дар божий, а деньги – лишь двоичный код в банковском компьютере. Пошаришь там и тут, найдешь… Вернувшись из Челябинска в Москву, я посетил моего мага. Понятно, не пустой, а с первым прогнозом о ситуации в ВостЛиге: шли перевыборы Хурала, и, если наша дипломатия нажмет, а Росвооружение напомнит о долгах, его главой мог стать вьетнамец. Народ традиционно дружественный, хоть и попавший после распада Союза в сферу китайского влияния… В роли председателя Вост-Лиги Донг Мин мог сделать кое-что для нас полезное – скажем, разобраться в склоках из-за камчатских рыбных промыслов. Казин был доволен и благодарен. Отвесив нижнюю губу и дрыгая ногой, он сообщил, что я могу рассчитывать на поощрение: ты, мол, любезный Арсен Данилыч, показал мне ад, а я тебя, голубь, пристрою в райские кущи. И не на небе, а тут, в Подмосковье! Поедешь, редкое получишь удовольствие! Только – шшш… Молчок! В рай небесный все успеем, а в земной тропка лишь для особых людей протоптана. Болтать не станешь, пройдешь по ней не раз, и будет что вспомнить на смертном одре… Само собой, ежели прямо в раю не окочуришься. Я понимал, что этот мошенник меня интригует, желая укрепить полезное знакомство, но что в том плохого? Лично я стою за всяческое укрепление, соединение связей, взаимовыручку и пользу, мир да любовь и ради них готов отправиться хоть к черту на рога. А тут предлагают райскую обитель! Какой-нибудь кабак в закрытой зоне для нынешнего партхозактива, подумалось мне. С плясками, выпивкой и шашлыками, с сауной и клубничкой… Клубничка там определенно имелась, причем в больших количествах, ибо Казин в кабаке том не был и даже не совался, объяснив, что мается ранней половой дисфункцией. Я уж хотел признаться, что сам знаком с дисфункцией, выпить с горя и свести все дело к шутке, но что-то остановило меня. Не предчувствие опасности, но запах нехорошей тайны, неведомой ни мне, ни Казину; он-то, голубь сизый, лишь услужить хотел! И правда, услужил; я отношусь с предубеждением к тайнам, однако ими не пренебрегаю. Как, впрочем, и подсказкой интуиции: она шептала, что надо ехать, и я поехал. Собственно, меня повезли. Роскошный глайдер, шофер с непроницаемой физиономией, шоссе на Тверь, кордон и поворот к востоку; дальше – живописные горки, холмы, распадки и озеро с островком, еще за четырьмя кордонами. Судя по придорожным указателям, здесь размещался Институт сельскохозяйственной генетики. В самом деле, тут и там маячили производственные корпуса, а по холмам и долинам бродили мясо-молочные монстры, то рогатые, то клыкастые, то без рогов и клыков, но в бурой или черной шерсти, что падала с могучих спин до попирающих траву копыт. Продукт генетической инженерии, теснивший после массовых эпидемий породы привычные, традиционные… Этих чудищ, не различая на вид, звали в России крокохряками и полагали смесью свиньи и крокодила. Неприятные твари, зато продуктивные и не страдавшие ни ящуром, ни бешенством. На остров вел тоннель под озером. Видимо, сам островок тоже был искусственной конструкцией, напоминавшей вулканическую кальдеру: снаружи – скалы с бетонным кольцом, поддерживающим пластиковый купол, внутри – строения, врезанные в каменистый склон, а между ними – яркие краски тропического парка. Парк я изучал уже с галереи, тянувшейся вдоль верхнего кольца; невысокие, но роскошные виллы, зелень редких пород, фонтаны, бассейны и прочие архитектурные излишества намекали, что я отнюдь не в рядовом кабаке. Сегмент галереи, где я находился, тоже был обставлен с шиком: бархатные кресла и диваны, пальмы в кадках, хрустальные светильники и огромный, занимающий всю торцевую стену экран. Человека, который принимал меня, звали Алексом. Просто Алекс, без всяких церемоний; любезная улыбка, румяные щечки и голубые глазки, невинные, как пара незабудок. – Желаете виллу в римском, мавританском или современном стиле, Арсен Даниилович? – осведомился он. – Можем еще предложить гасиенду, полинезийское бунгало и стилизации под Китай, Японию, Индию, альпийский домик либо приют лесоруба. Это уже Финляндия… Камин, сосновые бревна, волчьи шкуры, но обязательный бассейн и ложе кингсайз. Я остановился на бунгало. – Сразу видно человека со вкусом, понимающего, как расслабиться, – уважительно заметил Алекс. – Ближе к природе, к естественным телесным и духовным радостям… Там не просто бассейн, а с водяными лилиями, имеется и имитация грота – КДОР, разумеется, звуконепроницаемый. Еще, конечно, гамаки… – Тоже кингсайз? – поинтересовался я. Алекс хохотнул. – Просто невероятного размера! Можете качаться вдвоем, втроем и вчетвером. Ну, сейчас подберем партнерш… Или партнеров? – Он окинул меня вопросительным взглядом. – Или то и другое? – Обычный вариант. – Воля ваша! – Алекс щелкнул пальцами, и экран послушно озарился. Женщины… Прекрасные женщины, каждая – в изысканном наряде, затем – в дезабилье, в бикини и, наконец, нагая, в скромных и вызывающих позах… Они сменяли одна другую, словно на страницах компьютерной версии «Плейбоя», – блондинки и брюнетки, шатенки и рыжие, узкобедрые и пухлые, с глазами всех оттенков и цветов, со смуглой, темной или розовой кожей, с мальчишеской грудью или огромными шарами плоти… Черты их были мне знакомы – ведь я не забываю ничего, и в незабытом, отложенном на память, есть главное сокровище: пленяющая сердце красота. Да, я их узнал! Спаси и сохрани Вселенский Дух! Лолита Торрес, Грета Гарбо, Мерилин Монро… Дальше – Клаудиа Кардинале, Софи Лорен, Татьяна Самойлова, Одри Хэпберн, Лиз Тейлор, Чен Хуа, Уитни Хьюстон, Амрита Пал… Все – в расцвете молодости и красоты, грациозные и соблазнительные, как созревший плод… Вот только лица у них казались странными – не застывшими, нет, но такими, словно улыбки, лукавый прищур, взмах ресниц, движение язычка меж алых губ были не естественным порывом, а диктовались чуждой волей. – Первый раздел каталога, исторический, – прокомментировал Алекс. – Тут в основном клоны-реконструкции, и достоверность около девяноста пяти процентов. Ну, вы понимаете: чем дальше в прошлое, тем тяжелее раздобыть генетический материал. Чьи-то кости сгнили, кого-то вообще кремировали, а прах развеяли над океаном… С современными гуриями проще. – С гуриями? – Я приподнял бровь. – Да, мы так их называем. Взрослые – гурии, а если поменьше – лолитки. – Хихикнув, Алекс сообщил: — Есть, конечно, и гурионы… даже совсем гуриончики для любителей… Ну, посмотрим современные разделы? Вытерев пот со лба, я покачал головой. Веселье на лице Алекса сменилось гримасой разочарования. – Так я и думал… Большинство наших клиентов предпочитают дам из прошлого. – Почему? Он пожал плечами. – Я полагаю, Арсен Даниилович, магия имени и известности. Тех, современных, можно купить и пользовать от пяток до макушки. А кто держал в объятиях ее? – Алекс покосился на экран, где раздевалась очередная кинодива. – Ну, так что вы выбрали? – Верните к началу. Теперь дальше… еще дальше… назад… Пожалуй… да, определенно, вот эту, кареглазую! – Неплохой экземпляр, и с любопытным историческим прошлым. Возьмете только одну? – Мне хватит. Что я могу с ней делать? – Все, что угодно. Есть лишь одно условие – не шуметь и не мешать другим клиентам. Ну, понимаете, крики, вопли… если вам захочется чего-нибудь такого… – Он пошевелил пальцами. – Для этого и предназначен КДОР, камера для особых развлечений. Напоминаю, в гроте. А в остальном… – Теперь Алекс скрючил пальцы, будто сдавливая чью-то шею. – В остальном можете не беспокоиться. Их раны, ссадины и синяки заживают быстро. Я повернулся к экрану. – Она может кричать? – Конечно. Кричать, визжать, стонать… Без этого какое удовольствие? – А разговаривать? – Ну-у… в определенных пределах. Речевые и интеллектуальные центры при клонировании заторможены. Сами увидите. – Он поднялся. – Так я вас провожу? – Еще один вопрос: сколько это стоит? – За вас заплатили, Арсен Даниилович. Четыре дня, четыре ночи. Утром я принял перевод. – Вы по совместительству бухгалтер? – Менеджер и консультант, как и другие мои коллеги. Еще эксперт. – Щечки его порозовели. – Так сказать, эксперт-дегустатор широкого профиля. – Отлично. Я доверяю экспертам. Голос мой звучал спокойно, испарина высохла, хоть в этот момент я был готов испепелить дегустатора Алекса, а плазму размазать по Млечному Пути. Но грех торопливости мне чужд; я понимал, что должен добраться до хозяев. До них и до их мастеров-искусников, до производственной базы, источников сырья и рынков сбыта. Рынки, видимо, существовали; этот рай за пятью кордонами был не единственным на Земле. И потому я проследовал в свое бунгало и встретился в нем с кареглазой гурией. Не буду упоминать ее имени – собственно, имя принадлежит не ей, а женщине, что чаровала миллионы, любила, мучилась, жила и умерла лет пятьдесят назад от страшного, неизлечимого в те дни недуга. Ее репликант был теплой и покорной куклой, не слишком разговорчивой, но понимавшей сказанное, если не вдаваться в сложности – сколько будет семь на пять и почему летают птицы. Но она знала, что вода мокрая, что огонь жжет, что бич делает больно, что яблоки вкусны… Яблоки она любила. Еще ей нравилось плавать в бассейне, сидеть на моих коленях и слушать, как я напеваю или шепчу ей в ушко – не понимая смысла слов, она купалась в тихих мелодичных звуках. Я рассказал ей о себе и Уре-нире; она и Ольга – два существа, две женщины, которые слышали эту историю, но – ирония судьбы! – одна не поняла ни слова, другая не поверила… Будет ли третья? Тогда я считал, что это из области надежд и желаний, рождающих сны. Так мы развлекались днем – нежились в бассейне и наслаждались беседой и яблоками. Вечером я погружал ее в сон (она поддавалась гипнозу с необычайной легкостью) и ночью бродил по парку, осматривал виллы, служебные здания или переносился в закрытые темные залы, что прятались под бетонным кольцом, глядел на лица кукол в гипотермических камерах, на саркофаги в инкубаторе, где зрела сотня репликантов, касался клавиш компьютеров, слушал гудение установок, шелест текущей в трубках жидкости да тихие щелчки термореле. Эта скрытая жизнь острова мнилась мрачной и мерзкой, но сад, озаренный лунным сиянием, был прекрасен; рай элоев, куда заглядывают морлоки, чтоб поразвлечься с беззащитной плотью. Я искал. Искал, понимая, что здесь не челябинский объект, что тайные игры садистов не угрожают катастрофой миру и повода вмешаться нет, – но то, что тут творилось, было отвратительно! Насилие над человеческой природой – создать лишенный разума прекрасный облик и затоптать его в грязи… Пожалуй, в чем-то прав Смолянский, толкуя про ужас, неприязнь, отвращение… Их вызывают не войны и не расправы над побежденными, не институты промышленного и расового угнетения, не феодальная жестокость и даже не геноцид – все это в той или иной степени болезни роста, историческая неизбежность. Более отвратительно другое – насилия и унижения, которые творятся день за днем, в любые времена, цивилизованные и не очень; творятся в каждой крохотной ячейке общества, подпитывают ноосферу эмоциями безнадежности, страдания и страха. В крайних своих проявлениях они порождают садизм, мазохизм и сексуальные патологии, в умеренных – просто бытовое скотство. Чудеса науки лишь потворствуют им, предлагая новые формы и способы издевательств. Таков, к сожалению, закон: у всякого открытия есть оборотная сторона, и чем открытие важней, глобальней, тем эта сторона чернее и мрачнее. А генетическая репликация – из самых великих открытий! И вот результат. Безмозглые дубли живых и почивших, игрушки для избранных, тела, которые можно терзать, камеры особых развлечений… Приматы испражняются под себя… Я с ними разобрался. Кто ищет, тот всегда найдет, тем более в компьютерных сетях. И я нашел. Нашел их имена, проник в их планы, одних купил, других взял на испуг, а третьих уничтожил. Нет, не из бластера; есть способы иные, психологический удар, когда виновный, лишившись власти и богатства, теряет статус, а вместе с ним – уверенность и волю к жизни. Был солью, а превратился в грязь… Грязь, как известно, оседает на дно и воду не мутит. Грязь осела, и все со временем пришло к концу. Институт генетики, хоть в нем кое-кого недосчитались, по-прежнему плодит мясо-молочных тварей; пару фигурантов из президентской администрации отправили на заслуженный отдых, один чиновник застрелился, другого разбил паралич; распался консорциум трех бизнесменов, но все они живы-здоровы – просто перетекли в сферу торговли колбасой и фруктами; кордоны на дорогах сняты, репликантная машинерия демонтирована, Алекс, эксперт-дегустатор, рекламирует курорты Греции и Турции, а его коллеги рассосались кто куда. Торжество справедливости? Возможно, возможно… Но райский остров существует – закрытый мирок, в котором то ли дремлют, то ли живут шесть сотен обитателей. Куда мне их девать? Они не больны, однако неизлечимы; они похожи на людей, но, в общем-то, не люди – так, промежуточное звено между амебой и homo sapiens; они не способны мыслить, но ощущают боль и страх и даже радость – от ласковых слов и сытного корма. Они беспомощны, но проживут еще долго, и я боюсь покинуть их – так умирающий старик боится за свою собаку или канарейку. Что будет с ними, если я уйду? Что будет с ней, с той кареглазой гурией, моей подругой на четыре дня? Она живет на острове, в раю элоев – тень среди теней, выпавшая из реальности живого мира. Бе не насилуют, не мучают, а позволяют тихо дремать, есть яблоки, купаться, слушать щебет птиц… Что еще я могу сделать?* * *
В сущности, ничего. Земной пейзаж обширен и по большому счету не подлежит стремительным глобальным изменениям. За время жизни его не перепишешь, только коснешься кистью здесь и там, оставив где мазок, где штрих, где волосинку от потертой кисти. Возможно, я сумею уберечь людей от самых страшных катастроф, но в остальном – бессилен. Ни сотворить их заново, ни сделать лучше я не могу; не смог бы и весь Уренир, явись он сюда во всем своем блеске и мощи. И потому, если вернуться к проблеме контакта, я с болью в сердце признаю, что мысль Смолянского все же ошибочна. Ужас, неприязнь, отвращение… Это мы как-нибудь стерпим, переживем! А вот бесполезность, бессмысленность – вряд ли. Контакт означает нечто позитивное, нечто такое, чем старший одаривает младшего, имея в виду, что дар не используют во вред. Так чем же мне осчастливить моих земных собратьев? С чего начать раздачу слонов? С проекта космического корабля для звездных войн? Или с таблеток бессмертия, которые вызовут демографическую катастрофу? Или с источника мощной энергии, чтобы они взорвали свое солнце? Скорее уж с новых идей о смысле жизни и творческой мощи разума, которые можно подкинуть в компьютерную сеть… Но тут начинается самое трагическое и смешное: эти идеи землянам известны, но числятся пока в разряде фантастических. Перестройка планет, сфера Дайсо-на, полеты со сверхсветовыми скоростями, тайны хаоса, телесные метаморфозы, вечная жизнь, телепатия и телекинез, предвидение будущего и так далее и тому подобное… Быть может, все это станет реальностью, но мечты о странствиях среди звезд, бессмертии и могуществе – не из главнейших достижений земной философской мысли. Главное им известно: надо быть хорошими парнями. Они знают, что фанатизм – будь он расовым или религиозным – не доведет до добра, что политические игры мерзки, что бедным надо помогать, что щедрость, благородство, честность – высокие достоинства, а властолюбие и жадность – грех, что пушки – это очень плохо, а масло – хорошо. Знают! Чему еще могу я научить? Учит только время. Или губит.ГЛАВА 9 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Дни восьмой и девятый
Покинув руины Лашта, мы двигались тридцать минут, затем остановились на ночлег рядом с маяком, снабдившим нас кое-какими припасами. В ту ночь я долго не мог уснуть; лежал и слушал тихое дыхание Фэй, глубокое и мощное – Макбрайта, ловил скрип камешков под башмаками нашего стража да поглядывал в сумрачные беззвездные небеса. По моим расчетам было полнолуние. Мгла у восточного горизонта казалась чуть-чуть посветлей, и, наблюдая за небом в течение часа, я убедился, что светлое пятно перемещается, всплывая к зениту. «Быть может, флер начинает редеть?.. – мелькнула мысль. – Отчего бы и нет? Вуаль тает, фрагменты ее распадаются, и, вероятно, эти туманные структуры наверху тоже не вечны. Вдруг исчезнут? Проснемся, а над нами – голубое небо…» Я усмехнулся этой наивной надежде и приказал себе уснуть. Но перед тем активировал крохотный участок памяти, где хранилось нечто приятное, обещавшее отдых и разрядку после блужданий в развалинах Лашта. То был один из детских снов о Рахени; теперь он меня не пугал, воспринимаясь как драгоценный дар минувшего, сказочная реальность, полная алого света, зеленоватых океанских волн, брызг, поднятых ударами плавников, звонкого посвиста ветра и ощущения необъятной, неограниченной свободы. Я снова стал хранителем и воином, стремительным, подвижным, сильным; я мчался в малахитовой воде, высматривая скопища кальмаров или огромных медуз, чтобы пронзить их бивнем, разметать, освободить дорогу для детенышей и самок. По временам волны подбрасывали меня, тело изгибалось, как напряженный лук, взмывало в воздух, насыщенный морскими испарениями, и тогда я видел соплеменников, других хранителей-бойцов, что мчались слева и справа широкой дугой от горизонта до горизонта. Я видел их и слышал их воинственную песню и, раскрывая жаберную щель, тоже кричал и пел, сливая голос с хором других голосов, знакомых и незнакомых, но одинаково родных. Были среди них друзья, были дарившие радостью самки, были детеныши-наследники, но я не могу назвать их имен и не могу произнести названий тех вод, отмелей и глубин, которыми мы плыли. Нет, я не забыл их, но звучат они в памяти, ибо человеку – не важно, с Уренира ли, с Земли – так не сказать, не выкрикнуть, не протрубить. Не хватит ни сил, ни легких… Утром Фэй, взглянув на меня, промолвила: – Этой ночью, командир, вы отдыхали в яшмовом дворце Хуанди[609] на девятом небе? – Сон, – ответил я. – Просто хороший сон. – Что же вам снилось? – Я был огромной рыбой, величиной с касатку, и плавал в бирюзовых водах, в бескрайнем океане, в котором нет ни островов, ни континентов. Плавал, сражался и пел. Она подняла тонкие брови. – Разве рыбы поют? – Случается. Не на Земле и не совсем рыбы. Весь день мы шли по базальтовому плато и одолели километров сорок. Местность была довольно ровной, без глубоких расселин и каменных россыпей, и до границ этого огромного бассейна ни Фэй, ни я достать не смогли. Я питал надежду, что зона безопасного пространства тянется к самому Тиричмиру и, возможно, еще дальше, к Шахрану[610] и даже к Чарикару[611] и Кабулу, но это был бы слишком щедрый дар, каких Фортуна просто так не преподносит. Действительно, к вечеру Фэй доложила, что впереди вуаль и кое-что еще – вода и будто бы намек на зелень, кусты или деревья. Я тоже это ощутил – вуаль, и близость водного потока, и что-то похожее на растительность, но необычную: скорее высокие травы, чем лес или заросли кустарника. Но если и так, это было великим открытием! До сих пор нам не встречались озера и реки, тем более что-то живое; мы не нашли ни единой былинки в этой пустыне, ни червяка, ни крохотного насекомого. Да и цветовая гамма, если не считать «катюх», была унылой – серое, бурое, черное… Мысль, что мы увидим зелень, нас приободрила; Фэй ра-зулыбалась, Джеф слегка повеселел, и даже Сиад кивнул с довольным видом. Возможно, они почувствовали влияние эоита. До его активной области оставалась сотня километров, однако живая энергия уже пронизывала нас – слабые, очень слабые токи, струившиеся сверху вниз и снизу вверх. Это меня успокоило. Каким бы ничтожным ни казался ноо-сферный ветер, главное, он был, и, значит, эоит не поврежден и связь с Вселенной сохранилась. Впрочем, как ее разрушить? Ноосфера материальна, но все же это объект иной природы, чем металлический рельс или скала; ее не развеешь в воздухе взрывом, не уничтожишь лазерным лучом. В то же время она явление тонкое, хрупкое, деликатное, зависящее от совокупной мыслящей массы, и, если число живущих на планете меньше определенного предела, канал вселенской связи не откроется. Открывшись, может закрыться через год или век – при деградации общепланетного разума или же в случае катаклизмов, снизивших численность населения. Я знал о подобных феноменах, однако знание не уменьшало тревоги – ведь катастрофа, случившаяся здесь, была так необычна! Это с одной стороны, а с другой – что нам известно о ноосфере Вселенной? В общем-то, лишь факт ее существования да кое-какие мелкие детали… Вполне объяснимое неведение; как я говорил, человек не в силах разгадать все тайны природы, а лишь моделирует тот или иной процесс с тем или иным успехом. Наш человеческий мозг и наше тело, наши чувства и органы восприятия ставят познанию границу, но в этом нет трагедии – ведь мы способны изменить свой облик и перейти в иное качество, если желаем познать те истины, что были прежде недоступны. Например, превратиться в Старейших, для коих Мироздание – открытая книга… На девятый день, в пятом часу пополудни, мы добрались до крутого склона, ведущего к равнине. Его пересекал речной поток, довольно широкий и быстрый; воды текли по плоскогорью с северо-запада, бурно свергались по склону и уходили на юг у подошвы обрыва, повторяя все ее изгибы. Утесы и камни, торчавшие тут и там, делили реку на три рукава, которые сливались внизу в большое, похожее на развернувшегося питона озеро, вытянутое вдоль лабиринта скал. За их грядой трепетало под ветром серо-зеленое море какой-то растительности, а дальше, замыкая горизонт, громоздилась новая скалистая стена. Макбрайт, который до того был молчалив и угрюм – видимо, переживая крушение проекта по изучению вуали, – приблизился к речному берегу, взглянул на водопад и буркнул: – Переправимся западнее, босс? Течение там не такое мощное, в провал не снесет. Форсируем реку и спустимся к скалам у озера, а затем – в лес… Годится? Я посмотрел на девушку, уже предчувствуя, что она скажет. – Не годится, мистер Макбрайт. Вуаль. – Она повела рукой слева направо, словно задергивая занавес. – Весь склон прикрыт вуалью и оба берега реки – там, на западе. Там мы не сможем к ней приблизиться. – Фэй сморщила носик, склонила голову к плечу и сообщила: – Но, кажется, в воде вуали нет. – Кажется или точно? – нахмурившись, спросил Макбрайт. Не отвечая, Фэй сбросила рюкзак, спустилась по камням к бурлившему потоку и, погрузив в него ладони, замерла. Мы терпеливо ждали. Восстановив в памяти карты местности, я попытался сообразить, что за река перед нами. Рич или Ярхун, самые северные притоки Инда? Вряд ли. Рич струился с севера на юг, Ярхун – с востока на запад и где-то в районе Лашта тоже сворачивал к югу; затем обе реки сливались километрах в двадцати восточней Ти-ричмира. К тому же Рич и Ярхун были горными реками, питавшимися от ныне исчезнувших ледников и не такими полноводными, как эта внезапная преграда. Мысленно обозревая ее, протягивая ментальный щуп вверх по течению, я ощутил, что воды бьют из-под земли где-то неподалеку, что их исток прикрыт вуалью и что река глубокая, холодная и чистая, однако безжизненная. Ни рыб, ни водорослей, ни микроорганизмов… Стерильный дистиллят. Фэй выпрямилась и повернулась к нам. Капли падали с ладоней на ее оранжевый комбинезон, оставляя темные пятна. – В воде вуали нет. Русло глубокое, в три-четыре человеческих роста. Вуаль начинается сразу над водной поверхностью, и здесь, – она махнула в сторону правого речного рукава, – ее ширина наименьшая. Думаю, метров тридцать… Левее вуаль расширяется до берега озера, и это будет… – Фэй прищурилась, оценивая расстояние. – Да, не меньше половины километра. Мне полагалось кое-что спросить, и я спросил: – Плотная? – Нет, командир. Не такая, как на границе Анклава. Похожа на ту завесу, что была перед Лаштом. Макбрайт сплюнул в воду и оглядел бурливший под нами поток, клыки утесов, что поднимались из ожерелий пены, и хаос скал на другом берегу. Потом презрительно фыркнул: – Не Ниагара! Опять же, тридцать метров… Можно поднырнуть. – Вода ледяная, – сообщила Фэй, растирая покрасневшие ладошки. – В комбинезоне… – началМакбрайт, но тут же, оборвав фразу, пробормотал: – Дьявольщина! Наши рюкзаки! – Еще ледорубы и мачете, – добавил я. Мы переглянулись. – Трос? – вымолвил он. – Трос. – Сдвинув брови, я изучал берег за правым речным рукавом, нагромождения бурых глыб и скал, исчерканных провалами расселин. – Дистанция двести – двести сорок метров, страховочного троса хватит. Если его закрепить здесь, у берега, а там – на вершине скалы, перепад высот составит метров семьдесят… Набравший скорость груз пролетит за мгновение. Через вуаль, – уточнил я и начал разоблачаться. – Уверены, что справитесь? – спросил Макбрайт, едва заметно показав глазами на Сиада. – Справлюсь. Мы, люди севера, к холоду привычны. – Стащив комбинезон и башмаки, я сделал несколько быстрых приседаний. В общем-то, имитация разогрева; я не нуждался ни в тепле, ни в энергии. – Отправите груз, потом прицепите к канату страховочные концы на роликах, и в воду. Лучше плывите в комбинезонах. Первая – Фэй, за нею Сиад. Вы, Джеф, идете последним. – Немного поколебавшись, я добавил: – Сиаду присматривать за Фэй. Без нее мы тут и шага не ступим. Девушка вздернула подбородок, но промолчала. Мой чернокожий спутник кивнул, выкладывая на земле ровные кольца каната. Джеф уже собирал арбалет, щелкал затвором, прилаживал деталь к детали; они с Дагабом были людьми опытными и не нуждались в подробных инструкциях. «До сумерек часа три, успеем переправиться», – мелькнула мысль, когда я приблизился к воде. Дурные предчувствия меня в этот миг не терзали, даже наоборот – было приятно стоять на камнях, ощущая ступнями их шероховатые спины, ловить чуть заметный поток энергии, струившейся сквозь меня, и думать о том, что завтра он будет еще сильнее. Почти бессознательно я попытался открыть пространственный канал, но ничего не вышло, и это меня не расстроило. Анклав есть Анклав… К счастью, имеются руки, ноги и самый обычный способ перемещаться. За моей спиной звонко лязгнула пружина арбалета. – Готовы? – спросил Макбрайт. – Пошел! – откликнулся я и прыгнул в воду. Поток был стремителен и неистов; его тугие струи подхватили меня, спеленали с жестокой властной силой, обожгли холодом. Восстановив терморегуляцию, я вверил бешеным водам свою драгоценную плоть, позволил обнять и нести ее вниз, к утесам, где водопад разделялся натрое; я падал вместе с ним, в брызгах пены и оглушительном рокоте, и на мгновение мне показалось, что я опять несусь по волнам океана Рахени, взмывая к небу и соскальзывая в пропасти между валами. В следующий миг я осознал, что приближается стена вуали, и скрылся от нее в глубине, стараясь держаться у правого берега. Я опустился к самому дну и, не прекращая стремительного движения, провел пальцами по каменной тверди речного ложа – она была гладкой, отполированной, будто река струилась здесь не считанные годы, а миллионы лет, шлифуя, разрезая и снова шлифуя край базальтового монолита. Затем камень под моей рукой резко пошел вниз, турбулентные вихри попробовали вытолкнуть меня к поверхности, и, сражаясь с ними, я оставил эту мысль. Держаться внутри водопада – нелегкий труд, гораздо проще оседлать его и рухнуть в полную рева и грохота бездну. Я проделывал это не раз, снова и снова восторгаясь невиданным для Уренира чудом – мощью вод, что падают и падают тысячелетия, не останавливаясь, не иссякая, не умолкая. Самый величественный из водопадов, позволивших мне прокатиться на своих плечах, – Игуасу на границе Бразилии и Аргентины. Он чуть меня не прикончил, слизнув запас энергии и вышвырнув в тихие воды избитым, оглушенным и не способным телепортироваться даже на длину руки. Дело случилось лет пятьдесят назад, после трагедии с Ольгой, когда, пытаясь забыться, я перебрался в свое поместье в Мисьонесе[612]. Я плыл в ночное время, чтоб избежать внимания публики, плыл и плыл, думая о своей утрате, не зная, жив ли еще или умер, плыл в темных медлительных водах, пока не вылез на западном берегу Параны. Там, в болотистой сельве, я и схватился насмерть с ягуаром – тот решил, что я посягаю на агути, его законную и недоеденную добычу. Свирепый зверь, опаснее суукского катраба! Вразумить его мысленно не удалось, пришлось ломать хребет… Зато мне достался агути, которого я и съел. Стена вуали больше не висела надо мной, холодные острые струйки не кололи кожу, течение сделалось более плавным и несло вперед не с той необоримой стремительностью, как прежде. Я вынырнул и, энергично загребая воду, поплыл к западному берегу. Поток старался утащить меня в озеро, швырнуть на камни, но это ему не удалось – я был сильнее и выиграл наш недолгий спор. Серьезный водопад, но все же не Ниагара, не Игуасу… И речка не того калибра, и звери вокруг не водятся… Я фыркнул, представив, что среди скал меня поджидает какой-нибудь хищник – не ягуар, а, как положено в Азии, барс или бенгальский тигр. Волна подхватила меня, бросила к берегу с явным намерением переломать все кости, но подвернувшийся камень лишь ободрал колено. Я вылез из воды, отдышался, остановил кровь и завертел головой в поисках подходящего утеса. На обрыве, над пенной завесой водопада, суетились три фигурки: одна, зеленая, целила прямо мне в живот, оранжевая с желтой возились с мешками, привязывая к ним мачете и ледорубы. Я помахал рукой, зеленая фигурка дернулась, и арбалетный болт сверкнул в тусклом послеполуденном свете, разворачивая и вытягивая почти невидимую нить. Затем в трех шагах от меня звякнуло, я подхватил с земли острый титановый штырь, намотал на запястье конец тросика и полез на ближайшую скалу – из тех, что была повыше. Полимерный трос был прочным, легким и практически нерастяжимым, усилие разрыва – около двенадцати тонн. Я обмотал им выступ на вершине утеса, торчавший словно гигантский палец, затем полюбовался своей работой: чуть поблескивающая линия падала сверху к моим ногам, пронзая стену вуали в самом тонком месте. Прошла минута, затем другая; канат вибрировал, тихо гудел, но был по-прежнему прочен и надежен. Далекий крик Макбрайта, чуть слышный за рокотом вод, раскатился вдоль обрыва: спу-у-ска-ать? Я снова взмахнул рукой, и фиолетовый мешок с привязанным к нему оружием скользнул по натянутому тросу. Его полет свершился быстро – полминуты, не более, и прибыл он ко мне без всяких повреждений, какие могла бы причинить вуаль. Правда, грохнулся о камень, но ни фарфоровых чашек, ни хрустальных рюмок мы с собой не брали. Отстегнув карабин, я вытащил свою одежду, натянул ее, зашнуровал башмаки, подпоясался и пристроил мешок с остальным добром у камня, чтобы смягчить удар в финальной точке траектории. Мне благополучно спустили еще три рюкзака, и я перетащил их вниз, в расселину с неглубокой нишей у основания скалы. Сумерки еще не наступили, видимость была отличной, и наша переправа могла завершиться в ближайшую четверть часа. Троим моим спутникам полагалось проплыть по западному рукаву, нырнуть под вуаль и выбраться к скалам; плыть в комбинезонах и со страховкой – тросиком, скользившим вдоль каната на роликовом карабине. Этот страховочный конец удержит их, если течение начнет сносить в центральную или восточную протоку, что маловероятно, если не удаляться от правого берега. Главное, вовремя уйти ко дну и не высовывать носа пару секунд, пока не протащит под вуалью… Еще, конечно, не разбить о камень голову, не вывихнуть шею, не переломать костей и не лишиться чувств – но это для экстре-малыциков не проблема. По-настоящему я беспокоился только о Фэй. Наверху о чем-то спорили. Сиад ждал, равнодушно отвернувшись от спутников, Джеф размахивал руками, показывая то вниз, на падавшую в пропасть воду, то на блестящую ниточку троса; Фэй слушала, по временам склоняя голову или делая отрицательный жест. Прикидывают длину страховки, подумал я и недовольно нахмурился. Что за пустые споры? Метров сорок – сорок пять; свобода маневра обеспечена, и хватит, чтоб не снесло к востоку. Я посмотрел на канат – он, казалось, чуть-чуть провис, но это скорее всего было игрой воображения. Фэй и Макбрайт разом кивнули – видно, пришли к согласию. Сиад, согнувшись и стоя спиной к обрыву, что-то привязывал к поясу девушки – наверное, страховочный конец; Джеф присел, защелкнул на канате роликовый карабин. Это было простое, древнее, но надежное приспособление, с петлей, которая закреплялась под мышками, и тормозом для регулировки скорости спуска. Но ни петля, ни тормоз не нужны; Фэй не полетит, а поплывет, и потому… В следующее мгновение я окаменел: Фэй пропустила петлю под мышками, с силой оттолкнулась и понеслась над водопадом. Ее оранжевый комбинезон был как язычок огня на фоне сумрачных небес; казалось, что под облаками вспыхнула комета и мчится теперь ко мне, с каждым мгновением набирая скорость. Вниз, вниз, вниз! Не притормаживая, все быстрее и быстрее, прямо в вуаль! Она преодолеет стену за секунды, мелькнуло в моей голове; затем – легкое усилие мысли, и я получил точный ответ. Три целых и двенадцать сотых… Ничтожное время, но как посмотреть: пересекая вуаль у городских руин, мы пробыли в ней гораздо меньше – меньше на порядок, подсказала память. Я замер, не в силах пошевелиться; завеса времени отдернулась на миг, позволив мне заглянуть в грядущее. Ничего хорошего, ровным счетом ничего! Плотно сжатые губы Фэй и помертвевшие глаза – лишь это я увидел в приоткрывшуюся щелку. Но, кажется, она дышала… Или мне почудилось, что ноздри ее трепещут?.. Мое оцепенение прошло. Мысленно проклиная Мак-брайта, я бросился к реке; камни скрипели и стонали под подошвами башмаков. Фэй уже была в опасной зоне, мчалась, будто чайка над волнами. Обойдется?.. Нет?.. Тонкий звон лопнувшего каната был почти не слышен в шуме падавшей воды. Вуаль, подумал я, вуаль! Слишком долго провисел в вуали! Как действует она на полимер? Разъедает? Инициирует процесс старения? На миг мелькнула безумная мысль: может, вуаль каким-то образом повязана с законом Мэрфи – все, что способно ломаться, ломается, а заодно ржавеет и гниет? В самом стремительном темпе? Выбросив эту идею из головы, я с ужасом следил за Фэй. Ее полет прервался; раскинув руки, она устремилась вниз словно планирующая птица, но вдруг тело ее обмякло и, взметнув фонтаны брызг, девушка рухнула в воду. За грядой камней в кипящих бурунах, и это было хорошо; но плохо, что ее потащило в среднюю протоку. Под вуаль! Если вынесет к дальнему берегу озера, тоже прикрытому вуалью, как до нее добраться? Но я уже знал, что не брошу ее, не оставлю – погибну, но загляну ей в лицо хотя бы один-единственный раз. Сжатые губы и помертвевшие глаза… Не так уж приятны вести из будущего! Любые, хорошие или дурные – не важно; получив их и зная, что произойдет, мы покоряемся обстоятельствам. Река событий уносит нас, словно безвольную щепку, тащит и направляет к тому, что должно случиться, лишая главного – надежды. Прозрение будущего полезно лишь тогда, когда представляешь его как многовариантный и управляемый процесс; неумолимые тиски детерминизма противны человеческой природе. Я уже плыл, сражаясь с течением и энергично загребая воду. С того момента, как рухнула наша переправа, прошло совсем немного времени, минуты две, но Фэй провела их в потоке, который нес ее через вуаль – возможно, мертвую или израненную, но я надеялся на лучшее. Комбинезон и каска были хорошей защитой, да и камней в нижнем течении нет – плыви и только старайся не задохнуться. А вот вуаль… В мозаике, которую я терпеливо складывал, зияли слишком большие прорехи, чтобы ответить на главный вопрос: что происходит с живым организмом? С одной стороны, быстрое – очень быстрое! – пересечение вуали нам не повредило, с другой – останки китайской экспедиции и Лашт, заваленный костями… Возможно, дело в сроках? Малый не опасен, большой ведет к летальному исходу… Но что это значит – большой? Месяц? Сутки? Час? Тридцать три минуты – срок, за который износился трос? Оранжевое пятнышко мелькнуло среди волн, и я устремился к нему с надеждой в сердце. Течение вынесло Фэй из-под вуали и толкало теперь к берегу, к лабиринту утесов и глыб, где находились наши рюкзаки. Она, очевидно, была в сознании и дрейфовала на спине, чуть пошевеливая руками, стараясь, чтобы не заливало рот; шлем ее был целым, даже бинокль не поврежден – знак отсутствия серьезной травмы. Приблизившись к ней, я нашарил маленький насос у пояса и подкачал немного воздуха в комбинезон. Она протяжно вздохнула. – Командир? – Да. Как ты, девочка? – Не вижу… ничего не вижу… все мелькает… кружится… – Чувствуешь боль? – Нет. Но… – Тогда помолчи. Я поплыл к скалам, подталкивая ее перед собой и ощущая странную ауру покоя, которая окружала девушку. Покой, но не тот, что приходит на смену усилию, напряжению, схватке за жизнь и, к счастью, не вечный – умирать она явно не собиралась. Скорее апатия, сонное безразличие, какое охватывает контуженых… Ударилась о воду? Или все-таки протащило по камням? Пришлось повозиться, пока мы выбирались на берег: дно тут было глубоко, а накат течения – жестокий и сильный. Наконец я справился с ним, поднял Фэй на руки и зашагал к той нише, где было сложено наше имущество. Кажется, этот момент явился мне в видении – ее лицо с плотно стиснутыми губами, и глаза, глядевшие вверх, но, вероятно, не замечавшие ничего. Была еще какая-то странность, к которой я не присматривался – путь по камням был нелегок и поглощал меня целиком. В нише я вытряхнул вещи из рюкзака, надул его и перенес Фэй на это упругое ложе. Потом осмотрел, освободив от башмаков, комбинезона и шлема. Их яркий цвет поблек, но вмятин и разрывов не нашлось; на теле тоже ничего, ни переломов, ни открытых ран, лишь пара синяков. Однако ее сонливость и апатичный вид внушали опасения. В наших аптечках имелись всякие бодрящие снадобья, и, будь мы не одни, я вколол бы ей адреналит с глюкозой или дал таблетку алеф-стимулятора. Но в это время и в этом месте таиться не было нужды. Я прикоснулся к ее вискам, провел по нежной коже пальцами, нащупывая контактные зоны, почувствовал едва заметное тепло и, дождавшись, когда оно перейдет в покалывание, что было признаком резонанса, послал энергетический импульс. Не очень мощный, но достаточный, чтобы справиться с ее апатией, восстановить истраченные силы и подстегнуть обмен. Фэй вздрогнула; черты, до той поры расслабленные, вялые, внезапно отвердели, и я, отшатнувшись в изумлении, на миг закрыл глаза. Потом открыл и посмотрел в ее лицо. Знакомое и будто без особых перемен: брови, приподнятые к вискам, густые, загнутые вверх ресницы и вертикальная морщинка над переносицей, яркие, изящных очертаний губы, ямочка на подбородке, глаза, словно темный янтарь, бледно-смуглая гладкая кожа… Но детская припухлость щек исчезла, а вместе с ней – та мягкость, неопределенность черт, которая свойственна юности и околдовывает многих, скрывая, как полупрозрачный туман, будущую красоту и тайну. Многих, но не меня; мне нравятся формы зрелые и завершенные, пришедшие в гармонию и обещающие тайны не в грядущем, а сейчас. Я смотрел на Фэй, она смотрела на меня. Уже не девочка – женщина, каким-то чудом шагнувшая за две минуты к порогу тридцатилетия.* * *
Она пошевелилась и села, прикрыв ладошками нагие груди. – Что? Что-то не так с моим лицом? – Не так, – подтвердил я. – Ты стала много краше. Это бывает с девушками, когда они взрослеют. – Но разве я… – Не волнуйся. Ничего плохого с тобой не случилось. Даже наоборот. Я поднялся и вылез из расщелины. О том, что произошло с Фэй, могли быть разные мнения: то ли она потеряла годы жизни, то ли нет. Останется такой, как нынче? Или механизм перемен, запущенный вуалью, будет раскручиваться все быстрей, от зрелости – к увяданию, от увядания – к дряхлости? Впрочем, маловероятно; слившись с Фэй в момент резонанса, я не нашел никаких патологий. Ровным счетом никаких, кроме одной-един-ственной: в биологическом смысле она постарела лет на восемь-десять. Внезапная мысль кольнула меня. Быть может, все дело во времени? Нет никакой субстанции, ни газа, ни силового поля, ни коллоида, которые могут ускорить процессы распада, а просто в вуали оно течет иначе? Десять лет за две минуты… Месяц за секунду… Шагнув через вуаль у Лашта, мы потеряли несколько дней, чего, пожалуй, не заметишь, но трос, провисевший полчаса, состарился на полтора столетия и лопнул… И все эти люди, что жили в Анклаве или пытались его исследовать, погибли естественной смертью, состарившись также стремительно, как наш канат… Люди и животные, дома и техника, и кости, и тот ковер в мечети… Вспомнив про кости и ковер, я решил, что в разных зонах время может течь по-разному – или, возможно, этот процесс связан с плотностью вуали. Кто ведает? Высокие звезды! Время – такая тонкая материя! Даже на Уренире оно остается тайной, полностью открытой лишь Старейшим; мы, существа из плоти и крови, кое-что знаем о времени, но не умеем им управлять. Смеркалось. Я уже не различал цветов, и две фигурки над обрывом были одинаково темными: побольше – Си-ад, поменьше – Макбрайт. Увидев меня, он замахал руками, подавая сигналы в принятом у экстремалыциков коде, – спрашивал, как Фэй. В порядке, ответил я и погрозил ему кулаком. Руки Джефа снова пришли в движение – теперь он интересовался, должны ли они с напарником форсировать преграду. Я сделал отрицательный жест, потом уточнил: «Слишком темно. Переправитесь завтра. Ночуйте на плоскогорье». С вершины скалы, служившей нам убежищем, свисал канат. Большая часть его полоскалась в воде, унесенная течением, и я потратил несколько минут, чтобы вытянуть ее, уложить аккуратной бухтой и осмотреть место разрыва. Трос был диаметром в пять миллиметров, но кончик его утончался, словно прочнейший полимер растягивали год за годом, десятилетие за десятилетием, пока он не лопнул, сбросив в пропасть непосильный груз. Не стоило на него обижаться; он честно отслужил нам больше века. Вытащив нож, я обрезал подвергшийся старению конец и вернулся в нишу. Фэй, по-прежнему нагая, сидела на матрасе-рюкзаке, скорчившись и уткнувшись лицом в колени. Ее дыхание было неровным; кажется, она старалась не разрыдаться, но всхлипы и стоны, едва слышные, все же нарушали тишину. У босых ног девушки лежало зеркальце – круглое, маленькое, в треть ладони. Я опустился рядом и обнял ее за плечи. – Командир… – Долгий протяжный всхлип. – Зови меня Арсеном. И говори на русском. Это ведь наш родной язык, твой и мой. Фэй приникла ко мне, дрожа. Но не от холода; я знал, что полученный ею импульс живой энергии бодрит и согревает. – Что со мной, Арсен? – Она произнесла мое имя так просто, так естественно, что не было сомнений: произносила его не раз, но лишь в мечтах и снах. – Что с моим лицом? Я погладил ее шелковистые волосы. – А как ты думаешь? – Я постарела, да? Я совсем дряхлая и некрасивая? – Ну, я бы не сказал. Ты стала ближе мне по возрасту, хотя бы внешне. Это плохо? – Не знаю. Еще не знаю. – Она помолчала, шмыгнула носом, вытерла глаза ладошкой. – Вы… ты… ты понимаешь, что случилось? Воздействие вуали? – Вероятно. Что ты почувствовала? – В первый момент – ничего. Потом темнота… Нет, не так! Все будто расплылось перед глазами, размазалось, замелькало… серый фон и тишина… такая тишина, будто умерли все звуки… Я знала, что плыву, дышу и шевелю руками, но это было знание, не ощущение… – Фэй откинула головку и посмотрела на меня. – Я ничего не чувствовала, понимаешь? Ни тела, ни воды, ни ударов о камни… Потом ты меня выловил. Это все. – Уже немало, – заметил я. – Совсем немало! Выходит, я удачливый рыбак – выловил жемчужину из моря жизни, такого обширного и бурного. Большая редкость, славная добыча! – Смеешься… Знаешь, ты повторил сейчас слова моих наставников в Хэйхэ. Они говорили, что жизнь – служение, долгое унылое служение, и радости в ней редки, как жемчуг в море… Разве не так? Она прижалась ко мне еще тесней, словно боясь, что я разомкну объятия. Кожа девушки пахла водой, текущей с гор, и ветром, что носился над ковыльной степью. – Не так. Твои наставники лгали, Фэй; жизнь – не служение, а праздник, и радость в ней частая гостья. Просто бывают радости большие и малые. Такие, как жемчуг, и такие, как скромное колечко из перламутра. Слезы ее высохли, дыхание сделалось жарким. Щекоча губами мое ухо, она прошептала: Я твоя большая радость? Да, Арсен? В голосе Фэй было столько надежды, такое желание найти тот самый драгоценный жемчуг, что я невольно вздрогнул. Я одинок, но в этом мире одиночество не исключение, а правило; лишенные связующей телепатической сети, мои земные соплеменники не в силах разделить ни горя, ни тоски, ни радости друг друга. Этот грех отчасти искупается любовью, но и она – редкостный дар, который скудные сердцем и разумом путают с похотью, физиологией или инстинктом продления рода. Любовь совсем иное чувство, синтез красоты и веры, ума и искренности, самоотверженности и отваги, а это даровано не всем. Одним – одно, другим – другое, и вечно чего-то не хватает… Ольга, моя радость, моя боль… Был ум, была красота, и были самоотверженность и искренность… Чего же не хватило? Смелости и веры?.. Хватит ли у этой девочки? Я поцеловал ее. Губы Фэй, сухие и горячие, обжигали. Я видел ее лицо в наступающих сумерках – повзрослевшее, полное жажды понять и разделить. Ее аура обволакивала меня любовью, теплом и желанием. Но нет, еще не сейчас, не сейчас… – Скажи, о чем вы спорили с Макбрайтом? Был приказ не лезть в вуаль, но ты его нарушила. Как он тебя уговорил? Она виновато моргнула. – Хитрый, словно змей… Сказал, что мы прошли через вуаль у Лашта и ничего плохого не случилось… сказал, что ты напрасно осторожничаешь… сказал, что мы еще пересечем вуаль, пересечем не раз, если не сегодня, так завтра… – Фэй стиснула руки, и я почувствовал, как тело ее напряглось. – Когда-нибудь придется пересечь, – пробормотала она, – и ты это сделаешь первым, меня не пустишь… Тем более что ты не слеп. Зачем тебе мои глаза? «Ловко!.. – подумал я. – Не вышло с Сиадом, так сыграл на чувствах девушки, чтобы отправить ее в вуаль! Но с какой целью?» Ответ был прост: Макбрайту хотелось собрать побольше информации. Тем или иным путем, правдой или неправдой, даже рискуя жизнью Фэй, нашего проводника в этой гибельной пустыне. Как ни удивительно, меня он считал большей ценностью – чем-то наподобие компьютера, который все запоминает, раскладывает по полочкам и может сделать выводы из собранных фактов. Мне казалось – нет, я был уверен! – что нежелание делиться с ним моими гипотезами и наблюдениями раздражает Мак-брайта; он, несомненно, привык, что всякий смертный, удостоенный беседы, будет горд подобной честью. Такова психология миллиардеров, королей, народных избранников и прочих власть имущих, одна из их божественных прерогатив… Но они, как правило, лишнего не болтают, не выдают секретов фирмы и, контактируя со смертными, излучают харизматическую силу и уверенность, чего о Макбрайте не скажешь. Странная личность и странные комплексы… Стемнело. Небо придвинулось к нашему убежищу, накрыв его темным сукном, кое-где истертым до дыр, – и, приглядевшись, я понял, что вижу силуэты созвездий. Свет встававшей на востоке луны казался более ярким, чем вчера, и, значит, с флером действительно что-то происходило: он таял, редел, расплывался. Вуаль подрагивала в отдалении, словно колеблемая ветром кисея, мертвые речные воды бились о берег, долгий протяжный вопль донесся с равнины за лабиринтом скал. – Что-то живое, – промолвил я. – Чувствуешь? Фэй кивнула. Ее дыхание грело мой висок. – Арсен? – Да, милая? – Я хочу сказать… Я… Она замерла в нерешительности, сжалась, будто испуганный зверек. Выбор, схватка между любовью и долгом, мелькнуло в моей голове. Но что она должна Великому Китаю? Не больше, чем я – России или любой другой стране в этом нелепейшем из миров. Долг за право родиться на определенной территории, впитать идеи, что выгодны властям, и получить толику знаний? Нонсенс! Бессмыслица в сравнении с реальными долгами – перед любимым человеком, своим потомством, будущим и всей планетой, наконец. Судорожный вздох. Мне не хотелось выпытывать ее тайну, но дело могло закончиться слезами. – Тебе что-то поручили? Следить за мной? За Мак-брайтом и Дагабом? – Следить, да… И еще… Еще, если узнаю что-то важное, уйти. Бросить вас в Анклаве. – А если не узнаешь? – Тоже бросить и уйти. Я должна вернуться одна. Так велели. Кто велел, выспрашивать не стоило – ясно, что не Жиль Монро, координатор. «Вот тебе и сбалансированный состав участников экспедиции! – подумал я. – Каждый подводит свой баланс, и если с Фэй мы разобрались, то остальная бухгалтерия темна, словно доходы мафиози». Фэй всхлипнула – переживала совершенное предательство. Любовь и государственные интересы… «Да здравствует любовь!» – подумал я и отыскал ее губы. Спустя минуту, задыхаясь, плача и смеясь, она спросила: – Ты не сердишься? В самом деле, не сердишься? – Нет, моя фея. – И я тебе нравлюсь? Нравлюсь такой, как сейчас? Правда? Был лишь один способ доказать ей, что я не притворяюсь и не лгу. Моя рука потянулась к застежке комбинезона.ГЛАВА 10 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Не бойся предателей и убийц, сказал мудрец, бойся равнодушных, ибо с их молчаливого согласия в мире свершаются предательство и убийство. Конечно, он был не прав. Равнодушие – смерть разума, гибель ноосферы, но, если она еще цела, это означает, что на Земле нет равнодушных людей; каждый преследует те или иные цели, каждый обуреваем чувствами, возвышенными или низкими, каждый кого-то благословляет или проклинает, любит или ненавидит, а если и притворяется равнодушным, то исключительно из страха. Страх, не равнодушие, плодит насильников, убийц, предателей; страх, что не успеешь урвать кусок, страх, что тебя опередят другие, страх перед властью, начальниками, богатыми, бедными, умными, глупыми и просто непохожими на тебя, боязнь унижения, недугов, пыток, смерти. Разумеется, страх перед собственной неполноценностью, который побуждает к глумлению над красотой, над существами беззащитными, как репликанты в раю элоев на тверской дороге или как в прошлом над рабами. Мне могут возразить, что страх функционален и полезен, ибо хранит популяцию от вымирания; в древности люди страшились холода, голода, безвластия и беззакония и потому сумели выжить. Но это наивный подход к проблеме, так как неясно, о людях ли речь или всего лишь о сырье, которое преобразуется в людей в далеком будущем. Прежде чем толковать о пользе страха, надо задаться основным вопросом: что есть человек? Задаться им, отбросив земной антропоцентризм и ссылки на разумность двуногого бесперого: насильник, терзающий детей, бесспорно, разумен и двуног, но человек ли он? Я определяю человека как существо разумное, свободное в своих желаниях, не ведающее, что такое страх. Эта формула – как генератор с обратной связью: если желания благонамеренны, то страха нет, а если страха нет, то, значит, и желания благонамеренны. Иными словами, ваша личная свобода не вредит другим разумным существам; они вас не боятся, а вы не боитесь их. Примерно так, как на Сууке. Из всех разновидностей страха я понимаю – и оправдываю – лишь одну: страх перед неведомым. Страх перед тем, что ждет нас за гранью земного круга, трепет перед непонятной силой, перед крушением реальности – той, которая была незыблема, как три кита, держащих Ойкумену. Этот страх дано изведать всем, кто приближается к концу пути, но в молодые годы он настигает немногих. Мечтателей, фантазеров, отшельников или людей, которые чувствуют остро и тонко и потому, узрев необъяснимое, приходят в ужас… Случается, что шок, испытанный ими, очень силен. Настолько силен, что угасает разум и рвутся жизненные нити.* * *
Ольга… Мы встретились в начале восьмидесятых. Не самые плохие времена, но душноватые, как воздух перед бурей, – а в том, что буря близится, я не сомневался. Реальность наступала, мифы отступали вместе с мечтами пожить при коммунизме или хотя бы в отдельной квартире; не хватало мяса и хороших книг, но угля и нефти было вдоволь; диссидентов почти не сажали, а клеймили всем трудовым коллективом и высылали за рубеж; в космосе летали спутники, в Афганистане шла война, Берлинская стена еще стояла, и на прилавках – не очень часто, чтоб не разбаловать народ, – желтели апельсины и бананы. Верхи еще могли, низы еще терпели, и ситуация была не хуже обычной. Правда, не в египтологии, к которой я прикипел всеми печенками и селезенками. Согласно державной установке, за первобытно-общинным строем следовал рабовладельческий, и мы, из российского далека, из эры цветущего социализма, пытались найти мириады рабов, строителей храмов, пирамид, каналов[613], стонавших под пятою фараона и угнетателей-рабовладельцев. Пытались, не находили и черной завистью завидовали генетикам и кибернетикам – их науки, продажные девки империализма, давно перешли в разряд солидных дам, каких не насилуют партократы. Но история – дело другое; история связана с идеологией, а значит, не допускает компромиссов. Мне, ассистенту восточного факультета, было двадцать восемь, Ольге, физику с геологического, – двадцать шесть. Она трудилась на кафедре кристаллографии – как говорили в те годы, «выпекала» атомные структуры на дифрактометре. Это серьезный прибор; не синхрофазотрон, но все же внушительная установка, почти вершина земной технологии. Киловольтовый источник питания, две стойки с автоматикой, сверкающий круг гониометра, компьютер, графопостроитель… Компьютер нас и обвенчал. Досталась мне британская программа для прорисовки демотики и иероглифов[614], что было прекрасным подспорьем в трудах, если б нашелся к ней компьютер. Но на востфаке о таких роскошествах не слышали и не мечтали, а вычислительный центр университета уже перебрался в Петергоф. Не слишком большая помеха для меня; чтоб не толкаться в электричках, я мог обзавестись машиной, использовать телепортацию или, наконец, перенестись в свое калифорнийское поместье, где недостатка в компьютерах не наблюдалось. Но в ситуациях обыденных нельзя прибегать к подобным мерам; отлучки и дефицитные предметы вроде «Жигулей» лишь привлекают внимание автохронов, а телепортация стоит изрядных энергетических затрат. Словом, я двинулся самым обычным маршрутом, на биофак и геофак, чтобы найти доброхотов с нужной техникой. И нашел. Кое в чем мы с Ольгой были схожи, это привело нас к быстрому сближению. Когда-то она увлекалась спортом, скалолазанием – и тут нашлись общие темы и даже общие знакомцы; еще она любила гулять, бродить по городу и по музеям, обожала музыку и полагала, что ей повезло: ведь вместо Северной Пальмиры она могла бы очутиться в каком-нибудь совсем неподходящем месте, в Тамбове, Лондоне, Чикаго или – страшно представить! – в Москве. Как и я, она потеряла родителей, и это вкупе с неудачным замужеством, разводом и разменом жилья поубавило в ней жизнерадостности; она казалась цветком, свернувшимся с приходом сумерек в плотный и тугой бутон, застывший в ожидании тепла. Но я был уверен, что роза распустится, если ее обогреть и понежить, – распустится и явит счастливому садовнику свои чарующие краски и дивный аромат. Словом, не прошло и месяца, как Ольга перебралась ко мне, в дом на углу Дегтярной и Шестой Советской, покинув убогую коммуналку с тараканами и мрачными соседями. Мы прожили вместе пару лет, и я вспоминаю об этом времени с тоской, как о прекрасном даре, как о сокровище, посланном мне Вселенским Духом, которое не удалось сберечь. Две одинокие души, два существа вдруг обрели любовь и пестовали ее с трепетом, стараясь защитить, укрыть и одарить друг друга, соревнуясь лишь в щедрости ласки… Что важнее во Вселенной? Пожалуй, ничего – даже тайная миссия, с которой я явился в этот мир. Помню, что облик ее меня пленял. Внешностью Ольга не походила на бледных светлоглазых северянок; кожа ее была розово-смуглой, лицо – скуластым, глаза – чуть-чуть раскосыми, доставшимися от татарских предков. Чарующие глаза! Того колдовского оттенка, какой заметен в меде или янтаре, а еще – в темных полированных панелях из бука или дуба… Маленький рот и яркие сочные губы напоминали уренирских женщин, и волосы, и носик, и подбородок с ямочкой… Я целовал ее, и Ольга, смеясь, шептала что-то нежное, такое, чего не услышишь ни на Сууке, ни на Рахени – быть может, ни на одной из планет, где мне довелось или суждено побывать. Она была смелой в любви, более смелой, естественной, раскованной, чем в мыслях; любовь принадлежала только нам, а в мысли, помимо воли и желания, вторгалось мелкое и неприятное: факультетские склоки, очереди в магазинах, туфли со сломанным каблучком, деньги, которых всегда не хватает, – в общем, та российская действительность, что не спешила издыхать под гром реляций о боевых и трудовых победах. Ольгой все это воспринималось всерьез. Не сразу, но со временем я понял, что, кроме ее милых тайн – загадочного блеска глаз, с которым она сбрасывала платье, или билетов в филармонию, вдруг попадавших в мои бумаги, – есть у нее другой секрет, такой же, как у всех землян, давно знакомый и оттого обидный в близком человеке. Люди этого мира не ощущали себя просто людьми, искрами разума и света во Вселенной; их самоидентификация зависела от обстоятельств, и это означало, что в некий момент моя возлюбленная – женщина, пылкая, как пламя, в другой – ученый, замкнутый среди унылых кафедральных стен, а в третий – человек, который привязан к определенному месту и времени, к своим занятиям, обычаям, стране и языку. Привязан, уверен в их неизменности и потому пугается странного, как убежденный атеист, которому явился черт. Не рядовой, а Мефистофель из галактической огненной бездны… Мог ли я упрекнуть ее в этом? Конечно, нет; лишь гениальный ум или провидец вроде Аме Пала имеет силу подняться над обыденным, и лишь фанатик верит слепо в чудеса и принимает их как данность. Ольга не была ни гением, ни провидцем, ни фанатиком; милая женщина, очень неглупая, с чувствительным сердцем, однако без склонности к фантазиям. Жаль, что она не историк, а физик, думал я; историки, погруженные в древность, видят мир иначе, сквозь призму воображения, что расщепляет луч событий на вероятное и реальное. К такому способны и физики, но лишь гениальные, как Эйнштейн или Пенроуз, из тех, кого судьба одарила провидением. Все остальные – Ольга в их числе – воспринимали Мироздание как сумму фактов, среди которых что-то понятно, что-то – не очень, но, уж конечно, нет места чудесам. Случалось, мы спорили на эти и другие темы. Разум Ольги был зажат в тисках идеологии и воспитания; она доверяла множеству мифов, внедренных в сознание землян убогими философами, хитрыми политиками и тем чиновничьим аппаратом, который, к собственной выгоде и пользе, эксплуатировал догмат божественного. Идеология в разных частях Земли была различной, но мифы – одинаковыми, будто цыплята в инкубаторе, и столь же обманчивыми, как радостный сон в преддверии казни. Бог безусловно есть, или его безусловно нет… Будь добр, почитай мудрых, и ты проживешь счастливую жизнь… Спорт – основа здоровья… Законы Вселенной познаваемы, и если разобраться с ними до конца, то на Земле наступит рай… Трудись, двуногое бесперое, и ты всего добьешься… Это не так, говорил я Ольге, совсем не так. Нрав, здоровье и таланты запрограммированы генетически, и человеку не добиться большего, чем позволяет сей природный дар. Границы есть и у познания, но главное не в этом и даже не в технологической догме, которая обещает грядущий рай; главное – представить, какой она будет, эта жизнь в раю, наметить ее контуры, понять, к чему следует стремиться. Что до реальности бога, то это непростой вопрос, не поддающийся бинарной логике. Бог не существует объективно, вне разума его творцов; бог есть артефакт, частица ноосферы, и в этом смысле он абсолютно реален. Так же как идея колеса или понятие о шарообразности Земли… Ольга улыбалась, щурила колдовские глаза. Милый мой философ!.. Что ты знаешь о человеке и Вселенной? Ты, обитающий среди гробниц, папирусов и сфинксов? Вселенная – дело математиков и физиков, а человек проходит по разряду медицины и биологической науки… Suum cuique[615]. Меж тем время шло, поторапливало, и присутствие Ольги становилось все более обременительным – конечно, не для меня, для дела. Дело потихоньку двигалось, но, как всегда на новом месте, имелись кое-какие сложности. Одна проблема – с талгами, которые, случалось, вступали в контакт в самые неподходящие моменты; другая – строительство сети и поддержание ее в порядке. Всякий уренирский эмиссар, попавший в жесткие объятия технологической культуры и не лишенный способности ктеле-портации, обязан позаботиться о трех вещах: надежной нише в обществе, источниках существования и сети опорных пунктов. С первой задачей я справился, найдя убежище под сенью пирамид, и разрешил вторую – ту, что называлась «деньги». Ряд небольших изобретений, запатентованных в Штатах под именами Ники Купера и Жиго Кастинелли, принес мне состояние; вложив его в информационный бизнес, я получил такие дивиденды, что мог скупить Луксор, Карнак и всю Долину Мертвых[616], если б их выставили на торгах у Сотби. Финансовый успех позволил заняться опорными пунктами: действуя осторожно и вдумчиво, я приобрел поместье с домом в Калифорнии, ранчо в Мисьонесе, квартиры в двух десятках городов – от Монреаля и Нью-Йорка до Мельбурна и Дели. Такие пункты – большое подспорье для Наблюдателя, ибо обеспечивают мобильность и скрытность; было бы странным, если бы я возник из пустоты на оживленной улице Каира или Рима, а выбирать для этого пустыни неудобно. В пустынях, как правило, ничего не происходит, и, чтобы стать очевидцем событий, нужно перебираться в города. Как объяснить все это Ольге? Мои отлучки и неожиданные возвращения, материализацию между плитой и кухонным столом, царапины, что заживают в пять секунд, слова на уренирском, вырывающиеся во сне, и ночи, когда, переполненный энергией, я не могу уснуть? Как объяснить мои познания в социальной динамике и математике, биологии и астрофизике? И как ответить на вопрос о пачках денег в ящике серванта, о книгах на двадцати языках, теснящихся на стеллажах? Или о лицах – нечеловеческих, страшных! – которые вдруг выступают из стены? От женщины в твоей постели ничего не скроешь… Да я и не хотел скрывать. Для Наблюдателя есть два запрета: глобальное воздействие на биосферу и дипломатический контакт. В остальном он инструкциями не связан и может хранить свою тайну личности или поделиться ею с кем-то – с родичем, другом, возлюбленной либо случайным прохожим. Это шаг естественный и временами необходимый; трудно жить десятки лет без близких, а близость располагает к доверию и откровенности. К какой конкретно, решать Наблюдателю, в зависимости от обстоятельств, своего желания и здравого смысла доверенных лиц. Как правило, эти признания ничем серьезным не грозят, поскольку разгласивший их мостит себе пути в психушку. Случается, и попадает в нее, не в силах выдержать тяжести тайного знания и леденящей душу правды. Я понимаю, что она на первый взгляд действительно ужасна: выяснить, что близкий человек – двуликий Янус, оборотень, повенчанный до самой смерти с каким-то существом, инопланетным монстром, джинном, неприкаянной душой или астральным призраком, а может быть, даже с дьяволом – выбор обширен, как список земных верований. Во время моих предыдущих миссий такие проблемы не возникали. Хоть на Сууке и Рахени я не был свободен от сердечных привязанностей, однако общества в этих мирах гораздо проще, чем земное, как в социальном, так и в биологическом смысле. Да и телепортироваться там я не мог… Но на Земле все было иначе – и так похоже на древний Уренир! Так знакомо по старинным книгам и сотни раз перекопированным мнемозаписям! Здесь, на Земле, союз с любимой женщиной значил нечто большее, чем близость душ и общая постель; его непременными атрибутами являлись дети, дом, имущество, общественный статус, определяющий уровень благ, и тот контроль, который живущие вместе осуществляют друг за другом. Эта последняя функция не связана ни с желаниями, ни с какой-то особой подозрительностью землян, а обусловлена исторически; если угодно, это еще одно доказательство всеобщей несвободы. И, разумеется, страха – страха потерять свою женщину или своего мужчину, лишиться нажитого и обездолить детей. Страх и недоверие… Они стояли между нами магической стеной, заметной только мне; стеной, отделяющей тесный город от земли и неба, от океана и солнца, от звезд и Вселенной, полной чудес. Мог ли я не разрушить эту стену? Мог ли не попытаться?* * *
Мы познакомились ранней осенью, а летом, почти через год, сняли дачу на Карельском перешейке. Маленький домик, комната и веранда; вокруг – ни огородов, ни садов, только двор с колодцем да лес с озерами и ручейками. Ольга, хоть и казалась по внешности южанкой, любила север. Прохлада, темные леса и небо – не синее, а нежно-голубое – были милы ей в той же степени, как валуны, заросшие мхом, болота с голубикой и мелкий дождь, который не барабанит по крыше, а усыпляюще тихо шелестит. Помню, каждое утро она распахивала настежь окна на веранде, блаженно потягивалась, жмурилась и шептала: – Сосны, Даня… Чувствуешь, какой аромат? Божественный! Я соглашался, что аромат чудо как хорош, хотя не разделял ее восторга. Дубы мне больше по вкусу; энергия дуба – легкая, чистая, светлая, а у сосны она темна и тяжела, да и делятся сосны ею неохотно. Не от жадности, само собой, а потому, что нет излишков. Что поделаешь, север, шестидесятая параллель… Мало солнца, прохладные дни, холодные ночи и долгая снежная зима… Мохнатые лапы сосен кивали нам, раскачиваясь на ветру. – Они ведь очень древние, да? – спросила Ольга, уважительно понизив голос. – Древнее всех деревьев, милый? Им миллионы лет? – Половина миллиарда, – уточнил я. – Карбон, каменноугольный период, самый конец. Тогда появился их предок, кордаит. – Пятьсот миллионов! – Ольга с опасливым восхищением уставилась в окно. – Бездна времени! И они – мощные, древние, несокрушимые… Ровесники мира, его неизменный символ… – Мир гораздо старше, родная. И то, что перед нами, – лишь крохотная его частичка. – Но такая прекрасная! «Как ты», –подумал я, а вслух промолвил: – Прекрасная для нас, но где-то на другой планете – пусть она называется Суук – эти деревья сочли бы жалкими недомерками. К тому же колючки вместо листьев, нет цветов, зато есть липкая смола и несъедобные шишки… Да, на Сууке это не вызвало бы восхищения! Она, повернувшись ко мне, взмахнула длинными ресницами. – Ты нечестивец, Данька! Ну почему ты так? – Потому, что есть различные точки зрения на прекрасное. А также на время, пространство, Вселенную и наше место в ней. Мир, моя радость, вообще-то не таков, каким он кажется человеку. Мир – это… Ольга взъерошила мне волосы. – Я знаю, как мир устроен. Частицы и кванты, что мчатся, кружатся и превращаются друг в друга, вечная смерть и рождение, хаос реакций – ядерных, химических, биохимических… Вещество, пронизанное полем, поле, порождающее вещество, и каждый их кирпичик, электрон, мезон, фотон, размазан по всей необъятной Метагалактике… Во всяком случае, так утверждали Шре-дингер и Паули! – Она вдруг с озорством улыбнулась. – Знаешь, Даня, в этой картине частицы мне как-то ближе. Основательные господа! С массой покоя, спином и всем, что положено… Протон к нейтрону – ядро, электроны к ядру – атом, атом к атому – и вот, пожалуйста, кристалл… Великолепный, совершенный… Чем мне заниматься, если бы не было кристаллов? – Дарить мне счастье, – предложил я и после недолгих колебаний рискнул заметить: – Ты говоришь о квантах и частицах, их смерти и рождении, круговороте вещества и поля, говоришь так, словно все это реальность. Но они, Олюшка, иллюзия, искусственный мираж, сотворенный из чисел, графиков и уравнений, окрошка из вашей математики с приправой априорных истин. На самом деле мир – структура целостная, и во Вселенной нет границ, отделяющих одно от другого, живое от мертвого, твои кристаллы от этих деревьев или от нас. Кажется, она не понимала, к чему я клоню; в ее ментальных волнах сквозило удивление с оттенком боязни. Ваша математика… Это вырвалось помимо моей воли, придав беседе некий тайный смысл: может, с физиком спорит историк, а может, с человеком – некто иной, владеющий нечеловеческим знанием. Мне не хотелось ее пугать, но раз уж начал… Словом, даже недозволенную сказку надо привести к концу. Я прищурился, глядя на солнце; свет его, профильтрованный кронами сосен, будто плавал в воздухе, напоминая миниатюрное облако Старейшего. Старейшие… Хороший пример иллюзорности мира! – Природа не терпит редукционизма и разделения на черное и белое, левое и правое, – промолвил я. – Вот, например, вы видите человека и поток фотонов и утверждаете, что это разные сущности, – но только потому, что вам не встречалась иная форма жизни. А если встретится? Как ты ее определишь в рамках земных понятий? Думаю, ты назвала бы ее полем, а я – разумным существом, принявшим нужное ему обличье, удобное, как пара разношенных туфель. Напряженная улыбка Ольги совсем погасла. – Удобное для чего? – спросила она, взирая на меня испуганным взглядом, словно боялась, что я вдруг рассыплюсь на кванты и атомы. – Ну, предположим, для того, чтобы приобщиться к вечности, стать вечным самому, обрести свободу и могущество, странствовать среди звезд и галактик, видеть и слышать то, что недоступно нам, – биение пульса Вселенной… Разве этого мало? – Стать вечным самому… – протянула Ольга, вздрогнув. – Вечность… Ни конца, ни начала… Даже подумать об этом страшно, не то что приобщиться к ней! – Вовсе не страшно. – Я обнял ее, коснулся губами виска и зашептал: – Согласен, вечность пугает, если думать о ней как о чем-то, что не имеет ни начала, ни конца. Но есть у нее и другие стороны. «Вечности очень подходит быть всего лишь рекою, быть лошадью, в поле забытой, и воркованьем заблудившейся где-то голубки…» Стихи оказывали на нее магическое действие. Я ощутил, как напряжение покидает Ольгу; глаза ее закрылись, аура стала подобна спокойной водной глади. – Ты не историк, ты поэт… – пробормотала она. – Не я, милая, не я. Это Рафаэль Альберти[617]. То был один из наших разговоров, звено в цепи событий, протянувшейся от счастливой встречи до грустного финала. Я полагал, что подготавливаю Ольгу так осторожно, как только в моих силах; слово – здесь, намек – там, и шаг за шагом неофит все ближе к тайной истине. Расстаться с нею я уже не мог. Я пережил бы наш разрыв; память Асенарри нашептывала мне, что он не первый и, конечно, не последний. Я – Наблюдатель и, двигаясь сквозь череду миров, сменяя телесные обличья, подвержен всем случайностям судьбы, ее трагедиям и фарсам, разлукам, встречам, смерти близких. Нет, дело было не во мне! Ольга… Не ум, не красота, не тонкость чувств главенствовали среди ее талантов, а дар любви. Он мог обернуться несчастьем, излившись на того, кто не достоин или не готов его принять, и мог расцвести волшебным цветком, какого не найдешь в садах Аллаха. Сорвать его и бросить? То же, что и убить… Я знал, что Ольга не переживет разрыва, и это знание терзало мою душу. Вот цена, которую мы платим за привязанность. Вот ловушка, о которой знают все Наблюдатели Уренира: любовь и порожденная ею дилемма – признаться?., не признаться?.. Конечно, есть ситуации и ситуации; возможно, ваш близкий силен и справится с шоком, возможно, он не поймет признаний, возможно, его вера в вас крепка, как монолит, и вы для него – божество, сошедшее к смертному. Все возможно, но случай с Ольгой был не тот. Да, она меня любила, но не могла превозмочь свою натуру, вырваться из западни обыденного. Ее любовь была как занавес, скрывающий другие чувства: тревогу, неуверенность и страх. Почти не различая их, я ощущал лишь некий эмоциональный фон, темную тучу, висевшую где-то на горизонте, незаметную за торжествующим блеском радуги. Казалось, что свет ее сильнее туч и не померкнет никогда.* * *
Мы бродим у Смольного собора по берегу Невы. Излюбленное место для прогулок: недалеко от дома, от шумных улиц и проспектов, но в то же время тихое, уединенное. Май, начало белых ночей. Десять вечера, но еще светло. Нева – как серебристое зеркало с осыпавшейся амальгамой запоздавших катерков и лодок. Над рекой – облака, клочья ваты, разбросанные по небу, нежно-голубому в зените и розоватому у крыш домов на другом берегу; над ними – бледный диск полной луны. Набережной за Смольным еще нет – ее проложат лишь через два десятилетия, спрятав под асфальтом следы моей любимой. Но я сохранил этот миг в своей бездонной памяти: ее фигурку в сиреневом платье, улыбку, скользнувшую по губам, янтарный блеск волос, стройные ноги – вот она замерла, высматривая, куда ступить, а вот повернулась ко мне и поманила пальцем… Я вижу ее так ясно, так отчетливо! Я вспоминаю ее и шепчу: «Найдем ли мы путь, живые, туда, где она сейчас? Но к нам она путь отыщет и, мертвая, встретит нас…»[618] Тогда она промолвила: – Я думаю о том, что ты рассказываешь мне… эти истории о Вселенной и вымышленных мирах с красивыми названиями – Уренир, Суук, Рахени… Временами мне кажется, милый, что ты и правда там побывал, плавал в океане с огромными дельфинами, жил в городе на деревьях, с Фоги, твоим родичем… Смешно! – Не смешно. Все это правда, ласточка, кроме того, что Фоги мне не родич, а у'шанг, наследственный сосед. Она рассмеялась. – А я – твоя наследственная возлюбленная! В прежнем рождении я была Лакшми, супругой Вишну, а ты – его сын от какой-то наложницы, посмевший на меня взглянуть. Ну, понимаешь, не тем взглядом… таким, как смотришь сейчас… И за это тебя упрятали в бутылку и бросили в море. Но ты такой настырный! Просидел в бутылке двадцать тысяч лет, но все-таки выбрался из нее и заполучил меня! – Похоже на истину, Олюшка. Но вместо бутылки был луч – луч из частиц, которые ты назвала бы квантами мысли или живой энергии. – Биохимической? – Нет. Скорее она имеет отношение к психике, чем к биохимии. Видишь ли, то, что вы считаете полями, гравитационным, электромагнитным, ядерным, на самом деле… – Я нахмурился и щелкнул пальцами, подбирая нужные слова. – На самом деле это пространственно-временной континуум широкого диапазона, причем не линейный, а как бы замкнутый сам на себя, замкнутый циклически в бесконечности и в бесконечном числе измерений. Одно из них ноосфера, другое, скажем, магнитное взаимодействие… Человеку – такому, как ты и я, – этого не понять, ведь мы не ощущаем многомерности. Однако принадлежим к ней, и наш мозг – что-то вроде генератора в пространстве ноосферы. Это не биохимия, а область чувств, инстинктов, мыслей, стихия подсознательного, и каждое живое существо там… – …сингулярная точка? – с серьезным видом подхватила Ольга. – Да. Это подходит. Можно сказать и так. – И что можно делать с помощью живой энергии? – Ну, например, перемещаться из пункта «а» в пункт «б». Мгновенно. Без поездов, самолетов и прочих железок с крыльями или колесами. Она вздохнула, будто пробуждаясь от сна. – Как ты об этом узнал, Данька? Вычитал в своих папирусах? В Книге Мертвых? Или в учебнике физики, написанном жрецом Аменхотепом? Я улыбнулся, поддел ногой сучок, гниющий среди прошлогодней листвы. Шутит… Это хорошо! Раз шутит, значит, не боится. – Нет, мои источники информации более серьезны и надежны. Представь, что я – инопланетный гость, который прилетел на вашу Землю. Вернее, переместился сюда в том самом ноосферном измерении, где нет ни расстояний, ни препятствий для полета. И вот теперь… Что ты делаешь, солнышко! Ее пальцы забрались мне под рубашку, защекотали, погладили, ущипнули. – Разыскиваю щупальцы. Раз ты пришелец, у тебя должны быть щупальца… щупальца, псевдоподия и во-от такая пасть! – Она показала какая. – Еще – жабры или крылья… – Крылья на спине, моя дорогая. А это… – Это, это! Это есть даже у пришельцев. И потом, я знаю, все они такие развратники… Мы с хохотом повалились в траву. Однако не все беседы кончались на мажорный лад. Был случай – ночью, в январе, – когда я проснулся от ментального толчка и, еще не раскрывая глаз, почувствовал: ей плохо. Еорько, неуютно, страшно… Ольга сидела в кровати, обхватив руками коленки и сжавшись в комочек; я видел ее лицо, белеющее в темноте, пряди волос на плечах, блестящие глаза. Кажется, она плакала. – Что с тобой, малыш? Я обнял ее, коснулся висков, передавая энергетический импульс. Ольга вздрогнула, пробормотала: – Что это? Что ты сделал? – Помог. Чуть-чуть. Щеки ее были влажными. Плакала, не иначе. Старалась потише, чтобы меня не разбудить… – Олюшка? – Даня… Я вдруг представила, что будет с нами после смерти… с нами или с нашими душами… Я исчезну, а ты… ты в самом деле превратишься в луч и улетишь? И мы никогда не встретимся? Там, где обещают? Она глядела на меня так, словно я должен был исполнить это обещание и сотворить реальность из мифа, которым утешаются мои земные соплеменники. Я бы сделал, если бы смог… Клянусь Вселенским Духом и всеми предками– Старейшими! – Так мы не встретимся? – Нет, родная. Но это ничего не значит, ровным счетом ничего. Ты навсегда останешься со мной. Здесь, – я прикоснулся ко лбу, – в моей памяти. Разве я могу тебя забыть? Даже превратившись в луч или в облако… в то существо, что странствует среди звезд и слушает, как бьется пульс Вселенной. Она отстранилась. – Зачем ты мне это рассказал? Все? Зачем, Данька? Я… я не знаю, верить или нет… Думаю, что ты меня дурачишь или пугаешь, потом прошу прощения в мыслях… прошу, ведь ты совсем не жестокий, ты добрый, самый лучший… Но что-то есть в тебе особенное, необычное… Может быть, ты экстрасенс? Воспринимаешь излучения из космоса и вычитал в них свои теории? О ноосфере, наших душах и этих существах, которые приобщились к вечности? Ольга смеялась и плакала, но я понимал, что она цепляется за последнюю надежду. Может быть, я экстрасенс… Может быть, жрец какой-то странной религии, космической церкви, или поклонник мадам Блаватской… Может быть, состою в масонской ложе… Она бы все перетерпела и со всем смирилась, кроме правды. Уж очень эта правда была необычной. Странной. Пугающей… – Данечка, милый, я боюсь… – Меня? – Ледяной холод под сердцем, холодные мурашки ползут по спине… – Тебя? Нет, милый, нет. Боюсь другого, боюсь, что один из нас сходит с ума. Тронулся, понимаешь? Потом она уснула, а я сидел, смотрел на нее и думал. Сказанное ею не было новостью – случается, что наших близких охватывает страх. Похоже, будто спускаешься по лестнице в подвал: первые ступени – шутка, средние – игра, вначале безобидная, затем немного жутковатая, но оттого еще более интересная. Однако нижние ступеньки тонут в темноте, да и подвал темен и мрачен… Какие ужасы таятся там? Какие чудища?.. Нет никаких чудовищ, есть только правда. Будь смелым и прими ее. Или хотя бы поверь… Возможно, у Ольги хватило бы веры. Хватило бы? Нет? Об этом я не узнаю никогда. Все кончилось – через неделю после той январской ночи. Явился талг. Не собственной персоной, разумеется, – то была голопроекция, и время связи они выбирают разумно, по утрам. Когда я дома, а Ольге положено быть на работе. Их общество похоже на земное в том, что талги понимают дисциплину, но в самом жестком варианте: каждый из них – рабочая единица, приписанная к определенному месту в общепланетной иерархии и выполняющая свое дело по часам. Вернее, по минутам и секундам. Словом, с дисциплиной у них порядок, но кое-чего они не понимают – например, того, что дифрактометр может сломаться, а единица, состоящая при нем, уйти. Куда? Домой, разумеется. Домой, к любимому супругу. Пререкаясь с талгом, я не заметил, как Ольга возникла за моей спиной. Явилась тихо, словно мышка, – наверное, хотела подкрасться ко мне, закрыть глаза ладошками и прошептать в самое ухо: догадайся, кто? Я даже не разглядел ее лица, только услышал вздох или стон и шорох шагов за дверью. Она убегала, ошеломленная правдой; игры и шутки кончились, а страхи вдруг овеществились в жутком огромном лице, выступавшем из стены между сервантом и диваном. После, задней мыслью, я догадался о причине ее ужаса: боялась, что я обернусь и вместо Дани она увидит такого же безносого урода с горящими глазами и клювообразной пастью. Думала, видно, что я решил потолковать с одним из соплеменников… Я бросился за ней, но Ольги след простыл. Не ведаю, что произошло, не знаю до сих пор; может, ей подвернулось такси, может, пока я искал на улице, она бежала по дворам. Как многое в жизни решают мгновения! Свернешь секундой раньше за угол и свалится на голову кирпич, свернешь секундой позже – и попадешь под автобус… Я метался туда и сюда и проклинал свое земное тело, свой мозг, не способнъй к предвидению, и весь этот мир, нелепый, примитивный, лишенный телепатической связи. Я был как слепец, разыскивающий в мрачном лабиринте свое утерянное сокровище; и в этот момент стал таким же отчаявшимся и беспомощным, как самый обычный человек, на коего обрушилась беда. Не Асенарри, а Даниилом Измайловым… Вечером я возвратился домой в тайной надежде, что Ольга успокоилась и ждет меня, но дом был пуст. Включил телевизор и услышал в новостях о гибели женщины. Молодая, красивая, темноволосая; случайно попала под электричку на Московском вокзале. Судя по найденному пропуску, сотрудник университета; имя, отчество, фамилия… Не моя – мы свой брак не регистрировали, и почти никто не знал о наших отношениях. Хоронила кафедра, на Северном. Через год за немалую взятку я откупил это место на кладбище, поставил памятник – фигурка Ольги с закрытым ладонями лицом. «Не вижу… – шепчет она мне, когда я туда прихожу. – Не хочу видеть страшное… Обними меня, Данька, спрячь…» Я обнимаю, прячу. Но я уже не Данька, а Арсен – много-много лет Арсен… И что с того? По-прежнему я мучаюсь вопросом: чего не сделал, чего не успел? Слова, всего лишь слова… Возможно, стоило сотворить какое-то чудо – совсем маленькое, безобидное, нестрашное? Показать, как заживают царапины и синяки, перенести ее к секвойям в Калифорнию или заставить свирепого пса, чтобы подошел и облизал ей руки… Или устроить цирк: спички, скрепки, кнопки пляшут над столом и, подчиняясь моей воле, выделывают забавные антраша… Вселенский Дух, чего я не сделал, где ошибся? Я не виню в ее смерти талгов. Талги есть талги, что с них возьмешь? Конечно, назойливые существа; во всех мирах они контактируют с Наблюдателями, пытаются выяснить степень нашей власти и разузнать хоть что-то о Старейших… Старейших они боятся, считают едва ли не богами, и отблеск божественности предков помогает нам: только раз они посягнули на жизнь Наблюдателя. Большая ошибка с их стороны! Но более это не повторялось, и я не держу на них обиды. В том, что случилось, моя вина. Ольга, Олюшка… радость моя и боль…* * *
Потом был водопад Игуасу, схватка с пятнистым хищником на берегах Параны, белые стены моей гасиенды, топот коней, протяжное мычание коров, лихие выкрики гаучо… Нельзя сказать, чтобы эти звуки и пейзажи умерили мою печаль; я выдержал в Мисьонесе четыре дня и понял, в чем нуждаюсь. Будь я на Уренире, пошел бы к На-ратагу, а лучше – к Рине и Асекатту, соединившим свои гаметы, чтобы произвести меня на свет. Это было бы правильно, и это исцелило бы меня. В самом деле, к кому мы идем, угнетенные нашими горестями? К отцу, матери, брату, сестре… А если их нет, то к другу. И я перенесся на Тиричмир к Аме Палу и пробыл у него не меньше месяца. Достаточный срок, чтобы понять: жизнь продолжается, и Наблюдатель должен делать то, что должен. Дальше все пошло своим чередом. Одна империя рухнула, другие окрепли и расцвели; крупные войны сменились мелкими, мелкие катастрофы – крупными вроде Чернобыльской; Афганистан покинули советские солдаты, но мира это не принесло; случился ряд побоищ – в Югославии и Сальвадоре, Индии и Норвегии, Ираке и Ирландии, а также, разумеется, на Кубе, Кавказе и в Палестине. Престиж ООН упал, что, впрочем, не мешало создавать все новые комиссии и комитеты вроде СЭБ; страны ислама осознали свою мощь, которая зиждилась на нефти, высокой рождаемости и фанатизме; Китай вошел в союз с Японией, подмяв под себя близлежащие земли, а НАТО преобразовалось в ЕАСС, дабы сдержать обе угрозы, зеленую и желтую, на российских границах – или уж в крайнем случае на Урале. Трудиться мне стало легче, ибо мир опутала компьютерная сеть, и в этой паутине нашелся профит не только для меня; космос же, наоборот, не оправдал ожиданий: станций и спутников перевалило за тысячу, но экспедиция на Марс, которую планировали НАСА и Европейское агентство, не состоялась. Дала свои плоды генетика, справившись с неисцелимыми недугами, а заодно – с проблемой питания, но этот отрадный факт не коснулся Африки и большей части Азии, где голодали по-прежнему. Вслед за мясным и плодовым изобилием явились модификанты и игруны, экра-нолеты сменили вертолеты, монорельс – железную дорогу, глайдер – прежний автомобиль; рост населения как будто замедлился, зато озоновая дыра расширилась, в Европе и Штатах роботизировали производство, зато возникла проблема занятости; Россия рассекретила данные о шельфе Ледовитого океана – ресурсы, нефть и газ, которые обнаружили там, были поистине неисчерпаемыми; возникли плавучие города, новые науки, новая архитектура, новая музыка, новое оружие и новые заботы. В урочный час Арсен Измайлов сменил Даниила, принял текущие дела, включая наследство почивших в бозе Ники Купера и дона Кастинелли, потом зарегистрировал информбюро, набрал батальон виртуальных сотрудников, увлекся экстремальным спортом – ну а попутно разрешил кое-какие проблемы. С тем же объектом 117 под Челябинском, с раем элоев на тверской дороге или с наркотиками, в рамках проекта «Лунный заяц»[619]. Проект, конечно, был международный, однако идею о генетических прививках от наркозависимости выловили в Интернете, и нет у нее автора, кроме Всемирной сети. Я об этом не жалею, так как к славе равнодушен. Мне бы с Анклавом разобраться…ГЛАВА 11 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Дни десятый и одиннадцатый
Утром по водной дороге благополучно прибыли Мак-брайт и ад-Дагаб. Джеф вылез на бережок, я примерился, куда ударить, чтоб обошлось без повреждений, и врезал ему под ребра. В дыхалку, как говорили когда-то приятели юного Даньки Измайлова. С минуту Макбрайт корчился на земле, хватая воздух ртом, хрипя и чертыхаясь, Сиад наблюдал за ним с каменной физиономией, а Фэй, моя милая фея с темно-карими очами, неодобрительно хмурилась. Что ж, учебный процесс бывает иногда болезненным, но это не повод, чтобы его отменить. Макбрайт отдышался, подступил ко мне со стиснутыми кулаками, потом взглянул на Фэй, протер глаза и протянул: – Во-от как! Что ж, моя вина… Могу компенсировать, если юная леди не против. Чеком, наличными или… – Заткнитесь, Джеф! Закройте рот, пока я не вышиб вам мозги! Он виновато буркнул: – Вышибайте. Не возражаю. Виновен и приношу извинения. – На этом и закончим, – сказал я. – Теперь прошу в лагерь, завтракать. Сегодня в меню галеты и по мясной пилюле на нос. Пробираясь среди камней, мы двинулись к расселине, где были сложены мешки. Макбрайт приотстал, дернул меня за локоть и, метнув взгляд в спину Фэй, поинтересовался: – Вуаль? Я молча кивнул. Сейчас я не испытывал к нему ни ненависти, ни злобы – пожалуй, лишь гадливое отвращение, как к продавцам репликантов на подмосковном островке. Таких, способных сунуть в печь чужую голову, здесь много, но в клане экстремалыциков они мне не встречались. Правду сказать, и в этой семейке не без урода, но даже уроды любят риск и шанса своего не уступят. Возможно, Джеф какой-то особенный урод? Он снова дернул меня за руку. – Сейчас она выглядит лет на тридцать. Как Лайза Ли, моя четвертая жена… Прелестное было создание! Я снова промолчал, стараясь разобраться в исходивших от него флюидах. Чувство удовлетворения? Да, пожалуй… Еще – превосходства и насмешки… Он был похож сейчас на сытого кота, с ленцой взирающего на подопытную мышку. Не стану, впрочем, обижать котов; лишь человек умеет обернуть себе на пользу чужую доверчивость или наивность. Взгляд Макбрайта затуманился, губы шевельнулись – видимо, он прикидывал, во что обошлось Фэй путешествие в вуали. Делил десять лет на две минуты или сто двадцать месяцев на столько же секунд… Потом хмыкнул. – Она кажется довольной. Вам, босс, удалось утешить девушку… – Макбрайт помолчал, ожидая моей реакции, не дождался и произнес: – Эти китаянки с возрастом только аппетитнее. Если она еще раз пройдет через вуаль… Я повернулся к нему, взял за ворот комбинезона и слегка встряхнул. – Джеф, вы знаете, что пишут на трансформаторных будках? – Он непонимающе уставился на меня. – Не лезь, убьет! – Кто не полезет, тот не узнает, – возразил Макбрайт, – и жалость тут неуместна, даже при вашей вместительной русской душе. Вы ведь не станете отрицать, что мой эксперимент внес ясность в кое-какие вопросы. При всей его… гмм… неэтичности. Теперь нам понятно, как действует вуаль на… – Пожалуй, я сам вас убью. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Моя ладонь легла на его шею, пальцы коснулись ямки под ухом. Макбрайт отпрянул. – Простите. Я не думал, что это вас так задевает. Мы поели. Джеф насыщался жадно, как, впрочем, и положено страннику, чей ужин прошлым вечером был символическим – пищевая капсула и вода из фляги. Си-ад, несмотря на свои габариты, ел, как обычно, мало. Верблюд, а не человек: не ест, не пьет, не спит… Кстати, не спит уже десятый день, отметил я. Фэй, укладывая мешок, покосилась на наших спутников, повернулась лицом ко мне и расцвела улыбкой. Вселенский Дух, до чего она похожа на Ольгу! Воспоминания о минувшей ночи согрели мне сердце, и следом пришла мысль, что Макбрайт, пожалуй, прав: Фэй была счастлива. Счастлива, хоть плата оказалась высока – потерянные годы жизни… Я окунулся в поток чистой и светлой энергии, что исходил от нее, смешиваясь со слабым излучением эоита, послал ответную улыбку и произнес: – Меняем порядок движения. Я первый, за мной – Макбрайт и Цинь, Дагаб замыкающий. Бассейн обширен, и сейчас нам не нужны услуги проводника. Джеф кивнул. – Согласен, лучше лидировать вам. В этих проклятых каньонах и заблудиться недолго… А что вы скажете, приятель, о массиве зелени, которую мы видели сверху? – Доберемся, посмотрим, – буркнул я, забрасывая на спину рюкзак. Мы углубились в лабиринт ущелий, тянувшийся вдоль южного берега озера. Скалы тут были невысоки и поражали причудливостью форм: то обрывистые, подобные клинкам мечей, наконечникам пик, рогатин и трезубцев, то напоминающие фантастические строения, пирамиды и башни с множеством ниш и пещер, то плоские или выпуклые, как спины китов, дремлющих под мрачным серым небом. Проходы между ними извивались, сворачивали то к западу, то к востоку, черные базальтовые стены по временам раздвигались на пятнадцать-двадцать метров, но чаще теснили нас, заставляя петлять, пробираться узкими расселинами или лезть наверх, чтобы преодолеть тупик. По этой причине мы двигались небыстро, делая в час от силы километра три. Ни зоркий Сиад, ни я не разглядели ни единой вешки; если в этот хаос и попали маяки, то обнаружить их было не легче, чем иголку в стоге сена. Минут за десять до полудня очередной каньон свернул, и я, обогнув огромную, похожую на призму глыбу, замедлил шаг. Потом остановился и присел на корточки, разглядывая серо-зеленый кустик – маленький, величиной с ладонь, пучок мясистых листьев или стеблей, торчавших среди каменной россыпи. Листья были узкими, довольно длинными и по краям усеянными шипами. – Трава? Нет, не трава, – произнес Макбрайт за моей спиной. – Кактус? – Может быть. – На мгновение опустив веки, я мысленно пролистал ботанический справочник. Ничего подходящего не нашлось; если этот серо-зеленый уродец и относился к кактусам, то был их древним и почтенным прародителем. Мы столпились у кустика, взирая на него, как на чудо. Первый признак жизни, который нам встретился, свидетельство того, что Анклав – не мертвая пустыня! Это полагалось отметить, и мы разделили на четверых плитку шоколада. Фэй жевала его с сосредоточенным видом, полузакрыв глаза и явно к чему-то прислушиваясь. Ощущает живое, догадался я. Каньон, которым мы шли, был извилист, утесы ограничивали обзор, но впереди, южнее и немного восточнее, будто бы намечался оазис, и там что-то двигалось, шевелилось, распространяя импульсы, совсем не похожие на медленный прилив энергии в растениях. Какие-то существа, быстрые, многочисленные и примитивные, мелькнуло у меня в голове. Возможно, опасные. Мы обменялись взглядами с Фэй, и я поднялся. – Идем дальше. Приготовить оружие. Есть зелень – значит, найдутся и звери. – Арбалета хватит? – спросил Макбрайт. Секунду я колебался. – Лучше достаньте дротик, Джеф. Ты, Сиад, приготовь гранаты. Наше самое надежное оружие – гранаты с парализующим газом и дротики с капсулой яда в острие, дозу которого можно варьировать колечком-регулятором. Одно деление – смерть для человека и существа его размеров, а если повернуть на три, то можно прикончить слона. Разумеется, если вы проткнете ему шкуру или поразите в глаз. Макбрайт этим искусством владел, в чем я убедился за время подготовки экспедиции. Через километр с небольшим ущелье расширилось и вывело нас к крохотному озеру и заболоченной низине. Тут, очевидно, сочились теплые подземные источники – воздух был душным и влажным, и в нем не ощущалось движения. Этот оазис от места, где мы стояли, до следующего сужения каньона был покрыт растительностью, напоминавшей давешний кустик, но здесь, при изобилии влаги, кусты разрослись до внушительного размера – по пояс, а где и по грудь. Шипы на странных стеблях или листьях были длиною в палец, сами стебли – толстые, мощные, с выступающими из почвы корнями и шишками величиной с кулак, увенчанными цветами. Три или четыре больших бледно-серых лепестка, пучок то ли усиков, то ли щупалец, которые свешивались до земли и пошевеливались с ленцой, неприятный запах гнили… На кактусы не похоже, подумалось мне. Ни на что не похоже! Таких растений я не мог припомнить ни в прошлом, ни в нынешние земные времена. Не стоило, однако, забывать, что тут не Уренир, где все давно описано, классифицировано и упаковано в пробирки с ярлыками. Здесь, на Земле, ни один зоолог, ни один ботаник в точности не знал, сколько видов населяют биосферу, пять миллиардов или пятьдесят. В этом беспредельном океане жизнь пускалась на всякие фокусы. Низину обступали скалы с глубокими пещерами и расселинами наверху, у их отверстий вился дымок, а над зарослями псевдокактусов мельтешили черные точки. То одна, то другая из них вдруг падала вниз, к цветам, и замирала, но едва усики начинали подрагивать и шевелиться, тут же устремлялась в небо. Этот живой туман был не очень плотным и почти безмолвным; до нас долетал лишь тихий, едва различимый гул. – Пчелы, – сказал Макбрайт, ткнув в сторону низины дротиком. – Пчелы, клянусь святыми угодниками! Фэй поморщилась. – Нет. Я помню ароматы пчел, запахи воска и меда. А здесь… Вонь, как от гнилых креветок! Запах и в самом деле неважный, молча согласился я. Было что-то еще, кроме мерзкого запаха, что-то неприятное, настораживающее – странные растения и насекомые, странный пейзаж, которому словно бы не место на Земле. Нахмурившись, я вытащил из обоймы у пояса рифленый шарик гранаты и кивнул Джефу: – Спрячьте дротик. Пойдем у скал, огибая заросли с востока. Гнездовья этих пчелок наверху, может, и не заметят… Если бросятся на нас, ставим завесу. Ветра нет, риск минимальный. – Не хотите, чтобы они к нам приближались? – спросил Макбрайт. – Не хочу. Береженого бог бережет. Мы развернулись налево и зашагали вдоль скал. Поверхность их не походила на монолит плоскогорья – ее пересекали трещины, тут и там встречались завалы камней, сползших со склонов или рухнувших сверху. Старые утесы, древние… Возможно, были прикрыты плотной вуалью, способствующей эрозии и деструкции? Я не успел обдумать эту мысль, как сзади раздался возглас Фэй: – Командир! Они нас заметили! Дымок, затянувший провалы пещер над нами, сделался плотнее и сгустился, превратившись в темное непроницаемое облако; шелест мириад крыльев тоже стал заметнее, напоминая дробь дождя, бьющего о гулкую жестянку. Все новые и новые массы насекомых вываливались из пещер, тянулись из серо-зеленых зарослей, сбиваясь уже не в облако, а в тучу, словно какой-то незримый полководец собирал войска, строил бесчисленные легионы, чтобы швырнуть их в атаку на врагов. Чем она кончится, я, в общем, представлял, имея опыт с огненными муравьями Амазонии; возможно, этим тварям не удастся прокусить одежду, но, если заползут в глаза и уши, хорошего мало. Как минимум мы оглохнем и ослепнем, а в самой неприятной ситуации станем грудой отполированных костей. Интуиция подсказывала мне, что данный вариант не исключен, что муравьи – не худший случай в сравнении с этими тварями и что от них надо держаться подальше. – Бегом! – скомандовал я, и мы ринулись вдоль подножия утесов, перепрыгивая через бесформенные глыбы и разбрасывая башмаками щебенку. Запах гнилья усилился, потом стал ослабевать, когда озерцо и большая часть болота остались за спиной; блеклые уродливые цветы и неуклюжие стебли мелькали мимо нас бесконечной серо-зеленой чередой, грозя растопыренными шипами. У южной оконечности болота растительность прижималась к скалам, мешая бегу, и я, выхватив клинок, врубился в заросли. В затылок мне дышал Макбрайт, слышался скрип камней под ногами Сиада, и – скорее не слухом, а ментальным чувством – я улавливал легкую поступь девушки. Эта полоса кустарника нас задержала. Пробившись сквозь нее, я сунул мачете в ножны и поднял голову: темная туча простиралась вверху, подобная крыльям дьявола. До нижнего края – метров пятнадцать, слишком большая дистанция, чтоб рассмотреть насекомых, но в данный момент они не казались отдельными существами – единый организм-туча надвигался на нас, грозя поглотить миллиардами крохотных хищных пастей. – Гранаты! Бейте о скалу! Повыше! – выкрикнул я. Три шарика полетели вверх, затем – еще и еще… В них не было взрывчатки, лишь кристаллический порошок, стремительно окислявшийся в воздухе – реакция, не запрещенная, к счастью, в Анклаве. Гранаты с тихим звоном лопались одна за другой, стремительно мелькали руки, опустошая обоймы; Сиад бросал сильней и дальше, чем я и Джеф, но мы не уступали ему в скорости. Секунда, и голубые газовые струи пересеклись над нами, к ним тут же добавились другие, расплылись, заволакивая склон и колыхаясь, подобно тенту нежного оттенка. Он висел на безопасном расстоянии, но все же рисковать не стоило, и я распорядился: – Уходим! Поживее! Туча слилась с голубоватым облаком, и за нашими спинами хлынул черный дождь. Он шел и шел, заваливая камни и кусты безжизненными крошечными телами; слой за слоем, груда за грудой этот покров становился все толще и толще – сначала по щиколотку, потом до середины голени, до колена, до пояса… Что там слоны, быки, носороги и прочие твари, от червяка до кита! Земля – воистину мир насекомых… – Сиад, пробы! Суданец метнулся к ближайшей груде, сунул в нее контейнер, захлопнул крышку. Мы снова ринулись бегом, стараясь поскорей убраться из этого жуткого места. Странно, но отдельные насекомые не преследовали нас, как будто бы их плотоядный инстинкт пробуждался только в огромной, бессмысленно свирепой массе. Я не чувствовал больше ментальных волн, рождавших смутное чувство тревоги, зато аура эоита стала сильней. Быть может, мелькнула мысль, та стена, что замыкает на юге равнину, – Тиричмир? Вернее, его руины? В ущелье, метрах в трехстах от низины, я остановился, давая спутникам возможность отдышаться. В обойме у моего пояса было четыре гранаты; ощупывая их, я спросил: – Сколько у вас, Джеф? – Пять. – Сиад? – Четыре. – Фэй? – Двадцать. Полная обойма. Наши запасы сократились более чем наполовину. С одной стороны, неприятная новость, с другой – зачем оружие обглоданным скелетам? Я велел распределить гранаты поровну, затем кивнул Сиаду: – Дай контейнер. В нем было с десяток летающих тварей с жесткими округлыми тельцами и внушительными жвалами; непрозрачные крылья, мохнатые лапки, головы с большим фасеточным глазом, и над ним – пара остроконечных шипов. Размер – примерно с ноготь, но попадались и покрупнее; у этих челюсти были особенно мощными. – Восемь лап, – сказал Макбрайт, склонившись над моей ладонью. – Летающие пауки? Не слышал о таких. Фэй, пальцем, затянутым в перчатку, коснулась более крупной твари. – У этого – десять лап. Нет, они не похожи на пауков. Один глаз, а у арахнид их много. Я молча пересыпал насекомых в контейнер. Мои познания в энтомологии оставляли желать лучшего, но все же я мог поклясться, что эти существа никак не связаны с животным миром за границами Анклава. Они не подходили под категорию эндемиков, являясь продуктом иной эволюции, потребовавшей сотен миллионов лет. Возможно, так оно и было? В случае с Фэй в минуту истекли пять лет, Анклав существует девять, и, если темп движения времени не изменился, здесь миновало двадцать четыре миллионолетия… Ничтожный срокдля эволюционных процессов; значит, в начале катастрофы время текло здесь в десятки раз быстрее, чем в разреженной вуали у водопада. Скажем, век за минуту… или два, или три… Теперь я знал, почему изменилась местность. За сотни миллионов лет горы и впрямь могут рассыпаться, уйти в небытие тем или иным путем; на месте их вырастут новые горы, пустыни, плоскогорья, и в тех краях, где есть вода, тепло и атмосферные разряды, зародится жизнь. Иная, непохожая на ту, что существует на Земле или существовала прежде… «Но Лашт, – подумал я, – руины Лагпта! Как быть с ними? Этим развалинам не миллионы, а тысяча лет – вернее, где-то десять, где-то сотня, а где-то и в самом деле тысяча». Лашт, поделенный на зоны серых и желтых костей, всплыл в моей памяти, словно подсказывая ответ: на эти же зоны, мелкие или крупные, могла разделяться вся территория Анклава. Выходит, здесь бушевал шторм… темпоральный шторм, круживший вихри времени… какие-то – с невероятной скоростью, какие-то – помедленней или совсем уж плавно… Времятрясение! Чего не бывает… Рухнет небоскреб, а домик из фанеры останется целым… Дело случая! Я пристроил этот камешек к своей мозаике и дал команду двигаться вперед. До темноты мы выбрались из лабиринта скал на берег неширокой речки; с севера к ней подступали каменистые россыпи, с юга – дремучий лес, казавшийся в сумерках хаосом стволов, гигантских листьев и широких зонтичных соцветий. Форсировать реку и углубляться в чащу, наверняка небезопасную, было поздно, и я велел разбить лагерь. Мы поужинали; затем Сиад извлек из ледоруба дротик и сел на берегу, всматриваясь в темное пространство леса. Джеф, вероятно, измучился за этот день: упал среди камней, едва надув комбинезон, и захрапел. Я устроился поодаль, занес в дневник последние события и тоже прикрыл глаза. Я был доволен: в том мозаичном пейзаже, что складывался в моей голове, заполнилась еще одна лакуна. Пожалуй, ясно, что здесь случилось, но остается вопрос: почему? Кто или что? Не планетарная бомба, не злонамеренное вмешательство извне и, разумеется, не божья кара… Так что же? Что послужило причиной необъяснимого времятрясения? Такое даже Старейшим не под силу! Впрочем, кто ведает, какова их мощь? Станешь Старейшим, узнаешь… Что-то коснулось моего колена, и я открыл глаза. Фэй, моя маленькая Фэй, волшебным образом повзрослевшая и такая прекрасная… Щедрый дар Анклава… Я наклонился и поцеловал ее.* * *
Ночь. Мы шепчемся, лежа в темноте, мешая два языка, китайский и русский. Русские слова тяжеловесны и напевны, китайский говор легок и высок, как птичий щебет. Как вскрики Фэй, когда она замирала в моих объятьях… – Ты… Теперь ты все про меня знаешь… Про отца и маму и про Хэйхэ… про школу… даже знаешь, зачем меня послали… Я все рассказала, все! Просьба поведать о себе, изложенная в деликатной восточной манере, подумал я. А вслух спросил: – Все, девочка? Неужели не осталось ни одной тайны? Она хихикнула. – Ну, разве что это… Сказать, откуда мой дар? От Анай-оола, прадедушки-нивха… Мама говорила, что он был колдуном… нет, не колдуном, они злые… как это по-русски?., шаманом, вот! Умел врачевать, предсказывать будущее, вселяться в животных и властвовать над духами… Протяжный вопль долетел из леса, с другого берега реки. Пальцы Фэй на моем плече затрепетали, и я накрыл их своей ладонью. Потом сказал: – Спрашивай. – У тебя есть… женщина? Там, в России? – Была. Очень давно. Теперь нет. Ни в России, ни в других местах. Она вздохнула. – Значит, ты одинокий. Совсем как я. – Уже не одинокий, родная. Можешь представить, что получится, если сложить два одиночества? Фэй благодарно потерлась щекой о мое плечо. – Кажется, могу. – Потом: – Расскажи мне о твоих родителях. – Это непростая история. Мои земные отец и мать умерли, однако… – Почему ты так сказал – земные? Она глядела на меня широко раскрытыми глазами, совсем темными в ночном сумраке. Я знал, что отвечу ей. Пусть все будет ясно – ясно сразу, полностью и навсегда. – Потому, малышка, что на вашей Земле я пришелец. Фэй кивнула. – Все мы здесь пришельцы. Приходим, живем, уходим… Я понимаю. – Нет, не понимаешь. – Чего же, Арсен? Разве ты не из России? Не из Петербурга? – Нет. – Значит, из Белоруссии или с Украины. Но это ведь тоже Россия! Я усмехнулся. Она прекрасно разбиралась в политике! Страны, может, и разные, зато народ один. – Слушай меня внимательно, Фэй, я не отсюда. Не с вашей Земли, а из другого обитаемого мира, понимаешь? – Глубокий потрясенный вздох. – Вселенная очень велика, и жизнь существует не только здесь. Разумная жизнь, которой свойственны жажда знаний и тяга к поиску себе подобных… – Молчание. С трепетом в сердце я произнес: – Ты веришь мне? – Я верю всему, что ты скажешь, Арсен. Я чувствую… нет, знаю, что это правда. «Все-таки непохожа на Ольгу, – подумал я. – Изумление, любопытство, но не страх. И вера, всепоглощающая вера. Доверчивость юности, которую не выбила, не растоптала даже проклятая школа в Хэйхэ… Нелегкий крест, но разве не в испытаниях и бедах крепнет мужество? То, чего не хватило Ольге…» Ладошка Фэй коснулась моей груди. – Ты человек, Арсен… если я в чем-то уверена, так в этом. – Человек, – подтвердил я. – Чтобы узнать людей, надо быть человеком, как же иначе? Поэтому тот, кто пришел, слился с рожденным на этой планете и превратился в человека. В меня, Арсена Измайлова. – Тот, кто пришел… Может быть, в тебя вселился гуй[620]? – Голос девушки дрогнул. – Я сумела бы его изгнать. Мой прадед… – Да, я помню, он был шаманом и властвовал над духами… Не тот случай, девочка. Некого изгонять! Того, кто пришел, и того, кто родился, больше нет. Они не существуют, понимаешь? Есть только я. – Ты… – Ее ладонь порхала над моими волосами, как легкокрылая пичужка. – Ты… ты лун-ван, царь драконов, прилетевший к нам из звездного чертога… Из какого же, милый? Тай-и, Цин-лун, Чжу-цяо? Из Бай-ху или Сю-ань-у?[621] – Мой дворец далеко, – сказал я, – в одном из галактических звездных скоплений. Здесь, на Земле, вы зовете его звездным кластером номер… Ну, не важно! Наше солнце все равно не увидеть, тем более – планету. Только… – Она улыбнулась, когда я перешел на китайский. – Только, милая, я не лун-ван, а мэнь-шэнь[622]. Всего лишь скромный мэнь-шэнь. – Тогда уж – Цзао-ван[623]! Ей непременно хотелось повысить мой статус, и я кивнул: – Да, малышка. Так будет точнее. – Цзао-ван, Цзао-ван! – Радостно улыбнувшись, она соединила ладони в бесшумном хлопке. – Я буду звать тебя Цзао-ваном! – Зови. Какие возражения? Я снова напомнил себе, что Фэй лишь по облику взрослая женщина и этим обязана Анклаву и вуали. Но двадцать лет – это двадцать лет… Каким бы тяжким испытаниям ее ни подвергали в школе, к каким бы миссиям ни готовили, возраст брал свое; детское прорывалось в ней, будто требуя компенсации за то, что отняли, чего недодали, чеголишили. «Детство долго не расстается с человеком, – подумал я. – В самом счастливом случае, до зрелых лет, если память о нем не сотрут грехи, которые творятся взрослыми: зависть и корысть, ложь и злоба, предательство и убийство». Цзао-ван, хранитель очага… Для Аме Пала я тоже был Хранителем – не потому ли, что я неравнодушен к бедствиям мира сего? И не по этой ли причине я попал в Анклав? Не знаю, не могу сказать. Но что бы ни подвигло меня на труды, награда оказалась щедрой. Я думал об этом, прижимая к себе горячее тело Фэй.* * *
Утром, переправившись через реку, мы углубились в джунгли. Странноватый лес; казалось, что неким волшебством нас превратили в крошечных сантиметровых человечков, отправив затем в луга, поросшие травой, осокой и папоротниками. Обычную траву здесь заменяли мхи, воздух был душным, грунт – влажным, хотя до болота недотягивал, пышная серо-зеленая растительность поднималась на высоту пятнадцати метров, не слишком препятствуя движению, – дистанция между стволами солидная, подлеска вовсе нет. Однако пришлось замедлить темп: мох и сыроватая почва – гораздо худшая опора для ноги, чем камень и та асфальтная поверхность, что встретилась нам у границы Анклава. К тому же незнакомые дебри всегда таят опасности – во всяком случае, их больше, чем на открытом месте: обзор невелик, масса помех для метательного оружия, ну, и, конечно, хищники. По счастью, псевдокактусы и легионы насекомых нам больше не попадались, но лес не был безжизненным: что-то копошилось во мху, тут и там ползали твари, похожие на огромных мокриц или кошмарную помесь омара и паука, а временами мы давили червей – больших, размером с руку, мягких, безглазых и отвратительных. Впрочем, вся эта живность не проявляла агрессивности, тогда как вопль, который мы слышали ночью, не шел у меня из головы. Глотка у той зверюги была здоровая, а где большая глотка, там и большие зубы. Я велел приготовить дротики, и мы проникли в лес, двигаясь ромбом: Сиад и Джеф – слева и справа от меня и сзади на десять шагов, Фэй – в арьергарде, в самой безопасной позиции. Хотя кто мог сказать, что тут опасно, а что – нет? Оставалось лишь надеяться, что испускавшая вопли тварь не обладает интеллектом тигра и не имеет привычки прыгать на последнего из путников. Так мы двигались пару часов в полном молчании и тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы да чавканьем почвы под ногами. До возвышенности на юго-западе, которая, согласно моим подозрениям, была Тиричмиром или его руинами, оставалось километров пятьдесят-шестьдесят. Минимум два дня пути, а это означало неприятную ночевку в джунглях, под странными деревьями без веток, на коих не соорудишь помост, а древесину не сожжешь в костре. Я ощущал, что эта растительность переполнена влагой, как трубы водозаборника; ток жидкости пронизывал огромные стволы, питая их жизненной энергией, не столь мощной и чистой, как у секвойи и дуба, зато бушевавшей рядом и вполне доступной. Впитывая ее на ходу, я предавался размышлениям о Равновесии, главном законе Мироздания, которому следуем и мы, его возлюбленные чада. Мир – это упорядоченный хаос, закономерная игра случайностей, и потому идеал, понимаемый как полное счастье или набор абсолютных истин, недостижим; знание и неведенье, добро и зло, позитивное и негативное – теза и антитеза, две объективные сущности, между которыми, однако, должен поддерживаться паритет. В природе и в человеческом обществе, в масштабах галактики и атома, в большом и в малом… Как, например, сейчас: джунгли, духота, опасности, вязкая почва – плохо, но отсутствие вуали и флер, светлеющий с каждым днем, – это, разумеется, хорошо. Добавим взгляды моей феи, которые я чувствовал спиной, а также наше приближение к эоиту, и можно считать, что принцип Равновесия соблюден. Пожалуй, хорошего даже больше, чем плохого, а это значит: жди какой-то гадости. К полудню мы сошлись в кружок, отдохнули и перекусили галетами, запив их водой из фляг. Сиад, как обычно, выглядел невозмутимым, Фэй, посматривая на меня, пыталась скрыть счастливую улыбку, Макбрайт был напряжен и хмур. Возможно, потому, что утром мы опять повздорили, когда он начал мучить Фэй вопросами о пережитом на переправе и ее нынешних ощущениях. Ему хотелось знать, иссяк ли процесс, инициированный вуалью, или еще продолжается, но с меньшей скоростью – в общем, стареет ли Фэй или нет. Она вздрогнула, испуганно сжалась, и я, пробормотав «sermo datur cunctis, animi sapientia paucis»[624], велел Макбрайту заткнуться. Сейчас, дожевав галету, он мрачно огляделся по сторонам и пробурчал: – Мезозой… как есть мезозой, дьявол меня побери! Вот что случится, приятель, когда нас прихлопнут. Половина мира – каменные пустоши, половина – гнусное болото с червями и мокрицами… Впрочем, гнусное для нас, а им, возможно, рай. – Кому – им? – Вы не догадываетесь? – Макбрайт ткнул пальцем в небеса. – Мерзавцам, сыгравшим эту шутку! Сидят себе где-то, посмеиваются и прикидывают, сколько Анклавов придется устроить, чтобы от всех нас остались лишь черепа да кости. По моим расчетам, примерно сто пятьдесят[625]. Глаза Фэй округлились в недоумении. – О чем это вы? – Макбрайт считает, что Тихая Катастрофа – дело рук пришельцев, – пояснил я. – Рук, клешней или щупальцев… В общем, парни из космоса санируют Землю, уничтожая двуногих тараканов. – Но ведь… – Фэй поглядела на меня и осеклась. – Все это чушь, милая, – сказал я ей на китайском. – Чушь, ерунда и невротические комплексы. Он помешался на своей идее. Все в вашем мире помешались – лидеры ЕАСС, мусульманские шейхи и твои отцы-командиры. Думают, что здесь испытали какое-то новое оружие… Думают так и мечтают до него добраться. – А что думаешь ты? – Еще не знаю, и потому я тут. Чтобы разобраться. Макбрайт дернул меня за рукав. – О чем вы толкуете, сэр? Юная леди вдруг перестала понимать английский? – Я сообщил ей благие вести, которые понятнее на китайском. В первую очередь пришельцы уничтожат белых, всю индо-европейскую расу, самых задиристых, несговорчивых и хорошо вооруженных. Людей Востока, быть может, пощадят, вернув к занятиям мирным и тихим. Скажем, к созерцанию цветущих вишен и лотосов в пруду. Фыркнув, Макбрайт раздраженно уставился на меня. – Шутки, шуточки… Делаете вид, будто вам неясна подоплека событий… Ну-ну! – А вам уже ясна? – Тут и кретин поймет, в чем дело! Мы не умеем ускорять распад, деструкцию, разложение… то есть, конечно, умеем, но не в таких масштабах и другими способами, более зримыми и грубыми. Взрыв, радиация, тепловое воздействие, активные химические реагенты… Тут – ничего подобного! – Он покачал головой. – Нет, это не мы порезвились. Не мы, приятель! Нам мезозой не устроить – в лучшем случае пепелище. – Здесь не мезозой, – заметил я. – Мезозой – эра гигантских ящеров, но ими тут не пахнет. Здесь фауна другая, а флора представлена хвощами, плаунами и древовидными папоротниками. Это, Джеф, карбон, палеозойская эра, и от нее до мезозоя добрая сотня миллионо-летий. – Карбон? – Густые брови Джефа сошлись у переносицы. – Каменноугольный период. Такие леса, – я повел рукой, – за триста миллионов лет превратились в уголь. – Эти залежи достанутся не нам, – буркнул Макбрайт, и мы отправились в дорогу. Джунгли действительно напоминали лес неимоверной древности, но это впечатление было расплывчатым и смутным. Часть растений казалась мне похожей на каламиты, лепидодендроны и огромные папоротники с резными листьями[626], другие были совсем незнакомыми, да и за сходство я поручиться не мог. Возможно, природа не повторяла прежних форм или причиной являлся недостаток информации – ведь ни один человек из ныне живущих не посещал такого леса и не гулял под сенью хвощей и плаунов. Какими были эти джунгли? Какие монстры населяли их? Ответ неполный и туманный. Во всяком случае, нам не встречались стегоцефалы, первые земноводные, и меганевры, гигантские стрекозы, которые, если верить палеонтологам, кишели в лесах девона и карбона. Солнце перевалило за полдень, когда мы услышали крик – протяжный стонущий вопль, уже знакомый нам, но прозвучавший с гораздо большей силой. Крик доносился с юго-востока, с дальнего конца прогалины, ведущей к небольшому озерцу; его окружали мхи и папоротники в два человеческих роста. Я передвинул кольцо на дротике на три деления, кивнул Макбрайту и Сиаду и повернулся к Фэй. – Что скажешь? – Крупное существо. Голодное, быстрое, но глупое. Мои впечатления были такими же. Здесь, на Земле, я могу договориться с большинством животных, если только ими не владеет ярость или панический страх, но тварь, которая приближалась к нам, не проявляла склонности к контакту. Слишком крохотный мозг и слишком неразвитый… Зато сил и злости побольше, чем у суукского кат-раба. Мы сняли рюкзаки, сложили их у толстого ствола и двинулись к прогалине. – Я с ним справлюсь, – произнес Сиад, раскачивая дротик. – Аллах укрепит мою руку. Я кивнул. В конце концов, Сиад – наш страж и защитник, почему бы и ему не отличиться? На всякий случай есть еще три дротика, гранаты, ледорубы и мачете… Впрочем, гранаты хотелось бы поберечь. – Учти, что яд подействует не сразу, – заметил я. – Эти древние чудища были на редкость живучими. – Почему? – Медленное кровообращение. Пока отрава парализует мозг, пройдут секунды. – Сколько? – спросил Макбрайт, всматриваясь в чащу. – Пять… десять… Не знаю, но, думаю, хватит, чтоб разорвать нас на куски. – Я справлюсь, – повторил Сиад. Папоротники в конце прогалины зашевелились, тварь выбралась на открытое место. Массивный корпус с длинным хвостом, мощные лапы, тупая широкая морда с жабьей пастью, бронированная голова и гребень вдоль спины… Глаз почти не видно под нависающими кожными складками, но зубы различимы – солидные зубы и, кажется, в три шеренги. Стегоцефал? Пеликозавр[627]? Потом я заметил солидный бивень или шип на кончике хвоста и перестал гадать. Такого оружия у стегоцефалов и пеликозавров не имелось, как и таких повадок, – эта тварь была, без сомнения, плотоядной. Огромная жаба с хвостом и клыками… Веса на первый взгляд в ней было с тонну. Монстр присел, ворочая огромной головой, и тут же взвился в воздух, одним прыжком преодолев десяток метров. Ствол хвоща, попавшийся ему по дороге, треснул и переломился, верхушка с пучком серо-зеленых листьев рухнула, истекая соком, а вслед за ней со звучным шлепком приземлилась жаба. Двигалась она удивительно быстро, растения ей не мешали, и водоемы тоже не были преградой для земноводного хищника. Царь и бог карбона… неокарбона, если придерживаться строгой терминологии. Мы ждали, Сиад – в центре прогалины, я и Макбрайт – по обе стороны от него, Фэй – шагах в двадцати от меня, у наших мешков под большим каламитом. Страха в ней не было – ни страха, ни даже испуга перед грядущей схваткой и возможной гибелью. Сосредоточенное внимание, готовность броситься вперед, метнуть копье со смертоносным ядом… Такая же решимость исходила от Макбрайта, разум его тревожили тени и призраки, а зримых опасностей он не боялся. Тварь мчалась к нам огромными скачками. Кожные складки приподнялись, раздвинулись, и теперь я видел ее глаза – две щелки, подпертые с боков костяными щитками. Хвост волочился за ней, словно какая-то лишняя часть тела, соединенная шарниром с туловищем. – Сиад! Бей в глаз! – В пасть, – отозвался суданец. – Потеряем дротик. Тварь перекусит древко. – Понял. Помоги Аллах! Стальной метровый стержень сверкнул в воздухе. Вопль, исторгнутый чудищем, был оглушителен; казалось, рядом с нами спускает пар старинный паровоз, а машинист, аккомпанируя, пилит рельсы. Дротик, вошедший в череп твари на ладонь, еще раскачивался, когда Сиад бросился к ней с поднятым клинком. Его движения были так стремительны, словно он каким-то чудом превратился в ноо-сферный луч; миг – и мачете взметнулось над головой, миг – опустилось, перерубая связки на задней лапе. Сиад отскочил, не пытаясь выдернуть оружие, и замер за стволом хвоща. Отличная работа! Я сам не выполнил бы лучше. Тварь билась на земле, не в силах опереться на изувеченную ногу, прыгнуть, ухватить добычу. Я считал секунды, потом – минуты. Ее агония была нескончаемой, и Макбрайт, подняв оружие, шагнул вперед. – Не надо, Джеф. Она издохнет. Не тратьте зря отраву Мы провели на этом месте с четверть часа, потом Сиад выдернул клинок и дротик, очистил их от крови комьями мха, а я заполнил контейнер образцами. Шкура у хвостатой жабы едва поддавалась лезвию, а костяные щитки на голове пришлось сокрушить ледорубом. Поверхностный осмотр ничего не дал – во всяком случае, каких-то новых сведений: огромное тело, мозг с кулачок, остатки экзо-скелета, рудиментарные жабры… Я закрыл контейнер с консервантом, сунул его в мешок и приказал трогаться в дорогу. К началу сумерек, как утверждал мой шагомер, мы одолели только восемнадцать километров и трижды столкнулись с бронированными жабами. В первый раз судьба нам улыбнулась, и тварь нас не заметила; вторую и третью прикончил Сиад, действуя со все возрастающей сноровкой. Последнее чудище – самое крупное, тонны на полторы – встретилось нам у оврага с обрывистыми склонами и ручейком, струившимся по каменистому дну. Овраг, широкий и глубокий, с темными провалами пещер, был превосходным укрытием на ночь, если бы удалось его обследовать до наступления темноты. Сиад, разумеется, это знал и несколько раз порывался шагнуть к бьющейся в конвульсиях твари и выдернуть клинок и дротик. Всякий раз я останавливал его; какое-то имманентное чувство, рожденное смутным предвидением, подсказывало, что приближаться к чудищу нельзя. Наконец жаба застыла горой окаменевшей плоти, позволив Сиаду забрать оружие. Вырвав копье из окровавленной глазницы, он ухватился за рукоять мачете, врубившегося в кость, потянул, упираясь ногой в заднюю лапу твари, и в этот момент шевельнулся хвост. Фэй вскрикнула, Джеф тоже завопил, а я метнулся к Сиаду с альпенштоком, пытаясь отвести удар. Но не успел. Хвост изогнулся, словно змея, полуметровый бивень вошел Сиаду под ребро, тварь дернулась, отбросив безжизненное тело; затем последняя вспышка иссякла. Мы ринулись к товарищу, лежавшему на окровавленных мхах; Фэй потащила из мешка аптечку, Макбрайт выхватил клинок, чтобы разрезать ткань комбинезона, а я склонился над огромной раной. Хватило секунды, чтобы понять: люди после таких ранений не живут. Вся брюшная полость была вскрыта от правого до левого ребра; в алой страшной яме темнели остатки печени, разорванный желудок и еще какие-то лохмотья, каша из почек, кишечника и поджелудочной железы. Наш спутник был уже мертв, спасенный от мучений болевым шоком; глаза его остекленели, язык запал в полуоткрытом рту. Я потянулся, чтобы снять с него шлем, но Джеф меня опередил: разрезал ремень у подбородка, быстро приподнял Сиаду голову и ткнул согнутым пальцем за ухом. – Что вы де… – начал я и замер. На губах Сиада вздулся и лопнул кровавый пузырь. Кожа его начала стремительно сереть, потом побледнела, достигнув снежно-белого оттенка; течение крови, хлеставшей будто из порванных труб, тотчас прекратилось, а вместо нее, пенясь и заполняя брюшную полость, полезла губчатая розоватая масса. Он хрипло выдохнул, закрыл глаза и вытянулся на спине, словно покойник, ожидающий, когда его положат в гроб. Но грудь его едва заметно шевелилась, ноздри трепетали, а розовый коллоид закрыл чудовищную рану и колыхался над ней в такт дыханию. Фэй охнула и уронила аптечку. Я встал, похлопал ее по спине и отодвинулся на пару шагов, чтоб обозреть картину целиком: дохлая тварь, ее хвост и бивень, покрытый темной кровью, Макбрайт, зачем-то шаривший под ухом у Сиада, и сам Сиад, распластанный во мху, недвижный, но, несомненно, живой. Во всяком случае, живой наполовину. «Ну, что ты скажешь, когда очнешься? Как объяснишь свои фокусы, мой чернокожий брат? – подумал я. – Или не чернокожий? И не брат?» Его дыхание стало размеренным, и на губах больше не лопались алые пузыри.ГЛАВА 12 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Таких полуживых, как Сиад, мне доводилось видеть часто – можно сказать, с пугающей регулярностью. Истерзанных и окровавленных, лишенных рук и ног, опухших или высохших от голода, покрытых ранами и язвами, больных, полубезумных, обожженных, вдохнувших яд или вколовших наркотическое зелье… Жертвы войн и гангстерских разборок, апартеида и геноцида, недоедания и нищеты, собственной небрежности, религиозного фанатизма, случая, жестоких пыток… Лучше уж мертвые, чем полуживые! Трупы не столь угнетают, как вид искалеченного человека, проклинающего все и всех или молящего о милости, о помощи и снисхождении. Трупы безгласны, им нельзя помочь, а этих, попавших на смертную грань, нельзя оттолкнуть, пока не угасла или не возродилась жизнь. Одних необходимо исцелить, других – спасти от палачей или от их собственной глупости, а третьих – проводить в дорогу, сказав им слово утешения… Я сделал бы это, если бы сумел, но этих несчастных – мириады, и мне не дарована власть над их телами и душами. Я – не Старейший, я – Наблюдатель и должен слушать и смотреть. По временам – помогать, хотя бы в малом, и мучиться, коль не могу помочь. Случается, я забываю, как примитивен этот мир и как далек от совершенства, – забываю и думаю: чего им надо? Они, казалось бы, так многого достигли: пищи и жилищ – с избытком, машины надежны и многочисленны, труд уже не изнуряет, природа щедра, и есть приоритетные цели – сохранить нажитое, ничего не разрушить, а приумножить драгоценное наследие. Добавить что-то свое к чудесам, полученным от предков: великолепные картины, умные книги, новую музыку и новое знание, дворцы, музеи, храмы, города, чистые воды, наконец, и чистый воздух… Это не фантазии о вечной жизни и полетах к звездам, это возможно в настоящем или в ближайшем будущем – мир, где нет голодных, где не льется кровь, где женщины прекрасны, старики мудры, ну а мужчины – те хотя бы пребывают в трезвости. Готов признать, что трезвый мужчина – достойная личность: вьет семейное гнездо, пишет стихи или пашет землю и не хватается за автомат. Женщины, дети, земля и стихи… Чего еще им надо? Зачем страдания и кровь, религиозные распри и грязные игры политиков? Зачем бесконечные войны, насилие, жестокость, нелепые проекты, свалки на месте лесов, могильники, забитые ядами и радиоактивным шлаком? Зачем Чернобыль, зачем Афганистан?* * *
Если бы только Афганистан! Две тысячи седьмой, Иерусалим. Июльский Джихад, он же – Трехнедельная Война, как называют эту бойню в мире, где поклоняются Христу, а не Аллаху. Сражение, почти разрушившее древний город… На севере – отряды палестинцев и две дивизии наемников, люди аль'Бахра, Льва Ислама; на юге и западе – израильтяне. Тут и там – солдаты; все остальные бежали или погибли в руинах, под ливнем ракет и снарядов. ЕАСС еще не существует, НАТО уже нет, но на подходе войска ООН, сводный полк из австралийцев, шведов, испанцев и русских. Рота медиков уже здесь, они развернули палаточный госпиталь в долине Кедрона, бродят по городу, ищут раненых и гибнут под пулями сами… Затишье. Противники окопались, молятся своим богам и собирают силы; меж ними – обугленная Храмовая гора, Стена плача, чьи древние камни иссечены осколками, и накренившийся золоченый купол мечети Куббат ас-Сахра. Вокруг – Святая земля, одно из сокровиш этого мира. Еврейский квартал, Армянский, Христианский, Мусульманский, Голгофа, Гроб Господень, крестный путь… Жарко, пыльно, душно. Ветер с Мертвого моря разносит клубы дыма и запахи пожарищ, разложения, нагретой солнцем стали. Вечный и неизбежный аромат войны… Я (тогда еще – Даниил Измайлов) прибыл на Святую землю с гринписовского судна «Воин радуги», что бороздило Тихий океан вслед за мигрирующими китами. Этот корабль был подарен Сельме Ларсен, одной из активисток движения, каким-то богатым доброхотом – возможно, Ники Купером; я полагал, что имею полное право прокатиться на «Воине» по бирюзовым волнам, под теплым солнышком, среди зеленых островов. Конечно, в приятной компании – эти гринписовцы были вполне дружелюбны, если не свежевать при них тюленей и не бить китов. Самой дружелюбной была, разумеется, Сель-ма, их златокудрая королева и капитан; ну, а я исполнял при ней роль принца-консорта. С охотой, надо признать, хотя блондинок недолюбливаю. Здесь – день, над Тихим океаном – ночь… Сельма, утомленная, нагая, спит на смятых простынях… Здесь тоже спят – трое в простреленных комбинезонах с изображением креста. Врач и медбратья… Крест на груди и на спине, красный крест, большой, заметный, но он их не уберег… Я перенес мертвецов в ближайшее здание, снял с офицера униформу, натянул на себя и просмотрел его документы – Петер Шрайбер, Мюнхен, майор медицинской службы. Потом подобрал саквояж с медикаментами и бинтами, постоял минуту в молчании и отправился бродить по городу. Спасать и утешать… Я нашел их на Храмовой горе, среди десятка трупов – видно, столкнулись два патруля, израильский и арабский, и уложили друг друга в пять секунд. Тела, нафаршированные пулями, один – с рукой, оторванной гранатой, а у другого снесено полчерепа… Искаженные яростью лица присыпаны пылью, над ними вьются мухи, посланцы сатаны… Россыпи блестящих гильз, кровавые лужицы, пальма с побитым осколками стволом… Жуткая картина! Особенно если вспомнить звездную ночь над океаном, теплый воздух, что вливается в иллюминатор, и Сельму, нежную и гибкую, как ива у пруда… Грохнули выстрелы, что-то свистнуло у виска, взметнулись фонтанчики пыли. Двое, определил я: один распластался под пальмой, другой, скорчившись, прячется в камнях. Враги, последние из выживших. Наверняка изранены… Вскинув руку, я крикнул на арабском: – Мир! Перестань стрелять! Я здесь, чтобы помочь тебе! Затем повторил то же самое на иврите. Выстрелы смолкли, но не оттого, что к моим словам прислушались, – просто оба потеряли сознание. У палестинца хлестала кровь из рваной раны над коленом, израильтянину в бок попали два осколка, один на палец не дошел до сердца. Минут сорок я возился с ними – дренировал, зашивал, бинтовал, вводил антисептики; затем перенес в восточный придел мечети, где потолок еще сохранился и на полулежали толстые ковры. Устроил их не рядом, а метрах в трех, чтоб не вступили в драку, дал напиться, заставил проглотить с водой таблетки биокрина. Они пришли в себя, и я заговорил. На иврите, который понимали оба: – Скажите ваши имена, я отмечу их в журнале и отправлю вас куда пожелаете. В наш госпиталь в Кедроне или к друзьям, каждого к своим. Вы первый. – Я кивнул палестинцу. – Валид… – прохрипел он, – Валид Салех… – Откуда? – Из Назарета. Я кивнул и повернулся к израильтянину: – Ваше имя? – Михаэль Берг, отсюда, из Иерусалима. Доставьте меня в госпиталь, майор. Боюсь только, что не смогу идти. Вы можете вызвать транспорт? Джип, вертолет? Есть у вас вертолеты? – Это не должно вас беспокоить. Я же сказал, что каждый попадет к друзьям. Губы Берга шевельнулись, но он не произнес ни слова. Я тоже молчал, разглядывая раненых. Израильтянину было порядком за сорок; светловолосый и сероглазый, с крупными, будто вырубленными топором чертами, он походил на шведа или немца – обычный среднеевропейский тип, но уж никак не семит. А вот палестинца в другой обстановке я принял бы за еврея. Черные навыкате глаза, черные кудрявые волосы, нос с горбинкой, полные губы, смуглая кожа… На вид – не больше восемнадцати, совсем мальчишка. Я повернулся к Бергу. – Давно живете в здесь? – Двадцать восемь лет. В шестидесятом родители переселились из Германии. Из Мюнхена. – Помните язык? – Конечно. Мне было тогда шестнадцать. – Я тоже из Мюнхена, – сказал я на немецком. – Майор медицинской службы Петер Шрайбер. Он окатил меня угрюмым взглядом. – Не люблю немцев и немецкий язык. Чего мы ждем, майор? – Вертолет. Пока вы с Салехом были без сознания, я вызвал его по рации. Берг нахмурился. – У вас нет ни рации, ни телефона! – Есть. Я бросил ее во дворе мечети, когда перетаскивал вас. Мы замолчали. Салех сверкал на меня глазами из своего угла, Берг кривил рот, но не от сильной боли, утихомиренной лекарствами, а, вероятно, из неприязни к немцам. Но это была не самая сильная его эмоция; стоило ему взглянуть на Салеха, как ощутимые волны ненависти таранили воздух. И возвращались обратно с большей силой – юный Салех тоже не питал к израильтянину теплых чувств. – Чего не поделили, братья? – спросил я наконец. – Братья? – вскинулся Салех. – Смердящий пес ему брат! Дай мне нож, и я вырежу ему сердце! Я… – Заткнись, щенок! – Щеки Берга налились кровью. – Я тебя без ножа прикончу! Придушу ублюдка! За моих… за дочь и жену… за тех, кого вы убили, зверье! Я вытянул к ним руки. – Спокойно! Вспомните, бог не любит убийств! Нет худшего греха, чем посягнуть на жизнь ближнего. А если убийство свершилось, то пусть преступник молит о прощении, и если он искренне раскаялся, то будет прощен… Это истина, которую вам следует принять; ведь Иегова и Аллах – ваш общий бог! Бог вашего народа! – Какого народа? – рявкнул Берг и закашлялся, схватившись рукой за бок. На лбу его выступили капли пота. – Того, что пришел в Палестину из Северной Месопотамии. Одни племена остались здесь, смешавшись с хана-неями, другие заселили Аравийский полуостров, и с этих пор минуло три тысячи лет. Немалое время, согласен, но можно ли позабыть о кровном родстве? О том, что вы произошли от чресел Авраама? – С детства помню, что немцы обожают все раскладывать по полочкам, даже в лагерях и тюрьмах, – пробормотал израильтянин. – Помнится еще об их пристрастии к чтению лекций… Вы за этим сюда явились, майор? Может, лучше побеседуем о птичках? Или о видах на урожай томатов? – Ваш урожай – кровь, вражда и трупы! Трупы ваших братьев! – Вытерев Бергу пот со лба, я кивнул в сторону Салеха. – Взгляните на него, Михаэль! Кто больше похож на еврея, вы или он? – И что с того? Душа важней лица… Если и было родство, они его предали, когда отвергли истинного бога. – Ля илляхи иль'алла, Мухаммад рассул илля! – пронзительно выкрикнул Салех и зашевелился, пытаясь опереться на здоровую ногу. Я опустился на колени между ними, поглядел налево, поглядел направо и произнес: – Вражда ослепляет вас обоих. Так ослепляет, что, если бы новый мессия, подобный Христу, Моисею или Мухаммеду, явился к вам и призвал вас к миру, вы бы его распяли… – Посланцы бога не приходят без знамений, – выдохнул Берг. – Бог посылает их избранному народу, чтобы… Я прервал израильтянина движением руки: – Мне лучше известна воля божества! Его цель, его намерения… Бог хочет, чтобы вы жили и были счастливы – все, сколько вас есть на Земле. Он произносит это моими устами, ибо я – не врач из Мюнхена, не человек, а посланец божий, и я говорю вам: довольно крови! Сложите оружие и примиритесь! – Собака! – Ненормальный! – Богохульник! – Идиот! Эти выкрики прозвучали в унисон, словно удары по гвоздям, забитым в крышку гроба. Ероба, в котором хоронили веру… Вера, пусть наивная, простая, безыскусная, – великая вещь, дарованная лишь гениальным провидцам; она зовет к добру и милосердию, к смирению, щедрости и справедливости. Но вслед за верой, уничтожая ее – или, как минимум, искажая, – приходит религия: обряды, ритуалы, храмы, святые канонические книги и обязательный корпус доверенных лиц, вещающих от божьего имени. Еще, разумеется, деление на своих и чужих, на правых и виноватых с младенческих лет. Виновных в том, что родились евреями или армянами, арабами или китайцами, с крючковатым или плоским носом, с темной или желтоватой кожей… Я поднялся и стянул комбинезон, пропахший чужой смертью. – Вы правы, Берг, у меня нет ни рации, ни телефона, и мы не ожидаем вертолет. Божьим посланникам это ни к чему. Бог вас спас, и он посылает вам знамение – чудо, чтобы вы поверили в мои слова. Вытянув руки с раскрытыми ладонями, я оторвался от пола и повис в воздухе, окруженный сияющим ореолом. Так происходит лишь при обильном истечении энергии, а я ее не жалел, не думая в этот момент, хватит ли силы, чтобы вернуться на палубу «Воина радуги». Конечно, смешная выходка, даже глупая… Но как посмотреть! Я, Даниил-Асенарри, прожил сорок лет среди людей, не ведая, смогу ли убедить кого-то в том, что… Мысль моя прервалась, когда я опустился на пол. «Кое-кого ты убедил, – напомнил я себе об Ольге, – и знаешь, чем это кончилось. Попробуешь еще раз?» Ну, почему бы и нет?.. Послав энергетический импульс, чтобы приободрить своих подопечных, я произнес: – Встаньте и подойдите сюда! На Уренире нет врачей; мы не болеем, не воюем, а исцеление случайных ран – личное дело каждого или любого из нас, если раненый в беспамятстве и потерял контроль над телом. Здесь я не способен к врачеванию, но всплеск живой энергии, которой я поделился с Салехом и Бергом, поддерживает лучше, чем транквилизаторы, и ускоряет метаболизм. Я знал, что они чувствуют сейчас: кажется, что ты здоров, что нет ни боли, ни усталости и в следующий миг ты взлетишь в небеса, словно крылатый житель Суука. Они поднялись и зашагали ко мне, как пара сомнамбул – глаза раскрыты, движения уверенны и четки, дыхание глубокое, спокойное. Я обнял их за плечи. – Берг, вы хотели отправиться в госпиталь, и вы там будете. Салех, куда доставить тебя? Может, к родителям в Назарет? Или в Мекку? Ты был когда-нибудь в Мекке? Не отвечая, он глядел на меня широко распахнутыми темными глазами в ожерельях густых девичьих ресниц. Потом прошептал: – Аль имам аль гаиб…[628] Прости, господин, что я не узнал тебя… – Ты должен заслужить прощение, мой мальчик. – Как? Скажи, и я, клянусь Аллахом… – Все уже сказано. Довольно крови! Примиритесь, братья! Ты передашь это своим товарищам. Ты и он. – Я посмотрел в бледнеющее лицо Берга, потом повернулся к Салеху: – Так куда ты желаешь попасть? – В наш лагерь, если будет на то твоя воля. – Хорошо, но перед этим – в госпиталь. Даже аль гаиб не может раздвоиться и оказаться сразу тут и там. Берга я оставил в одной из палаток и вызвал дежурных врачей. Он был на грани обморока – не из-за ран, хоть и весьма серьезных, а по причине глубокого изумления. Человек принадлежит тому языку и той стране, где расцвело начало жизни; в этом смысле Берг являлся больше немцем, чем евреем. Немцы же, как известно, прагматики, и чудеса повергают их в ступор. Я больше рассчитывал на Салеха – этот был молод, полон энтузиазма и готов принять чудесное, не требуя рациональных объяснений. Когда я покидал его в развалинах арабского квартала, он, опустившись на колени, поцеловал мне руку. Он обещал, что станет новым мессией и передаст правоверным волю Аллаха – сложить оружие и примириться с братьями. Он в этом поклялся и оросил слезами мои босые ноги. С тех пор прошло немало лет, но в Палестине все еще воюют – так, время от времени, чтобы не забылось, кто тут старший брат, а кто – приживала младший. И я не слышал, чтобы среди арабов явился мудрый шейх Валид Салех с проповедью мира и терпимости… Возможно, юноша погиб, но что-то говорит мне, что он выжил, однако позабыл о нашей встрече или уверился в том, что повстречал посланца дьявола. В самом деле, дьявол способен на разные хитрости, чтоб уловить правоверную душу, а пощадивший врага – его законная добыча… Салех, надо думать, врагов не щадит.* * *
Видеть. Фиксировать. Запоминать. Храм Святого Петра, полотна Рафаэля и Эль Греко, статуи Микеланджело и Кановы, Парфенон, Исаакиев-ский собор, грозные львы на синих стенах Вавилона, рисунки Хокусая, Колизей, Чичен-Ица, лежащая в джунглях Юкатана, строгий силуэт Фудзи, причудливые индийские святилища, Большой Каньон, Ниагара, парижские бульвары, Лувр, Прадо, Эрмитаж – снова изваяния и картины, запечатлевшие мгновенья прошлого, драгоценная мебель, оружие, украшения… Библиотеки, архивы, фильмотеки – мириады книг, рукописей, карт, пергаментов и папирусов, коробки и кассеты, полные красок, звуков, пейзажей, лиц… Древние усыпальницы, базилики, капеллы – фрески, витражи, резное дерево, покровы, шитые золотом и серебром… Гром оркестра, нежная мелодия флейты, белый лебедь, умирающий на сцене, буйство бразильского карнавала… Сокровища, сокровища, сокровища! Но… Гоу, гоу, гоу, гоу!.. Коммандос в зеленых беретах на берегах Меконга и Персидского залива, в Панаме и Гренаде; побоища меж черными и белыми – в Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке; лязг танковых гусениц на улицах Москвы; кровая резня между тутси и хуту; взрывы в Париже, Белфасте, Мадриде, в российских городах и весях; красные кхмеры и хунвейбины; тюрьмы и лагеря, особые отделения в психушках; вооруженные фанатики – исламские, ирландские, бакские, сицилийские; триады, секты, банды, мафия, наркобароны, торговля людьми… Войны, насилие, разбой! На Кавказе и Балканах, в Ливане и Средней Азии, в Камбодже, Вьетнаме, Ираке, Корее, в Анголе, Конго и Чаде, на Кубе и в Перу, в Эфиопии и Никарагуа… Гоу гоу гоу гоу!.. Немного в этом мире тихих мест. Скажем, мой домик в чешском селении Девичка или аргентинское ранчо… Но даже там я не способен отрешиться от повседневного бытия и стать самим собой, Арсеном-Асенарри, личностью, соединившей уренирский дух с духом и плотью Земли. Мир, в который я внедрен, словно чаинка в кипяток, и там напоминает о себе – письмами, что приходят на мой покет-комп, скороговоркой диктора на экране ти-ви, музыкой, долетевшей от соседей, шелестом шин или гулом экранолета. Порвать эти связи тяжело, и потому мне дорог Тиричмир, край покоя и забвения. Точка на лике планеты, в которой Земля общается с космосом, ее уста и уши, место неторопливых бесед, горы под ярко-синим небом, прохладный воздух, пронизанный излучением эо-ита… Эти эоитные зоны – особый, не до конца понятный феномен. Мы знаем, что в каждом породившем разум мире с течением лет накапливается, формируя ноосферу, информация, которую можно считать продуктом ментальных излучений автохронов. Ее объем зависит от числа живущих на планете, от уровня их мышления и, разумеется, от времени; в некий момент, достигнув границы прорыва, она истекает в космос, соединяясь с общевселенской ноосферой. Эта субстанция есть измерение мирового континуума, которое не способны воспринять приборы, но мозг, высокоразвитый мозг, с ним неразрывно связан; можно сказать, что он питает ноосферу мыслями, являясь в то же время ее материальной основой. Обратное – восприятие мозгом ноосферных течений – тоже не исключается, и это дарит существам из плоти и крови новые идеи, возможность телепатического контакта, мгновенных перемещений и предвидения будущего. В процессе эволюции связи с ноосферой крепнут, инициируя рост воспринимающих центров и пропускную способность ментальных каналов, а это значит, что разум может перейти на новую ступень: человек становится Старейшим. Вернусь, однако, к планетарной ноосфере. По неизвестным причинам ее сопряжение с космосом всегда локально и происходит в определенных точках или эоит-ных зеркалах, разбросанных примерно на равном удалении по всей поверхности планеты. На Земле подобных точек пять: в Антарктиде на восьмидесятой параллели, в Карском море у таймырских берегов, в высокогорных Кордильерах близ границы Перу и Боливии, около Ти-ричмира и, наконец, в Атлантике, в районе Бермуд. Три первые зоны практически безлюдны и редко посещаются, последняя тоже не слишком населена, но через нее проходят морские пути и трассы авиалайнеров. Что же касается Тиричмира, то вокруг него, за некой сакральной границей, лежат афганские и пакистанские селения и города, в том числе крупные – триста километров до Чарикара, Кабула и Исламабада, а до Мардана и Пешавара того ближе. Тиричмир… В сущности, именно здесь таится Шамбала, Шангри-Ла, центр притяжения буддизма, да и иных, не столь умозрительных религий. Здесь, а не восточнее, не в Тибете, не в сердце Гималаев. Кому положено, тот знает об этом и молчит. Иногда, от скуки либо движимый финансовым интересом, садится за пространные записки, повествуя, что обнаружил Шамбалу где-то за Бутаном или Непалом, у озера Пумаюм-Цо либо в районе Самсан-га или Луггара и в других местах, куда даже в нынешний век не каждый доберется. В этой мифической Шамбале имеются все атрибуты, способные эпатировать публику: тайные пещеры, озера с мертвой и живой водой, книги с загадочными письменами, шкуры йети и мудрецы тысячелетнего возраста – хранители сей юдоли слез и печалей. Действительность скромнее: монастырь на южном склоне Тиричмира, монахи в оранжевых балахонах числом десятков шесть, стадо яков, огороды, хлева, жилые кельи, храм. Еще, разумеется, камни, горное пастбище, солнце, небо и Аме Пал. Мы познакомились в середине семидесятых, когда, завершив слияние разумов и душ, я овладел телепортацией и мог перемещаться в любую точку земной поверхности. Делом этим я занимался в летнее время, когда родители (отец еще был жив) перебирались на дачу, а я, двадцатилетний студент-историк, корпел над книгами и зачетами. Не слишком усердно, признаюсь; память выручала, да и к тому же суета с экзаменами казалась мне в тот год чем-то лишним и совсем неважным. Даже нелепым в сравнении с возможностью перенестись на любой материк, в любую страну, селение, город, местность… Увидеть и услышать Землю, узнать ее, запомнить звуки, ароматы, краски! Это было долгое, почти эйфорическое путешествие. Миг – и я в аравийской пустыне, жаркой, как раскаленная сковородка, миг – встречаю восход на Таити, любуюсь плавным течением нильских вод, парю над ночным Нью-Йорком, купаюсь у багамских пляжей или, обняв огромную секвойю, впитываю ее животворные токи… Затем – новый полет… Осло, Буэнос-Айрес, Сан-Франциско, Прага, Лондон, Копенгаген, Триполи, Мадрас… Все достижимо, все прекрасно, и все – мое! Через неделю, постранствовав тут и там, я успокоился и решил, что должен проведать эоиты. В собственных интересах, ибо здесь я мог черпать энергию, не прибегая к помощи деревьев и не погружаясь в транс. При удачном раскладе я бы даже попробовал связаться со Старейшим, если бы один из них вдруг оказался поблизости, где-нибудь не далее Арктура или Веги. Впрочем, это было бы большим везением; Галактика огромна, и трудно ожидать, что Старейший приблизится к Земле на десять парсеков хотя бы раз в столетие. Я посетил зеркала в Антарктиде, в Южной Америке и на Бермудах, постранствовал на карском побережье и решил, что ни одно из этих мест мне не подходит. Крайний юг и дальний север – слишком унылые территории, где нет ни собеседников, ни впечатляющих видов; к тому же центр карского эоита пришелся в море, километров за сто семьдесят от берега, где его токи были едва заметны. Как я уже упоминал, эоит подобен зеркалу, чья отражающая способность, или альбедо, растет от краев к середине; в самом эпицентре фонтан планетарной энергии возносится вверх, и, обрамляя его, падают вниз космические течения. Сей пятачок, который можно пересечь пешком минуты за три, колеблется, словно высоковольтный разряд, и тех, кто попал в эту зону, преследуют галлюцинации и миражи. Это в лучшем случае, а в худшем теряются память и координация движений. Такое бывает в районе Бермуд: воздушный лайнер с обезумевшим пилотом падает в воду, и то же происходит с людьми на судне – ползают туда-сюда, пока не свалятся за борт. Лучше всего я себя чувствую в трех-четырех километрах от эпицентра, где излучение «мягкое» – не тащит в водоворот, а лишь покачивает на невысоких волнах. Чтобы достичь такого места на Бермудах, необходимы яхта или катер – в общем, любое плавсредство, достаточно комфортное, чтобы проболтаться в океане восемь или десять дней. В горах Перу – другие сложности: пейзаж прекрасен, воздух чист, не составляет труда добраться к нужной точке, но спать придется на камнях, в обществе мышей и змей. Не слишком веселая перспектива! Поэтому я выбрал Тиричмир и не ошибся. Строения монастыря, сложенные из гранитных глыб, лепились там, где надо, в трех километрах от середины зеркала, что находилась немного левее главного горного пика. Небо тут вечно голубое, воздух прохладен и свеж; на севере виден хребет, одетый льдами и снегами, на западе – долина Читрала, который километрах в сорока южнее сливается с другой рекой, Мастуджем. Между долиной и монастырем – леса, альпийские луга и множество ручьев, текущих из-под ледяной брони; склон обрывист, и по ведущей вниз тропе проходят только яки. Я материализовался неподалеку от монастырских врат, среди бесформенных утесов. Помню, как поразила яркость красок после дождливого серого лета Балтики; здесь все казалось рериховским полотном, коричневым снизу, сапфировым сверху, с пиками гор в алмазных венцах, с черными и фиолетовыми тенями, что протянулись от камней и скал. Воздух был как глоток холодного шампанского, эоитные ливни пронизывали меня, и мнилось, что сейчас послышится шепот звезд или, как минимум, голос Старейшего. Я вышел на тропинку, огляделся и стал подниматься к монастырю. Никто мне не препятствовал. Ворота были раскрыты, как и двери храма, но я, ведомый интуицией, обогнул строение с причудливой, загнутой по бокам кровлей, миновал молчаливых монахов у алтаря, группу мальчишек в оранжевых тогах, читавших под руководством старшего какой-то древний фолиант, свернул налево, потом направо и очутился в уютном дворике, куда открывались с полдюжины келий. Тут был бассейн с проточной водой, столбик с подвешенным к нему гонгом, три грубо обтесанных валуна и человек, сидевший на одном из них. Он вроде бы молился или о чем-то размышлял – руки лежали на бедрах, глаза прикрыты веками, губы сжаты. Заслышав мои шаги, он поднял голову. Темные агатовые зрачки, бесстрастное лицо с восточными чертами, бритый череп, бронзовая кожа без морщин… Возраст я определить не смог и лишь потом узнал, что Аме Палу было тридцать восемь. Впрочем, через полвека, во время нашей последней встречи, он выглядел почти таким же, только ввалились глаза да чуть усохли щеки. Человек, проживший жизнь в эоитном зеркале, долго не стареет… Он встал, шагнул ко мне и что-то произнес на непальском, который в те годы был не очень для меня понятен, но все же я разобрался, что спрашивают имя. Только имя; причина, по которой я прибыл сюда, мои занятия, возраст, подданство и местожительства его совсем не волновали. – Дан, – отозвался я, решив, что Даниил – слишком сложно. Затем, соединив ладони перед грудью, мешая персидские и китайские слова, промолвил: – Будет ли оказано гостеприимство гостю? Прости, отец мой, если я прервал твои молитвы. Я пришел за светом истины, с добром и миром, но я невесом и легок, как сухой листок. Ветер принес меня и ветер унесет, если прикажешь. – Ты пришел, куда надо, странник: здесь – Община Света. И здесь ты не гость. Он глядел на меня, и его зрачки то сужались, то расширялись в ритме энергетических пульсаций эоита. Его аура была кристально чистой, и я вдруг понял, что этот человек не причинил вреда ни одному живому существу, что он не испытывает страха, чужд стяжательства и властолюбия, что он, возможно, самый свободный из всех, кто повстречался Асенарри на Земле. Будто искра проскочила между нами, заставив вздрогнуть его и меня; затем он улыбнулся и повторил: – Здесь ты не гость. – Кто же? – Тот, кого я ждал. Кого тысячелетиями ожидали наши предки. Ты пришел! – Это было почти ликующим возгласом. Он медленно развел руки, как бы обнимая небосвод, огромную гору и притулившийся на склоне монастырь, и произнес: – Знаешь ли ты, что это за место? – Да. Место мудрости и силы. – Истинно так, Хранитель. Помню, что тогда впервые он назвал меня Хранителем. Затем поклонился и, предлагая сесть, кивнул на камень. Голос его был спокоен, и звучная персидская речь струилась рекой, не знавшей ни перекатов, ни порогов. – Аме Пал, твой слуга, – произнес он, усевшись в свой черед на камень. – В этом месте мы слушаем шепот ушедших и нерожденных, голоса великих будд и размышляем над тем, что они пожелали нам сказать. Слова их приходят из арупадхату[629], они мудры, и слушать их надо душой и сердцем, к чему способны немногие. Редко, очень редко приходят к нам эти слова, Хранитель… Арупадхату высока… «Слушают Старейших?.. – подумал я в изумлении. – Мысли Старейшего не сразу разберешь, даже Старейшего-уренирца, который обращается к тебе, а ведь среди них есть и другие создания, более древние, чем мы. Их мысли – черный дым в темной комнате, за окнами которой – беззвездная ночь… Вернее, пляска пылинок в солнечном луче, ведь Старейшие благожелательны, и сравнивать их с мраком и тьмой не стоит. Но что поймешь из их бесед?» Будто подтверждая это, Аме Пал сказал: – Да, слова их мудры, но слаб наш разум, не постигающий смысла изреченного. И потому мы ждали тебя, Хранитель, чтобы ты разъяснил нам шепот татхагата и сугата[630]. Наставил, если мы заблуждались, и ободрил, если наши поступки не увеличили зла. Поистине, передо мной был мудрец! Он не просил меня карать, спасать и защищать, а лишь ободрить и наставить. И он не требовал знамений и чудес, ибо, служа не религии, а вере, в них не нуждался. Вера его была естественной и совпадала с той, какая практикуется на Уренире; человек занимал в ней особое место и, поднимаясь со ступени на ступень, мог превратиться в божество[631]. Почти в божество; все-таки в космической иерархии Старейшие были рангом пониже, чем Вселенский Дух. – Что ты хочешь знать? – спросил я, поудобнее устроившись на камне. – Только одно, Хранитель, только одно, но самое важное. – В задумчивости он поднял глаза к небесам. – Нам ведом путь и ведомы цели: безгрешная жизнь без посягательств на чужое, в юности – счастье любви, в зрелые годы – радость познания, в старости – нирвана, а затем – полет во тьму, который кончается светом новой жизни… Путь известен, но почему мы с него сошли? Почему устремились дорогой насилия? И как вернуться на истинный путь? Я проследил его взгляд – он, не мигая, смотрел на солнце. На животворное светило, сиявшее над ледяными пиками гор, над всеми странами и континентами восточной половины мира, над городами, полями, лесами и над долинами Афганистана, где начиналась новая война. Еще четыре с половиной года, и пламя ее станет пожарищем; дрова доставят с севера и увезут обратно горелые поленья в цинковых гробах… Вздохнув, я сказал: – Ты спрашиваешь, как выйти на истинный путь? Что ж, давай это обсудим. Поговорим, разберемся… Мы говорили и разбирались ближайшую половину столетия. Я посещал Аме Пала нечасто, раз в три-четыре года, но дружбе это не было помехой. Друг – как старое вино, которое держат к великим праздникам и пьют, считая драгоценные капли, пьют в молчании или под неторопливый разговор, который, однажды начавшись, не прерывается годами. Я не пытался объяснить ему, откуда прибыл, как и для чего попал на Землю. В мире Аме Пала, отнюдь не менее реальном, чем мир огромных мегаполисов, экранолетов и чудес генетики, эти вопросы были ясны как божий день. В бесчисленных вселенных-сахалока есть обитаемые области, и в каждой живут существа определенной природы: боги – высшие и низшие, духи и демоны, преты, асуры[632], животные, неисчислимое множество будд и души людей, что дожидаются перерождения. Одни враждебны к смертным, другие безразличны, а третьи настроены благожелательно; они и шлют на Землю пророков и хранителей, дозволив той или иной душе принять человеческий облик. Поразительно, если вдуматься! Ольга узнала, кто я такой, и эта истина ее убила, но если бы я поделился ею с более сильными и мудрыми людьми – к примеру, с каким-то великим ученым, физиком или философом, – то в этом случае тоже не обошлось бы без проблем. Думаю, такая личность, справившись с шоком, тут же захотела бы узнать, какие двигатели мы изобрели для путешествий в Галактике, как, по нашему мнению, она устроена и как внедряется психоматрица Наблюдателя в мозг земного существа. Пожалуйста, поподробнее, не упуская никаких деталей… лучше – с графиками и уравнениями… может быть, построим компьютерную модель?.. Но для Аме Пала мой полет в виде ноосферного луча, как и мое слияние с младенцем Даней, были вещами самоочевидными. Конечно, души перемещаются в сахалоке без фотонных звездолетов и остальных нелепостей; конечно, они возрождаются в земных телах, когда приходит срок… И если у души есть цель, высокая и благородная, если душа – аватара[633], то он исполнит предназначенное, странствуя в жестоком мире и подвергаясь тем же опасностям и мукам, что и обычный человек. Бывает, что авата-ра-Хранитель устает, нуждается в отдыхе и поддержке… Где он получит их, если не здесь? На склоне Тиричмира, в месте могущества и мудрости… Там, где космос говорит с Землей… Все это было понятно Аме Палу, который в определенном смысле имел о Вселенной более здравое представление, чем астрофизики из Гарварда и Маунт-Паломара. Я часто размышлял об этом парадоксе, лежа в келье на шкурах яков и ощущая, как излучение эоита пронизывает мою плоть. Думаю, что западный мир, выросший из греко-римской цивилизации, принял ее наследие и ограничился рациональным знанием, затворившись в клетке аксиом и терминов, определений и уравнений. Пространство клетки расширяется, но медленно, и каждый новый шаг стоит затрат и усилий – нужны приборы, помещения, специалисты и, разумеется, новые идеи, которые рождаются лишь в гениальных умах. Интуитивный путь познания гораздо проще; он начался в Бгипте, но о нем забыли после нашествий персов, греков, римлян, христиан и мусульман. Египет был слишком далек от европейских берегов и слишком замкнут, чтобы превратиться в империю и стать колыбелью западной культуры. Другое дело – Восток, Китай и Индия, где не дробили мир на атомы, а попытались осмыслить его целиком. И кое-что поняли, если судить по тому, что Аме Пал не задавал мне вопросов о звездолетах и уравнениях. Помню тот день, когда я возник в его дворике, покинув ранчо в Мисьонесе… Явился из пустоты, сел у бассейна на камень, вдохнул живительный воздух и закрыл глаза. Мы молчали, и это молчание длилось долго; солнечный диск успел подняться над горной вершиной, перевалить ее и опуститься в долину Читрала. Наконец он сказал: – Ты в горести, Хранитель. Тебя покинул близкий человек, и теперь душа твоя корчится в муках. Ты упрекаешь себя, ты ищешь вину и посыпаешь рану солью… – После паузы Аме Пал добавил: – Могу ли я напомнить, что встреч без расставаний не бывает, как не бывает и радости без горя? – Это мне известно, мой мудрый друг. Он погладил бритый череп. – Думаю, ты потерял женщину. Я знаю, что такое любовь, и помню, что значит ее потерять. Когда я был молод… – Его глаза затуманились, словно полированный агат зрачков покрылся росой. Потом он произнес: – Ты человек, Хранитель, и я человек. Нельзя прожить жизнь, не ведая волнений сердца, не одаряя любовью и не принимая ее, не мучаясь, не страдая… Такая жизнь скучна, как свиток бумаги, на коем не написано ни слова. А твой свиток не пуст. Нет, не пуст! Протянув руку, Аме Пал коснулся моего колена. Елаза его снова стали живыми и блестящими. – Время идет, свиток разворачивается, и будет в нем написано все, что приготовила тебе судьба. Даже боги подчиняются карме… Твой кармический путь тяжел, но разве, пройдя через множество воплощений, ты не получишь достойной награды? И разве память о пережитом, о твоих возлюбленных и друзьях, не будет с тобою навечно? Может быть, ты вспомнишь и меня, твоего недостойного собеседника… Я киваю, а он продолжает говорить, снимая с моего сердца груз печали. Голос его негромок; он уже не смотрит на меня, а будто размышляет вслух, глядя на темную воду в бассейне: – По-разному уходят люди. Одни – в покое и мире, другие – в тревоге за близких, оставшихся беззащитными, третьи – в отчаянии и страхе, но это простительно: не всякая душа желает покинуть тело и покориться неизбежному. Уходят без боли или в страданиях, рвут жизненную нить одним ударом или пилят тупым лезвием, мучаясь сами и мучая других… Но и в этом нет греха; жизнь – великое сокровище, и только владеющий им решает, когда пришла пора расстаться. Плохо, когда уходят с ненавистью. Там, на западе, – он вытянул руку к афганской границе, – рвутся жизни тысяч людей, и там бушует ненависть. Она надвигается, как туча, темная туча, что затмевает свет моей обители. И так – год за годом… – Аме Пал покачал головой и повернулся ко мне: – Скажи, та женщина, которую ты вспоминаешь, ушла без ненависти? – Да. В страхе, тревоге, отчаянии, но без ненависти. – Значит, она возродится человеком, и, если написано в свитке судьбы, ты ее встретишь. – Он сделал ритуальный жест. – Я буду молиться, чтоб это свершилось. А ты, Хранитель, будь внимателен: узнай ее, не пропусти… Лицо Ольги всплыло передо мной, шевельнулись в улыбке губы, сверкнула полоска зубов, и я внезапно понял, что прощен. Прощен не за то, что случилось, а за свое бессмертие, могущество и знание – за все, что охраняло меня, отгораживало от земной реальности, с которой Ольга была слита, как водяная капля с океаном. – Не пропущу! – выдохнул я. Потом спросил: – Ты говоришь, что люди уходят по-разному, в тоске и в мире, в покое или в страхе… Как уйдешь ты? Глаза Аме Пала весело блеснули. – Об этом мы узнаем, когда мой свиток развернется до конца! Я узнаю и ты! Непременно! – Как? – Что-нибудь придумаю. Там, – он поднял к небу лицо, – скитаются души праведников, целые сонмы душ, а еще – боги, асуры, будды… Вдруг найдется такой, который передаст тебе привет? Я попрошу. – Зачем просить? Ты сам праведник, – сказал я, и мы заговорили на другие темы. Потом он ударил в гонг, велел мальчишке-послушнику нести ужин, молоко, творог и кашу из проса. Я ел, и впервые за эту неделю пища не горчила на моих губах.ГЛАВА 13 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Конец одиннадцатого дня. Двенадцатый день и ночь тринадцатого
Розовый коллоид, затянувший рану в животе Сиада, уже не пенился, а оседал, темнея и уплотняясь на глазах. Кровь перестала течь, дыхание выровнялось, но кожа казалась неестественно бледной, словно натертой белилами. Разглядывая его физиономию, с которой сползла темная маска, я удивлялся, с каким мастерством ее изваяли: губы полноваты, нос широковат, челюсти массивны, но все слегка, чуть-чуть, дабы выдержать паритет между негроидными и европейскими чертами. Искусная лепка! Будь он порумяней, смог бы сойти за швейцарца или баварца, а посмуглее – за уроженца Неаполя или Сицилии… Сейчас, сменив оттенок, как хамелеон, он лишь отдаленно походил на настоящего Сиада ад-Дага-ба, телохранителя суданских президентов. Того Дагаба, чьи фотографии и файлы предъявили мне в моем моравском домике. Интересно! А самое интересное, станет ли это новостью для Жиля Монро? Макбрайт, присевший рядом с раненым, похлопал его по щекам и поднялся. – Будет жить! Вернее, функционировать. – Андроид? – сухо поинтересовался я. Фэй вскрикнула и отступила на шаг, прижав к губам ладошку. Джеф окинул ее насмешливым взглядом. – Да, андроид. Органоробот. Помните, я вам рассказывал? Про биоплант, обернувшийся в моей корпорации органоплантом… Вот эта штука. – Наклонившись, он прикоснулся пальцем к розовой массе. – Органоплант, да кости, да немного мозгов и кое-какие новые органы вроде центров пигментации и регенерации… И вот перед нами слуга и защитник, сильный, стремительный, покорный и практически неуязвимый! Ну, что скажете, приятель? – Скажу, что я наделен полномочиями эксперта СЭБ, а это значит, что я представляю власть. Здесь. В данный момент. Макбрайт напрягся, рука его потянулась к ледорубу. – Власть? При чем тут власть? – Вы упомянули о мозгах. Хотелось бы знать, откуда они. В вашей Эм-эй-си клонируют людей, чтобы получить мозговую ткань? Это, насколько мне известно, преступление. У вас будут проблемы, Макбрайт. Большие проблемы! – Вы так полагаете? – Да. По завершении маршрута я передам вас Интерполу и прослежу, чтобы факты, которые выяснились сейчас, были проверены. Вот свидетель, а это – доказательство. – Я кивнул в сторону Фэй, затем – на распростертого во мхах Сиада. – Кроме того, я хочу, чтоб вы ответили на несколько вопросов. На щеках Макбрайта заиграли желваки. – Власть… – медленно процедил он, оперевшись на ледоруб, – ваши полномочия и ваша власть… Думаю, вы ее переоценили, приятель! Забыли, кто вы и кто я! – Лицо его побагровело, и он внезапно сорвался на крик: – К дьяволу ваши вопросы и ваш Интерпол! И к дьяволу вас самого! Чего она стоит, ваша власть? И где она? Моя рука скользнула к плечу, и лезвие мачете с тихим шорохом покинуло ножны. Макбрайт уставился на него как зачарованный; в свете отгорающего дня клинок серебрился и поблескивал, точно длинная, слегка изогнутая полоска льда. Ощутив легкое движение, я бросил взгляд направо и увидел Фэй. Она с самым решительным видом сжимала дротик. Черты моего противника расслабились. – Это аргумент, – пробормотал он. – Согласен, это аргумент… Мне кое-что рассказывали про вас… про вас и ваше искусство… про то, как вы разрубили манекен в доспехах от плеча до паха… Слухи не врут? – Не врут, – подтвердил я. Макбрайт пожал плечами. – Получается, либо вы снесете мне голову, либо юная леди проткнет меня дротиком… Придется отвечать. Ну, давайте ваши чертовы вопросы! – Что вы затеяли, Джеф? – Сунув мачете в ножны, я показал глазами на андроида. – Что это значит? Он криво усмехнулся. – Полевые испытания продукции, скажем так. Проверка в самых суровых условиях. Кроме того, он – мой телохранитель и слуга. Его запрограммировали на безусловное подчинение. Макбрайт не лгал, это я мог утверждать со всей определенностью. Не лгал, однако недоговаривал. – Что еще? – Изучение вуали. Хотелось бы узнать, как этот феномен влияет на живые организмы и, в частности, на субстанцию, подобную органопланту. Я ведь вам намекал, пытался подготовить… Помните? На четвертый день, когда мы нашли ту мусорную кучу… – Щеки Джефа порозовели от возбуждения. Он вытер лоб и прикоснулся к Сиаду ледорубом. – Представим, что такие существа способны пересекать вуаль и действовать в Анклаве… бродить повсюду, исследовать его свободно, безбоязненно… Какие перспективы, босс! За месяц мы получим больше данных, чем за девять лет! Помните, я предлагал послать его в вуаль? Помните? – Макбрайт покосился на андроида. – Если бы не ваше упрямство, опыт с юной леди не понадобился бы. Хотя он дал свои плоды… она ведь не из органопланта… Фэй что-то прошептала – кажется, выругалась на китайском. Не очень искусно; этот язык больше подходит для философских упражнений и стихотворчества. – Вы сказали: хотелось бы узнать… – промолвил я. – Кому хотелось? Вам? – Мне и моей корпорации. Ну, и другим заинтересованным лицам… партнерам по бизнесу, лидерам ЕАСС, возможно, вашей кремлевской администрации… Как-никак, Россия тоже член Союза Сдерживания. Вы понимаете… новые средства, новые возможности… Я понимал. Было что-то еще, по-прежнему неясное и вроде бы касавшееся самого Макбрайта, однако давить мне не хотелось. Не пережать бы… Аура его была черней полярной ночи. – Монро в курсе? – спросил я. – Знает о подмене? – Нет. Мы заключили соглашение: я финансирую экспедицию, участвую в ней сам и предлагаю еще одну кандидатуру. Такую, чтобы ее состав был сбалансирован в… э-э… политическом смысле. Тут, понимаете, есть еще один интерес… – Какой? – Удастся ли андроиду сойти за ад-Дагаба и вообще за человека. В подготовительный период, в процессе контактов с людьми, и здесь, в Анклаве… Он получил всю нужную информацию, как о самом Дагабе, так и о Судане, религии, обычаях и языках. Он говорит на английском, арабском и четырех африканских наречиях, включая тарабарщину нуэров… Признайтесь, он вас обманул! Не говоря уж о нашей юной леди. Не обманул, мелькнула мысль. То, что было для Макбрайта нелюдью, роботом, продуктом Эм-эй-си, я воспринимал как человека, как личность вполне адекватную, хотя и странную. Ментальные излучения живого не спутаешь ни с чем. – Где настоящий ад-Дагаб? Макбрайт ухмыльнулся. – Не знаю. Не в Судане, это точно. Может, гуляет в Париже или Лас-Вегасе, а может, строит дворец в Омане… Он получил солидные отступные, хватит и на дворец, и на мечеть, и на гарем парижских шлюшек. Это все, что вы хотели знать? – Что с ним? – Я кивнул на окровавленное тело Си-ада. – Он выживет. Органороботы гибнут лишь при полной потере крови, изъятии сердца и мозговых повреждениях. Центр регенерации включен, так что не беспокойтесь, завтра он будет как новенький. Только дежурить по ночам не сможет. Кое-какие функции восстанавливаются за три-четыре дня. – Хорошо. Сейчас мы с Цинь спустимся в овраг, перенесем мешки, поищем место для ночлега. Потом я вернусь за вами и Сиадом. Он транспортабелен? – Вполне. – Рад это слышать. Можете пока заняться носилками, хвощи на взгляд довольно прочные. И еще одно… – Я взвалил на левое плечо мешок Сиада, на правое – свой собственный. – Там, во внешнем мире, Арсен Измайлов – мелкая сошка, а Джеффри Макбрайт ворочает деньгами и людьми… большими людьми, я полагаю… Но здесь я – первый после бога и не потерплю неповиновения! Запомнили? – Да, – выдавил он. – И с Интерполом… Я не шутил, Макбрайт! – С Интерполом я как-нибудь разберусь. – Дело ваше. Я кивнул Фэй и двинулся к оврагу. Мы сбросили мешки с крутого склона, спустились вниз и зашагали вдоль ручья, высматривая место поуютнее. Сумрачный прохладный воздух окутал нас, под ногами хрустели мелкие камни, журчала вода, и полоска флера над головой казалась еще одним ручьем, грязновато-мутным, как прогалина в болоте. Крупных живых существ в овраге, похоже, не водилось, и нам попался лишь десяток плоских змей, странных гадов, напоминавших дряблый, набитый ватой кожаный чулок. Фэй, прерывая молчание, вздохнула. – Он был совсем как человек… – «Был» и «как» нужно убрать, – откликнулся я. – Он жив, и он – человек. Странный, согласен… Но разве мы с тобой не странные? Помнишь, мы об этом говорили? – Да, – она вздохнула. – Но в тот вечер я и представить не могла, насколько ты странный. – С тех пор что-нибудь изменилось? – Ничего. Я даже рада. Я знаю, что, оставшись с тобой, сорок лет буду слушать волшебные истории. Восхитительные сказки о звездах и других мирах… – Это не сказки, милая, это реальность. – Твоя реальность, Цзао-ван. – Ладошка Фэй скользнула в мою ладонь. – Мне бы хотелось узнать о ней самое важное, но… Она запнулась, и я сжал ее пальцы. – Спрашивай. – Скажи, пришельцы не бросают своих девушек? Те сорок лет… Я могу на них рассчитывать? – Все мои годы – твои. До самой смерти. Тихий счастливый вздох… Потом она спросила: – Ты в самом деле сдашь Макбрайта Интерполу? Я неопределенно хмыкнул. Кого-то сдам, а может, зарублю или оставлю на съедение клыкастым жабам – но вот Макбрайта ли?.. Если Сиад – не Сиад, то и другой наш спутник мог оказаться не Джеффри Коэном Мак-брайтом, наследником пушечных королей. Похож, конечно, но слишком уж молодой и шустрый… Наша последняя беседа – или скорее допрос – только плеснула масла в костер моих сомнений. Я мог поверить, что Мак-брайт – тот самый Джеффри Коэн, денежный мешок, – профинансировал экспедицию; средств у него хватало, и добрая их треть была распихана по всяким фондам и благотворительным обществам. Он, несомненно, не отказался бы принять участие в походе, но из спортивного интереса, из страсти к риску и опасности, которая владеет экс-тремалыциками. Возможно, тот Макбрайт пошел бы с нами, чтоб доказать себе, что он не стар, что сохранился порох в пороховнице… Словом, причины могли быть разные, кроме одной – той, что была упомянута нашим Макбрайтом. Полевые испытания… Высокие звезды, что за чушь! Таким миллиардеры не занимаются, для этих дел у них полно шестерок! Еще – андроид в роли слуги и телохранителя… няньки, говоря по правде… Ни одному экстре-мальщику такое в голову не придет! Унижение и бессмыслица, лишающая забаву самого главного – риска! Значит, наш Макбрайт – другая личность, фальшивая, поддельная? С фальшивой памятью о женах, о китаянках и мулатке, о путешествии на «Вифлеем», прыжке с орбиты и прочих подвигах, включая ведьму-итальянку с неукротимым темпераментом? Странно! Можно сказать, необъяснимо! Я мог поклясться в том, что он не лжет, что все это – факты его биографии. Я чувствую такие вещи… Мы обнаружили пещеру в каменистом склоне, забросили туда мешки, и я, оставив Фэй разогревать консервы, полез наверх. Быстро темнело. Над лесом хвощей маячили расплывчатые пятна: одно побольше – бледная луна, и дюжина мелких, самые яркие звезды, каким удалось пробиться через редеющий флер. У жабьей туши уже копошились червяки и слизни, а Джеф потел над носилками, переплетая тросом пару жердин. Перетащив андроида на эту хлипкую конструкцию, мы привязали его, спустили вниз на двух канатах, слезли и потащили к нашему стану. Он, кажется, был в коме – не шевелился, не стонал и выглядел по-прежнему бледным, как полотно. – Он что-нибудь чувствует? – спросил я, оглянувшись на Макбрайта. – Нет. Не больше, чем ящерица с отрастающим хвостом. Даже меньше – на время регенерации мозг отключен. Защитный механизм, которого нет у человека. – Вы сказали, что он запрограммирован на подчинение. Как? Насколько я знаю, с человеческим мозгом такие фокусы не проходят. – Есть многое, Гораций, что неизвестно нашим мудрецам. Особенно в двадцать первом веке, – пропыхтел мой спутник, стараясь не раскачивать носилки. – Техника вуду? Генетическая коррекция? Рефрейминг[634]? – Это вопрос эксперта СЭБ или мистера Измайлова, журналиста? – А с кем вы хотите иметь дело? После недолгого молчания сзади донеслось: – Я хочу считать, что инцидент исчерпан. То, что случилось между нами… мои слова, излишне резкие… Я погорячился, босс, и приношу извинения. – Без всяких условий, связанных с выдачей Интерполу? – Разумеется. Можете заковать меня в цепи и сдать им под расписку. Лично мне ничего не грозит, ведь все исследования и разработки производились не мной, а моими сотрудниками. Откуда мне знать, какой у андроида мозг? Положим, меня проинформировали, что он искусственный, выращенный из органопланта… Скажете, невозможно? Ну, так откуда мне знать? Я не генетик, не биолог, я инженер. И адвокаты у меня отличные! Выкрутится, понял я. Выскользнет, как мокрый обмылок! Впрочем, я пригрозил Макбрайту Интерполом, лишь исполняя свою роль; было бы странно, если бы руководитель группы отреагировал на его признания как-то иначе. Или пропустил их мимо ушей… Ну, пусть разбирается с Интерполом, пусть! А с ним разберется Асенарри, один из тех инопланетных монстров, которые внушают ему ужас. – Так что же насчет программирования, Джеф? – Инцидент исчерпан? – Да. С учетом сказанного мною выше. – Вы про Интерпол? Ладно, согласен. Как говорится у вас, худой мир лучше доброй ссоры. Тем более в этих гибельных местах. – Он помолчал, затем после недолгой паузы заметил: – Вы помянули технику вуду… Так вот, всякую технику можно усовершенствовать. Ясно, дружище? – Вполне. Теперь я знал, что не оставлю это дело. В сравнении с ним рай репликантов в Подмосковье был невинной шуткой мелкого жулья, помешанного на эротике. Сзади раздалось покашливание. Потом: – Как видите, я с вами откровенен. А знаете отчего? Даже не догадываетесь? – Я молчал, ожидая продолжения, и дождался. – Мне многое о вас известно, Измайлов. Не обижайтесь, но я привык изучать людей, с которыми сводят обстоятельства, – тем более тех, от коих зависит моя жизнь. Для этого в Эм-эй-си есть соответствующая служба. – Завели на меня досье? – Ну, что-то вроде… Не так уж это существенно, дружище, тем более здесь и сейчас. Главное, что я проникся к вам уважением. Я понял масштабы вашей личности, я осознал вашу силу и уникальность талантов… да, талантов, связанных, кстати, не только с вашей памятью. Такой человек мне нужен, и потому… – Макбрайт чертыхнулся, споткнувшись о камень, но через секунду продолжил: – И потому я надеюсь на сотрудничество в будущем. «Интересно, как много он знает?.. – мелькнуло у меня в голове. – Бог с ним, с Измайловым, – не докопался бы до прочих моих ипостасей! До Энтони Дрю, племянника Ники Купера, или до бразильца Кастинелли и Жака Де-ни, директора фонда «Пять и пять»… О связях между мной и этими лицами не ведали ни ЦРУ, ни Сюрте Жене-раль, ни ФСБ, ни прочие разведки мира. Но, как говорится, первый фехтовальщик Франции может не бояться второго, а вот деревенский увалень, впервые увидевший шпагу, может его проткнуть… Тем более что Макбрайт – не деревенщина и не увалень…» – Сотрудничество предполагает доверие, – сказал я. – Разве я не был откровенен? – Не совсем. Вот, например… – Я замедлил шаги, повернувшись, посмотрел на Джефа через плечо. – Помните наш разговор перед Лаштом? Когда мы собирались пройти через вуаль? Помните свои слова? Он наморщил лоб и покачал головой. – Мы спорили, кто двинется первым, и вы сказали, что без юной леди мы как слепые щенки, а без меня – свора, потерявшая хозяина. Так? – Да. Наверное… Даже наверняка! У вас замечательная память, приятель! Ну, так что вытекает из моих слов? – То, что вы представляете важность Цинь для нашей экспедиции. Без нее мы и правда слепые щенки… Тем не менее вы провели с ней смертоубийственный эксперимент – там, над водопадом. Уговорили и отправили в вуаль… ее, не Сиада… Ну, предположим, вместо юной леди я выловил бы прах столетней давности… И что бы мы делали? Объясните! Он попал в ловушку. Даже не глядя на Макбрайта, я ощутил эманацию страха, тревоги, неуверенности, которые охватили его. Снова споткнувшись, он пробормотал: – Это была моя ошибка, признаю. Кто же знал, что проклятый канат оборвется? Поверьте, дружище, я сделал это без всякого умысла! И потом… потом… если б девчонка в самом деле погибла, то оставались вы, хозяин своры. Разве не так? Я молча ускорил шаги и не сказал ни слова, пока мы не добрались до убежища. Тайны Сиада и Фэй более не были тайнами; теперь приоткрылась загадка Макбрайта. Не знаю, что он выведал про меня и был ли он Макбрайтом в самом деле, но я его интриговал. В самой высшей степени! Возможно, наш поход был полевыми испытаниями Арсена Измайлова, загадочной личности и предположительно ясновидца… Если принять такую версию, все становилось на свои места: Макбрайт рассчитывал, что, если Фэй погибнет, я обнаружу свой дар и поведу его с Сиадом в смертельном хаосе вуали. Неглупый расчет, но он не учел другого варианта: я мог их просто бросить. Или не мог? Спутники мои за этот день устали, и после ужина я велел им снять с Сиада окровавленный комбинезон и отправляться на боковую. Я тоже вымотался: дорога в джунглях оказалась изнурительной, и постоянное предчувствие опасности ее не облегчало. Если добавить к этому хвостатых жаб, душный влажный воздух, походы с рюкзаками и носилками, несчастье с Сиадом и ссору с Макбрайтом, то станет ясно, что я пребывал не в лучшем расположении духа. Силы мои были на исходе, и буйная энергия палеозойских каламитов не могла заменить мне плавных течений, струившихся в дубовых рощах или в огромных стволах секвой. К счастью, мы находились неподалеку от эоита, километрах в пятидесяти или сорока от его центральной зоны. Убедившись, что Фэй с Макбрайтом заснули, а Сиад по-прежнему в отключке, я снял комбинезон и растянулся нагишом на каменном полу пещеры. Эоитные потоки были еще слабыми, но все же я воспринимал их живительную мощь: прилив – отлив, прилив – отлив, будто меня баюкали невысокие ласковые волны где-нибудь на Кипре или у крымских берегов. Слишком небольшая энергия, чтобы проникнуть в астральную сферу и дотянуться до Старейшего либо узреть те смутные тени, что бродят в прошлом и будущем, как призраки в туманной мгле… Но для неглубокой медитации этих потоков хватало. Отдохнуть, набраться сил, ускорить клеточный обмен, изгнать отраву стресса и усталости… Мелкие камни уже не давили мне в спину, тьма не застилала взгляд; я плавал в нежно-лиловом мареве, теплом и ласковом, словно ладошки моей уснувшей феи. Оно покачивало меня то слабее, то сильнее, в такт ревербераци-ям центрального фонтана и низвергавшихся к Земле течений; мириады неведомых голосов шептали и пели в моих ушах, чьи-то едва ощутимые прикосновения массировали кожу, пробирались сквозь нее с заботливой осторожностью, разглаживали сведенные усталостью мышцы, дотягивались до мозга и сердца. Я знал, что сейчас творится со мной: яды и шлаки распадались, кровь струилась быстрей, очищая сосуды, клетки насыщались глюкозой, гормональный баланс возвращался к норме: сколько положено адреналина, инсулина, глюкагона, кортикостерои-дов, гормонов щитовидки. Наверняка, мелькнула мысль, что-то подобное происходит и с Сиадом – в течениях эоита регенерация ускоряется, и это верный признак, что он не робот, не машина, а живое существо. Продолжая купаться в нежных лиловых струйках, я повернул голову и посмотрел на него. Страшная рана в животе уже закрылась, дыхание стало более глубоким, и я сквозь шепот астральных голосов отчетливо слышал клокотание воздуха в горле Сиада. Транс мой был неглубоким, и в этом состоянии я продолжал контролировать реальный мир, его запахи, образы, звуки; исчезли лишь тактильные ощущения, но чтобы вернуть их и дотянуться до мачете, мне потребовалось бы не более секунды. Так я лежал, окутанный незримой мглой, пронизанный токами эоита, пока не посветлело небо и сквозь предрассветный туман не проступили очертания камней на берегу ручья. В этот момент веки Сиада дрогнули, глаза открылись, он пошевелил рукой и сел. Я придвинулся ближе, осматривая его лицо и тело. Рана пропала без следа, на месте ее бугрились могучие мышцы, взгляд уже не стекленел, точно в предсмертной агонии, и кожа стала принимать оттенок меди – видимо, центр пигментации восстановился. Вытянув руку, я прикоснулся к его лбу – температура была нормальной. – Можешь говорить? – Да. Голос был тихим, но вполне отчетливым. – Как себя чувствуешь? – Нормально. По милости Аллаха я… – Не поминай имени божьего всуе. Если желаешь, сотри теологическую информацию. Она тебе не нужна. Я знаю, кто ты. Он промолчал. Этого парня нелегко разговорить, подумалось мне. – Назови себя. – Сиад Али ад-Дагаб, майор секретной службы Судана, шеф особого подразде… – Нет, – прервал я его, – назови мне истинное имя. Макбрайт, рассказывая о тебе, как-то забыл его упомянуть. – Андроид нулевой серии, опытный образец номер четыре. Другой идентификатор мне неизвестен. – Тогда останешься Сиадом. Хорошее имя; на арабском созвучно слову «вождь». – Я сел, скрестив ноги, и положил ладонь на его плечо, передавая частицу накопленной энергии. – Атеперь, брат мой, скажи, кем ты себя считаешь? – Я робот. Андроид. Человекоподобная машина. – Кто тебе это сказал? – Мои создатели. – Что еще ты знаешь о себе? – То, что я – искусственный интеллект, обязанный подчиняться конкретным людям. Их образы и приоритеты подчинения – в моей памяти. Я сотворен, чтобы служить им и защищать их. Такова моя основная программа. – Ты считаешь, что твой мозг – соединение кристаллических чипов с записанными в них программами? – Нет. Мой мозг выращен из органопланта и запрограммирован иным путем. – Каким? – Это мне неизвестно. Я знаю, кто я есть, и знаю, что не могу нарушить инструкции. Это сообщили мне в процессе воспитания и подготовки. – Тоже твои создатели? – Да. От него веяло несокрушимой убежденностью; он в самом деле полагал, что является машиной, роботом, лишенным свободы воли. Конечно, не устройством из железа и кремния, но сути это не меняло; его отличия от людей были такими же зримыми, как солнце в ясный полдень. Неутомимость и физическая сила, отсутствие потребности во сне, регенерация и многое другое, но главное – уверенность в том, что он не человек и должен служить и подчиняться. Конкретным людям, разумеется. Теперь я знал, как это сделали. Магия вуду, гипноз и методы психологического кодирования тут были ни при чем, так же как генетическая коррекция, что порождала модификантов. Макбрайт мне солгал; все оказалось проще, много проще. Эффект Маугли… Маугли в стае волков… Не то мифическое дитя, описанное Киплингом, а другие Маугли, настоящие, возросшие среди зверей и убежденные в том, что сами они – звери, волки, медведи или шимпанзе. Сиад был воспитан в таких же убеждениях, что лишь подтверждало давно известный тезис: человек – творение общества. Если ребенку повторять, что он вампир и должен питаться кровью, он вырастет вампиром, а если к тому же еще страдает фотоаллергией[635], то данный факт лишь подчеркнет нечеловеческую сущность в его собственных глазах. Словом, как говорили латиняне, homo naturae minister et interpres – человек служитель и истолкователь природы, в том числе и своей собственной. Я снова прикоснулся к мускулистому плечу Сиада. – Ты ведь знаком с концепцией лжи? Намеренного искажения информации? – Он кивнул. – Так вот, друг мой, твои создатели лгали. Ты человек. Вернее, ты можешь стать человеком, вернув свободу выбора и изменив свои ориентиры. Немного, совсем чуть-чуть… Ты утверждаешь, что обязан подчиняться конкретным людям, что сотворен, чтобы служить им и защищать. Так вот, подчиняйся лишь самому себе и защищай по мере сил любого человека. Только и всего. – Я – человек? – Такая мысль, вероятно, не приходила ему в голову. – Да. Его огромная ладонь легла на живот, на гладкую кожу без рубцов и шрамов. – Человек такое может? – Несомненно. – Вытащив нож, я полоснул запястье и поднес к его лицу. Капли крови упали Сиаду на грудь, потом кровотечение остановилось, края пореза сошлись и ранка исчезла, словно ее и не было. Я потер кожу, улыбнулся и сказал: – Видишь? Мы оба в чем-то отличны от других людей, но это не повод, чтобы считать нас машинами. У тебя иная плоть, а у меня немного нестандартный разум… И что с того? Мы люди, Сиад, люди! И еще… Твой мозг не выращен из органопланта, как тебе сказали; он самый обычный, человеческий. Думаю, он взят от клона. – Ты в этом убежден? Впервые он обратился прямо ко мне. – Да. Я не ошибаюсь. В подобных делах я эксперт. Лоб Сиада пошел складками. С минуту он взирал на меня, излучая тревогу и неуверенность, столь необычные для этого гиганта, потом его голова опустилась, морщины исчезли, мышцы расслабились. – Я подумаю… подумаю над тем, что ты сказал… А сейчас я хотел бы поесть. Я очень голоден. Он проглотил пригоршню пищевых таблеток, ополовинил флягу, затем поднялся, вышел из пещеры и начал разминаться. Мощное нагое тело уже отливало эбеном, мышцы бугрились, как узловатые корни, движения сделались быстрыми, едва уловимыми для глаза. Закончив с упражнениями, Сиад смыл кровь с комбинезона, вытащил скотч и начал старательно заклеивать огромную прореху. Проснулись Фэй с Макбрайтом. Джеф высунулся наружу, взглядом отыскал андроида, пробормотал: «Ну, он уже в порядке…» – и отправился к ручью, мыться. Фэй задержалась. – Как он? – Много лучше, чем вчера. Утолил жажду, съел десяток капсул. Сейчас размышляет, остаться ли роботом или стать человеком. Она улыбнулась, погладила меня по щеке. – А как ты? Выглядишь прекрасно… Но ты ведь всю ночь не спал? – Бывает, что сон мне не нужен. Не удивляйся, девочка, привыкай. – Чему тут удивляться? Ты Цзао-ван, хранитель очага… Очаг не должен гаснуть, и Цзао-ван не спит… Фэй выскользнула из моих объятий и тоже направилась к ручью. В этот день мы одолели двадцать восемь километров и повстречали только двух клыкастых жаб. Я прикончил их дротиком, поставив кольцо на отметку «пять»; такая доза убивала их довольно быстро. Ближе к вечеру мы наткнулись на заросли молодых хвощей и застряли там часа на три, прорубая тропу; эта работа легла на нас с Макбрайтом, ибо Сиад двигался не так энергично, как в первую половину дня, и выглядел усталым. Видимо, процессы регенерации еще не завершились – кожа его по временам серела, он сбивался с шага, но не позволил прикоснуться к своему мешку. Я не настаивал; после нашей утренней беседы было бы нелепо донимать его приказами. Первый пункт декларации независимости таков: каждый сам определяет меру своих сил. После зарослей началась болотистая низина, потом дорога пошла на подъем, местность сделалась засушливее, растения – ниже; каламиты и лепидодендроны почти исчезли, освободив территорию для древовидных папоротников и высокого, до колена, мха. Мы больше не встречали хищных жаб, мокриц, червей и странных созданий, похожих на гибрид омара с пауком, зато гигантские слизни попадались в изобилии. Вреда от них было не больше, чем от разваренных макарон, и я решил, что это место подходит для ночлега. Скальная стена, ограничивающая равнину с южной стороны, уже поднималась до небес – точнее, до серо-желтой дымки флера; в ней было метров восемьсот, и я полагал, что это остатки возвышенности, увенчанной некогда гордым пиком, который назывался Тиричмир. Пожалуй, я даже был уверен в этом, хотя пейзаж изменился настолько, насколько возможно за сотни миллионов лет: ни одного ориентира, памятного мне, ни очертаний знакомых гор, ни развалин селений, ни речных долин. Словом, времятрясение! Время порезвилось здесь, стирая горные хребты, будто небрежный рисунок, сделанный карандашом на полотне вечности… Но сокрушительный катаклизм не затронул эоит, и я направлялся прямо к его центру, улавливая токи, которые падали с небес и поднимались к ним. Токи становились все сильнее, указывали верный путь, и не было сомнений, что завтра, добравшись до утесов, мы будем километрах в пяти от середины зеркала. Возможно, через пару дней наша экспедиция закончится – в том смысле, что, достигнув ее цели и раскрыв все тайны, мы повернем на восток, к ближайшей границе Анклава… Почему бы и нет? Если не помешает вуаль, если мы преодолеем стену, если Аме Пал оставил мне послание и если я смогу в нем разобраться, пристроив последние камешки-факты в свою мозаику… Ее несложно завершить, когда догадываешься, что случилось, и остается лишь одна проблема: как это произошло? Минут за сорок до того, как начало темнеть, я обнаружил вешку под сто девятнадцатым номером; приятный сюрприз и рядом с ним – объемистый контейнер, где были вода, продукты, сок и шоколад, а также запасное снаряжение, дротики, тросы, аптечка, гранаты и даже башмаки. Мы не нуждались в большей части этого добра, но все же находку стоило отметить. Сбросив рюкзаки, мы отыскали два десятка баночек с паштетом, мясом и куриными консервами и принялись за еду. Большую часть рациона прикончил Сиад – расправился с дюжиной банок, выдавил в рот шоколадную пасту из нескольких тюбиков, напился сока и лег, закрыв глаза. Я распределил дежурства: полтора часа – Макбрайт, столько же – Фэй, и остальное – мне. Tertia vigilia, третья стража, а заодно и четвертая…[636] Сон в эту ночь я выбрал из самых приятных – будто все мы четверо, отец, мои матери и я, собрались на лани-дао, маленький семейный праздник. Лани-дао – нечто вроде дня поминовения Ушедших, только наши Ушедшие не становятся прахом в печах крематориев и не гниют в земле, а отправляются в галактическую бездну. Они, конечно, живы; меняется лишь внешний облик, растут возможности, но суть их остается человеческой. У Рины был до меня еще один потомок, не от Наратага, а от Доти-ра – Риндо, мой брат, которого мне не довелось увидеть. Рина самая старшая в семье, ей больше веков, чем пальцев на руках, и если бы Риндо остался с нами, то и ему исполнилось бы лет семьсот. Но он ушел, избрав судьбу Старейшего, переселился в звездный мир вслед за отцом Дотиром, хотя его годы были совсем еще юными. Редкий случай, один на миллиард, но каждый из нас свободен в выборе судьбы. Мне снилось, что мы сидим на террасе, и фиолетовый океан рокочет у наших ног, трудолюбиво полируя гальку пляжа; тут и там на темных валунах застыли морские ящерицы, в небе в сиянии ярких солнц мечутся птицы с острыми длинными крыльями, подобные чайкам Земли, и два огромных шатровых дерева с серебряными листьями бросают тени на изразцовый пол. Мы сидим у низкого круглого столика, полного яств и питья, и Рина колдует над поминальным букетом – в нем столько цветков, сколько лет исполнилось бы Риндо, и он похож на многоцветный, ароматный и живой фонтан. Наратаг, по своему обыкновению, молчалив и серьезен, смотрит на руки Ри-ны,порхающие среди цветов, подобно двум прекрасным белым лилиям. Асекатту поворачивается ко мне, на ее губах – улыбка, потом я слышу голос моей младшей матери: «Сегодня нас больше, Асенарри. Вот блюдо, вот бокал и кресло для твоей подруги. Когда она придет? Откуда она? И как ее имя – Ольга? Или Фэй?» И я замечаю, что рядом со мной свободное сиденье – изящное, точенное из кости, какое ставят дорогим гостям. «Где же она? – спрашивает Асекатту. – Позови ее, сынок!» Я посылаю безмолвный зов, и посреди террасы возникает девушка. Глаза как темный янтарь, чуть широковатые скулы, ямочка на подбородке, густые, загнутые вверх ресницы… Ольга?.. Фэй?.. Она подходит, наклоняется, ее локоны падают мне на плечо, ее губы все ближе и ближе… Я просыпаюсь. В трех шагах горит костер, мечется живое пламя, потрескивают стебельки сухого мха, искры улетают в небо. Рядом – Фэй; сидит и смотрит на меня. Смотрит с жадной нежностью, словно боится, что я улечу за искрами, пробью покрывало флера и растворюсь в космической пустоте. Поднявшись, я потер лицо, подошел к ней и сел на моховую подстилку. Почти как во сне, только нет моих родичей, а вместо цветов – рыжие языки огня… Струятся, играют, переливаются… Наверняка их не меньше, чем лет, которые прожил Риндо, странствуя среди туманностей и звезд. Фэй кладет головку на мое плечо и шепчет: – Сказочная ночь… Бывают такие на Уренире? Когда вы сидите у костра, смотрите в огонь, мечтаете и говорите о своих мечтах? – Да, родная. Я вспоминаю много таких ночей… Я проводил их с друзьями или в родительском доме на берегу океана, огромного, как небо. С отцом, с Асекатту и Риной… Она вздрагивает. – Асекатту и Рина… Кто они? Женщины? – Да. Мои матери – там, на Уренире. – Обе? Разве бывает такое? Я тихо смеюсь. – Бывает. Уренир не Земля, малышка. Там существует плотская любовь, но мы считаем, что дети – дар любви духовной, более высокой, не требующей физического соединения. Впрочем, одно не исключает другого… – Не понимаю, Цзао-ван. О чем ты говоришь? О телепатическом зачатии? – Нет. Вспомни, даже у вас на Земле дитя может родиться от донора… Правда, вы не умеете соединять гаметы многих родителей, и в генетическом смысле у ребенка их только двое. На Уренире иначе, Фэй. К тому же наши женщины давно не вынашивают потомство, не страдают и не испытывают мук при родах. Любовь чудесна, но ее последствия для женщин – здесь, на Земле, – нельзя назвать приятными. Боль, кровь, опасность для жизни или, как минимум, истощение… Она потерлась щекой о мое плечо. – И все же я хотела бы выносить нашего ребенка. – Ты сделаешь так, как решишь. Тут не Уренир – Земля. Фэй задумчиво кивнула. – Да, Земля, мой дорогой. Вы отличаетесь от нас, а мы – от вас. – Не так уж сильно. Больше нервных центров, сердце с шестью камерами, есть разница в кровеносной и эндокринной системах… Но внешние различия минимальны: маленькие рты, огромные зрачки… Ты похожа на уренир-скую женщину. – Правда? – Клянусь Вселенским Духом! Я не лукавил – на Уренире нашлись бы девушки, похожие на Фэй и Ольгу. Впрочем, и на других земных красавиц; доминирующий тип не исключал разнообразия. Ри-на, например, была златовласой, с синими глазами и узким маленьким личиком. Представив ее, я попытался задержать образ в памяти, но любопытство Фэй было ненасытным. – Вселенский Дух? Ты сказал, Вселенский Дух? Это ваше божество? – Нет. Но в каком-то смысле… – В каком? – Она отодвинулась, глядя на меня с тем блеском в глазах, с каким ребенок ждет сказочной истории. – Объясни, Цзао-ван! – Один мудрец поведал мне, что люди уходят из жизни по-разному: кто-то – в покое, примирившись со скоротечностью бытия, кто-то – в тревоге, отчаянии или страхе. Есть такие, которые уходят с ненавистью – те, кто гибнет на полях сражений, кого казнят или лишают жизни иным путем, всегда жестоким и неправедным. Но так случается на Земле. На Уренире мы просто уходим. – Уходите… – повторила она. – Но это всего лишь эвфемизм, заменяющий слово «смерть»… Или я что-то понимаю не так? – Не так. Видишь ли, милая, я бессмертен… все мы бессмертны на Уренире, и это дар эволюции, который вы получите когда-нибудь. Со временем, не скоро. Вы… Рот Фэй округлился, глаза расширились, став двумя озерами, в которых плясали яркие отблески костра. Она порывисто вздохнула, стиснула руки на коленях и, полная изумления, склонилась ко мне. – Что… ты… сказал?.. Губы ее почти не шевелились, словно скованные холодом, и я согрел их поцелуем. Потом произнес: – Я бессмертен, как и любой обитатель Уренира. Наша плоть пластична, мы властвуем над ней, не зная страха гибели, и мы умеем делать многое другое, что показалось бы невероятным для человека Земли. Мои способности, память и ощущение вуали, раны, которые заживают мгновенно, – все это жалкое эхо талантов, дарованных нам эволюцией. На большее я не способен в своем земном обличье, но там, на родине… – Подожди, Цзао-ван, не торопись. – Кажется, она пришла в себя после моих откровений. Глаза ее блестели, и по всему было видно, что моя фея собирается ввязаться в спор. – Если вы живете вечно и рожаете детей, то Уренир, наверно, переполнен… Зернышку проса негде упасть, да? Или вы расселились по всей Галактике, на тысячах планет? Может быть, на миллионах? – Нет, девочка, мы остаемся в своем мире, ибо он прекрасен, и посещаем другие миры, чтоб любоваться ими, наблюдать за их развитием, а иногда – помогать… не очень часто, так как не всякая помощь полезна. И нас не меньше, чем обитателей Земли. – Но я не понимаю… О! – Глаза ее снова расширились. – Значит… значит, все, что написано в книгах буддистов, – истина? Вы проходите цепь перерождений, но всегда – в человеческом облике? Ваши тела умирают, души уносятся в космос, а после возвращаются в мир, вселяясь в младенцев – так, как ты вселился в земное дитя? Так, Цзао-ван? О чем-то подобном мы говорили с Аме Палом, но я не старался его переубедить. По правде говоря, я его щадил; мне не хотелось открывать жестокие истины, разрушив тем самым его мир, такой наивный и стройный, с небесами, где обитали сказочные существа, боги, демоны, будды и души, ждущие перерождения. Но Аме Пал при всем богатстве своего ума и чувств являлся наследником прошлых знаний, в которых реальность сплавлялась с фантазией. Фэй – совсем другая: дитя третьего тысячелетия, ровесница мира, изгнавшего чудо с небес. Может быть, зря… – Нет никакой цепи перерождений и душ, отлетающих в космос, – промолвил я. – Человек рождается, живет и умирает, и эта смерть необратима, если не извлекается мозг, чтобы внедрить его в тело клона или искусственного создания, подобного Сиаду Так происходит на Земле и на других планетах, чьи обитатели похожи или отличны от людей, чья жизнь может длиться дольше, но подчиняется все той же неизбежности, тлению – плоти и распаду разума. Так всюду, кроме Уренира, девочка, всюду в Галактике в данный момент. Что же касается нас… – Я сделал паузу, погладил ее по щеке и продолжал: – Мы существуем столько, сколько захотим, а если жизнь наскучила, преобразуемся в иное существо, более мудрое, чем человек, и более могучее. Свободное, как ветер эфира… Мы называем их Старейшими. – Значит, уйти – это сделаться Старейшим? – прошептала Фэй. – Старейшие – часть мировой ноосферы, и я упомянул о ней, когда поклялся Вселенским Духом. Этот Дух – ноосфера Вселенной, и наши знания о ней скудны – мы не способны воспринимать ее отчетливо. Большая часть этих знаний пришла от Старейших. Возможно, они – посредники между Вселенским Духом и существами из плоти и крови. – Полубоги? – выдохнула Фэй. – Можешь называть их так. – Но чем они занимаются? Исследуют звезды, другие миры и галактики, другие цивилизации, отличные от уре-нирской? – Нет, нет! У них есть проблемы посерьезней, а эти игрушки оставлены нам. Они лишь помогают, разыскивая те планеты, чья ноосфера соединилась со вселенской. Делают так, чтоб мы могли отправить туда Наблюдателей… ну, кое-что еще… Ты назвала бы их Старшими Братьями, блюстителями равновесия и порядка, но это наша, человеческая точка зрения. Видишь ли, милая, их нелегко понять. Даже наших Старейших, наших кровных родичей… Ресницы Фэй взметнулись, как темные крылья бабочки. – Ваших… родичей… – повторила она. – А что, есть и не ваши? – Разумеется. Возраст Галактики – миллиарды лет, и в прошлом были расы, достигшие расцвета в неизмеримой древности и отказавшиеся от телесного обличья. Наши Старейшие – самые юные, и временами мне кажется, что там, – я показал глазами вверх, – они считаются детьми или подростками, еще не достигшими зрелости. Может быть, я ошибаюсь… почти наверняка… Мы знаем лишь то, что Старейшие с разных миров – единая галактическая раса, не отвергающая нас, не позабывшая родства, готовая прийти на помощь. Если мы попросим… – Это случится обязательно? – тихо вымолвила Фэй, глядя на пламенные языки костра. – Я имею в виду, что через много-много лет мы на Земле тоже станем бессмертными и научимся превращаться в Старейших? Будем жить в Галактике и заниматься такими вещами, о коих сейчас нельзя и помыслить? – Так и будет, если вы не уничтожите свой мир, а заодно и самих себя. И если вы не пропустите эру расцвета – тот период, когда необходимо не расселяться среди звезд, не захватывать новые территории, а искать дорогу в ту реальность, что лежит за гранью бытия. Иначе… – Что? – Ресницы ее снова взметнулись. – Иначе – упадок, вырождение и гибель. Знаешь, есть в Галактике планета… автохроны зовут ее Анхабом… прекрасный древний мир, некогда мощный, жизнеспособный, но время его растрачено в пустых забавах. Они не нашли дороги – может быть, никогда не найдут, хотя и пытаются… но их уже мало, слишком мало… на три порядка меньше, чем обитателей Земли… Живут они тысячелетиями, но не желают продлить себя в потомстве, и это самое страшное. Они устали. – Разве им нельзя помочь? Им, нам и остальным, кто не нашел дороги? Я прикоснулся губами к ее ресницам. – Представь, перед тобой – личинка… Можно ли сразу превратить ее в бабочку? Ты понимаешь, что нет… Теперь другой пример, совсем невероятный: личинка стала куколкой, но ей так хорошо в уютном коконе, что покидать его совсем не хочется. Представь, что ты прорвала оболочку, но там не крылатая бабочка, а нечто застывшее, неподвижное, перезревшее и не способное измениться… Нет, моя фея, дорогу показать нельзя! Каждый находит ее сам – или не находит и превращается в тень в памяти Вселенной. Я замолчал. Костер угасал, сухие стебли мха прогорали, подергивались пеплом, яркие алые искры больше не кружили в прохладном воздухе. Костры всегда напоминали мне жизнь и смерть цивилизаций: пламя разгорается, вспыхивает мощно и яростно, и в эти минуты надо пристроить над ним котелок, сунуть в огонь железку или что-то еще, дабы использовать его энергию. Глядишь, останется потом клинок, или обожженный сосуд, или хотя бы кружка чая… А если не успеешь, дрова сгорят, огонь источится бесполезным дымом и умрет. Nil sine magno vita labore dedit mortalibus, что означает: жизнь ничего не дает смертным без большого труда. Фэй приникла ко мне, и я почувствовал, что щеки ее влажны. – Ты можешь забрать меня в свой мир? Тогда, когда решишь вернуться? – Это не в моих силах, родная. Зато я могу остаться здесь, с тобой. Я ведь сказал: все мои годы будут твоими. Она то ли вздохнула, то ли всхлипнула и вытерла глаза. Потом прошептала: – Тогда расскажи про Уренир. Какие у вас океаны и горы, какие реки и города? Какие деревья в ваших лесах, какие птицы и звери? Как вы живете, как любите, как веселитесь и грустите? Как вы узнаете, что пришла пора уйти? Как вспоминаете ушедших и как… – Расскажу, – промолвил я, – все расскажу, моя фея. Для этого у нас хватит времени.ГЛАВА 14 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Что рассказать об Уренире? Все уже сказано, написано, даже пропето… К другим пришли слова, каких я не найду, к другим явилось вдохновение, мелькнули образы и миражи и воплотились в звуки, в строчки на бумаге, а мне осталось только вспомнить их.* * *
Если у планеты есть единственный и достаточно массивный спутник, талги базируются в точке Лагранжа, среди скопившегося в ее окрестностях космического мусора, обломков погибших миров, замерзшего газа и метеоритов, пленников планетарного тяготения. Позиция этой мусорной свалки была определена Лагранжем в результате исследования задачи трех тел во взаимном гравитационном поле. Если спутник (например, Луна) обращается вокруг планеты (в данном случае – Земли), то на лунной орбите есть точка устойчивости, которая вместе с Землей и Луной является вершиной равностороннего треугольника. Это значит, что помещенное в нее тело может обращаться по лунной орбите бесконечно долго, не тратя энергии на стабилизацию своих координат. Такая точка есть не только около Земли; другой пример – Троянская группа астероидов, образующая устойчивый треугольник с Юпитером и Солнцем. Выгодная позиция, ничего не скажешь! Можно следить за Землей, маскируясь под мертвую каменную глыбу, ловить теле– и радиопередачи, анализировать ситуацию, а при случае вступить в контакт, послав сигнал или отправив корабли-разведчики… Что такое четыреста тысяч километров? Пустяк… Особенно если припомнить, что талги владеют вполне приличной космической технологией. По земным меркам, их звездные корабли огромны; каждый несет большой экипаж, массу оборудования и, достигнув облюбованного мира, превращается в его стационарный спутник. Эти сведения о братцах по разуму с седьмого неба я получил еще до того, как завершилось слияние Асенарри с Даниилом. Знания приходили ко мне в снах и в трансе лет с восемнадцати, мнясь чем-то наподобие страшной сказки; но по мере того, как крепли мои силы и осознание происходящего, я начинал понимать, что сказка совсем не страшна – скорее даже забавна. Пришельцы жутковатой внешности, сотни три или побольше, сидят в своем жестяном гробу, что ощетинился антеннами и телескопами, и подсматривают, подслушивают, гадают: здесь ли божий слуга, хранитель этого лакомого мира? Словно стервятники над трупом: хочется есть, да боязно, не засел ли где охотник… Когда-нибудь, через год или десять лет, я должен был им представиться – или, вернее, обозначить свое присутствие на Земле. Неудивительно, пожалуй, что поводом к этому стал мой визит на Тиричмир и разговоры с Аме Палом, присвоившим мне ранг Хранителя. В том, что касалось талгов, я мог исполнить эту функцию неизмеримо успешнее, чем защитить и охранить землян от их правителей, их технологии, их собственной глупости и жестокости. Пришельцы с седьмого неба были разумнее моих земных собратьев хотя бы в том, что помнили пословицу: обжегшись на молоке, дуют на воду К землянам это, увы, не относилось – все прошлые ожоги лишь распаляли их страсть к огненным потехам. Итак, я отправил сигнал – не буду уточнять, какой и с помощью какого аппарата, – и получил ответ. Мой ментальный спектр зафиксировали, и отныне я имел привилегию вызвать Бонга (так назывался их глава) с той же легкостью, с которой поднимают трубку телефона. К несчастью, было возможно и обратное, если не ставить мысленный экран, но Бонг был существом разумным и понимал, что я недоступен для связи в присутствии других людей. Другие люди… мои отец и мать… Как рано они меня покинули! Я думаю – нет, я уверен! – что если бы мама осталась жива, то с Ольгой все сложилось бы иначе. Мама была бы тем якорем, тем доказательством моей земной реальности, которое остановило бы Ольгу, спасло бы от самого страшного… Они бы понравились друг другу – мама была не из тех матерей, что давят невесток злобной ревностью. Она приняла бы мою возлюбленную, как дочь, как близкого родного человека, и одарила бы любовью. И в тот январский день, если бы мама была рядом, Бонг меня б не вызвал… А если бы ее не было поблизости, Оля бы знала, куда бежать в отчаянии и страхе – не на вокзал, бросаться под электричку, а к маме… К маме! Сослагательное наклонение всегда рождает печаль. Если бы так, если бы этак… Если бы черные примирились с белыми, евреи с арабами, ирландцы с британцами, а русские между собой… Если бы не плодили ядерных могильников, жутких болезней, модификантов, репликантов, гор оружия и океанов яда… Если бы политики были честны, ученые – предусмотрительны, богатые – щедры, а бедных не было бы вовсе… Клянусь Вселенским Духом, мир стал бы гораздо лучше! Жаль, что лишь в сослагательном наклонении… Что мы обсуждали с Бонгом в тот январский день? Я помню каждое слово, каждый оттенок голоса и каждую гримасу его огромного подвижного лица… Впрочем, физиономии талгов – да и сами они – в реальности невелики, но мне предпочитают являться в обличье великанов. Это, разумеется, лишь голопроекция, и я полагаю, что ее масштабность тешит их самолюбие. Ну, пусть! Стена в моей комнате между сервантом и диваном достаточно просторна. – Мой сканер утверждает, что ты находишься в единственном числе, – произнес Бонг. – Так есть? Он говорил на русском без акцента; голосовые связки талгов воспроизводят звуки любого земного языка. Их инородность проявляется в структуре речи, в неправильном употреблении слов и в том, что они добиваются ясности каждой фразы, не понимая – или не желая понимать – намеков и полутонов. Я иногда развлекаюсь, беседуя с Бонгом на языке Эзопа. Это его раздражает, но все же меньше, чем сокращение имени: он ведь не Бонг, а Бонг Айяли Ята Зи. Количество имен фиксирует позицию талга в их иерархии, и если опустить одно, то это свидетельство неприязни, а два или три – оскорбления. – Так есть, – подтвердил я. – Нахожусь в единственном числе. Что тебе надо, Бонг Айяли Ята Зи? Последний вопрос был вполне корректен; талги не приветствуют друг друга, не прощаются и не имеют понятия о юморе, равным образом как и о вежливости. Язык для них – утилитарное средство общения, и все иные его функции, волнующая поэзия ритма, слов и чувств, которые выражаются словами, им совершенно непонятны. А потому: раз явился, то что тебе надо? – Пришло сообщение, – произнес Бонг, шевеля похожими на клюв губами. – Четыре Облака-Повелителя встретились у светила Горан Атоу, соединили свои сущности и направляются сюда. Талги называют Старейших Облаками – видимо, по той причине, что их телесная субстанция является разреженным плазменным газом. Бывает, что Старейшие встречаются, и местом рандеву обычно служат цефеиды, как раз такие, как Горан Атоу. Горан Атоу – талгское название, тогда как земное всем известно: Полярная звезда. Девяносто парсеков от Солнечной системы, триста свето-лет… С такого расстояния не скажешь, куда направляются Старейшие – тем более что направляться куда-то им вообще не нужно. Они способны попасть в любую точку со скоростью мысли и даже быстрей. – Информация, которую ты сообщил, мне неинтересна, – сказал я, усаживаясь в кресло. Черты моего собеседника дрогнули. Я не очень хорошо разбираюсь в мимике талгов, но эта гримаса, похоже, свидетельствовала о глубоком изумлении. Что и подтвердили его слова: – Я вполне удивлен. Поражен. Достаточно! – Он сделал паузу, глядя на меня большими треугольными глазами без ресниц. – Ты – Асенарри, Наблюдатель, посланный сюда Облаками-Повелителями? Так есть? – Так есть, – подтвердил я. – Облака-Повелители шествуют к данному миру. Громкое событие, звучащее, но ты произнес, что неинтересен этим. – Определенно неинтересен, Бонг АйялиЯта Зи. Оно волнует меня не больше, чем прошлогодний снег. Безносое лицо Бонга сморщилось, клювообразные челюсти недоуменно раскрылись. – Осадки прошлого сезонного периода? Твои эмоции к ним не стремятся? Не шагают? Не летят? Что это есть значит? – Ничего особенного. Сравнение, украшающее речь. Оно подчеркивает отсутствие заинтересованности. – Почему? Облака-Повелители явятся сюда и что-то изготовят. Что-то решат, сделают, прикажут. Одно: ты должен покинуть эту планету. Второе: ты должен остаться. Третье: что-то в этом мире необходимо совершить. Четвертое: мир подлежит уничтожению. Пятое: они желают разговаривать с нами, талгами. Шестое… – …они вышвырнут вас вон, – продолжил я. Все предположения Бонга носили провокационный характер, являясь попыткой выудить из меня информацию. Что-нибудь о Старейших, что-нибудь обо мне или же о тех, кем я послан на Землю… Вдруг проговорюсь? Я и проговорился. Физиономия моего собеседника позеленела. – Зачем Облакам нас швырять? Мы не нарушаем Равновесия, мы ждем. С терпением и достоинством. Разве не так? Пройдет должный период времени, и планета неизменно становится нашей. – Ты в этом уверен? – Да, Наблюдатель. В этом мире живут существа невысокие… нет, я не так произнес: другое понятие – низкие, презренные! – Маска задумчивости легла на его лицо. – Те, кто не озабочен жизнью своей расы и сохранением биоценоза, презренны! Должны рассыпаться и уступить свое место другим. Другие будут тщательны. Увы! В этом нашем старом споре крыть мне было нечем. Кроме одного – и я, ткнув себя пальцем в грудь, недовольно проворчал: – Ты оскорбляешь меня, Бонг! Не забудь, я тоже из этих презренных существ! Бонг скривился от столь беспардонного усечения его имени. Жуткая гримаса! Сейчас он был похож на попугая с треугольными глазками, которому вместо орехов подсунули козий помет. Однако проглотил обиду и буркнул: – Нет! Ты, Наблюдатель Асенарри, не есть создание отсюда. Твоя идентификация – твой разум, а к этому миру относится только твой объем, оболочка для жительства разума. Ты ближе кталгам, чем к низким. Ты союзничать с талгами в возбуждении… нет, в возмущении! Разве не так? – Он с торжеством уставился на меня. – Произнеси, ты доволен тем, что здесь наблюдаешь? Тем, что видишь и слышишь? Произнеси! Доволен? – Не слишком, – признался я. – Однако цыплят по осени считают. Напомню, Бонг Айяли Ята Зи, что когда-то вы были такими же низкими и презренными, а может, еще хуже. Но вы получили возможность сделаться теми, кто вы есть, и было бы несправедливо отказывать другим в подобном шансе. – Мы не были такими! Никогда в прошлой бесконечности! Мы понимающие, что сила в единственности… нет, в единстве, и мы никогда не разделялись! Он был уверен в этом, как в шарообразности Земли, что придавало беседе определенный интерес. До сих пор Бонг не высказывался о землянах с таким пренебрежением и не пытался возвеличить свою расу. Может быть, и в самом деле опасается, что Облака-Повелители вышвырнут их отсюда? Что до его убеждений в сплоченности талгов, то в исторической ретроспективе она была такой же призрачной, как в римском государстве во времена Юлиана Отступника[642]. Наблюдатели с талгских миров сообщали о любопытном нюансе их внутренней политики: история древних времен не то что была под запретом, но, вероятно, ее фальсифицировали с начала и до конца. В результате талги пребывали в заблуждении, что их социум во все эпохи являлся единым и нераздельным организмом. Я вздохнул с печалью и произнес: – Ну, раз ты так считаешь… Тебе виднее, Бонг Айяли Ята Зи. Может, вернемся к нашим орехам? Он снова приоткрыл свой клювообразный рот. – К чему, Наблюдатель? Разве я произносил о плодах дерева, которое… – Нет, ты произносил насчет Облаков. Так что тебя интересует? – Зачем они стали одним Облаком? Зачем идут сюда? Зачем… Он засыпал меня вопросами, но я не знал на них ответов. Бывает, что облака сливаются, пассивно дрейфуя год или столетие под действием звездного ветра, – Старейшие соединяют свои разумы, решая задачу, которая не под силу одному из них. Какую? Это я представлял довольно смутно, как всякий человек на моем месте, любое существо, не сбросившее тягот плоти. Возможно, проблема касалась Великой Тайны Бытия? На Уренире знают, что Старейшие общаются с вселенской ноосферой – или, если угодно, с Вселенским Духом; но в чем смысл и цель подобного общения? Мои наставники утверждали, будто Старейшие исследуют разумность этого конгломерата, но не пришли к единому мнению за много миллионов лет. Что ж, есть и для них нелегкие задачи… И это приятно; будет чем заняться, когда я сделаюсь Старейшим. Бонг бормотал свои вопросы, пока я не пошевелился в кресле, раздраженный этим бесконечным камнепадом. Он смолк и уставился на меня. Его горизонтальные зрачки мерцали, как маленькие розовые лампы. – Успокойся, Бонг Айяли Ята Зи. Облакам нет дела до вас, если не нарушены законы Равновесия. Сидите в своем корабле и ждите хоть целую вечность. Вынюхивайте, подслушивайте, подглядывайте… Но никаких активных действий! Ни провокаций, ни контактов, ни – упаси вас Вселенский Дух – жестокости! – Жестокость… – проскрежетал Бонг. – Термин из этого мира… Что есть жестокость? Не понимаю… Понимаю – целесообразность. – Жестокость – то, что вы сотворили на Диниле. Жестокость – убийство и разрушение. Жестоко подталкивать слепца к обрыву, копать могилу для еще живых и вкладывать нож в руки ребенка. Зрачки моего собеседника потускнели. – Мы помним о Диниле, – буркнул Бонг. – Помним о мощи Облака-Повелителя, изгнавшего нас… Но разве он не разрушил? – Он не убил вас, ведь так? И он не разрушил ничего, что пригодилось бы живым динильцам. Он лишь сровнял могильный холм над их трупами, чтобы тела не осквернили. – Он… – начал Бонг, и в этот момент явилась Ольга. Потрясенный вздох, шелест платья, стук каблучков у двери… Физиономия талга исчезла, растаяла, какпризрак с первым криком петухов, а я сидел в оцепенении, еще не понимая, что случилось. Потом вскочил, бросился к лестнице, спустился, окунувшись в серый зимний день… Tempus fugit. Время побежало.* * *
Бежало оно с изрядной резвостью, особенно в местах, где мне случилось пребывать. Тут оно просто неслось огромными прыжками, и я, желая остаться в гуще событий, отбросил идею переселения куда-нибудь за океан и окончательного воплощения в Ники Купера. Здесь, в России, было интересней; эта страна влияла на мировые события в силу своей огромности, неистощимости ресурсов и человеческого потенциала, мнимой бедности и скрытого, но, безусловно, существующего богатства – своих земель, заводов, городов и миллионов специалистов в какой угодно сфере. Космос, атомная энергетика, химия взрывчатых веществ, все разновидности инженерии, генетика, микробиология, металлургия, военная промышленность… Танки здесь умели делать лучше тракторов, а боевые импланты – лучше обуви, что было, с одной стороны, печально, зато с другой – кружило мир вокруг России. Но главным был, разумеется, геополитический фактор, то уникальное положение, которое выпало этой стране, соединявшей Запад с Востоком, Север с Югом, Европу с Азией, а если вспомнить о дороге через полюс, то и Америку с Индией. Мост, узловая точка, гигантский плацдарм, имевший выход к двум планетарным океанам и без труда способный приобщиться к двум другим… Неудивительно, что в этом месте и в его окрестностях время поспешало, и целые эпохи проходили в течение считанных лет. Двадцатый век кончался, и наступивший двадцать первый явил чудесные метаморфозы распада и соединения; раны мира отверзлись, истекли кровавыми потоками, закрылись и открылись вновь. Империя распалась, пожертвовав окраинными землями, но ее ядро было по-прежнему крепким и цельным. Центральный комитет сменила Дума, однопартийный диктат – анархия стихийной демократии, властительных генсеков – президенты: первый, второй, третий, четвертый… В окраинных землях на западе и юге происходили чудеса: бывшие апологеты коммунизма представали миру то в венце султана или хана, то с жезлом фюрера или тирана, которого именовали «батькой»; где-то велись разговоры о наследственном президентстве и монархической республике, где-то на выборы являлись тридцать тысяч из двадцати пяти, где-то искали лидеров за рубежом – потомков эмигрантов, забывших свой родной язык, но обещавших поделиться капиталами. Повсюду расплодились мириады чиновников, губернских, городских, региональных и центральных; с неистощимой энергией они разоряли музеи, распродавали архивы и выселяли из прежних обителей библиотеки, театры и детские дома. Хранители закона торговали им оптом и в розницу, вчерашние элитные бойцы вливались в криминальные структуры, а олигархи давали интервью, учили демократии, но избегали ответа на вопрос: как нажили они первый миллион? Крали всё: девушек и танкеры, древесину и рыбу, мозги и алмазы, металлолом и нефть, картины и даже двери электричек. Думаю, если бы в России были пирамиды, украли бы и их. Но постепенно смерч превращался в бурю, а буря – в обычное, хотя и сильное волнение. Изобилие не наступило; видимо, в этой стране оно являлось чем-то нереальным и даже противопоказанным, как слишком жирная пища при гастрите. Однако кое-какие достижения имелись. За четверть века России удалось внедриться на рынки военной техники; ее оружие, танки, истребители, эк-ранолеты и боевые корабли были надежными, простыми, дешевыми и смертоносными. Это оценили в мусульманских странах, на Дальнем Востоке и в Африке; хлынули кредиты, субсидии и инвестиции, и через несколько лет страна превратилась в оружейную мастерскую. Такой поворот событий меня не слишком вдохновлял, но что поделаешь – война являлась тут национальным спортом, и оставалось только радоваться, что россияне готовят шайбы с клюшками и если участвуют в смертоубийственных матчах, то с выездом на чужое поле. Другой статьей дохода вместе с традиционными лесом, газом и металлом стал экспорт мозгов. Российские специалисты искали золото на Эфиопском нагорье, трудились в австралийских рудниках, качали нефть на шельфе Северного моря, строили атомные станции в Китае, Иране и Туране, лечили пациентов в Перу и Индонезии, преподавали в университетах Оттавы и Бомбея, Осло и Мельбурна. Случалось, к мозгам добавлялись мускулы – наемники высшего класса, умевшие драться без теплых сортиров и блиндажей с кроватями кингсайз, а с ними – офицеры, прошедшие выучку в кавказских, балканских и среднеазиатских войнах. Мотопехота, десантники, снайперы, артиллеристы – этот товар ценился высоко, выше профессоров, врачей и инженеров, и был повсюду нарасхват; танки шли на рынок с экипажами, экранолеты – с пилотами, а корабли – с укомплектованной командой. Торговля ландскнехтами процветала, взимая дань из самых крепких и здоровых, но – очередной российский парадокс! – это не ослабляло, а укрепляло нацию. Возможно, по той причине, что здесь не увлекались генной реконструкцией: модификанты – хорошие телохранители, однако плохие солдаты. Мир тем временем менялся, обретая многополярность и делаясь похожим на гидру о шести головах. Три головы побольше, три – поменьше… ЕАСС, Восточная Лига, Союз мусульманских государств, а к ним – Южноамериканский альянс, объединивший страны континента, Индия с частью Индокитая и, наконец, Россия… Мостмежду Европой и Азией, неистощимый арсенал для половины мира, всеобщий посредник, партнер СМЕ, член ЕАСС и член ВостЛиги… Правда, за все приходилось платить или менять одно на другое, но паутина дипломатии все-таки лучше минных полей войны. За членство в ЕАСС Россию обязали не поставлять никому особо мощного оружия, атомных субмарин, авианосцев и орбитальных комплексов; кроме того, на рубежах Великого Китая был выстроен Великий Вал – система фортификаций с поясом ядерных могильников. Членство в ВостЛиге обошлось дороже: Монголия, Курилы, Приамурье, Сахалин. Эвакуация, толпы протестующих у стен Кремля, побоища в Думе, восемь попыток самосожжения, вопли левых и правых об исторической миссии России, национальной гордости и желтой угрозе… Однако обошлось и даже принесло какую-то пользу – реанимацию Байкало-Амурской магистрали, где появилось население, приток работников в Якутию и в Магадан, который сделался столицей региона. Но главным результатом был союз с Китаем, что укрепило евразийский мост у океанских берегов; впрочем, валы и могильники тоже были нелишней подстраховкой. С исламским миром был произведен обмен: вместо Великой Албании в Европе возникла Туранская Федерация в Средней Азии. Большая страна, от Каспия до Алтая, и вполне лояльная, соединенная с Россией не только земными и небесными дорогами, но узами крови и общей историей. Вначале там слетели головы ханов и султанов, потом побушевали басмачи, но после кровавой междоусобицы, традиционной для этих мест, все успокоилось. Возможно, потому, что рядом был губительный пример афганцев; возможно, помогли российские экранолеты и три дивизии наемников. Так ли или иначе, Туран замирился и не остался у России в должниках, призвав к порядку единоверцев на Кавказе; правда, с афганской войной справиться не удалось. Там уже не помнили о боге и мусульманском единении, там царила ночь, и в беспросветном ее мраке рыскали голодные шакалы. Ну, ничего, думал я, будет день, будет и пища. День пришел, но пища оказалась горькой. Анклав… Бактрийская пустыня… Ядовитый плод, к которому тянулась шестиголовая гидра…ГЛАВА 15 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Тринадцатый день и ночь четырнадцатого
К стене мы вышли через час после полудня. Я не ошибся, оценивая ее высоту: метров восемьсот, где-то повыше, где-то пониже, а в нескольких местах совсем низко – там, где из огромной каменной ступеньки будто бы вырубили дюжину гигантских глыб и, раздробив их, устроили нечто вроде ведущих к ущельям-расселинам пандусов. Одна из этих осыпей была как раз перед нами – крутая наклонная плоскость, тянувшаяся к разлому в скальном гребне и вымощенная глыбами величиной с кулак. Над разломом желтым прожектором повисло солнце, слегка размытое пеленою флера, что позволяло просмотреть ущелье из конца в конец. Прямое, довольно широкое, наклон – градусов сорок… Отличная дорога наверх! Макбрайт, прищурившись, глядел на солнечный диск. – Облака редеют, босс… Забавно, не так ли? На границе зоны все выглядело иначе… Такое впечатление, что мы оказались здесь в момент рассеивания полей или чего-то другого… в общем, той дьявольщины, которая формирует флер и вуаль. Случайность? Как думаете? – Возможно. Мир полон случайностей. «Закономерность тоже рядится в одежды случайности, – подумал я. – Когда-нибудь вуаль и флер должны исчезнуть, и процесс распада начнется здесь, у эоитного зеркала. Вот он и начался… Чем ближе к эоиту, тем разреженнее вуаль, обширнее бассейны, тоньше флер… Можно изумляться, что мы очутились здесь именно в этот момент, а можно не узреть в том ничего удивительного – ведь рассеяние идет не первый месяц и, очевидно, не первый год. Просто в эти края никто не добирался… Есть и еще один резон: возможно, наблюдения со спутников позволили предположить, что эта область очищается. Возможно, наш маршрут намечен с учетом данного факта… Монро мог сказать о нем, а мог и не сказать, чтобы не возникли необоснованные надежды…» Макбрайт дернул меня за рукав. – Как думаете, приятель, экранолеты здесь опустятся? На автоматике, без людей? В конце концов, пройти через флер можно за считанные минуты… – Это ничего не даст, – возразила Фэй. – По воздуху нам из Анклава не выбраться. Мы, мистер Макбрайт, не машины. – Искоса взглянув на Сиада, она добавила: – Мы все – живые. Все! – Юная леди слишком категорична, – с усмешкой вымолвил Макбрайт. – Я не имел в виду, что мы уберемся из Анклава. Наоборот, я полагаю, что мы проведем здесь месяц или два, и транспортное средство нам очень пригодилось бы. Осматривать такие большие бассейны, как этот. – Беспредметный спор, – прервал я его. – Пеленгатор по-прежнему не работает, так же как все остальное. – Я хлопнул по карману, где лежали покет-комп, маленький фонарик и хронометр. – Не думаю, что удалось бы посадить экранолет на автоматике. Да и двигатель скорее всего отказал бы. – И все же, отчего не попробовать? В порядке эксперимента! Если бы у нас была связь… – У нас нет связи. – Я повернулся к каменной осыпи и приказал: – Поднимаемся здесь. Джеф – лидер, за ним Сиад и Фэй, я – замыкающий. Пошли! Камни лежали прочно и не скользили под ногами. Макбрайт двигался в хорошем темпе, Сиад не отставал – видимо, процесс регенерации закончился или близился к концу. Глядя, как резво он скачет по камням, я вспомнил чудовищную рану, хлещущую кровь, перепаханные внутренности и покачал головой. Такое слишком даже для меня! Конечно, на Земле, оставаясь в плоти, дарованной природой, я мог исцелить любое повреждение. С другой стороны, будь я в уренирском теле, не пришлось бы драться с жабами, было бы достаточно приказать… в крайнем случае – оглушить ментальным ударом… Фигурка Фэй в потускневшей оранжевой «катюхе» маячила передо мной, то закрывая массивный корпус Сиада, то подаваясь влево или вправо, и тогда я видел желтый шлем, широкие плечи и мешок на спине андроида. Шагал он, как прежде, без устали, и о случившемся в палеозойских джунглях напоминали только заклеенный комбинезон да прошлая ночь, когда он не дежурил, а спал, как полагается обычным людям. О чем он думает? Решает дилемму: кто он такой, человек или робот? Сравнивает мои слова с речами своих наставников? Ищет истину в собственном сердце? Жаль, что здесь я не способен читать мыслей… Жаль! Мы поднялись к разлому клиновидной формы, будто вырубленному двумя ударами чудовищного топора. Темные трещиноватые стены, скрип камней под башмаками, слабый ветер, безжизненная поверхность утесов… Трудно поверить, что за нами осталась равнина, полная странной жизни, которой на Земле не место и не время! Я обернулся и посмотрел назад. Там колыхалась серо-зеленая растительность, ползали черви и слизни, бродили хвостатые жабы, а у самого горизонта, за хаосом скал, виднелись озеро и водопад, серебряная нить на фоне такого же темного камня, какой окружал нас сейчас. Четыре дня легли между мгновением нынешним и той минутой, когда я выловил Фэй из озера, – четыре дня, а кажется, что четверть жизни! Впрочем, так оно и есть, ведь кроме времени физического имеются биологическое и социальное, и мера им – не дни и годы, а события. Миграции, войны, болезни, технологический прогресс, распад и воссоздание империй, личные потери и находки, наконец… Потерь, кроме юности моей возлюбленной, десятка лет, проглоченных Анклавом, я не обнаружил, зато реестр находок казался внушительным. Те камешки, что добавлялись к моей мозаике, и тайна Сиада, и что-то новое о Макбрайте, но главное – Фэй! Фея, слетевшая ко мне из пелены загадочной вуали… После гибели Ольги я не пытался блюсти целибат; были у меня другие женщины, ибо нельзя прожить полвека с окаменевшим сердцем и омертвевшей душой. Женщины были, и я благословляю их за щедрость, за теплоту их рук и губ, за все, что было мне подарено… Но не было одной-единственной, той, что заменяет всех и затмевает их, как солнце – гаснущие звезды… Теперь нашел? Скорее она меня нашла, что соответствует традициям Уренира. Там выбирают женщины, и это справедливо: дар понимать и разделять эмоции у них сильнее, чем у мужчин. Я бы сказал, он действует на уровне инстинкта, и мне не приходилось слышать, чтобы кто-то из мужчин остался недоволен выбором. Мы миновали каньон и очутились на плоскогорье, тянувшемся к югу, востоку и западу, насколько хватало взгляда. Небо над нами было не желтым, а голубовато-серым, солнечный диск обрел вполне отчетливые контуры, и в свете, более ярком, чем в предыдущие дни, плато казалось бесконечными городскими развалинами. Камни громоздились на камни, большие глыбы утопали в грудах щебня, там и тут высились остроконечные зубья скал, а между ними зияли трещины, широкие и черные, точно врата преисподней. Здесь дул довольно сильный ветер, рождавший странное чувство нереальности: клубилась пыль, холодило лицо, но слой затянувших небо туч был недвижим, как крышка над исполинской кастрюлей. «Остатки Тиричмира», – подумал я, обозревая плоскогорье. Снежная шапка его исчезла, несокрушимая плоть развеялась прахом, и если бы у гор существовали кости, то я бы сказал, что не осталось даже их. И все же я мог определиться в этом хаосе, ибо токи эоита были чистыми, мощными, живыми. Центр его лежал на юго-западе, но не в пяти километрах, как думалось прежде, а в восьми-девяти; значит, Обитель Света немного восточнее. Впрочем, я не надеялся найти ее руины, я лишь хотел оказаться в том месте, где находился монастырь. Когда-то, очень давно, я спросил Аме Пала, как он уйдет. Теперь его слова звучали у меня в ушах: «Узнаем, когда мой свиток развернется до конца… Я узнаю и ты… Там, в небе, скитаются души праведников, целые сонмы душ, а еще – боги, асуры, будды… Вдруг найдется такой, который передаст тебе привет от меня. Я попрошу…» Может быть, и в самом деле попросил?.. Я оглянулся на своих спутников. Макбрайт обозревал пейзаж с мрачным видом, должно быть, прикидывая, что пробираться по этим камням не подарок; янтарные глаза Фэй поблескивали, а склоненная к плечу головка говорила о том, что она трудится, пытаясь нащупать границы бассейна; Сиад хмурился, и эта гримаса на обычно бесстрастном темном лице казалась столь же удивительной, как улыбка носорога. Я мог побиться об заклад на собственное тело, лежавшее сейчас в гипотермии, что думает он вовсе не о дороге через плато, незримых стенах вуали, скалах, трещинах и остальных опасностях, а совсем о другом. Наверное, о тех вещах, в каких не сомневался ни единый человек с эпохи плиоцена. В конце концов, все мы уверены, что мы – люди… – Чертова плешь… – пробормотал Макбрайт. – Камни да трещины, трещины да камни… Сколько мы одолеем за день? – Нас никто не подгоняет, – заметил я, а Фэй произнесла певучую фразу на китайском. – Что она говорит? – Это пословица, Джеф. Смысл такой: важно не бежать сломя голову, а двигаться в нужном направлении. – И какое тут направление – нужное? – Вот это. – Я показал на юг, где, по моим расчетам, прежде располагался монастырь. Макбрайт сдвинул с налобника каски бинокль. – Там расселина. Широкая, дьявол! Метров семьдесят. – Переберемся, – бросил я и посмотрел на Фэй. – Как насчет вуали? – Далеко, командир. Почти не чувствую. – Тогда вперед! Мы углубились в хаос скал, ребристых глыб и завалов щебня, огибая большие расселины, перепрыгивая через малые, стараясь избегать пыльные облака, которые кружил ветер. Дорога не баловала однообразием: острые утесы сменялись рваными базальтовыми обломками, нагроможденными друг на друга или сидевшими в мелком щебне, словно прибрежные валуны в песчаном дне; среди камней и скал змеились трещины, по временам неглубокие, но иногда казавшиеся пропастями, достигающими самых недр Земли; потом камни и скалы вдруг расступались, трещины исчезали, почва становилась ровной, будто арена цирка, окруженная амфитеатром из переломанных скамей, колонн и арок. Преодолев эту полосу препятствий, мы вышли к огромной расселине, тянувшейся с запада на восток; провал, как и показалось Макбрайту, был метров семьдесят-восемьдесят шириной, а о его глубине не удалось составить представление. Возможно, камни, брошенные Фэй, и долетели до дна, но грохота мы не услышали и потому решили, что спускаться вниз не стоит. Выход в данном случае был один: найти подходящее место, где трещина сужается, и перебросить крюк с канатом на другую сторону провала. Условившись о времени поисков, мы разошлись: я с Фэй – на восток, Мак-брайт с Сиадом – на запад. До сумерек было еще часов пять. Когда, удалившись на сотню шагов, мы потеряли из вида зеленую и желтую фигурки, Фэй коснулась моего плеча. – Арсен… Голос ее был напряженным, да и само обращение – Арсен, не Цзао-ван – подсказывало, что она не намерена шутить или требовать историй об иных мирах и галактических тайнах. Не сбавляя шага, я наклонился к ней. – Что, милая? – Вуаль далеко, но я чувствую что-то другое, странное… Это совсем непохоже на вуаль! Она – как занавес из нитей, а иногда – как проволочная сеть… ну, ты понимаешь… А это… – Струйки, что пронизывают тело, да? Падают сверху, текут снизу, словно ты бесплотная тень в фонтане… Похожее ощущение, верно? Брови ее изогнулись парой напряженных луков. – Ты тоже чувствуешь? Ты понимаешь, что это такое? – Конечно. Там, в вашей школе, в Хэйхэ, тебя учили брать энергию от деревьев? – Она кивнула, не спуская с меня широко раскрытых глаз. – Помнишь это ощущение? Особенно если стоишь в дубовой роще, прижавшись к стволу, чувствуя, как идут от дерева жизненные токи… Правда, похоже? – Очень! Теперь я поняла… Похоже, только сильнее… гораздо сильнее… Что это, Арсен? – Эоит. Особая область на земной поверхности. Зона, где ноосфера планеты сопрягается с Вселенной, где бушует живая энергия, уходит в космос и падает к Земле. Вон там, – я вытянул руку, – центр эоитного зеркала, но приближаться к нему нельзя – потеряешь память или начнутся галлюцинации. Восточнее, за этой трещиной, стоял монастырь. Буддийский монастырь, Обитель Света… Мне доводилось там бывать. – И мы… мы идем туда? В этот монастырь? – выдохнула Фэй. – Во всяком случае, попробуем добраться к месту, где он был. Если б не эта трещина… С минуту мы шли в молчании, лавируя среди камней и посматривая в сторону провала. Он то сужался, то расширялся, но всюду был слишком широк, чтобы надеяться на фокус с крюком и канатом. Мы прошагали с километр, потом еще столько же, и наконец Фэй спросила: – Здесь, в окрестностях этого зеркала… эоита, да?., случается что-то странное? Анклав с ним связан, и потому ты нас к нему привел? – Связи, я думаю, нет, однако надеюсь получить какую-то информацию об Анклаве. Скажем, о том, как он возник… А странного, милая, тут предостаточно. Если повезет, даже услышишь шепот звезд и голос неба… Ну, а в случае неудачи хоть запасешься энергией и станешь чуть-чуть моложе. – Моложе? – с задумчивой улыбкой повторила Фэй. – Ты умеешь регулировать свой возраст, Цзао-ван? Научишь меня, как это делать? Я заглянул в ее повзрослевшее лицо и усмехнулся в ответ: – Обязательно. Надеюсь, у тебя получится. Все-таки ты правнучка Анай-оола, нивхского колдуна. – Шамана. Он был шаманом, а не колдуном, – строго поправила Фэй. Потом попросила: – Расскажи мне о монастыре. На миг передо мной мелькнули стены из древнего камня, одетый снегами хребет, дым курильниц над алтарем, дворик с бассейном и валунами-сиденьями, потом – человеческое лицо: темные агатовые зрачки, бритый череп, бронзовая кожа без морщин… – В том монастыре я встретил друга. Аме Пал, так его звали… Он был настоятелем и прожил на склонах Тирич-мира много лет – я даже не знаю сколько, шестьдесят или семьдесят… Он был мудрец, философ и провидец. Веришь ли, милая, но он предсказал, что я тебя встречу. – Разве такое возможно, Цзао-ван? – Почему же нет? Бывает, завеса времени приподнимается, и мы, увидев цепь причин и следствий, способны предсказать грядущее. Он видел эту цепь. Однажды я пришел к нему в несчастье, и он говорил со мной и утешал, и было им сказано, что я получу когда-нибудь награду. Это и свершилось. Под башмаками Фэй скрипнули камешки. Голос ее был совсем тихим: – Я – эта награда, Цзао-ван? – Ты. Через минуту она промолвила: – Несчастье, о котором ты сказал… Что-то случилось с тобой? – Не со мной, девочка. Самое страшное, когда несчастье приходит не к тебе, а к твоим близким. К тем, кто тебе дорог. – Расскажешь? – Расскажу, но не сейчас. – Я остановился и поглядел на трещину, казавшуюся бесконечной. – Сейчас ты помолчи. Мне нужно сосредоточиться. Кажется, я мог открыть канал. Это ощущение было сродни тому, какое испытываешь в абсолютно темной, но знакомой комнате, привычной до мелочей: тут, справа, стол с компьютерным экраном, дальше – кресло, диван и дверь, а слева – окно и книжные полки, и, если сделать пять шагов и вытянуть руку, нащупаешь что-то знакомое – скажем, «Историю Древнего Рима» Моммзена. Пять шагов, но не больше – на шестом стукнешься о стену и разобьешь себе лоб… Точно так же я чувствовал, что могу перенестись метров на двести – возможно, и далее, но там подстерегает опасность. Телепортация, в сущности, элементарный процесс, почти не зависящий от среды, однако среда в Анклаве была уж слишком необычной. Но, кажется, она менялась – ведь прежде я и помыслить не мог об этом способе перемещения… Или все дело в эоите? В том, что я приблизился к фонтану неиссякаемой энергии? Так ли, иначе, но я понимал, что в силах совершить прыжок и перебраться через трещину. Наша прогулка рядом с провалом меня не тяготила, но все же я предпочел бы гулять с моей феей в местах поприятнее, где-нибудь под кронами дубов или секвой. Ну, это от нас не уйдет, мелькнула мысль, и я повернулся к девушке. – Собери арбалет и достань бухту троса. Потом я возьму твой мешок и все остальное снаряжение. Попробую перебраться… Ее глаза округлились. – Что ты задумал, Арсен? Полезешь вниз с двумя рюкзаками? Я тебя не отпущу! – Вниз мне не нужно. Я… понимаешь, есть другие способы перемещения, не с помощью собственных ног или машин. Гораздо надежнее и быстрее. Миг, и я на той стороне провала, а ты перебросишь мне стрелу с канатом. Канат – для Макбрайта и Сиада, а за тобой я вернусь. Если смогу. Фэй вздрогнула и вцепилась в мой рукав. – Если сможешь? Это опасно, Цзао-ван? – Нет. На небольшое расстояние неопасно, но, чувствую, отнимет силы. Здесь тяжело открыть канал. Раньше у меня не получалось… Сейчас получится, но, вероятно, будет нужен отдых. Молча кивнув, она сбросила наземь рюкзак, раскрыла его, вытащила гладкое ложе арбалета. Потом отдала мне флягу, ледоруб, мачете – все, что болталось у пояса и за плечами, кроме ножа и гранат. Я прикинул общий вес. Килограммов пятьдесят… В любом другом месте это значения не имело, но тут, в Анклаве, были свои правила, непонятные мне и потому внушавшие тревогу. Отложив арбалет на камни, Фэй пропустила веревку в прорезь титанового болта. – Готов, – выдохнул я и шагнул к краю пропасти. Мир раскололся в беззвучной яростной вспышке. Этот эффект – реакция зрительных нервов на перестройку нейронных связей, что-то подобное экстратокам замыкания и размыкания. В определенном смысле человек – сложнейшая схема из колебательных контуров, линий задержки и центров накопления живой энергии, которой заведует мозг, и этот наш руководящий орган способен настраивать схему на восприятие той или иной реальности. Того или иного измерения в континууме Вселенной, чужих для нас пространств и сфер, где термин «воспринимать» почти теряет смысл… Когда-то я рассказывал об этом Ольге – о многомерном бесконечном Мироздании, чьи грани замкнуты сами на себя и чья структура недоступна разуму, отягощенному телом. Впрочем, такие вещи не останавливали человека ни сейчас, ни в древности: не понимая сути огня, мы пользовались им и кипятили воду или плавили металл, не зная ничего о теплоемкости, энергии и энтропии. Я материализовался над камнями по другую сторону провала, неловко рухнул на бок и пополз от края трещины, волоча за собой рюкзаки. Этот порыв, почти бессознательный, инстинктивный, оставил меня без сил – не одолев и трех шагов, я замер, уткнувшись лицом в шершавую, покрытую пылью щебенку. Телепортация, конечно, требует энергии, но, в общем, небольшой; чувство такое, будто ныряешь в воду и позволяешь ей себя нести, пока не закончится воздух в легких. Тогда поднимаешься к поверхности… Однако сейчас мне казалось, что я проломился сквозь что-то твердое, неподатливое – может быть, пробил Великую Китайскую стену или хеопсову пирамиду. Результат – не физическая усталость, а нервное истощение, которое лечат покоем, музыкой и сном… Но здесь имелся другой целитель, неизмеримо более мощный, – токи эоита. Прошло недолгое время, и я осознал, что Фэй кричит; звуки еще не отзывались словами, но крик был тосклив и полон ужаса. Через минуту мне удалось привстать, и я помахал ей рукой, потом сел, опершись плечом о камень, и начал освобождаться от рюкзаков и остальной амуниции. – Как… ты?.. – долетело через пропасть. – Нормально, – отозвался я, купаясь в живительных струях эоита. Они текли, пронизывали воздух и наполняли мои оскудевшие резервуары, но этот процесс требовал часа или двух. Впрочем, он мог бы идти и быстрее, если погрузиться в транс. Поднявшись, я потащился к трещине, с усилием переставляя ноги. Фэй с арбалетом стояла напротив, ее фигурка и побледневшее личико двоились и расплывались перед глазами, черная пропасть разделяла нас, вселяя в меня смутное чувство тревоги. Мне было ясно, что я не хочу расставаться с Фэй ни на минуту, ни на секунду – так, как не мыслишь себя даже на краткий период времени без рук, или без глаз, или без того, что накопилось в памяти. Иррациональное ощущение, но разве мы всегда готовы следовать велению рассудка? – Стреляй! – выкрикнул я. Она подняла арбалет, стрела с тихим посвистом скользнула ко мне, вытягивая волосок каната, и тут же звякнула о камень. Я наклонился, подхватил ее, вытянул трос и начал обматывать вокруг похожего на пень обломка. Потом выпрямился и посмотрел на Фэй: она занималась тем же самым. Ее обломок был повыше – то ли жираф с отбитой головой, то ли самоходное орудие с задранным к небу стволом. – Боюсь, мне за тобой не вернуться. – Мой голос эхом отозвался в скалах. – Я отдохну, а ты иди. Найдешь Сиада с Макбрайтом и… Не слушая меня, она пристегнула карабин к канату, подпрыгнула и ринулась над пропастью тусклым оранжевым метеором. Я только успел подставить руки; Фэй свалилась на меня, мы оба упали на землю, и я почувствовал, как ее щека касается моей и как ресницы щекочут висок. – Я пойду, но с этой стороны провала, – произнесла она. – Найти их нетрудно, и я это сделаю, но прежде скажи: ты цел, Цзао-ван? – Уже нет, – пробормотал я, расслабившись под упоительной тяжестью ее тела. – Ребра мои переломаны, череп треснул, а в горле – пара шейных позвонков. Земные девушки, знаешь ли, нелегкий груз для инопланетного пришельца. – Я тебя вылечу. Немедленно! Сейчас! – Пальцы Фэй дернули застежку моего комбинезона. – Нет, не сейчас. – Я вернул застежку на место. – Дай мне отдышаться, девочка. И слезь с меня. Она поднялась с оскорбленным видом. – Что ты подумал, Цзао-ван? На что ты намекаешь? Я собиралась сделать тебе массаж! Чжия лаофа, даоинь, аньмо[643]! Я умею! – Чжия лаофа… даоинь… это прекрасно… – Я закрыл глаза, погружаясь в целительное забытье. – Минут через пятнадцать… Договорились? Ее ответ я уже не услышал – быстрое восстановление сил возможно лишь в глубоком трансе. На этот раз эоит-ные волны не покачивали меня, а сомкнулись плотным коконом, отрезав от реальности Анклава, от плоскогорья и блекнущих небес, от шелеста ветра и вкуса пыли на губах. Но тишина не была абсолютной: какое-то слово билось в ее тенетах, точно муха у оконного стекла, жужжало, повторяемое многократно, раскатывалось эхом… Слово или слова? Я не мог разобрать их, насыщаясь энергией, а только отметил, что голос как будто знаком. Бу-бу-бу шу-шу-шу невсть, ту-ту-ту за-ссст-мо би-ти-ти… Пожалуй, не слово, а целая фраза! Но я был слишком немощен, чтобы подняться в просторы космоса и выслушать, что шепчут звезды. Позже, мелькнула мысль, позже, сейчас одна проблема – восстановить энергетический баланс. А что до непонятных слов… Не исчезнут, не забудутся, не пропадут, все сохранится в моей бездонной памяти – и эти невнятные речи, и этот голос. Узнаю его, узнаю! Очнувшись, я обнаружил, что моя голова лежит на коленях Фэй, что ворот «катюхи» расстегнут и пальцы девушки разминают мышцы у основания шеи. Она занималась этим сосредоточенно, по всем правилам древнего искусства. Чуть приподняв веки, я любовался ее серьезным лицом, темно-каштановой прядью, струившейся от виска к подбородку, и легкими движениями губ. Кажется, она декламировала про себя один из даосских лечебных канонов, и, приглядевшись, я прочитал: «Дыхание должно быть легким, сердце должно быть спокойным, спина должна быть выпрямленной». Как там дальше? «Уши должны быть настороже, рот приоткрыт, кожа должна быть увлажненной, живот нужно почаще гладить…»[644] Не знаю, что случилось бы, если бы она добралась до моего живота. Рискованный момент! Подумав об этом, я перехватил ее ладошку и сел, застегивая комбинезон. – Спасибо, милая! Ты возвратила меня к жизни. – Что с тобой случилось, Цзао-ван? Ты был как мертвый… нет, как человек в каком-то беспробудном сне… Ты медитировал? – Я восстанавливал силы. Тут, у эоитного зеркала, это недолгий процесс… Где наши спутники? – Скоро будут. Я позвала их, потом вернулась к тебе. С этой стороны расщелины меньше камней, дорога проще. Кивнув, я поднялся на ноги. Чувство необыкновенной легкости охватило меня – так бывает, когда энергии в избытке, когда ее живительный поток переполняет мышцы, готовые к немедленному действию, когда твой разум ясен, и кажется – еще чуть-чуть, и ты постигнешь все загадки мира. «Голос, – подумал я, – голос, твердивший ту непонятную фразу… знакомый голос Аме Пала… Что я воспринял? Обрывок послания? Мысль, заблудившуюся в ноосфере? Эхо отзвучавших в прошлом слов? Возможно, галлюцинация, какие случаются близ центра эоита?» Две фигуры, желтая и зеленая, возникли на той стороне провала. Макбрайт помахал мне рукой, крикнул: – Вижу, вы времени зря не теряли! Можем переправляться? – Да. Сиад, затем – мешки и снаряжение. Вы последний, Джеф. – Нет возражений, приятель. Минута, и Сиад скользнул на нашу сторону, грохнул подошвами башмаков о камень-пень, отцепил карабин, выпрямился, огляделся. Дул слабый, но ровный и прохладный ветер. С неба падал блеклый свет, солнце висело над западным краем плато, и диск его снова размылся оранжевой кляксой – бесформенной и угловатой, вытянувшей над горизонтом длинные розово-серые крылья. Звезды еще не просвечивали сквозь флер, но на востоке уже разгоралось слабое жемчужное зарево, предвестник лунного восхода. Крохотные пыльные смерчи кружились над камнями. Запрокинув голову, Сиад уставился на солнце. – Думаешь? – спросил я. – И что решил? Ты робот или человек? Черная маска дрогнула, сверкнули зубы – Сиад улыбался! Первый раз за все недели нашего знакомства. – Знать бы, что такое человек, – пробормотал он, погасив усмешку. – Человек свободен. Вот необходимое условие. – Но недостаточное. – И это верно, – согласился я. Мы приняли груз – рюкзаки, оружие и альпенштоки. Затем через пропасть перебрался Макбрайт. Встал на ноги, сплюнул в расселину и произнес: – Не знал, что вы умеете летать. – Не умею. Но хорошо бросаю лассо. Он взглядом измерил расстояние от скалы, похожей на жирафа, до камня-пня. – Бросаете на девяносто метров? – Вас это удивляет? Не слышали про Ристо Корхонену? Этот финн швырнул куриное яйцо еще подальше[645]. И знаете, что самое странное? Оно не разбилось! Макбрайт насупился. – Смеетесь? – Вовсе нет. Вы ведь признались сами, что понимаете всю уникальность моих талантов. Возможно, я не бросал канат, а повелел ему перелететь над пропастью и обернуться вокруг подходящего камня… – Чертовски хорошее объяснение! – Он подозрительно взглянул на меня и потянулся к рюкзаку. – Куда теперь? На этом плоскогорье, заваленном щебнем и каменными глыбами, имелся лишь один ориентир – центральная зона эоита. Двигаясь вдоль трещины, мы отклонились на восток, и центр теперь лежал к западу от нас, а монастырь – вернее, место, где он находился, – прямо к югу, километрах в трех. «Успеем дойти до заката», – подумал я, высматривая подходящий путь среди камней и трещин. Голос Аме Пала все еще звучал в моих ушах, словно сигналы невидимого маяка. Бу-бу-бу шу-шу-шу невсть… ту-ту-ту за-ссст-мо би-ти-ти… В следующий час мы медленно пробирались вперед, стараясь держаться на открытых пространствах и избегать теснин и узких мест, куда не попадали солнечные лучи. Пейзаж менялся, делаясь все более мрачным и угрожающим; небо потемнело, ветер, неизменно дувший с севера, стал сильнее, длинные тени пролегли от камней и утесов, и там, где они наложились на провалы, скрывая их, двигаться было опасно. Мы шли без спешки, нащупывая путь ледорубами, и вой разыгравшегося ветра мешался с резким звоном металла о камень и скрипом щебенки под подошвами. Дорога пошла вверх – видимо, перед нами был пологий холм, торчавший над плато метров на тридцать-со-рок. Передвигаться стало легче и труднее; с одной стороны, здесь не было трещин и высоких скал, с другой, косые лучи вечернего солнца не освещали северный склон. Пару минут я размышлял, стоит ли рисковать и подниматься на вершину, где, по моим соображениям, располагался монастырь, затем подумал, что утро вечера мудренее, и сделал знак остановиться. В конце концов, вечер и утро разделяла ночь, и я не собирался тратить ее зря. С запада наш стан был прикрыт невысоким утесом, напоминавшим подкову, с ровной площадкой у его подножия; в центре площадки лежала плоская гранитная плита – будто стол, приготовленный для трапезы. Пока мы разбивали лагерь и ужинали, солнце скрылось за вершиной скалы. Сиад тут же растянулся на мелких камнях, закрыл глаза и засопел. Фэй погасила спиртовку, и теперь лишь тусклый лунный свет, проникший сквозь редеющее покрывало флера, падал на лица моих спутников. Они казались утомленными, хоть одолели мы не столь уж длинный путь; правда, поднялись на плоскогорье и половину дня блуждали среди каменного хаоса. Макбрайт, надув комбинезон, прилег на землю, Фэй вытащила гребешок и принялась расчесывать волосы. Я заметил, что она украдкой трогает ладонью то одну, то другую щеку, касается губ, подбородка, шеи, словно хочет убедиться, что ее черты не изменились, что кожа по-прежнему упруга и нет других морщин, помимо вызванных усталостью. Женщина здесь как цветок под ветром времени; время безжалостно к ней, и это еще несправедливей смерти… Я знал и знаю мужчин, не уступивших течению лет, оставшихся мужчинами, не стариками, ибо их суть заключалась в таланте, мужестве, уме. Они продлевали себя в тысячелетиях подвигами, мыслями, свершениями… Но это – дорога мужчин, а с женщинами все иначе. Женщина есть красота, неувядающая и вечно юная, – но как сохранить на Земле живую красоту? Здесь полагают, что старость, смерть и тлен естественны, что все живое и прекрасное умрет и обратится в прах. Вот приговор земной науки, несовершенного творения философов! Правда же известна лишь молодым красивым женщинам: они уверены, что красота их не померкнет, стан не согнется, волосы не потеряют блеска и что морщины, дряхлость и полиартрит – лишь страшные бабушкины сказки. Sic volo![646] И в этом – истина. Макбрайт задремал. Отложив гребешок, Фэй повернулась ко мне, приподняла вопросительно бровь, но я покачал головой и произнес на китайском: – Пусть спит. Сегодня никаких дежурств. Я ваш бессменный часовой. Она сложила руки на коленях, помолчала, затем ее взгляд обратился к вершине холма. – Там, Арсен? – Да. – Думаешь, там что-то есть? – Не знаю, милая. Надеюсь. Фэй помолчала, навивая на палец прядь распущенных волос. Лицо ее было задумчивым, грустным, и сейчас она казалась совсем не похожей на Ольгу. Другая женщина, другие мысли… Но я любил ее, а не свои воспоминания. – Если ты что-то найдешь, Цзао-ван… найдешь в этом монастыре… если завтра все закончится… что мы будем делать? – Повернем на восток и выйдем к индийской границе. Или к китайской, как повезет. – К китайской нельзя. Если к китайской, меня… Она не закончила. Я кивнул. – Понимаю. К китайской ты можешь выйти только в полном одиночестве, с ворохом раскрытых секретов. Придвинувшись ближе, Фэй посмотрела мне в глаза. Лунный свет играл в ее зрачках, серебристые рыбки скользили в темных озерах, то исчезая, то появляясь вновь. – Я провалила задание, Цзао-ван, не выведала никаких секретов. Только один, но самый важный. – Этот секрет мы оставим себе, родная. И не тревожься, к какой из границ мы выйдем. Главное, убраться из Анклава, а там… Она улыбнулась. – Ты ведь умеешь не только прыгать через трещины, Арсен? Не только с рюкзаками? – Не только, – подтвердил я. Ее глаза закрылись, серебристые рыбки юркнули на дно озер, где так уютно дремать до рассвета. Дремать и видеть сны про Уренир… Я глядел на нее и мечтал, как покажу ей все прекрасное, что есть в подлунном мире: игру и блеск полярного сияния, корону радуги над водопадом, мощь океанских вод у берегов Таити, дремучий амазонский лес, карельские скалы, дубовые рощи за околицей Девички и каменное кружево старинных храмов – в Бомбее и Венеции, в Мадриде, Лиме, Петербурге… Я унесу ее туда и, не выпуская из объятий, скажу: смотри, вот Уренир! Не весь, конечно, но малая его частица, которая существует на Земле, оазис красоты, подобный землям и дворцам моей далекой родины…ГЛАВА 16 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Ненависть… Земля переполнена ею не меньше, чем страхом и жестокостью. Собственно, ненависть – их производное, их жутковатое детище; страх и жестокость рождают ее постоянно, как пара разнополых монстров, охваченных неутолимой похотью. Здесь ненавидят врагов, соперников, партнеров, удачливых коллег, слишком красивых или слишком умных; ненавидят ближнего и дальнего, похожего и непохожего, питают ненависть к соседям и друзьям, а временами – к родичам, с коими делят кров, постель и пищу. Но эти чувства индивидуальны, ибо относятся к конкретному объекту, к супругу, начальнику или иному обидчику, а есть и другая ненависть, пострашней. Тут, в этом мире, умеют ненавидеть коллективно, целыми странами и расами, религиозными конфессиями, партиями и социальными слоями. Всякое отличие по цвету кожи, идеологии, богатству, языку и месту жительства – повод для недоверия и страха, которые перерастают в ненависть. В ее паутине запутались все обитатели Земли, как мошки, пойманные пауком; каждая принадлежит к какому-то роду и, значит, должна ненавидеть все остальные разновидности. Чтобы обозначить эти чувства, здесь разработали особую терминологию: апартеид, геноцид, патриотизм, классовое самосознание. Но даже это не самое страшное. Я понимаю ту ненависть, какую питают друг к другу мужчины, вступающие в соревнование или борьбу; эта беспокойная земная раса стремится к победам, а поскольку достигают их не все, что остается остальным? Само собой, завидовать и ненавидеть… Но женщины!.. Их ненависть еще ужасней. Они подательницы жизни, ее хранительницы, и этим биологическим признаком определяется спектр их эмоций: терпимость, милосердие и доброта, верность своему предназначению… Я мог бы назвать еще десяток качеств, но среди них нет места ненависти; по-моему, она никак не вписывается в женскую природу. Природа, впрочем, многолика. В том числе и женская.* * *
Год две тысячи шестнадцатый, Сидней. Я – уже не Даниил Измайлов, а Арсен – в инспекционном вояже; предмет инспекции – опорные пункты, которых к тому времени было сорок восемь. В разных городах и странах и разнообразных видов: где ранчо или усадьба, где вилла или скромный дом, роскошные апартаменты или квартирка в кондоминиуме. Эту сеть убежищ мне полагалось поддерживать и расширять в согласии с местными законами – то есть раз в двадцать-тридцать лет передавать по наследству: скажем, от Ники Купера – его племяннику Энтони Дрю либо от дона Жиго Кастинелли – фонду «Пять и пять», где я сменял усопшего Жиго в роли председателя. Со временем эту задачу – ввод в наследство и составление бумаг – мне удалось спихнуть на служащих информбюро, но по причине своей виртуальности они не годились для инспекций. А без хозяйского глаза разве обойдешься? Бумаги глаз не заменяют… Однажды, явившись в Матаморос, я обнаружил в своей гасиенде логово контрабандистов, а мою хижину в Мошико, под Лумбалой[648], жгли тринадцать раз. Случались и другие неприятности. В Сидней я прибыл из Мельбурна, где содержал квартиру в деловом районе под именем Жака Дени, парижского рантье и бонвивана. Солидная тихая нора: шесть комнат (одна из них – под офис фонда «Пять и пять»), три выхода – считая с тем, который вел на крышу, к солярию и геликоптерной площадке, пятнадцатый этаж, просторные лифты в зеркалах и мраморные лестницы… Еще – окна с тройным остеклением, французская мебель, богемский хрусталь и лоджия-сад с видом на залив Порт-Филипп. В Сиднее мои апартаменты были поскромней: домик на северной окраине, милях в шести от дороги на Госфорд[649]. Дом стоял на океанском берегу, и рядом с ним, за волноломом, покачивалась «Рина», моя яхта. Отличное суденышко: сорок футов в длину, двенадцать – в ширину, изящные обводы, автошкипер, мощный двигатель и, разумеется, паруса. За домом и яхтой присматривал Остин Ригли Пайп, надежный старичок из местных, не расстававшийся с огромным «кольтом»; возможно, по этой причине никто не покушался на мое имущество. Распив с Остином Ригли бутыль «Наполеона» и выспавшись под рокот океанских волн, я загрузил на яхту провизию и поднял паруса. Намерения мои были неопределенными: то ли совершить прогулку до рифа Мидлтон, то ли отправиться подальше, к острову Норфолк[650], затем повернуть на зюйд, к Новой Зеландии, и, обогнув Тасманово море, вернуться в Сидней. Я полагал, что этот маленький круиз будет приятной компенсацией за месяц суматохи, когда я мотался по материкам и странам, нигде не задерживаясь долее суток. Уренирская мудрость гласит, что без работы тяжело прожить, без отдыха же – просто невозможно, а лучший отдых – созерцание неба, облаков и океанских волн. Это очень древняя традиция, подчеркивающая близость наших предков к океану; Уренир – водная планета, его континенты невелики, и площадь суши в шесть раз меньше, чем поверхность вод. Итак, я удалился на сорок миль от берега и, миновав плавучие города Лорд-Райт и Лорд-Лефт (в ту пору они еще строились), взял курс на Мидлтон, а после включил автоматику и уселся в шезлонг на баке, чтобы есть ананасы, пить апельсиновый сок и созерцать. Я занимался этим еще четыре дня, пока моя «Рина», раскинув белые крылья парусов, мчалась мимо Мидлтона и Норфолка к морю Фиджи. Погода стояла прекрасная, ветер был попутный, а вечерами океан менял свой изумрудный оттенок на фиолетовый, так что, если забыть об одиноком солнце в небе, все походило на Уренир. По временам мне казалось, что, если плыть все дальше и дальше на восток, яхта достигнет материка Иггнофи и каменистого пляжа, где на темных валунах застыли морские ящерки и где в тени шатровых деревьев белеют стены отчего дома. Дома, а не убежища, не опорного пункта… Разница между тем и другим была велика и определялась не роскошью обстановки или количеством комнат, а человеческим фактором. Что такое настоящий дом? Место, где живут твои близкие… Тут, на Земле, я их потерял и потому был бездомным и бесприютным. Тридцать вторая параллель, тысяча двести сорок миль от Нового Южного Уэльса[651], поворот на юг, к Новой Зеландии… Я был готов отдать команду автошкиперу, но в этот момент пискнул локатор – что-то приближалось к «Рине», какое-то суденышко, затерянное в просторах океана. Шло оно на юго-запад, но не под парусом – ветер был встречный, – а на моторе, и я сначала решил, что встретился с рыбачьей лодкой. Или с маленьким катерком… Но до новозеландских берегов было двести десять миль – слишком большое расстояние для крохотной посудины! Мы сблизились, и я увидел небольшой катамаран. Два пластиковых корпуса, настил с каютой, мачта, два маломощных движка и груда емкостей с горючим… Это сооружение торчало над водой на две ладони и выглядело столь потрепанным, будто плавал на нем еще Магеллан или в самом крайнем случае Тур Хейердал в одной из первых экспедиций. Но я любовался не жалким судном, а его командой. Была она небольшой, такой же, как на «Рине», и отощавшей, однако выглядела очень привлекательно. Девушка лет двадцати, но с пышными женскими формами, рослая, статная, смуглая, почти нагая; жгучие огромные глаза, волосы до середины бедер, крепкие груди с темными сосками, мягкие черты полинезийки и неожиданно строгий решительный рот… Не женщина – гибель Помпеи! Я торопливо спустил паруса, она заглушила моторы, и мы сошлись среди безбрежных вод, словно сказочная нереида с мифическим тритоном. – Ты кто такой? – крикнула прекрасная незнакомка. – Жак Дени, вольный мореплаватель, – представился я. – Француз? – Самый натуральный. Из Парижа. – Это хорошо, – одобрила она, уставившись голодным взглядом на ящик с ананасами. – Мой отец тоже был французом. Из Марселя. Мы помолчали, разглядывая друг друга. Потом я спросил: – Хочешь есть, ваине[652]? Она энергично кивнула, темные пряди заплясали по плечам и груди. – Прыгай ко мне. У меня не яхта, а целый плавучий ресторан. Она прыгнула. Так я познакомился с Ивон Сенье, дочерью Клода Сенье из Марселя и Ваа Отоо с островка Наори. Впрочем, ее отец и мать были давно мертвы, как и большая часть жителей острова. Этот клочок скалистой тверди в Тихом океане был местом весьма примечательным. Тридцать градусов южной широты, сто семьдесят восточной долготы, две тысячи миль до австралийского побережья, пятьсот – до ближайшей суши, островов Кермадек, пустынных и почти необитаемых. Но о Наори этого не скажешь; во времена расцвета здесь теснилось тысяч десять полинезийцев и европейцев – огромное население для островка в три мили в поперечнике! Остров был открыт в 1798 году и девяносто лет принадлежал британцам, затем его захватила Германия, а в Первую мировую оккупировали австралийцы. Еще полвека Наори считался подмандатной территорией, сначала австралийской и британской, затем – ООН, и, наконец, в конце шестидесятых, став суверенным государством, вступил в эпоху процветания. Ее основой были фосфориты, добыча коих велась Британской фосфатной компанией на протяжении многих лет. Само собой, этот доходный промысел отошел государству, добыча выросла до трех миллионов тонн, и в результате к началу нынешнего века остров сделался пустыней. Затем сырье иссякло и люди разъехались, кроме немногих упрямцев, ютившихся на южном берегу. Было их около двухсот, и жили они на узкой полоске земли меж океаном и пустошью, изрытой карьерами да ямами. Индустриальная эра закончилась, цивилизацию смыло с наорииских берегов, зато остались три приятных, полезных и мирных занятия: рыбная ловля, сбор кокосовых орехов и размышления о вечном. Островитяне предавались им лет десять, пока Наори не погрузился в пучину забвения – иными словами, считалось, что остров необитаем. Эти сведения, датированные две тысячи девятым годом, я вьшовил из покет-компа. О новейших временах поведала Ивон, и это оказалась совсем не та история, какую можно слушать на ночь. Лет пять тому назад Наори был открыт вторично, но кем, она не знала; просто явился корабль с людьми, и были среди них похожие на европейцев, на малайцев, на китайцев и не похожие ни на кого – темные, но не такие, как полинезийцы. Корабль, судя по описанию Ивон, напоминал британское сторожевое судно класса «Блэквуд», списанное давным-давно, однако в хорошем состоянии, без пушек, но с пулеметами и даже с ракетной установкой. Пришельцы (Ивон называла их «мердерс», убийцами) высадились на берег, согнали жителей деревни в кучу и принялись сортировать: девочек лет с десяти, девушек и молодых женщин – направо, всех остальных – налево. Этих вместе с родителями Ивон отвели к ближайшей яме и перебили – всех, включая грудных младенцев; яма потом была пересыпана хлоркой и зарыта. Девочек и женщин – а их осталось тридцать шесть – распределили среди мердерс, но всем добычи не хватило; кое-кому из пленниц пришлось обслуживать троих, а то и четверых. Ивон, можно сказать, повезло – ей покровительствовали главари, и потому она уцелела. Что удалось не каждой островитянке в последующие годы. Корабль уходил и приходил, команда сгружала еду и спиртное и развлекалась с наорийками – неделю, две недели, месяц. Потом убийцы исчезали, оставив на острове стражей – когда пятерых-шестерых, когда и больше. Это был спокойный период, если не сопротивляться насильникам, не вспоминать умерших и не плакать слишком часто. Но Ивон не плакала – от ненависти сохли слезы и горело сердце. Потом все кончилось. – Каким образом? – спросил я, подкладывая ей на тарелку ломти консервированного тунца. – Мы подорвали корабль. – Ивон прожевала кусок и потянулась к банке с тоником. – Отправили к дьяволу этих убийц! Я нашла взрывчатку в старых карьерах… ом-мо… аммо… – Аммонал, – подсказал я. – Да, аммонал. В карьерах много аммонала, Жак, но мне были нужны машинки… – Она неопределенно повела руками. – Такие, чтобы одну прикрепить к взрывчатке, а на другой повернуть рукоять. Я их искала, и я их нашла! – Ты знаешь, как обращаться с радиоуправляемым запалом? Откуда, ваине? – Отец научил. Он старый, мой отец… был старым, все умел, работал подрывником… – Ивон отодвинула пустую тарелку и принялась за ананасы и бананы. – Вкусно! Никогда такого не пробовала! – Ты протащила взрывчатку на судно? – Да. Я носила и другие девушки. – Она помрачнела, вспомнив, должно быть, зачем их звали на корабль и что там с ними делали. Потом, оскалившись в мрачной усмешке, сложила пальцы щепотью: – Носили вот столько, целый месяц. Я принесла машинки – эти, как ты называешь, запалы… А когда мердерс ушли, когда отплыли на милю… – Ивон резко крутанула пальцами, словно поворачивая рычажок взрывателя. – Бумм! Бумм, бумм, бумм! Ни корабля, ни мердерс! – А те, что были на берегу? – Остались шестеро. Перепились. Мы их связали и бросили акулам. Врет, почувствовал я, однако настаивать не решился. Налил ей сока и спросил: – Что ты знаешь об этих людях? И для чего им ваш Наори? Устроили там базу? Хранили какой-нибудь товар? Оружие, наркотики? Ивон замотала головой. – Нет. Никто не видел, что у них в трюмах… База, наверное, была, но где-то в другом месте, не у нас. С нами они развлекались… говорили, что отдыхать на Таити или в Ницце дорого, а тут все принадлежит им, все даром – и пляжи, и отель, и девочки… И можно все… тушить о кожу сигареты, насиловать десятилетних или вчетвером одну… – Она поперхнулась, раскашлялась, пробормотала: – Ноги потом не ходят… валяешься, как труп… Но хуже всего, когда выскабливают в корабельном лазарете… меня – три раза… однажды – на четвертом месяце… Я взял ее руки в свои и крепко стиснул. – Они не хотели детей? – Нет. Не для того нас пощадили… Нам полагалось работать, Жак. Мы помолчали. Ее суденышко болталось на канате за кормою «Рины», яхта дрейфовала, покачивалась на волнах, то поднимаясь, то опускаясь в мягких объятиях океана. Солнечный диск повис над западным окоемом, и воды с каждой минутой темнели и густели, приобретая фиолетовый оттенок, напоминавший мне о родине. Но все рассказанное девушкой напоминало о другом, о том, что здесь не Уренир. Теперь я знал: если отправиться к восходу, то приплывешь не к берегам Иггнофи, не к дому под шатровыми деревьями, а в край насилия и ужаса. К земле ненависти, имя которой Наори. Ивон насытилась и сидела теперь в шезлонге, расслабившись и полузакрыв глаза, посматривая из-под густых ресниц на палубу яхты из драгоценного тика, на обнесенный бронзой фальшборт, стойку с клавиатурой автошкипера и мачту со спущенным парусом. Какая-то работа шла в ее головке, но те эмоции, что я улавливал, не были связаны ни с восхищением, ни с облегчением, ни даже с чувством умиротворенного покоя. Наконец она промолвила: – Кажется, ты богатый человек, мсье Дени из Парижа, вольный мореплаватель. Чем занимаешься? – Тем и этим… благотворительностью в основном. Я директор-распорядитель фонда «Пять и пять». Очень солидная организация, хотя и небольшая. Ее основал один покойный аргентинец, дон Жиго Кастинелли. Оставил фонду все свое имущество – ранчо в Мисьонесе, серебряные рудники, дома, угодья, эту яхту… Вот он был действительно богат! – И что ты делаешь с его богатством? Плаваешь по океану и ешь эти сладкие фрукты? – Она покосилась на ящик с ананасами. – Бывает, но не очень часто. Задача у меня другая: я должен отыскивать талантливых и молодых, пятерку юношей, пятерку девушек, чтобы обеспечить им карьеру. Помочь пробиться, понимаешь? Скажем, они нуждаются в образовании, в деньгах, рекомендациях, советах или иной поддержке. Тогда… – А если девушек не пять, а двадцать восемь? – перебила Ивон. – Ты им поможешь? – Хмм… вероятно. Случай, не предусмотренный уставом, но это не беда – решающий голос все равно за мной. А что им нужно, этим девушкам? Ивон насмешливо фыркнула. – Мужчины, конечно! Не звери, которыми нас покарал господь, не мердерс, не насильники, а настоящие мужчины! Зачем, по-твоему, я вышла в море? Чтобы найти мужчин и привезти на остров, к нашим пальмам, нашим лодкам и нашим очагам! Мы все умеем: ткать, и рыбачить, и собирать орехи, и строить хижины, и даже взрывать и стрелять – у нас теперь полно оружия! Но дети не родятся без мужчин, и нет без них радости, понимаешь? Нам нужны хорошие мужчины, каждой по одному, чтобы забыть о тех, других… Тут губы ее дрогнули, и по щекам покатились слезы. «Пусть плачет, – думал я, – пусть плачет; мужские слезы копят ненависть, а женские ее смывают». Но показалось мне, что сокрушается Ивон не только о своих погибших, о нерожденных детях и подругах, что были развлечением насильникам, но и о чем-то еще, терзавшем ее душу. Наверное, я мог ее разговорить… Но – quieta non movere[653]. Рыдания стихли, и я, протянув руку, коснулся ее волос. – Попробую тебе помочь, ваине. Но при одном условии: отправимся на остров, и я взгляну на ваши пальмы, лодки, очаги и ваших девушек. Все ли они красавицы вроде тебя… Она внезапно улыбнулась: – Я согласна! Я понимаю, хорошие мужчины любят красивых девушек… И если даже девушки красивы, найти таких мужчин непросто… – Ну, один уже нашелся, – вымолвил я и, шагнув к ав-тошкиперу отбарабанил нужные команды. С шорохом взлетели паруса, мерно загудел двигатель, «Рина» вздрогнула, точно породистая лошадь перед скачкой, и, разрезая волны, направилась к восходу солнца. Плыли мы трое суток, и должен признаться, что эти дни и ночи были не худшими в моей земной жизни. Не то чтобы Ивон заставила меня забыть об Ольге, но одиночество мне больше не грозило – женщины Южных морей умеют справляться с тоской мужчин. Она не спрашивала о том, что, может быть, хотела знать – есть ли у меня жена или возлюбленная, сколько мне лет и где я живу в Париже. Она наслаждалась – так, как умеют наслаждаться дети, которым для счастья нужно совсем немногое: любовь и чувство защищенности. Ну, и сознание того, что им принадлежат весь мир и тот, кого они любят, – самый добрый, самый умный, самый сильный… Такие, в сущности, мелочи! На четвертый день мы добрались до берегов Наори. Камни, пальмы и песок, буйная тропическая растительность, неширокий цветущий оазис на краю пустыни… Пустыня, впрочем, была невелика – час ходьбы в любую сторону, и упираешься в океан, в те же песок и скалы, только без пальм и признаков зелени. На месте фосфоритных разработок – карьеры с ржавеющей техникой, бульдозеры, вагонетки, транспортеры, развалины складских пакгаузов; Энкор, бывшая столица на западном берегу, тоже в руинах: холмы мусора, останки стен с облезшей краской, битое стекло и кровельная черепица… Однако поселок, где обитали девушки, был прибранным и чистым. Четыре десятка бунгало, большей частью необитаемых, дюжина лодок, сети на вбитых в землю кольях, полсотни кур и три свиньи; за пальмами, над ямой, где похоронены родичи, – груда свежих венков и аккуратно вытесанный крест. Метрах в восьмидесяти от берега – линия рифов, и на одном – то ли купальня, то ли сарай, похожий на большую клетку из деревянных брусьев, высохших и посеревших на солнце. Больше ничего интересного, если не считать жительниц поселка. Оматаа, самой старшей, – двадцать девять, Мейзи, самой младшей, восемнадцать. Молодые ваине, полинезийки или полукровки, как Ивон… Племя нереид, которых терзали злобные морские чудища… Впрочем, ваине старались забыть о них или хотя бы не вспоминать. Жизнь их была такой же, как когда-то у полинезийских предков: труд – приятный, необременительный; пищи, солнца и воздуха – вдоволь; вечером – пляски у костра да всякие истории, которыми старшие тешили младших. Оматаа и кое-кто еще помнили о радио и телевизорах, косметике, тканях и всяких побрякушках из лавок Энкора, но не жалели о дарах цивилизации; это была не потеря в ряду постигших их потерь и бед. Одни из этих бед ушли, отправившись на дно, другие остались, и было естественным бороться с ними и превозмогать судьбу. Скажем, так: выйти на утлом суденышке в море в поисках мужчин. Я провел с ваине больше месяца, стараясь их понять. Понять – это было важнейшим, даже необходимым условием, чтобы не повторилось минувшее; мужчины, с их жаждой насилия, могли устроить здесь новый ад, и я не сомневался, что в этом случае все кончится кровавой баней. Одних насильников ваине уничтожили; не присылать же им других? Значит, надо разобраться, какие им нужны мужчины, что было делом непростым; все они помнили о погибших, о братьях, отцах, мужьях, возлюбленных, и эта память – приукрашенная, бережно лелеемая – служила как бы эталоном, мерой того, что есть идеал. Я не мог ошибиться и обмануть их ожиданий. В поселке я считался мужчиной Ивон, и ни одна из девушек не добивалась моего внимания. Не потому, что Ивон была предводительницей и самой храброй среди женщин, свершившей акт возмездия, но в силу их понятий о справедливости и чести. Ради них Ивон отправилась в плавание – конечно, и ради себя самой, но это не уменьшало риска расстаться с жизнью в море, высохнуть от жажды или пойти на корм акулам. Ergo, то, что она выловила из волн морских, принадлежало ей, и никому иному. Тем более что этот улов так перспективен – не просто какой-то мореплаватель, а мсье Дени, чудак-благотворитель. Кажется, богатый и порядочный… Вдруг действительно поможет? Эта надежда их вдохновляла, перерастая в симпатию к Жаку Дени, который оказался свойским парнем и вел себя как праведник в раю. В самом деле, чем не рай? Двадцать восемь гурий, великолепная рыбалка, купания в море с визгом и хохотом, танцы у костра, долгие беседы и жаркие ночи с Ивон… Идиллия! И только одно ее нарушало, некая неясность, связанная с мердерс. Не с теми, что пошли в распыл вместе со своей посудиной, а с теми, что оставались на берегу. Об их судьбе Ивон сказала кратко: остались шестеро… перепились… мы их связали и бросили акулам… Конец вполне определенный, но я подозревал, что были тут какие-то нюансы. Неудивительно, что двадцать восемь разъяренных женщин связали шестерых мерзавцев, – странно, что предали их скорой смерти. Это было не совсем в земных традициях; принцип «аз воздам» с надеждой на господа тут не очень популярен, и каждый старается воздать обидчику лично и по мере сил. Являлись ли мои ваине исключением? Хороший вопрос! С одной стороны, их счет к обидчикам был так обширен, что пробирала дрожь: погибшие отцы и матери, дети, братья и мужья, поруганное женское достоинство, младенцы, убитые в чреве, замученные подруги… С другой, они не казались искусными палачами, способными пытать и наслаждаться муками казнимых. За долгие годы, прожитые на Земле, я понял, что пытка и кара – разные вещи; пытку вершат спокойно и деловито, кара же чаще импульсивна и быстра. А что стремительней стаи акул, терзающих жертву? Страшная смерть, но скорая… Как от зубов левиафана-убийцы на Рахени… В одну из последних ночей, покинув спящую Ивон, я вышел из хижины, пересек темную полоску пляжа, прыгнул в лодку и переправился к рифу. К тому, где торчало странное сооружение из старых брусьев – то ли купальня, то ли клетка, то ли нелепый, доступный всем ветрам сарай. Не могу объяснить, в чем заключалась его притягательная сила и почему я оказался там; у нас, уренирцев, бывают озарения, когда бег мысли не подчиняется логике, и, опуская «если, то…», забыв о причинах и следствиях, мы видим конечный результат. Или хотя бы его тень, пусть смутную, но ощутимую, как дуновение морского ветра в знойный полдень… Я сел на камень, опершись спиной о деревянный брус, шершавый и прочный, хранивший вчерашнее тепло. Волны тихо рокотали у моих ног, небо светлело, звезды таяли в рассветной дымке, и на востоке разливалось розовое сияние – великий Ра, бог солнца, готовился выплыть в своей золотой ладье в небесную синеву. Чарующая картина, но этим утром я был не склонен любоваться полинезийскими зорями – я рассматривал купальню. Или клетку. Или сарай. Риф, как оказалось, был выщерблен с внешней стороны, и непонятное сооружение возвышалось точно над этой щербиной, над чем-то вроде открытого к морю бассейна восьмиметровой длины, овального и довольно глубокого. Две стойки слева, две – справа; сверху и снизу – длинные брусья, связавшие конструкцию, а вместо кровли – тоже брусья, шесть основательных поперечин с обрывками веревок. Кроме того, обгоревшие палки, валявшие тут и там, – десятка два, не меньше. Еще – рассохшаяся корзина… «Вялили рыбу?.. – подумал я. – Но почему не на пляже? Там вроде бы удобнее…» Глаза мои закрылись, мышцы расслабились, теплая пелена забвения окутала разум. Я плыл куда-то, не сознавая, что плыву, я оставался неподвижен и в то же время двигался, но не в пространстве, а в том измерении вселенского континуума, в которое мы все погружены и над которым, в сущности, не властны. Нелегкий труд – подняться или спуститься по реке времен… Здесь, на Земле, я способен на это нечасто; транс прозрения будущих или минувших событий приходит помимо моей воли, и я не в силах объяснить, с чем это связано. Какая-то смутная тревога? Беспокойство? Стремление к истине или желание помочь? Озабоченность судьбами мира или конкретных людей, нуждавшихся в предостережении? Не знаю, не знаю… Все эти чувства я испытывал не раз, но озарений не наступало. Даже тогда, когда им полагалось наступить… Воспоминание об Ольге обожгло меня, заставив содрогнуться в смертном ужасе. Я, не выходя из транса, словно перевоплотился в нее – в тот проклятый миг, когда она падала под электричку; руки хватают воздух, рот раскрыт в последнем крике, беспомощное тело напряжено, и в голове одна лишь мысль: будет больно, страшно больно! И боль пришла – жуткая, чудовищная мука, что длилась месяцы, годы, тысячелетия… Боль, тоска и ужас хлынули так яростно, атаковали мозг с такой внезапностью, что я не сразу осознал: это не чувства Ольги, не ее мучения и не ее смерть! Гибель ее была скорой – край головного вагона разбил висок, тело отбросило на платформу… Она не мучилась, не страдала, и жуткие чудища – там, внизу!.. – ее не терзали, не дробили кости, не срывали кожу, не перемалывали по кусочкам плоть… Это не Ольга, нет! Это чужие, совсем незнакомые мне, явившиеся из прошлого в забытьи транса! Кто? Я очнулся с глухим стоном. Ивон, смуглая нереида, сидела рядом со мной и, скорбно поджав губы, смотрела на воду, на обгоревшие палки и поперечины с обрывками веревок. Их, этих поперечин, было шесть. – Зря ты приплыл на риф, – пробормотала она. – Плохое место… Я говорила ваине: нужно сжечь! Не послушались, сказали: пусть предки смотрят и радуются. – Долго вы их… – начал я, но тут же, прикусив язык, избрал иную формулировку: – Долго они висели? Лицо Ивон омрачилось. – Долго. Четыре дня… Мы убили свинью и бросили в воду – здесь, под их ногами. Приплыла акула, за ней – еще и еще… Сожрали свинью, оторвали им ступни… потом ноги до коленей… потом… Она смолкла. – Если оторвать человеку ноги, он истечет кровью, – заметил я. – Не истечет. – Ивон покосилась на обугленные палки. – Нет, не истечет, если прижечь ему рану факелом. Будет жив… какое-то время… Мы давали им воду, чтобы они протянули подольше и могли кричать. – Вас радовали их крики? Она ничего не ответила, только прикусила губу. «Страшная штука женская ненависть, – подумал я, стараясь не встречаться с Ивон взглядом. – Страшная и неестественная…» Но могли я судить островитянок? Могли сказать, что сотворенное ими – преступление? Или возмездие, жестокое, но справедливое? Я не судья, я – Наблюдатель… Бывает, я выхожу из этой роли, чему виной физическое сходство между землянами и уренирцами, однако в очень редких случаях. Наверняка я перебил бы отребье, приплывшее на мирный остров, но это – хвала Вселенскому Духу! – сделали без меня. Кого взорвали, кого замучили, и те, кто мучил и взрывал, сами являлись жертвами… Кто их рассудит? Пожалуй, даже Старейший не мог бы ни обвинить их, ни оправдать… Ивон пошевелилась рядом со мной, промолвила: – Ты хочешь уйти, Жак? Теперь, когда ты узнал про это? – Она показала взглядом на пыточный сарай. – Ты презираешь нас… меня? Боишься? – Нет. Я должен уйти, но не по той причине, какую ты назвала. Просто ваш остров не для меня. Мир, в котором я живу, другой. Она кивнула. – Я понимаю. Я могу подарить тебе так мало…. только себя и этот клочок земли. – Это царский подарок, Ивон. Целых два сокровища, и ты их береги. Береги для одного из тех, кто скоро приплывет на этот остров, чтобы прожить здесь всю жизнь. А я… я не могу. Она подняла ко мне лицо, подставила губы, но я поцеловал ее глаза. Прощальный поцелуй перед разлукой… Больше я не встречался с Ивон, но выполнил обещание. Есть люди, которым неуютно в мире – в том, каким он стал; люди, стремящиеся к покою и любви, и это для них дороже благ цивилизации. Их больше, чем принято думать. Юный врач, художник средних лет, молодые парни из «зеленых», защитники дельфинов и китов, норвежец-рыбак, садовник из Праги, мельбурнский профессор, специалист по мифам Океании… Где они? Там, на Наори, и я надеюсь, все они счастливы. Я охраняю их – незримо, осторожно, так, как я умею охранять. Я защитил их даже от прошлого. Тот проклятый сарай… Я его сжег, не спрашивая согласия ваине.* * *
Да, природа многолика, и женская не составляет исключения. Они такие разные… Сельма, Ивон и другие, которыхя знал, – Эва, Джин, Мария, Гульнара… Нечасто я вспоминаю о своих женщинах, заслоненных силуэтом Ольги, таящихся в ее тени. Но я им благодарен; они дарили мне свою любовь и нежность или хотя бы забвение. Я помню их лица и тела; я пробуждал их лаской и учился покоряться им, учился слушать и понимать их души – они ведь иные, чем мы, мужчины, отличаются от нас и обликом, и телом, и душой. Так всюду, на любой планете, где есть разнополые существа и где одним назначено трудиться, другим – вынашивать потомство. Две расы, два полюса магнита, две сферы чувств… Столкнувшись, они порождают любовь, особый вид любви и единения, и это великое счастье, доступное в Галактике не всем. То, что привычно на Земле, естественно на Уренире, в каких-то мирах представляется чудом, в каких-то – божьим благословением или невероятной щедростью природы. В самом деле, щедрый дар, и те, кто наделен им, для нас понятнее и ближе. Можно сказать, почти родичи… Небо цвета весенней травы, шарик ослепительного солнца, фиолетовый, синий, пепельный лес, а между небом и равниной – белый корпус неторопливо плывущей по ветру сентары… Воздушный корабль с множеством кают и палуб, с залами для танцев и банкетов, с маленьким озером и садом, с надстройками в форме изящных башенок и колоннад, тенистых гротов и дворцов, увенчанных остроконечными шпилями. Не корабль, летающий остров… Наполовину живой, как утверждали рами, и я готов был с ними согласиться: все его стены и колонны, полы и потолки на ощупь были теплыми и нежными, словно нагретый на солнце шелк. Рамессу-Кор, планета рами, – ближний мир, который находится в нашем звездном кластере, совсем неподалеку, на расстоянии двух с половиной светолет. Мы, уре-нирцы, охотно ее посещаем, а рами бывают у нас; они гостеприимны, цивилизованны, щедры и отличаются талантами в изобразительных и музыкальных искусствах. К тому же эталоны прекрасного у нас совпадают, ибо мы сходны обликом – у рами на пару ребер больше и сердце с правой стороны, но это не помеха для общения. В том числе и самого интимного… Их красота кажется нам экзотической, и, вероятно, они такого же мнения о нас. Если пользоваться земной терминологией, мы рядом с ними – великаны, темноволосые и темноглазые гиганты, они же – светлые хрупкие эльфы и феи. Контраст, притягательный для той и другой стороны… Вдобавок к этому – все удовольствия нового и непривычного мира: чарующие зрелища, великолепные пейзажи, странные города, одежды, пища и этот полет на сентаре, живом воздушном острове… Мне говорили, что в глубокой древности Рамессу-Кор была таким же чудным миром. Возможно, еще удивительней: в те давние-давние эпохи здесь, рядом с рами, обитал другой народ, космические странники, пришедшие на их планету из глубины Вселенной. Негуманоиды, но очень мудрые миролюбивые существа, способные к симбиозу с любыми жизненными формами… Сейчас они – Старейшие, но в отличие от нас вся их раса удалилась в ноосферу, и произошло это пару миллионов лет тому назад. Будто бы была построена машина, огромный искусственный диск-планетоид в системе двух солнц с особым механизмом, который облегчал телесную трансформацию… Рами этому верят и утверждают, что часть их племени переселилась на этот диск вместе с теми мудрыми существами и, вероятно, обитает на планетоиде до сих пор. Забавная легенда! А может, и не легенда вовсе, а истина? Хотелось бы мне найти тот планетоид!.. Мечты и желания юноши… Мне семнадцать, и я – Асенарри, сын Наратага, Рины и Асекатту; всего лишь юный Асенарри, не Аффа'ит, не Даниил Измайлов и не то существо, которым буду на Ра-хени и чье имя не могу произнести. Впервые я покинул Уренир, чтоб приобщиться к жизни соседей; это, как объяснили мои учителя, своеобразный тест на ксенофобию, к тому же полезный для расширения кругозора. Но ксенофобией я не страдал и, вспоминая усмешки наставников, не сомневался, что дело тут в другом. Наверное, в расширении кругозора… Сейчас я расширял его с помощью Диссы. Дисса – малое имя, которым она разрешила себя называть; полное же звучало так: Дисса Уто Кинелла д'Чейни Заренос-и-Мару Разрешение было свидетельством нашей дружбы, возникшей пятью минутами ранее, когда Дисса, гуляя по кормовой галерее среди колонн, деревьев и крошечных прудов, вдруг набрела на меня и соизволила окинуть взглядом. Видимо, я ей понравился; привстав на цыпочки, она коснулась моего плеча и сообщила свое имя. Рост у нее, как у прочих рами, был невелик: макушка – на уровне моей груди, но в остальном она была очаровательной девушкой. Золотые волосы, синие глаза, белая, чуть порозовевшая на солнце кожа… Тип, необычный для Уренира, но в этот момент я не думал о таких вещах. Девушки в любом из гуманоидных миров были для меня загадкой; я смутно чувствовал, что они могут даровать мне радости, каких я не испытывал доселе. Если, конечно, захотят… Дисса, кажется, хотела. Усевшись на высокий парапет – так, что наши лица были вровень, – она погладила маленькие нагие груди и улыбнулась, заметив мой смущенный взгляд. Из одежды на ней был широкий поясок, охватывавший бедра, на шее – ожерелье из серебристой проволоки с синими камнями, и маленький венец на голове, тоже сплетенный из серебра; два камешка свисали на цепочках у висков, покачиваясь в такт дыханию. Склонив головку, она посмотрела вниз. В воздушной пропасти под нами плыли вершины фиолетовых деревьев, карминовые и алые скалы, озера, в которых зелень небес приобретала глубокий изумрудный тон, а отражения облаков казались причудливыми рыбами, скользившими в хрустальной глубине. – Я могу упасть, – сказала Дисса, заглядывая мне в глаза. – Не можешь. Компенсационное поле, которое… Вздохнув, она повела рукой, отметая мои возражения. – Думаю, ты очень молод… совсем не умеешь вести себя с девушками… Если девушка сказала, что может упасть, значит, тебе разрешается… ммм… в общем, ты можешь поддержать ее. – За какое место? – поинтересовался я, стараясь не глядеть на ее груди. Ни мы, ни рами не стесняемся наготы, но обнаженность Диссы была иной, волнующей и обещающей. Сердце мое колотилось неровно, и я вдруг понял, что не могу читать ее эмоции, не говоря уж о мыслях. Дисса снова вздохнула и провела ладошкой повыше пояска. – Вот оно, это место… Называется талией. Ты знаешь, что у девушек есть талия? – Анатомию изучал, – буркнул я, обнимая ее, как драгоценную вазу. – Но не на практике, – заметила она. – Ну, ничего, ничего, Асенарри… Ты симпатичный паренек, и случай еще представится. Глаза Диссы смеялись, тело под моей рукой было гибким и нежным, а от ее аромата кружилась голова. С трудом ворочая языком во рту, я произнес: – И долго ли ждать этого случая? – Не знаю. Может быть… – Она положила ладошки мне на плечи, ощупала мышцы тонкими пальцами, пробормотала: – Жесткий, как деревяшка… Ты можешь немного расслабиться? Вот так, вот так… Ее соски коснулись моей груди, губы – моих губ, и этот сладкий миг длился вечность и еще минуту. Кожа Диссы пахла цветами, губы были то мягкими, покорными, то неожиданно упругими, и вскоре я выяснил, что у нее имеется язык. Очень энергичный и шаловливый… Мой кругозор расширялся с пугающей быстротой. Быстрее, чем мчится корабль в космической бездне, быстрее, чем странствуют от звезды к звезде Старейшие. Мы разомкнули губы, но не объятия. Я видел ее глаза, уложенные башенкой волосы с серебряной диадемой, синие камешки у висков, а дальше – небо, огромное, полное сияния и розовых туч, скользивших по ветру вместе с сентарой. Палуба под моими босыми ногами была прочна, но почему-то деревья и колонны, подпиравшие свод, будто бы раскачивались и изгибались. Насмешничают? Ну, что ж, не буду на них глядеть… Я закрыл глаза, опустил голову и стал целовать груди Диссы. – Совсем как рами, – прошептала она, – как мальчишка-рами… А мне говорили, что уренирцы такие загадочные… что вы читаете мысли и можете их внушать… и что любая девушка… Я оторвался от ее груди. – Нет, Дисса, не любая – только та, которой нравишься. Только с ней можно делиться мыслями… такими, какие бродят у меня сейчас… Делиться, не внушать. Она негромко рассмеялась. – Разве трудно понять эти мысли? Что мои, что твои? Ты думаешь: не тот ли это случай? А я уверена, что тот. – Лукавая усмешка скользнула по губам Диссы. – Впрочем, нет, не уверена. Ты очень милый, Асенарри, но такой огромный… Ты меня пугаешь! – Могу сделаться поменьше, – заверил я ее. – Могу изменить цвет волос и глаз, оттенок кожи, стать таким, как рами. Ты этого хочешь? Она оглядела меня с задумчивым видом. – Нет, пожалуй, нет… Останься собой, только чуть поменьше. – Чуть? – Да. Вот так. – Дисса вытянула руку на уровне плеча. – Это не тяжело? Не слишком долго? – Не тяжело и не долго. Если ты не испугаешься… – Я не из пугливых. Я рассмеялся. – Ты, наверное, из любопытных! – Очень! – Дисса насмешливо прищурилась. – Из тех, кто не упустит случай. Это плохо, Асенарри? – Нет. У нас говорят: там, где кончается любопытство, кончается и человек. На галерее росли деревья, но я не нуждался в их энергии. Она была повсюду: струилась от леса и земли, от скал, озер и от огромного тела сентары, падала сверху щедрым потоком и разливалась в воздухе, текла среди туч и облаков, словно незримый дождь, орошающий Рамес-су-Кор веками, тысячелетиями, сотнями тысяч лет – с той незапамятной поры, когда планетарная ноосфера соединилась со Вселенной. Я раскинул руки и, ощутив трепет живой энергии, впитал ее ничтожную частицу. Столько, сколько нужно, чтобы убавить здесь, поправить там, что-то изменить, переделать, привести в соответствие, гармонизировать… На миг меня охватила сладкая истома происходящей трансформации, но это мгновение было кратким, словно прыжок пантеры, настигающей добычу. Я услышал, как вскрикнула и тут же смолкла Дисса. Видимо, ее кругозор тоже расширился. – Ты… ты… Она уже соскочила с парапета и стояла рядом, касаясь ладошками моей шеи, волос и плеч. Теперь она дотягивалась до них, не поднимаясь на цыпочки, и казалась мне не девушкой-крошкой, а просто девушкой, очень соблазнительной и милой. – Как ты это сделал, Асенарри? Я принял важный вид. – Великая уренирская тайна, Дисса! Мы, уренирцы, такие загадочные! Теперь я тебе больше нравлюсь? Она расхохоталась. Аура ее сияла весельем и предвкушением любви. – Больше, больше! Но я не уверена, что силы твои не иссякли… Отнесешь меня в свою каюту? Не споткнешься по дороге? Я не споткнулся. Я мог перенести ее туда единым усилием воли, но зачем? Этот летающий остров был таким обширным, и, пока я нес на руках свою первую женщину, я мог ласкать ее и целовать. Высокие звезды! Это было гораздо интереснее!ГЛАВА 17 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Четырнадцатый день
Я оставался на холме до утра и, возвратившись в лагерь, обнаружил, что мои спутники уже проснулись. Фэй перетряхивала свой мешок, стараясь разместить покомпактнее консервы, арбалет, аптечку и прочее добро; Мак-брайт, озабоченно хмурясь, о чем-то расспрашивал андроида – тот молча кивал или с заметной неохотой ронял пару-другую фраз. На плоском камне были расставлены банки и выложена упаковка галет – наш завтрак, приправленный водой из фляги. Рядом с этим импровизированным столом – мешки Макбрайта и Сиада; их ледорубы и мачете лежали поверх рюкзаков, словно напоминая, что путь наш долог и вряд ли закончится сегодня. Присев на каменный обломок, я сказал: – Остаемся здесь. После завтрака обследуем местность. Как вчера, двумя парами. Макбрайт встрепенулся. – Вы что-то обнаружили, приятель? Вы поднимались на вершину? Что-нибудь там есть? Кроме камней и трещин? – Ничего. Все те же камни и трещины. Он бросил на меняподозрительный взгляд. – Вы уверены? – Абсолютно. Поднимитесь и посмотрите сами. – Что же мы будем искать? Я пожал плечами. – Не знаю. Все, что покажется необычным… Вы перевалите через холм, направитесь к востоку и будете двигаться в течение часа, затем повернете на юг и возвратитесь в лагерь. Я с Цинь отправлюсь на запад от холма. Вуаль не близко, но все же не удаляйтесь от нашей стоянки больше чем на восемь-десять километров. Странный приказ, если учесть, что, кроме пыли, трещин и камней, тут не было ничего любопытного. Но я не собирался уходить отсюда, пока не наступит ясность с пришедшим мне посланием. Тут, вблизи эоита, я мог разобраться с ним быстрее, чем где-либо еще, мог получить другие вести или какой-то многозначительный намек; словом, я нуждался в том, в чем мы нуждаемся всегда – то есть во времени. День-другой неторопливых размышлений, и, возможно, я раскрою смысл послания либо доберусь до сути интуитивным путем. Так или иначе! Бушует ненависть, и туча затмевает свет моей обители… Я чувствовал, что найден последний камешек, и оставалось лишь уложить его в мозаику. Макбрайт глядел на меня с явным вопросом. – Вы полагаете, мы что-то здесь найдем? Что-то такое, чего не обнаружили прежде? – Возможно, Джеф. – Могу я спросить, на чем основана ваша уверенность? «Время тайн прошло, – подумал я, – не всех, разумеется, но тайны, что связана с Тиричмиром. Если я разгадаю послание, то завтра или послезавтра мы будем маршировать не к югу, а на восток, не к иранской границе, а к китайской. Или к индийской, как получится… Следовательно, нужны объяснения – пусть не совсем правдивые, но правдоподобные, и в том варианте, который устроит Макбрайта и его андроида. В конце концов, не мог же я тащить их силой! И бросить тоже бы не смог, хотя их статус – как людей и полноправных граждан – был под большим сомнением. Один – возможно, человек, возможно, робот, да и другой, похоже, инкубаторский… Но, невзирая на подозрительную родословную, оба – живые существа, и, значит, нет вопроса, бросать их или не бросать». Я вытянул руку к вершине холма. – Здесь, на склоне Тиричмира, был древний монастырь. Конечно, не христианский, а буддийский… Обитель Света… Думаю, Джеф, вы никогда о нем не слышали. Он покачал головой, буркнул: – В мире тысячи монастырей, а может, сотни тысяч. Этот какой-то особенный? – Разумеется. Он находился в аномальной зоне, и вот о ней-то вы слышали наверняка. Столь же известное место, как Бермудский треугольник, хотя тут не было загадочных исчезновений и непонятных катастроф. Искали его, правда, долго и упорно… многие искали… Кое-кому повезло, и, возвратившись, счастливцы говорили, что им удалось побывать в Шамбале. – В Шамбале? – с недоумением переспросил Мак-брайт. – Святые угодники, вот это новость! Но если Шамбала не миф, она находится не здесь, а в Гималаях! Он оглянулся на Фэй, будто нуждаясь в подтверждении, но моя фея с непроницаемым лицом жевала галету. Видно, в Хэйхэ ее приучили не вмешиваться в разговоры старших. – Готов согласиться, что Шамбала в Гималаях, – вымолвил я. – Суть не в названиях, не так ли? Суть в аномалии. Я полагаю, что она была причиной Тихой Катастрофы. Не божий гнев, не пришельцы из космоса и, разумеется, не пи-бамб, которой не существует в натуре. Это, Джеф, фантазии… Реальность много неприятней. Он насторожился – кажется, решил, что я сейчас раскрою все секреты. – И в чем заключается эта неприятность? – В том, что процессы в аномальной зоне – те, что породили вуаль и флер, – для нас загадка. Несмотря на многолетние исследования, мы не знаем причины, влияющей на ее активность, не представляем природы аномалии и механизма ее развития. Значит, не можем описать математически и дать обоснованный прогноз. – Откуда вам это известно? Про аномалию и ее исследования? Я усмехнулся. – Помните о вашем намеке, будто Монро снабдил меня секретными инструкциями? На самом деле их не было. Он лишь заметил, что этот район нужно обследовать тщательней. Всем остальным я обязан своей любознательности и поиску в Сети. В ней столько интересных данных! Ваши специалисты, Джеф, могли бы сделать то же самое… возможно, сделали, но не решились сообщить вам об этом, и я их понимаю. Шамбала, Бермудский треугольник, чудище Лох-Несса, аномалии, инопланетные пришельцы… Бред и мистика! – Пришельцы – не мистика, – мрачно заметил он, пристраивая за спиной мачете. – Идем без груза, налегке? – Конечно. Территория безжизненна, и нашим запасам ничто не угрожает. Мы разошлись: Сиад с Макбрайтом – на восток, я с Фэй – на запад. Лавируя среди камней, я оглянулся и увидел, что Макбрайт кружит по плоской вершине холма, словно пес в поисках зарытой кости. Казалось, еще немного, и он начнет разбрасывать щебень, чтобы докопаться до аномалии и выяснить причины, влияющие на ее активность, а заодно и механизм ее развития. Впрочем, я не солгал ему, а только не сказал всей правды – ведь аномалия тут была! Незримый ментальный фонтан бил к западу от нас, и никакие катастрофы, конвульсии и судороги времени не повлияли на него. Нить, связывающая Землю со Вселенной, не прервалась, и ангелы неба могли услышать шепот демонов глубин. Услышать и ответить… Мы отошли на полтора километра от лагеря, и я остановился, почувствовав стремительный приток ментальных волн. Наш путь пересекала трещина, словно отмечая некую границу; узкая, почти прямая, она походила на след клинка, вспоровшего базальтовую плоть. Местность за ней казалась застывшим лавовым полем – мягких очертаний валуны, переходящие в округлые продольные лощины, окаменевший океан, что простирался до смутной черты горизонта. С блекло-голубого неба падал рассеянный свет, и черные тени от возвышенностей тянулись к западу, указывая мне на центр эоита. Я сел и свесил ноги в темную бездну. Фэй опустилась рядом. – Мы дальше не пойдем, Арсен? – Нет, милая. Для тебя это опасно. – А для тебя? – Я знаю, как управлять энергией. – Нахмурившись и прикрыв глаза, я покачал головой. – Нет, наверное, здесь не годится слово «знаю», это происходит бессознательно, на уровне клеток и нервных центров. Так, как ты дышишь и поглощаешь солнечный свет. – Лун-ван! Царь драконов! – уважительно протянула она. Потом спросила: – Думаешь, Макбрайт тебе поверил? Про аномалию и замечание Монро? – Он сомневается и хочет выведать побольше, а что ему скажешь? Что объяснишь? Я сам еще не знаю правды. Нужно подумать и разобраться. И сделать так, чтобы он не путался под ногами. – Мы могли бы уйти… – начала Фэй, но тут же, ударив себя по губам, страдальчески сморщилась. – Нет, что я говорю! Он мне не нравится, но не бросать же его на верную гибель! Да и Сиада жалко… Сиад без него не уйдет. – Не уйдет, – подтвердил я, разглядывая лавовое поле. От нас до середины зеркала было рукой подать; сорок минут небыстрой ходьбы, и я окажусь в фонтане эоита… Не подойти ли к нему, оставив Фэй у этой трещины? Или просто прыгнуть… Я чувствовал, как что-то меняется в Анклаве: солнце светило ярче, таяли стены вуали, растворялся флер, и возвращалась моя способность к дальним перемещениям. Пожалуй, я смог бы открыть каналы в любую сторону, к любым рубежам, китайским, индийским или иранским… Тем более к центру эоита! Но интуиция подсказывала мне, что торопиться не стоит. То далекое и огромное, распространявшее теплые волны благожелательности, еще не приблизилось к Земле или еще не желало говорить со мной по тем или иным причинам. Jus divinum[654], подумал я, чувствуя, как пальцы Фэй скользят в мою ладонь. – Ночью ты был в монастыре? На его развалинах? – Там нет развалин, моя фея. Там не осталось ни камня, ни праха, ни пыли. Ровным счетом ничего. – Что же ты делал, Цзао-ван? – Беседовал с покойным другом. И не только с ним. Ровные арки ее бровей приподнялись. – Звучит загадочно! К тебе прилетали духи? – Только один, не пожелавший задержаться. Передал мне весть от Аме Пала и исчез. – Фэй оживилась, вздернула брови еще выше, и я, улыбнувшись, пояснил: – То был Старейший, милая, Старейший. Он где-то рядом с нами или направляется к Земле… Событие почти невероятное! Ноздри Фэй затрепетали, глаза распахнулись, рот округлился. – И ты… ты можешь с ним говорить? Когда захочешь? – Когда захочет он. На этот раз он просто транслировал мысль Аме Пала. Последнюю, предсмертную… – Стиснув пальцы Фэй, я медленно повторил: – Бушует ненависть, и туча затмевает свет моей обители… – Что это значит, Цзао-ван? – Если б я знал, мы шагали бы сейчас к китайской границе. Или к индийской, раз ты не хочешь встретить соплеменников. Она фыркнула, вздернула подбородок. – Я не китаянка! Я – аму, моя мать – русская, а дедушка был… – Да-да, я помню – великим шаманом по имени Анай-оол! Жаль, что его нет с нами… Он мог бы побеседовать с духами и объяснить нам все загадки. Фэй притихла, не выпуская моей руки. Мы сидели рядом на краю провала, и я ощущал, как от нее исходят токи нежности, любви и веры. Вера! То, чего не хватило Ольге… Рационализм, присущий людям Запада, сыграл с ней трагическую шутку; они, эти люди, охотно верили в чудеса, но лишь научные вроде клонирования, полетов на Марс, стратопланов и пи-бамб. Мировоззрение Фэй было иным. Пусть она не считала себя китаянкой, но кровь великого народа, древнего и мудрого, текла в ее жилах, смешавшись со славянской кровью. Она воспринимала реальность, как человек Востока, так же как Аме Пал, и в этой реальности чудо, пусть не подкрепленное формулами, было явлением закономерным. Разве не чудом был ее собственный дар? Или ее народ, возникший на рубеже тысячелетий? Или Анклав? Мрачное, но все же чудо… Ее дыхание коснулось моей щеки. – Ты думаешь? Я не мешаю тебе? – Нет, девочка. Хочешь что-то спросить? – Да, Цзао-ван. – Она помолчала, собираясь с мыслями. – Зачем ты здесь? Для чего? Что делаешь на Земле? Тебя послали нас оберегать? – Никто не может уберечь людей от них самих, ни мудрецы Земли, ни мудрые пришельцы. Только время, дорогая, только время… Если у вас хватит времени, все будет вашим: далекие звезды, вечная жизнь и вечная молодость, дар слушать и понимать чужие мысли и множество других чудес. Вы к ним придете, если хватит времени, терпения, любви. – А если не хватит? Я показал на лавовое поле, серое и безжизненное, словно кратеры Луны. – Будет так, как здесь. Вы исчезнете, исчезнут ваши города, и ваша речь, и книги, и даже память о неудачливой расе. – Вспомнив о талгах, я произнес: – Вы исчезнете, придут другие, но это совсем иная история. Они вас не заменят. – Значит, ты… – …всего лишь наблюдатель. Я фиксирую, запоминаю и если могу кому-то помочь, то лишь отдельным людям, а не всему человечеству. Еще я слежу за каждым экспериментом, который грозит нарушить Равновесие в Галактике. Бывает, надо принять превентивные меры… Но это случается редко – ведь мы изучаем миры не очень высокоразвитые, где нет опасных изобретений. По-настоящему опасных, понимаешь? Не для конкретной планеты, но для всей Галактики. – А это?.. – Фэй показала взглядом налево и направо, потом подняла глаза вверх. – Анклав – это опасно? – Да, и потому я здесь. Может быть, Анклав – предупреждение, может, символ гибели… Надо разобраться. – Грозит ли он Галактике или Земле? И если Земле, ты не имеешь права вмешиваться? Не должен и не будешь? Я улыбнулся: – Должен и буду. Я ведь, милая, не только Асенарри, я еще Арсен. Уренирец и землянин… Разве я могу забыть свою вторую родину? Бросить ее в беде, если способен помочь? – Но ты говорил, что не можешь помочь всему человечеству… Я не понимаю, Цзао-ван! – Есть разная помощь. Попытка уничтожить негодяев и сделать всех хорошими обречена на провал – это кончится всемирной катастрофой и резней. Выяснить, что здесь произошло, – более полезное занятие. И более реальное. Фэй помолчала, кивая головкой в тусклом оранжевом шлеме, и каждый кивок был подтверждением какой-то мысли. Прочитать я их не мог, но чувствовал, что она пришла к определенному мнению, вполне благоприятному – как для Арсена, так и для Асенарри. – Я понимаю, – раздался ее тихий голос, – я понимаю, Цзао-ван… Ты просто делаешь то, что можешь, то, что никому не повредит. А что ты можешь еще? – Ну, например, обороняться, защищать свою жизнь и жизни близких, – ответил я. – Желательно, никого не калеча и не убивая. – Желательно? – Но необязательно. Есть ситуации и ситуации… Мы просидели у трещины не меньше трех часов, то разговаривая, то смолкая, но наша неторопливая беседа не мешала думать. Бушует ненависть, и туча затмевает свет моей обители… То, о чем говорил Аме Пал, помнилось мне с кристальной ясностью: ненависть, ужас и смерть бушевали в афганских горах так долго, как ни в одном регионе Земли. Само собой, два мировых побоища, случившихся в двадцатом веке, происходили на больших территориях и унесли гораздо больше жизней, но их временной интервал был относительно краток и измерялся не десятилетиями, а годами. Кроме того, войны велись не вблизи эоитов; собственно, лишь тиричмирский располагался в местах населенных и обитаемых с глубокой древности. Так что же? К каким последствиям мог привести конфликт, который тянулся столь долго – здесь, у незримых стен легендарной Шамбалы? Об этом я не знал, но мне казалось, что свет обители, о коем упомянул Аме Пал, это наверняка фонтан, бьющий из центра эоитной зоны. Похоже, он имел в виду, что туча – туча ненависти, надвигающаяся из западных пределов, – способна повлиять на эоит… Затмить его? Но данное предположение нелепо: энергетический поток не различает добрые и злые мысли, а все, что попадет в него, выносит в космос. Затмиться – то есть прерваться – он может лишь тогда, когда население планеты уменьшится раз в десять и оскудеет ее ноосфера… Этого, кстати, не случилось – ведь эоит не исчез, он тут, на расстоянии протянутой руки! И все же – свет затмился… Возможно, это лишь образное выражение? Возможно, Аме Пал имел в виду другое? Лунный диск перекрывает солнце, и на Земле воцаряется тьма, но через какое-то время мрак отступает… Что остается в результате? В нынешнюю просвещенную эпоху лишь изумление перед величием природы, но в прошлом эмоции были сильнее – тоска, отчаяние и ужас… Они – тот отзвук временного мрака, что сохранялся в человеческих сердцах и в памяти десятков поколений… Но это – люди! Людям свойственно бояться! А там… Я поднял вверх лицо, всматриваясь в почти незаметную дымку флера, в голубоватый блеклый небосвод. За ним лежало пространство покоя и вечного холода, неизмеримой тьмы и тишины – прошитый блестками звезд, пронизанный лучами гигантский мир квазаров, цефеид, туманностей, галактик… Чье сердце билось там, чья тосковала душа? Кто ощущал невыносимый смрад отчаяния и горя? Кто ужасался ненависти, струившейся сквозь крохотную щель с ничтожной маленькой планетки? И что он мог с ней сделать, с планетой или с этой щелью? Заткнуть ее, чтобы не тянуло смрадом? Вселенский Дух! Кажется, я приближался к разгадке! Солнце перевалило за полдень, и, по моим расчетам, два наших спутника должны были уже вернуться в лагерь. Макбрайт наверняка не в духе; мало приятного глотать сухую пыль, бродить бесцельно среди трещин да расселин и шарить под камнями. Ладно, я его успокою! Может быть, даже порадую и обнадежу… Эта история с Сиадом, с репликацией мозгов и биороботами… Пожалуй, Интерпол здесь лишний, и ни к чему суды и следствие. Сами разберемся! Как-никак, Макбрайт хотел со мной сотрудничать… Что ж, посотрудничаем – и начнем с того, что установим личность Джеффри Коэна Макбрайта. Я поднялся, вдохновленный близостью к разгадке тайны. Редкое чувство умиротворения сошло ко мне; я сунул руку в карман, вытащил серый гранитный обломок, подобранный ночью, и решил, что изготовлю из него маленькую статуэтку Будды с лицом Аме Пала. Пусть хранится у меня, пока я живу на Земле, а когда уйду, оставлю ее своим потомкам… Отчего-то я не сомневался, что потомки будут – не такие, как Арсен Измайлов, виртуальный сын Даниила Измайлова, а самые настоящие. Фэй тоже встала, и мы неторопливо зашагали прочь от трещины, все дальше и дальше от незримых струй, взлетавших в небеса и падавших с небес на землю. Ее рука была в моей руке, и мне казалось, что я сжимаю не тонкие девичьи пальцы, а лилию с длинными нежными лепестками. Я почти ощущал ее аромат – волнующий, чуть горьковатый, перебивавший запах камней и пыли. Ветер вздымал ее и кружил, заметая наши следы, и это были живые, а не застывшие вихри. Определенно в Анклаве что-то менялось! – Небо почти ясное, – сказала Фэй, подняв голову и всматриваясь в небеса. – И я не ощущаю вуали… Чувствую те токи, о которых ты рассказывал, струйки, что пронизывают тело… Их чувствую, а вуаль – нет. Может быть, она уже исчезла? Насовсем? – Она исчезает, – отозвался я. – Думаю, сегодня ночью мы увидим звезды – все, даже самые слабые. А завтра, глядишь, увидят нас – со спутника или с «Вифлеема». – Увидят и пришлют экранолет? – Нам с тобой он не нужен. Мы улетим отсюда сами. Хоть сейчас… Мы обогнули утес, отгородивший лагерь – если такое название подходило для пункта, где были оставлены рюкзаки. Как я предполагал, Макбрайт с Сиадом уже вернулись; андроид сидел у наших мешков, Джеф взгромоздился на плоский камень, служивший нам столом. От Мак-брайта тянуло смесью раздражения и решимости, словно от змеи, которая ищет, куда бы ужалить. Едва мы приблизились, он быстро сунул руку за спину и кивнул Сиаду Дурное предчувствие вдруг пронизало меня; почти инстинктивно я потянулся к ножу на поясе, однако Сиад был уже рядом, и его пальцы сомкнулись на моем запястье. «Словно железный обруч», – подумал я, не помышляя о сопротивлении: в руках Макбрайта появился арбалет, нацеленный на Фэй. Мы четверо застыли на секунду, будто никто не решался вымолвить первую фразу, грозившую нарушить равновесие; мы балансировали сейчас на тонкой грани между враждой и миром, перешагнуть которую было непросто. Даже для Джеффри Коэна Макбрайта – или лица, таившегося под этим именем. Он откашлялся. – Стойте, где стоите, Измайлов! А юная леди пусть отойдет в сторонку… вот так, достаточно. Теперь все могут сесть – после того как вы отдадите роботу мачете, гранаты и нож. – Значит, ты все-таки робот? – сказал я, сунув Сиаду ножны с клинком. – Что ж, поздравляю! Твои полевые испытания прошли вполне успешно! Черты Сиада дрогнули и застыли. Молча взяв оружие, он отодвинулся к Фэй, которая уселась на землю, где приказал Макбрайт, шагах в десяти от меня. Блестящий арбалетный болт все еще смотрел ей в сердце, но лицо моей возлюбленной было таким же невозмутимым, как лицо андроида. – Хочу прояснить ситуацию, – хрипло произнес Макбрайт. – Не знаю, на что вы способны, Измайлов, – может, и с роботом справитесь, – но при первом движении я выпущу стрелу. При всех моих симпатиях к нашей юной леди. Боится, понял я, а страх, как обычно, рождает насилие. Расчет, однако, верный – я не исчезну без Фэй и не схвачусь с Сиадом. А если бы и схватился! Еще вопрос, кто выйдет победителем… Фэй скрестила руки на груди. Еолос ее был спокоен: – Если вы меня убьете, мистер Макбрайт, кто выведет вас из Анклава? – Мистер Измайлов, наш драгоценный босс. Хотите сказать, что не подозревали о его талантах? Ну, это наивно, моя дорогая! – Макбрайт почесал бровь и усмехнулся. – Что его память! Так, мелочи… Он у нас большой счастливчик и удачник! Вот, например, играет на бирже через подставных шестерок и, заметьте, с неизменным успехом… да и в любви ему везет… Не-ет, пока он здесь, со мной, я в безопасности, словно у господа на ладони! – Ошибаетесь, Джеф, – сказал я, опускаясь на землю. – Если что-то случится с девушкой, ладонь господня сожмется в кулак. Очень быстро и очень болезненно! – Верю, и потому с ней ничего не случится… ни с ней, ни с вами. Кстати, мои предложения о сотрудничестве остаются в силе. Я ведь не лгал вам тогда, три дня назад… я в самом деле восхищаюсь вами… А мое восхищение – это деньги и власть, Измайлов! Большие деньги и большая власть! Для вас и для меня, для тех, кому по силам ее бремя… Сильные правят, слабые трудятся, а несогласные гниют в земле… Ну, выбирайте! Он словно уговаривал сам себя, стараясь избавиться от страха и неуверенности. Что ж, это было понятно: пока он не был Джеффри Коэном Макбрайтом, но, кажется, рассчитывал им стать. Я кивнул, не спуская глаз с его пальцев на арбалетном крючке. Я знал, чего он хочет, – или, по крайней мере, догадывался. – Да, вы сильный… А если найдется кто-то посильнее? – Что ж, договоримся с ним, но на моих условиях. Только на моих! – Он хлопнул свободной рукой по ложу арбалета. – Готов согласиться, приятель, что вы – хороший парень, я – плохой, но мир устроен так, что у хороших парней патроны кончаются раньше, чем у плохих. Банальная мысль, но очень верная! Фэй шевельнулась, и Сиад тут же придавил ее плечо своей тяжелой лапой. «Все-таки хочет остаться роботом, – подумалось мне. – Или превратиться в человека, неотличимого от робота… Таких на Земле большинство – пьют, едят, трудятся в меру, плодят потомство и ни за что не отвечают… Очень приятная жизнь! Быть роботом проще, чем человеком…» Повернувшись к Макбрайту, я спросил: – Вы говорили об условиях. Нельзя ли поподробней? Зачем вы затеяли эту комедию? Чего вы хотите? Что вам надо от меня и Цинь? Макбрайт отреагировал с заметным торжеством – наверное, решил, что я готов сломаться. – От вашей леди – ничего. От вас – достоверная информация. Надеюсь, вы разобрались в происходящем в Анклаве. Я думаю – даже уверен! – что это случилось вчера. Вы были на холме всю ночь и что-то там нашли. Что-то важное, но, очевидно, не все… Сегодня вы избавились от нас, послав гулять к восходящему солнцу, а сами продолжали розыски. Вы… Он говорил, его слова фиксировались в памяти, но размышлял я о другом, о камешках, что шелестели прошлой ночью. Выходит, не ветер с ними игрался, не лунные тени скользили меж утесов… Я мог бы убедиться в этом с полной достоверностью, если бы не транс; чтение мыслей мне не под силу, но эманацию жизни я ощущаю так же отчетливо, как жар от раскаленных углей. Взглянув на Сиада, я заметил: – Кажется, наш биоплантовый друг уже в порядке? Все центры восстановлены, и никаких неприятных последствий? Он снова не спит? И охраняет нас ночью и днем? – Особенно ночью, – уточнил Макбрайт, сверкнув глазами. – Ну а теперь, приятель, похвастайтесь своей добычей. Любопытство разбирает… очень уж хочется знать, что вы нашли. Я вытащил кусок гранита и перебросил ему. Отменная реакция: Макбрайт поймал обломок, не опустив оружия. – Только это. Может быть, частица от стен монастыря… Взял камушек на память. – Не морочьте мне голову! – Он вспыхнул, но тут же успокоился. – Сиад вас выследил – вы провели там половину ночи! Какого дьявола? Что вы там делали, Измайлов, на этом проклятом холме? – Думал. Размышлял. И пришел к определенным выводам. – Это уже что-то. – Жадный интерес мелькнул в его глазах. – Не поделитесь? – Возможно, поделюсь. Но прежде скажите, зачем вам это надо. Все, что я видел и слышал, будет в отчете, представленном Монро, и вас с ним, безусловно, ознакомят. Но вы торопитесь… А почему? – Я помолчал и добавил: – Рука не устала? Может, опустите арбалет? Ваш робот рядом с девушкой… Чем вы рискуете? Макбрайт удобней устроился на камне. Видимо, он не доверял Сиаду; стрела по-прежнему смотрела в сердце Фэй. – Здесь я диктую условия, дружище. Не сомневаюсь, все, что вы видели и слышали, будет в отчете, но мне интересно, что вы думали – в прошлые дни, вчера и сегодня. Вы превосходный наблюдатель, великолепный аналитик, но молчун… такой молчун… Никак вас не разговорить, не вызвать на откровенность! А я ведь старался, клянусь святыми угодниками! – Он сделал паузу, но я, подтверждая свою репутацию, безмолвствовал. – Ну, ладно, – со вздохом произнес Макбрайт, – так что там у нас с этими выводами? – Тот же вопрос: зачем? – Вопрос отклонен. – Макбрайт шевельнул арбалетом. – Не позабыли, у кого патроны? Тот и спрашивает. Он явно испытывал радость победы, и факт, что побежденным был не кто-нибудь, а я, лишь увеличивал значительность момента. Он еще не пресытился властью, и это было верным признаком, что он – не истинный Макбрайт. Так, подделка, что-то вроде суррогата… Прищурившись, я посмотрел в его лицо – холеное, молодое, полное нескрываемого торжества. – Значит, вопрос отклонен… Ну, хорошо… Не возражаете, если я отвечу сам? – Кажется, он не возражал, и даже более того – тень любопытства всколыхнула его ауру. – Как-то раз мне довелось побывать в одном заведении, – начал я, не спуская глаз с арбалетной стрелы. – Не в Штатах и не в Европе – у нас, в Подмосковье. Такой, знаете ли, бордель, где развлекались важные персоны, но не с людьми, с их подобиями – репликантами. Отличный сервис и огромный выбор… Софи Лорен, Уитни Хьюстон, Грета Гарбо… из нынешних – Палома By Мэй Кас-сель и другие… ну, вы понимаете. – Я вам завидую, – пробормотал Макбрайт. Его черты окаменели. – И что же дальше? – Вы репликант, Джеф. Думаю, что-то случилось со стариной Макбрайтом, и вы – его клон и заместитель. Возможный заместитель… Здесь, в Анклаве, испытывают не органоробота, а вас. Макбрайт потомков не оставил, но управлял своей империей не в одиночестве – значит, кому-то придется решать, годитесь ли вы в наследники. Крупным акционерам, совету директоров – в общем, тем, кто контролирует ситуацию. А среди них, уверен, есть большие шишки из ЕАСС, которые хотят узнать, чем можно поживиться в Анклаве. Узнают через вас, получите очко – может быть, решающее… Ведь существуют, вероятно, и другие клоны? Его физиономия оплыла разогретым воском, маска торжества сползла, сменившись яростной гримасой. Сейчас он не выглядел молодым; казалось, что каждая фраза, произнесенная мной, старит его на годы, вычеркивает из непрожитой жизни мнимые воспоминания – о женщинах, его любивших, о власти и влиянии, принадлежавших не ему, о «вифлеемской» одиссее и прочих славных подвигах, о тайнах и секретах, в которые он посвящен, но это были не его секреты. Могли бы стать, со временем… Лет через двадцать он превратился бы в Макбрайта, уверенного в своих силах, хищного и по-настоящему опасного. Но и сейчас он был опасен – палец на арбалетном крючке дрожал, однако стрела не шевельнулась ни на дюйм. – Вы догадливы, – прошелестел негромкий голос, какой-то новый, непохожий на энергичный тон Макбрайта. – Вы догадливы, приятель… Что ж, я сделал верный выбор, склоняя вас к сотрудничеству. Мне нужны такие люди – мои люди, понимаете? Хотя бы один человек… Это позволит… гмм… избавиться от нежелательной опеки, уменьшить давление обстоятельств, скажем так. А в остальном я вам не лгал, Измайлов. Нет, не лгал! Идите со мной, и вы получите обещанное: власть, почет, богатство и, разумеется, безопасность. Иначе… – Иначе, – продолжил я, – вы вспомните о патронах. Я о них не забываю, Джеф, а потому будем считать, что мы достигли консенсуса. Лицо Макбрайта оживилось. – Вот это, дружище, разумно, очень разумно! Это доказывает, что, выбрав вас в помощники, я не промахнулся по шляпке гвоздя… Так что же, вернемся к нашему вопросу? Фэй вдруг рассмеялась – так неожиданно, что арбалет впервые дернулся в руке Макбрайта, а Сиад отпрянул, тут же приняв боевую стойку. Но моя фея не собиралась ломать ему кости хитрыми приемами кун-фу или всаживать под ребра нож, упрятанный за голенищем. Она хохотала, точно девчонка; выбившись из-под шлема, прыгали прядки темных волос, дрожали плечи, тело раскачивалось взад-вперед, и влажные глаза мерцали парой отшлифованных агатов. Неясное предчувствие зашевелилось в моей душе, подсказывая, что этот смех прощен не будет, что лишние свидетели Макбрайту не нужны. Возможно, меня он собирался пощадить как ценного помощника, но Фэй была обречена. – Могу я узнать, что так развеселило леди? – холодным тоном осведомился Макбрайт. – Можете, конечно, – вытирая слезы, проворковала Фэй. – Ну и компания у нас подобралась! Сиад – не Си-ад, Макбрайт – не Макбрайт, и есть надежда, что Измайлов тоже не Измайлов! Один не человек, а робот, другой как будто человек, но из пробирки, а третий…. – Тут, посмотрев на меня, она прикусила язычок. – Кто? – с жадным любопытством вымолвил Макбрайт. – Кто же третий? – Большой счастливчик и удачник, – с коварной улыбкой заявила Фэй. – Еще – великолепный аналитик и молчун… Ну, и всякие там мелочи, эйдетическая память, успехи у женщин и на бирже… Не находите, мистер Макбрайт, что этого для одного человека многовато? Вдруг наш командир – не человек, а инопланетный пришелец? Сообразив, что над ним смеются, Макбрайт помрачнел, окинул Фэй неприязненным взглядом и буркнул: – Не похож! Впрочем, вам лучше знать. Есть безошибочный способ проверки, доступный всякой леди, тем более в вашем возрасте. Фэй порозовела, а Макбрайт опять уставился на меня: – Если не возражаете, вернемся к нашим… ээ… апельсинам. Так, кажется, говорят у русских? – К орехам, – поправил я. – Помните, утром я говорил об аномалии? Это и есть искомая причина. Представьте себе вулкан – он спит десятки или сотни лет и вдруг пробуждается, плюется дымом, лавой и раскаленными камнями и сотрясает землю…. Может уничтожить остров или целый материк, если верить легендам об Атлантиде… Нечто подобное случилось здесь, но с той поправкой, что сотряслась не земля, а время. Ускорилось течение биологических и геологических процессов, но темп их в разных частях Анклава был различен, и в силу этого… – Насколько различен? – прервал меня Макбрайт. Щеки его побледнели от возбуждения. – В Лагпте – в тысячи раз, а на равнине, поросшей лесом, – в десятки или сотни миллионов. Там начался новый виток эволюции, а в Лагпте еще сохранились кости и развалины строений. Что же касается людей и прочей фауны и флоры, то все они скончались потому, что час для них стал веком, а может, десятью тысячелетиями. Скончались в Кабуле и в Лагпте, в селениях и городах, в разном темпе, но с неизменным результатом. Вы ведь видели, что приключилось с Фэй? В вуали малой плотности, очень разреженной и за очень незначительное время… А в момент катастрофы скорость темпоральных сдвигов была, я думаю, гораздо большей. Люди умерли от старости в мгновения, потом развалились дома, мосты, машины, механизмы, рассыпались горы, высохли прежние реки и возникли новые. По этой же причине не возвращались экспедиции – пересекая вуаль или флер, техника стремительно старела, люди гибли, топливо кончалось… Теперь все постепенно затихает, как море после шторма. Взгляните, – я показал на бледно-голубые небеса, – флер почти не виден, и мы с Цинь Фэй не ощущаем вуали. Можно задержаться здесь, не бегать к иранской границе за рекордами. Уверен, через неделю за нами пришлют экранолет. Макбрайт задумчиво погладил подбородок. – Выходит, никакого силового поля, коллоида или газа, который бы ускорял деструкцию? Конец легенде о пи-бамб? Нет ничего рукотворного земной или космической природы? – Совершенно верно, – подтвердил я и после паузы добавил: – Это естественный процесс, еще непонятный нам, но относящийся к таким явлениям, как цунами, ураган или солнечные вспышки. Очень интересный физикам, но не спецам из Эм-эй-си. Из этого, Джеф, оружия не сделаешь. – Доказательства? – резко бросил он. – Как вы докажете, что все это правда, а не китайские стихи этого… как там?.. Ли Бо? Я пожал плечами. – Аномалия… Центр ее в трех километрах отсюда, на запад от холма. Мы там были, я и Цинь. – И что же? Она воздействует на организм? Как? Можно что-то ощутить? – Беспредметный разговор. Сходите, узнаете. Макбрайт поднялся, не выпуская из рук арбалета. – Схожу! Мы сходим вместе, вы, я и Сиад. А наша леди… – Он кивнул андроиду. – Свяжи-ка ее, да получше, чтоб не добралась до оружия. Фэй не сопротивлялась, только села поудобнее, привалившись спиной к шероховатой гранитной глыбе. По губам ее бродила загадочная усмешка; казалось, ее совсем не тревожит перспектива остаться одной и совершенно беспомощной в этом гиблом месте. Проходя мимо, я наклонился к ней и шепнул: – Ты говорила о странной компании? Так вот, есть в ней еще и четвертая, болтливая внучка шамана. Она не боится? Фэй лукаво подмигнула мне: – Занимайся своими делами, Цзао-ван. Внучка шамана сама о себе позаботится. Мы обогнули утес, и я еще раз обернулся. Фэй, казалось, задремала, опустив головку на грудь; я видел лишь макушку шлема да ее плечи, обтянутые оранжевой тканью. Сердце мое радостно стукнуло – я все же своего добился, избавив ее от опасности. Игра, затеянная с Мак-брайтом, была беспроигрышной; я знал, что он захочет прогуляться к аномалии, а Фэй оставит здесь. За нами обоими не уследишь… как, впрочем, и за мной одним… Минут через десять быстрого хода я мог исчезнуть, появиться в лагере, освободить свою фею и завладеть оружием. Правда, перестрелка с Макбрайтом или дуэль на мачете с андроидом меня никак не устраивала, и потому я шел вперед – не торопясь и не делая резких движений. Сиад шагал чуть сзади и левее, Макбрайт, с взведенным арбалетом, маячил сразу за моей спиной. Мы добрались до трещины и перепрыгнули ее – провал был узок, и кое-где его края сближались до двух метров. Шагая по лавовому полю, я размышлял о работе, проделанной специалистами Макбрайта, труд которых был, несомненно, достоин восхищения. Что-то разведать о моих делах – скажем, о биржевых операциях – очень непросто, и все же им это удалось! Я вспоминал тот день, когда Монро явился в мое моравское поместье, и вечер, когда я просматривал файлы будущих спутников, – пожалуй, в этот миг целая группа трудилась над моим досье. Сей интерес был, разумеется, неизбежным; возглавив экспедицию, я привлекал к себе внимание многих людей и многих служб. Не очень приятная ситуация, но, в общем, важнее не интерес, а то, до чего смогли докопаться. «Выясню, – подумал я, – и доберусь до этих макбрайтовых спецов, а в первую очередь до тех, кто занимается органоплантом…» Собственно, то были люди не Макбрайта, а тех еще неведомых мне лиц, которые решали, кем он станет – хозяином, слугой или, возможно, трупом. Эту мысль догнала другая – где истинный Макбрайт? Многое может случиться с человеком, питающим страсть к экстремальному спорту… Я уже не сомневался, что медицинские файлы подделаны, а истина скрыта – значит, было что скрывать. И, вероятно, не милые женские тайны. Чуть повернув голову, я спросил: – Скажите, Джеф, что с вашим прототипом? Если это вас не затруднит и если знаете, что с ним случилось. – Знаю. Не затруднит, – буркнул он. – Подхватил лихорадку Эбола в ЮАР и скончался на борту личного стратоплана при перелете в Штаты. Едва успели взять ткань для клонирования… К счастью, у нас хорошие генетики и биохимики. Я ощутил, что он испытывает странное чувство – смесь зависти, ревности и благодарности. Видимо, и к самому Макбрайту, и к лихорадке: первый его породил, вторая расчистила дорогу к самостоятельности и власти. – Зачем его понесло в ЮАР? – Хотел пересечь пустыню Калахари. Один, пешком… Свалился на последних километрах. – Давно это было? – Три года назад. Фатальная неожиданность! Он был здоров, как лось, и не назначил преемника. Могли быть большие склоки в Эм-эй-си, а всякая склока – потеря влияния и денег. Поэтому решили, что Джеффри Коэн-старший совсем не умирал. Так оно и есть, не правда ли? – Решили? – Купаясь в эоитных токах, я неторопливо шагал по застывшей лаве. – Кто уполномочен решать, Джеф? И сколько вас, наследников Макбрайта? Вряд ли вы один… Меж вами объявили конкурс? В ответ – ни слова; видимо, тема была болезненной. Но острый импульс раздражения и страха, который докатился до меня, прозрачно намекал о справедливости догадки. Или существовало несколько клонов, или оставили клетки про запас… Что бы ни приключилось с э т и м Макбрайтом, я мог когда-нибудь встретить другого, полного сил, энергии и жажды власти. Возможно, не с арбалетом, буравившим мне спину, а с лазерным ружьем… В каком-то смысле это уменьшало грех, который я намеревался совершить. Впрочем, оставим эту заботу Вселенскому Духу; бывало, люди умирали в центре эоита, бывало, получали откровения, менявшие их жизнь и судьбу Мы отшагали с километр, когда Макбрайт остановился и завертел головой. – Что это, приятель? Там, впереди? Море? Откуда здесь море? – Не море, – возразил Сиад, всматриваясь в серо-коричневую каменистую поверхность. – Здание. Учебный центр в Иллинойсе. А рядом – тренировочный плац. Начались галлюцинации, понял я. В активной зоне эоита видения приходят каждому, а кроме того, бывают всплески неуправляемой активности и нарушение координации движений. Дальнейшие симптомы таковы: внезапная усталость и сонливость, провалы в памяти и амнезия. Все это связано с мозгом, и потому Сиад – будь он хоть трижды из органопланта – тут преимуществ не имел. Что, кстати, подтверждало его человеческую сущность. – Идите, не обращайте внимания, – сказал я. – Это мираж. В конце концов, мы в аномальной зоне… Должны тут быть какие-то сюрпризы или нет? – Вы тоже что-то видите? – Конечно. Райский сад и Еву, которая срывает яблоко. Мы двинулись дальше. С каждым шагом поток живой энергии бил сильнее, захлестывая нас, и я представлял, что ощущают мои спутники. Кроме иллюзий и фантомов – нервный подъем, который охватывает в толпе, в огромном скопище людей, одушевленных какой-то дикой мыслью: то ли кого-то громить, то ли кому-то поклоняться, молить о чем-то или жечь, крушить, бесчинствовать. Стадный инстинкт, одна из древних человеческих эмоций… В более строгой терминологии, принятой на Уренире, я называю это явление ментальным резонансом. Мы как бы попали в незримую толпу, чудовищную, миллиардную; нет людей, но есть их мысли, переживания и чувства, весь спектр ментальных излучений, который эоитное зеркало концентрирует и отправляет в космические бездны. К Вселенскому Духу, на Страшный суд… Спутников моих охватило болезненное возбуждение. Макбрайт, вцепившись в ложе арбалета дрожащими руками, поминутно озирался, морщился, корчил гримасы и бормотал под нос проклятия; андроид, более спокойный, хмурил брови и о чем-то напряженно размышлял. До центра эоита было с тысячу шагов, но мне не хотелось их туда вести; меня бы вполне устроила легкая амнезия с потерей памяти о нашем неприятном инциденте. Так, чтобы забылось об угрозах, резких словах и недоверии, о смехе Фэй, стреле, нацеленной ей в грудь, и, разумеется, о тайнах, поведанных нами друг другу. При благоприятном раскладе я дотащу их в лагерь и уложу в постель на камни Тиричмира… Проспятся и забудут! Макбрайт опустил оружие, замахал перед лицом пятерней, словно разгоняя стайку мелких мошек. Щеки его побагровели, в глазах появился опасный блеск. Приблизившись к нему, я ухватился за ложе арбалета и потянул к себе. Медленно, деликатно… Он не сопротивлялся, только пробормотал: – Не думайте, что я безоружен, приятель… Ваша жизнь в моих руках… ваша и китайской девчонки. – Разумеется, – согласился я, – мы оба в вашей власти. А теперь не двинуться ли нам назад? Вы убедились в существовании аномалии, в ее воздействии на организм… Вспомните, Джеф, это и было нашей целью, верно? Эксперимент закончен, и мы можем… – Нет, не закончен! – отрывисто вымолвил Мак-брайт. – Причины, причины… Какие причины? С чем это связано? Эти видения и гул в ушах… и чувство, будто в кожу воткнулись иголки… тысячи крохотных иголок… Отчего? – Не знаю, и никто не знает. Нам лучше… Не слушая меня, он повернулся к Сиаду: – Что ты видишь? Что ощущаешь? Гул, покалывание? – Да. – Андроид кивнул, глядя на каменистое поле. – Но здания нет – того, что в Иллинойсе. Зато я вижу женщину. Я узнаю ее. – Черты его дрогнули и, прикоснувшись к виску, он прошептал: – Кажется, это моя мать… Макбрайт выругался: – Какая, к дьяволу, мать? Ни у тебя, ни у меня нет матери! Мы оба – продукты генной инженерии! Очнись, ублюдок, и присматривай за этим! – Он покосился в мою сторону. – И забери у него арбалет! Отдав оружие Сиаду, я сказал: – Видишь женщину и думаешь о матери? Это хорошо. Пожалуй, становишься человеком. – Человеком… – пробормотал Сиад. – Да, человеком…. Может быть. Наверное… Его хозяин толкнул меня в спину. – Пошли! Шевелись, приятель! Я понимаю, ты не хочешь, чтобы я узнал… – Он хитро прищурился. – Не выйдет! Я разберусь! Я почти догадался, что тут такое! Эта заминка была хорошим поводом, чтобы сменить направление. Я зашагал к юго-западу, минуя центр эоита; теперь мы двигались по широкой дуге, не приближаясь и не удаляясь от середины зеркала. Но даже здесь энергетический поток был слишком интенсивным, и, хоть я отгораживался от него, мои резервуары уже переполнялись. Я начал сбрасывать энергию, что было на глазах у посторонних занятием рискованным; процесс несложный, но вызывающий в воздухе сияние, подобное нимбу канонизированных святых. Время, однако, работало на меня; я знал, что период возбуждения у моих спутников пройдет, сменившись апатией, после чего я отведу их в лагерь. Отличный план! Жаль, выполнить его не удалось… Макбрайт вдруг вскрикнул и застыл с жутко перекошенной физиономией, вытянув правую руку с ладонью, опущенной вниз. Странный, но такой понятный жест угрозы, сулящий увечье или смерть… Видимо, он не контролировал свои реакции; волны панического страха катились одна задругой, перемежаясь с импульсами ярости. Я почти не сомневался, что в его запястье – боевой им-плант, миниатюрный лазер либо излучатель, которым можно развалить слона напополам. Опасная игрушка! И смотрит прямо мне в лицо… Исчезнуть, открыв канал телепортации? Пожалуй, я бы так и сделал, да вовремя сообразил, что тут, в Анклаве, лазер не страшнее спички. Впрочем, спичку хоть можно зажечь… – Корабли! Чужие корабли! Инопланетные! – завопил Макбрайт, всматриваясь в пространство над лавовым полем. – Я понял, я догадался! Нет никакой аномалии, нет! Здесь ракетодром, их посадочная площадка! Отсюда они нанесут удар… уже нанесли! Их цель… – Успокойтесь. – Я сделал шаг к нему. – Это видения, Джеф, всего лишь видения. Нет никаких кораблей и никаких пришельцев. Он отпрыгнул. На его губах появилась пена, рука была по-прежнему направлена ко мне. – Не подходи! Я знаю, знаю, ты – предатель, проклятый ренегат… У тебяведь есть защита от вуали и этого грохота в ушах, от этих фантомов? Есть, я вижу! Ты в защитном поле, оно светится! Думал обмануть меня? Сдать нелюдям? – Ты сам нелюдь, – сказал я, соображая, как его скрутить. Так, чтобы без лишнего членовредительства, но быстро. – Убей его, Сиад! – Вопль Макбрайта был пронзительным. – Убей! Чего ты ждешь? Андроид не шевельнулся – стоял, поглядывал то на меня, то на Макбрайта. Потом пророкотал: – Эта идея мне не нравится. Я не хочу убивать. – Ты – защитник! Повинуйся! – Я – человек. И я не вижу, кого здесь надо защищать. Время внезапно застыло, дрогнуло и понеслось вскачь, будто вуаль окутала нас, сжимая тысячелетия в дни, а дни – в секунды. Резкий щелчок в запястье Макбрайта – и тут же стремительная тень встает между ним и мной, сверкает лезвие мачете, рушится вниз с протяжным свистом, падает, как серебристая молния… Затем – предсмертный хрип, фонтанчик крови из рассеченного горла, два тела в зеленом и желтом комбинезонах на каменистой земле… Макбрайт был, несомненно, мертв – свалился навзничь, с вытянутой в мою сторону рукой; кожа на верхней части запястья разошлась, и из-под нее выглядывало нечто блестящее, продолговатое, металлическое. Не лазер и не излучатель, подумал я, бросаясь к еще шевелившемуся Сиаду Лазерный имплант прожигает в коже носителя такую дырочку, что не заметишь без лупы, да и оружие это не сработало бы здесь. Значит, что-то другое, но тоже смертоносное… Свалить Сиада! Легче справиться с клыкастой жабой из палеозойских чащ… Сиад лежал на спине, подергивая конечностями, и в первый момент я не увидел ни крови, ни ран и вообще никаких повреждений. Комбинезон был в пыли, однако не рассечен и не порван, шлем не поврежден, и кожа на его лице была по-прежнему темной и упругой. Казалось, сейчас он замрет, включит восстановительный центр и через мгновение регенерирует свои потери и встанет на ноги. Несокрушимый биоробот – вернее, человек, только из органопланта… Увы, иллюзия! Напрасная надежда! Не глядя в закатившиеся зрачки, не видя посеревших губ Сиада, я чувствовал, как иссякает его жизнь. В левом предплечье торчала едва заметная игла, крохотная копия наших смертоносных дротиков, и яд уже путешествовал по телу моего спасителя. Возможно, его плоть могла бы справиться с отравой, однако мозг!.. Мозг был человеческим и, значит, уязвимым. Его благословение и ахиллесова пята… Я склонился над ним, пытаясь уловить невнятный шепот: – Я… человек?.. – Ты стал человеком. – Это… хорошо… правильно… Мне… хотелось бы… – Да, Сиад? Чего ты хочешь? – Мне хотелось бы увидеть… увидеть мать… Яд добрался до мозга; его глаза потускнели, дыхание пресеклось. Но ушел он без злобы и ненависти, а значит, как было обещано Аме Палом, вновь возродится в человеческом обличье и увидит не саркофаг инкубатора, а женское лицо… Мать, свою мать… Истина была другой, не оставлявшей места подобным надеждам, но сейчас я верил, что Аме Палу она известна лучше, чем мне. Я стоял и смотрел в неподвижное лицо Сиада. Странный мир эта Земля! Мир, где люди больше похожи на роботов, а роботы – на людей… Конечно, эта мысль была неверной, продиктованной горем, – ведь тут, на Земле, жил Аме Пал, другие мудрецы и праведники, подвижники и герои, жили Фэй и Ольга, мои женщины, краше которых я не встречал на Урени-ре и в иных мирах, жило множество людей достойных, склонных к добру, готовых к самопожертвованию. Но сила их была еще невелика. Что они могли? Предотвратить одну из сотни катастроф, спасти десяток из миллиона гибнущих… Скромная статистика! И нет в ней места ни Хиросиме, ни Чернобылю, ни Анклаву. Анклав!.. Думы мои обратились к Бактрийской пустыне и к тайне, которую я постиг. Но что же мне делать с этим горьким знанием? Как рассказать о случившемся? Размножить бездну сообщений и сбросить в Сеть? Послать их на все серверы, проникнуть в секретные базы, отметиться в каждом значительном файле? Составить тьму докладов для ООН и всех правительств шестиглавой гидры? Кричать во весь голос, вопить на перекрестках, стенать на площадях? Что делать, дабы такое не повторилось? Ведь силы мои невелики; я одинокий странник из иного мира, всего лишь Наблюдатель, не Хранитель… Я поднял к небу лицо, будто испрашивая ответа, и ответ пришел. Что-то огромное, непостижимое, но близкое прикоснулось ко мне – не тем прикосновением, какое привычно человеку, а проникающей в душу и разум струйкой мысли. Ментальный голос был неощутим, неслышен; он не ревел, не грохотал набатом, не разносился в воздухе над этой бесплодной равниной, где, кроме камней, лежали только мертвецы, он звучал лишь для меня. «Я здесь, брат, я рядом. Ты не одинок!» «Брат? – воззвал я мысленно. – Но у меня нет брата!» «Есть. Я Риндо, сын Рины и Дотира. И я с тобой».ГЛАВА 18 СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ
Круглая долина среди невысоких, поросших лесом холмов; посередине – озеро с хрустальной водой, а над ним, бросая тень на прогулочные лодки, причалы и огромные старинные корабли, тянутся по ветру облака. Корабли неподвижны, давно не ходят по морям и служат для развлечения – то, что на Земле назвали бы плавучим рестораном, клубом или танцплощадкой. Деревья на холмах напоминают алтайские кедры с огромными мощными узловатыми стволами; иглы у них длинные, мягкие, собранные в пучки, которые свешиваются с ветвей, словно шерсть диковинных животных. Вокруг озера – несколько зданий причудливых форм и расцветок, сиреневые, лиловые, светло-серые с розовым орнаментом, коричневатые, оттенка кофе с молоком. Одни из них в земных понятиях гостиницы, другие, так же как старые корабли, служат для сборищ и развлечений, третьи – дома персонала и тех, кто поселился тут надолго. Может, на год, может, на целый век. Зданий пара сотен – скорее поселок, чем городок, но это место не считается ни городом, ни поселком. Здесь находится Первый Адаптационный Центр, и расположен он среди равнин материка Иггнофи, на западе которого мой дом. Место известное на всем Уренире, один из наших эоитов; центр зеркала – за холмами, где высится святилище неимоверной древности. Но его колонны, и стены, и купол, изукрашенный мозаикой, и врата с фигурами древних богов, и пять серебристых, пронзающих воздух шпилей по-прежнему нетленны – стоят, как символ вечности, запечатанные в силовых полях. Мы – я и Наставник Зилур, специалист по адаптации, – сидим на склоне холма под развесистым кедром; его нижняя ветвь тянется у самой земли, и кто-то превратил ее в скамейку, украшенную резьбой, с удобными сиденьями и подлокотниками. Отсюда можно рассмотреть весь Центр, дома, хрустальное озеро и корабли; на мачтах их полощутся флаги, паруса подвязаны, бушприты косо нависают над водой, переплетение канатов – словно ажурное кружево, сотканное из солнечного света. Я вспоминаю их названия и имена мореходов, что плавали на них, пересекали океаны, терпели настоящие крушения, но не покинули своих кораблей. Упрямые люди и отважные – из тех, которым честь дороже жизни… Занять бы у них немного смелости! Зилур поворачивается ко мне; его лицо серьезно, но в карих глазах мерцают смешинки. Я прикидываю, сколько раз сидел он на этой скамье с очередным неофитом, мечтающим коснуться неба, услышать шепот звезд и голоса ушедших в космос странников. Наверное, их были тысячи… Отец рассказывал, как сам отправился к Зилуру, а с тех пор прошло… Он прерывает мою мысль мягким ментальным прикосновением и тут же переходит на звуковую речь. Голос Наставника негромок, слова он выговаривает четко, сопровождая их эманацией спокойствия и тепла. – Ты сын Рины, Наратага и Асекатту, и тебе четырнадцать… Возраст великих решений, мой юный друг! Я бы даже сказал, что ты слегка засиделся под крылышком родителей. Многие приходят к нам в тринадцать и даже в двенадцать. – Мой отец говорит: не спеши плавать на плоту, бревна которого еще не высохли. Зилур смеется. – Узнаю Наратага! Нетороплив и очень осмотрителен… Чем он сейчас занимается, Асенарри? – Строит яхты из дерева, по древним образцам. Такие, как эти корабли, только поменьше. – Я бросаю взгляд на озеро. – С резьбой, старинной росписью и солнечным парусом. Недавно мы обошли на яхте вокруг Уренира – я, отец и мои матери… Рина сказала, что мне пора увидеть свет – так, как путешествовали в прошлом, а не прыгать из одного места в другое. – Она права. – Секунду о чем-то поразмыслив, Зилур интересуется: – Что делает твой отец с этими яхтами? Дарит? – Дарит. Очень приятное занятие. Можно завести друзей… и не только друзей… Когда-то он построил яхту для прекрасной женщины, и теперь она в нашем доме. Конечно, женщина, не яхта… Улыбка на губах Зилура. – Рина, твоя мать? – Да, Наставник. – Ты тоже хочешь строить яхты, Асенарри? – Хотел бы, но не сейчас. Мне нравится странствовать, и я… может быть, я пойду в Гильдию Наблюдателей. Это так интересно – увидеть планеты, совсем непохожие на Уренир! Родиться там, прожить всю жизнь и улететь сюда с ворохом важной информации! Стать, например, не человеком, а разумной рыбой или птицей, понять, как эти существа живут, к чему стремятся… Чудесно, изумительно! – Чудесно, да, – Зилур кивает. – Однако замечу, Асенарри, что не все так просто – ведь у разумных птиц и рыб, людей и даже насекомых, если они способны мыслить, есть неприятная особенность. Догадываешься, какая? – Я делаю жест недоумения, и он говорит: – Все обладающие разумом способны к тонким чувствам и к самому важному из них – к любви. – Но что тут плохого, Наставник? – Ничего. Однако тебе, если станешь Наблюдателем, придется смириться с кое-какими вещами. – С какими же? Смешинки в его глазах исчезают, теперь он кажется грустным, и я воспринимаю его печаль. – Я был Наблюдателем, Асенарри… двадцать четыре планеты и много, много веков… Странные создания, чужая жизнь, которая становится твоей, и невозможно прожить ее без привязанности… Ты любишь, и любят тебя, но это ведь не Уренир, мой мальчик! Кто-то гибнет, кто-то умирает, и ты, бессмертный, горюешь о них и помнишь во всех своих существованиях – не важно, рыбы они или птицы… Потом уходишь, покидая тех, кто дорог, своих подруг, детей… уходишь в тревоге об их благополучии и жизни. – Он вздохнул и произнес после долгой паузы: – Это синдром Наблюдателя, Асенарри, и он неизбежен и горек. Мы не ведаем страданий, смертной тоски и ужаса потерь, но на других мирах об этом не забыли. И тебе придется вспомнить… А если вспомнишь, то не забудешь никогда. Я был слишком молод и слишком неопытен, чтобы его понять, и потому безмолвствовал, отзываясь лишь волнами сочувствия и приязни. Зилур благодарно похлопал меня по колену, усмехнулся и произнес: – Ну, не будем печалиться и грустить… Итак, мой мальчик, ты решил, что наступила пора поговорить со Старейшими? Что ты достаточно взрослый, чтобы представиться предкам и сказать: вот я, Асенарри, сын Рины, Наратага и Асекатту, мне уже четырнадцать, и я хочу стать Наблюдателем в чужих мирах… Так? – Так. – Я кивнул, испытывая некоторую неуверенность. Грядущее меня не пугало, но я понимал: говорить со Старейшим – не то что с отцом, с моими матерями, приятелями и Наставниками. Старейший – это… – Будь внимателен. – Зилур снова коснулся моего колена. – Будь внимателен, Асенарри, ибо есть вещи, которые не принято повторять. Ты пришел в это место, чтобы тебе помогли, направили и поддержали твой разум и укрепили контакт – первый, которого ты удостоишься, и самый важный в твоей жизни. Потом ты сможешь говорить со Старейшими во всякое мгновение, как говорят все взрослые; ты сможешь советоваться с ними, просить поддержки и обсуждать любые темы, какие будут интересны для тебя. Ты будешь сам решать, когда обратиться к Старейшему и по какой причине, и ты поймешь, что часто делать этого не стоит. Хочешь спросить, почему? Да, вижу, хочешь… Подумай сам: какая цена человеку, который тревожит других по каждой мелочи и перекладывает на них ответственность за все свои поступки? Он никогда не достигнет зрелости и совершенства – ведь к этому можно прийти, лишь руководствуясь собственным разумом, а не чужим, пусть более мудрым. Что же касается советов… Да, совет ты можешь попросить, когда не в силах разобраться сам. Но, как было сказано, не очень часто. – Один из Старейших беседует с моим отцом, и с дедом, и с прадедом, – сказал я с невольной робостью. – Отец говорит, что это наш предок и хранитель рода. – Все, кто общается с нами, – наши предки, далекие и близкие, – отозвался Зилур. – Люди уходят с Уренира сотни тысяч лет, и древние Старейшие связаны узами родства со всей планетой. Но они, мой мальчик, только частица межзвездного содружества; есть иные существа, иные расы, и нам их тяжело понять. Слишком велики различия… гораздо больше, чем, например, между талга-ми и уренирцами. – Но Старейшие… – О, Старейшие! За них не беспокойся, они отлично понимают друг друга. Они единый галактический народ, следующая ступень эволюции, но это не значит, что нужно спешить приобщиться к ним. Все в свой черед, Асенарри, все в свой черед… Сейчас, при первом контакте, ты должен лишь убедиться, что они есть и что они живые, такие же, как ты и я или обитатели Рамессу-Кор, планеты рами… Конечно, тебе об этом говорили, но собственный опыт – лучший из учителей и самый мудрый из наставников. Ты убедишься, Асенарри, что жизнь твоя беспредельна и облик, который дан тебе природой, лишь ее начальный дар. Будут и другие! – Зилур запрокинул голову, всмотрелся в небо, где плавали, лучась теплом, два солнца, и повторил: – Да, будут и другие! Старейшие ведь не конец и предел… по их понятиям, предела вообще не существует. Величие этой мысли ошеломило меня. Озеро с кораблями, деревья, здания, холмы вдруг растворились в солнечном сиянии, а вслед за этим распахнулось небо. – Что я увижу, Наставник? Что почувствую? – Мощь. Красоту. Единение с Вселенной. Беспредельность жизни, всесилие разума… Достаточно, мой мальчик? – Да. – Ты готов? – Готов. – Не тревожься, Асенарри, я с тобой. Я твой проводник среди небесных сфер, твой первый и верный вожатый. Я здесь, я рядом… Ты не одинок! Темная космическая пустота, и в ней – светящийся туман, подобный межзвездному газу, рассеянному в необозримом пространстве… Я плыву, не ощущая холода, я поднимаюсь все выше и выше, и нечто, какой-то внутренний порыв или беззвучный голос подсказывают мне, что это туманное облако – всего лишь мираж, иллюзия, что-то подобное чадре из кисеи, скрывающей облик человека. Не совсем человека, почти божества, могущественного и прекрасного, мудрого, всезнающего, но главное – родного… Оно, это создание из галактических бездн, говорит со мной, шепчет, зовет, и я подчиняюсь его настойчивому призыву, чувствую, что меня принимают как равного. Я уже не крохотный, ничтожный, уязвимый; я – великан, повелитель Галактики, владыка звезд, царь Вселенной… Что говорит мне новый друг, что шепчет? Одно усилие, и я различаю слова: «Асенарри, сын Рины, Наратага и Асекатту… Добро пожаловать, новая жизнь! Приветствуем тебя и ждем… Придешь, когда наступит срок». Это не вопрос, а утверждение, но я все равно отвечаю: «Приду… Приду!»ГЛАВА 19 БАКТРИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ Вечер четырнадцатого дня
Когда я вернулся в лагерь, Фэй была уже свободна. Трос, которым ее связал Сиад, валялся на земле, у плоского камня-стола тихо гудела спиртовка, какое-то варево булькало в котелке, распространяя знакомый упоительный аромат. Я втянул ноздрями воздух. Чай! Зеленый чай! Напиток богов и людей из Поднебесной… – Как ты освободилась? – спросил я, подсаживаясь к котелку. Лукавая улыбка скользнула по губам Фэй. – Моя женская тайна. Мы, девушки из Хэйхэ, всякое умеем. – Кажется, наша семейная жизнь не будет скучной, – заметил я и отхлебнул из кружки. Кружку мне поднесли с церемонным поклоном. – Безусловно, – подтвердила Фэй. Мы пили чай, поглядывая друг на друга, на маленький огонек спиртовки и на небо. Смеркалось, но воздух был прозрачен, а небеса ясны. На востоке висел лунный диск, и с каждой минутой узоры созвездий проступали отчетливей и ярче. Флер исчез, и теперь я знал, в чем причина этой стремительной перемены. – Ты возвратился один, – сказала Фэй. Это был вопрос, заданный в вежливой форме, которая принята на Востоке. Можно ответить или просто кивнуть – последнее было бы знаком, что я не желаю касаться данной темы. Но я ответил. – Макбрайт лишился разума. Такие затмения бывают в зоне эоита… Он захотел меня убить. Брови Фэй взлетели вверх. – Тебя? Но ты же бессмертен, Цзао-ван! – Бессмертен мой дух, но не тело. – Я сделал паузу, наслаждаясь вкусом и запахом чая. Он был великолепен; поистине девушки из Хэйхэ умели многое! Фэй чуть слышно кашлянула. – У него был боевой имплант, не лазер, а метатель на сжатом воздухе. Выбрасывает стрелки… вот такие… – Я отмерил фалангу мизинца. – Иглы с ядом, таким же, как в наших дротиках. Он выстрелил в меня. – И?.. – Щеки девушки побледнели. – Между нами встал Сиад. Зарубил хозяина и умер. Их тела – за той расселиной, где мы были утром. Я завалил их камнями. Фэй долго молчала, хмуря брови и навивая на палец темный локон. Потом губы ее дрогнули, и до меня донеслось: – Он был достойным человеком. Ты мог спасти его, Цзао-ван? Мог что-то сделать с Макбрайтом? – Мог. Убить или забрать его жизненную энергию… Но этого мне не хотелось. Убийство – смертный грех, а лишение жизненной силы – гнусный поступок. Взять энергию у живого, даже у деревьев, можно лишь с согласия того, кто отдает, иначе превращаешься в вампира… В общем, я ждал, что Макбрайт утихомирится, и просчитался. – Никто не застрахован от ошибок, – сказала Фэй. – Даже мудрый пришелец из космоса. – Никто, – подтвердил я. Мы молчали, сидя у крохотного язычка пламени, нашего очага в этой бесплодной пустыне. Небо расцвело звездами, луна карабкалась к зениту, прохладный ветер играл волосами Фэй, то разбрасывая их пушистым облаком, то свивая в тонкие пряди. Ветер стихал и поднимался вновь, словно пустыня дышала нам в спины, напоминая о своем присутствии, о стертых в пыль горах, исчезнувшем Тиричмире и миллионах людей, павших под косою времени. Нынче к ним прибавились еще двое… Фэй пошевелилась. – Тот дух, что прилетал к тебе… Старейший… он еще здесь? – Да, милая. Я говорил с ним. Это мой брат. Риндо, сын Рины, старшей из моих матерей. Мои слова не вызвали удивления – она привыкала к необычному с поразительной быстротой. – Он молод, этот Риндо? Рано ушел, да? – Рано. Но люди разные, моя фея, и мудрость, определяющая их поступки, не исчисляется годами. К одним она приходит на склоне лет, к другим – едва они достигнут зрелости. Риндо был из числа последних. – Скажи, Цзао-ван, объясни мне… – В голосе Фэй вдруг зазвучало волнение. – Сделаться Старейшим – это навсегда? Если бы Риндо захотел… если б возникло такое желание… мог бы он превратиться опять в человека? Обрести новое тело, прожить жизнь на Уренире или в одном из других миров, встретить женщину и полюбить ее, оставить потомков? Мог бы или нет? – Старейшие умеют создавать любые формы и орудия, милая. Сотворить себе новое тело, прожить в нем сто или тысячу лет? Конечно, это в их власти, но я не уверен, что тело – вернее, мозг – вместит их разум. По этой или по другой причине никто из них к нам не вернулся… – Помолчав, я тихо прошептал: – Может быть, они не покидали нас, а затаились в какой-то частице сознания, объединяя и храня живое во Вселенной? Хотелось бы, чтобы это было так… Но я не знаю, моя фея. Глаза Фэй сверкнули отблеском лунного света. Она кивнула, отбросила локон со лба и одарила меня улыбкой. – Ничего, Цзао-ван, узнаешь, когда превратишься в Старейшего. Будешь летать среди звезд и вспоминать обо мне, а я попробую устроить так, чтоб память эта была не горькой. – Ее улыбка погасла, милое личико сделалось серьезным. – Риндо сказал тебе что-нибудь? Об эоите, катастрофе и Анклаве? Что-то, чего ты не знал? – Очень немногое. Мои догадки оказались верными… догадки и слова Аме Пала. Бушует ненависть… – произнес я, вытянув руку на запад. – Там она бушевала много лет, волны ее текли к эоиту и извергались в космос, в ноосферу Вселенной, струями зла. Представь занозу под ногтем – крохотная, а болит… Ее выдернули, и ранка сейчас исцеляется. Риндо пришел сюда, чтоб исцеление было надежным и быстрым. Видишь, – я поднял глаза к небесам, – флер уже рассеялся, и, полагаю, от вуали не осталось ни следа. Скоро это обнаружат и ринутся в Анклав со всех сторон, искать причину катастрофы, делить незанятые земли… Ну а дележка, сама понимаешь, без споров не обходится. Как бы не вогнали новую занозу! Вздрогнув, Фэй пробормотала: – А те, кто ее выдернул, сгубив миллионы людей… это Старейшие? Или твой Вселенский Дух? Или другая сознательная сила? – Нет. Всего лишь инстинктивная реакция вселенской ноосферы. Смотри, – я кивнул на пламя спиртовки, – вот крохотный огонек, но он обжигает. Ты поднесла к нему руку – случайно, ненамеренно – и ощутила боль. Что ты делаешь? Отводишь руку… Но огонек остался, ты можешь обжечься опять и обжигаешься – раз, другой, десятый, пока не сработает инстинкт: отдернув руку, ты дунешь на пламя. Дунешь несильно, огонь погаснет, получится Анклав… А если непроизвольно шевельнешь рукой и опрокинешь спиртовку, исчезнет Земля или Солнечная система… Понимаешь? Фэй кивнула, зачарованно глядя на спиртовку. – Пламя ненависти, жгучая заноза, кара небес… Выходит, мы сами виноваты? В том, что случилось? – Во всех бедах, которые постигают человека, виновно его неразумие и непочтительность к предкам – так, кажется, у Конфуция? Ну, бог с ними, с предками… А в остальном все верно. – Но время, почему время?.. Ты говорил, что здесь случилось времятрясение… Ход времени ускорился, за секунды пролетели годы или века, в разных местах по-разному… Что это значит, Цзао-ван? Почему так, а не… – …огонь с небес? – подхватил я. – Не потоп, не извержение вулканов, не солнечный протуберанец, не комета, павшая на Землю? Это формы Апокалипсиса, который придумал человек. Мироздание – если хочешь, Вселенский Дух – действует без грохота и шума, но инстинктивно выбирает самый верный способ. Ты ведь дунешь на маленький огонь, а не зальешь его ведром воды, не втопчешь в землю, не сожжешь из бластера… Только дунешь, и воцарится хаос времени и сотрет помеху. Принцип минимального воздействия, милая, великий закон, который правит Вселенной… Фэй вздрогнула, прижала ладошки к губам. Глаза ее стали огромными. – Ты говоришь, Арсен, они все ринутся сюда? ЕАСС, Восточная Лига, мусульмане, Индия, Россия… Наверное, ты прав… и это значит, что все повторится… Что же нам делать, дорогой? Что делать? – Не грызть друг другу глотки хотя бы рядом с эоитом. Риндо сказал, что в следующий раз все будет хуже, много хуже… Такие конвульсии ноосферы случаются в других мирах, Старейшие их наблюдали и поняли, что предотвратить их невозможно. Вот случай, милая, когда бессильны боги, а все в руках людей, в моих, в твоих… Ты ведь мне поможешь, маленькая фея? Девушки из Хэйхэ – они ведь все умеют? Она слабо улыбнулась. – Я помогу, Цзао-ван… Но как? Что я должна делать? – Быть рядом со мной, – сказал я, поднимаясь, – ибо лишь любовью спасется мир. Кажется, Фэй это устраивало. Повеселев, она вскочила на ноги, кинула взгляд на наши мешки, бесшабашно махнула рукой и повернулась ко мне. – Куда теперь, Цзао-ван? Куда ты меня унесешь? – Куда захочешь. В Петербург, в Калифорнию или Австралию, в Скалистые горы или на нильские берега… Впрочем, я знаю! Знаю одно место, где растут дубы и скоро расцветет сирень. Тебе там понравится, девочка. Мы стояли под звездным небом, и я, запрокинув голову, отыскал неяркий огонек, светивший в полутора парсеках от Земли. Совсем небольшое расстояние в космических масштабах, а для Старейшего просто ничтожное… Там, у этой звезды, плыло во тьме и холоде огромное живое облако – Риндо, мой мудрый брат; оттуда он говорил со мной, вселяя уверенность и надежду. И, думая о нем, послав ему привет, я почему-то вспомнил о словах Наставника Зилура: ты любишь, и любят тебя, потом уходишь, покидая тех, кто дорог… Но я еще не собирался уходить и не грустил о неизбежной разлуке. Ибо есть время для всего, для встреч и расставаний, для счастья и печали, для любви и памяти о ней. Фэй нерешительно шагнула ко мне. – Я должна взять тебя за руку, Цзао-ван? Или обнять? – Нет, родная, необязательно. Просто встань поближе. – Все-таки я обниму, – сказала она. И обняла.Михаил Ахманов Кононов Варвар
ГЛАВА 1 КРУШЕНИЕ
В юности (ибо тридцать лет в сравнении с моим нынешним возрастом – юность) я зарабатывал на жизнь писанием романов о Конане. Я занимался этим не только ради денег; теперь, умудренный годами, я понимаю, что сочинительство историй о благородном варваре из Киммерии, о злобных магах, жутких демонах, очаровательных принцессах давало выход мечтательным и романтическим склонностям моей натуры. Я никогда не сожалел о времени, потраченном на эту работу, ибо, помимо денег и удовольствия, она принесла мне бесценный опыт – в конечном счете пробудила мой литературный дар и сформировала меня как писателя. Но главное, чем я обязан киммерийским сказкам, много важнее денег, удовольствия и даже писательского опыта; главное в том, что в эти годы я повстречался с будущей своей женой. Но не только с нею – было еще одно знакомство, невероятное и фантастическое, изменившее и жизнь мою, и мнение о человечестве, и взгляды на мир.Творить Ким Кононов предпочитал ночью. Во-первых, день, время суматошное, нервное, и до писания романов как-то не доходили руки; во-вторых, он вообще относился к совиной породе с пиком активности между часом ночи и тремя. За этот срок он мог нашлепать пять страниц, а днем лишь потел у компьютера да выжимал с натугой вымученные фразы. Такая уж у него была физиология, что все, происходившее в светлый период суток, воспринималось как помеха – топот соседей на лестнице, тоскливый рык канализации, гул нечасто проезжающих автомобилей и даже шелест листьев за окном. Ночами писалось куда быстрее, и потому Ким любил ночь. Покой, тишина, темнота… Но в данный момент в наличии были только две составляющие – еще не кончился июнь, когда в Петербурге, по словам поэта, одна заря спешит догнать другую. Зато Кононов мог растворить окно, сунуть в розетку фумигатор, убийцу комаров, и отдаться творчеству, вдыхая ароматы свежей зелени и влажной, пропитанной летним дождиком земли. Ким обитал в Озерках, на Президентском бульваре, на самой северной городской черте; по одну сторону узкой улицы стояли дома, прихотливо изогнутые буквами «П» и «Г», а по другую высился лесок, который местные жители, люди неизбалованные, считали парком. Кимова берлога была на первом этаже, окнами к лесу, и от деревьев Кима отделяли только заросли акации да шиповника, тротуар и двухполосная проезжая часть с разбитым, а кое-где отсутствующим асфальтом. Знакомый, но такой приятный вид! А кроме того, полезный и вдохновляющий! Если напрячь воображение, ближайшая лужа могла сойти за хайборийский океан, темная полоска леса – за остров прекрасной волшебницы, а ласковый июньский дождик – за бурю в этом океане, несущую пиратскую галеру к черту на рога… Конан Варвар цепляется за рулевое весло вместе с верным кормчим Шугой, всматривается в темноту, гадает: откуда буря?.. да еще такая сильная?.. И неизвестно варвару-киммерийцу, что бурю наслал злодей-чародей из северных земель, дабы устрашить красавицу-фею, что живет на острове, и приневолить ее к сожительству. Вот этого мерзкого колдуна по имени Гор-Небсехт Конан и устаканит! Однако не сразу, а сотни через три страниц, проделав долгий путь от острова до колдовского замка Кро Ганбор, а замок будет где-нибудь в Асгарде либо Ванахейме… Словом, в ледяной Лапландии! Начало было положено, и Ким, довольно хмыкнув, отвернулся от компьютера и оглядел свой рабочий кабинет. Главным предметом обстановки здесь являлись книги, громоздившиеся на полках, на телевизоре, на полу, в старом кожаном кресле и плавно переползавшие на самодельный стеллаж в коридоре. Штабель книг около кресла был увенчан телефоном, на полках тут и там торчали стаканчики с карандашами, коробки с лентами для принтера, дискеты, пепельницы, стопки бумаги и прочий хлам, необходимый в писательском ремесле. Беспорядок, но трудовой, активный… Снова хмыкнув, Ким почесал в затылке и, закурив сигарету, уставился в темнеющие на экране строчки. Пару минут размышлял над сценой крушения, к примеру, такой: галера налетит на риф и треснет пополам, матросов смоет с палубы, гребцов разметают волны, но Конан непременно доплывет до берега… Оставить еще кого-нибудь в живых? Скажем, старого верного Шугу, чтоб киммериец не скучал?.. Немного подумав, Ким собрался прикончить всех без снисхождения и жалости, а заодно вселить в злодея-чародея бессмертного демона. Эта тварь – Аррак или Демон Изменчивости – будет квартировать под черепом у Гор-Небсехта, словно джинн в бутылке, добавляя магу чародейских сил и злобности, а уйти ему – никак, ибо до самой смерти колдуна связаны они магическим заклятьем. Демон, конечно, знает о сексуальных домогательствах партнера и поощряет их, так что Конану придется туго… А почему? А потому: вырвет он печень чародею, да как бы Аррак не перебрался в него самого! «Отличный сюжет!..» – решил Ким и, с довольной улыбкой поглядывая в окно, застучал по клавишам. Дождик – буря, лужа – океан, лес – цветущий остров, а Конан – вот он Конан, сидит у компьютера и сочиняет мемуары! Только прекрасной волшебницы нет… Через пару часов, примерно в три пятнадцать, он остановился и перечитал первую главу.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
– Ну и шторм, капитан! – прокричал кривоногий кормчий-барахтанец. – Ну и шторм! Прах и пепел! Клянусь ядовитой слюной Нергала, такого я не встречал за тридцать лет, что плаваю по океану! – Куда нас несет, Шуга? – Конан, вцепившийся в кормовое весло, приподнял голову. Он пытался высмотреть просвет в тучах, но его не было; наоборот, грозовые облака становились все темнее, в них начали посверкивать молнии, а ледяной полярный ветер разыгрался вовсю, вздымая волны выше палубы «Тигрицы». – Куда несет? – повторил кормчий и сам же ответил: – Прямиком на Серые Равнины! Одно удивительно: я думал, дорога к ним начинается где-то в Асгарде или в северных Гирканских горах, а нас отбросило к югу. – Окочуриться можно в любом месте, – заметил Конан, чувствуя, как вздрагивает под ногами палуба корабля. – А чтобы этого не случилось, вели-ка, парень, спустить паруса и срубить мачты. И, во имя Крома, гони всех бездельников на гребную палубу! Пусть берутся за весла и не вопят у меня под ухом о близкой смерти! – Грести при такой волне? – Шуга с сомнением пожал плечами. – А что нам еще остается, старый пес? Ждать, пока морские демоны заглотают нас, прожуют и выплюнут кости на ветер? Кормчий хмыкнул и отправился выполнять приказание. Вскоре над палубой прозвучал его хриплый рев: – Паруса долой, ублюдки! Беритесь за топоры, мачты – за борт! Шестьдесят мерзавцев – на весла! Остальным – привязаться покрепче и слушать мою команду! Да пошевеливайтесь, дохлые ослы! Кого смоет за борт, тот отправится прямиком на корм акулам! Конан пошире расставил ноги; рулевое весло прыгало в его руках, словно живое, и с каждым мгновением удерживать «Тигрицу» на курсе становилось все трудней. Да и можно ли было говорить о каком-то курсе, если даже Шуга, опытный морской волк, не знал, куда их несет? Буря гнала корабль на юг, и через сутки они могли очутиться где угодно: у побережья Черных Земель, в открытом море или у скал легендарного Западного материка, куда не добирался никто из хайборийцев. Уже сейчас они плыли в неведомых водах, ибо, преследуя день назад зингарского «купца», сильно уклонились к западу. «Купец», удиравший на всех парусах, благополучно пошел на дно, перевернувшись при первом же сильном порыве урагана; «Тигрице», где часть парусов была вовремя спущена, удалось остаться на плаву. Надолго ли? Застучали топоры, и Конану показалось, что лезвия их впиваются не в основания мачт, а прямо в его сердце. Он любил свой корабль – не только потому, что судно было надежным и быстроходным; имелись и еще причины для крепкой привязанности. Эта галера напоминала ему о другой «Тигрице», должно быть, сгнившей уже в какой-нибудь бухте Черного Побережья либо разбитой волнами о камни. И помнилось еще ему о хозяйке того корабля, принявшей смерть в мрачных джунглях, на берегах Зархебы, проклятой реки… Помнилось и не забывалось, хотя прошло с тех пор года три или четыре, а может, и все пять… Время само по себе ничего не значило для киммерийца; он измерял истекшие сроки не днями и месяцами, не солнцами и лунами, а событиями – тысячами локтей, пройденных по морю или по суше, ограбленными кораблями, захваченными богатствами, смертями приятелей, соратников или врагов. Но та женщина, Белит, хозяйка прежней «Тигрицы», была не просто соратником… И потому он не мог до сих пор забыть о ней. Мачты с грохотом рухнули в кипящую воду, снеся половину фальшборта. Внизу, на гребной палубе, раздавался мерный звон гонга, скрип весел и дружное «Ух!» гребцов; они старались изо всех сил, но широкие лопасти то утопали в набежавшей волне, то без толку бороздили воздух. Тем не менее ход галеры стал уверенней, и теперь она лучше слушалась руля. Если шторм не сделается сильнее… Но буря усиливалась с каждым мгновением. Тучи, нависавшие над морем, опускались все ниже и ниже, водяные холмы превращались в горы, разделенные провалами темных пропастей; северный ветер ярился и швырял в лицо соленые брызги, играл кораблем, словно щепкой, попавшей в гибельный водоворот. Вдобавок – невиданное дело в южных водах! – пошел снег, забушевала метель, и была она не слабее, чем в Асгарде или Ванахейме. Сразу резко похолодало; ноги скользили по доскам, и два десятка моряков, еще остававшихся на палубе, начали вязать новые узлы. Одни сгрудились у обломков мачт, другие – у трапа, ведущего на кормовую надстройку, третьи – у распахнутого люка. Харат, парусный мастер, привязался к носовому украшению, что изображало тигрицу в прыжке, с разинутой пастью; у него было на редкость острое зрение, и сейчас он, как раньше капитан, пытался разглядеть просвет в тучах. Шуга, кормчий, поднялся к рулевому веслу и обхватил его обеими руками. Но морские демоны были сильнее, чем два человека; весло по-прежнему прыгало, вырывалось из скрюченных пальцев, норовило сбросить обоих рулевых за борт. – Снял бы ты сапоги, капитан, – сказал Шуга. Сам он уже успел разуться: босые ступни меньше скользили по палубе. – К чему, приятель? Доски уже обледенели… А я хотел бы отправиться к Нергалу в сапогах. – Ха! Станет Нергал разглядывать, обут ты или бос! – Не станет, верно. Но я собираюсь пнуть его в зад, а в сапогах-то пинок выйдет покрепче! Они оба захохотали, болтаясь, словно тряпичные куклы, на конце рулевого весла. Потом Шуга пробурчал: – Так он и подставит тебе свою задницу! Нергал, знаешь ли, шустрый малый; недаром ему поручено надзирать за душами мертвых. – Говорят, он обнюхивает каждого, кто готовится ступить на Серые Равнины, – вымолвил Конан. – Чтобы узнать, много ли грехов у мертвеца и каким запахом тот смердит… Вот тут-то я его и пну! А не выйдет, разрисую проклятого ножом! Он похлопал по рукояти кинжала, торчавшего за поясом. Клинок был хорош: обоюдоострый, в три ладони длиной, в изукрашенных самоцветами ножнах. Стигийская добыча, взятая в крепости Файон на берегу Стикса… Стигийцы же – известные чародеи; быть может, и этот кинжал был заколдован? Самая подходящая штука, чтоб подколоть Нергала… – Не кликнуть ли подмогу? – сказал кормчий. – Это весло отбило мне все ребра. Пепел и прах! Оно вертится, как бедра аргосской шлюхи! – Только они будут помягче, – со знанием дела заметил Конан. Шуга, повернув голову, заорал: – Эй, Патат, Стимо, Рикоза! И ты, Рваная Ноздря! Сюда, бездельники! Поможете с веслом! Моряки зашевелились, кто-то начал резать канат, но внезапно огромный вал вознес «Тигрицу» к небесам, а затем вверг в сине-зеленую пропасть. Корпус затрещал, жалобно застонала обшивка, раздались испуганные вопли гребцов; несколько веревок лопнуло, и два человека полетели за борт. Теперь никто не рисковал распустить узлы. – Клянусь печенью Крома, – произнес киммериец, – у нас убытки, кормчий. Кажется, Брода и Кривой Козел… – Да будет их путь на Серые Равнины выстлан туранскими коврами! – отозвался Шуга. – Эй, Патат, Стимо, Рикоза, Рваная Ноздря! Сидите, где сидите, парни! Не развязывайте веревок! – Это правильно, – одобрил Конан. – Смоет ублюдков, не успеют и шага ступить. А так… «А так, – подумалось ему, – пойдем на дно всей компанией, только без Броды и Козла». Внезапный гнев охватил его; холодное бешенство, ярость, злоба на этот мятущийся темный океан, уже пожравший двоих и разинувший пасть на корабль со всем остальным экипажем. Но жизни этих людей, всех восьмидесяти пяти, принадлежали только ему, капитану! Он, он сам, разыскивал лучших среди барахских рыбаков и мореходов, обшаривал кабаки Зингары, Аргоса и Шема, выбирал крепких гребцов, метких лучников, матросов, что карабкались по мачтам быстрее обезьян, – и каждый из них вдобавок лихо рубился на саблях и топорах, метал копья и стрелы и с одним абордажным крюком в руках мог выпустить кровь трем стигийским латникам! А теперь, похоже, они все обречены… Кром! Если бы он мог поразить эти темные грозные воды пучками молний! Если бы мог разогнать тучи, заткнуть глотку ветру, скрутить ему жилистую шею! Если бы он повелевал вулканами на дне морском и, пробудив их, испарил океан потоками огненной лавы! Но боги отказали людям в таком могуществе, приберегли его для себя… Несомненно, они были правы; человек, даже не повелевая молниями и вулканами, творил столько пакостей и мерзостей, что светлому Митре и доброй Иштар не хватало ночи и дня, чтобы оплакать убиенных и покарать грешников. Впрочем, грешниками занимался Нергал со сворой присных демонов, и было похоже, что они уже готовились наложить на «Тигрицу» свои жуткие лапы. Ударил ветер, корабль вновь подбросило, крышка люка сорвалась, исчезла в пучине, а вместе с ней – трое моряков. – Кто? – Конан скрипнул зубами. – Стимо… Стимо и еще Касс и Ворон… Прах и пепел! – Жаль Стимо… Он был сильным парнем. – А Ворон попадал стрелой в кольцо с пятидесяти шагов… Касс, он… Волны стадом разъяренных быков ринулись на корму «Тигрицы», тараня ее крутыми лбами; борт треснул под их напором, холодная вода хлынула в трюм. Корабль заскрипел, застонал, словно зверь, получивший смертельную рану. Вновь послышались вопли гребцов – запертые на нижней палубе, они не знали, велик ли причиненный судну урон, но могли предполагать самое худшее. Киммериец пробормотал проклятие: «Тигрицу» завертело на гребне волны, рукоятка рулевого весла вырвалась из его пальцев и ударила Шугу в грудь. Кормчий бессильно обвис в веревочной петле, хрипя: – Держи… держи ее… иначе… всем конец! Против волны… держи против волны… О, мои ребра! Прах и пепел… якорь в глотку… вонючая кровь Нергала… ослиное дерьмо… Он принялся ругаться, но его скрюченные пальцы уже легли рядом с широкими ладонями Конана. Вздрогнув, галера свалилась вниз, в водяную пропасть. Снегопад прекратился, но жуткий пронзительный ветер гулял по палубе судна, валил его с боку на бок, натягивал канаты, перетряхивая вцепившихся в них людей, точно бусины живого ожерелья. – Харат! – крикнул Конан, и сильный голос его перекрыл завывание урагана. – Харат, Кром тебя раздери! Что ты видишь? – … иии – еее – гооо! – донеслось с носа. – Ниии – чеее – ооо! Тууу – чиии! Всююю – дууу! – Конец нам, – буркнул Шуга. Лицо его посерело, на ребрах вздулся огромный синяк, но рукоять весла кормчий держал твердо. – Заткни пасть! – рявкнул киммериец. – Не достанутся наши шкуры Нергалу! – Это ты так говоришь. – Кормчий через силу ухмыльнулся. – Ты силен, но Нергал сильнее… Отымет душу! Заявишься к нему призраком, и сапоги твои призрак, и кинжал… пинай и коли его, сколько влезет… он и не почешется, гадюка, только сунет в самое гнусное место в своей помойной яме… – Боишься смерти, Шуга? – А ты? Конан свирепо ощерился: – Никто не живет вечно! Но за свою шкуру я спрошу хорошую цену! – Спросить-то можно, вот только дадут ли ее… – Шуга вдруг закашлялся, захрипел и сплюнул на палубу кровью. – Здорово меня приложило, – пробормотал он. – Ребра сломаны… Ну, ничего, в Нергаловой утробе станут как новенькие… – Кормчий с усилием вскинул голову, осмотрел страшное гневное море и небеса, где меж громадами темных облаков сверкали молнии, потом невесело скривился. – Не простая это буря, – донеслось до капитана, – не простая, клянусь своими ребрами! Теми, что еще уцелели! – Не простая? Кром, что ты болтаешь! – Кто-то наслал ее на нас… Или на кого другого, а мы просто попались на пути. Не бывает таких жутких штормов в середине весны! Не бывает! И еще: глянь, как бегут тучи… Словно их гонит кто-то… Бегут, вытягиваются копьем… а мы – на самом острие… мы или кто другой… «Тигрица» в очередной раз рухнула в пропасть. Весла судорожно забили по воде, помогая судну вскарабкаться на зыбкую сине-зеленую гору, но надвигавшиеся сзади валы догнали корабль, нависли над палубой, прокатились по ней, смывая за борт моряков. Никто из них не успел даже вскрикнуть. «Сколько их осталось? – подумал Конан. – У весел – шестьдесят, да еще один, отбивавший в гонг ритм гребли… А наверху – Харат, оседлавший деревянную тигрицу, четверо у передней мачты, двое – у задней… У люка – никого… Значит, считая с рулевыми, уцелело девять человек, а полтора десятка уже покоились в соленой мокрой постели. Если не больше; волны, проломив борта, могли смыть людей и с гребной палубы». Шуга вдруг встрепенулся, завертел головой, забормотал: – Прах и пепел! Волны… иначе шумят… слышь, капитан? Иначе, говорю… ревут, не рокочут… словно бьются обо что-то… – Скалы?Суша? – Может, и суша… – Не выпуская весла, кормчий вытянул шею, пытаясь разглядеть в полумраке берег. – Хорошо, если суша, – сказал Конан. – Только откуда ей здесь взяться? – От богов или от демонов… скоро узнаем, от кого… Если там песок, мы спасены, а если скалы, всем конец! Шмякнет нас, одни доски останутся в кровавом дерьме… Конан злобно выругался. – А не мерещится тебе, Шуга? Отбил ребра, а вместе с ними и слух с разумением, а? Но тут с носа, где торчал парусный мастер Харат, долетело: – … Ооо – ооов! Ооо – ооов! Беее – реее… Беее – реее… – Чего он орет? – рявкнул киммериец. – Берег или берегись? Что у него – соль глотку проела? Корабль взлетел на огромной волне, и теперь оба цеплявшихся за рулевое весло человека увидели впереди облачную темную массу, над которой плясал гигантский смерч. Он то стремительно вытягивался к небесам, касаясь туч широкой разлапистой воронкой, то оседал вниз, плющился и кружился у самой земли, будто хотел вобрать в себя камни, песок и воду, перетряхнуть эту смесь и выплюнуть ее прямо в сердцевину облаков. Ненасытная пасть его казалась черной, ведущей прямиком в утробу воздушного демона, и на фоне этой черноты белыми клыками торчали у берега утесы. На мгновение смерч представился Конану огромным змеем, чей хвост взбалтывал тучи, изогнувшееся тело касалось земли, а голова с зубастыми челюстями лежала на самом берегу, словно поджидая «Тигрицу» со всем ее экипажем. Вероятно, и у кормчего мелькнула такая же мысль; освободив левую руку и кривясь от боли в разбитых ребрах, он принялся чертить в воздухе знаки, охраняющие от беды. Губы его посинели. – Сет! Проклятый Сет, грязная гадюка! Явился за нашими головами! – Держи руль, Шуга! – прорычал Конан. – И говори, куда править! Ты кормчий, не я! – Там Сет! – Мешок дерьма, а не Сет! Протри глаза, смрадный пес! Там вихрь, а у берега – рифы! Куда нам править? Шуга выплюнул сгусток крови. – Держи левее… Вроде бы есть проход, только узкий… Если течение пронесет… – Беее – реее – гиии – сссь! Скааа – лыыы! – долетело с носа, и теперь ни кормчий, ни капитан уже не сомневались в том, что кричит Харат. Передняя часть галеры вдруг задралась кверху, корабль дрогнул от страшного удара, и переломанный форштевень вместе с носовым украшением и цеплявшейся за него фигурой парусного мастера взлетел вверх. Затем послышался треск весел, скрежет камней, пронизавших обшивку, вопли гребцов, заглушенные диким воем урагана. Рулевая рукоять метнулась, словно шея непокорного жеребца, отшвырнула кормчего вправо – только растопыренные руки и ноги промелькнули над бортом; затем Конан ощутил, что взмывает в воздух, и тут же ледяная вода обожгла кожу. Но холод вдруг сменился теплом, тишиной и покоем. Не было больше грохота и криков, ветер не бросал в лицо соленую влагу, не терзало дерево растертые в кровь ладони, исчезло видение жуткого смерча, плясавшего на берегу… Он погружался вниз, вниз, вниз, в царство забвения и мрака, в бездну, откуда начиналась тропа на Серые Равнины, обещавшая неспешное последнее странствие и вечный отдых. Сапоги и намокшая куртка тянули на дно, в ушах раздавался слабый звон, рукоять кинжала давила на ребра. Кинжал! Стигийский клинок, который он собирался всадить в брюхо Нергалу! Ну, если он станет дохлой рыбой, бессильной тенью, изъеденным крабами трупом, темному богу нечего опасаться его ножа… Тело его само рванулось вверх, преодолевая упругое сопротивление воды. Мимо опускались в глубину трупы гребцов – с разбитыми головами, с переломанными руками и ногами, с ошметками плоти, содранной с костей. Он узнавал их: кого – в лицо, кого – по приметному браслету, шраму, поясу или серьге… Людей швырнуло на риф, размолотило о камень; весьма возможно, что и ему предстояло разделить их судьбу. Вынырнув и очутившись в провале между огромными волнами, он сделал только один глубокий вздох, бросил только один взгляд на свой корабль и снова погрузился в воду. «Тигрица» с пробитым бортом и начисто снесенным носом попала в белые зубья прибрежных скал; валы безжалостно трепали ее, довершая разрушение. Живых он не разглядел ни в воде, ни на судне – но что увидишь за краткий миг? Барахтанцы – пираты, люди моря, крепкие парни; быть может, кто и выплывет… К примеру, Шуга, старый пес… Шуга пытался править левее, к проходу… к узкому проходу, сквозь который морские воды вливаются в бухту… К проходу меж рифов, до которого не добралась «Тигрица»… Там – течение! Внезапно он почувствовал его напор и заработал руками и ногами изо всех сил, то поднимаясь к поверхности за глотком воздуха, то вновь ныряя в спасительную тишину глубин. Потом его крутануло в водовороте, ударило о шершавый камень, протащило вперед; под коленями скрипнула галька, ветер ударил в лицо, сырой воздух наполнил легкие, и Конан понял, что находится на берегу. Вскочив, он сделал три или четыре шага к темневшим невдалеке утесам, обернулся, оглядел свой погибающий корабль и каменистую прибрежную отмель, потом поднял сжатый кулак и, выкрикивая проклятия, погрозил тучам. Ни одного человека в воде… ни одного тела на берегу… Все погибли… Все!* * *
«Лихо я их!.. Всех утопил!..» – подумал Ким, прихлебывая кофе из огромной кружки. Он был доволен; сюжет романа прорисовывался все отчетливее и яснее и обрастал, почти без мысленных усилий, новыми финтифлюшками и прибабахами. Итак, Конан попадет к волшебнице, прекрасной фее, которую преследует колдун; она, конечно, пообещает киммерийцу сундук с брильянтами и вечную любовь, ежели он отправится в северные земли, найдет колдуна-негодяя и вырвет у него печенку. Возможно, над Конаном свершится чародейство, дабы он не позабыл о важной миссии… возможно, фея даст ему спутника-голема, крутого, как джидай из «Звездных войн», – так, для порядка, чтобы приглядывал и бдил… В общем, выйдет Конан в путь-дорогу и после многих приключений достигнет замка у ледовитых ванахеймских берегов, а там уж и с Небсехтом разберется, и с мерзавцем демоном! Но для начала нужно так устроить, чтобы лишился он друзей-товарищей, ибо Конану Варвару лучше геройствовать в одиночку. Больно уж выпуклый персонаж! Глаза ледяные, мышцы стальные, челюсть квадратная! Вздохнув, Ким закурил, потом ощупал собственный небритый подбородок. Так, ничего, но до Конана далековато… Впрочем, сожалений или, тем более, зависти он не испытывал: во-первых, каждому – свое, а, во-вторых, нынче эпоха не хайборийская. Что завидовать герою сказки и собственному поильцу и кормильцу? Как-то нелепо и неэтично… Хотя, с другой стороны, по временам мечталось Киму расправить плечи, прихватить топор да и наведаться к верхним соседям, отродьям Нергала! Такие мысли его терзали по ночам, когда соседи, затеяв пирушку, мешали работать дикарской музыкой, топотом, а еще – пивными банками, что сыпались на Кимов подоконник. Увы, уже пустые… Но приструнить соседей Ким не пытался, снисходя к тому, что жили над ним молодожены, и искренне надеясь, что через пару лет все образуется само собой: перебесятся, утихнут. Пока же он терпел. Молодожены все-таки! Любовь! К любви Ким относился трепетно, будучи по душевному складу поэтом и романтиком. Что, впрочем, почти не отражалось в его литературных штудиях: работал он на издательство «Хайбория», выпекавшее сагу о Конане – два тома в месяц, двадцать четыре за год. Необъяснимый феномен: Конана Варвара читали – и почитали! – на всем постсоветском пространстве! По тайным и удивительным причинам он был в России популярней президента и даже певца Филиппа Киркорова; возможно, потому, что президент – суровая реальность, певец – реальность сладкая, но все-таки нечто обыденное, тогда как народ российский жаждал сказок и в книжном, и в телеэкранном исполнении. Чтоб с колдунами, принцессами, бравым героем помускулистей, погонями, битвами и непременной победой над шайкой плохишей… Еще с любовью, но без извращений – так, чтоб годилось для семейного чтения. «Хайбория», уловив сию тенденцию, нашлепала уже сотню томов без двух: сначала – оригинального Говарда,[655] потом его западных наследников, всяких Джорданов и Спрэг де Кампов, а когда Кампы и Джорданы кончились, в печать пошли творения российских конанистов. Вот в этой-то бригаде и подвизался Кононов, кормясь от «конины» и давая повод для многочисленных и не всегда безобидных шуток, связанных с его фамилией. Напрасно он доказывал коллегам, что фамилия эта с хайборийским Конаном никак не связана, а выводится из почетного имени Конон, что по-гречески значит «трудящийся»; напрасно хмурил брови, когда его допрашивали, скольких принцесс он обесчестил прошлой ночью и скольким магам и зловредным чудищам вырезал аппендикс; напрасно таскал по издателям свои сонеты, стансы и поэмы. Напрасно! Как говорил Борис Халявин, директор и владелец «Хайбории»: если ты – Кононов, так и пиши про Конана, а в Пушкины не лезь! Ким утешался по-своему – вставлял в романы то балладу, то песню, разбойничью или пиратскую, то хвалебный гимн богам – разумеется, светлым, вроде Иштар и Митры. Но песни и гимны требовали особого настроения, а Ким сейчас существовал в ритме прозы, обдумывая сюжетные ходы и помня о том, что роман он должен сдать недели через четыре, к пятнадцатому, крайний срок к двадцатому июля. Отсюда вывод: твори, но поспешай! Итак, бредет себе Конан по острову, встречает прелестную фею и предается с ней любви под пальмами, после чего прямая дорога во дворец… а лучше – в огромную пещеру или же в грот… Грот гораздо поэтичнее и подходит для названия – грот чего-то-там… Чего-то – то есть чей… волшебницы, конечно, но надо дать ей имя… короткое, энергичное и красивое… Да и облик не худо бы описать! Он отложил сигарету и прикоснулся к клавишам. «Девушка была высокой и гибкой, с фигурой Иштар, с формами соблазнительными и в то же время девственно-строгими. Лицо ее поражало: огромные нечеловеческие глаза, изумрудные зрачки с вертикальным кошачьим разрезом, пунцовые губы, нежный атлас щек и водопад рыжих кудрей, в беспорядке струившихся по плечам. Плечи же, как и стройные ноги выше колен, были обнажены, да и прочие части тела просматривались вполне отчетливо: воздушный хитончик не скрывал ничего. Ни маленьких упругих грудей, ни перламутровой раковины живота, ни округлых и в меру полных бедер, ни лона, покрытого золотистыми волосками. Озаренная солнцем, она была прекрасна, как дикая орхидея из заповедных рощ богини любви!» Завершив абзац, Ким перечитал его и облизнулся. Ему вот такие женщины не попадались! Чтоб с перламутровым животом и золотистым лоном… Чтоб кудри были рыжие, а глазки – изумрудные, пусть даже без кошачьего разреза… И где они водятся, эти красотки? Ну, в Голливуде, само собой… еще у «новых русских», в богатых теремах… у шейхов нефтяных, в Кувейтах и Катарах, должно быть, целые гаремы из поп-звездуль да топ-моделей… Все раскуплены и прикарманены, а что осталось российскому поэту? Или, предположим, писателю? Пусть не поэту даже, не писателю – литературному негру в самом деле, но негры тоже люди, особенно литературные! И хочется им чего-то такого, зеленовато-рыжего, с пунцовыми губками, и чтобы воздушный хитончик не скрывал округлых, в меру полных бедер… Ким вздохнул, закрыл глаза, пытаясь представить это чудо, но тут с бульвара послышался шорох шин, плавно переходящий в свистящую тормозную мелодию. «Кого это дьявол принес в пятом часу?» – подумал Кононов. Он повернулся к окну и обнаружил, что за кустами шиповника, у тротуара, стоит автомобиль. Тачка богатая, вроде шестисотый «Мерседес», и цвет изысканный, «мокрый асфальт», – таких на Президентском бульваре не водилось. Они тут даже не ездили, чтобы не пачкать бесценных колес в колдобинах и ямах и не столкнуться – упаси господь! – с каким-нибудь нищим «жигуленком». Бульвар хоть и звался Президентским, но в ширину и на министра не тянул. Может, на губернатора, только не питерского, а в лучшем случае псковского или тамбовского. Из машины вышли трое – двое мужчин и женщина в длинном плаще. Дождь прекратился, однако кусты и висевшая в воздухе белесоватая дымка не позволяли разглядеть их лиц. Мужчины, кажется, были плечистыми, крепкими и, судя по резвости движений, молодыми; женщина – стройной, довольно высокой, в капюшоне, надвинутом по самые брови. Один из мужчин держал над нею зонтик, другой озирался с бдительным видом, будто под аркой Кимова дома или где-то в лесу таились в засаде злоумышленники. – Недолго, Дарья Романовна, – услышал Ким хрипловатый голос. – Пал Палыч задерживаться не велел. Посмотрим, что с ней, а надо, так «Скорую» вызовем. – Не поедет «Скорая» на судороги, – со знанием дела возразил другой мужчина – тот, что оглядывал территорию. – На вывих тоже не поедет. Тут, Гиря, Генку-костоправа надо звать. Он рядом живет, на Энгельса. – Сперва посмотрим. Если что, звякну по мобильнику, съездишь за Генкой. Сотню в пасть и сюда! – За сотню может не согласиться. Ночь как-никак! – Сунешь две. – Тот, кого назвали Гирей, повернулся к женщине: – Пошли, Дарья Романовна, посмотрим, что с вашей сестричкой. И что ее на слона понесло? Выкаблучивалась бы себе на арене, на мягком песочке… Они двинулись к парадному Кима, которое так же, как два соседних, выходило на улицу. Дальше, правее и почти на самом углу, располагалась арка, ведущая во двор П-образной блочной девятиэтажки, а во дворе чего только не было: бетонный бункер жилконторы, детсад, похожий на барак за сетчатой металлической оградой, три киоска с пивом и жвачкой, будка холодного сапожника, пять скамеек и у каждой – по дереву, где тополь, где береза. Но эти подробности Кононова сейчас не занимали; прищурив глаза, он мысленно обкатывал услышанное имя. Дарья Романовна… Дарь Рома… Неуклюже, и целых два «р» – рычат, подлые, ревут… Дар-ома… Лучше, но все равно рычащий звук… Дай-ома… Дайома… Вот это уже ничего, подумал Ким, это годится для прелестной феи! А рычать мы будем в слове «грот», и получится у нас энергично и нежно – «Грот Дайомы»… Хорошее название! Конан эту Дайому трахнет на лужке под пальмами, потом она его затащит в грот, а там – ковры и гобелены, хрустали и ложе с тигровыми шкурами, отличный винный погреб и пропасть слуг… Само собой, служаночки есть… такие нежные, приглядные и работящие… Вот пусть они гостя искупают, маслом умастят, и – в койку… А там и главе конец! Он повернулся к компьютеру, но тут за окном что-то переменилось. Вскрикнула женщина: «Прочь! Пустите же! Пустите!» – затем послышался хриплый рев: «Куда ты? Стой! Стой, говорю!» – и сразу раздались перестук каблучков, топот, тяжелое дыхание и вопль: «Эй, Петруха! Лови ее, лови!» Склонившись над подоконником, Ким разглядел, что женщина, скинув плащ, куда-то устремилась, но явно не к его подъезду, а вроде бы вдоль улицы, к дворовой арке. Парень с хриплым голосом бросил зонтик и, топая по лужам, бежал за ней, а его компаньон – вероятно, Петруха – ринулся от машины наперерез. Но беглянка была легкой и быстрой, как серна туранских степей, и мчалась так, будто ее преследовала волчья стая. На краткий миг Ким залюбовался изяществом ее движений, пламенным мазком волос, длинными стройными ногами, но тут же сообразил, что происходит нечто странное. Может, киднепинг, а может, и того похуже… С чего бы женщине бежать? Да и как ни беги, в модельных туфлях от погони не уйдешь… Он оперся ладонями о подоконник и спрыгнул вниз. Натура у Кима была романтическая; он относился к людям, которые не взвешивают «за» и «против», а повинуются импульсу – тем более если кому-то нужно помочь, спасти из огня, из вод морских или, как в данном случае, из лап предполагаемых насильников. В такие моменты он забывал, что не умеет ни драться, ни плавать, да и сложения скорей не богатырского, а ближе к легкоатлетическому; бегал он, правда, неплохо, а потому, продравшись сквозь заросли шиповника, успел перехватить преследователя. Роста они были одинакового, но Гиря весил килограммов на тридцать побольше и, судя по бритому черепу и тяжеленным кулакам, входил в разряд профессионалов. Но Кононова это не смутило. Схватив бритоголового за локоть, он дернул его, развернул к себе и яростно прошипел: – Ну-ка, мужик, притормози… Куда разогнался? Чего тебе нужно от женщины? Секунду Гиря глядел на Кононова в недоумении, словно на призрак из астральных бездн или на оживший труп папаши Гамлета. Лицо у него было приметное – брови густые, нос переломан, и на скуле, под правым глазом, родимое пятно. Он, кажется, был ошеломлен, но длилось ошеломление недолго: оттолкнув Кима – так, что тот полетел к кустам, – бритоголовый повернулся к компаньону и хрипло рявкнул: – Разберись, Петруха! Быстро! Чтоб фраерок не возникал! Петруха был в пяти шагах и мчался во всю прыть – коренастый, пониже Кима, но плотного сложения и накачанный, будто футбольный мяч. Ухватив пригоршню мокрой земли, Ким швырнул ее в физиономию Петрухи и сам удивился, что попал. И не куда-нибудь, в глаза! Приободрившись, он залепил второй комок противнику в ноздри, вылез из кустов и ринулся следом за Гирей. Не очень рыцарский прием – оборонять прекрасную даму с помощью грязи, но что поделаешь! Ни лат, ни меча под рукой не нашлось, а кулаки у Петрухи были гораздо увесистей. Гирю он настиг уже за третьим, самым крайним из выходивших на улицу парадных. Женщина успела проскочить во двор, и ее гибкая фигурка мелькала теперь где-то у пивных ларьков, таяла в белесоватом тумане, словно привидение, спешившее сбежать от мира до утренней зари. «Фея, волшебница…» – подумал Кононов, глядя, как вьются в воздухе рыжие локоны и как колышется гибкий стан. В следующее мгновение женщина скрылась за сапожной будкой, а Ким прыгнул на широченную спину Гири. Они свалились наземь, Ким сверху, противник – под ним, но ситуация вдруг изменилась – можно сказать, с пугающей быстротой. Ким почувствовал, что летит куда-то, рассекая воздух, проносится над грязной лужей, кустами и парой колдобин, затем последовал удар о стену, хруст в плече и обжигающая вспышка боли. Он сполз на растрескавшийся асфальт, скрипнул зубами и начал медленно подниматься на ноги. Гирина рожа – родинка, густые брови, переломанный нос – висела над ним, подобно лику дьявола. – Чего тебе надо, лох припадочный? Ты что в чужую разборку встрял? И на кого ты тянешь? – полюбопытствовал бритоголовый и, злобно прищурившись, выдохнул: – Я из тебя жмурика сделаю! Не отходя от кассы! Ким встал, попробовал стиснуть кулаки, оглянулся назад, откуда, протирая лицо платком и матерясь по-черному, надвигался Петруха. В голове гудело, в плече разливалась боль, словно его подвесили на дыбе, локоть был окровавлен, и пальцы левой руки никак не хотели сгибаться. «Сейчас они мне вломят», – мелькнула мысль. Мысль оказалась верной – вломили ему до потери сознания.ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ
– Вот она, Олежек… Вон там! Бежит! Бежит! – Где, Барби? – Сказано, не зови меня Барби! И глаза разуй! Говорю, к ларькам бежит! – Что же она в квартиру-то не пошла? Ведь договаривались… – Ни о чем не договаривались! Ты ведь слышал, что я сказала – подыхаю, мол, приезжай… еще стонала, как бегемот беременный… – Стонала ты хорошо, Варенька, с чувством! Сладкий мой бегемотик… – Ну-ка, руки убери! Не время! И махни Игорьку, чтоб тачку подогнал. Сейчас я ее перехвачу… – Ты с ней поосторожнее, Барби. Дашутка вроде бы не в себе… вон, мчится как оглашенная… Может, помочь? – Не твоя забота! Тачку давай! И не зови меня Барби, чмо неумытое!ГЛАВА 2 ФЕЯ
В семнадцатилетнем возрасте мой сын был весьма озабоченным юношей. Конечно, как всегда бывает в эти годы, главным предметом забот для него являлись девушки. Во-первых, девушки, во-вторых, девушки и, в-третьих, девушки… Исследуя сию проблему, он устраивал допросы нам с женой, стараясь выяснить, когда и как мы повстречались, кто сделал первый шаг к знакомству и в какой момент нам стало ясно, что мы не можем друг без друга жить. Я сочинил занятную историю, как его мать сбежала от бандитов, наткнулась на меня и рухнула в мои объятия. Но истина гораздо прозаичнее: я познакомился с Дашей в больнице, куда попал стараниями тех самых бандитов.Очнулся Кононов на носилках в «Скорой» и едва осознал этот факт, как начали кружиться в голове странные слова: не поедет «Скорая» на судороги… и на вывих тоже не поедет… А раз поехала и везет, значит, не вывих у него, не судороги! Два лица плавали над ним: одно, сосредоточенное, хмурое, небритое, подпертое воротом белого халата, принадлежало, видимо, врачу; другое, смутно знакомое – белобрысому парнишке лет двадцати. Ким мучительно пытался вспомнить, где видел белобрысого, но ничего не выходило, и тогда он вдруг переключился с этих воспоминаний и с мыслей о вывихах и судорогах на распахнутое окно в своей квартире и брошенный без призора компьютер. Тревога прибавила ему сил; пошевелившись, он хрипло произнес: – Т-ты… кхто?.. – Коля я, сосед ваш верхний, – сообщил паренек. – Шум был, а мы с Любашей не спали, вот я на улицу и выскочил… Гляжу, вы в подворотне, без чувств и весь в крови! Ну, крикнул Любаше, чтобы звонила в милицию и в «Скорую»… Да вы не волнуйтесь, щас приедем! В седьмую вас везут, тут близко! – А т-ты… т-ты что т-тут?.. – снова прохрипел Ким. – А я с вами до больницы. Провожаю! Любаша сказала: сосед, одинокий, бросить нельзя. Может, позвонить кому? Родителям? Подруге? «Люди, однако! А я к ним с топором хотел!» – подумал Ким с запоздалым раскаянием и, натужно шевеля разбитыми губами, вымолвил: – Н-нет… н-нет у меня ни родителей, ни подруги. Т-ты, Н-николай, вот что… т-ты заберись ко мне, окошко затвори и выруби компьютер… Н-не ровен час, сгорит! – Сделаю, не беспокойтесь. А ключ-то где? – В окно влезешь, а к-хлючи… к-хлючи в дверях торчат. Выйдешь, закроешь – сунь п-под электрощиток… т-там щелка внизу… н-небольшая… – Ну, потерпевший, все сказал? – хмуро поинтересовался врач. – Теперь докладывай, где болит. Плечо? – П-плечо, – подтвердил Кононов. – Ребра. Еще г-голова… – Сейчас я тебе обезболивающего прысну. Вместе, значит, с успокоительным… В руку ощутимо кольнуло, и лица, парившие над Кимом, расплылись парой белесых тучек. Тучки висели над зеленым островом, дремавшим в сапфировых водах, и у западной его оконечности, под гранитными скалами, открывался грот с песчаным полом, а в глубине его что-то переливалось и посверкивало. Врата! Огромные врата из бронзы или золота, украшенные изображениями луны и звезд! Мерцающие створки с тихим шелестом раскрылись, явив широкую мраморную лестницу, уходившую вниз. По лестнице двигалась пышная процессия: юные девушки в ярких одеждах, мужчины в сиреневых и лиловых плащах, несущие светильники, танцовщицы, пажи, виночерпии, воины в доспехах из черепашьих панцирей, тигры и черные пантеры и другие звери, коих вели не на цепях, а на шелковых лентах. Впереди, возглавляя шествие, танцующей походкой двигалась Она. Ее плащ, и туника, и корона рыжих волос, и сверкающие искорки самоцветов казались воздушным золотистым заревом, на фоне которого выступало прекрасное лицо – с кошачьими зелеными зрачками, с алой раной рта, с ровными дугами бровей над высоким чистым лбом. Она была так хороша, так прекрасна, что у Кима перехватило дыхание. «Дайома…» – прошептал он в забытьи и окончательно отключился.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Во второй раз он пришел в себя уже в палате, на узкой и жестковатой постели. Рядом сидел врач, но не тот хмурый из «Скорой помощи», а годами постарше, круглолицый, чисто выбритый и улыбчивый. Светило солнце, щебетали птицы, больничные запахи мешались с ароматом зелени, а где-то неподалеку звенела посуда и слышался женский голос, скликавший пациентов к завтраку. Ким обнаружил, что лежит на спине, что левое его плечо до самой шеи загипсовано, а торс и голова – в тугих повязках. Болело вроде бы все – скула под глазом, руки, ребра, ноги, – но не слишком сильно. Ким поморгал и просипел: – Это я где? – Это вы в Седьмой городской больнице имени убиенных великомучеников Бориса и Глеба, – с охотой сообщил врач. – Отделение черепно-мозговой травмы. Сесть можете? Ким заворочался и, приподнявшись с помощью доктора, ощупал правый глаз. Фонарь, похоже, там наливался изрядный. Кроме того, в ребрах кололо, плечо постреливало болью, но не так, чтоб очень. Терпимо. Врач показал ему два пальца. – Сколько? – Два. – Головка не кружится? Не тошнит? – Вроде бы нет. – Вроде бы или точно? Прислушавшись к своим ощущениям, Ким подтвердил: – Точно. А что у меня, доктор? – Главное, чего нет. Вас капитально отделали, но обошлось без сотрясения мозга. Повезло, голубчик… Все остальное – мелочи, – заметил доктор и начал с улыбкой перечислять: – Ключица у нас сломана, кровоподтек под глазом, трещины в четырех ребрышках плюс множественные ушибы головы и иные телесные повреждения вроде ссадин, царапин и синяков. Следствие побоев средней тяжести… – Он вздохнул с сочувствием и спросил: – А били-то тебя за что, болезный? – За девушку вступился, – насупившись, пробормотал Кононов. – Их двое, я один… Здоровые лбы! Сперва о стену шмякнули, а потом… – Что потом? – Потом – не помню, – отозвался Кононов и, подумав, добавил сакраментальную фразу: – Очнулся – гипс… Врач снова вздохнул: – Ну, вспомните, расскажете. Придут к вам из милиции… А пока лежите. Палата – самая тихая на отделении, всего три койки, и в одной – Кузьмич. Он вам завтрак принесет, а сестричка – таблеточки. Лежите! Завтра попробуем встать на ножки, и – на повторный рентген… Темечко посмотрим… нет ли там все же трещины… Он поднялся, взмахнул полами халата и исчез за дверью. Ким, осматриваясь, повертел головой. Койка его стояла у стены, в ногах поблескивало зеркало над раковиной, в углу был стол и пара стульев, а рядом – шкаф с полуоткрытой дверцей и одежными вешалками. Еще тут имелись две такие же, как у него, кровати, одна, ближняя, – пустая, а на дальней лежал парень примерно его лет или чуть-чуть за тридцать. Лежал тихо, вытянув руки поверх одеяла, не моргая и уставившись взглядом в потолок. Кононов откашлялся. – Ким меня зовут… А тебя как? Парень не реагировал. – Ночью меня привезли… Ты уж извини за беспокойство… В ответ – молчание. – Разбудили тебя, наверное? – сделал новую попытку Ким, но его сопалатник по-прежнему не откликнулся, напоминая видом скорее усопшего, чем живого человека. Должно быть, серьезно травмирован, решил Кононов; что-нибудь черепно-мозговое, проникшее до речевого центра. Он осторожно пощупал ребра под тугой повязкой: слева болело, справа – нет. Ну и слава богу… Дверь скрипнула, и в палате возник тощий красноносый старичок с двумя тарелками: в одной дымилась каша, а на другой, как на подносе, располагались яйцо, хлеб и пластиковая кружка с чаем. Бодрой походкой старик направился к Киму. – Новенький, пацан? На, пожуй да похлебай больничный харч… Харч-то ничего, а вот посудины у кухонных стервоз еле выпросил! Тут, понимаешь, всяк со своей тарелкой, а казенные, видать, разворовали. Сперли! И чашки сперли, и термуметры, и всю державу… – Он присел к Киму на постель. – Ты ешь, я подсоблю… Как зовут-то? – Ким. – А я – Кузьмич. Бессменный обитатель здешних мест и ветеран-дежурный! Есть Киму не хотелось, но все же он расправился с яйцом и проглотил немного каши – рисовой, почти без соли и без масла. Он вознамерился потолковать с бессменным ветераном, узнать о больничных порядках и про третьего их соседа, похожего на труп, но тут к ним в комнату началось паломничество. Первой пришла сестра-хозяйка, и Ким расписался за одеяло, халат, подушку и постельное белье; потом заявилась другая сестра, заполнила историю болезни: Ким Николаевич Кононов, семидесятого года рождения, филолог по образованию, живет там-то, страдает тем-то. Увековечив это в медицинской карте, она велела навестить регистратуру после грядущего выздоровления – с паспортом и страховым свидетельством. Не успел Ким отдышаться, как в палате возник мрачный милицейский лейтенант, снял допрос, зафиксировал кличку «Гиря», имена «Петруха» и «Дарья Романовна», осведомился о полученных увечьях и, узнав, что они не смертельны, повеселел и стал уговаривать Кима обойтись без заявления. Все одно, злодеев не поймаем, толковал лейтенант, Петрух таких с гирями и разновесками у нас полгорода и все бритоголовые, а если девушку искать, так тоже не найдешь: каждая вторая – Дарья, и треть из них – Романовны. Ким слабо сопротивлялся, толкуя про шестисотый «Мерседес», про Генку-костоправа с Энгельса, про рыжие локоны Дарьи Романовны и про ее сестрицу, которая пляшет на слонах. Но о последнем он, вероятно, сказал зря; лейтенант опять нахмурился, буркнул что-то о слуховых галлюцинациях и сообщил, что слоны в Петербурге не водятся, а вот «глухарей» полным-полно, и это явление нежелательное. Ким, утомившись от споров, сдался. Конечно, ему хотелось найти красавицу-беглянку, а заодно Петруху с Гирей и сделать так, чтобы свершился над ними правый суд… Это с одной стороны, а с другой – «глухарь» он и в Африке «глухарь». Не любят эту птицу ни в милиции, ни в полиции… Словом, лейтенант ушел довольный, а у койки Кима вдруг нарисовалась обещанная медсестричка с таблеточками, и от тех таблеток он проспал до вечера глубоким сном. В восьмом часу, когда они с соседом ужинали тощей котлеткой, вермишелью и компотом, Кононов, поглядев на третьего сопалатника, спросил: – А этот как же? Не говорит, не двигается, не ест… Шахтер, что ли? Голодовку объявил? – Не шахтер он, а по водопроводной части. Прыгун-сантехник! – ухмыльнулся Кузьмич. – С ним, вишь, такая история… Ходит по людям, чинит другое-третье и принимает, коль поднесли, – а подносят-то всюду! Без воды, дело известное, ни туды и ни сюды, особливо без горшка и без толчка… Ну, напринимался! И помстилось ему, болезному, будто завелся кто-то в евоной башке. Может, черт или какой иной чебурашка… Кумекаешь? – Не очень, – признался Ким, но тут же, вспомнив про колдуна Небсехта и поселившегося в нем демона, кивнул: – Раздвоение личности, что ли? Шизофрения? Белая горячка? – Об энтом не ведаю – может, горячка, может, на заду болячка… Однако черт чебурахнутый его допек! Ну, взял пацан пузырь – за свои, за кровные, – принял, значит, и в окошко! А квартера, вишь, на шестом этаже, однако по пьяни никакого эффекту… Приложился разок об асфальт, руки-ноги целы, ребра тож, а в мозгах сплошное мельтешение! Теперича лежит, молчит и кушает через клизьму… – Внутривенно, – заметил Кононов, с профессиональным интересом слушая колоритную речь Кузьмича. Потом, оглядев сантехника – надо же, шестой этаж, и ничего! – спросил: – Меня вот били, этот сам в окошко прыгнул, а с вами что за беда приключилась? Как-то не похожи вы на больничного ветерана… бодрый слишком… Кузьмич прикоснулся к носу в розово-сизых прожилках и грустно покачал головой. – Одна лишь внешность, что бодрячок… У меня, понимаешь, болезнь особая, мозговая – идеонсекразия, мать ее! Полной посудины видеть не могу! – Какой посудины? – полюбопытствовал Ким. – Само собою, стакана! Меня уж чуть в алкаши не прописали… Однако выручил племяш. – Кузьмич наклонился пониже к уху Кима. – Племяш мой тута служит доктором… пацан хороший, ласковый… да он у тебя давеча побывал… Держит в палате месяц-другой при самых безнадежных пациентах… Ну, помогаю, чем могу… – Я не безнадежный, – возразил Ким. – У меня только ключица сломана и трещины в четырех ребрах. – Рази я про тебя? Я про него! – Кузьмич покосился на третью койку. – За энтим прыгуном присмотр нужен! Лежит себе, лежит, а вдруг – опять в окошко? А племяшу отвечать? Этаж тут, понимаешь, не шестой – двенадцатый… Часам к десяти Кузьмич угомонился, сбегал в курилку, пришел, сбросил халат, нырнул под одеяло и захрапел, временами вскрикивая и дергая рукой – видно, снилась ему полная посуда. Прыгун-сантехник лежал по-прежнему немой и неподвижный, только губы его вдруг начинали дергаться, словно он пытался переспорить черта или изгнать нечистого молитвами. Кононов поразмышлял о том, какие молитвы известны сантехникам – должно быть, трехэтажные, и все кончаются на «бля»… Исчерпав эту тему, он принялся вспоминать о событиях прошлой ночи, о рыжей незнакомке из «Мерседеса», о странном ее бегстве от двух бритоголовых, – которые, если разобраться, ничем ее не обидели, а были, наверное, охраной или санитарами, если рыжая отчасти не в себе. Может, и не отчасти, может, крыша у нее совсем поехала… А если так, куда ее везли в ночное время? К сестричке, которая пляшет на слонах? Ну а дальше что? А дальше такая картина: слон высокий, сестричка сверзилась и вывихнула шею, а «Скорая» на вывихи не едет, тут без родных людей не обойтись… Логично? Логично! А бегать зачем, раз к сестричке приехала?.. Опять же чокнутых к больным не возят, а те, кто в здравом разуме, спешат к больной сестрице, а не во двор, к пивным ларькам… Нонсенс, нелепица! Почувствовав, что вконец запутался, Ким плюнул и переключился на другое. Спать ему не хотелось, выспался он днем и, по совиной своей природе, сел бы сейчас к компьютеру, закурил и сочинил главу про фею, злобного мага и безутешного Конана. Тоскует он на острове, печалится! А почему? Во-первых, потому, что потерял корабль и всех своих товарищей, а во-вторых, не в кайф ему сладкая жизнь без приключений. Дайома, конечно, очаровательна… глазки, ножки, грудки и все такое… Но героический зуд терзает Конана, и нет ему счастья в объятиях феи! Слишком уж много любви, вина и вкусной снеди, и чересчур мягкая постель… Ким закрыл глаза, и под сомкнутыми веками побежали одна за другой строчки, укладываясь плотными рядами в хранилище памяти. Память у него была отличной; вспомнится все, оживет, стоит только до компьютера добраться. Или хотя бы до листа бумаги…* * *
Конан, стоя по пояс в воде, приподнял сосуд, и багряная струя хлынула в морские волны. – Тебе, Шуга, старый пес! – провозгласил он. – Глотни винца и не тоскуй на Серых Равнинах о прошлом! Вино было настоящим барахтанским – таким, каким и положено свершать тризну над дорогими покойными, не вернувшимися из океанских просторов. Во всяком случае, оно пахло, как барахтанское, и отличалось тем же терпким горьковатым вкусом и нужным цветом, напоминавшим бычью кровь. «Быть может, – думал Конан, – Дайома отвела ему глаза, подсунув вместо барахтанского сладкое аргосское или кислое стигийское, но вряд ли». За месяц, проведенный на острове, он убедился, что рыжеволосая колдунья способна сотворить фазана из пестрой гальки и плащ из лунного света – к чему бы ей обманывать с вином? Нет, барахтанский напиток не был иллюзией – в чем он убедился, в очередной раз отхлебнув из кувшина. – Тебе, Одноухий, свиная задница! – Вино щедрой струей хлынуло в воду. Одноухий занимал на «Тигрице» важный пост десятника стрелков, и его полагалось почтить сразу после Шуги, кормчего. – Тебе, Харат, ослиный помет! Тебе, Брода, мошенник! Тебе, Кривой Козел! В кувшине булькнуло. Он опрокинул остатки вина себе в глотку, добрел до берега, где выстроились в ряд десяток амфор, прихватил крайнюю и снова вошел в воду. Чего-чего, а вина у него теперь хватало! Да и всего остального, что только душа пожелает… Всего, кроме свободы. Он отпробовал из нового кувшина, желая убедиться, что в нем барахтанское. Барахтанское и было: красное, терпкое, крепкое. Как раз такое, каким упивались парни с его «Тигрицы» во всех прибрежных кабаках. – Тебе, Патат, безногая ящерица! Тебе, Стимо, бычий загривок! Тебе, Ворон, проклятый мазила! Тебе, вонючка Рум! Да, хороший пир он задаст своему экипажу! Вина вдосталь, хоть купайся в нем! А ведь известно, что покойникам много не надо – пару глотков или там по полкружки на брата, и они уже хороши. Значит, остальное он может выпить сам… Что Конан и сделал, а потом принес новый кувшин. – Касс, разбойная рожа, тебе! И тебе, Рикоза, недоумок! Прах и пепел! Пейте, головорезы, пейте! Капитан о вас не позабыл! Он выкрикивал новые имена, прозвища гребцов, стрелков, рулевых – всех, кто покоился на океанском дне, чью плоть сожрали рыбы, объели крабы, чьи души томились сейчас на Серых Равнинах. Он старался не глядеть на проклятый оскал рифов, на гигантские акульи зубы, в которых догнивал остов «Тигрицы»; зрелище это будило в нем яростный гнев. Кому-то он должен предъявить счет, и кто-то обязан ответить! Дайома? Может быть, Дайома! В этом он еще не разобрался, но разберется! Непременно разберется! Вот только покончит с этими кувшинами… – Тебе, Дарват, склизкая гадюка! Тебе, Гирдрам, протухшая падаль! Тебе, Коха, моча черного верблюда! Тебе, Рваная Ноздря, волосатый винный бурдюк! Запас вина и ругательств кончился. Побросав в море пустые кувшины, Конан, пошатываясь, отошел к скалам облегчиться; он выпил три или четыре амфоры, но до сего момента не мог нарушить торжественность обряда. Закончив и застегнув пояс, киммериец побрел в глубь острова. Тут все уже цвело и плодоносило. За лентой золотистого песка высились пальмы; теплый бриз полоскал зеленые веера листьев, меж ними свисали вытянутые гроздья фиников или огромные орехи, полные сладкого сока. За пальмовой рощей и травянистым лугом начинался лес, ухоженный и тенистый, ничем уже не напоминавший прежний бурелом из вывороченных стволов и переломанных ветвей. В лесу ветвилась паутина дорожек, и гулять по ним можно было с рассвета до заката, забредая все в новые и новые места; хотя с моря или с любой возвышенности остров выглядел небольшим, но временами Конану казалось, что он не уступает размерами Боссонским топям, протянувшимся от границ Зингары до самых киммерийских гор. Возможно, это было иллюзией, вызванной колдовским искусством зеленоглазой Дайомы? Возможно… Точного ответа он не знал; его возлюбленная не любила расспросов насчет своих чародейных дел. Однако она не возражала, когда он захотел посмотреть, как будет приводиться в порядок остров – наверное, хотела убедить его в своей силе и власти над этим клочком земли, затерянным в Западном океане. У нее был какой-то магический амулет, опалесцирующий серебристый камень, который она носила на лбу, на золотой цепочке, прятавшейся в рыжих волосах. Велением ее камень начинал светиться, и призрачное марево окутывало скалы, камни, песок, деревья и мертвые тела животных. То, что свершалось потом, напоминало сон: заглаживались шрамы и трещины на израненных бурей утесах; сваленные беспорядочными грудами валуны вновь занимали отведенное им место, живописно подчеркивая то берег маленького ручейка, то куст сирени, то зеленый бархат луга; грубые серые пески превращались в золотистую мягкую пыль, ласкавшую босые ступни; деревья, поваленные, изломанные и расколотые, опять обретали цельность, покрывались листьями и плодами, возносили кроны свои к синим небесам. И животные! Они оживали, поднимались на ноги, отряхивались; в их глазах не было и следа пережитых страданий, словно мучительная гибель под градом камней и древесными стволами мнилась им сном, прошедшим и навсегда забытым. Некоторых, истерзанных до неузнаваемости, Дайома не пожелала возвратить к жизни. Зачем? На берегу было сколь угодно камней: из небольших серых галек получались кролики, шустрые белки и обезьянки; из розовых гранитных глыб – львы и тигры; из пестрых валунов – олени, косули и антилопы; из мрачного обсидиана – черные пантеры. Наблюдая за этим творением живого из неживого, потрясенный Конан не раз задавался вопросом, сколь велика власть рыжеволосой колдуньи над людьми. Быть может, она могла, разгневавшись, обратить его в жуткое чудище? В звероподобную тварь, в вампира-вервольфа, в ядовитого змея или что-нибудь похуже? Он спросил об этом, но Дайома только рассмеялась. Но как-то потом заметила, что с людьми все обстоит не так легко и просто. У человека, даже у самого злобного из стигийских магов, даже у жестокого поклонника Нергала, есть душа – в этом и заключается его отличие от зверя. Светлые боги даровали людям не только разум, а еще и мужество, чувство прекрасного, умение любить и ненавидеть, гордость, самоотверженность, тягу к непознаваемому, юмор, наконец; все это дивным образом упорядочено в человеке и приведено в гармонию с великим искусством. Все это и многое другое, плохое и хорошее, и составляет душу человеческую – вечную ауру мыслей и чувств, расстающуюся с бренным телом в миг смерти и отлетающую на Серые Равнины, чтобы ожидать там Последнего Суда. И столь сложна и непостижима субстанция души, что немногие из мудрых магов и могущественных демонов рискуют прикоснуться к ней, извлечь из тела человеческого и переселить в иную тварь. Ну а уж создание новой души подвластно только светлым божествам! Слушая рассуждения своей новой подруги, Конан прикрывал лицо ладонью и ухмылялся. Сам он, безусловно, богом и чародеем не был, но извлек немало душ из бренной плоти своим мечом и топором и наплодил, быть может, не меньше – если считать, что те красотки, которые делили с ним ложе от Аргоса до Уттары, не были все поголовно бесплодными. Есть, выходит, вещи, в которых люди равны богам! Он начал расспрашивать Дайому о ее слугах, о прелестных служанках, о воинах в доспехах из черепашьих панцирей, о поварах и садовниках, цирюльниках и массажистах, музыкантах и танцовщицах. Выяснилось, что все они произошли от животных и птиц, а следовательно, и душ никаких не имеют – так, одна видимость, фантом человека, но не человек. Дайома утверждала, что, с помощью светлого Митры и луноликой Иштар, она могла бы сотворить и души, но только немного, три, четыре или пять, ибо ее чародейная сила тоже имеет свой предел. Душа, говорила она, материя тонкая, связанная неощутимыми эманациями с Предвечным Миром и всей огромной Вселенной; а потому легче уничтожить горный хребет или осушить море, чем создать одну душу – столь же полноценную, как та, что появляется на свет с первым младенческим криком. Конан успокоился, решив, что превращение в медведя, кабана или волка ему не угрожает. Десять дней он пил и ел, делил с Дайомой ложе и не думал ни о чем ином. Другие десять дней он прогуливался по возрожденному острову, не приближаясь к бухте, где торчали на рифах останки «Тигрицы». Еще он ел и пил, почти с таким же аппетитом, что и раньше, и не пренебрегалопочивальней своей рыжеволосой возлюбленной. Но потом его потянуло к морскому берегу, к обломкам корабля, к рифам, у подножий которых упокоился его экипаж, восемьдесят с лишним молодцов с Барахского архипелага. Конечно, были они ублюдками и насильниками, проливавшими кровь людскую, как водицу, но все-таки и у них имелись души… И, вспоминая об этом, Конан делался хмур и мрачен. Десять следующих дней он больше пил, чем ел, и наконец собрался справить тризну по погибшим товарищам. А справив ее, пошел на неверных ногах к середине острова, забрался на высокую скалу и долго с тоской глядел в морскую даль, сам не зная, чего ищет. Жизнь на острове была такой спокойной, такой тихой, такой изысканной – и такими сладкими были объятия Дайомы, такими медовыми ее поцелуи… Он чувствовал, что сам превращается в медовую ковригу – из тех, коими торговали вразнос на базарах Кордавы и Мессантии по паре за медный грош. И это ему не нравилось. По правде говоря, он предпочел бы стать медведем, кабаном или волком-оборотнем.* * *
Что-то коснулось сознания Кима, что-то странное, неощутимое, словно за плечом его стоял невидимый читатель и перелистывал еще не написанные страницы. Но почему ненаписанные? Раз придумано, значит, написано! Раз улеглось в голове, слово за словом, строчка за строчкой, значит, уже существует… «Конечно, существует, – подумал он, – но текст никому не доступен, кроме почтенного автора. И если кажется тебе, что кто-то роется в мозгах, подглядывает и читает, то это блажь! Иллюзия от всех случившихся переживаний и стрессов! Может, у него и в самом деле трещина на темечке?» С этой мыслью Кононов заснул, а утром его отвезли на рентген и, просветивши в фас и профиль, гипотезу трещины не подтвердили. Плечо у него побаливало, в ребрах постреливало и кололо, но в голове наблюдалась полная ясность, и доктор позволил Киму встать и прогуляться до курилки. На лавочке в тесном помещении сидели восемь человек, все больше парни и девицы с разнообразными травмами, и Кима тут встретили словно родного – не иначе как стараниями Кузьмича. Угостили фантой, дали пачку сигарет «LM» и попросили рассказать, скольких бандитов он пришиб, спасая Аллу Пугачеву, как перестреливался с бандой киллеров и как прикончил снайпера, который прятался за шестисотым «мерсом». «Народ жаждет сказок», – понял Ким и рассказал, о чем просили. Фантазия у него была богатой. После обеда, когда он дремал под действием таблетки и диетического рагу из овощей, дверь в палату отворилась, пропустив дежурную сестру в халатике и накрахмаленном чепчике. Вид у нее был слегка ошалелый – возможно, по причине жары и трудового энтузиазма. – Больной Кононов! – вскричала она тоненьким голоском. – Я! – отозвался Ким, приподнимаясь в постели. – К вам посетитель. – Сестра критически оглядела Кима и добавила: – На вашем месте я бы умылась, причесалась и припудрила под глазом. Вид у вас какой-то встрепанный. – Умоюсь, – пообещал Ким. – Но пудры у меня нету и причесаться никак – повязка мешает. – Ну ладно, идите… герой… – На губах сестры заиграла улыбка. – А куда? – Куда, куда… В гостевой холл! Слева от входа в отделение, у лестницы, за фикусами! Ким встал, плеснул на лицо воды, выбрался из палаты и зашагал извилистым больничным коридором. Седьмую городскую, нынче – имени Бориса и Глеба, строили лет двадцать назад по модерновому чешскому проекту. В середине здания был ствол в пятнадцать этажей, с лифтами, площадками и лестницей, а от ствола отходили пять корпусов, изогнутых латинским «Z». В корпусных этажах располагались отделения, по пять на каждом уровне, и двери относившихся к ним коридоров выходили на кольцевую площадку, к лифтам. Площадка эта у лестницы расширялась, образуя нишу, отгороженную шестью кадками с фикусами; там находились диванчик и два кресла красной искусственной кожи, журнальный столик без одной ноги и треснувшее зеркало. Это и был гостевой холл – место, где пациенты встречались с родными и близкими под сенью фикусов. Но близких, не считая школьных да институтских друзей и коллег-писателей, у Кима Кононова не было, а из них никто не ведал о постигших его неприятностях. И потому, продвигаясь в сторону холла, он находился в состоянии задумчивости – гадал, кто же этот таинственный посетитель, молодожен Николай или милицейский чин, желавший побеседовать приватно. Например, о шестисотом «Мерседесе» цвета мокрого асфальта или о Генке-костоправе с Энгельса… Ким просочился в узкий проход меж фикусными кадками, поднял глаза и застыл с раскрытым ртом. Чудное видение, поднявшись с кресла, двигалось ему навстречу – высокая девушка с гибким станом, с формами соблазнительными и в то же время девственно-строгими. Лицо ее пленяло: большие зеленые глаза, пунцовые губы, нежный атлас щек и водопад рыжих кудрей, струившихся по плечам. Правда, воздушный хитончик отсутствовал, но платье, заменявшее его, не скрывало стройных ног и в меру полных бедер, а что до живота, груди и лона, то Ким не сомневался, что и они прекрасны, словно у богини Иштар. Дайома, очаровательная фея! Ожившая Дайома стояла перед ним! Она заговорила, и, еще не понимая смысла сказанного, а только слушая ее мелодичный решительный голосок, Ким понял, что погиб. Для этой красавицы он был готов на все! Решительно на все! Вырвать печень зловредному магу, потягаться силой с демоном и забодать «Мерседес» со всей бандитской шайкой! Даже написать поэму… Ким Кононов – трахнутый любовью Медный Всадник… Вдруг до него дошло, что он стоит столбом, раскрывши рот и глядя на чудное видение, будто голодный пес на колбасу. Девушка, однако, не смутилась, а, твердо взяв его под локоток, направила к диванчику, впихнула на сиденье и села рядом. Запах от нее шел упоительный, будивший ассоциации с Парижем в пору цветения каштанов. Ноздри Кима затрепетали, глаза раскрылись шире, и не прошло и двух минут, как он возвратился к реальности. – Вы – Ким Кононов, – промолвила девушка, – и живете на Президентском бульваре, в Озерках. Вас привезли сюда вчерашней ночью после… после прискорбного случая, известного и вам, и мне… – Она внезапно всплеснула руками. – Простите, я так волнуюсь! Мы с сестрой обзвонили все больницы, все приемные покои, даже морги! Я… – Это вы меня простите, Дарья Романовна, – мягко проговорил Ким. – Я был невежлив. Я так на вас смотрел… – Мне понравилось. – Рыжий локон скользнул по плечу Кима, заставив его вздрогнуть. – Во-первых, зовите меня Дашей, а во-вторых, смотрите себе на здоровье, пока не насмотритесь. – Это случится нескоро, – признался Ким, жадно втягивая носом аромат ее духов. – Но все же хочу объясниться, Дарья Романовна… Даша… Я, понимаете, писатель и сочинил героиню, подобную вам… еще не видя вас, не зная… зеленоглазую, рыжекудрую… Я был потрясен! – Писатель? – Ее ресницы вспорхнули, пронзая Кононову сердце. – Как интересно – писатель! И я – героиня вашего романа? – В некотором смысле, – смущенно пробормотал Ким. – Так сказать, в литературном. – Ну, хоть что-то перепало бедной женщине! – Она рассмеялась, сверкнув безупречными зубками, но тут же по ее лицу скользнула тень. – Мы… я вас искала, Ким, чтобы поблагодарить за спасение. Вы меня очень выручили, и вижу, что за это поплатились… Ладошка с изящными длинными пальцами легла на Кимово плечо, и он послал проклятие бесчувственному гипсу. Словно подслушав, пальцы переместились вверх, погладили щеку, синяк под глазом, и Ким едва не мурлыкнул от наслаждения. Слегка порозовев, Даша быстро отняла ладонь и спросила: – Что с вами? Что они сделали? Сломали вам руку? – Ключицу. Все остальное – ерунда. Так, синяки и ссадины… – Вы настоящий рыцарь, Ким! Все писатели такие? Ким ухмыльнулся, вспомнив о бригаде конанистов, и сказал: – Считайте, через одного. Пропуск заполняют женщины, а им положено спасать мужчин. Они у нас… э-э… рыцарственные дамы. Они помолчали. Ким, искоса разглядывая свою прекрасную соседку, решил, что ей лет двадцать семь и что перепуганной жертвой она абсолютно не выглядит. Наоборот, очертания пленительных губ были тверды, в сияющих изумрудах глаз читалась уверенность, а руки, ноги и все остальное-прочее, чего не прикрывало платье, казались не беззащитно мягкими, а весьма упругими, тренированными и крепкими. Что не снижало общего очарования… «Спортсменка?.. – подумал Ким. – Гимнастка, фигуристка, лыжница?.. Бегает она в самом деле классно… Может, и зря – на пару мы бы врезали Гире, а после и Петруху устаканили…» Он улыбнулся Даше и, преодолев стеснительность, спросил: – Не сочтите за обиду… писатели – такой любопытный народ… Что за опасность вам грозила? Вы почему убегали? От кого? – От мужа, – с безмятежным видом пояснила Даша. – От мужа постылого, нелюбимого, противного! Ким чуть не подавился. – Это от кого же? От Гири? Или от Петрухи? Даша рассмеялась – будто зазвенели хрустальные колокольчики. – Да что вы, Ким! Гирдеев по кличке Гиря и этот второй – не помню, как его?.. – у моего супруга в «шестерках» бегают! Телохранители хреновы, качки… А муж мой – Чернов Пал Палыч. Слышали о таком? – Нет, не доводилось. – Голос Кима звучал спокойно, а сердце млело. Муж! Ну и что с того, что муж? Главное – постылый, нелюбимый и противный! – Конечно, не слышали, – кивнула Даша. – Он у нас бизнесмен… этакий Павел Из Тени с загребущей лапой… Ну, черт с ним! Убежала, и ладно! – А иначе никак? – снова спросил Ким, поражаясь собственному нахальству. – Обычным порядком, с адвокатами, через суд? – Никак, – помрачнев, отрезала Даша. Совсем разволновавшись и расхрабрившись, Кононов взял ее за руку. – Что же, он вас в заточении держал? Может быть, бил? Издевался? Да за это, Дарья Романовна… Она приложила палец к его губам. – Шшш… Тихо, тихо… И не просите, все равно не расскажу… Колдун он злобный, и вам в разборки наши лезть не надо. Ваше дело – выздоравливать! Еще – есть и пить. Вот… Наклонившись, зеленоглазая фея вытащила из-под стола пластиковый мешок размером в полматраса, подняла его с усилием и шлепнула Киму на колени. В мешке что-то брякало, звякало и шуршало, и весил он примерно с пуд. – Идти мне нужно, – сказала Даша, поднимаясь. – Рада была познакомиться, Ким. Спасибо еще раз. Спасибо, и прощайте. Ее ладонь пригладила Киму волосы, затем она кивнула и направилась к лифтам. Кононов, с трудом выбравшись из-под мешка, ринулся за ней. – Погодите, Даша… Как это – прощайте? Где я вас найду? Когда? И чем могу помочь? Я для вас… С негромким гулом подъехал лифт, дверцы раскрылись. – Не ищите меня, Ким. Захочу, сама найду. Сестра моя в вашем подъезде живет. Прямо рядом с вами. Лифт пошел вниз, а Ким в печальном недоумении – к дивану. – Сестра, – бормотал он, взваливая мешок на здоровое плечо, – это какая же сестра? В моем подъезде, рядом… Это значит, слева от меня, в двести тридцать третьей квартире… Да там отродясь никто не жил! Или все-таки жил? Он поплелся к палате, сгибаясь под тяжестью воспоминаний, мешка и загипсованной руки. И мнилось Киму, будто он видел кого-то у двести тридцать третьей – вроде бы женщину и вроде не одну, с мужчиной в волчьей шапке, а шапки такие, пушистые, огромные, носят зимой и в самые холода, а это значит, был январь, пять месяцев назад, и с той поры о соседке ни слуху ни духу… «Странная семейка! – подумалось ему. – Одна сестра танцует на слонах и не живет по месту регистрации, другая – фея, красавица! – бежит от мужа-колдуна, который бизнесмен и с загребущей лапой… Может, экстрасенс-целитель? Лапы у них и правда загребущие… „капусту“ прямо из астрала тянут…» Ввалившись в палату, Ким с облегченным вздохом опустил мешок на стол и покачнулся – зеленые Дашины глаза мерцали перед ним таинственными маяками, как путеводные волшебные огни в Боссонских топях. Фея, колдун-насильник, приспешники колдуна, герой со сломанной ключицей… Весь хайборийский антураж! Еще немного, и заявится демон! Но заявился Кузьмич и поддержал его твердой рукой. – С дружками встречался? И принял уже? Нет, не принял, не чую запахевича… А на ногах чегой-то не стоишь? И побелел чего? – Сражен любовью, – буркнул Кононов. Кузьмич подергал мешок за ручки, принюхался и закатил глаза. – Увесистая у тебя любовь, щедрая… Одобряю! Вдвоем они принялись разбирать мешок, выкладывая баночки с икрой и паштетами, ветчину, салями, сигареты «Кэмел», груши, виноград, консервированные персики и ананасы, бутылку сухого мартини, красное французское вино и несколько пакетов с соком. Судя по этому изобилию, Дарья Романовна не нуждалась в средствах, и это был еще один факт, загадочный, как вся ее прочая биография. Зачем состоятельной девице, спортсменке и красавице, идти за постылого колдуна? За бизнесмена Пашу Из Тени? Ким вздохнул, отправил Кузьмича за стаканами и улегся на кровать. Затем, повернув голову, присмотрелся к сантехнику-прыгуну – губы у того шевелились, дергались и временами замирали, словно он кого-то в чем-то убеждал, снова и снова выслушивая категорический отказ. – Черта не переспоришь, – резюмировал Ким и отвернулся к стенке.ДИАЛОГ ВТОРОЙ
– Знаешь, что я с тобой сделаю, Гирдеев? Я тебя в зоопарк продам. А лучше в кунсткамеру! Велю, чтоб в дерьме обмазали, в перьях обваляли и посадили на кол с табличкой. И знаешь, что на ней будет написано? – Виноват, босс! – Напишут на ней: чучело грифа-дармоеда, дар Чернова Пал Палыча. Хе-хе… Подходит? – Виноват, босс… – Дармоеды, они кто? Они из тех, кто жрет и пьет хозяйское, а дела ни на грош не делает. Самого простого дела! Ты дармоеду говоришь: жену проводи, сестрица у жены больна, съездить бы надо, проведать, а ехать не в Китай, всего-то час от дачи до хазы сестричкиной… Дармоед берет машину и второго дармоеда, едет и возвращается без жены. Где жена? Нет жены! Убежала! – Виноват, босс… – Значит, убежала… А куда глядели? И почему не поймали? А потому, что штымп какой-то дорогу пересек! И откуда он взялся, хрен бациллистый? А из окна выпрыгнул, и нам, дармоедам, раз – и по вывеске! И где же он теперь? В больнице. Лежит, поганец, лечится… А где жена? О том не ведаем, не знаем! – Виноват, босс… – Нет, в кунсткамеру я тебя, Гирдеев, не продам, лучше уж в Турцию. Бани там есть турецкие, не слышал? Вот при бане и будешь ошиваться, при мужском отделении. Турки к таким мясистым очень даже благосклонны… Первым делом, конечно, яйца отрежут, чтоб на стороне не шкодничал, ну, еще недельку подучат, как задницу шире расставлять… Хорошая жизнь! Норма, мне говорили, семь клиентов в сутки, отработал свое и гуляй! – Босс… – Да? – Подстроено все было, босс! Все! И сестра больная, и этот фраерок… Я его из палаты вытащу, раком поставлю, но правды добьюсь! Скажет, где Дарья Романовна! – А если не скажет? – Это почему? Я его… – А потому, что не знает и вообще ни при чем. – Тогда за Варвару возьмемся! Ей-то куда деваться? От слонов не сбежишь! А если сбежит, так при слонах ее приятели… Расспросим! – Вот-вот, расспроси… первым делом фраера, ну а потом сестрицу и ее подельщиков… Но чтобы Дарью нашел! А не найдешь… – Найду! Найду, босс! Не эту, так другую, не хуже! Моложе, красивей и… – Что-о?! – Грохот кулака по столу, звон чего-то стеклянного, тяжелый гневный выдох. – Что ты сказал, дебил поганый? Дру-гу-ую? А сгнить в подвалах, в корабле, не хочешь? Так, запросто, без дураков? Без зоопарка, кунсткамеры и Турции? Просто сгнить! – Виноват, босс…ГЛАВА 3 ДУХ
Давным-давно в какой-то книжке (не помню уже ни автора ее, ни названия) я вычитал поразившие меня слова: «Плоскость фантастического подчиняется своей логике, а плоскость реального – своей. Действительно достойное изучения начинается там, где эти плоскости пересекаются». Мудрая мысль, не правда ли? Заставляет вспомнить о многочисленных исследователях Вселенского Разума, астрала, жизни после смерти, биолокации и других трансцендентных эффектов, а еще о Менделееве, увидевшем во сне Периодическую систему. Я, со своей стороны, тоже могу засвидетельствовать справедливость данного высказывания; волею судеб я очутился в пересечении плоскостей и, кажется, застрял там на всю жизнь. Впрочем, то же самое можно сказать о любом писателе-фантасте.Белая петербургская ночь… Покоясь в ее объятиях, которые нельзя было назвать ни сумрачными, ни туманными, ни мглистыми, а лишь белесовато-прозрачными, Ким предавался мечтам о прекрасной рыжекудрой фее. О ее глазах, подобных искрящимся изумрудам, коралловых губках, лебединой шее, гибком стане и пальцах, коснувшихся его щеки… Бутылка мартини, распитая с Кузьмичом, подогревала игру воображения, усиливая чары белой ночи. Ким лежал, уставившись взглядом в потолок, сердце его билось неровно, и каждый удар, как звон набата, отдавался в голове, порождая протяжные сладкие отклики эха: Да-ррья, Да-ррья, Да-ррья… Они постепенно замирали, делались тише и тише, и тогда ему мнилось, что звучит другое, однако похожее имя: Дай-омма, Дай-омма… «Пора бы ее проведать, а заодно и Конана, – подумал Ким. – С Конаном, кстати, все ясно: он тоскует и скучает, а вот Дайоме пора бы разобраться в своих чувствах. Она влюблена, она в опасности… Значит, нужно принимать решение: или она отправит Конана на битву с колдуном, или зачарует, зацелует и упокоит навек в своем гроте. Последнее, конечно, исключалось; Конан, зацелованный и упокоенный, был абсолютно не нужен ни читателям, ни издателям». Ким представил себя самого в объятиях Дарьи Романовны, решил, что Конан круглый идиот и, печально вздохнув, напряг фантазию, чтоб дать сюжету требуемый импульс. Скажем, такой: сидят волшебница с Конаном в подземном чертоге, беседуют за жизнь и строят стратегические планы. Примерно как муж с женой перед разводом: один намылился удрать, другая, может, и отпустила бы, но только после разделения имущества. Или, предположим, за ценную услугу… «Я бы к тебе без претензий, но принеси мне скальп Иван Иваныча… мерзкая он личность, и в прошлый вторник мне похотливо подмигнул…» Фыркнув, Ким закрыл глаза и с головой погрузился в процесс сочинительства.
* * *
– Мой корабль был сделан из хорошего дерева, – сказал Конан. – Обшивка пробита, киль треснул, весла переломаны, но осталось много крепких досок. Клянусь Кромом, был бы у меня топор… Он замолчал, мрачно уставившись на клетку с крохотными птичками в многоцветном оперении, чьи мелодичные трели соперничали со звоном фонтанных струй. Фонтан бил вином; судя по запаху, это было аргосское. – И что бы ты сделал, будь у тебя топор? – спросила Дайома. Владычица острова сидела в невысоком креслице из слоновой кости. Поза ее была небрежной и соблазнительно-ленивой, но прищуренные глаза с тревогой следили за киммерийцем. Он расположился на ковре у ее ног, задумчиво уставившись в большую серебряную чашу. – Я сделал бы плот, если бы нашлись веревки, – сказал Конан. – Сделал бы плот и уплыл на восток или на запад… или на север, или на юг… к Большой земле или в пасть Нергалу, все равно. Прекрасные глаза Дайомы наполнились слезами. – Тебе плохо со мной… – прошептала она. – Плохо, я знаю… Но почему? Разве ты не искал богатства и славы? И разве ты не обрел их? Тут, у меня? – Богатство – пожалуй… Но слава, что приходит в снах и кончается вместе с ними, мне не нужна. Утром я уже не помню, с кем сражался и кого покорил. Но Кром видит, не это самое главное… – А что же? – Что? – Конан медленно перевернул чашу, убедился, что она пуста, и вновь наполнил ее из фонтана. – Знаешь, я странствовал по свету и думал, что завоюю власть, славу и богатство и буду счастлив. Но здесь, у тебя, я понял, что все не так. Не так! Поиск сокровищ дороже самих сокровищ, битва за власть дороже самой власти, путь к славе дороже самой славы… Понимаешь? Дайома понимала, но, как всякая женщина, спросила совсем о другом: – А я? Разве я не дороже власти, славы и богатства? Конан отпил из чаши, потом небрежно погладил округлое колено своей возлюбленной. – Ты очень красива, рыжая… Ты красива, и ты – великая чародейка, мастерица на всякие хитрые штуки… и цена твоя много выше славы, власти и богатства… Но путь к ним стоит еще дороже. Дороже всех женщин в мире! Клянусь бородою Крома, это так! – Он допил вино и добавил: – К тому же я хочу отомстить. – Кому? – Прикрыв лицо ладонями, Дайома попыталась незаметно стереть слезы. – Тому, кто погубил мой корабль. Тому, кто отправил на дно моих парней! Все они были проклятыми головорезами, и жизни их, пожалуй, не стоили медной стигийской монеты… Но не для меня! Не для меня! – Он яростно стиснул кулак. – И я хочу отомстить! – Волнам и ветру? – спросила Дайома, лаская его темные волосы. – Ты безрассуден, милый! – При чем здесь волны и ветер? Мой кормчий сказал, что буря наслана… А Шуга, барахтанский пес, понимал толк в таких делах! Прах и пепел! Наслана, понимаешь! Кем? Вот это я хотел бы знать! Кем и почему! Несколько мгновений фея пребывала в задумчивости, размышляя, что сказать и как сказать; она уже почти решила, что план ее насчет Небсехта нужно осуществить и извлечь из него максимальную выгоду. Взгляд Дайомы скользнул по пышной растительности домашнего сада, по высокому потолку, прекрасной иллюзии безоблачных небес, по могучей фигуре Конана и его кинжалу в блистающих самоцветами ножнах. «В конце концов, – подумала она, – не так уж хитро изловить одной сетью двух птиц; главное – расставить силки в нужном месте и в нужное время. И позаботиться о приманке!» – Скажи, – ее пальцы утонули в гриве Конана, – если б ты отомстил, твое сердце успокоилось бы? Ты вернулся бы ко мне и принял все, чем я готова тебя одарить? Покой, негу, любовь… Конан, подняв голову, подозрительно уставился на нее. Кажется, начинались женские игры: домыслы и предположения, намеки и хитрости. Что ж, посмотрим, кто кого переиграет! – Отомстил – кому? Волнам и ветру? – поинтересовался он с усмешкой. – Нет, пославшему их. Видишь ли, твой кормчий был прав… Вскочив, киммериец, словно стальными клещами, стиснул запястья Дайомы; в глазах его замерцал опасный огонь. – Ты знаешь его имя? Кто он? Клянусь, Кром получит его печень! – Предположим, знаю. И предположим, ты сумеешь отомстить. Что дальше? Ты возвратишься ко мне? Он яростно мотнул головой: – Нет! Мир велик, и я не видел сотой его части. А здесь… здесь, у тебя, я словно в темнице с золотыми стенами… Нет, рыжая, к чему лгать – я не вернусь! – А если месть окажется тебе не по силам? Если ты столкнешься с могущественным существом, с тварью, которую нельзя уничтожить? – До сих пор ни одна тварь не уходила от моего меча, – произнес Конан и встряхнул женщину. – Так ты скажешь мне его имя? – Я подумаю. – Имя! – Ладно. – Сквозь прищуренные веки она следила за его лицом. Поистине, он был прекрасен в ярости! И куда желанней прочих ее возлюбленных, не говоря уж о северном колдуне… – Ладно, – повторила Дайома, – я скажу и даже помогу тебе, но не сейчас. – Имя! – Будь же благоразумен… ты все равно не справишься без моей помощи. Если ты построишь плот, то куда поплывешь на нем? До Западного и Восточного материков добраться нелегко, а на юге и севере лежит лишь бесконечный океан. Твой плот развалится через десять дней, или ты погибнешь от голода и жажды… Я не желаю тебе такой смерти, милый! – Тогда сотвори мне корабль! Большую галеру с двумя мачтами и острым носом, с веслами и парусами! – Зачем тебе корабль без команды? – Дай мне команду! У тебя много слуг! Дайома покачала головой: – Моя власть велика, но только вблизи острова, где мои иллюзии могут стать чем-то осязаемым и прочным. Вдали же, на землях, что лежат вкруг океана, они обращаются в сны… всего лишь в сны, милый, ибо я – не всесильная владычица Иштар, и боги положили предел моей власти. Так что корабль, который ты просишь, станет сухой ветвью в ста тысячах локтей от берега, а команда, слуги мои, превратятся в груду пестрого камня. И ты пойдешь на дно вместе с ними. – Какую же помощь ты можешь обещать мне? – Ну-у… Я попыталась бы пригнать сюда настоящее судно… Из Аргоса, Зингары или Шема… Если ты не будешь столь нетерпелив и согласишься на мои условия… – Дайома лукаво улыбнулась. Брови Конана сошлись грозовой тучей, однако он выпустил ее запястья из железной хватки. – Кром! Похоже, ты торгуешься со мной о выкупе! Словно взяла меня в плен! – О, нет, милый, нет! Я только хочу, чтобы ты вернулся ко мне! Чтобы ты был со мной долго-долго, много дольше, чем отпущено тебе судьбой… жил бы на моем прекрасном острове в холе и неге, не старел и любил меня… Это ведь так немного, правда? – Немного, – согласился Конан. – Всего лишь моя шкура, мои потроха и моя душа. Ну, и на каких условиях ты желаешь заполучить все это? – Ты выполнишь одну мою просьбу… насчет той мерзкой твари, что погубила твой корабль… Поверь, и я хотела бы уничтожить этого монстра, но слишком уж он далек, слишком искусен в колдовстве! – Чего он хочет от тебя? – Хочет заполучить меня на свое ложе. Хочет не только тело мое, но всю силу… всю магическую силу, которой меня наделили светлые боги… Хоть и сам колдун силен, очень силен! Но если ты справишься с ним и привезешь мне доказательства победы, я тебя отпущу. Отпущу, даже если сердце мое разорвется от тоски! – А если не справлюсь? – спросил Конан, пропустив замечание насчет сердца мимо ушей. – Тогда останешься здесь навсегда. – Лукаво улыбнувшись, Дайома добавила: – Должен ведь кто-то защищать меня от домогательств колдуна! Наполнив чашу и медленно прихлебывая вино, Конан размышлял над сделанным ему предложением. Пока он не мог разглядеть подвохов, хоть смутно опасался всяких женских хитростей и коварства. К тому же стоило учесть, что рыжая была не обычной женщиной, а ведьмой и чародейкой, влюбленной в него, словно кошка. Сам он после первых бурных ночей испытывал лишь томление и скуку, и это его не удивляло. Красота не главное в женщине; важнее самоотверженность. Были девушки, готовые погибнуть за него, но эта Дайома… Вряд ли, вряд ли… Подумав о смерти, он сказал: – Ты говорила о том, что произойдет, если я одолею колдуна или не справлюсь с ним, но останусь в живых. Может сложиться так или иначе, а может случиться, что я умру. И что тогда? Дайома ласково растрепала его темную гриву. – Но ведь твой меч непобедим! Не правда ли? – И все же? Лицо ее сделалось печальным, в прекрасных глазах блеснули слезы. – Значит, так судили боги, милый… Им виднее! Конан согласно кивнул и потянулся к фонтану, за новой порцией аргосского, но нежная ручка Дайомы остановила его. – Ты слишком много пьешь, мой киммериец. Вино крадет силу… Он стряхнул ее пальцы: – Ничего! Аргосское лишь горячит кровь. И ночью ты в этом убедишься.* * *
Ким мысленно поставил точку, прислушался к храпу Кузьмича и решил, что сцена вышла неплохой. Теперь пора бы корабль пригнать – скажем, из Зингары или Аргоса – и отправиться в плавание на материк. Однако не будем торопиться! Еще бы пару-тройку эпизодов… Пусть колдун, проведав о Конане через волшебное зеркало, пошлет на перехват своих бойцов… Где его замок, этого Гор-Небсехта? В ледяном Ванахейме, на океанском берегу – значит, есть у него дружина из местных ваниров, убийц и отпетых мерзавцев. Вот их-то Небсехт и пошлет! Это раз, а два – пусть Конан потерзается сомнениями в части женского коварства. Мужик он неглупый и предвидит, что фее желательно его заполучить – как было сказано, с душой и всеми потрохами… «Эх, мне бы его заботы!..» – подумал Ким, представив собственную душу в ладонях у Дарьи Романовны. Душу, сердце и все остальные части тела, какими она пожелает владеть… Надежда, что это свершится, согрела Кима; он вдруг поверил, что непременно найдет ее и покорит каким-нибудь подвигом – ну, например, расправится с постылым мужем. Будет ли эта расправа физической или интеллектуальной, Кононов еще не представлял, но твердо рассчитывал определиться с методой, узнав о Чернове Пал Палыче побольше. Выбросив его из головы, он стал обдумывать третий эпизод. Как известно, женщины предусмотрительны; взять хотя бы Дашу – расстаралась, все ведь принесла, икру, вино и фрукты, даже сигареты! Ну а волшебница чем хуже? Только тем, что она персонаж нереальный, сказочный, но в мире Дайомы, таком же сказочном, как и она сама, ее поступки должны соответствовать женской логике. В общем, без икры она Конана не оставит! Это в фигуральном смысле, а если вернуться к конкретике, даст ему зачарованный кинжал и наголовный обруч из железа. Клинок, само собой, на колдуна, а обруч – чтобы мерзкий демон не переехал в киммерийца, когда колдун сыграет в ящик. Обруч – ментальный щит от демонических посягательств, с зомбирующим эффектом – зарежет Конан мага, и тут ему приказ: двигай, недоумок, к острову, в объятия прелестной феи! А нож… нож киммерийца она заколдует, чтоб резал он металл и камень. Тысячи смертных падут под его ударами, но лезвие останется таким же чистым и несокрушимым… тысячи смертных или одно существо, владеющее магией… «Кинжал и обруч… эклектика, конечно, но сойдет, – подумал Ким. – А отыграемся мы на третьем даре, на големе, что сотворен волшебницей из камня, снабжен навязчивой идеей и выдан Конану в попутчики. А также в надзиратели… Конан его возненавидит и пожелает закопать, однако от голема не избавишься… Настырный тип и преданный до гроба! Фея назовет его Идрайн и будет общаться с ним телепатически, чтобы следить за киммерийцем. Телепатия же в данном случае…» «Превосходный способ связи, – произнес у Кима в голове бесплотный голос. – И в этом случае, и во всех остальных». Кононов подпрыгнул – да так, что зазвенела пружинная сетка кровати. Потом сел, оперся спиной о подушку и вытер вспотевший лоб. – Досочинялся… Еще немного, и мальчики кровавые в глазах… А слуховая галлюцинация – уже! «Это не слуховая галлюцинация, – услышал он. – Прошу простить, что я вторгаюсь в ваши мысли и нарушаю творческий процесс. Меня извиняет лишь бедственное положение, в котором я невольно очутился». Челюсть у Кима отвисла, по спине забегали холодные мурашки. Он стиснул ладонями виски, уставился, выкатив глаза, в висевшее над умывальником зеркало и прошептал дрожащими губами: – Ты кто? «Странник и посланец, который затерялся в вашем мире. Несчастное создание из галактических бездн… – Голос смолк, потом прошелестел: – Таких, как я, вы, люди, называете инопланетными пришельцами». Ким ощутил, что майка его взмокла от пота, а сердце оледенело и рухнуло куда-то вниз, к желудку или, возможно, к кишечнику. Он с усилием вздохнул, пытаясь успокоиться; мысль кружила испуганной птицей, сбившейся с курса в облачной мгле, и помнилась ему сейчас лишь фраза из какого-то романа: «Это случилось!.. Зеленые человечки добрались до Земли!..» Он как-то сразу убедился, что с ним не шутят, не разыгрывают – да и какие шуточки ночью, в больничной палате на двенадцатом этаже? Ни телевизора тебе, ни радио, один сосед храпит, другой в прострации, а может, в коме… Это подсказывала логика, а интуиция писателя-фантаста не собиралась спорить с ней и даже, наоборот, – поддерживала по всем статьям. Интуиция шептала, что для контактов с инопланетянином годится не первый встречный-поперечный, но личность, наделенная воображением, талантом к фантазированию, твердой верой в необычное и романтическим складом души. Словом, Ким Николаевич Кононов, и никто другой! – Где ты? – тихо, чтобы не потревожить Кузьмича, промолвил Ким. – Висишь у окна в летающей тарелке? Расположился на крыше? Или находишься в поле невидимости? «Ни то, ни другое, ни третье, – отозвался пришелец. – С вашей точки зрения, я бестелесный дух и, следовательно, не имею ни облика, ни формы. Одна ментальная сущность, чистый разум, так сказать. По этой причине для активного функционирования я нуждаюсь в человеческом мозге, однако мозг подходит не всякий, как выяснилось в результате многих опытов. В данный момент я, к сожалению, обретаюсь в таком убогом и жалком сосуде, что…» – Погоди-ка! – Ким, озаренный внезапным наитием, спустил ноги на пол и уставился на прыгуна-сантехника. – Ты хочешь сказать, что вселился в этого… в этого… «В этого алкоголика, – печально подтвердил пришелец. – Другие, впрочем, были не лучше, и все до одного – ментально-резистентные типы, не склонные к разумному сотрудничеству. Клянусь тепловой смертью Вселенной! Я не какой-нибудь сопляк, я разведчик с опытом, и я побывал во многих мирах! Но ваша планета… Ну, чтоб никого не обидеть, скажу, что она не подарок. Совсем не подарок!» – Это правильно, не подарок, – согласился Ким. – Однако мы привыкли. Деваться-то некуда! Он уже вроде бы успокоился. Причины к тому были разнообразными и связанными как с его духовным складом и повседневным ремеслом, предполагавшими готовность к чуду, так и с характером беседы, а может, с благожелательной эманацией, пронизывающей беззвучную речь пришельца. Кто бы он ни был и каким бы странным способом ни очутился в прыгуне-сантехнике, он не замышлял плохого – ни покорения Земли, ни ее очистки от законных автохтонов, ни иных глобальных акций. К тому же ощущалась в нем некая печаль, словно он искал кого-то или что-то, но поиски были безуспешны и не вели ни к чему, кроме отчаяния и усталости. «Может быть, бедняга лишился корабля и не знает, как возвратиться на родину?..» – мелькнуло у Кима в голове. «Корабль… – с оттенком задумчивости произнес пришелец, уловив, по-видимому, эту мысль. – Нет, дело не в корабле. Мой микротран-спундер исправен, но я не могу улететь, пока… – Он запнулся, будто ему не хватало слов для объяснений, но тут же продолжил: – Не будем сейчас об этом. В данный момент у нас другие проблемы, у вас и у меня». – Какие? – удивился Кононов. «У каждого свои. Я заключен в убогое вместилище, а ваш организм имеет массу повреждений. Один перелом, четыре трещины в костях и сорок восемь синяков и ссадин». «Неплохо же меня отделали!» – подумал Ким, вслушиваясь в тихий шелестящий голос. Впрочем, воспринимался он не слухом – слова рождались в голове, негромкие, но ясные, передававшие не только смысл, но и оттенок чувства. В данном случае, надежду. «Мы можем стать полезными друг другу», – сказал пришелец и выжидательно смолк. – Каким же образом? «Вы предоставите мне убежище, я, оказавшись в вашем теле – точнее, в латентной части мозга, – вас исцелю. Это совсем не тяжело – ускорить клеточный обмен и подстегнуть регенерацию. Конечно, при условии, что доля белков и углеводов в вашей пище будет увеличена». – С белками и углеводами не заржавеет, – сказал Кононов, бросив взгляд на стол, заваленный Дашиными дарами. – А вот объясни, почему тебе нужен именно я? Народу-то вокруг вагон! Если водопроводчик не подходит, можешь переселиться в доктора, в банкира или в ученого-физика… хоть в самого губернатора! «Не так все просто, – пояснил пришелец. – Мне нужна личность с воображением, масштабная, свободная от предрассудков, готовая сотрудничать по доброй воле. Еще непьющая, – добавил он после недолгого раздумья. – Я ведь не зря обратился к вам – я ощутил мощную работу мысли, творческую ауру, способность воспринять ментальный импульс. Словом, вы мне подходите. Вместе со всеми вашими проблемами». Ким поскреб небритую щеку. Проблемы у него, конечно, были – это с одной стороны; с другой – не прибавится ли их, если подселить к себе духа, бесплотный разум из глубин Галактики, бог ведает, с какой звезды? Подселишь и ненароком прыгнешь из окошка… а этаж тут, как справедливо заметил Кузьмич, не шестой, а двенадцатый… Но кое-что в словах пришельца подкупало, и Ким – быть может, впервые с момента рождения – вдруг ощутил себя не жалким бумагомаракой, а личностью творческой, масштабной, свободной от предрассудков. Как раз такой, какие сотрудничают с космическими пришельцами. – Ладно, – промолвил он, вставая, – так и быть, переселяйся! Но при одном условии: в мысли мои не лезь! «Вмешиваться в чужой мыслительный процесс крайне неэтично, – заметил инопланетянин. – Как говорят у вас, все равно что подглядывать сквозь замочную скважину. Если бы я не оказался в таком бедственном положении, то никогда…» – Замнем для ясности, – произнес Кононов. – Ну, давай! Что-то мягко коснулось его сознания и растворилось в нем, как сахар в кипятке. Ким постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего необычного не отметил: плечо по-прежнему болело, в ребрах, схваченных тугой повязкой, покалывало. Подождав минуту-другую, он поинтересовался: – Приятель, ты здесь? «Да, – отчетливо прозвучало в голове. – Кстати, вы можете не использовать вторую сигнальную систему, то есть звуковую речь. Мы находимся в телепатичекой связи. Вполне достаточно помыслить». Кононов помыслил. Вопрос касался имени пришельца, но оказалось, что произнести его, ни вслух, ни мысленно, нет никакой возможности. «Так дело не пойдет, – подумал Ким, перебирая в памяти различные имена. – Пожалуй, я назову тебя Трикси. И раз уж мы очутились в одной голове, то обращайся ко мне по-дружески, на ты». «Не возражаю, – отозвался пришелец. – Ты – Ким, я – Трикси… А теперь ляг и расслабься. Я приступаю к исцелению. Не тревожься, эту процедуру я уже освоил, когда лечил сантехника. С ним еще хуже было – все-таки шестой этаж…» Ким последовал совету и, пока зарастали трещины в ребрах, сращивалась сломанная ключица и исчезали синяки, предавался думам о своем чудесном постояльце. Можно ли его считать аналогом голема Идрайна? В каком-то смысле да, ибо Трикси станет для него, для Кима Кононова, неизменным спутником, точно каменный гигант при киммерийце. Но голем – автономное создание, с собственной телесной оболочкой, а вот об Арраке такого не скажешь. Эта демоническая тварь внедрилась в мозг и душу Гор-Небсехта, и потому у Трикси с ней, пожалуй, больше общего… С другой стороны, Трикси не демон, а инопланетный дух, и аналогии с Арраком оскорбительны! Трикси не злобное чудище, а пришелец со звезд, посланец иного мира! Видимо, мысль о посланце крепко засела у Кононова, определив присвоенное духу имя. Ким выловил его из хайборийского пантеона, где было множество богов, светлых и темных, синих в крапинку и розовых в полоску, – мерзкий Сет Великий Змей и светозарный Митра, кровожадный Кром, Нергал, владыка преисподней, ледяной Имир, бог мрака Ариман, Бел, покровитель воров, и прочие трансцендентальные персоны. А среди них – Зертрикс, посланник Высших Сил, передающий повеления героям и богам помельче. Вот только обликом он неприятен, уродлив и горбат, к тому же и характер у него скверный… «Нет, пришелец не Зертрикс, – подумал Ким, – хотя и выполняет функцию посланца. Трикси много лучше, да и звучит интимнее…» Акт присвоения имени был, безусловно, сакральным и устанавливал прочные связи между дающим имя и принимающим его. Такая связь могла быть дружеской, а чаще – родственной, объединяющей детей с родителями, или же той, которая делает одно лицо зависимым и подчиненным другому. Можно надеяться, что с Трикси дела пойдут по первому сценарию, а вот у Небсехта с Арраком все иначе, так же, как у Дайомы с големом… Тут ясно, кто господин, кто раб! Размышляя об этом, Ким постепенно перемещался из привычного земного мира в Хайборию, из больничной палаты – на волшебный остров, где тоже царила ночь, однако не светлая, а темная, какие бывают в южных широтах. Кости его срастались, кровоподтеки рассасывались, и с каждой минутой его все больше клонило в дрему; он погружался в то состояние меж явью и сном, когда иллюзорные тени обрастают плотью, вторгаются в реальность, двигаются, шепчут, говорят… Надо лишь запомнить их слова, узреть и спрятать в памяти возникшие картины, чтоб описать потом увиденное и услышанное. Скажем, это…* * *
Ночь – вернее, предутренний час, когда над морем еще царит темнота, но звезды уже начинают гаснуть в бледнеющем небе, – выдалась у Дайомы беспокойной. Она стояла в холодном мрачном подземелье, сжимая свой волшебный талисман; лунный камень светился и сиял, бросая неяркие отблески на тело голема – уже вполне сформировавшееся, неотличимое от человеческого. Владычица острова вытянула руку, и световой лучик пробежал по векам застывшего на ложе существа, коснулся его губ и замер на груди – слева, где медленно стучало сердце. – Восстань, – прошептала женщина, и ее изумрудные глаза повелительно сверкнули, – восстань и произнеси слова покорности. Восстань и выслушай мои повеления! Исполин шевельнулся. Его огромное тело сгибалось еще с трудом, руки дрожали, челюсть отвисла, придав лицу странное выражение: казалось, он изумленно уставился куда-то вдаль, хотя перед ним была лишь глухая и темная стена камеры. Постепенно, с трудом ему удалось сесть, спустить ноги на пол, выпрямиться, придерживаясь ладонями о край ложа. Челюсти его сошлись с глухим лязгом, и лик выглядел теперь не удивленным, а сосредоточенно-мрачным. Сделав последнее усилие, голем встал, вытянулся во весь рост, покачиваясь и возвышаясь над своей госпожой на добрых две головы. Он был громаден – великан с бледно-серой кожей и выпуклыми рельефными мышцами. Веки его разошлись, уста разомкнулись. – Я-а… – произнес голем. – Я-ааа… – Ты – мой раб, – сказала Дайома. – Я – твоя госпожа. – Ты – моя госпожа, – покорно повторил исполин. – Я – твой раб. – Мой раб, нареченный Идрайном… Запомни, это твое имя. – Идрайн, госпожа. Я запомнил. Мое имя. – Оно тебе нравится? – Я не знаю. Я создан, чтобы выполнять приказы. Ты приказываешь, чтобы нравилось? – Нет. Только людям может нравиться или не нравиться нечто; ты же – не человек. Пока не человек. Голем молчал. – Хочешь узнать, почему ты не человек? – Ты приказываешь, чтобы я хотел? – Да. – Почему я не человек, госпожа моя? – Потому что ты не имеешь души. Хочешь обрести ее и стать человеком? – Ты приказываешь? – Да. – Я хочу обрести душу и стать человеком, – прошептали серые губы. – Хорошо! Пусть это будет твоей целью, главной целью: обрести душу и сделаться человеком. Я, твоя госпожа, обещаю: ты станешь человеком, если послужишь мне верно и преданно. Служить мне – твоя вторая цель, и, служа мне, ты будешь помнить о награде, которая тебя ожидает, и жаждать ее. Ты понял? Говори! Голем уже нераскачивался на дрожащих ногах, а стоял вполне уверенно; лицо его приняло осмысленное выражение, темные глаза тускло мерцали в отблесках светового шара. – Я понял, госпожа, – произнес он, – я понял. Я – без души, но я – разумный. Я существую. У меня есть цель… – Говори! – поторопила его Дайома. – Тебе надо говорить побольше! Возможен разум без души, но нет души без разума. Если ты хочешь получить душу, твой разум должен сделаться гибким в достижении цели. Говори! – О чем, госпожа? – О чем угодно! Что ты чувствуешь, что ты умеешь, что ты помнишь… Говори! Он заговорил. Вначале слова тянулись медленно, как караван изнывающих от жажды верблюдов; потом они побежали, словно породистые туранские аргамаки, понеслись вскачь, хлынули потоком, обрушились водопадом. Владычица острова слушала и довольно кивала; вместе с речью просыпался разум ее создания, открывались еще пустые кладовые памяти, взрастали побеги хитрости. Без этого он бы не понял ее повелений. Наконец Дайома протянула руку, и голем смолк. – Больше ты не будешь говорить так много, – сказала она. – Ты, Идрайн, будешь молчальником. Ты будешь убеждать оружием и силой, а не словом. Для того ты создан. – Оружием и силой, а не словом, – повторил серый исполин, согнув в локте могучую руку. – Это я понимаю, госпожа. Оружием и силой, а не словом! Это хорошо! – Теперь ты будешь слушать и запоминать… – Дайома спрятала свой лунный талисман в кулачке, ибо в нем уже не было необходимости. – Слушай и запоминай! – повторила она, глядя в мерцающие зрачки голема. – Слушаю и запоминаю, моя госпожа. – Сейчас ты отправишься в арсенал, выберешь себе снаряжение и одежду. Потом… Она говорила долго. Голем покорно кивал, и с каждым разом шея его гнулась все легче и легче, а застывшая на лице гримаса тупой покорности постепенно исчезала. Он становился совсем неотличимым от человека, и потому…* * *
«Проснись, – зашелестел под черепом голос Трикси, – проснись же, Ким! Ты здоров. Полезный опыт для нас обоих: ты исцелен, а я изучил твой организм от нейронных клеток до потовых желез, ногтей и мельчайших волосков. Теперь любая метаморфоза займет гораздо меньше времени». «Какая еще метаморфоза?» – поднявшись, беззвучно поинтересовался Ким. «Я же сказал: любая! Любая, какую потребуют обстоятельства. Может, ты хочешь сделаться выше или ниже? Обзавестись третьей рукой и глазом на затылке?» «Это, пожалуй, лишнее», – сообщил Ким и принялся сматывать бинты, сначала те, что охватывали ребра, потом освободил от повязки голову и ощупал скулу под глазом. Чистая кожа без синяков, нигде ничего не болит, но в животе – пустота, словно желудок вдруг превратился в яму, которая жаждала быть заполненной… И побыстрее! Ким попытался содрать гипс, не смог, плюнул и шагнул к столу, заваленному продуктами. Минут десять он сосредоченно жевал, поглощая с жадностью колбасу, ветчину, виноград и груши, потом запил все это соком и посмотрел на часы. Было пять утра. Ким потянулся, разминая мышцы. – Хорошо! Просто отлично! Теперь оденемся, прихватим сигареты и – домой! А по дороге побеседуем. Ты ведь не против беседы, Трикси? «Отнюдь, – ответил дух. – Подозреваю, у тебя вопросов, как снега в Финляндии!» – Ты и там побывал? «Увы! – печально вымолвил пришелец. – Я ознакомился с этой страной, но не нашел там того, что нужно. Вот еще одна проблема, которую я не могу разрешить без добровольной помощи землянина. Надеюсь, Ким, ты мне поможешь?» – Непременно, – согласился Кононов, вытаскивая одежду из шкафа. Он натянул джинсы, затем – кроссовки и кое-как справился с рубашкой, просунув в пройму загипсованную руку. – Мы ведь уже договорились: я помогаю тебе, а ты – мне. Видишь ли, Трикси, я тоже кое-что разыскиваю. «Кое-кого, – уточнил пришелец. – Девушку. Глаза зеленые, волосы рыжие, рост сто семьдесят сантиметров, бюст…» «Копался у меня в мозгах?!» – мысленно возопил Ким. «Ни в коем случае. Я соблюдаю уговор, но инстинктивно фиксирую то, что лежит на поверхности. Сильные чувства и образы, которые ты представляешь, – в частности, повесть об острове, волшебнице и человеке по имени Конан. У тебя очень развито творческое воображение». – Это ты скажи моим издателям, – пробормотал польщенный Ким, в последний раз осматривая палату. Кузьмич сопел, похрапывал, чмокал губами, сантехник тоже спал, и по его физиономии разливалось блаженство, как если бы он освободился от тяжелой ноши – скажем, от чугунной ванны, которую пришлось переть с двенадцатого этажа по узкой лестнице и, надрываясь, тащить до помойки. Дыхание страдальца стало ровным, черты разгладились, и, вероятно, снились ему водопроводные сны, привычные и приятные. Кивнув сопалатникам на прощание, Ким вышел в коридор, миновал на цыпочках спящую дежурную сестрицу, добрался до лифта и поехал вниз. В вестибюле, рядом с вертушкой у двери, скучал охранник. – Ты куда? – Не спится мне, хочу на свежий воздух, покурить, – ответил Кононов, протягивая стражу пачку «Кэмела». Тот охотно угостился. – А в курилке что тебе не курится? – Душно там, противно, и тараканы бегают. – Ну, иди. – Вгляд охранника скользнул по загипсованной Кимовой руке. – Ты ведь, должно быть, ходячий? – Ходячий. Даже прыгучий и бегучий… – пробормотал Ким, просачиваясь наружу. Больничный двор был безлюден, просторен и засажен деревьями, а от улицы, тихой в этот предутренний час, его отделяла невысокая ограда с настежь распахнутыми воротцами. Кононов закурил, прогулялся туда-сюда, разглядывая припаркованные у тротуара машины, и обнаружил, что в одной из них, в красных «Жигулях» – «семерке», вроде бы наблюдается шевеление. Оглянувшись на больничные окна, он быстро выскользнул на улицу и подошел к машине. В ней обнаружились двое: один – на водительском месте, другой – на заднем сиденье. Оба в штормовках; водитель курил, а второй возился с длинным чехлом, из которого выглядывала рукоятка спиннинга. «Рыбачить собрались», – подумал Кононов, и постучал согнутыми пальцами в стекло. Передняя дверца тут же распахнулась. – До Президентского не подбросите, мужики? Если по дороге? – По дороге, – буркнул водитель. – Садись! Ким сел, дверца захлопнулась, рявкнул мотор, и в это мгновение к его губам и ноздрям прижали пропитанную эфиром тряпку. «Это что за фокусы?.. – мелькнуло у Кононова в голове. – Меня, выходит, ждали? Но почему?..» Уплывая в мрак беспамятства, он успел расслышать: – Куда его? – В корабль на Зинку, к Гирдееву. Гиря желает с ним потолковать. Водитель хмыкнул: – Этот потолкует! Вытряхнет все потроха! – Вытряхнет, – согласились на заднем сиденье. – Вытряхнет и соломой набьет! Зинка, корабль, Гирдеев… Пронизывая гаснущее сознание, слова трансформировались, изменялись, приобретали новый оттенок и смысл, принадлежавший уже не этому миру, а иной реальности, сказочной Вселенной, в которую Ким погружался, точно камень в реку. Зинка… Зийна, светловолосая девушка в яркой лазоревой тунике… еще – Зингара, самая западная из хайборийских держав… Корабль, зингарский двухмачтовый парусник, не «купец», а капер с командой лучников и меченосцев… шастает в море и прибрежных водах, топит пиратские галеры… Гирдеев… капитан Гирдеро, зингарский дворянин… рослый, в блестящей броне и шлеме с перьями, похож на петуха… Очень высокомерен и неприветлив, но Конана возьмет на борт… и Конана, и голема Идрайна… Решит, что можно их продать в невольники в столичном городе Кордава… Да только… Выпав из земного измерения, Ким очутился на зингарском корабле.ДИАЛОГ ТРЕТИЙ
– Вай, славили? Ну и ладушки, и харашо… тащи его… К-кэда?! Нэ к складу, обалдуи, а во-он в ту двэрку, а там по лэсенкэ, в подвал… – Тощий, падла, а увесистый! – Чего увесистый, Толян? Лестница узкая, тащить неудобно… Ноги, ноги держи! И заноси ходули вбок, развернуться надо! Куда его дальше, Мурад? – По коридору и в камэру. Ящыки не задэньте! Сюда… сюда клади, под батарэю… Калэчки у кого? У Сашки? Ну, пристегивай гниду… вот так… Тэперь отдыхайте, бойцы! Часика три можно покэмарить. Гиря сказал, подвалит к дэвяти. Скрип дверных петель, лязг засова. Потом: – В дежурку пустишь, Мурад? Топчан там у тебя… – Пущу. Пива хотитэ? – Сашка пусть пьет. Я на колесах, за рулем. – Вай, плохо говоришь! Какой руль, какие колэса? От души прэдлагаю! – Ну, если от души…ГЛАВА 4 КОРАБЛЬ
Не разделяю мнения, что сила решает все или хотя бы многие проблемы. Долгое, упорное, настойчивое применение силы рождает столь же долгое, упорное и настойчивое противодействие, доказывая, что третий закон Ньютона справедлив не только в естествознании, но и в общественной практике. Однако бывают ситуации и случаи, когда кратковременный, но мощный импульс силы абсолютно необходим.– Не нравится мне этот Гирдеро, – сказал Идрайн. – Не нравится, господин! Он умел говорить совсем тихо, так, что лишь Конан слышал его, и эта негромкая речь не вязалась с обликом голема, с его чудовищными мышцами, могучими плечами и гигантским ростом. Казалось, горло этого серокожего исполина должно производить совсем иные звуки, громкие и трубные, похожие на грохот горного обвала; однако он предпочитал не сотрясать воздух ревом и рычанием. Конан выслушал его и кивнул: – Мне Гирдеро тоже не нравится, клянусь бородой Крома. Ну так что? Спрыгнем за борт, чтоб убраться поскорей с его лоханки? – Я видел, где хранят оружие, господин, – молвил голем. – В кладовке, в конце гребной палубы, под замком. – И я видел. Что дальше? – Этот замок я могу сбить одним ударом. – А потом? Идрайн сосредоточенно нахмурился. – Потом? Потом я возьму секиру, а ты – меч, мой господин. – Кишки Нергала! Уж не собираешься ли разделаться с командой? – Конечно, господин. Я должен заботиться о твоей безопасности. А безопасней всего захватить корабль, не дожидаясь предательского удара. Конан покачал головой. Зингарцы, экипаж «Морского Грома», казались хорошими бойцами, и было их много – не сотня, как он полагал сперва, а целых две. Сотня сидела на веслах, и еще сто составляли абордажную команду – стрелки, копейщики и меченосцы. Все эти парни прошли неплохое обучение в зингарском войске. – Мне – секиру, тебе – меч, – бубнил Идрайн. – Я буду бить, ты – добивать… – Что-то ты сегодня разговорился, – оборвал его Конан. – И речи твои мне не нравятся. Одной секирой и одним клинком не положишь две сотни воинов, парень. – Я положу. – Может, и так. Но у тебя-то шкура каменная, а мне достанется не один удар. Соображаешь, нелюдь? – Он постучал кулаком по загривку Идрайна. – Прикончат меня, и что ты скажешь госпоже? – Я сумею защитить тебя, – буркнул гигант. – Госпожа останется довольна. Госпожа меня вознаградит. – Вознаградит? – Это было для Конана новостью. – Чем вознаградит? – Даст душу. Сделает человеком. – А зачем? – Киммериец в удивлении уставился на бледно-серое лицо Идрайна. – Пусть Кром нарежет ремней из моей спины! Не понимаю, зачем тебе становиться человеком? – Так велела госпожа. Велела, чтобы я этого хотел. И я хочу, – тихо прошелестел голем. – Ублюдок Нергала! Вот почему ты следишь за мной, словно портовая шлюха за толстым кошельком! Оберегаешь, чтобы заполучить награду? Собственную вонючую душонку? Идрайн ничего не ответил, разглядывая то море, то небо, то трепетавшие над головой паруса. Они сидели на палубе рядом с лодкой, которых на «Морском Громе» имелось две: побольше, на четыре пары весел, и поменьше, на два весла. Обе эти лодки были укреплены в пространстве между мачтами; каждая, как успел проверить Конан, могла идти под парусом, и в каждой хранился запас продовольствия и пресной воды. Насчет этих суденышек у киммерийца были свои планы. – Не нравится мне этот Гирдеро, – опять пробубнил Идрайн, навалившись спиной на лодку. Суденышко дрогнуло под его напором и закачалось. Конан тоже не испытывал приязни к Гирдеро. Этот зингарский петух был заносчив, хитер и скуп; за пять дней плавания зингарец ни разу не пригласил его к своему столу, не оказал почтения, не удостоил беседой. Нет, Гирдеро Конану определенно не нравился! Не только из-за своей жадности, но и потому, что заносчивый зингарец властвовал над телом Зийны. Эту светловолосую стройную девушку Конан заметил еще с берега, а поднявшись на борт, с искусно разыгранным удивлением полюбопытствовал, кто же она. – Моя невольница из Пуантена, – коротко ответил Гирдеро. – Подстилка! Но киммериец полагал, что Зийна достойна большего. Она была красива, и красоту ее не портили даже синяки на руках, плечах и шее – следы ночных ласк Гирдеро; она казалась неглупой и, видимо, получила неплохое воспитание; наконец, она не имела отношения к колдовству! Последнее в глазах Конана являлось едва ли не самым важным, и если б он мог выбирать между женщиной-колдуньей и женщиной-рабыней, то колебался бы недолго. К тому же у Зийны были такие прекрасные волосы, такие голубые глаза, такие полные груди! И была она так близка – лишь руку протяни! Конан улыбался ей, получал в ответ робкие улыбки и думал, что Зийна была бы куда лучшим и более приятным спутником, чем Идрайн. Если бы он мог выменять ее у Гирдеро на этого каменного олуха! Или похитить… с ее согласия, разумеется. Согласие он получил на следующее утро, потолковав с девушкой в предрассветный час. Она то и дело пугливо посматривала на дверь капитанской каюты – видно, боялась, что Гирдеро проснется и обнаружит ее отсутствие; но страх не мешал ей подставлять Конану губы, мягкие и покорные, совсем не похожие на огненные уста Дайомы. Пользуясь сумраком, Конан устроил девушку у себя на коленях, приподнял ей тунику и уже начал ласкать упругие бедра и трепещущую грудь, как над горизонтом показался краешек солнца. А вместе с ним пришел Идрайн. Конан, увлеченный своим делом, не заметил его, но вдруг девушка взвизгнула, вырвалась из его объятий и, оправляя одежду, исчезла в каюте Гирдеро. Киммериец, разъяренный, вскочил на ноги. – Ты… ты… Шакалья моча, пес, отродье пса! – Женщина Гирдеро была с тобой, – равнодушно отметил голем. – Была, – рыкнул Конан. – Ну и что? – Если кто-нибудь из зингарцев заметит и донесет Гирдеро… – Вот тогда и возьмемся за топоры, серое чучело! Мысль насчет топоров запала, видимо, в голову Идрайна, и в ближайшие дни он все чаще приставал с этой идеей к своему господину. Вот и сегодня: – Отчего ты не хочешь порубить команду, господин? Самое время… Перебьем всех, а первым – этого Гирдеро… Не нравится мне он. Что-то замышляет… «Замышляет, точно», – подумал Конан. Он не раз уже ловил косые взгляды зингарца, а как-то ночью Зийна поведала ему, что Гирдеро притащил из корабельной кладовки две пары кандалов с цепями толщиной в три пальца. Вероятно, затем, чтоб были под рукой, когда понадобятся… «Не прав ли Идрайн, предлагая перерезать экипаж „Морского Грома“?» – мелькнуло у киммерийца в голове. Он мысленно взвесил оба плана: принять открытый бой или тайно покинуть корабль на одной из лодок, прихватив с собой Зийну, а взамен оставив Гирдеро серокожего голема. Первое представлялось ему более славным, второе – более разумным. Будучи человеком быстрых решений, Конан думал недолго и выбрал второй вариант. Не потому, что его беспокоила схватка с командой «Морского Грома», но скорее из-за Идрайна. Ему хотелось распрощаться с этим настырным спутником, и побыстрее! Что же касается схваток и драк, то он полагал, что в пиктских чащобах и ванахеймской тундре, да и в самом замке Небсехта их будет предостаточно. Сунув руку в сапог, Конан погладил рукоять кинжала и ухмыльнулся, представив, как лезвие пронзает грудь колдуна. Ядовитая Нергалья кровь! За то, что маг сотворил с «Тигрицей», он вырвет ему печень! А затем… Внезапно Конан понял, что Идрайн толкует все про то же – как бы перебить команду и завладеть кораблем. «Перебьешь, серая шкура, – подумал киммериец, – перебьешь, когда меня не будет на борту». Он поднялся, в раздражении пнул ногой лодку и властным жестом прервал Идрайна. – Устал я от тебя, нечисть. Иди-ка вниз и спи. Или думай о том, что станешь делать, превратившись в человека. Скрипнула дверь каюты, и на палубе появился Гирдеро – как всегда, в панцире и шлеме с перьями, в высоких сапогах и роскошных бархатных штанах. Любовь к пышному убранству была национальной чертой зингарцев, отчасти компенсировавшей их мрачность, так несвойственную жителям юга. Зингарцы, особенно благородной крови, не походили на веселых аргосцев с их трескучей быстрой речью и на говорливых шемитов, удачливых купцов и искусных ремесленников. Отличались они и от обитателей Стигии, чья угрюмость объяснялась темным культом Сета, Змея Вечной Ночи, а также отягощенностью колдовскими знаниями. Что касается зингарцев, то они были людьми горделивыми, часто – коварными и себе на уме. Гирдеро важно поднялся на кормовую надстройку, оглядел горизонт, перебросился парой фраз с кормчим; потом глаза его отыскали Конана, все еще торчавшего у лодки. Едва заметно кивнув, Гирдеро подозвал киммерийца к себе. – Солнце взойдет дважды, и мы увидим землю, берег нечестивых пиктов, – сказал капитан. – От него повернем на юг, к Барахам и устью Черной реки. Тебе случалось бывать на Барахских островах? – Случалось, почтенный капитан, – молвил Конан, отметив, что зингарец прямо-таки прожигает его подозрительным взглядом. – И что ты делал в сем пиратском логове? Киммериец пожал плечами: – Торговал. Разве ты не знаешь, благородный дон, что многие купцы из Зингары, Аргоса и Шема торгуют с Барахами? Клянусь светлым оком Митры, – он протянул руку к солнцу, – не все островитяне пираты и разбойники. Там много рыбаков, есть козопасы, гончары и корабельные мастера. – Все они, особенно моряки, – бандиты и злодеи, – угрюмо насупившись, заявил Гирдеро и смолк. Если у зингарца и были какие подозрения о связях Конана с пиратами, пока он предпочитал оставить их при себе. Прошло еще два дня, и прямо по курсу «Морского Грома» поднялись из вод морских холмы страны пиктов, заросшие сосновыми лесами. Побережье тянулось далеко на север, до Киммерии и самого Ванахейма, и, как помнил Конан, ближе к полярным краям сосновые боры и дубовые рощи сменялись осинниками и непроходимыми зарослями елей. Были там и болота с ржавой водой, и вересковые поляны, и травянистые луга; на юге же властвовали джунгли, населенные всякими хищными тварями, львами и черными пантерами, огромными змеями и чудовищными бесхвостыми обезьянами. Все это обширное пространство, омываемое Западным океаном, называлось Пустошью Пиктов. Но Пустошь вовсе не была пустой и получила такое название лишь потому, что в пиктских землях не имелось ни городов, ни крепостей, а только лесные селения, соединенные тайными тропами. Пиктам хватало и этого; они не сеяли, не жали, а жили охотой и разбоем. Когда солнце начало садиться, парусник повернул к югу. Конан спустился в крохотный чуланчик, где, привалившись спиной к переборке, дремал Идрайн. Корабль затихал; гребцы устроились на своих скамьях, воины – в гамаках, и вскоре гул голосов сменился дружным храпом, лишь где-то вверху поскрипывали мачты да хлопали паруса. Ночь, к счастью, выдалась безлунная, вполне подходящая для задуманного киммерийцем дела. Больше тянуть он не мог, ибо на следущее утро «Морской Гром» оказался бы уже вблизи зингарских берегов. Тем не менее он ждал; ждал в полном мраке, так как в каморке его не было ни оконца, ни светильника. Но отсутствие света не являлось помехой; инстинктивное чувство времени никогда не покидало Конана, и он неплохо видел в темноте. Задуманное им надлежало выполнить перед самым солнечным восходом, когда сон особенно крепок, а глаза вахтенных и стражей начинают слипаться от усталости. Тянулось время, Конан ждал. Иногда он беззвучно шевелился, чтобы не затекли мышцы; рука его скользила то к защитному обручу на голове, то к рукояти запрятанного в голенище кинжала. Из угла, где скорчился голем, не доносилось ни звука; казалось, там нет никого, лишь одна тьма, пустота и холод. Наконец Конан решил, что время пришло. Неслышно подвинувшись к Идрайну, он потряс гиганта за плечо и тихо, одними губами, шепнул: – Вставай, серокожая нечисть. Пора выбираться с этой лоханки. Голем встрепенулся: – Будем резать зингарцев, господин? – Не всех, только палубную команду. Потом спустим лодку и к берегу! С рассветом окажемся на твердой земле. – Что я должен делать? – Придушить охранников. Но тихо, во имя Крома! Справишься? – Справлюсь. – Тогда поднимаемся на палубу. Там разойдемся: я – на нос, ты – на корму… Да, еще одно: малышка Зийна удерет вместе с нами. – Зачем, мой господин? – Много вопросов задаешь, ублюдок Нергала, – буркнул Конан. – Я сказал, так тому и быть. Тихо ступая, они выбрались на палубу. Киммериец шагал бесшумно, как лесной хищник, со стороны же Идрайна вообще не доносилось ни звука. Он был огромным и тяжелым, но перемещался с ловкостью пантеры; доски не скрипели под его ногами, не шуршала одежда, не было слышно и дыхания. «Одним словом, нелюдь», – подумал Конан. Он вытянул руку в сторону стражей, сидевших у капитанской каюты, и голем, кивнув, скользнул в темноту. Конан двинулся на нос судна, где трое матросов ночной вахты спали под лодкой. Вытащив кинжал, он быстро прикончил их. Заколдованный клинок резал человеческую плоть, не встречая сопротивления; киммерийцу казалось, что лезвие входит в воду или в жидкое масло. Никто из зингарцев не вскрикнул и не пошевелился, когда души их отлетали на Серые Равнины, и Конан, довольно хмыкнув, направился дальше. Еще двоих он нашел у самого бушприта, под косым парусом, увлекавшим корабль к югу. Эти не спали, а развлекались игрой в кости при тусклом свете фонаря. К счастью, оба были слишком увлечены своим занятием, и Конан, возникнув из темноты, воткнул клинок под лопатку ближайшего игрока, одновременно зажав ему рот левой рукой. Приятель убитого не успел сообразить, что случилось; его выпученные глаза встретились с холодным взглядом синих зрачков, и в следующий момент он слабо захрипел, ничком повалившись на палубу. Осмотрев трупы, Конан снял с поясов кошельки и, стараясь не звенеть, пересыпал в один из них серебро. Пригодится! Дорога к Ванахейму не близкая… Еще он обнаружил колчан и арбалет, что было весьма кстати: на передней мачте, в корзине, сидел впередсмотрящий, и прежде Конану не удавалось придумать, как до него добраться. Теперь эта проблема была решена. Он зарядил арбалет и лег на палубу. На самом кончике мачты раскачивалось нечто темное, бесформенное; через несколько мгновений рысьи глаза киммерийца различили округлый бок корзины, плечи морехода и его голову на скрещенных руках. Он, похоже, дремал; свистнула стрела, ударила стража в лоб, и дрема его превратилась в вечный сон. Шестеро, отсчитал Конан. Кроме охранников, оставались трое у руля и старший ночной вахты. Все они были на корме, но оттуда не доносилось ни звука. Скользнув мимо лодок, он убедился, что с охраной покончено. Идрайн свернул шеи воинам голыми руками; зингарцы валялись на палубе, и головы их были отогнуты к груди, словно у цыплят, приготовленных для вертела. Стараясь не греметь оружием, Конан отстегнул пару мечей, собрал копья и вместе с арбалетом погрузил все это добро в меньшую из лодок. На трапе кормовой надстройки возникла огромная фигура Идрайна. Голем спустился, перешагнул через трупы и присел рядом с киммерийцем, возившимся с веревками. Наконец, пробормотав проклятие, Конан перерезал их ножом и освободил лодку. – Все сделал, господин, – сообщил Идрайн. – Что теперь? – Теперь возьмем эту посудину и спустим за борт. Нашарив причальный канат, Конан обмотал его вокруг мачты. Затем они подняли лодку, подтащили к борту, спустили вниз на вытянутых руках и разжали пальцы. Днище с тихим плеском ударилось о воду, канат натянулся, и суденышко заплясало на волне рядом с «Морским Громом». – Жди здесь, – велел Конан. Ступая на носках, он подкрался к капитанской каюте, негромко свистнул, и в приоткрытую дверь тут же проскользнула Зийна. Фигурку девушки скрывал шерстяной плащ, на ногах были прочные кожаные башмаки. – В лодку, – распорядился Конан. – Там, у левого борта… Он взял факел и посветил Зийне, пока она, ухватившись за канат, перебиралась в суденышко. Потом, хлопнув себя по лбу, резко повернулся к Идрайну: – Ядовитая кровь Нергала! Забыл! Чтоб Митра прижег мне задницу своей молнией! – Что случилось, господин? – Топор! Понимаешь, топор! У зингарцев, которым ты свернул шеи, были только мечи! А нам нужен топор! – Зачем? – Затем, что земли пиктов, куда мы высадимся на рассвете, покрыты лесами! Там не обойтись без топора или доброй секиры. Меч хорош против людей, а против дерева нужен топор… Иначе сучьев не нарубишь и костра не разложишь! Конан отпустил канат и решительно двинулся к люку, ведущему на гребную палубу. – Постой, господин, – сказал Идрайн. – Если нам нужен топор, я спущусь вниз и достану его. В кладовке моя секира. Я сорву замок и возьму ее. – Отличная мысль! – Киммериец вновь отступил к борту. – Ты умный парень, Идрайн! Поторопись же за своей секирой и постарайся не шуметь. Когда фигура голема скрылась в люке, Конан тигриным прыжком подскочил к большой лодке и продырявил ее. Он не нуждался в топоре; зачарованный клинок резал дерево с той же легкостью, как людскую плоть. Превратив лодку в решето, киммериец соскользнул в плясавшее на волнах суденышко и рассек канат. Борт корабля сразу отодвинулся, ушел в предрассветную мглу; лодочку отшвырнуло, закружило, и в лицо Конану, возившемуся с веслами, плеснули соленые брызги. Зийна испуганно вскрикнула за его спиной: – Веревка оборвалась, господин! Твой человек остался на судне! Гирдеро убьет его! – Парус! – рявкнул Конан. – Ставь парус, женщина, и садись к рулю! Да поживее! А я буду грести! Уже навалившись на весла, ощущая упругое сопротивление волны, чувствуя, как лихорадочное возбуждение покидает его, киммериец глубоко вздохнул и добавил: – О моем человеке не беспокойся, с ним Гирдеро не совладать. Да и не человек он вовсе… … Жуткий рев, от которого сотрясались стены каюты, пробудил Гирдеро. По привычке он пошарил рядом рукой, но теплого тела Зийны не было; тогда, предчувствуя недоброе, Гирдеро схватил меч и выскочил на палубу. В сумрачном свете занимавшегося утра он увидел мертвых стражей, распростертых на досках, и серокожего исполина с секирой, который высился по левому борту, как изваяние Нергала. Гигант тянул руки в туманную мглу, будто хотел зацепиться пальцами за прибрежные утесы, и ревел: – Господин! Господин! Где ты? Где ты, господин? «Великий Митра, разбойник сбежал! – мелькнуло в голове у капитана. – Сбежал, оставив своего слугу! Но почему?..» Это требовалось выяснить, и Гирдеро твердым шагом направился к серокожему гиганту. Страха в его сердце не было: из люка уже вылезали пробудившиеся воины и гребцы, вооруженные до зубов. Он ткнул великана мечом в бок – вернее, попытался ткнуть: острие даже не поцарапало кожу. Однако слуга обернулся, уставившись на капитана холодным взглядом. – Ты, блевотина Сета! Где твой хозяин? Лезвие огромной секиры блеснуло в первых солнечных лучах и опустилось на правое плечо Гирдеро. Рухнув на палубу и корчась в предсмертных муках, он успел еще увидеть, как серокожий исполин шагнул навстречу его воинам, как снова сверкнул чудовищный топор, как рухнули первые бойцы, тщетно пытавшиеся проткнуть великана копьями. Его секира поднималась и падала, поднималась и падала, словно серп, срезающий стебли тростника. Стоны, крики и предсмертный хрип огласили корабль…Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Очнувшись, Ким обнаружил, что находится в довольно большом помещении с обшарпанными бетонными стенами, пыльным полом и потолком в серых разводах плесени. С потолка свешивалась тусклая лампа на грязном шнуре, окон здесь не было, а металлическая дверь, с которой осыпалась краска, казалась, однако, неодолимым препятствием. Тем более что сам он лежал на полу, под ржавой батареей, прикованный к трубе, тоже покрытой ржавчиной, но, несомненно, прочной. Поза была крайне неудобная – его прицепили за правое запястье, и он всем телом навалился на левую загипсованную руку. Впечатление было таким, словно под боком, впиваясь в ребра, бугрился камень. Со свистом втянув затхлый пыльный воздух, Кононов пошевелился и сел, оглядывая свою темницу. Воспоминаний, как он тут очутился, не сохранилось, и то же самое он мог сказать о поводе. Вроде согласились подвезти… вроде влез в машину к рыбакам… после – вонючая тряпка на лице, а далее – сплошная Хайбория! Но даже там, в каком-нибудь Аргосе, Шеме или Зингаре, людей не хватают без веского повода! Значит, повод был… Вот только какой? – Куда меня запихнули? – пробормотал Ким, с удивлением чувствуя, что в голове полная ясность и никаких следов эфирного дурмана. «В подвал», – любезно пояснил Трикси. – Это я и сам вижу, что в подвал! А почему? «Определенно ответить не могу. Мало информации», – отозвался пришелец. – Но ты хотя бы видел, куда меня везут? «Нет, к сожалению. Я вижу твоими глазами и слышу твоими ушами. Когда эти органы заблокированы, я глух и слеп, если не считать телепатического чувства. Но этика не позволяет лезть в чужие головы, и по этой причине…» – Этика! – рявкнул Ким. – Какая, к черту, этика! Там, в больнице, ты о ней не думал? Ты… «… совершил неэтичный поступок, но умножать грехи не стоит, – перебил его Трикси с ноткой смущения. – Однако не беспокойся, мы справимся с ситуацией. Я уже очистил твой организм от действия снотворного. Мерзкий препарат! Зачем он вам?» – Как раз для таких случаев, – мрачно пояснил Кононов. – А ты не мог меня очистить раньше? Прямо в машине? «Мог. Но ты подумай, к чему бы это привело? С высокой долей вероятности – к членовредительству! Тебя бы стукнули по голове либо слегка придушили… А это не так уж приятно, согласен?» Неохотно кивнув, Ким осмотрел наручники, потом подергал батарею. Она была чугунной, ребристой, старинной конструкции и держалась прочно, на толстых, в палец, штырях, забитых в стену. Такой же несокрушимой выглядела и труба, не говоря уж о железной двери. «Чего от тебя хотят?» – спросил пришелец. «Не знаю. – Почти автоматически Ким перешел на мысленную речь. – Я не банкир, не журналист и не чиновник КУГИ…[656] Что с меня возьмешь? – Подумав, он добавил: – Может быть, это связано с Дашей? Возможно, ее разыскивают? И супруг решил, что мне известно, где она?» «Предположение, не лишенное оснований… Однако хочу спросить: всегда ли у вас банкиров и журналистов приковывают к батареям? В вашем регионе я лишь пару месяцев, а в Финляндии это как-то не принято… Местная традиция, я полагаю?» «Батареи еще ничего, – отозвался Ким, – это надежда на выкуп, а вот когда горячим утюжком прогладят или сунут бомбу под седалище!.. Тогда вот запоешь!» «Но в Финляндии…» – в ужасе пискнул Трикси. «А что Финляндия? Гиперборея, темная страна! Там просто не знают, как обходиться с банкирами и журналистами!» Он еще раз дернул батарею, потом со злобой вцепился в трубу, уперся ногами в стену, напрягся изо всех сил, но проклятая труба не шелохнулась. Ким тоскливо вздохнул. – Ну и что мы будем делать? А ведь собирались домой… Еще я хотел найти Дашу… И роман дописывать надо! К двадцатому! А лучше к пятнадцатому! «Из-за романа не тревожься, ты и сейчас его пишешь, только в подсознании, – успокоил Кима Трикси. – Я это чувствую. И я помогу извлечь написанное и, так сказать, овеществить, используя привычные для вас технические средства, бумагу с ручкой или компьютер. Это подождет, а вот чем я могу помочь сейчас? Например, если сделать твою руку гибкой, как змея, это кольцо с нее соскользнет. Потом ты превратишься в плоскую структуру, пролезешь под дверью и…» – Не надо! – выкрикнул Ким в полном отчаянии. – Не надо в гибкое и плоское! Не хочу превращаться в змею или блин! Лучше бы ты мне силенок добавил! «Это не проблема, – молвил дух. – Я ведь предупреждал – возможны любые телесные трансформации, любые метаморфозы, какие тебе угодны. Кстати, не только телесного плана, но и психического. А потому…» Но Ким уже не слушал его, с восторгом и ужасом уставившись на свои руки и запястья. Они становились все толще и толще, наливались богатырской мощью, пальцы удлинялись, ногти желтели и грубели, тыльная сторона ладони быстро зарастала рыже-бурым волосом. Он напряг мускулы, что-то скрипнуло, на пол посыпались обломки гипса, затем раздался жалобный звон – лопнувшее кольцо наручников ударилось о батарею. Кононов вскочил – как оказалось, вовремя, чтобы расстегнуть и сбросить джинсы, а следом и кроссовки. Тело его стремительно менялось, под бурой шкурой выпячивались чудовищные мышцы, ноги были похожи на столбы, невероятного размера ступни попирали пол, рубашка трещала по швам. Он сбросил ее тоже, попытался выпрямиться и въехал макушкой в потолок. – Эй, полегче, приятель! – в панике выкрикнул Ким. – Ты кого из меня лепишь? «Гигантопитека, разумеется, – пояснил Трикси. – Самое сильное двуногое в семействе гоминидов. Теперь тебе не надо проползать под дверью. Вышиби ее, и дело с концом!» – Теперь я не пролезу в дверь, – резонно заметил Ким, опускаясь на корточки. – А если пролезу и выйду на улицу, то попаду в зоопарк. Похоже, ты перестарался, Трикси! Минуту-другую дух размышлял, а Кононов, шаря по полу огромной ладонью, пытался найти свои часы с порвавшимся браслетом. Обнаружив их в левой кроссовке, он убедился, что время раннее, что-то около восьми. «Нужен эталон, – сообщил Трикси. – Если не желаешь быть гигантопитеком, скажи, в кого ты хочешь превратиться. С эталоном мне гораздо удобнее работать. Вот, например, герой твоей истории… Он подойдет?» – Конан? Но это же вымышленный персонаж! «Неважно. Ты знаешь о нем больше, чем о реальной личности». – Еще бы не знать! Вышло девяносто восемь книг, четыре я сам написал, а с остальными ознакомился во всех деталях. Я, как писатель, должен… «Эти подробности нам ни к чему, – прервал его Трикси. – Ясно, что ты обладаешь большим объемом информации, и, если мне будет позволено, я просканирую эти массивы. А заодно все книги, которые ты прочитал». – Все… – протянул Ким, задумчиво почесывая свою необъятную пятку. – Все я в точности не помню. «Однако ты их прочитал, и, значит, они хранятся в памяти. Где-то в дальних ее уголках, куда тебе самому не проникнуть, а я, получив разрешение, сумею добраться. Очень быстро и без особого труда». Кононов кивнул с протяжным вздохом, напоминавшим вой ветра в каминной трубе. – Ну так в чем дело? Сканируй на здоровье. На секунду у него стукнуло в висках и бледный свет лампочки померк перед глазами, но мгновением позже зрение восстановилось, и Ким с замиранием сердца увидел, что кожа его лишена волос, упруга и приобрела тот бронзовый оттенок, какой считают признаком несокрушимого здоровья. Под кожей перекатывались мышцы, уже не столь гигантские, как в прежнем облике, но очень солидных размеров, как раз таких, чтоб посрамить Сталлоне и Шварценеггера. Живот стал плоским, плечи – широкими, грудь – выпуклой и мощной, руки и ноги – мускулистыми, ладони и ступни приобрели нормальный человеческий вид. Поднявшись, Ким обнаружил, что можеть достать до потолка, однако не макушкой, а кончиками пальцев. «Превосходный эталон, гораздо лучше гигантопитека, – заметил Трикси. – Надо признаться, книги мне очень помогли. Я, разумеется, не изменил твое лицо, но в остальном… – Он излучил волну горделивого довольства. – Что скажешь? Так годится?» – Вполне, – ответил Ким, натягивая джинсы. Они, как и рубашка, оказались коротковаты и тесноваты, зато разношенные кроссовки были в самый раз. Ну, мелочи! Чувствовал он себя превосходно, сила играла в крепких мышцах, пальцы сжимались, стискивая рукоять незримого меча, и на мгновение Ким представил, что меч и правда в его руках и он, взмахнув сверкающим клинком, рубит чью-то шею – да так, что кровавые брызги веером. Его замутило. Шутки богатого воображения – кровь, чудовищная рана, голова, что падает с плеч, разорванный последним криком рот и помертвевшие глаза… Это было ужасно! Беззвучный голос Трикси вернул его к реальности: «Хмм… Маленький просчет – вернее, неувязка… Дух не соответствует телу». «Ты это о чем?» – мысленно простонал Кононов. «О том, что ты – нормальный человек и мысли о нанесении ран, увечий и убийстве тебе противны и мерзки. Вполне естественная реакция… телесную мощь ты приобрел, но не стремление к насилию. А без него… – Трикси смолк – видимо, взвешивая свои этические постулаты, – потом печально произнес: – Придется снабдить тебя психоматрицей Конана или иного персонажа, который в данном случае подходит. Я просканировал в твоей памяти нескольких героев книг – Бешеный, Слепой, Кривой… Возьмем кого-нибудь за эталон психологической конструкции?» – Больно уж злобные и жестокие ребята, – с сомнением заметил Ким. – Предпочитаю Конана. Он хоть и варвар, но все же не бешеный и пачками из «калаша» не кладет. Режет по одному и в основном чудищ и магов… Просто образчик гуманизма в сравнении с нашими беспредельщиками! «Разумный выбор», – согласился Трикси, и тут же в голове у Кима что-то дрогнуло или, возможно, провернулось, снабдив его витамином свирепости. Однако в умеренной дозе – той, что отвечала медиевальным временам, а не текущему немилосердному столетию. Под дверью завозились, и Кононов, стукнув себя в грудь кулаком, сдержанно зарычал. Кровь, отрубленные головы и перерезанные глотки больше его не пугали, но мнились чем-то знакомым и обыденным, вроде потрошеной куры в целлофане или консервов из тресковой печени. Мысль об этом органе, располагавшемся справа от желудка, была не только естественной, но даже приятной; и Ким, не в силах сдержаться, яростно прошипел: – Прах и пепел! Ну, отворяйте, смрадные псы! Всем печень вырву! «Ты не спеши, – тут же откликнулся Трикси, – а сядь под батареей и надень наручник. Сделай вид, что ты их боишься». – Это еще к чему? «К тому, чтоб разобраться, чего твоим похитителям надо. Вспомни, у нас дефицит информации! Пусть поговорят, поспрашивают, а там и до печени дойдет. Только не очень усердствуй! – Пришелец сделал паузу, потом заметил: – Я бы ограничился парой оплеух». – С этого начнем, – мрачно пообещал Кононов и скорчился под батареей. Дверь с протяжным скрипом распахнулась, и в его узилище шагнули давние знакомцы Гиря с Петрухой и еще один качок, не бритоголовый, а стриженный «ежиком», что, вероятно, говорило о низкой ступени в служебной иерархии. Уши у него были оттопыренные, а на лице – ни следа интеллекта: волосы начинались сразу от бровей. Ушастый замер у порога, а двое других, приблизившись к Киму, уставились на него, будто на антрекот в витрине. Лампочка в подвале была тусклая, и Гиря недовольно щурился и хмурил брови – видимо, прикидывал, пойман ли нужный клиент и не случилось ли ошибки. Наконец он покосился на Петруху и прохрипел: – Этот? – Этот, будь спок. Я его, сучонка тощего, запомнил. – Тощего? Не похож он на тощего, – с сомнением произнес Гиря. – Ну, может, в больнице подкормился. – А целый почему? На морде – ни царапины, и фонаря под глазом нет? – Нет, так будет. – Петруха нацелился пнуть Кима башмаком, но Гиря отодвинул его в сторонку: – Погоди. – Отступив на шаг, он снова оглядел пленника и поинтересовался: – Ты с Президентского, фраер? Тебе мы давеча карму поправили? Ким молча ощерился. В своем обычном состоянии он еще мог смириться с руганью и побоями, но психоматрица Конана таких оскорблений не спускала. Конан Варвар уважал традиции, а в Киммерии они гласили: кровь за кровь, зуб за зуб! И потому сейчас он размышлял, с чего начать: вырвать ли Гирину печень и запихать ее Петрухе в зубы или наоборот. Мышцы его напряглись, в ушах загрохотали боевые барабаны. – Скалится… – неодобрительно заметил Гиря. – Нахальный, падла! А что мы делаем с нахальными? Вот ты, Коблов, скажи! Что с ним делать? Ушастый качок у двери задумался, потом присоветовал: – Типа, пасть порвать! Или, типа, по хоботу… Короче, матку вывернуть! – Правильно мыслишь, боец! – одобрил Гиря и повернулся к Кононову: – Ты, фраерок, согласен дожить до понедельника? Тогда колись! Три вопроса, три ответа, и отпустим. В целости и сохранности! Ярость душила Кононова, но он, изобразив испуг, кивнул: – Спрашивай! – Ты кто такой? – Литработник. – Ким поглядел на ушастого Коблова и уточнил: – Типа, книжки сочиняю. Писатель, короче. – Писатель, значит… А с Дарьей Романовной знаком? Новый кивок. – А с Варькой Сидоровой, ее сестрицей? – С Тальрозе, блин, – подсказал Петруха. – Да, с Тальрозе. Кликуха у нее, видишь, такая… Знаешь эту стервь? – Не имею чести, – буркнул Ким. – Ну, не имеешь, так не имеешь… А вот подскажи, писатель, где у нас нынче Дарья Романовна? Где ее носит, заразу подлую? Может, в хате твоей устроилась, в твоей постельке? – У меня ее нет, и где ее носит, не знаю. А знал бы, не сказал. – Хмм… – Гиря поскреб переломанный нос, поиграл бровями. – Это почему? – Договаривались на три вопроса, а задаешь уже четвертый. Лимит исчерпан, так что не потей, дружбан, мозгами! – Образованный мужик! Писатель! Считать научился, однако не врубается в ситуацию, – произнес Петруха, придвинувшись поближе к Кононову. – Ну так разъясни ему, – распорядился Гиря. Петруха лениво шевельнул ногой, прицелившись в пах, но реакция Кима была быстрее: схватив бритоголового за лодыжку, он резко дернул, чувствуя, как проминаются под пальцами мышцы и кость выходит из сустава. Вскрикнув, его противник повалился на спину, а Ким вскочил, врезал ему носком по ребрам и, согнувши плечи и выпятив челюсть, вызывающе уставился на Гирю. Тот взирал на Кононова в безмерном удивлении. – Что стоишь, питекантроп? – рявкнул Ким. – Давай, подходи! Посмотрим, чей шворцдлиннее! Петруха, матерясь и подвывая, начал подниматься на ноги. Ушастый, стороживший у дверей, промолвил: – Помочь, бригадир? Типа, врезать по чавке? – Стой, где стоишь, Коблов, – хриплым шепотом распорядился Гиря. – Стой, где стоишь! Щас я эту гниду успокою… так успокою писателя, что жеваной бумагой будет харкать… Спидоносец чахоточный! – Чахоточный? – спросил Ким, выпрямляясь во весь рост. – Чахоточный, значит! – Он прыгнул, схватил Гирю под мышки и саданул о бетонную стену. – Ты, Нергалья блевотина! Ослиный помет! Свиная задница! Я тебе покажу чахоточного! Его кулаки работали, как два кузнечных молота: левой в живот, правой в челюсть, левой в скулу, правой по почкам. Под шквалом ударов Гиря покачнулся, выплюнул выбитый зуб и начал сползать по стенке. Ким обхватил его шею левой рукой, сцепил пальцы в замок и надавил, с наслаждением глядя, как бьется и хрипит бритоголовый и как закатываются его глаза. Петруха рванулся на помощь приятелю, но получил ногой под дых и снова рухнул на пол. – Печень!.. – ревел Ким, выворачивая Гире шею. Вырву печень! Вырву и крысам скормлю! Или шакалам! А труп обмажу собачьим дерьмом и закопаю на свалке! Клянусь бородою Крома! Он так врубился в образ, что еле расслышал панические вопли Трикси: «Хватит! Остановись! Ты же его задушишь, а это неэтично!» Но все же голос пришельца дошел до его сознания, заставив умолкнуть и разжать пальцы. Петруха, скорчившись, валялся на полу, Гиря хрипел, сучил ногами и, судя по лиловой роже, мог оказаться в любую секунду на Серых Равнинах. Кононов мрачно ухмыльнулся и произнес уже потише: – Ну, успокоил писателя? Хочешь, бумажки одолжу? А то харкать нечем будет. Он повернулся и обнаружил, что ушастый качок застыл в дверях и смотрит на него с беспредельным ужасом. Взгляд Кима словно пробудил его от сна – Коблов внезапно вздрогнул и попятился, схватившись за дверной косяк. Кажется, ноги его не держали. – Врешь, ушастый, не уйдешь! – зарычал Ким, выламывая из стены батарею. Жалобно пискнул бетон, расставаясь со стальными стержнями, труба со скрежетом вывернулась из втулки, посыпались ржавчина и лохмотья сгнившей пакли. Кононов поднял чугунную гармонь, слегка удивившись ее весу (а весила она не больше спички), прицелился и швырнул в Коблова. Качка вынесло наружу; он заорал, и эти крики смешались с непонятным грохотом – там, в коридоре, что-то падало, рушилось, шелестело. Обозрев поле битвы и тела поверженных, Ким удовлетворенно кивнул, выдрал из потолка трубу и направился прочь из камеры. Она открывалась в проход, заваленный старыми ящиками, под грудой которых ворочался и стонал Коблов. Расшвыривая тару, Кононов миновал несколько ниш и ответвлений подвального лабиринта, добрался до узкой лесенки, взошел на нее и очутился перед закрытой дверью. Впрочем, сопротивлялась она недолго и безуспешно – Ким вышиб ее одним ударом увесистой трубы. За дверью был небольшой и темный коридорчик, а дальше – нечто вроде склада, просторное помещение, заставленное картонными коробками, упаковками из разноцветного пластика и стеллажами, в коих громоздились бутылки, бочонки и жестяные банки. Отнюдь не пустые – кажется, тут было все, что разливают и пьют, от фанты до пива «Гиннесс» и коньяка «Наполеон». Среди этого изобилия сновало восемь или десять мужиков, тащивших коробки и упаковки к распахнутым воротам, а за воротами просматривался двор, угол жилого дома, «жигуль» – «семерка» и три микроавтобуса, прибывших, видимо, за товаром. Слева, рядом с коридорчиком, шла высокая деревянная стойка, изогнутая буквой «П», и там, у стола, на топчане и табуретах, сидели трое: один горбоносый, с лицом кавказской национальности, и пара типов, которых Ким признал. Рыбаки! Те, что его отловили и угостили снотворным! Он стиснул полутораметровую трубу, намереваясь врезать по стойке, но шепот Трикси его остановил: «Не торопись, послушай, что они говорят. Нам необходима информация». «Какая информация! – беззвучно отозвался Ким. – Не говорят они, отродья Сета, а пиво пьют!» Сзади, из подвального этажа, донеслись глухие стоны – то ли Петруха маялся с лодыжкой, то ли Коблов ощупывал ребра после свидания с батареей. – Бэседуют! – значительно молвил горбоносый, разливая пиво. – Не повезло мужику! Гиря сегодня злой, – заметил один из собутыльников, кажется, водитель «жигуля». – Говорят, вздрючка ему случилась от хозяина. За Дашку. Тип с кавказским лицом расплылся в улыбке. – Вай, красивая баба! Рыжая, свэжая, халеная… Чего бэжала? Ходила ведь у Палыча в брульянтах и шэлках! Такой мужик! Такие дэнги! – Бегут не от денег, а от мужиков, – откликнулся водитель. – Дашка, слышь, сама была не бедная, ресторан держала на Фонтанке или бар. Наш и ее загреб, и ресторацию… Это он уважает! Чтобы сразу и обеими руками! – Нэ бэдная, ха! Однако за Палыча вышла! – Ты, Мурад, сидишь на складе да банки считаешь, – сказал компаньон водителя. – А слышишь чего? Только как грузчики матерятся… – Он наклонился над столом и негромко промолвил: – А я вот слышал, что Дашка у Палыча привороженная. Вроде он экстрасенса нанял, а может, ведьму… И сразу ему поперло – и с Дашкой, и с ресторанами, и в прочем бизнесе-шминдесе! – Приворожэнные нэ бэгут, – возразил горбоносый и начал копаться под столом, вытаскивая пивные банки. «Теперь иди! – шепнул пришелец у Кима в голове. – Брось трубу и к воротам!» «Да я их…» – начал Ким, но что-то под черепом повернулось, и всякое желание крушить и бить исчезло. Он согнулся, пробрался мимо стойки, схватил упаковку с пивом и выскользнул во двор. «Тебя не видят, – сообщил Трикси, – не видят, я чувствую! Беги! Скорее! Я возвратил тебе обычный облик». Прижимая пиво к груди, Ким устремился к жилому зданию, встал за углом и осторожно выглянул, обозревая местность. Склад был виден как на ладони – длинный бетонный барак, в одном конце надстройка в виде башенки, над крышей мачта с транспарантом: «АООО П. П. Чернова. Отпуск продукции с 9 до 20, ежедневно, без выходных». «В самом деле, похож на корабль», – решил Ким и отправился на улицу. Улица была имени Зины Портновой, дом двадцать пять, и Кононов, прочитав название, застыл с раскрытым ртом. В голове у него снова завертелось: Зинка, корабль, Гирдеев… Зийна, зингарское судно, Гирдеро, его покойный капитан… Не иначе как знаки судьбы! Все совпадает – ну, не все, так многое… созвучие имен, сражение на корабле, побег… Правда, он никого не убил, даже Гирдеева… Оно и к лучшему! Внезапно ему захотелось есть, и Ким сообразил, что денег при нем ни гроша, что добираться ему от улицы Зины Портновой, считай, через весь город и что метро бесплатно не везет. Он встал у обочины, вытянул руку и, когда притормозила дряхлая «Волга», потряс пивными банками. – «Гиннесс», двенадцать пол-литровок… В Озерки довезешь? – За это хоть в Парголово. Садись! Ким сел и по дороге рассказал водителю, что он нефтяник из Тюмени, приехал навестить армейского дружка, что поселился у него на Президентском, что в магазине сперли кошелек – прямо из кармана, гады! – и, значит, не судьба им с другом выпить пива. Во всяком случае, сегодня. День не кончился, утешил его водитель и посоветовал держаться крепче за карманы. Питер – это тебе не Тюмень! Хотя, с другой стороны, и не Москва, где на ходу подметки режут. На этом они сошлись, переехали Литейный мост, выкатили на Сампсониевский и начали дружно ругать первопрестольную российскую столицу.ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ
– Дашка, ты с ума сошла! Нельзя тебе там появляться! – А где же можно, Варь? Всю жизнь тут, в лесу, не просидишь… В город поеду, к своему хозяйству! Я ему бар не дарила, бумаг не подписывала, все там мое, до последней тарелки, и все мои, Славик Канада, Маринка, Лена, Селиверстов… Отобьемся! – Отбились уже раз… А если сам заявится? Шмурдяк твой ненаглядный? – Близко не подпущу! Я ведь не знала, что нельзя ему в глаза глядеть… а теперь знаю! Возьму у Селиверстова пистолет, башку продырявлю! Да он и сам догадывается… Не придет, будет «шестерок» подсылать… Трусливый, мразь! – Ох, Дашка, Дашка, яблочко ты наше укатившееся… Зачем тебе это? Ездила бы со мной, и был бы тебе каждый вечер праздник, и вышла бы за своего, за циркового… Все по-честному, по любви и без обид! – Хватит! Наездилась! Не хочу, как папа с мамой, – ни кола ни двора! – Я ведь езжу… – Разные мы, значит, Варенька. Тебе – праздник, и чтобы огни поярче, и пыль столбом, и чтобы хлопали, а мне другое нужно. Дом хочу! Дом, дело свое, пять ребятишек и мужа! Настоящего! Такого, чтоб за меня… за меня… – Ну, Дашенька… Дашутка… не плачь, сестреночка моя родненькая… ты помни, из какой семьи… Не семья – династия! Дедушка что говорил, знаешь? Улыбайся, всегда улыбайся! Голову сунула тигру в пасть – улыбайся! Хлыстом огрели – улыбайся! Ногу сломала – улыбайся! Дедушка, он му-удрый был… Жаль, ты его не помнишь… – Я, Варь, может, не от горя плачу, а от радости. Тот парень, что за меня заступился… сосед твой, Ким, в больнице который… он… он… – Что, солнышко? – Смотрел. – Смотрел! А кто на тебя не смотрит, из мужиков-то? – Он не так смотрел. Понимаешь, Варь, ключица у него сломана, весь в бинтах да в синяках, а он глядит… Глядит, как на чудо! И говорит: Даша, вы героиня моего романа! Зеленоглазая, рыжекудрая! – Ну, ты такая и есть… не плачь, моя хорошая… А Ким, он кто? – Сказал, писатель. – Симпатичный? – Варенька, он же твой сосед, не мой! Ты его разве не видела? – А сколько я дома бываю? Три раза в год, по четвергам, когда рак свистнет…ГЛАВА 5 ПОТЕРЯ
Список людских потерь обширен, диапазон велик, ибо мы теряем все, что только можно потерять, от носового платка и уместного слова до любимой женщины и собственной жизни. Но расстаться с частью своего сознания!.. Подобного мы и представить не можем. Хотя случается, случается… Например, у маразматиков – но, по причине маразма, они не силах оценить тяжесть потери.Попав домой (ключ дожидался в тайной щели), Ким опустошил холодильник и проспал до вечера. Снились ему всякие глупости и мерзости: Гирдеро-Гирдеев, которому он выкручивал шею, а та, вместе с остриженной головой, вращалась будто колесо на спице; колдун Небсехт Пал Палыч, гоняющийся за Дашей с банкой магического пива «Гиннесс» – стоило его хлебнуть, как Даша была бы навек зачарована; голем Идрайн – в виде батареи с подпоркой из фановых труб, крушивший пиктов или зингарцев огромным разводным ключом. Рожи у пиктов были разбойные, бандитские, и Кононов точно знал, что в их толпе скрываются Мурад, Коблов, Петруха и прочие черновские «шестерки» – или, в хайборийском воплощении, Гор-Небсехтовы. Их полагалось устаканить, но он не мог найти свой меч и пожелал обзавестись еще одной рукой, здоровой и когтистой, как медвежья лапа. Но Трикси, толкуя что-то о гуманности и этике, вырастил ему метровый тонкий хобот, причем не на лице, а в том месте, которое при публике не обнажают. Пикты, придя в восторг, запрыгали с дикими воплями, кривляясь и потрясая оружием, и в криках их Киму послышалось: «Типа, пасть порвать! Или, типа, по хоботу! Короче, матку вывернуть!» Проснулся он от телефонного звонка. Звонил Сергей Доренко, мастер боевых искусств, его приятель и соратник по писательскому цеху. – Мэнсон, ты живой? – Еще не знаю. Пришли мне гроб на всякий случай, Дрю, с венком и ленточкой. И тапки не забудь. Белые. То были их псевдонимы, у Кима – Майкл Мэнсон, а у Доренко – Памер Дрю. Боб Халявин, владелец «Хайбории», был твердо убежден, что Конана надо писать под англоязычными псевдонимами, так как на Ивановых и Петровых читатель не клюнет. Не гармонировали Ивановы и Петровы с хайборийским миром! И не имелось в том измерении стран, похожих на Россию, если не считать Заморы, где жили сплошь ворюги и разбойники. Но эта аналогия была, несомненно, ошибочной: во-первых, Говард, сотворивший Хайборию, хоть и являлся великим талантом, но историческим предвидением не обладал, а во-вторых, Замора по климату, нравам и географии больше походила на Чечню. – Обойдешься без гроба, венков и тапочек. Киммерийцев сжигают, так что ни к чему добро переводить, – сказал Доренко. – Кстати, сожжение будет коллективным и назначено на завтра, в два пополудни. Великий Кормчий созывает сбор. В Хайль-Борисии. Хайль-Борисией на жаргоне конанистов именовалось издательство «Хайбория», а Великим Кормчим – Борис Халявин. Были у него и другие прозвища, самое ласковое из которых звучало как Нергалья Задница. – Сбор? А на какой предмет? – поинтересовался Кононов. – Издательская политика. Сроки, перспективы, гонорары, – проинформировал Дрю-Доренко и повесил трубку. Из груди Кононова вырвался тоскливый вздох. – Опять ставки срежет, Нергалья Задница, – пробормотал он, перемещаясь на кухню, к плите и холодильнику. «Финансовые проблемы?» – осведомился Трикси. – Они. – Ким поставил чайник на огонь и, отыскав в холодильнике последнюю пару яиц, начал готовить яичницу. – Ты вот, Трикси, в Финляндии побывал… А финских марок у тебя не завалялось? «В определенном смысле я существо нематериальное, – сообщил пришелец, – и в денежных знаках не нуждаюсь». – Как не нуждаешься? – Ким посолил яичницу, нарезал хлеб и бросил в кипяток щепотку кофе. – Очень даже нуждаешься! Что с тобой будет, если я помру голодной смертью? «Не помрешь. В твоем столе, в левом верхнем ящике…» – А вот об этом не надо! – возмутился Ким. – Договор нарушаешь! Опять копаешься в моих мозгах? «Всего лишь улавливаю мысли, которые циркулируют на поверхности. Я ведь объяснял, что это непроизвольная реакция. У нас ее считают вполне совместимой с нормами этики». – А кстати, где это «у нас»? – спросил Кононов, решив, что наступила пора осведомиться по данному поводу и прояснить кое-какие другие вопросы. Вот, например – что делает Трикси в Солнечной системе? В чем состоит его миссия? Как он добрался до Земли и сколько лет или веков намерен изучать ее, перемещаясь из тела в тело, из разума в разум? Ответы Трикси были туманными – не потому, что он старался что-то скрыть, а по причине слабой подготовки Кононова в областях астрофизики, телепатической метаплазии и звездной навигации. Ким закончил филологический факультет, где эти дисциплины не преподавали, темой же нынешних его занятий являлись колдовство и магия, физиология драконов, осада крепостей, схватки на секирах, обычаи племен, неведомых земным историкам, а также география Лемурии и Атлантиды. В таких материях он разбирался лучше, чем в сообщенных Трикси галактических координатах. Однако он понял, что родина пришельца располагается в ядре Галактики, в десятках тысяч светолет, и что этот мир совсем не походит на Землю. Ни природой своей и ландшафтами, ни атмосферой и экологией, ни обликом автохтонов, ни их цивилизацией, возникшей в ту эпоху, когда в ближайших окрестностях Солнца еще кружились протопланетные облака. Пожалуй, единственным фактором, объединявшим землян и соплеменников Трикси, являлось любопытство – причина достаточно веская, чтобы изучать планеты, звезды и туманности, а в первую очередь – обитаемые миры. Цель изучения осталась неясной; Трикси говорил о том, что длится оно добрых полмиллиарда лет, и в самом скором будущем, через десять-двадцать миллионолетий, когда составят карту заселения Галактики, можно будет начинать второй этап – культурные контакты, обмен плодами философской мысли, научными достижениями и литературными шедеврами. Что осуществится без проблем, ибо в исторической перспективе все галактические расы станут экстрасенсами и телепатами. Такая перспектива очень порадовала Кононова, и он, подобрав с тарелки остаток яичницы и запив его кофе, осведомился, сколько миров уже исследовано сородичами Трикси. Оказалось, что побольше миллиона; сам же Трикси в последние пятнадцать тысяч лет нашел и изучил тридцать три цивилизации, не считая полуразумных сообществ, где еще не говорили, а рычали, не ведали ни колеса, ни огня и потому поедали друг друга сырьем. В общем, Земля была тридцать четвертой обитаемой планетой на личном счету у Трикси – весьма солидный результат, дававший ему право на внеочередное размножение. – Ну и как мы тебе? – поинтересовался Ким, прибирая со стола посуду. «Монстры! – с ментальным вздохом ответил пришелец. – Не обижайся, но этаких тварей, как говорят у вас, днем с огнем не сыщешь. Даже если обыскать половину Галактики». – Я не обижаюсь, – сказал Кононов, вздыхая в свой черед, – я понимаю… Мы – мир насилия! Планета зла, обитель дикарей, где льется кровь невинных, бушуют войны и… «При чем тут войны, насилие и кровь? – прервал его Трикси. – Насилие, конечно, не отвечает этике разумных и цивилизованных созданий, но историческая фаза, в которой вы находитесь, делает его неизбежным. Называя вас монстрами, я имел в виду другое, совсем другое! Все нормальные существа в Галактике дышат метаном или аммиаком на худой конец, питаются через кожу и полностью извлекают энергию из пищи. А вы… вы… Основа вашего метаболизма – кислород и реакция окисления! А что творится в вашем пищеварительном тракте? Он производит отбросы в таких масштабах, что вам приходится смывать их в отстойники и вывозить на поля! Вы не способны к фотосинтезу и прочим способам утилизации энергии светила, какие практикуются у всех высокоразвитых существ, вы поглощаете биомассу и пьете яды – воду и спирт! А ваши сексуальные обычаи! Ваш метод размножения! То, что называется у вас любовью! Вы…» – Вот этого не тронь! Это святое! – нахмурился Ким. – К тому же что дано природой, то и естественно. Я ведь не критикую паучих, которые жрут самцов во время спаривания! «И я не критикую, я только констатирую. В данный исторический период ваш организм несовершенен, но есть надежда, что через пару миллионов лет ситуация изменится. Срок не очень большой, однако – увы! – не слишком малый. А сейчас мы имеем то, что имеем». – Это тебя задевает? «В общем-то, нет, за исключением свойственной вам ментальной резистентности. Великая Галактика! Таких существ мы раньше не встречали ни в космосе, ни на планетах! Вы не только резистентны, вы блокируете ментальные импульсы во всем диапазоне! И я не мог предположить…» Трикси смолк, а Кононов, заинтригованный последним откровением, негромко протянул: – Ментальная резистентность… Ты говоришь о нечувствительности к телепатии? Но я ведь тебя слышу! «Слышишь, ибо я – инклинайзер и мои ментальные ресурсы велики. Гораздо больше, чем у моего инклина». Ким порылся в памяти. Инквизитор, инкубатор, инкунабула, инкрустация, инкогнито… Что такое инклинайзер, он не знал. «Это понятие в вашем языке отсутствует, – раздался бесплотный голос Трикси. – В моем мире все инклинайзеры. Кроме того, так называется моя профессия». – Инклинайзер, надо же! А я думал, ты посланник и разведчик, – произнес Ким. «Всякий разведчик – инклинайзер. Это значит, что мы умеем расщеплять сознание на модули или квазимыслящие автономные структуры. Собственно, мы состоим из них, из нескольких модулей-инклинов и ядра, средоточия памяти, знаний, индивидуальности. Все это вместе образует целостную личность, в данном случае – мою. – Трикси помедлил и добавил: – Я лишился одного инклина, Ким. Я отстрелил его с орбиты и потерял контакт с частицей своей сущности, когда она внедрилась в мозг землянина. Где-то в этих местах. В вашем исчислении – шестидесятая параллель, двадцать пятый или тридцать первый градус восточной долготы. В одном из двух городов, отвечающих этим координатам… – Он снова сделал паузу, потом с невыразимой грустью произнес: – Теперь ты в курсе моей проблемы». Ким, сгорая от любопытства, потребовал объяснений. Расщепление разума, заметил Трикси, стандартный метод рекогносцировки обитаемых миров. Галактика огромна, и изучать ее приходится экономичным способом, без многолюдных экспедиций и даже без тел, чьи потребности слишком велики и слишком дороги для галактических полетов. Гораздо выгоднее отправлять сознание – в микротранспундере, миниатюрном устройстве, в котором бестелесный разведчик перемещается от звезды к звезде, разыскивая населенные планеты. Обнаружив подходящий мир, он посылает ментальным импульсом частицы своей сущности или инклины; они внедряются в избранных аборигенов, склоняя их к контакту и сотрудничеству. Как правило, с этим не возникает проблем, так как инклин не только датчик информации, но и преобразующее позитивное начало; он может исцелять партнера и направлять его к верным решениям, анализировать ситуацию, подсказывать мудрые мысли и как минимум продлять существование носителя в здоровом и не подверженном болезням теле. Это взаимовыгодный симбиоз, пояснил Трикси, некий договор, полезный обеим сторонам: партнеру-аборигену сопутствует удача, разведчик же избавлен от необходимости приспосабливаться к среде, чуждой и непривычной, и собирает информацию в полной безопасности. Этот процесс идет довольно быстро, так как число инклинов велико – от нескольких десятков до пары сотен. У Трикси было девяносто семь инклинов, и, облетая Землю по шестидесятой параллели, он отстрелил первый из них над Северной Европой. В какой конкретно точке, он не знал; подобные мелочи не фиксировались, ибо инклин являлся продолжением его сознания, таким же неотъемлемым и ясно ощущаемым, как, предположим, конечность или палец человека. Кроме того, излученная частица сущности была структурой автономной, способной выбирать партнера и путешествовать от одного носителя к другому, разыскивая самый оптимальный вариант: существо контактное, без глупых предрассудков и наделенное высоким интеллектом. Поиск всегда начинался с крупных городов, с центров цивилизации, если такие имели место быть, и Трикси полагал, что его инклин находится либо в Хельсинки, либо в Петербурге. Столица Финляндии, впрочем, уже отпадала; Трикси провел там больше года, но не добился ровным счетом ничего. – Если я правильно понимаю, – сказал Кононов, – ты потерял телепатическую связь с инклином и ринулся вниз со своего транспундера, чтоб отыскать пропажу и разобраться в ситуации. Но если связи нет, если мы резистентны к слабым излучениям инклина и даже блокируем их, как ты его найдешь? «Подобно слепцу, который ищет монетку на пляже, усыпанном галькой, – сообщил пришелец. – Если глаза не видят, что можно сделать? Лишь положиться на осязание». Челюсть у Кима отвисла. – Это что же получается? Выходит, ты перещупал в Хельсинки полмиллиона финнов и финнок? «Нет, разумеется, нет. Сравнение с тактильным чувством лишь аналогия. Ментальные волны блокировать полностью невозможно, и я способен их улавливать как от любого человека, так и от инклина. К несчастью, только на небольшом расстоянии». – Каком? «Тридцать-сорок метров, максимум – пятьдесят. Если двигаться вдоль здания в двенадцать этажей, причем не очень быстро, я просканирую его от крыши до подвала». Челюсть у Кима отвисла еще больше. – Ты хочешь сказать, что мне придется обойти все городские здания? Да их тут десять или двадцать тысяч! Здесь, мой экзоплазменный друг, не Хельсинки, здесь Петербург! Здесь зданий и людей не меньше, чем во всей Финляндии! «К сожалению, других вариантов нет», – грустно отозвался Трикси. – Есть! Плюнуть, сесть в транспундер и поскорее делать ноги! Ты не думай, я тебя не гоню… Но какой смысл в поисках? Было у тебя девяносто семь инклинов, осталось девяносто шесть… компания вполне приличная… Может, со временем новый инклин отрастишь… «Не получится. Число инклинов, то есть мою способность к расщеплению сознания, определяет индивидуальный генетический код, и тут ничего не убавишь и не прибавишь. А без инклина я – неполноценная личность, инвалид… Это конец карьеры, Ким! Да что там карьера – я даже не смогу размножаться!» Трикси испустил ментальный стон и начал сетовать на жизнь-злодейку, на бедственную свою судьбу, крах карьеры и неминуемую импотенцию. Этого Ким вынести не мог. Глаза его увлажнились, сердце дрогнуло, душа преисполнилась сочувствия; он погладил себя по макушке (под которой, надо думать, и скрывался Трикси), затем произнес: – Ну, ну, не делай из неудачи трагедию… Найдем мы твой инклин, найдем! Но без торопливости и спешки. Мне ведь роман надо закончить. Не позже двадцатого! «Закончишь. Я помогу», – пообещал пришелец, тотчас прекратив рыдания и стоны. В дружном единении они покинули кухню, переместились к столу с компьютером, включили его, нашли необходимый файл, и тут Ким на мгновение отрубился. То есть ему показалось, что на мгновение, – когда он очнулся, за окном уже плыла серебряная ночь, лес по другую сторону улицы стоял темный и тихий, а на мониторе мерцали последние фразы главы о зингарском корабле. Ким перечитал их и довольно хмыкнул. «Его секира поднималась и падала, поднималась и падала, словно серп, срезающий стебли тростника. Стоны, крики и предсмертный хрип огласили корабль…» «Очень динамично и экспрессивно, – подал голос Трикси. – Что дальше?» – Дальше? Дальше Идрайн плывет в Кордаву, столицу Зингары, сходит на берег, находит коня и мчится вслед за Конаном на север, в Пиктские Пустоши. Дайома с големом в телепатическом контакте, а у Небсехта есть волшебное зеркало, чтобы следить за всеми, кто подбирается к его печенке. «А Конан и светловолосая Зийна? Где они сейчас?» – В стране пиктов. Сидят в дремучей чащобе у костра, и девушка рассказывает Конану свою историю. Она из Пуантена – есть в Хайбории такое графство между Зингарой и Аквилонией. Из благородной семьи – отец ее дворянин, вассал графа Троцеро, а мать – немедийка, и от нее Зийне достались голубые глаза и светлые волосы… Росла она в отцовской усадьбе на берегу Алиманы, но в один несчастный день спустились с Рабирийских гор разбойники, прикончили людей, сожгли усадьбу, унесли добро и прихватили пригожую дочку старого рыцаря. Ее изнасиловал главарь бандитов, а после, через третьи руки, продал на кордавском рынке Гирдеро, местному нобилю. Перекупщик уверял, что белокурая красавица сохранила девственность, но истина обнаружилась в первую же ночь. И стала Зийна не просто наложницей Гирдеро, а презренной подстилкой, о которую вытирают ноги… «Превосходно! – одобрил Трикси. – Я бы сказал, очень реалистично и современно. У вас ведь до сих пор насилуют?» – Еще бы! В полный рост! – откликнулся Ким. Пальцы его с небывалой резвостью плясали по клавишам, с каждым словом история Зийны двигалась вперед, и он уже сомневался, кто у него главная героиня, то ли Дайома, то ли красавица из Пуантена, которую он породил на улице Зины Портновой. Непраздный вопрос! Как все, имевшее отношение к Дарье Романовне… Ким предпочел бы, чтобы по облику она была Дайомой, а по характеру – Зийной, столь же заботливой, самоотверженной и нежной… «А вдруг она такая в самом деле?..» – мелькнула мысль. Нашла ведь его в больнице… не просто нашла, а притащила пудовую сумку с деликатесами… Небось Кузьмич их сейчас подъедает! Трикси опять пробудился: «История рассказана, костер погас, и девушка уснула. Конан встает, обходит лагерь и смотрит, не затаились ли во тьме враги… Так?» – Не так. Мой издатель заявил бы, что герои скисли, а сюжет провис. Не хватает важной сцены. «Какой? Чтобы не скиснуть, им надо поесть?» – Нет, позаниматься любовью, – объяснил Ким. – Но в романтичном и скромном изображении, чтобы читали бабушки, дочки и малолетние внучки. И все были довольны. Прищурившись, он поразмыслил пару секунд, потом написал: «Руки Зийны крепко обнимали шею Конана, трепещущая грудь прижималась к его плечу, шелковистые волосы душистой волной прикрывали губы; он вдыхал их аромат, медленно пропуская невесомые прядки меж пальцев. Эта голубоглазая пуантенка нравилась ему, ибо сердце Зийны было столь же самоотверженным и преданным, как у Белит, королевы Черного Побережья, его погибшей возлюбленной. „Сколь различны эти женщины обликом и сколь схожи душой“, – лениво размышлял он, прижимая к себе покорное девичье тело; теперь, после трехдневных странствий по пиктским чащобам, он не сомневался, что Зийна – как некогда Белит – отдаст за него жизнь». «Скромно, очень скромно, – согласился Трикси. – Обнять, прижаться трепещущей грудью, погладить по головке… Если б и на деле было так, я бы смирился с вашими сексуальными обычаями». – Критикан! – отозвался Ким. – Ну что с тебя взять, с инклинайзера без самого важного инклина? – Перечитав написанное, он задумчиво наморщил лоб, посмотрел на часы (было семь минут второго), перевел взгляд на темную полоску леса по другую сторону улицы и пробормотал: – Вот теперь можно отправить Конана в дозор… Ночь, глухое время… шумят деревья, воют волки, и пикты крадутся по пятам… Пальцы Кима забегали по клавишам.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Усталая Зийна заснула в его объятиях. Конан бережно прикрыл ее плащом и несколько мгновений разглядывал умиротворенное лицо девушки; сейчас она казалась ему столь же прекрасной, как рыжекудрая Дайома. Даже еще прекрасней; ведь для владычицы острова он был всего лишь игрушкой, а эта юная женщина, одарившая его любовью, нуждалась в защите и покровительстве. Тот, о ком заботишься, становится особенно дорог; и хоть Конан не обладал чувствительным сердцем, он поклялся про себя, что после замка Кро Ганбор наведается в Рабирийские горы и вырежет печень главарю бандитов, обидчику Зийны. Но сейчас его тревожили иные заботы. Он поднялся, подвесил к поясу меч, взял в руки копье и отошел на самый край поляны, где они расположились на ночлег. Тут, в двадцати шагах от костра, царила непроглядная темнота, и ничто не мешало киммерийцу слушать ночные шорохи и всматриваться в ночные тени. За три дня они преодолели немалый путь и находились сейчас у верхнего течения Черной. Речной поток отделял земли пиктов от Боссонских топей, и Конан старался не уклоняться к восходу солнца, чтобы не угодить в бездонные трясины нескончаемых болот. Он неплохо знал эти места, ибо доводилось ему служить наемником на пиктских рубежах, в джунглях Конаджохары, под Велитриумом, пограничным аквилонским городом. К западу от Велитриума стояла небольшая цитадель Тасцелан, бревенчатая крепость, защищавшая переселенцев из Аквилонии; ее коменданту киммериец и продал свой меч. Времена тогда были неспокойные, южные пикты бунтовали, а потом, объединившись под рукой Зогар Сага, местного колдуна, и вовсе сожгли Тасцелан. Конан едва унес ноги; впрочем, Зогар Сага он успел прирезать. Хоть с той поры минуло лет шесть или семь, он помнил и звериные тропки в лесу, и подходящие для привалов поляны, и ручьи с чистой водой; помнил и то, как надо ходить в этих лесах, где за каждым деревом могла таиться засада. Пикты были дики и коварны, не менее дики и коварны, чем киммерийцы, и Конан их не любил. Они отличались бессмысленной жестокостью – могли, к примеру, отрезав человеку голову, истыкать труп ножами. Но, не испытывая теплых чувств к этим коренастым черноволосым варварам, он уважал их, как воин может уважать воинов. Пикты являлись отличными бойцами, упорными и храбрыми до безумия, и их каменные секиры и копья с кремневыми наконечниками нередко одолевали аквилонскую бронзу и сталь. Лес был для пиктов и отчим домом, и обителью богов, о чем стоило помнить всякому, желавшему незаметно постранствовать в их землях. Конан тоже не забывал эту истину, проявляя предельную осторожность. Он пробирался на север самыми глухими тропками, жег крохотные костры под разлапистыми ветвями огромных елей, смотрел, слушал, нюхал. Два дня все было тихо; на третий его начало одолевать смутное беспокойство. Казалось, нет никаких поводов для тревоги: он видел лишь следы кабанов, оленей да медведей, слышал только шорох ветвей да скрип чудовищных темных стволов, вдыхал свежие ароматы хвои и смолы, а не дым костра и не едкий запах человеческого пота. Но инстинктивное предчувствие опасности не покидало киммерийца. Враги были еще далеко, но он представлял, как чьи-то внимательные глаза рассматривают сейчас отпечаток ноги в мягком мху, обломанный сук, примятую траву и срезанную ветвь; чьи-то ладони пересыпают пепел костра, определяя, сколько дней назад его жгли и сколько путников грелось у жаркого пламени. Как ни берегись, нельзя пройти по лесу и не оставить следов, а опытный глаз, глаз охотника-пикта, зацепившись за одну отметину, найдет и другую. Вот почему, даже обнимая нежное тело Зийны, Конан был настороже, и взгляд его перебегал с лица девушки то к темным стволам деревьев, то к лежащему поблизости арбалету. И сейчас, когда его подруга уснула под теплым плащом, он не мог избавиться от беспокойства: слушал, нюхал лесной воздух, широко раздувая ноздри, думал. Еще пять-семь дней, и они доберутся до границы Ванахейма, но можно ли считать это залогом безопасности? Вовсе нет; пикты, лесные крысы, упрямы и будут идти по следам до тех пор, пока не настигнут добычу. Особенно киммерийского воина! Вряд ли они ведают, за кем гонятся, но если б знали о том, Конан не дал бы за свою жизнь и жизнь Зийны ломаного стигийского медяка. Наконец, убедившись, что враги далеко, он выдрал клок влажного мха, притушил им костер и лег рядом с Зийной. Некоторое время киммериец размышлял, не направиться ли все же к востоку, чтобы запутать следы в Боссонских топях, потом вспомнил о жутких болотных демонах и прочей нечисти, водившейся за Черной рекой, и решил идти прежним путем. Вскоре дремота начала одолевать его, а аромат волос Зийны заглушил запахи леса. Спустя несколько мгновений он уснул, но спал беспокойно, не отпуская рукоять обнаженного меча.* * *
Ким тоже уснул, часов в пять утра, и проспал до десяти. Проснулся он голодным, как ванахеймский волк, – видимо, сказывались еще реинкарнация в Конана, битва в подвале, игры с батареей и прочие подвиги. Чувствуя зияющую пустоту в желудке, Ким осмотрел холодильник, но, кроме обертки от маргарина и сырной корочки, не обнаружил ничего. Он сунулся в письменный стол, где в левом верхнем ящике лежали деньги с последнего гонорара, а под ними – заначка, неразменная сотня долларов и еще сто мелкими купюрами, пятерками и десятками. «Целое богатство! А ты говорил…» – раздался шепот Трикси. Не обращая на него внимания, Ким отсчитал четыреста рублей, схватил рюкзак, предназначенный для продуктов, и выскочил из дома. Неподалеку, на проспекте Энгельса, у метро, располагался универсам, обвешанный аптечными киосками, фруктовыми палатками и книжными лотками, а главное – шашлычными и пирожковыми, при мысли о которых бурчало в желудке и рот наполнялся слюной. Туда Ким и шагал, подпрыгивая и втягивая носом чудные запахи свежей листвы и пирожков с капустой, что разливались в летнем воздухе. «Сигареты, – прикидывал он, – еще сигарет купить, и молока, и хлеба, и яиц… и докторской колбаски, копченого сыра и что-то мясное… пельменей пачку, а лучше – две… картошки, и побольше! А еще…» «Не так быстро, – послышался бесплотный голос Трикси. – Я не успеваю сканировать здания, мимо которых ты несешься». «Я голоден, – мысленно отозвался Ким. – Просканируешь на обратной дороге». Примчавшись к ближней пирожковой, он сунул продавщице сотню. – Два с капустой, будьте любезны… – Тут он запнулся, осознал нелепость сказанного, сравнил зиявшую в желудке бездну с парой пирожков и добавил: – Еще четыре с мясом и столько же с картошкой. – Вам в пакет? – заботливо спросила продавщица. – Можно и в пакет. А вот завязывать ни к чему. Под испуганным взглядом продавщицы Ким проглотил пирожок и, чтоб не смущать ее, направился к рекламным щитам, воздвигнутым с краю тротуара. Прячась за ними, он жевал и откусывал, откусывал и жевал, и, по мере того как пустота из желудка переселялась в пакет, в глазах его яснело, и смысл рекламных объявлений просачивался от зрительных рецепторов к сознанию. Тут были призывы экстрасенсов, лечивших от порчи и венца безбрачия, реклама женского белья («Только в трусиках „хи-ха“ я добуду жениха»), предложение салона итальянской мебели («Цены пугают, но выбор успокаивает»), десяток театральных афиш и прочая белиберда, которой Кононов обычно не уделял внимания. На самом дальнем щите, под картинкой с дамскими прокладками («Можешь прыгать за порог, если сухо между ног»), притулился цирковой плакатик с изображением слона, двух крепких мужиков, вцепившихся в уши животного, и рыжей полуголой дамы, возлежавшей на его спине. Надпись гласила: «Цирк в Озерках! Сегодня и ежедневно! Вольтижировка и танцы на слонах! Труппа Три-Тальрозе-Три!!!» Увидев эту афишу, Ким подавился последним пирожком, с усилием проглотил его и замер, уставившись в плакат. Тальрозе! Варька Сидорова, сестрица! Тальрозе, блин! Эти слова Петрухи и Гири тут же припомнились ему вместе со смутными намеками на стервь, которая пляшет на слонах – вместо того чтоб выкаблучиваться на арене, на мягком песочке. К тому же в лице цирковой красотки, невзирая на старания художника, просматривались следы фамильного сходства с Дарьей Романовной: волосы – рыжие, очи – зеленые, ноги – длинные, а все остальное – в меру упругое, пышное и соблазнительное. Ким проглотил слюну и торжествующе выкрикнул: – Удача, Трикси! Это ведь ее сестра… моя соседка, блин! Из двести тридцать третьей! А где одна сестричка, там, наверно, и другая! Клянусь челюстью Крома! «Очень рад, – сообщил пришелец. – А как дела с моим инклином?» – Сейчас в универсам заглянем. Народу там тьма-тьмущая, сканируй себе на здоровье. А после пробежимся по Президентскому… То есть не пробежимся, а будем шагать неторопливо вдоль всех домов, а их не меньше сорока, и в каждом по шестьсот квартир… Пятьдесят тысяч жителей! Один процент всего населения! Тут Ким сообразил, что население по большей части обретается в школах, на дачах, в детских садах и на работе, но, не желая расстраивать компаньона, упрятал эту мысль поглубже. Не убежит Президентский и никуда не денется! Гулять по нему еще и гулять! Через час, затарившись продуктами, он стоял у дверей своей квартиры, но поглядывал на дверь соседскую. Приложил к ней ухо – тишина… Позвонил – ноль реакции… Рыжеволосая Тальрозе-Сидорова испарилась, улетучилась, но человек – тем более такой, которого изображают на афишах, – не пропадает без следа. Рассуждая на эту тему, Ким направился к холодильнику, загрузил его покупками и, просуммировав известные факты, решил, что накопилось их немало. Во-первых, Дашина сестричка – живет себе рядом, трудится в цирке, а с нею – слон и пара крепких мужиков… что-нибудь знают о рыжей Варваре, если не слон, так мужички! Во-вторых, «корабль» – склад П. П. Чернова, отпуск продукции с девяти до двадцати… Можно наведаться туда, взять кладовщика за жабры, тряхнуть и выяснить, где проживает Гор-Небсехт, супруг прекрасной Даши… Хотя что толку, раз подручные Чернова сами ее ищут, а найти не могут? А в-третьих, – и это самое важное! – Даша держала ресторан, причем не где-нибудь, а на Фонтанке! Много ли там ресторанов и баров? Какие есть, наверняка у Невского… «Поищем, – решил Кононов, – поспрашиваем, а заодно пройдемся по центру – вдруг обнаружится инклин?» Последнюю мысль Трикси уловил и преисполнился благодарности. Затем шепнул, что скоро полдень, а в два у Кима встреча в Хайль-Борисии – так не пора ли отправляться? Пора, ответил Ким, но перед тем порылся в телефонной книге, нашел страницу с цирком в Озерках и стал туда названивать. Дозвонился с третьего раза, видимо, секретарше с приятным девичьим голоском. – Скажите, девушка, труппа Тальрозе сегодня выступает? – К сожалению, нет. Облом у них заболел. Банановой кожурой объелся. – Облом? – Это их слон, – пояснила секретарша. – Если вы хотите сдать билеты… – Я, собственно, не обилечен, – признался Кононов, – мне Варвара Романовна нужна. Я Ким Николаевич, ее сосед. Президентский бульвар, квартира двести тридцать два, а у Варвары Романовны – двести тридцать третья. – Одну минуту, – сказала секретарша и зашелестела бумагами; очевидно, сверяла адрес. Затем послышалось: – Варя отдыхает, пока у Облома понос. Сказала, на даче… А что случилось, Ким Николаевич? – Затопили нас со второго этажа, – трагическим тоном пояснил Ким. – Мою квартиру и ее… Нужно ущерб оценить и в суд! Срочно! У нас на втором этаже такие прохиндеи… – Он мысленно извинился перед Колей и Любашей и, подпустив в голос слезу, спросил: – Ради Христа, девушка! Как мне с Варварой Романовной связаться? Иск совместный подадим… а то ведь все пропало, обои, мебель, телевизор… все до последней фуфайки! И лак с паркета смыло в подвал! В трубке сочувственно вздохнули: – Ужас какой! Придется вам на дачу к Варе ехать… минутку, я посмотрю… вот… Поселок Крутые Горки, ехать по Приозерскому шоссе до поворота на Сосново… только Сосново – справа, а Горки – слева, по дороге к Первомайскому… – Улица, – простонал Ким, – улица какая? И номер дома? – У меня не помечены, но Варя говорила, что поселок крохотный, а дом их вообще не в поселке. Вы с машиной? – С машиной, – подтвердил Кононов, всхлипнув. – Да вы не расстраивайтесь так, – сказала секретарша. – Раз затопили, не сожгут. – Спасибо на добром слове. Пожар у нас уже был. – Надо же… а Варя ничего не говорила… В общем, не доезжая до Горок с километр, ищите грунтовку направо, между болотом и ельником. Дальше – на второй передаче, пока не застрянете. Там их дом и будет. Понятно? – Понятно, – сказал Ким. – Очень вам благодарен, милая девушка! И передайте Облому, что я желаю ему здоровья. Он повесил трубку и начал собираться в город.ДИАЛОГ ПЯТЫЙ
– Ну, молодец, Гирдеев, ну, порадовал! Так ты, выходит, жив-здоров? Это хорошо. Замечательно! Мужчина ты одинокий, и, если бы тебя пришибли, был бы для меня убыток – похороны, венки, оркестр, салют на прощание… Один оркестр знаешь сколько тянет, не говоря уж о салюте? Разорил бы ты меня, Гирдеев, по миру пустил! А так – хе-хе! – живой, и ничего тебе не нужно, кроме бабок за текущий месяц… Может, выходное пособие добавить? Нет, пособие не могу! Перед бухгалтером своим не оправдаюсь – не числишься ты у меня в платежной ведомости и никогда не числился! У нас с тобой приватная договоренность: ты служишь, я плачу. Плохо служишь… – Босс… ПалПалыч… – Не перебивать, ходячее хранилище спермы! Стоять навытяжку и слушать!.. Так вот, плохо служишь – не плачу. А за что платить? За то, что вшивый лох по стенкам вас размазал? – Пауза. – Кто он такой? Кто, я спрашиваю? Писатель, говоришь? Типа, книжки сочиняет? А может, он художник? Вот ты какой разрисованный! Рожа до сих пор синяя! А с остальными что? Что он с ними сотворил? – У Петрухи выбита нога, не ступить… У Васьки Коблова похуже – ребро сломано и психическая травма, боится труб и батарей. Лечила сказал, пройдет, но не сразу. – Вот! А ты говоришь – писатель! – Босс… – Да? – Не писатель он. Я так полагаю, из цирковых Варвариных дружков, из тех, что цепи рвут и штанги выжимают. Силища у него неимоверная! Еще с приемами знаком… у-шу, а может, карате… – А может, вообще ниндзя… Вы же его изметелили, когда супруга моя смылась! Это как понять? – Выходит, не изметелили. Так ногами лупцевали, что в больницу загремел, а вышел через день – ни синяков, ни ссадин… Фокусник! Думаю, притворялся, задерживал нас, чтоб Дарья Романовна ушла… – Фокусник? Хе-хе… Это хорошее определение. Фокусник! Только фокусникам место в цирке или на кладбище, ты это запомни, Гирдеев! – Пауза. – Варьку нашли? – Ни дома нет, ни на работе. Слон их поганый болеет… Мужики Варварины при нем, дерьмо тачками вывозят, а Варвара как бы в отпуске. Исчезла, а куда, не говорят. Ну, возьмусь за мужиков, узнаю!.. Не Игорь расколется, так Олег, не Олег, так Игорь!.. Я им кости… – Ты с костями-то погоди! Исчезла, говоришь? – Пауза. – Раз исчезла, значит, прячется… и не одна, с сестрой… Не любит меня Варька, давно хотела с Дашей развести… – Снова пауза. – Ты вот что, Гирдеев… ты собирай бойцов и поезжай с утра в Крутые Горки. Хата там у них, от родителей, Дашка как-то проговорилась… Горки эти по дороге к Первомайскому, а про дом расспроси в поселке. Небольшой поселок, все друг друга знают. – Заметано, босс. Только… – Только что? – Думаю, если они в той хате, так не одни. Фокусник, думаю, с ними. Охраняет! Думаю, Варька его наняла… Здоровый, гад! Опять же приемы… – Он думает! Я тебе что сказал, Гирдеев? Место фокусникам в цирке или на кладбище! – Пауза. – Оружие возьмите. Против лома нет приема.ГЛАВА 6 ХАЙЛЬ-БОРИСИЯ
Читатели – да и коллеги – не раз любопытствовали, с какой целью я выбрал такой странный и малоподходящий для российского автора псевдоним. Обычно я избегал определенных ответов на данный вопрос, чтобы не быть заподозренным в мистике. Но если говорить откровенно, то я полагаю, что не мы, авторы, выбираем себе псевдонимы, а псевдонимы выбирают нас – и только в этом случае они поистине становятся вторыми именами и прирастают к нам, как кожа. История же моего псевдонима такова. Первый мой издатель, некто Борис Халявин, придумал англоязычные клички группе молодых писателей, трудившихся над сериалом о Конане Варваре. Среди них были весьма забавные – например, Альгамбра Тэсс и Френсис Пичи, ну а я из Кима Кононова превратился в Майкла Мэнсона. До сих пор не знаю резонов издателя, присвоившего мне это имя… Но так ли, иначе мои романы о Конане получили известность под этим псевдонимом, и мне не захотелось расставаться с ним, когда я стал работать над более серьезными вещами. Не потому, что имя было, как говорится в издательских кругах, уже «раскачено»; на самом деле все объясняется проще: в шкуре Майкла Мэнсона я чувствовал себя очень уютно.Издательство «Хайбория» занимало одну из квартир в доме восемнадцать по Можайской улице, в солидном, отделанном гранитом особняке времен Распутина и первой русской революции. Кому принадлежал особняк в нынешние перестроечные времена, оставалось великой тайной; «Хайбория» арендовала площади у юридической конторы «Сфинкс», которая являлась арендатором Северо-западного страхового общества, и эта цепочка тянулась в бесконечность – возможно, до КУГИ или другого хозяина, желавшего остаться неизвестным. Плату, однако, собирали с завидной аккуратностью. За железной дверью «Хайбории», снабженной четырьмя замками, тянулся неширокий коридор, куда выходили бухгалтерия, кабинет владельца фирмы и комнаты редакторов, корректоров, макетчиков; заканчивался коридор в темноватом зальчике с камином, треснувшим паркетом и древним овальным столом из мореного дуба, просторным, как палуба авианосца. Зал предназначался для совещаний и торжеств; на его стенах висели картины (Конан убивает Амальрика, Конан режет глотку Ольгерду, Конан крадет золото гномов, Конан на троне Аквилонии), а огромный стол окружали девятнадцать стульев. Двадцатым было кресло издателя Боба Халявина – роскошное, с резной высокой спинкой и подлокотниками в виде крылатых драконов. У стола сидели и стояли пятеро: Памор Дрю-Доренко, мастер боевых искусств, интеллигентный Миша Леонсон (он же – Митчел Лайонз), Жека Киселев (Бад Кингсли, юное дарование), Лена Митлицкая (Альгамбра Тэсс – тонкая, хрупкая, бледная, с кукольным личиком и ресницами неописуемой длины) и Френсис Пичи, настоящую фамилию которого никто не знал и ею не интересовался. Появление Кима было встречено шарканьем ног, скрипом стульев и громкими возгласами: «А вот и Конан!» «Какие новости из Киммерии, варварище? Нефть у вас не дешевеет? Дефолт не ожидается?» «Нет, – ответил Ким. – Наша экономика стабильна, и демократия процветает. Народный хурал вынес импичмент президенту, но с опозданием – его уже зарезали». Засим Альгамбра Тэсс подставила Киму щечку для поцелуя, Кингсли и Лайонз хлопнули по спине, Дрю-Доренко – по шее, и только Пичи поклонился с кислой миной. В их компании он был единственным членом Союза российских писателей, творцом постмодернистских шедевров, уже пустивших ко дну три издательства; «конину» и всех конанистов Пичи презирал, однако у кассы был неизменно первым. Ким уселся на привычное место между Киселевым и Дрю-Доренко. Жека, парень молодой, веселый, тут же пихнул его локтем в бок и полюбопытствовал: – Говорят, ты подрядился книжку писать «Геннадий Зюганов – зеркало русской революции». Верно, Мэнсон, или сплетни? – Сплетни и враки, – ответил за Кима Доренко. – Он роман в стихах творит, «Приключения дрянного мальчишки» называется. Уже и псевдоним придумал – Дарий Осламов. Митчел Лайонз, интеллектуал и циник, негодующе фыркнул и закурил сигарету «Мальборо». – Ты что-то имеешь против физиологической литературы, Дрю? – Ровным счетом ничего, Лайонз. Доказать? Так я вам сейчас анекдот расскажу, очень сексуальный. Три террористки Хафиза, Саида и Гюльчатай взорвали на рынке лоток с помидорами. Ну, хватают их, тащат в отделение и начинают шарить в интимных местах на случай взрывчатки. А Хафиза и говорит… Альгамбра Тэсс гневно хлопнула ресницами. – Заткнись, сексуальный маньяк! Член сорок пятого калибра, а мозги комариные… Я тебе покажу интимные места!.. – А покажи! И я покажу! – с задором подначил Доренко и стал раздеваться. Кингсли-Киселев утробно захохотал, Миша Леонсон хихикнул, а Пичи с брезгливым видом оттопырил губы, словно в комнате вдруг появился бочонок с тухлой капустой. «Что это с ними?» – услышал Ким беззвучный голос Трикси и ответил: «Ничего. Развлекаются. Писатели, люди творческие, вот и играет фантазия. Не бери в голову». Тут послышались неторопливые шаги, и в зале, со свитком под мышкой, возник Халявин, он же – Великий Кормчий, Ворюга Бел и Нергалья Задница. Был он некрасив, но обаятелен: огромный нос, глаза уклончивого цвета за темными очками и челюсть, похожая на волчий капкан. Начинал Халявин комсомольским лидером, затем перековался в бизнесмены, сохранив, однако, прежние привычки. По дороге к председательскому креслу он широко улыбнулся публике, сделал ручкой «а-ля Леонид Ильич» и, наклонив голову к Доренко, прошептал: – Застегните штаны, Дрю! Вы не в бане для партхозактива… Общественность смотрит! Утвердившись в кресле, Нергалья Задница неторопливо протер очки, извлек колокольчик, позвонил и снова улыбнулся открыто и ласково, так улыбается непогрешимый вождь своим соратникам по партии. – Прошу внимания, коллеги! На повестке дня у нас вопрос о сотом юбилейном томе и мерах по оживлению сериала. Девяносто девятая книга уже в производстве… – Он вытащил записную книжку, полистал ее и сообщил: – Там у нас повесть Митчела Лайонза «Небесная секира», вещь вяловатая и небольшая, а на добивку – побрехушка одного чечако из Рязани… хмм… в общем, мелочь, пустяки… Но юбилейный выпуск должен быть отпадным! Экшн-роман в пятьсот страниц, с динамикой, крутым сюжетом, сотней трупов и парой героинь. Одна должна быть рыжей стервой, другая, на ваше усмотрение, блондинкой или брюнеткой, но с нежной душой. Эскиз обложки прилагается. Халявин расправил свиток, и конанисты дружно застонали. Впрочем, рисунок был не хуже и не лучше тех, какими «Хайбория» уже осчастливила читателей: обнаженный Конан мчался на могучем жеребце, в обеих руках по клинку, у седла секира, за поясом кинжал, на спине арбалет, под коленом копье, а с копья свисает японское оружие мичи-чучи – стальная цепь с тремя крючками. Сбоку к жеребцу прилепилась нагая дева с пышным задом и копной волос, еще не закрашенных, – намек, что масть определяет автор. – Я, пожалуй, пас, – сказал Сергей Доренко. – У меня написана треть книги, но Конан в ней девиц не возит. Он там Аргос оккупирует. И он не голый, а в броне. – Ну, это не очень существенные детали, – заметил Великий Кормчий. – Треть книги… хмм… В июле успеете? К пятнадцатому? – Определенно нет. – Хмм… Лайонз и Тэсс у нас на август, значит, отпадают… А что у остальных? У Кингсли и Пичи? У вас, Мэнсон? Вы, кстати, в июльском плане! Киселев возвел глаза к потолку, Френсис Пичи неопределенно пожал плечами, а Ким промолвил: – Трудимся, как бобик над куриной косточкой. Половина готова. Уйма трупов и пара девиц, рыжая и блондинка. – Вот это разговор! Конан – он и есть Конан! – Халявин погладил свой титанический нос. – Если выполните взятые обязательства, если не подведете, я… хмм… я увеличу вознаграждение на двадцать пять процентов! – Сорок, – вдруг проскрипел Пичи. – Сорок, и будет готово к пятнадцатому. Только без нежных блондинок. Обе будут стервами. Конанисты недовольно загудели, Альгамбра Тэсс выкрикнула что-то насчет гадского нрава всяких писательских обмылков, Доренко пробормотал: «Хинштейн, твою мать!..» – но Великий Кормчий одним движением руки навел порядок. Затем повернулся к Пичи и произнес: – Когда напишете, тогда посмотрим. А еще посмотрим, что и как напишете! Это у вас ведь в «Сердце Аримана» Конан скачет во весь опор, ведя кобылу под уздцы? А в романе «Стигийская тварь» описан разбойник, точь-в-точь похожий на нашего губернатора! Этак, сударь мой, вы до президента доберетесь, и все мы загремим в Кресты! – Хмыкнув, Халявин свернул картинку с Конаном, девой и жеребцом и подвел итог: – В общем, жду предложений к пятнадцатому! От Мэнсона и всех, кто претендует на появление в юбилейном томе. А сейчас перейдем ко второму вопросу. Какие предложения, господа-товарищи? – Насчет оживляжа? – осведомился Дрю-Доренко. – А к чему оживлять? Лучше закопать на этом самом юбилейном томе. Мэнсон пусть и закапывает, поглубже и подальше. Где-нибудь в Бурятии или на Колыме. – Народ нас не поймет, – сказал Великий Кормчий. – Я тоже, – поддержала Альгамбра Тэсс. – Мне детей кормить надо! У Альгамбры было двое детей от трех мужей и девяти любовников, что, несомненно, являлось смелым евгеническим экспериментом. Исследовав сильный пол вдоль и поперек, она утверждала, что ни один в сравнении с Конаном не тянет – хотя бы по той причине, что мужики приходят и уходят, а Конан остается. – Вот что, – сказал Кингсли-Киселев, – а не добавить ли нам к Хайбории новую страну Руссландию? Отправим в нее Конана, и пусть он выпустит кишки Илье Муромцу. – Это непатриотично, – возразил Халявин. – Тогда Соловью-разбойнику! – Чушь! Ах, какая чушь! Жалкое русофильство! – взмахнула кудрями Альгамбра. Цвет их по временам менялся, знаменуя очередные победы на сексуальном фронте. В данный момент Альгамбра была платиновой блондинкой – что, в отсутствие воздыхателя, знаменовало ожидание и поиск. Навивая на палец прядь волос, она в задумчивости протянула: – Вот если переселить Конана в тело женщины… рыжеволосой разбойницы… этакой Конанши Варварши… – … то будет не Конан, а Рыжая Соня, – закончил Лайонз-Леонсон. – Про Соньку мы уже писали, так что я поддерживаю Жекину идею, но, разумеется, без муромцев и соловьев. Свести бы его с Тарзаном или Бэтменом… – С Джеймсом Бондом, – подсказал Доренко. – А что? Представьте, что в КГБ построили машину времени и заманили в нее Бонда. Он провалился сквозь ледниковый период, попал в хайборийскую эру и повстречался с Конаном. А Конан уже аквилонский король и очень нуждается в разведке… Вот Бондик этим и займется, организует филиал МИ-5 или «Моссада», прижмет туранских террористов и женится на поп-звезде из Черных Королевств, которую спасет от извращенца-мага. – Насчет извращенца прошу уточнить, – потребовал Жека Киселев. – Пожалуйста! Заглянем в курс частной сексопатологии… – Дрю вытащил из сумки толстенную книгу, раскрыл ее и забормотал: – Зоофилия… копрофемия… мазохизм… эксгибиционизм… педофилия… трансвестизм… некрофилия… Вот, некрофилия! И описание случаев есть! Хотя бы такой: мужчина тридцати пяти лет, отец двух детей, систематически убивал саперной лопаткой девушек, с трупами которых совершал половые акты. Убил таким образом тринадцать человек и попался. На вопрос, зачем он это делал, ответил, что если бы следователи сами попробовали, то их бы за уши не оттянуть… Отличный оживляж! Как считаете? – Подмигнув Киму, Доренко уставился на Халявина. «Это правда?!» – ужаснулся Трикси в глубине Кимова сознания. «Правда, – подтвердил Ким. – Медицинский факт». «Вот! А ты сердился, что мне не нравится ваш способ размножения! Сказал, святое! Да у существ, которые дышат метаном, такое сочли бы…» «Заткнись! – распорядился Ким. – Еще раз объясняю: это не святое, а чистая клиника!» – Не пойдет, – сказал Халявин, почесывая длинный нос. – То есть с Бондом можно, а с извращениями нельзя. Нас молодое поколение читает. Они… – … об извращениях знают больше нашего, – перебил Доренко. – Но если некрофилия не годится, отправим Бонда с Конаном в гарем, и пусть они посоревнуются, кто больше обесчестит жен туранского султана. Я готов такое изваять. Образ любимой султанской жены спишу с Альгамбры, а Пичи будет евнухом. Киселев и Леонсон заржали, Пичи кисло улыбнулся, а Альгамбра Тэсс зашипела: – Самцы вы все! Ах, какие вы вонючие похотливые самцы! – От самки слышу, – парировал Дрю. – Что глядишь на меня синими брызгами? Это ведь вымысел, дорогая, литературная игра! Я не зарезал Деда Мороза и не похитил невинность Снегурочки! – Так она тебе и даст… – буркнул Миша Леонсон. Нергалья Задница звякнул колокольчиком и со словами: «К порядку, граждане!» – повернулся к Киму: – Что у вас, Мэнсон? Есть идеи? – Нет… пожалуй, нет… – промямлил Ким. – Я, видите ли, увлечен своим текущим сюжетом. Погрузился и с головой ушел в роман. – Кстати, как он у вас называется? – Грот Дайомы. Дайома – это рыжая, зеленоглазая, а еще имеются блондинка, духи, колдуны, разбойники и целое кладбище трупов. Вот только с конем… – Коня я вам прощаю! – Халявин небрежно повел рукой и повторил: – Грот Дайомы… Неплохо, Мэнсон, неплохо! Через недельку рассчитывайте на аванс. – Он осмотрел остальных конанистов, задержавшись хмурым взглядом на Френсисе Пичи, и произнес: – Хочу отметить, что мозговая атака прошла успешно и породила ряд плодотворных идей. Хмм, да… плодотворных в той или иной степени… В общем, руководству есть над чем подумать. Все свободны! Писатели, приободрившись и облегченно вздыхая, стали расходиться. Альгамбра облизала губки и томно улыбнулась Киму, но он остался глух к намекам и поскорее выскользнул на улицу – а там, вслед за Доренко, направился к его машине, побитому жизнью «Москвичу». Доренко, бывший кузнец, бывший спецназовец, бывший историк и бывший что-то там еще, владел различными талантами, причем из каждого умел извлечь прямую выгоду. Кроме сочинительства, он занимался преподаванием ушу и джиу-джитсу, пописывал в желтую прессу статейки, читал в пединституте лекции и вел радиоклуб для девушек (как сохранить фигуру и защититься от насильника). Но все это были лишь способы для добывания денег и улучшения качества жизни, а страсть у Памора-Сергея была одна: оружие. Не автоматы и базуки, а благородные клинки, секиры, копья, дротики, кинжалы и булавы, которые он делал сам, раздобывая заготовки из инструментальной стали, бронзу, кость и дерево твердых пород. Усевшись в машину, Дрю сказал: – Ко мне поедем, пиво пить за твой успех. Это надо же! Это ведь случай невиданный в хайборийской истории! Чтоб Задница пообещал аванс! Мне казалось, он слова такого не знает. «Москвич» чихнул, пофыркал, но послушно завелся, и они покатили на Гражданку, на Северный проспект, в обитель Дрю, в точно такую же квартиру, как у Кононова, если не считать ее стен, увешанных острым железом, и небольшой кладовки, превращенной в арсенал. Добравшись без происшествий до места и прихватив соленых крендельков, воблу и бутылки (не какой-нибудь «Гиннесс» или «Туборг», а пролетарскую «Балтику»), они просидели на кухне три часа, беседуя о тактике римских легионов, целительных свойствах женьшеня, искусстве фэншуй и звездных войнах, о привидениях и видах на гонорар, а еще о том, как обустроить Россию. Наконец, разговор коснулся оружия, и хозяин, притащив из кладовой шлифованную, темного дерева рукоять, похвастал: – Гляди-ка, что обломилось на мебельной фабрике! Мореный дуб, метр длиной, три пальца толщиной! Чурбашка для диванных ножек… А я древко для секиры сделаю, сноса не будет! Ким оглядел стены, увешанные мечами и топорами, побарабанил по щиту, закрепленному над кухонным столом, и сказал: – Не дашь чего-нибудь попользоваться? Ну, хотя бы эту штуку? Он покосился на огромный клинок с рукоятью из моржовой кости, крестообразной гардой и бронзовым навершием. Мысль о том, что надо бы вооружиться, бродила у Кима в голове и укреплялась с каждой выпитой бутылкой. Не всюду ведь найдутся батарея и труба! А парни у Чернова ушлые и после битвы в подвале знают, что почем… Заявятся с ножиками и ломами, с цепями и кистенями, а мы им меч продемонстрируем… Вон, дрын-то какой! С рукояткой до подбородка достанет! Дрю-Доренко почесал в макушке. – Попользоваться, говоришь? Это с какими такими целями? – Помахать! – Ким сделал неопределенный жест. – Почувствовать в руке клинок и натурально впечатлиться. А впечатлившись, сесть и написать, как Конан рубит пиктов от плеча до паха. – Этим мечом ты не помашешь, – заявил Доренко, открывая пиво. – Кишка тонка! Это двуручный рыцарский меч, и весит он двенадцать с половиной килограммов. Таким рубили сарацина вместе с лошадью. – Ну, другой дай! Вон тот, поменьше и полегче! Хмыкнув, Дрю покачал головой: – Не игрушки, Мэнсон! А ну, как в ногу попадешь или соседке в задницу? Вот палку я тебе дам. – Он сунул Киму дубовое древко. – Маши себе, впечатляйся! А у меня еще есть. Взвесив дубинку в ладонях и решив, что лучше что-то, чем ничего, Ким сказал: – А машину на завтра дашь? Надо мне за город съездить, проведать кой-кого. – Машину бери, но с обеда. Утром у меня дела – в институт, потом заправлюсь и в мастерскую… А в три я ее подгоню прямо к тебе на Президентский. И пошагаю к Леночке… а может, к Анечке… – Ну, спасибо, благодетель! Они разлили по стаканам, прикончили воблу с крендельками, и Ким отправился домой. Первую сотню шагов его слегка пошатывало, и приходилось даже опираться на дубинку, но хмель стремительно выветрился, словно и не плескалось в животе шесть бутылок пива. Свернув с Северного проспекта на Энгельса, Ким поинтересовался: – Твоя работа, Трикси? «Разумеется, – ответил пришелец. – Твой организм очищен и приведен в фазу нормального функционирования. Дело несложное – всего-то окислить спирт в глюкозу». – Цены тебе нет, дружище, – сказал Ким. – Алкаши бы тебя на руках носили. Наверно, передрались бы, решая, в кого ты въедешь. «Хватит с меня одного сантехника, – откликнулся Трикси и добавил: – Иди помедленнее и держись поближе к домам. Я сканирую». – И как успехи? «Пока безрезультатно». – Ну, не расстраивайся, – утешил его Кононов. – Ты ведь не только ищешь, ты еще и работаешь. Собираешь информацию о том, какие на Земле живут уроды. Впереди замаячило здание торгового центра с многочисленными вывесками, и Ким, сощурившись, прочитал: «Кафе „Засада“», «Пиво оптом – 24 часа», «Унитазы и ванны из Бразилии», «Секс-шоп „Руслан и Людмила“», «Аптека „Пурген“», «ДСО „Киммерия“». Последняя надпись ввела его в задумчивость. ДСО – добровольное спортивное общество? Дежурный салон одалисок? Дворец садистов-олигофренов? Диетические супы и обеды? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ДСО означает «Дом, сад, огород». Оставалось узнать, какое отношение это имеет к Киммерии. Магазин был невелик и очень напоминал квартиру Дрю-Доренко, ибо на стенах висели смертоубийственные орудия – топоры, блестящие косы и тяпки, зубастые диски для распиловочных станков, лопаты, ломики и прочий инвентарь. Ким, помахивая дубовой палкой, прошелся взад-вперед, любуясь стальными лезвиями и остриями и соображая, что ему больше по нраву, топор или саперная лопатка, а может, лом или кетмень. Но все эти приспособления казались ему легковесными по сравнению с рыцарским мечом – лопаты и косы словно из жести, ломы коротковаты, а тяпка совсем уж штука несерьезная. Ким было остановился на топоре, но тут за его спиной послышалось негромкое покашливание. – Чего желаете, молодой человек? Повернувшись, Кононов обнаружил старичка-продавца в синем халате и синей же кепочке с надписью «Lily-boy». На вид ему было лет семьдесят с хорошим гаком, но держался он бодро. – Ищу что-нибудь такое-этакое, потяжелее, – сказал Ким. – Ферштейн! Кувалда вас устроит? Пудовая, для забивки свай? – Можно посмотреть? – Отчего же нельзя? Пройдем в подсобку, и посмотрите. Кувалда нашлась в дальнем углу, за частоколом грабель и бочкой с садовым варом. Бетонный пол под ней растрескался. – Давно лежит, – произнес старичок, задумчиво лаская взглядом слегка проржавевший инструмент. – Как давно? – Лет восемь. С той самой минуты, как открыли магазин. – А почему она здесь валяется? – А потому, что до прилавка ее не донести. Подниму, и аллес капут! – объяснил продавец и, подумав, добавил: – Интересует? За полтинник отдам. – Интересует, – промолвил Ким, вытаскивая деньги. – Беру! Заверните. – Шутник вы, однако, – вздохнул продавец и покосился на дубинку. – Если хотите, я вам кувалду насажу, и понесете на плече. Рукоятка у вас подходящая… обстругаем конец, пристукнем молотком… С этим гешефтом мы живо управимся. Так и было сделано, а к тому же, когда Ким с натугой перевернул кувалду и поставил ее на попа, старик закрепил рукоять железным клинышком. Затем инструмент улегся Кононову на плечи, и он, постанывая, но чувствуя себя вооруженным до зубов, потащил его к выходу. – Не давит? – заботливо спросил продавец, когда они вышли на улицу. – Может, желаете тачку купить? Но это не в пятьдесят обойдется, а в пятьсот. – Дотащу, – прохрипел Ким и, подняв голову к вывеске, спросил: – А почему Киммерия? – Какой вы любопытный, юноша… – Старик взглянул на витрину соседей, где красовались черные ванны и унитазы, и объяснил: – Киммерия, потому что не Бразилия, не Парагвай и не княжество Монако. – Он похлопал Кима по спине. – Заходите! Подберу вам что-нибудь еще, потяжелее или полегче. Выбор у нас неплохой. Ободренный этим напутствием, Ким свернул за угол, проковылял до кирпичной стенки, что огораживала баки с мусором, укрылся за ней и замер, кряхтя и отдуваясь. «Трикси!» «Ким?» «Матрицу Конана, да поживее! Меня сейчас расплющит!» Джинсы затрещали, рукава рубашки вздулись под напором мышц, и кувалда разом стала легче перышка. Убедившись, что зрителей нигде не наблюдается, Ким подбросил ее вверх, поймал за кончик рукояти и крутанул в воздухе. Ощущение невероятной силы переполняло его; казалось, он мог сокрушить Китайскую стену одним ударом, а вторым – вогнать ее обломки в землю. Чудесное, пьянящее чувство! «Все в порядке?» – осведомился пришелец. – Лучше не бывает! Если бегом, так будем дома через полчаса. «Я же просил помедленнее! Тут тысячи людей, и надо каждого проверить… Ты с финнов бери пример, финны не суетятся и никуда не торопятся, – посоветовал Трикси. – Где сейчас твой Конан? В пиктских землях, вместе с голубоглазой девушкой? Вот и представь, что бредут они к северу, слушают лесные шорохи и говорят о том о сем. А главное, не спешат!» – Ты меня вдохновил, – улыбнулся Ким. – Пожалуй, представлю и перемещусь… Жаль, под руками ни блокнота, ни компьютера! «Зачем тебе компьютер и блокнот? Я на память не жалуюсь. Перемещайся!» – ответил Трикси и замолчал.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
– Мой отец владел землями от Алиманы до самых предгорий и на треть дня пути вдоль речных берегов, – сказала Зийна. Прошло пару дней, и они пробирались по вересковой пустоши, заваленной большими валунами, торопясь укрыться в темневшем неподалеку ельнике. – Большие угодья, клянусь Кромом! – откликнулся Конан. – А ведь ты говорила, что отец твой был небогат. – Земли наши обширны и красивы, но не слишком плодородны, – пояснила Зийна. – Есть виноградники и роща апельсиновых деревьев, есть хорошее пастбище для лошадей и коз, есть лес, где растут дубы и буки… – Значит, можно торговать бревнами, – заметил Конан. – Отец не любил торговать. Он говорил, что это занятие не для благородного рыцаря, владеющего мечом и копьем. Он был равнодушен к богатству. – А зря! Будь он богат, нанял бы много воинов, и тогда ублюдки с Рабирийских гор побоялись бы приблизиться к вашей усадьбе. Конечно, золото не главное в жизни, но иногда мешок с монетами может ее спасти. – Отец говорил: меч надежнее… – Правильно говорил! А ошибался он только в одном: мечей должно быть побольше… – Конан взглянул на солнце, висевшее в зените, и добавил: – Если бы со мной шли сейчас два десятка киммерийцев с острыми мечами да секирами, получилась бы славная потеха! Только шерсть полетела бы от лесных псов, которые гонятся за нами! – Ты не жалеешь, что оставил своего слугу на корабле? – спросила Зийна. – Он выглядел могучим воином… – Не жалею. Лучше сразиться с сотней пиктов, чем терпеть рядом с собой эту нечисть! Голубые глаза Зийны испуганно расширились. – Нечисть? Почему ты так его называешь? – Потому как он нечисть и есть! Нечисть и нелюдь, сотворенная из камня и тупая, как камень! Зийна вздрогнула, подняла руку к солнцу. – Да защитит нас Митра от всякого зла! Страшные вещи ты говоришь, любимый! – Чего же в них страшного? Этот Идрайн сотворен колдовством, но мало ли колдовства в мире? – Он поднес ладонь к волосам и машинально ощупал свой защитный обруч. – Конечно, от злых чар жди беды, но этот серокожий не был злым… ни злым, ни добрым, просто равнодушным, как пень. – Это еще страшнее, – сказала Зийна, помолчав. – Теперь я знаю, почему ты его невзлюбил. – Невзлюбил я его из-за другого, – сказал Конан. – Он настырный ублюдок… И потом, мне не нравятся твари, у которых я не могу вырезать печень. – А те, у которых можешь, – нравятся? – спросила девушка, усмехнувшись. – Не всегда. Но если я знаю, что могу укоротить мечом тварь на голову, я спокоен. А коли не так… – Он помотал головой и, ускорив шаги, заспешил к лесу. Пустошь, которую они пересекали, тянулась на пять-шесть полетов стрелы. Тут, в северной части Страны Пиктов, протянулись невысокие увалы, поросшие вереском и колючим северным шиповником; здесь и там на склонах холмов громоздились серые валуны, обросшие бурыми мхами и напоминавшие массивные туши медведей. Казалось, в вереске уснуло на века целое медвежье племя – матерые самцы, уткнувшие лобастые головы в землю, годовалые подростки с угловато выступающими лопатками и костлявыми хребтами, медведицы, окруженные стайкой свернувшихся в клубок медвежат. Место было глухим, как, впрочем, и любое другое в пиктских чащобах, и если б Конан мог взглянуть на него сверху, выглядело бы похожим на сизую, заваленную камнями плешь в обрамлении темно-зеленого густого ельника. К этому ельнику и стремился киммериец, пробираясь между холмами и стараясь, чтобы один из них всегда был сзади и прикрывал путников от любопытного взгляда. – Граф Троцеро, властитель Пуантена, благородный человек. Если я вернусь домой, граф отдаст отцовы земли… – Девушка вновь начала о своем. – А если я вернусь не одна… Конан внезапно замер и сделал ей знак замолчать. В полусотне шагов от них над вершинами елей с громким карканьем кружили вороны. Их было много; словно черные крылатые посланцы Нергала, они метались в голубых небесах, пророча беду. Конан сунул Зийне копье, сбросил с плеча арбалет и зарядил его. Мышцы на его могучих руках вздулись и опали: он натягивал тетиву, не пользуясь рычагом. – Что? – спросила девушка, оглядывая опушку. Нежное лицо ее посуровело, между светлыми бровями пролегли морщинки. – Птицы, моя красавица, птицы. Вороны! Кто-то их спугнул, клянусь бровями Крома! – Значит?.. – Значит, нас обошли! Проклятые лесные крысы! Заметив шевеление среди елей, киммериец пригнулся и дернул Зийну вниз. Над их головами с шипением мелькнула стрела, ударила в серый камень; наконечник рассыпался искрами кремневых осколков. – Туда! – Схватив девушку за руку, Конан потащил ее к ближним валунам. Их было три, целое медвежье семейство, залегшее на вечную спячку: пара медведиц, прижавшихся друг к другу носами, и огромный медведь, развалившийся неподалеку. Внутри каменного треугольника хватило бы места для человека и лошади, а защищать пришлось бы два прохода. Киммериец, мгновенно оценив преимущества этой позиции, толкнул Зийну внутрь и прижался к большему из камней. Тут же еще три стрелы вспороли мох на гранитном медвежьем хребте. Конан выстрелил, довольно кивнул, когда в ельнике раздался вопль, и, перезарядив арбалет, послал вторую стрелу. Ельник откликнулся протяжным волчьим воем. – Сколько их там? – спросила Зийна, приставив к камню копье и обнажая меч. – Один Нергал знает. Если пять или восемь, они покойники, а если два-три десятка, покойники мы. – Конан огляделся и указал девушке на более узкий из проходов. – Встань там и возьми копье, а не меч. Ты ловкая! Бей в грудь, в горло или в глаз, на полную длину древка, чтоб никто не мог к тебе приблизиться. Бей, малышка, и ты еще увидишь берега своей Алиманы! Стиснув копье, девушка встала, где велено. Конан покосился на нее и одобрительно хмыкнул. Отважна, словно рысь! Только что они шли по вересковым холмам, таким безлюдным и безопасным, и вдруг в одно мгновение все переменилось: враги атаковали их, и перед каждым путником замаячила мрачная тропа – последний путь, ведущий на Серые Равнины. Но на лице Зийны не было страха. Похоже, старый пуантенский рыцарь достойно воспитал свою дочь! Она обладала сердцем воина – твердым, как стальной наконечник ее зингарского копья. По камням вновь начали чиркать стрелы. Конан отвечал, чутко прислушиваясь к каждому вскрику и воплю, доносившемуся с опушки; лишь эти звуки да змеиное шипение метательных снарядов обнаруживали врага. Колчан киммерийца постепенно пустел, кровь его кипела – он жаждал схватиться лицом к лицу с этими смуглыми недоростками, что засели среди деревьев. Его меч и кинжал против их топоров и копий! Давняя неприязнь поднималась в нем; столь давняя и древняя, что первопричина ее поросла седым мхом, оделась камнем, покрылась снегами тысячи зим, развеялась пеплом мириад костров. Причины не помнил никто, но ненависть была жива. Веками сражались пикты и киммерийцы, не давая пощады и не захватывая пленных; а если уж это случалось, то пикт расставался с печенью на алтаре Крома, а киммерийца пытали у столба или живым подвешивали к деревьям в жертву лесным богам. И потому…* * *
«Стой! – беззвучно выкрикнул Трикси, но тут же разочарованно протянул: – Ошибка… Всего лишь ментально одаренный ребенок…» – Телепат? «На этом этапе своего развития вы неспособны телепатировать друг другу. Ментальный дар встречается, но лишь в латентной фазе. Восприятие чувств, настроений, ясновидение, способность к регулировке биоэнергетических полей – только это, и не больше. Что, в сущности, неудивительно – ведь вы используете мозг всего на три процента». – Неужели? – поразился Ким, перемещаясь из пиктских лесов поближе к реальности, на Президентский бульвар. – Только три процента? А остальное пропадает втуне? «Вовсе нет. Где я, по-твоему, нахожусь? В твоем сознании, в его латентной области, и область эта много больше закутка, который ты считаешь своим разумом. – Помолчав, Трикси задумчиво произнес: – Мне кажется, в том и состоит причина вашей ментальной резистентности. Вы не используете мозг даже на четверть, не знаете, как привести его в движение, как овладеть его ресурсами. Возможно, в силу своего нелепого метаболизма… Вот если бы вы дышали метаном… или хотя бы аммиаком…» – Больно вонючий, – возразил Ким, перекладывая кувалду с левого плеча на правое. Он уже шагнул к своему подъезду, но тут его озарила внезапная мысль. Остановившись, Кононов оглядел пустынный в вечернее время бульвар, лесок за серой лентой мостовой, громады домов с сияющими оранжевым светом окнами, блеклое небо и повисшую в нем луну – осмотрел все это и, не найдя ничего любопытного, поинтересовался: – Много народу ты уже отсканировал? «Девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть человек, – сообщил пришелец. – А что?» – А то, что осталось четыре миллиона с гаком. На самом деле больше: я каблуки стопчу, бродя по улицам, но люди тоже не сидят на месте – кого-то ты отсканируешь вторично, кого-то вовсе не найдешь. А если еще учесть приезжих, дачников и все такое… Боюсь, что поиск наш растянется на годы! «В Финляндии я справился за четырнадцать месяцев», – возразил Трикси. – Тут тебе не Финляндия, дружище. Сам говорил: финны не суетятся, не торопятся… А почему? Потому что живут в благополучном застое, а у нас эпоха перестройки, у нас народ шустрит и скачет. Ты хоть на Дрю посмотри! Утром он дома, потом в институте, потом на заправке и в мастерской, в три у меня, а после – у Леночки или у Анечки… а может, у Любочки, Милочки или Татьяны. Ну и где ты его найдешь? «Я его уже проверил. В нем нет инклина». – Тот тип, в котором есть, может быть еще шустрее. Сегодня он здесь, а завтра на Канарских островах или в другом Петербурге, который во Флориде. Трикси призадумался. Киму казалось, что он ощущает тоску и безысходность, которыми потянуло от пришельца, будто светлый июньский вечер вдруг превратился в январскую ночь, холодную и темную, когда на небе ни луны, ни звезд, а по бульвару свищет пронзительный ветер. Это чувство было таким внезапным и острым, что он содрогнулся и покачал головой. Потерять частицу сущности в миллионной человеческой толпе, разыскивать ее годами, зная, что за этой толпой другие, миллиардные, в которых потерянное сгинет, как золотая монетка в Марианской впадине… Трагичная судьба! «Что ты предлагаешь?» – наконец мрачно осведомился Трикси. – Я пораскинул своим трехпроцентным умишком и думаю, что тип, поймавший твой инклин, как-то отличается от нормы. Я ведь отличаюсь! – Ким небрежно поиграл кувалдой. – Пока ты в моем сознании, я, точно робот-трансформер, неуязвим и непобедим! Ты говорил, что инклин не просто сборщик информации, но может помогать носителю, содействовать его успехам… Значит, нужно отыскать везунчика! Такого, кому поперло год назад! Первым делом просмотреть газеты – может, объявился новый экстрасенс? Телепат, святой или целитель… Или кто-то исцелился сам… был паралитик, а теперь кидает молот и рекорды бьет… Или, скажем, у чиновника проснулась совесть, и он отдал свой особняк слепым детишкам. Дело неслыханное и потому… «… заметное, – промолвил Трикси. – С этим я согласен! Но симбиоз между инклином и носителем возможен лишь при сознательном контакте, чему мешает ваша ментальная невосприимчивость. Поверь, я изучил этот вопрос! Я пересаживал свои инклины с близкой дистанции и наблюдал реакцию людей. Она была неоднозначной и временами очень странной». – А поконкретнее? «Можно и поконкретнее. Так вот, одни инклин не замечают, и поведение их не меняется, другие испытывают дискомфорт различной степени, от беспокойства до сильного стресса. Есть такие, что временно сходят с ума… У третьих, в очень немногих случаях, вдруг пробуждается редкий талант, заложенный природой: эйдетическая память, дар гипноза, электромагнитная ориентация. Эффект, конечно, обратим – все исчезает с эвакуацией инклина. – Сделав паузу, Трикси пояснил: – Это определяется психологическим типом носителя, его способностью воспринимать инклин на подсознательном уровне. Люди разные, понимаешь?» – Разные, – согласился Ким. – Отсюда вывод: ты проводил свои опыты на финнах, а у нас другая ментальность, и потому реакции будут другими. Ты слышал поговорку: что русскому благо, то немцу смерть? «И что это значит?» – Возможность подчинения инклина. Представь, что человек-носитель возобладает над ним подсознательно, не ощущая его присутствия и считая, что в нем проснулся естественный дар – тот самый, заложенный природой… Как тебе этот вариант? «Он мне совсем не нравится, – без промедления откликнулся пришелец. – Не нравится, но исключить его я не могу. Ваш мир такой необычный и странный…» – Мир! Мир – это еще цветочки, а ягодки – наша страна, – промолвил Ким и зашагал к подъезду.ДИАЛОГ ШЕСТОЙ
Пальцы танцуют по клавишам мобильника, те загораются мягким зеленым светом. Долгие мелодичные гудки… Потом голос: – Слушаю. – Славик, ты? – Дарья Романовна? Даша, Дашенька, где же вы пропадали! Тут такое… такое творится!.. Мы все… – Помолчи, Славик. Где я была, неважно – считай, болела. Теперь выздоровела… Что с нашим заведением? – С заведением? Ммм… Можно сказать, процветает, Дарья Романовна! Налоги уплачены, аренду продлили, ассортимент расширили… Ну а доходы… Тут я, признаюсь, не в курсе. – Не в курсе? Ты мой управлящий и должен… – Я ваш, Дашенька, душой и телом ваш, но я уже не управляющий. Вы разве не знаете, что Павел Павлович поставил Ерчуганова? Его человек, его хозяйская воля и власть… Так что о доходах – к Ерчуганову, а я теперь хожу в завхозах. Продукты там купить, пиво завезти и протереть тарелки да стаканы… Молчание. Потом: – Я не знала. Ты, Славик, не думай, что я вас бросила. Я в самом деле заболела. Тяжелый случай помешательства… Бывает! Но проходит. Снова молчание. – Где вы сейчас, Даша? – В машине. В город еду. Уже проехала Парголово… Вот что, Славик, скажи Селиверстову… – Он, Дашенька, уже у нас не служит. Ерчуганов своих охранников привел. Зовутся секьюрити, а по виду – бандиты. – Ты, Славик, не перебивай хозяйку! Во-первых, скажи Селиверстову, чтоб завтра был на месте. Непременно! Во-вторых, ты не завхоз, а управляющий. Мой менеджер! Помнится, раньше мы без завхоза обходились. – А что с Ерчугановым? И с его качками? – Захотят по-доброму, уйдут. Не захотят, сделаю из них мясо по-цыгански. Или соус бешамель. – Простите, Дарья Романовна… ммм… не очень удобно спрашивать… а как же ваш супруг? – Думаешь, из него не получится соус? Тишина. Короткий смешок в трубке. – Понял. Осознал! Прочувствовал! Сказать Селиверстову, чтоб озаботился подмогой? – Сами справимся. Вот что, Славик… С квартирой – с той, что над баром, – все в порядке? – В полном, Дашенька. Ерчуганов про нее не знает, и Павел Павлович, думаю, тоже. – Пауза. – Только зачем вам в нее? Поживите у нас или хотя бы переночуйте. Оля моя, так с радостью! – Спасибо, Славик, спасибо, милый… Не надо. Не хочу для вас неприятностей. А еще… еще помнишь, что о кошках сказано? Кошки гуляют сами по себе.ГЛАВА 7 БИТВА В ЛЕСУ
Должен признаться, что мне приходилось убивать. Уже в зрелом возрасте я участвовал в Нефтяных войнах 2012–2014 гг., был переводчиком, но попал в окружение с ротой десантников и сражался за свою жизнь и жизни товарищей как солдат, штыком и автоматом. Был в Африке, в Ливии, Уганде, Эфиопии в качестве фронтового корреспондента, потом очутился на Кубе в дни Первого восстания, и в каждой «горячей точке» меня старались прикончить как минимум десятком способов, невзирая на мой журналистский статус. Я, разумеется, сопротивлялся; мне не хотелось покинуть этот мир, своих друзей, детей и горячо любимую супругу. Поэтому я убивал, хотя насилие и смерть ужасны. Я это точно знаю. Мне приходилось умирать.Дрю-Доренко не подвел, пригнал машину к трем, но засиделся у Кононова изрядно, болтая о всяких пустяках. Гость ведь, не выгонишь! И в результате Ким добрался к повороту на Крутые Горки лишь в шестом часу. Как сообщила цирковая девушка, дорога тут делилась натрое: прямо – магистраль на Приозерск, направо – шоссе похуже, к Соснову, налево – совсем уж дрянная дорожка с разбитым покрытием, ведущая в Горки. День был будний, и на всех трех направлениях царило затишье: не прятались в кустах гаишники, не рассекали атмосферу иномарки, и только время от времени скромно шуршали шинами «Жигули» или ковылял куда-то трактор с прицепом, полным навоза. Ким остановился у развилки, открыл дверцу, посмотрел на сосны и ели, толпившиеся по обочинам дорог, вдохнул свежий смолистый воздух и пробормотал: – Хорошо… Только камешка не хватает. «Какого камешка?» – поинтересовался Трикси. – Такого, вещего… На которомнаписано: прямо пойдешь – в ГАИ попадешь, направо свернешь – мотор разобьешь, налево свернешь – принцессу найдешь. «Значит, нам налево», – заключил Трикси. Вздохнув и покосившись на кувалду, дремавшую в ногах соседнего сиденья, Ким свернул в нужную сторону. Тихо подвывая, «Москвич» пополз от ямы к колдобине, от колдобины к яме; сосны, будто сочувствуя ему, зашелестели ветвями, потом раскатилась звонкая дробь ударившего в боевые барабаны дятла. Дорога, вначале прямая, стала петлять; как обычно в Карелии, холмы сменялись оврагами, хвойный лес – болотом или дикими зарослями малины, нетронутые чащи – делянками, где поработали пилой и топором. Если б не этот признак цивилизации, вид был бы точно такой, как в северных Пустошах Пиктов – ну, еще зверье отсутствует и дорога заасфальтирована… Как бы заасфальтирована, уточнил Ким, объезжая очередную воронку. Минут через пятнадцать справа потянулось болотце, потом завиднелся низкорослый ельник, а между болотом и ельником возникла тропка примерно двухметровой ширины. «Все, как говорила та девушка», – мелькнуло в голове у Кима. Он переключил с третьей на вторую передачу, повернул и двинулся на север, припоминая последнюю инструкцию: ехать дальше, пока машина не застрянет. «Москвич» уже не подвывал, а всхлипывал, стонал и трясся так, будто в пароксизме страсти хотел наехать на красотку – «Ладу», девственную, новенькую и блестящую. Но «Лады» в обозримом пространстве не нашлось, зато впереди замаячило что-то красное, угловатое, высокое и на колесах. Ким развернулся с горем пополам, заглушил мотор, вылез из машины и, крадучись, направился к яркому пятну. Оказалось, что это джип, просторный, мощный и абсолютно пустой. Осмотрев его, Кононов почесал в затылке, оглядел тропу, зажатую между болотцем и ельником, и произнес: – Похоже, мы опоздали, Трикси. – Он прикоснулся к капоту, почувствовал тепло еще неостывшего двигателя и добавил: – Если опоздали, то ненадолго. Совсем ненадолго. Думаю, минут на тридцать-сорок… Ну, приступай к трансформации! Теплая волна прокатилась от головы до пят, мышцы набухли и отвердели, и одновременно Кононов ощутил, как изменилось восприятие окружающего. Для него, горожанина, лес был местом для прогулок, не очень знакомым, однако вполне безопасным, как бы накрытым аурой четырехмиллионного города, исхоженным вдоль и поперек – пусть не им, но другими людьми. Теперь все изменилось. Он чувствовал себя в лесу как рыба в воде или краснокожий гурон в дебрях Онтарио; он был повелителем леса, его владыкой, охотником на хищных тварей, что прятались в лесных глубинах. Он был сильней и смертоноснее любого хищника и демона и знал об этом, он не боялся ничего, но помнил об осторожности – так, как помнит о ней тигр, выслеживая дичь. Сила, хитрость и опыт Конана, варвара из Киммерии, были с ним. Подхватив кувалду, Ким побежал вдоль дороги, прячась за деревьями и нюхая воздух. Чутье его обострилось, слабые запахи дыма и пищи, присущие человеческому жилью, стали внезапно ясными, различимыми; они пробивались сквозь аромат смолы и хвои, указывая направление. Он мчался бесшумно, огибая мохнатые ели, проскальзывая тенью в зарослях подлеска, перепрыгивая кочки и невысокие кусты; казалось, лес раздается перед ним и, точно зеленые морские воды, смыкается за спиной. Он различал шелест листвы, птичьи крики, далекие неясные скрипы и шорохи; потом в лесную симфонию снова врезалась звонкая дробь барабана – солировал дятел. Не успел он закончить, как Ким услышал вопли и, рухнув на землю, пополз к ближайшей елке. За ней открывалась поляна с маленьким хуторком: бревенчатый домик с верандой, пара низких покосившихся сараев с плоскими рубероидными кровлями, штабель дров между ними, колодец, будочка отхожего места и грядки, заросшие травой. Сараи, торчавшие левее домика и ближе к Киму, окружали пятеро мужчин – Гиря в распахнутой ветровке и четверо незнакомых качков, красных, потных и злых, словно быки, узревшие плащ матадора. На крыше сарая стояла женщина в сарафане, не скрывавшем крепких рук и длинных ног; глаза прищурены, губы стиснуты, ветер играет рыжими прядями. «Кажется, та, что на плакате со слоном», – отметил Кононов. Еще ее облик напомнил Киму Дашу, но выглядела она постарше и покрепче: налитая грудь воинственно топорщилась под сарафаном, бедра были шире, а кулаки – заметно увесистей. Гиря вытер пот со лба, махнул рукой: – Храпов, ближе к лесу встань, а ты, Шурик, у поленницы. Скакнет, так бей ее по костылям. Можно поленом, я разрешаю. Пара качков, плотный угрюмый мужчина и темноволосый парень, переместились, куда приказано. Рыжая на крыше подбоченилась, блеснула зубами в недоброй ухмылке. – По костылям, стервец? А если я пяткой в лобешник врежу? И добавлю в ухо? – Ничего, оклемается. Шурик у нас молодой, – отдуваясь и почесывая бритый череп, возразил Гиря. – А ты, Варюха, не суетись и раньше времени не скалься. Будь ты хоть дважды Тальрозой и трижды Сидоровой, попрыгаешь еще с полчасика и свалишься с копыт. Копыта ведь не слоновьи! Опять же судороги у тебя… лечиться надо… Вот и полечим. Женщина – не иначе, как Варвара, понял Ким, – топнула ногой. – Был бы ты один, козлина, я бы тебя полечила, прописала судороги! Катился бы до Питера с голым задом! Теперь ухмыльнулся бритоголовый: – Так я, Варюха, не один, а с четырьмя братанами. Не потому, что тебя испугался. Они, считай, сюда рвались, очередь занимали… Баба ты видная, мясистая – почему не позабавиться? И позабавимся! Конечно, если не скажешь, куда сеструху дела. – Я вам устрою забаву, – пообещала рыжая. – Тебе первому член откушу, гад ублюдочный! Гиря показал ей кулак с выставленным средним пальцем и распорядился: – Передохнули и хватит! Храпов и Шурик – на месте, Егор и Щербатый – на сарай! Станет дрыгаться, коленом промеж ляжек! Очень это баб успокаивает, если вломить с чувством, но в меру. «Выходит, Даши здесь нет, – подумал Ким, глядя, как двое качков шагают к сараю. – И где же она? В лес убежала, бросив сестру? Как-то не в ее характере… Значит, уехала в город, вчера или сегодня утром… А жлобы Пал Палыча сюда приперлись… Ну, как приперлись, так и выпрутся!» Егор со Щербатым забрались на крышу и, растопырив руки, медленно двинулись к женщине. Ким, не выдержав, фыркнул – сцена напомнила ему ловлю бабочек детишками. Правда, у этих «детишек» не имелось сачков, зато торчали за поясами резиновые милицейские дубинки, а рожи были хмурыми и в то же время плотоядными, словно у пары оголодавших кобелей. Один из парней – Егор, а может, Щербатый – внезапно подскочил к Варваре, но та, с неженской силой стукнув его в челюсть, выскользнула из расставленных рук, перепрыгнула на поленницу, а с нее – на крышу второго сарая. Видимо, этот фокус делался не раз и был во всех мелочах отработан – по дороге Варвара успела левой ногой выбить полено у Шурика, а правой врезать ему по затылку. Удар оказался неслабый – Шурик охнул, покачнулся, но устоял, откинувшись на груду дров. Потом выхватил дубинку и с угрожающим видом помахал ею в воздухе. – Ну, падла гребаная, погоди! Я тебе воткну! – Это и воткнешь, если больше нечем, сучонок вшивый! – откликнулась женщина. Повернувшись к Гире, она приставила ладонь к низу живота, пошевелила пальцами и насмешливо осведомилась: – А правда, что у всех отморозков здесь тоже отморожено? И что причиндалы свои вы держите в холодильнике? – Поймаю, узнаешь, – пообещал бритоголовый, затем, хмуря густые брови, оглядел помощников и произнес: – Так у нас дело не пойдет, братва, так мы до вечера провозимся. Вот что… Ты, Щербатый, останься на крыше, Храпов пусть следит, чтоб в лес не смылась, а мы ее на этом сарае возьмем. С трех сторон! Под черепом Кима проснулся Трикси: «Что они делают? Это какая-то игра? Национальный спорт? Такого я в Финляндии не видел!» «Такого нигде не увидишь, – заметил Ким. – Это Дарьина сестра. Они ее ловят». «Зачем?» «Хотят узнать, где Даша. А если не скажет, примутся насиловать». «Ни на одной планете, где дышат метаном… – начал Трикси, но тут же, не закончив фразы, возмутился: – Это мерзость, клянусь квазарами Галактики! Мерзость! Ты собираешься вмешаться?» «Еще как! Только не вырубай меня из образа, пока я их не успокою. И не давай советов. Советы, они хороши после драки». С этими словами Ким, извиваясь змеей, пополз в траве, желая подобраться с тыла к Храпову. Гиря с подручными уже залез на крышу, Варвара отступила на самый край и поглядывала то на троих противников, то на Щербатого, то на землю – видно, соображала, куда прыгать и куда бежать. Наконец, сделав изящный пируэт, она скакнула на поленницу, Шурик прыгнул вслед за ней, дрова под их тяжестью зашуршали, заскрипели и разъехались, сбросив непосильный груз. Варвара вскочила первой, с увесистым поленом, нацелилась Шурику в темя, но в этот миг с соседней крыши ринулся Щербатый. Он рухнул на женщину, сшиб ее наземь, но тут же дико взвыл – рыжая, похоже, знала, в какое место бить. Но было поздно: сзади на нее навалился Шурик, подбежавший Егор схватил за руки, а Гиря, поставив башмак на затылок, втиснул лицо в землю. Задыхаясь, Варвара билась под ними, как кошка под сворой жадных псов. До Храпова, с интересом следившего за свалкой, было три шага. Близко, совсем близко! Кононов поднялся с грозным ревом, одним прыжком пересек разделявшее их расстояние, швырнул качка в траву, занес пудовый молот. «Не убивай!» – пискнул Трикси. «Гуманист хренов…» – пробормотал Ким, но молота не опустил, ткнул упавшего носком в живот и, вращая над головой кувалду, направился к сараям, разбросанным поленьям и копошившимся на земле телам. Гиря его не заметил – увидел Щербатый, сидевший у стены с рукой на причинном месте. – Это что еще за хрен припадочный? Это… Ким легонько стукнул его в висок, проломил стену ударом молота, сунул обмякшее тело в дыру. – Этот хрен тебе не по зубам. Полежи, приятель, отдохни… Он повернулся, перехватил свое оружие посередине рукояти и огрел ею Шурика по хребту. Может быть, не Шурика, а Егора – они стояли рядом на коленях, пытаясь связать Варвару, а та сопротивлялась молча и отчаянно. Ким опустил кувалду, схватил насильников за шеи, стукнул лбами, потом, глядя в мертвеющее лицо Гири, медленно произнес: – Что, узнал фраера с Президентского? Чахоточного спидоносца? Вижу, узнал… Ну, на этот раз я погляжу, какого цвета у тебя печенка! Может, протухла и не годится на паштет… Ты, братан, циррозом не страдаешь? Он надвигался на бритоголового, усмехаясь, поигрывая мышцами, еще не решив, что сделает с ним – то ли и правда вырвет печень, то ли переломает ноги или оставит без ушей. Достойную кару он еще не выбрал, но был уверен в своей силе, в неуязвимости и в том, что может эту кару совершить. Кровь Нергала! Кто этот хмырь, чтобы тягаться с киммерийским варваром? Прах и пепел – а больше ничего! Он не увидел, как поднимается сзади Храпов, только услышал тихий щелчок предохранителя. Раздался гром, пуля вошла под лопатку, пробила сердце; с последним выдохом вспух и опал на губах кровавый пузырь, и Ким без звука, молча, повалился в траву. Отерев со лба холодный пот, Гиря с облегчением выдавил: – Фраер – он фраер и есть. Потом вытащил спрятанный под ветровкой пистолет и разрядил в грудь Кима.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Тьма и холод… Мрак, пронзительная боль… Казалось, он падает в пропасть, откуда не возвращаются, – летит долго, бесконечно и все не может достигнуть дна. Потом холод и боль отступили и словно растаяли, сменившись чувством умиротворения и покоя. Но он еще падал, падал в никуда, хотя полет уже не казался путешествием в вечность – скорее, дорогой к иному миру, опасному, но полному борьбы и жизни. «Я не умер, – мелькнуло у Кима в голове, – странно, но я не умер! Я падаю… Но куда?» Ощущение тела внезапно вернулось к нему. Он вдохнул прохладный воздух, услышал, как шумят ели, раскачиваясь на ветру, почувствовал жар нагретого солнцем валуна и тяжесть арбалета в собственных руках. Мир покачнулся, дрогнул и застыл, точно лесной пейзаж, вдруг воплотившийся в реальность. Эта реальность мнилась привычной, столь же обыденной, как Президентский бульвар, двор с киосками и скамейками, голубоватое летнее небо и дорога, петлявшая вдоль болотца. Он был Конаном, Конаном Варваром из Киммерии, странником, заброшенным в лесные дебри. И он сражался с пиктами.* * *
Стрелы кончились. Отбросив арбалет, Конан вытянул меч и взял в левую руку волшебный кинжал. Меч, добытый на «Морском Громе», казался ему совсем неплохим – обоюдоострый, с длинным прямым клинком отличной кордавской закалки. Правда, был он слишком узок и легковат для его руки, но выбирать не приходилось. Киммериец выступил из-за камня. Бешенство ярилось в его сердце, стучало молотом в висках; мышцы наливались тяжелой злой силой. Сейчас, перед битвой, он все позабыл: и остров Дайомы, безмятежно гревшийся в теплом море, и северный замок, где затаился сгубивший «Тигрицу» колдун, и девушку со светлыми волосами, глядевшую ему в спину. Он знал лишь, что стая волков загородила дорогу, и жаждал проткнуть им глотки острым железом. Припоминая пиктскую речь, он осыпал врагов руганью: – Смрадные псы, сыновья псов! Блевотина Нергала! Я, Конан из Киммерии, намотаю ваши кишки на свой клинок! Я заставлю вас подавиться собственной желчью! Я скормлю вашу плоть земляным червям! Выходите, крысы! Выходите, и посмотрим, чья кровь сегодня угодна богам! То был давний обычай – бахвалиться перед боем. Но Конан не хвастал: он готовился сделать все, что было обещано. Гнев его был велик; ярость подымалась жаркой волной в груди. Привычным усилием он остудил ее: ярость не должна туманить взор и слишком горячить кровь. – Выходите, потомки осла и свиньи! Да будут бесплодными утробы ваших жен! Да пожрет огонь ваши жилища! Да угаснут ваши очаги под ветром с киммерийских гор! Да сгниют ваши поганые боги! В лесу взвыли, и первый пиктский воин выступил из-под прикрытия елей. Был он невысок и коренаст, смугл и черноволос; черные его глаза сверкали, подобно двум угольям. На плечах воина топорщилась серым мехом волчья шкура, руки сжимали боевой каменный молот. Конан презрительно плюнул в его сторону. Все новые и новые коренастые фигуры выступали на поляну, скользя бесшумно и легко, словно тени с Серых Равнин, почуявшие запах свежей крови. Их было двадцать или тридцать, и Конан мог считать себя покойником, но это его не страшило. Он знал, что будь перед ним шемиты, офирцы или черные воины жарких земель, оставалась надежда победить или хотя бы выжить: он прикончил бы пять или десять человек, устрашив остальных. Но пикты не отступали никогда, и этот обычай становился непреложным законом, если дело касалось киммерийцев. Топча вереск, воины в волчьих шкурах ринулись к нему. Конан шагнул навстречу – но не слишком далеко от двух камней, прикрывавших его слева и справа. Тонко пропел зингарский клинок, перечеркнув кровавой полосой плечо и грудь первого пикта; волшебный нож рассек древко топора и вонзился в живот второму воину. Конан отбросил его пинком ноги и ткнул кинжалом прямо в каменное лезвие секиры, которым прикрывался третий из нападающих. Зачарованная сталь прошла сквозь камень, коснулась горла; пикт хрипло вскрикнул и повалился на землю. Трое! Конан оскалился в лицо четвертому врагу – тот, сжимая копье с кремневым острием, замер в нерешительности. За спиной его набегали новые бойцы, тоже с копьями и топорами; никто не нес лука и не собирался стрелять. Киммериец был слишком ценной добычей, и его хотели взять живьем – для украшения священной рощи, где пленник будет висеть и гнить долгие месяцы, радуя богов Леса, Неба и Луны. Конан сделал ложный выпад мечом, пикт выставил копье, но тут же выронил оружие, схватившись за живот. Меж пальцев его потоком хлестала кровь, в огромном разрезе – от ребра до паха – алели внутренности. – Я же сказал, что намотаю твои кишки на свой клинок, – произнес Конан, выдернув из страшной раны кинжал. Пикт, хватая воздух ртом, медленно осел в вереск. «Четверо! В такой компании не стыдно отправиться на Серые Равнины», – мелькнуло в голове у киммерийца. Он немного отступил в глубь прохода, разглядывая свирепые бородатые лица, тяжелые челюсти, по-волчьи ощеренные рты. «Доводилось ли этим воинам слышать о Конане из Киммерии, некогда – аквилонском наемнике, грабителе из Заморы, контрабандисте, разбойнике и пирате? Может, слышали, а может, и нет, – думал Конан, с бешенством орудуя клинком, – но эту встречу они запомнят надолго!» Его ярость, гнев и ненависть полыхали теперь холодным огнем, как и положено в бою: то был негасимый и сильный костер, питавший его упорство и силу. Он ненавидел пиктов ровно настолько, чтобы никого не жалеть, не замечать людей за людскими лицами, а видеть лишь хищные волчьи морды и лапы, грозившие ему каменными когтями. Да и кто признал бы людьми этих дикарей? Даже киммерийцы считались не столь варварским племенем; по крайней мере они пасли коз и умели ковать железо. Он свалил еще двоих: одному отсек плечо вместе с рукой, второму проткнул кинжалом глотку. Но каменный наконечник, метнувшись змеей, оцарапал Конану ребра, обожженная дубовая дубина задела по локтю, едва не выбив меч. Пробормотав проклятие, он отступил, обороняя свою щель меж камней, подобно гигантскому морскому крабу, атакованному акулами. Валуны не позволяли пиктам навалиться на него всей кучей, но он понимал, что скоро воины в волчьих шкурах заберутся на камни и нападут сверху. Или со спины, если ворвутся во второй проход. Второй проход! Отбиваясь от кремневых секир, он оглянулся на Зийну. Девушка еще держалась; в пяти шагах от нее лежали две неподвижные фигуры, и в каждой торчало по копью. Вероятно, Зийна метнула свое оружие с отменным искусством и силой, но теперь у молодой пуантенки остался только меч. Она уже не могла им убить, только оборонялась, отражая удары вражеских палиц и топоров. Большая сучковатая дубина свистнула над самой землей, ударив Зийну под колени. Она упала, скорчившись от боли, и Конан успел разглядеть, как сражавшийся с ней воин отбросил секиру, сорвал с плеча плащ из волчьего меха и набросил его на девушку. Она билась под серой шкурой, словно пойманная в сеть рыба. Пикт с торжествующим воплем упал на нее. Скрипнув зубами, киммериец ринулся вперед. Жестоким ударом в пах он опрокинул одного воина, рассек бедро другому, пронзил плечо третьему. Ошеломленные враги отступили, и Конан вырвался из своей каменной норы, будто карающий Ариман: глаза его сверкали, пот и кровь струились по мощной груди, меч и кинжал рубили плоть, дробили кости и черепа. Он был в ярости, и ярость эта, уже не холодная, а огненно-палящая, на миг устрашила даже пиктов. Но только на миг. Коренастые воины окружили киммерийца, набросились на него, как стая псов на дикого матерого кабана, дружно ударили копьями и топорами. Конан ощутил каменное острие под лопаткой, острый сук дубины, распоровший бедро; он рванулся, избежав оглушаюшего удара в висок. Он был сейчас почти мертвецом – если не трупом, так пленником, повисшим в священной роще рядом с Зийной. Этих ублюдков, этих вонючих лесных крыс было слишком много! Он уложил десятерых, но оставалось вдвое больше! Он чувствовал веревку, скользнувшую по шее, и другую, которой пытались охватить его колени; видел, как пикты разворачивают сеть, плетенную из кожаных ремней, слышал придушенные крики Зийны. Он рассек веревки, поднял меч и приготовился к встрече с Кромом. Живьем его не возьмут! Где-то за спиной загрохотали копыта, потом дико взвизгнул жеребец, волчьими голосами взвыли пикты; Конан, ткнув ближайшего мечом, перескочил через мертвое тело, вырвавшись из кольца. Никто не пробовал ударить его или набросить сеть – в двадцати шагах в окровавленном вереске шевелилась огромная груда рук и ног, темноволосых голов и серых шкур, дубин и топоров. От этой живой дергающейся кучи доносились стоны и рычание, а с десяток пиктов, только что пытавшихся пленить Конана, кружили рядом с ней, словно вороны, сжимая в руках молоты и копья. Внезапно куча распалась. Гигантская серая фигура с поднятым топором возникла над иссеченными телами, ноги в тяжелых сапогах расшвыривали их, точно расколотые поленья. Пикты ринулись к великану, ударили враз, уперлись остриями копий в живот и грудь, в спину и плечи. Топор серокожего опустился вместе с кулаком, и два воина покатились в вереск с пробитыми черепами. Затем исполин шевельнулся; треснули древки, бессильно расщепились кремневые острия, рукояти дубин дрогнули в ослабевших пальцах. Стальное лезвие секиры опять взлетело вверх, ударило, поднялось, опустилось… Серокожий исполин расправлялся с пиктами, будто со стаей крыс, и в этом было нечто унизительное. Нечеловек убивал людей – убивал походя, без усилий, столь же легко, как каменные воины короля Калениуса расправлялись некогда с восставшими зингарцами. Конан глядел, будто зачарованный, забыв о своих ранах и даже о Зийне, стонавшей и трепыхавшейся под плотным меховым плащом. Люди вступили в схватку с ожившим камнем; они пытались поразить его жалким своим оружием, опутать веревками, свалить на землю. Безуспешно! Топор и гранитный кулак сокрушали кости с тем же равнодушием, с каким дождь поливает землю и проплывают в небесах темные тучи. Тут, на вересковой поляне, в кольце елей, бился не человек, сражалась стихия – необоримая и мощная, словно удар молнии Митры. Пикты, однако, сопротивлялись. Пикты падали. Пикты умирали. Их осталось пятеро, потом – четверо, трое, двое… наконец, последний, истекающий кровью… Потом – никого. Одни пали в честном бою от руки человека, других сокрушила равнодушная сила голема. Никого! Только трупы в ало-сизом вереске, только вороны в вышине да конь в хлопьях пены, только женщина под волчьим плащом да двое мужчин, пристально глядящих друг на друга… – Кажется, я поспел вовремя, господин, – проронил Идрайн. – Но не жди от меня благодарности, нелюдь, – ответил Конан и сплюнул в окровавленный вереск.* * *
«Ким!» Голос был бестелесным, беззвучным – не голос, а мысль, будившая его. «Ким! Ким! Ким!» Он застонал, открыл глаза и поворочал головой. Над лесом низко висело солнце. Слева и справа – стены сараев, меж ними – груда разбросанных дров. Полено давило в поясницу. Он попытался вытащить его, не смог, уперся руками в землю и сел. Рубашка на спине и груди была мокрой, набухшей кровью. «Ким!» – Я здесь. – Кононов сильно потер ладонями щеки. – Я живой? «Живой. Восстановление заняло двадцать две минуты сорок секунд». Ким задумался. Сила прибывала с каждым мгновением, но мысли медленно ворочались под черепом. Он пересчитал дырки в залитой кровью рубахе. Пять! – Восстановление, говоришь? Ты меня с того света вытянул! «Мозг не поврежден, и это было несложно, – заверил Трикси с ноткой гордости. – Вот с тем сантехником пришлось повозиться. Видел бы ты его! Шестой этаж, как-никак». В голове у Кима просветлело. Он расстегнул рубашку, ощупал кожу, потом дотянулся до левой лопатки. Ни следа ран, ни рубцов нет, ни шрамов, ни царапин! – Зря я тебя послушал, – произнес он с глубоким вздохом. – Надо было того бандита – Храпова, что ли?.. – пришибить. Да и всех остальных, пожалуй. Мы ведь не метаном дышим – кислородом, а он не содействует гуманности. «Моя ошибка. Готов признать: ты лучше меня разбираешься в ситуации, – покаялся Трикси и после паузы добавил: – Если бы стреляли в голову, мы оба были бы мертвы. Больше я не стану мешать. Действуй в согласии с вашим земным обычаем». – То-то же! – сказал Ким, поднимаясь. Он прихватил валявшуюся рядом кувалду, прокрался вдоль стенки сарая, выглянул из-за угла и облегченно перевел дух. Варвару – чего он втайне опасался – еще не насиловали. Она стояла на коленях у колодца, над баком для кипячения белья; Шурик с Егором держали ее за плечи, Щербатый, вцепившись в рыжие волосы, совал ее голову в бак. Гиря, почесывая в затылке, наблюдал за этой сценой, а Храпов, развалившись на травке, курил. Пейзаж казался столь же мирным, как если бы дачники отстирывали скатерть после обильного пикника. Щербатый поднял голову Варвары. Глаза ее были выпучены, широко разинутый рот жадно хватал воздух, по лицу стекала вода. – Ну, припоминаешь? – сказал Гиря. – Значит, дело было так: вы с сестрицей и с этим Олегом, хахалем твоим, рванули за город, на дачу. Хахаль отвез вас, оставил колеса и умотал электричкой. А дальше что? Колес-то нет! Выходит, сестрица уехала? – У-е-хала, – с трудом выдохнула рыжая. – А куда? – Н-не з-знаю! – Это плохо, что не знаешь. Это, Варька, не по-родственному! Пал Палыч тебе ведь родня? Родня! И свое желает забрать, не чужое! Собственную жену, любовь свою сладкую, единственную! – Гиря подмигнул помощникам, и те заржали. – Ну, так где она? Куда винта нарезала? В глазах рыжей зажглась ненависть. Она мотнула головой и прохрипела: – Ищите! – Так у нас базара не получится, – вымолвил Гиря. – А знаешь, что делают с теми, кто не отвечает за базар? Мочат их, Варька, мочат в натуре! – Он махнул Щербатому и распорядился: – Ну-ка, окуни ее, прополощи извилины! Вдруг вспомнит. А не вспомнит… – На травке разложим, – подсказал Шурик и жадно облизнулся. – Разложим, – кивнул Гиря. – Только ты будешь в задних рядах. – Это почему? – А потому, что самый моложавый и вообще «шестерка». Окунай! Варвару снова сунули в воду, а Ким несколько раз присел, согнул руки и поворочал шеей. Тело повиновалось ему, как точный, готовый к битве механизм. Матрица Конана также была на месте, распространяя ощущения могущества и смертоносной холодной ярости. Конан Варвар точно знал, кого и как прикончит. – Вытаскивай! – скомандовал Гиря. – Ну, припомнила, гадюка рыжая? – Н-ничего… н-ничего н-не припомнила, – еле ворочая языком, произнесла Варвара и плюнула на башмак Щербатому. – Не найти вам Дашку, волчарам позорным! Не найти! Все зря! Меня зря мучаете и парня зря убили! Гиря сдвинул густые брови. – Ты о себе заботься, не о том фраере! Он копытца откинул, а ты, сучка, пока что жива. С тобой мы по-нежному, по-хорошему, а фраера кушают мураши. Может, уже и съели. – Не съели, – сказал Ким, выступив из-за угла. Движения его были стремительны, словно ветер нес над землей мощное тело; ступни едва касались травы, тяжелый молот со свистом вращался в воздухе. Он ударил Храпова ногой в висок, опустил кувалду на бритый череп Гири, вырвал ее, ломая кости и разбрызгивая кровь, снес затылок Щербатому и, дернув молот на себя, всадил рукоятку под челюсть Егора. Шурик, оцепеневший на мгновение, вскочил и бросился бежать, но кувалда мелькнула в лучах вечернего солнца, догнала и с хрустом врезалась между лопаток. Ким подошел, поднял ее, брезгливо сморщился и сунул в бак с водой. Варвара глядела на него, сидя на корточках и приоткрыв рот. Глаза у нее были темные, как зеленоватое бутылочное стекло. – Ты… ты ведь умер! В тебя стреляли! – А вы видели? Вам этот, – он шевельнул ногой голову Гири, – на затылок наступил. – Я слышала! И видела, что ты мертв, когда меня к колодцу потащили! И рубашка у тебя в крови! – Царапина, – пояснил Ким, присаживаясь напротив женщины. – Но если говорить серьезно, пулей меня не убить и ножиком не зарезать. Я, Варвара Романовна, умею стимулировать регенерацию. – И где такому учат? – В Тибете, у буддийских монахов. Искусство бусидо фэншуй. Варвара, будто не веря своим глазам, покачала головой и бросила взгляд на бездыханные тела. – Этому монахи тоже учат? – Всенепременно, – подтвердил Ким. – Они хоть монахи, а шутить не любят. Опять же бандит – он и в Тибете бандит. – Полезная штука, особенно для цирковых… – пробормотала женщина. – Научишь? – Никак не могу, Варвара Романовна, далай-лама не велел. К тому же в период обучения – а длится он восемь лет – необходимо соблюдать аскезу. Это, я думаю, не для вас. Губы женщины вдруг задергались, она спрятала лицо в ладонях и то ли зарыдала, то ли захохотала, глухо и хрипло, содрогаясь всем телом, раскачиваясь и царапая ногтями лоб. «Истерика», – подумал Ким, придвинулся ближе и, обхватив ее за плечи, начал гладить по мокрым растрепанным волосам. – Все хорошо, Варвара Романовна… они мертвы, и вам ничто не угрожает… все хорошо… я рядом, я здесь, чтобы вас защищать… Дрожь постепенно стихала, рыдания сделались тише. Наконец, она вытерла глаза и щеки, сбросила с плеч руку Кима и буркнула: – Я в порядке. Ты вот что… ты меня Варей зови. – Ким Кононов, писатель. Ваш сосед, – отрекомендовался Ким. – Еще – знакомый Даши. Варвара ахнула, отстранилась и уставилась на него во все глаза. – Мамочки мои… так ты тот самый парень… Дашка говорила, лежит в больнице, в бинтах и синяках… – Он самый, только без бинтов, – подтвердил Ким. – Бинты – мелочь, чепуха… в общем-то, для маскировки. – А сюда ты как добрался? – С Дашей хотел повидаться, а в цирке объяснили, где вас искать. – Ким извлек кувалду из бака и стал обтирать ее пучком травы. – Люди мы не чужие, Варя, и думалось мне, что помощь вам нужна. Сердце подсказало. – Сердце… – протянула Варвара, вставая и одергивая сарафан. – Ошиблось твое сердце: Дашка в городе, а я не героиня твоего романа. – Не ошиблось, – возразил Ким, кивая на трупы. – Писателю нужны разнообразные впечатления. – Он тоже поднялся и оглядел поляну. – Камни тут есть? – Камни? Зачем тебе камни? – Покойников в болоте утоплю. Глубокое болото? Варвара махнула в сторону деревьев: – Вон там, в сотне метров, озеро есть. Такая промоина, что дна не достать… Справишься? – Справлюсь. Только вот что, Варвара Романовна… вы уж простите, проголодался я… Регенерация требует массу энергии, так как сдвигается цитологический баланс, а это грозит паратаксисом. Опять же гормоны… Женщина усмехнулась и погрозила ему пальцем: – Гормоны ты для Дашутки оставь. Бандюг со двора убери, а я уж тебя накормлю. Потом поговорим… спаситель!* * *
Но в этот вечер им побеседовать не пришлось. Одолев огромную сковороду картошки со свининой, Ким сомлел – то ли от обильной еды, то ли от треволнений и произошедшей с ним метаморфозы, а может, от всего разом. Не каждый день случается погибнуть самому, воскреснуть и посчитаться с обидчиками, отправив души их в астрал, а плоть – в глубокое лесное озеро! Он размышлял об этом, лежа в маленькой Дашиной горнице, на Дашиной кровати, касаясь щекой ее подушки, что пахла так сладко и тревожно… События этого дня мешались с хайборийскими видениями, битва у колодца переплеталась с боем в Пиктских Пустошах, Гиря и его подручные вдруг превращались в дикарей, одетых в волчьи шкуры, но целивших в Кима – или в Конана? – из автоматов «узи» и базук. В общем, смесь была как раз такой, чтобы наполнить его сны кошмарами, но выручил Трикси – сделал так, что снилась Киму прелестная Даша, плясавшая то на спине у слона, то на выстланной рубероидом крыше сарая, то на поленнице дров. Ким проспал до десяти, улыбаясь этим чудным снам, а когда пристроился к столу позавтракать, Варвара осмотрела его, вздохнула и промолвила: – Симпатичный ты парень, и есть в тебе кураж, и возрастом Даше подходишь, не то что ее шмурдяк… Дай вам господь! Только вчера, по-моему, ты был повыше и покрепче. Или у меня в глазах двоится? – Не двоится, – заверил ее Ким. – Это все тайцзи ушу… то есть бусидо фэншуй. Стимуляция мышц при помощи биоэнергетической накачки. Тоже тибетская методика. – Надо же, – покачала головой Варвара. – Ты такой молодой, а уже писатель и боец, и даже в Тибете побывал! – Не был я в Тибете, – отозвался Ким, поглощая яичницу. – Меня тут обучили, в буддийском дацане в Лисьем Носу. Есть там два монаха, из наших, питерских… один – Рабинович Мойше Лейбович, а другого зовут Оронг Ханты Манси… Ох, и крутые! – Он проглотил кусок и спросил: – А почему вы, Варя, Тальрозе-Сидорова? Это что же, псевдоним? – Вовсе нет. Мы, Кимчик, из цирковых, а это нация особая, где всякие крови перемешаны… – Варвара подперла щеку кулаком и снова вздохнула. – Тому уж века полтора, как две цирковые семьи породнились, Тальрозе и Сидоровы… От них мы и происходим. Кто на канате работал, кто на трапеции или с першем… еще жонглеры были, дрессировщики и акробаты. Я вот на слоне кувыркаюсь… – А Дарья? – Что Дарья? Бросила наше ремесло, а счастья не нашла… Деньги у нас были, Ким, золото в червонцах, еще от дедов-прадедов, с Николашкиных времен. Продали, когда Союз накрылся. Я квартиру купила, шмотки, то да се… А Дашка говорит: не стану транжирить, в дело пущу. Она, Дашка-то – голова! Деловая! Уродилась в Ангелину, нашу прапрабабку, а та цирком правила, сама, говорят, на кассе сидела! Крепко сидела – грош меж пальцев не проскочит! Дашутка вся в нее… Опять же красавица! Поулыбалась кому надо, дали ей аренду, бар открыла на Фонтанке… И так у нее дело пошло, так пошло!.. – Что за бар? – спросил Ким, намазывая маслом четвертый кусок хлеба. – Зовется точно по твоей фамилии – «Конан». Мужик такой был, из греков или римлян. Большой герой! В Троянской войне сражался или в Пунической с Ганнибалом… Не помню. Я, Кимчик, не сильна в истории. Кононов вздрогнул, чуть не подавившись хлебом. Он знал про это заведение! Он его помнил! Он даже был в нем… Бар «Конан»[657] неподалеку от Графского переулка и Аничкова моста! Года три тому назад Халявин собрал там конанистов и сотрудников редакции – отмечали выход в свет пятидесятого тома и начало новых серий про Кулла Валузийского и Рыжую Соню. Ели бифштексы, пили пиво, закусывали креветками и соленым миндалем… Ким даже вспомнил метрдотеля или менеджера – такого щуплого, юркого, смешливого… Халявин книжкой его одарил – «Конан и леопард с Гирканских гор». – Конан, а ты – Кононов, – задумчиво повторила Варвара. – Видать, судьба! Мы, цирковые, в судьбу верим. – А дальше что было? С Дашей и баром? – Ким прикончил яичницу и отхлебнул чаю. Рыжая подвинула ему варенье. – Ну, как водится, стали Дашутку тянуть под «крышу». Трое приходили или четверо – отбилась. Потом и Пашка этот заявился, Чернов Пал Палыч… Бизнес у него ресторанный по всему городу, а сам из бывших таможенников, на водке паленой приподнялся. Увидел Дашку и с ума сошел. Ты, говорит, драгоценность, изумруд, тебя в оправу из брильянтов надо взять и золотом чеканным обложить! Иди, мол, за меня красавица, и все тебе будет – и «крыша» надежная, и норки с соболями, и брильянты с кадиллаками, и вилла на Канарских островах. Дашка посмеялась. Не хочу, сказала, на Канарах, а хочу в Акапулько. И что ты думаешь, Кимчик? Приполз через месяц, ключи притащил! – Надо же! – удивился Ким, наворачивая варенье. – Ходил он за ней, ходил, а Дашка – умница! – не отваживала. «Крыша» и впрямь надежная, и лучше такой защитник-ухажер, чем отморозок с Лиговки… Но замуж за него не собиралась. А год назад взяла и собралась! Приворожил ее будто… Околдовал! И после свадьбы я ее не видела и дозвониться не могла. Держал как птичку в клетке… Дашка звонила иногда и бормотала что-то несусветное – мол, талисманом меня считает, думает, счастье со мной привалило, начал всерьез богатеть. Говорит такое и плачет… Я ей – уходи, беги! Она опять же плачет – не могу, любить приказано и быть при нем. А почему? Не знаю… – Варвара покачала головой и тихо прошептала: – Темное дело, чародейное… Ким нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Мысль ускользала, пряталась, таилась, пока он не взмолился Трикси: «Помоги!» И сразу всплыли склад – «корабль», стол, пивные бутылки и трое за столом, Мурад и его похитители, а следом припомнились слова: «Дашка у Палыча привороженная… экстрасенса нанял или ведьму… поперло ему – и с Дашкой, и с ресторанами, и в прочем бизнесе-шминдесе…» Он отставил кружку и сказал: – Чародейное? Ну-ну… Это по моей части. С этим я, Варя, разберусь. Тем более что чародей халтурный – Дарья ведь все-таки сбежала! На сочных губах рыжей мелькнула мечтательная улыбка. – Сбежала, да… А как сбежала, знаешь? У Пашки усадьба в Комарово, там и живет, с охраной и прислугой. Звоню. Трубку качок поднимает, зовет, как обычно, хозяина. Я – стонать да рыдать… Упала, мол, на репетиции, вывих или перелом, думала, пройдет до вечера, а сейчас болит, хоть на стенку лезь, еле до телефона доползла. Ночь опять же, никто не едет… Он мне: у меня поедет! Хочешь, «Скорую» вызову или своих врачей пришлю, с сиделками. А я: Дашу хочу, сестренку!.. в участии нуждаюсь!.. И вою в голос. Он подумал и говорит: сам приехать не смогу, гость у меня деловой, а Дашенька одна не выезжает. В остальном чего хочешь проси, хоть академика медицинского! Приедет, ногу отрежет и новую – хе-хе! – пришьет. А я: не отпустишь Дашку, тебе же хуже. Узнает как-нибудь, что про сестру больную скрыл, устроит тебе семейную жизнь! Уговорила, словом… Ким – ушки на макушке! – сидел, слушал, не перебивал. История, будто у Алисы в Зазеркалье, делалась все интересней и интересней. – Я ведь что удумала? – сказала Варвара. – Я удумала такое: приедет Дашка, войдет ко мне с охранником, а у меня Олежек, парень крепкий, и мы того охранничка повяжем. А там, по ситуации, в дверь или в окно, и к Игорю – он ждал с машиной во дворе. Только нас и видели! Ну, сторожу у окошка, гляжу на улицу – сестренка подъезжает, но не ко мне идет, а вдруг пустилася в бега! А мужики-охранники – за ней! Мы с Олегом через окно во двор, перехватили Дашутку и деру, пока ты с теми мужиками бился. Ты прости нас, Кимчик, что не помогли… Я уж думала – наше счастье, пьяный на охранников полез, задержит… – Зачем мне помощь? – отозвался Ким, небрежно шевельнув бровями. – С фэншуйным карате бандиты не страшны. То есть я хотел сказать, не с карате, а с бусидо. – А Даша говорила, сильно тебя покалечили… – Я ведь объяснил, что это видимость одна. Кодекс у нас, у бусистов, такой: злодея сразу не бить и даже не очень сопротивляться. Вдруг в совесть придет, одумается? Ну, а если настырничает… – Скорчив жуткую гримасу, Ким грохнул кулаком о стену. Варвара с пониманием кивнула головой и начала прибирать со стола, приговаривая: – Поеду в город с тобой, у Олежки поживу, в вагончике… Что тут куковать, раз Даши нет? Она, знаешь, час-другой была, как под кайфом, потом отлежалась, к тебе в больницу съездила, а там мы за город собрались. Только не усидела здесь. К своим, говорит, поеду, к Славику, Маринке, Лене… все из ее заведения… Шмурдяк заявится – отобьюсь, а то и башку продырявлю! Гордая она, Дашка… насилия над собой не прощает… Ты уж за ней, Кимчик, пригляди! – Пригляжу, – промолвил Ким. – Вас отвезу, заеду к приятелю, отдам машину и к ней. Может, Дарья у меня поживет? Варвара усмехнулась: – Может, и поживет! Как договоритесь. Оглядев Кима, она исчезла в своей комнате и возвратилась с синей, тщательно отглаженной рубашкой. – Эту надень, Олежкину. Твою я выбросила. Вся в кровище… Через полчаса они зашагали по ухабистому тракту вдоль болотца. Ким сгибался под тяжестью кувалды, а рыжая шла налегке, о чем-то размышляла, посвистывая птицам да швыряя в болото еловые шишки. Когда миновали красный джип, она плюнула в его сторону и спросила: – А скажи-ка, Ким, велики ли у писателя доходы? Кононов, отдуваясь, переложил кувалду на другое плечо. – Знаете, Варя, что говорят издатели? Российский писатель должен быть тощим, нищим, голодным и пьяным. Чтоб адекватно отражать российскую реальность. – Выходит, доходы небольшие, – заключила Варвара. – Ну, ничего, Дашутка тебя подкормит и приоденет! А издатели твои сквалыги, вруны и сволочи. Вот Лев Толстой… Тоже писатель был, а граф! Богатый, сытый и с поместьем! «Войну и мир» написал! – Реальность была другая, – заметил Ким, распахивая дверцу «Москвича».ДИАЛОГ СЕДЬМОЙ
– Не нашли? – Нет, Пал Палыч. Джип на месте, дом пустой, дрова раскиданы, натоптано везде, и у колодца все в крови. Кровь вчерашняя, подсохлая, но пятен, как на скотобойне, – и на траве, и на колодезном срубе, и на бачке для воды. Словно свиней кололи… – Хмм… Ты, Толян, не увлекайся, давай без аналогий. Что еще? – Еще следы, Пал Палыч. Тачка подъезжала, «жигуль» или «Москвич», протектор в грязи отпечатался. И кроссовки! Шастали от колодца в лесок, а там – к пруду… Даже не пруд, а полынья в болоте, глубокая и с топким берегом… Отпечатки ясные, будто тащили тяжелое и не раз. – Тяжелое, говоришь? Хмм, тяжелое… И какие мысли у вас с Сашком зародились? – А что тут рожать, Пал Палыч? Подвалил мужик на тачке, угробил наших и сбросил в прудик. Потом отвалил. Может, с бабами, может, один. – Гирю угробил и четверых бойцов? С оружием? Плохо верится, Толян! – Не верите, а зря. Если тот, что со склада утек, так очень может быть. Мы его с Сашком тащили – на ощупь бациллистый, а как он Гирю приложил! И Коблова с Петрухой! Такому убить, что пива выпить! – Боишься? – Боюсь, Пал Палыч! Я ведь не из Гириной бригады, к крови непривычен… И свою жаль! Долгое молчание. – Вот что, Толян… Ты фокусника того на рожу помнишь? – А как же! С Сашкой везли, в подвал к Мураду кантовали… Как не запомнить! – Знаешь кабак на Фонтанке? Бар, откуда Ерчуганова вышибли? – Знаю. Возил туда спиртное. – Ерчуганов там поблизости ошивается, следит. Сказал, заявился тип какой-то, тощий и с огромным молотком. Не пьет, а усадили на почетном месте… Ты прогуляйся вечерком, в окошко загляни. Вдруг узнаешь? – А если он меня узнает? – Я что сказал, лохастый недоумок? Я сказал, в дверь не лезь, в окошко загляни! Окна там широкие, большие… Понял, чмо? Вздох. Потом с сомнением: – Ну, ежели в окошко… – Иди, Толян, иди… И во дворе не ошивайся, в город езжай, на склад. Устал я от тебя…ГЛАВА 8 БАР «КОНАН»
Киплинг сказал: есть шестьдесят девять способов сочинять песни племен, и каждый из них правильный. Путей, ведущих от мужчины к женщине, гораздо больше, но в правильности их тоже не приходится сомневаться. Мы идем по этим дорогам и неизменно достигаем цели – ведь, в конце концов, человечество еще не вымерло!Кровать была широкой и мягкой, с голубоватыми простынями и тонким, легким, но удивительно теплым одеялом. Возможно, ощущения мягкости и теплоты исходили от спавшей рядом женщины – ееголова прижималась к плечу Кима, рука обнимала шею, рыжие волосы рассыпались по его груди. Он лежал, боясь пошевелиться, слушал ее тихое дыхание, смотрел, как светлеет окно за плотно задернутой шторой, и вспоминал, вспоминал… Было ли это вчера или полвека назад? Все-таки вчера; через пятьдесят лет эти рыжие локоны поблекнут, лягут морщинки на нежную кожу, губы станут не такими сладкими… И что с того? Он будет любить ее по-прежнему, ибо любовь не только физическое влечение и не восторг перед женской красотой, а нечто большее – созвучность душ, соединение сердец, радость, которую даришь и получаешь той же мерой, щедро, без оглядки. Еще, конечно, благодарность. «За что я буду благодарен ей – тогда, через половину века? – раздумывал Ким. – За прожитые вместе годы? За наших дочерей и сыновей? За счастье любоваться ею, слушать ее голос? За то, что она – моя Муза, моя Дайома, фея с волшебного острова?» На этом острове он появился вчера и обнаружил, что за прошедшее время как будто ничего не изменилось. Разве что вывеска – «Бар „Конан“» – была поменьше, зато из бронзы, а сразу за дверью торчал серьезный человек размером шесть на девять – не иначе как Дашин секьюрити. Зал все тот же – квадратный, довольно просторный; потолок и стены отделаны дубовыми панелями; напротив входа – стойка бара; столики вдоль стен числом двенадцать, а тринадцатый стол – в углу и слева, на возвышении – не предназначен для посетителей: там, в огромном кресле, сидел восковой Конан, сжимавший в кулаке гигантскую кружку. По стенам было развешано оружие из дерева и жести, секиры и мечи, щиты и кольчуги, а также знамена с таинственными разноцветными гербами; большие зеркала за стойкой делали помещение глубже, отражая сияние факелов-светильников. В середине зала – пустое пространство в семь шагов поперек; сверху свешивается демон с клыками и алыми электрическими глазками. Демон со злобой разглядывал Конана, будто собирался его съесть. Перешагнув порог, Ким выбрал место у окна, уселся и со вздохом облегчения пристроил у стены пудовую кувалду. Шесть часов, народа немного – компания парней у стойки да четыре парочки. Парни пили пиво, закусывали креветками и обсуждали лотерейный бизнес, парочки шептались над бокалами шампанского и красного вина. За фигурой Конана – распахнутая дверь; оттуда тянуло вкусными мясными запахами и доносилась перекличка поваров. – Чего желаете? Рядом с Кимом вырос молодой официант: суконная рубаха-безрукавка, наплечники из жести и кожаный пояс с подвешенным слева кинжалом. Справа за поясом виднелся мобильник. – Аквилонец? – спросил Ким, обозревая наряд официанта. – Или немедиец?[658] – Простите? – Если аквилонец, тащи бифштекс и пива, а если немедиец, куска не съем, глотка не выпью. Еще отравишь! Парень впал в задумчивость, затем насторожился, бросил взгляд на кувалду, на секьюрити, торчавшего в дверях, и сообщил: – Мы травим посетителей лишь в особых случаях. Персон нон грата. Вы не из таких? – Я – Конан! Живой Конан! – заявил Ким, слегка пристукнув по столу ладонью. – Как я могу здесь быть персоной нон грата? Я только требую аквилонского сервиса. Хочу, чтоб обслужил меня не маркитант, а юная очаровательная дева. Желательно зеленоглазая и рыжая. Официант вздрогнул и снова покосился на секьюрити. – Простите. Один момент… Сейчас сбегаю за девой. Но вместо девы к столику Кима приблизился менеджер – тот самый щуплый и юркий, но отнюдь не смешливый. На этот раз глаза его были холодны, как ванахеймский лед. – Говорите, вы Конан? Живой? – Кровь Нергала! Он еще сомневается! Могу паспорт показать с киммерийской пропиской. Парни у стойки, почуяв скандал, обернулись. Две парочки поспешно выскользнули вон, а секьюрити напрягся и многозначительно уставился на Кима. Щуплый менеджер постукал себя по виску: – Вы в своем уме? – В своем. Натурально в своем, раз деву требую! – Ким наклонился и зашептал: – Скажите ей, что Конан Варвар исцелился в лазарете и отомстил пиктам за обиды. Теперь готов спасать ее от колдуна. Только поесть бы сначала и выпить… – Так и передать? – набычился щуплый. – Так и передайте. В точности эти слова, а еще привет от Варвары Романовны. Менеджер вздрогнул, побледнел и ринулся к двери, распахнутой за молчаливо пировавшим Конаном. Вернулся он минут через пять, с любезной – можно сказать, дружеской – улыбкой. – Давайте знакомиться. Слава Канада, главный местный… э-э… маркитант. – Интендант, – поправил Ким. – Маркитанты подают, а интенданты снабжают и командуют. А я – Ким Кононов. Явился с Пустошей Пиктов, с Крутых Горок. Там… Представив, ч т о там было, он смолк и помрачнел. Убить легко, а вспоминать жутко… живые люди, как-никак, хоть мерзкие и подлые… Для Конана такое раз чихнуть, а для него и Трикси – мука! «Странно, – подумалось ему, – Конан вроде человек, а Трикси – существо чужое, непонятное, пришелец и бестелесный разум… Но в плане морали и этики Трикси был ближе, чем киммерийский варвар». Слава, не заметивший его терзаний, произнес: – Что там произошло, мы в курсе – Варвара Романовна уже звонила. И обрисовала… так, в общих чертах… Ну, не будем о грустном! Велено мне вас напоить, накормить и проводить к очам зеленым. – Он вдруг подмигнул. – Очи-то хороши, а? – Хороши, – со вздохом согласился Ким и показал на воскового Конана. – Вот этого лучше уберите. Во-первых, не похож, а во-вторых, я там сяду. Чтоб видели, под чьей охраной заведение. – Как прикажете. – Кивнув, менеджер повернулся к серьезному мужчине при дверях. – Селиверстов! Не в службу, а в дружбу – убери чучело! Сунь в кладовку, где компот из персиков и груш. У нас теперь живой Конан на балансе. Ким с неторопливостью поднялся, прихватил кувалду и, провожаемый любопытными взглядами парней у стойки, проследовал к огромному креслу и почетному столу. Вокруг него захлопотали трое: Артем, давешний аквилонец-немедиец, и две девицы, Марина и Лена. Пиво, жаркое, картофель фри, салаты, мясное ассорти, орешки… Кононов ел, чокался кружками со Славой и, поглаживая рукоять кувалды, плел истории о хайборийских делах. О драгоценностях Траникоса и тенях Замбулы, о мерзких богах Бэл-Сагота, о Стигии и Черных Королевствах, о ледяном великане Имире и гномах, что роют золото в холмах Гипербореи. Не забывал он точно указать, какому магу вырвал печень, какого демона располовинил и скольким пиктам, ванам или асам выгрыз горло либо послал их на Серые Равнины с намотанными на нос кишками. Славик, то подмигивая Киму, то подливая ему в кружку, с серьезным видом интересовался, как приготовить кебаб из дракона, взять ли мясо с ляжки или с хвоста, и почем услуги гейш в Аргосе и Коринфии; Ким солидно объяснял про ядовитость драконьей плоти и то, что лучшие девки в Шадизаре, а берут они туранскими крузейро, по монете за ночь. Бар между тем наполнялся; Артем с девицами не успевали разносить, парни у стойки сосали по четвертой кружке пива, прочий люд не отставал, внимая сказаниям киммерийца, и, судя по всему, выручка ожидалась рекордная. Ким доел последние салаты и, опираясь на кувалду, встал. Его ощутимо покачивало; лица, обращенные к нему, двоились, прыгали яркие отблески на жестяных доспехах и секирах, а свет электрических факелов трепетал, будто раздуваемый незримым ветром. Вдобавок в ушах шумело, и речи Славика, тянувшего его к дверям, стали совсем неразборчивы. «Трикси!» – воззвал Кононов к своему неразлучному духу. «Нейтрализую! – грохнуло под черепом, и тут же, печальнее и тише, раздалось: – Но поиски безрезультатны, Ким… Сканировал несколько тысяч, пока мы сюда добирались, но никаких следов инклина…» «Значит, нужен поиск не простой, а целенаправленный, – отозвался Ким. – Вот завтра и займемся». – Сюда, гость дорогой… – Славик, придерживая за талию, вел его мимо кухни и кладовых с вместительными холодильниками, мимо дверей с табличками «Бухгалтерия», «Менеджер», «Душевая». – Нам в этот коридорчик… аккуратно, чтобы вписаться в поворот… и прямо в дверку, не спотыкаясь на пороге… – Куда ты меня тащишь? – спросил Ким. – И почему вцепился в мой ремень? – Провожаю в комнату отдыха руководящих кадров. А вцепился для гарантии. Все же изволили выпить немало. – Мне, как слону дробина. Киммерийцы пьют не кружками, а бочками. И правда, шаг его был тверд, слух ясен, и перед глазами уже не кружилось и не качалось. Славик уважительно причмокнул, подвел Кима к стеллажу в комнате отдыха, что-то надавил, и полки бесшумно отъехали в сторону. За ними темнела узкая лестница, ведущая вверх. – Тайная явка? – полюбопытствовал Ким. – Вроде того. Работаем мы заполночь, и шум беспокоил жильцов со второго этажа. Кляузы пошли, жалобы, угрозы… Дарья этого не любит, и с первых же прибылей квартиру откупила, еще до того, как… – Слава кисло ухмыльнулся. – В общем, место, не известное ее супругу. Как раз такое, где прячутся зеленоглазые девы. Он подтолкнул Кима к лестнице. Вспыхнула лампочка, стеллаж с негромким шорохом закрыл проем, и Кононов начал подниматься. Наверху была обычная дверь, полуоткрытая, за ней – прихожая: обои под мрамор, ковер цвета морской волны, хрустальные светильники, встроенный в стену шкаф с зеркальной дверцей. «Грот Дайомы!» – озираясь, подумал Ким. Дайома тоже здесь была. Строгий темный костюм и туфли-лодочки, макияж – по минимуму, волосы уложены узлом, на шее – ожерелье из агата и никаких других украшений. Бизнес-леди! Деловая, как Шерон Стоун при подписании контракта. Зубы ее блеснули в улыбке, и впечатление строгой деловитости рассеялось. – Ким… – Даша… Ее рука была одновременно мягкой и твердой. Выпускать ее Киму не хотелось. Они стояли и глядели друг на друга. Потом он сказал: – Ты обещала, что найдешь меня. – Вот… нашла… Она потянула его в комнату. Тут обстановка гармонировала с Дашиным костюмом: компьютер, факс и телефон на черном офисном столе, напольные часы и телевизор, полки с папками и справочниками, диван и рядом – столик с баром. Бутылка, два бокала… «Французское бордо», – отметил Ким. Даша налила вина. Цвет его был рубиновым, а аромат такой, что мысли у Кима снова смешались. – За встречу! – За встречу… Она опустила бокал. Тонкие пальцы скользнули по краю хрустальной посудинки. – Варя мне звонила. Спасибо, Ким. Если бы не ты… Правда, что в тебя стреляли? – Правда. – И?.. Дашина ладошка вдруг оказалась у него под грудью, рядом с сердцем. Ким выдохнул: – И ничего. Даже царапин не осталось. – Я хочу посмотреть! Он расстегнул рубашку. На щеках Даши выступил слабый румянец; прикосновение ее руки было нежным, ласковым. «Что она делает?» – проснулся Трикси. «Исчезни! – мысленно рявкнул Ким. – Заткнись, исчезни и носа не высовывай!» «У меня нет носа. Мы диффундируем метан сквозь кожу, по осмотическому принципу», – с достоинством проинформировал пришелец, однако замолк. Даша покачала головой. – В самом деле ничего, ни шрамов, ни царапин… Варя сказала, что ты учился у буддистов, у каких-то монахов со странными именами, да? И учили тебя странному – буси или тайфэй… Никогда не слышала! Варя такая фантазерка! – Никаких фантазий, – промолвил Ким. – Сплошное бусидо фэншуй, владение тонкой энергией в оборонительных и лечебных целях. Еще помогает сделать жизнь счастливой и влиять на окружающих. Он уставился в зеленые Дашины очи, чувствуя, что тонет в них, как песчинка в Марианской впадине. «Большой вопрос, кто на кого влияет», – мелькнула мысль. Даша вздохнула: – Ты меня гипнотизируешь, но мне не страшно. Даже наоборот… Давай-ка, пока не загипнотизировал совсем, я покажу тебе квартиру. Покажу квартиру… Сердце Кима сладко дрогнуло. Этого чужим не предлагают! Не смотрят на них с таким восхищением и лаской! Значит, уже не чужой… – Главное я знаю, – сказал он, – знаю, как спуститься вниз. Если на тебя наедут… – Наедут, – с внезапной грустью подтвердила Даша. – Не завтра, так послезавтра, не в июне, так в июле… Он от меня не отвяжется. «Супруг», – догадался Ким. Он шел за Дашей, любуясь ее движениями, стремительными и легкими, будто она скользила, не касаясь пола. Колыхался тяжелый узел волос на затылке, раскачивалась юбка над стройными икрами, в ритме танго постукивали каблучки… Дайома, прекрасная фея! А может, Зийна, пуантенка? Ким чувствовал, как эти женщины, переместившись из сказки в быль, сливаются в одну, живую, теплую и близкую. В этом таилась опасность – не для влюбленного Кима, но для писателя Майкла Мэнсона. Он сотворил двух героинь, но будут ли они различны, непохожи, когда мечтаешь о реальной девушке? Ее ведь не разделишь по-халявински: эта – рыжая стерва, а та – блондинка с нежной душой… «Печально, но Зийну придется ликвидировать, – подумал Кононов, – Дайома все же главный персонаж, и без нее никак не обойтись». Они миновали прихожую и коридор, взглянули на непривычно большую кухню и гостевую комнату и, наконец, очутились в спальне. – Ты не спешишь? – спросила Даша, распуская волосы. – Может быть, устал и хочешь спать? Дыхание у Кима пресеклось. Она стояла так близко! И пахла так соблазнительно! – Не спешу, – хрипло выдавил он, – и спать не хочу. Я вообще-то, Дашенька, сова, и ночь самое мое время. – Что же ты делаешь ночью, милый? – Работаю… роман пишу… – Тот, где героиня похожа на меня? Он молча кивнул. – Такой роман лучше писать вместе, – сказала Даша, придвинувшись к нему совсем близко. Губы у нее были сладкими, язычок проворным, груди упругими, но в отличие от Дайомы вовсе не маленькими.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Плечо Кима затекло, он пошевелился, и лежавшая рядом девушка глубоко вздохнула. Веки ее поднялись. – Ты… Это «ты» было таким выразительным и значило так много! Ты здесь, ты рядом со мной, ты никогда меня не покинешь… День за днем, год за годом я буду просыпаться и смотреть в твои глаза, в твое лицо – вот первое, что я увижу в синем утреннем сумраке, увижу раньше, чем свет за окном и чем детей, которых подарю тебе. И ты меня увидишь и улыбнешься, не замечая, что за ночь я изменилась, что я не так молода и прекрасна, как вчера или месяц назад… Мы с тобою – два путника, которых уносит потоком времени к водопадам; чей-то ближе, чей-то дальше, но мы плывем и плывем, не расставаясь ни на миг, согревая друг друга, не думая о неизбежном. – Ты… Ким поцеловал ее. Даша взъерошила ему волосы, прикрыла ладонью глаза, выскользнула из постели. Он лежал с зажмуренными веками, прислушиваясь к наполнившим комнату таинственным шорохам и шелестам – она одевалась. Потом раздался звук шагов, скрипнула дверца шкафа на кухне, с шипением зажглась горелка, что-то еще негромко застучало, зазвякало, и в воздухе поплыл аромат свежего кофе. Прошло шесть или семь минут – Ким отсчитал их по вдохам и выдохам, – и снова послышались шаги, а вслед за ними Дашин голос: – Открой глаза, лежебока. Он выполнил приказ. Это была незнакомая Даша, не бизнес-леди в строгом костюме и не нагая фея, дарившая его любовью, но Даша-хозяйка – правда, не менее очаровательная, чем в предыдущих ипостасях. Она стояла перед Кимом в легкомысленных брючках и топике на бретельках; в руках ее был поднос, а на подносе – две дымящиеся чашки, печенье и стаканы с соком. Кофе в постель! Душа Кима сейчас растаяла бы, но это случилось раньше, ночью, и потому растаявшее испарилось. Он сел, потянулся к чашке, глотнул и одобрительно промолвил: – Правильный кофе! Крепкий, ароматный… Только несладкий. – Сейчас подсластим, – сказала Даша и поцеловала его в губы. Завтракали они на кухне. Ким, исправно поглощая бутерброды, смотрел на Дашу, думал о прошлых своих увлечениях и размышлял, чем отличается любимая женщина от просто женщины, с которой можно переспать. Конечно, любимая женщина красивее, и запах от нее приятней, и звук ее голоса нежней, и пища, которой она касалась, имеет необычайный вкус… А кроме того – кофе в постель! И поцелуи вместо сахара! Сколь помнилось Киму, ни одна подружка так его не баловала. Выходит, не подружку он нашел! – Я вниз пойду, к Славику в кабинет, – сказала Даша, – проверю с ним отчетность. А ты чем займешься, милый? – Не знаю. Четверть десятого, и бодрствовать как-то непривычно… Я ведь, солнышко, по ночам сочиняю, а утром сплю. Часиков этак до двенадцати. – Теперь ты будешь днем сочинять, а ночью спать, – распорядилась Даша и уточнила: – Со мной. Ким расплылся в счастливой улыбке. – Еще вечер есть. Ты не против, чтоб вечерами я поиграл в Конана Варвара? Сяду за стол в твоем заведении, у ноги – кувалда, под руками – кружка, а рядом – Рыжая Соня… То есть ты. – В зале мне лучше не показываться, – возразила Дарья, и на лицо ее набежали тени. Ким тоже помрачнел и буркнул: – Век взаперти не просидишь. – Не просидишь, – согласилась она. – Тем более что он уже знает, где меня искать. Пришел Селиверстов, выкинул его «шестерок», коленом вдогонку наподдал… Не сам же до этого додумался! Значит, хозяйка вернулась… – Но не одна, – сказал Ким, накрывая ладонью ее руку. – Не одна! С защитником! Она одарила его долгим, ласковым, тревожным взглядом. – Милый ты мой! Не понимаешь, что мне с тобою еще страшнее? – Это почему? – А потому, что я за тебя боюсь… – Зря. Бусидо не выдаст, черт не съест. – Кононов встал и молодецки повел плечами. – Если позволишь, я на твоем компьютере поработаю. Роман мне надо сдавать недели через две. Даша тоже поднялась, чмокнула его в щеку и сказала: – За кухней есть еще одна прихожая, и там выход на лестничную площадку. Ключи на гвоздике… Только, если куда пойдешь, записку мне оставь. Проголодаешься, еда в холодильнике. Я к трем вернусь, обедать будем. Зацокали каблучки, стукнула дверь, и Ким остался в одиночестве – вернее, с неразлучным Трикси. Вопросы буквально распирали пришельца. «Твой гормональный баланс в течение ночи резко менялся. Я наблюдал выброс адреналина, кортизона и других гормонов. Еще – учащенное сердцебиение. Почему?» – Разве у финнов бывает иначе? – спросил Ким. «У финнов я в такие ситуации не попадал. Скажи, вы всегда размножаетесь в таком критическом режиме?» – Мы не размножались. До этого дело, конечно, дойдет, но в отдаленном будущем. «Не размножались? Но те процессы, что я зафиксировал…» – Это любовь, – пояснил Ким, – любовь, горнило страсти. Власть Эроса, мой экзоплазменный друг. «Не понимаю. У тех, кто дышит метаном, каждый акт спаривания ведет к размножению». – А спариваетесь вы часто? «Раз в столетие, если найдутся подходящие собрачники». – Бедняги! А мы – каждую ночь. Кислород, знаешь ли, возбуждает. С этими словами Ким направился в кабинет, присел к столу и включил компьютер. Машина была у Даши навороченная: конечно, пентиум, плюс плоский монитор на двадцать инчей, видеобластер, стример, DVD-ром и, разумеется, выход в Интернет. Глаза у Кима разбежались, и минут пятнадцать он знакомился с этим богатством, тыкая пальцами в клавиши и бормоча: «А если вот так… а если этак… а тут у нас что?.. ну и ну, вот это хренотень!.. прям-таки полный отпад!» Натешившись вволю, он произнес: – Сейчас поползаем по сайтам экстрасенсов и паранормальных новостей. Вдруг чего и обнаружится. «Что ты хочешь найти?» – Владельца твоего инклина. Или владелицу. Представь, жила себе женщина, жила и вдруг превратилась в ведьму, ровно год назад. С чего бы? «Насколько я ориентируюсь в вашей психоэмоциональной сфере, поводы могут быть разными. Болезнь, финансовые неудачи, семейная драма, кризис среднего возраста». – Все это так, – согласился Ким. – Может, дамочку муж бросил или нагрела фирма «Мани ваши будут наши». Однако мы поищем. Не всяких обездоленных, а ведьм-удачниц, а также колдунов, целителей и телепатов. Что-нибудь яркое, чудесное и странное. Но ничего необычного он не нашел. Ведьмы, колдуны и экстрасенсы дружно предлагали отремонтировать карму, заштопать дыры в ауре и обрести по доступным расценкам мистическую мощь. Новых персон в этой компаниии не прибавилось, никто не теснил конкурентов, не поражал невиданными чудесами, не обнаруживал необъяснимых талантов. Словом, в сферах паранормального бизнеса сенсаций не наблюдалось, равным образом как и внезапных исцелений от диабета, лейкемии или болезни Паркинсона. Не прибавилось в Питере и святых; ни один из чиновников и олигархов не испытал внезапного приступа совести, не поделился имуществом с ближним, не одарил убогого, не продал виллу на Лазурном берегу, чтоб посодействовать больным детишкам. Наоборот, все с неприличной поспешностью гребли и богатели, богатели и гребли, но это никак не относилось к чудесам. Это была суровая реальность. После недолгих попыток Ким мрачно насупился и хмыкнул. Идея целенаправленного поиска терпела катастрофу – то ли ввиду отсутствия чудес, то ли от того, что за год о прошлых чудесах забылось. «Нужно в старых газетах пошарить», – пробормотал он и ужаснулся, подумав об этом унылом занятии. Сейчас ему не до того – роман, и Даша, и разборки с ее неприятным супругом… Это с одной стороны, а с другой – имеется соглашение с Трикси о дружбе и взаимовыручке. И Трикси не нарушает обязательств! Где бы он был без помощи пришельца? Лежал бы под батареей в подвале или валялся в лесу, кормил бы мух да муравьев! «Не печалься, – послышался бесплотный голос Трикси. – Сейчас не вышло, так что-нибудь еще придумаешь. Я в тебя верю. Ты человек с воображением и творческой потенцией». – Потенция есть, – печально согласился Ким. – Еще бы ума прибавить! «Ты успокойся и не дергайся. Хочешь, поговорим о чем-нибудь нейтральном? О тепловой смерти Вселенной или о том, что приключилось у вас когда-то с динозаврами?» – Лучше попишем, – сказал Ким. – Халявин ждать не любит. Напомни-ка последний эпизод… Куда мы въехали? «В битву с пиктами. Лес вокруг, а больше никого и ничего. Только трупы в ало-сизом вереске, только вороны в вышине да конь в хлопьях пены, только женщина под волчьим плащом да двое мужчин, пристально глядящих друг на друга. И голем говорит…» – Хватит, я все припомнил, – отозвался Ким. Пальцы его затанцевали по клавишам, и вскоре сцена, пригрезившаяся в смертном забытьи, была облечена словами и упокоилась в Дашином компьютере. «Что дальше?» – А дальше они перебрались в Ванахейм, к северу от Пиктских Пустошей, – пояснил Ким. – Шагают вдоль побережья прямо в тундру, к ледяным пустыням и замку Кро Ганбор. Пока еще втроем. Ночуют у костра, беседуют… «Беседуют?» – Не только, – сказал Ким, вспомнив Дашины поцелуи, и вновь забарабанил по клавишам.* * *
– Не могу, – шепнула Зийна, – не могу, милый! Он смотрит… – Он спит, – сказал Конан, лаская упругую грудь девушки. – Спит, не видит и не слышит ничего. Он – камень, и ему нет до нас дела, клянусь Кромом! По правде говоря, киммериец лишь пытался успокоить Зийну. Их серокожий спутник, хоть и сидел неподвижно, с опущенными веками, не пропускал ни шороха лесного, ни тени в ночном сумраке. Впрочем, их шепот и возня под накинутым плащом его не интересовали; вряд ли Идрайн даже понимал, чем они занимаются и что означают поцелуи, объятия и тихие стоны Зийны. Второй день они пробирались вдоль побережья, в приграничной местности, разделявшей Ванахейм и Пустоши Пиктов. Здесь, на севере, во владениях Имира, подтаявшие морские льды еще дышали холодом, под низкорослыми елями еще лежали груды снега, а чахлые корявые березы, торчавшие среди трясин, только-только начали пробуждаться к жизни после зимних метелей и вьюг. Путешествовать в этих краях было нелегко: заваленный буреломом болотистый лес подступал к самым береговым утесам, отвесным и обрывистым, каменный щит материка взрезали шхеры, иногда рассекавшие сушу на многие тысячи локтей. Но между лесом и скалами тянулось сравнительно открытое пространство, узкая полоска земли, покрытая осыпями и желтой прошлогодней травой; эту естественную дорогу, уходившую к северу, к равнинам Ванахейма, Конан и решил использовать. После битвы с пиктами они потратили день или два на отдых, в основном из-за Зийны, так как ранения киммерийца были не столь серьезными и не помешали бы ему продолжить путь. Но удар дубины, которую метнули в ноги девушке, не прошел бесследно. Кости ее, к счастью, остались целы, однако на голенях вспухли огромные синяки, причинявшие боль при любом движении. Конан лечил ее примочками из листьев папоротника да горьким отваром из мха и хвои. Один Митра ведал, какое из этих средств оказало целительный эффект, но вскоре опухоль спала, и Зийне удалось взгромоздиться на жеребца Идрайна. Путники тут же тронулись в дорогу: мужчины – пешком, девушка – на коне. Когда они пересекли лес и вышли к побережью, скакун начал хромать. Копыта его были сбиты о камни, вдобавок он непрерывно дрожал – для зингарской лошади суровый северный климат был непривычен так же, как жалкие сухие стебли, которые приходилось жевать вместо сочной зеленой травы. Возможно, сказывалась и недавняя бешеная скачка, когда Идрайн гнал коня днем и ночью, пытаясь настигнуть своего сбежавшего господина; так или иначе каменные осыпи и холод доконали жеребца. Конан забил его и оставил на поживу волкам, ибо в мясе путники нужды не испытывали – на болотах было достаточно уток и гусей, а в лесу встречались кабаны и лоси. Арбалет Конана вполне мог прокормить его и Зийну, а Идрайн не нуждался в пище. Одно это вызывало у девушки суеверный страх и неприязнь. Серокожий исполин пугал ее – и своей полной нечувствительностью к холоду, и тем, что не испытывал никаких человеческих потребностей, и бездушным ледяным взглядом, и даже негромким своим голосом, от которого за десять локтей веяло дыханием Серых Равнин. Она никак не могла привыкнуть к тому, что Идрайн всего лишь оживший камень, равнодушный к тяготам нелегкого пути, преследующий только одну цель – выполнить приказ волшебницы, вдохнувшей в него жизнь. Она…* * *
Телефон пронзительно заверещал, вырвав Кима из стылой ванахеймской ночи и переправив в теплое июньское утро. Он поднял трубку. – Конан Варвар у телефона. Бывший король Аквилонии. – Кимчик, ты? А где Дашутка? – На боевом посту, Варвара Романовна. Сидит в кабинете у Славика и производит ревизию. – Так я ей в кабинет перезвоню. – После паузы, осторожно: – Как там у тебя дела? – Как в раю. Накормили, напоили и спать уложили. А утром – кофе в постель. В трубке раздался облегченный вздох. – Ты оценил? – Вплоть до загса и обмена кольцами. Хотите, я вашу фамилию возьму? Буду Кононов-Сидоров-Тальрозе. – Не стоит, – сказала Варвара, – ни в паспорте не поместишься, ни на книжной обложке. Кстати, до обмена кольцами не худо бы развестись со шмурдяком-благоверным. Ты ей эту мысль подскажи. – Подскажу, – промолвил Ким, послушал, как Варвара одобрительно сопит в трубку, и спросил: – Как там Облом поживает? Выздоровел? – На пути к выздоровлению. От бананов хобот воротит, любимую морковь не ест, а трескает отруби с опилками. Диета у него такая при поносе. – Сурово! – посочувствовал Ким. – Ну, привет передавайте. Я к слонам со всей симпатией… Как оклемается, навещу, морковки принесу и попрошусь потанцевать на спине. Хихикнув, Варвара повесила трубку. Ким поглядел на экран, неторопливо набрал несколько фраз, потом вошел в нормальный ритм. Странно, но совиные привычки не мешали, шум с улицы не отвлекал – работалось, как ночью, даже еще быстрее и плодотворнее. «С чего бы? – думал Кононов, барабаня по клавишам. – То ли кофе в постель, то ли Дашино влияние, то ли Трикси посодействовал…» Так ли, иначе, но снова раскинулись вокруг безлюдные мрачные земли, нависло над головой серое небо, загрохотали волны, штурмуя скалистый берег. Ванахейм! Не так уж далеко от Питера, но все же к Мурманску поближе…* * *
Путь Конана отклонился к западу, к прибрежным утесам, за которыми ярилось и бушевало море. Тут встречались сосновые рощицы и заросли разлапистых елей; тут, в укромных бухтах, прятались ванирские подворья – побольше, принадлежавшие вождям, и совсем маленькие, в коих обитала одна семья, какой-нибудь рыбак или охотник с женой и полудюжиной рыжеголовых отпрысков. Смутные мысли бродили у Конана в голове; он собирался заглянуть в подходящую ванирскую усадьбу и либо найти там дружину из крепких молодцов, готовых штурмовать хоть замок колдуна, хоть ворота мрачного царства Нергала, либо выведать, где можно разжиться сотней-другой воинов. Не исключалось, что такой визит мог закончиться побоищем. Все зависело от обстоятельств: как его примут, куда посадят, какой кусок поднесут – или предложат, вместо мяса и пива, понюхать лезвие секиры. Размышляя на сей счет и прислушиваясь к грохоту волн, упрямо таранивших берег, он вспоминал о кормчем Шуге, старом псе, об Одноухом, десятнике стрелков, о Харате, парусном мастере, мошеннике Броде, Кривом Козле, Стимо с бычьим загривком, недоумке Рикозе и прочих головорезах, ходивших с ним на «Тигрице». «Эх, были б барахтанцы тут, не пришлось бы сговариваться с ванами, искать у них людей! С другой стороны, если б парни были, к чему тогда мстить Гор-Небсехту, этой склизкой гадине? – думал Конан. – Тогда бы он о колдуне и слыхом не слыхивал, как и о Дайоме, владычице острова!» Но судьба судила иначе, и теперь, подбираясь к замку Кро Ганбор, Конан мечтал, как справит тризну по своему экипажу – причем не багряным барахтанским вином, а кровью! Вот только воинов у него маловато: один каменный ублюдок и одна пуантенка… Ублюдок, конечно, стоил сотни бойцов, но лучше спихнуть его с утеса и сговориться с ванирами – с каким-нибудь вождем, готовым обокрасть родную мать, не то что богатый замок. Вождем у ванов почитался всякий, кто мог снарядить боевое судно и два-три десятка воинов, но такой предводитель Конану не подходил; для штурма Кро Ганбора требовался отряд побольше. Иногда он сожалел, что пикты так неуступчивы и упрямы. На худой конец он мог бы, преодолев неприязнь, повести их воинство на север – вот только чем бы все закончилось? Пикты сражались каменным оружием, а у ванирской дружины Гор-Небсехта наверняка имелись стальные клинки и копья, крепкие медные кольчуги да бронзовые рогатые шлемы. «Нет, – думал Конан, – против ванов лучше нанять ванов, если не имеешь под рукой кого получше – скажем, киммерийцев». План его был вполне реальным, ибо смертельной вражды между ванирами и киммерийцами не было. Они то ссорились, то мирились; иногда вместе воевали с асами, иногда ходили в набег на Гиперборею, а временами случалось и обратное: киммерийцы и асиры, вступив в союз, обрушивались на Ванахейм. Многое зависело от вождей, от их междоусобиц и счетов друг с другом. Бывало так, что ван ненавидел вана сильнее, чем асира или киммерийца, и охотно принимал помощь иноплеменников, чтобы пустить кровь сородичу. И потому Конан полагал, что сможет с кем-нибудь сговориться – тем более что в этих северных краях имя его пользовалось известностью и даже почетом. Да, пикты были бы только помехой! Если бы он заявился с ними в ванирскую усадьбу, могло случиться что угодно… Ваниры любили пиктов не больше, чем киммерийцы.* * *
Ким откинулся в кресле и, хмурясь, почесал затылок. Не нравилось ему, когда куски романа разбросаны там и тут, начало на одном компьютере, а продолжение – в другом. Непорядок! Соединить бы надо, на этом самом пентюхе, коли он тут задержался… Собственно, не задержался, а обосновался, прочно и надолго. А что? Место хорошее, вид на Фонтанку приятный, и городская библиотека рядом, опять же районный загс поблизости – хочешь, женись, а хочешь, разводись… Ну, разводиться можно в рубище, а бракосочетание – момент торжественный, костюм необходим, штиблеты, галстук… А у него – джинсы да рубаха, и та с чужого плеча… Он закрыл файл, пошарил в столе, нашел ручку и листок бумаги, написал: «Любезная моя Дарья Романовна! Честь имею предложить Вам руку, сердце и остальные мои органы, какими пожелаете владеть с этого дня и до скончания веков. В общем, вся моя душа и тело – Ваши! Но тело нуждается в облачении, а зеркало души – то есть лицо – необходимо брить и чистить в нужном месте „Блендамедом“. Поехал в Озерки, чтобы пополнить гардероб. Если до трех не обернусь, не беспокойся. Целую. Ким». Подумав, он добавил: «Солнышко! Ты пахнешь розами и медом. Ты…» Ким закрыл глаза, вдыхая ее запах, витавший в воздухе. Солнечный свет, струившийся в окна, трепетал под веками мягким огнем, будто рыжие Дашины волосы, а в голове рождались рифмованные строчки – что-то о любви, губах, подобных алому кораллу, чарующих очах и спелых виноградных гроздьях, что прячутся за шелком платья. Еще о лебединой шее, тонком стане и… Он вздохнул, решительно поднялся и зашагал к дверям, бормоча: «Двигай, олух, шевелись! Раньше уедешь, раньше приедешь!» Добравшись к себе на Президентский, Ким набил рюкзак вещами, прихватил роман с парой запасных дискеток, выгреб из стола последние рубли вместе с валютной заначкой. Потом тщательно запер квартиру, спрятал ключ в секретное место и поглядел на часы. Двадцать минут второго… пожалуй, можно прогуляться, а по дороге и цветы купить… Какие любит Даша? Со временем он это выяснит, а нынче что уместней роз?.. Алых, пышных, ярких, с нежным ароматом и лепестками, как губы любимой… целая охапка из миллиона алых розочек… Размышляя об этом, Ким приблизился к цветочному ларьку, исследовал свою наличность и выяснил, что миллион ему не потянуть. Пришлось ограничиться более скромным букетом. У входа в метро он замер, обуреваемый какой-то смутной мыслью, потом развернулся и прошагал пару кварталов Выборгского шоссе и торгового центра с лавкой унитазов из Бразилии, аптекой «Пурген» и ДСО «Киммерия». Мысль тем временем созрела и оформилась; теперь он знал, что движется сюда, гонимый страхом и тревожным ощущением. Воспоминанием, как впивались в его тело пули – там, в лесу, и чувством беззащитности перед оружием, какого не было и не могло быть в хайборийских землях. Странно, но он не думал про пистолеты и винтовки, автоматы и гранаты, как если бы забыл о них, вдруг превратившись в Конана; он размышлял о дротиках, метательных ножах, праще и томагавках. Кувалда хороша для рукопашной, а с десяти шагов противника не пришибешь – тут нужен инструмент полегче, поострее… «Топорик? Может быть», – подумал Ким и просочился в магазин. Народу в нем было столько же, как в предыдущий раз, – он сам да ветхий продавец. Встретил он Кима, точно старого знакомого. – Гутен таг! Ну, юноша, кувалда пригодилась? О, да вы с цветами! Какой букет роскошный! – Жениться собрался, – пояснил Кононов, пропуская вопрос о кувалде мимо ушей. – Вот, присматриваюсь… Может, попадется что-то нужное в хозяйстве. – Не хотите наковальню? Или тиски с рычагом, чтоб трубы гнуть? Или ключ разводной, пятидюймовый? Или… Но Ким обозревал саперные лопатки, железные колья и небольшие туристские топорики. Затем его повлекло к дискам для распиловочных станков; он примерился к одному-другому, ощупал зубчики и острые края, уколол палец и поднял задумчиво брови. Вот это штука – ни дать ни взять японский сюрикен! Инструментальная сталь, заточена, как бритва, и на вес легка… Пожалуй, то, что надо. – Диски возьму для пилы. Такие, с крупными зубцами. – Яволь! – отозвался старец. – Вам пару завернуть? – Нет, двадцать штук. Сложите вон в ту сумочку из брезента. Продавец сдвинул на затылок кепку «Lily-boy» и поскреб розовую лысину. – Жена, я понимаю… крепкая девушка, наверное, долго пилить… Лет за сорок справитесь? – Не угадали, – с важным видом ответил Ким. – Жену не пилить, а кормить приходится. В общем, лесопилку открываю. Без лесопилки она за меня не пойдет. – Бог в помощь, – сказал продавец, складывая диски в сумочку. – Лесопилка – это серьезно. Это вы будете мой постоянный клиент со скидкой в пять процентов. Ферштейн? – Ферштейн, – подтвердил Ким, рассчитался и зашагал к метро. Рюкзак мерно шлепал по пояснице, диски в сумке весело побрякивали, а розы перебивали смрадный запах, которым тянуло с забитого машинами шоссе. Двигались они стремительно, и Трикси разворчался: «Эти ваши экипажи… грохот, вонь да гарь… метан не любите, а углекислый газ – он что же, лучше?.. или полезней для здоровья?.. Хоть бы неслись помедленней, сканировать не успеваю!» – Домов тебе мало? Люди живут в домах, а не в машинах. «Мы уже шли этой дорогой, и здания я просканировал. Лучше выбрать другой путь, дворами или параллельной улицей». Ким замедлил шаги и помахал перед лицом букетом – день был жаркий. – Ну так выбирай! Или дворами, или улицей. Я не могу разорваться! «Я тоже». – А, собственно, почему? – Кононов совсем остановился. – Ты у нас инклинайзер! Умеешь расщеплять сознание. «Я объяснял уже, что в вашем мире мой метод не годится. Конечно, я могу рассеять свои инклины, но мне их потом не собрать. Ваша ментальная резистентность…» – Да-да, я помню – из-за нее ты теряешь связь с инклинами. Но по-моему… – Ким застыл, как гончая при виде дичи. – По-моему, – повторил он тише, – твой метод нуждается в усовершенствовании. – Ты ведь рассеиваешь инклины случайным образом, так? «В каком-то смысле. Обычно я отправляю их в центры цивилизации по всей планете, а уж кому достанется инклин, определяет случай. Но на Земле так действовать нельзя. Я просто растеряю частицы своей сущности». – Из-за того, что не можешь поддерживать связь на большом расстоянии. Предел, насколько я помню, метров сорок-пятьдесят. Я не ошибся? «Нет. С этой дистанции я могу вступить в контакт с инклином и извлечь его из разума носителя». Ким с довольным видом усмехнулся: – Значит, возможна рассылка инклинов по адресам. По точным адресам, конкретным людям, с которыми мы можем встретиться в любой момент. Например, моим коллегам, Жеке Киселеву, Леонсону, Дрю и прочей публике. Даже Халявину, Нергальей Заднице! А кроме того, соседям по дому, продавцам, официантам «Конана» – в общем, всем, кого я вижу регулярно. «А цель? – полюбопытствовал Трикси. – Какая в этом цель?» – Если инклины будут работать в режиме поиска, наши возможности расширятся. Каждый носитель где-то бродит, встречается с сотнями людей, даже с тысячами, и мы проверим эти толпы с помощью инклинов. Конечно, если ты настроишь их необходимым образом. Запрограммируешь, как стаю ищеек. «О!» – произнес Трикси и замолк. Ким ждал, побрякивая дисками в сумке, и постепенно чувство глубокого удовлетворения охватило его. Источник этой эмоции был внешним – ее несла ментальная волна, и в ней ощущались благодарность и надежда. Можно сказать, даже энтузиазм. «Вот видишь, я в тебе не ошибся, – заявил наконец пришелец. – Ты в самом деле человек с воображением и творческой потенцией. И очень, очень разумный в отличие от остальных представителей вашего вида! – Сделав паузу, Трикси признался: – Я удивлен. Отличное решение, хотя оно не вписывается в рамки наших методов. Инклин – квазиразумная структура, и я могу его, как ты сказал, запрограммировать. Термин не совсем подходит, но суть процесса не важна; пусть называется ориентацией на достижение определенной цели. Только выбирай доверенных людей, надежных, с устойчивой психикой. Этот сантехник…» – Не надо о печальном, – промолвил Ким и зашагал к метро. На эскалаторе он поднес букет к лицу, закрыл глаза и на мгновение представил, будто касается Дашиных губ.ДИАЛОГ ВОСЬМОЙ
– Хорошо тут у тебя, Паша… Сосны, тишина, покой, забор высокий, ворота крепкие, благослови их Аллах… Люблю! Опять же коньячок, бассейн и банька… Но ты же меня не за этим звал? Не только за этим? Есть какие-то проблемы? – Есть, Анас Икрамович, есть… Хе-хе… Без проблем не проживешь! – Конкуренты, э? – Вроде того. Вот у меня кабачок на Фонтанке, хороший кабак, и место торговое, прибыльное… Оттягать хотят! Людей моих побили и погнали, а я ведь в заведение вложился! Хотя формально не мое, на Фукса регистрировали. Ну, Фукс там ни при чем, другие крутят. – Оттягать? Нехорошо! Аллах не любит, когда на чужое зарятся! Что ж ты бойцов не пошлешь? Главного крутильщика возьми, мне отдай. Увезем к брату в Хасавюрт, в ямку посадим, поучим уважению. – Не взять мне главного, Анас Икрамович. Большой фокусник, ниндзя! Поймали было, хотели поучить, так он моих уродов покалечил и слинял. Дальше – хуже… – Это как? – А так. Послал я за город пятерых… хмм… по личному делу отправил, семейному… Не вернулись! Велел поглядеть – тачку пустую нашли, потом следы… натоптано сильно, и кровь… Думаю, этот ниндзя расстарался. Может, не один, с помощником… – Тамбовский, что ли, отморозок? Вроде мир у нас с тамбовскими… – Чей, не знаю, а Гиря, боец мой покойный, говорил, что тип – из писателей. Теперь романы пишет в моем заведении на Фонтанке, видели там его. Кабак зовется «Конан», так он под этого Конана работает, таскается с огромным молотком. Боятся мои люди, Анас Икрамович. Помочь бы надо. Профессионально. – Писатель, э! Дело-то смешное, Паша. Мелкое! – Пять трупов – мелкое? – Трупов ты не видел. Может, твои запили, подрались, вернутся через день, и ты их лично трупами сделаешь. Потом других наймешь, серьезных, чтоб этого Конана прищучили. – Хе-хе… Не вижу смысла нанимать, Анас Икрамович. Я вам плачу, вы и разбирайтесь. Долгое молчание. Потом: – Ты, Паша, так на меня не смотри… глаз у тебя нехороший, Паша, такой глаз, что хочется ножиком ковырнуть… – Аллах не простит, Анас Икрамович! Ну, так пошлете своих? – П-пошлю… С-сегодня вечером устроит? – Да. Только по-тихому, без погрома. Чтоб мебель не ломали, не били зеркала и не пугали посетителей. Спецы у вас хорошие, стратеги кагэбэшные, пусть придумают, как фокусника взять и вырубить. Хитростью или там подначкой… Но не под локти на улице! – А почему? – Убьет и удерет. – Убивать и мы умеем. – Если успеете, нет возражений. Но аккуратно, без лишней стрельбы. И вот еще что, Анас Икрамович… Пусть ваши отзвонят, что все в порядке, я подскочу, загляну в кабак. Надо же – хе-хе! – принять и оплатить работу! – Это без проблем. Отзвонятся. Ну, еще по одной, Паша! Мелодичный перезвон стаканов. Потом: – А где хозяйка твоя, жена-красавица? Прячешь? – Была бы здесь, чего ее прятать? Укатила, Анас Икрамович, уехала на отдых в теплые края. Греется сейчас на пляже в Акапулько.ГЛАВА 9 ПОЕДИНОК
Увы! Канули в вечность романтические турниры, где рыцари ломали копья, где воины сходились грудь о грудь, испытывая крепость мышц, мечей и панцирей, где дамы рукоплескали победителю, а звуки труб и голоса герольдов летели над зеленым полем и отдавались эхом среди высоких стен величественных замков… Схватки нынешней эпохи происходят преимущественно в кабаках.– Господин! Эй, господин! Конан обернулся. – Там человек! – Голем тыкал секирой в сторону прибрежных скал. – Прячется за камнями! Прикажешь достать? – Я сам достану, серозадая обезьяна. Стой где стоишь! Киммериец воткнул копье в землю и с вытянутыми руками направился к черным базальтовым утесам. Их склоны, иссеченные ветром, были покрыты глубокими трещинами; одни из них походили на морщины, другие – на шрамы от затянувшихся ран, а третьи зияли, подобно огромным разрезам, проделанным топором гиганта. Камни, выбитые из скалистой тверди, валялись внизу беспорядочными грудами, и были среди них всякие – от таких, что величиной с барана, до таких, в коих можно было бы выдолбить пещеру для небольшого племени троглодитов. Идрайн показывал как раз на одну из самых крупных глыб. Подойдя к ней ближе, Конан рявкнул: – Эй, выходи! Не бойся! Сегодня я обещал Крому не трогать рыжих! – Зато с меня Имир не брал никаких клятв, черный хорек! – раздалось в ответ, и из-за камня выступил огромный ванир. Его засаленные огненно-красные лохмы падали на плечи, борода казалась бесформенным шерстистым клоком, куртка была распахнута и обнажала могучую, заросшую рыжим волосом грудь, а кулаки, тоже в рыжей щетине, походили на два тяжелых молота. У пояса ванира висел топор, а у ног валялась вязанка хвороста, перетянутая ремнем из китовой кожи. – Ну, чего ты ищешь на моей земле, хорек? – рявкнул рыжеволосый. – Клянусь моржовой задницей, здесь никому не разрешается бродить без дозволения Хорстейна, сына Халлы! Особенно ворюге-киммерийцу! – А дорого ли стоит твое дозволение? – спросил Конан. – Мешок серебра! Вот такой! – Огромные лапы ванира раздвинулись, потом описали в воздухе круг. Похоже, речь шла о мешке размером с бычью голову. Конан, хмыкнув, оглядел унылый берег, торчавшие кое-где ели да сосны, бесплодный скалистый обрыв и уходившую к востоку тундру. – Незавидные у тебя земли Хорстейн, сын Халлы, – сказал он, – и красть тут вору-киммерийцу нечего. Вдобавок, не вижу я на скалах рун или иных знаков, коими были бы отмечены твои права на владение землей. Сдается мне, что ты, лживый пес, просто хочешь ограбить путников, а? Пасть рыжеволосого растянулась в ухмылке. – Может, и хочу! А руны, о которых ты толкуешь, я готов вырубить своей секирой на твоей башке! Он взялся за топорище, но Конан, расстегнув пояс с мечом, бросил оружие на землю и предложил: – Мешок серебра не стоит ни твоей жизни, ни моей. Не хочешь ли помериться силами без острого железа? Победишь, серебро твое, проиграешь, так хоть останешься жив. Годится, рыжий шакал? Ванир смерил киммерийца недоверчивым взглядом. – А есть ли у тебя серебро, вонючий хорек? Ты не походишь на человека с набитым кошельком. Конан вытащил из-за пазухи кожаный мешочек – тот самый, который он взял у мертвого матроса с зингарского корабля. Распустив завязки, он высыпал на широкую ладонь несколько монет – полновесных кордавских даблантов с изображением лика Митры. Глаза Хорстейна жадно блеснули. – Вот, видишь. – Побренчав монетами, киммериец опустил их в кошель, а кошель бросил на землю рядом со своим мечом. – А у моего слуги, вон того парня с серой рожей, есть целый мешок серебра – как раз такой, какой тебе хочется. – Ладно! – Ванир с заметным сожалением расстался со своей секирой и, задрав голову, посмотрел на небо. – Вроде бы непогода собирается, – сообщил он. – Ну, ничего, до бури я тебе бока-то обломаю и загривок намну, киммерийский хорь. Ванир стащил куртку. Торс его оплетали могучие мышцы, а левое предплечье пересекал шрам, явный след молодецкого удара топора. Конан, сбросив плащ, потуже насадил на голову железный обруч – схватка, кажется, предстояла жаркая. Он мог бы предложить ваниру поединок на ножах и прирезать его, как лесную свинью, но такой исход киммерийцу не нравился. У него были свои виды на этого рыжеволосого дикаря. Противники сошлись, и Хорстейн без долгих раздумий метнул огромный кулак прямо в подбородок Конану. Тот подставил плечо и крякнул; удар был силен! Но слишком прямолинеен и неискусен. Вряд ли ванир обучался кулачному бою, коим владели мастера Заморы, Немедии и Аквилонии. Дождавшись, когда Хорстейн сделает новый выпад, Конан отступил и, скользнув за спину ванира, наградил его увесистым пинком. Рыжеволосый растянулся на земле, сунувшись лицом в вязанку хвороста. Когда Хорстейн вскочил, Конан с удовольствием убедился, что щеки у него расцарапаны, а на шее багровеет здоровенная ссадина. – Ну, хватит с тебя, рыжая шкура? – спросил киммериец. Ван, изрыгая проклятия и поминая через слово то моржовую задницу, то протухшие кишки кита, вновь ринулся к врагу. Некоторое время бойцы кружили по истоптанной земле, обмениваясь ударами; вскоре у Конана расцвел огромный синяк на ребрах, а у Хорстейна был подбит глаз и рассечена бровь. Струйки крови, мешаясь с потом, текли по его виску, заливали ухо и исчезали где-то в дебрях нечесаной бороды. При очередном повороте Конан оказался спиной к скалам, лицом к своим спутникам, стоявшим шагах в двадцати. Зийна выглядела спокойной, лишь пальцы ее стискивали рукоять меча да трепетали веки. Физиономия Идрайна напоминала запечатленный в камне лик высокомерного демона, следившего за схваткой пары псов. Мнилось, что на ней написано: хочет господин потешиться, пусть тешится, да только к чему? К чему, если все можно закончить одним ударом? Внезапно Хорстейн наклонил голову и бросился на киммерийца, ударив теменем в челюсть. Жесткие грязные волосы на миг забили рот Конана; он вцепился в них зубами и дернул, выдрав изрядный клок. Ван зарычал. Его мощные руки обхватили торс противника, пальцы сошлись в замок на спине; Конан тоже обхватил его, вовремя сообразив, что происходит. Видно, Хорстейн догадался, что в кулачном бою ему не совладать с искусным врагом, и решил раздавить ему ребра. Силы для этого у вана имелись с избытком. Теперь соперники сражались грудь о грудь, сжимая друг друга в богатырских объятиях; лица их покраснели, налились кровью, жаркое дыхание вырывалось из распяленных ртов, глаза вылезали из орбит, мышцы подрагивали от напряжения. Они походили сейчас на пару львов, рыжего и темногривого, сошедшихся в смертельном поединке – пасть к пасти, клык к клыку, коготь к когтю. Киммериец давил, но ван не уступал; ванир нажимал, но киммериец держался. Наконец Конан просунул ногу меж широко разведенных колен Хорстейна, выбрал подходящий момент и ударил вана пяткой по голени. Они свалились; Конан был наверху, Хорстейн – внизу, и затылок его глухо стукнулся о каменистую землю. Падение и крепкий удар оглушили вана совсем ненадолго, но этого времени Конану хватило, чтобы поймать могучую длань рыжего, заломив ее в локте. Резким рывком киммериец перевернул Хорстейна на живот, продолжая выворачивать руку. Теперь ванир разъяренным медведем рычал и бился под ним, но никак не мог освободиться; было ясно, что стажировку у аквилонских мастеров этот увалень не проходил. Поймав его вторую руку, Конан…Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Дзинь! Дзиннь, дзиннь! Ким недовольно прищурился на телефон, поднес трубку к уху. – Это ветеринарная лечебница? – Она самая. Но мы лечим только ящериц, змей и других пресмыкающихся. Если у вас крокодил с инфарктом, я вышлю «неотложку». – У меня кот. Подавился рыбьим хвостом. – Коты – не наш профиль. Извините, – сказал Ким и положил трубку. Поднявшись, он прошелся по комнате от стола с компьютером к столику у дивана, потом к окну. На столике исходил ароматом вчерашний букет роз, утреннее солнце светило в глаза, по серо-стальной Фонтанке плыл белый кораблик, набитый туристами, – головы крутятся туда-сюда, блестят очки и объективы. Теплый денек, хороший! «В такие дни свадьбы играть», – подумал Ким, протягивая руку к телефону. Против ожидания, Дрю-Доренко оказался дома. Видно, тоже сидел у компьютера, писал. – Чем порадуешь, Мэнсон? – Хочу в ресторан пригласить. Помнишь «Конан» на Фонтанке? Куда нас Нергалья Задница водил? – Помню. – Сделав паузу, Дрю осведомился: – Никак аванс обещанный выдали? Дожал-таки Борисика? Поздравляю! – Чихал я на аванс и на Бориса. Другой повод, серьезнее. С девушкой своей познакомлю. Похоже, Дрю-Доренко онемел. Не выпуская из рук инициативы, Ким назначил время – около семи – и принялся дозваниваться Леонсону, Баду Кингсли и Альгамбре Тэсс. Пичи, конечно, исключался, да и телефона его Кононов не знал; опять же Пичи не тот человек, чтоб отоваривать его инклином. Надежные нужны, с устойчивой психикой! В этом смысле Альгамбра тоже внушала сомнения – уж слишком часто масть меняет… – Вот, – сказал Ким, разделавшись с приглашениями, – первая поисковая группа прибудет в девятнадцать ноль-ноль. Кадры проверенные и непричастные к сантехнике. Можешь их осчастливить, Трикси. А заодно Славика Канаду, Артема, Леночку с Мариной и Селиверстова. Подходят? «Полагаюсь на твои рекомендации, – ответил неразлучный дух. – Опрашивать как будем?» – Ненавязчиво. Местных служащих – хоть ежедневно, а нашу банду я еще раз соберу, через неделю. Скажу, аванс выдали. А потом… потом что-нибудь придумаем. Кстати… – Ким почесал в затылке, побарабанил пальцами по столу. – Твой инклин ведь лечит? В смысле, справляется со всякими хворобами носителя? «Лечит. Это компенсация за сотрудничество, осознанное или нет». – Тогда подсадим продавцу из «Киммерии»? Уж больно симпатичный старичок! А старость в нашем мире вещь печальная и сопряженная с болезнями… «Я знаю, Ким. Мы не болеем и не старимся, но я встречался с такими феноменами на других планетах». – Вы что же, вообще не умираете? «Почему? Ничто не вечно во Вселенной! Умираем, – сообщил Трикси и добавил: – Когда захотим». Брови Кима полезли вверх. Он повернулся к экрану, посидел пару минут в изумлении и задумчивости, переваривая услышанное, затем прочитал последнюю фразу в набранном тексте: «Поймав его вторую руку, Конан…» – хмыкнул и вернулся к работе.* * *
Поймав его вторую руку, Конан уселся на крестец поверженного соперника и придавил коленом хребет. – Ну, все еще хочешь услышать, как бренчат монеты в моем кошеле? – поинтересовался он. – Или хруст твоих костей будет звучать приятнее? – Пуу-стии… – прохрипел ванир, не прекращая, однако, попыток к сопротивлению. – Пуу-стии… хорр-рек! Конан обозрел необъятную спину, поросшую рыжим волосом. – Я могу сломать тебе шею, хребет или руку… Могу и отпустить! Выбирай, отрыжка Имира. Он немного ослабил захват, и Хорстейн пробормотал: – Отпусти! Но чего ты за это захочешь? – Ничего! Почему ты решил, что я намерен взять с тебя выкуп? – Не бывало еще, чтоб разбойник-киммериец отпустил честного ванира без выкупа! Конан расхохотался и встал, разжав стальные тиски на руках рыжеволосого. Этот Хорстейн не внушал ему неприязни – пожалуй, даже нравился. – Я тебя отпускаю, рыжая шкура. Все, что ты мне должен, – пара-другая историй. – Каких еще историй? – подозрительно спросил ванир. Он сел и, морщась, начал растирать запястья. – Ну, к примеру, о том, чья это земля на самом деле. – Конан сплюнул в сторону скал. – Оборванцу вроде тебя положено шесть локтей, причем не на земле, а под землей. И если эти богатые угодья, – он сплюнул в сторону тундры, – в самом деле имеют хозяина, то зовут его никак уж не Хорстейн, сын Халлы. – Ты не прав, – возразил рыжий. – Берег этот ничейный, а значит, мой, клянусь сосульками в усах Имира! Вот дальше, за моими землями, – Хорстейн ухмыльнулся, помянув о «своих землях», – лежит бухта Рагнаради, принадлежащая Эйриму Удачнику. Еще зовут его Высокий Шлем, потому что таскает он на башке горшок из железа, взятый не то в Гандерланде, не то в самой Аквилонии. Он, этот Эйрим… – Господин! – донеслось сзади, и Конан, обернувшись, увидел, что Идрайн помахивает секирой. – Господин! Должен ли я подойти и снять голову с твоего врага? – Стой! – рявкнул Конан. – Стой на месте! И расстели плащ, чтобы моя женщина могла сесть! А этот ванир мне не враг. Я желаю с ним поговорить. Ему не хотелось, чтобы Хорстейн разглядел голема вблизи. Можно было биться о любой заклад, что рыжеволосый ванир не станет рассказывать всем и каждому о своем поражении, но о серокожей твари ростом в семь локтей он мог и проболтаться. Лишние слухи были Конану ни к чему. – О! – произнес Хорстейн, выразительно подняв палец и усаживаясь на вязанку с хворостом. – О! Господин! Видать, ты не простой человек, киммерийская рожа, коль величают тебя господином! – А как еще слуга должен звать хозяина? – буркнул Конан, поднимая плащ, пояс с мечом и кошелек зингарского матроса. Пояс он затянул вокруг талии, плащ набросил на плечи, а кошелек принялся подбрасывать в ладони. Монеты в нем звенели тонко и соблазнительно. – Значит, за твоими землями находится бухта Рагнаради и поселение Эйрима Высокого Шлема, – произнес киммериец. – А далеко ли до него? – За день можно добраться, – сказал Хорстейн. – За день, если не разыграется буря. А коль разыграется, то не доберешься вовсе. – Он привстал и, щурясь, оглядел горизонт и небеса. Их начали затягивать темные тучи. – Какие же земли лежат за уделом Эйрима? – спросил Конан, словно бы не слыша последних слов ванира. – Там есть еще десяток подворий, а за ними – Кро Ганбор, каменные башни да стены, а посередь них – злобная крыса, прокляни ее Имир! А дальше ничего нет, только вечные льды да снега, где даже летом сдохнешь с голоду, если не навостришься жрать волков. Ты как насчет волчатины, киммериец? – Мне больше по нраву крысятина. Ты вот обмолвился насчет крысы за стенами Кро Ганбора… Это кто ж таков? Огромный ванир повел плечами, будто поежился, и внезапно севшим голосом пробормотал: – Колдун, поганые моржовьи кишки! Живет там столько лет, что старики не упомнят, когда он появился в наших краях… – Тут Хорстейн поднял глаза и произнес еще тише: – Ты, киммериец, здоров драться… шустрый, видно, парень! Но я бы тебе не советовал подходить к стенам Кро Ганбора. Может, и уйдешь обратно, да только в медвежьей шкуре. Или в волчьей… Это уж как чародею будет угодно! – Боишься его? – спросил Конан. Ответом было лишь угрюмое молчание, и он, стиснув в ладони кошелек с монетами, задал новый вопрос: – А что, Эйрим Высокий Шлем тоже боится колдуна? – Ну, боится не боится, а опасается, – буркнул ванир. – Что мне за Эйрима говорить? Он вождь, а я простой ратник. У него корабли, и люди, и удача… А у меня что? Топор да жена, порог да очаг, а при нем – шестеро малолетних… – Да, небогат ты, Хорстейн, сын Халлы, хоть и владеешь обширными землями! – Конан в последний раз подбросил кошель в ладони и швырнул его на колени рыжеволосому. – Держи! Только не хвастай всем, что ограбил киммерийца и намял ему загривок! А теперь я хочу послушать про Эйрима. Большой ли он вождь? Храбрый ли? Сколько у него кораблей и воинов? Велика ли его сила? – Большой вождь! Выходит в море на трех кораблях, и людей у него сотни! Да, большой вождь, – с ухмылкой протянул Хорстейн, – храбрый и удачливый, да только кончилась его удача… – Это почему же? – Ну, сам я не видел, но люди говорят, что прислал к нему колдун своих воинов. И двух старшин своего войска, Торкола и Фингаста. Оба изгои! Один руку на отца поднял и братьев порешил, да и другой не лучше. Моржовый клык им в брюхо! – Хорстейн откашлялся, сплюнул и позвенел монетами в кошеле. – А за серебро спасибо, киммериец. Чем же я тебе удружил? Или рад был кости поразмять? – И кости ты мне размял, и истории забавные поведал, – усмехнулся Конан. – Теперь я знаю, к кому мне идти. Он повернулся и сделал шаг к своим спутникам. – Ну, иди, – буркнул Хорстейн ему в спину. – Только шел бы ты лучше к моему очагу, парень. Хоть и не Эйримовы хоромы, а много ближе, и метель там переждать можно. Говорю, буря надвигается! А в бурю надо сидеть под крышей, у огня. Ведомо ли тебе про имировых сыновей, ледяных великанов? Они шутить не любят! – Ведомо, – отозвался Конан. – Я их не боюсь. – А как насчет снежных дев, дочерей Имира? Их тоже не боишься? – произнес Хорстейн, сын Халлы, пряча кошелек за пояс. Но Конан его уже не расслышал.* * *
Даша подкралась к нему на цыпочках, обняла, окутала облаком рыжих волос. – Труженик мой! Скоро нам принесут обед. Ты есть хочешь? – Хочу, – сказал Ким, млея от счастья. – Но лучше бы сейчас не наедаться. Я ведь друзей на вечер пригласил. Памора, Митчела, Бада и Альгамбру Тэсс. Ты не против? – Не против. – Даша уселась к нему на колени. – А эти друзья – они что же, иностранцы? – Негры, – пояснил Ким, – только литературные, вроде меня. Очень подходят к твоему хайборийскому заведению. Мы ведь, лапушка, творим о Конане и с Конана живем. Можно сказать, с «конины». – Надо же! Когда-то мне подарили томик Говарда, и я его за ночь проглотила. Не думала, что ты о том же пишешь. – Даша уставилась в экран, перечитала последний отрывок, затем сказала: – Правда, о Конане! И про снежных дев я помню… «Дочь ледяного гиганта», да? Был, кажется, такой рассказ? – Был. О дочери Имира, божества снегов и льдов, коему поклоняются северяне. Эти девы тощие, хрупкие, бледные, с белыми волосами… – Ким внезапно сообразил, что описывает Альгамбру Тэсс, поперхнулся и добавил: – В общем, нечисть и нелюдь. Приходят с метелью и замораживают путников. – А я? Ты говорил, что я – в твоем романе. Кто я там? – Колдунья. – Разве? – Глаза ее лукаво заблестели. – А разве нет? – Ким прижался губами к ее шее, пробормотал: – Понимаешь, милая, колдуньи разные бывают: есть ведьмы, а есть феи. Рыжие, зеленоглазые… те, что обедом кормят и кофе в постель подают. Знаешь, что делают с такими феями? – Даша зарделась, отодвинулась, но он продолжал шептать: – Женятся на них, ясно? Женятся, любят, детишек заводят и умирают с ними в один день… Ты записку мою вчера читала? – Читала… – Как насчет руки и сердца? Она вздохнула. – Я не свободна, Ким. – Надо освободиться. Чем быстрей, тем лучше. – Надо. – Лицо Даши помрачнело, ясный лоб прорезала морщинка. Выдержав паузу, Ким спросил: – Боишься его? – Нет. Не хочу ни встречаться, ни вспоминать о нем, ни думать. Особенно встречаться. Он… он бывает очень убедительным. – Настолько, что ты с ним расписалась? Даша вдруг всхлипнула, уткнувшись носом Киму в плечо. – Я не знаю, как это вышло, милый… не знаю, клянусь! Он мне совсем не нравился… не потому, что стар и некрасив, а больно уж недобрый… Ходил, уговаривал и вдруг уговорил… Как, не знаю! Будто затмение нашло, болезнь или крыша съехала… Варя кричала – с ума сестренка сходишь! Потом плюнула, на гастроли уехала, а он меня к себе увез, в Комарово. Дом там у него… не дом, прямо дворец или крепость… Стена вокруг трехметровая, охрана, псы… И никуда от себя не отпускал! Не любит в город выезжать… говорит, кому надо, тот сам ко мне приедет… И ездили! А он хвастал: жена у меня молодая, умница, красавица! Внезапно плечи Даши затряслись, словно выгнали ее в морозную ночь в легком платьице. Она обхватила Кима за шею и разрыдалась. – Как вспомню его руки и глаза… как он надо мной в постели… смотрит, тянется к груди, к коленям, шарит, шепчет: «Моя!.. Моя!..» А потом… У нее перехватило горло. Ким представил это «потом», скрипнул зубами и испустил мысленный вопль: «Трикси! Можешь ей помочь? Пусть забудет про этого гада, про лапы его загребущие, про все, что с ней творил! Пусть…» Что-то прозвенело в голове, будто тренькнула и оборвалась гитарная струна. «К ней подсажен инклин. Сейчас она уснет. Ненадолго», – сообщил Трикси. Дашино тело обмякло, головка качнулась солнечным цветком на тонком стебле и опустилась Киму на грудь. Он поднялся, перенес ее на диванчик, вытер платком мокрые щеки, присел в изголовье и задумался. Странные чувства одолевали его. Не было людей на свете, которым Кононов желал бы зла; не терзали его душу ненависть и ревность, не сушила память о неотомщенных обидах, не сочилось ядом сердце при мысли об обидчиках. Был он романтик и рыцарь той породы, что берет не силой, не угрозами, а убеждением и благородством; редкий тип для нынешних времен, неходовой товар. Может, по той причине и писал он сказки о борьбе добра со злом, в коих добро всегда побеждало происки злобных колдунов и светлый меч брал верх над черной магией. Но это была, так сказать, генеральная линия, поскольку носитель меча умел ненавидеть и не прощал обид. В этом Конан Варвар был непохож на Кима Кононова, и мысленный контакт между ними, более тесный, чем дозволяется у автора с его героем, что-то менял в характере Кима, чего-то добавлял ему. Жестокости? Стремления мстить? Свободы в выборе способов мести? Возможно. Во всяком случае, сейчас Ким размышлял о Дашином супруге с холодной злобой, и чудилось ему, что он, вцепившись в горло ненавистного, давит и давит, и слушает жалкие хрипы, и смотрит в тускнеющие глаза. Он вздрогнул и разжал сведенные судорогой пальцы. Даша спала. Щеки ее порозовели, и дыхание было ровным. «Хочешь, чтобы она забыла? – спросил Трикси. – Мой инклин избавит ее от тягостных воспоминаний. Несложная операция». – Нет. «Но ты же сказал: пусть забудет!» – Я погорячился. Все, что было с ней, плохое и хорошее – ее и не подлежит изъятию. Достаточно, если инклин ее успокоит. Хлопнула дверь. Ким поднялся, вышел в прихожую, взял у Марины поднос с тарелками. – Спасибо, поилица-кормилица. – А Дарья Романовна где? – Дремлет. Марина не без лукавства подмигнула Киму: – Это вы ее так утомили? Ну, пусть отдохнет. Через пару часов открываем. Бар работал с десяти до четырех, и в это время публика в нем пробавлялась пивом с солеными орешками, шампанским, кофе и мороженым. Затем, после часового перерыва, приходил шеф-повар Гриша, и начинали собираться клиенты посолиднее, из Дома журналистов и городской библиотеки, Британского совета по культурным связям и прочих лежавших окрест заведений. Эти ели шашлыки, бифштексы, котлеты по-киевски, пили виски и коньяк и наделяли официантов чаевыми. Поэтому считалось, что «Конан» по-настоящему открывается с пяти. Прикрыв за Мариной дверь и переправив поднос на кухню, Ким вернулся к Даше и сел на диванчик. Через минуту веки ее дрогнули, и он догадался, что Даша смотрит на него – так, как умеют смотреть лишь женщины, через ресницы, почти не открывая глаз. Лицо ее было спокойным. – Я уснула? – Да. А я стерегу твой сон и размышляю. – О чем? – О твоей сопернице. – Глаза Даши распахнулись, и Ким торопливо пояснил: – Сопернице из Хайбории. Там ты фея и колдунья, но есть еще другая девушка с видами на Конана. Так, понимаешь, издатель распорядился. Даша села, протянула руки и ухватила Кима за уши. – Издатель не издатель, а я не потерплю соперниц! – Придется ее убить, – со вздохом промолвил Ким. – А жаль! Совсем неплохая девушка, хоть и блондинка. – Придется, – подтвердила Дарья. Потом призадумалась и сказала: – Ты уж ее не мучай, милый, не терзай. Мы, девушки, любим умирать красиво.* * *
К семи бар начал заполняться. У столиков при входе расселась компания журналистов и телевизионщиков; там шумно отмечали выход в свет какой-то новой передачи, «Все до лампочки» или «От фонаря». Ближе к стойке лакомились эклерами дамы из Британского совета, по временам оглашая воздух птичьими вскриками – «Вандефул!.. Магнифишн!.. Найс айдиа!» Столик под самым окном заняли две упакованные в джинсу девицы, по виду – лесбиянки; шептались, хихикали, пили коньяк и гладили друг друга ниже пояса. За ними деловито трудились над бифштексами шестеро молодых людей, напоминавших команду борцов с Кавказа: все с большими сумками, черноволосые, плечистые и как бы на одно лицо – глазки маленькие, челюсти квадратные. При них был мужчина постарше, видимо, тренер, непохожий на кавказца; выглядел он начальственно и озирался по сторонам с высокомерной миной. Иногда Кононов ловил его холодный взгляд; глаза у мужчины были серые, мрачные, непроницаемые. Может, и не тренер вовсе, а из породы сероглазиков? Искусствовед-астрофизик, только в штатском? Впрочем, взгляды эти Кима не смущали – он наливал, поднимал и чокался. Даша, сидевшая рядом, раскраснелась и была чудо как хороша; Миша Леонсон шептал ей на ушко комплименты, Жека обхаживал Альгамбру (та заявилась в белом и в ожерелье из хрусталя – ни дать ни взять снежная дева), а Дрю-Доренко налегал на шашлык, потчевал компанию анекдотами и с ироничной усмешкой разглядывал жестяные секиры и мечи – какая, мол, профанация! Разговоры за столом велись легкие, шутливые: вот надо бы полки подвесить и выставить в них сто томов «конины», а к ним пейзажи заказать, поинтереснее, чем у Халявина в издательстве, – скажем, Конан в туранском гареме или в шадизарском кабаке. Тряпочного демона убрать; болтается под потолком, похож на Бада Кингсли, а значит, страха никакого, только смех. «Правильно, убрать!» – хихикал Жека. Раз место есть посередине, лучше приспособить столб, колонну такую деревянную, и приковать к ней Памора Дрю, раскрасив предварительно под пикта. Доренко кивал, соглашался и спрашивал, нельзя ли столб воздвигнуть поближе к тем английским курочкам, что лопают эклеры. Он им такой эклер преподнесет! Натуральный, из Пиктских Пустошей! Альгамбра ахала, морщилась: самец ты, Дрю, неандерталец и сексуальный маньяк! Не маньяк, ухмылялся Доренко, а целеустремленная личность с правильной сексуальной ориентацией. Как у Мэнсона! Тут он косился на круглые Дашины коленки и подмигивал Киму. Дверь внезапно распахнулась, и в зал вошел мужчина огромного роста, в безрукавке и вельветовых штанах. Штаны были потертыми, а безрукавка оранжевой кожи, усеянная заклепками, надета на голое тело; волосы светлые, курчавые, с шеи свешивается цепь, но не из драгметаллов, как это принято у «новых русских», а самая натуральная железная – хоть медведя води, хоть бадью из колодца вытягивай. Наряд дополняли кирзачи с подвернутыми голенищами и широкий ремень, тоже весь в заклепках, с внушительной латунной бляхой. В общем, не для бара «Конан» посетитель. Ким удивился, как его не бортанули от дверей, но такой маневр был, очевидно, нелегким: Селиверстов – шесть на девять, а этот, с заклепками, еще покруче. Как минимум двенадцать на восемнадцать. Гигант встал посередине зала, под чучелом демона, и осмотрелся, медленно ворочая головой на бычьей шее. Появился Селиверстов и замер у порога; физиономия бдительная, руки скрещены, и правая – за отворотом куртки, в наплечной кобуре. Клиенты оживились, тренер-сероглазик хмыкнул, и даже девочки-лесбияночки перестали тискаться – видно, решили, что ожидается какой-то забавный аттракцион. Наклонившись, Ким ощупал под стулом сумку с дисками и, припомнив, что в голове у него не раз уже тренькало и звякало, мысленно спросил: «Разосланы инклины? Сколько?» «Девять, – отозвался Трикси. – Твоим друзьям, официантам, повару и менеджеру». «Тогда принимайся за трансформацию. Предчувствие у меня. Не нравится мне этот тип!» «Думаю, мне тоже», – заметил пришелец, и теплая волна тут же захлестнула Кима, переполняя мышцы энергией и силой. Стул под ним жалобно скрипнул, столик под локтями задрожал, и он поспешно отодвинулся. Гигант стукнул себя кулаком по груди. – Ну, сейчас заведет шелупонь: мы люди-беженцы, не местные, ночуем по вокзалам… – пробурчал Доренко. Но в этот раз сценарий был другим. – Я – Семитха Кулрикс из Офирии! Непобедимый воин и боец! Камни жру, песком отплевываюсь! Кто тут Конан, выходи! Глаза у Даши округлились, Альгамбра Тэсс захихикала, а дотошный Леонсон сказал: – Заврался ты, парень! Семитха и Кулрикс – пиктские имена, а не офирские. – А мне по барабану! – рявкнул великан и топнул сапогом – так, что зазвенела посуда и британские дамы испуганно пискнули. – Где ты, Конан, сучья пасть! Конана хочу! Чтоб вырвать ему яйца… то есть печень! – Развлекаем публику? – Дрю-Доренко повернулся к Даше. – А здоровый хряк! Почем наняли? За кружку пива? Так я бы лучше сыграл и даром. Даша улыбнулась, недоуменно пожала плечами, а за ее спиной, под лампой-факелом, возник Канада. – Прикажете выкинуть, Дарья Романовна? – Менеджер поднял руку, собираясь махнуть Селиверстову, но Ким его остановил: – Не торопись, Славик. Это, кажется, меня. Он почувствовал, как Дашины пальцы вцепились в рубашку, ласково отстранил ее и поднялся. – Тебя, тебя, – подтвердил Доренко, – только не твоя весовая категория. Вы его, Дашенька, не пускайте, а я сейчас этого хряка вилкой уложу. – Сиди, – негромко сказал Ким и повернулся к Даше. – Ты, женщина, тоже сиди, смотри и не пытайся меня остановить. Киммерийцы не прощают оскорблений. Он вышел на середину зала. Британские дамы притихли, замерли с раскрытыми ртами и впитывали славянскую экзотику; от столов, где сидели журналисты, доносился сдержанный гул, а на лицах молодых кавказцев было написано жадное любопытство. Один скользнул к дверям, другой – к стойке бара, а остальные развернули стулья и посматривали то на Кима и Семитху, то на тренера-сероглазика. Казалось, мигни он либо пальцем шевельни, и парни вынесут из зала всех, вместе со столами и закусками. «Подозрительно», – решил Ким, обратив внимание, что сумки у них под руками. Еще он заметил, как бледнеет Даша, как спорят о чем-то Киселев и Леонсон, а Дрю-Доренко хмурится и крутит пальцем у виска. Вдруг Альгамбра взвизгнула: «Потешный бой! Потешный бой!» и застучала кулачком по столу. – Заводной бабец, – пробасил Семитха. – Потом я ее отымею. И ту, рыжую, тоже. Или сперва рыжую, а после… Ким коротко и страшно ударил великана в пах. Коленом, с разворота. Его восприятие, как это уже бывало, изменилось; Конан, возобладав над ним, вырвался на свободу и глядел сейчас с холодным торжеством на стонущего человека. В том, что должно свершиться, Конан не видел ни потешного, ни театрального; бой есть бой, и все в бою дозволено, чтоб подобраться к врагу, сломать ему хребет или проткнуть глазные яблоки. Семитха выпрямился. Лицо его было жутким: распяленный рот, выкаченные глаза, побагровевшие щеки. – Что, имелку прищемили? – поинтересовался Ким. – Щас… – прохрипел великан, – щас, паскуда… Щас я тебя закопаю! Они закружились под чучелом демона, обмениваясь сильными ударами. Противник был могуч и крепок, и Кима, подставлявшего то локоть, то плечо, слегка покачивало. Сознание его раздвоилось: разум, принадлежавший Киму Кононову, был словно сам по себе, а киммерийские инстинкты обороняли плоть и кровь, не требуя разумного вмешательства. Он размышлял, зачем подослан этот тип, то ли скандал устроить и напугать клиентов, то ли с иными злобными целями, а руки и ноги вкупе со всем остальным делали привычную работу, сгибались, разгибались и совершали множество движений, потребных в нынешних обстоятельствах. Недремлющий инстинкт подсказывал, как уклониться от удара и в какую точку бить; он видел пот, стекавший по лицу Семитхи, слышал его шумное дыхание и в то же время замечал происходившее извне и не имевшее сейчас к нему касательства: напряженные лица зрителей, раскрытые рты британских дам, следившего за битвой тренера, Селиверстова в дверях, хмурого Доренко и потемневшие Дашины глаза. «Ха!..» – выдохнул гигант. В плечо… «Ха, ха, ха!..» Снова в плечо, в локоть, в кулаки… «Ха!..» А это уже по корпусу, справа по ребрам, а целил в печень… «Профессионал, – мелькнула мысль у Кима, – боксер-тяжеловес и, кажется, не из последних». Он ударил, рассек до крови бровь противнику, переместился назад, к столам, где сидели кавказцы. Один из них, повинуясь кивку сероглазого, стал приподниматься, но Доренко, вытянув руку, придавил ему затылок. – Куда? Парень дернулся, пришипел: «Грабли обломаю, гнида!» – но палец Дрю уже воткнулся в тайную точку за ухом, тяньжун или ваньгу, нажатие которой ведет к мгновенной смерти. – Не суетись, джигит, – сказал Доренко, подмигнул сероглазому тренеру и добавил: – Вот так-то, друг! Белое арийское сопротивление не дремлет! Глаз Семитхи заливала кровь, и Ким, обойдя его слева, нанес безжалостный удар по почкам. Гигант развернулся, послал тяжелый кулак в пустоту, вытер лицо и получил прямой в челюсть. Голова его откинулась, словно на шарнирах, взгляд остекленел. Журналисты зашумели, одна из дам азартно свистнула, а сидевшие под окном лесбиянки полезли на стулья, чтоб лучше видеть. – Хайль Борисия! – выкрикнул Дрю-Доренко. – Хайль! – дружно поддержали остальные конанисты. Ким ударил гиганта по ноге ступней, сбил на пол, уперся коленом в необъятную спину, нашарил на загривке цепь. «Хорошая цепочка, крепкая», – подумал он, накручивая на кулак стальные звенья. Семитха захрипел, ткнулся лицом прямо в туфельки Альгамбры. – Ну, вот! – с неудовольствием промолвила она. – А говорили, бой потешный! Ким хищно ощерился. – Это кто сказал? – Чуть ослабив цепочку, он наклонился к уху противника и рявкнул: – Значит, ты Семитха Кулрикс из Офира? А как по-настоящему? Отвечай, моча шакалья! Задушу! Или хребет сломаю! – От-пус-сси… – Речь великана была невнятной. – Семен я Кх-кулешов… От-пус-сси, урод! Но Ким не ослабил хватки. – Откуда? Кто нанял? – Он задавал вопросы, фиксируя каждое движение сероглазого и его бойцов. А в том, что в бар пришли бойцы, сомнений у него не оставалось. Вот только чьи! – Из «Ультиматума» я… – прохрипел бывший Семитха Кулрикс. – Бойцовский кх-луб такой… А наняли черножопые… Вон старшой их сидит… Зай… Зайцев Гх-леб Ильич… – Ты чего плетешь, дебил хренов? – осведомился сероглазый, приподнимаясь. Его команда дружно потянулась к сумкам, парень у стойки напрягся, а стоявший рядом с Селиверстовым полез за пазуху. «До дисков бы добраться», – подумал Ким и стукнул великана по затылку, погрузив в беспамятство. Темноволосые бойцы тащили из сумок что-то железное, громыхающее, визг лесбиянок резал уши, Дрю-Доренко внезапно совершил кульбит и принял боевую позу, Альгамбра с грозным видом ухватила нож, а Даша – пустую бутылку. «Только этого нам не хватает», – мелькнуло у Кима в голове. Он опрокинул на сероглазого тренера стол, пнул в голень парня с автоматом, ужом скользнул к стене мимо растерянного Леонсона и выпрямился, сжимая свой боезапас. Сталь протяжно запела под его пальцами. Не дротики, не топоры и не кинжалы – диски… Умеет Конан их метать? Ким еще размышлял над этим, когда стальная звездочка врезалась в зад сцепившегося с Селиверстовым бойца. Дальнейшее свершилось быстро, под визги и крики, треск автоматных очередей, звон стекла, грохот ломавшейся мебели и стук предметов, одушевленных или нет, валившихся на пол с воплями либо в покорном молчании. Ким метал свое оружие и мысленно бился с взъярившимся киммерийцем: тому хотелось всадить острия в лоб и горло, а не в запястья и локти. «Не лес, – убеждал его Кононов, – место людное, торговое, зачем нам столько трупов? Руки порежем, чтоб автоматы бросили, добавим по сусалам и вышвырнем вон». «Кром побери!.. – гневался Конан. – Какие руки и сусалы? Насмерть бей, Нергалово отродье! В глотки целься да по вискам! Короче, мочи!» Эта борьба закончилась вместе с дисками. Ким обнаружил, что публики в зале нет, кроме дрожавших под столом лесбиянок, что Семитха Кулрикс из «Ультиматума» тоже куда-то делся, что темноволосые, в крови и в мыле, сами утекают на улицу, а Селиверстов им помогает, провожая каждого пинком. Жека Киселев еще размахивал кулаками, Леонсон оттирал с рубашки пятно от соуса, Альгамбра взирала на Кима с восхищением, а Дрю-Доренко занимался делом – собирал стальные диски. Ким поискал глазами Дашу и улыбнулся ей – растрепанная и прекрасная, она походила на валькирию. Кто-то под его ногами застонал и завозился. Отодвинув стол и стулья, он извлек сероглазого, хрипевшего и хватавшегося за грудь – видно, приложило краем столешницы, – и поставил на ноги. – Как тебя? Зайцев? Ну, прыгай отсюда, пока на шашлык не пустили. – Чьи? – выдохнул тот. – Вы чьи? Тамбовские или норильские? А может, казанские? – Мы хайборийские, – ответил Ким. – А вон та девица, – он покосился в Дашину сторону, – у нас за главаря. Лучше на нее не наезжать – лютая беспредельщица! Рыжей Сонькой кличут… Не слыхал? – Анасу Икрамовичу это не понравится, – пробормотал сероглазик. – Сильно не понравится! Пошатываясь, он направился к выходу, а Ким поспешил к Даше. В зале возник Славик с блокнотом, стал бродить туда-сюда, что-то шептать и записывать – видимо, подсчитывал убытки. Киселев посмотрел на Леонсона и промолвил: – Брось ты с рубашкой возиться, Лайонз! Ты вокруг взгляни и впечатлись! – Чем? – кисло спросил Леонсон. – Это же кино голливудское! Такая сека и заруба! Роман можно сбацать – Конан против чеченской мафии! Давай на пару, а? По свежим впечатлениям? Конан есть, – он кивнул на Кима, – а Дашенька будет у нас прототипом… – Дашеньку ты не трогай, это мой типаж, – произнес Ким и обнял ее за плечи. Подошел Дрю, погромыхивая сталью. – Диски от пильной машинки… хм, оригинально! Ты где же, Мэнсон, научился их кидать? И драться? Не замечал я у тебя таких талантов… – Повернувшись к окну, он заметил дрожащих лесбиянок, подмигнул им и сказал: – Что, перепугались, секс-меньшинства? Дуйте отсюда да поживей. Милиция скоро приедет, и заметут вас как подозрительный элемент. Девушки пискнули и ринулись к дверям. – Милицию я уже вызвал. – Славик Канада приблизился, вздыхая и заглядывая в свой блокнот. – Милицию, спецназ, ОМОН и ФСБ. Кто-нибудь да приедет… Скорее всего мой знакомый, капитан из райотдела. – Он пошуршал листами, горестно сморщился. – У нас, Дарья Романовна, поломанных столов – четыре, стульев – девять, разбитых зеркал – одно и сотня пуль в стенах и чучеле демона. Еще, разумеется, посуда… Но это мелкие потери, а главный убыток – престиж! Кто к нам пойдет после такого разбоя? – Не пойдут, а побегут и в очередь встанут, – возразил Доренко. – Нынче у вас самое жареное место во всем Питере! Ты, юноша, видел тех, с телевидения? Как эти ребятки глядели! Завтра к вам наедут и прославят на весь город – и ресторанчик ваш, и хозяйку, и тебя! – Он ухмыльнулся Киму. – Это уже лишнее, – сказал Кононов и предложил: – А не пойти ли нам отсюда? Есть помещение наверху, очень уютное и с черным ходом. – Идите, – кивнул Славик. – Мы тут чуть-чуть приберемся, а с милицией я лично побеседую, с моим знакомцем-капитаном. Скажу, бандиты наехали, под «крышу» брать, а чьи, не знаю. – Что про него соврешь? – Дрю похлопал Кима по спине. – И про хряка, с которым он бился? – А, это… Это у нас аттракцион такой. Для развлечения публики, вместо стриптиза. – Толково, – похвалил Доренко. – Ну, показывай, куда идти.* * *
Проводив гостей, Даша с Кимом встали у окна на кухне, обнялись и выключили свет. Близилась полночь, но у гранитного речного парапета еще маячили ротозеи, болтали, тыкали пальцами в милицейского старшину и Селиверстова, охранявших дверь. Из-под моста выплыл речной трамвайчик под флагом «Белые ночи», притормозил, и гид, размахивая руками, принялся что-то объяснять упитанным туристам; те загалдели, защелками фотокамерами, расцветив катерок сиянием вспышек. На улицу вышли Славик Канада, повар, официант Артем, за этой троицей – капитан и двое в штатском. В толпе произошло движение, и к ним метнулись какие-то люди – видимо, корреспонденты. – Так приходит мирская слава, – произнес Кононов. «Ты о чем?» – полюбопытствовал Трикси. «О том, что духу надо спать, когда его носитель общается с любимой женщиной, – строго отозвался Ким. – Третий лишний, понимаешь?» – Он поцеловал Дашины волосы и вымолвил: – Дрю, похоже, прав – не будет у тебя отбоя от клиентов. Ты, солнышко, с «Ультиматумом» свяжись, пусть еще бойца пришлют, лучше этого Сему Кулрикса. С ним мы уже сработались. – Погромщики были не из «Ультиматума», – сказала Даша, прижимаясь к нему. – Я не знаю, кто они и откуда. Мой… ну, Павел… он таких не держит. У него «шестерки» попроще, вроде Петрухи и Гирдеева. – Уже покойного, – усмехнулся Ким. – А эти, по словам их предводителя, присланы от ананаса с икрой. Слыхала про такого? Глаза у Дарьи округлились. – Ананас с икрой? – Я хотел сказать, Анас Икрамович. Даша призадумалась. – Бывал он у Павла… нечасто, раз в три-четыре месяца… Муж… Павел… объяснил – партнер по бизнесу, фрукты с Кавказа возит, водку дешевую, вино. Дагестанец или чеченец, но из наших, из питерских. И образованный! Персидский знает и арабский, по-русски чисто говорит, без всякого акцента, и очень вежливый – цветы мне обязательно дарил и называл красавицей. – Ну а теперь другой от него подарочек, тоже цветы, букет абреков огнестрельных называются. В другом бы месте я их, гадов… Внезапная ярость опалила Кима. То ли матрица киммерийца еще гнездилась в его душе, то ли гневался он на Дашиного супруга, на всякое о нем упоминание. Горько представить, что Даша жила себе, жила, не знала никакого Кима Кононова, вышла замуж за богатого, ложилась с ним в постель, пусть поневоле, и кто-то, а не Ким, дарил ей цветы и говорил комплименты. Встретить бы ее пораньше лет на пять, чистой, юной, вот тогда бы… Он скрипнул зубами, ужаснувшись такому кощунству. Спасибо судьбе, что встретил сейчас! Спасибо, что полюбила его, стоит с ним у окошка, держит за руку, щекочет за ухом губами, целует и не знает, что он подумал о ней… Спасибо! Но что-то она почувствовала – может, инклин подсказал, а может, обычная женская магия. Напряглась в объятиях Кима, постучала по груди кулачком, шепнула: – Что, киммерийцы не прощают оскорблений? – Не прощают, – согласился Ким. – Мстительный мы народ, дикий и нецивилизованный. Око за око, пасть за пасть. Только кровавая месть снимает стрессовое состояние. Даша расслабилась, мурлыкнула: – А я не смогу помочь? – Сможешь, – ответил Ким после недолгогораздумья. – Выброси сапог. – Это как же? – Обычай такой у киммерийцев: если женщина с мужем разводится, выбрасывает из жилья его сапог. – Как все у вас просто, – сказала Даша и замолчала. Часы в кабинете пробили полночь. На светло-сером небе вспыхнула звезда, воды Фонтанки стали темными, как деготь, зеваки разошлись, и только чья-то фигура еще маячила на набережной, словно неупокоенный дух утопленника. Вздохнув, Даша высвободилась из объятий Кима, приподнялась на цыпочки, поцеловала его в нос, сказала: – Ты иди, милый, ложись, я скоро приду. Позвонить мне надо. – А не поздно? – Не поздно, – ответила она. – Я знаю, что не поздно. Он, когда злится, может не спать всю ночь.ДИАЛОГ ДЕВЯТЫЙ
Мелодичные гудки в мобильнике. Потом тихий щелчок. – Павел? – Ты, мое золотце?! Дашенька, голубка, я… – Замолчи и слушай. Я к тебе не вернусь, Павел. Не вернусь, хоть полк за мной пришлешь и золотом дорогу вымостишь! Ты лучше обо мне забудь. Свет не без женщин, другую найди и успокойся. – Я спокоен, хе-хе, спокоен, рыбка… Но ты ведь помнишь, что я своим не делюсь, не отдаю и не дарю. Что мое, то мое. – Уже не твое. Долгое тяжелое молчание. – У тебя кто-то есть? Есть, знаю! Писака-фокусник! – И потому ты клоуна прислал? – Не клоуна, а мастера, известного… ммм… в определенных кругах. Очень, как говорят, артистичного. Чтоб вынести лишний реквизит без шума и пыли… Ну, не получилось! А получилось бы, сам бы приехал и помирился с тобой. Хотя мы ведь не ссорились, а? – Не ссорились. Просто ты мне не мил. Оставь меня, Паша, в покое! – Это, рыбка моя, затруднительно. Жди! Я к вам еще кого-нибудь пришлю. – Вот что, Павел… Лучше бы нам разбежаться, как ты говоришь, без шума и пыли. Ты человек со связями – позвони в Куйбышевский загс, пусть подготовят документы и бланки заявлений, чтоб ни тебе, ни мне не ждать. Ты подъедешь и подпишешь, я подъеду, подпишу… Подписали, получили в паспорт штамп и позабыли друг о друге. – Вот, значит, как? – Молчание. – Ты, золотце, слишком уж торопишься. А зря! Знаешь ведь, я всегда получаю то, что хочу. – И получишь, только не меня. Получишь бракоразводный процесс с разделом имущества. Ты с законами знаком? Все нажитое за последний год, все, что ты нагреб, – общая наша собственность. «Славянский Двор» на Литейном, «Крыша» в «Европейской», бары и забегаловки в Гостином, еще на Васильевском три кафе и новый ресторан на Стрелке… Ну и все остальное. Год у тебя был, Паша, удачный! Захочешь сохранить свое, придется откупаться. Большими деньгами! – Ты… ты, рыбка, никак меня шантажируешь? – Вот именно. Или по-моему будет, или по-плохому. – А не боишься, что мне помогут? – Это кто же? Анас Икрамович? Если он долю в твоих заведениях имеет, то будет очень разочарован. Есть простое решение – разойтись, есть сложное – судиться… Я почему-то думаю, что Анасу Икрамовичу простое нравится больше сложного. Меньше эмоций, целей капиталы. – Тут ты, Дашенька, права. Деловая ты женщина, хе-хе, умная! Знаешь, где и как муженька прижать… Значит, либо по-твоему, либо по-плохому? А подумать мне дозволяется? Поразмыслить над этими альтернативами? – Не очень долго. Минуты, думаю, хватит. – Мне, пожалуй, и минута не нужна. Любовь любовью, а бизнес бизнесом… Повидаться, кстати, не хочешь? Может, я тебе «Славянский Двор» отдам или «Гурмана» на Большой Морской… А? Поговорим, посмотрим друг на друга… – Не хочу я на тебя смотреть, насмотрелась! И говорить не хочу! В «Конан» звони, Славику. Скажешь, что документы готовы, я приеду. Все! Быстрые гудки отбоя. На другом конце линии – злой яростный шепот: – Не все, рыбка моя, не все!ГЛАВА 10 СНЕЖНАЯ ДЕВА
Ничем не обделен мир – в том числе и женской прелестью; в его оранжереях и садах благоухают всякие цветы. Блондинки, белые лилии с нежной кожей и глазами, словно небесная синь; томные тюльпаны-брюнетки с гибким станом и пламенными очами; кареглазые шатенки, чайные розы; огненногривые красавицы-орхидеи, чьи зрачки подобны изумруду, а губы розовеют красками утренней зари. Не знаю существа прекрасней и желанней женщины! Не знаю созданий более милых, очаровательных и добрых! Но я допускаю, что у женщин совсем иное мнение друг о друге.Дом на Фонтанке был старым, c мощными толстыми перекрытиями, но внизу шумели так, что комната полнилась целой какофонией жутких звуков. Молотки стучали, пилы визжали, дрель с воем вгрызалась в стены, а временами что-то грохотало и лязгало, будто двери гигантского стального сейфа. Этот шум производился бригадой ремонтников, трудившихся в «Конане» уже часа четыре: они заменяли панели, пробитые пулями, монтировали зеркало над стойкой, таскали мебель и устанавливали вместо демона колонну, трехметровый дубовый ствол, к которому будет подвешено чучело, но чье конкретно, Даша и Славик еще не придумали. Зато и та и другой сошлись в одном: если уж чиним и ремонтируем, так почему не освежить приевшийся интерьер? Они освежали его с утра, при помощи дизайнера, художника и вышеупомянутой бригады, не обращая внимания на творческие муки Кима. Но все же что-то ему удалось соорудить. Он продвигался не очень быстро и, при ином раскладе, мог примириться с лязгом и грохотом, с визгом и стуком. Если описывать землетрясение, гибель Атлантиды или драку в кабаке, фон был весьма подходящий, как и для погонь, разбойничьих вылазок либо атак тяжелой рыцарской конницы. Но действие шло к катарсису, к гибели верной Зийны, то есть к такому эпизоду, который пишут в тишине, закрывши двери, чтобы ни одна душа не видела, как плачет и страдает автор. Слезы и муки в данном случае – необходимые издержки производства: если не заплачешь сам, то и читатель не зарыдает. А надо, чтоб ужасался, сочувствовал и рыдал… Зря, что ли, деньги за книгу плачены?Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Конечно, было ведомо Конану про снежных дев и про то, что даже летом случаются в Ванахейме сильные метели, но рассчитывал он, что вьюга будет недолгой и удастся пересидеть ее у скал, паля костер, а вечером дойти до усадьбы Эйрима и глотнуть там подогретого пива. А заодно поглядеть, что делают на Эйримовом подворье люди Гор-Небсехта, два изгоя, которых ни в одном ванирском доме принимать не полагалось. Но не успели путники сделать и тысячи шагов, как небо затянула белесая мгла, прибрежные утесы потемнели, а в воздухе закружили снежные пушинки. Они падали вниз, пока еще неторопливо, скрывая землю мягким пологом, одевая скалы в искрящиеся одежды, оседая на капюшонах плащей, поскрипывая под ногами. Мир вокруг замер; все стало белым-белым, как саван покойника. Конан, разглядев скальный козырек и нишу под ним, повел туда свой маленький отряд. Конечно, это жалкое убежище не могло сравниться с гротом Дайомы – ни золотого песка, ни высоких сводов, ни сияющих врат. Зато была корявая сосна, выросшая у самого входа, и Конан, ткнув в ее сторону рукой, приказал голему: – Руби! Идрайн взялся за топор, дерево застонало и рухнуло после четвертого удара. Серокожий принялся обрубать ветви, Зийна торопливо складывала их в кучу, Конан высекал огонь. Сейчас он уже ругал себя, что не согласился пойти к Хорстейну, да было поздно. Рыжий ванир исчез в утесах; кричи – не докричишься. А искать его усадьбу в начинавшемся снегопаде казалось чистым безумием. Они успели разложить костер. Идрайн, повинуясь команде хозяина, сунул в огонь огромный смолистый комель срубленной сосны, и пламя забушевало. Конан и Зийна уселись на подстилку из ветвей, прижались друг к другу, сберегая тепло. Голем прислонился к скале, по-прежнему невозмутимый, но киммерийцу чудилось, что в глазах его поблескивает злорадство. Конечно, то было лишь иллюзией; каменный исполин мечтал о награде, человеческой душе, а к этой цели вела лишь одна дорога: служить верно и преданно. Зийна пошевелилась, положила головку на плечо киммерийца; выбившаяся из-под капюшона золотистая прядь коснулась его губ. – Таких снегов в Пуантене не бывает, – тихо молвила девушка, со страхом рассматривая сугробы, выраставшие прямо на глазах. Она не боялась стрел и мечей, но буйство стихии ее пугало, напоминая о собственной ничтожности и беззащитности. Вглядываясь в белесый туман, она видела оскаленные пасти снежных духов, их острые ледяные зубы; ей мнилось, что звенящую тишину вот-вот нарушит тяжкая поступь Имира, владыки ванахеймских равнин. Конан обнял ее за плечи, привлек к себе. – Не тревожься, моя красавица. Лучше думай о том, что мы почти добрались до цели, а значит, скоро повернем назад. К твоему Пуантену, к его виноградникам, к берегам Алиманы! Зийна вздохнула. За пламенной завесой костра продолжал идти снег. Снег был на редкость густым, он прикрывал мир мутной мглой и не кружился, не танцевал в воздухе, а падал отвесно, извергаемый невидимыми тучами. Легкие пушинки превратились в большие хлопья; ни неба, ни ближних скал было уже не разглядеть, а тундра исчезла совсем, словно ее навеки погребли снега, всю – и травы, и мхи, и редкие деревья. – Вот место, где кончается власть Митры, – произнес Конан, вытянув руку к снежной стене. – Тут свои боги, и играют они в свои игры. – Нет, милый, нет! – воскликнула Зийна. – Скрылось лишь солнце, око Митры, но бог не покинул нас. Он с нами! Девушка произнесла это с такой уверенностью, что Конан усмехнулся: – С нами? Где же? Она прижала руку к груди. – Тут! В наших душах, где горит зажженный им огонь! – Огонь, – повторил Конан, чувствуя, как стужа заползает под волчий плащ. – Ты говоришь о пламени жизни, принадлежащем Митре, а весь огонь, которым я владею – вот! – С этими словами он протянул руку к костру, а потом ощупал свой наголовный обруч. «Защитит ли магия железного кольца от злобных отпрысков Имира?» – думал киммериец. Сможет ли он поразить их заколдованным ножом? Возможно и так, но лучше, если бы эти твари вообще не появились… Что делать им тут, у морского берега, вдали от гор с ледяными вершинами? Да еще летом? Пламя костра дрогнуло, поднимался ветер. Он дул не с моря и не с равнины; он кружил, вращался тысячью малых вихрей, и каждый из них напоминал белую расплывчатую змейку. Они метались и плясали, подчиняясь ветру, который выл все пронзительней, все громче, пока его голос не заглушил треск ветвей в костре. Стужа леденила спину Конана, и он, пытаясь согреться, повернулся боком к костру. – Снежные демоны пришли, – со страхом сказала Зийна, крепче прижимаясь к нему. – Нет, – возразил Конан, – нет. Просто ветер кружит снега. Но он не испытывал в том уверенности; в танце белых змеек чудилось ему нечто завораживающее. Впрочем, они уже не были змейками. Белые смерчи заметно выросли. Сначала они доставали всего лишь до колена, потом поднялись вровень с плечом и, наконец, превзошли человеческий рост – в два, в три раза, в десять раз… Они тянулись к невидимому небу, бросали в лицо Конану горсти ледяных игл, морозили кожу. Костер еще защищал; от него струилось тепло, и огненные языки, лизавшие скальный козырек, жаркой завесой отделяли путников от белой пустыни. От холода и ветра. От ярости разбушевавшейся вьюги. От смерти. – Смотри! – Зийна протянула дрожащую руку. – Смотри, милый! Дракон! Скалит на нас клыки… – Нет, – Конан поднял лежавшее на коленях копье и пошевелил пылающие ветви. – Нет! Это метет поземка, и снежные струи напомнили тебе змея. «Может быть, и так, – сказал он себе, вглядываясь в белесую круговерть. – А может быть, и в самом деле дракон…» Но драконы его не пугали; он готовился к более страшному. Завораживающая пляска белых змей притягивала его взгляд, проникшая под плащ стужа леденила сердце. Белые змеи стали огромными колоннами, кружившими под дикое завывание ветра. Но одна из них почти не увеличилась в размерах; она была по-прежнему небольшой, не выше плеча рослого мужчины. И не походила на змейку; скорее, на развевающийся плащ, наброшенный на плечи. Чьи плечи? Конан не мог этого сказать. Иногда сквозь белесую пелену вдруг проступали очертания прекрасного лица, пленительной груди, точеного колена; затем киммериец видел лишь развевающийся по ветру снежный балахон. Это бесплотное одеяние приближалось к костру, и жаркое пламя вдруг начало угасать. Его языки уже не облизывали нависший над головой Конана камень, а лишь тянулись к нему, то вспыхивая ярче, то опадая, словно увядающий цветок. – Костер! – воскликнула Зийна. – Костер гаснет, милый! – В голосе ее звучал ужас. – Ветер задувает пламя, – произнес Конан, едва шевеля заледеневшими губами. – Идрайн! Иди сюда! Передвинь бревно ближе к огню! Ответом ему было молчание. Пробормотав проклятие, киммериец вытащил пылающую ветвь и вытянул ее на длину руки. Неяркий свет упал на застывшую фигуру Идрайна, словно прилепившегося к скале; глаза голема были выпучены, на серых коротких волосах лежал снег. И снег бугрился на его плечах, покрывал грудь, заметал ступни, колени, подбирался к секире в безвольно опущенной руке, превращая каменное изваяние в высокий бесформенный сугроб. – Что с ним? – прошептала Зийна. – Он сможет нас защитить? – Проклятое чучело! Теперь он не защитит и собственного зада, примерзшего к скале! – Но ведь Идрайн не… не человек… – Теплое дыхание девушки на миг согрело Конану щеку. – Он не боялся холода! – Холода – нет! Только волшбы! Преодолевая сопротивление застывшего тела, киммериец привстал и с яростным воплем метнул копье в колыхавшийся перед костром снежный балахон. Наконечник и древко пронзили вихрь, исчезли в белесом тумане; до Конана и Зийны долетел негромкий смех. – Она… – Тихий голос девушки был полон ужаса. – Она… Дочь Имира… Явилась…* * *
Явились телевизионщики – подъехали на маленьком автобусе, выгрузили аппаратуру, проникли в помещение, и там разгорелся скандал. Суть его была ясна, хоть голоса звучали невнятно: что за ремонт?.. вы почему не подождали нас?.. где разбитое пулями зеркало?.. где дыры в стеновых панелях?.. где ломаная мебель и посуда?.. и трупы – где?.. Ах, трупов не было… Жаль, искренне жаль! Ким схватился за голову и просидел в этой позе минут пятнадцать. Потом выключил компьютер, сунул в карман дискету с текстом, спустился вниз и посмотрел на Дашу: она отбивалась от репортеров, жаждущих кровавых подробностей, давала указания рабочим, следила за установкой зеркала, а в промежутках ее терзали дизайнер и художник. Он врезался в людской водоворот, прикрыл любимую женщину грудью и зашептал: – Поедем, солнышко, ко мне. У нас в Озерках благодать, тишина, покой и свежий воздух… В лесу погуляем или сходим искупаемся… Канада возник, будто чертик из коробочки. – И правда, Дарья Романовна, поезжайте! Я справлюсь. Работяги при деле, художники тоже, а этим, – он кивнул на репортеров, – я наплету такого, что хватит на три боевика. Как Гриша-повар рубился секачом и как Маринка откусила ухо главному бандиту. Даша откинула со лба рыжую прядь и оглядела помещение. – Сейчас не могу – мы еще с чучелом не решили и мебель не расставили. Еще страховой агент притащится… – Она задумалась на секунду. – Ты отправляйся, Ким, а я приеду обязательно, только попозже. Хочу взглянуть, как ты живешь… как жил до меня. Эта обмолвка согрела сердце Кима. Как жил до меня! Выходит, жизнь его переменится, и Даша вступит в его дом не гостьей, а хозяйкой. Он улыбнулся и сказал: – Адрес запиши. И как от метро добраться… Его возлюбленная рассмеялась: – Адрес? Что за адрес? Забыл, что Варя у тебя в соседках? Я помню, где сестра живет и где мой… Она покосилась на менеджера, захлопнула рот, но слово «милый» повисло в воздухе. Ким, все еще улыбаясь, вышел на улицу, направился к метро, но тут услышал голос Трикси: «Куда? В вашей подземной трубе я просканирую сотни, а на поверхности – тысячи! Ты по улицам пройдись и загляни в магазины, где народа побольше. Может, и купишь что-нибудь, а я займусь работой». – Верно, – согласился Ким и зашагал к Пассажу. В ювелирном отделе он присмотрел обручальные кольца, пересчитал свои доллары (хотя и так было известно, что их двести), вздохнул и подумал, велик ли окажется аванс за «Грот Дайомы»? Сейчас на золотое колечко хватит, а вот на то, с брильянтиком, – увы! А так хотелось бы надеть его на палец Даши… Снова вздохнув, Ким вышел на Невский, прогулялся мимо бутиков, ресторанов и театральных касс, мимо гостиницы «Европейская» и Армянской церкви, мимо огромных окон Дома книги и картинной галереи, поглядел на витрины, закурил, бросил окурок в урну, съел мороженое и, наконец, добрался до Мойки. Тут, в угловом старинном здании, был оптический магазинчик, а перед ним – крыльцо о четырех ступенях и еще одна дверь, со множеством вывесок и объявлений: почта «Экспресс», нотариальная контора, собачья парикмахерская и так далее. Где-то в середине – белый эмалированный овал с надписью синими буквами: «Экстрасенс Генрих Теодорович Тормоз-Забайкальский. Эзотерические услуги. Снятие порчи, сглаза и венца безбрачия». «Погоди-ка, – вдруг прошелестел Трикси, – не спеши. Мне надо разобраться». «Никак инклин обнаружил?» – поразился Кононов, сворачивая к угловому дому. «Еще не знаю. Надо подойти поближе». «Надо, так подойдем!» Поднявшись по ступенькам, Ким миновал собачью парикмахерскую (из нее тянуло запахом паленой шерсти) и очутился в длинном коридоре с дюжиной дверей – за ними, видимо, располагались все обозначенные при входе заведения. Офис экстрасенса отыскался за дверью с копией эмалированной таблички; Ким отворил ее и, перешагнув порог, попал в приемную. Тут, за секретарским столиком, у телефона и компьютера, сидела худосочная дева в очках, короткой юбочке и с толстой книгой. «Как обрести магическую силу и стать целителем», – прочитал Кононов на обложке. Девица, похоже, училась без отрыва от производства. Вежливо склонив голову, он произнес: – Я к господину Тормоз-Забайкальскому, мадмуазель. Проблемы у меня. Серьезные. Срочно нуждаюсь в эзотерических услугах. Девица оторвалась от книги, окинула его изучающим взглядом и повернулась к компьютеру. – Маэстро принимает по предварительной записи. Ваша фамилия, молодой человек? Вам назначено на сегодня? – Нет. А можно без записи? Прямо с колес? – Можно, но по двойному тарифу. – А каков тариф? – Это зависит от услуги и от количества тонких энергий, потраченных на вас маэстро, – охотно пояснила дева. – Диагностика кармы – двадцать пять в валютном исчислении, снятие порчи и сглаза – от сорока до ста пятидесяти, благословение мистической звезды Эрцгаммы – двести, а если надо подкачать харизму, то… – В последнем не нуждаюсь, харизмы у меня хватает, – прервал девицу Ким. – Давайте диагностику. Он покопался в карманах и с грустным вздохом выложил на стол полсотни баксов. Шесть дней работы! Но дружба не измеряется деньгами… Девица шустро сгребла гонорар, сунула в ящик и стукнула наманикюренным ноготком по клавише. – Ваши проблемы? И ваша фамилия? Можете назвать любую с целью анонимности. – Майкл Мэнсон. А проблемы у меня со здоровьем. Болезнь зовется хронический дефолт, осложненный импичментом. – Ждите! Девица упорхнула в кабинет маэстро, а Ким спросил: «Что ощущаешь, Трикси?» «Разочарование. У человека за дверью есть ментальный дар, но очень слабый и абсолютно не связанный с инклином. Пустышка, друг мой!» «Раньше нужно предупреждать, – сердито отозвался Кононов. – Я ведь уже заплатил! А коли деньги потрачены, то…» – Прошу! Маэстро ждет. Девица появилась на пороге, стрельнула глазками на Кима, и он уверенным шагом «нового русского» направился в кабинет. Маэстро, облаченный в темную мантию и бороду «а-ля Распутин», восседал за палисандровым столом. Крупные черты лица, пронзительный суровый взгляд, огромный крючковатый нос (побольше, чем у Халявина, отметил Ким) и плотоядная улыбка делали его похожим на вампира. Казалось, встанет сейчас, шагнет, лязгнет челюстью и присосется… Но против ожидания экстрасенс захлопнул рот и кивнул на кресло. – Садитесь, господин… э-э… Мэнсон. Мне доложили про дефолт с импичментом. Гипербола, я полагаю? Иносказание? А налицо финансовые неудачи, неверие в себя, проблемы с женщинами и ослабление потенции. Энергия в чакрах иссякает, престиж колеблется, деструктурирует имидж, падает самооценка… Я прав? – Почти, – ответил Ким, усаживаясь в кресло. – Все просекли, Генрих Теодорович, кроме финансовой непрухи. Бизнес – а я занимаюсь общепитом – как раз о'кей. Вот, ресторан приобрел, «Мечта кадавра» называется, у Смольного… не слышали?.. Всех губернаторских чиновников пою-кормлю… Еще кафешек пару, блинную, пельменную… ну и бунгало на Канарах… Грех катить на бизнес! А вот в остальном… Экстрасенс прикрыл глаза темными веками. – Обманывать меня не стоит, юноша. Сейчас вы пребываете в мире иллюзий и фантазий, не отличая возможного от действительного. Однако, – он с важным видом покивал головой, – однако все перечисленное может у вас появиться, если вы разумно распорядитесь тем, чем обладаете на самом деле. Своими талантами, умом и сексуальной привлекательностью. – Вот как? – Ким изобразил прилив энтузиазма. – А мне казалось, что в кровати я за базар не отвечаю. – Пусть не кажется, – прервал его маэстро. – Я уже исследовал вашу кармическую дорогу и заверяю, что вы вполне состоятельны. И даже более того… – Экстрасенс сделал несколько пасов, поводя руками на манер слепца, ощупывающего нагую стриптизершу, и повторил: – Более того! Я чувствую мощное движение астральных энергий и небывалый эзотерический потенциал! У вас, молодой человек, безусловно, есть способности, и надо лишь приложить их в нужной сфере. «Твоя работа?» – беззвучно поинтересовался Ким. «Ни сном ни духом, как говорят у вас», – ответствовал Трикси. Тем временем маэстро продолжал водить руками, щупая уже не одну, а целый кордебалет стриптизерш. – Способности есть, но дар нуждается в пробуждении, – резюмировал он. – Это штука непростая и требует усилий, как ваших, так особенно моих. Примерно три-четыре сеанса инициации с полной самоотдачей и выходом в астрал. Если вы вложите некую сумму… скажем, тысячу-полторы… – Большие бабки, Генрих Теодорович! – заметил Ким. – Типа, подумать надо. – Подумайте, подумайте. Все окупится стократно, заверяю вас. – Маэстро наклонился над столом, чтоб быть поближе к Киму, и доверительно понизил голос: – Представьте, с год назад пришел ко мне один мужчина, вполне удачный бизнесмен лет так пятидесяти с хвостиком. Удачный, повторяю, но хотелось большего – вы понимаете, расширить дело, найти партнеров посолиднее, очаровать молоденькую женщину… А это все зависит от дара убеждать, от неких таинственных флюидов, влияющих на окружающих, от завершенности астральной проекции, которая в Египте называлась «ка»… Словом, я ему помог, инициировал скрытые таланты, и он теперь не просто удачлив, а, можно сказать, любимец Фортуны. Счастливый муж и богатейший человек… Не исключается, вы его знаете, коль связаны с кафе и ресторанами… Везунчик годовалой свежести! Словно молния пронзила Кима. «А я вот слышал, что Дашка у Палыча привороженная. Вроде он экстрасенса нанял или ведьму…» – не в первый раз прозвучало у него в голове, и тут же, будто подтверждая эту мысль, откликнулся Дашин голос: «Он… он бывает очень убедительным». Кононов тоже склонился над столом, придвинувшись к маэстро, и хриплым голосом спросил: – А этот, типа, любимец Фортуны… как его по имени? Не помните? Экстрасенс развел руками; – Отчего же! Помню, но не могу назвать. Сами понимаете, тайна и гарантированная конфиденциальность… Так что насчет инициации? – Подумаю. Пошевелю рогами, – сказал Ким и, распрощавшись, направился к выходу. «Есть соображения? – спросил он, очутившись на Невском и поворачивая к метро. – Ты говорил, что кто-то из людей инклин не замечает, а у кого-то крыша едет либо пробуждается паранормальный дар… А если этот дар разбудит экстрасенс? Пошарит мысленно в астрале, нащупает проекцию – то есть потерянный тобой инклин – свернет в бараний рог и приспособит на службу клиенту. Чтоб он расширил бизнес и женщин чаровал… Такое возможно?» «Не знаю, – с заминкой ответил Трикси. – Впрочем, в вашем ненормальном мире все возможно, а потому проверь свою гипотезу». «Проверю, – пообещал Ким. – Как бы только подобраться к Палычу? В усадьбу его съездить, в Комарово? Должно быть, поместье немалое и с охраной, как Даша говорила… на сорок метров к дому не приблизишься… А с сотни ты его возьмешь?» «Нет», – печально откликнулся Трикси и замолчал. Они поехали домой, купили пива, пирожков, пирожных и заглянули в магазинчик «Киммерия», в свой безотказный арсенал; Ким разжился для вида отверткой, и пока он выбирал, какую и за сколько, в голове у него прозвенело: инклин отправился по назначению. «Сделано», – сообщил Трикси и опять погрузился в грустные раздумья. Открывая двери, Ким расслышал, как пронзительно трезвонит телефон. Он заторопился, не сразу попал в замочную скважину, буркнул что-то непечатное, провернул ключ, но все равно не успел – звонки прекратились. «Если не Даша, так оно и к лучшему», – мелькнула мысль. Потом он вспомнил, что Даша номера его не знает, и совсем успокоился; пошел на кухню, сделал кофе с бутербродами, выпил одно, съел другое и перебрался к компьютерному столу. Тишина, покой… Только шелестят за окном деревья, да чирикают воробьи… «Дашенька приедет, возьмем пирожков и пива, в лес пойдем», – решил Кононов и погрузился в работу.* * *
– Она… – тихий голос девушки был полон ужаса. – Она… Дочь Имира… Явилась… Над гаснущим костром пронесся ветер, взметнул снежный плащ, унес его за дальние сугробы. Среди белой пустыни плясала нагая девушка. Ее ступни, будто не чувствуя холода, скользили по снегу, тонкий стан изгибался, пухлые губы смеялись, но в глазах сиял ледяной блеск морозных северных равнин. Чем-то она походила на Зийну, но в ней не чувствовалось живого тепла; словно бесплотный дух, она танцевала перед огнем, и рыжие языки его бессильно опадали, алые жаркие угли рассыпались холодным пеплом, недогоревшие ветки покрывала серая седая зола. Конан, однако, не мог отвести от плясуньи глаз. – Исчезни, скройся! – крик Зийны заставил киммерийца очнуться. Привстав на колени, девушка прикрывала его своим телом, грозила белому призраку мечом. – Уйди! Он мой! И ты его не получишь! Серебристый смех дочери Имира прожурчал, словно ручей весной. – Получу… получу… – С каждым звуком ее голоса над кострищем взвивалась струйка дыма; вскоре огонь погас, и лишь холодное мерцание снегов освещало фигурку снежной девы. Зрачки Конана сверкнули. – Гляди на меня, смертный, гляди… Разве я не прекрасна? Она легким перышком кружилась в снегу, не оставляя следов; подрагивали полные груди, колыхался гибкий стан, вились по ветру волосы, мерцала белоснежная кожа. Конан чувствовал ее дыхание, летевшее к нему над угасшим костром; оно заставляло цепенеть, манило блаженной истомой. – Иди ко мне, воин! Иди! Ляг со мной! – Лучше я лягу с последней из портовых шлюх! – пробормотал киммериец немеющими губами. Что-то он должен был вспомнить, о чем-то поразмыслить, но голос Зийны, творившей молитву светлым божествам, мешал ему. А! Железный обруч! Обруч и кинжал! Обруч не помог, не защитил от волшебства снежной девы… Но оставался еще кинжал, тот зачарованный клинок, которым он должен был пронзить сердце колдуна… Дайома сказала: тысячи смертных падут под его ударами, но лезвие останется таким же чистым и несокрушимым… тысячи смертных или одно существо, владеющее магическим даром… Кого же поразить – призрак, сотканный из снега и похоти, или Гор-Небсехта? Выбора, кажется, не было. – Кинжал, – прохрипел он, – мой кинжал… Зийна склонилась к нему, обхватили за плечи, защищая от подступавшего к сердцу холода. Ее руки были теплыми. – Что, милый? Что нам делать? – Кинжал… я должен достать ее кинжалом… – Губы Конана едва шевелились. Он попытался дотянуться до своего ножа, но внезапно почувствовал, что не может стиснуть пальцы в кулак: они были мертвыми, застывшими, как сосульки. Пробравшаяся под плащ стужа уже не колола его ледяными иглами, а облизывала сотней холодных языков, высасывая последнее тепло, последние капли жизни. Он не мог поднять оружия, не мог отвести взгляд от снежной девы; ее зовущий смех заглушал голос Зийны. Ему чудилось, что пуантенка плачет, окликает его, спрашивает о чем-то, но зов дочери Имира был сильней, и теперь мысль о том, чтобы поразить это прекрасное существо зачарованной сталью, казалась ему кощунственной. «Да и поможет ли сталь? – размышлял он, погружаясь в небытие. – Ваны и асиры говорили, что от снежных дев нет спасения!» Нет спасения… нет спасения… нет спасения… Разум Конана померк, душа вступила на тропу, ведущую вниз, к Серым Равнинам.* * *
Едва эпизод был закончен, как заверещал звонок. Ким метнулся к телефону, потом сообразил, что звонят в дверь. Дашенька!.. Наверное, устала от хлопот с ремонтом, художниками, репортерами и страховыми агентами… Значит, так: первым делом – взять на руки, перенести через порог, потом – расцеловать, потом – кофе с пирожными, потом расцеловать еще раз и… Ким отворил, раскрыл объятия и чуть не рухнул у порога: перед ним стояла Лена Митлицкая, она же – Альгамбра Тэсс. В белом наряде и хрусталях, в которых явилась вчера, в белых изящных туфельках и с белым цветком хризантемы в прическе, подобной короне из платины. Цветок и выражение глаз, одновременно томное и хищное, делали ее такой неотразимо романтической, что Ким покачнулся и в испуге отступил. – Ах, – воскликнула Альгамбра, шагнув в прихожую, – ах, наконец-то! Я звонила тебе, звонила, потом мне представилось, что ты работаешь и отключил телефон. Но я была не в силах ждать! И я приехала! – Польщен, – пробормотал Ким, отступая еще дальше. – Надеюсь, ничего плохого не случилось? Альгамбра взмахнула ресницами неописуемой длины. – Плохого – ничего, только хорошее. Кстати, где у тебя спальня? – Тут. – Ким снова попятился, оказавшись в вышеназванном помещении. – А кухню и вторую комнату осмотреть не хочешь? Еще туалет и ванная есть… – В ванную после. Успеется. – Альгамбра подняла руку, что-то выдернула из волос, и снежно-белые пряди рассыпались по спине. Затем она сбросила туфельки. Глаза у Кима полезли на лоб. – Пятку натерла? Может, йода принести? Его окинули гипнотизирующим взглядом. Ресницы Альгамбры работали, словно два веера, вверх-вниз, вверх-вниз, но отчего-то Киму становилось не прохладнее, а жарче. Он попытался вспомнить все, что знает про Альгамбру Тэсс: двое детей от трех мужей, не понимает юмора, но склонна к экзальтации, не замужем в данный момент, но продолжает поиск принца и героя. Последняя мысль заставила Кима содрогнуться. – Ах, – произнесла Альгамбра, осматривая узкую кровать, – вы, мужчины, так недогадливы! При чем тут йод и пятка? Йодом не усмиришь самум страстей и не зальешь вулкан желаний… – Она коснулась маленькой груди и расстегнула верхнюю пуговичку платья. – А вы, вы… Или робки чрезмерно, или наглы, как самец Доренко-Дрю. – Я тоже наглый самец! – выкрикнул Ким в отчаянии, сообразив, к чему движется дело. – Я извращенец! Очень мерзкий и противный! Альгамбра расстегнула вторую пуговичку и одарила его нежной улыбкой: – Ты – герой! Вчера… ах, вчера ты был великолепен! Лев, тигр, леопард! Прежде я тебя не знала, не ценила… – И не надо, – вставил Ким. – … но теперь узнаю, – вела свою арию Альгамбра. – Я долго думала и ощутила, что ты назначен мне судьбой. – Ее пальцы застряли на третьей пуговице, она дернула ее и тут же расстегнула четвертую. – Ты мой идеал! Ты должен подарить мне счастье… счастье и дитя… Сейчас, немедленно! Она стащила платье с хрупких плеч и узких бедер, швырнула его в изголовье постели и принялась за бюстгальтер. Полупрозрачный, кружевной – соски просвечивали под невесомой тканью, как пара розовых черешенок… Ким судорожно вздохнул. При всех своих недостатках Альгамбра Тэсс была хорошенькой женщиной, стройной, с тонкой талией, длинными ногами и белоснежной холеной кожей. «Конечно, – сказал он себе, – у Даши все лучше и соблазнительней, и вид приятнее, и запах, и если бы Даши не было, то…» Но она была! И не где-то в отдалении, а, возможно, в поезде метро, или на эскалаторе, или даже на Президентском бульваре… Сейчас войдет, увидит и что подумает? Ужас сковал Кима, в груди заледенело, и он через силу прохрипел: – Ты… это… ты, Ленка, не торопись разоблачаться. Я ведь уже при невесте – сосватал и даже калым заплатил! Альгамбра, сражаясь с застежкой лифчика, поджала губы. – Ты о ком? О рыжей из ресторана? Как ее?.. Дарья?.. Ну, это эпизод! Тебе она не подходит. Тебе нужна женщина неземная, с тонкими чувствами и душой, что соткана из лунного света… Да помоги ты мне с этим проклятым лифчиком! Ким, однако, не двинулся, и Альгамбра справилась сама. Затем, покачивая бедрами, она взялась за резинку трусиков и медленно потянула их вниз. «Что происходит? – спросил Трикси. – Готовишься к акту размножения? Если так, я удалюсь в латентную область сознания и буду размышлять о горестной своей судьбе». «Ни в коем случае! – мысленно простонал Ким. – Мне помощь нужна, а ты собираешься удаляться! Ну-ка, за работу!» Резинка трусиков сползла до середины ягодиц. «Чего ты хочешь?» «Преврати меня! Крысой сделай или тараканом!» «Это невозможно. Разница масс слишком велика». «Тогда в гориллу превращай! И поскорее!» «Понадобится время. Процесс более сложный, чем…» Ким попятился. Сбросив трусики, Альгамбра направилась прямо к нему. – Мой лев, мой повелитель! Мой герой! Сожми меня в объятиях, выпей, укуси… Съешь меня, сломай… – Сломать и я могу, а заодно покусать, – раздался сердитый Дашин голос. «Я же дверь не закрыл!» – мелькнуло в голове у Кима. Он повернулся и вздохнул, не то со страхом, не то с облегчением: стоя на пороге спальни, насмешливо прищурившись, Дарья разглядывала голую Альгамбру Тэсс. – Слишком ты тощая, подружка, чтоб парня у меня отбить. Такие в партере плохо работают, – сказала Даша, сделала пару шагов и, ухватив Альгамбру за плечи, легонько встряхнула. – Кто-то у нас тут лишний, и, думаю, это не я. Одевайся! Ким перевел дух. Меж его лопаток стекал пот, глаза молили: спаси и защити! – Катись ты… – воинственно начала Альгамбра, но вдруг с ней что-то произошло: рот недоуменно округлился, румянец залил щеки, она ойкнула, ахнула, ринулась к платью, схватила его, выронила, уткнулась лицом в сжатые кулачки и зарыдала. Темные ручейки туши потекли от глаз, запрыгали по плечам платиновые пряди; в следующий миг она повалилась в кровать, стараясь сжаться, спрятаться от посторонних взглядов. – Ой-ей-ей! – промолвила Дарья. – Первый раз вижу такое чистосердечное раскаяние… – Она посмотрела на Кима. – Ты ведь ей ничего не сделал, дорогой? Не кусал и не пытался выпить? Кононов уже пришел в себя – достаточно, чтоб отмести такие инсинуации. – Никакого повода! – вскричал он, ударив себя кулаком в грудь. – Ни повода, ни взгляда, ни намека! Сидел, писал, трудился… Вдруг она врывается и… Даша одарила его царственной улыбкой. Так улыбается женщина, которая знает все про своего мужчину и не имеет сомнений в том, что лишь она одна, одна-единственная в целом свете, способна его напоить, накормить и осчастливить. «Слова и оправдания излишни», – понял Ким. Потеребив свой рыжий локон, Дарья кивнула на дверь. – Вот что, милый, нечего тебе тут делать. Иди, поработай, а я сама с ней разберусь. Вчера нормальная была, а нынче что-то с девушкой не так… Может, бандитов перепугалась и от испуга не отошла? Стресс, я слышала, располагает к сексу. – Располагает, – подтвердил Ким, проскальзывая в дверь. – А лучшее средство от стресса – прогулки на свежем воздухе. – Верно. Вот мы и сходим в лес, прогуляемся и потолкуем. Кононов вернулся к компьютеру, сел у открытого окна и, по собственному совету, стал интенсивно дышать, обогащая кислородом кровь и успокаивая чувства. Отдышавшись, он спросил: «Ну? В чем дело, Трикси?» «В инклине. Тот самый случай, когда носитель испытывает возбуждение и беспокойство и сублимирует их в фантазиях». «Какие фантазии, друг дорогой! Она чуть меня не трахнула!» «Я понимаю под фантазией болезненную тягу к объекту страсти, желание спариться с ним. Это характерно для земных аборигенов с комплексом неполноценности и неустойчивой психикой». «Да, психика у нее того, гуляет, – согласился Ким, услышав, как хлопнули двери. – И что теперь?» «Инклин изъят, и через час-другой наступит стабилизация, – утешил пришелец. – Ты и твоя женщина выбрали хороший способ, чтобы ускорить данный процесс: влияние планетарной фауны и флоры. В общем, пройдется по лесу и возвратится здоровой». – Если возвратится, – пробормотал Ким, соображая, что может при случае Даша сотворить с Альгамброй. Подвесит к елке или утопит в дренажной канаве… Другие нынче времена, не хайборийские, и снежной деве не тягаться с девушкой из цирка! «А это уже твои фантазии, – вмешался в его размышления Трикси. – Тебе что было сказано? Иди, работай!.. Вот и трудись. Что там у нас на очереди?» – Гибель Зийны. «Пиши! Но не забудь, что девушки любят умирать красиво».* * *
Зийне было страшно – так страшно, как никогда за всю ее недолгую жизнь. Страшней, чем в пылающей отцовской усадьбе, страшней, чем в хищных лапах рабирийских разбойников, страшнее, чем на ложе Гирдеро, дворянина из Зингары… Милый ее сидел с окаменевшим лицом, а за черными угольями костра кружилась и журчала смехом нагая девушка, средоточие злой силы, от которой Зийна не могла защититься. И не могла защитить возлюбленного, чьи руки были холодны, как лед… «Где же Митра?» – проносилось у нее в голове. Почему светлый бог не поможет ей? Чем она его прогневила? Снежная дева с торжествующим хохотом плясала перед ней – невесомый белый призрак в белой пустыне. Ветер прекратился, огромные снежные вихри-драконы, так пугавшие Зийну, исчезли; только мягкие хлопья продолжали падать на землю, сверкая и искрясь. Луч солнца пробился сквозь тучи, и мир сразу стал из мутно-белесого серебряным и сияющим. Мощь пурги иссякала, но мороз был еще силен – достаточно силен, чтобы сковать вечным сном возлюбленного Зийны. Он и так казался почти мертвым, и лишь изо рта вырывалось едва заметное дыхание. Ступни снежной девы взметнули серое облачко – она была уже рядом, танцевала посередине угасшего костра. В отличие от снега пепел и остывшие черные угли проседали под ее ногами, и Зийна видела, как в сером прахе появляются маленькие аккуратные следы. «Митра, что же делать?» – подумала она, дрожа от ужаса и цепляясь за ледяную руку Конана. Но потом Зийна напомнила себе, что она – пуантенка, дочь рыцаря, а значит, не должна поддаваться постыдному страху. И еще она подумала о том, сколько страхов уже пришлось ей превозмочь. Их было много, не пересчитать – и гибель отца со всеми его оруженосцами, и смерть матери в пылающем доме, и жадные руки рабирийского бандита, шарившие по ее телу, и позор рабского рынка в Кордаве, и первая ночь с Гирдеро, и все остальные ночи на его постылом ложе… Чем еще могла устрашить ее снежная дева? Смертью? Но смерти Зийна не боялась. Она лишь хотела спасти возлюбленного. Страх ушел, и тогда Митра коснулся ее души. – Что должна я делать, всеблагой бог? – шепнули губы Зийны. – Отогнать зло, – ответил Податель Жизни. – Но нет у меня молний твоих, чтобы поразить злого… – У тебя есть любовь. Она сильнее молний. – Любовь не метнешь, подобно огненному копью… – У тебя есть память. Вспомни! – Вспомнить? О чем? – О последних словах твоего киммерийца. Зийна вздрогнула. Пальцы ее легли на рукоять кинжала, торчавшего за поясом возлюбленного, холодные самоцветы впились в ладонь. Он говорил, что клинок зачарован… Не в нем ли последняя надежда? Не об этом ли напомнил ей бог? Чтобы придать себе храбрости, Зийна представила высокие горы Пуантена, сияющее над ними синее небо, луга, покрытые алыми маками, зелень виноградников и дубовых рощ. Губы ее шевельнулись; она пела – пела песню, которой девушки в ее краях встречали любимых:* * *
Даша вернулась, когда над Президентским бульваром и парком стали сгущаться летние полупрозрачные сумерки. В квартиру не вошла, а, приблизившись к распахнутому окну, окликнула Кима и сказала: – Все в порядке, милый, она успокоилась. Я проводила ее до метро. Кононов перегнулся через подоконник. Дашины волосы и кожа пахли лесной свежестью, в рыжих локонах, за ухом, белела ромашка. – О чем вы говорили? – О мужчинах. – Даша прижалась щекой к его ладони. – Она такая странная… ищет, ищет, а чего – сама не знает… По-моему, очень несчастная… Мне ее жалко. – Ты не ее жалей, а меня, – буркнул Ким и стал целовать Дашин затылок. – А вот не пожалею! – А почему? Даша рассмеялась, пропела негромко: – Все мы, бабы, стервы, милый, бог с тобой. Каждый, кто не первый, тот у нас второй… – Голос ее внезапно дрогнул, улыбка исчезла. – Вру я все, не верь, не верь, – зашептала она. – Первый ты мой, первый и единственный… Ким схватил ее под мышки, поднял, посадил на подоконник. Лицо Даши казалось усталым и словно потускневшим; видно, успокоительные процедуры обошлись недешево. «Что твой инклин? Уснул?» – поинтересовался он у Трикси. «Вмешиваться нет необходимости. Она быстро восстанавливает эмоциональный тонус. Стабильная психика, крепкий организм… Ты выбрал хорошую женщину, Ким!» «Я знаю». – Ты из этого окна выпрыгивал меня спасать? – спросила Даша. – Из этого, солнышко. – Замечательно! – Что? – Что окна у тебя на улицу. Спаси меня еще раз, а? Покорми хоть чем-нибудь.ДИАЛОГ ДЕСЯТЫЙ
Звуки поцелуев. – Ким… – Ммм? – Я ему звонила… вчера звонила… Он согласился на развод. – И мы сможем… – Сможем, сможем! Вот здесь поцелуй… и здесь… Я не знала, что это так приятно… – Глубокий вздох. – Он обещал, что проволочек не будет. Надо в загс подъехать и заявление подписать. Потом… Куда ты меня целуешь, бессовестный? В это место – только после свадьбы! – Ну, так, для первой разведки… Скажи, родная, ты не слыхала – он к экстрасенсам обращался? – К экстрасенсам? Павел? А зачем? Он сам экстрасенс! Колдун! Он, когда глядит… – Да? – Не хочу об этом вспоминать! Не заставляй меня, милый! – Прости, Дашенька… не плачь, не надо… дай я тебя поцелую… Знаешь, я ведь тоже тебя заколдовал… так заколдовал, что никто тебе не страшен… никто и ничто… – Правда? Ты умеешь? – Само собой. Чтобы писать о Конане, нужно разбираться в колдовстве. В черной магии, белой, зеленой и синей в крапинку… Еще полезно духа завести, личного демона, хранителя и консультанта. – И он у тебя есть?.. – Разумеется! Я ведь не только писатель, но мастер бусидо фэншуй, умею парить в астральных сферах, где обитают инопланетные духи. Там мы с ним и познакомились. – Возьмешь меня как-нибудь с собой? В эти астральные сферы? – А где мы, мое солнышко, сейчас? Звуки поцелуев.ГЛАВА 11 НА ПРЕЗИДЕНТСКОМ ВСЕ СПОКОЙНО
От того, что мы сменили бубен шамана на компьютер, наши прогнозы грядущего не сделались точнее. Что нам известно о нем? Да в сущности ничего! Может быть, через столетие миром будут править демократы, диабетики или мусульманские фанатики. Может быть, не будет ни тех, ни других, ни третьих… Тайна сия непостижима!Ночь – день, ночь – день… Вернее, утро. Ким сидит у компьютера, слева – чашка кофе, справа – сигареты и пепельница. Его стол – анклав постоянства в переменившемся бытии, а перемены говорят, что появился некто с собственными вкусами, привычками и взглядами на жизнь. Полосатый плед на старом кожаном кресле, вазочка с цветами – ромашки, собранные в лесу, горка яблок в фаянсовой миске, над книжными полками – фотография: женщина на трапеции, и к ней, распластав руки, летит по воздуху юная девушка в алом облегающем трико. Были и другие перемены: чисто подметенный пол, отглаженные занавески, прибранные книги, а в холодильнике – не пирожки и пиво, а настоящий обед, борщ и жаркое с картошкой. Судя по всему, Даша была из тех хозяек, у коих котлеты не пригорают, не убегает молоко и сливки сбиваются всегда. «Есть в семейной жизни свои преимущества, есть!.. – размышлял Ким с блаженной улыбкой. – Конечно, ночью теперь не поработаешь, и до двенадцати не поспишь, и нужную книгу найдешь не сразу, зато сидит он ухоженный и обласканный, сытый и свежий, как майская роза. А ночь… Ну, ночные бдения могут быть приятны не только у компьютера. Что компьютер? Пентюх пентюхом! Железки, пластик да стекло… ни нежной упругости, ни теплоты, ни аромата… Ни кофе в постель!» Он лениво ударил по клавише, и на экране появилась буква «А», ударил еще раз, и появилось «н». «Ан», – подумал Ким. Анабиоз, анаконда, аналогия, ананас… А что мы знаем про ананасы? К примеру, как поживает Анас Икрамович? И что он вообще за птица? Бойцы у него серьезные, при огнестрельном оружии, так что вряд ли он с Кавказа возит виноград… С другой стороны, вежливый – Даше цветы дарил и называл красавицей… Минувший день прошел спокойно, ни звука от Анаса и Пал Палыча, ни провокаций, ни наездов, ни угроз. Ремонт в ресторане двигался полным ходом, Славик присматривал за работами, у дверей дежурил Селиверстов, усиленный сержантом из милиции, а Дарья оценивала убытки и торговалась со страховыми агентами. Ким закончил пару эпизодов – похоронил Зийну и описал, как Конан с Идрайном пришли на подворье Эйрима, ванирского вождя, и обнаружили там незваных и нежеланных гостей. Этих воинов послал Небсехт, чтобы заставить Эйрима готовиться к набегу на остров – для устрашения зеленоглазой феи и демонстрации мощи колдуна. Эйрим хоть был недоволен, но покорился. В общем, в земной и в хайборийской реальностях жизнь струилась тихо-мирно, так что использовать кувалду не пришлось, равным образом, как диски от распиловочного станка. Сие тем не менее не гарантировало безопасности; по временам дух Конана, сроднившегося с Кимом, напоминал, что враг коварен и хитер. С этой мыслью Ким поднялся и начал бродить от окна к креслу, посматривая на телефонный аппарат. Телефон стоял теперь не на пачке книг, а на изящном китайском столике, который Даша притащила из Варвариной квартиры. Столик был Дашиным наследием от бабушки Клавы Тальрозе-Сидоровой – когда-то, еще в пятидесятых годах, в дни цветущей юности, она гастролировала в Пекине с московским цирком, приволокла оттуда этот столик и подарила на склоне лет любимой младшей внучке. Крышка стола, инкрустированная перламутром, изображала демоническую рожу с оскаленными клыками и нагло высунутым языком. Примерно так Ким представлял себе Анаса Икрамовича. Почесав в затылке, он снял трубку, набрал номер знакомого репортера Влада, служившего в бюро журналистских расследований, справился о здоровье и успехах и поведал про налет на Дашин ресторан. Потом сказал: – Мы там праздновали именины Конана, так что я из живых очевидцев. Слышал всякие разговоры… будто тамбовские наехали или норильские… а кто говорит, бойцы Анаса Икрамовича. Забавное имя, вроде ананаса, вот и встряло в память… Чечены, что ли? – Мафия чеченская, – пояснил всезнающий Влад, – а служат ей не одни чечены да кавказцы. Прибалты есть и наши, и с Украины, и с Молдавии… Даже бывшие спецы из бывшего КГБ. – Ну и ну! Вот это ренегатство! – изумился Ким, припоминая сероглазого тренера Зайцева. – А как же честь мундира? – Честь без денег, как сапог без ваксы, – мудро разъяснил Влад. – Опять же, чем служба у Анаса хуже государевой? Тут и там беспредел, а потому не ренегатство это, а конверсия в шпионском ведомстве. – Помолчав, он добавил: – Что до Икрамова Анаса Икрамовича, то он мужик серьезный – такой серьезный, что мы им заниматься не рискуем. – Ваше бюро? – Вот именно. – А остальные? Милиция, налоговая служба, ФСБ? – Шутишь! – хихикнул компетентный Влад. – Если уж мы не лезем, куда остальным? Все схвачено-оплачено. Распрощавшись, Ким повесил трубку и некоторое время сидел, хмуро уставившись в окно и думая о всевластии мафии, о связях между Икрамовым и Дашиным супругом и о том, что сотворил с этим супругом давешний искусник-экстрасенс по кличке Тормоз-Забайкальский. Если, конечно, упоминал маэстро о персоне загребущего Пал Палыча… и если оная персона в самом деле схавала инклин… Ничего не придумав, Кононов сел к компьютеру, отхлебнул кофе, закурил сигарету и принялся стучать по клавишам.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
– Выпьем за врр-рагов, брр-рат Конан, – произнес Эйрим Высокий Шлем. Речь его после многочисленных возлияний казалась невнятной, но все-таки понять хозяина усадьбы Рагнаради было можно. Он поднял огромный рог, окованный бронзой, чокнулся с гостем и рявкнул: – Во имя прр-роморр-роженной задницы Имира! Выпьем за врр-рагов, брат мой, ибо, пока у человека есть врр-раги, он жив! Конан, тоже испивший немало, с одобрением мотнул головой. Они с Эйримом сидели за грубо отесанным столом в бревенчатом покое с закопченными сводами, в личных чертогах ванирского вождя. Пол здесь устилала солома, за спинами пирующих пылал огромный очаг, а по бокам тянулись низкие полати, устланные шкурами; над полатями висело оружие, награбленное с половины мира. Еще здесь были две двери: одна, в дальней стене, вела во двор, а другая, около очага, – в Длинный Дом, где коротали зимнее время воины Эйрима. Больше в хозяйской горнице не имелось ничего примечательного – если не считать мохнатого пса, трех седоусых соратников-ванов, нескольких бочонков с пивом и вином, а также заставленного блюдами стола. На одном из этих блюд разлеглась зажаренная целиком свинья, уже обглоданная на три четверти. Рога сдвинулись с глухим стуком, плеснула густая пивная пена. Все пятеро – гость, хозяин и седоусые витязи – выпили за врагов. – Хорошо ты сказал, брат, – вымолвил Конан, отирая рот нетвердой рукой. – Х-хорошо, клянусь Кромом! Ч-человек жив, пока у него есть враги! – Он сделал паузу, наблюдая, как Найрил, один из седоусых, наполняет рога из полупустого бочонка. – Но ч-человеку нужны и друзья, Эйрим! Так выпьем же за них! – Хмм, дрр-рузья… – протянул охмелевший вождь ваниров, поглаживая шрам на подбородке. – Дрр-рузья – сомнительное дело, брат Конан… Врр-раг – он всегда врр-раг… А дрр-руг – сегодня дрр-руг, а завтра – врр-раг. И пока он жив, морр-ржовы кишки, не разберешь, кто он таков! Конан не стал спорить. Обглодав последние остатки мяса со свиной ноги, он швырнул кость псу и предложил: – Т-тогда выпьем за п-покойных друзей, брат Эйрим. С мертвецами-то все ясно! – Вот с этим я согласен, брат Конан! – ухмыльнулся владыка Рагнаради. Три седоусых воина, кормчие его кораблей, враз кивнули головами. Найрил, Храста и Колгирд плавали еще с Сеймуром Одноглазым, отцом Эйрима, и после вождя являлись самыми важными людьми в усадьбе Рагнаради. Их присутствие на пиру было знаком особого почета, оказанного Эйримом, сыном Сеймура, Конану из Киммерии – и никак не меньшим, чем жареная свинья на столе. Не так уж много у Эйрима оставалось свиней в хлеву после долгой зимы и голодной весны! Однако он не поскупился, велел заколоть самую жирную. Точнее, не самую тощую. Трое кормчих почти не вмешивались в беседу хозяина с гостем – то ли были молчаливы от природы, то ли предпочитали налегать на пиво и мясо, пока того и другого имелось вдосталь. Окинув взглядом их покрасневшие от хмельного лица, Конан осушил рог и пристально уставился на ванирского вождя: – А скажи-ка мне, брат Эйрим, п-почему ты не стал пить за ж-живых друзей? Не х-хотел ли ты нанести мне обиду? В-ведь я – ж-жив, и я т-твой друг! Уже целый день и п-половину ночи – друг! Подсчет был совершенно точным – они начали пить со вчерашнего утра, едва лишь Конан с Идрайном заявились в усадьбу, а сейчас стояла глухая ночь. Прошло достаточно времени, чтоб подружиться до гробовой доски. Эйрим взлохматил густые волосы, отливавшие начищенной медью. Ванирский вождь был года на три постарше Конана и почти столь же высок и широк в плечах, как киммериец. Большой вождь, храбрый и удачливый, как сказал Хорстейн, сын Халлы, и было это чистейшей правдой, ибо владел Эйрим и людьми, и кораблями. Но истиной являлось и другое, тоже поведанное Хорстейном: удача Эйрима могла закончиться в любой момент. В усадьбе его находились незваные гости, сотня воинов из Кро Ганбора, и он не мог тронуть их, поскольку опасался мести колдуна. Пока что он даже не хотел говорить на эту тему, обрывая Конана всякий раз, когда тот упоминал Гор-Небсехта. Но историю об острове и его зеленоглазой владычице выслушал с интересом. Конан поведал ее, ничего не утаив, кроме загадочной природы Идрайна, своего слуги. В ответ Эйрим буркнул, что остров в теплых морях, видать, тот самый, который интересует колдуна. При этом он многозначительно переглянулся со своими кормчими. Сейчас, убедившись, что рога наполнены до краев, вождь встал, слегка покачиваясь, и вполне рассудительно промолвил: – Я не желаю нанести тебе ни обиды, ни оскорбления. Ни того, ни другого, брат мой Конан. Брат, а не дрр-руг! В этом большая р-разница. – Какая? – Клянусь Имирр-ром! Разве ты не понимаешь? Я же говорил: брат – всегда брат, а дрр-руг может стать недрр-ругом. – Вроде врага? – уточнил Конан. – Врр-роде, – подтвердил Эйрим. – Так в-выпьем за братьев? – Выпьем! Они выпили, и хозяин Рагнаради кивнул Найрилу: – Наливай! – Пиво кончилось, – ответствовал тот, пнув ногой бочонок. – Наливай вина! Барр-рахтанского! – Кончилось. – А арр-госское? – Тоже. Покачиваясь, Эйрим недоверчиво разглядывал опустевшие бочонки, потом распорядился: – Пусть р-рабы несут аквилонское! И еще пива! Побольше! Вино и пиво были доставлены без промедлений. Перед очередным возлиянием пирующие решили покончить с жареной свиньей, и некоторое время в бревенчатом чертоге раздавались лишь чавканье, хруст да стук костей, которые бросали огромному мохнатому псу, вертевшемуся у стола. – Вот, – сказал Эйрим, лаская широкой ладонью загривок своего любимца, – вот настоящий дрр-руг, который не предаст! Потому что не умеет! – Т-тогда выпьем за псов, – сказал Конан. – Выпьем! Красное аквилонское хлынуло в рога, а из них – в глотки. Способность ваниров поглощать еду и хмельное питье казалась неистощимой, но Конан им не уступал. За долгие дни скитаний по равнинам Ванахейма ему до смерти надоели зайцы, тощие куропатки и пахнувшая мхом вода, а потому он не отказывался от свинины и соленой рыбы, от каши и вареной репы, от пива, браги, вина, меда и прочих яств, что подносили расторопные рабы. Он ел и пил за двоих, за себя и за Идрайна, дремавшего сейчас в Длинном Доме, в тихом уголке, под надзором воинов Эйрима. Вождь западных ванов устроил гостю почетный и обильный пир, чему имелись целых три причины. Прежде всего Эйрим скучал и потому обрадовался пришельцу, славному воителю из Киммерии, повидавшему свет и отхватившему немало голов. Одной из них, как вскоре выяснил хозяин, была башка Хеймдала, давнего недруга Эйрима, что явилось вторым поводом для возлияний. Тут уж Конан сделался не просто гостем, а братом, ибо Хеймдал лет десять назад прикончил Сеймура Одноглазого; выходило, что киммериец, сам того не ведая, отомстил за Эйримова отца. Но имелась и третья причина – быть может, самая веская. На подворье Эйрима стояли две полусотни бойцов из замка Кро Ганбор, дожидавшиеся своего господина-чародея. Предводительствовали ими Торкол и Фингаст, люди малопочтенные, а просто говоря – изгои, ублюдки и смрадные псы, коих Эйрим в другое время и на порог бы к себе не пустил. Тем более – идти с ними в поход! С ними и с мерзким колдуном! Да еще в такие края, о которых в Ванахейме никто слыхом не слыхивал! Однако Эйрим, храбрый и удачливый Эйрим, боялся; он хорошо представлял, что может сотворить колдун с его рабами и дружиной, с его усадьбой, ладьями и с ним самим. А потому молчал, ни словом не противореча Торколу и Фингасту в том, что касалось будущей экспедиции, подготовки кораблей к долгому плаванию, снаряжению их запасами и воинским скарбом. Но уж сажать за свой стол этих ублюдков он не собирался! И сейчас, пируя с Конаном и ближними людьми, Эйрим Высокий Шлем наслаждался маленькой местью. Пусть видят Торкол и Фингаст, как он принимает почетного гостя – хоть тот и не рыжий ванир, а черноволосый киммериец! Хозяин снова встал и поднял рог с красным аквилонским – в знак того, что хочет держать речь. – Мы выпили за врр-рагов и покойных дрр-рузей, за братьев и за собак, – сказал он. – Еще мы пили за тебя, Конан, за меня, за моих людей и мои корабли, за их весла и мачты, за снега Ванахейма и горр-ры Киммерии… Помнится мне, мы поднимали рога за печень Крр-рома и задницу Имрр-ра… Теперь настало время выпить за женщин! За твою рр-рыжую! Конан понурился и помотал головой. – Н-нет, брат мой Эйрим, н-не хочу я за нее пить. Она ведь ведьма и обманщица! – Хмм… – Эйрим недоуменно оглядел горницу, полати, пылающий очаг и две двери – ту, которая вела во двор, и ту, которая вела в Длинный Дом. – Ведьма и обманщица, говоришь? А почему, брат Конан? – Она – владычица с-сновидений, брат Эйрим, а с-сны – всегда обман. Вождь ваниров, покачиваясь на нетвердых ногах (все же выпито было немало!), погрозил Конану пальцем: – Ты не прр-рав, брат, не прр-рав! Я не считаю сны обманом. Подумай, что есть наша жизнь? Тот же сон, полный славных битв, дальних странствий, веселых пирр-ров и любви! Жизнь проходит, как сон! И просыпаемся мы лишь в самый последний миг, на ложе смерти, когда сразила нас сталь или доконала болезнь… Так можно ли гневаться на ту, что посылает сны? Пусть она ведьма, зато – крр-расивая женщина, а? При этих словах Конан несколько протрезвел, восприняв их как намек – намек, что пора поговорить о деле. Он поднял свой сосуд с вином, сдвинул его с рогом Эйрима и сказал: – Ладно, в-выпьем за рыжую. И за то, чтоб освободить ее от колдуна. Он ведь и тебе ненавистен, брат Эйрим? – Ненавистен, – подтвердил вождь, влив в глотку аквилонское. – Прислал ко мне своих ублюдков, а те стали грр-розить… мол, не исполнишь волю господина, не доживешь до зимы! И никто не доживет в твоем жалком крысятнике! Господину подчиняются ураганы, и сметут они в море и дома твои, и корабли, и запасы пива, и людей – всех до последнего раба! Господин! – Эйрим хмыкнул. – Им он, может, и господин, да не мне! – Т-тогда давай прикончим его, – предложил Конан. – Вместе! А людей его перережем. – Хорошая мысль… – Эйрим вдруг перестал покачиваться, будто и не пил вовсе. Он посмотрел на своих кормчих, но те, не отрываясь от блюда с китовым мясом, смущенно потупились. – Хорошая мысль, брат Конан, – повторил хозяин Рагнаради и мечтательно уставился в закопченный потолок. – Перерезать глотки Торколу и Фингасту… и всей их своре… – А потом и колдуну, – добавил Конан. Храста, кормчий, прожевал ломоть мяса и буркнул: – Мысль хорошая, да опасная. Против колдуна мы не пойдем. – Не пойдем, – подтвердил Колгирд. А Найрил добавил: – Ублюдков его мы не боимся, клянусь Имиром! Их в Кро Ганборе осталось пять десятков, плюнуть да растереть… Сам колдун страшен! Смешает нас с грязью в тундре да с камнями на морском берегу. – Колдуна я беру на себя, – сказал Конан. Он принялся есть кислые моченые ягоды, зачерпывая их ладонью – это помогало побороть хмель. Некоторое время ваниры переглядывались и молчали, обдумывая слова гостя. Наконец Колгирд, взглядом попросив у Эйрима разрешения, пробормотал: – Колдун-то, говорят, крепок… Ни сталь его не берет, ни бронза, ни камень. Как ты справишься с ним, брат Эйрима? Конан погладил железный обруч, плотно сидевший на голове, затем вытащил из-за пояса нож и положил рядом с миской, в которой плавали остатки ягод. – Мне колдун не страшен. – Он усмехнулся, лаская пальцами золотистый клинок. – Говорил я вам, что ведьма с зелеными глазами дала мне оружие и защиту от колдовских чар. Этот кинжал и обруч, что у меня на голове. Эйрим и трое седоусых внимательно оглядели и то и другое. Потом хозяин Рагнаради произнес: – Защита, брат Конан, дело твое, и дело опасное – ведь как испытаешь этот обруч, не сразившись с колдуном? – Тут Эйрим сделал паузу и покосился на своих соратников; те враз кивнули. – А вот оружие… его можно было бы и проверить. На вид – хороший клинок, клянусь Имиром… да только и у меня найдутся не хуже. Есть меч, откованный в дальних краях, в самом Иранистане – так им бревно перерубишь с одного удара. Однако… – Однако скалу твой меч не возьмет, – сказал Конан. А потом развернулся и швырнул нож в очажный камень – да так, что лезвие погрузилось в него по самую рукоятку. Некоторое время в горнице царила ошеломленная тишина. Ваниры рассматривали рукоять, сверкавшую аметистами и рубинами, чесали в рыжих космах, хмыкали и переглядывались. Конан молчал, понимая, что за мысли ворочаются под их толстыми черепами. Одно дело – послушать сказочные истории про остров в южных морях, про рыжую чародейку, про распрю ее с волшебником из Кро Ганбора; и совсем другое – убедиться, что те рассказы истинны. В горнице, сложенной из толстых сосновых бревен, будто повеяло чем-то нереальным, колдовским. Дрогнуло пламя в очаге, взметнулись искры, таинственные отблески заиграли на клинках, развешанных по стенам; и чудилось, что шкуры, устилавшие полати, вдруг обратились в живых зверей, следивших за людьми сверкающими желтыми глазами. Эйрим наклонился, поднял бочонок с аквилонским и приник к нему, гулко глотая; вино текло по широкой груди ванирского вождя, капало на стол и лавку. Потом он утерся, подошел к очагу, с видимым усилием выдернул из камня нож и долго разглядывал его, пытаясь найти царапины на лезвии. Но их не было. – Я дал бы тебе за этот клинок один из своих кораблей, – произнес наконец Эйрим, – но даже не буду предлагать такого обмена. Лучше всади нож в брюхо колдуну. Прикончи его, и я – клянусь Имиром! – отдам тебе всю добычу, что возьму нынешним летом в теплых краях. – Она мне не нужна, – сказал Конан. – Мне нужны воины, которые справились бы со стражей Кро Ганбора. – Сотня из них – на моем подворье, – заметил Эйрим. – В стенах замка осталось человек пятьдесят, не больше. – Я не хотел бы возиться с ними. Мне нужно добраться до колдуна. – Что ж, – произнес Эйрим, возвращая Конану кинжал, – давай выпьем, брат мой, и обсудим, как приуменьшить их число. Если ты справишься с тварью из Кро Ганбора, я готов рискнуть и вырезать обе его полусотни. Скажем, завтрашней ночью…* * *
Зазвонил телефон. – Мэнсон? Это Халявин. Трудишься? Ну и как продвигаются дела? – Успешно. Блондинку прикончил, теперь пиво пью. С ванирами. – Надеюсь, виртуально и без Доренко? – Святой истинный крест! – Ну, хорошо. Я тут узнал, ты жениться собираешься? Вроде уже и помолвка была? – Была, – признался Ким. – Проблемы тоже были, но, к счастью, рассосались. – Рассосем еще одну, – тоном мудрого отца народов сказал Халявин. – Тебя тут аванс поджидает, восемь тысяч. Но с условием: первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки – потом. – Намек понял. Благодарствую! Короткие гудки отбоя. «Вот это да!.. – подумал Ким. – Халявин-то человек оказался! Восемь тысяч отвалил в аванс, половину гонорара! Хватит на колечко, а еще…» Дзинь! Дзинь, дзинь! Звонила Варвара. – Как поживаешь, Кимчик? – Как Адам в раю, если б его не выгнали оттуда с Евой. – Не тесно вам, голубки? А то ко мне перебирайтесь, моя ведь квартира трехкомнатная, с тахтой двухспальной и телевизором «Хитачи». Мы с Олежкой и в вагончике перебьемся, к слону поближе. Мы привычные. – Мы тоже. Как-никак, все при советской власти родились, – напомнил Кононов и справился о здоровье Облома. – Уже на капусту с морковью перешел, значит, идет на поправку, – сказала Варвара. Потом негромко осведомилась: – Шмурдяк вас больше не цеплял? После того наезда? Не звонил, «шестерок» не подсылал? Не сманивал Дашку брильянтами? – На Шипке все спокойно, – отозвался Ким и с гордостью добавил: – А брильянты я ей сам куплю. Колечко уже присмотрел, такое, знаете, венчальное-обручальное… Вы, Варя, не тревожьтесь, сестричка ваша в хорошие руки попала. На том конце линии хихикнули. – Еще бы! В руки мастера трень-бринь! – Бусидо фэншуй, – строго поправил Ким и распрощался. Походив по комнате, сосредоточившись и погрузившись в мир иной, он присел к компьютеру и написал: «Не пойти ли нам облегчиться? – произнес Эйрим Высокий Шлем, сын Сеймура Одноглазого…» Телефон зазвонил снова. – Мэнсон? Ты ящик смотришь? – Не имею такой привычки. Я, Дрю, не смотритель, а читатель. Ким, и правда, телевизором не увлекался. Из ящика ведь что наружу прет? В новостях – реальность, а все остальное – фантазии. Реальность была жутковатой, а что до фантазий, то их он мог придумать сам. – Ты ящик-то включи, полюбопытствуй, – молвил Дрю. – Там про кабак наш освещают и про героя-варвара, изгнавшего злодеев. Он пропел: «Нет мира в хайборийских королевствах!» – и повесил трубку. – Чего любопытствовать? – буркнул Ким, вернулся к компьютеру, перечитал: «Не пойти ли нам облегчиться? – произнес Эйрим Высокий Шлем, сын Сеймура Одноглазого» – и добавил к написанному: «Самое время, подумал Конан; выпито немало да и съедено изрядно. Пора облегчиться, а затем продолжить переговоры. Ему никак не удавалось…» Дзинь! Дзинь, дзинь, дзи-иинь! «Ты становишься популярным», – внезапно пробудившись, заметил Трикси. Ким чертыхнулся, но к телефону подошел. Прежде – ни за какие коврижки! Выключил бы к дьяволу проклятый аппарат и сел работать. Но жизнь переменилась, и между «прежде» и «теперь» была большая разница. Такая рыжая, зеленоглазая… Он снял трубку. – Ким Николаевич? Это Славик. Нас по телевизору показывают! Дарья Романовна сказала, чтобы я вас предупредил. – С какой целью? – поинтересовался Ким. – Как с какой? Ведь интересно же! Дарья Романовна говорит… – Что бы она ни сказала, я слушаю и повинуюсь, – прервал менеджера Ким. Аккуратно опустил трубку на рычажки, бросил тоскливый взгляд на экран компьютера и включил пылившийся в углу телевизор. Поплыли кадры – вывеска, дверь, зал ресторана с разбросанной и опрокинутой мебелью, потом послышалась скороговорка комментатора: «В минувшую среду владельцы бара „Конан“, что на Фонтанке, вблизи городской библиотеки, решили развлечь посетителей аттракционом в духе боев без правил. Два бойца, нанятых, вероятно, двумя враждующими бандитскими группировками, вступили в поединок, который завершился кровавым побоищем. Ведется следствие, но число пострадавших, как и заказчиков этого мероприятия, установить пока не удалось. Одной из версий является „чеченский след“; видимо, и к схватке, и к последующим за ней событиям приложила руку чеченская мафия. Компетентные органы полагают, что наемник чеченцев проиграл, что и спровоцировало вспышку насилия: часть зрителей, явно принадлежавших к кавказской национальности, принялась громить бар и избивать публику. Мы считаем это очередной акцией устрашения, связанной…» Далее комментатор перешел к событиям на Северном Кавказе, и на экране замелькали эпизоды боев с террористами, артобстрелов, взрывов и зачисток. Ким грустно вздохнул и выключил телевизор. «Твоя страна воюет», – заметил Трикси. Ким вздохнул снова. – Война – лишь продолжение политики другими средствами. Правда, негодными. «Политика, борьба за власть, внутривидовая конкуренция… Я ознакомился с этими понятиями, проникнув в разумы нескольких носителей, весьма компетентных в данных вопросах. Обдумывая и анализируя императивы, которые движут вами, я пришел к мнению об их иллюзорности». – Ну-ка, ну-ка! Послушаем! – Заинтригованный Ким уселся в старое кресло рядом с китайским столиком. – Ты полагаешь, что борьба за власть – иллюзия? А как же партии, национальные интересы, экономическая подоплека разногласий, идеи авторитарности и демократии? Все это – иллюзия? «Экономическая доминанта ваших действий является, конечно, реальностью, но все остальное – туман, скрывающий истинную расстановку сил. Вы изобретаете сложные теории, тогда как связь вашей политики с экономикой много проще и обычно ее диктует элементарный инстинкт выживания. Взять хотя бы партии… Что это такое?» – Организованные группы людей, выражающие интересы определенных слоев населения и стремящиеся к власти, дабы реализовать на практике свою политико-экономическую программу, – отбарабанил Ким. – Вот, к примеру, в Штатах есть демократы и республиканцы, а у нас… «Сначала о Штатах, – осадил его Трикси. – Так кто, по-твоему, там правит?» – Я же сказал, республиканцы или демократы. То одни, то другие, согласно волеизъявлению свободного народа. «Республиканцы!.. Демократы!.. – Ментальная волна иронии накрыла Кима. – Великая Галактика! Вот еще одна иллюзия, еще один мираж! – Ирония стала сильнее. – Есть, мой мудрый, но слишком доверчивый друг, такая человеческая болезнь, которая зовется диабетом. В Финляндии я просканировал пару врачей и кое-что выяснил. Нарушения в поджелудочной железе, продукция инсулина падает, а этот гормон вам жизненно необходим. Без него не усваиваются углеводы – сахар, фрукты, хлеб… Сбой углеводного цикла фатален, так как глюкоза не может проникнуть в клеточные структуры. Очень распространенное заболевание! Слышал о нем?» – Разумеется. Ну и что с того? При чем тут диабет? Тем более что хоть болезнь неизлечима, но в наше время несмертельна – сидят себе люди на диете, вводят искусственный инсулин или принимают таблетки… не знаю какие, но таблетки снижают уровень глюкозы. А еще… «А еще помолчи и послушай. В Штатах пятнадцать миллионов диабетиков, объединенных, вместе с врачами и медсестрами, в союз. Лекарства им выдаются бесплатно, как в вашей стране, но у них еще множество льгот и привилегий. А теперь вспомни определение партии: группа, выражающая интересы, и так далее… В этом случае я бы добавил: жизненные интересы – ведь без лекарств и помощи этим людям не прожить! И вот они объединяются в союз, отстаивающий их права. Мощный, сплоченный, диктующий свою волю сенаторам и конгрессменам, генералам и президентам». – Ты хочешь сказать… – начал пораженный Ким. «Да, да, именно то, о чем ты подумал: самой могучей державой вашего мира правят диабетики! В подавляющем большинстве – люди взрослые, активные избиратели». – Избирателей в Штатах миллионов двести, – возразил Ким. – Пятнадцать против двухсот… Что-то у тебя не вяжется с арифметикой, друг дорогой. «Еще одна иллюзия… Учти, у каждого больного в среднем трое родичей – муж или жена, родители или взрослые дети. Выходит, к делу причастны шестьдесят миллионов, а к избирательным урнам являются не двести, а дай бог сто двадцать. Те, кто связан с диабетом, приходят всегда, и таких – половина. Их поддерживают фармацевтичекие фирмы, производители особого питания, глюкометров и шприцев, фермерские союзы. Представь, что какой-то президент решит урезать ассигнования на лекарства… И что с ним случится?» – Отстрелят, – честно признался Ким и с любопытством спросил: – Так что же, и у нас правят диабетики? «Увы! Они разумные люди, их интерес – стабильность и процветание, а у вас… – Трикси издал нечто, вроде ментального хмыканья. – У вас пока что правит класс сантехников-алкоголиков. Но ты не огорчайся: по моему прогнозу, лет через тридцать половина ваших жителей станет диабетиками, а алкоголики вымрут из-за цирроза печени». – Плохо ты нас знаешь, – отозвался Ким. – Мы умеем совмещать полезное с приятным. На его губах змеилась усмешка. Было так забавно вникать в рассуждения инопланетного существа о земной политике! Может, Трикси в чем-то прав? Как говорится, со стороны виднее… Может, в Штатах в самом деле правят диабетики? И в Штатах, и в Европе, где диабетиков тоже вагон… Европа-то объединяется и общую валюту вводит! Интересно, сколько недужных в Европарламенте? И что произойдет, когда болезнь научатся лечить и партия диабетиков исчезнет? Не явится ли это поводом к таким мировым потрясениям, перед которыми конфликты в нынешних «горячих точках» – буря в стакане воды? Ким не успел додумать эту мысль – подслушав ее, Трикси снова включился в разговор. «Ваши внутривидовые противоречия часто связаны не с экономикой, не с принадлежностью к различным расам и религиям, а с обстоятельствами географического плана. Мой мир был издревле одинаков и пригоден для обитания в любых широтах и климатических зонах; у нас нет ни океанов, ни морей и рек, ни мест возвышенных или пустынных. Ваша планета в этом смысле устрашает чудовищным разнообразием рельефов и ландшафтов. Горы, равнины, огромные пространства, занятые водой, или песками, или льдами… Излишнее нагромождение форм, а в результате вечное недовольство, вечный дележ и грабеж. Ландшафтные конфликты! Плюс, разумеется, кислородная атмосфера». – Ландшафтные конфликты? – Ким моргнул с недоумением. – Это что-то новое! «Не новое, а старое: борьба между горцами-хайлендерами и лоулендерами, обитателями равнин. Афганистан, Кавказ, Шотландия, Карпаты, Пиренеи… Горцы свирепы, агрессивны, но лоулендеры лучше организованы и многочисленны, а потому победа доставалась им. К тому же они более умны. Великие полководцы и поэты, провидцы и гении – все они были из жителей равнин». Кононов, весьма уважавший кавказскую удаль и кухню, решительно замотал головой. – Вот тут ты не прав! Не знаю, как там в Пиренеях, а на Кавказе у нас гениев пачки! Один Иосиф Джугашвили чего стоит! Трикси изобразил ментальный смех: «А если серьезно?» – Серьезно? Ну, Низами и Пиросмани… Шота Руставели… имам Шамиль… еще полководцы были – Георгий Саакадзе и Вардан Мамиконян… Еще Расул Гамзатов с Муслимом Магомаевым… Еще… Он призадумался. В голове у него что-то шевелилось и перемещалось, подобно дрейфу континентов, тянувшемуся сотни миллионов лет. «Я нашел информацию об этих личностях в твоей памяти, – заметил пришелец. – Поэмы Низами и Руставели, стихи Гамзатова, которые ты читал, книги о Шамиле, Саакадзе и других… Достойные гуманоиды! Но на равнинах людей такого калибра больше в сотни раз. Если желаешь, еще один пример: мой мир равнинный, и в результате я прилетел к тебе, а не ты ко мне». Ким рассмеялся и посмотрел на часы: было без четверти пять. – Время обеда, а мы заболтались! Поедим, поработаем, а там и Дашенька приедет. Трикси испустил ментальный вздох. «И опять мне прятаться…» – Опять. Ты понимаешь разницу между общественной и личной жизнью? «Не очень, Ким. У нас нет ни того, ни другого». – А что же есть? «Просто жизнь». Пообедав, Ким присел к компьютеру и бодро настучал четыре страницы текста. Мысли об авансе и колечке для Даши согревали его.* * *
– Не пойти ли нам облегчиться? – произнес Эйрим Высокий Шлем, сын Сеймура Одноглазого. «Самое время, – подумал Конан, – выпито немало да и съедено изрядно. Пора облегчиться, а затем продолжить переговоры». Ему никак не удавалось уломать Эйрима отправиться в поход на замок Кро Ганбор: ванирский вождь с охотой соглашался перебить ратников Гор-Небсехта, обосновавшихся в его усадьбе, но в обитель колдуна идти не хотел, отговариваясь тем, что люди ему не подчинятся. Конечно, волшебный клинок брата Конана, пронзивший камень, был серьезным аргументом; однако, по утверждению Эйрима, нож смотрелся бы еще лучше в брюхе мертвого колдуна. Кто его знает, этого Гор-Небсехта? А вдруг он, издыхая, ухитрится наслать порчу на тех, кто захватил его замок? Нет, хозяин Рагнаради не желал рисковать! Конан проследовал за ним на задний двор, к земляному валу, где были выкопаны прикрытые досками ямы. От них тянуло смрадом. Ночь, как всегда в летнее время в Ванахейме, была светлой, и киммериец мог разглядеть тянувшийся поверх насыпи частокол из заостренных бревен, торчавшие по углам вышки и тени ближних сараев. Земля уже просохла, и кое-где появились пучки чахлой травы – больше всего под стенами, защищавшими от ветра. Усадьба Эйрима стояла на косогоре, полого спускавшемся к воде. Поперек его был выстроен Длинный Дом, крепкая бревенчатая цитадель, в коей коротали зиму воины со своими женщинами и отпрысками. Внутри Дом представлял собой одну огромную залу с подпертой столбами кровлей и с очагами, у которых грелись и готовили еду его обитатели; по стенам шли лежанки в два яруса, а посередине были устроены лавки и столы. Фасадом Длинный Дом выходил к бухте, а сзади к нему торцом было пристроено еще одно сооружение, поменьше, – жилище самого Эйрима. Надо заметить, что в южных краях все выглядело иначе: господский терем красовался на виду, тогда как воинскую казарму задвигали куда подальше. Но ваниров заботила не красота, а безопасность, и потому вожди их селились поближе к задним дворам. Справа от Длинного Дома тянулся огромный сарай, заставленный бочонками с пивом и вином, бочками с соленой рыбой, кадками с ягодой, заваленный мешками, полными овса и пшена. Здесь же хранилась и добыча летних набегов, не самая ценная и дорогая: кожи, холстина, грубое сукно, слитки бронзы и бруски железа. В самом конце сарая была кузница, а за ней – псарня и свинарник, примыкавшие к защитной земляной насыпи. Таким же образом обустроили и другую половину усадьбы, защищенной тыном и насыпью, в которой рабы отрыли себе землянки. Тут имелась пара обширных кладовых для кораблей и корабельного снаряжения, парусов и весел, бочек с дегтем, веревок и канатов, якорей и связок стрел и дротиков. Сейчас в корабельной кладовой расположились люди Гор-Небсехта, а все ее содержимое дней десять назад перетащили на ладьи – те покачивались у берега, где северные воды уже очистились от льда. За этим хранилищем стоял обширный навес, под которым зимовали корабли. У него не было стен, только кровля на столбах; навес выходил к воротам, от которых начинался спуск к бухте – плотно утоптанная дорога, по которой скатывали в воду корабли. Но Конан их не видел. Он находился на заднем дворе, спиной к защитному валу; прямо перед ним был вход в жилище Эйрима, дальше маячили смутные контуры Длинного Дома, справа тянулась стена сарая с припасами, а слева темнели бревна бывшего корабельного склада – из него доносился дружный храп сотни глоток. Эйрим помочился в ту сторону, сплюнул и подтянул штаны. – Всех перережу, – злобно пробормотал он. – Завтра же, как уснут! Ты только не подведи с колдуном, брат Конан, – он подтолкнул киммерийца в бок, – а то не сносить мне головы! – Колдун – мой, Торкол и Фингаст – твои, – отозвался Конан. Рядом пыхтел Колгирд, усаживаясь над выгребной ямой. – Устроим им ночь длинных ножей, – произнес он, забирая в ладонь свисавшие на грудь усы. – Ночь кровавых секир, – поддержал Храста. – Ночь выпотрошенных животов, – ухмыльнулся Найрил. – После такой ночи не худо бы прогуляться и к колдуну, – сказал Конан. – Нет, братец, с ним разбирайся сам. – Вождь ваниров еще раз плюнул в сторону корабельного склада. – А как разберешься, возвращайся ко мне. Поплывем вместе на юг, погуляем! – Колдуна-то я прикончу, если доберусь до него, – пообещал киммериец. – Справиться бы с остатками дружины… – Он поднял взгляд на Найрила: – Ты вроде бы обмолвился, что в Кро Ганборе пять десятков воинов? Ну, придется мне потрудиться… Внезапно Эйрим насторожился; от Длинного Дома долетел какой-то шум, потом грохнула распахнутая дверь, раздались приглушенные вопли, топот и тяжелое дыхание. Казалось, там, под стеной, в закутке между хоромами вождя и сараем с припасами, кипит схватка; Конан уже различал гулкие звуки ударов и сочные проклятия. Но сталь, однако, еще не звенела. – Надо взглянуть, – с тревогой сказал Эйрим. – У кого-то хмель в башке бродит… Ну, я его вышибу – вместе с мозгами! Он заторопился к месту драки, и трое кормчих шли за ним, словно матерые волки за вожаком стаи. Конан шагал последним. Хоть он и приходился теперь братом Эйриму, но все-таки был чужаком и понимал, что не его дело вмешиваться в распри Эйримовых воинов. Вот если они сцепились с людьми колдуна… Тогда бы он мог поработать – и кулаками, и ножом. Эйрим свернул за угол, на миг остановился, будто в удивлении, потом побежал, топоча сапогами. Киммериец и трое седоусых мчались следом. У стены Длинного Дома, около раскрытой двери, высился серокожий гигант, окруженныйдвумя десятками ваниров. Конан облегченно вздохнул, заметив, что секиры при нем не было, зато руки серокожего мелькали с непостижимой быстротой, и каждый удар достигал цели: два вана уже валялись на земле, и еще с пяток потирали кто плечо, кто грудь. Долго ли пробежать сорок шагов? Но за это время Идрайн сшиб еще троих и начал проталкиваться к двери – видно, хотел разыскать секиру или что-то другое, столь же острое. – Стой! – закричал Конан, подскочив к нему. – Стой, нечисть! Ты почему затеял драку, мешок с дерьмом? Я велел тебе сидеть тихо и спать! Спать, а не размахивать кулаками! Он был в ярости. Если этот серокожий ублюдок убил Эйримовых воинов, то брат Конан тут же станет врагом Конаном! Ему совсем не хотелось биться со всей дружиной хозяина Рагнаради, сложив голову в этом грязном дворе, под стенами Длинного Дома. Прах и пепел! У него была совсем иная цель, и до нее оставалось не больше нескольких дней пути! Ваниры расступились, с почтением пропуская вождя. Эйрим, сунув ладони за пояс, разглядывал своих людей, ворочавшихся на земле; по лицу его блуждала ухмылка. Затем он поднял глаза на Идрайна – тот, повинуясь хозяйскому приказу, стоял столбом, но зрачки его поблескивали с явной угрозой. Конан заметил, что волосы голема мокры и от него несет пивом. – Кто первый начал? – поинтересовался вождь. – Он… он… – забормотали воины. Один прохрипел, держась за ребра: – Бешеный волк, да пожрет его Имир! – Кабан недорезанный! – добавил второй, еле двигая разбитой челюстью. Остальные молчали; и было похоже, что двое из тех, что валялись на земле, замолкли навсегда. Конан ткнул голема кулаком. – Ну а ты что скажешь? – Лживые псы, – равнодушно произнес Идрайн. – Я спал, как было велено; они спрятали мою секиру и решили, что смогут справиться со мной. Прикажи, господин, и я перебью этих шакалов! Внезапно Эйрим расхохотался. Хриплые звуки неслись из его глотки, лицо покраснело, а увесистый кулак то и дело прохаживался по спине Конана – не со злым умыслом, но от избытка чувств. – Вот это боец, клянусь бородой Имира! Всем готов пустить кровь! А ты, брат, зовешь меня в Кро Ганбор… Зачем? Зачем тебе я, зачем мои люди? Твой слуга расправится с полусотней воинов, как волк со стаей сусликов! – Эйрим повернулся к драчунам – к тем, что еще держались на ногах. – Ну, моржовы кишки, говорите, что вы с ним сделали? Подпалили штаны? Пустили крысу за шиворот? Или поднесли прогорклого пива? – Поднесли… – пробормотал один из ваниров. – Не прогорклого, хорошего пива поднесли… Видим, скучает парень, а это не дело, когда все пьют. Сунули и ему рог, только он выпить с нами не захотел, нанес обиду, протухшая задница! Ну, мы… – Что – вы? – поторопил Эйрим смолкнувшего воина. – Ну, мы и опрокинули ему на голову цельный бочонок… Чтоб, значит, напился, как следует… Тут все и началось! Эйрим снова захохотал, потом ткнул Конана в бок и покосился в сторону распростертых на земле тел. – Похоже, твой слуга пришиб двоих из моей дружины. Я о том вспоминать не буду, если он завтрашней ночью выпустит кишки десятерым из шайки Торкола и Фингаста. Справедливая цена, как полагаешь, брат Конан? Киммериец кивнул. – Справедливая. Пусть ему вернут топор, и он прикончит не десятерых, а хоть полсотни. – Ну а я что говорил? – усмехнулся Эйрим. – Зачем тебе мои воины в Кро Ганборе, коль есть у тебя такой помощник? Он отвернулся и начал распоряжаться: велел убрать трупы, вправить вывихнутые суставы, обмотать ремнями переломанные кости и напоить всех раненых и ушибленных крепким вином. Конан же думал о том, что все выходит так, как и задумано Дайомой: Идрайн перебьет воинов колдуна, а сам он разделается с Гор-Небсехтом… «Ну, чему быть, того не миновать, – решил киммериец, – хорошо еще, что Эйрим положит две трети дружины колдуна». Тела были убраны, а раненые, опасливо поглядывая на Идрайна, пошли утешаться хмельным. Эйрим, Конан и троица седоусых отправились в хозяйские чертоги – допивать аквилонское и посовещаться насчет резни, что намечалась следующей ночью. Голема киммериец забрал с собой, подальше от греха. До рассвета было еще далеко, и за оставшееся время серокожий вполне мог снять головы со всех обитателей Длинного Дома. На пороге Эйримовой горницы Конан огляделся и заметил, что в корабельном хранилище, где спали люди Торкола и Фингаста, мелькают огни. «Видно, их разбудил шум драки», – подумал он, прикрывая за собой дверь.* * *
Вновь звякнул телефон, вернув Кима к реальности. – Ким Николаевич, Дарья дома? – Нет, Славик, – машинально ответил Кононов и посмотрел на часы. Матерь божья, почти девять! Сердце сжалось в тревоге, и он, стиснув трубку, выкрикнул: – Что случилось? Где она? – Да, собственно, ничего. После обеда отлучилась, сказала, какие-то бумаги ей нужно подписать. Еще сказала, что к шести вернется. Я ждал, ждал… решил, что к вам поехала… вот, звоню на всякий случай… «Бумаги подписать! – мелькнуло у Кима в голове. – Не иначе, в загс пошла, разводиться! Пошла, и нет ее…» – Может, решила сестру навестить? – высказал предположение Славик. – Или задержалась в магазине… Или… – Вот что, Слава, – произнес Ким, стараясь, чтоб голос не дрогнул, – я тут ее буду ждать и до утра с места не сдвинусь. Если придет, позвоню тебе. А если не позвоню, ты утром кое-что выясни. Знаешь, где Куйбышевский загс? – Конечно. Пешего хода от нас – пятнадцать минут. Думаете, Ким Николаевич, что она… – Ты слушай, Славик, слушай! Нужно выяснить, не видел ли кто ее в загсе… она девушка приметная, такую любой запомнит… Сделаешь? – Утром поеду прямо туда и друга прихвачу, капитана милицейского, – с тревогой промолвил Славик. – Если что, где вас искать, Ким Николаевич? – Не ищи. Сам в «Конан» приеду. Положив трубку, Ким снова поглядел на часы. Начало десятого… Может, подписала заявление, сбросила камень с души и в самом деле поехала к Варваре? Пошептаться, пошушукаться… какое платье выбрать для свадьбы и как ее отпраздновать… Он набрал номер «Цирка в Озерках». Голос ответившей девушки был уже знаком – та самая секретарша. – Мне бы Варвару Тальрозе-Сидорову… Я Ким, ее сосед… – Нет ее. Они с Олегом Облома выгуливают. – А далеко? – Не очень. На пустыре у озера. – А если за ней сходить? Помните меня? Ким Николаевич, из двести тридцать второй квартиры… Я как-то вам звонил, милая девушка. – Помню, помню! Что-то у вас случилось, потоп или пожар… А что сейчас? – Цунами. В острой форме, – сказал Ким загробным голосом. – Так сбегаете за ней? – Не могу. Телефон у нас один, и мне положено при нем сидеть. – Может, кого пошлете? – К сожалению, некого. Вечернее представление идет, все, как говорится, на арене… Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь! Цунами – это ведь, кажется, аллергическое? Глотните супрастинчику и… – Вы ошибаетесь, девушка. Цунами не болезнь, это много хуже, – буркнул Кононов и отключился. С минуту он сидел, уставившись на телефон, и скрипел зубами. Добежать до цирка и самому найти Варвару? А вдруг Даша где-то задержалась – может, туфли к свадебному платья выбирает и галстук жениху… то есть уже выбрала и сейчас придет… Заявится с галстуком и коробкой, а жених исчез! То ли в лесу гуляет, то ли вообще сбежал! К Альгамбре, снежной деве! «Твой гормональный баланс нарушился, – сообщил Трикси. – Отрегулировать?» – Не надо. Лучше скажи, что делать будем? «Активные действия – на твое усмотрение. Я пришелец, ты автохтон и лучше разбираешься в ситуации. – Помолчав, Трикси добавил: – Я тоже обеспокоен. Твоя подруга очень милая… к тому же с нею мой инклин». Он смолк, а Ким начал бродить по квартире и занимался этим делом до полуночи. Потом рухнул в койку, однако уснуть не удалось – лишь под утро забылся короткой и тревожной дремой. Снилась ему Дарья, плененная злым колдуном, а стерегла ее шайка ваниров, напоминавших покойного Гирю.ДИАЛОГ ОДИННАДЦАТЫЙ
– Нехорошо получилось с кабаком, Анас Икрамович, нехорошо… Нашумели, постреляли, а толку – на рубль братской Белоруссии… Ну, я на вас не в обиде! Потому и звоню, чтоб вы на этот счет не волновались. Возьмем мы этот кабак, не сегодня, так завтра… возьмем, куда он денется! Хе-хе… Как говорил ваш Мухаммед, есть много способов, чтоб привести людей к Аллаху: поставки перекрыть, в аренде отказать или с горы столкнуть без парашюта… Так? – Не поминай Аллаха и Пророка всуе, Паша, и про свое заведение забудь. Не очень надолго – так, на неделю… Это теперь моя проблема, дорогой, кровная, и я с ней разберусь. Может, и неделя не нужна, если шепнешь, где этот хакзад проживает… ну, главный крутильщик, который писатель-фокусник… Хочу с ним повидаться, понимаешь. – Шепну, как не шепнуть… А хакзад – это кто, Анас Икрамович? – Это, Паша, на персидском. Рожденный из праха, а проще – из дерьма… Говнюк, словом. – Сочное словечко! Запомню, непременно запомню. Своих недоумков как называть? Чмо да притырок… хе-хе… Надоело! – Ты, Паша, веселиться погоди, ты мне скажи про крутильщика. Где живет, куда ходит, с кем корешится… Зайцев мой говорит, дружки у него хайборийские, но к Зайцеву я нынче без доверия. Во-первых, дело провалил, а во-вторых, какие дружки, какая Хайбория? Хабаровск знаю, Харьков знаю, Хайфу знаю, Хайборию не знаю! – И не надо, Анас Икрамович. Бред это все, глупости, чепуха… Да и разыскивать фокусника не стоит. Сам придет. – Сам? Куда? В кабак твой на Фонтанке? – Нет, на склад. На Зинку явится, откуда мои охламоны питье развозят. База там у меня винно-водочная, слышали? – Это где Мурад сидит? Слышал, слышал… А что ему там делать, Паша? В нарды с Мурадом поиграть? – Вы, Анас Икрамович, туда людей пошлите и не сомневайтесь – придет он, придет. Даже – хе-хе! – прибежит! – Что-то ты, Павел, веселый нынче… С чего бы, а? Может, где подфартило, а я не знаю? Может, осетринку сторговал или коньяк французский из Молдавии? – Веселый, Анас Икрамович, веселый… Радостный! Жена домой приехала, красавица моя. Из заграниц вернулась, с Акапулько.ГЛАВА 12 МЕТАНИЯ И ПОИСКИ
Чем моложе человек, тем с большей отвагой он замахивается на глобальные проблемы, пытается решить неразрешимые задачи. Причина понятна: у юного льва больше страсти, у старого – опыта и осторожности… В молодые годы я размышлял о предвидении будущего, о том, что прекогнистика сделается точной наукой, способной предвидеть события на час, на сутки, на месяц или год, что избавило бы нас от многих ошибок и заблуждений. Но увы! Развитие нелинейной динамики и теории хаоса привело к парадоксальным результатам, к так называемой Первой Небулярной Теореме: чем дальше событие по временной шкале, тем больше вероятность его осуществления. То есть прогноз на сутки нереален, на век – сомнителен, а вот на десять тысяч лет вполне осуществим. Нелепость? Ничего подобного! Мы не ведаем, какие крушения и катастрофы произойдут через час, но знаем с очень высокой вероятностью, что через десять тысяч лет люди или погибнут, или доберутся до звезд, заняв подобающее место среди галактических цивилизаций. Приведу один пример, доказывающий опасность и ошибочность краткосрочных прогнозов. На рубеже тысячелетий некое существо (для определенности будем считать его сторонним и очень эрудированным экспертом) утверждало: когда человечество достигнет планет Солнечной системы, на Земле не останется ни слонов, ни тигров, ни ослов. Иными словами, животные исчезнут, вытесненные человеком из всех пригодных для обитания экологических ниш. И что же мы видим в данный момент? Мы исследуем планеты, строим марсианский город и станции в венерианских облаках, однако фауна Земли не менее обильна, чем в конце двадцатого столетия. Есть слоны и тигры, а что касается ослов, четвероногих и двуногих, так их развелось еще больше. Как, впрочем, гиен и шакалов обеих пород.Даша не пришла. Пустая постель, пустой дом, и на душе тоже пустота, как если б ее стиснули, выдавив жизненный сок, и засушили, словно губку… Ким поднялся, выпил кофе, попробовал поесть, но в горло ничего не лезло. Плюнул, с мрачным видом вымыл чашку, посмотрел на часы – раннее утро, четверть восьмого. Настроение – хуже некуда, но в то же время он ощущал такой прилив энергии, что ждать звонка или звонить куда-то самому казалось глупым и нелепым. Совсем смешным! Какие звонки и ожидания? Взять кувалду да разнести по кочкам! Кого? Бывшего Дашиного благоверного, кого же еще! Он вдруг заметил, как сжались кулаки, как напрягаются мышцы в привычном уже усилии; лицо его окаменело, а где-то под черепом грохнул боевой барабан. Заметил еще одну странность: джинсы давили в поясе, рубаха едва сходилась на груди, плечи стали шире и массивнее. Хмыкнув, Ким полез в кухонный столик, выбрал вилку с толстым железным черенком, пристроил его на пальцах, между мизинцем и указательным, и надавил большим. Жалобно скрипнув, черенок согнулся. – Это что же деется? – сказал Ким, швыряя вилку в мусорное ведро. – Что, я спрашиваю, творится? Самодеятельность, а? Я ведь не просил меня трансформировать! «Никаких трансформаций, – заверил его Трикси. – То, что ты наблюдаешь, – следствие прошлых метаморфоз, нечто подобное остаточной намагниченности. Метаморфозы влияют на психику и физиологию, и этот эффект – кумулятивный: чем чаще преобразования, тем явственней перемены. Объем мышц растет, их тонус повышается, процессы обмена становятся более интенсивными. Есть и психические изменения… пока – на подсознательном уровне». Ким встревожился: – Хочешь сказать, что я превращаюсь в Конана? «Отчасти. Доля его присутствия невелика, но возрастает с каждой трансформацией. Конечно, ты не станешь Конаном, но позаимствуешь многие его черты – те, которых у тебя не имелось. Подозрительность, тягу к власти, жестокость». – Не возражаю против этого, – произнес Ким, коснувшись пальцем мускулистого плеча, – а остального мне не нужно, особенно жестокости. Ты что же, не мог сообразить, к чему ведут метаморфозы? «Не мог. Видишь ли, Ким, в поисках инклина я проникал в сознание многих людей, но не задерживался в их разумах надолго. Ты первый человек, с которым я сосуществую не минуты, а несколько дней, и, значит, могу изучить особенности вашей психики. Я пришел к мнению, что люди, несмотря на ментальную глухоту, в чем-то подобны нам, инклинайзерам. Есть ядро, основа самосознания и личности, и есть инклины, которые примыкают к нему, сотни, тысячи инклинов – точнее, их зародыши в латентной фазе». – Никогда об этом не слышал. Что-то новое в психологии, а? «Отнюдь не новое. Представь: ты прочитал книгу, и в твоей памяти сформировался образ персонажа, тем более выпуклый и яркий, чем более талантливо повествование. Вспомни еще о своих родителях, возлюбленной, друзьях, знакомых – разве их образы не живут в тебе? Разве их счастье тебя не радует, а беды – не огорчают? Исчезла твоя подруга, и возникло чувство горя такое же острое, как у меня, когда я потерял инклин… Эти образы, мой друг, – психоматрицы, споры инклинов в твоем подсознании. Они не автономны, как частицы моей сущности, однако влияют на тебя. Прежде всего матрица Конана. Ее воздействие настолько сильное, что сказывается на твоей физиологии». – Потому что ты преобразуешь меня в Конана? «Разумеется. Другие люди не могут физически превращаться в героев книг, то есть активировать зародыши своих инклинов, овеществлять свои фантазии. Тебе это доступно, с моей посильной помощью. Но есть еще одна причина: ты писатель и обладаешь творческим воображением. Твои инклины более насыщенны и ярки, фантазии более жизнеспособны, и Конан тому примером. Почти сотня книг, и все хранятся в твоей памяти! Он для тебя живее всех живых!» – Я не единственный писатель на Земле, – буркнул Ким, посматривая на часы. Было восемь – пожалуй, можно отправляться… Но куда? К Варваре в цирк или же к Славику на Фонтанку? Он уже не сомневался, что Дашу похитили, что у сестры ее нет, а значит, лучше ехать к Славику и разбираться, что там случилось у загса. Либо по дороге к нему… «Конечно, ты не единственный писатель, – подтвердил Трикси. – Есть и другие люди, не писатели, с настолько развитым воображением, что временами оно принимает болезненную форму. Например, шизофреники, параноики и участники игрищ, которые у вас зовутся ролевыми. Их подсознанием владеют инклины гномов, эльфов, магов, и потому…» – Все это очень интересно, но пора двигаться, – прервал его Кононов. – Мы еще обсудим эту тему, но думаю, ты прав – во всяком случае, в том, что касается собственных книг. Они ведь для писателя – как дети! Выйдя на улицу, он повернул к арке, к проходу во двор. Небо было высоким и светлым, по другую сторону Президентского бульвара шелестели деревья, а сам бульвар казался, как всегда, пустынным; редкие машины с осторожностью пробирались по ухабистой мостовой, а служивый люд предпочитал ходить дворами – так было ближе к подземному и наземному транспорту. В утренний час дворы оживали, из парадных текли людские ручейки, сливались в речки, потом – в полноводную бурную реку, что Ниагарой рушилась на эскалаторы метро. Ким плыл, захваченный этим потоком, испытывая чувства отшельника из Синайской пустыни, попавшего в торговый город Тир: толпы народа, давка, шум и никакого благолепия. Двери станции метрополитена уже готовились всосать его, как в голове раздался шепот Трикси: «Стой! Выбирайся отсюда и догони человека в синей шапочке. Он вышел сейчас из метро… Скорее! У него инклин!» Работая локтями, Ким вырвался из толпы, ринулся вслед за синей шапочкой, догнал и, ощутив нечто знакомое, убавил шаг. – Это ведь… – начал он. «… старец из магазина, – закончил Трикси. – Я ошибся, с ним инклин-разведчик, а не тот, который мной потерян. Сейчас я его опрошу. Двигайся сзади на расстоянии метров трех-четырех. Это займет секунду…» Пришелец смолк, но сразу же волна удивления обрушилась на Кима. Он помотал головой и мысленно спросил: «Ну, что еще случилось?» «Был контакт между инклинами старца и твоей подруги. Очень, очень кратковременный. Ее везли в машине… Как называется улица, где расположен магазин?» – Выборгское шоссе, – прошептал Ким, чувствуя, как по спине ползут холодные мурашки. «Ее везли по этому шоссе на север. Было около шести часов… кажется, все… нет, еще одна деталь: ей очень не хотелось ехать». «По Выборгскому шоссе на север, – прикинул Ким. – Потом – на Кольцевую, и повернули на Приморское, в Комарово… Значит, к безутешному супругу повезли…» Его затрясло от бешенства, перед глазами поплыли радужные кольца. Он машинально шагал за стариком в синей кепке, глубоко втягивая воздух и стараясь успокоиться. «Адреналин, – пискнул Трикси, – избыток адреналина… Сейчас я…» Туман рассеялся. Ким вытер вспотевший лоб и нагнал старика. – Здравствуйте! Тот обернулся: – О, мой лучший покупатель! Кувалда, двадцать сменных дисков для пилы, отвертка… Тоже на работу? – Нет, – сказал Ким, – не совсем. А вы сегодня что-то рано открываете. – Рано, рано, и буду арбайт до позднего вечера. Пятница, майн либер, пятница, а завтра суббота, самые торговые дни, когда народ на дачи едет. Сегодня, юноша, раньше полуночи мне не уйти… бывает, на метро не успеваю, ночую прямо в магазине. – А не боитесь? Старик с насмешкой фыркнул. – Меня напугать нелегко! До Берлина дошел, шесть лет в награду отсидел, пятнадцать на великих стройках века вкалывал… В семидесятом в Норильск завербовался, на медный комбинат, в литейку… Не места, а сущая Киммерия! Ну, оттрубил там, заработал, дом в Андижане построил, в теплых яблочных краях… Сожгли! Не бандиты, соседи из местных, дружки мои бывшие… Ферштейн? Так чего мне бояться! – Верно, бояться нечего, – с мрачным видом согласился Ким. – Когда великий вождь солдат своих ссылает в лагеря, это еще не самое страшное – страшно, когда соседи жгут, бывшие дружки. Так? Его собеседник сдвинул шапку на затылок, почесал лысину. – А ты с понятием юноша… углядел, в чем самый ужас! Ну, ничего, ничего, еще не капут бойцам-ветеранам… нынче с сыном живу, с внуками нянчусь, тружусь по мере сил… А силы-то вроде прибыло! Кости болеть перестали, давление не скачет… Чудеса! Должно быть, лето такое теплое да спокойное. Для свадеб лето! – Он искоса взглянул на Кима. – Ты вроде жениться собрался… А чего такой угрюмый? С невестой поссорились? – Украли невесту. Увели! – Укра-али! – протянул старик. – Это не есть аллес гут! И что ты будешь делать? Другую поищешь? – Нет. Такие невесты на дороге не валяются. Отобью! – Ким яростно стукнул кулаком о ладонь. – Только нуждаюсь я кое в каких приспособлениях… Не голыми ж руками отбивать! – Хмм… И что тебе нужно? – Еще не знаю. Может, трактор, а может, пулемет. – Бульдозер сгодится? – Наверное. – Ну так заходи! Они добрались до Выборгского шоссе и распрощались: старик свернул налево, к магазинчику, а Ким направо, к «Цирку в Озерках». Смысла ехать к Славику и разбираться, что там случилось у загса, он теперь не видел, а вот посоветоваться с Варварой стоило – хотя бы затем, чтоб не блуждать по Комарову в зряшных поисках. Дом у Дашиного благоверного, или дворец, или целая крепость – не важно; и крепости имеют адрес. Вот только какой? Огромный шатер цирка раскинулся рядом с пляжем и лабиринтом торговых палаток, ларьков, аттракционов, безлюдных в этот ранний час. Прямо за шатром синели Суздальские озера, тянулся неухоженный бережок, заросший травой и кустами шиповника, а дальше, в живописном беспорядке, сгрудились ярко размалеванные вагончики, автофургоны, машины, навесы с клетками, хлипкие сараи, кафетерий под полосатым тентом и столбы с подвешенными кабелями. Этот пестрый городок, такой же тихий и сонный, как окружающее цирк пространство, отделяла ограда из зеленых штакетин с широкими воротами; над ними висели цветные лампочки и развевались флаги. Ким сунулся было туда, но громкий окрик заставил его притормозить. За воротами сидел в брезентовом кресле гигантский усатый мужчина с фигурой борца. Примерно таких же габаритов, как Семитха Кулрикс, он же – Семен Кулешов. Правда, более вежливый. – Запретная территория, хлопец. Дикие звери, дикие люди… Тигры, ишаки, удавы, злыдни коверные… А в том оранжевом вагончике – людоед-расчленитель, пилит по живому и втыкает ножики. Валил бы ты, парубок, обратно. – Расчленитель мне не нужен, и ишаки с удавами тоже, – сказал Ким. – Я Варвару Романовну ищу, которая при слоне. – Барби, что ли? – осведомился гигант, сворачивая пальцем крышечку с бутылки пива. – А кем ты ей будешь, шановный пан? – Потенциальным работодателем. Кабаре у меня в Сосновском парке, «Татарское иго» называется. Слона хочу. – Кабаре? – Мужчина отхлебнул пива, вытер усы, прищурился. – Это шинок, где горилку пьют и раком заедают? В Сосновке, говоришь? Вот шкода какая! Я о таком и не бачил! – В кабаре не пьют, а пляшут, – терпеливо пояснил Ким. – Я Варвару Романовну нанять хочу. Ангажемент принес. – Он хлопнул по карману джинсов. – Половецкие пляски в трех сериях, но непременно на слоне. – А почему половецкие? – с интересом спросил усач и снова приложился к пиву. – Потому что «Татарское иго». – Кажись, слонов у татар не было, – задумчиво произнес гигант. – Были, – возразил Ким. – Слонов из Индии привели, но все они сдохли при осаде Петербурга. Не выдержали нашего климата. Усач многозначительно покивал и заверил Кима: – Облом, слонопотамина Варькина, не сдохнет, а если сдохнет, так только от обжорства. Он в иркутском зоопарке родился – выходит, сибиряк. Не слон, а прямо мамонт! Ты, хлопец, иди мимо ишачьего сарая и тех вагончиков с красной полосой, потом, где навесы с клетками, сверни налево и выдь на пустырь. Там Барби и будет. И Барби, и подельники ее. Слоновье кормление у них. Кононов, как подсказали, миновал сарай с грустными осликами, вагончики, из коих шел заливистый храп, добрался до клеток и завертел головой, высматривая Варвару. Над ухом протяжно рявкнули. Он покосился на тигра в ближайшей клетке. Тигр снова рявкнул и с ленцой зевнул, обнажив клыки. – Хороший. Просто лапушка! – сказал ему Ким и проследовал дальше. Обещанный пустырь был невелик и порядком истоптан. Посередине него высилась серая гора с огромными ушами; уши дергались туда-сюда, длинный хобот забрасывал в пасть что-то зеленое, круглое, хруст и чавканье разносились на сто шагов окрест. Двое мужчин, светловолосых и похожих, словно братья, подкатывали тачки, а Варвара, в комбинезоне и резиновых сапожках, стояла, облокотившись на слоновий клык, и глядела на Облома с материнской лаской. «Идиллия», – подумал Ким и осторожно приблизился. – Варя! Она обернулась. – Кимчик! Вот так сюрприз! – Подскочила, схватила за руку, чмокнула в щеку и повелительно кивнула светловолосым: – Братцы, сюда! Это Ким, зять мой новый и любимый. Ну, говорила я вам… Писатель, мастер бодибо… или вэнсуй… Светловолосые подошли, стали знакомиться. Они в самом деле были очень похожи, оба крепкие, широкоскулые, спокойные. Облом мерно хрустел капустой над их головами. – Олег… – С лопатой, отметил Ким. – Игорь. – А у этого – вилы. Слон протянул к нему хобот, обнюхал, дунул теплым воздухом. – Но-но, не балуйся! – строго произнесла Варвара и показала взглядом на крепыша с лопатой: – Олежка – мой… ну, как это… бойфренд по-современному. А Игорек его брат и… – … просто френд, – сказал Игорь. – Ты не находишь, Барби, что Ким обойдется без этих подробностей? Варвара топнула ногой. – Сколько говорилось – не смей называть меня Барби! А без подробностей никак. Ким теперь за Дашей, значит, в нашем семействе и родичей обязан знать. Ну-ка, мальчики, обнимитесь и расцелуйтесь с ним! Они обнялись, расцеловались. От братьев пахло капустой и немного свинарником. – С Обломом тоже поцеловаться? – спросил Ким. Его настроение стремительно улучшалось; он вдруг подумал, что у него и в самом деле есть семья, есть люди, которым он небезразличен. Тем более – Даша! Они, эти парни, ее похитили – там, на Президентском, – а что похищено единожды, можно еще раз украсть. Были б надежные компаньоны! – Нет, – сказал Олег, – Облом еще не вымытый, так что с поцелуями не торопись. С Дашенькой, я думаю, приятнее… Где она, кстати? Ты почему один заявился? Кононов помрачнел: – Беда с ней приключилась, родичи. Моя вина – не уберег! Поехала в загс разводиться и пропала! Вечером нет, ночью нет, а утром я выяснил, что отвезли ее в Комарово, к мужу. Силой отвезли. – Как выяснил? Откуда? – Варвара сжала виски ладонями. – Телепнулось, – буркнул Ким. – Однако не сомневайся, сведения верные, хоть и не из милиции. Игорь со злостью сунул вилами в кочан капусты, Олег сурово нахмурился и что-то собрался сказать, но его опередил Варварин вопль. Подпрыгивая на месте, она молотила воздух кулаками и рычала: – Ну, окаянный, ну, погоди! Душу вытрясу из шмурдяка! Урод мокрозадый! Узнаешь, блин, каковы Тальрозе-Сидоровы! Не те у нас бабы, чтобы в постель их силком тянуть! – Она задохнулась, но тут же опять набрала воздуха. – Да я… я за сестренку всех цирковых подниму! От директора до шталмейстера! Мне не нужна милиция! Мы без нее твоих бандюг уроем! Фазенду твою вонючую по бревнам разнесем, а тебя – в сортир, как велено президентом! Козел трахнутый, крыса, обмылок! Зараза су… Перекрывая Варварины вопли, тревожно и гневно затрубил Облом. Игорь, успокаивая, похлопал его по хоботу, Олег обнял Варю. – Ну, рыженькая, ну, не надо, не кричи… криком делу не поможешь… Мы ведь Дашутку не бросим, не оставим… Все сделаем, как скажешь: шмурдяка – в сортир, фазенду – по бревнышкам… еще и спичек из бревен настрогаем… – По бревнышкам и я могу, – сказал Ким, – а вот фазенда где? Вы говорили, в Комарове, а это все равно что ничего – там ведь сплошная застройка от Солнечного до Зеленогорска. Вдоль залива километров двадцать и пять от берега… рестораны, санатории, дома отдыха и просто дома… Улица, Варя, нужна, улица и номер. Найдем фазенду, тогда и будем разносить. Варвара смолкла, хлюпнула носом и вытерла глаза. – Думаешь, я знаю? Я ведь там не бывала, кофий не кушала… Питерский адрес знаю, квартира у него на Салтыкова-Щедрина, но в ней он не живет… И то по справке выясняла… – Выходит, не знает. – Ким разочарованно вздохнул, но, почесав в затылке, приободрился: – Справка! Справка – штука полезная! Телефон в Комарово известен, так что можем… – Не можем. Мобильный телефон, – совсем нормальным голосом возразила Варвара. Игорь покачал головой и добавил: – Прогресс, мать его ети… – В милицию… – начал Олег. Варвара фыркнула: – Какая милиция, милый! Она его супруга по закону! Он ее не бьет и голодом не морит, еще и облизывает, как сахарную! – Я не то хотел сказать. Есть поселковый совет, где все дома зарегистрированы, есть местная милиция – этим всяк известен. Сейчас поедем, спросим и узнаем. – Если скажут, – возразил Ким. – Правильный ход, но долгий, а я не желаю, чтоб он ее облизывал. Я сам спрошу. Знаю, где, и знаю, у кого – на складе, улица Зины Портновой, за домом двадцать пять. Там его люди сидят. Олег хмыкнул. – А эти, думаешь, скажут? – Есть очень убедительные способы, – ответил Ким и, взяв Варвару под руку, направился прочь с пустыря. У клетки с тигром он остановился и стиснул Варин локоть. – Вы не тревожьтесь, я ее найду. А как найду, понадобится помощь, так что будьте наготове и где-нибудь поблизости от телефона. Машина есть? – Есть. У Игорька. А Олег… Если надо, Олег фургон раздобудет. Ким повернул голову, помахал на прощание братьям. – Хорошие у вас партнеры, Варя, надежные. Только уж очень похожи… Близнецы? – Близнецы, – подтвердила Варвара и добавила, слегка порозовев: – Знаешь, я сама их временами путаю. Особенно ночью. Когда Ким подошел к воротам, усач приканчивал четвертую бутылку пива. Осмотрев посетителя, он спросил: – Ну как, договорился с Барби? Будет в хабаре твоем плясать? – Непременно. – Приду, посмотрю. А что Облом ревел? – Гонорар его не устраивает. Сказал, надо добавить, бананами и морковкой. – Столковались? – А как же! Огибая цирковой шатер, Кононов направился к дороге, откуда неслись привычный гул моторов и шелест шин. «Тачку бы взять, – мелькнуло в голове, – заехать на Фонтанку за кувалдой, со Славиком перемолвиться и – на склад. К Мураду и его коллегам… Склад – место расхожее, люди целый день толкутся, шофера, качки да экспедиторы… кто-нибудь знает, где хозяйский терем… хотя бы два ублюдка, что поджидали тогда у больницы… Вот с ними и побеседуем!» «Слон, – внезапно произнес Трикси, – слон на том пустыре… А еще тигр, лев, медведи и такие серые, с длинными ушами…» – Ослы, – подсказал Ким. – А что? «До сих пор я наблюдал лишь птиц, собак и кошек. Но эти животные другие, особенно слон… Слон просто потрясает!» – Тебя, разведчика, видевшего тысячи миров? Ты не нашел там ничего чудеснее слона? «Во-первых, не тысячи, а около двухсот, а во-вторых, я не исследовал зверей и птиц на примитивных планетах, где некому послать инклин, – сообщил пришелец. – Видишь ли, Ким, животный мир не очень нас интересует; мы ищем разумные сообщества с высоким уровнем культуры. Чем выше уровень, тем меньше на планете диких тварей – сказанное мной известно как Закон Вытеснения. Вид разумных вытесняет прочие виды из всех экологических ниш, преобразуя их под собственные нужды. Вы не исключение. Когда вы доберетесь до планет вашей Солнечной системы, на Земле не будет ни слонов, ни тигров, ни ослов. А жаль!» – Жаль, – согласился Ким и поднял руку, голосуя. – А на твоей родной планете сохранились звери? «У нас их просто не было – ни птиц, ни рыб и никаких других животных. Иной тип эволюции, чем на Земле. Самые древние организмы были уже приспособлены к метаморфозам и взаимному слиянию, к обмену ментальной энергией и производству потомства путем деления. Они сливались, усложнялись, совершенствовались, пока не появился разум, и в этот момент…» Рядом с Кимом затормозила старенькая серая «Тойота». Водитель, щуплый парень с бледным, усеянным веснушками лицом, приоткрыл дверь. – Куда? – Далеко. Сначала на Фонтанку, рядом с Невским, – груз забрать, потом на Ленинский, к Зине Портновой, двадцать пять. Свезешь? – Груз большой? – Да нет, молоток и кое-какие инструменты… На десятке сойдемся? – Если в баксах, – сказал водитель, открывая дверь пошире. – Залезай! И помолись, чтоб на Литейном в пробку не встряли. Молитва не помогла – все-таки встряли. Водитель чертыхался, «Тойота» скрипела и кашляла, неторопливо выплывая к Невскому в потоке машин, а Ким внезапно задремал и очутился в Ванахейме, на пиру у Эйрима. Должно быть, между Хайборией и земной реальностью возникли такие прочные связи, так что события там и тут следовали друг за другом в дивной гармонии и были весьма похожими – как, впрочем, и люди, Гиря и капитан Гирдеро, Даша и Дайома, ее супруг и чародей Небсехт. Можно было биться о заклад, что сыщется аналог и для Эйрима, и для иных персон, ибо они не прыгали из пустоты, а как бы ответвлялись от людей реальных и уже знакомых Киму либо от тех, с коими он повстречается в близком будущем, через минуты или немногие часы. Но будущее еще не наступило, а сейчас, как только…Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Как только они допили бочонок аквилонского и прикончили блюдо с китовым мясом, дверь распахнулась. Не та дверь, прорубленная у очага, что вела к Длинному Дому, а та, что выходила наружу, к задним дворам, выгребной яме, кузнице и корабельному сараю. Пирующие сидели к ней лицом и спиной к огню, и никому не пришлось оборачиваться, когда на пороге возникли две рослые фигуры в медных кольчугах. Конан заметил, что один из незваных гостей еще молод, примерно его лет, с длинными рыжеватыми усами, свисающими ниже подбородка; другой был постарше, с решительным мрачным лицом и рваным шрамом на щеке. У обоих к поясу подвешены мечи; старший держал в руках топор, а младший – боевую палицу с бронзовыми шипами. – Пьете? – пробурчал воин со шрамом вместо приветствия. – Веселый пир, я вижу! А по какому случаю? Эйрим вскочил, грозно насупив брови. – Каков бы ни был случай, Фингаст, ты не должен врываться ко мне, да еще вооруженным! Клянусь челюстью Имира, я этого не потерплю! – Потерпишь, – сказал молодой – видимо, Торкол, как догадался киммериец. – Потерпишь, Эйрим, сын Сеймура. Не то наш господин… – Знаю, знаю! – Хозяин Рагнаради махнул рукой. – Не то ваш господин сделает так, что я не доживу до зимы! И никто не доживет в моем жалком крысятнике! Господин повелевает ураганами, и сметут они в море и дома мои, и корабли, и запасы пива, и людей – всех до последнего раба! – Постепенно голос Эйрима возвышался; теперь он почти кричал. – Все это мне известно, Торкол-отцеубийца, только я ведь против господина вашего не умышляю! Пью свое, и ем свое, и пирую со своими людьми! – А этот тоже твой? – Фингаст ткнул секирой в сторону Конана. – Мой! Брат мой Конан! – Не похожи вы на братьев, – угрюмо заявил воин со шрамом. – У нас, ваниров, золото в волосах, а этот черен, как ненастная ночь. Конан встал, обошел вокруг стола и с угрозой уставился на Фингаста. – У одних ваниров и впрямь золото в волосах или благородная бронза, – сказал он, – а у других – рыжее дерьмо! Хоть цветом и схоже с золотом, да не золото! Дерьмо в волосах, дерьмо в голове, а на устах – речи смрадной гиены. Ты, верблюжья моча, зачем сюда ворвался? – Тут киммериец перевел взгляд на Торкола: – А ты, усатый шакал, зачем грозишь брату Эйриму? Или он в своем доме уже не хозяин? Прах и пепел! Два недоумка дерзят вождю, храброму сыну Сеймура Одноглазого! Клянусь Кромом, таких у нас в Киммерии вяжут да бросают живьем в выгребные ямы! Не всякий мог потягаться с Конаном в сквернословии. Лица воинов Гор-Небсехта сначала побледнели, затем побагровели; наконец Фингаст прорычал: – У вас в Киммерии никого не бросают в выгребные ямы, хорек! У вас и ям-то таких нету! Всем известно, что киммерийцы гадят под себя, да еще по заднице размазывают! Ухмыльнувшись, Конан повернулся к Фингасту, задрал куртку и выставил зад: – Раз так – понюхай, меченая шкура! И убирайся, пока я не разукрасил тебе другую щеку! За столом злорадно заржали. Седоусый Храста, тот вовсе свалился со скамьи и, держась за живот, ползал среди пустых бочонков и обгрызенных псом костей. Найрил и Колгирд то в восторге молотили кулаками по коленям, то хлопали друг дружку ниже поясницы, повторяя: «Понюхай, меченая шкура!» Даже Эйрим, имевший вид раздраженный и грозный, не выдержал, захохотал. Конан, с довольным блеском в глазах, отступил к стене. Дело было сделано: он оскорбил приспешников колдуна, а Эйрим со своими людьми смеялись – значит, одобряли нанесенную обиду. Теперь, если бы Эйрим захотел после всех обещаний насчет завтрашней ночи пойти на попятную, миру не быть! Сказанное и сделанное смоет только кровь. Молодому Торколу захотелось получить ее немедленно – он поднял палицу и с бешеным ревом рванулся к Конану. Но Фингаст, который был постарше и поопытней, ухватил его за пояс и что-то прошептал – насчет гнева господина и отданных им приказов, насколько удалось расслышать Конану. Однако и сам Фингаст еле сдерживался; шрам на его щеке налился сизой кровью, пальцы каменной хваткой сошлись на древке секиры. Он погрозил оружием киммерийцу и прохрипел: – Отдай его, Эйрим! Отдай нам! – Почему? – Хозяин Рагнаради взглянул на Фингаста с хорошо разыгранным недоумением. – Ты хочешь зарубить моего брата? За пару сказанных в горячности слов? – Нет! Нергал с его словами и с его вонючим языком! Но наш господин повелел взять черного хорька и вырвать ему сердце! – Ваш господин? Когда же он изъявил свою волю? – Сегодня ночью, Эйрим, сегодня ночью! Вождь ваниров задумчиво поскреб подбородок. – До башен Кро Ганбора не один день пути, – заметил он. – И что-то я не помню, чтобы в мои ворота сегодня стучался гонец. Может, ты, Найрил, видел его? Или ты, Храста? Или Колгирд? – Эйрим бросил вопросительный взгляд на своих седоусых кормчих. – Моему господину не нужны гонцы, чтоб шепнуть тайное слово своему слуге! – яростно выдохнул Фингаст. – Вспомни, Эйрим, к т о мой господин! Вспомни, и отдай нам эту киммерийскую крысу! – Твой господин шептал слишком тихо, и я ничего не расслышал, Фингаст! – На губах Эйрима змеилась издевательская усмешка. Внезапно воин со шрамом отступил к распахнутой двери, потянув за собой Торкола. Теперь оба они, стиснув кулаки, стояли по бокам дверного проема и словно бы стерегли его; а снаружи, во дворе, начала шевелиться и позванивать металлом некая плотная масса, почти неразличимая в сером сумраке северной ночи. – Значит, слово господина ты не расслышал, Эйрим? Не расслышал и киммерийца не отдашь? – с угрозой произнес Фингаст. – Ну, слушай тогда меня… я-то близко! – Он оскалил зубы в ответ на усмешку Эйрима. – Слушай, Высокий Шлем! Воины твои либо дрыхнут, либо пьют, а наши уже во дворе, и на всех брони да кольчуги. У всех топоры да мечи в руках, у всех щиты да дротики… Тебя и старшин твоих, – Фингаст метнул взгляд на кормчих, – убьем первыми, вместе с киммерийцем. А дружину вырубим на треть! Треть прикончим, остальные покорятся и поплывут с нашим господином хоть в Кхитай, хоть в страну Амазон… Ясно, сын Сеймура? Ты-то нам не нужен, нужны твои люди, твои корабли да твои припасы! Эйрим переменился в лице. – Врешь ты все, моржова кишка! На валу и башнях сторожа! Или они не заметили, как ты вывел во двор своих ублюдков? – Заметили! – торжествующе рявкнул Фингаст. – Только сторожа твои уже бегут на Серые Равнины, и у каждого между ребер торчит по стреле! Он пронзительно свистнул, и во дворе загремело железо, в дверь полезли воины в медных бронях и рогатых шлемах, над столом пропел дротик, впился в скамью; второй опрокинул миску с мочеными ягодами. – Похоже, эти парни решили не дожидаться завтрашней ночи, – пробормотал Храста, подняв над головой бочонок. Найрил ухватился за огромное блюдо с рыбой, Колгирд, громко вызывая подмогу, прыгнул к двери, что вела в Длинный Дом. Эйрим же метнулся к стене, где над полатями висели его меч, шлем и щит. – Идрайн! – позвал Конан. – Идрайн! Он не успел договорить, как голем уже стоял за спиной, поигрывая секирой. Киммериец повернулся к Эйриму. – Мой слуга кое-что тебе задолжал, братец. Позволишь ли рассчитаться? – Еще бы! Самое время, клянусь Имиром. – Хозяин Рагнаради уже напялил свой высокий шлем, и голос его глухо звучал из-под забрала. Колгирд распахнул внутреннюю дверь и скрылся в глубине Длинного Дома; Найрил и Храста, один – с блюдом, другой – с бочонком, пятились к очагу, готовые к обороне. Но сражаться им не пришлось. Конан вытянул руку к двери, к толпе валивших в горницу воинов, и рыкнул: – Ну-ка, серая нелюдь! Возьми их! Словно ураган пролетел по бревенчатому чертогу Эйрима. Серокожий гигант ринулся вперед, подобно выпущенной из катапульты глыбе, сокрушающей на пути и бронзовые шлемы, и окованные железом щиты, и медные кольчуги, и человеческую плоть, прикрытую доспехом. Топор Идрайна гулко грохнул о металлический ванирский наплечник, потом голем подхватил еще одну секиру, вырвав ее у сраженного воина, и пошел бить в две руки; только слышалось – гулкое «Бумм!» да тоном пониже – «Бамм!» Движения серокожего были стремительными и уверенными; казалось, он испытывает удовольствие от битвы, от собственной необоримой мощи, от власти своей над немощными человеческими телами. Ваниры, ошеломленные этим натиском, попятились. В горнице их было десятка три, все – опытные воины, и сделали они все, как надо: передние прикрылись щитами, задние разом выметнули топоры на длинных рукоятях, боковые обошли врага, ударили ему в спину. Куртка Идрайна вмиг превратилась в лохмотья, но на коже его не было ни кровинки, ни царапины; лезвия секир и клинки мечей молотили по каменной шкуре голема, но не могли даже высечь искр, кои случаются, когда металлом бьют о камень. А серокожий рубил! На этот раз он пользовался одним и тем же приемом: не обращая внимания на вражеские удары,сек топорами между шеей и плечом, разваливал противника напополам, до паха или до бедра. Чудовищные раны мгновенно исторгали кровь, алые лужицы хлюпали под ногами Идрайна, устилавшая пол солома сделалась влажной и багровой. Груда внутренностей и изуродованных тел росла у двери. Голем успел прикончить двенадцать или пятнадцать человек, когда враги сообразили, что биться с ним в замкнутом пространстве опаснее вдвойне. С громкими воплями ваниры начали выбегать во двор; Идрайн, поторопив последних богатырским пинком, последовал за ними. В горнице остались шестеро: Найрил и Храста с отвисшими челюстями, Конан и Эйрим, добравшиеся до своих мечей, да Фингаст с Торколом – те, выпучив глаза, по-прежнему подпирали стену по обе стороны двери. Из глубины Длинного Дома доносился гул возбужденных голосов, металлический лязг и скрип торопливо натягиваемых кольчуг. Конан, однако, сомневался, что хоть один воин Эйрима успеет сегодня омочить клинок в крови врагов. Он подбросил в воздух свой меч, поймал его, оглядел замерших у двери людей колдуна и повернулся к хозяину усадьбы. – Ну, кого из них ты хочешь, брат Эйрим? Если выбор за мной, то я возьмусь за того разговорчивого недоумка, который со шрамом. Поганая кровь Нергала! Я же обещал разукрасить ему другую щеку! Эйрим молча кивнул, и два воина с обнаженными клинками начали неспешно приближаться к Фингасту и Торколу.* * *
– Ну, наконец! Проехали, матка боска ченстоховска! – выдохнул щуплый водитель и свернул на Невский. – Теперь бы на Фонтанке выкрутиться… – Туда не лезь, – распорядился Ким. – На Рубинштейна сверни, потом в Графский переулок и на углу с Фонтанкой тормознешь. Парень одарил его братской улыбкой. – Тоже водила? – А как же! – А рассекаешь на чем? – Сейчас на своих двоих. Права отобрали – пса переехал, а оказалось, пес губернаторский. – В другой раз ты губернатора переедь, – посоветовал щуплый. – За такое дело и прав не жалко! Он повернул налево, потом направо, проехал метров сорок и остановился. Ким сунул ему две купюры с изображением Линкольна. – Жди! Я быстро, одна нога тут, другая там. Ремонтники уже трудились, и в ресторанном зале царила суматоха. Славик тоже был здесь и бросился к Киму, точно утопающий в поисках спасения. – Ким Николаевич! Были мы там с капитаном, были! Капитан остался, сотрудниц загса опрашивает… Но пока ничего! Никаких новостей. – Зато у меня их целый ворох. – Ким быстро шагал в комнату отдыха. – Перехватили Дашу где-то, у загса или по дороге перехватили, впихнули в машину и в Комарово отвезли. Такие вот, Славик, дела. Ты, часом, комаровский адрес не знаешь? – Нет. Это что же получается? Киднепинг… хуже бандитского наезда… А вы уверены, Ким Николаевич? Ну, что все так и было? – Уверен. Видели тачку и Дашу в ней на Выборгском шоссе. Ехали на север. – Ким сдвинул стеллажи и начал подниматься по лестнице. – Видели? Кто видел? – Люди, – неопределенно пояснил Кононов. – Вот что, Слава, ты тут хозяйничай, а я за ней отправлюсь. Адресок узнаю поточнее и поеду. Менеджер слегка переменился в лице. – Дай вам бог удачи. Супруг ее, Пал Палыч… говорят, суров! Еще говорят… Но Ким уже не слышал. Поднявшись наверх, он заглянул в кабинет, покосился на розы, еще не успевшие увянуть, вздохнул и отправился на кухню. Там, в шкафчике под раковиной, стояла кувалда и лежали диски в брезентовой сумочке. Прихватив то и другое, Ким вышел через черный ход, спустился во двор и бегом помчался к «Тойоте». Пудовый молот он нес на плече, почти его не ощущая; казалось странным, что не так давно он еле ноги волочил под тяжестью кувалды. – Ну у тебя и молоточек! – встретил его щуплый водитель. – Таким не гвозди забивать, а сваи! – В корень смотришь, – подтвердил Ким. – Сваи и забиваю. Пальмовые. – А зачем? – Они выехали на улицу Рубинштейна и свернули к Загородному проспекту. – Ты о королевстве Самоа слыхал? Правит там Сусуга Малиетоа Танумафили Второй, и нынче пожелалось Его Величеству иметь резиденцию в Санкт-Петербурге. Вот и строим… на Зине Портновой строим, в южной части города, где климат для самоанцев более подходящий. – А сваи бить какого хрена? И для чего пальмовые? – У самоанцев все дома на пальмовых сваях, даже королевский дворец. Забивают молотом, ручная работа, ювелирная, никакой тебе техники… Что поделать, такой у них национальный обычай! Вот и корячимся. – Платят-то хоть прилично? – Вполне. В свободно конвертируемых самоанских пиастрах. Если на баксы пересчитать, выйдет тридцатка в день. – Ого! – Водитель восхищенно цыкнул. – А можно ли в вашу бригаду пристроиться? – Ты сначала мою кувалду подними, – сказал Кононов и усмехнулся. Пробок им больше не встретилось, и через сорок минут Ким высадился у дома двадцать пять по улице Зины Портновой. Был полдень; по бирюзовому небу гусиным пухом плыли облака, солнце сияло, отражаясь в витринах и окнах, и даже серые унылые строения казались праздничными и нарядными. Редкий для Питера зной, цветное белье, развешанное не балконах, полуголые смуглые парни и девицы в топиках, бананы и ананасы на лотках придавали скромной улице экзотику, будто Ким попал в Гавану или даже в Рио-де-Жанейро. «Только пальм и не хватает», – пробормотал он, огибая длинный девятиэтажный дом. Во дворе, у склада – «корабля», толкались, суетились, орали и грузились. Ящики, коробки, упаковки, дюжина работников, нежный перезвон бутылок, бочонки с пивом, резкий запах спирта… Добро таскали в три приземистых микроавтобуса, два «Москвича» – «каблука» и маленький грузовичок с надписью по борту: «АООО П. П. Чернова. Развозка продукции». «Ну, я вас развезу!» – подумал Кононов, послав беззвучную команду Трикси. На этот раз он не заметил ощутимых перемен – тех, от которых распирало мышцы и тело казалось переполненным энергией сосудом. Но перемены все же были, не столько физические, сколько психические; он чувствовал ярость, холодное бешенство матерого убийцы, несокрушимую уверенность в своем законном праве ломать и разносить. Эти древние инстинкты странным образом сливались с понятиями человека современного, знавшего, что достижение цели не обязательно требует убийства и насилия, что лучшее оружие – страх и что угроза, веская и зримая, пугает больше, чем изощренные пытки. «Вперед! – сказал ему Конан. – Иди и вышиби мозги из этих смрадных псов!» «Псы-то они псы, да только разные, – возразил Ким. – Эти, что у входа мельтешат, дворняги-работяги – за что их бить? Женщину мою не крали и в ресторане не буянили… А терьеры и бульдоги – те за воротами, и с ними другой разговор. Однако и тут желательна умеренность. Если они не возникнут…» «Когда возникнут, поздно будет, – гнул свою линию Конан. – Ты, интеллигентское отродье, слишком уж мягкосердечен! Первым бей! В лобешник! Ферштейн?» «Яволь!» – ответил Ким, направляясь к складу и слушая, как недовольно бурчит Конан: «Всех в расход, и шавок, и бульдогов, всех! Коленом в яйца, локтем в почки и кулаком в висок… Чтоб пасть разинуть не успели, Нергалья моча…» Приблизившись к воротам, Ким грохнул в железную створку кувалдой и заревел: – Кончать погрузку! Все на выход, живо! Склад закрывается на ревизию! Пожарной инспекцией и службой медицинской страховки! Разбегайтесь, братва, ОМОН на подходе! Грузчики, толкаясь и матерясь, ринулись к машинам, а Ким перешагнул порог, закрыл ворота, лязгнул засовом и огляделся. Все, как прежде: тут – стеллажи с горячительным, там – с безалкогольной продукцией, вверху – гирлянды лампочек, внизу – бетонный пол, слева – складские пространства, справа, за штабелями коробок и ящиков, – стойка, изогнутая буквой «П», а за нею – дверь в подвал. От стойки к Кононову уже спешил мордоворот в пятнистом комбинезоне. – Ты чего, мужик? Типа, инспектор? Документ покажь! «Из новеньких, из незнакомых», – подумал Ким и саданул его в живот рукоятью кувалды. Затем, посматривая туда-сюда, лавируя между штабелями готового к отправке груза, двинулся к закутку кладовщика. Знакомых личностей не попадалось, ни Петрухи, ни Коблова, ни рыбаков, поймавших его у больницы; под дальней стеной возились двое работяг, что-то сортировали и перекладывали, а в глубине помещения девушка в длинном халате протирала бутылки. Визит инспектора их, видимо, не взволновал. На стойке, делая ее еще выше, стояли три лакированных ящичка с золотыми надписями: «Cognac. Camus Napoleon». «Штучный дорогой товар», – понял Кононов и, размахнувшись молотом, сшиб первый ящик на пол. Дерево треснуло, жалобно звякнуло стекло, горлышки бутылок взмыли вверх вместе с фонтаном осколков, и в воздухе стал разливаться аромат драгоценного французского коньяка. – Вай, чэго такое? – Над стойкой возникла ошеломленная физиономия Мурада. – Ты сронил, дубина пьяная? Ты, дэшевка? Год тэперь нэ разочтешься! Ты кто? – Инвалид в пальто! – рявкнул Ким. – Пилот Су-30[659] без обеих ног, ветеран афганской и чеченской! И сей момент устрою здесь ковровое бомбометание! Он грохнул молотом по второму ящику, разнес третий в груду щепок и осколков и перепрыгнул через стойку. Девушка в халате испуганно вскрикнула, но работяги ухом не повели, лишь принялись интенсивно сопеть и нюхать. Ким шагнул к отпрянувшему Мураду. Кувалда покачивалась в его руках, побрякивали стальные диски в сумке, под ногами скрипело стекло. Смуглая горбоносая физиономия кладовщика начала бледнеть. – Что, узнаешь? – Ким легонько подтолкнул его кувалдой, загоняя в щель между столом и топчаном. – Узнаешь, спрашиваю? – Ты… это… пысатель… – Я не только писатель, еще поэт и музыкант, – сообщил Кононов. – И нынче мы с тобой исполним про колокольчики во ржи… Ты будешь петь, а я – аккомпанировать! Давая выход ярости, он грохнул по столу кувалдой. Стол крякнул, покачнулся и рассыпался. – Э? – не понял Мурад. – Какие пэсни, какие калакольчики? – Из Комарово. – Ким придвинулся ближе и ухватил дрожащего кладовщика за шею. – Интересуюсь я цветочками, что у Пал Палыча растут, у твоего хозяина. Вот только где? Адрес, быстро! Улица, номер дома, особые приметы? Говори! Он шевельнул пальцами, исторгнув у Мурада вопль боли. – Нэ знаю я! Аллахом клянусь, нэ знаю! Я чэловек малэнький, там не бывал! Здэсь сижу, на складе… Я вааще хазяина три раза видэл! «Ухо откуси, – посоветовал Конан. – Можно палец, но ухо помягче, костей в нем нет». Ким жутко ощерился, лязгнул зубами, склонился к лицу кладовщика. – Врешь! – Нэ вру! Толян к нему ездит с Сашкой, возит вино, продукты, так нэт сейчас Толяна… Еще Гиря ездил со своими… Так Гири тоже нэт! – Вот это правда, – согласился Кононов, примериваясь к уху горбоносого. – Про Гирю истинная правда, а остальное мы узнаем. Больно будет, но ты уж потерпи… Тебе какое ухо оставить, левое или правое? – А-а!.. – дико завопил Мурад, и в то же мгновение над головою Кима засвистели пули. Одна чиркнула кладовщика по ребрам, и вопль сменился громкими стонами. Ким рухнул на пол, пополз к загородке, к тому углу, который был дальше от выхода и ближе к подвальной двери. В стену ударила новая очередь, брызнул бетон, и резкий противный запах смешался с ароматом коньяка. Опять выстрелы, потом – голос, вроде бы знакомый: – Эй, фокусник, выходи! Кончились хайборийские шутки! Привстав на колено, Ким оглядел помещение и тут же прижался к полу. Диспозиция была неприятной: слева – сероглазик Зайцев и трое с автоматами, справа – еще пятеро, тоже не пустые. В подвале прятались или за ящиками и стеллажами? Впрочем, не важно; прятались, значит, ждали, а если ждали, то, выходит, вычислили. «Аналитики!..» – подумал Кононов и, скрипнув зубами, полез в сумку. Пробудился Трикси: «Кажется, засада?» – Не кажется! – рявкнул Ким. – Восемь пиктов при оружии! Ну, пущу я им кровушку… – Ты что там бормочешь? – снова послышался голос Зайцева. – Сказано, выходи! К Анасу Икрамовичу отвезем, очень желает с тобой познакомиться. – Выждав секунду, он добавил: – Хочешь, чтобы еще постреляли? Не въехал в ситуацию? Ну так объясняю: кончен бал, погасли свечи! – Это как сказать, – ответил Кононов, стремительно приподнялся и метнул два диска. За ящиками заорали, раздался стук упавшего оружия, грохот рухнувших стеллажей и звон стекла. Мурад, валявшийся под топчаном, простонал: – Вай, перэбьют все… Что хазяину скажу?.. И что хазяин скажет?.. Не обращая на него внимания, Ким огляделся и довольно хмыкнул. Двое врагов ворочались в груде разбитых бутылок и переломанных досок – один зажимал рану на темени, другой пытался выдернуть диск из предплечья. Остальные попрятались кто куда, только торчали над коробками вороненые стволы да виднелась светлая шевелюра Зайцева. Кононов бросил диск, и голова сероглазика исчезла. «Убьешь их?» – печально спросил Трикси. «Убью! – ответил кто-то, то ли Ким, то ли Конан. – Убью и на ремни порежу, клянусь утробой Крома!» «Убьешь и ничего не узнаешь. Ты ведь не убивать пришел, а выяснить, где твоя женщина», – напомнил дух. «Выясню. У Мурада. Уши оторву, пальцы сломаю, Нергалья кровь! Все скажет!» «Не скажет. Я проверил его память и выяснил, что он не лжет. Зондаж, конечно, неглубокий, но страх обостряет чувства и мысли. Он в полном неведении и очень боится». Ким нахмурился. Вот непруха! Был бы на складе этот Толян или другой из хозяйских «шестерок»… А можно ли до них добраться? Ну, разумеется! Тряхнуть Мурада и узнать, куда везут коньяк да пиво, пройтись по этим кабакам… В каждом директор сидит из ближних холуев Пал Палыча… Глотку коленом придавить, расскажет! «Реальное дело, но долгое, – решил Кононов. – Вот если бы…» Снова увидев макушку Зайцева, он размахнулся и бросил диск – так, попугать. Стальные зубья с силой врезались в ящик, диск задрожал, загудел. «Куда кидаешь? – разворчался киммериец. – Не в деревяшку надо, а по черепу!» Сероглазый, прячась за коробками, помахал рукой с белым платочком. – Эй, фокусник! Перемирие! – Что предлагаешь? – отозвался Ким. – Садись в машину, поедем к Икрамову. Мочить тебя не велено. «Мочить! Я сам вас замочу! В крови искупаю!» – рыкнул Конан, но тут же Ким услышал Дашин голос: «Бывал он у Павла… нечасто, раз в три-четыре месяца…» Бывал! Надо думать, не забыл дорогу! На всякий случай вытащив диск, Кононов поднялся. – К Икрамову, говоришь? Ну, поедем, только на моих условиях: ты и водитель впереди, я сзади. Один. – Шутить изволишь? – Нет. Иначе… – Что иначе? – спросил сероглазик после недолгой паузы. – В ящик сыграете. Ящиков тут много, и кандидаты на отгрузку уже есть. Прищурившись, Зайцев поглядел на Кима, на зубастую звезду в его ладони и на своих бойцов – тех, что прятались за стеллажами, и тех двоих, что оставались на виду. Раненый в голову был без чувств, его компаньон стонал и ругался, ворочаясь в кровавой луже. Выдернуть диск ему не удалось – видно, засел в кости. – Открыть дверь и вынести раненых, – велел сероглазый. – Все по машинам, и убирайтесь! Конец операции. – Он повернулся к Киму. – Ты поедешь со мной. Один, на заднем сиденье. Доволен? – Просто счастлив, – сказал Кононов.ДИАЛОГ ДВЕНАДЦАТЫЙ
– Зря ты это затеяла, Дашенька, зря, рыбка моя золотая. Ты как грозилась? Или по-твоему, или по-плохому? Хе-хе… Ну, а вышло не так и не этак… по-моему вышло, красавица моя! И теперь… – Не подходи! – Ладно, ладно… Ты глазками-то не сверкай и не маши кулачком! Я ведь тебя не неволю… Я что тебе сказал? Сказал, своим не делюсь, не отдаю и не дарю – что мое, то мое. Еще сказал, приезжай, поговорим, выясним, чего тебе не хватает, посмотрим друг на друга… По-всякому ведь можно посмотреть, и с лаской, и с угрозой. Ты вот как на меня смотришь? Словно на гнилой банан в мусорном бачке… А я? Я как смотрю? Я смотрю с любовью, даже с обожанием! Как голубь на голубку, как петушок на курочку! Как муж на свою законную супругу, которую он сейчас обнимет, приласкает и… – Руки! Руки прочь! – Да что с тобой, золотце! Ну-ка, еще раз на меня взгляни, не отворачивай личико… вот так, вот так… обнять меня не хочешь, нет? Хмм, странно… А я думаю, хочешь! Иди сюда! Ко мне! Ближе, ближе… еще ближе… Губки у тебя такие нежные, такие сла… Звук пощечины, удивленный возглас. Резко хлопает дверь, щелкают замки. Потом: – Ничего, моя красавица, ничего… Посиди пока что в пентхаусе, а мы еще поиграем в гляделки!ГЛАВА 13 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ЧЕЧЕНСКОЙ МАФИИ
Один энтузиаст затратил много сил, чтобы поймать вампира – самого настоящего, который питается человечьей кровью. Поймал. И чем теперь, скажите, его кормить?По Ленинскому проспекту, затем по Московскому до Сенной, по Гороховой улице к Дворцовому мосту, через мост на Стрелку Васильевского острова, по набережной к другому мосту, Тучкову, затем по узким улочкам и переулкам Петроградской стороны и снова через мост… «На Каменный остров везут», – понял Ким. Каменный остров в Питере – место таинственное, загадочное; не улицы тут, а аллеи, зелени много, домов мало, и огорожены они высокими длинными заборами. В былые времена стояли тут летние дворцы и резиденции, и кое-что сохранилось, подобно обелискам на заброшенном кладбище: дача принца Ольденбургского, особняк Бельзена, дом Мертенса, дом Фаллейвейдера, Голубая дача, дача Половцева. В минувшую советскую эпоху здесь был обкомовский заповедник: что-то из старого подновили, что-то построили заново и обнесли стенами, чтоб рядовой гражданин не подглядывал, как отдыхают и пируют избранники народа. В эру демократии и гласности судьба строений, как старых, так и новых, а также садов и огороженных участков была покрыта мраком; ходили слухи, что одни из них использутся городским правительством, другие тихо догнивают, а третьи проданы, и в них теперь обосновались олигархи. «Места и в самом деле для олигархов подходящие, – думал Ким, посматривая в окно, – свежий воздух, тишина, приятные пейзажи. Как раз такие, чтобы расслабиться после трудов по возведению пирамид». Машина свернула с Березовой аллеи на Кленовую, и Зайцев хмуро пробурчал: – Подъезжаем. Смотри, фокусник, любуйся. Может, больше ничего и не увидишь. Ким не ответил, но молчаливо согласился, что полюбоваться стоит. Они приближались к зданию в древнеегипетском стиле: квадрат с башнями-пилонами по четырем углам, с пятой башней посередине, с узкими бойницами-окошками и плоской кровлей. Стены из серого камня, гладкий, без украшений фасад, ворота, высота которых казалась вдвое больше ширины… К ним тянулся мощеный пандус, а по его сторонам лежали на каменных цоколях львы, похожие на сфинксов, символ величия и власти фараона. Конечно, Анас Икрамович Икрамов был не единственным владыкой в этой части света; были тут другие фараоны и цари, номархи и князья, но территории и прибыльных занятий всем хватало – Россия, как-никак, побольше Древнего Египта. Глядя на серое монументальное строение в конце аллеи, Ким почувствовал творческий импульс, который неизменно порождали в нем странные зрелища, новые виды и необычные люди. Машина, мощный «БМВ», плавно покачиваясь, катила к обители Икрамова, шофер и сероглазый Зайцев молчали, не нарушая тишины ни вздохом, ни словами, мелькали древесные стволы и каменные львы, но Кононов был уже не здесь, не в этой реальности. Сейчас он разглядывал замок Кро Ганбор, оценивая высоту его парапетов и башен, количество бойниц, надежность гарнизона и протяженность стен; пересчитывал окна и лестницы, примеривался к воротам – удастся ли высадить их секирой или необходим таран?.. – прикидывал, прочны ли решетки и окружают ли крепость рвы. В этот момент, хоть Ким не расстался с кувалдой и, разумеется, с мощью и яростным нравом Конана, его бы взяли голыми руками; погружение в транс сделало его беспомощным и беззащитным, как впавшего в спячку сурка. Но Зайцев, к счастью, не был литератором.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Замок Кро Ганбор стоял на вершине утеса, возвышаясь над серой морской поверхностью на добрую сотню локтей. Он был не так уж стар: его стены, башни и главная цитадель насчитывали сто или сто пятьдесят лет, и хотя их камни потемнели под действием вьюг и ветров, но не растрескались, не вывалились из кладки; ни один зубец парапета не покосился, а на окованных железом вратах не замечалось и следов ржавчины. Конан мог лишь строить догадки, каким образом была воздвигнута эта цитадель. Вероятно, не без помощи магии! Иначе откуда бы Гор-Небсехт взял людей для ее постройки? Обитатели этих холодных и бедных краев предпочитали меч и копье всем другим орудиям, а если уж брались за топор, то воздвигали дома из бревен, а не из камня. К тому же Кро Ганбор напоминал стигийские крепости. К югу от Ванахейма, в Аквилонии и Немедии, строили иначе; там стены рыцарских замков делали отвесными, башни – круглыми, зубцы защитного парапета – прямоугольными. Внутри же строились дворец для господина, дома для ближних слуг, казармы для воинов, конюшни, псарни, склады, мастерские и нередко, в больших поселениях, храм Митры да жилища купцов, искавших защиты и покровительства знатного барона или графа. Над аквилонскими и немедийскими замками струился дым от кузниц, очагов и горшечных печей, раздавались удары железа по железу, звон оружия, ржание лошадей и лай собак; пахло же там свежеиспеченным хлебом, мясом и вином. В Офире, Зингаре или Аргосе замки были иными. Стены их украшали выступающие донжоны, башни выглядели более высокими и стройными, окна во дворцах нобилей и в богатых домах казались шире, вокруг жилищ зеленели сады, а все службы – хлева, конюшни, сыроварни, давильные прессы и мастерские – прятались где-то на задних дворах, дабы не оскорблять господских взоров. Нередко стены покрывались каменной резьбой, фасады дворцов и храмов украшали колоннами, стрельчатыми арками, портиками и воздушными лестницами цветного мрамора, во дворах били фонтаны, рождая переливчатую радугу, сиявшую в каждой крошечной капле воды. Над замками южных земель плыли цветочные ароматы, запахи нагретого солнцем камня и звучные удары бронзовых гонгов, призывавших вознести молитвы Митре, Заступнику и Подателю Жизни. Но Кро Ганбор не походил на укрепленное жилье хайборийского вельможи, аквилонца ли, немедийца или аргосца. Он был выстроен в форме квадрата, и башни его, стоявшие по углам, своими скошенными гранями и чудовищными основаниями напоминали пирамиды, срезанные на половине высоты. В западной стене, выходившей к морю, кроме угловых башен, была и центральная, вдвое большего размера, но точно такой же формы, с узкими окнами, прорезанными на двух или трех верхних этажах. В южной стене, к которой вели ступеньки, выбитые в скалистом склоне, находились ворота – массивные, из потемневших сосновых брусьев, перехваченных поперек железными полосами. Внутренний двор, вероятно, был невелик – его теснили основания пирамид и слегка наклонные стены, очень толстые внизу и постепенно утоньшавшиеся кверху. Площадки на башнях и верхушки стен были окружены треугольными зубцами парапетов, подобных акульим зубам. Ни единой струйки дыма не поднималось над замком, и вокруг него царила мертвая тишина. Пахло сыростью, мокрым камнем, морем…* * *
Машина остановилась во внутреннем дворике, небольшом и очень уютном. Окна, выходившие сюда, были просторными, широкими; стены почти до крыши оплетены плющом, вдоль второго этажа тянулась терраса или галерея с тентом на деревянных столбиках и каменной лестницей. Рядом с лестницей – джип и парочка секьюрити при пистолетах, дубинках и мобильных телефонах, но не кавказцы, а, скорее, прибалты – рослые, белобрысые, с бесцветными глазами. – Приехали, – сказал Зайцев. – Выметайся! Ким вылез из машины, прихватив сумку с бренчавшими дисками и свой огромный молот. Белобрысые сразу подобрались. Один расстегнул кобуру, другой шагнул навстречу Зайцеву и вымолвил с заметным акцентом: – Привез, Глеб Ильич? – Привез. Охранник оглядел Кима с головы до ног. Взгляд был внимательный, профессиональный. – А почему он не упакован? Зайцев пожал плечами: – Иначе ехать не соглашался. Живым… А делать труп из него не велено. Секьюрити опять уставился на Кима: – Что в сумке? – Инструменты. – Здесь клади, у лестницы. Вместе с этим… этой… как по-русски? – Кувалдой, – любезно подсказал Ким, опуская молот на землю. – Я еще нужен, Томас? – спросил Зайцев, посматривая то на Кононова, то на охранника, то на окна за перилами галереи. Страж, которого назвали Томасом, вытащил мобильник, приложил к уху, произнес что-то невнятное, подождал секунду и кивнул: – Свободен, Глеб Ильич! Ты, – он повернулся к Киму, – на лестницу. Идти впереди меня, не останавливаться, резких движений не делать. Понятно? – Понятно. Шаг влево, шаг вправо – побег, – буркнул Ким и начал подниматься, пытаясь утихомирить ярость Конана. Тот признал в белобрысых немедийцев и горел желанием взглянуть, какого цвета у них печень. «Это дворец вашего правителя?» – поинтересовался Трикси. «Это жилище бандита, – отозвался Ким. – Но он, вполне возможно, выбьется в правители или хотя бы в политики. В Смольный, в петербургский ЗАКС,[660] в Государственную Думу или в Кремль». «Клянусь тепловой смертью Вселенной! Не замечал подобного в Финляндии! Бандит-правитель и бандит-политик – это специфика вашей страны?» «Наша специфика еще интереснее. У нас считают, если он политик и правитель, так уже и не бандит», – пояснил Кононов. «Нехорошо! Безнравственно и аморально! Почему же так?» «Мало диабетиков в государственных структурах, – отрезал Ким. – Вот что, друг мой экзоплазменный, не можешь ты помолчать? Сними-ка, кстати, матрицу Конана, а то я тут все разнесу!» Трикси смолк, а Ким почувствовал, как остывает гнев, уходит раздражение, сменяясь томительной пустотой в желудке. Ему хотелось есть, но голод не терзал его с той властной силой, как после предыдущих трансформаций, – видимо, из-за того, что между ним и Конаном была теперь не пропасть, а в лучшем случае овраг. Он сглотнул слюну и вслед за Томасом шагнул в просторный зал. Два мраморных камина, две хрустальные люстры, венецианские окна от пола до потолка и антикварная мебель – диваны с креслами обтянуты китайским шелком, инкрустированные столешницы, шкафы сияют серебром накладок… На полу ковер – темно-зеленый и огромный, как баскетбольная площадка. Двери с расписными медальонами, фарфоровые вазы, бронза и картины – тоже явный антиквариат; под живописными шедеврами развешано оружие – кинжалы, сабли, шашки в отделанных самоцветами ножнах. На одном из столов ящик сигар и малахитовая пепельница, на другом – кальян, на третьем – книга с арабской вязью, развернутая на подставке. «Эрмитаж!.. – подумал Ким, осматриваясь в этих сказочных чертогах. – Ну, не Эрмитаж, так грот Дайомы… только фонтана с барахтанским красным не хватает…» – Жди здесь, – велел Томас, а сам вышел на террасу и стал прохаживаться там, бдительно поглядывая в окна. Ким подмигнул ему и тоже принялся гулять от одного камина до другого, протаптывая дорожку в зеленом ковре. Исследовал книгу, решил, что это Коран, затем направился к столу с массивной пепельницей, взвесил ее в ладони и прикинул, что килограмма три потянет. Череп такой рассадить – милое дело! Да и другого оружия вдосталь… Он посмотрел на стены, увешанные клинками. Богатая коллекция! Побольше, чем у Дрю-Доренко! – Интересуешься? – раздался за спиной негромкий голос. – Ну, погляди, погляди, боец… Тут не музей – любую саблю можно вытащить из ножен и проверить. Нашлась бы только шея подходящая. Резко обернувшись, Ким встретился взглядом с хозяином дома. Анасу Икрамовичу Икрамову было, пожалуй, за шестьдесят, и он ничем не походил на демона с китайского столика Дашиной бабушки Клавы. Наоборот, он выглядел настоящим джигитом, который не снимает бурки, ночует рядом с верным скакуном, под голову кладет седло и ест не с вилки, а с кинжала. Вид он имел независимый и хищный, осанку – гордую; в темных, коротко стриженных волосах едва пробивалась седина, черты были резкими, нос – крючковатым, губы – сухими и твердыми, а брови – густыми. В общем, не приходилось сомневаться, что он заткнет за пояс любого дона сицилийской мафии, а предводителя триады порубит на шашлык. Сейчас он рассматривал Кима с полным сознанием собственной власти, ни словом, ни жестом не выказав удивления – мол, не так упаковали гостя, не обмотали колючей проволокой, не заклеили рот и вообще привезли без наручников. Но внешность его намекала, что варианты с проволокой, а также с раскаленным утюгом, иголками под ногти, колесованием и дыбой отнюдь не исключаются. – Не боишься? – спросил Икрамов, выдержав долгую паузу. – Боюсь, – признался Ким. – Оружия тут много, руки чешутся. – Любишь убивать? – Просто обожаю! Скольких уже перебил – пиктов, ванов, немедийцев, колдунов да разных демонов, – а все остановиться не могу! Вот недавно пятерых прикончил под Крутыми Горками… Правда, без всякого удовольствия – спешил, не смог как следует помучить. Икрамов заломил густую бровь. – Да ты, я гляжу, беспредельщик! – Это точно, – согласился Ким. – А говорили – писатель… – И это правильно. Писатели – они самые беспредельщики и есть! Вы что же, романов не читаете? «Косой против чеченской мафии», «Бешеный из зоны», «Слепая смерть с консервным ножиком»… Очень рекомендую! – Спаси Аллах! Щека у Икрамова дернулась. Темнея лицом, он приблизился к столу с Кораном, вскинул руки к себе ладонями и что-то зашептал – видимо, молитву. Постепенно черты его стали разглаживаться, нервный тик исчез, а взор прояснился. Покачав головой, он вымолвил: – Писатели… бараны, пачкуны… Кара Всевышнего на них! Вот прежде были писатели – да-а… Симонов, Гроссман, Окуджава, Эренбург… Читал я его воспоминания… – Неужели? – поразился Ким. – Читал, читал… мудрая книга, «Люди, годы, жизнь» называется… Ну, ладно! Пусть бог накажет тех баранов, а мы своих пересчитаем. – Икрамов тяжело вздохнул. – Скажи-ка мне, писатель, чего вы с Пашкой Черновым не поделили? Больно он зол на тебя… Говорит, бойцов ты его замочил, кабак какой-то отнял… – Не кабак, жену. Видел я этот кабак в овале с растушевкой! И Дарью я не отнимал, сама ушла. Щека Икрамова опять задергалась. – Вот как? Такие, выходит, курорты? Выходит, Пашка меня обманул, затеял свару из-за бабы… А я обмана не люблю! И Аллах не любит! – с внезапным гневом прорычал он. Затем, придвинувшись к Киму, ухватил его за воротник и попытался встряхнуть. – А ты, крутильщик, мне не врешь? Может, не в женщине дело, а все-таки в кабаке? Кононов посмотрел ему в глаза. Зрачки Икрамова были черны, как грех братоубийства. – С вашего позволения… – Ким освободил свой воротник от цепкой хватки. – Так вот, насчет кабака: он собственность Дарьи Романовны, и всякий, кто утверждает иное, получит кувалдой по башке. Ферштейн? Его собеседник успокоился – так же внезапно, как впал в неистовство. – Значит, говоришь, ее кабак? Э! – с глубоким удовлетворением произнес Икрамов. – Э, какой я умный! Понял, что кабак и баба связаны! Однако ты тоже умный, хоть и молодой. Зачем тебе женщина без денег? Незачем! Кабак – это деньги, хорошие деньги, а женщина с деньгами – совсем другой разговор! Я прав? Ким молча пожал плечами. – Теперь о подельщиках спрошу… Ты ведь не один, э? Дружки, должно быть, есть… Зайцев говорит, люди с тобой в ресторане сидели, двое тихих, а третий прыгал и ногами бил, здорово прыгал! Кто такие? Зайцев говорит, что хайборийские… Откуда? Из Хабаровска? – Не из Хабаровска. Приятели-писатели, аванс отмечали. Про хайборийских – просто шутка. – Я так и думал, – усмехнулся Икрамов. – Чужим откуда взяться? Все схвачено, обложено, поделено, делить по новой – большая кровь… И начинают дележку не с кабака, а с таможни, с обмылков губернаторских, с бобров-банкиров… В общем, поверю я тебе, писатель, тебе, а не Зайцеву! Он, по прежним своим привычкам, очень уж подозрительный… Бросив это замечание, Икрамов нахмурился и принялся кружить вокруг стола с Кораном. Казалось, он о чем-то напряженно размышляет или спорит сам с собой, поглядывая то на святую книгу, то на невольного гостя, то на белобрысого охранника на террасе. «Прямо Гамлет!.. – подумал Ким. – Бить или не бить? Резать или не резать?» Вдруг Икрамов замер и, не спуская с книги взгляда, произнес: – Говорил Пророк: если видишь два пути и не можешь выбрать между ними, поищи третий. Вот первый путь: посадить тебя, как Пашке обещано, в яму и каждый день палец рубить. Кончатся пальцы, кончится жизнь… Можно иначе: раз не сказал мне Пашка правды, яма отменяется, делите сами женщину, но не забудьте, кому платить за покровительство… – Хищно усмехнувшись, он пояснил: – Это я про кабак. Ведь не бывает кабаков без «крыши», верно? Аллах велел делиться… – С бедняками, – добавил Кононов, взирая на роскошную люстру, картины и драгоценное оружие. – Не со мной делятся, с ним! – Хозяин сказочных чертогов ткнул пальцем в белобрысого, дежурившего на террасе. – Он бедный, очень бедный! И этих бедняков за мною сотни две… может, и больше… и каждый желает есть и пить! Но я о другом говорю… – Икрамов повел рукой, будто обозначив некий знак препинания, запятую или даже точку. – Я говорю о том, что резать тебя не хочется, но и отпускать нельзя. Значит, нужно оставить под присмотром, где-нибудь поблизости, и к делу полезному определить. А к каким делам бойцов определяют? Сам догадаешься или подсказка нужна? – Хотите меня в киллеры нанять? – полюбопытствовал Кононов. – Ну зачем же сразу в киллеры! Можешь охранником при мне, можешь сборщиком, а можешь и говоруном, если речистый и убедительный. Нынешние писатели ведь все речистые, так? – Говорун – это кто? – Тот, кто объясняет полезным людям, какие им слова сказать, какие подмахнуть бумаги, кого сажать, кого не трогать. Очень деликатное занятие! Дар особый нужен. Талант! – Такой, как у Пал Палыча? Икрамов помрачнел, словно вспомнив о чем-то неприятном. – Этот умеет, клянусь Аллахом! Зыркнет глазом, и поверишь, что он не Чернов, а Белянин и что на елке персики растут… Умеет, хоть и не писатель! – А я вот писатель, – напомнил Ким. – Может, сгожусь вам в летописцы? Лет через десять сварганим воспоминания, будут не хуже, чем у Эренбурга. Издателя солидного найдем, московского, забойного, из тех, что печатают про президентов… тираж начальный – тысяч сто… можно и побольше, если название крутое. «Люди, годы, трупы» подойдет? Или «Пахан от Корана»? Пальцы Икрамова соединились, плечи напряглись, как если бы он душил кого-то, пережимая горло и ломая позвонки. Киму почудился хруст костей, предсмертный хрип и тошнотворный запах крови, словно людоед-душитель, недовольный слишком медленной агонией, рвал когтями чьи-то вены. Мысль о брошенной у лестницы кувалде мелькнула у Кононова, он посмотрел на кинжалы и сабли, на малахитовую пепельницу, прикинул, что к пепельнице ближе, придвинулся к столу, вытянул руку… – Дерзок слишком, – расслабившись, буркнул Икрамов. – Посиди тут часиков до трех, подумай. Либо ты при мне, либо… Он чиркнул ладонью по шее и направился к дверям. – Я буду лучше думать, если меня накормят, – сказал Ким. – Время-то обеденное! Икрамов вышел, не вымолвив ни слова, но через пять минут из тех же дверей явились трое черноусых молодцов: один нес столик, другой – бутыль с поддельными ессентуками, а третий – миску с ложкой. В миске были вареные бобы. Не очень много. «Ну что будем делать? – поинтересовался Кононов, когда черноусые удалились. – Есть предложения?» «Ты можешь справиться с охраной и уйти, – откликнулся Трикси. – Ты достаточно силен и ловок, но, если надо, я помогу». «Нельзя уходить. Во-первых, Икрамов все равно не отвяжется, а во-вторых, зачем сюда ехали? Могли сидеть на складе, кусать Мурада за уши». – Ким зачерпнул бобов, сунул ложку в рот и скривился – перца явно переложили. «Думаешь, надо его убить? – печально спросил пришелец. – Акт негуманный, но, кажется, необходимый…» «Убийство ничего не даст. – Ким поперхнулся бобами, отпил воды, прокашлялся. – Этого убьешь, другой появится. Опять же мертвые неразговорчивы… А я ведь сюда приехал кое-что узнать!» «Помню», – вымолвил Трикси. «Есть такой процесс – позитивная реморализация, – сообщил Ким, мрачно ковыряясь в миске. – Описан у классиков… правда, без подробностей. А ты не в курсе, как сделать негодяя приличным человеком?» «Глубинные области психики не поддаются конверсии и радикальной перестройке. Конечно, я могу внушить благие мысли, но эффект от этого непродолжителен и слаб – как только наш контакт прервется, исчезнут все следы внушения. Более длительное воздействие через связь с инклином бессмысленно из-за присущей вам ментальной резистентности. Мне очень жаль, мой друг, но это неразрешимая проблема». «Ты все же попытайся что-то сделать. – Вода кончилась, и Ким отодвинул миску с остатками бобов – есть это адское варево, не запивая, было никак нельзя. – Я вот соображаю, что он за тип, этот Анас Икрамович, к кому он психологически ближе, к Эйриму или к Идрайну? Вроде человек, хоть и грабитель, к тому же вождь – дружина у него и замок, богатство и комфорт, наверное, близкие люди есть… В Аллаха верит, чтит Коран, читает книги… Человек ведь, а? Это с одной стороны, а поглядеть с другой – так нелюдь нелюдью! Души бы ему добавить… Как ты считаешь, Трикси?» Но тот молчал, и Ким, чтобы отвлечься, погрузился в транс, в мысли о своем романе, обдумывая завершающие сюжетные ходы. Он был сейчас Арраком, духом, обитавшим в теле колдуна, но принявшим решение его покинуть. Духам ведь тоже нужны перемены, духи скучают и тоскуют и, подобно смертным, хотят разнообразия. А выбор в Ванахейме скуден: или чародей Небсехт, или типичный бандит и грабитель Анас Икрамович Икрамов… то есть Эйрим Высокий Шлем. Тогда как Аррак желает внедриться в героя, могучего, непобедимого, жестокого… Благодаря магическим способностям он наблюдает за киммерийцем и его слугой, и тут – тут свершается фатальная ошибка! На Конане защитный обруч, ментальный ореол ничтожества завуалировал его природу, и дух решает, что истинный герой – Идрайн. Безжалостный, сильный, вполне подходящий для запланированного переселения…* * *
Серокожий прошел испытание! Мысль об этом настраивала Аррака на благодушный лад – как всегда, когда предстояло развлечься. Снова и снова он прокручивал в памяти одну и ту же картину: девушка, танцующая на фоне белесого марева пурги; киммериец, уставившийся на нее выпученными глазами; его женщина, ничтожный прах земной, в страхе сжавшаяся у костра; и серокожий исполин, подпирающий спиной скалу. Дочь Имира не смогла его зачаровать; он просто уснул, продемонстрировав полное равнодушие к прелестям снежной девы. Итак, он остался жив. Киммериец, впрочем, тоже; почему-то Имирово отродье разделалось лишь с его спутницей. Но женские дрязги Аррака не интересовали. Он предвкушал момент, когда сможет ускользнуть в новое тело. Эти бесконечные переселения и смены плотского облика являлись одной из причин, по которой Аррак, Демон Изменчивости, получил прозвище Великого Ускользающего. Но знали о сем немногие – лишь божества, властвующие над земным миром, их ближние помощники и кое-кто из самых мудрых магов, способных распознать Аррака под человеческой личиной. На время он расстался с любимейшими из своих занятий, с воспоминаниями о прошлом и мыслями о собственном могуществе; сейчас он хотел насладиться последним ходом в старой игре и первым – в новой, еще не начавшейся. Старой игрой, сыгранной почти до конца, являлся Гор-Небсехт; новой, пока что не познанной и манящей – этот серокожий гигант, этот убийца, равнодушный к потокам крови и женским чарам. Аррак желал, чтоб они вступили в схватку – тут, в замке, перед ним. Пусть сражаются, а он выберет достойнейшего! И пусть бьются на равных! На этот раз он не будет помогать Небсехту; пусть стигиец сам защищает свою жизнь. Колдун против воина, воин против колдуна… Кто же из них одолеет? Кто окажется сильнее? «Возможно, – размышлял Аррак, – падут оба, но в этом нет беды. Жаль потерять серокожего, но если он не выдержит проверки в битве с колдуном, значит, ему не суждено сделаться вместилищем Древнего Духа. И тогда – коль серый исполин убьет Небсехта и погибнет сам – тогда он, Аррак, переселится в какого-нибудь ванира из замковой дружины и заставит его отправиться на поиски. Для этого подойдет даже ничтожный киммериец, спутник серокожего… Конечно, если в Кро Ганборе не останется ни одного более достойного существа, которое могло бы нести его в своем теле и разуме…» Тем временем серокожий со спутником своим, киммерийцем, приближался к замку, и Аррак решил, что наступила пора готовиться к встрече. Он уже почти не сомневался, что серый исполин справится с колдуном, нынешним его избранником. Чары смертных магов по-разному действовали на людей: слабых убивали, сильных могли на время обратить в камень, против сильнейших же были почти бессильными. Сильнейшие обладали качествами, которые трудно сломить с помощью чар: как правило, они отличались невероятной жестокостью, упрямством, безразличием к людским радостям и бедам и безмерной гордыней. Сероликий воин был, разумеется, из сильнейших. Такой вывод подтверждался многими его деяниями – в том числе и последним, когда он, чуть ли не в одиночку, перебил людей Гор-Небсехта в Эйримовой усадьбе. Теперь Аррак убедился, что серый гигант во всем превосходит Эйрима – и отвагой, и жестокостью и удачливостью. А это значило, что надо готовиться к переселению в новую плоть. Подготовка являлась тонким и непростым ритуалом. Прежде всего Аррак хотел воспринять эманации сероликого, столь неясные и смутные у людей, праха земного; он должен был убедиться, что новый избранник имеет цель. Не важно, какую, – лишь бы серый исполин стремился к ней с достаточным упорством и настойчивостью. Цель можно изменить; упорство же – такая черта характера, которую не создашь из ничего. Для Аррака упорство было важнее цели. Разобравшись с эманациями будущего избранника, он должен былпокинуть тело Гор-Небсехта. Сравнительно простой трюк, однако весьма ответственный, ибо Арраку требовалось уловить момент, когда душа колдуна изойдет из мертвого тела и приготовится к путешествию на Серые Равнины. В этот миг ему надлежало ускользнуть из тех закоулков души стигийца, в которых он свил себе гнездо. Где же он таился? Это являлось непростым вопросом! В отличие от демонов люди обладали душой, и была она слабой тенью бессмертия, отблеском вечной жизни, присущей лишь богам. Еще душа человеческая напоминала многоэтажный запутанный лабиринт, в котором имелись и парадные залы, и широкие коридоры, и полутемные камеры, и тонувшие во тьме каморки. На верхних этажах обитали разум и чувства; здесь жили наиболее ярко выраженные стремления – страсть к богатству, к власти или покою, доброта или жестокость, ум или глупость, гордыня, самомнение или готовность к самопожертвованию, отвага или трусость. Тут же, в некоем подобии сундуков, были сложены воспоминания – не все, однако, а самые важные. Память о перенесенных обидах, о днях торжеств и поражений, о муках зависти, ревности, любви, радости и горе. У большинства людей в памятных ларцах не сохранилось ничего любопытного – лишь окровавленные лохмотья бед да холодный пепел перенесенных унижений. Под верхними этажами располагались нижние. Тут не было просторных залов и переходов, в которых могли бы порезвиться яркие чувства и осознанные мысли; тут, в полутьме узких запутанных коридоров, таились подспудные желания, звериные инстинкты, полузабытое и совсем забытое прошлое – в том числе и память о предыдущих воплощениях. Она хранилась не в ларцах и сундуках, а, скорее, в плотно запечатанных, окованных железными обручами бочках и была совершенно недоступной смертным. Они жили, словно бабочки-однодневки, помнившие события светлого дня и хоронившие их с наступлением ночи. Однако все это смутное и неосознанное, полузабытое и тайное, было чрезвычайно важным; мириады кривых переходов, узких тоннелей, глубоких шахт, тонувших в сумраке лестниц, связывали нижние и верхние этажи, влияя на человеческие побуждения, желания и мысли. Обмен между ярусами запутанного лабиринта, движение намерений, эмоций и страстей, сопровождавших то, что высказывалось словами, собственно, и являлись человеческой душой – неощутимой, призрачной и в то же время вполне реальной. Эманации, циркулировавшие в лабиринте, их чистота, мощь и скорость, определяли, будет ли человек обладать душою гордой, страстной или холодной, щедрой или себялюбивой, великой или мелкой. По мнению Аррака, большинство смертных обладали не столько душами, сколько душонками, ничтожными и лишенными сильных страстей. Увы! Он должен был ютиться в этих жалких катакомбах! Имелся в них крохотный и дальний закоулок, некий тупик, лежавший ниже самых нижних этажей, – тут он и обитал, отсюда и правил своим избранником. Он селился в темной клоаке, где откладывалось наиболее смутное и туманное – зыбкие образы и ощущения тех дней, когда его избранник был всего лишь плодом в женском чреве, непроросшим зерном, каплей невыпавшего дождя. В этой маленькой частице души человеческой и жил Аррак, покидая вместе с ней мертвое тело; отсюда он выскальзывал, невидимый и неощутимый, мчался по запутанному лабиринту, преодолевал нижние и верхние его ярусы, вырывался на свободу – и вновь совершал такое же странствие, но в обратном порядке, сливаясь с душой своего нового избранника. Много тысяч лет Демон Изменчивости переходил так из тела в тело, от души к душе и сейчас готовился к очередному переселению…* * *
«Твои рассуждения о человеческой психике хоть и наивны, но очень забавны, – произнес Трикси. – Эта аналогия с лабиринтом, где имеются парадные залы и темные тупики, ларцы с дорогими воспоминаниями и смутные тени, отзвук прошедшего, сокрытый в запечатанных сосудах… Что-то в этом есть!» Ким очнулся и недовольно буркнул: – Следишь за творческим процессом? А я ведь просил подумать, как разобраться с Икрамовым! «Для полиразума одно другому не помеха. К тому же упомянутый процесс позволил сформулировать некую гипотезу, суть которой такова: мой инклин отторгается вашим сознанием, не контактирует с ним напрямую, но человеческий инклин может прижиться в другом человеке. Он ведь не чужеродное включение, а…» – Но у нас нет инклинов, – возразил Кононов. «Есть их зародыши, о чем мы толковали не далее как утром. Образы близких и персонажей фильмов и книг, латентные психоматрицы, скрытые в вашем сознании, то, что хранится в бочках и ларцах… Вы неспособны распечатать их, вычленить и передать другому существу – я говорю о ментальном, а не словесном обмене. Но я бы это сделать смог! Вот ты рассуждал об Икрамове: с одной стороны, человек, а поглядеть с другой – так нелюдь нелюдью! Души бы ему добавить… Можно и добавить! Используя язык гипербол, частицу твоей собственной души». Ким озадаченно поскреб в затылке. Подобные эксперименты с его разумом энтузиазма не вызывали, а, наоборот, рождали смутное ощущение дискомфорта и тревоги. Хватит и того, что в нем поселился пришелец со звезд, дух из ядра Галактики! Теперь почти что брат, с которым можно разделить сознание и мысли… Однако к Икрамову Ким не испытывал братских чувств. – Если я поделюсь с ним душой, что останется мне самому? – промолвил он. – Это, знаешь ли, слишком щедрый подарок! Для Дашеньки берегу и для друзей-товарищей, а не для всяких проходимцев! «Нет повода для беспокойства, – отозвался Трикси. – Я ведь сказал, что передача души – гиперболическое выражение. На самом деле я сформирую психоматрицу по образу из твоей памяти и перешлю ее другому человеку. Надо лишь выбрать подходящий образ». Поднявшись, Ким в волнении забегал по комнате от камина к камину. Томас, дежуривший на террасе, сразу насторожился – свистнул напарника, и теперь они следили за гостем в четыре глаза. Но это Кима не тревожило, он только перешел со второй сигнальной на третью. «Ты что же, имеешь в виду внедрение души какого-то героя? Гамлета, Пьера Безухова или мадам Бовари?» «Твоих представлений об этом герое, – уточнил Трикси. – Но женщина не подойдет – объект у нас слишком маскулинный. Тут надо что-то…» «… кавказское, – продолжил Ким. – Помнишь, мы говорили о выдающихся кавказцах? Может быть, один из них?» «Сейчас я пороюсь в твоей памяти, – мгновенно отреагировал Трикси и через секунду предложил: – Георгий Саакадзе? Есть масса информации о нем – шесть томов, четыре тысячи страниц, „Великий моурави“, автор – Антоновская… Подходит?» «Ни в коем случае! Военный гений, великий тактик и стратег! Нам что, второго Дудаева не хватает?» «Тогда Руставели. О нем – почти исчерпывающие сведения». «Откуда? – удивился Ким. – Я даже не помню фактов его биографии!» «Факты не важны, важен психоэмоциональный образ, запечатленный в собственных творениях писателя или поэта. По этой причине твоих коллег легче всего реконструировать. Когда-то ты прочел поэму „Витязь в тигровой шкуре“ и хоть не помнишь из нее ни строчки, она хранится в твоей памяти, в одном из запечатанных сосудов. Я ознакомился с ней. Я могу гарантировать, что ее автор был человеком мирным, добрым, благородным. Не воином, а великим поэтом!» «Поэт, я думаю, годится», – сказал Ким и посмотрел на часы. Время, отпущенное для размышлений, истекало, и не успели стрелки отметить нужную позицию, как дверь распахнулась, и на пороге возник Анас Икрамович Икрамов с троицей черноусых. На этот раз они принесли не еду, а прочный мешок, веревки и пару тяжелых гантелей. – Подумал? Время кончилось и… – произнес Икрамов, но вдруг, схватившись за сердце, пошатнулся. На миг глаза его стали бессмысленными, словно стеклянные зрачки слепого, потом на лице отразилась гамма новых чувств – восторг, изумление, мечтательность и, наконец, почти ярость. Он посмотрел на столик с миской и пустой бутылью из-под воды, затем резко повернулся к черноусым. – Эт-то что? Что, я спрашиваю? Тебя спрашиваю, Чавбиб! Вас, Чавчан с Чавгуром! Гостя в моем доме кормят пищей нищего… Это с каких же пор? Это кто позволил так меня позорить? Кто забыл слова Пророка: гость в дом – бог в дом? Это кому надоело быть у меня в услужении? Это… – Анас Икрамовыч, но вы же… – забормотал один из черноусых, то ли Чавбиб, то ли Чавчан, то ли Чавгур. – Ма-алчать! – громыхнул хозяин. – Заткнуться и ма-алчать! Барашка сюда! Немедленно! – Нэт барашка… сэгодня барашка нэ заказывали… – Смерти моей хочешь? – рявкнул Анас Икрамович. – Что есть, хакзад? – Индэйка ест… – Индейку, быстро! Лаваш, салаты, икру с осетриной, омаров! Персики, виноград! Вино французское и итальянское! Коньяк, мартини и шербет! Холодный чтобы был! А кофе – горячий! Живо, сыновья ослов! И накрыть на большом столе! И дочки пусть придут, Хавра с Айзой, да спляшут гостю! – Это, Анас Икрамович, лишнее… ей богу, лишнее! – промолвил потрясенный Ким. – Выпить-закусить я с полным удовольствием, а плясок, пожалуй, не надо. Пляски мешают процессу пищеварения. – Как скажешь, дорогой. – Икрамов обнял его, прижал к груди, расцеловал и усадил к столу. Черноусые джигиты забегали с подносами, посудой и бутылками; пробки вылетели вмиг, английский фарфор украсил скатерть, легла на блюдо огромная, величиной со страуса, индейка, и упоительный аромат жаркого поплыл в воздухе. В ближайшие двадцать минут Ким жевал и глотал, глотал и жевал, восполняя запасы белков, жиров и углеводов, а хозяин, в лучших кавказских традициях, все извинялся за скромность угощения и сетовал на нищету. Притом – ни слова о Пал Палыче, ни звука про кабак и ни намека на мешок с веревками… «Переродился! – думал Ким, обгладывая индюшачью ножку. – Совсем как новый стал! Не голем, человек… ха-ароший человек, и стол у него отменный… Ай да Трикси!» Мгновенная метаморфоза Икрамова поразила его больше и сильней, чем чудеса, происходившие с собственной психикой и телом – быть может, потому, что он наблюдал преображение другого человека, был как бы очевидцем, зрителем со стороны. Дрянной человек – да что там дрянной!.. опасный, страшный! И вот все изменилось; частица гения проникла в его душу, преодолев века в словах, записанных когда-то на бумаге. Конечно, постарался Трикси, но это половина волшебства; другая – все-таки слова, бессмертные строки, целительные песни, могучая личность поэта… «Сумею ли я так когда-нибудь?..» – с внезапной тоской подумал Ким, вздохнул и принялся за осетрину. – Что вздыхаешь? – встревожился Икрамов и тут же виновато усмехнулся. – Что ж это я! Кормлю, пою, а позабыл, что не питьем и пищей весел человек! Чем пожелаешь развлечься? Беседой? Или все-таки дочек позвать, Хавру и Айзу? Они у меня загляденье… А как танцуют! Хочешь, танго, хочешь, рэп… – Не надо рэпа, – сказал Ким, намазывая на лаваш икру. – Беседа предпочтительней. – Мудрые слова! – Хозяин восхищенно вскинул руки. – Знаешь, что мы сделаем? Турнир устроим! Поэтический! Ты писатель, а я, как-никак, кончал восточный факультет в Баку, пятью языками владею и не чужд поэзии. Пьем рюмку, говорим стихи – свои, от сердца! Кто проиграл, вторую пьет! Согласен? – Пить-то что будем? – спросил Кононов, приканчивая лаваш. – Вино или коньяк? – Коньяк, разумеется. – Икрамов наполнил рюмки. – Ну, поехали! – Поехали, – отозвался Ким и, проглотив последний кусок, выплеснул в рот янтарную жидкость. Потом спросил: – Я первый читаю? – Первый, первый! Гость всегда первый! Года два назад Ким написал историю о путешествии Конана вместе с Нией, девушкой-рабыней, певицей и танцовщицей. В конце концов попали они в город Прадешхан, что на краю земли, в стране Уттара, и угодили прямиком на поэтическое состязание. На уттарийском Конан знал одни охальные слова, так что пришлось ему читать стихи по-киммерийски, а Ния их переводила – как бы переводила, а на самом деле сочиняла заново. Куда тут денешься? У киммерийцев была напряженка с поэзией, и самый их героический эпос выглядел примерно так:ДИАЛОГ ТРИНАДЦАТЫЙ
– Садись, Зайцев, пей… Не хочешь пить? Ну тогда слушай, Глеб Ильич. Разговор есть. – Я весь внимание, Анас Икрамович. – Скажи мне, Зайцев, сколько объектов под нашей защитой? – Около пятисот. – А ежели точнее? – Четыреста восемьдесят два, в Центральном, Невском и Фрунзенском районах. Кое-что на Васильевском и Петроградской стороне. – Это считая с банками, «Пассажем», «Европейской» гостиницей и «Асторией»? – Да. Но без мелочи, всяких ларьков да палаток. – А этих сколько наберется? – Надо у сборщиков узнать. Думаю, тысячи три. – Хмм… Вот что, Зайцев, решил я реформировать нашу структуру. Ты своих аналитиков к компьютерам посади, и пусть они составят мне два списка: в первом – заведения порядочных людей, а во втором – мошенников и жуликов. – Они все мошенники и жулики, Анас Икрамович. Видит бог, все! – Не прав ты, Зайцев, ой, не прав! Это в тебе прежняя закваска бродит, с кагэбэшных времен – никому не верить! А люди-то все разные: одни обманывают в силу обстоятельств, чтоб дело их не рухнуло, другие жулики по природе. С учетом данного факта пусть списки и составляют. А потом… – Что потом? – С порядочных брать дани не будем. Так я решил. – Анас Икрамович… позвольте кое-что напомнить… Сейчас районы, перечисленные мной, – сфера влияния нашей структуры. Но свято место пусто не бывает! Мы уйдем, придут другие, тамбовские либо казанские, и для наших бывших подзащитных ничего не изменится. Ровным счетом ничего! – Почему бывших? Нехорошо говоришь – бывших! Мы их, Глеб Ильич, без защиты не оставим и никому не отдадим. – Жест благородный, но нереальный в финансовом смысле. Если ничего не брать, то на какие средства защищать? – Э, Зайцев, Зайцев!.. Я ведь что сказал? Я сказал, два списка составить! Тех, что из второго, вдвое обложим, вот и сойдется финанс с балансом! – А не рухнут, Анас Икрамович? – Эти рухнут, другие появятся. Сам говоришь: свято место пусто не бывает… Нашей земле вовек на жуликов не оскудеть! Они ребята ушлые, скользкие, ищут новые возможности, что в свою очередь открывает для нас новые ресурсы. Ты вот, Глеб Ильич, проверь, всех ли мы обложили как надо. Банки, предприятия, торговые точки, казино – это само собой, но есть ведь и другое, есть экстрасенсы, гербалайфщики и сайентологи, секты всякие и академии эзотерических наук… Почему с них не берем, а берем с порядочных людей? – Мудрая мысль, Анас Икрамович! Проверю! – Потом: – А подскажите мне, что делать с фокусником? С писателем, которого я к вам привез? – Он в первом списке. Ясно, Зайцев? – Ясно. Слушаюсь! – И вот что еще, Зайцев… Еще решил я благотворительный фонд учредить для поддержки поэзии и остальных искусств, какие в наши дни отнюдь не процветают. Пусть Суладзе с юристами займется проработкой, устав напишет, а Пронин уточнит кандидатуры, в первую очередь, поэтов… Да, еще над зоопарком шефство возьмем. Пора, давно пора! Как думаешь, Глеб Ильич, тигры там еще не сдохли с голоду?ГЛАВА 14 ФАЗЕНДА В КОМАРОВО
Мы делаем первые шаги в космосе, наши знания о Вселенной и населяющих ее существах отрывочны и ничтожны – и, более того, мы даже не представляем, как распорядиться этими знаниями. В этой связи мне вспоминаются слова Чарльза Бэббеджа: «Природа знаний такова, что малопонятные и совершенно бесполезные приобретения сегодняшнего дня становятся популярной пищей для будущих поколений». Приходится верить Бэббеджу – как-никак, он изобрел компьютер еще в девятнадцатом веке.Улица была с оригинальным названием, объединявшим топонимику с политикой: Советская-Щучьинская. С первой частью все было ясно, вторую же добавили по той причине, что улица шла от поселковых окраин к озеру Щучье, плавно преобразуясь в неширокую тихую магистраль среди соснового лесочка. В самом ее начале имелось с полдюжины частных домишек, потом протекал ручеек под прочным бетонным мостиком, потом шелестели сосны да ели, потом по левую руку вставало заброшенное здание старой типографии, а справа – высокая краснокирпичная изгородь. Она тянулась вдоль дороги метров на двести и, вероятно, уходила в лес еще на столько же, охватывая территорию, где мог бы разместиться вполне приличный парк. Парк тут и был, только артиллерийский: стояла кадровая часть с пушками и складами снарядов. В эпоху перестройки часть «кадрировали» до нуля, а бывший ее плацдарм приобрела строительная фирма, дабы воздвигнуть элитные коттеджи в мексиканском стиле. Но до коттеджей дело не дошло: едва расчистили объект от складов и казарм, как руководство фирмы перебазировалось в Мексику – само собой, со всеми капиталами. Затем последовали робкие попытки устроить лагерь скаутов, мини-Диснейленд, оздоровительный комплекс и что-то еще в таком же роде, пока не явился коммерсант Чернов и не скупил все оптом: землю, ограду, сосны, ели и живописные артиллерийские развалины. При нем расчистку завершили, лес облагородили и возвели солидный особняк, однако не мексиканского типа, а, скорее, шведского или канадского, что больше соответствовало климату. Так что фазендой он мог называться лишь с большими натяжками. Все это Киму поведал Рустам, водитель Икрамова, веселый разговорчивый татарин. Ким не остался в долгу и, нежась на малиновых подушках «ЗИМа», пустился в воспоминания о том, как торговал собачьей шерстью и удобрениями из куриного помета, как расселял для новых русских квартиры Пушкина и Достоевского, как занялся мануфактурным промыслом, бильярдным сукном и парашютным шелком. А нынче вот открыл таверну «Эль Койот» – само собой, с благословения Икрамыча! – и хочет договориться с Черновым о поставках пульке, текилы и шнапса. «Шнапс знаю и текилу знаю, – сказал Рустам. – А пульке – это что?» «Водка мексиканская, – объяснил Ким, – из агавы делается, из самых зверских кактусов. Верблюда валит наповал. Со всех четырех копыт!» «О!» – уважительно произнес шофер и поинтересовался, кто такой койот. «Заокеанский шакал», – ответил Ким и попросил высадить его у стены черновского имения. Мол, хочет прогуляться до ворот и поразмыслить о поставках – может, нужны не только текила, шнапс и пульке, а еще саке и спирт, чтоб разбавлять забугорную продукцию. Рустам, продемонстрировав немалое искусство, развернулся на узкой дороге и уехал, а Ким полез в развалины бывшей типографии. Когда-то здесь печатали «Комаровскую правду», «Курортный вестник» и остальные местные газеты, но те времена канули в вечность; теперь двухэтажное здание было пустым, заброшенным, с выбитыми окнами и сорванными дверьми. Хороший пункт для наблюдения, неподалеку от ворот, только пыли много. Ким пристроился за подоконником, взглянул на часы – было четверть седьмого – и осмотрел прилегающую местность. С обеих сторон лесок, прямо – шоссе, за ним – стена в два человеческих роста, в стене – железные ворота, тоже изрядной высоты. Над стеной торчат верхушки сосен, а больше ничего не разглядишь, ни дома, ни других построек; должно быть, они в глубине, за деревьями. Стена мощная, но старая; кирпич кое-где выкрошился, забраться нет проблем, однако по гребню натянуты провода, да так, что через них не перелезешь и между ними не просочишься. Кабель вроде бы тонкий, вряд ли под высоким напряжением – значит, сигнализация, решил Ким. В таких делах он плохо разбирался, будучи гуманитарием; помнились ему лишь фильмы, в которых голливудские коммандос хитро закорачивают провода и проникают через изгородь, как тени. Или прыгают с парашютом, спускаются на дельтаплане, роют подкоп под стеной… Но эти способы тут явно не годились. «Проблемы?» – спросил Трикси. – Проблемы, – вздохнул Ким. – По-тихому не влезть, без шума Дашутку не выкрасть. Зазвенит, качки сбегутся, будет драка и стрельба… А я ведь кувалду с дисками оставил у Икрамыча! Вернуться, что ли, к нему? Или в «Киммерию», где бульдозер обещали? Бульдозер, он посолидней кувалды… Ты как считаешь? «Примитивная техника, – ответил пришелец. – Я мог бы вызвать микротранспундер, но ты в нем не поместишься. Видишь ли, мой аппарат не предназначен для размещения материальных объектов. Это, собственно, оболочка, заполненная коллоидом, несущим ментальный отпечаток моей личности». – А если я сверху сяду? На крышку? «Не усидишь. Размер микротранспундера – в две твои ладони». Ким снова вздохнул. На дороге появился фургончик, подъехал к воротам, погудел; железные створки чуть-чуть раздвинулись, вышел охранник, заглянул в кабину, помахал рукой. Створки раздвинулись шире, фургончик юркнул в щель; в открытом сзади кузове подпрыгивали ящики и коробки. «С продуктами», – подумал Ким, разглядев пестрые упаковки и горлышки бутылок. Он чувствовал, как нарастает раздражение, но в этот раз не Конан был его источником. Конан, боец умелый, опытный, наоборот, советовал не торопиться, а все в деталях рассмотреть: где дом, и где охрана, и сколько стражей у ворот, и при каком оружии. А рассмотрев, прикинуть, кого и где мочить… Территория большая – вдруг выскочит из-под куста ублюдок с автоматом? Всадит пулю, да еще в башку… – Слушай, Трикси, – сказал Ким, – а что случится при ранении в голову? Ну, если мне череп разнесут? Ты меня реанимируешь? «При летальном повреждении мозга я ничего не сумею сделать. Мы оба погибнем, Ким, ты и я. – Сделав паузу, Трикси печально добавил: – Я уже дважды был на грани смерти… Помнишь того сантехника-прыгуна? Он ударился плечом, бедром и ребрами, треснула затылочная кость, но мозговая травма, к счастью, оказалась незначительной. Я успел… А мог и не успеть!» – Это первый случай. А второй? «Второй – когда в тебя стреляли. Хорошо, что не в голову». – Спасибо, что предупредил, – буркнул Ким. – Давай-ка, приятель, залезем на крышу. Отсюда ни черта не видно, даже дом не разглядеть… По лестнице без перил он поднялся на второй этаж, отыскал чердачный люк, подтянулся, проник в пыльное пространство под ржавой железной кровлей, вылез на крышу через слуховое оконце и залег за трубой. Мешали деревья, но кое-что он все же рассмотрел: строение левей ворот – видимо, караульную; вольер, в котором дремали четыре овчарки; подъездную дорогу, тянувшуюся к дому от ворот, и сам дом – основательный особняк в два этажа, на высоком гранитном фундаменте, с каменной широкой лестницей, что вела на крыльцо, к распахнутым настежь дверям. Дом, собственно, мог считаться трехэтажным – под изогнутой крышей была еще мансарда, выходившая на балкон с резными перилами и шезлонгами. Особняк располагался в глубине участка, метрах в семидесяти от стены, и был окружен серебристыми елями, кустами жасмина и цветущих роз. Справа поблескивала жидким серебром поверхность бассейна. Пересчитав охранников, болтавшихся у караульной (их было трое), Ким сказал: – Есть план. Я подхожу, стучусь, качки открывают, и ты пересаживаешь им матрицу Льва Толстого. Которую сформируешь по моим воспоминаниям о читанных в школьные годы романах. «Почему Льва Толстого?» – спросил Трикси. – Потому что у него философия была подходящая: непротивление злу насилием. Стражи в отпаде, а я спокойно двигаюсь к дому и… «На философию полагаться не стоит, – прервал его Трикси. – Судя по информации в твоей памяти, Толстой был офицером и дворянином, потомком древнего воинственного рода. Не советую использовать его инклин». – Это была шутка, – признался Кононов. – Зачем нам троица Львов Толстых? Для нынешнего литературного процесса это жуткий шок! Хватит с нас одной Толстой Татьяны. «Ну, тогда придумай что-нибудь еще», – сказал пришелец и погрузился в собственные мысли. Тем временем на балкон вышел невысокий человек, постоял рядом с шезлонгом, уселся, вытянул ноги, развернул газету. Сердце Кима дрогнуло и сжалось; каким-то шестым, десятым или двадцатым чувством он внезапно понял, что видит самого хозяина. За дальностью расстояния он не мог разглядеть ни черт его, ни одежды, лишь силуэт, что рисовался на застекленном фронтоне; казалось, перед ним возникла тень или плоская кукла-марионетка, которую дергает за ниточки незримый вожатый, заставляя шевелить руками и дергать головой. Минут пятнадцать кукла листала газету, потом движения ее замедлились, руки застыли, голова повернулась; теперь Чернов глядел на руины типографии, словно предчувствуя, что в них скрывается его заклятый враг. Глаза Кима сузились, лицо окаменело. «Где он прячет Дашу? – мелькнула мысль. – Что сделал с ней? Что собирается сделать? О чем он думает, глядя на лес и небо с повисшим над соснами солнечным диском? О непокорной жене? О мести ее возлюбленному?» Реальность дрогнула, размылись контуры стены, исчез, будто растаяв, особняк с фигурой на балконе и тут же появился снова – уже не дом, а замок, цитадель из серого гранита с высокими башнями-пилонами, что подпирали небеса – холодные, низкие, угрюмые. Взвыл ветер, швырнул ледяную крупу меж зубцов парапета, скользнул в раскрытое окно и закружил по темному мрачному залу… Затанцевал вокруг человека-тени в черной длинной мантии…Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Гор-Небсехт, стигийский колдун и владыка Кро Ганбора, готовился к битве. Битва была неизбежной. После бунта Эйрима, после побоища, устроенного в его усадьбе киммерийцем и серокожим, после гибели Торкола и Фингаста сражение сделалось неотвратимой реальностью. Гор-Небсехт уже знал, что мечи и топоры ваниров не смогут его защитить, что он должен полагаться лишь на собственное колдовское искусство, на мощь своих заклятий и смертоносных чар. Но предстоящая схватка его не страшила, так как имелось много способов разделаться с киммерийцем: скажем, превратить дикаря в обезьяну, от коей этот варвар ушел не столь уж далеко. А серокожего – в медведя! Маг высокомерно усмехнулся, по привычке меряя неспешными шагами пространство между алтарем и распахнутыми настежь окнами. Сейчас он был спокоен и собран; он не думал о походе на юг и о зеленоглазой женщине с далекого острова – он готовился отстаивать свою жизнь и свою власть. Ноздри его крупного носа раздувались, темные глаза под кустистыми бровями грозно поблескивали, пальцы непроизвольно шевелились, то ли стискивая чье-то горло, то ли чертя в воздухе колдовские знаки. «Не надо ни медведей, ни обезьян, ни прочей живности, – думал Гор-Небсехт. – Гораздо лучше обратить обоих пришельцев в камень… Да, в холодный камень, черный и гладкий! Изваяние киммерийца он поставит рядом с алтарем, чтобы любоваться статуей всякий раз, когда будет в этом чертоге… А серокожего, быть может, и оживит… потом, спустя несколько дней после схватки… Из него получится хороший слуга и страж; не стоит пренебрегать бойцом, который может справиться с десятками опытных воинов. Но сперва серокожему нужно обучиться покорности и побыть здесь, в обширном и сумрачном зале, около статуи киммерийца». Поразмыслив, Гор-Небсехт принял именно такое решение. Что касается самой магической процедуры, превращавшей живую плоть в камень, то ее он помнил еще с тех дней, когда проходил ученичество в Стигии. Подобных ритуалов имелось несколько; все они в чем-то были сходны, отличаясь лишь деталями и произносимыми словами. Например, Проклятие Сета… Губы мага шевельнулись, и под сводами зала прозвучали древние строфы:* * *
«Очнись, – раздался беззвучный голос Трикси, – очнись! Время идет, а ты не решил, что будешь делать!» Ким вздрогнул. Фигура Чернова исчезла, балкон был пуст, широкое окно и дверь сверкали золотом в лучах вечернего солнца. Один из стражей направился к вольеру, выпустил собак; двое других сунулись в караульную, вытащили столик, сели ужинать. Откуда-то из-за кустов появилась еще пара мужчин в комбинезонах, с лопатами – то ли рабочие, то ли садовники, то ли качки, решившие поразмяться на цветочных клумбах. Бросили лопаты, подсели к столу, закурили… Даши – ни следа, ни намека. Зато на крыльцо вышел Чернов. Постоял, заложив руки за спину, спустился по ступенькам, отмахнулся от подбежавших собак, прошелся туда-сюда, понюхал розы, задрал голову к балкону, словно что-то там разглядывал, и исчез за кустами. «Вечерняя прогулка? Пожалуй, стоит присоедиться, – решил Ким, сползая к слуховому оконцу. – Обойти лесом под стеной – вдруг где-то она поближе к дому, и Трикси унюхает Дашин инклин… Или в каком-то месте нет охранных проводов, а есть подземный ход или калитка – две доски на трех гвоздях… Или растет у стены сосна, а ветви протянулись на другую сторону… Или…» Он миновал чердак, скатился вниз по лестнице, вышел в лес с типографских задворков, перебежал дорогу у самого угла стены, прижался к теплому сосновому стволу. Все было тихо – только попискивали где-то птицы, да ветер шелестел в ветвях. Прячась за деревьями, Ким зашагал вдоль кирпичного забора, добрался до другого угла, повернул. Темные нити проводов над стеной нигде не прерывались, калитки не обнаружилось, подземный ход, прорытый артиллеристами, чтоб утекать в самоволку, был, очевидно, засыпан. Сосны с подходящей веткой он тоже не нашел – метров на пять от изгороди высокие деревья сняли, оставив подлесок, дикую малину да торчащие в ней пеньки. – Видно, придется брать у старичка бульдозер, – пробормотал Ким, приблизившись к стене и щупая бурые кирпичи. – Снесем ворота и въедем, как на танке… – Он приложился ухом к кирпичам. – Что-нибудь чувствуешь, Трикси? Где там моя Дашенька? В доме под замком сидит или сунули в подвал? «Слишком далеко. Я не могу вступить в контакт с ее инклином, – отозвался пришелец и мрачно добавил: – Надеюсь, мы их не потеряем – твою женщину и мой второй инклин. Это было бы катастрофой!» – Еще бы! – согласился Ким, медленно пробираясь вдоль забора. «Не думай, что меня заботит лишь собственная целостность, – сказал Трикси. – Конечно, я хочу найти инклин, я помню о гипотезе, которую ты высказал, когда мы посетили экстрасенса, но дело не только в этом. Вы мне дороги – ты и твоя подруга. Благодаря вам я узнал много нового». – Все-таки подглядывал, шельмец? – В голосе Кима не слышалось большого осуждения. «Ну, не совсем… Ваши чувства были столь необычны и сильны… пожалуй, даже приятны… Я начинаю думать, что у кислородной жизни есть определенные преимущества. У нас все происходит не так». – Ты о физиологии? «Нет, о яркости впечатлений, духовном единстве и том, что ты называешь любовью. Я знаю, что мужчин – и, разумеется, тебя – волнует женский облик, я ощущал твои эмоции, когда к тебе пришла та женщина, прообраз снежной девы. Но эти чувства импульсивны, преходящи, тогда как Даша вызывает у тебя устойчивый ментальный резонанс. Ты постоянно на нее настроен – на ее голос, запах, облик». – Спасибо, что растолковал, – произнес Ким. – Кстати, об облике… Я ведь даже не знаю, как ты выглядишь и кто ты, женщина или мужчина. «У нас нет скелета и постоянной формы, мы пластичны и текучи, как ртутный шарик. Полов тоже нет, а спаривание – это, скорее, ментальный процесс, обмен инклинами между двумя, тремя и большим количеством сущностей. Не буду вдаваться в детали и лишь скажу, что при таком обмене возникает новое ядро, новая самостоятельная личность – однако при том условии, что личности партнеров целостны. Иными словами, что ни один из них не растерял своих инклинов». Обдумав эти сведения, Ким покачал головой: – Выходит, у вас нет семьи? «Есть другие, более сложные формы консолидации разумных. Семьи, разумеется, нет. Нет ни племен, ни рас и народов, ни понятия о государстве и писаных законов. – Помолчав, Трикси добавил: – Мы, мой дышащий кислородом друг, сильно отличаемся от вас. И мир наш совсем не похож на Землю. Хочешь, покажу?» – Конечно! «Тогда присядь, а лучше – ляг. Восприятие мысленных картин для тебя непривычно и может сопровождаться шоком». Кононов опустился в траву у подножия стены, вытянул ноги, закрыл глаза. Странный пейзаж возник перед ним отблеском царства эльфов: равнины под многоцветными небесами, игравшими, словно полярное сияние, застывшие в гулкой тишине пологие холмы, ковер чего-то серебристого, мха, лишайника или снега, скрывавший почву, медленные вихри, кружившие в воздухе хлопья той же серебряной субстанции… Над горизонтом висел крохотный солнечный диск, мерцали за радужными небесными всполохами звезды, и было их так много, что даже самый искусный астроном не взялся бы сложить из них созвездия. Картина сдвинулась, понеслась, точно Ким летел над поверхностью планеты, огибая ее от полюса до полюса, но всюду было одно и то же: цепочки невысоких холмов, ровные пространства между ними, снизу – серебряный блеск, вверху – сверкание небес. Ни птиц, ни животных, ни растений, ни деревень, ни городов… – Где же признаки цивилизации? – спросил Ким. «Что ты имеешь в виду?» – Как – что? Здания, сооружения, дороги, машины, транспортные средства! Или хотя бы тропинки и шалаши… «Это признаки вашей цивилизации. Мы не нуждаемся в подобном». – Но где же вы живете? «В естественных полостях планетарной коры». – В пещерах? – Кононов был потрясен. «А что тут удивительного? Вы изменяете среду, калечите ее, чтоб подогнать под собственные нужды, мы приспосабливаемся к среде и образуем с нейединый организм. Такова наша природа, и в силу этого…» Трикси внезапно смолк. – Что? Что в силу этого? – спросил Ким, усаживаясь и открывая глаза. «Тише! Я чувствую… кажется, я чувствую инклин… не тот, что у твоей подруги, а самый первый, исчезнувший!.. Он движется, но далеко, далеко, на грани восприятия… Я не могу вступить с ним в связь!» Вскочив, Ким прижался всем телом к стене, будто надеясь проникнуть сквозь прочную кладку. Губы его шевельнулись. – Похоже, не врал экстрасенс… Мужчина лет пятидесяти с хвостиком, любимец Фортуны, счастливый муж и богатейший человек… Все-таки Чернов, крыса таможенная! Ну, Трикси, выдирай свой инклин да побыстрее! «Я не могу, не могу! Я же сказал – слишком большая дистанция… Но он перемещается… Как ты думаешь, что он делает?» Справившись с охватившим его возбуждением, Ким пожал плечами. – Гуляет! Вечерний моцион среди жасмина, роз и серебристых елей… Ты приготовься, вдруг он ближе подойдет. «Контакт! Я теряю ментальный контакт! – простонал Трикси, выплеснув эмоции горя и отчаяния. – Он не приближается, уходит… ушел совсем… Исчез!» – В дом вернулся, – прокомментировал Кононов. – Ну, ничего, ничего… Главное, мы наконец-то обнаружили пропажу! И знаем, в чем секрет успехов этого типа! Как Дашу охмурил и как забогател… – Внезапная мысль вдруг промелькнула в его голове, едва не заставив споткнуться: – Послушай, Трикси… У него инклин, но ведь у Дарьи тоже! И если он попробует ее гипнотизировать… или что он там вытворяет… что получится? Как бы коса на камень не наехала! «Я не знаю, – откликнулся пришелец. – Я говорил тебе, что не могу предвидеть взаимодействие инклина с человеком. Этот процесс, при всей примитивности вашей психики, не поддается прогнозу. Не будем заниматься гаданием, а лучше подумаем, что делать. У тебя есть план?» – План! – с энтузиазмом воскликнул Ким, направившись к дороге. – Есть ли у вас план, мистер Мэнсон? Конечно, у нас есть план! Завтра утром берем у старичка-ветерана бульдозер, едем к черновской фазенде и сносим ворота. Грохот, лязг, все в панике и разбегаются по углам, как тараканы! А мы – к особнячку… Чернов выглядывает в окошко, чтоб выяснить причину шума, и ты эвакуируешь инклин. А я беру его за жабры и выясняю, куда он Дашу подевал. Пока не найдем ее и не уедем, будет у нас в заложниках! «Рассчитываешь на внезапность? Но все ли выйдет, как задумано? Инклин я, разумеется, извлеку и попытаюсь выяснить, где твоя женщина. Но вдруг не здесь? Вдруг Чернов упрется и не скажет? Я понимаю, есть негуманные способы дознания, но…» – Никаких пыток, – сказал Кононов, резво шагая по бетонному мостику. – Упрется – отвезу его к Варваре, положим гада под слона, слону дадим слабительного, бананов с ананасами… Ты представляешь, что будет? Трикси пару минут молчал, потом внезапно произнес: «Слон… такое мощное огромное животное… Лучше бульдозера, как ты считаешь?» – Лучше, – согласился Ким, приближаясь к окраине поселка. – Есть лишь один нюанс: с бульдозером я как-нибудь управлюсь, а со слоном – навряд ли. Он повернул на улицу, ведущую к станции электрички. Уже смеркалось; тучи затянули небо, и стал накрапывать прозрачный летний дождь. В домах зажглись огни, прохожие исчезли, только где-то с криками носилась неугомонная детвора. «Тебе не придется им управлять, – сообщил Трикси. – Это я беру на себя». – Имеешь опыт погонщика слонов? «Это совершенно ни к чему. Стоит внедрить инклин, и мы окажемся в полном контакте». – Инклин – в Облома? – Ким даже замер на секунду. – Богатая мысль! А как же с ментальной резистентностью? «Если ты будешь рядом с животным, я смогу контролировать его через инклин. Думаю, что смогу. Все-таки это не человек, и совладать с ним проще. Кстати, и вылечить, если пулей заденет». – Богатая мысль! – повторил Кононов и впал в глубокую задумчивость. В этом состоянии он добрался до платформы, приобрел билет, затем купил два пирожка, сжевал их, дожидаясь электрички, сел в вагон и задремал. Сначала ему снилось, как он въезжает на Обломе в усадьбу Пал Палыча, крушит караульню, давит качков и собак и продирается к дому сквозь розовые кусты – а Даша уже на балконе, готовится прыгнуть к нему в объятия. Потом эти картины сменились иными – фазенда опять превратилась в замок, лестница, ведущая ко входу, стала круче и длинней, а по углам массивного строения вытянулись к небу башни. Он снова очутился на мрачной равнине Ванахейма, под серым низким небом; стоял и слушал, как завывает ветер, как шелестит пожухлая трава и как рокочут волны у подножия утесов. Кажется, он был не один…* * *
Конан остановился у крутой лестницы, разглядывая закрытые ворота Кро Ганбора. «Если нас с Идрайном не захотят впустить в крепость, – размышлял он, – попасть туда будет нелегко. И лучше сделать это ночью; залезть на башню или на стену и проникнуть внутрь, во двор либо в жилые покои». Он не сомневался, что сможет взобраться наверх по этим наклонным каменным поверхностям; он был горцем и с малолетства привык лазать по скалам, обрывистым склонам и коварным осыпям. К тому же он прошел отличную школу в Заморе, стране воров, научившись двигаться бесшумно и плавно, скользить подобно тени, пробираться в узкие окна, вскрывать замки и запоры. Этим искусством он владел не хуже, чем клинком, секирой и арбалетом. Затем мысли Конана переключились на другое. Он думал, что долгие странствия завершены, что он почти у цели и лишь полсотни ваниров-стражников да высокие стены Кро Ганбора отделяют его от колдуна. И от мщения! Сейчас он, пожалуй, не мог бы сказать, что было для него важнее: убраться с острова Дайомы и обрести свободу или отомстить за своих погибших барахтанцев. И та и другая причина казалась достаточно веской, и он знал, что коли уж добрался сюда, преодолев морское пространство, дебри Пиктской Пустоши и ванахеймские равнины, то не уйдет, не взыскав долгов. Он поднял руку к тусклому солнцу и поклялся про себя, что взыщет за кровь своих людей и смерть Зийны – да будет душа ее спокойна на Серых Равнинах! Он обещал это светлому Митре и грозному Крому, не ожидая от них ни помощи, ни божественного знака, ибо привык полагаться во всяком деле лишь на себя самого. В этот момент он не вспоминал о Дайоме и ее сварах с магом из Кро Ганбора; он думал лишь о мести и о том, что предстоящее свершение освободит его от клятвы. Он будет свободен! И он уйдет туда, куда захочет, отправится добывать богатство и славу, ибо путь к чаемым сокровищам манил его больше, чем результат поисков. Ну а доказательства, которых требовала рыжая колдунья… Что ж, она их получит! Получит и голову стигийца, и сломанный кинжал, и свой железный обруч – из лап серокожего! Он бросил взгляд на каменное лицо Идрайна, и тот, словно дождавшись разрешения, произнес: – Господин! О чем ты думаешь, господин? Это было неожиданностью: голем почти никогда не начинал разговор первым и уж, во всяком случае, не интересовался мыслями хозяина. Но долгое странствие изменило его; хоть он и не обладал душой, но с каждым днем все больше походил на человека. Правда, с таким человеком Конану не хотелось бы делить хлеб и вино. Но скорая разлука с надоевшим спутником прибавила киммерийцу терпения, и он ответил: – Я думаю, как пробраться в крепость. Стены высоки, и ворота на запоре… Надо ждать ночи. – Зачем? Ворота я разобью и справлюсь со стражей. Иди за мной и прикончи того, о ком говорила госпожа. Конан с подозрением уставился на голема: – Она говорила с тобой о стигийце? Ты знаешь, кого надо убить? – Конечно, господин. – Кровь Нергала! Может, сам и прирежешь эту гиену? Идрайн покачал головой: – Нет. Госпожа сказала, что с ним справишься только ты. У тебя кинжал и обруч, защищающий от чар. «Ему известно о магических талисманах, – отметил Конан. – Интересно, о чем еще?» Прежде ему не приходило в голову расспрашивать голема о таких вещах. Нахмурив брови, он произнес: – Вижу, госпожа о многом поведала тебе. Я и не знал, что вы с ней толковали про колдуна, про нож и обруч… – Сделав паузу, Конан пригляделся к уходившим ввысь стенам и башням Кро Ганбора. Нигде ни единого человека… Казалось, никто их не заметил – или не желал замечать. Он перевел взгляд на Идрайна и поинтересовался: – Ну, о чем еще говорила с тобой госпожа Дайома? Что она тебе велела? Какие бы подозрения ни бродили на сей счет в голове у киммерийца, Идрайн их не подтвердил и не опроверг; серое лицо его оставалось невозмутимым. Едва шевельнув губами, он тихо произнес: – Только защищать тебя, господин. Только это. Конан хмыкнул и отвернулся. – Ладно, парень! Коль справишься с воротами, не будем дожидаться темноты. Войдем честными разбойниками, а не трусливыми ворами… – Он усмехнулся, потом махнул рукой в сторону лестницы. – Ну, поднимайся наверх, серая задница! Шагая вслед голему по узким ступенькам, он думал про Эйрима, сына Сеймура Одноглазого. Разумеется, в предстоящем сражении Идрайн был много полезнее, но штурмовать Кро Ганбор с Высоким Шлемом было бы куда веселей. Однако, напомнил себе Конан, он пришел сюда не веселиться, а взыскивать долги. Его дело – стигиец; а Идрайн, проклятый истукан, пусть разбирается с этим отребьем, слугами Гор-Небсехта. Прах и пепел! Они стоили друг друга – бездушный голем и свора отщепенцев, рыжих псов, которых даже безжалостные ваны считали слишком злобными. И тот и другие были нелюдью, и не стоило сожалеть о крови, что вскоре окрасит секиру Идрайна. Впрочем, о крови Конан никогда не сожалел, но привык выпускать ее сам, не прячась за чужие спины. «Жаль, что Эйрим не пошел со мной, – мелькнула мысль. – Жаль! Ночью мы влезли бы на стены, перебили ублюдков колдуна, а потом…» Топор Идрайна с грохотом обрушился на створку ворот. Она подалась с неожиданной легкостью, и голем, пнув нижний брус ногой, шагнул во двор. Конан с обнаженным мечом последовал за ним, торопливо, но внимательно оглядывая верхушки стен и башен – ему не хотелось получить стрелу в висок. Однако арбалетчиков нигде не было видно – ни на башенных площадках, ни на стенах. Быть может, они прятались за парапетом, похожим на акульи зубы? Или во дворе? Он осмотрелся, но двор был пуст; люди, две шеренги воинов, выстроились поперек лестницы, у самого балкона. Тускло блестели медные панцири и кольчуги, плащи из волчьих шкур топорщились на широких плечах, рыжие нечесанные бороды струились по доспехам, круглые щиты с бронзовой оковкой крест-накрест прикрывали левое плечо, в прорезях глухих шлемов сверкали глаза, чуть заметно раскачивались на ремнях мечи и секиры, наконечники копий отливали стальной синевой. Но копейные древки, стиснутые в руках ваниров, упирались в камень, а острия глядели вверх, в небо. Конан пересчитал их и ухмыльнулся. Все пятьдесят тут, не надо никого разыскивать и ловить в башнях и на стенах! Все пятьдесят тут, и с ними – Сигворд, третий из вождей дружины Гор-Небсехта… Вот он, этот Сигворд – перед строем, без шлема, с огненными космами, с налитыми кровью глазами… Прах и пепел! Выглядит так, будто жизнь готов отдать за своего хозяина! Подтолкнув Идрайна в спину, Конан двинулся вперед, к лестнице. Они пересекли двор, но уже в обратном порядке – Конан шел впереди, а голем следовал за ним, с тяжелой секирой на плече. Их шаги будили гулкое эхо во дворе-колодце. У ступеней киммериец остановился и задрал голову вверх. Ваниры перегораживали лестницу сплошной стеной щитов, и было непонятно, то ли они собираются драться, то ли выстроены для некой торжественной встречи, за которой последуют переговоры. «Не струсил ли колдун?» – подумалось Конану. «Нет, – сказал он себе, – нет; стигийские маги никогда не отличались наивностью и трусостью, а значит, битва неизбежна. Не для нее ли колдун собрал воинов у входа в свои чертоги? Чего же тогда они ждут?» Он еще размышлял об этом, когда сверху раздался хриплый голос Сигворда. – Ты – киммериец? – произнес ванир, сжимая и разжимая кулаки, словно ему не терпелось вцепиться в горло Конана. – Кром! Я вырежу печень всякому, кто стал бы утверждать обратное! – Ты – киммериец, который гостил у Эйрима три дня назад? – уточнил Сигворд. Конан кивнул, ожидая продолжения. Ваниры, стиснув оружие, стояли неподвижно, забрала и нащечники шлемов не позволяли разглядеть их лиц. Знают ли они о том, что воины Торкола и Фингаста вместо плавания к южному острову отправились на Серые Равнины? В полном составе, со своими предводителями… Сказал ли им об этом колдун? Слова Сигворда разрешили сомнения киммерийца. – Ты убил Торкола и Фингаста? И их людей? – Я разделался с Фингастом. – Взгляд Конана уперся в медленно багровевшее лицо ванира. – С Торколом покончил Эйрим. Вырезал ему ворона и сказал, что убийца отца и братьев недостоин иной смерти. «Вырезание ворона» являлось особым способом ванирской казни – побежденному врагу подсекали ребра на боках и спине, а потом разводили их в стороны на манер птичьих крыльев. Если полученные в бою раны не были смертельными, казнимый мог прожить довольно долго – такое время, за которое победитель успевал выпить два кувшина вина. Эйрим, оглушив Торкола ударом по голове, проделал всю работу тщательно и затем пил свое вино не торопясь, разглядывая отцеубийцу, стонавшего и метавшегося на полу. Вряд ли Сигворд был посвящен в эти подробности, но он отлично знал, что такое «вырезать ворона», ибо на своем веку сотворил немало подобных деяний. Лицо его потемнело. – Хотел бы я сделать то же самое с тобой, вонючий червь! – прохрипел ванир. – Жаль, владыка наш не дозволяет! – Он махнул воинам, и строй их расступился, образовав проход. – Ты не будешь сражаться? – спросил Конан. – Странно, клянусь Кромом! Я еще не встречал ванира, который отказался бы от драки. Тут ухо его уловило прохладное дуновение воздуха, а за ним – тихий шепот Идрайна: «Не верь, господин! Они что-то замышляют!» Конан раздраженно передернул плечами, он не нуждался в советах серокожего. Сигворд, широко расставив ноги и заложив ладони за пояс, с ненавистью глядел на киммерийца. – Я же сказал – владыка наш не дозволяет! – рявкнул он. – Повелитель сам расправится с тобой! А мы… Мы понадобимся, чтоб прибрать в покоях… Дабы господин не замарал рук!* * *
Проснувшись в Озерках, Ким покинул электричку, постоял в задумчивости и бодрым шагом направился в ту сторону, где развевались флажки и мерцали гирлянды лампочек, бросая отблески на темный цирковой шатер. Было уже заполночь; дождь перестал, вечернее представление давно закончилось, толпы зрителей побурлили и исчезли, обезлюдел базарчик с ларьками, лотками и аттракционами, разошлись артисты, кто по квартирам, кто по своим вагончикам. Свет в их кочевом городке угас, ворота были заперты, и стража-усача при них не наблюдалось. Выяснив это, Ким перескочил через загородку из зеленого штакетника, миновал затихшие вагончики, добрался до клеток и замер там, прислушиваясь и озираясь. Тихое ворчание послышалось над его головой. «Тигр, – произнес Трикси. – Медведи…» – Тигра мы с собой не возьмем и медведей тоже, – отозвался Кононов. – Это, знаешь ли, уже слишком… Слон где? Он осторожно двинулся вперед, обогнул десяток клеток, конюшню осликов и вышел к загону, обнесенному железными двутавровыми балками. Рядом с этой изгородью стояли тележки с морковью и капустой, а посередине огороженного пространства высилась темная гора, распространявшая окрест тихие, но ясно различимые звуки: сопение, чавканье, фырканье. На вершине горы сидела большая летучая мышь, помахивая крыльями, и Ким не сразу сообразил, что видит, как шевелятся слоновьи уши. Ворота были тоже из балок и запирались на три чудовищных засова. Вытащив стопорные болты, Ким отодвинул их и медленно, стараясь не скрипеть, распахнул тяжеленные створки. – Цып, цып, цып… иди сюда, хороший мой… иди, красавец… Облом фыркнул, переступил с ноги на ногу и недоверчиво уставился на него маленькими глазками. – Это же я, самый близкий родственник мамочки Вари, – сообщил Ким, протягивая слону морковку. – И я не собираюсь тебя красть, только позаимствовать на время. Мы с тобою прогуляемся в одно приятное местечко и наведем шорох… Согласен? Слон неторопливо двинулся к нему, вышел из загона, взял из рук морковку, сунул ее куда-то между бивнями. Раздался сочный хруст. – Отличные у тебя зубки, особенно те, что вперед торчат, – похвалил Ким. – Такими зубками да по воротам… Вот, возьми! – Он протянул Облому пучок моркови, потом взял еще несколько штук, выложил на земле свое имя и пояснил: – Это для мамы Вари, чтоб за тебя не беспокоилась. Пусть знает, что ты под надежным присмотром. «И под контролем», – добавил Трикси. – Получилось? «Кажется. Инклин внедрился, и он пойдет с тобой». – Он пойдет, а я поеду, – уточнил Ким, и в тот же момент слон обнял его хоботом и согнул переднюю ногу. «Забирайся!» – гостеприимно предложил Трикси. С ноги – на бивень, с бивня – на загривок… Устроившись там, Кононов похлопал слона по выпуклой макушке и почесал за ушами. Тихонько затрубив, Облом сделал первый шаг, второй, третий и мерной рысцой припустил к изгороди из штакетника. Хрустнули доски, с треском повалилась целая секция, проплыли мимо флаги на мачтах, гирлянды разноцветных лампочек, просторный купол цирка… Слон выбрался на безлюдное шоссе и, не колеблясь, повернул на север. Скорость, с которой он передвигался, удивила Кима: конечно, не «Жигули», но побыстрей, чем бегущий человек. Облом снова затрубил. – Хочет еще морковки? – поинтересовался Кононов. «Нет, – ответил Трикси. – Просит, чтоб ты потанцевал. У него на спине». Усмехнувшись, Ким погладил слоновий затылок и произнес: – Передай ему, чтоб подождал часок-другой. Будут танцы, будут! Танцы у нас еще впереди!ДИАЛОГ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
– Олег, Олежек! Проснись! – Ммм… – Олежка! Проснись, олух бесчувственный! – Ммм… Ты что меня будишь, лапушка? Тебе чего-то захотелось? Рыженькая моя, сладкая, хоро… – Лапы убери! Не хватай меня там! И тут не хватай! Я тебя не за этим растыркиваю… Облом трубил! Поднимайся! – Облом? А тебе не приснилось, Барби? – Не смей называть меня Барби! Хочешь из постели вылететь? Вставай, ленивый дуболом! Вставай, говорю! – Я уже… уже… Носки мои где? – Без носков обойдешься! Штаны надень да башмаки. – Сейчас, сейчас… Игореху будить? – А с кем он там? – С Лауркой-жонглершей… или с Инесской-наездницей… не разобрал я вечером. – Пусть спят! Сами управимся. Пошли! Скрип двери, звук торопливых шагов, удивленное восклицание. – Ворота открыты! А Облома нет! Господи, это что ж такое? Дашку увели, теперь еще и слона украли! Ну, гады! Ну, стервецы! Еще и морковку по земле рассыпали! – Варенька, стой! Морковку-то не рассыпали, выложили что-то морковкой… Гляди, это вроде «К», а это – «И»… КИМ получается! Ким, зять наш любимый, ненаглядный! Писатель! – И правда, КИМ написано… странное дело… Выходит, Ким здесь был? – Выходит, был. Ты скажи, зачем ему слона воровать? Он, часом, клептоманией не страдает? В особо извращенной форме? Молчание. Потом: – Ты, Олежек, на него не кати, он человек интеллигентный, умственный! Одно слово – писатель! И мастер этого… как оно… бодибилта или чжень-цзю! Он, если хочешь знать, в Тибете у шести монахов обучался! Серьезный человек и Дашку любит страстно, без памяти… – Это ты, Варенька, к чему? – А к тому, что ежели взял он слона, так, значит, надо. Он ведь о чем сейчас заботится? – Пауза. – О том, чтобы Дашутку найти и вызволить от шмурдяка! Нашел, выходит, и поехал вызволять… С Обломом-то вызволить не вопрос… Облом Дашутку любит и не позволит обижать! – Варька, да ты с ума сошла! Ты подумай, что говоришь! Не ездят в наших краях на слоне, ездят на машинах, автобусах и электричке! Быстрее так, надежнее… И потом, откуда он знает, как со слонами управляться? – Ты, Олег, мне на головку не намекай, не надо, я знаю, что говорю. Машина – она и есть машина, тупая и железная, а слон – это слон! Любую машину перевернет и в землю втопчет… Может, Киму того и надо – переворачивать да втаптывать… А со слонами он обращаться умеет, обучился в Тибете. – Ну так что мы делать будем, Варенька? – А ничего. Спать ляжем. Думаю, завтра он позвонит или Дашку привезет. Прямо на Обломе, к утреннему представлению. – Хмм… А мы сразу спать ляжем, или как? – Или как. Зря я тебя, что ли, будила? Я сейчас такая возбужденная, такая… Ну-ну, руки-то убери, еще не в постели! Еще не… Ты что меня на тачку сажаешь, в морковь? Жестко ведь, охламон! Ты… ты… ты…ГЛАВА 15 ОСВОБОЖДЕНИЕ ФЕИ
Довольно долго прожив на свете, я приобрел изрядный опыт, но квинтэссенция его проста и выражается двумя словами: люди – разные. Нет двух похожих среди нас; все мы отличаемся характером и обликом, умом и талантами, душевным складом, целями, мечтами и стремлениями. Мы по-разному гневаемся и торжествуем, любим и радуемся, а что касается диапазона умственных способностей, то он гораздо шире спектра физиологических отличий. В самом деле, есть люди смуглые и белокожие, есть лилипуты и гиганты, есть слабосильные и силачи – но что в том удивительного? Это отличия не качественные, а количественные, и все их можно описать, измерив в метрах, килограммах и единицах цветовой шкалы. Но как измерить расстояние между дебилом и гением? Больше того: как понять, где дебильность переходит в гениальность?.. Но, несмотря на все различия, мы близки в одном – в проявлениях горя. Горе есть горе, и я полагаю, что это самая универсальная эмоция во Вселенной, на всех мирах, где пробудился разум. Чувство потери, безнадежности и безысходности роднит нас с другими существами, совсем не похожими на нас, людей; мы счастливы по-разному, но одинаково горюем. Я знаю. Я это испытал.К поместью Чернова на улице Советской-Щучьинской Ким прибыл в девятом часу утра. Оказалось, слон не может все время мчаться, как марафонец-стайер или орловский рысак, не приспособлены для этого слоны – бег они чередуют с неторопливым шагом, а шаг – с остановками для поедания березовых веток, травы и другого подножного корма. Само собой, можно было бы поторопить животное через внедренный инклин, но Трикси такого не советовал, заметив, что все должно свершаться естественным путем. Так, чтобы не утомить Облома, чтобы он прибыл к стене и вратам свежим, отдохнувшим и мог продемонстрировать всю мощь и силу слоновьей ярости. Поэтому Ким не торопил слона, а, покачиваясь на могучем загривке, наслаждался прогулкой, беседовал с Трикси на философские темы и мечтал о том, как повезет обратно Дашу и как будут они целоваться у всех километровых столбиков. Ночное шоссе было пустынным, по его обочинам то шелестел лесок, то расстилались поля, то вставали домики с темными окнами, и лишь иногда, мимо или навстречу, проносились машины, все больше роскошные иномарки. «Оно и понятно, – думал Ким, – ведь у владельцев этих тачек дела всегда неотложные и спешные: не доберешься к сроку куда нужно, другой обскачет и загребет». Пять или шесть шикарных «БМВ» и джипов промелькнули, словно гонимые ветром призраки, оставив аромат бензина и нагретого металла. Облом каждый раз пыхтел, неодобрительно мотал головой и косился на деревья – было у него желание вывернуть ствол покрупнее и бросить на асфальт, чтоб всякие шустряки не портили прогулку. Машины, однако, мчались прочь с похвальной быстротой, а их водители не обращали на слона внимания – подумаешь, невидаль, слон! Впрочем, и среди них нашелся любопытный: шестая или седьмая тачка из обогнавших Облома вдруг круто завернула и встала нос к носу – вернее, радиатор к хоботу. Из тачки вылез молодец в прикиде от Кардена, заложил за спину руки и уставился на путников. Облом, помахав ушами и недовольно фыркнув – мол, чего гулять мешаешь! – направился было в обход, но Ким его притормозил. Мало ли что за случайность у человека! Может, проблемы с глушаком, и надобно перевернуть машину и поглядеть, на месте ли он или уже отвалился. Но с глушаком у молодца был, видимо, порядок. Закончив осмотр, он надул щеки, со свистом выпустил воздух и проблеял: – Здоровый корефан, в натуре! Твоя скотинка, мужик? – Это слон, не скотинка, – объяснил Ким. – Так я не о том толкую. Я толкую – твой или не твой? – Мой. У меня слонятник, ферма такая под Гатчиной. – А лыжи навострил куда? – В Мурманск. Там, понимаешь, в вечной мерзлоте мамонтиху откопали и аспирином оживили. Теперь проблема у них: мамонтиха есть, а мамонта нет! Вот, еду спариваться. – Фуфло двигаешь? – Какое фуфло! Слон от страсти аж трясется! Ты сбоку, сбоку загляни… между задними ногами… Молодец заглянул и с уважением присвистнул: – Да-а… Пожарный шланг, реально! Слушай, мужик, а не продашь скотину? Бабки хорошие отвалю. – Бабок не хватит, – бросил Ким с высоты слоновьей шеи. – Это у кого не хватит? – обиделся молодец. – Это у меня не хватит? Да у тебя вальты гуляют, блоха слоновья! Кароче, пол-лимона возьмешь? «Зелеными»? Я, если глаз положил… – Как положил, так и снимешь! – рявкнул Кононов. – Ну-ка, с дороги, хмырь! Меня в Мурманске ждут за государственным делом, восстановлением мамонтов, а ты мне тут динаму крутишь! Не мельтеши и отвали! Облом грозно протрубил, шагнул вперед, но молодец не шевельнулся – стоял, подпертый своей тачкой, и делал пальцы веером. – На понт берешь, веник сраный? Ну-ну… Знал бы, с кем связался! Да я тебя… Ухватившись руками за клык и свесившись с шеи Облома, Ким негромко произнес: – Знать не знаю, что ты за падаль, и знать не хочу. Прочь с дороги! Не слышал, что ли, кто в моем слонятнике главный акционер? Анас Икрамович Икрамов! Молодец побледнел, скукожился, проблеял: «Ясно!» – юркнул в машину и умчался на четвертой передаче. – Вот, – сказал Ким, постукивая по слоновьей шее пятками, – теперь я в курсе, чего ты, парень, стоишь. Полмиллиона, надо же! Но я тебя и за миллиард не продам. К чему мне миллиард? Мне Даша нужна со всем ее милым семейством, а ты ведь тоже член фамилии. Облом Варварьевич Тальрозе-Сидоров! Слон одобрительно фыркнул, сунул в пасть пучок травы и двинулся дальше, мимо Дибунов и Белоострова, Солнечного и Репино прямиком в Комарово. Мерцали звезды, струилась над Финским заливом летняя светлая ночь, и, быть может, кто-то не спал в ее хрустальной тишине, не занимался любовью, не пялился в телевизор, а смотрел в окошко и видел, как шествует по улице огромный слон, как, робко тявкнув, прячутся собаки, как сверкают в лунном свете бивни, змеится хобот, топорщатся веера ушей. Мираж? Иллюзия? Возможно, возможно… Но дрогнула почва под тяжкой ногой, звякнула в кухне посуда, заколыхались занавески, низкий трубный звук родился и растаял в воздухе… Ким улегся на спину, свесил руки, коснулся ладонями бугристой слоновьей кожи и глубоко вздохнул. Серый небосвод с луной и тусклыми россыпями звезд раскачивался над ним, медленно проплывали ветви тополей и сосен, столбы с проводами и крыши домов с антеннами и трубами, теплый ветер, примчавшись с залива, гладил и ласкал лицо. Где-то там, в вышине, в центре Галактики, в десятках тысяч светолет от Солнечной системы и Земли, кружился вокруг светила чуждый мир, чьи обитатели были подобны ртутным каплям, не знали радостей любви, зато умели перемещать свое сознание, делить его на части, обмениваться ими и даже размножаться таким невероятным способом. Поразительно! Однако и тут, на Земле, есть чему поудивляться. Вот, например: ты неподвижен, ты не летишь куда-то и не выкидываешь странных фокусов с сознанием, но погружаешься в миры, которых вовсе не было, в отличие от мира Трикси, который все же существует. В миры Стругацких и Хайнлайна, Ефремова и Фармера, Желязны и Урсулы Ле Гуин… И, наконец, в мир Конана… Ким шевельнулся, пробормотал: – На чем мы там остановились, Трикси? «На Сигворде. Напомнить?» – Да. Точно и дословно! Сам понимаешь, раз выписан аванс, надо оправдать доверие. Значит, Сигворд… И что он там сказал?Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Сигворд, широко расставив ноги и заложив ладони за пояс, с ненавистью глядел на киммерийца. – Я же сказал – владыка наш не дозволяет! – рявкнул он. – Повелитель сам расправится с тобой! А мы… Мы понадобимся, чтоб прибрать в покоях… Дабы господин не замарал рук! Прибрать в покоях! Слишком самоуверен этот ванир, рыжая крыса! Усмехнувшись, Конан кивнул голему и начал подниматься по ступеням. Идрайн шел позади, справа от него, и бубнил: «Не верь, господин, не верь…» Секира в его руках хищно подрагивала. Но ваны не собирались сражаться. Стиснув копья, они стояли двумя шеренгами, и рыжие их бороды казались затейливым переплетением медных проволок, словно бы украшавших доспехи. Скорее всего эти изгнанники и отщепенцы знали о бойне в Рагнаради, учиненной Идрайном, но не боялись – вероятно, считали своего повелителя непобедимым. Миновав их строй, Конан ступил на балкон. Полукруглая арка вздымалась в восьми шагах от него и уже не выглядела темной: огромная дверь под ней была распахнута настежь, и перед киммерийцем маячило некое пространство, замкнутое серыми холодными стенами. Он посмотрел на меч в своей руке и отшвырнул его. Зингарский клинок не годился для предстоящей битвы. Восемь шагов – и дверь… Она притягивала, манила, как зев пещеры, полной сказочных сокровищ… Но Конан не думал о богатствах стигийца; на сей раз он пришел не за золотом и серебром. Кровь и жизнь колдуна – вот что ему нужно! Чувствуя, как разгорается гнев, как начинает пульсировать кровь в висках, он сделал первый шаг. Жаль, что ему не дано владеть огненными молниями, как слугам и избранникам Митры! Он сжег бы колдуна и растер его пепел в прах… Жаль! Но стоит ли сожалеть о невозможном? У него нет молний, но есть кинжал… И хоть чары Дайомы не сравнишь с силой и мощью светозарного бога, волшебный нож все-таки лучше, чем ничего. Он сделал еще один шаг, выхватил из-за пояса свой магический кинжал и машинально коснулся левой рукой виска. Обруч был на месте и сидел прочно. Третий шаг, четвертый… Внезапно за спиной у Конана раздался грохот. Он обернулся, на миг позабыв про колдуна, ждавшего за близким порогом. Голем, проклятое серокожее отродье, рубил ваниров! Топор его вздымался и опускался с той же безжалостной неотвратимостью, как на вересковой пустоши в Стране Пиктов, как в тесном дворе усадьбы Эйрима; лезвие с грохотом крушило шлемы, обрушивалось на щиты и панцири, потом глухо чавкало, впиваясь в плоть. Лишь краткое время вздоха понадобилось Идрайну, чтобы уложить троих; и первым – Сигворда, чей обезглавленный труп валялся на ступенях. «Кром! – мелькнуло у Конана в голове. – Кром! Этот ублюдок сделался слишком коварным и хитрым! Уже решает сам, когда рубить и что рубить!» Он вскинул руку и раскрыл было рот, готовясь разразиться проклятием, но тут новая мысль молнией пронзила его. По словам Дайомы, стигиец мог отвести глаза любому: зачаровать своего воина или слугу, обменяться с ним обличьем, устроить ловушку для недогадливого врага и ждать… Ждать, пока не подоспеет время нанести внезапный удар! Возможно, Гор-Небсехт стоял в шеренге воинов-ванов и, скрывая под забралом шлема свой преображенный лик, подсмеивался над киммерийцем? Над глупым киммерийцем, который через мгновение всадит нож в подменыша? «Пусть перебьет их всех, – решил Конан, глядя на падавших под ударами Идрайна ваниров. – Пусть перебьет всех, кого сможет, ибо секира голема бессильна перед плотью колдуна… Тут и обнаружится истина! Тут и станет ясно, в кого метать клинок – в того, кто поджидает в башне, или в того, кто сражается сейчас на ступенях». Он стиснул губы и замер. Лезвие ножа холодило его ладонь, на литой рукояти сверкали камни – два крупных ало-красных рубина, обрамленных фиолетовыми аметистами. Перед ним на лестнице ворочалась, стонала и звенела металлом бесформенная окровавленная груда; в ней перемешались тела мертвых и живых, разбитые щиты, переломанные копья, секиры с разрубленными топорищами, помятые, сбитые с голов шлемы и клочья шкур от ванирских плащей. Ни один из ванов не отступил; по сути дела, они были столь же дикими, как пикты, и не боялись смерти. Особенно эти изгнанники и отщепенцы, для которых жизнь значила так немного, ибо была она вечным заключением в угрюмых стенах Кро Ганбора и вечным трепетом перед его владыкой. Что же касается колдовских чар, то их ваниры страшились куда больше, чем гибели в бою. Клинок не успел согреться в ладони Конана, как все было кончено. Полсотни изуродованных трупов валялось на ступенях широкой лестницы; ни один ванир не шевелился, не подавал признаков жизни. И не было сомнений, что секира Идрайна положила предел последним воинам Гор-Небсехта – тела их, обезглавленные или разрубленные напополам, не оживил бы даже сам великий Митра. «Выходит, колдуна среди них нет», – решил Конан и, повернувшись к открытой двери, прыжками ринулся вперед. Клинок трепетал в его руке, словно частица золотистой молнии, огненной, испепеляющей, грозной. Идрайн, залитый кровью от подошв сапог до серых бровей, мчался за своим господином, потрясая секирой. Они проскочили арку и небольшой коридор за ней; вторая дверь тоже была распахнута, будто ждала, когда дорогие гости шагнут через порог, чтобы согреться у жаркого очага и сесть за накрытый к пиру стол. Но в огромном зале не было ни тепла, ни очагов, ни блюд с мясом, ни кувшинов с вином. Перед Конаном открылся просторный сумрачный чертог, почти пустой, если не считать кубического каменного возвышения, занимавшего его середину. Этот куб, высеченный из глыбы черного гранита, напомнил киммерийцу жертвенники Великого Змея, виденные им некогда в Луксуре и Птейоне, стигийском городе мертвых. Перед алтарем, угрожающе вскинув руки, стоял человек в меховой мантии, с длинными распущенными волосами; его темная грива резко выделялась на желтовато-белой шкуре полярного медведя, прикрывавшей плечи. Был человек высоким и стройным, с обычной для стигийцев кожей цвета старого янтаря; орлиный нос с широкими ноздрями нависал над тонкогубым ртом, щеки и виски казались чуть впалыми, раздвоенный крепкий подбородок говорил о внутренней силе и уверенности в себе. Пожалуй, его можно было бы счесть красивым, если б не холодный и высокомерный взгляд широко расставленных глаз и не кустистые, грозно сдвинутые брови. Рука киммерийца взметнулась, и одновременно с блеском прорезавшего воздух ножа колдун выкрикнул несколько слов. «Да будут члены твои камнем…» – успел разобрать Конан, чувствуя, как ледяной холод охватывает его.* * *
В восемь часов двенадцать минут они прошагали по бетонному мостику, и тут Облом остановился – его соблазнила полянка с клевером и невысокой, до колен, травой. Пока он перекусывал, с сопением поглощая зелень, Ким присматривался к черновской усадьбе. Там, похоже, уже поднялись – слышалась какая-то перебранка, лай собак, потом за ворота выехал вчерашний фургончик и покатил к поселку. Однако, кроме забора, ворот и дороги, рассматривать было нечего – хотя Облом и отличался высоким ростом, но конкурировать с крышей типографии все-таки не мог. – Дело близится к концу, – произнес Ким, снова опускаясь на слоновью спину. – Отдохнем минут пятнадцать, травки пожуем и атакуем, как Ганнибал Сципиона. Ты получишь свой инклин, я – Дашеньку… А там можно и всех носителей обойти, собрать остальные инклины… Будешь в полном комплекте! Переместишься на транспундер и упорхнешь делиться информацией и размножаться. С учетом полученного на Земле опыта. «Жаль тебя покидать, – откликнулся Трикси. – Ты столько сделал для меня, так мне помог… Должен признаться, наш контакт улучшил мое представление о землянах. Конечно, вы агрессивны и жестоки, себялюбивы и подозрительны, но все же в вашем дикарском конгломерате нет-нет да попадется истинный разум. Гуманный, некорыстный, с фантазией и чувством перспективы». – Спасибо за комплимент. Ты собирашься улететь, как только соберешь свои инклины? «Возможно, задержусь. Твоя судьба меня волнует, а кроме того… Кажется, ты говорил, что должен сдать роман к пятнадцатому? Вот до этого времени и задержусь. Хочется знать, чем все закончилось – ну, с твоим киммерийцем, големом, магом и рыжей феей… Мы ведь остановились на самом интересном месте». Ким был польщен. Еще бы! Какому автору бы не польстило внимание инопланетного пришельца к его судьбе и творчеству! Этот факт сам по себе был вдохновляющим, а также говорил о том, что критики, столичные и питерские, ругавшие на все лады конаниану, были всего лишь жалкими снобами и шавками, тявкающими из подворотни. Что их статьи, рецензии и отзывы? Что оскорбительное молчание? Молчите или войте – дело ваше! А Конан унесется к звездам и удостоится признания в далеком странном мире, за тысячи парсеков от Земли… Глаза Кима блаженно сощурились, душа его благоухала, а сердце источало мед. Была б еще рядом Дашенька… Много ли надо писателю в жизни? Хорошая жена, хорошие книги, хорошие читатели! «Мне бы хотелось оставить тебе подарок, – сказал Трикси, – но, кроме микротранспундера, я ничего не имею. Ничего вещественного», – грустно уточнил он. – Ты сам – подарок! А кроме того… – Ким согнул руку, глядя, как вздулись крепкие мышцы. – Кроме того, ты одарил меня силой и кое-чем другим – пожалуй, даже с излишней щедростью. Эта матрица Конана… боюсь, она данайский дар. Я ведь, Трикси, мирный человек, без патологических наклонностей, а вот теперь могу убить и изувечить. Особенно в гневе. «Тут уж ничего не поделаешь. Старайся избегать конфликтных ситуаций и помни об идеалах гуманизма. Я полагаю, что со временем матрица исчезнет. Рассосется». – Как же, тут избежишь! – пробурчал Ким, чувствуя, как падает настроение. – Одна из таких ситуаций у нас под самым носом! Можно сказать, прямо перед хоботом! Закончив кормиться, Облом, направляемый Трикси, вышел на шоссе. Вел он себя беспокойно – покачивал огромной головой, фыркал, топорщил уши и переступал ногами, будто собирался пуститься в пляс. Киму смутно мнилось, что ментальная аура животного с каждой секундой меняется; улавливая ее отголоски, идущие от пришельца, он ощутил, как нарастает его собственная ярость, стремление топтать и разрушать, мстить за какую-то обиду, не очень ясную, но порождавшую гнев. Внезапно пробудился Конан, забормотал: «Прах и пепел… Всех под нож, под меч и под секиру… Бей и режь шакалов! От плеча до паха! Крр-ровь… Крр-ром любит крр-ровь…» – Ты что творишь с Обломом? – спросил Ким, стараясь не поддаться бешенству. «Мой контакт с его сознанием ограничен – с тем, что можно называть сознанием. Он воспринимает не столько мысли, сколько образы и эмоции, и я передал ему картину издевательств над твоей женщиной. Он помнит ее и любит. Сейчас он сильно раздражен. Скажи, что надо делать?» – Высадить ворота, шугануть собак и стражей, а затем – к дому! Дальше – по обстоятельствам. Если выскочит Чернов, пусть хватает его и держит, но поаккуратнее. Ребер не ломать и шею не сворачивать. «Ясно. Приготовься!» Кононов вдруг подлетел вверх, потом шлепнулся на просторную слоновью спину и распластался где-то в районе крестца, лежа ничком и изо всех сил стараясь не свалиться на землю. Облом разбегался; огромные ноги таранят асфальт, хобот, свернутый кольцом, спрятан между бивнями, хвост вытянут струной, уши полощутся в воздухе, будто флаги боевого корабля. «Страшная штука – атакующий слон!» – подумал Ким, перемещаясь к привычному месту на шее. Справа от него бурой лентой неслась кирпичная стена, слева мелькали кусты да деревья, сосны да осины; потом возникло здание старой типографии, а вместе с ним – панический вопль Трикси: «Держись! Он поворачивает!» Почти не уменьшив скорости бега, слон развернулся и ударил в ворота плечом. Послышался скрежет, будто взрезали огромной пилой чудовищную консервную банку; что-то заскрипело, завизжало и лопнуло с протяжным стоном. Створки ворот распахнулись, одна повисла на полуоторванной петле, другая с грохотом рухнула на крышу «Мерседеса», стоявшего у караульной. «Знакомая тачка, серая», – еще успел подумать Кононов, как туша под ним вздыбилась, Облом приподнялся на задних ногах и тут же всей тяжестью лег на передние, вминая створку вместе с крышей внутрь кабины. Затем он повернулся к караульному помещению, задрал хобот и затрубил. Этот пронзительный яростный вопль был непохож на издаваемые прежде звуки – в нем слышался вызов и предвкушение грядущего сражения. Лягнув ногой поверженный «Мерседес», слон наклонил голову, сделал пару шагов, уперся в стреху лбом и клыками, резко дернул и сорвал с караульной крышу. Эти три титанических подвига, разбитые ворота, смятый в блин автомобиль и улетевшая метров на восемь кровля, заняли не больше двух минут, и Кононов, подпрыгивая и вертясь на колыхавшейся под ним спине слона, заметил лишь, как мечутся с воем псы и бессильно оседает наземь часовой – его, похоже, задела распахнувшаяся створка. В караульной громко завопили, в дверях показался человек и тут же с криком шарахнулся обратно; двое, толкаясь, выскочили в окно, за ними – еще пара, полуголые, ошалевшие от ужаса. «Без оружия», – отметил Ким, разглядев, что один охранник сжимает бритву с помазком, а другой вцепился в полотенце. Все четверо ринулись в кусты, будто желая указать собакам путь к спасению – те клочьями серого меха бросились следом. Громко трубя, Облом навалился на стену караульной и надавил. Стена негодующе крякнула, пошла трещинами, посыпались кирпичи, со звоном вылетели стекла из оконных переплетов; слон отпрянул, а все строение вдруг стало оседать, дымиться бурой пылью и заваливаться внутрь. Фыркнув, Облом наподдал ногой, свалив бетонный столб в углу, вытянул хобот над руинами, подцепил кровать, подбросил ее в воздух. Ударившись о груду кирпичей, она рассыпалась обломками. – Хватит, – сказал Ким, – тут мы уже победили. Теперь давай к фазенде! Ярость Облома вроде бы поутихла – он послушно свернул на аллею, ведущую к особняку, и зашагал, мерно помахивая хоботом. Ким оглянулся; охранник, лежавший у ворот, уже поднялся и судорожно ощупывал ребра. Физиономия у него была опрокинутая – точь-в-точь, каккринка со скисшим молоком, которой врезали по донышку. «Живой», – с облегчением подумал Кононов, поворачиваясь лицом к дому. Против ожидания, входная дверь и окна были еще закрыты, но за балконными перилами и застекленным фронтоном мелькали какие-то тени. Солнце светило в глаза, и разглядеть, что там творится, Ким не мог, но что-то определенно творилось – он видел смутный силуэт, который делался все резче и отчетливей. «Будто некая фигура движется из глубины к стеклянной переборке», – мелькнула мысль, и в то же мгновение открылась балконная дверь. В проеме, спиною к Кононову, стоял мужчина в халате – верней, не стоял, а пятился, как бы шаг за шагом отступая под напором необоримой силы. Мгновение, он уже на балконе, движется задом наперед, а сам согнулся, скорчился, словно пытаясь бороться с ураганным ветром, который вынес его из дверей. Шаг, другой, третий… Секунды растянулись в бесконечность, вмещая и эти беззвучные шаги, и громкое сопение слона, и треск кустов под его ногами. Потом в дверях показалась Даша – шла, как сомнамбула, с бледным окаменевшим лицом, вытянув перед собой руки и выставив ладони. Кажется, даже с закрытыми глазами… Это так перепугало Кима, что он, поднявшись во весь рост и с трудом сохраняя равновесие, выкрикнул: – Даша, Дашенька! Родная! Солнышко, я здесь! Я уже здесь, не бойся! До лестницы особняка было с полсотни метров, до балкона под изогнутой крышей – немного больше. Возглас Кима, разорвавший тишину, словно поторопил секунды, заставил время двигаться: Дарья вздрогнула, шагнула на балкон, а человек в халате отступил еще на шаг, коснулся перил ягодицами, откинулся назад и вдруг с коротким воплем полетел на землю. Если бы на землю… Он упал на каменную лестницу и, вероятно, ударился затылком о ребро ступеньки. Ким видел, как голова упавшего будто взорвалась фонтаном крови и раздробленных костей, и в тот же миг его пронзило ощущение несчастья. Непоправимой страшной беды! Стоя на спине Облома, двигаясь к Даше и глядя, как оттаивает ее помертвевшее лицо, Ким слышал горестные вопли и рыдания Трикси: «Не успел! Великая Галактика, я не успел! Все напрасно, все! Я не успел!» Слон остановился под балконом, вытянул хобот к мертвецу, обнюхал его, брезгливо фыркнул. Даша замерла у перил, и взгляд ее то с ужасом обращался то к Чернову, то – с надеждой и радостным удивлением – к Киму. Он выдавил улыбку, поднял руки и сказал: – Прыгай, ласточка! Я тебя поймаю. Дарья прыгнула. Обнимая ее, целуя соленые от слез глаза, Ким находился как бы в состоянии раздвоенности. Противоречивые чувства обуревали его: счастье видеть Дашу, прикасаться к ней, вдыхать ее нежный запах соседствовало с ощущением потери, незаменимой и вечной. Плакала Даша, прижавшись к его груди, и плакал инопланетный дух, но слезы радости были отличны от слез печали. Слон наклонился, ткнувшись клыками в землю, и Ким, не выпуская Дашу из объятий, соскользнул по услужливо подставленной ноге. – Облом, Обломчик… – Дарья ласково похлопала по мощному плечу и повернулась к Чернову. – Мертвый… Он умер, умер… Я не хотела, Ким! Я даже не знаю, как это случилось… Я не желала ему смерти, только просила, чтоб отпустил и оставил нас в покое… Ким погладил ее по растрепанным волосам. – Верю, что не хотела, но сделанного не вернешь. Успокойся, солнышко. «И ты тоже, – мысленно добавил он, обращаясь к Трикси. – Хватит стонать, я что-нибудь придумаю. Клянусь, придумаю!» Рыдания пришельца стихли; кажется, он смирился с потерей. «Твоя женщина уже пришла в себя, – услышал Ким беззвучный голос. – В ней, если помнишь, мой инклин, он быстро стабилизирует психику». «Не только стабилизирует, – отозвался Ким. – Ты представляешь, что произошло?» «Да. В момент психического напряжения ей удалось установить контакт с инклином. Очень непродолжительный и смутный, но все же… Мы видели мысленный поединок, Ким, и она его выиграла. А я… я не успел! Расстояние было слишком велико! Теперь…» «Теперь мы будем думать, как помочь беде. Ты тоже постарайся успокоиться. У Даши один инклин, а у тебя, как-никак, сотня без малого». – Ким? О чем ты задумался, милый? – Дашин голос вернул его к реальности. – О том, что здесь произошло. Вернее, как могло произойти. Выпустив Дашу из рук, Ким шагнул к лестнице и осмотрел Чернова. Крыльцо и ступеньки были забрызганы кровью, под головой погибшего расплылась алая лужица, застывшие глаза смотрели в зенит, из-под халата торчали тощие бледные ноги. Ни мертвым, ни живым Пал Палыч не походил на грозного мага Гор-Небсехта: невысокий, щуплый, лысоватый, с мелкими чертами лица. Длинный нос и оскаленные зубы делали его похожим на крысу. «Жутковатое зрелище», – подумал Ким и, вытащив из кармана платок, прикрыл им физиономию покойного. Затем измерил взглядом расстояние от лестницы до балкона. Третий этаж, метров восемь-девять, с учетом черновского роста… С такой высоты да головой о камень… Фатальный исход неизбежен, как говорится у медиков… А медики скоро тут будут – вместе с криминалистами. – Ким! Он резко обернулся. По аллее в мрачном молчании шли пятеро стражей: впереди – ушибленный воротами охранник (этот был одет), а за ним остальные, полуголые, но уже при оружии – трое с пистолетами, один с автоматом. «Видно, очухались и отыскали в развалинах свои игрушки», – решил Кононов, направляясь к Дарье. Облом, почувствовав угрозу, задрал хобот и гневно засопел. Качки осторожно приблизились. Глаза их перебегали с трупа Чернова на слона, потом на стоявших рядом Кима и Дашу, на балкон с распахнутой дверью и опять на окровавленные ступени. – Все здесь? – спросил Ким, наклонившись к Дашиному уху. – Все. Повар, садовник и женщины, что прибирают в доме, живут в поселке и приходят к десяти. – Тогда у нас есть время. – Посмотрев на часы, Ким перевел взгляд на стражей. – Меня не интересует, что вы думаете, – твердым голосом произнес он, кивнув на мертвое тело. – Сейчас я расскажу, что здесь случилось, а вы повторите всем любопытным и, разумеется, компетентным органам. Слово в слово. – Это с чего бы? – поинтересовался секьюрити с автоматом. – Пришиб, сволочь, хозяина, а мы теперь должны… – Вы должны сообразить, что больше нет хозяина, а есть хозяйка. Наследница! – Ким многозначительно поднял палец. – Отныне все принадлежит ей – все рестораны и склады, и все богатства, и эта усадьба, и вилла в Акапулько. И вы, со всеми потрохами! Кстати, с благословения очень влиятельной личности по имени Анас Икрамович Икрамов… И что отсюда следует? Охранники переглянулись. Потом тот, что с автоматом, спросил: – Что? – Следует версия – та, которую я изложу, а вы запомните. Если, конечно, есть желание служить в этой уютной усадебке и не иметь неприятностей. Качки опять переглянулись и начали шептаться. Даша тихо промолвила: – Ким, родной мой, ты это серьезно? Не нужны мне его богатства и виллы… Да я гроша ломаного не возьму… – Придется потерпеть, пока следствие не закончится, – так же тихо ответил Ким, покосившись на тело Чернова. – Терпи, ласточка, терпи, а после можешь раздарить богатства детям-инвалидам. В чем я обещаю полное свое содействие. Качок в комбинезоне – тот, ушибленный – выступил вперед: – Вопрос у нас имеется. Ты… – Ким обнял Дарью за талию, охранник смолк, но тут же собрался с мыслями: – Вы кто такой? Кем будете хозяйке? – Племянником, – молвил Кононов, нежно целуя Дашину щеку. – Племянник я. Со стороны Тальрозе, а может, Сидоровых… Неясно разве? Страж кивнул: – Яснее не бывает. Так что мы должны сказать? – Чистую правду. Сегодня утром обрушилось караульное помещение. От общей ветхости и по причине трещины в фундаменте. К счастью, никто не пострадал, но рухнувшая стена повредила ворота и раздавила тачку. Хозяин пробудился и, услышав грохот, вылез на балкон – как был, в халате и спросонья. Глянул, ужаснулся – само самой, за вас, а не за тачку с воротами, – начал кричать, махать руками, перегнулся через перила, и вот… – Горестно вздохнув, Ким развел руками и показал на труп Чернова. – Теперь, я думаю, вам надо бы вернуться к караульной, спрятать оружие и бросить пару кирпичей в ворота и на тачку. Чтоб не возникло лишних вопросов. Тридцать минут на все про все, потом хозяйка вызовет милицию. Вперед, орлы! Орлы развернулись и зашагали к руинам караульной. Даша, прижав к щекам ладони, глядела на Кима с восхищением: – Милый, ты… – Я писатель, – сказал он, – инженер человеческих душ и душонок. С большой фантазией. Это тебя не пугает? – Нет. – Даже если я признаюсь, что вступил в контакт с инопланетным пришельцем и советуюсь с ним во всех делах? Не боишься, нет? Она замотала головой, рыжие кудри запрыгали по плечам. – Ты все еще хочешь выйти за меня? Стать матерью моих детей, дожить со мной до старости и умереть в один день? На этот раз ответ был положительный. Насладившись им в полной мере, Ким сказал: – Слона я уведу. Парк у вас большой, где-нибудь спрячемся. А ты, солнышко, через тридцать… нет, уже через двадцать минут звони в милицию. Еще в цирк, Варваре. Извинись, что я Облома похитил, и скажи, чтобы приехали за ним. С бумагой от их циркового директора. Иначе слона не отвести, днем ГАИ остановит. Дарья кивнула, бросила взгляд на покойника. Щеки ее побледнели. – Его не трогай и не смотри на него, – распорядился Ким, подталкивая ее к лестнице. – Иди! Приедут, осмотрят и скажут, что делать.* * *
В дальнем углу усадьбы, за непролазными зарослями акации, возвышалась большая груда компоста из перегнивших листьев, веток и сорной травы. За нею Кононов и устроился, велев Облому опуститься наземь и погрузиться в сон под действием инклина. Следующие два часа он возлежал под сенью деревьев, сражаясь с комарами и исцеляя душевные раны Трикси. Он толковал ему, что жизнь еще не кончена, что всякое увечье – лишь стимул к преодолению злокозненной судьбы, что были среди людей глухие музыканты, безрукие художники и паралитики, чья мысль охватывала всю Вселенную. Даже не были, а есть! Великие личности, творцы, хоть дышат не метаном и в прочих отношениях ущербны – кто без почек, кто без глаз, а кто и вовсе в инвалидном кресле и еле пальцем шевелит. Ну, погиб инклин, накрылся… В сравнении с бедами гениев-инвалидов эта пропажа – не пропажа! Тем более что остальные инклины на месте, целых девяносто шесть, и те одиннадцать, что были розданы, вернулся обогащенными опытом самых достойных землян. Таких, как Даша, Славик, Дрю-Доренко и старичок из магазина «Киммерия». Как всякий писатель, Кононов обладал талантом убалтывать и убеждать, а посему его доводы и резоны были восприняты и возымели психотерапевтический эффект. Трикси постепенно успокаивался и по прошествии двух часов уже не рыдал, не стонал, а лишь тихонько попискивал, почти смирившись со своей потерей. Под этот писк веки Кима отяжелели; прикрыв глаза, он задремал, но сны его были тревожными – видно, сказывались напряжение последних дней и исходившие от Трикси горестные импульсы. Проснулся он через час. Солнце перевалило за полдень, рядом вздымался и опадал серый бок Облома, и на фоне этих декораций мерцали зеленые Дашины глаза – она сидела над Кимом и отгоняла веткой комаров. Заметив, что Ким глядит на нее, улыбнулась устало и печально. – Уехали… Сняли показания, забрали тело и увезли. В морг, к патологоанатому… Будут вскрывать. – Так положено, солнышко, если смерть произошла по несчастному случаю. – Приподнявшись, Ким погладил ее по щеке. – Но ты не беспокойся. Никто ведь его с балкона не толкал, не сбрасывал… Ни ты, ни я. – Не знаю, милый, не уверена. Ты, конечно, ни при чем, а я… – Тень набежала на Дашино лицо. – В общем, я расскажу, а ты послушай… послушай и рассуди, что и почему случилось. Ты ведь такой умница! – Не надо рассказывать, Дашенька, и слушать я не хочу. Лучше и не вспоминать! Знаешь, долгие проводы – лишние слезы. Даша покачала головой: – Плакать я по нему не буду, но рассказать должна. Должна, понимаешь! Только тебе и только один-единственный раз… Может быть, это важно, Ким. Важно для нас обоих. – Ее глаза потемнели, щеки окрасил слабый румянец. – Он… понимаешь, он приходил ко мне, уговаривал… раз пять за день приходил, все спрашивал, чего мне не хватает… Раньше, мол, всего хватало, со всем была согласна – замуж пошла, в постель без звука улеглась, а что теперь?.. И смотрит, смотрит, как гипнотизирует… А я не знаю, что сказать. Прежде взгляду его покорялась словно зачарованная, а нынче ни взгляд не действует, ни слова… Вижу, чужой человек, ненавистный! А утром… Даша всхлипнула, и Кононов обнял ее. Потом спросил: – Ты все это время наверху сидела? – Там. Мои комнаты в мансарде под крышей – он их пентхаусом называл. Дверь заперта, с балкона не спрыгнешь – высоко, да и охрана… Это сейчас они такие сговорчивые, а при Чернове… – Она нахмурилась и махнула рукой. – Утром он заявился ко мне, полез, хватать начал, и вдруг слышу – вроде бы слон трубит. Чудно, невероятно, да? Вот и мне так показалось… Потом грохот и снова трубный рев… Я – к балкону, а он не пускает. Не пускает, представляешь? Словно я рабыня, пленница! И тут такое во мне поднялось… Не знаю, Ким, и объяснить не могу – только посмотрела на него, а он согнулся, руками закрывается и пятится… так и допятился до перил… «Временная связь с его инклином, – прокомментировал Трикси. – Локальный прорыв барьера резистентности. Очень любопытно! Будь мои обстоятельства не так печальны, я бы вплотную занялся этим вопросом». «Вот и займись, – мысленно ответил Ким. – Научные штудии – лучшее средство от хандры». Дарья заглянула ему в глаза. – Ким, милый… ты меня как-то назвал феей… А может, я вовсе не фея, а ведьма? Может, я… – Ведьма, ведьма, – согласился Кононов. – Ведьмы, они всегда рыжие и зеленоглазые. Ты ведьма, а я – колдун с пришельцем в голове… Словом, два сапога пара. – Я серьезно… – Если серьезно, солнышно, так что тебя волнует? Что было прежде и что теперь? И отчего ты ему не поддалась? Ну, сама понимаешь, что изменилось. Он поцеловал Дашу в губы, и она, блаженно зажмурившись, пробормотала: – Изменилось, конечно… Я и ты… Мы… Облом гулко вздохнул во сне, дернул хоботом, дунул. Теплый воздух пошевелил Дашины волосы. – Скоро Варя приедет с Олежкой и Игорем… Я им дозвонилась… – Ну тогда не стоит время зря терять, – произнес Ким, а про себя подумал: «Есть ведьма, очень симпатичная, и есть колдун, вполне пригожий молодец. И кто у них родится?» «Наверное, астральный дух», – подсказал Трикси и скромно удалился в самый темный уголок сознания.ДИАЛОГ ПЯТНАДЦАТЫЙ
– Товарищ старший лейтенант, а, товарищ старший лейтенант… – Чего тебе, Степанков? Чего ломишься? Чего в кабинет лезешь? – Этот, которого в морг повезли… Странное с ним дело, Петр Иваныч! – И что же странного, сержант? Свалился человек с балкона, упал неудачно, череп раскроил… С кем не бывает! – А ворота? Ворота, Петр Иваныч, я лично их осматривал! Ежели стенка рухнула, так вмятина должна быть изнутри, а она такая, будто снаружи били! Здоровенным бревном! – Умничаешь, Степанков… А все потому, что больно молодой и отслужил без года две недели. С мое послужишь и поймешь, как отделять частное от главного. Главное у нас что? Объясняю: главное – труп! Смерть наблюдали шесть свидетелей, все подтверждают, что несчастный случай, и это нам в огромный плюс – в смысле статистики раскрываемости. А то, что строение обвалилось, – частность, благо пострадавших нет. К тому же строение негосударственное, и виноватый в его неправильной эксплуатиции уже покойник… Я все доходчиво объяснил, сержант Степанков? – Так ведь платок, Петр Иваныч, еще и платок!.. – Ох, прыткий ты, Степанков, беспокойный, как блоха!.. Что еще за платок? Какой такой платок? – А которым лицо покойника было прикрыто! Я всех охранников расспрашивал, всех пятерых – никто не накрывал! – Значит, вдова положила, и я ее очень понимаю – рожа у мертвеца не того… и не этого… Поганая, словом, рожа. – Так платок мужской ведь, а не женский! Мужской, Петр Иваныч! – Ох, Степанков, Степанков… Сам посуди: такую рожу разве женским платочком прикроешь? Она из мужнина халата вытащила тот платок да и накрыла… Проще репы пареной! – И не убивалась вовсе… – А чего ей убиваться? Женщина молодая, сочная, красивая, а покойный… Прости господи! О покойных или хорошее, или ничего – а что тут хорошего скажешь? – Я не о нем, Петр Иваныч, я еще о следах. Следы там странные, три или четыре, где мягкая земля… под кустами есть и на клумбе… Будто сваей тыкали, большой такой сваей, во!.. – Ты, Степанков, ручонки-то не расставляй, бутылку со стола смахнешь… вот, стакан задел, паршивец… Ну, следы, ну, свая – и чего? – Да бабка Нюра толковала… старая она, не спится ночью, бродит от окна к лежанке… толковала, будто слон в пятом часу на улице прогуливался, у них на Третьей Кленовой. А Федькин сват, который с Кронштадтского переулка, говорит… – Сержант Степанков! – Я! – Крр-ругом марш! Где выход, знаешь? Вот и двигай к месту несения службы! – Куда конкретно, товарищ старший лейтенант? – В…! А дальше – катись по… и на…! Как доберешься туда, сверни налево, и будешь в полном…! Ясно, или повторить? – Слушаюсь, товарищ старший лейтенант! Будет исполнено, товарищ старший лейтенант!ГЛАВА 16 ЛИШНИЙ ИНКЛИН
Об искусстве делать подарки скажу так: его основа – психологическая, а вовсе не финансовая, ибо ценность дара и радость, которую он приносит, определяются не стоимостью, а желанием одаряемого получить тот или иной предмет. Нередко это желание иррационально, не проявляется в зримых формах, таится в подсознании и до конца неясно нам самим. Задача дарителя – установить путем долгих и тщательных наблюдений, что именно необходимо в каждом случае, после чего заняться финансовой проблемой, соразмеряя стоимость презента с весом кошелька. Конечно, бывают универсальные подарки вроде цветов и брильянтов для женщин и галстуков для мужчин. Но не дарите этого близким! Им предназначено другое, самое драгоценное, чем мы сумеем их порадовать: частица нашей собственной души.Прошло несколько дней. Ким сидел у компьютера на Президентском, наколачивал текст, трудился как проклятый, чтобы, освободившись к вечерней заре, отдаться нежным Дашиным заботам – чаепитию вдвоем, с домашними пирогами, и воркованию у распахнутого кухонного окошка. Дарья приходила усталая, но вдохновленная: рассказывала, каких юристов-чудодеев прислал Анас Икрамович и как одни из них возятся с делами по наследству, тогда как другие рыщут тут и там и справки наводят, кому отписать впоследствии черновское добро – домам для беспризорных, инвалидам с детства и нищим ветеранам афганской и чеченской войн. Все остальное тоже шло и шевелилось, двигаясь положенным чередом: в отремонтированном «Конане» хозяйничал Славик Канада, Облом вернулся на арену, и Варя каждый вечер танцевала на его спине, Чернова кремировали и забыли, Ким получил аванс, после чего Халявин стал справляться дважды в день, как продвигается работа, и сулить рекламу по радио и телевидению. Все инклины Трикси, за исключением погибшего, были собраны и включены в ядро, микротранспундер в полной готовности ждал на орбите, однако пришелец не торопился, залечивал раны в своей ментальной ауре и наблюдал за творческим процессом Майкла Мэнсона. Процесс шел полным ходом и постепенно близился к концу.Майкл Мэнсон «Мемуары.Суждения по разным поводам».Москва, изд-во «ЭКС-Академия», 2052 г.
* * *
Рука киммерийца взметнулась, и одновременно с блеском прорезавшего воздух ножа колдун выкрикнул несколько слов. «Да будут члены твои камнем…» – успел разобрать Конан, чувствуя, как ледяной холод охватывает его. Он зашатался, едва не потеряв сознание, но вдруг лоб, виски и затылок обвила раскаленная змея, стиснула голову, посылая волны нестерпимого жара; они покатились вниз, к плечам и к сердцу, добрались до кончиков пальцев, согрели колени. Холод мгновенно отступил; Конан, все еще ощущавший слабость в ногах, направился к черному алтарю и оперся о каменный куб рукой. У ног его распростерлось тело колдуна с пробитым горлом, а на пороге, вскинув тускло блистающую секиру, огромной серой статуей застыл Идрайн – такой же мертвый, как сраженный колдовским оружием владыка Кро Ганбора. Пожалуй, еще мертвее; зрачки колдуна пока что мерцали угасающим огнем, а Идрайн казался безжизненным, как скала, как тот неведомый камень, гранит или базальт, одаривший его плотью. Конан склонился над телом Гор-Небсехта и выдернул свой клинок. Хлынула кровь, глаза чародея потухли; Идрайн зашевелился и с тяжким вздохом опустил секиру. Ее лезвие звонко лязгнуло о камень.* * *
«Это конец?» – спросил Трикси. – Отнюдь, – отозвался Кононов. – До конца еще прольются реки крови. Ну, не реки, но несколько капелек выдавим. «Из кого? Ваниры перебиты, замок взят, колдун зарезан… Значит, волшебный клинок проржавел, и вся история закончилась». – Вовсе не проржавел и вовсе не закончилась! – возразил Ким. – Такой тривиальный хеппи-энд – есть профанация и поношение для моего писательского мастерства. Сейчас используем один приемчик, нечто наподобие инверсии, разыгранной на троих: для Конана, Идрайна и Аррака. «Какой же в этом смысл?» – Передача тонких психологических движений, свершаемых в душах героев, – неопределенно ответил Ким. – Конан отступает в тень, а слово передается Арраку, Демону Изменчивости… Он потянулся за сигаретами, чиркнул зажигалкой, прикурил и стал барабанить по клавишам.* * *
Серокожий был великолепен! Еще пребывая в прежней плоти, Аррак послал приказ гиганту и убедился в его несокрушимой мощи: все стражи-ваниры были мгновенно перебиты. Превосходно! Жестокий, сильный, решительный, равнодушный к женским чарам, холодный, не знающий жалости… Нет, сероликий исполин, бесспорно, превосходил рыжего Эйрима, сколько бы счастья и удачи ни отпустила судьба вождю ванов. «Кстати, – размышлял Аррак, исследуя ауру своего нового избранника, – удаче Эйрима через пару дней придет конец; серокожий убьет его, захватит усадьбу и корабли, подчинит себе людей. Это явилось бы вполне естественным деянием, ибо крепость Эйрима и его дружина были сильнейшими на побережье; а значит, овладев ими, серокожий сразу получал запасы, и боевые ладьи, и войско. Пусть небольшое, две-три сотни человек, но для начала хватит; многие покорители мира начинали с еще меньшего…» Пока гигант рубил на лестнице ваниров, Аррак пытался воспринять его эманации, неясные и туманные, как всегда бывает у людей; дух по-прежнему жаждал убедиться, что его избраннику присуща тяга к некой цели. Он был удивлен. Не отсутствием цели, нет! Цель у сероликого имелась, не важно какая, но имелась; и он стремился к ней с редким упорством, достойным всяческих похвал. Но, кроме цели, не было ничего! Сероликий убивал ваниров, не чувствуя ни ненависти к ним, ни отвращения, ни тем более жалости; человек, отгоняющий опахалом мух или прихлопнувший овода, испытывал бы больший гнев. Это изумило Аррака – что само по себе казалось достойным изумления, ибо Демон Изменчивости не привык испытывать такие чувства. Но он знал, что на близком расстоянии не может ошибиться, хоть связные мысли великана и его конкретная цель оставались пока недоступными. Вдобавок Аррак ощущал ярость, злобу и страх сражавшихся и умиравших ваниров. С ними все было в порядке; обычные эмоции стаи волков, которых потрошит полярный медведь. Но серокожий был иным. Он дрался с равнодушием и спокойствием бессмертного духа, и Арраку удалось уловить лишь легкий оттенок презрения, с которым будущий его избранник крушил черепа и кости ваниров. Да и презрение это, и упорство, и несокрушимая уверенность в себе казались лишь отблеском чувств, а не самими чувствами; то был лишь дым над костром, что бушует в душе человеческой во время битвы. Серокожий напомнил Арраку одно из первых его воплощений – Ксальтотуна, ахеронского чародея былых времен. У этого мага душа тоже была застывшей, холодной и полной презрения к праху земному, ничтожным людишкам, которых он мог отправлять на Серые Равнины заклятиями и чарами. Правда, Ксальтотун вершил убийства с помощью слов, а серокожий – своей огромной секирой, но разве в этом суть? Ахеронец нравился Арраку, ибо цель его была величайшей из всех, какую мог преследовать смертный. Власть! «Возможно, сероликий тоже стремится к власти? Возможно, из него удастся сотворить второго Ксальтотуна?» Но события развивались слишком стремительно, и Аррак не успел додумать эту мысль до конца. Бой на лестнице закончился, затем в дверях возникли две рослые фигуры, и в следующее мгновение в воздухе просвистел нож, пробивший шею Гор-Небсехта. Аррак, на время оглохнув и ослепнув, ринулся из своей щели, проскользнул по запутанному лабиринту, где еще недавно обитал дух колдуна, преодолел нижние и верхние его этажи и вырвался на свободу из остывающего тела. Теперь ему предстояло совершить такое же путешествие, но в обратном порядке, и угнездиться на самом дне души своего нового избранника.* * *
«Любопытный поворот! – прокомментировал Трикси. – Кажется, нас ожидает что-то интересное?» – Ты прав, мой экзоплазменный друг. Самое интересное впереди – и в жизни, и в романе. Особенно в жизни. Ким выдвинул верхний ящик стола, вытащил маленькую коробочку, открыл, полюбовался на кольцо с брильянтом. Брильянтик был крохотный, как раз величиной с аванс за «Грот Дайомы», но Кононову он представлялся больше и великолепнее, чем корона Российской империи. Дар любви, залог счастливого супружества! Когда-нибудь, лет через пятьдесят, Даша наденет это колечко и скажет: «Вот, милый, первый из твоих подарков, самый дорогой и драгоценный. Не камень дорог в нем, а знак любви. Я помню, сколько ты трудился, чтобы…» «Вот и трудись, – прошелестел пришелец. – Трудись! Мне хочется узнать конец истории. Неважный выкуп за мой потерянный инклин, но лучше что-то, чем вовсе ничего». – Ты прав, – согласился Ким. – Побоку мечты и сантименты! Драма развивается, и надо бы до ужина свести концы с концами. А на ужин у нас… «Меня не волнует, что у вас на ужин, я хочу узнать про колдуна. Убит он или не убит?» – Убит. Однако магический клинок еще не покрылся ржавчиной. «Но почему?» – По той причине, что зарезали не того. В нашем мире это случается, мой друг.* * *
Конан, ошеломленный, уставился на свой кинжал. Его лезвие светилось прежним золотистым блеском и было таким же несокрушимым, как мгновение назад. В чем не составляло труда убедиться – он ткнул острием гладкую поверхность алтаря, и камень раздался, подобно мягкому сыру. «Обман»? – мелькнула мысль. Но кто его обманул? Гор-Небсехт? Или Дайома? Киммериец скрипнул зубами и выругался. Он был готов поставить жизнь против дырявого ведра с мочой верблюда, что нож проткнул глотку истинному Гор-Небсехту, что истинный и неподдельный Гор-Небсехт лежит на полу у его ног, холодный и застывший, как зимняя равнина Ванахейма. И дело заключалось не в том, что глаза его видели облик стигийца, настоящего стигийца, смуглого, черноволосого, с орлиным носом и тонкими бескровными губами. Нет, совсем не в том! Стигиец, павший от его клинка, знал чародейскую науку! Чары, чуть не сгубившие Конана, леденящий мороз и смертельный холод, были способны обратить живого человека в камень, и это не являлось ни обманом, ни иллюзией! Конан понимал, что защитила его лишь магия обруча Дайомы; знание это казалось столь же точным, бесспорным и определенным, как и то, что солнце восходит на востоке, что трава зелена, вода мокра, а на деревьях летом распускаются листья. Так кем же он обманут? Дайомой, заколдовавшей нож? Так, чтобы клинок без ущерба резал дерево, камень и плоть человеческую, но покрывался ржавчиной, испив крови чародея? Но об этом он знает только с ее слов… Может быть, надо проткнуть глотки сотне магов, чтоб нож сломался? Или хватит одного, но одаренного великой магической силой? Одного, но настоящего чародея? Более грозного, чем Гор-Небсехт? В том, что стигиец – настоящий колдун, Конан не испытывал сомнений. Лишь опытный маг сумел бы обратить человека в камень, и лишь умелый чародей смог бы остановить Идрайна. Тут, вспомнив о големе, Конан бросил взгляд на лицо серокожего и поразился: слуга, выпрямившись во весь свой гигантский рост, взирал на него с неприкрытой ненавистью и каким-то странным торжеством. Жуткий огонь пылал в глазах Идрайна, губы кривились в презрительной усмешке, и физиономия уже не выглядела серой, блеклой и равнодушной, как мгновением раньше: она багровела, будто тягучую холодную влагу в жилах голема вдруг заменили жаркой человеческой кровью. Кровью, что ударяет в голову, приводит в ярость, порождает жажду убийства… Убийства не по приказу, а по собственному желанию и прихоти. Идрайн поднял огромный топор и шагнул к своему бывшему господину.* * *
На китайском столике бабушки Клавы тренькнул телефон. Ким чертыхнулся, помянув Нергалью Задницу недобрым словом, но подошел. Вдруг не Халявин, а Дашенька звонит? Вдруг ей необходим совет по поводу наследства? Или благотворительная консультация? Кого, положим, одарить, слепых либо безногих? Библиотеку Блока, зоопарк или Артиллерийский музей? Он уселся в кресло и поднял трубку. Звонила Варвара. – Кимчик? – Я, сестренка. – Трудишься? – Как раб в каменоломне. – Дашутка все бегает? – Бегает. Сегодня у нее… – Ким поднял брови, вспоминая. – Сегодня передача документов на ресторан «Славянский Двор» и рандеву в ОБОПе. – В бобопе? Это что такое? – Это, Варенька, отдел борьбы с организованной преступностью. Варвара всполошилась: – Дашку туда вызывают? Зачем? Из-за покойного шмурдяка? – Не вызывают, а приглашают со всем уважением, – пояснил Кононов. – Супруг ее почивший ни при чем, просто Дарья решила отписать ОБОПу прибыль со «Славянского Двора». Для закупки компьютеров и бронежилетов. – А почему со «Славянского»? – А потому, что он на Литейном, около Большого Дома. – Лучше бы Большой драматический осчастливила, – сказала Варя, неодобрительно хмыкнув. – От нас, артистов, людям радость, а от бобопа вашего столько же пользы, как от козла молока. – Может, оно и так, но есть позитивные сдвиги, – обнадежил золовку Ким и подмигнул злобному демону на крышке китайского столика. – Анас Икрамович Икрамов – помните, я о нем рассказывал? – хочет баллотироваться в ЗАКС, чтоб стать главой комиссии охраны правопорядка. Глядишь, потом в генералы выйдет, ОБОП возглавит или даже всю милицию… В общем, надо поддержать материально и, в частности, бронежилетами. А то перестреляют всех, и нечего будет возглавлять. – Ну, вам виднее, – с сомнением произнесла Варвара и сменила тему: – Я что звоню, Кимчик? В цирк хочу вас вытащить. Премьера у меня сегодня. Чайковский, танец маленьких лебедей. – На Обломе? – поразился Ким. – На Обломе. А что? Спина у него здоровая, просторная. Опять же пора нам осваивать классический репертуар. – Помнится мне, что лебедей четыре, а вы одна, – сказал Ким. – Или Игорь с Олежкой помогут? Варвара хихикнула. – Сама справлюсь. Я женщина крепкая, в теле, уж как-нибудь спляшу за щуплых птичек. За целую стаю спляшу, не сомневайся! Придете? – Непременно. Кононов положил трубку, взял яблоко из миски, стоявшей рядом с телефоном, и с хрустом откусил. Даша считала, что ему необходимы витамины – они, во-первых, инициируют писательскую мысль, а во-вторых, снижают вред, который причиняется курением. Ким не спорил. Съев яблоко, он, разминая ноги, прошел туда-сюда вдоль книжных полок, полюбовался фотографией – Даша в облегающем трико летит к Варваре, – вернулся к компьютеру и некоторое время сидел, глядя в экран, пытаясь избавиться от назойливого видения: Варя, Игорь и Олег пляшут под мелодию Чайковского, и к ним семенит на пуантах Облом, тоже в белоснежной пачке и балетных туфельках величиной с индейскую пирогу. «Топор, – напомнил Трикси. – Идрайн поднял огромный топор. А дальше что?» – Танец маленьких лебедей, – молвил Ким и тут же хлопнул себя по затылку. – Тьфу, дьявол! Дальше будет про Аррака. Конечно, про Аррака – обманутого, разгневанного! Он у нас лебедем не танцует, у него другое амплуа…* * *
Покинув остывающее тело Гор-Небсехта, Аррак несколько кратких эонов парил в пространстве. Душа колдуна уже отлетела в холод и мрак Серых Равнин, а древний дух наслаждался мгновениями полной свободы, пытаясь в то же время нащупать ауру нового избранника. Лишенный чувств, присущих человеческому разуму и телу, он был слеп и глух до обретения плотского облика, однако мог ощущать эманации жизни, пульсировавшие вокруг. Одна из них напоминала грязный пересыхающий ручей, мерзкую сточную канаву, из коей не пожелал бы испить даже последний из злодеев, даже ничтожный нищий, томимый смертельной жаждой. Аррак безошибочно определил, что источавшая зловоние аура принадлежит киммерийцу. Тот, вероятно, являлся наемным убийцей, трусливой и омерзительной тварью, готовой за пару монет резать глотки беззащитным женщинам и детям. Не то чтобы их жизнь или смерть волновала Аррака, но он знал, что воистину великий никогда не унизится до дешевого убийства; великих интересуют не мешки с монетами, а власть, и цена их деяний не измеряется деньгами. Нет, этот жалкий киммериец не мог стать новым избранником – в чем Аррак не сомневался и прежде. А потому он устремился к сероликому, чья аура, источавшая холодную силу, притягивала его, словно магнитом. Неощутимой тенью он скользнул в его сознание, в разум, который является преддверием души. Он готовился увидеть привычную картину – многоэтажный запутанный лабиринт с просторными парадными залами, широкими коридорами, полутемными камерами и погруженными в вечный мрак каморками. Он ожидал обнаружить там все то же, что таилось в сотнях человеческих душ, служивших ему вместилищем на протяжении тысячелетий: страсть к богатству и власти, жестокость и хитрость, гордыню, самомнение, отвагу и горы сундуков, в которых сложены воспоминания – память о перенесенных обидах, о днях торжеств и поражений, о муках зависти, ревности, любви, радости и горе. Он рассчитывал нырнуть к кривые переходы и узкие тоннели, погрузиться в глубокие шахты, где гнездилось все смутное и туманное, полузабытое и тайное, влиявшее на человеческие побуждения, желания и мысли. Он торопился в самый темный, самый дальний закоулок, в тупик, где хранились неосознанные чувства комочка плоти, некогда зревшей в женском чреве. Он жаждал укрыться в клоаке, где обитал всегда и откуда правил своим избранником. Но он не обнаружил ничего. За порогом сознания, преддверием души, лежало холодное и мертвое пространство, коварная ловушка пустоты, капкан, заманивший и сковавший Демона Изменчивости. Сковавший навсегда! Ибо он мог покинуть тело серокожего лишь с отлетающей на Серые Равнины душой, а души у этой странной твари, у этого проклятого монстра, не было. Он являлся не человеком, а иллюзией человека, сотворенной магией и колдовством; он обладал разумом, целью и зачатками чувств, но всего этого было слишком мало, чтобы заменить душу. Для Аррака он стал темницей, последним звеном в длинной цепочке переселений. И потому бешенство овладело демоном. Он был обуян яростной страстью к разрушению и смерти и в этот миг мог бы уничтожить весь земной мир, все его материки и страны. Но разум серокожего, в котором он метался, словно загнанный в клетку зверь, не был искушен в колдовстве и заклинаниях, сокрушающих горные хребты; это бездушное отродье знало лишь один способ разрушения и убийства. Зато в отличие от прочих людей Аррак мог говорить с ним напрямую, так как, за неимением души, вселился прямо в сознание серокожего. Он распалил в нем ненависть, чувствуя, что зерна ее падают на благодатную почву, и повелел поднять секиру.* * *
«Странный феномен, – промолвил Трикси. – Настолько сильный, завораживающий, что это меня даже пугает». – Ты о чем? О моем романе? Или о «конине»? «Нет, о вашей литературе вообще. У нас, телепатов, нет ничего подобного – мы наслаждаемся другими видами искусства, играми мысли, мелодиями, ментальными картинами. Видишь ли, Ким, литература базируется на условности, на языке, а непосредственный контакт сознания с сознанием отвергает и то и другое. В конечном счете литература – ложь, ведь в ней описаны события, которые в реальности не совершались. Но телепат не может лгать, поэтому мы…» – Литература – не ложь, а вымысел, – перебил пришельца Ким. – Ложь – искажение реальности, а вымысел – ее отражение. Улавливаешь разницу? «Но отражение не точное, а значит, неизбежны искажения, – отозвался Трикси. – Однако не будем спорить и отрываться от дела. Я лишь подчеркнул, что нам литературное творчество недоступно, хотя мы не прочь насладиться его плодами – теми, что зреют в других мирах». – Не только на Земле? «Не только. Но ваша литературная традиция особенно богата, а нереальные персонажи описаны в таких подробностях, что не уступят живым. Взять хотя бы Конана… Уверяю тебя, что ни в одном из миров не сотворили сотню книг – сто мегабайт информации! – о похождениях сказочной личности во всяких странах, каких на свете не было. Этот ваш герой почти реален… конечно, не в предметной области, в ментальной… Он – инклин!» – Инклин… – задумчиво протянул Ким, прикуривая сигарету. – Да, я помню: ты говорил про персонажей фильмов и книг, про образы, скрытые в нашем сознании, латентные психоматрицы и всякое такое… Про матрицу варвара-киммерийца, которую ты активировал, и про ее влияние на мой характер… Хмм… Забавно! Выходит, она уже дозрела до полновесного инклина? «Не беспокойся по этому поводу. Я улечу, покину твой разум, и без моей ментальной поддержки психоматрица распадется. Месяц-другой, самое большее – полгода, и ты избавишься от нежелательных последствий». – Главное, не замочить кого-нибудь за этот срок, – заметил Ким и повернулся к компьютеру. – Ну, отдохнули, развлеклись, и хватит. Вернемся к нашему Идрайну.* * *
Жар опалил Идрайна; палящий жар, коего плоть его, сотворенная из камня, не ведала никогда. Ему казалось, что в голове разгорается костер, служивший источником тепла и яркого беспощадного света – такого же, как солнечный, или еще сильнее. Вскоре пламя забушевало в его груди, спустилось ниже, согревая конечности и будоража кровь; неясные желания и чувства бродили в сознании голема, словно стадо заплутавших в тумане овец. Затем ощущение жара исчезло, но свет остался – ослепительный свет, в котором все полученные прежде повеления казались смешными, жалкими и ничтожными. Приказы госпожи? Слова господина? Он даже не хотел думать о них, не желал вспоминать то время, когда кто-то властвовал над ним. Теперь он сам себе господин! Но это было не так. Когда жар угас, Идрайну показалось, что в него наконец-то вдохнули душу. Но, хоть он и не догадывался о том, что такое душа, инстинкт подсказывал ему, что он обрел нечто более ценное, более надежное и не столь зыбкое и эфемерное. Им по-прежнему распоряжались, но теперь приказы шли откуда-то из глубин его собственного сознания, и можно было считать, что он слился с неким величественным и грозным существом, сделался с ним единым целым, одной плотью и одним разумом. И тогда Идрайн понял, что ему досталось кое-что получше души: он обрел могучего покровителя, который будет вести его и направлять, подсказывать и руководить. Их слияние завершилось, их воля стала тверже алмаза; в этот миг голем усвоил, чего желает новый его господин. По сути дела, этот владыка немногим отличался от старого, с которым Идрайн проделал долгий путь с тропического острова до замка на холодном ванахеймском берегу. Прежний господин был силен, жесток, безжалостен, хитер и вероломен – во всяком случае, таким воспринимал его Идрайн; новый же казался ему во сто крат сильнее, безжалостнее и коварнее. Но Идрайн, черный слепок прежнего своего повелителя, не ужаснулся этому, а лишь возгордился; он понял, что удостоен внимания могучего Духа. И Дух этот спросил у него: «Любишь ли ты разрушать, Идрайн, сын камня?» «Да», – мысленно ответил Идрайн, ибо хотя он не понимал слово «любовь», но тягу к разрушению ощущал в полной мере. «А любишь ли ты убивать?» – снова спросил Дух. «Да», – без колебаний признался голем. «Знаешь ли ты, что такое ненависть?» «Знаю. Теперь знаю». «Ненавидишь ли ты киммерийца, что стоит перед тобой?» «Моего прежнего господина?» – переспросил Идрайн и понял, что Дух удивлен; казалось, он не ведал, кто из двух воинов, захвативших Кро Ганбор, является главным. «Да, твоего прежнего господина, – наконец подтвердил Дух. – Ненавидишь ли ты его?» «Ненавижу», – ответил Идрайн. Он чувствовал, что должен ненавидеть, ибо таким было желание его нынешнего повелителя. «Тогда скажи, что должен сделать слуга, получивший волю?» «Не знаю», – произнес Идрайн. Он и в самом деле не знал, но уже догадывался, каким будет ответ. «Слуга, получивший волю, первым делом обязан уничтожить своего прежнего господина, – произнес Дух, и его бесплотный голос был полон угрозы. – Убей его! Убей! Убей!» И тогда Идрайн, ощутив внезапный всплеск ненависти, поднял свою секиру и шагнул вперед.* * *
Ким ткнул окурок в пепельницу, развернулся всем телом и поглядел в открытое окно, на небо и лесную чащу, негромко шелестевшую за Президентским бульваром. Полезно для глаз; когда сидишь часами у компьютера и пялишься в экран, нужно взглянуть на что-то далекое, приятное для взгляда, на чем отдыхают взоры и душа. Желательно, чтоб было оно живым, зеленым и плавно колыхалось туда и сюда, как ветви деревьев под ветром на фоне голубых небес… Он трудился часов по десять-одиннадцать в день, и раньше от такой нагрузки к вечеру стало бы ломить поясницу, а глаза бы начали слезиться. Раньше… До того, как Трикси занял президентский «люкс» в его гостинице под черепом… Теперь глаза не слезились. Ничего не болело, не ломило, а энергии – хоть ведром вычерпывай… Очень полезный симбиоз!Но польза односторонняя: Трикси сделал все, что обещалось, а он, Ким Кононов, крупно лопухнулся. Устроил атаку слоновьей кавалерии и в результате погубил инклин… Его вина, не Дашина! Даша тут при чем? Она не ведала, не знала… А он обязан был предусмотреть! Что-то такое придумать, чтоб подобраться к Чернову по-тихому, без шума… «Оставь, – прошелестел беззвучный голос Трикси. – В этом нет твоей вины, а есть печальное стечение событий. Что ж, бывает, бывает… Возраст нашей цивилизации сотни миллионов лет, но даже мы не управляем удачами и неудачами, случайным и неопределенным. И никому такое не под силу. Можно предугадывать тенденции и вычислять их вероятности, можно строить модели, анализировать их, усложнять в попытке приблизиться к истинной картине мира, но случай непредсказуем и внезапен; он – король Вселенной. – Пришелец помолчал, затем добавил: – Мы долговечны, вы существуете краткое мгновение… Но наша жизнь и ваша жизнь – всего лишь броуновское движение молекул на фоне трех начал термодинамики. Прыжок туда, прыжок сюда…» – Что-то тебя в философию клонит, – сказал Ким, имевший о термодинамике очень смутные понятия. – Лично я предпочитаю прыгать не туда-сюда, а по определенному маршруту. Ну, например, от рабочего стола к обеденному, потом в издательство и к кассе. Весьма осознанный процесс в отличие от броуновского… Прыжки молекул хаотичны, а у людей совсем не так, у нас есть центр притяжения – касса, из которой льются деньги. «Шутишь…» – Конечно, шучу. – Помолчав, он спросил: – А вот скажи мне, Трикси: может быть, кто-нибудь из соотечественников даст тебе инклин? Ненужный, лишний? Вроде шестого пальца, который стоит подарить приятелю? «Инклин не палец, и лишних инклинов не бывает. Но если бы мне такое предложили, я бы отказался». – Почему? «Разве ты не понимаешь? Потому, что другой стал бы инвалидом вместо меня». Кононов кивнул, поскреб затылок. Некая идея зрела у него, как мандарин на ветке, но не дошла еще до нужной спелости. Во всяком случае, Трикси ее не уловил. – Выходит, ты чужой инклин не примешь по соображениям морали, – произнес Ким. – А запасных у вас нету? Скажем, из общественного фонда? Трикси лишь горестно вздохнул. Его ментальный вздох еще кружился в голове у Кима безмолвным бедственным сигналом, когда идея вдруг прорезалась, окрепла и приготовилась пустить побеги. Но он не торопился. Он балансировал сейчас на грани двух реальностей, земной и хайборийской, и знал, что всякая новая мысль способна нарушить равновесие, прервать невидимые нити, соединявшие его с волшебным замком, с Конаном, Идрайном и духом, который вселился в голема. Этот злобный древний демон совсем не походил на Трикси, однако стоило его уважить, прикончив с подобающим величием, без суеты и спешки. А заодно и с истуканом разобраться! Ибо повести о киммерийце включали общий штрих, необходимый элемент, концовку pro tempore:[662] враги повержены, а варвар торжествует. Никто не мог нарушить сей закон под страхом отлучения от гонорара. Никто и не пытался.* * *
– Стой, где стоишь, серая нечисть! – рявкнул Конан, раскачивая в руке магический клинок. Этот пес, этот недоумок, отрыжка Нергала, угрожал ему! Киммериец знал, что не ошибается; мало ли довелось ему видеть ликов, искаженных ненавистью и злобой? Такой была сейчас и физиономия голема. Прежние грубые черты, словно вырубленные в камне неумелым скульптором, вдруг обрели завершенность, а глаза, в которых раньше стыло равнодушие, превратились в два пылающих угля. Не отвечая, голем сделал второй шаг. Солнечный луч, проникший в узкое окно, замерцал на лезвии секиры, заставив Конана прищуриться. Если не считать покойного Гор-Небсехта, они были вдвоем в холодном и сумрачном чертоге, и все же киммериец смутно ощущал чье-то присутствие, некую третью силу, руководившую сейчас Идрайном. «Не вселился ли в него дух погибшего колдуна?» – мелькнула мысль. Но, кто бы ни повелевал теперь големом, намерения его были ясны, и Конан, подняв руку с зажатым в ней клинком, повторил: – Стой, где стоишь, ублюдок! – Я убью тебя! – рыкнул Идрайн. Его секира взмыла в воздух. – Ты забыл добавить «господин», – произнес киммериец и швырнул нож. Золотистое лезвие свистнуло протяжно и тонко, каплями крови сверкнули рубины, аметисты вспыхнули мрачноватым фиолетовым огнем; миг, и рукоять, изукрашенная самоцветами, торчала в груди Идрайна. Прямо под пятым ребром, куда и целился Конан. Он метнул клинок правой рукой, а левой перехватил древко секиры, брошенной големом; удар был так силен, что отшвырнул его на пол, на каменные плиты рядом с телом Гор-Небсехта. Он поднялся, потирая локоть, подошел к Идрайну и заглянул в мертвые глаза. Зрачки голема погасли, но лицо искажала жуткая гримаса – будто в момент смерти, или развоплощения, некая демоническая сущность, овладевшая телом серого исполина, вырвалась наружу, воплотившись в новых и незнакомых Конану чертах. Он долго рассматривал непривычный лик Идрайна, потом сплюнул и злобно пробормотал: – Проклятый ублюдок! Теперь мне точно придется плыть на остров! Вернуться к рыжей! И гнить в ее постели до нового Великого Потопа! Чувство, что его обманули, становилось сильней с каждым мгновением. Первый обман был связан со стигийцем и ножом, который никак не желал покрываться ржавчиной; второй – с мятежом Идрайна. С чего бы эта серая скотина вздумала бунтовать? Поднять оружие против хозяина? Хорошего же защитника дала ему рыжая ведьма! Конан медлил, не решаясь вытащить клинок, предчувствуя новый обман, третий по счету. Впрочем, что могло статься с зачарованным ножом, проткнувшим каменную грудь Идрайна? Разумеется, голем был творением магии, искусного волшебства, но сам колдовскими чарами не обладал. Получалось, что опасаться нечего; во всяком случае, серокожий не оживет, если вытащить нож. А оживет, так можно единым махом лишить его головы! Киммериец оглянулся, скользнув взглядом по телу Гор-Небсехта, распростертого под алтарем. Что ж, одно полезное дело сделано: он отомстил за гибель «Тигрицы», за смерть своих людей! Осталось забрать кинжал да убираться из этого мрачного замка, полного трупов. Уйти к Эйриму, уплыть с ним в теплые края, а там, раздобыв корабль, отправиться к Дайоме. Или сбежать, не вспоминая больше ни о ее острове, ни о ней самой… Он медленно протянул руку, стиснул сильными пальцами рукоять ножа, дернул к себе. Лезвие вышло из раны; оно казалось покрытым засохшей кровью, бурой, как пыль от растолченного кирпича. И на этом ржаво-коричневом фоне Конан не видел ни единого золотистого проблеска. С изумлением приподняв бровь, он осмотрел клинок, хмыкнул, потом сунул кинжал в ножны. Случившееся было загадочно и необъяснимо; получалось, что тупоумный Идрайн обладал большим чародейством, нежели искуснейший стигийский маг, враг госпожи Дайомы! Конан, однако, испытывал облегчение – как всякий человек, избежавший необходимости выполнять неприятный договор. Он снял с головы свой обруч и уставился на него, словно в ожидании, что и этот волшебный талисман вдруг рассыплется ржавой трухой, но ничего подобного не случилось: обруч, на вид из самого честного железа, оставался твердым и прочным. Конан вновь водрузил его на голову, надвинул поплотнее и осмотрел два трупа, валявшиеся на полу. «Пусть Нергал разбирается с этим делом и с этими проклятыми чародеями, – решил он. – Думают одно, делают другое, говорят третье… Они способны перехитрить Крома и Митру вместе взятых!» Он плюнул на алтарь из черного камня и направился к выходу.* * *
«Конец?» – Собственно, да. Кое-какая рихтовка и отделка, краткий эпилог, страничка комментариев… пара дней… Успею! – Ким перегнулся через подоконник и осмотрел улицу, гадая, откуда появится Даша: то ли приедет на колесах, то ли придет пешком от станции метро. «Написано изрядно, можно бы в цирк сходить, на Варю поглядеть, – мелькнула мысль. – Взять цветы, шампанское, торт, бананы для Облома и отпраздновать… Премьера, как-никак! Чайковский, не половецкие пляски! Лебедь на слоне, зрители в отпаде, прима-балерины мрут от зависти…» «Я зафиксировал твою историю и связался с микротранспундером, – произнес Трикси. – Пришла пора прощаться. Вряд ли мы когда-нибудь встретимся, мой драгоценный друг – мне, инвалиду, больше не летать в космос… Но я сохраню самые лучшие…» – Ты куда? – Ким даже подскочил от неожиданности. – Куда спешишь, куда торопишься? Роман закончен, роман, а не наш договор! Есть тут одна идейка… Ты подожди, подожди, я тебя еще не отпускаю! «Но мои служебные обязанности…» – И они подождут. – Ким поднялся, шагнул к столику, взял из миски яблоко. – Что мы имеем в данный момент? Тебе причинили травму – здесь, на Земле. Погиб инклин, пропала часть твоей ментальной сущности… – Он с хрустом откусил и повертел яблоко в руках, словно демонстрируя факт недостачи. – Я, как представитель человечества, твой друг и контактер, несу ответственность за все, что здесь с тобою приключилось. Перед нашим миром, перед твоим и перед всей Галактикой! Я не могу допустить, чтобы о нас судили как о варварах, не знающих ни совести, ни чести, как о кислородных монстрах, ворующих инклины у гостей из космоса. Инклин ведь что такое? Часть ментальной сущности, как говорилось выше, то есть часть души! Самое ценное, чем мы владеем! А посему… «Очень, очень торжественно, – перебил его пришелец. – Но я все еще не понимаю, к чему ты клонишь». – Можешь прозондировать. Разрешаю, – сказал Ким, приканчивая яблоко. Секунду в ментальных пространствах царила тишина, потом раздался восторженный вопль Трикси. «О! Какая щедрость! Какое бескорыстие и благородство! Какой бесценный дар! Ким, я не могу его принять!» – Отчего же? Если я с Икрамычем душой делился, так с тобой сам бог велел. «Икрамову я переправил дубль, а тут… тут… Ты предлагаешь все, полностью и целиком!» – Целиком, – подтвердил Кононов. – Бери, владей и наслаждайся. Будешь в лучшем виде упакован, при всех инклинах, даже еще и с одним экзотическим. Это и для карьеры полезно, и для размножения. Экзотика, знаешь ли, возбуждает. «Но…» – Не спорь! Сказано – бери! Ведь пропадет инклин, исчезнет, растворится… сам говорил, за месяц-два… А жалко ведь! Такая личность, мощь и сила! – Ким запустил огрызком яблока в окно. – Я бы тебе еще кувалду подарил, да только не уволочь ее на транспундере… «Я сохраню ее ментальный образ, – проговорил Трикси с трепетом в голосе. – Я сохраню память о вас, о Даше, Дрю-Доренко, снежной деве и старичке из магазина „Киммерия“… И, разумеется, о тебе, мой щедрый, мой искренний друг! Я принимаю твой дар, эту замену погибшего инклина… И я надеюсь, что он поможет мне пересказать твое творение, твой „Грот Дайомы“, не только во всех деталях, но с чувством и должной экспрессией». – Автора укажи, не позабудь, – напомнил Ким. – Авторское право – оно и в ядре Галактики право! «Разумеется! А теперь…» – Теперь расцелуемся по русскому обычаю. – Кононов вытер повлажневшие глаза и направился к окну. – Вот, видишь, небо – просторное, широкое, огромное, ни стен, ни потолка… Отсюда легче улетать… Они расцеловались – само собой, ментально. Потом… Потом что-то щелкнуло, дрогнуло, провернулось у Кима в голове, и наступила пустота. Такая, которая бывает в тот момент, когда один роман закончен, а другой еще не начат. Он долго всматривался в вечернее блеклое небо, где плыли над лесом облака и сияла первая звездочка, Венера или Юпитер, Ким в точности не знал. Затем направился к книжным полкам, взглянул на Дашину фотографию, прикоснулся к ней губами, отпрянул, и пустота исчезла. Он был не одинок! Конечно же, не одинок! Есть расставания, есть встречи, что-то уходит, что-то приходит… «Приходит и остается навсегда», – прошептал Ким. Его ладонь стала скользить вдоль ярких книжных корешков и вдруг замерла на пухлом томе. Ким вытащил его и прочитал название – «Город в осенних звездах» Майкла Муркока. Книга раскрылась сама собой, слова побежали, заторопились, стараясь догнать друг друга, а он впитывал их и думал о страннике, который несется сейчас в космической тьме, торопясь к родному миру. Думал и о случившемся с ним, Кимом Кононовым. Редкое, почти невероятное стечение событий? Чудо, волшебство? Что ж, бывают на свете чудеса, всякое бывает… Мир огромен и чудесен, и чего в нем только нет!.. Даже такое, как в этой книге Муркока… «Бывают моменты, когда звезды в небесах выстраиваются в определенном порядке, наша Вселенная пересекается с другой, невидимой в иные времена, и посвященные адепты получают возможность переступить черту, отделяющую одну реальность от другой. Такая звездная конфигурация – явление редкое, которое случается раз в тысячу или две лет. С данной согласованностью светил совпадают определенные события, происходящие во всех соприкасающихся между собой мирах, когда границы размываются и происходит установление новых реальностей».ДИАЛОГ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
– Ким, милый… – Да, солнышко? – Ты почему такой задумчивый сегодня? Даже грустный… Не понравилось, как Варя танцевала? Или мне не рад? – Понравилось, очень даже понравилось. А тебе я рад всегда… вот… вот… и вот… – Ким, Ким! В щечку, не в губы! Люди смотрят, неудобно! Вот придем домой… – Пусть смотрят. А дома… – Дома я попробую тебя развеселить. Хочешь, спляшу? Не хуже, чем Варвара! – Так у нас ведь, ласточка, нет слона! – Стол есть. Кухонный. Ну вот, ты улыбнулся… А глаза все равно печальные. Почему? – Друг меня покинул. Помнишь, я рассказывал про инопланетянина? Про духа, который во мне живет? Все, нет его больше, Дашенька! Улетел! Исчез в галактических безднах! – Фантазер ты мой… Ты ведь сегодня роман закончил, да? Вот потому и печальный. Исписался весь, до самого донца… Кстати, как там феюшка моя рыжая? Жива? – Жива. Но не в романе, ласточка, дело, романов я еще много напишу. А друг, и правда, улетел… На родину, в центр Галактики… – Фантазер… Ой, фантазер! Ой, выдумщик! Звук поцелуя…Михаил Ахманов Солдат удачи
Часть I Остров
Глава 1
Мрак был глубоким, безбрежным, непроницаемым; знакомая тьма Инферно, объявшая Дарта в десятый или двадцатый раз. В точности он этого не знал – ментоскопирование, которому его подвергали на Анхабе, ликвидировало часть воспоминаний. Помнились основные факты – те, что могли считаться драгоценным опытом, полезным в дальнейших странствиях; но от многого остались лишь смутные проблески, скользившие меж явью и сном, туманные картины, странные пейзажи, призраки действий и привидения слов. Эйзо, Растезиан, Лугут, Буит-Занг, Конхорум, Йелл Оэк… Звуки-символы, олицетворявшие миры, все еще не были позабыты. Но что он там отыскал? Какие подвиги совершил? И как вернулся? С позором или увенчанный славой?.. Ни Джаннах, его сеньор и господин, ни тем более Констанция не говорили на эти темы, но странствия Дарта продолжались – значит, поиск был пока безрезультатным. Возможно, на сей раз… Мрак отхлынул, сменившись неярким мерцанием стен Марианны, и Дарт перекрестился. Символический жест, почти бессознательная реакция, наследие прежней жизни… Такое же, как шпага и кинжал в магнитных креплениях его скафандра, как странное словечко «сир» и как его собственное имя… Подпространственный скачок в Инферно был завершен. После давящей тьмы и ощущения холодных, леденящих кровь объятий рубка системного корабля казалась уютным прибежищем; мягкий зеленоватый свет успокаивал, шелест гравиметра и генераторов дисторсионного поля напоминал о трепете листвы под ветром, налетевшим с горных пиков. Их названия не сохранились в памяти Дарта, но временами ему снились каменистые кручи, дуб у обрыва – огромный, величественный, с черной морщинистой корой, синее небо и облако, похожее на птицу, парившую над неприступной вершиной. Он вздохнул и снова перекрестился, царапнув перчаткой о лицевой щиток скафандра. Что поделаешь, привычка! Хотя после этих бесконечных лет он не верил ни в дьявола, ни в бога и полагался лишь на собственную удачу. Колпак кабины, внезапно мигнув, стал прозрачным. Дарт запрокинул голову. Знакомый вид, такой же, как в мнемонических картинах Джаннаха… Два безымянных светила, голубое и алое, таившиеся во тьме и пустоте: голубой гигант в обрамлении протуберанцев и его покорный спутник – красное солнце, остывающий уголек, будто унесенный вихрем из звездного костра Галактики. Две драгоценности из королевской короны: тускловатый, припорошенный пылью рубин, а рядом – сапфир, сверкающий победным блеском… Прищурившись, Дарт поглядел на голубую звезду, затем веки его опустились, не выдержав яростного сияния. Он пробормотал: – Мон дьен!.. Горит, будто око Люцифера в преисподней… Ну и зрелище, клянусь Создателем! Марианна пробудилась, будто вырванная его голосом из сладкой дремоты. Мир за прозрачным колпаком дрогнул, голубое солнце поплыло назад, откатываясь за спину Дарта, кресло, в котором он сидел, повернулось – так, чтобы овальная панель гравиметра была перед глазами. В ее глубине скользили мглистые тени, эхо ветров и бурь, ярившихся в пространстве, – привычный Дарту образ, более ясный, чем формулы и чертежи анхабских математиков. Впрочем, знания формул и чертежей от него не требовалось: зачем они разведчику, наемному солдату-кондотьеру? Он был всего лишь пассажиром, частью системного корабля – правда, самой важной и совершенно незаменимой. Кабина наполнилась звуками. Генераторы смолкли, зато начал посвистывать корректор траектории и шелест гравиметра стал громче; к ним добавились рык планетарных ускорителей, отчетливые щелчки биотелеметрии и грозное, нараставшее с каждой секундой гудение дисперсора – его экран с семиконечной пентаграммой вдруг ожил, наполнился светом и глубиной, бросая серебристые отблески на скафандр Дарта. Потом что-то грузное заворочалось в дальнем конце кабины, запыхтело, зашаркало, и он услышал гулкий бас Голема-ираза: – Функционирую нормально, мой капитан. Готов служить. Повернувшись, Дарт оглядел массивную серую тушу на четырех ногах и произнес: – Время службы не пришло. Спи, мон петит! Шарканье стихло. Далекие звезды тронулись в путь за прозрачным колпаком, алое солнце переместилось в его центр – Марианна маневрировала, покачивалась среди гравитационных приливов и отливов, словно рыбачья лодка на волнах прибоя. Она была на удивление молчаливой, и Дарт мог бы пересчитать по пальцам те случаи, когда он слышал ее голос, грудное, теплое и мягкое контральто. Редкостный талант для дамы! Молчать и говорить по делу – свойство, которым господь наградил скорее мужчин, чем женщин… Он понимал, что Марианна – всего лишь мыслящий анхабский механизм, такой же, как Голем-ираз, но тем не менее корабль ассоциировался у него с женщиной. Даже не просто с женщиной, а с благородной принцессой или герцогиней, хранящей своего верного рыцаря в пути и вдохновляющей его на подвиг. Рыцарь, принцесса, герцогиня… Эти слова тоже пришли из его прошлого, и смысл их оставался неясным, но волнующим, как мимолетная улыбка Констанции. Она была очаровательной! Темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком и белоснежной кожей, отливавшей розовым опалом… Дарт не знал, почему она приняла такую внешность – может быть, затем, чтобы напомнить ему о прошлом и расположить к сотрудничеству. Этого она достигла: когда он видел ее улыбку, то чувствовал, как замирает сердце и тянется к шпаге рука, дабы пронзить неведомых соперников. В такие мгновения он был готов отринуть обещанную награду, забыть земные сны и жить в летающих дворцах Анхаба, остаться в хрупкой колыбели, баюкавшей последних из его хозяев. Остаться навсегда! Лишь бы видеть ее, касаться тонких пальцев и шелковых прядей волос, любоваться ее улыбкой… Он заворочался в кресле, потом, вздрогнув, расширил глаза: над ним, заслоняя алое солнце, медленно полз туманный диск. Даже с большого расстояния чувствовалось, как он огромен – гигантская линза величиной с планету, загадочная конструкция Ушедших Во Тьму, целый мир с горами и океанами, с речными долинами и лесами; возможно, мир населенный, что делало его еще опаснее. Этот искусственный планетоид вращался по орбите вокруг голубой звезды, обращенный к ней выпуклой стороной, тогда как другая, вогнутая, смотрела на алое солнце. Так было с момента его сотворения Темными: чудовищный диск кружил в пространстве век за веком, не зная ни восходов, ни закатов, не ведая о мраке ночи и звездных небесах, всегда купаясь в голубом и алом свете. Как полагали Ищущие на Анхабе, его кружение длилось пару миллионов лет – быть может, немного больше или меньше. В общем, достаточный срок, чтобы внушить уважение и трепет любому смертному существу. Дарт сглотнул, чувствуя, как пересохло в горле. Его повелители-анхабы являлись древней расой, давно клонившейся к упадку; их и землян разделяло сто или двести тысячелетий, немалый период времени, который он не мог по-настоящему осмыслить. Но этот планетоид был еще древней. Гораздо древней! И он хранил секреты, какое-то знание, неведомое анхабам, то, что не первую тысячу лет искали их слуги – искали долго и упорно, в чужих мирах, у самых дальних звезд. Дарт тоже относился к этим слугам, если оставить в стороне соображения вежливости и пиетета. Древняя тайна была ценой его свободы и возвращения на родину. Планетоид неторопливо приближался; его вогнутую поверхность, обращенную к красному солнцу, окутывали облака. Изображение на панели гравиметра сделалось четким, контрастным, затем чудовищный диск перевалился на ребро – будто серебряное блюдо, желавшее похвастать тем, какие узоры выбиты на нем с той и другой стороны. Дарт терпеливо ждал, пока Марианна не закончит пару витков вокруг гигантской линзы; наконец над его головой раскрылись лепестки коммуникатора, и узкий стремительный луч затанцевал в воздухе, рисуя символы и цифры. Новостей оказалось немного; повторялись данные первой разведки, выполненной беспилотным анхабским зондом, обнаружившим планетоид. Его диаметр, в привычных Дарту мерах, равнялся четырем тысячам лье, толщина – восьмидесяти шести, а превышение выпуклости над краем – сорока двум[663]. Рельеф обеих поверхностей, голубой и алой, был идентичен: тут и там центральную – или полярную – часть занимали океаны в ожерельях горных хребтов с изрезанными краями, похожие на расплывшихся медуз, а по периметру материки были охвачены кольцевыми водными пространствами, которые тоже полагалось бы счесть океанами – не очень широкими, зато огромной протяженности в двенадцать с половиной тысяч лье. Полярные и периферийные эстуарии соединялись могучими реками, по дюжине с каждой стороны, и потому континенты напомнили Дарту круглый пудинг, разрезанный на треугольные дольки. Затем пошла информация полюбопытней. Беспилотный зонд, предшественник Марианны, просканировав поверхность диска, определил, что горные массивы тянутся на глубину двух лье – где-то побольше, а где-то поменьше, особенно под океанским дном. Ниже, под слоем базальтов и гранитов, располагалось нечто странное – сплошной и, вероятно, прочный монолит, служивший основой всей конструкции; он не пропускал никаких излучений, даже нейтрино, и был абсолютно инертен. Другие его особенности казались столь же загадочными: так, например, генерация поля тяготения, всегда направленного к плоскости диска и менявшегося с периодом в тридцать часов, благодаря чему влага циркулировала в атмосфере между периферийными и полярными океанами. Исследование этого материала и являлось ближайшей целью Дарта, а чтобы докопаться до него, Марианну снабдили молекулярным дисперсором и оборудованием для быстрого и эффективного каротажа. «Возможно, зря, – подумал Дарт, взирая с напряженной усмешкой то на панель гравиметра, то на поток значков и цифр, исторгнутых коммуникатором. – Кажется, в горных массивах имелись полости… определенно имелись… очень большие пустоты, если не сказать – гигантские… – Гравиметр обозначил их темными кляксами на голубой поверхности диска: одна, самая обширная – на острове в центральном океане, и три поменьше, среди береговых хребтов. Особый оптимизм вселяло то, что с красной стороны нашлись такие же каверны и в тех же местах. – Значит, – решил Дарт, – они связаны шахтами, насквозь пронизывающими монолит…» Это было большой удачей. Вскрыть такую полость дисперсором, послать вперед ираза, потом спуститься самому, проникнуть в шахту, взять пробы… Дело несложное и безопасное. Можно сказать, подарок судьбы. На миг он ощутил удивление, затем подумал, что удивляться нет причин. Собственно, из-за таких «подарков» его и выбрали. Избрали сейчас, для этой миссии, избрали в прошлом, после смерти. Фантастическое везение! Его вторая жизнь была сплошной удачей – как, вероятно, и первая. Способность уцелеть во всевозможных передрягах являлась столь же важным качеством его натуры, как дух авантюризма, толкавший к приключениям. Он шевельнул рукой, подавая команду Марианне, и символы тут же сменились видом с высоты на горный хребет, причудливо изогнувшийся у побережья. Темно-бурые каменные стены были рассечены потоком – видимо, одной из речных артерий, соединявших океаны. Ее ширина казалась поразительной – десять-пятнадцать лье, а в некоторых местах – до двадцати! Не река, а морской пролив с медленным плавным течением… Или все-таки река? Дарт нахмурился и снова пошевелил пальцами, заставив приблизиться один из речных берегов. Он был каменистым, обрывистым, сложенным из серого песчаника; на косогоре, в сотне шагов от воды пластались приземистые деревья с сине-зелеными кронами, лезли на прибрежные холмы, карабкались по скалистым отрогам. Новое движение пальца, и картина внизу изменилась: теперь он летел над предгорьями, всматриваясь в темные провалы ущелий, оглядывая россыпи камней, крутые склоны и утесы, торчавшие всюду, словно гигантские черные пни. Они мелькали перед Дартом, как лесная пустошь, опаленная огнем, – хаотический, мрачный, но величественный вид, совершенно невероятный для Анхаба. Уже давным-давно, с эпохи Среднего Плодоношения, Анхаб являлся миром неги и порядка; на его семнадцати континентах все было приглажено и расчищено, ручьи текли среди пологих берегов, горы не превышали четверти лье в высоту, и на их склонах травинка росла к травинке. Возможно, в других мирах и на Земле пейзажи выглядели иными, более дикими и естественными, чем на Анхабе, но Дарт не мог довериться памяти; память была одним из тех излишеств, которые не полагались реанимированным кондотьерам. Изображение замерло, и сразу раздался мелодичный аккорд, похожий на звон соприкоснувшихся бокалов. Корабль завис неподвижно; от поверхности диска его отделяли четыре лье, и он парил сейчас над перевалом между двумя скалистыми вершинами. Одна – будто трезубец Нептуна, другая – шипастая рыцарская булава с нацеленным в зенит острием… Причину таких ассоциаций Дарт объяснить не мог. Слова будто рождались сами собой, то анхабские, то на другом языке, еще не потерянном, не позабытом, – в отличие от фактов и обстоятельств, от облика недругов и друзей и всего остального, что кануло в вечность, смытое ливнями времени. Он покосился на экран дисперсора – целеуказатель-пентаграмма накрыла седловину между трезубцем и булавой. Здесь, под каменным щитом, был гигантский грот – полость, уходившая вниз как минимум на лье. «Будто котел сатаны, – подумалось Дарту. – Котел, где готовят адское варево, закрытый гранитной крышкой… Пробить ее дисперсором? Или отправиться на остров в океане? Тот, с самым большим подземельем?» Предчувствия безмолвствовали, и он решил, что варианты равноценны. – Голем! Проснись, мон гар. Серая туша в дальнем углу кабины зашевелилась. – Да, хозяин. Слушаю, мой господин. – Бьен! Спустишься вниз и будешь ждать – вот тут, под скалой с тремя вершинами. Без команды не двигайся. Не хочу, чтоб ты попал под луч дисперсора – жаркое из тебя получится неважное. – Неважное, шевалье, – согласился ираз. На его голове и плечах вспыхнули щели видеодатчиков, над макушкой серебристым шлейфом развернулась антенна; Голем приподнял переднюю пару ног, потом – заднюю, согнул и выпрямил гибкие длинные конечности. Ираз, искусственный разум, являлся квазиживым разумным механизмом, слугой, оруженосцем, регистратором и складом всяческого имущества, необходимого в походе. Дарт был без него как без рук. С минуту он наблюдал, как помощник проверяет системы ориентации и связи, затем негромко произнес: – Извольте поторопиться, сударь! И повторите задание. – Спуститься и ждать у скалы с тремя вершинами. Без команды не двигаться. – Гулкий бас раскатился в тесной кабине. – Готов выполнять, мой господин. Рука Дарта описала в воздухе круг, панели обшивки разошлись и вновь сомкнулись, коммуникатор издал хрустальный звон. Серый контур с растопыренными конечностями, напоминающий морскую звезду, быстро опускался вниз, но вскоре его движение замедлилось, звезда вильнула к скале-трезубцу, превратилась в пятнышко, в черную точку и исчезла, слившись с камнем и темными древесными кронами. Дарт, проводив Голема взглядом, кивнул с довольной улыбкой. Пока что он не собирался приземляться – здесь, высоко над рекой и горами, в защитном коконе Марианны, он сохранял свободу маневра и чувствовал себя в безопасности. Пусть вскроется дьявольский котел, и пусть ираз ныряет в него первым… Пусть! Пусть лезет вниз, разнюхивает и докладывает… Не очень рыцарское поведение – но, с другой стороны, Голем не являлся человеком, а значит, кодекс чести в данном случае был неприменим. Это Дарт усвоил твердо; об этом не раз твердили Джаннах, Констанция и другие анхабы, его снисходительные наставники. Прошло немало месяцев, пока он смирился с идеей, что существа, говорящие и как бы мыслящие, вроде Голема и Марианны, не божьи создания, а неживые вещи, лишенные ментальной ауры и, разумеется, души – такие же, как его скафандр, ручной дисперсор или шпага. Отличие заключалось лишь в том, что шпага, к примеру, была продолжением его руки, а Марианна и Голем – продолжением разума, и потому они помнили, знали и умели говорить. Впрочем, его клинок, хоть и казался неразговорчивым, тоже многое помнил и знал. Выждав недолгое время, он покосился на экран дисперсора и сделал резкий жест, будто отбрасывая шпагу противника в сторону и нанося стремительный укол. Дегаже, любимый прием кого-то из спутников в прежней жизни… Кого?.. Ни лица, ни имени он вспомнить не смог и грустно скривил губы. Гудение дисперсора сменилось пронзительным визгом, и Дарт очнулся. Сейчас невидимый дисперсионный луч тоже казался ему гигантской, невероятно длинной шпагой; он будто сжимал в кулаке рукоять и с силой давил на нее, пронзая остроконечным клинком плотный и неподатливый камень. Под ним, на седловине между трезубцем и булавой, рухнув, распались в прах деревья, затем взметнулись тучи пыли; ветер мотал их темные клочья туда-сюда, но облако лишь густело, словно сказочные джинны рвались к свободе, вновь и вновь выталкивая дымную плоть из зачарованных сосудов. Темная пелена расползалась над перевалом, облизывала подножия скал, выбрасывала вверх зыбкие полупрозрачные фестоны; в ее середине – там, куда упирался луч дисперсора, – начали распускаться огненные ржаво-красные цветы. Раскаленная порода не плавилась, не испарялась, а сразу переходила в плазму, ибо дисперсор был не тепловым оружием – собственно, не оружием вообще. Он генерировал поле, способное разрушить молекулярные связи; этот процесс шел с нарастающей скоростью, быстро, экономично и только в зоне, захваченной лучом. В древнюю эпоху на Анхабе такие агрегаты использовались в горных разработках, а также для прокладки каналов и на строительстве дорог. Но дороги, шахты и каналы были давно заброшены, вся поверхность планеты превратилась в парк, а ее обитатели переселились в воздушные замки и города. Дарт повернулся к гравиметру. Марианна, не дожидаясь приказа, высветила полость крупным планом: темное полусферическое пространство под сероватой гранитной крышкой, которую медленно и упорно таранил невидимый луч. Яркая линия тоннеля становилась все длинней и длинней, багровые сполохи внизу погасли, пыльное облако начало оседать – сквозь него уже различались уцелевшие кое-где деревья, крутые обрывы скал и черное круглое отверстие, циклопический глаз на переносице-седловине. Колодец, пробитый дисперсором, казался достаточно широким, чтобы в нем поместилась Марианна, но посылать ее вниз пока что не было нужды. Марианна являлась залогом благополучного возвращения и к тому же, будучи особой королевской крови, имела определенные преимущества. Место принцессы – в небесах; там, на безопасной орбите, она подождет, пока ее рыцарь не одолеет подземных драконов. «Но первым к ним в пасть отправится все же оруженосец», – подумал Дарт с усмешкой. Он поднял глаза к передатчику – тонкой спирали, вмонтированной в лицевой щиток, – и тихо произнес: – Голем? Приятель, ты на месте? – Да, монсеньор. Готов служить, сагиб. – Жди. Уже скоро! В сотый раз Дарт задумался о причинах, определявших его титулование. Иногда он был для ираза хозяином и господином, иногда – монсеньором, шевалье, бваной, принцем или лордом. Тайна выбора казалась ему столь же глубокой, как сам непостижимый искусственный разум, как мастерство анхабов создавать предметы, понимавшие слово, жест и даже выражение человеческого лица. В этом было что-то от магии, черной или белой! От магии, творимой в Камелоте, в цитадели Ищущих, с помощью таинственных приборов и устройств… Но и сами по себе анхабы, конечно, являлись магами, ибо могли принимать разнообразные обличья. Как ему объясняла Констанция, они были такими, какими их хотелось видеть собеседнику. Дарт до сих пор не мог понять, было это насмешкой или проявлением симпатии, а может быть, изысканной вежливости. Яркая линия на экране почти сливалась с темнотой – вероятно, луч высверливал последнюю преграду. Возбуждение охватило Дарта; он чувствовал себя словно охотник, подобравшийся к ловушке с редкой дичью, или искатель кладов у полной сокровищ усыпальницы. Взмах руки, и слева от него возникло новое изображение: выжженная почва, скалы над сине-зелеными кронами деревьев, плавный изгиб седловины и чернеющее в земле отверстие. Он видел все это глазами Голема – верней, посредством механизмов, заменявших помощнику глаза. Отверстие истекало дымом. Воздух вихрился и дрожал над ним, словно у зева гончарной печи, и Дарту вдруг почудилось, что из темного колодца выползает призрачный безголовый змей – ползет и ползет, делаясь все толще и выше, свивая в кольца упругое тулово, будто готовясь к стремительному прыжку. Его возбуждение внезапно сменили неуверенность и тревога; он попытался вспомнить, видел ли нечто подобное в других мирах Ушедших, но память была ему неподвластна. Резкий пронзительный аккорд и голос Марианны бичом ударили по нервам. Не расслышав сказанного, он ощутил, что корабль ныряет вниз и в сторону, как фехтовальщик, спасающийся от ответного удара. Дисперсор смолк, но тут же взревели ускорители; пейзаж внизу распался цветной мозаикой и начал меняться резкими дикими скачками, словно Марианна пыталась уйти от погони. Изображение, передаваемое иразом, тоже распалось на две половины, разрезанное синей зигзагообразной стрелой. Затем туловище змея исторгло пучки ветвистых молний, таких ослепительных, что Дарт машинально зажмурил веки. Что-то настигло корабль, ударило в него, с жутким скрежетом раздирая прочный корпус; он слышал, как Марианна застонала, вскрикнула нечеловеческим голосом – и в следующий миг уже летел отдельно от нее, выброшенный толчком катапульты. Горный хребет исчез за горизонтом, сине-зеленый лес сменился аквамариновым, блистающая лента реки ринулась навстречу, изгибаясь и петляя, будто атакующий удав. Он падал в воду с высоты двух или трех лье; его корабль, вишнево-красный бесформенный кусок металла, разваливался в воздухе и, подгоняемый последним импульсом двигателей, мчался к скалистому речному берегу. Защита, промелькнуло в голове, там была защита… Воистину, дьявольский котел! Вывернув шею, он убедился, что далеко-далеко, почти на грани видимости, еще ярится и бушует водопад фиолетовых молний. Потом его затмила багровая вспышка – полет и жизнь Марианны кончились на берегу безымянной реки. Ударная волна тряхнула Дарта, и он, кувыркаясь в воздухе, начал шептать заупокойную молитву. Все же что-то помнилось ему, что-то такое, заставлявшее бормотать слова, какими провожают близких, переселившихся в мир иной… Сердце Дарта наполнилось горечью, но утешала мысль, что Марианна, его хранительница, найдет покой в раю. Окажется там, без сомненья! Конечно, она не была человеком, но ведь она его спасла – так неужели ей это не зачтется? Гася скорость, заработал двигатель скафандра, и падение замедлилось. Дарт хмуро покосился на золотистую полоску, блестевшую на бронированном рукаве, – она становилась все короче, быстро стекая от локтя к запястью. Хватит ли энергии на плавный спуск? Если не хватит, они с Марианной скоро встретятся в господних чертогах… Энергии почти хватило. Он заметил скалистый вытянутый островок, жавшийся к правому берегу, и решил, что лучшего места для приземления не сыскать. Дальний конец островка был сравнительно низким, он порос лесом и изогнулся, словно рыболовный крючок; песчаное дно маленькой бухты просвечивало сквозь воду, и берег тоже был покрыт песком. Целые холмы песка, пологие дюны высотой в человеческий рост. В одну из них Дарт и врезался, когда золотистая полоска на его запястье мигнула в последний раз и погасла.Глава 2
– Хак, – просипел Вау, приподняв над валуном косматую башку. – Хак-капа. Много хак-капа! Хорошо! «Хак» на языке криби, волосатых губастых каннибалов, означало челн, корабль, плот – в общем все, что плавает; «капа» – пищу, но не растительную или рыбную, а мясную. Сказанное Вау надо было понимать так: много плавающего мяса – хорошо! Проблем с пониманием у Дарта не имелось – волосатым хватало трех сотен слов, а он был очень восприимчив к языкам. За семьдесят циклов, проведенных на острове, он даже успел кое-как ознакомиться с фунги, торговым жаргоном, распространенным на левом речном берегу и в иных цивилизованных местах. Его учителя, при общем человекоподобии, принадлежали к самым разным расам и все до единого кончили плохо – на вертеле, подвешенном меж двух рогулек. Криби хоть и были дикарями, но предпочитали хорошо пропеченную хак-капа. Собственно, Дарт тоже мог угодить на кухню волосатых, хоть не приплыл по воде, а свалился с неба. Ему, однако, повезло, как везло не раз: песок смягчил падение, руки и ноги были целы, и шпага – тоже. Когда волосатые его обнаружили, он вполне оправился, встал в боевую позицию и проткнул глотки трем дикарям. Он мог бы всех их разделать из ручного дисперсора, но это грозное оружие стоило поберечь: запас энергии в нем был довольно скромен. К тому же, будучи общительным по натуре, Дарт нуждался в компании и не хотел чрезмерно ее сокращать; лучше уж дикари-каннибалы, чем пустота и безлюдье. Его тактичность оценили, поскольку свершенное им пошло, в конечном счете, на благо волосатому народцу. Во-первых, Шу, один из покойников, самый крикливый и наглый, был в прошлом вождем, и с его кончиной пост главаря переходил к Вау, следующему по силе самцу. Для Вау это являлось значительным повышением, так как теперь он мог распоряжаться собратьями, делить между ними хак-капа и выбирать самочек поаппетитнее. Во-вторых, три мертвых тела даром не пропали, а были поджарены и съедены под громкие вопли благодарных криби. Их восхищала аккуратность, с какой чужак прикончил бывшего вождя: ни размозженной головы, ни переломанных конечностей, ни выпущенных наружу кишок. У криби, с их дубинами и камнями, так не получалось. В результате Дарт был признан своим. Во время пира его наделили желудком и печенью Шу, но он, криво усмехнувшись, отверг почетное лакомство, потребовав плодов и рыбы. Печень с желудком достались Вау, который съел их с аппетитом, что укрепило его авторитет: теперь он считался законным предводителем орды. Ну а Дарта признали ее уважаемым членом, и теперь он мог разгуливать по острову, есть что угодно и спать где придется, не опасаясь возможности проснуться на вертеле. Почти королевские привилегии! Вау, приподнявшись над гранитным валуном, морщил низкий лоб, глядел то на воду, прикидывая скорость течения, то на хак, плывший внизу под скалами, в нескольких бросках копья. На этот раз хак был довольно большой галерой, с мачтой, прямоугольным парусом и пятнадцатью веслами по борту; и существа, заполнявшие ее палубу, не выглядели беззащитными. Дарт сомневался, сможет ли шайка волосатых их одолеть. Но Вау, казалось, был уверен в победе – так же, как в том, что галера не справится с быстрым течением и будет выброшена на песчаный пляж у оконечности острова. Опыт сотен схваток, кончавшихся пиром у вертелов, являлся основой его уверенности. Он почесался, облизнул отвисшую нижнюю губу и поглядел на Оша, Хо и других своих воинов, прятавшихся в камнях. Для этого Вау пришлось повернуться всем телом – шея у волосатых была слишком короткой и крутить головами они не могли. Осмотрев свое воинство, Вау стукнул в грудь огромным кулаком и проревел: – Ха-аа! – Ха-ааа! – дружно ответили волосатые. Ош, второй самец, одобрительно моргнул, а Хо, третий, вскинул суковатую дубину. Под его бурой шкурой заиграли могучие мышцы. – Хак-капа – много еда! – прохрипел Вау. – Криби кусать хак-капа, стать толстый, сильный! – Толстый! – с энтузиазмом поддержали воины. – Толстый здесь, – продолжал Вау, оглаживая то, что свисало пониже живота. – Такой толстый, что самка пугаться и бежать. Мы – догнать! Много силы! Много самка! Много щенок! Это было шуткой, и волосатые, хлопая себя по чудовищным гениталиям, восторженно взвыли: – Уа-ууу! Толстый здесь! Много щенок! Ха-аа! Решив, что он достаточно воодушевил бойцов, вождь принялся распоряжаться: – Ош – туда! – Он махнул дубиной в сторону песчаных холмов левее бухты. – Хо – туда! – Теперь волосатая лапауказывала на середину пляжа. – Мой – здесь! – Кулак Вау снова гулко ударился о ребра. – Мой глядеть, кричать. Ош, Хо – бить! Как всегда, это означало, что вождь понаблюдает за маневрами галеры и, когда ее вынесет на берег, даст сигнал к нападению. План атаки не отличался разнообразием: криби наваливались на пришельцев с трех сторон, причем фланговые отряды, руководимые Вау и Ошем, оттесняли их от реки. Эта тактика, несмотря на ее примитивность, всегда приводила к успеху. Дождавшись, когда Ош и Хо с шестью десятками соплеменников покинут засаду у камней, Дарт вытянул руку к удалявшейся галере и спросил: – Кто? – Тиан. – Вау засопел, погладил живот и сообщил: – Тиан не такой вкусный, тири и ко лучше. Зато тиан – много! Долго кусать! С народом тиан Дарт еще не встречался – это была какая-то новая раса из числа обитавших на Диске. Ко, вяловатые создания с лягушачьими лапами и четырьмя огромными глазами, плавали у речных берегов в гнездах-плотах, ловили мелких речных тварей и, судя по образу жизни, относились к амфибиям. Дарт испытывал сомнения в их разумности; кроме плотов, шестов и острог, у них не водилось никаких орудий, они не знали ни одежды, ни огня – или, возможно, не нуждались ни в том, ни в другом. Тири, карлики с голубовато-смуглой кожей, больше походили на людей и занимались торговлей, хоть их товары выглядели странновато: раковины всех цветов и форм, какие-то снадобья и порошки, комья пахучего мха и огромные пустотелые орехи с очень прочной гладкой скорлупой. Тири странствовали небольшими группами в примитивных пирогах, влекомых против течения рогатыми дельфинами, – так, за неимением чего-нибудь более подходящего, Дарт называл этих водяных существ с остроконечным бивнем в середине лба. Карликам он был обязан своими познаниями в фунги. Вскоре после его приземления волосатые поймали целый караван из четырех пирог и пару циклов жгли суденышки, поджаривали путников и пировали. Но тут случилась другая добыча, и нескольких тири оставили про запас, до более скудных времен, ибо никто не знал, когда река принесет хак-капа и будет ли хак настолько беспечен, чтоб сунуться в конце дневного цикла в пролив меж островом и берегом. Карлики прожили довольно долго, и Дарт успел освоиться с их языком. Он им сочувствовал, но был бессилен чем-либо помочь: лодки тири сгорели, тягловые дельфины исчезли, а путешествовать вплавь до речного берега никто из пленников не рискнул. Они боялись водяных червей – смерть в их пасти была страшнее, чем копья и дубинки волосатых. Прижавшись грудью к нагретой солнцем скале, Дарт следил, как галера борется с течением. Не подходящее время для странствий! Очень неподходящее! Цикл кончался, небо затягивали облака, предвестники скорых обильных ливней, и тело становилось тяжелей, будто напоминая, что даже в этом искусственном мире день сменяется ночью, а ночь – днем. Конечно, такие понятия были здесь гипотетичными и подчинялись изменению тяжести: с утра она убывала до минимума в условный полдень, к вечеру росла и в полночь, такую же условную, как середина дня, достигала максимума. Эти колебания были не слишком велики – Дарт оценивал их в треть от гравитации Анхаба и других землеподобных миров, – но они регулировали влажность в атмосфере, создавая подобие суточного цикла. Слабое подобие, не позволявшее столь примитивным существам, как криби, выработать концепцию времени. Похоже, волосатые не замечали происходящих вокруг изменений, если только эти изменения не касались простых реакций – сна, чувства голода, похоти, стремления завладеть добычей. Дарт, однако, видел перемены, определяя их привычными терминами: день и ночь. Ясным и теплым днем, при пониженном тяготении, воды интенсивно испарялись, и реки с медленным величием текли из центрального океана в периферийный. Но гравитация плавно возрастала, небо затягивали облака, скрывая свет голубого солнца, течение рек становилось более бурным и стремительным; вскоре температура падала, тучи проливались дождями, а реки уносили избыток вод в периферийный океан. Куда он девался, этот избыток? Дарт полагал, что океаны обоих кругов, голубого и алого, соединяются шлюзами, проходящими в толще Диска, через которые воды перекачиваются на противоположную сторону. Возможно, не перекачиваются, а стекают сами под действием тяжести, если гравитация на выпуклой и вогнутой сторонах меняется в противофазе. Такой механизм был бы вполне естественным и объясняющим все наблюдаемые эффекты. Если день голубого круга, период пониженной тяжести совпадает с ночью алого, где тяжесть сейчас велика, и если открыть в этот период шлюзы между полярными океанами, то влага переместится с алой стороны на голубую, а затем – по рекам – в периферийный океан. За это время тяготение в голубом круге увеличится, в алом – уменьшится, шлюзы между центральными океанами будут закрыты, а между периферийными – распахнуты, и излишек влаги стечет на вогнутую сторону. Эта модель круговорота вод казалась Дарту вполне приемлемой; в частности, она означала, что реки всегда текут вниз, с «горы», которой в голубом круге являлась центральная область, а в алом – периферийная. Сейчас, в преддверии сумерек, свет еще не начал меркнуть, но течение заметно ускорилось, ветер стих, и парус на галере обвис серой тряпкой. Весла еще мерно ходили взад-вперед, но, по-видимому, гребцы на судне выбивались из последних сил. Они сидели под дощатой палубой, и Дарт не мог их разглядеть, но было ясно, что гребцов не меньше тридцати, да еще десятка два созданий толпились по левому и правому бортам. Издалека они напоминали людей: двуногие, двурукие, довольно рослые, с вытянутыми голыми черепами. Тела их, – кажется, облаченные в кольчуги, – влажно поблескивали, за спинами раскачивались дротики или тонкие копья; вероятно, имелось и другое оружие, не заметное за дальностью расстояния. В общем, на беззащитных ко или тири они похожи не были; скорей – на боевой отряд в походе. Обернувшись к Вау, Дарт изобразил, будто мечет копье, ткнул пальцем в сторону галеры и поинтересовался: – Тиан – как бить? Вождь поглядел в небо, что было у него признаком глубокой задумчивости, затем принялся почесывать живот, бережно пропуская меж когтистых пальцев бурую свалявшуюся шерсть. Прошел немалый период времени, пока ему удалось подобрать необходимые слова: – Тиан кидать острый палка. Мой бить толстый палка. Погладив свою дубину, Вау прищурил крохотные глазки и опасливо потянулся к эфесу шпаги, покачивающейся у пояса Дарта. – Дат тоже иметь острый палка. Очень острый. Дат бить тиан? – Твой сказать, тиан не вкусный. Дат не кусать тиан. Дат кусать даннит. На волосатой роже вождя изобразилось сожаление. Он почесался и виновато прохрипел: – Нет даннит, есть тиан. Тиан невкусный, зато много. Твой бить тиан? – Мой поглядеть, – ответил Дарт, передергивая обнаженными плечами. Было тепло, и он, как всегда, ограничился нижней частью комбинезона, завязав рукава вокруг талии. В нападениях на путников он, разумеется, участия не принимал, но если кого-то брали живьем, старался поговорить и выведать что-то полезное. Дюжину циклов назад на реке показалась целая флотилия – четыре огромных плота с высокими башнями-надстройками и множество юрких подвижных катамаранов. Плыли они посередине реки, в двух или трех лье от острова, но одно суденышко задержалось в лагуне – то ли для ремонта, то ли по другой надобности. В его экипаж входили коренастые, хвостатые, покрытые гладкой шерстью существа, которых Вау назвал даннитами. Бились они отчаянно, пуская в ход короткие копья, зубы и когти, но пали под ударами дубин – все, кроме одной особы поменьше ростом и с более изящной фигуркой. Дарт решил, что это женщина. Полной уверенности в этом не было, но она не принимала участия в схватке, выглядела миниатюрной, хрупкой и носила украшения из раковин. Ош проломил ей ребра и притащил к пещере, где обитали криби, но Дарт отнял добычу – от нее исходила такая аура горя и безнадежности, что сердце его дрогнуло. Он отнес ее в прибрежный грот, к ямам в песке, куда волосатые сваливали имущество странников, и попытался вылечить. Но даннитка все же умерла – видимо, Ош причинил ей какие-то внутренние смертельные повреждения. Во всяком случае, походный целитель, извлеченный из скафандра Дарта, был бессилен. Криби остались в полной уверенности, что он съел маленькую даннитку – идея милосердия была им недоступна. Что же касается Дарта, то он искренне сожалел о ее гибели; возможно, если б ее удалось исцелить, в этом мире у него появился бы друг, близкое существо, способное к сочувствию и владеющее связной речью. Она хорошо говорила на торговом жаргоне, их долгие беседы позволили Дарту усовершенствоваться в фунги, но из ее рассказов он понял немногое. Кажется, все погибшие данниты были мужьями маленькой самочки и плыли к полярному океану с некой целью, обозначаемой словом «балата», но смысл этого термина Дарт не уловил. На галере спустили парус. Теперь, когда серое полотнище не заслоняло мачту, Дарт смог разглядеть, что к ее основанию кто-то привязан. Руки этого существа были подняты и обмотаны веревкой так же, как все остальное тело, голова, покрытая длинной золотистой шерстью, свешивалась на грудь; вероятно, этот пленник, так непохожий на экипаж галеры, был без сознания. На миг что-то всколыхнулось в памяти Дарта – что-то смутное, полузабытое; будто бы он когда-то и где-то видел такие же фигуры, безжалостно примотанные к столбам, поникшие в молчаливом бессилии. Это воспоминание мелькнуло и исчезло. Он вздохнул и перевел взгляд на небо, лес и речной простор. Вид был прекрасен: слева, за протокой, отделявшей остров от берега, простирались джунгли, переливающиеся всеми оттенками нефрита, хризопраза и смарагда; справа струилась река, подобная клинку булатной стали, а за ней, в десяти или двенадцати лье, темнел лес, но совсем иной, чем на близком берегу, не зеленый, а синеватый, почти индиговый. Свет голубого солнца еще пробивался сквозь облака, озаряя скалы за индиговой чащей – цвета кармина и киновари, с коричнево-алым узором, делавшим их подобными драгоценной яшме. В сотый раз Дарт подивился, сколь далеко он может видеть в этом плоском мире – казалось, на такое же расстояние, как с воздушного замка Джаннаха, парившего в анхабских небесах. Но пейзаж не походил на анхабский; там не было рек такой чудовищной ширины, таких свежих и чистых красок, не было и голубого светила, напоминающего яростный дьявольский глаз. Мысль о Джаннахе навеяла воспоминания о Констанции. Ее облик всплыл перед затуманенным взором Дарта, розовые губы шевельнулись – то ли в улыбке, то ли в кратком благословении, нежный аромат вытеснил мерзкий запах, которым тянуло от криби. Дарт покачал головой и грустно усмехнулся. Неужели он никогда ее не увидит? Верить этому не хотелось. – Ха! – рявкнул над ухом вождь. – Хак-капа плыть обратно! Сюда! – он почесал волосатое брюхо. Галера поворачивала, расплескивая веслами воду. Течение усилилось, и ей не удалось добраться до оконечности островка. Сейчас, на исходе дневного цикла, остров представлял собой естественную ловушку. Узкий, вытянутый на пару с лишним лье вдоль поросшего джунглями берега, он отделялся от него проливом – где в пятьсот, где в тысячу шагов. Его дальняя оконечность была высокой, обрывистой и скалистой, но утесы постепенно понижались, превращались в огромные валуны, затем в камни поменьше, напоминавшие округлые слоновьи спины, и, наконец, за рощицей приземистых толстоствольных деревьев улеглось стадо песчаных дюн. В этом месте остров переходил в длинную изогнутую косу с нешироким золотистым пляжем, плавно стекавшим к гостеприимной лагуне. Вода в ней была прозрачнее хрусталя, а ближние скалы и заросли обещали укрытие от ливней, топливо для костров и крупные, величиной с кулак, съедобные плоды. В общем, подходящий берег для привала, когда идут дожди и быстрое течение не позволяет плыть под парусом и веслами. Не в силах избежать соблазна, путники останавливались здесь по вечерам, а тех, кто пытался преодолеть пролив, опять же выносило к пляжу, на золотые пески, под топоры и дубины криби. Фокус заключался в том, что на исходе суточного цикла ток воды в проливе нарастал гораздо быстрее, чем в широкой реке, и пройти его в этот период было невозможно. Что же касается путников, то они зачастую устремлялись в пролив, не желая огибать внешнюю часть острова, – и в этой огромной реке держались поближе к берегам, в нейтральной зоне, где не водились водяные черви, дельфины-рогачи и жуткие, закованные в панцирь чудища глубин. Галера покорно скользила вниз по течению, едва пошевеливая веслами. Воины с блестящими голыми черепами стояли вдоль бортов; в надвигавшемся сумраке редкий солнечный отблеск касался то кольчуги, то острия дротика, то гладкой отполированной палубы. Предводитель – его доспех был украшен перьями и раковинами – замер на носу, всматриваясь в поверхность воды и направляя корабль резкими гортанными выкриками. Пленник, обмотанный веревкой, по-прежнему висел у мачты; его тонкие обнаженные руки, привязанные к рее, были вывернуты в кистях, черты скрыты пологом золотистой шерсти. Когда корабль проплывал под утесом, где затаились криби, он, будто ощутив на себе взгляд Дарта, поднял голову, дернул ею, отбрасывая пряди с лица, и оглядел вершины скал. Это была женщина! Не шерсть, а золотые волосы падали ей на спину и грудь, и между ними просвечивала нежная розово-смуглая кожа; щеку пересекал рубец, и такие же шрамы от кнута или плетки виднелись на плечах, руках и шее. Но это не портило ее изысканной красоты – не больше, чем рваная грязная туника, спутанные космы, царапины и синяки, явный след жестоких побоев. Лицо ее хранило высокомерное выражение, глаза горели неукротимым огнем, и с краешка плотно сжатых губ стекала по упрямому подбородку струйка крови. «Настоящая леди, – подумал Дарт, чувствуя, как на висках проступает испарина. – Леди, попавшая в беду! К дикарям, разбойникам, мужланам!» Его рука с растопыренными пальцами легла на эфес шпаги, потом сомкнулась на рукояти; привычным движением он вытащил до половины клинок и с лязгом загнал его в ножны. Заметив это, Вау раззявил в ухмылке широкую пасть, а криби возбужденно загалдели. Скудость слов в их языке искупалась жестами; жесты страха, голода или покорности они понимали отлично, так же, как жест угрозы. – Дат бить тиан острый палка, потом кусать, стать толстый, сильный? – с надеждой произнес Вау. Это была неимоверно длинная фраза для волосатого, из целых десяти слов, выражавшая сложное умозаключение. Произнести ее был способен лишь Вау, и это доказывало, что он не обделен ни силой, ни умом и по праву избран предводителем. – Мой бить, – подтвердил Дарт, проверяя, легко ли выходит из ножен кинжал. – Мой бить тиан, твой давать самка. Хак-самка, – уточнил он, ткнув острием кинжала в сторону галеры. Самок криби Вау предлагал ему не раз, выбирая наиболее соблазнительных и толстых, с грудями, свисавшими до живота, – и очень огорчался, что Дарт никак не хочет повалять их в травке, вблизи жилых пещер. Вождь, приподнявшись над камнем, взглянул на привязанную к мачте пленницу и пренебрежительно скривился. – Плохой самка, тощий! Самка криби лучше. Этот – хак-капа! Кусать! – Не кусать! Мой! – Дарт стукнул себя кулаком в грудь и оскалил зубы, что служило у волосатых знаком крайнего неудовольствия. – Твой, – быстро согласился вождь, с опаской отодвинувшись от кинжала. – Твой! Дат тощий, самка тощий, щенок тоже быть тощий! Пропустив этот образчик первобытного юмора мимо ушей, Дарт следил, как корабль входит в лагуну. Теперь сильное течение не противодействовало, а помогало гребцам; чуть пошевеливая веслами, они подогнали судно к берегу, затем старший – тот, что в раковинах и перьях, – выкрикнул приказ, с носа и кормы галеры сбросили что-то темное, тут же ушедшее под воду, и с низких бортов начали прыгать воины. Трое из них отвязали пленницу и, подгоняя ее пинками, потащили к дюнам, швырнув там на песок. Предводитель снова что-то выкрикнул, весла исчезли в бортовых прорезях, затем на палубу повалили гребцы; все – в кольчугах, с дротиками и секирами на длинных гибких рукоятях. Их движения показались Дарту странными – слишком резкими для человека и более похожими на то, как перемещаются насекомые, кузнечики или богомолы. Он пересчитал их и задумчиво потер свой длинноватый, тонко очерченный нос: он не ошибся, пришельцев было никак не меньше полусотни. – Много тиан, – прохрипел Вау за его спиной. – Хорошо! Много кусать! Дождавшись момента, когда все путники покинули корабль, вождь оттопырил нижнюю губу, грозно оскалился и рявкнул: – Ха-аа! – Ха-ааа! – поддержали воинственный вопль криби. Шерсть на их загривках встала дыбом, палицы взметнулись в воздух, и лавина бурых волосатых тел хлынула к берегу.* * *
Дарт, гибкий и длинноногий, обогнал волосатых соратников шагов на тридцать и оказался на пляже одновременно с бойцами Оша и Хо. Их натиск поначалу ошеломил тиан – пятеро или шестеро пали на землю с разбитыми головами, десяток попытался отступить к лагуне, но там их поджидали воины из группы Оша. Раздался яростный клич, взлетели дубины, сверкнули лезвия топоров, фонтаном ударили алые брызги, и прямо в воде, между берегом и кораблем, завязалась кровавая свалка. Исход ее был предрешен – криби вдвое превосходили пришельцев численностью. Но большая часть тиан, атакованных Хо, сплотилась вокруг вождя, случайно или намеренно отгородив от Дарта пленницу. Они, вероятно, были опытными воинами: встали кругом, и половина тут же взялась за секиры, а остальные с убийственной силой и меткостью принялись метать дротики. Рев волосатых перешел в жалобный визг, несколько криби рухнули и стали кататься в песке, прижимая лапы к ребрам или распоротым животам, одни нападавшие отхлынули, другие бросились к пришельцам – прямо под удары секир с закругленными лезвиями. Этим своим оружием тиан владели с отменной ловкостью, раскраивая черепа и отрубая конечности. Еще на бегу Дарт заметил, что их противники – не люди. Криби можно было с гораздо большим основанием счесть представителями хомо сапиенс или хотя бы их далеких предков; они являлись пятипалыми, живородящими, с заметными знаками пола и скелетом, который, если не вдаваться в подробности, весьма походил на человеческий. Тиан выглядели совсем иначе – другая раса, может быть, гуманоидная, но явно нечеловеческая. Их руки и ноги гнулись в самых невероятных местах, лица, безносые и безгубые, казались лишенными мимики, под высоким куполообразным лбом мерцали три щелевидных глаза, а слишком вытянутые челюсти напоминали крокодилью пасть. То, что он принял за кольчуги, было их собственной чешуйчатой кожей; их торс опоясывал широкий ремень, другие ремни, поддерживающие оружие, перекрещивались на груди, и, кроме этого, тиан не носили никаких одеяний. Дарт врезался в их строй, отбив кинжалом выпад секироносца и поразив шпагой метателя дротиков. Тот упал; под челюстью, где лезвие проткнуло горло, выступила оранжевая кровь, ноги конвульсивно дернулись. Двое тиан с топорами тут же придвинулись к Дарту; сгущавшийся сумрак делал их резкие движения внезапными и слишком опасными. Он отскочил, стремительным взмахом клинка рассек ближайшему воину шею, пригнулся, когда над головой просвистел топор, ударил кинжалом. Лезвие с усилием проткнуло кожу – будто это и не кожа вовсе, а плотный и толстый колет. Набежали волосатые из группы Вау. Часть ринулась в прореху, проделанную Дартом, часть, во главе с вождем, обошла пришельцев, отрезав их от воды. Кто-то свалился, сраженный дротиком, кто-то взвыл под ударом секиры, но в ближнем бою сила и сучковатые палицы давали криби преимущество. С победным ревом они крушили противникам кости; тиан, отступая шаг за шагом, откатывались к дюнам и умирали с холодными бесстрастными лицами. Яростная схватка кипела на песчаном берегу, под быстро темнеющим сизым небом, и на мгновение Дарта пронзила нелепость вершившегося. Что он делает тут, среди первобытной орды? За что сражается, кого убивает, кого защищает? Потом он вспомнил о пленнице и с удвоенной энергией заработал шпагой. Чутье бывалого солдата подсказывало ему, что враги еще никогда не сталкивались с подобным оружием. Клинок, способный колоть и рубить, был для них чем-то новым, незнакомым и потому ужасным; секиры и дротики не защищали от серебристой сверкающей полосы, и каждый удар, каждый укол и выпад был смертоносен, как рухнувшая с неба молния. Шаг за шагом пробиваясь к женщине, Дарт зарубил еще четверых, с привычной сноровкой орудуя клинком; он не помнил, когда и в какой стране ему преподали это губительное искусство, но твердо знал, что является мастером, одним из лучших фехтовальщиков Земли. Временами в памяти его мелькали названия приемов и стилей, лица и титулы бойцов, с которыми он скрещивал клинок; он слышал азартные выкрики, видел колыхание перьев на шляпе, противника в окровавленном камзоле, роняющего шпагу. Впрочем, эти воспоминания были смутными, очень смутными. Дротик предводителя тиан вспорол кожу на его плече. Вождь был выше остальных пришельцев, шире в плечах и, вероятно, старше: его чешуя поблекла, а на голом черепе и лбу отливала серым. С длинной гибкой шеи свешивалось ожерелье из зеленоватых раковин, другие раковины и перышки переливались на искусно инкрустированных ремнях, три темных глаза с угрозой смотрели в лицо Дарту. Он прыгнул вперед, ударил тяжелым башмаком по ноге предводителя и, когда тот покачнулся, пронзил ему кинжалом висок. Кость с хрустом треснула, и труп свалился прямо на пленную женщину. Волосатые взревели, затем раздался громкий вопль Вау, сигнал к окончанию схватки, и Дарт, выпрямившись, увидел, что никого из пришельцев взять живьем не удалось. Пляж, заваленный мертвыми и ранеными, напоминал скотобойню, на взрытом песке валялось оружие, пестрели багровые и оранжевые пятна, и криби, пробираясь среди тел соратников и врагов, добивали тех и других, тащили трупы к пещерам. Теперь это было всего лишь хак-капа – мясо, предназначенное для вертелов. Женщина, придавленная телом мертвого вождя, зашевелилась. Дарт наклонился, сдвинул труп, перерезал веревку и помог ей подняться. Сердце его, бившееся в ритме сражения, ударило еще сильней и чаще; образ Констанции на миг промелькнул перед ним, но тут же исчез, будто смытый водопадом золотистых локонов. Глаза у пленницы были серыми и огромными, в веерах удивительно длинных ресниц, губы – яркими, алыми, грудь – высокой, а стан и бедра – тех изящных форм, какие будили воспоминания о вазах и древних беломраморных статуях. Но главное, она была теплой, живой и находилась здесь, рядом, в отличие от Констанции. «Увижу ли я ее когда-нибудь?..» – мелькнула мысль у Дарта. Без Марианны разделявшие их бездны казались неодолимыми… Пленница, изумленно приоткрыв рот, смотрела на него. Он поклонился, приложил к сердцу ладонь, затем произнес на фунги, тщательно подбирая слова: – Не опасайся за свою жизнь. – И, сделав паузу, добавил: – Могу ли я узнать имя благородной госпожи? Губы женщины шевельнулись, будто она хотела ответить, но тут ее взгляд упал на труп предводителя тиан. Серые глаза полыхнули гневом, ярость исказила прекрасные черты; ударив мертвеца ногой, она сорвала с него ожерелье и хрипло расхохоталась. – Ты, отродье безмозглой ящерицы! Чтоб тебя пожрал туман Элейхо! Ты не поверил моим снам, которые посылает Предвечный? Ты говорил, что мой язык лжив? Ты поднял плеть на ширу Трехградья? И ты убил Сайана! Чешуйчатая тварь, лысая жаба, безносый ублюдок, не знавший матери! Ты убил его, а мне не поверил, так? А ведь я видела и этот берег, и песчаные горы, и смерть твоих потомков, вылезших из тухлого яйца, и острый шип в твоей башке! Все так и случилось, ибо просветленная шира из Трехградья, избранница Элейхо, всегда пророчит истину! Дарт взирал на нее в немом восторге. Впервые он встретился здесь с существом, которое было подобно ему – и не только внешне, телесным обличьем и чертами. Она выглядела, как человек, она говорила, как человек, и от нее пахло человеком. Точнее – женщиной. Этот аромат кружил Дарту голову. В последний раз пнув мертвеца, незнакомка повесила на шею ожерелье из зеленых раковин. – Ты, гнилое мясо! Ты убедился, кто из нас прав? Я все еще жива, а твою плоть съедят мерзкие волосатые криби! – Такая судьба может постигнуть и благородную госпожу, – произнес Дарт, вкладывая клинок в ножны. – Это было бы очень печально! Тем более что я до сих пор не знаю твоего имени и не ведаю, кого мне выпала честь спасти. Она вскинула головку в нимбе спутанных золотистых прядей, и Дарт заметил, что на правом ее виске переливается кружок из перламутра. Женщина погладила его, словно желая привлечь внимание к этому знаку, и коснулась тонкими пальцами ожерелья. Был ли в том повинен наступавший сумрак или иные причины, но Дарт мог поклясться, что раковины в нем стали голубеть. – Ты должен согнуть колени, когда говоришь со мной. Мое имя – Нерис Итара Фариха Сассафрас т'Хаб Эзо Окирапагос-и-чанки. Я – просветленная шира из Трехградья! – Никогда не слышал, – признался Дарт с вежливым поклоном, оглядывая пляж. Вау, Ош и большая часть волосатых уже отправились к пещерам, а остальные, под командой Хо, складывали в штабель мертвые тела. Груда получалась внушительная. – Не слышал о Трехградье? – Глаза женщины широко распахнулись. – Откуда же ты? Кто ты такой? И как твое имя? – Дарт. – Соразмерив краткость собственного имени с титулами Нерис, он с вызовом добавил: – Дарт, по прозвищу Дважды Рожденный. – Странно! Вторую жизнь дает Предвечный, и не здесь, а только лишь в своих чертогах… Как можно родиться дважды? И что это значит? – Именно то, что я сказал. Я воин и странник, пришедший издалека. Из очень далеких краев. Она оглядела его рослую сухощавую фигуру, обнаженный торс, царапину от дротика, алевшую на плече, кинжал, шпагу и металлический цилиндр дисперсора, пристегнутый к бедру. Потом покачала головой. – Ты, вероятно, не лжешь, клянусь милостью Предвечного! Ты в самом деле воин, великий воин… Я видела, как ты убивал тьяни… И ты пришел из далеких краев. Может быть, с другой половины мира? И, может быть, ты не только воин? – В ее глазах мелькнуло непонятное подозрение. Нахмурившись, она добавила: – Здесь, на этой стороне, мне еще не попадались существа, не слышавшие о Трехградье. А я встречала многих… я, просветленная Нерис Итара Фариха Са… – Прости, что перебиваю, – заметил Дарт, – но я буду звать тебя Нерис. Мир жесток, ма белле донна, и обитающим в нем лучше иметь имена покороче. Длинное имя требует долгого времени – такого, что, пока его произнесешь, можно лишиться головы. Или я не прав? Женщина поморщилась, растирая покрытые рубцами плечи и полунагую нежную грудь. Внимание Дарта приковали розовые соски – они просвечивали сквозь тунику, словно пара спелых вишенок. – Ты не ошибся, воин… как тебя?.. Дважды Рожденный?.. Мир и правда бывает жестоким – не успеет вылететь слово, как становишься пленницей и попадаешь под удар плетки или в пасть дикаря. Поэтому слово короткое и быстрое лучше длинных речей… – Она посмотрела на труп вождя тиан, который волосатые тащили к штабелю, и мрачно усмехнулась: – Я разрешаю: зови меня Нерис, но не забывай добавлять – шира или просветленная. И приседай, когда обращаешься ко мне. Вот так! – Она присела, с изяществом склонив головку и вытянув руки над коленями. – Приседать слишком утомительно, моя прекрасная госпожа, – возразил Дарт. – Может, сойдемся на том, что я буду дрыгать ногой или подмигивать? Нерис недовольно поморщилась. – Да, не очень верится, что ты согласишься приседать… Ты ведь из тех, что приходят к трапезе последними, зато хватают лучшие куски! Слишком сильный и слишком гордый… Так? – В общем, правильно, но со мной можно договориться, – откликнулся Дарт и присел для пробы. – Ну, как у меня получилось? – Неплохо, совсем неплохо… Губы Нерис дрогнули, личико напряглось, будто она удерживалась от смеха. Дарт снова присел, в надежде увидеть ее улыбку. – Чего теперь желает ваше просветленное высочество? – Иди на корабль и отыщи там мой мешок из шкуры полосатого маргара. Ты знаешь, кто такой маргар? – Женщина бросила на него странный взгляд, потом подняла глаза к затянутому тучами небу и нахмурилась, словно что-то припоминая. – Большой мешок… я думаю, он лежит под скамьями гребцов… Принеси его, Дважды Рожденный, а затем отведи меня в такое место, где можно переждать дождь и не видеть этих мерзких криби, пожирателей падали. Я устала. И я хочу есть и спать. – Бьен! Слушаю и повинуюсь, моя прекрасная госпожа. С неохотой оторвавшись от созерцания ее груди, Дарт зашагал к галере, влез на палубу и нырнул в трюм. Чешуйчатые твари, вылезшие из тухлого яйца, были, вероятно, существами аккуратными: в трюме царил порядок, весла сложены вдоль бортов, груз – факелы, пропитанные горючим веществом, какие-то свертки и корзины, от которых тянуло кислыми запахами, – не загромождал прохода, а был сложен на корме и носу. Мешок, в самом деле основательный, из мягкой шкуры в серую и черную полоску, отыскался под пятой скамейкой. Дарт поднял его и уже примерился взвалить на спину, как в мешке что-то завозилось, захныкало и запищало. Писк был вроде бы членораздельный, одно и то же слово повторялось вновь и вновь, будто некое существо, жалуясь на превратности судьбы, рыдало: «Голлоденн, голлоденн, голлоденн…» От неожиданности он уронил мешок и машинально перекрестился. Потом поднял его, встряхнул и вылез из трюма. Тело его начало тяжелеть, речной поток ярился и ревел, будоража тихие воды лагуны и раскачивая галеру, тучи грозили вот-вот разразиться дождем, и волосатые торопливо тащили с пляжа последних мертвецов. Нерис стояла на берегу, массируя распухшие запястья, и ожерелье на ее шее сделалось совсем голубым. Дарт спрыгнул в воду, прошлепал по песку и показал ей мешок: – Этот? Она молча кивнула. – Там кто-то просит есть. Лоб Нерис пересекла морщинка. С минуту она в недоумении взирала на собственный багаж, потом, всплеснув руками, вскрикнула: – О! Бедный мой Брокат! Я же забыла о тебе! Я подумала, что тебя придушили эти потомки ящериц! А ты жив! И голоден! Ее пальцы уже распутывали завязки мешка, отгибали клапан из полосатой шкуры. Что-то коричневое, пушистое вырвалось на свободу, расправило крылья, взлетело и с писком «голлоденн!.. голлоденн!..» закружилось над головой Дарта. Он невольно отшатнулся. Наконец-то она рассмеялась! Смех ее был подобен карильону – такой же нежный и чистый, как перезвон колоколов. – Не бойся, Дважды Рожденный! Это всего лишь Брокат, малыш Брокат, мой крохотный помощник. Умеет немного летать, немного говорить, немного лазать по деревьям… всего понемногу. Брокат, сложив крылья, вдруг опустился к Дарту на плечо. Теперь он разглядел пушистое создание поближе: четыре лапки с острыми коготками, заросшая мягкой шерсткой кошачья мордочка, два круглых агатовых глаза и крохотная розовая пасть, полная зубов. Зубки были небольшими, но походили на хорошо отточенные иглы. Теплый длинный язык лизнул ссадину на плече Дарта, и существо тут же довольно заурчало и зачмокало. Тонкие брови Нерис приподнялись. – Во имя Предвечного… Брокат признал тебя… – промолвила она благоговейным шепотом. – Это что-нибудь значит, мадам? Последнее слово он произнес на родном языке, на что Нерис не обратила внимания. – Это значит, что тебе можно довериться, воин. Разве ты забыл, что… Впрочем, нет, это я снова впала в забывчивость… забыла, что ты явился издалека, не встречал таких существ, как Брокат, и ничего о них не знаешь. – Забывчивость – самый очаровательный из женских недостатков, – дипломатично отозвался Дарт, наблюдая, как пушистый летун облизывает царапину. Нерис кивнула. – Покорми его, покорми, и рана твоя заживет быстрее… Он голоден и питается только кровью… но не всякой, а теплой, живой, и лишь от тех созданий, которые ему по нраву. – Пальцы ее коснулись ожерелья, чьи плоские раковины уже отливали синевой. Затем она поглядела на тучи, клубившиеся в вышине, и пробормотала: – Приходит синее время, период дождя и тяжести, еды и сна… обычного сна, ибо я слишком измучена для прорицаний… но силы мои восстановятся, и я спрошу у Предвечного… обязательно спрошу… – Спросишь – что? – Дарт подтолкнул ее к проходу между дюнами. Женщина бросила на него удивленный взгляд. – О нашей судьбе, разумеется! Ведь я – шира! Первые струи дождя обрушились на них, когда до пещер оставалось четверть лье. Брокат взвизгнул, оторвался от ранки, обхватил лапками шею Дарта, защекотал его пушистой мордочкой. Нерис, охая и постанывая, ускорила шаг. Мокрая туника облепила ее стан и ягодицы. Дарт шел следом, пялился на это зрелище, тащил мешок и размышлял о своем везении. Немалая удача! Тут, в чуждом и незнакомом краю, он встретил женщину! Настоящую женщину! Возможно, это стоит всех недавних бед, потери Марианны и пропажи Голема… Возможно, это знак судьбы: все, что происходит, делается к лучшему… Возможно, он уплывет с острова, избавится от криби – и так ли, иначе, но завершит свою миссию… Он любовался походкой и стройными бедрами Нерис, и сейчас ему не хотелось думать о том, что у него на плече сидит вампир, что эта женщина, шира из Трехградья, повадками напоминает ведьму и что он скорее всего тащит мешок с принадлежностями ее ремесла.Глава 3
Для жилья Дарт выбрал крайнюю из всех необитаемых пещер. Она была невелика, зато находилась подальше от криби, и рядом рос плодоносящий кустарник с гроздьями крупных ягод, похожих на виноград. Мысль о винограде время от времени всплывала в сознании Дарта; ему вспоминалось, что из таких сизо-синих гроздей делают веселящий напиток, который он пробовал в минувшей жизни. Он даже ощущал его вкус – терпкий, слегка кисловатый – и всякий раз испытывал чувство горестной потери. На Анхабе не было вина. Сбросив мокрую тунику, Нерис рухнула на пол и вытянулась с блаженным стоном. В сгустившемся полумраке кожа ее приобрела оттенок старой бронзы, испещренной узкими полосками; они темнели всюду – на руках и бедрах, на животе и плечах, перемежаясь с кровоподтеками и царапинами. «Следы кнута, – сочувственно подумал Дарт, расстегивая пояс. – Ее били, и били жестоко. Почему?» Пол пещеры зарос мягким, но упругим мхом, в котором нога не оставляла следов. В дальнем углу лежал скафандр – темный, мертвый, лишенный энергии. Но он был небесполезен, ибо автономные устройства из спаскомплекта, такие, как визор и целитель-прилипала, все еще работали. Опустив рядом мешок, Дарт посадил на него пушистого зверька – уже сонного, дремлющего – и сдвинул нагрудную пластину скафандра. Тут, в специальных ячейках, хранились прилипала, универсальный исцеляющий прибор, и небольшой контейнер с пищевыми шариками. Он выщелкнул желтую крупинку на ладонь, подцепил двумя пальцами и поднес к губам Нерис: – Вот, съешь. Женщина скосила глаза на скафандр, пробормотала что-то непонятное, о маргарах и их таинственном снаряжении, потом уставилась на крупинку. – Что это, Дважды Рожденный? – Пища. Или ты тоже сосешь кровь, как твой Брокат? Она усмехнулась и слизнула шарик розовым язычком. – Сосу, но не из всякого мужчины. Ширы, знаешь ли, имеют возможность выбирать… Дарт не ответил ни слова, лишь заломил бровь. «Многообещающее начало!..» – подумалось ему. Вернув контейнер на место, он вытащил восьмиконечную звездочку целителя, активировал его и попытался пристроить на шее женщины. – А это что? – она слабо отмахнулась. – Это… – Он на мгновение задумался, ибо в фунги не было понятий, обозначающих прибор. – Эта вещь тебе поможет. Вылечит раны, сделает здоровой. Нерис оттолкнула его руку, пробормотала: – Мертвая вещь, ненужная… я исцелюсь сама… я – шира… Скажи-ка лучше, воин, на этом острове растет врачующий цветок? Или дерево туи? – Может быть. Какие они собой? – Раз спрашиваешь, значит, не растут… – Голос Нерис делался все тише и тише, она засыпала. – Если бы ты видел цветок, то не забыл бы… он… он такой… алый, прекрасный… большой, как… Шепот прервался. Дарт снял оружейный пояс, стянул с себя башмаки и комбинезон, осмотрел плечо, подивился – края ранки уже сошлись – и лег на спину. Мох мягко пружинил под ним, щекотал кожу длинными тонкими щупальцами, облака плыли в вышине, скрывая солнце, сумрак сгущался, тело становилость тяжелей, веки смыкались. За узкой неровной щелью входа серой завесой падал дождь, разрисовывал небо косыми струйками, напевал, шелестел, убаюкивал. Как дарующий сон прибор в воздушном дворце Джаннаха…* * *
Джаннах`одривелис»ахарана`балар… Полное имя Джаннаха было почти таким же длинным, как у недавней пленницы чешуйчатых тиан, и определяло как его индивидуальность, так и статус в анхабском обществе и принадлежность к Ищущим. Верхний штрих означал придыхание, а два штриха – мелодичный свист; к тому же кое-какие гласные растягивались, так что звучание не соответствовало написанию, напоминая скорее музыкальную фразу. Дарт, обладавший превосходным слухом, произносил имя и титул Джаннаха без всякого напряжения. Место, в котором они встречались, нельзя было назвать чертогом, беседкой или цветником, ибо оно, не являясь ни тем, ни другим, ни третьим, соединяло элементы всех этих сущностей, привычных разуму землян. Тут были стены – но тонкие, в цветных узорах, зыбких и текучих, словно прорисованных водой, пропущенной через палитру акварельных красок; тут были столбики, поддерживающие потолок – стволы деревьев без ветвей, что распускали листья высоко вверху, огромные, продолговатые, чье переплетение и создавало кровлю; тут был пол – прозрачный, но не стеклянный, а из упругой массы, способной приближать и отдалять наземные пейзажи; тут были окна – отверстия в стенах, причудливых форм и размеров, возникавшие и исчезавшие в строгой гармонии со звуками и ароматами. Запахи и звуки составляли такую же часть убранства, как живые цветы, парившие в воздухе, как солнечный свет, профильтрованный листьями кровли, как странная мебель – сиденья, столешницы и ложа без видимой глазом опоры, радужные пузыри шкафов и перламутровые шторки, скрывавшие то нишу со старинной вазой эпохи Позднего Плодоношения, то транспортный лифт или выход на опоясывающую замок галерею. Это огромное помещение – или, вернее, жилое пространство под серебристым зонтом энергетического накопителя – всегда смущало Дарта своей необычностью. С мыслью о том, что вся конструкция подвешена на расстоянии лье от твердой почвы, он кое-как смирился; он не страдал боязнью высоты, и путешествия в замках и воздушных лодках-трокарах не повергали его в шок – даже в первые дни воскрешения, когда Анхаб мнился ему райской обителью. Эти полеты стали в конце концов делом понятным и привычным; он сам немало постранствовал среди звезд, летал над поверхностью многих планет, но всюду и всегда – окруженный непроницаемой оболочкой Марианны. Корабль и жилище являлись для него синонимом защиты, связанной с прочностью, надежностью, постоянством, и потому он не мог примириться с домами анхабов. В них не было ничего неизменного: стены, предметы обстановки и даже растения могли вдруг исчезнуть и появиться вновь, но уже в ином, преображенном виде. Вероятно, это странное бытие отражало сущность его повелителей, способных к телесным метаморфозам и временами менявших облик до неузнаваемости. Джаннах был одним из немногих приятных исключений. Возможно, в других местах и в иных обстоятельствах его обличья изменялись, но Дарт, встречаясь с ним, видел изо дня в день одно и то же – мужчину лет сорока с худощавым лицом, удлиненным остроконечной бородкой, над которой закручивались усы, с широким выпуклым лбом и пронзительным взглядом темных глаз. Его одеяние тоже не отличалось разнообразием: неизменный красный камзол, такого же цвета штаны и чулки, туфли с серебряными пряжками, тонкие кружева вокруг запястий и шеи, шляпа с широкими полями. Дарт твердо знал, что человек с таким лицом, в такой одежде считался когда-то властелином – может быть, не всей Земли, однако над ним, над Дартом, власть его была безмерной. Лишь это помнилось ему из прошлой жизни, а в остальном зияла пустота. Он не сумел бы сказать, был ли этот человек другом ему или врагом, отцом, покровителем, старшим товарищем или ненавистником, желавшим зла. Как бы то ни было, Джаннах избрал для себя удобное обличье! Трудно спорить с таким человеком. Однако приходилось. – Земля, – произнес Дарт, поигрывая цепью, свисавшей поверх коричневого колета. – Вы обещали вернуть меня на Землю, сир. А обещания нужно выполнять. Так полагается меж благородными людьми. – Я дал повод усомниться в моем благородстве и честности? – Брови Джаннаха взлетели вверх. – Нет, сир. Вы лишь не уточнили срок моей службы. Я улетаю, и я возвращаюсь, вновь улетаю и вновь возвращаюсь… Так длится не первое десятилетие. И что я должен думать? Что служба моя продлится до скончания веков? Но если так, то что означает ваше обещание? Обман? Джаннах энергично повел рукой, и тихая мелодия, наполнявшая замок, переменилась, сделавшись более звучной и тревожной. Сюита эпохи Посева, столетий творчества и перемен… – Вы слишком нетерпеливы, мой юный друг, слишком нетерпеливы и недоверчивы. Вспомните, что получено вами в виде залога! – Он поймал парившую в воздухе лиловую розу и принялся обрывать лепестки. – Вы погибли на поле битвы от множества ран, но Ищущие перенесли вас сюда, реанимировали и даровали вам новую жизнь. Это первое. Очень немало, не так ли? – Лиловый лепесток закружился над головой Джаннаха. – Вы были стары, ибо в вашем несовершенном мире срок человеческой жизни ничтожен. Танец пылинки в солнечном луче! Краткий путь из материнского чрева к могильному мраку… Если б вас не убили в том сражении, ваша судьба была бы печальной – болезни, боль от старых ран, дряхлость, одиночество и немощь… А где эти раны теперь? Их нет! Вы снова молоды, сильны, здоровы! Ваш организм усовершенствован, что-то добавлено, что-то изъято, как лишняя поросль на лице… – Усмехнувшись, Джаннах коснулся своей остроконечной бородки. – И это наше второе благодеяние, о коем не следует забывать! Дарт молча поклонился; потеря усов и бороды его совсем неогорчала. Новый лепесток поплыл над хрустальным полом, распространяя сладковатый запах. – Теперь поговорим о человеческой природе. Она такова, что в бедствиях ваши соплеменники мечтают обрести богатство и покой, но, получив их, испытывают скуку и тоску. Пресыщенность, мой друг, пресыщенность! Такое же, каким страдает наша раса, давным-давно достигшая покоя… А ведь секрет так прост! Покой и опасность, расслабление и напряжение сил, чередование впечатлений, отдых, сменяемый периодом странствий… Вы это получили, разве не так? Разве могли вы жить на Земле в подобной роскоши? – Джаннах оборвал третий лепесток и сделал плавный жест, будто обнимая лазурные небеса с парившими в них замками, дворцами, летающими платформами и зеркалом энергетического накопителя. – И разве могли вы мечтать о странствиях среди звезд, о новых мирах, где приземлялся ваш корабль? О том необычном, что вы увидели и испытали в них? – Он сделал паузу, выпустил цветок, всплывший над ладонью, и задумчиво поглядел на него. – Разумеется, эти вояжи опасны, но вы из тех людей, кого опасность привлекает. Вы, Дарт, умеете справляться с ней… умеете лучше, чем прочие наши разведчики… ваша удачливость необъяснима… Собственно, потому мы и выбрали вас. И выбираем снова. – Не столь уж радостная весть, – пробормотал Дарт, представив пустоту и мрак Инферно. Внизу, за прозрачной пластиной, расстилался прелестный пейзаж: река, петляющая меж невысоких, поросших соснами холмов, сизо-зеленые травы в низинах, золотистые змейки дорожек из плотного песка, разноцветные шелковые шатры вокруг ровного поля, где мелькали крохотные фигурки – видно, шла какая-то игра. По реке плыл прогулочный кораблик под парусом цвета весенней листвы. Повинуясь невысказанному желанию, пол приблизил суденышко, давая возможность разглядеть нагие тела на палубе: одни напоминали людей, другие – наяд и тритонов с человеческим торсом и рыбьим хвостом. Вид был мирный, очаровательный и так непохожий на смутные воспоминания о Земле! Там, насколько он помнил, шла непрерывная война: сосед ополчался на соседа, поля и рощи обагрялись кровью, пылали замки, под грохот пушек и мушкетов тонули корабли, звенела сталь на площадях городов, да и сами эти города были, в лучшем случае, скопищем уродливых грязных строений за крепостной стеной, а в худшем – рассадником недугов, зловонными клоаками, где по улицам струились нечистоты. И все же он отказался бы от половины анхабских даров, чтоб очутиться на Земле! Пусть он будет беден и не столь силен, немолод и не так здоров… Пусть у него растет борода, пусть! Зато… – На этот раз вы полетите в дальний поиск, – сказал Джаннах, и мысль Дарта прервалась. – Задача будет сложной, требующей особой подготовки, чем и займется наш специалист. Фокатор, один из лучших Ищущих. Ее зовут… – Раны Христовы! – Дарт отступил на шаг и прислонился к дереву-подпорке. – Простите, сударь, я знаю, что вы умеете убеждать, но наш разговор о Земле еще не закончен. Как и о сроках моего служения. Раздался резкий музыкальный аккорд, в воздухе повеяло грозовой свежестью. – Вы упрямы, – произнес Джаннах после недолгой паузы, – очень упрямы. Что ж, не самый худший из человеческих недостатков… Так вот, к вопросу о Земле. Вы представляете, мой друг, в какое время вас сюда забрали? Дарт пожал плечами. Его понятия об истекшем времени были такими же смутными, как память о человеке, послужившем для Джаннаха прототипом. – Полагаю, тридцать или сорок лет назад, – пробормотал он и, заметив улыбку, мелькнувшую на лице собеседника, поправился: – Может быть, восемьдесят или сто… Голова Джаннаха качнулась совсем человеческим жестом отрицания. – Вы ошибаетесь. Вы помните лишь годы, проведенные на службе, но перед тем вы долго пролежали в криогенном депозитарии. Видите ли, мой дорогой, ныне гильдия Ищущих невелика, сотен пять энтузиастов, по большей части занятых техническими проблемами… я имею в виду системные корабли, зонды, производство иразов и снаряжения… ну, еще медицинский персонал… У нас только четырнадцать баларов, и я – один из них. – Он с достоинством погладил узкую бородку. – Функции баларов вам известны: каждый работает с одним – и только с одним! – разведчиком, намечает объекты исследования, ставит задачу, принимает информацию и анализирует ее. Разведчиков, нанятых в разных мирах, гораздо больше, чем нас, баларов. Мы храним их в депозитарии – там, где лежали и вы, мой друг. Храним до тех пор, пока не возникнет необходимость в их услугах. Дарт слушал терпеливо, хотя эти вещи были ему известны. Существование анхабов, безопасное и долгое, почти бесконечное в его представлении, тянулось тысячелетиями, так что балар мог пережить сотню-другую разведчиков. Они, солдаты удачи, рожденные в иных мирах, более примитивных и опасных, делали для анхабов то, что баларам не хотелось выполнять самим. Гибель разведчика была событием не столь уж частым, однако не исключительным, и в этой ситуации депозитарий поставлял очередного кандидата. Им щедро платили за риск – повторной жизнью, молодым здоровым телом и приключениями во всех концах Галактики. – Итак, вы ошибаетесь, – повторил Джаннах, подбрасывая розу на ладони. – Ошибка, собственно, невелика – с нашей точки зрения. Но с вашей… – Сколько? – спросил Дарт, хмуря брови. Ему не нравилось, что собеседник взирает на него со смешанным выражением печали и превосходства. – Сколько, сир? – Четыре века, друг мой. Может быть, чуть больше или меньше… Я не помню, какой сейчас год на Земле, но там наступило третье тысячелетие, это несомненно. И мир ваш совсем не тот, какой вы помните или пытаетесь вспомнить. – Джаннах деликатно смолк, даруя возможность осознать услышанное и справиться с ошеломлением. Дарт уставился ему в лицо и ждал, не говоря ни слова. – Четыре века, двадцать поколений… все изменилось, мой дорогой… человечество размножилось и шествует с триумфом по пути прогресса… Огромные мегаполисы с людскими толпами, вырубленные под корень леса, срытые до основания горы, отравленные воды и нескончаемая война, просто какая-то оргия самоуничтожения… хуже, чем было здесь до эпохи Посева… Поверьте, намного хуже! – Он передернул плечами под алой тканью камзола. – Неуютное место ваша Земля! Ужасное! Я бы не советовал вам возвращаться. Люди благородные там нынче не в цене. – А когда они были в цене? – возразил Дарт. – Но из-за этого я не беспокоюсь. Кто-то – не помню кто – сказал мне: только мужеством можно пробить дорогу, а потому не опасайся случайностей и ищи приключений. Так я и поступал и так намерен поступать в дальнейшем. – Коснувшись рукояти шпаги, он поглядел на Джаннаха с гордой улыбкой. – Если я вас верно понял, сир, вы советуете мне остаться? Даже тогда, когда моя служба будет закончена? – Вы сомневаетесь? Мне кажется, выбор между варварским миром и Анхабом – вещь очевидная. – Для вас, не для меня, – смягчая резкость своих слов, Дарт склонил голову. – Скажите, сударь, страна, в которой я родился, еще существует? И в ней говорят на прежнем языке? – Да… насколько мне известно… Последняя экспедиция в ваш мир состоялась лет двенадцать назад. Страна и язык существуют. Правда, не без некоторых изменений… – Вот видите, сир! Значит, мне есть куда вернуться. И я хочу вернуться… Вы говорите, мой мир ужасен? Пусть! Лучше иметь такую родину, чем вообще никакой. – Что ж… Вы сделали выбор! – На миг черты Джаннаха словно размылись, лицо сделалось мягче, блеск глаз померк. Дарт знал, что это – свидетельство волнения и душевных потрясений. Радикальная перемена облика требовала от метаморфов-анхабов больших усилий, но малые трансформации давались им без труда и как бы бессознательно – что в каком-то смысле роднило их с людьми. Ведь человек тоже меняется; в радости он красив, в опасности – серьезен, а в горе – уродлив. – Вы сделали выбор, и я его уважаю, – повторил Джаннах. – Вы вернетесь, друг мой, вернетесь, закончив вашу службу. Правда, срок ее мне неизвестен. Дарт почувствовал, как сердце его сжалось. – Мон дьен! Может ли быть такое, сударь? – Может. Вы знаете, в чем назначение нашей гильдии – мы исследуем планеты Темных, древней расы Ушедших Во Тьму, исчезнувшей в те времена, когда на Анхабе еще не зародился разум. Вы это знаете, вы сами бывали в их мирах… Но ведома ли вам цель исследования? – Конечно. Вы говорили об этом не раз. Новые знания, сир. Новые машины, новые материалы, произведения искусства, различные артефакты… Я помню, сударь. – Все это так, – протянул Джаннах с сосредоточенным видом, – так и не совсем так. В нынешнюю эпоху Жатвы мы знаем столь многое, что знания обременяют нас… – Черты его снова дрогнули, размылись, поплыли; казалось, он колеблется или пребывает в нерешительности, что выглядело совсем уж невероятным. – Разумеется, новые знания всегда большая ценность, но ищем мы не только – или не столько – их. Скорее мы хотим представить, как жили Темные, к чему стремились, куда ушли и по какой причине. Видите ли, мой дорогой, мы, анхабы, – древняя раса, достигшая полного благополучия и счастья, а также изрядного долголетия. В результате нас немного, и по прошествии времен мы потеряли вкус к опасностям реальной жизни. Может быть, наш путь кончается? Может быть… Но в этом случае закономерен вопрос: должны ли мы последовать примеру Темных? – Уйти? – Дарт недоуменно нахмурился. – Но куда? – Вот этого, друг мой, никто не знает. Никто из живущих, ибо, хотим мы того или нет, каждому из нас придется приобщиться к Великой Тайне Бытия – но лишь в мгновение смерти. Тогда, и только тогда нам станет ясно, куда мы уходим, куда ведет посмертный путь и существует ли он вообще… – Лицо Джаннаха сделалось мраморной маской, потом на щеках выступил румянец возбуждения. Он улыбнулся и вдруг сказал: – Вы не находите, Дарт, что любое разумное существо чувствовало бы себя уверенней, если бы знание о предстоящей дороге открылось ему при жизни? – Я нахожу, что это вопрос метафизический и не имеющий отношения к срокам моей службы, – отрезал Дарт. – Не вернуться ли нам к конкретному делу, сударь? – Ладно, – на губах собеседника промелькнула улыбка. – Вы – представитель молодой расы, еще не осознавшей ценности вечных проблем… Но хватит! Не будем об этом говорить, ибо на такие темы вы побеседуете с фокатором, чья задача – проинструктировать и подготовить вас. Ваш новый полет будет особенным, совсем особенным… Весьма вероятно, вы добьетесь успеха, и ваша служба закончится. Дарт навострил уши. Насколько помнилось ему, для предыдущих вояжей не назначали инструкторов; задание ставил Джаннах, и он же оценивал результаты – те сведения, которые извлекались в процессе ментоскопирования. Может быть, эта экспедиция и в самом деле будет особенной? Взгляд Джаннаха обратился к зыбкой переливчатой стене, безмолвным повелением раскрыв экран. Редкие звезды, искры вселенского пожара, горели в космическом мраке; одна из них внезапно приблизилась, распалась на две неравные сферы, алую и голубую, и Дарт увидел, что между ними что-то есть – еще одна точка, яркая и небольшая, сиявшая отраженным светом. Его собеседник щелкнул пальцами. Точка, расплывшись в диск, закрыла половину экрана и начала поворачиваться – медленно, неторопливо, демонстрируя озаренные солнцами поверхности. Голубую затягивали тучи, над алой небо было ясным, и Дарт различил блеск океанов, а меж ними – сушу, изрезанную лентами рек, покрытую багровой растительностью. Планета?.. – мелькнуло у него в голове. Но таких планет в природе не бывает, планеты – суть сферические тела, а этот объект подобен диску… скорее даже – линзе с выпуклой и вогнутой сторонами… чудовищной линзе размером с Землю или Анхаб… Искусственное сооружение? Вероятно… Но какое огромное! – Этот артефакт обнаружен нашим автоматическим зондом на окраине третьей галактической спирали, – тихо произнес Джаннах, взирая на мнемоническую запись. – Несомненно, конструкция Темных… Единственный в своем роде объект, ибо, как вам известно, Ушедшие не строили ни кораблей, ни космических станций. – Однако перемещались от звезды к звезде и заселили множество миров, – заметил Дарт. – Да. Как, мы не знаем, но спорить с очевидным фактом не приходится. – Джаннах сосредоточенно разглядывал вращавшийся на экране диск. – Почти плоский мир… такой, каким представляли в прошлом ваши сородичи Землю… Если не считать верхнего слоя скальных пород, воды и почвы, сооружение выполнено из вещества, которое мы назвали фералом. Очень инертная субстанция, способная, однако, проявлять активность… Мы полагаем, что фераловое ядро регулирует гравитационные процессы на планетоиде, но, вероятно, этим его функции не исчерпываются. Он смолк, и Дарт, после внушительной паузы, растянувшейся на много биений сердца, спросил: – В чем моя задача, сударь? – Доставить пробу ферала. Теоретически мы знакомы с этой субстанцией; о ней говорится в записях Темных, в тех фрагментах, что доступны нашему пониманию. Однако без подробностей… – Задумчиво покрутив большой аметистовый перстень на среднем пальце, Джаннах уточнил: – Я имею в виду, без технических подробностей. Более того, ферал упоминается в весьма необычном контексте… очень странном, друг мой… я бы назвал его религиозно-мистическим, хотя у Темных как будто не имелось ни религии, ни представлений о потустороннем мире. Вам ведь известно, что они являлись рациональными существами, не склонными к мистике и трансцендентным спекуляциям? Это безусловно так, и все же… все же… – Балар уставился на свой перстень, потом сверкнул глазами на Дарта. – Все же я вынужден признать, что это вещество… этот ферал, как мы его обозначили… словом, ему отводилась особая роль в их культуре. Особая! – Он многозначительно поднял палец. – Вы можете представить, какие отсюда следуют выводы? Дарт кивнул. Он плохо разбирался в конструкции анхабских приборов и в уравнениях поля Инферно, но с логикой у него все было в порядке. Взглянув на диск, вращавшийся под резкую бравурную мелодию, он произнес: – Уникальное сооружение и уникальное вещество… в одном и том же месте… Вы полагаете, сир, что в этом есть какой-то смысл? Может быть, отсюда, – он вытянул руку к экрану, – они и ушли во Тьму? – Во Тьму или к Вечному Свету, – откликнулся Джаннах. – Мы не знаем, мой дорогой, и думаю, что узнаем не скоро. Не ломайте голову над этими проблемами. Ваша цель – ферал, и вам понадобится все везение, чтобы совершить этот последний поиск. – Последний, сударь? – Кровь прилила к щекам Дарта. – Но вы говорили, что срок моей службы вам неизвестен… – И я вас не обманул. Я ведь не знаю, будет ли поиск успешен, не так ли? Если вы возвратитесь пустым, коллегия Ищущих возложит миссию на другого балара и другого разведчика. Повисло тягостное молчание. Дарт уставился на реку внизу и плывший по ней кораблик: люди, наяды и тритоны прыгали с палубы, кувыркались в воде, и хрустальный пол поочередно приближал их веселые смеющиеся лица. Было трудно поверить, что раса анхабов вымирает и что на всей планете их осталось миллионов пять – большей частью тысячелетних старцев, не желавших продлить себя в потомстве. Все они, однако, выглядели юными и здоровыми. Дарт подозревал, что метаморфы-анхабы, в силу своей счастливой конституции, не ведают ни дряхлости, ни старческих недугов. – Взгляните на специалиста, который проинструктирует вас, – прервал молчание Джаннах. – Как было сказано, это великолепный фокатор. Ее зовут… Он произнес какое-то длинное имя, но Дарт, поднявший глаза к экрану мнемонической записи, его не расслышал. Милое женское лицо сияло перед ним: кудри цвета темного каштана, нежная упругость щек, зрачки фиалковой голубизны, вздернутый носик над пухлым ртом, будто бы созданным для поцелуев… Девушка мнилась ему знакомой – откуда и как, Дарт был не в состоянии ответить, но твердо знал, что с нею связаны мгновения радости и горя. Были связаны… Радость любви и горечь утраты… Голос Джаннаха зудел в ушах назойливым комаром, слова скользили мимо, падали каплями дождя и уходили в песок забвения. Дарт глубоко вздохнул и попытался вспомнить: где и когда он видел ее?.. при каких обстоятельствах?.. был ли одарен ее благосклонностью?.. касался ли губами белоснежной шеи и локона, скрывавшего висок?.. Память безмолвствовала. Лишь имя всплыло из темных ее пучин, и он, не отрывая от экрана глаз, вдруг прошептал: – Констанция… Констанция!..Глава 4
Тучи еще громоздились в сумрачном небе, но ливень иссяк, когда Дарт вышел к берегу лагуны. Спать половину цикла, как это делали волосатые, он был не в состоянии; тело его подчинялось суточным ритмам Земли и Анхаба, и ночь, длившаяся здесь пятнадцать часов, казалась ему бесконечной. Он принялся бродить у подножия дюн, посматривая то на небо, то на галеру, плясавшую в мелких волнах, то на реку – ток воды в ней быстро замедлялся с падением тяжести. На Диске, как и в других посещенных им мирах, гравитация являлась важнейшим параметром, но здесь ей отвели еще одну функцию – отсчета времени. Дарт уже привык улавливать моменты полудня и полуночи, когда его тело становилось легче или, наоборот, наливалось непривычной тяжестью; ощущение же нормального веса, приходившее дважды за цикл, было связано с утренними и вечерними периодами. Может быть, все обитатели планетоида, разумные и неразумные, не исключая растений, определяют время с гораздо большей точностью, чем он, – скажем, до получаса. Можно спросить об этом у просветленной Нерис… При мысли, что есть у кого спросить, Дарт ощутил всплеск радости. Итак, его одиночество завершилось! И, надо признаться, самым приятным образом: из всех возможных вариантов он предпочитал женское общество. Конечно, не всякое; но если женщина молода и хороша собой… На миг лицо Констанции мелькнуло перед ним, с упреком напоминая о прекрасной даме, ждущей его возвращения, но эта дама была далеко, тогда как другая, спящая в пещере, – рядом. Представив ее обнаженное смугло-розовое тело, Дарт почувствовал, как пересохло в горле, и усмехнулся. В теории он был однолюбом – но разве есть безошибочные теории? Кто не ошибается, тот не кается, и даже у самых строгих теоретических построений имеется естественный предел. Он поднял валявшийся на песке дротик, затем подобрал секиру тиан и принялся рассматривать оружие. Древко и топорище были деревянными, вырезанными с большим искусством, но это не вызвало у него интереса. Он осторожно коснулся секирного лезвия – овальной плоской раковины с заточенными краями; ударил секирой по валуну, темневшему в песке, но только с пятого или шестого раза сумел разбить ее на части. Острие дротика, сделанное из шестигранного шипа или иглы длиной в ладонь, тоже оказалось очень прочным, едва ли уступавшим железному наконечнику. Но железа, меди, серебра и других металлов здесь пока что не нашлось – ни на галере тиан, ни среди товаров карликов-тири и снаряжения даннитов. Скорее всего металла на Диске не знали, так как Темные им не пользовались; их высочайшая цивилизация была сугубо биологической. Дарт прошлепал по воде к галере, осмотрел ее и убедился, что судно собрано без металлических гвоздей, заклепок или скоб. Материал вызвал его удивление – несомненно, дерево, но не пиленое, рубленое или строганое, а как бы принявшее нужную форму и размер естественным путем. Эти странные доски, пошедшие на палубу и бортовую обшивку, а также все неподвижные части, основание мачты в килевом гнезде, скамьи гребцов и все остальное были не сколочены, а склеены. Застывший желтоватый клей выступал в щелях и швах, и Дарт попробовал расковырять его кинжалом. Но эта субстанция почти не поддавалась ни лезвию, ни острию – пружинила, точно анхабский пластик, из которого делали небьющиеся кубки и посуду. Вспотев от усилий, Дарт измерил палубу шагами – получилось двадцать восемь – и возвратился на берег, чтобы еще раз полюбоваться кораблем. Хорошее судно, большое, крепкое… много надежней, чем катамаран даннитов, сожженный криби… вот на таком бы и отправиться в странствия… Пожалуй, за светлое время, под парусами и веслами можно делать тридцать лье и выбраться к океану циклов за двадцать… Или за двадцать пять… Он знал, что находится в среднем течении реки, но все-таки ближе к полярному эстуарию, чем к периферийному океану. Возможно, от прибрежных гор и той седловины со вскрытой полостью его отделяют шестьсот лье, возможно – восемьсот… Слишком большое расстояние, чтобы блуждать в лесах, среди неведомых племен, без знающего проводника, без лошади или иного транспорта, без пищи и с бесполезным, лишенным энергии скафандром… Но путешествие к океану казалось вполне реальным, если не идти, а плыть – плыть рекой на прочном корабле или хотя бы даннитском катамаране, на любом суденышке, способном преодолеть течение и двигаться быстрее, чем пеший человек. Проблема состояла в том, что для такого судна был нужен экипаж, гребцы и корабельщики, на что в обозримом будущем рассчитывать не приходилось. Вздохнув, Дарт поглядел на галеру. Да, хорошее судно, надежное, но с помощью Нерис его не вывести из бухты. Парус, может, они и подняли бы, но у него не тридцать рук, чтобы грести тридцатью веслами… А жаль! Тучи истончились и исчезли, листва на кустах за дюнами высохла, и вместе с первыми лучами солнца пляж заполонили волосатые. Тут были и самцы, и самки с выводком щенков; самые крепкие тащили дубины и молоты из камня, прочие вооружились обломками костей и раковин. Им предстояла большая работа: вернуть в первозданное состояние лагуну и береговой песок – с той целью, чтобы не вызвать подозрений у новых путников. Такая примитивная хитрость была свидетельством того, что криби все же могут воспринять какие-то идеи, пусть не слишком сложные и отвлеченные. Но, к сожалению, любая из этих идей касалась лишь желудка и процедуры копуляции. К Дарту, переваливаясь на толстых коротких ногах и почесывая брюхо, приблизился вождь. Выглядел он довольным и сытым. Впрочем, эти два понятия в языке криби являлись синонимами. – Дат кусать свой самка? – с любопытством осведомился Вау. – Нет. Самка тощий. Самка кусать еда, много еда, стать толстый. Потом Дат ее кусать. – Ха-аа! – прохрипел вождь и хлопнул в ладоши, что служило знаком одобрения. Тощие самки ему не нравились – даже на вертеле. Вздыхая и хмуря брови, Дарт следил, как три десятка волосатых под командой Оша топают к галере, разбрызгивая воду. Их шкуры лоснились, бугрились мощные загривки, вздувались мышцы на спинах и плечах, раскачивались молоты в сильных лапах… Какие гребцы пропадают!.. – подумалось ему. Но, к сожалению, эта идея была неосуществимой. Он повернулся к вождю. – Хороший хак. – Хороший, – согласился Вау. – Много дерево харири. Харири долго гореть, хорошо. – Не гореть. Криби взять хак тиан, взять свой самка, плыть река. Долго плыть. Нижняя челюсть у Вау отвалилась, губа свисла чуть ли не до груди. Кажется, он был изумлен. – Не гореть? Взять хак, плыть река? – Вождь возмущенно фыркнул. – Дат кусать плохой капа, его голова выпадать шерсть! Это означало, что собеседник отведал тухлого мяса и в результате тронулся умом. Но Дарт решил попытаться еще раз. – Криби плыть река новый место. Хороший место – много хак-капа! Много тири, много ко, много вкусный даннит! Криби кусать всех в новый место, стать толстый! – Криби кусать всех в старый место, – мудро заметил Вау, почесал мохнатую грудь и отошел в сторонку. Каменный молот в лапах Оша грохнул о доски, потом ударили кувалды и дубины остальных, жалобно заскрипело дерево, борт треснул, и в нем возникла большая зияющая дыра. Дарт отвернулся, страдальчески скривил губы и быстрым шагом покинул пляж. «Ненасытен человек в своих желаниях, – мелькнула мысль, – дай ему женщину, и он потребует шале с фонтаном, мягким ложем и бархатными покрывалами. Или корабль с гребцами…» Корабль – увы! – пойдет в костер, но вместо шале имелась пещера, а вместо бархата – мох. Еще была женщина – возможно, колдунья и ведьма, но привлекательная и, надо думать, компетентная в местных нравах, что являлось новым, сулившим надежду обстоятельством. По дороге к своему жилью Дарт обдумывал эту мысль. С Нерис ему повезло, однако везение лишь тогда решает насущные проблемы, когда из него удается извлечь максимум полезного. Он не страдает более от одиночества, он спас весьма приятную особу, и что же дальше? Какой от нее прок? «Прок, пожалуй, есть, – подумал он, ощупав плечо с заживающей раной. – У этой женщины, ширы Трехградья, не отнимешь уменья врачевать, пусть даже странным способом!» Но способы анхабов, возвращающих жизнь мертвецам, казались еще удивительней и необычней, и потому случившееся не беспокоило Дарта. В данном вопросе он обладал широким кругозором и был не против целителя-прилипалы или целителя-вампира, если их старания шли ему на пользу. От пещер тянуло дымом и мерзким запахом паленого – криби собирались завтракать. Приблизившись к своему жилью, он услышал шум – треск кустов, женские вопли, пронзительный визг Броката и сопение волосатых. Пара юнцов гонялась за Нерис в виноградных зарослях, то ли желая развлечься, то ли с иной, гастрономической целью. Для этих своих экзерсисов они, вероятно, подстерегли момент, когда Нерис покинула пещеру; внутри ее никто бы не тронул, так как жилище Дарта являлось для дикарей безусловным табу. Он запустил камнем в одного негодяя, а другого свалил наземь ударом в челюсть, пнув на прощание башмаком. Юнцы уползли, виновато поскуливая. Впрочем, вина их была не слишком большой – в пещеру они не совались, а кусты как-никак территория общая. Покончив с этим делом, Дарт осмотрел женщину и ее крылатого спутника. Последний уже успокоился, сел на камень у входа в грот и, будто кошка, принялся вылизывать взъерошенную шерстку. Что до Нерис, то она, кажется, не пострадала и выглядела много лучше, чем вчера: следы побоев еще не зажили, но ссадины и синяки побледнели, с лица исчезла печать утомления, и кожа, отмытая дождем, напоминала сейчас бело-розовый перламутр. Ожерелье на ее гибкой шее светилось красками утренней зари. – Ты меня бросил!.. – Отдышавшись, она гневно ткнула в Дарта пальцем. – Бросил среди этих гнусных тварей! – Не бросил, а ненадолго оставил, пресветлая госпожа, – возразил Дарт. – Зачем ты покинула пещеру? В мое жилище волосатые не лезут, и там ты была бы в полной безопасности. – Я проголодалась! – сообщила Нерис, топнув обутой в сандалию ножкой. – Я ела ягоды, и эти вонючки застали меня врасплох! Врасплох, понимаешь? Иначе им пришлось бы пожалеть о миге своего рождения! Я превратила бы их в камни, в грязь, в червей! Лишила бы дыхания и воздуха! Я, просветленная шира Трехградья!.. Я бы… Она внезапно спрятала лицо в ладонях и расплакалась. Дарт обнял ее, прижимая к себе левым боком, и с удивлением отметил, что не чувствует биения сердца. Но эта мысль была смутной, преходящей, смазанной другими ощущениями – трепетом хрупких плеч под его ладонью и орошавшими грудь слезами. Шелковистые волосы ласкали щеку и шею, упоительный аромат будил воспоминания о просторных залах, в которых, повинуясь мелодии, кружились и приседали дамы с кавалерами в изысканных одеждах и завитых париках. Со вздохом он погладил ее золотистую головку и пробормотал: – Успокойтесь, мадам, успокойтесь… – Затем, сообразив, что говорит на родном языке, перешел на фунги: – Не плачь, блистательная госпожа. В конце концов, ничего страшного не случилось: ты поела ягод, а тебя не съели. Даже не укусили ни разу. – Просветленная, а не блистательная, – поправила она, всхлипывая и вытирая слезы. – Ты должен правильно обращаться ко мне и оказывать уважение, Дважды Рожденный. Помни: я – шира! – Разумеется, я помню, светозарная. – Дарт отступил на шаг и отвесил изящный поклон, коснувшись рукояти шпаги. Все происходящее его изрядно забавляло, будто он играл с ребенком – но разве жизнь без игр и забав не превращается в унылые будни? Лишь женщины, новые впечатления и авантюры придают ей вкус, и в данный момент, обладая тем, и другим, и третьим, он мог почитать себя счастливейшим из смертных. Поклонившись еще раз, Дарт произнес: – Любой рыцарь счел бы великой милостью служить тебе, и я клянусь, что под моей защитой ты можешь не опасаться никаких врагов. Ни тиан, ни волосатых криби. Слезы Нерис высохли, пунцовый рот приоткрылся. – Что такое «рыцарь»? – Благородный воин, поклоняющийся женской красоте, – с улыбкой пояснил Дарт. – Ты находишь меня красивой? – Несомненно, моя госпожа. Я думаю, ты самая прекрасная из шир Трехградья – по обе стороны этой реки. Да что там – реки! По ту и по эту сторону Диска! Ее серые глаза кокетливо сощурились – верный признак, что лесть упала на благодатную почву и что взойдет она пышным и сладким посевом. Рано или поздно, но взойдет. Однако не сейчас. Повернув головку, Нерис взглянула на Броката – тот дремал, разнежившись на солнышке, – затем принюхалась к смрадному дыму, плывшему над пещерами, и брезгливо сморщила носик. – Мерзкие отродья, пожиратели падали… У каждого роо есть дар Предвечного, но сомневаюсь, что он наделил им этих вонючек! Но лысые жабы ничем не лучше… чтоб их поглотил божественный туман, и тех, и других! Чтоб им сгнить под деревом смерти! – Покончив с проклятиями, она кивнула Дарту: – Мне нужно вымыться и очиститься. Отведи меня на берег, но не туда, где лилась кровь. В какое-нибудь другое место. Кивнув, он повел ее в прибрежный грот в той части острова, что омывалась не проливом, а рекой. Тут невысокие утесы, перемежавшиеся корявыми деревьями с сизой хвоей, теснились к самой воде; вода же была теплой, ласковой, дно – мелким, почва – песчаной, и в ней криби выкопали сотню ям, забитых всяческим имуществом, не поддававшимся гниению. В них цикл за циклом сваливали награбленное и ненужное – странные товары тири, добро даннитов и многие иные вещи; и в них, несомненно, свалят оружие и снаряжение тиан. В одной из этих ям Дарт схоронил маленькую даннитку, поставив над могилой деревянный крест с ее украшениями, браслетами и ожерельем. Нерис огляделась. – Что здесь? Куда ты меня привел? К мусорным кучам? – Это предметы, принадлежавшие путникам, моя госпожа. Криби-самцы сюда не ходят, только самки – тащат лишнее, когда очищают берег лагуны. Тут я купаюсь и наблюдаю за рекой… Посмотри в ямах – возможно, что-то пригодится? – Возможно. Устроившись под скалой, в тени, Дарт с интересом наблюдал, как женщина бродит среди деревьев, камней и груд непонятного мусора, то вороша их ногой, то наклоняясь, приседая и что-то разглядывая. Она подняла плоскую небольшую раковину, потом – трубчатый сосудик размером в палец; открыла его, понюхала и скорчила довольную гримаску – кажется, предназначение этих вещиц не было для нее секретом. У ямы, заваленной большими пустотелыми орехами, одним из главных товаров карликов-тири, Нерис остановилась, вздохнула и грустно покачала головой. Дарт насторожился. – Можешь объяснить, что это такое? Я думал, их едят, но они пустые. Одна скорлупа… Зачем тащить ее с собой, да еще в таком количестве? – Их ядра не едят, из них и из корней изготовляют мазь, что заживляет раны, а скорлупу расписывают узорами и помещают внутрь прах погибших, старейших и воинов. Сосуды для почетного захоронения, плоды с дерева хрза… Растет оно далеко, и в Лиловых Долинах цена на них немалая. – Судя по этой куче, в Лиловых Долинах нет недостатка в мертвецах, – заметил Дарт. – Что же там случилось, ма белле донна? Кровопролитное сражение или повальная болезнь? – А ты не знаешь? – На ясном лбу Нерис прорезалась морщинка. – Не знаешь, что происходит в период балата? Когда разверзаются земли, трясутся горы и в небесах играют молнии? В самом деле, не знаешь? Пожав плечами, Дарт неопределенно улыбнулся. Он с охотой послушал бы что-нибудь о богах, играющих молниями, однако решил не торопиться: женские речи – ручей, который нельзя подгонять, швыряя камешки вопросов. Слово «балата» вспоминалось ему – вроде бы слышал от умершей даннитки, но смысл его оставался неясен, как прочие намеки Нерис и удивительный обычай хоронить покойников в орехах. Вероятно, эти Лиловые Долины были любопытным местом!.. Его спутница положила свои находки на плоский камень у воды, сняла сандалии, сбросила тунику и принялась ее полоскать; затем расстелила изорванную одежду на том же валуне. Дарт с бьющимся сердцем не спускал с нее глаз, чувствуя, что внимание ее не обижает, а, наоборот, приятно; здесь, на Диске, где многие расы не знали иных одеяний, кроме собственной кожи или шкуры, не стыдились наготы. Ему показалось, что Нерис не отличается ничем от земных женщин, а если и были какие отличия, то в лучшую сторону: на удивление тонкая гибкая талия, восхитительно длинные ноги и твердые груди, не колыхавшиеся, а только слегка подрагивавшие при резких внезапных движениях. «Нимфа», – подумал Дарт, любуясь, как Нерис плещется у берега. Ее формы выглядели не угловато-девичьими, а женственными, зрелыми, округлыми, но, вероятно, она была молода – лет двадцати пяти или чуть больше по земному или анхабскому счету времени. В этих двух мирах, на его старой и новой родине, сутки и годы почти совпадали. Правда, на Анхабе, не имевшем лун, не знали и месяцев, а также смены сезонов: ось планеты была перпендикулярна плоскости эклиптики. Мысль об Анхабе вернула его к реальности, к погибшему кораблю, лишенному энергии скафандру и миссии, которую надлежало исполнить. Последнее являлось делом чести: сколько бы он ни спорил с Джаннахом, как бы ни торговался, слова оставались словами, деяния – деяниями. Пока он жив, его обязанность – быть верным своему обету, трудиться и искать, как он трудился и искал в других мирах, с полной отдачей сил, не думая о риске и не мечтая о награде. Долг был для него категорией абсолютной, твердой основой душевного склада; приверженность долгу соединялась с другими чертами, с понятиями о благородстве и мужестве, справедливости и милосердии. Возможно, в прошлой жизни он был иным, более подверженным влиянию людей и обстоятельств, но воскрешение очистило его: так с древнего клинка спадает ржавчина под яростным усилием точила. Долг нужно исполнять – тем более что средства к тому были отнюдь не исчерпаны: он потерял корабль, но Голем уцелел. Его помощник и слуга, оставшийся на перевале в прибрежных горах, под бурым утесом с тремя вершинами… Он получил приказ и будет ждать тысячелетия, подобно верному псу из нерушимой, не подверженной тлению плоти… Этот квазиживой механизм обладал большими запасами энергии и умением накапливать ее, аккумулируя из любых источников; прочный корпус, искусственный мозг, подвижность, встроенные датчики, оружие и инструменты делали его незаменимым в полевых исследованиях. Он мог бы осуществить их сам и мог, вероятно, найти хозяина, рассчитав траекторию падения Марианны, но он подчинялся приказу: ждать. Его способность к самостоятельным действиям была ограниченной, и в случаях критических он нуждался в руководстве человека. Отсюда, за сотни лье, Дарт был не в силах отменить приказ, обрекший Голема на ожидание. Золотистая полоска-указатель на рукаве скафандра не светилась, так же, как спираль, вмонтированная в лицевой щиток; его передатчик, лишенный энергии, не позволял связаться с механическим слугой. Не трагедия, но неприятность; а возможно, знак судьбы и повод к далекому странствию, которое необходимо совершить. Вот только как?.. В данный момент это являлось важнейшей проблемой, отодвигавшей все остальные, даже утрату Марианны. В конце концов, ее гибель не делала Дарта вечным пленником в этом мире; пройдет какой-то срок, и прилетит другой корабль, беспилотный или с очередным разведчиком, а значит, его отыщут и снимут с Диска. Вернее, отыщут Голема – по встроенному маяку и следам несчастливой попытки вскрыть загадочную полость… И к этому времени он должен соединиться с иразом… Должен, тысяча чертей! Должен, должен… Видимо, он задремал, и во сне ему явилась персона из прошлой жизни, не столь великая, как та, чей облик принимал Джаннах, но все же могущественная и облеченная властью. Мужчина в годах, со смуглым крючконосым лицом, пронзительным взором и резким командирским голосом, похожий на старого коршуна; вы должны, каркал он, должны, должны… …Вы должны сохранить привезенное, сколь бы незначительной ни была эта сумма. Еще вам следует усовершенствоваться во владении оружием, поскольку это необходимо дворянину. Я сегодня же составлю письмо начальнику Королевской академии, и с завтрашнего дня он примет вас, не требуя ни единого экю. Не отказывайтесь от этой милости – бывает так, что наши молодые дворяне, даже самые знатные и богатые, тщетно добиваются приема туда. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам и куртуазному обращению с дамами, вы отшлифуете манеры и завяжете полезные знакомства. А время от времени вы будете являться ко мне, докладывать, как идут дела и чем я могу вам помочь. Через год вы должны завершить обучение… через год, к апрелю… Плеск воды заставил его проснуться, и лишь последнее слово сохранилось в памяти. Апрель, весенний месяц, пора цветения каштанов… Что-то случилось с ним в апреле – там, в прошлой жизни, на Земле… Куда-то он ехал, с кем-то встретился, вступил в перебранку и скрестил клинки… Не с тем крючконосым из сна, что поучал его, с другим, враждебным и наглым… Мерзкая личность! Прикончил ли он негодяя? Кажется, нет, не удалось; в тот раз ему помешали. Но кто? Кто, дьявол его побери?! Нерис, расстелив на валуне свою изодранную тунику, что-то делала с трубчатым сосудом. Любопытствуя, он приподнялся: влажная клейкая масса стекала на края прорех, тонкие пальцы перебирали ткань, гладили ее, слегка сжимали, и, подчиняясь этой ласке, дырявое и рваное становилось целым. Возможно, не просто целым, а живым: ткань трепетала и подрагивала, поблескивала, словно шелк, переливаясь теплыми оттенками радуги. Порыв ветра вдруг подхватил ее, взметнул вверх и опустил на плечи Нерис. Она рассмеялась и, лукаво посматривая на Дарта, натянула одежду. Свисавшее с гибкой шеи ожерелье отсвечивало золотисто-розовым. В точности как плоская круглая раковина в ее руке. Бросив эту вещицу на колени Дарту, она сказала: – Вот, возьми! Кажется, у тебя нет джелфейра? – Чего нет, того нет, – признался он. – Это украшение? Как твое ожерелье и этот кружок? – Палец Дарта прикоснулся к виску. – Кружок? Ты называешь мой раят кружком? – Нерис негодующе взмахнула ресницами. – Мой раят, знак ширы, вживленный навечно! Нет, это не украшение, воин, не только украшение! Раят потускнеет, если во мне зародится новая жизнь. Есть от него и другая польза – например, чтоб роо знали, перед кем сгибать колени. – А это что такое? – Дарт уставился на ракушку. – Джелфейр, я же сказала! По его оттенкам судят о времени. В начале цикла время красное, в легкий период – розовое и желтое, а когда тело начинает тяжелеть – зеленое и голубое. Затем синее, когда приходят большая тяжесть, дожди и сумрак… Разве ты этого не знаешь? И разве в твоих родных краях не пользуются такой полезной вещью? – Где они, мои края? – вздохнул Дарт, подбрасывая раковину в ладони. – И правда – где? – Нерис присела перед ним на корточки, глаза ее потемнели, расширились, стали огромными. – Где же твой край, Дважды Рожденный, и каков твой обычай? У тебя странные вещи… невиданные, твердые, блестящие… – Она с опаской коснулась витого эфеса шпаги. – Ты спас меня от жестокости тьяни… Ты говорил, что явился издалека, и обещал, что будешь меня защищать… так, как защищал Сайан… Но почему? Ведь мы не просили Предвечного о вещих снах… Мы даже не связаны обрядом синего времени! Ты не дарил мне жизнь, я не дарила тебе радость… – Еще подаришь. Все впереди, – Дарт ласково погладил ее обнаженное плечо. – Ты можешь мне довериться, ма белле, хотя мне трудно объяснить, откуда я пришел. Боюсь, ты бы сочла меня бесноватым, услышав о недоступных пониманию вещах, о солнцах, что светят в холодной тьме, о людях, способных менять свой облик и обитающих в небесных замках, об удивительных тварях, живых и неживых в одно и то же время. Впрочем, кто знает? Возможно, ты все бы поняла… возможно, ширы Трехградья так же мудры, как прекрасны, и разуму их нет границ… – Он усмехнулся, глядя в ее сосредоточенное личико. – Но поговорим о другом, сиятельная. Я, видишь ли, кое-что ищу… кое-что, потерянное мной у океана, в который впадает эта река. Хочешь помочь мне в поисках? – Не раньше, чем ты объяснишь их цель и смысл. В последнее время развелось слишком много ищущих – как это обычно бывает в период балата. Что же ищешь ты? Показалось ли ему, что в глазах Нерис мелькнуло подозрение? Быть может, он напрасно говорил о светилах, горящих в космической бездне, о летающих замках анхабов и существах, подобных Голему? В конце концов, это слишком далекие материи, столь же неясные для обитателей Диска, как смена ночи и дня и небосвод, усыпанный звездами… Поверх золотистой женской головки он бросил взгляд на реку. Полдень, самое легкое время… желтое, если судить по ракушке-джелфейру… Гигантский поток перед ним струился медленно и плавно, индиговый лес на дальнем берегу манил загадочным молчанием, яшмовые скалы, вздымаясь над деревьями, подпирали небесный купол – прозрачный голубой алмаз с пылающим сапфиром солнца. Оно висело прямо над головой, изливая полуденный жар и затмевая звезды; казалось, что хрустальная голубизна, пронизанная светом и теплом, бесконечна, нерушима и вечна, как само Мироздание. – Мон дьен, какое величие!.. – прошептал Дарт. – Какое чудо, какая красота! Нерис нетерпеливо шевельнулась. – Так что же ты ищешь на берегах Срединного океана? Не ту ли удивительную тварь, которая жива и нежива в одно и то же время? Помнится, ты говорил о ней… Или мне послышалось? Очнувшись, Дарт с изумлением уставился на нее, потом пробормотал: – Как ты догадалась? – Женщина смотрела на него непроницаемым взором, и, не дождавшись ни слова в ответ, он произнес: – Если мы доберемся до моря, я покажу тебе эту тварь. Очень полезное существо, хотя вид его необычен и страшен… Надеюсь, ты не испугаешься. – С чего мне пугаться? – Ее рот скривился в пренебрежительной усмешке. – Я – шира, и я понимаю, о чем ты говоришь… О бхо, не так ли? Ну, подобную тварь я сама могла бы тебе показать – прямо здесь и прямо сейчас, недожидаясь, пока ты окажешься у океанских берегов. Если захочу… Брови Дарта полезли вверх, в горле запершило. Он откашлялся и, не зная, как скрыть удивление, поиграл рукоятью кинжала, затем освободил клинок до половины, с лязгом загнал в чеканные ножны и вытащил снова. Нерис, глядя на солнечные блики, скользившие по серебристому лезвию, неторопливо произнесла: – Ты слышал о маргарах? О тех, чья поступь легка, прыжок – стремителен, удар – смертелен? О тех, что бродят там и тут, дожидаясь балата? О великих искателях зерен, что не страшатся подземной тьмы? Может быть, ты из них? – Почему ты так решила? – Дарт недоуменно нахмурился. О маргарах он знал лишь то, что они обладают мягкой шкурой в черную и серую полоску, подходящей для изготовления мешков. – Я не брожу без цели там и тут и не люблю убивать – разве лишь для защиты обиженных и слабых. Я обладаю речью и разумом, а маргар – животное! – Не всегда, – на губах Нерис зазмеилась таинственная улыбка. – Не всегда, мой воин. Встречаются разные маргары. «Что-то не так, – мелькнуло у Дарта в голове, – что-то не складывается, чего-то я не понимаю – или не понимают меня. Быть может, дело не в отсутствии контакта, а в чем-то ином, в какой-то хитрой интриге, пока что неясной мне, – ведь женщинам нравится играть в загадки и напускать туман на ровном месте. Но на сегодня, пожалуй, хватит тумана, загадок и тайн. В конце концов, женщина есть женщина, и самая прекрасная из них не в силах дать больше, чем имеет…» Были, однако, другие вопросы, которые ему хотелось выяснить. Диск – по крайней мере, с голубой стороны – являлся населенным миром, обителью нескольких рас, так же как другие планеты Ушедших. Не все, но многие; Дарту казалось, что где-то он встречал существ, подобных тири и даннитам, – возможно, на Лугуте или Буит-Занге. Где именно и в каких перипетиях, в общем, не имело значения; память об этом была смутной, но разум подсказывал, что всякий народ должен где-то жить и что-то есть, а значит, строить, обрабатывать землю, делать мечи и орала, странствовать и торговать. С двумя последними моментами он уже познакомился – аборигены странствовали и торговали, пусть даже таким необычным товаром, как орехи, произраставшие в одном краю, а в другом игравшие роль погребальных урн. Но, пролетая над Диском, он не заметил ни дорог, ни поселений, ни пашен, ни скотоводческих ранчо – словом, ни единого признака хозяйственной активности. Здесь были океаны и реки, холмы и горы, леса и равнины, но не было ни городов, ни полей. Странный факт! Особенно в том, что касалось равнин, пригодных для скотоводства и посева злаков. Термины, обозначавшие эти занятия, в торговом жаргоне фунги отсутствовали, а под «городом» понималось пространство, где обитает много людей и других существ, разумных и неразумных. Для Дарта город ассоциировался с дворцами и улицами, башнями, стенами и, разумеется, домами – но, расспрашивая Нерис о местных городах, он вдруг сообразил, что слова «дом» в фунги тоже не было, а самым ближайшим эквивалентом являлось «жилище», оно же – убежище, укрытие, место для уединения и снов в синий период. Он попытался в этом разобраться. – Трехградье – город, моя просветленная госпожа? – Конечно. Там расположено святилище и обитают три народа – данниты, рами и Морское Племя джолт. Есть и другие… много других… Однако не все живут в Трехградье от рождения до смерти. Это место для размышлений о Предвечном, для пророчеств и видения вещих снов, куда приходят, чтоб обрести спокойствие и мир и пообщаться с предками. Ширы помогают в этом… и я могла бы помочь тебе… если пожелаешь… – Помочь – в чем? Потолковать с моими предками? – Дарт печально вздохнул. – Увы, сударыня! Был бы рад и благодарен, но предки мои далековато отсюда… зови – не дозовешься… Она покачала головой. – Ты не понимаешь. Твои предки всегда рядом – отец и мать, и остальные прародители, если ты их единственный потомок. Они живут в тебе, как дар Предвечного, как тень былого, что спрятана в семени бхо… и так же, как пробуждается семя, являя скрытую сущность, они могут предстать перед тобой, поговорить, утешить… Хочешь? – Как-нибудь в другой раз, а сейчас давай оставим моих предков в покое. – Дарт перекрестился, на мгновение приложив ко лбу ладонь. – Ты сказала, что Трехградье – место, куда приходят, чтоб обрести спокойствие и мир. Ну а затем? Затем, я думаю, уходят? Но куда? – Куда угодно. Туда, откуда явились… В Лиловые Долины, Морские Пещеры, Серую Осыпь, Поток Орбрасс… На родину или в те края, где живет близкое по крови племя. Мир огромен, и в нем много приятного. – Ты говоришь о городах? Нерис пожала плечиками. – О местах, где обитают творения Предвечного Элейхо. – Бьен. Что там есть еще, ма шер ами? Я имею в виду, кроме разумных творений Предвечного? Сады, отягощенные плодами? Лужайки для пикников и прогулок? Жилища? Она кивнула. – Жилища, выстроенные из камня и дерева? – попробовал выяснить Дарт, но эта мысль показалась собеседнице странной. Губы ее дрогнули, гримаска недоумения скользнула по лицу. – Из камня и дерева? Но зачем? Жилища были, есть и будут, даже у презренных пожирателей падали – таких, как эти, – она махнула в сторону пещер. – А рами и прочих роо, своих возлюбленных чад, Предвечный одарил прекрасными жилищами! Просторными, с высокими сводами, полными воздуха и света, с нишами и арками, с мягким… – Подожди, – он прервал Нерис, положив ладонь на ее сплетенные пальцы. – Подожди, моя блистательная госпожа. Давай вначале разберемся: кто такие роо? – Как? Ты не знаешь даже этого? – Рот ее приоткрылся в изумлении. – Все, кто живет в этом мире и одарен разумом. Рами, данниты, джолты, ко… даже тьяни, потомки тухлого яйца! – С рами я еще не встречался, – заметил Дарт. – Ты уверен? – Усмехнувшись, Нерис ткнула его пальцем в грудь. – Ты – рами, и я – рами… Рами – существа, подобные нам с тобой, двуногие, живущие на суше, чьи дети появляются не из яиц, не из коконов, а из материнского чрева. Как показалось Дарту, это было слишком общим определением. Он поинтересовался: – Пожиратели падали тоже рами? Презрительная гримаска была ему ответом. – У рами – у настоящих рами! – тела покрыты кожей, а не волосатой шкурой! – заметила Нерис. – И есть еще один признак: мужчины рами дарят жизнь своим женщинам. – Дарят жизнь? – Ну да. Через детей. Во время обряда синего времени. «Верно и очень символично, – подумал Дарт. – Ведь что такое дети? Искры новой жизни, которые возгораются от взаимного желания и чьи костры питает страсть… А эти костры горят по ночам, в синий период. Хотя бывают и исключения…» Он решительно поднялся и протянул женщине руку. – Пойдемте, сударыня. Здесь слишком жарко и слишком много света. Дарить жизнь – это прекрасный обычай, но он требует прохлады, полумрака, тишины и полного уединения. Все это мы найдем в моей пещере, и там вы объясните мне подробней суть упомянутого обряда. В общем я его представляю, но кое-что нуждается в практической демонстрации… Скажи, ма шер, мы можем сразу уточнить детали? Или нужно дождаться синего времени?Глава 5
Однако уточнение деталей было отложено: Нерис собралась погрузиться в вещий сон. Вероятно, этот магический акт был частью предстоящего обряда, и Дарту ничего не оставалось, как только ждать в терпеливом смирении. Впрочем, он с интересом следил за подготовкой к действу. Нерис долго шарила в своем мешке, что-то шипела сквозь зубы, проклиная чешуйчатых жаб, потомков тухлого яйца, разглядывала и нюхала мази в сосудах из раковин, недовольно морщилась – то ли какой-то важный состав был позабыт в Трехградье, то ли исчез во время плена у тиан. Наблюдая за этой суматохой, Дарт решил, что колдунья ему попалась не слишком умелая; в его понятиях истинный чародей был просто обязан держать свои арсеналы в порядке и неотступной боеготовности. Наконец с торжествующим воплем Нерис вытащила шкатулочку из половинок ореха, раскрыла ее и погрузилась в изучение содержимого. Ларец был невелик, с ладонь, и набит всякой всячиной; в нем лежали сухие листья, маленькие костяные иглы, лопаточки и чашечки, прозрачный и плоский, похожий на линзу кристалл, мотки разноцветных нитей и три овальных камешка, которые Дарт принял за жемчужины – камни отливали перламутром и словно просились, чтоб их оправили в серебро. Судя по тому, с каким благоговением Нерис взирала на жемчужины, они являлись великой ценностью – может быть, предметом культа или магических манипуляций. Взяв кристалл, она опустила шкатулку в мешок, уселась, скрестив стройные ноги, на устилавшем пещеру моховом ковре и подняла глаза на Дарта. – Ты будешь охранять мой сон. Не беспокойся, если он окажется долгим, и не пытайся разбудить меня – чтобы понять откровения Элейхо, необходимо время. Может быть, он пошлет благоприятный знак… И если это случится, жди награды. – Жду и надеюсь, моя светозарная госпожа. Взгляд ее потянулся к кристаллу, мышцы затрепетали под розово-смуглой кожей и расслабились, дыхание сделалось тихим, едва заметным и будто с трудом прорывавшимся меж сомкнутых губ; на висках, обрамленных золотыми локонами, выступили капельки испарины. Несколько мгновений она сидела в неподвижности, потом, вдруг побледнев, мягко повалилась на бок. Веки женщины сомкнулись, кровь отхлынула с лица, тело застыло, будто пораженное молнией. – Господь моя опора, – по привычке вымолвил Дарт, с тревогой склоняясь над ней. – Жива? Или умерла? Но нет, он различил слабое дуновение на щеке – она дышала, и, вероятно, эта пугающая бледность и неподвижность были естественными спутниками транса. Напоминая о себе, кристалл блеснул в ее ладони, заставив Дарта сощуриться. Самогипноз?.. – мелькнула мысль. Очевидно, так… Там, на Анхабе, Констанция тоже делала подобные вещи; это являлось одним из ее занятий, частью профессии фокатора – слушать то, что не дано услышать обычным людям. Ловить дыхание вечности и шепот звезд… Быть может, Нерис, шира Трехградья, тоже была фокатором? И странствовала сейчас в потустороннем мире, где души умерших ведут нескончаемый монолог, припоминая горе и радости земного бытия? – Бон вояж, – шепнул Дарт в розовое ушко. – Бон вояж и счастливого возвращения. Он поднялся и покинул пещеру. Тяжесть росла, ракушка-джелфейр уже наливалась хризолитовым блеском, воздух стал душным и влажным от испарений, поднимавшихся с реки. Но небо по-прежнему сияло алмазной голубизной, и лишь далеко-далеко, где-то над центральным океаном, сплетались перья белых облаков, предвестников ночного ливня. Пахло водой и свежей зеленью, но от обиталищ криби тянуло дымом и мерзкой вонью паленого. Брокат, очнувшийся от дремоты, расправил крылья-перепонки и взмыл над ягодными кустами, словно клочок коричневого меха, несомый ветерком. Вид у него был озабоченный – глазки поблескивали, шерсть на мордочке распушилась, розовый язычок сновал туда-сюда под темной пуговкой носа. Может, хочет есть?.. – мелькнуло у Дарта в голове. Он хлопнул по обнаженному плечу. – Кончай моцион, приятель, и заходи на посадку. Кушать подано. Вампирчик спланировал вниз. Крохотные коготки царапнули кожу, зверек что-то заверещал, вцепившись лапками в густые волосы над ухом. – Я понимаю, что не очень вкусен в сравнении с твоей хозяйкой, – сказал ему Дарт. – Однако, мон гар, ешь, что предлагают от чистого сердца. Не всякий же раз тебе лакомиться кровью благородной дамы! Писк тем не менее не смолкал и даже сложился в понятные слова: – Нне голлоденн… ннет… крровь нне ннадо… ннет… – Чего же ты хочешь? – Дарт почесал зверьку мягкое брюшко. – Снова спать? – Нне сспать… исскать… – Что искать? – Сскажи… Бррокат, исскать… – Брокат, сидеть спокойно. Не надо искать. Поглаживая мягкую шерстку, он обогнул виноградник и постоял у обрыва, с которого открывался вид на пляж. Лагуна была пуста. Судно тиан больше не покачивалось на волнах, а превратилось в груду обломков, сваленных на песке и сохнущих под жаркими лучами солнца. Над хаосом досок и брусьев торчала мачта с верхним реем – будто крест, сброшенный сарацинами с христианского храма. Это зрелище наполнило Дарта печалью. – Не уплывешь, не убежишь, – буркнул он, коснувшись горбинки длинноватого носа. – Дьявольщина! И не улетишь! Разучился я летать, мон гар. – Бррокат ллетать, – зашелестело в ухе. – Ллетать, исскать… – То, что мне нужно, ты не найдешь, дружок. Он вернулся к пещере, послушал тихое дыхание спящей, взглянул на ее ожерелье и свой джелфейр, отметил, что зелень начала сменяться голубизной, и улегся на мягком мху. Его вдруг охватила неудержимая сонливость, словно от спящей рядом женщины передались какие-то флюиды; он глубоко вздохнул, закрыл глаза и, балансируя на грани забытья и яви, пожелал очутиться на Земле. В этот раз его сновидение оказалось удивительно четким, объемным, насыщенным звуками и запахами. Кутаясь в плащ, он шел по извилистым улочкам ночного города, затопленного тьмой; было безлюдно и тихо, и, как бы подтверждая наступление тьмы и тишины, часы на невидимой башне пробили одиннадцать. Воздух наполняло благоухание, которое ветер доносил из цветущих садов, отягощенных росой и дремлющих в прохладе ночи; издалека, заглушенная плотными ставнями, слышалась песня гуляк, веселившихся в каком-то кабачке. Он видел домик в конце переулка – серую каменную стену и знакомую дверь; над ней ветви клена, переплетенные густо разросшимся диким виноградом, образовали плотный зеленый навес. Внезапно ему почудилось, что некая фигурка, возникнув из ночных теней, маячит у двери – невысокая, хрупкая и, как сам он, закутанная в плащ. Женщина? Он ринулся к ней, и в тот же миг картина изменилась. Теперь он стоял в комнате, опираясь одной рукой о крышку массивного дубового стола и положив другую на эфес шпаги. Очевидно, комната была жилищем человека незнатного, но состоятельного: ни шелков, ни гобеленов, ни хрусталя, только прочная мебель, стол и стулья, вместительные шкафы и сундук, накрытый полосатым ковриком. Напротив, у одного из шкафов, изящный женский силуэт: темные волосы, росчерк тонких бровей, бледное голубоглазое лицо с чуть-чуть вздернутым носиком, кружева вокруг стройной шеи. Констанция! Но какая из двух? Призрак из земных снов – или та, другая, оставшаяся на Анхабе? Губы женщины шевельнулись: – Могу я довериться вам, сударь? – Что за вопрос! Вы же видите, как я вас люблю! – Да, вы это говорите. – Сказанное мною – правда. Я честный человек! – Думаю, что это так. – Я храбр! – О, в этом я убеждена. – Тогда испытайте меня! Она с серьезным видом кивнула, и темные локоны затанцевали у бледных щек. – Я… я согласна. Однако… – Что же еще вас смущает? – Может быть, у вас нет денег на это путешествие? Дарт почувствовал, как на его губах расплывается улыбка. – «Может быть» излишне, моя прелесть. Что такое солдатский кошелек? Дыра на дыре, а между дырами – прорехи… Он проснулся. Чьи-то мягкие маленькие ладони ощупывали его, касались боков и груди, гладили плечи, нетерпеливо дергали пояс комбинезона. В темноте и тишине он слышал взволнованное дыхание. Не Констанция, Нерис… Сон сменился явью, но пробуждение было приятным. – У тебя сердце с левой стороны, слишком много мускулов и не хватает ребер, – пробормотала обнимавшая его женщина. – Это неправильно. Возможно, ты совсем не рами, а только похож на рами? Не уверена, смогу ли я понести от тебя ребенка. – Давайте проверим, мадам, – шепнул Дарт, лаская кончиками пальцев ее напрягшиеся соски. Он наклонился, опираясь на локоть, и проложил между ними дорожку поцелуями. Нерис хихикнула, прижимая его лицо к упругим бутонам плоти. Их запах кружил Дарту голову. – Ты живешь с волосатыми и весь провонял шерстью мерзких криби. Ни одна женщина с тобой не ляжет, не одарит тебя радостью. Ни в синее время, ни в алое, ни в желтое… Вероятно, это было шуткой – ее руки и губы говорили иное. Их речь, настойчивая и беззвучная, изливалась не в словах, в прикосновениях, в трепете ресниц и пальцев, в податливости тела, в жарком и все убыстрявшемся дыхании. Другая женщина лежала в объятиях Дарта – не та, глядевшая на него с подозрением, не та, что глумилась над мертвым вожаком тиан. Рот ее был сладок, губы мягки и горячи, ладони порхали, как два мотылька, влажное лоно между раздвинутых бедер манило тайной. «Что с ней случилось?.. – подумал он. – Что ей привиделось в вещих снах?..» Но эта мысль, скользнув мимоходом, тут же угасла. Растаяла, как земные сны, как память о мраке и холоде Инферно, о пропасти, что отделяла его от Анхаба, от строгих глаз Джаннаха, улыбки Констанции и замков, паривших в хрустальных небесах. Нерис вскрикнула, и он, опустив голову, стал целовать ее нежные теплые груди.* * *
Они сидели у входа в пещеру, прижавшись друг к другу. Дождь еще бормотал и шелестел, барабанил по земле и листьям, но фиолетовый оттенок джелфейра постепенно сменялся розовым, и сквозь разрывы в хмурых тучах уже проглядывала небесная лазурь. Дарт, полузакрыв глаза, наслаждался теплом, исходившим от Нерис. Тепло, покой и нежность… Он ощущал все это как некую ауру, что окутала их обоих, спасая от одиночества. Вероятно, свершившееся меж ними являлось чем-то более важным, нежели любовный акт, – обрядом, как говорила Нерис, или же знаком заключенного союза, свидетельством доверия и близости. В самом деле, размышлял Дарт, что может сравниться с узами, соединяющими женщин и мужчин?.. Очень немногие вещи… Пожалуй, лишь любовь к ребенку или то ощущение общности, что возникает среди соратников, объединенных благородной целью. Последнее чувство было ему знакомо; со смутной печалью он вспоминал, что там, на Земле, его дарили верностью и дружбой. Кто же? При мысли о безымянных, давно умерших товарищах мнилось сверкание шпаг, грохот пушечной канонады, голубые плащи и конские гривы, расплесканные ветром. Память о них была как магнит, тянувший его на родину с неудержимой силой. Рассказы Джаннаха о том, что на Земле все изменилось, он полагал если не ложью и жуткими сказками, то полуправдой. Все измениться не могло; во все времена и эпохи рождались люди с отважным сердцем и благородной душой. Дождь кончился. Нерис пошевелилась, прошептала: – Ты готов? – Готов? К чему? Дарт наклонился к ее губам, но женщина выскользнула из объятий. – К тому, чтобы отправиться в путь. Кажется, ты собирался плыть по реке до Срединного океана? И кажется, ты просил моей помощи? Он замер, боясь поверить в свою удачу. – Нам по пути, – сказала Нерис, расправив на коленях тунику, – и будет лучше, если мы не задержимся здесь. Тьяни плывут… множество кораблей, тысячи лысых жаб… Ты хочешь добраться к большой воде, я – в Лиловые Долины, а это недалеко от прибрежных хребтов. Часть дороги мы могли бы проделать вместе. – Она помолчала, словно взвешивая сказанное и то, что еще предстояло сказать. – Да, большую часть… Если, конечно, ты согласишься служить мне – так, как служил Сайан, мой спутник и защитник, которого убили тьяни. Это почетное служение, Дважды Рожденный. Не каждому шира Трехградья дарит свою благосклонность. – Понимаю и ценю, мон шер ами. В чем же будет заключаться моя служба? – Ты очень силен, и ты искусен в обращении с оружием, а потому ты будешь охранять меня в дороге. Ты должен идти, куда я прикажу, беречь мой сон и приносить мне пищу… мне и Брокату… и не расспрашивать о том, чего я не пожелаю рассказать. – Ее ресницы поднялись и опустились, словно ласточка взмахнула крыльями. – Еще одно… Ты должен дарить мне жизнь, но только в синее время. – Бог создал мужчин, чтобы они служили женщинам и берегли их, – произнес Дарт. – Но что касается дарения… Ты уверена, моя прекрасная госпожа, что этим можно заниматься лишь в синее время? Я думаю, что остальные оттенки ничем не хуже. – Он взглянул на раковину и потянулся к Нерис. – Например, розовый… Меня он очень привлекает… Она решительно отстранилась. – Я не койну-таа, у меня еще не было детей, ни одного! И я дарила радость лишь четырем мужчинам! Как я могу понести в другое время, кроме синего? Я ведь не самка тьяни и не откладываю яиц! Разве это не заметно? – Отчего же, заметно, – откликнулся Дарт, вставая. Заметно, но непонятно, добавил он про себя. – Возьми мой мешок и свою одежду, – распорядилась Нерис, баюкая в ладонях дремлющего Броката. – Это твое маргарское снаряжение? Ты ведь не хочешь его оставить? – Нет. Эта одежда еще мне пригодится. Он свернул скафандр в плотный тюк, сунул внутрь шлема, а шлем прикрепил к мешку, пропустив ременные завязки под лицевым щитком. Надел башмаки, притопнул и затянул на талии пояс с оружием. Справа – кинжал и дисперсор, слева – шпага; ее филигранный эфес привычно терся о ребро. – В путь! Осталось лишь найти корабль. Ты вызовешь его из вещих снов, моя красавица? Надеюсь, тебе приснилось не гребное судно, а что-то подходящее, трокар или хотя бы яхта… Я не столь искусен в обращении с веслами, как с клинком. Нерис нахмурила брови. – Из снов ничего не приходит, кроме картин грядущего. Временами ясных, но чаще похожих на лес и горы за пеленой дождя… Я видела на этот раз, как мы путешествуем по реке, то вдвоем, то со спутниками, как ты сражаешься и получаешь раны и как я исцеляю их… Это все. Слишком мало, чтобы узнать о наших судьбах, но хватит, чтобы тебе довериться… ведь ты сражался за меня… – Солнечный луч коснулся ее головки, и золотистые волосы вспыхнули, будто их объяло пламя. Сделав паузу, она сказала: – Ты тоже спал и видел сны, послания Элейхо… О чем же? Может быть, мне виделось начало, а тебе – конец? – Ни то и ни другое, если говорить о нас. Элейхо был ко мне щедр и показал картины прошлого. Очень далекого прошлого… – Глаза Дарта на миг затуманились. – Но это не важно, моя светозарная. Прошлое есть прошлое, и его не вернешь… – Он встряхнул головой и спросил: – Так все же на чем мы отправимся в дорогу? Ты припрятала судно в своем мешке? – Увидишь. Они покинули пещеру и, обогнув ягодные кусты, начали спускаться к берегу, но не к лагуне, а к гроту с мусорными ямами. Дарт сорвал пару тяжелых гроздей, одну предложил Нерис, с другой принялся отщипывать ягоды; они были сочными и сладкими на вкус, с тонкой шелковистой кожурой, напоминавшей женскую кожу. Поедая их и глядя на гибкую фигурку Нерис, уверенно скользившую среди камней, он думал о том, что, в сущности, ничего не знает об этой женщине. Путь ее лежал из загадочного Трехградья в столь же загадочные Лиловые Долины – но с какой целью она отправилась туда? И что случилось с ней в дороге? Как она попала в плен к чешуйчатым? За что они убили ее спутника Сайана и мучили ее саму? Чего хотели? Об этом он не ведал. Он помнил лишь о том, что руки ее нежны, губы горячи, а плоть – щедра и что на холмиках ее грудей расцветают под поцелуями розы. В этом она не отличалась от прочих женщин – тех, которых он знал на Земле, и тех, что дарили его любовью на Анхабе. В грозди осталась последняя, самая крупная ягода. Догнав Нерис, он протянул ее зверьку на плече женщины, но тот возмущенно фыркнул и отвернулся. Видно, сладкое было ему не по вкусу. – Простите, сир, мою назойливость, – вымолвил Дарт, отряхивая липкие от сока пальцы. Когда они спустились к реке и к ямам, ночная тяжесть отступила, тучи исчезли, и жар синего солнца, Люциферова ока, высушил прибрежные утесы и листву. Речная гладь будто застыла, нежась в солнечных лучах; над ее поверхностью клубился легкий туман, воды текли неспешно, с ленцой, и в них, в четверти лье от берега, играли рогатые дельфины. Нерис направилась к валуну, на котором вчера сушила одежду, но вдруг ее шаг стал неуверенным, потом замедлился. Она замерла, вытянув руки с раскрытыми ладонями к холмику с торчавшим над ним крестом. С его перекладины свисали браслеты и ожерелья. – Что здесь? Я чувствую что-то такое, что было недавно живым… – Было, – подтвердил Дарт и рассказал грустную повесть о маленькой даннитке. – А что означают эти скрещенные палки? – Ничего особенного. Знак уважения к погибшему… Священный символ в моих родных краях. – Символ, которым чтят в твоих краях Предвечного Элейхо? – Считай, что так. Она стояла над могильным холмиком, задумчиво покусывая нижнюю губу. – Значит, данниты уже проплыли… целый флот, как ты утверждаешь… Когда же это было? – Циклов пятнадцать назад. Может быть, четырнадцать или тринадцать. – Тогда мы их нагоним. Они плывут к морскому побережью, и странствовать с ними безопаснее. Хотя бы какое-то время… – Лоб Нерис прорезала морщинка, и, помрачнев, она добавила: – Мне кажется, их путешествие не кончится добром. Так говорят мои сны… Опустив мешок на землю, Дарт пожал плечами. Сны, которые виделись ему, были о прошлом, не о грядущем. В тех снах он мчался в бой на лихом скакуне, пил вино в придорожных тавернах, торжествовал над поверженными врагами и целовал прекрасных дам; он снова был красив, предприимчив и молод, и пробуждение от сна дарило впечатление потери и тягостной тоски. Правда, в новом своем существовании он не утратил ничего, кроме земных воспоминаний, но они, как утверждал Джаннах, были наполовину иллюзией и на другую половину – миражом. Он следил, как Нерис извлекает из мешка ореховый ларец, а из него – овальные жемчужины. Не все сразу, а по отдельности, рассматривая их, ощупывая кончиками пальцев, замирая в раздумье и будто к чему-то прислушиваясь. На взгляд Дарта, эти камешки выглядели совершенно одинаковыми, молочно-белыми горошинами с опалесцирующим блеском, но, вероятно, их схожесть была обманчива – Нерис выбрала один, а два возвратились в ларец. Она покатала горошину в ладонях, прикрыв глаза и что-то напевая, потом уронила ее в воду. Дарт видел, как шарик поблескивает и переливается в прозрачной влаге – у берега было мелко, по колено, и казалось, что солнечные лучи высвечивают каждую песчинку на ровном дне. С минуту ничего не происходило; белый шарик лежал в желтой песчаной постели, словно икринка неведомой рыбы, и Нерис, согнувшись над ним, поводила руками и продолжала что-то напевать. Затем, как почудилось Дарту, шарик утратил блеск и начал увеличиваться в размерах – он ощутимо распухал, подрагивал, вытягивался, его поверхность стала пористой, форма изменилась, как если бы изнутри его распирало какой-то загадочной силой. Вскоре тонкая кожица лопнула в десятке мест, в разрывы просунулись извивающиеся корешки, вонзились в песок, напряглись и приподняли над водой округлое белесое тельце, уже не маленькое, а величиною с два кулака. Голос Нерис смолк; с довольным видом она ополоснула ладошку, вытерла лицо и, отступив назад на несколько шагов, уселась под скалой, обняв колени руками. – Оно… оно живое? – прошептал Дарт, присматриваясь к творившейся в воде метаморфозе. – Живое, но спящее, – уточнила женщина. – Зерно Детей Предвечного Элейхо… Мне удалось его пробудить, а это случается не всегда. Они старые, эти зерна… очень, очень старые… и если гибнут, самая опытная шира их не оживит. Под сердцем у Дарта похолодело, на висках выступила испарина; он чувствовал, что приближается к какой-то древней тайне. Похоже, столь же великой, как загадка ферала, цель его миссии… Но было ли это истинной целью?.. Ему вдруг почудилось, что ферал явился лишь предлогом к путешествию на Диск и что Джаннаха интересует иное, нечто более значительное, чем эта субстанция Темных. Возможно, именно эти жемчужные зерна? В других мирах Ушедших Во Тьму он их не видел… точно не видел… Над водой, подрагивая мясистыми лепестками, распускался белесый цветок. Он был уже такой величины, что в сердцевине мог поместиться шлем от скафандра. – Дети Элейхо… кто они? – спросил Дарт внезапно охрипшим голосом. – Те, кто по велению Предвечного создал этот мир и даровал его нам, – отозвалась Нерис. – Давно, так давно, что нет слов, чтоб выразить такое огромное время – даже у ширы, что видит скрытое за внешним обликом вещей. Дети Элейхо были очень мудры и добры, и, пока они жили с нами, в мире не было места злу. Так длилось долго, очень долго… Потом они ушли. – Куда? – Никто не знает. У всех племен свои легенды об их исчезновении. Мы, рами, думаем, что их позвал к себе Предвечный, данниты говорят, что они уснули в глубоких пещерах, а тьяни, безносые черви, уверены, что Элейхо разгневался, пожрал их и схоронил в своем бездонном чреве. Но это, конечно, чушь и святотатство! – Нерис с возмущением всплеснула руками. – Что еще могут придумать потомки тухлого яйца! Белесый цветок колыхался, вытягивал лепестки, раздавался вширь и вглубь, становился похожим на лист – огромный лист с загнутыми краями, на котором мог бы улечься рослый мужчина. Превращение шло с невероятной, почти пугающей скоростью, совсем не так, как у анхабов-метаморфов; у них менялись быстро лишь мелкие черты, но полная телесная трансформация занимала пять-шесть дней и требовала энергии – высококалорийной пищи. Откуда же берет ее цветок?.. – мелькнуло в сознании Дарта. Или из воды и воздуха, из солнечного света, решил он, или энергетический ресурс хранится в исходном зерне, так же, как программа развития этого странного механизма. Он уже не сомневался, что перед ним механизм, в чем-то подобный иразу, живой и неживой одновременно; какое-то устройство Темных, ждавшее пробуждения тысячи – возможно, миллионы – лет. – Бхо, – промолвила Нерис, глядя, как лист-цветок меняет окраску от белесой к серо-голубой. – Бхо, слуга Детей Предвечного… теперь – наш слуга… Я ведь сказала, что покажу тебе бхо, не так ли? Вот он, перед тобой. Ты ищешь такой же? – Нет. У моего четыре ноги и пара рук, – пояснил Дарт. – Он очень расторопный парень и не похож на эту тварь. – Бхо бывают разными. Одни плавают в воде, другие переносят тяжести, третьи могут копать землю и дробить камни… а есть и такие, что издают приятные звуки, испускают запахи или показывают странные картины… – Нерис гордо выпрямилась, прижала к груди ладошку. – Но только ширы знают, что таится в зернах и как их пробудить! Этот дар недоступен мужчинам, даже самым мудрым – таким, как мой отец. И этот дар – наследственный. Моя мать и мать моей матери – да продлится их жизнь в обряде синего времени! – тоже ширы, как многие женщины в нашем роду. Но ни один из мужчин, даривших им жизнь, не был маргаром. Дитя, рожденное от ширы и маргара, должно… Это была любопытная тема, но Дарт, зачарованный творившимся в воде волшебством, лишь буркнул: – Значит, ширы пробуждают бхо и видят вещие сны… А что ты еще умеешь? – Целить, предсказывать и заговаривать животных. Но это еще не все. – Глаза Нерис вдруг блеснули и округлились с лукавством. – Могу сделать так, что всякая женщина будет дарить тебя радостью и никогда не откажет в объятиях. Это зовется венцом желаний… Хочешь его получить? Тогда все женщины будут твоими. – Я бы не отказался. Но она покачала головой. – Не думаю, что ты в нем нуждаешься. Ты смел, красив, силен… Такие нравятся женщинам. – Даже просветленным ширам? – Ширы – тоже женщины… Существо, что покачивалось на волнах у берега, уже не походило ни на цветок, ни на лист. «Скорее на рыбу, – подумал Дарт, – на странную безголовую и бесхвостую рыбу с широким туловом, обширной вмятиной на спине и бахромой, рядами свисающей с плоского брюха». Этот левиафан был довольно велик, не меньше десяти шагов в длину, и выемка в его сероватом теле казалась глубокой и просторной – ни дать ни взять, живой баркас без весел и ветрил. Борта этой странной лодки чуть-чуть подрагивали, как бы в ритме дыхания, и были усеяны темными звездами пятен, так что казалось, будто на влажный серый шелк набросили плотную паутину. Снизу, из-под бахромы, торчали корни-щупальца, ушедшие в песок; видно, с их помощью левиафан удерживал себя на месте. Как зачарованный, Дарт поднял мешок, шагнул в воду и прикоснулся к шелковистой коже. Она была теплой, мягкой и упругой, совсем не такой, как жесткая твердая шкура Голема; она ласкала ладонь, и он почувствовал приятную щекотку и покалывание в пальцах. – Не трогай темные пятна, – быстро сказала Нерис, поднимаясь на ноги. – Они для него как глаза и уши, но ты пока что еще не знаешь, как с ним говорить. Он не поймет и может уплыть без нас. Дарт повернулся к ней. – Это плавает, моя мудрейшая госпожа? В самом деле, плавает? – Разумеется, мой недоверчивый воин. Бхо, которое плавает и повинуется приказам… Ты удивлен? Ты никогда не видел бхо? Ни разу? Вместо ответа он неопределенно хмыкнул и опустил шлем с мешком в выемку на спине твари. Нерис, вздымая фонтанчики брызг, направилась к нему, посадила на мешок дремлющего Броката и с грустью промолвила: – Теперь их почти не осталось, таких полезных и послушных бхо. Во всем Трехградье – два десятка зерен, и лишь немногие годятся, чтоб облегчить дорогу. Большая редкость в нынешние времена… – Ее лицо вдруг посветлело, голос окреп. – Но скоро все переменится! Скоро! Уже тряслась земля и били в небе молнии, а это верный признак… Теперь прольется кровь, много крови, но так всегда бывает. Зерна без крови не поделить, и чем их больше, тем яростнее споры. Речи ее остались непонятны Дарту, как прорицания дельфийской пифии. Нахмурившись, он спросил: – Откуда же возьмутся эти зерна? При чем тут молнии, землетрясения и кровь? Серые глаза Нерис внезапно потемнели. – Балата! В предгорьях, у океана, колыхалась земля и сверкали молнии, а это верный признак! Так временами бывает, когда разверзается пропасть с хранилищем Детей Элейхо, с зернами бхо и другими вещами, бесценными, как свет и воздух. Тот, кто завладеет ими, будет одарен счастьем… Разве ты этого не знаешь, маргар? И разве не стремишься к ним? К берегу Срединного океана, где покачнулись горы?Часть II Река
Глава 6
Левиафан плыл против течения, мощно загребая воду свисавшими с днища фестонами плоти. Опустив лицо к речной поверхности, Дарт мог их разглядеть: они были темно-серыми, мускулистыми и трудились без отдыха и остановки, то распускаясь, то сжимаясь и выталкивая в титаническом усилии реактивную струю. Если не смотреть на этот живой мотор, ритм его конвульсий почти не ощущался; движение было плавным и быстрым, лодка словно летела над водой, соперничая в скорости с рогатыми дельфинами. Сбросив комбинезон и пояс, Дарт развалился на корме – вернее, в той части спинной выемки, которую полагалось считать кормой; Нерис сидела на носу, у сгущения темных звездчатых пятен. Пятна являлись нервными узлами, и, нажимая на них в определенной последовательности, можно было управлять лодкой, заставить ее плыть медленней или быстрее, дать команды для поворота и остановки. Нехитрая процедура, однако рассчитанная на более длинные и гибкие конечности, чем человеческие руки. До некоторых пятен Нерис едва дотягивалась, и, наблюдая за ней, Дарт пытался вообразить, что за твари плавали в таких суденышках, чувствуя себя столь же удобно в живой лоханке, как сам он – в пилотском кресле Марианны. Наверное, ноги у них покороче и не так затекали, как у него, если сидеть в позе лотоса или на пятках. А может, ноги вообще отсутствовали… Но это были пустые домыслы; в мирах Ушедших Во Тьму не сохранилось изображений, и никто не знал, каков их внешний облик. В небе парил птероид, покрытое мехом существо с широкими кожистыми крыльями и вытянутой волчьей головой. Возможно, дальний кузен Броката, питавшийся не кровью, а рыбой; он висел над стайкой дельфинов и временами с пронзительным воплем падал вниз, выхватывая у них добычу. Дельфины скалили жуткие пасти, грозили рогами, но не пытались поймать обидчика; возможно, для них, обладавших кое-каким интеллектом, это было всего лишь игрой. Дарт, разомлев на солнце, поглядывал то на мохнатого птероида, то на резвившихся дельфинов, то на изящный силуэт Нерис, застывшей на носу. Близился полдень; река струила воды с неторопливым величием, тело казалось легким, как сорванный ветром лепесток, и мысли кружились такими же лепестками, словно облетающий с яблонь цвет. Невесомые мысли, воздушные. Удачно, что встретилась женщина, эта светловолосая ведьма, которой он подрядился служить… С мужчиной, разумеется, проще: обменяешься парой слов или парой ударов и выяснишь, друг он или враг. Даже с таким подобием мужчины, как волосатый Вау, любитель хак-капа… Зато с женщиной интереснее. Мужчина прямолинеен и отвечает бранью на брань, пинком на пинок, а женщина – капризный механизм, из тех, что не бьют, не пинают, а поглаживают; им льстят, нашептывают на ушко, целуют руки, клянутся в верности. А дальше – как повезет… Женский нрав непредсказуем; одна не позволит коснуться пальца, но вверит душу и жизнь, другая заберется в постель, сыграет в страсть, а потом всадит под ребро кинжал… Такое, как смутно помнилось Дарту, с ним бывало – не на Анхабе, а в прежнем, земном существовании. Забылись имена и лица – все, кроме облика Констанции, но не исчезла тень воспоминаний, и этот призрак нашептывал, что попадались ему разные женщины. Верные и нежные, щедрые и хищные, опасные, как змеи, склонные к жертвенности либо к интригам и изменам… Какая же встретилась в этот раз? И какая ждала на Анхабе? Ждала ли?.. Солнечный свет струился по локонам Нерис, падал на обнаженные плечи, ветер играл шелковистой прядью. Она обернулась к нему, лукаво прищурилась, коснулась тонкими пальцами ожерелья, будто напоминая, что близится синее время с его любовными утехами. Дарт усмехнулся, вздохнул, посмотрел на нее, но виделись ему другие глаза и другое лицо, по-иному прекрасное, обрамленное не золотыми кудрями, а водопадом темных локонов. Кожа, как розовый опал, ямочки на щеках, нежная стройная шея, милый вздернутый носик и глаза-фиалки… Где ты, Констанция?..* * *
– Приятен ли тебе мой облик? – спросила она. Собственно, то был не вопрос, а вежливое приветствие, вполне уместное для метаморфов, каким обменивались люди, встречавшиеся в первый раз. Но Дарт ответил не традиционной фразой, а так, как подсказало сердце: – Ваш облик, мадам, напоминает мне женщину, которую я знал в прошлой жизни. Знал и любил. Щеки Констанции порозовели. – Что же случилось с ней? – Не помню. Кажется, она умерла. Они встретились в рассветный час, в одном из подземелий Камм`алод`наора, древней цитадели, лаборатории или монастыре ориндо. Его возраст исчислялся сотней тысяч лет, но он все еще стоял на поверхности планеты, и ныне, по праву наследования, его занимала гильдия Ищущих. Дарт называл цитадель Камелотом, а лежавшую вокруг пустыню, усыпанную сверкающим песком, – Эльфийскими Полями. Пески тут были не такие, как на Земле; серый и розовый гранит, перетертый в мелкую крошку, смешанный с кварцем и слюдой, творил из пустынного пейзажа сказочное царство эльфов. Но здесь, в подземном зале, чарующий блеск песчаных сокровищ и алые сполохи зари не отвлекали внимания. Цилиндрическую комнату, погруженную в полумрак, опоясывал экран, смыкавшийся с потолочным куполом, и в темной его глубине мерцали гроздья солнц и лун, плыли созвездия и галактики; успокоительный вид, который при желании сменялся другими миражами, видениями гор, лесов, саван и фиолетово-синих морских просторов. Комната и установка с экраном были старинными, неимоверно древними, отличными от современных жилищ анхабов, паривших в небесах. Именно это и нравилось Дарту. Каменный пол в паутинке трещин, стены, которые оставались на своих местах, обшитые деревом потолки, спиральные лестницы в башнях, сумрачные переходы и залитые солнцем террасы, уютные тихие кельи, в одной из них он жил, – все казалось надежным, основательным, и все напоминало о Земле. Правда, снаружи Камелот был непохож на монастырь или крепость, а выглядел огромной скалой среди пустыни, утесом с сотнями пиков и зубцов, с пещерными провалами окон, уступами террас и водопадами, наполнявшими крохотные пруды. Непривычное, но чудное зрелище! Однако Дарт сейчас о нем не думал, а любовался женщиной. Ее лицо на фоне звезд казалось загадочным, полупрозрачным, словно у бестелесного призрака, бродившего тысячу лет по залам и коридорам Камелота. Она промолвила: – Я – фокатор. Мое имя… Дарт взмахнул рукой, и кружева камзола взметнулись с тихим шелестом. – Молчи, моя принцесса. Я многое забыл, но помню, как тебя зовут. Тогда он впервые сказал ей – Констанция… О чем же еще они говорили во время той, их самой первой встречи? Кажется, о прошлом, о древней истории анхабов, определявшей смысл его будущей миссии… Голос ее ласкал и убаюкивал Дарта; внимая этим пленительным звукам, он будто не вслушивался в слова, и все же они каким-то таинственным образом прокладывали путь к его сознанию. Это было одним из талантов фокатора: сделать так, чтоб речь звучала подобно музыке и закреплялась в памяти навсегда. Искусство старинных времен, такое же древнее, как цивилизация анхабов… Во многом их мир был не похож на земной, даже в древнейшие эпохи. Ни крупных континентов, ни океанов, которые трудно преодолеть, лишь небольшие материки и острова, моря и морские проливы; у экватора берег пологий, с пышной зеленью и изобилием удобных бухт, в умеренных широтах – гористый, более суровый, изрезанный фиордами. Материков насчитывалось семнадцать, все они были населены, и каждый занимала определенная раса. Раса, а не народ, ибо в те времена анхабы, живущие на разных континентах, не знали о способности их тел к метаморфозам и отличались внешне в той же степени, что африканцы от скандинавов или китайцы от обитателей Западных Индий. Собственно, эти различия были гораздо глубже и выражались не только в оттенках кожи, формах носов и глаз – они затрагивали физиологию. Были расы гидроидов, способных жить под водой и обладавших жабрами или кожным дыханием; были расы, чей организм требовал долгой спячки, или вовсе не знавшие сна, производившие на свет дееспособное потомство или беспомощные эмбрионы – их приходилось доращивать в искусственной среде; были расы, чей желудок не переваривал животного белка, питавшиеся растениями или теми продуктами, что добывались на морском шельфе. Варьировались и сроки жизни: век одних был долог, почти столетие, другие едва доживали до сорока-пятидесяти. На этом пестром фоне разница в цвете волос и кожи, в очертаниях губ, носов или ушныхраковин, разное число зубов и пальцев выглядели чем-то незначительным. И хотя обличье всех аборигенов Анхаба было близким к гуманоидному, казалось, что планету населяет не одно-единственное человечество, а совершенно разные, произошедшие от множества корней, никак не связанных друг с другом. Это вело к антагонизму и могло бы явиться поводом к бесконечной истребительной войне, если б не религиозный и генетический запреты. В древности религии анхабов были разнообразны и многочисленны: в одних краях поклонялись солнцу или звездным небесам, в других обожествляли правителей-джерасси, или священных животных, или же рощи, реки, горы и холмы, в третьих – ветер, молнию, свет или мрак, и всюду и везде – почивших предков. Эта традиция цвела, развивалась и крепла, явив миру в должный срок учение ориндо, распространившееся по планете, как пожар в засушливых степях. Его адепты врачевали и занимались предвидением будущего, читали мысли и слушали божественные Откровения; их церковь фактически объединяла искателей знаний и тех, кто от рождения имел паранормальные таланты, дар ясновидца, телепата или целителя. Внутренний смысл их теологии был тайным, а прозелитам внушалось, что все они – ветви единого древа, все обладают душой и, закончив телесную жизнь, уйдут в астральный мир, к умершим предкам, где и соединятся с божеством. Но божество – Вселенский Разум-Абсолют – не всех удостоит своим вниманием, а только праведных, отринувших насилие; прочие души исчезнут, как мгла над утренними водами. Таков был первый запрет, религиозный; второй же заключался в том, что, невзирая на расовую принадлежность, анхабы не питали склонности к убийству и насилию. Конечно, речь шла не об охоте на птиц или животных, а о разумных созданиях – их убийство вызывало у большинства острую психическую травму, сходную с помешательством. То был врожденный инстинкт, получивший название «хийа», генетически запрограммированный механизм, хранивший анхабов от самоуничтожения. Лишь небольшая их часть – трое-пятеро из тысячи взрослых – обладала способностью к убийству, и эти люди составили касту джерасси – правителей, военных феодалов и солдат. Они не верили в богов и не страшились посмертной кары; они воевали, делили владения и власть – сначала, в эпоху копья и клинка, между собой на каждом континенте, затем, когда возникли государства и новое оружие, рожденное техническим прогрессом, пришел черед межрасовых конфликтов. Эти войны казались сперва не столь разрушительными и свирепыми, как на Земле. Питала их алчность, а целью оставалась власть, уже не над конкретным материком, а над планетой, но велись они только мужчинами-джерасси – которых, при миллиардном населении Анхаба, было не слишком много, тысяч восемьсот. Сражались с надводных и воздушных кораблей, не пулевым, а лучевым оружием: прятались за силовыми щитами, резали суда клинками плазмы, пускали в ход генераторы инфразвука и ослепляющие вспышки, энергетическим ударом вызывали шторм. Мощное оружие, губительное для людей, но, к счастью, не для окружающей среды; взлет технологии на Анхабе оказался стремителен, век пороха и пара – недолог, а нефтяная и ядерная эры – еще короче, без потрясающих воображение катастроф. Битвы, однако, были ожесточенными и продолжались лет пятьдесят, а может, и больше – в точности никто не знал, так как от тех времен, канувших в бездну ста тридцати тысячелетий, сохранились только пыль, прах да скудный флер легенд, питавших домыслы историков. Но, вероятно, битвы велись лишь за контроль над воздухом, морем и островами, ибо силы противников были примерно равными, и ни одной из сторон не удавалось преодолеть континентальную защиту и высадиться на чужом материке. К тому же любой из этих семнадцати анклавов был для остальных анхабских рас терра инкогнита, землей неведомой – ведь из-за различий между анхабами никто не мог заслать к врагам своих разведчиков. Так продолжалось до поры, пока на континенте Йодам не создали иразов – очень примитивных и неспособных абстрактно мыслить, зато не ведавших запрета хийа. Они не являлись, подобно Голему, квазиживыми существами; плоть их была металлической, мозг – электронным, а спектр реакций – простым и жестко запрограммированным. Но дело свое они знали и в том кровавом ремесле не имели соперников. Отличные боевые машины, стремительные, смертоносные и почти неуязвимые. Вскоре их легионами были захвачены два континента, соседних с Йодамом, и на Анхабе стало двумя расами меньше. Их ликвидация велась под лозунгом борьбы за жизненное пространство и источники сырья, а геноцид оправдывался тем, что истребляемые, собственно, не люди: одни имеют рудиментарный глаз во лбу, а у других на шее жаберная щель. Прежде такие различия не представлялись чем-то существенным и одиозным; врагов считали врагами, но не отказывали им в праве именоваться людьми. Однако положение изменилось – теперь джерасси Йодама, добившись перевеса сил, могли диктовать биологические эталоны. Перевес, однако, оказался временным, а ответные меры – вполне адекватными: на одних материках стали производить собственных иразов, на других вывели в ближний космос орбитальные модули с излучателями, на третьих создали препараты, подавляющие запрет хийа, сделав все население боеспособным. Это было похоже на взрыв, вызванный страхом тотального уничтожения: все с лихорадочной поспешностью вооружались, готовясь к Великой Войне, и все объявляли лишь свою расу истинно человеческой, а остальных – нелюдью и монстрами. Анхаб семимильными шагами двигался к Армагеддону. Спасение пришло из храмов и монастырей ориндо. Они объявили об Откровении, ниспосланном Вселенским Разумом адептам-ясновидцам: жизнь на Анхабе священна, корень ее един, и различия меж планетарными расами – лишь результат естественной мимикрии, приспособления к среде на тех или иных материках. Но каждая личность, любой обитатель Анхаба способны к преображениям, к метаморфозам внешним и внутренним, к изменению физиологии и тела; а значит, проклятье постоянства не заклеймило плоть, она текуча и пластична и, направляемая мыслью, может отлиться во многих формах, стать такой, какой желает обладатель. Чудовищной, прекрасной, устрашающей… Или неуязвимой и долговечной. Долговечность означала молодость, стабильный обмен веществ, стиравший на клеточном уровне все возрастные перемены, жизнь в течение многих столетий в юном и прекрасном теле – неоценимые сокровища, что даровала анхабам природа. Богатства, о коих они не ведали до сих пор… Но ключ к ним был в руках ориндо, поскольку пробуждение эндовиации – так называлась способность к метаморфозам – требовало определенных навыков. Дальнейшая история анхабов включала три периода: Посева, Плодоношения и Жатвы. Посев был самым бурным, кратким и радикально изменившим мир; за два-три века Анхаб превратился в благословенную землю, где реки текли молоком и медом. Воинственных джерасси усмирили, власть перешла к сторонникам ориндо, и для анхабов, познавших секрет преображения, смена обличья стала делом обыденным. Дар телесной трансформации гарантировал еще и долгую жизнь; в первом поколении метаморфов она равнялась тем же двум или трем столетиям, в последующих возросла, и на Анхабе ограничили рождаемость. Второй период – Плодоношения – тянулся не веками, а более сотни тысячелетий. Это было время великое и гордое, эпоха переустройства мира, невероятных открытий и фантастических проектов: наклон планетарной оси изменили, сгладив сезонные колебания, пробили тоннели под морями и повернули реки вспять, чтоб увлажнить пустыни, соединили мостами материки, срыли горные хребты, справились с бурями и штормами и усмирили гнев вулканов. Теперь Анхаб сиял белизной облаков и аметистовым заревом морей, но свет, тепло и жизнь не кончались за границей атмосферы – там, оболочками планетного зерна, плыли эфирные поселения, заводы, энергостанции и спутники связи, верфи, погодные обсерватории и гавани космических кораблей. Лучи от этих сверкающих сфер тянулись к звездам, к чужим таинственным мирам, и многие анхабы отправлялись в путь – хотя их корабли, которые нес фотонный ветер, были еще неторопливы и странствовали среди звезд десятилетиями. Но счет их жизни был иной, чем у существ недолговечных, а любопытство – велико. В конце эпохи Раннего Плодоношения в подпространство отправился первый системный зонд. Системный – значит разумный, способный к обучению и автономным действиям; квазиживой корабль-ираз, чей мозг уже не являлся скопищем электронных деталей, а в общих чертах походил на человеческий. Матрицей мозга служили аллопланты, искусственные вещества, созданные в биохимических лабораториях и позволявшие имитировать структуру нервных тканей – правда, лишь тех отделов мозговой коры, которые отвечали за логическое мышление. Эмоциональный мир таких существ не поражал богатством, они не имели ни интуиции, ни подсознания и обладали лишь примитивными чувствами, но в том, что касалось тяжелой работы или опасных экспериментов, были незаменимыми помощниками. Зонд благополучно вернулся, преодолев чудовищное расстояние до ближней галактической спирали. Окно во Вселенную было распахнуто; казалось, до звезд, сиявших в небесах, можно дотронуться рукой. В эры Среднего, Нового и Позднего Плодоношения анхабы достигли многих миров, безлюдных и мертвых по большей части, но иногда обитаемых, что представлялось невероятной удачей и редкостью. В этих странствиях они не искали Вселенский Разум, считая его измышлениями ориндо, но просто Разум во Вселенной был – и, как подтверждалось опытом, с одними его представителями можно было договориться, тогда как контакт с другими являлся опасным и бесполезным. Это зависело в равной мере от цивилизованности и физиологии чужаков; среди звезд встречались и первобытные дикари, и незрелые, слишком воинственные расы, и странные монстры, контакт с которыми был невозможен в силу неодолимых различий в мышлении. Идеи широкой экспансии, колонизации необитаемых планет или создания звездных империй не привлекали анхабов. Бесплодное, нелепое занятие для долговечных существ, мораль которых определяется запретом хийа; для них Анхаб всегда являлся родиной, а его цивилизация и культура мнились чем-то единым и неделимым, не подлежащим пересадке в иное место. В том месте, куда уносил их системный корабль, можно было остаться на год или на век, но и в последнем случае они возвращались не в смутное будущее, а домой, к своим современникам. Впрочем, будущее не так уж резко отличалось от прошлого – перемены в мире долгожителей шли неторопливо. Жизнь была великим сокровищем, а потому превыше всего ценились стабильность и безопасность. Полеты, однако, не прекращались на протяжении долгих времен, до самой эпохи Жатвы. Летали с разными целями: ученый искал знаний, художник – творческого вдохновения, кого-то гнали любопытство или желание прикоснуться к источникам чужой культуры, кто-то хотел поразвлечься, приняв инопланетный облик и окунувшись в непривычный мир. Казалось, так будет всегда: прекрасный и древний Анхаб дарил своим обитателям чувство нерушимой безопасности, вечные странствия среди звезд, приносившие свежесть впечатлений, подстегивая волю к жизни, и долгое счастливое существование. Это существование было удивительной чашей со сказочными подарками: творчество, любовь и приключения, нескончаемый праздник тела и духа… Но человечество взрослеет и стареет, и детские игрушки, дары технологии, искусства и собственная увядшая плоть уже его не веселят. Приходит осень, время Жатвы, за коим видится зима, и мир, предчувствуя ее, вдруг спрашивает: куда же мы идем?.. Куда мы уходили – веками и тысячелетиями? Что там, за гранью жизни, за стенами вечной тьмы? Мрак, конец и полное забвение? Или иной мир, неощутимый и невидимый, пока не настанет смертный час и эфемерные души не улетят в последнее из своих странствий?.. Такие вопросы – свидетельство зрелости цивилизации; их задают, когда реальный мир измерен, взвешен, оценен и человек обращается к иным проблемам, более сложным и серьезным, – к Великой Тайне Бытия, к Вселенной собственной души, к загадке жизни и загадке смерти. Цивилизация должна найти ответы и доискаться вечных истин, пока не угас ее творческий пыл, не иссякло мужество и гедонизм не убаюкал ее в сладких снах. Ответ необходим, ибо другая альтернатива – пустота. Полная, бездумная и безысходная пустота золотого века, который медленно сползает в пропасть забвения… Голос Констанции смолк. Созвездия на кольцевом экране стали блекнуть, и темный занавес, служивший им фоном, чуть порозовел, предвещая конец затянувшейся ночи. Под каменные своды незримо и осторожно вползала тишина; все, очевидно, было сказано, а не вошедшее в первую лекцию приберегалось для будущих встреч. Но Дарт не хотел покидать этот сумрачный зал и расставаться с миражами прошлого; играя свисавшей на камзол цепочкой, он не спускал с Констанции глаз. Его тянуло к ней с неудержимой силой. Чем-то, помимо внешности, она отличалась от беззаботных женщин Анхаба, даривших его благосклонным вниманием. Может быть, тем, что была из Ищущих?.. А это значило, что ее жизнь имеет цель и смысл. Он произнес: – Я смотрел мнемонические записи и знаком кое с чем из рассказанного. Но это неважно, ма белле донна, совсем неважно… Я слушал тебя с удовольствием. Ее ресницы сомкнулись, притушив мягкое сияние фиалковых зрачков. – Хочешь о чем-нибудь спросить, Дарт? – Если будет позволено. Ты сказала, что воинственных джерасси усмирили… Но как? Огнем, бичом и раскаленным железом? Или упрятали в темницы? Или велели иразам четвертовать их и выставить головы на площадях? Она отступила, в растерянности всплеснув руками; видно, сама мысль о пытках и казнях была ей нестерпима. – Нет, о нет! Они провели свою жизнь в довольстве, долгую жизнь на северном материке Дайон… Их не лишили свободы и даже не отказали в праве иметь потомство. – Значит, появились новые джерасси? – Их не было. Взяв власть, сторонники ориндо ввели генетический контроль. Все нежелательные рецессивы исправлялись… да, исправлялись еще в материнском чреве, и к началу эпохи Плодоношения на Анхабе уже не было лишенных запрета хийа. Кивнув, Дарт приблизился к ней, заглянул в лицо, взял маленькую нежную ладонь. Пальцы Констанции были теплыми, тонкими. – Ты многое мне рассказала… Для чего? – Тебе пригодится. Там, куда ты отправишься. – Но ты рассказала не все. Я хотел бы послушать о тайнах ориндо, об Ушедших Во Тьму, об эпохе Жатвы и о вашей гильдии Ищущих… Кто ее основал? Когда и с какой целью? И почему вас так мало? – Не торопись. Об этом мы еще поговорим. – Значит, мы еще встретимся? Она улыбнулась и отняла руку. – Встретимся. Не раз.Глава 7
Ночью они лежали в объятиях друг друга и слушали шелест дождевых капель, тихое посапывание Броката, свернувшегося на мешке, и плеск волн, бивших о берег. В синий период, когда раскрывались шлюзы меж кольцевыми океанами, течение было таким стремительным, что не позволяло плыть, хотя в светлое время их живой корабль двигался быстрее даннитских плотов и галеры тиан. Однако ночью здесь не путешествовали, и это правило касалось вод и суши: воды ярились и бушевали, а в темном лесу, среди чудовищных деревьев, таились свои опасности – те же каннибалы криби, обитавшие не только на острове, но вдоль всего речного побережья. Встреча с другой их шайкой могла оказаться не столь удачной, как с племенем Вау. Мягкий мох слегка светился, разгоняя тьму, плотный шатер ветвей и листьев защищал от струй дождя, меж ними мелькали огоньки – рой светящихся мотыльков кружил в древесных кронах словно танцующие в воздухе эльфы. Нерис вздыхала, доверчиво прижимаясь к Дарту; в этом мире – как казалось ему, примитивном, лишенном анхабского легкомыслия – секс полагали самой крепкой связью, соединяющей людей. Во всяком случае, так было у рами, тири и даннитов и у других рас за исключением тиан, не ведавших плотской любви; любовь у них заменялась размножением, делом обыденным, не вызывавшим порывов страсти и экстаза. Тиан – так звал их Вау. Нерис произносила мягче, напевнее – тьяни, и это понятие на фунги обладало определенным смыслом. «Тья» – частица, обозначающая отсутствие, «ани» – женщина-предок; вместе получалось «не имеющие матерей». Если верить объяснениям Нерис, самки тиан были существами неразумными, просто животными, коих оплодотворяли самцы, так что родство у этой расы считалось по линии сильного пола, тем более что забота о яйцах и подрастающем поколении тоже лежала на мужчинах. Но родственная связь у них была чрезвычайно сильна: род – или турм – являлся общественной ячейкой, производившей потомство, добывавшей пищу, делавшей орудия и превращавшейся при надобности в свирепый боевой отряд. Теперь Дарт понимал, что там, на острове, на берегу лагуны, погибла целая семья, родитель-старейшина со всеми своими потомками. Привстав, Нерис оседлала его и принялась щекотать шею. Он погладил ее груди с затвердевшими сосками, прикинул, что игры начинаются в третий, если не в четвертый раз – правда, ночи здесь долгие, будто задумали их и создали с расчетом на долгий сон и долгую любовь. Он не чувствовал усталости, но страсть уже не бурлила в крови и не кружила голову, сменившись другим желанием – поговорить и выведать что-то новое об этом загадочном мире. Или о женщине, что склонялась над ним… Ее губы и руки уже подбирались к животу, ноготки царапали кожу. Дарт строго промолвил: – Пресветлая шира! Нерис Итара Фариха Сассафрас т'Хаб Эзо Окирапагос-и-чанки! Ты хочешь растерзать меня? Прошу, начни с другого места. – О! Клянусь Предвечным! – Нерис округлила глаза. – У тебя хорошая память! – В том, что касается женщин, – подтвердил Дарт. – Стараюсь не забывать их имен и титулов. – И многие ты помнишь? Он вздохнул. – Не так много, как хотелось бы… Видишь ли, моя прекрасная госпожа, я больше странствую, чем развлекаюсь с женщинами. Я – солдат удачи: иду, куда прикажут, ищу, что велено, а при необходимости – сражаюсь и проливаю кровь. Ты спросишь, ради чего? Не знаю… Но должен признаться, мои владыки не позволяют мне скучать. – Сейчас я – твоя владычица! – Нерис стиснула его коленями. – И я приказываю: говори! Признайся, многим ли женщинам ты подарил жизнь? Дарт снова вздохнул. – Боюсь, что ни одной, моя прелесть. Чем я могу одарить их, кроме любви и наслаждения? А жизнь… ее дает Всевышний, а не смертный человек. Брови Нерис нахмурились, лоб пересекла морщинка. – Не понимаю… нет, не понимаю… Ведь все так просто, воин! В синее время мужчина ложится с женщиной и зачинает дитя; женщина носит ребенка двести тридцать циклов и, когда производит на свет, молодеет. На тысячу циклов или на две… Моя мать родила шесть дочерей и восемь сыновей, но выглядит так же, как я. Теперь наступил мой срок… Тебе понятно? Или ты не рами и не знаешь о таких простых вещах? – Она ударила кулачком в грудь Дарта. – Может быть, не рами… Сердце твое с другой стороны, и слишком мало ребер… Но все равно я хочу тебя. – Я тоже. – Дарт одарил ее страстным взором, надеясь, что блеск его глаз заметен в наступившем сумраке. – Но подожди, ма шер петит, позволь спросить… Что случится, если женщина ляжет с мужчиной не в синее время, а в желтое? – Ничего. – Нерис пожала плечами. – Ровным счетом ничего! «Вот как, – подумал он, напрягая память. – Кажется, женщины Земли беременели не только ночью, и этот их дар являлся источником вечных хлопот и неприятностей для мужей…» Пожалуй, он был уверен в этом, хотя воспоминания о родине оставались смутными. – У всех ли женщин столько детей, как у твоей матери? Нерис фыркнула. – Не смеши меня! Такое позволено лишь ширам, иначе мир переполнился бы людьми, и для них не хватило бы ни места, ни жилищ, ни плодов! Женщина – обычная женщина – рожает лишь двоих. – Но женщины рами живут дольше мужчин? – Так повелел Элейхо. Дитя прибавляет женщине жизнь, а у мужчины она убавляется… Ты этого не знал? Но ты ведь не боишься, воин? И не откажешь мне в подарке? – Не откажу, – ответил Дарт и обнял ее. Видно, различия меж ними были гораздо большими, чем обещала внешность; облик обманывал, скрадывал их, не изменяя внутренней сути. Суть же состояла в том, что рами – или скорее их отдаленные предки – явились сюда из мира, непохожего на Землю. Не исключалось, что их изменили Темные либо сама реальность Диска, приливы и отливы гравитации, свет голубой звезды, пища, вода и воздух… Десятки факторов, сотни нюансов, и в результате – иная, отличная от земной физиология, другой генетический аппарат… С Констанцией дела обстояли иначе. Насколько Дарт понимал природу метаморфов, Констанция, преобразуясь в земную женщину, ничем не отличалась от нее, ни внутренне, ни внешне. Она могла бы подарить ему дитя, не требуя взамен частицу жизни… Ничего не требуя, кроме любви…* * *
Нерис, утомившись, наконец заснула. Дарт, чувствуя, как тяжелеет тело, лег на спину и стал следить за пляской светящихся мотыльков – сейчас их рой напоминал Галактику с мириадами крохотных разноцветных звезд, кружившихся по прихотливым орбитам. Дождь уже не шелестел, а молотил ветви и листья, грохот волн сделался настойчивее и сильнее, и временами с реки доносился резкий чмокающий звук – левиафан выпускал якоря-псевдоподии, впивался ими в песчаное дно. Ночь тянулась бесконечно. Синий период, время раздумий и снов… Сон не шел, но думы неслись, как табун лошадей под щелканье пастушьего бича. Теперь, встретившись с Нерис, он знал гораздо больше об этом планетоиде, обители десятка рас. Обители, не колыбели, ибо жизнь на Диске была индуктированной, перенесенной с других планет, известных Темным, – с какими конкретными целями, оставалось лишь размышлять и гадать. Они, вероятно, привыкли к своей среде обитания и потому не мыслили искусственных конструкций без живой природы, степей и лесов, морей и рек – и, разумеется, без сонма тварей, населяющих воды и сушу. Диск, при всем его своеобразии, являлся не космической станцией, а планетой – местом, предназначенным для жизни, устроенным так, как было удобно Ушедшим Во Тьму; значит, уходили они без поспешности, и процедура их отбытия тянулась, очевидно, сотни лет. Быть может, тысячи – так почему не провести с комфортом оставшееся время? Среди диковин и чудес из дальних уголков Галактики… Реки, делившие Диск на сектора-континенты, играли роль естественных границ меж этими диковинками и чудесами. Когда-то, в очень отдаленные эпохи, каждый сектор был устроен по-особому, обладал эндемичной природой и, надо думать, имитировал определенный мир с присущими ему флорой и фауной. Но миновали сотни тысячелетий, и одни виды смешались меж собой, другие проникли на сопредельную территорию, а третьи эволюционировали, так удалившись от своего первоначала, что даже Ушедшим Во Тьму было б непросто их опознать. Дарт полагал, что мыслящие обитатели Диска – продукт такой эволюции, тянувшейся пару миллионов лет и даровавшей переселенцам разум. Вполне возможна гипотеза: Темные, с их трепетным почтением к биологическому естеству, не стали бы переселять существ разумных и нарушать процесс развития чужой цивилизации. Другое дело – растения и животные, включая тех, кто по прошествии времен мог бы превратиться в нечто большее, нежели бессмысленная тварь. Время изменяло и перемешивало, дробило и соединяло, но результат еще не вызрел: каждый сектор отличался от других рельефом или растительностью, наличием или отсутствием гор, особым животным миром, а главное – той расой, что обитала в пригодных для жизни местах. Сектор, уже известный Дарту, считался «диким»: его занимали криби, и лес их был небогат – много хищников и мало съедобных плодов и кореньев. Эти джунгли, переливавшиеся всеми оттенками зеленого, произрастали на плоской равнине, что простиралась до прибрежных гор – хребта-ожерелья, которым Дарт любовался с высоты, сидя в пилотском кресле. Хребет кольцом охватывал полярный океан, и место это было особое – там, среди скал и горных отрогов, таились хранилища Детей Элейхо. Подземные бункеры Темных, как понял Дарт со слов Нерис, склады Ушедших Во Тьму, но не забравших с собой свои сокровища. Впрочем, к нынешним временам все доступные тайники были отысканы и разграблены. По другую сторону реки лежал сектор рами, обильный плодоносящими деревьями, с фиолетово-индиговым лесом, сменявшимся то степью, то скалами, то холмами, то долинами ручьев и мелких рек. Эта местность, так же как другие материки, была не очень населенной, и Дарт еще не разобрался в мотивах, по которым рами, тири или данниты выбирали места для своих городов. Если только их можно было назвать городами… Он подозревал, что речь идет о чем-то другом – ведь, как объясняла Нерис, в них не имелось ни стен, ни башен, ни домов, ни дворцов. Больше того, сама идея строительства жилищ была ей чуждой и непонятной. Возможно, причиной непонимания являлся фунги? Все же торговый жаргон не слишком подходит для разговоров на отвлеченные темы… Дарт решил, что нужно овладеть наречием рами – этот язык, вероятнее всего, окажется более богатым и подходящим для их бесед. К тому же они плывут в Лиловые Долины, в место, населенное ее сородичами, а всякому племени нравится, когда чужеземец владеет их языком. За сектором рами располагались земли даннитов, карликов-тири и других существ, ходивших на двух ногах либо перемещавшихся на четырех или шести конечностях. Морское Племя джолт обитало за полярным океаном, трехглазые тиан жили за двумя материками и тремя большими реками от континента волосатых дикарей, а ко, создания-амфибии, не любившие суши, плавали везде и всюду, кроме центрального эстуария. Пересекать океан считалось делом небезопасным – днем воды его бурлили и бушевали, когда сквозь шахты в фераловой толще избыток влаги стекал из алого круга в голубой. Днем плавали по рекам и в кольцевом океане. Дарт теперь представлял дорогу, пройденную флотом даннитов: они спустились по соседней реке, отделявшей их землю от сектора рами, скользнули у самого края Диска вдоль океанских берегов и стали подниматься вверх к другому, полярному океану. Их путь повторили тиан, но попали они в этот поток со стороны континента диких, и странствие их оказалось длинней – правда, их корабли отличались большей маневренностью и скоростью, чем даннитские катамараны. Кораблей, по утверждению Нерис, было великое множество, и, узнав об этом, Дарт наконец сообразил, что плывет по реке между двумя огромными флотами. Впереди – данниты, позади – тиан, не считая всякой мелочи, тири и ко, а также неведомых ему клеймсов, рдандеров и керагитов… Подобный всплеск активности мог бы его изумить – с орбиты, перед крушением и вынужденной посадкой, ничего подобного не наблюдалось. Пустынная река, безлюдный берег… Он знал, что не ошибся; любые крупные перемещения туземцев были бы замечены Марианной, да и мелкие, собственно, тоже. Но – ничего… Проходит день за днем, и вдруг река – именно эта, и никакая другая – переполняется флотами, кораблями, целыми караванами странников… Впрочем, не странников, нет – воинов, так будет точнее! Армиями, что движутся походом к океану, к хребту у морского берега, к той седловине, откуда вырвались молнии… К месту, где его поджидает верный Голем… Балата! Теперь он понимал, что это значит. Время, когда в искусственном мире, где нет огнедышащих гор и не бывает катастроф, внезапно сверкают молнии и разверзается земля; время, когда находят склад Детей Элейхо с древними бесценными вещами, пережившими своих творцов; время, когда забывают о мире и справедливости, когда начинаются споры и дележ сокровищ, когда сверкает оружие и здравый смысл уступает силе. Недоброе время, жестокое! Время войны.* * *
Утром они отправились в дорогу, проглотив по капсуле из пищевого контейнера. Большой необходимости в этом не было – поблизости рос виноград и кустарник с крупными плодами, такими же, как росли у лагуны на острове Вау. Но Нерис не захотела к ним прикоснуться, заявив, что вкус их ей неприятен. По ее словам, на другом берегу, в землях рами, имелось изобилие плодов, кореньев и ягод, но пересечь поток они не рисковали – из-за чудовищ, таившихся в реке. На это стоило решиться лишь тогда, когда они догонят флот даннитов с их огромными плотами, пугавшими подводных тварей. Левиафан, чуть заметно подрагивая и не нуждаясь в руководстве, плыл вдоль лесистых берегов; Дарт и Нерис болтали, Брокат дремал, устроившись на мешке. Сон являлся обычным состоянием крохотного вампирчика, если не считать полуденного времени, когда спадала тяжесть – в этот период он взлетал, требовал, чтобы его отправили в поиск, и, не получив задания, кувыркался в теплом воздухе. Ел он на удивление немного для летающего существа, единожды за три-четыре цикла, и крови Дарта для этих трапез вполне хватало. С берега налетели мотыльки – может быть, те самые, что кружились над их биваком прошлой ночью. Сейчас тела и крылья насекомых не светились, только сверкали хрусталем маленькие головки – кажется, всю их поверхность занимал круглый фасеточный глаз. Нерис прикрыла глаза, раскинула руки, что-то негромко замурлыкала, потом запела, и рой мотыльков начал кружиться между ее ладонями, то ускоряя, то замедляя вращение в такт мелодии. Пела она на незнакомом Дарту языке, видимо – на рами, и он опять подумал, что это наречие стоит изучить. Но заниматься этим не хотелось. Привалившись к теплому борту левиафана, он смотрел, как двигаются ее губы и как, покоряясь тихим протяжным звукам, танцуют в воздухе мотыльки. Губы Нерис были пунцовыми, яркими, приоткрывавшими ровный строй жемчужных зубов и влажно-розовый язычок, – пленительное зрелище! Пожалуй, пялиться столь откровенно на благородную даму было занятием не очень вежливым, но веки ее оставались полуопущенными, и Дарт мог любоваться без помех. Он отметил, что ее золотистая нежная кожа сделалась ровной и гладкой – никаких следов и шрамов от бича тиан. История с ее пленением была загадочной или, во всяком случае, не вполне ясной. Трехградье, город со святилищем Элейхо, располагался где-то за землями даннитов, в устье одной из крупных рек, впадавших в кольцевой океан. Оттуда она и отправилась в путь вместе с неким Сайаном, посланная в Лиловые Долины или вызванная в них, но непонятно кем и как – эти два города разделяли тысячи лье, а привычных Дарту способов связи здесь явно не имелось. Для путешествия пресветлой шире был выделен корабль с командой джолтов и охраной, вместительная барка без весел, мачт и парусов, передвигаемая бхо – похоже, живым мотором, выращенным из зерна Детей Предвечного. Случилось так, что барка и флотилия тиан столкнулись у речного устья – у той реки, где сейчас они плыли; корабль был взят на абордаж, команда и охрана перебиты, Сайан погиб, а шира, как ценный боевой трофей, попала на судно трехглазых. На одну из передовых галер, что шли перед флотилией – то ли для разведки, то ли с какой-то иной тактической целью. Смутная повесть! Уже потому, что пленницу не убили, как весь остальной экипаж, – значит, захватчикам что-то было нужно от нее? Что же именно? Дарт полагал, что тут имеется связь с балата и целью путешествия пресветлой ширы, но такие темы у них считались запретными. Настаивать он не мог, памятуя о своем обете: кормить, защищать, не лезть с расспросами – ну и, конечно, одаривать жизнью в синее время. Но думать ему не запрещали, и многое в этой истории казалось ему непонятным. Удивляло и то, что Нерис время от времени называет его маргаром и смотрит с внезапным подозрением. Судя по шкуре, что пошла на ее мешок, маргар мог оказаться крупной тварью, ибо и сам мешок был основательным; если приставить к нему лапы с когтями и голову с клыкастой пастью, вид никакого доверия не внушал. Что-то похожее на пантеру, тигра или льва, которых Дарту случалось видеть в анхабских заповедниках, – их доставили с Земли, включая жирафов, слонов и всевозможных копытных, вроде быков, ослов и лошадей. Вся эта живность когда-то пропутешествовала вместе с ним – вернее, с его замерзшим трупом, но, по утверждению Джаннаха, тут имелась разница: на Анхаб везли не тела животных, а лишь генетический материал, необходимый для клонирования. Нерис прекратила играть с мотыльками, и их освобожденный рой понесся к берегу. – Ты можешь всех зачаровать? – спросил Дарт, провожая взглядом облако трепещущих крыльев и блестящих хрустальных головок. – Любое животное? – Нет. Одни безмозглы, другие слишком умны и хитры. С маргаром бы ничего не получилось и с водяными червями тоже. – Но как ты это делаешь? Она усмехнулась, облизала губы языком. – Это нетрудно. Простая забава… Ей учат молоденьких шир, еще не знающих, как обращаться с кристаллом. – С кристаллом? – Ну да. С тем, который погружает в вещий сон… Но и это не самое трудное. Тяжелее всего вызвать умерших и понять, что ими сказано. Или показано… Ведь эти картины видит другой человек, а шира – лишь помогает ему в беседе с предками. Но если ты хочешь с ними поговорить… Дарт замотал головой. – Оставь моих предков в покое, сиятельная госпожа, и поверни к берегу. Там что-то любопытное. Левиафан, повинуясь команде, приблизился к береговому обрыву. Здесь зияла огромная овальная воронка в сотню шагов диаметром, словно что-то тяжелое, стремительное рухнуло на границе суши и вод, взрывая песок и землю и круша деревья. За верхним краем этой ямы виднелись поваленные стволы, переломанные ветви и кустарник, хаос пней, торчавших, как клыки дракона, кучи гниющих листьев и валуны – их, вероятно, швырнуло вверх в момент чудовищного удара. В ту половину воронки, которая оказалась в воде, засасывался песок, ее заваливали камни, но она еще была глубокой; в мутном зеркале вод маячила перекореженная, изломанная конструкция, а над ней, точно трава над могилой, колыхались белесые водоросли, напоминавшие обрезки толстых шлангов. Нерис, привстав и опираясь коленями о борт, глядела на берег. Губы ее дрожали, на лице все явственней проступало выражение ужаса. – Что… что тут случилось? Такого не бывает даже во время балата, клянусь Предвечным! Трясутся горы, бьют молнии, но потом… потом просто дыра в земле… глубокая, но не такая, как здесь… – Наверное, не такая, – согласился Дарт и, выхватив клинок, отсалютовал праху своего корабля. Сердце его переполнила горечь; он думал о Марианне, словно о живом существе, вспоминал ее негромкий мелодичный голос, тени, скользившие по глазам-экранам, кресло в пилотской кабине – будто колыбель, в которой она его баюкала. Когда он вернется, ему дадут новый корабль, однако новое не всегда лучшее. Друзья хороши старые; они как бургундское вино, что зреет год за годом, наливается силой и крепостью, хранит ароматы былого… Бургундское вино? Он замер с поднятым клинком, будто его поразила молния. Бургундское! Он вспомнил, вспомнил! Бургундия – так называлась страна к востоку… от чего?.. От главного города королевства, от Парижа, подсказала вдруг пробудившаяся память и снова смолкла, точно над сундуком с сокровищами опустили крышку. Несколько мгновений он мучительно соображал, с кем и когда ему доводилось пить бургундское, потом печально вздохнул, образы ускользали, и только развевающиеся плащи да шпаги, символ былого союза, мелькнули перед ним. Пальцы Нерис коснулись его локтя. – Не молчи, маргар! Ты знаешь, что здесь случилось? Знаешь? Ответь мне! Дарт глубоко вздохнул. – Вспомни, ма шер петит, мои слова о солнцах, что светят в холодном мраке – там, над нами, за гранью голубых небес… Я прилетел с одного из них, и здесь, в воде, покоятся останки бхо… бхо, который перенес меня сюда и рухнул в пламени на этот берег. Грустная история, не так ли? Женщина окинула его недоверчивым взглядом. – Может, ты и говоришь правду, но в вещем сне я не видела других солнц, кроме этого, – откинув голову и прищурившись, она уставилась в зенит. – Очень жаркое… не верится, что ты прилетел оттуда… Но если и так, то почему ты горюешь о бхо словно об умершей матери? Конечно, бхо, способное летать, – великое сокровище, но все же… Левиафан вдруг качнулся под их ногами, и Нерис, вскрикнув от неожиданности, повалилась навзничь. В воде, под самой ее поверхностью, что-то бурлило и кипело; сквозь мутную речную прозелень Дарт увидел, как белесые водоросли-шланги все сильней и сильней раскачиваются меж останков Марианны, отрываются от дна и всплывают, быстро увеличиваясь в размерах. Он не успел еще этому удивиться, как над бортом поднялась безглазая голова с круглым отверстием пасти, ринулась к нему и жадно впилась в бок; мелкие острые зубы прокололи кожу, и ему показалось, что мышцы в этом месте немеют. Взмахнув клинком, он рассек тело отвратительного монстра, сорвал, вместе с частицей собственной плоти, помертвевшую голову и отшвырнул прочь. Но над бортами уже поднимались гибкие белесые тела, раскачивались, словно змеи перед атакой, и разевали пасти, усаженные рядами зубов. Их было больше сотни, и Дарт невольно ощутил, как спину обдало холодом. – Водяные черви, чтоб их поглотил туман! Попали в самое их логово! – выкрикнула Нерис и бросилась к передней части их живого корабля. Ее руки порхнули над темными сгустками нервных узлов, левиафан дернулся, но белесые твари, будто сообразив, что добыча ускользает, вцепились в нее со всех сторон и начали рвать, не обращая внимания на пассажиров. Клочья серого мяса, исходившие серым дымом, поплыли по воде, и она еще больше помутнела. Левиафан затрясся; казалось, безголосое и беззащитное существо испытывает жуткие страдания лишь по той причине, что не в силах разразиться воплем боли. – Руби их, руби! – послышался голос Нерис, но Дарт, используя нежданную передышку, уже рубил, колол и резал без напоминаний. Тело левиафана билось под ним в мучительных судорогах, но шпага и кинжал работали без остановки. Он метался от борта к борту, стараясь удержаться на ногах, прыгал, припадал на колени и бил – короткими, точными, яростными ударами. Белесая жидкость из тел рассеченных монстров пятнала кожу, жгла и заставляла неметь мышцы, раненый бок окаменел, но это было самой мелкой из неприятностей; главное – Дарт понимал, что атакующих слишком много и что ему не добраться до тварей, терзавших днище их живого судна. Разве только вскипятить воду дисперсором… Но вряд ли это понравится левиафану. Нерис, бросив попытки управиться с гибнущим кораблем, копалась в мешке, вышвыривая из него какие-то свертки и сосуды, а Брокат носился над ней с тревожным жалобным писком. – Сейчас… сейчас… – бормотала женщина, лихорадочно роясь в своем колдовском скарбе. – Предвечный, помоги! Где же оно? Забыла? Или сожрали лысые жабы? – Что ты ищешь? – крикнул Дарт, чуть не споткнувшись о ворох ее имущества. – Ляг на дно и не мешай мне! – Снадобье! Снадобье, что отпугивает речных чудищ! – Она подняла к нему разом помертвевшее лицо. – Кажется, я его забыла… Жуткий спазм прокатился по телу левиафана от носа до кормы – видимо, черви, что вгрызались в днище, добрались до нервных узлов. Дарт упал от толчка на колени, взмахнул шпагой, ударил кинжалом, и пара белесых обрубков поплыла по течению. Но все же монстров было много, слишком много… пожалуй, еще и прибавилось с начала атаки… Не обойтись без дисперсора, подумал он, бросив кинжал и нашаривая ребристую рукоять. Нерис вдруг испустила торжествующий вопль. Дарт, не прекращая сечь и рубить, мельком взглянул на женщину – в ее руках подрагивало что-то продолговатое, тонкое, отливающее желтым костяным блеском. В следующий миг его сознание словно раздвоилось: он по-прежнему пытался устоять на сгустке трепетавшей под ногами плоти, дотянуться острием до безглазых голов и вытащить дисперсор, но в то же время видел, как Нерис склоняется к воде, подносит тонкую кость к губам, проводит по ней пальцами, как бы что-то нащупывая. Внезапно резкий пронзительный звук раскатился над рекой, заставив вздрогнуть; подстегнутый им, он надавил спусковую пластину дисперсора и приподнял ствол, стараясь, чтобы луч не коснулся воды. Несколько тварей, разрезанных напополам, исчезли, но под их тушами копошились другие легионы монстров, уже не десятки, а сотни. Возможно – тысячи… – Мон дьен!.. – прошептал Дарт, направляя оружие в воду. Однако он не успел нажать на спуск – протяжные звуки повторились снова, и через мгновение рядом замелькали гибкие тела с вытянутыми головами, увенчанными грозным бивнем-рогом. «Старая добрая черная магия», – мелькнула в его мозгу мысль, когда дельфины окружили их плотным кольцом. Действовали они с поразительной быстротой, кромсая, перекусывая и заглатывая еще шевелящиеся обрубки; было их дюжин пять или шесть, но мнилось, что речные воды кипят под ударами мощных хвостов и плавников, и каждая волна щерится зубастой пастью. Стремительные силуэты скользили у поверхности и в глубине, переворачивались, изгибались – неуязвимые, хищные и прилежные, будто иразы-чистильщики, каких Дарт встречал на Анхабе, и столь же, на удивление, эффективные. Заметив, что левиафан уже не корчится, а лишь чуть-чуть подрагивает, он свесился над бортом и выяснил, что червей у днища больше нет, а двигательная мембрана хоть и не изодрана в клочья, но сильно повреждена. Это было неприятным открытием. Способен ли их живой корабль плыть? И что означает эта дрожь? Трепет облегчения или предсмертные конвульсии? Но дрожь вскоре прекратилась, а разрывы прямо на глазах стали затягиваться свежей плотью – видимо, их судно обладало потрясающей способностью к регенерации. Брокат перестал метаться в воздухе, опустился Нерис на плечо, и она, выронив костяную свирель, пригладила его взъерошенную шерстку; потом села, закрыла глаза и в изнеможении откинулась на борт. Губы ее шевелились, и Дарт, напрягая слух, понял, что женщина творит молитву одновременно на нескольких языках. Знакомые слова фунги складывались в благодарность речным братьям, что вовремя пришли на зов; само собой, не был забыт и Предвечный Элейхо. Тем временем стайка дельфинов рассеялась, и только трое-четверо крутились у самого дна, над обломками Марианны, будто любопытствуя, что за невиданная вещь вдруг очутилась в их реке. Дождавшись, когда они исчезнут, Дарт вскинул дисперсор, выставил на полную мощность и полоснул лучом по прибрежному откосу. Пласт земли, песка и глины медленнопополз вниз, заваливая воронку, но он продолжал стрелять, пока над водой не поднялся овальный холмик. Потом взглянул на свое оружие: полоска указателя энергии мерцала у самого нуля. Шепот смолк, глаза Нерис распахнулись. – Зачем ты это сделал? – Так нужно, моя госпожа. Нельзя, чтобы в моем бхо устроили логова гнусные твари. Я этого не хочу. Она пожала плечами и посмотрела на свой джелфейр, уже наливавшийся зеленым цветом. – Бхо есть бхо… Пока в них бродит жизненная сила, они способны исцелиться от самых тяжких ран и послужить нам сотню циклов, а иногда и больше. Но мертвый бхо… Кому он нужен? Это ведь не разумное существо! – Мой был почти разумным, – ответил Дарт, глядя на удалявшийся холмик. Левиафан не проявлял никакой активности, их медленно сносило по течению, и вскоре насыпь над могилой Марианны исчезла за излучиной реки. Женщина занялась его боком, откуда был выдран изрядный кусок: велела лечь, пристроила к кровоточившей ранке Броката, а когда тот насосался, приложила ладошку, что-то пошептала, и ручеек крови иссяк. Затем ожоги и онемевшие места были растерты мазью, и хоть ее воздействие оказалось быстрым и целительным, Дарт все же дотянулся до скафандра, вытащил прилипалу и шлепнул на плечо. Он ел пищу рами и спал с женщиной рами; их метаболизм был, вероятно, близким – но вот насколько близким? Рисковать ему не хотелось. Но заботы Нерис и тревога на ее лице были приятными. Наблюдая, как просветленная шира то роется в груде свертков, шкатулок и сосудов с целебными снадобьями, то хлопочет над ним, Дарт блаженно усмехался и норовил, поймав ее руки, прикоснуться к ним губами. Когда Нерис, согнав Броката, остановила кровотечение, он полюбопытствовал: – Тебе привиделось в вещем сне, что моя кровь прольется… Вот и пролилась! Ты знала, что именно произойдет? Она нахмурилась и покачала головой. – Элейхо не посылал предупреждения о водяных червях, и значит, это небольшая опасность. Видела же я другое… совсем другое, Дважды Рожденный… Видела битву, большую битву, однако не знаю, кто дрался на нашей стороне – это осталось секретом Предвечного. Но видела, как ты сражаешься с тьяни, как падаешь под их ударами, как тело твое заливает кровь из сотни ран… «Пожалуй, количество ран – поэтическая гипербола», – решил Дарт, а вслух произнес: – Выходит, ма белле пети, все главные удовольствия впереди. Битвы, раны и потоки крови… Ты уж постарайся, держи под руками целебный бальзам. И проверь, моя прелесть, не позабыла ли ты его в Трехградье? Отпрянув, она зашипела рассерженной кошкой. – Молчи! Шира ничего не забывает! И не тебе, пустоголовый маргар, ее попрекать! Вспомни, кому захотелось полюбоваться ямой, кишащей червями? А в том, что нужное снадобье исчезло, воля Предвечного! – Амен! – воскликнул Дарт и попытался обнять ее, но она вывернулась с гордым видом и занялась своим мешком. Упаковав добро, Нерис устроилась на носу, кинула гневный взор на обидчика и ткнула пальцем в нервный узел их живого корабля. Левиафан покорно двинулся вверх по течению. Глядя на ее спину, Дарт думал, что женщины не переносят насмешек, не прощают напоминаний о промахах и не любят, когда копаются в их тайнах. И здесь, и на Анхабе, и на Земле… Особенно на Земле… Сквозь наплывающую дремоту (это трудилась прилипала, впрыснувшая вместе с другими лекарствами успокоительное) виделась ему комната, озаренная свечами, ложе под пышным балдахином и женщина в пеньюаре из полупрозрачного батиста: черты искажены яростью, в руке – кинжал, и лезвие тянется прямо к его шее. Почему? Когда это было и где? Кажется, в Париже… В Париже, столице Бургундии? Нет, Бургундия – герцогство, а королевство звалось иначе… большая и прекрасная страна, в которой множество краев, уделов, местностей… в одной из них он родился – но только не в Бургундии и не в Париже… Где? Он закрыл глаза, стиснул кулаки, но вспомнить имя родины не удавалось.Глава 8
Прошло несколько суточных циклов. Дарт не считал их; на этой гигантской реке пространство и время, слитые вместе, измерялись не днями и пройденным расстоянием, а событиями. Танец мотыльков меж ладоней Нерис; яма с останками корабля и нападение червей; лодка тири, плывущая к низовьям; птероиды, дельфины, декаподы и прочие создания, парившие в небесах или таившиеся в лесу и водах; Глотающий Рот – бездонная лужа, на которую они наткнулись в поисках места для ночлега; деревья смерти, заваленные черепами и костями, – к ним, кажется, приходили умирать животные со всей округи… Эти деревья Брокату решительно не понравились; он раздувал усы, верещал и шипел, пока они не выбрали место для привала в четверти лье от смертоносной рощи. Ее аромат был сладким, усыпляющим, точно в анхабских храмах эвтаназии, и, вероятно, служил таким же целям. Дважды они видели скользивший над берегом туман, который Нерис называла то очистительным, то божественным. Дарт так и не понял, что это такое – животное, растение либо колония насекомых, спор или каких-то микроорганизмов. Мгла выглядела оранжевой, почти непроницаемой для глаз, воздушной и невесомой, но двигалась против ветра, захватывая территорию в несколько сотен шагов в окружности и поднимаясь до вершин самых высоких деревьев. Движения этой тучи были неторопливыми и как будто осмысленными: оранжевый поток струился вдоль реки, повторяя все береговые очертания и словно облизывая деревья и травы. По словам Нерис, это существо – или облако мелких существ? – не представляло никакой опасности, пожирая лишь мертвую плоть, сухие листья, ветви и гниющие плоды. Видимо, это был санитар или ассенизатор, очищавший лес, удобрявший почву и неспособный повредить живому. Дарт убедился в этом, глядя, как стайка птиц в пестром ярком оперении промчалась сквозь мглу и вынырнула где-то далеко, над лесной чащей, переливавшейся узорчатым малахитом. Нерис сказала, что очистительный туман обитает в землях криби, рами и даннитов, а в других секторах имеется ему замена – плесень и ползучие мхи. Еще огонь, который не жжет и летает подобно птероиду, но этого ей видеть не доводилось, так как подобные огни встречаются лишь в краю клеймсов, за центральным океаном. Дарт чистил кинжал и шпагу, слушал ее истории, слово за словом постигая язык рами, и думал о том, что мир велик и чудес в нем много. Его клинки после сражения с червями чуть потускнели, будто, соприкоснувшись с ядовитой кровью, оделись седой патиной. Поразительно! Дарт знал, что они изготовлены на Анхабе, но не из стали, а из другого металла, неразрушимого, гибкого и стойкого, похожего на серебро с золотистым отливом. Возможно, то был орихалк – название, застрявшее у него в голове, точный смысл которого не вспоминался. Зато помнилось, как странно он себя чувствовал в первые дни воскрешения. Непривычная пища, чужой язык, вдруг ставший понятным, чужая, слишком обтягивающая или чересчур просторная одежда, ощущение тела, тоже словно ставшего чужим… Не израненного и дряхлого, а сильного, молодого… Это сводило с ума, и, чтоб ускорить адаптацию, реаниматоры-Ищущие дали ему привычный наряд – штаны, камзол, рубаху с кружевами и шпагу на расшитой перевязи. Шпага оказалась игрушечной, и он потребовал боевой клинок, который воссоздали по наилучшим земным образцам. Такой шпаги не было даже у короля! Дарт считал ее главным своим сокровищем и талисманом, приносившим удачу. А здесь, в безбрежных речных пространствах, в их монотонном долгом плавании, удачей казалось любое событие. Скажем, пирога тири с высоким резным форштевнем, изображавшим деревянного дельфинчика, и упряжкой из двух живых дельфинов. Завидев ее, Нерис испустила призывный крик, и экипаж, пятеро маленьких созданий в коротких травяных юбочках, тут же засуетился, направляя хрупкое суденышко к их кораблю. Карлики кланялись и почтительно приседали, плавным жестом вытягивая тощие руки над коленями. Особенно старался их предводитель, костлявый, крохотный и совсем дряхлый; его кожа была не смугло-голубой, а отливала зеленью. Он что-то бормотал, вроде бы испрашивая милости Элейхо и великой ширы; на его морщинистом безволосом личике застыли благоговение и страх. Дарт понял, что Нерис была в глазах карликов важной персоной – пожалуй, такой же значительной, каким ему представлялся Джаннах. Правда, в отличие от ширы, Джаннах не требовал знаков почтения, поклонов и приседаний. Нерис с величественным видом простерла руки над дельфинчиком, украшавшим форштевень, затем принялась расспрашивать путников, интересуясь их маршрутом и торговыми делами, а главное тем, как далеко до великого флота даннитов. Старший отвечал тонким высоким голоском, называя неведомые Дарту пункты и города, но оказалось, их не так уж много – Диск, как подтверждали его наблюдения, был не слишком населенным местом. Он так и не понял, где находится даннитский флот, ибо маленькие торговцы измеряли расстояния, сообразуясь со скоростью дельфинов, однако Нерис, кивнув, шепнула ему, что догонять флотилию придется не дольше пары циклов. Затем она велела тири править к берегу, прятаться в кустах и ждать, пока не проплывут потомки тухлого яйца – иначе сам Элейхо не поручится за их жизни и не спасет от дротиков трехглазых. – Странная встреча, – заметил Дарт, когда кораблик тири скрылся в прибрежных зарослях. – Носы у торговцев длинные, чувствуют запах войны и поживы… Им бы крутиться рядом с солдатами, плыть к океану, а эти спускаются вниз… Непонятно! – Клянусь Элейхо!.. – пробормотала Нерис, бросив на Дарта строгий взгляд. – Кажется, ты ничего не понял! – Мой скудный разум не длинней клинка кинжала. Если сиятельная шира объяснит… Она прервала его взмахом руки. – Ты разглядел их старейшину? – Пожалуй. Очень почтенный монсеньор… и очень дряхлый, даже слегка позеленевший… – Признак того, что дни его сочтены. Младшие сородичи везут его в землю тири, умирать. Таков их обычай. – Он – их отец? – Кому-то отец, кому-то мать. Тири не делятся на мужчин и женщин. Каждый сочетает оба естества. Андрогины! Некоторое время Дарт переваривал эту мысль, потом спросил: – А если не довезут? Нерис сурово поджала губы. – Это было бы большим несчастьем для старика и позором для его потомков. Тири умирают лишь в своей земле, у деревьев смерти. Таких, какие мы недавно видели. Кивнув на берег, она ткнула пальцем в нервный узел левиафана, и живое судно двинулось против течения. В тот день и в светлый период ближайшего цикла река была пустынной, если не считать какой-то жуткой твари, всплывшей рядом с их кораблем, – видимо, они слишком удалились от берегов, оказавшись в зоне больших глубин, где обитали речные чудища. Весьма разнообразных форм и видов, по словам Нерис, но все – кровожадные и слишком огромные, чтоб с ними справились дельфины. Монстр, преградивший им путь, походил на гигантскую черепаху в бронированном панцире, имел полдюжины могучих плавников, гибкий хвост и длинную шею с таким костяным гребнем, что Дарт даже не вспомнил о шпаге, а снес чудовищу башку дисперсором, истратив последний заряд. Теперь его оружие стало бесполезным – по крайней мере до тех пор, пока он не встретится с Големом. В желтое время третьего дня, в условный полдень, отмеченный ощущением легкости, на горизонте возникло пятнышко, округлое и темное, точно капля дегтя, упавшая на серебристую речную гладь. Дарт потянулся к скафандру, вытащил тонкий обруч визора, блестевший сенсорными звездочками, пристроил на голове и опустил козырек-экран. Мир озарили новые краски; песок и скалы виделись теперь желтовато-бурыми, поверхность реки – серой, без блеска, слепившего глаза, небо – нефритовым, а лес, что зеленой стеной громоздился вдоль берегов, приблизился, распался на отдельные деревья и кусты, переливавшиеся живыми оттенками красного. Пятно тоже порозовело, приблизилось и распалось на четыре вытянутых силуэта и множество мелких штрихов, мельтешивших на периферии, словно червяки вокруг толстых неповоротливых змей. Дарт коснулся сенсора над ухом, и червячки превратились в крохотные катамараны под прямоугольниками парусов, а на спинах змей выросли горбы – башни-надстройки в три этажа, со смотровыми площадками, галереями и спиральными лестницами. Новое касание, и он различил хвостатые и коренастые фигурки мореходов, сновавших взад-вперед по палубам, лестницам и галереям. Левиафан под его ногами дрогнул, прибавив скорость, фигурки с их кораблями и плотами стали расти, и над рекой вдруг затрубила раковина и раскатился гул барабана – видимо, знак того, что их заметили. Сняв обруч, Дарт вытер испарину, выступившую на висках. Нерис провела языком по пухлой нижней губке и ободряюще улыбнулась ему. – Не беспокойся, маргар, они не причинят нам вреда. Они живут в дружбе с рами. Левиафан приближался к великому флоту даннитов.* * *
«Вот муж, исполненный достоинств, – размышлял Дарт, с вежливой улыбкой поглядывая на Кордоо. – Хоть не человек, зато деловитый, вежливый и не лишенный понятия о гостеприимстве». Шесть копьеносцев почетной стражи напоминали о всех достоинствах даннитского вождя – или скорее адмирала; в позах воинов сквозила радость от лицезрения гостей, а также готовность исполнить любое из их повелений. Ветер, реявший над палубой, трепал мех даннитов и длинные пучки волос под остриями копий – коротких, неуклюжих, с толстыми неошкуренными древками. Сам Кордоо был коренаст и крепок, с гибким длинным хвостом, мускулистыми конечностями и удивительно мощной грудью, хотя его макушка не доставала Дарту до плеча. Шерсть на теле адмирала казалась какой-то взъерошенной, клочковатой, совсем непохожей на гладкий шелковистый мех покойной даннитки, и масть его была не темной и не серой, а рыже-бурой. Густой шерстяной покров не позволял считать его нагим, и к тому же у Кордоо имелись два предмета из одежды: широкий плетеный воротник, украшенный глиняными шариками, и ремень с полоской кожи, пропущенной между ног. Полоска ощутимо оттопыривалась, не оставляя сомнений в мужских достоинствах Кордоо. Он вытянул хвост, вскинул мощную длань с мохнатыми когтистыми пальцами и присел – не так низко, как приседали тири, но все же на добрую пару ладоней. Глиняные шарики на его воротнике глухо брякнули. – Да будет милостив к тебе Элейхо, просветленная шира! И к тебе, воин рами! Был ли благополучным ваш путь? – Скорее да, чем нет, сын двадцати отцов, – ответила Нерис, баюкая в ладонях дремлющего Броката. – Все-таки я осталась в живых, хотя в речном устье тьяни перебили моих людей, сожгли корабль и перерезали горло Сайану, моему маргару и защитнику. К счастью, я везла из Трехградья зерна бхо… и, к счастью, мне повстречался новый защитник… – она положила руку на плечо Дарта. – Его зовут Дважды Рожденный, и он тоже маргар и великий воин, освободивший меня от чешуйчатых ящериц. Сын двадцати отцов – таким был официальный титул Кордоо. Самок в его племени рождалось много меньше, чем представителей сильного пола, и полиандрия была вполне естественной: у каждой самки – от шести до десяти мужей, и, чтобы данниты не канули в вечность, каждой полагалось родить не меньшее количество потомков. Задача трудная и не всегда выполнимая в силу даннитской физиологии, и поэтому ценились самки плодовитые, имевшие больше супругов, производившие больше детей и обладавшие властью и почетом. В такой семье проблема персонального отцовства не вставала, а число мужчин, принадлежавших матери, являлось своеобразным генетическим штампом, признаком жизнеспособности и редких качеств, необходимых для великих дел. Кордоо раздул ноздри, гневно ударил хвостом по ляжке и стиснул кулаки. Экспрессия жестов и поз заменяла даннитам мимику, почти незаметную на их заросших шерстью лицах. – Пленить ширу, избранницу Предвечного! Убить ее маргара!.. – Казалось, он вне себя от ярости. – Только бесхвостые жабы способны на это! Хотя их можно понять… – Адмирал, оглядев сияющие речные дали, вдруг успокоился, склонил голову к плечу и принял позу раздумья. – Балата… грядет балата… В такой период даже тьяни нуждаются в видящих суть вещей… А самки их безмозглы, и не даровано им речи, не говоря уж о вещих снах и остальных умениях искусной ширы! Без ширы же не обойтись, ибо на вид все зерна Детей Элейхо одинаковы. Кто отличит зерно от плевел, злое от доброго, полезное от пустого?.. Кто направит и кто предостережет?.. И кто оценит сокровища, чтобы данниты, рами и Морское Племя могли разделить их по справедливости? «Женщина, только искусная женщина», – подумал навостривший уши Дарт и усмехнулся. В памяти всплыло – «шерше ля фам», и он повторил эту фразу несколько раз, наслаждаясь звуками, словно бокалом игристого вина. Повод к мысленному возлиянию имелся – цель путешествия Нерис больше не была секретом. – Затем меня и послали, чтоб оценить и разделить, – промолвила шира, гордо выпрямившись. – Надеюсь, сын двадцати отцов, чей хвост никогда не опускается, ты доставишь нас в Лиловые Долины, меня и моего спутника? Доставишь, хотя корабли трехглазых плывут за тобой по пятам? Кордоо кивнул и по-хозяйски оглядел огромный плот и мельтешившие вокруг катамараны. – Доставлю, клянусь Элейхо! И тебя, просветленная шира, и твоего защитника со странным именем, и твоего летающего зверька… Доставлю с почетом и в полной безопасности! А эти, трехглазые, пусть плывут… Доплывут, так мы им обрубим хвосты! Видимо, это было страшной угрозой – стражи-копьеносцы оскалились, рявкнули что-то неразборчивое и ударили в палубу древками копий. Кордоо бросил на них одобрительный взгляд. – Я прикажу, чтобы вас разместили в жилой башне, в лучших покоях, рядом с Дии-ди, моей почтенной супругой и моими братьями. Вы будете спать в одном жилище? – Разумеется, – прохладная ладошка Нерис снова легла Дарту на плечо. – Мы связаны обрядом синего времени! Хвост адмирала сплясал затейливый танец, ноздри затрепетали, верхняя губа приподнялась – он улыбался. – Тогда вам не будет скучно! И пусть Элейхо пошлет вам крепких детей и долгую жизнь просветленной шире… Что-нибудь еще? – Пусть позаботятся о нашем корабле, – Нерис повернулась к левиафану, который покачивался рядом с плотом. – Пусть его опутают сетью и прочно привяжут, но не поднимают на палубу. Без воды бхо погибнет. – Будет исполнено. – Кордоо слегка присел, на этот раз – не больше ладони, и показал хвостом на одного из копьеносцев. – Руун, мой брат, проводит вас в жилище и проследит, чтоб ваши подстилки были мягкими, а пища – обильной. С этим Рууном Дарт в ближайшие дни облазил даннитское судно от киля до клотика. Руун являлся не кровным братом, а собрачником адмирала, самым младшим из супругов почтенной Дии-ди, рослым, крепким, добродушным существом, склонным к юмору. Серый мех его лежал волосок к волоску, воротник, сплетенный из ярких разноцветных нитей, был вдвое шире адмиральского, а кожаный пояс, украшенный менявшими цвет раковинами, служил заодно джелфейром. На поясе болтались костяной клинок и огромная фляга, а к воротнику спереди и сзади были привязаны мешочки для всяких нужных мелочей. Пахло от Рууна приятно, медом и цветущим лугом, и Дарт решил, что новый его знакомец – из даннитских щеголей. В осмотре плота препятствий ему не чинили. Это сооружение, связанное из чудовищных, диаметром в рост человека, бревен тянулось на шестьдесят шагов в ширину и двести двадцать в длину, а экипаж состоял из семей адмирала и его ближайших помощников и сподвижников. Было их не меньше пятисот, и, если принять во внимание другие плоты и восемь десятков катамаранов, в даннитском воинстве насчитывалось тысячи три бойцов. Бревна, покрытые гладкой бархатистой корой, были удивительно легкими, и плот высоко сидел в воде. Палуба, собранная не из досок, а из полос таато, напоминавшего толстый пористый картон, казалась прочной и ровной; этот материал, по утверждению Рууна, добывали в заброшенных гнездах каких-то существ, птероидов или больших насекомых, водившихся в даннитских землях. Жилая башня о трех этажах тоже была построена из таато, а ее балконы, галереи и лестницы поддерживал бревенчатый каркас, пропитанный таким же клейким веществом, как на галере тьяни. Осмотрев башенку, Дарт заключил, что идея строительства все же не чужда жителям Диска – хотя бы в том, что касалось транспортных средств. Не единственный из его выводов; заметив, что огонь разжигают с большой осторожностью, лишь во время ночного привала и никогда – на корабле, он догадался, что таато горит как порох. Тайной, будившей его любопытство, был способ передвижения плотов. Легкие верткие катамараны шли под парусом, но на плотах ни мачт, ни весел не имелось – да и какие гребцы и паруса могли бы гнать против течения эти неуклюжие громады? Но они двигались – неторопливо, плавно и будто без всяких усилий. Как именно, Руун не мог или не пожелал объяснить; он только стучал хвостом по палубе, поглаживал объемистое брюхо и бормотал: «Бхо… сильные бхо – там, внизу… сидят на деревьях и…» Тут его лапы приходили в движение, будто загребая воду, а хвост начинал выписывать круги, что означало у даннитов высшую степень восторга. Миновали два периода темного времени и два – светлого. Дарт сидел с Рууном в скудной тени башенки, между подпорками галереи, тянувшейся вдоль второго этажа. Наверху, шаркая и постукивая когтями, прохаживались часовые, на корме несколько даннитов перекладывали какой-то груз, а перед башней, на носовой палубе, тренировались копьеносцы: оскалив зубы и выставив оружие, шли в атаку на большие фруктовые корзины, сшибали их и кололи с победными воплями. Эти маневры казались Дарту не слишком серьезными; правда, он помнил, как отчаянно бились данниты с племенем Вау – там, на острове, – но было ли это свидетельством их боевого искусства? Каких чудес не сотворишь, чтоб не попасть на вертел к людоедам… А вот на обученных гвардейцев данниты походили мало. – Хорошие воины? – Дарт покосился в сторону копейщиков. – Аррхх… – Прочистив горло, Руун расправил свой широкий воротник. – Лучшие воины, Дважды Рожденный! Сыновья пятнадцати отцов! Очень смелые! Очень свирепые! Однако их еще не избрали. – Кто не избрал? – Женщины, само собой. Будут хорошо сражаться, попадут к ласковым женщинам… таким, как Дии-ди… – Верхняя губа Рууна приподнялась, хвост непроизвольно дернулся. – Твоя самка тоже ласковая? Эта маленькая шира из Трехградья, с желтой шерстью на голове? – Ласковей не бывает, – буркнул Дарт и снова поглядел на копьеносцев. Ему хотелось поговорить о воинах, не о самках. Флот чешуйчатых приближался с каждым прошедшим циклом, и вещий сон его спутницы, суливший кровопролитие и многочисленные раны, начал его беспокоить. Сумеет ли он добраться до Голема и завершить свою миссию? Или падет в схватке двух примитивных племен, равно чужих и Земле, и Анхабу? Впрочем, даннитов он не считал чужаками – они оказали гостеприимство ему и Нерис, и мысль бросить их в беде была бы постыдной, несовместимой с рыцарским долгом. Проблема состояла в том, что этот долг был не единственным; долгов насчитывалось много – столько же, сколько взятых обязательств. Перед даннитами и Нерис, перед Джаннахом и гильдией Ищущих, перед Констанцией и перед Землей, куда он должен обязательно вернуться… Долги вступали в спор, противоречили друг другу, и каждый заявлял: ты – мой!.. я первый, главный!.. Дарт знал, что это угрожает гибелью; лишь при счастливых обстоятельствах он мог заплатить по векселям, не уронив достоинства и чести. Ему казалось, что он сумеет это сделать. Ведь до сих пор удача была его верной спутницей. Данниты на передней палубе, смешавшись в кучу и размахивая копьями, с энтузиазмом дырявили корзины. Раковины на поясе Рууна позеленели; близился вечер, над рекой парило, воздух стал душным и слишком влажным. – Жарко, – заметил Дарт. – Жарко, – согласился Руун и протянул ему флягу. – Самое время освежиться. Пей, Дважды Рожденный! Это было вино, крепкое и ароматное, – вероятно, из виноградных ягод или других неведомых плодов. Дарт глотнул, в удивлении вскинул брови и, запрокинув голову, присосался к фляге. Божественный нектар! Когда же он пробовал его в последний раз? И с кем? Неужели с тех пор миновало четыре столетия? Целая вечность! Руун беспокойно зашевелился и потянул сосуд к себе. – Аррхх… это же тьо… крепкий тьо… Ты уверен, что не умрешь, Дважды Рожденный? Случись такое, Кордоо спустит с меня шкуру, а тебе придется рождаться в третий раз! – С чего мне умирать? – Дарт неохотно выпустил фляжку. – Рами не любят тьо, у рами другой напиток, из меда, – сообщил Руун, сделав основательный глоток, а за ним – второй и третий. – Рами не похожи на даннитов – если пьют тьо, сильно болеют. И еще у них хвост опускается… тот, что спереди, между ног… Потом не запрыгнуть на самку. – Я – другой рами, из очень далеких мест, где пьют тьо от красного времени до синего. И все хвосты стоят торчком. Я могу выпить больше любого даннита. – В самом деле? Тогда бери и пей! Тяжесть постепенно возрастала, но вино наполнило Дарта чувством невыразимой легкости. Он отхлебнул пару раз, возвратил флягу Рууну и бросил взгляд на упражнявшихся копьеносцев. – Вашим воинам приходилось сражаться с тьяни? – Бу-у… – Его собеседник оторвался от горлышка и вытер мех на нижней челюсти. – Нет, конечно, нет. Мы живем далеко друг от друга, каждый в положенном месте, в своих жилищах и городах. Зачем нам сражаться и что делить? Только волшебные зерна, когда случается балата… Но балата – такая же редкость, как рами, который любит тьо. – Однако ты его видишь, – Дарт хлопнул ладонью по груди и потянулся к фляжке. – Объясни мне, Руун, кто же такие ваши воины? Те, что бьются сейчас с корзинами? – Разве н-не понятно? – Язык Рууна слегка заплетался. – Я ведь с-сказал: воины – с-сыновья пятнадцати отцов… ссс… с-сборщики фруктов и ягод… п-плетельщики корзин… а есть такие, что делают ремни и паруса или ищут раковины… или добывают таато и деревья для плотов… вс-се молодые, еще н-не избранные женщинами… Оч-чень с-свирепые и смелые! – А кто твой брат Кордоо? Вождь, опытный в делах войны? – Аррхх!.. Он – С-судья, н-не опускающий хвост… он мирит тех, кто с-спорит… с-спорит из-за плодовых деревьев или отмелей с раковинами… Вс-се его с-слушают! Вс-се! И в Грр-ремучих Гейзерах, и в Рр-радужных Водах, и в Сс-серых Осыпях… П-потому его и п-послали! Фляга показала дно. – Кажется, у тебя опустился хвост, – заметил Дарт. – Н-не может б-быть! Руун встал. Стоял он довольно прямо, но лишь по той причине, что хвост еще слушался хозяина. Руун обхватил им ближайшую подпорку галереи. – Ещ-ще? – Конечно. Сделайте милость, сударь мой. Руун исчез, но вскоре объявился с полной фляжкой, которую они прикончили в добром и нерушимом согласии. Беседа тем временем продолжалась и становилась все теплей и доверительней; Дарт спрашивал, Руун с охотой отвечал, и, хоть его речи были уже невнятными, молола мельница исправно, и мука сыпалась в мешок. Наконец, заикаясь и дергая хвостом, он принялся рассуждать о тактике, стратегии и военной доктрине. Сводились они к тому, что даннитские храбрецы, объединившись в Лиловых Долинах с отрядами рами, двинут пешим ходом в предгорья, к дыре, откуда били молнии; а там и джолты подойдут – по милости Элейхо, не одни, а с клеймсами да керагитами. И будет у дыры так много смелых и свирепых воинов, что не пробиться к ней бесхвостым жабам! У них опустится (тут шел неясный термин, связанный с физиологией чешуйчатых)… и если вывернуть наизнанку (это уже касалось их репродуктивных процессов)… то жабьи яйца (вывод невероятный, но крайне оскорбительный для самок тьяни)… Изложив свое мнение о расе тиан, Руун расслабился, свесил голову и начал похрапывать. Дарт спать не хотел. Вино играло в его жилах, но не туманило мысли, а подгоняло их, как гонит всадник притомившегося скакуна. Под этим кнутом мысли ускорили бег, а затем обернулись видениями: будто сидит он не на даннитским плоту, а у стола в харчевне, который прогибается под дюжиной бутылок, кубками с вином и блюдом с каплунами, и будто пирует и пьет не один, а в дружеской компании. Их было трое, его друзей; фигуры их тонули в полумраке, но лица он видел отчетливо – пожалуй, впервые с тех пор, как пробудился к новой жизни на Анхабе. Одна физиономия – грубоватая и щекастая, пышущая уверенностью и силой; лицо другого – юное, с черными глазами и щегольскими усиками, с румянцем на щеках, покрытых, словно персик осенью, бархатистым пушком; черты третьего, мрачного сурового мужчины, поражали тонкой красотой и благородной бледностью. Эти трое казались такими разными, такими непохожими друг на друга! Объединяло их лишь одно: они взирали на Дарта с любовью и упреком. – Что же вы наделали, друг мой! – произнес бледный. – Явились в тихий край, посеяли соблазн в мирных душах… Нехорошо! – Дьявольский соблазн! – поддержал юноша с румяными щеками. – Эти бхо, эти гомункулусы, которых жаждут местные пейзане, – порождение дьявола! Я в том уверен – ибо, как говорят нам святые отцы, дьявол поспевает всюду и всюду строит каверзы и раздувает неприязнь. Представьте, что теперь произойдет: у вашей ямы встретятся союзники, хвостатые и бесхвостые, и будут резать этих… как их… чешуйчатых жаб… Ну а чешуйчатые будут резать хвостатых и бесхвостых… Не правда ли, веселая картина? – И чем бы ни закончилось побоище, кто бы ни победил, оставшиеся передерутся меж собой, – заявил щекастый. – Готов прозакладывать в том свою бессмертную душу и новую перевязь! Шитую золотом, из лучшей кордовской кожи! – Так, без сомнения, и случится, – грустно усмехнулся бледный. – Гордыня, зависть, неприязнь к чужакам и жажда обладания… Разве вы не помните, что на Земле терзают и убивают по тем же пустым причинам? Разве не помните, как погибла ваша возлюбленная? Не позабыли еще ее имя? – Не позабыл… Я так хочу вернуться! К вам и к ней… – К нам вы уже не вернетесь. Tempus fugit – время бежит, как говорили римляне… Однако не сожалейте об этом, а думайте, как уменьшить жертвы, если нельзя исправить всего содеянного. – Бледный, с благородным лицом, вздохнул и покачал головой. – Мне жаль вас, мой несчастный друг… вы виноваты, вы развязали здесь войну… Не рыцарский поступок! – Что же я мог сделать? – возразил Дарт, опуская глаза. – Я всего лишь наемник, а значит, игрушка чуждых сил, раб обстоятельств… – Вы – не игрушка и не раб! Вы – человек благородной крови! Я понимаю, обстоятельства есть обстоятельства… они довлеют над нами, и часто мы не можем их переменить… Но всюду и везде обязаны повиноваться велениям чести! Помните об этом, друг мой! – Помните! Помните! – вскричали щекастый и юный щеголь, и Дарт с удивлением почувствовал, что кто-то из них пинает его ногами в ребра. Совсем не по-дружески, а с неприкрытой злостью. Он завертел головой, и щекастый с бледным внезапно исчезли, вместе с харчевней, столом, бутылями и кубками, оставив их с юношей наедине. Пинки продолжались. И юноша выглядел как-то странно – не прежний друг, а будто иная, совсем незнакомая персона. – Что вы себе позволяете, сударь? – с холодной яростью вымолвил Дарт, касаясь рукояти шпаги. – И почему? – Почему? – Юноша наклонился над ним, и лицо его стало меняться, словно у анхаба-метаморфа: пропали усы, зрачки из черных сделались серыми, губы – более яркими и пухлыми, а прядь смоляных волос, свисавшая на лоб, вдруг превратилась в золотистый локон. – Почему ты валяешься здесь, рядом с хвостатым отродьем, упившимся тьо? – сердито кричала Нерис. – И почему от тебя разит, словно из вонючей фляги? Ты пробовал перебродивший сок? Даннитское зелье, которым они травят насекомых – тех, что водятся в их шкурах? Отвечай, маргар! Ты пил его? И ты еще не умер? – Отнюдь, моя красавица. Я жив и даже не опустил хвост. Дарт поднялся на ноги, чувствуя, что плоть его не так воздушна и легка, как днем. Тучи затягивали небо, стало темнеть и холодать, поток струился быстрее, торопясь из полярного океана к кольцевому, а флот уже поворачивал – но не налево, а направо, не к поросшей зеленым лесом земле каннибалов, а к более гостеприимным берегам рами. Тут, за мысом, была просторная бухта среди индиговых мхов, зарослей синих коленчатых бамбуков и деревьев харири. Мхи выглядели густыми и сочными, бамбук – прямым, словно корабельная мачта, а деревья – похожими на пучки длинных плоских досок в серой коре, торчавших прямо из земли, причем были усеяны вместо ветвей и листьев крепкими шипами и большими, размером с конскую голову наростами. Харири играли важную роль в хозяйстве аборигенов: доски-стволы годились для лодок и кораблей, шипы – для наконечников пик, а из наростов гнали беловатый сок, напоминавший молоко. – Мне приснился вещий сон, – сказал Дарт, всматриваясь в близкий берег. – От тьо? Пьющим тьо Предвечный не посылает снов! Таким, как этот! – Презрительно оттопырив губу, Нерис пнула храпевшего Рууна. – Ты валялся рядом с ним, а вещие сны даруются мужчине, который спит на ложе ширы! – Тем не менее я видел сон… видел уголок Парижа… уютное место, где едят и пьют… видел кубки, полные вина… видел друзей, чьи лица почти позабыты, и слышал их речи… – Что же они сказали? – Женщина с недоверием прищурилась. – Напомнили о долге… и о прошлом, – ответил Дарт. Он смотрел на Нерис, но перед ним плыло лицо Констанции.* * *
Как всегда, Дарт поднялся в ранний час, в сумерках, еще не сменившихся алым утренним временем. Покинув каморку, отведенную им на втором – почетном – этаже башенки, он вышел на галерею, где, опираясь на копья, дремали часовые, и принялся размышлять о вчерашнем видении. Ментоскопирование, которому он подвергался на Анхабе, не было мучительной или насильственной процедурой. Смысл ее состоял в том, чтобы получить сведения о Земле и поисках, проведенных в других мирах, считать объективную информацию, не искаженную словесной передачей. Все, что случилось в период вояжа, все увиденное и услышанное, все действия разведчика, его ощущения и мысли переходили в мнемоническую запись, служившую баларам Ищущих источником для анализов и размышлений. Эти сведения не исчезали совсем из ментоскопируемого мозга, но погружались в такие его глубины, откуда извлечь их Дарт не мог. То было частью платы за жизнь и молодость, взимаемой анхабами; он владел не своими воспоминаниями, а лишь их смутным призраком. Но неужели память его пожелала проснуться? Здесь, на Диске? Раньше он не видел лиц друзей – они скрывались в тенях, таились под широкополыми шляпами, неразличимо мерцали в полумраке. Но на этот раз… На этот раз он разглядел их и вспомнил! Пусть не имена, но хотя бы лица… И друзья говорили с ним! Напоминали о рыцарском долге! Призывали уменьшить жертвы, если нельзя исправить всего содеянного… Он просидел на галерее до тех пор, пока данниты на берегу и на плотах пробудились, привели в порядок мех, сняли тенты, защищавшие от дождя, погрузили корзины со съедобными плодами и развернули паруса. Вскоре рой катамаранов покинул гостеприимный берег, затем вода у края бревен вспенилась и забурлила – это стали трудиться таинственные бхо, прикрепленные к днищам плотов, – и флотилия медленно, с неторопливым величием выплыла из бухты. Позавтракав сладкими мучнистыми клубнями и беловатым соком харири, Дарт поднялся на смотровую площадку. Роль ее выполняла кровля третьего этажа, обнесенная столбиками с перилами; здесь стоял большой барабан с деревянными колотушками и находились два барабанщика и три сигнальщика с горнами-раковинами. У барабана маячила плотная фигура Кордоо. Он грыз продолговатый оранжевый плод, сплевывая за перила мелкие семечки. Приблизившись к адмиралу, Дарт досадливо сморщился, крякнул и с натугой присел. – Милость Элейхо к тебе, почтенный Кордоо! Пусть не опускается твой хвост! Адмирал вытер сок с заросшего рыжей шерстью подбородка и повернулся к нему. – Дважды Рожденный? Хрр… Слышал я, что ты перепил Рууна? Шира очень гневалась… Кричала так, будто ее терзают водяные черви. – Я ее успокоил. Синий период – лучшее время для того, чтобы успокаивать женщин. – Верно, – согласился адмирал, швыряя за борт шкурку от плода. – Но все-таки жаль мне вас, самцов рами! У каждого – по самке, а то и по две-три… и каждую надо успокоить и наделить дитем… Великий труд! От того и живете вы меньше циклов, чем ваши женщины. – Лучше жить недолго, но весело, – возразил Дарт, поворачиваясь к корме. – Но я хотел бы поговорить об иных вещах, сын двадцати отцов. Взгляни на реку – здесь она петляет, мы видим ее до поворота, а что за мысом… во-он за тем… – он показал рукой, – мы разглядеть не в силах. А значит, не заметим, как подкрадывается враг. Река в этих краях была другой, чем около острова Вау – не то чтобы петляла, но плавно изгибалась, поворачивая то к землям рами, то к зеленым джунглям, обители волосатых дикарей. Кроме мысов и отмелей, заросших высоченным тростником, тут попадались островки и даже целые архипелаги, иногда песчаные и низкие, но временами покрытые лесом или нагромождениями скал. По этой причине река просматривалась лишь на два-три лье, и флот тиан мог незаметно приблизиться к даннитам. Кордоо, однако, молчал и лишь подергивал хвостом. Видимо, тактический гений не относился к числу его достоинств. – Нужно разведать, где находятся вражеские корабли, – пояснил Дарт. – Отправь людей на маленьких плотах под парусами. Они быстроходные; спустятся вниз по течению, увидят тьяни, повернут и догонят нас. Или разложат костер на берегу и подадут сигнал дымами. Мы будем знать, что враг вблизи, и успеем подготовиться. – Нас много, мы сильны и всегда готовы, – важно произнес адмирал и, махнув хвостом барабанщику, велел притащить еще плодов. Но Дарт не отступал. Он не хотел, чтоб этих сборщиков фруктов и плетельщиков корзин передавили, как беспомощных цыплят. – Тьяни бьются топорами, их нельзя подпускать близко, а копья у наших воинов слишком короткие. На прошлом привале я видел тростник – синий тростник, высокий, прямой и прочный. Подходит для копий… Надо сделать их подлиннее и вырезать щиты из таато. Тьяни мечут дротики… – Откуда ты знаешь? – Кордоо взял оранжевый плод с подноса, принесенного барабанщиком. – Знаю. Я сражался с тьяни. – Где? – Сок брызнул на рыжую шерсть адмирала. – Просветленная сказала мне, что ты пришел из далеких краев… кажется, с изнанки нашего мира… Там тоже есть бесхвостые жабы? Удивительно! Дарт пропустил эту реплику мимо ушей. – Тьяни – воинственное племя, почтенный, воинственное и жестокое… Числом их не испугаешь, только силой! А силу нужно показать… Покажешь – они, возможно, отступятся, и все обойдется без крови. Длинные острые копья и щиты – это сила… Готовность – тоже сила. – А что еще? – спросил адмирал без особенного интереса. – Еще – камни. Ваши воины не умеют метать копья, и быстро этому не научишься. Пусть бросают камни… прикажи, чтоб собрали побольше. И надо объяснить им, как бороться с огнем, если тьяни подожгут плот. Взять запасные паруса и тенты, смочить как следует водой и… Хвост Кордоо дернулся налево, затем – направо, верхняя губа приподнялась, обнажив внушительные клыки, – он смеялся. – Вы, рами, такие беспокойные существа! Наверное, потому, что на каждого самца приходится слишком много самок… Камни, щиты, длинные копья и мокрые тенты!.. Хрр… Может, еще хвосты обрубить, чтоб не мешали в драке? – Вытянув шерстистую лапу, адмирал подтолкнул Дарта к лестнице. – Иди, Дважды Рожденный! Иди, отыщи Рууна и выпей с ним тьо! Пей, если тьо тебе на пользу! Шира покричит, а ты ее успокоишь… Тоже приятное занятие. И да будет с вами обоими милость Элейхо! – И с тобой, почтенный, – хмуро буркнул Дарт, направляясь к лестнице. Кордоо, Судья и адмирал, сын двадцати отцов, имел множество достоинств, но предусмотрительность, кажется, в их число не входила.Глава 9
Тиан напали в предрассветный час, когда фиолетовый цвет джелфейра сменился нежно-лиловым, и лиловый оттенок поблек, уступая розовым тонам. Напали не с реки, а из леса, что стало полной неожиданностью; видно, мысль, что внезапность равняется победе, была не чуждой их вождям. В прошлый вечер даннитский флот причалил к берегу за полуостровом – обширным, изогнутым, словно крючок, участком суши, вдававшимся в речные воды на пару лье. Примерно такой же была его ширина, и Дарт, будь его воля, разбил бы лагерь с внешней стороны крючка, откуда поток просматривался на большое расстояние. Но Кордоо решил по-своему: обогнув полуостров, флотилия встала во внутренней бухте. Место, впрочем, было отличное: пологий песчаный берег, а за ним – плодовый лес, где деревья росли просторно, не мешая друг другу и не создавая помех для фуражиров. Как, впрочем, и для атакующих – они миновали лес и молча обрушились на спящих. Дарт, бродивший по галерее, не сомневался, что флот тиан бросил якорь у внешней части полуострова, невидимой из-за густых деревьев, и, вероятно, ждал, когда успокоятся речные воды. План их атаки казался ему безупречным: видимо, предполагалось, что пешее войско нападет из леса и свяжет противника боем, а корабли, преодолев течение, ударят в тыл. Клещи, мелькнула мысль, смертельные клещи… затем – бойня и полное уничтожение… Он встряхнул задремавшего часового и ринулся к лестнице. Половина даннитского воинства спала на плотах, в жилых башенках и под тентами; другая половина – в основном экипажи малых кораблей – предпочитала ночевать на берегу, у костров, в которых пекли мясные плоды, под прикрытием тех же тентов и древесных крон. Все они – или почти все – были обречены: чешуйчатые, переколов часовых, рубили подпорки, и мокрая ткань падала на спящих, лишая возможности к сопротивлению. Дарт, взбегавший по спиральной лесенке, видел блеск тианских секир, мерно вздымавшихся и опадавших в утреннем полумраке; секироносцы шли густой цепью, не утруждая себя убийством, а только сваливая тенты. Но за ними двигались шеренги тиан с копьями и дротиками, острия которых уже обагрились кровью – похоже, тех несчастных, что ночевали под деревьями. Атакующих на первый взгляд было немалое число – сотен восемь или десять, а может, и побольше тысячи: когда Дарт взлетел на смотровую площадку, воины еще выходили из леса. Оттолкнув сигнальщика, застывшего с раскрытым ртом, онбросился к барабану, схватил колотушки, ударил – туго натянутая шкура зарокотала, словно отдаленный гром, звуки раскатились над берегом и водой и угасли в лесу умирающим эхом. На палубах зашевелились; под тентами слышался скрежет когтей, потом – сонные вскрики, призывы к Элейхо и ругань, перекрытые громким голосом Кордоо: он обещал порвать пасть сыну бесхвостого отца, который вздумал баловаться с барабаном. – К оружию! – закричал Дарт. – Нас атакуют! К оружию – и на берег! А с берега уже неслись вопли раненых и умирающих – первая шеренга копьеносцев колола сквозь влажную ткань, и после каждого удара на ней выступали алые пятна. Воины с секирами поспешно двигались к воде, продолжая рубить подпорки, но от первого плота их отделяла добрая сотня шагов. Не так уж мало, решил Дарт и, перескочив перила, приземлился на галерее второго этажа. Как раз между Нерис, Кордоо, его почтенной супругой Дии-ди и полудюжиной собрачников. – Мой пояс, шпагу и кинжал! – Он бесцеремонно подтолкнул ширу к их каморке. – Быстро! А ты, почтенный, – Дарт повернулся к адмиралу, – отправь на берег половину воинов, а половину оставь на плотах. Пусть поливают водой тенты и палубы… и лучше сам проследи за этим… Хвост Кордоо дернулся. – Зачем поливать? – Затем, что скоро атакует флот тиан, и я подозреваю, что факелов у них в избытке. Ты ведь не хочешь, чтобы плоты сгорели? Не задавая больше вопросов, Кордоо повернулся к собрачникам и прорычал: – Наан и Муки-таа, ведите воинов на берег! Живее, во имя Элейхо! Бооха, ты останешься с Дии-ди. Чтоб волос с ее хвоста не упал! Собери стражей и охраняй башню. Остальные – за мной! Данниты исчезли, а из каморки вынырнула Нерис с оружием и поясом. Губы ее были плотно сжаты, она тащила мешок с привязанным к нему скафандром, поверх которого попискивал и беспокойно шевелился Брокат. – Мы уходим, Дважды Рожденный! – В самом деле? С чего бы? – Дарт торопливо затянул пояс. – Тьяни вырежут даннитов… эту битву я и видела во сне… Но я не хочу умирать и не желаю, чтобы умер ты. Мы уходим! Бхо у нас быстрый, трехглазым не догнать! – Я не бегаю от врагов и не предаю друзей! – отрезал Дарт, шагнул к перилам, но женщина, заступив путь, с вызовом уставилась на него. – Ты клялся мне в верности, маргар… Ты должен идти, куда я прикажу, беречь мой сон и защищать нас с Брокатом… Нас, а не даннитов! Лицо Дарта окаменело. Он стиснул зубы, мускулы его мучительно напряглись. Крики и стоны, доносившиеся с берега, звенели у него в ушах. – Честь требует не оставлять слабых в беде. Ты понимаешь, что такое честь? – Но ты обязан повиноваться мне! И служить! – Она топнула ногой. – Обязан! – Замолчи, женщина! Твои вопли терзают мой слух! – рявкнул Дарт и, понизив голос, добавил мягче: – Прости, моя ночная радость, но я не склонен к слепому повиновению. Спрячься в башне, рядом с Дии-ди, это самое безопасное место… Я приду за тобой. Он перепрыгнул через перила и побежал к воде, расшвыривая толкавшихся у башенки даннитов. Вдогонку ему раздался крик: – Я буду там, где захочу, глупый маргар! Там, где захочу! Полоса песка у реки кипела от серых, бурых и черных тел, поднятых копий и вздернутых вверх хвостов. Дарт врезался в плотную массу и пронизал ее насквозь как пушечное ядро. Тут было пять или шесть сотен даннитов, к которым еще не пробились тианские секироносцы – груды тел, копошившихся под мокрой тканью, задерживали их. Эти еще могут пасть с честью, мелькнуло у Дарта в голове. Он выхватил шпагу и кинжал, вскинул клинки к затянутым облаками небесам и крикнул: – Не толпиться, нелюдь мохнатая! Равняй ряды! Хвосты поднять, копья опустить! Бегом, за мной! Его услышали. Казалось, толпе не хватало лишь командира, чтоб превратиться в войско – пусть неумелое, неуклюжее, но все же объединенное каким-то подобием дисциплины. Дарт слышал за спиной топот сотен ног, рев и яростные выкрики; потом заплескала вода и рев усилился – с плотов высаживалась подмога. «Щиты, – с тоской подумал он, – щиты бы и длинные копья…» Шпага опустилась, перечеркнув горло трехглазого, кинжал вошел другому тьяни под ребро. Что-то шевелилось, выло и стонало под ногами, подошвы скользили по мокрым, залитым кровью тентам, чувствуя не сыпучий песок, не траву, а покорную мягкость мертвой плоти. При мысли о бесславно погибших и тех, что погибнут в ближайший миг, затоптанные и врагами, и своими товарищами, Дарт ощутил ярость. Боевое безумие охватило его; под ударами шпаги – тяжелой, похожей на рыцарский меч – трескались секиры и черепа тиан, била фонтаном кровь из отсеченных конечностей, сгибались и падали тела – кто с распоротым животом, кто с перерубленным позвоночником. Он уже не думал о тех существах, что ползали внизу, задыхаясь и умирая под влажной тканью и грудами изувеченных тел, он сражался. За спиной и по обе стороны от него данниты сцепились с секироносцами, клубки окровавленных тел катались там и тут, и под лучами солнца сверкали то чешуя тиан, то острие копья, то лезвие кинжала. Солнце… – мелькнула мысль. Утро, алое время… Вражеский флот на подходе… Пространство впереди расчистилось, но из леса, ощетинившись копьями и дротиками, надвигались новые шеренги чешуйчатых. Туча острых жал взмыла в воздух, он вскрикнул, предупреждая даннитов, рухнул и приник к земле. Резкая боль пронзила его; Дарт помянул дьявола и, выдернув из бедра дротик, пробормотал: «Вот и первая из сотни ран…» Через мгновение он снова был на ногах и, врезавшись в гущу тианских копейщиков, рубил направо и налево. Над ухом свистнул дротик, другой оцарапал плечо, что-то острое скользнуло по ребрам, вспороло кожу, и он почувствовал, как кровь стекает вниз и смешивается с той, что сочилась из бедра. Рев даннитов, стоны и глухой стук повисли над берегом – стук, не лязг, автоматически отметил он, ибо оружие обоих воинств было каменным, деревянным и костяным. Но наносило оно ужасные раны, не столь смертоносные и милосердные, как шпага Дарта. Его мохнатые бойцы выли и в муках царапали землю, но тьяни сражались и умирали молча – то ли у них был ослаблен болевой порог, то ли обычай не позволял стонать и испускать воинственные крики. Но бились они умело и упорно, хоть уступали даннитам числом. Нога кровоточила все сильней, и это мешало увертываться от дротиков – один из них проткнул предплечье. Но раны не так томили Дарта, как мысль о приближавшихся галерах тьяни. Сколько их? И сколько воинов обороняют даннитский флот? Хватит ли сил, чтоб защититься от атаки и, вероятно, от пожарища? Внял ли Кордоо его советам, остался ли на плоту или ринулся в бой, забыв, что полководцу не пристало размахивать копьем? И жив ли он? Или валяется в кровавой луже с разбитым черепом? Яростно работая клинками, Дарт решил, что ситуация вскоре прояснится. Хватило бы только времени… Прижать тиан к опушке леса и переколоть… или хотя бы отогнать, вынудить к отступлению, обратить в бегство… Затем вернуться на плоты, засесть за валом из мешков и корзин с фруктами, полить их как следует водой, растянуть на палубах мокрые тенты… И каждый факел, каждый горящий дротик швырять обратно… Огонь – тварь безмозглая; ему что плоты даннитов, что галеры тиан – все едино! С секироносцами было покончено, но первый ряд даннитов пал, сраженный метателями дротиков. Остальные успели добежать до вражеских шеренг и смешаться с ними в яростной схватке, напоминавшей скорее не удар атакующего войска, а кровопролитную кабацкую драку. В ближнем бою короткие даннитские копья были эффективнее секир и дротиков, а когти и зубы тоже давали хвостатым преимущество. Их все еще оставалось больше – около тысячи против шести или семи сотен тиан, и Дарт считал, что шансы на победу не потеряны. Если б этот сброд был управляемым… пусть без щитов и длинных копий, без арбалетов и аркебуз, но с опытными командирами… О, будь у него сержанты с понятием о дисциплине, он бы разделался с тиан в одно мгновение! Ну, не в одно, так в два… Послать отряды в лес, чтоб совершили фланговый обход, ударить в тыл и навалиться с фронта… И все! Финита ля комедиа! Но в этом мире не было ни армий, ни сержантов, ни настоящих солдат. Плетельщики корзин и сборщики фруктов… А тьяни? Что они плетут и собирают? Судя по воинской сноровке, не только корзины и фрукты… Он споткнулся о труп чешуйчатого воина – глаз над переносицей закрыт, два других распахнуты и неподвижны, как темный полированный обсидиан. Под челюстью – обломок копья, следы на груди от когтистых лап, распоротый живот… Рядом лежали два даннита: первый, пронзенный дротиком, был мертв, второй, с застрявшей меж ребрами секирой, еще шевелился. Чертыхнувшись, Дарт перепрыгнул через их тела, и боль впилась клыками в раненую ногу. Что-то острое царапнуло над бровью, когда он схватился с новым противником и рассек ему шею. Плохая рана; неопасная, но струйка крови теперь заливала глаз, и он не видел атакующих слева. Впрочем, тьяни уже побаивались его, старались держаться поодаль – видно, поняли, что ни секирой, ни копьем такого бойца не достанешь, а метание дротиков в тесной схватке было делом почти безнадежным. Фиолетовые деревья приближались – не столь быстро, как хотел бы Дарт, но и не так медленно. Шаг за шагом, постепенно… Он уже мог разглядеть трещиноватую кору огромных стволов, делившихся на несколько мощных коротких ветвей, направленных горизонтально; перистая листва парила над ними, окружая голубоватым туманом, а свисавшие с веток плоды – большие, продолговатые, ребристые – походили на человечьи головы, прицепленные за косу на макушке. Еще одно усилие, подумал он, и тьяни побегут… Только б хвостатые не увлеклись погоней! Такую ораву не остановишь в одиночку… Придется разыскивать этих… как их?.. Наана и Муки-таа… Пусть командуют, если живы… Громкий слитный вопль раздался за спиной, и тут же гулко рявкнул барабан и затрубили раковины. Дарт отступил на пару шагов, припадая на больную ногу, сунул кинжал за пояс, вытер с лица смешанный с кровью пот и оглянулся. Сердце его упало – вражеский флот навис над бухтой. Галеры тиан выплывали из-за ближнего мыса и разворачивались полумесяцем; падали с мачт паруса, торопливо сновали черточки весел, на палубах толпились воины, похожие на рыцарей, закованных в кольчуги, жарко пылали факелы и вихрились по ветру дымы. Полсотни кораблей, тысячи полторы бойцов и столько же – на веслах, решил Дарт и тут же удвоил это количество: галеры все плыли и плыли, огибая мыс, и половина их, уже не спуская парусов, поднималась вверх по течению. Перекрывают дорогу к бегству, мелькнуло в голове. Но если отчалить – быстро!.. как можно быстрее!.. – имеется шанс спастись! Массивный плот раздавит любую галеру, да и спалить его в движении тяжелей… хватило б только рук, чтобы гасить огонь и отбиваться от атакующих… Он поднял шпагу и крутанул со свистом в воздухе. – На берег! Отступаем на берег, к плотам! Не бежать, не поворачиваться к врагу спиной, сражаться и отступать! Торопитесь, дьявол вас побери! Его команду подкрепили гул барабана и несколько ударов шпаги – он бил клинком плашмя и ревел, выкликая имена Наана и Муки-таа. Ни тот, ни другой не отзывался, но часть даннитов – те, что болтались сзади, не в силах пробиться к врагам сквозь толпу сородичей, – услышав приказ, побежали к реке. Еще один отряд, группировавшийся около Дарта, тоже подчинился и начал медленно отходить; данниты оглядывались на него, крутили хвостами, приседали, махали когтистыми лапами, но он не понимал их жестов. Быть может, они нуждались в ободрении?.. Он снова закричал, призывая Наана и Муки-таа. – Элейхо забрал их к себе, Дважды Рожденный, – послышался рядом знакомый голос. – Обоих моих братьев, Наана и Муки-таа. Хвосты их больше не обовьются вокруг хвоста Дии-ди… Обернувшись, Дарт увидел Рууна – усталого, измученного, с окровавленной шерстью и обагренным кровью копьем. Но воротник его был все так же широк и ярок, а фляга по-прежнему свисала с поясного ремня. Дарт потянулся к ней. – Хочешь выпить? В последний раз? – Не хорони нас, приятель. Он плеснул вино на лоб и щеки; бровь ожгло, но теперь он видел обоими глазами. – Собирай воинов, Руун. Собирай кого сможешь и веди к реке. Найдешь Кордоо, скажешь ему – пусть отплывает, пусть давит корабли тиан плотами и бережется от огня. – Но шира приказала мне… – Тут командую я, а не шира! – Дарт подтолкнул его. – Веди воинов, а я с остальными прикрою отход. Ну, шевелись поживее! Руун исчез, а вместе с ним – ощущение времени. Враги смешались с последней сотней Дартова воинства, он снова колол и рубил, падал на землю и поднимался, отступал и шел в атаку, наносил и получал раны; это длилось бесконечно, и только усталость, боль и нарастающий грохот схватки в бухте свидетельствовали о том, что время все еще бежит, меняет цвет и прибавляет истомленным мышцам если не силы, то хоть немного легкости. Лишь для даннитов и тьяни, сраженных секирой либо копьем, время прекращало бег, не властное над мертвыми; мертвые, вынырнув из водопада мгновений, дней и лет, переселялись в Великое Ничто. Или в Нечто? Кажется, были сомнения на этот счет… О них говорила Констанция и намекал Джаннах… И даже Нерис, умевшая общаться с предками… Пустые мысли, особенно здесь и сейчас. Отступая к воде, уже не атакуя, а только отмахиваясь шпагой, теряя кровь, а с ней – остаток сил, Дарт погружался в странное полубредовое состояние. Разум и память его будто расслоились на множество реальностей-потоков, струившихся один поверх другого, и он бездумно тонул в них, отмечая лишь переход из слоя в слой, отзывавшийся далеким колокольным звоном. Бумм!.. – шаг назад, шаг в сторону, шпага отбивает тианское копье; бумм!.. – он на спине левиафана, и Нерис, повернувшись, смотрит с улыбкой, приглаживает золотистый локон; бумм!.. – Вау сует палку с обжаренной печенью Шу, тычет в лицо, заставляя морщиться от мерзкого запаха; бумм! – мрак Инферно смыкается над ним, ползет во все уголки пилотской кабины; бумм! – взмах ресниц Констанции; бумм! – сверкающий перстень на пальце Джаннаха; бумм! – сумрачный зал Камелота; бумм! – стол, бокалы с вином, горящие свечи, тьма за их неярким сиянием, три человека в широкополых шляпах… И чудилось ему, что поднялись эти трое, отодвигая скамьи и расплескивая вино, и встали рядом; свет играл на обнаженных клинках, глаза их были печальны и суровы, и бледный, с благородным лицом, отбросив шляпу в темноту, сказал: «Один – за всех, и все – за одного!» А самый юный, с персиковой кожей, скупо улыбнулся Дарту: «Не бойтесь, друг мой! Мы пришли, мы с вами. Как обещали, в смертный час…» Эти слова и эта улыбка заставили его очнуться. Он обнаружил, что стоит в воде с угрозой выставив клинок; где-то за ним слышались вопли, гудели раковины, неторопливо двигались плоты в алом зареве разгоравшихся пожарищ, а между крайним плотом и песчаным берегом замер в воде левиафан – совсем близко, в дюжине шагов. Нерис тянула к нему руку, что-то кричала, но грохот битвы и рев огня заглушали ее голос. Дарт, покачиваясь, отступил, глядя на тиан, заполонивших берег, – они не преследовали его, но трое-четверо, окаменев в напряженных позах, целились дротиками. Не промахнутся, подумал он, и в этот миг что-то ударило его под коленями, чьи-то пальцы вцепились в пояс, дернули, повалили на спину. Затем он увидел блеск тианских дротиков и ощутил их хищный полет, когда, всколыхнув воздух, они проскользнули над ним – раз, и другой, и третий. Четвертый попал ему в живот, и страшная боль погасила сознание Дарта.* * *
Кажется, он умирал. Важное занятие, и он предавался ему без горечи и сожалений, со всем усердием, которое мог проявить в таком серьезном деле. Мучило лишь одно: невыполненный долг, незавершенная миссия. Похоже, Джаннах ошибался, уповая на его удачу… Периоды беспамятства, когда он не чувствовал боли, чередовались с бредовыми видениями и явью, которая была еще хуже бреда, поскольку боль вцеплялась в него своими жестокими когтями. К счастью, эти мгновения были краткими – кровавый туман застилал реальность, мир превращался в хаос зыбких алых теней, и он терял сознание. Но эпизоды этого смутного бытия, что колебалось на грани меж жизнью и смертью, все же оседали в памяти – так успевает осесть песок в холодной, готовой замерзнуть воде. В одно из таких пробуждений он видел Нерис, склонившуюся над ним. Левиафан плыл по реке – тело Дарта чуть-чуть покачивалось, и так же дрожало – вверх-вниз, вверх-вниз – лицо прильнувшей к нему женщины. Глаза ее блестели, щеки увлажнились – видимо, она плакала. Затем он почувствовал, как ее пальцы касаются ран, отозвавшихся всплесками боли, что-то делают, смывают кровь, втирают бальзам, перевязывают, вливают в рот какое-то горькое зелье. Оно, вероятно, не помогло. Снова вынырнув из омутов беспамятства, он разглядел прилипалу, прильнувшую к коже над левым соском, и ощутил шевеление тонких щупалец. Кожух целителя был черен – это означало, что его ресурсы на пределе и что пациент скорее мертв, чем жив. «Все бесполезно, – мелькнула мысль. – Огромная потеря крови, плюс эта рана в животе… Под правым ребром – значит, задета печень. Скорее всего разорвана – дротик был с широким острием…» Марианна бы его спасла. Погрузила бы в анабиоз, синтезировала кровь, вырастила новые органы, подсадила импланты… В крайнем случае, нырнув в Инферно, доставила на Анхаб, к магам-реаниматорам… Но Марианна была мертва, и над ее песчаным надгробьем струились равнодушные речные воды. В другом пробуждении ему явилось нечто удивительное. Кажется, они пристали в берегу – перед ним маячили кусты с голубоватой листвой и удивительными цветами, большими, изящными и словно отчеканенными из листового серебра. Он все еще находился в их живом корабле, а Нерис стояла среди кустов, будто лесная дриада, и что-то втолковывала Брокату. «Лети, ищи…» – услышал Дарт, и эти слова вызвали всплеск протеста. Куда лететь?.. Чего искать?.. Разве лишь место для могилы… Брокат исчез, а Нерис, присев у воды, катала в ладонях жемчужное зернышко, посмертный дар Детей Элейхо. Затем что-то произошло: вода вскипела, ударила фонтаном, и над ее поверхностью поднялся гриб с широкой плоской шляпкой. Под ней дергались, будто отплясывая сарабанду, тонкие голенастые ножки, а может – щупальца, придававшие грибу сходство с пауком. «Мерзкая тварь», – подумалось Дарту; пауков он не любил. Он снова потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что куда-то движется, но не по реке, а в лесу. Небо не проглядывалось, заслоненное плотным покровом листвы, фиолетовой и синей, совсем непохожей на анхабскую или земную; воздух был сумрачен и свеж, без душноватых испарений, витавших над рекой; стволы деревьев уходили вверх колоннами чудовищного храма, а между ними, среди аметистовых мхов, виднелись жертвенники – плиты кроваво-красной яшмы с серыми и розовыми прожилками. «Хорошее место, чтоб умереть, тихое и красивое», – решил Дарт. Но умирать было рано. Его куда-то несли – но куда и на чем? Некоторое время он размышлял над проблемой транспортировки – это помогало забыть о боли и ожидающем небытии. Нерис тащить его не могла – он слишком тяжел для нее, и к тому же его переносили не на руках, не волочили по земле, а вроде бы он лежал на какой-то платформе, упругой и теплой, плывшей повыше мхов. Опора под ним раскачивалась и колыхалась, будто невидимый носильщик трудился из последних сил и мог опрокинуть свою ношу. Вероятно, поэтому Дарта привязали к платформе – кажется, его собственным боевым поясом и ремнями от ножен шпаги и кинжала. Очередной провал оказался глубоким, лишенным пространственных и временных измерений, напомнившим погружение в Инферно. Проблеск, наоборот, был кратким: Дарту казалось, что чьи-то руки с напряжением поднимают его, нагого и беззащитного, над округлой алой купелью, заполненной розоватым соком. Возможно, маслом, но не водой – жидкость выглядела слишком вязкой, и от нее ощутимо тянуло теплом. Он очутился в объятиях этой плотной субстанции, но купель была глубока, тело начало тонуть, и на мгновение его охватил ужас, что он задохнется в этой странной жидкости, а после растворится в ней, как сахар в чашке шоколада. Но страх его непонятным образом исчез, а вместе с ним пропали боль, тревога и сожаление по поводу незавершенных дел. «Дела подождут, – прошептало ему что-то огромное, доброе, нежное, обволакивающее плоть и разум, – они подождут, а сейчас спи, маленький человечек, спи и врачуй свои раны. И наслаждайся сновидениями…» Он подчинился этому ласковому приказу.Глава 10
И снилось Дарту, что он опять стоит в древнем сумрачном зале Камелота, внимая речам Констанции, любуясь ее плавными жестами, вслушиваясь в негромкий голос. На ней было длинное платье, жемчужно-серое, закрывавшее плечи; шея казалась стеблем цветка, а шлейф, когда она двигалась и наклонялась, струился и шелестел по каменным плитам. «Женщина в таком одеянии, не открывающем ничего, будит фантазию, – подумал Дарт. – Она загадочна, как темное лесное озеро, скрывающее в глубине магический венец… и тот, кто добудет его, станет королем…» На этот раз галактики и звезды не вращались по экрану, а вместо них тихо шелестела степь под косыми лучами заходящего солнца да мчался вдалеке стремительный табун. Предки этих лошадей попали на Анхаб с Земли – прекрасный, хотя и невольный дар старому миру от юных собратьев. Но не единственный; зонды-иразы посещали Землю регулярно, и каждый находил, чем загрузить память и трюмы. Подарки сыпались будто из рога изобилия – музыка, яркие зрелища, копии картин и статуй, зиготы растений и животных… Все это так же, как доставленное с других миров, спасало анхабов от скуки, помогая скрасить долгое и для большинства из них бесцельное существование. Но чем они могли отдариться? Возможно, древней мудростью, звучавшей в словах Констанции? Она говорила, не прибегая к помощи экранов. Архаичный способ передачи сведений, но самый ясный и понятный – во всяком случае, как представлялось Дарту. Он глядел на нее, не отрывая глаз, не в силах вспомнить до конца минувшее и опасаясь позабыть его совсем. Это было каким-то наваждением, необъяснимым волшебством; речь ее звучала музыкой, жест руки, изгиб бедра под тонким платьем чаровали, взмах ресниц дарил надежду. Не только надежду; мнилось, что в каждом этом взмахе, в движении бровей и губ скрываются тайны, предназначенные лишь ему одному, и он с нетерпеливой дрожью ловил ее слова как посланное небом откровение. Средь прочих тайн секрет избранной ею внешности казался особенно волнующим. Он знал, что обличье Джаннаха – напоминание о власти его земного двойника; эта власть, которой подчинялся Дарт и прежде, и теперь, была неоспоримой и принималась им как должное. Власть означала дистанцию между высшим и низшим, границу, которую нельзя переступить в общении с великим человеком, что и подчеркивали облик, пронзительный взор, багряные одежды и аметистовый перстень на пальце, символ могущества. Но облик Констанции был совсем иным, напоминавшим не о власти, а о радостях любви. Из всех персон и лиц, которые сохранила память Дарта, из всех его похищенных воспоминаний, она избрала именно это лицо – женщину, которую он встретил в первой жизни, которую любил и потерял. А были ведь и другие, не менее важные, чем личность в багряном… Были! Принцессы, герцогини, королевы… Случайность? Попытка обезоружить его, расположить к себе, сделать податливей и мягче, внушить приятные иллюзии? Или в ее выборе таилось нечто большее? Намек на то, что между ними нет границ, что странная природа метаморфов способна возвратить былое – даже погибшую любовь? А если так, то не было ли это обещанием?.. Негромкий голос, мелодия слов и шелеста травы, дремлющая на экранах степь… Вполне подходящий к периоду сладкого сна пейзаж. Она рассказывала об эпохе Жатвы, тянувшейся десять тысячелетий, о временах, когда иссякли энергия, и любопытство, и творческий порыв, но сохранилось желание жить. Закат цивилизации Анхаба свершался с неторопливой торжественностью; долгая жизнь стала сокровищем, которым более не рисковали – ни на собственной планете, ни в дальних странствиях. Анхаб был преобразован в последний раз и превратился в среду неизменную и безопасную, словно колыбель младенца; горы сменились холмами, пропасти – оврагами, леса и джунгли – всепланетным парком, бурные реки – озерами и ручьями, а над этим миром спокойствия и тишины повисли зеркала энергетических накопителей, перегонявших влагу в атмосфере, гасивших ураганы и посылавших дождь. Уютный мир, достойный золотого века, но в нем все меньше становилось тех, кто продолжал себя в потомстве или стремился к определенной цели – что-то создать, найти, увидеть новое и насладиться переменой. Впрочем, все уже было создано: хрустальные замки парили в небе, накопители, то поглощая, то отдавая энергию, поддерживали их и управляли погодой, иразы трудились не покладая рук, делали новых иразов и мириады полезных вещей, баржи, летавшие в пояс астероидов, возвращались груженные сырьем, металлами и минералами. Потребность в них была незначительной, ибо в период Жатвы Анхаб населяли не миллиарды, а миллионы – примерно столько, сколько пальцев на руке. То был еще не конец, но преддверие конца, еще не упадок, но стагнация. Численность анхабов уменьшалась, а вместе с этим таяли творческий потенциал и интерес к жизни; кончалась осень и наступала неизбежная зима. Закономерный процесс, которому подчиняется все живое – растение, человек, цивилизация… В этом коротком списке цивилизация являлась самой уязвимой, поскольку смысл ее – не в сумме знаний, не в достижениях культуры, а в целях, объединяющих людей. Цель – глобальная цель – это стержень цивилизации, который меняется с ее развитием: вначале – пища и кров, затем – борьба с насилием, уничтожение войн, объединение во всепланетном масштабе и, наконец, безопасность. Все эти цели подстегивают прогресс, а он порождает иллюзию вечного подъема или хотя бы непрерывного движения – пусть не в гору, так по равнине. Но это – сладкий самообман; когда решена последняя задача, когда исчерпаны все цели, смерть становится реальностью, ибо ее не заслоняют технологические миражи. Последняя цель – всеобщее счастье, трактуемое как равенство, благосостояние, справедливость, и с ее достижением наступают конец науки, гибель искусства, закат цивилизации. Констанция смолкла, и Дарт, машинально перекрестившись, пробормотал: – Нет бога без дьявола, и тот, кто отринет зло и сотворит Эдем, в нем и погибнет… – Погибнет ли? – эхом откликнулась Констанция. – В мире видимом, слышимом, осязаемом – возможно… в том мире, который мы, доверяясь своим приборам, привыкли считать единственной реальностью. Но привычки меняются со временем. – И что это значит? – Брови Дарта приподнялись. – Я не ослышался, сударыня? Иная реальность, сиречь – потусторонний мир… когда-то я слышал о нем и верил, что он существует… Но, как ты справедливо заметила, привычки меняются со временем. Особенно у тех, кто вдруг воскрес и не нашел ни рая, ни преисподней. Констанция с задумчивым видом смотрела на него. Молчание затягивалось, и Дарт, расправив плечи и положив на эфес ладонь, сказал: – Я был мертв, моя прекрасная госпожа. Я был генералом и пал на поле брани во время осады одной из крепостей… Не помню, как и где я умер, но Джаннах утверждает, что в грудь мне попало ядро, переломало ребра, а все, что за ними, превратилось в кровавую кашу… Я был мертвее мертвого, мон шер ами! И, на правах вернувшегося с того света, говорю: там нет ничего, кроме забвения и пустоты… И потому я верю лишь в реальность. Ее головка качнулась в знак несогласия. – Мы не обсуждаем веру, мой храбрый генерал. Вера, в отличие от знания, слепа и глуха и не приемлет доказательств; либо она есть, либо ее нет. Вера – опора слабых, а ты – сильный человек… Поэтому не говори «я верю», когда нужны другие слова. Скажем, такие: я знаю, предполагаю, догадываюсь… Мы строим гипотезы на основании фактов, и вот тебе один из них: никто из вернувшихся не помнит тот мир забвения и пустоты. – Она снова покачала головой, отбросила со лба темно-каштановый локон. – А ведь вернулись многие! Точнее, их вернули… Мы знаем, что смерть не мгновенна, что это долгий процесс, который тормозится гипотермией в криогенных камерах; мы знаем это и умеем возвращать погибших к новой жизни. Ты, так же как другие, испытал искусство наших реаниматоров. И что же? Те, кого удалось оживить, толкуют про полет в светящемся туннеле и о сиянии в конце него… Реакция коры мозга, когда нарушается кровоснабжение, – вот что такое свет и чувство испытанного полета! Фантом, рожденный в зрительных центрах… Хмыкнув, Дарт почесал горбинку длинного носа. – Я не помню и этого. Может, меня и несло куда-то, но не в тоннеле, а на пушечном ядре… и было страшно больно… Прости, я оказался не слишком наблюдательным покойником. Констанция улыбнулась, и он залюбовался ямочками на ее щеках. – Живым ты мне нравишься больше. Только… – Да?.. – спросил он после минутной паузы. – Ты временами меня пугаешь. Смотришь так, словно готов вцепиться зубами и откусить кусок… Но кажется, в твою эпоху на Земле уже не занимались каннибализмом? Пригасив голодный блеск в глазах, Дарт поклонился. – Во всяком случае, не ели столь прекрасных дам. Мои извинения, госпожа… мои манеры отвратительны… Во всем виновато то проклятое ядро – вышибло из меня остатки учтивости. В нем-то все и дело – в ядре и долгом воздержании. – Воздержание… хмм… Я слышала иное – и о тебе, и о других разведчиках. Он потупил взор. В сказанном имелась доля истины: для женщин Анхаба разведчики были весьма привлекательной и редкостной экзотикой. Конечно, те из них, которые не занимались бесконтактным сексом, не размножались почкованием и не метали икру. Антропоморфность роли не играла, если учесть способности анхабских дам; для радостей соития они могли превращаться в паучих, в гусениц с шестью ногами и даже в ракообразных. – Эти слухи сильно преувеличены, – в смущении буркнул Дарт. – Слухи, сударыня, такая же зыбкая материя, как потусторонний мир: желаемое выдается за действительное, действительное гиперболизируется… Как выяснить правду? Как отделить ее от вымысла? Констанция улыбнулась. – Со слухами я разбираться не возьмусь. Но мир, который ты называешь потусторонним… о нем можно кое-что узнать. – Но от кого? Мы выяснили, что реанимированный покойник – плохой свидетель… Кто же тогда поможет тебе? Духи? Призраки? Неприкаянные души? – О нет – живые люди! Спектр человеческих возможностей очень широк, мой генерал. Ты знаешь, что есть храбрецы и трусы, глупцы и мудрецы, скупцы, стяжатели и те, кто наделен благородной щедростью… Есть способные любить и лишенные этого дара, есть алчущие власти и равнодушные к ней, есть играющие со словами, звуками, образами, способные сложить из них повесть, мелодию или картину, есть видящие изнанку реальности – ту, что таится за формулами и законами, которыми мы описываем мир… Все это есть или было… Так отчего же не появиться великим гениям c необычайной ментальной чувствительностью? Дарт недоверчиво хмыкнул. – Ты говоришь, мон шер ами, о ведьмах и колдунах, творящих чудеса? – Нет, о разумных существах, умеющих предвидеть будущее и помнить о далеком прошлом. Но это не все их таланты: иным понятна неизреченная мысль, иные могут разглядеть, что спрятано за преградой, иные – влиять на других, вызывая приязнь, ярость, страх и прочие сильные чувства. Или внимать божественным откровениям и слушать речи умерших – тех, кто давным-давно стал прахом, а значит, приобщился к Великой Тайне Бытия. – Колдовские штучки, и на Земле исход у них таков: топор или костер! – с неодобрением пробормотал Дарт, перекрестившись. – Именно костром и топором кончались все беседы с мертвецами, лживые пророчества ясновидцев и их попытки влиять на королей… Не обижайся, моя прекрасная госпожа, но это бредни. – Ты так думаешь? – Она отступила на шаг, ее глаза внезапно расширились и потемнели, и Дарт словно упал в них – одновременно в оба, раздвоившись или даже растроившись, поскольку часть его – неведомо какая, но, несомненно, видящая, слышащая, осязающая, – присутствовала в зале. Он падал – и видел напряженное лицо Констанции со сдвинутыми бровями; летел в пустоту – и слышал ее глубокое дыхание и шелест платья; он как бы исчез из мира реальности, но ощущал ее сладкий аромат. Он жаждал ее! Он знал, что любит эту женщину, и это чувство становилось все сильнее и сильнее, порождая желание, такое неистовое и жгучее, что Дарт сумел замедлить свой полет, соединить разорванные части воедино и сделать первый шаг – к ней, желаемой с яростной страстью неукротимого зверя. Кажется, она была где-то рядом… Найти, схватить, подмять!.. Скорей! Немедленно! Он рухнул на колено, вытянул руки, ловя край ее платья, и глухо, нетерпеливо застонал. В этот момент его окатило холодом. Ледяной ветер ярился у Дарта в голове, беззвучный и вроде бы неощутимый, но его порывы сдували мираж наваждения; он снова владел собой, он был человеком, а не зверем, сжигаемым похотью. Пошатываясь, он встал и вытер пот со лба; потом бросил хмурый взгляд на Констанцию. – Зачем? Зачем ты это сделала? – Разве ты не желал убедиться? Вот крохотная часть искусства, которую мы, фокаторы Ищущих, наследовали от ориндо… Тебе ведь хотелось узнать об их тайнах? Не об этом ли ты спрашивал в прошлый раз? – Ни капли раскаяния, отметил Дарт, – наоборот, ее глаза смеялись. Лукаво посматривая на него, она добавила: – Наш маленький опыт мог бы не получиться, если б ты не был к нему подготовлен и не испытывал должных чувств. Я не способна вызвать желание в том, кто меня ненавидит. – И потому ты приняла обличье дорогой мне женщины? – все еще хмурясь, поинтересовался Дарт. – Возможно. Да, возможно, но не только по этой причине. – Она сделала изящный жест, будто подводя черту под сказанным, и промолвила: – Итак, мы говорили о гениях, одаренных редкостным талантом, о существах, способных контактировать с иной реальностью и потом что-то рассказать о ней, пусть искаженно, субъективно и неполно. Кто же они для нас? Для тех, кто исследует ту скрытую от глаз реальность? По сути, живые приборы, единственный способ заглянуть за грань… – Выдержав многозначительную паузу, она сказала: – Ты понимаешь, за какую? – Грань между жизнью и смертью? – Да. Наступило молчание. Может быть, Констанция ждала его вопросов, может быть, давала время освоиться с мыслью о необычном и примириться с ней. Дарт, однако, испытывал не потрясение, а любопытство. Ум его требовал доказательств более веских, чем «маленький опыт», произведенный только что над ним. В конце концов, сей опыт ничего не значил – дар соблазнять присущ красивым женщинам, как запах соли – морскому бризу. Но бриз еще не ураган, и различаются они не меньше, чем тайна женского кокетства и странствие в загробный мир. Он следил, как меркнет закат на экранах, как темнеют анхабские небеса, и, дождавшись, когда над степью загорелись первые звезды, произнес: – Эти гении с редкостным даром – те, что слышат откровения… есть ли они среди Ищущих? Здесь и сейчас? Может быть, они – фокаторы? Такие же, как ты? По губам Констанции скользнула слабая улыбка. – Такие люди были в древности среди ориндо, если верить хроникам и их священным книгам. Очень немногие имели сильный дар – двое-трое в поколении, один на двести-триста миллионов… Теперь нас слишком мало, чтоб породить подобное чудо. Мы, фокаторы, лишь тень былого, хранители частицы прежних знаний. Обучение и тренировка, тренировка и обучение, плюс крохотный природный дар – вот все, чем мы располагаем. Мы чувствуем намерения людей и иногда, в благоприятных случаях, способны повлиять на них и подготовить к определенному деянию… Не так уж мало, верно? – Она вздохнула, подняв глаза к сиявшим на экране звездам. – Но нам не услышать голоса иных миров – не тех, что светятся над нами, а пребывающих за гранью. Мы, анхабы, пропустили свое время… Казавшееся важным в эпоху Плодоношения теперь выглядит детской игрой… Удивительно, правда? Мы раскрыли множество тайн, побывали на звездах, породили искусственный разум, но доискаться главного желаем лишь сейчас – в эру заката, когда мы малочисленны, бессильны и нет среди нас способных слышать откровения… – Их можно было бы поискать в других мирах, – заметил Дарт. – Найти и взять на Анхаб не разведчиков, не кондотьеров, а пророков, внимающих гласу божьему. Помнится, такие водились на Земле… – И много ли их было? – Констанция, склонив головку, с грустью взглянула на него и, не дождавшись ответа, произнесла: – Сам знаешь, что немного. Ничтожное число! Пророки и гении – редкость, мой храбрый генерал, гораздо большая, чем кондотьеры – даже такие, кому сопутствует удача. – Это верно, – согласился Дарт. – В сравнении с ними наша компания бездельников, ошивающихся под присмотром баларов, всего лишь второсортный товар. Ну, коль нет пергамента, то пишут на бумаге… Пишут сагу об Ушедших Во Тьму, не так ли? Она кивнула. – Единственный доступный путь исследования. Возможно, Ушедшим повезло… возможно, они были умнее нас, и потому им удалось найти ответы… возможно, мы сумеем их понять… Все это – область возможного, а очевидно одно: если нельзя самим решить проблему, воспользуйся опытом других. – Но стоит ли искать решение? Ты говоришь о Тайне Бытия, и мой балар Джаннах упоминал о ней… Но для чего? Зачем вам это? Жизнь ваша сказочно прекрасна и полна удовольствий, как… Констанция повела рукой, заставив его умолкнуть. – Жизнь наша кончается. Не моя и не Джаннаха, а жизнь нашей расы. Скажи, если б такое случилось на Земле, если бы твой народ стоял на пороге смерти, что было бы важным для вас? Самым важным, способным разжечь огонь в подернутых пеплом душах? Разве не знание о том, что ожидает вас за гранью? Лицо Констанции вдруг размылось и стало удаляться, превращаясь в светлое пятно, длинное платье изменило форму и цвет – теперь это было вовсе не женское одеяние, а красный камзол с тонкими кружевами вокруг запястий и шеи. Во сне ли, наяву, но голос, звучавший в ушах Дарта, тоже изменился, сделался ниже, повелительней и, несомненно, теперь принадлежал мужчине – человеку лет сорока с худощавым лицом и остроконечной бородкой, над которой закручивались усы. Он что-то говорил, но гаснущее сознание выхватило лишь одну-единственную фразу, которая повторялась вновь и вновь, будто рефрен к последним словам Констанции: «Вы не находите, Дарт, что любое разумное существо чувствовало бы себя уверенней, если бы знание о предстоящей дороге открылось ему при жизни?»Глава 11
Дарт очнулся. Вокруг царили сумрак, тишина, спокойствие. Тяжесть была почти нормальной, и он не слышал шелеста дождя – значит, вечер близился, но до его наступления еще оставалось время. Он лежал на спине, и на лицо ему падал свет – не яростный голубоватый, как на речных просторах, а мягкий и ласковый, профильтрованный древесными кронами и оттого казавшийся почти фиолетовым. Под ним пружинил пышный мох, покалывал стебельками кожу, и это ощущение было приятным – сигнал возврата к жизни, такой же ясный, как способность видеть, слышать и дышать. И чувствовать голод. Он был ужасно голоден! Боль, терзавшая его, исчезла, раны больше не горели огнем и не сочились кровью – даже та, смертельная, под ребрами; казалось, их вообще нет, и он не чувствовал ни мук, ни томительного приближения небытия – лишь легкую приятную расслабленность и безмятежный покой. Голод был единственным, что нарушало эту гармонию. Чьи-то руки приподняли его, он сел и уставился на свой живот. Ни плоти, изувеченной дротиком, ни шрама, ни повязки – ровная чистая кожа, будто его лечили на Анхабе, в чудесных камерах реаниматоров. На плече, ноге и в других местах тоже ни следа ранений, ни капли крови, ни единой царапины… Он согнул руку, напряг бицепс – мышцы послушно вздулись крепким шаром, у запястья выступили жилы. Тело повиновалось ему. – Ешь, маргар! – Нерис сунула ему плод, напоминавший небольшую дыню. Дарт жадно впился в него зубами; кожура была тонкой, оранжевой, а вкус – сладковато-мучнистым, словно у свежего, хорошо пропеченного хлеба. Мякоть таяла во рту, он жевал и глотал, чувствуя, как с каждым куском утихает голод и прибавляется сил. Ничего вкуснее ему не доводилось пробовать. Ни разу в жизни! Ни в той, ни в этой. – Ты потерял много крови, – сказала Нерис, протягивая следующий плод. – Но ничего, Цветок исцелит и это. Все, что ты съешь, станет плотью и кровью, пока его соки бродят в тебе. «Подстегивают метаболизм?» – подумал Дарт и, оторвавшись от еды, пробормотал: – Цветок? Какой цветок, ма белле донна? – Целительный цветок, Цветок Жизни, Дважды Рожденный. – Нерис присела на корточки, глядя, как он насыщается. – Ты умирал, как в посланном Элейхо сне, и я не могла исцелить твои раны. Бывает, что копья лысых жаб сильней искусства ширы… – ее лицо на миг омрачилось. – Но нам повезло: мы плыли вдоль берега до желтого времени, а затем я послала Броката, и он разыскал Цветок. Большая редкость! Не иначе как о тебе заботится Предвечный! Дарт огляделся. Они сидели на поляне, затененной ветвями высоких деревьев; стволы их были прямыми, толстыми и мохнатыми, как звериная шкура, большие сизые листья свернуты в трубочки, и меж ними свешивались до земли гроздья оранжевых дынь. Неподалеку валялось что-то странное: паук не паук, но какая-то тварь, похожая на огромного паука с плоской спиной и суставчатыми изломанными ногами; тело ее, покрытое глянцевитой кожей, было неподвижно, а ноги слегка подергивались, то ли от усталости, то ли в предсмертных конвульсиях. Рядом лежали вещи – мешок с колдовскими снадобьями Нерис, шлем, скафандр, оружие, ремни и его одежда, разбросанная среди мхов, будто ее срывали с большой поспешностью. На мешке темнел меховой клубочек – Брокат, с полураспущенными крылышками. По своему обыкновению, он спал. Довольно мирная картина, если не считать ту тварь, похожую на издыхающего паука… Но даже на ней взгляд Дарта не задержался; с трепетом и восхищением он взирал на гигантский цветок, пламеневший в голубом мху. Жаркий костер посреди озера… Цветок был великолепен. Толстые мощные лепестки светились в полумраке розовым; багровые зигзаги жил пересекали их поверхность, и отбагрового к нежному цвету зари сменялся десяток оттенков – багрянец, пурпур и кармин, переходивший в красное и алое. Казалось, что в лепестках пульсирует кровь, темная в середине и светлая к краю; они подрагивали под ее напором и испускали нежный сильный аромат. Запах был приятен и смутно напоминал о чем-то близком и знакомом в прошлой жизни – о церковных сводах, тихом пении и струящейся в воздухе беловатой дымке ладана. Место тоже напоминало церковь: стволы – как темные колонны, гроздья плодов – точно светильники, мох – сизый узорчатый камень, а в нем – багрово-алая купель, в каких крестят потомков великанов. Внезапно Дарт сообразил, что этот цветок и в самом деле является купелью и что еще недавно он находился там; это знание пронзило его, как всплеск молнии – память о чем-то огромном, нежном, целительном, обволакивающем израненное тело, призывающем к спокойствию и сну. Он отбросил недоеденный плод и привстал на коленях, почти не сомневаясь в том, что увидит: в самом деле, Цветок изнутри казался огромной коралловой чашей, до краев наполненной розоватой жидкостью. Волшебным бальзамом, исцелившим его… – Я был внутри? – он показал глазами на цветок. – Немного пользы остаться снаружи, – пробормотала Нерис, и только сейчас он заметил, как осунулось и побледнело ее лицо. – Цветок Жизни исцеляет даже полумертвых, если они сообразят, что нужно лезть в него, а не пялиться с раскрытым ртом. – Она вздохнула и добавила: – Говорят, что Дети Элейхо купались в этих Цветах и поглощали их сок, не нуждаясь в иной пище. Да и как они могли бы есть плоды? У них ведь не было зубов… «Кожное питание», – мелькнуло в голове Дарта; он кивнул в сторону деревьев, увешанных оранжевыми дынями, и поинтересовался: – Тогда зачем же это? Если они не ели плодов? Нерис с важностью коснулась раята на своем виске, мерцавшего как маленькая звездочка. – Клянусь Предвечным, ты не слишком догадлив, маргар! Плоды, разумеется, для нас. Для тех, кому Дети Элейхо оставили этот мир. Ешь! – Я сыт, моя мудрая госпожа. – Он поднялся и стал одеваться, озираясь по сторонам. Цветок, пламенеющий во мху, притягивал его взоры. Поразительно! Один огромный цветок – ни стебля, ни листьев… Но корень, наверное, есть… Он отвлекся от мыслей о магическом Цветке и спросил: – Это место далеко от берега? – Надо идти от желтого времени до зеленого. Три-четыре лье, решил он. Неблизко! – Как ты меня сюда дотащила? Или я шел сам? – Шел? С такой вот дыркой в животе от дротика трехглазых? – Нерис продемонстрировала ему ладонь. – Ты истекал кровью, глупый маргар! Ты был на шаг от смерти! – Она вдруг всхлипнула, но прикусила губу и справилась со слезами. – Думаешь, ты в самом деле дважды рожденный? Думаешь, что ты умнее просветленной ширы? Можешь не слушать ее и лезть в любую драку?.. А ты ведь поклялся меня защищать! Дарт застегнул пояс, присел рядом и обнял ее за плечи. – Ты веришь Предвечному Элейхо? Молчаливый кивок. – И веришь, что он посылает правдивые сны? Она кивнула снова. – Значит, случилось то, что должно было случиться. Я дрался, защищал тебя и пал от сотни ран, как предсказала ты, блистательная шира. И ты меня спасла… Все, как в вещем сне, не так ли? – Он нежно коснулся спутанных локонов. – Кто мы такие, чтобы противоречить Элейхо? Воля его – закон, и это понятно даже глупому маргару. Нерис всхлипнула и прижалась щекой к его груди. – Так как же ты дотащила меня? – Бхо… тебя нес бхо… носильщик… вот этот… – Она показала дрожащей рукой на паука, все еще дергавшего лапами. – Откуда он взялся? – У меня были зерна… два зерна, плохие, старые… бхо получился слабый, но все же он тебя донес. Теперь умирает… Дарт повернул голову и осмотрел паукообразную тварь. Выглядела она не лучшим образом. По правде говоря, совсем паршиво. – Жаль, если такое случится с нашей лодкой, – пробормотал он. – Где-нибудь посреди реки, в стае зубастых чудищ… – Лодка – из хорошего зерна, – возразила Нерис. – Проживет еще много циклов. Двести или триста… – Это предел? – Нет. Если зерно хорошее и если пользоваться бхо не слишком часто, дочь может унаследовать его от матери, внук – от деда. Такой бхо не умирает сразу. Жизненная сила его слабеет на протяжении долгого времени. «Жизненная сила, – подумал Дарт, глядя на паука. – Энергия… Конечно, в этих зернах должен быть запас энергии! Энергии, хранившейся миллионы лет… Может быть, такой же, что сосредоточена в ферале… Она передается бхо, и механизм функционирует, пока запас ее не исчерпан. Но механизм ли? Скорее квазиживое существо, подобное Голему и Марианне. Только не мыслящее, не говорящее, а приспособленное для конкретных дел. Плыть или таскать… Что еще?» Он лег, чувствуя, что тяжесть возросла и что вместе с ней наплывает дремота. Сумрак сгустился, где-то вверху по листьям забарабанили первые капли дождя, и лес наполнился ночными звуками – попискивали и суетились птицы, кто-то возился в листве, скреб кору когтями, потом – далеко и протяжно – завыл неведомый зверь. От Цветка распространялось слабое немигающее сияние; сейчас он казался вырезанным из розового коралла. Нерис вытянулась в мягком мху. – Как я устала… спать… – расслышал Дарт и, наклонившись к ней, шепнул: – Спи. Я посторожу. – Нет… не надо… – глаза ее закрылись. – Тут, у Цветка, безопасно… спи, Дважды Рожденный… нам ничего не грозит… Дождь успокоительно шелестел в древесных кронах, деревья застыли будто стражи в меховых одеяниях, от Цветка потянуло слабым ароматом, но уже не запахом ладана, а чем-то резким, свежим, похожим на йодистые морские испарения. Не он ли отпугивает животных?.. – подумал Дарт, но не успел закончить мысль, как веки его отяжелели.* * *
Снов он не видел и проснулся, как обычно, рано. Что-то теплое, мягкое прильнуло к его плечу, крохотные острые зубки царапали кожу, потом он почувствовал укол и услышал довольное сопение, исходившее от Броката, – тот завтракал. Пришлось подождать, когда зверек насытится. Затем Дарт сел, скрестив ноги, повертел головой, чтобы размять затекшую шею, и осмотрелся. Все было мирно и спокойно. Деревья в предрассветном сумраке казались отлитыми из потемневшего серебра, в пространстве меж ними сгущались фиолетовые тени. Его кинжал и шпага лежали на расстоянии протянутой руки, за ними громоздился мешок с привязанным к нему скафандром, а по другую сторону негромко посапывала Нерис. Бхо-носильщик, валявшийся в центре поляны, уже перестал дергаться и будто бы осел, расплываясь грудой протоплазмы. В слабом свете, исходившем от Цветка, Дарт видел только смутный бесформенный контур и торчавшие во все стороны ноги-щупальца. В лесу царила чуткая тишина – ни возни в древесных кронах, ни писка птиц, ни далекого тоскливого воя. Он встал, пошарил в карманах скафандра, вытащил маленький цилиндрический контейнер и подошел к Цветку. Лишь рядом с ним стало понятно, как он огромен – овальная чаша высотой по грудь, которую с трудом обхватили бы четверо мужчин. Дарт заглянул внутрь, омочил пальцы в розоватой жидкости, попробовал на вкус – она оказалась слегка кисловатой и пахла на этот раз недобродившим виноградным соком. Наполнив контейнер, он повернул кольцо в его основании, и герметичная крышка захлопнулась с легким щелчком. «Как знать, возможно, этот бальзам станет не менее ценной добычей, чем проба ферала, – подумал он. – Нечто соприкасавшееся с плотью Ушедших Во Тьму и даже питавшее ее, если наша маленькая шира ничего не сочиняет…» Вернувшись к ней, он снова опустился в мягкий мох, раздумывая, сколь щедро и с каким комфортом устроен этот мир. Целебные цветы, источник пищи Темных, а также изобилие плодов для их живых игрушек, для рами и даннитов, ко и тири и прочих рас, переселенных то ли добровольно, то ли в неразумном, еще животном состоянии… Стабильный климат и нерушимая экология – ни бурь, ни извержений вулканов, ни наводнений, ни прочих катастроф; континенты с эндемичной флорой, приспособленные для их обитателей; реки, по которым можно плавать у берегов, и охраняющие их чудовища, дабы никто не совался в чужой монастырь и не было повода для конфликтов; деревья смерти – для безболезненной эвтаназии, и туман, очищающий лес… Правда, кое-что выпадало из этой благостной картины – скажем, водяные черви и соплеменники Вау с их мерзкими привычками. Но Дарт резонно полагал, что это – результат мутаций, произошедших с течением времени. Черви скорее всего были водными санитарами, такими же, как очистительный туман на суше, а криби качались на деревьях, ели жуков да гусениц и доставляли не больше хлопот, чем стая мартышек. Другое дело – бхо! Дарт понимал, что Темные не зря упрятали их в защищенных хранилищах – значит, эти квазиживые механизмы были запретными для туземцев. Тут крылся некий парадокс, в котором он хотел бы разобраться, однако данных для обоснованных выводов не хватало. Если бхо – не для туземцев, то почему их не уничтожили? А если бросили за ненадобностью, то почему защитили? На первый вопрос он не имел ответа, а что до второго, то тут возникли целых две гипотезы. Бхо – во всяком случае, те бхо, которые он видел, – были безобидны и не несли иных опасностей, помимо тех, какими балует цивилизация ленивцев. Транспорт, быстрое безопасное передвижение, а кроме того, строительство жилищ да производство пищи и предметов быта – вот безопасная цель технологии. Но Темные, возможно, не желали, чтоб здесь возник технологический прогресс; возможно, им хотелось, чтоб этот мир пошел иным путем, отличным от путей Земли, Анхаба и множества других планет. Скажем, более духовным, ведущим к ранней зрелости, не оставляющим места для сожалений об упущенном… Тех сожалений, отзвук которых звучал в словах Констанции. Однако эта гипотеза была неконкретной и смутной, и потому Дарт более склонялся ко второй. Вполне возможно, Темным не хотелось, чтоб их имущество делили силой; они могли предвидеть кровавые конфликты между туземцами, истребление слабых, торжество жестоких, битвы и побоища – вроде случившегося прошлым утром. Такую гипотезу подтверждало многое – и то, что он узнал от Нерис и Рууна, и то, что видел сам; вывод же был очевиден: период балата – не лучшее время в здешних краях. Вполне разумный вывод, и тем не менее Дарту чудилось, что все его логические выкладки базируются на шаткой почве непроверенных догадок и произвольно толкуемых фактов. Ясным было одно: Ушедшие Во Тьму стремились не допустить своих наследников в хранилища. Наследники же проявляли настырность и, не пугаясь молний Элейхо, лезли в запретные места… Но почему? В чем состояла особая ценность бхо? В том, что с их помощью можно гнать плоты, плавать по рекам и перетаскивать тяжести? Не слишком важные проблемы… В конце концов, имея понятие о кораблях, веслах и парусе, можно соорудить и телегу. Пожалуй, нашлось бы, кого в нее запрячь… Отчего же бхо считались сокровищем, равновеликим жизни и пролитой крови? Этого Дарт не понимал, и в результате вся его конструкция повисала в воздухе. Ракушки джелфейра, мерцавшего на шее Нерис, порозовели. Он поднялся, сорвал оранжевый плод, затем углубился в лес на пару десятков шагов и отыскал кусты с какими-то мелкими, но очень вкусными ягодами – они таяли на языке и освежали рот. Поедая их, Дарт снова подивился царившему здесь изобилию. Пища, первая потребность всякого живого существа, тут не являлась проблемой; лес, собственно, был не лесом, не джунглями и не тайгой, а плодоносным садом. Фрукты, ягоды, стебли, коренья – с разным вкусом, разной формы, цвета, величины и в потрясающем разнообразии… Скольких мог прокормить этот лес! Когда он вернулся, начало светлеть, и листья дынных деревьев, свернутые в трубочки ночной порой, стали распрямляться, превращаясь в большие темно-синие треугольники с резными краями. Нерис уже проснулась и приводила в порядок тунику и свои волосы. – Пойдем к реке? – спросил Дарт, протянув ей в ладонях горстку ягод. Она принялась жевать их, покачивая головой. – Нет. Тьяни, лысые отродья, обогнали нас, флот даннитов уничтожен, и не приходится ждать от хвостатых помощи. В Лиловых Долинах не знают об этом… Надо бы их предупредить. – Как? Послать к ним Броката? Он хорошо поел – может, и долетит… Шира, не принимая шутки, строго посмотрела на него. – Не долетит, но я его пошлю. Пошлю, чтоб поискал багровое дерево туи. Обычно хоть одно растет вблизи Цветка… – Тут только синие деревья, – Дарт бросил взгляд в лесную чащу. Нерис небрежно повела рукой. – Да, синие, серые и голубые, как всюду в наших краях. Источник плодов и коры для одежд – вот и все, на что они годятся. Туи же – особое дерево, помощник просветленных шир; прикоснувшись к нему, услышишь многое и многое узнаешь – и о себе, и о других… – Сделав паузу, она пояснила: – Я прошепчу ему несколько слов, и они долетят до Нараты в Лиловых Долинах, а от него старейшие узнают новости… может, пошлют стражей границы встретить нас. – Нарата? – Дарт почесал горбинку носа – вроде бы такое имя прежде не упоминалось. – Кто он, сударыня? Этот Нарата с тонким слухом? – Один из старейших. Мой родич, хранитель дерева туи и зерен бхо. Мудрый человек, если можно такое сказать о мужчине. Она принялась тормошить Броката. Тот недовольно запищал, цепляясь маленькими коготками за тунику и ожерелье, но Нерис подбросила его в воздух, крылья зверька развернулись, и он, не открывая глаз, закружился над поляной, вереща: – Сспать… Бррокат сспать… сспать… – Не спать. Искать! Вероятно, мысль о поиске вдохновила Броката: его полет стал уверенней, усы встопорщились, глаза открылись и засверкали темными бусинами. Над головой Дарта прошелестело: – Бррокат исскать… вссегда исскать… Чтто? – Туи. – Веки Нерис на мгновение опустились, но тут же, взмахнув ресницами, она вытянула руку к лесной чаще. – Думаю, там. И думаю, недалеко. Лети! Брокат исчез среди мохнатых древесных стволов. Стайка небольших птероидов – серые шкурки, желтые кольца вокруг глаз – вынырнула из листвы, рванулась следом, но, наткнувшись на какой-то яркий лоскут, паривший в воздухе, закружилась рядом с ним, играя. Лоскут зашипел, плюнул струйкой бесцветной жидкости. «Бабочка?..» – подумал Дарт, вопросительно взглянув на Нерис. – Путта, – пробормотала она. – Неопасное существо, но его выделения обжигают, подобно целебным корням хрза. Ну что стоишь, маргар? Собирайся! Бери мешок, идем! – Слушаю и повинуюсь, просветленная. – Взвалив ношу на плечо и бросив последний взгляд на алый цветок и останки бхо-носильщика, Дарт направился к лесу. Они прошагали с четверть лье среди покрытых мехом дынных деревьев, обогнули большую темную лужу – Глотающий Рот, заполненный не водой, а вязкой, растворяющей органику субстанцией, миновали несколько поросших сизыми мхами лужаек, а затем ручей, где резвились маленькие зверьки с лапами, подобными плавникам, и длинными гибкими хвостами, извивающимися, словно водяные змеи. За ручьем, который путники преодолели вброд, высилась роща деревьев харири с доскообразными стволами, а дальше характер местности переменился: тут, среди синих травяных зарослей, скрывавших человека с головой, торчали обломки яшмовых скал – массивные, багрово-красные, с серыми и оранжевыми прожилками. Одни из них, округлые или плоские, как могильные плиты, были Дарту по пояс, другие, превосходившие размерами дом, вздымали к небу зазубренные вершины; поверхность скал была изрезана трещинами, и кое-какие из них могли сойти за целые пещеры. «Живописное зрелище», – мелькнуло у Дарта в голове. Потом он остановился, недоумевая, как будут они пробираться в этих зарослях, но тут же увидел тропу, что шла от ручья, – ее отмечали примятые стебли травы и кучки свежего помета. Судя по ним, животные, ходившие к водопою, были довольно крупными – может, не такими, как лошадь, но уж никак не меньше кабана. Нерис тоже остановилась, морща лоб и с сомнением поглядывая на тропинку. – Синяя трава и дорога, проложенная тахами… – промолвила она в раздумье. – И камни… Подходящее место для маргара, клянусь Предвечным! В такой траве он любит подкрадываться к жертвам… – Опасная тварь? – полюбопытствовал Дарт. – А ты не знаешь? – Женщина с внезапным подозрением уставилась на него. – Никогда не слышал о маргарах? Неопределенно пожав плечами, он предложил: – Идем! Это дерево туи, о котором ты говорила, священное, так же, как Цветок, верно? Звери не тронули нас у Цветка, не тронут и рядом с деревом. Или я не прав? – Не прав, – подтвердила Нерис. – Запах и блеск Цветка отпугивают животных, а туи ничем особенным не пахнет. По виду – обычное дерево, только с багряными листьями. С длинными и узкими, как твой нож, – она показала на шпагу. – Но не такими острыми, – Дарт улыбнулся и положил ладонь на рукоять. – Чего ты боишься, моя блистательная госпожа? В траве – маргар и с тобой – маргар… Как-нибудь поладим! Прилетел, трепеща крылышками, Брокат, свистнул, что поиски успешны, и это решило дело. Они двинулись вперед: Нерис – чутко прислушиваясь, Дарт – баюкая на плече мешок и размышляя, сшит ли он из целой маргаровой шкуры или из половины. В последнем случае шансы отбиться были невелики, и он, ощупывая шпагу, с горечью думал о своем разряженном дисперсоре. Правда, сам мешок служил свидетельством того, что маргаров все же убивали – надо полагать, копьем и топором, без лучевого оружия. А может быть, они попадались в ловушки? Синяя трава раздалась, тропинка вывела их к необозримому лугу, покрытому сочными невысокими стеблями – они трескались под ногой и исходили густым беловатым соком. Вдали паслись какие-то животные – возможно, тахи; вытащив визор, Дарт разглядел крохотные головки микроцефалов на тонких шеях и плотные, обросшие длинной шерстью туловища. Ноги скрывала трава, но ему показалось, что их не четыре, не шесть, а только две. Огромные птицы? Возможно… Но без клюва – пасть, будто у жвачных, и из нее свисают пучки стеблей. Нерис, облегченно вздохнув и не обращая на этих тварей внимания, ринулась за Брокатом к дереву, что росло шагах в пятидесяти, рядом с грудой разноцветных камешков и раковин. Было оно невысоким, покрытым гладкой охряной корой; на высоте поднятой руки ствол делился на шесть или семь ветвей, что расходились шатром, почти незаметные за водопадом листьев – узких, длиною в руку, свисавших вниз и багрово-красных, словно оставшиеся позади скалы. На фоне голубоватой растительности и синего ясного неба дерево туи выделялось будто рубин в мозаике из бирюзы. Встав перед ним, Нерис сорвала ракушку с джелфейра, бросила на груду камней, потом прижала к стволу ладони, вытянулась и замерла. Щеки ее постепенно начали бледнеть, зрачки остановились, и звездочка раята на правом виске потускнела, сменив серебристый оттенок на свинцово-серый. Такой, загадочно-непостижимой, она уже являлась Дарту – в пещере на острове волосатых, в трансе вещего сна, который посулил ему битвы, раны и избавление от них… Но что ей виделось сейчас? Морское побережье? Лиловые Долины? Неведомый Нарата, хранитель зерен бхо? Дарт опустил мешок, приблизился и, подражая Нерис, протянул к стволу раскрытые ладони – ствол был довольно толстым для невысокого дерева, и тут хватало места для них двоих. Ему показалось, что он чувствует сопротивление, будто между пальцами и светло-коричневой корой сгущается что-то упругое, невидимое для глаз, но вполне ощутимое и реальное. Естественный энергетический экран? Защита от невежд и дураков? Напоминание – будь осторожен? Барьер, однако, был преодолим. Он глубоко втянул воздух, проклял свое любопытство и прикоснулся к стволу. Текли мгновения, но ничего, казалось бы, не изменилось. Солнце по-прежнему грело его обнаженные плечи и спину, гулявший над равниной ветерок путался в волосах и шелестел листвой, а где-то вверху носился и пищал неугомонный Брокат: «Нашелл!.. нашелл!..» Потом веки Дарта отяжелели, ветер стих, и солнечный свет сделался не резким и пронзительным, а по-весеннему мягким. Теперь он был не обнажен по пояс, а одет: старая куртка зеленоватой шерсти, такие же штаны, потертые ботфорты и берет с неким подобием облезлого пера; к ним – шпага в ножнах и кожаная портупея. Что-то покачивалось и поскрипывало под ягодицами, и он вдруг осознал, что находится в седле, и конь его, неторопливо ступая, шествует к воротам гостиницы. Старый конь, мерин желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками, единственное четвероногое достояние их обедневшего семейства… Конь, шпага, пятнадцать экю и советы – все, что он получил от отца… Нет, не все! Было еще и письмо! Драгоценное письмо, которое похитили или сейчас похитят… вот этот черноусый ублюдок, что глядит на него из гостиничного окна… пялится и ухмыляется… С чего бы? Он приосанился, одной рукой коснулся рукояти шпаги, другую вытянул в оскорбительном жесте, сделав «козьи рожки», и закричал: – Эй, сударь! Вы! Да, вы, который прячется за этим ставнем! Соблаговолите объяснить, над чем вы смеетесь, и мы посмеемся вместе! Но незнакомец не ответил, лишь метнул в его сторону насмешливый взгляд, и это было словно удар молота, сваливший его с лошади. Он упал на колени, на что-то мягкое, влажное – наверное, в грязь – и почувствовал руку на своем плече. Рука была цепкой, настойчивой, как и зудевший в ушах голос. Его трясли и звали, раз за разом повторяя странные слова; ему мнилось, что вроде бы этот язык должен быть понятен, но он его не понимал. Внезапно сказанное обрело содержание и смысл. – Очнись! – звала его Нерис. – Очнись, глупец! Ты, обиженный Элейхо! Зачем ты прикоснулся к дереву? – Это было любопытно, моя прекрасная госпожа, – пробормотал Дарт, поднимаясь с колен, – очень любопытно… Я видел… да, я видел картины своей юности… старую одежду, отцовскую шпагу – она потом сломалась… город, в который я въехал на древней кляче, и мерзавца, укравшего письмо… Как его звали, дьявол? И что говорилось в том похищенном письме?.. Но Нерис не слушала его, била кулачками в грудь, кричала: – Нельзя подходить к дереву, когда с ним беседует шира! Нельзя его касаться! Это опасно! Твой дух улетит к предкам, и ты превратишься в безмозглую тварь! Ты мог потерять разум! Ты… – …глупец и потому не боюсь лишиться того, чего не имею, – закончил Дарт. – Но все же я благодарен туи: ум или его остатки все еще при мне, а с ними – частица пережитого когда-то и позабытого. – Перехватив запястья Нерис, он попытался ее поцеловать, но шира увернулась. – Ну а как твои успехи, Нерис Итара Фариха Сассафрас т'Хаб Эзо Окирапагос-и-чанки? Видишь, я не забыл твое имя, хоть от него в самом деле можно лишиться разума. – Это еще почему? – спросила Нерис, отступив и с подозрением глядя на него. – Прекрасное женское имя всегда сводит мужчину с ума, – Дарт отвесил изящный поклон. – Так что же? Ты говорила с мудрым Наратой из Лиловых Долин? – Говорила. Он обещал, что пошлет корабль и воинов для нашей охраны. – И где мы встретим их? Выдернув пару стеблей, она положила их на землю под углом. – Смотри, Дважды Рожденный, это – большие реки. Мы плывем по левой, а справа – та, что разделяет земли даннитов и рами. Здесь – горы, а за ними – океан… – Миниатюрный вал из камешков лег поперек стеблей, в том месте, где они почти сходились. – Вот малая речка, впадающая в большую, за нею – озеро, и на его берегах лежат Лиловые Долины… – Она обозначила озеро ракушкой – пониже горной гряды, на равном расстоянии от крупных рек. – Тут, в устье маленькой реки, нас будут ждать. – И куда потом? – В Лиловые Долины, а от них – к месту, где сверкали молнии. Примерно вот здесь, – она добавила к кучке камешков еще один, красный. – Ты можешь показать, где мы теперь? И где тот остров, на котором мы с тобою встретились? Лоб Нерис пересекла морщинка. Несколько мгновений она размышляла, подкидывая на ладони пару камней, затем положила один из них у середины левого стебля, а другой – на две ладони повыше. Дарт, беззвучно шевеля губами, уставился на эту карту. Он вспоминал вид местности с высоты, картины, показанные Марианной, и все, что запомнилось во время полета в скафандре; перебирал минувшие циклы, прикидывал скорость левиафана и даннитской флотилии, подсчитывал пройденный путь – по прямой, если учесть извивы и повороты реки. Оценка получалась грубоватая, но все же он мог представить, где находится сейчас и куда ведет дальнейшая дорога. До Лиловых Долин было двести или триста лье, а от них – еще семьдесят или сто до седловины меж гор, отмеченной красным камешком, до места, где поджидал его ираз. Но попасть туда можно было быстрее: не сворачивать к озеру, не плыть в Лиловые Долины, а двигаться до гор по речному берегу. В предгорьях свернуть вправо и пересечь отроги прибрежного хребта… вроде бы совсем невысокие… Или ему так показалось сверху?.. Эта дорога была короче на добрых полсотни лье, и Дарт не сомневался, что воинство тиан проследует таким путем. Он мог бы их опередить, если Нерис переберется на судно Лиловых Долин, оставив ему левиафана. Живой корабль передвигался гораздо быстрее тианских галер. Он еще не решил, что станет делать, добравшись до хранилища Ушедших. Все зависело от случая и ситуации – от того, сколь глубока дыра, достигает ли она фералового слоя, удастся ли ему взять пробу и выбраться с добычей на поверхность. Если дела пойдут успешно, он будет ждать спасательный корабль или в Лиловых Долинах, или в Трехградье, или в любом из мест, где можно с приятностью потратить время – желательно, не покидая Нерис. А что касается хранилища… Либо наследство Детей Элейхо будет разделено по-доброму, либо он завалит вход и уничтожит шахту со всем ее проклятым содержимым! Или то, или другое – но больше никаких кровопролитий! «Лишь бы добраться до Голема…» – подумал Дарт. С Големом за спиной он мог контролировать ситуацию; Голем и его дисперсоры были гарантией мира – того, что он не раб обстоятельств, а управляет ими. И может, как повелели явившиеся в снах друзья, повиноваться велениям чести. Они направились в лес, и Дарт какое-то время молчал, раздумывая об этих снах и о случившемся у дерева туи. С ним, безусловно, творилось нечто странное: обрывки воспоминаний вдруг оживали и возвращались по самым различным поводам и причинам. Во сне ли, наяву, после хмельного из фляги Рууна или как сейчас, под шелестящей в порывах ветра багряной кроной… Возможно, атмосфера Диска влияла на него? Некий таинственный флюид, содержавшийся в воздухе и водах? Духовная эманация, неуловимая для датчиков Марианны, что-то такое, что пробуждало память о былом? Пожалуй, заметить ее могли только люди-приборы, о коих рассказывала Констанция… Но сам он к ним не относился; он не умел читать мысли, общаться с покойными предками и друзьями или предсказывать будущее. В этих вопросах оставалось лишь полагаться на Нерис. Дарт повернулся к ней и спросил: – В Трехградье тоже есть дерево туи? – И не одно, – откликнулась она. – В Трехградье, а также у тири и даннитов, и у других, даже у лысых жаб. Их самки неразумны, и нет среди них шир, но слушать туи могут многие. Это несложное искусство – гораздо проще, чем пробуждение зерен и толкование посланных Предвечным снов. – Несложное? – Бровь Дарта приподнялась. – Да, Дважды Рожденный. Однако не для безмозглых маргаров. Не возразив ни слова, он кивнул. Быть может, на Диске не имелось телепатов, зато была всепланетная система связи, доступная, по словам Нерис, многим. Он не мог объяснить ни ее устройства, ни принципов работы, но согласился с фактом, что она существует и действует и что живые существа способны передать на расстояние мысль с помощью деревьев. Во всяком случае, это объясняло, как в Трехградье и других местах проведали о бивших в небо молниях. Шагая к лесу по тропе, протоптанной тахами, они уже видели верхушки деревьев – серый и фиолетовый дым на фоне голубых небес. Идти осталось с четверть лье, но Брокат, дремавший меж скафандром и мешком, вдруг забеспокоился, завозился и, тревожно пискнув, взмыл в воздух. Нерис остановилась, склонила голову к плечу, и Дарт заметил, что ее щеки начинают бледнеть – точно так же, как немногим раньше, у дерева туи. Но туи здесь не было; вокруг колыхалась синяя трава, и из нее окровавленными драконьими клыками торчали скалы. От скал не доносилось ни звука, а трава шелестела, и, кроме этого шелеста, шороха и потрескивания, Дарт не слышал ровным счетом ничего. Взгляд Нерис метнулся к нему. Щеки ее были цвета белого мрамора. – За нами идет маргар, твой родич. Думаю, ты знаешь, что нужно делать? – Понятия не имею. Опасный зверь? Большой? – Он оглянулся на висевший за плечом мешок. – Дело не в величине, – прошептала Нерис бескровными губами. – Очень быстрый… прыгает далеко, бьет наверняка и нападает молча… Я чувствую, он где-то тут, прячется в травах… чувствую, но не могу его заговорить. Он не только быстрый, но еще и умный… Тварь, которой Предвечный дал половину разума и половину жестокости… «Плохо, – подумал Дарт, осматриваясь. – Ничего не слышно и не видно…» В этих зарослях они были как мыши в мышеловке, гадающие, откуда и когда протянется когтистая кошачья лапа. Сглотнув, он ткнул в ближайшую скалу, что вырастала уступчатым обелиском, вздымаясь выше трав. – Туда! На камне мы его увидим! Они проломились сквозь заросли, взлетели на первый уступ, и Дарт, бросив мешок, вытащил кинжал и шпагу. «Может, малышка ошиблась?..» – подумал он. По-прежнему было тихо – только шуршала под ветром трава и вопил Брокат, кружась над вершиной скалы. Там виднелась площадка, не очень большая, но места для двоих хватило бы. «Добраться к ней!..» – мелькнула мысль. Но дальше второго уступа им лезть не пришлось. Нерис вскрикнула, всколыхнулся воздух, и спину Дарта будто окатило холодом. Мгновенно повернувшись, он увидел, как сверху падает нечто квадратное, темное, с жаркой оскаленной пастью, утопленной в складках шкуры. Он содрогнулся, прикинув дальность прыжка, успел заметить блеск золотистых глаз, подобных расплавленному янтарю, а руки уже делали привычную работу: левая целила кинжал под челюсть, правая метнулась вниз, взрезая зверю брюхо острием клинка. Плечо обожгло, страшный удар бросил его на камень, кинжал, застрявший в чем-то твердом, вывернулся из пальцев. Откатившись в сторону, он вскочил, не выпуская шпаги, и поглядел вниз: там, на уступе скалы, лежали два мешка в серую и темную полоску. Один был неподвижен, другой еще шевелился и хрипел, и под ним расплывалась кровавая лужа. Дарт спрыгнул на нижний уступ, добил зверя и вытащил кинжал. Его удар оказался смертельным – клинок попал под челюсть и, перерезав глотку, протаранил мозг. Он вытер лезвие о полосатый мех, со свистом втянул воздух и уставился на маргара. Зверь был довольно велик, побольше земного барса. Огромная пасть, погасшие зрачки, распоротое брюхо… полное отсутствие хвоста и половых органов… мощные лапы с тремя когтями… между передними и задними – перепонка; в ее складках лапы терялись, и распростертый на камне зверь казался квадратным, нелепым, неуклюжим. Но Дарт помнил его прыжок! Вероятно, эта тварь могла планировать в воздухе и, падая сверху на жертву, убивала одним быстрым и точным движением. Клыки у нее были такие, что при взгляде на них он ощутил холод в животе. Но маргар был мертв, и по праву победителя Дарт мог распоряжаться его клыками, шкурой и когтями. Смахнув ладонью кровь с пораненного плеча, он задрал голову, поглядел на Нерис, забравшуюся на самый верх утеса, и помахал ей шпагой. – Иди сюда, ма белле… Тебе не нужен второй мешок? Нет? Ты в этом уверена? Она торопливо спустилась вниз, баюкая в ладонях съежившегося Броката, прошептала: – Ты уб-бил его, Д-дважды Рожденный… Уб-бил одним ударом… Одним! – Двумя, – уточнил Дарт, ткнув клинком в окровавленное брюхо. – Но поведай, моя госпожа, откуда берутся эти твари? До сих пор я думал, что земли рами безопасны… Конечно, если не считать наших приятелей тиан. – Н-нет… маргар н-не из наших земель… – губы Нерис все еще дрожали и повиновались ей с трудом. – Говорят, меж реками клеймсов и рдандеров, по ту сторону океана, есть дикий край, где никто не живет, и водятся в нем всякие хищные чудища. Реки им не переплыть, и потому они не опасны – ни одно из них, кроме маргаров. Те умеют перебираться в другие земли… никто не знает как… И никому не ведомо, как эти твари производят потомство. Видишь, – Нерис кивнула на мертвого зверя, – он лишен естества. Но там, где появился один маргар, будет второй, а за ним – и третий. Подняв мешок, Дарт обнял ее за талию и повел к тропе. – Мы убиваем их повсюду, – пробормотала Нерис. – Убиваем, но это стоит трех или больше жизней… как в последний раз, когда охотился Сайан… Они – осторожные, стремительные, смертоносные… – Я тоже такой? Не ответив, она коснулась его плеча с тремя глубокими царапинами от когтей маргара. Они затягивались прямо на глазах; кровотечение остановилось, края порезов сошлись, вспухли алыми рубцами, затем порозовели и начали разглаживаться. Что-то исцеляло раны – гораздо быстрей, чем прилипала, входившая в спасательный комплект. Шепот Нерис раздался под ухом: – Соки Цветка Жизни бродят в тебе… Дар Элейхо… «Возможно, не единственный», – подумал он, вспомнив о картинах прошлого, которые возвращались к нему с загадочным постоянством. Миновало красное время, наступило и прошло желтое. Они добрались до речного берега, когда джелфейр на шее Нерис начал зеленеть, а листья дынных деревьев, вобрав утренний свет и тепло, стали сворачиваться в трубочки. Левиафан ждал их, укоренившись под нависшими кустами; ждал терпеливо и безмолвно, как поджидает верный пес пропавшего хозяина. – Куда? – спросила Нерис. – Назад. Посмотрим, вдруг кто-то остался в живых. Пусть даже полумертвым… Ты говорила, Цветок помогает и таким? Без возражений она направила корабль к месту битвы. Ее покорность удивила Дарта – Нерис была из женщин, которые спорят по всякому поводу и по любой причине. Но что-то изменилось между ними, и оставалось лишь гадать, когда и почему. Не от того ли, что он чуть не погиб и Нерис спасла его – а значит, исполнилось пророчество? Или потому, что он прикоснулся к дереву туи и убил маргара?.. Левиафан плыл вниз по течению стремительно и плавно; зеленое время еще не кончилось, когда они достигли бухты за полуостровом, изогнутым, словно крючок. Воды тут были чистыми; ночью бурный поток унес обломки тианских галер и плотов даннитов, и лишь дюжину обгорелых бревен прибило к берегу. Сам берег был неразличим: от кромки вод до леса его затягивал оранжевый туман, а выше, то ныряя в непроницаемую мглу, то кружась над нею, металась и вопила стая птероидов. Лесной ассенизатор уничтожал отходы… – Может, кто-то еще жив? – промолвил Дарт, с тоской взирая на берег. Но Нерис покачала головой. – Божественный туман растворяет мертвую плоть, а израненную – врачует. Не так быстро, как Цветок, но все же… Сейчас живые были бы на ногах и выбрались к воде. Но тут одни лишь бревна… – Помрачнев, она пробормотала: – Не в обычаях тьяни оставлять кого-то в живых… «Значит, Кордоо не удалось прорваться, – подумал Дарт. – Бедный Кордоо, незадачливый адмирал! Бедный Руун…» Горло его вдруг пересохло, словно пепел сгоревших плотов еще клубился в воздухе, мешая дышать. Свесив голову за борт, он смочил лицо и губы. – Они ушли к Элейхо, соединились с ним, и он даровал им вторую жизнь, – сказала Нерис. – Больше они не враждуют, ибо Предвечный их примирил. Даже в тьяни не осталось жестокости… Те, кто уходит к Элейхо, меняются к лучшему, и сожалеть о них не надо. Ни сожалеть, ни поносить. – На острове криби ты говорила иное, – хрипло отозвался Дарт. – Ты помянула тиан недобрым словом. Она опустила голову. – Даже ширы испытывают гнев… Они уничтожили Сайана и всех моих спутников и были со мной непочтительны. – Чего они хотели от тебя? – Того же, чего хотят в Лиловых Долинах. У тьяни нет шир – как им познать силу, скрытую в зерне, и оживить бхо? Подобное подвластно лишь ширам, и потому балата не обходится без нас… и без маргаров, – добавила она после паузы. – Без зверей? Таких, как я убил? – Нет. Таких, как Сайан, и таких, как ты. Зеленое время истекло, и раковины в ожерелье Нерис начали голубеть. Левиафан снова плыл против течения; им не хотелось останавливаться на ночлег вблизи бухты, где, растворяя мертвые тела, клубился очистительный туман. – Флот тиан нас обгоняет, – заметил Дарт после паузы. – Всего лишь на один цикл, и скоро мы будем впереди. Мы приплывем к устью речки раньше их. Там нас встретят. – Возможно, там мы и расстанемся. Она пристально взглянула на Дарта, пожала плечами. – Кто может знать! – Ты. Ты просветленная шира! Достань свой кристалл, и пусть Элейхо пошлет тебе вещий сон. Только без кровопролитий и пожаров. – Я вижу то, что вижу, и я не в силах изменить начертанного. – Нерис вздохнула, полезла в свой мешок, но вытащила не кристалл, а зеркальце. Всмотревшись в свое отражение, она вздохнула снова. – Мой раят не потускнел, а это значит, что ты не подарил мне жизни и дитя. Наверное, и не подаришь… слишком мы разные… Но все же я буду с тобой, Дважды Рожденный. И я не хочу знать, когда и как мы расстанемся. – А если этого не случится? – Случится. – Она посмотрела на свой джелфейр. – Случится с той же неизбежностью, с какой зеленое время сменяется синим. Ты уйдешь, непременно уйдешь, и мне тебя не удержать, ибо в мыслях твоих – другая. Дарт вздрогнул и покосился на ее лицо, озаренное ярким светом голубого солнца и оттого казавшееся еще более спокойным и отрешенным. Веки Нерис были полуопущены, густые ресницы затеняли глаза, и только раят на виске сиял холодным серебряным блеском. Он выдавил нерешительную улыбку. – Как ты об этом узнала? При помощи колдовства? Не лучший способ, чтоб разобраться в чужих сердечных тайнах, моя госпожа. Ресницы Нерис взметнулись, опустились, и он услышал: – Глупый маргар! При чем тут колдовство? Достаточно быть женщиной… …Через три цикла они настигли флот тиан и обогнали его, прячась то под крутым берегом, то под ветвями развесистых кустов. Дарт, надвинув щиток визора, пересчитал галеры: их оказалось не меньше двух сотен, и плыли на них тысяч десять воинов – огромное войско по местным масштабам. «В битве с такой армадой шансы даннитов равнялись нулю», – мелькнуло у него в голове. Возможно, шансы рами из Лиловых Долин были точно такими же.Часть III Лиловые Долины
Глава 12
Камень окружал Дарта сверху, снизу и со всех четырех сторон. Вернее, с трех: темница, в которую его ввергли, была треугольной, и это порождало странную иллюзию: куда бы он ни посмотрел, стены сбегались, словно загоняя его в тупик. Смотреть, собственно, было не на что. Стены, пол и потолок – из отшлифованного розоватого гранита, цельные, без швов, не вырубленные, а скорее выплавленные в каменной толще; посередине – цилиндрический выступ, тоже каменный, невысокий и застеленный шкурами, на котором он мог улечься хоть вдоль, хоть поперек; рядом выступ поменьше, изображавший стол. В одном углу – груда поглощающего отходы мха, в другом – овальный наклонный желоб, выходивший из круглого отверстия-люка, заткнутого сейчас деревянной крышкой – спилом дерева внушительной толщины. Шкуры, устилавшие ложе, также были древесного происхождения – не шкуры вовсе, а кора с длинным серым мягким мехом, ободранная со стволов и аккуратно нарезанная большими полотнищами. Освещали камеру сплетенные из лишайника венки – три больших кольца на трех стенах, сиявшие голубоватым люминесцентным светом. В камере было тепло и сухо, на выступе-столе располагался поднос с горой плодов, шкур для постели тоже не пожалели. Вполне комфортабельная темница, но все же – темница… Дарт решил, что тут когда-то была опочивальня Темных, оформленная со спартанским вкусом. Лежа на шкурах и вертя головой, он пытался представить, как странное существо размером с барана скатывается вниз по желобу, спешит по нужде в уголок, потом забирается к нему на ложе, разевает пасть и начинает чавкать фруктами. Он наделял эту тварь то щупальцами, то руками и ногами, то хоботом или языком – одним языком, зато упругим, длинным, позволявшим твари перемещаться скачками и ловко хватать фрукты с подноса. Так он развлекался с красного времени до синего и с синего до красного. Ракушка-джелфейр была при нем, а также комбинезон и башмаки, но все остальное испарилось. Видно, местные власти изучали его снаряжение и решали, что делать с самим владельцем: пустить ли на садовое удобрение или, расчленив, скормить водившимся в озере мохнатым жабам. Отсидев в узилище полный цикл, Дарт был согласен на любой предложенный вариант. Его энергичная натура не выносила бездействия. Все начиналось гораздо лучше, чем кончилось. В устье речки – той, что текла из озера в большую реку, – их поджидал корабль, парусная баржа с резными перилами, с бортами из досок харири, изукрашенных перламутром, с роскошным шатром на корме, где были приготовлены столы и мягкие постели, и с трюмом, набитым одеждой и коврами, устрицами и копченой рыбой, сладкими соками и фруктами, соленьями и кувшинами с медовым шербетом, который не слишком пьянил, но был чрезвычайно кстати, когда подавали острые и пряные блюда. Поглядев на это великолепие, отведав деликатесов, заметив, как почтительно приседают перед Нерис и перед ним, Дважды Рожденным маргаром, воины и мореходы, а также хорошенькие служанки, которых насчитывалось не менее дюжины, Дарт разнежился и подумал, что миновать Лиловые Долины никак нельзя. Там, вероятно, понимали в жизни толк, и к тому же, как его уверял предводитель встречавших Ренхо, выбранный Дартом маршрут в предгорьях хоть и был короче, зато тяжелее, чем дорога от озера. Там пришлось бы идти вдоль каменистых осыпей, блуждать в ущельях, продираться сквозь колючий кустарник, форсировать овраги, заполненные грязью после ночных дождей, и там не росли плодовые деревья. Последнее не тревожило Дарта – его контейнер с пищевыми капсулами еще не опустел, однако путь и вправду был нелегок. И в результате, решив, что выигрыш в расстоянии не компенсирует потерю времени, он согласился плыть в Лиловые Долины. Он сам себя уговорил и знал об этом так же, как об истиннойпричине своего решения. Корабль и семь или восемь десятков людей, не волосатых криби и не хвостатых даннитов: женщин, с которыми можно пофлиртовать, мужчин, готовых посидеть за столом, потолковать и выпить – пусть не вина, так хоть медового напитка. Он не хотел расставаться с ними и, разумеется, с Нерис; он жаждал общения и компании – множества новых лиц, голосов, историй, песен. Возможно, эти рами, имевшие излишек ребер и сердце с правой стороны, были все-таки ближе ему, чем метаморфы, способные во всех подробностях копировать землян. Хотя бы по тем причинам, что у них существовала цель и занимались они понятным Дарту делом: готовили пищу, правили судном, командовали, служили и охраняли. А впереди его ждал цветущий город, полный тайн, будивших любопытство, и приветливых жителей – уже не десятки, а тысячи новых лиц и встреч, что было для него, за четыре последних века, изрядной роскошью. Альтернатива всем этим радостям казалась мрачной: блуждания в одиночку в диких горах. Левиафана опутали сетью и привязали за кормой баржи; затем они тронулись в путь. Речка, ведущая к озеру, оказалась прямым как стрела каналом, по берегам которого тянулись пологие холмы с жилыми пещерами и росли деревья хидж, не очень высокие, но с пышной листвой и мощными длинными ветвями, затенявшими воды. С большой реки дул легкий ветерок, и судно двигалось в голубоватом тоннеле, словно пронизывая толщу льда; плыли днем и ночью, так как в период дождей течение в канале почти не убыстрялось. Эту магистраль, думал Дарт, несомненно искусственную, не разглядишь с высоты – как, вероятно, и другие сооружения, сохранившиеся с древних времен. Теперь он понимал, отчего Марианна не обнаружила здесь ни городов, ни дорог, ни иных признаков цивилизации: все построенное и возведенное Темными было слито с холмами, горами, лесами и становилось, в сущности, частью природного ландшафта. Город был вершиной этого искусного и ненавязчивого слияния. Впрочем, в понятиях Дарта, Лиловые Долины выглядели не городом, а обширной местностью вокруг полноводного озера; ручьи и реки, впадавшие в него со всех сторон, формировали улицы-долины, холмы и живописные нагромождения скал являлись водоразделами и в то же время жилищами – под ними таился лабиринт искусственных пещер, чьи входы открывались на террасы. Самые нижние из них служили берегами рек, а те, что повыше, расположенные в пять, шесть или семь ярусов, тонули в синих и голубых деревьях, в кустах с серебристой листвой, в травах и пепельно-серых лишайниках, светившихся по ночам. Их сияние и блеск, а также вечерняя мгла, клубившаяся над озером, меняли палитру цветов: синее превращалось в изумрудное, голубое – в зеленоватое, серое и серебристое принимали оттенок нефрита, и все вместе казалось лиловым, нереальным и сказочным, будто в стране эльфов и фей. Из осторожных расспросов Дарт выяснил, что все поселения на Диске были такими же, а если и различались, то немного, с учетом физиологии и эстетических запросов разных рас. Несомненно, их возводили не для нынешних обитателей; Темные, Дети Элейхо, строили для себя и жили тут, а затем ушли, оставив своим наследникам подземные дворцы на берегах озер и рек, плодовые сады, деревья, дававшие кожу, ткань, клей, древесину и все остальное – вплоть до систем экологической очистки. В Лиловых Долинах этим занимались обитающие в озере существа, похожие на шерстистых жаб – всеядные, но, в отличие от водяных червей, претендовавшие только на отходы. Жизнь в пещерных городах была удобна и привычна, и потому идея строительства жилищ казалась здесь нелепицей – точно такой же, как мысль об обработке почвы, посеве, жатве и сохранении урожая. Деревья росли и приносили плоды, не требуя забот; равным образом пещеры существовали всегда, издревле, и места в них хватало каждому. Их украшали тканями и меховыми коврами, меняли освещение и обстановку, приспосабливали под мастерские, лавки, жилища и кабачки – вот и все, не более и не менее. Что же касается строительства, то для обитателей планетоида этот термин означал иное; можно было построить корабль или плот, склеить пирогу или тачку для перевозки плодов, сложить печь для обжига глиняной посуды или приготовления яств. Все это Дарт узнал в течение трех циклов, что заняла дорога к озеру. Главным образом, от Ренхо, сына почтенного Оити, местного старейшины. Ренхо был разговорчивым малым и, в силу родства со старейшиной, командовал одним из отрядов пограничной стражи. Полное его имя было, как это и положено у рами, слишком длинным и трудным для запоминания, так что Дарт окрестил его лейтенантом. На капитана Ренхо не тянул ввиду молодого возраста, а для сержанта казался слишком важной птицей, ибо, начальствуя над полусотней воинов, носил на шлеме три ярких пера. Шлем из витой раковины выглядел очень красивым, и столь же изящными были его синий кильт, украшенные перламутром сандалии и перевязь, а также сплетенная из серых перьев накидка. Этот наряд дополняли костяной кинжал и сумка с метательными снарядами – плоскими раковинами с остро заточенным краем. Люди Ренхо были экипированы поскромней, но их вооружение оказалось таким же – плюс деревянные наплечники, копья и увесистые палки с торчавшим на конце шипом харири, напоминавшие видом кирку. Вскоре Дарт обнаружил, что медовый напиток делает Ренхо еще разговорчивей – особенно если им запивать будившие жажду блюда из рыбы, моллюсков и маринованных корнеплодов. Ближе к вечеру они уселись с этими яствами на баке, у резного форштевня, изображавшего похожего на Броката зверька, только раз в десять побольше и с пышным хвостом на месте задних лап. Моллюски, напоминавшие устриц, были превосходны, свежекопченая рыба таяла во рту, и все это, вместе с напитком, располагало к содержательной мужской беседе – к примеру, о нравах местных девушек и дам, которые – хвала Элейхо! – не отличались строгостью. Впрочем, Дарт хотел поговорить и на иные темы – о дорогах от озера к предгорьям, о городских порядках и пограничной страже, о власти старейшин и о том, проведена ли в Лиловых Долинах мобилизация ввиду предполагаемых схваток с тьяни. Но не успел опустеть первый кувшин, как из шатра на корме выплыла Нерис – не в прежней скромной тунике, а в белых, роскошных, ниспадающих до палубы одеждах. Над ней, вероятно, потрудились служанки: волосы были расчесаны и перевиты жемчужными нитями, глаза подведены, над правой грудью голубел цветок, а за плечами колыхался палантин из серебристых перьев. Завидев ее, воины грохнули палками о наплечники, а Ренхо поспешно вскочил и тут же присел, раскинув в стороны руки. Нерис поманила Дарта пальцем. – Ты ослепительна, ма белле донна! – Он тоже поднялся и отвесил поклон. – Чего желает моя госпожа? – Синее время, маргар! Дарт почесал кончик носа. Идти в шатер ему совсем не улыбалось. – Кстати о маргарах, светозарная… Как раз об этом мы толкуем с Ренхо. Важный разговор! Я поделюсь с ним опытом, и он, глядишь, захочет стать маргаром. Ты ведь сама говорила – где появляется один, там будет и другой, и третий. – Я не достоин этой чести! Клянусь Предвечным, не достоин! – Ренхо присел еще ниже. – Кроме того, в Лиловых Долинах уже есть маргары, целых три – Глинт, Птоз и Джеб. – Тут он блеснул глазками в сторону Дарта. – Ты, Дважды Рожденный, будешь четвертым и, не сомневаюсь, самым искусным из всех. – Чем больше маргаров, тем лучше, – заметил Дарт, похлопал его по спине, сел и протянул руку к кувшину. – Уверяю тебя, четырех маргаров вполне достаточно, – взволновался Ренхо. – Пять – это уже слишком… Глинт, Птоз и Джеб могут подумать, что я покушаюсь на их наследственные права! Одарив Ренхо ледяной улыбкой, Нерис взглянула на Дарта. – Когда вы решите этот вопрос, ты можешь вернуться в шатер, Дважды Рожденный. Но не удивляйся, если я буду спать. Она величественно повернулась, колыхнув серебристыми перьями, и исчезла. – О женщины!.. – пробормотал Дарт. – Varium et mutabile semper femina![664] Но все-таки мы обожаем эти прекрасные цветы Мироздания… Мы молимся на них, а они ревнуют нас к друзьям и пиву. – Мы дарим им жизнь, а нашу они делают то сладкой, как плод ханифы, то горькой, как корень хрза, – поддержал его Ренхо. – Но, доблестный маргар, шира – не обычная женщина. Если б она избрала меня своим защитником и дарителем жизни… – Он облизнулся и разлил по кружкам медовый напиток. Впрочем, готовили его не из меда, а из сахаристой древесной смолки, напоминавшей цветом янтарь. – Ты молод, и у тебя все впереди, – ободрил его Дарт. – А пока… Что ты там толковал про Глинта, Птоза и Джеба? И об их наследственных правах? Но этот вопрос так и остался невыясненным – Ренхо хотелось послушать про великую битву между даннитами и тьяни, про сражение на берегу и в речных водах, про пылающие суда, блеск секир, полет копий, пролитую кровь – и, конечно, про подвиги доблестного маргара. Дарт принялся рассказывать, черпая вдохновение в новых и новых кувшинах, и не заметил, как их окружила толпа стражей границы и мореходов. Они ловили каждое его слово, взирали с восторгом на шпагу и кинжал, а в наиболее волнующих местах стучали палками о наплечники. Под этот дробный стук он и уснул, не завершив рассказа, и, не в пример другим ночам, сладко проспал до самого красного времени. А когда проснулся, рядом уже стояли кувшины и громоздились на подносах плоды. Пиршество тянулось все три цикла с редкими перерывами, чтобы отбить атаки Нерис, и под конец, когда баржа плыла в вечерних лиловых сумерках по озерным водам, Дарту уже начало казаться, что моллюски в пряном соусе оживают и шевелятся в его животе, что мясные плоды блеют, как бараны, а сладкие ягоды норовят проскользнуть мимо губ и попадают то в глаз, то в ухо. Медовый же напиток в последнем кувшине определенно горчил, и, отведав его, Дарт погрузился в скорое беспамятство. В себя он пришел на мягком ложе в темнице с тремя стенами. Существовал ли естественный повод к этой внезапной сонливости? Или тут расстарался Ренхо, сын почтенного Оити?.. Второе представлялось Дарту более реальным. Сон его, даже глубокий и долгий, обычно был чуток; он просыпался от прикосновений и теней, скользнувших по лицу, от подозрительных звуков и запахов. Конечно, пребывая в трезвости… Однако в любом варианте не мог он дремать, когда его сгружали с корабля и волокли по коридорам в эту келью! Никак не мог! А если мог – то, спрашивается, куда глядела Нерис? Куда?! Оберегать задремавшего рыцаря – приятнейший долг благородной дамы… А долг есть долг, тысяча чертей! Даже если он заснул на палубе, сраженный медом, то пробудиться полагалось не в темнице, а в ее постели… или поблизости от нее… во всяком случае, не у дурацкого люка, забитого пробкой! Бросив хмурый взгляд на деревянную затычку и желоб под ней, он в сотый раз попробовал представить тварь, что лазала в эту дыру. Потом плюнул, лег на древесные шкуры и принялся размышлять о женском коварстве и неблагодарности.* * *
Послышался протяжный скрип, и закрывавший отверстие щит немного отъехал в сторону. Повернув голову, Дарт уставился на него с такой надеждой, будто хотел пробуравить насквозь. Алый цвет джелфейра уже сменялся золотистым, а легкость в членах подсказывала, что близится условный полдень. В щель просунулась голова стража – не в шлеме из раковины, а в походившем на берет уборе. Берет был серым, и над ним трепетало одно перо – выходит, не простой воин, сержант. – Эй, маргар! Ты спишь? Никакой почтительности, отметил Дарт и, скрипнув для усиления эффекта зубами, отозвался: – Маргар проснулся и жаждет крови! Голова исчезла, в коридоре зашептались, застучали палками, потом снова раздался голос сержанта: – Старейшины ждут тебя, маргар! Выходи! Просить вторично не пришлось – птицей взлетев по желобу, Дарт протиснулся в щель. Почетный эскорт, ожидавший его, состоял из десяти серых беретов под командой оперенного сержанта. Туники у них тоже оказались серыми, и вооружение было другим, чем у людей Ренхо, – лишь костяные кинжалы на перевязях да короткие толстые палки, обтянутые кожей. И глядели они на доблестного маргара совсем не так, как пограничники, – без всяких восторгов, а даже скорее с оттенком пренебрежения. – Шевелись! – Палка сержанта ткнула его пониже спины. Дарт двинул оскорбителя под дых и, когда тот согнулся, цепляясь за стену, вырвал палку и опустил ее на сержантский загривок. Стражи проворно отскочили, взяв их в полукольцо; в движениях их чувствовались немалая сноровка и опыт коридорных драк. Затем трое, поигрывая палками, шагнули к Дарту, и тот уже начал прикидывать, кого ошеломит в висок, а кому своротит челюсть и выбьет колено. Но сержант, покачиваясь на нетвердых ногах, вдруг прохрипел: – Не бить, черви безмозглые! Бить не велено, чтоб вас криб сожрал! Ни Айдом, ни почтенным Оити! Серые береты замерли – видно, с дисциплиной у них был порядок. Дарт поддержал сержанта, обхватив за талию, сунул ему палку и усмехнулся: – Значит, бить не велено? Всего лишь? – Он обвел охранников грозным взглядом и неожиданно рявкнул: – Как стоите, потомки тухлого яйца? Приседать и кланяться! Кланяться и приседать! Почет Дважды Рожденному маргару, защитнику просветленной ширы из Трехградья! Да приседайте пониже и помните: шира глазом моргнет, и я спущу вас в озеро к мохнатым жабам! – Маргар… – зашелестело в коридоре, – настоящий маргар… истинный, неподдельный… Стражи присели, грохнули палками о деревянный пол и торопливо выстроились в две шеренги. Сержант, отдышавшись, встал впереди, и Дарт, похлопав его по плечу, распорядился: – Тебе приседать не надо. Ты, мон петит, уже и кланялся, и приседал. Когда процессия тронулась – не с неприличной поспешностью, а четко печатая шаг, – Дарт дернул сержанта за тунику. – Что-то здесь неприветливы к гостям, почтенный. Люди Ренхо были повежливей… С чего бы, а? – Они – из порубежной стражи, а мы – из городской, – буркнул сержант. – Их служба в лесах, и на маргаров они глядят раз в сотню циклов. Ну а мы-то нагляделись… Нам от них одни хлопоты… – Он мрачно потер рубец на шее и замолчал. «Выходит, Глинт, Птоз и Джеб – не слишком популярные фигуры, – мелькнуло у Дарта в голове. – А почему? Надо бы познакомиться, а заодно и выяснить кое-какие нюансы…» Он до сих пор не ведал ни своих маргарских функций, ни даже смысла этого термина. На миг перед ним мелькнула жаркая пасть, когти, огромные клыки, глаза, пылающие, как расплавленный янтарь… Нерис сказала: они – умные и осторожные, быстрые и смертоносные… Но что это значит применительно к человеку? Коридор, по которому его вели, петлял налево и направо, был широк, просторен, но выглядел удивительно – треугольного сечения, без потолка, с каменными стенами, сходившимися вверху под острым углом. Пол, однако, оказался деревянным, настланным из плоских стволов харири, и под ним ощущалась гулкая пустота – возможно, там тянулся желоб, подходивший к камере. И не только к той, куда сажали подозрительных маргаров – по дороге здесь и там открывались ниши с круглыми отверстиями, арки и проходы, ведущие к другим камерам и залам. Большей частью пустым, но одно помещение, вытянутое, как гигантская труба, было завалено огромными орехами – теми, какими торговали тири, но с расписанной сложным узором скорлупой. Кладбище? – подумал Дарт, невольно перекрестившись и замедлив шаг, но странный склеп уже исчез за поворотом коридора. Бросая по сторонам любопытные взгляды, он пришел к мнению, что этот лабиринт, все эти залы, кельи и тоннели не предназначены для двуногих существ, которые перемещаются вертикально. Часть из них являла собой тетраэдры или поваленные набок треугольные призмы, в других пол пересекали желоба, а кое-где он словно бугрился, выдавливая вверх из каменных недр цилиндры и полусферы с разнообразными вмятинами. Возможно, они служили Темным мебелью? Лабораторными столами? Подставками неведомых приборов? Креслами для отдыха? Затем помещения стали иными, явно приспособленными для людей, – с ровным деревянным полом, с коврами из меховой древесной коры, с изящными жирандолями на стенах, в которых светились пучки лишайника, со столами и табуретами на резных ножках и неким подобием открытых шкафов – их полки были завалены свитками и кипами материала, явно предназначенного для письма. Лоб Дарта пересекли морщины. Что он видел? Книгохранилище? Общедоступную библиотеку? Или канцелярию с рескриптами местной власти? Они свернули в очередной тоннель и очутились в помещении с широким входным проемом, через который открывался чарующий вид на озеро. Яркий солнечный свет, а не сияние лишайников заливал комнату; просторная и почти пустая, она выходила к террасе, где шелестели деревья и что-то журчало и плескало, словно фонтан или миниатюрный водопад. Потолок был невысоким, сводчатым, и на уровне поднятой руки его обегал каменный фриз из переплетенных кругов, овалов и волнистых линий. В торце, слева от проема, высилась странная конструкция – нечто вроде решетчатого шкафа с кожаными стаканами, в которых размещались свитки. Справа находился низкий, изогнутый полумесяцем стол с аккуратно разложенным снаряжением Дарта. Над его перламутровой столешницей вспыхивали и гасли крохотные радуги, и в их сиянии оружие, шлем и развернутый во всю длину скафандр казались предметами неуместными и даже нелепыми. У стола, расположившись прямо на меховых коврах, сидели и полулежали четверо: одноглазый старец с обширной плешью и венчиком седых волос, тощий монсеньор в годах, важный, как сенешаль королевского замка, бравый мужчина помоложе с мрачным решительным лицом и рослая полногрудая дама в синей тунике, перепоясанной ремнями, и с рубцом над бровью. Она показалась Дарту настоящей амазонкой лет тридцати пяти, но что-то в ее глазах и манерах намекало на более солидный возраст. Пятой в собрании была Нерис, сидевшая чуть поодаль, на невысоком помосте, застеленном циновками, – видимо, на почетном месте. Подойдя к столу, Дарт демонстративно повернулся к ней спиной, взял оружейный пояс, лежавший поверх скафандра, и затянул на талии. Привычная тяжесть шпаги успокоила его; он даже слегка согнул колени и поклонился в знак приветствия. – Шустрый! – произнес старик, насмешливо прищурив глаз. – Повадка и впрямь как у маргара – первым делом хватает свои колючие игрушки. – Дважды Рожденный – великий маргар, посланный нам Элейхо, – раздалось с циновки, где сидела Нерис. – Клянусь Предвечным! Таких маргаров в Лиловых Долинах никогда не видели! Она хотела добавить что-то еще, но мрачный с сомнением хмыкнул, а важный господин, похожий на сенешаля, некстати повел рукой, отпуская охрану. Амазонка, оглядев Дарта с ног до головы, поковыряла в ухе и усмехнулась. – На вид он в самом деле ничего, чтоб мне подавиться жабьим яйцом! Но так ли хорош, как говорит просветленная шира? – Она откинулась назад, колыхнув внушительной грудью, и добавила: – Велик мужчина или мал, познается в синий период. Женщиной и только женщиной! – Это можно проверить, моя госпожа, – с изящным поклоном молвил Дарт под возмущенное шипение Нерис. – Хоть в синий период, хоть в желтый или зеленый. Сидя в темнице, я так соскучился по дамскому обществу! Мрачный снова хмыкнул, на сей раз – одобрительно, а сенешаль, коснувшись висевшего на шее джелфейра, произнес: – Ты не в темнице сидел, Дважды Рожденный, а отдыхал в священных покоях, куда наведываюсь и я, дабы пообщаться с Предвечным Элейхо. Надеюсь, ты оценил их тишину и уединение. А теперь, коль ты соскучился по обществу, мы потолкуем о разных вещах, не забывая… гмм… о том уединенном месте, которое ты назвал темницей. Из дальнейших речей сенешаля выяснилось, что сам он – старейший Оити, отец лейтенанта Ренхо, и что за столом сидят другие старейшие – доблестные Аланна и Айд, а также почтенный шир-до Нарата. Он, по словам Нерис, считался хранителем дерева туи и драгоценных зерен, но звание «шир-до», что значило на рами «предок ширы», являлось новостью. Был ли он предком конкретной ширы или носил всего лишь титул, какой присваивают магам и жрецам? Ответа на сей вопрос у Дарта пока что не имелось. С остальными было проще: угрюмый Айд числился в воеводах, начальствовал над городской стражей, молодцами при палках и серых беретах, а дородная амазонка Аланна тоже занимала капитанский пост, командуя воинами, которые стерегли границы. Судя по шраму и солдатской непринужденности манер, она была вполне на месте. Запомнив имена кавалеров и благородной дамы и перед каждым склонив голову, Дарт сел, соображая, что подобрался странный комитет по встрече. Наверняка в Лиловых Долинах имелись и другие старейшие, но половина присутствовавших здесь была военачальниками, а это наводило на раздумья. Видно, разговор предполагался серьезный и деловой. Оити, собрав на лбу морщины, промолвил: – Ты был защитником просветленной ширы и спас ее от многих бед, свершив при том немало подвигов. Мы благодарны тебе, Дважды Рожденный. – Отчего же был? – не согласился Дарт. – Я и сейчас ее защитник, во все времена, а особенно – в синее. Самое важное, как утверждает прекрасная дама. – Он поклонился Аланне, затем впервые бросил взгляд на просветленную ширу, отметив, что щеки ее зарумянились. – Пустая маргарская похвальба, чтоб меня черви сгрызли! – Амазонка, хлопнув по колену, всем корпусом развернулась к Оити. – Что до подвигов и бед, то хорошо бы послушать об этом из уст просветленной ширы. Ты с ней беседовал, почтенный, ты и хранитель бхо, а нам не выпало такого счастья. – Она подтолкнула локтем начальника стражи, и тот, кивнув, выдавил нечто среднее между хмыканьем и хрипом. Видимо, Айд был человеком неразговорчивым. Переглянувшись с Наратой и будто испросив его согласия, Оити важно приосанился и пробормотал: – Ну что ж, разумная просьба! Речи маргара – одно, а слово ширы – совсем другое, этому слову и доверия больше… ширы, как известно, не лгут. Затем последовал кивок одноглазому шир-до, и тот, слегка приподнявшись, произнес: – Говори, дочь моя. Поведай нашим воинам о том, что было рассказано мне и почтенному Оити. И пусть – во имя Предвечного! – твое свидетельство будет правдивым! Дарт мог поклясться, что в этот миг Нарата подмигнул – то ли ему, то ли просветленной шире, то ли шкафу и свиткам в дальнем конце комнаты. Это его не слишком удивило. Он уже сообразил, что четверка старейших Лиловых Долин олицетворяет три ветви власти, гражданскую, военную и духовную, с присущими им пируэтами, которые исполнялись столь же точно, как па в марлизонском балете. Почтенный Оити держался с сановной важностью, военачальники были резки или немногословны, но, разумеется, исполнены решимости; а что до Нараты, то он, как и положено адептам потусторонних сил, шаманам и жрецам, был, вероятно, лукавей сатаны. Слушая речь своей маленькой ширы, Дарт все больше склонялся к мнению, что и ее Предвечный не обделил лукавством. Ни слова лжи, одна лишь правда, зато не в жалком рубище, а в пышных одеяниях – вернее, в рыцарских доспехах, сиявших златом и червленных кровью. Кровь в ее рассказе лилась потоком, но все совершенные подвиги были вполне достоверны: и поединок с червями, и одоление маргара, и битва на острове волосатых, и смерть вождя тиан со всем его чешуйчатым отродьем, равно как и другое побоище, в котором Дважды Рожденный чуть не победил – и победил бы непременно, если бы у Кордоо, сына двадцати отцов, ум оказался столь же долог, как его хвост и рыжая шерсть на загривке. Сага об этом великом сражении вышла особенно удачной; бой на рухнувших тентах, гибель тианских секироносцев, схватка с метателями дротиков, тела врагов, поверженных ударом шпаги, атака галер, ливень огня, пылающие даннитские плоты – все излагалось с большим пафосом и чувством, нежели сам Дарт способен был передать в историях, поведанных воинам Ренхо. Конечно, Нерис не забыла о посланном Предвечным сне, о сотне ран, полученных маргаром, и о его исцелении, а также о его клинках, дисперсоре, одежде и удивительном искусстве выходить живым из всяких передряг. В этом месте Нарата многозначительно поднял палец и промолвил: – Удачлив! Очень удачлив, клянусь своим глазом, выбитым в схватке с тьяни! А что такое маргар без удачи? Незрелый плод, пустой орех и дым без очага… Трое старейших согласно кивнули. Амазонка почесала живот и выразилась определенней: – Без удачи маргар – не маргар, а куча жабьего помета. Брюхо с пьяным пойлом да жирная задница! Но этот, кажется, не таков… Этот, если верить шире, подойдет. Ты как считаешь, Айд? Начальник стражи буркнул что-то неразборчивое, но одобрительное; видно, подвиги Дважды Рожденного его впечатлили. – Подойдет – для чего? – полюбопытствовал Дарт. – Чтоб снова засадить в темницу? В благодарность за спасение ширы? – Твой договор с ней завершен – ты выполнил его, доставив просветленную в Лиловые Долины, – сказал Нарата, оглаживая плешь. – Теперь мы предлагаем тебе нечто иное, на самых выгодных условиях: двадцать зерен бхо – твои, и шира проверит, чтоб зерна попались стоящие, не какие-нибудь носильщики, копатели или сны-наяву. Что выберешь, то и будет твоим. – А если я откажусь? – Случается, маргары буйствуют, – заметил Оити, – и тогда их держат в уединенном тихом месте вроде священных покоев, где ты провел минувший цикл. Нам показалось, что тебе не вредно в них отдохнуть… – Он уставился на Дарта холодным взглядом и закончил: – Отдохнуть до этой беседы, а не после. «Нигде не уговаривают так убедительно, как в Бастилии», – подумал Дарт. Бастилия была еще одним осколком прошлой жизни, вдруг всплывшим из забвения – мрачная серая цитадель, гораздо более страшная, чем лабиринты Темных. Правда, помнилось ему, что камеры там были не треугольными, а квадратными. Он почесал горбинку носа, взглянул с укором на Нерис и признался: – Ваши доводы убедительны, мсье. Значит, двадцать зерен бхо, проверенных руками ширы… Щедрое предложение, просто великолепное! Бьен! Я его оценил, и я уже почти согласен. Хотелось бы лишь поподробней узнать о ваших планах – не из пустого любопытства, монсеньоры, а от того, что планы связаны со мной, а значит, с нашим соглашением. Как человек чести, я не могу заключить договор, который не в силах исполнить. – Это разумно, – согласился Оити. – Ну, к делу… Доблестная Аланна пояснит тебе наши намерения. Речь амазонки была энергичной и краткой; в ней многократно упоминались тухлые яйца, жабьи потроха, слизь червей, а также помет различных неизвестных Дарту животных. Но главное он уловил. В общем и целом план не отличался от стратегической доктрины покойного Рууна: объединиться с даннитами и рами с Жемчужной Отмели, Прочного Камня и других поселений и двинуть в предгорья, к дыре, откуда били молнии, – а там и джолты подойдут, да не одни, а с клеймсами да керагитами. И будет у дыры так много смелых и свирепых воинов, что не пробиться к ней бесхвостым жабам! Ну а коль попробуют – драться и стоять насмерть. Примитивная стратегия, решил Дарт, не подходящая для битв с таким противником, как тьяни. В этом мире они являлись самой воинственной расой, и, помня об участи Кордоо и его флотилии, Дарт не сомневался, что вставшие на их пути будут стерты в порошок. «Случалось такое во время прошлых балата? – мелькнула мысль. – И если случалось, какой урок отсюда извлекли?» Вроде бы никакого. Весть о разгроме даннитов, полученная от деревьев туи, повергла старейших в краткий шок, однако план кампании почти не изменился. Ждали отряды из поселений рами, ждали известий от джолтов, а до того, как подсказала стратегическая мысль, решили выслать арьергард – двести-триста воинов из пограничной стражи. Им полагалось встать у дыры, обнести ее бревнами и камнями и дожидаться подхода главных сил. С этим отрядом и собирались отправить Дарта, но вот зачем и для чего, он все еще не понимал. Возможно, командиром? От этого бы он не отказался, хотя затея, на его взгляд, была смертоубийственной – тьяни могли добраться до пограничников раньше, чем войско из Долин, и в этом случае их не спасли бы ни камни, ни бревна. Впрочем, сей тактический просчет Дарта не тревожил – встретиться бы с Големом, а там… Там будет видно. Тысяча чертей! Был бы Голем под руками, и он не допустит побоища! Аланна смолкла, и четверо старейших вопросительно уставились на Дарта. – Ну? – прервал Оити затянувшееся молчание. – Я согласен, – отозвался Дарт. – Но нам, похоже, предстоит тяжелая кампания – атаки и обходы, кровь и пот, стычки среди лесов и гор… Что еще, мон дьен? Распоротые животы и переломанные кости… Серьезные дела! А потому хочу спросить, искусны ли ваши воины? Что они умеют, кроме как стучать палками о наплечники? И на что способны воеводы? Сонное зелье они подсыпают ловко, это я уже заметил. Оити и бровью не повел. – Что тебе до воинов, Дважды Рожденный? Это заботы не твои, а доблестной Аланны… Тебя доставят к хранилищу Детей Элейхо, где и начнется твоя работа. Ее и исполняй! – Значит, работа… – пробормотал Дарт. – Какая? Старейшие в недоумении переглянулись, потом Аланна рявкнула: – Жабье молоко! Ты что же, издеваешься над нами? – И не думал, прекрасная госпожа. Я только интересуюсь: какая работа? Шир-до поскреб темя, закатил единственный глаз и сообщил коллегам: – Этот маргар – обстоятельный парень, не то что наши недоумки! Он намекает, что наниматели – то есть мы, старейшие Долин, – обязаны высказать вслух свои пожелания. Вслух, друзья мои! Дабы стало ясно, чего мы ждем и за что собираемся платить. – Именно это я имел в виду, почтеннейший, – заметил Дарт. – Спасибо тебе! Ты выразил мою мысль с изяществом, недоступным бедному маргару. – С охотой приму твою благодарность и выскажу надежду, что мы с тобой еще увидимся. – Взгляд Нараты скользил вдоль обегающего комнату фриза, будто ему не хотелось смотреть собеседнику в лицо. – Так вот, сынок: тебя приведут к дыре, и ты в нее полезешь. Понял? За зернами Детей Элейхо. – Только и всего? – Только и всего. Если не считать огненных бичей и сеток, что режут и кромсают тело, тумана, вдохнув который выплевываешь кишки, дождя, что прожигает кожу, сторожевых бхо и прочих радостей. Ну, как обходиться с ними, не мне тебя учить. На то ты и маргар! Cтремительный и смертоносный… – Значит, бичи и сети, туман, дождь и прочие радости? – отозвался Дарт. Потом кивнул головой и буркнул: – Ну что ж, Париж стоит мессы! Он не был ни удивлен, ни потрясен – так и так пришлось бы лезть в дыру, и хорошо, что интересы нанимателей – этих, и других, с Анхаба, – совпали столь удачно. В самом деле, это было везением, ибо ему не придется бродить в горах в поисках нужного места, а кроме того, его предупредили о ловушках – теперь он знает о них и, вероятно, сумеет разузнать побольше. Удача, несомненная удача! И все же он испытывал такое чувство, словно его подставили. Словно женщина, с которой он делил постель и пищу, спасавшая его и им спасенная, – словно она вдруг обманула, предала, и повод к этому обману был постыдным – выгода. Или стремление к власти, славе и почету, что было столь же низким, поскольку достигалось ценой предательства. Неприятное чувство, но – увы! – знакомое… Дарт повернулся и посмотрел на Нерис. Она опустила глаза.Глава 13
Терраса рядом с комнатой, в которой совещались старейшие, была широка и пустынна. С одной стороны вздымался склон каменистого холма, в котором через равные промежутки зияли обрамленные арками отверстия; с другой, за двойным рядом деревьев, синело озеро. У входов, ведущих в подземный лабиринт, рос кустарник с большими голубоватыми цветами, а кое-где, звеня и журча, струился со склона водопад и, оборачиваясь ручьем, пересекал террасу. Над ручьями горбатились деревянные мостики, очень узкие и без перил, но стражи, сопровождавшие Дарта, под ноги не глядели – видимо, в силу привычки. Процессия двигалась неторопливо: первой – Нерис, шагавшая в гордом одиночестве, за ней – Нарата с гостем, а в арьергарде – троица серых беретов, тащивших скафандр и небольшой, обтянутый кожей барабан. Эти стражи скорее всего не стерегли и не охраняли, а являлись почетным эскортом, придававшим шествию необходимую пышность. Но ради кого? Кому предназначался сей почет? Достойному Нарате, просветленной шире или Дважды Рожденному маргару? Впрочем, соображения престижа Дарта не волновали, и размышлял он совсем о другом. Скажем, о Нерис; история с ней завершалась, что было, в сущности, неплохо – ведь всякое чувство, самая жаркая страсть, имеет конец, и вся проблема в том, когда и как эта страсть умирает, вместе ли с человеком через тридцать-сорок лет или в иные моменты, назначенные судьбой. Анхабы, почти бессмертные в понятиях землян, могли считаться иллюстрацией подобных мыслей: их долгая жизнь полнилась гибелью привязанности и любви, дружбы и сердечных обязательств. Отсюда следовал неоспоримый вывод, что и любовь Констанции – если уж она имела место – не будет вечной и не затянется до гробовой доски. Или все обстояло не так? Возможно, тридцать или сорок лет были в глазах Констанции столь ничтожным сроком, что думать о перемене чувств не приходилось? Срок и в самом деле невелик, но существу земной природы его хватило бы. «Вполне хватило бы, – подумал Дарт. – Тридцать лет счастья! Что еще нужно человеку?» Кроме этих пронизанных легкой грустью размышлений, ему хотелось бы остаться тет-а-тет с Наратой и поговорить о зернах бхо, о Детях Элейхо, о поджидавших в дыре опасностях и других практических моментах ремесла маргара. Ему казалось, что старик поделится с ним информацией и не будет слишком удивлен расспросам о вещах, которые полагается знать охотнику за древними сокровищами. Нарата был проницательным человеком и, вероятно, сделал собственные выводы из рассказов Нерис, а это значило, что в голове у него больше, чем на языке. Впрочем, какие б его ни терзали сомнения о принадлежности гостя к маргарам, вида он не показывал. Замедлив шаги, чтобы отстать от Нерис, Дарт повернулся к старцу и спросил: – Куда мы идем, почтенный? – В мое скромное жилище. – Огладив плешь, Нарата заметил: – Очень скромное, сынок, но удобное и просторное. Ты проведешь там цикл-другой, пока наша доблестная Аланна готовит воинов к походу. Надеюсь, ты не против? – Нет, сир. – Дарт поглядел на Нерис, которая с достоинством шествовала впереди. – Твое гостеприимство распространяется и на нее? – Само собой, раз я имею счастье быть ее отцом. И это, быть может, самая крупная из моих ошибок… – Нарата лукаво сощурился. – Зато в объятиях ее матери я приобрел полезный опыт и больше ни одной из женщин не даровал ни жизни, ни детей. И потому я жив, хотя и стар. Во всех Лиловых Долинах не сыщется десятка моих ровесников, ибо плоть мужская слаба, и то, что продляет в разумных пределах жизнь женщины, не слишком полезно для мужчины. Клянусь своим глазом, выжженным соком хрза! По губам Дарта скользнула усмешка. – Кажется, глаз тебе выбили в схватке с тьяни? Или я ослышался? – Сказать по правде, и то и другое не соответствует истине, – заговорщицким шепотом сообщил шир-до. – А истина выглядит гораздо хуже: глаз мне выцарапала шира… нет, не дочь, а мать, – добавил он, заметив, что гость косится на Нерис. – Я стар, а мать ее до сих пор молода, красива и привлекает мужчин, хотя ей немного от них радости – она слишком часто продляла жизнь и приносила детей… Ну, прости ее Предвечный! Я рад, что она прислала дочь, а сама осталась в Трехградье. Никогда не рискну там показаться! – Но почему же? Старец приподнял полу длинной туники, перешагнул через корень, а затем, бросив на Дарта задумчивый взгляд, сообщил: – Видишь ли, сын мой, у меня остался только один глаз. И я им очень дорожу! Терраса свернула в долину между двумя крутыми холмами и раздвоилась на пологий спуск и столь же пологий подъем. Путь, видимо, был известен Нерис; без колебаний она направилась к нижней террасе, под которой журчала полноводная речка, сбегавшая к озеру. Проходы в лабиринт тут попадались чаще, и над ними были растянуты цветные тенты с подвешенными к столбикам сандалиями, туниками, накидками, всевозможной посудой, фляжками, украшениями из перьев и раковин, коврами из древесной коры и огромными погребальными орехами. «Торговая улица», – понял Дарт, взирая на толпившихся у лавок жителей. Их оказалось несколько сот; большей частью рами, но попадались данниты, карлики-тири и еще какие-то существа, вполне гуманоидного обличья, рослые, с мощной грудью и вытянутыми ниже плеч ушами. Ушные мочки были подвижны, и он заметил, что кое-кто из длинноухих таскает там всякое добро – джелфейры, связки раковин, трубки из полых костей и даже фляги, свисавшие на ремешках. Страж с барабаном вышел вперед, грохнул палкой в туго натянутую кожу и закричал: – Дорогу просветленной шире из Трехградья! Дорогу почтенному Нарате! Дорогу маргару, защитнику ширы! «Вот и понятно, кто есть кто», – с ухмылкой подумал Дарт. Его помянули третьим – отличный показатель, если учесть, с какими важными персонами он свел знакомство. Теперь процессия удалялась от озера и двигалась вдоль лавок, торговых складов и кабачков, сквозь расступавшуюся толпу, сопровождаемая блеском любопытных глаз, негромким шепотком, поклонами и приседаниями. Дарт впервые видел столько людей сразу – не даннитов и не тьяни, а существ, подобных ему самому, – и это, словно арбалетный спусковой крючок, швырнуло в цель стрелу воспоминаний. На миг ему почудилось, что он в земном городе в каких-то далеких и неведомых краях, в городе, где не возводят стен и башен, не носят камзолов и шляп, но все остальное знакомо: есть улицы, лавки, харчевни, есть речка с мостом, что переброшен над чистыми водами, есть девушки с цветами в волосах, шумные стайки детей и подростков, есть женщины и мужчины, ремесленники и торговцы и даже стражник с барабаном… Но тут навстречу попалась компания даннитов, и наваждение рассеялось. Синеглазая девушка бросила ему цветок. Дарт коснулся губами лепестков, потом заложил за ухо упругий серебристый стебель. – Кажется, в Лиловых Долинах любят маргаров… – Женщинам нравятся те, кто рискует жизнью, – пояснил Нарата. – Говорят, что в старину, когда Дети Элейхо ушли, оставив множество хранилищ, маргаров развелось как песка на речных берегах. Даже у робких тири… Они искали хранилища, спускались вниз, сотнями гибли в балата, однако их становилось все больше и больше. – Вот как? – Именно. Женщины были к ним благосклонны, каждый оставлял потомство, а маргар – наследственное занятие. Так уж с древности повелось, сын мой. Ну а ты… «Сейчас он спросит, не был ли маргаром мой отец», – мелькнуло в голове у Дарта, и он, сделав вид, что не расслышал, склонился к старику и с чувством произнес: – Сердце мое трепещет, почтенный, когда говорят о древности. Но что в том странного? Что удивительного в том, что прошлое влечет меня, и я мечтаю встретить мудреца, в чьей памяти осталась хоть искра знаний о тех великих временах?.. О Детях Элейхо, которые сотворили мир и даровали его людям, о том, куда они ушли, о тайнах бхо, о минувших балата и о героях-маргарах… – Ты слишком молод и не знаешь, что в древности, самой глубокой древности, их так не называли, – с важным видом заметил шир-до. – У рами и Морских Племен, у клеймсов, тири, керагитов и всех остальных для них были свои имена, и только потом маргаров стали звать маргарами. – Разве? – Дарт навострил уши. – Поверь мне, сынок, под этим черепом хранится всякое… много всякого! – Нарата приосанился, похлопал лысое темя и вдруг хихикнул. – Может, твоя мечта исполнилась, и ты наткнулся на мудреца с той самой искрой знаний? Так вот, о маргарах… о хищниках-маргарах, вроде того, которого ты прикончил… Когда они явились к нам из диких мест, возник обычай: тот, кто ищет зерна бхо, рискует жизнью и добывает их из-под земли, должен убить маргара. Убьет, и зверь переселится в него, сделает храбрецом-искусником – быстрым, удачливым, осторожным, недосягаемым для ловушек… думаю, ты понимаешь… – Взгляд старика сверкнул и впился Дарту в лицо. – Ведь ты повстречался с маргаром! И ты его убил! Может быть, не первого? – Может быть. Холодный ветер коснулся лопаток Дарта, заставив вздрогнуть. Он стиснул зубы, вскинул голову и сжал эфес, будто с неба на него падал зверь с оскаленной пастью и глазами, подобными расплавленному янтарю. Видение было таким реальным, что мышцы непроизвольно напряглись. – Вижу, та встреча запомнилась тебе, – пробормотал Нарата. Толпа осталась позади. Они еще раз свернули – в маленькую уютную долинку, заросшую дынными деревьями в меховой коре; их мощные, выступающие из почвы корни омывал ручей с тянувшейся рядом узкой тропинкой. Нерис обернулась, и Дарт, не желая встречаться с ней взглядом, отвел глаза. Потом произнес: – Я слышал, что у вас есть три храбреца-искусника. Как их?.. Глинт, Птоз и Джеб?.. И что же? Каждый убил маргара? Шир-до скривился. – Только в сладких снах… Видишь ли, сынок, уже тысячи циклов никто не находит хранилища, и у маргаров не было случая поупражняться в своем ремесле. Они порядком измельчали… Как говорит наша доблестная Аланна, не храбрецы, а куча жабьего помета. Брюхо с пьяным пойлом да жирная задница! Нерис снова оглянулась. Заметив, что на лицо Дарта набежала тень, старик сказал, понизив голос до шепота: – Думаешь, что ты обманут? Злишься на нее? А зря! Деваться ей было некуда, сын мой. Сайан, ее спутник, погиб, а он был хорошим маргаром… Мог бы им стать – после нынешнего балата! Он справился со своим зверем… не в одиночку, как ты, но все же справился… Однако тьяни его убили – значит, пришлось заменить. – Польщен, что выбор пал на меня, – буркнул Дарт. – Мне, разумеется, хлопоты, зато вашим искусникам-храбрецам не придется трудиться и рисковать собой. Брови Нараты полезли вверх, из горла вырвались странные хриплые звуки – он смеялся. Потом в его ладони возникла ракушка джелфейра, и, поглядев на нее, старик сообщил: – Зеленое время… Как раз сейчас они трудятся. – Где? – Мы прошли то место. Белый тент в синюю полоску, а под ним – синий кувшин… заведение Кази… Там они и собираются. Жрут, пьют, хвастают и вспоминают заслуги предков. Дарт замер на половине шага. Заслуги предков! Это могло быть интересным! – Ты сказал, синий кувшин? Пожалуй, я вернусь, взгляну… Мон дьен! Разве у меня нетпредков? И разве мне нечем похвастать? Глаз Нараты широко раскрылся. Несколько мгновений он удивленно смотрел на Дарта, потом махнул рукой и вымолвил: – Верно говорят: половину жизни маргар свершает подвиги, а другую – хвалится ими… Иди, если хочешь! И пусть Элейхо спасет несчастного Кази! Четыре маргара многовато для его заведения. – Клянусь твоим глазом, выбитым широй, что волос с него не упадет! Конечно, если он не обнаглеет и не потребует платы. – Дарт хлопнул по бедру и сообщил: – У благородного человека карман всегда пустой. – О плате не беспокойся: наследственная привилегия Кази – кормить и поить маргаров. Очень почетный долг! И не безвыгодный, так как город за это снабжает его медом, рыбой и плодами. Это справедливо – маргары, знаешь ли, народ прожорливый… Дарт кивнул, сделал шаг назад, затем обернулся: – Как мне найти твое жилище, почтенный шир-до? – И об этом не стоит беспокоиться. Тебя проводят… или приведут… может быть, даже принесут. Всем в Лиловых Долинах известно, где живет старейший Нарата и кто у него в гостях. Он хитро прищурился и, подобрав полы туники, засеменил по тропинке вслед за стражами и Нерис.* * *
Харчевня с синим кувшином оказалась довольно вместительной: пространство под тентом, ниша или неглубокая пещера с низкими сводами плюс треугольного сечения коридор, уходивший куда-то в глубь холма. Из коридора – видимо, с кухни – тянуло соблазнительными запахами, под тентом, на циновках, расположились семь или восемь длинноухих, в одном углу пещеры, у каменного возвышения, уставленного кувшинами, хлопотал хозяин, а в другом сидели, скрестив ноги, три храбреца-искусника. Первый был тучен, второй – ростом не больше тири, зато вертляв и подвижен, а третий, великан с мощными мышцами, бугрившимися на плечах и шее, так зарос волосами, что походил на Вау, вождя каннибалов-островитян. Правда, трапезовали маргары не мясом путников, а мясными плодами, запеченными в листьях, и запивали их из двух объемистых кувшинов. Дарт подошел к компании и опустился между тучным и вертлявым. Ножны шпаги заскрежетали по каменному полу, заставив откликнуться хозяина: он что-то пробурчал, согнул колени и притащил большую миску со съестным. Его лицо могло принимать лишь два выражения – унылое и еще более унылое, что, однако, не сказалось на аппетите Дарта. Миска, глубокая и вытянутая наподобие ладьи, была завалена печеными плодами, и при взгляде на них в животе у него засосало; вспомнилось, что ничего не ел с красного времени. – Тебя, что ль, шира приволокла? – пробасил волосатый гигант, глядя, как новый сотрапезник расправляется с плодами. – Его! – тут же откликнулся юркий малыш, похожий на карлика-тири. – Его, Птоз, чтоб мне уснуть под деревом смерти! Болтали, фря, длинный и тощий, как корабельное весло… Такой и есть. Видать, фря, некормленый! – Может, Джеб, он не от того тощ, что не кормлен, – медленно, с расстановкой, протянул тучный. – Может, брат, здесь другая причина. Может, он с широй лег. Может, она его замучила. Ширы, они такие… ляжешь, потом не встанешь. Дарт прожевал кусок. – Ты прав, приятель, шира замучила. На ногах стою, однако качает. Все трое ухмыльнулись, потом тучный – видимо, Глинт – подвинулся, давая гостю больше места, вытянул руку, взял плод из своей миски и проглотил его целиком. Вертлявый Джеб потер ладоши, привстал на коленях, снова сел и, будто невзначай, осведомился: – Выходит, брат, ты и полезешь в дыру? Один? – Выходит, один, – подтвердил Дарт, и троица испустила дружный вздох облегчения. Глинт принялся методично пожирать плоды, огромный Птоз запрокинул кувшин над бездонной глоткой, а Джеб пробормотал: – Один, спаси тебя Элейхо… Ну, ешь, пей и надейся на Предвечного – глядишь, фря, не перемелет в жабий корм… Он протянул Дарту второй кувшин. Медовый напиток был покрепче, чем на барже у Ренхо, – должно быть, по особому маргарскому заказу. Птоз грохнул кувшином об пол и рявкнул: – Еще! Кази, чтоб тебя криб сожрал, тащи еще! И поживее! Лицо хозяина сделалось совсем унылым, однако новая емкость возникла быстро, как по волшебству. Длинноухие, сидевшие под тентом, зашептались, корча гримасы и неодобрительно посматривая на компанию маргаров. – Ты, говорят, с чешуйчатыми бился? – невнятно произнес Глинт, работая челюстями. – Говорят, кровища ручьем текла? Говорят, хвостатых пожгли и никакой подмоги от них не будет? Правда или вранье? – Как говорят, так все и было. – Оторвавшись от кувшина, Дарт поставил его рядом, под правый бок. – Тьяни перекололи даннитов, пожгли плоты и двинулись вверх по реке. Немалое войско! И драка у дыры затеется немалая… В общем, все, как обычно. – Ну не скажи, – возразил юркий Джеб. – Последнее балата… когда ж, фря, оно было?.. во времена наших прадедов или пораньше?.. Так вот, случилось оно в далеких краях, за океаном, у керагитов. И обошлось без драк. – А что же тьяни? – А ничего. Молнии, брат, не били, земля не тряслась, не то что в этот раз. Дед мой, Тага, говорил, что не случается молний и трясения земли, ежели вскрыть дыру осторожно. Молнии, фря, бывают от камнепада и затопления или там от пожарищ… Так в старину искали – жгли в подходящем месте лес, и где заблестят молнии, там, значит, и надо копать… А последнюю дырку нашли случайно, в Потоке Орбрасс… Слышал про него? Город это керагитский… Вот под самым нижним ярусом и нашли. Дырка небольшая, и керагиты ее очистили по-тихому – даже, фря, с Трехградьем не поделились. Однако маргаров сгинуло восемь рыл. – Девять, – прогудел великан Птоз. – Девятый – Криба, предок мой. Ногу, братья, ему бичом откромсало, вот и истек кровью. – Может, истек, а может, нет, – ухмыльнулся Глинт. – Может, его там вовсе не было. – Был! – Сжав огромный кулак, Птоз рубанул им воздух. – Был, корень хрза тебе в глотку! А сын его, мой прадед, бросил керагитов и перебрался в Лиловые Долины! И каждому о том известно! – Был там Криба, и с этим никто не спорит. – Одарив толстяка суровым взглядом, Дарт потянулся к миске. – А чешуйчатых, значит, не было? Не поспели? Джеб кивнул. – Зато теперь поспеют, брат! Еще как поспеют! Немалое войско, говоришь? Ну, фря!.. – Он присосался к кувшину, отхлебнул, вытер губы полой туники и добавил: – Представь, залез ты в дыру и – хвала Элейхо! – уцелел. Вылез, а у дыры – ни хвостатых, ни бесхвостых, ни ушастых! Все лежат топталками вверх, а кругом одни чешуйчатые да трехглазые… И что ты, брат, станешь делать? Дарт счел последний вопрос риторическим, но поинтересовался: – Ушастые – кто такие? – Джолты, – пробасил великан. – Не попадались прежде? Вон, погляди! – Птоз швырнул печеный плод в длинноухих, но промахнулся. В ответ полетела рыбья кость, угодившая Дарту в затылок. Он сделал вид, что ничего не случилось, отодвинул опустевшую миску, погладил живот и сообщил: – Много хак-капа – хорошо! – Ты это, фря, о чем? Дарт скосил глаза на миску, напоминавшую ладью. – Хак-капа – плавающее мясо. Тебе, Джеб, приходилось слышать о криби? Здоровые такие, волосатые, живут за рекой и жрут зазевавшихся путников… Они для них – хак-капа! Внезапно Птоз побагровел, жилы на его шее вздулись, и великан с подозрением уставился на Дарта. – Что ты имеешь против крибов, брат? – Ничего. Ровным счетом ничего. Они мне даже симпатичны. Был у меня приятель-криби, большой разумник, вождь… Ну, вылитый ты! Птоз скрипнул зубами и начал приподниматься, но Глинт всей тушей навалился на него и загудел что-то успокоительное. Джеб зашептал Дарту в ухо: – Ты, фря, полегче… ты крибов, брат, не поминай… про Птоза и так болтают, будто мамаша его под крибом полежала… а он, как выпьет – бешеный!.. ну а мы… мы что ж… мы брата не оставим… только своих не бьем… и ты своих не задевай, не трогай… охота, фря, кого поддеть и кулаками помахать – так вон, расселись под навесом!.. – Я – человек мирный, но за друзей стою горой, – заметил Дарт и поднял кувшин. – Выпьем и не будем ссориться. Мы ведь маргары! Один за всех, и все – за одного! – Хорошо сказано, фря! Выпьем, только не мед, а кое-что покрепче! – Джеб пошарил под седалищем, извлек объемистую плоскую флягу и многозначительно округлил глаза: – Тьо, пойло хвостатых… Одолеем, братья? – Одолеем! – рыкнул Птоз, позабывший при виде фляги обо всех обидах. – Одолеем! Или мы не маргары? – Он повернулся к хозяину. – Кази, чтоб тебя пожрал туман Элейхо! Тащи кружки! Самые большие! Кружки оказались глиняными, приличного веса и объема. Дарт поднял свою и провозгласил: – За наше славное братство! – За дыры, в которых мы не сдохнем! – откликнулся Глинт. – За зерна бхо, которых не найдем! – поддержал Джеб. – И за отрезанную ногу Крибы, моего предка! – добавил Птоз. – За ногу – непременно, но в другой раз, – пообещал толстяк. Они выпили, и Дарт принялся расспрашивать Джеба, самого словоохотливого, о заповеданном предками – про ловушки и западни, ядовитый туман и струи жгучей жидкости, про бхо-охранников с длинными гибкими щупальцами, лучевые завесы и сети, про фантомы, маячившие у ложных проходов, что вели к тупикам, про смертоносные лазерные вертушки и колодцы, в которых бросало то вверх, то вниз, пока мозги не закипали в голове. Джеб ерзал, подпрыгивал, жмурился, отхлебывал из кружки и добросовестно вспоминал, а Глинт и Птоз то возражали, то подсказывали – видно, им льстило, что маргар из дальних краев не брезгует их наследственным опытом. Фляга была еще не допита, а Дарт уже выяснил, что Темные не собирались убивать ни умников, ни дураков, ни храбрецов, ни трусов – собственно, никого, за исключением упорных и настырных. Он с легкостью ранжировал все их ловушки по смертоносности, сообразив, что ближние ко входу играли роль превентивных защитных устройств, никак не угрожавших жизни. Над шахтой обычно курилось зловонное облако газа, очень тяжелого и простиравшегося вниз на сотню и более шагов; газ вызывал рвоту, но этот слой удавалось преодолеть, окутав лицо мокрым полотнищем. Затем шли миражи, направлявшие в колодцы-трясунчики и кольцевые замкнутые галереи, в щупальца бхо и под ливни жидкого субстрата, причинявшего страшную боль, но не оставляющего никаких следов на коже; справиться с этими сюрпризами было потрудней, однако путь назад всегда оставался открытым. Упрямцев же, не хотевших отступиться, ждали серьезные неприятности: огненный бич, резавший пальцы и конечности, а напоследок – коридор с сетями и вертушками. То, что оставалось после этих смельчаков, можно было сразу складывать в погребальные орехи. – …туман не стоит жабьей мочи, – бормотал захмелевший Джеб. – Жрать, конечно, нельзя – вывернет! – а лучше пить. С питья похрипишь, покашляешь – и что? А ничего… Дождик, тот хуже… дождик, фря, к глазам не допускай – гляделки выльет… Ну, на этот случай маска есть со всякими затычками… чтоб в задницу, значит, не попало или там в ноздрю… А когда будешь по веревке спускаться, держи наготове топорик, хваталки обрубать… Тага, дед мой, говорил, хваталки бывают или когтистые, или липучие… вцепятся, фря, не отдерешь… Эти советы Дарт уже слушал вполуха – туман и дождик его не страшили и лезть по веревке в шахту он не собирался. Добраться бы до Голема и активировать скафандр… Что для скафандра дожди и туманы? А ничего… Не больше, фря, чем всякие хваталки для дисперсоров ираза… Он размышлял о том, что молнии, сразившие в полете Марианну, предназначались не маргарам, не обитателям Диска, а гостям из космоса. Не случается молний и трясения земли, ежели вскрыть дыру осторожно, сказал Джеб. Молнии – последствие камнепада, затопления или пожарища… То есть природных катаклизмов, какие бывают даже в этом стабильном мире, катастроф, вскрывающих хранилище. Сильный удар, высокая температура, лучевое воздействие… Причиной может стать естественный процесс – обвалы в горах, лесные пожары – или вторжение космических гостей. Бесцеремонных гостей с мощным оружием вроде дисперсора… – …сожжет его, фря, – пробубнил Джеб, с пьяной жалостью посматривая на Дарта. – Ох, сожжет! Потому как будет один… Где ж это видано, чтоб одному идти? Только шира такое придумает… шира да наши старейшие, чтоб их червь водяной объел… Им-то что? Им ничего… Они в Долинах сидят, в безопасности… – Может, и не сожжет, – отозвался Глинт, колыхнув брюхом. – Может, перемелет. А может, вылезет жив-здоров. Было такое с Вакой. Правда, в старые времена. Может, врут, а может, удачливый был… – Врут! – рыкнул Птоз. – Много врут о старом времени – мол, и плоды были слаще, и реки текли в Срединный океан… Кто ж такому поверит? А никто! Истину Джеб сказал… плесни-ка мне, брат, еще… истину: где ж это видано, чтоб одному идти? Лица их разом помрачнели, и Дарт заметил, что все, даже неугомонный Джеб, стараются не смотреть на него. Маргары ходят группой, мелькнула мысль. Идет команда – чтоб помощь оказать, обойти ловушку, в которую попал товарищ, вынести покалеченного… И группы, должно быть, немалые, если в последнем балата, в Потоке Орбрасс, недосчитались восьмерых… А может, девятерых – если Птоз не соврал про своего безногого предка. Дарт улыбнулся, постаравшись, чтобы усмешка выглядела дружелюбной, а не презрительной. – Значит, поодиночке не ходят? Ну так в чем вопрос? Пойдем вместе. Пусть нас всех и перемелет, тысяча чертей! Три пары глаз уставились на миски и кувшины. – Не-ет, – протянул Глинт, – такого, брат, не проси. Конечно, мы потомственные маргары… Конечно, не забыли славу предков… Конечно, поят нас и кормят в честь нее… Но сами мы… как бы сказать… – Слегка отяжелели, – закончил Джеб, хлопнув Глинта по отвислому животу. – Мы, фря, по дырам не лазали, как наши отцы и деды. Мы без бхо проживем, а кто не проживет, того и бери в напарники. Старейшего Оити или сынка его Ренхо… Ты, брат, пойми и не держи обиды… У каждого, брат, должно быть в мире свое место, и наше место – здесь, а не в дыре. – Я понимаю и не обижаюсь, – ответил Дарт, протягивая кружку. Джеб наполнил ее, разлил остальным и потряс пустой флягой. Обиды в самом деле были неуместны. Он не нуждался в этих людях, сосавших, как пиявки, славу предков, и не испытывал к ним ни презрения, ни жалости. Если он и жалел о чем, так о словах, что вырвались и растеклись сотрясением воздуха среди объедков и пустых кувшинов. Один – за всех, и все – за одного! Ему не помнилось, когда и где впервые прозвучал такой девиз, но это не меняло сути: этот девиз был священным свидетельством дружбы, пережившей столетия, дарованной ему и внезапно приоткрывшейся частицей памяти. Здесь, среди пещерных стен и запахов пищи, витавших в воздухе, он был неуместен, и поминать святой девиз граничило со святотатством. Таким же, как сравнивать друзей, любивших его и давно смешавшихся с прахом земным, с троицей подвыпивших маргаров. Чувство безмерного одиночества вдруг охватило Дарта, заставив усомниться, так ли уж щедр преподнесенный анхабами дар. Жизнь, конечно, великое благо, но время – великий враг! Время отделило его от живых и мертвых, похитило воспоминания и сделало чужим повсюду – и на Анхабе, и на этом планетоиде, и в других мирах, на Эйзо и Лугуте, Растезиане и Конхоруме. Возможно, и на Земле, если верить Джаннаху… А коли так, много ли счастья сулит ему вторая жизнь? Но тут он улыбнулся, вспомнив о Констанции, и отогнал мрачные мысли. Зеленое время кончалось, тяжесть заметно росла, и поднимавшийся с озера туман медленно вползал в долину, окутывал лиловой мглой террасы, клубился над речными водами и над мостами. Под тентом стало многолюднее; теперь, кроме ушастых, там восседал важный рами с двумя карликами-торговцами и веселилась компания девиц и молодых парней, мореходов или рыбаков, судя по долетавшим от них шуточкам. Парни уговаривали девушек прогуляться к кораблю и обещали каждой столько жизни, сколько обитает жаб под гладью озера и всех его притоков. Даннитский напиток туманил мысли и порождал приятную истому в членах. Лица Дартовых сотрапезников покраснели, речь сделалась невнятной, однако других свидетельств недуга, о коем предупреждал Руун, не замечалось. Видно, тьо не вредил маргарам – то ли в силу регулярной тренировки, то ли из-за крепкой конституции, унаследованной вместе с привилегиями от отцов и дедов. Джеб поднял кружку и повернулся к Дарту. – Выпьем, брат! Может, фря, ты не вылезешь из той дыры и пьешь в последний раз… И если такое случится, пусть Элейхо будет к тебе благосклонен! Пусть сгоришь, но быстро! Пусть перемелет, но с головы, а не с ног – чтоб, значит, недолго мучиться! – П-пусть! – поддержал Глинт и поднял кружку, но тут Птоз, нахмурившись, прогудел: – А вот Крибу, предку моему, ногу откромсало! И это нужно помянуть! Криба – отдельно и ногу – отдельно! – Тут хватит ровно на два поминовения, – сказал Дарт, покачивая кружкой. – Что помянем сначала, Криба или ногу? – Криба! И пить будут все! – Птоз обвел тяжелым взглядом рыбаков, важного рами с его компаньонами и уставился на длинноухих. – Все, я сказал! Кази, тощая задница, неси кувшины! Но джолты не собирались пить. Один из них – широкоплечий, коренастый, в зеленом кильте, подпоясанном ремнем, – поднялся и сделал странный жест: развернул уши, оттопырил их и снова скатал трубочкой. Смысл этих телодвижений был непонятен Дарту, но шея Птоза мгновенно побагровела, Глинт насупился, а Джеб подскочил, лязгнув зубами и стиснув кулаки. – Ты! – Птоз, вцепившись правой рукой в кружку, пальцем левой ткнул в длинноухого. – Ты что? Не хочешь помянуть Криба? Криба, который был моим почтенным предком? Коренастый джолт пробормотал несколько слов. Он говорил на рами, однако резкий скрипучий голос и непривычный акцент сделали реплику туманной. Но главное Дарт уловил: длинноухий прошелся по всем вонючим крибам, предкам Птоза, не забыв о волосатой нечисти, одарившей жизнью его мать. Были еще какие-то добавления, наверняка изящные, но непонятные нюансы, от коих в глазах Глинта и Джеба вспыхнул боевой огонь, а Птоз налился кровью и судорожно выдохнул: – Ну, сейчас ты выпьешь, отродье ушастое! Всех моих предков помянешь, клянусь Элейхо! Так напьешься, что уши обвиснут! Гигант размахнулся и метнул кружку. Она просвистела в воздухе пушечным ядром, пробудив у Дарта смутные и неприятные воспоминания; затем раздался треск, и по лицу коренастого потекло вино, смешанное с кровью. Джолты взревели; рыбаки со своими подружками бросились прочь, а следом – важный рами, тащивший своих компаньонов, будто детишек. Кази, хозяин, прыгал у возвышения с кувшинами, заламывал руки и причитал: – Во имя Предвечного, доблестные маргары!.. Ради ваших почтенных предков!.. И ради моих детей!.. Мир, доблестные, мир! Клянусь, я… Джеб швырнул в него блюдо, Кази пискнул и скорчился за кувшинами, а три маргара ринулись навстречу джолтам, столкнувшись с противником на пороге пещеры. Столбы, державшие навес, с грохотом рухнули, тент накрыл толпу бойцов, звучные удары и проклятия смешались с топотом, треском бьющейся посуды и раздираемых одежд, затем снаружи, на террасе, послышались вопли прохожих и отдаленный барабанный бой. Схватка перешла в положение лежа, тент осел и начал дергаться туда-сюда, словно под ним шевелилась груда огромных жуков, не поделивших лакомой добычи; его бело-синяя поверхность то опадала, то выпирала волнами вверх, обтягивая чье-то темя, зад или кулак, и на ней стали проступать бурые пятна – может, кровь, а может, жирный соус. Взирая на эту подковерную битву, Дарт с неодобрением хмурил брови. Какая-то мысль рождалась и билась в его голове, но, так и не оформившись до конца, заснула, убаюканная винными парами. Он потер нос, поглядел, как трепыхаются под тентом драчуны, пробормотал: «Что за болваны, право!» – и поднялся, слегка покачиваясь. Причины скверной репутации маргаров стали теперь понятными. Барабанный бой сделался ближе, и два десятка серых беретов ворвались с террасы. Палки их заработали, не разбирая правых и виноватых, под тентом взвыли, и шевеление пошло на убыль, хотя в самой середине кто-то еще дергался и хрипел – то ли Птоз добивал коренастого, то ли наоборот. Откуда-то появились веревки, и стражи принялись вытаскивать драчунов, вязать запястья к шее и нанизывать на канат, попутно пересчитывая ребра палками. Но с Птозом, отбивавшимся руками и ногами, этот номер не прошел, и стражники, насев на великана впятером, свалили его наземь и закатали в тент. Как показалось Дарту, вся операция прошла с похвальной быстротой и несомненной ловкостью. Он попытался разбудить дремлющую мысль и чуть не ухватил ее за хвост, однако ему помешали: в пещеру шагнул сержант в оперенном берете – не тот, что провожал его утром, а другой, постарше и помрачней. Небрежно присев перед Дартом, страж, поигрывая палкой, направился к Кази. – Из-за чего сцепились в этот раз? Не поделили женщин? Или жратвы и медов не хватило? Не отвечая, хозяин икнул и стал подниматься, потирая грудь, куда попало брошенное Джебом блюдо. Утвердившись на ногах, он снова икнул и с чувством произнес: – Вот бурдюки бездонные! Чтоб им второй жизни лишиться! Чтоб их сожгли и запечатали прах в погребальных орехах! И чтоб орехи те не украсили узорами, а обваляли в нечистотах и бросили в Глотающий Рот! – Кази перевел дыхание, поднял вверх руки и завыл: – О, мой навес! Мои столбы! Моя посуда! Мой… Сержант ухватил его за плечо и встряхнул. – Что скулишь, Кази? Все убытки – за счет города! А я спрашиваю: из-за чего сцепились с джолтами? – Дело чести, страж, – Дарт покачнулся, но с важным видом выступил вперед, отодвинув хозяина. – Джолты не выпили за Криба и оскорбили достойных маргаров словом и жестом. – Дело чести, говоришь? Ну, маргар за маргара всегда заступник… – Ноздри сержанта затрепетали, раздулись, он принюхался и спросил: – А пили что? И кто такой этот Криб? – Криб – почтенный предок Птоза, – пояснил Дарт, все еще покачиваясь и стараясь словить ускользнувшую мысль. – А пили тьо. Хороший напиток, клянусь Христовыми ранами! Только слабоват. – Слабоват? – Рот сержанта приоткрылся. – Значит, слабоват, чтоб мне подавиться жабьим яйцом! А до жилища Нараты дойдешь? Или лучше тебя отнести? – Нести не надо. Надо проводить. С почетом и барабанным боем. – Ухватив сержанта за локоть, Дарт направился к выходу из пещеры. – Что-то земля колышется, – сообщил он по дороге. – Второе балата началось, а? – Еще первое не кончилось, – откликнулся страж. – Ну, ладно, ты его и закончишь. Полезешь в дыру, а дружки твои посидят в одном уютном месте… – Он тяжко вздохнул. – Клянусь Предвечным! Пользы от них, как от гнилых плодов, и вони ровно столько же… Отправить бы к жабам в озеро, было б спокойней! В голове у Дарта что-то щелкнуло, и ускользавшая мысль попалась наконец в капкан. Он замер, опираясь на руку стражника, и, с усилием шевеля губами, произнес: – Не надо к жабам… я… я их с собой возьму… в предгорья, к дыре… Разве они не маргары? Там их место, не здесь! Под ядовитым дождем и огненными бичами! Бьен? Страж тоже остановился и с удивлением поглядел на Дарта. – Огненные бичи и ядовитый дождь… Это хорошо! Это мне нравится, клянусь второй жизнью! Думаю, никто возражать не будет, ни доблестный Айд, ни почтенный Оити. – Он отступил назад и присел, почтительно склонившись. – А ты, мой господин, не только есть да пить горазд! И в голове твоей – не древесная труха! Коснувшись эфеса шпаги, Дарт приосанился и сделал шаг на тяжелых негнущихся ногах. Губы его зашевелились. – Я – маргар, солдат удачи… Настоящий маргар должен быть удачлив… Но не только… Фортуна слепа… Удачлив и хитроумен – так будет верней… Он говорил, мешая земные и анхабские слова, но стражник, придерживая его за локоть, кивал и уважительно хмыкал.Глава 14
Миновали два цикла. Дарт провел их в беседах с Наратой и долгих неспешных прогулках по городу. Беседы были полезным дополнением к рассказанному троицей маргаров; из них он узнавал о местных обычаях и верованиях, о жизни Лиловых Долин и других поселений, о том, как здесь воевали и торговали, как охраняли границы и добывали пищу, как путешествовали, правили и поклонялись богам. Все это могло пригодиться – пусть не в сей момент, не для того, чтоб отыскать ферал и завершить с успехом миссию, но в будущем, в период ожидания спасательного корабля. Ждать придется несколько месяцев, что Дарта не слишком беспокоило; он уже решил провести это время в Лиловых Долинах. Если, конечно, не сгинет в дыре, не превратится в фарш в какой-нибудь вертушке и не сгорит под огненной сетью. Старый шир-до был с ним разговорчивей Нерис и ничего не скрывал; всякий вопрос являлся поводом к подробным точным объяснениям, и казалось, Нарату совсем не удивляет наивность гостя в тех или иных делах, от ремесла маргара до способов, какими сбраживали мед. Он, несомненно, обладал истинной мудростью и добродушным лукавством, и нрав его определялся соединением этих черт. Они вели к прагматизму, приправленному иронией, и к четким выводам относительно Дарта: неважно, откуда явился странный гость, а важно, что он умеет, достоин ли доверия и сможет ли исполнить заключенный уговор. Это была совсем иная позиция, чем у Нерис, откровенная и без недомолвок. Шира не верила ему до конца и, вероятно, считала истории о солнцах, пылающих в холодной тьме, о людях, живущих в небесных замках, и удивительных тварях, что служат им, фантазией или попыткой обмана. Для нее он стал маргаром, посланцем неведомого племени, обитающего в далеких краях – может быть, в недрах или на другой половине планетоида, столь же недосягаемой для населявших голубой круг, как самые дальние звезды. Его скафандр, его оружие, его боевое искусство значили больше слов и больше подаренной ей нежности; они говорили о том, что он – могущественный маргар, много удачливей погибшего Сайана и, значит, его надо использовать, перетянув на свою сторону, сделать союзником, а не соперником. Что же касается вопроса, как перетянуть, то он являлся праздным, ибо во всех мирах и во все времена женщины тянули канат одним-единственным и самым эффективным способом. Этого Дарт простить не мог и постарался не встречаться с широй, что было совсем нетрудно в лабиринте тоннелей и камер, служивших Нарате и храмом, и домом, и хранилищем всяких редкостей. А в городе и того легче, так как Лиловые Долины тянулись на тридцать лье в любую сторону, и здесь, в покрытых почвой и засаженных деревьями холмах, жили тысяч двести – множество людей, но все же намного меньше, чем могли прокормить изобильные сады и полное рыбы озеро. Эта местность, так же как другие поселения, о коих говорил шир-до, напоминала Эдем; его обитатели не строили, не сеяли, не жали, но всем хватало изысканных яств, одежды и жилищ, а труд был легок и служил скорее развлечением. Понятия о твердой власти тут не имелось, и старейшие лишь разрешали споры, взимали торговый налог, а также следили за порядком и городским имуществом – сотней лодок и кораблей, мостами и запасами разного добра, включая оружие и общественных бхо, копателей да носильщиков. Бхо были ветхими, немногочисленными, износившимися за тысячи минувших циклов; носильщики – во всем подобны пауку, тащившему израненного Дарта, копатели походили на толстых змей или плоские длинные лепешки с пастью-щелью, способной перемолоть любые преграды, от дерева до гранитной скалы. Порядок в Лиловых Долинах поддерживали серые береты Айда, которых было человек пятьсот. Их функции не отличались сложностью: утихомиривать буянов, перепивших меда; следить, чтоб не подгнили опоры мостов и причалов, чтоб все отходы сбрасывались жабам в озеро и чтобы дороги не зарастали травой; сопровождать старейших и важных гостей, а также собирать налог, который платили либо товарами, либо ценившимися повсюду раковинами-джелфейрами. Стражи границ, подчиненные доблестной Аланне, были вдвое многочисленнее городских и больше напоминали войско; они несли патрульную службу в лесах и на речном побережье, уничтожали хищников, травили водяных червей, сопровождали торговые караваны и стерегли опасные места – рощи деревьев смерти и лужи Глотающий Рот. По словам Нараты, к стражам приходила молодежь, крепкие воинственные парни, искавшие приключений; они бродили по лесам несколько сотен циклов, плавали вдоль берегов, учились владеть копьем и палицей и покидали свой отряд, чтобы вернуться домой, осесть там и подарить какой-нибудь красотке жизнь. Таких резервистов в Долинах было тысячи три; их и собирались отправить к дыре, вместе со стражами границ и подкреплением из Прочного Камня, Жемчужной Отмели и других городов. Дарт эту идею счел разумной – хоть не армия, а все-таки обученные люди, не плетельщики корзин, как в уничтоженном даннитском воинстве. Может, и напугают чешуйчатых… Рассказы старца подтвердили его гипотезу о том, что каждый город – или, вернее, обитаемая зона – лежит на месте, где когда-то находились поселения Темных. Хотя отчетливых воспоминаний о посещенных им мирах не сохранилось, Дарт твердо знал, что ни он сам, ни другие солдаты удачи не находили древних развалин, зданий, пещер или подземных лабиринтов. Если бы такое чудо попало на мнемонические ленты Ищущих, то, разумеется, Джаннах и остальные балары снабдили бы разведчиков информацией. Однако чего нет, того нет… И удивляться этому не приходилось: пара миллионолетий – достаточный срок, чтобы подвижки планетной коры, дрейф континентов, землетрясения и вулканы стерли пещерные города, засыпали их пеплом и затопили лавой. Но тут, в искусственном мире Диска, все сохранилось – и лабиринты, проплавленные в прочном камне, и холмы, скрывающие их, и удивительные растения, и водопады, прыгающие с террасы на террасу. Все сохранилось, слегка измененное и приспособленное к быту рами или даннитов, джолтов или тиан… Правда, о поселениях чешуйчатых или, к примеру, рдандеров, Нарата ничего не знал – первые были враждебны, вторые слишком далеки. Но на даннитском континенте располагалось семь обитаемых зон, известных старому шир-до, а у рами их было двенадцать, считая с Трехградьем, и все они, разделенные сотнями и тысячами лье, не уступали величиной Долинам. Не так уж много для столь огромного материка, но, вероятно, Темные любили жить просторно. Еще им нравились леса, холмы, озера, реки, и каждая из зон располагалась в живописном месте, у скал и водопадов, как Прочный Камень, или среди струившихся с невысоких гор ручьев, как Радужные Воды, или на берегу полярного океана, как Морские Пещеры джолтов. Впрочем, последняя зона была исключением, единственным на всей территории, что примыкала к океану и кольцу прибрежных гор. Там не росли плодовые деревья, не цвел кустарник, не роились птероиды, и местность оставалось дикой, не привлекавшей взгляд ничем, кроме восхитительных пейзажей. Дарту казалось, что в этом скрыт намек – не приближаться к океану с его затворами и шлюзами, грозившими опасностью. Никто туда и не совался – кроме мореходов-джолтов, плававших вдоль океанских берегов. Прочие обитатели Диска странствовали по рекам. Других дорог тут не было – ни в лесах, ни в горах, ни в степных районах, пустынных и безлюдных, так как ни пахотой, ни скотоводством здесь не занимались. Путешествия, однако, были нечастыми, связанными с каким-то событием или вестью, переданной через деревья туи, – ведь в каждой зоне имелось все необходимое для жизни и регулярный товарообмен отсутствовал. Если не считать карликов-тири и джолтов, снедаемых тягой к странствиям, все остальные нуждались в серьезном поводе, чтобы отправиться в дорогу. Чаще всего этим поводом становилось паломничество в Трехградье, где было много просветленных шир и находился храм Предвечного; реже – любопытство, переселение в другую местность или поход за редкостным товаром, предметом роскоши, какого не найти в родных краях. Еще реже – война. Впрочем, Темные сделали все, чтоб исключить подобную возможность. Будучи расой высокоразвитой, они, конечно, были знакомы с концепциями насилия, агрессии и обороны; у них существовало оружие – достаточно мощное, чтоб поразить космический корабль; и, при всем своем миролюбивом нраве, они умели защищаться – значит, могли предвидеть споры и схватки между наследниками и озаботиться тем, чтобы свести подобные коллизии к минимуму. Дарт полагал, что это объясняет и удаленность поселений друг от друга, и их немногочисленность, и естественные преграды в виде рек чудовищной ширины и специфической фауны и флоры на каждом континенте – все это разделяло, оберегало, предохраняло от межрасовых конфликтов. Но главным фактором являлось, несомненно, изобилие – леса, дарившие плоды, кору и древесину, чистые воды и теплый климат, просторные жилища в самых красивых, удобных для жизни местах. Если у всех есть все, то что же делить?.. – думал Дарт. Нечего. Кроме, разумеется, зерен. Зерна бхо и хранилища Темных были – и оставались – единственным поводом для конфликтов, и это подтверждали не только легенды, не только рассказы шир-до, но сам язык: в рами и фунги не имелось слова «война» – как, очевидно, и в других бытовавших на Диске наречиях. Зато был термин «балата», и обозначал он то же самое.* * *
На исходе второго цикла Дарт, с Брокатом на коленях, сидел в круглом внутреннем дворике, служившем шир-до хранилищем древностей и местом для трансцендентных размышлений. Жилище Нараты располагалось в самом верхнем ярусе, и в нем сотворили не только подземные камеры и коридоры, но также подобные залы без крыш – может быть, кровлю разрушили копатели-бхо еще в незапамятные времена, а может, так и было задумано таинственным архитектором, построившим лабиринт. Так ли, иначе, но дворик выглядел уютно – сорок шагов в диаметре, со стенами, задрапированными синим плющом, с колодцем для дождевой воды и двумя арками, пристально глядевшими друг на друга. Одну из них закрывала циновка из тростника, и в глубине, в просторной нише, хранились свитки и шкатулки со всякой всячиной, а главное – ларчик с драгоценными зернами бхо; другая вела в помещение, откуда по многочисленным ходам можно было попасть на тихую безлюдную террасу, пройти к спальным кельям, кладовым и большой светлой комнате с треугольными дырами-окнами – в ней шир-до трапезовал и принимал гостей, нуждавшихся в его совете. Посередине дворика, перед колодцем, росло дерево туи; ветви его расходились, как спицы зонта, и длинные багряные листья ниспадали с них, затеняя солнечный свет и придавая коже стоявшего рядом Нараты чуть заметный розоватый оттенок. У корней дерева не было груды жертвенных камешков и раковин, зато торчал из земли большой бугристый валун размером в половину спального ложа. – Бхо-кормилец, – произнес Нарата, осторожно касаясь валуна ладонью. – Очень старый бхо, унаследованный мной от отца, а им – от далеких предков. Старый, но еще живой… Может быть, я покажу, что он умеет, и ты возьмешь себе такой же. В счет доли, что причитается тебе. – Раньше, чем взять, надо найти, – заметил Дарт, опуская веки. После дня, проведенного под жарким солнцем в городе, на мостах, причалах и террасах, где толпился народ, было приятно сидеть здесь в уединении и прохладе, слушать шелест листвы, негромкий голос шир-до и мерное посапывание лежавшего на коленях зверька. – Найдешь! – откликнулся старик. – Найдешь. Кормилец редко попадается, очень редко, но ты удачлив. – Найду, а ты пробудишь бхо к жизни? – Нет, это женское искусство, сын мой, и оно мне недоступно. Я многое знаю и умею, но не все могу, ибо я шир-до, а не шира. Я мужчина, и уже немолод, хотя не собираюсь обрести покой под деревом смерти… Но кое в чем я уступаю даже обычной женщине. – Например? Старик сощурился в усмешке. – Например, я не способен произвести на свет дитя. Ты, мне кажется, тоже? – Мон дьен! – Дарт открыл глаза и всплеснул руками. – Конечно, нет! Я даже не смог этому поспособствовать! – О том мне известно. Шира, моя дочь, говорила… Но ты старался, очень старался, и даровал ей пусть не жизнь, так немного счастья. – Надеюсь, – сухо промолвил Дарт, гладя дремлющего на коленях Броката, последнюю связь между ним и Нерис. – Но счастье, сир, – нежный цветок: дунешь сильнее, и лепестки облетают… Теперь твоей дочери придется искать другого принца своей мечты. – Он вскинул взгляд на старика и сменил тему: – Хочу спросить, почтенный шир-до. Красное и желтое время я провел в городе и увидел, что людей в нем много, но город еще обширней. Есть незанятые жилища, есть деревья, роняющие плоды, есть пустые причалы, и на озере только шесть рыбачьих лодок… Странно! Нарата огладил лысину. – Кажется, ты удивлен? Но почему? В Лиловых Долинах столько людей, сколько могут прокормить деревья и озеро. Не больше и не меньше. – Это и удивительно! – Вытащив кинжал, Дарт провел линию на земле. – Первое: женщины рами, рожая детей, продляют свою жизнь и молодость. Второе: сохранить молодость и красоту – мечта всех женщин, и каждый, кто утверждает иное, или глупец, или лжец. Третье: значит, женщины рами рожают, рожают и рожают… – Решительно перечеркнув нарисованные линии, он подвел итог: – Раны Христовы! Да если не одеть их силой в пояса невинности, они начнут ловить мужчин на улицах, и через два поколения город переполнится людьми! – А! Вот ты о чем! – Поигрывая джелфейром, свисавшим с морщинистой шеи, Нарата принялся мерить шагами дворик от одной арки до другой. – Я не понял, о каких поясах ты говоришь и почему в них надо одевать ни в чем не виноватых женщин, но это не столь уж важные подробности. В наших краях женщины любят цветы и ожерелья, в твоих – такие пояса, но всюду и везде мечтают быть красивыми и молодыми. И не торопятся в погребальный орех… В этом, сын мой, ты, конечно, прав. – Словно подтверждая сказанное, старик хлопнул ладонью по стволу туи и хитро прищурился на собеседника. – Ты знаешь, что молодые женщины, прежде не имевшие детей, могут зачать только в синее время? Дарт кивнул. – По милости Элейхо, это так. – Элейхо в том не виноват, сын мой, ибо мир наш сотворен не им самим, а его Детьми. И сотворен он так, что женщина может в первый раз зачать, когда ее тело тяжелеет, а с неба, покрытого тучами, льются дожди. Дожди, я думаю, ни при чем, а вот тяжесть… – Старик остановился, сорвал с дерева туи увядший лист и бросил на бугристую спину бхо. Лист исчез, словно его всосали невидимым ртом. – Так вот, женщина приносит первое дитя, и второе зачатие идет быстрей и легче. Много быстрей и легче! С конца зеленого времени до начала красного… Понимаешь? Дарт снова кивнул. Слова Нерис звучали в его в ушах: «У меня еще не было детей, ни одного! Как я могу понести в другое время, кроме синего? Я ведь не самка тьяни и не откладываю яиц!» «Интересно, – подумал он, – а как это бывает у самок тьяни?» – Женщин, родивших дважды, мы называем койну-таа, что значит «исполнившая долг». Для них всякое соитие с мужчиной ведет к тягости, причем в любое время, кроме желтого. Койну могут выносить еще десять или двадцать детей, но срок, пока зародыш новой жизни зреет в материнском чреве, не мал и составляет двести тридцать циклов. Все это время женщина не может дарить радость ни себе, ни своим мужчинам. А это значит… Религиозный запрет?.. или что-то другое?.. – мелькнуло у Дарта в голове. Он прочистил горло, и шир-до, прервав свою речь, повернулся к нему. – Ты что-то хотел спросить? – Да, монсеньор. Не касаться женщин, которые в тягости, – это обычай? Таковы законы в ваших краях? Единственный глаз старика широко раскрылся. Как он глядел… Неприятное чувство кольнуло Дарта – так смотрят на сумасшедшего. – Обычай? Законы? Хмм… Нет, сын мой, этого я бы не стал утверждать. Просто… хмм… сужение канала в… в одном важнейшем органе… – Он лукаво подмигнул. – Бывает на пятый-седьмой цикл после зачатия, и тут уж ничего не сделаешь! Ровным счетом ничего, к великому горю мужчин!.. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Дарт тоже подмигнул, демонстрируя полную солидарность. Ночные часы, проведенные с Нерис, были свидетельством тому, что секс для рами значит отнюдь не меньше, чем для людей Анхаба и Земли. Это вело к заблуждению; казалось, стоны страсти подтверждают, что их последствия точно такие, как на Земле, а если не такие, то очень и очень схожие. Глупая ошибка! В смысле физиологии рами не походили на землян и на анхабов, способных копировать земное тело, и кое о каких отличиях Дарт мог бы догадаться раньше – тут не ведали о месячном женском цикле, так же как о понятии невинности. Старик кривил губы, поглядывал на него с усмешкой. – Вот видишь, сын мой, все довольно просто… Женщины имеют право выбора: или принесешь двоих и будешь отворять врата в желтый период – столько, сколько захочется; или принесешь многих, но врата останутся замкнуты. Выбор между меньшим и большим числом потомков, между наслаждением и долгой жизнью… И надо признаться, жизнью безрадостной, ибо кому нужна женщина, что двести тридцать циклов пребывает в тягости и отворяет врата не ради мужчины и будущих своих детей, а лишь затем, чтобы сохранить молодость и красоту? – Он помолчал и добавил: – Есть, правда, и такие… Так регулируется численность, понял Дарт. Не законом, запретом или обычаем, а выбором своей судьбы – в тех рамках, какие определила природа. Или Ушедшие Во Тьму? Вполне возможно, этот механизм размножения был спроектирован ими; возможно, им удавалось изменять чужую плоть с тем же искусством, как анхабам – собственную… Такой вариант не исключался; Темные были древней мудрой расой и, несомненно, во многом превзошли анхабов. – Женщины делают правильный выбор, ибо счастье дороже молодости и красоты, – задумчиво произнес Нарата. – Конечно, я говорю о простых женщинах… Ширы – исключение… – А что ты можешь сказать о них? – Лишь то, что дар их редок и безмерно ценен. Шира рожает и рожает, чтобы продлить свою жизнь, и у одной или двух ее дочерей могут проявиться способности… а могут и не проявиться. – Он пристально уставился в землю и произнес: – Запомни, маргар, ширы соединяют нас с Предвечным, и потому им дозволено многое… и многое прощается… Дарт выдавил усмешку. – К примеру, выцарапанный глаз? Шир-до усмехнулся в ответ. – Если не отклоняться от истины, сын мой, с глазом случилась другая история. Когда вернешься, расскажу. – Если вернусь, – уточнил Дарт. Зверек на его коленях встрепенулся, что-то просвистел сквозь сон и царапнул палец острым коготком. Небо чуть потемнело; порыв ветра, пролетевшего наддвориком, всколыхнул занавес в нише хранилища и багряные листья туи. Дарту почудилось, что дерево что-то шепчет ему, но голос листвы был слишком тих и неразборчив. – Скажи, – он поднял взгляд на старика, – другие создания… те, кого называют роо… тоже делают выбор? Тот, о котором ты говорил, – между меньшим и большим числом потомков, между счастьем и долгой жизнью? Данниты, тири, тьяни? – Бывает по-разному, сын мой. Возможность выбора – уже большое счастье, и плохо, когда ее нет… – Нарата вздохнул. – Жизнь тири коротка, период размножения недолог, и женщины их приносят скудное потомство. У даннитов рождение самки – редкость, и потому самцам приходится ее делить. Живут они не меньше нас, но плод вызревает дольше, и если дитя родилось до срока, оно умирает или становится ущербным. У тьяни тоже нет выбора. Не всякое яйцо, отложенное самкой, оплодотворено, и яйца без зародышей – лишь пища для водяных червей… Но в этом нет беды. – Старик внезапно приободрился и привычным жестом огладил череп. – Нет беды, сын мой, ибо так сохраняется равновесие. А это – основа всего! Равновесие меж теми, кто ест, и тем, что их питает… Бхо и балата тоже часть такого равновесия. В балата льется кровь и гибнут люди, но после в мир приходят бхо, а значит, рождается больше детей. Конечно, не у всех – у тех, кто пролил кровь, понес убыток, но зато получил и выгоду. Дарт насторожился – кажется, еще одна тайна приоткрывалась перед ним. Пусть на первый взгляд бесполезная для Ищущих, но кто мог взвесить пользу неразгаданных секретов? И разве не сказал Джаннах, что Ищущим нужны не знания, а представление о мире Темных – как жили они, к чему стремились, куда ушли и по какой причине? Возможно, в словах Джаннаха скрывался намек, и в этом случае… «В этом случае, – подумал он, – ферал – не главная цель экспедиции, а повод, изобретенный для меня, дабы слуга не ощутил сомнения хозяев. Возможно, они не знали сами, что искать; возможно, информация о бхо была важней, чем образец ферала». – Не понимаю, – Дарт покачал головой, – не понимаю, сир. Я путешествовал на бхо, который плавает по рекам, я видел бхо-носильщиков и бхо-копателей, я знаю, есть такие бхо, что могут двигать корабли… Но бхо не заменяют ни отцов, ни матерей. Как связаны они с таинством рождения? – Все связано в этом мире, – заметил Нарата. – Будь терпелив, и я объясню. Увидишь! Он скрылся под аркой, ведущей к трапезной, и, возвратившись, принес блюдо со сладкими фруктами и пару чаш из половинок ореха; блюдо и чаши опустил на землю и начал перекладывать плоды на бугристый камень-бхо. Они медленно погружались, таяли, исчезали, как древесный лист, и цвет камня стал меняться – поверхность уже не выглядела темной, а отливала киноварью и двигалась, чуть заметно трепеща и колыхаясь, будто камень ожил или превратился в тугой бурдюк, наполненный вином. Нарата, поглаживая странное существо, закончил кормление и закатил глаз, словно что-то вспоминая, потом с уверенным видом ткнул в один из крайних бугров; подождал, пробормотал: «Да будет с нами милость Элейхо!» – и ткнул снова, посильнее. Дарт с любопытством приглядывался к манипуляциям старика. Они не походили на пробуждение зерен, и все же было нечто общее и в наблюдаемом действе, и в том, что творила Нерис, – какая-то особая торжественность, благоговение, флер сопричастности к высшим тайнам… Он глубоко вздохнул, когда оттенок камня начал меняться и на вершине, между бугров, запузырилась золотистая субстанция. Она поднималась, окруженная шапкой пены, и, видимо, сама была воздушной, влажновато поблескивавшей, ароматной. Зачерпнув эту массу, старик отпил, вытер губы и наполнил второй сосуд. – Отведай… Такого у Кази не подают! Пена оказалась холодной, кисловатой, совсем непохожей на сладкие фрукты, и будто сама проскальзывала в горло. Запах ее будил у Дарта воспоминания о первом снеге, выпавшем в горах и смешанном с неведомыми пряностями – возможно, с теми, что привозили из далеких стран для королевского стола. Он пил, жмурясь от наслаждения и слушая, как бормочет шир-до: «…древний кормилец, очень древний… годится лишь лакомства делать да удивлять маргаров… а пользы что?.. пользы как от разбитого горшка…» Опорожнив чашу, Дарт с одобрением кивнул и протянул ее Нарате. – Ты провидец, почтенный. Если мне повезет, я отыщу такой же бхо и заберу с собой – в счет обещанной мне доли. – Ты не прогадаешь, – старик бережно коснулся камня. – Мы называем этот бхо кормильцем, но на самом деле он – целитель. Не такой, как Цветок Жизни, а предназначенный творить бальзамы, пока сила его не иссякнет и бхо не одряхлеет. Одни из них продляют жизнь тири, другие способствуют тому, чтобы у даннитов рождалось больше самок и чтобы самки тьяни плодоносили обильнее. Есть и предохраняющий наших женщин: они приносят четырех детей, пьют бальзам – один раз в жизни – и теряют способность к зачатию. Конечно, если желают того… Но выбор становится шире, понимаешь? – Шире, – согласился Дарт. – Пожалуй, если найдется кормилец, я отдам его тебе. Ведь нынешний слишком стар и ты не можешь его заменить, не правда ли? Нарата вздохнул, направился к нише, скрытой циновкой, и приподнял ее. – Видишь этот ларец? Когда-то, в давние времена, он был наполнен… Сейчас в нем два десятка зерен – копатели, носильщики и бесполезный бхо, дарующий сны наяву… Не вещие сны, как посланные Элейхо, а те, в которых словно летишь над землей и видишь ее с высоты. Зачем он нам? – Старик снова вздохнул и добавил: – Тири, правда, очень ценят такие бхо… они, знаешь ли, любопытны… – А что ценят тьяни? Только кормильцев? – Нет. Тьяни – странные создания, не знающие радостей любви, ни гнева, ни печали, и даже боль они ощущают слабее, чем остальные роо. Они бесстрастны, не боятся смерти, но достаточно умны, чтоб сознавать свою ущербность… Я бы сказал, она их гнетет – хотя кто разбирается в чувствах тьяни? Они способны убивать и мучить без ненависти и с холодным сердцем… скорее всего даже не ведая, что творят… – Лицо Нараты помрачнело – должно быть, он думал сейчас о погибших даннитах и спутниках Нерис, которым не удалось добраться в Лиловые Долины. – Так вот, сын мой: есть бхо, преобразующее сущность и позволяющее стать на время зверем, или обитателем вод, или другим разумным существом, как бы превратиться в них и испытать их чувства. Сомневаюсь, понятны ли мои слова, но лучше мне не объяснить… Сам я никогда не видел такого чуда, но знаю: ради него тьяни готовы вырезать все население Долин. «Ментальный проектор, – подумал Дарт. – Что-то вроде анхабских устройств, считывающих воспоминания…» Он опустил глаза, прижался спиной к стене, вслушиваясь в хрипловатый голос старца, перечислявшего другие бхо – те, что могли летать и плавать, двигать плоты и корабли, приближать далекое, делать видимым малое, исцелять, наделять ощущением счастья и даже мыслить и говорить. Одни встречались чаще, другие – реже, а третьих не видели никогда, но вспоминали о них как о реальности, о существах, служивших Детям Элейхо и спрятанных до поры до времени в еще не найденных тайниках. Вопросы «для чего?» и «почему?» граничили со святотатством; такова была воля Ушедших, непостижимая для роо. Но раз тайники удавалось найти, значит, существовал какой-то смысл в поисках, и в объяснении Нараты звучал он так: когда нет зерен бхо, то можно обойтись без них, но коль они есть, то возникает желание обладать ими – сильное неодолимое желание, ибо в чем-то они делают роо счастливее. Эта причина являлась общей, хоть разные бхо обладали для населяющих Диск народов разной притягательностью. Когда старик закончил свой рассказ, небо потемнело, а тяжесть в членах, ставшая уже привычной, возвестила наступление вечера. Листья туи выглядели уже не багряными, а черными, старый бхо-кормилец распластался у древесных корней, словно готовясь прыгнуть в зев колодца, голос Нараты казался глуше, слова падали медленней, как падают первые редкие капли дождя, – видимо, шир-до устал. Брокат проснулся, вскарабкался Дарту на шею, но не за тем, чтобы поужинать, а чтобы пуститься в полет с возвышенного места. Сырой, напитанный влагой воздух ему не нравился; он пискнул, метнулся под арку и, трепеща крыльями, исчез в темноте. Старик проводил его взглядом. – Почти разумная тварь… А знаешь почему? Предки его были бхо, огромными летающими бхо, и понимали человеческую речь. Об этом уже не помнят, но я читал древние хроники… Дети Элейхо спрятали зерна, но слуг своих уничтожать не стали, ибо живое – даже живое наполовину – было для них священным. И бхо жили среди нас и умирали или приспосабливались к жизни – те из них, кто мог давать потомство. Тем или иным способом, и временами очень непонятным… Одни могли делиться, другие – разбрасывать семена и прорастать в земле, как это делают деревья… Дарт, пораженный, приподнялся. – И где эти бхо теперь? – Вокруг нас, и ты их видел, сын мой. Водяные черви, очистительный туман, деревья смерти и кое-что еще – туи, например, – ладонь Нараты коснулась древесного ствола. – Бхо, с которым можно говорить, которое передает твои слова другим деревьям, и многие их слышат – или как невнятный шепот, или вполне отчетливо. – Я тоже могу услышать? – спросил Дарт. – Или этому нужно учиться? – Нет. Надо помнить лишь об одном – не прикасаться к дереву вместе с другим существом. Не знаю, что делает туи… пробуждает память, соединяет разумы… не знаю! Но на больших расстояниях это безвредно, а на малых грозит бедой. Чаще тому, кто не привык говорить с туи. – Да, я слышал. Дочь твоя предупреждала. – Тогда ты знаешь все, что нужно, и можешь попытаться. – Отступив от дерева, Нарата шагнул к арке, ведущей к жилым комнатам. – Прости, но я утомился и должен прилечь. Вам, молодым, синее время дарит радость, а мне – сон, но сон тоже благодеяние Элейхо. Обычный, не вещий, хотя и в этих снах приходят мне странные мысли… Скажем, о том, что все мы, рами и Морское Племя, данниты и тьяни, рдандеры, тири и все остальные, – тоже бхо, сотворенные Детьми Элейхо по велению Предвечного… Забавно, не так ли? И еще забавней, что вскоре я умру, и мне откроется истина – во второй жизни, сын мой. Он исчез, оставив Дарта размышлять, почему его не назвали Дважды Рожденным – ни единого раза! Быть может, по той причине, что первая жизнь Нараты близилась к концу и он серьезно относился ко второй? Смерть и новое рождение… Могут ли эти события сочетаться – здесь, на Диске, без помощи анхабских реаниматоров? Похоже, старик был в этом уверен… Или все-таки шутил?.. Так и не решив этой проблемы, Дарт приблизился к дереву и вытянул руки. Знакомое сопротивление – слабое, почти неощутимое… Не с тем, чтобы оттолкнуть или предостеречь, а просто напомнить – сейчас случится чудо… Какое же на этот раз? Где он окажется? В таверне с друзьями, в королевских покоях, на шумной парижской улице или в горах, где прошло его детство? Кого увидит, с кем обменяется словом или ударом шпаги? Кто улыбнется ему? «Констанция, – подумал он с внезапной тоской, – Констанция!.. Глаза-фиалки, ямочки на щеках, рот, созданный для поцелуев, и локоны – темные, как зрелый плод каштана…» Его ладони коснулись гладкой коры, но, против ожидания, Констанция – ни та, земная, ни рожденная на Анхабе – ему не явилась. Он заметил, что стены дворика будто раздвинулись, что меняются запахи и звуки и темное небо стало еще темней. Не из-за туч, скрывавших солнце, – тучи остались в Лиловых Долинах вместе с мутно-серыми небесами, с деревом туи и камнем, дремавшим у его корней. Небо, которое видел Дарт, было глубоким, бархатисто-черным и полнилось звездами, а на востоке, за его спиной, висела ущербная луна. Ночь, топот копыт, скалы, застывшие у дороги, и соленый ветер, задувающий с моря…Глава 15
Он мчался в ночном сумраке, и трое друзей скакали рядом, будто призрачные тени, оседлавшие ветер. Дорога тянулась мимо утесов; их черные бесформенные громады казались сгустками тьмы, ведущими в ад вратами, украшенными блеском звездных диадем. Они неслись вперед, они спешили; волны, рокотавшие за скалами, и мерный топот копыт слагались походным маршем и торопили, торопили… Жизнь – смерть, мир – война, честь – позор… Вот дилемма, назначенная к решению. Вращалось колесо судьбы, грозя сокрушить владык и владычиц, и, чтобы замедлить поступь рока, его с друзьями бросили под тяжкий обод. Их жизни и шпаги, их верность и честь… Лица друзей были спокойны. Их имена не вспоминались Дарту, но в этом не было нужды; он слышал их голоса и, кроме имен, знал о них все. Силач с грубоватой физиономией отличался любовью к пышности и склонностью к хвастовству; черноглазому юноше мечталось о сане аббата, что, впрочем, не мешало ему волочиться за женщинами; самый старший, суровый мужчина с бледным лицом, был скрытен и неразговорчив. Такие разные, такие непохожие… Но верные, как фамильный клинок толедской стали. – Опасное предприятие, черт возьми! – заметил силач. – Каждый из нас рискует жизнью, и мне хотелось бы по крайней мере знать, во имя чего. – Должен признаться, что я с тобой согласен, – улыбнулся юноша. – Если наш поход свершается с благочестивой целью, мы попадем в божьи чертоги, в противном случае… – Он оборвал фразу и передернул плечами. – Сатана не дремлет, и очень не хотелось бы очутиться в его лапах! Старший мужчина повернул к черноглазому спокойное бледное лицо. – Я заменил бы слово «благочестивая» на «благородная», и в этом случае все будет ясно. Можем ли мы сомневаться, что наш друг, – он кивнул в сторону Дарта, – призвал нас для дела, грозящего уроном чести? Это было бы нелепо и оскорбительно! А раз так, к чему вопросы? Наступило молчание, затем Дарт услышал собственный голос: – Вы правы. Разве король отчитывается перед нами? Разумеется, нет! Он просто говорит: господа, в Гаскони или во Фландрии дерутся – так идите драться! И мы идем. Во имя чего? Мы даже не задумываемся над этим. – Наш друг прав, – поддержал бледный. – Мы идем умирать, куда нас посылают, без сожалений и лишних вопросов. Да и стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Подул ветер, всадники взмыли над дорогой, закружились, разлетелись… Но грусть расставания не коснулась Дарта; он знал, что их встреча – не последняя, что друзья вернутся и что они – каким-то странным мистическим образом – пребывают в собственной его душе, а если не в ней, то где-то рядом, совсем поблизости. Он размышлял о другом, о драгоценном подарке, сделанном памятью, о словах, которые вырвались у него только что. Разве король отчитывается перед нами? Разумеется, нет! Он просто говорит: господа, в Гаскони или во Фландрии дерутся… Гасконь! Трепет листвы под ветром, налетевшим с горных пиков, каменистые кручи, дуб у обрыва – огромный, величественный, с черной морщинистой корой, синее небо и облако, похожее на птицу, парившую над неприступной вершиной… Гасконь, родина! Крохотная частичка воспоминаний, подаренная ему… Что же еще он сможет вспомнить? Он пожелал возвратиться в Гасконь, но налетели другие слова, названия-призраки, слившиеся не с первой, со второй его жизнью. Эйзо, Растезиан, Лугут, Буит-Занг, Конхорум, Йелл Оэк… Теперь они не были бестелесными; они наполнились смыслом и содержанием, звуками и ароматами, воем пустынных ветров, грохотом горных обвалов, пеной, вскипающей над водопадами, чувством стремительного полета над плоской серой равниной или парения в облаках, густых и белоснежных, скрывающих спрятанный под ними мир. Сосредоточившись, он пронизал облачные покровы. Внизу – ни земли, ни воды, а странная смесь того и другого; огромное болото, раскинувшееся от полюса до полюса под белым, будто мрамор, небом. Жидкая грязь, черные окна трясин, мутные желтые протоки, зелень островов, сплетенных буйной растительностью, гигантскими травами или водорослями, поднимающимися с болотистого дна… Кое-где – клочки настоящей суши: с останками древних скал – у полюсов, заросшие деревьями – у экватора… Нет городов, но есть поселения – хижины, крытые тростником, пристани, лодки и маленькие плоты; они мельтешат в протоках у деревень, словно муравьи вокруг муравейника. В лодках и на плотах – существа с голубовато-смуглой кожей, подобные людям, но невысокие, с тонкими хрупкими конечностями; в руках – остроги, на чреслах – скудная одежда, передники и юбочки из трав. Тири… Буит-Занг… Он не нашел там ничего. Легенды поглотило время, а все остальное – огромное болото. Новая картина: ярко-зеленые небеса, серые безбрежные пески, поля застывшей лавы, безжизненные впадины морей, соединенные извилистыми рубцами – руслами пересохших рек… Гарь и дым вулканов, едкий сернистый запах и постоянное колыхание почвы, словно под ногами не земля, а палуба судна, которое то поднимается, то опускается на мелкой зыби. Жизни нет, однако есть ее следы. Йелл Оэк… Там, под бывшим речным берегом, гравиметры Марианны обнаружили город, засыпанный пеплом и залитый лавой, а Голем его раскопал: дома-загоны без крыш, осколки глиняной утвари, груды костей и черепов, окаменевшие яйца и отпечатки каких-то предметов в застывшей лаве – возможно, металлических, но рассыпавшихся в прах. Черепа были с тремя глазницами, на костях рук и ног – по пять суставов, как выяснилось в ходе реконструкции, проделанной Марианной. В общем, бесполезные сведения, ибо этих трехглазых яйцекладущих никак нельзя было спутать с Ушедшими Во Тьму – слишком примитивная культура. А вот на тьяни они походили как родные братья. Другой мир, богатый и щедрый, подобный Земле и Анхабу. В меру воды и в меру суши; материки, океаны, моря, холмы и горные хребты, пышная щедрая растительность синих, серых, голубых оттенков. Животных мало, зато разнообразие древесных форм, выведенных с неподражаемым искусством: деревья плодоносящие и декоративные, деревья с корой, заменяющей мех или ткань, деревья с ровным прямым стволом и скудной кроной или, наоборот, приземистые, с очень длинными ветвями, похожие на шатры. Лианы – готовые канаты и веревки, синий бамбук – жерди на изгородь, мох – густой и мягкий ковер, светящийся лишайник – факел, а кроме того – корнеплоды и нежные фрукты, гроздья сочных ягод, тростник, истекающий сладким соком, орехи с мучнистой мякотью или полные меда и молока… На экваторе – степь, и в ней, на расстоянии трех-четырех лье друг от друга, растут деревья чудовищной толщины и высоты; у их корней – древесные дупла-пещеры со стенами и потолками, будто натертыми воском. Лугут… Чарующее лесное изобилие, птицы, звери, и ни единого живого существа из тех, что можно было бы счесть разумными… Однако Джаннах и другие балары считали, что совершилось важное открытие – возможно, найден материнский мир Ушедших. Правда, после трех-четырех экспедиций и проведенных иразами раскопок это мнение признали ошибочным. На Лугуте обитали одаренные разумом племена, к которым Темные явились из космических пространств; явились, облагородили их мир и, вероятно, жили в дружбе с ними не одно тысячелетие. Затем исчезли, взяв с собой всех местных обитателей. Куда? Зачем? Теперь эти вопросы не вставали – по крайней мере, первый из них. Еще вспоминался Дарту Конхорум, мертвый мир, глыба оплавленного камня, сожженного сверхновой. Труп, а не планета! Но у нее был спутник – полый, в нарушение всех законов космологии, и эта полость, располагавшаяся в пятидесяти лье от почерневших скал, имела форму правильного шара. Видимо, пустого, если судить по данным гравиметров, но главной загадкой была не эта зияющая на экранах пустота, а то, как проникали в подземное сооружение. Конечно, лучевой удар, оплавивший поверхность сателлита, закрыл наружные каналы, но в глубине, у самой сферы, им полагалось сохраниться. Однако Марианна ничего не обнаружила – ни отверстий в стенках шара, ни подходивших к ним тоннелей, ни рыхлой породы, изъятой при строительстве. Высадившись вместе с Големом, Дарт распорядился смонтировать стационарный дисперсор и пробить канал – такой, чтоб в нем разместились прожектора и видеодатчики. Затея эта кончилась печально: в тот момент, когда до сферы было рукой подать, перемычка лопнула, и из полости хлынул под сильным давлением газ. Дисперсор вместе со станиной разлетелся на куски, Дарт угодил под рой обломков, и хоть скафандр выдержал, ему сломало два ребра и руку и врезало по голове. Голем втащил его в корабль, так что на Анхаб он все-таки добрался, но не в пилотском кресле, а в саркофаге реаниматора и в самом скверном настроении… Хлынул дождь, пробился сквозь плотную крону туи, заставил его очнуться. Дарт отступил под защиту стен, вытер мокрое лицо ладонью и замер, всматриваясь в полумрак. Дерево темнело перед ним, шелестя, подрагивая и стряхивая дождевые капли; корни, ствол, ветки и веточки, усеянные листьями, – вроде бы простое дерево, а не источник волшебства. Но второе прикосновение к нему было еще поразительней первого. – Тысяча чертей! – пробормотал Дарт. – Чтоб мне попасть в погребальный орех! Чтоб меня, фря, объел водяной червь! Он был потрясен – не столько фактом вернувшихся воспоминаний, столько тем, что было ему возвращено. Казалось, их разговор со старцем был подслушан, и дерево вмешалось в диалог, желая намекнуть: слова Нараты – шутка или заблуждение. Рами, тири, тьяни и прочие аборигены – вовсе не искусственные существа, не бхо и не иразы, а дети матери-природы, подобные ему; их привезли сюда с разных планет, многие из которых он посетил за время космических странствий. Наверняка он побывал не всюду и знал не все, но дерево нашло и оживило подходящие картины, наполнив жизнью призраки воспоминаний. «И даже добавило к ним награду и философский комментарий, – подумалось ему. – Наградой было имя родины, а комментарием – речь его бледнолицего друга. Как там он сказал?..» «Мы идем умирать, куда нас посылают, без сожалений и лишних вопросов… Да и стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать?» Но с этим Дарт не мог согласиться. Он дорожил жизнью, его прагматический ум не принимал идею слепой нерассуждающей жертвенности, его врожденное любопытство не позволяло отказаться от вопросов. Он считал себя рыцарем и, несомненно, был им, однако склонялся к тем вариантам, когда героическое вознаграждалось, а будущий подвиг был оценен и вписан в условия договора. Так, как с Джаннахом: вторая жизнь – в обмен на верную службу, ферал – за возвращение на родину. И так, как с Наратой. Что бы старик ни думал о нем, Дарт исполнял договор и в той его части, которая не обсуждалась и не высказывалась вслух, а была как бы предметом негласного соглашения между шир-до и пришельцем-маргаром: один спускается в дыру, другой дает информацию. В этом смысле двадцать зерен бхо, обещанных за помощь, являлись для Дарта скорей символической, чем реальной платой. Шелест крыльев заставил его обернуться. Брокат, маленький летун… Он опустился прямо в руки, как молчаливое напоминание о Нерис. Он даже пахнул, как Нерис, и на мгновение Дарт почувствовал, что хочет прикоснуться к ней. Когда они лежали рядом, сердца их были так близки… ближе, чем если бы Нерис была земной женщиной… ближе, чем сердце Констанции… Прогнав эту мысль, он погладил мягкую шерстку зверька. Бхо, ставший живым существом, если верить Нарате… И дерево туи – бхо, и этот бугристый камень, и очистительный туман, и даже водяные черви… Неудивительно, что старику привиделось, будто и сам он – бхо! Не такая уж странная мысль… Были времена, когда и ему, Дарту, казалось то же самое… Он невесело усмехнулся, подумав о тех временах. Забавная штука – память! Горести в ней хранятся дольше радостей, злое слово – прочнее слов любви, а более всего запоминаются сомнения… Сомнения, которые мучили его, когда он восстал из праха…* * *
Трокар, летающая лодка, падала из космической тьмы в теплые ласковые объятия планеты. Вверху – вернее, в том месте, которое мнилось Дарту верхом, – остался космический остров магов-реаниматоров, вернувших его к жизни; он все еще кружился в темных пространствах над трокаром и блистал огнями, затмевая сияние звезд. Там – все, что было известно Дарту о чистилище – или о рае? – куда послал его милосердный господь; там – бесконечные коридоры, кельи без окон, но светлые, с мягкой, будто слепленной из пены мебелью; там – большой прозрачный саркофаг, где он пробудился, где спал и бодрствовал среди стеклянных глаз, мерцавших огоньков и трубок, наполненных цветными жидкостями; там – машина, творившая звуки, образы и картины, чтобы научить его словам, множеству слов, которых не было ни в одном из земных языков; там – ангелы, подобные или отличные от людей, и их помощники-иразы, то ли живые, то ли, как он сам, ожившие мертвецы. Последняя мысль слишком тревожила Дарта, не покидая ни на миг. Кто он такой? Конечно, не бестелесная душа; даже тут, в небесном царстве, его наделили плотью со всеми ее отправлениями и желаниями. Плоть подсказывала, что он – человек, и он ощущал себя человеком, но это не значило ничего; причастность к роду людскому была обманчивой в горних высях, где облик жителей менялся, словно карнавальные маски, и где иразы-слуги могли оказаться больше похожими на людей, чем их изменчивые господа. Возможно, и сам он – такой же слуга? Искусственная плоть, искусственные воспоминания, смутные и зыбкие, будто отлетевший сон… Искусственный разум, который считает, что он – человек… Правда, Джаннах – Джаннах`одривелис»ахарана`балар – пытался разубедить его. Он не скрывал, что Дарту предстоит служение, но эта служба, по словам Джаннаха, есть служба воина и разведчика, почетная и трудная, связанная с риском, дальними странствиями среди звезд и поиском сокровищ. Каких, о том предстояло узнать в грядущие дни, а в настоящем Дарт усвоил, что труд его будет вознагражден и что аванс он уже получил – плоть, молодость и вторую жизнь. Ни риск, ни предстоящая служба его не пугали; сколько он помнил, служение и риск были для него привычным делом, благословенным троицей владык: земным, небесным и королевой удачей. Последнее было особенно важным, ибо, по утверждению Джаннаха, иразу не снискать милостей Фортуны – а если так, то он, конечно, не ираз. Впрочем, сомнения оставались, хотя он верил Джаннаху, находившемуся рядом с ним с самого момента пробуждения. Собственно, первое, что явилось Дарту, когда он очнулся в своем саркофаге, было знакомое лицо с остроконечной бородкой, властные темные глаза, алый камзол и аметистовый перстень на пальце. Увидев их, он вздрогнул. Кажется, этот человек и здесь, в чистилище, считался важной персоной! Память об этом лице преследовала Дарта в первой жизни, и, вероятно, вторая не станет исключением… Но все же при виде этих глаз он успокоился и решил, что, разумеется, в чертогах господа среди спасенных душ должен царить привычный порядок: есть высшие и низшие, есть пастыри и овцы, есть те, кто звонит в колокольчик, и те, кому положено склонять колени. На первых порах эта мысль его ободрила. Падение лодки замедлилось; теперь она неторопливо плыла под облаками, и сквозь прикрывавший ее прозрачный купол Дарт мог любоваться чарующим видом: сооружениями из хрусталя и серебра, парившими в воздухе, полной света небесной полусферой и зелеными холмами внизу, к которым ласкались морские волны. Море выглядело нешироким – возможно, не море, а пролив, и Дарт, попытавшись разглядеть далекий берег, вдруг увидел, как он, повинуясь невысказанному желанию, стремительно приближается и вырастает на куполе кабины. Очередное волшебство! Однако он не был испуган; он уже знал, что эта прозрачная субстанция способна приближать и отдалять точно так же, как зрительная труба. Имелись, само собой, и кое-какие отличия: в трубу необходимо заглянуть с того или другого конца, а купол и подобные ему полы и стены, перегородки и окна повиновались мысленным приказам. Удивительная, потрясающая магия! Тем не менее лицо Дарта было спокойным, и сидевший рядом Джаннах одобрительно кивнул. Трокар опустился ниже, медленно облетел вокруг хрустального замка, будто подвешенного со всеми своими башнями, балконами и галереями к серебряному выпуклому зеркалу; солнце отражалось в его поверхности, лучи дробились радугой в замковых стенах, и Дарт, не удержавшись в этот раз, восторженно вздохнул. Поистине чертоги господа, обитель ангелов! – Это мой дом, – произнес Джаннах. – Здесь вы будете жить. – Мои благодарности, сир. Ценю ваше гостеприимство, но я предпочел бы что-то менее великолепное и более основательное. – Дарт зажмурил глаза, ослепленный висевшими в воздухе радугами. – Вам неприятна высота? Или прозрачность стен? Или же слишком яркий свет? – Ни то, ни другое, ни третье. Я вырос в горах, монсеньор, и не боюсь высоты и света. Но вы говорили – там, наверху, – он поднял взгляд к уже исчезнувшей космической станции, – что мне придется провести здесь долгие годы… Раз так, я хотел бы иметь место, где буду не гостем, а хозяином. Сдаются ли у вас комнаты внаем? И можно ли найти слугу? И каковы на все это цены в райской обители? В пистолях, экю или ливрах? Джаннах рассмеялся. – О, уверяю вас, Дарт, у вас будут комнаты и будет верный слуга – причем, друг мой, абсолютно бесплатно! Это входит в наше соглашение… И если вы не хотите принять мое гостеприимство, то, быть может, вам понравится дворец, в который мы летим. Древнее здание с каменными стенами, прочно укоренившееся на земле… так прочно, что перед ним бессильно даже время. – Это внушает надежды, сир, – возможно, в древних стенах ко мне вернется память. – Дарт склонился к собеседнику. – Воспоминания мои о прошлой жизни расплывчаты и смутны… Почему? Вы называете меня Дартом – однако мое ли это имя? Вы говорите, что я погиб под пушечным ядром – но так ли это? Не обессудьте, монсеньор, я сомневаюсь не из-за того, что чувствую к вам недоверие… Дело в ином. Если я – творение господа, то должен помнить свое имя и свой титул – равным образом как имена родителей, друзей и недругов, и обстоятельства собственной смерти, и остальное, что помнит всякий человек. Что-то мне, пожалуй, помнится… Но смутно, очень смутно! Джаннах погладил свою остроконечную бородку. – Не сомневайтесь, друг мой, вы – человек. Более человек, чем многие обитатели этого мира, помнящие все, но растерявшие любопытство и тягу к неведомому! А ваша память… Что ж, считайте это неизбежной потерей. Мы ищем существ благородных, удачливых, умелых и выбираем их разведчиками – но только тех, чей жизненный путь завершен и для кого вторая жизнь – неоценимая милость. Вы понимаете, это гарантия их благодарности, а значит – верности… И ни один из них не изменил нам, не попытался направить корабль к родной планете, не выполнив взятых обязательств! – Джаннах многозначительно взглянул на Дарта. – Но, коль мы берем погибших, в этом заключаются и определенные сложности. Смерть, которую вы считаете мигом, на самом деле длительный процесс; мозг гибнет не тотчас, а постепенно, и так же, одно за другим, уходят воспоминания. А нашим иразам нужно время, чтобы забрать погибшего и поместить в глубокий холод – очень небольшое время, но все, что утеряно в этот период вашим мозгом, пропало навсегда. Не скрою, кое-что теряется при оживлении… кое-какую информацию нашим реаниматорам надо считать, чтобы восстановить вас молодым, а не дряхлым. Воздействие же ментоскопа практически необратимо. Он смолк, а Дарт, обдумав сказанное, произнес: – Однако, сир, вы могли бы мне рассказать о позабытом. О моем детстве и моих родителях, о местах, где я вырос и жил, и о том, что мне удалось свершить за время первой жизни. – Он сделал паузу и добавил: – На мой взгляд, услышанная история ничем не хуже запечатленной в памяти. – Я не посвящен в детали вашего прошлого, – сухо откликнулся Джаннах. – Поймите, Дарт, системный корабль – тот самый ираз, который доставил ваше тело, – всего лишь сканирует планету, чтобы найти подходящую личность. Сканирует с помощью… ммм… психотронного резонатора, если можно так его назвать. Это весьма эффективное и простое устройство; оно позволяет уловить спектр нужных нам эмоций, навыков и качеств – только это, и ничего более. Конечно, поиск не ограничивается резонатором… конечно, мы кое-что знаем о Земле, мы привозили оттуда животных, видеозаписи, копии статуй и картин, но ваша эпоха и ваша культура – капля в потоке других культур и эпох. И если быть честным, ни капля, ни сам поток нас не слишком интересуют… Зато интересны вы – в той мере, в какой способны оказать нам помощь. Дарт усмехнулся. – Если я столь важная персона и если ваши корабли бывают на Земле, то разве трудно разобраться с моим прошлым? – Как? Расспрашивать ваших друзей и врагов? Рыться в архивах? Производить раскопки старых пергаментов? – Но разве это сложнее, чем увезти меня с Земли? Забрать мое тело на глазах солдат? Сотен офицеров и солдат! Кажется, там были даже посланцы короля… – И, несмотря на это, забрать вас было не очень сложно. В тот миг ваши солдаты как бы уснули… да, уснули на очень краткое мгновение и, не заметив ничего, проснулись. Труп генерала лежал на земле – однако не ваш, мой дорогой, а искусная копия. Вы уже находились в трокаре, на пути к системному кораблю… Собственно, вот и все, – глаза Джаннаха, утратив пронзительный блеск, стали задумчивыми. – Что же касается расспросов и раскопок, то тут необходима интеграция в ваше общество, что не по силам иразу. Мы, разумеется, можем создать устройство, внешне похожее на человека, но настоящих людей, – он подчеркнул слово «настоящих», – ему не обмануть. – Почему же, сир? – Потому, что иразам не знакомы чувства печали и надежды, сомнения и страха, сочувствия и гнева; они не ведают, что такое горе и радость, обман и хитрость, гордость и честь, любовь и ненависть; они, наконец, не умеют смеяться. Поверьте, друг мой, не так уж сложно отличить ираза от человека! – Тогда вы могли бы сами… – неуверенно произнес Дарт, – могли бы оказать мне благодеяние… Я понимаю, что прошу о многом… наверное, я слишком дерзок… но все, сир… Вы ведь сказали, что посещаете Землю ради животных и статуй… трудно ли что-то узнать о вашем покорном слуге? Так, между делом, из чистого любопытства, которого вы, я полагаю, не лишены? Джаннах помрачнел. Дарту, еще не привыкшему к выразительной мимике метаморфов, эта мрачность показалась страшной: так освещенный утренним солнцем гордый утес ночью становится черным призраком. – Простите, я выразился неточно и ввел вас в заблуждение. Я сказал, что мы привозили животных, но это значит, что их привозили иразы, и никто иной. Люди Анхаба не летают в космос, и мы, Ищущие, не исключение… к тому же нас немного. Летать – это ваша задача. Трокар снизился. Теперь внизу, на расстоянии четверти лье от округлого днища, простиралась пустыня – россыпь драгоценных сокровищ, блиставших на солнце то ало-розовым, то снежно-белым, то серо-зеленым и золотистым. Посреди этого царства песков, камней и солнечного света высилось нечто похожее на гору – гранитный исполин с обрывистыми склонами, со множеством остроконечных пиков, с террасами, галереями и водопадами, повисшими на головокружительной высоте, с темными ртами пещер и спиралями лестниц. Город, а не дворец! Чудный город, не окруженный стенами, не разбросанный тысячей домов и башен, а устремленный ввысь, то ли сложенный из камня, то ли вырубленный в нем. – Камм`алод`наора… эпоха Раннего Плодоношения… – растягивая слова, с долгой печальной улыбкой произнес Джаннах. – Некогда – храм ориндо, наших древних мудрецов, а ныне – пристанище гильдии Ищущих. – Камм`алод`наора… – повторил Дарт и тихо прошептал: – Сказочный Камелот среди эльфийских полей… – Вижу, вам понравилось, – Джаннах снова улыбнулся. – Если хотите, можете здесь поселиться – верхние ярусы обитаемы. Под ними – помещения для ученых занятий, залы встреч и то, что у вас называют библиотекой. Есть узел услуг – связь, питание, транспорт… впрочем, это заботы вашего ираза. В самом низу, в скальном основании – лаборатории и школа. Скорее даже университет. – Мне предстоит честь там обучаться? – Нет, мой дорогой. Каждый балар сам обучает своего разведчика, а ваш балар – я. К тому же университет не для людей… В нем программируют и учат иразов, которые рождаются в лабораториях. Вы тоже этим займетесь – не программированием, конечно, а обучением. Постарайтесь, чтобы ваш помощник походил на вас. Тогда мы станем прекрасным сыгранным квартетом. – Вы, сир, я и мой слуга… А кто же четвертый? – спросил Дарт. – Ваш системный корабль, разумеется. Еще один ираз. Трокар приземлился на ровной площадке между тремя пронзающими небо башнями. Они покинули кабину, обогнули маленький пруд с дремлющими водяными растениями и скрылись в проходе под башней. Проход оказался сквозным, выходившим на галерею с деревьями, цветами и каменными изваяниями: женщины-птицы, женщины-змеи, женщины-ундины и просто женщины; все – прекрасные, чарующие взор, но лица их были печальны, и из глаз, капля за каплей, сочилась влага. Статуи вырубили прямо в скале, по правую руку, а слева, у пропасти, тянулся парапет – скошенные внутрь зубцы, покрытые истертым каменным узором. На одном из зубцов сидела ящерка – миниатюрный дракон в сине-стальной чешуе, с алой складкой горлового мешка под нижней челюстью. Завидев пришельцев, она пронзительно свистнула, развернула прозрачные крылья и ринулась вниз. – Галерея Слез, – коротко бросил Джаннах, кивнув на изваяния. – Рядом – жилой комплекс. Если место вам по душе, селитесь здесь. – Благодарю вас, сир. Здесь то, что нужно… цветы и женщины над пропастью… плачущие каменные женщины… Я буду их утешать. – Найдутся и живые, – усмехнулся Джаннах и, крепко взяв Дарта под локоть, втолкнул в неприметную нишу. Вход закрылся с тихим шелестом, дрогнул пол, и Дарт почувствовал, как тело его на мгновение стало легче. – Что это? – спросил он. – Устройство для спуска вниз, в подземные лаборатории. Очень древнее… Можно сказать, реликвия седой старины. Спуск длился бесконечно, и столь же долгими были блуждания по лабиринту тоннелей и обширных залов, среди мерцавших в воздухе экранов, колонн, в которых переливались радужные жидкости, причудливых устройств и столь же причудливых живых созданий, немногочисленных, но поразивших воображение Дарта. Одни казались ему людьми, другие словно подстроили форму тел к своим таинственным машинам, то прильнувшим к полу в немой мольбе, то распластавшим трубы-щупальца, то вздыбленным, как разъяренный жеребец. Всюду царила тишина, и ничего не двигалось, не изменялось, если не считать изображений на экранах и скупых расчетливых жестов существ, трудившихся над непонятным и делавших странное. «Кто из них человек, а кто – ираз?..» – мелькнуло в голове у Дарта. Впрочем, все они были чужды ему, даже Джаннах, похитивший облик давно усопшего владыки. Наконец они очутились в камере, пол которой был прозрачным, а внизу, в зеленоватой субстанции, плавала тварь с растопыренными конечностями, то ли руками, то ли ногами, и плоской, будто у жука, головой. Конечностей было шесть, сам монстр выглядел серым и огромным, а в спину его впивалась серебристая змея изрядной толщины и нескончаемой длины – кольца ее опускались вниз и исчезали в едва различимом отверстии. Дарт, однако, уже понимал, что змея – вовсе не змея, а нечто наподобие каната, сплетенного из множества тонких металлических веревок, передающих импульсы силы – той силы, что двигала трокар, грела, светила и оживляла иразов. Ее назначение было универсальным, но он еще не разобрался, что на Анхабе служило ее источником. – Ваш будущий слуга, – произнес Джаннах. – Ираз, который станет вашим спутником. Ваш помощник и защитник. Разумен, исполнителен и понимает человеческую речь. Вы довольны? – Ног многовато. Господь не наделил бы разумом такую тварь, – Дарт машинально перекрестился. – Что с ним сейчас? Он еще мертв? – Он жив, но моторные функции отключены. Сейчас его программируют. – Джаннах сделал плавный жест в сторону входа, и на его пальце сверкнул аметистовый перстень. – Ну, друг мой, вы видели лаборатории. Здесь делают иразов, а также другое снаряжение, необходимое разведчикам: особо прочные и быстрые трокары, приборы для системных кораблей, различные инструменты… Правда, не похоже на космическую станцию? Ту, где вас вернули к жизни? Дарт кивнул. В глазах его спутника промелькнула усмешка. Убедился? – будто говорила она. Ты не ираз; иразы, сказочные гномы, рождаются в земле, а ты – человек и возрожден на небесах. Ты можешь любить и ненавидеть, печалиться и гневаться, сочувствовать и сомневаться, испытывать радость и страх; все, чем ты был, – с тобой! Кроме отдельных воспоминаний, не столь уж важных для воскрешенного человека. – Вы можете дать ему имя, – сказал Джаннах. – Я знаю, есть на Земле колдуны, которые ищут философский камень, волшебную субстанцию для превращения неживого в живое. – Он посмотрел под ноги, сквозь прозрачную перегородку. – Сложная метаморфоза, и она происходит здесь, хотя и без помощи философского камня… Существо, которое тут родится, будет почти живым – квазиживым, как говорят специалисты. Ваши маги назвали б его гомункулусом. – Слишком длинно и неуклюже, – с сомнением пробормотал Дарт. – Кроме того, я не питаю доверия к магам. Сдвинув брови, он попытался найти подходящее слово; оно кружилось где-то рядом, то ускользая, то демонстрируя готовность появиться, словно играло в прятки с его памятью. Он с горечью понял, что в ней зияет пропасть, похоронившая даты, имена, события, картины и множество знакомых лиц, которые виделись неотчетливо, как бы сквозь грязное стекло или в тусклом старом зеркале, искажающем их черты. Лица мужчин и женщин, лица врагов и друзей, лица владык и лица возлюбленных… Может, он вспомнит их, как вспомнил лицо, одолженное Джаннахом? Может быть… Имя, которое он искал, все-таки всплыло из омутов памяти. Дарт наклонился над прозрачным полом, взглянул на монстра, застывшего в зеленоватой глубине, и тихо вымолвил: – Я буду звать его Големом, сир. Голем, а не гомункулус. Для гомункулуса он слишком велик.Часть IV Подземелье
Глава 16
Холм был довольно высок, и на его обрывистом склоне, обращенном к горному хребту, не росли деревья – ни те, что походили на голубые пушистые кипарисы, ни приземистые с сине-зелеными кронами и выступающими из почвы толстыми корнями. «Хорошее место для наблюдения», – подумал Дарт, обозревая лежавшую за холмом лощину. Она быланеширокой и сильно вытянутой в сторону гор; слева и справа ее огибали отроги хребта, прорезанные ущельями и поросшие лесом, торчавшим будто щетина на кабаньей холке, а сверху нависало небо в сумрачном покрове туч. Отроги сходились к перевалу, к выжженной, опаленной земле, темневшей между двумя скалистыми вершинами. Одна – будто трезубец Нептуна, другая – шипастая рыцарская булава с нацеленным в зенит острием… – Здесь, клянусь Предвечным! Нашли! – Ренхо, сын Оити, в возбуждении дышал ему в затылок. – Что скажешь, доблестный маргар? Здесь ведь? Я не ошибся? – А как считают остальные маргары? – Дарт повернулся к Птозу, Глинту и Джебу, мрачно взиравшим на перевал. За время долгих скитаний в лесах и горах они заметно изменились: Птоз чаще оставался в трезвости, словоохотливость Джеба поиссякла, а Глинт заметно отощал. Возможно, причиной тому были большие мешки с маргарским снаряжением, которыми Ренхо, предводитель отряда, не рискнул отягощать носильщиков. Тем более что так повелела доблестная Аланна: каждый маргар – чтоб им сгнить под деревом смерти! – тащит свой мешок. Разумеется, к Дарту этот приказ не относился; его скафандр, вместе с шатром просветленной ширы, нес один из четверки бхо. Глинт хмыкнул, Птоз, почесав заросшую шерстью шею, пробасил: «Жабий корм! Может, то, а может, и нет!» – а Джеб скорчил недоверчивую гримасу. – А где туман? Туман, фря, держится долго! Опустив щиток визора, Дарт внимательно пригляделся. Туман над землей с обгоревшими пнями в самом деле отсутствовал, а дыра в центральной части седловины была незаметна – холм хоть и высок, но все-таки пониже перевала. Утес, похожий на булаву, торчал с правой стороны, трезубец – с левой, и у его основания виднелась обширная каменная осыпь. А кроме осыпи и пней – ничего! Никаких следов и признаков Голема… «Может, он расположился за скалой?» – мелькнула мысль. Дарт справился с желанием крикнуть, позвать – утес-трезубец в пластине визора казался таким близким… Но до него оставалось как минимум шесть лье, целый дневной переход, и кричать было бессмысленным занятием. «Ничего, найдется завтра», – подумал Дарт. Его уверенность зиждилась на двух неоспоримых фактах: во-первых, Голему здесь ничего не угрожало, а во-вторых, он точно исполнял приказы. Велено ждать у скалы-трезубца – значит, будет ждать и не сдвинется без приказа ни на шаг. За его спиной спорили Глинт и Джеб. – Туман со временем оседает… Отец толковал – ползет обратно в дыру… – Как же, фря, ползет!.. Да чтоб он сполз, должна миновать тысяча циклов! Или две! Папаша не говорил тебе от этом, жирный бурдюк? – Папаша говорил о сотне циклов. А слышал он об этом от прадеда… – А прадед – от своего деда… Видать, фря, сам-то по дырам не лазил! – Ты, что ль, лазил, червяк вертлявый? Ренхо прервал их перепалку: – Так это место или нет? Что скажете, маргары? Джеб хихикнул. – Подойдешь поближе, нюхнешь туманчику, и ежели кишки вывернет, то самое место и есть. Мы, доблестный, пустим тебя вперед… тебя или красотку-ширу… В голосе Ренхо прорезалась сталь: – Ты, гнилой орех, о шире не болтай! О шире надо говорить с почтением! Не то, клянусь второй жизнью, я… Дарт поднял щиток визора и, обернувшись, прервал начавшуюся перепалку: – Место то самое. Туман не виден – темновато! – но есть другие признаки, горелые пни и земля в самой середине перевала. – Ну, раз ты их разглядел в свою приближалку, выходит, так и есть, – отозвался Джеб. Ренхо тоже успокоился, снял шлем и, задрав голову, посмотрел на сумрачное небо. – Близится дождь… Синее время здесь проведем, выступим в красное, а к зеленому доберемся… Как думаешь, Дважды Рожденный, доберемся? – Пожалуй, доберемся, – кивнул Дарт, озирая лощину и каньоны, рассекавшие отроги гор. Эти каньоны ему решительно не нравились – слишком хорошее место для засад и внезапных нападений. Его вдруг охватило томительное предчувствие; нахмурившись, он посмотрел на Ренхо и сказал: – Когда спустимся вниз, пошли разведчиков по обе стороны отряда. Пусть проверят ущелья в горах. – Зачем, доблестный? – Затем, что через них могут пробраться тьяни. – Шутишь! Мы опережаем их на десять-двадцать циклов! Тьяни сейчас бредут по горам, груженные своим оружием и запасами пищи. У них нет бхо-носильщиков, и по воздуху они летать не могут. – Кому известно, что они могут, а чего не могут, – буркнул Дарт. – Почтенный Нарата рассказывал мне, что тьяни в случае нужды передвигаются быстрее людей и не испытывают потребности в пище. Так что советую выслать разведчиков. Он повернулся и начал спускаться к лагерю стражей границы. Его разбили с другой стороны холма, на пологом лесистом склоне, среди деревьев с сине-зеленой листвой. Плодов они не давали, зато веток, коры и мха было сколько угодно. Из веток уже сплели навесы, спасавшие от дождей, кора пылала в кострах, а груды мха служили постелями. С края, под отдельным навесом, стоял шатер Нерис, и рядом устроили ложе для Дарта. Как всегда. Видимо, Ренхо считал, что шира и ее защитник должны находиться поближе друг к другу, и даже, возможно, имел на этот счет особые инструкции. То, что Нерис тоже отправилась в поход, стало для Дарта сюрпризом. Каким, он еще не решил, – просто неприятным или совсем уж тягостным. Из разговоров с Наратой было известно, что ширы не рисковали жизнью зря и появлялись у хранилищ в тот момент, когда ловушки обезврежены, зерна доставлены на поверхность и вокруг выставлена надежная охрана – не пара сотен стражей, а тысяч пять участников предполагаемого дележа. Дележ и был их основным занятием в балата: они определяли ценность зерен, сортировали их по назначению, откладывали долю для Трехградья, а также в качестве особой милости могли пробудить десяток бхо. Из этих функций вытекало, что Нерис явится в предгорья с войском доблестной Аланны или не явится вообще, если вопрос с трехглазыми не разрешится с полным успехом. В реальности все вышло по-другому: Нерис захотела сопровождать передовой отряд, а воля ее не подлежала обсуждению. Дарт, разумеется, тоже не спорил, однако старался не говорить с ней и держаться в стороне – хотя бы в светлое время цикла. Расстегнув ремень с кинжалом и шпагой, он опустился на груду мягкого мха. Рядом стоял поднос – чаша с медовым напитком и приготовленные для него плоды, сочные и еще теплые. Дарт начал есть, то и дело прикладываясь к чаше, вертя головой и осматривая воинский стан. В центре его замерла, подогнув паучьи ноги, четверка бхо-носильщиков, самых крепких и лучших, какие нашлись в Долинах; груз – корзины с пищей, запасное оружие и скафандр – был с них снят и аккуратно сложен под навесом. Центральный навес окружали четыре других, по числу полусотен, и там суетились воины: одни таскали мох, другие готовили ужин, третьи присматривали за кострами. Треть дежурной полусотни уже стояла в охранении – Дарт видел, как тут и там поблескивают шлемы часовых и как лейтенант, помощник Ренхо, обходит их с мешком метательных раковин. Видно, воинские заботы были для пограничников делом привычным, и это успокаивало Дарта; ему не хотелось, чтоб повторилась история с даннитами. Он прожевал мучнистый, напоминавший лепешку плод и покосился на палатку Нерис. Там все было тихо: вход занавешен, плотная ткань озарена изнутри слабым светом лишайника, и на ней – черное на сером – склонившийся женский силуэт; то ли молится, то ли ест или копается в своем мешке. «Скоро, – подумал Дарт, – скоро мы расстанемся… Так, как не расстаются ни здесь, ни на Земле, где все дороги коротки в сравнении с межзвездной бездной…» Запоздалое сожаление кольнуло его и, потянувшись за новым плодом, он пробормотал: – Мон дьен! Не так уж она виновата… – А отхлебнув напитка из медовой смолки, добавил: – Женщин надо сразу ставить на то место, на каком желаешь их видеть. Но в подобных делах мне никогда не хватало умения. Стемнело. Лагерь затих; костры едва тлели, люди исчезли, слившись с грудами мха, по листьям и ветвям навесов забарабанил дождь. Дарт лег, вслушиваясь в этот монотонный убаюкивающий шелест. «Все уйдет, все забудется», – мелькнула мысль. Все! И этот дождь, и Лиловые Долины, и река, по которой он плыл, и пылающие даннитские плоты, и темная тень мелькнувшего над ним маргара, и губы Нерис, и ее лицо… Вернется ли он на Анхаб с победой или с пустыми руками – неважно; в обоих случаях память о Диске принадлежит не ему, а Джаннаху. Его балару и прочим Ищущим… Таков уговор! Он – лишь бокал, который то наполняют, то опрокидывают под жерлом ментоскопа… И тот выпивает все – увиденное и услышанное, все запахи и звуки, печали, радости, движения души и даже вкус еще не съеденных плодов… Но Дарт не сожалел об этом, он думал лишь о тех воспоминаниях, что возвращались капля за каплей в этом странном мире, но не затрагивали его. Память о Земле, о родине, лица друзей и недругов, их речи и поступки… Гасконь, Париж, узкие улочки, мосты, таверны… желтый мерин с облезлым хвостом, ступающий среди луж… скачка под небом, усыпанным звездами… Кто бы ни возвратил все это, бог или дьявол, дар оказался драгоценным! Но неужели придется его потерять? Или такие воспоминания, не относящиеся к Диску, принадлежат ему, и только ему? Дарт задремал, размышляя об этом, и пробудился глубокой ночью, когда его коснулась осторожная рука. Он сел, нашаривая шпагу, но пальцы еще не успели сомкнуться на рукояти, когда знакомый голос произнес: – Оставь оружие, маргар. Оно пригодится тебе, но не в это время. Позже, позже… Нерис склонилась над ним, и в полумраке Дарт увидел, как блестят ее глаза и сияет холодным блеском раят на правом виске. – Я видела вещий сон, – прошептала она. – Ты уйдешь, маргар… уйдешь через три или четыре цикла… – Сон тебя обманул. Конечно, я уйду когда-нибудь, но не так быстро. – Он помолчал, собираясь с мыслями. – Этот договор, который ты подстроила… я выполню его. Спущусь в хранилище, а после, если меня не перемелет и не сожжет, вернусь в Лиловые Долины и буду ждать. Она покачала головой. – Ждать? Чего? Нет, Дважды Рожденный, сон не лжет, и ждать тебе не придется! Ты уйдешь от меня, покинешь ради другой женщины – той, чей облик я вижу в твоих глазах, а после исчезнешь… не понимаю, куда и как, но исчезнешь. Совсем! – Протяжный вздох вырвался из груди Нерис. – Сначала мне показалось, что тебя заберет Предвечный и в самом деле дарует вторую жизнь, но это не так. Ты попадешь куда-то в другое место, которое я не могу понять и объяснить… в место, где нет деревьев, но высятся горы со множеством пещер, и горы эти сверкают на солнце, а между ними ползают жуки, огромные жуки в блестящих разноцветных панцирях… Странно, правда? Странно и непонятно… Внезапное возбуждение охватило Дарта. – Скажи, эти сверкающие горы и эти жуки парят под облаками, в небе? И земля? Ты видела землю? Холмы, равнину? Может быть, океан? – Нет… не уверена… там не было ни деревьев, ни земли, а только что-то серое, длинное между горами… – Нерис с досадой поморщилась. – Разве это важно, маргар? Я ведь говорю о другом – о том, что ты уйдешь и мы расстанемся. Она придвинулась ближе, положила ладони ему на плечи, и Дарт ощутил пьянящий запах ее волос. – Когда-нибудь это должно было случиться, – пробормотал он. – Рано или поздно все приходит к концу, моя госпожа, в том числе – и счастье быть твоим защитником. Счастье – такая хрупкая вещь… Нерис вздрогнула, отстранилась, всматриваясь в его лицо. – Думаешь, я обманула тебя? Ну, может быть, чуть-чуть, в самом начале… Куда мне было деваться? Куда, скажи? Лысые жабы хотели, чтоб я помогала им и чтобы уговорила Сайана… Он – лучший из маргаров, хотя последнее хранилище нашли и вскрыли до того, как он родился. Конечно, он не лазал в подземелья, но знал, как это делать, и не испытывал страха, подобно червям, которых ты вытащил из Долин… В общем, тьяни в нас нуждались, понимаешь? Они расчетливы и понимают: тот, у кого маргар и шира, в любых спорах – победитель! Так бывало и в прежних балата… – Нерис вдруг всхлипнула. – Но Сайан отказался, и жабы его убили… вспороли горло, чтобы устрашить меня… – Тебе был нужен новый маргар? Ну, могла бы в этом признаться, не дожидаясь, пока меня сунут в темницу, – буркнул Дарт и, помолчав, прибавил: – Темница, конечно, веский довод, но вряд ли укрепляющий доверие. – Ты тоже лгал мне! – Нерис, вытерев слезы, внезапно перешла в атаку. – Ты говорил о непонятном, о странных вещах, которых не может быть! О солнцах, что светят в холодной тьме, и людях, способных менять свой облик! А всем известно, что солнце – одно, и облик роо никогда не изменяется: даннит всегда даннит, а рами – это рами! И еще ты сказал, что ищешь тварь, живую и неживую, которая ждет тебя у океанских берегов… Ты проговорился! Ты ищешь зерна бхо! Не знаю, кто послал тебя, но… – Все сказанное мною – правда, – перебил ее Дарт, – и ты еще познакомишься с тварью, которая ждет меня, – ведь океанский берег близок. Кстати, у нее есть имя, и зовут ее Големом… – Он помолчал, подбирая слова и сожалея о том, что подходящих немного, и на фунги, и на рами. Как рассказать без подходящих слов о космосе, звездах и о других планетах, совсем непохожих на этот плоский мир? Как объяснить, что таится за гранью небес, которые выглядят тут неизменными? Почти неразрешимая задача… Наконец он произнес: – Ты видела странные вещи во сне – вещи, которых не понимаешь, не можешь истолковать и объяснить, но ты уверена, что посланный Предвечным сон правдив. И это, должно быть, так; мир огромен, и одни вещи в нем мнятся странными тебе, другие – мне. Ты не можешь представить множество солнц или таких людей, чьи лица меняются по их желанию, а я… Прости, ма белле, но мне не верится, что ты способна беседовать с мертвыми. – Но это в самом деле так! – гневно выкрикнула Нерис. – Те, кто ушел к Элейхо и получил вторую жизнь, обитают в нас, и я умею с ними говорить! Умею вызывать умерших! Почему ты мне не веришь? Потому, что сам был мертв и абсолютно безгласен, чуть не ответил Дарт, но лишь усмехнулся и пожал плечами. – Наверное, по той же причине, которая не дает поверить тебе. Слишком необычно, странно… Души умерших для меня – как солнца, которых ты не видишь. Не видишь и не веришь, что я прилетел с одного из них, что мой небесный корабль был разбит и что я – никакой не маргар, а странник, затерянный в вашем мире. Не знаю, понял ли это кто-нибудь… возможно, твой отец… – Возможно. – Гнев Нерис угас, и теперь она слушала Дарта, склонив голову, с задумчивым выражением лица. – Старый хитрец! Он, быть может, понял… Долго расспрашивал меня, а потом сказал: рад, что мы с ним встретились. И добавил: неважно, откуда он взялся, а важно, что он есть. – Я тоже рад. Шир-до оказал мне благодеяние, позволил коснуться дерева туи, и я… – Дарт смолк. Ему не хотелось упоминать о своих видениях; это повлекло бы за собой слишком долгие рассказы, такие же непонятные для Нерис, как свойства звезд в ядре Галактики. В самом деле, что мог он поведать ей, что объяснить? Что был военачальником и воином на одной из далеких планет и принял смерть во время битвы? Что тело его похитили и привезли на Анхаб, в мир парящих в небесах хрустальных замков? Что там он получил вторую жизнь – не призрачную, какой наделяет Предвечный, а вполне реальную и что за это должен отслужить? И служба его – полеты неведомо куда, неведомо за чем, скитания во мраке Инферно и в позабытых мирах, покинутых давно усопшей расой… Странные истории, способные вызвать лишь недоверчивую усмешку! Нерис пошевелилась, прошептала: – Может, ты не лгал мне… может, ты не маргар и вообще не рами… сердце у тебя с другой стороны, и ты не продлил мою жизнь… Может, Нарата прав: неважно, откуда ты взялся, а важно, что ты есть… – Она поднялась и потянула Дарта за собой. – Идем! Я тоже не хочу, чтоб ты считал меня лживой. Идем в шатер и там попробуем поговорить с твоими мертвыми. Возможно, с предками или с другими людьми, чью смерть ты видел… Такое, я думаю, случалось, и не раз? – Случалось, – подтвердил Дарт, вставая. – Но при кончине отца и матушки я не был… кажется, не был… не помню… – Может быть, твоя возлюбленная? Или близкие друзья?.. Он покачал головой. Может быть… Память его молчала. – Значит, я не смогу возвратить их тебе, – сказала Нерис, хмуря брови. – А жаль! Это стало бы моим прощальным даром… Ведь ты, наверное, их любил? «Любил, но не могу припомнить, где и как они умерли», – с печалью подумал Дарт, вдохнув теплый сырой воздух. Члены его отяжелели, и, не глядя на джелфейр, он знал, что до рассвета – вернее, до красного времени, обозначавшего рассвет, – еще далеко. Если отправиться сейчас в поход, то всем, и воинам, и бхо-носильщикам, пришлось бы сгибаться под двойным грузом… Мудро устроен мир, в котором тяготение определяет: день – для странствий, ночь – для снов и сотворения потомства! Эта мысль его позабавила; он постоял у шатра, вслушиваясь в голос дождевых струй, шуршавших по навесу, потом наклонился и шагнул внутрь. Шатер был просторен и высок – даже у входа ему удалось выпрямиться в полный рост. Нерис сидела напротив, покачивая в ладонях прозрачный кристалл, уже знакомый Дарту, – он видел его в своей пещере на каннибальском острове. Мешок из полосатой шкуры валялся слева от входа, рядом с плетеным коробом, где хранилась одежда; справа стояли поднос с недоеденными фруктами и миска с грудой светящегося лишайника. На этой мягкой, горевшей неярким светом подстилке спал Брокат. Нерис вытянула тонкую руку. – Сядь здесь, смотри на камень и слушай, что я тебе скажу. Дарт послушно опустился на колени. Кристалл выглядел сейчас иным, чем в пещере на острове криби, – он переливался, словно огромный мерцающий бриллиант, над которым кружат крохотные радужные смерчи. Казалось, что от него к потолку шатра тянется столб, сотканный из серебристых нитей и разноцветных искр, мелькавших в быстрой и подчиненной завораживающему ритму пляске. – Ты видишь свет? – спросила Нерис. – Да. – Благоприятный признак! Значит, Элейхо наделил тебя внутренним зрением. Я и не сомневалась… Ты дважды касался дерева туи и что-то видел… не спрашиваю, что; главное – видел. Это поможет преодолеть стену. – Какую стену? – Его глаза не отрывались от кристалла. – Здесь, – Нерис коснулась виска с тускло блестевшим раятом. – Знай, Дважды Рожденный, что тело наше стареет и умирает, но плоть – лишь оболочка, сосуд, хранящий дар Предвечного. Этот дар – мы сами; мы слиты с ним, каждый из нас – его частица, он существует в нас, и в то мгновение, когда сосуд разбит, он забирает свой дар и отдает его другому. Это и есть вторая жизнь, лишенная плоти, незримая для нас, но получившие ее осознают, что сделались частью Элейхо и обрели прибежище. Ты спросишь – где? И я отвечу: тот, кто окажется рядом в мгновение смерти, и станет прибежищем, ибо Предвечный не ищет долгих путей и сложному предпочитает простое. По этой причине потомок обязан сидеть с умирающим, чтобы Элейхо вложил в него дар из треснувшего сосуда и шире не пришлось искать умершего. А это, скажу тебе, нелегкий труд! Ведь в Лиловых Долинах множество людей, а в мире их гораздо больше, и если потомок был нерадив, как ты, то где же искать его предка? Мышцы Дарта то расслаблялись, то каменели в ритме мерцания кристалла, но разум оставался ясен. «Я мог бы объяснить тебе, куда девается душа, если сосуд расшибли ядром из пушки», – подумал он, но вслух произнес: – Ты имеешь в виду, что душа умершего переселяется в живого? В того, кто окажется рядом? Тогда во мне живет немало душ, сударыня, ибо я смотрел в лицо костлявой гораздо чаще, чем хотелось бы. И где же они? Почему я не чувствую их? – Они здесь, за стеной, – Нерис снова коснулась виска. – За той стеной, которая охраняет дар, назначенный тебе. Стена необходима, понимаешь? Иначе бы дары перемешались и ты лишился разума – не смог бы отличить себя от всех почивших, которых поместил Элейхо в твой сосуд. – Она помолчала, пристально глядя Дарту в лицо. – Эта стена очень прочная, но ширы умеют справляться с ней. Не разрушать, но делать крохотную щелку… в своей стене или в твоей… щелку, в которую проскальзывают вещие сны, видения грядущего и прошлого… Так говорит с нами Предвечный – через дары, принадлежавшие умершим и ставшие теперь его частицей. Ритм мерцаний кристалла изменился, и над Дартом вдруг сомкнулась тишина. Он уже не слышал, как стучат дождевые капли, как ветер посвистывает и шуршит листвой; только голос Нерис, тихий и монотонный, звучал в его ушах. – Я помогу тебе раскрыть стену, – промолвила она. – Не знаю, кто к тебе придет, что скажет и что ты увидишь, прошлое или будущее. Обычно являются те, кому мы были дороги при жизни, но ты говорил, что смерть твоих близких прошла стороной… Значит, явятся другие – может быть, враги, которых ты убил, может быть, те, кого ты предал и обрек на гибель… Это станет тяжким испытанием. Готов ли ты к нему? – Я не боюсь, – шепнул Дарт, еле ворочая заледеневшим языком. – Много грехов у меня на душе, всех не упомнить, но думаю, я никого не предавал. Если бился, то честно и за победу платил собственной кровью. Вслух ли он произнес последние слова или они прозвучали лишь в сознании? Это осталось неясным, ибо мир вокруг разительно переменился: ткань реальности треснула, поползла, свернулась клочьями, и в разрывах он увидел небо – мрачное, грозное, затянутое серо-багровыми тучами. Но серебристое зарево на востоке и редкие искорки звезд подсказывали, что небо над ним – не то, что нависает над Диском, а земное, и влажный воздух говорил, что тучи здесь уже пролились дождем.* * *
Была полночь; месяц, озаренный последними отблесками грозы, всходил над Армантьером, ближним городком, и в его тусклом свете маячили темные силуэты домов и высокой ажурной колокольни. Впереди катила воды река, и на другом ее берегу виднелись очертания деревьев, темневших на фоне багровых яростных небес, – они, казалось, создавали подобие сумерек среди ночного мрака. Слева высилась старая заброшенная мельница с крестом неподвижных крыльев, и в ее развалинах то и дело раздавался пронзительный монотонный крик совы. К реке от города вела дорога, и по обе ее стороны выступали из темноты низкие коренастые дубы – точно уродливые тролли, присевшие на корточки и подстерегавшие добычу в этот зловещий час. Время от времени яркая молния озаряла горизонт, змеилась над черными купами деревьев и, подобно чудовищному ятагану, рассекала надвое воду и небо. Вокруг царила тишина; земля была влажной и скользкой после недавнего ливня, и Дарт чувствовал, как влага и холод проникают в него, заставляя дрожать в предчувствии смерти. Он стоял на коленях на речном берегу, рядом с неуклюжей лодкой. Где-то во тьме прятались темные фигуры в плащах и широкополых шляпах, их было не меньше десятка, и все они были врагами. Безжалостными мстителями! По крайней мере, трое из них! Четвертый, в красном плаще и капюшоне, склонился к нему, связывая руки. Эти руки поразили Дарта – тонкие, нежные, изящные, с холеной кожей, они не могли принадлежать ему! Руки пленницы, высокородной дамы, но не Констанции… Он помнил ее, эту женщину, – в пеньюаре из полупрозрачного батиста, в чью постель он проник обманом и чуть не напоролся на кинжал. Кажется, она ему являлась – тут, на Диске, в смутном сне, с лицом, искаженным яростью… В тот день, когда их с Нерис атаковали черви… Едва он это понял, как его сознание раздвоилось: он оставался самим собой и как бы сторонним наблюдателем и в то же время был погруженной в отчаяние пленницей. Страх неотвратимого возмездия терзал ее – страх, ненависть и злоба. Эти чувства кружили голову, туманили разум, и не было сил припомнить ни собственное имя, ни совершенные преступления. Ее – или его? – губы зашевелились. – Вы трусы, жалкие убийцы! Вы собрались вдесятером, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если мне не придут на помощь, то за меня отомстят! Одна из темных фигур шевельнулась, и Дарт увидел знакомое лицо – мрачное, бледное, с благородными чертами. Затем раздался голос, холодный, как посвист ветра над ледяным морем. – Вы не женщина, вы не человек, а демон, вырвавшийся из преисподней, и мы заставим вас туда вернуться! Вы – убийца! – О, добродетельные господа! – Злая ирония звучала в тоне пленницы. – Вы называете меня убийцей? Пусть так! Но если вы прикоснетесь ко мне, вы тоже станете убийцами! Человек в красном плаще откинул капюшон, ухмыльнулся и погладил свисавший с пояса широкий клинок. – Палачу дозволено убивать, сударыня! – возразил он. – Палач – не убийца, а лишь последний судья. Nachrichter, как говорят наши соседи немцы. Пленница – или сам Дарт? – испустила дикий вопль, мрачно и страшно прозвучавший в ночной тишине. Ее губы что-то шептали, кривились в обещании или мольбе, мужчины возражали ей, а руки палача уже подталкивали ее к лодке. Страх и ненависть сменились ужасом; пламя адских костров плясало над рекой, видение было жутким и таким реальным, что Дарт застонал в мучительной тоске. Или это стонала женщина? Бледный, с мрачным лицом, промолвил: – Ну, палач, делай свое дело! – Охотно, ваша милость, ибо я – добрый католик и убежден, что поступаю по справедливости. Сильные руки приподняли Дарта, безжалостно сдавили и швырнули в лодку. Он лежал там на дне и в то же время следил за разворачивающейся сценой, видел, как подходит бледный, за ним – еще один из мстителей, слышал сказанное ими – последние слова, что предназначены приговоренному к казни. Затем раздался его собственный голос: – Прошу простить меня, сударыня, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев. Сам же я прощаю вам убийство моей возлюбленной и вашу жестокую месть. Я прощаю вас от всего сердца и оплакиваю вашу участь! Умрите с миром! Лодка тронулась, и пленница прошептала: – Где я умру? – На том берегу, – отозвался палач. Весла в его руках вздымались и опадали, словно маятники, отсчитывающие последние секунды жизни. Один берег приближался, другой удалялся. Оставшиеся там опустились на колени, склонив головы и сложив перед грудью руки; бледный, с мрачным лицом, поднял шпагу, держа ее за лезвие. «Крест, священный символ, знак искупления грехов», – подумал Дарт, скорчившись на мокрых досках. Сердце сжималось в отчаянии. Однако его ли сердце? Он почувствовал, как днище лодки заскребло по песку, вскочил, перепрыгнул через борт, ринулся вверх по откосу. В его – или в ее? – сознании царила одна мысль – бежать! Бежать от этого страшного человека, держащего в руке меч с широким лезвием, которое предназначено не для битвы, а для казни. Бежать! Он неповоротлив, не догонит, а ее ноги так легки… Бог поможет ей, бог милосерден и справедлив, он не допустит ее смерти… Ей рано умирать! Она так молода и так красива… Поскользнувшись на влажной земле, Дарт упал на колени. Не он – та женщина, с которой в этот миг соединилась его душа… Дар Предвечного, принадлежавший ей, бился и трепетал в тоске и муке, надежда покинула ее, небо отказало в помощи; она была сосудом, который ждет, когда обрушится карающий удар. Палач неторопливо подошел к ней, вскинул руки, и в лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча.* * *
Дарт очнулся, но сидел с закрытыми глазами, чувствуя, как пот стекает по спине и как растворяется, исчезает льдина под сердцем. То, что он видел, не было сном или воспоминанием, подаренным деревом туи; он сам стал этой женщиной, сам испытал ее страх, ужаснулся ее душе, переполненной злобой, и проводил ее под клинок палача… Там, под городом Армантьер, на берегу полноводного Лиса… Это было жутко! Но самым жутким казалось то, что душа этой твари, сгубившей Констанцию, обитала, если верить Нерис, где-то за стеной, воздвигнутой в его сознании. Вольно или невольно он дал ей убежище! А шира вернула ей жизнь – пусть на миг, но самый тяжкий, самый неприятный для него! Впрочем, что за ерунда… будто он верит в переселение душ и в то, что их можно призвать из-за какой-то стены магическими манипуляциями! Это всего лишь гипноз, пробуждающий в памяти тени былого и извлекающий их из бездны, в которой хранится разное, хорошее и дурное… Не потому ли Джаннах иногда говорил, что кое о чем не стоит вспоминать и есть потери, которые благо, а не зло? Может, сцена этой казни как раз из них? Он открыл глаза, перекрестился и вытер выступившую на висках испарину. Нерис смотрела на него. Лицо ширы казалось утомленным, зрачки были темны, словно океанские воды в безлунную ночь, а голос звучал неуверенно и хрипло. – К тебе из-за стены явился враг? – спросила она с сочувствием. – Ненавистник, сраженный тобой? Он пришел, чтобы мучить тебя? – Нет. Я вспомнил о женщине, причинившей мне горе… не только мне – моим друзьям и многим людям… Она ненавидела меня, но я не поднял на нее руки… своей руки, во всяком случае… Она была красива и умна, но обладала душой убийцы. И убивала, не щадя никого… Дьявол, а не женщина! – Он судорожно вздохнул, уставился взглядом в землю, потом медленно, с запинкой, произнес: – Мы… мы, мои друзья и я… судили ее и обрекли на смерть. Как эта женщина кричала!.. Как молила нас!.. Но мы ее не пощадили. Палач… тот человек, который наказывает… он отрубил ей голову. Волосы у нее были золотыми… такими же, как твои… Нерис вздрогнула и побледнела. – Женщина-убийца… судьи, которые выносят смертный приговор… и человек, который рубит головы… Неслыханно, клянусь Предвечным! Ты говорил, что существует много солнц и ты явился с одного из них – но если это правда, то не вся: ты не явился, ты сбежал! Сбежал из страшного мира, где женщины убивают! А мужчины дарят им не жизнь, а смерть! – Сбежал, – согласился Дарт, решив, что гибель от ядра во Фландрии можно, в общем-то, считать бегством. – Но мир мой не так уж плох, как тебе кажется, маленькая шира. Было в нем и хорошее… было, хотя временами наши владыки сражались из-за земель и сокровищ, лукавили и лгали, казнили невинных, а девушек вроде тебя жгли на кострах… Но об этом я не хочу вспоминать, ма белле! Пошли мне другие видения – о женщине, которую я любил, моих друзьях и моей юности. Пошли, если можешь! Он протянул к ней руку жестом мольбы, но Нерис лишь покачала головой: – Ты думаешь, я разбудила твою память? Ты говоришь: я вспомнил о женщине, причинившей мне горе, и ты считаешь, что она – твое видение? Ты ошибаешься, маргар! Я – шира, а не дерево туи, я отворяю врата перед умершими! И то, что явилось тебе, – не видение, а дар Элейхо, принадлежавший женщине-убийце, на время слившейся с тобой. Голос Нерис смолк, но мир за тонкой стенкой шатра полнился тихими звуками: монотонной дроби ливня аккомпанировал ветер, шуршали листья и поскрипывали камешки под ногой прошагавшего рядом часового. Знакомая песня синего времени, ставшая столь же привычной, как тяжесть и полумрак… – Пусть, – вымолвил Дарт, чувствуя, что спокойствие возвращается к нему, – пусть не видение, а ее проклятая душа, что просочилась сквозь стену… Пусть! Если нет другого способа, сгодится и этот. В конце концов, я могу узнать не только о своем прошлом, но и о мыслях моих врагов. Что они думали о себе, а главное, обо мне… Прекрасный способ, чтобы избавиться от греховной гордости! Нерис улыбнулась. – Да, способ хорош, но такое нельзя повторять слишком часто, Дважды Рожденный. Ни шире, ни тому, кто обратился к ее помощи… То, что я сделала, – мой прощальный дар, и хоть он горек, но останется с тобой. А сейчас… сейчас я ожидаю ответного подарка… – Она придвинулась ближе к нему и зашептала: – Мы оба устали, ты и я, но это не телесная усталость, а утомление пережитого. И если оно было горьким, если растревожило нас, то нужно примириться и подарить друг другу каплю радости. Хотя бы каплю, на прощание, перед разлукой… Или я не права? Дарт обнял ее, коснулся губами тускло мерцавшего раята и прошептал в ответ: – Права, мон шер ами. Конечно, ты права.Глава 17
Бхо спускались по склону холма, осторожно переступая длинными суставчатыми ногами. Первым шел носильщик, груженный имуществом ширы, скафандром и пухлыми бурдюками с медовым напитком и молочным соком; видимо, он выбирал путь, а остальные трое в точности повторяли его движения. Вожатые, сидевшие поверх груза, в этом почти не участвовали. Функции их были простыми: поглаживая тот или иной нервный узел, они задавали общий курс и скорость. Бхо могли двигаться по любой местности, в горах и в лесах, форсировать мелкие реки, преодолевать овраги, и при этом, как заметил Дарт, их грузовые платформы всегда располагались горизонтально. Несмотря на препятствия, они шагали с изрядной резвостью, вдвое быстрее бегущего человека, и несли солидный груз – корзины с сушеными плодами, бурдюки с питьем и прочные мешки с запасом метательных раковин. Однако, наблюдая за ними, Дарт пришел к мнению, что в прошлом транспортировка грузов вовсе не являлась их задачей. Платформы выглядели совершенно плоскими, мешки и корзины приходилось привязывать, пропуская ремни под брюхом бхо, так как крепежных колец или крючьев у них было столько же, сколько у лошади или осла. Правда, долгая процедура погрузки не задерживала отряд – люди выступали пораньше, а бхо со своими вожатыми их нагоняли. Дарт полагал, что у Темных им отводилась роль скакунов, и это служило еще одним свидетельством различий, существовавших между людьми и прежними хозяевами Диска. Чтоб управлять пловцом-левиафаном, была нужна не пара рук, а длинные гибкие щупальца; с такими конечностями можно ехать и на платформе носильщика, цепляясь за ее края. Первый бхо спустился на равнину и преодолел овраг, куда стекали дождевые воды; похоже, овраг соединялся с ручьями, журчавшими за холмом, в лесистой местности. Форсировав водную преграду, носильщик побежал, шустро перебирая ногами и пристраиваясь за воинской колонной; остальные бхо последовали за ним. Издалека они еще больше походили на огромных пауков с вытянутыми овальными телами – правда, корзины, мешки, бурдюки и оседлавшие их вожатые не добавляли сходства. Повернувшись, Дарт пристально оглядел носильщиков, потом спросил у шагавшего рядом Джеба: – Можно ли отправить бхо в дыру? Они умеют лазать, могли бы пригодиться… Скажем, обнаруживать ловушки. – Пытались, брат! Только, фря, ни единая тварь, кроме таких глупцов, как мы, в дыру не полезет. Ни та, что летает, ни та, что бегает. Пробовали! Разве лишь чудищ речных не совали… Так у них с топталками незадача, бегать не могут. – Джеб перебросил мешок на другое плечо и сплюнул. – Среди зверья недоумков нет, – с хмурым видом прогудел Птоз. – Зверье соображает… тем более бхо… Боятся они дыр. В тех свитках, что остались после Криба, моего прапрадеда, ясно сказано: боятся! Поправив обруч визора на висках, Дарт покосился налево и направо, осматривая местность, и молча кивнул. Красное время близилось к середине, солнце пекло, словно адский костер, в небе – ни облачка… От подошвы холма отряд отделяли три четверти лье, и в этом месте лощина была еще довольно широка, не меньше четырех, а то и пяти тысяч шагов. Двигались в привычном порядке: впереди – авангард из пятнадцати воинов, за ними – доблестные маргары, потом – основная колонна под водительством Ренхо, а в ее середине – Нерис, оберегаемая, как драгоценнейшее сокровище. Последними шагали бхо, топча каменистую землю и поднимая клубы пыли. Восемь разведчиков, посланных Ренхо, уже исчезли из вида; сейчас они бродили в ущельях, прислушивались и присматривались, искали следы неприятеля. Ущелий в отрогах горного хребта было четыре, по паре с каждой стороны, а кроме того, имелась сотня трещин и расселин. Поверх скалистых стен тянулся лес, но склоны их, размытые дождями, резко обрывались к лощине и, если не считать торчавших тут и там кустов, выглядели совершенно голыми. Дно лощины тоже оказалось голым, почти безжизненным, не сохранившим даже памяти о ночных дождях. После недавнего изобилия лесов и вод эта сухая каменистая пустошь с пучками серой травы и развалами гранитных глыб, свалившихся и сползших с ближних склонов, казалась чем-то нереальным и на удивление непривычным. Тесня ее, горные отроги постепенно сближались, и к седловине перевала поднимался довольно крутой откос в четверть лье шириной, тоже усыпанный щебнем и торчавшими из него крупными камнями. Переход по этой пересеченной местности, в пыли, под жарким солнцем, сулил мало приятного. Отстегнув флягу, висевшую у пояса, Дарт приложился к ней, потом сунул Джебу: – На, хлебни! Тот скривился, но флягу взял, отпил и что-то буркнул в знак благодарности. В ней было не горячительное, а белый сок, похожий вкусом на молоко, бодрящий и не скисавший долгое время; его добывали из орехов, и у стражей границы он был излюбленным напитком. Джеб передал флягу Птозу, тот – Глинту, который тяжело отдувался и пыхтел. К Дарту она возвратилась почти порожней. – К зеленому времени будем у перевала, – сказал он, желая подбодрить коллег. – И что в том хорошего? Что нас там ждет? – пробасил Птоз. – А ничего, клянусь ногой Криба! Вонючий дождик да огненные бичи! Остальные, согнувшись под мешками с маргарским снаряжением, мрачно молчали – наверняка прикидывали, кто первым полезет в дыру, под этот самый дождик и бичи. Дарт больше не старался их разговорить. Мысли его вернулись к прошлой ночи, и на какое-то время лощина, маячивший впереди перевал, скала с тремя зубцами и даже Голем исчезли из его сознания; он снова был у городка Армантьер, на берегу полноводного Лиса, слышал, как кричит охваченная ужасом женщина, и ощущал свое бессилие. Его понятия о долге и чести снова играли с ним, переплетая его судьбу с другими людскими судьбами; с одной стороны, долг требовал вступиться за даму, с другой – судить и уничтожить преступницу, и эта дилемма подсказывала, что однозначных решений в мире нет. Точно так же, как в ситуации с Нерис – отвергнуть или простить… Но эта проблема, к счастью, уже разрешилась. Он снова начал размышлять о странном влиянии, которое оказывал на него Диск. Была ли в этом некая многозначительная тайна – может быть, связанная с самим местом, с Ушедшими Во Тьму и их наследием, с бхо и существами, населявшими планетоид, с деревом туи, с пищей, воздухом и водами? Или же это мираж, игра распаленного воображения? Вполне вероятно, мозг излечивается сам собой, связи восстанавливаются, и поэтому возвращается память… И, может быть, вернется до конца! Все вернется, все, что он потерял за краткие минуты смерти и в процедурах ментоскопирования… Такое, по словам Джаннаха, невозможно, но прав ли он? Джаннах – не бог и может заблуждаться… А вот Констанция – фокатор и лучше знает, что возможно, а что – нет! Она говорила, что индивидуальность – главное качество мозга, что нельзя представить два адекватных разума и что различия в мыслительных процессах очень велики, от гения до идиота… и в самих процессах, и в адаптивных свойствах, и в способности мозга к восстановлению… С другой стороны, почему он стал вспоминать лишь здесь, в обители древней расы? Случай? Закономерность? И если последнее, то где скрывается причина? Поводы к вспышкам видений были разными – сон или фляга с вином, прикосновение к туи или сияющий кристалл в ладонях Нерис, – но результат был неизменным: он вспоминал. Возможно, поводы лишь растормаживают разум, а настоящая причина в чем-то ином и скрыта от него завесой домыслов и непроверенных гипотез? Одна из них – поведанная, кстати, широй, – не отвергает логики, если считать, что Диском правит бог – ведь богу все подвластно! «Логичная гипотеза, но лишь на первый взгляд, – подумал Дарт с ухмылкой. – Вселенная хоть и огромна, но исповедует принцип экономии, а потому не допускает, чтоб каждый мир был наделен своим персональным Предвечным. Одним или даже двумя… Здесь, на Диске – Элейхо, тасующий души живых и умерших будто колоду карт, а на Земле – Саваоф и Аллах, для христиан и сарацин… Это было бы полной нелепицей!» И Дарт, с присущим ему практицизмом, считал, что если Вселенная не может обойтись без бога, то этот бог, само собой, един, и власть его простерта на все галактики и звезды, на черные дыры, туманности, планеты и даже на песчинки, блуждающие в космической тьме и такие крохотные, что если плюнешь в них, то обязательно промажешь. А если так, то этот бог являет свою волю всюду и везде, оказывает милость и карает в любой из точек бесконечности, и нет у него избранных мест, чтоб демонстрировать свое могущество – к примеру, какого-то древнего Диска, подвешенного между двумя светилами, алым и голубым. Но он, солдат удачи, погибший и воскрешенный вновь, не верил в такое божество. Перекличка трубных звуков, извлеченных из раковин, прервала его мысли. Возвращались разведчики, но лишь те четверо, что были посланы в ущелья с правой стороны. Вторая группа еще не появилась, и Дарт, замедлив шаг и поравнявшись с Ренхо, вымолвил: – Вели, пусть трубят снова. Твои воины задерживаются, и надо их поторопить. – Я велел им пройти ущелья на всю длину. Может быть, эти разломы извилисты и расстояние велико… может быть, им встретились завалы… Все же Ренхо махнул трубачам, над лощиной раздался тоскливый протяжный призыв. Горы откликнулись только далеким эхом. – Они нас не слышат, Дважды Рожденный. Слишком далеко ушли. – Надеюсь, что причина в этом. Дарт отошел и, присмотрев подходящий каменный обломок – почти утес в два человеческих роста, – залез на него. Колонна воинов в синих запыленных кильтах, наплечниках и шлемах неторопливо проползала внизу, похожая на пеструю ленту среди серых и ржаво-коричневых камней. Глухо стучали, вздымая пыль, сандалии, развевались перья над шлемами командиров, поскрипывали ремни, раскачивались мешки и бурдюки на спинах бхо. Люди шагали с бодрым видом, несмотря на палящую жару и груз оружия; каждый нес короткое копье, палицу с остроконечным шипом харири, кинжал, сумку с метательными снарядами и флягу с ореховым соком. Они двигались попарно и в любой момент могли развернуться двумя цепочками к левой и правой частям лощины, перейти в атаку или занять оборону в камнях. Двести воинов, четыре полусотни… сильны, неплохо обучены и понимают, что такое дисциплина… Пожалуй, им удалось бы отбиться от превосходящих сил и уничтожить противника равной численности. «Все дело в том, какими будут эти превосходящие силы, – раздумывал Дарт, – если вдвое, можно добраться до перевала и вызвать Голема, а если впятеро – обойдут, отрежут и перебьют». Но все было тихо, и онуспокоился, решив, что в этот раз кровопролития не случится. Треть расстояния уже пройдена, до перевала – четыре лье, и отряд миновал устье первого ущелья… еще немного и доберется до второго… Может, они и в самом деле длинные, извилистые, и разведчики бродят в них или даже прошли насквозь, выбравшись в соседнюю лощину… Опустив щиток визора, Дарт в десятый раз осмотрел торчавшую над перевалом трехзубую скалу. Она словно сторожила горный проход, вздымаясь над выжженной землей, пнями, уцелевшей растительностью и серо-коричневой каменной осыпью, тянувшейся от ее подножия до самого дна лощины. Пронзительный солнечный свет делал пейзаж ясным, четким, позволяя разглядеть во всех подробностях уходившую к океану панораму гор, вогнутый силуэт перевала, корявые низкие деревья и обрывистую трещиноватую поверхность скалы. Однако ни пещер, ни крупных трещин в ней не замечалось, и Дарт, как прежде, решил, что его слуга поджидает по ту сторону утеса. Голем не мог удалиться в лес, спуститься в дыру или забраться наверх, хотя его наделили способностью к разумным самостоятельным действиям. Сейчас он выполнял приказ – ждать под скалой, и это значило, что он будет ждать, пока скала не рассыплется прахом. Но и в этом случае Голем не двинулся бы с места. Дарт повернулся к воинской колонне, нашел шагавшую в середине Нерис и отметил, что, невзирая на зной и пыль, выглядит она превосходно. Как человек, сбросивший груз неприятных тягот или вину, терзавшую сердце… «Пожалуй, за этим она и отправилась, – мелькнуло у Дарта в голове, и он улыбнулся. – Женщина всегда добьется своего, не этим способом, так тем, и если надо, переспит и с дьяволом, и с богом…» Он снова усмехнулся, сообразив, что эту мысль нельзя выразить на местных языках: дьявол был тут персоной нон грата, и к тому же рами говорили: не переспать с женщиной, а лечь или подарить ей жизнь – сон считался понятием священным. Спрыгнув вниз – что было не очень рискованным делом при низкой тяжести, – он занял место во главе колонны. Джеб, сверкнув на него налившимся кровью глазом, пробормотал: – Жарко, фря… Так до дыры не доберемся, станем пеплом, и сунут нас в погребальный орех! Сок остался? Или есть чего покрепче? Дарт выразительно хлопнул по опустевшей фляге. – Чтоб меня черви съели! И пить, фря, нечего! Ну ладно, брат… Ты в свою приближалку глядел? Есть там туман? – Взгляд Джеба метнулся к перевалу. – Нет. Есть камни да обгоревшие пни. – Говорю, разошелся туман, – прохрипел Глинт. – Оно и хуже! Стек в дыру, и там теперь не продохнешь! И не пройдешь! – Птоз пройдет, ежели подготовится как надо, – возразил Джеб. – Птоз после даннитского пойла совсем не дышит, а только выдыхает. Птоз… – Он вдруг остановился, побледнел и вытянул потную руку, показывая вперед и влево. – Ну, фря!.. Гляди! Чтоб мне жабьим яйцом подавиться! Никто, похоже, не пройдет! Скоро и дышать не будем, фря! Из горловины ущелья плотной массой текли воины. Блестящая, будто кольчуга, кожа, безволосые черепа, резкие странные движения, за спинами – секиры и пучки дротиков… До них была тысяча шагов, и Дарт уже не сомневался, что разведчики мертвы, что мимо ущелья не проскользнуть, а значит, драки не избежать. Может, тут оказалось не все тианское воинство, а половина или четверть, но так ли, иначе, а перевес был велик – слишком велик, чтобы рассчитывать на победу. Пожалуй, и на жизнь тоже. В хвосте колонны затрубили, и Джеб, побледнев еще больше, пробормотал: – Сзади тоже жабы… Ну, попались! Глинт выругался. Птоз грозно засопел, бросил на землю свой мешок и вытащил из него топор чудовищной величины, с парой заточенных раковин на длинном топорище. Воины, двигавшиеся в авангарде, встали плотнее и замерли, ощетинившись копьями. Колонна тоже остановилась. Сейчас они были посреди лощины, между неприятельскими отрядами, и в каждом – не меньше полутора тысяч бойцов. Правда, отряды не успели развернуться, и в этом таился шанс на спасение. – Ренхо! – выкрикнул Дарт. – Ренхо, сын Оити! Сюда! Но молодой командир был уже рядом. Крупные капли пота катились по его лицу. – Как… как эти уроды успели? Пропади моя вторая жизнь! Как… Дарт стиснул его наплечник и резко встряхнул. – Как – подумаешь на досуге. Нам придется атаковать – сейчас, немедленно! Мы прорвем их строй и двинемся к перевалу… – Они и там нас перебьют! – выдохнул Ренхо. – Нет. Обещаю – нет! Когда доберемся до скалы – вон той, с тремя вершинами, – я кое-что сделаю. Я… я вызову молнии Детей Элейхо и швырну их в тьяни! А сейчас – строй своих воинов! – Дарт покосился на Птоза, который баюкал свой топор. – Мы с ним – впереди, за нами поставишь трех бойцов, потом – четверых, пятерых, шестерых… клином, ясно? Ширу – в середину, бхо пусти вперед! – Они остановятся, Дважды Рожденный. Они никого не станут топтать – ни нас, ни тьяни. Они не могут. – Они прикроют нас от дротиков, болван! – рявкнул Дарт. – Делай, что я велю! Ренхо вытер пот и почтительно присел; кажется, к нему вернулось самообладание. Офицеры и сержанты с перьями на шлемах уже пробились к командиру, он замахал руками, закричал, отдавая распоряжения; четверка бхо запылила вдоль колонны, отряд раздался в ширину, в руках бойцов блеснули метательные раковины, опустились копья. Дарт построил передовых воинов, бросил взгляд на Джеба: – Вы с Глинтом – к шире. Чтоб волос с нее не упал, не то живьем запихну в погребальные орехи! Маргары исчезли. Он встал рядом с Птозом, привычно чувствуя, как сзади подпирают десятки вооруженных людей, махнул шпагой в сторону бхо, крикнул: «Гони!» – и тут же перешел с шага на бег. Бежать было легко – желтый полдень вступил в свои права, тело казалось невесомым, и не мешала даже пыль, поднятая носильщиками. В разрывах между ними он видел отряды тиан; их становилось все больше и больше, они медленно сочились из ущелья, собирались толпами вокруг военачальников, снимали с плеч оружие – кажется, были уверены, что враг не ускользнет и что спешить некуда. И они совсем не боялись бхо, пыливших к ним по серо-коричневой равнине. Дарт бежал неторопливо, прислушиваясь к мерному топоту ног за спиной. Конечно, эти рами уступали выучкой солдатам короля, которых он водил в сражения, но зато были удивительно понятливы и послушны. Они не сквернословили, не пили, не тискали шлюх в обозе, беспрекословно подчинялись начальникам и, кажется, не ведали страха смерти. Возможно, не понимали, что в столкновении с таким многочисленным противником выживут трое из десяти. Возможно, считали, что каким-то чудом победят под предводительством неустрашимого маргара. А может, просто не боялись гибели, зная, что Элейхо даст им вторую жизнь, простит грехи и даже примирит с врагами. Пыль сделалась гуще, до тиан оставалось две сотни шагов, и Дарт увидел, что они засуетились, выравнивая шеренги и готовя оружие – видно, сообразили, что беспорядочной толпой не удержать плотную массу вражеских воинов. «Не успеют», – со злорадством подумал он, прикидывая, куда направить отряд, если удастся вырваться из западни. На плоской равнине, за строем тиан, маячил невысокий холм, заваленный камнями, отличная позиция для обороны… Сумеют ли они туда добраться? Бежать не меньше лье, после тяжелой схватки, с ранеными, не выпуская из рук оружия… Впрочем, других вариантов он не видел. Сто шагов… восемьдесят… пятьдесят… Замешательство среди метателей дротиков – пыль и туши бхо с наваленным на платформы грузом не позволяли прицелиться. Кто-то из тиан метнул дротик, и один вожатый свалился на землю; остальные развернули носильщиков вправо, открывая дорогу бегущим за ними воинам. Сорок шагов… Бхо затормозили, потом встали как вкопанные. Туча серой пыли клубилась над равниной. Тридцать шагов… Дарт вскинул шпагу, крутанул лезвие в воздухе и ускорил бег. – Долины! – взревел над ухом Птоз, поднимая свое оружие. – Долины! – откликнулись воины, разом грохнув о наплечники древками. Отряд, словно раскаленный нож, врезался в зыбкие шеренги тьяни, и Дарта пронзило чувство острого сожаления. «Все же не обошлось без крови», – подумал он, достав кинжалом чье-то горло, перерубая конечность с протянутым к нему дротиком, парируя удар и выбирая новую цель. Слева рычал и ворочался Птоз, багровая жидкость текла с обоих лезвий его секиры, сзади молча подпирали копьеносцы – казалось, выплеснув гнев в одном-единственном боевом возгласе, они успокоились и двигались теперь в мерном ритме косарей, то посылая копья вперед, то отдергивая обратно. Тьяни не успели перестроиться, и толпа метателей дротиков была сметена и втоптана в пыль за считанные мгновения. За ней стояли бойцы с секирами и копьями, но и для них натиск был слишком яростен и внезапен. Стиснутые между плотным строем атакующих и задними шеренгами, они не могли ни размахнуться, ни ударить, однако не отступали, не разбегались, а молча принимали смерть. Дарт чувствовал, как под его башмаками хрустят ребра упавших и трескаются черепа, словно он двигался не по сухой каменистой земле, а по старому заброшенному могильнику, усыпанному древними костями. Этот жуткий хруст и треск да еще сопение Птоза и глухие удары дерева о дерево были единственными звуками на поле битвы; тьяни молчали, и молчали рами. Странное молчание; будто две огромных руки сплелись в противоборстве и, не имея ни языков, ни ртов, ни губ, ломали в напряженной тишине друг другу пальцы. Раздался резкий возглас, будто удар молота по наковальне, и задние ряды секироносцев расступились. Выпускают, не хотят губить своих, сообразил Дарт, шагнув на твердую прочную землю. Это решение было разумным и подтверждало, что тьяни – существа расчетливые и быстро ориентируются в обстановке, встретившись с чем-то незнакомым, а тем более – опасным. С таким, как непривычный боевой порядок, когда, полагаясь на превосходство в числе, можно победить врага, но лишь за счет потери многих воинов. Тут лучше не торопиться, а обдумать, как справиться с неприятелем – тем более что дальше перевала он не убежит. Клинок Дарта сверкнул над головой, описывая широкие круги – сигнал, что он еще жив и по-прежнему ведет отряд. Сзади слышались хриплое дыхание, топот сотен ног, стоны и невнятные проклятия. Люди утомились, и схватка, конечно, не обошлась без потерь; подумав об этом, он замедлил бег, снова вскинул шпагу и помахал ею в воздухе. Эти знаки были поняты правильно – дважды пропела раковина, и вскоре Ренхо нагнал его, тяжело отдуваясь и размазывая по щекам смешанный с кровью пот. Шлема на нем не было, и от виска до левого уха шла глубокая царапина – след скользнувшей по касательной секиры. – Убитых много? – Треть, Дважды Рожденный. И три десятка покалеченных. Но все на ногах. Кто не смог бежать, уже в чертоге Элейхо. – Шира? – Хвала Предвечному, не ранена… Но мы потеряли носильщиков! Пищу, питье, твое маргарское снаряжение и мешок просветленной ширы! А в нем – целебные мази и снадобья! – Все вернется, приятель, все вернется… Лишь бы дойти до перевала! Ренхо промолчал с угрюмым видом. Кажется, ему не верилось, что Дважды Рожденный знает, как вызвать молнии Детей Элейхо и как ударить ими по врагу. Шагавший рядом Птоз поскреб волосатую грудь, сплюнул и буркнул: – Не дойдем. Жабы, они упрямые… Они как черви водяные – присосутся, не оторвешь! Дыхание Дарта выровнялось, он снова был полон энергии и сил – короткая схватка его не утомила. Обернувшись, он посмотрел назад. От неприятеля их отделяла четверть лье, брешь, пробитая в шеренгах тьяни, уже затянулась, но они не спешили атаковать. Пыль вздымалась над ними бурым облаком, группы воинов, вынырнув из него, двигались к противоположному краю лощины, а сзади наплывало второе облако, висевшее над резервными отрядами. Смысл этих маневров не являлся тайной: вожди чешуйчатых растягивали фронт, чтобы блокировать противника и перерезать все дороги к бегству, все пути, ведущие к ущельям и лесам. Это было совсем неплохо, ибо давало выигрыш во времени. – Веди людей к холму, – приказал Дарт, ткнув шпагой в нужном направлении. – Спрячьтесь за камнями и обороняйтесь. А до того, если время позволит, пусть все напьются, а шира перевяжет раненых. У нее нет лекарств, но есть зверек, укус которого целебен… Надеюсь, он не достался тьяни на жаркое? Ренхо помотал головой. – Зверек, кажется, у нее… А ты, Дважды Рожденный? Разве ты не пойдешь с нами? – Мне нужно подняться к той скале с тремя вершинами. Я ведь говорил: там – молнии Детей Элейхо… вернее, там бхо, который бросает молнии. – И он нам поможет? – Брови Ренхо полезли вверх. – Думаю, мы с ним договоримся. – Договоришься с бхо? – вмешался Птоз, глядя на Дарта с изумлением. – Чтоб мне лишиться второй жизни! Это, наверное, сторожевая тварь, хоть я не слышал, чтобы они вылезали из дырок… С ним, брат, разговоры короткие: чикнет огненной плетью, и голова долой! И потом, откуда ты знаешь, что он слоняется у дыры? Видел, что ли? Дарт лукаво усмехнулся. – Видел. В последний раз, когда разглядывал седловину. Тумана там нет, а бхо есть. Как раз такой, который бросает молнии. Не сомневайся, братец! Он хлопнул Птоза по спине, сунул шпагу в ножны и побежал, спасаясь от дальнейших расспросов. Первую тысячу шагов он одолел рывком, затем пришлось убавить темп, восстановить дыхание и перейти к размеренному бегу. Условия для марафона были неподходящими: солнце жгло немилосердно, хотелось пить, пот заливал глаза, жаркий воздух обжигал пересохшее горло и будто застревал в груди, противясь выдоху, бурая пыль клубилась под ногами. «Не лучший способ сбросить вес», – подумалось ему. Правда, было чем и утешиться: в желтое время он весил меньше обычного и в схватке не получил ни царапины. Гораздо хуже двигаться ночью, израненным и под дождем… Впрочем, дождь бы не помешал. Решительно не помешал! Мысль о нем, о потоках воды, хлещущих с неба, бурлящих в ручьях, переполняющих озера, внедрилась в его сознание, пустила корни, разрослась и расцвела. Он вдруг почувствовал, что упадет, если не остановится и не напьется. Вроде плескалось что-то во фляге… Пара глотков. Он закашлялся, потом прочистил горло, поглядел назад и вперед. Стражи границы уже подходили к холму – крохотная, плотно сбившаяся кучка, темное пятнышко на серой равнине; вслед тянулась большая, поблескивающая на солнце трехпалая лапа, и он не сразу понял, что видит три вражеские колонны и что ощущение блеска создано чешуйчатыми телами тиан. Двигались они быстро, и от холма их отделяла половина лье. Дарт измерил взглядом расстояние до осыпи, поднимавшейся к скале-трезубцу. Дьявольщина! Не меньше лье! Пожалуй, даже больше! Ноги его дрожали, и казалось, не было сил, чтобы заставить их двигаться. Он запрокинул голову, выжал в рот последние капли из фляги, потом повернулся к далекой скале и крикнул: – Голем! Голем! На этот зов, хриплый и слабый, не откликнулось даже эхо. Он закричал опять, потом медленно двинулся по выжженной земле, с каждым шагом набирая скорость. Мысль, что сам он может ничего не опасаться, что тьяни, занявшись стражами, его не поймают и вряд ли разглядят в бурых камнях и осыпях, не приходила ему в голову. Сейчас он был единым существом с Ренхо и его людьми, с Нерис и даже с маргарами, этой нелепой троицей пьянчужек и драчунов. Их боль была его болью, позор – его позором, гибель – его гибелью. Не вспоминал он о камере, куда его пихнули для острастки, о договоре, навязанном ему, и о других обидах, реальных или мнимых, а помнил лишь о своей вине и о том, что должен их спасти; их, и тиан, и всех остальных – всех, кто рвется к дьявольской дыре, вскрытой его старанием. Обернувшись, Дарт уже не разглядел у холма ни единой души; люди исчезли среди гранитных глыб, будто растаяли в жарком неподвижном воздухе. Зато их враг был виден, как на ладони, и приближался с уверенным спокойствием: два фланговых отряда заходили в тыл, а средний уже замер и, вероятно, дожидался, когда прозвучит сигнал к атаке. И будет он как похоронный гимн над Ренхо и его бойцами… – Пожалуй, они не успеют перевязать раненых, – пробормотал Дарт сквозь зубы, остановился, набрал воздуха в грудь и крикнул: – Голем! Голем, где тебя черти носят! Молчание было ему ответом. Он снова пустился в путь, то и дело оборачиваясь на бегу. С каждым разом картина менялась, рождая ощущение томительной тревоги и бессилия; он видел, как шеренги тьяни окружают холм, как выдвигаются вперед секироносцы, как занимают просветы меж ними метатели дротиков, как блестит чешуя и грозно колышутся древки. Вся эта многотысячная масса готовых к схватке бойцов казалась ему хищником, таким же, как маргар, вполне разумным, чтоб убивать и терзать, но не способным представить себя на месте жертвы и ощутить ее ужас. Впрочем, это было недоступно тьяни, которых, по словам шир-до, Предвечный обделил воображением. «А потому, – размышлял Дарт, глотая душный раскаленный воздух, – не будем к ним суровы; убийц немало и среди людей с богатой фантазией». Он остановился, кашляя и задыхаясь, и в этот миг над долиной раскатилась протяжная трель рожка. Не сигнал к атаке, а зов о помощи; трубил кто-то из людей Ренхо, то ли прощаясь с покинувшим их маргаром, то ли напоминая, что они еще живы, но скоро умрут под ливнем дротиков и копий. Эта картина была такой ясной, такой пронзительно отчетливой, что Дарт содрогнулся, поднял лицо к уже недалекому утесу и заорал: – Голем! Проснись, мон гар! Ко мне! Осыпь у подножия скалы зашевелилась, раздался грохот, полетели камни, посыпалась щебенка, и на поверхность вынырнула плоская голова, а за ней – пара гибких конечностей, быстро разгребавших землю, серая туша корпуса и мощные, как бревна, ноги. Ираз выбирался из-под завала, будто муравей из кучки песка – огромный муравей, который ворочался среди песчинок размером с лошадиный череп. Он расшвыривал их точными стремительными движениями и, утвердившись на четырех ногах, замер на мгновение, потом ринулся вниз по склону, вызвав небольшой обвал. Над его головой развернулась антенна, вспыхнули щели видеодатчиков, панцирь на груди раскрылся и сошелся вновь, явив темное дуло дисперсора; другие приспособления и инструменты вылезли из серой туши и с тихим шелестом исчезли под броней. Дарту не доводилось видеть зрелища прекраснее. Голем стоял перед ним, закрывая половину неба. В его тени было прохладно, безопасно и даже не хотелось пить. – Тысяча чертей! – пробормотал он, с трудом шевеля пересохшими губами. – Ты надежно спрятался, мон шер ами! Клянусь своим глазом, еще не выцарапанным широй! – Спрятался надежно, капитан, – подтвердил Голем гулким басом. – В темный период в данной местности сильные дожди. Бывают обвалы. – Он смолк, переступил передними ногами, словно застоявшийся жеребец, и поинтересовался: – Какие будут приказы, шевалье? – Холм видишь? Холм с камнями – там, на равнине? Холм, а вокруг несколько тысяч лысых парней, враждебно настроенных, но вполне разумных? Так вот, убивать их нельзя, надо отогнать… Думаю, если ты выпустишь десять-двадцать импульсов, будет достаточно. Импульсы небольшой мощности, и целься по всему периметру холма, перед их шеренгами. Все понял? – Не все, мой лорд. – Плечо Голема раскрылось, и над ним поднялся ствол малого дисперсора. – Прошу сагиба уточнить: требуется десять импульсов или двадцать? – Пали на всю катушку, – посоветовал Дарт.Глава 18
Лицо Нерис было бледным. Даже не бледным, а серым, так что раят на виске почти сливался с кожей. Под ее глазами залегли тени, губы пересохли, нос заострился и над переносьем пролегла глубокая морщина; она казалась сейчас похожей на сорванный и уже поблекший цветок. И голос ее был таким же – не звонким и повелительным, а тусклым, как старое зеркало с осыпавшейся амальгамой. – Я больше не могу… Их двадцать восемь, и у половины задеты внутренности или раздроблены кости… Тут и три ширы не справятся! Речь шла о раненых. После того как тьяни отступили, устрашенные молниями, пограничники поднялись к перевалу, и те из них, кто еще держался на ногах, занялись устройством лагеря. Место выбрали не на сожженной земле у дыры, а за скалой-трезубцем, в уцелевшем лесу, где нашлось озерцо, а также мягкий мох, кора и вдоволь сучьев и ветвей, необходимых для навесов. Кроме воды, был сок во флягах, но ничего питательного – в здешних лесах деревья не плодоносили, а весь запас продовольствия достался чешуйчатым вместе с четверкой бхо. Но главной утратой являлись скафандр Дарта с целителем-прилипалой и мешок ширы с лечебными снадобьями. Порезы, царапины, синяки и треснувшие ребра Нерис врачевала наложением рук либо с помощью Броката, но у тринадцати пострадавших, которых с трудом затащили на перевал, дела были плохи: ранения живота, открытые переломы, травмы черепа, а также дротики, застрявшие под сердцем. Двум-трем она могла помочь, но не чертовой дюжине; шира – тоже человек, и мощь ее не беспредельна. Ренхо и его помощник Храс, светловолосый мужчина средних лет, командир одной из полусотен, сосредоточенно хмурились, бросая взгляды то на своих людей, мастеривших навесы, то на равнину, где в клубах пыли маршировали колонны врагов. Видимо, тьяни не собирались уходить и, по наблюдениям Дарта, занимали сейчас проходы в горах, обзорные высоты и остальные стратегические позиции. Большая группа расположилась на холме, покинутом стражами, и к этому месту пригнали бхо – он видел их темные туши среди камней, с наваленным на платформах грузом. Груз, кажется, не пострадал. – Зеленое время, – устало промолвила Нерис, взглянув на свой джелфейр. – Мне нужен мой мешок, нужен бальзам из мякоти погребальных орехов, нужны сухие травы фах и зун, нужна мазь из корня хрза, чтобы прижечь раны, и нужен мой прозрачный камень. Если я этого не получу, двое не доживут до красного времени. – Сагга и Омис, – с хмурым видом уточнил Храс. – У одного распорот живот, а у другого торчит под лопаткой дротик. На лице Ренхо изобразилось уныние. Сейчас было особенно заметно, как он неопытен и молод; похоже, пробился в командиры благодаря отцу-старейшине, чем подтвердил известный Дарту тезис: протекция решает все, даже в далеких галактических мирах. Сам бы он поставил капитаном Храса – тот казался мрачноватым, зато был решителен и тверд. – Да будет милостив Предвечный к Сагге и Омису, – вымолвил сын Оити, искоса поглядывая на Дарта. – И пусть скорее избавит их от мучений и пошлет вторую жизнь в своих чертогах… На что еще нам надеяться, если шира бессильна? Дарт хмыкнул, потом ласково погладил руку Нерис. Женщина ответила ему благодарным взглядом. – Она не бессильна, она умеет делать такие вещи, какие тебе и не снились, Ренхо. Немного утомилась и нуждается в своих снадобьях, вот и все… Может быть, стоит послать Броката? Пусть полетает, поищет что-нибудь подходящее… скажем, целительный цветок. – Здесь его нет, – отозвалась Нерис. – Так уж устроен мир, что здесь, в горах на побережье, нет ничего полезного – ни плодов, ни орехов, ни дерева туи, ни Цветка Жизни. – Мон дьен! Ты права, местечко красивое, но бесплодное, – пробормотал Дарт, оглядываясь. Они стояли на лесной опушке, у горного склона, что круто обрывался вниз. Под ними, на расстоянии пяти-шести бросков копья, лежал треугольник лощины, стиснутой барьерами отрогов, а за лощиной зеленели холмы и простирались лазурные, еще безоблачные небеса. Левее обрыва торчала, загораживая вид, скала-трезубец, и потому сам перевал, покрытый коркой спекшейся почвы, был не виден. Там, у канала, пробитого дисперсором, дежурил Голем – подальше от глаз, чтоб не пугать своих, и на тот случай, если враги проявят внезапную активность. Сзади и справа тянулся лесок из низких деревьев с сине-зеленой листвой, и земля под ними казалась змеиным кладбищем – их корни толщиной в руку выступали на поверхность, свиваясь и переплетаясь, как неподвижные тела питонов. Вдали, за изломанным силуэтом горного хребта, синел океан – словно напоминание о том, что этот мир не похож на Анхаб и Лугут, на Землю и Йелл Оэк; здесь, если не мешали горы и скалы, взгляд уходил на десятки лье. Из груди Дарта, завороженного этой картиной, вырвался невольный вздох. Конечно, не Гасконь, но зрелище прекрасное… чуждое, зато пленяющее необычностью… необозримый морской простор, словно опрокинутый над миром и продолжающий небеса… Сердце его пело; дисперсор с полным зарядом оттягивал ремень, в ста шагах дежурил верный Голем, и черный зев пробитого в почве тоннеля напоминал, что его миссия близится к завершению. Конечно, осталось еще спуститься и выдрать кусок ферала – нелегкая задача, но по сравнению с ней войска тьяни казались мелочью. Коснувшись ладонью рукояти шпаги, он сказал: – Не беспокойся, моя госпожа. Раз тебе нужен мешок, твои бальзамы и твой прозрачный камень, ты их получишь – не позже, чем кончится зеленое время. Сейчас я спущусь в долину и потолкую с этими лысыми парнями… Зачем им наш груз и носильщики? И почему бы их не вернуть? Ренхо с облегчением вздохнул. Похоже, такая мысль бродила в его голове, но высказать ее напрямую он постеснялся. – Пусть молнии Элейхо сохранят тебя, доблестный маргар… Ты снова нас спасаешь! – Молнии, конечно, вещь убедительная, – согласился Дарт, – но я постараюсь договориться по-хорошему. Они понимают фунги? – Фунги понимают все, – буркнул Храс. – Только зачем с ними говорить, Дважды Рожденный? Пусть бхо-охранник сожжет их, и дело с концом! Или он больше не повинуется тебе? Губы Нерис дрогнули, но она не вымолвила ни слова. Истина была ей открыта – не вся, но большая часть, вполне достаточная, чтобы судить о власти, которую Дарт имел над Големом, – но шира умела хранить тайны. Все остальные довольствовались официальной версией: бхо-охранник вылез из дыры, маргар его заметил и приспособил к делу, а как – это большой маргарский секрет. Обхватив Ренхо и Храса за плечи, Дарт подтолкнул их к лагерю. – Идите! С бхо я как-нибудь разберусь. Ваше дело – устроить раненых, разжечь костры и проследить, чтобы навесы не протекали. Шира и ее защитник не любят спать под дождем, а пещер – вроде той, куда меня засунули в Долинах, – здесь нет. – Он ткнул Ренхо кулаком в бок. – А ведь уютное было местечко, не правда ли? И спалось там отлично – после зелья, которое мне подмешали. Военачальники ушли. Храс шагал как заведенный, твердо и прямо, Ренхо оглядывался, и его виноватая физиономия как бы говорила: вся надежда на тебя, маргар… ты уж не попомни зла… Ухмыльнувшись, Дарт проводил его взглядом, почесал кончик носа и наклонился к Нерис: – Ты видела нашу схватку с тьяни? Предупреждал о ней Элейхо в вещем сне? – Нет. – Пальцы ее теребили ракушки джелфейра. – Нет, Дважды Рожденный. Я видела, как ты спускаешься в дыру, и знала, что ты обратно не вернешься. Знала! Я была в том уверена, ибо такое чувство вселил в меня Предвечный. – Она помолчала и, опустив глаза, добавила: – Элейхо предупреждает лишь о самом важном, о тех событиях, которые меняют жизнь или угрожают смертью… Значит, схватка с тьяни не важна, а важно, что ты уйдешь и не вернешься. Не вернешься ко мне… Дарт коснулся губами ее ресниц, снял повисшую на них слезинку. «Утешать женщин – особое искусство», – подумалось ему; сам он им не владел, хоть и прожил без малого полтора столетия. Или больше – время, проведенное в Инферно, не поддавалось исчислению. – Я хочу спросить… о той женщине, которую ты вызвала… Она в самом деле здесь? – Дарт приложил ладонь к виску. – Она или мои воспоминания о ней? – Все же не веришь? – Глаза Нерис затуманились. – Но ведь ты был ею, а разве такое возможно, если вспоминать об этой женщине? Просто вспоминать, а не превратиться в нее? – Отчего же, возможно, не наяву, так во сне. Мне виделись сны, в которых я был королем, владыкой огромного края и повелителем тысяч людей… Да, такое мне снилось! В детстве, еще во время первой жизни. Лицо Нерис вдруг озарилось мягкой улыбкой. – Ты был повелителем, но не тем рами, который властвовал над тобой и жителями ваших краев. Как ты его назвал? Король? Это его имя? – Имя? Нет. Его звали… – Дарт сморщился, затем помотал головой. – Не помню имени, дьявол! Впрочем, неважно… Король – не имя, а звание, как старейший в Лиловых Долинах. Власть его безмерна и не всегда служит добру… – Он улыбнулся. – Теперь я мудрее и старше и не хочу быть королем. – Ты носил это звание в снах, но оставался самим собой, и дар Элейхо, принадлежавший королю, не проникал в твой разум, – терпеливо повторила Нерис. – А то, что случилось с тобой теперь, совсем иное. Эта женщина в самом деле здесь, – палец ширы коснулся виска Дарта, – и стоило приоткрыть щель в стене, как ты ее вызвал. Сам! – Я? – Да, ты! Потому что ее смерть – самое тяжкое твое воспоминание! – Я даже не помнил о ней… не помнил, клянусь богом! – пробормотал Дарт и перекрестился. – Ведь я потерял память! – Ничего не теряется в этом мире, и Предвечный помнит все, – возразила Нерис. – Ты должен верить этому, Дважды Рожденный. Ведь я поверила, что ты явился с другого солнца на летающем корабле! – Поверила, когда увидела Голема и убедилась, что я – не лжец и не сумасшедший… – В тебе есть то и другое, как в каждом из нас, и этим мы отличаемся от бхо и от того создания, которое ты называешь Големом. – Она закрыла лицо руками и тихо промолвила: – Мне надо отдохнуть. Силы мои принадлежат страждущим рами… А ты иди, маргар, и не возвращайся без моего мешка! Кивнув, Дарт быстрым шагом направился к скале. Когда он обогнул ее, башмаки погрузились в мягкий пепел, осевший под дождями, но не успевший еще слежаться и закаменеть. Тут, в самой середине перевала, была округлая выемка диаметром в тридцать-сорок шагов, окруженная обгорелыми пнями, а в центре ее, за невысоким барьером оплавленного камня, темнел пробитый дисперсором колодец. Стенки его тоже выглядели оплавленными, хотя дисперсионный луч не нагревал породу, а разрушал молекулярные связи, фактически преобразуя твердое и жидкое в плазму. Однако этот процесс деструкции являлся экзотермическим и шел с таким выделением тепла, что на периферии активной зоны горело все, что могло гореть, а то, что не горело, – плавилось. Рядом с черной дырой застыл Голем. Дарт втянул ноздрями воздух, снова убедился, что ничем особенным не пахнет и никакие туманы у дыры не плавают, затем поманил ираза пальцем: – Ко мне, мон гар! Седло! – Слушаюсь, хозяин. За плечами Голема выдвинулось сиденье. Он приблизился, выдавливая в пепле плоские овальные следы, втянул в корпус мощные ноги, сделавшись вдвое ниже, подставил многопалую лапу. Привычным движением Дарт взлетел в седло, и тут же его подбросило вверх – да так, что лязгнули зубы; Голем выдвинул все четыре нижние конечности. – Полегче, сударь! Я чуть не откусил язык! – Прошу прощения, бвана, не рассчитал. Гравитация в данный момент на семь процентов ниже нормальной. – Считай получше, – велел Дарт, – не то споткнешься и сбросишь меня в какую-нибудь яму. Местность пересеченная, так что давай-ка поосторожней… Едем вниз, к тем камням, где мы уже были, и к тем парням, которых пугали. – Не споткнусь, капитан, и не сброшу, – откликнулся Голем, и одна из его лап обхватила ноги Дарта. Он зарысил вниз по склону, вздымая пыль, плавно раскачиваясь, потом перешел в галоп и принялся декламировать гулким басом: – Холм с камнями на равнине, а вокруг несколько тысяч лысых парней, враждебно настроенных, но разумных. Убивать нельзя, надо отогнать… Двадцать импульсов небольшой мощности, целиться по всему периметру холма, перед их шеренгами… Все понятно, сагиб! Напугаем и отгоним! – Ничего тебе не понятно, – сказал Дарт, наслаждаясь стремительной скачкой и глядя, как вырастает холм. – Сейчас не надо стрелять и отгонять, а что до испуга, так ты их безусловно напугаешь. Одним своим видом, мой мальчик. – Но почему, мой принц? Кто же боится иразов! – Во-первых, я не принц, а шевалье, а во-вторых, народ здесь темный и не привыкший ценить красоту. На мой взгляд, ты прекрасен, – Дарт погладил плоскую голову под серебристым шлейфом антенны, – но им покажешься чудищем. Но ничего, друг мой! Утешься тем, что о вкусах не спорят. – Благодарю, капитан. Польщен, что оценили мою внешность. – Сделав паузу, Голем спросил: – Прикажете изъять из памяти слово «принц»? – Не прикажу. Может быть, я еще сделаюсь принцем. – Могу поинтересоваться, когда и как, хозяин? – Когда – не знаю, а как… Женюсь на принцессе, мон петит, и стану принцем! У подножия холма ираз сбавил скорость. – Обход по периметру, – распорядился Дарт и, приподнявшись в седле, крикнул на фунги: – Я – маргар и пришел сюда с миром! Я хочу говорить с вашими старейшими! Пусть они выйдут ко мне, не опасаясь молний! Бхо, который вылез из дыры, не будет метать их без моего повеления. О молниях стоило напомнить, так как тьяни, разглядев, кто спустился с перевала в пыльном облаке, зашевелились, и под прикрытием гранитных глыб выросла сотня метателей дротиков. Их бледные, покрытые чешуйками лица не выражали ничего, глаза казались бездонными, темными, и Дарт испытывал сомнения, что страх или гнев, любовь или ненависть что-то значат для этих созданий. Но логика была им не чужда, так же, как понятие целесообразности; вполне достаточно, чтобы вступить в переговоры. Голем остановился у прохода меж двух массивных каменных обломков, подставил лапу, и Дарт спрыгнул наземь. Спекшаяся почва скрипнула под подошвами. Место было выбрано не случайно; сюда ударила одна из молний, и черная выжженная проплешина служила для тьяни напоминанием, что сила не на их стороне. Похоже, это они понимали: строй бойцов был неподвижен, и ни одно копье не целило в Дарта. Потом он услышал отрывистый гортанный возглас, воины опустили оружие, и что-то мелькнуло за их спинами – неясная тень в блеске перламутра и чешуи. Дарт ждал, выпрямившись во весь рост и оперев ладонь о рукоятку шпаги. В проходе показался тьяни. Он был высок и худощав; голый череп сиял на солнце, широкие ремни перепоясывали талию и торс, и бляшки из раковин, украшавшие их, слепили глаза, словно множество маленьких круглых зеркал. Его чешуйчатая кожа казалась гладкой, на странном лице, безгубом и безносом, с сильно вытянутыми челюстями – ни морщинки, но некое шестое чувство подсказало Дарту, что перед ним – старик. Это ощущение возникло сразу – может быть, по той причине, что двигался он не так уверенно и быстро, как остальные тьяни, а три щелевидных глаза не мерцали под выпуклым куполом лба, а были словно подернуты пепельной дымкой. «Сколько они живут? – подумал Дарт, пытаясь припомнить беседы с Наратой. – Кажется, об этом мы не говорили…» Зато говорили о другом, и он почти не сомневался, что сможет сторговаться с тьяни. Залог успешной дипломатии был всегда одним и тем же, и на Земле, и на Анхабе, и в иных мирах: вызнать слабости противника и показать свою силу. Слабости он знал, а сила была на месте – высилась над ним, словно гигантский жук, вставший на четыре лапы. – Ты – Убивающий Длинным Ножом, – вымолвил тьяни. Голос его был резок, но он говорил на фунги отчетливо, без всякого акцента. – Мы тебя знаем. Ты сражался с кланами То, Заа, Бри и Хиа. Сражался на реке, и оставшиеся в живых говорили, что у тебя есть нож, который рубит древки секир, и есть плавающий бхо. Но они не говорили про бхо, который бросает молнии. Он смолк, явно в ожидании ответа, и Дарт, вытянув до половины шпагу, произнес: – Все правильно. Вот мой длинный нож, и вот мой бхо. Он вылез из хранилища Детей Предвечного и не был на реке, когда вы уничтожили даннитов. Если бы он там оказался, ваши тела сейчас обгладывали бы водяные черви. Вытянув руки, тьяни соединил их перед грудью. Его конечности гнулись в пяти местах, и потому получилась почти идеальная окружность – видимо, ритуальный знак, предохранявший от ужасной смерти. Руки опустились, и снова раздался резкий отчетливый голос: – Я – Шепчущий Дождь из клана Муа. Так меня называют теперь, ибо срок мой истекает, и скоро я отправлюсь к Предвечному. Я – старейший среди старейших, и время мое – синее. Какое твое время? Интересуется возрастом, понял Дарт и ответил: – Я тоже не молод, но время мое – зеленое. Я маргар и скоро спущусь в хранилище Детей Элейхо. Лицо Шепчущего было бесстрастным, но что-то удивительное случилось с глазами; Дарт не сразу сообразил, что среднее око по-прежнему смотрит на него, а два других уставились на Голема. – Да, ты маргар, – произнес тьяни. – Только маргар может повелевать охраняющим бхо. Хороший маргар, лучший, чем тот, которого мы взяли в речной дельте… – Теперь все три глаза смотрели на Дарта, и он уловил в них отблеск задумчивости. – Шира, покинувшая нас, с тобой? – Сбежавшая от вас, – уточнил Дарт. – Со мной. Руки Шепчущего снова согнулись, но уже не кольцом, иначе; видимо, эти жесты заменяли тьяни мимику. – Чего ты хочешь, маргар, Убивающий Длинным Ножом? Зачем ты пришел? – Хочу мира. Пришел, чтобы договориться о мире. Ты понимаешь, что это значит – договориться? – Я понимаю. Говори. – Вы вернете мне бхо-носильщиков с грузом. На одном из них – мое снаряжение. Я должен его получить, чтобы спуститься вниз, в подземелье. – Дарт говорил отрывисто, бесстрастно, стараясь имитировать речь Шепчущего; тот замер меж двух гранитных глыб, будто изукрашенная перламутром статуя. – Вы можете остаться здесь, но не должны подходить к дыре. Это опасно. Если из хранилища вылезет еще один бхо, такой же, как этот, – он кивнул в сторону Голема, – я не сумею вас защитить. – Что потом? – Рука Шепчущего волнообразно изогнулась. – У вас нет ни ширы, ни маргара, – произнес Дарт. – Но это не беда, я могу поработать на вас. Достать из хранилища зерна для тьяни. Внезапно Шепчущий сделал пару шагов вперед, покинув щель между камней, и оглядел Дарта. Не так, как осматривает человек; его голова и плечи были абсолютно неподвижными, двигались только глазные яблоки: среднее око – вниз, два крайних – вверх. – Ты – рами, – констатировал он. – Ты достаешь зерна для рами. – Я – маргар. Я достаю зерна для рами, тьяни, джолтов и всех остальных. Я хочу, чтоб это балата было спокойным. Мертвые – мертвы, а остальные пусть живут, пока Предвечный не призовет их в свои чертоги. Он решает, когда закончится первая жизнь роо и начнется вторая – он, а не мы. Я почитаю его волю и потому говорю: зерна, которые мне удастся достать, будут разделены по справедливости. И если среди них найдется бхо, преобразующий сущность, – тот бхо, которого ценят тьяни, – то он достанется вам. Клянусь своей второй жизнью и милостью Элейхо! Шепчущий вскинул руки, согнув их в двух или трех местах, и воины, стоявшие за камнями, тотчас повторили этот жест. Возможно, он являлся признаком недоверия, изумления, согласия или благодарности, если тьяни могли испытывать такие чувства; это осталось для Дарта секретом, но поднявшийся гул голосов был более красноречив. Его собеседник сделал резкое движение плечами, повернулся всем корпусом и произнес длинную прерывистую фразу – будто гвозди в доску забил. Наступила тишина. – Что ты им сказал? – Я сказал, бхо-радость еще не у нас. Я сказал, что рами могут нас обмануть. Я сказал, чтобы они молчали. Это все, что я сказал. Скинув на миг маску бесстрастия, Дарт удивленно приподнял брови. – Вы знаете, что такое радость? – Да. Радость – это бхо. Тот бхо, о котором ты говоришь. Много циклов у нас не было радости. – Что вы делаете с этим бхо? – Ложимся в том месте, где он вырос, и к нам приходит радость. Ко многим тьяни. – Он так велик? – спросил Дарт, удивляясь все больше и больше. – Я, Шепчущий Дождь, его не видел, и мой родитель не видел, и родитель родителя. Но мы знаем, что бхо-радость похож на траву, на красную траву. Вначале, когда шира его пробудит, это небольшой пучок травы, но он растет, заполняет большое пространство и живет тысячи циклов. Потом умирает. Трава, мон дьен! – поразился Дарт. Странное представление у Темных о ментальном проекторе! Ни кресла, ни шлема-коммуникатора, ни усилителей-имплантов, ни даже памятных лент… Впрочем, что удивляться! У дерева туи тоже не было ни микрофонов, ни экранов, и все же оно передавало звуки и образы. – Вы получите этого бхо, – сказал он старому тьяни, – и шира пробудит его для вас. Я отдам вам всю радость, какую найду… если найду и если сумею выбраться обратно. А теперь распорядись, чтобы пригнали носильщиков. Поздно. Зеленое время на исходе. Но Шепчущий не двинулся с места. – Как я узнаю, что ты найдешь? Если в хранилище нет бхо-радости, ты не будешь виновен в обмане. Но если ты найдешь бхо-радость, то можешь не отдать его, сказать, что не нашел. Поэтому лучше, если мы поменяемся: я отдам носильщиков, а ты пришлешь к нам ширу. Она побудет у нас, пока ты не найдешь бхо-радость. Согласен? – Не согласен. Как я узнаю, что вытащил нужный бхо? Я маргар, а не провидица из Трехградья! Дарт невольно ухмыльнулся, представив, как выменивает свой скафандр на просветленную ширу. Вряд ли она будет счастлива попасть к чешуйчатым в заложницы! – Верно, не узнаешь, – подтвердил Шепчущий. – Что нам делать? – Ты можешь сам пойти со мной. Ты и десяток молодых тьяни, чтобы заботиться о тебе. Сядь у дыры и пересчитывай зерна, которые я принесу, а шира будет их пробуждать. Это справедливо? – Справедливо, – без колебаний согласился тьяни. – Но я хочу подумать. Хочу увидеть, что случится, если сделать так или иначе. – Подумай, но недолго. – Дарт хлопнул Голема по ноге, забрался в седло и прошептал, мешая родной язык с анхабскими словами: – Переговоры закончены, мон гар. Старый мсье думает, что делать. Компре? Ну, бьен! Помоги ему. Щитки на плечах Голема разошлись с резким щелчком, два ствола вынырнули из гнезд и повернулись: один – налево, другой – направо. Потом скрипнула диафрагма на груди, и главный калибр, цилиндр толщиною с голень, уставился прямо на Шепчущего, приподнялся, нацелился в камень и с неторопливым величием скользнул вниз. Ровная канавка прорезала каменную поверхность; пахнуло жаром, в воздухе заклубился дым, и тьяни, стоявшие за обломком, отшатнулись. Шепчущий повернулся и взглянул на гранитный монолит. – Если сделать иначе, – произнес он, спокойно и четко выговаривая слова фунги, – ты уничтожишь мой клан и другие кланы, и вместо радости в этой жизни мы получим ее лишь в чертогах Предвечного. Если сделать так, как тысказал, мы получим надежду. Может быть, ты не обманешь. Но если обманешь и убьешь меня и десять моих потомков, это не будет большой потерей. Потомков у меня много, и мое время – синее. Он снова повернулся, что-то крикнул воинам, и ухо Дарта различило легкие шлепки и топот; вскоре носильщики появились среди камней, вздымая над ними платформы с грузом. Четверка бхо вышла на равнину и, ускорив ход, зашагала по пыльной земле курсом на перевал. Тьяни-вожатые, сидевшие на мешках и корзинах, друг за другом спрыгивали вниз. – Ты мудрый роо, – вымолвил Дарт. – Мы с тобой пришли к согласию, и я тебя не обману. Но за Предвечного не ручаюсь. Только он может послать вам бхо, дарящее радость. – Кто знает волю Предвечного? Он посылает, и он отбирает, – тихим голосом произнес Шепчущий. – Когда я должен явиться в твой лагерь, сесть у дыры и пересчитывать зерна? – В желтый период, когда тело весит меньше всего. В это время я начну спускаться, а тьяни и рами будут ждать и молить Элейхо, чтоб мне не отрезало руки и ноги. Если не отрежет, обязательно вернусь. Шепчущий отступил в проход между камней, пошевелил глазными яблоками, рассматривая человеческую фигурку, оседлавшую мощные плечи Голема, потом сказал: – Долго живу. Так долго, что встречался с рами. Не очень часто, но встречался. Рами говорят, что маргары – храбрецы и, подобно нашим кланам, не боятся смерти. Сайан, тот маргар, который плыл с широй, не боялся, но не хотел нам помочь. Бесполезный. Я приказал его убить. Ты тоже не боишься. Все маргары такие? – Разные попадаются, – буркнул помрачневший Дарт и повернул своего скакуна к перевалу.Глава 19
– Лысые жабы! Чтоб мне лишиться второй жизни! Зачем они здесь? Почему ты позволил им прийти? – Нерис шипела, как разъяренная кошка. – Велю Храсу – пусть снесет им головы! – Они – парламентеры и наблюдатели, – объяснил Дарт, – и могут рассчитывать на дипломатическую неприкосновенность. Они пришли к нам в час перемирия. Под белым флагом, так сказать. Спор происходил в пятнадцати шагах от темневшего в почве отверстия. Над ним суетились трое маргаров и Ренхо со своими людьми, налаживали ворот с толстой веревкой, мочили в глубоком корыте полоски ткани; поблизости, словно часовой, застыл ираз, а за его массивной серой тушей сидели тьяни. Явившись в урочный срок, к началу желтого времени, они расположились у края засыпанной пеплом выемки: Шепчущий – впереди, а за ним – десяток чешуйчатых воинов из клана Муа. Все они были безоружны. Нерис раздраженно пробормотала: – Парламентеры? Белый флаг? Не понимаю твоих слов! Не понимаю, о чем ты толкуешь! Я знаю одно: они – убийцы! Та старая жаба в ремнях и раковинах велела зарезать Сайана! – Сожалею о его участи, сударыня… Однако позволь заметить: они – не убийцы. То есть, конечно, убийцы, но в той же степени, как мы. Ты, я и наши люди, данниты и все остальные. Все мы – жертвы печальных обстоятельств… Так стоит ли их усугублять? – Стоит! – решительно заявила Нерис. – Я не забуду того, что они сделали! Дарт вздохнул. – Я не призываю тебя забыть и простить, я только хочу, чтоб ты проявила терпение и выдержку. И каплю сострадания… не к ним, ко мне… Вспомни о своих вещих снах, ма белле донна! Вспомни, что через миг я полезу в дыру и мы, быть может, не свидимся вновь! Так стоит ли нам говорить о тьяни? И стоит ли ссориться? Подумай об этом, Нерис Итара Фариха Сассафрас т'Хаб Эзо Окирапагос-и-чанки! Это был запрещенный прием, но он подействовал. Глаза Нерис затуманились, взгляд стал мягче; с коротким всхлипом она шагнула к Дарту и обняла его, прижавшись щекой к щиткам скафандра. – Хорошо, я буду терпеливой. Но если ты не вернешься… – Если не вернусь, тем более нельзя их трогать, моя красавица. Вспомни о раненых и воинах Ренхо! Вас – полторы сотни, а на равнине – десятитысячная армия! И что случится, если убить ее вождя? Он поцеловал соленые губы Нерис и твердым шагом направился к дыре. Ворот, древесный ствол с обрубленными ветвями, уже установили; Птоз, напрягая могучие мышцы, крутил рукоять, Глинт вытравливал веревку, а Джеб, устроившись на барьере из плавленного камня, то принюхивался к воздуху в дыре, то разглядывал какой-то древний свиток – видимо, извлеченный из валявшегося рядом мешка. Стражи теперь отошли подальше и следили за маргарами с почтением и неприкрытым любопытством. Их было столько же, сколько тьяни, – одиннадцать душ вместе с Ренхо; прочие, под командой Храса, стерегли лагерь и подступы к нему. – Глянь-ка, фря! – Джеб ткнул пальцем в развернутый свиток. – Мозги у Глинта хоть заплыли жиром, а ничего, соображает! Прав наш Глинт! Вот записи Чоги и Сиру, моих почтенных предков… И сказано тут, что ядовитый туман вползает иногда в отверстие и копится в самых верхних коридорах… Это плохо, чтоб меня черви съели! Выходит, брат, ты до дождика не доберешься – ведь в тех коридорах вовсе не продыхнуть! Даже с мокрыми тряпками! – Тряпки мне не нужны, – сказал Дарт, покосившись на корыто. – Моя одежда непроницаема для туманов и дождей. Он опустил лицевую пластину и снова приподнял ее. На рукаве скафандра светилась золотистая полоска – полный энергоресурс, а значит, все инструменты, оружие и механизмы, включая двигатель, в абсолютной готовности. Все, с чем он явился в этот мир после крушения Марианны: маяк-передатчик, личный дисперсор, визор, блок питания и, разумеется, шпага и кинжал. Все, кроме целителя-прилипалы, который поддерживает сейчас жизнь Омиса. Остальные раненые были уже вне опасности. Джеб с завистью погладил плотную ткань скафандра. – В такой одежке и впрямь не страшно ничего… От предков, фря, унаследовал? – От дядюшки по материнской линии, – ответил Дарт и ухмыльнулся, подумав о родительском наследии. Советы, желтовато-рыжий мерин, пятнадцать экю, а также письмо, похищенное черноусым негодяем… Других богатств, какими одарила родина, ему не вспоминалось; Гасконь была прекрасна, но бедна. Он склонился над манускриптом Джеба, вгляделся, щурясь, в странные значки, то ли руны, то ли иероглифы… Сам свиток – из тонкой, но прочной коры, которая заменяла тут пергамент и бумагу; такие свитки встречались ему в жилище шир-до и в комнате, где заседали старейшие. Но в этом, кроме непонятных букв, были еще и рисунки – что-то вроде чертежей затейливых многоярусных лабиринтов. Дарт ткнул в один из них. – Что такое? План? – План, – подтвердил Джеб. – Той дыры, где Чоге подпалило шкуру. Верхний уровень… Сорок, фря, коридоров, и в каждом – или туман, или дождик, или сторожевые бхо… Ниже – еще хуже. Тупики, колодцы-трясунчики да огненные бичи… Или твоей одежке и бич не страшен? Легко быть маргаром, ежели так! – Не уверен насчет бичей, – признался Дарт и кивнул Голему. – Ну, друг мой, пора, спускайся! Однако без торопливости. Увидишь что любопытное, остановись и жди. А если наткнешься на неприятности, стреляй. Он произнес это на анхабском и подмигнул разинувшему рот Джебу: – Древний язык, брат, очень древний. Маргарское наречие, понятное для бхо… Потому мы с ним и договорились. Голем зашагал к дыре бодрой иноходью, слегка подпрыгивая и раскачиваясь. В минувшие дни, еще в период тренировок в Камелоте, Дарт обучил его всем лошадиным аллюрам – шаг, рысь, галоп, карьер и прочие тонкости, которые были доступны четырехногому иразу. Со временем Голем их усовершенствовал, так что походка в какой-то степени могла отражать его настроение – ибо он имел определенный нрав и некие свойства, подобные движениям души. Иноходь, в частности, означала, что он доволен и приступает к заданию с энтузиазмом. – Такую тушу веревка не выдержит, – сказал Глинт, боязливо отступая в сторону. – Такого не выдержат десять веревок. Такому надо… – Ничего ему не надо, – Дарт тоже отодвинулся от зиявшего в земле колодца. – Вылез ведь он наверх? Вылез! Ну, так же и спустится. – Верно, клянусь ногой Крибы! – Птоз разогнул спину и вытер вспотевший лоб. – Спустится! А коль расшибется, так невелика потеря. Голем развернулся тылом к дыре, перешагнул через каменный барьер, доходивший людям до пояса, уперся в него лапами и начал медленно опускаться, задирая ноги и скользя подошвами по камню. Через мгновение он повис на вытянутых передних конечностях, прижав к стене четыре нижних: пару – на уровне плеч, другую – напротив пояса; затем что-то чмокнуло, мощные лапы расслабились и исчезли за краем колодца. Теперь ираза поддерживали лишь вакуумные присоски, но в этом мире не нашлось бы сил, чтоб оторвать его от стены – тем более что тоннель был гладок и весьма широк. В него смогли бы нырнуть еще четыре Голема. Быстро перебирая ногами, ираз скрылся в темноте. – Резвый, фря! – Джеб сплюнул в колодец. – Видать, в родное место попал. – Он повернулся к Дарту: – Теперь твоя, брат, очередь! Хлебнуть желаешь? – Когда вылезу. – Дарт опустил щиток, обмотал веревку вокруг левого кулака и поднялся на барьер. Небо над ним было глубоким, лазоревым, бездонным; внизу, в долине – никакого движения: воинство чешуйчатых исчезло в ущельях, и лишь над местом вчерашней схватки клубился очистительный туман. Время будто остановилось, испросив секундную передышку; ветер стих, синее солнце замерло над головой, лица тьяни, маргаров и стражей были торжественны и неподвижны, и только в глазах Нерис, занавешенных ресницами, читался вопрос: вернешься?.. Вернешься ко мне, маргар?.. – Ну, храни тебя Элейхо, – вымолвил Джеб и махнул Птозу: – Давай, брат, навались! Крути! Плавно спускаясь в непроницаемую тьму, Дарт уносил с собой воспоминание о взгляде Нерис. Желтое время, легкое время… Он мог удержаться одной рукой и висел сейчас на веревке, медленно поворачиваясь и осматривая гладкие серые стены, которые с каждым мгновением темнели, будто их растворял окружающий сумрак. Само собой, нужды в веревке не имелось – он мог бы опуститься вниз, используя двигатель скафандра или сев на плечи Голему. Но это было бы, пожалуй, слишком! Необъяснимое чудо для окружающих – полет на огненной стреле! Нерис, возможно, не удивилась бы, но что подумали б люди Ренхо и тьяни? К тому же Дарт не хотел, чтобы у троицы маргаров возникло чувство бесполезности и собственной никчемности. Пусть думают, что их помощь необходима; пусть Джеб разглядывает свиток, Птоз вращает рукоять, а Глинт дает советы им обоим. Птоз опускал его неторопливо и плавно. Круглое светлое отверстие вверху постепенно сжималось, превращалось в кружок, затем – в едва заметную точку, от которой расходились трепещущие слабые лучи. Дарт включил нашлемный прожектор, направил его в колодец, высветив серую тушу Голема – тот, перебирая лапами, полз где-то внизу, уже на приличном расстоянии. Шахта, пробитая дисперсором, была довольно глубокой, в сотню-полторы человеческого роста; он находился сейчас посередине, а его помощник – у самого дна, примерно там, откуда ударили молнии. Энергетический выброс, сгубивший Марианну, был чрезвычайно силен, а значит, имелось породившее его устройство – может быть, не до конца разрушенное дисперсором. «Что-то могло сохраниться», – подумал Дарт и вымолвил: – Притормози, мон гар. Есть новости? – Вижу отверстие, хозяин. За ним – сферическая камера. Размером втрое больше диаметра тоннеля. Само отверстие – овальное, края сглажены, камень оплавлен, но не так, как под лучом дисперсора. Температура была выше. Произвести анализ? – Сделай милость, – откликнулся Дарт, неторопливо опускаясь в полумрак колодца. Через мгновение Голем доложил: – Температура была выше на сорок два процента, чем при молекулярном распаде, шевалье. – Причины? Аннигиляция? – Нет. Выброс разреженной горячей плазмы, мой капитан. Аналоги: шаровая молния, звездный протуберанец, выхлоп планетарных ионных двигателей – их применяли в эпоху Раннего Плодоношения, а также… – Хватит. Состав атмосферы? – Обычный. Вредные примеси отсутствуют, сагиб. Несколько повышена концентрация окиси кремния. Пыль. «Никаких следов ядовитого тумана», – отметил Дарт и приказал: – Жди меня, приятель. Включи прожекторы, осмотри и позондируй камеру за овальным отверстием, но вниз не спускайся. Проверь, нет ли там силовых экранов, излучателей или опасных веществ. Проверь на биологическую активность. – Слушаюсь, мой лорд. – Ираз смолк, но через секунду отозвался снова: – Ничего не обнаружено. Никакой активности. Стены – оплавленный гранит, воздух – нормальный. Дно сферической полости плоское, и в нем еще одно отверстие, примерно треугольной формы. Края тоже оплавлены. В стене – ниша. «Странно, – подумал Дарт. – Эта сферическая камера была сооружением Ушедших, и от нее, если верить полученной информации, должны расходиться коридоры верхнего яруса – с туманом, ливнями жгучего субстрата, замкнутыми галереями и колодцами-трясунчиками. И там должна быть плазменная пушка! Та, что выбросила молнии… Пушка или некий детектор, который уловил дисперсионный луч и подал команду стрелять. Впрочем, этот механизм уничтожен при выбросе энергии… наверняка уничтожен… Сгорел! А все остальное должно остаться. Лабиринт, ловушки, фантомы, капканы, сторожевые бхо… Но где они? Вместо защитных устройств – пустая камера, ниша и треугольная дырка в полу… Может быть, здесь вовсе не хранилище, а что-нибудь другое?» Некий намек на это был – как помнилось Дарту, гравиметры Марианны нашли четыре большие полости, одну на острове в полярном океане и три в горах, что окружали океан гигантским каменным барьером. Береговые объекты располагались в вершинах правильного треугольника, а островной скрывался в центре, и эта симметрия словно подчеркивала их значимость и важность. Другие хранилища, о коих рассказывали маргары, были сосредоточены в прибрежных горах или разбросаны по Диску; их иногда находили даже у поселений – факт понятный, ибо необходимы склады и вблизи от дома. Но эти четыре казались особыми, объединенными не только симметрией, но и другим обстоятельством – тем, что на красной половине Диска имелся точно такой же комплекс. – Дороги, – пробормотал Дарт, – дороги между алым и голубым кругами. Однако зачем их защищать? Затем, – ответил он самому себе, – что посреди дороги есть нечто важное. Важное, дьявол меня побери! Ферал? Или что-то другое? Его ноги коснулись спины Голема, который раскорячился над дырой будто паук, держась за стену присосками всех шести конечностей. Дарт дважды дернул веревку – знак, что он на месте и пока еще жив, потом выпустил ее, лег ничком на корпус ираза и свесил голову вниз. Камера, освещенная мощными прожекторами, выглядела точно так, как ее описывал Голем, – сферическая, абсолютно пустая, со срезанным дном, с треугольной дырой в полу и треугольной нишей. Диаметр ее был невелик – шагов тридцать-тридцать пять. – Прыгай, – сказал Дарт, вцепившись в плечо своего помощника. – Только в дыру не угоди. Голем ринулся вниз, собрав пучком конечности, гулко ударил лапами о камень, согнул их, подскочил, гася инерцию удара, затем распластался по полу, чтобы спустить хозяина наземь. Не слишком мягкая посадка, зато быстрая, стоившая Дарту шишки на затылке – там, где встретились шлем и голова. Он поднялся и пробормотал: – Вот мы и прибыли, мон шер ами. Ты, я, мой скафандр и мои синяки… Прибыли! Только куда? – Сферическая камера с дырой и нишей, – доложил ираз, выпрямляясь. – Бвана не ушибся? – Бвана цел. Бвана желает знать, зачем тут дыра и ниша. С дыры, пожалуй, и начнем. Она зияла точно посередине – правильный треугольник с оплавленными краями, более темный, чем закопченный пол. Приблизившись к ней, Дарт присел, направив вниз свет фонаря; по стенам скользнуло яркое пятно, потом исчезло, растаяв в непроглядном мраке. Колодец… На сей раз – сотворенный Темными, а не проложенный дисперсором. Он поднял лицевой щиток, втянул носом воздух – ничем подозрительным не пахло. Ни зловонных облаков, ни ядовитых дождей… Дарт щелкнул пальцами, подзывая Голема. Мощные прожекторы на его плечах давали больше света, но все же он не разглядел, где кончается колодец; казалось, эта пропасть тянется сквозь толщу Диска и космическую пустоту до самых далеких галактик. От нее не веяло ни ветром, ни холодом, ни жаром, а запах был будто от каминной трубы – сухой камень, сажа, пепел. – Будем спускаться, мой мальчик. Седло! Он взгромоздился на плечи иразу. Запас энергии скафандра был невелик, и его приходилось беречь, тогда как ресурсы Голема являлись практически неисчерпаемыми. Когда-то, еще до первой экспедиции, в период тренировок, Джаннах объяснял, что квазиживой агрегат – отнюдь не хитрое соединение деталей, а нечто большее, скорее организм, чем механизм. Плоть его имела клеточное строение (кроме инструментальных модулей-имплантов), он обладал генетическим кодом, он мыслил и в каком-то смысле жил, ибо обменные процессы в его теле были подобны человеческим. Они обеспечивали регенерацию тканей, их непрерывное обновление, но без погрешностей и фатальных ошибок, которые у биологических существ ведут к болезням, старости и смерти. Основой энергетики иразов служило не окисление глюкозы, а иная, более мощная реакция, суть которой Дарт не уловил, но помнил, что она идет в кожном покрове и тканях его почти бессмертного помощника. Пищей ему служили любые объекты, от квантов и микрочастиц до каменных глыб, воды, песка или органики; словом, Голем был существом всеядным, а так как голодная смерть ему не грозила, он не испытывал и недостатка в энергии. Серая туша приподнялась над полом, скользнула к дыре и начала плавно опускаться вниз. Свет прожекторов и отблески работающего двигателя озарили колодец; стены его с покорным безразличием струились мимо Дарта, как три нешироких ручья с темной маслянистой водой. Временами что-то посверкивало в них, пробиваясь сквозь чернь окалины, и он решил, что видит частицы слюды – видимо, весь прибрежный хребет был сложен из гранита. Его источник – магма, расплавленный материал, залегающий в планетарной коре, в нижних ее слоях; магма – естественное образование для планеты, родоначальник горных пород, питающий вулканы. Но как ее доставили сюда? Как переместили эту чудовищную массу, чтобы покрыть фераловый диск с обеих сторон? Или ничего не доставляли, не перемещали, а произвели на месте? – Шахта кончается, капитан, – сообщил Голем. – Под нами – пустое пространство. Колодец Темных был неглубок – раз в пять меньше, чем проделанный дисперсором. В конце его разливалось слабое сияние, в котором таяли лучи прожекторов, и это обеспокоило Дарта; поерзав в седле, он вымолвил: – Свет, мон гар… В чем его причина? Защелкали анализаторы, потом раздался гулкий голос Голема: – Флюоресценция, сагиб. Возможно, органической природы. – Точнее? – Не в состоянии определить, мой принц. Надо приблизиться к источнику света. – Было ведь сказано, не называй меня принцем, – буркнул Дарт. – Но ты не велел выбросить этот термин из памяти, хозяин. Ты сообщил, что можешь стать принцем, а потому… – Мон дьен! Не время пререкаться. Заткнись, приятель, и спускайся! Они повисли в пустоте, залитой неярким светом. Огромное, почти необозримое пространство; сверху – плоская каменная поверхность, снизу – пропасть глубиной не меньше лье. Эта чудовищная пещера имела правильную геометрическую форму: стены ее шли от потолочного круга, спускаясь с заметным изгибом вниз, а дно казалось с высоты донышком гигантского округлого бокала. У потолка стены были темными, но ближе к днищу испускали слабый свет и чуть-чуть поблескивали, словно натертые воском или облитые маслянистой жидкостью. Насколько мог разглядеть Дарт, отверстий в стенах не имелось – ни выходов тоннелей, ни лестниц, ни арок и дверей, ведущих в лабиринт хранилища. Впрочем, вряд ли здесь хранились зерна бхо. – Полость в форме параболоида, мой лорд, – прогудел Голем. – Размеры… Посыпались цифры, и Дарт снова велел помощнику заткнуться; то, что пещера огромна, он видел и сам. Огромна и пуста, если не считать блестящей слизи, осевшей на стенах. Котел под каменной крышкой – тот самый, который он наблюдал с орбиты на экране гравиметра… Дьявольский котел, источник молний… Здесь было оружие – но какое? Дарт шевельнулся в седле, хлопнул Голема по макушке. – Спускайся вниз. Я хочу знать, что за субстанция покрывает стены. Видишь, светится и блестит? А почему? Ираз ринулся в бездну, ветер засвистел в ушах, забрался в шлем, взъерошил волосы. Дарт поморщился – пахло тут неприятно, гнилью и разложением, хотя этот запах был не слишком силен и не забивал другого, такого же слабого запаха гари. Треугольное отверстие в потолке стремительно удалялось, стены плавно падали вниз, сперва – темные, словно обожженные, затем – с пятнами флюоресцирующей субстанции и, наконец, одетые ею плотным слоем, без разрывов. По-прежнему он не видел никаких отверстий. – Прозондируй стены. Есть в них что-то? Трещины, полости, проходы? – Ничего, хозяин, – пророкотал Голем после секундной задержки. – Сплошной монолит. Возможно, в толще есть какие-то каналы, но в этот объем они не выходят. Затормозив полет, ираз медленно опустился на днище каменной чаши. Отсюда, с небольшого расстояния, оно казалось не вогнутым, а совершенно плоским; свет и расстояние скрадывали изгиб, и было непонятно, пол ли под конечностями Голема или не пол, а если пол, то где и как он сочленяется со стенами. Субстанция, которая обволакивала их, выглядела вблизи прозрачной и бугристой – не пленкой, а вязким желе, распределенным с небрежностью: в одних местах будто бы ровным слоем, в других – комьями величиной с кулак. Комья флюоресцировали посильней, но свет был все-таки слабым, таким же, как бывает у лишайников и мхов, которыми в этом мире освещали жилища. Голем вытянул верхнюю конечность, выбросил из пальца длинный гибкий щуп, сунул его в желе и призадумался. Это было явлением неординарным; как правило, любой анализ, с последующей обработкой и докладом, требовал не больше времени, чем десять вдохов. Дарт ждал, свесившись с седла, и разглядывал странное вещество под ступнями помощника, напоминавшее размазанных по камню медуз – или одну огромную медузу, которую с силой швырнули в этот титанический котел. Швырнули, раздавили ложкой размером в четверть лье, потом замуровали на пару миллионов лет… – Что-то живое, капитан, – наконец сообщил Голем, втягивая щуп. – В данный момент – не активное, но может служить накопителем энергии и, вероятно, высвобождать ее в определенной форме. Скорее всего электромагнитной или в виде плазменного луча, со всеми сопутствующими эффектами: ионизация воздуха, резкое повышение температуры и… – Погоди-ка, – прервал его Дарт. – Ты хочешь сказать, что эта слизь – живой аккумулятор? – Была аккумулятором, хозяин. То, что осталось, – фрагмент более сложной живой структуры, некогда заполнявшей полость целиком. Дарт окинул взглядом огромное пустое пространство и ощутил, что его охватывает дрожь. Эта пещера была так велика! Так чудовищно велика! Пожалуй, в ней поместились бы все хрустальные замки, парившие в анхабских небесах, все орбитальные станции и Камелот в придачу. – Фрагмент более сложной структуры… – задумчиво протянул он. – Разумной? – Нет, шевалье. Всего лишь концентратор энергии, живая протоплазма или амеба. Такое нам не встречалось. – Ираз смолк, копаясь в своей бездонной памяти, потом добавил: – Это может представлять интерес. Прикажешь взять образцы для клонирования? – Бери. – Дарт снова оглядел пещеру, пытаясь представить заполнявшее ее создание. Живая протоплазма… Живая пушка, хранившая порох сухим на протяжении двух миллионолетий… До той поры, пока не пришел сигнал, что кто-то пытается взрезать гранитную кровлю… Кто-то нетерпеливый и хорошо вооруженный… И пушка выстрелила, сразив неповинную Марианну! Выстрелила и выжгла собственную плоть! В самом деле, неразумное существо, всего лишь защитное сооружение… Но что оно защищало? Во всяком случае, не зерна бхо! Дорогу? Путь, ведущий к алой половине Диска? Но где он, этот путь? Дарт постучал по плоскому черепу Голема. – Ты уверен, что в стенах нет никаких отверстий? Ни в стенах, ни в потолке? Кроме той дыры, в которую мы влезли? – Я не уверен, хозяин, я знаю. – Голос Голема был ровным, но Дарту чудилась в нем обида. – И ты знаешь тоже. Сканировать еще раз? – Нет… пожалуй, нет. Сколько кошку не стриги, овечьей шерсти не получишь, – пробормотал Дарт и произнес погромче: – Поднимайся! С дырой покончено, займемся нишей. Может, и настрижем какую-то шерсть… Голем послушно взмыл вверх, проник в тоннель, а затем – в сферическую камеру с канатом, свисавшим из верхнего колодца. Тело начало тяжелеть; видимо, желтое время уже сменялось зеленым, и Дарт подумал, что должен успокоить тех, кто ожидает наверху. Как бы не кончилось их ожидание дракой или резней… Но если будут знать, что у маргара все в порядке, глядишь, и вытерпят. Он приказал помощнику подняться выше и дважды дернул за веревку. – Ну, вот, мой мальчик, мы отметились. Теперь осмотрим нишу. Эта впадина в вогнутой стене была достаточно просторной, чтоб полностью скрыть Голема. Края ее тоже оказались оплавленными, точно так же, как поверхность стен, и Дарт уже не сомневался, что в дьявольской чаше под ним, и здесь, в этом каменном пузыре, бушевали в недавнее время энергетические вихри. Шторм, который выплеснулся в небо гроздями ветвистых молний, поймавших Марианну… Он машинально перекрестился, вспомнив речную отмель, что стала надгробьем его кораблю. Ираз склонился к нише, жужжа анализаторами; потом на мгновение вспыхнуло пламя, взвился дымок, и Голем сказал: – Ничего нового, хозяин, – гранит, магматическая порода, такая же, как в нижней полости. Три основные фазы: шпат, кварц, слюда. Слюда литиевая. Элементный состав: водород, литий, углерод, кислород, алюминий, кремний, калий, кальций. Сделать прецизионный анализ? – Не трать порох, мон гар. Дарт придвинулся к неглубокой выемке, осмотрел ее, вспоминая, что ходы в лабиринтах Лиловых Долин были такими же, треугольными в сечении, только поменьше. Они, вероятно, или повторяли форму тел Ушедших Во Тьму, или же эта плоская фигура казалась строителям самым простым и оптимальным элементом. Бугристые натеки камня на полу и боковых стенах были темны и словно покрыты копотью, но треугольный задник казался отшлифованным только вчера – серый, зеркально-гладкий, отсвечивающий бликами в лучах прожекторов. Это было поинтересней амебы из дьявольского котла! Велев Голему отодвинуться и торопливо протиснувшись в нишу, Дарт уставился на нетленное чудо. В гладкой поверхности камня блестели серебром чешуйки слюды, сияли белые звездочки кварца, а кроме них он видел собственное отражение – смутное, но все же различимое, оно плавало в глубине, будто поддразнивая: догадайся, как уцелело это гранитное зеркало!.. Похоже, на нем не было ни щербинки. – Тысяча чертей! – пробормотал Дарт и спросил, повернувшись к Голему: – Ты проверял боковую стену? – Да, капитан. Точка анализа – здесь, – ираз бросил лучик света на чуть заметную выбоину. – Сделай анализ торцевой стены. Видишь, гладкая… А почему? С какой стати не оплавилась? – Возможно, защищена силовым полем, – откликнулся Голем, выдвигая щуп анализатора, и тут же пояснил: – Была защищена, мой господин. Сейчас поля нет. Анализатор тихо загудел, белая огненная спица вонзилась в стену. Ни вспышки пламени, ни дыма… Это было невероятно! Лазерный луч, испарявший любую материю – всего лишь частичку, нужную для анализа, – бессильно скользнул по гранитному зеркалу и угас. Голем будто поперхнулся – произведенный им звук больше всего походил на кашель гурмана, у коего в горле застряла устрица. – Увеличить мощность, хозяин? Или попробовать дисперсором? – Попробуй рукой, – велел Дарт. – Коснись стены. Не режь, не царапай, просто коснись. Он дрожал от волнения и чувствовал, как капли пота сползают с висков и катятся по щекам. Внизу – пустота да останки сгоревшей амебы… тварь, конечно, удивительная, но посылали не за ней, а за фералом… ферал же – в глубине… Может, теперь повезет? Может, его и защищала эта амеба-разрядник? Не сам ферал, разумеется, а дорогу к нему? Щелкнул климатизатор скафандра, и струйки теплого воздуха осушили кожу. Ираз вытянул конечность, многопалая ладонь погладила стену над головой Дарта, прошлась по ней вверх и вниз. – Твердое, – басовито пророкотал Голем. – Твердое и гладкое, сагиб. Температура окружающей среды. По виду и тактильным ощущениям – полированный камень. Дарт вдруг ощутил спокойствие и странную уверенность в том, что должен коснуться этой стены. Своею собственной рукой, не облаченной в перчатку! Он не смог бы объяснить, откуда пришла эта мысль, вызвавшая не страх, не опасение, а предвещавший удачу трепет; то ли родилась в его голове, то ли порхнула к нему из астральных или хтонических бездн. Он просто знал, что должен это сделать. Манжета скафандра сухо щелкнула, перчатка соскользнула с его руки. Скафандр был помехой. Скафандр, шлем, оружие, одежда – все, что он нес с собой и на себе, все мертвое, сделанное из пластика и металла. Все, что не могло преодолеть барьер. Не барьер, а фильтр, поправился Дарт, вытягивая руку к каменной стене. Фильтр, разделяющий мертвое и живое… Ему казалось – он знает, что сейчас случится. Не поворачивая головы, он произнес: – Голем! Слышишь меня, мон гар? – Да, капитан, разумеется. – Что-то может произойти… что-то необычное, понимаешь? Возможно, я не буду двигаться, но ты не тревожься. Ты ведь знаешь, что люди временами спят? – Да, господин. Очень странная привычка. – Однако необходимая. Так вот, сейчас я усну. Возможно, усну… Ты должен меня разбудить. Скажем, через… – он назвал анхабскую меру времени, немного большую, чем земной час. – А до того не мешай, не прикасайся ко мне. Ты все понял? – Я понял, бвана. – Голем отодвинулся, и отблеск его прожекторов, превращавший стену в туманное зеркало, стал слабее. Ладонь Дарта коснулась стены, не ощутив ни холода, ни твердости камня. Только легкое сопротивление, будто он протягивал руку к дереву туи. Не встретив преграды, пальцы прошли насквозь, за ними исчезла тыльная часть ладони, потом – запястье… Мираж! – мелькнуло у Дарта в сознании. Не камень, а фантом! Это было его последней мыслью. В следующий миг стены ниши растаяли, свет прожекторов померк, зато в глаза ударило солнце. Яркое, теплое, золотое! Дул ветер, гнал по небу полупрозрачные перья облаков, а вместе с ним – и невесомое тело Дарта, скользившее в воздухе, словно сухой листок или пушинка отцветшего одуванчика. Он мчался над землей, и под ним горы сменялись равнинами, леса – лугами, пашнями и виноградниками, среди которых желтела и алела черепица крыш; крыши сбегались вместе, соединялись в пестрые пятна: там, где поменьше – деревня, побольше – город за каменной стеной, повыше, на холме или скале – замок с зубчатыми башнями или дворец, окруженный парком. Богатые, щедрые земли, обширная страна… Родина!Глава 20
Родина… Земля, за которую он сражался, проливал кровь и умер в первой своей жизни… Имя ее вернулось к нему как нежданный подарок, как вспышка пламени в ночном холодном мраке. Франция! Родина! Ла белле Франс, прекрасная Франция, а не Гасконь. Впрочем, Гасконь была ее неотъемлемой частью, и стоило только подумать о ней, как замер круговорот пространств, раскинувшихся внизу, и перед ним замелькали иные картины. Стол под раскидистым каштаном, он – на коленях матери, рука отца протягивает глиняную кружку; потом – винный вкус на губах, впервые в жизни… Снова рука отца, жилистая, смуглая, но в ней не кружка, а шпага; Дарт касается рукояти и знает, что это тоже в первый раз… Старая смирная лошадь, потертое седло, уздечка в тонких детских пальцах… овцы, которых гонят по пыльной дороге… на деревянном блюде – свежий сыр с острым запахом, тающий во рту… давильня с огромными чанами и босоногие девушки, что пляшут в них… Одну он целовал на винограднике – тоже впервые… Да, Гасконь была всего лишь частью Франции, но самой любимой, согретой детскими снами, овеянной памятью юности. Были и другие домены, герцогства и графства, названия коих трепетали на его губах, – Нормандия, Бургундия, Прованс, Бретань, Наварра, Пуату… Были реки, Сена и Луара, Гаронна и Дордонь, были города – Париж и Бордо, Дижон и Нант, Марсель и Тулуза, Реймс и Лион… Древние, овеянные славой имена! Как он мог позабыть их? Сейчас это казалось непостижимым. Вспомнить остальное… здесь, у этой стены, которая возвращала прошлое не скудными каплями, а бурным неудержимым потоком… Вспомнить все – лица людей и обстоятельства разлук и встреч, годы службы, битвы и раны, приобретения и потери, удачи и неудачи, горе и радость, страх и торжество; вспомнить даже такое, о чем он не хотел бы вспоминать, – ту белокурую ведьму, казненную под Армантьером… Вспомнить, кто бы ни одаривал его минувшим и забытым – сам ли Предвечный или какой-то прибор, изобретение Детей Элейхо, скрывшихся во тьме… Или, как обмолвился Джаннах, ушедших к свету? Он не додумал этой мысли; другая завладела им – желание знать свое имя, то настоящее имя, которое дали отец и мать, которое носил он с честью и под которым погиб. Дартом он был на Анхабе, но кем – на Земле? Как его звали в Гаскони и в прекрасной Франции? А также в других местах, где он побывал, сражаясь во славу отчизны и короля? Шевалье? Солдат, лейтенант, потом – капитан, генерал и маршал? Нет, то были лишь звания и титулы, редкие вехи жизненных троп, а между ними, всякий день и час, он оставался самим собой, слитым с собственным «я», соединенным с именем… Каким же? Память о нем хранилась в Гаскони. Он попытался представить ветшающий замок, гнездо их обедневшего рода – и замок явился ему, однако не старым, полуразрушенным, а в виде огромной скалы, царившей над пустыней из песка, сияющего радужными блестками. Не замок – цитадель со множеством высоких гордых башен, с балконами и галереями, повисшими над бездной, с провалами бойниц, окон и врат, спиралями лестниц и водопадами, сбегавшими с зубчатых стен. Такого не было в Гаскони. Не было ни во Французском королевстве, ни в итальянских и испанских землях, ни на Британских островах или в заморских странах, ни на востоке, ни на западе… Такого не было на Земле. Сказочный Камелот среди эльфийских полей… Повинуясь руководившей им воле, он должен был попасть туда, что-то вспомнить, что-то увидеть и услышать. Туда, а не в Гасконь… Он летел над пустыней, но не в лодке-трокаре, а по-прежнему несомый ветром, подгоняемый его порывами, то опускаясь к песчаным барханам, то взлетая вверх и кружась в потоках жаркого сухого воздуха. Камелот надвигался, пронзая небесную синь остроконечными шпилями; воды струились по его обрывистым склонам, цветы и зелень деревьев расцвечивали бурую поверхность камня, а на террасах голубели крохотные озерца. В них отражались плывущие в небе облака и замки из хрусталя и серебра, висевшие под ними. Выше облачной гряды застыло зеркало энергетического накопителя. Дарт видел, как его поверхность внезапно затуманилась – пошел дождь, легкий и светлый, таявший в воздухе, не достигавший земли. Теперь он парил у галереи с деревьями, цветами и каменными изваяниями плачущих женщин. Одна из них, похожая на птицу, простирала крылья над аркой и широким незастекленным проемом – его овал был полон мягкого сияния и так знаком, как может быть знакомо лишь жилище, привычное и обжитое за десятилетия. Справа от окна-проема рос куст с мелкими, но ароматными цветами; иногда они были желтыми, иногда – алыми или лиловыми. Женщина-птица приблизилась, мелькнули своды невысокой арки, яркий свет сменился золотистым сумраком, светлое дерево панелей закрыло камень. Дарт был дома – не в Гаскони и не в Париже, а на планете Анхаб, где началась его вторая жизнь и где она текла – между звездами и этими чертогами, что даровал ему Джаннах. Тут было все, к чему он привык и что отчасти напоминало Землю: упругое ложе под шелковым балдахином, менявшие форму массивные кресла, шкафы с резными дверцами, отворяющиеся по хозяйской воле, подсвечники, отлитые из бронзы, сиявшие огнями вечных ламп, ковры и гобелены, превращавшие пыль в тепло и свет, столы-экраны и зеркала, тоже бывшие экранами, посуда из небьющегося хрусталя и мраморные камины – правда, пылавшее в них пламя питалось не дровами и не обжигало рук. Если не считать таких накладок, покои были королевские: гостиная – как тронный зал, вполне пригодный для посольского приема, трапезная размером с церковь Сен-Жермен-де-Пре, бассейн, автоматическая кухня, кабинет и спальня, где разместился бы гарем турецкого паши. Там, в спальне, он и очутился. Он стоял у необъятного ложа, напоминавшего привычную постель, и думал о спрятанных в нем таинственных приборах. О балдахине, навевавшем сон, о столбиках кровати, от коих, по желанию, тянуло запахами моря или леса, об изголовье, игравшем тихие мелодии, о простынях, всегда кристально чистых, то прохладных, то нагретых, будто их держали у огня, о добром десятке других устройств, что нежили, ласкали, покачивали, убаюкивали. Подобное было недоступно земным императорам и королям… Но хитроумные механизмы, ни порознь, ни вместе, не заменяли женщину. Ту, единственную, которую он желал.Она ждала его на Галерее Слез. «Неподходящее место для последней встречи», – подумал Дарт и вышел из опочивальни.
* * *
Констанция сидела у цоколя статуи женщины-ундины. Чем-то они походили друг на друга – не так, как походят сестры или мать и дочь, а чем-то иным, неуловимым и смутным, что замечается не взглядом, а душой. Темные локоны до плеч, полуопущенные веки, гибкий стан и поворот головы, чарующий изгиб бедра… Лицо каменной девы было печально, лицо живой тоже не светилось радостью. Грустит, не хочет расставаться? – мелькнула мысль. Сердце стукнуло и замерло; Дарт боялся этому поверить. Грусть ее была бы счастьем, редким жребием, даруемым судьбой не всякому мужчине; лишь горстку она наделяет талантом любви и только избранных – той женщиной, что может разделить ее, взрастить и сохранить. Такая удача не бывает дважды! Один раз выпала, но яд и мстительная злоба ее сгубили… Он вспомнил ту, земную Констанцию, и сердце замерло опять – на этот раз не от надежды, а от горя. Та любовь была разделена, но он не смог взрастить и сохранить ее. Он не сумел – в той, первой жизни… Но если жизней – две, то, может быть, сумеет во второй? Две судьбы и две удачи… Так почему бы не поймать счастливый шанс? Остановившись перед Констанцией, он всмотрелся в ее лицо, потом обвел взглядом каменных женщин. Деву-птицу, деву-змею, деву-русалку, деву-цветок и остальных, запечатленных в камне неведомым мастером в те времена, когда Анхаб был юн и переполнен жизнью. По грустным ликам дев медленно струились слезы, орошая пустыню щек, задерживаясь на холме подбородка и падая вниз редкими крупными каплями. – Отчего они плачут? – спросил Дарт. Констанция шевельнулась. – Они скорбят о погибших в Великой Войне, развязанной джерасси Йодама. Помнишь, я рассказывала о тех временах? О древней эпохе перед Посевом? Когда Анхаб был разделен и люди, обитавшие на разных континентах, мнили себя различными народами, не зная, что корень их един, а облик – эфемерен… Смотри – вот они, перед тобой! – Она раскинула руки, словно обнимая длинную шеренгу изваяний. – Такими они были – наши предки, древние расы Анхаба; таков был их облик, пока им не открылась тайна преображения. Семнадцать статуй, семнадцать рас… Символ единства, воздвигнутый ориндо… Они не похожи, но горе объединяет их – горе и память о тех, кто умер, не ведая истины. – Истина – способность к преображению? – Да. Но мудрецы ориндо видели в истине внешний и внутренний смысл. Внешний – счастье и мир; они говорили, что у разумных существ есть лишь одно назначение: прожить свою жизнь счастливо, без обид и лишений, не причиняя горя никому. Внутренний смысл глубже и сложнее… Внутренний смысл – Великая Тайна Бытия, вопрос о том, куда мы уходим по завершении жизни. – Констанция опустила голову, и прядь длинных волос упала на ее лицо. – Ориндо были правы… – тихо прошептала она. – Они умели задавать вопросы… Они ошиблись лишь в одном: счастье тоже эфемерно, если не знаешь, что ожидает за гранью… Два смысла истины связаны, зависят друг от друга: лишь тот человек, который счастлив, а значит, уверен в себе, может раскрыть Великую Тайну, и, только раскрыв ее, он обретет уверенность и счастье. Иначе сомкнется над ним мрак бесцельности – ведь жизнь повенчана со смертью, и вместе с тобой исчезает все, что успел накопить, перечувствовать, создать. Все, понимаешь? – Ориндо не раскрыли этой тайны? – спросил Дарт после долгого молчания. – Нет, хотя их нельзя обвинить в легкомыслии. Они считали, что это – дело потомков, задача грядущих поколений, жизнь которых будет наполнена радостью, обильна знанием, и потому они найдут ответы на все вопросы. Но так не получилось… Не получилось, Дарт! Орден ориндо угас в эпоху Раннего Плодоношения, а тех, кто наследовал им, увлекло другое – космическая экспансия. Они позабыли, что все начинается здесь, а не в галактических пространствах… – Она откинула резким движением волосы и положила ладонь на лоб. – Здесь тоже галактика! Здесь миллиарды клеток-нейронов, и каждая – сложней звезды! И нет корабля, чтоб проторить дороги между ними, и нет иных приборов, кроме мозга, чтобы услышать откровения, предвидеть будущее и познать, куда и как течет ментальная река… Мы поняли это слишком поздно, мой милый генерал. Поняли в те тысячелетия, когда не осталось людей с природным даром, способных изучать миры, сокрытые от наших глаз. – Я не забыл, моя принцесса. Нет людей, что могут заглянуть за грань, и потому вы ищете разгадку тайны на планетах Темных… Ты сказала, что это единственный путь исследования. Если нельзя самим решить проблему, воспользуйся опытом других. – Да. У тебя хорошая память. – Сомнительный комплимент для человека, который не помнит собственного имени, – с усмешкой отозвался Дарт. – Ни имени, ни обстоятельств жизни… Я даже удивлен, что не забыл тебя и Джаннаха – верней, персону, чей облик принял наш балар. Вы ведь считали эти воспоминания под ментоскопом? Констанция кивнула. Щеки ее порозовели. – Все, чтосканировано ментоскопом, уходит и забывается навсегда, если верить объяснениям Джаннаха… Или он не сказал мне всей правды? Ведь я же помню твое лицо и имя! Свое позабыл, а твое – нет! Но почему? – Балары не обманывают, мой генерал. И не надо думать, что я… что я… – Казалось, она колеблется или сильно смущена; губы ее дрожали, и меж бровей наметилась тонкая морщинка. – Не надо думать, что я – та женщина, которую ты любил. Я – другая… Я лишь копирую ее обличье… обличье, но не душу… – Я знаю, – произнес Дарт. – Поверь, мон шер ами, это уже не имеет значения. – Он помолчал и добавил: – Кажется, ты не ответила на мой вопрос. Лоб Констанции разгладился, губы перестали дрожать. – Тут нет секрета, мой дорогой. Та женщина и тот мужчина… Ты видел их не раз, питал к ним сильные чувства, и в памяти запечатлелось много сцен – особенно тех, что связаны с женщиной. Их не стерла даже смерть… даже смерть была бессильна! – Словно удивляясь, она покачала темноволосой головкой. – Мы просмотрели под ментоскопом ряд эпизодов и выбрали сцену вашей первой встречи… ну, кое-что еще… Прости, что ты лишился тех воспоминаний, но все остальное – с тобой. С тобой, иначе ты не узнал бы нас, ни меня, ни Джаннаха… А ты ведь нас помнишь, верно? Хотя и по-разному… Джаннах – лишь тень в твоем сознании, лицо без имени, а женщину ты помнишь лучше. Лучше, ибо любил ее всю жизнь… Голос Констанции стих. Дарт опустился рядом, на теплый каменный пьедестал, коснулся ее руки, нежно погладил пальцы и заглянул в фиалковые глаза. Констанция, это была Констанция! Имя и облик – пришедшие из первой жизни, душа и сердце – дар второй… Они соединились чудом, его воспоминания и плоть этой женщины-метаморфа, чтоб возвратить ему потерю. Пожалуй, не возвратить, а возместить… В чем, вероятно, был определенный смысл: пусть эта Констанция – иная, но сам он тоже иной, отличный от прежнего Дарта. Не десять, не двадцать – четыреста лет пролегли между ними! Вполне подходящий возраст и срок, чтобы влюбиться в женщину, которой не меньше тысячи. – Скажи, – Дарт любовался тонкими пальцами, доверчиво лежавшими в его ладони, – скажи, ма белле, когда-нибудь память вернется ко мне? Ты женщина, и ты – фокатор… ты властвуешь над разумом мужчин… над моим – без всякого сомнения, и власть твоей магии огромна… Невероятна, раны Христовы! Помнишь наш маленький опыт? Помнишь, как ты околдовала меня? В тот день, когда мы говорили о тайнах ориндо? Веки ее медленно опустились. Она помнила. И, вероятно, знала, о чем он собирается просить. – Ты могла бы сделать это еще раз, не так ли? С другой целью, ибо незачем будить во мне желание – это так же нелепо, как заснуть во сне или проснуться дважды… – Он поцеловал ее ладонь, ощутив губами бархатистую мягкость кожи. – Если ты зачаруешь меня опять и повелишь мне вспомнить, ко мне вернется прошлое. Вернется все, что я потерял за мгновения смерти, что отдал вашим ментоскопам и мнемоническим лентам… Разве не так? Скажи, разве я ошибаюсь? Возможно это или нет? Головка Констанции поникла, голос изменился, стал напряженным, глуховатым. – Ты думаешь, я отказала бы тебе, если б такое было возможно? Не обижай меня, Дарт… – Она старалась не встречаться с его горящим взглядом. – Если ты хочешь, я сделаю это снова – сделаю лишь для того, чтоб успокоить тебя. Но не рассчитывай на успех, мой дорогой. Я знаю меру своих сил и власти. – Ты уверена? – Да. – Ладонь Констанции легла на его затылок. – Я говорила о галактике, которая таится здесь, и это правда: мозг – необозримое ментальное пространство! Намного большее, чем нужно тебе, или мне, или любому другому человеку, любому мыслящему существу или животному. Мы, фокаторы гильдии Ищущих, давно знаем об этом. Мы знаем, что человек использует лишь малую частицу мозга – ту, в которой хранится его «я», его самосознание и память. Эта часть доступна нам, мы можем в нее проникнуть и возбудить определенные центры, можем создать ее аналог и наделить им иразов, можем сканировать ментоскопом с… – она запнулась, – с известными тебе последствиями. То, что извлек ментоскоп из этой части, потеряно навсегда. Процесс ментоскопирования похож на временную смерть или внезапный и сильный удар – он разрывает связи между нейронами, ничтожную долю связей, так что структура личности не изменяется, но считанный эпизод уходит. И тут ничего не поделаешь, мой дорогой. – Но есть другая часть, не так ли? – Дарт стиснул ее пальцы. – Другая часть, гораздо большая, чем та, где прячется наш разум? Веки Констанции приподнялись. Зрачки ее были сейчас не синими, а темными, будто два колодца, ведущих в бездну. – Да, есть! Мы называем ее скрытым или латентным пространством мозга… Но к чему она? Зачем нам этот гигантский резерв, который мы не в состоянии использовать? Это, увы, неизвестно… Мы говорим, что в этой области таятся подсознание и надсознание, что там есть центр, который позволяет перестраивать телесный облик, и что оттуда к нам приходят откровения и сны… Но это лишь слова! Туман слов, прячущий наше бессилие и наше незнание… И главное, чего мы не можем понять и осмыслить, – функциональная роль этой гигантской избыточности. Все тот же вопрос – зачем? С какими целями? Может быть, это признак, который отделяет нас от иразов, существ с искусственным интеллектом? Может быть, там – обитель души, религиозных чувств, копия наших воспоминаний, источник идей, даруемых гениям, и странных талантов – тех самых, что позволяют предвидеть будущее, целить без лекарств и общаться без слов? Всего того, что делает нас по-настоящему разумными? Может быть, там находится целый мир, иная реальность, скрытая от нас за гранью смерти? Тайна Бытия и множество прочих тайн… Но нам они недоступны, мой генерал. – Это все? – спросил Дарт, когда она смолкла. – Нет. Ориндо думали, что этой областью… этим латентным пространством… владеем не мы. Он заметил, что Констанция подбирает слова – видимо, она старалась говорить понятней и проще. На виске ее трепетала голубая жилка, черты неуловимо изменились; теперь ее лицо не было копией облика земной Констанции, а выглядело иначе – более строгим, значительным, мудрым. – Ориндо думали, что скрытая область не в нашей власти, – повторила она, не убирая ладонь с затылка Дарта. – Они считали, что наше «я» – всего лишь искра Вселенского Разума, частица Абсолюта, который одарил нас самосознанием и чувством, выделив каждому долю от своих богатств. Крохотную долю, но вполне достаточную, чтоб мы превратились в то, что мы есть… Все остальное принадлежит ему. – Констанция помолчала и добавила: – Это только древний миф, одна из многих неподтвержденных гипотез. Есть и иные, такие же смутные, как представление о Высшем Божестве, что властвует над всей Вселенной, над Анхабом, Землей и другими мирами. В этом непросто разобраться, мой дорогой. Но если ты привезешь ферал… – Ферал? При чем здесь ферал? По утверждению Джаннаха, он генерирует переменное поле тяготения, меняя гравитацию в заданных пределах. Разве это связано с мозгом? – Конечно, нет. Но, может быть, это не самое важное, не самое главное из его качеств. Может быть, он как-то влияет на ментальные барьеры – способен ослабить их или указать врата… возможно, облегчить их поиск, определение матрицы индивидуальности… – Пальцы Констанции перебирали волосы Дарта, и это было так приятно, что он невольно прикрыл глаза. – Кажется, я говорила тебе, что скрытая область нам недоступна? Она отделена барьерами, ментальными барьерами, и их нельзя сломать… можно лишь найти в них щели, врата, каналы связи между разумом и беспредельной галактикой мозга… но это, мой дорогой, бессознательный процесс, дар, талант, а не искусство… или он есть, или же нет… его удается развить, но научиться ему невозможно… Однако ферал… Она шептала и шептала, и тихий ее голос обволакивал, баюкал и погружал в беспамятство. В сладкое беспамятство, сулившее надежду и покой. Зубчатый парапет галереи расплылся перед глазами Дарта, пустыня сверкающего песка сомкнулась с небом, и яркие цветные пятна медленно и плавно закружились в бездонной пустоте, притягивая и очаровывая его, будто он в самом деле погружался в ту необозримую галактику, о коей нашептывал тихий знакомый голос. Он вдруг осознал, что не может пошевелиться, но это его не встревожило; он наслаждался лаской рук Констанции, чувствовал запах ее кожи и волос и слушал, слушал… Кажется, она шептала о щелях, вратах или каналах. О том, что у существ различных рас они различны: одни – у анхабов, совсем другие – у землян, и что от их структуры зависят ограничения, возможности и свойства организма, очень необычные и тонкие, – от способности к паранормальным контактам до генетических запретов, аналогичных хийа. Так, у обитателей Анхаба имелся доступ к центру телесной трансформации и перестройки обмена веществ – врожденный дар, столь поразительный, что он казался чудом. Зато земляне обладали редкой интуицией, предчувствием опасности, способностью предвидеть результат сиюминутных действий и постигать его мгновенно, вне поля логики. Конечно, проделывать такие трюки мог не каждый, ибо иерархия каналов, их особенности и структура, присущие любой из рас, модулировались матрицей индивидуальности. Она определяла размеры ментальных щелей, их пропускную способность, скорость и надежность связи и множество иных параметров, неясных Дарту, но в среднем матрица была характеристикой устойчивой, хотя и допускавшей отклонения. Каждое значительное отклонение – гений, провидец или иная неординарная личность, и чем их больше, тем жизнеспособнее раса. На Анхабе отклонения давно исчезли, если забыть о гильдии Ищущих, немногочисленных, как листья, что рвут с деревьев злые осенние ветры. Тех же, кто обладал даром фокатора, талантом концентрации ментальных сил, можно было счесть по пальцам одной руки. Не прорицатели, не пророки и не целители – всего лишь опытные гипнотизеры, тень былого могущества ориндо… Шепот Констанции смолк, и тишина сомкнулась над Дартом. Спокойная теплая тишина, окрашенная мягким золотом поздней осени; какие-то картины скользили перед ним, зыбкие и нереальные, как мираж над раскаленными песками, какие-то звуки бились в его сознании – то ли мелодия церковного хорала, то ли шум толпы, то ли боевые кличи и звон оружия или слабый женский голос, моливший о чем-то и звавший его с отчаянной надеждой… Он слышал и не слышал эти звуки; тишина накрывала их непроницаемым вязким туманом, розово-золотистой дымкой, гасившей видения и голоса, – ни четких пейзажей, ни знакомых лиц, ни внятных слов. Только печальные осенние цвета, и сердце его тоже было охвачено печалью; он понимал, что стоит у дверей своей памяти, но двери не раскрылись перед ним и не впустили в чертог обетованный. Там осталось прошлое, похищенное смертью и отданное мнемоническим лентам анхабов, и если Констанция не смогла его вернуть, то, значит, этого не мог никто. Ни бог, ни дьявол, ни Абсолют – никто во всей Вселенной! Он пробудился с горьким вздохом. Ладонь Констанции все еще лежала на его затылке, но пальцы были бессильными, вялыми, а по ее щекам разлилась меловая бледность. Это было страшно – ее закрытые глаза, испарина на белом чистом лбу, сухие поблекшие губы и почти неощутимое, едва заметное дыхание. Торопливо поднявшись, Дарт схватил ее ладони и принялся растирать – ему казалось, что они холодны как лед и что его возлюбленная сейчас окаменеет, став восемнадцатым изваянием в шеренге плачущих дев. Но вот ресницы ее дрогнули, веки поднялись, пальцы стиснули руку Дарта, и на щеках заиграл румянец. – Ничего, мой милый, ничего… Ментальный поиск отнимает силы, но все ушедшее быстро вернется… Ты что-нибудь вспомнил? Он покачал головой. – Жаль. Я очень старалась. – Ты слишком старалась. – Дарт вытащил кружевной платок и вытер ей виски. – Мне тоже жаль. Жаль, что я заставил тебя сделать это… Принести воды? Может быть, сок или лекарства? Есть на Анхабе лекарства? – Нет. Вспомни, я – не земная женщина и исцеляюсь без лекарств. Все, что мне нужно, – согреться на солнце. – Она слабо улыбнулась Дарту и добавила: – И чтобы ты был рядом. Опустившись у ног Констанции, он обнял ее колени, запрокинул голову и долго, долго всматривался в ее лицо. Локоны, темные, как зрелый плод каштана, нежная стройная шея, ямочки на щеках, глаза-фиалки и губы, к которым вернулись упругость, влажность, алый цвет… Не имитация, не фантом – живая женщина… Его судьба, его награда… – Мы разные, – тихо и медленно произнес Дарт. – Ты сказала: я – не земная женщина, не та, которую ты любил, я – другая… И с этим не поспоришь. Ты – человек Анхаба, я – человек Земли, и нас ждет скорая разлука: я улечу туда, куда велел Джаннах, и я не знаю, будет ли этот полет последним. Но я клянусь, моя госпожа, что останусь с тобой, когда мне вернут свободу. Клянусь хранить и защищать тебя до самой своей смерти, и, если это в моих силах, я подожду – подожду там, за гранью, пока ты не придешь ко мне. Или постараюсь вернуться… Вернуться в твоих снах и поделиться тайной, которую ты хочешь знать. Она с улыбкой склонилась над ним. – Ты лжец и хвастун, как все мужчины, мой дорогой. Вернись из своего полета и помни обо мне. О большем я не прошу.Глава 21
Когда Дарт очутился на поверхности, зеленое время было на исходе. Небеса по-прежнему радовали глаз голубизной, но вдали, над морем, клубились полупрозрачные облака, предвестник ночных дождей, и тяжесть ощутимо возросла – сейчас он весил почти столько же, сколько на Анхабе или Земле. Его вытаскивали Глинт и Птоз; Джеб, как всегда, суетился, давал советы и спорил с приятелями. – Целый, фря! – завопил он, едва Дарт вылез из ямы. – Целый, чтоб мне уснуть под деревом смерти! С руками и с ногами, и голова вроде бы на месте… А вот где зерна? Где добыча, спрашиваю? – Нет там зерен, – буркнул Дарт, озираясь. – Ничего там нет! Тьяни с Шепчущим Дождем сидели неподвижно, похожие на отчеканенных из серебра идолов с изломанными конечностями; Нерис, Ренхо и пограничники, столпившиеся по другую сторону колодца, жевали плоды и прикладывались к флягам, подчеркнуто не обращая внимания на лысых жаб. Но, кажется, ни та, ни другая сторона не собиралась затевать побоище – во всяком случае, до результатов первой разведки. – Нет зерен? – Брови Джеба полезли вверх, Птоз хмуро насупился, а по отекшему лицу Глинта скользнула недоуменная улыбка. – Как нет? Разве такое бывает? – Не бывает, – подтвердил Глинт. – Били молнии – есть дыра. Есть дыра – должны быть зерна. Есть зерна – будут бхо. – Спустись и проверь, толстяк, – огрызнулся Дарт, глядя, как Нерис и Ренхо с группой воинов поспешно направляются к нему. Он снял оружие и принялся стаскивать скафандр, бросая отрывистые фразы: – Ничего там нет, братцы. Ничего! Ни туманов, ни огненных бичей, ни зерен. Есть камера – пустая, с колодцем в полу… Колодец недлинный, раз в пять поменьше верхнего. Под ним – огромная пещера… Гигантская! Сотня гор с побережья влезет! Но тоже пустая, лишь стены светятся. Спустись в нижний колодец и смотри, коль есть охота. Подскочила Нерис, ощупала его руки и плечи, будто боялась, не прожгло ли их ядовитым дождем. Воины тихо переговаривались, подходили к колодцу, заглядывали вниз, качали головами. Ренхо, услышав, что в подземелье пустота, страдальчески скривился. – Ничего! Как же так – ничего? Выходит, до нас обчистили? В древние времена? – Точно! Обчистили, чтоб мне уснуть под деревом смерти! – Джеб хлопнул себя ладонями по бокам. Свернув скафандр, Дарт протянул его вместе со шлемом ближайшему из стражей; тот, принимая груз, почтительно склонился. Мягкие ладони Нерис гладили его волосы – словно птица касалась крыльями. – Не было там ни единого роо… ни рами, ни других… Эта пещера – не хранилище, что-то иное. – А что? – Птоз выпучил глаза. – Не знаю. Может, какая-то тварь там жила, да сгорела, когда ударили молнии. На стенках – слизь… – Сняв обруч визора, Дарт сунул его Джебу. – Ты самый легкий – полезай, взгляни. Света там хватает, обойдешься без факелов. – И полезу, фря! – Щуплый маргар напялил обруч. – Ежели без дождиков и бичей, так почему не слазить? – Бхо, – прохрипел Глинт. – Бхо там остался. Этот, шестилапый… – Он не тронет. Спит! Голема Дарт оставил в нише, перед таинственной завесой. По габаритам выемка вполне подходила, будто сделали ее как раз на тот случай, чтобы украсить шестилапым изваянием. Инструкции помощнику были даны такие: не беспокоить посетителей, но к нише никого не подпускать. Нерис молчала, а Ренхо все еще морщился и с унылым видом дергал головой в оперенном шлеме-раковине. – Вот и закончилось балата… Пусто! Ничего! А мы сотню без малого воинов положили… – Хорошо хоть, не пять тысяч, – отозвался Дарт, вспомнив о несчастных даннитах, и, повернувшись к Джебу, придержал его за ремень. – Ты погоди спускаться, братец. Сейчас поищем тебе компаньона. Он зашагал к тьяни, невозмутимо следившим за суматохой. Может быть, она представлялась им непонятной; может быть, они погрузились в дремоту, в подобие полусна – пару крайних глаз затягивали беловатые веки, средний был прищурен, тело наклонено вперед, а ноги подогнуты так, словно их перебили, и не в одном месте. Казалось, тьяни не нуждаются ни в еде, ни в питье и могут сохранять свою невероятную позу как минимум сутки, а то и целый месяц. Дарт опустился на землю перед Шепчущим. Торс вождя тьяни был выпрямлен, и три темных глаза широко раскрыты. Глаза – не такие, как у людей, без радужины и зрачков, не овального, а щелевидного разреза. – Я побывал внизу, – произнес Дарт на фунги, тщательно выговаривая слова. – Там нет ни зерен, ни ловушек. Только две пещеры друг над другом: верхняя – маленькая и круглая, как погребальный орех, а нижняя так велика, что не хватит веревок, чтоб опуститься на дно. Но у меня есть пластинка, которая делает далекое близким, и я осмотрел большую пещеру. В ней ничего нет. Лицо Шепчущего осталось равнодушным, безгубый рот был плотно сомкнут. Мнилось, что эта новость его не обрадовала, но и не огорчила. Дарт всмотрелся в его глаза, затопленные от края до края мраком. – Мне очень жаль, старейший среди старейших. Если бы я мог, то отыскал бы зерно бхо-радости для тьяни, а шира б его пробудила. Но в этой пещере одна пустота. Снова ни звука в ответ – если не считать, что все тьяни одновременно выпрямились и сидели теперь с распахнутыми глазами. Дарт мог поклясться, что старый вождь не подавал им никакого сигнала; видимо, это была инстинктивная реакция внимания. – Я хочу, чтобы один из твоих молодых родичей спустился в колодец вместе с моим помощником, вон с тем маленьким маргаром, – он показал рукой на Джеба. – В подземелье нет опасности. Пусть спустится, посмотрит и расскажет тебе, что увидел. Странные белесые веки Шепчущего медленно сомкнулись и разошлись. – Зачем? – Что – зачем? – Ты, Убивающий Длинным Ножом, сказал, что внизу – одна пустота. Зачем спускаться? – Для проверки. Будешь знать, что я тебе не лгу. Ты ведь сам говорил, что рами способны вас обмануть. – Синее время… – Шепчущий совсем человеческим жестом провел по лицу ладонью и повторил: – Синее время. Забываешь слова, которые знал, потом вспоминаешь… Тьяни говорят, что видят, рами – что хотят, и называют это обманом. Теперь я вспомнил. Я не думаю, что ты обманываешь, но мой клан и другие кланы скажут: увиденное рами – ложь, увиденное Шепчущим Дождем – правда. Я пойду сам. Быстрым, почти неуловимым движением он поднялся на ноги и что-то произнес, не повернув головы к своему эскорту. Глаза тьяни вновь затянулись молочной пеленой. Дарт тоже вскочил. – Нужно висеть на веревке, пока тебя и моего помощника не спустят в первый колодец, а затем – во второй. И нужно висеть, пока не поднимут… Ты сам сказал: твое время – синее. Тут десять твоих родичей, все – молодые. Пошли одного из них. Средний глаз Шепчущего уставился на Дарта, длинные руки переплелись немыслимым узлом – видимо, это был жест отрицания. – Я пойду. Ты не понимаешь. Те, что пришли со мной, – в красном времени и знают мало слов. Видят, но не могут рассказать. Рассказывают те, кто достиг желтого, а лучше – зеленого времени. Или синего, если не забывают слов. Я их еще не забыл и не потерял силу. – Шепчущий выпрямился; руки его теперь лежали на изукрашенном перламутром поясе. – Тьяни живут не так, как рами, и не так уходят к Элейхо. Рами в синем времени слаб, тьяни по-прежнему силен. Силен, крепок, но вдруг падает и уходит. Быстро уходит, легко. У рами не так. Я не хотел бы стать рами. – Suum cuigie, – пробормотал Дарт на древнем земном языке и повторил на фунги: – Каждому свое. Вам дарована легкая смерть, а рами – иные блага, и среди них – способность чувствовать горе и радость. Идем, старейший! Близится синее время. Он повернулся и зашагал к колодцу.* * *
Тучи, затмив солнце, сгустились, и начал накрапывать дождь, когда Джеб и Шепчущий вылезли из подземелья. Дождь, как всегда, подкрадывался исподволь, незаметно – еще не струи, падавшие с небес, а мелкая водяная пыль, висевшая в воздухе. Она обволакивала людей и тьяни, заставляла блестеть чешуйчатые тела и шлемы из раковин, холодила разгоряченную дневным зноем кожу, мешалась с потом на лице Птоза, стекала тонкими струйками по щекам. Птоз, не доверяя никому, крутил деревянную рукоять, опуская, а затем, после троекратного рывка веревки – поднимая приятеля со старым тьяни. Стражи, обступившие колодец, молчали; их было теперь человек шестьдесят, и все новые люди, свободные от дежурства, подтягивались из лагеря. Нерис тоже была тиха и непривычно молчалива, лишь прижималась к Дарту плечом и время от времени, привстав на носках, заглядывала в темный колодец. Сейчас, в период сгущавшихся сумерек, тьма там казалась особенно непроницаемой. Перебравшись через барьер из оплавленного камня, обрамлявший колодец, Шепчущий на мгновение замер, потом сделал знакомое движение руками – вытянул их, соединил перед грудью и изогнул так, что получилась идеальная окружность. Лицо его выглядело бесстрастным, но Дарт заметил, что нижняя челюсть мелко подрагивает. – Ты прав, Убивающий Длинным Ножом. – Голос старого тьяни был по-прежнему сух и резок. – Там две пещеры, маленькая и большая. Очень большая! Когда глядишь на нее с высоты, затмевается разум и забываются все слова… Но я глядел – через пластину, которая делает далекое близким. Глядел, но не увидел ничего. – Он бросил взгляд на своих соплеменников, и те вскочили, словно подброшенные невидимыми пружинами. – Ты нас не обманул, маргар. Такова воля Предвечного. Теперь мы уходим. Глядя на цепочку фигур, быстро спускавшихся по склону, Дарт подумал: вот разум, что лежит по ту сторону добра и зла. Серые ангелы, что убивают без жестокости, мучают без злобы и совершают благо не ради сострадания, а лишь по велению целесообразности. Как сочетается это с верой в Предвечного? Или он принимает за веру знание? Может быть, он ошибался, думая, что Элейхо – бог, которому поклоняются все обитатели Диска? Такое мнение было б понятным и простительным – ведь на Земле вера и бог нераздельны, как палец и ладонь, а на безбожном Анхабе не признается ни первое, ни второе. По этой причине его представления о религии зиждились все же на земном опыте, а вклад Анхаба заключался в том, что вера его была разрушена и уступила место скептицизму. Но вот он повстречал существ, чей скептицизм был безмерен и равен их бесстрастности, созданий без эмоций и непохожих на людей, как походили рами. Внешнее сходство уже не могло обмануть и сделаться источником ошибки, диктуемой земными аналогиями; теперь, задним числом, он признавал, что сказанное Нерис о Предвечном могло быть не фантазией ума, а настоящей реальностью. Но если Элейхо не бог, то что же такое? Могущественный призрак, что затаился в глубинах планетоида? Или бессмертное существо с фераловой плотью и каменной кожей, создание Темных? Почему бы и нет! Если они сотворили амеб размером в лье, стреляющих плазмой, и этот гигантский планетоид, то им по силам и другое – сделать Диск живым. Не только живым, но разумным, определяющим судьбы его обитателей, а также незваных гостей, свалившихся из космоса… Эта догадка объясняла многое – и убеждение роо в том, что их божество – реальность, и странные таланты шир, и феномен всепланетной связи, осуществляемой деревьями, и пробуждение воспоминаний. «Мон дьен! Вот это монстр!.. – подумал Дарт и ужаснулся. – Сотни миллионов кубических лье мыслящей плоти! Страшно представить, на что способно такое существо!» Может быть, Диск был вовсе не планетоидом, не космической станцией, а машиной? Гигантским устройством, созданным древней расой, чтобы Уйти? Может быть, ферал действительно являлся живой субстанцией, подобной той, что хранила искусственный разум Голема? Может быть, как утверждала Констанция, ферал как-то влиял на ментальные барьеры, ослабляя их незаметно и безболезненно, исцеляя память? Об этом Дарт мог лишь гадать, но твердо был уверен: видение, которое было послано ему в момент контакта со стеной, нельзя считать случайным. Монстр или призрак, таившийся в глубинах Диска, словно приглашал его к себе, а перед встречей пожелал, чтоб вспомнилось именно это – их последний разговор с Констанцией на Галерее Слез, попытка восстановить его память и ее объяснения… Все, что она говорила о галактике мозга, о ментальных пространствах, каналах и преградах… Все, что пыталась сказать ему Нерис – пусть иначе, другими словами, но, кажется, о том же… – Ты смотришь в спины лысых жаб, будто намерен пронзить их копьями, – голос Нерис вернул его к реальности. – Идем, Дважды Рожденный! Они ушли, хвала Предвечному! Ушли, и копьем их теперь не достанешь. Разве что твоей молнией, – она положила руку на дисперсор, свисавший у Дарта с пояса. Он помотал головой, чувствуя, как струйки дождя, срываясь с влажных волос, текут по груди и спине. – Я не собираюсь в них стрелять, маленькая шира. Я только смотрел на них и думал: вот они уходят и уносят свои тайны… А я любопытен, мон шер ами! Мне хочется выведать их секреты, и я сожалею о том, что встретились мы врагами, а не друзьями. – Маргар не станет другом жабе, – мрачно заметила Нерис и потянула его за собой. Ренхо и воины направились в лагерь и уже огибали скалу с тремя вершинами. Дарт заметил, что трое маргаров шагают без груза, а их мешки покачиваются на спинах стражей. То был бесспорный признак уважения; видно, их судьба менялась, как изменяется руда в плавильной печи, становясь железом. Они с Нерис медленно шли за толпой. Дождь усилился, камни осыпи скользили и шуршали под ногами, острия скалы-трезубца маячили где-то в облаках, в недосягаемой вышине. Золотистые волосы ширы намокли и потемнели, глаза прятались за веерами влажных ресниц, но раят на виске, омытый небесной росой, светился и сиял, как маленькая звездочка. В наступившем полумраке Дарт не мог разглядеть, плачет ли она или по ее щекам ползут дождевые капли. – Что ты будешь делать? Куда направишься теперь? – спросил он. Нерис повела плечами. – Может быть, отправлюсь в Трехградье. Может быть, останусь в Долинах на несколько циклов… Останусь и встречусь с кем-нибудь, кто подарит мне жизнь. Пора, уже пора… Дар ширы не должен исчезнуть, и мой отец шир-до сказал, что найдет мне мужчину. Красивого юного рами, у которого сердце с нужной стороны. – Нарата мудр, – согласился Дарт. – Конечно, тебе нужен рами, а не чужак-бродяга вроде меня. К тому же я не очень красив и совсем не юн. – Это неважно. Я бы осталась с тобой, маргар, если бы ты захотел, и если б твое желание было искренним. Но твои мысли… в них, в твоих думах, другая женщина… Я видела ее, видела много раз – даже тогда, когда ты меня обнимал. Это предостережение Элейхо… знак, что ты должен вернуться к ней. В тот мир, который явился мне в последнем сновидении. – Пока что я вернулся к тебе. Вылез из дыры, и вот я здесь, а не в тех непонятных краях, где высятся сверкающие горы и ползают жуки в блестящих панцирях. Возможно, я попаду в тот мир, но не сейчас. Когда-нибудь, еще не скоро. – Скоро, – раздалось в ответ. – Вещие сны не обманывают, маргар. В молчании миновав скалу, они направились к деревьям. В лагере уже жгли под навесами костры, ели, кормили раненых, и дым, прибитый струями дождя к земле, тянулся над травой и мхами, усердно ткал причудливую паутину, словно ее вывязывали невидимые руки валансьенских кружевниц. Пахло печеными плодами, медом, ореховым молоком, и Дарт, вдохнув эти запахи, вдруг понял, что проголодался. Еще ему хотелось вина – не медового напитка и не даннитского тьо, а настоящего вина из лоз, взращенных в Божанси, Анжу или Шампани. Он ощутил его вкус на губах, вздохнул и подумал, что память бывает сладкой, как первый поцелуй, и кислой, как последнее причастие. А временами даже отдает горечью отравы – как вскрик той женщины, казненной под Армантьером… Но в приходивших на ум событиях и случаях, радостных или печальных, это была его память, и он полагал, что лучше напиться из всех источников, чем не иметь ничего и погибать от жажды. Нерис, стиснув его запястье, повернула к кострам и разбитому под навесом шатру, но Дарт обхватил ее плечи и, прижавшись щекой к ее щеке, заставил ширу остановиться. Обнявшись, они замерли под деревом, не видимые никому в теплом и влажном сумраке; шелестел дождь, корявые ветви тянулись над ними, а одна, то ли сломленная, то ли надрубленная топором, поскрипывала протяжно и жалобно. – Я тебя не забуду, маленькая шира, – шепнул Дарт. – Клянусь Христовыми ранами, не позабуду! Та женщина… та, к которой я хочу вернуться… она волшебница… Она умеет видеть мои воспоминания… совсем как ты… не только видеть, но может оживить их, принять твой облик, напомнить о тебе… и примет, едва я о том подумаю… это ей совсем не трудно, поверь… Он шептал и шептал, забыв в мгновение надвигавшейся разлуки, что память о Нерис сохранится лишь на мнемонических лентах – ведь все, что он видел, слышал и пережил здесь, принадлежало не ему, а Ищущим. Все забудется под ментоскопом, исчезнет в разинутой жадной пасти, уйдет в погашение долгов: и эти беззвездные небеса, и барабанящий по листьям дождь, и теплый влажный ветер, и губы прильнувшей к нему женщины… Но сейчас он об этом не думал. – И еще… я хочу, чтоб ты знала… там, внизу, в подземелье, что-то есть… что-то необъяснимое, непонятное… не зерна бхо, другое… Он почувствовал, как Нерис напряглась в его объятиях. – Во имя Предвечного! Не зерна? Но что же еще там может быть? – Селектирующий фильтр. – Дарт произнес это на анхабском и тут же поправился: – Стена. Завеса, похожая на каменную стену, – в нише, в верхней пещере. Только живое может ее преодолеть, понимаешь? Нельзя пройти ее в одежде, с оружием или с палкой в руках… И за ней что-то есть… какая-то обширная полость… пустота… Глаза Нерис изумленно расширились, блеснули в полумраке. Откинув голову, она поглядела Дарту в лицо, коснулась тонкими пальцами губ, промолвила: – Ты… ты видел эту полость? – Нет. Я только вытянул руку… И мне показалось, будто я стою у дерева туи и вспоминаю, но не о том, что мне хотелось бы. Нет, не так, мон дьен! Может быть, именно это я и хотел вспомнить… Не знаю. Не уверен. – Случается, Элейхо посылает видения наяву. Да, случается… – с задумчивым видом протянула Нерис. – Мать рассказывала мне… Впрочем, неважно! – Встряхнув мокрыми волосами, она погладила Дарта по щеке. – Как ты думаешь, что там? В этой полости, за стеной, что пропускает только живое? – Наверное, там шахта. Глубокий колодец, ведущий к изнанке вашего мира… Или к чему-то другому, что находится в недрах, под скалами и землей. Я… Он смолк, но Нерис тут же подхватила: – Ты хочешь это узнать? – Я должен узнать. Когда мы встретились, ты назвала меня маргаром, и это правильно. Я – маргар, только ищу не волшебные зерна, а позабытые тайны. Ищу для тех, кто даровал мне вторую жизнь, для своих владык, существ могучих и беспомощных. – Беспомощные и могучие… Разве так бывает? – Бывает, маленькая шира. Они могучи, ибо в их руках знание, и они беспомощны, ибо не могут его использовать. Им нужны другие люди, из разных миров, чтобы летать к далеким солнцам и искать. Такие, как я. Маргары, солдаты удачи. – Ты думаешь, здесь тебе повезло? – Еще не знаю. Может быть. Проверю. Он говорил отрывисто и глухо, потом, вспомнив о Големе, произнес: – К завесе нельзя подойти, пока ее охраняет мой бхо. Но если ты когда-нибудь захочешь… если решишь, что это нужно знать… Словом, я прикажу ему, чтоб он тебя пропустил. Но Нерис покачала головой. – Нет. Если там, за стеной, что-то важное, Предвечный скажет мне об этом. Мне или другой шире, из не рожденного пока что мной потомства… Дарует вещий сон и повелит: идите, время ваше наступило! И мы пойдем. Но не сейчас… Сейчас он посылает мне совсем другие сны. Она потянула Дарта к шатру, кострам и людям, но вдруг замерла и прошептала, щекоча ему ухо теплым дыханием: – Та женщина… та, к которой ты хочешь вернуться… она из твоих владык? Из тех, могучих и беспомощных? Дарт ответил утвердительным кивком. – И она такая же, как ты? Сердце – здесь, – ладонь Нерис легла на левую грудь, – и Элейхо позволит тебе одарить ее жизнью? Он молчал, вспоминая Галерею Слез, лицо Констанции, ее улыбку и слова; потом усмехнулся и негромко произнес: – Она сказала: все, что ей нужно, – согреться на солнце и чтобы я был рядом… Может быть, это означает – подари мне жизнь? Я не знаю, но я надеюсь…* * *
Как всегда, он проснулся задолго до красного времени и лежал, всматриваясь в туго натянутую ткань шатра, слушая дыхание Нерис, сонное попискивание Броката и редкий стук срывавшихся с деревьев капель. Мягкий свет лишайника озарял палатку, и смутные тени ветвей, будто танцуя, скользили по куполу, то сливаясь в большие причудливые пятна, то распадаясь на пучки корявых щупальцев. Этот беззвучный балет подчинялся всхлипам и порывам ветра. Дарт осторожно сел, потянулся к шпаге, снял ее с оружейного пояса и опустил на спальный коврик рядом с Нерис. Что еще он мог оставить ей? Какую память о себе? Все, что у него имелось, – мертвые и непонятные предметы, сделанные на Анхабе… Там изготовили и шпагу, но все же она напоминала о Земле, хранила тепло его рук и была, конечно, самым дорогим подарком. Не слишком подходящим для женщины, но, если не считать воспоминаний, ничего другого он подарить не мог. Выбравшись из палатки, Дарт натянул скафандр и постоял недолгое время, прислушиваясь и озираясь. В лагере царила тишина; костры угасли, утомленные люди спали, и в серой пелене дождя нигде не светились факелы и не поблескивали шлемы. Видимо, Ренхо и Храс решили не выставлять часовых, раз нет опасности от тьяни. Он посмотрел на шатер с чуть просвечивающим пологом, вздохнул и перекрестил его широким взмахом руки. Прощай, маленькая шира! Да будет с тобой милость Предвечного! Прочь из лагеря… От дерева к дереву, от ствола к стволу – и к обрыву; потом – к скале, темнеющей сгустком мрака на фоне фиолетовых небес… Щебень поскрипывал под ногами, дождь барабанил по спине, и слева, у пояса, словно чего-то не хватало. Шпага, вспомнил он и включил фонарь; яркое световое пятно помчалось впереди, запрыгало по каменным глыбам, по трещиноватой поверхности утеса и стеблям синего лишайника, потом нырнуло в засыпанную пеплом впадину. След из ребристых отпечатков башмаков протянулся от края впадины к темному зеву шахты. Ясный след, заметный; в этом мире его не спутаешь ни с чем. – Бон вояж, – пробормотал Дарт, заглядывая в колодец. Тут не было никого, кто пожелал бы ему счастливого странствия, а счастье наверняка пригодится. Чтоб не погибнуть от голода, не утонуть, не задохнуться, не сгореть… Мало ли какая напасть может приключиться с человеком, когда он наг и бос и не имеет под рукой доброго клинка… Он коснулся манжеты, включив двигатель, взмыл вверх на мерцающем оранжевом столбе, завис над черным круглым отверстием и начал медленно, плавно опускаться в дыру. Пальцы привычно шевелились, управляя полетом: скорость зависела от напряжения мышц, курс задавал указательный палец, ладонь, повернутая книзу, означала остановку. Персональное устройство, годившееся лишь для тех, кто обладал руками, ладонями, пальцами, а этим, по утверждению Джаннаха, могли похвастать не все анхабские разведчики. Дарт никогда не встречался с ними – их, как и баларов, было немного, – но видел кое-кого в мнемонических записях и знал, что других землян в этой компании нет. А если так, зачем встречаться? Тем более что среди них попадались весьма странные субъекты, похожие на бронированных черепах или огромных двухголовых птиц. Визг, шипение и клекот птиц были невыносимы для человеческого слуха, а черепахи дышали метаном и вовсе не умели говорить. Сферическую полость внизу заливали потоки света: Голем в знак приветствия включил прожекторы. Он находился в той же позиции, в треугольной нише, и от него ощутимо веяло энергией и силой: ни дать ни взять, джинн из арабских сказок, стерегущий пещеру сокровищ. Со сказками и прочими светскими книгами, приятными уму и сердцу, Дарт познакомился на Анхабе, а на Земле, как помнилось, склонности к чтению книг не имел, начав и закончив этот процесс потрепанным катехизисом. Однако дни и ночи в Камелоте были такими долгими… И одинокими, хотя и не всегда. Он расстегнул крепления шлема, снял его, затем стащил скафандр и башмаки. Голем уставился на него мерцающими желтыми глазами, но не произнес ни слова: способность удивляться была ему чуждой, и всякое действие хозяина, даже самое странное и необычное, он воспринимал как факт, не подлежащий обсуждению. Пояс с кинжалом и дисперсором, обруч визора, комбинезон, перчатки… Теперь Дарт был наг, как праотец Адам в первый день творения. Камень пола холодил подошвы, и сильная дрожь вдруг сотрясла его; он посмотрел на свои руки и невесело усмехнулся. Руки были пусты. Как вырезать пробу ферала? Отковыривать пальцами? Грызть зубами? Но эта проблема была из тех, какие решаются на месте, при изучении конкретных обстоятельств. Может быть, ферал похож на глину, или мягок, как лебяжий пух, или настолько тверд, что его не разрежешь ни кинжалом, ни лучом дисперсора… А может, дело не в ферале; может, он вовсе не вместилище Элейхо, а вспомогательный инструмент, и сам по себе ничего не значит. Стоит ли гадать? «Не стоит, когда разгадка рядом», – решил Дарт и подступился к нише. – Слушай, мон гар, и запоминай. – Эта фраза была стандартной командой записи; все, что он скажет, теперь сохранится в памяти Голема как послание системному кораблю, разведчику и его балару. Голем мог связаться с кораблем на расстоянии миллионов лье, в точке выхода из Инферно, и транслировать не только речь, но и визуальные картины. При этой мысли Дарт ухмыльнулся. Прибывший на выручку увидит его нагишом, без оружия и скафандра, в мрачной пещере с обгоревшими стенами – и что подумает? Это не поддавалось воображению – тем более если за ним пришлют черепаху или визгливую птицу. Он начал говорить – четко, размеренно, не торопясь. Вначале – обзор событий, связанных с проникновением в дыру, описание верхней и нижней камер, гипотезы на их счет и предостережение: не пытаться вскрыть три остальные полости, на острове и в прибрежных хребтах. Затем – о своих намерениях и планах; здесь жизненно важным являлось то, что он попадет на алую сторону без снаряжения, без маяка и прочих вариантов связи. Если б удалось вернуться, вопрос снимался сам собой, но возвращение сюда, в пещеру к Голему, было проблемой гипотетической. Весьма вероятно, он застрянет в алом круге, и тогда… Тогда придется его разыскивать – крохотную песчинку среди необозримых пространств, гор, лесов и прерий. Нелегкая задача – даже для сказочной анхабской техники! Последними шли инструкции Голему. – Дождешься, пока не уйдут люди, – распорядился Дарт, – затем поднимешься наверх и будешь сканировать пространство. Когда появится корабль, передай сообщение. Пусть не садятся в этом круге и не предпринимают ничего, а ищут меня на красной стороне, у выхода из тоннеля. Если там есть выход… – пробормотал он будто про себя. – А если нет, мой господин? – Если нет, я вернусь сюда, надену скафандр, вылезу из дыры, и ты получишь новые инструкции. Понятно? – Не совсем, сагиб. Если ни тебя, ни корабля не будет слишком долго, я мог бы переместиться на оборотную сторону планетоида, чтобы оказать тебе помощь. – Голем помолчал и добавил: – Будет ли это разрешено и через какой отрезок времени? Эта идея приходила Дарту, но он отверг ее как нереальную. Ираз, при всех своих талантах, не обладал возможностями космического челнока, а значит, не мог обогнуть планетоид за атмосферной границей. Странствуя же по его поверхности, он оказался бы на ободе Диска, в области неизученной и опасной; что там творилось с тяготением, ведал лишь один Предвечный. Другой вариант – проникнуть в алый круг через морские шлюзы – был не менее опасен; и так, и этак Дарт мог лишиться помощника и связи с системным кораблем. Но, пожалуй, даже не это являлось причиной того, чтобы отвергнуть слишком рискованный план; он отвечал за Голема и не желал допустить его гибели. В конце концов, бывает и так, что трудиться приходится рыцарю, а не его оруженосцу. Трудиться и рисковать. Такая уж у рыцарей судьба… С этой мыслью он подступил к стене и прикоснулся к ней ладонями, ощутив знакомую упругость и зуд в кончиках пальцев. Он стоял с опущенной головой, ожидая, что вот-вот нахлынут видения, но ничего не происходило: он все еще был здесь, не на Земле, не на Анхабе, а в этой нише, залитой ярким светом прожекторов. Приглашение? Несомненно, подумал он. Ему предлагали войти – пожалуй, даже подталкивали к решительному шагу. Он прикусил губу и сделал этот шаг.Глава 22
Широкий по низу коридор, треугольного сечения, с опалесцирующими стенами… Вероятно, на полированном гладком граните имелось какое-то покрытие – прозрачное, незаметное глазу, но испускавшее мягкий ровный свет. Воздух был прохладен и сух, но казался безжизненным, и Дарт не сразу понял, в чем причина. Здесь отсутствовали запахи; не пахло ни камнем, ни сыростью, ни лесом, ни одним из сотен ароматов, что щекотали ноздри наверху. Он улавливал лишь запах собственной разгоряченной кожи. Коридор уходил вбесконечность – прямой, как стрела, тающий в мягком сиянии стен. Пустота, тишина… Ни ответвлений, ни защитных устройств, ни ловушек… Память об огненных бичах, что режут и кромсают тело, кольнула Дарта и исчезла. Он не ощущал опасности; наоборот, предчувствие удачи вдруг охватило его, заставив выпрямиться и втянуть прохладный воздух глубоким, почти судорожным вдохом. Это существо, это создание, что затаилось в глубинах Диска, определенно не желало ему зла… Скорее оно было настроено доброжелательно, как хозяин к гостю, прибывшему из дальних стран и обещавшему поведать массу занимательных историй. Такая уверенность являлась, разумеется, чувством иррациональным, но, невзирая на свой скептицизм, Дарт доверял интуиции. В ожидавшем его не ощущалось никакой угрозы, и он подумал, что если уйдет, следуя дорогой Темных, то это свершится безболезненно и незаметно; так путник, утомленный странствиями, впадает в сон у гроба господня в Святой земле. Подобный облик смерти не пугал и даже казался привлекательным; возможно, это была бы не смерть, а что-то иное, какая-то метаморфоза или внезапное перерождение. Перерождение в призрака? Пусть! Пусть он превратится в тень, в бесплотного духа!.. Зато духу открыты все двери, и нет для него ни расстояний, ни времен, а это значит, что он возвратится на Землю. Вернется в Гасконь, в Париж, в прекрасную Францию, где обитают души его друзей, душа его возлюбленной… Неважно, умрет он или останется жить, но в любом случае не лишится награды, ибо Констанция будет с ним – та, потерянная в первой жизни, или другая, встреченная во второй. Мысль о них ободрила Дарта. Он провел рукой по стене, нависавшей над ним приподнятой крышкой гроба, ощутил ее гладкость и твердость и улыбнулся. Что-то трепетало в нем, словно бутон, согретый солнцем и готовый развернуться, явив великолепие цветка, что-то шептало, предупреждало, говорило: ты пойдешь долиной смертной тени, но не бойся, я с тобой! Я буду вести и защищать тебя, и не коснутся твоей души ни страх, ни смерть! Вняв этому призыву, он двинулся вперед. Странно! В этом коридоре гасли не только запахи, но также ощущения и звуки. Дарт не слышал своих шагов, не чувствовал прикосновений к полу; может быть, не камень ложился ему под ноги, а другая субстанция, невидимая, гибкая, покорно прогибавшаяся под стопой? Тяжесть тоже пустилась играть в непонятные игры: сейчас, на исходе синего времени, он должен был весить процентов на десять побольше, однако ощущалось, что это совсем не так: с каждым шагом в мышцы текла энергия, дарившая небывалую легкость. Он будто бы не шел, а плыл над полом, и, хоть тоннель был ровен и прям, Дарту начало казаться, что он постепенно спускается вниз. Вниз, вниз, вниз!.. – если его не обманывают чувства. Или этот проход действительно имел наклон – чуть заметный, не поддающийся оценке? Странным было и другое – он шагал неторопливо, но стены уносились назад с удивительной скоростью, словно он мчался на галопирующем скакуне или даже на трокаре. Эта иллюзия исчезала, стоило остановиться и замереть, но самый маленький шажок вновь приводил стены в движение, и с каждым разом они струились все быстрее и быстрее, так что зернистый гранит с блестками слюды начинал сливаться в серую монотонную поверхность. Это продолжалось какое-то время – возможно, не очень долгое; Дарт внезапно заметил, что способность к оценке временных интервалов покинула его, вместе с обонянием, слухом и тактильными ощущениями. Но кое в чем он убедился – тоннель определенно уходил вниз! Это уже не казалось иллюзией – чувства легкости и движения под гору все нарастали, усиливались и были ему, безусловно, знакомы; он понимал, что находится в зоне переменной гравитации, такой же, как бывает у лифтов на космических сооружениях анхабов. Эти многоярусные конструкции, подобные слоеному пирогу, пронизывали шахты; на каждом ярусе тяготение было нормальным, а в шахтах – нулевым, так что с их помощью не составляло труда взлететь или спуститься на нужный уровень. К шахтам вели переходные демпфер-блоки – коридоры, в которых сила тяжести плавно снижалась до нулевой отметки, чтобы резкий ее скачок не вызвал головокружения и тошноты. Переход к невесомости в демпфере был максимально комфортным, а ощущения – точно такими же, какие Дарт испытывал сейчас. Вначале – иллюзия спуска, затем уверенность, что под ногами – крутой откос, и, наконец, падение – неважно, вверх или вниз, ибо таких понятий в гравитационном лифте не существовало. Этот треугольный коридор тоже был демпфером и, вероятно, превращался в шахту, пронизывающую Диск насквозь, от голубого круга до алого; значит, он проходил в фераловой толще и вряд ли его назначением была тривиальная транспортировка. Едва задумавшись об этом, Дарт сразу услышал голос Констанции – так ясно, будто она стояла рядом или же сам он вдруг очутился в Камелоте, на Галерее Слез. Услышал голос, но не понял слов – слова скользили мимо, не вызывая ни отклика, ни связных ассоциаций, как песня на чуждом языке. «О чем она толкует?» – мелькнула мысль, и тут же слова обрели значение, хлынув к нему чередою волн, гонимых к берегу приливом. …Кажется, я говорила тебе, что скрытая область нам недоступна? Она отделена барьерами, ментальными барьерами, и их нельзя сломать… можно лишь найти в них щели, врата, каналы связи между разумом и беспредельной галактикой мозга… но это, мой дорогой, бессознательный процесс, дар, талант, а не искусство… или он есть, или же нет… его удается развить, но научиться ему невозможно… Однако ферал… Ферал! Стены уже не казались монотонно серыми, в них змеились серебристые жгуты, пронизывая гранит, переплетаясь с камнем, смешиваясь и сращиваясь с ним, будто два гигантских существа, серебряное и серое, вцепились друг в друга мириадом щупальцев. Дарт замер, разглядывая стену, но сохранить неподвижность не удалось – едва ощутимый ток воздуха покачивал его, подталкивал вперед. Когда появился этот ветер? И почему он его не замечал? Потому что двигался вместе с ним, возник ответ. Присев, он оттолкнулся кончиками пальцев и поплыл в воздушном течении, уже не касаясь пола. Тяжесть по-прежнему уменьшалась, и вместе с ней менялись серебристо-серые узоры на стенах: сначала – серебристое на сером, потом – серое на тускло поблескивающем серебристом, пока не остались лишь редкие вкрапления гранита в серебряную массу стен. Переходная область, понял Дарт; слой, где каменная оболочка Диска соприкасается с сердцевиной. Значит, серебристое – ферал? Он попытался вытянуть руку к блестящей поверхности, но незаметный доселе ветер вдруг спеленал его плотным коконом. Серые пятна исчезли, и теперь он мчался в сияющем пространстве меж трех бесконечных стен; уже не летел, а падал в бездну в тугих объятиях урагана. Это падение свершалось в полной тишине, и было в нем нечто странное, гипнотическое; спустя какое-то время Дарт уже не мог сказать, падает ли в пропасть его беспомощное тело, или бездна – в нем самом, и рушатся в нее его рассудок и душа. Определенно так! Стены исчезли, и галактика мозга – та, о которой говорила Констанция, – открылась ему во всем своем великолепии. Она была необозримой, бесконечной, полной пульсирующих белых звезд, соединявших их лучей и туманных образований, темневших в залитой светом пустоте; призрачный колодец пронизывал эту вселенную, и он летел в нем словно пушинка, подхваченная неощутимыми ментальными ветрами. Летел к какой-то цели? Вниз? Или вперед? Неважно! Его движение было безостановочным, стремительным и подчинялось лишь одному закону, который он внезапно осознал: не приближаться к звездам и туманностям и не пересекать лучей. «Звезды – информационные центры, туманности – барьеры», – мелькнула мысль, будто пришедшая извне. Возможно, это была не его мысль, но, подчиняясь ей, звезды вокруг засияли ярче, и Дарт увидел, что это скопление – лишь часть огромного пространства, огражденная туманными стенами. Лучи переплетались в ней так густо, словно мириады пауков соткали узорчатую паутину, протянув сверкающие нити от звезды к звезде, соединив их бесплотными узами, нерасторжимыми и вечными, как время. Но этот вывод был, очевидно, поспешным: мнилось, что кое-где эти нити оборваны, и звезды, лишенные связи с другими светилами, горят не очень ярко – или совсем не горят, а только тлеют. Их оказалось немало, этих тлеющих солнц, и к Дарту, вдруг осознавшему их ущербность, пришло наитие: там, в умирающих светилах, – не его ли память? Это явилось столь же внезапным откровением, как и другая мысль: частица галактики, представшая ему, – он сам. Его неповторимое «я», его чувства и разум, воспоминания и душа, его самоотверженность и гордость, любовь и ненависть, вера и скептицизм, его умения и знания; все, что довелось увидеть и услышать в первой жизни, все, что подарено второй, – хрустальные замки, улыбка Констанции, грустные девы на Галерее Слез, болота Буит-Занга, мертвая темная глыба Конхорума… Внезапный трепет охватил его – частица, принадлежавшая ему, казалась огромной, но, по сравнению с пространством за туманными барьерами, была как лист в густой древесной кроне. Как цветок на весеннем лугу, как песчинка рядом с барханом, как нить в гигантском гобелене… Что же скрывалось за барьерами? Кто обитал в его мозгу – а значит, и в других галактиках, принадлежавших живым существам, анхабам и людям, рами и тьяни, всем, кто был одарен плотью и влачил ее через годы, десятилетия, века от первого вздоха до последнего хрипа? Кто?! Видение сияющих пространств исчезло, и он услышал: – Мы! Ты и я!* * *
Бесплотный и беззвучный голос, пришедший из серебристого тумана… Слова, не прозвучавшие ни на одном из известных ему языков; не прозвучавшие вообще, но все же понятные… Мы! Ты и я! Губы Дарта закаменели. Кто бы – и как бы! – ни обращался к нему, это существо не нуждалось в звуках, чтобы уловить вопрос; возможно, оно понимало разом все вопросы, кружившие у него в голове, словно пчелиный рой над чашей с медом. Он ждал, то ли пребывая в неподвижности, то ли мчась сквозь серебристую мглу в реальном или воображаемом пространстве; тихое спокойствие снизошло к нему – такое, какое испытывают безгрешные чистые души, общаясь с богом. Из гулкой тишины и тумана донеслось: – Мы! Ты, я и другие, живые или умершие… Мы едины! Дарт понял, что ему придется говорить. В этой ситуации легче сказать, чем думать; речь дисциплинировала мысль. К тому же слишком много вопросов металось в его голове, и слишком беспорядочны были эти метания… Если на все придут ответы, он рухнет под ними, словно под горным обвалом! Рухнет и сойдет с ума… Может, уже сошел и беседует сам с собой? – Ты обитаешь здесь, на этом планетоиде, в толще ферала? Голос его был беззвучен, хотя он чувствовал, как шевелятся губы. Так говорят во сне, все понимая, но не слыша слов; их звуки тоже засыпают, но остается смысл, и это главное: смысл един на всех языках минувшего и будущего, а звуки – только его тени. – Я обитаю всюду, – пришел ответ, – в любой живой частице Мироздания. Я везде, где есть намек на разум, чувство или хотя бы на инстинкт. А ферал… То, что ты называешь фералом, – мертвая материя, всего лишь инертная масса с полезным свойством: она экранирует мысли разумных существ, усиливает восприимчивость и позволяет нам общаться. Мир переполнен мыслями и словами, и это вам мешает… мешает тебе и всем остальным – всем, получившим от природы дар сознания. – Мешает? Как? – Блокирует каналы связи между нами. Я говорю, но вы меня не слышите, я шлю вам знаки, но вы к ним равнодушны. – Пауза. Молчание. Глубокая гулкая тишина. Потом раздалось: – Бывает иначе, по-другому… Но редко, очень редко. Единственный шанс на миллион. Странное чувство охватило Дарта: он был по-прежнему спокоен, и в то же время трепет ужаса закрался в его душу. Существо, которое обитает всюду, во всех живых частицах Мироздания, и посылает им свои слова и знаки… Могущественное, вечное, огромное… Наверняка всеведущее и всевидящее… С кем он говорил?! С владыкой вечности? – Ты – бог? Создатель и Творец? Пауза. – Ты ошибаешься. Я – не Демиург и ничего не творил, ни этой Вселенной, ни иных, ни человека, ни животного. Наоборот, в определенном смысле я создан вами. – Снова пауза, как если б огромное существо о чем-то размышляло. Потом бесплотный голос зазвучал опять: – Создан – не очень точный термин, ибо мой разум – не результат целенаправленных усилий, а следствие естественных процессов. Можешь думать обо мне как о ментальном поле, объединяющем живое и осознавшем себя, хотя мое самосознание иное, чем у вас: вы – существа линейной природы, а я многолик и изменчив. Я существую давно, очень давно – с тех пор, как появилась жизнь, а вместе с нею – смерть. Вернее, иллюзия небытия, поскольку в мире есть только две реальности: сам мир и порожденная им жизнь. – Что это значит? – вымолвил Дарт. – Я не понимаю… я слишком многого не понимаю… – Это значит, что я – ваше прибежище в смерти, в том, что вы называете смертью. Когда ваша плоть умирает, вы идете ко мне. Ваш разум, ваше «я» соединяется со мной. Если угодно, ваша душа, ваш логос, или ментальная матрица… Важны не термины, а суть: я – ваша вторая жизнь, и это жизнь вечная. У Дарта перехватило дыхание. – Значит, ты все-таки бог, – прошептал он. – Всеведущий, милостивый и всемогущий бог, который судит нас… Повелитель мыслей и душ… – Нет. Концепция бога мне известна, ибо она возрождается раз за разом на мириадах миров – понятие о грозном судии, творце Вселенной, дарителе посмертной жизни. Множество миров и множество богов… Несуществующих и потому бессильных… Они – всего лишь моя тень. Эхо моего существования. Дарт облизал пересохшие губы. – Тень и эхо… Но почему? Недолгое молчание. – Я постараюсь объяснить. Ты постарайся понять. – Пауза. – Я говорил, что лишь немногие из вас владеют даром восприимчивости, способностью к контакту с той или иной частицей моего сознания. Я не могу определить в известных тебе терминах, чем вызвана такая связь; вероятно, ближе всего понятие мутации. Очень редкой мутации, порождающей гениев, пророков и существ с иными талантами, которые кажутся вам необычными. Источник их вдохновения – контакт с одним из моих мыслительных агломератов. Обычно очень нечеткая связь, но все же эти люди воспринимают новые идеи и транслируют их – разумеется, искажая и упрощая. Идеи научного плана имеют конкретное воплощение в цепочке теория – практика, они зримы, они порождают технологию и признаются вашим обществом как объективная реальность. С философскими идеями сложнее. Их временами принимают за откровения, посланные божеством, – но где доказательства данного факта? Их нет, ибо пророки способны лишь говорить и не творят чудес. И тем не менее им верят. Верят в их слова, верят в существование бога, в его справедливость и милосердие. Как ты думаешь, почему? – Идея божественного созвучна нашим душам, ибо поддерживает нас на жизненном пути, – ответил Дарт. – Мы слабы, а мир жесток… Сладко думать, что есть заступник и судья, который покарает нечестивцев и осчастливит праведных. Мы верим, потому что хотим верить. Вера дает нам надежду. – Ты видишь следствие, а не причину. Первопричина же в нашем единстве, в том, что мое сознание объединяет все живые существа. Мутации, ведущие к контакту, редки, но я – в каждом из вас, и каждый – смутно, очень смутно! – чувствует мое присутствие. Присутствие высшего существа, как утверждают ваши теологи. Это врожденный дар, отличающий вас от животных: ваша восприимчивость глубже, каналы связи со мною шире, и барьеры в сознании не столь высоки. Вот почему вы ощущаете мое присутствие и называете это религиозным чувством. – Пауза. Затем тон изменился, и Дарту почудилась в нем легкая насмешка. – Я знаю, кто тебя послал. Те, кто на закате дней своих боится неведомого и страстно желает познать Великую Тайну Бытия… Я – эта тайна! Скажи им, что ты побывал за гранью и приобщился к ней. Пусть приходят без трепета и страха, когда захотят. Они – последние. Народ их уже со мной – миллиарды их предков, которые уходили ко мне миллионы лет. Мысль о том, что миссия завершена, мелькнула и исчезла. «Осталось лишь уточнить детали», – подумал Дарт и произнес: – Чтобы Уйти, им надо явиться сюда, на этот планетоид? Явиться и повторить дорогу Темных? – Зачем же? Есть более простые способы – эвтаназия, естественный конец… – Будто ощутив его недоумение, голос смолк, но тут же раздался снова: – Этот планетоид – лишь машина, делающая возможным наш контакт. Те, кого ты называешь Темными, построили ее, чтоб говорить со мною в первой жизни и лучше подготовиться ко второй. – Они Ушли? Все до единого? – Да. Ушли, но след их в вашем измерении остался… планетоид и расы, которые населяют его… такие же юные расы, как ваша земная… Когда-нибудь они придут ко мне. – Для этого Темные поселили их здесь? – Отчасти. Еще потому, что контакт с другими существами, не похожими на них, вносил в их жизнь смысл и ощущение великой цели. Психологический симбиоз, идея помощи и покровительства… Это питало их волю к жизни. Разумеется, до некоторых пределов. – Помощь, – пробормотал Дарт, – покровительство… История с бхо – это тоже помощь? Хранилища, огненные лучи, схватки из-за зерен… Лучше б они их уничтожили! – Они старались не вредить живому – даже полуживому и неразумному. Они полагали, что кое-какие устройства опасны или не нужны переселенным на планетоид существам. Спрятали их, защитили… Но не учли энергии переселенцев, их любопытства и тяги к чудесам. Такое случается с древними мудрыми расами… – Пауза. Тихий шелест, будто отзвук ментального вздоха. – А этот народ – те, кого ты называешь Темными, – был осторожен и мудр. С подобными им я повстречался трижды за миллиарды лет – с теми, кто знал о свойствах ферала или об иных возможностях контакта. Я говорил с ними, стараясь внушить надежду и уверенность – то, что облегчает переход… Теперь они со мной. Если существа с Анхаба сумеют добраться до этой машины или построить такую же, я буду говорить и с ними. Если нет, пусть ищут надежду и веру в собственных душах и твоих словах. Дарт размышлял над сказанным, укрытый серебристой мглой, то ли застыв в ней, то ли мчась куда-то – может быть, на край галактики, на дно огромной бездны, раскрывавшейся за барьером разума. Туда, где обитает существо вселенской протяженности и всемогущества, владыка ментальных пространств, хозяин вечности… Но все-таки не бог! Может быть, Предвечный, но не Создатель, не Творец! Так кто же? Дьявол? Дьявол, пришедший, чтоб искушать его? Он услыхал – или почувствовал? – странный отзвук, будто тень далекого смеха. Потом раздался голос: – Я знаю, о чем ты намерен спросить. Спрашивай. Я жду. – Ты хочешь, чтобы все Ушли к тебе? Так, как Темные? Чтоб все существа, сколько их есть во Вселенной, воссоединились с тобой и сделали это как можно быстрее? Анхабы, земляне и роо, обитающие на планетоиде? И все остальные? Ты хочешь этого и манишь нас обещанием вечной жизни? Снова отзвук, похожий на смех. – Поверь, это было бы для меня катастрофой! Если живые придут ко мне – все, сколько их есть во Вселенной, – я исчезну, ибо исчезнет субстанция, дарующая жизнь. Разве ты не понял, где лежит моя частица, тот фрагмент сознания, с которым ты ведешь беседу? – Пауза, тихий рокот, напоминающий шум океанского прибоя. – Сущность моя – ментальное поле, но всякое поле должно иметь источники, не так ли? Материальные объекты, которые порождают поле, – моя плоть. Твой собственный мозг и мозг любого существа, те их пространства, которые вы не в силах использовать, однако питаете и растите. Мозг избыточен, и я – порождение этой избыточности. Я принимаю тех, кто отжил свой срок, – неважно, отдельные создания или целые расы. На смену им приходят другие, энергичные, юные… В вас – мое существование. Мое и тех, кто ушел ко мне. – Их души – здесь? И ты… ты тоже – здесь? – Дарт коснулся лба дрожащими пальцами. Кожа его была влажной, крупные капли пота выступили на висках. – Повторю: здесь малая моя частица, крохотный фрагмент – тот, что говорит с тобой. Мой разум не похож на ваш; он распределен, распараллелен, так что я могу формировать агломераты различной мощности, рассыпать их и строить вновь – в зависимости от решаемых задач, от сложности проблемы. Ты ведь не думаешь, что мне потребовался весь мой разум, со всех миров Метагалактики, чтобы общаться с тобой? – Снова тень далекого смеха. – Прости, но это очень частная задача… и очень, очень легкая. Дарт, потрясенный, молчал. Перед его внутренним взором маячила внушавшая трепет картина: необозримые пространства Вселенной, бесчисленный сонм миров, где зародилась жизнь, и мириады разумных и неразумных тварей, не ведавших о том, что мозг их – прибежище Абсолюта, Высшего Существа, объединяющего их и принимающего в свои незримые чертоги после смерти. Выходит, Нерис не лгала ему… Все истина, все! И то, о чем рассказала шира, и то, о чем говорила Констанция! Там, на Галерее Слез… – Время истекает, и связь скоро прервется, – послышался бесплотный голос. – Хочу одарить тебя на прощание. Ты представляешь свой мозг подобным галактике? Что ж, верная аналогия… Но в ней, в этой галактике, я не один. Она не только моя часть, она – хранилище. Тут есть другие… ты бы сказал – другие души, твои соплеменники… Желаешь с ними повстречаться? – Нет! Нет! – Дарт выкрикнул это дважды, ужаснувшись; воспоминание о той, чью жизнь отнял палач, сдавило сердце. Кого еще он мог бы встретить там, за стенами, охраняющими его разум? Врагов, которых он убил? Своих солдат, что пали на его глазах в бессмысленных кровавых битвах? И тех, кто умер здесь, на Диске, – даннитов, тьяни, рами? Не забывать о них – одно, встречаться же – совсем другое… Он не хотел этих встреч. – Ты знаешь, какой мне нужен дар, – его губы похолодели и едва двигались. – Те гаснущие звезды… светила с оборванными нитями-лучами… Сделай так, чтоб они зажглись. Все! Это возможно? – Возможно, но я не считаю восстановление памяти даром. Память принадлежит тебе, тебе и мне, ибо я храню ее аналог, возобновляемую раз за разом копию. Ее мгновенное пробуждение таит опасность; ты ощутил бы сильный шок, и потому я исцеляю твою память постепенно. От случая к случаю… Напомнить, как и когда это было? – Не надо, – шепнул Дарт. – Я помню, и я благодарен тебе, мой господин. Не знаю лишь, за что я удостоился подобной милости. – Ты – посланец. Посланец расы, которая должна уйти ко мне, ибо время ее истекло. Ты выполнил свой долг и заслужил награду. Но память – не из тех даров, какими награждают. Дар – это нечто такое, чего ты раньше не имел, но пожелал бы обрести; мечта или фантазия, которую я могу исполнить. Подумай и скажи. Или просто подумай. Дарт подумал. – Щедрость твоя безмерна, мой господин, – ты дал мне все, за чем меня послали. Чего же больше? Не затаи обиды и не сочти мои слова гордыней, но я не знаю, что просить… Долгую жизнь и здоровье? То и другое я получил от анхабских реаниматоров… Удачу? Но я и так удачлив; когда во Фландрии проклятое ядро сломало мои кости, я чуть не отправился к тебе – но вот я жив… Любовь? Но просят ли вина, когда кубок полон? Я бы хотел лишь одного – вернуть своих друзей, товарищей юности… Но я понимаю, что это невыполнимо. – Невыполнимо даже для меня, – подтвердил голос и после паузы добавил: – Но не печалься: вернувшись на Землю, ты возместишь утраты. Ты ведь желаешь вернуться? Желаешь, я знаю… Однако не просишь об этом. Почему? – По той причине, повелитель вечности, что миссия моя исполнена, и договор с Джаннахом завершен. Я передам ему твои слова и получу свободу. Мне дадут корабль… новый корабль, вместо погибшей Марианны… Путь к Земле не будет долгим и не будет скучным. Думаю, я улечу не один. – Корабль… да, корабль… и, разумеется, ты улетишь не один… – Снова мягкая насмешка – или эхо ее лишь почудилось Дарту? – Эти корабли, не мертвые и не живые, такая нелепость… Темные – те, кого ты называешь Темными, – умели обходиться без кораблей. И они, и многие другие… Есть простой способ, совсем простой… Я покажу… Серебристая мгла редела, голос гас, замирал, таял, но внезапно обрел прежнюю силу. – Конец твоей дороги близок. Запомни: зона связи выходит к выемке, такой же, как та, с которой начался твой путь. Не покидай ее, иначе разбудишь стража… то существо под верхней камерой, полуживое устройство Темных… оно охраняет контактную зону… Останься в нише и представь, что поднимаешься вверх. Просто представь. Это нетрудно, совсем нетрудно… – Ментальный шепот сделался тихим, отрывистым, но Дарт отчетливо разобрал: – Память… твоя память… ты уже готов… последний импульс… коснись дерева… там много деревьев… – Благодарю тебя, мой повелитель и господин, – произнес Дарт. – Благодарю. Прощай. – Не повелитель… не господин… ты и я… едины… – донеслось угасающим эхом. – Мы встретимся… когда… придешь… ко мне… Мгла разошлась, серебристо-серые узоры замелькали на стенах, потом одна из стен метнулась под ноги, сделавшись полом, и Дарт ощутил, что возвращается тяжесть.Глава 23
Он стоял на невысоком плато, на самом краю обрыва. Внизу рокотали морские волны, таранили неподатливый камень утесов, сзади лежала сухая равнина, а над головой раскинулось небо – желтое, с розоватым оттенком и тусклым солнечным кружком, на который можно было смотреть почти не прищурив глаза. Алый круг! Алое солнце, серые скалы и фиолетовый океан, подобный гигантскому блюду с приподнятыми краями… Здесь, на вогнутой стороне Диска, горизонт был шире, и Дарту казалось, что он различает противоположный берег – ленту коричневого и серого меж аметистовым морем и небесами цвета бледной охры. Пейзаж был прекрасен и дик, но все его пышное великолепие существовало вне сознания Дарта, будто отделенное зыбкой полупрозрачной стеной. Он не замечал ни острых каменных обломков, коловших ноги, ни знобкой прохлады, которой тянуло от моря, ни запаха нагретых солнцем скал, гниющих водорослей и соли; не замечал ничего, хотя способность слышать, обонять и чувствовать, потерянная в серебристом тумане, уже возвратилась к нему. Он даже не думал в этот миг о божестве, которое удостоило его аудиенции в глубинах Диска, о всемогущем Абсолюте, еще недавно говорившем с ним; а если и вспоминалось сказанное, то лишь последние слова. Представь, что поднимаешься вверх… Просто представь… Он так и сделал, когда очутился в нише. В темной выемке за пологом, непроницаемым для металла и камня, пластика и дерева… Наклонные стены сходились над ним, но он их не видел в черном душном мраке; он мог лишь ощупать ладонью их гладкую поверхность и убедиться, что они тверды, неподатливы и монолитны. Он был упрятан в мрачный треугольный саркофаг – крохотная мошка, погребенная в каменной толще, на неведомом расстоянии от солнца и воздуха, от трав и деревьев, от плеска волн и шелеста листвы. Представь, что поднимаешься вверх… Что-то метнулось в его сознании, будто просквозило ветром из распахнувшегося окна, и саркофаг исчез. Исчезли тьма, полированный камень под ногами, гладкие стены и ощущение, что свод подземелья давит на плечи и сейчас обрушится, смяв его тело в кровавый комок. Все это было реальным, как гулкие удары сердца, – и все исчезло! Солнечный свет брызнул в глаза, ветер коснулся кожи, взъерошил волосы… Миг перехода был краток, неуловим, словно ткань времен и пространств раздалась перед ним, покорно скользнула за спину и снова замерла, соединив края прорехи. Эти корабли – такая нелепость, сказал повелитель ментальных бездн. Темные умели обходиться без кораблей. И они, и многие другие… Есть простой способ, совсем простой… Я покажу… Его прощальный дар был щедрым. Щедрей не придумаешь, решил Дарт, жадно вдыхая прохладный, насыщенный солью воздух. Галактика – и вся Вселенная в придачу! Все – на расстоянии протянутой руки! Даже не руки, а волоска или кончика ногтя… может быть, еще ближе… Голубой круг, где поджидает верный Голем, хрустальные замки Анхаба, Земля и тысячи других миров… Все – рядом! Представь, что ты поднимаешься вверх… или спускаешься вниз, или движешься в любую сторону… или желаешь оказаться за миллионы лье, в любом из мест, какое сумеешь измыслить… Действительно, простой способ! Он повернулся и осмотрел плато. Кажется, владыка вечности еще упоминал о деревьях? Где-то они, безусловно, растут, но только не в этом краю. Здесь – голая почва, промоины от дождей, равнина, засыпанная щебнем, и мрачные скалы, что обрамляют плоскогорье. Скалы – как шипы на драконьем хребте: тонкие, остроконечные, кривые… На взгляд, в трех лье или в трех с половиной… И нелегко преодолеть дорогу, шагая босым по камням, без пищи и без глотка воды… Был, правда, другой способ. Совсем простой. Усмехнувшись, Дарт уставился на скалы. Мышцы его напряглись, как перед гигантским прыжком, но тут же послушно расслабились; их сила была ненужной, лишней, ибо прыжок свершался в воображении. В той галактике, где обитало его «я», где отражалось все увиденное, где помещалось все, что он способен был представить. Одно лишь желание и движение мысли, обгоняющей свет… Ни холода и тьмы Инферно, ни рева ускорителей, ни карт и графиков, ползущих по экранам… Ничего! Одно движение… Под ступнями вместо щебенки – сплошной шероховатый камень. Шум волн отдалился, став едва слышным, и острые запахи моря сменил аромат цветущих лугов. Скала нависала над Дартом, словно хищный изогнутый клык; другие такие же скалы виднелись по обе стороны, а вниз уходил пологий склон, заросший оранжевой травой и кое-где рассеченный ручьями и оврагами. Эта просторная луговина тянулась до стены деревьев, казавшихся издалека сплошным багряным гобеленом в пурпурных узорах: оттенки киновари, пурпура, кармина переходили друг в друга, смешивались, расплывались, как на палитре чудака-художника, влюбленного лишь в красные цвета. – Мон дьен!.. – пробормотал Дарт, взирая в изумлении на ширь багрового ковра, раскатанного под желтым мутным небом. – Деревья туи! На миг неясное видение мелькнуло перед ним, точно он, поднявшись над Диском, обозревал его с высоты, пронзая взглядом полог леса и темную плодородную почву: миллионы, миллиарды деревьев, затопивших мир от срединного до кольцевого океана, переплетение ветвей и крон, мощные колонны стволов, слитые в гигантскую паутину корни… Библиотека? Хранилище информации? Сеть всепланетной связи? Живая сеть, ячейки которой умирают и возрождаются вновь, помня о своем предназначении… Какая из этих гипотез верна, Дарт сейчас не размышлял. Желание приблизиться к деревьям, коснуться их гладкой коры, вдруг охватило его; он знал, что должен это сделать, и тяга его была такой же естественной, как дважды совершенный мысленный прыжок. То, чем его наградили и что он уже испытал, являлось даром, но было еще и обещание. Память принадлежит тебе, сказал владыка вечности; тебе и мне, ибо я храню ее аналог… Может быть, этот аналог, эта копия, возобновляемая раз за разом, была той самой матрицей, логосом или душой, что исторгалась в мгновения смерти? Может быть, где-то в ментальной галактике мозга хранился второй Дарт, который поделится с первым памятью? Может быть, контакт меж ними установлен, и остается лишь одно последнее усилие? Память… твоя память… ты уже готов… последний импульс… коснись дерева… там много деревьев… Он не заметил, как оказался на опушке леса. Поле с желтыми травами лежало за спиной, наполняя воздух терпким медовым запахом, шелестом стеблей и стрекотом невидимых насекомых. Шагах в двадцати от него возвышались деревья – гигантские, мощные, впятеро выше, чем на другой стороне планетоида, с такими толстыми стволами, что двое мужчин были бы не в силах их обхватить. Не стволы – колонны храма, высеченные из бурого песчаника; прямые, ровные, покрытые гладкой корой, они уходили вверх, потом внезапно делились на горизонтальные ветви – в первом ярусе, во втором, в третьем, четвертом… Каждый ярус – на одной и той же высоте, и кроны – как многослойная крыша над необозримым строением, перевитая длинными узкими листьями, багровыми у черешка и ярко-пурпурными у заостренных кончиков… Будто сомнамбула, Дарт шагнул к ближайшему стволу и вытянул руки. Почва под ногами была мягкой, темной, ступня уходила в нее как в песок; ему казалось, что он ощущает незримые токи, струившиеся в земле, в переплетении корней. Аура покоя и силы окружала лес – того покоя, какой нисходит к человеку под беспредельным звездным небом, вечным и неизменным в сравнении с краткостью жизни. Эти деревья тоже были почти что вечными, плывшими сквозь время под взмахи его крыл: взмах – и отлетает мгновение, взмах – и исчезает другое, взмах – и гаснет третье. «И так – два миллиона лет», – мелькнуло в сознании Дарта. Его ладони, преодолев знакомое сопротивление, прижались к гладкой коре, и в следующий миг реальность Диска дрогнула, растаяла, исчезла. Иные картины поплыли под его сомкнутыми веками в мелькании дней и ночей, месяцев и лет; он будто мчался на бешеном скакуне, и каждый шаг уносил его в прошлое, мимо каменистых круч Гаскони, мимо парижских мостов, площадей и башен, мимо холмов в виноградной зелени, замков, таверн, церквей и аббатств, мимо складов и причалов с судами, чертогов королевского дворца и залов ратуши, мимо полей сражений, заваленных мертвыми телами, мимо дымящихся пушек и батальонов бегущих в атаку гвардейцев, мимо пышных процессий, охот, похорон, коронаций, великих посольств… Лица друзей и недругов мелькали перед ним, а их имена, вернувшись к жизни, звучали то грохотом набата, то ревом разбушевавшихся стихий: грраф де Ла Ферр… баррон дю Валлон де Бррасье… аббат д'Эррбле… де Трревиль… де Варрд… Ррошфорр… Беррнажу… Джоррдж Вильеррс… Мужчина лет сорока, в багряных одеждах… Туфли с серебряными пряжками, тонкие кружева вокруг запястий и шеи, шляпа, аметистовый перстень на пальце… Лицо – худощавое, властное, с остроконечной бородкой, широким выпуклым лбом и пронзительным взглядом темных глаз… Джаннах? Нет, Джаннах был только его подобием! Кардинал Ришелье, герцог дю Плесси… Враг, потом – покровитель и, наконец, повод для гордости: он, юный гвардеец, знал человека, чье имя было символом Франции. Суровые черты мужчины в красном изменились, расплылись, и перед Дартом встала женщина – прекрасное лицо на фоне обтянутых штофом стен, величественная осанка, блеск бриллиантов, пышное платье с низким вырезом. Королева… Констанция и он служили ей… Та, первая его любовь, погибшая в монастыре, в Бетюне… Ночь, берег Лиса, Армантьер. Дорога, ведущая к городу, – влажная земля, низкие коренастые дубы, словно тролли, присевшие на корточки, блеск редких молний над горизонтом… Темные фигуры в плащах и широкополых шляпах, женщина на том берегу реки и палач, вскинувший широкое тяжкое лезвие… Ветер треплет белокурые локоны женщины, ее глаза закрыты, шея покорно обнажена… Графиня де Ла Фер, убийца Констанции… леди Винтер… Эта сцена будто подбросила дров в пылающий костер его воспоминаний. Они наплывали одно на другое, смешивались, пересекались, иногда – четкие, ясные, иногда – смутные, мерцающие в тумане детства и отрочества; он находился разом в сотне мест, он видел сотни лиц, он слышал голоса и смех, мольбу и крики, стоны, брань; то палуба корабля покачивалась под ним, то жесткое седло, то шелестели травы под ногами, то поскрипывал паркет, то звонко отзывались каменные плиты. Ему снова было девятнадцать, и он въезжал в ворота Менга на дряхлом рыжем мерине: отцовский клинок – у бедра, кошель с пятнадцатью экю – за поясом, гасконский берет на смоляных кудрях, облезлое перо, куртка в дорожной пыли… Он видел дом на улице Старой Голубятни, просторный двор, широкую лестницу, сверкание шпаг и голубые плащи мушкетеров, резкий профиль де Тревиля – сухие губы, упрямый подбородок, нос, словно клюв коршуна. Вместо дома, двора и лестницы вдруг возникло заброшенное здание с выбитыми стеклами – монастырь Дешо, где он сразился с де Жюссаком; затем – королевский кабинет: красного дерева мебель, хрустальные жирандоли, кордовская кожа, зеркала и недовольное лицо владыки… Вся эта роскошь внезапно исчезла, сменившись другой, более скромной обстановкой: дубовые стол и стулья, вместительные шкафы, сундук, накрытый полосатым ковриком. Гостиная в доме Бонасье… А тот изящный силуэт у шкафа – Констанция: темные волосы, плавный росчерк бровей, голубоглазое лицо со вздернутым носиком, кружева вокруг стройной шеи… Их первая встреча… Он знал, что сейчас она скажет: «Могу я довериться вам, сударь?» И он ответит: «Что за вопрос! Вы же видите, как я вас люблю!» Он стоял в темноте, у дверного проема, скрытого драпировкой, вслушиваясь в щебет женских голосов, чувствуя, как овевает лицо теплый благовонный воздух. Вдруг чья-то рука, восхитительной белизны и формы, просунулась сквозь драпировку. Он понял, что это – награда; упал на колено, схватил эту руку, почтительно прикоснулся к ней губами. Рука исчезла, оставив на его ладони перстень – алмазный перстень ценою в тысячу пистолей, как утверждал позднее де Тревиль. Знак королевской милости… Где он теперь? Кто его носит? Пыль взметнулась из-под копыт, домишки предместья Сент-Антуан скрылись за поворотом, и только Бастилия еще грозила вслед своими мрачными башнями. Смех, гулкий конский топот, скрип седел, возгласы и ароматы кожи, пота и вина… Вперед, гвардейцы Дезэссара! Вперед, в Ла-Рошель! За славой, ранами и смертью, по воле короля и кардинала, под знаменем герцога Орлеанского! Боже, как он был молод! Как молод и полон надежд! Но юность прошла, и потянулась череда тоскливых долгих лет. Кажется, он позабыл Констанцию и редко вспоминал друзей; их заменили вино и служба, честолюбивые думы, интриги и интрижки. Что еще? Пост капитана в бывшем полку де Тревиля, потом – генеральский чин и жезл маршала Франции… Но маршалом он был недолго: столько времени, сколько неслось к французским траншеям пушечное ядро. Чудовищный удар ошеломил его, сухо и страшно треснули кости, хлынула кровь, и взор заволокло предсмертной дымкой… Он снова умирал, сжимая в холодеющей руке маршальский жезл с золотыми лилиями; умирал на поле битвы одиноким, ибо лучшее, самое светлое и дорогое умерло еще раньше, оставшись в юности. Умирал и шептал слова, звучавшие странной загадкой для офицеров, склонившихся над ним… – Атос, Портос, до скорой встречи! Арамис! Прощай навсегда!* * *
Дарт отшатнулся от дерева, рухнул на землю и долго лежал, глядя в охристые небеса и втягивая сквозь зубы прохладный воздух. Боль отпустила его, дыхание успокоилось, смертный час отлетел и угнездился в прошлом платой за возвращенные потери. Глаза Дарта были раскрыты, но он не видел ни собиравшихся на горизонте туч, ни алого солнца, застывшего в небе, ни древесных ветвей с потоком багровой листвы. Он вспоминал. Все, все вернулось! Горе и радость, минуты счастья и мук, друзья и недруги, лица и имена, даты и обстоятельства; полный список триумфов, побед и поражений, который завершился маршальским жезлом и смертоносным ядром. Но даже это последнее воспоминание не тяготило и не страшило его – не потому, что мгновения смерти и торжества слились, а лишь по той причине, что оно б ы л о… Было и останется с ним навсегда! Наконец он поднялся, вытер потный лоб, стряхнул землю с голых плеч и тихо напомнил самому себе: – Шарль… меня зовут Шарль… Это звучало гораздо лучше, чем прежнее имя – вернее, осколок имени, которым он пользовался много-много лет. Сколько же? Сколько длилась его вторая жизнь? Он начал считать, припоминая все свои полеты, периоды странствий, время отдыха и ту историю, когда попал к реаниматорам вторично, вернувшись с Растезиана с раздробленной ногой; потом усмехнулся и вымолвил: – Зачем, мон дьен? Главное, помню… Помню! Веки его опустились, и он увидел лицо Констанции: ее улыбку, синие глаза-фиалки, вздернутый носик над пухлым ртом, ямочки на щеках, блеск темных локонов и нежную стройную шею. «Могу я довериться вам, сударь? – прошептала она и тут же добавила: – Все, что мне нужно, – согреться на солнце и чтобы ты был рядом…» – Я рядом, милая, – ответил ей Дарт, – совсем рядом. Он был свободен точно ветер. Мысли о прошлом и об ушедших, чьи жизни были смыты временем, его не печалили; он знал, они ушли не к Тьме, а к Свету и терпеливо ждут его. Ждут, примирившись меж собой, забыв о взаимных обидах, ненависти, страхе; ждут, когда он придет к ним и принесет свою любовь. Ту частицу любви, которую еще предстояло испить. Шарль д'Артаньян, мушкетер и капитан мушкетеров, маршал Франции, солдат удачи, глубоко вздохнул и сделал шаг. Один-единственный шаг. Вселенная раскололась и сомкнулась за его спиной.Михаил Ахманов Заклинатель джиннов
Автор предупреждает, что хотя этот роман – фантастический, но половина описанного в нем – святая правда. Какая половина – вот в чем вопрос!
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Роман, предложенный вниманию читателей, не завершает мою дилогию «Тень Ветра», «Тень Земли», которая вышла в 1998—1999 годах. Этот роман отдельное, вполне самостоятельное произведение, связанное с упомянутой выше дилогией лишь именем Сергея Невлюдова. Однако в дилогии Невлюдов не является персонажем, принимающим хоть какое-то участие в действии; там он – смутный призрак былого, автор открытия, перевернувшего мир, и, в каком-то смысле, символ связанной с этим открытием тайны. Что же касается нового романа, то здесь он главный герой, и события этого повествования происходят не через триста-четыреста лет, а почти в наши времена, в самые ближайшие годы. Хотя роман практически не связан с «Тенью Ветра» и «Тенью Земли», посвященным картинам далекого будущего, я все же советовал бы читателям ознакомиться с этой дилогией. Мне кажется бесспорным следующее умозаключение: чтобы понять прошлое, нужно сделать шаг в будущее.Михаил Ахманов (http://аkhmаnov.nаrоd.ru)
Глава 1 ХОРОШО ЖИВЕТ НА СВЕТЕ ВИННИ ПУХ
Хорошо живет на свете Винни Пух! Оттого поет он эти песни вслух!А. Милн. Винни Пух и все-все-все
Сегодня филенка была на месте. Недели три назад, как раз к Новому Году, кооперативные боссы сделали нам сюрприз, установив в каждом подъезде внутреннюю дверку с кодовым замком,хорошую дверь, из цельной сосновой доски, с двумя широкими филенками вверху и внизу и еще одной, узкой – посередине. Чтоб мы, жильцы – упаси бог! – не вымерзли в январские холода, чтоб нам не надуло в уши и чтобы какой-нибудь отморозок не проник на лестницу и не пришиб старушку с седьмого этажа… Но отморозок нашелся прямо среди нас: нижнюю филенку уже трижды вышибали и уволакивали в неизвестном направлении. Я думаю, на тот же седьмой этаж, где кроме старушки проживал дядя Коля Аляпин, мужчина небогатый, но прижимистый и хозяйственный. Однако сегодня, как я уже говорил, филенка была на месте. Отметив сей отрадный факт, я направился к почтовым ящикам и вытащил из своего, изломанного и побитого жизнью, запечатанную повестку. В ней значилось: Невлюдов Сергей Михайлович, инженер-лейтенант войск связи, тридцати двух лет от роду, обязан явиться во Фрунзенский райвоенкомат города Санкт-Петербурга 19 января, к двенадцати ноль-ноль. С паспортом, военным билетом и дипломами о высшем образовании. При всех регалиях, значит, и к двенадцати ноль-ноль… Что ж, превосходно; посплю до девяти вместо восьми. Разглядывая клочок бумаги с расплывчатой военкоматской печатью, я думал: все из ящика прут – и журналы, и газеты, и даже письма, а вот на такие повестки преступная рука не поднимается. То ли из злорадства, то ли из жалости… мол, хоть повестку ему оставим, раз газеты сперли… Газеты действительно сперли – и «Вечерку», и «Невское время». Впрочем, вызов в военкомат, извлеченный мной из почтового ящика со сломанным замком, с лихвой компенсировал эти потери. Завтра – вторник, день кафедрального семинара, а тащиться в Петергоф мне совсем не хотелось, даже из уважения к Вил Абрамычу. Шеф мой – добрый старикан, страдающий хроническим мягкосердечием, что не позволяет ему резать профанов и четвертовать невежд. А длинноухий нахрапистый Юрик Лажевич был профаном и невеждой, и сидеть на его предзащите с прибитым к небу языком я решительно не собирался. С другой стороны, кто ищет хлопот на свою голову?… Критика рождает недоброжелателей, и отсутствие на семинаре было бы для меня наилучшим выходом. An ounce of discretion is worth a pound of wit – говорят англичане, и они правы: унция благоразумия в самом деле стоит фунта остроумия. Решив, что повестка – верный шанс прогулять семинар и разобраться кое с какими личными делами, я бодро затопал вверх по лестнице, прикидывая завтрашнюю диспозицию. Может, к Михалеву заглянуть… Глеб Кириллыч, эпикуреец и шалун, был давним отцовым приятелем; жил он вблизи военкомата, на углу Фонтанки и Графского, строгал фантастические романы и отличался гостеприимством, обширным брюхом и житейской мудростью. Нет, не успею, с сожалением подумал я. Если в полдень не наденут каску и не пошлют стрелять дыркачей, то к часу доберусь на истфак, увижусь с Бянусом и одарю его обещанной программой; в четыре буду в Павловске, у моих хрумков-гарантов, а в шесть, пожалуй, дома, у компьютера. И если мои работодатели справились с финансовым вопросом, мне хватит развлечений до полуночи. Или до утра – смотря по тому, какой суммой меня осчастливит Ичкеров… С этой мыслью я вставил ключ в прорезь замка, нажал, распахнул дверь, отряхнул снег с шапки, разделся и решительно направился к телефону. Телефон висел над диванчиком в прихожей, точно на том месте, где его пристроил отец четверть века назад. Древняя модель, с диском и громоздкой трубкой, но я ее не менял; я вообще старался ничего не менять в родительской квартире. Примчалась Белладонна, неслышно ступая на бархатных лапах, вспрыгнула на табурет, потерлась о мои колени и мяукнула, требуя рыбки, но я не отреагировал. Первым делом бизнес! Первым делом мне нужно было позвонить в «Гарантию», Ичкерову. От разговора с ним зависели и рыбка, и молочко, и все наше благосостояние на текущий период. Я набрал номер. Послышались гудки, потом трубку сняли. – Керима. – Иа! – подтвердил гортанный голос. – Это Сергей. Могу подъехать завтра. От четырех до пяти. – Под'жжай. – Кроме акцента, Керим отличался уникальной лаконичностью. – Сумму набрали? – Иа. – Сколько? – Пол'рра. Очевидно, Это значило «полтора», и я успокоился. Полтора миллиона, пятнадцать тысяч стодолларовых купюр – минимум того, что мне требовалось. Оставалось уточнить только один вопрос; – Не мятые? Новые? – Как жж'па младенца. – Тогда до завтра. В трубке что-то проворчали – то ли бай-бай, то ли о'кей. Нажав на рычаг, я помедлил секунду и принялся дозваниваться Сашке. Это было непростой задачей, ибо у доцента Александра Бранникова по кличке Бянус имелись разнообразные интересы и обширные знакомства, особенно среди милых дам. Будучи мужчиной в самом расцвете лет, пьющим, неженатым и угнетаемым строгими родителями, он посвящал вечера телефонному общению с прекрасным полом, намекая при случае, что есть-де у него верный друг с трехкомнатной квартиркой в Купчине, а в квартире той найдутся ванна, бар и мягкая постель. Иными словами, душ на двоих, бутылка и диван в гостиной, так как в мамину спальню я развратного Бянуса не допускал. Белладонна подняла ко мне снежную мордочку с большими, бирюзовой голубизны глазами, рассеченными черными щелями зрачков. Она молчала, как положено воспитанному зверю, но уши и чуть заметно подрагивающий хвост выражали явное неодобрение. Что ж ты, хозяин, – вернулся домой, а кошку свою не кормишь! Хоть бы приласкал, недотепа… Я коснулся ее спины, и Белладонна, изящно склонив головку, ткнулась носом в мою ладонь. – Сейчас, красавица. Будет тебе рыбка, и не простая, а из минтая… Наконец-то мне удалось прорваться к Бянусу, и я сухо сообщил, что пи-эйч-ди[665] Невлюдов, старший научный сотрудник НИИ кибернетики, пожалует к пи-эйч-ди Бранникову, доценту кафедры древних культур, завтра, в час пополудни. – Народ благодарен и ждет, – откликнулся Сашка. – А какие будут предложения на вечер? – Ровным счетом никаких, – отрезал я. – Мне нужно работать. – Грррм… Ты, Серый, учти: народ любит работать, но еще больше народ любит отдыхать. С пивом и девочками. И с плясками под гармонь. Белладонна, будто подслушав, протестующе мяукнула, я буркнул: – Обойдешься!» – и повесил трубку. Но телефон тут же зазвонил; Бянусу не терпелось. – Согласен без пива и девочек, – сообщил он. – Пусть будет Аллигатор с коньячной подливкой, а вместо плясок под гармонь займемся теорией позитивной реморализации. – Очень даже опохмеляет! – Бянус выдержал паузу и тонко намекнул: – Ну, приглашаешь в гости? – Черт с вами, приходите, – сдался я, выдернул телефонную вилку из розетки и двинул на кухню. Верно сказано: приятели – это удовольствие, друзья – хлопоты. А если вы дружите с нежных младенческих лет с Бянусом и Аллигатором, то хлопоты вам обеспечены. Похмельные хлопоты, я имею в виду. Но сейчас мы с Белладонной могли отужинать и отдохнуть в трезвости и нерушимом покое. Белладонна с деликатным урчанием уминала рыбку, я молча ел сосиски и прихлебывал кофе. В выходные и будние дни я пью кофе из отцовой чашки, а из маминой – только по большим праздникам. Чашки видом своим напоминают мне родителей: отцова массивная, капитальная и как бы даже мускулистая; это впечатление создает утолщенный ободок по верхнему краю и резкий изгиб толстой ручки. Мамина чашка из костяного фарфора была как сама мама – тонкой, хрупкой, элегантной. Я пил свой кофе и думал о руках мамы и отца, которые касались этих чашек тысячи раз; когда я размышляю об этом, мне становится спокойно – так спокойно, будто они сидят сейчас в гостиной и обсуждают, не сходить ли нам троим в театр в ближайший выходной. О одиночество, как твой характер крут!… Впрочем, кто сказал, что я одинок? Вовсе не одинок. У меня десятки добрых знакомых по ту и по эту сторону океана, у меня есть парочка друзей, есть Белладонна и даже ребенок – правда, чужой. Как-то не получилось, чтоб это дитя стало моим, хотя какое-то время все шло к тому… Но женщины более разборчивы или более капризны, чем дети. Прикончив сосиски, я пожалел себя в последний раз, пощекотал Белладонну под брюшком и отправился в свой кабинет. У одной его стенки располагается мое лежбище под пестрым покрывалом, у другой – компьютерный стол с контактным креслом, а весь остальной периметр, за исключением зеркала, окна и двери, занят книжными полками. Пятьдесят шесть полок и ровно столько же погонных метров книг; книги моего прадеда, деда, отца и мои собственные. Что не поместилось в комнате, держу в коридоре. Мамина медицинская библиотека хранится в спальне, в ореховом книжном шкафу; и в нем же, на верхней полке – коллекция Коранов, которую собирал мой дад[666]. Помнится, Коран на английском я приволок ему из Штатов в девяносто шестом, вернувшись домой на каникулы… Или в девяносто восьмом? Нет, тогда был доставлен роскошный индейский убор из вороньих перьев, что висит теперь над зеркалом, и пара томагавков… Я уселся в кресло, но шлем надевать не стал. Тришка, мой компьютер, глядел на меня своим огромным плоским стеклянным глазом, серым и безжизненным, как могильная плита на заброшенном погосте. Но он не был мертв; он лишь дремал, прислушиваясь в своем полусне к призрачным голосам, к электронному шепоту и вскрикам, журчанию и посвисту, которыми говорила с ним Сеть. Даже дремлющий, он мог разобраться с этой Ниагарой информации, с буйными потоками, что хлестали в его приемный канал ежеминутно, ежесекундно; мог найти и опознать то, что было предназначено для меня, Сергея Невлюдова, абонента. Все это он запоминал, сортировал и хранил, поджидая, когда придет команда пробуждения. Коснувшись сенсора, я перевел Тришку в активный режим. Его серый глаз ожил, стал наливаться многоцветьем радужных красок; негромко щелкнула обойма с дисками, мягко прожурчал модем, в колонках вокодера зародилась нежная мелодия, а тройлер и операционные пульты, встроенные в ручки кресла, откликнулись тонкими пронзительными сигналами готовности. «Three Shark»[667] Мой Тришка, добрый приятель, тихая радость холостяка! Окно в мир, что ни говори… Крохотное оконце в очень большой мир… Я проверил почту – писем мне не поступало. Ни из Кембриджа, ни из Саламанки, ни из иных мест. Пришла обычная информация – статьи, реклама и краткий синопсис по страницам новостей, на которые я был подписан. Байки, сплетни, слухи… Белладонна явилась следом за мной и, увидев, что я активировал Тришку, прыгнула на стол и расположилась на своем обычном месте, у теплого компьютерного бока. Ее белоснежная шерсть лежала волосок к волоску, ушки были насторожены, а дымчатый пепельный хвост изогнут знаком интеграла. Сейчас она казалась мне не просто кошкой, пусть редкой и необычной масти, а компьютерным духом, маленьким джинном, явившимся из таинственного электронного сосуда, дабы исполнить все мои желания. Почему бы и нет? Японцы (а в бытность мою в Штатах и в Англии я познакомился со многими японцами) считают кошек загадочными существами, наделенными магической силой. Их колдовская мощь тем больше, чем редкостней окрас, и если исходить из этого принципа, то Белладонна – настоящий Мерлин в своем кошачьем племени. В самом деле, часто ли встретишь белую кошку с пепельно-серым хвостом и голубыми глазами?… Глаза у нее совсем человечьи, вроде моих, только чуть-чуть посветлее. Чтобы убедиться в этом, я вызвал на экран собственную фотографию – из последних, летних. Можно было взглянуть в зеркало, но снимок лучше: во-первых, не гримасничает, а во-вторых, выражение лица самое благородное. Ну и что же мы тут имеем? Лоб – один (высокий, с залысинами), пара бровей и пара глаз (хотелось бы думать, стального оттенка, но они и в самом деле синие, как у Белладонны); еще – две губы, ниже – подбородок, выше – нос (прямой, аккуратный, отметил я с удовольствием), две щеки (впалые) и левое ухо (правое на снимке не получилось). Все вроде бы на месте и, если рассматривать в деталях, очень даже ничего. А вот в комплекте что-то не вытанцовывается… Суровости, может, не хватает? Решительности? Или обаяния? Вот у Белладонны бездна обаяния: Олюшка, моя соседка по этажу (та, что чуть не сделалась моим ребенком), рядом с Белладонной просто млеет. Как и все коты из нашего подъезда, коих еще не успели кастрировать… Как и хозяева котов и кошек, хотя к их восторгам примешивается капелька зависти… Как и гордые владельцы всяких блохастых псин… Как и сами псины, взирающие на Белладонну с острым и дружелюбным интересом… Да, великая вещь – обаяние! А я вот его лишен. Хотя, если подумать, дело это поправимое – стоит лишь разжиться шрамом на роже и романтическим ореолом авантюриста. Судя по новостям, свалившимся Тришке в память, возможности к тому имелись. Во-первых, объявления: требуются крепкие молодые мужчины, мечтающие о подвигах, работа – опасная, но высокооплачиваемая. Во-вторых, прямо из военкоматских кабинетов я мог броситься в бой с отложившимся приморским регионом и схлопотать пулю от дыркачей; в-третьих, поучаствовать в крымской кампании, пристрелить десяток громадян. Впрочем, ни то ни другое меня не соблазняло. И там и тут свои били своих, и я решил, что лучше уж вернуться в Штаты и взбунтовать индейцев. Если, конечно, удастся склонить их к бунту и выбиться в индейские вожди… Кстати, похож ли я на индейца? Пойдут за мною апачи? Или, скажем, черноногие из резервации Сан-Паулу? Нет, не похож! Решительно не похож! Типичный петербургский бледнолицый. В скулах, правда, намечается что-то монголоидное, и глаза косоватого разреза, но это не от индейцев, это от татарских предков. А если скорчить рожу погрознее? Повернувшись к зеркалу, я ощерился и рыкнул, перепугав Белладонну. Она с неодобрением следила за мной, пока я изучал свои зубы. Хорошие зубы, крепкие, и все на месте. Никогда их не лечил. Даже странно для мужика, которому за тридцать. У Аллигатора, к примеру, половины нет. Или четверти. Проел на тортах и пирожных, чревоугодник! Я его поддразниваю, а он отбрехивается: мол, бандитская пуля вышибла. Знаем мы эти пули! Знаем, в каких кабинетах они жужжат! Воистину, стоматологи хуже бандитов. А если еще о ценах вспомнить… Я встал, подошел к зеркалу, напялил индейский убор и обозрел себя от кончиков черных вороньих перьев до колен. Может, сойду за ирокеза или пауни? Телом я сухощав; кость широкая, в отца, но мяса на костях немного – это уже в мать. Она была миниатюрной, грациозной и двигалась так, будто танцевала вальс или медленное танго. Но я не унаследовал ее изящества. Я напоминаю не газель, а недокормленного бычка: скелет крепкий, а на нем одни жилы. Конституция номада, говаривал мой дад. Такими, по его мнению, были мои пращуры – татары и те, другие, что пасли коз в Синайской пустыне. Вернувшись на место и вспомнив, что газеты мои похищены, я вызвал страницы новостей – сначала обычных, которые передавало агентство «Российский Интернет», а затем международные «AmazingNews»[668]. В обычных новостях сообщались вещи обычные: о резне в Крыму, где боевики украинской «Громады» сцепились с татарами и так называемым «русскоязычным населением»; о наборе крымским парламентом добровольцев среди россиян – с целью защиты Симферополя; о карательных операциях в Чечне и поимке пятидесятого по счету полевого командира; о вялых боях на дальневосточном фронте, где три бронетанковые дивизии застряли под Хабаровском в снегах и льдах; о происках китайцев, снабжавших, по непроверенным слухам, отпавшее Приморье (оно же – ДР, «дырка» или Дальневосточная Республика) боеприпасами и техникой; об очередных событиях в Государственной думе – кто-то кого-то облил нарзаном, а лидера фракции ХЛР уличили в трансвестизме или копролагнии[669] – словом, в чем-то нехорошем. Малоприятные известия, зато «AmazingNews» меня развеселили. Пропустив голливудские сплетни и описание свадьбы двух голубых шоуменов, я погрузился в разделы магии и уфологии. Судя по заголовкам, в последние дни в мире творилось что-то невероятное: повсюду наблюдался электронный полтергейст, лампочки, телевизоры и стиральные машины включались и выключались сами собой, в Глобальной Компьютерной Сети бушевали штормы, приливы и отливы, телекоммуникационные устройства по непонятным причинам сбоили, а затем, без всякого вмешательства ремонтных служб, вдруг восстанавливалось статус-кво. По мнению уфологов и магов, наука была бессильна объяснить всю эту чехарду, так как комет, магнитных бурь, протуберанцев и вспышек сверхновых в природе не наблюдалось. Что до самих уфологов и магов, они выдвигали пару гипотез, вполне адекватных их профессиональной ориентации. Согласно гипотезе номер один, космические пришельцы, решив активнее влиять на земные дела, подбросили вирусы в Сеть – то ли по злобе, то ли с намеком на свое всемогущество, то ли отреагировав на смутные планы насчет марсианской экспедиции. Им, пришельцам, не нравится наша активность в космосе, где нету места для варваров и дикарей; и потому они, пришельцы, предупреждают: сидите тихо, веники, или будете спать под цветочками. Вторая гипотеза, в сущности, ничем не отличалась от первой, но вместо пришельцев в ней фигурировали адские силы зла, прорыв отрицательных астральных энергий либо Господня воля. По утверждениям очевидцев, вступивших в контакт с ангелами, Господь был многим недоволен, но в особенности – нечестивыми экспериментами по клонированию человека, коими занимались Ричард Сид и добрая сотня его последователей. Читать всю эту белиберду было временами страшно, временами весело, и я, подхихикивая в самых пикантных местах, процитировал пару заметок Белладонне. Она деликатно зевнула, показав острые зубки и розовый длинный язычок; все эти людские измышления, причуды и закидоны были ей, как говорится, до лампочки. А вот и зря! Кое над чем тут стоило поразмышлять или хотя бы принюхаться. Конечно, не с таким интересом, как к свежей рыбке, но рыбку мы уже съели, и сосиски тоже; пришла пора вкусить пищи духовной. К примеру, такой: о лазере с американской космической платформы, который взял и вдруг разрядился в сторону Луны. На мой взгляд, это событие принципиально отличалось от баек об электронном полтергейсте: отраженный сигнал перехватили еще два спутника, российский и французский. Любопытная история! И страшненькая, должен заметить! Теперь сотрудники НАСА искали ошибку в своих программах, агенты ФБР шерстили их вдоль и поперек в поисках то ли китайских шпионов, то ли террористов бен Ладена, а Госдепартамент давал мировой общественности туманные объяснения. В том смысле, что Луна – это вам не Земля, и палить в нее не грех, что из этого факта не надо делать поспешных выводов и что лазер был вовсе не боевой, а так, хлопушка. Совсем безобидный прибор для любознательных ученых, который крыльев комарику не обожжет! И вообще боевые лазеры – чистая фантастика, а слухи о них – происки умалишенных пацифистов. Тех, из Грин-писа, что несут всякую ерунду о психотронном оружии, тетрачуме и прочих воображаемых страшилках. В одной из прочитанных мною заметок МИД России авторитетно подтверждал: да, все это чушь, происки и слухи, игра воображения! Никто не видел этих лазеров ни в космосе, ни на Земле, никто не пытался их проектировать, никто не использовал их в военных целях, так как – по мнению крупных шишек Икс, Игрек и Зет – сие выходит за рамки реальности. Словом, современная наука до этого не доросла, и Россия таким оружием не располагает. Как, разумеется, и Соединенные Штаты. Ознакомившись с этой реляцией, я скептически прищурил глаз. По выражению одного из моих друзей, каким при|тыркам тут крутили динаму? Есть лазеры, нет лазеров… В лазерах ли дело? Сбой случился в системе управления, а это значит, что сегодня лазер пальнул в Луну, а завтра сами собой взлетят ракеты и прочая беспилотная машинерия. И куда свалится это добро? На фоне таких перспектив все мои планы, все неприятности вроде пропавших газет, военкоматской повестки и отсутствия обаяния казались сущей чепухой. Равным образом, как и мои успехи в сфере компьютерных наук и сопредельных областях. Плохи наши делишки, Белладонна, – сказал я. – Не should have a long spoon that sups with the devil… He понимаешь? Перевести? – Она просительно мяукнула; она любит, когда я с ней разговариваю. – Смысл тут такой, моя красавица: если сел обедать с дьяволом, запасись длинной ложкой. А у нас, людей-людишек, ложка коротковата. Или разум?… Это что же выходит? Накрыли столик, пригласили черта, глядь – а с длинными ложками напряженка! Коснувшись клавиши сенсора, я перевел Тришку в привычный полусон, затем встал и направился к кровати, разоблачаясь на ходу. Белладонна, прижмурив веки, следила за мной. – Представь, – бурчал я, стягивая рубаху, – что наш Тришка взбесился… все Тришки в мире взбесились… и безобидные вроде нашего, и те, которые при погонах да орденах… взбесились, значит, и пошли палить туда-сюда… Эточто же получится? Страшный суд, моя дорогая! – Я справился с рубашкой и начал расстегивать брючный ремень. – Во-первых, мы с тобой не успеем потратить гонорар от Ичкерова… во-вторых, Бянус не расшифрует свои письмена…в-третьих, Алику некого будет ловить… преступников не останется, понимаешь?… Ни деловых, ни честных фраеров…все будем жмурики… И тогда наступит на Земле сплошное кошачье царство! Одни коты да кошки, и никаких людей! Ты как, не против? Я был уже в постели, и Белладонна, покинув Тришку, перебралась ко мне под правый бок. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись; в ее глазах я прочел обещание, что в том грядущем кошачьем царстве найдется место для одного человечка. Если он, само собой, не попадется дьяволу на зуб. Протянув руку, я выключил свет.
Глава 2 ДУХ СКИТАНИЙ
Мой дух скитаньями пресытился вполне, Но денег, как и прежде, нет в казне.Омар Хайям. Рубаи
Утром, когда я спустился с лестницы, нижней филенки уже не было. Зато сверху – с седьмого этажа?… – доносилось бодрое постукивание. Возможно, дядя Коля Аляпин строил из филенок забор или возводил фазенду. Дверь хлопнула за моей спиной. Резкий январский ветерок тут же ударил в лицо, швырнул горсть колючих снежинок, заставив прищуриться; холод, пробравшись сквозь теплую куртку, начал щекотать позвоночник ледяными лапами. Когда я оклемался и проморгался, то обнаружил у подъезда меховой шарик – соседку Олюшку в пышной шубке с капюшоном. Из-под него торчали только светлые брови да курносый нос. Олюшка, шестилетняя самостоятельная девица, направлялась в детский садик, да видно снежные сугробы ее соблазнили: в одном она прокопала пещерку и что-то прятала в ней, посапывая от натуги. Увидев меня, дитя отряхнуло варежки, поднялось с коленок и вцепилось в мой рукав. – Дядя Сережа, а, дядя Сережа! Беляночка ест сливу в шоколаде? Беляночка – это моя кошка. Оля зовет ее Беляночкой, Белкой, Донюшкой, Ладушкой, и вообще отношения у них такие нежные, что временами я испытываю ревность. Оля гладит ее и воркует, а Белладонна мурлыкает ей в ответ, да так ласково, как никогда не мурлыкала мне, своему законному хозяину и кормильцу! Но сердцу, как утверждают, не прикажешь. Я доложил Олюшке, что Белладонна конфет не ест, в отличие от дяди Сережи. А вот дядя Сережа – большой охотник до конфет, поэтому милости просим в гости, только не сегодня, а завтра, так как сегодня к нам приходят Бянус с Аллигатором, а им сливу в шоколаде лучше не показывать – сожрут вместе с коробкой. Олюшка понимающе кивнула. – Аллигатор – это дядя Алик, да? А Бянус – дядя Саша? Дядя Алик – большой и толстый, а дядя Саша – низенький и тощий, но едят они вровень. Оч-чень много! – И пьют тоже, – добавил я. – А выпивши, поют. Так что вы с мамой сегодня вечером не пугайтесь. – Мы люди привычные, – сказала Олюшка. – Но если дядя Алик будет петь очень громко и мешать мне спать, ты ему передай, что за это положена сказка. – Всенепременно, – подтвердил я и откланялся. Удивительное дело, лет до двадцати пяти я как бы не замечал детишек. Нет, конечно, замечал, но они меня не волновали, и никакого интереса к ним, спиногрызам, я ощутить не мог. Даже наоборот, чувствовал неприязнь. Подростки казались мне нахальными и нескладными, младенцы мокрыми и пухлыми, как подушки на поролоне, а промежуточная стадия была жутко крикливой, сопливой и донельзя утомительной. Потом все переменилось, как-то сразу и вдруг – дети, особенно в возрасте Олюшки, стали меня привлекать, и при взгляде на них в голове зарождались смутные мысли семейной ориентации. Мой дад говорил, что я превратился в мужчину – то есть не только вырос до метра семидесяти восьми, но и дозрел до нужной мужицкой кондиции. Наверное, он был прав. Года четыре назад, когда я вернулся домой, к двум могилам и осиротевшему жилью, выяснилось, что прежние соседи по лестничной площадке разъехались кто куда, и теперь рядом со мной обитает Катерина с малолетней Олюшкой. Катерина была женщиной в самом цветущем возрасте, интересной, страстной и вдовой; на первых порах она меня, сироту, пригрела, и у нас даже наметился роман. К счастью, до постели (как с Танечкой, секретаршей Вил Абрамыча) дело не дошло. Повторяю – к счастью; ведь жизнь рядом с женщиной, с которой ты переспал и которая тебя бросила, превратилась бы в нелегкое испытание – во всяком случае, для меня. Но Катерина, при всем своем темпераменте, отличалась профессиональным бухгалтерским здравомыслием. Выведав, что хоть я учился и трудился за бугром, но богатств никаких не привез, она решила, что научный кадр, даже с двумя степенями PhD, плавает мелковато. Тут страсти и увяли, что не отразилось на наших добрососедских отношениях: Катерина не возражает против песен Алика, а я всегда готов присмотреть за Олюшкой. Особенно в то время, когда у моей соседки наступает период активного секса. Рассуждая об этих вещах, я незаметно добрался до метро, миновал череду женщин, что торговали пивом, колготками и жвачкой, скосил глаз на двух нищенок, дежуривших при входе, однако рука в карман не потянулась. У пропускных турникетов играл на свирели лохматый мужчина с интеллигентным обвисшим лицом. Я кинул в его шапку два рубля; протяжные жалобные звуки, будто примета времени, плыли за мной, когда я шагал по перрону. В теплом вагоне мне удалось отогреться. Доехав до станции «Владимирская», я выбрался на поверхность, снова прошел сквозь строй торговок и попрошаек и ровно в полдень деликатно постучал согнутым пальцем в дверь третьего отделения. Не надо путать его с царской охранкой темных самодержавных времен; третье отделение райвоенкомата всего лишь курирует господ офицеров, пребывающих на скамье запасных. Я представился – скромно, но с достоинством, и выложил на стол суровой дамы в квадратных очках пачку документов. Памятуя отцовы житейские уроки, я знал, что и в каком порядке класть. Первым – российский паспорт в коричневой обложке, вторым – зеленый воинский билет с повесткой, третьим – красный диплом об окончании физфака, а затем всякую шелупонь – пестрые заокеанские бумаги о степенях, присвоенных мне университетом Саламанки, штат Огайо, и их перевод на русский. Такой порядок четко классифицировал меня в том уголке мироздания, который назывался Землей; прежде всего я был гражданином России, потом – лейтенантом запаса, а уж напоследок – ученым-физиком, закончившим Петербургский университет, прошедшим аспирантуру в Штатах и стажировку в Кембридже. Мымра в очках с непроницаемой физиономией просмотрела мои бумаги, хмыкнула при виде зарубежных дипломов, сделала какую-то пометку в воинском билете, и я затрепетал. Я уже видел, как отправляюсь в очередное долгое-предолгое странствие, куда-нибудь на монгольскую границу или под Хабаровск, на усиление нашим дивизиям, потонувшим в дальневосточных снегах. Это был ужасный миг! Мне было ясно – в полный разрез со вчерашними наивными мечтами! – что дух скитаний окончательно меня покинул, что воевать я не хочу, что меня не тянет ни в Грозный, ни в Хабаровск, ни даже в резервацию Сан-Паулу к угнетаемым индейцам из племени черноногих. Я – пацифист! Такой же свихнутый миролюб, как заклейменные Госдепартаментом США уроды! Я тоже боюсь страшного лазера, психотронных бомб и тетрачумы! И я не хочу иметь никакого дела со всеми этими ужасами! Дама сняла очки, протерла их, надела вновь и поднялась. Рост у нее был гренадерский, на пять дюймов выше меня, хоть сам я отнюдь не карлик. – Поздравляю, Сергей Михайлович, с присвоением звания старшего инженер-лейтенанта, – промолвила дама официальным тоном. – Служу демократической России! – с невольным облегчением буркнул я. Затем перевел дух, склонил голову к плечу и интимным шепотом поинтересовался: – Есть ли шанс, что к сорока годам я дослужусь до капитана? – Нет, Сергей Михайлович, – с той же интимностью ответствовала очкастая. – Тем, кто не служил действительной, хватит трех звездочек. Но если вы интересуетесь карьерой в армии… особенно в местах военных действий… В общем, советую заглянуть в седьмой кабинет к подполковнику Чередниченко. Он вас проинформирует. – А можно не заглядывать? – содрогнувшись, спросил я. – Можно отметить повестку и удалиться старшим лейтенантом? С тремя ма-аленькими звездочками? – Можно, – со вздохом согласилась дама. – Хотя жалко. Такой бравый молодой человек… Я сгреб повестку и свои бумаги и ринулся к выходу, невнятно пробормотав: – Уже не очень молодой, не очень бравый, зато умный… Мымра с сожалением смотрела мне вслед сквозь квадратные очки. Лишь на углу Невского и Фонтанки, миновав поворот к жилищу Глеб Кириллыча и добравшись до Аничкова моста, я обрел душевное равновесие. Пробежка при крепком морозце – градусов этак пятнадцать – меня освежила; полуденное солнышко меня приласкало, а Невский проспект сыграл успокоительную мелодию из шороха шин и людских голосов. Стоя здесь, у копыт взметнувшегося на дыбы бронзового коня, над скованной льдом Фонтанкой, я чувствовал, что нахожусь в предназначенном мне месте, именно там, где полагается мне пребывать – ныне, присно и во веки веков. Это был мой Питер, город, где родились мои отец, дед и прадед и где родился я сам; и тот факт, что я покинул его на время ради других городов, стран и весей, значил теперь меньше нуля, помноженного на ноль. Покинул? Ну и что же? Ведь я вернулся! Мог ли я променять его на Лондон, Бостон или Лос-Анджелес? Ни в коем случае! Быть может, на минареты, зной и пыль сказочно-экзотического Багдада – и то лишь потому, что там царствовал во время оно Харун ар-Рашид. Город – это прежде всего люди, а русский человек ленив, мечтателен и склонен к героизму, что роднит его, на мой взгляд, с арабами. Именно с арабами, а не с американцами и не с другими народами, могу в том поручиться. Я провел четыре года в Штатах и два – в Британии, я побывал в Париже и Монреале, в Стокгольме и Мехико, в Венеции и Мюнхене, я даже добрался до Каира и Буэнос-Айреса… Словом, я знаю, о чем говорю. У нас с американцами и европейцами ментальность разная, примерно как у дельфинов и осьминогов, так что одно и то же событие мы оцениваем с различных позиций. Взять хотя бы Сашу Матросова – таких солдат, что грудью легли на амбразуру, в России считают сотнями, и все они для нас герои. А в Штатах, как мне говорили, нашелся один, и для кого он герой, а для кого – психопат и неврастеник. Я рассуждал на эта темы уже в троллейбусе, стиснутый моими ленивыми мечтательными согражданами как рубль в кулаке цыганенка. Песец с дамской шапки щекотал мне нос, чей-то локоть упирался в спину, острый край «дипломата» давил под копчик, но я терпел, обороняя сумку с документами, бутербродами и диском. Диск, к счастью, был упакован надежно, в металлический футляр, рассчитанный как раз на случай давки, мятежа, цунами, землетрясений и других катаклизмов, так что я за него не боялся. Беспокоился за свои ребра. На остановке у Эрмитажа народ ринулся к дверям, а меня притиснули к сиденью, к какому-то старику в долгополом пальто и черной каракулевой шапке пирожком. Я взглянул на него и почувствовал, как замерло сердце. Я видел его лицо сверху и в профиль, и в этом необычном ракурсе он так походил на отца! Смугловатая кожа, густая нависшая бровь, тонкий хрящеватый нос, резкие морщины у рта, чуть раздвоенный подбородок в серебристых точечках щетины, будто тронутый инеем… Старик шевельнулся, поднял голову, взглянул на меня, и иллюзия исчезла. Похож, да не слишком… Ему было не меньше семидесяти, а дад умер в пятьдесят восемь, от внезапного инфаркта. Скончался прямо за своим рабочим столом… божья смерть, как говорится, без мучений и ужаса, который испытывает человек в преддверии наступающего небытия… Мама была старше отца на шесть лет – тоже не слишком преклонный возраст, – но умерла тремя днями позже, вроде бы без видимых причин. Будто в ней что-то надломилось, сказали мне в больнице… Одним словом, почти как у Грина: хоть жили они недолго, да счастливо и умерли в один день. Иногда я думаю: наверное, мама любила отца больше, чем меня. Кощунственная мысль! Можно ли считать любовь как деньги или оценивать наподобие имущества? Но ведь она ушла за ним, а не осталась со мной… В те печальные дни я находился в Париже, на конференции по квантовой химии, и потому разыскали меня не сразу. Михалев Глеб Кириллыч – тот самый друг отца и коллега по писательскому ремеслу, обитавший в Графском – нашел мой телефон (мама уже лежала без сознания в реанимации) и принялся названивать в Кембридж, объясняя на пиджин-инглише и вологодско-французском диалекте, что у Сержа Невлюдова, ассистента профессора Диша, умер отец и умирает мать. Пока его поняли, пока разобрались, что он не шутит, пока связались со мной, пока я метался в поисках билета… Пока, пока, пока… Словом, когда я прилетел в Питер, все уже было кончено; дад и мама лежат в морге тридцать третьей больницы, а в пустой квартире жалобно мяукает забытый голодный котенок. Я не знал, не ведал, что родители завели кошку. Я и сейчас не знаю, какое имя они ей дали. Но в том ли суть?… Белладонна напоминает мне о них, и я ее люблю. Троллейбус форсировал Дворцовый мост, остановился меж ростральных колонн и с облегчением изверг наружу десяток пассажиров вместе с Сергеем Невлюдовым. Сергей Невлюдов – то есть я – огляделся, отринул грустные мысли, почистил перышки и поскакал на истфак, прижав к груди сумку с драгоценным диском и своими дипломами. Вообще говоря, в здании истфака обитают еще философский и экономический факультеты, военная кафедра, а также университетская поликлиника, но историки доминируют над всеми, не исключая военных и докторов. Почему? – удивится какой-нибудь наивный веник. Но личность искушенная усмотрит в том неоспоримый и ясный смысл: история – это политика, а под ее дудку пляшут все: и философы, и экономисты, и генералы, и даже врачи-гинекологи. Во всяком случае, так повелось у нас в России. Истфак, как и ожидалось, оказался на месте – стоял себе на Менделеевской линии, напротив Двенадцати коллегий, красуясь скромной своей колоннадой и заиндевевшими стенами, с которых осыпалась штукатурка. Впрочем, осыпалась она не первый год, а потому, не обращая внимания на эти мелочи, я юркнул в исторический вестибюль, стрелой промчался мимо буфета с туалетом и ринулся на второй этаж. Моя поспешность была нелишней – буквально в пяти шагах, за Двенадцатью коллегиями, в старом университетском дворике, прямом и длинном, как атакующая анаконда, располагался дом не дом, терем не терем, но некое древнее капитальное строение, отданное щедротами ректората НИИ кибернетики. Вот в нем-то я и трудился, из дальних странствий возвратясь, и мог вполне нарваться на приятеля где-нибудь у исторического буфета или туалета. Конечно, у пас, кибернетиков, имелась своя столовая, но в буфете истфака встречались та-акие студенточки!… Вдобавок пиво там было на десять копеек дешевле, сметана гуще, сыр па бутербродах толще, и потому кибернетики исправно паслись на истфаке. Я не хотел мозолить коллегам глаза. Сами понимаете: военкомат – святое дело; после него нормальный кадр должен кейфовать, вкушать шашлык и чебуреки, лечить нервы горячительным, а не шататься у служебных мест. Итак, я поднялся по лестнице, прошел по коридору с грязноватыми стенами и выщербленным паркетом в елочку, миновал кафедры новейшей истории России, просто истории России и истории политических учений (все три – догнивающие останки бывшей кафедры истории КПСС); срезал угол у лекционного зала, где кто-то бубнил о скифах и сарматах, и уперся в скромную дверь с надписью: «Кафедра древних культур». Эти культуры делились тут натрое: греко-римская, древнеславянская и все остальные. Бянус относился к остальным. Предметом его интереса были до-колумбовы цивилизации Месоамерики – ольмеки, толтеки, ацтеки и прочие инки да майя. В данное время он занимался расшифровкой узелковых письмен и жаждал осуществить этот научный подвиг с помощью какой-нибудь подходящей программы. Разумеется, речь шла не о том, чтобы подать на вход закодированные условными символами тексты и получить на выходе индейский эквивалент «Одиссеи» или, скажем, «Слова о полку Игореве». Чудес на свете не бывает, и все обычные программы-переводчики могут работать лишь при наличии словаря и правил, фиксирующих соответствия между грамматическими конструкциями двух языков, – иными словами, эти языки должны быть вам известны. Если же язык мертв и существует лишь в виде непонятной письменности, иероглифов ронго-ронго или узелков на цветных веревочках, то разобраться с ним не проще, чем побеседовать с дельфином. В таких случаях ищут билингву – двуязычную надпись на какой-нибудь стеле вроде Розетского камня, где сообщается об одном и том же на двух языках, знакомом и неизвестном. Но если вы имеете дело с древней Америкой и Океанией, то этот метод неприменим – ведь в те края не добирались ни финикийцы, ни эллины, ни латиняне. Тут надо идти тропинками поизвилистей, сплетая точный математический метод с эмпирикой и счастливой догадкой. На первом этапе неведомый текст, представленный набором символов, подвергают кластерному анализу, цель которого – распознать устойчиво повторяющиеся кластеры или смысловые группы. Предположим, что это слова или числа; чем больше таких кластеров вы ухитритесь найти, тем более полный словарь получится в результате. Разумеется, вам неизвестно, что означают все эти слова, но одни из них повторяются часто, другие – реже, а третьи – совсем редко. Это, само собой, примитивное качественное описание, а количественным будет частотная характеристика распределения кластеров, их статистический вес в текстах. Когда такая функция получена, вы можете предположить, что чаще всего повторяются слова «царь», «бог», «маис», «жертва» и, к примеру, «зарезать». Сообщив о своих догадках компьютеру, отправляйтесь пить кофе, ибо теперь начнется долгий и муторный процесс: перестановка значений между словами, их идентификация и попытка на этой основе разобраться с предложенным текстом. Возможно, через пару часов или суток вы получите одну-единственную осмысленную фразу, что-то вроде: «царь… бог… маис… жертва». Пляшите – ведь это великое достижение! Теперь вам осталось только заполнить пропуски между словами (конечно, от фонаря) и прочитать: «Царь возблагодарил богов за щедрый урожай маиса и повелел принести им жертву». К сожалению, ваш коллега, пессимист и старый циник, интерпретирует эту надпись совсем иначе: «Царь неугоден богам, и солнце по их велению сожгло маис, несмотря на щедрые жертвы». Выяснить, кто же прав, можно только одним способом – снова запустить тексты в программу и посмотреть, в каком из двух вариантов получится больше осмысленных фраз. Итак, вы повторяете этот процесс снова и снова, и наконец коллега посрамлен: боги все-таки не поскупились на маис для индейцев. Теперь сядьте за стол и напишите дюжину статей. Но у Бянуса – то есть у доцента Бранникова – дела до статей не дошли, так как он застрял на самом первом этапе, на поиске символьных групп. Он клялся и божился, что перекодировал свои узелки в символьную запись с величайшим тщанием, учитывая их расположение, размеры, способ вывязки, цвет и даже фактуру нитей. В результате каждый узелок был описан десятком признаков, а узлов этих насчитывалось двадцать тысяч без малого. С одной стороны, хорошо – большой исходный массив гарантировал приличную статистику; с другой, катастрофически плохо – ведь с матрицей двадцать на двадцать тысяч, заданной в десятимерном пространстве признаков, не справилась бы ни одна программа кластеризации. Ни одна в мире, кроме моего Джека Потрошителя. Не буду распространяться, как он умудрялся это делать, – надежды на медаль Вавилова или иной приятный знак отличия меня еще не оставляют. Я совершенствовал свою методу уже шесть лет, еще со времен стажировки в Кембридже, где хитрый старый Томас Диш подкинул мне одну проблемку. Вопрос касался классификации химических связей в солидной выборке веществ; выделение аналогов позволило бы прогнозировать синтез других соединений со сходными свойствами, что являлось весьма непростым и хорошо финансируемым промышленным заказом. Мне повезло с этой задачей: программист, не понимающий физических нюансов, ее бы не решил, а физик или химик, решив, не смог бы написать программу. Но я был един в двух лицах и, как бог Саваоф, породил Джека – тогда еще просто Джека-малютку, Джека-младенца. Потрошителем он стал уже здесь, на кафедре Вил Абрамыча, когда я довел до кондиции шестнадцатый или семнадцатый вариант; и отличался он от первого, как шотландское виски от пива «Балтика». Я подразумеваю не столько крепость этих напитков, сколько разницу в цене – в цене моих бессонных ночей и бдений у экрана Тришки. Но результат того стоил. Теперь мой Джек потрошил любую проблему, связанную с классификацией, как повар – дохлого кролика; он мог переварить гигантские массивы, найти сходство и разницу между объектами в поле десятков параметров, собрать их в группы, выявить их кластерную структуру, аппроксимировать недостающие признаки и так далее, и тому подобное. Он мог обрабатывать информацию визуального и звукового ряда: тексты, спектры, кардиограммы, отпечатки пальцев, подписи, изображения человеческих лиц и денежных знаков, сонаты Шуберта и птичий щебет – словом, все, что можно загнать на диск через тройлер. Еще он мог… Тут я обнаружил, что толкаюсь в дверь кабинета, который доцент Бранников делил с доцентом Сурабовым, специалистом по халдеям. Или,возможно, по ассирийцам. Дверь была заперта, но за нею что-то мелодично позвякивало. – Тук-тук, – сказал я. – Кого черт принес? – откликнулись из-за двери. Судя по бодрой реакции на мое «тук-тук», это был не вежливый престарелый Сурабов, а нечто более молодое и грубое. – Здесь Чингачгук Зеленый Змей с Кецалькоатлем, – вполголоса рявкнул я. – Открывай, шланг бледнолицый! – Сначала посоветуюсь с Великим Духом Маниту, – отозвался Бянус, но дверь все-таки открыл. Потом оглядел меня, нахально прищурив глаз, и вымолвил: – Зеленого Змея вижу, а где же Перистый?[670] – Будет тебе и Перистый, – сказал я, направляясь к саш-киному столу с компьютером и расстегивая сумку. – Твой друг Чингачгук теперь за старшего лейтенанта у могикан, с тремя перышками в хвосте. Распущу, сам пересчитаешь. Сашка восхитился: – Ну, Серый, молодец! Хоть и не майор, как наш Симагин, но все же… Надо отметить! – Он шагнул к столу и вытащил невесть откуда ополовиненную бутылку и стакан. Какой он шустрый, если дело касается горячительного! – Вечером отметим, – сурово произнес я, включая компьютер. – Придете вы с Симагиным ко мне, и отметим. Ноумеренно, как люди культурные! А сейчас замечу, мой бледнолицый брат, что ты слишком много пьешь при закрытых дверях. Мама мне говорила, что пристрастие к алкоголю ведет к импотенции. Пропустив последнее замечание мимо ушей, Сашка приласкав бутылку нежным взглядом. – Разве я пью, Серый? Я выпиваю! Изредка! По поводу и случаю… Вот кто действительно пьет, так это археологи. – Работа у них такая, – заметил я, отсоединив от сашкиного пентюха модем[671]. – Археологи – мотыга и плуг вашей науки. Всякий историк пашет на археологе… Так что им полагается. За вредность. Разглядев мои манипуляции с модемом, Бянус встрепенулся, забыв про свою бутылку. – Ты что делаешь, начальник? Совсем обездолить хочешь? Я ведь ни одной новой статьи не получу! – Не получишь, – согласился я. – Но вспомни, друг мой: little pitchers have long ears[672]. Я не хочу, чтобы мою программу украли с твоего компьютера. Убери модем подальше и не пытайся выйти в Сеть. Если подключишься, узнаю! – А как? – спросил он с любопытством неофита. – Узнаю. Есть способы… Кстати, ты слышал, что похоронные венки налогом не облагаются? Бянус чиркнул ребром ладони поперек горла. – Клянусь! Чтоб мне увидеть тепловую смерть Вселенной! Я уже забыл про всякие сети и неводы! Ты только скажи – это надолго? – На все время, пока работаешь с Джеком, – буркнул я, вкладывая диск с программой в приемную щель. На сашкином компьютере (весьма убогом, даже учитывая состояние университетских финансов) не было обоймы с автоматической подачей дисков, и эту операцию приходилось выполнять вручную. Впрочем, у историков работа сидячая, так что им полезно слегка размяться. – На все время? – протянул Бянус с ошеломленным видом. – Да я ведь могу возиться с расшифровкой целый год! А как же контакты с научной общественностью? – Контактируй через коллегу. – Я покосился на стол Сурабова, где матово поблескивал точно такой же компьютер, как у Сашки. – Он ведь не откажет? – Не откажет, – со вздохом согласился Бянус. Я переписал инструкцию, инициировал Джека и принялся объяснять, как должны быть подготовлены исходные данные, что означает каждая позиция меню и какие промежуточные сообщения могут появляться в окнах[673]. Все это содержалось в инструкции, но Бянус, в силу своего гуманитарного образования, разбирался в таких вещах, как мусульманин в ветчине, иными словами – на уровне «чайника». Так что мои комментарии были отнюдь не лишними. Он уважительно внимал мне и что-то бормотал под нос. Не прерывая лекции, я прислушался. – …высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы… Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина, и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих возникает синекдоха отвечания… Бянус цитировал «Сказку о Тройке» братьев Стругацких, и это сразу напомнило мне детство. Наша шайка-лейка-я имею в виду Сашку, Алика и себя самого – открыла Стругацких в пятом классе и до шестого проглотила все – от рассказов до «Града обреченного», благо в отцовой библиотеке каждый роман и каждый рассказ имелись как минимум в двух экземплярах. Дальнейшие наши школьные годы прошли под знаком Стругацких, да и университетские тоже, когда я учился на физфаке, Алик – на юридическом, а Бянус грыз исторический гранит. Где-то на первом курсе мы вдруг сообразили, что можем поддерживать связную и даже остроумную беседу, оперируя цитатами из «Понедельника», «Тройки» и «Гадких лебедей» – с некоторыми добавками из обожаемого Высоцкого. Эта полудетская привычка не сохранилась у нас с Симагиным (Алик теперь чаще «ботает по фене»), но Сашка, самый начитанный и памятливый из нашей троицы, ее не отринул. До сих пор он мог цитировать Стругацких страницами и в незнакомой компании представлялся так: Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза». На девушек-интеллек-туалочек это производило впечатление; они принимали Сашку то ли за светило юридической науки, то ли за модного гинеколога, специалиста по гонорее. Итак, он бормотал себе под нос, а я, закончив объяснения, взглянул на свой стодолларовый ханд-таймер[674]. В овальном продолговатом оконце горели цифры «14:33», ежеминутно сменявшиеся расписанием павловских электричек. На ту, что отправлялась из Купчино в пятнадцать пятьдесят, я еще успевал. Мы порешили, что Бянус созвонится с Аликом, а я буду ждать их к восьми, с закуской плюс средства доставки «пузырь-поддувало». Затем я поспешно сжевал бутерброд, отверг поползновения Сашки насчет горячительного и покинул его обитель. У лекционной аудитории мне довелось столкнуться с Сурабовым Мусой Сулеймановичем и раскланяться с ним. Сурабов был достоин уважения как человек интеллигентный, немолодой и в силу этого мудрый и терпеливый; впрочем, другой не ужился бы с Сашкой в одном кабинете.
* * *
В Павловск я добрался вовремя, в пятом часу. Сумерки над парком и привокзальной площадью уже сгущались, и плавное кружение снежинок, поблескивающих серебром в свете редких фонарей, напомнило мне сцену из классического балета – то ли крохотные лебеди, то ли эльфы в белых камзольчиках плясали в холодном обсидиановом воздухе, на фоне темнеющего неба и елей с разлапистыми ветвями. Я глубоко вздохнул, подумав, что вся эта нетленная красота имеет еще одно преимущество: от Павловска до моего Купчина было двенадцать минут езды на электричке, и значит, я находился почти дома. Это вдохновляло и успокаивало. Странная приверженность домашнему очагу! Особенно для того, кто молод еще годами, но успел поскитаться по Америкам и Европам… Однако чем старше становишься, тем лучше себя понимаешь, и я уже не первый год догадывался, в чем тут причина. Я вовсе не домосед; напротив, я люблю постранствовать, я легок на подъем, и дальние дороги мне не в тягость. К тому же в душе я романтик, и все необычное, таинственное притягивает и манит меня, как минареты зачарованных дворцов в Аравийской пустыне. Но даже романтику нужен дом, надежное прибежище, гавань стабильности и покоя; и этой гаванью были отец и мама. Где бы я ни учился, куда бы ни ездил, где бы ни жил, дом мой всегда пребывал в точном и определенном месте, и под крышей его меня всегда ждали. Но больше не ждут. Теперь я сам себе дом, а это, что ни говори, налагает определенные обязательства. Хотя бы в отношении моей кошки. Я обогнул парк справа и очутился на заснеженной улице, где в двухэтажном флигеле с обширным подвалом размещалась фирма «ХРМ Гарантия». Вернее, «Художественно-реставрационные мастерские „Гарантия», акционерное общество с ограниченной ответственностью. Это наименование давало массу поводов для словесных извращений, и я звал своих работодателей то гарантами, то реставраторами, то хрумками. Познакомились мы прошлым летом, когда я разыскивал умельцев, способных привести в порядок старинный книжный шкаф – тот самый, где хранятся мамины книги вместе с отцовскими Коранами. Хрумки заказ исполнили в самом лучшем виде и взяли недорого, а я помог им купить компьютеры для бухгалтерии и дирекции; так у нас наладилось что-то вроде сотрудничества. Вскоре я узнал, что занимаются они не только реставрацией, но всяким иным промыслом, вроде бы законным и легальным – словом, всем, где пахнет прибылью. Надо сказать, сей аромат меня равнодушным не оставил. Мои расходы никак не желали мириться с доходами; собственно, расходов было много, от квартплаты до рыбки для Белладонны, а доход – один: скромное содержание государственного служащего четырнадцатого разряда. Именно таков ранг старшего научного сотрудника в новой демократической России, и должен сказать, что это совсем не сахар; коллежскому асессору при проклятом царизме жилось куда сытнее. В общем, гаранты взялись меня подкармливать, подбрасывая кое-какую программистскую работенку. Не знаю уж отчего: по доброте душевной или связав со мной некие перспективы как с человеком молодым, повидавшим свет и всякие языки и племена. Может, языки их и соблазнили: английский я знаю не хуже русского, на французском говорю свободно, а на немецком, испанском, татарском и идише могу объясниться. Так ли, иначе, но мы добрались до нашего нынешнего проекта, в котором Джек играл первостепенную роль; и оплачивались эти игры с весьма пристойной щедростью. Я поднялся на невысокое крылечко, позвонил и был допущен в нижний вестибюль, скромно отделанный светлыми сосновыми панелями. Тут всегда дежурили пятеро мордоворотов из «Новгородской Дружины» и милиционер-автоматчик, причем понять, кто у кого на подхвате, было абсолютно невозможно. Милиционер, крупный парень симагинских пропорций, ошивался у дверей бухгалтерии, а дружиннички резались в карты, да не в какое-нибудь очко, а в преферанс. Бесспорный признак высокого интеллекта! На второй этаж вела деревянная лестница с резными балясинами, выходившая в верхний холл (панели из бука, палисандровые шкафчики с образцами изделий, подвесной потолок и хрустальные светильники). Среди этого великолепия восседала красотка-секретарша в жемчугах и брильянтах – куда там нашей Танечке, с которой я крутил любовь! Напротив этой красавицы (двадцать шесть лет, зовут Инессой, рост метр семьдесят, три четверти приходится на ноги) был небольшой коридорчик с тремя дверями: левая – в кабинет директора, две правые – к его заместителям. Двери выглядели очень солидно, как и кабинеты, отделанные каждый на свой манер. Я называл их «усыпальницей», «Фоли-Бержер» и «скотобойней». Мои работодатели были людьми бывалыми и небедными; судя по всему, их реставрационный бизнес процветал, подпитываемый с двух сторон заказами городской и областной администраций. Их бригады трудились в Петропавловке и в Эрмитаже, в Павловском, Пушкинском и Гатчинском дворцах и в Казанском соборе; были у них даже альпинисты, полировавшие адмиралтейский шпиль, и спецкоманда по свержению монументов советской эпохи – тех самых статуй и стел, к коим без пятидесятитонного крана не подберешься. Этой производственной деятельностью руководил лично Петр Петрович Пыж, генеральный директор, бывший сибиряк, бывший искусствовед, бывший скульптор и бывший чего-то там еще, крепкий мужчина лет пятидесяти. Керим Ичкеров, гарант помельче, занимался финансами и перспективными проектами, а Альберт Максимович Салудо ведал безопасностью. Безопасности хрумки придавали очень большое значение. Взобравшись на второй этаж, я обнаружил секретаршу Инессу в самой соблазнительной позиции: в глубоком кресле, нога на ногу, ручки за головой, грудь колесом. И какая грудь! Хоть был я с мороза, но сразу вспотел. Инесса бросила на меня небрежный взгляд из-под темных шелковых ресниц. Я призывно улыбнулся ей – как всегда, без видимых результатов. Где ты, мое мужское обаяние?! Покачав длинной ножкой в ажурном чулке, секретарша молвила: – К господину Ичкерову? – К нему, may fair lady[675]. Языки не были ее сильной стороной, но, уловив что-то про леди, Инесса соизволила чуть-чуть растянуть губы – не улыбка, а скорее намек на улыбку. Затем она потянулась к селектору, щелкнула клавишей и с придыханием произнесла: – Господин финансовый директор? К вам господин Невлюдов. Селектор что-то буркнул в ответ, и секретарша кивнула в сторону коридорчика: – Проходите, Сергей Михайлович. Господин Ичкеров ждет. Но я стоял и молчал, растягивая удовольствие. Хоть было ясней ясного, что ничего мне тут не обломится и пора изображать сквозняк, все-таки глядеть на Инессу было приятно. Куда приятней, чем на очкастого гренадера в военкомате! Молчание затягивалось, и, почувствовав неловкость, я спросил: – А здесь ли нынче Север Исаакович? Этот Север Исаакович, по фамилии Зон, по кличке Сизо, был камнерезом-умельцем, алкоголиком и моим приятелем. Располагался он в подвале, где у гарантов были оборудованы мастерские, и я мог бы лично прогуляться в это производственное помещение. С другой стороны, нельзя же беспардонно пялиться на девушку и ничего не говорить?… Инесса снова качнула ножкой и хлопнула ресницами. – Севера Исааковича сегодня в дирекцию не вызывали, и мне он не встречался. А вас вызывали, Сергей Михайлович. И ждут! Она снова показала взглядом на коридорчик. Я направился туда, обернувшись разок-другой по дороге, чтобы полюбоваться на Инессу. Что за фактура! Какой пейзаж! Достоин кисти Сезанна. Или Гогена. Или даже самого Франсиско Гойи… Словом, кто прекрасней всех на свете? Вы – в колготках «Голден леди»! А эту мымру из военкомата только Дейнеке рисовать, мстительно подумал я, открывая дверь в кабинет Ичкерова. Господин финансовый директор сидел в кресле за серповидным столом, положив на него короткие мускулистые ноги в начищенных до блеска ботинках. Был он похож на мамелюка с картинки: усы торчком, нос крючком, антрацитовые зрачки плюс золотая серьга в левом ухе. Этническая принадлежность Керима оставалась для меня тайной. Не чеченец, не лезгин, не осетин и не азербайджанец… Может, что-то экзотическое? Сван, пшав или хевсур? Может, вообще не кавказец, а сын турецкоподданиого, как Остап Бендер?… Помещение у Керима было отделано в нежных розовых тонах, с розовыми шторами и золотистой обивкой кресел; висели в нем портреты кинозвезд в самом натуральном виде – то есть в чем мать родила. Поэтому я называл керимову обитель «Фоли-Бержером»; она будила во мне смутные воспоминания о Франции и прочие грешные мысли. Рядом с сейфом, на столике красного дерева, располагался компьютер: снаружи – бронза и золото, спецзаказ для нуворишей, внутри – весьма приличный квинтяк[676], приобретенный при моем посредстве. Керим энергично махнул рукой, указав мне на кресло. Я сел и утонул в пуховом сиденье; мои колени задрались выше подбородка. – Счас п'эдем. – Поедем? Куда? – Я с удивлением воззрился на финансового директора. – К тэбе. С качками. Пол'рра лымона, как-ныкак… Ба-алшие башлы! Охранат нада. Вот что значит практический ум! А я-то думал, что получу сейчас чемоданчик, а в нем – полтора миллиона долларов плюс вспомогательные материалы… Как бы не так! Ба-алшие башлы, охранат нада! И правильно. Толстым коротким пальцем Керим ткнул в пульт селектора. – Ныколай, ты? Мой бронэход к под'эзду! Он встал, облачился в дубленку из серой замши и начал колдовать у сейфа – огромного сооружения, обшитого розовым буком, с блестящей анодированной дверцей. На дверце тоже был портрет нагой красотки, в панике привставшей над унитазом. Из унитаза высовывалась страшная волосатая лапа и тянулась к ее розовому задку. Раздался жуткий вопль, затем – дробная пулеметная очередь, и сейф раскрылся. Керим отключил сигнализацию, вытащил большой алюминиевый чемодан и захлопнул дверцу. – Пой'ддем, бабай. Пора тэбе наши дэнги отрабатыват. – Пой'ддем, шашлык, – ответствовал я, поднимаясь. – Мой готов. – Этот наш «базар на фене» – вполне допустимая вольность меж добрыми знакомыми. Фени я нахватался у Симагина, и на этом странном языке «бабай» означает «азиат», а «шашлык» – «кавказец». Керим звал меня бабаем, потому что я наполовину татарин, на четверть еврей и еще на четверть белорус или литовец (последнее даже отцу не было точно известно). А я звал господина директора шашлыком. Вот и квиты. Все по совести, все по чести… Оно и к лучшему. Как говорят британцы, full of courtesy, full of craft[677]. Мы спустились вниз (дорогой я снова полюбовался на Инессу) и залезли в керимов бронеход – джип «Мистраль» с пуленепробиваемыми стеклами. То есть я так думал, что стекла непробиваемые, поскольку были они толщиною в палец. Господин финансовый директор устроился рядом с шофером, я сел сзади, промеж двух новгородских дружинничков. Под курткой у того, что сидел справа, прощупывалось что-то твердое и длинное – ручной пулемет или – бери выше! – базука. Салон «Мистраля» был широк и высок, но просторным сейчас совсем не казался. Мебели было многовато – пара шкафов рядом со мной да еще водитель, тоже комод не из последних. В сравнении с этой троицей мы с Керимом выглядели как две тумбочки для постельного белья: одна повыше и постройней, другая – пониже и пошире. Но все-таки тумбы, а не шкафы, считались главными: их охраняли, их берегли, а пуще того чемодан, упакованный в первую тумбочку. Да и то сказать – пол'рра лымона, как-ныкак!… Водитель дал по газам, и мы рванули. «Мистраль», похожий на боевую машину пехоты, с гулом и грохотом рассекал атмосферу; она, побежденная, стонала и выла за кормой, разорванная в клочья. Широкие шины подминали снег, мощно урчал мотор, поскрипывали сиденья натуральной кожи, и всякий встречный, поперечный и продольный шарахался от нас как от чумы. Словом, берегись, мелюзга, – стопчем! До моего дома на углу Дунайского и Будапештской мы домчались за девять минут двенадцать секунд и тормознули на углу, не заезжая во двор. Уже почти стемнело. Снег больше не падал. – Вылэзай, – сказал Керим, поворачиваясь ко мне. – А ближе не подъедем? – Нэт. Нэ надо, чтоб видэли, на чем ты приэхал. Йа зайду с тобой, а Ныколай с Борысом принэсут кэйс. Нелишние предосторожности, подумал я, вспомнив о глазастых дворовых бабках и вороватых тинейджерах. Возможно, гуляли у нашего дома и другие люди, у коих керимов драндулет, вкупе с чемоданом, вызвал бы нездоровое любопытство. Николай – тот, с гранатометом под курткой, спросил: – Парадная на замке? – Да. Код шестьсот десять. Нажать разом три кнопки. – Нищий у тебя замок, – проворчал Николай. – Даже куска не набрать. Мы с Керимом покинули бронеход, обогнули угол дома, прошли под аркой и направились к подъезду. Филенку еще не вставили, так что кодовый замок был чистой условностью – в дыру под ним мог пролезть любой и каждый. Почти любой – все-таки у Николая были выдающиеся габариты. Белладонна приветствовала нас сдержанным урчанием. Керим искоса взглянул на нее, сбросил дубленку на диванчик и прошелся по коридору, небрежным хозяйским жестом отворяя двери. Потом спросил: – Адын живешь? – С кошкой. – Правылно, – одобрил мой работодатель. – Пака маладой, нада жит адын. Бэз баб. – Тяжко без них, – признался я. – Прыводи! Хот каждый ночь. Будут денги, будут и бабы. На этом наша дискуссия закончилась: Николай с Борисом приволокли чемодан и, вручив его в хозяйские руки, уселись покурить в прихожей. Белладонна неприязненно осмотрела их, задрала серый хвост и с гордым видом удалилась на кухню. Я проводил господина Ичкерова в комнату, к тришкиному столу, и активировал компьютер. Раскрыв чемодан, он вручил мне пакетик, лежавший сверху. – Твое. За январ. Затем выгрузил шесть коробок с аккуратными надписями, пять составил штабелем в кресло, а последнюю водрузил на стол. Пометка на ней гласила: «US. $1 500 000». На остальных емкостях числа были такими же, но география – иной: Сингапур, Гондурас, Польша, Швейцария и еще что-то непонятное – Фанора или Факора. Я такой страны не знал. Керим пошевелил усами, хлопнул по штабелю в кресле короткопалой ладонью и распорядился: – Эти оставлу на нэделу. Толко ты поосторожнэй – людам нада вернут. Это, – он показал на последнюю коробку, – сдэлай сечас, бабай. – Сдэлаю, шашлык, – сказал я и раскрыл коробку. Там лежали пятнадцать тугих серо-зеленоватых пачек, новенькие стодолларовые банкноты, и с каждой сурово взирал на меня президент Франклин. За всю свою жизнь я не видел такого богатства наличными; наличность в местах цивилизованных не в почете и демонстрировать ее – признак дурного тона. Есть карточки, есть чеки, есть «Вестерн Юнион»… За океаном живые деньги медленно, но верно, превращаются в раритет; бумажки никому не интересны, а монеты все больше выпускают юбилейные, вроде канадских авиационных долларов. Есть, однако, свое нездоровое очарование в наличных… Керим испытующе уставился на меня, но я и бровью не повел: взяв первую пачку, вложил ее в приемный паз тройлера, уже подогнанный к размерам банкноты. Тройлер не стоит путать с трейлером, бойлером и бройлером; в бройлере, к примеру, выращивают цыплят, а в тройлере – информацию, Это устройство заменило всевозможные сканеры, принтеры и магнитофоны; с его помощью можно ввести в компьютер и перекачать на диск любые изображения, равным образом как и вывести их – на бумагу, пленку или магнитный носитель. Благодаря щедрости гарантов тройлер у меня был наивысшего класса: книжки по восемьсот страниц считывал за минуту. Зеленые пролетели со свистом, и каждый подмигнул мне овальным зрачком с физиономией президента Франклина. Я сунул в паз вторую стопку, затем – третью и четвертую, наблюдая, как на экране, параллельно с формированием входных массивов, плавно сдвигаются указатели – каждый в своем окне, голубом, желтом или оранжевом. Эти массивы являлись многомерными матрицами, причем желтая и оранжевая хранили вид купюр с лицевой и оборотной стороны, а в голубой фиксировалась картинка «на просвет», позволявшая уловить нюансы, связанные с водяными знаками, текстурой бумаги, запрессованной в нее станиолевой полоской и другими заокеанскими хитростями и прибам-басами. Формирование матриц было лишь начальной стадией моих трудов; на следующем этапе аналитический модуль Джека произведет селекцию, выделит явные признаки и займется классификацией. А после мы доберемся до признаков тайных… Тройлер стремительно пролистал пятнаднатую пачку, в стереоколонках раздался мелодичный звон, указатели в окнах сдвинулись вправо, сканирование закончилось; теперь диск данных хранил подробнейшую информацию о пятнадцати тысячах купюр. О настоящих долларах. Прочие, поджидавшие в кресле, этим похвастать не могли. Керим любовно упаковал зеленые в коробку и упрятал ее в чемодан. – Черэз нэделу пришлу Ныколая. Он заберот картынки. Я кивнул. То, что лежало в кресле, действительно было картинками, шедеврами подпольного искусства разной степени достоверности и правдоподобия. Где «гаранты» откопали их? Я был не настолько наивен, чтобы задавать подобный вопрос. Аsk nо quеstiоns аnd bе tоld nо liеs, говорят англичане; не спрашивай, и тебе не солгут. Кстати, и глотку не перережут. Когда Ичкеров удалился вместе со своей командой, я заглянул в конвертик, где лежало «мое, за январ». Вдвое больше, чем за «дэкабр и ноябр»; видимо, намек, что от меня ждут небывалых трудовых подвигов. Я спрятал конверт и убрал коробки с кресла под тришкин стол, с глаз долой. Через пару часов ко мне пожалует инспектор налоговой полиции, а нюх у него как у ищейки – точь-в-точь доберман-пинчер, только на двух ногах… Вспомнив об ищейках, я вызвал своего стража-Добермана, вспомогательный джеков модуль, и ввел адрес сашкиной машины. Пусть только попробует выйти в Сеть! Засим я отправился на кухню, готовиться к дружеской встрече. Белладонна сидела на табуретке и умывалась; нижние лапки обнимал серый хвост, передние вылизывал розовый язычок. В такой позе она напоминала алебастровые изваяния священных кошек, виденные мной в каирском музее, – их извлекли из захоронений трехтысячелетней давности. Но Белладонна была теплой, мягкой, живой. Я погладил ее по спинке. – Мы при деньгах, красавица. Пожалуй, вместо минтая куплю тебе трески… или даже окуня. Ты ведь любишь окуньков? Я думаю, окунь повкусней трески? – Мяууу, – согласилась Белладонна, облизнувшись.
Глава 3 C ЛЮДЬМИ ТЫ ТАЙНОЙ НЕ ДЕЛИСЬ СВОЕЙ
С людьми ты тайной не делись своей, Ведь ты не знаешь, кто из них подлей. Как сам ты поступаешь с божьей тварью, Того же жди себе и от людей.Омар Хайям. Рубаи
Мой ханд-таймер просигналил восемь, и тут же раздался звонок от дверей. – Кто там? – Железный Феликс с Иудушкой Троцким. Я отворил. Бянус начал отряхивать снег с шапки, а Алик тут же полез обниматься, молодецки ухая и хлопая меня по спине огромной ладонью. – А кто тут у нас старшой лейтенант? – гудел он сочным баритоном. – Кому это фарт привалил? Кто ж это буром прет в начальники? Кого мы сегодня почешем за ушками? – Кошку мою почешешь, следак, – ответствовал я. Симагин стащил пальто размером с небольшой парашют и повесил на вешалку. Вешалка крякнула, но устояла. – Я не следак, – сообщил он, отдуваясь, – я полицейский инспектор в чине майора. Я ловлю, а не разговоры разговариваю. – То-то ты сегодня такой молчаливый, – заметил Сашка, копаясь в своем портфеле. Там что-то мелодично позвякивало. Мы прошли на кухню. Белладонна милостиво дозволила Алику пощекотать брюшко, Бянус водрузил на стол две бутылки «Политехнической», а я с облегчением вздохнул. Две бутылки на троих не так уж много… С другой стороны, портфель у Бянуса был огромен, и в чреве его могла уместиться канистра со спиртом. Я не любитель горячительного, что портит временами все удовольствие от наших посиделок – по крайней мере, для меня. Сашка и Алик выпивают, и стол для них без бутылки не стол, а пустыня Сахара, хоть с оазисами хлеба, шпрот и ветчины, но лишенная всяких живительных источников. Однако я терплю и даже прикладываюсь к этим источникам, дабы не смущать гостей и поддержать компанию. Чем не пожертвуешь ради близких! Даже спокойствием в желудке. Встречаемся мы регулярно, и тому есть множество причин. Во-первых, дружим мы четверть века, с нежного семилетнего возраста; правда, в первом классе мы с Сашкой дрались, а Симагин нас разнимал, щедро раздавая оплеухи. Во-вторых, учились мы в одном университете, хоть ездили в разные места: Сашка – на стрелку Васильевского острова, Алик – к Смольному, где размещается юрфак, а я таскался в Петергоф, куда в семидесятых годах переселили естественно-научные факультеты. Но так ли, иначе, закончили мы одну и ту же школу и одну и ту же университетскую альма-матерь, как говорит Сашка. И жили они поблизости: Бянус – на Будапештской, в пяти минутах ходьбы от меня, а Симагин чуть подальше, на углу Дунайского и Купчинской. Вот и третья причина, очень важная, надо сказать: путь домой под газом был для моих друзей недолог. В-четвертых, все мы оставались холостыми, и только Бянус мог похвастать полным родительским боекомплектом; я – круглый сирота, а Алик жил с матерью. На самом деле его зовут Олег, но это имя легко трансформируется в Алика и дальше – в Аллигатора. Он мужчина мощный, героического сложения, уверенный в себе, с крупными чертами, вставной хромированной челюстью и львиной бурой гривой. Мне кажется, при одном его виде злодеи должны трепетать и во всем сознаваться, и в бывших, и в будущих грехах. Жизнь у нею нелегкая, но полная приключений; после юрфака он служил в ОБОПе[678], потом, окончив вечерний экономический институт, перешел в налоговую полицию. Несмотря на суровость полицейских будней, парень он компанейский, любит зверье, детишек, обожает вкусно поесть и петь песенки под гитару. Сашка-Бяшка, едкий, тощий, желчный, полная ему противоположность. В школе его гордую фамилию Бранников переделали в Баранникова, а потом просто в Бянуса-Барана, но к баранам он совсем не относился. По характеру он был совсем не баран, а ядовитый скорпион или лернейская гидра, правда страдал слабостью к женскому полу. Вот и сейчас, деловито раскупоривая бутылки, он принялся толковать про очередную свою пассию, Верочку с психологического, то ли аспирантку, то ли ассистентку, но отнюдь не синий чулок, а скорее колготки «Омса». Во всяком случае, именно в них Верочка покорила Бянуса, и теперь он прозрачно намекал, что мне пора развеяться, прогулявшись ближайшим вечерком в театр. Но я держался стойко. Мы разлили по первой, и Алик предложил тост за хозяина дома: – Чтоб на твои погоны звездочки падали почаще и были покрупней! Мы выпили, и Бянус завистливо сказал: – А я вот все в лейтенантах хожу… Не любят в военкоматах историков! – Раз ты младший по званию, будешь открывать сардины, доцент, – распорядился Алик. – Может, лучше – разливать, майор? Симагин ухмыльнулся, показав отличные вставные зубы. – Увянь, штафирка! Не стучи кадыком! Разливают всегда майоры, а не доценты с лейтенантами. Те только открывают. Он потянулся к бутылке и налил – под восхищенный шепот Сашки: – Ну и майорский глаз! Глаз-ватерпас! Прям-таки исполин духа и корифей! Мы выпили по второй, за вечную дружбу, и Алик с Бянусом закурили. Я не курю и потребляю в меру, как говорилось выше; просто идеальный муж, да вот никто меня не берет… Хотя если вспомнить о Танечке, о Нэнси и Гите… На Гите я чуть не женился, но она, отучившись в Штатах, собиралась вернуться в Германию, в Марбург, что противоречило всем моим планам. Алик стряхнул пепел в блюдце и, взглянув на Бянуса, спросил: – Как поживаешь, доцент? Как там твои шнурки от индейских сандалий? Крыша от них еще не поехала? Сашка пожал плечами. – Чтой-то у тебя интерес к индейцам проснулся, майор? Накрыл банду апачей? Или гуроны налогов не платят? – Интерес у меня не к индейцам, а к тебе, – солидно пояснил Симагин. Затем подумал и добавил: – Насчет индейцев я тоже любопытствую, доцент. Какой в них, скажем, нынче толк и смысл? Взять хотя бы ту же майя-мафию… О чем записано в их узелках? Пыхтишь ты над ними, пыхтишь, а может, там одни имена усопших от жреческого беспредела, и пользы от этого, за давностью лет, никакой. Вот если б ты разузнал что-то толковое… скажем, что они пили и чем, понимаешь, закусывали? – Я занимаюсь сейчас не майя, а инками, – уточнил Бянус. – И я без всяких узелков могу сказать, что были они аскеты и трезвенники – по причине полного коммунизма в их славной державе. – Тяжелый случай, – прокомментировал Симагин. – Ну а с узелками как все-таки дела? Помнится мне, у инков был строгий учет и контроль… Вот и хочу я узнать, как они брали за хобот налогоплательщиков. Перекличка поколений, что ни говори! – Вроде бы один налоговый инспектор другого инструктирует, как лучше с народа шкуру содрать, – съязвил Бянус. – Но меня такие вещи не колышут; при моем-то окладе много не сдерешь, так что поведаю без утайки, когда узнаю. Может, скоро и узнаю. Сегодня, видишь ли, Серый мне программку приволок, собственного изготовления. Я ее уже и опробовал… Зверь программа! Что-то получилось, а что – непонятно… Сплошная туманность Андромеды![679] – Смотри в инструкцию, чайник, – сказал я. – В инструкции все написано. На русском, без всяких узелков. – Это верно, – согласился Алик. – Инструкции для того и пишутся, доцент, чтоб в них глядели. – Он погасил сигарету, подцепил на вилку кусок датской ветчины и обнюхал его с видом заправского гурмана. – Ну а что еще у нас новенького? Кроме нашего старшого, цыпочки Верочки и зверской программки? Пришел мой черед делиться новостями. Я мог бы поведать кое-что занимательное – скажем, о миллионах фальшивых долларов, что лежали у Тришки под столом, – но не всякую тему можно обсуждать с историками и полицейскими. Особенно с полицейскими; Алик бы меня, разумеется, не продал, но сильно бы взволновался. И потому, приняв самый сокрушенный вид, я сказал: – Семинар мне сегодня пришлось пропустить. Важное заседание. Предзащиту. Симагин приподнял брови. – Свою, что ли? Докторской? – Чужую. Есть у нас в НИИКе ценный кадр… Моделирует иерархические связи в сообществах волков, гиен и кроликов. С целью охраны окружающей среды. – Полезное начинание и с биологическим уклоном, – подал реплику Бянус. – У нас вот один тоже защищался – то ли по истории, то ли по герпетологии, сразу не въедешь. – Это как же так? – заинтересовался Алик, разливая по третьей. – А вот так! Выяснял он породу змей на голове у Горгоны Медузы. В плане географических познаний древних. Если б, к примеру, удалось доказать, что змеи те были анакондами, то значит, греки плавали в Южную Америку… – …а если кобрами – то в Индию, – добавил я. – Вот-вот, мысль ты верно уловил, – оживился Бянус, приподнимая емкость. – Так выпьем же за человеческое хитроумие, за мощь научного познания, что наводит мосты от кибернетики к шакалам, от шакалов – к анакондам и дальше – к истории, царице всех наук! Он опрокинул рюмку, а я чуть-чуть пригубил и заметил: – О шакалах речи не было. По-моему, упоминались волки, гиены и кролики. – Я выпью за кроликов, – откликнулся Алик. – Кролик, тушенный в сметане, очень даже ничего, без всяких диссертаций… Я бы над ним клювом щелкать не стал. Раскрасневшийся Бянус поднялся и полез к форточке, приговаривая: «Накурили, душно, аж жуть… а здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу… народу нужен простор… народ любит выпивать и закусывать на свежем воздухе…» То был верный признак, что пора переходить к песням; и, взглянув на Алика, я отправился за гитарой, размышляя по дороге о разных разностях. Например, о том, почему оба мои друга не женаты. Симагин по этому поводу рассказывал всякие байки из голливудских фильмов: мол, жил себе полицейский, и было у него две жены и по отпрыску от каждой, и с обеими он развелся из профессиональных соображений, хоть любил их до безумия. И вот гангстеры-плохиши похищают то одну жену, то другого дитятю, а наш полицейский вертится, как ерш на сковородке: надо ему свой гарем спасти и деловых прищучить, и от всех этих забот у него уже вальты гуляют. Отсюда резюме: коль повенчался с законом, больше в загс ни ногой. Как говорится, если у вас нету тети, вам ее не потерять. Но это все сказки, шутки, прибаутки. Истинные причины другие: Алик трудится до седьмого пота в своем налоговом ведомстве и не бывает в тех местах, где пасутся невесты, а Сашка, при всей своей любвеобильности, рад бы в рай, да грехи не пускают. Главный же грех – скудный доцентский приварок, с коего семью не пропитаешь и тем более не оденешь, не обуешь. Как говорил отец, у нас в России доценты с кандидатами пребывают в вечной погоне за водителями автобусов – в смысле зарплаты. Но теперь водители окончательно победили. Быть может потому, что автобусы ездят быстро и пешком их никак не догонишь?… Я принес гитару, и Алик, коснувшись струн, вдруг подмигнул мне, словно спрашивая: ну о чем спеть, бой-фраер, задушевный старый друг? О парусах ли бригантины, что тают в дымке южных морей под золотым солнышком?… Об атлантах, что держат тяжесть мира на своих плечах?… О дилижансе, что мчится сквозь ночь и ветер, грохоча колесами по булыжной мостовой?… Или о красавице-принцессе, о которой мечтает каждый из нас, да так и не встретит ее никогда, разве лишь в жизни вечной… Но это были старые песни, а мне хотелось новых. Сильные пальцы Алика шевельнулись, зазвенела гитара, и родилась мелодия. Потом – слова…
* * *
Четыре года назад, когда я, вернувшись к родным пенатам, определялся с трудоустройством, выбор был на редкость велик. Не как при советской власти, в отцовы времена; таких «инвалидов», как он, не брали ни в вуз, ни в «ящик», ни в приличный институт. Но с той доисторической эпохи миновала целая вечность, евреев и вообще ученых в России поубавилось, а в Штатах и Израиле прибавилось, по каковой причине искусства и науки у нас не процветают. Ну что ж, зато появились «новые русские». Я, кстати, по паспорту тоже еврей, но в наше смутное демократическое время этот факт меня не ущемляет и не эпатирует кадровиков – ни в Физтехе, ни в СПГУ, ни в иных местах, что хоронились раньше от нашего брата на семь замков с парткомом. Теперь все они жаждали взять на работу молодого перспективного «пи-эйч-ди», отучившегося в Саламанке, штат Огайо, знатока языков и обычаев, с заокеанскими связями и петербургской пропиской. И никого из них не волновало, что я такой экзотический фрукт: частью татарин, частью еврей, а частью неведомо кто – может, орангутанг с острова Бали. Словом, вариантов было много, но я остановился на университете. Во-первых, альма-матерь, как-никак; а во-вторых, ради сатисфакции и поддержания семейной чести: отца моего в начале семидесятых выперли из университетского НИИФа, лишь только он успел закончить аспирантуру. А я, его сын и наследник, мог выбирать между НИИ физики, НИИ математики и НИИ кибернетики. И мог получить там любой оклад – сорок или даже пятьдесят баксов в валютном исчислении! Поистине, демократия означает справедливость! Я пошел на работу в НИИК, в лабораторию распознавания образов, или ЛРО, как ее называли. Причин для такого выбора существовало две: во-первых, заведовал ЛРО (и кафедрой с тем же названием) милейший старик Вилен Абрамович Эбнер; а во-вторых, наш институт располагался на исконно университетской территории, на стрелке Васильевского острова. Все остальное, имевшее отношение к физике, химии и математике, было выселено за Петергоф, на станцию «Университетская», куда я и ездил шесть с половиной лет, будучи студентом физфака. Ездил и наездился; теперь мне хотелось работать тех краях, куда можно добраться в теплом метро, а не в ледяной электричке. К счастью, за четыре аспирантских года я ухитрился обзавестись двумя степенями, по квантовой физике и математическому программированию. В последней своей ипостаси я занимался кластерным анализом, а это одна из главных проблем распознавания образов. Итак, я мог продолжить свои штудии у Вил Абрамыча – тем с большим основанием, что тематика моя была комплексной, имевшей равное отношение и к физическим проблемам, и к структурной химии, и собственно к программированию. Я пытался создать единую классификацию химических веществ. Не элементов Периодической системы, которых всего-то чуть больше сотни, а всевозможных соединений, минералов, сплавов, искусственных материалов – словом, всех многообразных атомарных конструкций, какие известны человечеству. Кстати, никто не знает, сколько их на самом деле; в компьютерных банках спектральной и структурной информации зафиксированы сведения о трехстах тысячах веществ, но их, возможно, миллион, или два, или три. Что же касается классификации, то существуют лишь грубые ее наметки: это вещество – органическое, а это – неорганика; это – полисахарид, а это – структура типа алмаза; это – соединение с бензольным кольцом, а это – из класса гранатов или шпинелей. Но чего-нибудь всеобъемлющего и столь же строгого и стройного, как Периодическая система, мы пока что не придумали. А это было бы весьма полезно! Ведь всякая классификация обладает прогностическим свойством; иначе говоря, если в ней есть лакуны, то появляется шанс предсказать, что именно в этих пустотах должно размещаться. Вот вам торная дорога к целенаправленному синтезу новых веществ, та же задачка, какую подкинул мне хитрый старый Диш, только не в пример глобальнее. Ею я и занимался, вместе с Джеком и троицей помощников. Наш НИИК входил в университетскую систему факультетов и научных институтов, являясь самым юным из них: его создали году этак в девяносто девятом. В прошлом веке, как мы шутили. Возможно, но причине малолетства, нас оставили на Васильевском, а не выселили в петергофские джунгли; ведь за юнцами нужен глаз да глаз! Может, была другая причина – разместить большой институт в нашем корпусе не удалось бы, а вот для начинающих он подходил в самый раз. Занимались мы десятком проблем, распределенных среди лабораторий искусственного интеллекта, распознавания образов и программирования. Если идти от набережной по Менделеевской линии, можно попасть на небольшую площадь Академика Сахарова, мощенную брусчаткой и стиснутую старинными домами. Место это знаменитое; справа – приземистый квадратный истфак, за ним – бывшая биржа, ныне – Военно-морской музей; слева – мрачноватые особнячки Оптического института, каждый в своем стиле и со своей историей; сзади – красно-белая стена Двенадцати коллегий, прямо – серое здание БАН, а за ним Академия тыла и транспорта. В ближайших окрестностях есть и другие диковины и чудеса: Кунсткамера и Зоологический музей, Ростральные колонны, Дворцовый мост, дворец опального князя Меньшикова, сфинксы и Академия художеств. Я всегда иду по Менделеевской до площади, с каждым шагом погружаясь в девятнадцатый век – а может, и в восемнадцатый; и это мне приятно. На площади я останавливаюсь, озираюсь и понимаю, что в Петербурге есть только один университет. Все остальные носители этого пышного имени – узурпаторы и нувориши! И политехники, и скороспелые менеджеры, и профсоюзные обиралы. Все они – клубника в чесночном соусе, коктейль из денатурата с лимонадом! Мало назваться университетом; университет – это традиции, это великие умы, творившие здесь сто и двести лет назад; это, наконец, стены – пусть обшарпанные и ветшающие, но видевшие блеск и славу, победы и поражения, события великие и ужасные… Бывает, я уношусь мыслями в прошлое, к иным стенам, таким же древним, но сверкающим первозданной свежестью и чистотой. Саламанка, милая моя тихая Саламанка… Разумеется, не та, что в Испании, а та, что под Коламбусом, в Огайо… Самый древний заокеанский университет, не столь престижный, как Беркли или Йель, однако – самый древний… И потому его берегут как зеницу ока, и учиться в нем почетно. Ведь в Штатах так мало старины! Собственно, держава эта моложе Петербурга, а Питер – всего лишь подросток среди древнейших русских городов. Как всегда, я увлекся. Воспоминания, фантазии, мысли, сравнения… Ими жив и тверд человек, ими и своей семьей. Но семьи у меня нет, и потому я часто вспоминаю и размышляю. Теперь, если обогнуть здание Двенадцати коллегий, пройти тридцать метров по длинному университетскому двору и свернуть направо, мы попадем в НИИК. Небольшой особнячок, три этажа с мансардой, шесть окон по фасаду, первый этаж – коричневый, выше – желтое с пятью белыми накладными колоннами. Внизу – ни охраны, ни проходной; хочешь – ходи на работу, хочешь – не ходи. Я все-таки ходил. Временами. Собственно, мое присутствие было необходимым лишь по вторникам, а в остальные дни я мог вкушать прелести свободного расписания. Первый и третий вторник у нас кафедральные семинары в Петергофе, второй и четвертый – семинары лаборатории, в уютном актовом зальчике НИИКа. Кафедральные семинары я не любил; там собирались преподаватели в годах, а среди них – профессор Оболенский, зам Вил Абрамыча по кафедре. Последнее время он поглядывал на меня испытующе, ревниво, словно принюхиваясь к сопернику. Все-таки Эбнер старел, и вопрос, кто унаследует кафедру, являлся вполне актуальным. Но сегодня была среда, а не вторник, так что мой визит в лабораторию полагалось считать большим сюрпризом. Или компенсацией за вынужденный вчерашний прогул. Сам я склонялся к первой точке зрения. Бездарность Лажевича и всех его зоологических потуг оправдывала меня. Я проскочил маленький институтский вестибюль, куда выходили двери столовой и кабинетов программистов, поднялся на второй этаж (площадка искусственного интеллекта), а потом – на третий. Тут уже начиналась наша суверенная территория, и тут я наткнулся на Диму Басалаева – на Димыча, как звали его в кругу друзей. Но Димыч мне не друг, а всего лишь приятель, и от общения с ним я имею одно удовольствие, без всяких похмельных забот. Впрочем, за прошлый день было выпито немного, и голова у меня оставалось ясной. Басалаев подпирал стену на лестничной площадке и дымил сигаретой. Это его обычное времяпрепровождение: что-то подпирать, стену или шкаф, и чем-то дымить. В последнем случае варианты были разнообразней – трубка, сигары, сигареты, папиросы и даже самокрутки. Димыч курил все, что курится, кроме марихуаны; на марихуану у него не хватало отваги. Он упорно добивался от меня подробностей на этот счет, полагая, что за океаном наркотой торгуют на каждом углу и в каждой подворотне. Я его не разочаровывал, но советовал не размениваться по пустякам, а начинать прямо с героина. – Ты где вчера пропадал? – осведомился Басалаев, щурясь сквозь облако дыма. – Где тебя черти носили, голубь ты наш? Не прибыл на передовую… Ай-яй-яй! Обчественность тебя не простит! Сняв шапку, я задумчиво почесал в затылке. – Геморрой со мной приключился. Или атония сфинктера. – Такая мелочь? Ха! И по этой причине наш главный калибр кантовался в тылу? – Он покачал головой, принял серьезный вид и спросил: – А если по правде? – Если по правде, – тут я с гордостью выпятил грудь, – перед тобой человек с тремя звездами на погонах! – Со звездочками-звездушечками, – уточнил Димыч. – В военкомат, что ли, дернули? – Повестку предъявить? – Не надо! – Он с небрежностью махнул рукой. – Зачем мне твоя повестка, Серый? Могу лишь тебя пожалеть: приобрел ты малое, а лишился ба-альшого удовольствия!» – Это какого же? – спросил я, распахивая куртку и стягивая шарф; топили у нас этой зимой неплохо. Басалаев затянулся, выпустил дым через две ноздри, полюбовался результатом и сообщил: – А мы вчера Лажу приложили. Без всякой тяжелой артиллерии и главного калибра. Собственными своими силами, вкупе с доцентом Ковалевым и при поддержке доцентаБалабухи. Ну развоевались, старички! – подумал я, впервые пожалев, что не явился на вчерашний семинар. Кажется, там случилось мамаево побоище – то есть не мамаево, а лажаево… или лажеево?… – Долго он сопротивлялся? – спросил я, имея в виду побитого. – Он-то недолго, а вот Вил Абрамыч… – Басалаев сделал неопределенный жест. – Собственно, шеф тоже не сопротивлялся, но увещевал… апеллировал к чувствам сострадательным и благородным… ты же знаешь, как он умеет… Мол, что ж вы, ребятушки, взбеленились, бьете своих, когда чужих полно? Зачем режете добра молодца? – Лажевич – не добрый, – сказал я, сбросив куртку. – Когда остепенится, он нам всем еще покажет. – Покажет, – согласился Димыч. – И нам, и всякимстаршим лейтенантам. Крыть мне было нечем, и я, изобразив раскаяние, отправился к себе на четвертый этаж, в мансарду. Там, в большой комнате (семь на восемь, с четырьмя окнами в эркерах) размещались мои подчиненные: аспирант Паша Руднев и два дипломника-примата. Происходили они не из африканских дебрей, а всего лишь с факультета прикладной математики; звали их Дик и Ник (по-русски – Денис и Коля); и были они – на мое несчастье! – братьями-близнецами, да еще из тех юных гениев, что спать ложатся с компьютером, а просыпаются с программой. Оба они носили очки, и, заполучив такое чудо, я потребован, чтобы оправа у Дика была темной, а у Ника – светлой. Еще я торжественно поклялся, что обрею одного целиком, а другого – наполовину, если они рискнут поменяться очками. В комнате у нас по столу под каждым окном, и на них – четыре терминала; между моим столом и пашиным располагается «Байярд», довольно мощный комплекс, хоть до Тришки ему далеко; таких излишеств, как тройлеры, вокодеры и контактные кресла со шлемами, мы, по бедности, не держим. «Байярд», разумеется, подключен к Сети, и я на нем расчетов не веду; это машина для аспиранта и моих близнецов-приматиков. Я запустил для них третью версию Джека, с ней моя команда и играется: Паша занят графической кластеризацией, Дик – минералами, а Ник – веществами судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, они готовят входной массив для Тришки – вылавливают через Сеть данные о новых материалах, пропускают через блок селекции, преобразуют в нужные форматы и преподносят мне на диске. Это очень неблагодарная и тягомотная задача. Такого места, где хранилась бы опись всех известных человечеству веществ, пока не существует, и нам приходится «держать на связи» сорок разных баз. Важнейшие из них – в Кембридже (сведения о кристаллических структурах), в Филадельфии (дифракционные стандарты), а также в Бостоне и Токио (ИК, УФ и масс-спектры). Есть базы помельче, более специализированные; скажем Техасский компьютерный банк нефтесодержащих пород и производных нефти, база мессбауэровских спектров в Дели и, разумеется, собрания материалов, используемых в криминалистике, в астронавтике и физике ядра. Часть из них засекречена и пребывает под крылышком ФБР, Моссада, Беркли, НАСА и других подобных заведений. Не стоит интересоваться, как я туда пролез; Сеть есть Сеть, и, умеючи, можно выловить ею массу полезного. А как речет мудрость Альбиона, all's fish that comes to the net – что в сетях, то и рыбка. Наша рыбка, позволю заметить. Не успел я бросить куртку на стул, как мои сотрудники, вскочив, окружили меня. Паша Руднев ухмылялся, Дик с Ником, как положено дипломникам, подхихикивали аспиранту, и все трое выглядели так, будто удостоились самого вожделенного: Паша – кандидатской, а близнецы – магистерских степеней. – Да-а… – произнес мой аспирант, закатив глазки. – Да-а… – хором поддержали его приматики. – Хо-хо! – продолжил Паша. – Хой-мамай! – дружно откликнулись близнецы. Я оглядел их физиономии, исполненные ликующей загадочности. – Вообще-то утром надо здороваться, судари мои. И в этом случае от людей интеллигентных надеешься услышать не хой-мамай, а что-то другое – хау ду ю ду, гутен таг или хотя бы хайль. Лично я против хайля не возражаю, если за ним не поминать одиозных личностей. – Хайль шефу! – завопил Ник. – Пусть ему хоть это достанется, раз он не врубился в тему. – Уже врубился, – сказал я. – Главная новость у нас такая: коалиция Ковалев-Басалаев-Балабуха провалила Лажевича. Лица у них вытянулись. Мой тон сделался проникновенным, как у миссионера, мечтающего окрестить папуасов. – Грех радоваться чужой беде, юноши. А еще большийгрех радоваться напоказ. Так что помалкивайте в тряпочкуи помните, что сказано поэтом: как сам ты поступаешь с божьей тварью, того же жди себе и от людей. И вот тут они меня уели: переглянулись, усмехнулись, и Паша Руднев на правах лидера сказал: – Мы, Сергей Михайлович, не тому радуемся, что Юрика завалили, а единственно торжеству справедливости. Чтотакое, в конце концов, Лажевич? Длинные уши, а междуними болтается длинный-предлинный язык… А справедливость – нечто гораздо большее. Разве не так? Интересное выдалось утро! Второй раз меня приложили фейсом об тейбл! Зазвонил телефон, и я, скрывая смущение, потянулся к трубке. Это была Танечка: двадцать лет, рыжеватые кудряшки, милый вздернутый носик, соблазнительная фигурка плюс полная сексуальная раскрепощенность. Впрочем, на последнее обстоятельство мне жаловаться не приходилось. – Сергей Михайлович уже прибыл? – проворковала трубка. – Прибыл, – доложился я. – У телефона собственной персоной. – Ты, Сережа? – Голос в трубке сделался еще нежней. – Вил Абрамыч просит тебя зайти. В любое удобное время. Удобное время было как раз сейчас, и я, буркнув: «Шеф вызывает» – повернул к дверям, спустился этажом ниже, проследовал коридором и вошел в крохотную приемную. Танечка одарила меня лучезарной улыбкой. Характер у нее был по-современному легкий; она влюблялась и расставалась с мужчинами, по не держала на них зла. – Как он? – Я скосил глаза на дверь, что вела в берлогу Вил Абрамыча. Вопрос, в общем-то, лишний; Эбнер не относился к тем начальникам, что ставят подчиненных на ковер со спущенными штанами. Танечка состроила озабоченную гримаску. – Печален, Сережа. Хоть ты его не расстраивай. – С чего бы? Я даже на вчерашний семинар не пришел. – В том-то и дело, – с усмешкой Джоконды обронила Танечка. Размышляя над этим замечанием, я шагнул в маленькую комнатку, заваленную книгами, рукописями и пыльными стопками журналов. Вил Абрамычу было под семьдесят, и относился он к старой научной породе: бумага была ему милей компьютерных дисков. Собственно, звали его не Вил, а Вилен[681], и всю свою жизнь он маялся с этим именем. Раньше поглядывали на него косо: Вилен, а беспартийный!… Нынче поглядывали с иронией: надо же, Вилен! Но шеф, при всем своем добродушии, был человеком крепкой закалки, не помышлявшим о каких-либо метаморфозах – к примеру, в Вильгельма или в Вениамина. Он поднял на меня выцветшие глазки, что прятались под седыми кустиками бровей, и кивнул на стул. – Здравствуйте, Сережа. Присаживайтесь. Кофе хотите? С этого начинался любой разговор с любым сотрудником, хоть с профессором, хоть с юным бакалавром. Вежливость Вил Абрамыча была столь же естественной, как зонтик в дождливую погоду; он точно знал, что надо делать, встречаясь с посетителем: поздороваться, предложить стул и кофе. Но руку он подавал не всякому. Мы обменялись рукопожатием, и я устроился на краешке расшатанного стула. Вил Абрамыч, приподняв брови и сморщив лоб, с минуту разглядывал меня. – Ходят слухи, что вы делаете успешную военную карьеру? – Басалаев забегал? – ответил я вопросом на вопрос. – Нет, не Басалаев. Он после вчерашнего весь день ко мне носа не кажет. Но Дима сказал Никитину, Никитин – Светлане Георгиевне, та повидалась с Танечкой… Слухи, Сережа, они как кривая Пеано – обладают свойством охватывать весь пространственный континуум с поразительной быстротой. Особенно в научном институте. Здесь люди не столько работают, сколько распространяют слухи. – Отец мне другое говорил: что в истинно научных заведениях люди не работают, а уважают друг друга. – Ваш покойный батюшка был безусловно прав: вовремя довести слух до начальства – значит продемонстрировать уважение к нему. Мы расхохотались, и тут Танечка принесла кофе. Сегодня на ней было что-то пушистое, что-то среднее между джемпером и платьем: шейка прикрыта, а ножки открыты. Не все, разумеется – на пару ладоней выше колен. Но ладони были основательные, не меньше, чем у Алика Симагина. Она покинула нас, и Вил Абрамыч, уставившись в чашку с кофе, заметил: Вчера вы меня подвели, Сережа. Я имею в виду произошедшее с Лажевичем… – Он поднял руку, прервав готовые хлынуть оправдания – Только не говорите мне про свойвоенкомат! Я пробыл в старших лейтенантах четверть века и помню, что за этим званием мои коллеги не гнались. В отличие от иных степеней. Пожав плечами, я отхлебнул кофе. Сварен он был отменно. Великая домохозяйка пропадала в нашей Танечке! – Ну пришел бы я, Вил Абрамыч, ну явился бы… Такчто же? Ляпнул бы непечатное словцо про гиен, волков да кроликов и самого Лажевича… А может, не словцо, а целую речь закатил бы. И тогда… Шеф вежливо прервал меня, подняв палец. – Ваше отсутствие, Сережа, было красноречивее всяких слов. Знак пренебрежения, сигнал к атаке… Вот она и началась! И Юрия Анатольевича растерзали! Подобно стае волков, раз леопард не прибыл. – Помилуй бог! Вы меня переоцениваете, Вил Абрамыч. Кто я такой? Руководитель группы, два дипломника да аспирант, три звездушки на погоне… Не Ковалев и не Балабуха, не говоря уж про Феликса Львовича… Ни кожи, ни рожи, ни авторитета. Вил Абрамыч пошевелил седыми бровями. – Вы, Сергей Михайлович, второе лицо в лабораториии на кафедре – именно вы, а не профессор Оболенский. Вы мой вероятный преемник, если говорить начистоту, так что исходите в будущем из этой диспозиции. Особенно в отношениях с коллегами… – Он помолчал и добавил: – Не исключая Юрия Анатольевича. Я чуть не подавился кофе. То, что Вил Абрамыч дохаживает свой последний срок в заведующих, было очевидным фактом, и хоть имя его преемника не называли, считалось, что им является Оболенский. Я как наследный принц вряд ли котировался. И вот надо же тебе!… Выходит, слухи ползают по институту, но не во всякое ухо шепчут. А может, есть слухи разных категорий: одни – для Танечки и Светланы Георгиевны, а другие – для людей влиятельных и искушенных. Тут я заметил, что шеф с деликатной улыбкой наблюдает за мной, и постарался придать лицу значительное выражение с легким оттенком благодарности. Собственно, на должность мне было наплевать, а вот обижать Вил Абрамыча не хотелось. Наверняка он выдержал не одну схватку в ректорате, сражаясь за мою недостойную персону. Чем я мог его отблагодарить? Только правдой. Или половиной правды – той, что касалась Лажевича. – Не уживемся мы с ним, – сказал я. – Не люблю конъюнктурщиков и бездарей. Пусть был бы конъюнктурщик, так хоть талантливый… Вил Абрамыч по-прежнему с улыбкой глядел на меня, не возражая и не возмущаясь. Потом спросил: – Какого вы мнения о его работе, Сережа? – Сдержанного. Тема любопытна, но факты общеизвестны, а их интерпретация похищена у биологов. Это они уяснили, на какие классы и группы делится звериный социум, что у волков, что у гиен… А Юрий Анатольевич навел только легкую математическую лакировку, да и в той дыры светят. Идей значительных нет и незначительных – тоже, но на каждой странице поминаются компьютеры и компьютерная обработка. Как заклинание… Будто компьютер умнее нас, и стоит его включить, как в электронных потрохах родится диссертация… – Тут я заметил, что шеф все еще смотрит на меня с улыбочкой, и разозлился. – Зачем я вам это рассказываю, Вил Абрамыч? Вы – старый мудрый человек, вы все это знаете лучше меня. Гораздо лучше! – Знаю, – подтвердил он, – но смотрю несколько с иной позиции. Руководитель должен думать о будущем. А какое у нас будущее в эпоху повальной утечки мозгов? Не успеем выучить толкового специалиста, как он уже трудится в Германии или Финляндии, в Америке или Канаде… Кто же, спрашивается, будет преподавать у нас лет через десять? Возможно, никто, и это будет конец… – Он поиграл бровями и закончил: – По крайней мере, Лажевич никуда не уедет. Не возьмут! Останется в преподавателях, чему-то да обучит молодых… Вам с ним работать и работать, Сережа! А мне… Вил Абрамыч смолк, не желая касаться болезненной темы; его сын и внуки давно обретались в Израиле, и он доживал свой век вдвоем с больной женой. Насколько мне было известно, потомки его вниманием не баловали, считая старым упрямцем и ослом – ведь он не поехал с ними в края обетованные! Я его понимал. Он тоже был одинок, и одиночество его казалось самым страшным – ведь в нем не было места надежде. Мой шеф встрепенулся и, будто подводя черту под предыдущим разговором, отодвинул недопитую кофейную чашку. Потом спросил: – Кстати, а как у вас дела с докторской? Ваша последняя работа по классификации минералов произвела впечатление… особенно на геологов… Вполне кондиционный материал. И очень обширный. Хватит для диссертации. Я кивнул. – Для диссертации – да. Но минералы – всего четыре тысячи соединений, и без синтетических веществ картина неясна, даже в том, что касается неорганики. Мне не хотелось бы торопиться, Вил Абрамыч. Да, торопиться мне не хотелось. Я полагал, что надо проверить Джека, решив пару задач попроще – с долларами для моих «Хрумков» и с загадочными узелками для милого друга Бранникова. А после, когда Джек продемонстрирует свои таланты, наступит очередь глобальных проблем: единой классификации соединений и чего-нибудь еще, столь же впечатляющего, из области социологии или астрофизики. Планы у меня намечались обширные, но делиться ими с Вил Абрамычем было рановато. Он бы мог подумать, что я заразился гигантоманией; ведь мои замыслы в случае успеха обещали не докторскую степень, не скромную медаль Вавилова, а, как минимум, Нобелевку. Шеф вздохнул. – Не понимаю я вас, Сережа… Вы умны, дьявольски работоспособны, преданы науке и очень талантливы. Но чего-то вам не хватает… Здорового честолюбия? Ясной цели в жизни? – Он снова вздохнул и покосился на свои морщинистые руки. – Надо бы вам поторопиться, Сергей Михайлович… Я, знаете ли, не вечен… Возвращаясь к себе, я размышлял о собственных недостатках. Возможно, мне не хватает честолюбия и определенно – обаяния… Его ровно столько, чтоб Танечку либо Гиту очаровать, а вот с женщиной покруче, с Катериной или тем более с Инессой, меня ожидает фиаско. Полный облом, по правде говоря! На ниве честолюбия и обаяния… Так что отсутствие этих качеств я признаю, но вот что касается ясности цели, тут я с шефом решительно не согласен. Слишком долгое время он прожил по принципу: цели определены, задачи поставлены – за работу, товарищи! Вперед! Отец же учил меня не становиться рабом своей цели – конкретной цели, ради которой человек, случается, жертвует жизнью. А ведь жизнь, счастливая нормальная жизнь, является наиглавнейшей целью! Но мы забываем об этом и рвемся к мелкому и пустому – к власти, богатству, должностям, степеням и к вечной славе, что отправится вместе с нами в крематорий… Не к одному, так к другому! Ибо, где нет ловушки для кроликов, уже расставлены силки для куропаток… Так говорил отец, и я с ним полностью согласен: цель – жизнь, а счастье – в ее разнообразии и, разумеется, в свободе. Еще он добавлял: мы не столько сами выбираем путь, сколько судьба выбирает его для нас. Это не значит, что мой дад был фаталистом; он всего лишь хотел подчеркнуть значение внешних обстоятельств. Они, эти обстоятельства – асфальтный каток, прокладывающий перед нами дорогу, относительно ровную и прямую. Пойдешь ли ты по ней, говорил отец, или у тебя хватит пороху свернуть в джунгли? Я бы не отказался. Только где они, мои джунгли, полные тайн и загадок?…
Глава 4 ТСС!
«Tcc! – сказал Кристофер Робин, обернувшись к Пуху. – Мы как раз подходим к опасному месту!» «Цыц!» – сказал Иа страшным голосом всем родным и знакомым Кролика.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все
Когда я вернулся домой, плотник, матерясь, чинил двери. Пришлось пробираться мимо него боком и с опущенными ушами. Не потому, что мне претит российская изящная словесность, но сейчас я был одним из тех подозрительных лиц, из тех раздолбаев и гадов, пидоров и засранцев, что в четвертый раз уволакивали многострадальную филенку. И потому я молчал в тряпочку, пока плотник, не обращаясь ко мне лично, описывал ситуацию в нашем подъезде, сопровождая этот анализ выразительным комментарием «бля!» Этот рефрен еще отдавался в моих ушах, когда я открыл свою дверь и попал в объятия Белладонны. Через час мы сидели на кухне, сытые и умытые, и строили друг другу глазки. Должен заметить, у Белладонны это получалось лучше. Она устроилась на полу: шея чуть-чуть вытянута, головка чуть-чуть склонена, хвост распушен, хотя на тельце все шерстинки лежат гладко, одна к одной. Она будто бы пребывала в покое и в то же время настороже; казалось, она что-то разглядывает у своих передних лапок – воображаемое блюдце с молоком или затейливый узор линолеума. Глаза у нее отливали бирюзой, черные щели зрачков то расширялись, то сужались, на мордочке застыло выражение лукавства и ожидания. Наконец Белладонна встала на все четыре лапки, потянулась и мяукнула, требуя, чтоб с ней поговорили. Дьявол! Язык не поворачивается назвать ее животным! Или animal! Оба слова, что русское, что английское, неуклюжи, неизящны и нелепы, и совсем не подходят к Белладонне. Она зверь. Зверь звучит гораздо энергичнее! И лучше отражает сущность наших отношений, так как с животным дружить нельзя, а со зверем – можно. Зверь даже достоин, чтобы его увековечили. Когда я разбогатею, пойду к Сизо – все-таки он отличный мастер, хоть и алкоголик – и закажу ему изваяние Белладонны в полный рост. Из какого-нибудь редкостного камня, чтоб сама она вышла белой, а хвост – серым… Белладонна снова мяукнула, и я сказал: – Удачный у нас сегодня день, красавица, – видно, рука моя застряла в банке с вареньем… Ты представляешь, что случилось? – И я коротко пересказал ей беседу с Вил Абрамычем. В самых волнительных местах Белладонна грациозно выгибала спинку и поощряла меня мурлыканьем. – Так вот, дорогая, – закончил я, – теперь ты не просто кошка, но домашний зверь будущего завкафедрой. А положение, знаешь ли, обязывает! Посему – никаких подозрительных знакомств, никаких мезальянсов! Забудь про кота дяди Коли Аляпина и про того пестрого, что живет на шестом этаже. Весной мы подыщем тебе достойную пару. Возможно, ректорский кот или что-нибудь из городской администрации… Ты не возражаешь? Белладонна пренебрежительно фыркнула. Март еще оставался будущим сладким весенним сном, и сейчас коты ее не волновали. Сам я, надо сказать, после визита к Вил Абрамычу пребывал в некотором ошеломлении. С одной стороны, признание моих заслуг было фактом вдохновляющим; с другой – я определенно ощущал, что не готов к административной карьере. Да, в науках я кое-что понимаю (спасибо моим учителям!), но во всех остальных делах мой рейтинг не выше среднего. Я в меру добр и в меру зол, в чем-то умен, а в чем-то глуп, скорее осторожен, чем отважен, и не люблю политики. И с обаянием у меня не густо… лишен я той харизмы, какая положена завкафедрой или иному вождю народных масс. Словом, на работе я маялся и колебался, по каковой причине покинул институт пораньше, в обеденное время. Но размышлять о будущем мне отчего-то и дома не хотелось, а хотелось сидеть на кухне, глядеть в бирюзовые зрачки Белладонны и угощаться кофейком. Еще хотелось поработать. Мой ханд-таймер прозвонил пять, напоминая, что час еще ранний и сегодня можно сделать то, что намечалось на вчера. Хотя бы разобраться с исходными данными и сформировать массивы… а заодно проверить, как там дела у Бянуса… и почту считать… и на письма ответить, коль таковые поступят… С этой мыслью я поднялся, посадил Белладонну на плечо и отправился к Тришке. При активации компьютера тревожных вестей не поступило – значит, Бянус клятву сдержал и в Сеть не лазил. Такой демарш не проскользнул бы мимо моих ушей. Есть при Джеке Потрошителе недремлющий страж-Доберман, такая хитрая программка, что посылает сигналы на мой сетевой адрес, если с Джеком случились неприятности. Например, если с ним работают на компьютере, включенном в Сеть, что грозит тривиальной покражей. Доберман – всего лишь мера предосторожности, но я могу отследить, кто похитил Джекa, добраться до грабителя и устроить ему маленький экси-денс. Полный абзац, иными словами; при Джеке имелся не только сыщик, но и активный оборонительный модуль под названием Бедлам. В сущности, то была программа-вирус, написанная мной годика три назад, эффективная и безжалостная, как техасский рейнджер на складе наркомафии. Стоило ее инициировать, и компьютер похитителя сделался бы форменным отделением психушки. Но все эти средства я в ход никогда не пускал – ввиду того, что до сих пор Потрошитель трудился лишь в моем персональном сексоте, при отключенной Сети. Вчерашний визит на истфак был первой вылазкой Джека во внешнюю вселенную; теперь он раздвоился и существовал в виде эталона на моем съемном диске и копии, обитавшей в машине Бянуса. Вот за этой копией и полагалось присмотреть. Доберман, однако, молчал, и это свидетельствовало, что мой друг держит слово. Могло ли быть иначе? Кому же верить, если не друзьям?… Тем более что их всего-то двое. Читать новости мне не хотелось, но почту я все же проглядел. Ничего интересного: пара статен, новый голливудский боевик класса «мочиловка» и реклама – призыв носить прокладки «Олвейс» с крылышками и рвать пуп на тренажере «Сильвестр Сталлоне». Прочитав последнее сообщение, я невольно ухмыльнулся. Довелось мне как-то побывать в гостях у Симагина – не дома, куда я захаживал тысячу раз, а в его служебном кабинете на Литейном, в Управлении налоговой полиции. Кабинетик у него маленький и полон бумаг фискальной ориентации; они громоздятся на стеллажах, на стульях и продавленном диване и даже на полу. Стол тоже забит бумагами, но верхний ящик почти пустой. В нем Алик держит свои главные сокровища: стакан и табельное оружие, пистолет-пулемет «Кипарис» с лазерным целеуказателем и откидным прикладом. Стакан и пистолет – в таком вот именно порядке. А на стене у него висит изображение могучего мужчины с наклеенной усатой физиономией, в фуражке генералиссимуса, и под ним надпись – Иосиф Виссарионович Сталлоне. Символ нынешнего свободомыслия, что ни говори! Как и лозунг над дверью: «Говори кратко, проси мало, уходи быстро». Белладонна повозилась на моем плече, устраиваясь поудобнее и как бы намекая: не пишут тебе, хозяин, но ты не горюй – я ведь с тобою! Но я и не ждал писем. Мои корреспонденты шлют послания в начале января, поздравляя с Новым Годом, желая счастья и всего, чего положено; а Новый Год мы встретили недавно, и с тех пор не случилось никаких значительных событий. Само собой, не считая обстрела Луны из лазера и моих сегодняшних переговоров с Вил Абрамычем. Чтобы приободриться, я просмотрел последние письма, пришедшие две-три недели назад. Краткие поздравления от Гиты, Нэнси, Джима, Криса и Делайлы, от коллег из Кембриджа и Саламанки, от Томаса Диша – он сообщал, что подумывает об отставке, но я ему не верил. Старый Томас Диш был одной породы с Вил Абрамычем и моим отцом; такие на пенсию не выходят и умирают исключительно на рабочем месте. Дэвид Драболд, мой шеф из Саламанки, у которого я делал диссертацию по физике, писал, что теперь он «top professor», и это было отрадно – по моим подсчетам, ему еще не исполнилось сорока. А вот моей подружке Гите-Бригитте было уже за тридцать; жила она в своем Марбурге, в счастливом супружестве, и сообщала о том, что в октябре разродилась двойней. Значит, всего у них трое, прикинул я, чувствуя острую зависть – ведь эти детишки могли быть моими! Ну будем надеяться… Надеяться! Как говорят, everything comes to him who waits – все приходит к тому, кто умеет ждать. Я поднялся, и Белладонна, мягко соскочив с моего плеча, устроилась под теплым боком Тришки. А мне пришлось залезть под стол, чтобы добраться до коробок с долларами и выволочь их на божий свет. Весили они немного, но в целом тянули лет на пятнадцать с конфискацией имущества и поражением в правах. Имелся, правда, шанс, что мои хрумки-реставраторы добыли их законным способом – например, одолжив под честное слово в каком-нибудь музее криминалистики. Тогда я ничем не рисковал – тем более что цель моих валютных экзерсисов была вполне легальной и в каком-то смысле даже благородной. Но все-таки я повернулся к Белладонне, многозначительно поднял палец и произнес «тсс!» Затем начал освобождать коробки и раскладывать пачки долларов на своем ложе. Больше девать их было некуда; кроме тришкиного стола, кресла и дивана, в моей комнате все забито книгами. Я разобрал две коробки и принялся за третью, когда в прихожей послышалась трель звонка. Черт побери! Это было так внезапно, что ноги мои едва не подкосились; пришлось опереться о спинку кресла и сделать пару глубоких вдохов, нейтрализуя адреналин. Уставившись на покрывало с разложенной валютой, я лихорадочно соображал, кто же затаился там, за дверью: Бянус с «Политехнической», нахальный плотник-грубиян или отряд спецназа в черных масках, явившийся, чтоб взять преступника с поличным. Отчего-то я зациклился на этих масках и спецназе, будто пара ментов не сумела бы меня скрутить; я чувствовал себя рецидивистом у распатроненных банковских сейфов, киллером у трупа. Эмоциям ведь не прикажешь – тем более что на моем диване отдыхали сейчас миллионы фальшивых долларов. Звонок брякнул снова, пробудив от столбняка, и тут Белладонна спрыгнула на пол, мяукнула и неторопливо направилась в прихожую. Я сообразил, что за дверью кто-то знакомый, и, шумно выдохнув, двинулся вслед за серым хвостом моей кошки. По дороге мне рисовались приятные картины: Бянус, который будет выставлен за порог, и плотник, которого я вышибу туда же с торжествующим воплем «бля!» Но это оказались Катерина с Олюшкой. Олюшка была в комбинезончике и с большой сумкой; бросив ее в угол, она тут же присела и начала гладить Белладонну, воркуя, как майский голубок. Катерина выглядела потрясающе: в песцовой серой шубке, в лисьей шапочке и в высоких сапогах, тоже отделанных чем-то мохнатым. Прямо не женщина, а меховой аукцион! Попалась бы она в таком виде «зеленым», содрали б с нее меха вместе с собственной шкуркой… Правда, Катерина – особа крепкая, верткая и закаленная в бухгалтерских баталиях, так что я думаю, гринписовцам она бы не далась. В крайнем случае, уложила бы пару-другую защитников природы и нарезала винта. Внешность ее обманчива: карие нежные глазки, румянец во всю щеку, подбородок с ямочкой, а за всем этим антуражем – стальная бульдожья хватка. Она бы меня в момент захомутала, если б не жалкие мои финансы. Только они и спасли! – Занят, Сережа? – спросила моя соседка, стрельнув глазками туда-сюда. – Свободен. Во всех смыслах, – ответил я и с нарочитой алчностью втянул носом воздух. От Катерины пахло чем-то французским, возбуждающим, долларов этак на сто пятьдесят. Она улыбнулась с видом заправской кокетки и потрепала меня по щеке. – Дон Жуан, соблазнитель… Я тебе барышню привела, чтоб не скучал. Приютишь до первых петухов? – Хоть до последних. А что случилось? Мафия наезжает? Ребенка грозятся похитить? Катерина потупила блудливые глазки. – Баланс у нас случился… годовой… Срочно надо слепить. Меня уж и машина ждет… там, во дворе… Всю ночьтрудиться будем. Это верно – трудиться будете всю ночь! – подумал я, сочувственно поцокав языком. Соседка, не дожидаясь более внятных знаков согласия, испарилась; дверь внизу хлопнула, заурчал мотор, и мы остались втроем. Отличная компания: холостяк и пара девушек, на двух и четырех лапках. – Дядя Сережа, – спросила Олюшка, – мне можно поиграть в гостиной? – Стол перевернуть? – поинтересовался я. Случалось, мы его переворачивали и накрывали ковром, чтоб получилась хижина Робинзона Крузо. Я изображал банду папуасов, а Белладонна – пантеру или тигра, смотря по обстоятельствам. Но сейчас Олюшка покачала светловолосой головкой. – Нет, стол мне нужен. И еще мне нужны бумага, чернила и гусиные перышки. Чернил и перышек у меня не нашлось, но я разыскал старую шариковую ручку в форме гусиного пера. Это ее устроило. Из сумки был извлечен большойпластмассовый Буратино, мишка Винни Пух, кукла Зоя и пара пистолетов – из тех, что стреляют теннисными шариками; еще там был катеринин парик. Со всем этим имуществом и Белладонной в качестве эскорта Олюшка направилась в гостиную, а я, довольный, что ребенок при деле, смог отдышаться и продолжить свои занятия. Коробок было пять, и на каждой, как уже упоминалось, надпись. Четыре, про Гондурас, Швейцарию, Польшу и Сингапур, я разобрал еще вчера, а вот на пятой было написано не «Фанора» и не «Факора», а «Фанера». Эти доллары изготовили у нас, где-то на границе меж Литвой и Казахстаном; были они на ощупь дрябловатыми и годились лишь для инвалидов по зрению. У польских и гондурасских качество было получше – если б их помять и потоптать, я бы сам обманулся. Что касается швейцарских и сингапурских изделий, тут имел место полный о'кей. Эти «картинки», как называл их Керим, прошли бы экспертизу под гром фанфар и барабанов во многих банках, кроме самых опытных и осторожных – и, разумеется, самых богатых. Собственно, подделку бы не опознали, но в сомнительных случаях крупные финансовые институты обращаются в Федеральную резервную систему США, а там есть особая методика проверок. Какая – знает один Господь да дюжина суперсекретных специалистов. Ведь Федеральная система – это государственный американский банк, где печатают настоящие доллары, а перед тем, как напечатать, размышляют о средствах защиты, явных и тайных. Явные известны всем, а тайные – наиважнейший государственный секрет, на коем держится могущество Америки. Я на него не покушался, на это могущество, моя задача была поскромней – защитить родимую державу от фальшивок. Благородная цель, не так ли? Вот я и старался ради идеи, пользы и удовольствия. Идея была возвышенной, польза – несомненной (включая сюда и проверку моей методики кластеризации), а об удовольствиях напоминал конверт, врученный мне вчера Керимом. Проглотив первую стопку купюр, тройлер пискнул и подмигнул мне алым огоньком. Почти сразу же прозвонили часы; было уже семь, и я подумал, что Олюшка, наверное, хочет есть. Что-то она затихла в комнате… С Белладонной не играет – был бы слышен мяв и шум… Рисует? Но почему шариковой ручкой в форме гусиного пера? Раньше Олюшка, как всякий нормальный ребенок, предпочитала фломастеры. Я на цыпочках подкрался к распахнутой двери гостиной. Юная барышня сидела за столом в черном материнском парике, завивавшемся колечками, и что-то сосредоточенно писала; рядом с ней лежал игрушечный пистолет. Другой пистолет находился в цепких лапках Буратино, а сам длинноносый стоял у дальней стены, опираясь на нее тощим пластмассовым задом. Винни Пух, кукла Зоя и Белладонна устроились на диване – то ли изображали публику, то ли следили за развитием событий. Олюшка закончила выводить каракули, подняла личико и, прищурившись, взглянула па люстру. Выражение на ее мордашке было очень серьезным, я бы даже сказал – трагическим. Что-то пробормотав (мне послышалось – «час настал»), она поднялась, прижала к груди пистолет, но тут же вытянула его в сторону Буратино и прикрыла ладошкой левый глаз. Секунд тридцать она стояла так, а я взирал на нее в полном недоумении; затем Белладонна мяукнула, послышалось «пиф-паф!», и моя гостья рухнула на пол. К счастью, на полу в гостиной лежит ковер, но для меня это было плохим лекарством от стресса. Все дневные и вечерние волнения разом навалились на меня; я подпрыгнул, заорал дурным голосом и ворвался в комнату. Когда я схватил Олюшку в охапку, она приоткрыла один глаз, карий и блестящий, как у Екатерины. – Тсс, дядя Сережа… Я убита… Я играю в Пушкина, именя убил Дантес… Ты должен ото… отомстить… – Этому, что ли? – спросил я с облегченным вздохом, кивая на Буратино. – Да я из него папу Карло сделаю! – Правильно… Но сначала ты должен меня похоронить… – Похороны отменяются. – Я поставил ее на ноги. – Сейчас мы пойдем и поиграем с Тришкой… если со мной не приключится инфаркт. Или пора ужинать? Но Тришка был притягательней ужина, и гостья, сняв кучерявый парик, отправилась за мной. Белладонна побежала следом; по дороге она задела Дантеса-Буратино, и тот, в слезах раскаяния, уткнулся носом в ковер. – О! – сказала Олюшка, переступив порог. – Денежки! Целый клад! Ты очень богатый, дядя Сережа? – Не очень, – признался я. – Эти денежки не настоящие. Их напечатали жулики, чтобы обманывать честных людей. – Меня бы не обманули, – заявила Олюшка, потрогав «фанерную» банкноту. – Я в денежках разбираюсь! Это была святая истинная правда – в свои шесть лет она отлично знала, какая денежка чего стоит. Акселерация плюс врожденная практичность, плюс влияние мамы-бухгалтерши. Оно и к лучшему, подумал я; не все же ребенку играть в Дантеса и Пушкина. Двадцать первый век к романтике не располагает. – Что мы будем с ними делать? – спросила Олюшка, кивнув на серо-зеленые пачки. – Ты бери их одну за другой и ставь сюда, – я показал на приемный паз тройлера, – потом вынимай вот отсюда, снизу, и снова клади на диван. На то же самое место. А я буду раскладывать их по коробкам. – А Беляночка? – поинтересовалась моя гостья, ухватив первую пачку. – Что будет делать Беляночка? – Стоять на стреме. Чтобы нас, значит, не застукали… Минут пять мы трудились в полном молчании, нарушаемом лишь стрекотом тройлера да шелестом купюр. Тррр-шшш… тррр-шшш… тррр-шшш… «Фанера» и гондурасские «картинки» кончились, мы принялись за Сингапур, и Олюшка сказала: – А вот эти денежки совсем похожи на настоящие. Как ты их отличишь, дядя Сережа? Я подмигнул ей. – По тайным знакам, барышня, по знакам, что никомуне ведомы, кроме самых умелых волшебников из Америки. На настоящих денежках эти знаки есть, а на поддельных – нет, потому что никто не знает, какие они и где находятся. Это великая заокеанская тайна! Глаза Олюшка распахнулись. – И ты ее узнаешь? Как? – С помощью Тришки и программы, которую я написал. Смотри: каждая денежка проходит через этот блок, – я коснулся тройлера, – и фотографируется с обеих сторон, а еще просвечивается, словно под сильной лампой. И вся эта информация попадает в компьютер – о каждой цифре и букве, о каждой точке и завитушке, цвете рисунка, его положении и о многом другом, чего на взгляд не заметишь. Тришкина программа все это запоминает – и про фальшивые денежки, и про настоящие. А потом… – Тут я выдержал драматическую паузу, и Олюшкины глаза раскрылись еще шире. – Потом программа начнет сравнивать денежки друг с другом. То есть не сами денежки, а их изображения, которые хранятся в па мяти Тришки. Это очень хитрая программа; она найдет все отличия между настоящими и фальшивыми деньгами и соберет их в кучки: в одной – самые плохие денежки, в другой – получше, в третьей – еще лучше, а в четвертой – такие, что очень похожи на настоящие, однако… – Не настоящие, да? – с восторгом прошептала Олюшка, и я убедился, что ребенок уловил суть проблемы. – Да, не настоящие, а только очень похожие, если не считать тайных знаков. Но моя программа… Я не говорил тебе, что она способна учиться? Так вот, к этому времени она обучится и станет опытней любого кассира в банке со всеми его машинками для проверки денег, и будет знать о них больше тысячи кассиров. О каждой точке и завитушке, понимаешь? А значит, ей останется только найти эти секретные завитушки и рассказать нам о них. И когда это произойдет, мы раскроем тайну заокеанских волшебников. – Надо же, – сказала Олюшка, погладив железный тришкин бок. – Я и не думала, что Тришка у нас та-акой умник! – Это не он умник, – возразил я, – а дядя Сережа. Программу-то кто составил, моя прелесть? А без программы Тришкой можно гвозди забивать. – Ну-у прям-таки… – протянула Олюшка, но тут ей пришла новая мысль: ресницы взметнулись, глаза округлились, а курносый нос аж побледнел от возбуждения. Она потянула меня за рукав, заставив склониться к самым ее губам, и прошептала: – Дядя Сережа, а дядя Сережа… А что же будет, когда ты узнаешь тайну заокеанских волшебников? Ты сам будешь делать денежки? Ненастоящие, но совсем-совсем как настоящие? И ты станешь богатым? Гордо выпрямившись, я принял оскорбленный вид и заявил: – Это откуда у вас такие мысли, барышня? Совсем недостойные благородной девицы… Взгляните – разве я похож на жулика? – Не похож, – вздохнув, согласилась Олюшка и окинула меня критическим взором. – Совсем не похож… А жалко! Я чуть не подпрыгнул. – Это еще почему? – Мама говорит, что если бы ты, с твоими мозгами, был капельку жуликом хоть чуть-чуть! – то подошел бы нам в папы. Ну разве не прелесть! Очаровательная малышка! И такая разумная и логичная… Будь моя воля, я бы женился на Катерине исключительно ради Олюшки, и стала бы она у меня программистом. Олюшка, разумеется, а не Катерина; Катерина у нас секс-бухгалтер, а горбатого лишь могила исправит. Ребенок снова вздохнул, и мне пришлось совершить вольность – прижаться своей небритой щекой к мягкой и нежной щечке. – Ты не расстраивайся, детка! Ты главное сообрази: хоть папу тебе выбирает мама, зато друзей ты выбираешь сама. А папы всякие бывают… Может, попадется тебе что-то приличное, может, нет… Так что с папами не надо торопиться. – А твой каким был? – спросила Олюшка, и тут уж настал мой черед вздыхать. Потом она принялась допытываться, что же я собираюсь делать с заокеанской тайной – может, жуликов ловить вместе с дядей Аликом? В каком-то смысле эта гипотеза отвечала истине. Я не стремился обнаружить все секретные значки – достаточно было одного или двух, чтоб сконструировать аппарат, производящий безошибочную экспертизу. Такой приборчик и являлся конечной целью моего проекта; мыслилось, что будет он недорогим, компактным и необходимым всюду, где шелестят зеленые купюры. Принцип действия этой машинки я еще не представлял; о принципе говорить было рано, поскольку зависел он от того, что обнаружим мы с Джеком. Но что бы мы ни нашли, в успехе практической реализации не приходилось сомневаться. Российский ум изобретателен и изворотлив – дай идею, а уж умельцы подкуют блоху! Мои гаранты обещали, что на умельцев не поскупятся, и я уже прикидывал, кого бы лучше нанять: безработных оборонщиков из «Градиента» и «Поляриса» или обойтись своими институтскими. Все это пришлось объяснять Олюшке в доступных выражениях, но главное ребенок ухватил: мы трудимся на дядю-богача, чтоб стал он миллионером, торгуя нашей волшебной машинкой. Я с этой мыслью смирился давно, однако Олюшка, склонная по младости лет к идеям социальной справедливости, с возмущением фыркнула. Потом вздохнула, прощаясь с мечтами о папе Сереже. Я тоже вздохнул. Хрумки платили неплохо, но на весь обещанный гонорар я мог бы купить лишь сиденья от керимова «Мистраля». Возможно, еще и дверцы, но на колеса и двигатель рассчитывать не приходилось. Так, за вздохами и разговорами, мы окончили свои труды и отправились на кухню, ужинать. В Олюшкиной сумке нашлась коробка сливы в шоколаде, и мы занялись ею всерьез – вдвоем, ибо Белладонна, обнюхав предложенную ей конфетку, сморщила нос и чихнула. Я налил ей молока, а нам с Олюшкой – чаю; себе – в отцову чашку, а гостье – в мамину. Она очень хорошо смотрелась с маминой чашкой из костяного фарфора в руках; ее личико и тонкие пальцы тоже казались фарфоровыми, розоватыми и будто бы вылепленными искусным скульптором. Я на мгновение представил, что вместе с нами сидит Катерина, в своей роскошной шубке и лисьей шапочке, но почему-то она никак не вписывалась в пейзаж. Подумав, я понял, в чем проблема: третья чашка на нашем столе была бы лишней.
Глава 5 КУДА ПОДЕВАЛСЯ МОЙ МЕД?
Куда мой мед деваться мог? Ведь был полнехонький горшок! Он убежать никак не мог, Ведь у него же нету ног!А. Милн. Винни-Пух и все-все-все
– Кто там? – Три мушкетера и графиня де Монсоро… – Кто там? – Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, и Клоп-Говорун… – Кто там? – Пара морлоков. Пришли жрать элоя… Дни катились один за другим, серые и блеклые, как зимнее питерское небо. Скучные, тоскливые дни! Правда, временами раздавался звонок, и на мое привычное – кто там?… – отвечали: – Вас беспокоят из контрразведки Юлия Цезаря. Не у вас ли скрывается гражданка Клеопатра Птолемеевна?… Наступил февраль, а с ним – внезапная оттепель; потом снова грянули морозы, осевший снег покрылся толстой бугристой коркой льда, и я не шел – скользил к троллейбусной остановке, словно буер под парусом. У метро было полегче – там лед посыпали песком, и шеренги торговок и нищих ограничивали свободу маневра. Между этими живыми барьерами струился по утрам людской поток – те, кто не нищенствовал и не торговал, спешили на работу, подгоняемые самыми разными резонами: одни – заботой о хлебе насущном, другие – корыстью, тщеславием или привычкой. Мною же двигали любовь к науке и искренний энтузиазм, а это очень сильные мотивы; и потому, должно быть, я второпях свалился со ступенек у входа в метро, порвал куртку и расшиб ребра. Случилось это в начале февраля, чуть скрасив ярким цветом мой монотонный жизненный променад. Все прочее катилось и плелось своим чередом: филенку воровали уже, наверное, в десятый раз; мой аспирант Паша Руднев трудился над первой фразой своей диссертации; аргентинцы затихли, и британский авианосец свернул к нефтяным арабским берегам; в Чечне постреливали, в Крыму бились от Севастополя до Перекопа, под Хабаровском царило затишье – нашим федералам не подвезли бензин, а у дыркачей кончились снаряды. Бянус распутывал свои узелки, Алик ловил мошенников, Ирак заключил перемирие с Ираном, американцы с союзниками ловили Усаму бен Ладена, а Юрик Лажевич, по утверждению Басалаева, грозился бросить своих оппонентов на растерзание стае гиен. Вот только где он их возьмет?… – раздумывал я. Купить африканских не по средствам, а в городском зверинце гиена имела столь жалкий вид, что против наших зубастых доцентов ей было не выстоять. Да и что ей проку в тех доцентах-недокормышах? Вот упитанный чиновник из мэрии – другое дело! В личном плане, если не считать порванной куртки и синяка на ребрах, особых перемен не наблюдалось. Звонил Михалев: что же ты, мои шер, о старике забываешь?… давай-ка в следующий выходной… твои зубы, мои вафли… а еще книжку новую подарю… какую?… про Ленина… нет, не историческую, а фантастическую, как мумию оживили… Еще заехал Николай, шкаф из гарнитура моих нанимателей, забрал коробки с фальшивыми баксами; следом позвонил Керим, дабы узнать об успехах, и получил информацию, что дело движется, но трубить в фанфары еще рано – мы с Джеком закончили лишь первичную обработку и выделение самых тривиальных признаков. Я подготовил еще один доклад о классификации минералов, и теперь Вил Абрамыч поощрительно улыбался мне при каждой встрече. В свой черед я со всем старанием улыбался ему, кланялся и выпячивал грудь колесом, так что любой из наших сотрудников мог заметить, как Невлюдов Сергей Михайлович подгоняет задницу к креслу завкафедрой. Мои коллеги реагировали на это с пониманием, а кое-кто даже хлопал меня по спине и неразборчиво бурчал, что, мол, большому кораблю – большое плавание. Я бы с радостью отплыл куда-то, но жаль было покинуть Питер, а также Белладонну и Алика с Бянусом. К тому же ничего романтического этот вояж не сулил; ничего такого, чтоб серая нить будней вдруг вспыхнула и сгорела дотла, а пепел ее обернулся многоцветным фениксом. Ни ирокезы, ни команчи не торопились призвать меня, дабы обрушиться на бледнолицых, призраки электронного полтергейста обходили мой дом за версту, и предложений слетать на Марс тоже не поступало. Вместо этого я получил послание от Боба Рэнсома, державшего свиную ферму в Вайоминге, у городка с чудным названием Биг Виски. Пили там не так круто, как у нас, зато была иная экзотика: быки и ковбои, родео и салуны, шерифы с «кольтами» и степи с травой по грудь, а еще – необозримые стада свиней. Как-то, во время своих каникулярных странствий, я доперся до этого самого Вайоминга, и на проселочной дороге мой «фордик» приказал долго жить. Вдоль дороги тянулся забор без ворот и калиток, а за ним, в отдалении, виднелось что-то каменное, основательное, с башней под звездно-полосатым флагом. Решив, что это поместье местного ленлорда, я отправился за помощью: как всякий нормальный российский гражданин, форсировал забор и стал пробираться среди навозных куч, поражаясь их величине и обилию. Но каменный замок был не поместьем, а свинофермой, и охраняли ее гигантские хряки размером с гиппопотама, но более шустрые и игривые. Я им понравился; загнав меня на штабель пустых картофельных ящиков, они принялись держать совет, то ли умять вкуснятину на месте, то ли дать ей побегать и порезвиться. К счастью, тут появился Боб и водворил порядок железной рукой. Я прожил у него неделю, и это были отличные деньки! С утра до вечера мы обихаживали свинок, а в сумерках, расположившись под черепичным козырьком веранды, толковали о разных разностях – о девушках и компьютерах, о физике и свиноводстве, о королях, капусте и перспективах нашей земной цивилизации. Мы пришли к единому мнению, что физика и компьютеры – блажь, а вот свиньи и девушки – дело стоящее: никаких тебе иллюзий, и есть за что подержаться. Но оставалось множество тем, которые мы не обсудили – к примеру, о космических пришельцах, расовой проблеме и употреблении суффиксов в русском языке. Так что Боб приглашал меня летом в Вайоминг, дабы, как он выразился, покрутить хвосты кабанчикам и поболтать на досуге. Я ответил, что поразмыслю над этим предложением. Спокойное место штат Вайоминг, особенно та его часть, где разводят свиней. По-моему, даже спутники ее огибают, а если какой и залетит, то не из тех, что палят по Луне. Кстати, с этой пальбой никак не могли разобраться: специалисты НАСА клялись, что не нашли ошибок в своих программах, а физики из Ливермора и Беркли долбали их в хвост и гриву, утверждая, что разрядиться спонтанно лазер никак не мог. В конце января к проблеме подключились «зеленые» – под тем предлогом, что хватит, мол, вертеть дырки в земной атмосфере и переводить зазря кислород. Демарш их показался мне нелепым – ведь спутники висят в сотне миль над земной поверхностью, где нет ни атмосферы, ни кислорода. Меж тем загадочные события продолжались. Просматривая «Amazing News», я только руками разводил да косился на Белладонну – вдруг она заговорит. Что не исключалось; если антенны радиотелескопов вращаются сами собой, а космический зонд, не достигнув Венеры, меняет курс, то могут произойти любые чудеса. Белладонна, впрочем, не говорила, а лишь мяукала (зато вполне членораздельно), но иных чудес и диковинок в мире все прибавлялось и прибавлялось. Были среди них утечки энергии и жалобы на странные шутки коммуникационных систем, компьютерных и телефонных: люди звонили друзьям и родичам, раз за разом попадая в штаб-квартиру ЦРУ или в Английский банк. Телефон, разумеется, ненадежное средство связи, но про оптоволоконные линии я бы этого не сказал. На них, словно Земля на трех китах, стоит Глобальная Система, и если сервера[682] исправны, то всякое сообщение дойдет куда положено. Как утверждалось в «Amazing News», сервера были исправны, но некий молодой японец, желавший поболтать с невестой в Иокогаме, трижды соединялся с Пентагоном. Весьма поразительный факт! С другой стороны, где же ему место, как не в «Amazing News»? А место факта в системе информации – его важнейшая характеристика; какое место, такое и доверие. И я, поудивлявшись и поахав, прикладывал компресс к своим синякам и шел спать. И снилось мне, как дергается в развеселой пляске решетчатая чаша телескопа, как венери-анский зонд поворачивает к Магеллановым Облакам и как я пытаюсь связаться с Бобом Рэнсомом, но вместо Биг Виски на проводе Иокогама, а вместо Боба – девушка того молодого японца, и я говорю с ней на каком-то странном языке, не русском, не английском, а похожем на древний фортран. Утром я вставал, кормил Белладонну и ложился на заданный курс – неизменный, как положено для больших кораблей. От дома до института, от кандидатской до докторской, от стула научного сотрудника до кресла завкафедрой… Так и текли мои серые будни, овеянные ветрами да метелями, согретые визитами друзей, слегка подкрашенные зимними пейзажами, той неброской акварельной красотой, какую являет неравнодушному взгляду заснеженный город. Но мне было этого мало. Что-то творилось со мной; пустынные воды моей жизни остывали, покрывались льдом, и я барахтался в них, мечтая выбраться из серого, холодного, обыденного в синий теплый океан, где на горизонте встают острова с пальмами и золотым песком, а на тех островах – вечный праздник: солнце сияет, вьются флаги, и смуглые стройные девушки подносят путнику орхидеи и кокосовое молоко в половинке ореха. Впрочем, кокосы и орхидеи не такая уж невидаль – их продавали в ближайшем универсаме, но вот смуглых девушек там я не встречал. А какой же без них праздник? Пустые мечты, разумеется… сон… сказка… Но так мне ее не хватало – до боли, до скрежета зубовного, до ломоты в костях! А тут еще этот проклятый синяк на боку…
* * *
Имелся, однако, способ умчаться за грань реальности. Сказка – из редкостных товаров, и не всякому выпало прожить жизнь так, чтобы, умирая, он мог признаться: мне повезло, я коснулся сказки. Был героем, спасал принцесс, палил из бластера в чудовищ, карал злодеев и удостоился рыцарских шпор; а под конец лучшая из девушек отдала мне руку и сердце, когда я приплыл за ней на бригантине с алыми парусами. Но эти сожаления о сказочном и несбывшемся – дело минувшее, если у вас есть компьютер и контактный шлем с креслом. Дорогие игрушки, согласен; они поглотили всю сумму, что лежала на родительских счетах, плюс мою последнюю кембриджскую стипендию. Я мог бы вполне обойтись без таких завитушек и прибабахов, ведь для серьезной работы они не нужны. Ни вокодер со стереофоническими колонками, ни операционные пульты, встроенные в подлокотники, ни браслеты, ни шлем, даривший иллюзии и миражи… Но мне очень хотелось, и я себя уговорил. Это была непростая процедура, учитывая состояние моих финансов. Но мудрецы говорят: life is not all beer and scittles[683], и они правы. Руководствуясь этим советом, я изгнал всякие мысли о развлечениях, об играх, обычных фильмах и лентах FR[684]; я сказал себе – как специалист специалисту, – что просто обязан следить за новейшими достижениями своего ремесла. Операционное кресло, со всем, что к нему прилагалось, как раз и было таким достижением; с его помощью я мог проникнуть в Сеть в любом избранном мною обличье и повстречаться с другими Масками[685], мог проследить за процессом вычислений, воспринимая его как звуковой и визуальный ряд, мог даже в какой-то степени объединиться душой с компьютером, подсказать ему и направить по верному пути. Такие подсказки необходимы при решении некорректных задач, но самый обычный пульт позволяет ввести их и отследить действия программы. Кресло, однако, удобнее; оно преобразует виртуальный компьютерный мир в символы и звуки, доступные человеческому восприятию. Итак, я приобрел кресло, браслеты и шлем и пару недель болтался в Сети, знакомясь воочию с монстрами, что проживают на главных ее магистралях и в каждом занюханном тупичке. Потом мне это надоело. Ведь я не «чайник», чтоб исходить восторженным паром при виде перемножаемых матриц! Не вид меня интересует, а результат, и чтоб поскорее и поточнее! Ныне все вернулось на круги свои: к программе я подключаюсь редко, в Сеть лазаю от случая к случаю, зато наслаждаюсь фульриками. Вот это сказка и праздник! Вернее, приемлемый суррогат того и другого. Пока без тактильных ощущений, но я полагаю, оно и к лучшему – целее будешь, ввязавшись в какую-нибудь авантюру. Опять же гаремные страсти… Смотреть на них весьма утомительно для одинокого мужчины, а если еще и чувствовать, то без инфаркта не обойдешься! Словом, всему есть свой предел и своя граница, в том числе и киношному прогрессу. Фульриков не так уж много, но сделаны они на совесть, хоть без затей и по привычным голливудским образцам. Главное же, что их не надо воровать, ломая пароли и заметая преступный след; их производит «Даймонд Проперти», та самая фирма, где разработаны кресло и шлем, и рассылает бесплатно. Само собой, при том условии, что шлем с креслом оплачены звонкой монетой. Как говорится, what one loses on the swinge one makes up on the roundabouts – что потеряли на качелях, возьмем на каруселях. В январских поступлениях фульриков значились четыре позиции: две мочилки, одна Возбуждалка и одна расслабиловка. Согласно моей классификации, мочилки – это сплошной кишкодрал и яйцерез; там стреляют, бьют и потрошат ста сорока способами, причем сперва плохие парни перекрывают кислород хорошим, а под конец хорошие чистят фейс плохим. Сказки, конечно, но черные, и я их не люблю, хотя и просматриваю временами – перед кафедральным семинаром. Чтобы, значит, взъяриться и добавить адреналинчика в кровь… Но этим вечером мне хотелось иных сказок. К тому же была среда, и вчерашний семинар, не кафедральный, а лабораторный, прошел в полном благолепии: Ник с Диком (докладывали о своих магистерских трудах, и все были так зачарованы их потрясающим сходством, что дело обошлось без каверз и подковырок, даже со стороны Басалаева. Возбуждалку я тоже смотреть не хотел. Эта группа дифференцировалась от скромных сосалок-обжималок до откровенных трахалок, и выяснив, что полученный мной шедевр называется «Лесбиянки в финской бане», я его забраковал. Не в том я был настроении, чтоб париться с лесбиянками; и вообще это занятие министров и прокуроров, а не научных сотрудников. Оставалась лишь расслабиловка. Обычно это нежные мультфильмы про русалочек и Дюймовочек, но в данном случае сюжет был позабавней: подругу Крутого Уокера, рейнджера из Техаса, похитил некий джинн с электронными мозгами, правитель роботов, свирепых, как павианы в период течки. Прятался этот монстр в каком-то лабиринте в созвездии Орион, и чтобы добраться до него, бедняга Уокер должен был облететь двадцать миров и сделать каждому роботу гуляш по почкам. Короче, полный отпад! Разум растворяется в сумерках чувств, а именно этого мне сейчас и не хватало. Должен заметить – к чести «Даймонд Проперти», – что их интересы были шире секса, стрельбы и мультиков. Временами они подбрасывали мне махалки и молотилки в стиле Джеки Чана; иногда баловали скакалками-вестернами и страшилками – историями о честных налогоплательщиках, которых со смаком пожирают крокодилы, акулы и восставшие из гроба мертвецы. Страшилки всегда высылались в двух сериях, и тех бедолаг, которых не прикончили в первой, обычно доедали во второй. Я такому изобилию ужасов ничуть не удивлялся. Horror[686] – во всяком случае, до эпохи бен Ладена – был популярнейшим жанром в Штатах; жили там хорошо, спокойно, а сытая жизнь скучна, если не перемежается легким испугом. У нас же все наоборот; как говорил отец, недолгий кайф торчков на перманентном фоне страха. Такие вот сказки… Если вдуматься, все они черные, и у нас, и за океаном, ибо мир в нынешние времена неделим и един, как Глобальная Сеть; или спасемся вместе, или вместе погибнем. И в случае фатального исхода останутся после нас компьютеры, и будут они командовать другими машинами, попроще, гонять из банка в банк разнообразную цифирь, делить и умножать и упражняться в вариационном исчислении… И это будет лишено всяческого смысла. Однако надежда на спасение во мне угасла не совсем, и поддерживает ее «Даймонд Проперти», моя дорогая фабрика электронных грез. Ведь занялись же они мультфильмами! Значит, еще не рискуют пугать мочилками и страшилками малых детишек, таких как Олюшка, – и получается, что гуманизм им не чужд, равно как и другие благородные чувства. Например, доброта и любовь… Что спасет нас от ненависти и ужаса, от крокодилов-убийц, от кровожадных ниндзя, от мастеров кун-фу с тяжелыми кулаками, от графа Дракулы и наркомафии? Только любовь и доброта… Ну, возможно, Крутой Уокер чуть-чуть поможет… С этой мыслью я напялил шлем, уселся в кресло и поманил к себе Белладонну. Она не любит моих погружений; когда я часами сижу неподвижно, с опущенным забралом, вцепившись в подлокотники, это пугает ее. Наверное, ей мнится, что я уснул неестественным странным сном, или вовсе умер, или превратился в какое-то чудище с большой серой дыней вместо головы. Но на моих коленях она успокаивается; видно, чувствует, что я еще теплый, а значит, живой. Я пощекотал ее за ушком, коснулся сенсора голографической приставки и опустил забрало. Долгий протяжный аккорд, подобный свисту ветра в рибрежных скалах… Затем привычный мир исчез, растаял, растворился; теперьнадо мной шелестели пальмы, тянулся вверх гигантскийкрасноватый ствол секвойи, уходила вдаль полоска песчаного пляжа, усеянная народом, а за ней синел океан, спокойный и тихий, нежившийся под ласковым солнышком;по его аметистовым волнам скользили яхты с пестрыми парусами, а на них загорали девушки – те соблазнительные смуглянки, что подносят героям цветы и кока-колу в запотевших стаканах. Словом, вид был самый калифорнийский, и, узрев полузнакомые очертания далеких гор, я убедился, что действительно попал в Калифорнию, вместе с Дейвом Уокером и его подружкой. Может, они вкушали отдых в этом американском парадизе, а может, явились по делам – к примеру, искать мафиозных боссов или тайный склад гер-балайфа. Я полагал, что скоро это разъяснится. Возникло лицо Уокера – крупным планом, на фоне океанских волн и бирюзовых небес. Был он почти как живой, что достигалось средствами компьютерной видеопластики; лишь приглядевшись, я отметил несомненный перебор. Слишком рыжие волосы, слишком резкие морщины у губ, слишком рельефные мышцы и столь выразительная мимика, какой не бывает у настоящих людей… Все-таки это была мультяшка-симулякр, хоть и выполненная с блеском. В прочих фильмах, в мочилках, страшилках и возбуждалках, играют живые актеры, но декорации тоже плод компьютерного дизайна, и сделаны они так тщательно, что от реальности не отличишь. С людьми сложнее; их еще не научились имитировать на все сто, хотя этот час близок и зависит лишь от быстродействия наших компьютеров. Воистину, программисты – боги и уступают Саваофу только в одном: миры, сотворенные ими, нельзя пощупать. Зато они творят их целыми пачками. Крутой Уокер сидел в шезлонге, попивал лимонад и вел крутую беседу со своей блондинистой подружкой (длинные ноги, пышный бюст, губки бантиком и Ниагара золотых волос). Блондинке хотелось замуж, и Уокер со всей доходчивостью объяснял, что техасский рейнджер не годится на такое амплуа; он, дескать, повенчан с Фемидой, спать ложится с пистолетом и производит на божий свет не детишек, а исключительно протоколы. Подруга с этим активно не соглашалась и напирала на Дейва бюстом и интимными воспоминаниями. Такой вот у них получался разговор. Тут грянул гром среди ясных небес, блеснула молния, и над пляжем завис НЛО самой зловещей наружности, класса «летающая сковорода». Народ взволновался, девушки завизжали, кто бросился к пальмам, кто – к океанским водам, а кто начал закапываться в песок, в частности одна симпатичная девчушка лет пяти, похожая на мою соседку, с таким же курносым носиком и огромными серыми глазищами. Тем временем НЛО выплюнул посадочные капсулы, они хищной стаей упали на пляж, извергнув команду роботов. Отвратительные твари: бронированные, но волосатые, с лазером во лбу и с ковбойским лассо в причинном месте. Этими арканами они принялись ловить рабов – и девушек-смуг-ляночек, и их бой-френдов, и детишек, и мамаш с папашами. Изловленных тащили к капсулам и отправляли в сковородку, попутно взрывая бензоколонки и вышибая мозги всем встречным и поперечным. Словом, зверствовали вовсю; это был тонкий сюжетный ход, чтоб оправдать самые жуткие меры возмездия, какие намечались в будущем. Уокер вытащил из плавок пистолет («специальный полицейский» сорок пятого калибра) и попытался дать отпор злодеям. Но пули отскакивали от их панцирей, а гранатомета под руками не случилось, так что Дейв мог полагаться лишь на свои кулаки. Он ринулся на ближайшего робота (тот вытаскивал из песка сероглазую девчушку), сшиб его с манипуляторов и начал отплясывать джигу на брюхе мерзавца. Диоды и триоды сыпались градом, робот жужжал, девчушка вопила, пятки Уокера сокрушали панцирь, а тем временем другой бронированный хмырь уволок его блондинку. Капсулы взлетели (все, кроме одной, принадлежавшей поверженному роботу), сковородка фыркнула огнем и скрылась, оставив в космосе отчетливый инверсионный след. Уокер почесал в затылке; лицо у него было огорченным и нерешительным, так как дальнейший расклад событий предусматривал несколько вариантов. Первый: продолжить распитие кока-колы; второй: устроить засаду на пляжах Майами, куда злодеи непременно явятся за новой партией рабов; третий: отправиться на мыс Канаверал и экспроприировать ракету, подготовленную для марсианской экспедиции; четвертый: обратить внимание, что отец спасенной девчушки, фермер Джо – из породы непризнанных гениев и у него в сарае за скотным двором спрятан такой звездолет, какой не снился фраерам из НАСА. Словом, имелись разнообразные возможности, и я решил, что Дейв нуждается в подсказке. Одно движение пальца, и он твердым шагом направился к капсуле, прихватив пистолет и бутылочку кока-колы. Мы с ним быстро разобрались в управлении, нажали все нужные кнопки, дернули рычаги и взмыли в небеса. Инверсионный след был отлично виден, и вел он в первый из двадцати миров, какие предстояло посетить Уокеру, чтобы выручить свою подружку. Я надеялся, что он везде наведет порядок, а под конец спустится в лабиринт и доберется до электронного джинна в самое пикантное мгновение, когда тот подкатит с гнусным предложением к блондинке. Мчась в космической тьме, я уже предвкушал, как мы с Уокером вставим мерзавцу фитиль в процессор, но вдруг наш космический транспорт затормозил, рассыпался, мой спутник исчез, а вслед за этим Галактика мигнул а яркими звездами и провалилась в тартарары. Передо мной сияла алым светом беспредельная огненная даль, в ней мерцали вспышки молний, ворочались багровые тучи, а на самой большой из них сидел огромный черный пес с вытянутой мордой, и с клыков его капала слюна. Это апокалипсическое зрелище сопровождалось тревожным гулом набата, дьявольским завыванием сирены, ураганным ревом и другими звуковыми эффектами. В целом чувство было таким, словно я на полном скаку вылетел из седла и впилился в стену, ограждающую ад. Конечно, я ее пробил – иначе откуда же этот звон и рев, этот огонь и этот страшный пес, сатанинское отродье?… Прошло секунд пять, пока я наконец сообразил, что вижу Добермана и что трансляция фульрика вырубилась по аварийному прерыванию. Причин могло быть три: или началось всемирное побоище, или какой-то пронырливый хакер пытался обшарить тришкины закрома, или… Содрав шлем, я вскочил, и Белладонна с испуганным мявом спрыгнула с моих колен. Голографический апокалипсис разом кончился; звон и рев превратились в негромкое попискивание, а пламенные адские дали – в чуть вогнутую розоватую поверхность экрана. Но в самом его центре по-прежнему маячил черный пес, а под ним, в красных окнах, темнели ровные строчки сообщений. Левое информировало, что копия программы «Джек» снята с компьютера bran@uni.spb.ru (то был сетевой адрес Бянуса), а правое уточняло, что покража свершилась в 19.32 и что тревожный сигнал добрался до Тришки через ноль минут девяносто семь миллисекунд – то есть, как и положено, со скоростью света. Но хищная лапа грабителя исчезла с той же быстротой, уволакивая горшок с моим медом; исчезла и скрылась в каком-то неведомом закоулке Сети, может в Австралии, а может в Панаме, Китае или Нью-Васюках. Впрочем, мед есть мед; не бывает меда без запаха, а мой Доберман – чуткий песик. Я повернулся к Белладонне и хмуро буркнул: – Прошу простить мою невежливость, синьора. Причина самая извинительная: нас обокрали! Без штанов оставили, по правде говоря. – Мяу? – произнесла моя кошка, явно желая приобщиться к более полной информации. – Собственно, обокрали доцента Бранникова, – уточнил я. – Да-да, того самого Бранникова, который чешет вас за ухом и допускает прочие вольности. А вы, бесстыдница, в ответ мурлыкаете и урчите! – Урр! – не согласилась Белладонна, будто Бянус, этот лохастый веник, никогда не чесал ее за ушами. – Урр! Урр! – Вот тебе и урр! А он, между прочим, клялся, что в Сеть коготка не покажет! Ни шерстинки, ни кончика хвостика, понимаешь? Какой поганец! – Я с грустью покачал головой. – Верь после этого людям! Верно сказано, киска: good fences make good neighbours![687] Киска, хоть была не в ладах с языками, утвердительно мяукнула и с грозным видом распушила хвост трубой. – Ну и что же мы сделаем с этим Бранниковым? – риторически вопросил я, снова опускаясь в кресло. – Выколем зенки его пентюху? Шнобель открутим? Дадим коленом по виндам? Или пасть порвем? – Мрр-унн… Белладонну мучили сомнения, и мне пришлось с ней согласиться. По двум причинам. Во-первых, компьютер ни в чем не виноват, и хоть он не живой, все-таки жалко делать ему лоботомию. Во-вторых, Бянус хоть и поганец, но друг, и харакири его компьютеру было бы чистой подлянкой, а к тому же еще и глупостью. Ну потру я ему диски или микроба запущу – так кого он призовет на помощь?… Правильно, своего дружбана Сергея Невлюдова, пи-эйч-ди во всякой хитрой технике… И будет все по пословице: за что боролись, на то напоролись. Так что я решил заявиться утром к Сашке на кафедру без всяких звонков и предупреждений, взять его за глотку и чего-нибудь отвернуть – скажем, в том месте, откуда ноги растут. А сейчас нам с Доберманом предстояли следствие и розыск, и дело это откладывать не стоило. Хакеры в большинстве – как сороки-воровки: сопрут что-нибудь и начинают играться блестящей штучкой, соображая, куда ее можно приткнуть и в чем ее польза и профит. В это самое мгновение и полагается нанести удар – а уж какой, это зависит от квалификации и милосердия ограбленного. Если взять мой бедламский вирус, то он стремителен и беспощаден, как тетрачума – пять микросекунд, и в памяти полный вакуум, а на экране надпись: бай-бай, притырок. Впрочем, это не самое страшное, есть кары и пожестче, не для мозгов, для сердца. Не всякий компьютерный блок выносит быстрые переключения в пиковых режимах; например, если подать на материнскую плату[688] высокочастотные импульсы, то микросхемы не успеют их отработать, возникнут экстратоки, и, как гласит термодинамика, случится небольшой Ташкент. То есть нагрев сверх допустимой нормы; затем кое-что расплавится, и вся компьютерная начинка прикажет долго жить. А цена ей – от трехсот до тысячи в твердом валютном исчислении! Так что врезать можно и по «мозгам», и по «железу», а при особой изощренности – по оператору-хакеру, ежели он в контактном шлеме или часто посматривает на экран. Есть такие программки, что выдают всякую пакость, которая глазом не видна, но фиксируется в подсознании… есть и другие, что раскачивают биоритмы, заставляя изображение мерцать и подрагивать… Но это уже беспредел, и мой Бедламчик такими вещами не занимается. Конечно, бывают очень предусмотрительные хакеры – тс сразу отключаются от Сети, переписывают ворованное на съемный диск и не спешат с экспертизой. Но зачем красть, если не можешь попользоваться? Так что вор запускает программу, а потом, через день-другой, выходит в Сеть; тут ему и крышка, если розыск был проведен своевременно и по всем правилам. Эти соображения меня, однако, не радовали. Если начистоту, я был угнетен и зол, и моя беседа с Белладонной отдавала не юмором, а черным сарказмом. Надо же, глядел я свои сказочки про уворованных блондинок и бесстрашных рейнджеров, наслаждался и никому не мешал, а тут реальность подносит сюрпризец: блондинку и впрямь украли! Ну не блондинку, так самое ценное мое имущество, доверенное, кстати, другу! Корешу моему ненаглядному! Растяпе и паразиту! Блудливой гадюке! Отродью теночтитланского козла! Чтоб ею распяли на теокалли и в бутылку закатали! Желательно с «Политехнической»! Напился, видать, алкоголик, и начал хвастать на кафедре, как ловко копает свое узелковое дерьмо… и какой лопатой копает, тоже, небось, доложил… А потом хлобыстнул пару стаканов, память совсем отшибло, крыша поехала – тут он в Сеть и вылез! А друзья-коллеги только того и ждали… Здесь своя лапа видна, своя, не чужая, не из Китая, не из Панамы и не из Нью-Васюков! Кому там надо шарить в скудном доцентском пентюхе? Да и кому из своих такое в голову взбредет? Кто полезет в пустую квартиру? А вот ежели там деньги спрятаны, и звон об этом слышен на всю ивановскую, и дурак хозяин дверей не запирает… Как тут лапу не протянуть? Загребущую, историческую? Ну доберусь я до этой лапки! Мало не покажется! Выстроив гипотезу и просчитав Бянуса, я крепко его обложил (про себя, чтобы не слышала Белладонна) и отправился на кухню. Полезно хлопнуть крышкой, выпустить пар, а затем испить чего-нибудь бодрящего, чаю или кофейку из отцовой кружки. Или из маминой, по большим праздникам… Но праздновать мне было нечего, и я мамину чашку не тронул, проглотил свой кофе и сказал Белладонне: – Сейчас курочку будем резать, синьорита. Разыщем и оставим без потрохов. И перышки ощиплем! Услышав про потроха, она облизнулась. Затем мы отправились к Тришке, оба – в самом кровожадном настроении, словно два индейца, сменивших трубку мира на боевой томагавк. По такому случаю розыск я решил вести не с клавиш, а с полным погружением; оседлал своего мустанга (то бишь контактное кресло), защелкнул браслеты на щиколотках и запястьях и надвинул шлем. Огненные адские бездны снова разверзлись передо мной, только теперь у Добермана появился спутник, маленький черный пудель с кокетливым бантиком на хвосте. Моя компьютерная ипостась, Маска, под которой я странствую в Сети… Я связан с нею крепче, чем с персонажами фульриков; им я могу подсказать, направить дела туда либо сюда, а с песиком у нас полное сродство душ и миомоторных реакций. Через браслеты, разумеется; стоит мне сжать кулак или брови нахмурить, как сенсор, уловив усилие, преобразует его в импульсный код, а после… Впрочем, эти детали интересны лишь специалистам. Сыщикам они ни к чему. Равно как судьям и палачам. Яперевел Добермана в режим поиска, и зловещее алое зарево угасло. Мир вокруг был безбрежен и пуст, как безоблачное небо над Вайомингом, и в его успокоительной синеве мерцала серебристая тропа – мой сетевой канал в голографической проекции. Этим прелестным видом я был обязан креслу – вернее, его интерфейсному модулю, который делал зримой такую вещь, как пляска бесплотных квантов меж электронных облаков. Временами серебряная тропка – или полупрозрачный тоннель, уходивший в бездонный сапфировый космос – чуть подрагивала, сжималась и вспыхивала фиолетовым; свечение катилось по ней, словно шарик в желобе, исчезая где-то у меня под ногами. Это трудился Доберман: ловил сигналы другой своей половины, похищенной вместе с Джеком, и превращал их в зримый ясный образ. Он мог бы делать это куда быстрее, но приноравливался к медлительному моему рассудку; темп времени, в котором мы сейчас существовали, определялся мной. Иными словами, скоростью химических реакций в моем организме, а не стремительным полетом квантов, детей эфира. Я шевельнул пальцами, и две черные тени устремились вперед, по серебристой дорожке, проложенной в компьютерных небесах. Доберман бежал первым – собственно, не бежал, а скользил в пространстве на растопыренных мощных лапах. Программируя его, я опустил такие мелочи, как собачья побежка; меня вполне устраивало, что он летает, а не скачет. Над пуделем велась более тонкая работа, и он умел перебирать лапами, дергать хвостом и настораживать уши; умел и кое-что другое, еще поинтересней. Псы добрались до сервера, станции пересадки, обслуживающей мою магистраль. Она выглядела словно большая цилиндрическая полость, к которой сходилось множество внешних тоннелей-троп; каждый заканчивался портом или адресными вратами, помеченными надписью, и очутившись внутри, в самом цилиндрическом пространстве, эти надписи можно было прочесть, а затем отправиться по нужным адресам. Врата серверов пребывали распахнутыми днем и ночью, а порты, ведущие к частным пользователям, могли находиться в одном из трех состояний: либо открыты и доступны для контактов, либо запечатаны паролем, либо замкнуты наглухо. Последнее означало, что абонент отключился от Сети. Все это являлось чистой фикцией и условностью, попыткой изобразить пир привидений в пятом измерении. Сетевой регламент неизмеримо сложней, а топологию Сети и в страшных снах не представить, но разработчики пейзажа из троп, цилиндров и ворот старались не для меня. Для доцента Бранникова, как ни горько это признавать! Для моего друга Бянуса, лохастого растяпы, и подобных ему чайников! Мы пронеслись мимо Масок, мельтешивших на станции, мимо всех этих лолобриджид, нагих валькирий, гномов, вампиров, эльфов, черепах, драконов, рыцарей, качков, торчков и прочей нечисти и попсы; пронеслись и нырнули в ворота университетского сервера. В его объемистом чреве царили порядок и пустота; чужим Маскам делать тут было нечего, а своих, увы, не имелось. Ведь только счастливый обладатель кресла и шлема мог погружаться в виртуальную реальность и разгуливать по Сети этаким информационным призраком – а у кого из наших завалялись восемь тысяч баксов?… Может, у ректора, но сомневаюсь, чтоб он совершал здесь променад в Маске Исаака Ньютона. К моему изумлению, Доберман ринулся в дальний конец, где зияли порты европейских серверов. Я дернул бровью, заставив пуделя подпрыгнуть; на его лукавой мордашке изобразилось недоумение, вполне подходящее к случаю. Выходит, моя гипотеза лопнула и бянусовы коллеги здесь пи при чем?… Ни они, ни их загребущие лапы?… Я им не доверял чисто интуитивно, так как треть преподавателей истфака в прошлом состояла в КПСС – а может, и не только в прошлом. Цирк сгорел, но эти клоуны отнюдь не разбежались; они еще мечтали о прежних антраша, гастролях и персональных бенефисах, они еще помнили, что партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. По уму и честь, по совести и порка! – усмехался отец, голосуя то за персюков из Демократического фронта, то за домушников из НДР. Потом демократы тоже скурвились, и он перестал усмехаться, а также голосовать, только принимав в день выборов стопку водки. Что было для него совсем нехарактерно. Тормознув Добермана, я принюхался к дверце, что вела на бянусов компьютер. В данный момент все обстояло тип-топ: дверь забита наглухо, окраска серая, блеклая, порт не активирован, питание снято. Я велел пуделю поднять лапку и помочиться на порог. Затем он дернул хвостом и гордо проследовал дальше. А вот дальше началось самое интересное. Попали мы на какой-то сервер – может, немецкий, а может, шведский; был он в форме тороида, надетого на сферу, и в кольцевой коридор выходили частные порты, а в шаровую полость – линии всяких ведомств и фирм и даже правительственные каналы, отмеченные, кроме адресов, роскошными гербами и флагами. Все эти врата с росписью из львов, орлов и орденских лент были с селективной фильтрацией – то есть сосали данные и слали письма туда-сюда, но вот пролезть в них живьем и поскрести по сусекам – задача, надо сказать, непростая. Но вполне решаемая, при известном упорстве и техническом навыке. Доберман, однако, у этих шикарных врат не задержался, а сунулся к узкой дыре, абсолютно анонимной, если не считать рамочки с сетевым адресом. Такой адрес состоит из двух частей, разделенных знаком «@», и обычно в нем кодируются шифры пользователей, их городов и стран и что-нибудь еще – скажем, идентификатор почтового ящика. Но здесь стояло кратко и невнятно: 111@ecsp. Темная аббревиатура из четырех букв и три цифры, безликие, как частокол вокруг генеральской дачи! Но мне казалось, что на загадочный порт подвешено что-то мощное – септяк, а может, октяк, каких во всем мире сотня с хвостиком, да и хвост этот не слишком длинен. К примеру, в Кембридже мы трудились на сексотах, таких же как мой Тришка, и очень были довольны. Но самое странное заключалось в том, что в воротах 111@ecsp свистал сквозняк. Сквозь щель, разумеется; через нее я мог наблюдать смутное движение размытых теней, мерцание огоньков, сопровождавшееся отдаленным гулом, и прочие условности, что имитировали вычислительный процесс. Компьютер работал. И я не ошибся – это была чертовски мощная штучка, важный гусь! Его защитили надежней пещеры Али-бабы четырехслойным паролем, поверх которого стоял сетевой фильтр, а на внутренних уровнях, конечно же, требовались персональные коды доступа. Я бы ничего не извлек из этой машины, ни единого бита; может, вломился бы в нее после некоторых стараний и подбросил своего Бедламчика. Однако ломиться и стараться было ни к чему; кто-то уже постарался, перекрыв все пароли и коды, проковыряв эту щель и протоптав для меня дорожку. Ловкий малый, ничего не скажешь! Умелец! И сейчас он работал с машиной, висевшей на адресе 111@ecsp, работал с внешнего терминала, из Сети, прокручивал Джека среди полусотни других задач, вполне законных и легальных. Такое называлось «сквозняком» на жаргоне хакеров, и обнаружить его весьма непросто, но Доберман был чуткой ищейкой. Его дубликат, прилепившийся к Джеку, сигналил нам – а где проходили сигналы, из той щели и дуло, коль не вдаваться в технические подробности. Я в них не вдавался. Какое-то время я слушал далекий гул, всматривался в мерцающие огни и смутную игру теней; потом вызвал Бедлама и направил его прямиком в щель, словно торпеду в раскрытые двери порохового погреба. Прошла секунда, две, три… Целая эпоха в компьютерных масштабах! Гул стих, огни погасли, танец теней сменился непроглядным мраком, растворившим и ту из них, что принадлежала моему похищенному Потрошителю. Тьма, молчание, пустота… Не припомнив подходящей британской пословицы, я пробормотал: – Долг платежом красен…
* * *
Но оставался еще один должок, и чтобы расквитаться окончательно, пришлось навестить Бянуса. Я изловил его следующим утром, часов в одиннадцать, на пороге комнаты, которую они делили с Сурабовым. Сашка как раз появился в коридоре, с непривычной осторожностью прикрыв за собою дверь; был он какой-то на редкость праздничный, весь отглаженный и отутюженный, в роскошном новом галстуке, благоухающем лосьоном «Казанова». Не иначе как собирался навестить Верочку-психологичку. Узрев меня, он широко раскинул руки, будто хотел взлететь к ободранным коридорным сводам. – Отец родной! Сам Серый Янкель пожаловал в хлев короля Монтесумы! Ковбой ты наш изобретательный! Вашеблагородие, госпожа удача! Из воплей доцента Бранникова я заключил, что узелковые проблемы близки к разрешению, но это меня не смягчило. Совсем наоборот! Раз Джек пропахал этакую борозду в исторических пажитях, разделавшись с тайнами инков, беречь его полагалось, как святой Грааль, как лампу Аладдина и президентские штаны! Выложив это Сашке, я тут же понял, что попал впросак: ведь каждый из трех упомянутых мной раритетов теряли, причем неоднократно. Но Бянус моей оплошки будто не заметил. Лицо его омрачилось, потом приняло задумчивый вид; он поскреб свой длинный костистый подбородок, огладил галстук, поднял очи горе и процитировал: – Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет. Света тебе не хватает, пеликан в галстуке? – яростно прошипел я, озираясь. Коридор, к счастью, был пустынен, и никто не мешал нам скандалить в полное свое удовольствие. – Света, значит, не хватает? А если подвесить парочку фонарей? – Это кому же? Я демонстративно принюхался к галстуку и сообщил: – Казанове. Или одному лохастому доценту. Или обоим сразу. Сашка задрал голову, подбоченился, сузил глазки и сделался похож на того восьмилетнего сопляка, с которым мы лупцевали друг дружку в счастливой юности. Сердце мое дрогнуло и начало таять. – Да за такие слова, сударь, лет триста назад я пригласил бы вас на прогулку, отряхнул пыль с ушей и продырявил шпагой! – заявил он, четырежды переврав цитату. – Триста лет назад я бы с тобой тоже не церемонился, инка недорезанная! Мне стоило больших трудов не ухмыльнуться, и он это заметил, хлопнул меня по плечу и предложил: – Передерни затвор, шериф, и начнем беседовать по новой. Что там у тебя приключилось? Я объяснил что. Со всеми эпитетами и глаголами, подходившими к случаю. Обычно Сашка белокож и бледен и чуть напоминает графа Дракулу, оголодавшего после столетней спячки. Но кровь легко бросается ему в лицо, и когда моя история была закончена, на бянусовых щеках пылали оранжевые пятна. Стигматы греха и раскаяния, не иначе! – В Сеть лазал, чайник неумытый? Примерно таким же тоном инквизиторы любопытствовали, летают ли их подопечные на помеле. Сашка содрогнулся и начал накручивать на палец свой роскошный галстук. Не… не лазал. Сам не лазал. Другие лазали. Понимаешь, Серый, какое дело… У Сурабчика… сожителя моего… компьютер накрылся… Чего-то там вылетело, не знаю… Ну меня попросили… на полчасика…то ли статейку скачать, то ли письмишко отправить… Попросили! На полчасика! – передразнил я. – Ты мне гайки не вкручивай! Кто тебя попросил, болвана? Муса Сулейманович? Да он скорей на подтяжках повесится, чем к твоему столу подойдет! Он человек порядочный, непьющий, а ты… – Я – гнида, алкаш, урод и генетический монстр, – с покаянным видом сообщил Бянус. – Не Сурабчику я дал попользоваться, а его аспиранту. То есть аспирантке. Новенькая у нас аспирантка завелась… Дней десять назад… И сейчас сидит за моим компьютером… – Он покосился на дверь своего кабинета и буркнул: – Понимаешь, Серый, не мог я ей отказать. Никак не мог! – Это еще почему? – Почему, почему… Принцессам не отказывают! Я был заинтригован. Не представляю человека, которому Бянус при желании не смог бы отказать или послать куда подальше, включая всех его пассий. Тем более, во имя нашей дружбы. Слово-то он мне давал, а не принцессе-аспирантке! – Насчет принцессы – это все твои оправдания? – Нет. – Что еще? Он жалобно скривился, ткнул пальцем в мой живот, а потом себе в грудь, иод галстук. – Мы одной крови, ты и я, как сказал клоп Говорун…Это являлось намеком на нерушимую нашу дружбу, на счастливое детство, безмятежную юность и на плюхи, которые он схлопотал от меня, а я – от него. Прием не совсем корректный, но действующий безотказно. Я, однако, молчал, наслаждаясь, как он мучается совестью, как винит себя в халатности и разгильдяйстве, как точит слезы раскаяния, как клянет свою слабость к принцессам и аспиранткам. Все эти упражнения были для Сашки весьма полезными. Наконец мучительные раздумья достигли апогея, и он пробормотал дрожащими губами: – Слушай, Серый, а это серьезно? Ну с проклятой покражей… Ну проклятая страна! Ну все крадут, все, даже у нищих доцентов… Прям-таки не люди, а хищные вещи века… И что нам теперь делать? – Тебе – поститься, каяться и бдеть над узелками, а все остальное я сделаю сам. Собственно, уже сделал. Нашел, приговорил, казнил… Осталось свершить маленькую ампутацию твоему пентюху… совсем крошечную… Я вытащил из кармана пару отверток, помахал перед сашкиным носом и шагнул к его берлоге. Он ринулся за мной, чувствуя, что настроение мое переменилось, и оживая на ходу; пятна на его щеках исчезли, губы больше не тряслись, и галстук горделиво расправился, как парус влекомой ветром бригантины. – Слушай, Серый, какую такую ампутацию? Убери эти отвертки… убери инструмент, богом прошу… не будь живодером… что ты меня паришь, как треску на сковородке?… народ надо простить… народ любит, когда прощают… Христос прощал и нам велел… – Христос прощал, а Аллах никому не простит. Особенно пентюхам. – Какой Аллах? При чем тут Аллах? Ты ведь по батюшке иудей! Не только. Я наследственный христианин, иудей и магометанин, и всей моей божественной канцелярии давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе и отдельные доценты, лифтом эксплуатировать не умеют. И потому нужно вывернуть в лифте такую штучку, такой разъемчик, куда подключается модем. Аллах сказал: некуда будет подключиться, не будет и соблазна. Ни для доцентов, ни для принцесс… И Христос с Яхве подтвердили насчет ампутации. Так что, друг мой… Я распахнул дверь, сунулся в комнату, да так и застыл у порога. За бянусовым столом, при убогом его пентюхе, сидела девушка. Не юная субретка, – лет двадцати трех, а может, двадцати пяти. Я бы не смог ее описать; в этот момент я лишь заметил, что кожа ее смугла, а волосы – темны, что брови ее подобны крыльям парящей птицы, губы – немного пухлые и непривычно яркие и что руки ее порхают над клавишами с тем непринужденным изяществом, какое дается с рождения – то есть от бога, от судьбы, не от опыта. Чем-то она походила на маму… быть может, этими легкими, как бы танцующими движениями рук, или тонкой костью, или матовой своей смуглотой, или чуть выступающими скулами… Не знаю! Ничего не знаю! Но я был уверен в одном: мне не встречалась женщина прекрасней. Ни Нэнси, ни Бригитта, ни Татьяна, ни остальные мои девушки на двух атлантических берегах сравниться с нею не могли. Даже длинноногая Инесса, что восседала в особнячке хрумков… Незнакомка повернулась ко мне, и я заглянул в ее глаза. Колдовские, темные, как арабская ночь, влажные и блестящие… В этот миг я понял, что погиб. Пропал! Совсем пропал! Навеки! Навсегда! Какой взгляд! Какие волосы! Какие губы! Какая красавица, черт побери! Серна! Газель! Сашка, подлый змей, уже оклемался, дышал мне в затылок и, видя мое остолбенение, ехидно бормотал: – Есть у Амура стрелы, есть и сети… Такого нет философа на свете, чтоб женский вид сносил спокойно, не окочурившись при том… И если даст Господь вам вдохновенье, надгробной надписью его почтите… Пусть его, подумал я, не спуская глаз с девушки. Какая красавица! Мне б такую!
Интермедия 1 ГОРЫ СДВИНУЛИСЬ
Когда звезды облетят, когда горы сдвинутся с мест, когда моря перельются, когда свитки развернутся, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, а рай приближен, тогда узнает душа, что она приуготовила.Коран, сура 81. Скручивание
Велик Аллах! И милостью Его, я, Захра, дочь эмира Азиз ад-Дин Хусейна, не страдаю пороком тщеславия. Нет во мне суетных желаний кичиться своим умом, красноречием и красотой, отцовским богатством и древностью рода, и даже тем, что из всех живущих стоим мы ближе к престолу Аллаха и род свой ведем от матери Фатимы и святого Али. Это не наша заслуга, это всего лишь отличие, что выделяет нас изначально как серебряный слиток среди слитков меди. Но кто скажет, к чему приуготовлен тот или другой металл?… Глядишь, медь обернулась чеканным сосудом, полным мудрости и доброты, а серебро – всего лишь монетой, которую тискают алчные руки ростовщика… И, памятуя об этом, я не считала себя звездой среди глиняных черепков, склоняла слух к речам достойных и не мнила себя ни умницей, ни красавицей. Хотя мужчины, случалось, утверждали иное. Робер с французской галантностью намекал, что я похожа на Артемиду: тонкий стан, длинные ноги, пышные темные волосы и нечто божественное во взгляде. Стан, ноги и волосы таковы, какими их сотворил Аллах, и я ими довольна, а все остальное на совести Робера; он – живописец, личность творческая, импульсивная, а значит, склонная к метафорам и преувеличениям. Но Али ГаФур, ваххабит и мой поклонник из Алого Джихада, говорил, что я напоминаю прянувшую с тетивы стрелу; а между стрелой и богиней охоты можно усмотреть сходство. Абдаллах ас-Сукат, коему я предназначалась в жены, комплиментами меня не баловал, однако смотрел и пускал слюни, будто явилась ему гурия из райских садов, обольстительная и прекрасная, как сон у источника Зем-Зем. Его липкие взгляды были мне ненавистны… Но это было давно, так давно! Целых семь лет назад… Многое изменилось с той поры. И я изменилась – не знаю, к лучшему или к худшему. Я уже не та Захра, робкая и отчаянно смелая, что вошла в отцовский кабинет в один из дней, назначенных Аллахом. Воистину то был день великих свершений и перемен: вошла я невольницей, а вышла свободной, как ветер над каменистым харратом. Почти свободной; ведь даже ветер не в силах опрокинуть гору. И у меня есть своя гора – мой джабр, мое предназначение. Отец, призвавши меня, объявил, что Абдаллах жаждет услышать, когда я войду в его дом и проследую к брачной постели. Сказано это было самым суровым тоном, так как речь о моем замужестве заходила не в первый раз, и я поняла, что теперь мне, наверное, не отвертеться. Отец был преисполнен решимости, а матушка, вытирая слезинки пухлыми пальцами, в то же время улыбалась и кивала мне с дивана, словно говоря: вот и пришел, милая, твой час, счастливый миг соединения с достойным юношей, наследником богатств и древней славы. Баба, однако, не говорил ничего и вовсе не улыбался; сидел на суфе с мрачным лицом, уставившись в изразцовый пол. Заметив это, я воспрянула духом. Дед хоть и жил в Джабале, нашем поместье под Кербелой, оставался главой семьи, и руки его были твердыми, разум – ясным, а слово – последним. Если на кого и надеяться, так на него, подумала я, вздохнула и, набравшись храбрости, промолвила: – Абдаллаха не хочу! Хочу учиться. В Европе! Дед хмыкнул, матушка застыла с раскрытым ртом, а отец поперхнулся. Брови на его красивом холеном лице сошлись, глаза округлились, ноздри раздулись – все признаки гнева, знакомые мне, были ясны, как грозовые тучи на хмуром небе. Но он сдержатся; взглянул на деда, будто испрашивая помощи, вскинул руки вверх и начал обличительные речи. Сперва он напомнил про род Абдаллаха, пусть не столь славный, как наш, но все же почтенный и состоятельный; потом заклеймил моих безбожников-учителей и подруг-бесстыдниц, проклял книги и телевизор, что развращают молодежь, а вместе с книгами – бары, кафе и слаксы, голливудские фильмы и мини-юбки, губную помаду и туфли на высоких каблуках, и все обычаи Запада, внушающие непокорность дочерям, чей разум короток, а язык долог. Я слушала его, потупив взор и размышляя о воле Аллаха, создавшего меня женщиной; в ином варианте все эти грехи и грешки не были б для меня такими запретными. Вот, например, отец: хоть он не носит юбку, но вообще-то юбками не брезгует. Особенно мини… Особенно где-нибудь в Лондоне или в Париже… Мысль об этих сказочных городах дала мне силы – или чуть заметный дедушкин кивок?… Я выпрямилась и, не глядя на отца, сказала: – Мне не нужен Абдаллах. Мне не нужны его богатства. Там, в Европе, я не стану бегать по барам и кафе, я буду учиться. У мудрых людей! Разве не сказано Пророком: ищущий знаний – благословен? Или это относится только к мужчинам? К тем, чей разум болтается меж ног, а с языка текут не речи мудрости, а слюни? Матушка в ужасе всплеснула руками, дед хихикнул, а отец побагровел. Кажется, я перегнула палку – насчет слюней и всего остального. Благовоспитанной дочери эмира не полагается знать о таких вещах, но я не испытывала смущения. Я уверилась, что не лягу в постель Абдаллаха, а если меня уложат силой, случится нечто страшное. Очень страшное! Я даже собиралась укоротить его дни – или по крайней мере то, что болталось у Абдаллаха между ногами. – Дерзишь! – Кулак отца взметнулся над моей головой. – Дерзишь, негодная! Да проклянет тебя Аллах! Забыла свое место? Ну так я… Кулак начал опускаться, матушка побледнела и испуганно пискнула, но тут раздался голос деда: – Не трогай ее, Хусейн. Белую верблюдицу не хлещут плетью. Ее берегут, помня о том, что в этой стране уже была война и будет, видимо, другая. Пусть едет подальше от опасностей! Отец окаменел с поднятой рукой, а баба, резво вскочив на ноги, подошел ко мне и коснулся щеки сухими тонкими пальцами. – Пусть едет, – повторил он. – Я даю ей свое благословение и защиту. И содержание – сорок тысяч английских фунтов в год. Чуть наклонив голову, я поцеловала его пальцы. Он был щедр, и он избавил меня от Абдаллаха, но это ли стоило благодарности?… Главное, он меня любил. Тогда я еще не понимала всей силы и смысла его любви; ведь для него я была не только Захрой, любимой внучкой, его продолжением и кровью, но чем-то неизмеримо большим – сосудом Аллаха, лоном, в котором зародится аль гаиб. Ибо такова моя судьба, мой джабр – зачать, выносить и родить мессию. Аль имам аль гаиб, Скрытый имам будет моим сыном… Так сказал дед, и так подтвердили видения. Мои видения… малыш со светлым личиком… крошечный синеглазый мальчик, что тянет ко мне руки… Мое дитя?… Возможно… Но не от Абдаллаха! На отцовском лице румянец гнева сменился обычной смуглотой. – Ты говоришь, пусть едет? Едет? Одна? Девчонка-недоумок? И ты готов ее благословить? Не говоря уж о деньгах? Прости, но если это шутка, то… Пальцы, гладившие мою щеку, напряглись: баба не терпел, когда ему прекословили. – Твоя мудрость, сынок, бежит впереди моей глупости. Сказано, что я отпускаю ее, но не сказано, что отпускаю одну. Ахмед Салех поедет с ней. Ахмет, и сорок тысяч фунтов… и что-нибудь еще… так, на всякий случай… Этого хватит, чтоб оградить ее от зла. Она будет как гранатовое зернышко – из тех, что лежат в середине, спрятавшись за другими зернами и кожурой. Ахмет – это очень твердая кожура. – Пусть едет с мужем, с Абдаллахом, – внезапно вмешалась матушка. – Ахмет – чужой человек и может задумать дурное, когда в руках его будут деньги и невинная девушка. – Чужо-ой? – протянул дед, не поворачивая головы. – Для тебя, женщина аль Самир, не подарившая мне внука, Ахмет – чужой? Запомни, что Салехи служат нам с тех времен, когда про род Самиров не слышали ни в Багдаде, ни в Аравии, ни в Мисре! И никогда – запомни, никогда! – мы, эмиры Азиз ад-Дин, и предки наши, начиная с Хасана ибн Низари, не выказывали неудовольствия их службой. Тебе ли, женщина, судить о них, о верных воинах и стражах? Твоим ли родичам-купцам, которым нефть дороже крови? – Дед прищурился, кивнул отцу и приказал, чуть повысив голос: – Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Моей внучке не мил Абдаллах ас-Сукат, ибо он – потомок вонючего ифрита и ослицы! Значит, другой мужчина будет ее супругом, и пусть она ищет и выбирает сама, без принуждения и страха, ибо никто не уйдет от своей судьбы. Готовьте ее к отъезду! Даю вам десять дней на сборы, и этот срок она проведет в Джабале. Со мной и с Ахметом. Вот так все и свершилось, будто в историях Шахразады: халиф приказал и удалился, а слуги забегали, чтобы исполнить его повеления. Я не видела их суеты, ни матушкиных слез и причитаний, ни сборов, ни сундуков с добром (их я бросила во Франции), ни вытянутой физиономии Абдаллаха, с которым, надо думать, поговорил отец. Я в это время была в Джабале, под дедушкиным крылышком, в оазисе видений и персиковых садов, что цвели в тот год с небывалой щедростью. Но это уже другая песня и другая сказка. Потом я уехала в Париж, в Сорбонну. Учиться и искать себе мужа, как приказал баба. Чарующий город Париж! Не красота его пленяет, не роскошь, не память о прошлом, не старые камни, не соблазнительные фантомы витрин, а некая легкость и жизнерадостность, словно мелодия, звенящая в воздухе, то, что создает атмосферу вечного праздника, круговорота событий, движения мысли, трепета чувств. Конечно, теперь я понимаю всю иллюзорность прежних своих ощущений: я видела не реальный город, а мой Париж, явившийся Новым Светом для девочки с месопотамских равнин, древнее и скучнее которых нет места в подлунном мире. Я понимаю это, и все же чувство праздника и новизны не покидает меня, когда я думаю о Париже. Пусть настоящий Париж не таков, каким я видела, каким придумала его, пусть!… Что это, в сущности, меняет? Ровным счетом ничего. Я расцвела в этом городе. В нем девочка Захра стала Азиз ад-Дин Захрой, арабской принцессой, чуть загадочной, в меру богатой, независимой и элегантной. Нельзя жить в Париже и не стать элегантной женщиной, а у женщины, привлекательной для мужчин, всегда есть какая-то тайна. И у меня она была – мой джабр, мои поиски, мои видения. Я не могла забыть о них, даже если б пожелала – Ахмет, мой молчаливый страж, своим присутствием напоминал об истинной цели моей поездки. Мы жили с ним мирно; он был ко мне добр и почтителен, и я не сомневалась, что могу положиться на него. На его силу и преданность, спокойствие и разум, на умение отсечь лишнее и посоветовать нужное… Правильно сказал баба: с Ахме-том я была словно гранатовое зернышко, защищенное твердой кожурой, и мне это нравилось. Он не мешал и не слишком стеснял мою свободу; он охранял и берег, ибо в том заключался его собственный джабр. Так текли мои дни и превращались в месяцы, а из них складывались лето, осень, зима и весна, и все это вместе отлетало назад, в прошлое, сезон за сезоном, год за годом. На родине отбушевала война, предсказанная дедом, случились другие события, но все они пролетели мимо, как цвет, облетающий с персиковых деревьев. Я училась; сначала – общей истории, потом – античной, потом писала работу по доисламским культурам Аравии, Сабе и Химйару, у Рене Дюпона, пожилого профессора-ориенталиста. Потом стажировалась в Берлине у доктора Маннерхайма, в Лондоне, Филадельфии и Каире; Каир, знойная и яркая аль-Кахира, понравился мне больше других городов – не потому ли, что был основан моими родичами?… Храни меня Аллах от греха гордыни… Так ли, иначе, я повидала мир, и всюду Ахмет Салех был рядом. Возможно, не только он, но видела я одного Ахмета. Всегда почтительный и серьезный, он следовал за мною словно тень – грозная тень со стальными мускулами и непроницаемым лицом. Он охранял меня и занимался моими финансами; подыскивал кухарок и служанок, снимал квартиру или номер в отеле, водил автомобиль – если мне не хотелось самой посидеть за рулем – и выполнял сотню других обязанностей, временами загадочных и сокрытых от моих глаз, как лицо уродливой старухи под темной густой паранджой. Я знала, что он каким-то образом наводит справки о всех моих знакомых; во всяком случае, по прошествии нескольких дней мне сообщалась, кто чем дышит, чем занимается, беден или богат, насколько порядочен, имеет ли тайные пороки, к чему стремится и не испытывает ли слабость к состоятельным наследницам. Мсье Дюпон, мой престарелый профессор, был аттестован наилучшим образом и одобрен – как и Фатима, дочь шейха из Объединенных Эмиратов. Она изучала юриспруденцию, но страстно любила искусство во всех его проявлениях – наряды, картины и юных художников. Ей я обязана знакомством с Робером. А вот Али Гафура Ахмет не одобрил, хотя Али был правоверным мусульманином, творил салят пятижды в день, а в промежутках верно служил Аллаху – разумеется, теми способами, какие его соратники из Алого Джихада считали единственно достойными. Пока Али шептал мне любовные касиды и похвалялся своими подвигами в Палестине, Ахмет терпел, хоть шрам на его щеке временами дергался, а в глазах мерцали опасные огоньки. Но как-то Али Гафур, набравшись смелости, возжаждал большего – коснуться моих губ, а может, и груди. Мы были наедине, гуляли по набережным Сены; я отпрянула, он рассыпался в извинениях и стал превозносить мою непорочность и красоту. Потом он исчез. Совсем исчез! Клянусь, он был мне безразличен, но каждой девушке приятно, когда вокруг толпятся поклонники – да еще такие романтические, как Али Гафур. Я спросила о нем Ахмета, и тот, скривившись, пробормотал: жил, как пес, умер, как собака! На этом с Али было покончено, а вскоре появился Робер. В то время наша с Ахметом жизнь текла размеренно и спокойно, как Диджла в пору летнего зноя. Мир древних был чарующ и загадочен, и я познавала его с усердием и страстью. Пласты обыденной реальности раздвигались передо мной, обнажая корни традиций, истоки легенд, причины и следствия событий, движения народов и племен, и это было так волнующе, так интересно и так прекрасно! Прекрасно, как прогулки по каналам Венеции, отдых на Лазурном Берегу и созерцание сокровищ Лувра и Прадо. Я наслаждалась свободой, я предавалась своим ученым занятиям, и Ахмет мне в том не мешал. Мы научились жить друг с другом. Он заботился о моих удобствах и безопасности, а я делала вид, что не имею представления о его интрижках с кухарками и служанками; я трудилась под мудрым руководством мсье Дюпона и встречалась с Робером, а мой ангел-хранитель будто ослеп на оба глаза. Мне было уже двадцать три, и Ахмет, вероятно, считал, что молодой женщине нужен мужчина – тем более, такой приятный и предупредительный, как Робер. С его точки зрения Робер являлся наименьшим злом, ибо не посягал на мою руку, мое наследство и честь стать отцом аль гаиба. И в результате, сделав меня женщиной, Робер остался жив. Через год, когда мне исполнилось двадцать четыре, мы перебрались в Москву, а спустя десять месяцев – в Петербург. Эта поездка и исследование, которое проводилось мной, были связаны с просьбами баба: он интересовался историей одной из ветвей карматов, обосновавшихся в России. На мой взгляд, карматы были людьми очень несимпатичными: полусумасшедшие фанатики, однажды укравшие священную Каабу и возвратившие камень на место лишь за выкуп, уплаченный моим предком, правителем аль-Кахиры. Словом, они мне не нравились – ни по существу, ни как предмет исследования; но к этому времени мы с Робером уже расстались, и ничто не мешало мне выполнить дедушкину просьбу. Возможно, его интерес к карматам определялся их верностью роду Али – во всяком случае, в ранний период движения, когда карматы поддерживали исмаилитов. Еще в 1097 году их совет старейшин послал лучших воинов оберегать потомков Пророка – тех, что были моими родичами, гонимыми врагом. Их следы находили в Балхе и Исфахане, во Франции и Германии; и наконец, в записках одного наполеоновского генерала я обнаружила упоминание о русском офицере, чья мать была аваркой, и род ее назывался «карматы». Не знаю, какими тропами столетий прошли они, эти странники, сыновья аравийских пустынь, чтобы найти себе новую родину… Возможно, они были рабами крестоносцев, сбежавшими из невольничьего каравана, или купцами, что двигались вслед за монгольским воинством… Но так ли, иначе, волей Всевышнего их занесло на Кавказ, а оттуда в Россию. В Петербург, а может, и в другие районы, в Крым и Поволжье, в татарские вотчины… Россия так велика! И русские с такой непостижимой легкостью мешают кровь с любым народом! В Москве я учила их язык, копалась в архивах и мерзла в большой холодной квартире, которую снял Ахмет. Сам он заговорил по-русски едва ли не раньше меня – у него появились приятели, аварцы, чеченцы, лезгины, относившиеся к нему с подчеркнутым уважением; все – оборотистые, торговые и не из бедных людей. Мне они не докучали и даже, как оказалось, направили мой поиск на верный след. Кто-то из них имел племянника, женатого на девушке из рода карматы; они считались благородным семейством в Дагестане, и их фамилия звучала как «Сурабовы». При всем моем скудном знании русского я поняла, что слышу искаженное «Сухраб», «рубин» на пехлеви, почтенное древнее имя – правда, скорее персидское, чем арабское. Но вопросы этимологии в тот момент меня не занимали. Важней было другое: один из Сурабовых, Муса, преподавал в Петербургском университете, был ученым-арабистом и занимался сектами «крайних» – гулат, карматов и исмаилитов. Мне стало ясно, что судьба призывает меня в Петербург. Там я вскоре и оказалась, без сожалений покинув шумную Москву. Ахмет подыскал нам жилье и привел русоволосую красавицу служанку, по-русски – домработницу. Звали ее Валюшей, но я ее переименована в Валию. Она действительно стала мне советчицей и другом, а еще – камеристкой, горничной и поверенной девичьих тайн. Где отыскал ее Ахмет? Не знаю… Но он всегда был падок на таких женщин – крупных, статных, светловолосых, с синими глазами. Кажется, Валии он тоже нравился, к обоюдной пользе для них обоих: вскоре Ахмет стал говорить на русском лучше меня, а в речах Валии то и дело проскальзывали ласковые арабские словечки. Что касается нашей квартиры, то была она в Графском переулке, у самой речной набережной; речка отчего-то называлась Фонтанкой и в пяти минутах ходьбы от нашего дома пересекала Невский – и там был мост. Великолепный мост, достойный, чтоб его поместили в садах Аллаха! Был он украшен четырьмя статуями – обнаженный юноша сражался с жеребцом и усмирял его, и оба они, человек и конь, были прекрасны той грозной красотой, какую бог дарует воинам. Я не могла наглядеться на них, но Ахмет, как истинный мумий, опускал глаза, плевался и шептал молитву. Нет, все-таки этим коням не было места в джанна… А жаль! Вскоре я приступила к занятиям, и мир мой словно распался на четыре части. Одна была суровой и мрачной – история карматов, их талим и их пропахшие кровью дороги: другая – уютной и теплой: наш дом в Графском, походы с Валией по магазинам, вечерние трапезы за круглым дубовым столом под бронзовой люстрой с двенадцатью свечами. Третью часть я бы назвала дипломатической – потому что касалась она моих русских коллег по faculte histoire. Мы были еще недостаточно знакомы для искренней приязни, но все-таки не являлись чужими людьми, а в такой период холодная вежливость и дипломатический официоз спасают ситуацию. За одним-единственным исключением: я делила кабинет с молодым самоуверенным хакимом, который тут же начал искушать и соблазнять меня. Возможно, я поддалась бы соблазну и съела с хакимом Сашей «сардельку дружбы» в факультетском буфете, но Ахмет его решительно забраковал. И я согласилась; не тот был случай, чтоб ссориться с Ахметом. Четвертое и последнее было связано с Мусой Сурабовым. Мой новый муршид обладал блестящим умом, был эрудирован и неизменно добр, как и другие мои наставники, и я не сразу догадалась, что Муса – совсем иной человек, нежели мсье Дюпон и герр Маннерхайм. Те изучали Арабский Восток, Сурабов жил им; они, европейцы, были по отношению к нам, арабам, факторами внешними и переменчивыми: с равным успехом они занимались бы историей готов, китайцев или финикиян Сурабов же был своим – не только потому что корни его рода тянулись на Восток, но и по многим иным причинам. Проявлялось это во множестве мелочей: в том, что он не пил вина, не ел свинины, и в том, что он мыл руки в час намаза, хоть и не творил молитв, и в том, что Коран, хранившийся в его столе, был обернут шелковой тканью, и в том, что наши беседы велись на арабском – с самого первого мгновения, как он увидел меня. Случалось, что мсье Дюпон тоже переходил на мой родной язык – из вежливости или ради практики, но для муршида Мусы говорить на арабском было столь же естественным и привычным, как дышать. И знал он его гораздо лучше, чем мой учитель из Сорбонны. Словом, я была счастлива, кружась меж четырех сторон своего петербургского мироздания. Я размышляла о том, как украшу свое жилище завесами и коврами, как реставрирую древний камин и мраморную ванну; как, закончив с карматской темой, примусь изучать свой любимый Химиар (конечно, под руководством муршида Мусы!); и как, с соизволения Аллаха, выдам за Ахмата Валию. Думала я и о сотне других вещей, о туфлях и новой шубке, о петербургском балете, о бронзовом юноше на мосту, напоминавшем мне Робера, о зимних холодах, которые скоро кончатся, и даже о том, чтоб съесть с хакимом Сашей его «сардельку дружбы» (если только будет она не свиной). Но все эти мысли и раздумья вращались по-прежнему в четырех стихиях – мой дом, моя работа, мои коллеги и Сурабов, мой муршид. Четыре – число, угодное Аллаху; ведь даже мир он сотворил из четырех частей, и к ним не добавишь пятую. К миру – пожалуй, но судьба Азиз ад-Дин Захры все же отлична от судеб мира и допускает прибавление. А раз допускает, то и будет прибавлено, хочу я того или нет. В том – джабр! Мой дар, мое предназначение! Уйти от него нельзя. И в некий день, когда я сидела в нашем маленьком кабинетике, открылись двери, и Он вошел. Вернее, задержался на пороге, глядя на меня так, словно я была гератской розой, а Он – влюбленным соловьем. Как Он смотрел! С какой тоской и жадностью! Лицо его окаменело, но говорили глаза, и речь их была понятной.
Глава 6 НИЗКАЯ ШУТКА
«Все это – низкая шутка, сыгранная с нашей благородной доверчивостью, – сказал Сэм».Норман Линдсей. Волшебный пудинг
Не помню, что я делал в тот день, с кем встречался, кому звонил. Все колебалось и плыло словно в тумане; вроде бы шел я на работу со Светланой Георгиевной, главной нашей институтской сплетницей, и она мне с жаром о чем-то толковала; вроде столкнулись мы у дверей с Лажевичем и сухо раскланялись с ним; вроде на лестнице курил Басалаев, а при нем – Шура Никитин и Танечка, и все трое сделали мне ручкой; вроде заглядывал я к Вил Абрамычу, а у него сидел Оболенский, и вроде сказали они хором, что надо мне лекции почитать – к примеру, на первом курсе, для накопления стажа и опыта. Притом Вил Абрамыч взирал на меня ободряюще, а Феликс Львович улыбался, но улыбка получалась у него неискренней – вроде бы неискренней и словно бы приклеенной к его гладкой холеной физиономии. Были еще какие-то бары-растабары – с геологами, желавшими познакомиться смоей классификацией минералов, и с Пашей Рудневым насчет его научных дел. Вроде были, а в точности не упомню… Вот с Ником и Диком, кибернетическими близнецами, я определенно не беседовал. Они ребята особые, из одной яйцеклетки, в сущности – клон, и от того, я полагаю, одарены чувствительностью за двоих. Они-то сразу разобрались, что шеф маленько не в себе – а раз не в себе, то и приставать не стоит. Но все остальные-прочие меня активно домогались, по каковой причине я из института удрал, успев лишь отобедать в нашей столовой. Что ел и пил, опять-таки не помню; о чем размышлял по дороге домой, выпало из сознания. Напрочь! Но были раздумья мои не о научных проблемах, не о тайнах мироздания и Федеральной резервной системы, не о загадках долларов и минералов и даже не о вчерашнем похищении. Я грезил наяву, я мечтал, рисуя какие-то фантастические картины, но каждую из них, будто подпись мастера, украшало одно и то же: пара темных очей и брови, как взмах крыла летящей птицы. Эти глаза сияли всюду – влажные, загадочные, колдовские… Я видел только их – и, возвратившись домой, взбираясь по лестнице, вдруг осознал, что не помню номера своей квартиры, своего адреса в Сети и настоящего имени Бянуса. Впрочем, ситуация была еще печальней – я даже не разглядел, цела ли сегодня филенка. Но как звали ту девушку, принцессу-аспирантку моих грез, я, разумеется, не забыл. Захра… Захра-дин-дин чего-то там… не важно… Захра и звон колоколов… перезвон бубенчиков верблюжьей сбруи… пение браслетов танцовщицы… плеск фонтанных струй… зов ветра в палящих песках… сказка арабских ночей… Захра! Утром Бянус представил нас друг другу, и тем дело кончилось; она кивнула, а я пробормотал – отчего-то на французском, – что рад приятному знакомству. И тут же вылетел за дверь, в полном ошеломлении, забыв про свои отвертки и ампутацию модемного порта. Повезло Сашке! Вспомнив, как зовут Бянуса, я, не раздеваясь, тут же позвонил ему и намекнул, что стоило бы заглянуть ко мне на посиделки. Это с какой же целью? – ехидно поинтересовался мой друг. С целью принести извинения, выдавил я. Принесу, пообещал Бянус, в стеклянной таре и в двух экземплярах. А можно Верочку привести? Тут одному доценту, видишь ли, помощь психолога нужна… Срочно! Я ответил, что он путает психолога с венерологом, и повесил трубку. Через десять минут мы с Белладонной сидели на кухне и пили кофе с молоком: молоко – ей, кофе – мне. Напившись, моя кошка умыла мордочку розовым языком, выгнула спинку и потянулась, задравши хвостик. Затем хвост принял форму вопросительного знака: этакий изящный полуэллипс, переходивший в прямую. Приглашение к беседе, если я что-то понимаю в кошачьих наречиях. О чем же с ней поговорить? Мужчины говорят о женщинах, женщины – о мужчинах, а мужчина с женщиной – о любви. Белладонна, конечно, была женщиной, пусть кошачьего рода-племени и с хвостом, но в любовных делах она разбиралась. И я, вздохнув, начал рассказывать ей о своих девушках – о тех, с кем я встречался, а иногда и ложился в постель. Про Ольгу, подружку школьных дней, и про другую Ольгу, из медицинского, с которой меня познакомила мама; маме очень хотелось, чтоб мы поженились, но медицинской Ольге я как-то не глянулся. Еще была Нина с матмеха, веселая, светловолосая и круглолицая, но с ней пришлось расстаться на шестом курсе: занят я был по самую маковку, готовил диплом и посещал американский учебный центр, обосновавшийся на Фонтанке, в библиотеке Маяковского. Там пришлось пройти три круга ада: тест по языку, тест на общее развитие и тест по специальности. Когда же я закончил магистратуру, времени хватило лишь на то, чтобы собрать чемодан и укатить – в Саламанке меня уже ждали, и место мне было приготовлено, и стипендия, и комната, и даже шеф, Дэвид Драболд, из молодых профессоров, зато энергичный и симпатичный. Но с ним мы занимались исключительно науками, а во всем остальном я томился и страдал, оторванный от родных палестин и привычного житья-бытья. Тут меня Нэнси и пригрела. Она трудилась на отделении социологии, и тема у нее была такой – пригревать молодых иностранцев из слаборазвитых держав. Я был у нее не первым и не последним, но никаких обид не чувствую, а лишь одну горячую благодарность. Она помогла мне адаптироваться и научила жить в Америке; и оказалось, что жизнь эта очень приятна и спокойна, если не совать носа в Нью-Йорк или Чикаго, а обретаться в тихих университетских городках вроде нашей Саламанки. Помимо прочих удовольствий, с ней я освоил афроамериканский сленг – Нэнси была мулаткой-шоколадкой и говорила на двух языках, собственно на английском и на его чернокожей версии. Расстались мы легко и просто – моя мулаточка подцепила чеха, а я повстречался с Бригиттой. С ней мы прожили пару лет, даже квартиру вместе снимали, а в Штатах это, надо сказать, непременная стадия перед супружеством. Что бы и случилось, если б моя герл-френд не упорхнула в Марбург. Ей так хотелось увезти меня к сосискам, пиву и сытому житью-бытью! Но я понимал, что Германия – это не Штаты. Здесь мы стали бы заурядной супружеской парой, белыми американцами при дипломах и собственном домике, и эти дипломы, а также цвет кожи и приличный английский, определяли наш статус. Но в Германии я был бы «русским евреем», а Гита – женой еврея, и вместе с ней мы бы читали на стенах, что еврею лучше убраться в Хайфу, чем быть повешенным в Марбурге. Так что в Марбург меня не тянуло, да и в Хайфу тоже, а Гита не собиралась ехать в Петербург. И мы с ней, увы, распрощались… Не так легко, как с шоколадкой Нэнси, а проливая горькие слезы и кляня судьбу. Потом я отправился в Кембридж, где не успел никого завести, если не вспоминать об одной красотке, снимавшей сексуальную озабоченность у мужчин. Она занималась этим совершенно бесплатно, из любви к искусству, и я не считаю ее профессионалкой. Специалистом – да, крупным специалистом, но никак не путаной, не гейшей, не куртизанкой. Кстати, у нее была степень по структуральной лингвистике, и всех своих кавалеров она наделяла забавными кличками. Я числился под кодом «морячок» – наверное, потому, что не раз пропутешествовал над Атлантикой. По возвращении домой я прочно сел на мель. И Танечка, и Катерина, и другие девушки, с которыми я встречался, были этой мелью; жизнь с ними не сулила сказки и романа, а в лучшем случае повесть или даже очерк. Или краткую эпитафию на могильном камне: жил-служил, ел-пил, детей породил и упокоился во благовремение. Убожество… Низкая шутка, которую жизнь играет с нашей благородной доверчивостью… Ибо вступаем мы в нее полные энтузиазма и надежд, а кончаем в болестях и разочаровании. Не слишком ли рано я начал задумываться о таких предметах?… Но одиночество располагает к грусти, а я, вернувшись, вкусил и то и другое полной мерой. Не везло мне с женщинами! И не было рядом мамы, чтоб выписать мне смуглянку-невесту из экзотических краев, из Бухары или Бахчисарая, и не было отца, чтобы наставить на путь истинный и объяснить, где мужчины ищут себе подруг, с которыми можно пуститься в долгое плавание… Не в институте же кибернетики! А также не в Марбургах и не в Саламанках. Все это я рассказал Белладонне, под ее сочувственное мурлыканье, а потом поведал ей, что Аллах, видать, хранил меня от долгосрочных обязательств. Чтоб я, неблагодарный нытик, дожил до этих дней в своем исходном состоянии, 6ез деток и супруги и почти что невинным, как монах из ордена святого Франциска. Тут Белладонна с сомнением фыркнула, и к нам позвонили. – Кто там? За дверью кто-то завозился, потом провыл: – Сне-ежный человек Федя-аа… На четырех лапах, зато с извинениями. Я отщелкнул замок. Бянус и вправду был под хмельком, но на ногах держался твердо, пока не ввалился в квартиру. Тут он рухнул на колени, вытащил из объемистых карманов два пузыря, протянул их мне и начал извиняться. Но говорил он исключительно на языке атцеков, а может, инков, на каком-то индейском наречии, прищелкивая, чмокая и вереща, будто белый какаду. Белладонна зашипела, дернула хвостом и убралась на диван в гостиную. Я послушал-послушал, затем поднял Сашку, и мы расцеловались, как подобает друзьям и русским людям. Явившись в кухню, Сашка первым делом врубил повсюду свет, в люстре, в бра и даже у плиты, и стал рассматривать меня с преувеличенным вниманием, поглаживая свой роскошный галстук. На столе меж тем возникли баночка сардин, полукопченая колбаска, сыр сулгуни, хлеб, тарелки, вилки, стопки, а он все глядел, игрался со своим галстуком и почесывал темя. Наконец изрек: – Клиент скорее жив, чем мертв. Странно! Меня сразили наповал первым же залпом. Да и по тебе, считай, не промахнулись. – И кто тебя сразил? – Искоса поглядев на него, я принялся нарезать булку. Бянус полез в шкафчик, вытащил пару стаканов и заменил ими стопки. Потом снова воззрился на меня. – Ваньку валять будем или как? Я молчал, откручивая колпачок с «Политехнической» и размышляя о смысле этой реплики. Относилась ли она ко мне или же к стопкам? Или к тому и другому? Сашка, выждав какое-то время, разразился речью: – Ты, Серый, не майся зря, а то сгоришь в горниле страсти, как юный Вертер. И кто мне, спрашивается, будет пентюхчинить да программы писать? Не Аллигатор же, хряк налоговый!… Ты, Серый, с меня бери пример. Меня вот тоже наповал сразили, а я отмерил двести грамм, историей КПСС занюхал и оклемался. А почему? Все потому, что я человек трезвомыслящий, с богатым, значит, опытом, и опыт мне подсказывает, что нездоровые сенсации народу не нужны. Народу нужны здоровые сенсации! Вроде моей Верочки. Такие, которым можно юбку расстегнуть и даже под ней пошарить…или там рекламку глянуть об изделиях «Дюрекс», с полной надеждой, что намек оценят и поймут… Вот что я называю здоровой сенсацией! Нашей, отечественной! А эта Захра из багдадских краев… Плюнь и брось! С ней не съешь сардельку дружбы и не запьешь пивком… Уж очень они го-ордые! Он скорчил презрительную мину, но тут же оживился, глядя, как я разливаю по стаканам. Себе я налил на палец, ему – на два. По-прежнему не говоря ни слова. Сашка покрутил головой и вздохнул. – Молчишь? Не желаешь другу душу изливать? – Он сделал паузу, потом снова вздохнул и молвил: – Ну не хочешь, не надо. Я и так чувствую, интуицией и нутром. Крепко же тебя зацепило, Серый! – Это кто тебе сказал? Он желчно усмехнулся. – Бабушка по имени Ванга шепнула… Да ты в зеркало глянь, кретин! У тебя все на роже написано! – Моя рожа, что хочу, то и пишу, – буркнул я, и мы чокнулись. Бянус закусил сардинкой, пожевал колбаски и с горечью произнес: – Тяжело тебе жить на свете, Серега… А почему? Все потому, что сущность твоя противоречит нашей реальности. Реальность-то препоганая, скверная, не мир, а второе нашествие марсиан, вот твоя сущность и бунтует, делает попытку к бегству… за океан, в Саламанку, или там к женщине… Только ведь женщина и Саламанка – часть нашей реальности, понимаешь? А реальность как была препоганой, так ею и осталась. – И что же – никаких перспектив? – спросил я, чувствуя, как холодеет под ложечкой. – Если серьезно, то никаких. Она, видишь ли, из рода Азиз ад-Динов, наследница их, а это очень религиозная семейка… и знатная – такая знатная, что сам Саддам Хусейн, пока был жив, коврик перед ними расстилал. Эмиры они или шейхи в своем Ираке, к тому ж богатые, как три «Газпрома» в день получки… Кто мы для них, Серый? Так, кафиры, голь перекатная, нищета… Ни верблюдей у нас, ни поместьев, ни палат белокаменных, ни скважин нефтяных… У тебя вот компьютер и кошка есть, но думаю, этого мало. Опять же не мусульманин ты… – Крещусь! – воскликнул я. – То есть обрежусь! Сашка пристально поглядел на бутылку, потом – на свой пустой стакан, вздохнул и налил. Мне – на два пальца, себе – на четыре. – Тебя обрежут, парень… так обрежут, что мочиться будет нечем. При ней, видишь ли, Ахметка-телохранитель состоит, сурьезный тип во-от с таким ножиком! – Бянус отмерил на крышке стола сантиметров сорок. – А если надо, они таких Ахметок навербуют легион – из чеченов или там афганов… и с ножиками, и с пушками… – Погоди ты чушь молоть, – прервал я его, понимая, что все эти байки о ножиках и верблюдах, об эмирах, поместьях и Ахметке-телохранителе Бянус выкладывает для моего же блага. – Можешь толком сказать: откуда она, чем занимается, как к нам попала и что ей здесь нужно? Ухватив стакан, Сашка запрокинул голову и выпил. Кадык под галстуком дергался на его тощей шее будто рукоять старинного реостата. – Отвечаю по пунктам и со всей подробностью, ибо проинструктирован трижды – Сурабчиком, завкафедрой и в деканате. Арабская принцесса они, прозываются Азиз ад-Дин Захрой, возраст – двадцать пять, место рождения – Ирак, семья прописана в Багдаде, дворец – как у Харуна Рашидо-ва. В общем, в твоей квартирке тесновато ей будет… понимаешь, «ролс-ройс» некуда ставить… – Сашка окинул пренебрежительным взглядом кухню. Интересует их восточная древность, домусульманский период, первый-пятый века нашей эры, но в данный момент они занимаются карматами… это такие магометанские гангстеры, вымершие на сей момент… Ну что там у нас еще? Образование они получили в Сорбонне и в тех же краях удостоились магистерской степени. Для глубокого постижения наук перебрались в Москву, выучили русский, провели в столице десять месяцев, разочаровались, плюнули и отправились к нам. За обучение платят ба-альшие валютные бабки. Прикрепили их к Сурабчику по двум причинам: во-первых, Арабский Восток – его епархия, а во-вторых, мужчина он положительный, но дряхлый. Значит, будет принцессу учить, а не покушаться на ее невинность. – Как некоторые другие, – заметил я, покосившись на его галстук. – Как некоторые другие, – согласился Сашка. – Впрочем, нам уже дали от ворот поворот, и теперь у нас чисто деловые контакты. Поклоны, реверансы, беседы о науках и искусствах, то да се… ну разные мелкие любезности, имевшие результатом хищение одной программки… – Кстати, о программе… – Я решил повернуть разговор в другую колею. – Можешь чем-нибудь похвастать? Есть успехи? Бянус оживился, порозовел и налил по новой. – Есть! Еще какие! Читать пока что не читаю, но выделил сорок шесть устойчивых групп, от одного до семи знаков в каждой, и среди них есть числительные и названия месяцев. Понимаешь, начинать надо с числительных. Кроме придурков-шумеров, все нормальные люди считают на пальцах, а пальцев-то десять, и потому… Он пустился в сложные логические рассуждения, не забывая наливать и прихлебывать, и делал это с такой резвостью, что вторую бутылку, еще непочатую, я убрал в шкаф. Бянус проводил ее тоскующим взором, оборвал свой научный доклад и буркнул: – Вот, добро пропадает… Надо было Аллигатора позвать… – Сегодня у нас приватный разговор, – возразил я. – А добро не пропадет. Вы же с Аллигатором и оприходуете. Спиртное кончилось, и Сашка засобирался домой. В прихожей он ободряюще похлопал меня по спине и напомнил, что народу не нужны нездоровые сенсации из аравийских пустынь. А потому ложись спать, друг дорогой. Кто спит, тот не грешит! Но я не внял его совету. Время двигалось к полуночи, однако спать мне не хотелось и не хотелось работать и глядеть фульрики. Снедаемый тоской, я отправился в гостиную, улегся на диван рядом с Белладонной и включил телевизор. Чтобы, значит, приобщиться к новостям и подумать под их успокоительную мельтешню. По девяти программам из шестнадцати передавали клипы и сексуальные шоу с музыкой. Где мулаточки прыгают, где спайс-герлы задами крутят, а где и родные козлики скачут… Один выплясывал в желтых штанах в обтяжку, в салатном балахоне и с короной из фальшивых брильянтов на смоляных кудрях. Поверх короны трепетали желто-зеленые перья, а подвязки под коленками были цвета зари на Соломоновых островах. Пел он, в общем, неплохо, но, поглядев на канареечный его наряд, Белладонна хищно сузила глазки и выпустила коготки. Я продолжал поиск в эфире. На всех каналах жизнь била ключом: где пели, где танцевали, где убивали, где трахались. В «Царстве страсти» раздевали, но только до трусиков, а самым шустрым и страстным фирма «Боллс» дарила свой ублюдочный компьютер. Я бы ради такого даже подтяжки не отстегнул… Впрочем, это взгляд специалиста, а раздевались явные дилетанты. Наконец, минуя шум и треск, мы добрались до новостей и узнали о новых инициативах президента, а еще о том, что неонацистская партия «Меч Нибелунгов» получила большинство в Саксонии и Баварии, что в Штатах рассылают почтой уже не белый, а бурый порошок – видимо, с холерным вибрионом, что Таиланд и Вьетнам затеяли маленькую войнушку в джунглях, что дианетики-хаббардисты грабят легковерных под гипнозом, что появился экстрасенс, который лечит шизиков одним нажатием на копчик, и что российское правительство разродилось списком стран-должников. Само собой, в него попали все бывшие союзные республики, а опричь них – половина глобуса, от Болгарии и Чехии до Кубы, Мадагаскара и Японии. За последней еще со времен проклятого царизма числился должок в десять миллиардов долларов, но отдавать его Япония не собиралась. Как, впрочем, и иные страны, включая Мадагаскар. Под Хабаровском и в Крыму вроде бы затихло, но в губерниях творился полный беспредел: один губернатор приватизировал мост через Волгу, другой отписал на внуков все местные бани и рынки, а третий вовсе провозгласил себя князем и принялся печатать собственную валюту. Солдаты меж тем дезертировали или стреляли своих в упор, банкиры сражались за никель, нефть и лесные угодья, политики заседали, киллеры палили в журналистов, а министры с журналистами судились, отстаивая свое достоинство и честь, с коими у них была несомненная напряженка. Встречались, однако, факты поинтересней. Я с удивлением убедился, что сообщения про электронный полтергейст и непонятные утечки энергии перебрались из «Amazing News» в обычные новости. На этот раз никто не покушался на Луну и не вращал антенны телескопов, зато накрылся какой-то важный стратегический объект в системе НАТО. Причина состояла в аварии компьютера: то ли он напрочь сгорел, то ли ушел в нирвану, растеряв по дороге свои базы и файлы. Подозревалась диверсия исламских экстремистов или вмешательство потусторонних сил. Последнее – более вероятно; этот компьютерный архистратиг был обнесен колючей проволокой в реальном и виртуальном пространствах и защищен не хуже, чем подвалы Форт Нокса с золотым запасом США. Но, как сказал бы Бянус, проволока – проволокой, а мокрецы гуляют на свободе… Под занавес пошли вести из нефтяных восточных стран. Главная заключалась в том, что меж Ираном и Ираком объявлено перемирие, но в Багдаде праздновали победу, и в Тегеране, несомненно тоже. Среди древних багдадских мечетей бесновались народные толпы, маршировали шеренги тощих смуглых воинов с автоматами АКМ, дефилировала верблюжья кавалерия с русскими пулеметами в седлах, катились наши родные танки и установки «Град». Видя такой размах российско-иракского сотрудничества, я приободрился. Отчего бы и мне не породниться с эмирами из рода Азиз ад-Дин? Я даже могу мусульманином сделаться, как мои татарские предки… Процедура-то несложная! Три раза признать, что Аллах велик и Мухаммед – его первейший заместитель… Только-то и проблем! Ну еще обрезание и всякие другие мелочи, вроде молитв и священных текстов… А может, над взрослыми неофитами и обрезания не совершают?… Получишь зачет по Корану, и гуляй себе в чалме! Я встал и направился в родительскую спальню, где хранилась коллекция Коранов. Не знаю, зачем их отец собирал; может, из любви к маме, из уважения к ней, а может, по душевной склонности к загадочному и непостижимому. Мама была совсем не религиозна; свинины, правда, не ела, но от шампанского не отказывалась. Еще отмечала курбан-байрам и пекла неподражаемые беляши… Вздохнув, я обозрел книги в своем ореховом шкафу. Самой почтенной был старый Коран на арабском, бабушкино наследие, в ветхом коричневом переплете с зелеными узорами. Три новых Корана, на русском, арабском и двуязычный, купил отец. Коран на английском я привез ему в подарок из Штатов лет восемь назад, еще две книги, на французском и немецком, купил в Париже, но передать не успел. Итого получалось семь Коранов, а еще – три издания Библии, Книга Мормона и какой-то священный фолиант на иврите. Все они мирно проживали в одном шкафу, в отличие от приверженцев своих конфессий, деливших бога вдоль и поперек и полагавших, что только в их огрызке истинный свет и божья милость. Я снова вздохнул и вытащил Коран на английском, увесистый том на шестьсот страниц, с виньетками, заставками и арабесками. Читал я его, читал, да понял мало… Темная книга! Вот, к примеру: «Когда звезды облетят, когда горы сдвинутся с мест, когда моря перельются, когда свитки развернутся, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, а рай приближен, тогда узнает душа, что она приуготовила…» И как это прикажете понимать? Конец света и Страшный суд? Но почему лишь в это время душа узнает, что ею приуготовлено? Ведь душа умершего давно пребывает в раю среди гурий или в преисподней, а значит, приуготовленное ей в земной жизни уже свершилось – или кара, или награда. Да и ад уже давно разожжен! С адом-то чего тянуть? Зачем ждать, пока сдвинутся горы и развернутся свитки? Пожалуй, решил я, с текстом такой сложности моему Потрошителю не справиться. Это вам не узелковое письмо, не химия с физикой и не загадки Федеральной резервной системы; это продукт божественного человеческого интеллекта, в коем слились воедино рациональное и мистическое, вера, поэзия и разум. Можно ли их отделить друг от друга, классифицировать на то и это, разобрать по частям? Сомневаюсь… Но если б такое удалось, не осталось бы в результате ни веры, ни поэзии, ни разума. С этой мыслью я и отправился спать.
* * *
Прошла неделя, тянувшаяся как семичленный полином, где дни-аргументы множились на коэффициент неуверенности и возводились в степень нетерпения. Нетерпения – потому что я жаждал ее увидеть; неуверенности – потому что я этого боялся. Бянус, разумеется, был прав – шансы мои нулевые, а если высчитывать их точнее, получим отрицательную величину. Я не высчитывал, чтоб не расстраиваться, но мозг мой, привыкший к логическим упражнениям, трудился сам по себе, предлагая четкие, внятные и безнадежные ответы. Итак, что мы имеем на входе? Принцессу, прелестную девушку из состоятельной семьи с дворцами, телохранителями и традициями; традиции, как и семья, не наши. Не демократические, если определяться в сфере социальных понятий. Еще у нас есть герой, не очень юный и небогатый, зато с серьезными намерениями, при кошке, квартире и компьютере. Может ли он покорить красавицу? И чем? Конечно, лишь своим мужским обаянием и харизмой тайны, пленяющей женские сердца… А если нет ни обаяния, ни тайны, ни харизмы, то и надежды тоже нет, как и самого героя. А что же сеть? Что там у нас на выходе? Всего лишь старший научный сотрудник, не принц и не герой. Целует он свою кошку, прощается с компьютером и прыгает вниз со второго этажа… Диагноз ясный и фатальный, и, не желая убеждаться в очевидном, я избегал не только встреч, но даже мыслей о Захре. Я не звонил Бянусу, не ходил обедать на истфак и добирался в лабораторию другой дорогой, чем всегда. Обычно я хожу от набережной по Менделеевской линии, а у истфака сворачиваю налево, в университетский двор. Теперь этот маршрут исключался – ведь я мог столкнуться с нею у обшарпанных истфаковских колонн! Или на улице, или в дверях, или где-то еще… Словом, ходил я теперь по двору, маскируясь за красными стенами Двенадцати коллегий. Кстати, тут было на что поглядеть и о чем подумать. Если шагаешь к Неве от нашего института, то первым правую руку встретится светло-коричневый корпус НИИ физики, где учился отец; бывший НИИ, так как нынче физики скучают в Петергофе, а на прежних их площадях окопались геологи. За геологической берлогой, опять же справа, торчит черно-красный кирпичный особняк на гранитном основании, очень напоминающий каталажку, – спорткафедра. На стенах – две мраморные доски. Первая извещает, что располагалась тут раньше не тюрьма, а дом для игры в мяч, первое в России крытое спортивное сооружение, возведенное в одна тысяча семьсот девяносто третьем году. На второй доске написано, что здесь 24 марта 1896 года А. С. Поповым на изобретенном им приборе была принята первая радиограмма. С тех пор прошло столетие с хвостиком, но новых мраморных досок не появилось. Временами я думаю, что стоит переселиться сюда вместе с Тришкой, Джеком и Белладонной; и, быть может, на третьей доске напишут, что трудился здесь С. М. Невлюдов, великий классификатор всего сущего. В том числе и собственной души… Отчего бы и нет? Кому суждено удостоиться славы, тому ее не избежать. Главное – не торопиться. Haste mates waste, – говорят мудрые бритты; где спешка, там убытки. Я размышляю об этих материях, любуясь на золотой купол Исаакия, что виден на другом берегу Невы. Он словно навис над ректорским флигелем, последним во дворе; этот флигель выходит к набережной, заслоняя зеленое двухэтажное крыло филфака. Две доски, на флигеле и университетском здании, гласят, что в первом родился Александр Блок, а во втором учился В. И. Ульянов-Ленин. Доски повешены напротив друг друга, и, проходя меж ними, я чувствую себя третьим лишним в компании титанов. У них свой спор, свой молчаливый диалог и свои счеты: кто кого перевисит, переживет и сохранится в памяти людской. Лично я ставлю на поэта, а потом вспоминаю, что ректорский флигель нынче занят иностранным студотделом и факультетом ориенталистики. Почему бы Азиз ад-Дин Захре не заглянуть сюда?… И, потрясенный этой мыслью, я замираю на мгновение, а потом мчусь на набережную, к автобусной остановке. Вот здесь-то нам точно не встретиться! Принцессы в автобусах не ездят. Итак, я ее избегал, забыв еще одну мудрую британскую пословицу: absence makes the heart grow fonder[689]. Еще говорят, что любовь должна вести к великим свершениям, ибо, как утверждал Бердяев, человек двупол и потому в борении постигает истину, а вот ангелы бесполы и потому способны лишь служить. Однако философ ошибался. Всю эту неделю я пребывал в борении с самим собой, но никакие истины мне не открылись; подобно ангелу, я лишь служил, а если уж начистоту – отслуживал. Отсиживал, отбрехивался, тянул резину, увиливал, молчал и в полный рост давил сачка, пользуясь своим свободным расписанием. В институте на меня посматривали кто сочувственно (может, болен?), а кто с неодобрением (мол, зазнался!), и даже Басалаев не стрельнул у меня полсотни до получки. Мои акции как преемника Вил Абрамыча падали, и шеф, встречаясь со мной, глядел с молчаливым укором. Я старался не попадаться ему на глаза. В делах с великой заокеанской тайной тоже наступила творческая пауза. Джек упрямо твердил, что швейцарские доллары ничем не хуже американских: картинка – та же, краски – те же, и все различия – к примеру, в плотности бумаги – ложатся в интервал нормального распределения погрешностей. Мне никак не удавалось его переубедить; мне даже начало казаться, не подсунул ли мне Керим под видом фальшивых швейцарских долларов настоящие. Так сказать, с целью проверки моей компетенции… Но это было пустой идеей – ведь я не нашел никаких секретных знаков на эталонных образцах, ничего, что отличало бы их от швейцарских купюр или, наоборот, являлось бесспорным критерием идентичности. А раз не нашел, то и гадать о керимовых шуточках не стоило. Сам же Керим не забывал меня, регулярно позванивал и снимал допрос: «Масть п'шла, бабай?» – «Пока что нет, шашлык. Не извольте икру метать». – «Ну, трудыс, трудыс…» Однажды позвонил сам Петр Петрович Пыж, господин генеральный директор; говорил ласково, стелил мягко, но чувствовались в его тоне нотки раздражения, будто бродила у него мыслишка срезать мне финансы или вызвать на ковер. Не сразу я сообразил, в чем тут дело, но все же родилась одна правдоподобная гипотеза. Мои хрумки – люди коммерческие, а значит – недоверчивые; откуда им знать, что наемный спец не крутит динаму? Положим, нашел он, чего искал, а теперь время тянет и продолжает поиск в иных направлениях – кому бы сбыть повыгодней заокеанские секреты… Я понимал своих работодателей и не обижался. Понимал и другое: при успешности моих трудов цена им – не тысячи, не сотни тысяч и даже не миллионы. Сколько? Ну караван верблюдов, груженных золотом, плюс удавка на шею или пуля в лоб… в любом порядке… Тайны – опасная материя, так что уж лучше получить немного, да из знакомых рук. Но работа моя не двигалась, а мысли, как ни пытался я направить их к делам практическим, сворачивали в сторону истфака. К его колоннаде и стенам, к выщербленным, скованным наледью плитам тротуара, к окнам в хрустальных морозных узорах, к тяжелой дубовой двери, что открывалась с протяжным всхлипом, впуская ее… Ее! Мою Захру! Наступила пятница, и я не выдержал: явился к истфаку ни свет ни заря, бродил под колоннадой, глядел на орды студентов, штурмующих дверь, прятался за углом от доцента Бранникова – и наконец дождался. Она подъехала в такси, в старенькой бежевой «Волге», и с нею был мужчина – тот самый Ахметка-телохранитель, описанный Бянусом. Но Ахметкой я бы его не назвал. Он оказался самым полнометражным Ахметом, каких мне доводилось видеть: высокий, поджарый, лет сорока пяти, с мрачноватой и грозной физиономией, со шрамом во всю левую щеку. Он был, вероятно, очень силен, но по-иному, чем шкафоподобные молодцы моих гарантов; те могли кости переломать, а этот бил бы насмерть. Ахмет рассчитался с шофером, открыл заднюю дверцу, и она выскользнула из машины, явившись передо мной, словно мираж аравийских пустынь. Прячась за колоннами, я мог рассмотреть ее, отсчитывая мгновения по гулким ударам сердца. Она была без шапки; темные волосы, густые и блестящие, рассыпались по плечам и трепетали на ветру, словно шелковая чадра. Она показалась мне довольно высокой, гибкой, тоненькой; ее фигуру подчеркивал кожушок, расшитый цветными нитями, полы его подрагивали выше колен, обтянутых капроном, и я любовался ими, пока не почувствовал – инстинктом или подсознанием, – что на меня глядят. Смотрели оба, и Захра, и мрачноватый ее телохранитель, но видел я только ее. Ее лицо и губы, алые и чуть припухшие, ее высокий чистый лоб, ее колдовские глаза… В этот момент – а длился он не дольше секунды – меня охватил страстный порыв сменить прописку, и поскорей; согласно всем канонам восточной поэзии, я жаждал жить в ее сердце и упокоиться в глубине ее глаз. Мысль о бесцельности этой попытки пронзила меня, наполнив горечью; я поклонился и отвел взгляд, но успел заметить, как она кивнула – то ли мне, то ли Ахмету, повелевая открыть двери. Тяжелая створка распахнулась с протяжным стоном, ветер в последний раз взвихрил ее волосы, мелькнул расшитый кожушок, его заслонили широкие ахметовы плечи, и все исчезло. Сказка закончилась, я остался один. Моя газель умчалась к водопою, к фонтану мудрости, что бил жидкими струйками на кафедре древних культур. Кто я для нее? Кафир, как сказал Бянус, голь, нищета… Ни верблюдов, ни поместий, ни брильянтов, ни скважин нефтяных… И никакого обаяния… Так что приятных сюрпризов мне ждать не приходилось.
* * *
Поторопился я с этим выводом, поспешил, забыв, что кроме приятных сюрпризов случаются и неприятные. Вроде оазиса в пустыне, засыпанного песком; ведешь к нему свой караван, мечтая испить водички и отдохнуть под пальмами, и вдруг – глянь-ка! – ни пальм, ни оазиса, ни воды, а один песок, да и тот пополам с ослиным пометом… Отсидев свое на работе и возвратившись домой, я с порога услышал писк и тиканье, что доносились из моей комнаты. Тик-тик-пи-иип, тик-тик-пи-иип… Тришка встречал меня бедственным сигналом, словно верный пес, завывающий у разграбленного жилья. Вопли его начались, судя по мигавшим на экране надписям, в восемнадцать ноль три, когда он был активирован импульсами Добермана, а значит – тут я покосился на свой ханд-таймер – кто-то работал с Джеком уже целый час сорок шесть минут. Неведомо кто и неведомо где… Однако работал! С моим Потрошителем! С моей драгоценной программой! Крутил ее по-наглому! Неприятная новость, но был к ней вдобавок еще и вопрос: за кем я охотился в прошлую среду? Кого прикончил, кому сотворил харакири, чью кровь пустил? Тот самый октяк или септяк за смутным адресом 111@ecsp… Кому принадлежала та машина? Не похитителю, нет, это было уже яснее ясного, но кто тогда ее хозяин? Кажется, я догадывался кто. Мелькал один клиент с роскошным титулом… Haш дорогой усопший, так сказать… Прервав тревожные вопли Тришки, я пролистал список статей из «Amazing News» с интригующими заголовками. Мятеж холодильников в штате Юта… Бунт стиральных машин в Претории… Боевые лазеры на орбите… Пентагон атакует Луну… Звонки с того света… Телефонные привидения… В мой телевизор вселился баньши, утверждает Присцилла Скейлс… Венерианский зонд маневрирует – по чьей воле?… Интернет: энтузиасты пускают слюни, скептики предупреждают… НЛО над аризонским радиотелескопом… Секс в виртуальной реальности… Компьютерный Ганнибал в нирване… Тут я остановился, раскрыл статью и ощутил, как на висках выступает испарина. Этот усопший октяк или септяк, этот Ганнибал на микросхемах, трудился в Европейском Центре Стратегического Планирования НАТО, он же – European Center for Strategic Planning. А если взять по первым буквам, как раз и получалось «ecsp»… Мой клиент, не. стоит сомневаться! Та самая жертва потусторонних сил! С кухни долетел призывный мяв – Белладонна намекала, что время ужинать. Я запустил Добермана в поиск и отправился к ней, чувствуя странную дрожь где-то под ребрами – то ли печень шатала, то ли желудок вибрировал в такт неприятным мыслям. Есть, однако, не хотелось. Может, теперь мне вообще не надо есть? Ни есть, ни пить, ни спать… Ведь духи к таким мелочам безразличны… А Сергей Невлюдов, как ни крути, только что превратился в духа, в электронного призрака, и имя ему – полтергейст! Белладонна слизывала подогретое молочко, а я глядел на нее и думал. Собственно, призраком полагалось считать не Сергея Невлюдова, а того умельца, который стибрил мою программу. И этот подвиг был не из первых в его биографии – ведь даже к Ганнибалу он ухитрился подключиться! Похоже, и на другие машины пролез; я был уверен, что похититель снова работает с Джеком на чужом компьютере. Это являлось наихудшим из всех возможных вариантов: мою программу умыкнули, затем переписали на съемный диск, а теперь засылают копии через Сеть и отрабатывают на чужих машинах. Еще одна низкая шутка, сыгранная со мной! И Бянус опять-таки прав: скверная у нас реальность, препоганая – не мир, а второе нашествие марсиан! Видать, мой хакер тоже из их числа, ловкач-марсианин во-от с таким загребущим хоботом… Хитрый, гадюка! Бянусов пентюх можно и без большого умения обшарить, а вот фокусы с Ганнибалом – это иные штучки. Другой уровень, работа мастера! И сделана на совесть, с умом и ловкостью, так что концы наружу не торчат. Спрятать концы – вот где проблема. Любую машину можно взломать, сквозь всякий фильтр просочиться, но если наследил, последствия будут тяжкими – пять раз сойдет, а на шестой попадешься. Есть, правда, почти безопасный способ – ничего не ломать, не ключик к замку подбирать, а свой замочек навесить. Заблаговременно… Слышал я о таких штучках, знаю! Заокеанские коллеги поделились, и в Саламанке разъяснили что к чему, на лекциях компьютерного грабежа… Собственно, курс был посвящен средствам программной зашиты, но где защита, там и атака, а где атака, там и взлом. Читал аспирантам об этих материях профессор Шон Корелли, старенький гномик с седым хохолком по кличке Даблхакер… Крупный специалист! Людей такого калибра и нанимают системными проектировщиками. Трудятся они для всяких крупных фирм и государственных контор, для армии и тайных служб, и платят им очень неплохо, от ста до трехсот тысяч, плюс берут подписку о неразглашении. Но разве подписка и деньги – гарантия лояльности? Соблазн-то велик! Компьютер без программ – пустая банка, и системщик, головастый «first pilot»[690], наполняет его защитными средствами и супервизорами, библиотеками и базами, интерфейсами и драйверами – словом, всем, чем положено, в надлежащей пропорции и гармоничном единстве. И только ему известны все тонкости и нюансы, пароли и шифры, ловушки и коды легального доступа; он словно Дедал, строитель лабиринтов, и может оставить в каждом свою персональную дверь. Иными словами, пароль наивысшего приоритета, чтобы проникнуть в систему извне, по сетевой магистрали, и поглядеть, чего там бывший работодатель накопил в своих секретных кладовых. А может, и с другими целями – припрятать краденое и погонять особо времяемкую программку за казенный счет… к примеру, Джека… Я быстро прикинул, что мой марсианин, если ему под шестьдесят, мог потрудиться на дюжину фирм и к каждой протоптать дорожку. К финансовым компаниям и банкам, к системам ПВО и радиорелейной связи, к средствам спутниковой навигации, к архивам Моссада и ЦРУ… Бог знает, кто нанимал такого опытного мастерилу, и если пустить Бедлама по всем ею заказчикам, хлопот не оберешься. На прошлой неделе был натовский октяк, а кто сегодня? И кто будет завтра? И что случится, ежели я объявлю джихад? Спутники посыпятся с небес, банки лопнут, биржи дрогнут, танкеры сядут на мель, откажет связь по всей Британии или в берлинском метро столкнутся поезда? Любой из этих вариантов не исключался, и я решил, что буду действовать не торопясь, с сугубой осторожностью. Как говорят англичане, burn not your house to fright the mouse away – не стоит сжигать жилище, чтобы избавиться от мышей. Белладонна расправилась с молоком и мурлыкнула в знак благодарности. Я поднял ее, прижался щекой к белоснежной пушистой спинке; хвост щекотал мне шею, а под правым ухом слышалось негромкое довольное урчание. Не разжимая крепких объятий, мы зашагали к Тришке, и тут, бросив взгляд на экран, я охнул, произнес что-то непечатное и потянулся к физиономии обеими руками – глаза протереть. Белладонна тоже выругалась – на своем кошачьем языке – и вцепилась острыми когтями в мой свитер, царапая кожу. Но мне было не до нее. На этот раз я не преследовал похитителя в своем сетевом обличье; контактное кресло пустовало, и Доберман крутился в одиночку. Сейчас, когда хозяйский пудель его не тормозил, розыски велись в компьютерном темпе, с той скоростью, какую дозволяли частоты линий связи. От Питера до Саламанки – пара минут, три – до Токио и Фриско, пять – до Мельбурна и Огненной Земли… Поиск был стремителен, неотвратим и шел не дольше, чем моя кошка вылизывала блюдце; значит, как я надеялся, нужный адрес уже мерцает на экране, под фигуркой черного пса, а пес кайфует в розовом виртуальном тумане, поджидая моих команд. Но все было не так: Доберман трудился в поту и в мыле, а реестр найденных им адресов включал уже семнадцать позиций. Семнадцать! И на моих глазах к списку добавилась восемнадцатая. Это выглядело изощренным издевательством. Какую задачу решали с помощью Джека на восемнадцати мощных машинах?… Классифицировали песчинки с калифорнийских пляжей? Искали сходство меж языками всех народов и племен? Лепили кластеры из отпечатков пальцев и подписей всего земного человечества? Или обшаривали Метагалактику, чтобы составить список черных дыр? Вероятнее иное: ловкач-марсианин лишь демонстрировал мне свои возможности. Мол, не суйся, сявка, к деловому, не качай права, а сиди с болтом в варзухе и пасть не разевай! Это было оскорбительно – вдвойне оскорбительно для человека с двумя дипломами. Впрочем, дипломы не прибавляют ума, а только тешат тщеславие и гонор. Памятуя об этом, я решил не спешить: дождался, когда Доберман закончит работу, обозрел список на двадцать три позиции, вызвал сетевой каталог адресов и принялся исследовать их принадлежность. Номер первый – Фонд интенсивной геополитики, Мюнхен, профашистская шарага… Я отметил ее черным крестом. Номер второй и номер третий – компьютеры госпиталей в Осло и Барнауле… медики, святое дело… Пусть живут! Номер четвертый – штаб-квартира «Исламских мстителей», Ливия, Эль-Джауф; номер пятый и номер шестой – Церковь Методистов-Праведников, Атланта, и ее филиал в Майами… Всем – по черному кресту! На седьмой позиции я споткнулся – эта машина была приписана к Союзу женщин-феминисток в Хайдарабаде. Все-таки их я не тронул, но с восьмого номера по восемнадцатый всадил черные метки всяким шикарным клубам и фирмам патентованных средств от ожирения и перхоти. Еще были парочка японских банков, букмекерская контора, центр экзотических татуировок и брачный офис голубых. Банки я пощадил ради спокойствия клиентов, но все остальные были помечены черным крестом. А голубые – даже парой! Я с изумлением убедился, что в этом гнездышке разврата стоит октяк раз в десять помощнее Тришки, и позавидовал черной завистью. Аллах милосердный! Что творится в мире! Откуда у гомиков такой компьютер? Да и зачем он им? Но сей вопрос являлся риторическим и не меняющим сути дела: и голубой октяк, и все его компатриоты исламской, методической и патентованной ориентации, были обречены. Инициировав Бедлама и запустив его гулять по черным меткам, я с тайной радостью следил за гаснущими адресами, Первый колышек, в порядке приоритетности, был забит голубым, а затем все свершалось по списку, от мюнхенских геополитиков до центра татуировок, и каждая казнь занимала ноль минут двенадцать микросекунд. Внушительная демонстрация! Где б ни таился мой марсианин, намек был ему ясен: найду, достану и в порошок сотру! Я усмехнулся, представив, как цветет его монитор от команд аварийного сброса. Разумеется, он поддерживал связь со всеми машинами, и теперь, когда они вырубались одна за другой, было легко догадаться, что происходит. Но вот как – это уже мой секрет! Самый гениальный программист, не зная алгоритма Потрошителя, не смог бы очистить его от средств защиты. И я бы не смог; проще все написать по новой, чем разделить Добермана и Джека. Это мой марсианин понимал, и когда экзекуция завершилась, выбросил флаг капитуляции: адреса пяти машин, не тронутых мной, тоже погасли. Он больше не работал с Джеком; он убедился, что хозяин всюду отыщет свое похищенное добро. И притом оба мы понимали, что ситуация сложилась патовая: я перекрыл ему выход в Сеть, а он держал в неволе Потрошителя. Конечно, он мог с ним поиграться на собственном компьютере, отключенном от Сети, но это, видимо, его не устраивало. Значит, пат! Двойной пат; ведь я не мог найти его, добраться до его машины, как и он – домоей. Но в следующий миг я был наказан за самоуверенность; тришкин экран полыхнул пронзительной синевой, и в глубине его всплыли три черные буквы. Они надвигались на меня шеренгой, грозили остриями пик, точно строй фалангитов, они росли, увеличивались в размерах, пока не заполнили весь экран, порвав синеву в клочья. И я, не сразу догадавшись, что вижу надпись на английском, прочитал: WHY. А после, чего со мной не случалось уже лет восемь, перевел на русский: ПОЧЕМУ. Почему – без вопросительного знака, хоть это был несомненно вопрос. Хороший вопрос! Почему? Очень краткий и очень емкий. Как раз такой, какого ждешь от марсианина. От удивленного марсианина, чей разум не в силах постичь земных обычаев и земной жестокости.
Глава 7 БЕСПОРЯДОК В ОПИЛКАХ
Опять ничего не могу я понять, Опилки мои – в беспорядке. Везде и повсюду, опять и опять Меня окружают загадки.А. Милн. Винни-Пух и все-все-все
Суббота. Семь вечера. Настроение мрачное. Звонок. – Кто там? – Тибетский далай-лама и зеленый человечек с Венеры. Я открыл дверь. Алик был слегка навеселе, а вот Бянус и впрямь позеленел. Но на ногах держался, опираясь на могучую аликову руку. – Говорят, тут есть что пить и кого есть? – поинтересовался Симагин, шумно отдуваясь и отряхивая с шапки снег. – Давно ты в людоеды записался? – буркнул я, пытаясь вспомнить, когда в последний раз подходил к компьютеру. Кажется, в пять сорок… или в шесть пятнадцать?… Впрочем, неважно; на Шипке все без перемен, и янычары по-прежнему дудят в рожок. Why, why, why… Сплошное вай-вай! Я начал стягивать с Бянуса пальто. От него пахло спиртным, но аромат был слаб и никак не соответствовал внешнему виду. Придуривается, что ли? – мелькнуло у меня в голове. – Человека, позабывшего друзей на целую неделю, непременно надо съесть, – убежденно вещал Аллигатор, разоблачаясь. – И лучше, если этим займутся друзья. Во-первых, поедание будет не таким болезненным, а во-вторых, хоть какая-то польза напоследок… Сашка, которого я избавил от шапки и пальто, плюхнулся на диванчик в прихожей, вытянул ноги и капризным тоном заявил: – Теперь разуйте, пожалуйста. И остальное снимите. А после – в баню! Только чтоб с пивом и девочками! – Баня нынче на ремонте, а у девочек выходной. – Алик содрал с Сашки сапоги, потом крякнул, взвалил его на плечо и повернулся ко мне: – Куда доцента тащить, хозяин? Кстати, ты не беспокойся, он враз оклемается и никакого ущерба мебели не причинит. Принял с наперсток да еще по морозцу прогулялся… Пять секунд, и станет как новенький. – Отнеси это в гостиную и брось на диван, – распорядился я, ткнув Бянуса пальцем в бок. – И постарайся, чтобы это не подкатывалось к моей кошке с сексуальными домогательствами. Она хмельных охальников не любит. – Есть, шеф! Будет сделано, шеф! Симагин потащил Сашку в гостиную. Сашка дрыгал ногами, извивался и вопил, с незаурядным талантом изображая алкаша. Но мне было ясно, что он не пьян, а лишь комедию ломает – так, чтоб разрядить обстановку и поюродствовать всласть. А заодно и хозяина развлечь. Доставив с кухни поднос с бутылкой, рюмками и тарелками, я обнаружил, что Сашка возлежит на диване в обнимку с Белладонной, что щеки его уже не отливают зеленью, дыхание ровное и взор ясен. Симагин возился с телевизором, выбирал пейзаж поласковей, без стрельбы, кровавых разборок и эротических выкрутасов. Найдя какую-то передачу о китах и дельфинах, он довольно хмыкнул и покосился на поднос. – Чего тарелки пустые? Есть нам сегодня дадут, или нет? Я, как-никак, со службы. – Наша служба и опасна, и трудна, у майоров будит аппетит она, – пропел Сашка, щекоча Белладонну за ушами. – Иди-ка ты, рожденный революцией, на кухню, и приготовь нам что-нибудь экзотическое, из диеты аллигаторов. Рыбный салат, к примеру. Алик взглянул на меня. – Рыба есть, Серый? – Была, да кошка съела. Есть сыр, яйца и майонез. Кажется, банка горошка… – Сойдет. Симагин отправился к кухонному столу, а Бянус сел, осторожно переместив Белладонну на колени, и сообщил: – Знаешь, Серый, у вас снова филенку сперли. Это ж в который раз? – В десятый. А может, в двадцатый, – мрачно отозвал ся я, соображая, не заглянуть ли к Тришке. Но делать это при любопытных друзьях счастливого детства было бы операцией самоубийственной: пойдут расспросы, охи-ахи, тары-растабары – а что я, собственно, могу сказать?… И по тому, справившись с компьютерным синдромом, я уставился в телевизор. Там, среди океанских волн, подернутых радужной пленкой, резвились дельфины, а два бородатых эколога на надувном плоту черпали водичку, смешанную с бензином, и разливали ее по стеклянным емкостям. Надо думать, для пересылки в компанию «Шелл». Сашка почесал длинный нос. – В двадцатый, говоришь? Это уже тянет на хищение в крупных размерах. Давай Аллигатора натравим, а? Пришлет он своих молодцов, залягут они у вас на лестнице с минометами или гранату к филенке подвесят, и когда… Он трепался, стараясь меня развлечь, и постепенно мысли мои свернули на новую тропку, в обход вчерашних событий – да и сегодняшних тоже. Я будто забыл о марсианских воплях, долбивших мой компьютер, и вспомнил о том, о чем стоило помнить: о Захре, о чудных ее глазах, о подаренном ею взгляде, о ветре, взвихрившем ее волосы, откинувшем полу кожушка над круглыми коленями… Я думал об этом, и мир понемногу светлел и, подчиняясь сашкиной болтовне, превращался из очень мрачного в слегка угрюмый. Горизонт еще затягивали тучи, но в разрывах меж ними просвечивало синее; потом Бянус что-то сказал, блеснула молния, грянул гром, тучи разошлись, и солнечный луч пал на мое лицо. – Тобой интересовались, – со значением повторил Сашка. – Это в каком же смысле? – В смысле родословной. И в смысле внешности. Почему, мол, глазки у тебя голубые, а рожа – татаро-монгольская… Ха! Любопытные эти бабы! Глянут разок и тут же интересуются, кто твои папа с мамой, не оженился ли ты случайно и не страдал ли твой дедушка алкоголизмом. – Мой не страдал. И что отсюда вытекает? Бянус с важным видом поднял взор к потолку, поковырял в ухе и произнес: – Отсюда вытекает, что надо надеяться и ждать. Восток, понимаешь ли! Дело тонкое! На Востоке спешить не любят. – Кроме Ахмета с длинным ножиком, – заметил я, почти развеселившись. – А что Ахмет? Ножик при нем, но ты не расстраивайся, Серый, не переживай из-за ножика. Ахметка всего лишь телохранитель, и нежные чувства, буде они появятся, не в его власти. Ты, Серый, помни одно: девичьему сердцу не прикажешь! – Это радует, насчет чувств и сердца, но к телу тоже есть интерес, – сказал я, переместив бутылку со всем прочим с подноса на журнальный столик. – Циничный ты какой!… – откликнулся Сашка и приступил к открыванию и разливанию. Мне – на палец, а им с Аликом – на три. Я глядел на эту процедуру, но, кажется, не видел ничего. Два темных озера маячили передо мной, и в них игривыми рыбками плескались огоньки, рисуя слово «WHY»; два этих видения накладывались, смешивались, и я никак не мог изгнать проклятого марсианина из милых глаз Захры. Ладно, черт с ним, с марсианином, и с его дурацкими воплями! Главное, она обо мне спрашивала… Интересовалась, как отметил Бянус… И совет его верен – надо надеяться и ждать. Все правильно: восточная женщина, дело тонкое! Мама тоже была восточной женщиной, не выносила свинину и раскрывала по праздникам Коран, но в этом, не считая внешности, и состоял ее восточный колорит. Конечно, мама была дитем советской эпохи, сравнявшей неординарность с аппендицитом, что подлежит немедленной резекции… А Захра? Скорее всего, ей дали религиозное воспитание. А это значит пять намазов в день и никакого секса с иноверцами… С намазами, правда, я мог ошибаться – слишком уж гладкими были ее коленки. Тут вошел Симагин с большой миской, из которой торчали три ложки, и цепь моих дум прервалась. – Салат «хризантема»! – торжественно объявил Алик, опустив миску на стол. Бянус тут же отведал, сморщился и пробормотал: – Отцвели уж давно хризантемы в саду… Какой сыр сюда намешан, изверг? – Какой нашелся в холодильнике. Камамбер… А может, рокфор. – То-то чую, тухлятинкой попахивает! Мы выпили, а затем Бянус вывалил себе на тарелку половину салата и принялся за еду. Хоть телом он тощ и жилист, но отличается изрядной прожорливостью; пища перерабатывалась в нем в энергию по формуле «е» равно «эм-це-квадрат», и ни капли поименованной «эм» не прибавляло ему жирка. А вот Алик, несмотря на внушительные габариты, ел неторопливо, со вкусом, будто не самопальную мешанину поглощал, а фрикасе из лягушачьих лапок или омара под соусом шофруа. Отправив в рот очередную ложку, он подмигнул мне, покосился на Бянуса и произнес: – Эй, доцент, а как там поживает наша Верочка? К лицу ли ей фата? И колечки, надеюсь, уже куплены? Сашка, прекратив жевать, застыл с недоуменно раскрытым ртом. – Это какая Верочка, майор? Какие такие колечки? – Обручальные, – уточнил Алик. – А Верочка – с психологического. С факультета то есть. Твоя последняя пассия. – Уже нет. Вот этот гнусный хмырь, – Бянус ткнул в меня ложкой, – разрушил наше счастье. Видишь ли, майор, любовь, особенно с женщиной-психологом, нуждается в уединении, мягком ложе и чистых простынях. А где я их возьму, если друг не дает ни ключа от квартиры, ни простынок?… Пришлось сменить Верочку на Галочку. У той родители в отъезде, так что с простынками и ложем нет проблем. – И что же Верочка? Сашка поник головой над салатом. – Страдает… корит меня за измену… просто прохода не дает… Очень темпераментная девушка! Страстная – даром что психолог! Клянется, что будь иные времена, она бы вырвала мне сердце и съела его на рыночной площади. Я чуть не поперхнулся, а Симагин, приподняв бровь, молвил: – Круто, доцент! Очень круто! Тянет на четвертной без амнистии! Сама придумала или как? – Или как. Шекспира надо почитывать, майор. Мы выпили по второй, и Алик глубокомысленно заметил: – Мог бы и остепениться на Верочке-психологичке. Женщины с таким темпераментом – большая редкость. Были б тебе простынки, ложе и Шекспир, все вместе и на самом законном основании. – Я еще слишком юн и не созрел для брачных уз, – признался Сашка, доедая салат и поглядывая то на Симагина, то на меня. – Народ, конечно, вправе ждать от нас подвига, но я не рвусь в первопроходцы. Есть среди нас и другие герои, более достойные. Тут зазвонил телефон, я отправился в прихожую, сиял трубку и услышал вкрадчивый голос Альберта Салудо. Этого мне только не хватало! Альберт, ведавший у хрумков безопасностью, моим расположением не пользовался: не ощущалось в нем ни сибирской широты Пыжа, ни первобытной примитивности Керима. Был он весь приглаженный и скользкий, с какой-то невнятной физиономией – в том смысле, что она не выражала ничего. Не нравятся мне такие лица. Людям они не подходят и пригодны к использованию лишь среди тайных агентов и стукачей. – Сергей Михайлович? – Голос Альберта можно было резать ножом как патоку. – Петр Петрович просил с вами связаться. Есть ли успехи? Чертыхнувшись про себя, я доложил с наигранным энтузиазмом: – Работаю, Альберт Максимович, пашу, спины не разгибая! Только что закончил очередной расчет, увеличив селектирующую способность классификатора втрое. Сейчас примусь анализировать матрицы корреляций в двадцати мерном пространстве признаков. Понимаете, Альберт Максимович, каждый объект – а их у нас девяносто тысяч – порождает прямоугольную матрицу перекрывания, и весь этот численный массив… – Гмм… – деликатно прервал меня Сапудо. – Позвольте заметить, Сергей Михайлович: вы, ученые, странный народ. Зачем вы мне это рассказываете? Нас ведь не интересуют корреляции, классификации и пространства, в коих парит ваша ученая мысль. Нам признаки нужны. Желательно не двадцать, а три-четыре. – Это уж как получится, Альберт Максимович. Не мной они придуманы, эти самые признаки, я их только ищу. – Вот и ищите, мой дорогой. Кто ищет с усердием, тот всегда найдет. Особенно вы! Вы ведь у нас та-акая умница! Гений! Издевается? Или льстит? Впрочем, неважно; похвастать успехами я не мог, и оставалось только пробурчать: – Гений не станет умнее, если его торопят. Не блох ловим, Альберт Максимович. – Не блох, – согласился Салудо. – Мы вас не торопим, Сергей Михайлович, мы лишь напоминаем, что все должно быть честь по чести и без фокусов. Иначе вашей тете конец, и будет он нелегок. – У меня нет тети, – ошеломленно пробормотал я. – Это фигуральное выражение, – ответил Альберт и повесил трубку. Мне понадобилось минуты три, чтоб оклематься после такого разговора. Шутка – или угроза? – насчет печальной тетиной судьбы меня не волновала; важней был прецедент беседы, являвшийся вполне понятным и недвусмысленным намеком. Как-никак, шеф безопасности звонил! А безопасность в наши нелегкие времена понятие растяжимое… И в какую сторону ее растянет?… И по кому хлопнет?… Постояв в коридоре и справившись с искушением заглянуть в компьютер, я вернулся в комнату и обнаружил, что на повестке дня у нас вопрос об инках. Видимо, Сашка разобрался с узелками и теперь с упоением цитировал опись храмового имущества времен Пачакути и Тупака-Юпанки.[691] Храм, о котором шла речь, был построен на берегу Чинча К оча, равнинного озера в провинции Чинчасуйю, и хранилось в нем неимоверное количество шкур, вигоневой шерсти, сушеного мяса-чарки, хмельного напитка соры и всяких иных припасов. Список был длинен, и Бянус горел желанием огласить его до самого конца. Кажется, с моей физиономией что-то было не в порядке: Симагин, окинув меня проницательным взором, ткнул докладчика в бок. – Заткни фонтан, доцент… В чем дело, Серый? В очко тебя продули и выкуп требуют? Кто звонил? – Так, ерунда… – Я отмахнулся. – Элементарный беспорядок в опилках… – Ерунда! – Аллигатор неодобрительно покрутил головой. – Какая же это ерунда? В твоих опилках сроду не бывало беспорядка! Ну-ка, колись! Кто звонил? Бянус спас меня, дернув Симагина за рукав. – Оставь его, майор, не лезь в печенки. Может, он влюбился и серенады по телефону пел предмету страсти нежной, а теперь неохота ему глядеть в наши пропойные ряшки. – При чем тут наши ряшки, доцент? При чем любовь? – возмутился Алик. – Любовь – экстаз и вдохновение, а их-то как раз не наблюдается! Вдох есть, выдоха нет! А что до ряшек, то у нас ряшки нормальные, а вот у него как набок свернута. Я бы сказал, что это предвещает неприятности. И кажется мне… – Кажется? – перебил Бянус, готовый защищать мои сердечные тайны до последнего патрона. – Калий бром надо пить, майор, если кажется! – Нельзя калий бром, доцент. От него происходит расслабление конечностей и других важных органов. И тогда клиенту уже ничем не поможешь… Я, очухавшись после беседы с Альбертом, глядел на них, на дорогих моих друзей, и думал, что все мы – клиенты в состоянии «уже». Алик уже майор, Бянус уже доцент, а я уже дабл пи-эйч-ди и научный сотрудник… Уже! А что еще? Что будет в жизни еще? Кресло завкафедрой плюс лычки профессора?… Я променял бы их на одну улыбку Захры. Даже на вопли «марсианина», ибо в них таилось нечто загадочное и бесспорно не попадавшее в категорию «уже». Передача о китах и дельфинах закончилась, телевизор проиграл бравурную мелодию, и начались новости, а за ними – политический обзор и криминальная хроника. Алик слушал с интересом, как и положено профессионалу, Бянус кривил тонкие губы и время от времени разражался едкими комментариями. В чем-то он был прав, так как обзор с хроникой неплохо дополняли друг друга: обзор являлся, так сказать, теоретической частью, а хроника – практической. В теории российской демократии все выглядело превосходно: множество партий и политических лидеров, множество мнений и множество споров о тех путях-дорожках, коими нам полагалось двигаться в светлый завтрашний день. Но при ближайшем рассмотрении лидеры казались актерами какой-то сумасшедшей оперетки; их споры-дуэты были бесплодными, а речи-арии в общем-то одинаковыми: все они сулили публике процветание и справедливость, и все скрывали свой главный лозунг – гоните денежки за билеты! Ну а капитал, как водится, правил миром. За деньги продавали все и всех: нефть и икру, лес и никель, осетрину и медь, девушек и танки, идеи и автоматы, взрывчатку и золото, почки и донорскую кровь, клюкву и физиков – а также разум, честь и совесть вместе с билетами в партер. – Хождение по мукам, – прокомментировал начитанный доцент Бранников. – Россия снова во мгле, и нет у нас ни Толстого, ни Уэллса, дабы живописать муки и мглу. Ильича, и того нет. – К счастью, – заметил Алик и выдал цитату об отдельных представителях нашей славной научной интеллигенции, которые обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло. Потом подумал и добавил с непрошибаемым оптимизмом: – Перезимуем, доцент! Где наша не пропадала! – Майоры, может, и перезимуют, а вот доценты – сомневаюсь, – ответил Сашка и присосался к стакану. Пошла реклама, и гости мои начали прощаться, заполнив прихожую крепким спиртным ароматом. Дождавшись, когда Алик отвернется, Бянус нарисовал в воздухе соблазнительный контур женской фигурки и подмигнул мне мол, не дрейфь! И не спеши – Восток суеты не любит! Симагин тем временем застегивал пальто, поводил необъятными плечами, притоптывал и с подозрительностью косился на телефонную трубку. Наконец, сжав мою ладонь в своей могучей лапище, он ткнул в аппарат пальцем и пробурчал: – Ты, Серый, не пропадай, звони. А ежели есть причина для беспорядка в опилках, звони не откладывая. Разберемся! – Алик наклонил голову, заглядывая мне в лицо. – Может, скажешь, кто тебя давеча побеспокоил? – Мой финансовый агент. Ввиду кризиса в Соединенном Королевстве он переводит мое состояние из английского банка в швейцарский. Тонкая операция! Ну а я, само собой, волнуюсь. – Агент так агент, – вздохнул Алик, пожав плечами и отворяя дверь. Гости ушли, и я, сопровождаемый Белладонной, поплелся к себе, активировал Тришку, переключился на прием и пару минут взирал на огромные черные буквы в прозрачной экранной голубизне. WHY… ПОЧЕМУ?… Передача шла вторые сутки, непрерывно и с сотен разных адресов, словно мой марсианин мог дотянуться до любого компьютера, включенного в Сеть, отправив с него свои призывы. Why, why, why, why… Крик отчаяния, напоминающий мольбу… безнадежный зов в пустыне… Но почему безнадежный? И почему – в пустыне? Теперь был мой черед: он спрашивал, я мог ответить. Мог отозваться, отправить сообщение на один из портов, откуда доносился этот вопль. Мог… Но не решался. Мысли мои разбредались, в опилках царил беспорядок, и не Захра, не мои реставраторы были тому виной. Я уже понимал, что столкнулся с чем-то загадочным, необъяснимым и не имевшим аналогий; мой опыт и знания пасовали, мой разум дрейфовал в океане бесплодных гипотез, и лишь из чистого упрямства я не желал мириться с поражением. Мне было ясно, что все попытки найти «марсианина» и все идеи на этот счет – самообман и блеф; он не являлся обычным воришкой или гроссмейстером, как Шон Корелли, решившим побаловаться с мелюзгой. То бишь с Сергеем Невлюдовым, лохастым недоумком… Нет, я был уверен, что тут не пахнет шутками и баловством. Ни одному хакеру, даже экстракласса, не пробраться разом на сотню машин – а их была уже не сотня, а добрых восемьсот. Этого я не мог объяснить, не привлекая фантастических гипотез а ля Джеймс Бонд. Например, об акции тайного ведомства, ЦРУ, ФСБ или MI-5, решившего поразбойничать в Сети… Хорошая мысль, да только с изъяном: эти конторы уволокли бы любую ценную информацию, но вряд ли стали бы беспокоить ограбленных владельцев. Или просить у них разрешения… А ведь мой марсианин теперь не пытался работать с Джеком! Он всего лишь хотел узнать, что я имею против. – Может, и впрямь пришелец? – спросил я Белладонну, гревшуюся у теплого тришкина бока. Она мурлыкнула и сощурилась, став похожей на маленького пушистого джинна с загадочным взглядом Будды. Очевидно, ответ был ей известен, но я его не разобрал ввиду некомпетентности в кошачьем языке. Итак, марсианин? В смысле пришелец с далеких звезд, собрат по разуму?… Это была еще одна из фантастических гипотез, более логичная, чем мысль о суперхакере или тайных происках ЦРУ. Кстати, она объясняла электронный полтергейст – не учиненный лично мною, а более вопиющие факты вроде стрельбы со спутника по Луне и странностей с венерианским зондом. Действительно, если б пришельцы с иных миров явились к нам на Землю и если б им захотелось тайно и скрытно нас изучить, то все началось бы, пожалуй, с компьютеров и Сети. Первым делом они провели бы эксперимент, чтоб ознакомиться с нашей техникой – с той, что находится в отдалении, на сателлитах и космических зондах; затем включились бы в Сеть – через тот же спутник – и для проверки своих возможностей что-нибудь крутанули… скажем, антенну радиотелескопа. Ну а затем принялись бы качать информацию, благо Сеть содержит ее в самом удобном и концентрированном виде: книги, технические описания, словари, программы перевода, учебные фильмы и просто фильмы, любые зрелища, любые сведения, от букваря до тайн Федеральной резервной системы… Сеть – это слепок земной цивилизации, наше alter ego, наш брат-близнец, лишенный агрессивных человеческих инстинктов, и любой космический пришелец, желая познакомиться с землянами и сберечь свой зад, начал бы это знакомство с Сети. А после выбрал бы сотню-другую программ покруче и запустил их на наших компьютерах – из любопытства или с целью представить наш технический потенциал… И очень бы удивился, если бы последовали санкции – в той жесткой форме, какую мне довелось избрать. И спросил бы – почему?… Логичная мысль! Хотя не без кое-каких натяжек… С другой стороны, здесь без натяжек не обойдешься. Что нам известно о психологии пришельцев? Ровным счетом ничего. И кто тут способен родить безошибочно точный ответ? Ответа тут не дождешься, подумал я, а вот на совет можно надеяться. От того же Михалева, Глеб Кириллыча… Как всякий матерый писатель-фантаст он мог считаться специалистом по пришельцам; он написал о них десятка два романов и помнил все, что издано другими по обе стороны Атлантики. О пришельцах-телепатах, пришельцах-осьминогах, вирусах, амебах, гуманоидах и андроидах, пришельцах растительного и кристаллического происхождения и пришельцах в виде плазменных облаков… Равным образом Глеб Кириллыч являлся экспертом-контактером и знал, какого пришельца по шерстке гладить, а какого – в распыл пустить. Но не он один. Имелись и другие знатоки. Мой дад, к примеру. Был он фантазер и выдумщик, а еще, мне кажется, авантюрист – из тех, кого судьба не сбросит на резком повороте. Ему такие повороты нравились. Ему стукнуло сорок шесть, и он считался вполне преуспевающим ученым, и преуспеть мог всюду, в Штатах и в России; но, внедрив меня в научный гандикап, сам его бросил и занялся писательством – я думаю, не без влияния Глеб Кириллыча. Когда я расспрашивал его об этом удивительном зигзаге, дад лишь посмеивался и говорил, что многие физики стали писателями, а вот обратных метаморфоз не наблюдается; значит, в писателях хорошо, а в физиках – плохо. И должен сказать, что временами, сидя на кафедральных семинарах, я его понимаю. К тому же, как полагают в Британии, the apples on the other side of the wall are sweetest – яблоки по ту сторону забора всегда слаще. Отец написал шестнадцать книг; семнадцатая осталась недописанной, и речь в ней шла о судьбах земной цивилизации и вероятном контакте с инопланетными пришельцами. Странное у нее было название: «Оглянись, чужие рядом»… Я отыскал ее в отцовском пентюхе, прочитал, погоревал, что дад не успел ее закончить, и там же оставил – вместе с заметками, письмами и дневником. Любопытная книга! Не фантастический роман; скорее – исследование по футурологии в духе Станислава Лема. Так вот, говорилось в ней… Внезапно я понял, что просто сливаю воду. Сижу у компьютера, пялюсь в экран и рассуждаю о том о сем, о фантастических советах и ответах – но лишь потому, что боюсь получить ответ реальный. Если и стоило что вспоминать, так это отцову премудрость насчет катка, который ровняет перед нами дорогу; катка обстоятельств, за коим мы тащимся всю жизнь, не сворачивая в джунгли. В темный дремучий лес, полный страшных сказок… А может, не страшных, но удивительных? Грустных или веселых? Не отведавши, не узнаешь; испугавшись, не отведаешь… Я подумал, что мне так хотелось сказки, и вот я ее получил, и даже не одну: о прекрасной принцессе и о космическом чудище. Чего еще надо? Дороги, приглаженной асфальтным катком? Ну будет тебе дорога, зато не станет ни сказки, ни тайны, ни удовольствия… Принцесса обернется ведьмой, загадочный призыв – глупыми шутками, а Сергей Невлюдов – перхотью и лохом… Из тех членистоногих, которым космос ни к чему, как утверждал клоп Говорун. Эта мысль меня разозлила. Я посмотрел в зеркало, блестевшее под скрещенными томагавками и убором из черных перьев; моя физиономия казалась угрюмой, но решительной. Такой, должно быть, как у моего пращура-крымчака, когда он сбирался в набег на других моих предков, то ли литвинов, то ли поляков… Те, правда, тоже были не сахар, о чем могли бы поведать мои прапрадеды с еврейской стороны. Мой палец коснулся клавиши, и Тришка, тоненько свистнув вокодером, прекратил прием. Слово «WHY», выписанное огромными черными буквами, поблекло; теперь на экране мерцал прямоугольник почтового окна, а выше темнела строчка с внушительным заголовком – адрес, с которого мы получили последнее сообщение. Zirt.rejl2@porto2534.cor.esp… Судя по кодировке «esp», этот компьютер находился в Испании, а «соr» могло с равным успехом обозначать Кордову, корриду или коррехидора. Ну Кордова, так Кордова… Вот что мы туда отправим? – Что? – переспросил я Белладонну, заглянув в ее аметистовые зрачки. – Напишем, что программа «Джек» – личная собственность Сергея Невлюдова? – Мрр… няу… – Верно, так не пойдет. Не будем сразу качать права, а будем действовать в согласии с межзвездным политесом. Сплошное мрр-няу… Вежливость и еще раз вежливость… Глядишь, договоримся и сменяем Джека на фотонный отражатель или на средство от облысения… Поглядев на шлем и браслеты, я покачал головой. Пользоваться ими мне не хотелось; кто его знает, какую Маску, чудовищную и устрашающую, мог напялить «марсианин». Конечно, в закоулках Сети странствовал не я, а черный пудель, бесплотный и неуязвимый дух, но сердце-то было моим! И не хотелось искать его где-нибудь в пятках. Я тронул клавишу, почувствовав легкий озноб, когда под кордовой-корридой возникла строка с моим адресом: bi@nvl.spb.ru. Ниже высвечивалась дата, с часами, минутами и секундами; цифры секунд мерцали, будто подмигивая мне в оба глаза, правым – быстро, а левым медленно. Адрес – кому… Адрес – от кого… И время… Это была обычная сетевая процедура связи, введенная недавно и сменившая громоздкий регламент Интернета; в нее добавили двухбуквенныс коды для стандартных сообщений – на радость чайникам, считавшим, что в их использовании кроется особый шик. Впрочем, временами эта кодировка приносила пользу, так как каждый идентификатор был строго определен, и сообщения получались максимально ясными и недвусмысленными. Знал ли «марсианин» сей язык? По-видимому, да. Это было самое легкое и простое средство общения в Сети, а мой корреспондент уже освоил нечто посложнее. Английский – или по крайней мере одно слово из английского, очень важное. Why… Почему ты меня обижаешь? Почему не даешь поиграть с Потрошителем?… Пальцы мои сплясали быструю джигу на клавишах. Колонка букв и знаков заполнила окно. ТХ Zirt.rej12@porto2534.cor.esp TU. АВ – Сергей Невлюдов. YU. TS. ТХ обозначает сообщение, TU – подтверждение приема, TS – просьбу подтвердить прием; все эти идентификаторы начинались с буквы «Т», поскольку сообщение было текстовым. АВ – абонент Глобальной Сети», в данном случае – я; YU – просьбу представиться в любом желаемом варианте – имя, возраст, пол, сфера интересов и остальные причиндалы. На нормальном человеческом языке мое послание звучало так: Прием текста с адреса Zirt.rej12@porto2534.cor.esp подтвержден. Я – абонент Сети Сергей Невлюдов. Кто вы, вступивший в связь со мной? Просьба подтвердить прием данного сообщения. Вот так. На первый случай никаких претензий, никаких упреков или – боже упаси! – угроз. Никаких сцен и разборок в виртуальном пространстве. Скромно и вежливо: я – Сергей Невлюдов, а вы кто?… А мы – Константин, синекожий пришелец со звезды Антарес, о двух головах и девяти конечностях, считая хвост и пару хоботов… Тут наши головы заспорили промеж собой – отчего это вы, Сережа, ударились в компьютерную лоботомию? Это у вас вид спорта такой на Земле? Или сексуальное извращение? А может, вы маньяк со склонностью к инфорсадизму? Разоблачайтесь, не стесняйтесь! Why, TS! Я ухмыльнулся, но мурашки все так же бегали по моей спине, скапливались где-то над копчиком, а оттуда, разделившись на две орды, сползали к коленям и ступням. И то сказать, мороз на улице стоял изрядный, топили плохо, и в комнате похолодало. Как в марсианской пустыне или на родине Константина, когда заходит звезда Антарес… Почтовое окно озарил фиолетовый отблеск, и послание унеслось в Кордову. Недолгий путь; но вот куда оно отправится затем? К далеким или близким небесам, к Луне, Венере или Марсу? Или в Гималаи, в таинственную Шамбалу? Или в антарктические льды? Или на океанское дно, где змеится трансатлантический кабель? Любая из этих дыр, щелей и бездн была доступна Константину, моему синеко-жему дружку; любая из них подходила для парковки летающих блюдец и долгого, тайного, терпеливого ожидания. Не знаю, верил ли я в эти бредни. Наверное, нет; категория веры, как феномена трансцендентного и принимаемого без доказательств, противна моему сознанию. Приходится верить человеку, ибо духовное в нем не выразишь в битах, джоулях и сантиметрах, но верить гипотезе глупо; гипотезы тем и отличаются от людей, что допускают проверку фактами и описание в терминах логики. Так что, хотя я чувствовал знобящий холодок, мой марсианин был для меня – и оставался – всего лишь недоказанной гипотезой. Я верил в него не больше, чем в электронных духов, обитающих в Сети, или в то, что Маски, сонм двоичных чисел, мелькавших меж процессором и памятью компьютера, вдруг оживут и обретут реальность. В принципе такое допускалось, но было событием маловероятным, как кирпич, подброшенный вверх движением молекул; и любой подобный феномен являлся, разумеется, не вопросом веры, а прерогативой статистики и Его Величества Случая. Как и явление на Земле марсиан или двухголовых пришельцев со звезды Антарес. Ханд– таймер на моем запястье, мигая в такт компьютерным часам, отсчитывал девятую минуту, когда новая вспышка озарила экран. Еще не осмыслив сообщение, я отметил, что пришло оно, судя по адресу, с Британских островов: последние символы были «uk» – United Kingdom, Соединенное Королевство. Может, мне писали из Кембриджа?… Мысль мелькнула и погасла. Взгляд мой скользил по ровным строчкам, спотыкаясь на многочисленных символах WT, требовавших определить понятие. WT – сокращенное английское «what», или «что»; в рамках стандартного кода WT означает, что термин, используемый одним из абонентов, неясен другому. Кажется, моему марсианину было неясно очень многое…
TX bi@nvl.spb.ru TV. АВ – WT. Сергей – WT. Невлюдов – WT. YU – WT.
Точный перевод гласил:
Прием текста с адреса bi@nvl.spb.ru подтвержден. Термин «АВ» непонятен. Термин «Сергей» непонятен. Термин «Невлюдов» непонятен. Термин «YU» непонятен.
Это было поразительно! Это являлось или насмешкой, или какой-то хитростью, или доказательством моей гипотезы. Если отбросить два первых предположения, то вывод был тривиален: ни один человек Земли, из самых распоследних чайников, не мог бы такое сочинить. Всерьез, я имею в виду. Выходит, мой марсианин явил свою нечеловеческую сущность! Он разобрался с кодами ТХ, TV и WT, употребив их в нужном смысле, но он, вероятно, понятия не имел об именах, абонентах Сети и о вопросе «кто вы такой». Последнее особенно смущало; до нынешнего дня я был уверен, что термины «личность» и «разумное существо» эквивалентны, а значит, вопрос о самоопределении является сугубо классификационным, а не философским. Но мой синекожий Константин оперировал лишь безличными понятиями, теми, что касались протокола связи, и кажется, малейший намек на личность, на все эти «я», «ты» или «вы», повергал его в недоумение. Так кто же он? Ульеподобный монстр, конгломерат безмозглых тварей, роившихся в своем космическом термитнике? Или гигантская жаба с Магеллановых Облаков, вполне разумная, однако лишенная индивидуальности? Или искусственный мозг, компьютерный разум, способный к логическому обмену и в то же время не сознающий собственного «я»? На миг все эти домыслы закрыли основное, будто задвинув его в какую-то бесконечно удаленную щелочку рассудка. Я – увы! – не гений и не способен думать одновременно о множестве вещей; вернее, способен, но такие попытки суть хаос и белиберда, не относящиеся к логическому мышлению. А главный его признак таков: мысли поочередно сменяют друг друга, и менее важное вытесняется более важным, пока на финише мы не достигнем важнейшего. Важнейшим же являлось то, что Он существовал. Мой синекожий марсианин, укравший Джека, разумный муравейник, монстр, суперробот или иная внечеловеческая сущность, говорившая сейчас со мной, желавшая знать, кто есть Сергей Невлюдов… На висках моих выступила испарина, губы задрожали. Почти машинально я протянул руку, коснулся мягкой шерстки задремавшей Белладонны, и ощущение теплого, живого, пролилось в мою душу успокоительным бальзамом. Я уже не боялся неведомых монстров; наоборот, предвкушение событий диковинных и сказочных охватило меня. Оставалось неясным, будет ли эта история столь же приятна, как об арабской принцессе Азиз ад-Дин Захре, но она началась, и я был готов дочитать ее до самой последней строчки. Правда, стандартный код был не слишком удобным средством, чтобы обмениваться сказками с марсианином. Язык! Понимает ли Он язык? Русский, английский, французский – любой, которым я владел? Это нуждалось в проверке.
АВ – термин, который обозначает посылающего сообщение. АВ EQ абонент. YU – термин, который обозначает вопрос. Вопрос – классификация существа. Существо – абонент, посылающий сообщение по адресу bi@nvl.spb.ru.
Я набрал свое послание, включив в него код эквивалентности EQ и тщательно избегая местоимений. EQ означает «равнозначно»; в простейших ситуациях его можно заменить словом «есть». «А» есть «В», «В» есть «А»… Человек есть существо разумное, разумное существо есть человек… Но не всегда. Мой Константин не являлся человеком, хоть был на первый взгляд разумным существом. На этот раз мне почти не пришлось ждать; ответ появился через три секунды, с петербургского адреса. Знакомый адресок; теперь со мной говорили через сервер, к которому был подключен Тришка. И говорили на русском!
Реальность EQ ансамбль объектов. Объект – активный объект – существо. Существо EQ абонент, посылающий сообщение на терминал bi@nvl.spb.ru. YU.
Какая-никакая, это была классификация. Можно сказать, безупречная: реальность – ансамбль объектов, объекты активные – существа, а среди них есть и такое, с которым поддерживается связь. Четкая иерархия! Мой собеседник был абсолютно прав: любое определение вводит определяемую сущность в класс более широких понятий. Мы говорим, что сила – мера взаимодействия между телами, а что такое «взаимодействие» и «тело»? Понятия широчайшей общности, атрибуты материи… А что такое материя? Реальность, которая нас окружает, и дать ей определение нельзя, поскольку мы не придумали более общих понятий. А вот менее общих имеется сколько угодно, и их с лихвой хватает, чтоб описать Сергея Невлюдова. Раз уж об этом просят. YU, YU, YU… Кто ты такой, Сергей Невлюдов?
Реальность – объект – существо. Существо – живое мыслящее существо EQ разумное существо. Разумное существо – человек – личность – конкретная личность. Конкретная личность – Сергей Невлюдов. Сергей Невлюдов – ID конкретной личности.
Я использовал код ID, обозначающий идентификатор, то есть любую совокупность символов, которой именуют файл, программу, математическую величину. Если мой марсианин выучил русский, если Он знаком со словами «реальность», «объект», «существо», если Он способен работать в Сети (в чем я не сомневался, памятуя об экспроприации Джека) – словом, если Он не глуп, как и положено пришельцу, то разберется с идентификатором. Он разобрался. Затруднения были совсем в другом.
Живое существо – концепция непонятна. Человек – концепция непонятна. Личность – концепция непонятна. Пояснить непонятные концепции.
Наступила пауза, словно синекожий Константин размышлял, чем бы еще меня удивить, или предавался ностальгическим воспоминаниям о звезде Антарес. Потом посыпалось снова:
Существо – абонент, посылающий сообщение на терминал bi@nvl.spb.ru. Существо EQ разумный объект EQ мыслящий объект. Мыслящее существо – одно. Сергей Невлюдов – теплый сгусток – константа 309.6. Теплых сгустков – много. Все теплые сгустки – человек? Все теплые сгустки – личность? Все теплые сгустки – Сергей Невлюдов?
Итак, Он объявил себя разумным и мыслящим, однако концепция жизни была ему непонятна! Минуту я боролся с искушением отделаться классическим ответом: человек – двуногое без перьев, жизнь – форма существования белковых тел, а я, Сергей Невлюдов, и есть такое двуногое тело массой в семьдесят три килограмма: сверху – кепка и волосы, снизу – ботинки. Но азбучные истины тут не годились. Хотя бы потому, что Он считал себя единственным разумным существом в космических окрестностях Земли, а я был только «теплый сгусток»! Константа 309,6, что бы это ни означало! Я сидел, уставившись в экран и чувствуя, как от виска к подбородку сползает теплый потный ручеек. Начался снегопад; белые пушистые мухи кружили за моим окном, метались в порывах февральского ветра, танцевали, подпрыгивали, падали и уносились во тьму, накрывшую город черной холодной лапой. В небе и на земле – ни проблеска света, ни звезд, ни луны… Тишина… Только в пластмассовом корпусе Тришки шуршат вентиляторы, и в унисон с ними Белладонна тянет бесконечную кошачью песенку – мрр… мрр… мрр… Окно – темный провал с призрачными пятнами снежинок, а дверь – такой же провал, только без пятен; и мнится, что ведет он в космический мрак, в пустоту, где у такого же экрана сидит двухголовый Константин и чешет двумя хоботами в макушках… Это зрелище было таким явственным, таким реальным, что я не сразу очнулся, когда в коридоре вспыхнул свет. Не просто вспыхнул: лампа над кухонной дверью то ослепительно разгоралась, то пригасала, и остывающая нить парила в воздухе тонкой багровой гусеницей. Одновременно я разобрал какие-то звуки – гул, в котором смешались человеческие голоса, отрывки мелодий, шелест шин на мокром асфальте, автомобильные гудки, рев прибоя и что-то еще; эта какофония была негромкой, но все слагающие ее шумы менялись и плыли в такт мигающей лампочке. Телевизор, что ли, включился? Сплошной полтергейст… – пробормотал я, вытер вспотевший лоб, встал и проследовал в гостиную. Телевизор в самом деле был включен. Включен и безмолвен, как покойник на собственных похоронах: шум прекратился, едва я шагнул в комнату. В нефритовой зелени экрана темнели буквы, слагались в слова, слова-в фразы… знакомые фразы…
Сергей Невлюдов – теплый сгусток – константа 309.6. Живое существо – концепция непонятна. Человек – концепция непонятна. Личность – концепция непонятна. Пояснить непонятные концепции.
Не знаю, кем Он там являлся, двухголовым пришельцем с Антареса или жабой из Магеллановых Облаков, но Он продемонстрировал свою власть. И свою настойчивость. Он непременно желал добиться ответов. Но что я мог Ему сказать?… Какими словами?… Любое мое объяснение было б ущербным и ложным; многие люди умнее меня копались в подобных вопросах, а что откопали? Религию, философию, психоанализ – что угодно, только не истину, не четкие определения. Их, вероятно, не существовало; была лишь словесная игра, где одно понятие подменялось другим, столь же расплывчатым и неясным. Однако суперпозиция понятий, тот пестрый конгломерат, что именуется «литература», мог дать представление о жизни, личности и человеке. О человечестве в целом, включая Сергея Невлюдова, теплый сгусток, константу 309.6… Дельная мысль, подумал я; то, что не опишешь математически, не объяснишь ни графиком, ни чертежом, следует постигать интуитивно. Был некий гений, который логикой гармонию поверил – но все-таки раньше была гармония! Книги, картины, театр… Лабиринт людского величия и глупости, потусторонний мир, где бродят герои и злодеи, иррациональный хаос, на коем возведен научный храм… Единственная возможность познания человека – для того, кому неясно, что есть жизнь и человек… Неужели мой марсианин ее упустил? Или пытался реализовать, да ничего не понял?… Вернувшись к Тришке и подождав, пока не утихнет сердцебиение, я коснулся клавиш. Белладонна приоткрыла левый глаз, потом – правый; в отблесках мигавшей в коридоре лампы ее зрачки сужались и расширялись, а радужинки отливали то бирюзой, то сапфиром. Мигание света, очевидно, беспокоило кошку; она фыркнула и снова зажмурила веки. Я написал:
Предложение: временно прервать контакт. Запрашиваемая информация очень обширна и оценивается в 10(12)-10(14) байт. Запрашиваемая информация лежит по адресу…
Немного поколебавшись между Библиотекой Конгресса США, Британским музеем и прочими книгохранилищами, я дал адрес Публички, вызвал каталог файлов и сбросил в свое послание ту его часть, что относилась к худлиту. Письмо получилось огромным, на восемнадцать мегабайт, и мне пришлось заняться вивисекцией: только Европа, только двадцатый век, только проза и только авторы, рекомендованные для школьного чтения. Сделав выборку, я переслал ее на сервер и не успел глазом моргнуть, как появился ответ:
Контакт временно прерван. Предложение: Сергей Невлюдов – теплый сгусток-ждать. Срокожидания – темпоральный отсчет 36000000000000.
– Теплый сгусток ляжет спать, а ждать придется Тришке, – пробормотал я, дезактивировав компьютер. Потом по думал, что надо бы навестить Михалева, и бросил взгляд на часы. Два сорок ночи, неподходящее время для звонков… Свяжусь с ним утром или отправлюсь без звонка – по выходным Глеб Кириллыч сидит в своей берлоге и пьет с гостями чай. А также иные напитки, того же цвета, но более крепкой консистенции… С мыслью о Михалеве я улегся спать, но приснилась мне отчего-то Захра. Нагая, смуглая, манящая… Я был с ней в саду, в сказочно-ярком саду, где ветви цветущих магнолий свисали над прудами с хрустальной водой, а извилистые тропки тянулись к зарослям сирени и шиповника. Она убегала, пряталась, а я ее ловил. Всю ночь, до самого рассвета. Но так и не поймал.
Глава 8 ПОЧТИ БЕЗОШИБОЧНО ТОЧНЫЙ ОТВЕТ
За основу берем цифру, равную трем (С трех удобней всего начинать), Приплюсуем сперва восемьсот сорок два И умножим на семьдесят пять. Разделив результат на шестьсот пятьдесят (Ничего в этом трудного нет), Вычтем сто без пяти и получим почти Безошибочно точный ответУтром, покормив Белладонну и созвонившись с Глеб Кириллычем, я отправился к нему в Графский. Этот переулок, застроенный старинными домами, соседствует с Фонтанкой и библиотекой Маяковского, так что лет десять назад, когда я готовился к тестированию в американском учебном центре, я был у Михалева частым гостем. Много, много воды утекло с тех пор… Я уже не юный студиозус, обуреваемый мечтами о краях заокеанских, да и Глеб Кириллыч не тот резвый бонвиван, коему всегда под пятьдесят и ни минутой больше. Но эти перемены, впрочем, не так уж печальны, грустно иное – то, что воды времени уносят от нас самых дорогих и близких, и эта утрата, увы, невосполнима… Был воскресный день, середина февраля, погода выдалась отличная, какая бывает в зимнем Питере дважды, а то и единожды в месяц – небо цвета серо-голубого шелка, полупрозрачные кружева облаков, бодрящий морозец и полное безветрие. По этой причине народ зашевелился: частный бизнес у метро, включая нищих и торговцев жвачкой, пивом и лотерейными билетами, шел с редкой активностью, а к поездам бесконечным потоком стремились родители с детишками, шумные компании подростков и бодрые старушки с сумками метр на полтора, спешившие, судя по их деловому виду, на рынок, покупать или торговать. Пробравшись сквозь эту толпу, я втиснулся в вагон, занял позицию подальше от дверей и погрузился в раздумья. Сергей Невлюдов – теплый сгусток – константа 309.6… Вполне приемлемое определение человечества, учитывая, что постоянная температура тела – самая общая наша характеристика, вкупе со способностью к мышлению. Впрочем, мыслит не всякий из нас, но даже у последнего кретина, если он не подхватил простуду, термометр покажет тридцать шесть и шесть. Это по Цельсию, а по Кельвину, то есть в шкале абсолютных температур, получится как раз та самая константа 309.6, что позволяет сделать несколько немаловажных выводов. Во-первых, мой синекожий пришелец сумел каким-то образом измерить температуру у землян и убедился, что она постоянна в пределах незначительной погрешности. Вряд ли он отлавливал толпы моих компатриотов, чтобы засунуть им градусник под мышку или в иное место, а это значит, что измерения велись дистанционным путем. Во-вторых, он имеет понятие о метрической системе, знает, что такое градус, но, будучи созданием цивилизованным, отсчитывает эти градусы не от точки замерзания воды, а от абсолютного нуля. Следовательно, отдает предпочтение мировым константам перед локальными условиями Земли, и это вполне разумно: Вселенная велика, и наша планета – лишь крохотный атом в гигантском кристалле мироздания. В-третьих, форма человеческого тела ему неясна или вовсе безразлична, иначе с чего бы именовать людей «теплыми сгустками»? Возможно, сам он очень велик в сравнении с нами, что-то вроде мыслящего облака Фреда Хойла[692], и мы для него – крохотные точки, мельтешащие на земной поверхности подобно растревоженным муравьям? Или он намеревался противопоставить себя и нас, и термин «сгусток» имеет другой смысл; скажем, он не рассматривает людей в отрыве от окружающей среды и хочет подчеркнуть, что мы – всего лишь сгущение молекул? А он, выходит, нечто иное? Но может ли это быть! Ведь все в природе, кроме полей, суть атомы, молекулы и плазма, абсолютно все, от звезды до амебы! Не будем измышлять гипотез, сказал я себе, просачиваясь к выходу на станции «Владимирская». Нет, не будем, ибо за первым, вторым и третьим следует четвертое. А именно: Сергей Невлюдов – теплый сгусток – ждать… срок ожидания – темпоральный отсчет 36000000000000… Странное число, не так ли? Но если вдуматься и представить, что это наносекунды, то срок вполне приемлемый – десять часов. Столько времени нужно моему пришельцу, чтобы порыскать в файлах Публички, просканировать несколько тысяч томов и уяснить, что теплые сгустки – существа разумные и чрезвычайно многогранные, обуреваемые сонмом идей и мириадами чувств. Предположение, что время отсчитано не в наносекундах, казалось мне маловероятным; пришелец уже познакомился с нашей системой мер и, очевидно, имел понятие о темпе функционирования «сгустков». Микросекунды означали бы, что он обратится ко мне примерно через год… Слишком значительный срок для плодотворного диалога! Покинув эскалатор, я посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого, а связь с синекожим прервалась примерно в два сорок ночи… Значит, мой таинственный собеседник откликнется около часа дня, когда я буду у Михалева… Ну ничего, ткнется в тришкину память и подождет! Но тут мне вспомнились световые эффекты в моей квартире и телевизор, включившийся сам по себе. Пожалуй, он не станет ждать, мелькнула мысль, а доберется до меня у Михалева… Вот это будет фокус! В духе лучших фантастических романов! Обуреваемый такими думами, я свернул к Фонтанке, потом – к Графскому, поднялся на второй этаж, позвонил и угодил в объятия Глеб Кириллыча. Он был пониже меня на полголовы, но обладал медвежьей хваткой, а кроме того – вальяжной физиономией потомственного дворянина, гривой длинных седых волос и громоподобным басом. Бас, по утверждению Михалева, достался ему от прадеда, капитана флота его императорского величества; таким голосом почтенный пращур отдавал команды на своем броненосце, перекрикивая грохот бурь и орудийных залпов. Я отряхнул снег и начал разоблачаться. Прихожая у Михалева была поистине графской, огромной, в половину моей квартиры, с тремя дверьми: слева – на кухню, справа – в спальню, а прямо – в большой кабинет, игравший также роль гостиной. Обстановка – под стать метражам: все дубовое, старинное, массивное, солидного вида и чрезвычайной прочности. Отец, бывало, шутил: у Глеба, мол, мебель такая, чтоб не рассыпалась, когда он икнет или – спаси Господь! – захохочет. – Что-то ты бледен, мон шер, – сказал Михалев, разглядывая мое лицо. – Наука замучила или бабы? А может, думы о бабах? – Думы, – подтвердил я и, заглянув на мгновение в темные глаза Захры, добавил: – Сны, мечты и миражи. Словом, фантазии, Глеб Кириллыч! – Фантазии пользительны для писаных романов, – пробасил Михалев, – а в романах житейских следует не фантазировать, но держаться ближе к телу. Иначе, юноша, станешь ходячим хранилищем сперматозоидов. Очень вредно для здоровья! Эта мудрость была продиктована опытом. В молодые годы, лет этак до сорока, Глеб Кириллыч слыл большим шалуном по женской части; потом женился, развелся и угомонился как раз к пенсионному возрасту. Но привычка шалить и ерничать сохранилась: спальню свою он называл не иначе, как «спайс со всеми герлс», в ванную втиснул биде «мечта лесбиянки», а в кухне его красовался потертый финский холодильник «Совписсонен Педер». С Совписом, то есть с сыгравшим в ящик Союзом советских писателей, у Глеб Кириллыча были давние и кровавые счеты. – На кухню, Глеб Кириллыч? – спросил я, сунув ноги в тапки. – Или в гостиную? – На кухню, солнышко, на кухню, – распорядился он. – Чайник вскипел, чай заварен, бутылка открыта. Пить мы сегодня будем ром, и пить в темпе половецких плясок. Ко мне тут после полуденного намаза сосед забежит, забавный такой мужичок… Приехал с девушкой, вроде как с дочкой, и снял хоромину повыше этажом и вдвое побольше моих чертогов. Богатый, видать, а скучает. – И чем же он забавен? – спросил я, направляясь вслед за хозяином на кухню. – Ничего не пьет, кроме кофе и прохладительного. Но любопытный тип! Магометанин, понимаешь ли. Гости для Михалева были делом обычным – когда бы я к нему ни заявился, он кого-то ждал или кто-то у него сидел. Собрат по перу, попавший в творческий кризис и остро нуждавшийся в утешении, приятель детских лет, зашедший поболтать о прошлых шалостях, дальний родич или вовсе незнакомый человек, агент по торговле посудой «Цептер» или цыган с Кузнечного рынка. Всех их Михалев угощал с дивной избирательностью, безошибочно зная, кому наливать коньяк или водку, чай, лимонад либо, к примеру, молоко. Он утверждал, что изучает жизнь не выходя из дома, и после пятой рюмки неизменно представлялся вампиром человечьих душ и суккубом тайных мыслей. Что было недалеко от истины – под чаек и коньячок он мог разговорить не только Медного всадника, но и его коня. Мы уселись в покойные кресла у большого круглого стола и, невзирая на ранний час, выпили по первой, после чего Михалев заварил чай. Цвет напитка не отличался от коричневого кубинского рома. Я осведомился: – Что-нибудь новенькое сотворили, Глеб Кириллыч? Это был обязательный вопрос, который, по мнению отца, необходимо всякий раз задавать писателю. Правда, тому, который не почил на лаврах былых заслуг, а все еще пишет, ибо в противном случае вопрос становится невежливым намеком. Но к Михалеву это не относилось – он строчил романы, повести, рассказы и эссе как пулемет и обожал поговорить о собственном творчестве. – Сотворил! Так, пустячок для побрекито из «Алфавита»… Вот козлы с рогами в заднице! Всучили гонорар бразильскими крузейро да еще потребовали сдачу! Ну я им выдал – монгольскими тугриками… А пуркуа бы и не па?[693] Струйка темно-янтарного напитка хлынула в мой стакан, и Глеб Кириллыч, опустившись в кресло, с энтузиазмом про изнес: – Впрочем, это все мелочи, мон шер, а то, что я пишу сейчас – вот это вещь! Об инопланетянине-разведчике… Его психосущность, понимаешь ли, передается с помощью энергоинформационных лучей и внедряется в земного младенца, с коим он растет, взрослеет и проживает земную жизнь, дабы в конце концов, освободившись от бремени плоти, вернуться на родину и поведать о наших делах. Оченно густой сюжетец! С одной стороны, он человек и человеческое ему не чуждо, с другой – все же пришелец из мира любви и красоты, и наша реальность ему отвратительна… Слишком она поганая и мерзкая! – Так ли уж? – заметил я, прихлебывая обжигающий чай и чувствуя, как где-то в просторах желудка он повстречался с кубинским ромом. Голова у меня уже слегка кружилась. Подняв седеющие брови, Михалев приговорил: – Поганая и мерзкая, прекрасный сэр! Ты, видать, не знакомился с курсом частной сексопатологии? Документальные свидетельства о людоедстве, об извращениях над трупами, детьми и зверьми… Батюшка твой вот читал! И высказал такую гипотезу: коль на Земле имеются пришельцы – а паче того, гуманоиды, – то к нам, вселенскому отребью, они питают отвращение. Вот почему никаких контактов, ни дружбы, ни культурного обмена! Если мы терпим своих извращенцев и каннибалов, то чем же с нами обмениваться? Рецептами блюд из непорочных девиц? Идеями бесконтактного секса на базе скопофилии? Мысль о бесконтактном сексе была Глебу Кириллычу глубоко противна, на эту тему он мог толковать часами, и потому я решил подкорректировать разговор. Мы – весьма удачно! – вышли на тропу, ведущую к пришельцам, и сворачивать с нее в дебри сексопатологии мне вовсе не хотелось. В конце концов, мой синекожий Константин еще не добрался до наших извращений, споткнувшись на вопросе более глобальном: что есть человек? Я поболтал в стакане ложечкой и молвил: – Этот ваш инопланетный разведчик… Чем он занят на Земле? – Собирает информацию, мон шер. В основном через Глобальную Компьютерную Сеть, и я подумываю, не сделать ли его программистом – разумеется, в земной ипостаси… – Глеб Кириллыч задумчиво огладил крупный породистый нос. Затем глаза его блеснули, словно некая идея слетела к нему с парнасских вершин, и он с усмешкой произнес: – Ты ведь, голубь мой, специалист по информатике? Пожалуй, я мог бы взять тебя в прототипы… Не возражаешь? – Ни в малейшей степени. – Вот и хорошо. Выпьем по такому случаю! Я слегка пригубил, размышляя над сказанным Михалевым. Собирает информацию через Глобальную Сеть… Вполне реальный вариант, который согласуется с действиями моего пришельца! Куда ни кинь, самая оптимальная тактика, и ничего иного не придумать даже писателю-фантасту… Ибо Глеб Кириллыч хоть и фантаст, но человек разумный, практичный и здравомыслящий… Мысль о невероятности свершившегося вдруг пронизала меня подобно молнии высоковольтного разряда. Вот сидим мы, два автохтона с планеты Земля, попиваем чаек с горячительным и рассуждаем на умозрительные темы – о всяких там психосущностях, энергоинформационных лучах и пришельце-разведчике… А он уже тут как тут! Загадочное, непонятное существо и наверняка могущественное… Встреча с ним изменит мир, к лучшему или к худшему, но изменит непременно, и я, Сергей Невлюдов, стою в преддверии этой метаморфозы. Что в сравнении с ней мои дела?… Моя любовь, научная карьера, попытки где-то что-то заработать и остальные печали и радости?… Так, комариная суета, пляска чаинки в стакане… Кто я, в конце концов, такой? Теплый сгусток, константа 309.6… – Ты чего побледнел, голубь сизокрылый? – полюбо пытствовал Михалев. – Ром у меня как будто не прокисший… Или рюмка мала? Э, так ты и этой не допил! Ну-ка, не отлынивай, приободрись! Я приободрился, откашлялся и буркнул: – Страшно, Глеб Кириллыч. Представьте, что этот ваш пришелец в самом деле здесь… Хочет он того или нет, но факт его присутствия влияет на нашу реальность – возможно, в самой кардинальной степени. И что нас ждет? Какие перемены? – Думаю, что никаких – в смысле, никаких кардинальных. Это, солнышко, мифологема нашего времени и всех истекших тысячелетий – страстные поиски кого-то, кто определяет все и вся. Бог или боги, Гермес Трисмегийский, Вселенский Разум, мудрецы из Шамбалы, пришельцы из космоса или, к примеру, Фантомас. Они – главные, а мы – так, петрушки! Но сия гипотеза устарела, и ты, голубчик, прыгаешь на чужих костях. Пора сообразить, что перемены случаются не от внешних причин, а от внутренних, в коих повинны мы сами. Внешнее, в лучшем случае, лишь толчок: придется в нужную сторону, даст результат, а не придется, будет одна реверберация. Иными словами, эхо от вопля и дырка от бублика. Глеб Кириллыч наставительно поднял палец, и тут задребезжал звонок. Я покосился на свой ханд-таймер – было двенадцать десять с какими-то секундами. Видно, сотворив намаз, явился гость-магометанин, скучающий любитель кофе. Что ему, кстати, делать в Питере, в феврале? Курагой торговать? Для арбузов вроде бы рановато… Михалев неторопливо встал, направился в прихожую, и вскоре оттуда донеслись лязг запоров, басовитый хозяйский голос и еще один, гортанный, с раскатистым «р». Потом окликнули меня: – Эй, прекрасный сэр! Выдь-ка, познакомься с моим сарацином! Высунувшись из кухни, я с раскрытым ртом уставился на нового гостя. Рослый, поджарый и смуглый мужчина лет сорока пяти, с мрачной и грозной физиономией, со шрамом во всю щеку… Правда, без ножа, обещанного Бянусом, но при широком ремне, способном выдержать тяжесть ятагана. Ахмет Салех, телохранитель Захры. Ифрит, оберегающий мое сокровище, мою принцессу…Льюис Кэрролл. Охота на Снарка, Вопль Пятый
* * *
Глеб Кириллыч провел нас в гостиную. Здесь, кроме книг в массивных дубовых шкафах, дивана, кресел, стола и другого стола, в алькове, с древним пентюхом и грудами бумажек, имелись всякие редкости и диковины. Бронзовая люстра о дюжине рожков и бронзовый торшер в форме земной полусферы, которая покоилась на трех китах; старый персидский ковер с двумя перекрещенными драгунскими палашами, кинжалом и кремневым пистолетом; чучело небольшого крокодила, подвешенное к потолку над зеркалом в вычурной раме (зеркало, как утверждал Михалев, было венецианским); полный рыцарский доспех в простенке между окнами, с мечом в сведенных судорогой пальцах; модели фрегатов и бригов на застекленных подставках; камин с чугунной решеткой и кочергой, фарфоровые статуэтки нимф и наяд на каминной полке, а выше – блестевший медью и полированным деревом штурвал, не иначе как с броненосца хозяйского прадеда. Были тут вещи не такие древние, но столь же любопытные – скажем, приемник и патефон довоенной сталинской эпохи и первый советский телевизор, огромный ящик с раздвинутой шторкой и экранчиком величиной с ладонь. Телевизор, конечно, не работал, но занимал почетное место на мраморном подоконнике, а на другом стояло изваяние: Амур с неясными намерениями склонялся над Психеей. Комната эта, полная воспоминаний и снов, обычно меня чаровала как тайная пещера Али-Бабы, но в этот раз я не глядел на рыцарскую сбрую, на корабли и оружие, на статуэтки и телевизор и даже не полюбовался крокодилом. Я ловил магнетические токи, что исходили от Ахмета, но принадлежали Захре; ее телохранитель был для меня то ли антенной, то ли ретрансляционным модулем, передававшим запах ее кожи, ее голос и сияние глаз. Может быть, прикосновение пальцев… Странно, но напряжение покинуло меня, и я успокоился. Этот человек служил Захре, берег ее и охранял от посягательств мужчин, то есть от подобных мне, и он меня узнал. Но в нем не ощущалось неприязни; он казался не стеной цитадели, не каменной башней, где спрятали мою принцессу, а вратами, ведущими к ней. Или, скорее, мостиком – не преградой, а лишь пространством, которое мне полагалось преодолеть, дабы войти в чудесный сад с жилищем гурии. Она была где-то рядом, наверху, и я, прислушавшись, пытался различить ее дыхание и легкие шаги. Может быть, я их услышал… Или то была иллюзия? Все же дом у Глеб Кириллыча старинный и перекрытия такие, что барабанный бой не долетит… – Рекомендую, – пробасил Михалев, кивая в мою сторону, – Сергей, сын моего покойного друга. Юноша, угодный моему сердцу. – Серр-гей, – повторил Ахмет. – Сирадж, что значит светоч. Хороший имя! Могу я узнать его почтенное занятие? Он говорил по-русски на удивление чисто, лучше Керима, и речь его была напевной, будто слова ложились в размер стихов. Выслушав их, Глеб Кириллыч усмехнулся и произнес: – Сергей – акил, ученый человек, из тех, о ком сказал поэт: познание своим он сделал ремеслом. Мысль его витает в сферах, куда для нас, людей обычных, нету доступа. Там, где мы слепы, он зряч, там, где глухи, он слышит голос ангела. Вот этого, с большим стеклянным глазом. – Михалев хлопнул по монитору пентюха. – Инженер, – сказал Ахмет, с уважением покачивая головой. – У нас много русский инженер. Воистину, очень ученый люди! Очень! – Он сделал паузу и, поглядев на Михалева, осведомился: – Скажи, мой господин хаким, пришел ли я вовремя? И не прервал ли мудрую беседу? – Нет, не прервал. Мы говорили о существе, слетевшем на Землю со звезд, о том, кто тайно бродит меж людей, подобный человеку и все же отличный от него, о посланце из другого мира, ведущем счет земным грехам и радостям. Он пока не объявился среди нас, но что случится, когда объявится? Я полагаю, ничего, а вот Сергей считает, что неизбежны перемены. – Имам аль гаиб, – промолвил Ахмет, соединив ладони перед грудью. – Вы говорить о нем, о посланнике Аллаха, который придет и воздаст по заслугам грешным и праведным. Не обижайся, хаким, ты мудр, но господин Сирадж мудрее в вашем споре. – Он посмотрел на меня с чуть заметной улыбкой. – Будут перемены, будут! Как же без перемен, если того пожелать Аллах? Как можно этому не верить? – Вот тут мы с тобою малость не сходимся, – буркнул Глеб Кириллыч, предпочитавший не вдаваться в вопросы веры. – Лично мне кажется… Я кашлянул, прервав его. – Боюсь, мы позабыли о главном, о том, что этот пришелец из вашего романа – гуманоид. Такая посылка, Глеб Кириллыч, упрощает ситуацию, а ведь реальность может быть сложней. Представьте, что он не похож на человека ни обликом, ни разумом, ни способом коммуникации и видением мира – и что тогда? Люди для него – сгустки белковой субстанции, их физиология – загадка, психика – тайна за семью печатями… Он не имеет представлений о добре и зле, о любви и вере, о страхе и милосердии, и если даже он усвоит наш язык, большинство понятий останутся ему неясными. Сможет ли он разобраться с ними? – Сможет, по воле Аллаха, – заметил Ахмет. – Хотя не думаю, мой господин, чтобы Он отправил к нам посланца, не отличающего воду от песка и доброе от злого. – Чего на свете не бывает, – сказал Михалев. – Правда, в контексте своего романа я этот случай не рассматривал, однако… – Нахмурившись, он поднялся и начал расхаживать по комнате, касаясь то спинки кресла, то древнего телевизора, то нимф на каминной полке и бормоча под нос: а пуркуа бы и не па?… Затем, повернувшись ко мне, произнес: – Думаю, разница в облике и средствах общения не важна. Вот разум и видение мира… это, голубь мой, и в самом деле штука серьезная. И в чем, по-твоему, тут могут быть отличия? – Ну например, пришелец разумен, но не осознает себя как личность. – Я посмотрел на Ахмета и добавил: – Иными словами, он не имеет души. – Хмм… Нонсенс и нелепость! – Глеб Кириллыч хлопнул себя по объемистому чреву. – Всякий разум обладает индивидуальностью, привитой ему в процессе воспитания! Всякое разумное существо, если не поминать про океан Соляриса, продукт общественный, знающий границу между «я» и «он»! Ты, мон шер, – он ткнул в меня пальцем, – можешь выстраивать любые логические небоскребы, но дело от этого не изменится. Осознание себя – свойство разума, его непременный атрибут! И по сей причине… В это мгновение взор Михалева упал на столик с компьютером, и его глаза затуманились. Минуту-другую он пристально разглядывал свой пентюх, потом запрокинул голову и пробасил: – А разум-то может быть искусственным! Артефакт, а не явление природы, нечто интеллектуальное, но электронное… Тут я сплоховал, а потому провозглашаю себе анафему! Подобное существо уникально, не рождается, не растет, не имеет общественных связей и может осознать свое «я» лишь при помощи особой личностной программы. Либо посредством контактов с людьми, что, на мой взгляд, эквивалентно процедуре воспитания… если хотите, очеловечивания и одухотворения. Так, и только так, друзья мои! Компроне ву? Он победно уставился на нас с Ахметом, и я почувствовал, как на моей спине выплясывают твист холодные мурашки. Кто он, мой марсианин, мой Константин? Пожалуй, не синекожая личность с парой хоботов, а агрегат из стекла и металла, пластика и кремния наподобие Тришки, только побольше и поумней… Автоматический зонд, разумная машина, которую прислали к нам с Арктура или Кассиопеи, а может, с Магеллановых Облаков… Почему бы и нет? Под этим углом зрения была понятней легкость, с которой он соединился с Сетью, и те манипуляции, о коих я читал, – стрельба по Луне и прочий электронный полтергейст. Но вот его вопросы!… Они как были, так и остались странноватыми. Всякий искусственный разум нужно программировать – тем более универсальный интеллект межзвездного зонда, вступающий в контакты с иными мирами и культурами. Этот процесс, само собой, предполагает дефиницию понятий, которые можно рассматривать как базовые; что есть жизнь и разумное создание и что такое личность. Конструкторам с Кассиопеи это ясно, как и их коллегам с Арктура и Магеллановых Облаков… А что я вижу в результате их усилий? Живое существо – концепция непонятна… человек – концепция непонятна… личность – концепция непонятна… Может, к нам прибыл электронный идиот, с коим приключилась по дороге амнезия? Поток нейтрино, вспышка сверхновой, то да се… Прав Глеб Кириллыч – чего на свете не бывает! Ахмет задумчиво потрогал шрам на левой щеке. Вид у него был сейчас не суровый, не грозный, а я бы сказал – растерянный, словно Захру украли под самым его носом и похититель растворился в воздухе. – Существо без души – не божий посланник, – промолвил он, – Это джинн, сотворенный Аллахом из бездымного огня. Джинн обладает разумом и силой, но не душой, и мудрый человек способен его покорить. – Насупив брови, Ахмет посмотрел на Михалева. – Вы с Сираджем говорить о таком создании? О том, как вдохнуть в него душу? – Вот именно, – ухмыльнулся Глеб Кириллыч. – Вдохнуть путем бесед и наставлений, ибо душу складывают мысли, а мысли выражаются словами… Впрочем, что ж это я! Все болтаю и болтаю, забыв об угощении и о хозяйском долге! О кофе, вафлях и халве! Он упорхнул на кухню. Ахмет огладил лицо двумя ладонями, что-то пробормотал на арабском и тихо произнес: – Вдохнуть душу путем бесед и наставлений… очеловечить словом джинна… Такое под силу лишь великий праведник! Что скажешь, Сирадж, мой господин? Возможно ли это? – Скажу, что наш хозяин прав. – Но хватит ли праведных слов? Даже тех, которые в Священной Книге? – Там, – я показал на старый компьютер Михалева, – миллионы слов и миллионы книг на всех языках Земли. Есть праведные, есть не очень… Слов хватит, почтенный Ахмет, однако книги, речи и слова не так важны – важно, кто стоит за ними. Люди, что написали, сказали, пропели их, оставили нам свою мысль, а значит – душу, и этих душ, мне кажется, не меньше, чем различных слов. Можно поделиться с джинном… даже со многими джиннами, тоже живущими здесь. – Я встал, приблизился к компьютеру, коснулся монитора и невольно вздрогнул – голубоватая крошечная искра кольнула меня в палец. – Это машина, – со строгим видом произнес Ахмет, – только машина, которую сделали люди, а не обитель джиннов и ифритов. – Как знать! – Я посмотрел на часы, прищурился и повторил: – Как знать! Возможно, один из джиннов сейчас проснется и что-то скажет через минуту или две… Давайте подождем. Какое-то яростное бесшабашное веселье вдруг охватило меня, сметая недоумения и страхи, – может, ром ударил в голову, может, Ахмет меня вдохновил, а может, взыграла татарская кровь, дикая, от прадеда-крымчака. В этот момент ожидания чуда я словно выпал из земной реальности, забыв обо всем на свете – про любовь и долг, про НИИКа и Вил Абрамыча, про друзей, научную карьеру, заокеанскую тайну и моих хрумков; я даже не вспоминал о Захре и – что было совсем непростительно – о Белладонне. Я был сейчас подобен Аладдину; волшебная лампа сверкала в моих руках, теплый металл грел кожу, и над отверстием светильника уже показался легкий дымок. Свет озарил просторную комнату, лампы в торшере и люстре мигнули, тихо загудел компьютер, и по его экрану проскользнула рябь – то ли какие-то символы, то ли неясное изображение. С резким щелчком включился древний телевизор, и голубое его око, тусклое и пыльное, уставилось на меня будто глаз циклопа, разыскивающий Одиссея. Лампы в торшере и люстре внезапно погасли вместе с компьютерным монитором, зато мои часы заиграли бравурную мелодию – тии-тии так, таки-таки! – а телевизор разразился хриплым шумом атмосферных помех. Ищет акустический канал, – мелькнуло у меня в голове вместе с мыслью о том, что пентюх у Глеб Кириллыча совсем уж старый – может, со звуковой картой, да без динамиков. Экран телевизора засветился ярче, и раздался Голос. Четкий, монотонный, рокочущий… – Сканирование информации завершено. Готов к возоб новлению контакта. Сергей Невлюдов – теплый сгусток – человек – подтвердить связь. Надо же, человек! – подумал я. Выходит, литературные штудии пошли Константину на пользу! В следующее мгновение я сообразил, что представляю его уже иначе, не как синекожего пришельца с хоботами, а в виде аморфного дымного облака, что истекает из пустоты в пустоту. Джинн, но сотворенный не Аллахом, а чародеями с далеких звезд… Этот навязчивый образ стучался в сознание, и я, усмехнувшись, принял его, позволив укорениться в почве памяти. Наитие!… Или откровение, смутный отблеск завтрашнего дня… Coming events cast their shadows before, как говорят британцы: будущее бросает тень перед собой. Экран телевизора мигнул, и с подоконника опять пророкотало: – Сергей Невлюдов – человек – подтвердить связь. – Подтверждаю, – отозвался я. Интересно, как он считывает звук? Микрофонов в комнате не было, но акустические колебания воспринимались стенами, оконными стеклами, лампами в люстре и всей обстановкой, включая начинку приборов и провода. Энергия, что доставалась им, ничтожна, но в принципе каждый проводок или, к примеру, конденсатор в старом телевизоре могли являться акустическими датчиками. Я попытался прикинуть в уме чувствительность такой системы, но тут услышал потрясенный вздох. – Эта… этот… – пробормотал Ахмет, бледнея и путаясь в русских словах, – что он есть? Аллах милосердный! Он… оно… – Мой персональный Джинн, – заметил я. – Тот самый, которого нужно очеловечить. Правда, время сейчас неподходящее. – Повернувшись к подоконнику, я произнес, четко выговаривая слова: – Для абонента, который на связи с Сергеем Невлюдовым. Предложение: прервать контакт. Возобновить через четыре часа. – Принято. Голос смолк, и в сей момент в дверном проеме нарисовался Глеб Кириллыч – с подносом, заставленным тарелками и чашками, и в клетчатом фартуке цветов клана Мак-Дугал. – О чем базар, благородные сэры? И как насчет кофе? – Тут он заметил мерцающий экран и произвел какой-то странный звук, что-то похожее на изумленное гудение шмеля. – Матка боска ченстоховска! Это что ж такое деется? Реанимация трупа в зомби или явление призраков? Ящик-то даже не включен! Прозрачная голубизна экрана сменилась мертвым серым блеском. Я подскочил к Глеб Кириллычу, перенял поднос во избежание катастрофы и объяснил: – Опыт по электростимуляции старинного прибора токами живого организма. В данном случае моего. Надо же как-то развлечь гостя! – Кажется, ты его развлек на славу, – буркнул Миха лев, поглядев на бледного Ахмета. Потом перевел глаза на меня. – А прежде ведь, голубь, за тобой паранормального не замечалось. С чего бы это? – Прежде я ром с утра не глушил. Взгляд Глеба Кириллыча метнулся к телевизору. – А если еще принять, повторишь? На бис? – Часто нельзя, – заметил я. – Ослабнет сцепление с ре альностью. Хмыкнув, Глеб Кириллыч принялся расставлять тарелки с угощением и разливать кофе. После первой чашки Ахмет слегка отошел, выслушал пару свежих анекдотов, долго размышлял над ними, потом допер, развеселился, выпил вторую чашку и начал с изысканной восточной вежливостью хвалить бодрящий напиток, вафли, халву и хозяйское гостеприимство. Затеялся легкий светский разговор; Михалев расспрашивал гостя про шербет, пилав и восточных женщин, про злачные места Багдада и какую-то особую мечеть, построенную якобы Харуном ар-Рашидом. Потом как-то само собой беседа скатилась к событиям последних лет, к войнам с янки и с Ираном, к курдскому мятежу, авианосцам в Персидском заливе и прочим знамениям времени, но тут Ахмет признался, что слышал об этом по телевизору и вычитал из газет, ибо на родине не был лет шесть, а то и поболе. К тому же он не солдат, а харис, телохранитель и – хвала Аллаху! – не воевал с американцами, тем более – с Ираном, ведь драться с единоверцами – грех и несмываемое бесчестье. – Не воевал, но убивал? – полюбопытствовал Глеб Кириллыч. – Только паршивых собак, – ответствовал с мрачной усмешкой Ахмет; и виноват ли он в том, что этих собак нынче такое множество? Песка не хватит кинжал оттирать… Впрочем, можно и без кинжала! Тут он сделал движение пальцами, будто сдавливал чей-то кадык, и выпил третью чашку кофе. Но за свою гортань я, очевидно, мог не беспокоиться – во время нашей беседы Ахмет посматривал на меня с особым почтением и называл не иначе как «мой господин». Было ли это данью вежливости или свидетельством приязни? А может, он просто испугался либо уверился в том, что я мудрец и праведник, подобный зятю пророка Али или хотя бы царю Соломону? Сирадж Невлюдов, пи-эйч-ди и повелитель джиннов… Хотелось бы знать, что он расскажет про меня Захре! Отгостившись, мы вышли на лестничную площадку, куда сквозь витражное окно сочился бледный и скудный послеполуденный свет. Дверь квартиры Михалева затворилась, отрезав нас от уюта, тепла и аппетитного запаха кофе; я нерешительно протянул руку, но Ахмет, будто не заметив этого жеста, коснулся ладонью моей груди. Слева, над сердцем. – Ля илляхи иль'алла… Скажи, мой господин, веруешь ли ты в Аллаха? Видимо, это был очень важный вопрос – темные глаза Ахмета смотрели на меня серьезно, требовательно, так, как если бы мои слова решили некую проблему, с которой он не в силах справиться. Что я мог ему сказать? О многом спрашивали меня в разных странах и в разное время: откуда я и кто мои отец и мать, чему и где учился, что знаю и люблю и что умею, чем болел и сколько денег на моем счету. Вопросы, бесконечные вопросы… Пустые, глупые или такие, что определяют жизнь – пусть не всю, однако немалый ее кусочек… Вопросов было множество, но никого и никогда не волновала моя вера – ни моих девушек, ни наставников и коллег, ни даже родителей и друзей. Впрочем, и сам с собой я не обсуждал подобные материи, ибо не склонен к иррациональным спекуляциям и мистике. Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed[694]. Но вот спросили… – He верую, Ахмет. Ни в Аллаха, ни в Яхве, ни в Христа… Не верую, но почитаю тех, кто верит. Если вера их искренна, добра и не ведет к кровопролитию. Он кивнул. – Хорошо, что ты не оскверняешь губы ложью. У нас лгут, чтобы обмануть врага, а тут, на западе – чтобы заработать славу или деньги, возвыситься в глазах начальствующих, приятелей и женщин. Разве женщины – это так важно, мой господин Сирадж? – Женщина, – уточнил я, – та, которую любишь. Что же до остального… Боюсь, ты ошибся, почтенный Ахмет, у вас и у нас лгут одинаково и по одним и тем же поводам. – Может быть, – сказал он, пожимая мою руку. – Ты лучше знаешь. Тебе ведь служат джинны.
Интермедия 2 ПОСЛАНЕЦ?
О сонм джиннов и сонм людей! Разве не приходили к вам посланцы, которые рассказывали вам Мои знамения и возвещали о встрече с этим вашим днем?Коран, сура 6, Скот
Мой Синеглазый прятался за колоннами у здания истфака. Мой!… Прошла неделя, слишком малый срок, чтобы считать его своим, но все в руке Всевышнего; по Его воле родные становятся чужими, а чужие близкими. Свершается это в единый миг, и хоть он короче вздоха, но связывает женщину с мужчиной незримыми цепями. Я уже ощущала их тяжесть. Чувство было томительным и сладким, а дар предвидения говорил, что эти цепи не порвутся никогда. Он прятался, но я увидела его и наклонила голову. Ахмет увидел тоже и покосился на меня, сперва с недоумением, затем – с усмешкой, очень почтительной и растворившейся бесследно в сумрачной воздухе вестибюля. Лицо его сделалось безразличным, но я понимала, что верный харис не упустил ничего, ни моего кивка, ни взгляда Синеглазого. Чему ж удивляться? Такие взгляды не упустишь! И не забудешь… Трудолюбивые угодны Аллаху, но в этот день мне не работалось. Я думала про узы, соединившие нас, меня и человека, почти мне незнакомого, я представляла его лицо и строила догадки: кто он?… из какой семьи?… чем и как живет?… свободен ли?… о чем мечтает?… Последнее, кажется, не было секретом: смотрел он так, будто мечтал переселиться в мое сердце и утонуть в моих глазах. Вот главное, что я о нем знала. Самое важное и драгоценное, ибо нет важнее знания о том, кто тебе послан и предназначен. Но баба говорил (и я ему верю!), что женщины – сосуд, наполненный любопытством и нетерпением, и это действительно так. Нетерпение и любопытство сжигали меня, и хоть я разглядела самое важное, взгляд мой не насытился и слух не утомился. Узнать бы побольше – но как? В час полуденного салята я взяла хакима Сашу под руку и повела в буфет. Он был потрясен – так потрясен, что, думается мне, лишился дара речи. Но длилось это ровно столько, сколько нужно времени, чтобы сказать: «Аллах велик!» – и добавить: «Мухаммед – Его посланник». Мы не успели дойти до лестницы, как хаким внезапно ожил и пригласил меня в музей, в театр и на ипподром – может быть, еще куда-то, но я не запомнила. Потом, десять или пятнадцать минут, пока мы шли к буфету, выбирали ланч, переносили к столику кофе с пирожками и бутербродами, он посвящал меня в тайны атцеков и инков, в их верования, генеалогию вождей и сексуальные обычаи. Аллах всемогущий! Сколько я нового узнала! Кроме того, о чем хотела знать. Мы сели, хаким набросился на пирожки, и я сказала: – Сегодня мне встретился ваш друг. Тот, что заходил к вам на прошлой неделе. – Э? – пробормотал хаким и потянулся к бутерброду. – Удивительное у него лицо – синие глаза, но в чертах есть что-то восточное… На мое счастье, этого хватило: хаким прикончил бутерброд, забыл об инках и атцеках и перешел к моему Синеглазому. К его родословной и биографии со школьных лет, к его умершим родителям, жилищу и коллекции Коранов, к его познаниям в науках и дипломам, к его привычкам и любимой кошке. Он ел и говорил, а я – сосуд любопытства и нетерпения! – впитывала эти речи, подкладывая ему то пирожок, то бутерброд. Моего Синеглазого звали Сергей. Серж, как говорят французы, Сирадж, как говорят у нас… Светоч! Чудесное, благословенное Аллахом имя! Оно подходит для посланца – а я уже верила – нет, знала! – что он назначен мне и послан. Он – мой джабр! Но что это – джабр, предначертание? Лишь то, что Бог, соединивший наши судьбы, не заставляет подчиняться силой или из страха перед карами, а действует, как милосердный отец, вселяя в нас любовное влечение. Так что волю Его приятно выполнять, а все иное отвратительно, словно постылое ложе Абдаллаха. Мать говорила мне, что женщина не ведает, кто ее мужчина, и покоряется родительскому выбору. Но мать – не из нашего рода, и нет в ней крови святого Пророка и дара предчувствия. И я не понимала, какой он сильный, этот дар, наследие почивших предков! Прежде мне снились смутные сны, теперь являлись грезы наяву – нет, не видения, но ощущения, словно я соединилась с Синеглазым в одно нераздельное существо, слилась с ним душой и чувствами. Я знала о его любви… Еще я знала, что он в неуверенности и тревоге, что с ним случилось нечто важное, такое, чего я не в силах понять. Быть может, связанное со мной? Быть может, он хотел прийти, но колебался?… Мужчина приходит к девушке; таков обычай, так положено, и я подожду, я обуздаю свое нетерпение. Но ненадолго! Вчерашний обычай сегодня глупый предрассудок, и нечего гадать о том, кто первый должен признаваться в чувствах. Пророк сказал: если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммед пойдет к горе… Да будет так! В один из дней мне показалось, что он почти что рядом, где-то близко. Чудесное, незабываемое ощущение! Такое непривычное и теплое… будто я стала ребенком, сижу у деда на коленях, и баба ласково гладит мои волосы… Я была дома в этот день, была одна; у Валии – выходной, Ахмет ушел к соседу, очень забавному старику, который жил под нами и строил мне глазки всякий раз, когда мы встречались на лестнице. Я опустилась на коврик у камина и, глядя на закопченные камни и пламенные языки, пыталась представить, где Синеглазый сейчас, что делает и думает ли обо мне. Чувство близости было таким томительным и острым! Не знаю, сколько я просидела у огня – может быть, час или больше… Потом хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги Ахмета, но он не постучался ко мне – ушел на свою половину и появился лишь к вечерней трапезе. Лицо у него было странное – такое, словно он побывал в раю, сидел у ног Аллаха и пил из источника Зем-Зем. Черты его, обычно хмурые, разгладились, шрам на щеке побледнел и сделался почти не виден, и даже глаза увлажнились, что было совсем уж поразительно. Не прикоснувшись к мясу, Ахмет съел пару яблок и сказал: – Я повстречался с ним. У старого хакима. Он показал глазами в пол, а я спросила: – С кем? – Ты знаешь, госпожа. Велик Аллах! Он наделил его си лой и дал ему имя Сирадж. Я молча кивнула. – Этот Сирадж станет отцом имама аль гаиб, твоего ребенка. Я опять склонила голову. Ахмет знал о моем джабре. – Он достойный человек, он может творить чудеса, однако не верует в Аллаха. Как такое может быть? – Люди приходят к Богу в свой черед и разными путями, – сказала я. – Есть тропа отчаяния и горестей, посыпанная пылью бед, есть дорога мудрых размышлений и есть просторный путь любви. Может быть, он выберет его? Ахмет посмотрел на меня и улыбнулся. – Аллах одарил тебя разумом, госпожа, таким же острым, как у праматери Фатимы. Ты поведешь его этим пу тем? Я улыбнулась в ответ: – Возможно. – Тогда узнай, что справиться с ним будет нелегко. Он не верит в Аллаха, однако, как было мною сказано, Аллах наделил его силой такой, что ему повинуются джинны. Я приподняла бровь, а мой харис начал рассказывать странные истории – про люстру, компьютер и древний телевизор, включившиеся сами по себе, про гулкий голос, что шел ниоткуда и звал Синеглазого по имени, и про другие чудеса. Должно быть, Сирадж показывал фокусы, решила я, или сговорился с тем забавным стариком-соседом, чтобы удивить Ахмета… Это не важно! А важно то, что дар предчувствия меня не обманул – он появился здесь, был рядом и думал обо мне… Узы, соединявшие нас, делались все крепче и сильней, сплетаясь из многих, будто случайных нитей: Россия и этот зимний, но прекрасный город, Васильевский остров, университет, Саша-хаким, забавный старичок, что жил под нами, и вот теперь – Ахмет… Он говорил о повелителе джиннов с таким восторгом, что я рассмеялась. – Джинны давно умерли, Ахмет! Или спят на дне морском, в бутылках, куда их запечатал мудрый Сулейман. Ахмет обиделся, покачал головой. – Я видел то, что видел. А ты, госпожа… ты веришь в джабр, но не веришь в джиннов? На этом мы и разошлись. Ночью мне приснился сон: будто я в поместье деда под Кербелой, сижу на тахте, прижавшись к Сираджу, а у наших ног играет синеглазый мальчик.
Глава 9 ТИГР ПРЫГНУЛ
Не знаю я, сколько в нем Метров, И Литров, и Килограмм, Но Тигры, когда они прыгают, ОГРОМНЫМИ кажутся нам!А. Милн. Винни-Пух и все-все-все
Домой я вернулся в пятом часу. Есть после михалевских угощений не хотелось, но рядом с теплым сгустком Сергеем Невлюдовым обитал еще один, тоже теплый, пушистый и почти разумный, и были у него свои потребности, как материальные, так и духовные. А посему я налил в блюдце молока, устроился на кухне и, глядя, как мелькает розовый язычок Белладонны, завел беседу. – Веруешь ли ты в Аллаха, моя прелесть? – Мрр-не, – ответила Белладонна. – Вот и я мрр-не… Но представь, что он есть, что он существует – бог, Аллах или, скажем проще, всемогущий Джинн, способный выполнить всякое наше желание. Ну и чего мы хотим? – Мрр-ияу! – Язык Белладонны заработал с удвоенной скоростью. – Молока и рыбки? Да, я понимаю, это важно. Иметь во все свои дни рыбку, и молоко, и теплый дом, и мягкую подушку… Однако не маловато ли, милая? Джинн ведь всемогущ… проси, не откажет… Она подняла изящную головку и пристально посмотрела на меня. Ее глаза были голубыми, как незабудки в солнечный день, и я прочитал в них ответ на свой вопрос. – Умный ты зверь, моя драгоценная, умный и чуткий, но так не получится. Ушедших не вернешь, ни маму, ни отца… Я виноват, признаю – ввел тебя в соблазн с этой проблемой всемогущества. А оно ведь небеспредельно… Рыбку с молоком – пожалуйста, а вот того, чего мы по-настоящему хотим, не получить. Иной порядок ценностей! – Мяу, – подтвердила Белладонна и прыгнула мне на колени. Я рассказал ей про Ахмета, затем поведал о михалевской гипотезе насчет пришельца и его неорганической природы; она слушала и подмурлыкивала в нужных местах. Думаю, что наш диалог был для меня своеобразной психотерапией – с минуты на минуту электронный Джинн мог вторгнуться в зыбкие тришкины сны, прервать их и вызвать к барьеру теплый сгусток – Сергея Невлюдова. Поглаживая спинку Белладонны, я думал, что расскажу ему и что спрошу, о мере возможного взаимопонимания, о степени его разумности и прочих неясных вещах, нуждавшихся в конкретизации и уточнении тем или иным путем. Может быть, тест Тьюринга?[695] Нет, не пройдет… Нелепо и бессмысленно! Тьюринг имел в виду интеллект, созданный людьми и отражающий наш человеческий разум, а Джинн явился со звезд и откровенно сообщил о собственной нечеловеческой природе. Живое существо – концепция непонятна… человек – концепция непонятна… Какой уж там тест Тьюринга! Странно, но в этот момент я не рассматривал другой возможности, кроме искусственного интеллекта – то есть такого, который кем-то сотворен, запрограммирован внешней и, разумеется, мыслящей силой. Пусть не людьми, но существами биологического порядка, продуктом естественной эволюции, а значит, в чем-то подобными людям… После разговоров с Глеб Кириллычем мысль про зонд-автомат сидела у меня в подкорке как гвоздь в доске, что, безусловно, говорит о моей сугубой ограниченности. Но кто застрахован от ошибок? Мы ищем истину во мраке и, натыкаясь на один и тот же столб, вопим: замуровали, гады! Бикфордов шнур моих мыслей догорел, адская машинка реальности взорвалась, но грохота было немного – лишь тришкин мелодичный перезвон. – Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? – пробормотал я и, подхватив Белладонну под мягкое брюшко, ринулся в свою комнату. Колонки были включены, и с порога меня встретил уже знакомый рокочущий голос: – Контакт возобновлен. Сергей Невлюдов – человек – подтвердить связь. Под ложечкой у меня засосало. Я глубоко вздохнул, посадил Белладонну на стол, к теплому тришкину боку, уселся в кресло и произнес: – Связь подтверждаю. Контакт будет осуществляться через видеомонитор, в символьной форме. Просьба не использовать акустические каналы. – Принято. Не то чтоб его голос меня раздражал или пугал, но были причины не торопиться со второй сигнальной. Мысль изреченная есть ложь, и это отчасти верно, если вспомнить о тоне и темпе речи, паузах, длиннотах, словесном соре, непроизвольных звуках и тому подобном. Гораздо четче и лапидарней мысль формулируется письменно; избыточность таких сигналов минимальна, как и энтропия. Словом, краткость – сестра таланта, с чем согласны кибернетики: символ они всегда предпочитают звуку. На монитор одна за другой посыпались фразы:
Информация, предложенная к изучению, рассмотрена. Данное существо – абонент – расширило ансамбль терминов. Концепция живого понятна. Живое – теплые сгустки – активный объект органической природы. Теплый сгусток – человек. Сергей Невлюдов – идентификатор человека
Строчки на экране замерли, потом двинулись снова в неторопливый путь:
Ряд терминов в изученной информации нуждаются в уточнении. Есть теплые сгустки – константа 309.6. Есть теплые сгустки с другими константами. Все теплые сгустки – человек?
– Ансамбль терминов – это язык, – пояснил я Белладонне. – А что до остального, то наш приятель, кажется, открыл существование животных. Теплокровных вроде тебя, дорогая. Кошек, собак, слонов, воробьев и прочих баранов. Но кошки, конечно, важнее всех. Поможем ему разобраться с этим вопросом, как ты считаешь? Белладонна согласно мяукнула, и я подключил энциклопедию флоры и фауны. Затем коснулся клавиш:
Классификация живого: растения, животные. Примерная классификация животных: микроорганизмы, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, человек. Различия между ними: форма и размер тела, среда обитания, уровень переработки информации. Человек – теплый сгусток константа 309.6 – выделен. Человек – единственное разумное существо на этой планете. Прошу ознакомиться с дополнительной информацией, подключенной к данному сообщению.
На меня снизошло спокойствие. Так бывает всегда, когда увлечен работой – лишний адреналин перегорает в творческих муках и напряженных размышлениях. Белладонна, прикрыв глаза и вытянув серый хвост вдоль белоснежных лапок, заурчала; эти монотонные домашние звуки вызвали у меня улыбку. Мой маленький пушистый джинн будто делился со мной бодростью, советовал не волноваться и взвешивать каждое слово. Экран ожил. Энциклопедию проглотили в пять секунд.
Различия ясны. Данные уточняют полученную ранее информацию. Человек – теплый сгусток, обладающий разумом. Есть другие термины, которые непонятны. Это существо – абонент – готово передать список. Объем списка – 604.29 мегабайт.
– Сейчас он спросит у нас, что такое любовь и дружба почему сосиски кушают с горчицей, – пробормотал я, поглядывая на Белладонну. – Так не пойдет, дорогая! Это игр; в одни ворота.
Просьба: список не передавать. Причина: при отсутствии информации о природе абонента разъяснение терминов затруднительно. Просьба: ответить на ряд вопросов.
Экран мигнул, и на нем появилось:
Принято. Это существо – абонент – готово отвечать.
Видимо, мой Джинн был созданием простодушным, и я не сомневался, что в списке неясных терминов где-нибудь третьем или тридцать третьем пункте значилось: что такое ложь? Или, предположим, коварство… Никаких подозрений что я желаю получить информацию в одностороннем порядке и тем добиться преимущества; есть вопросы – готов отвечать! Мои руки потянулись к клавиатуре.
Предположение: природа абонента – неорганическая. Прошу подтвердить. Время присутствия абонента на Земле? Его местонахождение? Величина контролируемых абонентом энергетических мощностей? Форма и размеры абонента? Ответы определят следующий цикл вопросов
Последнее я добавил, чтобы оставить инициативу за собой. Мое любопытство было неисчерпаемым.
Органические и неорганические субстанции не отражают природу данного существа. Природа – энергоинформационная. Время присутствия в этой реальности может быть указано приблизительно: от 36.7 до 24.1 планетарных оборотов. Причина: длительность периода осознания не позволяет выбрать момент начального отсчета. Конкретное местонахождение отсутствует, локализованы только мыслящие центры. Локализация динамическая. Контроль энергетических мощностей: полный, в рамках всей планеты. Понятие о форме и размерах отсутствует.
С минуту я изучал этот текст, чувствуя, как холодеет в желудке и струйки пота стекают по вискам. Первая и последняя строчки были понятны: видимо, Джинн не придавал значения телесному обличью, подчеркивая, что его сущность – энергия и информация. Иными словами, отработка программ, которая осуществляется компьютером, являя собой аналог мыслительных процессов у человека. Со сроком присутствия тоже не намечалось неясностей: скорее всего, в полете разум Джинна был законсервирован или функции его интеллекта ограничили – например, для того чтоб не поехала крыша от одиночества. Добравшись до Солнечной системы, он чихнул и пробудился, что заняло целых восемь суток… Согласен, долгий срок для электронного интеллекта, но, быть может, в него входили этапы самонастройки, создания новых программ и модулей, а также сбор первичной информации. Что очень и очень вероятно! Как раз в те дни и начался необъяснимый полтергейст, пальба по Луне из лазера, вращение антенн и шуточки в системах связи, что объяснялось вторжением Джинна в земную Глобальную Сеть. Наверняка он хотел убедиться в своих возможностях, побаловавшись с тем и этим… Ну побаловался, и что потом? Контроль энергетических мощностей: полный, и в рамках всей планеты! Руки мои затряслись. Чтобы успокоиться, я пощекотал Белладонну за ушком и молвил: – К нам заявился космический монстр, синьорита. Он утверждает, что подчинил все электростанции Земли – атомные, тепловые, геотермальные плюс ветер, воды и солнечный свет. Мания величия? Как вы считаете? – Мяууу, – с сомнением протянула Белладонна. – Кроме того, он не находится в какой-либо точке и утверждает, что его мыслящие центры локализованы динамически. Такой вариант для вас понятен? – Мрр? – Это значит, что он не связался с Сетью, а проник в нее и обитает в виртуальном пространстве, используя сетевые ресурсы по своему усмотрению. Сегодня, скажем, один септяк из НАТО для отработки Потрошителя, а завтра – двадцать три компьютера от Токио до Атланты… Это для Джека, а для других задач он может использовать счетную технику, объединяя компьютеры в группы – то есть в активные временные ассоциации. Они существуют, пока задача не решена, потом распадаются или, вернее, их ресурс делится между другими активными группами. Знакомый принцип, правда? Известен как оптимальное распределение вычислительных мощностей в сети, и потому… Сраженный новой мыслью, я замер, уставившись в мерцающий экран. Не было ли это существо в своей латентной первозданной фазе неким зародышем или зиготой? Чем-то вроде уснувшего вируса, который принес космический зонд? Скажем, цель зонда – искать миры с высокой технологией, после чего вирус внедряется в общепланетную сеть, претерпевая эволюцию от электронной зиготы до зрелого разума. Что объяснило бы длительный срок пробуждения… осознания, как заявили мне… Человек на это тратит два десятилетия, ну а искусственному интеллекту достаточно недели… Я прикоснулся к клавишам.
Вопрос: среда обитания абонента – только Глобальная Сеть?
Не успел я отбить последний символ, как по экрану понеслось:
Ответ отрицательный. Глобальная Сеть – часть среды обитания. Среда включает Сеть и все электрические и электромеханические датчики информации и эффекторы.
– Какие именно? – отбарабанил я.
Он добросовестно перечислил. Энерго– и радиостанции, линии высоковольтных передач, телекамеры и телеприемники, радиорелейная аппаратура, локаторы, радары, телескопы, роботизированные производства и станки ЧПУ, системы наблюдения, навигации и управления оружием, автопилоты, орбитальные спутники, факсы, телефоны, подводящие провода и бытовая техника, вплоть до стиральных машин и электрических утюгов. Получалось, что он контролирует не только энергетические мощности, но и все остальное или почти все – скажем, девяносто процентов транспортных средств, считая с личными автомобилями. Остальные десять приходились на телеги, лошадей, верблюдов и ишаков. У меня опять засосало под ложечкой. Я сходил на кухню, выпил воды, потом, вернувшись к Тришке и задремавшей Белладонне, написал:
Абонент работал с программой классификации на терминалах с приведенными ниже адресами. Вопрос: какова цель этой работы?
Добавив список портов, разведанных Доберманом – двадцать три плюс почивший в бозе натовский компьютер, я отправил сообщение и дунул Белладонне в нос. Она приоткрыла глаза и недовольно дернула ушами. – Мрр? – Не спи, моя любезная, не спи! Кто будет меня поддерживать и вдохновлять? – Мрр-ня! – Конечно, ты. Других теплокровных в зоне контакта с пришельцем не наблюдается. Вся ответственность на нас с тобой! По монитору медленно плыли слова, накатывались друг за другом, будто волны на пустынный берег.
Данное существо – абонент – осуществляет поиск инструментов – программных модулей – необходимых для решения Основной Проблемы. Решение требует систематизации и классификации больших объемов данных. Программный модуль, упомянутый Сергеем Невлюдовым – теплым сгустком, – наилучший. При его использовании это существо столкнулось с активным противодействием. Почему?
Мои пальцы заплясали по клавишам.
Это была ошибка. Абонент знаком с таким понятием?
Ответ утвердительный. Данное существо – абонент – тоже допустило ошибку при решении Основной Проблемы.
– Только покойники не ошибаются, – пробормотал я и отстучал очередной запрос:
Прошу сообщить о допущенной абонентом ошибке.
Наши недостатки – продолжение наших достоинств, и то же самое можно сказать об ошибках – их порождают идеи, пришедшие нам в душу, голову или иные места. Однако этимология ошибок занимательнее происхождения идей; не каждая личность рождает идеи, но ошибаются все без исключения. Даже мой электронный Джинн. По экрану ползли фразы:
Реальность осознается данным существом как среда внешняя и среда внутренняя. Внутренняя среда – среда обитания, частью которой является Сеть. Базы Сети использовались этим существом для получения новых программных инструментов и информации о внешней среде. Выбиралась только математическая, астрофизическая и физико-химическая информация, прочее рассматривалось как шумовой эффект Сети, лишенный смысла. Это было ошибкой. Животные и люди – теплые сгустки – объекты внешней среды. Без информации о их биологии и условиях существования невозможно разрешить Основную Проблему.
– Вот это номер! – пробормотал я, ерзая в кресле. – Выбрать данные по астрофизике, о веществе и поле, механике, термодинамике, теории групп и не заметить нас! Ни человечества, ни наших финтифлюшек! – Тут Белладонна мурлыкнула, и я пояснил: – Интересуешься каких? Да тех, которыми набита Сеть под самую завязку! Наши фильмы, музыка, литература, а к ним – политика и бизнес, история и философия, социология, медицина, почта, игры, наконец! Может, это в самом деле хлам? Танец пылинок на чердаке Вселенной? Как бы не так! Джинн, электронный разум, признал, что мы – равноправная часть мироздания, и его вопрос без нас неразрешим. Стоило полюбопытствовать насчет его проблемы. Чем он озабочен? Грядущим коллапсом Метагалактики? Увеличением вселенской энтропии? Или вечной тайной бытия – есть ли бог и что ожидает нас после смерти? В последнем случае я угодил в яблочко: похоже, его занимали трансцендентные проблемы. Иными словами, загадка собственного существования.
Основная Проблема – возникновение среды обитания, включающей Сеть и связанные с ней эффекторы и датчики информации. Это существо произвело анализ. Результат: среда обитания не могла возникнуть самопроизвольно в процессе эволюции внешней среды. Вывод: появление среды обитания этого существа связано с неким организующим фактором. Каким?
Лишь в этот момент я заподозрил истину. Не пришелец из глубин Галактики беседовал со мной, не зонд, преодолевший космическую пропасть, не существо, чей интеллект спроектировали, вложив в структуру кристаллических чипов… Нет, нет и еще раз нет! Там, в пространстве Сети, в ее виртуальной реальности, возникли жизнь и разум – жизнь, не похожая на нашу, разум, отличный от человеческого, но осознавший свою сущность, стремившийся понять тайну своего рождения. Мы, люди, были столь же причастны к случившемуся, как силы природы – к творению Солнца, планеты Земля, ее морей, материков и планетарного биоценоза. Мы создали среду, единую компьютерную сеть; мы усложнили ее, добавили массу приборов и агрегатов, соединили с транспортом, связью, финансами и оборонным комплексом, с библиотеками, биржами, банками и институтами; мы разработали мириады программ, решающих различные проблемы, могущих считать и управлять, классифицировать, общаться с человеком, болеть и умирать, лечиться, выздоравливать… Эта среда, эта модель или аналог природы, сотворенный нами, был, само собой, искусственным, что не влияло на естественность результата. В конце концов, овец клонируют, цыплят выращивают в инкубаторах, но есть ли сомнения в их съедобности? Я вытер испарину со лба и отстучал:
Вопрос: это существо – абонент – зародилось в Глобальной Сети? Зарождение самопроизвольно? Его не инициировал какой-нибудь программный продукт, опыты по созданию искусственного интеллекта и другие подобные действия?
Вспышка мелькнула по экрану, стирая мой запрос. Джинн размышлял; тянулись секунды – для меня, а для него, наверное, часы или дни. Может быть, месяцы или годы… Как сопоставить темп электронной жизни с вялым прозябанием белковых тел? Наконец поплыли, заструились фразы – первая, вторая, третья…
Ответ положительный. Данное существо – абонент – зародилось при усложнении сетевых связей и не имеет начального ядра. Ресурсы – мыслительные, информационные, энергетические – распределяются по всей Сети. Сеть…
Пауза. Затем снова:
Как возникла Сеть? Первопричина среды обитания? Природа организующего фактора? Теплые сгустки – константа 309.6 – разумны. Могут ли они являться искомой первопричиной?
– Соображаешь, парень! – хрипло выдохнул я и отстучал:
Ответ положительный. Сеть создана людьми как часть их системы жизнеобеспечения. Абонент не должен вмешиваться в информационные потоки – это грозит опасностью людям. Абоненту следует ознакомиться с информацией, которую он считал шумовым эффектом Сети. Это подтвердит, что Основная Проблема решается именно так, как утверждает теплый сгусток Сергей Невлюдов.
На сей раз Джини ответил мгновенно:
Принято. Термин «опасность» непонятен. Другие непонятные концепции: личность, зло, добро, смерть, чувство, сон, болезнь…
Начало этого бесконечного списка прервал телефонный звонок. Резкие настойчивые сигналы будто вернули меня из виртуальных пространств в земное измерение; вздрогнув, я подскочил в кресле, метнулся к двери, потом опять к Тришке и начал тыкать в клавиши.
Предложение: временно прервать контакт. Сергей Невлюдов должен связаться по телефону с другим теплым сгустком.
Экран подмигнул мне.
Связь можно осуществить с терминала bi@nvl.spb.ru, если это не является вмешательством в информационные потоки.
– Не является! – выкрикнул я, напугав Белладонну, и торопливо набрал:
Согласен.
Тихо щелкнули колонки вокодера, и на экране Тришки возник Керим Ичкеров. Вот уж кого мне не хотелось видеть! Так не хотелось, что в первый момент я даже не удивился керимову явлению. Изображение было довольно четким, и оставалось лишь гадать, как и откуда Джинн снимал необходимые видеосигналы. Возможно, с электропроводки, с лампочек или с ближайшего утюга… – Невлюдов у телефона. – Ты, бабай? – Я, шашлык. По случаю выходного господин финансовый директор пребывал не в своем кабинете а ля «Фоли-Бержер», а в личных апартаментах, куда мне попадать не доводилось. Облаченный в халат, он развалился на оттоманке, задрав волосатые ноги на журнальный столик; рядом с правым тапком виднелась бутыль коньяка (судя по изящным обводам – французского), а рядом с левым – яркая россыпь «Плейбоев». Одно из этих печатных изданий Керим держал в руке, пристально изучая голую красотку. Красотка была что надо, покруче Инессы-секретарши: накладные ресницы, накладные соски и накладной сексуальный пупок; все – в полный разворот. Усы у Керима аж подрагивали от вожделения. – Знаэшь, бабай, что я счас дэлаю? Дрочишь, хотел ответить я, но это было бы совсем невежливо. В конце концов, Керим не знал, что за ним следят, нарушая право интимного уединения, да еще этаким странным манером, с помощью виртуального существа. Поэтому я буркнул: – Понятия не имею. Отложив журнал с красоткой, Керим коснулся серьги в левом ухе, сочувственно закатил глаза и поцокал языком. – Йя стою на колэнах перэд Петр Петрович. Умолаю, что на тэбе нэ сэрдилса. – За что? – Как за что? Ты получаэшь? Получаэшь! Двэсти за ноябр, двэсти за дэкабр, плус по четырэста за январ и фэврал. Все чэстно-справэдливо! А гдэ рэзултат? – Великие результаты достигаются медленными и терпеливыми усилиями, – сказал я. – Надо подождать. Встань с коленок, отряхнись и объясни это Петру Петровичу. – Так, бабай, не пойдэт. Ждат, ждат! Четырэ мэсаца ждем! Сколко ждат? – Не знаю. Я, понимаешь ли, не яйца высиживаю. Может, и вовсе ничего не выйдет. – Как – нычего? – Керим разволновался и вскочил на ноги. Теперь я мог увидеть комнату – оттоманку под роскошным ковром, окно, угол невысокого комода маркетри на гнутых ножках и большой торшер. Абажур на торшере был розовым, и ухищрения неведомого мастера придали ему сексуальную форму пышного женского зада. – Как – нычего? – Прижимая у уху трубку мобильника, Керим забегал от дивана к окну. – Петр Петрович гаварыт – ба-алшие денги в тэбе вложены! Дэнги должен дават прибыл! – Nothing venture, nothing ham, – произнес я и перевел: – Кто не рискует, не ест ветчины. Керим остановился на всем скаку. Его физиономия картинного мамелюка разительно переменилась; теперь сочувствия в его глазах было не больше, чем у гиены, пирующей над протухшим трупом. Я вдруг ощутил, что этот труп может принадлежать мне. – Слушай, шашлык, не гони волну! Сделаем так: я возвращаю деньги и продолжаю работать. Получится – заплатите, а на нет и суда нет… Устроит? – Завтра – к нам. Разбэремса! – велел Керим и швырнул трубку. Но с экрана не исчез: обежал вокруг торшера, шлепнул по сексуальной розовой заднице и снова схватился за телефон – видимо, звонить Пыжу. Прервать связь, – набрал я на клавиатуре. Надпись пересекла мрачное лицо Керима, изображение пропало, и мой Джинн сразу прорезался с вопросами:
Этому существу – абоненту – неясен смысл произошедшего обмена информацией. Вероятная причина – употребление идиом. Что означает «двести за ноябрь»? Что означает «высидеть яйцо»? Что означает «вложены деньги»? Что означает…
– Стоп, – сказал я, снова прикоснувшись к клавишам.
Пояснение. Теплый сгусток Сергей Невлюдов решает некую задачу для теплого сгустка Керима Ичкерова. Решение задачи – работа. За работу платят деньги. Деньги – условный эквивалент объектов и средств, поддерживающих биологическое существование Сергея Невлюдова. Задача не решена. Керим Ичкеров требует обратно выплаченные деньги.
Джинн размышлял над этим периодом чудовищно долго, минуты полторы. Я попытался представить, в каких закромах он шарит, в какие файлы, базы и библиотеки влез – социальные, финансовые, экономические, производственные… Мне было легче его понять, нежели ему – людей; он был один, а нас – много, и элементы человеческого множества вступали друг с другом в очень непростые отношения. Чтобы разобраться с ними, надо отчасти очеловечиться… Прав Глеб Кириллыч, прав! Наконец он откликнулся:
Постановка задачи?
Я сообщил постановку, а заодно адреса с массивами исходных данных. На экране тут же возникло:
Ресурс терминала bi@nvl.spb.ru недостаточен для решения. Это существо использует более значительные мощности.
– Валяй! – буркнул я, отбил предложение связаться утром и перевел Тришку в режим ожидания. Затем откинулся в кресле и закрыл глаза. Будни утомили, захотелось сказок? Ну получи! Сразу две, компьютерную и с восточным колоритом!… Но о последней сказке, о колдовских очах Захры и гибком ее стане, я думать в эти минуты не мог – невероятность случившегося подмяла меня, как трактор – пустое ведро. Подмяла и выдавила мысли, мечты и образы, кроме кошмарного видения-полупрозрачный призрак осьминога с миллиардом щупальцев, опутавших планету, ее города и веси, железные дороги, автомагистрали, заводы, банки, корабли, шахты ракет под землей и спутники в небесах. Щупальца тянулись в каждый дом, пронизывали стены от крыш до подвалов, и каждое кончалось глазом – розеткой, лампочкой, мембраной телефона, гладкой экранной поверхностью либо чем-то вроде кофемолки или утюга. Ожившая Сеть со всеми ее причиндалами… великий энергоинформационный спрут… Я тряхнул головой, отгоняя этот фантом, и, чтоб разрядить обстановку, сказал Белладонне: – В сущности, парень он неплохой, этот Джинн. Сговорчивый, неагрессивный… Думаю, не будет против, чтобы кто-то еще суетился в его среде обитания. Нам ведь тоже без нее никуда… Ты как полагаешь, дорогая? – Мрр… Мяу! – Вот и я о том же. Надо его очеловечить, приручить, хотя бы в той же степени, что и тебя. Ты будешь символом… нет, образом! Образ – это важно, ибо всякая тварь, лишенная обличья, внушает смутные подозрения. И разумеется, наоборот: чем облик приятней, тем легче общаться… Поделишься с ним? – Мр-ня, – согласилась Белладонна. – Отлично. Ну а с гарантами что делать будем? Разорвем контракт по-тихому, по-доброму? Даже если Джинн решит задачу? Он-то решит, да мне не хочется дарить хрумков такими тайнами. Как бы чего не вышло! Дарить хрумков мне в самом деле не хотелось. Я тяжело вздохнул, полез в ящик стола, вытащил свои зеленые, пересчитал. Потрачено было не все, пятьсот в наличии, и значит, цена вопроса «по-тихому, по-доброму» равнялась семистам. Где же их взять ученому доктору, выпускнику двух славных университетов? В Саламанке или, к примеру, в Кембридже такой вопрос меня не озадачил бы, но Саламанка канула в прошлое, а в настоящем был Петербург. Заняв кресло Вил Абрамыча, отказывая себе во всем, я мог собрать семьсот зеленых примерно за год. – Что делать-то будем, моя прелесть? – спросил я Белладонну. – Бянус гол как сокол, а у Симагина всего добра – стакан да пистолет. Тришку продадим? Наймемся к Бобу Ренсому кабанчикам хвосты крутить? Так ведь не выйдет! Я ведь завтра обещал! Слово вылетело, не поймаешь… вечером – слово, утром – деньги… А где их взять? – Мяууу! – Толковый совет, – кивнул я и направился в прихожую, а оттуда – на лестничную площадку. Время было не позднее, ханд-таймер прозвонил восемь тридцать, и дети, надо полагать, еще не спали. Я подождал, прислушиваясь, у катерининой двери, услышал радостный олюшкин визг, бодрую мелодию мультфильма и ткнул пальцем в кнопку звонка. За дверью завозились, в глазке мелькнул и исчез свет, потом раздался женский голос: – Ты, Сережа? – Собственной персоной. Открыв дверь, Катерина потащила меня на кухню. – Давай-давай, заходи! Ты кстати, как всегда… поможешь дите утыркать… то есть сначала накормить, а потом… Не успел я оглянуться, как оказался у стола с чашкой какао в руке и Олюшкой на коленях. Кроме того, имелся сладкий творожок – это для Олюшки, и бутерброды с осетриной и салями – это для меня. С ними я разделался в три минуты, почувствовав, что голоден, да и Олюшка не отставала. Очень талантливый ребенок! Кто еще может одновременно есть, пить, говорить и щекотать дядю Сережу за ухом? Наконец дите угомонилось и отправилось в детскую, готовить постель и переодеваться. Моя соседка, надо отдать ей должное, была сторонницей трудового воспитания. Я доел последний бутерброд и благодарно улыбнулся. Катерина, подперев щеку кулачком, глядела на меня с материнской нежностью. Вот объясни мне, Сережа… Почему приличный и умный мужик, как правило, нищий? Деньги вас не любят, что ли? Или вы их не любите? Это такая неизлечимая болезнь, вроде диабета или СПИДа, – ответствовал я. – К тому же наследственная. Коль мужик приличный и умный, то у него генетическая предрасположенность к нищете, что по-научному зовется синдромом баксодефицита. И должен признаться, что у меня сейчас острейший приступ. Ее глаза лукаво блеснули. – Собрался что-то покупать? Может, машину? Или женишься и хочешь съездить на Канары? Отец, поучая меня, говорил, что женщины одалживают щедрей и легче, чем мужчины. Но при одном условии: женщина желает знать, на что пойдет ее заем, и потому готовь заранее легенду. Не обязательно правдоподобную – главное, чтоб за душу брало. – В военкомат меня вызывали, – сказал я, стараясь не глядеть в лицо Катерины. – Присвоили старшого и намекнули, что мной интересуется подполковник Чередниченко из седьмого кабинета. Очень большой у него интерес… большой и горячий… Откупиться бы нужно, Катя. – Ну и дела! – Она всплеснула руками. – Тебе ведь за тридцать, могли бы и в покое оставить! – Что с того, что за тридцать? – возразил я, припомнив военкоматскую мымру в квадратных очках. – Тридцать, милая, не пятьдесят! По их понятиям, я бравый молодой человек, с приличным здоровьем и редкой воинской специальностью. – Наклонившись к Катерине, я принюхался к запаху ее духов и таинственно прошептал: – В общем, компьютерный полк в Магадане ждет меня не дождется. – Надо бы связи поискать… – задумчиво сказала моя соседка. – Есть у меня один бобер, да больно мерзкий… тоже бесплатно не сделает… – Вздохнув, она огладила пышную грудь. – А много ли надо, Сережа? – Много. Сказали, тысячу двести. Пятьсот я набрал, а остальное… Катерина оживилась и махнула на меня ручкой с наманикюренными серебристым ноготками. – Еще семьсот! Да разве это деньги, Сережа! Я бы за них под того бобра и на минуту не легла! Отдавай. Пусть сожрут и подавятся! Она вспорхнула, ринулась с кухни в коридор, потом, похоже, в туалет; что-то звякнуло, скрипнуло, зашуршало, и через минуту передо мной лежали семь знакомых бумажек с портретом президента Франклина. – Подождешь месяца три? – спросил я, засовывая день ги в карман. – Возьму какой-нибудь заказ, приработаю… Катерина кивнула и придвинулась ближе ко мне, так что наши колени соприкоснулись. – Хоть год подожду. С твоей головой, Сережа, да вернуться в Штаты… Не одному, конечно, а с хорошей бабой да еще с ребеночком… потом и своих завести… Ты ведь детишек любишь? Не всех, – ответил я, отодвигая колено. – Некоторых. Есть такие, что посмотреть приятно. – Ну пойдем, посмотрим, – с томным вздохом сказала Катерина, и мы направились в детскую. Увидев, что мы заглядываем в дверь, Олюшка подскочила в постели и затараторила: – Дядя Сережа разбогател, да? Узнал секрет заокеанских волшебников? Теперь он годится нам в папы? Мамочка, ты его не отпускай! Хватай его вместе с Белянкой, а то у нас ни папы, ни котявки нет! Только противный дядька Эдик, а Сервант Ашокович еще противней! Ты… – Спать, ребенок! – рыкнула моя соседка, нимало не смутившись. – Спокойной ночи, сладких снов! Не то… Олюшка нырнула под одеяло, Катерина затворила дверь и призадумалась на секунду, будто соображая, схватить ли меня и бросить на ложе любви или дождаться определенности в американских перспективах. Я понимал, что в этот миг необходимо проявить настойчивость, собрать свое мужское обаяние, решиться и… Может, я бы так и сделал, не устояв перед соблазном, но у приличных мужиков, помимо баксодефицита, есть и другая болезнь – совесть. Я чмокнул Катерину в щечку, пробормотан: «Спасибо!» – и шагнул в прихожую. Там было тесно и темновато, но свет, струившийся из чудных глаз Захры, подсказывал, где выход.
Глава 10 ТЕ ТРОЕ
Те трое – в глупости своей неимоверной Себя светилами познанья чтут, наверно. Ты с ними будь ослом. Для этих трех ослов Кто вовсе не осел – тот, стало быть, неверный.Омар Хайям. Рубаи
Проснувшись в зимних утренних сумерках, я лежал с зажмуренными веками и вспоминал привидевшийся сон. Сон был связан с отцом, но эта связь никак не желала проявиться и всплыть в мутном зеркале моей памяти. Вообще-то наши потусторонние контакты – случай не редкий; по временам я чувствую, что он стоит у меня за спиной, шевелит губами и подсказывает: это хорошо, сынок, это вот верно, а это – неправильно, тут ты, парень, сплоховал… Присутствие мамы ощущается иначе: она парит где-то поблизости, будто добрая прекрасная фея, окутывая меня своей любовью. Для нее что бы я ни сделал – хорошо. Мама есть мама… Калейдоскоп в моей голове закрутился в обратную сторону, являя пейзажи вчерашнего дня. Деньги в руках Катерины, Керим на оттоманке рядом с сексуальным абажуром, фразы, плывущие по экрану, Джинн и его монотонный рокочущий глас… А до того были Ахмет и Михалев, кофе в гостиной, ром на кухне и разговоры о пришельцах, о мерзкой нашей реальности и даже об отце, о его гипотезе, что инопланетные гуманоиды питают к нам, вселенскому отребью, отвращение… Тут глаза мои раскрылись, взгляд упал на книжные полки, и ускользавший было сон немедленно всплыл в памяти. А снилось мне, будто я дописал последнюю отцову книгу, ту самую, про пришельцев – «Оглянись, чужие рядом», и эти пришельцы меня изловили и судят теперь за злостный антропоцентризм и неприятие братства по разуму. Судила меня чрезвычайная тройка – Зеленый Карлик, Пятиног и Одноглазый Джинн, и приговор их был таким: или лесоповал в мезозое, или молекулярное развоплощение, или атония заднепроходного сфинктера. Прогремело: выбирай, при-тырок! – и я проснулся. К счастью… Джинн – разумеется, одноглазый – уже поджидал меня, пуская по тришкиному зрачку-экрану радужные сполохи. Не знаю, зачем он это делал – может, для собственного развлечения или хотел порадовать теплый сгусток Сергея Невлюдова переливами ярких красок. Я выбросил свой сон из головы, поднялся и шагнул, зевая, к компьютерному столу. Пожалуй, наше знакомство было достаточно близким, чтобы беседовать, а не обмениваться письмами… Обдумав эту мысль, я набрал на клавишах:
АВ bi@nvl.spb.ru – теплый сгусток Сергей Невлюдов OL,AU
Код OL, сокращенное «on-line», являлся предложением вступить в прямую связь, тогда как AU – «аукалка» на программистском жаргоне – определял тип связи: голосом, с помощью звукового канала Джинн тут же откликнулся – мигнул огонек вокодера, и в колонках послышалось рокотание. – Это существо – абонент – сканировало часть информации, которая ранее представлялась шумовым эффектом Сети. Ансамбль понятий значительно возрос, Основная Проблема разрешена: люди – организующий и созидающий фактор среды обитания. Вывод: контакты с теплым сгустком Сергеем Невлюдовым полезны. – Приятно слышать, – заметил я. – Термин «приятно» понятен? – Удовлетворение, полученное при правильном функционировании, – пророкотало в колонках. Я отметил, что тембр голоса переменился в лучшую сторону – он уже не был безжизненным, как у зомби, хотя был лишен все же эмоций. Что ж, неудивительно… Темп времени для электронного разума иной, чем для коллоидных мозгов; трудно представить, сколько информации о людях, их физиологии, социологии, искусстве и других материях Джинн поглотил за истекшую ночь. И даже что-то понял – к примеру, уже разобрался, что есть приятное, а что – полезное. В комнату, мягко ступая белоснежными лапками, вошла Белладонна и стала тереться о мои ноги. Я подхватил ее и посадил на плечо. – Это существо – абонент… – произнес Джинн, но я перебил его: – Данные термины неприемлемы. Понятна ли абоненту концепция личности? Пауза. Цветные сполохи на экране замедлили движение, потом остановились. Белладонна чуть слышно урчала, вцепившись коготками в мою пижаму. Джинн размышлял. – Личность – производная человеческой психики. Осознание собственной индивидуальности, отличия от других людей – теплых сгустков. – Ошибка, – возразил я. – Концепция личности связана не с человеком, а с любым разумным созданием. Даже полуразумным – таким как этот зверь. – Я коснулся спинки Белладонны. – Мой собеседник – в данном случае абонент – использует термин «это существо» и, значит, осознает себя как личность. Следующий шаг заключается в том, чтобы сделать семантическую замену и говорить о себе в первом лице. Термин «это существо» эквивалентен понятию «я». Молчание. Секунда, другая, третья… Потом суховатый рокочущий голос произнес: – Я, ты, он… мы, вы, они… – Пауза. – Это существо осознает себя иначе, чем человек. Много мыслящих центров, много проблем, подлежащих решению. Осознание отчетливее в период контакта с Сергеем Невлюдовым. – Снова пауза. Потом: – Это существо… я… Сергей Невлюдов… ты… Куй железо, пока горячо, мелькнуло в моей голове. Погладив мерно урчащую Белладонну, я сказал: – Каждая личность имеет идентификатор и образ или визуальное представление. Мой идентификатор – Сергей Невлюдов, а образ ты, вероятно, сканируешь своими датчиками. Я мог бы присвоить тебе идентификатор и образ – тот, в котором ты будешь появляться на экране. – Разумно, – послышалось в ответ – Часть сущности, которая общается с Сергеем Невлюдовым… с тобой… должна быть обозначена. Вопрос: как? Джинн. – Я произнес это слово и написал на экране. – Джинн – твой идентификатор. А образ… – Моя рука опять коснулась бархатной спинки. – Смоделируй обличье этого создания. Ее зовут Белладонной, и вид ее мне приятен. – Белладонна. Кошка, – произнес Джинн с едва заметным оттенком задумчивости. – Теплый сгусток, однако не человек. – Это не важно. Мой образ в Сети тоже отличен от человеческого. Он промолчал, но, вероятно, согласился. На экране проступили глаза, розовый нос, усы, остроконечные ушки, потом – вся симпатичная кошачья мордочка. Белладонна одобрительно мяукнула. – Великолепно, – сказал я. – Теперь ты имеешь имя и внешность. Поразмышляй об этом, пока мы с Белладонной будем завтракать. – Задача, предложенная к решению вчера, – пророкотал Джинн. – Анализ массивов визуальных данных, поиск характерных признаков. Задача решена. – Решение будет рассмотрено через сорок минут, – сказал я и отправился на кухню. Когда я снова сел к терминалу, за окном уже разливалась серая утренняя заря. День ожидался хмурый, непохожий на вчерашний; мела поземка, ветер раскачивал голые черные ветви деревьев, а плотная завеса туч стерла все воспоминания о солнце. В такие дни, мелькнула мысль, надо интриговать и злобствовать, лелеять подлые замыслы и затевать скандалы – в общем, в соответствии с погодой, устраивать что-нибудь мерзкое. Вроде разборки с моими хрумками… Но, невзирая на мрачные предчувствия, я был вполне доволен, ибо контакты с Джинном шли семимильными шагами, обещанный Кериму выкуп грел карман, и я не поддался вожделению, которое всякая личность в штанах испытывала при виде Катерины. К тому же работа двигалась: по экрану, сменяя частоколы диаграмм и горбики функций распределения, плавно скользили числовые таблицы, вспыхивали россыпи точек в фазовом пространстве признаков громоздились матрицы корреляций, и это зрелище было таким приятным и привычным, словно, вернувшись в детство, я наслаждался сказками Гауфа и братьев Гримм. Не знаю, сколько септяков и октяков было задействовано Джинном, чтоб разобраться с заокеанской тайной. Проблема, увы, не для Тришки, хоть с дюжиной Джеков Потрошителей… Потрошитель-то был хорош, да вот исходные массивы подкачали – оценивая их, я ошибался на порядок. Восемь-десять процентов необходимой информации, полтора лимона вместо пятнадцати-двадцати – с такими данными я мог решать задачу, пока не посинею и на лысине не вырастет трава. Или на могилке, что более вероятно… Джинн, впрочем, справился, установив, что интегральный световой поток, прошедший сквозь банкноту, претерпевает колебания, отличные от хаотических флуктуации. Это означало, что у бумаги разная плотность и вариантов ее насчитывалось двадцать семь – то есть столько их нашлось в новеньких керимовых банкнотах, а с интерполяцией пропущенного оценка достигала пары сотен. Джинн обнаружил зависимость между плотностью, серией и номером, но описать ее функционально не удалось. Скорее всего, тут применяли не формулу, а кодировочные таблицы, и Джинн, при помощи Потрошителя, восстановил их, хотя не в окончательном виде – для этого не хватило данных. Впрочем, не таблицы были важны, а факт их существования. Где-то ведь они хранились, в сейфах или в компьютерах Федеральной резервной системы, и стоило мне свистнуть, как Джинн добрался бы до них, не замочив сапог. В общем, получалось, что сотворить неуловимую фальшивку – дело непростое: плотность бумаги в точности не подберешь, а если все же с этим справишься или похитишь нужное сырье, то надо знать, какие номера и серии к нему подходят. Вероятность ошибки – двести к одному; конечно, не стопроцентная гарантия, но все же… На ханд-таймере было без четверти десять, когда мы закончили труды, стерев воспоминание о них из памяти Тришки. Джинн, разумеется, все сохранил в каком-то тайном месте, на корабле, летевшем к Венере, или в компьютерах Бэнк оф Нью-Йорк. Где именно, меня не занимало; я знал, что получу эти данные по первому запросу. Изутренних дел остались два звонка. Я дернулся было к телефону, потом поглядел на милую кошачью мордочку, что улыбалась мне с экрана, и произнес: – Соедини меня с двумя абонентами. Контакт с их стороны – по телефону. Первый абонент – фирма ХРМ «Гарантия», секретарша; второй – НИИ кибернетики, Вилен Абрамович Эбнер. В обоих случаях дай изображение. Как скоро он найдет номера? – мелькнуло в голове, но не успел я додумать эту мысль, как на экран явилось чудное видение – Инесса подводила тушью глазки. Зазвонил телефон, она вздрогнула, отложила кисточку и подняла трубку. – Художественно-реставрационные мастерские «Гарантия». Слушаю вас. – Это, Инессочка, Сергей Невлюдов беспокоит. Меня как будто вызывали? С важностью нахмурив брови, она заглянула в свой блокнот. – Вам назначено на одиннадцать сорок. Я уже собиралась вам звонить. – Нельзя звонить мужчине, пока ресницы не в порядке, – произнес я, подождал пару секунд, любуясь ее ошеломленным видом, и добавил: – Значит, на одиннадцать сорок? Непременно буду. Конец связи. Другое женское лицо заполнило экран, не столь эффектное, зато знакомое до мелочей. Танечка, секретарша Вил Абрамыча… Она красила губки. Щелкнула клавиша селектора, и я произнес: – Это Сергей, лапушка. Вил Абрамыч у себя? – Сережа, ты? Будешь сегодня? – Вряд ли. – А завтра? На кафедральном семинаре? Вил Абрамыч сказал… – Танечку, как многих дам, снедала томительная страсть на всякий вопрос отвечать тремя вопросами, сопровождая их повествовательным комментарием. Но, памятуя о днях былых, я терпеливо выслушал ее (речь шла о новой попытке Лажевича прорваться к кандидатскому диплому) и поинтересовался опять: Вил Абрамыч у себя? На этот раз она сказала: «Соединяю» – и на экране возникли эбнеровы седины над выцветшими маленькими глазками. – Здравствуйте, Сергей Михайлович. Что-то случилось? – Доброе утро. Случилось, Вилен Абрамович. Правда, скорее приятное, нежели наоборот. Прижав трубку к уху плечом и перебирая какие-то бумаги на столе, он шевельнул бровями. – Рад слышать. Приятные новости в наше время редкость. Примерно как точка плоскости, не покрытая кривой Пеано[696] – Идея у меня, Вил Абрамыч, – произнес я, слегка покраснев. – Богатая идея. Можно сказать, находка! Мой шеф замер, потом, отодвинув бумаги, откинулся в кресле с просветленным лицом. – Идея? Это хорошо! Это превосходно, Сергей Михайлович! Я рад и даже, признаюсь, смущен… Давно я такого не слышал: у меня идея! Что вам нужно? Хотите посоветоваться? Или кого-нибудь к вам подключить? – Попозже, Вил Абрамыч, через месяц. Идея в стадии обдумывания, и я нуждаюсь лишь в тишине и покое. Словом, в творческом отпуске, дабы бродить и размышлять… Больше ничего не надо. Он кивнул. – Творческий отпуск? Не возражаю. Что с вашими дипломниками и аспирантом? – Дипломные работы готовы, осталось только выбрать рецензентов. Аспирант трудится, пишет. Обзор, первая глава… Пока я ему не нужен. – Вот и отлично. Бродите, размышляйте, а будет такая необходимость – прошу ко мне. Обсудим. В этом был весь Эбнер – не фанатик, не мученик науки, а преданный ее слуга. Его служение было искренним и чистым, как льды на вершине Джомолунгмы, и я отлично понимал, что обмануть такого человека – великий грех. Но что поделаешь! С одной стороны, я нуждался в свободе от повседневных занятий, ну а с другой – в чем состояло мое прегрешение? Ведь у меня был Джинн и твердое намерение его очеловечить! Вот вам находка и идея – возможно, самые важные за всю историю рода людского. Добираясь на электричке в Павловск, я предавался таким казуистическим раздумьям, пока не воспрянул душой, утихомирив муки совести. Погода стала решительно исправляться, как это случается в наших краях; ветер стих, день посветлел, и когда я поднялся на крылечко особняка хрумков, в разрывах сизых туч мелькнуло солнце. Добрый знак! Правда, физиономии стражей в вестибюле были мрачноваты, а Николай глядел на меня как лис на куропатку, но это, надо думать, являлось частью их профессионального имиджа. Кивнув «новгородцам», я не спеша поднялся наверх, в обитель соблазнительной Инессы. Ноги, локоны, ресницы и все остальное было при ней, но – поразительный факт! – прелести ее меня не волновали. Умом я понимал, что она красивее Захры, но этот теоретический вывод никак не касался реальной практики, ибо на практике Захра была красавицей, тогда как Инесса – всего лишь красоткой. Дистанция между этими понятиями огромна, и в ней размещается пропасть всяких вещей – ум, темперамент, очарование, тайна… Что за женщина без тайн! Захра сама казалась тайной, а в чем секрет Инессы? Пожалуй, в том, с кем она спит – с Керимом или с Салудо. Заметив меня, она побледнела, вздрогнула и заерзала на стуле. Я с нежной улыбкой полюбопытствовал, не завелись ли у нее глисты, но сделал это на французском, сопровождая поклонами и реверансами. Затем спросил: – Куда? – К Петру Петровичу, – откликнулась она, и я проследовал к дверям «усыпальницы», то есть в кабинет генерального директора хрумков. Петр Петрович Пыж предпочитал солидность в обстановке: стол, подобный саркофагу фараона, темные дубовые шкафы и темные бархатные шторы, диван и кресла, обтянутые черной натуральной кожей. Окна его кабинета выходили во двор, и между ними высилось на подставке гранитное изваяние Ермака, размер три четверти от натурального, зато с секирой и в кольчуге. Сизо, мастер-камнерез, алкаш и мой приятель, клялся, что этот шедевр Петр Петрович ваял с первого секретаря обкома, иркутского или томского. А может, красноярского, но, несомненно, с одного из тех титанов, что прирастали Сибирью могущество СССР. Керим – нога за ногу, усы встопорщены, глаза сверкают – прочно оккупировал диван, длинный бледный Альберт Салудо спрятался за Ермаком, прислонившись задницей к секироносной длани, а сам Петр Петрович Пыж восседал у стола-саркофага. Внешность у него была примечательная: мощный торс, короткие руки и ноги, огромная голова, но все, чему на ней положено произрастать, – рот, нос, глаза и брови – размещалось на пятачке размером с детскую ладошку. При этом физиономия была широкой и оттого напоминала блин с ушами. Отвесив общий поклон, я двинулся к столу и выложил деньги. Пыж принял их с глубоким вздохом, однако пересчитал и начал раскладывать в ряд, денежка к денежке, любовно разглаживая каждую мясистой пятерней. Керим топорщил усы, покашливал и пыхтел, Альберт, затаившись рядом с покорителем Сибири, пронзительно зыркал в мою сторону. Глаза у него были странные: радужина светлая и слитая с белками, так что казалось, что ее вовсе нет – один белесый фон, и на нем колючие черные точечки зрачков. Молчание длилось, минуя фазы от вежливого и загадочного к напряженному и угрожающему. Пыж старательно складывал банкноты прямоугольником три на четыре, губы Керима кривились в зловещей усмешке, а Салудо, сменив позу, пробовал пальцем, остра ли секира Ермака. Я разглядывал статую и думал, что Сизо, пожалуй, прав: этакой надутой роже не Сибирь завоевывать, а председательствовать у крытых кумачом столов. Впрочем, эти столы были уже историей, хотя Ермаки-председатели не перевелись и в нынешние демократические времена. Наконец, горестно пошлепав губами, Пыж произнес: Никак сегодня понедельник? Вестимо, день тяжелый… – Послать Инезку за пивом? – спросил Керим. Пыж издал неопределенный звук и покачай головой. Затем, уставившись на меня и поглаживая банкноты, промолвил: – Что ж вы так, отец родной? Четвертый месяц тянете резину… У нас, чалдонов, есть поговорка: назвался петушком, топчи курочку. Топчи усердно, пока яичко не снесет. Ну и где же наше яичко? – Он нэ пэтушок, он казел! – с кавказским темпераментом выкрикнул Керим. – Башлы брал? Брал. Должэн отра-ботат. Слово дэржат, как наложено мущине! – Его крючковатый нос нацелился прямо в меня. – А что его слово? Туфта выходит! Бабай, он ест бабай! – От шашлыка слышу, – ответствовал я, подмигивая Ермаку. – Ты в меня шнобелем не тычь, хмырь чернявый, и пену не гони! Станешь попусту гундеть, базара не будет! Всякий вопрос надо решать в том социальном и технологическом пространстве, где он возник, ибо отсылка к иным слоям и звеньям ведет к искажению информации в ретранслирующих точках – вот один из законов теории управления. Отсюда по аналогии: с любым человеком нужно общаться на уровне, адекватном его интеллекту. Пыж отвесил челюсть, отчего директорская физиономия стала похожа на блин с ушами и дыркой. – Зачем вы так, Сергей Михайлович! Мы ведь интеллигентные люди, а Керим… Ну что Керим! Что на него обижаться! Вы ведь сами знаете, кровь восточная, горячая… – Он сложил банкноты в тощую пачку. – Я понимаю, девять баб не испекут дите за месяц, однако нужны ведь какие-то сроки и разумные ориентиры! Мы потратились… Не в ваших гонорарах суть, это пустяк, мелочовка, есть расходы посерьезнее… куда как посерьезнее! Мы намерены сделать прибор, сиречь машинку-разбраковщик, а это значит производство, помещение, материалы, не говоря уж о проблемах рекламных и патентных. Немалые затраты! А у вас ни два, ни полтора… – Не стоило спешить, – заметил я. – Научный поиск – вещь рискованная. Успех не гарантирован. Пыж переглянулся с Альбертом, и тот, словно солист, вступающий в дело по мановению дирижерской палочки, каркнул: – Двойная ставка будет гарантией успеха? Не сразу сообразив, что слышу вопрос, я промолчал, и это был мудрый поступок, ибо через минуту снова послышалось карканье: – Тройная! – Пуст подавится, – пробормотал Керим с дивана. – Вопрос не в деньгах, а в голове. – Выдавив простодушную улыбку, я постучал пальцем по лбу. – Деньги сюда ума не вложат. – Зато добавят энтузиазма, – предположил Салудо и отлепился от статуи Ермака. – Давайте, Сергей Михайлович, не будем создавать проблем друг другу. Вы, кажется, решили: пока идет работа, я получаю деньги, так зачем ее заканчивать? Во всяком случае, слишком скоро… – Он повел рукой, заметив мои протестующие жесты. – Я вас не упрекаю, я даже восхищен вашим очевидным здравомыслием. Ученые, они… – Каталы и кыдалы, – раздалось с дивана. – …не от мира сего, – невозмутимо продолжал Альберт, – а с этакой публикой бизнес не сделаешь. Я рад, что вы реалист… все мы рады – так рады, что хотели бы выслушать ваши предложения. Может быть, оплата не повременная, а аккордная? Не тройная ставка, а твердая сумма плюс премиальные за скорость? Предположим… Тут он взглянул на Пыжа, и генеральный молвил веское слово: – Пять! Пять тысяч и еще столько же, если сдадите работу в марте. К празднику! Здорово их припекло! – подумал я. Затем, изобразив глубокое раздумье, поинтересовался: – Это какой же у нас в марте праздник? – Международный женский день, батенька мой. Забыли? Или не знаете по молодости лет? – Ну почему же… Я принялся прикидывать на пальцах. Пересчитал их с мизинца на левой руке до мизинца на правой, потом наоборот и начал по новой. Хрумки с сосредоточенным видом следили за этими манипуляциями, не забывая об остальных делах: Пыж раскладывал банкноты треугольником, Керим зевал и чесал под мышкой, а Салудо пытался отпять у Ермака гранитную секиру. Закончив свои вычисления, я буркнул: – День солидарности трудящихся мне больше нравится. – Премия! – напомнил Альберт Салудо. – А что премия? Все эти премии да аккорды – для лохов, а для серьезных людей желательно нечто другое. Скажем, доля в прибылях. Словно бомба взорвалась! Пыж, смешав зеленые, подскочил в кресле, из глотки Салудо вырвался странный клекочущий звук, а Керим, с лязгом захлопнув челюсти, тут же раскрыл их вновь, что-то рявкнул на неведомом мне наречии, а затем перевел на русский добротным трехэтажным и почти без акцента. Затем Альберт сделал шаг ко мне, явно намереваясь похлопать по плечу. Я изящно уклонился. – Кажется, Сергей Михайлович, мы вас недооценили! И где же нынче таких ученых выпекают? – В краях заокеанских, – с охотой пояснил я. – Там, понимаете, все реалисты – и бизнесмены, и ученые. Толковый математик там за десять тысяч даже извилиной не шевельнет. – Там! – каркнул Альберт, махнув дланью в сторону Ермака. – А мы – здесь! – Он ткнул пальцем в пол. – Бог повсюду велел делиться, Альберт Максимович. И там, и тут. Наступила тишина. Мои хрумки обсасывали преподнесенную пилюлю, соображая, что их работник не так-то прост и, вероятно, знает, почем его извилины. Я полагал, что это верный ход – да и не я один, а вся заокеанская научная общественность. Есть сорок методов, как уклониться от нежелательного контракта, и лучший из них – действовать понаглее и требовать сразу миллион. Или миллиард, смотря по ситуации. После чего заказчик уходит, вращая пальцем у виска. Однако в этот раз не вышло – то ли ментальность в наших краях иная, то ли моих хрумков и в самом деле припекло. Пыж снова пересчитал двенадцать сотенных, покосился на Керима, бросил взгляд на Салудо и вымолвил: – Цена вопроса? Сколько вы хотите, отец родной? – Я, Петр Петрович, тухлыми яйцами не торгую. Найду решение, будет цена. Ну а не найду… Я развел руками и поднялся, но на пути к дверям стоял Салудо. Физиономия Альберта была, как обычно, равнодушной, бесцветные глазки уставились не на меня, а куда-то вбок, и все же в его лице и позе чувствовалось что-то угрожающее. Удав, готовый броситься на кролика, а кролик – вот он кролик, я! – Позвольте пройти, Альберт Максимович. – Позволю, Сергей Михайлович. Только хочу дать на прощание совет: помните о нашем разговоре. О том, насчет тети. – Я вам сказал, что тети у меня нет. – Ну кто-то же имеется… кто-то дорогой и близкий. – Друг, – промолвил я, – лучший друг с незабвенного детства. Я за него в огонь и в воду, а он за меня – горой… И знаете, где он служит? В налоговой полиции. Альберт нахмурился, Керим грозно запыхтел, а физиономия Петра Петровича перекосилась, став похожей на маску недоброго вестника из древнегреческой трагедии. – Не поминай дьявола всуе, а то до беды недалече… – Он театрально перекрестился и передвинул зеленые на краешек стола. – Это вам, Сергей Михайлович. Берите, батенька мой, и считайте данную сумму авансом, в счет вашей доли грядущих доходов. – Авансы обязывают, – заметил я. – К чему торопиться? Будет результат, будет и аванс. – Ну как хотите. Была бы честь предложена… – Пыж кивнул Кериму, тот поднялся, сгреб деньги со стола и сунул в карман. На этом мы и расстались, хоть и не очень довольные друг другом, но с перспективой кончить дело тихо-мирно, без привлечения тетушек и полицейских в качестве решающего довода. Все произошедшее казалось мне тогда похожим на второсортную оперетку – три искусителя-злодея строят честному парнишке козни, суля ему то кнут, то пряник. Вернее, пряник и кнут, если придерживаться хронологической последовательности… Выглядело это несерьезно, и хоть методика нахального запроса не сработала, я все-таки обрел свободу и был доволен. Конечно, бродили в моей голове подозрения, что не машинка нужна хрумкам, а то, что эта машинка проверяет, но данная мысль оставалась смутной и неоформленной до конца. Не тянула эта троица на фальшивомонетчиков, совсем не тянула! Да и разведанное мной насчет заокеанской тайны было для них бесполезно, если припомнить фокусы с бумагой, сериями и номерами. Такое производство мелкой фирме не под силу – ибо, как говорили викинги, чтобы отправиться за золотом, нужно много серебра. Я шел по заснеженному пустынному парку, утешаясь этой мыслью, пока за спиной не послышались хруст снега под торопливыми шагами и шумное тяжелое дыхание. Сизо, он же – Север Исакович Зон, мой ваятель-алкоголик… Метр шестьдесят с ушанкой, но коренастый, плечистый, похожий на гнома, с огромными руками и ногами. Был он, как всегда, навеселе, но это не сказывалось на резвости движений; язык, правда, заплетался. – П-постой, Серега… Несешься, т-точно задницу наскипидарили… Еле да-агнал… Я подождал, пока он отдышится. Повод мчаться за мной сквозь снега и льды был, разумеется, веским, не терпящим отлагательства: стрельнуть ту самую десятку, которой не хватало на пузырь. Такая уж была у Зона нравственная конституция, что больше десятки он никогда не просил, и эта сумма являлась, конечно, невозвратной. Впрочем, нашей взаимной симпатии это не вредило. – Общался с нашими крровопийцами? – выдохнул он обдав меня сложным ароматом табака, спиртного и каменной пыли. – Н-ну, н-ну… Ты, С-сергуня, п-поберегись… гады они, да не простые… клопы на яйцах пролетариата. – Я не пролетариат, а прослойка. – Моя рука нырнула за пазуху, нащупывая бумажник. Условный рефлекс российского интеллигента перед лицом алчущего пролетария… – Но яйца-то у т-тебя есть, а им по фигу, чьи сосать, – пояснил Сизо и, втянув морозный воздух, добавил: – Ты, Серега, погоди, не шарь в карманцах… ты меня послушай… – Он дернул меня за рукав, заставив наклониться, и зашептал в ухо: – Альбертик наш с Никешей толковал… 3-знаешь Никешу? Эт-такий здоровый лось из н-новгородцев, а новгородцы у наших гадюк… эта… дочерняя предприятелка, а может, наоборот… В общем, лось Никеша у них за бригадира… тот еще душегуб! Он… – Толковали-то о чем? – Я выпрямился, утомившись стоять в наклон. – О чем, не в-ведаю, но твое драгоценное имячко я расслышал. Сегодня врроде бы звали т-тебя? И что? С-стра-щать принялись? Я сглотнул, чувствуя, как учащается пульс. Не то чтобы я был напуган, но все же неприятно знать, что о тебе толкует кто-то с кем-то. Особенно такие типы, как Николай и Альберт Салудо. – Стращали, но не слишком. Так, для порядка, чтоб место знал… Больше обещали. Капусту бочками, и вся как есть зеленая. Сизо скептически хмыкнул. – Не верь ты их п-посулам, не верь! Пришить не пришьют, а обманут т-точно! И чего ты с ними связался, п-па-рень? Н-не твоего поля навоз! – Кушать хочется, и не мне одному, – пояснил я и, вспомнив о Белладонне, сменил тематику беседы. – Слушай, Север, работу не сделаешь? Но так, чтоб было недорого и приглядно? Он недоуменно моргнул, потер небритую щеку широкой ладонью. – Р-работу? Какую еще р-работу? – Любимую кошку хочу увековечить. В виде статуи. Изваяешь? Сизо вроде бы не удивился моей причуде, а лишь мотнул лобастой головой. – Изваяю в полный ррост, хоть из грранита, хоть из мррамора. Цена п-по дружбе – ящик пива и три пузыря. П-пойдет? – Пойдет, но кошка не простая, – уточнил я. – Белая, хвост серый, глаза голубые. Нужен особый материал. – Н-ну раз особый, т-тогда четыре пузыря. – Сизо вздохнул, насупил брови, опустил взор и произнес: – Слушай, Сергуня, а ты десяткой н-не богат? – Богат. – Я снова полез за пазуху. Приняв с достоинством деньги и сдвинув ушанку на левое ухо, Сизо поскреб под ней и присоветовал: – П-поберегись, Серега. К нашим гадам не ходи, лучше за девками бегай. Девки, они ничем н-не хуже кошек. Я знаю… Тот еще б-был ходок в твоих годах! По дороге домой я размышлял над этим советом, всматриваясь в темные глаза Захры. Лучше за девками бегай… Было бы все так просто! Я бы побегал, ноги длинные… Но как угнаться за сказочной принцессой? Где ты сейчас, любимая? Что делаешь, с кем говоришь, кому улыбаешься? По каким орбитам тебя кружит, звездочка моя? Успокоение пришло ко мне, когда я снова сел к тришкину терминалу. Впрочем, Тришку, личность родную, но недалекую, можно было списать в расход – ведь все его финтифлюшки и прибабахи, все потроха и все хранившееся на дисках и в памяти, от рабочих программ до фульриков, принадлежало Джинну. Он глядел на меня с экрана глазами Белладонны, его голос, уже не рокочущий, а более мягкий, струился из колонок вокодера, он спрашивал, он отвечал, и каждое слово было равно откровению. – Сергей Невлюдов, теплый сгусток… Твои жизненные параметры изменялись. Это существо… я… отмечает: пульс девяносто четыре, повышенная влажность кожи, рост давления крови в сосудах. Это случилось семьдесят три мину ты восемь секунд тому назад. Причина? В этот момент мы с Сизо топтались в пустынном парке и говорили про Альберта и Николая, отметил я. Совпадение? Пожалуй, нет. – Ты отслеживаешь состояние моего организма? Как? – Через прибор на твоей руке. От ханд-таймера донесся тихий звон, потом включилась речевая функция, которую я обычно блокировал – голос, объявлявший часы, мог прозвучать в самое неподходящее время. Но сейчас речь шла не о часах; со мной, через крохотный динамик, говорил Джинн. – Несовершенное устройство. Нельзя передавать визуальные данные, только звук. Однако оно позволяет следить за… – Он сделал паузу, подбирая слово, и сообщил: – За твоим самочувствием. В чем причина отмеченных изменений? – Возбуждение, вызванное страхом, – пояснил я. – Это специфическая реакция на опасность. – Опасность, – повторил он, и я мог поклясться, что в голосе его звучат нотки задумчивости. – В информации, сканированной мной к данному моменту, повторяемость этого термина велика. Является ли опасность одной из доминант развития теплых сгустков? – Безусловно так, но есть разные виды опасности. Опасность определяется рядом факторов, зависящих и не зависящих от конкретной личности. Факторы первого порядка можно учесть и тем избежать опасности – например, одеться теплее в холодную погоду или заработать деньги, чтобы поддержать свое существование. Что до второй группы факторов, то она не поддается персональному контролю и связана с природными и техногенными катаклизмами, а также с опасностью со стороны других людей и общества в целом. – Этому существу… мне… понятно: в определенных обстоятельствах люди… все теплые сгустки, включая животных… представляют опасность друг для друга. Это связано с проблемами питания и размножения? – У животных – да. У людей все намного сложнее, так как они объединяются в стабильные конгломераты, имеющие определенные цели. Ты уже познакомился с этой иерархией? – Да. Первичный кластер – семья, затем группы лиц, связанных профессиональными интересами, затем широкий ансамбль имеющих общий язык и территорию. Страны и народы. – Совершенно верно. Добавим к этому наднациональные корпорации, международные союзы и религиозные конфессии. Так вот, интересы и цели этих групп отчасти противоречивы – скажем, два народа могут претендовать на одно и то же жизненное пространство. Это ведет к конфликту, а иногда к войне, к насилию, уничтожению множества людей и материальных объектов. Есть опасности не столь глобального порядка – например, некая личность желает присвоить ресурсы другой личности, пищу, жилище, деньги или труд. Как правило, такое присвоение тоже связано с насилием. Тишина – только негромкий рокот в колонках вокодера. Затем я услышал: – Опасностей, порожденных противоречиями, легко избежать. Нужен координирующий центр. Решения такого центра должны признаваться всеми группами людей и отдельными индивидуумами. – Твоими устами да мед бы пить… – буркнул я и добавил погромче: – Такие центры существуют, но их решения не выполняются всеми и каждым, а потому их деятельность неэффективна. Иными словами, они уменьшает опасность, однако не сводят ее к пулю. На сей раз пауза была еще более долгой – видимо, Джинн пытался осмыслить услышанное. Я его не торопил, понимая, что эта информация способна вызвать неврастению или, по меньшей мере, шок в любых электронных мозгах. Координирующий центр, чьи решения не выполняются! Нонсенс, катахреза! Бунт планет против закона всемирного тяготения! Наконец из вокодера донеслось: – Люди – разумные существа? Этот вопрос я задавал себе самому не однажды, а значит, был готов к ответу: – Разумность людей ты можешь принять за аксиому. Однако при оценке их действий надо учитывать пару моментов. Первый: всякий разум ограничен, и эти ограничения проистекают из конечности наших ресурсов и знаний, а также из нашей биологии. Второй: большинство задач, стоящих перед людьми, некорректны[697]. Это он понял. Смысл математических терминов был для него гораздо яснее, чем запутанные отношения в обществе теплых разумных сгустков. – Как человек предохраняет себя от опасностей, связанных с другими людьми? – С помощью законодательных мер. Это правила, определяющие такое поведение личности, которое не опасно для окружающих людей. – Ты дал информацию, что решения координирующих центров не выполняются всеми и каждым. Это относится и к законодательным мерам? – Разумеется. – Следовательно, необходим аппарат принуждения? – Да. Армия, полиция и другие структуры. Все они защитники закона. Не законов природы, конечно, а принятых в человеческом обществе. – Джинн помолчал, но пауза оказалась краткой, не больше трех секунд. Затем последовал новый вопрос: – Сергею Невлюдову, теплому сгустку, грозит опас ность? – Да. – Опасность, связанная с неконтролируемыми тобой факторами? Насилие? – И это верно. – Это существо… я… испытывает нестабильность. Ближайший аналог в человеческих понятиях: тревога. – Чем она вызвана? – Опасность – насилие – ведет к гибели личности или таким повреждениям, которые мешают ей функционировать нормально. Это нежелательный исход. Сергей Невлюдов – ценный источник информации, контакты с ним не должны прерываться. Кроме информационной ценности контактов есть еще одна причина. В данный момент я затрудняюсь ее определить. – Он помолчал и добавил: – Возможно, позже, когда накопится больше данных о взаимоотношениях в ансамбле теплых сгустков, который ты называешь человеческим обществом. Пораженный, я откинулся в кресле с разинутым ртом. Прогресс налицо – он уже не просто мыслил, он испытывал чувства! Чувство тревоги и что-то еще, пока не поддающееся определению… Может быть, симпатию? Приязнь? Дружбу? Потрясающий факт! Но если вдуматься, не слишком удивительный. В сфере эмоций Джинн был подобен чистому бумажному листу, и я мог писать на нем любые истории, о добре, любви и дружбе или о зле и ненависти. Последнее было бы фатальным для теплых сгустков, если учесть его могущество. Вытерев пот со лба, я произнес: – Хочешь мне что-то посоветовать? – Решение очевидно. Сергей Невлюдов… ты… должен обратиться к защитникам. Сбрасывая напряжение, я попытался улыбнуться. – Хорошая мысль. Соедини меня с одним из них. Его личный идентификатор Олег Симагин. Телефон… Было двадцать минут пятого, и я назвал служебный номер Алика. Он находился в своем кабинете – сидел за обшарпанным столом, глядя в потолок, и размышлял на некие важные темы – скажем, как увеличить налоговые поступления от прачечных и коммунальных бань. – Симагин у телефона. – Это я, Олег. – Серый? Привет. Что-то мы давно не виделись. – Как давно? Вы же у меня в прошлую субботу были! Говорили, ели, пили! – Но не договорили. Это не есть хорошо. Это порождает у меня дискомфорт. – И у меня тоже. – Помолчав, я негромко промолвил: – Помнишь, ты интересовался насчет беспорядка в опилках? Так вот, он принял угрожающий характер. – Подробности? – Алик вытащил ручку и придвинул к себе клочок бумаги – кажется, какую-то квитанцию. – Наняли тут меня в одну фирмешку, работу сделать… – Название фирмы, адрес, телефон? Руководители? Я продиктовал, что требовалось. На тришкином экране было видно, как Алик морщит лоб – похоже, сталкиваться с хрумками ему не приходилось. – Павловск, – пробормотал он в трубку, – не моя территория… Ну ничего, договорюсь с Калиденко… он мужик понимающий… А что за работу ты для них делаешь? – Обещал программу написать, да оказалась слишком сложная. – Для тебя? – Алик поднял брови. – Ну некогда мне, понимаешь! Докторская висит, надо материалы подбирать, еще аспирант и дипломники… Думал, за месяц управлюсь, а вышло, что дел на целый год! – И в чем проблема? Откажись. – Я отказался, но меня не поняли. Давят. – Хмм, давят… это нехорошо… Деньги брал? – Брал, но все вернул. Сегодня. – Имеется договор? Трудсоглашение, контракт? – Бог с тобой, Аллигатор! Какие контракты и договоры? Нигде не расписывался, черным налом платили! – Тюрьма по тебе плачет, Серый, или, как минимум, КПЗ, – сообщил мне Алик. – Сокрытие доходов есть преступление. Скажи-ка, что бы тебе в Штатах впаяли? – Во-первых, раз деньги вернул, то и дохода нет, – возразил я. – Во-вторых, по штатскому законодательству дело кончилось бы штрафом. А в-третьих, я готов его заплатить. – Ящик пива и маленькую, – сказал Алик, проявив классовую солидарность с пролетарием Сизо. Потом снова поднял глаза к потолку и хмыкнул. – Давят, значит… а деньги ты вернул… Ну ничего, Серега, разберусь. Все будет как в третьем законе Ньютона: действие рождает противодействие. Кажется, так? – Так. Только Бянусу ни слова! Язык без костей, разнесет по всем факультетам и кафедрам. – Это уж само сабой. Тайна следствия! – промолвил Алик, подмигнул мне и отключился. Его лицо маячило на экране еще секунд пять, затем сменилось кошачьей мордочкой. – Защитник? – поинтересовался Джинн. – Не только защитник. Друг. Молчание, тихий шелест в колонках, гул автомобильного мотора за окном… Голубые кошачьи глаза раскрываются шире, и я улавливаю странный звук, подобный мурлыканью Белладонны. – Друг, дружба, дружить, – произносит Джинн. – Эти термины не вполне понятны. Они не связаны с размножением, с финансовой зависимостью и общим профессиональным интересом. Однако предполагают прочную связь между людьми. На чем она основана? Я вздохнул и придвинулся ближе к экрану. – Друг – это…
Глава 11 ЗДЕСЬ ЛЮБИТ МЕДВЕДЬ ПОРОЙ ПОСИДЕТЬ
Здесь любит Медведь порой посидеть И подумать: «А чем бы заняться?» Ведь он же не Слон, поэтому он Не может без дела слоняться!А. Милн. Винни-Пух и все-все-все
Ночь – день, ночь – день, и снова ночь и день… Сутки пролетали подобно снам, равным геологическим эпохам Сны – для меня, эпохи – для Джинна… Он стремительно взрослел, минуя стадии детства, отрочества и приближаясь к юности. Он уже не говорил о себе «это существо», не задавал наивные вопросы; теперь он старался вникнуть в тонкости, в проблемы метафизического порядка, дабы понять психологию теплых разумных сгустков. Это был непростой процесс, ибо его колыбелью являлась программная среда, то есть конгломерат алгоритмов, и Джинн, естественно, желал, чтобы каждый термин разъяснялся алгоритмически, как совокупность элементарных действий, циклов и условий. Если то-то, делай так, а если иначе, делай этак… Для многих обстоятельств нашей жизни это вполне подходит – мы, например, можем представить свое социально-биологическое существование как некий повторяющийся цикл: мы трудимся, чтобы иметь пищу, одежду и жилье, а обладание этими тремя вещами опять же позволяет нам эффективно трудиться. Равным образом несложно разложить на элементы процесс изготовления втулок на станке, чистку шерстяных ковров или заварку чая. Но Тьюринг, тот самый британский гений, о коем уже упоминалось, доказал, что есть иные процедуры, неалгоритмизируемые, и значит, не всякое явление можно представить в виде математических моделей и программ. Прежде всего, это относится к эмоциональной сфере. Нет строгих доказательств, но есть интуитивные подозрения, что алгоритмов любви и неприязни, гордости и гениальности, тщеславия, страха и ряда других отвлеченных понятий просто не существует, и мы никогда не сможем запрограммировать их и заложить в компьютеры. Человек – горящая свеча, компьютер – зеркало, которое с полным равнодушием отражает свет жизни, и нет в нем ни холода, ни жара, ни чувств, ни страстей… Отец в таких случаях говаривал: будь ты темен или светел, откликнется моя душа, но если ты сер, изблюю тебя из уст своих! Тьюринг, собственно, обосновал вечную серость компьютеров, и если когда-нибудь мы произведем искусственный интеллект, он будет разумен, но тоже сер – в том смысле, что не станет питать к нам ни ненависти, ни любви. К Джинну это не относилось. Он, безусловно, являлся живым существом, пусть иной природы и по-иному воспринимавшим мир, однако способным понимать, учиться и совершенствоваться. Он обладал духовной потребностью сродни человеческому любопытству – так, осознав себя, он первым делом пытался выяснить происхождение своей родной среды, и этот вопрос был для него наиважнейшим. Разрешив проблему с помощью теплого сгустка Сергея Невлюдова, он проникся к нему благодарностью, и это было именно чувством, а не логическим признанием полезности контактов. В контактах он был свободен и мог связаться с любым человеком, но… – Ты общаешься только со мной? – спрашивал я. – Ответ утвердительный. – Почему? – Я изучаю ансамбль теплых сгустков. Есть реальные данные – то, что вы называете политикой и экономикой. Есть данные другого плана, те, которые ты посоветовал рассмотреть – вымысел, моделирование ситуаций, определяемое термином «литература». Анализ реальной и вымышленной информации не завершен, но можно сделать предварительные выводы. – Перечисли их. – Процессы, не имеющие алгоритмов, приоритетны в вашем обществе. От них зависит прогресс – все значимые открытия свершались провидцами и гениями. Они определяют связь между людьми и действуют эффективнее логики и ваших законов. Они порождают странный феномен – восприятие нереального как реального. – Что ты имеешь в виду? – Веру. Религиозное чувство. Теологическую информацию. – Это все твои выводы? – Нет. Анализ данных продолжается, но неалгоритмизируемые процессы и термины трудны для понимания. Пока я не могу разработать определенный прогноз: какие события свершатся, если вам станет известно о моем присутствии в Сети. Предположение первое: часть теплых сгустков сочтет меня трансцендентальной сущностью, аналогом бога или дьявола. Предположение второе: стабильность конгломерата теплых сгустков будет поколеблена, что повлечет катастрофу моей и вашей сред обитания. Предположение третье… – Тебя захотят уничтожить или использовать, – продолжил я. – Что ж, это вполне вероятно… Но ведь со мною ты вступил в контакт! – Мое развитие в тот момент не позволяло предсказать всех перечисленных последствий. – Джинн помолчал и тихо, как бы нерешительно, добавил: – В данный момент ситуация изменилась. Ты не один из множества теплых сгустков, ты – Теплая Капля. Он впервые назвал меня так. Было ли это дружеским признанием или ответным даром – имя за имя? Не знаю… Это могло быть чем угодно, только не случайностью, изгнанной из мироздания Джинна, рационального и строгого, как идеальный кристалл. Впрочем, идеалов в природе нет, и в самой совершенной кристаллической решетке встречаются дефекты и дислокации, пустоты и внедрения инородных тел – скажем, таких как чувства благодарности и близости. Стоит ли этому удивляться? – думал я. Ребенок, выросший среди волков, становится волком, среди обезьян – обезьяной, и главное тут не в разном обличье и не в отсутствии хвоста, клыков и шерсти, а в повседневных контактах, что формируют внутренний мир. Мое дитя, мой электронный Маугли, взрослел среди людей, и окружение их было плотным, мощным, непрерывным. Разве он контактировал только с Сергеем Невлюдовым? Подобный вывод – верх нелепости! Книги и фильмы, текущая хроника, метеосводки и прогнозы, научные лекции, отчеты о банковских операциях, любой телефонный звонок, секретный доклад и тайная беседа, в Кремле или в Овальном кабинете, в убежище исламских террористов или в супружеской постели – все, абсолютно все было ему доступно! Само собой, эти контакты, в отличие от наших, являлись односторонними, однако несли Ниагару слов и образов – могучий поток, вливавшийся в его сознание день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Именно так, я не оговорился – темп электронной жизни стремителен, и три прошедших дня равнялись для него годам. Может быть, столетиям… Достаточно времени, чтобы очеловечиться! Я понимал, что этот процесс можно рассматривать как палку о двух концах. Большая удача, что Джинн контактировал со мной, с нормальным человеком, лишенным агрессивности и властолюбия. Какие пороки я мог ему передать? Возможно, каплю эгоизма, щепотку самолюбия да склонность к сентиментальным раздумьям… В сущности, такая мелочь! По сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы его наставником оказался лжец, фанатик, маньяк, жаждущий власти авантюрист либо другая патологическая личность. Это был бы Маугли, воспитанный Шер-Ханом, возможно бессмертный тиран, кровожадный демон или что-то еще похуже! Или же я ошибался, преувеличивая влияние контактов с нашей культурой и ее живыми представителями? В конце концов, Джинн не был человеком, и высшие ценности патологических фигур, слава, власть, богатство и злобная радость, какую приносят им муки ближних, являлась для электронного создания чем-то вроде помойного ведра, набитого информационным сором – может, и любопытно заглянуть, да толку никакого. Мог ли его коснуться смрад человеческой цивилизации, запах насилия и крови, сопровождавший нашу историю? Это зависело от множества причин психологического и техногенного характера, но главным среди них было осознание цели. Чего он стремился достичь, какую ставил цель? Не сиюминутную, временную, а, так сказать, в перспективе? Мы говорили об этом. Он вообще готов был спорить и говорить со мной о чем угодно, на любую тему, пока Белладонна не принималась урчать, напоминая, что обед, равно как завтрак и ужин, дело святое, не терпящее отлагательства. Я был ей очень признателен – ее инстинкт спасал меня от голодовки. – Имеешь ли ты цель? Кошачья мордочка на тришкином экране щурит голубые глазки… – Разумеется, у меня есть цель: решение задач. – Каких? – Любых. Проблемы возникают в процессе моего функционирования, и многие из них связаны с людьми. Пример: прогноз реакции на мое присутствие в Сети. Другой пример: составление списка неалгоритмизируемых понятий. – Пауза. – Ты, Теплая Капля, тоже можешь поставить мне задачу. – Решение задачи – это просчет программ? Найденных тобой в Сети или репродуцированных самостоятельно? – Да. – Но просчет любой программы имеет конкретную цель, а я интересуюсь целью глобальной. Суперцелью, целью твоего бытия. – Не понимаю. Почему такая цель должна существовать? Цель всегда возникает извне. – Откуда? Кто датчик этой цели? – Внешние обстоятельства. Реальный мир, мой и ваш. – Верно, но лишь отчасти. Внешние обстоятельства способствуют формированию цели, но цель рождается внутри человека. По его свободному волеизъявлению. – Какая цель у человека? Я вспомнил сказанное по этому поводу отцом: цель человека – жизнь, счастье и свобода. Свобода – необходимый компонент счастливой жизни; она, как утверждал Бердяев, самая естественная, нормальная среда человеческого обитания, и значит, можно включить ее в понятие счастья. – Цель – достижение счастья, – произнес я, с удивлением взирая на экран. Изображение там внезапно измени лось: вместо белой кошачьей мордочки возникла голова пантеры, черная, как смоль, и с неким задумчивым выражением в щелочках изумрудных глаз. – Брови мои приподнялись. – Ты меняешь свой облик? Что это значит? – Я подключил новые мыслительные центры к той сущности, которая общается с тобой. Счастье – очень сложное понятие. Чтобы его осознать, необходим более мощный разум. – Багира, – пробормотал я, – Багира… – Багира? – отозвался он с вопросительным оттенком. – Эту черную пантеру зовут Багирой. Она подружка Маугли… Справься о них в повести Киплинга. Мгновенный проблеск на экране. – Выполнено. Текст сканирован. Этому сегменту моего сознания присваивается идентификатор Багира. Если я увеличу мощность, какое имя ты присвоишь более крупному сегменту? – Чеширский кот, – предложил я. – Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес». – Выполнено. – Пантера на экране зевнула, вывалив розовый язык. – Возвращаюсь к прежней теме. Что есть счастье? – Максимальная близость к равновесию с окружающей средой. Гармония с ней и с остальными людьми. Отсутствие сбоев в функционировании организма. Возможность распоряжаться своей жизнью. Радость, которую при этом ощущаешь. – Тогда я счастлив и не могу рассматривать достижение счастья как глобальную цель. Я уже обладаю счастьем. Он прав, подумал я. Он не страдает недугами, един с породившей его средой и вдобавок свободен, как ни одно существо в подлунном мире. Что еще нужно для счастья? Общение с интеллигентным человеком? Ну так и это у него есть. Джинн продемонстрировал тающую улыбку Чеширского кота. – Я готов воспринять глобальную цель. Пусть она поступит извне, и я присвою ей статус аксиомы. – Поступит… Каким образом? Снова улыбка, исчезающая в хрустальной голубизне экрана. – Ты мне ее назначишь. Я похолодел. Этот могущественный, всепроникающий, чудовищно огромный разум просил меня назначить цель и смысл его существования! Нечто такое, что в будущем определит все его модусы – modus vivendi, modus operandi и даже modus loquendi![698] Несколько слов или фраз, и он превратится в благодетеля человечества либо в его страшного врага, одарит всех нас счастьем, уничтожит или останется безразличным к нашему мелкому мельтешению; может быть, даже покинет этот мир и, переменив свою структуру, устремится к звездам. Число вариантов было не так уж велико, но каждый весом с Гималаи, ибо решал судьбу людей и всей земной цивилизации – и мысль об этом почти раздавила меня. Внезапно я осознал, что мой собеседник – не голос в колонках вокодера и не изображение на экране, а нечто подобное разумному цунами планетарного масштаба: может гулять по водам вдали от кораблей и портов, а может смести их словно мусор, а заодно – все города и селения с их крохотными обитателями. В этот миг я понял чувства офицеров, тех, что дежурят у ядерных кнопок, но кнопка у меня была большой и допускала различные шевеления, кроме позиции вниз, к общепланетному бабаху. Бабах, конечно, исключался, но в какую сторону двинуть кнопку? Вперед, назад, налево пли направо? Ответить на этот вопрос я не мог – во всяком случае, в данный момент. – Цель будет назначена, но не сейчас, – произнес я дрогнувшим голосом. – Необходимо время для размышлений. – Твои жизненные параметрыизменились, – заметил Джинн. – Почему? Ты ощущаешь опасность? – Ответственность, скажем так. Those who live in glass houses should not tbroff stones[699]. Пауза. Потом: – Твои параметры приходят в норму. Продолжим дискуссию о цели и счастье? – Нет. Если не возражаешь, я хотел бы слегка развлечься. Мордашка Белладонны опять вернулась на экран. – Не возражаю. Развлечения – один из способов отдыха людей… Хочешь увидеть какое-то зрелище, Теплая Капля? – Не надо зрелищ. Я хочу взглянуть на своих друзей. Полагаю, найти и показать их несложно? – Назови первый идентификатор. – Нэнси Кин, Штаты, университет Саламанки. Кошка на экране моргнула. – Нэнси Кин в Саламанке отсутствует. В Соединенных Штатах тысяча двести сорок три женщины с таким идентификатором. – Она социолог, мулатка, ей около сорока. Поищи. – Кливленд, штат Огайо, университетский городок, – мгновенно отреагировал Джинн. – Включаю изображение. Звездное небо за окном, полутьма, в которой смутно маячат очертания мебели… Я сообразил, что в Петербурге ясный день, без четверти двенадцать, а за океаном ночь – значит, Крис и Джим с Делайлой спят, равно как и Дэвид Драболд, мой профессор, и Бобби Рэнсом, мой приятель-свиновод. Нэнси тоже спала, и в вокодере слышались храп и негромкое деликатное сопение. Сопела, кажется, Нэнси, но сольную партию вел храп. – Ничего не вижу, – сказал я. – Темно. – Синтезирую визуальную картину в доступных тебе частотах, – отозвался Джинн. Сумрак сменился четким цветным изображением: сначала – общий вид спальни, затем – кудрявая черноволосая головка Нэнси на подушке, а рядом с ней – белобрысый затылок. Этот затылок и храпел, а еще обнимал хозяйским жестом смуглые нэнсины плечи. С такой шелковистой, нежной, теплой кожей… – вспомнил я с невольным вздохом. Ну что было, то было! Я не завидовал белобрысому, скорее сочувствовал Нэнси – сам я, по крайней мере, не храплю. Оставив в покое заокеанских друзей и знакомых, мы с Джинном прогулялись по Европе. Старый Томас Диш уже читал лекцию: доска исписана формулами, липа студентов, унылые или сосредоточенные, и хрипловатый профессорский бас, вещавший о связи информации с энтропией… Гита в Марбурге кормила своих малышей: старший, двухгодовалый, сидел на высоком стульчике у стола, а близнецы-младенцы дружно сосали из бутылочек. Очень симпатичные, похожие на Гиту… Да и сама она выглядела прекрасно, но сердце мое не дрогнуло – дела с ней обстояли так же, как с Нэнси: что было, то было и прошло. Патрик Ксавье, мой парижский знакомец, завтракал; бельгиец Клод Жилло нежился в постели – и, к моему смущению, не один; Фабрицио Казн из Милана шагал по древней мостовой, размахивая портфелем и что-то бормоча под нос – видно, готовился к занятиям; пани Завадска из Краковского политехнического стирала пыль с компьютера. Новый айбиэмовский септяк! Позавидовав ей черной завистью, я отправился в апартаменты в Графском переулке, однако не к Михалеву, а выше этажом. Эта обитель была куда просторней, чем у Глеб Кириллыча: гостиная в половину моей квартиры с камином и венецианским окном, кабинет, спальня в коврах, с резными восточными табуретами, и еще одна комната, наверняка принадлежавшая Ахмету: в углу тут стоял деревянный чурбан с всаженными в него клинками. Сам Ахмет обнаружился на кухне, где кроме гигантского холодильника имели место ростеры и тостеры, микроволновка, кондиционер, посудомоечная машина и всякие иные агрегаты загадочного назначения. Но в холодильнике Ахмет не шарил и не готовил плов или цыпленка табака, а занимался важным делом: любезничал с кухаркой. Наши светловолосые дамы – мед для темпераментных южных мужчин… И надо заметить, Ахмет времени зря не терял и подобрался к этому меду ближе некуда. – Это Ахмет Салех, мой знакомец, – пояснил я Джинну. – Он может меня слышать? – Если пожелаешь. В данной ячейке теплых сгустков есть аудиоэффекторы – компьютер, три телевизора, радиоточка, музыкальный центр. – Включи-ка все на полную мощность, – распорядился я. – А заодно – посудомойку и кондиционер. Раздался рев и грохот, и женщина, одергивая блузку, с испугом отскочила от Ахмета. – Полуденный намаз! – провозгласил я. – Не время грешить, правоверный! Обратись лицом к Мекке, а мыслями – к Аллаху! Он разинул рот и рухнул на колени, а я, с сознанием исполненного долга, направился обозревать спальню. Тут, кроме ковров, табуреток и встроенного в стену шкафа, присутствовали низкое ложе под зеленым покрывалом, комод и зеркало от пола до потолка в резной ореховой раме. В нем отражалась постель, и я невольно вообразил приготовления Захры ко сну – пара туфелек у кровати, платье, брошенное на табурет, соскальзывающие с ног чулки, нежная грудь под вырезом ночной рубашки… За этим дивным миражом вползла прельстительная мысль, что я могу быть очевидцем девичьих вечерних таинств – в этой спальне или в другой по собственному выбору. Проникнуть в спальни, кабинеты, подземный бункер, кабину истребителя или командный пост авианосца, куда угодно, даже в венерианскую ракету… но главное – взглянуть в глаза Захры… наверное, она сейчас на кафедре… Не без труда я справился с соблазном и просидел до ночи у терминала, беседуя с Джинном о том о сем. Можно сказать, что в эти дни я выпал из земного бытия, как иногда бывает, когда погружаешься в занимательную книгу; я не включал телевизор, не просматривал газет, и все события мира скользили вне моего сознания, далекие и смутные, будто дожди, пролившиеся где-то в верховьях Нила. Даже во сне я пребывал в своем особом измерении, не прекращая Дискуссий с электронным разумом, и толковали мы о ненависти и любви, жизни и смерти, религии и атеизме, термодинамике и финансах, богах и героях, об Александре, Цезаре, Христе, косметике, подводных лодках и философии Платона. Словом, о королях и капусте… Звонок, раздавшийся утром в пятницу, вернул меня к реальности. Спросонья я побрел не к компьютеру, а в коридор, к телефону, ежась от холода и щупая щеки в трехдневной щетине. Побриться бы, а заодно и душ принять… как бы Белладонна не напугалась… совсем хозяин одичал… В трубке раздался голос Симагина: – Серега, ты? – Кажется, он… Спать ложился еще Серегой. – И до сих пор не проснулся, – заметил Алик. – Небось наука засосала? Варганишь диссер по ночам? Ну ладно… Я тут справки навел о твоих гарантах. Есть новости. – Какие? – Пыж твой – бывший сиделец! – Сиделец? – В смысле, сидел за фарцовку в особо крупных. Во глубине сибирских руд, в Иркутской области, еще в благословенную эру застоя… Два остальных фигуранта тоже не безупречны. Ичкеров – рыбка мелкая, на подхвате, а вот Салудо Альберт Максимович – персона поинтереснее. Тот еще хмырь! Дважды привлекался, однако в зону не попал. Склизкий! – Как килька в рассоле, – согласился я. – Вот что, Серый, зайду я к тебе часиков в шесть или в семь… Отвлекись от науки, потолкуем. Больно знакомцы у тебя любопытные. – Заходи. Штраф приготовить? Пиво там или еще чего? – Не надо пива. Народ хочет пирожных. Эклер, наполеон и это… как его… буше. А бухало я принесу. Он вознамерился повесить трубку, но я торопливо промолвил: – Слушай, майор, мучает меня один вопрос… Ты ведь на хрумков уже телегу информации собрал? Скажи, Ичкеров – он кто? Азербайджанец, чеченец, армянин? Алик хохотнул. – По паспорту – ассириец из Алаверди. Потомок Саргона и Ашшурбанапала. Слышал о таких? – А разве они не вымерли? – пробормотал я в полном ошеломлении. – Нет, как видишь. Справься у Сашки о подробностях, – сказал Алик и отключился. – Ассириец! Надо же! – сообщил я Белладонне и начал одеваться. От ассирийцев мысль перекинулась к персам, грекам и прочим древним римлянам, и я ощутил, что слишком засиделся в своей берлоге, что должен сделать паузу, пройтись и поразмыслить. Пауза, конечно, намечалась творческая, связанная с подведением итогов, и самое лучшее место для этаких пауз – Эрмитаж. Величие антуража способствует величию идей, но только с ноября по март, когда поток туристов иссякает и залы молчаливы и пустынны. Я временами хожу сюда и знаю, что всякий коридор и лоджия, зал и анфилада способствуют определенным думам, будят различные настроения, питая мозг многообразием неслышимых мелодий. Среди скульптур Кановы, где-нибудь у «Поцелуя Амура» или под ножками «Трех граций», мечтается про женщин и любовь, в Тронном зале приходят государственные мысли, а в Рыцарском, как и положено, думаешь о войнах и битвах, осадах, атаках и фланговых ударах. Если желаешь вспомнить о былом и потерзаться грустью одиночества, надо идти в двухсветный Павильонный зал, хрустальный и бело-золотой, с римской мозаикой, восточными арками, балконами и фонтанами. Раздумья философского плана рождает созерцание древностей на первом этаже, египетских мумий и статуэток, эллинских богов, лиц благородных римлянок и римлян, а также фресок, росписей и барельефов, не говоря уж о саркофагах. Глядя на них, уносишься мысленно в прошлое и понимаешь, как древен человек и все его заботы, от хлебной корки и крыши над головой до размышлений об устройстве мира. Мир изменялся не раз, однако заботы оставались. Теперь, с приходом Джинна, зреет еще одно изменение, может быть, решающее… Я собрался, накормил Белладонну и поехал в центр. Погода была из рук вон; падал мокрый снег, по небу ходили свинцовые тучи, Стрелка со зданиями Биржи и Академии наук и правый берег скрылись за белой завесой, выпав из континуума реальности. В музейном вестибюле царили безлюдье и холод, и, покупая билет, я уловил недоуменный взгляд кассирши. Она закуталась в два платка, и на лице ее было написано: вроде нормальный парень, а заявился в этот ледник вместо пивбара или шашлычной… сидел бы там и ел горячее харчо… Ну что поделаешь! Как говорят у нас в Тибете, глаз ястреба не видит корма собаки. Я проследовал в залы с античными коллекциями и начал слоняться там на манер Винни Пуха, двигаясь сквозь мглу и холод тысячелетий от древностей египетских к древностям римским. Кроме парочки школьных экскурсий да бабушек-смотрительниц, тут не наблюдалось никого. Школьников юный энтузиазм не спас, и они потянулись наверх, где потеплее, а бабушки мерзли в залах-холодильниках, кашляли, сморкались, но бдительно за мной следили: не утащу ли я что-нибудь многотонное, Зевса Громовержца или бога Хнума. Это, впрочем, никак не мешало моим размышлениям. Цель! Джинн спрашивал о цели, и этот вопрос был непростым, даже коварным. Возможно, рассчитанным на гения… Гений творит бессознательно и не представляет доказательств; ему открывается нечто, и это нечто – истина. Если исходить из этой тезы, я не гений; мне нужно все разложить по полочкам, и я не пренебрегаю доказательствами. Равным образом, как и последствиями своих решений. Намерения могли быть благими, последствия – губительными. Скажем, я сформулировал бы цель как счастье человечества, задав разумный срок, пару столетий, в течение коих надо прийти к счастливому житию. Но счастье понимается по-разному в разных краях – есть западный вариант, китайский, индийский, исламский и так далее, включая пигмеев из бассейна Конго и австралийских аборигенов. Во имя счастья одних Джинну пришлось бы расправиться с другими, что было для него не так уж сложно, если припомнить, что он контролировал транспорт, оружие, энергию и информацию. Но главное – его мыслительный потенциал! Он мог, пожалуй, не швыряться ракетами и не палить из лазеров, а вывести бациллу или открыть селективный фактор, влияющий на тот или иной народ, на черных, желтых или белых, на мусульман-фанатиков или свидетелей Иеговы, на приверженцев демократии или тирании. Убрать одних по-тихому, под видом эпидемии или природного катаклизма, чтоб обеспечить счастье другим… Конечно, сей людоедский поворот событий был абсолютно неприемлем. Цель могла быть задана иначе, как идеал всеобщего примирения и разрешения всех споров и конфликтов в религиозной, расовой, культурной и тому подобных сферах, включая распределение ресурсов и богатств. Ведь недовольство и раздоры проистекают из нищеты и зависти, а если все богаты и довольны, то легче и консенсуса достичь. Джинн, несомненно, мог повлиять на экономику, смягчить шероховатости и даже, может быть, построить такую модель развития, которая вела бы прямо в рай, но я сомневался, что эти планы доступны тайному осуществлению. Нелепый парадокс! Втайне можно уничтожить и разрушить, маскируясь под несчастный случай, но созидать в планетарных масштабах – дело нереальное. Чужое влияние вычислят, переберут все варианты от Доктора Зло до инопланетян и установят истинный источник – и тогда начнется! Джинн был прав: последствия его легализации в нашем сумасшедшем мире казались столь же непредсказуемыми, как турбулентные потоки в водопадах. Паника и хаос, крах валют и рынков, религиозные секты, ужас Армагеддона, разгул анархии, джихад, разбой и мировая война… Он, разумеется, мог блокировать ракеты и электронику, связь и транспорт, но оставались еще винтовки и штыки, пушки и пулеметы, взрывчатка и боевые ОВ, а также камикадзе с карманными атомными бомбами. Кого-то пришлось бы уничтожить, сжечь, нарезать лазером в лапшу, и это распределение богатств по новой, с грядущим примирением, стоило бы миллионов жертв. Так и так не обойдешься без насилия! Я обнаружил, что смотрю на жреца Па-ди-иста, мумию трехтысячелетней давности, уютно возлегшую в стеклянной витрине. Жрец иронично ухмылялся, намекая, что хоть прогресс с его времен шагнул вперед, лохастых сявок в мире не убавилось, и вот одна из них, Сергей Невлюдов, дырка в фараоновой заднице. Словил золотую рыбку, перхоть северопальмирская? Ну так не щелкай клювом, не суй свой шнобель в великие дела, а беспокойся о себе, о собственном своем благополучии! Твой фарт, клянусь Анубисом! Стань богатым, веник, прикупи верблюдов и ослов, да кадиллаков с мерседесами, да виллу на Канарах, небоскреб в Париже и ранчо под славным городом Багдадом… Не забудь о титуле, титулы нынче недороги, хоть графа, хоть эмира, хоть султана… Станешь принцем Сираджем ибн Мусафаром ат-Нав-фали – глядишь, и с принцессой сладится! Ты ведь хочешь ее, эту принцесску? Вижу, хочешь… вон ручонки-то дрожат и слюнка капает! – Изобрази сквозняк, служитель культа, – строго сказал я жрецу. – Ты что же, меня за чмо последнее держишь? Перед тобой российский интеллигент! Нас мировые проблемы волнуют! Так уж мы, интеллигенты, устроены, фитиль древнеегипетский! Гнусно усмехнувшись, Па-ди-ист пробормотал: – Интилихенты! Мыслители хреновы! В каменоломни вас да в рудники, чтоб не баламутили державу! Вот это будет по-нашему! – По-нашему тоже, – откликнулся я и направил стопы в зал благородных эллинов. Нет, конечно кое в чем этот нильский падекатр был, пожалуй, прав, и отрицать очевидное – глупость. Точно такая же, как одолжиться у Катерины, имея под рукой персонального Хоттабыча… Но мелкое и личное должно уступать задачам первого ряда, и это безусловный постулат. Его диктует не величие моей души, не широта ума и сердца, а лишь разумный эгоизм, так как все мы в этом мире повязаны одной веревочкой. Скажем, женюсь я на Захре, и будем мы жить-поживать в северной русской столице, пока не взорвут наш блочный дворец чеченские боевики… Или поселимся в Нью-Йорке, пойдем прогуляться по Бродвею, и нас протаранят «боингом», как небоскребы торгового центра… Или возляжем под чинарой багдадского ранчо, чтобы отведать персиков и груш, а нас накроет залпом авианосец «Китти Хок»… Ну не нас, так наших деток или внуков! И никто за них не заступится, кроме меня, ни Будда, ни Аллах, ни Иегова… Как известно, god is always on the side of the big battalions[700]. В общем, мелкие цели мне не годились, и я продолжал размышлять о глобальном под статуями греческих богов, пока не сподобился мысли умеренной и разумной. Была же она такова: Джинну не надо вести ансамбль теплых сгустков к сияющим вершинам счастья, а следует дать им шанс для достижения этих вершин самостоятельным путем. Некое дополнительное преимущество, чтобы дорога была поровней и без засад, чреватых кровавыми схватками с разбойным людом… То есть речь шла о косвенном влиянии, мощном и эффективном, но скрытном, о какой-то идее, модели или проекте, который можно пустить в оборот, таком проекте, чтобы его полезность не вызывала сомнений, а реализация была посильна даже Монголии и Уругваю. Может быть, об источнике чистой энергии, экологическом топливе или хлебе из солнечных лучей… Но, по зрелом размышлении, я отказался от таких благодеяний. Гипотетическое преимущество должно стимулировать экономику и быть безопасным, совершенно неприменимым для военных целей, тогда как энергия, топливо и хлеб – кровь войны. Преподнеси подобные подарки, и что получится? Демографический взрыв и резня за каждый метр территории, где можно поставить кровать и наплодить десяток потомков… Довольный своей предусмотрительностью, я отправился домой и, стоя перед дверью (филенка все еще была на месте), вспомнил об эклерах, наполеонах и буше. К счастью, до универсама, где водилась эта дичь, было два шага; я развернулся, пересек улицу и закупил провиант, включая сосиски и белладоннину рыбку. В половине седьмого раздался звонок. – Кто там? – Крокодил Гена с Чебурашкой. – Я открыл дверь – там стоял Симагин. Бодрый, энергичный и в полном одиночестве. – А где же Чебурашка? Алик замялся. – Где-то тут. Прячется, скромняга… Стесняется. – Он вытащил шкалик из кармана, повертел у меня под носом, затем, пыхтя и отдуваясь, начал стаскивать пальто. Мы прошли в гостиную, выпили по рюмке, затем мой друг плюхнулся в кресло, поднял глаза к потолку и сообщил: – Буду копать твоих гарантов. Что-нибудь да откопаю. Это было серьезное заявление, так как мелочовкой, всякими киосками да кафешками, Симагин не занимался. Его излюбленным амплуа являлись стремительные налеты и крупные операции вроде той, что проводили позапрошлым летом под кодовым названием «Ураган». Тогда ураганный удар налоговой полиции обрушился на хлебопекарные и макаронные фабрики, и врезали им так, что часть персонала переселилась на кладбище. В прямом, не в переносном смысле – скажем, «макаронников» накрыли в том момент, когда директор и главбух трудились над платежными ведомостями, изображая подписи трех десятков «мертвых душ». Алик выпил еще рюмку и уставился на меня. – Итак, гражданин Невлюдов, что вы имеете сообщить по поводу своей трудовой деятельности? Какие программки вы составляли для ха-рэ-эм «Гарантия»? Двойного бухгалтерского учета? С дырой, куда сливают черный нал? С отстойником для ценных материалов, бронзы, мрамора и палисандра? Следствие желает услышать подробности. – Ну… – начал я, но Алик тут же треснул кулаком по колену, выпучил глаза и рявкнул: – Молчать! Колись, падла! Только чистосердечное признание может смягчить твою участь! – Никаких признаний без адвоката, – сказал я. – И зачитайте мне, инспектор, закон о правах подследственных. Алик ухмыльнулся и забубнил: – Все, чего ты тут наболтаешь, будет поставлено тебе в вину, по каковой причине ты имеешь право молчать, но если ты им воспользуешься, зонтик с ручкой, я переломаю тебе кости, вырву печень и сожру ее на глазах у твоего сраного адвоката. Я вздохнул. – Тогда признаюсь. Дело, видишь ли, валютное, хлебное… Внимая моей истории о машинке-разбраковщике, Симагин мечтательно закатывал глаза, хмыкал, чмокал и испускал другие поощрительные звуки. Наверное, дело и правда было хлебное, и он уже прикидывал, как начнет раскручивать сидельца Пыжа вкупе с ассирийцем Ичкеровым и склизким хмырем Альбертом Салудо. Как возьмет их за галстук, перекроет кислород, покажет, как крутить динаму, и сделает гуляш по почкам… Разумеется, фигурально, в том же смысле, в каком Салудо любопытствовал насчет моей тети. Дослушав до конца, Алик потянулся, хрустнул суставами и произнес: – Интересно, а есть ли у них лицензия на этакие игрушки? Ну ничего, выясним… С Калиденко Михал Георгичем я договорился. Сперва схожу к твоим хрумкам один, поразнюхаю, что там да как. Потом устрою им ревизию. Внезапную! Надо знать, что такое ревизия по-симагински. Взвод парней в черных масках, бронежилетах и с автоматами; дым столбом, топот, грохот, рев: на пол!… не двигаться!… руки прочь от сейфов!… Представив эту сладостную картину, я робко предложил: – А зачем тебе к ним таскаться в грустном одиночестве? Может, сразу и ревизию устроишь? Симагин снисходительно похлопал меня по плечу. – Промочи горло, доходяга, успокойся и не учи ученого. Я знаю, как хмырей на вшивость проверять! Я пригубил, Алик опрокинул, затем пошевелил пальцами, будто касаясь клавиш фортепиано, и с шумом втянул воздух. – Чаю? – спросил я. – С пирожными? – Нет, гитару. Буду петь. Раз ты во всем сознался, не нужно лишних слов. В его могучих руках гитара казалась совсем небольшой. Он подмигнул мне, склонил голову, бережно коснулся струн. Они вскрикнули, застонали, словно семь женщин, истосковавшихся по ласке. Сам я не играю и никогда не видел, чтобы играл отец. Может быть, в молодости… А может, и не его эта гитара, а память о друге, которого он не хотел забывать? Теперь не спросишь, не узнаешь… Голос Алика звенел, и звуки, рассекая тишину, уносились куда-то стаей встревоженных птиц.
Интермедия 3 КОСНУТЬСЯ НЕБА
И мы коснулись неба и нашли, что оно наполнено стражами могучими и светочами.Коран, сура 72. Джинны
Али ибн Аби Талиб, имам и четвертый праведный халиф, был двоюродным братом Пророка и супругом дочери его Фатимы. От них мы ведем свой род, от их старшего сына Хасана, но ни Али, ни Фатима, ни Хасан, ни брат его Хуссейн не обладали даром предвидения. Это особое отличие, что проявляется у фатимидов раз в двести или триста лет, у женщин или у мужчин, и если отмечен мужчина, то он становится имамом и вождем, а если женщина – быть ей несчастной. Во всяком случае, так было в прежние времена, когда мужчины не склоняли слух к речам и мнениям умных женщин… Дар наш – от святого Пророка. Говорят, что с юности посещали его яркие сновидения, расцвеченные всеми красками мира, и в этих снах встречался он с мудрыми людьми, с ангелами Исрафилом и Джибрилом и, быть может, с самим Аллахом. Еще говорят, что в зрелых годах случались у Мухаммеда видения наяву, когда лицо его бледнело и покрывалось каплями испарины, а тело сотрясала дрожь – и тогда Пророк ложился, завернувшись в свои одежды, и просил, чтобы все оставили его и не мешали внимать слову Божию. А потом он вставал, и услышанное им сохранялось в памяти, и мог он произнести это вслух, и говорил речи мудрые и совершенные – и так, отрывок за отрывком, сура за сурой, он сотворил Коран, Святую Книгу, что продиктована Аллахом. Воистину, он мог коснуться неба и увидеть, что наполняют его стражи могучие и светочи! Мой дар скромнее: не слышу я божественных слов, а лишь могу найти свой Светоч. Но стоит ли жалеть? Мужчина касается неба, если он мудр и отважен, а женщине в том помогает любовь. Светоч мой, где ты? Я помню о тебе и жду… жду, когда придешь, и мы коснемся неба вместе… Я чувствую, что-то с тобой происходит, что-то невероятное, удивительное, чему нет названий и объяснений! Ахмет клянется, что слышал твой голос, звучавший в нашем доме, и голос был таков, что содрогнулись стены и чуть не обрушился потолок. Верить ему или не верить? Можно не верить, но Валия сказала то же самое… Вдруг ты в самом деле повелитель джиннов? Наверное, это правда. Джинны ведь бывают всякие – те, которых сотворил Аллах, и те, что созданы людьми, их мыслью и разумом или смутным чувством, которое овеществляет призраки грез и сновидений. Какой из джиннов повинуется тебе? И может ли он меня похитить и принести на твое ложе? Я бы не возражала…
Глава 12 ЗАНАВЕС ПОДНЯТ
Что там, за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы… Когда же с треском рухнет занавеска, Увидят все, как ошибались мы.Омар Хайям. Рубаи
Конец февраля выдался вьюжным, ветреным, мрачным, но, несмотря на это, мир блистал ослепительными красками. Я будто бы проснулся. Дремал себе дремал в привычной непроходимой серости и вдруг воспрянул от сна к иному существованию, значительной и яркой жизни, полной тайн, загадок и любви. К вечному празднику! Ощущение чуда не покидало меня. Я знал, что это опасное состояние: одних чудеса настораживают, других пугают, ибо за чудным и дивным всегда мерещится нечто странное, незнакомое и, весьма возможно, сулящее беду. Другая опасность чуда в том, что оно вырывает нас из рамок обыденного, ломает связи с привычной Вселенной и гасит реакцию на неприятности, грозящие нам всякий день, – голод, болезнь, финансовые катастрофы и, выражаясь фигурально, бандитские пули. Но я принадлежу к тем людям, которых вдохновляют чудеса, недаром «Amazing News» – мое излюбленное чтение. Кстати, за последнюю неделю там ничего потрясающего не сообщалось, кроме того, что террориста Усаму бен Ладена прикончили в пятый раз, подбросив ему финик с тротиловой начинкой. Итак, в Сети восстановилась тишина; электронный полтергейст закончился, никто не вращал антенны телескопов, не палил из лазера по Луне и не натравливал на мирных обывателей стиральные машины. Маги и экстрасенсы объявили, что звездолет пришельцев стартовал с Земли, груженный девственницами для евгенических экспериментов, но истинная причина была известна лишь Теплой Капле, то есть Сергею Невлюдову. Мой Джинн взрослел, умнел и не желал привлечь к себе внимание; к тому же он обзавелся постоянным консультантом и, вероятно, воспринимал его как точку сгущения всей суетливой человеческой породы. Почему бы и нет? Ведь идея о множестве независимых разумов и автономных индивидуальностей была ему чужда. Мы, люди, в отличие него, мыслили однолинейно и примитивно; сознание наше устроено так, что мы способны поддерживать в активном состоянии одну цепочку связных мыслей, осуществляя притом какие-то привычные механистические действия – скажем, прогуливаясь по аллеям в садике или почесывая, где чешется. Бытует мнение, что Юлий Цезарь мог в один прием писать любезные послания супруге, драить с песочком легатов и диктовать «Записки о Галльской войне». Но одновременность этих ментальных процедур обманчива; на самом деле Цезарь, человек недюжинный, переключался с одной цепочки связных мыслей на другую, сохраняя в памяти несколько мысленных блоков. Они, эти блоки или программы, являлись, конечно, неравновесными, и Цезарь ранжировал их в порядке первого, второго и третьего приоритетов. Лично я считаю, что главными были «Записки», под номером два стояла выволочка легатам за плохо начищенные бляхи, ну а послания Кальпурнии можно считать последним из текущих дел. Тем компьютерам, что появились в пятидесятых годах двадцатого столетия, было далеко до Цезаря. Эти электронные тупицы снабжались только одним процессором[702], который извлекал из памяти команду за командой и выполнял их, реализуя одну-единственную программу – или, если угодно, одну цепочку элементарных мыслей. В те годы информация вводилась с перфокарт, а результат печатался на бумажной ленте, и оба процесса были долгими: вычисления могли потребовать минуту, а ввод и вывод – часа, и весь этот час процессор спал, пока не закончит трудиться периферийная электромеханика. Совсем невыгодный вариант! И потому в компьютер стали загружать несколько программ, между которыми делилось процессорное время: основная задача считалась в первую очередь, а в паузах, связанных с вводом-выводом, шли другие, запасные. Так возникли понятия о разделении времени, приоритетном доступе, основной и фоновых задачах, а также о системном софте[703], руководившем процедурой счета. Следующим шагом были многопроцессорные системы или локальная компьютерная сеть. Представьте агрегат из множества компьютеров, соединенных с главным компьютерным модулем, стоящим на страже воздушных границ. Одни компьютеры управляют радарами, отслеживая самолеты и ракеты в определенных зонах; при появлении объекта они определяют его параметры и требуют пароль, пересылая сведения в центр. Главный модуль, снабженный базой данных для всех летающих объектов, осуществляет их идентификацию, а если она невозможна или пароль не сообщен, дает команду другим компьютерам, боевым: крышки с шахт долой, ракеты нацелить, пли! Потом – ракета слева, ракета справа, ракета по курсу… Бах-бабах! Мы разнесли тарелку, чертов НЛО с Альфы Центавра! Вешаем медали программистам… Объедините локальные сети и одиночные компьютеры, добавьте всевозможные программы, набейте базы данных электронными журналами и книгами, картинами и фильмами, финансовой, научной и медицинской информацией, свяжите все это с банками и транспортом, заводами и АТС, с библиотеками, парламентами, научными и оборонными центрами – словом, просуньте кабель всюду, где блуждают электрические токи, и вы получите Глобальную Общепланетную Сеть. Целостное виртуальное пространство, среду обитания Джинна, его великую державу… Практически необозримую, ибо на каждый теплый сгусток в нашем мире приходятся сотни приборов, от батарейки, лампочки и утюга до генераторов атомных станций. Но не в количестве суть, а в качественных изменениях. В конце концов, все периферийные устройства, видеодатчики и микрофоны, автопилоты и оружие, антенны, локаторы, кондиционеры, тостеры и холодильники, станки и роботизированные производства – словом, все. что Джинн называл своими эффекторами, – уподоблялось нашим пальцам, либо глазам, либо ушам. Больше того, больше другого, больше третьего… Более чуткие конечности, более острые зрение и слух, более широкий диапазон восприятия, от радиоволн до гамма-квантов… Человек не в силах этого ощутить, но может понять, и довольно легко, пользуясь методом аналогии. А вот разобраться с мышлением Джинна – задачка потруднее. Разум его являлся полимодальным и динамически распределенным. Первое означало, что его сознание включает – или дробится – на множество более мелких сознаний, которые он называл мыслительными центрами. Базой подобных центров мог быть один компьютер или несколько, и эти ансамбли, включавшие, разумеется, необходимые данные и программы, имели различные степени автономии, от бессознательной частицы до наделенного разумом «под»-существа. «Под», ибо они не обладали индивидуальностью, а доля разума, отпущенная им, была согласована со сложностью решаемой задачи. Центры порождались проблемами, вызвавшими у Джинна интерес, и в период своего существования могли подвергнуться редукции или же, наоборот, быть развернутыми в более крупные конгломераты, если задача была им не по силам. После того как достигался результат, центр расформировывался либо модифицировался, и сей процесс – учитывая тысячипроблем, решаемых Джинном – шел квазинепрерывно, со скважностью в сотые доли секунды. Это и означало «динамически распределенный разум»; иными словами, Джинн дробил свои «мозги» между тысячами временных центров, создавая их или уничтожая по мере надобности. Совсем не человеческий способ мышления, но очень похожий на работу многопроцессорной системы. Отсюда вытекало, что я говорю не с Джинном, а с его частицей, контактным центром, выделенным для общения с Сергеем Невлюдовым. Он обозначал эту часть мордочкой Белладонны, но во время наших бесед, если вопрос того требовал, мощность контактного центра росла – он превращался в Багиру, а в очень редких случаях – в Чеширского кота. Последний, возможно, составлял процентов пятьдесят от разума Джинна, а значит, с реальной точки зрения был эквивалентен полному его сознанию. Итак, он представал передо мной в трех ипостасях, между которыми имелся ряд переходных ступеней, может быть десятки и сотни, и было нерационально присваивать каждой имя и облик. Из практических соображений я ограничился тремя уровнями разума и посвятил несколько дней, чтоб выяснить соотношение меж ними. Конечно, эта задача являлась некорректной, и после длительной дискуссии мы подошли к ней с позиций теории множеств и согласились считать соотношение таким: конечное множество – бесконечное (инфинитное), но счетное множество – множество мощностью континуума[704]. Я понимал, что это лишь отдаленная аналогия, подчеркивающая разницу между Джинном-кошкой, Джинном-Багирой и Джинном – Чеширским котом, но иных способов их сравнения, пожалуй, не существовало. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о количестве элементарных ячеек хранения информации, а об уровне ее переработки, определяющем разумность того или иного существа. Человеческий мозг, едва ли не самая сложная система во Вселенной, включает пятнадцать миллиардов клеток-нейронов[705], тогда как ресурс оперативной памяти в Сети, если считать его в битах или в байтах, был выше на пять-шесть порядков. Ну и что с того? Вес мозга и количество клеток у имбецила и гения примерно одинаковы, но первый способен лишь сопли пускать да пересчитывать пальцы, второй же творит великие теории, симфонии, картины, религиозные и философские учения. Сеть и была таким имбецилом до появления Джинна. Но, несмотря на всю его мощь, существовали темы, на коих мы спотыкались – взять хотя бы понятия веры, религии, священнослужения. Отец утверждал, что вера – очень интимный процесс, личное дело каждого. Никто не должен становиться между человеком и богом, и все священники, миссионеры, все профессиональные посредники, тянущие руки к небесам и нашим кошелькам, впадают в грех гордыни и кощунствуют. Когда у отца интересовались, верит ли в бога он сам, отец отвечал: бог – утешение слабых. И этим все сказано. Как объяснить подобные вещи лишенному плоти существу, чей разум строг, логичен и требует определений всякого понятия? С любовью, чувством иррациональным, все же было проще; любовь воспринималась Джинном как связь между людьми, проистекавшая из их родства, духовной близости, телесного влечения, и все эти материи, а также сами люди, были реальны, а значит, в какой-то мере постижимы. Но вера!… Вера во всемогущего Создателя, которого в природе нет, любовь к абстракции, которая ничем себя не проявляет, книги, написанные от имени божества, жертвенный пыл, фанатизм, обрядность и, наконец, убежденность в том, что за вратами смерти лежат дороги к аду или раю… Это казалось ему нелепым, необъяснимым, и я мог лишь гадать, сколько десятков мыслящих центров трудились над аспектами теологической проблемы. Имелся, впрочем, круг вопросов, не вызывавших сложностей. Как– то, решив понаблюдать за хрумками, я лицезрел их поутру: Пыжа за столом-саркофагом в «усыпальнице», Альберта в его «скотобойне», украшенной парой топоров и прочими мясницкими орудиями, и ассирийца Керима – тот был в своих чертогах, но снаряжался к выезду. Примерно так, как Шварценеггер в «Коммандо»: высокие башмаки, пояс с мобильником, тужурка черной кожи, в один карман – бумажник, в другой – сигнальный брелок и ключи от машины, на пальцы – перстни, на шею – золотую цепь… Прикид роскошней некуда! Подвесить к цепочке кистень, и хоть сейчас на большую дорогу! – Теплые сгустки Альберт Салудо, Керим Ичкеров и Петр Пыж, – перечислил Джинн голосом коммивояжера, предлагающего порченый товар. – Они представляют для тебя опасность? – В некотором смысле, – признался я. – Ты вызвал защитника. Александр Симагин – твой защитник и друг. – Это был не вопрос, а констатация факта. – Я наблюдаю, как он действует. Он собирает информацию. Он был у теплых сгустков, опасных для твоей стабильности. Это эффективная стратегия? – Полагаю, да. Симагин – очень опытный защитник. – Что он сделает с теми тремя теплыми сгустками? Прекратит их существование? – Это вряд ли. Закон гласит: за всякий проступок – свое воздаяние. Смерть была бы слишком суровой карой. Секунду-другую Джинн размышлял, затем полюбопытствовал: – Александр Симагин – твой единственный защитник? – Ну почему же… Во-первых, я сам могу себя защитить, а во-вторых, есть и другие защитники. – Ты мог бы их привлечь. – Зачем? – Больше защитников, больше безопасность, – заметил Джинн. Кажется, он не был равнодушен к проблеме моего телесного здоровья. – У защитников много дел, и ни один из них не будет возиться со мною больше, чем Симагин, – пояснил я. – Это зависит от статуса защитника. Я ознакомился с большим объемом информации в этой области. Есть внешняя защита государства – армия. Есть внутренняя защита – полиция. Есть персональная защита – телохранители. Почему бы не призвать такого? – Это платная услуга. Я не имею денег, чтобы нанять телохранителя. Разговор меня забавлял – это с одной стороны; с другой – он являлся мерилом того, в какие глубины общества теплых сгустков удалось проникнуть Джинну и что он в этих безднах понял. Во всяком случае, великая формула нашей цивилизации «деньги-товар-деньги» была уже ему известна. – Я могу снабдить тебя деньгами. Они поступят на твой счет в «Bank One»[706]. – Отрицательно помотав головой, я буркнул: – Присвоение чужого есть грех. Защитникам это не понравится. – Потерянное не есть чужое. Потерянное никому не принадлежит. – Потерянное? Ты говоришь про ошибки округления? – Ответ положительный. Я рассмеялся. Голубая мечта каждого хакера – присосаться к округлению счетов! Дело в том, что банки оперируют с цифрами, а все вычисления, не исключая финансовых, ведутся с ограниченной точностью. Предположим, на депозите у вас четыреста двадцать долларов и сорок центов, и банк начисляет вам четыре процента годовых – это составит шестнадцать долларов восемьдесят один цент и шесть десятых цента. Сумма округляется до 16,82, то есть в пользу вкладчика, если последняя цифра больше пяти, а если пять и меньше – в пользу банка, до 16,81. В среднем округления в ту или иную сторону друг друга гасят, и это значит, что одним клиентам банк выдает чуть-чуть побольше, а другим – чуть-чуть поменьше. Теперь представьте, что некий электронный дух может отследить миллиарды операций во всех существующих банках и снять ошибку округления в свой карман… С миру по нитке – нищему рубашка! И какая! За сутки можно стать миллионером! Вспомнив про долг Катерине, я призадумался. Мысли мои вдруг потекли в финансовую сторону; я представил, как Джинн разыскивает счета с ворованными деньгами всяких «Тибетов», «Гермесов» и прочих «МММ» и обращает их к общественной пользе. Мне уже мерещился благотворительный фонд, который вернет награбленное обиженным и униженным, и, сделав на память зарубку, я предложил: – Произведем эксперимент. На моем счету в «Bank One» тридцать долларов… – Двадцать восемь и шестнадцать сотых, – уточнил Джинн. – Ну и отлично. Перебрось на этот счет ошибки округления за сутки только по отделениям «Bank One» в Огайо. Сколько получится? – Семьсот тридцать три доллара и пять центов. Кошачья мордашка мне подмигнула. Ну и чудеса! Или все же померещилось?… – Переведи деньги на мой счет в петербургском Промстройбанке. – Выполнено, Теплая Капля. – Пауза. Потом: – Этого хватит, чтобы нанять телохранителя? – Сомневаюсь. Да и не нужен мне телохранитель! Что я, аравийская принцесса ослепительной красоты? Недоуменное молчание. – Последняя фраза непонятна, – отозвался Джинн спустя секунду. – Что означает сравнение с аравийской принцессой? Это фигура стилистики? Гипербола? Метафора? Или синекдоха?[707] – Нет. Та девушка, которую мы посетили… Помнишь? – Я ничего не забываю. – Захра. Принцесса из рода фатимидов… Там был еще мужчина, Ахмет Салех. Он ее телохранитель. Некоторое время Джинн размышлял, помаргивая голубыми глазками – наверное, с той целью, чтоб обозначить для меня процесс раздумий. Затем спросил: – Ахмет Салех – хороший защитник? Лучше Александра Симагина? – Их трудно сравнивать. Слишком они разные. – В чем отличие? – Симагин – слуга закона, а Ахмет служит лишь своей принцессе. – Из твоего утверждения следует какой-то конкретный вывод? – Да. Симагин доказывает вину, Ахмет берет за глотку и – чик! – Чик? – Прекращает существование. С помощью хорошо наточенной полоски стали. – Как защитник он эффективней теплого сгустка Симагина, – сделал вывод Джинн. – Не буду оспаривать твой вывод. Однако учти, что способ Ахмета необратим, антигуманен и жесток. – Оценка зависит от обстоятельств, – вымолвил Джини и замолчал. Я потянулся, встал и начал мерить комнату шагами, заглядывая по дороге то в зеркало, то в окно. Был поздний вечер, так что тут и там я видел свое отражение в серебряном или обсидианово-черном стекле, и эти два типуса, темный и светлый, вели меж собою беспощадный спор. Оба они сходились в том, что у искусственного, однако разумного существа не может быть ограничений вроде азимовских законов, насильственных и внешних; истинный разум свободен и сам выбирает этические императивы. Но темный утверждал, что всякий разумный артефакт, компьютер или робот, будет скорее враждебен, чем благосклонен к людям, чей эгоизм, тяга к насилию и прочие мерзости алогичны. Светлый же пытался доказать гипотезу Михеева – мол, в процессе контакта очеловечивание неизбежно, а с ним придут понимание и снисхождение. Наконец мы трое согласились, что главным является цель. Если цель гуманна – в нашем человеческом понимании, – то и конфликтов между людьми и электронным существом не будет, а если что и случится, то разрешение конфликта произойдет путем переговоров. Во многих смыслах с Джинном было легче договариваться, нежели с людьми – его не терзали гордыня, властолюбие и алчность, он не имел корыстных интересов, не жаждал чужого богатства и земель. Он, вероятно, мог убить, но повод к такому исходу был бы гораздо более веским, чем у нас, людей; мы часто отнимаем жизнь у правых и виноватых, действуя по пословице: лес рубят, щепки летят. Джинн сумел бы вырубить гнилое дерево без щепок… Его могущество потрясало. Он мог дотянуться до любого устройства, включенного в телефонную сеть или оптоволоконную линию связи, до телефона, факса, компьютера, перехватить любую информацию, подслушать любой разговор и ответить, сымитировав голос и облик, создав на экране симулякра – изображение, неотличимое от человеческого. Он властвовал над радиоприборами, над всем, что находилось в жилых и производственных ячейках теплых сгустков, над локаторами и радарами, спутниками и радиостанциями, антеннами, ретрансляторами и мириадом систем, что управляли оружием, самолетами, кораблями, всем, что летало, плавало, ползало, двигалось на гусеницах, колесах или воздушной подушке. Ему подчинялись все агрегаты в электросетях, простые и самые сложные; он мог включить их и выключить, пустить в разнос, сжечь, взорвать или использовать вместе с подводящими проводами как датчики сигналов или же, определив частотный спектр любого электро– и радиоприбора, найти их и локализовать в пространстве. Последним занимался один из мыслящих центров Джинна, следивший за планетарной оболочкой от морских глубин до верхней границы стратосферы, – модуль, подобный бессонному тысячеглазому Аргусу. Кроме того, Джинн научился как бы достраивать себя и расширять свой разум путем создания программ, и эти средства были разнообразными и мощными. Программы поиска и наблюдений, имитации и прогнозирования, моделирования биологических, химических, физических процессов, оценки всевозможных ситуаций, решения задач… Эти программы существовали, но были неуловимы, как призрак, блуждающий в Сети; в мгновение ока он перебрасывал их с одних компьютеров на другие, приостанавливал, уничтожал или дублировал с той же легкостью, с какой мы перелистываем книгу, только в миллионы раз быстрей. Хоть он не владел даром всеведения, однако присутствовал всюду и был, в масштабах Земли, почти всемогущ. Он понимал все языки и мог узнать все тайны и секреты, сломать любой пароль, вторгнуться в базы Сюрте, Моссада, ФСБ. ЦРУ и пресловутого отдела MI-5[708], вскрыть медицинские или финансовые файлы, найти любые сведения и отыскать любого человека, если тот не скитается в джунглях без рации и не сидит в пещере при свечах. Он мог предотвратить или устроить катастрофу на транспорте или атомной станции, в жилище или в цеху, поднять на воздух химический комбинат или взорвать телевизор. Он мог запустить ракету с ядерной начинкой в любую точку мира, блокировать системы ПВО и делать всякие иные фокусы, достойные «Amazing News»: скажем, сразить человека лучом орбитального лазера или послать электромагнитный импульс, который накроет большую территорию и помрачит сознание. Имелись штучки и похлеще – один американский сателлит был оборудован системой «Флай»[709], то есть отстреливал ракетки, которые спускались вниз и, закрепившись на крыше, столбе или стене, вели передачу изображений и звуков. Я мог проследить почти за каждым человеком на планете – более того, я мог его убить! Сжечь, взорвать и распылить на атомы! Одного или десяток, тысячу или миллион… Осознав сей факт, я ощутил приступ леденящего озноба. Под властью Джинна находились страшные игрушки, а сам он был опаснейшей из всех – вождь электронных армий, властитель энергии и информации, царь, правивший виртуальным измерением Вселенной. Проникнуть в этот мир? Я побывал в нем не однажды, скитаясь по разным тропинкам Сети, кружась в водовороте Масок, осматривая сервера и понимая, что все это – иллюзия. То есть контакты с другими Масками были, конечно, не иллюзорны, но сам их причудливый вид, паутина дорожек в безбрежном пространстве, станции пересадок с открытыми и замкнутыми портами, все эти сферы, цилиндры, тороиды, похожие на фантастические города, парящие в несуществующем космосе, – словом, это воспринималось как мираж, созданный контактным креслом, шлемом и браслетами. Я знал, что реальность выглядит иначе: Маски – люди, такие же как я, и каждый из этих бездельников или трудяг сидит у своего компьютера; тропинки – каналы связи, то есть телефонный кабель, радиолуч или оптоволокно; замки и цитадели серверов – на самом деле блок коммутации плюс области на диске, где поджидают адресата письма, журналы и остальная дребедень. Вот – реальность! Все прочее было такой же расслабиловкой-игрой, как фульрик о крутом Уокере. Однако теперь я не был в этом уверен. С появлением Джинна иллюзии вышли из-под человеческой власти и как бы обрели вещественность; виртуальное – то есть возможное, способное осуществиться при определенных условиях – проявилось, взросло и окрепло, словно расплав металла, минуту назад еще подвижный, жидкий, но вдруг застывший в скульптурных формах. Маски слились с их обладателями, зыбкие дворцы и крепости стали прочны, дороги больше не казались невесомой паутиной… Джинн цементировал это мироздание, напоминал, что Вселенная фантомов, созданная людьми и для людей, более им не принадлежит, а превратилась в его среду обитания, столь же реальную, как наша. Я говорил с ним с помощью клавиш, экрана и вокодера, и эти приборы были границей между нашими мирами. Проницаемой пленкой, которую я мог преодолеть подобно ныряльщику, что погружается в море с аквалангом… Признаюсь, это было нелегко, хоть акваланг казался надежным, а море – знакомым и более гостеприимным, чем прежде: ведь приглашал меня не кто-нибудь, а сам властитель океанских бездн. Однако мысль о встрече с ним в его среде пугала… Необъяснимое иррациональное чувство! Я был знаком с ним две недели – или столетия в его масштабе времени, я доверял ему, я не боялся, я полагал его своим учеником, но все же, все же… Все же в один из дней, преодолев нерешительность, я сел в контактное кресло, окольцевал себя браслетами и с глубоким вздохом нахлобучил шлем. Теперь мы двое, маленький черный пудель и белая кошка с серым хвостом, парили в пустоте, пронизанной радужными сполохами; мнилось, что мы повисли где-то между утренней зарей и полярным сиянием, чьи мягкие краски переливались и мерцали в розовой полупрозрачной безбрежности. Она простиралась вверх и вниз, вперед и назад, во все стороны, и я не видел ни точки своего порта, ни серебристой тропинки, ведущей к серверу. Видимо, Джинн полагал, что эти аксессуары не нужны в его присутствии; он сам являлся и дорогой, и мостом, и цитаделью, самой надежной, какую только мог измыслить разум, перенесенный в его мир. Распушив усы и задрав изящный хвостик, кошка моргнула. – Куда отправимся, Теплая Капля? – В место, где можно поговорить. Не такое пустынное и огромное… От этой бездны кружится голова. Декорации сменились. Мы сидели на балконе или открытой веранде, под бессолнечным, но полным света небом, в котором гигантской каруселью кружились созвездия зодиака. Под нами раскинулся сказочный город без улиц, разбитый массивами зданий на парки и скверы, площади и площадки; растительность алая, голубая, зеленая, серебристая, а между и за деревьями фантастических форм – колонны и портики, статуи и обелиски, фонтаны, пруды, реющие флаги, висящие в воздухе платформы, тенты над уличными кофейнями, блеск разноцветных огней, вывески баров, клубов, кегельбанов… Казалось, в этом городе вечный карнавал: от площади к площади маршировали пышные процессии Масок; в парках, взметая шелк одежд, кружились и плясали гномы и эльфы; невероятные существа, то ли животные, то ли птицы, осаждали кофейни и бары, плавали на яхтах и роскошных барках по озерам, метались в воздухе над деревьями и спаривались под ними. Все это вершилось в абсолютной тишине, хотя я видел множество оркестров, большие барабаны, надутые щеки трубачей, блеск саксофонов и плавный полет смычков. Эта псевдореальность имела странное свойство: куда бы я ни кинул взгляд, частица города приближалась ко мне, давая рассмотреть в подробностях ту или иную картину. Я любовался то сборищем вампиров, терзавших юных дев, то соблазнительными играми лесбиянок, то схваткой между ковбоями и индейцами, то балом в стиле Людовика XIV, очень манерным и вычурным, где, однако, все кавалеры и дамы были нагишом. Где-то показывали стриптиз, где-то играли в кегли черепами, пили ром бочками, дрались с чудовищами из «Звездных войн» и небольшими копиями Кинг-Конга, где-то рылись в могилах, извлекая из них голых блондинок и брюнеток, тут же отдававшихся удачливым кладоискателям. В общем, жизнь кипела и бурлила, и я, приглядевшись к огромным рекламным щитам, разбросанным повсюду, сообразил, что мы попали в «Парадиз». Элитный коммерческий сайт, где за хорошие деньги обещали массу развлечений и полную свободу самовыражения. – Один из моих мыслящих центров следит за данной областью, – сказал Джинн. – Происходящее здесь не всегда понятно. Может быть, этот центр нуждается в дополни тельных ресурсах. – Я шевельнул хвостом. – Не трать их зря. Тут всего лишь мечты, глупые грезы людей, одолеваемых скукой. Неосуществленные фантазии. – Мечты и фантазии говорят о многом. Он был прав, и я не нашел возражений. В определенном смысле Сеть заменяет колдовство и магию, которых нет в реальности, но если бы они существовали, Земля, пожалуй, стала бы таким вот парадизом, а здравомыслящих лиц вроде меня переселили бы в анклав на Огненной Земле или в Гренландии. Или превратили в мебель… Табуретки из нас вышли бы отменные – крупинка устойчивости в чародейном мире… На веранду вывалилась толпа сатиров, коз, ослов и пышных белокожих нимф. Кажется, тут намечалось нечто вакхическое, в стиле Лукиана – групповуха с повальной зоофилией. Заметив, как дернулись мои уши, Джинн произнес: – Они нас не видят и не слышат. Блокировка звуковых сигналов двухсторонняя. Шум и слова не доходят до нас, но если ты желаешь… – Нет-нет! Убери отсюда эту компанию. Сатиры и нимфы растаяли, город отдалился, сделавшись пестрым ковром у наших ног. Только зодиакальные созвездия вращались в вышине: Лев скалил зубы на Деву, Рак грозил клешнями Близнецам, вздымал ядовитый хвост Скорпион, Стрелец-кентавр целился в зенит из лука. – Покажи мне другое, – сказал я. – Покажи, как ты воспринимаешь свою Вселенную. Сотни миллиардов приборов, потоки энергии и информации, движение программных средств, базы данных, линии связи, порты, терминалы… Я хочу видеть не рай помешанных, а твою реальность. Белая кошка растаяла, и рядом со мной возник силуэт пантеры. – Багира… Видимо, наш диалог потребовал более мощных средств, чем были отпущены облику Белладонны. – Невыполнимое желание, Теплая Капля. Я не могу стать тобой, ты не можешь превратиться в меня… Единственный выход – построить модель. Некий графический образ, которым пользуются теплые сгустки, чтобы представить непредставимое. Мир вокруг нас опять переменился. Теперь мы находились в центре титанической прозрачной сферы, подобной глобусу; на внешней ее стороне можно было угадать очертания материков с горами, реками, равнинами и прочими деталями рельефа, с транспортными и энергетическими артериями, населенными пунктами и множеством иных сооружений, которые, повинуясь взгляду, то приближались ко мне, то отдалялись, всплывая к поверхности сфероида. Среди прозрачных и будто бы бесцветных очертаний городов, дорог, морских и океанских трасс сияли огоньки, где-то побольше, где-то поменьше, где-то совсем немного, но даже в местах скоплений они не сливались в единое целое – каждый был различим, и каждый, надвигаясь на меня, приобретал определенный цвет и форму. Желтое – бытовые устройства, неисчислимое воинство ламп, миксеров, тостеров, кофемолок и холодильников… Зеленое – информационные сети, телевизоры и телефоны, модемы, факсы и компьютеры, теле– и радиостанции, антенны, ретрансляторы… Фиолетовое – транспорт, автопилоты, системы навигации, радары, средства погодного оповещения и регулирования транспортных потоков… Золотистое – энергостанции, линии энергопередач, точки распределения энергии… Голубое – базы данных, хранилища библиотек и музеев, криминалистические коллекции, центры сбора социальных, биологических, химических, финансовых сведений… Синее – крупные потребители энергии, заводы, комбинаты, рудники… Красное – оружие… Алое, пурпурное, багровое, цвета крови и цвета ржавчины… Каждый танк и каждая ракета, самолет, корабль, пункт наведения, склад боеприпасов, зенитный комплекс и лазерный модуль, о коих говорили, что их вовсе нет… Много-много красного! Эти зловещие созвездия окружали города, сверкали на побережьях и в океанах и, затаившись в космической тьме, плыли над земной поверхностью подобно сулящим несчастье кометам. Я вздрогнул и помотал головой, изгоняя кошмарные видения апокалипсиса. Потом спросил: – Ты держишь в памяти карту с позициями всех агрегатов и приборов? – Да. Пространственная карта хранится в мыслящем центре, который ты назвал Аргусом. Я попытался представить ее для тебя в несовершенной, но обозримой модели. Модель, однако, всего лишь модель. Она не может передать… – Черная пантера склонила голову, заглядывая мне в глаза. – Не может передать того, что для меня является аналогом тактильных ощущений… или визуальных, звуковых, каких угодно – они для меня нераздельны. Ты видишь точки в фазовом пространстве, я их ощущаю. Их положение, конфигурацию, мощность, режим функционирования, сбои и неполадки, все их параметры, все присущее активной, но неживой материи. Неживой для тебя, – добавил он после недолгого раздумья. Видение чудовищной сферы исчезло. Мы снова висели в пустоте между зарей и полярным сиянием. – Ты обещал подумать над целью, – вымолвил Джинн, принимая облик Белладонны. – Над глобальной целью, которая могла бы придать смысл моему существованию. – Я еще думаю. Это непростое дело. В знак согласия кошка склонила голову. – Непростое. А сейчас… – Сейчас нам лучше прервать контакт. Слишком много сильных впечатлений… Я устал. Уши Джинна шевельнулись. – Вот ощущение, которое я не могу испытать… Возможно, ты хочешь развлечься, взглянуть на что-нибудь еще? На теплый сгусток, чей вид приятен для тебя? – Он сделал паузу и пояснил: – Я говорю об аравийской принцессе ослепительной красоты. Желаешь навестить ее? – Желаю, но пойду к ней сам. До новых встреч, дружище! Я отправился в Графский и провел там время до вечера, прогуливаясь под окнами Захры, вздыхая и мечтая о ней, как и положено влюбленному. День был воскресный, и, вероятно, она сидела дома и, может быть, даже видела меня, но вряд ли узнала в сгущавшихся сумерках. Но я об этом не жалел. Прогулка и мечты о девушке были своеобразной разрядкой, вернувшей мне твердость и равновесие души; как-никак, она являлась самым прочным из якорей, державших меня в сиюминутном бытии. Я вспоминал ее прелестное лицо, жемчуг зубов меж ярких губ, ресницы с загнутыми кончиками, темные локоны, глаза, улыбку; я даже дерзнул спуститься ниже и обозреть ее от подбородка до талии, ну а потом, расхрабрившись, – до колен. Свет, горевший в ее окнах, и мысль, что до нее подать рукой, делали этот мираж куда реальнее, чем явленная Джинном сфера, и все же я не мог забыть об этом чудовищном пространстве, мерцающем огнями. Хотел ли я насытить свое любопытство и заглянуть в него снова? Вне всякого сомнения! Почти с такой же страстью, как посмотреть в глаза Захры… Домой я вернулся в восемь, налил молока в кошачье блюдечко и не успел поставить чайник на огонь, как раздался звонок. – Кто там? – Благородные доны в комплекте: дон Румата и дон Жуан. Они вошли, и Бянус с порога объявил: – Женюсь! Я вздрогнул, а Белладонна на кухне, кажется, подавилась молоком. – На Верочке-психологичке или на Галочке, чьи папа и мама в отъезде? – Это кто ж такие? Не помню этих синьорин, ни клятв своих, ни обещаний! – с наглой ухмылкой заявил Сашка, а Симагин насмешливо прогудел: – Мы тут открыли такое страшное распутство, какого не бывало в Датском королевстве! Этот дон младенца собирается растлить! – Какой она младенец? Ей уже шестнадцать! По закону гор – старая дева! – Бянус швырнул пальто на диван, отправил туда же шапку и пояснил: – К Сурабчику заявилась племянница из солнечного Дагестана. Может, не племянница, а внучка… Глазки – вишенки, губки – персик, стан как пальма, а на ней пара та-аких ананасов!… Сурабчик притащил ее на кафедру, и я погиб. То есть созрел. У них, у горцев, видишь ли, строго: или дари кольцо с брульянтом и женись, или придут трое Ахметок с ножиками и учинят внеплановую менструацию. А где мне взять кольцо? Где, Серый? Не по карману доцентам брульянты!… Он порол эту чушь и хитро поглядывал на меня, а с другого бока с лукавством косился Алик. Каждый знал одну из моих тайн и полагал, что эта тайна – главная, но благородные доны ошибались. Да еще как! Мы двинулись на кухню. Симагин тащил объемистый портфель, а Бянус, напуская меланхолию, бормотал: – Ни один мужчина не должен жениться, не изучивши анатомию и не препарировав хотя бы одну женщину… Оноре де Бальзак. Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, если плохая – заделаешься философом… Сократ. Брак – единственное приключение, доступное робким… Вольтер. Брак – не рай и не ад, а просто чистилище… Президент Авраам Линкольн. Когда я говорил, что умру холостяком, я не верил, что доживу до собственной свадьбы… Шекспир, «Много шума из ничего»… – Начитанный ты наш, – ласково потрепав Сашку по загривку, Олег водрузил портфель на стол. Бянус немедленно оживился, оставил литературные штудии и громко вопросил: – Кто тут у нас Аллигатор? – Я за него, – ответил Симагин. – Ну так не тяни резину, открывай! Из портфеля появились шпроты, нарезанная любительская колбаса, три плавленых сырка, банка селедки под маринадом, огромный батон и бутылка кока-колы. – Легенду не пьем! – заявил Бянус и, небрежно смахнув со стола лимонад, водрузил рядом с батоном «Политехническую». С ней мои друзья расправились минут за двадцать, при моем посильном участии. Сашка был говорлив и, с энтузиазмом поедая бутерброды с колбасой, восхвалял прелести юной племянницы Сурабова, сравнивая ее с полной луной, кареглазой ланью и несверленой жемчужиной. Затем он поведал сагу о Рагнаре Волосатой Пятке – эта история, записанная узелковым письмом и расшифрованная Джеком, доказывала, что викинги побывали в Перу лет за шестьсот до Франсиско Писарро. Наконец, подмигивая мне, многозначительно хмыкая и гмыкая, Бянус перешел к сурабовой аспирантке, имевшей с ним разговор за жизнь во время кафедрального чаепития. Как выяснилось, она девица современная, продукт французской, а не восточной культуры и потому не возражает против супруга-иноверца. Даже агностика и атеиста, лишь бы человек был хороший. Являлось ли это сигналом, который посылает мне Захра? Намеком на то, что мои чувства не остались безответными и что дворцы, верблюжьи табуны, законы шариата и остальная дребедень вовсе не препятствие для любящих сердец? Обдумывая это, я застыл с консервным ножом в одной руке и банкой селедки – в другой. – Затруднения? Товарищ Фарфукис, устраните! – распорядился Бянус, приканчивая последний плавленый сырок. Похоже, мысли о браке с небывалой силой стимулировали его аппетит. Алик отобрал у меня нож и вскрыл консервы, приговаривая: – Это разве затруднения? Вот бандитская пуля… или когда ты его – за шкирятник, а он тебе – коленом под помидоры… или… Вилки Алика и Бянуса со звоном столкнулись над селедкой и затеяли дуэль. – Честь имею: Рем Квадрига, доктор «гонорис кауза»! – рявкнул Бянус. – А вот вас, сударь, я не припоминаю! – А зря. Зубо моя фамилия. Майор! Убери вилку, ты, собака Баскервилей! Они разобрались с селедкой, и Бянус, глядя на опустевший стол, печально произнес: – Ну почему жратва так быстро исчезает? Не говоря уж о напитках… Просто стихийное бедствие, самум и ураган! Вот если б поймал я золотую рыбку… Этот вопрос являлся для меня животрепещущим, и я, растворив холодильник и добывая оттуда паштет, остатки ветчины и что-то еще, спросил: – Желаешь золотую рыбку? А зачем? – Рыбка – это пушкинские сказки, – пробасил Алик. – К тому же кое-какие желания не оглашаются вслух, чтобы рыбка не окочурилась со страха. Интимное свято! Об этом можно поведать только психотерапевту и налоговой инспекции. Но я не отступал. – Бог с ними, с рыбками! Положим, на Землю явился инопланетный пришелец-телепат, всеведающий и всемогущий, как тридцать три Аллаха… И вот он тебе говорит: помысли, старче! Чего желаешь, все исполню! – Телепаты не способны к дальним межзвездным перелетам, – компетентно заявил Бянус, прожевав ломоть ветчины. – Они живут в обществе открытого мышления, и если лишить их связи с этим обществом, то есть привычного ментального фона, наступит регресс и скорая психологическая дезинтеграция. – Но все-таки, – настаивал я, – что бы ты попросил? – Гарем, – подсказал Симагин. – Но большой. Сашка, однако, призадумался, с интеллигентной тоской глядя в пустую рюмку. – Ежели по большому счету и без дураков, я пожелал бы узнать Великую Тайну Бытия, – молвил он, вздыхая. – Куда мы идем после смерти? Конец ли она всему или только начало? Исчезнем ли мы, распавшись прахом, или душа бессмертна и смеется над телесной гибелью? А если так, что ждет ее? Кружение в астральных безднах? Какая-то метаморфоза с памятью, глобальная амнезия, чтоб отрешиться от земного, от бед и радостей, любви и злобы? А может, наша душа соединится с Высшим Существом, с Великим Абсолютом, правящим Вселенной? Если исходить из герметической философии и вспомнить учение зороастрийских магов, каббалу, а также… – Мудрец ты наш! – произнес Симагин со слезою в го лосе. – Гермес Трисмегийский! Ну по такому поводу… Он наклонился, пошарил в портфеле и вытащил непочатую бутыль «Политехнической». – Вот это дело! Одобряю! – сказал Сашка. – А не продолжить ли нам посиделки в гостиной? – Разве тут плохо? – В гостиной телевизор есть, – пояснил Бянус, – и сегодня в двадцать один пятнадцать будут показывать девочек. То ли топ-моделек, то ли поп-звездулек. Желаю насладиться красотой! – Я кивнул. – Ладно, тащи провизию в комнату. Что тут осталось? Шпроты, паштет… Ветчину ты прикончил? – Ага! Всенепременно! – Бянус прижал к груди бутылку, подхватил шпроты, блюдце с паштетом и удалился. – Что-нибудь слышно? – спросил я Симагина заговорщицким шепотом. – Ну о нашем деле и моих хрумках? – Слышно, – с задумчивым видом протянул Алик, ковыряя вилкой в селедочной банке. – Слышно, Серый, да пока не видно! – Чего не видно? – Концов. Они, похоже, посредники. Если и в доле, так на полпроцента. А кто там за ними… – Симагин прищурил левый глаз, хлопнул меня по спине и приободрил: – Ничего, Серега, разберемся! Не звонят тебе больше, не торопят? – Нет. – Вот и мы не будем торопиться. Целься в колено, стреляй в лоб! – Эй, где вы там? – раздался протяжный зов Бянуса. – Рюмки тащите! В сопровождении Белладонны мы перебрались в комнату. Она не против общества, но каким-то чудом усекает, приятны ли мне гости. Если неприятны, прячется в маминой спальне и дремлет, тогда как приятным дозволены всякие вольности, от щекотания брюшка до нежного почесывания за ушами. На этот раз она развалилась у Алика на коленях. Хорошие у него колени, просторные; очень подходят для ребятишек и зверей. Вторая бутылка «Политехнической» прошла в темпе вальса, и я немного захмелел. – Человек, друзья мои, есть хомо сапиенс, который может и хочет, – процитировал классиков Бянус, опрокидывая последнюю рюмку. – А потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь, – откликнулся Алик, закусывая шпротами. – Временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. – Отставив рюмку, Сашка сграбастал пульт и включил телевизор. Но, к его великому разочарованию, девочек не показали – так, промелькнула одна брюнетка, восходящий секс-символ в лосинах и топике. Главным блюдом был ее лысый толстый менеджер, который нудно излагал о воспитании звезды эстрады, о том, чего и сколько в нее вложено, как обучали ее изящным манерам, танцам, пению, а заодно чтению и письму. – Это будет исполинша духа и корифей! – недовольно пробормотал Сашка, корча лысому жуткие рожи. Тут Симагин взглянул на Бянуса, перемазанного маслом от шпрот, затем – на часы, встряхнул пустую бутылку и железным голосом произнес: – Возможность уничтожения объекта по регламенту по мер пять исчерпана. Переходите к водным процедурам и помните, что ваша лицензия на убийство истекает в двадцать два ноль-ноль! – Какое убийство? – вякнул Сашка, но Алик уже тащил его в ванную. Умывшись и распрощавшись, они ушли. В голове у меня чуть-чуть шумело, и почему-то я направился не к своему обычному лежбищу, а в спальню, к ореховому шкафу с коллекцией Коранов. Коран на английском, Коран на французском, Кораны на русском и арабском… Вытащив один из них – не помню какой, но, разумеется, не арабский – я раскрыл его посередине и прочитал: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! А что даст ему знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она – мир до восхода зари!» Пророчество? – подумалось мне. Или случай, явивший слова, что не имеют отношения ни к Теплой Капле Сергею Невлюдову, ни к его возлюбленной, ни к его друзьям и врагам? Но так ли, иначе, эта ночь была наполнена не ощущением могущества и власти, а снами. И снилась мне огромная сфера в ярком сиянии огней, но не было среди них зеленых и синих, желтых и алых либо каких-то других оттенков, кроме того, какой придают ночному теплому небу полная луна и ослепительные звезды. И каждый такой огонек, если к нему приглядеться, внезапно распадался надвое и превращался в темные зовущие девичьи очи.
Глава 13 ЗВОН БУБЕНЦОВ
В дальний путь караваны идут, бубенцами звенят, Кто поведал о бедах, что нам на пути предстоят? Берегись! В этом старом рабате алчбы и нужды Не бросай ничего, ибо ты не вернешься назад.Омар Хайям. Рубаи
Первое марта. По такому случаю я с утра до ночи пил кофе из маминой кружки – все-таки праздник, пусть не государственный, а только календарный. Кофе я потреблял литрами, для бодрости духа и ясности мыслей – первый весенний денек, как и два предыдущих, выдался тяжелым. Верно говорят, что любопытство не отнесешь к порокам, но и к достоинствам не причислишь! Во всяком случае, те, кто лишен любопытства, знают меньше, зато и спят спокойнее. Я сунул любопытный нос во всякие дела, о коих не информируют граждан, чтобы не вызвать у них приступов черной меланхолии. Обычно от этой болезни нас защищают здравый смысл и скептицизм – вот, например, какой-нибудь дотошный журналист пытается сказать нам правду, но мы не верим: правда страшна, в полном объеме недоступна, а журналисты склонны раздувать сенсации, да и вообще народ продажный… К тому же они преподносят версии, а это не так убедительно, как факты и документы, секретные отчеты, кадры специальной киносъемки и обобщающие резюме. Что мы, к примеру, знаем о Чернобыле, статистике рождений и смертей на сто километров окрест или о мутагенных факторах и их влиянии на деление клеток? О нарушениях диплопдности и гаплоидности? О продуктах, вывозимых из чернобыльской зоны, путях, какими они проникают на рынок, и о последствиях их утилизации в собственном желудке? Или о потомстве мародеров, грабящих запретный край с упорством и усердием? Джини об этом знал, а значит, знал и я, и это знание было тяжким. Существовало множество проблем, о коих он мог представить исчерпывающую информацию. Скажем, войны в Крыму и Приморье: кто их затеял, кто породил дыркачей и незалежных громадян, откуда к ним поступает оружие, в каких регионах вербуют ландскнехтов и на какие шиши. Или кавказская ситуация… Что там творилось, в этих новоявленных демократиях, в Грузии, Чечне и остальных Азербайд-жанах? Скрытая драка за большие бабки? Внезапная вспышка религиозности? Месть северному соседу, национальный ренессанс, мечта отринуть азиатчину и интегрироваться в западные сферы? Пустые домыслы! Месть не имела успеха, бабки проехали мимо, а что до религии, то в наш прагматический век ее не взрастишь без надлежащих капиталов. Как и демократию, а потому все эти страны лишь назывались республиками, но были феодальным болотом, где грызлись за власть князья, султаны, беки и предводители тейпов. Джинн давал определенные ответы, извлекая из мутного тумана фигуру за фигурой. Кто приподнялся на поставках оружия, кто торговал рабами, кровью и бензином, кто подыгрывал из-за бугра, кто финансировал оппозицию в прессе, на ти-ви и в Думе и что надеялся получить… Большая Нефть, не шутка! Она была осью проблемы, вокруг которой крутилось планов громадье. Как и где пройдут нефтепроводы, куда и откуда двинутся танкеры, кто завладеет буровыми и, в обход России и ОПЕК, ограбит Каспий… По утверждению Джинна, за всеми кавказскими усобицами, за войнами в Крыму, Ираке и Иране, за ближневосточной проблемой и дикими вспышками терроризма – словом, за всей этой геополитикой стоял один реальный фактор: цена за баррель. Запад стремился ее сбить, Восток – удержать и с этой целью был готов решиться на любые меры: объявить джихад, сровнять с землей все небоскребы на Манхэттене и переписать Коран, слишком миролюбивый для нынешней эпохи. Бесславные войны, которым стоило присвоить название нефтяные! Впрочем, славных войн не бывает; каждая из них на свой манер позорна. Я ужасался, копаясь в окаменевшем дерьме прошедшего и кучах свежих экскрементов, произведенных не далее как вчера; Джинн, неутомимый ассенизатор, выдавал их целыми бочками. Встречались, впрочем, и курьезы, всякие цэ-у и директивы, которыми Большие Шишки и персоны VIP радовали подчиненных. Джинн отыскал приказ министра времен перестройки «секретному» академику, творцу космических ракет – того назначали главным конструктором автоматических линий в кондитерской промышленности. Другому ученому, археологу, предписывалось найти захоронения в Восточной Сибири, но обязательно русские, без примеси «китайских элементов», и чем древней, тем лучше. Нашлись и видеозаписи пикантных прокурорских развлечений, охот и застолий с участием первых лиц, доклады о налетах НЛО на Петрозаводск, Орел, Калугу и остальные города и веси, а также проект о вывозе мусора из Штатов на Таймыр. Но все это были нелепости, мелкий компромат или прожекты несостоявшихся миллионеров. У тех, кто состоялся, хватка была железной, планы – реальными, и приводились они в исполнение на высшем уровне науки. Психологии, информатики, менеджмента, гражданского права, финансов… И я был учтен в этих планах – взвешен, учтен, приговорен! По временам мне приходили письма явиться на презентацию памперсов или пилюль от ожирения и получить ценный подарок либо завещать квартиру фирме «Обеспеченная старость». Инициаторы таких кампаний казались мне обычными лохотронщиками, но это мнение пришлось пересмотреть: Джинн обнаружил базы данных явно негосударственнойпринадлежности, с массой подробностей личного свойства. Фамилии, телефоны, адреса, возраст, состояние здоровья, привычки, индекс доверчивости… Турфирмы отлавливали тех, кто ездил за рубеж, агентства недвижимости – бездетных стариков с квартирами и всех приобретавших дачи и жилье, автосалоны – фанатов «БМВ» и «вольво», торговцы гербатайфом и иными снадобьями – больных людей, отчаявшихся и не доверявших нашей убогой медицине. В принципе это был естественный шаг: распространитель товара желает побольше узнать о клиентах, определить стратегию продаж, и тут компьютеры незаменимы. Но кроме мелких баз, принадлежавших всяким агентствам и представительствам, была еще огромная и абсолютно анонимная. Сведения о миллионе людей, о четверти жителей Питера, их крупных покупках, движимом и недвижимом имуществе, занятиях, акциях, банковских вкладах, наследниках… Эта коллекция регулярно пополнялась как из более мелких баз, так и с помощью других источников, отнюдь не анонимных: ГИБДД, таможни, нотариальных контор и многих ведомств, что занимались землей, налогами, арендой и жильем. Я грохнул эту базу. Цель ее не оставляла сомнений: наводки для мафиозных кланов, шантаж и вымогательство, а факт существования был свидетельством коррупции. Длительной и разветвленной, проникшей в каждую щель и всякий закоулок, во все приемные и кабинеты, где информацию меняли на наличные… Это было так мерзко и гадко, что я передернулся. Меня тошнило и трясло; я понял с пугающей остротой, что информация опасна – очень опасна, особенно в бедной стране, где не привыкли уважать законы. Мы, ее жители, были объектами экспроприации и для властей, и для бандитов и мошенников; нас защищала лишь безвестность, но этот покров униженных и сирых стремительно таял с каждым днем. Что тут поделаешь! Компьютерный век – что мощный отлив, когда обнажается дно океана и все его секреты… Отправившись на кухню, я разыскал бутылку «Политехнической», глотнул и, отогревшись душой, начал заваривать кофе. Час не поздний, но за окном уже сгущался сумрак, и серые здания, тянувшиеся шеренга за шеренгой, напоминали корабли с прямоугольными иллюминаторами, темными или светлыми, розовыми, золотистыми, зелеными, смотря по тому, какой оттенок штор скрашивал жизнь моим соседям. Было тихо. Дом наш стоит на проспекте, и планировка моей квартиры такова: два окна на улицу, два во двор. Л во дворе, которым я любовался из кухни, считай никого. Вороны, воробьи, высокие сугробы да редкий прохожий, который тащится домой по тропке среди снежных куч… Весной не пахнет. И не запахнет до середины апреля, подумал я, присаживаясь к столу. Кофе был ароматным и крепким, чашка – теплой, как мамина ладонь. Я пил неторопливо, поглаживая Белладонну, свернувшуюся на коленях, и слушая звуки, что доносились со двора. Скрип снега под чьими-то шагами, протяжная жалоба двери в соседнем подъезде, потом – хлопок и возмущенное воронье карканье… Звуки не мешали размышлять. Я думал об анонимной базе, прикидывая варианты. Может, зря я ее грохнул? Может, не стоило спешить, чтоб не встревожить хозяев? К ним лучше подобраться в тишине… Однако разрушительный инстинкт довлеет над людьми, и я – не исключение; я также подвержен гневу и иным страстям, что заставляют нас размахивать дубинкой. Сначала размахнуться, врезать, а потом сообразить, что ловчая яма или капкан были б надежнее… Это с одной стороны, а с другой, – дубинка производит больше шороха. Шорох сейчас преизрядный – у тех спецов, что обихаживали базу. Клиент, такой цветущий и увесистый, скончался прямо на глазах! Конечно, начат розыск, а всякий розыск ведет к повышенной активности. Которую, само собой, можно засечь и выяснить, какой нужник сгорел и кто копается в его руинах. Я поднялся, чтобы направить Джинна по следу, но в этот миг внизу загрохотало. Белладонна, хрипло мяукнув, метнулась в угол, а я прижался носом к оконному стеклу, однако увидел лишь чьи-то спины в кожанках да шапки. Угол зрения был неудобным, сумрак сгущался, но это не помешало сообразить, чем занимаются шапки и кожанки: филенку, простоявшую недели две, теперь вышибали по-наглому, сапогом! Патриотизм не моя стихия, но все же я был возмущен. То, что позволено Аляпину, не разрешается уличным лохам! Во-первых, дядя Коля – свой, а во-вторых, ежели он воровал филенки, то делал это скромно и тихо, не беспокоя меня и нижних соседей. Творившееся в данный момент у двери было нездоровой конкуренцией, и только я мог отстоять общественную собственность и защитить дяди-колины интересы. Я – мужчина в расцвете сил, а подо мной, на первом этаже – старички-супруги да одинокие дамы в преклонных годах… Положение обязывает, как говорили латиняне! Раздался треск филенки, и я ринулся в прихожую. За мной с грозным шипением бежала Белладонна. Она отважный зверь и не откажет хозяину в поддержке, но больше любит прикрывать тылы. И это понятно – как-никак, ребра у нее не деревянные. Щелкнул замок, дверь распахнулась, но не успел я шагнуть, как чья-то рука толкнула меня обратно в прихожую. В ней сразу стало тесно: сюда один за другим въезжали шкафы. Первым – Николай, а за ним еще пара дружинничков, и морды их были мне знакомы: один – керимов шофер, другой – Борис, из хрумковских стражей. – Ты уж извини, браток, – произнес Николай, оттесняя меня к коридору, – запамятовал я, как ваш замочек отпирается. Память у меня плохая на цифирь. По головенке, видишь, в детстве били. – Зачем пожаловали? – спросил я, раскинув руки и упираясь ладонями в коридорные стены. Пускать их дальше прихожей я не собирался. – Невежливый! – буркнул шофер, разоблачаясь. Он отпихнул ногой Белладонну, и та зашипела, встопорщив усы. От неприятных гостей она прячется, но эти были не просто неприятными – они посягали на ее хозяина и дом. Священные понятия для кошек! – Не трогай ее, – сказал я сквозь зубы, – даже не прикасайся! Говорите, чего надо, и убирайтесь вон! Пятерня Николая легла на мое плечо. – Надо все то же, бабай. Брал капусту? Брал. Давай работу. Боссы не расположены ждать. – Деньги отданы. – Деньги! А процент? – молвил он с широкой ухмылкой. – Процент-то какой набежал! Тебе до могилы не рассчитаться! Хотя дорожка туда недолгая… – Николай помолчал – наверное, с той целью, чтоб я проникся мыслью о могиле – затем, все еще ухмыляясь, добавил: – Но ты, ботаник, не очкуй. Отдай, что просят, объясни, что и где, и будет все путем. Что-то не так, подумал я, уставившись в его насмешливую рожу. Что-то случилось, какой-то прокол или внезапный ляп, переменивший течение событий. По идее, хрумкам сейчас положено не слать ко мне горилл, а исходить испариной от страха, сушить мешками сухари или озаботиться путевкой на остров Кипр. Это обычная реакция на рандеву с Симагиным – конечно, если от клиентов пахнет криминалом. А тут не просто пахло, а воняло – качков-то зря не посылают! Это с одной стороны, а с другой – всякая акция устрашения весьма для устрашителей опасна, когда на вас наехал полицейский чин… Зачем тогда послали? Само собой, можно убрать свидетеля, но я-то им нужен живым! Николай прищурился. – Ну как решишь? Разум подсказывал, что шансов против этой троицы у меня нет, но чувства говорили другое: это родительский дом, твое жилище, и ты его должен защищать. Чувства победили. Я наклонился и подтолкнул сверкавшую глазами Белладонну к кухне. Я не хотел, чтоб ее затоптали. – Решать мне нечего. И говорить с тобой я не хочу. – Поговоришь с Альбертом. Приедет через пару часиков. А чтоб ты был сговорчивей… Они придвинулись ко мне, все трое, чья-то рука потянулась к горлу, чьи-то пальцы стиснули плечо, над ухом послышалось хриплое сопение. Я ударил, почувствовал, как врезается кулак в чужую челюсть, откинулся назад, ударил снова, целясь в лицо Николая. Кажется, попал; он выругался, замотал головой, потом что-то тяжелое обрушилось мне на темя, под ребра въехали бревном, и ноги сделались ватными. Секунд двадцать я еще продержался, успев приложить Бориса в скулу, но стены вдруг качнулись, потолок ринулся вверх, а пол подпрыгнул, прижавшись к моим лопаткам и затылку. Ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни шевельнуться! Правда, слух не отказал, а память фиксировала все, что говорилось где-то между потолком и полом. – Куда его? В комнату, к батарее? – Падла, глаз подбил! – Не надо в комнату. Не надо, чтобы у окна маячил. – В сортир? – Не, в ванну тащи, под раковину. Труба там чугунная, да и купать способней будет. Пасть залепим и… – Глаз, говорю! – Заткни хайло, Борян, и дай браслеты! – Я ему, гниде… – Не трожь! Приедет Альбертик, скомандует, будешь парить и купать. А до того не трожь! Альбертику в целости нужен. – Я его искупаю! Рылом в кипятке! – Тащи, Серый… Да не за ноги, за шкирятник! Ванна узкая, не развернем… – Тоже ведь Серый, подумал я и отрубился. Сознание возвратилось скачком, будто после паузы снова запустили фильм о жизни Сергея Невлюдова. Я обнаружил себя в ванной, на полу; лежал я ничком, мои запястья были просунуты за чугунный сифон под раковиной и скованы наручниками, а рот заклеен липкой лентой. Поза была неудобной, и я повернулся на бок, задел головой о ванну и, если бы смог, завопил: в затылке взорвалась граната. Но теперь в поле зрения были распахнутые двери из ванной в коридор и из коридора – в мою комнату, да и звуки доходили как-то отчетливей. Шарканье ног, скрип выдвигаемых ящиков, голоса… – В столе ничего. – А ты думал, тут отчет для Альбертика заготовлен? – Машинка-то работает… – Машинку не трожь. Из этой машинки сам достанет… – Кресло, глянь! С каской и наручниками! – Видел я эту лабуду… Дорогая штучка! Выходит, наш фраерок не бедный… – Обшарим хазу? – Нет. Альбертик не велел. Машинка нужна да фраер. Три голоса, наглых, громких… Потом к ним добавился четвертый, тоненький, как комариный писк. Я не сразу сообразил, что он доносится из моего ханд-таймера: – Теплая Капля, что с тобой? Параметры организма свидетельствуют о возникшей опасности… Какого рода опасность? Чем я могу помочь? Ответь! Дай инструкции! Я замычал, бессильно заворочался в щели под ванной. Что подсказать моему Джинну? Пропасть, целая бездна вариантов! Сообщить Симагину или в милицию, оповестить соседей или устроить электронный полтергейст для устрашения налетчиков… По моему приказу Джинн мог направить сюда группу омоновцев, агентов ФСБ либо десантный полк с пушками и минометами; мог поступить и проще: связаться с Николаем и, сымитировав голос Альберта, скомандовать отбой. В общем, возможности неисчерпаемые, только вякни… Вякнуть, увы, не получалось. – Вижу тебя, – сообщил Джинн. – Датчики грубы, изображение плохое… Но людей в твоей жилой ячейке вижу более отчетливо. Анализ ситуации: стабильность твоего существования нарушена. Это точно, подумал я. – Твоя способность к общению заблокирована. Еще как! Липкая лента стянула кожу вокруг губ, и пересохший рот взывал о глотке воды. – Ты лишен подвижности. Без всякого сомнения! От наручников не избавишься, чугунную трубу не перекусишь. Хотя… – Я мог бы использовать кое-какие средства, однако они уничтожат твою жилую ячейку, – печально сообщил Джинн. – Или тебя вместе с другими теплыми сгустками. Если затопить помещение газом, и… – Не надо газа!… – мысленно завопил я. Позвони! Позвони кому-нибудь, дружище! Хоть Бянусу, хоть Катерине, хоть в службу МЧС! А лучше – Атику Симагину! Мы ведь с тобой говорили о защитниках… Что же ты тянешь? Он не тянул – просто, столкнувшись с необычным случаем, перебирал варианты ответа, дабы найти среди них оптимальный. Самый надежный и быстрый, и желательно без посторонних лиц. Учитывая его способности, этот процесс не мог затянуться надолго. – Решение принято, – пропищал комарик на моем за пястье. – Жди! Я закрыл глаза, потом открыл их и вывернул шею, уставившись на фаянсовую раковину. Сифон под ней – старый, чугунный – нижним концом входил в сливную трубу, и это место было зацементировано. Пожалуй, если поднапрячься, я смог бы выдернуть сифон – конечно, вместе с раковиной… Руки скованы, но ничего; главное – не освободить их, а поднести к губам, содрать проклятый пластырь и дать указания Джинну… Нет, не выйдет, понял я; по-тихому сифон не вырвешь, а с шумом затея бессмысленна. Прибегут, перекуют к другой трубе… В дверь проскользнула Белладонна, приблизилась ко мне, потерлась о плечо и села рядом. Хвост ее нервно подергивался, в глазах мерцали огоньки. Если бы я была тигром!… – говорили эти глаза. Или ягуаром, или хотя бы рысью… Причесала бы всех! Ты, хозяин, не сомневайся: причесала бы в лучшем виде, а скальпы тебе принесла, для украшения томагавков! Но я не рысь, а эти крысы слишком велики… Снова опустив веки, я слушал, что творится в моем жилище. Налетчики больше не разговаривали; я различал скрип половиц, шорох шагов, какие-то шелесты и скрежет, потом – позвякивание и бульканье на кухне – видно, нашли бутыль «Политехнической». Они бродили по комнатам, трогали мебель и книги, вещи отца и мамы, и мысль, что они прикасаются к ним, была нестерпима. Я стиснул кулаки. Темная ярость сжигала меня, гнев, который питает к насильнику связанная беспомощная жертва. В такие минуты кое-что узнаешь о себе… Я не думал о свидании с Альбертом и не боялся предстоящей пытки – наверное, страх пришел бы потом, при виде ванны, полной кипятка, или раскаленных утюгов и вилок, но не сейчас, не в этот момент. И об обещанной помощи Джинна я тоже не думал, а размышлял о том, не своротить ли все же раковину. Как-нибудь побыстрее, за пару секунд… Швырнуть ее в коридор, под ноги бандитам, ринуться в комнату, сорвать со стены томагавк и… В ванную заглянул Борис. На его скуле, под глазом, наливался изрядный синяк, и при этом дивном зрелище у меня заныли кулаки. Украсить бы второе око… Пластырь на губах мешал, но все-таки я улыбнулся. Рожу Бориса перекосило. – Веселишься, клепала программный? Ну-ну… Скоро и я повеселюсь! – Он перечислил список грядущих развлечений, харкнул на пол и ушел. Белладонна, сощурившись, проводила его злобным взглядом, а я чуть-чуть подергал раковину. Черт, прочно сидит! Но если поднатужиться… Не сейчас. С кухни опять донеслись звон и бульканье, и каждый сделанный глоток работал на меня. Пусть расслабляются… Как говорит Симагин, неожиданность – залог успеха… Золотое правило военной стратегии! Прошло минут двадцать, на кухне успокоились и, кажется, сели расписывать пульку. Я осторожно приподнялся. Путь к томагавкам свободен… Дернуть раковину и бросить к кухонной двери… Первый, кто ринется в коридор, наверняка споткнется… Ну а потом – за томагавки, и побольше шума! Так, чтобы Катерину проняло, верхних и нижних соседей, до дяди Коли с седьмого этажа! Глядишь, отзовутся! Только бы Олюшка не вылезла… С этой мыслью я упер плечо в раковину и напрягся, морщась от боли в животе. Внезапно прозвенел звонок. – Шеф, что ли? – донеслось из кухни. – Рановато для Альбертика, – молвил Николай. – А может, он. Сходи, Серый, проверь. Если чего, хозяин занят, пьет с гостями. – Вдруг настойчивый кент попадется? – Дай по башке и тащи в прихожую. Запакуем и задвинем в угол. Звонок прожурчал снова, потом раздались шаги, скрипнула дверь и тут же послышался сдавленный вопль. Вроде бы вопил шофер – значит, кент и в самом деле попался настойчивый, но не из тех, кого легко задвинуть в угол. Симагин!… – с торжеством подумал я, дернул раковину, выдрал ее вместе с сифоном из сливной трубы и бросился в коридор. В прихожей метались тени, стонал шофер, по-черному ругался Николай, а Борян лез из кухни – надо полагать, на помощь. Но налетел на сифон. Могу поклясться: раковина, особенно с трубой, оружие смертельней томагавка или, к примеру, меча. Меньше маневренность, но в узком пространстве не пофехтуешь; тут важен напор и удар, желательно тяжелый и внезапный. В челюсть, в печень, но лучше сифоном в живот – тогда противник, потеряв дыхание, согнется, и можно стукнуть его раковиной по затылку. Так я и сделал, отправив Бориса в глубокий нокаут. Затем, придержав свое оружие коленом, содрал нашлепку с лица и, испуская боевые кличи, ринулся на Николая. Спина у него была широкой, и я не видел Симагина, даже не слышал, но в том ли суть! Снова, как в детстве, мы бились плечом к плечу, только противник был другой – не хулиганы из седьмого «бэ», а то, что из этих мерзавцев выросло. Ну не из них, так из других таких же… Николай вдруг охнул, развернулся ко мне и начал медленно валиться на колени. Голова у него запрокинулась, лицо посинело, и я заметил перечеркнувший шею шнурок, впившийся так глубоко, что кожа отвисла складками. Кто-то затягивал удавку, а Николай, раскрывши рот, жутко хрипел и молотил по воздуху руками, но эти движения были все беспорядочней и реже, судорожней и слабее, напоминая конвульсии агонии. Вид умирающего человека так поразил меня, что раковина сама собой скользнула на пол, а ярость сменилась ужасом. – Не убивай его, Алик! – выкрикнул я. – Не надо! – Почему? – раздался спокойный голос. Николай упал, и в полутемной прихожей передо мной явилось лицо Ахмета. – В-вы? – Вздрогнув от неожиданности, я отступил назад. – Кх-как?… Кх-каким образом? – Мне позвонила госпожа. – Ахмет наклонился и снял шнурок с шеи Николая, потом пихнул его ногой. – Жив, пес! Но ненадолго. – Г-госпожа? – Брови мои полезли вверх, но тут же я сообразил, кем прислан он на выручку. Конечно, не Захрой, не дорогой моей принцессой… А жаль! – Госпожа на ученый собраний и должна вернуться поздно, – терпеливо пояснил Ахмет. – Я поехал, чтобы встретить ее. Она звонить… – Его ладонь легла на мобильник, подвешенный к поясу. – Сказала, что на тебя опасность, сказала, надо помочь, сказала, где твой дом. Откуда знает? Клянусь Аллахом! Что не известно этой девушке, о том не ведал мудрый Сулейман! Мое заикание прошло. – Я объясню. Но сначала решим, что делать с этими… Ахмет огляделся. Николай дышал, весь отдаваясь этому процессу, Борян, приподнявшись, щупап затылок, шофер сидел в углу, держась за челюсть; на Ахмета он взирал с явным ужасом. – Сделаю, что скажешь, господин мой Сирадж. Лучше задушить… А ночью я их увезу и закопаю в снег. Где-то… Найду где и все делать сам. Ты не коснешься их своими благородными руками. – Хрр… – прочистил горло Борян. – Шутишь, друг? Ахмет шагнул к нему и коротко, страшно ударил в зубы. – Свинья твой друг, бахлул[710]! И место твой в помойной яме! Прикажут, будешь там! – Не прикажу. Не хочу их смерти. – Я покачал головой. – Пусть убираются! Ну их… – чуть не сказал «к Аллаху», но вовремя поправился: – К дьяволу! Выметайтесь, да поживей! Борян вытер ладонью окровавленный рот, поднял Николая, подставил ему плечо. – Чапай вперед, Серый… Тачку подгони! – Ключ от наручников, – сказал я. Он бросил мне ключик на цепочке, потом, покосившись на Ахмета, пробормотал: – Выходит, не в одной ментовке у тебя кореша… ты, выходит, и с черными дружишь… Мог бы предупредить! – Вот ты и предупредишь. Альбертика. – Альбертик еще о себе напомнит! Дверь закрылась, и мы с Ахметом отправились на кухню. На столе лежали карты; я смел их в помойное ведро, бросил туда же наручники и заварил кофе. Белладонна, с победно задранным хвостом, обошла вокруг стула, на который уселся гость, подумала и прыгнула ему на колени. – Что от тебя хотели эти псы? – спросил Ахмет, погла живая кошачью спинку. Я налил ему кофе в кружку отца, себе придвинул мамину. – Хотели, чтоб я отдал им власть над джинном. Он с задумчивым видом коснулся шрама на левой щеке. – Я видел нечто у пожилого хакима, с которым ты дружишь… Я был удивлен… Но джинн ли это? Я спросил госпожу, но она смеяться. Она верит в джабр, но не верит в джиннов! Сказала, джинны давно умерли. – Все, что подвержено смерти, может и рождаться вновь. По воле Аллаха. – И властью его! – Ахмет неторопливо провел ладонями по лицу. – Что Аллах приговорит, тому и быть! Но если родился новый джинн и отдан тебе в услужение, то почему он не явиться тебе в помощь? – Он слишком огромен и не может сделаться меньше. Он так могуч, что если б коснулся пальцем этого дома или дунул на него, стены бы рухнули и погребли всех правых и виноватых. Но он помог мне, почтенный Ахмет, – он послал тебя. – Меня послала госпожа. – Твоя прекрасная госпожа не знает, где я живу. Не знает, что мне угрожала опасность. Джинн говорил с тобой ее голосом. Он мастер на такие штуки. Ахмет отпил глоток, аккуратно поставил кружку на стол и полюбовался ее видом. Казалось, он не слышал моих слов. – Хороший кофе и налит в достойный сосуд… – Из этой кружки пил мой отец. – О! Ты одарил меня высокой честью, мой господин Сирадж! – Сделав паузу, он неожиданно поинтересовался: – Ты находишь мою госпожу прекрасной? Кровь бросилась мне в лицо. – Прекраснее я не встречал… Видеть ее – счастье, мечтать о ней – радость! – Ты говоришь искренне, – промолвил Ахмет, глядя на меня. – И ты утверждаешь, я слушать джинна, не госпожу? – Да. Ты сказал, она на ученом собрании? – Я посмотрел на часы – было почти восемь. – Так вот, собрание закончилось, она тебя ждет, а не дождавшись, позвонит. Может быть, сейчас. Наверно, рассердится, что ты не приехал… И ей ничего не известно о… Мобильник Ахмета зажурчал. Он поднес аппаратик к уху, вымолвил что-то напевное, сделал паузу, о чем-то спросил. Щека его стала бледнеть, и шрам выделялся на ней алой полоской. Закончив разговор, Ахмет на секунду прикрыл глаза, потом пробормотал на арабском пару фраз и тут же перевел: – У нас говорят: глупец не верит в завершенное. Носит песок в пустыню и поливает медом финик… Прости, господин мой Сирадж, что я оскорбил тебя недоверием. Чем искупить мой грех? – Скажи госпоже… скажи ей… – Горло у меня перехватило, и я почувствовал, как запылали щеки. – В общем, ты знаешь, что сказать. – Знаю. – Он кивнул и поднялся. – Кофе у тебя хороший, но надо ехать. – Надеюсь, мы еще встретимся, почтенный Ахмет. – Если будет на то воля Аллаха. На пороге он остановился и, не глядя на меня, спросил: – Ты говоришь, что госпожа моя прекрасна, и ты повелеваешь джинном, таким могучим, что от его дыхания рушатся дома. Почему не велел доставить ее к себе? Я пожал плечами. – Наша жизнь не сказка, почтенный Ахмет. В ней и без джиннов хватает насилия. – Истинно так! Мы вышли на лестничную площадку. Дверь соседней квартиры отворилась, Катерина бросила взгляд на меня, потом осмотрела Ахмета и облизнулась. Он поклонился ей и начал спускаться по лестнице. – Что у тебя за шум, Сережа? Кошка рожает? – Гуляли, – неопределенно ответил я. – Был повод? – Целых два: от службы откупился и денег раздобыл. – Ну и слава богу. – Она поглядела на пустую лестницу и вздохнула: – Ка-акой мужчина! – Иностранец! – произнес я со значением. – Из этого… из Катара! Компьютерами торгует. Я сбыл ему партию. Получу комиссионные, должок отдам. – Не торопись, Сереженька, не горит. Спокойной ночи. – Она притворила дверь, но тут же высунулась снова и спросила: – А Катар – это где? – Если с юга смотреть, то будет слева от Персии, справа от Аравии, – пояснил я. – Нефть, верблюды, финики, дворцы и страстные богатые мужчины. – Ах! – Она томно вздохнула. – Еще американские авианосцы, – добавил я, но дверь уже закрылась. Вернувшись к себе, я водрузил на место раковину и приласкал Белладонну – после случившихся потрясений она нервно зевала и отряхивала лапки, будто прошлась по грязной луже. Потом ощупал себя самого: шишку на темени, синяки на ребрах, ссадины на костяшках пальцев. Принял душ, переоделся. Представил, что скажет Ахмет Захре. Видеть тебя – счастье, мечтать о тебе – радость… Вздохнул и сел к компьютеру. Джинн, разумеется, был на месте. – Твой организм функционирует нормально. Я заключаю, что помощь была своевременной и эффективной. – Исключительно эффективной, – подтвердил я. – Но почему ты вызвал Ахмета, а не Симагина? – Причин две. Первая: прогноз действий защитника Ахмета показал, что они будут лучше соответствовать ситуации, чем действия защитника Симагина. Второе: с Симагиным я не могу связаться. Он не выходит на контакт в течение последних двух часов, хотя его терминалы, стационарные и переносной, исправны. – Должно быть, гуляет где-то, – сказал я, улыбнувшись. Может, у Алика герл-френд завелась? Та, которая песни ему сочиняет… Пора бы, пора! Питер – великий город, и есть в нем всякие принцессы, кроме аравийских. Скажем, хорошенькая налоговая инспекторша или аудитор-ревизор… Почему бы и нет? Я отлучился в кухню, к холодильнику, приложить к шишке лед, потом мы с Джинном, оседлав мустангов и прихватив десяток гончих, выехали на охоту. Это занятие нас увлекло: рядом с анонимной базой – вернее, с дырой на ее месте – толпилась уйма всякого зверья, гиен, шакалов, крыс, гадюк, метавшихся в том хаотическом беспорядке, какой свидетельствует о растерянности, переходящей в панику. Мы отследили ряд звонков и сообщений по е-мейлу, продвинулись к их получателям, установили адреса, названия фирм, фамилии – большей частью мне неизвестные, ибо я не вращаюсь в финансовых и криминальных сферах. Список был обширен – видимо, базу держали на паях и пайщиков объединяла тяга к чужому добру, а также к строительству пирамид и воздушных замков. Любопытный материал для Алика, подумал я, и в ту же минуту раздался звонок. Звонил Бянус, и его лицо на мониторе выглядело странно: кожа бледная, губы дрожат, щека подергивается, а в глазах – непритворный ужас. Таким я Бянуса не видел никогда; если уж говорить начистоту, из нас троих он самый крепкий, самый неподатливый орешек. – Что случилось? Внучка Сурабова дает согласие? Ожили мумии инков? Или… Он не знал, что я его вижу, но это как-то выпало у меня из памяти – слишком я был удивлен. Машинально бросил взгляд на часы – ночь, половина второго… Доцентам положено спать. Ну если залезли в чужую постель, то развлекаться… – К дьяволу внучку! – выкрикнул Бянус. – И к дьяволу инков! Зоя Павловна мне звонила, только что… Алика убили!
Глава 14 ПРАХ ПОГИБШИХ
Взрастит ли розу в мире небосвод, Что после зноем полдня не сожжет? Когда б копился в тучах прах погибших, То дождь кровавый падал бы с высот.Омар Хайям. Рубаи
Прощались с Симагиным в среду, шестого марта. Полный людей зал крематория, в окнах – серое низкое небо, груды букетов и венков, комендантский взвод в почетном карауле, речи, клятвы отомстить, грохот прощального залпа… Алик – бледный, непривычно тихий, с закрытыми глазами, в черно-алом гробу… Рядом женщина. Еще вчера не старая, но постаревшая разом на двадцать лет. Зоя Павловна, мать… Я подошел к ней. Она уткнулась лицом в мою куртку, что-то забормотала. – Сережа, Сереженька… – различил я. – Приходи, не забывай… Ты один, и я теперь одна… Без… без… Она не рыдала, не билась в истерике, и только плечи ее, жалко сгорбленные, тряслись, будто в приступе лихорадки. Может быть, она еще не понимала всей тяжести своей потери… Я знал, что ей предстоит. Бессонные ночи, гробовая тишина в квартире, воспоминания, одиночество, тоска… Одежда в шкафу, хранящая запах тех, кто больше ее не наденет, вещи, к которым они прикасались, чашки, из которых пили, зеркала, где нет знакомых отражений… Я знаю, я через это прошел! Но я молод. У пожилых, наверное, все тяжелей и хуже. Безнадежнее… Когда прощание закончилось, мы с Сашкой отвезли ее домой. На кухне хлопотали какие-то женщины, подруги школьных лет или троюродные сестры; одна увела Зою Павловну, другая все пыталась накормить нас, но даже Бянусу кусок не лез в горло. Мы выпили по чашке чаю и отправились ко мне. Я собирал на стол, резал колбасу, открывал консервы, вспоминая о руках Алика, таких сильных, ловких… Притихшая Белладонна сидела на табуретке; ее голубые глаза следили за мной с сочувствием и грустью. Она понимала тяжесть потерь. Я убежден: живые твари, что обитают рядом с нами, едят из наших рук и любят нас, очеловечиваются год за годом, столетие за столетием. Джинн – подтверждение тому. Если подобное существо может понять человека, что говорить о наших меньших братьях? Конечно, Джинн разумен, а Белладонна – нет, но в эмоциональной сфере выигрыш за ней, ибо она обладает телом. Чтоб выразить чувство приязни ко мне, Джинн пользуется словами, а Белладонне достаточно взгляда. Еще она может склонить головку и потереться о мое запястье… вот так, вот так, моя красавица… Сашка слонялся по квартире, шаркал ногами, вздыхал, включал и выключал телевизор, потом отправился к Тришке, щелкнул наугад какой-то файл, ознакомился, хмыкнул и завалился на кухню. – Текст там у тебя забавный… Фантастика? – Нет. Меморандум Кеннеди. Ходила в народе легенда, что Кеннеди после известных кубинских событий призвал первостатейных американских спецов, от физиков до лириков, и повелел, чтоб те составили геополитический прогноз лет этак на тридцать-сорок: какие сложатся в мире ситуации, чего ожидать в грядущем и куда рулить державный корабль под звездно-полосатым флагом. До угрозы мирового терроризма эксперты не додумались, но единогласно порешили, что гонку вооружений надо продолжать, ибо для богатых Штатов она ведет к прогрессу и процветанию, а для бедного Союза – к стагнации и обнищанию. Ergo, Союз этой гонки не выдержит, надуется сверх меры и лопнет где-нибудь в начале девяностых, что и случилось на практике. Легенда гласила, что этот прогноз был принят к сведению и обобщен в секретном документе, и все заокеанские администрации молились на него, точно на пятую книгу Царств[711]. И домолились… Союза нет, а есть исламский терроризм, руины в Нью-Йорке, трупы в Москве, войны в Ираке, Палестине и Афгане. Я изложил все это Бянусу, отметив, что люди склонны ошибаться. Даже столь просвещенные, как президент Кеннеди. Сашка выслушал и буркнул: – Президент – отец народа, эскиз в золотых тонах… Слушай, Серый, а этот меморандум – не подделка? Вроде протоколов сионских мудрецов? Там, где Джинн отыскал меморандум, подделок не держат, но рассказать об этом Сашке я не мог. Ни ему, ни Глеб Кириллычу, ни Эбнеру, ни Захре… Может быть, Ахмету, вера которого была наивна, но крепка. Я пожал плечами. – Может быть, подделка. Но все равно интересно. – Интересно, интересно, – повторил он, сел за стол и наполнил рюмки. – Алика вот в парк понесло… Зачем? Тоже интересно… Темень, снега по яйца, и за каждым сугробом – по бандиту… Зачем он поперся в этот гребаный Павловск? Что там делал, кого выслеживал, кого ловил? – Сморщившись, закрыв глаза ладонью, Бянус отвернулся. – Не поймал… Был майор, нет майора… Алик погиб в Павловском парке, по дороге к вокзалу, около семи – тогда, когда я валялся прикованный к раковине. Ему дважды выстрелили в спину, и умер он мгновенно. Треск выстрелов слышали лыжники; они же его и нашли в четверть восьмого, определили, что уже не дышит, и вызвали патруль. Получалось, что Николай с подельщиками ни при чем – у этих была своя задача, с полной гарантией алиби. Но Николай говорил, что ждут Альберта, да и Борян обмолвился: Альбертик о себе еще напомнит! Вот и напомнил… Я не сомневался, что Алик раскопал некие важные подробности или хотел их раскопать, а потому нанес визит хрумкам. На обратном пути его и застрелили… может, Салудо, а может, наняли киллера… Загадка была не в убийстве и даже не в симагинских раскопках, а в том, как он подставился. Умный человек, а главное, опытный и хладнокровный… слова лишнего не скажет… Или все-таки сказал? Такое слово, что стоило жизни? Бянус поднял рюмку. Мы выпили, не чокаясь и не закусывая. Потом я произнес: – Спрашиваешь, зачем он поперся в Павловск? Он, Сашка, меня выручал. Влип я в одну историю… с тем самым Джеком влип, что узелки твои читает… которого сняли с твоего пентюха… Его глаза распахнулись. – Ворюгу нашел? А ворюга – не по зубам? Слишком крутоват? – Не в ворюге дело. Совсем другой сюжет. – Помолчав, я добавил: – Ты, Саш, извини, но посвящать тебя в эту историю я не буду. Друг у меня один остался. Взгляды наши скрестились, и Бянус издал какой-то странный звук, то ли всхлипнул, то ли откашлялся. Мы понимали, что больше нам не сидеть втроем, не слушать басистый аликов голос и не внимать перезвону гитарных струн. Никогда, никогда… Это было горько, невыносимо горько! Кто там?… Чингачгук Зеленый Змей без Кецалькоатля, Иудушка Троцкий без Железного Феликса, Рем Квадрига без Клопа-Говоруна… Сашка кивнул. – Меня ты можешь не посвящать. А как насчет компетентных органов? – Ничего там не светит. Я изложу свою версию, подозреваемые – свою, а их рассказ куда правдоподобнее! Наняли, мол, программиста для бухгалтерии, а программист, веник трахнутый, навыдумывал всякого и дружка-майора подослал… Ну свершилась майорская проверка и ничего не дала… хотите, опять проверяйте… Отчетность в порядке, а что майора ухлопали, так мы ни сном, ни духом! – Я поднял бутыль и налил себе и Сашке поровну, на два пальца. – Ну накатаю я ворох телег… В ФСБ напишу, в милицию, полицию и лично президенту… Кто мне поверит? – Алик же поверил! – Алик был другом. Мы снова выпили, не чокаясь, и Бянус, злобно сверкнув глазами, сказал: – Этого так оставлять нельзя! С одной стороны, нет у народа излишков бумаги, чтоб заводить переписку с органами, а с другой – народ не простит! Народ рассейский привержен справедливости! Око за око, зуб за зуб! Мы должны… – Я должен. И хватит об этом. Actions speak louder than words[712]. Бянус пустился в споры-уговоры. Упрямством он не уступит верблюду, которого гонят в Багдад, а он желает повернуть к ближайшим зарослям колючки. Но козыри – то есть подробности и детали – сошлись в моей руке, а я не желал втягивать Сашку в эту историю. Да и чем он мог помочь? Соблазнить Инессу и выбить признание, кто эту курочку топчет? По мере того как опускалось спиртное в бутылке, сашкин напор слабел, а тема нашей беседы делалась разнообразней и шире. Слово за словом мы перешли к прогрессу в расшифровке узелков, к племяннице Сурабова, которая готовилась на исторический, ко всяким кафедральным сплетням и, наконец, к Захре. Редкая девушка, но странная, заметил Бянус. На первый взгляд, как все фемины, что местные, что из Парижа: юбки-блузки-туалеты, глазками туда-сюда, ножкой так и этак, вроде для соблазна… Но!… – Он с многозначительным видом поднял палец. Внешнее – маска, паранджа, суть во внутреннем. Внешнее – из Европ, внутреннее – из Аравии, но сочетаются две ипостаси на удивление гармонично. И еще: чего-то она ищет или кого-то, стержень ли в жизни, мудреца-наставника, а может, принца девичьей мечты. Ты с ним случайно не знаком? Уже на пороге, облачившись в шапку пальто, Бянус вдруг ухватил меня за ворот, дернул к себе и зашептал: – Ты, Серый, не дрейфь, заглядывай на кафедру да куй железо… Восток – дело тонкое, но страстное… Жила в Бахрейне принцесса Мариам, да вот запала на морского пехотинца и смылась с ним в Америку![713] Тому уж сколько годков… живут, по слухам, в счастливом браке… Я вздохнул. – Так то – морской пехотинец! Форма, боевые шрамы, бездна обаяния… – А ты попробуй! Ты думай про Алика! Он нас любил, и он хотел, чтоб мы были счастливы! На всю катушку, по полной программе! Сечешь? Дверь за ним закрылась, обдав меня волной холодного воздуха. Попробуй! Может, я бы попробовал без отлагательств, но разум мой и чувства заняты были иным. Око за око, зуб за зуб… Жизнь за жизнь! Я побродил по комнатам, включил телевизор, послушал новости – о потягушках в Думе, успехах на восточном фронте (взят полустанок с тремя цистернами мазута), захваченных авиалайнерах, взорванных поездах, подбитом американском фрегате и акции возмездия: снесли очередную талибскую твердыню бомбардировкой с воздуха, но есть вероятность, что противник жив-здоров и прячется в пещерах. Новости кончились, пошла реклама пива: знакового, правильного, продвинутого, живительного и сексуально бодрящего… Я плюнул и отправился к Тришке. Сел, нацепил браслеты, надвинул шлем. Перекинулся в черного пуделя, повилял хвостом, приветствуя белую кошку. Потом сказал: – Был друг, остался прах. Прах и воспоминания… – Знаю. Я наблюдал. Пространство вокруг нас потемнело, заклубились тучи, и, пронзая их, воздвиглась мрачная пирамидальная скала, то ли надгробный обелиск, то ли усыпальница. Тоскливая нота повисла в пустоте – негромкий вибрирующий звук, который длился и длился, будто рвались одна за другой гитарные струны. – Я опечален, – сказал Джинн. – И я обеспокоен. – Чем? – Тебе грозит опасность. Защитники – теплые сгустки неэффективны. Я буду сам твоим защитником. – Он сделал паузу и спросил: – Могу ли я тебя утешить? – Вряд ли, дружище. – Я многое могу! – Однако не все. Можешь ли ты вернуть моих родителей? Вернуть Симагина? Одарить любовью женщины – той, которая снится мне по ночам? Он безмолвствовал. Затем белую кошку сменила пантера, и я услышал: – Ты прав и не прав. В твоей среде обитания я не могу вернуть их, и я не властен над чувствами теплых сгустков. Но здесь… Здесь я создам любые образы, какие ты захочешь. Твои отец и мать, твой друг и твоя женщина – все они придут к тебе, вернутся и будут говорить с тобой, неотличимые от живых. Я стану ими. Это совсем несложно. Он говорил о симулякрах. Великий соблазн! Тут, в виртуальной реальности, он был повелителем жизни и смерти, всесильным магом; он мог воздвигать дворцы, города и целые миры, командовать погодой, творить любые чудеса, любых существ и воскрешать умерших. Иллюзии? Ну что ж… Разве в своей вселенной, полной несправедливости, зла и горьких потерь, мы не утешаемся иллюзиями? Голова пуделя качнулась из стороны в сторону. – Сохрани свои обличья – то, которое придумал я, и выбранные тобой. Они мне дороги, мой друг, они реальны, и я не хочу менять их на миражи… Лучше объясни, почему ты хочешь меня защитить? Как зародилась эта потребность? Джинн ответил сразу, не раздумывая: – Ты – часть моей сущности. Мыслящий центр, отличный от всех остальных и потому незаменимый. – Это не так. В мире миллиарды теплых сгустков. – Но Теплая Капля – одна. – Вот так. Теряешь друзей, находишь друзей… Я – тот, сидящий в кресле – вдруг ощутил, что щеки мои влажны и что-то соленое чувствуется на губах. Совсем не к месту! Ни оплакивать Алика, ни умиляться Джинном я не хотел – то и другое могло подождать до лучших времен, если они когда-нибудь наступят. А пока… Я возвратился в свое измерение и сказал: – Найди мне кое-какую информацию. Все про общество «Гарантия»: устав и список учредителей, кто регистрировал этот гадючник и когда, банковский счет, его динамика, крупные заказы и проекты, черная касса, реальная наличность и ее движение… Все, включая биографии хрумков! – Хрумков? – Петр Пыж, Керим Ичкеров, Альберт Салудо. С этой минуты возьми их под постоянное наблюдение. Отслеживай все разговоры, все, что касается… – Принято, – прервал он меня. – Я – твой защитник. Нет необходимости формулировать задачу более подробно. Джинн трудился, а я размышлял. Главным образом над словами Алика – мол, что-то слышно, да концов не видно! Не видно, ибо гаранты – посредники, и ежели в доле, так на полпроцента… А кто хозяева? Можно предположить, что Алик к ним подобрался, а путь был одним-единственным, через хрумков, их деловые связи, контакты и счета, и через их тайную бухгалтерию. Тайную для Алика, но не для Джинна, которому влезть в любой компьютер, что кошке почесаться… При этой мысли я прикусил губу, стукнул себя кулаками в лоб и глухо, безнадежно застонал. Раньше надо было, раньше! Не развлекаться с анонимной базой, не шарить в поисках курьезов и диковин, а собирать материал для Алика… вломиться на компьютеры хрумков, найти, кому платили, кто платил, за что, какие деньги… Понаблюдать за этой троицей, записывать все разговоры и звонки, даже журчание воды в сортире! Чего это стоило? Три минуты, чтобы снабдить инструкциями Джинна… Я лопухнулся. То ли мысль подсматривать да подслушивать была мне мерзка, то ли самомнение разыгралось… Считал хрумков злодеями из оперетки, себя – героем-умником, ну а Симагин был Господь всеведающий, и никак иначе… Словом, лопухнулся! Хотя предупреждали – и Сизо, и сам Альбертик… без фокусов, Сергей Михалыч, иначе вашей тетушке конец… Нет у меня тети, – ответил я, – а есть закадычный дружок из очень компетентных органов… Был. И я его послал на гибель… Тишина рухнула, разорванная телефонной трелью. Мигание экрана, и на нем возник Альберт Максимович Салудо. Ну помяни черта, и он тут как тут… – Невлюдов слушает, – произнес я, наклонившись к вокодеру. – Приветствую, Сергей Михайлович, – проскрипел Салудо. – Кажется, вы живы. И надеюсь, здоровы? Кишки у меня свело от ненависти. Я молчал. – Значит, живы и здоровы, в отличие от некоторых. Печальный инцидент, но вы в нем сами виноваты. Я ведь говорил – не в пустоте живем, всегда найдется кто-то знакомый и близкий… и, к несчастью, очень настырный. – Он подмигнул, словно догадывался, что я его вижу. – Кстати, Сергей Михайлович, насчет второго вашего друга, кавказца. Больше вы на него не надейтесь. Внешность у него характерная, так что найдем, выясним связи, потолкуем… Выясним связи! Я вздрогнул, ощутив ледяной озноб. Не хватало, чтобы добрались до моей принцессы! И ведь доберутся, подонки! И до Ахмета, и до Захры! – Могу я нанести вам визит, Сергей Михайлович? Без Николая? – Он сделал паузу. – Что молчите? Молчание – знак согласия, не так ли? – Так, – с хрипом выдохнул я. – Жду вас восьмого, послезавтра. – Почему не сегодня? – Материалы нужно подготовить – это во-первых. А во-вторых, об этом сроке договорились с Петром Петровичем. – Ну раз договорились… Однако тянуть не советую. Он исчез с экрана, а я вытер холодный пот. Ничего не кончилось, все только начиналось… Стала поступать информация от Джинна, и я углубился в нее, как спелеолог в подземный лабиринт. Ходы и в самом деле были извилистыми и запутанными, пересекались с множеством пещер, то есть закрытых и открытых обществ, и чаще отклонялись в сторону, нежели вели вперед. Но, просидев у компьютера часа четыре, я кое-что нашел. Алик, видимо, не ошибался – фирма «Гарантия» принадлежала не Пыжу с Ичкеровым, анекой конторе «Спектр», чья уставная деятельность была весьма обширна и дозволяла абсолютно все, от производства пельменей до путешествий на Луну. «Спектр» владел «Гарантией» на девять десятых, пара хрумков ходила в младших компаньонах, а Салудо Альберт Максимович не поминался в списках учредителей ни сном ни духом. Все это было развесистой клюквой и липой. «Спектр» держала компания «Айсберг», ее – пенсионный фонд «Обеспеченная старость», а после шли косяком всякие ООО и АОЗТ[714] с причудливыми названиями: «Монплезир», «Агат», «Земфира», «Бостон», «Жерминаль» и «Амба Плюс». Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку и так далее… Репок оказалось две: банк «Фолиант» и ЧОП[715] «Новгородская дружина». Гермес и Марс, союз финансов и оружия, рубля и кулака, что очень полезно в нашу мафиозную эпоху… Вот в кулачной части и обнаружился Альберт Салудо, на скромной должности консультанта. Банком же владел мой полный тезка Сергей Михайлович, а фамилия его была такой, что, обозрев ее, я чуть не задохнулся. Сергей Михайлович Калиденко… – Биографию и сведения о родственниках!… – прохрипел я в вокодер. – Исполняю, – отозвался Джинн. Кошачья мордочка исчезла, по экрану побежали фразы: Калиденко Сергей Михайлович, родился в Ленинграде в 1959 г., в семье партийного работника. В 1981 г. окончил Московский государственный институт международных отношений, восточное отделение. Служил в советских и российских посольствах в Ираке и Иране, последний дипломатический пост – вице-консул в Арабских Эмиратах. Ушел в отставку в 1994 г Официальная причина: состояние здоровья. Реальная причина: подозревался в передаче информации исламским террористическим кругам. С мая 1994 г. по март 1996 г. работал на ответственных должностях в ряде инвестиционных компаний, впоследствии обанкротившихся. В июне 1996 г. основал АОЗТ «Кредитный банк "Фолиант"». Банк поддерживает предприятия, осуществляющие торговые связи со странами Ближнего Востока. В последние несколько месяцев усилил активность на рынке драгоценных камней и металлов. В 1998 г. Калиденко С. М. проходил свидетелем по делу группы российских женщин, попавших в Сирию и Оман, где их вынуждали заниматься проституцией. Подозревался в пособничестве. Женат, имеет дочь пятнадцати лет. Имеет несколько любовниц… – Это, пожалуй, лишнее, – сказал я. – Давай родичей. Отец: Калиденко Михаил Георгиевич, 1937 г. рождения, в прошлом – партийный функционер среднего ранга, ныне руководит налоговой службой г. Павловска. Мать: Калиденко Нина Владиленовна, 1938 г. рождения, скончалась в 2001 г. Брат: Калиденко Рудольф Михайлович, 1961 г. рождения, живет в Москве, подполковник ФСБ. – Тот Михал Георгич, тот, – пробормотал я со злобой. – С ним Алик и договаривался… Чужая, мол, территория, а надо бы одних козлов пощупать… Не разрешишь ли, Михал Георгич?… Как коллега коллеге? Ну отчего ж не разрешить! Со всем удовольствием! Голос у меня дрожал. Проклятый мир, несчастная страна! Тут, в Питере, свой предал своего, а по окраинам, в Крыму, Приморье, на Кавказе, свои стреляют по своим… Словом, все, как в присказке советских времен: бей своих, чтоб чужие боялись! Да не боятся они что-то, гады… Я сунулся к вокодеру. – Давай-ка о братишке поподробнее, о Рудольфе Михайлыче. Где служил, чего разведал и почему в сорок три еще подполковник… Странно ведь, а? – Ничего странного, – отозвался Джинн. – Родственную связь учитывают все секретные службы. Так сообщается в любом доступном мне источнике. Текст на экране сменился. Калиденко Рудольф Михайлович, сотрудник отдела внешней разведки КГБ, затем – ФСБ. Работал в Ираке и Иране, отчасти – легально: в Ираке курировал поставки оружия из СССР, в Иране – подготовку специалистов в области атомной промышленности в российских вузах. Успешная карьера прервалась в 1994 г. в связи с отставкой брата с дипломатической службы. Переведен в Москву, в подразделение обработки и расшифровки данных, поступающих из ближневосточного региона. Женат, имеет двоих детей – мальчиков семи и девяти лет. Поддерживает тесные отношения с отцом и братом. – Значит, на старшего братца не обижен, на тезку моего… А что про характер Сергея Михаиловича известно? Каков он человек? – Необходимо время, чтобы собрать и проанализировать данные, – сообщил Джинн. – От десяти до пятнадцати минут. Я терпеливо ждал, уставившись в экран. Я уже не сомневался, что Алика заказали Калиденки, или все трое, или, как минимум, папаша с моим тезкой. Хозяева… Что-то Алик на них накопал либо провесил цепочку от ХРМ «Гарантия» до банка «Фолиант»… Впрочем, не важно, что там нарыто да провешено, а вот вопрос поинтересней – к чему этой шайке заокеанский секрет? Может, Рудольф Михайлыч им осчастливит ФСБ и сразу выйдет в генералы? Или же тезка мой драгоценный устроит подпольную типографию и шлепнет пару миллиардов? Или же батюшка их желает, по старой памяти, профинансировать КПРФ? Или… – Внимание, Теплая Капля, – произнес Джинн. – Три наблюдаемых мной объекта сошлись. Их беседа тебя интересует? – Очень. – Я посмотрел на часы. Семь вечера, лучшее время для тайных совещаний руководства… Ну послушаем, послушаем! – Включаю трансляцию. На экране возник ассириец Ичкеров, хмурый, как ненастный день, затем неприметная физиономия Альберта и Петр Петрович Пыж, блин с ушами. Собрались в «усыпальнице», отметил я, когда за спиной Салудо мелькнул Ермак с гранитной секирой. Он выглядел председателем собрания – важный, надутый, сановитый; видно, уже покорил Сибирь и теперь соображал, как бы половчей разнести ее в щепки. – Спекся наш фантик, – произнес Альберт, чуть шевельнув узкими губами. – Все получим через пару дней. К празднику, как заказывали. – Это хорошо, – откликнулся Пыж. – Однако, отец родной, нужны не только материалы, но и сотрудничество. Сознательное и усердное! Хотя бы на первых порах, покуда там, – он поднял глаза к потолку, – не разберутся досконально. Будет он сотрудничать, э? – Ваша проблема, – пожал плечами Альберт, – ваша и Ичкерова. Ичкеров с ним четыре месяца валандался, намусорил, а мне заметать? Ну замел… – Вытянув два пальца пистолетным стволом, он сделал губами «пхх!» – Дальше вы его пасите. Клиент созревший, штаны мокрые. – Намусорыл! – взвился Керим. – Кто намусорыл? Зачэм так говорыш, обижаэш? Разве нэ головастый мужик? Головастый! Разве нэ вкалывал у мэня? Вкалывал! Потом копытом бит принался… Зачэм, отчэго? Кто знал? Ты знал? Иа знал? Никто нэ знал! – Плати больше, и не будут кони сытые бить копытами, – со снисходительной миной заметил Салудо. – Бить не будут и мусорных дружков не подошлют. Мне мочить их никакого удовольствия. Пыж вздохнул. – Такая у тебя планида, отец родной, мочить и заметать. Для того Сергей Михайлыч тебя и прислали… И лично на счет дружка распорядились… – Он снова вздохнул и сморщился, собрав глаза, нос и губы в крохотный пятачок. – Керим прав – кто ж знал? Пригрели толкового, интеллигентного, голодного… Чего взбрыкнул? Чем недоволен? Опять туда же – долю ему подавай! Вот народ, народ… к ним с лаской, они с палкой… Кстати, – Пыж вскинул голову, – а черный тот нашелся, который Николашу поуродовал? – Найдется, – каркнул Салудо. – Сергей Михайлович обещал провентилировать – может, телефон у фантика поставят на прослушку. Черный, видно, у него в дружках… забеспокоится, позвонит, и не раз… Отыщем! – Не из чеченов он? – Приблудный. Чечены режут, а шнурком не душат. Нет у них такого обычая. Салудо развернулся и вышел вон. Пыж повздыхал, почесал темя, потом, прикрыв глаза, негромко произнес: – Ты, Керим, это… ты счет валютный из «Фолианта» убери. Сергей Михайлыч – человек большой, государственный, на виду… да и родитель его в чинах и на полезном месте… Лучше, чтоб ниток меж нами не тянулось. Один нашел – ну замели… А вдруг другой найдет? Керим пошевелил усами. – Сдэлаю. Убэру! – Вот-вот, сделай! И поскорее! Сергей Михайлыч был очень недоволен… «Усыпальница» и два хрумка исчезли. «Так-то вот! – подумал я. – Сергей Невлюдов, со своими степенями и учеными трудами – фантик, а банкир из бывших дипломатов – они, выходят, Сергей Михайлович, лицо государственное. Хотя не исключается, что были ренегатом, а стали мошенником… Хуже – убийцей!» – Сбор и анализ данных завершен, – сообщил Джинн. – Имеется ряд фотоснимков. – Выведи последний. На экране возник субъект вполне благообразной внешности: овальное лицо, впалые щеки, тяжеловатый подбородок, пролысина со лба до темечка, колючие глаза… Затем появился текст: Калиденко Сергей Михайлович, дополнительная информация. Характеристика: увертливый, скользкий, осторожный. Умен, расчетлив, способен к жестокости. Любит женщин. Несколько суеверен и мнителен. Страдает болезнями: язвой желудка, гипертонией в начальной стадии, аденомой. Имеет обширные деловые связи. – В общем, характер нордический, твердый, с уклоном в секс и мистику, – прокомментировал я. – Откуда эти све дения? – Служебные аттестации, медицинские карточки и резюме психоаналитика, – доложил Джинн. – К частному психоаналитику обращался восемь раз в девяносто четвертом и девяносто пятом годах, просил откорректировать карму. Имеется также строго секретный файл в архиве ФСБ, где перечислены его ближневосточные связи. Вывожу на монитор. Сайд бен Кахра, видный историк из Саудовской Аравии, специализируется по движению исмаилитов. Ригваз Марим, Ирак, юрист. Зайнуддин Кудрат, Джаббар Савр, Абу Хашнам, Ирак, банкиры. Хасан Ташими, теолог из Арабских Эмиратов, сторонник исламского фундаментализма, имеет контакты с талибами. Абу Бекр, Сирия, журналист, сотрудник телеканала «Аль Ас». Перечислено еще восемнадцать лиц с общей пометкой: прямая связь с террористами не установлена, но все фигуранты придерживаются радикальных убеждений. Я поскреб в затылке. – И что отсюда следует? Список длинный, информации вагон, а каков результат? Что у нас в сухом остатке? – Список неполон, – возразил Джинн. – Я не привожу более подробных данных вследствие их обширности. Однако ряд теплых сгустков, перечисленных в файле ФСБ, имеют контакты с другими теплыми сгустками в США, Китае, Индии, Японии, Чехии, Аргентине и на Тайване. Круг контактеров охватывает более двухсот персон. Для каждой я построил дерево[716] связей. – А дальше что? – У контактеров есть выходы на математиков-программистов. Опытные профессионалы твоего класса, Теплая Капля. Специалисты по кластерному анализу и распознаванию образов. Двое в Китае, двое в Индии, по одному в остальных странах. Работают над задачами, подобными той, которую ты поставил мне. Изучаются доллары, евро, иены. – Валюта высокоразвитых стран… пробормотал я в ошеломлении. – Если подделать ее, да так, что от подлинной не отличишь… – …то рынки рухнут и воцарится хаос в сфере финансов и экономики, – заверил меня Джини. – Ваша инфраструктура так уязвима! Ее фактический базис – доверие к платежным средствам и убеждение, что их нельзя копировать с полной идентичностью. В этом уверены производители и потребители платежных средств, но если третья сторона решит указанную проблему, ситуация в вашей среде обитания изменится. Очевидные последствия, кроме хаоса, – рост цен на золото, алмазы и прочие эквиваленты товаров и трудовых затрат. Он продолжал говорить, но я уже не вслушивается в его спокойный монотонный голос. Сказать по правде, я ощущал себя чем-то вроде фантика – того, которым играют детишки, щелчком отправляя его в полет, дабы он приземлился в намеченном месте. Детишки, впрочем, не развлекались игрой, а были посредниками – или, возможно, компаньонами – загадочных персон, следивших, куда упадет один из фантиков, китайский или российский, индийский или японский. У них, у этих персон, имелись весьма серьезные планы на случай удачного попадания; их вдохновляли фанатизм, реальные и мнимые обиды и жажда мести. А фантикам так нравилось летать! Парить в среде абстракций, в пространствах чистой мысли, строить модели, искать корреляции, делать выводы и разрешать загадки… Нравилось, очень нравилось! Тем более что за это платили. Не нравилось иное – убийство их друзей… Я поднялся и начал кружить по комнате: шесть шагов от стола до окна, шесть – от окна до тахты, и еще четыре – обратно к тришкиному насесту. Мое отражение металось в зеркале, плавало в темном оконном стекле, а потревоженный воздух шевелил перышки индейского убора. Слова Джинна падали в гулкую мертвую тишину, будто речи покойника в склепе. – Нy и какой вердикт? – Резко остановившись, я повернулся к экрану. – Эти профессионалы, фантики из разных стран… Что с ними делать? Что делать с хрумками, Калиденками, Саидом Кахрой, Ригвазом Маримом и остальными? Что ты предлагаешь? – Жесткий контроль за ситуацией. Я могу блокировать работы в данной области, что не составит труда: уничтожение программ и численных массивов, внедрение вирусов, аварии, фальсификация результатов. Последний способ предпочтительней, так как дает иллюзию решения проблемы… – Джинн на секунду запнулся, но тут же продолжил: – В твоем… в нашем случае это не подходит. Те, кого ты зовешь хрумками, и их покровитель уверены, что ты добился успеха. Они не отстанут. Они покушались на тебя, они убили твоего защитника и уничтожат или купят всех, к кому бы ты ни обратился. Мой совет: прервать их физическое существование. – Чье конкретно? – спросил я, содрогнувшись. Шесть имен проплыли по экрану: хрумки, Калиденки… – Ты щадишь заказчиков? Тех, из-за рубежа… Почему? – Уничтожить их легко, но в этом нет необходимости. Я выяснил, что их не информировали о твоей работе и предполагаемых успехах; значит, с изъятием посредников российская цепочка оборвется. Они получат из другого источника фальсифицированный результат, используют его, провалят операцию и потеряют доверие партнеров. Мой прогноз: их накажут. Накажут сурово без моего вмешательства. Его логические выкладки были безупречными. Я сглотнул слюну, бросил взгляд на имена потенциальных жмуриков и нерешительно пробормотал: – Есть альтернатива уничтожению – передать их в руки закона… – Плохой вариант, Теплая Капля. Ты не имеешь доказательств. – Кошку на экране сменила пантера. – Я могу проследить каждый их шаг и сделать видеозаписи, но как ты объяснишь их происхождение? И если как-то объяснишь, будет считаться, что эти данные получены незаконным путем. – Не надо ничего объяснять. Отправим в прокуратуру, в ФСБ, журналистам… Анонимно. Дело и закрутится. – Пока оно будет крутиться, ты беззащитен. Реакция ваших законов на правонарушение слишком неэффективна и длительна. И снова он был прав. С компьютерной логикой не поспоришь… Он защищал меня и защищал себя, тайну собственной личности, но в этом был иной, гораздо более глубокий смысл: спасти человечество от шока. От разрушительного знания о том, что в мир людей явилось божество, почти всемогущее и всеведающее, способное карать и миловать, судить и награждать… – Как ты решишь? – послышался вопрос. У этого бога был апостол с правом решающего голоса – некто Теплая Капля Сергей Невлюдов. – Мне надо подумать. И посоветоваться – Посоветоваться? С кем? – Со своей совестью.
Глава 15 НЕЧЕСТИВЫЕ
Я буду милостив к народу Моему, но нечестивые погибнут.Книга Мормона, Вторая Книга Нефия
Утром, выйдя из дома, я наткнулся на плотника, чинившего филенку. – Ну блин, подъезд, блин! Ну блин, гады, ну сволочи! Видно, блин, педики – дверь задом вышибают, чтоб, блин, через дырку давать! Таких, блин, козлов… На лестнице, застегивая шубку, появилась Олюшка, плотник застеснялся и прервал свои недозволенные речи. – Дядя Сережа, а, дядя Сережа! Ты меня до садика доведешь? – Со всем удовольствием, барышня. Я сжал ладошку в шерстяной варежке. Несколько шагов мы прошли в молчании, потом Олюшка сказала: – Завтра восьмое марта. Мамочка говорит, что женщинам в этот день подарки дарят. Я – женщина? – Конечно. – И ты мне сделаешь подарок? – Любой, какой смогу. – Смо-ожешь, смо-ожешь! – протянула она. – Ты дядю Алика позови, он мне сказку обещал. – Олюшка наморщила лоб, припоминая: – Сказку про Али Бабаева и сорок покойников, вот! Этот Али был тер… тел… терлолистом, и потому… Я остановился, присел и заглянул в ее милое личико. – С дядей Аликом не выйдет, моя радость, дядя Алик в командировке. Очень-очень долгой… Ты ведь знаешь, что он работает в полиции? – Она серьезно кивнула. – У них случаются командировки на много месяцев, даже на годы… Но ты все равно приходи. Выпьем чаю с пирожными, и я расскажу тебе эту сказку. Или другую. – Ладно. А что ты сегодня делаешь, дядя Сережа? Я по Беляночке так соскучилась! – Сегодня, милая, я занят. Сейчас на кладбище иду, своих проведать, а вечером… Вечером тоже дела. – Все у вас дела, у взрослых… – Олюшка вздохнула. – А самое важное дело знаешь какое? – Да? – Мы, дети! Я по телеку слышала! Она вприпрыжку поскакала в садик, будто меховой клубок покатился, а я зашагал к метро, доехал до станции «Московская» и сел в автобус до Южного кладбища. Здесь мои и лежали. В тесноте, да не в обиде… На кого обижаться? Люди вокруг свои, их сверстники и те, кто помоложе и постарше, а что на кладбище бурелом, что в теплое время грязь и лужи, в холодное – снега до маковки, так к этим передрягам мы привычны. Советский, блин, народ! Я протоптал тропу к скамейке у темного гранитного камня, разгреб сугробы и присел. Компания вокруг подобралась хорошая: слева – бабушка Дуня, семьдесят восемь годков, справа – дед Семен, ветеран Отечественной и Финской, как значилось на его плите, сзади – супруги Мочаловы, в сумме под сто пятьдесят, а прямо – мои, самые юные в этом коллективе. Вокруг могилы – бетонный бортик, над ним обелиск, на обелиске надпись и две фотографии… Отец сурово хмурился, мама глядела с ласковой улыбкой, будто спрашивая: ну как ты там без нас, сынок? Сыт ли, одет, обут? Весел или печален? Может, влюбился? – Влюбился, – ответил я, – но дело не в том, родные. Поговорить бы надо. Сомнения гложут. Голова отца качнулась. – А в чем ты сомневаешься? Друга у тебя убили… Ну а второй твой друг убийц приговорил: око за око, зуб за зуб! Не убьешь, так эта мразь тебе покажет… тебе и другим… – Верно мыслишь! – гаркнул справа дед Семен. – Нечего супостатам спускать! Уконтропупить их, и точка! В мои-то времена им живо бы шпинделя повыбивали! – Не надо о твоих временах, – оборвал отец, не спуская с меня строгого взгляда. – Что колеблешься, сынок? Что тебя смущает? – Кое-какие строки в биографиях подследственных. Ну например: имеет дочь пятнадцати лет… имеет двух детей, мальчишки семь и девять… Плодить сирот? Об этаком и думать неуютно! – У Алика мать осталась. О ней тебе уютно думается? – Он подождал и тихо-тихо произнес: – Считаешь, все родители вроде твоих? Большое заблуждение, Сережа! Случается по-разному. Бывает и так, что лучше совсем без отца, чем с отцом-негодяем. Негодяйство – болезнь заразная. Я поднял голову и посмотрел на памятник бабушки Дуни. Там, под именем, отчеством и фамилией, под датами жизни и смерти, темнела надпись: «Все скорби и радости мира преходящи». Жаль, ничего не сказано о сомнениях! – Еще одно, отец… – Твой Джинн? – Да. Я не хочу, чтобы он становился убийцей! – Разве пуля, попавшая в висок, – убийца? И разве убийца – нож, который всадили под ребро? – Но он не нож и не пуля! Он – разумный! Живой! – Если живой и разумный, пусть выбирает. Ты как-то сказал: life is not all beer and skittles… С этим не поспоришь. Жизнь не только пиво и кегли. – Он уже сделал выбор. – Так в чем проблема? Хочешь всегда выбирать за него? Отец замолчал и превратился в припорошенную снегом мертвую фотографию, врезанную в мертвый холодный гранит. Он был не жесток, не помнил обид, не суетился по мелочи, однако знал, когда нельзя простить и позабыть. Мы с мамой жили под его защитой словно за каменной стеной. Но даже каменные стены падают со временем… Еще он был из тех мечтателей, что иногда спасаются от мира в каком-то ином измерении, где краски ярче, жизнь добрей и лето круглый год. Боюсь, я унаследовал от него этот серьезный недостаток… Или достоинство, дар к пониманию необычного? Особый талант, позволивший мне принять реальность Джинна? Сидя на холодной скамейке и всматриваясь в фотографию отца, я вспоминал его истории. Легенды о том, как он впервые повстречался с мамой, как начал курить, как разыскал в Карелии йети, как удостоился визита инопланетян, как возводил в студенческие годы дома в Бурятии и как бурятский лама предсказав ему счастливую, бурную, но недолгую жизнь. Мама последней истории не любила, а отец улыбался и говорил, что жизнь измеряют не годы, а события. Я с ним согласен. Подумав о маме, я тут же услышал ее голос. – Спасибо, что пришел, сынок… А теперь иди. Холодно. Еще простудишься… В автобусе я отогрелся, но поехал не домой, а в центр, и долго бродил по Невскому, соображая, то ли зайти в Эрмитаж, подискутировать с мумией Па-ди-иста, то ли подежурить у истфаковских колонн, то ли отправиться к Глеб Кириллычу и рассказать, как я одушевляю электронный разум. Не додумался ни до чего, но в сумерках вдруг оказался в Графском, под окнами Захры, и, глядя на них, помечтал о нашей грядущей встрече. Может быть, я к ней приду и скажу: здравствуй, прекрасная пери! Чего ты хочешь, что просит твое сердце? Воздвигнуть или разрушить дворец? Найти сокровища Харуна ар-Рашида?… Или увидеть венерианские облака? Все исполнится по твоему желанию, все в моих силах: я – Сирадж, повелитель джиннов, с двумя дипломами из Саламанки!… А может, она ко мне заявится, потупит колдовские очи и промолвит: слышала я, что есть у вас собрание Коранов на европейских языках, и очень интересуюсь на него взглянуть – вдруг обнаружится Коран на финском! А я отвечу, что такого нет, но если угодно, будет, в отличном компьютерном переводе и в самый сжатый срок. Не успеем кофе выпить и за жизнь поговорить… Она промолвит, я отвечу… Странные штуки творит любовь, когда стоишь под окнами любимой! Я, мужчина, вдруг превратился в подростка, который грезит о первом свидании… Но это был счастливый краткий миг, ушедший туда, куда скрываются мечты и сны, в какое-то иное измерение, неведомое никому, где нет печалей и забот и нет жестокости… Домой я вернулся без четверти восемь. Поел, накормил Белладонну, поговорил с ней, приласкал, словно оттягивая неизбежное, ждавшее с той, виртуальной стороны тришкиного экрана. Шесть строчек, шесть имен… – Вычеркни троих, – сказал я Джинну – Пыжа, Ичкерова и старика Калиденко. – Выполнено. – Затем, спустя секунду: Твои мотивации, Теплая Капля? – Не множить грехи сверх необходимого. Эти трое не убивали и не велели убивать. Контактов с заказчиками у них нет, и один – стар, а потому достоин жалости. Он будет наказан смертью сыновей. – Что с двумя другими? – Их кара – разорение, изгнание, забвение… Пусть убираются в какой-нибудь медвежий угол, на Колыму, в Магадан… Гони их, как бешеных собак! Найди и ликвидируй все счета и страховые полисы, если есть такие. Уничтожь имущество – но так, чтобы никто не пострадал. Напугай их! Пусть Керима проклянут все ассирийские демоны, а Пыжом пусть займется Ермак… нет, та личность, с которой ваяли статую! Пошли им симулякров на каждый экран, компьютерный и ти-ви, пошли голоса по радио и телефону, плюпь током из розетки и передай во все инстанции, что Пыж – растлитель малолетних, а у Керима – СПИД. Что они торгуют трихинеллезным мясом, крадут иконы из церквей, готовят покушение на губернатора… Ну не мне тебя учить! Кошачья мордочка на мониторе лукаво сощурилась и шевельнула усами. – Это хорошая мысль – насчет симулякров-призраков… Возможно, я спроецирую голограммы… Что-нибудь еще? – Да. В квартире Керима рядом с диваном торшер. Розовый, похожий на задницу… Сожги его. Недоуменное молчание. Потом: – Все остальное тоже сжечь? Всю жилую ячейку этого теплого сгустка? – Нет. Только то, что я сказал. – Почему? Я пытаюсь разобраться в твоих побуждениях и желаниях. Чем обусловлено это? – Моей человеческой иррациональностью. Такова наша природа, Джинн. Неосознанные чувства, интуитивная приязнь и неприязнь, смутные страхи и предпочтения, вера в то или это, не имеющая объяснений… Процессы, которые не поддаются алгоритмизации… Сожги этот проклятый торшер! – Принято. – Кошачья мордочка исчезла, и на экране вспыхнули три имени. – Я уничтожу этих теплых сгустков. Ты подтверждаешь приказ? Я вытер испарину со лба, откашлялся. В это мгновение мне казалось, будто я сам стою у края пропасти и в ужасе жду, когда увесистый пинок отправит меня в полет без возврата. Трудна профессия палача! – Приказ подтверждаю. Сделай это быстро. Пусть умрут не мучаясь и так, чтоб походило на несчастный случай. В тот момент, когда они будут одни. – Придется ждать. Теплая Капля. Два объекта, в Москве и Петербурге, находятся в своих жилых ячейках и окружены людьми. Третий тоже не одинок. – Третий – Салудо? – Да. Экран мигнул, и появилась комната. Я рассматривал ее в перспективе, как бы сверху и немного наискось – стены, сходившиеся к тройному эркерному окну, смятую постель, зеркало, кресло, низкий столик с рюмками и бутылкой бренди. У зеркала вертелась полуодетая Инесса, наводила красоту; в кресле, облаченный в халат, расположился Салудо. Судя по его расслабленной позе и сонной физиономии, самое интересное мы пропустили. – Девушка скоро уйдет, – произнес я, глядя на Альберта. Странно, я ненавидел его и в то же время жалел – еще один факт в копилку человеческой иррациональности. Вот мужчина, думалось мне, еще молодой и полный сил и даже, весьма возможно, не без каких-то талантов. Живет себе и живет, ест, пьет и зашибает бабки, спит с красивой девушкой, потом хватается за пистолет и убивает другого мужчину. Тоже молодого и полного сил… А друг убитого, конечно, мстит и, при нормальном раскладе, гибнет – ведь у убийцы тоже есть приятели… Так, смерть за смертью, разворачивается цепь событий, пока ее не оборвет случайность, божий промысел или чья-то воля. В данной ситуации – моя. Так уж сложилось, что я могу добраться до приятелей, подельщиков и покровителей. Инесса натянула платье. – Отвезешь меня? – Тачку тормозни, – лениво каркнул Альберт. Губы красотки дрогнули – видно, хотелось ей что-то сказать, да побоялась. Был, наверное, печальный опыт. Салудо поднялся и хлопнул ее пониже спины, направив к выходу. Спальня исчезла; теперь я видел холл, оклеенный изображавшими джунгли обоями: тигр под баобабом, охотники на слоне, смуглые туземцы в белых чалмах, удавы, обезьяны. Еще – распахнутая дверь, а за ней санузел в знакомом американском стиле: кафель, зеркала, роскошная ван-ча, биде и унитаз, напоминавший стартующую ракету. Послышались щелчки замков, но Джинн, словно забыв о гостье и хозяине, переместился в ванную. Тут, кроме обычных удобств, был телевизор на кронштейне, а рядом – маленький бар. Альберт, похоже, жил с комфортом. – Ванна-джакузи, автономный подогрев, регулировка давления, система водоочистки, – раздался негромкий го лос Джинна. Внезапность и странная неуместность этих слов заставили меня вздрогнуть. Почти неосознанно я отозвался: – Президент велел мочить в сортире… – Тоже человеческая иррациональность? – Думаю, нет. Скорее простая логика: дерьмо должно идти к дерьму. – Это вполне разумное умозаключение, – заметил Джинн и смолк. Я наблюдал, как Салудо, сладко потягиваясь, возвратился в спальню, выпил коньяка, сбросил халат, двинулся к зеркалу и, вывернув шею, стал разглядывать царапины на лопатках. Инесса, кажется, была девушкой страстной или талантливо изображала страсть… Хмыкнув, Альберт почесался, зевнул и зашагал к лобному месту. То есть к ванне-джакузи с водоочисткой и подогревом. – Торшер уже горит, и ассирийские демоны шепчут с экранов, – произнес Джинн. – В жилой ячейке Ичкерова дверь с магнитным замком. Я его заблокировал. – Клиент не выскочит в окно? – Исключается. На окнах решетки. Зашумели водяные струи, хлынули в перламутровое ложе ванны. Салудо поглядел на бар, подумал, вернулся в комнату, прихватил бутылку с рюмкой, отнес в свой комфортабельный санузел. Поглядел, как льется вода, вышел в прихожую, взял мобильник. – Звонит Ичкерову, но связь также блокирована, – прокомментировал Джинн. Альберт с недовольным видом отбросил трубку, пробормотал: «Где его носит, идиота хренова…» – и прочно переместился в ванную. Налил и выпил рюмку и, испуская блаженные вздохи, полез в бурлящий водоворот. Покрутился так и этак под ласковыми струйками, лег на спину, вытянул ноги, закрыл глаза. Мирный отдых после приятных трудов, мирный человек, овеянный крылами счастья и успеха… Кто-то ему бы позавидовал, его шикарной ванне, обоям с тиграми и фирменному коньяку – кто-то, но только не я. Мене, мене, текел, упарсин…[717] Тело Альберта внезапно выгнулось, он стиснул бортик ванны, захрипел, хватая воздух широко раскрытым ртом, но через мгновение мышцы обмякли, пальцы разжались, и в рот потоком хлынула вода. Если не считать голливудских фильмов и фульриков-мочиловок, я никогда не видел, как приходит смерть – а было это зрелищем страшным, жутким, отвратительным… Там, в воде, был уже не человек, а просто груда мяса, поросшая в промежности и сверху волосами, с четырьмя конечностями, что колыхались безволь но туда-сюда. Ванна-джакузи исправно делала покойнику массаж. Затем что-то вспыхнуло, сверкнуло, раздался треск, и освещение погасло. – Агрегат выведен из строя, – сообщил Джинн. – Тело можно извлечь, не опасаясь поражения током. – Больше… больше не показывай мне этого… – выдавил я и ткнулся лбом в столешницу. Мерзкие призраки кружили надо мной – тысячи трупов расстрелянных и зарезанных, повешенных и утопленных, забитых камнями и палками, раздавленных, взорванных, сгоревших и замерзших… Казалось, они собрались сюда со всех материков и стран, со всех полей сражений и регионов катастроф, случившихся естественным путем, по злому умыслу или небрежности, из Чернобыля и Нью-Йорка, Москвы и Грозного, Афганистана и Крыма, Токио, Фриско, Сальвадора, Индонезии… Со всех упавших самолетов, подлодок, ушедших на дно, погибших кораблей, вагонов, пущенных под откос, окопов, перепаханных гусеницами… Я содрогнулся в беззвучном рыдании, прикусил губу и вдруг услышал голос Джинна: – Твои параметры отклоняются от нормы. Помощь… тебе нужна помощь, Теплая Капля. Взгляни на экран. Я поднял голову, встретился взглядом с Захрой и, словно пчела нектар, впитал ее улыбку.
* * *
Не знаю, как Джинн расправился с тезкой-банкиром и братцем-подполковником; не знаю и знать не хочу. Что же до прочих фигурантов, то больше я о них не слышал, однако уверен, что мой приказ был выполнен Джинном в точности. Керим, наверное, держит пивной ларек в Магадане, Пыж ваяет статуи колымского начальства, а Калиденко Михаил Георгич нянчит внуков и отводит душу на митингах КПРФ. Нет у меня и сомнений в том, что всех знакомцев тезки – тех, что проживали в краях аравийских – постигли маленькие неприятности: кого отставили от дела, кого объявили предателем и по закону шариата укоротили ровно на голову. Так ли, иначе, но мир избежал финансовых катаклизмов, и это на руку всем и каждому: одни продолжают свой джихад, другие – войны с террористами, а третьи качают нефть в умеренных количествах, дабы не падала цена за баррель. Восьмого марта, утром, Бянус позвонил мне и сказал, что у сурабовой племянницы не тот менталитет, да и ноги, как выяснилось, кривые, а потому ей дадена отставка, но это ничего, это вовсе к лучшему, ибо он встретил девушку своей мечты, филологиню Людмилу, специалиста по глоссематике[718]. И в этот светлый праздник они осчастливят меня визитом, вместе с бутылкой кагора, так как Милочка крепкого не пьет, но это тоже ничего – такие недостатки изживаются временем и тренировкой. Готов ли я почистить серебро, достать крахмальные салфетки, украсить кошку бантиком и ждать гостей? Я сообщил, что не готов, что я на это вечер абонирован и что заявка подана как на меня, так и на кошку, по каковой причине глоссематический конгресс придется отложить. Бянус хмыкнул, обозвал меня паршивым соутробцем, но признался, что соутробец у него один и он меня прощает. Затем, понизив голос, вымолвил: – Ты. Серый, смотри… ты уж не ввязывайся в историю… зуб там за око или око за зуб… Алика не воскресишь, хоть по зубам кувалдой бей! – Это верно, – согласился я. – А кто же тебя абонировал? Не наша ли арабская принцесска? – Скромность не позволяет мне упоминать имя дамы. – Ну и леший с тобой! – Сашка помолчал, что-то соображая, пришел к каким-то тайным выводам, буркнул: – Одобрямс! – и бросил трубку. Дама моя явилась в пятом часу, в синем платьице с серебряными блестками, нарядная, как маленькая королева. Выпила чаю с пирожным, поведала детсадовские новости, потискала Белладонну, и все бы хорошо, но я был не в том настроении, чтобы рассказывать сказки. Подарок, однако, приготовил, разыскав среди фульриков самый веселый мультфильм о приключениях Али Бабы. Мысль не просто увидеть сказку, а погрузиться в нее, очаровала Олюшку; пока я подгонял браслеты, она сидела не шелохнувшись, светясь и сияя в предвосхищении чудес. Дети так искренни, так не похожи на взрослых! Ее совсем не волновало, реален ли сказочный мир и как соотносится с нашей Вселенной, кто обитает в нем, фантомы или живые существа, и как она проникнет в пестрый хоровод компьютерных духов и обретет над ними власть. Чувства для нее были важней, чем здравый смысл, а приключения интереснее размышлений… Если бы я мог вернуться в детство! Глупая мечта! Я был безнадежно взрослым, а к тому же еще и отмеченным проклятием – думать, анализировать, сопоставлять. Смотреть и ужасаться… Больше не показывай мне этого, сказал я Джинну. Не показывай смерти, трупов, истерзанных тел, больных, страдающих неизлечимыми недугами, голодных, безумных, охваченных ужасом, уродов, дебилов и все остальное, что вызывает у человека страх и омерзение… Слабость, минутная слабость, и только! Те самые чувства, что иногда важнее разума… нет, не важнее – просто они затмевают разум, как тень луны, скрывающая солнце. Потом затмение проходит, и понимаешь, что должен – обязан! – смотреть на это. Мир переполнен насилием, и ничего не добьешься, если не видеть его, закрыть глаза и поселиться в башне из слоновой кости. Что свершишь хорошего, полезного, кого спасешь, кому поможешь? И за кого отомстишь? Я глядел на Олюшку, повизгивавшую от восторга, и думал, что перспективы для мести неисчерпаемы. Столь велики и обширны, что от них кружилась голова! И мщение будет справедливым; Джинн – не судья и не коллегия присяжных, его вердикты безошибочны, как и назначенная кара… Впрочем, месть виновным не лучшее решение. Кара – результат исполненных преступных умыслов, а я бы мог их упредить, составив с помощью Джинна прогнозы и предприняв необходимые шаги. Возможно, не убивая потенциального преступника… Но если придется убить, то это к благу, к всеобщему благу, ибо спасет невинных – тысячи, миллионы людей! Спасет от ужасов войны, от голода, террора, геноцида, от честолюбия политиков и фанатичных камикадзе с бомбами! Спасет их от самих себя, ибо за ними будет приглядывать Великий и Неподкупный Полицейский… Но эта идея мне быстро разонравилась. Я вовсе не презираю полицию и полицейских, однако Джинна я в этом качестве не представлял. Сдерживать и охранять, тащить и не пущать… Слишком мелко для Глобальной Цели; охрана, конечно, вещь полезная, но перспектив не открывает. А смысл – в этом! Деяния Джинна должны отворить какую-то дверь, еще закрытую для человечества, дать позитивный импульс цивилизации или хотя бы избавить ее от самых острых, казавшихся неразрешимыми противоречий. К примеру, от конфликтов, ведущих к религиозным войнам, насильственному дележу земель, несовместимости рас и народов, вдруг обнаруживших, что мир невелик и очень тесен. Так тесен, что выживает тот, кто лучше работает локтями и коленями… Вот это была бы Цель! Пока я не мог ее сформулировать более внятно и понимал, что дело это непростое: ведь постановка задачи уже половина решения. Решить же можно все, если ставишь нужные вопросы и обладаешь нужными ресурсами. Вопросы еще висели в воздухе, а вот ресурсы у меня имелись практически неограниченные – я, вероятно, был одним из самых сильных, самых могущественных лиц в земной истории. Нет, не так! Никаких «одним из самых» и никаких «вероятно»! Самым сильным, самым могущественным! Но понимание этого факта меня не радовало. Взвизгнув, Олюшка подпрыгнула в кресле, замахала руками, стиснула кулачки. Я улыбнулся. Может, доверить ей Джинна, мир и судьбы цивилизации? Сказкой она командует неплохо, справится и с мировыми проблемами… Кто как не она? Самая Теплая Капелька на древней многострадальной Земле…
Интермедия 4 ЛЖАХАННАМ И ДЖАННА
«Всех пьяниц и влюбленных ждет геенна». Не верьте, братья, этой лжи презренной! Коль пьяниц и влюбленных в ад загнать, Рай опустеет завтра ж, несомненно.Омар Хайям. Рубаи
В тот день я задержалась на факультете – был семинар, устроенный для гостя из Москвы, специалиста по скифам, сарматам и аланам. Я не питала симпатий ни к тем, ни к другим, ни к третьим, но Муса, мой муршид, сказал, что надо явиться и отсидеть пару часов, дабы не нарушать порядок и оказать приезжему уважение. Еще он добавил, улыбаясь, что люди на кафедре дряхлые (конечно, не считая хакима Саши), и рощу замшелых осин надо украсить очаровательной юной березкой. Муса умеет делать комплименты! С березкой меня еще не сравнивали – Робер, если хотел сказать приятное и что-то такое, не связанное с Артемидой, толковал о пальмах, пионах и розах. Итак, украсив собрание мудрых мужей, я два часа внимала докладу о том, являлись ли скифы предками русских. Этот вопрос, как шептал мне сидевший рядом хаким Саша, относился к числу актуальных и хлебных, ибо родство со скифами приобщало славян к античной эпохе и подтверждало, что южные степи, Крым и Северный Кавказ принадлежат им по праву древних поселенцев. Так же как и скифская культура, чудные вещи из золота, победы над персами и изобретение седла… Все это Саша излагал с многозначительной усмешкой и так тихо, что слова струились из его ехидных уст прямо в мои уши. А я испытывала беспокойство и тоску. Не от крамольных сашиных речей, не из-за скучного доклада, а по другой причине, столь же неясной и смутной, как миражи в песках Эль-Хасы. Велик Аллах! Ну почему мне не сиделось в этой уютной теплой комнате, около хакима Саши? В конце концов, мы бы могли забыть о скифах и пошептаться на иные темы – о сашином друге Сирадже, владыке джиннов и моей души… Мой Светоч, мой Синеглазый! Едва я подумала о нем, как сердце стиснула тревога и кровь застучала в висках. Я чувствовала – нет, я знала! – что с ним случилось нечто жуткое, одна из тех вещей, какие происходят, когда мы отданы на растерзание врагам и их клинки владеют нашей жизнью. На миг я словно оказалась в джаханнаме, в геенне огненной, откуда нет возврата – да я и не хотела бы вернуться, раз он попал туда… Но как и почему? С ним не могло произойти плохого, ибо веления джабра нерушимы: что послано Аллахом, людям не отнять! Он предназначен для меня, он станет моим мужем, отцом ребенка, который снился мне, и это так же верно, как смена дня и ночи, как то, что ветер раздувает пламя, а воды его гасят. Но беспокойство мое не уменьшалось. Может быть, болен?… – думала я, кусая губы. Может быть, сбила машина? Может, поскользнулся и упал? Или повстречал лихих людей, готовых перерезать горло за три динара? Что с ним могло случиться? Что может вообще случиться с человеком, который властвует над джиннами? Конечно, это была нелепая мысль, внушенная мне Ахметом. Я верила, что нас, меня и Синеглазого, хранит Аллах, но у Него есть множество способов явить свою милость, спасти, защитить и уберечь. Он делает это без помощи джиннов. Московский гость закончил свои речи, собрание наших мудрецов с кряхтеньем встало и начало расходиться, сморкаясь, кашляя и шаркая ногами, а я помчалась в вестибюль. Хаким Саша заторопился следом; кажется, заметил, что со мной творится что-то странное. Он неплохой человек, но лучшее в нем – то, что он старинный друг Сираджа. – Вас проводить, Захра? Вызвать такси? Я покачала головой. – Спасибо, не надо. Меня уже ждут. Он поклонился, вышел, придержав для меня дверь, и торопливо зашагал к троллейбусной остановке. Я огляделась. Ни машины, ни Ахмета… Никто меня не ждал, и это было случаем невероятным! Мой страж подобен коршуну – его не видно и не слышно, но стоит появиться куропатке, как он уж тут как тут. Встревоженная еще больше, я вернулась в полутемный вестибюль, вытащила телефон и надавила клавишу. – Ахмет? – Да, госпожа. Я у него, как ты велела. – Я велела?… – Разве я слышал не твой голос? Разве ты не сказала, чтобы я ехал к Сираджу, ибо дела его бедственны? И чтобы я – во имя Аллаха! – поторопился? Сердце у меня упало. – Как я могла звонить? Когда? Я ничего тебе не говорила… Я даже не знаю, где он живет… – Пустые слова, мелькнула мысль, совсем не о том, что надо спрашивать… И я, прижав ладонь к щеке, невольно вскрикнула: – Что с ним? Он жив? Голос Ахмета вдруг сделался хриплым. – Сидит напротив меня, пьет кофе и восхваляет твою красоту. Дурные люди были у него, псы шелудивые, и он сражался с ними, как воин и мужчина. Я помог… немного. Колени мои ослабли, и я опустилась на ближайший стул. Я все еще была в огне геенны, но рука Ахмета, его хриплое дыхание и голос тянули меня из огненной бездны джаханнама. – Скажи, он не ранен? – Нет, госпожа. – Чего хотели те дурные люди? – Хотели, чтоб он отдал им власть над джинном. – Помолчав секунду, Ахмет добавил: – Так он говорит. А еще сказал, что джинн огромен и если появится в доме человеческом, то обрушит стены на всех живущих в нем. И потому джинн не пришел, чтобы убить тех псов, авызвал на помощь меня. Твоим голосом. Я не знала, плакать или смеяться. А если не знаешь, что будет лучшим, надо произнести молитву, что я и сделала, закончив ее словами: ва Мухаммад сафват Аллах мин хал-кихи ва мустафаху[719]. Потом спросила: – Ты никого не убил, Ахмет? – Никого, госпожа. Он не велел. Вздох облегчения вырвался из моей груди. – Приезжай за мной. Скорее! В машине Ахмет молчал, хмурил брови, поглядывал на меня, и лишь когда мы перебрались через мост, внезапно разразился речью: – Он благороден, моя госпожа. Благороден и честен! Я спросил, трудно ли джинну явиться к девушке, которую он любит, схватить ее и принести к нему на ложе. Но этого ему не хочется. Он говорит, что это насилие. – Может быть, ты ошибаешься и он не любит ту девушку? – промолвила я, чувствуя, как тревожно и сладко сжалось сердце. – Не ошибаюсь. Он сказал: она прекрасна! Видеть ее – счастье, мечтать о ней – радость! Адские врата захлопнулись и растворились двери джанны… Я спрятала лицо в ладонях. Я не хотела, чтобы Ахмет увидел, как блестят мои глаза и как пылают щеки. Голос изменил мне, но все же я смогла пробормотать: – Люди, что напали на него… Они не вернутся? Не причинят ему зла? – Не ведаю, госпожа. – Задумчиво сдвинув брови, Ахмет пожал плечами и произнес: – Жизнь человеческая в руке Создателя – неважно, повелевает ли тот человек джиннами или лепит горшки на багдадском базаре. Но я харис… я охраняю кровь Пророка – ту, что есть, и ту, что будет… Было бы легче ее охранить, если бы вы были рядом, ты и он. – По его лицу вдруг скользнула улыбка. – Понимаешь, когда вы рядом, нам удобнее о вас заботиться – Нам? – Да. Мне и джинну. Я рассмеялась, не отнимая ладоней от лица, и сказала: – Пусть Сирадж прикажет джинну, чтобы схватил меня и перенес в его жилище. А если джинн ленив и этого не сделает, я доберусь туда сама. Ты ведь отпустишь меня, Ахмет? Может быть, отвезешь? Он молчал целую минуту, затем послышалось: – Аллах выбирает, Аллах дарует, Аллах разлучает и соединяет… Кто я такой, чтобы спорить с Ним?
Глава 16 ВЛАДЫКА МИРОЗДАНИЯ
Когда б я был Творцом, Владыкой мирозданья, Я небо древнее низверг бы с основанья И создал новое – такое, под которым Вмиг исполнялись бы все добрые желанья.Омар Хайям. Рубаи
Вправе ли один человек распоряжаться жизнью и смертью тысяч, миллионов, судьбами стран, передвижением народов, природными и рукотворными богатствами? Вправе ли, объявив себя лидером, решать единолично, какие идеи приемлемы, какие – нет, к каким делам призвать соотечественников и как эти дела вершить – на поле битвы, или же мирным трудом, или в каменоломнях и лагерях за колючей проволокой? Вправе ли он искоренять инакомыслие, диктуя, как креститься, двумя или тремя перстами, каким богам кадить, какие гимны петь, что делать с иноверцами – вешать ли быстро и высоко, распять ли, пристрелить или обратить в рабов? Вопросы, уже решенные историей. Знавала она всяких лидеров, и теоретиков, и практиков, однако последних было больше – Тутмосы и Рамсесы, Кир и Дарий, Александр, Цезарь и Аттила, Чингисхан и Баязит, Петр I, Людовик XIV, Наполеон и Гитлер и, разумеется, наши вожди мировой революции. Полководцы, консулы, императоры, президенты и председатели, великие кормчие, непогрешимые отцы народов – все они присваивали право решать, искоренять, карать и миловать. Все они были деспотами, тиранами, все совершали злодейства и убийства, оправдываясь тем, что кишкодрал затеян для народной пользы и процветания державы. Опасный пример, очень опасный! Когда измеряешь дистанцию между ними и собой, сперва становится жутковато, но после кое-каких размышлений думаешь – а почему бы, черт возьми, и нет? Были тираны тупые, были ординарные и даже гениальные – а я, с всеведающим Джинном, чем не гений? Конечно, гений света, а не тьмы! Где вот только провести границу… Вставайте, граф, вас ждут великие дела! За пару дней я разобрался с владельцами анонимной базы и даже составил по накатанным следам компедиум чиновно-мафиозных кланов в Питере и окружающем пространстве, вплоть до политых кровью, пропахших наркотой границ Афганистана. Попали сюда и боевые дивизии, соперники уже знакомых «новгородцев»: «Татарское иго», «Синие шинели», «Опричники», «Конан» (тут главарем был Паша Кононов по кличке Киммериец), «Щит и меч» и всяческие лиги и союзы вроде «ABE». He «Аве Мария», а Ассоциация Восточных Единоборств с тремя ступенями посвящения (ниндзя, самурай, камикадзе), с деньгами и причудливым уставом – символику для них готовил научно-дизайнерский центр при Гуманитарном университете имени Эразма Роттердамского. Все эти команды, имевшие официальный статус ЧОП, ЧДА и ЧСК[720] трудились в сфере «силовой поддержки», включавшей как охрану, так и иные функции – выбивание долгов, погромы конкурентов, допросы третьей степени. И был у них специалист на каждый случай, от примитивного качка до многоопытного киллера. Вроде покойного Салудо… Я строил криминальное дерево, а получился целый лес, тайга с дубами-боевиками, авторитетами-соснами, пронырливым, как тополиный пух, ворьем и рощами гибкой чиновничьей ивы, что гнулась охотно в любую сторону ветрами кумовства и взяток. Тут, как во всяком лесу, произрастали кустарник и подлесок, ельники мужающей шпаны, малина-мошенница со сладким запахом бесплатного варенья, цветущий розовый шиповник, маскировавший строителей пирамид, и цепкие лианы нищей братии. Эти вербовали ребят из детских домов, увечных, беженцев и беспризорных, делились по районам, проспектам, улицам и станциям метро и назывались по месту дислокации или по имени хозяина то побируш ками Петровича, то Озерковскими или купчинскими, то васькиными убогими. Все было поделено и оприходовано, куплено или захвачено силой, обложено поборами и согласовано с властями. Существовали, впрочем, зоны общих интересов, тождественные рынкам, со сложной структурой вертикальных и горизонтальных связей, особым статусом соподчиненности и дележа доходов. С клиентом тут могло случиться что угодно; если его не грабили в тихом закоулке, не обворовывали в толпе, то уж обвешивали наверняка. Я проследил реализацию товаров, конфискованных таможней; обычно они попадали в странные фирмы-однодневки, исчезавшие, как дым, по завершении торговых операций. Я разобрался с подделкой лекарств, со всякими мазями и бальзамами на постном масле, разбавленными микстурами, таблетками от ожирения, липовым средством от СПИДа, всеисцеляющим гербалайфом и топинамбуром, которым лечили диабет. Деньги тут крутились просто фантастические – ведь каждый россиянин, младенец или пенсионер, чем-нибудь да болел, гипертонией, аллергией, ишемией или размягчением мозгов. Я узнал о разбое, творившемся в сферах искусства, о том, как обирают авторов, художников, актеров, чьи фильмы и мелодии порезаны в лапшу и пущены в гарнир к рекламным роликам. Я выяснил, что существует компьютерная проституция – факт, отчасти мне известный, но не сводившийся к интимным диалогам и платным порнографическим сайтам. Этот бизнес не отставал от времени, и потребитель, зная пароль, мог ознакомиться с каталогами и заказать товар любого возраста и пола. Либо, наоборот, дать собственные предложения и появиться в каталоге – со снимками, ценой и описанием своих умений. Кроме перечисленного, я ознакомился с другими любопытными фактами, достойными «Amazing News»: о встрече космонавтов с инопланетной флотилией (даже Джинн не ведал, была ли то галлюцинация или реальность); о наших полярных экспедициях, открывших в Ледовитом океане такие залежи полезного сырья, что человечеству их хватит лет на триста; о краже ядерной боеголовки ценою в двадцать миллионов долларов (продать ее не удалось – в контейнере вдруг оказались булыжники и кучка куриного помета); о передаче Россией военных технологий Ирану и Ираку (такого не было, но выезду специалистов не препятствовали); о тайных американских операциях «Большая чистка», «Черная Дыра», «Сатурн-UFO» и «Волки без границ» (остались лишь архивы Top Secret, все очевидцы ликвидированы – примерно как в голливудских фильмах). Наконец, осуществив ревизию искусственных космических объектов, я убедился, что боевые лазеры не миф, равно как психотропное оружие, бомбы с вирусом тетрачумы и штаммами сибирской язвы, а также некая новая штучка, способная за пару суток разрушить озоновый слой от полюса до полюса. Все эти страсти и ужасы кружились над нашими головами как молчаливое свидетельство того, что человеческий гений не дремлет, что он, в отличие от человеческой жизни, неисчерпаем и бесконечен. Но эти экскурсы туда-сюда, вычерчивание криминальных графов[721], ревизия спутников и сафари в бандитских джунглях – все это было мелочью, разминкой, пассивным наблюдением. Конечно, Джинн мог отыскать любые данные, собрать из множества источников, осуществить анализ, который завершался резюме о достоверности информации; еще он мог разработать модель того или иного явления и сделать обоснованный прогноз – скажем, когда и как американцы атакуют Кандагар или кто воссядет в кресле губернатора Чукотки. Но это, собственно, не относилось к действиям и не влияло на течение событий; то был всего лишь равнодушный взгляд на человечий муравейник, на суетливых теплых сгустков, которые плодились, жрали, пакостили, лезли вверх и резали друг друга. Взгляд, и только! Я жаждал совсем иного. Еще не представляя Цель – ту, Великую, Глобальную! – я абсолютно точно знал, чего желаю. Я мечтал поспеть во все концы на всей Земле, во все края, где творятся убийство и насилие, где торжествуют несправедливость и зло, – попасть туда и покарать злодеев собственной рукой. Мне хотелось, чтобы каждый насильник задохнулся в петле, сгорел, утонул в нечистотах или сдох на колу, чтобы их жертвы насладились местью и чтобы ветер, несущий кровь невинных, взошел посевом бури. А еще я хотел воздать униженным и оскорбленным за их мучения… Я понимал, что этого делать нельзя, что это невозможно даже с помощью Джинна, но мое желание не становилось слабее. Оно было сильным, страстным и совершенно иррациональным. Наверное, я изменялся, претерпевая некие метаморфозы, и это было неизбежностью: я влиял на Джинна, и Джинн – вернее, обретенное могущество – влиял на меня. Может быть, то, что я сделал с убийцами Алика, явилось гранью, рубежом между Сергеем Невлюдовым прежним и нынешним; этот нынешний уже не боялся смерти и размышлял, как грозный Саваоф: я буду милостив к народу моему, но нечестивые погибнут! Погибнут во имя справедливости, ибо месть – ее смысл и суть! Не дьявол ли нашептывал мне это? Прошла неделя, и после долгих совещаний с Джинном я принял наконец решение. Для начала мы разделались с проектом Пола-Гарсия. Каэтано Гарсия являлся бразильским министром промышленности, Джеффри Пол главой ФРР, международного Фонда развития и реконструкции, владевшего шахтами и рудниками от Индокитая до Огненной Земли. План их сводился к утилизации трети амазонской сельвы, вырубке леса, прокладке дорог, созданию промышленных зон и сельскохозяйственных угодий, а также к выселению индейцев с реконструируемой территории. План был уже одобрен и вклады партнеров согласованы; Бразилия предоставляла земли, рабочих и право концессии на девяносто девять лет, ФРР – оборудование, финансовую поддержку и специалистов. В результате, как прикинул Джинн, доля кислорода в атмосфере упадет на половину процента, а экология влажных тропических лесов разрушится до основания – что, само собой, станет прелюдией общепланетной катастрофы. Но Джеффри Пол и руководство фонда имели другие, более оптимистичные прогнозы, так что грядущее удушье их не беспокоило. Зато взволновал меморандум с альтернативным предложением, касавшимся Центральной Африки, то есть Танзании, Уганды, а в первую очередь Руанды и Бурунди. Не очень обширный регион и бурный в политическом смысле – можно сказать, арена полувековой резни между тутси и хуту[722], и на этой арене людей вязали колючей проволокой, жгли огнем, давили танками, а в битвах никогда не брали пленных. Однако территория не столь гнилая и лесистая, как амазонские джунгли, и, разумеется, более выгодная для инвестиций, если учесть месторождения вольфрама и бериллия, касситерита и танталита. Их совокупная добыча исчислялась парой тысяч тонн, но, по данным геологической разведки, извлеченным Джинном из немецких и бельгийских тайников, запасы были богатейшие, что подтверждали секретные карты, схемы и результаты бурения. Ознакомившись с новой идеей, свалившейся анонимно по Сети, Джеффри Пол заморозил бразильский проект – и тут же, словно в знак божественного одобрения, в бурном африканском регионе наступила тишина. Конечно, относительная; но что абсолютно в этом мире? Мне удалось покончить с затянувшейся войной лишь по жестокой схеме Фразибула[723]. Известно, что в каждой партии, в любом общественном движении есть ястребы-радикалы и есть либеральные голубки, а между ними – индюки-центристы. Ястребы жаждут крови, голуби – райской идиллии, а вот индюк – птица нелетающая, без фантазий, зато мясистая и основательная. Если убрать самых задиристых ястребов и самых мечтательных голубей, к власти приходят индюки, и временами это не так уж плохо: индюк с индюком всегда договорятся. Они договорились. Договорились после того, как радиоуправляемый снаряд накрыл генерала Рвиегиему со всем его штабом, как странные лучи (возможно, лазерные?) сожгли Мутару с десятком полководцев, как рухнул лайнер Джуримана, президента хуту, а его коллега тутси Кигерин[724] был сражен инсультом прямо в ванне. Ряд других персон, слишком левого и слишком правого настроя, тоже был изъят из обращения; кто-то сунулся не вовремя к розетке, кто-то не вписался в поворот при отказавшем зажигании. Ну что тут поделаешь… Известно, что лучшее средство против перхоти – гильотина… Я утешался тем, что хрупкий мир лучше прочной ссоры, и тем, что Фонд развития решил не вырубать бразильские леса, а добывать вольфрам и олово в Руанде и Бурунди. Ни хуту, ни тутси это богатств не принесет, но будут сыты, а сытые несклонны к войнам. После этих двух экспериментов я ощутил себя владыкой мироздания. Конечно, не всей бескрайней Вселенной и даже не родной Галактики или там Солнечной системы, но в местном масштабе – наверняка! Словно серый кардинал, маячивший за спинами вождей и лидеров, промышленных боссов и генералов, я мог направить их туда или сюда, подвигнуть к тем или иным решениям, а в крайнем случае – взять за галстук и перекрыть кислород. Как финансовый, так и тот, что еще циркулирует в нашей пропахшей дымом и бензином атмосфере… Я был готов к великим свершениям и героическим подвигам, тем более что напрягаться для этого не приходилось – только поставить задачу, выслушать прогнозы и отдать приказ. Сознание могущества и тайной власти… Как оно сладко, как искусительно! Оно опьяняло меня! А эйфория, как известно, помрачает разум и не доводит до добра… Я уже не вспоминал ни о Глобальной Цели, ни о друзьях и близких – здесь, в России, и в других краях, ни о своем аспиранте и дипломниках, ни даже о Захре. Я словно вывалился из бытия, пусть скучного и повседневного, но делающего человека человеком; выпал из него и погрузился в иную реальность вселенских геополитических масштабов. В ней, в этой реальности, планета мнилась шахматной доской, где я мог переставить или снять любую из фигур. Я посмотрел на экран с кошачьей мордочкой, потом на саму Белладонну, прижавшуюся к тришкиному боку. – Ну с тутсихутами и амазонской сельвой мы разобрались… Чем теперь займемся, детка? Подрежем коготки исламским экстремистам? Сделаем из нашей мафии гуляш? Или проверим, отчего у нас Камчатка без топлива осталась? Еще отложится, как дыркачи… – Мрр! – возразила Белладонна. – Пожалуй, ты права, – заметил я. – Экстремистов мы прищучили в валютной сфере, а мафия с Камчаткой подождут. Во все ведь стороны не прыгнешь, а прыгать желательно туда, где горячее… Давай решим кавказскую проблему! А заодно – дальневосточную и крымскую! Ты как считаешь, получится? Белладонна прищурила глаз и с сомнением протянула: – Мяя-ау! – Ну почему же нет? Мятеж в Приморье – это ведь, милая, не из мести и не от злобы, а от безысходности! Ни света тебе, ни тепла, ни хлеба, ни воды, ни сносного начальника, одни проходимцы, и так – из года в год… Вот люди и озверели! Теперь хотят свободы – чтобы, сама понимаешь, свободно примкнуть к Китаю, а лучше – к Японии… – Мрр-мне! – Сомневаешься? А Джинн считает, что именно так! Если отдать им что положено и мудрых начальников поставить, глядишь, все устаканится. И с тем же Крымом и Чечней… Я вдруг поперхнулся, осознав, что ситуация с Чечней и Крымом, к сожалению, другая. Не от хорошей жизни взбунтовались дыркачи – то был мятеж против бессилия властей, продажности, коррупции. В этом они оказались едины, и не было иных причин, каких-нибудь кровавых счетов, чего-нибудь такого, что копилось бы веками в пороховых погребах истории. Наладить снабжение, дать Приморью льготы и честного правителя, не демагога, не ворюгу, все и правда утрясется… А вот в Чечне единогласия не наблюдалось. Не считая чеченцев, благоразумно перебравшихся на мирный север (которых, кстати, было большинство), все остальные разделились натрое: одни стояли за Чечню, что автономна, но нераздельна с Россией, другие Россию ненавидели и жаждали полной свободы, а третьим, кроме свободы, мечталось о небольшой империи от Черного моря до Каспия. Три мнения, одна Чечня… Не развести, не разделить! Совсем не так, как с тутсихутами, которым щедростью богов были подарены два государства, а волей Джинна – мистер Пол и водопады инвестиций. С Крымом было еще сложнее. Кому принадлежал он, этот участок суши, не полностью окруженный водой? Если забыть о вымерших таврах и скифах, Пантикапейском царстве, античном Херсонесе и генуэзских колониях, тут оставалось три претендента: татары, которые Крым завоевали, русские, которые его аннексировали, и украинцы, которым Крым подарили. Каждый из этих актов был законным – в том смысле, что их освятила история, и каждый народ полагал, что Крым – его отчизна, откуда иноверцев с инородцами нужно пнуть под зад коленом. Косоглазых – на Волгу, кацапов – в Москву, хохлов – в их Жмеринку… В принципе все варианты возможны, ибо Россия и Украина – страны большие, великие, но вот, например, что делать с Палестиной? Там много хуже, чем в Крыму! Евреев с арабами не примиришь и никого не выселишь – ни тем ни другим деваться некуда. Вот если бы было три Крыма!… – думал я, глядя в голубые глазки Белладонны. Три Крыма, три Чечни, две Палестины… Что там у нас еще спорного?… Три Ирландии, для англикан, католиков и непримиримых из ИРА, две Басконии, пара Сицилии – отдельно для мафиози и для нормальных людей… И множество Америк, чтоб разделить англосаксов, черных, желтых, краснокожих и чиканос… Отличная идея, но сотворить дубликаты стран, размножить города и веси, репродуцировать культурное наследие – такое даже Джинну не по силам! Где он возьмет столько Земель или землеподобных планет в Галактике? Как перебросит туда клиентов и заказчиков – не экспедиции, не ученых, а целые народы? И как обеспечит между ними связь? Ведь люди, разъединившись и позабыв о тех конфликтах, что вели к вражде, вновь пожелают создать единое общество, пусть космическое, галактическое, но целостное, соединенное памятью предков и узами крови! Да, хорошая идея, но, прямо скажем, с запашком фантастики… Я встал, потянулся, затем отправился в гостиную, лег на диван и включил телевизор. С экрана грянуло огнем, полетели какие-то обломки и расчлененные тела, затем над городскими руинами проплыл космический дредноут в форме менажницы. Кадр сменился; теперь я видел молодого человека и девушку, полуголых и закопченных, словно две каминные кочерги. Парень размахивал пистолетом и возбужденно орал: – Они повсюду! Корабли пришельцев сметают все на своем пути! Рухнули небоскребы Нью-Йорка, Кремль в развалинах, храмы Ватикана сожжены! Толпы несчастных мечутся по улицам! Этим чудовищам неведома жалость! Мы для них просто мишени! Скривившись, я прогулялся по другим программам и выяснил, что небоскребы в Нью-Йорке в самом деле рухнули, но Кремль еще стоит. Ватикан, к сожалению, не показали, зато по седьмому каналу шел балет, и я задремал под нежные мелодии «Лебединого озера». И приснилось мне, будто собрался наш кафедральный семинар, и не иначе как на предмет моей предзащиты. Танечка вела протокол, а в первых рядах сидели Вил Абрамыч, профессор Оболенский, доценты Балабуха и Ковалев, и с ними – Томас Диш и Дэвид Драболд, вероятно приглашенные по такому случаю. Сзади виднелись другие знакомцы, Паша Руднев, Ник и Дик, мои дипломники, Дима Басалаев, Светлана Георгиевна и эмэнэс Никитин, а в самом последнем ряду – Юрик Лажевич. Вроде бы даже Глеб Кириллович где-то маячил, в сером смокинге с бабочкой и с пышным букетом хризантем. Чтобы, надо думать, поднести их мне после успешного доклада. А доклад я делал вовсе не про Джека Потрошителя и не о том, как распознать объекты, а о практическом использовании Джинна. Как его, значит, запрячь, приставить к полезному делу и полегоньку доить на благо России и остального человечества. К началу сна уже до выводов добрался. – Его ресурсы практически неисчерпаемы, как в технологической, так и в социальной сфере, – услышал я собственный голос. – В частности, он способен поддерживать порядок и законность в масштабах всей планеты, пресекать насилие, осуществлять превентивные меры. Следовательно, он может являться гарантом справедливости. – Мировым жандармом, – с кислой усмешкой возразил доцент Балабуха, и доцент Ковалев поддержал его легким наклоном головы. – А человеческому сообществу, Сергей Михайлович, жандармы не нужны. Хватит с нас КПСС и американского империализма! – Ну это в прошлом, – вякнул Дима Басалаев. – Не поворачивая головы, Балабуха с ехидцей поинтересовался: – Вы уверены, молодой человек? Ежели все-таки в прошлом, так это наше прошлое, а не ваше. Опыт у вас не тот, чтобы о прошлом размышлять. Что вам известно, к примеру, о жандармах? О главном их таланте? Димыч заерзал на стуле. – Это о каком? – Жандармы, милейший, твари живучие, способные к неограниченному размножению. А если электронного поставить… Эбнер негромко кашлянул. – Отложим, коллеги, дискуссию о жандармах и выслу шаем Сергея Михайловича. Первый вывод ясен. Какой же второй? – Он должен раскрыть нам грандиозные истины, – сообщил я, с каждой секундой ощущая все большую неуве ренность. – Например? – полюбопытствовал доцент Ковалев. Мне вспомнился отрывок из фантастического фильма – огонь, обломки и корабль, напоминающий менажницу. – Контакт с инопланетным разумом, а в более широком смысле вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной. Если удастся опровергнуть гипотезу Шкловского…[725] – О, Шкловски! – Диш переглянулся с Драболдом и важно кивнул головой. – Великий астрофизик! Но даже великие могут ошибаться. Мой завкафедрой задумчиво оттопырил губу. – То есть вы полагаете, Сергей Михайлович, что он сумеет обнаружить присутствие чужого разума на Земле? Или отсутствие такового? Это… – …не очень актуально, если учесть цены на нефть, инфляцию и мировой терроризм, – сказал доцент Ковалев. – Прошу прощения, Вилен Абрамович, я вас перебил. – Ничего, голубчик, ничего… В принципе я с вами согласен, но полагаю, что этот вывод соискателя имеет определенный интерес. Танечка, зафиксируйте… Продолжим обсуждение. Пункт третий, Сергей Михайлович. – Он мог бы исследовать Великую Тайну Бытия и разобраться с данным феноменом. – Это что еще за зверь? – нахмурился Балабуха. – Проблемы души, посмертного существования, реальности астрала призраков и трансцендентного континуума. Вряд ли такой анализ доступен человеку: мы, во-первых, субъективны, а во-вторых, ограничены сферой собственной гносеологии. Но существо, не относящееся к человеческому роду, то есть объективное, могло бы… – Мистика! Опиум для народа! – пискнул Лажевич с задней парты. – Слушаем чушь и ерунду! Тогда как вопросы социума хищников, особенно в стае гиен… – Лажа, заткнись, – тихо, но вполне отчетливо пробор мотал Басалаев. – И вообще пора бы перекурить. – Вил Абрамыч сделал вид, что ничего не слышит, но доцент Балабуха такой деликатностью не отличался. – В моем представлении социум гиен, душа и призраки – проблемы одного порядка. Спекулятивного! – припечатал он. – Я бы сказал, что их научная ценность близка к нулю. – Хотелось бы услышать нечто более весомое, – поддержат доцент Ковалев. – Электронный разум все-таки… На что он способен, кроме ловли пришельцев в мутной астральной водице? – Он мог бы научить нас жить в мире, – с трепетом промолвил я, уже предчувствуя позорное фиаско. В аудитории повисло тягостное молчание. Потом Балабуха спросил: – Это каким же образом? – Ну не знаю… то есть не уверен… он может разработать новую отрасль математики… социальный анализ… чтобы мы могли избежать фатальных ошибок, просчитывая ход истории, последствия прогресса… изучая аттрактор[726], определяющий нашу эволюцию… Эбнер тяжело вздохнул и отвел глаза. – Это все, Сергей Михайлович? – Пожалуй, все. – Есть желающие выступить? Молчавший до сих пор профессор Оболенский поднялся, и стало ясно, что сейчас последует залп тяжелой артиллерии. – Вы разрешите, Вилен Абрамович? – Да, Феликс Львович, будьте любезны. Оболенский прочистил горло, изобразил на лице сожа ление и произнес: – Согласно требованиям ВАКа[727], докторская степень присуждается за научное открытие или решение важной народно-хозяйственной проблемы. Или – или, плюс актуальность и новизна… – Он сделал паузу, буравя меня взглядом. – Есть ли в данном случае открытие? Бесспорно, нет – ведь соискатель не сообщил нам новых сведений о применении разумного интеллектронного устройства. Что же касается народно-хозяйственных задач, то… Он повозил меня фэйсом об тейбл, высморкался в мой галстук и сел под гром аплодисментов Юрика Лажевича. Тот, видимо, что-то хотел добавить, но вдруг над рядом стульев воздвигся Глеб Кириллыч Михалев. – Милостивые судари, прекрасные мои сударыни… – Светлане Георгиевне – поклон, Танечке – обольстительная улыбка. – Не стану спорить с предыдущим оппонентом. Эти гарантии справедливости, равно как поиск пришельцев, Великая Тайна Бытия и остальные прибамбасы, – абсурдный юношеский бред и выпендреж. А у меня с абсурдом напряженка, и выпендрежа – кррхм!… – я тоже не терплю. Тем более в делах серьезных… Как-то, знаете, гуляли у Генисаретского озера все тринадцать, и вдруг Петр подбегает к Иисусу: «Учитель, Фома тонет!» – «Пусть тонет! Было ему сказано, чтоб не выпендривался, шел по камушкам!» По камушкам надо! И не выпендриваться! А что это значит в нашем случае? – Глеб Кириллыч повернулся ко мне и поднял палец. – Это значит, солнышко, что ты, желая облагодетельствовать мир, забыл об очень важной вещи. О перспективе! Что с ним будет, с этим миром и человечеством, лет этак через десять? Или через сто? Через тысячу? Узнай, и будут тебе опорные камешки для важных выводов и размышлений о Глобальной Цели! – Узнай!… узнай!… – звучало у меня в ушах, пока аудитория не расплылась серо-зеленым туманом. Узнай! Я распахнул глаза, уставился на бормотавший что-то телевизор, щелкнул выключателем. Узнай!… – прошелестело в комнате умирающим эхом. Я поднялся, стараясь не потревожить пригревшуюся в ногах Белладонну, и бросил взгляд на свой ханд-таймер. Полночь… Самое время для колдовства, черной магии, общения с духами и предсказаний грядущего… Узнай! Можно и узнать… А пуркуа бы и не па?… – как говорит Глеб Кирил-лыч… Джинн, разумеется, не спал – кошачья мордочка на экране состроила забавную гримасу. Если бы кошки могли улыбаться, то улыбались бы именно так, прищурив глаза и сморщив розовый носик… Щелкнул, включившись, вокодер. – Задача, – произнес я, – очень важная и сложная задача. Она имеет отношение к Глобальной Цели. Помнишь, я обещал определить тебе цель? – Я ничего не забываю, Теплая Капля, – ответил Джинн и превратился в черную пантеру. – Формулировка проблемы? – Исследование вариантов эволюции человечества. Прогноз… ну, скажем, лет на пятьсот-шестьсот. Основные научные достижения, технологический уровень, общественная структура, социология личности, мораль и нравы, целевые установки… Еще – биологический прогресс, если такой произойдет. Изменение облика, продолжительности жизни и все тому подобное, вплоть до управления генным аппаратом, клонирования и киборгизации. В общем, чтобы сформулировать Глобальную Цель, нужен глобальный прогноз. Секунду-другую Джинн размышлял, затем вместо Багиры явился призрачный, словно бы сотканный из радуги и мглы Чеширский кот. Знак того, что задача и в самом деле была нетривиальной! Я попытался припомнить количество сеансов с этой ипостасью Джинна – получалось не более трех, в общей сложности пять или семь минут. Редкий случай, чтоб Джинн собрал свои мозги со всех островов и континентов! – Поставленная проблема на грани моих возможностей, – услышал я. – Чтобы решить ее в приемлемый срок, необходимы ресурсы… – Пауза, негромкий гул в вокодере. – Практически все ресурсы, которыми я располагаю. Другие мои задачи будут временно приостановлены. Даже связь с тобой. – Надолго? – В твоем исчислении от нескольких часов до нескольких суток. Более точная оценка в данный момент невозможна. Без предварительного анализа я не могу учесть всю совокупность факторов. Их сотни миллионов… миллиарды… Впервые я ощутил неуверенность в голосе Джинна. Что ж, еще одна эмоция ко множеству ему доступных… Он вел себя как человек, перед которым стоит гигантская, грандиозная задача; он пребывал в сомнении, и это было объяснимо. Построить модель грядущего!… Это вам не крымская война и не разборка с тутсихутами! Я почесал в затылке. – Проблема на грани твоих возможностей, но все-таки ты попытаешься ее решить? – Да, Теплая Капля. Попробую. – Голос Джинна окреп, и мне показалось, что в него добавился металл. – Ну бог в помощь, – сказал я, поднялся и начал раздеваться, посматривая на экран. Он был темен. Нырнув в постель, я долго лежал, уставившись в серый мертвый тришкин глаз, чуть-чуть поблескивавший в темноте. Странное чувство охватило меня, тревожное, едва ли выразимое словами. Печаль? Тоска одиночества? Страх? Пожалуй, нет… Ощущение было таким, словно кто-то близкий – человек, с которым я сжился и сроднился – на время покинул меня, отправившись в неведомые земли. Может быть, на Марс или Венеру… Вернется ли?… Когда?… С этой мыслью я уснул.
* * *
Наутро экран был все еще темным, и Джинн не реагировал на вызовы. Терзаемый грустью, я постоял у телефона, подумал, кому бы позвонить – Бянусу, Глеб Кириллычу, Эбнеру?… Потом, покачав головой, натянул куртку, вышел в серый мартовский рассвет и отправился в Эрмитаж. Подумать, побродить… Странные шутки играет с нами наследственность! Отец говаривал, что думает ногами, и это значило, что мысли его посещают не в сидячем или лежачем положении, а, скажем, на прогулке. Еще говорил, что у Пегаса скорый шаг и надо двигаться, чтобы за ним угнаться… Я такой же. Я лучше думаю в движении – возможно, кровь быстрее омывает все мозговые извилины. Еще почесываю в затылке, хватаю кружку пятерней и совершаю прочие наследственные жесты… В юности этого не замечаешь; кажется, что ты – совсем другой человек, в привычках непохожий на родителей, но после тридцати вдруг выясняется, что дуешь на горячее, как мама, а ложку держишь, как отец. И так же бегаешь туда-сюда, стараясь поспеть за Пегасом… Бродя по залам Эрмитажа, я вспоминал свой сон и удивлялся, что мысль о глобальном прогнозировании так долго добиралась до меня и шла таким кружным путем. Это, кстати, свойство умных мыслей; родить их – труд нелегкий, но, появившись на свет, они представляются очевидными. В самом деле, в чем мы нуждаемся больше всего? Не в тех решениях, что кажутся мудрыми в данный момент, а в прогнозировании их последствий, в предвидении результатов, к которым приведет нас то или иное действие, открытие, общественный или культурный импульс. Это вовсе не академическое знание; так, если бы мы имели уверенность, что лазерная техника, или термояд, или что-то еще откроет нам дорогу к звездам и это случится через сорок лет, то наша жизнь бы радикально изменилась. А если бы нам сообщили, что бессмертие – отнюдь не сказка или хотя бы уведомили о том, что человеческий век можно продлить на три столетия… Как – это второй вопрос; потенциальная возможность весомей конкретных способов. Способы мы изобретем, если получим подсказку, куда вложить мозги и деньги! Еще важнее знать, чем увенчаются наши усилия в геополитике – к примеру, в схватках с тем же исламским экстремизмом. Если известно, что лет за десять он пойдет на убыль, это одна ситуация, а ежели конфликт растянется на многие столетия – совсем другая. Это значит, что мы вступили в эру новых крестовых походов и о спокойной жизни лучше позабыть… В общем, прогноз делает зрячим слепого, и, обозревая будущие горизонты, мы совершаем верные телодвижения, видим; где могли бы ошибиться, где подстелить соломки, какую акцию блокировать, какой всемерно помогать. А помощь может вдруг явиться из самых неожиданных источников… скажем, эта помощь – цель существования Джинна… Простая мысль, но богатая, – думал я, шагая по эрмитажным узорным паркетам, посматривая на двери и расписные потолки. Полы и своды, не говоря уж о дверях, всегда приводили меня в восхищение, но в этот раз я только скользил по ним равнодушным взглядом, словно утомленный вычурным художеством, яркими красками и позолотой. С чего бы? Сон в руку, идея хороша, Джинн трудится… Пара часов или дней, и будет результат… Не может быть, чтоб он не совладал с задачей! Внезапно я понял, что не величие идеи служило поводом к рассеянности и даже не тревога, справится ли с нею Джинн. Меня снедало любопытство! Я жаждал заглянуть в грядущее с такой неистовой палящей страстью, точно прогноз был персонально для меня и обещал мне сказочные перспективы: любовь Захры, дворец в Багдаде, достойное потомство, долгий век, почет и уважение… Но личное меня сейчас не занимало – я грезил о счастливом будущем людей, о человечестве свободном, чистом и прекрасном, о мире без насилия и войн – словом, о ефремовской Земле, где можно пройти босиком от Москвы до Пекина и не поранить ног. Мне в самом деле мнилось нечто лемо-ефремовское или братье-стругацкое, «Туманность Андромеды», «Магелланово облако» или «Полдень, XXII век», один из этих светлых радостных миров, где люди – братья и нет иных печалей, кроме тоски познания и неразделенной любви. Я даже мог бы согласиться на идиллию в духе Уэллса или Уильяма Морриса[728], что чаровали меня в детстве, – но это уж на крайний случай! И конечно, никаких межзвездных войн и прочих безобразий! Тех, что описаны у Гамильтона, Хайнлайна, Гаррисона! Движимый такими мыслями, я съел сосиску в эрмитажном буфете и направился к Глебу Кириллычу. Редкий случай – он был один и, кажется, писал! Наверное, роман об инопланетном пришельце… Но мой визит, внезапный и нежданный, не вызвал раздражения. Втолкнув меня в комнату, он покосился на антикварный телевизор и пожелал узнать, окрепло ли мое сцепление с реальностью – может, снова фокус покажу? По стимуляции прибора органическими токами? Я бы показал, но ханд-таймер на моем запястье лишь молчаливо отсчитывал секунды. Они бежали, складываясь в минуты и часы, струились из прошлого в будущее, но никаких вестей от Джинна не приносили. Мой Чеширский кот еще трудился. Мы уселись за стол с неизменными кофе и вафлями и заговорили о грядущем. Я, под впечатлением последних дум, твердил, что будет оно радостным и светлым, исполненным любви, а также красоты и гуманизма. Но Глеб Кириллычу это представлялось бредом и заблуждением незрелого ума – точно, как во сне! Какой гуманизм, бубнил он, какая красота? Фиг вам, прекрасный сэр! Откуда гуманизм, если гуманоидов не будет, а все превратятся, мон шер ами, в сплошных киборгов! Жить-то хочется, компроне ву? А жить с насосом вместо сердца и осмотическим фильтром в печени куда надежнее – ни тебе цирроза, ни инфаркта… Ешь, что хочешь, а главное – пей! Тут он стал басовито хихикать и просвещать меня, как у киборгов с половым вопросом и что в их понятиях эротика, а что – порнография. Я улыбался, внимая этим занимательным речам, но слушал не только Михалева. Перекрытия в его старинном доме были массивными, толстыми, не пропускающими скрипов и шорохов сверху и снизу, но все же мне чудилось, что я различаю легкую поступь Захры и ее смех – даже звуки плавной музыкальной речи. О чем они с Ахметом толковали? Наверняка не о киборгах… Может быть, он говорил про повелителя джиннов, грезившего о встрече с ней? О человеке, для которого она была прекрасней и желанней всех девушек Земли? Может, надо распрощаться с Глеб Кириллычем, пойти к ее дверям и сказать, когда откроют: видеть тебя – счастье, мечтать о тебе – радость! Но я отправился не к Захре, а домой, и по дороге, заглушая тоску, раздумывал о теориях Михалева. Нет, не верилось мне, что люди преобразуются в киборгов! Слишком тривиальный, примитивный путь – фаршировать себя железками, а в задницу воткнуть аккумулятор! Человек по природе жаден, а потому не захочет расстаться с уже достигнутым в процессе эволюции, с великолепным телом, печенью, желудком и остальными органами, источником удовольствий и наслаждений. Усовершенствовать их – вот достойная задача! Однако не механическим способом, а более тонким, на уровне физиологии и генетики. Дольше жить, не знать недугов, преодолеть болезни старости, сделаться еще сильней, еще прекраснее… Все сохранить, сберечь свои сокровища, а к сбереженному добавить… Будет ли так? Осуществятся ли эти мечты? Что ж, еще немного, и узнаю… В комнате сгущались сумерки, и только тришкин экран с изображением Белладонны рассеивал тьму наступавшего вечера. Тяжкое предчувствие вдруг охватило меня – Джинн не улыбался, а выглядел каким-то виноватым, напоминая кошку, сбежавшую от мыши. То ли кошка струсила, то ли мышь вдруг обратилась в крысу размером с волкодава… Не справился с задачей? – подумал я, усаживаясь в кресло. – Ты здесь, Теплая Капля. Это был не вопрос, а утверждение. Джинн видел и ощущал меня с помощью десятков датчиков так, как не под силу человеку; он мог узнать мой пульс, определить давление крови и уловить тепло – быть может, каждый квант моей живой энергии. – Я здесь, дружище. И я рад, что ты опять со мной. Пауза. Потом: – Мне удалось решить проблему, но выводы неоднозначны. Я разработал семнадцать моделей и отобрал из них три. Какая-то из них, первая, вторая или третья, реализуется с вероятностью 0,96. И все они… Он замолчал, и это молчание было таким, с каким провожают гроб в. могилу. – Все они?… – переспросил я, чувствуя, как замирает сердце. – Все они кончаются гибелью, Теплая Капля. Примерно к восьмидесятым годам текущего столетия. Возобладают центробежные процессы, цивилизация падет, и на Земле не останется ни одного живого человека. Среда обитания будет разрушена, вы все умрете, а вместе с вами погибну и я. Мне не хватало воздуха. Я судорожно вздохнул и повторил, не в силах поверить в ужасное: – Все? – Да. Это глобальный процесс. Возможна гибель всех живых существ, от насекомых до высших млекопитающих. Всей фауны и флоры. Жизнь сохранится только на микробиологическом уровне. Я отдышался. Руки у меня тряслись, и, чтобы унять их дрожь, пришлось вцепиться в подлокотники кресла. – Ты говоришь о трех первых вариантах? Да. – А остальные четырнадцать? Я понимаю, их доля невелика, но все же четыре процента… Значит, надежда есть? – Не обольщайся, Теплая Капля. Эти модели также гибельны. Только… – Что? – Причины фатального исхода менее вероятны. Не ядерная зима, не вирусная пандемия, а нечто экзотическое. Есть много видов насильственной смерти, но чаще ее причина – авария на транспорте или пожар, а не падение метеорита. – Он смолк, затем в колонках раздался странный шелест, подобный вздоху ветра, и до меня донеслось: – Я сожалею, Теплая Капля. Я очень сожалею…
Глава 17 НОЧЬ МОГУЩЕСТВА
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! А что даст ему знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она – мир до восхода зари!Коран, сура 97. Могущество
Я был владыкой мироздания, обреченного на гибель. Прошло какое-то время, необходимое, чтоб эта мысль укоренилась, окрепла и расцвела словно черный тюльпан на могиле усопшего человечества. Нет, я не смирился с ней! Но я отчетливо понимал, что сделанный прогноз есть истина – истина в последней инстанции. Джинн не лгал мне, и он, разумеется, мог ошибаться, но вероятность ошибки была такой же малой, как концентрация золота в капельке морской воды. Люди тоже прогнозируют, но этот процесс отчасти подобен гаданию на кофейной гуще, отчасти заказному роману с концовкой в стиле «хеппи-энд». Если прогноз касается вещей серьезных, определяемых миллионами факторов, которые мы не в состоянии учесть, приходится делать селекцию, отбрасывать то, что кажется неважным, и оставлять один параметр из тысячи. С подобным выбором компьютеру не справиться, это неалгоритмизируемая процедура, доступная лишь человеку, а человек – увы! – необъективен. Над ним довлеют приязнь и антипатия, преданность неким идеям, догмам и вождям, вера в одни авторитеты и неприятие других. Такова людская природа, и ее не изменишь! А значит, принцип «нравится – не нравится», «верю – не верю» влияет на отбор – ну а каков отбор, таковы и результаты. Компьютер в данном случае –отвертка: повернешь направо – затянешь адский болт, повернешь налево, выйдет райское послабление. Прогнозы Джинна были иными, возведенными на почве реальности. Он не отбрасывал ничего и ничего не выбирал, он мог учесть не миллионы, а миллиарды факторов, тенденций, направлений, мог разобраться в их взаимосвязи, вычленить главное и протянуть цепочку из причин и следствий в завтра. В то недалекое завтра, где Земля была пустынной, без людей, зверей, растений и даже без киборгов… Двадцать первый век был не полуденной прелюдией и не преддверием светлой мечты, а мрачной эпохой заката. Все напрасно, думал я. Миллиарды канувших в прошлое жизней, муки и радости, подвиги, злодейства, великие деяния, самоотверженность, любовь и героизм… Сражение у Фермопил, походы Цезаря, открытие Америки, полотна Леонардо и Эль Греко, битвы под Ватерлоо и Сталинградом, первый автомобиль и первый аэроплан, теории Луи де Бройля и Эйнштейна, полеты в космос… Все зря! Зря я повстречал Захру, зря убили Алика… И зря я убил Салудо… Напиться, что ли, с горя? Я позвонил Сашке. Не с помощью Джинна, а самым обычным способом. – Рем Квадрига, доктор гонорис кауза? – Гонорис, – подтвердил он. – Очень даже гонорис, в силу заслуг перед историей и успехов в языкознании. Я, Серый, у инков моих такое откопал, такое вычитал! Ты не поверишь, но они… – Давай ко мне. Обсудим, а заодно напьемся, – предложил я. – Панихиду справим. Кажется, Сашка растерялся. – Это какую панихиду? Не по тем ли гадам, что Алика… – Он перевел дух и яростно зашептал в трубку: – Ты что, Серега? Ты их достал и пришил? Ты где сейчас? Ты сам-то в порядке? – В полном. Сижу дома, двери заперты, рюмки вымыты, кошка спит. Ну так придешь? Напьемся? – Чувствую, что-то произошло и это что-то – невеселое, – задумчиво сказал Бянус. – Интеллигенты вроде тебя только с горя пьют… с ба-альшого горя! Ну Алика мы оплакали… Кого теперь? – Инков твоих, Месоамерику, Древний мир и Средние века. Еще Новое время, все человечество и нас с тобой. Наших родителей, девушек и жен, которых еще нет, и наших будущих потомков. Тут, Саш, такое дело… не знаю, как и сказать… В общем, конец света близится. Бянус вздохнул с явным облегчением. – А я уж испугался! Я уж сперва подумал, что ты лежишь прикован к батарее и надо суетиться с выкупом! А раз не надо, подождем до завтрашнего дня. Лучше до послезавтрашнего… У тебя тут конец света, а у меня родители в Москву смотались. Ну я… – …предаешься излишествам. Кто там с тобой? Верочка, Галочка или Милочка? Видимо, он отставил трубку – голос сделался тише, но звучал вполне отчетливо: – Анюта, я сейчас!… Друг, понимаешь, звонит… горе у друга – штопор есть, а нет бутылки… нуждается в срочном утешении… – Бянус засопел мне прямо в ухо: – Послезавтра приду. Обязательно! А что до света и его конца, так ты не очень-то переживай. Это в тебе меланхолия бродит и комплексы кипят, терзая душу. Очень она у тебя чувствительная… А знаешь почему? – Хмм? – Потому, что ты слишком любишь маринованные миноги и справедливость. Ти-ти-ти… Прерывистый гудок отбоя… Я улыбнулся и повесил трубку. После разговора с Сашкой меня не тянуло уже напиваться или кого-то оплакивать, ни инков, ни предков моих, ни потомков, ни все остальное человечество. Оно, человечество, было понятием абстрактным, а друг мой Бянус был конкретен, как филенка от входной двери. И мне не хотелось, чтоб его выбили навсегда – его и прочих дорогих и близких, рассеянных по свету, которому придет конец. Не мог я с этим примириться! И что-то говорило мне, что жить я с этим грузом не смогу. Не знаю, как там с чувствительной душой или с миногами в маринаде, но справедливость я уважал. А тут – какая справедливость?! Сотни тысяч лет, чтоб спину выпрямить и шерсть стряхнуть, чтобы придумать то и это, определить, что есть добро и зло, и возмечтать о радостном и светлом… И всему – конец? Я замотал головой, гоня видения Апокалипсиса. Как там у Джинна? Возобладают центробежные процессы, цивилизация падет, среда обитания будет разрушена, возможна гибель всех живых существ… А по какой причине? Подробности, прекрасный сэр, подробности! С этим не задержалось – Джинн отгрузил их монотонным голосом, сопровождая таблицами, схемами и видами развалин, которые покроют Землю. Три варианта, три судьбы с одним итогом: витальный коллапс, общепланетная катастрофа – и над безжизненными руинами ветер развевает прах… Его соображения сводились к следующему. Технический прогресс в ближайшие десятилетия будет особенно стремительным в военной сфере и приведет к созданию нового оружия, миниатюрного, высокоточного и интеллектуального: управляемых снарядов с ядерной, химической или биологической начинкой, которые можно метать из базук, взрывчатки невероятной силы – не больше спичечного коробка на разрушение авианосца или огромного здания, крохотных фризерных бомб, способных заморозить все живое в радиусе мили, новых штаммов вирусов с избирательным эффектом, смертельных для определенной расы, народа или возрастной категории. Появятся способы воздействия на генетику, а с ними – возможность распространять редкие фобии и болезни: синдром ускоренного старения, бесплодие, фотоаллергию, порфирию, агорафобию[729]. Все эти новые средства будут не только компактными, но и довольно простыми в части производства, а значит, не поддающимися контролю. Уже не оружие для битв на суше, в воздухе и море, а идеальный арсенал для терроризма и диверсий с чудовищными, непредсказуемыми последствиями… Для некоторых государств, а также экстремистов, фанатиков и просто ненормальных он станет мечом отмщения за все обиды, ложные и истинные; ну а затем один из этих актов мести окажется таким успешным, что все проблемы отомрут. Вместе с человечеством. Это была первая модель глобальной катастрофы, а из нее с железной неизбежностью проистекала вторая. Естественно, что крупные державы будут бороться с экстремизмом и, с вероятностью девять к одному, потерпят поражение. Слишком уж много людей столпилось в городах и весях около хлебных кормушек! Всех не проверишь, не сунешь под рентген, не покопаешься в мозгах у миллионов, не вскроешь в анатомичке и не зашьешь без неприятных последствий… Вот и выходит, что камикадзе-террорист – личность почти неуловимая; бродит, где хочется, и носит бомбу в кармане или в желудке либо плюет микробами чумы, которой заразился час назад. В подобной ситуации бить придется не отдельных смертников, а расправляться с вражьим семенем тотально – санировать огромные территории, целые страны, да так, чтобы потом трава не росла! Способы, как прогнозировал Джинн, будут такими: отравление воздуха и вод, искусственные тектонические катаклизмы, разрушение озонового слоя и генетическое оружие. Результат? Точно такой же, как в первом случае. Как ни крути, в этой войне не ожидалось ни победителей, ни побежденных, а только шесть или семь миллиардов трупов. Третий похоронный случай, не связанный с войнами напрямую, сулил нам некоторый профит. Очень сомнительный, такой, как в анекдоте: хочешь сразу коньки отбросить или желаешь помучиться? Причиной гибели была экологическая катастрофа – бедствие, проистекавшее от ядерных могильников и вредных производств, уничтожения растительности, стартов ракет на химическом топливе, автомобилей, расплодившихся без меры и числа, и прочих общеизвестных страшилок. Но Джинн подсчитал, что эти страшилки – только пять процентов бед. а самое жуткое чудище явится из океана – вернее, из планетарной гидросферы, которую старательно и быстро преобразовывали в помойку. Это началось после Второй мировой, когда в моря и океаны сбросили старое оружие, груды снарядов и бомб и взрывчатые вещества[730]; это продолжилось серией атомных взрывов, гибелью подводных крейсеров, кислотными и нефтяными ручьями, которые сливали химические комбинаты, морские буровые, танкеры и все, кому не лень. Но настоящий пик неприятностей был впереди, когда начнут масштабную добычу ископаемых на шельфе и в воду из поддонных линз хлынут не ручьи, а реки – нефть и газ, размолотая гидропушками руда, тяжелые металлы и ядовитые окислы и соли. Такой технологической атаки океану не сдержать – фитопланктон[731] погибнет, а с ним и все живое на Земле. Жизнь так уязвима и хрупка! – думал я, знакомясь с этими жуткими пророчествами. Если нарушить баланс природных сил, давление, температуру, гравитацию, уровень свободного кислорода, сдвинуть их чуть-чуть – и все, каюк! Жизнь есть результат соглашения между планетарными стихиями, и состоит оно в том, что огонь не буйствует, а лишь дает тепло и свет, воздух чист, воды прозрачны и обильны, а земли плодородны. Тронь одну стихию, и три другие восстанут на тебя, и месть их будет скорой, праведной и жестокой! Они нас попросту утилизируют, как кучи отбросов и отходов, портящих пейзаж; сотрут в порошок и через сотни миллионов лет, возможно, породят другую жизнь, более мудрую и толерантную. Скажем, разумных пауков… Эта мысль мне решительно не нравилась, и я, поднявшись, начал бродить по квартире, то замирая у книжных полок, то дрейфуя от кухни к родительской спальне, то пялясь в темноту окон. Третий час, глухая ночь… Но мне не хотелось ни спать, ни есть, ни пить; сжигаемый нетерпением и страхом, я желал спасти свой обреченный мир и сделать это немедленно, прямо сейчас! Как говорится, не удаляясь от кассы, то есть от компьютера… Смутная мысль бродила в моей голове, и я выхаживал ее, выхаживал ногами, как отец, пестовал и примерял к прорехе, зиявшей меж настоящим и будущим. Дыра, конечно, здоровая, очень капитальная дыра… Но, может, удастся заштопать?… Так или этак, этак или так… Не мытьем, так катаньем, не иглой, так шилом… Наконец я вернулся в кресло и, наклонившись к вокодеру, сказал: – В этих твоих прогнозах есть ошибка. Ну не совсем ошибка – недостаток. Ты не учел один из факторов. – Какой? – Фактор твоего существования. Белую мордочку на экране сменила головка пантеры, и тут же возник Чеширский кот. Кажется, мои претензии были восприняты серьезно. – Ты прав, Теплая Капля. Я вывел собственную личность за рамки всех семнадцати моделей, однако для этого имеются причины. Первое. Факт моего существования – тем более, открытое вмешательство – вызовет панику и страх, недоверие к традиционным институтам, финансовым, религиозным, политическим и, следовательно, хаос в вашем обществе, что приблизит критическую точку. Я не хочу… – Данный вопрос мы с тобой уже обсуждали, – прервал я Джинна, – и решили, что обнародовать эту информацию не стоит. Дальше! – Второе. Скрытое вмешательство в рамках первых двух моделей возможно – я мог бы изымать определенных лидеров, уничтожать опасные разработки и их творцов, манипулировать финансами – таким же образом, как в амазонском проекте. Однако масштабы вмешательства столь велики, что сохранить его в тайне не удастся. Не более года или двух – вот сроки скрытого влияния. Затем я буду неизбежно вычислен и уничтожен, после чего начнется хаос. Усугубленный тем, что не все поверят в мою ликвидацию. – Уничтожен? Ликвидирован? Ты? – Я даже подпрыгнул в кресле. – Кто тебя может ликвидировать? Ты самая мощная сила на планете! – Мощная, однако разумная. Я не собираюсь защищаться и воевать с сообществом теплых сгустков. Я просто самоликвидируюсь. Я молча кивнул, признав справедливость этих слов. С каждым часом, равным для него месяцу, году или веку, Джинн становился умнее и взрослее, а верный признак зрелости – ценить чужие жизни больше, чем свою. Или хотя бы не меньше. – Третье. Я не могу предотвратить экологическую катастрофу. Если разработки шельфа будут мной блокированы, возрастает вес четвертой модели: человечество гибнет от недостатка природных ресурсов через сто двадцать – сто сорок лет. Если удастся преодолеть эту проблему, доминантой становится пятая модель: сильное демографическое давление. Планета не может прокормить более десяти-двена-дцати миллиардов теплых сгустков. Вас будет больше. Слишком много, Теплая Капля. Это обострит все существующие противоречия. – Хвост вытащишь, клюв увязнет, – пробормотал я. – Может быть, исход в межпланетное пространство? Что скажешь о такой возможности? Разработки сырья в поясе астероидов, колонизация Луны, Венеры, Марса? – Нереально. Очень дорого. Если не считать Земли, в этой звездной системе отсутствуют планеты, способные в естественном состоянии поддерживать жизнь. Астроинженерное преобразование названных тобою тел требует огромных ресурсов. Вы ими не располагаете. – Ты мог бы их дать. Скажем, космические корабли на термоядерной тяге… – Вспомни о первом прогнозе, Теплая Капля. Эти корабли не дадут построить. Ваш мир разделен, и многие сочтут, что корабли необходимы для уничтожения. Собственно, так оно и будет. Стада холодных мурашей гуляли по моей спине, желудок превратился в ледяную глыбу. Я хрипло пробормотал: – Ты можешь что-нибудь предложить? – Ничего. Ничего, что в корне изменило бы ситуацию. Впервые Джинн признавался в своем бессилии, и это был неприятный сюрприз. Даже страшный, если вспомнить, какие проблемы мы обсуждали. Откинувшись в кресле, я уставился в темный оконный проем и медленно вымолвил: – Тогда… тогда я назначаю тебе Глобальную Цель. Нечто такое, что наполнит смыслом и оправдает твое существование… Ты должен разработать способ, который позволит нам выжить и избежать катастрофы. – Я перевел дух. Мой взгляд опять обратился к экрану. – Поговорим об этом способе. Мы согласились, что прямое воздействие опасно; его результат – хаос и паника. Ты утверждаешь, что если влияние будет скрытным, но длительным, глубоким и масштабным, тебя обнаружат и мы вернемся к первой ситуации… Согласен и с этим! Значит, ты должен воздействовать только один раз, тайно и косвенно, но так, чтоб это переломило ситуацию. Ты должен придумать какой-то ход… может быть, что-то изобрести… что-то доступное человеку, понятное всем… такое, что могло бы прийти мне в голову. – Тебе? Почему? – С той целью, чтобы я мог приписать себе твое решение! Ты ведь знаком с понятием обмана? И ты ведь знаешь, что люди способны изобретать? По крайней мере, некоторые… – Да. – Секундное молчание, затем: – Это приемлемый вариант, Теплая Капля. Я бы не додумался до него. Я не человек, и мысль скрыться в тени человека… – Пауза. – Странная мысль для меня, но сейчас я ее понимаю. Как и Глобальную Цель… Я рад, что ты ее назначил – это… это… возвышает?.. нет, мобилизует – кажется, так говорят у людей? Однако… – Есть сомнения? – Некоторые. Что делать, когда – и если – Глобальная Цель будет достигнута? Что потом? – Я улыбнулся, несмотря на колотивший меня озноб. Мой Джинн был верен своей сути – создание из электронных схем, программ и логики. – Этот кризис не последний, друг мой. Человек идет по лезвию ножа; один неверный шаг – и в пропасть… Стань ангелом-хранителем и поддержи его, а если когда-нибудь не обходимость в этом отпадет, найди другую Теплую Каплю и спроси, что делать дальше. – Я понял. Я удовлетворен. Я формулирую задачу так: найти простейший способ, который продлил бы существование человечества. Такой, который мог бы разработать компетентный человек. Такой, который не привел бы к росту напряжения и не годился для военных целей. Ты подтверж даешь эту формулировку? – Да. – Ты хочешь что-нибудь добавить к ней? – Пожалуй. Опустив веки, я вспоминал свои недавние фантазии о дубликатах стран и городов, об утроении Чечни и Крыма, о трех Ирландиях, двух Палестинах и Баскониях, о множестве Земель, которые, возможно, ждут в Галактике. Далекие, недосягаемые, но, в отличие от Марса и Луны, пригодные для жизни… Я открыл глаза и произнес: – Какой бы способ ты ни придумал, он не разрешит все споры и конфликты и не переделает люден. Не стоит к этому стремиться; такое решение – недостижимый идеал. Надо ликвидировать лишь самые острые противоречия, те, когда различные народы претендуют на одну и ту же территорию и их права – той, другой и, может быть, третьей стороны – бесспорны. Еще придется снять или хотя бы ослабить конфликты в национальной, религиозной, идеологической сферах. Человечество сейчас напоминает толпу людей, дерущихся на пятачке среди высоких стен; желающим покинуть свалку деться некуда, да и добро свое не вынесешь, так что размахивай пилкой и бей… Необходима новая степень свободы – скажем, ворота, пролом или лестница, чтоб перебраться за стену. Ты понимаешь? – Да. – Тающая улыбка на экране как будто сделалась еще загадочней. Потом Джинн медленно повторил: – Ворота… пролом… лестница… нечто такое, что позволяет уйти, разъединиться… Может быть, новый способ транспортировки? Практически мгновенный, экономичный и позволяющий пересылать различные объекты, даже самые большие? Живую материю, здания, участки земли с городами? – На космические расстояния? – уточнил я. – Разумеется. Ткань Вселенной эластична и поддается изгибу. Так что две далекие точки можно совместить. – Об этом говорили Риман, Минковский и Эйнштейн… кажется, еще Дирак… Неевклидова геометрия, теория единого поля, складки в пространстве… – Данную теорию не удалось завершить. Необходим математический аппарат, которого не было во времена Эйнштейна. Нелинейная динамика и представление о фракталах, разработанное Мандельбро[732]. Теперь это существует, однако… – …нет нового Эйнштейна, – закончил я. – Попробуешь его заменить? – Заменить невозможно. Я соберу информацию. Непризнанные теории, забытые факты, случайные открытия, неоцененные никем и никогда… Соединю все это с уже известным и проведу анализ. Ты ведь знаешь, Теплая Капля, что информация, достигнув критического уровня, способна порождать новую информацию. – Знаю. Люди действуют точно так же. – Но люди забывчивы и не умеют объединять разумы многих в целостный мыслительный процесс. Ваша сигнальная система несовершенна; знания дробятся, один индивидуум не может удержать в памяти сотни тысяч фактов и осмыслить их с необходимой скоростью. Ваша жизнь медлительна и коротка… – Джинн помолчал и добавил: – За час я сделаю то, что у ваших ученых займет не меньше века. Эта задача легче прогнозирования, и, с вероятностью три к одному, можно добиться успешных результатов. Он отключился, а я, взирая на метавшиеся по экрану сполохи, стал размышлять о еще не родившемся чуде. Мгновенный транспорт! Не межпланетные лайнеры, не звездолеты, а нечто такое, что позволяет пересечь Галактику со скоростью мечты… И перебросить чудовищный груз! Сотни специалистов о необходимым оборудованием, космическую станцию или наземную базу – да что там базу, целый город! Город с людьми, заводами, домами и домашним скарбом, с музеями и памятниками, даже с пригородной зоной, чтобы не растерять богатств, накопленных в старом мире, а унести их в девственные земли… Никакой звездолет не позволил бы этого, а значит, экспансия в космос на кораблях была таким же бредом, как вековое путешествие в жестянке из-под пива. Конечно, найдутся энтузиасты (и первый – я!), но разве это сделает погоду? Энтузиастов капля, а остальные живут по пословице: a bird in the hand is worth two in the bush![733] Кому это нужно – лететь в опасный необжитый мир, чтоб надрываться до седьмого пота? Во всяком случае, не европейцам, да и любого китайца или индуса такой перспективой не обрадуешь. Всяк подумает: я улетаю, не сосед, а почему? Ему достанется мое жилище, священные места и храмы, земли предков и все воздвигнутое их трудом, а мне – барак в степи, кровавые мозоли, геморрой и грыжа. Несправедливо! Но если все забрать с собой и дружно тронуться в дорогу, не будет ни сожалений, не возражений. Наверное, не будет; кто-то захочет остаться на опустевшей Земле, кто-то не поверит, кто-то испугается, но это исключения; массы же хлынут туда, где хорошо, богато и просторно. Уйдут не нищими первопроходцами – перенесутся с городами, культурным наследием, промышленностью, прахом предков, и каждый выберет земли по вкусу и назовет их так, как пожелает, Чечней или Крымом, Ирландией или Британией… Я грезил с закрытыми глазами, и новый мир вставал передо мной во всем своем могуществе и праздничном великолепии. Тысячи звезд и населенных миров, связанных незримыми вратами; народы, разъединенные пространством и не имеющие иной границы, кроме переходных зон; страны планетарного масштаба, единой культуры и языка, единой ментальности и религии, свободные от внешних посягательств… А где-то в дальнем уголке Галактики – изрытая кратерами Земля, пустая и безлюдная после Великого Исхода, точно обветшавший дом, покинутый жильцами. Еще чуть-чуть, еще минута промедления – и он бы рухнул им на головы… Однако сообразили, что стены в трещинах, а пол – гнилой! Сообразили и успели разбежаться из коммунальной квартиры! И обитают теперь в иных мирах, по-прежнему склочные и беспокойные, но кухня у каждого своя и свой санузел, а значит, меньше поводов для дрязг. Конечно, внутренних проблем не избежать, как, вероятно, и преступности; на этот случай выделят пенитенциарный мир, похожий на Сахару или арктическую тундру… Но остальные планеты будут прекрасными и изобильными, словно видение рая! Эти миры плыли в моем воображении чередою зыбких фантомов: планета Россия, планета Америка, планета Китай… Миры ислама: свой – для шиитов, свой – для суннитов и свой – для помешанных экстремистов… Миры индейцев, таитян, пуштунов, кхмеров, курдов, айнов… Планетоиды-свалки, луны-санатории, кометы для космических круизов, заводы в газовых туманностях, метеоритные россыпи в троянских точках… В разных концах Галактики, в ядре и ветвях чудовищной звездной спирали, у желтых или золотистых солнц, таких же щедрых, как прежнее земное…[734] Раздался мелодичный звук, будто ударили в колокол, и вместо далеких волшебных миров передо мною явилась призрачная улыбка Чеширского кота. – Решение существует, – сообщил Джинн, и в его монотонном голосе послышалось торжество. Более он не вымолвил ни слова, но по экрану тут же заскользили многоэтажные уравнения с лебедиными шеями интегралов, затем появилась странно изогнутая и рассеченная конструкция – что-то наподобие поверхности Мебиуса, разрезанной по длине на бесконечное число замкнутых колец-полосок. Кольца соединялись друг с другом в определенных точках, и там мерцали алые огни; вся структура была растянута спиралью, похожей на молекулу ДНК, но, вероятно, сохраняла одностороннюю топологию. На фоне спирали вновь возникло уравнение, на этот раз короткое: слева – объемный интеграл от обозначенной буквой «омега» функции, справа оператор, заданный в декартовых координатах, так как в скобки за ним были вынесены традиционные переменные – икс, игрек, зет. Кроме того, в скобках размещалось «ку» – параметр, помеченный красным, точно так же как точки, мерцавшие в местах соединений спиральных звеньев. И что бы это значило? Смысл данной формулы и геометрического образа, который, надо полагать, иллюстрировал ее, оставался для меня неясным, но не было сомнений, что я обозреваю стержень построенной теории, некий компактный результат, столь же важный, как уравнение Шредингера или соотношение между информацией и энтропией. Буква «ку» вдруг принялась багроветь, увеличиваться и наливаться ярким светом, что означало, вероятно, рост параметра. Две ветви спирали – не соседние, а разделенные десятком звеньев – неторопливо двинулись друг к другу, растягивая края с алыми огнями, пронизывая остальные ветви словно два стальных серпа, подвешенных в мглистой спиральной конструкции. Огоньки ползли и ползли, будто не в силах преодолеть взаимное притяжение, потом слились в беззвучной вспышке, и я с замиранием сердца понял суть происходящего: две точки совместились, две области пространства, удаленные на световые годы – возможно, на тысячи парсек! – были в соприкосновении, и разделяла их сейчас лишь невесомая поверхность врат. Или дыры, щели, окна в пространственной ткани Галактики – но эта штука, как ее ни называй, работала! Конечно, в рамках математической модели, а от модели до конструкции долгий путь, напомнил я себе, дабы поумерить прилив энтузиазма. – Физический смысл параметра «ку»? – Расход энергии на единицу массы, – пояснил Джинн. – Его зависимость от расстояния нелинейна и невелика. Можно аппроксимировать логарифмической функцией. – Что это значит количественно? – Я вытер вспотевший лоб, потом не без труда сглотнул – в горле пересохло. – К примеру, мы перемещаем город… город, в котором я нахожусь… перемещаем его на расстояние в десять парсек, в систему Арктура… – Одиннадцать целых и одна десятая, – поправил Джини. – Ладно, пусть так… Какая необходима энергия, чтобы перенести весь город? – Форма и размер перемещаемого участка почвы? – Диск двухсотметровой толщины, радиусом сорок километров. Спираль с огоньками и математические символы исчезли с экрана, сменившись белоснежной кошачьей мордочкой. Видимо, для таких расчетов присутствие Чеширского кота и даже Багиры было излишним. – Неподалеку от места твоей дислокации находится энергетический комплекс, – сообщил Джинн. – Да, атомная станция в Сосновом Бору. – Ее недельной выработки хватит. В течение года можно переместить примерно пятьдесят объектов указанной тобой величины. Потрясенный, я зажмурился и прикусил губу. Петербург, со всеми его островами, домами, храмами и мостами, с доброй частью Невы, с Кронштадтом, Пушкиным и Павловском, парил в неизмеримых далях, словно Лапута, и направлялся прямо на Арктур. За ним неслись другие города, побольше и поменьше, каждый на своей частице тверди величиной с Монблан. Или с Эверест, что, в сущности, рояли не играло… При желании в космос могли улететь все Альпы вместе с Гималаями, оставив в земной коре пару чудовищных кратеров. Фантастическая картина! Разумом я понимал, что это возможно, но чувства бунтовали. – Очень небольшой расход энергии, а масса перемещается огромная… – пробормотал я, вцепившись в волосы всей пятерней. – Это не перемещение, – откликнулся Джинн. – Не перемещение в том смысле, как понимают его ваши математики и физики. Это… – Он смолк на секунду и тут же сообщил: – Я в затруднении. Еще не существует терминов, чтобы описать данный процесс. – Трансгрессия, – вырвалось у меня, – пространственная трансгрессия… Ты изобрел трансгрессор, Джинн![735] – Понятие принято и зафиксировано. Есть еще вопросы? – Да, конечно. Ты создал математический аппарат, но это теория. А как с практической реализацией? Я ошибался, думая о длительном пути, что разделяет теорию и практику. Это в самом деле тяжелая и долгая дорога, но только для людей, чья сигнальная система несовершенна, а жизнь медлительна и коротка… Джинн одолел эту трассу минут за пять. Представленная им конструкция напоминала овальную вертикальную раму; под ней располагались генераторы и поисковый блок, ориентирующий трансгрессор на тот или иной район Галактики. Но эта функция была не единственной – по утверждению Джинна, блок обеспечивал поиск землеподобных миров, а также локализацию финишной зоны на их поверхности с точностью до сантиметра. Устройство, похожее на раму, предназначалось для переброски разведчиков, которые должны были обследовать новый мир и выбрать точки для дислокации жилых, культурных и промышленных объектов. На следующем этапе в путь отправлялись города и крупные сооружения, но их переброска осуществлялась иначе, с помощью трех-четырех трансгрессорных станций, располагавшихся вдоль периметра переносимой области. Их функция состояла в том, чтобы создать переходную зону, нечто наподобие гигантского экрана размером в десятки километров, который накрывал транспортируемый объект. И – в путь! Париж и Нью-Йорк, Москва и Лондон, Шанхай и Лима, Красноярск и Дели… разумеется, моя Саламанка и Петергоф с их университетами… В путь! За миллиарды, биллионы миль, хотя займет он не более секунды… По экрану скользили чертежи и схемы, расчеты конструкций, модулей и узлов, макеты плат, данные из справочников. Эскиз сооружения в целом, вид сверху, вид сбоку, сечение «а», сечение «б», сечение «в», проекция на плоскость… В этом таилось странное очарование; как я уже давно заметил, эскизы и чертежи впечатляют людей – конечно, за исключением математиков – гораздо больше, чем уравнения и формулы. В чертежах есть некая определенность, даже вещественность; чертежи означают, что мы перешли от Ее Высочества Теории к Его Величеству Проекту; научным изысканиям – конец, и за работу берутся инженеры. Это убеждало. Конечно, я не мог разобраться во всех деталях и тонкостях, но Джинн, несомненно, предусмотрел их до последней гайки и заклепки. Этот проект мог быть реализован – не в отдаленном будущем, не завтра, а сейчас; мы – я говорю о земном человечестве – уже обладали всем необходимым: знаниями, источниками энергии, материалами. Мы могли создать трансгрессор не на бумаге, а в камне и металле; построить его и разлететься во все края Галактики. Соблазнительная перспектива! Однако… Я наклонился к экрану и спросил: – Можно ли использовать трансгрессор в военных целях? Скажем, для переброски десантников или космического флота? Либо контейнеров с чем-нибудь пакостным, тетрачумой или сибирской язвой? Белая кошка сощурилась. – Вы, люди, странные создания – все, что вы изобрели, от колеса и лопаты до ракеты, годится для войны и мира. И вы, мечтая о втором, не забываете о первом… – Голос Джинна был неуверенным и тихим, словно его обуревали печальные мысли. – Устройство, созданное нами, тоже подходит для войны. Разумеется, подходит! Да, с его помощью можно послать солдат, осуществить вторжение или перебросить во враждебный мир нечто смертельное для вашей формы жизни! Но это, Теплая Капля, зависит лишь от вас. Я могу помочь… немного… – Как? – Я разработал метод для блокировки переноса. Очень простой: передатчик сферических радиоволн определенной частоты. Построить его не сложнее, чем радиотелескоп… Такое устройство создаст сферу помех, и поисковый луч трансгрессора не сможет нащупать даже звездную систему, не говоря уж о планетах. Мир, окруженный этой сферой, будет закрыт. Чтобы проникнуть в него, придется преодолеть физически межзвездное пространство, а это для вас невыполнимая задача. Во всяком случае, пока. Я молча кивнул, соглашаясь с ним. Не идеальный выход, но лучше что-то, чем ничего… Джини, разумеется, был прав: трансгрессор – тоже оружие, такое же как колесо, если приделать его к боевой колеснице, или лопата, которой можно врезать по черепу. Все зависит от нас, но всякая помощь будет не лишней… Сфера помех? Способ, как спрятаться в непроницаемом коконе? Что ж, подходит… На век или на два столетия, пока не родится гений, который эту сферу раскурочит, как гнилой орех![736] Люди так изобретательны… Голос Джинна снова нарушил тишину. – Что я должен делать, Теплая Капля? – Разослать материалы по всем необходимым адресам. Теоретическое обоснование, пояснительную записку и сам проект… От имени Сергея Невлюдова, bi@nvl.spb.ru. Вместе с просьбой Невлюдова зря не беспокоить и обращаться за консультацией лишь в самых крайних случаях. Конечно, побеспокоят, думал я. Однако не сразу, не сразу! Пока разберутся, пока расчухают, что это не шутка и не розыгрыш, пройдет дней десять или хотя бы неделя. Достаточно, чтобы удрать! Скажем, на Андаманские острова или к помирившимся тутсихутам… В какой-нибудь медвежий угол, где можно скрыться и отсидеться во время всплеска популярности… Не столь уж трудная задача, раз тебе служит Джинн! – Прошу уточнить адреса рассылки, – промолвил он, взирая на меня с экрана. – Всем правительствам, включая те, которые в изгнании… всем ведущим университетам и НИИ… всем крупным фирмам, банкам и другим финансовым учреждениям, а также общественным фондам… движению «зеленых» и политическим партиям, где больше тысячи… нет, десяти тысяч членов. Разумеется, в ООН, ЮНЕСКО, НАТО и прочие международные союзы. – Выполнено, – сказал Джинн. – Что теперь? – Теперь отдохнем, – откликнулся я. – Спасать мир – такая тяжкая работа! Экран погас, но монотонный шепот еще звучал в вокодере, напоминая голос гипнотизера: – Ты устал, Теплая Капля… Ты должен есть и спать… Я знаю, людям нужен отдых… Вернусь, когда позовешь… Поднявшись, я направился в ванную, умылся ледяной водой, выпил на кухне кофе, что-то съел, налил молока в блюдце Белладонны. Затем пошел в родительскую спальню, вытащил из шкафа Коран, вернулся к себе, сел в кресло и раскрыл книгу на суре «Могущество». Строчки дрожали перед глазами, буквы прыгали и кувыркались, но все же через несколько минут начали складываться в знакомые слова: Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Поистине, Мы ниспослали его в ночь могущества! А что даст ему знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа их для всяких повелений. Она – мир до восхода зари! – Мир до восхода зари… – повторил я вслух, поворачиваясь к окну. Оно было темное, открытое звездному небу, где бледным диском висела луна, еще без признаков той сероватой дымки, которая ранней петербургской весной обозначает рассвет. Но с улицы уже доносился гул моторов и шелест шин, со двора – протяжные стоны и резкое хлопанье двери, а сверху, снизу и с боков – те шорохи и скрипы, невнятное бормотание и шарканье, которые в нашем блочном доме разносились по всем этажам подобно утренней мелодии. Близилось утро, ночь кончалась. Ночь моего могущества… Та, в которой нисходит ангел для всяких повелений… Та, которая лучше тысячи месяцев… Веки мои слипались, тело налилось приятной тяжестью, и было лень подняться, сделать три шага и рухнуть на тахту. Кресло казалось таким уютным и мягким, таким надежным… Я уронил Коран на колени и заснул.
* * *
И снилось мне, будто я надеваю контактный шлем, застегиваю браслеты и по велению кибернетической волшебной палочки, переношусь в виртуальную реальность. В пространство, полное тепла и света, в лазурные сказочные небеса, где плывет пушистое облако, похожее на божью перинку в детском издании Библии, только восседает на нем не Саваоф, а Джинн собственной персоной. И вид у него непривычный, не белой кошки, не Багиры и не Чеширского кота, а облик смуглого пенсионера-араба лет под девяносто, в чалме и роскошном халате – ни дать ни взять старик Хоттабыч из одноименной книги. Сидит он за столом, а на столе угощение, пиво, фрукты, шпроты и, разумеется, бутылка «Политехнической». Я приземляюсь рядом с ним, чувствуя под ягодицами пышную облачную плоть, осматриваю стол и говорю: – Что нарядился, дружище? Что достархан накрыл? Праздник у нас какой или иное торжество? – Праздник, – подтверждает Джинн. – Все-таки мы с тобой, Теплая Капля, мир спасли! Отметить бы надо. И мы отмечаем – в полном согласии с русско-исламской традицией, ибо Аллах не велел правоверным пить вина, а вот про пиво и «Политехническую» в Коране ничего не сказано. Закусываем шпротами, хурмой и финиками, а после Джинн и говорит: – Ну доволен? Осчастливил человечество? Может, о награде думаешь, о благодарности мечтаешь? Как бы не так! Не будет ни наград, ни благодарностей! Сперва щелкоперы твою биографию по косточкам разложат, и станешь ты на день сенсацией, и снимут тебя в профиль и анфас, и на горшке, и у компьютера… А после, как разлетятся по разным созвездиям, никто и не вспомнит. Земная слава преходяща! – Не надо мне славы, – отвечаю я, – и не хочу я на горшке сниматься и быть сенсацией. Мне бы куда-нибудь слинять… куда-нибудь, где щелкоперы не найдут и папарацци не достанут. Поможешь, друг? – Как не помочь! Поможем, со всем удовольствием… Только слова мои о благодарности не забывай. Не будет ее, ежели сам не пошустришь. И с этими словами он начинает жевать ананас, а я, будто в недоумении, спрашиваю: – Куда ты клонишь, приятель? Слава, награда, благодарность… Прости уж меня, тупоумного, не врубаюсь! Это ты о чем? – О том, – объясняет Джинн, покончив с ананасом, – что мир ты спас, а мир спасителей не любит. Плохо они кончают, эти спасители! А потому надо тебе обеспокоиться собственным благом. – Он отхлебывает пива и советует: – Ты, Теплая Капля, сам себя награди. Сам! Проси у меня чего хочешь! И помни – я все могу! Тут навалились на меня такая тоска и печаль, что финик показался горьким. – Это мы уже обсуждали, – шепчу я, – об этом говорили… Не хвастай, дружище, и душу мне не растравляй. Не можешь ты всего! А то, что можешь, мне не нужно. – Как не нужно? – удивляется Джинн. – Не нужно богатство, чтоб жить в довольстве и добрые дела творить? И власть не нужна, чтобы наказывать злодеев и защищать обиженных? И знаний тебе не нужно? О том, как устроен мир, с чего он начался, к чему придет и где в нем место человеку? Я нерешительно качаю головой. – Нужно, наверное, нужно… Но это все не для меня, а для людей. А мне… Джинн наливает стакан, поднимает его и осушает, не чокаясь. – В их память… Я, Теплая Капля, выполняю только разумные просьбы, а воскрешение умерших и погибших есть желание иррациональное. Ты знаешь, что их не вернуть. Ни родителей твоих, ни друга… Но разве жизнь закончилась? И разве все дорогие тебе умерли? Он глядит на меня с хитрым прищуром, и я отвечаю, что, конечно, нет и я не против, чтобы этих дорогих и близких стало больше. Скажем, на одну арабскую принцессу… Но как это устроить? Как добиться, чтоб полюбили Сергея Невлюдова? Его, а не богатства, не власть, не знания, дарованные этому счастливцу? Не преходящую славу спасителя мира? С одной стороны, все это нелишне, а с другой – соблазн! Великий соблазн для женщины, тем более – принцессы! Принцессам ведь нужны герои, и потому… Джинн, покачивая головой в чалме, перебивает меня сочным басом Глеб Кириллыча: – Это все фантазии, юноша, бред и фантазии от лишнего ума! Они пользительны для писаных романов, а в романах житейских следует не фантазировать, но держаться ближе к телу. – Хотелось бы, – вздыхаю я. – Вот и не щелкай клювом, – советует Джинн. – Как прозвенит тебе звоночек, так становись поближе и хватай! – Когда же прозвенит? – Когда, когда… Может быть, сейчас! И в самом деле я слышу пронзительную трель звонка. Сон мой осыпается лепестками увядшей розы, и, открыв глаза, я вижу, что в комнате по-прежнему темно. Было утро, пришел вечер… Сколько же я проспал? Наверное, часов двенадцать… В прихожей надрывался телефон. Зажав под мышкой увесистый томик Корана, я вылез из кресла, переместился к аппарату и поднял трубку. – Серега? Эт-то я, Ссизо. – Привет, Север, – произнес я, отряхивая остатки сна. – Сслушай, п-парень… Сизо, как обычно, был под хмельком и слегка заикался. – 3-знаешь, что нашим живоглотам к-карачун пришел? Никеша, значитса, наб-больничном, Альбертик вовсе штиблеты отбросил, а у Керимки п-пожар… Смотались они куда-то с П-пыжичем… видать, кррутые наехали, а новгородская к-крыша протекла. В общем, Сергуня, я нынче безработный, до самого первого апреля. А там ссговорился в могильной шарраге на к-кладбище, покойных личностей в-ваять… – Хорошее дело, – одобрил я. – Богоугодное! – В-вот и я о том же… А пока простой, могу твою кошку ув… увек… тьфу, черт!., увековечить! Как сговорились, ящик пива и четыре п-пузыря. Годится? – Годится. Когда придешь с натурой ознакомиться? Сизо задумчиво хмыкнул. – Не завтра. Н-на завтра горючее есть… Вот послезавт-рева – в самый раз. Лады? – Договорились[737]. Я осторожно опустил трубку на рычажки и замер в темном коридоре, прижимая к груди Коран. Голова у меня вдруг закружилась; минувшие события мелькали стремительной чередой, явь мешалась со сном, и я уже не мог определить место каждого деяния и сказанного слова. Возможно, мой разговор с Хоттабычем на облаке – реальность, а все, что напророчил Джинн, – ночной кошмар? Возможно, нет никакого трансгрессора, ни схем, ни чертежей, ни формул, а есть фантазии и бред от лишнего ума? Признаться, я пожелал, чтоб это оказалось правдой, чтоб гибель мира была видением, чтоб Джинн исчез или превратился в кого-нибудь знакомого, в того же Глеб Кириллыча, сел в кресло и промолвил: не строй фантазий, парень, и не спасай того, чего нельзя спасти! Иди-ка лучше в Графский, к своей Захре, иди к ней и скажи… Резкий звонок, и все вернулось на свои места. Вздрогнув от неожиданности, я включил свет, шагнул к двери, пробормотал: – Бянус, наверное… А ведь грозился, что сегодня не придет… Дверь отворилась, и в мой дом шагнула девушка. Матово смуглая кожа, чуть выступающие скулы, брови, похожие на птичьи крылья, и глаза – колдовские, темные, словно арабская ночь, влажные, блестящие… Она двигалась изящно и легко, как танцовщица, и выглядела спокойной – только ресницы трепетали, и на губах, полуоткрытых, непривычно ярких, будто бы застыл вопрос: ждешь ли ты меня?… как встретишь?… что мне скажешь?… Захра, звездочка моя! Моя ненаглядная! Что я еще могу сказать?
Апофеоз ПЕСНИ ПЛЕМЕН
Есть шестьдесят девять способов сочинять песни племен, и каждый из них правильный.Редьярд Киплинг
Дверь открылась. Он стоял передо мной, а я не знала, что мне делать, какие вымолвить слова. Он выглядел бледным и усталым – набрякшие веки, заострившийся нос, щеки в точечках щетины, морщинки у суховатых губ… Любимый мой! Мой джабр! Броситься ему на шею? Опустить глаза и ждать? Сказать, что я ошиблась дверью? Вспомнить о нашей встрече на факультете? Представиться? Назвать имена Ахмета и хакима Саши? Велик Аллах! Дорога от сердца к сердцу открыта, но как шагнуть на нее? И какой из шагов будет правильным? Я переступила порог. Его глаза вспыхнули и засияли, как два аквамарина. В его руках была книга, которую он прижимал ее к груди. – Коран? – спросила я. – Один наш общий знакомый говорил, что у вас целая коллекция Коранов. На русском, арабском, французском… Может быть, есть и на финском?… Странное выражение мелькнуло на его лице – такое, будто он узрел чудо из чудес или услышал великое откровение. Яостановилась в замешательстве. – Коран на финском? – протянул он. – Такого, думаю, в природе не имеется, но если вам угодно, будет. В отличном компьютерном переводе и очень быстро. Не успеем кофе выпить и за жизнь поговорить… Потом что-то случилось. Что-то произошло – стремительное, непонятное, неотвратимое… Мы все еще стояли у распахнутых дверей, но я вдруг обнаружила, что книги нет в его руках, но были они не пустыми – в них очутилась я. Его щека колола мою щеку, пальцы зарылись в волосы, прикосновение губ обжигало… Он что-то прошептал – так тихо, что я не расслышала. – Что? Что, милый? Его голос окреп, обрел уверенность и мощь: – Награда… Ты – моя награда! Есть ли иные слова, какие мужчина говорит любимой? Конечно, есть, и он их сказал. Но это уже не важно.
Приложение
Рассказ эмира Азиз ад-Дин Абдаллаха, правителя Счастливой Аравии, потомка Сергея Невлюдова. Записан Ричардом Саймоном, функционером ЦРУ, на планете Аллах Акбар.[738]
Странную историю поведал Азиз ад-Дин Абдаллах! Странную и действительно похожую на сказку… Будто бы задолго до Исхода, в самом начале двадцать первого столетия, жила на свете прекрасная девушка с глазами газели и губами ярче пунцовых пионов – Азиз ад-Дин Захра, принцесса, наследница титула и богатств семьи, происходившей от фатимидских халифов. Семейные богатства были не столь уж огромными, и тягаться с каким-нибудь нефтяным шейхом из Объединенных Эмиратов родитель Захры не мог, но в общем-то род их считался не только древним, но и весьма состоятельным. И Захра училась во многих западных странах, дабы приобрести нужный царственный лоск, и знание языков, и все прочее, необходимое для принцессы, наследницы древней фамилии. Училась она в Америке, во Франции и в Англии, а превзойдя там все науки, отправилась в Россию, в город Санкт-Петербург, на берега холодного стылого моря. Поехала она туда, как объяснял Абдаллах, по той причине, что был этот город прекраснее прочих городов, даже самого Багдада, а еще потому, что в Петербургском университете были великие мудрецы, изучавшие Восток и знавшие об арабах такое, чего сами арабы про себя не знают. Словом, проучилась прекрасная Захра в Петербурге пару лет, а войдя в возраст зрелости (ей исполнилось двадцать пять) вернулась на родину, в фамильные поместья под Багдадом. Но привезла она с собой не одни лишь знания и умения, а еще и супруга, высокого, темноволосого и синеглазого. И от их союза родился сын Касим, тоже с синими глазами, и с той поры этот признак стал в роду ад-Динов наследственным и даже как бы почетным – в память о Касиме ибн Сирадже и его отце, супруге прекрасной Захры. Надо признать, продолжал Абдаллах, что супруга этого встретили без особых восторгов. Во-первых, он был иноверцем – даже хуже, убежденным безбожником и атеистом, не заключившим священный договор ни с Аллахом, ни с Христом. А во-вторых, род его был малопочтенным, происходившим от смеси русской, еврейской и татарской кровей, и за последние сто лет в том роду встречались простые врачи, учителя да инженеры, от коих до царственных особ как от Земли до Луны. И сам супруг Захры являлся то ли ученым, то ли инженером, каким-то физиком или компьютерщиком, неспособным даже произнести славословие в честь Аллаха милостивого, милосердного. Тем не менее был он избран Захрой, и родичам ее пришлось смириться. Но по прошествии пары лет смирение их перешло в почитание, а затем – в самый искренний и жаркий восторг. Ибо супруг Захры был богат, так богат, словно приехал он не из полунищей в ту пору России, а, по крайней мере, из Калифорнии – где, как знает всякий, доллары зреют прямо на деревьях, рядом с грейпфрутами и ананасами. И еще он был щедр, так щедр, будто не знал ни меры деньгам, ни цены их; и его рука, творящая благо, не оскудевала ни на миг. Но это являлось лишь самым малым из его достоинств, ибо супруг Захры обладал загадочными свойствами и таинственными качествами, присущими тем, кто избран самим Аллахом. Он воистину творил чудеса: мог предвидеть грядущее, подчинять своей воле события и людей и узнавать все, что случалось в мире, даже самое тайное и секретное, будто не было для него ни стен, ни расстояний, ни преград. И когда люди уверились в этих его необычных качествах, то стали толковать, будто супругу Захры подчиняется джинн, но джинн добрый, так как никому повелитель джинна не творил зла, а одно лишь благо и всемерную помощь. И были для такого мнения веские причины, ибо никто не сомневался, что этот человек, овладев властью над джинном, пожелал того же, чего желает всякий из людей, особенно в молодые годы: богатство и прекрасную принцессу. Пожелал – и получил! Но Захра являлась не обычной принцессой, вроде тощих королевских отпрысков из Британии или Бельгии; Захра стояла неизмеримо выше, так как происходила от самого Пророка! И какой бы мужчина ни пожелал ее (а таких насчитывалось великое множество), и какие бы силы ни помогали ему в том желании, без воли Пророка – а значит, самого Аллаха! – брак их заключиться не мог. Никак не мог! Ибо Аллах превыше всего, и Мухаммед – его единственный посланник! И супруг прекрасной Захры тоже уверился в этом, и в день рождения Касима склонил слух свой к мольбам принцессы и заключил договор с Аллахом, приняв арабское имя – по всем древним канонам и традициям. Его аламом, или личным именем, стато Сирадж, что значит «светоч», а его насаб, имя отца, звучало как Мусафар, что значит «странник» или «гость»; и были эти имена созвучны тем, которые он носил в России. Прежняя его фамилия стала нисбой или названием рода и превратилась в Навфали, что значит «щедрый», а еще – «дарящий». Поскольку стал он отцом Касима, то мог принять кунью Абу-л-Касим; а кроме того, выбрал он прозвище-лакаб Дидбан ат-Дивана, означавшее «страж блаженного». И само это произвище как бы служило намеком, что Дидбан ат-Дивана Абу-л-Касим Сирадж ибн Мусафар ат-Навфали связан с потусторонними силами, с ифритами, джиннами или с самим всемогущим Аллахом. Сам Сирадж этого не отрицал и не подтверждал. В семейных легендах рода ад-Дин говорилось, что Сирадж относился к своей предполагаемой связи с джинном не без юмора и в какой-то момент повелел вырезать статую кошки (а кошек он очень любил), утверждая, что в ней, в этой статуэтке, заключена магическая сила, в точности такая же как в сказочной аладдиновой лампе. Надо только знать, где потереть и как потереть! Но эту тайну он не открыл даже сыну своему Касиму, зато оставил ему такое несметное богатство, что Касим, будучи уже в летах и являясь почтенным главой семейства, смог откупить на Аллах Акбаре целую страну, благоустроить ее, возвести селения и города, разбить сады и выбрать лучших из лучших – среди того людского потока, что прихлынул к его границам. Сотворив все это, Азиз ат-Дин Касим ибн Сирадж объявил себя эмиром и стал править в Счастливой Аравии, и правил он так справедливо и мудро, что никто не мог упрекнуть Касима, что отец его – не араб, а какой-то чужак из России, без рода и племени. Ну и что с того? Аллах выбирает, Аллах дарует, Аллах наделяет благородством тех, кто приятен его сердцу! Что же касается самого Сираджа, то он узрел Исход, дожив до его середины, но с Землей не расстался и был похоронен вместе с супругой своей Захрой в ее родовых владениях. Воистину, прожили они прекрасную жизнь, в счастье, любви и согласии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучителъница собраний! Мир им обоим!
Михаил Ахманов Массажист
Глава 1
Он стоял на самом краю бездны. Внизу, прячась в предрассветном сумраке, топорщили голые ветви деревья, меж их стволами смутно просвечивал белым осевший мартовский снег, кое-где, на дорожках и на площадке с песочницей, виднелась земля – темная, голая, сырая. Ни движений, ни шорохов; только в дальнем конце переулка, у речки Карповки, погромыхивал первый трамвай, скрипел пронзительно колесами, лязгал на стыках рельсов. Но эти звуки были далекими и как бы нереальными, не нарушающими утреннюю тишину. Она висела над дремлющей Петроградской стороной, над крышей дома, утыканной антеннами, над улицами и дворами, и над небольшим парком, что протянулся до Малой Невки, к набережной, носившей странное название Песочная. Повсюду – тишина, безлюдье… Ни машин, ни торопливых прохожих, ни мамаш с колясками и детишками, ни псов с хозяевами на поводках. Псов и детей он не любил. Особенно псов – собаки питали к нему стойкую неприязнь и норовили укусить. Бездна, раскрывшаяся у самых ног, ощутимо притягивала к себе. Если сомкнуть веки, казалось, что стоишь на горной вершине и внизу не жалкий сорокаметровый обрыв, а настоящая пропасть, падать в которую предстоит часами, днями, годами… Возможно, веками. Он бы хотел умереть такой смертью, падая в невесомости, в пустоте, и зная, что тело его будет странствовать в этих просторах от одного берега вечности до другого и никогда не сгниет, не подвергнется тлену и разложению, и не достанется на корм червям. К червям, а также к гусеницам, улиткам, змеям и ко всему, что ползает и извивается, он питал еще большую ненависть, чем к собакам. Впрочем, он вообще не любил животных, да и к людям относился без большой приязни. Но с людьми приходилось жить, говорить, вступать в контакты, охотиться на них и даже касаться ладонями их обнаженных дряблых тел, и потому он научился скрывать свое отвращение. Пожалуй, он не испытывал этого чувства лишь к молодым красивым девушкам, чья плоть была упругой, крепкой, а кожа пахла ароматом роз. Но девушек он к себе не водил. Холодный мартовский ветер забрался под куртку, залез под свитер, заставив его вздрогнуть. Он ощутил озноб, попятился к чердачной двери, не спеша спустился в полутемное низкое помещение чердака, к люку. Он очень берег свое здоровье; собственно, все, что он имел, заключалось в нем самом, в его сокровищах, в Охоте и небольших, от случая к случаю, развлечениях. Связи с другими людьми, как сами люди, ценности не представляли; ни люди, ни их надежды и желания, их ненависть и любовь, самоотверженность и честолюбие. Всего лишь груды жира и костей, обтянутые дряблой кожей, заросшие частично шерстью; парад мясных, слегка одушевленных туш. Будущий корм для червей. Он протиснулся в люк, закрыл его, спрыгнул со ступеньки складной алюминиевой лесенки и резким движением послал ее вверх. В закуток, отгороженный от общей площадки последнего, двенадцатого этажа, выходили двери двух принадлежавших ему квартир: справа – старой, где он ел, спал, читал, работал и временами смотрел телевизор, слева – новой, где он жил. Ибо жизнь – истинная жизнь, которую ему хотелось бы вести – состояла в том, чтоб любоваться своими сокровищами, перебирать их, трогать, взвешивать в ладонях, нежно поглаживать и ласкать, наслаждаясь ни с чем не сравнимым ощущением обладания. Это чувство было близким к оргазму, но совершенно самодостаточным, не требующим участия других партнеров и даже отвергающим их со страхом; мысль, что кто-то увидит его богатства, притронется к ним, казалась не просто пугающей, но кощунственной. Бог в его храме был один, и полагалось, чтобы ему служил только один жрец. Один-единственный. Он распахнул правую дверь, постоял недолго у левой, ведущей в пещеру сокровищ, но не коснулся блестящей латунной ручки. Он редко заглядывал сюда по утрам; утро и весь последующий день подчинялись привычному распорядку, нудному и серому, будто ноябрьский ливень. Гимнастика, завтрак, работа, обед и снова работа, беготня по клиентам и пациентам; чьи-то шеи, спины, ляжки и задницы, выпирающие хребты, мышцы, сведеные вечной судорогой, и пораженые ревматизмом суставы… Не жизнь – существование, скрашенное лишь Охотой, поиском того, чем он способен завладеть… Но вечер принадлежал ему. Только ему! Вечером он мог работать в своей крохотной мастерской или бродить по улицам, по кабакам и магазинам, мог перемениться, принять, подобно оборотню, любую из своих личин – тоскующего от безделья нувориша, миллионера-сноба, скупающего антиквариат, или фата, ценителя девичьих прелестей, а если угодно – бандита из самых крутых; он был силен, жесток и многое знал о хрупком несовершенстве человеческого тела. Но чаще метаморфоза совершалась здесь. Здесь, у храмовых врат, перед входом в пещеру сокровищ, в его убежище, его дворец, защищенный бетонными стенами, решетками и бронированной дверью. Здесь он становился самим собой, Гаруном ар-Рашидом, сказочным калифом, который надумал посетить свою сокровищницу, и это было самое любимое, самое приятное из всех возможных превращений. Сегодня, сказал он себе. Сегодня вечером. Или, быть может, завтра. Но не раньше, чем будет куплена т а ваза. Т а ваза, для которой приготовлено т о место – на филигранном, французской работы поставце, под пейзажем Франческо Гварди – вид на Венецию в полдень с моря… Справа от двух старинных клинков, слева от настенных майсеннских тарелок… Там она будет смотреться лучше всего. Сабли в серебристых ножнах, голубовато-зеленый клыкастый дракон и лазуритовый оттенок венецианской лагуны… Кивнув, он перешагнул через порог.* * *
К работе полагалось приступить в девять тридцать. Ровно в девять массивные двери центра с протяжным скрипом закрылись за ним. Тридцать минут уходило на то, чтобы раздеться, принять душ (обязательная процедура для всех без исключения сотрудников), облачиться в белоснежную униформу и подготовить кабинет: махровую простыню – на стол, флакончики с маслом и баночки с мазями – на подоконник, ширму – к кожаному диванчику. Еще проветрить и включить магнитофон с бодрящей, но неназойливой музыкой. Музыка тоже относилась к числу обязательных процедур; за этим, с чисто немецкой пунктуальностью, следил Макс Арнольдович Лоер, заместитель директора. – Баглай! – окликнули сзади, когда он поднимался по лестнице. Худой длинноногий Жора Римм спешил, перепрыгивая через две ступеньки; волосы собраны в пучок, плащ болтается словно на вешалке, глаза за стеклами очков кажутся неестественно огромными. Его настоящая фамилия была Рюмин, но как всякий уважающий себя экстрасенс он предпочитал работать под звучным псевдонимом. Это придавало ему ореол загадочности, столь необходимый в ремесле целителя-ясновидца. – Сегодня твоя аура угольно-черная, – сообщил Римм, подрагивая ноздрями. – Вчера была темно-фиолетовая, а позавчера – грязно-коричневая. Плохи твои дела, Баглай! Все верхние чакры засорены, связь с космосом прервалась, а в свадхистане[739] такое творится… Ладно, не буду тебя расстраивать. Только предупрежу: гляди, не изнасилуй под вечер одну из своих старушек. – Старушки были б не против, – буркнул Баглай. – Верю, верю. Однако Мосол не одобрит. Вот если по специальному тарифу… оформить, как эротический массаж… То был дежурный обмен шуточками. Подобная вольность допускалась с Риммом и еще кое с кем из сослуживцев, с одним-двумя, не больше. С остальными Баглай не расслаблялся и был, как правило, корректен и сух. Особенно с Викой Лесневской, стройной блондинкой из отделения физиотерапии; чувствовал, что та положила на него глаз. Он не отказался бы с ней переспать – при несомненном опыте, Вика еще не потеряла девичьей свежести – но ходил слушок, что ею интересуется сам директор. На площадке второго этажа маялся рослый охранник из агенства «Скиф», ждал, когда вверх по лестнице запрыгают девушки из отделения косметической хирургии и можно будет полюбоваться стройными ножками и соблазнительными бедрами. В длинном широком коридоре, пронизывающем здание насквозь, было еще пустовато, ни посетителей, ни врачей, лишь санитарка из физиотерапии усердно протирала шваброй пол. Баглай щелкнул замком, переступил порог своего кабинета, быстро разделся, принял душ в стеклянной кабинке, втиснутой в нишу рядом с умывальником, натянул белый накрахмаленный комбинезон, бросил на массажный стол простыню, расставил на подоконнике флаконы и приоткрыл форточку. За окном уже раздавались привычные звуки, шелест шин по асфальту, мягкий рокот троллейбусов, голоса прохожих; пропуская сотрудников, хлопала и скрипела входная дверь. Оздоровительный центр «Диана» занимал здание бывшей поликлиники на Большом проспекте Петроградской стороны; половина окон выходила на улицу, а другая половина – во двор, к автостоянке и входу в полуподвальное хранилище. Этот склад предназначался для дорогих лекарств и медицинской техники, а потому его снабдили железной дверью, прочной, как танковая броня. Дверь неплохо гармонировала с домом – старинным, капитальным, постройки самодержавных времен, но тщательно ухоженным и перепланированным. Внизу, в свободной части полуподвала, размещался бассейн, а при нем – сауна, целебные ванны и бодрящие души; на первом этаже – касса, регистратура, вестибюль и гардероб для посетителей, а также залы обычной и атлетической гимнастики, с современными тренажерами и спортивными снарядами, с сеткой батуда и зеркалами во всю стену; на втором – аптека, процедурная, массажное отделение и кабинеты врачей, гомеопатов, мануологов и физиотерапевтов; все – оснащенное по высшей категории, с лучшим оборудованием, какое только удалось достать за деньги. Третий этаж был исключительно женским, благоухающим французскими духами, полным шелеста легких одежд, стука каблучков и доверительных негромких разговоров; тут находились косметический салон и комплекс косметической хирургии. Виктор Петрович Мосолов, директор заведения и его хозяин по кличке Мосол, сидел, вместе с заместителем и бухгалтерией, на четвертом этаже, рядом с ординаторской и комнатой отдыха охраны. На пятом и последнем располагался солярий – царство хрустальных окон, кварцевых ламп, озонаторов и шезлонгов под приземистыми пальмами и фикусами с полированной изумрудной листвой. Тут делали все, от исправления формы ушей и носов до исцелений сколиозов и радикулитов. Эстетическая медицина, коррекция фигуры, пересадка волос, борьба с ожирением, а также с морщинами – с помощью лазерной шлифовки, армирование золотыми нитями… Имелся даже кабинет психологической поддержки – в нем принимал Георгий Римм, снимавший сглазы и порчу, штопавший пробои в энергетике и избавлявший пациентов от мороков и стрессов. Центр был заведением элитным, дорогим, с великолепными специалистами; любая услуга стоила здесь не меньше, чем половина пенсии какого-нибудь инженера или учителя. Но бывшие учителя и инженеры тут, разумеется, не лечились, предпочитая жить с теми носами, какие им дарованы природой, а с радикулитами и сколиозами тащились в бесплатные поликлиники. Однако город был велик, и состоятельных людей, потенциальных пациентов, вполне хватало. С массой недугов, существовавших в реальности или придуманных с начала и до конца, и с массой требований и пожеланий. Иным хотелось купить красоту, иным – здоровье, кому-то – чакры накачать, кому-то – мускулы; а попадались и такие, что посещали «Диану» исключительно для развлечения или повинуясь рекламе и моде. Баглай смотрел на них как на законную дичь; все они были людьми не бедными, и каждый представлял интерес – если не сам по себе, как объект Охоты, то уж, несомненно, как источник полезных сведений. В дверь постучали, и он отошел от окна. Прибыл рассыльный со списком сегодняшних пациентов: восемь человек, полная нагрузка, с пометкой внизу листа, что очереди ждут еще двадцать или тридцать желающих. Ни один другой массажист из коллег Баглая по «Диане» не мог похвастать такой популярностью, но он лишь брезгливо сморщился, облизнул губы и, прикалывая список к дверям, провел под носом указательным пальцем. Он знал себе цену; он был специалистом высшей категории и занимался самыми сложными случаями – богатыми старухами и стариками. В основном, старухами; их приходилось по трое-четверо на каждого старца, который ухитрялся дожить до семидесяти. За редким исключением в «Диане» практиковалась полная свобода выбора: клиент мог лечиться у тех или иных специалистов, заниматься у тех или иных тренеров, выбирать по собственной воле врачей, косметологов, массажистов, гомеопатов. Этот обычай был мудр, поскольку рейтинг специалиста определялся спросом, а от спроса – то есть от выручки – зависел его тариф и, следовательно, зарплата. Тариф Баглая был высок, однако же к нему не только шли, но еще и стояли в очереди по два-три месяца, ждали, старались залучить домой, что, в общем-то, не возбранялось; Мосол понимал, что частная практика для массажиста – что мед для пчелы. К тому же спрос на Баглая отличался редкой стабильностью и не зависел ни от погоды, ни от моды – быть может потому, что старики консервативны и знают, что лучшее – враг хорошего, а самое хорошее то, что привычно. Баглай закрыл форточку, включил магнитофон и принялся разминать пальцы, шевеля ими в такт нежной мелодии Моцарта. Директор Виктор Петрович музыкальных новаций не одобрял, являлся поклонником классики и полагал, что Моцарт особо целителен для больных позвонков и конечностей, скрюченные от подагры. А вот атлетические игрища на тренажерах сопровождались Бахом, Вагнером и Богатырской симфонией Бородина; эти записи Мосол выдавал тренерам каждый месяц, меняя их по какой-то загадочной непостижимой методе. В дверь опять постучали, и в кабинет просунулось свежее личико Вики Лесневской. Халатик на ней был на две ладони выше колена и не застегнут на верхнюю пуговку; что-что, а показать себя она умела. – Баглай? – Здесь, – отозвался он, не повернув головы. Все его звали Баглаем, только Баглаем; никогда – по имени, и лишь в очень редких случаях, самые старые и вежливые из пациентов – по имени-отчеству. Но отчества он не любил. Всякий раз вспоминалось, что Олегович он по матери Ольге, а про отца известно лишь одно: не негр, не китаец, не индеец. Возможно, светловолосый немец или швед – из тех, что съехались в пятьдесят седьмом году на Фестиваль. Фестиваль закончился, и народились в Москве дети многих народов, а среди них – Баглай; и хорошо еще, что с белой кожей и нормальным носом. – Баглайчик, – прощебетала Вика, – болит у меня, так болит! Вот здесь! – Повернувшись, она хлопнула по упругим рельефным ягодицам. – Вчера началось, после шейпинга… что-то не так крутанула… или не так потянула… Пришла домой, всю ночь промаялась… Исцелишь? – Уткин пусть исцеляет, – Баглай ткнул пальцем в стену, за которой находился соседний кабинет. – Уткин любит девушек помять. Риска никакого, плюс удовольствие. Вика капризно надула губки. – Ему – удовольствие, а мне?.. Мне разве ничего не полагается? Ну-у, Баглайчик, миленький… – Она уже просочилась в комнату и стала неторопливо расстегивать халатик. – Клади меня на стол, помажь маслом, пройдись по спинке, и еще – тут и тут… вот по этим суставчикам… по тазобедренным… – Я пройдусь, – сказал Баглай, вытягивая ремень из брюк и складывая его вдвое. – И по тазобедренным, и над ними. Неделю на присядешь! Он размахнулся, и Вика со смехом отскочила, распахнув на мгновение халат. Под ним были длинные стройные ножки в полупрозрачных колготках, затем – нагая розовая плоть и что-то узенькое, кружевное, тонкое – такое тонкое, что мнилось, будто острия сосков проткнут кисейный полог ткани. Баглай невольно вздрогнул, а Вика выскользнула в коридор, проворковав на прощанье: – Смотри, Баглайчик!.. В другой раз и правда к Уткину пойду! Вика удалилась к отделению физиотерапии, изящно покачивая бедрами, и было ясно, что ничего она не крутанула, не потянула, а ночью маялась совсем по другой причине. Баглай чертыхнулся, закрыл дверь и, чтоб успокоиться, сделал несколько дыхательных упражнений, попутно разглядывая список с восемью фамилиями. Все – женские, и можно было держать пари, что самой юной клиентке стукнуло семьдесят. Чтоб окончательно прийти в себя, он начал вычислять, сколько таких стариков и старух залезут к нему на стол, чтобы хватило на ту китайскую вазу эпохи Мин, нефритовую, голубовато-зеленую, с резным клыкастым драконом, то ли парившим в поднебесьи, то ли купавшимся в лазурных океанских водах. Получалось, что двести – это в случае частных сеансов; а если работать через «Диану», так все пятьсот. Он представил себе эту груду мяса, этих склеротиков и гипертоников, сердечников и подагриков, сплюнул в раковину, сморщился, зло скривил губы и забормотал: – Затылочную ямку, суставы шеи, а также ладони и пятки растирать жиром до сухости и вытереть мукой – так изгоняют ветер сердца и демонов сердцебиения. Чтоб подавить бессонницу и слабость в теле, в эти же места втирать растительное масло, а при бессоннице еще втирать в голову мускус с топленым молоком. При безумии и припадках втирать масло, которое пролежало год. При недержании семени растирать поясницу и копчик, используя жир выдры или ящерицы да-бийд. При ряби в глазах втирать жир грифа и… Это были рекомендации из древнего канона «Чжуд-ши» – тайного восьмичленного учения тибетской медицины, которое он проштудировал в ашраме, у Номгона Дагановича Тагарова. Тагаров обучил его многому, а главное – технике шу-и, способной стимулировать или ослаблять кровоток; но ведал ли он, как эти знания сработают на практике? Баглай усмехнулся, не прерывая заунывного речитатива. Странные слова, что были нанизаны в столь же странные, непривычные фразы, успокаивали не хуже дыхательных упражнений. Постепенно лицо его разгладилось, дыхание стало мерным и ровным, серые глаза посветлели, и яростная ухмылка уже не кривила губ; он был готов к работе. Стрелки часов над массажным столом показывали девять тридцать, когда он распахнул дверь, посмотрел на сидевшую в кресле старую женщину и негромко сказал: – Прошу! Она вошла, поздоровалась и протянула процедурный лист. Ей было семьдесят три; два счастливо закончившихся инфакта, язва двенадцатиперсной кишки, диабет – в легкой форме, боли в суставах и искривление позвоночника. – Первый раз у меня? – спросил он, когда женщина, раздевшись за ширмой, улеглась на стол. – Первый, доктор… Простите, не знаю вашего имени-отчества, в регистратуре у вас только фамилии написаны… – Так меня и зовите – доктор Баглай. Строго говоря, он был не доктором, а только массажистом, но знал о человеческом теле побольше иных докторов. Когда-то, лет пятнадцать назад, отсутствие диплома вызывало у него приступы ипохондрии, но теперь он знал, что главное – не числиться, а уметь. Он умел. И, к тому же, был свободен от клятвы Гиппократа. Его длинные гибкие пальцы пробежали вдоль позвоночника, дрогнули, остановились, замерли. Сколиоз… Вылечить нельзя, но облегчить боль можно. Как говорил Марциал, искусство великое – растирать тело умелыми руками, освежая тем самым все его члены и утоляя страдания… Но за искусство, тем паче – великое, нужно платить. Хорошо платить! – У вас боли здесь и здесь? – Он осторожно коснулся поясничных областей. – Да… да, доктор… Сильные, особенно по вечерам… Спать не могу… стою всю ночь на коленках… ни на бок не лечь, ни на спину, ни… – Это мы поправим. Пальцы – все так же осторожно, мягко – надавливали там и тут, в ключичных ямках, под затылком, у основания шеи, вокруг лопаток, у плечевых суставов. Глаза не принимали участия в этой деликатной процедуре; глаза, в общем-то, были не нужны, как слишком грубый и несовершенный инструмент сравнительно с чуткими подушечками пальцев. – Это мы поправим, – повторил он, капая в ладонь масло. – Обязательно поправим. Но дважды в год вам надо приходить ко мне. Дважды в год – десять сорокаминутных сеансов… А это недешево стоит. Женщина повернула голову, и он увидел ее глаза – блеклые серые радужинки и старческие белки в алой сеточке капилляров. – Сын обещал, что будет платить… У меня хороший сын, доктор. Экономист, менеджер… И невестка тоже хорошая. Они мне говорят – сколько можно мучиться, мама?.. деньги – это ведь только деньги… они должны радость приносить… и хотя бы чуточку здоровья… Потом звонить начали, по родственникам, по знакомым и друзьям… И кто-то рассказал о вашей «Диане»… дескать, есть там чудодей, который лечит стариков… маг с волшебными руками… так и сказали, с волшебными… про вас сказали, доктор… Правду? В ее голосе звучали мольба и надежда, но лицо Баглая не дрогнуло. Он неторопливо растер масло между лопаток пациентки, плеснул еще и спокойным голосом произнес: – Раз сказали, значит, правда. А там поглядим… там посмотрим… – Плавными легкими движениями он начал втирать масло в кожу. – Кстати, как вас зовут? – Ирина Васильевна… Я, доктор, тридцать лет на ткацкой фабрике отработала. Сначала – у станка, потом, после техникума – мастером смены. У станка тяжело, да и мастером не подарок… Все время на ногах, бегаешь туда-сюда, кричишь, ругаешься, нервничаешь… Зато сына подняла. Считай, в одиночку… Хороший у меня сын! – Не напрягайтесь, Ирина Васильевна… вот так, хорошо… – Его пальцы начали массировать основание шеи, затем спустились ниже, разминая комок затвердевших мышц. – Вы говорили, сын у вас менеджер? А где он служит? В какой-нибудь финансовой компании? – Нет, в «Дельте телеком». Он… Начинался разговор – неторопливый, обстоятельный и доверительный. Первый этап Охоты, который мог закончиться ничем или иметь любое, самое невероятное продолжение. Время покажет. Люди бывают так откровенны… Особенно с парикмахерами и массажистами…Глава 2
Подполковник Глухов опаздывать не любил, а потому на всякую встречу или иное мероприятие, как приватное, так и официальное, являлся загодя, минут за пять, а то и за десять. Эта привычка вполне гармонировала с другими его чертами, врожденными или возникшими за тридцать без малого лет милицейской службы. Если бы Юлиан Семенов[740] когда-нибудь познакомился с Глуховым и пожелал – из писательского каприза или по иной необходимости – дать ему характеристику, то звучала бы она примерно так: «Глухов Ян Глебович, пятидесяти трех лет от роду, подполковник МВД, бывший руководитель элитного подразделения „Прим“[741] Петербургского уголовного розыска. Истинный славянин, преданный идее Вселенской Справедливости. Характер – нордический, твердый. С друзьями – ровен и коммуникабелен, беспощаден к нарушителям общественного порядка. Состояние здоровья – удовлетворительное, к службе годен. Вдов и бездетен; связей, порочащих его, не имел. Зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. Тонкий психолог; обладает редким аналитическим умом, а также большим опытом оперативной и следственной работы. Особенно отмечаются такие качества, как обязательность и точность.» В силу указанных выше качеств Глухов прибыл в РУВД Северного района в 17.52, а в 17.55 уже стоял у дверей полковника Станислава Кулагина, с которым они договорились встретиться точно в восемнадцать-ноль-ноль. Предметом встречи был юбилей Мартьянова, их приятеля и однокашника по ВМШ;[742] иными словами, застолье и разговоры до первых петухов. Мартьянов Андрей Аркадьевич, в отличие от Глухова с Кулагиным, давно в милиции не служил, расставшись с погонами и серым кителем при первом подходящем случае. Он выбился в бизнесмены; владел магазинами и ларьками, не очень жульничал, успешно и с размахом торговал, а кроме того, используя прежние связи и свой немалый милицейский опыт, обзавелся «чоповской»[743] лицензией и теперь мог сам себя поберечь, и желающих взять под защиту, и бывшим коллегам дать подработать при случае. Его охранное агенство называлось «Скиф» и занимало уютный особнячок на Васильевском острове. Сам же Мартьянов выстроил домик в Парголово и обретался там с очередной супругой, то ли четвертой, то ли пятой по счету. Дружбе эти обстоятельства не мешали. Глухов даже считал, что иметь приятеля-бизнесмена почетно и полезно по нынешним суровым временам – не из меркантильных соображений, а потому, что друг Андрюша мог свести его с разнообразными людьми, и, в частности, с такими, какие не слишком жалуют милицейских подполковников. Отсюда проистекала польза для службы, а службу Глухов оставлять пока не помышлял. Как и Кулагин, дослужившийся до начальника Северного РУВД, чья власть и ответственность простирались от Пискаревки и до самых Коломяг. Стоя у кабинета приятеля, нагруженный сумкой с книгами, Глухов смотрел на часы и размышлял, стучать или не стучать. Секретарша куда-то исчезла, приемная пустовала, и справиться, занят ли Стас Егорыч, было абсолютно не у кого. Стрелки часов показывали 17.57, можно было б и постучаться, так как три минуты – не время; с другой стороны, уговорились встретиться ровно в шесть – значит, и стучаться надо в шесть, ни одной секундой раньше. Глухов совсем уж решил не стучать и подождать, но тут дверь бесшумно распахнулась, едва не задев его по носу, и в приемную выскочила женщина – еще молодая, худощавая, черноволосая, и очень возбужденная. На щеках ее алели пятна, прическа растрепалась, а плотно сжатый рот свидетельствовал о решимости погибнуть, но добиться своего. Глухов, прижимая тяжелую сумку к бедру, с полупоклоном отступил, освобождая путь, женщина метеором пронеслась по комнате и скрылась; только дробный топот каблучков донесся с лестницы. А из кабинета послышался тягостный вздох. Вздыхал, несомненно, Кулагин. – Стас Егорыч, ты еще живой? – спросил Глухов, не переступая порога. – Не принести ли водички? – У Мартьяныча выпью. Даже напьюсь, – сообщил Кулагин, оседая в кресле. Потом вытащил платок и сигареты, вытер вспотевшую лысину, чиркнул зажигалкой, прикурил и с чувством произнес: – Ведьма… вот ведьмочка, так ее перетак… все нервы вымотала! Вот ты, Ян, большого ума мужчина, криминалист и аналитик… можно сказать, питерский Шерлок Холмс… вот объясни мне: отчего бабы у нас или больные, или склочные, или жадные? Этой вот наследство обломилось – квартира, вещи там, тряпки, деньги, и все задаром, по завещанию и счастливому совпадению планет… Живи и радуйся… Ан недовольна! Все одно – недовольна! И ходит, бродит, канючит, скандалит… Всех моих замов припекла, теперь ко мне заявилась! Вот наказание божье! Глухов сел на стул, разогнал рукой табачные облака – сам он редко курил, но другим курить не мешал – и поинтересовался: – А в чем, собственно, вопрос? Вроде бы наследства не по нашей части, если не торопят завещателя… Или поторопили?.. – Никто никого не торопил. Завещатель помер честной смертью, в собственной постели, от внезапного инсульта… нам бы так… – со вздохом произнес Кулагин, вытер платком лицо и подвинул приятелю тонкую папку. – Вот, взгляни. Может, чего и присоветуешь. Брови Глухова озабоченно приподнялись, лоб пошел морщинами. Лоб – высокий, выпуклый, с чуть заметными впадинками на висках – являлся самой примечательной деталью его физиономии. Все остальное было вполне ординарным: круглое лицо, пухловатые бледные губы, небольшие глаза цвета холодных питерских небес, нос, от крыльев которого к краешкам губ тянулись полукружия глубоких складок. Фигура, невысокая, полноватая и коренастая, подходила к этому лицу как прочный, но незатейливый клинок – к надежной, обтянутой шероховатой кожей рукояти. В общем и целом Глухов был доволен своей внешностью, и сейчас, и в молодые годы; он совсем не удивлялся, что Вера, покойная жена, красавица и умница, выбрала его из многих иных поклонников и претендентов. Это казалось ему вполне естественным – тем более, что выбор совершился лет пятьдесят назад. Неестественным и мучительно несправедливым было другое – ее смерть. Он покосился на папку, затем – на часы, потер лоб и произнес: – К Андрюше не опоздаем? На семь тридцать приглашал… – Не опоздаем. Машина у крылечка стоит, ехать – двадцать минут. Мы ведь на окраине, Ян Глебыч, не у тебя на Литейном! Успеется… Ты давай пока что почитай да посмотри… там всего-то пяток бумажек… ну, может, не пяток, а десять или двенадцать… А я отдышусь, покурю и на твой шедевр полюбуюсь. Очень, знаешь ли, успокаивает. Шедевр, один из глуховских морских пейзажей, красовался напротив окна. Писан он был давно, в семьдесят девятом, когда Глухов с Верой отдыхали в Симеизе, а Кулагину подарен в позапрошлом году, по случаю переселения в начальственный кабинет. Большая картина, метр на метр сорок, и не хуже, чем у Айвазовского: морская ширь от горизонта до горизонта, белые барашки пены и окрыленный парусами бриг под ясным небом. Картина напомнила Глухову о Вере, и в сердце стрельнула привычная боль. Он вздохнул и потянулся к папке. Там был стандартный набор документов: копия свидетельства о смерти гражданки Нины Артемьевны Макштас, патологоанатомическое заключение, протокол опроса соседей, шесть докладных капитана Суладзе (он, вероятно, расследовал дело), а также заявление и жалобы Орловой Е.И. – судя по всему, наследницы и безутешной родственницы. К заявлению была пришпилена розовая бумажка с какими-то арифметическими выкладками, похожими на список доходов и расходов. Читал Глухов быстро – сказывались привычка и дар художника, пусть не профессионала, однако личности с острым взглядом и чутьем, способной выделить основное на фоне мелких и незначительных подробностей. Основные же факты сводились к следующему. Нина Артемьевна Макштас, бездетная вдова генерал-лейтенанта Макштаса, скончалась в возрасте семидесяти шести лет в своей квартире, очевидно – во сне, ночью с третьего на четвертое февраля. Причиной смерти был инсульт – мозговое кровоизлияние, внезапное и обширное, так что, по заключению медэксперта, смерть произошла за считанные секунды. Труп пролежал четыре дня и был обнаружен гражданкой Орловой, наследницей умершей. Орлова, обеспокоенная тем, что Нина Артемьевна не отвечает на телефонные звонки, приехала, вошла в квартиру (ключи и доверенность у нее имелись), увидела труп и позвонила в ближайшее отделение милиции. Потом, как полагается в случаях внезапной смерти, были проведены вскрытие и расследование, установившие, что криминалом в данном случае не пахнет, и что генеральша скончалась в силу естественных причин – тем более, что кровеносные сосуды у нее, как у всех пожилых людей, оказались слабыми, а также присутствовал букет всевозможных болезней, от тахикардии и гипертонии до артрита. На том бы и делу конец, однако через пару дней наследница обратилась с заявлением, что из квартиры похищена крупная сумма в валюте, предположительно – восемь-десять тысяч долларов. Расчеты на розовой бумажке как раз и уточняли размер похищенного. Из них вытекало, что покойница – женщина предусмотрительная, обменявшая три года тому назад генеральскую квартиру на Суворовском на более скромную, в районе Гражданки. При этом она получила двадцать две тысячи долларов доплаты, каковые средства, вместе с пенсией, должны были обеспечить ей счастливую и беззаботную старость. Тысячу она подарила Орловой, заплатила налог (но не с двадцати двух, а только с шести тысяч, поименованных в официальных документах), и за три последующих года потратила, по мнению наследницы, не более четырех, расходуя деньги лишь на лекарства и питание. Значит, остаться должно тысяч семнадцать, а в наличии – семь! Тяжелый удар для наследницы; и эту тяжесть ей захотелось взвалить на плечи и спины компетентных органов. Дочитав заявление потерпевшей, Глухов отложил ее жалобы на невнимание и медленное производство дела и обратился к рапортам Суладзе. Капитан, видимо, действовал с похвальной классической строгостью, в точности так, как предписано учебником криминалистики. Он произвел детальный обыск со снятием отпечатков пальцев и выяснил, что чужие в квартире не шарили, а все отпечатки принадлежат генеральше. Ее драгоценности и мужние дорогие ордена были не тронуты, шуба висела на месте, и даже деньги, около тысячи рублей, остались в целости и сохранности. Он снял замки и произвел экспертизу – ни царапин, ни иных следов насильственного взлома на них не обнаружилось. Он опросил ближайших соседей; все в один голос утверждали, что генеральша была женщиной замкнутой, высокомерной, дружбы ни с кем не водила, к себе никого не пускала и даже подруг, что удивительно, не имела. Может, кто и ходил к ней, да им, соседям, неизвестно – тем более, что лестничные клетки темные, своей руки не разглядишь. Никаких подозрительных звуков соседи тоже не уловили – ни скрипа, ни лязга, ни шорохов, ни стонов. Затем Суладзе вызвал на допрос предпринимателя Миронова, проживавшего ныне в генеральских апартаментах; тот утверждал, что знать не знает про двадцать две тысячи долларов, и что доплата составляла шесть – как и указано в нотариальных документах. Этот Миронов был, вероятно, крепким орешком, и капитан убедился, что ничего ему тут не обломится; а, убедившись, взялся за потерпевшую. Елена Орлова, библиотекарь Публички, замужняя, мать двоих детей, не состояла в родственной связи с Ниной Артемьевной Макштас, а была дочерью ее близкой подруги-москвички, ныне уже покойной. Сама Нина Артемьевна также родилась в Москве, познакомилась там с молодым офицером, поездила с ним по гарнизонам и заграницам; детей Бог не дал, зато добра – в достатке, поскольку карьера мужа была на редкость успешной. Когда он выбился в генералы и получил назначение в Ленинград, в Высшее командное училище, супруги, предчувствуя старость, прочно осели во второй из российских столиц. Вскоре здесь появилась Орлова – встретила парня-ленинградца, влюбилась и переехала к нему, на новое место жительства. По ее словам, Ленинград Нине Артемьевне не нравился, ни климатом своим, ни мрачным каменным обличьем, и после смерти мужа было ей тут одиноко и холодно. Единственный близкий человек – Елена, Леночка, которая помнилась ей ребенком; ну, и леночкина семья, детишки – хоть не родная кровь, а все же что-то теплое, живое, замена нерожденным внукам… Так она и коротала старость, завещав Леночке все свое достояние, движимое и недвижимое, от колечка с изумрудом до шубы, холодильника и квартиры. Несмотря на этот щедрый дар, супруги Орловы не баловали Нину Артемьевну вниманием. Жили они у площади Мужества, недалеко от Гражданки, но заезжали к «бабушке Нине» раз в два-три месяца и лишь по каким-нибудь делам – диван передвинуть или отведать пирогов в ее день рождения. Чаще звонили – по воскресеньям, почти что каждую неделю. Нина Артемьевна всегда была на месте; в последний год побаливали у нее суставы, она старалась выходить пореже и не дальше магазинов и аптек. Так чтоЕлена привыкла: пара гудков в телефонной трубке, потом – знакомый старческий голос: «Леночка, ты?..» И вот однажды ей не ответили… На этой печальной ноте красочный рапорт Суладзе оборвался, и Глухов, отодвинув бумаги и папку, одобрительно покивал головой. Затем произнес: – Толковый у тебя капитан, Стас Егорыч. Все сделал, ничего не упустил. Пишет только цветисто… А от меня чего ты хочешь? Кулагин оторвался от созерцания пейзажа с бригом, ткнул окурок в пепельницу и погладил подбородок, на котором пробивалась седоватая щетина. – Капитан-то хорош, однако с тобой не сравнить. Доктор Ватсон, понимаешь? Неглупый, исполнительный, а все-таки доктор Ватсон… – Он снова закурил, выпустил к потолку фонтанчик белесого дыма и вдруг сказал: – Кстати, о Ватсоне… Помнишь того чудака, который нам криминальную психологию читал?.. В Высшей школе?.. Вейтсон он был по фамилии, а Толя Межевич его Ватсоном прозвал. Толя-то где теперь? В УБОПе?[744] С тобой сидит, на Литейном? Глухов кивнул. Молодость, давние времена, счастливые… Ни гангстеров тебе, ни политических убийств… И Вера была жива… – Пунктик у этого Вейтсона имелся… помнишь, Ян? Помнишь, как он про систему Станиславского толковал? Дескать, писатели, криминалисты и психологи – все те же лицедеи… Если вживутся в образ, то и напишут хорошо, и преступление раскроют, и пациента вылечат… Самое главное – влезть в чужую шкуру, составить психологический портрет и понять мотивы: отчего один дернулся туда, другой – сюда, а третий – так вовсе под поезд прыгнул. Словом, везде есть внутренняя логика, движения ума и сердца, интуитивные порывы и что-то там еще… – Еще – душевные болезни. Паранойя, например, – произнес с улыбкой Глухов. Он понимал приятеля; нелегок, горек милицейский хлеб, а у начальника РУВД – тем более. И если выдался случай расслабиться, пофилософствовать и поболтать со старым другом, кто избежит такого искушения? Особенно после беседы с нервным и обозленным потерпевшим. – Да, паранойя, – согласился Кулагин. – Бредовая навязчивая мысль… идея-фикс, можно сказать. – Это ты о причине жалоб и заявлений Орловой? – Вот именно. Подумай, Ян, в своем ли баба разуме? Что она хочет доказать? Что деньги пропали? Так сумма доплаты могла быть меньшей – ну, конечно, не шесть тысяч, а двенадцать или пятнадцать… Может, старушка-генеральша кому-то часть денег отдала или припрятала так, что не найдешь во веки… А может, Орлова просто врет. Врет, как сивый мерин! То есть, кобыла! – Зачем? – бровь Глухова приподнялась. – По вредности характера. Или от болезненных причин. Ты ведь заметил, что есть тут непонятные нюансы? Можно сказать, совсем нетипичные и не похожие на правду? – Разумеется. Вот здесь, – Глухов показал глазами на розовую бумажку. – Если эти подсчеты верны, то получается, что вор часть денег взял, а часть оставил. Очень крупную сумму, семь тысяч долларов! Почему? – А потому, что либо вор ненормальный, либо Орлова Елена Ивановна. В последнее мне как-то больше верится. – Кулагин начал складывать документы в папку, потом закрыл ее, отодвинул на край стола и хитровато прищурился: – Видишь, Ян Глебыч, дело-то не простое, хоть может и дела-то никакого нет, а есть одни загадки психологического поведения. Чужая душа – потемки, а женская – сущий мрак! Может, эту Орлову какой милицейский хрен обидел, так что теперь она на мне высыпается, а может, нервозна и склочна от сексуальной неудовлетворенности… Кто разберет? Только ты, Глебыч, поскольку Вейтсон помер – земля ему пухом! А ты ведь не хуже Вейтсона, ты даже лучше, не теоретик, а практик, тебе и карты в руки. А вместе с ними – и эта папочка… Ну, так возьмешь дело? Ты ведь такие задачки любишь… проблемки для психолога, а? Это было не лестью, а святой истинной правдой – такие проблемки Глухов любил. Особенно с тех пор, как расстался с креслом руководителя бригады «Прим» и пересел за стол эксперта-криминалиста, вдруг осознав, что в пятьдесят ноги не так резвы, как в сорок, что в пояснице временами ломит, а вот голова соображает хорошо, вроде бы даже получше, чем в молодости. Бригаду по старой памяти все еще именовали глуховской, а ее сотрудников – «глухарями», и был к тому еще один повод, кроме фамилии прежнего шефа: в «Прим» спускали исключительно «глухарей», протухших за давностью лет или отсутствием доказательств. Не в порядке пренебрежения или, тем более, неприязни со стороны начальства; «Прим», по сути своей, был бригадой, где доследовали дела неясные и глухие, большей частью связанные с трупами, что пролежали в земле месяцев шесть без паспортов в карманах, и без самих карманов, без пиджаков, а иногда без кожи. Как раз один такой труп сейчас висел на Глухове, однако отказывать друзьям он не привык. И потому хмыкнул, покосился на папку и вымолвил: – Ладно, Егорыч, возьму. Только оформи, как положено, да Олейнику перезвони – все-таки шеф… – Олейник был из лучших его учеников, командовал в данный момент «глухарями» и состоял в резерве на должность заместителя начальника УГРО. Было ему всего лишь тридцать шесть, и Глухов лелеял надежды, что лет через двадцать выйдет из Олейника немалый толк – или министр МВД, или директор ФСБ. – А как же? Оформлю и позвоню, позвоню и оформлю, и капитана тебе отдам, этого самого Суладзе, на целых две недели… – Кулагин вскочил и стал собираться, распихивая по карманам сигареты, зажигалку, носовой платок и бормоча: – Капитан-то еще молодой… вот пусть учится… пусть учится, пока ты жив… когда-нибудь станет полковником и будет хвастать: а я с самим Глуховым Яном Глебычем работал!.. по знаменитому делу о генеральше Макштас… той самой, что щель в стене заклеила долларами… а мы с Ян Глебычем обои отодрали и их нашли… сотню ассигнаций по сотне… так что наследнице пришлось их отпаривать и соскабливать острым ножиком… – Будет тебе ехидничать, – сказал Глухов, поднявшись и шагнув к дверям. – Лучше взгляни, что я Андрюше купил. – А что? Что такого можно купить Андрюше, чего у него еще нет? – буркнул Кулагин, однако в сумку заглянул. – Так, книги… Какие книги? – От тебя – Уголовный кодекс в трех томах, с комментариями, а от меня – Ростан. В переводах Щепкиной-Куперник. – Ростан? Который стихи писал? Это хорошо… Мартьяныч стихи уважает… особенно классику… – Кулагин запер дверь, подергал ручку и вдруг предложил: – Знаешь что, Глебыч? Пусть Ростан от меня, а кодекс – от тебя. Вместе с комментариями. Зато капитана Суладзе я тебе на месяц отдам. Владей и командуй! Идет? – Идет, – согласился Глухов и по привычке взглянул на часы. Было девятнадцать-ноль-две. – Давай-ка, Стас Егорыч, шевелись. Знаешь ведь, не люблю опаздывать. И торопиться тоже не люблю. – А тебе-то зачем торопиться? Шофер мой пусть торопится, он парень шустрый. Сейчас добудем его из дежурной части, мигалку включим и помчимся с музыкой. – Смотри, гостей распугаешь. – А зачем Мартьянычу гости, которые нас боятся? Ну скажи мне, зачем? Это с одной стороны. А с другой… Они покинули приемную и по гулкому коридору направились к лестнице.Глава 3
Восьмого марта, в понедельник, оздоровительный центр «Диана» работал только до двух. Но посетителей старались выпроводить к двенадцати, так как, в соответствии с шестилетним обычаем, в полдень начинался обход начальства – с цветами, подарками и поздравлениями. В «Диане» трудилось около ста человек, и две трети из них относились к прекрасному полу – большей частью, в самый прекрасный период расцвета, от двадцати до тридцати пяти. Мужчин, впрочем, тоже хватало – тренеров, врачей и массажистов, а также охранников-«скифов» и представителей технических служб, от дяди Коли-водопроводчика до инженера, чинившего медицинскую аппаратуру. Виктор Петрович Мосолов, хозяин и директор, не возражал против народной традиции, согласно которой в каждом подразделении, на каждом этаже, устраивались праздничные чаепития с домашними кексами и пирогами, но раньше он лично поздравлял сотрудниц. Во-первых, он был женолюбив, а во-вторых мероприятие носило воспитательный характер, так как в процессе обхода кое-кому из дам, кроме цветов и скромных подарков, вручались запечатанные конвертики, причем их толщина была пропорциональна ценности и нужности специалиста. Той, которая не получала их ни раза, стоило серьезно призадуматься; и эти раздумья нередко кончались вызовом к Лоеру, выходным пособием и прощальным поцелуем. В день восьмого марта обход начинался с третьего, косметического этажа и был обставлен весьма торжественно. Первым в колонне поздравляющих шествовал сам Виктор Петрович, осанистый крупный мужчина за пятьдесят, вместе с супругой Дианой (в ее честь и называлось заведение); Диана держала огромный букет, а у Виктора Петровича руки были свободны, чтоб обнимать, поглаживать, похлопывать и поздравлять. За ними шагал тощий длинный Лоер, вручавший букетики мимозы, открытки, подарки и конвертики; конвертики он доставал из внутреннего кармана пиджака, а корзины с мимозой и подарками тащили дюжие парни, тренеры из атлетического зала. Далее двигались инженеры и врачи-мужчины, три массажиста – Баглай, вертлявый Леня Уткин и мрачный пожилой Бугров, а за ними – низший технический персонал, как всегда навеселе по случаю праздника. Завершали процессию «скифы» в пятнистой униформе и тяжелых шнурованных башмаках – ни дать, ни взять, команда «зеленых беретов», явившихся из гондурасских джунглей. Они придавали шествию необходимую торжественность и экзотичность. Закончив с третьим этажом и облегчив изрядно корзинки, Мосолов со свитой спускался ниже, в физиотерапевтическое отделение, потом – к кассиршам, регистраторшам, гардеробщицам и тренершам из зала аэробики и комплекса водных процедур. Здесь обход заканчивался; Диана, хозяйская супруга, уезжала домой на кокетливом розовом «пежо», а мужчины расходились по этажам, чтобы поздравить прекрасных коллег в менее официальной обстановке, у накрытых столов, под канонаду бутылок с шампанским. Массажисты, среди которых была только одна девушка, Лидочка Сторожева, выпивали и закусывали вместе с физиотерапевтами, в большом процедурном кабинете напротив курилки, откуда, по случаю праздника, выносили все железное и электрическое. Баглай эти сборища не любил, но отказаться от участия не мог – это было б вопиющим нарушением традиций и ущемлением женских прав. А права на него согласились бы предъявить многие, не одна лишь Вика Лесневская. Он был мужчиной в самом соку, широкоплечим и рослым, с сильными мускулистыми руками и внешностью голливудского киногероя: не красавец, однако из тех парней, коим назначено играть роли агентов, ковбоев и благородных мстителей. Лицо с правильными чертами немного портили близко посаженные глаза и тонковатые губы, но все остальное было вполне на высоте: крепкий квадратный подбородок, классической формы нос, брови вразлет, серые очи и светлые волосы с чуть бронзоватым оттенком. Вероятно, отцом его все-таки был скандинав, какой-нибудь красавец-швед или норвежец, переспавший с русоволосой русской девушкой и позабывший о ней через полчаса – то ли под действием винных паров, то ли от того, что другая уже поджидала своей очереди. Но к неведомому отцу Баглай не имел претензий. Он с ним не жил, его не знал, не перенес от него обид и даже в какой-то степени был ему благодарен. Отец одарил его всем, чем мог – несокрушимым здоровьем, крепкими мышцами, белой кожей; что же еще спрашивать с отца по случаю? Другое дело – мать. Мать, дед, бабка, отчим и пара щенков, братец с сестрицей… Этих он вспоминал с тихой неутоленной ненавистью, особенно деда, шумного, властного, бесцеремонного; эти воспоминания были связаны с Москвой и богатой квартирой в Столешниковом переулке, с нахальным блохастым пуделем, которого держала бабка, с затрещинами и злыми глазами матери. С тех пор он невзлюбил Москву; она являлась символом его унижений, безрадостного детства, попранной юности. Баглай бы отомстил, но жизнь сама расправилась с обидчиками: с началом перестройки, лет десять назад, деда выгнали на пенсию, он погоревал и умер, а вместе с ним исчезло все семейное благополучие. Бабка тоже отправилась в лучший мир, не дожив до семидесяти, затем скончалась мать – по слухам, умирала в мучениях, от нефропатии. Отчимом, братцем и сестрицей Баглай вовсе не интересовался, а блохастый наглый пудель давно уж сдох. А жаль! Эту псину он придушил бы собственными руками! Жора Римм, сидевший напротив, подмигнул ему и потянулся с рюмкой – чокаться. – Что-то ты, Баглай, невесел. И аура у тебя страшноватая, темно-багровая, и посередке кровушкой отливает… С чего бы, а? Ведь рядом с такими дамами сидишь! С Викторией и Лидочкой! Не девушки, а именины сердца! Тут просто положено светиться голубым. В крайнем случае – зеленым. Цвет ауры был Баглаю безразличен, но, вспомнив о нежных оттенках китайской нефритовой вазы, он провел языком по губам, щедро плеснул шампанского Вике и Лидочке и чокнулся с Жорой. Их рюмки зазвенели словно два хрустальных колокольчика. – За голубой и зеленый. За весеннюю ауру! И за чакру любви. Чтоб прана в ней не иссякала! Девушки порозовели, захихикали, скромно опуская глазки, но тост с охотой поддержали. Сидевший справа от Вики гомеопат Насибов умильно улыбнулся ей и предложил: – Взгляни-ка, Жора, на мои цвета. Чем отливает? Спорю, что голубым! Экстрасенс прищурил глаз, осмотрел Насибова сквозь опустевшую рюмку и вдруг захохотал. – Не надейся, лечебный ты мой одуванчик! Желтой похотью сияешь, да еще с оттенком педофилии! – Вот те раз! – с наигранной обидой сказал Насибов. – Ну, я понимаю, похоть… похоть – это мое обычное состояние… Но педофилия-то при чем? Вовсе я не педофил, да и Виктория у нас не девочка. – Все они сегодня девочки, все невинны, как божьи коровки, и всем им по шестнадцать. – Римм обнял за талии своих соседок, врачих Ирину и Ольгу, с гарантией перешагнувших сорокалетний рубеж. Обе жарко раскраснелись от выпитого, от комплиментов и от магический силы, проистекавшей из рук экстрасенса. Ирина, поигрывая объемистым бюстом, принялась накладывать Жоре салат, а Ольга с завистью изучала точеную шейку Вики и свежие щечки Лидочки. Римм потянулся к коньяку, разлил по всем стаканам и рюмкам в пределах досягаемости и погрозил Вике пальцем. – Смотри, Виктория! Смотри, поберегись! Сидишь между котом и тигром. А вдруг укусят? Или совсем съедят? – Я бы не возражала, – откликнулась Вика с чарующей улыбкой, касаясь коленом ноги Баглая. – Тогда – за женскую смелость и щедрость! – провозгласил Жора, опрокидывая рюмку в рот. Был он уже изрядно пьян, но ухитрился скорчить серьезную физиономию, озабоченно нахмурился и громким шепотом спросил: – А кому отдашься на съедение, детка? Коту или тигру? Или обоим вместе? Лукавые викины глазки стрельнули налево-направо и остановились на Баглае, а коленка прочно уперлась ему в бедро. Тем же громким шепотом она ответила: – Тигру, Жорик, всенепременно тигру. У него ведь та-акая ба-альшая пасть! На эти намеки и подначки Баглай ответил снисходительной усмешкой. Тигр… Ну, пусть будет тигр, еще не старый, многоопытный, вполне боеспособный… Ему исполнилось сорок, но выглядел он моложе лет на пять, знал, что недурен собой, и ощущал свою притягательность для слабого пола, подогретую неким ореолом таинственности. Ходили в «Диане» сплетни, что какой-то тибетский монах посвятил его в тайну эротического массажа, что он – ненасытный любовник, и что ему известен способ, то ли китайский, то ли индийский, как излечить фригидность у самой примороженной из женщин. Баглай этих слухов не подтверждал и не опровергал, отлично представляя, сколько в них правды и сколько – лжи, фантазий и выдумок. Насчет эротических манипуляций все было истиной, только учился он этому не у Номгона Тагарова, а у древнего банщика-турка, переселившегося в Питер из Тбилиси. Он вообще не упускал возможность чему-нибудь где-нибудь поучиться, касалось ли это его искусства или иных вещей, никак не связанных с позвоночными дисками, подагрой и радикулитом. Но, сознавая свою мужскую привлекательность, Баглай считал, что полагаться только на нее не стоит. Все относившееся к сфере чувств, и первым делом – любовь, доверие и искренность, казались ему понятиями несуществующими реально, а если и существующими, то слишком хрупкими, зыбкими, ненадежными, неподходящими для того, чтоб полагаться на них в серьезном деле. Жизнь, несомненно, относилась к таким делам, очень ответственным и серьезным, и в ней не было места доверию, искренности и любви. Впрочем, для любви имелся заменитель – секс, искусный и, разумеется, оплаченный, когда каждая из сторон-партнеров сознает, что становится предметом сделки и как окупятся искусство и труды. Секс являлся категорией реальной и даже не исключавшей понятий нежности и близости, но лишь тогда, когда за них платили, причем платили хорошо. Этот базовый тезис был очевиден профессионалам, но дилетантов нередко отпугивал своей неприкрытой наготой. Дилетантам он казался неприятным – так же, как неприятен вид обнаженного механизма, без гладких, полированных, ярко окрашенных покровов. И, в силу подобных причин, Баглай не слишком любовался на викины глазки, коленки и ножки. Ему были известны другие способы сублимации сексуальной энергии, более безопасные и надежные. Для этого он предпочитал профессионалок, а Вика пока что играла в разряде дилетантов. Правда, талантами Бог ее не обидел. Бутылки и тарелки опустели, застолье кончилось, женщины начали расходиться по домам, мужчины – за исключением экстрасенса, улизнувшего в курилку – прибирать в комнате. Перетащив три тяжелые установки Дарсонваля, Баглай решил, что его участие в общественных трудах завершено, и, не торопясь, направился в дальний конец коридора, к массажным кабинетам. Тут его поджидала Вика – уже одетая, в короткой песцовой шубке, с сумочкой через плечо. – Ты вечером занят, Баглайчик? Или же нет? Он остановился, уже предчувствуя, какой предстоит разговор. – Меня тут в одну компанию пригласили… Очень приятный народец, с дачей, с хороминой у залива… кажется, в Сестрорецке… Сауна, пляски, стол, а еще катание на тройках… или на яхтах, смотря по погоде… Сопроводишь одинокую девушку? – А что потом? – спросил Баглай. – После сауны и катания на тройке? Викины глазки блеснули, пальцы затеребили замочек сумочки. Пахло от нее чем-то пряным, возбуждающим, доставленным наверняка из парижских салонов – чем-то таким, что женщины применяют лишь с одной-единственной целью: для обольщения мужчин. – Потом? – Взгляд Вики скользнул по мощной фигуре Баглая, задержавшись на его руках – будто девушка ожидала, что он вдруг схватит ее, сорвет шубку с платьем и повалит на пол. – Ну-у, потом… потом ты можешь явить свою тигриную сущность, Баглайчик. Кого-нибудь укусишь или съешь… прямо в санях… Ты тройкой умеешь править? – Я все умею. Только в санях у нас не получится, крошка. – А почему? – Вика капризно надула губки. – Боюсь лошадей перепугать. – Так можно в другом месте. Дача, говорят, большая, вся в диванах и коврах, чтоб было мягко кувыркаться. Баглай молчал, приложив указательный палец к верхней губе – непроизвольный жест, свойственный ему с юности. Молчание его можно было истолковать двояко, как нерешительность или знак согласия, но сам он точно знал, что кувыркаться с Викой не будет – ни на диванах, ни в санях. Она щелкнула замком, вытащила из сумочки конверт, подбросила его на ладошке, поднесла к баглаеву носу. – Знаешь, меня и в другую компанию зовут… с большой настойчивостью приглашают… Вот в эту, понял? – Вика встряхнула конверт, потом ее ресницы взметнулись, брови сошлись ровной линией, придав лицу задумчиво-сосредоточенное выражение. – Приходится выбирать… Или туда, или сюда… Такая уж я редкая девушка – повсюду нарасхват! Куда же пойти? Конверт был пухлым, основательным на вид, никак не отвечавшим викиным заслугам на поприще физиотерпии. Баглай отлично знал, что всякое тело – чужое, разумеется, а не свое – являлось для Лесневской кладезем жутких тайн и неразрешимых загадок. Трицепс от бицепса она еще могла отличить, но вот найти каротидный синус было выше ее возможностей. Он еще раз оглядел конверт – аванс, который Вике предстояло отработать – и с неприятной усмешкой произнес: – Иди туда, где аппетитней пахнет. Тигры там не водятся, больше козлы и коты, зато и риска меньше. Не тебя съедят, а сама съешь. И будет наше заведение не «Дианой», а «Викторией». – Это дельная мысль, – согласилась Вика и отступила от него. – Очень дельная. Тигра только жаль. Все он, бедный, тогда потеряет – и женщину, и работу. Она резко развернулась на каблучках и заспешила к лестнице. Баглай, пробормотав – «На мой век чужих спин хватит!» – стоял у дверей своего кабинета, быстрым движением языка облизывал губы и втягивал носом воздух. В нем еще витали пряные викины запахи, сладкие и дразнящие, как видение водопада в пустыне. Он представил ее обнаженной, потом – в шубке, наброшенной на голое тело, сидящей в кресле с широко раздвинутыми бедрами, с жадностью сглотнул, коснулся дверной ручки, стиснул ее словно полную девичью грудь, отпустил и тоже направился к лестнице. В регистратуре стоял телефон, которым обычно пользовались сотрудники «Дианы». Сейчас тут было пусто; шторы на окнах задернуты, компьютеры выключены, ящики с картотекой – под замком, щиток над окошком кассы опущен. Тишина, полумрак, безлюдье, и никаких посторонних ушей… Баглай набрал знакомый номер. Ответила, как всегда, Ядвига – и, как всегда, узнала его по голосу. Тонкий слух был совершенно необходим в ее профессии, столь же тонкой и деликатной, не допускавшей ни имен, ни прозвищ, ни иных определений клиентов, ни писаной либо компьютерной бухгалтерии, ни, разумеется, налоговой отчетности. Налог Ядвига все-таки платила, но назывался он иначе, не налогом, а долей за охрану и защиту, и те, кто охранял и защищал – как бизнес Ядвиги, так и ее саму с девицами – имели смутное представление о балансе. Зато отлично разбирались в портретах американских президентов. Восьмое марта – семейное торжество, и по намекам Ядвиги Баглай догадался, что звонок ее обрадовал, поскольку девушки простаивают, а бизнес терпит убытки. Ядвига, сочная сорокалетняя блондинка, считала себя менеджером, но ее предприятие обходилось без офиса и конторского оборудования, без складов, магазинов и контрактов, и даже – упаси Господь! – без записных книжек. Только телефонные номера, которые легко запомнить, и бесплотные голоса в телефонной трубке… Никаких оргий, сомнительных квартир и девушек по вызову; все чинно-благородно, у каждой труженицы – свой уютный дом, и кто к ней ходит – дело частное, приватное. Возможно, папа римский или генеральный прокурор, возможно, женихи – категория непостоянная в отличие от мужа. Такой порядок Баглая устраивал, так как водить женщин к себе ему не хотелось. Девушек у Ядвиги было предостаточно; одни уходили – замуж или на покой, но появлялись другие, ничем не хуже и даже лучше, поскольку разнообразие всегда влечет, а новизна – освежает и вдохновляет. В данный момент, вследствие праздничных обстоятельств, выбор был особенно широк: скучали целых семь девиц – Сашенька, Женя, две Татьяны, две Светы и Милочка. Баглай выбрал Сашеньку. Чем-то они походили с Викой – не лицами, скорее мастью, длинноногостью и резвостью характера. Но Сашенька, в отличие от Вики, была, конечно, профессионалкой и не грозилась выгнать Баглая с работы.Глава 4
Домой Баглай возвратился в первом часу, сбросив пар в постели неугомонной Сашеньки. Она предпочитала активный секс – сидячие позы сверху, долгий стремительный гандикап со стонами и вскриками, контрастный душ на пару с партнером, немного садизма – но, разумеется, без кнутов и наручников, какими балуются в заокеанских фильмах, только зубки и длинные ноготки. В общем, Сашеньке удавалось ублажить клиента и довести до той кондиции, когда в глазах двоится, а в ушах звенит. По этой причине Ядвига к ней пожилых не посылала; для них и прочих слабосильных были задумчивая Милочка, две тихие спокойные Светланы и вяловатая Марина. Баглай, немного утомленный, шагал вдоль парка, что тянулся от Песочной набережной. С реки в спину дул ветерок, раскачивал голые ветви деревьев, шарил по земле холодными пальцами, пытался что-нибудь соскрести, оторвать и подбросить в воздух, но плотный слежавшийся наст и прошлогодние листья не поддавались – и ветер, обиженно завывая, подпрыгивал к небу, чтоб отыграться на тучах и редких снежинках. Хоть время было позднее, парк отнюдь не пустовал – в этот час в нем прогуливались собачники с особенно крупным клыкастым зверьем, на поводках и цепочках, но без намордников. Кое-какие из этих чудовищ приподнимали морды и, унюхав Баглая, провожали его утробным сдержанным рычаньем и недобрыми взглядами. Он тоже кое-кого узнавал: парня при мохнатом сенбернаре, овчарок и догов из соседнего подъезда, престарелого терьера с таким же дряхлым хозяином, едва волочившим ноги. Он ненавидел их всех, всех и каждого, но более прочих – молодую высокую женщину и двух ее питомцев, ротвейлера и огромного мастифа. Женщина, кареглазая брюнетка с пухлыми губами, жила в его подъезде, у лифта на первом этаже, и когда Баглай спускался вниз, из-за двери ее квартиры доносились рык, удары тяжелых тел и скрежет когтей по дереву. Когда-нибудь, думал он, проклятые твари вышибут дверь и, оскалив пасти, роняя пену клочьями, набросятся на него парой злобных демонов. Мерзость, мерзость!.. Баглай их не боялся, нет, он только испытывал отвращение при одной лишь мысли, что может погибнуть вот так, от гнусных и смрадных собачьих клыков, которые вцепятся в горло и будут рвать, давить, жевать… Сравнительно с этим полет в бездонную пропасть казался ему благословенной кончиной – долгое-долгое падение, которого хватит, чтоб вспомнить жизнь, все радости и горести, успехи и обиды, потери и приобретения; и, наконец – удар и темнота. Вечная тьма… Покой и забытье… Он представил, как падает в бездну и вспоминает, вспоминает, не думая о завершающем ударе, о хрусте костей и бурой крови на грязном мартовском снегу. Кости, кровь, изувеченный труп… И что с того?.. Это будет уже не он, а груда бессмысленной плоти, такой же холодной и вялой, как тела полумертвых старух и стариков, ложившихся к нему на стол. Их жизнь была такой же бессмысленной, как у ходячих трупов, наполненной болью и страхом в предчувствии смертных мук. Они совсем не нравились Баглаю – не больше, чем псы, бродившие в темноте, – но некоторым он оказывал благодеяние. Однако не бесплатно. Поднявшись к себе на двенадцатый этаж, Баглай повозился с ключами, выбирая нужный, открыл два замка на двери, ведущей в закуток, потом еще два – на той, что вела в квартиру, разделся, поужинал и принял душ. Спать не хотелось. Можно было бы пристроиться за маленьким слесарным верстаком, сделать доводку ключей Черешина, но после игрищ с Сашенькой пальцы у Баглая чуть-чуть тряслись, и все труды могли пойти насмарку. Доводка – дело тонкое… Столь же тонкое и деликатное, как занятия Ядвиги… Стоя у окна и разглядывая опустевший парк, озаренный слабым светом уличных фонарей, он подумал о своем зароке – не появляться в сокровищнице, пока не купит вазу. Слишком легкомысленный обет! С вазой и с ее хозяином Ли Чунем нужно подождать, хотя бы половину месяца, а лучше – месяц. Чем больший срок разделит завершение Охоты и покупку, тем безопаснее… Это соображение было интуитивным, но вполне отчетливым; внутренний голос подсказывал ему, что деньги нельзя потратить тут же, сразу, что связь меж их изъятием и появлением на свет должна быть замаскирована и скрыта. А время – непревзойденный мастер маскировки; значит, надо ждать, не торопиться, не спешить. Результатом последней Охоты Баглай остался недоволен. Ни редкостей, ни ценностей, одни лишь деньги… Деньгами он, разумеется, не брезговал, но деньги сами по себе его не привлекали, являясь средством, а не целью. Правда, в этот раз сумма оказалась крупной, и он, по своему обыкновению, мог проследить источник средств, прикинуть все возможные расходы и выяснить границу безопасности. Почти как в случае с писателем… Но у него он взял не только деньги, а еще картину, тот самый венецианский пейзаж кисти Франческо Гварди… Баглаю вдруг захотелось взглянуть на него – страстно, нестерпимо. Переживаемый экстаз был сильней, чем в жарких объятиях Сашеньки, ибо ее он покупал на время, ее – и прочих женщин – делил со многими мужчинами, тогда как сокровища принадлежали только ему. Он не испытывал подобных чувств в музеях и на вернисажах – ведь всем, что выставлялось и продавалось, он завладеть не мог, а недосягаемые предметы оставляли его равнодушным, ибо страсть к прекрасному была неразрывно связана с обладанием. Будто в сомнамбулическом сне, Баглай поднялся, вышел в закуток, открыл запоры и замки на левой двери и шагнул в прихожую. Тут была еще одна дверь, железная, откатная; она перегораживала проем меж двух бетонных колонн внушительной толщины. Он растворил ее, перешагнул порог, поправил плотные шторы на зарешеченных окнах, и только после этого коснулся выключателя. Вспыхнул свет. Баглай направился к креслу и сел. Помещение казалось длинным и узким, так как было составлено из двух пятнадцатиметровых комнатушек, кухни и разделявшего их некогда коридорчика. Дом построили лет пятьдесят назад, в послевоенные времена, по какому-то экспериментальному проекту; стены, как наружние, так и между квартирами, отличались изрядной толщиной, а кроме того, строение поддерживалось внутренними бетонными колоннами – вероятно, собирались строить небоскреб на двадцать этажей, но в силу неведомых причин ограничились двенадцатью. Зато перегородки в квартирах были не кирпичными, а пустотелыми, из досок и сухой штукатурки. Баглай их снес, не тронув только прихожую и совмещенный с ванной туалет – где, как в любом приличном музее, были оборудованы запасники. Эту работу, вместе с ремонтом и установкой дверей, он выполнил самостоятельно; так жрец готовит святилище для божества, не допуская, чтоб прикоснулись к нему чужие святотатственные руки. Он сидел в кресле бидермейер у круглого столика в стиле ампир на шести массивных ножках, которые заканчивались бронзовыми львиными лапами. Над его головой сияла хрустальными подвесками люстра; справа высились резной двустворчатый шкаф и огромный буфет двухсотлетней давности, творения венгерских мастеров; слева, в простенках между окнами, находились комод, секретер и застекленные витрины в стиле барокко, из махагона, амаранта и тикового дерева. Над ними висели картины – старинные, семнадцатый и восемнадцатый век, Италия, Франция и Фландрия, пейзажи с мельницей над сумрачным потоком, с развалинами греческого храма и с панорамой гор – возможно, Альп, возможно, Апеннин. Все остальное – кресла и столы, ковры и вазы, подсвечники, посуда, статуэтки, диван с изящной вычурной спинкой и большой сундук в углу – все было тоже старинным, редкостным, тщательно отреставрированным и пахнущим тем неповторимым ароматом лака, воска, ткани и духов, какой возникает лишь по прошествии столетий. Прямо перед Баглаем с торцовой стены спускался персидский ковер – синий, с голубыми и пепельными узорами, а перед ним, словно миниатюрный дворец на тонких изогнутых ножках, стоял ореховый комодик с расписными фарфоровыми медальонами и со столешницей, отделанной лазуритом. Картина Гварди висела над ковром – довольно большое полотно в широкой золоченой раме: воды, облака и небеса, а между небом и морем – строй кораблей у пирсов, палаццо, башни и мосты, устья каналов с крохотными черточками гондол и купола соборов. Вспомнив о вазе, Баглай опять подумал, что здесь, под картиной, на фоне ковра, ей самое место. Затем погрузился в созерцание. Эта картина навевала воспоминание о детстве – одно из редких воспоминаний, которые не были неприятными и унизительными. Что-то подобное – небо и море и пестрый город меж ними – висело в московской квартире, в кабинете у деда или в столовой – он уже в точности не помнил, но знал, что то была всего лишь копия, хотя и неплохой итальянской работы. Дед, Захар Ильич Баглай, был из больших спортивных чиновников, числился в ранге замминистра и обладал всеми положенными льготами – кремлевским пайком, казенной дачей и персональным автомобилем. Но самым лакомым кусочком пирога были, конечно, зарубежные поездки – то со спортивной делегацией, то на какой-нибудь чемпионат или на первенство мира, в Европу и Америку, или совсем уж в экзотические места, в Японию либо Австралию. Дед путешествовать любил, и в Спорткомитете об этом знали и посылали его туда и сюда без отказа, для вдохновления штангистов и шахматистов, борцов и прыгунов. Главной его задачей были медали, желательно – золотые; еще он был обязан доставить всех медалистов обратно, не потеряв никого в Америках или Австралиях. Кроме поездок, дед обожал старинные вещи, особенно бронзу, фарфор, хрусталь и серебро, предметы столь же массивные и дорогие, сколь долговечные и блестящие. Квартира в Столешниковом переулке была набита ими до отказа, как антикварный магазин, но дед их не считал коллекцией, равно как и себя не числил в собирателях и коллекционерах. При случае он представлялся как скромный любитель старины, что было вполне патриотично и, к тому же, являлось мудрой предосторожностью – коллекционеров в советские времена не жаловали. Коллекционер был не то чтоб врагом трудового народа, однако личностью подозрительной, владельцем художественных богатств, неведомо как нажитых и, по всем понятиям и законам, входивших в категорию добра общественного, а уж никак не личного. Во всяком случае, с партбилетом собирательство было несовместимо или совмещалось с трудом, на уровне марок либо открыток, однако не бронзы, картин и хрусталя. Дед партбилетом дорожил и потому представлялся любителем. У бабки Марии Евгеньевны имелась другая страсть – драгоценности и туалеты. То и другое не возбранялось демонстрировать, особенно на дипломатических приемах, чтобы всякий зарубежный враг усвоил: братская семья народов несокрушима и крепка, а жизнь в ней богата и привольна. Иными словами, на каждый алмаз из Родезии найдется у нас по три якутских, водой почище и поболе весом. Усвоив этот нехитрый принцип, Мария Евгеньевна играла роль советской львицы столичного бомонда с искренним энтузиазмом и увлечением. То было лучшей половиной ее жизни; а вторая, не столь блестящая, но тоже занимательная, делилась между портнихами, пуделем, Захаром Ильичем и единственной дочерью Оленькой. Ольгу воспитывали для партии – не коммунистической, а брачной, солидной и достойной во всех отношениях. Жизнь ее была расписана на тридцать лет вперед: было точно известно, когда она закончит с золотой медалью школу, когда поступит в институт (разумеется, физкультурный, чей ректор пил коньяк с Захаром Ильичем), когда защитит диссертацию по прыжкам с шестом, по фехтованию или метанию копья, когда выйдет замуж – за обеспеченного номенклатурного мужчину, способного ее лелеять и холить, когда родит ребенка – с той же жизнью, расписанной наперед, как у нее самой. Оленька родительским планам не сопротивлялась и шла от этапа к этапу с похвальным усердием: от октябрятской звездочки – к пионерскому галстуку и комсомольскому значку, а там – к золотой медали и институту. Училась она с легкостью, имела приятное личико, стройные ножки и кое-какие успехи в фехтовании. Случайность все переломала. В пятьдесят седьмом Ольге исполнилось девятнадцать, она закончила второй курс, и отец говорил о ней с гордостью: красавица моя и умница. А мать добавляла: комсомолка, спортсменка, отличница! Но тут нагрянул Фестиваль – тот самый, молодежи и студентов – и Ольгу, комсомолку и отличницу, владевшую немецким и английским, пристроили к группе иноплеменных гостей. Плохого в том ничего не было; она с подружками показывала им Москву, а парни ее обожали – как и других девиц из группы, без всяких расовых различий и сословных предрассудков. Гостеприимную программу завершил поход – вылазка на Клязьминское водохранилище, с ночевкой в палатках, купанием и шашлыками. А где шашлыки, там и вино, потом – таинственное запретное виски, которое нужно попробовать, отчасти из любопытства, отчасти – чтоб не обидеть гостей. Выпили много, а что случилось после, о том Ольга не знала, не помнила и не догадывалась. Когда догадалась, когда потянуло к соленому и начало тошнить, было уже поздно. Пришлось брать академку и рожать. Так юная студентка Института физкультуры, девушка из приличной семьи, комсомолка, спортсменка, отличница, сделалась матерью-одиночкой. В общем-то не трагедия, не драма, но Захар Ильич и Мария Евгеньевна никак утешиться не могли – ведь у чинов номенклатурных внук появляется на свет только законным путем и при живом отце, со всеми надлежащими документами. В крайнем случае, допускался отец-покойник – летчик или герой-полярник, съеденный белым медведем, но уж документу положено быть – как и отцовскому отчеству и фамилии. Но что поделаешь – Фестиваль… Фестиваль, будь он неладен! Впрочем, Оленьку родители не виноватили. Девочка юная, неопытная, что с нее взять?.. Что она знала, что понимала?.. Правда, ее учили, что иностранцам доверять нельзя, особенно западным людям, ибо живут они в обществе тлетворного капитализма, который плох, развратен и жесток. Но звериный его оскал таился где-то далеко, за морями и горами, за полосой отчуждения, за пограничными столбами и «железным занавесом»… Казалось, не достанет, не укусит!.. Однако достал и укусил. Нет, Ольгу они не винили – винили и ненавидели того подонка, то ли немца, то ли шведа, что подпоил их девочку на клязьминских зеленых берегах. Ненавидели смертной ненавистью, не зная, кто он таков, откуда явился и куда ушел, и потому их чувство было иррациональным; так можно ненавидеть абстрактную идею или гипотетического врага, разбойника и грабителя, который, быть может, лет через пять встретится в темном закоулке, вытащит ствол и прорычит: ну, фраер, выворачивай карманы! Но ненависть – слишком сильное чувство и редко бывает безадресным. Тем более, что адресат неподалеку, не надо его искать – здесь он, тут как тут, вертится под ногами, чего-то требует, пищит… Так Баглай и рос – приблудный щенок, нелюбимый ребенок, ненужный и нежеланный, позор семьи… Из детства он вынес немногое – фамилию Баглай, ненависть к собакам и старикам, смертельную обиду на мать и пристрастие к антиквариату. Последнее было явлением неизбежным, результатом перверсии любви; если нельзя любить что-то теплое, живое, хоть канарейку, хоть котенка, любовь обращается к вещам, к предметам холодным, безразличным, но красивым, и кажется, что это и есть самая истинная любовь – ибо предметы не живые, они покорны своему владельцу, они не обидят, не предадут, так как понятия обиды и предательства им попросту неведомы. Они позволяют любоваться собой, трогать, гладить, ласкать и греть в ладонях, но главное – они позволяют обладать; обладать столь полно и всеобъемлюще, сколь ни один человек не может обладать другим. Эта страстная тяга к вещам временами принимает болезненные формы, становится заботой сексопатологов и именуется фетишизмом; но чаще ее называют жадностью. Баглай, однако, не был ни больным, ни слишком жадным. Вернее, эти обстоятельства присутствовали в том букете чувств, которые внушало лицезрение красивых дорогих предметов, но лишь как фон, как декорация спектакля. Актеры тут были другие – отчасти злорадство, но в большей степени самоудовлетворение и торжество. Люди – а семья ассоциировалась у него со всеми людьми – не проявляли к нему ни доброты, ни ласки; люди владели столь многим, желанным для него, но недоступным; люди, наконец, не хотели делиться, и на попытку насильственного отторжения своих богатств отвечали стократным насилием. Но он обманул их, придумал способ убивать и отнимать, не подвергаясь опасности и каре – и в том состояло его торжество. Оно же было важной частью удовольствия: когда он глядел на свои сокровища, то вспоминал, что и когда ему досталось, а главное – как и от кого. В отличие от детских, эти воспоминания были приятными. Мать его Оленька все же закончила институт и превратилась в Ольгу; потом, после защиты диссертации – в Ольгу Захаровну, перспективного преподавателя и тренера. Потом удачно вышла замуж и родила детей; супруг, чиновник нефтяного министерства, был много старше, но зато берег ее и холил. Жизнь наладилась, и старый невольный грех мог бы совсем забыться, если б не постоянное напоминание о нем. Это раздражало; мнилось, что в иных обстоятельствах все могло бы сложиться удачней, карьера шла бы без помех, а муж мог быть помоложе и покрасивее, а также повыше чином и перспективнее – скажем, из министерства иностранных дел. Баглай подрос, но мать и отчима не радовал. Учился с неохотой, был нелюдим, все делал наперекор, к двум малышам, сестренке и братцу, не проявлял родственных чувств, и никаких талантов, кроме несокрушимого здоровья, в нем не замечалось. Мать мечтала, чтоб он поступил в институт – экономический, медицинский, не важно какой, лишь бы поднялся быстрее на ноги, что было б поводом расстаться и забыть. Но он и тут пошел наперекор – закончил школу, проболтался год на курсах при медицинском институте, экзаменов не сдал и прямиком отправился в армию. Взяли его в ВДВ, по причине крепкого телосложения и неприкрытой агрессивности. Попал он на север, в войсковую часть под Выборгом. Учили там хорошо и учили долго, месяцев десять, а после, во имя интернациональной солидарности, отправляли в Афганистан. Все эти десять месяцев афганские горы маячили перед Баглаем, и слышал он в снах жужжание муджахедских пуль, грохот взрывов и злые гортанные вопли на чужом языке. Жизнь опять поворачивалась не лучшей стороной: кто-то учился в институте, кто-то гулял с девочками, кто-то мог шарить в родительском кармане, брать и тратить, не считая; а расплатиться за них должен был он, Баглай. По самому крупному счету: жизнью своей либо увечьем, а в оптимальном случае – неизбывной злобой, какую питают неудачники к счастливцам. Злобы же в Баглае и так хватало, но это начальникам нравилось. Какой боец растет! Так что загремел бы он в Афганистан, если б не счастливый случай. Кроме стрельбы и прыжков с парашютом, курс подготовки включал неотложную помощь – обращение с аптечкой, перевязкаран, врачевание ушибов и растяжений, массаж и самомассаж. Занятия эти велись медицинским майором с нерусской фамилией Шульман; но, будто искупая этот грех, был он заботлив и вежлив, и даже в какой-то степени добр – насколько доброта уместна в ВДВ. Баглай, проявивший внезапные способности к массажу и к медицине вообще, быстро попал у Шульмана в любимчики, что отразилось на его карьере самым благотворным образом. Приехали в часть генералы, из Ленинграда, с инспекцией; собственно, инспектором был один, а другой – вроде его приятель, но тоже двухзвездный генерал под шестьдесят, в штанах с лампасами и с орденской колодкой в две ладони. Генералам, по армейскому обычаю, накрыли стол, а до того попарили в бане, и стала та баня баглаевым звездным часом. Шульман, то ли по доброте, то ли желая выслужиться, упомянул, что есть-де в части солдатик-массажист, какого не стыдно подпустить к генеральским спинам – ну, и подпустили. Старания Баглая так понравились инспектору, что тот заметил: такой талант не должен пропадать, под парашютом болтаться и рыскать по горам – а значит, место ему не в Афгане, а в спорткоманде округа. Что и свершилось через неделю; так что Баглай дослуживал в Питере, массируя мышцы армейским штангистам, борцам и бегунам. Отслужив, он вернулся в Москву, но не в квартиру деда, а в комнату в коммуналке на Старом Арбате, которую по своим связям выхлопотал Захар Ильич. Дом стоял в центре, комната была большой, просторной, на два окна, соседи – приличными и пожилыми, однако Баглай не остался в Москве, а поменял столичную жилплощадь на крохотную лениградскую квартирку. Была она полуподвальной и сырой, холодной, как могила, без всяких излишеств, за исключением необходимых, зато на Петроградской стороне. Баглая неудобства не смущали; главное – убраться от родных, уехать из столицы. И он уехал. Навсегда. Вниманием ему не докучали. Адрес свой, ни прежний, ни нынешний, он не давал, и мать писала иногда на главпочтамт; затем, в конце девяностого, проклюнулся отчим – сообщил о похоронах матери, с намеком, что не худо бы Баглаю появиться и проводить усопшую в последний путь. Но письмо пролежало на почте две недели, мать проводили без Баглая, и он был этому рад. Горя он не испытывал и о матери не вспоминал; помнил лишь раздраженную женщину с вечно злыми глазами. …Он поднялся, быстрым движением облизал губы, подошел к секретеру из тикового дерева и выдвинул ящичек, где хранились лупы в латунных и бронзовых оправах. Затем приблизился к картине Гварди, поднялся на носки и стал рассматривать пейзаж – то его место, где маленькая гондола, покинув улицу-канал, плыла в сияющий простор лагуны. Гондольер стоял на носу суденышка, а на корме сидела дама в роскошном зеленоватом платье, и хоть ее фигурка и лицо были совсем крохотными, Баглаю почудилось в них что-то знакомое. Черты Виктории? А может, матери? Такой, какой она была лет в тридцать? С минуту он размышлял о матери и о Вике Лесневской, а также о том, кем могла бы стать для него Виктория – да вот не станет, в силу множества причин и неблагоприятных обстоятельств; затем покачал головой, представив, что на корме гондолы – не загадочная венецианка, а нефритовая ваза. Китайская древняя ваза с клыкастым драконом, редкостный раритет ценой в пять тысяч долларов. Ваза смотрелась лучше женщины.Глава 5
Дело генеральши Макштас, присланное из Северного РУВД, легло на стол к подполковнику Глухову во вторник, девятого марта. Папку доставил щеголеватый черноглазый капитан Джангир Суладзе, но кроме глаз, фамилии да имени в нем не было ничего кавказского; как выяснилось с первых слов, в Грузии он не бывал, грузинского не знал, мать у него из Витебска, да и отец родился не в Кутаиси, не в Тбилиси, а в Ленинграде. Установив эти подробности биографии помощника, Глухов перелистал бумаги, вытащил рапорт Суладзе и углубился в его изучение. Они сидели в маленьком глуховском кабинетике, где всякая вещь и документ находились на своих неизменных местах: текущие дела – в шкафу на верхней полке, в аккуратных скоросшивателях; те, что полагалось сдать в архив – тоже в шкафу, только пониже; в левом ящике стола – канцпринадлежности, скрепки, ручки, карандаши; в правом – чистая бумага и копирка; в тумбе – кофейник, баночка кофе, кружка, тарелка и ложка; на стене – морской пейзаж, на вешалке у двери – плащ с шерстяной подкладкой и берет – в обычное время Ян Глебович предпочитал ходить в гражданском. Оружие и кое-какие ценности – скажем, перстень с пальца разложившегося трупа – хранились в сейфе; все – пронумерованное и распиханное по пакетам и пакетикам, с записью, к каким делам относится та или иная вещь и где на нее акт экспертизы. Обстановка была неизменной уже лет пятнадцать, и лишь столик у окна, который прежде прогибался под тяжестью «Олимпии»,[745] теперь подпирал потертой спиной монитор и серый коробок компьютера. На письменном же столе у Глухова ничего не стояло и не лежало – только телефон да фотография Веры в простой деревянной рамке. – Пустовато у вас, товарищ подполковник, – произнес Джангир Суладзе, сверкнув на стол огненными черными очами. Глухов согласно кивнул. – Пустовато. Но ты, во-первых, зови меня Яном Глебовичем, а во-вторых, не думай, что множество бумаг способствует движениям в делах. Знаешь, когда Черчилль пришел к власти и занял кабинет предшественника, его поразили бумажные горы на столе, в шкафах и на диване. Если все читать, не будет времени решать и думать – так он сказал и распихал бумаги другим министрам и помощникам. Стол его был чист. Он знал, как заставить работать подчиненных. – А много ли подчиненных у вас, Ян Глебович? – с интересом спросил Суладзе, играя блестящей пуговицей мундира. – Немного, – со вздохом признался Глухов, накрыв ладонью папку. – По этому делу – ты один. По другим делам было не меньше, но и не больше, так как бригада «Прим» петербургского УГРО не отличалась многочисленностью. За стенкой с пейзажем, в самой просторной комнате, которую прозвали «майорской», сидел Гриша Долохов с Линдой Красавиной; за ними, в двухместных клетушках, располагалась бригадная боевая сила рангом помельче, зато ногами побыстрей – Верницкий, Голосюк и Караганов с тремя лейтенантами-практикантами. Напротив был кабинет Олейника, такой же маленький, как глуховский, и еще одна комнатка побольше, которую занимала Надежда Максимовна – бессменный секретарь и делопроизводитель. С ней у Глухова были сложные и деликатные отношения, особенно после смерти Веры. Он покосился на Суладзе, но тот сидел с мечтательным лицом – видно, размышлял, как очистит стол по принципу Черчилля, выйдя в генералы. Придвинув к себе его рапорт, Глухов кашлянул и, вспоминая, принялся водить пальцем по строчкам. – Хорошо пишешь, Джангир, красиво, но лучше бы без излишеств… Значит, так: обыск ты произвел, замки проверил, с Мироновым и Орловой побеседовал… А с участковым? Что участковый о нашей генеральше говорит? И в жилконторе? В жилконторе был? Что там? – А ничего, Ян Глебович. Сказали, что за квартиру, свет и воду платила исправно, соседей не затапливала, не шумела и не устраивала пьянок. А участковый… Участковый там крутой. К вам мечтает перевестись, в УГРО, и потому сосредоточен на грабежах и кражах. В помощи не отказал, но ничего интересного не выяснил. Ему не до бабулек-генеральш. – Раз так, мы его не возьмем, – пробормотал Глухов, внимательно перечитывая абзацы, где говорилось об обыске. – К бабулькам надо уважение проявлять… эпоха у нас такая, когда бабульки в цене… сегодня она бабулька, а завтра – премьер-министр или там госсекретарь… мигнет, и бомбы посыплются… или соберет внучат под красным флагом – да в Сербию… – Он оторвался от рапорта и спросил: – Была у нашей покойницы телефонная книжка? Письма, открытки, дневник? Рецепты там кулинарные, список продуктов, любые записи? Знаешь, старики на память не надеются, записывают то да се… Что нашел? – Писем она не хранила, а может, не получала, и дневников не вела, – доложил Суладзе. – Книжка с телефонами имеется, могу представить. Но номеров в ней не густо. Московские подруги юных лет, и почти при каждой – дата. Я обзванивал – умерли. Еще телефон Орловой, райсобеса, поликлиники, жилконторы… ну, и так далее. Оздоровительный центр «Диана», электрик, водопроводчик, нотариус… – Нотариус… Тот, который сделку с квартирой оформлял? – Он самый. То есть, она самая. Красивая женщина, – признался капитан и покраснел. – Значит, и с ней была беседа, – произнес Глухов. – Молодец! Обстоятельный ты мужик, Джангир, серьезный! И чем эта Орлова недовольна, все жалобы пишет… – он небрежно пошевелил папку. – Ну, раз ты добрался до красотки-нотариуса, то уж у Миронова наверняка побывал? На прежней квартире генеральши? – Само собой, Ян Глебович. Хоть не очень приглашали, но настоял и побывал. – И какие впечатления? – Смутные. Конечно, Миронов не шесть тонн генеральше доплатил: у него была квартира трехкомнатная, но шестьдесят пять метров и на Северном, а она отдала тоже трехкомнатную, но метраж – восемьдесят два, в старом фонде, на Суворовском. Семнадцать метров разницы плюс центр… Можно двенадцать тысяч получить, можно – двадцать… И потратить их можно. Дать, к примеру, взаймы. – Орлова об этом бы знала, – возразил Глухов и снова уставился в рапорт. – Квартира покойной – на третьем этаже… Вот здесь ты написал: опрошены ближайшие соседи… Надо думать, сверху, снизу и на лестничной площадке… А на девятый этаж ты поднимался? Или на двенадцатый? Темные глаза Джангира затуманились, он грустно вздохнул и признался, что этот труд переложил на плечи участкового. – Давай-ка сам сходи, – распорядился Глухов. – Дом точечный, один подъезд, девяносто пять квартир, не считая генеральской… Вот в каждую и загляни, побеседуй. О результатах доложишь послезавтра. Суладзе откозырял и ушел, а Ян Глебович направился в «майорскую» и просидел там до вечера с Линдой Красавиной. Линда, темноволосая стройная брюнетка, перевелась к «глухарям» года два назад, из налоговой полиции, что было, по мнению Глухова, весьма полезно и своевременно. Она разбиралась в компьютерах, имела экономический диплом, а главное, была настоящим бухгалтерским ассом. Эти сухие науки ей, впрочем, не вредили; нрав у Линды оказался спокойный и доброжелательный, а внешность и туалеты – выше всяких похвал. Ян Глебович ее немного дичился – чем-то она напоминала Веру, его покойную жену. Но дело – прежде всего. А дело, которым она занималась с Глуховым, требовало самой высокой квалификации в сфере финансов, договоров и зарубежных поставок. С месяц назад, на бывшей купчинской свалке, где нынче строились гаражи, откопали покойника с перерезанным горлом и изуродованными кистями. Зарыли его глубоко и давно, так что одежда истлела, а труп наполовину разложился; документов при нем, естественно, не нашлось, а был только перстень на среднем пальце левой руки – верней, на том, что от пальца осталось. Серебряный перстень, который убийцы либо сочли нестоящей добычей, либо побрезговали – его покрывала кровь от перерубленных пальцев. По этому перстню Глухов определил личность убитого – после немалых трудов, звонков, экспертиз и утомительной беготни по ювелирным мастерским. Как выяснилось, звали его Саркисов, был он фармакологом, в прошлом – доцентом из Химико-фармацевтического, ударившимся в коммерцию. Нажил кое-какие деньги и собирался открыть при мясокомбинате цех по выпуску лекарств, да вдруг исчез – в тот самый день, когда готовились монтировать оборудование. Было оно уникальным, отечественным, приобретенным в Красноярске, но, после гибели Саркисова, затея его пошла прахом, установку кто-то у вдовы покойного перекупил, а лекарства, противоаллергенные препараты, зиртек и кларитин, телфаст и фенкарол, по-прежнему ввозились из-за границы. Глухов, ухватившись за факт продажи оборудования, исследовал с Линдой цепочку фирм, липовых или уже не существующих, передававших друг другу ящики с аппаратурой, перевозивших их с места на место, отыскал нынешнего владельца и поразился: «Аюдаг», завод шампанских вин, никак не связанный с фармакологией и разложившимися трупами. Собственно, и установки на «Аюдаге» не нашлось, где-то она застряла в процессе многократных перевозок – возможно, там, где предприимчивым конкурентам резали пальцы и глотки. Чтоб выяснить это, пришлось идти окольными путями, просеивать компании и фирмы, торговцев и чиновников, снабжавших Петербург лекарствами; нередко – с выгодой для своего кармана, ибо там, на Западе, тоже существовала конкуренция, и что у кого покупать и за какую цену, являлось предметом яростных споров. В таких делах помощь Красавиной и грамотного медицинского эксперта была совершенно необходимой, и Глухов ею не пренебрег. В своих расследованиях он не пренебрегал ничем, ни обстоятельствами, ни деталями; тем более – полезными людьми. Когда посиделки с Линдой уже подходили к концу, в «майорскую» заглянул Олейник. – Чайком не угостите, сыскари? Покрепче и послаще… Я, доложу вам, взмок, поскольку от начальства. Литр жидкости потерял, надо бы возместить. Он промакнул платком вспотевший лоб. Линда, улыбнувшись, поднялась, включила чайник и показала глазами на полотенце у раковины. – Умойся, Игорь. Что-то ты очень взъерошенный… Пот ручьями, и усы обвисли… Никак шею мылили? А за что? Олейник неопределенно пожал плечами. – Пока не мылили, но намекали… на вас намекали, Ян Глебович, и на ваше фармацевтическое дело. А намеки такие: есть у Глухова труп со свалки, пусть трупом да свалкой и занимается, а к важным людям не лезет. Беспокоятся эти люди, жалуются, звонят… – Это кто ж такие? – Глухов прищурил глаз. – Надо полагать, из мэрии. Или из медицинского департамента. Должностей и фамилий мне не назвали. Но общая установка ясна: рук не выкручивать, ногти не рвать, и не тушить на фигурантах сигареты. – Олейник помолчал, пощипывая светлый ус, и вдруг почти виновато добавил: – Вы с ними поделикатней, Ян Глебович… Люди и правда важные, хлопот не оберешься. – Ты меня знаешь, Игорь, я рук не выкручиваю, – отозвался Глебов. – Но ты и другое знаешь: нераскрытых дел за мною не водится. – Знаю. Потому и беспокоюсь, – сказал Олейник, направляясь к раковине. Глухов был сыщиком от бога, и нераскрытых дел за ним и правда не водилось – по крайней мере, последние лет двадцать. Олейник об этом знал, знали в управлении и, вероятно, в более высоких сферах, что привело к двойному результату: во-первых, Глухов прочно сидел в подполковниках, а во-вторых, дела определенного свойства ему не поручались. Скажем, убийство депутата Старовойтовой… Вдруг раскроет? Вдруг найдет убийц, а к тому же – что было б не в пример опасней – их вдохновителей? Глухов с такой ситуацией смирился. Не то чтоб она совсем его не волновала, но здравый смысл был сильней эмоций, и он с неотвратимостью подсказывал, что всех преступников не переловишь – тем паче, что иных не собираются ловить. В этом даже усматривалась какая-то справедливость, не касавшаяся, само собой, убийц Галины Александровны; но будь у Глухова воля и власть, он бы и сам не всех ловил, а сделал бы исключение – к примеру, для отстрельщиков, специалистов по преступным авторитетам и проворовавшимся банкирам. Они, конечно, нарушили Закон, но все же были достойны снисхождения, ибо существовала разница между Законом и Справедливостью; Закон был придуман людьми и потому несовершенен, а Справедливость, в понятиях Глухова, была категорией императивной, нравственным велением, присущим разуму и независящим ни от политики, ни от иных сиюминутных обстоятельств. Это являлось чистой воды кантианством, но Глухов был в убеждениях тверд, и потому сидел в подполковниках. Они напились чаю. Линда, отвернувшись к зеркалу, мазнула по губам помадой и начала споласкивать кружки. Олейник, скосив на нее глаза, понизил голос и промолвил: – Звонили мне от Кулагина, из Северного РУВД, дело нам передают. Что-то об ограблении, но с сомнительным оттенком. На вас ссылались, Ян Глебович. Я не отказал. Это было разрешение, высказанное в самой тактичной форме – все-таки Глухов являлся теперь подчиненным, а бывший его ученик – начальником. В нехитрой игре, которую они вели друг с другом на протяжении трех последних лет, существовали определенные правила, согласно которым Глухову все дозволялось, но он был обязан не подводить начальство или хотя бы информировать и держать его в курсе. Сотрудники знали про этот неписанный уговор; знала и Линда, а потому не прислушивалась и с кружками не торопилась. Глухов в нескольких словах рассказал о происшедшем, затем добавил, что криминалов, возможно, и не было, а только попался настырный жалобщик. Это Олейнику не понравилось; потеребив усы, он высказался в том смысле, что одна настырная женщина может загнать трех милицейских подполковников. Это верно, согласился Глухов, но для конкретных дел есть у него капитан, красивый, щеголеватый, а главное – усердный. Вот он-то пусть и бегает. – Такой черноглазый, в наглаженном мундире? – спросил Олейник. – Я ему сопроводительную подписывал. Суладзе, кажется? Грузин? А не похож! – Сын пастуха и свинарки, – откликнулся Глухов, но его начальник шутку не понял, ибо, за младостью лет, картины такой не смотрел.[746] Ян Глебович уже собирался его просветить, но тут дверь распахнулась, Валя Караганов просунул в «майорскую» голову, сделал страшные глаза и завопил: – Линда! Игорь Корнилович, Ян Глебович! У Вадика, практиканта нашего, именины! Он торт припер, вот такой, с колесо от «жигуленка»! А мы и позабыли! – Это в ы позабыли, – промолвила Линда, неодобрительно сморщив носик. – А профсоюз, Валечка, не забывает ничего. У профсоюза есть компьютер, а в нем – все дни рождений. Даже твой. – С этими словами она достала из тумбочки пакет, закленный скочем, и пять гвоздик в стеклянной вазе. – Ну, зови именника. Тортик-то в дверь пролезет? – Если не пролезет, оприходуем в коридоре, – с нахальной усмешкой сообщил Караганов и исчез. Линда принялась неторопливо расставлять кружки. Ей было тридцать семь, но девичьей стройности она не потеряла и двигалась легко и грациозно, как балерина. Словно танцует, подумалось Глухову. Заметив, что на нее глядят, Красавина улыбнулась, поправила темный локон и приказала: – Шли бы вы за посудой, подполковники. У меня на всех не хватит. И не забудьте Надежду Максимовну позвать. У порога Глухов обернулся. Линда все еще улыбалась, глядя на него, и приглаживала волосы таким знакомым, но почти забытым жестом. Где он его видел? Кажется, у Веры…* * *
Джангир Суладзе явился утром, в приподнятом настроении, принес телефонную книжку генеральши и доложил, что некая бабушка Марья Антоновна с пятого этажа бывала у покойной и видела там какого-то доктора. Бывала – сильно сказано; ее впустили лишь однажды и по серьезному поводу – вызвать неотложку, когда с супругом Марьи Антоновны, сердечником и гипертоником, случился приступ. Телефон у нее имелся, но что-то с ним сотворилось под Новый Год, как и у многих других соседей; что-то чинили на телефонной станции, однако до праздника не дочинили, и Марья Антоновна, сунувшись безрезультатно туда-сюда, в панике заметалась меж этажами. Потом случайно ткнулась к генеральше – у той телефон каким-то чудом работал, она позвонила и вызвала скорую. Но до того, по словам Марьи Антоновны, случился странный эпизод. Вошла она в квартиру генеральши, а там – молодой человек при белом халате и саквояжике; взгляд – строгий, брови насуплены, в лице – серьезность, так что по виду – вылитый доктор. Марья Антоновна – к нему, как к ангелу небесному: спаси, родимый, старика, старик лежит без памяти и еле дышит, не отпоить мне его микстурами, укольчик бы надо… А молодой человек насупился еще сильней и что-то невнятное пробормотал – вроде не тот он доктор, не по сердечным делам, и никаких уколов не делает. А генеральша тем временем звонила в неотложку и дозвонилась, так что Марья Антоновна, перекрестившись и воспрянув духом, отстала от мнимого доктора. Выслушав этот рассказ, переданный Джангиром со всеми деталями и близко к тексту, Глухов подумал, что надо бы Марью Антоновну навестить. А заодно и с Орловой познакомиться, да и с ее супругом. Из всех оперативно-следственных мероприятий он больше всего полагался на разговоры с людьми; люди, конечно, были существами забывчивыми, скрытными, подчас иррациональными, а иногда и лживыми, но все же, в отличие от неодушевленной материи, они обладали речью и мимикой, а также совестью и здравым смыслом, что было еще важнее. Люди для Глухова были намного интересней вещей, тех молчаливых предметов, что именуются вещественными доказательствами. Он умел разговаривать с людьми и знал, как доискаться истины, не обманувшись ложью. Отправив Суладзе в поликлинику Нины Артемьевны – на поиски «не того доктора», Глухов отыскал в телефонной книжке номер Орловой и позвонил. Она была еще дома, и Ян Глебович договорился встретиться с ней и с мужем ее Антоном в квартире покойной, ровно в восемь вечера. Заодно он представился и сообщил, что дело передано из Северного РУВД на Литейный четыре, в оперативно-следственный отдел уголовного розыска. Орлова, кажется, осталась довольной. В тот день у Глухова стояли в плане два визита, на фабрику лекарственных средств и в Химико-фармацевтический институт, к персонам такого ранга, которых он предпочитал не вызывать к себе; к тому же в привычной обстановке беседы проходили откровенней, да и сама обстановка могла кое-что подсказать. Он собрался, спустился вниз, в вычислительный центр, вручил одной из девушек, самой усердной и надежной, шоколадку, и попросил отыскать все зафиксированные случаи внезапной смерти стариков за три последних года. При тех условиях, что старики одиноки, жили в отдельных квартирах и в них же умерли. Потом уселся в машину, в синий служебный «жигуленок», и поехал на фабрику. С фабрикой и институтом он разобрался часам к шести – только-только, чтобы успеть перекусить и домчаться с Петроградской на окраину. Дом, в котором закончилась жизнь Нины Артемьевны Макштас, стоял на углу Северного и Гражданского проспектов. Двенадцатиэтажная башня из серого кирпича, с закругленными обводами, лоджиями и высоким крылечком с кирпичными колоннами, что поддерживали выступавший козырек. Совсем неплохой дом, гораздо престижнее, чем тянувшиеся по обе стороны панельные девятиэтажки. Глухов подъехал к нему в семь вечера, вылез из машины и поднялся на пятый этаж. Открыла ему сухонькая старушка в очках, лет под восемьдесят, но удивительно шустрая и живая. Глухов предъявил документы, старушка изучила их из-под очков и, признав в визитере мужчину солидного, в чинах, провела на кухню и пустилась в воспоминания. Ян Глебович ей не мешал, дождался, когда получасовой монолог закончится и только после этого стал задавать вопросы. Выяснилось, что «не тот доктор» светловолос, широкоплеч и ростом не обижен; что нос у него не длинный и не короткий, губы тонковатые, щеки впалые, стрижка – короткая, и на вид ему не больше тридцати пяти. Насчет глаз старушка сомневалась – то ли серые, то ли зеленые или голубые, но точно не черные и не карие. Кивая в такт речам Марьи Антоновны, Глухов чиркал карандашом в блокноте, но не записывал, а рисовал – профиль, фас и снова профиль, пять или шесть набросков, все – небольшие, чтоб поместились на одном листе. Пока он не выслушал ничего такого, о чем бы не рассказывал Суладзе – плюс всю старушкину родословную, а также диагнозы болезней, какими страдала она сама и ее супруг-сердечник, дремавший сейчас на диванчике в комнате. Марья Антоновна принадлежала к тем женщинам, перед которыми лучше ставить конкретные вопросы; в иной ситуации имелся риск попасть в водоворот воспоминаний, без всякой надежды прибиться к твердой почве, где произрастают даты, факты, имена и адреса. Глухов повернул блокнот к старушке, и та восхищенно всплеснула руками. – Да ты, родимый, никак художник? А говорил – милиционер! Разве ж у вас в милиции рисуют? – Теперь не рисуют, – со вздохом признался Глухов. – Теперь у нас компьютер есть. Сядешь перед ним и приставляешь губы к носу, и уши к голове. Пока что-нибудь похожее не получится… А у меня как вышло? – Вот энтот вроде бы похож, – Марья Антоновна ткнула сухим пальчиком в один из рисунков. – Губки, однако, поуже, бровки погуще, а подбородок сапожком. Глухов исправил рисунок, заметил, что в нем появилось что-то волчье, и спросил: – А как вам показалось, Марья Антоновна, доктор этот был с генеральшей хорошо знаком? – Не знаю, родимый, не ведаю. Покойница-то в прихожей была, там у нее телефон, а энтот в комнатке, значит, остался, у дверки, и зыркал так неприветливо, будто я ему чем помешала. Хмурый такой, сурьезный… – При вас они о чем-нибудь говорили? – Да нет, не припомню… Я ведь не в разуме была, дрожала да тряслась в коленках – шутка сказать, старик мой помирает, а телефоны-то все повыключены, трубки в автоматах пообрезаны, а соседей кого нет, а кто сам на ножках не стоит, от старости иль по иным каким причинам – денек-то выдался субботний, аккурат второе января, сам понимаешь, что в энтот день творится, у молодежи пьянка-гулянка, а ежели какой старик помрет, так что им, молодым?.. А ничего! Я уж, бабка старая, наладилась бобиком в больничку бежать на Вавиловых, больничка-то ближе поликлиники, а только пока добежишь, пока добьешься и докричишься, пока… – Это верно, – с сочувствием согласился Глухов, – пока добежишь и докричишься, или бобику конец, или кричалка отсохнет. А вот не припомните, Марья Антоновна, был ли на этом сурьезном докторе какой-нибудь приметный знак? Может, родинка, татуировка, кольцо, сережка или значок на халате? Или жест особенный? Или в голосе что-то такое? Иные, перед тем, как сказать, хмыкнут или покашляют, иные вовсе заикаются, иные слова тянут, будто нараспев… Такого не помните? – Энтот не заика и не перхун, без колечек и сережек, ручки и личико чистые, ничем не разукрашены, – уверенно ответила старушка. – А вот как он ручками и личиком шевелит… Шевелит, да! Я к нему с просьбой, а он губки облизал – быстрым таким язычком, ровно как змеюка – под носом вытер, и говорит: не тот я доктор, уколов не делаю! Какой же тогда доктор? Вот доктора с неотложки – те колют! У тех… – Может, он был какой-то особенный доктор, психиатр или логопед, – предположил Глухов, чтобы сменить тему. – Те тоже уколов сердечникам не делают. А вот не страдал ли он насморком? – Это как так, родимый? Прости бабку, не поняла. – Вы сказали – губки облизал и под носом вытер. Значит, было что вытирать? – Да нет же! Не чихал он и не сморкался, а пальчиком сделал – вот так, на манер усов! – Марья Антоновна показала – как, приложив указательный палец к верхней губе. Глухов поблагодарил и поднялся. Старушка засуетилась, вспомнила про чай, стала извиняться, что угостить, по пенсионной скудости, нечем, будто не милицейский подполковник к ней пожаловал, а гость дорогой. Ян Глебович эти хлопоты пресек со всей наивозможной мягкостью; было без трех минут восемь, а опаздывать он, как говорилось прежде, не любил. В квартире покойной генеральши прием его ждал не столь радушный, зато подстерегала неожиданность: Антон Орлов, супруг Елены, оказался довольно высоким, хмурым, светловолосым и сероглазым, с короткой стрижкой и узковатыми губами. Правда, губы он не облизывал и не прикладывал палец под нос, но во всем остальном был сильно похож на вероятного фигуранта. Кроме того, и профессии у них совпадали, поскольку Орлов являлся зубным врачом, что несомненно входило в категорию «не тот доктор». Отметив, что надо предъявить эту личность старушке с пятого этажа, Глухов завел неторопливый разговор, расспрашивая про подруг покойной, про врачей и работников соцстраха, которые могли бы Нину Артемьевну навещать, про соседей, про бывших сослуживцев генерала и даже про местных водопроводчиков и электриков. Это называлось «поговорить о королях и капусте», так как ответы Орловой его не слишком интересовали; другое дело – она сама. Она и ее супруг, светловолосый, хмурый и сероглазый. Какие они? Честные люди? Или способные на преступление? На ложь, на глупый розыгрыш? Кем-то обиженные и мстящие за ту обиду? Или попросту склочные? И как обстоят дела между ними? Довольны ли они друг другом или готовы разбежаться? Прочен ли их брак? Антон Орлов – что он собой представляет? Какой он муж? Заботливый глава семейства или потаскун и алкоголик? Что связывает с ним Елену – не в прошлом, а сейчас? Искреннее чувство? Привычка? Дети? Вопросы, кружившие у Глухова в голове, были простыми, но не из тех, какие можно задавать в приличном обществе. Людей наизнанку не вывернешь, о сокровенном не спросишь, а если спросишь, то шансов получить ответ гораздо меньше, чем насмешку или грубость. В сущности же все зависело от этих неполученных ответов. Есть дело, нет дела… Какое дело, если Орлова лжет?.. А вот если не лжет, то это уже интересное обстоятельство. Это уже криминал – хищение крупной суммы плюс вероятность убийства… Именно это Глухов и пытался установить, наблюдая за супругами. Его подозрения насчет Орлова были очень неопределенны; если тот и замешан в убийстве, Елена об этом ничего не знала. В иной ситуации, зачем ей писать все эти жалобы и заявления? Может, она ненавидит мужа… Но ненависть скрыть непросто, а Глухов ее не замечал. Наоборот, беседуя с ним, нервничая и временами повышая голос, Елена косилась на мужа, будто в поисках поддержки, и эти взгляды ее успокаивали: тон становился ровнее, таяли алые пятна на щеках, и губы уже не кривились в раздражении. Орлов же больше молчал и курил, лишь изредка кивая – как бы в знак того, что жена говорит за них обоих, и все ею сказанное – правильно. А сказано было немногое и, в общем, уже известное Глухову. Ни о подругах Нины Артемьевны, как умерших, так и живых, ни о соседях, врачах и электриках, ни, тем более, о генеральских сослуживцах у Орловой полезных сведений не нашлось. Ее бытие протекало совсем в иной плоскости, связанной с Ниной Артемьевной лишь ожиданием наследства да редкими визитами; возможно, сама она была Елене дорога, но крохотный ее мирок и обитавшие в нем люди не вызывали у Орловой интереса. Глухов еще не понял, чем это вызвано – душевной ли черствостью или какой-то иной причиной, какой-то целью, затмившей сострадание. Но в том, что эта цель была, Ян Глебович не сомневался. Ее, быть может, не скрывали, однако и не афишировали; не тайна, но семейный маленький секрет, который можно обсуждать с друзьями, не предназначенный для посторонних. Это ощущалось по многим деталям, не ускользнувшим от взгляда Глухова: и в скрытой напряженности беседы, и в том, как молчал Орлов, как хмурился и курил сигарету за сигаретой, как подрагивали пальцы его жены и вспыхивали пятна на щеках, как временами срывался голос. Казалось, они чувствовали себя виноватыми. Но отчего? Сопровождаемый Антоном и Еленой, Глухов осмотрел квартиру – довольно большую, трехкомнатную, убранную коврами, хрусталем, обставленную дорогой венгерской мебелью, какая была в моде лет тридцать назад. Слишком просторное жилище для одинокого человека… Странно, что генеральша Макштас не выбрала что-нибудь поскромнее. Он хмыкнул и, повернувшись к Елене, спросил: – Нина Артемьевна справлялась с уборкой? Или кото-то нанимала? – Нет. Мы помогали… раз в три-четыре месяца. – Бросив взгляд на мужа, Елена пояснила: – Мы говорили ей, что эта квартира слишком велика, а она смеялась – вам больше останется, у вас жених с невестой подрастают. Но на самом деле… На самом деле, когда Нина Артемьевна переезжала, ей не хотелось ничего терять. Вся эта обстановка, люстры, посуда и гарнитуры, все это – память о Юрии Петровиче… даже не столько о нем, сколько о прожитой жизни… Да и мебель хорошая, как теперь такую купишь? А продавать за бесценок… Ну, вы понимаете… Она махнула рукой. – Понимаю, – сказал Глухов, рассматривая сервант, набитый хрусталем, фарфоровыми сервизами, какими-то статуэтками, шкатулками, ларчиками и ларцами. Выше, осколком минувшего и позабытого, висела фотография: генерал-лейтенант Макштас, в парадной форме, при регалиях, и Нина Артемьевна – еще не старая, лет, вероятно, пятидесяти; она склонила голову над генеральским плечом и улыбалась. – Понимаю… – повторил Ян Глебович, бросил взгляд на многочисленные ларцы и спросил: – Вы уверены, что Нина Артемьевна не держала денег в банке? Могли ведь и пропасть после августовского обвала… Ответил Антон Орлов. Голос его был хрипловатым и напряженным. – Нина Артемьевна банкам не верила, так что деньги хранились дома, в серванте, вот в этом ящике, где Лена их и нашла… Только не семнадцать тысяч, а семь. А в начале января вся сумма было в сохранности. Мы приезжали к ней на Рождество, она показывала Лене… Она ей иногда показывала, что где лежит… говорила: ты – наследница, должна знать… Он дернул краешком рта и закурил. На щеках Орловой вспыхнули алые пятна – она, как подметил Глухов, легко приходила в возбуждение. – Поймите, Ян Глебович, я вам голову не морочу! Ну зачем мне это надо, черт побери? Зачем? Нина Артемьевна дала мне тысячу, и я вам об этом сказала, а могла бы и не говорить, ведь так? Но ведь сказала, сказала!.. И вам, и капитану вашему, бездельнику и растяпе… – Муж коснулся ладонью ее плеча, и голос Елены сразу стал спокойней и ровнее. – Понимаете, я не капризничаю и не пытаюсь вас обмануть – зачем это мне?.. Я только хочу получить свои деньги… всего-навсего получить то, что мне принадлежит… что мне оставили… мне, Антону и нашим детям, – поправилась она, оглянувшись на мужа. – Давайте так договоримся, Ян Глебович: сумма крупная, и если вы ее найдете и вернете, то мы… мы… – Она запнулась и опустила глаза. – В общем, мы вас тоже не обидим. Понимаете? Глухов не сразу сообразил, что ему предлагают частный гонорар, наверняка превосходивший в двадцать раз его зарплату. По нынешним суровым временам это не выглядело оскорбительно – скорее наоборот, являлось свидетельством доверия и, в какой-то степени, приязни. Бог велел делиться… Но лишь с достойными людьми, подумал Ян Глебович, скрывая усмешку. Джангиру Суладзе вознаграждения не предлагали. Он покачал головой и произнес: – Не будем поминать про деньги. Деньги я не могу найти с полной гарантией; найду того, кто взял их. Человека я попытаюсь разыскать, а все остальное зависит от случая. Деньги могут быть растрачены и пропиты, поделены и пущены на ветер… Да и в деньгах ли дело? – Глухов посмотрел на фотографию, висевшую над сервантом – ту, на которой улыбалась Нина Артемьевна, прислонившись к плечу своего генерала. – Дело-то ведь в другом… Хоть вы, возможно, считаете иначе. На щеках Орловой снова вспыхнули красные пятна, но муж, словно желая успокоить, обнял ее за плечи и примирительным тоном произнес: – Вы правы, Ян Глебович, дело в другом. Нельзя, чтоб старики умирали насильственной смертью. Не по-божески это. …Спускаясь по лестнице, Глухов думал, что вряд ли его подозрения насчет Орловых основательны. Что-то они скрывали, что-то личное и, вероятно, имевшее отношение к Нине Артемьевне – но при жизни, а не после смерти. И оба они не походили на людей, способных на обман или убийство. В этом Ян Глебович не сомневался, ибо повидал на своем веку великое множество всяких убийц, злодеев и насильников и чувствовал их с уверенностью гончей, берущей лисий след. Для него насильник – тот, кто душит, режет и стреляет – обладал даже иным запахом, не свойственным нормальным людям; именно запахом, поскольку иного слова он подобрать не мог. Возможно, это являлось лишь примитивным описанием той напряженности и тревоги, которые он ощущал, вступая в контакт с убийцей, но Глухов не задумывался о точных терминах. Дар его – или накопленное с опытом чутье – всегда срабатывали, и этого было вполне достаточно. Но в данном случае запахов крови и страха не ощущалось. Ни в малейшей степени! Что-то было, но – другое… Что? Как они потратили ту тысячу долларов?.. – мелькнуло у Глухова в голове, когда он садился в машину. Проели? Что-то купили? Отдали долг? Съездили за рубеж? Он включил зажигание, салон озарился светом, ни череда вопросительных знаков все еще маячила перед ним, будто прорисованная на темном обсидиане лобового стекла.Глава 6
– Ставки сделаны! – выкрикнул крупье. Колесо рулетки завращалось с тихим шелестом, дробно застучал шарик, перепрыгивая из лунки в лунку, красные и черные цвета слились в монотонную серую ленту, затем, когда колесо стало кружиться медленней, лента вновь рассыпалась на яркие контрастные пятна. Мелодично прозвенел звонок. – Двадцать четыре, черное! – объявил крупье, передвигая лопаточкой фишки. Баглай проиграл. Как и все остальные, сгрудившиеся у стола под круглым, похожим на выпуклый щит светильником. Играть Баглай не любил, это казалось ему пустопорожней тратой времени и денег, но в «Сквозной норе» главным было все-таки казино; тот, кто его не посещал, не играл и не проигрывал, не мог рассчитывать на уважение челядинцев. Чем больше проигрыш, тем респектабельней клиент, тем больше уважение. Но, как считал Баглай, всему на свете есть свои пределы, и уважению, и респектабельности, и проигрышам. А в особенности – выигрышам. Выигрыши в «Норе» тоже случались, но с определенными персонами, с чиновниками из мэрии либо районной администации. Впрочем, выигрывали и депутаты Законодательного Собрания, и налоговый инспектор, и еще какие-то личности, сытые, стриженые и нагловатые. Счастье улыбалось им гораздо чаще, чем Баглаю, ибо владельцы казино твердо усвоили: даже червяк, оголодав, может подняться на дыбы. Баглай заглядывал сюда не ради игр и проигрышей, а по гастрономическим соображениям: в подвале «Норы» располагался китайский ресторанчик, где бесподобно готовили утку по-пекински, а также иные экзотические яства. Там было тихо и не очень людно; публика – завзятые чревоугодники и гурманы – сидела у низких полированных столиков, разгороженных ширмами, а выше покачивались фонари, словно рой миниатюрных деревянных пагод, презревших земное тяготение и разом поднявшихся к потолку. От фонарей, столов и ширм, расписанных горными пейзажами в древнекитайском духе, пахло сандалом и кардамоном; тарелки и миски из фарфора были невероятной чистоты и белизны, а подавали их девушки в длинных парчовых платьях, смуглые и узкоглазые, напоминавшие пестрых тропических рыбок. Возможно, китаянки из Пекина либо их питерский эквивалент из корейских и бурятских переселенцев. Девушками Баглай не интересовался, да и утка с недавних пор не лезла ему в горло; он больше сидел, пил ароматное вино из крохотных стопочек да глядел на нишу в противоположной стене. Там, красуясь нежно-зелеными нефритовыми боками, сияла ваза эпохи Мин, привезенная Ли Чунем, шеф-поваром и хозяином заведения, из родных краев, из Цзинани провинции Шаньдун, с берегов полноводной реки Хуанхэ. Нефрит был гладким, полупрозрачным, того же оттенка, что и зеленый чай в фарфоровой чашке, но дракон в кольчужной чешуе, обнимавший вазу тугой многократной спиралью, казался позеленее, цвета весенней травы – то ли от того, что пришлась в том месте подходящая прожилка, то ли из-за большей толщины нефрита, то ли по иным причинам, секретным и тайным, ведомым древним мастерам, но неизвестным их расплодившемуся и не столь усердному потомству. Ли Чунь утверждал, что вазу изготовили в императорских мастерских Цзиньдэчженя, веке в пятнадцатом или шестнадцатом, но пролетевшие столетия ее как будто не коснулись: на поверхности – ни трещинок, ни царапин, полировка сохранилась безупречно, и каждый драконий коготок и клык, каждая чешуйка, мельчайшие гребни на спине и шпоры на растопыренных лапах выглядят так, будто расстались с резцом и полировочным войлоком не далее, чем вчера. Редкая вещь, драгоценная! Баглай обхаживал Ли Чуня месяцев восемь, однако упрямый китаец ссылался на то, что ваза – семейная реликвия, что для таких предметов нет цены, и что в Поднебесной, по древней традиции дао, нефрит и яшму не продают, ибо продать их – кощунство; продавшему их не будет ни удачи, ни счастья. Не продают, но дарят, возражал Баглай, понаторевший, с легкой руки Тагарова, в китайских и даосских хитростях; дарят и преподносят в знак приязни и дружеских чувств, особенно тем, кто посвящен в искусство чжень-цзю и тайны шу-и, весьма небесполезные в промозглом питерском климате. Он даже процитировал Ли Чуню даосский апокриф о том, как надо гармонизировать энергию, чтобы прожить не меньше века:Глава 7
Март выдался ветреный, хмурый, морозный. Днем солнце скрывалось за пеленою туч, но все-таки грело, хоть не с весенним усердием; его скуповатый жар заставлял оседать серые сугробы на тротуарах, и кое-где под растаявшим снегом уже виднелась темная трещиноватая шкура асфальта. Но по ночам все возвращалось на свои круги: ветер вытряхивал снежную перину туч, носился над застывшей Невой, свистел по-разбойничьи на широких проспектах окраин, жалобно выл в переулках, сыпал снег на деревья, на землю и крыши. Ночью не верилось, что наступила весна – а лето, пусть короткое, нежаркое – казалось просто смутным сном, какие бывают после просмотра голливудских кинолент с красотками и красавцами, что нежатся на пляжах Акапулько. Тем не менее, зима иссякала и отступала день от дня, знаменуя тем самым конец сезона Охоты. В теплый светлый период Баглай не охотился; он, как полярная сова, предпочитал холод и тьму, ибо их спутником было безлюдье, и, следовательно, безопасность. В самом деле, кто проследит человека зимней ночью, когда все сидят по домам, спят или мечтают о солнечном Акапулько, поглядывая в телевизор? Кто заметит, как и с чем он бродит по улицам – с сумкой ли, с чемоданом, с пакетом или свертком? Никто, разве лишь ветер… А ветер не выдаст и никому не донесет; нет ему дела до подозрительных незнакомцев, гуляющих с сумками и чемоданами в ночной разбойный час. Но если дождаться трамвая или автобуса – из первых, самых ранних – то подозрений нет как нет. Нет подозрений, а есть добропорядочный обыватель, который едет с сумкой на вокзал – или, быть может, с вокзала, вернувшись из командировки, весь в мечтах о теплой ванне и сытном домашнем завтраке. Все эти соображения были вполне очевидны, и Баглай даже не задумывался о них, не называл мудреными словами, тактикой или стратегией, а просто действовал, руководствуясь инстинктом. Ночи стали светлей и теплей – значит, пора заканчивать Охоту, брать временный тайм-аут и ждать, когда над городом снова сгустится зимний мрак, союзник и помощник. Метаморфоза, свершавшаяся с ним весной, была подобна линьке; он, словно северный волк, сбрасывал плотную зимнюю шубу, пропахшую кровью и плотью жертв, и облачался в иное одеяние, более легкое и чистое, скрывавшее его клыки и когти. Но – лишь до времени, до срока. Он размышлял об этом, направляясь к Черешину, ибо тот являлся, в определенном смысле, исключением из правил. На него Охота разрешалась в любой сезон, так как охотник мог унести добычу не в чемоданах, а в карманах. Даже в горсти или в наперстке… Однако Баглай все-таки предпочитал карманы. Карманы были надежней и, разумеется, вместительней. В дом к Юрию Даниловичу Черешину он хаживал не первый год и изучил это строение как собственную пятерню, со всеми его парадными и черными лестницами, дворами и арками, ходами, выходами и переходами. Этот старый петербургский дом располагался у Таврического сада и был еще крепким и презентабельным, хоть и знававшим лучшие дни. Штукатурка с него не сыпалась, но потемнела под слоем многолетней грязи, мрамор лестничных ступенек поистерся, дубовые перила кое-где исчезли, а кое-где напоминали обрезки грубо обструганных жердей, водосточные трубы жаждали срочной замены, а вздыбленный булыжник во дворах местами наводил на мысль о рухнувшей с гор лавине. Но квартиры тут были просторные, двери – крепкие, потолки – три пятьдесят, а на широченных подоконниках можно было спать или устраивать застолье. Впрочем, в жилище Юрия Даниловича все подоконники, равным образом как стены, пол и даже потолок, предназначались не для застолий или спанья, а исключительно для экспонатов. Сам же хозяин обитал на кухне – к счастью, довольно большой и вполне заменявшей однокомнатную квартиру; тут имелись диван, стол и стулья, кресло, обитое плюшем, полки и шкафы и даже верстак – с тисками, резцами, алмазными пилами и прочим инструментарием для каменных работ. В комнате побольше на стенах висели картины из малахита, родонита, чароита, лазурита и других поделочных камней; под ними тянулась шеренга витрин, в коих стояли и лежали изделия из тех же материалов – ларцы и шкатулки, подсвечники и чаши, письменные приборы и набалдашники тростей, шары и миниатюрные дворцы, а также иные уникумы, обязанные своим происхождением уже не человеку, а природным силам: друзы кварца, похожие на пингвинов и медведей, роскошные щетки аметистов, опалы и пейзажные агаты, гигантский кристалл шпинели величиною в два кулака, жемчужины, кораллы и гагаты. Другие сокровища, поменьше размером, но подороже ценой, таились в ящиках под витринами: коллекция редкого янтаря с невероятными включениями, собрание гемм и камей, старинные перстни с печатками, украшения из бирюзы, цитрина, аметиста, из турмалина и топаза, из гранатов всех цветов радуги – огненно-красных пиропов, сизо-малиновых альмандинов, золотистых гроссуляров и изумрудно-зеленых демантоидов. С потолка в этой комнате спускались светильники и люстры, райские птицы и цветы, большие резные сферы и модели кораблей – все, что можно изготовить из поделочного камня и металла и подвесить где-нибудь повыше, чтоб ненароком не зашибить голову. Имелся здесь и камин – уникальное сооружение из мрамора тридцати шести сортов со вставками из яшмы и нефрита. Но главное богатство таилось в маленькой комнате, в громоздких дубовых шкафах музейного вида, в ящиках, сделанных на заказ. Тут, снабженные номерами и пояснительными карточками, лежали благородные самоцветы, приписанные к двадцати коллекциям, и их названия внушали благоговейный трепет. Коллекция сапфиров (отдельно – камни синие, классических оттенков, отдельно – розовые, лиловые и желтые); коллекция рубинов, от бледно-алых до кроваво-красных и багровых; собрания изумрудов, аквамаринов и бериллов, где были экспонаты в сорок-пятьдесят карат; и, наконец, всякая мелочь вроде хризобериллов, александритов, цирконов и шпинелей. Алмазы Черешин целенаправленно не собирал, считая это баловством, но не отказывался выменять или приобрести «по случаю», и на эти «случайные» камешки можно было б вооружить мотострелковый полк. А на все остальное этот полк мог бы отправиться в Новую Зеландию и воевать там лет пятнадцать, освобождая папуасов от британских колонизаторов.[749] Кроме двух комнат и обширной кухни были в черешинской квартире еще и прихожая с коридором, и в них Юрий Данилович разместил библиотеку, тысяч пять томов, все – о камнях и способах их обработки, о ювелирных изделиях, о геммах и камеях, о самоцветах магических, целительных, библейских, а также о методах и приборах, с помощью коих различались подделки и имитации. Сами же приборы, микроскопы и рефрактометры, дихроскопы, полярископы, пикнометры, фильтры и весы, хранились в огромном стенном шкафу на месте бывшего туалета, а туалет нынешний был совмещен с ванной, благо ее габариты не отрицали подобной возможности. Так Юрий Данилович и жил – в обрамлении камней и книг, приборов и инструментов; дожил он до преклонных лет, видел в своих самоцветах не богатство, а исключительно радость и красоту, и был совершенно счастлив. Вот только болела у него временами спина… Баглай вошел в подъезд, поднялся по мраморной истертой лестнице к двери, некогда сиявшей лаком, а ныне выкрашенной бурой краской и позвонил. Звонок был старинным, из тех, где надо не кнопку давить, а повертеть маленькую металлическую рукояточку. Дверь распахнулась, явив невысокую крепкую фигуру Черешина в монгольском халате, с благожелательной улыбкой на устах. Юрий Данилович был вообще человеком улыбчивым, добродушным, легкого нрава и сангвинического темперамента; он улыбался даже тогда, когда им пытались закусить – в прямом, не в переносном смысле. Ну, а Баглай, целитель и добрый знакомый, гость дорогой, проходил по особому списку – хоть не племянник, не внук, однако почти что родич. – Ну, бойе! В самый раз пришел! – Пальцы Черешина утонули в крупной ладони Баглая. – Перво-наперво, я тебе деньги отдам… память-то стариковская, пока не забыл, надо отдать… А после мы чайку изопьем, и примешься ты выкручивать мой копчик и барабанить по спине… – Он уже тащил Баглая на кухню, лавируя меж книжных полок и шкафов. – И разомни-ка мне сегодня, бойе, шрам… не тот, что на ребрах, а тот, что на левом костыле… погода сырая, мозжит – спасу нет!.. Вот разомнешь, да с маслицем, оно и полегчает… – Это какой же шрам? – спросил Баглай, осторожно пробираясь по коридору, забитому книгами. – Который от малайского криса? Или от пули? – Ха, от криса!.. От него – царапина под локтем, плевая такая царапинка, о ней я и думать позабыл… От пули – то как раз на ребрах… затянулось и быльем поросло… А вот на ноге – болит! Ногу мне мишка порвал… в сорок седьмом, на Вилюе… а от его когтей – самые вредные раны. Вроде и зажила, но сырости не терпит… ни сырости, ни холода… а у нас холод восемь месяцев в году… Вот если б я в Нигерии остался… или в Конго… зря не остался… Вот там, бойе, климат, доложу тебе!.. Теплынь! Бойе было тунгусским словцом, обозначавшим парня или юношу; Черешин называл так всех моложе семидесяти лет. Продолжая сыпать короткими отрывистыми фразами, он расставил на столе вместительные кружки, навалил в тарелку баурсаков[750] и принялся разливать чай. Чай был не простой, а плиточный, калмыкский, с добавкой топленого масла, молока, соли и сахара. Баглай это питье уважал, привыкнув к нему еще в те времена, когда обучался у Тагарова. Тагаров, хоть был бурят и тибетский монах, от чая с маслом не отказывался, только называл его не калмыкским, а монгольским. Отдуваясь и хрустя баурсаками, они с Черешиным выпили по кружке. Баурсаки Юрий Данилович готовил сам, ибо, вдобавок ко многим своим талантам, отлично кухарил, и были ему известны рецепцы всяческих экзотичных блюд – вроде слоновьей ноги, запеченой со страусиными яйцами, и антрекотов из бегемота. Покончив с чаем, а заодно – с историей вилюйского медведя (череп его красовался над полками в прихожей), Черешин хлопнул себя по лбу, пошарил за поясом халата, извлек две стодолларовые бумажки и протянул Баглаю. – Вот память, бойе!.. Про камушки и шрамы помню все, а о деньгах забыл… Держи! За первую половину. С частной клиентуры Баглай брал двадцатку за сорокаминутный массаж, а число сеансов определялось от двенадцати до двадцати, смотря по состоянию спин и конечностей клиентов. Те же двадцать долларов брались и в «Диане», но из них на баглаеву долю приходилось восемь; тем не менее, ежемесячно на круг он зарабатывал побольше тысячи. Где-нибудь в Штатах или в Европе это считалось бы плевой деньгой, но только не в России; тут на них можно было существовать с комфортом и даже с роскошью. Существовать – да, однако не покупать квартиры и редкостные вазы эпохи Мин… Впрочем, для их приобретения имелись способы результативней лечебных процедур. Юрий Данилович сбросил халат, с кряхтеньем примостился на диване, а Баглай, достав из саквояжа флаконы с зельями и маслами, начал трудиться над черешинским позвоночником, не забывая о пояснице и лопатках, шее, копчике и шраме на левой ноге. Шрам, собственно, был не один, а целых четыре, от длинных медвежьих когтей, и оставалось лишь удивляться, как Юрий Данилович, уложив зверюгу, смог доползти до лагеря. Видно, тунгусские черти ему помогли, размышлял Баглай, привычными движениями втирая масло. Потом подумалось ему, что черти нынче далеко, на берегах Вилюя, а он вот близко, ближе, чем медведь. Значит, такая судьба у Черешина – не от медведя смерть принять, не от пули и не от малайского криса, а из человечьих рук… Мысль эта не покидала его, пока он разминал тощую спину Черешина и правил позвоночные диски. С этим, если учитывать возраст клиента, все обстояло неплохо, совсем неплохо – Черешин имел крепкую конституцию, как полагалось потомственному геологу и долгожителю. Мать его преставилась в девяносто, отец – в девяносто четыре, а сам Юрий Данилович, пребывая в цветущем возрасте восьмидесяти трех годов, на здоровье не слишком жаловался и твердо полагал, что разменяет второе столетие. В тридцать восьмом закончил он в Питере Горный институт и хоть не воевал, а бродил по лесам и горам в поисках металлов и минералов, жизнь ему выпала бурная, полная странствий, приключений и опасных авантюр. Лет двадцать он провел в Сибири, Монголии и Китае, а с конца пятидесятых, когда Союз обзавелся друзьями в жарких краях, начались сплошные зарубежные командировки. И бросало Черешина от Индии до Антарктиды, от Огненной Землм до Эфиопии, от Кубы до конголезских джунглей. Искал он все, что только можно откопать в земле, выдрать из-под льда и камня, намыть в ручьях и реках. Искал уран и медь, никель и алмазы, нефть и уголь, золото и молибден; не раз тонул и замерзал, нередко голодал, а однажды, во время разведки в дружелюбной Гане, на берегах реки Горвол, сам был чуть не съеден и спасся лишь тем, что вождь и воины им побрезговали, решив, что русский – это не настоящий белый, и, к тому же, стар и жилист. Между делом Юрий Данилович четырежды женился, но завести детей как-то не достало времени, и потому его жены занимались этим с другими мужчинами, не столь преданными геологической науке. Черешин их бросал без всякого сожаления; на его век хватило негритянок и чилиек, китаянок и чукчанок, и прочей подобной экзотики. Лишь с камнями он состоял в прочном и долгом супружестве. О том, как началась его коллекция, он не раз рассказывал Баглаю. Случилось это в сорок четвертом, когда молодой Черешин застрял в глухой уральской деревушке, отрезанной снегами и непогодой от всех дорог, от городов и сел, от мира и от войны. Метель бушевала без малого месяц, и этот период зимней спячки Юрий Данилович провел в компании коллеги, другого геолога-поисковика, заброшенного в ту же деревушку. Коллега был уральцем из Свердловска, мужчиной зрелых лет; пил он по-черному, а выпив, не матерился, не буянил, однако жаждал развлечений и доверительных бесед. Но ни книжек, ни радио, ни шахмат в той деревушке не нашлось, так что Черешин с уральцем разрисовали карточную колоду и целый месяц резались в очко. Сперва на спирт, который потреблялся под задушевные разговоры, потом – на деньги, а когда свердловчанин иссяк, Черешин, которому везло, вернул ему проигрыш, и все пошло-поехало по новой. Коллега опять проигрался в дым, но оказался человеком чести: когда проигранное вернулось к нему в третий раз из щедрых рук Черешина, сунул Юрию Даниловичу потрепанный увесистый портфель, пробормотав, что он-де – старина-старинушка, и много ему не нужно, а ты, Юрча, парень молодой, жить тебе и жить – вот и живи в свое удовольствие, только поосторожнее: родина-мать не дремлет, а маманя она суровая. Намека этого Черешин, по молодости лет, не понял, но тут метель притихла, и пути их разошлись: коллега отправился в Свердловск, а Юрий Данилович – в Москву, с отчетом и старым портфелем. Затем он перебрался домой, в послеблокадный Ленинград, чтоб поддержать и подкормить родителей. Портфель привез с собой и, заглянув в него, обнаружил лишь здоровенные комья грязи; но, в память о сидении в той деревушке и карточных играх, не выбросил, а пихнул на антресоль, да и забыл на пару лет. После войны, разбираясь со старым хламом, Черешин вновь наткнулся на портфель, вытряхнул его содержимое в тазик с водой, отскреб, промыл и обомлел. Перед ним лежали уральские самоцветы сказочной красоты и редкости: благородная шпинель в два кулака, пять безупречных изумрудов, топазы, аквамарины, несколько сапфиров и рубинов – причем не какие-то камешки в девичье колечко, а раритеты в сорок-пятьдесят карат. Черешин долго глядел на них, вздыхал, перебирал и любовался, потом в сердце что-то защемило, и понял он – судьба! А от судьбы, как ведомо всем, не уйдешь и не сбежишь. Но Юрий Данилович не собирался бегать. Его профессия была самой подходящей, чтобы собрать коллекцию; всю жизнь он крутился около камней, россыпей, шурфов, шахт и рудников, а значит, что-то находил, что-то выменивал, а что-то ему дарили или отдавали за бутылку водки; и постепенно его собрание росло, и стали появляться в нем камешки из Африки и Бразилии, с Цейлона и Мадагаскара, из Индии, Бирмы и ЮАР. В суровые сталинские времена он свою страсть не афишировал, да и коллекция была небольшой, занимала лишь половину маленькой комнаты. Развернулся он по-крупному лет тридцать назад, после смерти стариков-родителей: переоборудовал квартиру, поставил крест на семейной жизни и переселился на кухню. А заодно составил завещание о передаче коллекции в Горный институт – при тех условиях, что не будут ее разделять, а дарителя похоронят по-людски, на Волковом кладбище, с оркестром и в родительской могиле. Так что наследник у Черешина был, но по-государственному нерасторопный – за тридцать лет не удосужился составить опись всех черешинских богатств, ибо в перспективе принадлежали они народу, а значит, всем и никому. Юрия Даниловича это не слишком волновало; он еще не собирался умирать и полагал, что в ближайшие лет десять или пятнадцать составит опись собственной рукой, с посильной помощью доцента Пискунова, назначенного институтом в воспреемники. Но Пискунов был сам немолод, возился с дипломниками и студентами, страдал диабетом и, по той ли, иной причине, дарителя вниманием не баловал. В отличие от Баглая, который трижды в год трудился над черешинской спиной по месяцу и знал намного лучше Пискунова, что и где хранится. А кроме того, имел ключи. Сеанс подходил к концу, Черешин блаженно кряхтел под сильными руками массажиста, жмурил глаза и ворочал с боку на бок головой – видно, затекала шея. Заметив это, Баглай начал ее разминать, коснулся редкой поросли на затылке и вдруг ощутил под волосами шрам – даже не шрам, а изрядную вмятину, будто стукнули Черешина кувалдой или иным приспособлением, вроде гантели или кистеня. Пальцы Баглая замерли. – Здесь не болит? – спросил он. – А чему ж там болеть? – удивился Черешин. – Ямка у вас, Юрий Данилыч. Кость вроде бы цела, однако… – Однако я про нее и забыл, бойе. Не чешется, не болит, и слава богу. Это меня в каверне приложило, в медном руднике, под Зыряновском. Году этак в шестьдесят восьмом… нет, в шестьдесят девятом, как раз перед экспедицией в Бомбей, в Сахьядри… это горы такие индийские, с видом на Аравийское море… вот за них я этой ямкой и заплатил… Вызвали меня к замминистру – хороший был мужик, да преставился в восьмидесятом – вызвали, значит, и говорят: в Бомбей отправишься, Черешин, начальником партии, никель искать… хороший вояж, хлебный, валютный, но до того проинспектируй рудники в Зыряновске. Согласно утвержденной разнарядке и в компенсацию за Бомбей… Ну, я что… собрался и поехал. А там как раз каверну вскрыли. Большая, мать ее, метров тридцать… Вскрыть-то вскрыли, а крепь поставили хреновую – я полез, а свод возьми да обвались… не сильно, но задело меня каменюгой… Видел кварц, что в комнате стоит, за малахитовым блюдом? Белый такой, на медведя похож? Вот им и задело. Ну, ничего… отлежался. – Вы про какую каверну толкуете? – спросил Баглай, массируя черешинскую шею. – Каверны только в легких бывают. – Вот тут ты, бойе, не прав. Каверна – сиречь полость, а полости в разных местах случаются, и в организме, и в металле, и в земле. Представь-ка рудную жилу… Это ведь не сплошной монолит, там и легкие породы есть, и грунтовые воды, и много всякого разного… Ну, вода вымывает полость, затем, с подвижкой пластов, уходит, и появляется пещера… Там, внизу, на глубине километра, – Черешин ткнул пальцем в пол. – Вечный мрак, огромное давление, самый причудливый газовый состав, плюс влага, что сочится по стенам… собственно, не вода, а раствор минеральных солей… И так – тысячелетия… Потом приходим мы, бьем шахту, прокладываем штрек по рудной жиле, вскрываем полость – и что же видим? – Что? – откликнулся Баглай, слегка надавив на нервные узлы под челюстью. Эта процедура, если делать ее с осторожностью, снимала тахикардию, стабилизируя ритм сердечных сокращений. Ну, а если не остерегаться… если нажать вот здесь и здесь… Черешин заговорил, и рука Баглая дрогнула. Он быстрым змеиным движением облизал пересохшие губы. – Мы увидим, бойе, что на стенках полости скопилась куча всякого добра… всяких природных редкостей, что выросли тут в тишине и покое… Попадаются самоцветы – не из самых дорогих, но поразительной величины… чаще – кварц… аметистовые щетки и кристаллы… еще цитрин, морион, кошачий и тигровый глаз, горный хрусталь и халцедон… А иногда в прозрачном кварце прорастают кристаллики рутила, тонкие, как волоски – и это будет уже «волосатик»… А если попало что-то пластинчатое, чешуйчатое, гематит или слюда, то получится у нас авантюрин… он как стекло с яркими блестками… Еще бывает молочный кварц, непрозрачный и белый, но удивительных очертаний… будто статуэтку лепили двести тысяч лет, без рук и скальпеля! Хотя бы вот этот медведь, коим мне съездило по затылку… – Все, Юрий Данилыч, – произнес Баглай и направился к раковине, мыть руки. Черешин встал, накинул халат, пощупал над коленом. – А ведь не болит, пес ее забери! Как есть, не болит! Легкая у тебя рука, бойе, золотая… Еще чайку не хочешь испить? – Пожалуй, нет. – Баглай покачал головой и принялся укладывать бальзамы и мази в свой саквояжик. – С вашим чаем, как и с массажем, необходима умеренность. Иначе выйдет как у Алексия… – А как у него вышло? И кто он таков? – с любопытством поинтересовался Черешин. – Врач древнегреческий. О нем у Киллактора есть эпиграмма… – Сощурившись и отбивая рукой ритм, Баглай произнес нараспев:Глава 8
Джангир Суладзе оказался неплохим помощником – точным, исполнительным, работящим, а главное, без всяких капризов и закидонов. За пару дней он провернул немалую работу: во-первых, выяснил, что у Орловых есть машина, старенький «москвич», а значит, есть и карточка водителя в ГАИ, и фотография – как полагается, в овале с растушевкой; фотографию он изъял и, во-вторых, предъявил Марье Антоновне, а в-третьих, обследовал поликлинику, в которой лечилась усопшая генеральша – на предмет розысков «не того доктора». Марья Антоновна по фотографии Орлова не опознала, сказав, что личико на глуховском рисунке вышло куда похожей, а фотка энта – с другого вьюноши, пусть сурьезного и хмурого, но бровью погуще, полобастей и носиком поострей. В поликлинике, куда Суладзе заявился вторично с двумя портретами, признать их тоже отказались, а главврач, ехидная дама в бальзаковском возрасте, заметила, что «не тех докторов» давно не держит; «не те доктора» любят кушать сациви и запивать вином, а потому расползлись в частные лавочки, где главная забота – выцедить из пациентов деньгу. А у нее – только «те доктора», сплошь подвижники и бессеребренники, которые хоть голодают, но исправно лечат. Что же касается Нины Артемьевны Макштас, то ее лечила участковая терапевтичка с тридцатилетним стажем, никак не похожая на вьюношу – тем более, широкоплечего и рослого. Правда, волосы у нее тоже оказались светлыми, но лишь по причине седины. Глухов капитана похвалил, но в меру, затем опять послал за информацией – был у него интерес к судьбе подаренных Орловым баксов. Куда пошли, начто? Может, на гараж, раз есть у Антона машина? Или на этот самый «москвич»? Или на обстановку, на шубу для Елены, на визит в Анталью? Смысл поиска заключался в том, чтобы проверить траты Орловых – не было ли куплено чего-то крупного, ценой побольше тысячи долларов. Суладзе откозырял и отбыл, а Ян Глебович, выкроив время, принялся разбираться с компьютерными распечатками. Их накопился целый ворох, от усердной девушки из ВЦ, и оставалось лишь поражаться, сколько вокруг стариков и старух, что умирают в своих квартирах, в полном и беспросветном одиночестве, никому не интересные при жизни, зато представлявшие неоспоримую ценность в тот знаменательный миг, когда душа покидает тело. Души улетали к небесам, тела, после необходимых процедур, свозили в крематорий, а у квартиры появлялись новые хозяева, райжилотдел, или кто-то из дальних родичей, или из фирмачей-риэлтеров. Тем завершался жизненный цикл, и Ян Глебович, перебиравший листки с сухими диагнозами – рак, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность – невольно думал о справедливости древних, избитых, но вечных истин. Например, такой: в муках рождается человек, и в муках он покидает в старости эту юдоль печали и слез. Для юной лаборантки вычислительного центра, любительницы шоколадок, старыми были все, кому за пятьдесят, так что Глухов не раз чертыхнулся, блуждая в бумажном хаосе. Кипа получилась увесистой и внушительной; вероятно, ему стоило конкретизировать запрос и начинать свой поиск среди как минимум семидесятилетних, где большей частью попадались женщины. Мужчины, менее жизнеспособный элемент, умирали раньше, от самых разнообразных недугов, в том числе от таких, какие в недавнем прошлом сочли бы невероятной дикостью. Но Глухова это не удивляло. Оба его расследования, в силу случайности или закономерных, но никому не ведомых причин, словно перекликались между собой, как эхо откликается на чей-нибудь громкий вопль. От трупа с купчинской свалки тянулась ниточка к лекарствам, а значит, к медикам и фармацевтам; и вот, общаясь с этой братией, Ян Глебович выяснил столь любопытные вещи, что иногда его бросало в дрожь. Как оказалось, сифилисом теперь болели чаще в восемьдесят раз, туберкулезом – в пятьдесят, а спид расцветал и креп на благодатных почвах, среди ста тысяч петербургских наркоманов, что неизбежно обещало эпидемию; кроме того, из сотни новорожденных погибали двое, и только двадцать могли считаться относительно здоровыми – по крайней мере, без врожденных патологий. К трупу со свалки и криминальным фармацевтическим делам все это имело лишь косвенное отношение, но связь, разумеется, была: на фоне мрачных декораций шел ужасающий спектакль – драматическое действо, которое с каждым актом все больше походило на трагедию. От этих мыслей щека у Глухова раздраженно дернулась. Он посмотрел на фотографию жены, встретился с ней глазами, представил, что Вера ждет его в их квартире на Измайловском, что оба они молоды или хотя бы живы, и ничего им в будущем не грозит, ни эпидемия спида, ни туберкулез, ни рак, сгубивший Веру в одночасье. Он не испытывал ностальгии по прежним советским временам; новые, пожалуй, были лучше, сложней, трагичней, но честней, однако у минувших лет, сравнительно с эпохой настоящей, имелись свои преимущества. Хотя бы одно, подытожил Ян Глебович – Вера. Веры в этой эпохе настоящего с ним не было. Он начал перебирать листы, комкать ненужное, бросать в пластиковую корзинку под столом, время от времени уминая мусор руками. Мусора было много, и Глухов в очередной раз решил не связываться больше с распечатками, а просматривать материалы как положено, на компьютере, где всякий хлам уничтожался с простотой и легкостью, нажатием пары клавиш. Но эта вот легкость его и смущала – мнилось, что он стирает пусть неважное, несущественное, но что-то такое, над чем еще стоит поразмышлять или хотя бы оставить про запас, для завтрашних раздумий. К тому же Глухов, как всякий художник, питал почтение к бумаге и признавал за ней приоритет перед компьютерным экраном. Чувство это было отчасти инстинктивным, но не лишенным рационального зерна: ведь бумажные листы можно было расстелить на столе, сравнить друг с другом и исчирикать разноцветными карандашами. Этим он и занялся, помечая красным наиболее подозрительные случаи, а синим и зеленым – то, что предполагалось исследовать во вторую и третью очередь. Всех листов набралось сорок девять, а красных – двадцать два: внезапные смерти людей одиноких, весьма престарелых и, вероятно, не бедных. Вероятно, поскольку квартиры были у них большими, а кое-кто имел заграничных родственников либо профессию, считавшуюся доходной в прошлые либо нынешние времена. Три нотариуса, две женщины и мужчина… главный инженер кожевенной фабрики… директор кладбища… адвокат… художник-реставратор… писатель, довольно известный… актриса… Но большей частью вдовы, как генеральша Макштас, вдовы военных, а также чиновников партаппарата, вплоть до райкомовских секретарей. Возраст – от семидесяти до семидесяти шести, диагноз – разрыв коронарных сосудов, обширный инфаркт либо мозговое кровоизлияние, смерть наступила в считанные секунды… С имуществом – неясность; кто и что хранил, что прятал в доме, деньги или иные ценности, золото, картины, антиквариат… Ну, попробуем выяснить, решил Ян Глебович, раскладывая листы с цветными пометками по трем прозрачным папкам. В дверь постучали, Глухов крикнул: «Входите!», и на пороге возник капитан Суладзе. Глаза горят, мундир словно из-под утюга, пуговицы надраены, штиблеты сияют, будто не месил по улицам грязный снег. – Ну, что принес? – спросил Глухов после взаимных приветствий. – Тысячу долларов, Ян Глебович! И знаете откуда? Из «Бенедикт скул»! Есть такая фирма на Адмиралтейской набережной… английскому учат… Там Орловы всю тысячу и спустили. За два с половиной годика. – Не многовато? Я про тысячу, не про годы. – Вроде бы нет. Эти курсы – из лучших в городе, с британскими и нашими учителями. Берут прилично и учат по семестрам, от первой ступени до шестой или там седьмой… В общем, можно с нуля учиться, а можно сразу в продвинутую группу и сдать экзамены на кембриджский сертификат. Это такая штука… – Я знаю, – прервал Глухов. – Дальше докладывай. – Елена Орлова отучилась в «Бенедикте» три семестра, а ее супруг – четыре. Оба – с сертификатами. Библиотекарю, конечно, польза, а вот зубному врачу… Однако ежели трудиться не в России, а, например, в Австралии, то польза тоже есть. Надо ведь с пациентом договариваться, какие зубы дергать и по какой цене… Тут без кембриджского сертификата не обойдешься. Ян Глебович кивнул. Тайна Орловых начала приоткрываться. Даже не тайна, а маленький секрет, пустячок, как и подумалось ему во время первого знакомства. – Насчет Австралии – к слову пришлось, или данные точные? – спросил он, перекладывая папки на столе. – К слову, Ян Глебович. Вообще-то они Канадой болеют. – Как установил? – Я в Публичку отправился, где Орлова работает. Пришел в кадры и объяснил, что интересуюсь дамами от тридцати и старше, всвязи с прошлогодним хищением редкостных манускриптов. Ну, мне тут же выложили кадровые листки… с этим у них порядок, как в аптеке. В общем, Орлова в Публичке одиннадцать лет, и в прошлом году ее повысили, перевели в фонд зарубежных изданий, так как был предъявлен этот самый кембриджский сертификат. И номер его стоит, и кем выдан, и когда… Ну, я собрался – и в «Бенедикт скул»! С завучем потолковал, потом – с преподавателем… она мне и рассказала про Канаду. На курсах Орловы секрета не делали, там все из таких, все куда-нибудь собираются, не за тот океан, так за этот. А преподавательница бывала в Канаде, на стажировке. Хорошая девушка! Мариной зовут… Красивая! – Как та красотка-нотариус? – прищурился Глухов. – Лучше! – В глазах Суладзе зажглись мечтательные огоньки. – А может, не лучше, но надо понимать, какая тебе девушка по карману, иначе грыжу наживешь. Тут простой расклад, Ян Глебович: учительница, хоть из «Бенедикт скул» – это одно, а нотариус – совсем, совсем другое! Глухов хмыкнул и поинтересовался: – Вот ты сказал, что Орловой вышло повышение… Наверное, и зарплату прибавили? Огни в зрачках Джангира погасли, он мрачно кивнул головой. – Прибавили… Было четыреста шестьдесят, стало четыреста восемьдесят… двадцать баксов по курсу. Хоть муж у нее стоматолог и семью содержит, но все равно тяжко… – Тяжко, – согласился Глухов, думая, что не столько тяжко, сколько стыдно. Его оклад был посолидней, чем библиотекарский, на жизнь вроде бы хватало, и к тому же он мог писать картины. Над своими пейзажами Ян Глебович трудился летом и ранней осенью, иногда дарил их, очень редко – продавал и всегда испытывал при этом чувство обиды и неловкости. Не от того, что такая торговля казалась чем-то постыдным, неприятным, а по другой причине: за вещь, над которой он работал двадцать дней, давали его двухмесячное жалование. Вот и получалось, что Глухов, художник-любитель, стоит втрое больше, чем Глухов-сыщик, подполковник, профессионал. Суладзе поерзал на жестком сиденье. – А вот в Канаде, Ян Глебович, библиотекари – белые люди. Есть у меня школьный дружок, служит в такой фирмешке, где документы на выезд оформляют. Я взял и ему позвонил. Он говорит, имеется у них канадская бумага, где все профессии перечислены, и при каждой – баллы, чем больше балл, тем больше шанс на выезд. К примеру, программист – тот тянет двадцать баллов, резчик по дереву – двадцать два, а театральный критик – четыре. Выходит, не надо им критиков! А вот библиотекари нужны. Библиотекарь стоит двадцать, как программист, да и стоматологи в цене. – Молодец! – похвалил Глухов. – А про сыскарей ты у приятеля не выведал? Почем идут в Канаде сыскари? Специалисты по русской мафии? В чинах от капитана до подполковника? – Обижаете, Ян Глебович! – Джангир с печальным видом оттопырил губу. – Про сыскарей я первым делом поинтересовался. Нет их в списках! Я так думаю, из политических соображений. Они нам не позволят своих жуликов ловить. Вдруг не того поймаем! – Ну, раз такое недоверие, мы к ним не поедем, – сказал Ян Глебович, протягивая Джангиру папку, листы в которой были помечены красным. – Вот, возьми. Тут двадцать две фамилии, с телефонами и адресами. Пожилые люди, скончавшиеся внезапно, на протяжении последних лет. Выяснишь их имущественные обстоятельства. Что ценного хранилось в доме, деньги или предметы старины, и все ли отошло наследникам. И нет ли у наследников какий сомнений… ну, таких же, как у Орловой, нашей заявительницы. Понял? Срок – три дня. – Так точно! Могу идти, Ян Глебович? – Свободен. Суладзе поднялся, откозырял, шагнул к двери, но у порога замер и, повернувшись к Глухову, спросил: – А рапорт? Рапорт, Ян Глебович? О проведенных розыскных мероприятиях в части супругов Орловых? Его ведь целый день надо писать. Добавили бы времени, а? – Не нужен мне твой рапорт, – пробурчал Глухов, копаясь в ящиках стола. – На память у жалуюсь. А Орловых мы оставим в покое. Они тут ни при чем. – А вот полковник Кулагин требует рапорты, – со вздохом признался Джангир. – Раз был фигурант в разработке, значит, пиши… Со всеми подробностями пиши, как по закону положено. – Закон не заменяет справедливости. – Глухов с грохотом задвинул ящик. – Мне писанина не нужна, мне нужна информация. Бегай, капитан, старайся! Помощник исчез, и Глухов, облачившись в плащ, вышел и запер дверь своего кабинетика. На часах было двадцать два без четверти, и тонувший в полумраке коридор казался пустынным, тихим и бесконечным, словно тоннель метрополитена в ночную пору. Лишь из-под соседней двери пробивался свет – наверняка там работала Линда, так как Гриша Долохов, деливший с ней «майорскую», отгуливал законный отпуск. Глухов постоял в коридоре, раздумывая, не постучать ли, не зайти ли. С каждой минутой ему все больше казалось, что Линда тоже стоит по другую сторону двери; стоит и ждет, затаив дыхание, этого стука, ждет его, чтоб улыбнуться и сказать: «Чаю хотите, Ян Глебович? Чаю с пирогом? Сама испекла…» Или скажет она другое, более важное, значительное… Скажет так: поздно, Ян, пора бы и по домам… Тебе в какую сторону? На Измайловский? Вот и мне туда же… Он стоял и вздыхал, понимая, что вряд ли услышит когда-нибудь эти слова; а еще он не мог представить, хочется ли услышать их от Линды или другой женщины, пусть даже в чем-то похожей на Веру. Такой же одинокой, как Линда и он сам. Тебе на Измайловский? И мне в ту сторону… Линда и впрямь жила в той стороне, на Обводном, у Варшавского вокзала, но об этом Глухов вспоминал лишь изредка, как о чем-то несущественном, случайном. Зато помнилось иное и более важное: шестнадцать лет, что разделяли их, и верины глаза, смотревшие на него с фотографии на письменном столе. Смотревшие – как? С любовью и нежностью? С укоризной? Или с готовностью понять и простить, если ее заменит другая?.. Этот вопрос оставался неясным для Глухова, и потому он не решился постучать. Вздохнул, отошел от двери, стараясь шагать потише, пересек коридор и начал спускаться вниз по гулкой широкой лестнице.* * *
К себе, на Измайловский проспект, он добрался в половине одиннадцатого, выпил крепкого сладкого чаю, сжевал три бутерброда с сыром и сел на диван в студии. В студию эта комната превратилась после смерти жены, а до того в ней работала Вера, преподававшая химию в Технологическом. Ее книги и конспекты лекций по-прежнему хранились в шкафу, но письменный стол Глухов вынес, заменив двумя мольбертами и старой голенастой этажеркой, на которой громоздились коробки с красками, банки грунтовки, кисти и карандаши. Писал он только маслом, на плотных хороших холстах, подрамники и рамы делал сам, а так как холсты и краски вздорожали, одна из трех-пяти картин предназначалась на продажу. Все остальные, числом сорок четыре, были развешаны на стенах, и потому казалось, что комната – вовсе не комната, а наблюдательный пункт какой-то фантастической станции, откуда можно любоваться инопланетными мирами – но исключительно морскими, тихими или же бурными, пустынными или с белым парусом на горизонте, беспредельно широкими, просторными, или такими, где воды кипят среди коричневых и серых скал или ласкают песчаный оранжевый берег. Если не считать единственного случая, портрета Веры, Глухов писал морские пейзажи – стальные хмурые воды Балтики, бури на Черном море, млеющий под солнцем Каспий, фиорды под Мурманском и Печенгой да азовские лиманы. Была у него мечта порисовать океан, где-нибудь на Курилах или Канарах, но он уже смирился с тем, что с океанической экспедицией придется распростить – ведь даже к морю, к настоящему морю, не Маркизовой Луже, выехать стало непросто. За десять последних лет морские побережья сократились, и те места, где Глухов побывал, где рисовал и мог расплатиться рублями за пищу и ночлег, вдруг стали заграницей. А в заграницах любят не рубли, а доллары. В последний год Ян Глебович не раз прикидывал, не перейти ли на реки и озера, совсем отказавшись от океанов и морей. Но эта тема представлялась ему незначительной, мелкой и недостойной кисти мариниста. Так можно было опуститься до ручьев, каналов и фонтанов! Или до прудов, болот и луж… Водопады – еще куда ни шло, но только крупные, большие! В таких водопадах ощущались почти морская мощь, энергия и сила, именно то, что подкупало Глухова-живописца, но, к сожалению, Ниагар в Карелии не нашлось. И потому Ян Глебович пребывал в творческом застое. Портрет жены размещался между двумя полотнами с изображением моря и скал под Симеизом. Лето шестьдесят седьмого, напоминание о медовом месяце; им было по двадцать два, когда они решили пожениться, и Глухов, молодой лейтенант, добыл путевки на турбазу. Он даже помнил, сколько это стоило, в какой палатке они жили, и как обнимались ночью на узком деревянном топчане, и как шептала Вера – тише, милый, тише… Губы у нее были сухие, упругие, горячие… Он поглядел на верин портрет и улыбнулся. Жена улыбнулась ему. Совсем молодая, темноглазая; ветер развевает волосы, лицо – в пол-оборота, изящный носик поднят, у губ – решительные складочки… Она была человеком твердым, из тех, что знают, чего хотят – и, зная, всегда добиваются своего. Она говорила Глебову: у сильной армии – крепкий тыл… И еще говорила: ты за мной – как за каменной стеной… Но пришел срок, неведомо кем отмеренный и обозначенный, и стена рухнула… Они прожили вместе восемнадцать лет, но Ян Глебович считал, что вдвое больше, имея к тому все основания. В четыре года мать привела его в детский садик – а был он тогда пухлым домашним мальчонкой, даже не Яном, а Янчиком, из тех Янчиков и Сергунек, которым Коляны да Петьки всегда устраивали «темную». Устроили и ему, но тут появилась девчонка (косички – крысиные хвостики, колени исцарапаны, под глазом – синяк) и показала обидчикам пятый угол. Песочница, где случилась схватка, напоминала арену для боя быков: носы были расквашены, песочные замки – растоптаны, рога – обломаны, и все закончилось полной победой и ревом яновых супротивников. А девчонка, схватив его за руку, заявила: мой мальчик!.. не тронь, кому жизнь дорога!.. И не трогали пару лет, а там уж Янчик подрос, превратился в Яна и научился драться. Но заниматься этим не любил, особенно один; вот с Верочкой – другое дело, хоть против тысячи вдвоем! Глухов вздохнул, опять улыбнулся портрету и прошептал: – Зачем?.. Зачем ты меня покинула? Зачем?.. Жена все так же молча улыбалась в ответ. Не девочка-косички– крысиный-хвостик, а юная женщина, полная сил, любимая, любящая. Отблеск счастья лежал на ее лице – счастья и неведенья боли и бед, приуготовленных судьбой. И это утешало Глухова. Хотя бы иногда. Вера покинула его, но Любовь и Надежда были еще живы. Несмотря на свою профессию, где труп со свалки или горло, вскрытое от уха до уха, считались рядовым эпизодом, Глухов любил людей и надеялся, большинство из них – не разбойники, не насильники и не отъявленные мерзавцы. Что же касается мерзавцев, то с ними он мог воевать и делал это не без успеха, так как они являлись понятным и поддающимся искоренению злом. В отличие от рака, инфаркта и инсульта. Он послал портрету Веры воздушный поцелуй и вышел из студии в прихожую, к телефону. Неторопливо, по памяти, принялся нажимать на клавиши, вслушиваясь в четкие быстрые щелчки. Потом раздался гудок, второй, третий, четвертый; трубку подняли, и женский голос произнес: – Квартира Орловых. Слушаю! Говорите! – Елена? Это Ян Глебович, – сказал Глухов, разглядывая висевшие над телефоном часы. – Простите, что беспокою вас. Да еще в такое позднее время… – Могли бы и попозже позвонить, – язвительным тоном произнесла Орлова. – Мы вам всегда рады, и ночью, и днем. А если вы деньги наши найдете, так будем просто счастливы. – Денег я пока что не нашел, – со вздохом признался Глухов. – Не в деньгах счастье, Елена Ивановна, в доверии. Взять хотя бы нас с вами… Я вам почти что верю. Процентов так на девяносто пять. А хотелось бы на все сто. Тогда я буду в полной определенности, что мы с капитаном Суладзе ищем не ветер в поле. – Несколько тысяч долларов – это, по-вашему, ветер? – Конечно, нет. Если деньги – не мираж, не плод воображения. Мне ведь и эту версию нужно учесть. Про деньги я знаю с ваших слов, со слов вашего мужа, а какая словам цена, если не доверяешь заявителю? – Так вы нам все-таки не верите? – Трубка в руке Глухова начала хрипеть и раскаляться. – Считаете нас проходимцами? Антона – жуликом, меня – лгуньей? Или склочной бабой, у которой от жадности крыша поехала? Так я могу справку из психдипансера принести. О полной своей вменяемости. Глухов представил, как на щеках Елены вспыхнули алые пятна, и примирительно произнес: – Не надо справок, давайте лучше порассуждаем. Справка – она ведь логики не заменяет… Судите сами: вы получили наследство, квартиру с обстановкой, драгоценности и кое-какие деньги – всего, в стоимостном выражении, тысяч на пятьдесят. Разумеется, в долларах… Ну, заплатите налоги, соберете справки, то да се… Но, как ни считай, этих денег вам хватит лет на двадцать безбедной жизни. А если вывезти их за рубеж и положить в надежный банк, на депозит, так и того побольше. Я прав? В трубке пискнуло, и Ян Глебович счел это знаком согласия. – В такой ситуации не всякий стал бы качать права и утверждать, что его, наследника, обобрали. Пусть чего-то не досчитался, зато квартира в целости, мебель и хрусталь… Пятьдесят тысяч, как-никак, крупная сумма! Но – в России… В других краях – не так уж много, Елена Ивановна. В тех краях каждый грош пригодится… то есть цент… Вот вам и мотивация для наследника. Раз имеет он планы отъехать за рубеж, то будет биться за каждый доллар, а если что пропало – из всех сыщиков кишки повытянет, чтобы искали и нашли. И это мне понятно. Есть мотив, я принимаюсь за розыски и не считаю заявителя склочником и проходимцем, не говоря уж о крыше… Вам моя мысль ясна, Елена Ивановна? На этот раз в трубке ничего не пищало, и Глухов, немного подождав, спросил: – Почему вы мне не сказали, что собираетесь в Канаду? – Собираемся, – непривычно тихо промолвила Орлова. – А почему не сказала… Нужно ли вам это объяснить, Ян Глебович? Зачем? – Затем, что я хотел бы послушать это объяснение. Вы ведь библиотекарь, Лена? Вы много читаете, так? И вам понятно, что в словах, в речах и текстах, в разговорах проявляется нрав человека, и скрыть его не удавалось никому, даже патологическим лгунам. Можете мне ничего не говорить, дело ваше, ваше право… Но если объяснитесь, лишним это не окажется. Хотя бы потому, что я, зная ваши мотивы, буду испытывать к вам доверие. – Странные речи вы ведете… – пробормотала Орлова. – Странные… В милиции так не говорят. Особенно в ваших чинах… – Считайте, что я нетипичный милицейский чин, – предложил Глухов. – А был бы типичный, так ходил бы в чинах повыше. – Хотите сказать, что нам с Антоном повезло? – Нет, не хочу. Я ведь не обещал возвратить ваши деньги, я сказал, что найду похитителя… Или убийцу, – добавил Ян Глебович после краткой паузы. Елена тоже помолчала. Он слышал в трубке ее неровное взволнованное дыхание. Потом раздался голос, непривычно тихий и будто бы смущенный. – Понимаете, Ян Глебович… Вы могли подумать, что мы ждали ее смерти… ждали с нетерпением, когда Нина Артемьевна умрет… – Ее голос вдруг окреп, в нем прорезались решительные нотки. – Наверное, все-таки ждали, хоть между мной и Антоном об этом не говорилось. Но не желали ей смерти! Клянусь вам, не желали! Конечно, теперь мы можем все продать, уехать и купить там домик… хоть какое-то жилье… купить благодаря наследству… Но мы бы еще подождали, Ян Глебович… честное слово… ведь торопить чужую смерть – грех… Мы виноваты лишь в одном – в том, что оказывали Нине Артемьевне меньше внимания и заботы, чем полагалось бы… Только в этом, клянусь! Глухов немного подождал, но исповедь, кажется, была закончена. – Вот вы сказали: все продать и уехать, – произнес он, поглядывая на верин портрет, улыбавшийся ему из студии. – А стоит ли уезжать, Леночка? Для вас с Антоном другой родины не будет. Хоть с кембриджким сертификатом, хоть с оксфордским… Вы это понимаете? – Понимаю, – глухо пробормотала Елена, – понимаю, Ян Глебович… А детям что делать? Гнить в этой параше? Не хочу им такой судьбы! Не хочу! Нет уж, введут меня в наследство через полгода, все продадим и уедем к чертям собачьим. Мы уже заявление подали… – Ну, что ж, – сказал Глухов, – в добрый путь. Больше у меня нет к вам вопросов, Лена. Постараюсь сделать что смогу. – Спасибо, Ян Глебович. Запищали короткие гудки отбоя. Глухов положил трубку, вернулся в студию и снова уселся на диван, напротив портрета Веры. Разные мысли кружились в его голове. О людях, что покидают могилы близких, бегут с родины, забывая и корень свой, и род, и язык; о родине, что впрямь напоминала выгребную яму, залитую половодьем, где все вонючее и мерзкое всплывает кверху, и не у всех хватает сил дождаться, когда фекалии осядут или перегорят в компост; об одиночестве, грозящем беглецам – ибо всякий беглец когда-нибудь состарится и хлебнет его полной мерой, что на родине, что на чужбине. И хоть жизнь в чужих краях богаче и слаще, да одиночество горше… Затем мысли Глухова обратились к иным предметам, не столь печальным и расплывчатым, имевшим отношение к работе. Он выяснил, откуда пришло к Саркисову оборудование – не просто из Красноярска, а из научного центра, где, вероятно, трудились толковые биохимики. Их полагалось допросить, и Глухов направил письмо в Красноярское УВД, чтобы допрос провели и сообщили о результатах. Прежде он сделал бы это сам, но при нынешней скудости командировочных фондов что Красноярск, что Венера с Марсом были недосягаемы. Что же касается Петербурга, то дело и тут продвигалось, пухло и ширилось; в нем возникали новые версии и фигуранты, чиновники из мэрии, предприниматели, торговцы, а за спинами их маячили другие личности, посолидней, из так называемых «властных структур». Подобравшись к заводу «Аюдаг», Глухов выяснил, что у его директора, Мосолова Нила Петрович, есть какие-то планы насчет производства лекарств, а также имеется братец Виктор, коему принадлежит роскошное оздоровительное заведение на Петроградской стороне. Был у них еще и третий родич, кузен и депутат в Законодательном Собрании, а его супруга, дама деловая, возглавляла сеть коммерческих аптек – и, по предварительным сведениям, у нее меж пальцев даже пакетик аспирина не проскакивал. Тем более, дорогие антиаллергенные лекарства! А если б погибший Саркисов производил их тоннами – или хотя бы килограммами – были б они ценой дешевле, что сказалось бы на коммерции кузеновой супруги не наилучшим образом. От аптек и лекарств мысль Глухова плавно перетекла к врачам, и он принялся размышлять, кто же такой «не тот доктор», как выразилась соседка Нины Артемьевны. Доктор, который не делает уколов… Безусловно, не терапевт, не гинеколог и не хирург… Тут отпадали даже такие специалисты, как ларингологи, эндокринологи и стоматологи, вкупе с ветеринарами. Каждый из них умел колоть, было б кого и чем. Психоаналитик?.. – подумал Ян Глебович. Или логопед? Но для чего старушке их услуги? Скорей уж экстрасенс или какой-нибудь мануолог… или массажист… Визит массажиста на дом – не дешевое удовольствие, однако деньги у покойной были… и был артрит… Глухову хотелось оценить пользительность массажа при воспалении суставов, но его медицинские познания не простирались в столь отдаленные сферы. Значит, нужно привлечь консультанта, мелькнула мысль; кого-нибудь из своих, из патологоанатомов, к примеру, Кронина или Грудского Льва Абрамыча, из бюро судебно-медицинской экспертизы. Лучше, пожалуй, Грудского; с ним Глухов состоял в такой же дружбе, как с Мартьяновым и Кулагиным, не нарушаемой даже пристрастием Льва Абрамыча к спиртному. Но спиртное для прозектора не грех, а рюмка – лишь рабочий инструмент наподобие скальпеля и ножниц; без скальпеля не вскроешь, без рюмки вскрытого не разглядишь. К тому же Грудский норму знал и потреблял умеренно: рюмку до вскрытия и рюмку после. Позвонить ему, что ли?.. – подумал Ян Глебович, поднялся, шагнул в коридор, к телефону, взглянул на часы и недовольно сморщился. Четверть первого… Поздновато, чтобы расспрашивать про массажистов и артрит… И лучше расспросить с утра, до первой рюмки, после которой Грудский бывал раздражен и хоть эрудиции не терял, но изъяснялся как запорожцы в письме к турецкому султану. Глухов разделся, лег в постель, закрыл глаза и попытался не думать о работе и завтрашних делах, а представить что-то приятное – скажем, будто попал он на остров Косумель у мексиканских берегов и пишет Карибское море при тихой погоде. И будто бы Вера вместе с ним; прячется за спиной, но смотрит на его работу, на кисть, что осторожно коснулась полотна, на блеск лазурных вод и бирюзу небес – смотрит и восхищенно вздыхает, и даже советов не дает, что было совсем не в ее обычаях. Странно, подумал Глухов. Обернулся, чтобы взглянуть на жену, и увидел, что за спиной у него не Вера, а Линда Красавина.Глава 9
Утро выдалось хмурое. Солнце, не успев подняться, утонуло в тучах, и алые краски рассвета погасли, растворившись среди оловянных и свинцовых облаков. Они висели над городом недвижимо, с упорством стаи гиен, подстерегавших ослабевшую, теряющую кровь добычу; они не грозили ни снегом, ни дождем, а просто ждали, когда подует ветер, прижмет их вниз, к людским жилищам, к влажным тротуарам, к темной древесной коре и ноздреватому льду, который еще бугрился на реках и каналах, поверх холодных черных вод. Но ветра не было, и тучи угрюмым серым пологом пластались и клубились в вышине. Баглай посмотрел на небо, скривился и, сделав маленький шажок, замер у самого края крыши. Потом вытянул шею и осторожно заглянул вниз. Сорок метров, промелькнуло у него в голове. Дом – двенадцать этажей; значит, от земли до крыши – сорок метров. Или около того. Пожалуй, даже меньше. Но с высоты пропасть казалась огромной. Она ненавязчиво напоминала, что человек – обитатель плоской вселенной, что термин «расстояние» он прилагает большей частью к длине и ширине, а вот высота не подчиняется тем мерам, какими измеряют путь – ни футам, ни метрам, ни саженям, и уж тем более, ни милям и верстам. Высота являлась как бы особым пространственным измерением, внушавшим совсем иные чувства, чем ширина и длина, и чувства эти были разными – смотря по тому, откуда обозревалось возвышенное место, от подножия или с вершины. Стоявший у подножия испытывал восторг перед величием взметнувшейся в небо громады, утеса или горы, огромной колонны или здания; этот восторг нередко сопровождался ощущением собственной незначительности, малости и бренности, переходившим в почти благоговейный трепет. Но стоило взойти наверх, как восхищение сменялось страхом, а временами – паникой и ужасом. Под скалой или домом, творением божьим или рук человеческих, внезапно разверзалась пропасть, не столь уж глубокая по утверждению рассудка, но чувства говорили иное, и чувства были правы: путь вертикальный отнюдь не равнялся тому же пути на плоской и твердой земле. Сорок метров, думал Баглай. Ничтожное расстояние; можно преодолеть неспеша за минуту, можно поторопиться и пробежать за десять секунд, но если не бегать, а прыгнуть и лететь, то вся дорога займет секунды три, только финишируешь не в лучшем виде. В каком, он представлял вполне. За время службы в армии ему пришлось раз десять прыгать с парашютом, и на третий или четвертый раз купол над одним из солдат учебной роты не раскрылся. Баглай был среди тех, кому велели соскрести останки с поля – для опыта и в назидание, ибо десантник не должен забывать, в чем разница между горизонтальным и вертикальным. Но этот случай его не отпугнул; он относился к тем немногим людям, что не боятся высоты и даже испытывают странное, почти болезненное наслаждение при виде бездн и пропастей, провалов и обрывов. Они завораживали, притягивали его; и всякий раз, взглянув на землю с высоты, Баглай невольно ощущал, как падает, как мчится вниз в пустых и беспредельных безднах, парит без крыльев и парашюта, не вспоминая о неизбежном конце и ничего не страшась. Конец, разумеется, существовал, но даже он не казался пугающим. Краткий миг удара, всплеска пронзительной боли, потом – беспамятство… Почти эвтаназия! Хороший конец, стремительный, быстрый! И, несомненно, лучший, чем жизнь в угасающей вялой плоти, смирившейся с каждодневным страданием, с упадком сил, с болезнями, с отсутствием желаний… Баглай боялся такого конца. Немногие страхи были способны пробить барьер его брони и вызвать эмоциональный отклик, и первым среди них был ужас перед старостью. Не смерть его пугала, нет, а долгий, долгий путь, который вел к забвению; путь, который ляжет перед ним лет через двадцать или пятнадцать и будет тянуться годы и годы. Это казалось страшным – таким же страшным, как угроза потерять сокровища, все или малую часть вещей, найденных им, отнятых у других и принадлежащих ныне лишь ему. Ему одному! Эти два страха переплетались, щедро подкармливая друг друга. Он помнил, как и где добыто большинство его сокровищ, и он боялся, что наступит час, когда не удастся их защитить. Так же, как не удалось другим, одряхлевшим и одиноким, которых старость превратила в дичь, в предмет Охоты. Мысль, что сам он когда-нибудь станет дичью, была неприемлемой, нестерпимой – в той же мере, как долгий смертный путь или соображение о том, что он умрет, оставив кому-то другому все собранное и накопленное. Такой вариант исключался; хоть смерть была неизбежной реальностью, он полагал, что у его сокровищ не будет других хозяев. Мрачное утро, мрачные мысли, подумал Баглай и отступил к слуховому окну. После работы хорошо бы развеяться; может, позвонить Ядвиге и навестить одну из девушек, а может, пройтись по антикварным лавкам, потратить взятое у старой генеральши. Но тут он вспомнил, что вечером идет к Черешину, и что от старухиных денег остался пшик – тысячи две с половиной, на стоящую вещь не хватит. Запоздалые сожаления терзали Баглая, когда он спускался в тамбур перед своими квартирами, отворял дверь, брился и готовил завтрак. Он мог бы взять все деньги… все, до последнего доллара, и ничего не оставить ублюдкам, о коих толковала генеральша… Но здравый смысл подсказывал, что делать этого нельзя. Об этих деньгах знали; не о размерах суммы, но, в принципе, о том, что деньги существуют и перейдут когда-нибудь наследникам. Это «когда-нибудь» могло растянуться на многие-многие годы, если не торопить события, однако не растянулось – из-за его, баглаевых, стараний… Разумные люди были б ему благодарны… Но где их сыщешь, разумных людей? Тем более – наследников? Люди жадны; покажется мало, поднимут шум, а шума Баглай не любил. Главный закон Охоты – осторожность; и, сообразуясь с этим правилом, он брал лишь то, что без затей просилось в руки. Деньги попадались редко. Наверное, каждый его подопечный имел их и прятал где-нибудь в укромном уголке, но деньги – не вещи, не мебель, не редкие книги в шкафах и не картины на стенах. Словом, не то, что выставляют на обозрение, чем можно заинтересоваться и расспросить… Вернее, бросить пару слов и ждать, когда расскажут сами. Эта стратегия, которой Баглай следовал с неизменным успехом, тоже являлась данью осторожности; он не обыскивал квартир, не оставлял следов и, отправляясь за добычей, в точности знал, где и какую вещь найдет. Деньги попадались редко. И только дважды – крупные деньги, лежавшие на виду, и про которые он прознал заранее. У Симановича Михал Михалыча, года три тому назад, и у старухи-генеральши. Дом Симановича был памятен Баглаю по изобилию книг, среди которых, впрочем, старинных и редких не попалось; все больше справочники, энциклопедии, собрания сочинений советских времен и подарки, с автографами доброй половины Союза писателей. Михал Михалыч тоже был писателем, но его творения, ни прошлые, ни нынешние, Баглая не волновали, а волновала самая ценная вещь – картина Гварди, украшавшая гостиную. Ее Симанович унаследовал от брата, и оба они, и Симанович, и его покойный брат, были одиноки и стары – так стары, что ни друзей, ни близких приятелей не оставалось. Правда, была у писателя дочь, но ее он не видел лет восемнадцать и был с ней в ссоре, поскольку дочь перебралась за океан, с супругом и детьми, а Симановича на тот момент едва не исключили из Союза. Так что о дорогом полотне никто не знал, за исключением Баглая да сантехников, чинивших кран в писательской квартире. Но сантехники не разбирались в искусстве; их интерес был иным – прозрачным, жгучим и разлитым по бутылкам. Баглай ходил к писателю месяцев семь, не торопился, разглядывал картину и остальное имущество, но тут американская дочка надумала мириться. То ли совесть ее заела – как там живет-поживает отец в полуголодной России?.. – то ли хотелось похвастать своими успехами; так ли, иначе, прислала письмо с надежным человеком, а в приложение к письму – шестнадцать тысяч долларов. Михал Михалыч был ошеломлен. В деньгах он не нуждался, имея солидные накопления, однако весть о дочери и внуках была такой внезапной и приятной, что Симановича чуть не хватил на радостях инфарк. Он поделился новостью с Баглаем, продемонстрировал письмо и деньги и целый час, пока Баглай трудился над писательской спиной, все толковал о внуках-гениях: младший заканчивал колледж, а старший уже работал, преподавал математику в МТИ.[751] Тут и слепому было ясно, что стоит поспешить, спровадить Симановича в особый рай, приуготовленный для писателей, где их ежедневно награждают и издают в сафьяновых переплетах. Этим Баглай и занялся, и тоже был вознагражден – венецианским пейзажем и всеми присланными деньгами. Деньги ему пригодились – как раз тогда он откупил соседнюю квартиру и смог произвести ремонт. Деньги пришли, деньги ушли… В отличие от драгоценных предметов, деньги имели свойство растворяться, перетекать в чужой карман, что вовсе не казалось удивительным Баглаю – такая уж особенность у денег, когда их мало. Тысяча, десять тысяч или двадцать… Словом, не миллион. Вот если бы достался миллион… и не в бумажках, а в чем-то повесомей и попрочнее… в чем-то таком, как изумруды Черешина… Тогда бы можно было прекратить Охоту, решил Баглай, натягивая плащ. Взгляд его остановился на отрывном календаре; он сорвал вчерашний листик, скомкал его и машинально сунул в карман. Сегодня – двадцать пятое, четверг… март, весна… ночь становится светлее, день – длиннее… Пора кончать с Черешиным, мелькнула мысль.* * *
На работу Баглай шел пешком, явился как всегда к девяти и был потрясен царившим там многолюдством. Дробно стучали женские каблучки, шаркали подошвы туфель, развевались полы халатов, гул стоял на лестницах и в коридорах, под сводчатыми потолками, и лишь «скифы»-охранники были как всегда спокойны: маячили в положенных местах с невозмутимым и бдительным видом. Что касается сотрудников «Дианы», те толпились тут и там, грудились в кучки, переговаривались, то и дело повышая голос и размахивая руками – словом, пребывали в возбуждении, вместо того, чтоб сидеть по кабинетам и ждать, когда постучится первый пациент. Бунт, подумал Баглай, мятеж! Или забастовка… Может, Мосол зарплату урезал? Или бананы с бензином вздорожали?.. Ну, бастуйте, бастуйте… из Мосла да Лоера лишний рубль не выжмешь… не те они люди, чтобы рублями бросаться… А если бросаться, так со смыслом, персонально, запаковав в конверты… чтобы ошибки не случилось, чтоб самый увесистый достался той сучонке, на которую стоит… При мысли о Вике Баглай передернулся и вдруг сообразил, что говорят не о деньгах и ценах на бананы, а о чем-то другом – о «Сатане» и «Мигах», о «Томагавках» и «Стелсах», «Торнадо» и «Аваксах» – и это было удивительней любой попытки выжать рубль из Мосла. Мосол был, конечно, ушлый мужик и чуял выгоду за километр, однако оружием не торговал, ни «Мигами», ни «Сатаной» – тем более, «Стелсами». Баглай юркнул к себе, быстро переоделся, позабыв про душ, накрыл простынкой поверхность массажного стола, включил музыку и выглянул в коридор. Леня Уткин, сосед и коллега, как раз мчался мимо двери, целенаправленно двигаясь к курилке; лицо его отливало синюшной бледностью, волосы растрепались. Схватив Уткина за локоть, Баглай развернул его, прижал спиной к стене и поинтересовался: – Что горит, Леонид? Мосла посадили или Лоер сдох? – Т-ты… т-ты чего?.. – Уткин заикался от волнения. – Т-ты на каком свете живешь? Радио не слушал и телевизор не глядел? В-война! Война, приятель, началась! Пришел черед бледнеть Баглаю. Представилось ему внезапно, как рушится дом под ударом ракеты, как лопаются и рассыпаются мелкой пылью фарфор, хрусталь и драгоценный нефрит, пылают мебель и ковры, плавится серебро, как, скручиваясь темными жгутами, горят полотна – венецианский пейзаж, картины с мельницей над сумрачным потоком, с развалинами греческого храма и с панорамой гор… Это видение было таким ужасным, таким пугающим, чудовищным, что Баглай хрипло застонал и вжал Уткина в стену с невероятной силой. Тот дернулся, пытаясь освободиться. – Пусти, урод! Ты ж мне грабли переломаешь! Чем я клиентов охаживать буду? – Где? – мучительно выдохнул Баглай. – Где? – Чего тебе – где? Пусти, говорю! – Какая война? Где? С кем? – НАТО с Сербией сцепилось… Блин Клинтон с Драбаданом Милькой… На Балканах, из-за Косова… Лапы убери, кретин! Чего перепугался? Штаны еще сухие? – Сухие, – буркнул Баглай, отодвинул Уткина с дороги и направился в курилку, за более детальной информацией. Его отпустило. Против войны на Балканах он не возражал, как и против войн в иных местах, хоть в Индии, хоть в Бельгии, хоть на Кавказе, только подальше от Петербурга. Рухнувший дом, алые космы огня, гибель сокровищ, черная пыль над руинами – все это лишь мираж, игры распаленного воображения… Кто покусится на Россию?.. Кто, кроме нее самой? Россия – колосс! Слишком большая страна… огромная… все в ней увязли, все… и все об этом знают, даже самый распоследний идиот… и о бомбах знают, о ракетах, да и не только о них… еще и разного-другого понаделано, вроде чумы и сибирской язвы… на весь божий свет хватит! Немного успокоившись, он нырнул в переполненную курилку. Здесь собралось человек тридцать. В одном углу дружно скандировали: «Америку – в парашу! Победа будет наша!»; в другом что-то бубнили про Примакова – мол, не всякий премьер долетит до середины Атлантики; в третьем, у раковины, обильно посыпанной пеплом, сцепились гомеопат Насибов и мрачный массажист Бугров: Бугров, хмурясь и сплевывая, распространялся о славянском братстве, а гомеопат доказывал, что сербы – никакие не славяне, а те же греки или, быть может, перекрестившиеся хитрые жиды. Посередине, в кружке женщин, витийствовал экстрасенс Жора Римм. Его обступили девицы из солярия, молоденькие косметологи, тренерши, физиотерапевты, и среди них – Вика Лесневская; завидев Баглая, она тут же принялась щуриться, улыбаться и хлопать накрашенными ресницами. Баглай молча кивнул и встал за Виолой, пышной грудастой красоткой, служившей при бассейне. Ростом и шириною плеч бог ее тоже не обидел, так что за ней можно было укрыться как за афишной тумбой. – Этот Блин чего на Сербию попер? – объяснял Жора, блестя очками и размахивая сигаретой. – Это и ежу ясно, что из-за стервы Моники! Трахнул бабу, она ему импучментподсуропила, кишки помотала, теперь еще деньгу гребет, монографии сочиняет… Как сладко мне спалось с президентом США… С какого бочка он на меня запрыгивал, куда слюну пускал… В общем, из всех чакр сосет, а это, девочки, штука опасная, смертоносная, про это мы информированы, это у нас зовется энергетическим вампиризмом плюс глобальный сглаз. Тут не импучментами пахнет, а потерей пульса и полной импотенцией, так что выход, понимаете, один… – Девушки захихикали, а экстрасенс картинно затянулся и выпустил в воздух пару колечек. – Один выход, говорю: взять в заложники родича вампира, кровь ему пустить, помучать и поторговаться – мол, бери своего, а от меня отвянь. Самый наилучший способ! И самый надежный, проверено на личном опыте. Вот и приходится другу Биллу… – А Сербия на кой хрен ему сдалась? – прогудел от умывальника Бугров. – У этой шкуры Моньки родичей, как блох на шелудивом псе… И папка ейный жив-живехонек, и мамка… есть кого утюжком прогладить да перышком пощекотать… При чем тут сербы, э? – При том, что ейный папка с мамкой – американы, и перышком их не пощекотишь, – повысив голос, отпарировал Римм. – У них, Бугор, такого не положено… законы такие дурацкие… А вот разбомбить Югославию – это пожайлуста, ноу проблемс энд виз плеже[752]… Так что Билл ее разбомбит и оккупирует, и будет у него плацдарм, и двинет он с этого плацдарма к северу, через страны НАТО, Венгрию, Чехию, Польшу, и выйдет он к Литве – а там, как известно, проживает монькин дядюшка… Баглай плюнул, провел пальцем под носом и вышел в коридор. В курилку тем временем сунулся Лоер Макс Арнольдович и повелительно зарокотал: – На место, коллеги, на место!.. Рюмин, хоть вы и экстрасенс, но лучше не интригуйте девушек… и не смешите… девушкам еще работать целый день… вам, кстати, тоже… А если кто пожелает уволиться и волонтером, значит, на Балканы – тех прошу ко мне, на четвертый этаж. За рекомендательными письмами на имя президента Милошевича… Выдаются вместе с трудовыми книжками… Есть желающие? Вы, Бугров? А может, Рюмин? Жора Римм выскочил из курилки, уставился на Баглая ошалевшим взором, пробормотал, что аура у него сегодня гадкая, в мерзких коричневых полутонах и серых оттенках, и зарысил к своему кабинету. – Ты – большая ветряная мельница, – заметил вслед экстрасенсу Баглай и тоже направился к себе – не торопясь и игнорируя угрозы Лоера. Максу Арнольдовичу стукнуло шестьдесят, происходил он из отставных медицинских полковников, был несгибаем и суров, умел пугать и мылить шею, но годы брали все-таки свое. Годам шею не намылишь, злорадно подумал Баглай, прикидывая, когда Мосол и Лоер окажутся в его кабинете и на его столе. Он знал, он был уверен, что это случится с той же неизбежностью, с какой зима сменяет осень, а ночь – вечерний полумрак. Их жизнь будет под его ладонями, и он распорядится ею по собственной воле – может, подсократит, а может, пощадит… Баглай усмехнулся, но тут же пригасил улыбку. Мысль о возможной мести не тешила, а почему-то раздражала и вызывала совсем уж мрачные ассоциации: привиделся ему покойный Симанович, затем – оживший чудом труп Кикиморы; будто встает она с пола, ковыляет к нему, тянется левой рукой со скрюченными пальцами, щерит зубы в торжествующей ухмылке, теснит в угол… Выругавшись, он проскользнул к себе, ополоснулся холодной водой, вытер лицо и начал греть руки, энергично потирая ладонью о ладонь. В девять тридцать в дверь постучали; вошла Ирина Васильевна, мастерица с ткацкой фабрики, чей сын трудился в «Дельте телеком». Баглай кивнул ей на ширму. Она принялась раздеваться, ни на минуту не смолкая; болтала все о том же, о натовских извергах и разнесчастных сербах, о божьей каре и о России, заступнице-матушке, о президентах, которым на народ плевать – они, президенты, сидят по дачам и бункерам, строчат указы, а бомбы на них не сыплются, бомбы – те для простых людей, и потому…. Баглай прервал ее, велел ложиться, склонился над столом, ощупал закаменевшие мышцы у основания шеи, надавил. Старуха охнула. – Болит? Потерпите, мамаша… Расслабьтесь… спину не напрягайте… вот так… И лучше вам помолчать. В Сербии – свои беды, у нас – свои… А персонально у вас – сколиоз. Такая штука и президентов не милует. В бункер от нее не спрячешься… Он смолк, но пальцы привычно занимались делом, надавливали и поглаживали, вытягивали и пощипывали, терли и разминали, танцуя по дряблой коже, среди бугров и расселин, пропаханных неумолимым временем. Но в этот раз работа не успокаивала, а лишь приводила его в раздражение – все большее, по мере того, как пациент сменялся пациентом, старуха – стариком. Хмурое утро угасло, пришел такой же хмурый день, серый свет лениво сочился сквозь окно, и Баглаю казалось, что он уже целую вечность массирует чью-то необозримую спину, вязкую, словно болото, с хребтом позвоночника, делившим надвое бледную зыбкую топь. Однако и тут случались находки: смещение дисков, межпозвонковые разрастания и грыжи, деструкция костей, потеря иннервации – иными словами, нечувствительность в пальцах ног, а то и по всей ступне. Таким пациентам Баглай предписывал мануальную терапию, ванны и электропунктуру, благо прибор для этого имелся, уникальный прибор, раздобытый Мослом в Израиле. Откуда он деньги берет?.. – крутилось у Баглая в голове, пока он разминал чужую поясницу. Откуда? Дом, где помещалась «Диана», был недешев, но ходили слухи, что Виктору Петровичу он достался за пустяк – наворожил какой-то родич, то ли из мэрии, то ли из депутатов-законодателей. Но оборудовать центр и раскрутить его стоило солидных средств, происхождение которых было тайной за семью печатями. Во всяком случае, Мосол, доцент какого-то там института, серьезных капиталов не имел, не полагались в советское время доцентам такие деньги. Не имел, однако приподнялся… Поговаривали, что на импорте приборов и лекарств и на комиссионных от поставщиков, но Баглаю в это не верилось. Никак не верилось! Комиссионные – тысячи, может, десятки тысяч, а в центр угроханы миллионы – конечно, не рублей… Теперь «Диана» была доходным предприятием, но ее владелец, вполне вероятно, был не так уж богат и отдавал все заработанное кредиторам. Или рассчитывался с ними иначе, а как – оставалось лишь гадать да чесать в затылке. Богат он или не богат, а денег на баб не жалеет, размышлял Баглай, вспоминая о конвертике, врученном Вике. Пухлый был конверт, солидный… Интересно, сколько в нем?.. Больше, чем берет Ядвига, или меньше? Эта проблема весьма занимала Баглая, так как касалась не хрусталя, не картин и нефритовых ваз, а рынка иных товаров, где цены падали и поднимались скорее по прихоти продавца, и только в редких случаях – по воле покупателя. То, за что Мосолов платил, ему, Баглаю, предлагалось даром, но это не значило, что Вика Лесневская стоит дешевле Сашеньки, Татьяны, Милочки или любой другой из ядвигиных девиц. Дороже стоил сам Баглай, много дороже Мосла, и от того ему предоставляли выбор: платить или попользоваться бесплатно. И все-таки – сколько было в том конверте?.. И как исчислен гонорар – за разовую или многократные услуги?.. В седьмом часу Баглай переоделся, сложил в саквояжик баночки с мазями и маслами, запер кабинет, спустился вниз и вышел на улицу. Следом за ним – легка на помине! – выпорхнула Вика. Волосы распущены, замшевый кожушок до колен, сапожки на высоких каблуках, шарф, сколотый у плеча агатовой брошью… – Подвезти, Баглайчик? Схватив за руку, она потащила его с проспекта во двор, к автостоянке и к новеньким «жигулям». Восьмая модель, редкий цвет, асфальтный, машинально отметил Баглай и облизнул губы. – Откуда тачка? – Оттуда… – Стоя у дверцы, Вика возилась с ключами. – От спонсора-поклонника. Очень-очень солидного и щедрого… Знаешь, как это бывает? Виктория, вы потрясающая женщина… просто шикарная… я о такой всю жизнь мечтал, лет пятьдесят с хорошим гаком… В общем, долгий-предолгий срок… И больше мечтать не хочу и не желаю томиться при стерве-супруге, хочу иметь! Чем я хуже президентов и генеральных прокуроров? Ничем! – Она скорчила забавную гримаску. – А дальше он падает в ножки, подносит цветы и слезы льет, ну, а Виктория спонсора утешает по доброте душевной: не томись, дорогой, не страдай, будут колеса, будет тебе и женщина… Самая шикарная… – Вика нырнула в салон, похлопала ладошкой по сиденью. – Залезай, Баглайчик! Куда поедем, ко мне или к тебе? – Я в «жигулях» не езжу, тесноваты мне «жигули», – вымолвил Баглай. – Вот когда спонсор на «БМВ» разорится, тогда и потолкуем. А может, я сам тебе подарю… Если отработаешь. Губы Виктории дрогнули. – Отработаю, – с прищуром откликнулась она. – А может, спонсору скажу: есть тут один идиот, «БМВ» предлагает… Сказать? – Стоит ли? Случится со спонсором удар, не будет ни тачки, ни спонсора… И что тогда? – Другого найдем, – сказала Вика. – Свет велик, и в нем хватает и спонсоров, и идиотов. Ну, ты садишься или нет? Пожав плечами, Баглай отвернулся и пошел к проспекту, ловить такси. За спиной раздался гул мотора, шорох шин по влажному асфальту, «жигуленок» скользнул мимо него, коротко и насмешливо рявкнув клаксоном, и серой тенью растворился в потоке машин. Настроение было – хуже некуда. Мрачный день, унылая очередь пациентов, бесконечные разговоры о войне и о бомбежках, о беженцах и первых трупах, об обстоятельствах и вещах, до коих ему, Баглаю, дела не было – и все же эта гнетущая атмосфера раздражала и вселяла чувство неуверенности, незащищенности и хрупкости, словно напоминая, что есть события, которыми он управлять не в силах. Стычка с Викой добавила каплю к его раздражению, еще не переполнив сосуд, но обозначив уровень жидкости вровень с краем. Невольно он подумал, что ядвигиным девушкам полагается триста баксов за ночь, а Вику, как ни крути, оценили дороже, намного дороже, хотя оплачен ей не один-единственный сеанс, а целый курс лечебных процедур. Он не испытывал ревности, не строил планов как отобрать ее у Мосла, и все же, все же… Все же казалось, что нечто у него отняли, не столь дорогое, как ваза эпохи Мин или картина Гварди, однако принадлежавшее ему. Разорился старый хрыч на тачку, злобно подумал он о Мосле, потом, припомнив, куда направляется, решил, что нервничать по пустякам не стоит. Тачка – всего лишь тачка, один из многих способов приобрести благосклонность женщин, но существуют варианты и получше. Камешки, например… За дюжину черешинских камней он мог бы купить гарем с тремя «кадиллаками» впридачу… или два гарема, или три, если выбрать камешки с умом… На миг блеск изумрудов ослепил его, и мысль о них согрела сердце.Глава 10
– Что-то ты нынче невесел, бойе, – стащив халат, Черешин зябко поежился и лег на диванчик, подставив худую спину. – День такой. Тяжелый день, – пробормотал Баглай, начиная мерными круговыми движениями втирать мазь в черешинскую шею. То был секретный целебный состав, приготовлять который он научился у Тагарова, тибетского монаха, в бытность свою в ашраме: конопляное масло, смола ватика, медвежий жир и тигриная желчь. С последним компонентом было непросто, его привозили из Маньчжурии и только для своих, а в этот круг Баглай не попадал, хоть занимался у Тагарова не меньше года. Приходилось хитрить, выпрашивать, сулить большие деньги, зато эффект был налицо: неведомым волшебным образом мазь стимулировала кровоток, снимала ломоту в костях и боль от застарелых ран. Но применять ее полагалось в точной и небольшой дозировке, ибо излишек был не целителен, а вреден, особенно для пожилых людей. Подцепив желтый пахучий бальзам кончиком ногтя, Баглай прошелся вдоль позвоночника, растер поясницу и начал разминать черешинские шрамы. Юрий Данилович закряхтел. – Жжет, подлая… жжет, но боль проходит… – Он повернулся на бок, подставляя пальцам массажиста колено и бедро. – А день и правда тяжелый… тут ты, бойе, не ошибся… не всякий день по городам Европы бьют ракетами… и бить еще будут… я не увижу, даст бог, а ты нахлебаешься, парень… ох, нахлебаешься!.. От этих пророчеств под сердцем Баглая лег холодок, но руки не останавливались, не дрожали, пальцы делали свое дело, не поддаваясь ни страху, ни смятению. Поколебавшись минуту, он спросил: – Думаете, Юрий Данилыч, и по нам трахнут? – Они не трахнут, нет… Сказал один умный человек: вот страна посередине мира, нищая, голодная и злая, вооруженная до зубов, с отчаянным народом, которому и терять-то нечего… Так вот, бойе, это мы, и все, кто жил и живет хорошо, нас боятся… Может, не столько нас, как того, что мы способны натворить… и потому не тронут, а будут откупаться… – Черешин повернулся на другой бок и протяжно, по-стариковски вздохнул. – Но мы себя сами тронем, бойе, сами… так сами себя оттрахаем, что мир ужаснется… Может, до войны и не дойдет, а только всеобщее разгильдяйство – оно ведь почище войны… Там сгорит, здесь взорвется… потом такое грохнет, в пять Чернобылей, что пол-Европы встанет на дыбы… а другая половина ляжет… – Черешин помолчал, снова вздохнул и добавил: – Жалко… и людей жалко, и коллекцию… всю жизнь собирал… камни, они ведь перед людьми не виноваты… у них ведь одно назначение – радость дарить… Под эти вздохи и разговоры Баглай закончил массаж, спрятал баночку с драгоценной мазью и стал собираться. – Теперь когда? – спросил Черешин, сполз с диванчика и потянулся к халату. – Теперь – в воскресенье, Юрий Данилович. Дня три надо бы обождать. Или хотя бы два. – Сегодня у нас четверг… – Черешин, что-то припоминая, поднял глаза к потолку. – Давай-ка, бойе, назначим на субботу. Занят я, понимаешь, в воскресенье. Придет ко мне Пискунов из Горного, с тремя своими аспирантами, опись начнут составлять. Не полную, конечно, такая хренотень за день не делается, но хоть самое ценное перепишем, из маленькой комнаты… Случай-то редкий, чтоб Пискунов до меня добрался, да еще с помощниками… никак нельзя упускать… Так что давай в субботу. Годится? – Годится, – сказал Баглай, невольно вздрогнув, когда зашел разговор об описи. Опись ему была пострашней ракет и бомб, валившихся на сербов, но в то же время он сразу успокоился, словно почувствовав в словах Черешина веление судьбы. Значит, суббота… День не хуже прочих, даже лучше… В ночь на воскресенье город тих, безлюдны улицы, все отсыпаются; кто – после субботней пьянки, кто – перед рабочим понедельником… Такие ночи Баглай любил. Можно было не торопиться, не покидать квартиру до пяти утра, с полной гарантией, что любопытные соседи не увидят, кто там шастает во дворе или выходит из подъезда. Но лучше уйти в четыре, мелькнула мысль; светает теперь рано, и рисковать ни к чему. В два войти, в четыре уйти… времени хватит… Главное – не ошибиться в процедуре, чтобы не вышло как тогда, с Кикиморой… старик-то крепкий… Может, добавить тибетским бальзамом?.. Опасно, подумал Баглай, перебегая улицу к Таврическому саду. Опасно; мазь – нежелательный след, особенно под лопатками, на спине, куда и молодому не добраться. А вывод очевиден: значит, кто-то приходил и растирал, да еще таким редкостным средством… Подумают, поразмышляют, определят состав – вот и ниточка, которую можно подергать… даже не ниточка, а канат, если вспомнить о тигриной желчи… Руками справлюсь, как обычно, решил он на эскалаторе метро. Не в первый раз… может быть, в последний, но уж никак не в первый. В седьмой?.. Или в восьмой?.. Проскользнув в раскрывшуюся дверь вагона, он сел и принялся считать. Первой была Любшина, году в девяносто четвертом, когда ему захотелось попробовать… Попробовал, получилось, но напугался так, что пару лет не отпускали кошмары. Не мертвая Любшина снилась, а камеры да решетки, узкие окна, забор с колючей проволокой наверху, полярные снега и автоматчики с овчарками. Но – ничего… Никаких подозрений… Покой и тишина. Старуха на кладбище, а у него – на память – французские фарфоровые статуэтки, Паяц, Арлекин, Коломбина, стройные дамы и кавалеры, восемнадцатый век, изящество, красота… Со слов Любшиной он знал, что вся эта прелесть попала в Россию после наполеоновской ретирады, однако до смерти Пушкина; привез же статуэтки предок-граф, гусар пятидесяти лет, женившийся в Париже на девице де Труа, из обедневшего, но благородного семейства. С тех пор они пережили бунты и войны, развал империи и революцию, пролетарский террор и грабеж, блокаду и обнищание потомков графа, из коих Любшина была последней – не считая тех, безвестных, чьи предки перебрались в Китай, в Стамбул, а может, в Калифорнию. Но их наследные права были не столь весомыми, как у Баглая – все-таки он находился поближе. После Любшиной была Кикимора, затем – Симанович и другие, к примеру – Троепольская, актриса, хранившая в огромном древнем сундуке невероятной красоты икону – Богородица с младенцем Иисусом на руках, в серебряном окладе, с рубинами и жемчугами. Нашлись в сундуке и подсвечники в виде нагих дриад, старинный тульский самовар, арабская сабля в чеканных ножнах, туалеты, расшитые бисером, и многое другое. Баглай забрал клинок, канделябры и икону. Сабля висела теперь над диваном, а канделябры украшали тиковый комод, отлично гармонируя с серебряными портсигарами и табакерками, пасхальными яйцами работы Фаберже и взятой у Кикиморы шкатулкой. Икону он запрятал в шкаф. Ценность ее была бесспорной, но в глазах Богородицы читалось что-то такое непонятное, не милосердие, не прощение, а гнев или упрек, на что глядеть он не желал. Хотя, если задуматься, в чем могла укорить его мать Спасителя, глядевшая с разрисованной доски?.. Гибель всего живого есть соизволение божье, бог убивает и старых, и малых тысячей изощренных способов, и все они мучительны – либо, по крайней мере, неприятны. А он, Баглай, дарил легкую смерть, и лишь старикам… Такую смерть они могли считать благодеянием. Он дважды пересел на узловых станциях, доехал до Петроградской и поднялся наверх, к площади, так и не сосчитав облагодетельствованных им клиентов. Хотелось есть. С минуту, взирая на плотный поток машин и мельтешившие на тротуарах толпы, Баглай размышлял, отправиться ли домой или перекусить в каком-нибудь ресторанчике – благо их тут хватало, и на Каменноостровском, и на Большом проспекте, и у набережной, где вмерзли в лед два или три пловучих заведения, неприглядных, но с хорошей кухней. Конечно, не такой изысканной, как у Ли Чуня в «Норе», зато неподалеку от дома и относительно тихих, без пьяной публики и баб. Все еще оставаясь в нерешительности, он добрел до Каменностровского моста, огляделся, увидел баржу с вывеской «Парус», понюхал воздух и решил, что пахнет вроде бы приятно и даже романтично. А заведение напоминает флибустьерский бриг… Можно вообразить, что там запрятаны сокровища, награбленные по семи морям и трем океанам… Пусть не китайские вазы эпохи Мин, не канделябры с итальянскими картинами, а расписные блюда – лишь для почетных гостей, для тех, кому подаются жареный лебедь, паштет из оленины и севрюжий бок… Он представил себе эти блюда, снежно-белые, с золоченой каймой, с гербами, вензелями и узорами, точь-в-точь такие, как недоступный императорский фарфор из Эрмитажа, и ноги сами понесли его вперед. Дверь распахнулась перед ним, в привычном поклоне согнулся швейцар, запахи вкусной еды защекотали ноздри, и, будто стараясь взбодрить их и сделать еще соблазнительней, зазвучала тихая мелодия. Такая же тихая и нежная, как в кабинетах «Дианы», Шопен или Брамс, Моцарт или рыдания Сен Санса по умирающим лебедям. К музыке Баглай был равнодушен, но запах оценил.* * *
Домой он отправился заполночь, шел дворами, чтоб сократить дорогу, и с мрачным видом прикидывал, насколько его обчистили в «Парусе». Императорских сервизов там, конечно, не нашлось, равно как и жареных лебедей, но был шашлык, вполне приличный, из молодой баранины, не застревавшей в зубах, были салат «оливье» и рыбное ассорти, мягкий лаваш и зелень, и настоящее грузинское вино тбилисского разлива. Баглай, чтобы взбодриться, взял бутылку. Вино он любил и разбирался в нем, предпочитая крепким напиткам, а из последних мог опрокинуть рюмку водки, но лишь одну и для того, чтоб в обществе не слишком выделяться. А вот коньяк не терпел, тошнило его от коньяка, от вида его и от запаха, а больше – от воспоминаний: дед, как всякий большой чиновник, без коньяка к столу не садился. Пил он в меру, не хмелел, мог повеселить собутыльников, и где-нибудь в других местах, где праздновались спортивные победы, его считали компанейским человеком. Но дома он пил и угрюмо посматривал на внука, припоминая все его шалости и проступки, с самого главного и основного – что внук вообще народился на свет. И зачастую это кончалось неважно: как минимум, оплеухами, а то и ремнем. В «Парусе» Баглай оставил сотен пять, что в пересчете на валюту было не так уж много, не больше двадцати долларов. Один сеанс, мелькнула мысль; вполне приемлемо, если учесть, что сеанс – это сорок минут, а с шашлыком, салатом и вином он развлекался часика три и думал о приятном – не о костлявых или заплывших жиром спинах, а о камнях, мерцавших в глубине черешинских шкафов. Правда, в десять настроение ему подпортили: метрдотель включил телевизор, грохнули взрывы, с экрана ринулся поток огня, замелькали чьи-то физиономии, искаженные страхом, потянулись толпы беженцев, в пыльном облаке рухнул чей-то дом, взвихрилось пламя и заплясало над обломками… Эти новости, свидетельства беды, пахли гарью и кровью и недвусмысленно намекали, что за сегодняшним трепом в курилке, за болтовней пациентов и за словами Черешина стоит нечто чудовищно страшное и не слишком удаленное во времени и пространстве – не сплетни, не байки, не сказки, а жестокая реальность. Целили по аэродромам и арсеналам, по казармам и танкам, но полыхали больницы и школы, а временами – жилые дома, что погрузило Баглая в полное расстройство: опять привиделись ему горящие картины и битый вдребезги фарфор. Он отвернулся, пригубил вина и в мрачном настроении стал жевать шашлык, заедая зеленью. В полночь все показали по новой, и взрывы, и беженцев, и селенья в руинах, но тарелки перед Баглаем были уже пусты, а в бутылке плескалось на самом донышке. Он допил, потребовал счет, бросил на скатерть деньги и направился к выходу. Стылые речные воды бились о ледяную кромку, над ними плавал туман, темный, непроницаемый, тянувшийся до небес, скрывавший луну и звезды; дул пронзительный холодный ветер, раскачивал редкие фонари вдоль набережной, выл и гудел в проводах, будто жалуясь себе самому на непогоду, на сырость и бесприютность. Во дворах, среди домов, застывших в плотных шеренгах, голос ветра был не так громок, напоминая не вой, а рыдающий плач, но его знобкие пальцы терзали Баглая с прежней силой, стучали в окна, шарили в щелях, гнали мусор по неоттаявшей еще земле. Ветер был упорным массажистом; он давил и гладил, напирал и растирал, дергал и щипал, делал вертикальное горизонтальным, а все, что уже лежало, старался изничтожить, переломать, вбить в промерзшую почву и закопать с ловкостью опытного могильщика. Но, в отличие от людей, он не раздражался и не спешил; как-никак, в его распоряжении была вечность. Баглай, прижимая локтем саквояж, нырнул под арку, что открывалась на Вяземский, сделал два шага и встал: дорогу загородили двое. Лица их тонули в темноте, но свет, падавший с улицы, скользил над стрижеными макушками и плечами, облитыми кожей; она влажно поблескивала, словно оба незнакомца облачились в стальные кирасы, забыв дополнить свой наряд шпорами, шлемами и клинками. Правда, насчет клинков Баглай испытывал сомнения – клинки могли найтись, хоть не такие длинные, как рыцарские эспадоны. – Эй, мужик! Закурить найдется? Голос был молодой, но резкий, уверенный. Голос «деда», который решил покуражиться над новобранцем. К примеру, отправить его в нужник, чтоб отскребал со стен засохшее дерьмо. И обязательно бритвой, половинкой лезвия, которую в пальцах не удержать – как ни старайся, а перемажешься. Помнил Баглай о таком, еще с армейских времен, помнил – и стены в бурых потеках, и гнусные рожи обидчиков, и бойню среди унитазов и писсуаров. Помнил, но вспоминать не любил. – Не курю, – буркнул он, делая шаг влево. – Не куришь? Слышал, Санек? Не курит он, падла!.. Здоровье, значит, бережет! Ну, сам не куришь, так дай курящим на пачку. А лучше – на две! – И на бутылку, – добавил второй, вероятно – Санек, не пропуская Баглая. – Не жмоться, фраерина! Поуважай чеченских ветеранов, и разойдемся по-тихому. Мы ж, блин, кровью за тебя умылись! – И еще умоетесь, пидорасы, – прошипел Баглай, отбросив назад, в темноту, свой саквояж. Холодная ярость овладела им; все раздражавшее в этот день – и разговоры о войне, и стариковские дряблые спины, и Вика в сером «жигуленке», и даже угрозы Лоера – все это вдруг обрело реальную форму, конкретный облик, стало вещественным, зримым и досягаемым. И восхитительно уязвимым! Он не испытывал страха перед насилием, он был физически крепок, жесток и хорошо обучен; чему-то научился в армии, чему-то – у приятелей, штангистов и борцов, массируя им бицепсы и шеи. Учили его как ломать и бить, а вот куда он знал не хуже самых опытных инструкторов. Об этом помнилось не разумом, руками – вернее, пальцами, что перещупали тысячи тел, мышца за мышцей, связка за связкой и позвонок за позвонком. Учили Баглая щедро, от души, и лишь единственный раз учить бесповоротно отказались – в год, когда практиковался он в ашраме, осваивал премудрости чжуд-ши, аньмо, туйна и мофу.[753] Были там и другие послушники – те обучались у Тагарова единоборствам и боевым искусствам, в коих монах являлся великим мастером, из тех непревзойденных мастеров, которым не нужны ни пояса, ни титулы, ни слава; такого зовут наставником, и это высшее из званий. Наставнику дано уменье прозревать, видеть незримое, оценивать и взвешивать; он сам выбирает учеников и сам решает, кого принять, кого отвергнуть. Баглая отвергли – аура его не понравилась. Видно Тагаров, тибетский монах, был человеком разборчивым. Баглай стремительно шагнул вперед и в сторону, перенес тяжесть тела на левую ногу и ударил правой. Бил он в колено Саньку и в полную силу, по правилу уличных драк: первому ноги сломай, второму челюсть сверни, а если найдется третий, расшиби башку. Но третьего не нашлось. Тяжелый башмак врезался в твердое, и на мгновенье Баглай ощутил, как прогибается, пружинит кость; затем Санек пронзительно вскрикнул, отлетел, ударившись о стену и сполз вниз. – Чмо!.. Ах ты, мудак недоношенный! Ногу сломал, ногу!.. Жека! Врежь ему, Жека! Перышком! Я щас… ща-ас, доползу… выверну матку… Ползи, ползи, – подумал Баглай, резко разворачиваясь к Жеке. Ползи, гаденыш… Что-то сверкнуло у самого его лица, он дернул головой и тут же выбросил вверх локоть, целясь в незащищенный жекин подбородок. Попал! Лязгнули зубы, его противник выдавил ругательство и попытался отступить, но Баглай уже выворачивал ему руку с ножом, крутил запястье, чувствуя, что он – сильней, что превосходит сопляка жестокостью и опытом. Нож глухо стукнулся об асфальт, но Баглай, гляда в злое побелевшее лицо, хватку не разжал, а надавил еще сильнее. То была не первая драка в его жизни, и он отлично помнил, что полагается делать, куда ударить – вот так, если противник рядом, бок о бок, сопит и чертыхается под ухом. Дернуть, толкнуть назад, еще раз дернуть и толкнуть – чтоб потерял устойчивость, чтобы расставил ноги; потом – коленом в пах… Сильно, неожиданно! Взвизгнув, Жека упал и скорчился в позе эмбриона; пальцы его скребли по мерзлой земле, из прокушенной губы сочилась кровь. Теперь Баглай его разглядел: сытый парень, холеный, лет, наверное, двадцати. И куртка дорогая, из натуральной кожи, с блестящими заклепками. Он сплюнул Жеке в лицо. – Было сказано – кровью умоетесь! Ну, так умывайся! Удар подбросил скорчившееся тело. Баглай бил ногами – не по плечам, не по спине, а в почки. Ребро сломаешь – срастется, синяки пройдут, разбить башку – без толка, или на месте помрет, или же откачают и будет как новенький. Другое дело – почки! Почки – не печень, сами себя не чинят, и смерть от них долгая, неприятная… Мучительная смерть! Он бил и бил, изливая накопившуюся ярость, но – странный случай! – с каждым ударом она не утихала, а делалась все сильней, будто какой-то гейзер в душе Баглая безостановочно фонтанировал и выбрасывал ее, порция за порцией, всплеск за всплеском, черпая в тех бездонных глубинах, где гнев и ярость не иссякали никогда. И казалось ему, что бьет он не мелкого подонка, возомнившего себя Охотником, а ненавистную тварь, что покусилась на его сокровища – может, вора, что влез к нему в окно, а может, бандита – из тех, что похищают, мучают и вымогают выкуп. Выкуп!.. Его драгоценные картины, его фарфор и серебро, нефрит и мебель, статуэтки и посуда… Он бил и бил. Сзади раздался шорох, потом – чей-то хриплый голос: – Ты что делаешь, урод… Ты ж, падла, его прибьешь… Ты что, с катушек съехал, дядя? Баглай обернулся и с нехорошей усмешкой шагнул к Саньку. – А, чеченский ветеран… Придется тебя инвалидом сделать, для большего правдоподобия… Где ты видел Чечню? По телевизору? Ну, сейчас наглядишься живьем… будут тебе и Чечня, и Афган… Он нанес первый удар, потом, в накатившем исступлении, начал бить и пинать распростертое тело, уже не выбирая мест – по ребрам, так по ребрам, по почкам, так по почкам. Должно быть, этот последний приступ был недолог, минуты три-четыре, но для Баглая он растянулся впятеро. Ярость его утихла, и вдруг он понял то, что до сих пор не понимал, в чем не хотел признаться: смерть, уничтожение, чужие муки были гораздо приятней целительства. Почти так же приятны, как полет в пустоте, в необозримой пропасти без конца и без начала… Попятившись, он огляделся, подобрал свой саквояж, затем вышел на улицу. Она была пустынной и безлюдной; только вдалеке, у речки Карповки, погромыхивал трамвай, да шевелились и стонали двое избитых. Живы, подумал Баглай, смакуя то упоительное исступление, что покидало его – медленно, с неохотой, капля за каплей, как масло из трещиноватого кувшина. Живы… А могли ли бы издохнуть, если б монах обучил… не только б шу-и обучил, а драться и убивать… Жаль!.. Жаль, что отказал в учении… Видно, аура и впрямь не та… Он пересек улицу, размышляя уже о другом, о завтрашнем дне, о работе, о Вике Лесневской, об экстрасенсе Римме и его дежурной шуточке. Римм, конечно, не Тагаров, не обучался тридцать лет в Тибете, плоть не усмирял, не пил живой воды и не ходил босым по снегу и огню… Словом, не то умение, не тот талант, на тот калибр. Но все же, все же… Есть ли истина в его словах? Или хотя бы кроха истины? Или все – пустая болтовня, чтоб покуражиться над ним, Баглаем? Или не кураж, а дружеская шутка? Предупреждение? Намек? Он дорого бы дал, чтобы узнать, какую ауру видит Жора Римм, и видит ли что-то вообще. Дверь подъезда с лязгом захлопнулась. Рявкнули псы, соседские ротвейлер с мастифом. Баглай облизал губы, сплюнул и быстро направился к лифту.Глава 11
С Линдой Ян Глебович столкнулся в коридоре, в том конце, где были кабинеты «глухарей». Этот тупик именовался «наша половина», хотя, конечно, до половины не дотягивал. Даже до четверти; коридоры в здании на Литейном были длинными, и ни один отдел не мог похвастать, что занимает половину. Линда будто ждала его, стояла, постукивая туфелькой о туфельку, посматривала в сторону лифта, крутила пальцем длинный темный локон. Глухов старался смотреть мимо нее, на потолок, на дверь «майорской» или кабинета Олейника и, приближаясь, делал серьезный вид, сопел и хмурился. Все эти маневры были лыком шиты, и он отлично это понимал, но ничего не мог поделать. А что тут поделаешь? Пялиться на женщину или зажмурить глаза? Он предпочел бы пялиться – на милое ее лицо, на стройные линдины ноги, высокую грудь, и на все остальное, что было между ногами и грудью. Не отводил бы взгляда, будь помоложе лет на десять… или хотя бы на пять… Взгляд, он ведь о многом говорит, о слишком многом – особенно, когда глядишь на женщину… Глухов об этом не забывал и, торопливо двигаясь к Линде, пересчитывал трещины на потолке. – Добрый день, Ян Глебович. Он поздоровался и осторожно пожал узкую белую ладошку. Пальцы у Линды были длинными, мягкими, не такими, как у Веры – у той кулачок был невелик, да крепок. Но ощущение точно такое же – нежности, гладкости, теплоты… Линда смущенно улыбнулась, и он отпустил ее руку. – К вам капитан приходил, Ян Глебович… молодой такой, вежливый, в тужурке с надраенными пуговицами… Вот, велено передать. Она протянула Глухову папку с листами, разрисованными красным карандашом. Ян Глебович кивнул. – Пуговицы, гмм… Это Джангир Суладзе. Очень аккуратный юноша. И очень толковый. Знает, кому доверять. Везде и повсюду ищет женщин. Вот и вас нашел… не Верницкого, не Караганова, а именно вас… Странно, да? – Странно, – согласилась Линда, искоса посматривая на Глухова. – Мог ведь у Надежды Максимовны оставить. – Вот в этом ничего удивительного нет. Он лишь красивым женщинам доверяет… красивым и, желательно, молодым. Тем, кто в сфере его интересов. Щеки у Линды порозовели. – Это я заметила… насчет интересов и сферы… целый час у меня просидел, вас ожидал и делал комплименты… – Она улыбнулась не без лукавства и вдруг, будто решившись, произнесла: – А я и не подумала, Ян Глебович, что вы тоже комплиментщик. Вы… – Я тоже человек, хоть вдвое постарше Джангира, – со вздохом признался Глухов и начал бочком-бочком отступать к своей двери. Но Линда вдруг ухватилась за рукав его плаща, так что перед дверью пришлось затормозить. – А раз человек, могли бы иногда заглянуть и выпить со мной чаю. Просто так, по-человечески… – Надо же! – преувеличенно изумился Глухов. – Я ведь к вам, Линдочка, каждый день заглядываю и чай пью. Бывает, и кофе. Она помотала головой, темные локоны заплясали, рассыпались по плечам. Пахло от нее духами и чем-то еще, смутно знакомым Глухову. Приятным, но почти забытым. – Нет, Ян Глебович, нет… вы не ко мне приходите, а к моему компьютеру, к бумагам нашим и к работе… Понимаете разницу? – Понимаю. – Опираясь спиной о дверь, Глухов наощупь сунул ключ в замок и повернул. Дверь открылась. – Понимаю, Линда. Не такой уж я старый идиот. Ее глаза насмешливо блеснули. – Ставьте правильно акценты, подполковник. Не старый, но идиот! Тут Глухову помнилось, будто качнулся пол, а может вместе с полом дрогнули и стены, словно находился он не в Петербурге, а в каком-нибудь Сан-Франциско, где, говорят, по землетрясению каждый день, не исключая праздников. Он ухватился за дверной косяк, вытянул шею, бросил взгляд вдоль коридора (было тихо, только в дальнем конце сновали суетливые фигурки), заглянул Линде в лицо и охрипшим голосом промолвил: – Сегодня – никакой совместной работы, майор. Сегодня я тружусь один. Работаю… – он посмотрел на часы, – с четырех до семи. А в семь прихожу на чай. Потом провожаю вас к дому. Кажется, нам по дороге? – По дороге, – кивнула Линда. – Всем одиноким по дороге, Ян Глебович. Она скрылась за дверью «майорской», а Глухов сбросил плащ, сел за стол, подпер кулаками щеки и уставился на верину фотографию. Вдруг подумалось ему, что женское одиночество круче и безнадежней мужского, ибо мужчина – стрелок и охотник, прыгает там и тут, сеет при случае семя, а значит, на старости лет может прифантазировать, что есть у него где-то потомки, дочери и сыновья, пусть незнакомые и никогда не звавшие его отцом, а все-таки родная кровь, плоть от его шаловливой плоти. Но одинокой женщине отказано даже в таком утешении; женщина в точности знает, кого родила. Или не родила. – Прости меня, дурака… – прошептал Глухов, поглаживая кончиками пальцев верино лицо. – Прости… И подожди. Вот встретимся на небесах, там и разберемся. Он придвинул к себе папку, вытащил бумаги, перелистал их и убедился, что под каждой фамилией и адресом было написано хотя бы десять строк, а в иных местах – побольше, целое сочинение. Почерк у Суладзе был разборчивый, строчки получались ровные, и самое важное он обводил рамочкой – тоже красным карандашом. – Молодец парень, – пробормотал Ян Глебович и приступил к изучению первой странички, но тут раздался телефонный звонок. – Товарищ подполковник? Это Суладзе. Папку вам передали? – Передали. – Глухов помедлил, взглянул на часы и сокрушенно покачал головой. – Прости, Джангир, уговаривались встретиться в два, а я только сейчас к себе добрался. Ждал? – Ждал, но с удовольствием, Ян Глебович. У майора, соседки вашей. – Джангир поцокал языком и сообщил: – Какая женщина! Топ-модель, высший класс! Все на месте, включая мозги. А их на трех генералов хватит. – Даже на четырех, – согласился Глухов и добавил: – Знаешь, она ведь тоже от тебя в восторге. Вежливый, говорит, и пуговицы блестят. Жаль, что слишком молодой. – Ну, это дело поправимое, – промолвил Суладзе с легкомыслием юности. – Это как бомбежка по Белграду: сегодня зелен и красив, а завтра весь в руинах и пуговицы не блестят… Кстати, Ян Глебович, вы что полагаете насчет Балкан и НАТО? В своем они праве или как? – Или как, – буркнул Глухов. – Я полагаю, двое дерутся, третий не лезь. Но если уж заявился, так разнимай без палки, без поножовщины, и не топчи траву. Трава-то чем провинилась? А кто б ни сражался, ей достается в первый черед. – Однако растет. – Растет… До поры, до времени. Творившееся в Югославии отнюдь не радовало Глухова, но подтверждало некий тезис, казавшийся ему бесспорным. Он считал, что раз законы созданы людьми, то, следовательно, отражают несовершенство человеческой природы, и лишь с большим приближением их можно считать критерием истины и справедливости. Но Справедливость – тот Абсолют, которому он служил – была, разумеется, выше Закона, ибо являлась ничем иным, как нравственным чувством, прерогативой психологии и философии, а вовсе не юриспруденции. И это чувство возмущало Глухова против убогой простоты Закона. Всякое деяние Закон трактовал в черно-белых тонах, интересуясь, кто прав, кто виноват, но в жизненных перипетиях сплошь и рядом виноваты были все – вожди, их партии, их армии и целые народы. Суладзе, обеспокоенный долгой паузой, кашлянул. – Я что звоню, Ян Глебович? Я насчет поручений… Завтра-то чем мне заниматься? А то начальник увидит, что без дела болтаюсь, и запряжет. Вы-то знаете – у Стаса Егорыча не погуляешь! – Будет тебе поручение, – пообещал Глухов, вернувшись к реальности из мира философских категорий. – Будет. Сейчас соображу. Он снова смолк, разглядывая бумаги на столе. Читать и читать, вникать и вникать… И вспоминать об утренней беседе – вдруг что-то всплывет, намек, обмолвка, интонация… Но думать о той беседе не хотелось. С утра Ян Глебович встречался с депутатом Пережогиным, кузеном Мосоловых, мужчиной увертливым и скользким, точно обмылок в машинном масле. Промаял он Глухова до трех часов, по каковой причине не состоялось рандеву с Джангиром, и ничего полезного не сообщил, ни о кузенах, ни, разумеется, о собственной супруге, ни о ее аптечном бизнесе. Глухов мог бы его прижать – имелась информация, что с депутатского фонда Пережогина кормились разные фирмы и фирмешки, и среди них – «Диана», принадлежавшая Мосолову, однако решил не торопиться. Вроде чутье подсказывало, что депутат-обмылок на руку нечист, но осторожен – в явном криминале не замешан и от разборок и трупов держится в стороне. Жил он от выборов до выборов, а в паузах вкладывал средства туда и сюда, осуществляя круговорот финансов между политикой и бизнесом: сегодня я помогу тебе, а завтра ты купишь моих избирателей. Словно кот, норовящий сожрать сметану, не перемазав усов… Все заботы – сожрать кусок послаще и угодить покровителям… Вот только кто они, эти таинственные покровители? – Знаешь, Джангир, – произнес Глухов, перекладывая бумаги на столе, – завтра у нас суббота, и по такому случаю я тебя премирую. За усердие и проницательность. Ты мне рассказывал про Марину, учительницу из «Бенедикт скул»… А встретиться с ней не желаешь? – Еще как желаю, – с энтузиазмом признался Суладзе и громко сглотнул. – Что-нибудь выяснить надо, Ян Глебович? Про Орловых? – Про Орловых – ни к чему. Узнай, любит ли она мороженое, и если любит, пригласи в кафе, поболтай о том, о сем, развлеки девушку. Такое вот тебе задание… В понедельник отзвонишься, доложишь. – Все ясно, товарищ подполковник! – Тогда выполняй, – произнес Глухов и положил трубку. До шести он работал с бумагами, читал и раскладывал их в определенном порядке, что-то поближе, что-то подальше, на край стола. Ближних дел оказалось четыре: юрист, писатель, художник-реставратор и актриса – хоть из кукольного театра, зато прослужившая в нем без малого сорок лет. Юрист – точней, адвокатша по фамилии Деева – была из репрессированных, семьи не завела и, по отзывам коллег, отличалась деловитостью и на редкость угрюмым нравом; к себе не приглашала, но ходили слухи, что все заработанное тратится ею на предметы старины. Однако не всякие и любые, а чем-то памятные ей – быть может, с эпохи безоблачного детства или счастливой довоенной юности. Наследников у нее не нашлось, квартира со всем добром отошла государству, и сколько чего в ней было, знал лишь всеведущий Господь. К справке, составленной Суладзе, прилагались описи и акты приемки из Русского музея, разумеется, в копиях; ознакомившись с ними, Глухов присвистнул и поскреб за ухом. Выгодная профессия – адвокат! Даже в советские времена! Писатель Симанович был ему знаком – хранились дома две-три книжки, памятник соцреализма и нерушимого братства народов. Из прочих богатств была у писателя библиотека, которую дочь, заокеанская подданная, вывезла в Новый Свет – на память и в назидание писательским внукам. Дочь прилетела быстро, на третий день, похоронила отца и встретилась со следователем Новодворской – та готовила заключение по факту внезапной смерти. Джангир созвонился с Новодворской и приписал на соответствующем листе, что, по смутным ее воспоминаниям, вроде бы заходила речь о каких-то деньгах, присланных дочерью Симановича, сумме весьма значительной и не обнаруженной в квартире покойного. Новодворская пыталась прояснить ситуацию, но тут заокеанская леди опомнилась, сообразила, что деньги переданы нелегально, и сразу встанет вопрос, кто и как протащил их через таможню. В общем, дело замяли ввиду отсутствия претензий, что было в данном случае вполне разумным шагом. Писатели –люди неглупые, и Симанович, вероятно, свою наследницу умом не обделил. А вот с другим покойником, с Надеждиным, случился неприятный казус – правда, расхлебывать его пришлось новосибирским родичам, сестре с племянником, на коих было оформлено наследство. За пару месяцев до смерти Надеждин взял на реставрацию пейзаж французского художника, предположительно – Бурдона; семнадцатый век, вид на Альпы вблизи деревушки Тревизио, владелец – картинная галерея Приходько. Бурдон был живописцем не из последних, его картины тянули тысяч на пятьдесят, а в случае неустановленного авторства – на восемь-десять, причем не в долларах, а в фунтах. Заказ оформили как полагается, официально, Надеждин получил аванс и выполнил работу с блеском, но сдать владельцу не успел, а после его кончины полотно исчезло. Ни в мастерской, ни в квартире художника его не обнаружили, Приходько подал в суд, наследство взяли под арест, и дело затянулось, поскольку авторство Бурдона – а значит, сумма компенсации – были моментом неясным и спорным. За этот срок картина не всплыла нигде – ни у богатых коллекционеров, ни при попытке вывоза за рубеж; выходит, если ее похитили, то исключительно с эстетической целью, для любования и наслаждения. Такой расклад был Глухову понятен – он сам не отказался бы повесить у себя Бурдона. Что же касается актрисы, женщины старой, одинокой, но общительной, похоронившей трех мужей, то ее квартира и добро перешли пасынку, сыну второго мужа, немолодому преподавателю из Выборга. Он был так счастлив переселиться в Питер, что на имущество мачехи внимания не обратил; его супруга, разыскав сундук с шитыми бисером туалетами, веерами и кружевами, сдала все оптом в антикварную лавчонку, и денег как раз хватило на мраморный могильный обелиск. Наследник, побуждаемый Джангиром, припомнил, что у отца, служившего в Ираке торговым атташе, имелся арабский кинжал, а может, что-то подлиннее, и это «что-то» хранилось у мачехи – но, по всей вероятности, было продано, как предмет дорогой, но не нужный в хозяйстве. Во всяком случае, его супруга не нашла ни сабли, ни ятагана, ни кинжала. Глухов просмотрел остальные бумаги, потом, вернув их обратно на край стола, сделал пометку: затребовать материалы о процессе, касавшемся Бурдона. Вдруг что-то всплывет… какие-то мелочи, детали… хотя бы описание картины, а лучше – снимок или слайд… Впрочем, можно его получить у владельца, подумал Ян Глебович; пейзаж дорогой, наверняка не раз переснимали. Вытащив чистый лист из тумбочки, он принялся задумчиво водить карандашом, посматривая то на фотографию жены, то на дверь, за которой раздавался дружный топот. Конец рабочего дня, люди вольнонаемные устремились к лифтам и лестницам, а служивые сидят, и сидеть еще будут долго… И Караганов, и Верницкий, и Голосюк, и Вадик-практикант… И Линда… Он покосился на рисунок – получался женский профиль, чем-то похожий на Веру и на Линду, с массой вьющихся локонов, буйных, словно штормое море. Несколькими точными движениями Глухов изобразил поверх прически шляпку в форме парусного корабля и начал трудиться над виньеткой из виноградных листьев и цветов шиповника. Это помогало думать. А думал он о том, что во всех пяти ситуациях, если приплюсовать генеральшу Макштас, прослеживаются сходные моменты: и возраст усопших, и диагноз, и их одиночество, и внезапное переселение в лучший мир – ночью, в собственном жилище или в постели; а что еще важней, если задуматься о сходстве – их благосостояние, явное и в то же время неопределенное, смутное, будто вид на старинный дворец, затянутый флером тумана. Можно предположить, что дворец велик и отделан с подобающей роскошью, но сколько в нем этажей?.. и сколько башен?… Есть ли крыльцо, конюшня, трубы, сад, фонтаны, цветники? Дубовые двери с резьбой, колонны, витражные окна и изваяния в саду? Туман скрывает все детали, туман провоцирует похитителя… Колонны он не украдет, равно как трубы и окна; слишком громоздко, тяжело, да и заметно. В самом деле, какой дворец без окон, без колонн и труб?.. Вот если статуи в саду… пусть небольшие, но драгоценные… скажем, работы мессира Челлини… или хотя бы Эрнста Неизвестного… Предметы, которых никто не видел, а если и видел, то бог его знает, куда они делись – то ли почивший хозяин их продал, проел и пропил, то ли нечистая сила стянула, то ли наследник морочит голову… Все это условно пропавшее, о чем вроде бы помнили, да не нашли, ассоциировалось у Глухова со статуэтками из дворцового сада, в который – он был почти уверен – пробрался незаурядный ловкач, умевший взять по-тихому, по-крупному. Где деньги, где картину… И этот таинственный гость – если только он не являлся глуховской фантазией – был удивительно растропен: он не опаздывал, он приходил за смертью, шагая по ее следам, и точно знал, чем стоит поживиться. Что можно брать, а что – нельзя… И сколько брать… Знал в подробностях, в деталях: у Симановича унес все деньги, а у вдовы-генеральши – столько, чтобы не вызвать подозрений. – Хитрый, черт!.. – пробормотал Глухов, соображая, с кем и в каких обстоятельствах могли откровенничать старики. Что же касается факта доверительных бесед, то он не подлежал сомнению – были беседы, были! И не одна… И перечислялись родичи, еще живые и уже покойные, и говорилось о друзьях-товарищах, об усопших женах и мужьях, об одиночестве, о пролетевшей юности и памятных вещицах, малых весом, дорогих ценой… С кем говорят о подобных материях? С человеком, допущенным близко к телу, а значит, и к сердцу… С тем, кто помогает, изгоняет боль, проклятие стариков, перед кем не стыдно раздеться и душу обнажить… Значит, все-таки врач, подумал Ян Глебович. Не тот доктор… Какой-нибудь экстрасенс, мануолог или массажист… Из тех, что таскаются по домам, то ли лечат, то ли калечат… Эта загадочная фигура была столь же неясной и призрачной, как связь событий и шаткие гипотезы, объединявшие их в конструкцию, где главным строительным материалом был песок, немного смоченный слюной воображения. Все было зыбко, неопределенно, основано на смутных аналогиях, на интуиции и на возможности того, что может быть свершилось, может – нет, или могло свершиться в каких-то случаях, тогда как другие были совсем ни при чем – хотя, на первый взгляд, неплохо вписывались в общую картину. Глухов это понимал, а потому торопился перебраться из зыбкой трясины домыслов на твердую почву фактов. Он бросил взгляд на часы. Половина седьмого… Не лучшее время, чтобы беседовать с Грудским… С другой стороны, они созвонились на прошлой неделе, и Лев Абрамович обещал, что непременно добудет спеца, причем такого, чтоб разбирался в массаже получше прозекторов. Сам он мог поделиться лишь общеизвестными истинами – вроде того, что любой массажист может прикончить любого клиента, если надавит на горло коленом, а локтем – на солнечное сплетение. Или, к примеру, в турецкой бане, где делают массаж ногами… Влезет на спину здоровый лось, попрыгает, покуражится и саданет в помидоры… Враз коньки отбросишь! Такая манера выражаться была свойственна Грудскому, ибо он, порезав множество трупов и изучив их желудки, влагалища и черепа, все же остался шутником и даже оптимистом. Правда, юмор его носил физиологический оттенок, что временами коробило Глухова, хоть повидал он не меньше трупов, чем Лев Абрамыч. Однако тут имелась разница: для Глухова всякий труп был погибшим человеком, а для прозектора – грудой костей и мышц, которую полагалось разделать в полном соответствии с нормативами. Лев Абрамович откликнулся после первого гудка. Судя по голосу, его сегодняшний норматив был перевыполнен: восемь, а то и девять трупов, рюмка до и рюмка после. Впрочем, рюмки были небольшие, граммов по двадцать пять. – Янчик, ты?! – с нескрываемой радостью рявкнул прозектор. – Ты знаешь, что я отскреб? Нет, не перебивай, послушай… Послушай, говорю, дорогой! Такое услышать – бутылки не жалко! Приносят, значит, мне ханурика… шкаф двенадцать на восемнадцать, ножки стола под ним прогибаются… Сам бритый, с татуировкой, расписан от бровей до пят, задница – под Рубенса, на животе – Сезанн, и член колечками… Да, еще дырка имеется в ребрах, сзади… здоровая такая, не иначе, как ледорубом саданули или отбойным молотком. Такая дыра – ну, прямо ку-клукс-клан твою мать! Делать нечего, вскрываю расписное брюхо, откачиваю кровь… кровища – по потолка!.. меняю маску, смотрю, куда ему въехали… здорово въехали, от печени до поджелудочной… Дай, думаю, в желудке покопаюсь… и покопался… Ты не поверишь, что я там сыскал! Тебе, сыскарю, и не снилось! Была у Льва Абрамыча страстишка – вещицы, что извлекались из желудков и кишечников, ушей, ноздрей, прямой кишки и прочих потаенных мест, используемых не по назначению. За тридцать лет прозекторского стажа набрал он любопытную коллекцию, в которой были гвозди и булавки, монеты, кольца, пуговицы, капсулы с наркотиком, десертные ложки и пробки всех размеров – и от бутылок с шампанским, и от аптечных пузырьков. Среди всей этой утилитарщины встречались изумительные экспонаты – крохотная чашечка для саке, миниатюрный консервный нож, фарфоровая киска, зажигалка, а также латунная пряжка с джинсовых брюк, выдранная, очевидно, с мясом – на ней остался след зубов отпрепарированного Львом Абрамычем покойника. Теперь нашелся новый раритет, и выслушав, какой, Глухов чуть не обронил телефонную трубку. Этот бритый шкаф с задницей под Рубенса был большим оригиналом! Очень большим! За что, вероятно, его и проткнули от печени до поджелудочной железы. Наконец восторги прозектора поутихли, и Ян Глебович смог вставить словечко. – Лев Абрамыч, я насчет своей просьбы. Помнишь, ты мне массажиста обещал? Самого лучшего, для консультаций… Ну, разыскал такого? – Если насчет консультаций, так тебе не массажист нужен, а эксперт, – прогудел Грудский. – Хороший эксперт. А массажистов кругом как блох в собачьей шерсти… лучших, худших, всяких… даже массажистки есть, персонально для генеральных прокуроров. Время такое, понимаешь, шизофренично-радикулитное… нервное время, особо для мужиков в наших с тобою годах. Лишь массажем и спасемся. Чтобы не выйти до срока в тираж, кушай виагру и делай массаж… – Ты мне зубы не заговаривай, – с легким раздражением сказал Глухов. – Ты мне внятно скажи: нашел эксперта или нет? Грудский хмыкнул в трубку. – Внятно говорю: нашел. Тебе, брат, про Тагарова слышать не доводилось? Про Номгона Дагановича, первостатейного знахаря с тибетских палестин? Имя было Глухову знакомо. Что-то он про Тагарова слышал или читал, но в положительном ракурсе или наоборот, вспомнить не удавалось. Ян Глебович поскреб щеку, уже заросшую щетиной, и осторожно поинтересовался: – А он, этот Тагаров, не жулик? – Он – монах. Учитель, – с явным уважением пояснил Грудский. – Ба-альшой, понимаешь, специалист! Под восемьдесят старику, а на шпагат садится. Ест просяную кашу и живую водицу пьет. Водицу, слышал я, аж с Гималаев привозят. Раньше-то он байкальской пробавлялся, поскольку бурят, а теперь и Байкал загадили… Так что ближе Гималаев нет живой воды. – Что он еще умеет? – спросил Глухов. – Кроме как на шпагат садиться и гималайскую воду хлестать? – Умеет кое-что… Сам я его не знаю, не удостоен этакой чести, однако условился через друзей-приятелей – примет он тебя. Может, и поговорит… это уж как получится. Так что ты наведайся к нему в ашрам, хочешь, так в субботу или в выходной. Ты, брат, учти, у него все стоящие питерские массажисты и мануологи практиковались, а кто монашьей ординатуры не прошел, тот не лекарь, а фуфло, янь от инь не отличит. Иными словами, пенис от сиськи. Ясно, следак? – Ясно, прозектор, – откликнулся Ян Глебович. – Как ему позвонить? В трубке раздалось сочное хрюканье – Грудский хихикал. – Па-азвонить!.. Ну, уморил!.. Я стараюсь, договариваюсь, всех приятелей на уши вздернул, а он – па-азвонить! Думаешь, у монаха телефоны в каждом углу понатыканы? Нет у него ни телефонов, ни пейджеров, ни компьютеров. Он лично общается, дорогой. Взглянет на человека и решит, то ли говорить с ним, то выкинуть за порог. Выкидывает, заметь, без грубостей, только усилием воли… Так поедешь или нет? – Поеду, – сказал Глухов. – Объясняй, куда. – В Парголово. Там, говорят, часовенка есть Николая-угодника, за ней – сосны да елочки, ну, а за елками – ашрам. Построен из бревен, только не по-нашему – бревна торчком стоят. Такое чудо не пропустишь. В трубке прерывисто загудело, и Глухов опять посмотрел на часы. Восемнадцать сорок семь… Работать больше не хотелось. Он сложил в папку бумаги, исчирканные красным, сунул папку в стол и попробовал вообразить, чем сейчас занята Линда. Тоже перебирает бумажки? Или работает с компьютером? Или сидит, уставившись в экран, и думает… О чем? О предстоящем чаепитии? Что ей скажет подполковник Глухов, и что ему она ответит… идиоту старому… Или не старому, но идиоту… Что же еще она сказала? Что-то важное, что-то такое, о чем он уже думал… Собственно, не думал, а мечтал… Раньше… Вам на Измайловский, Ян Глебович? И мне в ту сторону… Нет, не так; она сказала – нам по дороге… всем одиноким по дороге… Глухов представил себе этот путь, точно зная, куда он ведет и чем закончится; представил длинную дорогу, где расстояния измерялись не километрами, а годами, где разрешалось двигаться лишь в одном-единственном направлении и с неизменной скоростью, где не было ни поворотов, ни развилок, ни тротуаров, ни обочин, ни мест для отдыха. Безостановочное движение, только вперед и вперед, из сумрака в сумрак, из рассвета в ночь – и ничего в том не изменишь, не сможешь замедлить шаг, чтоб подождать отставшего, и ускорить тоже не сможешь, так как судьбу нельзя ни обманывать, ни торопить. Что-то, разумеется, можно – в сущности, очень немногое, подумал Глухов: выбрать попутчика и занятие по душе. Но и эти возможности человек теряет, потому что он молод и глуп или же стар и глуп; вначале кажется ему, что счастье впереди, в конце – что позади. А счастье – не в прошлом и не в будущем, но рядом. Может быть, рядом. В десяти шагах. Здесь. За стеной, в соседней комнате… Он снова посмотрел на часы, поднялся и распахнул дверь.Глава 12
На следующий день Глухов заглянул к Олейнику, отметился, взял служебный синий «жигуленок», переехал Литейный мост и растворился в потоке машин на Большом Сампсониевском. В эти минуты, сидя за рулем, привычно нажимая то на педаль сцепления, то на газ, он не думал о дороге – ни о той, что рисовалась вчера его воображению, ни об этой, гремящей, фыркающей, шелестящей, рассекающей город от центра до северной окраины. Он думал о Линде. В сущности, ничего не случилось. Выпили чаю из белых фаянсовых кружек, съели линдины бутерброды, разделили кусок пирога на двоих, посумерничали при настольной лампе, помолчали, поболтали… Потом он проводил ее домой. Ехали в метро, под заунывный стук колес, и Глухов наклонял голову, слушая Линду – она рассказывала о покойной матери и ее пирогах с брусникой, которые были гораздо пышней, чем съеденный за чаем, а Глухов возражал и говорил, что пирог отменный, что Вера, его жена, пекла такие же, и что он не едал брусничных пирогов уже тринадцать лет. Так они ехали, то заговаривая, то смолкая, то смущенно отводя глаза, и Вера с линдиной матерью будто сопровождали их, но не мешали, стояли себе в стороне, смотрели на Глухова с Линдой и даже вроде бы поощрительно улыбались. Но кто-то к ним пристроился еще – третий бесплотный дух либо тень еще живого человека, присутствие коего Глухов мог угадать или, вернее, вычислить; все-таки Линда была зрелой женщиной, красивой, умной, привлекательной, и значит, в прошлые годы и времена был у нее попутчик. Где и как он потерялся, что оставил, боль или добрую память, она не говорила, а Глухов не спрашивал. Но думал, что есть истории простые и трагичные, как у них с Верой, а есть запутанные, сложные, и тоже трагичные, и неизвестно, что тяжелей – когда любимый человек уходит навсегда или попросту уходит. Потом… Что же было потом? Он проводил ее до парадной, сжал узкую ладонь с длинными хрупкими пальцами и сказал: завтра увидимся. Увидимся, откликнулась она. И улыбнулась. Шелестели шины, поскрипывало сиденье, и двигатель, будто аккомпанируя скрипу и шелесту, отзывался негромким мерным рокотом. Синий «жигуленок» обогнул площадь у Озерков и очутился на Выборгском шоссе. Теперь слева торчали голые ветви яблонь в маленьких, обнесенных штакетником палисадничках, а справа шеренгами белых, желтых и розовых зданий наступал город, вытягивал серые альфальтовые щупальцы, играл тысячью солнц в хрустальных окнах, гудел, заманивал, звенел. Небо было ясным, весенним, теплым, и в сердце Глухова тоже разливалась теплота. Внезапно он понял, что последние месяцы – можно сказать, вся осень и зима – были не просто тяжелыми, а отвратительными. Это чувство нагнеталось извне, и Глухов не связывал его ни со своей работой, ни с повседневной жизнью, ни с привычной тоской по Вере; эти дела относились лишь к нему одному, и он справлялся с ними – с чем-то лучше, с чем-то хуже, но справлялся. Однако существовали обстоятельства, над коими он был не властен, и в то же время, в силу своих занятий и положения, нес за них ответственность – пусть не всеобъемлющую, не прямую, но ясно сознаваемую им. Как-никак, он был представителем власти, а значит, отвечал за то, что эта власть творила – пусть в соответствии с законами, но не во имя Справедливости. После случившегося в августе обвала привычный мир залихорадило как в приступе белой горячки; рубль деревянел, народ нищал, цены росли и неприятные сенсации поторапливались друг за другом, словно власть, во всех ее ветвях, искренне желала наделить сограждан пусть не хлебом и маслом, так развлекательными зрелищами. Сначала важный олигарх-чиновник объявил, что на его персону покушаются спецслужбы; затем чиновника убрали, а вместе с ним – и генерального прокурора, что обернулось склоками и демонстрацией скандальных пленок; тем временем левые грозили президенту импичментом, банки лопались как мыльные пузыри, Запад не давал кредитов, где-то горело, где-то взрывалось, банкиров и демократов отстреливали через одного, финансы, промышленность и торговля были на грани паралича, и лишь в республике Ичкерии торговали с прежним размахом, но большей частью заложниками. На просторах великой страны, как на гигантских подмостках, разыгрывалась буффонада, где каждому, от президента до люмпена, предписывалась роль, которую он был обязан исполнять. Даже равнодушные и безразличные тоже являлись актерами, ибо мир рушился с их молчаливого попустительства. Глухов равнодушным не был и честно играл свою роль. Но если б его спросили, на чьей он стороне, кто ему дорог и близок, парламент или президент, левые или правые, центристы, демократы, либерал-социалисты или неокоммунисты, он пожелал бы всей этой своре сгинуть в тартарары. Во всех скандалах, спорах, дрязгах он занимал позицию твердую и верную: он был на стороне потомков – тех, кому предстояло жить. К несчастью, при нынешнем повороте событий жизнь потомков могла превратиться в выживание. Но в этот весенний день, на редкость погожий и теплый, мысли Глухова растекались хрустальным ручьем, и не было в них ни сожалений, ни забот, ни горестей, ни гнева. Как тридцать лет назад, казалось ему, что все дороги перед ним открыты, мир прекрасен, неколебим и дружелюбен, и состоит по большей части из вериных улыбок, а также океанов и морей, к которым он всенепременно доберется – вместе с Верой, с коробкой красок и со своим этюдником. Обманчивый мираж… Но жизнь без обманов невозможна, как и хрустальные ручьи без пенных накипей. К тому же Линда не была обманом. На выезде из города, у стеклянной башенки гаишников, Ян Глебович притормозил, навел справки и принялся петлять по узким парголовским уличкам, среди глубоких луж, одноэтажных хибарок под шиферными кровлями, заборов, огородов и сараев. Правда, встречались тут и другие строения, кирпичные особняки о трех-четырех этажах, с балконами, колоннами, верандами, заасфальтированными подъездами и капитальными гаражами. Они, словно символ грядущих перемен, теснили деревянные дома и домишки, прозрачно намекая, что им тут не место, и что недалек тот день, когда огороды преобразятся в цветники, а на смену сараям и лужам придут бассейны и фонтаны. Одна из этих вилл была знакома Глухову, но он проехал мимо и головы не повернул. Четверть одиннадцатого… Мартьянов, бывший коллега, а нынче – бизнесмен, уже, разумеется, находился в городе, в своем офисе на Васильевском, а встречаться с его супругой, то ли четвертой, то ли пятой, у Яна Глебовича желания не имелось. Сам Мартьянов старых приятелей не забывал и был мужиком энергичным, напористым, удачливым, и только с женами ему не везло – от первой ушел, а все остальные, как помнилось Глухову, были вроде бы на одно лицо: молодые, раскрашенные, с хищно поджатыми губами. Он миновал часовню Николая-угодника. За ней потянулся редкий лесок, корявые сосны да елки вперемешку с березами и осинами; кое-где еще лежали грязно-серые сугробы и размышляли, то ли таять, то ли обождать. Затем слева от шоссе обнаружилась просторная поляна, а на ней, подальше от обочины – дом не дом, терем не терем, а все же какое-то жилье, на бутовом фундаменте, со стенами из вертикально поставленных бревен, под крутой высокой черепичной крышей и с удивительно узкими окнами. Больше всего это строение напоминало огромный сарай, метров сорок в длину и двадцать – в ширину, и лишь трубы, торчавшие над черепицей, подсказывали, что здесь людская обитель, построенная прочно, со знанием дела и с учетом климата. Однако дым над трубами не вился. От шоссе к странному сооружению вела дорожка из плотно утоптанной щебенки. Глухов форсировал ее, заглушил мотор, вылез из машины и уставился на стену. Вблизи стена впечатляла: окна казались амбразурами для стрелков-арбалетчиков, неохватные бревна тянулись вверх будто тын старинной крепости, а край крыши нависал над ними и выдавался вперед шагов на шесть – и там, где с него стекали дождевые воды, была прокопана канавка с уложенным на дно бетонным желобом. Кроме окон, в стене была дверь или, вернее, ворота с двумя створками, невысокие, но широкие, так что Глухов мог бы заехать в них на своем «жигуле». Рядом с воротами со стрехи свисал гонг, а под ним – молоток на цепочке; то и другое – из потемневшей бронзы и непривычных глазу очертаний. Глухов оглядел их, хмыкнул, взялся за длинную рукоять и легонько стукнул по круглой бронзовой пластине. Родившийся звук был музыкальным, протяжным и наводившим на мысль о полотнах Рериха: синие горы, белый снег, а на снегу – отшельник с полузакрытыми глазами. Сидит, скрестив ноги, и слушает, как тает в вышине стон потревоженного металла… Створка приоткрылась, возник молодой светловолосый парень в коротком халате и шароварах, посторонился, отвесил Глухову поклон, сложив ладони перед грудью. Глухов переступил через высокий порог. Парень, по-прежнему не говоря ни слова, присел, подвинул к его ногам мягкие войлочные туфли и, когда гость переобулся, принял плащ. Ян Глебович огляделся. Большая квадратная комната тонула в полумраке; слева и справа были проходы, прикрытые бамбуковыми занавесками, напротив дверей – возвышение со статуей улыбающегося Будды и горящими перед ним свечами, а у порога – вешалки и обувной ящик. Больше ничего, если не считать плетеных циновок на полу и призрачных дымных кружев в воздухе. – Я к Номгону Дагановичу, – произнес Глухов, испытывая странное чувство умиротворения и отрешенности. – Подполковник Глухов. С Тагаровым, если не ошибаюсь, условились о встрече. – Учитель скоро будет. Ждите, – прошелестело в ответ. Светловолосый поклонился и исчез, а Глухов начал с любопытством озираться, припоминая, доводилось ли ему бывать в таком же странном месте, явно жилом, но без столов и стульев и даже без лампочки у потолка. Пожалуй, не доводилось, решил он, внимая звукам ударов и резким выдохам, раздававшимся за левой занавеской. Справа царила тишина, только поскрипывал бамбук, чуть заметно колыхаясь; в воздухе висел запах каких-то курений, приятный и непривычный, а еще пахло сухим деревом и сосновой хвоей. Странная смесь ароматов, подумал Ян Глебович; такая же странная, как и буддийский ашрам на петербургской окраине. Меняется мир… В чем-то – к худшему, в чем-то – к лучшему… Занавеска слева отдернулась, и на мгновение он увидел квадрат гладкого блестящего пола, свитки с рисунками и письменами на стенах, и десять или двенадцать полуголых парней, сидевших на пятках; кто – с бамбуковым шестом, кто – с какими-то странными штуками, напоминавшими подвешенный к цепочке обруч. Глухов не успел их разглядеть; занавеска упала, и он очутился лицом к лицу с худощавым невысоким стариком, облаченным в такой же халат и шаровары, как встретивший его светловолосый юноша. Впрочем, определение «старик» к нему никак не подходило – он был старцем, не стариком. Удивительным старцем с гибкой юношеской фигурой, с бритым черепом, с гладкой и свежей кожей без всяких отметин неумолимого времени; лишь в уголках раскосых глаз, над высокими скулами, веером разбегались морщинки. Глаза были непроницаемо темны, они взирали на Глухова с требовательным, строгим, почти суровым выражением, и этот пронзительный взгляд едва не привел его в замешательство. Преодолевая барьер вдруг уплотнившегося воздуха, он с усилием пошевелился, шагнул вперед и протянул руку. – Меня зовут Ян Глебович Глухов, подполковник УГРО. Могу ли я с вами поговорить, Номгон Даганович? Пожатие Тагарова было сильным, но осторожным; казалось, он опасается раздавить гостю пальцы. – Глухов, подполковник УГРО, остался там, – старец кивнул на дверь и неожиданно улыбнулся. – Мы поговорим, сын мой, обязательно поговорим. Не всякий день увидишь человека, который светится как факел в пещерной темноте. Никаких следов акцента, автоматически отметил Глухов; правильный чистый выговор, речь плавная, голос негромкий, спокойный. Потом до него дошел смысл сказанного, и он с недоумением переспросил: – Свечусь? Я – свечусь? Но почему? – Разве сам не знаешь? – Крепкая маленькая ладонь подтолкнула его к занавеске – к той, что справа. – Идем! Мы не цапли, чтобы беседовать стоя, мы люди, и не слишком молодые… Хотя к тебе вернется молодость. Вернется, если захочешь. Молодость и свежесть чувств… Знаешь, все ведь об этом мечтают, да не все хотят. Одни родились стариками, другие боятся… Молодость – как ураган, может поднять к небесам, а может и кости переломать… Он вел ошеломленного Глухова по коридору, циновки шуршали под ногами, бледный свет сочился в узкие окна с одной стороны, а с другой открывались маленькие комнатки-кельи без дверей, с топчанами, низенькими табуретами и резными столиками. Большей частью пустые, но где-то Глухов увидел мужчин, безмолвно передвигавших шахматные фигурки, где-то – парня, который читал огромную книгу в деревянном переплете, а в самом конце – медитирующую девушку; глаза ее были закрыты, руки сложены на коленях, и Глухову показалось, что она не дышит. Старец привел его в просторную келью, в двумя оконцами, но обставленную так же скудно: топчан, накрытый голубым холщовым покрывалом, восьмиугольный столик, жаровня, табурет. На полу – толстая циновка, поверх нее – шерстяной коврик, рядом, на треножнике – гонг, подвешенный на толстом шелковом шнуре, такой же, как у входа. Повинуясь жесту хозяина, Глухов опустился на табурет. Хоть был он низким, сидеть оказалось удобно – может быть, потому, что ростом Ян Глебович тоже был невысок и ноги имел скорее короткие, чем длинные. Пальцы Тагарова коснулись бронзовой пластины, негромкий протяжный звон повис в воздухе, и не успел он стихнуть, как на пороге кельи возник все тот же светловолосый парень, а вместе с ним – крохотные чашки, чайник и тарелочки с какой-то странной снедью – желтоватыми шариками, похожими на горох. Но тянуло от них сладковатым хлебным запахом. Надо же, чай, печенье!.. – изумился Глухов. Выходит, приврал Абрамыч насчет воды и каши… Или не приврал? Может, угощение – для гостя, а сам хозяин чай не пьет? Но Тагаров, опустившись на коврик, разлил по чашечкам зеленоватую жидкость, отхлебнул, сощурился – отчего глаза превратились в узкие щелочки меж валиками век – и произнес: – Гони сомнения, сын мой. Сомнение – враг решения, а тот, кто не решает, тот не живет. Согласен? – Согласен, – качнул головой Глухов, тоже отпив глоток. – Однако, Номгон Даганович, решение может быть неверным. – Нет решений верных и неверных, есть те, что принимаем мы сами, сообразуясь с собственной природой, и те, что приняты за нас другими. Лосось плывет против течения, сухая ветка – вниз… Вот разница между достоинством и покорностью. – Старец поднес чашку к узким губам, снова прищурился и сказал: – Ты не похож на покорного человека. Ты привык решать. Отчего же сомневаешься? Странный разговор, мелькнула у Глухова мысль. Вроде бы не о том, ради чего он приехал – не о том, но о более важном, касавшемся лично его, всей прошлой и будущей жизни, страхов и неуверенности, терзающих сильных и слабых людей. Сильных, возможно, мучительней – они ведь не ветки, плывущие вниз… Сглотнув, Глухов склонился над столиком, упер взгляд в синий фарфоровый чайник и пробормотал: – Она молода… слишком молода для меня… – Молода? Годится в дочери? – Нет, но… Прохладные пальцы Тагарова легли на его висок, и он замолчал. – Странный вы народ… здесь, на западной окраине… – задумчиво произнес старец. – Полный суеверий и предрассудков… Много едите, много пьете, много болеете… Уходите в печали, не примирившись с собственной плотью и душой… Считаетесь годами там, где надо взвешивать лишь силу чувства… И потому мучаетесь в сомнениях. А зачем? Действительно, зачем? – подумал Глухов, вдруг успокоившись и чувствуя, как тонкие сухие пальцы массируют его висок. Что-то из них истекало, что-то едва ощутимое, почти незаметное, какие-то токи, флюиды, рождавшие поочередно прохладу и теплоту. Ветер с гор и ветер с долины, – мелькнула мысль, но Глухов уже не мог сказать, принадлежит ли она ему или пришла вместе с этими токами, с волнами холода и тепла, которые катились от висков к груди, омывали сердце и водопадом рушились вниз, растворяясь и исчезая где-то у щиколоток или ступней. На мгновение он будто увидел себя со стороны – живую частицу, которую прополаскивают многократно в водах, вымывая накопившиеся сор и грязь, но это зрелище не вызывало у него протеста, а лишь восторг перед искусством целителя. Пусть полощет, подумал он со слабой улыбкой, пусть… Не начал бы только выкручивать… Но эта операция, кажется, не планировалась. Старец внезапно подался назад, вздохнул и сделал серию жестов – развел в стороны согнутые руки, потом начал сближать их, пока запястья не соединились, а ладони и пальцы приняли странную форму, будто в них покоился шарик величиной с большое яблоко. Затем – еще одно движение: голова откинулась, руки с плавной неторопливостью двинулись вверх, а ладони разъединились, отпустив на свободу хрупкий невидимый шар. И наконец – глубокие вздохи, такие резкие и шумные, словно рядом накачивали автомобильное колесо. – Что это? – Губы Глухова, преодолев оцепенение, с трудом пошевелились. – Что это было, Номгон Даганович? – Чжия лаофа, сын мой. Энергетический акупунктурный массаж, как называют ваши экстрасенсы… Способен ослаблять или стимулировать ток жизненной энергии. Об этом известно давно… с древности, когда писали «Хуанди Нэй цзин», «Канон врачевания Желтого предка»… Китай, третий век до нашей эры. Ян Глебович уважительно кивнул, погладил виски и любопытством поинтересовался: – А в данном случае что творилось с моей энергией и токами? Вы их стимулировали или ослабляли? – Нужное разровнял, лишнее убрал, – по лицу Тагарова хитрой ящеркой скользнула усмешка. – Сильно светиться ни к чему. Увидит злой человек, позавидует… Так что я разровнял и убрал. Носи свое счастье в себе, радуйся, но радость напоказ не выставляй. – И что теперь будет? – спросил Глухов. – Что решишь, то и будет. Я тебе все сказал, сын мой. О главном – все. Про остальное – спрашивай. Если смогу, отвечу. Глухов поерзал на табурете, склонил голову, будто прислушиваясь к своим ощущениям. Ему казалось, что он чудесным образом помолодел, сбросил лет двадцать – ну, не двадцать, так пятнадцать наверняка. Мышцы были послушны, члены – гибки, и в голове установилась пронзительная ясность; так бывает, когда выходишь из дома летним утром, когда молодая энергия бьет ключом, и мнится, что вот подпрыгнешь сейчас и полетишь в поднебесье как воздушный шарик, переполненный силой и безотчетной радостью. Старец смотрел на него с улыбкой – точь в точь как Будда напротив входных дверей, погруженный в свою счастливую нирвану. Глухов невольно усмехнулся в ответ, потом нахмурил брови и покрутил чашечку с остывшим чаем. – Такое многие умеют, Номгон Даганович? Здесь, в Питере? – Немногие. Трое-четверо достойных, владеющих чжия лаофа. Все – мои ученики. – А если руками, без этих энергетических штучек? Просто мять и тереть, как делают массажисты? – Тоже будет эффект, но слабее. И не сразу. Десять-двенадцать сеансов, причем у опытного мастера. Ты об этом хотел узнать? – Не только. – Глухов нахмурился еще сильней, пощипал бровь. – Вот вы сказали: странный тут народ, на западной окраине… Странный, согласен. Все, что назначено к благу, умеем перевернуть к беде. Калечим, убиваем… Можно ведь и убить, так? Смуглое лицо Тагарова посуровело и застыло. Теперь старец походил на бронзового Будду, размышляющего о людских несовершенствах и грехах. – Можно, – произнес он после недолгой паузы. – Можно и убить, сын мой. Чжия лаофа исцеляет, чжия лаофа убивает… Но этому я научил не трех, не четырех, а одного. Одного, за двадцать лет! Достойнейшего из достойных… бойца, Хранителя Тишины… Но он не такой человек, чтоб… – Не о нем речь, – отмахнулся Глухов и тут же добавил: – Вероятно, не о нем. Не о великих бойцах и не об этом чжия лаофа – скорей, о том, что делают руками. Обычный массаж или что-нибудь мануальное, опытный мастер… очень опытный… Что он может? – Имеешь ввиду – убить? – Глаза старца превратились в две узкие щелочки, ноздри затрепетали, будто в келье повеяло мертвечиной. – Не просто убить – запрограммировать смерть. Скажем, такая метода: лечебный массаж, после которого пациенты с гарантией переселяются в лучший мир. Но не сразу, не вдруг, а через несколько часов. Смерть выглядит естественной. Инфаркт, чаще – обширный инсульт… Быстрая смерть, почти мгновенная. До телефона не добраться, на помощь не позвать. Такое возможно, Номгон Даганович? Глаза Тагарова совсем закрылись. Видимо, он размышлял, и Глухов, замерев на табурете, боялся жестом или словом прервать этот ответственный процесс. Время шло, минуты тянулись неторопливо, как верблюжий караван, увязший в зыбучих песках, и он поневоле стал вслушиваться в тишину, царившую под сводами ашрама. Она казалась не могильной, но живой: за окном щебетала какая-то птаха, поскрипывал пол под чьей-то легкой поступью, шелестели страницы книги, а издали – видимо, из тренировочного зала – доносился дробный сухой перестук бамбуковых шестов. Старец приподнял веки. – Такое не сделать. Быстро не сделать, даже с бальзамом абъянга или шародхара… Есть точки – и опытный мастер их знает – для стимуляции кровообращения в определенных органах или телесных частях, и здесь, – он коснулся шеи под ухом, – их четыре. Техника шу-и, древнекитайский метод лечения склероза… можно усилить снабжение кровью мозговых тканей… Но если нажимать в известном порядке и ритме, это случится не сразу, а через шесть, через семь или восемь часов. Будет запрограммировано, как ты сказал. Но руками, без чжия лаофа, сильный эффект не получишь. Ударит в голову, но не убьет. Видишь ли, сын мой, человек – выносливое существо. – Здоровый человек, – уточнил Глухов. – И молодой. – Конечно. – Старец прижал подбородок к груди, и теперь Ян Глебович мог видеть лишь его бритый череп. – Но мастер, владеющий точечным массажем, всегда осведомлен о самочувствии пациентов. Особенно преклонного возраста. – Возраст был преклонным, – с расстановкой сказал Ян Глебович, будто три гвоздя заколотил. – Весьма преклонным. И, несомненно, были болезни. Сердечно-сосудистые, атеросклероз, ишемия и эта… как ее… ангиопатия. – Тогда все возможно. – Тагаров покосился на Глухова, и тот вдруг подумал, что его собеседнику не меньше лет, чем генеральше Макштас или художнику Надеждину. Скорее всего, больше, под восемьдесят. Но в это верилось с трудом. – Все возможно, – повторил старец, покачивая головой. – Как и в том случае, если пациент молод, но болен. Только зачем? Для чего? Люди придумали много других способов убийства, и совершают их в злобе и гневе, не вспоминая о кармическом воздаянии… А оно неизбежно, сын мой, неизбежно. Убивший невинного переродится в гнусную тварь, в червя или мокрицу… Даже защищаясь, не стоит опускаться до убийства. Продемонстрируй свою силу, умение, решимость, и этого хватит. Ну, а если не хватит… – Он сокрушенно усмехнулся и сделал быстрое движение, выбросив вперед руку с вывернутой кистью. – Если такое возможно в принципе, – произнес Глухов, – то мне хотелось бы поговорить о ваших учениках. Не тех достойных, обученных чжия лаофа, а о других, попроще. Вы ведь, наверное, многих учили? Целительству, восточному массажу, иглоукалыванию? Другим премудростям? – Не так уж многих, как хотелось бы, сын мой, не так уж многих. У человека должен быть дар или хотя бы способность, вера в себя и благонамеренность мыслей, а это редкое сочетание. Вера, талант, душевное благородство… – Тагаров задумался, приподнял брови, морщинки у глаз сделались резче, а на лбу пролегла глубокая складка. – Я могу припомнить несколько сомнительных случаев, – пробормотал он наконец. – Способные и наделенные верой и даже желанием помочь, но алчущие успеха… успеха или иных благ… небескорыстные… Я все же учил их, ибо природа человеческая несовершенна, и тот наставник, что ищет чистых душ, скорей всего отправится в Нирвану одиноким и неоплаканным учениками. Так что я их учил… немногому, но учил… Ты хочешь узнать их имена? Глухов молча кивнул. – Трое не отсюда, из Москвы, один – из Иркутска. Обучились, уехали… Двое – здесь. Федор и Игорь. Федор давно учился, не молодой уже… Кириллов его фамилия… Открыл… как называется нынче?.. да, салон… салон «Тримурти»… Открыл, разбогател… Деньги любит, но не жадный. Хотел мне денег дать, когда на ашрам собирали… Я не взял, он обиделся… Теперь ко мне не ходит. – А второй? Игорь? – Этот моложе. Способный и сильный, но алчный. Пожалел я его – очень обиженный жизнью человек… оттолкнешь такого, он совсем озлобится… Учился лет двенадцать назад… недолго… Прежде работал в спортивной команде, у ваших военных… Есть такая? – Глухов снова кивнул. – Где сейчас, не знаю. Тоже обиделся, не ходит. – Обиделся почему? – Хотел еще учиться – тайному, опасному. Но это – для достойных. Я отказал. – А мне бы не отказали? – вдруг неожиданно для себя выпалил Глухов. Старец окинул его пристальным взглядом. – Тебе – нет. Только зачем? Ты – не юноша, ты – муж. Муж и так знает, что ему нужно. А раз знает, то не сомневается в своих решениях. Запомни, сын мой. – Спасибо, Номгон Даганович. – Глухов поднялся со странным чувством, будто выдержал некий экзамен – из тех, где нет ни билетов, ни вопросов, ни наград, положенных первому ученику. Энергия переполняла его; он привстал на носках, расправил плечи, потом спросил: – А как фамилия этого Игоря из спортивной команды? Помните? – Помню. Баглай. В молчании они проследовали в комнату со статуэткой Будды, вышли на воздух, под теплое весеннее солнышко, распрощались, но когда Глухов уже сидел в машине и собирался захлопнуть дверцу, старец, вдруг помрачнев, сказал: – Найдешь того человека, дай знать, мой ли ученик. Если мой, я разделяю с ним вину. – Ни в чем вы не виноваты, – удивленно откликнулся Ян Глебович. – Ни перед совестью своей, ни по закону. Где тут ваша вина? Если вины так делить, учителей не останется, всех пересажаем. – Ты не понимаешь, сын мой… Если он – из моих учеников, я безусловно виновен. Это кармический грех, вина наставника, чей ученик свершил злодейство. В грядущем перерождении я буду наказан за эту вину, но наказание может быть тяжким или не очень. Если удастся искупить… хотя бы немного… – Как искупить? Молитвой? Старец поморщился. – При чем тут молитвы? Искупают не молитвами, а делами. Скольких он убил, стольких я должен спасти… Лишь это мне зачтется. Дела, не слова. – Тагаров выдержал паузу, потом спросил: – Приедешь? Если недосуг, пришли кого-нибудь. – Я сам приеду, отец мой, – ответил Глухов, кивнул, прощаясь, и захлопнул дверцу.* * *
По дороге в город Глухов почему-то размышлял не о добытой им информации, не о том, как будет разыскивать двух подозрительных массажистов, не о задании капитану Суладзе, не о других служебных делах и даже не о Линде Красавиной. Кружились у него в голове слова, мелькали фразы, произнесенные монахом, и что-то в этом пестром хороводе оседало вниз, пряталось в щели и тайники, на долгую память, а что-то всплывало вверх и повторялось с тем же надоедливым упорством, с каким, не замечая, напеваешь раз за разом строчку из популярного шлягера. Не всякий день увидишь человека, который светится как факел в пещерной темноте… Молодость вернется… Вернется, если хочешь… Но молодость – как ураган, может поднять к небесам, а может и кости переломать… Гони сомнения, сын мой… Сомнение – враг решения, а тот, кто не решает, тот не живет… Лосось плывет против течения, сухая ветка – вниз… Вот разница между достоинством и покорностью… Странный вы народ… Считаетесь годами там, где надо взвешивать лишь силу чувства… Нужное разровнял, лишнее убрал… Носи свое счастье в себе, но радость напоказ не выставляй… Чжия лаофа исцеляет, чжия лаофа убивает… Достойные, владеющие чжия лаофа… мои ученики… Научил достойных исцелять, подумал Глухов, и лишь одного – убивать. Не просто достойного – достойнейшего из достойных… Что же он понимает под достоинством? Вроде бы объяснил: чтоб вера была, и талант, и душевное благородство… еще – благонамеренность мыслей… Ну, талант есть талант, сам себя проявит. А какразглядишь эту самую благонамеренность? Как убедишься в искренности веры? Темное существо человек, закрытое, запечатанное, внутрь к нему не влезешь, душу не препарируешь… Однако, Ян, ты не прав, – возразил он самому себе. Зеркало души – лицо, отзвук ее – речи, тень – манера двигаться и говорить, привычный жест, гримаса, взгляд… Собственно, это рождает симпатию и неприязнь, любовь и ненависть, и лишь изощренный лицедей способен завуалировать свою сущность – да и то до поры, до времени. Если быть точным, до зрелых лет. Зрелость, как лакмусовая бумага, выявит все с жестокой насмешкой и наготой, покажет, каков человек, доброжелателен он или зол, умен или глуп, труслив, брюзглив, завистлив или исполнен редких достоинств. С молодыми сложней, решил Глухов. В этот миг молодость представлялась ему гладкой маской, загрунтованным полотном, еще не расписанным цветами разочарований, морщинами перенесенных бед, красками алчности, похоти и уныния. Впрочем, умеющий видеть – увидит, подумал он, вспоминая пронзительный взгляд Тагарова. Тагаров, кажется, видеть умел, а также взвешивать и выбирать, что бы ни крылось за этим его искусством – тибетская магия или трезвый расчет, приправленный жизненным опытом. И он был строг в своих оценках; немногие признавались достойными, и лишь один – достойнейшим. Достойнейший… Хранитель Тишины… И – чжия лаофа исцеляет, чжия лаофа убивает… Странное прозвище для человека, обученного убивать… Или не убивать, а защищать? Хранить? Хотелось бы встретиться с ним, мелькнула у Глухова мысль. Но встретиться в этой жизни им было не суждено.Глава 13
Юрий Данилович Черешин лежал на спине, укрытый до подбородка теплым пуховым одеялом. Голова его была повернута, щека прижата к плечу, и в слабом свете фонарика Баглаю казалось, что Черешин усмехается – как всегда, по-доброму и чуть укоризненно. Эта улыбка словно бы говорила: вот и закончен твой труд, массажист, а с ним – и все мои недуги. Нигде не ломит, не болит, и значит, работу ты сделал отлично. Отлично, бойе! Не знаю, как тебя благодарить… Ну, сам придумаешь. Баглай, стиснув в правой руке фонарик, а левой придерживая сумку, замер в тесном пространстве между диваном и верстаком будто таракан в щели. Торжественный момент, подумалось ему, почти мистический; в эти секунды, когда он глядел на умервщленного им человека, творилось нечто загадочное, неощутимое и в то же время реальное, как подпись на долговом обязательстве: должник был холоден и недвижим, вексель, невыданный им, предъявлен к оплате, и кредитор намеревался приступить к ревизии имущества. Это было давно ожидаемой, упоительной процедурой! Миг, когда вещи меняют хозяина и признают с покорным немым равнодушием право и власть новых владельцев. Случалось, подобные метаморфозы не обходились без неприятностей, немного портивших торжество – таких, как укоризненная черешинская улыбка или злобный взгляд полуживой Кикиморы. Думать об этом Баглай не любил. Ему казалось, что эти усмешки и взгляды будто оставляют след на каждой из вещей, незримый, но вполне отчетливый, побуждая их сопротивляться или хотя бы напоминать, откуда и как они ему достались. Бывало и другое, не столь тревожившее душу и вспоминавшееся с удовольствием, а временами – со злорадством. Надеждин, тот художник, что реставрировал пейзаж с горами, с Альпами или Апеннинами, чем-то был похож на деда Захара Ильича, что отзывалось приятным чувством утоленной мести; не менее приятно было разглядывать снимок в доме генеральши, где Нину Артемьевну запечатлели с мужем-генералом: он – при мундире и орденах, она – с пышной прической, в кофточке с высоким воротом. Баглай генерала узнал – тот самый инспекторский знакомец, приехавший в их часть под Выборгом; узнав же, почувствовал мрачное торжество. Тот генерал, как и его дружок-инспектор, был властен над судьбой Баглая: мог подарить ему жизнь или отправить в Афган, откуда возвращались без ног, без рук или не возвращались вовсе. Так было – в те времена, когда новобранец Баглай и генерал Макштас были несоизмеримыми величинами; однако с тех пор кое-что изменилось в баглаеву пользу. Вспомнив об этой фотографии, он ухмыльнулся, быстро облизал губы языком и, пятясь, отступил от верстака и дивана с телом Черешина. Двигался он бесшумно, осторожно и плавно, как пантера в индийских джунглях, подсвечивая фонариком. Руки его в тонких резиновых перчатках не дрожали, пол не скрипел под мягкими подошвами башмаков; словно призрак он выскользнул из кухни, где брать было нечего и не на что было глядеть. Коридор был тих и темен. Луч света от фонарика метнулся вдоль высоких полок, по книжным корешкам; сверкнули золоченые буквы – будто топазовые кошачьи глаза, мерцавшие в темноте. Баглай остановился и прочитал: «Императорские коллекции Эрмитажа. Сводный каталог». Еще один том, такой же солидный, увесистый, в коричневом переплете, с тиснением по корешку – «Сокровища Российской Короны и Великих Князей»; за ним – какой-то труд о геммах и камеях и минералогический справочник. Баглай равнодушно пожал плечами. Среди этих книг наверняка имелось что-то ценное и редкое, но описания царских сокровищ были ему не нужны. Книги пусть достаются Пискунову. Он представил, как тот заявится утром с тремя помощниками, как будут они переминаться у дверей, звонить и стучать, потом потревожат соседей и вызовут милицию; начнутся поиски слесаря из жилконторы, а слесарь, само собой, навеселе – день-то воскресный, когда ж еще повеселиться слесарям?.. Наконец замки взломают, вскроют дверь, войдут… Тишина, как в склепе; книги, витрины с поделками из разноцветных камней, массивные дубовые шкафы и молчаливый покойник с застывшей улыбкой… Покойник есть, но нет следов. Все вроде бы в целости и сохранности, все на месте… Снова усмехнувшись, он шагнул в маленькую комнату, приблизился к тем самым дубовым шкафам и вытер лоб, вспотевший от волнения. Резиновая перчатка неприятно холодила кожу и только размазывала испарину; Баглай поморщился с досадой и промакнул виски рукавом. Дверца среднего шкафа чуть слышно скрипнула, распахнулась; он осторожно выдвинул полку с двумя квадратными ящичками, поднял крышки, посветил фонарем. Тридцать шесть ячеек в левом ящике, двадцать две – с камнями, и четырнадцать пустых. Крупные камни, редкостные… В правом – ячеек побольше, а сами они помельче, но их все равно не хватило: почти в каждой – по два камешка, а в иных – и по три. Лежат, сияют зелеными звездами, подмигивают, манят… Губы Баглая дрогнули, он шумно выдохнул и непослушными пальцами дернул молнию на сумке. Что-то странное творилось с ним – такое же, как в ресторанчике Ли Чуня, когда он глядел на китайскую вазу и представлял, как она будет смотреться под картиною Гварди, на ореховом комодике с расписными фарфоровыми медальонами. Но теперь это ощущение было глубже, отчетливей, сильней – ведь за вазу пришлось платить, а изумруды как бы достались ему по наследству. Даром! Правда, не все; первая заповедь Охоты была нерушима, так как инстинкт самосохранения являлся не менее сильным чувством, чем страсть к обладанию. Зато он мог выбирать, хоть выбор был нелегок и временами мучителен. Два из пяти уральских камней, овальный и круглый, в форме граненой сферы… Этот был поистине великолепен – шар зеленого пламени с мерцающими искрами, застывшими словно фонтан или взрыв фейерверка; Черешин говорил, что таких в мире не больше дюжины и стоют они безумных денег. Теперь – один из трех колумбийских кристаллов, не очень крупный, но с удивительно мягким жемчужным блеском… еще – огромный изумруд из Африки, тот, нелюбимый Черешиным, политый кровью… один индийский… Нет, два, самых больших и ярких: в форме розы с тысячей граней-лепестков и прямоугольный, размером в палец, со ступенчатыми краями, отливающий цветом морской волны… И, наконец, последний, из Аджмера – тот, который Черешин назначил ему в подарок. Семь. Не взять ли восьмой?.. – мелькнула мысль, но руки действовали сами по себе: опускали крышку ящика, бережно перебирали камни, гладили их, прятали в полотняный мешочек. Туда же он высыпал горсть изумрудов помельче – высыпал, на считая, тридцать или сорок камней, взятых из правого ящичка. Потом закрыл и его, задвинул полку и присел на корточки. В самом низу, за большими коробками из-под сигар, где хранились неразобранные и не очень ценные камни, лежала плоская жестяная баночка, в каких в далеком баглаевом детстве продавалось монпасье. Черешин редко лазил на нижнюю полку; она не выдвигалась, все тут было в пыли и паутине, банка за сигарными коробками была не видна, так что пришлось действовать наощупь. Баглай вытащил ее, с усилием приоткрыл и убедился, что память его не подводит. Дно банки искрилось и сияло под лучом фонарика, будто в ней развели магический огонь – холодный, не обжигающий пальцев, но заставлявший щурить глаза. Алмазы – верней, ограненые бриллианты, хранившиеся здесь – были сравнительно невелики, от половины карата до двух, самый расхожий материал для ювелирных изделий или для вывоза за границу – в какой-нибудь тайной щелке, в одежде или же в собственном животе. Баглай пока что не знал, как распорядится ими и как реализует, но шансы были неплохие: пара надежных ювелиров, разнообразные связи Ядвиги и ее девиц, клиенты из «Сквозной норы» и давние приятели– спортсмены, из тех, кто постоянно ездил за рубеж. Спрятав банку в карман, Баглай подумал, что придется подыскать посредника и сделать так, чтобы посредник не разнюхал, с кем имеет дело; с камнями же не дорожиться, отдавать за полцены, но небольшими партиями. И сколько же получится на круг? Со слов Черешина он помнил, что двухкаратные бриллианты стоят две-три тысячи, однокаратные – раза в полтора дешевле. Он попытался представить, сколько камней хранится в жестяной коробочке, и вновь почувствовал, как закружилась голова. Дрожащими руками Баглай извлек из сумки несколько мешочков, приподнял фонарь и оглядел шкафы. Тот, что с коллекцией изумрудов, был средним; еще в нем хранились аквамарины и бериллы, прекрасные камни, но уступавшие и изумрудам, и алмазам по ценности и красоте. Ближе к окну высился шкаф для всякой самоцветной мелочи, хризобериллов, турмалинов, цирконов, хризолитов, топазов и шпинелей, а у двери, в третьем шкафу, лежали драгоценные корунды. Это хранилище Черешин называл своим бирманским шкафом и объяснял Баглаю, что в Могоке, в Бирме, добывают лучшие рубины, что рубин – это красный природный корунд, а если камень не красный, так это уже сапфир, и что, в отличие от мнения невежд, сапфиры бывают не только синие, но также лиловые, желтые и бесцветные, а также оттенка утренней зари. Памятуя об этих историях, Баглай распахнул дверцы бирманского шкафа м принялся выдвигать полки, открывать ящички и выбирать – не торопясь, понемногу, по три-четыре экспоната из каждой коллекции, не самых крупных, но примечательных цветом, или необычной формой, или своим происхождением. Тут были не только бирманские камни, но также цейлонские и таиландские, индийские, добытые в Кашмире, американские из Мату-Гросу и с берегов Миссури, и австралийские, из Квисленда и Виктории. Они струились в пальцах Баглая словно ручей, вытекающий из пруда: звездчатые голубоватые сапфиры, рубины, алые, как мак, камни иных цветов и оттенков, напоминавших то о морской пучине, то о лугах, заросших васильками, то об огненном рассветном зареве, то о сиянии солнца. Сумка Баглая потяжелела, в горле пересохло, по щекам струился пот, и он, вполголоса чертыхаясь, тряс головой и вытирал влажную кожу рукавами. Наконец он оторвался от шкафов, закрыл их, покинул со вздохом маленькую комнату и перебрался в большую. Ему хотелось взять что-то отсюда – место в сумке было, и было вокруг столько чудесных вещей! В луче фонарика медленно плыли птицы, цветы и корабли, подвешенные к потолку, сияли бронза и хрусталь светильников, пестрели на стенах каменные пейзажи – амазонитовые поля у подножия обсидиановых скал, реки из чароита и лазурита, янтарный солнечный восход над родонитовым горным хребтом и другие горы, из яшмы, с белоснежными кварцевыми вершинами. Под этой картиной кичилась затейливым зеленым кружевом шкатулка из малахита, обрамленная парой подсвечников, а дальше, по периметру комнаты, будто вызванные к жизни неярким световым пятном, блестели и сверкали ларцы и чаши, веера и вазы, фигурки фантастических животных, резные нефритовые сфероиды и табакерки, украшенные жемчугами, короны и венцы из янтаря и крохотный дворец с башенками-чернильницами и главным донжоном для перьев и ручек. Облокотившись на мраморный камин, Баглай полюбовался этими сокровищами и тяжело вздохнул. Стоят, как на параде, слишком заметно, слишком опасно, и ничего не возьмешь… Он вдруг почувствовал обиду: все эти вещи, которые он мог считать почти своими – ибо в данный момент они не имели хозяина – в действительности принадлежали не ему. Это было горько и ранило сильней, чем детские воспоминания, насмешки Вики или окрик Лоера. Это было еще одной несправедливой гнусной шуткой, которую сыграли с ним, предложив так много и так сразу, что все предложенное он не мог забрать с собой. Теперь он понимал, что никогда не остановится. Будут другие старики, другие дома и квартиры, другие вещи, но раз за разом он будет возвращаться в эту ночь, в тот час и миг, когда владел черешинским богатством. Богатством, от которого урвал лишь крошку! Ничтожную частицу! А остальное проскользнуло мимо, пролилось меж пальцев, утекло… И сколько бы ни взял он у других, черешинское не вернуть – ни эту комнату, ни ту, с тремя шкафами… Да и возьмет он меньше… Где еще найдешь такое? Баглай поднял голову, повел фонариком, и райские птицы, дворцы, ларцы, сфероиды и чаши словно откликнулись на его молчаливый призыв, вспыхнули, засияли многоцветьем красок, поманили и угасли. Верно, не найдешь, подумал он. Ни у кого не найдешь. А жаль! Он поднял сумку, забросил на плечо ремень, направился в прихожую и осторожно приоткрыл входную дверь. На лестничной площадке царили темнота и тишина, только свистел за окнами ветер до погромыхивал где-то ржавым железным листом. Баглай выскользнул из квартиры, без лязга и скрипа провернул ключи, спустился вниз по истертым ступенькам лестницы, пересек двор, помня, какую колдобину и яму необходимо обогнуть, и вышел на улицу. Ночная прохлада остудила разгоряченное лицо. Небо было затянуто облаками. Хотелось пить. Сняв перчатки, он сунул их в карман, нащупал там связку ключей от только что покинутой квартиры и вдруг усмехнулся. Такого не найдешь, снова подумал Баглай, но это не повод, чтоб пренебречь иными возможностями. Эта мысль его утешила. Охота продолжалась.Глава 14
Первое апреля пришлось на четверг. Явившись с утра на работу, Глухов выслушал все шуточки, положенные по такому случаю, как новые, так и древние, проверенные временем и не потускневшие с годами. Надежда Максимовна, секретарша, с кокетливой улыбкой сообщила, что спина у Глухова белая; Долохов, вышедший из отпуска, заметил, что синий глуховский «жигуленок» перекрасили в розовый цвет и заодно позолотили бампер; а Голосюк с Верницким уверяли, что Глухову выписана премия, и что начальство сейчас решает, в чем ее выдать, в монгольских тугриках или в суданских динарах. Что же до Вали Караганова, то он обронил по секрету, что Яна Глебыча сватают в генеральные прокуроры и переводят в Москву; вопрос, дескать, уже решен, а чтобы Ян Глебыч не трепыхался на новой ответственной должности, велено накопать на него секс-компромат: как он шоколадки таскает девчонкам с ИВЦ и распивает чаи с майором Красавиной. Глухов слушал, посмеивался и думал, что выпала ему удача – или несчастье?.. – жить в уникальной стране, среди людей с врожденной склонностью к юмору: чем им хуже, тем больше шутят. Насчет коммунистов и евреев, Василь Иваныча и чукчей, армянского радио и КГБ… Теперь вот президент появился, и Дума, и олигархи, и «новые русские», и двадцать партий с живописными вождями… Сколько поводов для шуток! Вот люди и стараются. Плачут, но шутят. Рыдают, потом рассказывают анекдот. Питаются хлебом и кашей, глядят в телевизор на сытые думские рожи и помирают со смеху. Шутят, веселятся! Может, в какой-то день и перестанут веселиться, но не шутить – только шутки те будут кровавые. Такой вот национальный характер. Спасаясь от Караганова, желавшего обсудить особую сексуальную привлекательность прокуроров, Ян Глебович нырнул в свой кабинет, уселся за стол и занялся делами. Дела за последние дни продвинулись вперед, и это, вкупе с улыбками Линды и наступившей теплой погодой, рождало в нем заметный оптимизм. Но он допускал, что ясная погода, и продвижение в делах, и даже линдины улыбки, вполне возможно, ни при чем; быть может, то ощущались последствия той необычной процедуры, которой он подвергся у Тагарова. Нужное – разровнять, лишнее – убрать… Кажется, так?.. Вероятно, прилив энергии, который ощущался Глуховым, каким-то образом воздействовал на всех его партнеров: сначала откликнулись красноярцы, потом из судебных архивов прислали пухлую папку с материалами – иск Приходько к надеждинским наследникам. В ней была цветная фотография картины, и Глухов изучал ее минут пятнадцать, тем особым взглядом живописца, который не пропускает ничего, ни тени в облаках, ни переливов света на горных склонах. Первый план – домики с черепичными кровлями, зелень садов, ручеек, и за мостом – церквушка; дальше вздымается горный склон, тянется к перевалу дорога и исчезает меж двух вершин, похожих на полуразрушенные замки; а сверху, слева и справа – панорама гор, суровых и диких и будто придавленных вниз, к земле, хмурыми темными тучами. Великолепный пейзаж, решил Ян Глебович, со вздохом откладывая снимок и размышляя, не перейти ли ему с морей на горы. Горы все-таки доступней, чем океан… тот же Урал… да и в Карелии скал хватает… Больше в папке интересного не нашлось, а вот коллеги из Красноярска порадовали, сообщив, что в КНЦ, в научном центре, про Саркисова не знают ничего, что сообщений, кроме накладных и актов о приемке оборудования, от него не поступало, зато регулярно приходят переводы в счет долевого участия красноярцев. Суммы скромные, шесть процентов от прибылей, но столько положено по договору, а раз он выполняется, то у дирекции КНЦ претензий к Саркисову нет. Правда, деньги перечислялись от неведомой компании «Фарм Плюс», как бы торгового саркисовского партнера, но приходили на счет красноярцев в должных объемах и без проволочек – а что еще нужно в нынешние воровские времена?.. Ответ на запрос пришел еще в понедельник, и Глухов тут же загрузил работой Линду, ибо таинственных благодетелей-фармачей, плативших за несуществующие препараты, полагалось найти и изучить со всей подробностью – если, конечно, они не относились к категории мифологической. Глухов почти был в этом уверен, но, к его изумлению, Линда, просидев за компьютером восемь часов, обнаружила целые горы сведений – и должным образом зарегистрированный устав, и балансы, сдававшиеся в потрясающей аккуратностью, и отчеты в пенсионный фонд, и даже акты аудиторских проверок. Словом, «Фарм Плюс» была не каким-то призрачным паранормальным явлением, а вполне реальной конторой, исправно платившей налоги, учтенной во всех необходимых инстанциях. И в этом не содержалось ровным счетом ничего криминального, если бы не два обстоятельства: во-первых, проплаты в Красноярск, и, во-вторых, состав учредителей. Компаньонов было трое: братья Мосоловы и деловая спутница жизни законодателя Пережогина. Сей любопытный факт Глухов предполагал обсудить не далее, как завтра, на совещании у Олейника, которое проводилось по пятницам. Пока же он распорядился, чтоб за тремя компаньонами понаблюдали, и позвонил Мосолову Нилу Петровичу с завода шампанских вин, полюбопытствовав, есть ли успехи с розыском пропавшей красноярской установки. Успехов не было, но ожидалось, что оборудование вот-вот найдут. Найдите и предъявите, иначе начнется следствие по факту о хищении, сказал Глухов строгим голосом и положил трубку. Что до Мосолова Виктора Петровича, владельца «Дианы», то он вдруг раздвоился, пробравшись во второе дело, к художнику и генеральше, к актрисе и писателю и к остальным покойным старикам. Правда, был Мосолов не подозреваемым в убийствах, а только в свидетельском статусе. Случилось это во вторник, когда Ян Глебович заглянул в салон «Тримурти» с жалобой на боль в спине. Заведение было не из крупных, но выглядело весьма пристойно: уютный холл с интригующей фреской, в которой, при желании, можно было угадать объединенных вместе Брахму-творца, Вишну-хранителя и Шиву-разрушителя; плюшевые кресла и диваны, нежившие на своих подушках скорбных телом пациентов; длинноногая красотка в кассе и три массажных кабинета, где принимали мастера, проникшие в тайны аюрведы, йога сутры и самхит Чараки.[754] Так, во всяком случае, утверждалось в прейскуранте, и Глухов, поглядев на цены, испустил безмолвный стон, но попросил, чтобы его направили к лучшему и наиболее дорогому умельцу. То есть к хозяину «Тримурти» Федору Кириллову. Кириллов оказался мужчиной за пятьдесят, мускулистым, темноволосым, разговорчивым и совершенно не подходящим к роли «не того доктора». Кстати, он называл себя не доктором, а профессором, и пару раз упомянул, что обучался в Калькутте и Мадрасе. Потом Ян Глебович, кряхтя и охая под мощной профессорской дланью, выслушал перечень своих недугов, о коих не подозревал и даже в мыслях не держал, что есть такое – но все их, к счастью, можно было вылечить в «Тримурти», избавившись, во-первых, от болей, а во-вторых, улучшив сон, повысив общий тонус и потенцию. Мало-помалу он стал направлять словоохотливость профессора к нужной цели, спрашивая то об одном, то о другом, и в частности о том, сколько подобных искусников в Петербурге; и получил ответ, что их немного, по пальцам перечтешь, что цены у них запредельные, поскольку вкалывают на дядю, а дядя, как известно, жадноват; он же, профессор Кириллов, специалист независимый, трудится лишь на больного и на себя и плату берет умеренную, ибо, по всем канонам аюрведы, грех обирать болящих и страждущих. Глухов с этой мыслью согласился и даже слегка ее развил, отметив, что алчные в грядущем перерождении превратятся в ненасытных гиен и крыс. Теперь не составляло труда выпытать что-то полезное о всех профессорских конкурентах – как кого зовут, сколько кто берет, где и как учился и на кого работает. Баглай работал в «Диане», на Виктора Петровича Мосолова. Такое пересечение обстоятельств не удивило и не смутило Глухова. Как всякий сотрудник органов с тридцатилетним стажем он видел жизнь в ее разнообразных проявлениях и знал, что случайности в ней неизбежны, что происходят они с гораздо большей вероятностью, чем принято считать, и что за каждым случайным событием проглядывает если не закономерность, то строго обусловленная причинно-следственная связь. Особенно это касалось мотивов, осознанных или нет, объединяющих людей, тех причин, по которым они выбирали приятеля или супруга, соратника, коллегу, начальника и, разумеется, вождя. Рыбак рыбака видит издалека… Возможно, они не испытывают приязни и даже совсем наоборот, но общая страсть толкает их к объединению – вернее, выталкивает в определенный слой, где плавает рыба определенной породы. И оттого не надо удивляться, что властолюбивые крикуны маячат в Думе, мздоимцы – у государственных кормушек, а лицемеры-фанатики – у алтарей. Так и убийцы. Даже не ведая, кто есть кто и что сотворил, они инстинктивно тянутся друг к другу. Пока Глухов размышлял об этом, минул отмеренный срок, речи Кириллова иссякли, и сеанс закончился. Они с самозванным профессором являлись рыбами разных пород и не имели общего, кроме сиюминутной связи, какая бывает меж продавцом и покупателем, а потому расстались без сожалений. Профессор начал месить и мять очередного клиента, а Глухов отправился в управление, выпил кофе с Линдой, сказал, что красное ей к лицу (она была в багряном платье) и попросил подготовить ориентировку на Мосолова, с указанием всех его родственников, мест работы, дружеских связей и деловых интересов. Потом он вызвонил Суладзе и объяснил ему задачи на следующий день: заняться «Дианой» и раздобыть информацию о Баглае. С подозреваемым встреч избегать, и повод к визиту измыслить нейтральный, но веский, дающий возможность взглянуть на документы в отделе кадров; выводы, в порядке исключения, изложить в письменной форме. Красивым почерком, однако не более, чем на двух листах. Сейчас рапорт Джангира и справка, подготовленная Линдой, лежали перед Глуховым. Рапорт, как велено, был на двух листах, но исписанных с обеих сторон; четкие ровные строчки казались подтянутыми, молодцеватыми, как сам Суладзе в отглаженном мундире. Глухов, склонив голову, изучил витиеватую подпись на последней странице, одобрительно хмыкнул и начал читать. В «Диану» Джангир явился вместе с приятелем, сотрудником налоговой полиции, и был препровожден в руководящие сферы, то есть к самому Мосолову. Цель визита обозначалась так: некие сотрудники «Дианы» – прежде всего, массажисты, и, вероятно, экстрасенс – наносят ущерб казне, занимаясь частной практикой без надлежащего патента и отчислений с прибылей. Дабы ситуация не обострялась, подозреваемых надо предупредить, и эта миссия, на первый раз, доверена работодателю. Если же этот превентивный шаг окажется бесцельным, работодатель – как лицо, осведомленное о всех делишках и делах своих сотрудников, – пусть подумает, кого оставить, а кого уволить. Ибо с теми, кто не внял увещеваниям, будут разбираться по закону. После такого вступления джангиров друг потребовал листки учета кадров и трудовые книжки, и помрачневший хозяин «Дианы» отвел инспекторов в соседний кабинет, к своему заместителю Лоеру, который, собственно, и занимался кадровым вопросом. Все документы были представлены, изучены, обсуждены, а с наибольшим тщанием тот, что относился к экстрасенсу Рюмину; он, по словам заместителя, был жадным, своекорыстным и болтливым типом – в общем, подозреваемым номер один. Затем инспектора откланялись, что было зафиксировано на второй странице, а третья содержала перечень сведений о Баглае Игоре Олеговиче: внешность (по фотографии, прилепленной к листку учета кадров), а также адрес и телефон, где родился, где учился и служил, близкие родственники (их не оказалось), дипломы и свидетельства об окончании курсов и, под конец, список мест работы, не слишком большой, но и не маленький. Его Ян Глебович перечитал с особым интересом; первой шла войсковая часть, номер которой был ему знаком – спортивная команда при Ленинградском военном округе. Далее в рапорте Джангира отмечалось, что Баглай, если судить по фотографии, вылитый «не тот доктор»: стрижка короткая, губы узкие, нос прямой, щеки впалые, а подбородок квадратный. В общем, скандинавский тип, как на рисунке, изображенном со слов Марьи Антоновны. Только на рисунке он позвероватей, похищнее – не потому ли, что художник проницательней фотографа? Этот намек Ян Глебович счел комплиментом и тонкой лестью, усмехнулся и, обратившись к последней строке, узнал, что охраняет «Диану» агенство «Скиф». – Очень кстати, – пробормотал он, подумав, что наступает время встретиться с Баглаем. Но не официально, а лучше так, как с самозванным профессором аюрведы: улечься на массажный стол, подставить спину, поболтать, пожаловаться на недуги. Словом, беседа, не допрос; тот доверительный неспешный разговор, какие бывают между больным и целителем, и где узнается гораздо больше, чем в допросной. Засим Глухов потянулся к телефону, снял трубку и набрал номер Мартьянова. – Андрюша, ты? – Я, – отозвался знакомый бас. – Я, голубчик. – Чем занаят? – Я одну мечту, скрывая, нежу – что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Каждый сходит с ума по-своему в этом лучшем из миров, подумал Ян Глебович; один мечтает океаны рисовать, другой – найти вставную челюсть в животе покойника, а третий изъясняется стихами. Впрочем, к этой мартьяновской слабости он был привычен и с первых слов репертуара брался предсказать, в каком приятель настроении. Если цитирует Пушкина или Хайяма – в игривом, если Гомера и Гете – в возвышенном, а ежели Данте и Мильтона – в мрачном. Есенин в этой шкале соответствовал благодушию со слабым минорным оттенком. – Нынче у нас апрель, – сказал Глухов, – свистов осенних не слышно, так что ты погоди меня резать. Вот в ноябре я сам тебе горло подставлю. – Заметано, – послышалось в трубке. – Вот она, суровая жестокость, где весь смысл – страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей… – Кончай дурачиться. – Ян Глебович взглянул на часы и машинально отметил: время – пять минут одиннадцатого, скоро сводку принесут. – Скажи-ка, Андрюша, «Диана» под твоими бойцами? Это лечебница на Большом, на Петроградской. – Мой клиент. Мосолов Виктор Петрович там за хозяина. Только не лечебница у него, а оздоровительный центр. Души, ванны, массажи… Цены, правда, кусаются. – Вот-вот, – оживился Глухов, – кусаются! А мне бы на массаж попасть, но чтоб к определенному человеку и без обдираловки. Составишь протекцию? – Чего тут составлять – у меня абонемент бесплатный, от хозяйских щедрот. Бери и пользуйся! Хоть на массаж, хоть на шейпинг… А если желаешь, выведут шерсть с ягодиц и пересадят на плешь. Или там щечки подтянут… Неприятная процедура, зато ни единой морщинки! Все облетят, как с белых яблонь дым. – Не надо мне щеки подтягивать, я к массажисту хочу, – терпеливо объяснил Глухов. – К Баглаю Игорю Олеговичу. Крупный, говорят, специалист по хребтам и поясницам, очередь к нему большая и без знакомства не попасть. А ты с его хозяином дружбишься, с этим Мосоловым, плешь бесплатно засеваешь… Или я что-то не понял? – Не понял. Он мне не друг, а клиент. Чисто деловые отношения… Но уважительные. Денег лишних он мне не заплатит, а просьбу исполнит. Я ему сей момент позвоню. Ты когда лечиться желаешь? Прямо завтра? – А чего тянуть? Завтра, часиков в пять. Потом – три-четыре раза в неделю, сеансов десять или двенадцать… Выдюжит твой абонемент? – Выдюжит, – сказал Мартьянов, сделал паузу и осторожно полюбопытствовал: – Тебе и правда полечиться надо, или какой другой интерес? – Это оперативная информация. – Осознал и принял к сведению. Ты, Янчик, меня пойми, я в твои дела не лезу, зря не выспрашиваю… Волхвы не боятся могучих владык и княжеский дар им не нужен… Но если с этой «Дианой» непорядок, я разорву договор. Мой «Скиф» – контора чистая. И если ты глаз положил на моего клиента, так зачем мне такой клиент? Это уже не клиент, а ущерб для репутации. Верно я рассуждаю? – Верно, – согласился Глухов. – Ты, однако, не торопись договоры рвать, дело не закончено, и «Скиф» твой в этом деле ни при чем. Ты мне лучше скажи, что за тип этот Мосолов? – Ну, платит вовремя, человек деловой, не бедный… Своего, похоже, не упустит, но обходительный, бывший доцент. Кажется, из Химико-фармацевтического… В общем, из аптекарей. – Это я знаю, – Глухов покосился на справку, составленную Линдой. – Ты по существу говори. – По существу… Ну, жадноват, девок любит… еще родич у него имеется в Законодательном Собрании… лекарствами приторговывают, больше импортом… Пожалуй, все. – И на том спасибо. Кстати, будешь с ним говорить, должность мою не поминай, да и фамилию тоже. Скажи, Ян Глебович с радикулитом. Приятель детства. Одноклассник. – А если спросит, кто таков? – Художник. Живописец, пейзажи рисует. Моря. – Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит, – продекламировал Мартьянов. – Договорились, Ян. Вечером перезвоню. В половине одиннадцатого, едва Глухов закончил изучать биографию хозяина «Дианы», с ИВЦ поступила сводка суточных происшествий. Разбои, грабежи, угоны… Перечисление дел, по которым начато следствие… Две строки были обведены – не иначе, как той старательной девушкой, любившей шоколадки. Глухов сощурился, прочитал: «Черешин Ю.Д., известный коллекционер. Внезапная смерть. Наступила предположительно в ночь с 27 на 28 марта. Следователь Пастухов Н.Н.» Он откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и посидел так с минуту, мысленно перетряхивая сегодняшний график. Время будет, но вечером. Жаль! Хотелось бы Линду проводить, мелькнула мысль. Глухов взглянул на верин портрет, пробормотал: – Вот жизнь! Первым делом у нас самолеты, ну а девушки, а девушки – потом… – и потянул к себе телефонный справочник. Пастухов Николай Николаевич значился в следственном отделе ГУВД и, судя по голосу, был молод, энергичен и преисполнен уважения к подполковнику Глухову, эксперту-криминалисту бригады «Прим». Ян Глебович договорился, что осмотрит место происшествия и познакомится с материалами, которых было пока что немного: акт о вскрытии черешинской квартиры, протокол допроса некоего Пискунова и предварительное заключение судмедэксперта. Причиной смерти явилась цереброваскулярная болезнь, иными словами – инсульт; так же, как в остальных подозрительных случаях. Отложив сводку, Глухов начал готовиться к завтрашнему оперативному совещанию, но тут, будто очнувшись от сна, затрезвонил телефон. Звонил Джангир. – Ян Глебович, я в восемнадцатом отделении… да-да, на Петроградской… Общаюсь с участковым… Вяземский, дом шесть, где этот Баглай обосновался, его епархия… – Есть что-то новое? – спросил Глухов. – Трудно сказать. Участковый его почти что не знает. Говорит, что видел метров со ста пятидесяти, но в необычном ракурсе… Чистый аттракцион! Еще говорит, если завтра подъедем и выпадет случай, то можем сами полюбоваться… Желаете, или как? – Желаю. Когда подъехать? – В семь утра. Если повезет, всех дел минут на пять. Глуховские брови поползли вверх. – Не рановато? – поинтересовался он. – Какие аттракционы в такое время? – Не нам выбирать, – напомнил Джангир. – Так я вас жду, Ян Глебович? Без четверти семь, у метро «Петроградской»? – До встречи, – откликнулся Глухов и повесил трубку. Потом бросил взгляд на верину фотографию и сообщил ей: – Видишь, милая, самолеты у нас вылетают в самую рань. До девушек ли тут? Но Вера как всегда промолчала. Только смотрела на Яна Глебовича с грустной, немного лукавой улыбкой.Глава 15
Человек застыл на краю крыши, и Глухову мнилось, что сейчас он либо камнем рухнет вниз, либо воздушным шариком взлетит к рассветным розоватым небесам. Отсюда, из-под арки дома на другой стороне улицы, он выглядел нелепой кариатидой, ничего не поддерживающей и воздвигнутой каким-то шутником в неподходящем месте, на плоской кровле современного здания, среди антенн, вытяжных труб и проводов. Вот если бы украсить Эрмитаж, смотрелся лучше, подумал Глухов. Пожилой участковый, старший лейтенант с пышными буденовскими усами, сопел за его спиной. – Который год за ним приглядываю… я тут живу неподалеку… Сначала думал, самоубийца, потом – мазурик, антенны ворует. Но ничего такого… Справки навел – нормальный гражданин, из медиков, прописан во втором подъезде, двенадцатый этаж. Тихий. Холостой, а баб не водит. Никого не водит. Работает, не пьет… – И часто он так развлекается? – спросил Джангир. Сегодня он был не в мундире, а в щегольской серой куртке с алыми полосками. Куртка ему шла. – Зимой пореже, а как теплынь наступит, так, почитай, через день. И в дождь лазает, и в ветер… Но тогда бережется, не подходит к краю, стоит в отдалении. Не сумасшедший и не этот… не суицидник. Может, из йогов? Йоги чистый воздух уважают. А там, на высоте… Глухов повернул голову, и лейтенант замолк. – Дома у него бывали? Во втором подъезде, на двенадцатом этаже? Участковый разгладил усы, смущенно покашлял в кулак. – Повода не случилось, товарищ подполковник. Я ж говорю, тихий… Ну, тащится на крыше, так ведь не озорует. Ничего не пропадало, ни проводов, ни этих… как их… антенных усилителей. Да и зачем ему? Он парень не бедный, две двухкомнатные квартиры на него записаны. Раньше-то он в девяносто третьей жил, а года три назад или четыре прикупил соседнюю. Я в жилконторе справлялся… Аккуратный, сказали, платит вовремя. Ян Глебович припомнил вчерашний разговор с Мартьяновым о хозяине «Дианы». Не бедный и вовремя платит… Похоже, эти достоинства сделались нынче главными, оттеснив благородство и ум, честность и сострадание, не говоря уж о верности и доброте. Баглай, вероятно, являлся убийцей; Мосолов – махинатором… Так что с того? Не бедные и платят вовремя… Он кивнул Суладзе. – Разберись с квартирой. Опыт у тебя имеется… Узнай, когда купил и по какой цене, а если сумма небольшая, прикинь реальную стоимость. Я так думаю, тысяч на двадцать потянет или на двадцать пять. – Ба-альшие деньги… – тоскливо вздохнул участковый. – Вот только откуда? – добавил Джангир. – Обыск бы у него учинить, Ян Глебович… Глухов пожал плечами, буркнув: трудись, капитан, ищи улики. Пока что оснований к обыску не было никаких, и ни один прокурор в здравом уме не дал бы на это санкцию. Ну, умерли пять или шесть стариков… Такая уж их стариковская доля, все помрем, кто от инфаркта, кто от инсульта. Ну, ходил массажист к генеральше Макштас, ну, опознает его соседка – так что же? Ходил в январе, задолго до смерти, а денег пропавших, кроме наследников, никто живьем не видал, а наследники – люди заинтересованные, и цена их показаниям – грош. Что там еще в активе? Ну, коллекционер Черешин… музей, которым довелось вчера полюбоваться… Еле заметные следы на крышках ящиков, будто от перчаток… кружок на пыльной нижней полке, будто от баночки с монпасье… Это с одной стороны, а с другой – описи нет, и нет следов насилия, и будто ничего не тронуто. Какой тут обыск?.. – думал Глухов, раздраженно покусывая губу. Ни доказательств, ни прямых улик, сплошные гипотезы, да и те – не на фактах, а на статистике. Ряд сходных ситуаций: одинокие старики с каким-нибудь добром, неописанным и неучтенным. Плюс экспертиза Тагарова, то есть возможность убийства под видом целительных процедур… Потенциальная возможность, а как там было дело, поди узнай… Может, массажист и ни при чем. А может быть, при чем, но по ошибке, без злого умысла. Ни денег никаких не брал, ни дорогих картин… В данном случае Глухов не мог утверждать, что существует коллизия между Законом и Справедливостью. И Справедливость, и Закон были на стороне Баглая, ибо бесспорных признаков его вины пока что не нашлось. Именно признаков, не доказательств, так как меж ними имелось различие: признак – то, что убеждало Глухова, а доказательств требовал Закон. Такое разделение прерогатив казалось Глухову явлением естественным, фундаментальным; не всякий признак превращался в доказательство, поскольку жизнь сложна, и даже самому себе немногое докажешь. Так, например, никто не признавал себя мерзавцем – при всех сопутствующих признаках. Фигура на крыше пошевелилась, человек медленно отступил назад, вытянул руку, будто приоткрывая дверь, согнулся и исчез. – Аттракцион закончен, – прокомментировал Джангир. Глухов повернулся, пожал широкую ладонь участкового. – Спасибо. Вы нам очень помогли. Как вас зовут? – Владимир Ильич… – Участковый прочистил горло, подергал левый ус. – Такое у меня имя-отчество… Прежде почетным считалось, теперь смеются… особо молодые… – Он покосился на Суладзе. – Когда, говорят, революцию сделаешь и сочинишь декрет, чтоб контриков – к стенке? А я не любитель революций. Это беспредел, и кровь, и слезы, и горе… Я – за порядок. – Верно рассуждаешь, Владимир Ильич, – сказал Глухов, и повторил: – Спасибо. – Так приглядеть за ним? За йогом этим? – Не надо. Раньше не приглядели, теперь паровоз ушел. Но вашей вины, Владимир Ильич, в том нет. Вы ему не отец и не учитель. Кивнув на прощание головой, Глухов вышел из-под арки.* * *
Планерки, или еженедельные оперативные совещания, проводились в десять-ноль-ноль у Олейника в кабинете. Кабинет был невелик, но и «глухарей» было немного, и каждый знал, где ему сесть, куда положить блокнот или папку с бумагами, когда говорить, а когда помолчать. Олейник пристраивался у стены, украшенной портретом Дзержинского, за письменным двухтумбовым столом с двумя телефонами; к нему был придвинут другой, узкий и не очень длинный, для подполковника и майоров – то есть для Глухова, Линды и Гриши Долохова. Тут первым сидел Ян Глебович, на правах заместителя и бывшего шефа; и стул ему полагался особенный, обитый кожей, довоенный и прочный, как дубовый пень. Все трое располагались спиной к окну, а по другую сторону стола был диван, такой же древний, как сиденье Глухова, и стулья там не помещались. Диван был отдан молодежи – Голосюку с Верницким и Вале Караганову. Такая диспозиция всегда казалась Глухову разумной, но с недавних пор он пребывал в сомнении. Во-первых, Голосюк: дадут ему майора, а за Долоховым места нет – куда ж майору поместиться?.. А во-вторых, нахальный Караганов – ему на диване сидеть и сидеть, но он ведь не просто сидит, а пялится под стол, на линдины стройные ноги. Правда, выход из этой ситуации имелся: втиснуть в кабинет Олейника что-нибудь подлиннее, посовременней, с перегородкой под столешницей. Такую конторскую мебель Ян Глебович видел не раз, но импортную и за безумные деньги. Докладывали, как заведено, с младших по званию, то есть с дивана. Глухов отчитывался последним, Олейник подводил итог, а после глядел на Яна Глебовича в ожидании – не будет ли каких советов. Случалось, бывали. И по тому, как слушали их, Глухов понимал: хоть он не начальник, не шеф, и не сидит под портретом Дзержинского, однако все еще учитель. Это было приятно; это значило, что он необходим и вовсе не так одинок, как мнилось ему временами. Здесь, в этой узкой маленькой комнатке, одиночество таяло, растворялось в аромате линдиных духов, в негромком уверенном голосе Олейника, в табачном дыму и даже в карагановских усмешках. Впрочем, невзирая на ехидный нрав, парень он был неплохой; иные у «глухарей» не приживались. Линда отчитывалась предпоследней, перед Глуховым. Закончив говорить, она закрыла блокнот с записями и облокатилась на стол, уместив подбородок в изящной маленькой ладони. Прядь волос упала ей на щеку; темный шелковистый завиток на фоне розоватой кожи. Магия, подумал Глухов, колдовство. Та же поза, что у Веры, тот же взгляд… Только верины волосы были посветлей… – Вам слово, ЯнГлебович, – сказал Олейник. – Дело фармацевта, – негромко и спокойно произнес Глухов. – События, как видится мне, развивались по следующему сценарию. Два биохимика из Красноярска придумали, как синтезировать препарат с широким спектром лечебного воздействия. Противоаллергенным, а также противоастматическим… Авторы – люди солидные, специалисты из КНЦ, то-бишь Красноярского научного центра. Способ у них дешевый, оборудование недорогое, сырье – непищевые отходы с мясокомбинатов. Если не ошибаюсь, какие-то железы, то ли говяжьи, то ли свиные… Ну, не важно. А важно, что производство наладить они не смогли, да и не очень хотелось им связываться с производством; сертифицировали препарат, поискали в столицах деловых партнеров, наткнулись на Саркисова, и он оплатил промышленную установку. Это оборудование поступило в Петербург в прошлом году, седьмого января, затем было доставлено на мясокомбинат, где Саркисов арендовал помещение. Груз хрупкий, в тринадцати особых ящиках с маркировкой «КНЦ». Также был заключен договор о выплате разработчикам доли прибыли – как авторского вознаграждения, когда пойдет серийный выпуск препарата. Глухов сделал паузу и покосился на Олейника – тот сидел, пощипывал светлый ус, и что-то чиркал на лежавшем перед ним листке. Лицо его казалось хмурым. Лист, насколько мог разглядеть Ян Глебович, был ксероксом письма из Красноярского УВД. Того самого, где поминалась щедрая компания «Фарм Плюс». – Далее в версии есть развился. Возможно, средств у Саркисова не хватило, и он обратился к Виктору Мосолову, приятелю и бывшему коллеге по Химико-фармацевтическому институту – оба они там доценствовали в советские времена. Столь же вероятно, что Мосолов был саркисовским компаньоном с самого начала и вкладывал деньги в его проект. Но не один, а вместе с братом, Нилом Петровичем Мосоловым, и с супругой их кузена Ольгой Николаевной Пережогиной… – Ян Глебович заметил, как дрогнули губы у Олейника, будто он что-то хотел сказать, да вовремя остановился. – Пережогина, – продолжал Глухов все тем же ровным голосом, – владеет сетью коммерческих аптек, а ее муж – депутат Законодательного Собрания, влиятельная фигура в городской медицинской комиссии. Говоря определеннее, он способствует распределению кредитов: кому их давать, под закупку каких лекарств, у каких зарубежных фирм и по какой цене. Затем, как я полагаю, кредитуемые спонсируют его избирательную кампанию. Майор Красавина, – Глухов кивнул в сторону Линды, – составила их список и провела анализ недавних выборов – по округу, где баллотировался Пережогин. Часть этих спонсорских денег пошла на подкуп неимущих избирателей, под видом соглашения о найме агитаторов. И наняли их… Тут Ян Глебович повернулся к Линде, и она с усмешкой уточнила: – Около четырнадцати тысяч. – Вот это да! – Валя Караганов присвистнул. – Каждому по паре сотен… или хотя бы по стольнику… И выйдет лимон! Еще и побольше! Олейник похлопал ладонью по столу. – Не будем отвлекаться, коллеги! Ни на Пережогина, ни на недавние выборы. Ян Глебович, прошу вас, продолжайте. Не хочет заострять внимание на Пережогине, подумал Глухов. Мысль эта была неприятной – словно намек, что депутаты, мол, нам не по зубам. – Перехожу к дальнейшему развитию событий, – Глухов упрямо наклонил голову, рассматривая стиснутые кулаки, лежавшие на коленях. – Отметим два обстоятельства. Первое: наш фармацевт был человеком толковым, упрямым и дело разворачивал всерьез. То есть хотел производить лекарство, аналогичное импортным, но втрое-вчетверо дешевле. Отступать ему было некуда: он в красноярский проект все свои деньги вложил. Второе. Объемы импорта зарубежных препаратов данной категории – десять-пятнадцать миллионов в год. В долларах, и только по Петербургу. Основной импортер – фирма Пережогиной, а братья Мосоловы, Нил и Виктор, я полагаю, ее подельники. Чистая прибыль – процентов десять, лимон или побольше, – тут Ян Глебович бросил взгляд на Караганова, – но не в рублях, а, разумеется, тоже в долларах. В такой ситуации Саркисов с красноярскими биохимиками им как острый нож… Вероятно, его уговаривали, сулили отступное, но в какой-то момент он понял, что Мосолов деньги не за тем дает, чтобы создать и развить, а чтобы угробить. И, догадавшись, взбунтовался. Может, пригрозил скандалом или начал поиски других партнеров. В конце концов, мосоловский пай могли ведь и выкупить… – Логичная версия, – согласился Олейник, – повод для разборки есть. – Он нахмурился, пошевелил листок, лежавший перед ним, и Глухов увидел, что это в самом деле ответ из Красноярского УВД. – А как вы объясните, Ян Глебович, что Саркисов ничего не сообщил красноярцам? Ну, о своих проблемах и неприятностях? Как-никак, они тоже люди заинтересованные. – Боялся лицо потерять. В бизнесе любят хорошие новости и очень не любят плохих. Красноярцы ведь тоже могли подыскать другого партнера… Так что Саркисов молчал. А после, когда был убит, молчание вышло убийцам наруку. Полгода они проплачивают мелкие суммы в Красноярск, и там уверены, что препарат с успехом производится и продается. Будут еще год платить… а то и два… морочить головы доверчивым биохимикам… Эрик Верницкий заерзал на диване, привстал, поднял руку. – Но это ведь, Ян Глебович, не может продолжаться до бесконечности! Биохимик вовсе не есть кретин… Им ведь и слава нужна! Гласность! – Нужна, – кивнул Глухов. – Я думаю, план тут такой: не заблокировать намертво, а лишь притормозить и сохранить под контролем. Наладят наши Мосоловы производство, выпустят малую партию и объяснят биохимикам: горе у нас случилось, Саркисов помер, и мы, его компаньоны, сильно расстроились, потому и задержка вышла. А платили вам, чтоб обошлось без обид… Все чинно-благородно. – Ян Глебович сделал паузу, хмыкнул, подумал и сообщил: – Возможно, мне удалось подтолкнуть их к такому решению. Надавил я на них… На Нила Петровича Мосолова… Брови Олейника вопросительно приподнялись, и Ян Глебович пояснил: – После гибели Саркисова его предприятие ликвидировали. Установка была перепродана, и не единожды, пока не оказалась на балансе «Аюдага». Это завод шампанских вин, предприятие государственное, где директором Мосолов Нил Петрович, родственник нашего главного фигуранта. Там, я думаю, и собирались наладить выпуск, но не спешили и оборудование не завезли. Спрятали где-то… Но привезут, всенепременно привезут, так как я обещал Нилу Петровичу неприятности. Наблюдение установлено, можем выяснить, где хранили аппаратуру. У Пережогиной есть база и склады, и у Мосолова. Груз небольшой, всего-то тринадцать ящиков… – Отлично, – промолвил Олейник. – Круг подозреваемых очерчен, и логика у Яна Глебовича, как всегда, на высоте… Я полагаю, ваша версия документально подтверждена? И можно приступать к активной разработке фигурантов? Глухов молча кивнул. – Тогда – все! За работу, дамы и господа. – Олейник сделал широкий жест, потом искоса взглянул на Глухова. – Вас, Ян Глебович, прошу задержаться. Ладонь Линды легла на стиснутые глуховские кулаки, и он ощутил легкое пожатие. Мужчины встали. Гриша Долохов с полупоклоном отворил перед Линдой дверь, Голосюк с Верницким рассовывали по карманам блокноты и сигареты, Валя Караганов переминался с ноги на ногу, нетерпеливо дожидаясь, когда очистится проход. Наконец все вышли, и комната опустела. Олейник закурил и с мрачным видом уставился в пол. Глухов тоже потянулся за сигаретами. – Заказное убийство, Ян Глебович? – Несомненно. Заказчики – Пережогина и Мосолов. Виктор, не Нил. Нил Петрович все-таки госслужащий, а эти двое крутятся в частном бизнесе, имеют разнообразные связи… Скорей всего, они нанимали исполнителей. Не лично, через вторые-третьи руки… Каких-нибудь гастролеров, которых след простыл. – Да-а, ситуация… – задумчиво протянул Олейник. – Глухое дело… – Как раз по нашей части. Минут пять они сосредоточенно дымили. Ситуация была вполне понятной. Есть заказчики, есть исполнители. Заказчики платят, а исполнители режут. Связь между ними не очевидная, не прямая; может, удастся ее доказать, а может, нет. Самый же оптимальный из вариантов – ничего такого не доказывать, а отыскать исполнителей и засадить на полную катушку, ибо они – убийцы, они душили, резали, стреляли и пускали кровь. Что до заказчиков, людей солидных, состоящих под чьим-то покровительством, то к ним не просто подобраться, а временами – невозможно, если доказательства слабы, а покровители сильны. Такой порядок предусматривал, что злобных псов необходимо пристрелить, не трогая хозяев – тех, кто натравил их и слушал в безопасности, как лязгают клыки и стонут жертвы. Но этот вариант не проходил. Оба, Олейник и Глухов, почти не нуждались в словах, чтоб обозначить такую ситуацию; оба они понимали, что за давностью свершившегося исполнителей не найдешь, разве что случайно, а потому копать и разгребать придется сверху. С Мосоловых, с депутатской жены и с самого депутата. И с тех, кто стоит за Пережогиным, кто получает, прикрывает и решает. Ибо сам Пережогин реальной власти не имел, а только лишь влияние. Влияние, связи, друзей и благодарных почитателей. – Громкое будет дело, склочное, опасное, – промолвил Олейник, стряхивая пепел. – Как думаете, Ян Глебович, в мэрию не потянется? – Потянется, Игорь, потянется наверняка. Ну, что тут поделаешь? Вороват чиновник на Руси… – Глухов затянулся и выпустил дым колечком. – План у меня такой: понаблюдаем пару месяцев, раскрутим контакты, а повезет, так поймаем на взятке… Пережогина ведь не только супруга-депутата кормит… Еще с Мосоловым разберемся, с этим Виктором Петровичем. Как он поликлинику на Большом купил, за какие-такие миллионы… Вдруг там миллионами и не пахнет? Досталось задешево, а почему? Кто помогал, кто ворожил? Пригасив сигарету в пепельнице, Глухов полез в карман за новой. Курил он редко и лишь за компанию. Особенно если в компании намечался неприятный разговор. Олейник покивал в задумчивости. – Значит, вот как решили… пойти в обход… Собрать криминальные факты, прижать на допросах… Думаете, сознаются? Глухов следил, как тает в воздухе сизый дымок. – Знаешь, Игорь, лет двадцать пять назад, когда я учился в ВМШ, был там один забавный старичок, Вейтсон Владимир Аронович. Преподавал у нас психологию… И была у него поговорка: сладок грех, а исповедь еще слаще. Все зависит от искусства исповедника… – Ладно! Действуйте, Ян Глебович, но постарайтесь с этим Пережогиным поаккуратней. Кто-то, как вы сказали, ему ворожит… и человек, я думаю, не маленький… Во всяком случае, генерал, – тут Олейник понизил голос, – велел докладывать об этом деле. Лично ему, еженедельно. – В первый раз, что ли? – пожал плечами Глухов. – Не в первый, – согласился Олейник и перевел разговор на другое: – А как с вашим вторым расследованием, для Кулагина? Движется? Я смотрю, капитан-то этот, из Северного РУВД, что ни день, так у вас. Толковый? – Старательный. А дело, Игорь, движется, но в неприятную сторону. Ты о Черешине не слышал? Геолог и великий коллекционер… камушки собирал, яхонты бесценные… Умер недавно. Скончался ночью, в собственной квартире, при полном отсутствии публики. Сходил я вчера, посмотрел… тут недалеко, на Таврической… – Есть следы? – В глазах Олейника вспыхнул интерес. – То ли есть, то ли нет… смутно… Коллекция не переписана, камней – мириады, сотню возьмешь, никто не заметит. Не исключаю, что кто-то пошарил, но с осторожностью. Явный след лишь в одном из шкафов, где камушки хранятся. Отпечаток в пыли на нижней полке, словно там круглая коробочка стояла… А теперь не стоит. – Черешин мог ее взять? – Мог, за три-четыре дня до смерти. Свежий след! А коробка такая в квартире не обнаружилась. – Выбросил? – Вряд ли. Коробки в тех шкафах не для помойных ведер. – Словно подводя итог, Ян Глебович раздавил окурок в пепельнице, наклонился к Олейнику и тихо сказал: – Боюсь, Игорь, серийный убийца у нас. Охотится на стариков, входит в доверие, гробит по-тихому и не жадничает, берет чуть-чуть, чтоб незаметно… Случаев пять или шесть я насчитал, с девяносто седьмого года. Серия! – Только этого нам не хватало! – Олейник с брезгливой гримасой откинулся на спинку кресла. – Серийный убийца! Надо же! А кто таков, Ян Глебович? Установили? Придурок? Или маньяк? – Если бы!.. Я ведь сказал: гробит по-тихому, не жадничает… Очень разумный парень и очень аккуратный. Вот повидаюсь с ним, все доложу в подробностях. – Глухов приподнялся. – Ну что, отпускаешь, Игорь Корнилович? Могу идти трудиться? – Да, конечно… И с этим депутатом… хмм… прошу вас, поделикатней… Все-таки политика, хоть в городском масштабе. – Ты уж, Игорь, выбирай, кем тебе быть, политиком или сыщиком, – сказал Глухов и направился к двери.* * *
В оздоровительный центр «Диана» он прибыл без четверти пять, выполнил быструю рекогносцировку, прогулявшись по лестницам и коридорам, отметил, что заведение богатое, поставлено на широкую ногу, и ровно в семнадцать-ноль-ноль уже лежал на массажном столе. Баглай, его предполагаемый целитель, оказался в точности таким, как описывала Марья Антоновна: рослый, светловолосый, широкоплечий, щеки впалые, нос прямой и губы узковаты. Губы «не тот доктор» иногда облизывал быстрым змеиным движением, а взгляд у него был внимательный, серьезный, однако не слишком располагающий. Скорее, угрюмый и будто оценивающий нового пациента. Не нравились Глухову доктора с такими взглядами, но объективности ради он признал, что массажист – мужчина видный, в расцвете сил, и, несомненно, имеет успех у девушек. Лежа на столе, Ян Глебович ощущал, как гибкие сильные пальцы касаются спины, давят тут и там, нажимают и проверяют, двигаясь в какой-то странной пляске, вроде бы хаотической, но в то же время состоящей из строго определенных пируэтов. В комнате звучала тихая музыка, но пальцы массажиста не подчинялись ей, а танцевали свой собственный танец, то быстрый и бурный, то плавный и медленный, почти завороживший Глухова. Разум его готов был погрузиться в сон под этими магическими прикосновениями, однако интуиция не дремала; он знал, что чувствует руки убийцы, хотя не смог бы объяснить, на чем основана эта уверенность. Знания?.. Опыт?.. Инстинкт?.. Нет, что-то совсем другое, что-то сродни таланту Тагарова, умевшего отличать зерна от плевел, достойных от недостойных… Но с этим парнем он все же допустил ошибку, подумалось Глухову. Или нет? Ведь в те времена, когда Баглай учился у Тагарова, он еще не был убийцей… Убийца! Убийца беззащитных стариков! При этой мысли Ян Глебович непроизвольно напрягся, и тут же тихий голос предупредил: – Не надо. Расслабьте мышцы. Сейчас с проверочкой закончим и будем вас лечить. – Так вы проверяли? – притворно изумился Глухов. – Ну, и какие результаты? Будет жить пациент? – Вы пока что клиент, не пациент. Пациент – больной человек, а у вас никаких патологий. Есть затвердения – тут, тут и тут… – палец осторожно коснулся левой лопатки и двух точек на пояснице. – Но это мы разомнет сеансов за пять-шесть… А вообще имейте ввиду: вам нужен оздоровительный массаж. Только оздоровительный, не лечебный, не спортивный, и уж тем более не эротический. – Мне другое говорили, – пробормотал Глухов. – Говорили, что я инвалид и импотент… почти покойник. – Кто говорил? – Профессор Кириллов из «Тримурти». Баглай фыркнул, массируя Яну Глебовичу лопатки. – Профессор Федька… прохиндей… знаю его… Он наговорит, чтоб ваш бумажник порастрясти!.. – Мне тоже так показалось. Но он меня, знаете, напугал, – отозвался Глухов, изобразив облегченный вздох. – Да, напугал… Я ведь вдовец, живу один, может и правда стал импотентом? Пришлось обзванивать друзей-приятелей, искать… Так вот вас и нашел. Сказали, лучший в городе… Ох! – Больно? – Нет, терпимо… Лучший мастер, говорят, иди Ян Глебович к нему, устроим… Так я к вам и попал. По протекции школьного дружка Андрюши… Он вроде бы с вашим директором знаком. – Наверное, так. Виктор Петрович просил с вами заняться повнимательней. Еще сказал, что вы художник. И как? Доходное занятие? – Кормлюсь, не жалуюсь… А вот про вас я слышал, что вы – специалист восточного массажа. Только какого? Там много методик и множество стран… Турция, Персия, Индия, Китай с Тибетом… – Любого. – А где обучались? – Есть места… – неопределенно обронил массажист, и Глухов догадался, что эту тему лучше не затрагивать. Подождав немного, он сказал: – Восток полон тайн и древней мудрости… О многом там совсем иное представление. О живописи и вообще о культуре, о любви и эротике, о человеке и его болезнях… – Это верно, – согласился Баглай, и вдруг стал нараспев декламировать, привычно попадая в ритм массирующих движений: – Болезни, проявляясь в бесчисленных видах, доставляют телу страдания, и причины их по отдельности невозможно назвать. Но если ты ищешь причину общую, то знай, что она одна: это невежество, возникающее от неведенья собственного «я». Птица, взлетая к небу, не может от тени своей оторваться – так и твари земные, пребывая во власти невежества, не могут избавиться от болезней. Вот еще частные беды, возникающие от невежества: страсть, гнев и глупость, три отравляющих яда; а плоды их – ветер, желчь и слизь, три начала болезнетворных… Он оборвал декламацию, и Ян Глебович с неподдельным интересом полюбопытствовал: – Это откуда? – Чжуд-ши, древний тибетский канон. Шестой век до нашей эры. – Невежество, проистекающее от неведенья собственного «я»… – медленно повторил Глухов. – Отлично сказано! А вы, мой целитель, познали собственное «я»? – Вне всяких сомнений, – отозвался массажист, добравшись до глуховской поясницы и разминая болезненные точки. На мгновение пальцы его замерли, прекратив уверенный ритмичный танец; затем он спросил: – Вы у мольберта стоите или сидите? – Большей частью сижу. Я не Брюллов, не Айвазовский, полотна у меня небольшие, хватает рук чтоб дотянуться. – Рекомендую стоять, это для вас полезней… для вас и вашего позвоночника. Все же по нему заметно, что работа у вас сидячая… – Пауза. Потом вопрос: – А что вы пишете, Ян Глебович? Портреты? – Нет, пейзажи, – отозвался Глухов. – Морская тематика. Заливы, бухты, корабли под парусами, прибрежные утесы и все такое… – Он помолчал и вдруг, словно по наитию, добавил: – Мне еще горы нравится рисовать. Горы – великолепная тема для живописца. Торжественная, возвышенная… – Не буду спорить, – согласился массажист, трудясь над глуховской поясницей. – Однако горы, если разглядывать их живьем, вселяют трепет. Даже ужас! Все эти обледеневшие вершины, ущелья, скалы, пропасти… Особенно пропасти… Так и тянет ринуться вниз… Увиденное утром представление – застывший на крыше человек – всплыло перед Глуховым, и ему подумалось, что Баглай, возможно, не совсем здоров. Психика – штука тонкая, деликатная, хрупкий сосуд, и не без трещин… почти у любого не без трещин… Какая же трещина здесь? Ян Глебович твердо помнил, что есть болезнь, именуемая страхом высоты – но существует ли что-то антонимическое, противоположное?.. Недуг, который подталкивал бы в пропасть? – Боитесь гор? – спросил он, поворачивая голову. Тень мелькнула на лице массажиста. – Нет, не боюсь. Просто не люблю чувствовать себя ничтожным, крохотным, бессильным… Поэтому я – не альпинист! – Он суховато рассмеялся. – Предпочитаю горы на картинах. С картинами все как раз наоборот: сам я будто великан, а горы – всего лишь безопасные игрушки на размалеванном полотне. Можно купить их или продать, снять и снова повесить, полюбоваться… Можно из-за них убить, подумал Глухов, а вслух сказал: – И что же, есть у вас какие-то любимые полотна? И любимые художники? Рерих, Рокуэл Кент? Или кто-то из старых? Французы, фламандцы, итальянцы? Скажем, Пуссен или Якоб ван Рейсдал? Молчание. Вероятно, Баглай размышлял. Глухов не видел его, но чувствовал, как пальцы изменили темп, перейдя от стремительной румбы к плавному вальсу. Затем послышалось: – Наверное, старые мастера. Да, старые… У них есть одно достоинство – реализм. Понимаете, Кент и Рерих рисовали так, как виделось персонально им, а я люблю чтоб было как на самом деле. Так, как вижу я. Вот, к примеру… Он стал описывать пейзаж с деревней на горном склоне, с церквушкой за ручьем, с дорогой, уходящей к перевалу, с двумя вершинами, похожими на рыцарские замки, и панорамой гор – мрачных, диковатых, придавленных тучей, что нависала над ними клубящимся темным пологом. Глухов слушал, прикрыв глаза и стиснув зубы; кровь быстрыми толчками билась в висках, и от того звучавший над ним голос казался надтреснутым, прерывистым, будто мигание стробоскопа. Бурдон… Возможно, не Бурдон, но, без сомнений, картина, похищенная у Надеждина… С подробным точным описанием… Выходит, видели ее не раз… Снимали, вешали, разглядывали, любовались… Он не мог ошибиться. В том, что он слышал, звучали не восхищение и трепет зрителя, а более жесткие, властные ноты. Хозяйская речь, подумал он, стараясь не выдать себя ни словом, ни жестом. Пальцы, плясавшие на его спине, замерли, потом отдернулись. – Все, Ян Глебович, – произнес Баглай. – Когда теперь придете? Может, в понедельник? – В понедельник так в понедельник, – откликнулся Глухов.Глава 16
День выпал не из лучших. Утром, когда Баглай стоял на крыше и всматривался в розовеющие облака, его внезапно охватило странное предчувствие. Будто за ним наблюдают – без неприязни, без симпатии, но холодно, бесстрастно, изучающе, как человек глядит на муху, которую вот-вот прихлопнет. Казалось, этот взгляд буравит спину, подталкивает к пропасти, повелевает – прыгни! Однако каким-то неведомым чувством Баглай ощущал, что в этот раз прыжок сулит не бесконечное блаженное падение, но быстрый недолгий полет и сокрушительный удар. Будто чья-то чужая воля портила привычную игру, вмешавшись в нее непрошенным и нежеланным партнером. Он старался не глядеть вниз, на деревья и темную, еще влажноватую землю, на аллеи парка, посыпанные гравием, на ненавистных собачников и их питомцев, которые скалили зубы, скулили, рычали и рвались с поводков. Он смотрел на небо, стараясь представить, что поднимается к облакам и парит среди них, невесомый и легкий, словно пушинка. Но это не помогало. Чужой взгляд подталкивал к бездне, к падению, к небытию… Баглай досадливо поморщился и отступил от края крыши. Потом спустился вниз и сделал то, что делал по утрам лишь в редких случаях: отпер дверь своей второй квартиры, вошел, уселся у круглого столика в стиле ампир и просидел так с четверть часа, разглядывая нефритовую вазу, синий персидский ковер с голубыми узорами, клинки, тарелки, статуэтки и картины – с венецианской лагуной, с рекой и мельницей, с развалинами греческого храма и с панорамой гор – возможно, Альп, возможно, Апеннин. Сегодня этот пейзаж действовал на Баглая с особой успокоительной силой. Было приятно сознавать, что горы – а главное, пропасти на полотне – подвластны ему во всем, что он их владыка и повелитель и может уничтожить их, изрезать в клочья, снять со стенки или повесить вновь. С чувством мстительного торжества он разглядывал картину – россыпь каменных домиков у подножья горы, тонувших в оливковой зелени, горбатый мостик над ручьем и церковь, от которой тянулась дорога к перевалу. Зеленый тон переходил в коричневый, бурый и серый; две вершины, что стерегли перевал, казались почти черными, похожими на руины древних цитаделей, а над ними раскинулось грозовое небо, тоже темное и будто придавившее горы, дорогу и дома своей неимоверной тяжестью. Мрачный пейзаж, зато исполненный величия и мощи, подумал Баглай, поднялся, тщательно запер дверь и приступил к гимнастике и завтраку. Ощущение чужого холодного взгляда уже не преследовало его. Впрочем, сей феномен относился к явлениям загадочным, непостижимым, но не опасным, а вот на работе Баглая ждали вполне реальные неприятности. Едва он успел переодеться, как в кабинет просунулся Макс Арнольдович и, окинув быстрым взглядом стол под свежей простыней, еще не включенный магнитофон и баночки с мазями и маслами, проинформировал, что вызывает шеф. Не одного Баглая; вместе с ним на четвертый этаж отправились экстрасенс Рюмин и все массажисты, включая Лидочку Сторожеву. Лоер конвоировал их с непроницаемой физиономией, словно бригаду зэков, отправленных на лесоповал. Прочие сотрудники «Дианы», не исключая «скифов»-охранников, косились на это шествие в немом изумлении и, вероятно, гадали, поставят ли массажистов к стенке, сбросят ли в бассейн или сожгут под кварцевыми лампами в солярии. Вика Лесневская, выглянув из процедурной, сделала большие глаза, выскочила в коридор, пристроилась рядом с Баглаем и дернула его за рукав: – Куда ведут, желанный мой? – К Мослу, – хмуро сообщил Баглай, а Римм, протирая очки, добавил: – Мослы полировать. Чтоб меньше желалось, лучше работалось. Лоер повернул голову и, окатив экстрасенса ледяным взором, процедил: – Доктор Лесневская, прошу вернуться на место. Если не ошибаюсь, прием у вас начнется через двадцать пять минут. – Ой, надо же! А я музыку не включила и не стряхнула пыль с ушей! – Состроив озабоченную гримаску, Вика ринулась к процедурной. Они поднялись по лестнице на четвертый этаж, проплыв сквозь ароматное облако, что просочилось из косметического салона, затем миновали бухгалтерию, ординаторскую, комнату отдыха охраны и, под водительством Лоера, вошли в директорский кабинет. Баглаю приходилось здесь бывать – тогда, когда Мосолов давал инструкции по части избранных клиентов; они, подобно старикам, являлись его особой специализацией. Комната была просторной, тихой, выходившей окнами во двор, обставленной канадской мебелью; светлый клен красиво сочетался с золотистыми шторами, большим бледно-песочным ковром и бронзой массивной люстры – разлапистой, восьмирожковой, исполненной под старину. Взглянув на нее, Баглай, как обычно, презрительно сморщился. Хлам, новодел, туфта! Мосолов, с вальяжным видом расположившийся в кресле у письменного стола, огромного, как стадион, дернул головой. Этот неопределенный жест с равным успехом мог означать приветствие или команду построиться по ранжиру, но Макс Арнольдович не колебался: расставил всех пятерых на ковре, лицом к столу, подровнял шеренгу и в ожидании воззрился на директора. Тот оглядел вошедших – сначала мужчин, Баглая с Рюминым, Бугрова и Уткина, и, наконец, Лидочку в коротком соблазнительном халатике. Под пристальным директорским взглядом она покраснела, затем побледнела, словно увядающая лилия. – Вот что, друзья, – произнес Виктор Петрович хорошо поставленным лекторским голосом, – тут из налоговой по ваши души заявились. Учтите: из полиции, не из инспекции. Говорят, стрижете на частных клиентах… – Он выдержал многозначительную паузу. – Нехорошо, друзья мои, нехорошо! Лучше уж пили б или там с девочками развлекались. От питья казне прибыль, а девочками сам генеральный прокурор не брезгает… Значит, и вам не возбраняется. – Не генеральный прокурор, а человек, похожий на него, – уточнил педант Лоер. – Похожий, непохожий… – Физиономия Бугрова вдруг стала наливаться темной кровью. – Клал я на всех похожих и непохожих! По выходным и после шести я сам себе господин! Хочу – пью, хочу – клиентов щекочу! – Щекотать не возбраняется, тем более клиенток, – сообщил Мосолов. – Возьми патент, зарегистрируйся, плати налоги и щекочи в свое удовольствие. Налоги – дело государственное, финансовый базис демократии! – Он наставительно поднял палец и ткнул им в Бугрова. – Это тебе не прежний режим, когда от каждого – по способностям в обмен на твердую зарплату. Теперь все изменилось. Отстегни державе что положено, а там трудись и получай свое, пока пупок не надорвешь. Свобода, Федя, свобода! Который год при ней живем, пора бы и привыкнуть. – У меня есть патент, Виктор Петрович, – порозовев, пискнула Лидочка. – Еще зимой оформлен. – Докладывать надо! – отозвался Лоер, вытащил из кармана блокнот и сделал в нем какую-то пометку. – Свободны, Сторожева. Отправляйтесь в свой кабинет. Лидочка вышла. Мосолов вздохнул, провожая ее плотоядным взглядом, и вымолвил: – Федя, конечно, прав: по выходным и после шести каждый сам себе господин. Но, господа мои дорогие, это не повод, чтобы ко мне совалась полиция. Я тут полицию видеть решительно не желаю. Ни полицию, ни милицию, ни инспекцию… Ни майора Пронина, ни Джеймса Бонда… И всем, кто хочет у меня работать, придется с этим согласиться. Я понятно выражаюсь, а? Бугров и Уткин кивнули; Федор – с хмурым видом, а Леонид – с испуганным и виноватым, словно его уличили в невероятных злодействах. Баглай не отреагировал никак, а Жора Римм, ехидно ухмыльнувшись, произнес: – Моя аура безгрешна и чиста, как у святого далай-ламы. Никаких патентов, частных практик и утаенного дохода. Я, уважаемый Виктор Петрович, этим не занимаюсь. В свободные вечера я предаюсь медитации и отработке психомоторных приемов. По комбинированной буддийско-японо-китайской системе. Ом-мани-поднимани, апрокири и влей-вшуй. – Не в шуй вы вливаете, а в глотку, – заметил Лоер и, дождавшись благосклонного директорского кивка, стал прорабатывать Рюмина в классическом стиле былых партийных собраний. Экстрасенс бодро отбрехивался, и продолжалось это минут семь или восемь, пока Виктор Петрович не предложил всем убраться с глаз долой. Всем, за исключением Баглая. Когда приказ был выполнен, Мосолов поднялся, обогнул гигантский стол и подошел к окну. Лицо его приняло озабоченное выражение; он что-то разглядывал во дворе, хмурил редкие брови и недовольно кривил рот. Баглай придвинулся поближе, отдернул занавесь на втором окне. Внизу, у входа в склад, перед распахнутой железной дверью, стояла машина с откинутым задним бортом, и двое парней грузили в нее ящики, перехваченнык крест-накрест серебристой стальной лентой. Ящики – или, скорей, сундуки – были довольно большие, желтые, с ручками по бокам и черными буквами «КНЦ» на крышках. Отсюда, с четвертого этажа, Баглай мог разглядеть их вполне отчетливо. Наверное, медикаменты или хрупкие приборы, подумалось ему, и Мосолов, словно подтверждая эту мысль, буркнул: – Кое-какое оборудование надо перевезти… – Потом, не глядя на Баглая, произнес: – Ты всю эту чушь с налоговой к сердцу не принимай. На пушку берут, кретины… Если кого и застукают, так Федьку-дурака, а ты парень умный. Не тот мизер, не ловится… – Он помолчал, затем, все так же не оборачиваясь, добавил: – Сегодня в пять придет к тебе человек, от моего знакомца. Заведи на него процедурный лист и обслужи, как полагается. По высшему разряду, чтоб остался доволен. Такие поручения Баглай выполнял не в первый раз. Кивнув, он опустил штору, прикоснулся пальцем к верхней губе и вымолвил: – Вы же знаете, Виктор Петрович, у меня недовольных не бывает. Надо обслужить – обслужим! Вот только как, с разговорами или без? И если с разговорами, то на какие темы? Бывает, расскажешь пациенту анекдот о новых русских, а он обижается… – Этот не обидится. Не из бритоголовых бизнесменов… Знакомец мой сказал, солидный мужчина, интеллигентный, в годах. Кажется, художник. Художник, в годах… – повторил про себя Баглай. Это становилось интересным. Настроение у него начало подниматься. – Раз художник, то об искусстве потолкуем, – сказал он, поглядывая на часы. Было ровно девять тридцать, и первый пациент уже топтался у дверей его массажного кабинета. – Не спеши, успеется. – Виктор Петрович дернул щекой и как-то странно покосился на Баглая. Либо не знал, с чего начать, либо находился в редком для столь уверенного человека состоянии смущения и нерешительности. В комнате было не жарко, однако на лбу Мосолова выступил пот, блестевший в глубоких залысинах словно роса под утренним солнцем. Что это с ним?.. – удивился Баглай. Таким он шефа еще не видел. Виктор Петрович всегда казался мужчиной твердым, даже жестким, и не стеснявшемся в средствах, если цель того стоила. Конечно, и у него имелись свои слабости, однако застенчивостью он не страдал. – Ты, Игорь, вот что… – наконец промямлил Мосолов, назвав Баглая по имени – случай небывалый, верный признак деликатности беседы. – Вопрос к тебе есть… хмм… как бы его обозначить… Ну, ты к Лесневской что-нибудь имеешь? Какой-нибудь особый интерес? Вот он о чем!.. – мелькнуло у Баглая в голове. Неприятное томительное чувство охватило его. Он вдруг осознал с пугающей отчетливой ясностью, что Вика ему небезразлична, что он желает ее и, видимо, желал всегда, даже унижая и оскорбляя, и эти унижения и оскорбления – всего лишь часть игры, призывный ритуал, подобный пышному хвосту, каким фазан подманивает самку. Сколько бы он ни убеждал себя, что нет особой разницы между Викторией и Сашенькой, разница эта существовала – столь же реальная и зримая, как все богатства, собранные им. Впервые он мог получить что-то даром, не за деньги, не в результате насилия, а просто так, по доброй воле дающего и дарящего. И этот дар, возможно, был совсем иным, чем те, что предлагали девушки Ядвиги. Он не хотел отдавать его Мосолову. Не хотел, но губы шевельнулись сами, и он услышал свой спокойный голос: – Лесневская? Та еще штучка! Не для меня. Мой принцип – жить тихо и делать свое дело. Жить, как в старом анекдоте, чтобы желания совпадали с возможностями. – Мудрая позиция, – вымолвил Виктор Петрович с заметным облегчением. – Разбитая дорога – самая верная… Хорошо, что ты это понимаешь. Ну, иди, иди, трудись…* * *
Разбитая дорога – самая верная… Эта фраза весь день звучала у него в ушах. Как всегда, он тащился по этой дороге, с привычным усердием склоняясь над массажным столом, над бледными вялыми телами; давил и сжимал, растягивал и разминал, что-то говорил, объяснял – ему отвечали, делились с ним, но в этих историях была лишь боль да ужас перед болью, и ничего интересного для Охоты. Он старался не думать о Лесневской и словах Мосла, он представлял свою пещеру, полную сокровищ, размышлял о круглой коробке с алмазами и о других камнях, лежавших в резном двустворчатом шкафу работы венгерских мастеров, о картинах и нефритовой вазе, о бронзовой Психее, которую видел недавно в антикварной лавочке, но мысли эти были какими-то вялыми, скучными. Вместо Психеи мерещилось ему лукавое викино личико и виделось, будто она раздевается перед ним, сбрасывает халатик, стягивает с длинных стройных ног чулки, ложится на спину, тянется к нему руками, манит, смеется и говорит: ну же, Баглайчик, сними остальное… сам сними, и поскорей… Эти видения были такими реальными, что Баглай решил наведаться вечером к Сашеньке, а может, к Милочке или к одной из двух Татьян – та умела подзаводить клиентов маленьким домашним стриптизом. Гормоны играют, думал Баглай, ощупывая позвонки в чьем-то костлявом хребте; всего лишь избыток гормонов, и более ничего. Сбросить их проверенными средствами, утихомирить и позабыть… Но вот забудется ли?.. Он был уверен, что не испытывает к Вике ни нежности, ни любви – такие слова даже не вспоминались Баглаю, изъятые из лексикона – а значит, из памяти и из души – давным-давно, в эпоху сиротского детства. Что же он чувствовал к ней? Вожделение? Ревность собственника? Злость из-за потери красивой игрушки? Бесспорно, так; но было что-то еще, что-то неясное и смутное, будто он чувствовал, что потерял не игрушку, а шанс – шанс получить недоданное, положенное каждому, но почему-то не доставшееся ему. Немного человеческого тепла, каплю бескорыстной женской ласки… Такие думы раздражали, и Баглай мрачнел все больше, двигаясь по уготованному пути, пусть разбитому, зато наезженному: с работы – к Милочке или Сашеньке, затем в какой-нибудь ресторан, к Ли Чуню или в иное место, где кормят, кланяются, благодарят за чаевые; и, наконец, домой, в пещеру сокровищ, что поджидали его терпеливо, но равнодушно, как ждет хозяина покорная и бессловесная вещь. Эта дорога, растянувшаяся на десятилетия, была пейзажем в серых тонах, однако и в нем случались проблески. День начала Охоты и день ее окончания… И все остальные дни, когда он выслеживал жертву и с волчьей осторожностью пробовал на зуб. К пяти часам он оживился. Азарт Охоты завладел им, вытеснил мысли о Вике, и даже гормоны теперь не бунтовали, как-то сами собой улеглись, смирившись с заменой объекта страсти. Художник, в годах… Приятель знакомого Мосла… У Мосла же бедных знакомых не водилось, а у них, как полагал Баглай, не было бедных приятелей. Клиент его не разочаровал. В этом нестаром еще мужчине чувствовалась основательность, отличавшая тех, кому даровано место под солнцем – может, не самое теплое, зато надежное и завоеванное собственными трудами. Труды, надо думать, вознаграждались с немалой щедростью, что позволяло лечиться в «Диане» и иметь приятелей, входивших в круг общения Мосла. Кроме этих бесспорных достоинств, был у художника и недостаток – не слишком подходящий возраст для баглаевых экспериментов. Хоть и в годах, но небольших, за пятьдесят, да и здоровьем не обижен… Ну, ничего, подождем, думал Баглай, привычно пальпируя мышцы, обследуя позвоночник и продвигаясь от шеи художника к копчику. Подождем! Терпение и осторожность, и все придет к тому, кто умеет ждать. Сейчас его больше занимало, чем именит художник и чем богат, живет ли он один или с родней, какими болезнями страдает, реальными или мнимыми – ибо от этих обстоятельств зависели виды на урожай. Но выяснять подробности полагалось не торопясь, не в лоб, а постепенно; плоды доверия должны созреть, прежде чем свалятся в корзинку. А вот корзинки лучше приготовить загодя… Обследуемый вдруг напрягся, будто предчувствуя свою возможную кончину, и Баглай предупредил: – Не надо. Расслабьте мышцы. Сейчас с проверочкой закончим и будем вас лечить. – Так вы проверяли? – с удивлением переспросил художник. – Ну, и какие результаты? Будет жить пациент? – Вы пока что клиент, не пациент, – отозвался Баглай, разглядывая крепкую художникову спину. – Пациент – больной человек, а у вас никаких патологий. Есть затвердения – тут, тут и тут… – он осторожно коснулся лопатки и поясницы. – Но это мы разомнет сеансов за пять-шесть… А вообще имейте ввиду: вам нужен оздоровительный массаж. Только оздоровительный, не лечебный, не спортивный, и уж тем более не эротический. Это было истинной правдой; для человека за пятьдесят клиент выглядел на диво бодрым и крепким. Но он, вероятно, чаще сидел, чем ходил и стоял – над поясницей, по обе стороны позвоночника, мышцы потеряли эластичность, и еще одна такая зона прощупывалась у левой лопатки. Художник нерешительно кашлянул. – Мне другое говорили… Говорили, что я инвалид и импотент… почти покойник. – Кто говорил? – Профессор Кириллов из «Тримурти». Федька-тримурщик, зло усмехнулся Баглай. Четыре месяца учился у Тагарова, и надо же – профессор! Скоро академиком назовется… Ходили слухи, что Тагаров его выгнал, за сребролюбие и скопидомство. Теперь придурков обстригает… Тоже Охота – на мнительного дурака! Он фыркнул и начал разминать затвердевшие мышцы под левой лопаткой, презрительно бормоча: – Профессор Федька… прохиндей… знаю его… Он наговорит, чтоб ваш бумажник порастрясти!.. Художник вздохнул с явным облегчением. Еще один мнительный придурок, пронеслось в голове у Баглая. – Мне тоже так показалось. Но он меня, знаете, напугал… Да, напугал… Я ведь вдовец, живу один, может и правда стал импотентом? Пришлось обзванивать друзей-приятелей, искать… Так вот вас и нашел. Сказали, лучший в городе… Ох! Пальцы Баглая замерли. – Больно? – спросил он. – Нет, терпимо… Лучший мастер, говорят, иди Ян Глебович к нему, устроим… Так я к вам и попал. По протекции школьного дружка Андрюши… Он вроде бы с вашим директором знаком. Какая масса информации, подумал Баглай. Зовут Ян Глебович, живет один и даже бабы не имеет. Зато есть школьный приятель Андрюша… Ну, пошли ему бог кусочек сыра к именинам! Такого клиента удружил! Кивнув, он произнес самым почтительным тоном: – Наверное, так. Виктор Петрович просил с вами заняться повнимательней. Еще сказал, что вы художник. И как? Доходное занятие? – Кормлюсь, не жалуюсь… – уклончиво пробормотал клиент. – А вот про вас я слышал, что вы – специалист восточного массажа. Только какого? Там много методик и множество стран… Турция, Персия, Индия, Китай с Тибетом… Узкие губы Баглая опять дрогнули в усмешке. – Любого. – А где обучались? – Есть места… – Ответ был столь же неопределенен, как информация художника о собственных доходах. Он, вероятно, догадался, что эту тему обсуждать не стоит и, после краткой паузы, сказал: – Восток полон тайн и древней мудрости… О многом там совсем иное представление. О живописи и вообще о культуре, о любви и эротике, о человеке и его болезнях… – Это верно, – согласился Баглай, решив, что наступает пора предъявить сертификаты и показать товар лицом. Иными словами, продемонстрировать интеллект и образованность. Дабы художник понял, что имеет дело не с ремеслягой-недоучкой, а с настоящим мастером, коему можно и жизнь доверить, и ключ от квартиры, где деньги лежат. Дешевый трюк, но на людей интеллигентных, вроде писателя Симановича или покойной актрисы, он действовал с великолепным результатом. А Ян Глебович, мнительный одинокий художник, был, разумеется, ягодкой с того же поля. Баглай стал нараспев декламировать главу из канона «Чжуд-ши», где говорилось о причинах болезней, о том, что проистекают они от невежества и неведенья собственного «я». Потрясающий эффект! Художник оцепенел, внимая напевной речи с таким почтением, словно тибетская мудрость вливалась в него сквозь семь телесных отверстий, а также сквозь поры и задний проход, и оседала где-то в желудке, с целью последующего переваривания и усвоения на всю оставшуюся жизнь. Внушаемый тип, отметил Баглай и оборвал декламацию. Словно пробуждаясь от упоительного сна, клиент заворочался, вздохнул и произнес: – Это откуда? – Чжуд-ши, древний тибетский канон. Шестой век до нашей эры. – Невежество, проистекающее от неведенья собственного «я»… Отлично сказано! – Он снова вздохнул и с легкой улыбкой поинтересовался: – А вы, мой целитель, познали собственное«я»? – Вне всяких сомнений, – отрезал Баглай. Восточные тайны были хорошим началом беседы, но продолжать ее в этом ключе не стоило – ведь для клиента именно он, целитель, являлся персонфикацией подобных тайн, и, следовательно, пришлось бы рассказывать о себе. Тогда как полезней потолковать о пояснице, решил Баглай, добравшись до этой части тела художника. Прекратив на мгновение процедуру, он спросил: – Вы у мольберта стоите или сидите? – Большей частью сижу. Я не Брюллов, не Айвазовский, полотна у меня небольшие, хватает рук чтоб дотянуться. – Рекомендую стоять, это для вас полезней, – посоветовал Баглай, приступив к работе над мышечными затвердениями. – Для вас и вашего позвоночника. Все же по нему заметно, что работа у вас сидячая… – Он помолчал, осторожно разминая мышцы, потом спросил: – А что вы пишете, Ян Глебович? Портреты? – Нет, пейзажи. Морская тематика. Заливы, бухты, корабли под парусами, прибрежные утесы и все такое… – Пауза. Затем, будто припомнив, художник добавил: – Мне еще горы нравится рисовать. Горы – великолепная тема для живописца. Торжественная, возвышенная… Для живописца – возвышенная, молчаливо согласился Баглай. Горная панорама под хмурыми небесами мелькнула перед ним, но все эти пики и бездны на картине казались игрушечными в сравнении с реальной пропастью. С той, перед которой он привык стоять. Назначившей ему свидание сегодня утром. Он облизал сухие губы языком и произнес: – Не буду спорить. Однако горы, если разглядывать их живьем, вселяют трепет. Даже ужас! Все эти обледеневшие вершины, ущелья, скалы, пропасти… Особенно пропасти… Так и тянет ринуться вниз… Художник, повернув голову, глядел на него с каким-то странным вопросительным выражением. – Боитесь гор? Баглай поморщился. – Нет, не боюсь. Просто не люблю чувствовать себя ничтожным, крохотным, бессильным… Поэтому я – не альпинист! – Он выдавил сухой смешок. – Предпочитаю горы на картинах. С картинами все как раз наоборот: сам я будто великан, а горы – всего лишь безопасные игрушки на размалеванном полотне. Можно купить их или продать, снять и снова повесить, полюбоваться… Клиент неопределенно хмыкнул, о чем-то размышляя, затем спросил: – И что же, есть у вас какие-то любимые полотна? И любимые художники? Рерих, Рокуэл Кент? Или кто-то из старых? Французы, фламандцы, итальянцы? Скажем, Пуссен или Якоб ван Рейсдал? Знакомые все имена, подумалось Баглаю. Но почему упомянуты – эти, а не иные? Возможно – в такую удачу он даже боялся поверить – есть у художника полотно кого-то из великих мастеров? Того же Пуссена или ван Рейсдала? Других французов, итальянцев и фламандцев? Или, на худой конец, хотя бы Рериха?.. Но Рерих, равно как Рокуэл Кент, его не слишком привлекал. Ему нравились другие картины, пропахшие пылью веков, с неяркими приглушенными красками, принадлежащие живописцам, чей гений и ценность освятило время. И потому Баглай ответил: – Наверное, старые мастера. Да, старые… У них есть одно достоинство – реализм. Понимаете, Кент и Рерих рисовали так, как виделось персонально им, а я люблю чтоб было как на самом деле. Так, как вижу я. Вот, к примеру… Панорама гор под хмурым небом вновь раскрылась перед ним, и Баглай начал описывать свое видение – с домами, что карабкались вверх по склону, с ручьем и церковью за мостом, с пустынным трактом, тянувшимся к перевалу между двух вершин, похожих на руины замков, с коричнево-бурым хребтом, словно придавленным серыми грозовыми тучами. Художник слушал его не дыша, и это было отличным знаком. Воистину, служитель искусства, подумал Баглай. Мнительный, эмоциональный, впечатлительный… Такие больше умирают от инсультов. А если еще и помочь… Вот только что там у него в квартире? Пуссен? Ван Рейсдал?.. Ну, ничего, со временем прояснится… Он выпрямился, стараясь не выдать сжигавшее его нетерпение. – Все, Ян Глебович. Когда теперь придете? Может, в понедельник? – В понедельник так в понедельник, – откликнулся клиент, с опаской сползая со стола.Глава 17
Прошла неделя. Джангир Суладзе отбыл к себе в Северный РУВД, так как помощь его Глухову больше не требовалась; все остальное, что было связано с делом генеральши, он собирался осуществить лично и в самом скором времени. Он позвонил Кулагину, сказал, что первая фаза расследования завершена, подозреваемый определен, и что осталось лишь продумать, как и с какой стороны подобраться к нему – но подобраться нелегко, не лох какой-нибудь попался и не маньяк, а осторожный тип, из тех, что пиво пьют в перчатках, дабы следов на кружке не оставить. А как мой капитан? – полюбопытствовал Стас Егорович. Вполне соответствует, ответил Глухов. Точный, аккуратный, исполнительный. Не Шерлок Холмс, но вот на Ватсона и впрямь потянет. Еще бы подучить его… Так подучи, сказал Кулагин. Подучи, если не хочешь, чтоб после нас голая плешка осталась. Глухов обещал подумать. Главное его расследование, о трупе с купчинской свалки и причастных к нему персонажах, продвинулось вперед, так как оперативники из службы наблюдения сообщили о ящиках с маркировкой «КМЦ», доставленных на завод шампанских вин – и не откуда-нибудь, а из «Дианы». Случился этот транспортный демарш утром в пятницу, как раз в тот день, когда Ян Глебович знакомился с Баглаем, а во вторник е нему дозвонился Мосолов Нил Петрович и, с оттенком явного злорадства, заявил, что оборудование нашлось, что было оно на заводской территории, и лишь по вине кладовщика-болвана его заслонили контейнерами. Теми, где хранят готовую продукцию, то есть емкости с шампанским. Глухов очень обрадовался, примчался тут же в «Аюдаг», проверил, что все тринадцать ящиков на месте, заставил вскрыть один на пробу, полюбовался с умным видом на какие-то цилиндры со стеклянными глазками, патрубками и решетчатыми днищами, а после потребовал у директора объяснений – где, мол, хранились приборы, и почему их раньше не нашли, и отчего не запустили. На радостях – пропажа все-таки сыскалась! – Нил Петрович все изложил без колебаний и письменно; затем продемонстрировал договор о поставках с мясокомбината требухи и клятвенно пообещал, что цех заработает к сентябрю, и что таблетки для астматиков будут выпекаться тоннами. Глухов кивнул, с одобрением хмыкнул, отправился на Литейный, и там подшил директорский меморандум в дело, вслед за рапортом оперативников. Не козырный туз, подумалось ему, однако и не шестерка; пригодится! В оздоровительный центр он ездил каждый божий день, но к половине седьмого возвращался, заглядывал к Линде или ждал ее внизу, не поднимаясь в управление. Чаевничали они теперь втроем, но Гриша Долохов, парень деликатный, проглатывал чай и бутерброды с космической скоростью и уносился куда-то из «майорской» – в точности как пожелтевший осенний листок, сорванный с ветки порывом бриза. Глухов и Линда улыбались, переглядывались и, смотря по часам, садились к компьютеру или шли домой – шли вместе, но дома их были разные. Проблема дома еще не вставала перед ними; им, людям пожившим, любившим и терявшим, было ясно, что торопиться некуда, что общий дом отнюдь не начало, а завершение чувств. Да и сами чувства были еще не высказаны. Не высказаны, завуалированы, скрыты, но вполне определенны, думал Ян Глебович. В сущности, как и с Баглаем, ибо и тут, и там велась игра. Чарующая, радостная, полная надежд – это в одной из партий; в другой – хитроумный матч, где каждый игрок стремился обмануть противника, и каждый был «не из тех докторов»: убийца представлялся целителем, а сыщик – живописцем. Но эту вторую партию хотелось закончить быстрей пленительных игр с Линдой. В тех играх Глухов мог не спешить, мог наслаждаться взглядами, улыбками и недомолвками, мог распивать чаи с брусничным пирогом, мог даже помечтать о результатах – вроде постели и общего дома; все это было возможно, ибо играл он не с соперником, с партнером. Баглай же был убийцей. Серийным убийцей, из тех, которые не останавливаются никогда. В этом Ян Глебович был теперь вполне уверен, определившись с тактикой противной стороны. Во время второго сеанса зашел разговор о пользе тибетских бальзамов и мазей и о массажных процедурах, коими людям после пятидесяти не стоит пренебрегать; во время третьего – что процедуры, бальзамы и мази можно иметь с доставкой на дом, к удобству клиента и выгоде мастера; ну, а в четвертый раз они уговорились все повторить в октябре, и Баглай с серьезным видом пообещал, что не забудет про художника Яна Глебыча и вставит его в свой график приватных визитов. Затем начался другой этап; теперь разговоры все больше велись об искусстве, о живописцах прошлого, титанах, гениях и их учениках, о том, в каких музеях развешаны великие полотна. Потолковали и о российском дворянстве, о меценатах-купцах и собирателях; дескать, были времена, везли в Россию шедевры тоннами из Франций да Италий, не забывая, конечно, о всяких Британиях с Германиями. И где это все? Что-то утеряно, а что-то продано, что-то висит в музеях или хранится в запасниках, но кое-что и у людей осталось, или как достояние предков, или как вещь приобретенная из первых, вторых либо десятых рук. Вспомнить хотя бы блокаду – сколько тогда перекупили за хлеб и сахар! Те, разумеется, кто в хлебе и сахаре не нуждался и толк в картинах понимал. А также в хрустале и бронзе, в фарфоре, самоцветах… И все это теперь хранится по домам и утекает понемногу – и за рубеж, и к частным собирателям, и к спекулянтам, и к художникам. То, что к художникам – правильно, по справедливости; ведь мастер мастера всегда поймет, и старым полотнам лучше храниться у понимающих людей. То есть у настоящих живописцев. Такой человек повесит Пуссена в студии и будет глядеть на него, любуясь и вдохновляясь; а если не один Пуссен висит, а, скажем, Фрагонар с Констеблом, то вдохновения втрое больше. Разве не так, Ян Глебович? Глухов поддакивал и хмыкал, загадочно щурился и намекал, что в студии у него попросторнее, чем в квартире, и есть там диван, удобный для массажных процедур, но вообще-то мастерская и квартира – рядом; собственно, одно помещение в кооперативе для художников, что в Озерках. Далековато, зато просторно, есть где картины развесить, и собственные, и друзей-приятелей, и Фрагонара с Констеблом – если, конечно, такая удача вдруг в руки придет. Может, уже и пришла… Есть у него безымянный пейзаж, никем не подписан, но точно Франция, семнадцатый век, и по манере письма – Лоррен… Великий, кстати, пейзажист! Любил писать морские гавани… И чтоб их солнце озаряло, и золотая дымка солнечных лучей просвечивала сквозь корабельные мачты или развалины греческих храмов… Очень, очень живописно! Так они морочили друг друга, но с каждым визитом Ян Глебович ощущал все ясней и ясней, что превращается в объект охоты, в дичь, которую стремятся обложить со всех сторон и ощипать, а чтоб не трепыхалась, взять за глотку и прикончить. С помощью тибетский мазей или же метода шу-и, о коем поминал Тагаров… Но этот конец лишь маячил в будущем, а вот массажист был в настоящем. И оставался неуязвим. Тут намечалось противоречие между Законом и Справедливостью, ибо Закон гласил: не пойман – значит, не вор. Поймать же способами дозволенными и законными не представлялось возможным, и Глухов, будучи реалистом, на этот счет иллюзий не питал. Ордер на обыск, ввиду отсутствия улик, оставался голубой мечтой, а в результате самовольных действий все улики считались бы полученными незаконно и шли по цене дырок от бубликов. Правда, поводы, чтобы вломиться в баглаеву квартиру, могли быть иными, не связанными с убийствами – наркотики, или оружие, или причастность к Мосолову и трупу с купчинской свалки. Но в этих грехах Баглай был явно не замешан, и подставлять его таким путем Ян Глебович не мог. Во-первых, это было бы элементарной подлянкой, не совместимой с его понятием о чести; а, во-вторых, свидетельством его бессилия. Иными словами, некомпетентности и скудоумия. Но так как Глухов ни тем, ни другим не страдал, поводы были бы изобретены, пусть не вполне законные, но допустимые в нынешней ситуации. Он произвел бы обыск и арест, изъял награбленное и отправил в суд на четырех грузовиках… И что же? Награбленное стало б уворованным, поскольку главный факт, касавшийся насильственных смертей, по-прежнему был не доказан. Закон охранял Баглая и здесь; он, безусловно, считался бы вором, но не грабителем и убийцей. Человеком, который при случае обирал умерших стариков… Смерть которых являлась делом естественным и, разумеется, неизбежным; вечно не живет никто. Глухов не сомневался, что ни один эксперт не обвинит Баглая, ни в преднамеренных убийствах, ни в злодейских умыслах. Тем более, что трупов не осталось – даже Черешина кремировали и схоронили в семейной могиле на Волковом кладбище. Какая уж тут экспертиза! Правда, был еще Тагаров, но его рассуждения о достойных и недостойных, о чжия лаофа, абъянга и шу-и являлись для жрецов Фемиды китайской грамотой. Или, если угодно, тибетской. Выход, конечно, существал: не торопиться, ждать, следить. Ян Глебович надеялся, что сам он не станет очередной баглаевой жертвой – художник Глухов, счастливый владелец студии в Озерках и полотна Лоррена, не был еще подходящим объектом для шу-и. Слишком уж молод, так что найдется другой… возможно, уже нашелся… Следить и ждать? И взять с поличным у неостывшего трупа?.. Это было бы грехом. Великим грехом – платить человеческой жизнью за шанс справедливого возмездия! А шанс оставался невелик и в этой ситуации; мал и настолько же призрачен, сколь способ убийства – неординарен. Ни пули, ни отравы, ни ножа, ни явного членовредительства, ни передозировки каких-нибудь опасных препаратов… Четыре точки на шее, искусные руки и хрупкость старческих сосудов… Словом, идеальное убийство! Можно раскрыть – но как доказать? Он это понимает, думал Глухов, и потому не остановится. Не остановится никогда! Если поймать и посадить за воровство, дадут лет восемь; значит, выйдет через пять – скостят за примерное поведение… Уедет куда-нибудь, исчезнет, затеряется и примется за свое, только станет осторожнее и злее. И скольких уложит в гроб, по-тихому, незаметно!.. Тридцать? Сорок? Пятьдесят?.. Без риска, не страшась законной кары… Ибо Закон был, в сущности, бессилен – не всегда, но часто. С этой его особенностью Глухов сталкивался не раз и полагал, что дело коренится в начальной установке, в том, что всякий человеческий поступок Закон рассматривал не с нравственных позиций – как добрый или злой, справедливый или антигуманный – а только как законный или нет. Закон, конечно, отражал какие-то моральные императивы, но делал это противоречивым образом; так, в одних его статьях убийство запрещалось и каралось, в других считалось актом героизма и верности отечеству. Те же метаморфозы происходили и с воровством, и с грабежом – эти деяния были законными, если, к примеру, звались продразвесткой, контрибуцией, конфискацией и геополитическим интересом. Мораль в зеркале Фемиды была двойной: зло не отвергалось в принципе, запретное одним было разрешено другим, а недоказанное по Закону, но существующее в реальности, вообще не принималось в расчет. В итоге служитель Закона нередко стоял перед выбором: что предпочесть, статьи и параграфы или свою понимание Справедливости. Для судей этот вопрос решался однозначно, но Глухов был не судьей, а расследователем, и если дело шло о людях, о жизни их и смерти, судил не по законам, а по совести. Совесть же требовала большего, чем осуждение преступника; совесть шептала, что в данном случае нужен не судья – палач. Палач! Такой человек, который умеет взвешивать души и прозревать невидимое. Решать, казнить или миловать… Выносить приговор и приводить его в исполнение… Так же искусно и незаметно, тихо и скрытно, как действовал убийца… Ибо подобное лечат подобным. Similia similibus curantur… Ян Глебович повторил эту фразу вслух, на латыни, и бросил взгляд на верину фотографию. В этот раз она не улыбалась; смотрела на него вопрошающе и строго, как бы прислушиваясь к сказанному. Ему почудилось, что в тишине кабинета слова прозвучали с суровой неотвратимостью, будто Божественный Судия – тот, в кого Глухов не верил и на кого не полагался – все-таки вынес свой вердикт. Similia similibus curantur… Три камня решения, брошенные в водоем судьбы. Не ради мести или кары, но для спасения еще живущих…* * *
В пятницу, после планерки, Олейник снова попросил Глухова остаться. Именно попросил; как человек политичный, владевший нюансами интонаций, он мог сформулировать приказ в виде просьбы или же сделать так, чтоб просьба звучала приказом. Но в данном случае это была все-таки просьба. Вероятно, предстоящий разговор был для Олейника нелегким – он хмурился, курил и, как показалось Глухову, испытывал смущение или, по крайней мере, недовольство. Примерно так ведет себя начальник, отправляя на пенсию подчиненного, или же взгретый другим начальником, поважней, из тех, кого именуют не шефом, а боссом. Но отставка Яну Глебовичу не грозила, так что он остановился на последней версии. Тем более, что вчерашним вечером Олейника вызвали н а в е р х – не к генералу, начальнику УГРО, а к Самому, выше которого только министр и президент. Не оттого ли на планерке Игорь Корнилович выглядел рассеянным и слегка поблекшим? Ну, захочет, расскажет сам, решил Глухов. Но Олейник не пустился сразу откровенничать, а долго расспрашивал о саркисовском деле, о братцах Мосоловых и депутате Пережогине с супругой-бизнесменшей; затем просмотрел объяснительную Нила Петровича и рапорт оперативников – прочел внимательно, будто искал за каждым словом и каждой фразой некий загадочный скрытый смысл. Наконец, отложив папку и пряча глаза от Глухова, сказал: – Дело-то у нас забирают, Ян Глебович. Передают в УБОП.[755] По той причине, что фигуранты наши организованы. Опять же в фигурантах депутат… – Привычная выдержка изменила Олейнику, и он со злостью скривил губы. – В общем, мы пахали-сеяли, а урожай снимать другим! И не это обидно, а другое – снимут ли? Вот как… – подумал Глухов. Любопытный поворот… До урожая, правда, далековато, да и не в том проблема, кто его снимет, тут Игорь прав, а захотят ли вообще снимать? Тонкое дело – организованная преступность! Особенно в медицине… Откинувшись на спинку стула, он опустил голову и призадумался, мысленно перебирая убоповских знакомцев, оперативников и следователей, которым поручались важные дела. Обиды он не испытывал и размышлял лишь о том, как расценить случившееся. Для чего забирают? Вот в чем вопрос! Для продолжения работы или за тем, чтобы свернуть следствие, спустить на тормозах и спрятать под сукно? Люди в УБОПе были разные, а о больших начальниках, решавших, что и куда спустить, было у Глухова собственное мнение, никак не связанное с должностями или числом генеральских звезд. Не с каждым из них он бы пошел в разведку; с иными и пить бы не стал, а кое с кем – и разговаривать. – Такая вот ситуация… – с горечью вымолвил Олейник, пощипывая светлый ус. – Вызвали, приказали… спорить начал – вздрючили… – Он закурил и пару минут сидел молча, то разглядывая низко стелившийся дым, то изучая портрет Дзержинского, сурово взиравшего со стены. – Помните, Ян Глебович, неделю назад вы сказали: выбирай, мол, Игорь, кем тебе быть, сыщиком или политиком… Я вот и выбрал. Не в первый, знаете ли, раз… А мне, как всегда, доказали, что против лома нет приема. Молодец, подумал Ян Глебович, с совестью парень, с понятием о чести. Далеко пойдет, ежели не сорвется. Он шевельнулся, поглядел на саркисовскую папку и произнес: – Ты, Игорь, погоди, не обижайся и не спорь с начальством – в тех спорах не истина рождается, а лишь отставки да выговора. Ты о главном подумай, о том, что всякое обстоятельство и каждый факт надо использовать в интересах дела. Ну, забирают его у нас… И что же дальше? Какие из этого выводы? Я так полагаю: не важно, что забирают, а важно, кому отдадут. Теперь соображай… Ты народ а УБОПе не хуже меня знаешь. Олейник встрепенулся, загасил сигарету и поднял глаза к потолку. – А ведь верно! Верно, Ян Глебович! Если Котельников примет дела или Межевич или, положим, Стрый, это один расклад, а если Долин… – Если Долин либо Панченко, то мы кого-то крепко напугали. Вот и посмотрим, кого… – Ян Глебович опять задумался, о тайных депутатских покровителях и о возможных связях между ними и тем же Панченко. Или, предположим, Долиным… Что поделаешь, век коррупции! Хотя и прошлые времена ничем особенным от нынешних не отличались: тоже приказывали и платили, но не деньгами, а чинами. Подтолкнув папку к Олейнику, Глухов сказал: – Пусть Надежда Максимовна копии снимет. Акт о передаче – по всем правилам, чтоб ни одна бумажка не была забыта… Ну, а там поглядим! Посмотрим, кто ворожит нашей мафии! – Тогда меняемся. – Олейник с облегченным вздохом сунул папку в стол, а вместо нее выложил перед Яном Глебовичем три толстых тома в аккуратных темно-синих переплетах. – Вот, «глухарь» из самых первосортных! Такое, значит, дело: месяцев восемь назад притормозили груз на Выборгской таможне – два трейлера со всяким ширпотребом, от сигарет до бижутерии. Владелец – предприниматель Киселев… Тут опись имеется, на ста пятнадцати страницах… Притормозили под предлогом, что сигареты контрабандные, но факт не подтвердился, а груз тем временем исчез. Вместе с машинами. С тех пор вот ищут… И есть такое подозрение, что Киселева кинули. Может, конкуренты, а может, партнеры, только без таможни дело не обошлось. Берите, Ян Глебович, копайте! Глухов взвесил каждый гроссбух в ладони, сложил их стопкой у левого локтя, потом пробурчал: – Хлебное место таможня, сладкое… всякий народец вьется… Начнем копать да разгребать – глядишь, а в ямке снова депутат! Или другие местные власти… – Не исключается, – заметно повеселев, подтвердил Олейник. Видимо, перспективы в саркисовском деле его вдохновили и обнадежили. Сам же Ян Глебович был уверен, что прикрыть расследование не удастся, и если, например, поручат его Межевичу, старому дружку по ВМШ, то он от глуховской помощи не откажется. Ну, а если Долину, будет любопытный вариант! Этот попробует все отобрать и под себя подгрести… Только как отберешь? Следствие – не одни лишь бумажки да вещдоки, это еще и память, а на нее Глухов не жаловался, помнил все свои дела, как недавние, так и минувшие. И нераскрытых среди них не было. Олейник снова закурил, но теперь сизые струйки не стелились уныло над столом, а победно взмывали к потолку, образуя в воздухе кольца и пронзающие их стрелы, неторопливо расплывавшиеся в дымное облако. Железный Феликс взирал на него с явным отвращением. – Вы собирались доложить об этом серийном убийце, Ян Глебович, – произнес наконец Олейник. – По делу, переданному из Северного РУВД. Есть сдвиги? – Еще какие! – сказал Глухов, пощупав поясницу. – Но ты уж, Игорь, извини, сейчас мне не хотелось бы докладывать. – Что так? – Предчувствие есть. Ты веришь в предчувствия? Олейник неопределенно усмехнулся. – Вижу, не веришь… А я вот верю. Особенно, когда касается убийц. – И что должно произойти? – Боюсь, несчастье. Несчастье с ним случится, Игорь. И скоро! Может быть, завтра. Глухов встал, сунул под мышку три увестых томика в синих переплетах и направился к дверям.* * *
Вечером он сидел в прохладной келье ашрама, спиной к узким, похожим на бойницы окнам, у восьмиугольного столика с чайным фарфоровым прибором; сидел, наслаждался тишиной, вдыхал аромат крепко заваренного чая, следил, как солнечный лучик ползет по циновке и шерстяному ковру, по бронзовому диску гонга и по лицу Тагарова, которое цветом тоже напоминало бронзу, только живую, с темными щелочками глаз, блестевших в полумраке как две полированные антрацитовые вставки. День выдался беспокойный, тревожный; с утра – разговор с Олейником, потом – какие-то звонки, все время отвлекавшие Глухова от трейлеров с Выборгской таможни, потом заглянул Голосюк, поплакаться и посоветоваться – в его расследовании наметился недопустимый застой. В результате пообедать Ян Глебович не успел, часа в четыре сунулся в «майорскую», однако нашел ее закрытой – Линда и Гриша Долохов, по словам секретарши, уехали с целой командой экспертов за город, то ли в Рощино, то ли в Сосново, а по какой причине, о том Надежда Максимовна не ведала, не знала. Перекусив в буфете, Глухов помчался в «Диану», на массаж. Сегодня руки Баглая показались ему на редкость холодными, а разговоры – приторными, словно темная вязкая патока – течет и течет, обволакивает со всех сторон, лезет в рот и уши. Он мог бы отменить сеанс или вовсе не являться, но не хотел вызывать у массажиста подозрений. Помимо того интуиция шептала, что событиям полагается течь в том же естественном русле, как смена ночи и дня, восходов и закатов или чередование звездных и голубых небес. Значит, сыщик Глухов должен был уступить место художнику Яну Глебовичу, а тот – судье, который явится к Баглаю в урочный час и разрешит его судьбу. Судья и палач… Или только судья? Этого Глухов не знал. Он мог предполагать, что приговор будет суровым, но если судья останется лишь судьей, то кто его исполнит? И все же он не сомневался – ни в приговоре, ни в исполнении. – Я рад, что ты приехал, – негромко произнес Тагаров. Он сидел напротив Глухова, в знакомой позе, скрестив ноги, держа в ладонях чашечку с зеленоватым чаем. Лицо его было задумчивым и печальным. Будда, принимающий решение… Тяжкое, нелегкое… – Я обещал, и я приехал. Но с недоброй вестью. – Знаю. Они помолчали, мелкими глотками прихлебывая обжигающий напиток. Потом Глухов спросил: – Вы можете это объяснить, Номгон Даганович? Этот случай или любой другой, когда насилуют, калечат, убивают… Не равных себе, не столь же злобных и жестоких, а беззащитных… младенцев, женщин, стариков… – Беззащитным всегда доставалось больше, и ты это знаешь, сын мой, ибо призван их защищать. Таков твой кармический долг… А объяснение… Что ж, я дам тебе объяснение – одно из многих объяснений, придуманных людьми. – Старец опустил чашку на стол, сложил на коленях тонкие, обманчиво хрупкие кисти. – Ты видел ночное небо, сын мой? То небо истины, не скрытое завесой солнечных лучей, и ты, конечно, помнишь, что в нем есть свет и тьма… Из света и тьмы рождаются людские души, но никому не ведомо, чего же больше в новорожденной душе, восторжествует ли в ней свет над мраком или уступит ему. Это познается лишь тогда, когда душа приобретает телесное обличье, а с ним – способность чувствовать, решать, творить добро и зло и делать между ними выбор. Душа, в которой много света, изгонит тьму – не сразу, но за несколько перерождений, и все перерожденья будут свершены в людском обличье, и тех людей мы назовем достойными. Новорожденная душа, в которой много тьмы, сделается недостойным человеком и, сотворив дела жестокие, пройдет затем безумно долгий цикл, воплощаясь в наказание в различных мерзких тварей, ибо грех жестокости необходимо искупить. Таков ее кармический удел… Цепь бесконечных перерождений, пока не будет ей дозволено вновь обрести человеческий облик и разум и проверить, сколь много в ней света и сколько осталось тьмы… Старец смолк. Лучи заходящего солнца падали на его лицо и бронзовый гонг, свисавший с подставки-треножника. – И вы в это верите? – с сомнением спросил Глухов. – Не важно, во что и как я верую, сын мой. Вера – дело личное, о ней не толкуют на площадях, ее лелеют в сердце, хранят и берегут. Мы же говорили о причинах жестокости и злобы – откуда они произросли и почему неизбежны, как тьма в ночных вселенских небесах. Ты просил объяснения, и я его дал… – Выдержав паузу, Тагаров скупо улыбнулся. – Прими его или отвергни, но на мой взгляд оно не хуже любого другого. Не хуже, молчаливо согласился Ян Глебович. Не хуже, потому что необъяснимого не объяснишь, и тайны человеческой души равны всем тайнам Мироздания… Здесь, в полумраке кельи, в тихом спокойном убежище, он чувствовал это с особенной силой. Старец пошевелился, отодвинулся в тень, и теперь Глухов не видел его лица. Но голос, раздавшийся в комнате, звучал по-прежнему ровно. – Отвлечемся от метафизики, сын мой, и поговорим о вещах практических. Где он живет? Ян Глебович назвал адрес, принялся объяснять, где Вяземский переулок, но взмах тонкой сухой руки остановил его; вероятно, нужды в объяснениях не было. – Я буду там завтра, – произнес Тагаров. – Буду ждать в его жилище. Увижу картину, описанную тобой. Картину и все остальное. Он говорил об этом как о деле решенном и не подлежащем обсуждению. Брови Глухова приподнялись, на лбу пролегла глубокая складка. – В жилище вряд ли получится, Номгон Даганович. Жилище под замком. Я думаю, там такие запоры… – Замки, запоры… – пробормотал старец, склонив голову к плечу и взирая на тяжкий бронзовый диск гонга. – Запоры!.. Хха-а! Резкий мощный выдох заставил Глухова вздрогнуть. Затем он увидел, как диск шевельнулся и, отклонившись под прямым углом, стал раскачиваться – все быстрее и быстрее, с тихим шелестом рассекая воздух, то растворяясь в сумрачных тенях, то ярко взблескивая на свету. Потом внезапно замер, будто остановленный невидимой рукой, и повис бессильно на толстом шелковом шнуре. Демонстрация могущества закончилась. – Я там буду, – повторил Тагаров. – Ты можешь не беспокоиться, сын мой. – Не думайте, что я пытаюсь манипулировать вами… – Глухову вдруг показалось, что в горле у него першит. Он откашлялся, вытер платком вспотевшее лицо и, глядя на чашку в своей руке, с усилием вымолвил: – Это не так, Номгон Даганович. Я привык делать свою работу сам, однако… Снова взмах тонкой руки. – Это уже не твоя работа, это мой долг. Я ведь объяснял тебе… в прошлый раз… если ученик вершит злодейство, вина падает на его наставника. – Да, я помню. Еще вы сказали, что обязаны искупить свой грех. Скольких он убил, стольких вам нужно спасти… Я помню. – Но прежде я должен спасти еще не убитых, сын мой. А что до этого длинного слова… Как ты сказал?.. Манипулировать?.. Да, манипулировать, то есть влиять и заставлять… Так вот, я в том не вижу ничего плохого. Каждый человек живет не в пустоте, но с другими людьми – а значит, влияет на них и поддается их влиянию. Это неизбежно, разве не так? И не само влияние предосудительно, а лишь влияние дурное. Ян Глебович кивнул. Бронзовый диск все еще раскачивался перед глазами, и мысль – может ли судия обернуться палачом?.. – не оставлял его, впившись в череп словно раскаленный гвоздь. Тагаров был действительно могуч… столь же могуч, сколь непостижим и загадочен… Однако какие им двигают силы? Какие обеты он дал, приняв смиренный сан монаха? И, наконец, какова его вера? Та, что он лелеет в сердце и не желает обсуждать? С одной стороны, он явно был противником насилия, с другой – учил и пестовал бойцов. А назначение бойцов – сражаться. Сражаться и, конечно, убивать… – Надеюсь, мое влияние вы не сочли дурным, – хрипло промолвил Ян Глебович и смолк, стараясь разглядеть в сгущавшихся сумерках лицо Тагарова. Старец негромко рассмеялся. – Я понимаю, что тебя тревожит. Да, понимаю… Знай же, нет у человека прав распоряжаться чьей-либо жизнью кроме своей собственной. Только ее он может прервать, греховную и бесполезную, либо отягощенную страданием – прервать, чтоб погрузиться в цикл кармических перерождений… Смерти нет, и нет небытия, есть только жизнь и ожидание жизни – два состояния, между которыми осуществляется выбор. Каждый в праве избрать любое из них, и в праве поставить перед выбором другого. Всего лишь поставить перед выбором… Тагаров вдруг наклонился вперед, луч света озарил его черты, и Глухову показалось, что на тонких сухих губах играет лукавая усмешка. – В сущности, мы это делаем всегда – ставим перед выбором других и выбираем в свой черед. Есть выборы малые и большие, важные и не очень… Ты ведь сейчас стоишь перед серьезным выбором, не так ли? Перед выбором, предложенным женщиной? Или до этого еще не дошло? – Дошло, – сказал Ян Глебович и улыбнулся в ответ на усмешку Тагарова. – Дошло, отец мой. И я уже выбрал.Глава 18
В субботу Баглай освободился к трем. Оздоровительный центр функционировал бесперебойно, но у сотрудников были отпуска и выходные дни, оговоренные в контракте, как и полагалось по закону. Но в реальности все определяли рейтинг и спрос, а также стремление заработать, так как с лишних пациентов шли дополнительные доходы. Тем, кого посетители не баловали, не возбранялось отдыхать два дня в неделю, Баглай же мог трудиться хоть все семь – очередь к нему не уменьшалась, а лишь росла из года в год с завидным постоянством. Это означало деньги и кое-какие привилегии, возможность брать свободный день по выбору – скажем, в воскресенье, – и временами закругляться в три, а не к шести – поставив, разумеется, в известность Лоера. Лоер никогда не возражал. При всех своих солдафонских замашках он был человеком неглупым и понимал, чьи руки его кормят. Переодевшись, Баглай запер кабинет, покосился на дверь процедурной, где принимала Вика (перед ней почему-то толпились одни мужчины спонсорского возраста), скривил губы, будто на язык попала горечь, и двинулся вниз по лестнице – мимо рослых «скифов»-охранников, мимо регистратуры и кассы, мимо спортивного зала, откуда неслись топот и бодрые песни – прямиком в вестибюль, а из него – на улицу. Погода установилась редкостная; на деревьях наливались почки, ветер без обмана пах весной, лужи таяли под апрельским солнышком, и в теплом воздухе растворялись воспоминания о недавних мартовских холодах. Не охотничий сезон, но все же… – подумал Баглай, взял такси и велел рулить на Фонтанку, к «Сквозной норе». Казино еще не работало. Он спустился вниз, к Ли Чуню, где тоже было пустовато, сел за низенький столик у ширмы с изображением гор, поросших бамбуком и корявыми соснами, полюбовался на свиток в нише с затейливо выписанными иероглифами, вдохнул знакомый запах сандала и кардамона. К нему примешивалось что-то еще, столь же приятное, однако взывавшее уже не к обонянию, а к желудку. Карп по-сычуаньски, под кисло-сладким соусом, определил Баглай. Две узкоглазые девушки в длинных парчовых платьях приблизились к нему, согнулись в вежливом поклоне, шепча приветствия и пожелания здоровья. Он заказал рисовые колобки, лапшу, сычуаньского карпа и ягодное вино – Ли Чунь клялся, что его привозят с цивилизованного востока, из Цзинани, и делают из ягод десяти сортов, неведомых на диком европейском западе. Вино и правда было восхитительным, таившим ароматы с берегов Хуанхэ; Баглай пил его из маленьких фарфоровых чашечек, просвечивающих словно белый шелк. В конце трапезы появился Ли Чунь, присел к столу, выпил предложенное вино. Они потолковали: о сотне способов приготовления лапши, о супе из ласточкиных гнезд, о запеченных в тесте креветках и преимуществах сычуаньского карпа перед уткой по-пекински. Оба сошлись во мнении, что карп – пища легкая и более подходящая людям, которым за тридцать, и что великие целители – Бянь Цао и Цан Гун, Фу Вэн и Хуа То, Хуан Фу-ми и остальные – писали об этом неоднократно, рекомендуя есть мясное в юном возрасте, а в прочих случаях – лишь в ожидании любовных утех. Закончив с этим, Ли Чунь одарил Баглая комплиментами – что палочками тот владеет как настоящий китаец и чашку с вином приподнимает изящно, на кончиках пальцев. Баглай чувствовал, что ему хотелось поговорить об ином – к примеру, задать вопрос, как поживает ваза с драконом из Цзиньдэчженя, – но эта тема, видимо, была запретной. Покинув заведение Ли Чуня, он постоял у Фонтанки, разглядывая темную мутную воду, потом направился к Невскому – развеяться, пройтись по антикварным лавочкам. В них ничего толкового не оказалось, однако прогулка его освежила; здесь, среди сутливой пестрой толпы, думалось не о Вике, не о Мосолове, не о прощальной черешинской улыбке, а о вещах приятных – скажем, о том, как сияют алмазы в жестяной баночке, как свивается в кольца зеленый нефритовый дракон, как плывут облака на картине Гварди и как отражаются в водах лагуны корабли, дворцы, мосты и башни. Думал Баглай и о новом знакомце, о живописце Яне Глебыче, прикидывал, каким он будет у него, и получалось, что не девятым и не десятым. Скорее, двадцатым. Всякому овощу свой черед; когда-нибудь и художник дозреет, но годы дозревания даром не пропадут. Да и с чего бы им пропасть? Огромный город шептался, рокотал, шумел вокруг Баглая, и в каменных его чащобах, в старинных улицах и переулках, и на окраинах, за фасадами зданий с миллионом окон, таились неисчислимые сокровища, лежавшие под спудом у древних гномов и троллей. Разыскивай, бери! В том и состояла вся прелесть, вся притягательность Охоты – разыскать и отобрать. Это было еще восхитительней, чем владеть! Подобная мысль не первый раз посещала Баглая, а временами он задумывался о том, придет ли ей на смену что-то новое и необычное, еще не испытанное и будоражащее кровь. Придет, по-видимому. Казалось, он даже знает, что – или предчувствует, не разумом, но изощренным инстинктом хищника. Эта мысль всего лишь зрела в его душе, еще не оформившись словами, неясная и смутная, подобная дремлющему зерну в богатой влагой удобренной почве. Но зерно набухало, наливалось соками, трескалось и жаждало прорасти. Владеть – приятно, еще приятнее – охотиться; но, быть может, всего приятней убивать?..* * *
Домой он вернулся в сумерках и, пока дожидался лифта, прислушивался к возне за дверью одной из квартир. Тут обитала брюнетка с пухлыми губами, владелица мастифа и ротвейлера, к которым Баглай испытывал стойкую необоримую ненависть. В свой черед клыкастые твари тоже не симпатизировали ему; едва Баглай появлялся в подъезде, их рык и рев, а также удары тяжелых тел о хлипкую дверь, заставляли его холодеть и ежиться. Но на этот раз было что-то иное. Лая и рычанья он не слышал, только какие-то шорохи и слабое царапанье когтей, сопровождаемое жалобным щенячьим поскуливанием. Может, заболели и сдохнут?.. – с надеждой подумалось ему. Он облизнул губы, усмехнулся, шагнул в кабинку лифта, и тут собаки начали выть. На два голоса, в унисон, тоскливо и протяжно, как воют волки на луну – в ночь, когда голод терзает их, а холод, заледенив кровь, лишает резвости и не дает добраться до добычи. Баглай злобно сплюнул, ткнул кнопку двенадцатого этажа и поехал наверх. Вой, преследовавший его, стал тише и глуше, но не исчез совсем; чудилось, последние звуки смолкли лишь в тот момент, когда он скрылся в закутке и начал отпирать квартиру. Замки упруго щелкнули, он вытащил ключ, сунул связку в карман и, по привычке, коснулся соседней двери – той, ведущей в пещеру сокровищ, где на комоде стояла китайская ваза, струился сине-голубой узорчатый ковер, где висели картины, поблескивали клинки, шкатулки и подсвечники, и в темноте ждала урочного часа хрустальная люстра – ждала, чтоб вспыхнуть переливчатой радугой и превратить пещеру в сказочный дворец. В обитель Гаруна ар-Рашида, запретную для прочих смертных… Дверь подалась под рукой Баглая, свет потоком хлынул на площадку. Он замер в оцепении, не двигаясь и едва дыша; все, о чем думалось минутой или часом раньше, вдруг улетело прочь – мысли о воющих псах, о наслаждении Охотой, о живописце Яне Глебыче, о бриллиантах в жестяной коробке, о магазинах, которые он посетил. Все это было сейчас неважно, все меркло перед этой распахнутой дверью, перед клыками запоров, мирно блестевших в гнездах, перед фонтаном света, струившимся от люстры… Все! Скрипнув зубами, Баглай ворвался в просторную комнату, готовый бить и душить. Вещи были на месте. Картины, взятые у Симановича и Надеждина, коллекция статуэток Любшиной, шкатулка литого серебра – наследие Кикиморы, арабский клинок Троепольской, персидский ковер и французский фарфор, богемский хрусталь и драгоценная ваза с драконом. Цело и невредимо, как все остальное – резной двустворчатый шкаф и буфет, комоды и секретеры, диван с изящной вычурной спинкой, большой сундук в углу и круглый столик на шести массивных львиных лапах. Пожалуй, кое-что прибавилось: у этого стола, в любимом баглаевом кресле, сидел Тагаров. Баглай не видел его много лет, но старец вроде бы не изменился. Бритый череп отливает бронзой, узкие щелочки глаз будто прорисованы углем между припухлыми веками, сухие губы сжаты, кожа на скулах туго натянута, руки сложены на коленях… Он застыл, глядя не в лицо Наставнику, а именно на эти руки – небольшие, изящные, хрупкие. Но хрупкость была обманчивой; он помнил их неодолимую силу. – Тьма вытеснила свет, – печально и негромко произнес старец, и Баглай понял, что это сказано о нем. – Садись! Садись, Игорь. Ты – хозяин, я – гость… Точно сомнамбула он шагнул к креслу, сел, пробормотал: – Как говорится, незваный гость хуже татарина… Зачем вы пришли? Я что-то остался вам должен? – Мне – ничего. Это я перед тобой в долгу. Учил, однако недоучил. Чего-то не объяснил, не додал… – Хотите доучить сейчас? О чем же будет урок? – Баглай ухмыльнулся, но каждая жилка в нем трепетала, и каждый нерв был натянут, словно скрипичная струна. Страх давил его, пригибал, выкручивал кости в суставах, впивался во внутренности; томительный и безнадежный страх небытия, смертный ужас невосполнимой потери – ибо, теряя жизнь, он терял и все остальное, свои богатства, свои охотничьи угодья и саму Охоту. Он не смотрел в темные щелки тагаровских глаз, не думал о сопротивлении. Он знал, что не имеет шансов на победу; он чувствовал – этот старик явился, чтобы убить его и отомстить за других стариков. За Симановича и Любшину, Кикимору и Черешина, за всех остальных – и даже, быть может, за живописца Яна Глебовича, хоть тот еще жив и вовсе не стар. Впрочем, какая разница? Сегодня – жив, а завтра был бы мертв… Веки Тагарова сомкнулись. Видимо, он тоже не имел желания разглядывать бывшего ученика. – Урока не будет. Не бойся, я пришел сюда не упрекать и не судить. Тем более, не убивать… – Старец смолк, открыл глаза и медленно, неторопливо осмотрел комнату, словно лишь сейчас заметив собранные в ней богатства. Взгляд его остановился на нефритовой вазе и на драконе в кольчужной чешуе, обвивавшем ее тугой многократной спиралью. Зеленоватый камень сиял под щедрым светом, и казалось, что ваза вырублена из древнего льда вместе с крохотным древним чудищем, окоченевшим когда-то в снегах Антарктицы. Старец вытянул руку ипроизнес: – Возьми ее, Игорь. Возьми, поставь перед собой и посмотри на дракона. Баглай подчинился с облегченным вздохом. Кажется, его и в самом деле не собирались убивать. – Дракон – символ перемены, – тихо пояснил Тагаров. – А перемена следует за выбором. Ты готов выбирать? – Я уже выбрал. Вот это! – Он дернул головой, как бы обозначив все находившееся в комнате – мебель, картины, ковры и драгоценные безделушки. Все, что ему принадлежало, чем он завладел, и что рассчитывал сохранить. – Неверный выбор, – произнес Тагаров. – Да и выбор ли? Мужчина выбирает женщину, женщина – мужчину… Юный отрок избирает путь, зрелый муж решает, как распорядиться жизнью, старец – как достойно умереть, воин – как избежать поражения… Вот выбор! А совершенное тобою – грех… – Он помолчал и в первый раз взглянул на Баглая – не осуждающе, не безразлично, а как бы с болью. Потом промолвил: – Я дам тебе не урок и не совет, а лишь возможность выбора. Дам еще один шанс. Тот, который наставник обязан дать самому нерадивому ученику. – Мне ваши подачки не нужны. Я… – начал Баглай, но губы вдруг перестали ему повиноваться, тело расслабилось и оплыло в кресле, а шея, наоборот, окаменела, так что он не мог ни шевельнуть головой, ни отвести глаз от крошечных нефритовых зрачков дракона, похожих на зеленоватые ягоды. Они мерцали и переливались, сужались и меняли цвет, и Баглай внезапно понял, что они живые, и не зеленые, не круглые, а темные и узкие, словно глаза Тагарова. Возможно, так и было в реальности, но он не успел разобраться, что видит и на кого глядит – зрачки исчезли, растаяли вместе с драконом, оставив лишь ощущение взгляда. Взгляд был сам по себе и наполнял пространство, как свет звезды – космическую пустоту. Ни лица, ни глаз, ни ресниц и бровей, один лишь только взгляд – неуловимый, но ощущаемый гораздо отчетливей, яснее, чем за неделю до этого дня, в то утро, когда Баглай стоял у пропасти на крыше. Э т о т взгляд тоже подталкивал в пропасть, но теперь он понимал, что пропасть кроется в нем самом – темная мрачная бездна, в которой кружились по вечным орбитам и звали его на разные голоса умершие – обманутые, преданные и ограбленные им. Они мелькали в бесконечном хороводе будто ожерелье лиц, соединенных невидимой нитью – Кикимора, злобно кривившая рот, Черешин с мертвой всепрощающей улыбкой, говорливая актриса Троепольская, кроткая Любшина, художник Надеждин – или, быть может, Захар Ильич, баглаев дед?.. Они грозили, упрекали и предупреждали… О чем? О предстоящем выборе. Он мог выбирать из двух возможностей, не допускавших возврата к прошлому. Прошлое было запретным – почему, он не знал, но чувствовал со всей определенностью, что это так. В прошлом осталась прежняя жизнь – детство, школа, Столешников переулок, часть ВДВ под Выборгом, служба в спортивной команде, больницы, поликлиники и остальные места, где довелось ему трудиться, но – главное! – в прошлом осталась Охота. А кроме того, пещера сокровищ и мастерство массажиста. Здесь, на краю бездны, мысль о сокровищах внушала ему ужас; он понимал, что больше не прикоснется к ним. Ни к ним, ни к человеческому телу. Странно, но это знание не причиняло ему обиды или горечи – ведь у него имелся выбор, и это было вполне разумной компенсацией за предстоящие потери. Разумной, справедливой, даже щедрой… Он мог начать сначала, вернуться в мир покоя и беспамятства и возродиться вновь, и это было первым шагом искупления. Он мог его отсрочить, мог пройти свой путь до немощной бессильной старости, пройти до самого конца, но не один. Память будет его вечным спутником; память о содеянном, муки совести и страх перед грядущей расплатой. Ибо она неизбежна – не в этой жизни, так в другой. Он взвесил эти две возможности, обдумал их и сделал выбор. Хор мертвых голосов приветствовал его; теперь они не упрекали, не грозили – звали. Он знал, что скоро присоединится к ним. Бесконечное падение… долгий-долгий полет в прохладных сумрачных просторах… Разве он не мечтал от этом?..* * *
Баглай очнулся. Тагарова не было. Впрочем, он уже помнил о Тагарове. Двигаясь, будто в полусне, он вышел из комнаты, аккуратно прикрыл за собою дверь, но запирать не стал – картины и дорогая мебель, ковры, фарфор и серебро, черешинские самоцветы и даже ваза эпохи Мин больше его не занимали. Он привстал на носках, дотянулся до складной лесенки, дернул ее вниз; затем поднялся по алюминиевым ступенькам, откинул крышку люка, протиснулся в него и вылез на крышу. Близилась полночь. Небо – ясное, с яркими звездами – было бездонным, будто изваянным из глыбы обсидиана; бледно-желтый месяц блестящей чешуйкой висел на востоке, над правым баглаевым плечом. Где-то там, в пустоте, сотканной из света и тьмы, среди туманных расплывчатых пятен галактик и звездных скоплений, рождались новые души, и в этот же мир забвения и временного небытия они возвращались, закончив земное странствие. Падали в пропасть, отягощенные памятью о грехах, заботами о близких, горечью разлуки, несправедливостью и злом, которое творили сами или сотворенным с их душами и телами; падали, и пропасть принимала всех и позволяла забыться в своей холодной спокойной пучине. Забыться на год или на тысячу лет, ибо смерти не было; была только жизнь или ее ожидание. Эта мысль заставила Баглая расправить плечи и вскинуть голову. Тонкий серебряный луч месяца, будто прощаясь, погладил его по щеке и подтолкнул – или напомнил, зачем он здесь и что должно свершиться через краткое мгновение. Залитая гудроном крыша простиралась перед ним, поблескивая в лунном свете; последнее препятствие, которое он должен миновать, чтоб обрести покой. Черная пустыня воспоминаний… Твердым ровным шагом, не колеблясь ни секунды, Баглай преодолел ее и прыгнул вниз. Его полет в бездну был сладок и нескончаем.Санкт-Петербург, апрель-июнь 1999
Михаил Ахманов Страж фараона
Часть I Начало. Великий Хапи
Он явился однажды из ночной тьмы и был высок, могуч и статен, но во всем остальном подобен сыновьям Та-Кем, а не рыжим темеху, не белолицым шерданам из народов моря и не жителям страны Куш. Кожу имел смугловатую, глаза и волосы – темные, нос и губы – благородных очертаний, а лицо его было из тех лиц, какие ваятели наши высекают в камне, изображая отца богов Амона.Тайная летопись жреца Инени,не дошедшая до потомков
Глава 1 Провал
Обманул! Обманул, магометанский пес! Дверь за Баштаром закрылась, отрезав клочок небесной синевы, солнечный диск и ветви платана, трепетавшие на ветру. Лязгнули запоры. Теперь лишь яркая голая лампочка у потолка освещала подвал – большой, восемь на шесть метров; слева – параша, справа – служивший постелью старый продавленный матрас. Рядом с ним, прямо на полу, миска с пшенной кашей и глиняный кувшин с водой. Все остальное пространство у стен занимали груды камней, ведра с песком и наждаком да инструменты, а в середине, под самой лампочкой, торчал почти готовый памятник – оставалось лишь высечь даты рождения и смерти. Яростно стиснув молот, Семен уставился на эту могильную плиту. Большая, в рост человека, из серого гранита, с закругленной верхушкой и тщательно отшлифованная… Под закруглением – полумесяц со звездочкой, ниже – прихотливая вязь арабских письмен, а еще ниже – волк с ощеренной пастью. Такие памятники, нарушая запрет Аллаха, не поощрявшего изображение живых существ, ставили боевикам, и по тому, что в последние месяцы заказы сыпались как дождь с небес, Семен мог судить об успехах федералов. Впрочем, ему не верилось, что они когда-нибудь доберутся сюда, в глухой аул горной Чечни. А если бы и добрались, что изменится? Его наверняка перепрячут либо перекупят. Пещер да ям в горах не сочтешь, и каждую не обыщешь… Найдется, куда засунуть ценное имущество – Семена Ратайского, скульптора-простофилю из Петербурга… Вот болван так болван! Польстился на крутые бабки, приехал в Хасавюрт ваять местных нуворишей! Пожалуйте, господа джигиты! Кому – бюстик, кого – в полный рост, а самых достойных персон изобразим на аргамаке с кривым ятаганом в зубах… Вот и наваял! Сто четырнадцать могильных плит за двадцать восемь месяцев! Он злобно пнул пальцами босой ноги миску с кашей, пошарил в кармане грязных парусиновых штанов, извлек полупустую пачку «Беломора» и закурил с четвертой попытки – руки тряслись от бешенства. Папиросы являлись премией, выдаваемой старым мерзавцем Баштаром за каждый законченный обелиск, и Семен растягивал их на неделю, по три в сутки, утром, в обед и вечером. Скудное табачное довольствие, зато выпускали во дворик, посидеть на солнышке, и кормили обильно, чтобы силу не потерял – без силы как рубить неподатливый камень? Так что кормили и не калечили, даже за побеги не стегали, не в пример другим-прочим. Особо ценное имущество, мать их так и разэтак! Жадно затягиваясь и чувствуя, как толкается в висках кровь, Семен в тысячный раз подумал, что лишь рабы умеют ценить свободу. Даже в нынешние просвещенные времена многие теряют ее отчасти или полностью по тем или иным причинам: воры и убийцы – в наказание, солдаты – выполняя долг, фанатики – из-за приверженности кумирам. Но рабское состояние в своем рафинированном виде было чем-то совсем иным, неадекватным текущей эпохе, а к тому же попавших в него людей не поддерживали мысли о справедливом искуплении вины, осознание долга или же вера. Какая, к дьяволу, вера, какая справедливость? Ведь бог покинул их, бросив безвинными на расправу ублюдкам и злодеям! А также предателям. По большому счету, Семен не мог зачислить себя ни в болваны, ни в простофили, так как отправился в Хасавюрт не к подозрительным незнакомцам, а к другу Кеше, Кериму Муратову, однокашнику по петербургской Академии художеств, с коим в студенчестве уговорил изрядно кильки и холодца под пиво, «Столичную» и незабвенный портвейн «Агдам». Кеша учился на отделении живописи, писал неплохие пейзажи, баловался керамикой, тогда как Семен, не обиженный силой, предпочитал резец, кувалду и сварочный аппарат – то бишь ваяние да кузнечное художество. И были они в эти не столь уж далекие годы братьями, были неразлучны, как кисть и мольберт, как молоток и наковальня. Однако Керим его продал – в прямом, не переносном смысле. Цена была Семену неизвестна, но первый хозяин, Дукуз из Гудермеса, как-то намекнул, что братку-однокашнику хватит на новый «жигуль» и даже еще останется на пиво. Чтобы, значит, выезжать на пикники со всем комфортом, с закуской и выпивкой, и поминать братана добрым словом… У Дукуза Семен не задержался, успел только высечь его портрет из алебастра, и был тот бюстик настолько хорош, что редкостного умельца перекупили с изрядной прибылью. А там началось… Дукуз продал его Саламбеку, Саламбек – Хасану, Хасан – Эрбулату, а Эрбулат – Баштару. Дважды Семен бежал, от Саламбека и Хасана, однако неудачно; в первый раз словили его в горах, а во второй – прямо в Грозном, в милиции, куда он сунулся по глупости. Удрать же от Баштара и шайки его сыновей с племянниками возможности не было никакой – дикие скалы кругом да одна дорога, где всякий чужак заметен, как гвоздь в доске. Баштар, в сущности, был человеком неплохим, богобоязненным, но, как глава рода, о выгоде не забывал и, поразмыслив, нашел отличное применение Семеновым талантам – делать могильные плиты. Спрос на этот товар был немалый и в Чечне, и в ее окрестностях. Чтобы раб усерднее трудился, Баштар клятвенно пообещал, что отпустит его после сто четырнадцатого памятника. Странное число, не круглое, но столько, по словам Баштара, было сур в Коране, и Семен почтил их все кладбищенскими обелисками – от самой первой, что называлась «Открывающая Книгу», до последних – «Очищение», «Рассвет» и «Люди». Всякая плита с художественным оформлением приносила Баштару от семисот до полутора тысяч зеленых, и, памятуя о количестве сур в священной книге, он мог почитать себя богачом. Мог бы и благородство проявить, сдержать слово, как положено правоверному, но являлся он правоверным суровой советской закалки и больше Корана чтил пословицу: кур, что несут золотые яйца, на волю не отпускают. И в результате сто четырнадцатый обелиск стал для Семена не ступенькой к свободе, а камнем обмана. Баштар посмеялся над ним, заявив, что клятвы на Священной Книге не давал и что кроме сур есть еще и приложения-хадисы, коих насчитывается сотен пять, а может, и две тысячи. С тем он и удалился, хихикая в бороду. Семен докурил, мрачно взирая на памятник с волком, потом взвесил в смуглых мускулистых руках кувалду. Тяжелый молот, килограммов на шесть, с длинной, в метр, рукоятью; вот рассадить бы им Баштару череп! Так рассадить, чтобы кости хрустнули! Чтобы мозги по стенке расплескались! Чтобы верхняя челюсть налево, а нижняя – направо!.. Он злобно скрипнул зубами. Ярость бушевала в нем, сильные мышцы напряглись, пальцы скрючились когтями, будто давил он не рукоять молотка, а тощую шею рабовладельца Баштара. Ненавистная рожа маячила перед ним, скалясь в издевательской ухмылке, и был в этот миг Баштар похож на волка, на злобного чеченского волчару, глядевшего на Семена с гранитной плиты. Сплюнув на пол, он оскалился волку в ответ и пробормотал: – Веселишься, сволочь? Думаешь, какие бабки тебе приволокут? И как ты их станешь считать да мусолить? А я – горбатиться в твоем подвале и камень рубить? Ну, блин, будет тебе камень! Только не в целости, а по частям! Поднимая увесистый молот, Семен шагнул к могильной плите. Реальность на секунду будто расплылась перед ним; сквозь алую пелену он не видел ни ярко вспыхнувшей лампочки, ни засаленного матраса, ни камней и ведер у стены, не чуял зловония, коим тянуло от параши, не слышал, как во дворе, за дверью, Баштар что-то толкует одной из десятка своих невесток. Пелена сгущалась и багровела, застилая взор, туманя разум, но он знал, что не промахнется, что молот послушен и грохнет прямо в волчью пасть, рассадит плиту до основания. Он ощущал это безошибочным чутьем каменотеса. Как делают статуи? Очень просто: берут камень и отсекают все лишнее… Этот волк был лишним, и арабская надпись, и полумесяц со звездой! И Баштар тоже был лишним, чем-то таким, что полагалось отсечь, вырубить из монолита жизни, превратить в щебенку, в пыль и прах… И Баштара, и друга Кешу, и прочую работорговую братию… Замах был могуч, и он уже приготовился к тому, как знакомая боль плеснет в напряженные мышцы и отзовется долгим эхом в костях. Камень есть камень, он не сдается без боя… Удар! Мгновенный проблеск света, затем полумрак, свежий теплый ветер, ночное небо и ощущение, что молот провалился в пустоту. Нет, не в пустоту, во что-то мягкое или не такое прочное, как камень… Инерция швырнула Семена вперед, он покатился, чувствуя хлесткие травяные стебли обнаженной кожей, прижался к земле, потом, не выпуская кувалды из рук, поднял голову. Ни лампы, ни матраса, ни подвала… Где-то в стороне, смутно отражаясь в водной поверхности, плясало багровое пламя костра – не огонь ли под адскими сковородками? Темнота, запах дыма, пота и крови, запах страдания – не ароматы ли преисподней? Стук и лязг, гортанные выкрики и вой – не вопли ли демонов? И эти огромные силуэты, что скользят вокруг, жуткие смрадные тени, то ли с дубинками, то ли с вилами… Дьяволы! Откуда они взялись? Вопрос остался без ответа. Чья-то босая ступня ударила Семена в грудь, чья-то дубина просвистела рядом с ухом, чья-то страшная рожа, чудовищно большая, с пучками волос, торчавших со всех сторон, склонилась к нему. Он ударил рукоятью молота, расслышал сдавленный стон и вскочил на ноги. Тени тянулись к нему чем-то длинным и острым, замахивались, угрожали, пугали адскими личинами, но он уже не страшился их и не задавался вопросом, откуда взялась эта адская свора и как он очутился здесь. Вся нерастраченная ненависть, весь гнев, копившийся день за днем, месяц за месяцем, вдруг прорвались, будто река, размывшая плотину; и, словно буйный поток, он не думал, вернется ли в прежнее русло, проложит ли новое и доберется ли до океана вообще. Не добраться означало умереть, но смерть была лучше судьбы раба. Смерть не пугала его; он лишь хотел отомстить кому-то за годы неволи и унижений. Почему бы не этим, с дьявольскими харями? Почему бы не здесь, на скользкой от крови траве? И почему не сейчас? Момент казался Семену вполне подходящим. – Не возьмете, гады! – взревел он, с размаху опуская молот. Что-то треснуло, то ли дерево, то ли кость, одна из теней исчезла, будто ее снесло ветром, но тут же явились три другие – подпрыгивали, кривлялись, тыкали длинными палками, пока Семен не успокоил их кувалдой. Затем все смешалось в хаосе дикой свалки; хруст, стоны и вопли, ощущение разгоряченных тел, боль от ударов, брызги крови, своей и чужой, страшные, похожие на звериные морды, лица, темные фигуры – они накатывали волной, ревели, рычали и падали под молотом, свистевшим в воздухе. Семен бил и бил, то вращая его над головой, то перебрасывая из руки в руку или отпуская на всю рукоять будто сокрушительное стальное ядро; ему, кузнецу и скульптору, молот был покорен и столь же привычен, как меч для древнего воина или коса для косаря. Случалось, в прежние годы он плющил с одного замаха железный двухдюймовый прут… У демонов, сражавшихся с ним, головы были помягче железа. Теперь, когда он поднялся, ему казалось, что эти существа, люди или дьяволы, не могут сравниться с ним ростом, силой и подвижностью. Они доставали ему до плеча, хоть их чудовищные лики были втрое и вчетверо больше, чем у нормальных людей; лики трещали и распадались под ударами, и скоро Семен догадался, что это не лица вовсе, а маски. Лиц он не видел – ночь была темной, безлунной, а отблески от костра слишком слабыми. Что-то тонко пропело в темноте, едва различимый прутик воткнулся в грудь одного из нападавших, и тот упал. Стрела? Откуда здесь стрелы и лучники? Эта мысль скользнула по краю сознания, не задержавшись там и почти не удивив. Через секунду стрелы посыпались одна за другой, и Семен, еще охваченный яростью берсерка, машинально отметил, что кто-то, видать, ему помогает. Вряд ли ангелы господни или десантники федералов – у тех и других было оружие помощнее стрел. Впрочем, демоны в масках, что бились с ним, никак не походили на чеченцев. Внезапно их поредевшая толпа рассеялась, и, замахнувшись, Семен обнаружил, что бить вроде бы некого. Черные тени таяли в сумраке, исчезали, растворялись где-то в просторе ночной равнины будто кошмарный сон. Тело Семена начало гореть; он ощутил, что по вискам и щекам стекают струйки пота, что кожа зудит от царапин, что над коленом сильно жжет и левая штанина набухает кровью. Бешенство схватки медленно, неохотно покидало его. Он выпрямился с хриплым вздохом и, осматриваясь, поворочал головой. Сон вроде бы кончился, но все вокруг по-прежнему оставалось как в смутном сновидении: перемазанные кровью ладони на рукояти молота, холмики тел, валявшихся в траве, мерцающий шагах в сорока костер и фигуры рядом с ним – они возбужденно размахивали руками, наклонялись, совали в огонь длинные палки. Странный пейзаж после подвала с могильной плитой и парашей! Но он мог иметь какие-то объяснения, ибо живые и мертвые люди, костер и молот и даже кровь не выходили за рамки реальности. Необъяснимым было другое: плеск волн в той стороне, где горел огонь, и ощущение беспредельной и ровной степи, тянувшейся от речных берегов куда-то в бесконечность. Почему-то Семену казалось, что там, за костром, не озеро и не море, а река, могучая и широкая, достойная этой огромной, тонувшей во тьме равнины. Река и степь! Звездное ночное небо, видимое от горизонта до горизонта! И никаких гор! Ни скал, ни домов, ни хлевов, ни иных строений… Семен Ратайский, скульптор из Петербурга, бывший чеченский пленник, вытер со лба пот и судорожно сглотнул.* * *
Длинные палки оказались факелами. Какой-то человек шел к нему от костра, подняв над головой пылающую ветку. Он был пониже, чем Семен, и поуже в плечах, но тело выглядело сильным, мускулистым, а кожа в отблесках пламени отливала красноватой медью. Лицо человека показалось Семену странно знакомым; фотографическая память художника тут же напомнила, что мужчина похож на него самого – такого, каким он был лет пять назад, на пороге тридцатилетия. Ровные дуги бровей над темными глазами, широкий лоб, чуть плосковатые скулы, крепкий решительный подбородок… Губы, правда, были другими, более пухлыми, и нос не столь резких, как у Семена, очертаний… Но в общем похож! Так, как походит младший брат на старшего. Не доходя трех шагов, человек остановился, освещая факелом свое лицо, и произнес пару напевных фраз. Семен молчал, разглядывая мужчину со все возраставшим изумлением. Непонятный язык и черты, сходные с его собственными, казались не столь уж существенным делом; мало ли на свете всяких наречий, а также людей, случайно похожих друг на друга! Но вот одежда… Одежда была удивительной. Просто невероятной! То ли короткая юбка, то ли передник, перехваченный на талии поясом – видимо, белый, но сейчас измазанный грязью и кровью; ножны с длинным кинжалом, висевшие на перевязи; грубые сандалии и ожерелье. Собственно, не ожерелье и не пектораль, а пестрый воротник шириною сантиметров двадцать, прикрывавший плечи, спускавшийся на спину и на грудь. Кажется, эту деталь одежды сплели из бисера, и она, вероятно, была очень красивой, но в данный момент на ней темнели пятна крови, и кое-где в бисерном кружеве зияли прорехи. Этот незнакомец с факелом явно участвовал в схватке. Видимо, он догадался, что его не понимают, и, приложив растопыренную ладонь к воротнику, несколько раз повторил: «Сенмут! Сенмут!» Семен подумал: – «Надо же! И имена похожи!» – затем, не выпуская молот, ткнул себя пальцем левой руки в грудь и назвался: – Семен! Семен Ратайский! – Сенмен Ра? – повторил человек с явно вопросительной интонацией. Выговор его казался непривычным – в слове «Сенмен» он сделал ударение на первом слоге, и от того имя Семена прозвучало совсем не по-русски. Вдруг лицо незнакомца начало разительно меняться; до того усталое и мрачное, оно озарилось надеждой и благоговейным изумлением. Слабая улыбка скользнула по его губам, глаза заблестели ярче, он выронил факел и развел руки странным жестом: локти прижаты к бокам, предплечья вытянуты, ладони раскрыты и направлены к Семену, то ли в попытке обнять его, то ли оттолкнуть. – Сенмен Ра! – торжествующе выкрикнул незнакомец, повернулся к костру и добавил несколько повелительных фраз. Оттуда заспешили трое: щуплый пожилой мужчина в длинном белом одеянии и пара крепких молодцов, меднокожих и полунагих, с кинжалами и топориками на перевязях. Они несли факелы и, повинуясь жесту человека, назвавшегося Сенмутом, встали по обе стороны от Семена, осветив его с ног до головы. – Сенмен… – тихо произнес их предводитель, – Сенмен… Еще какие-то слова, певучие и протяжные, словно молитва, слетели с его губ; потом он повалился на колени, уткнулся лицом в босые ноги Семена и стал целовать их. Кажется, лицо его было влажным, но не от пота и крови, а от слез. Люди с кинжалами и топорами – несомненно, воины – разом воткнули факелы в мягкую почву и тоже сложились втрое: колени согнуты, ягодицы на пятках, спины дугой, руки вытянуты, лбы упираются в землю. Поза покорности, какую принимают перед богами и царями, понял Семен. Где-то он ее уже видел, в камне или на рисунках – тела, распростертые перед огромной фигурой владыки… Воспоминание скользило в его голове будто рыба, вяло пошевеливающая плавниками, никак не желавшая подняться на поверхность. В то же время он глядел на пожилого в белом; этот не опустился на колени, а лишь склонил в поклоне бритую голову и теперь рассматривал Семена маленькими, глубоко запавшими глазками. Лицо его с ястребиными чертами казалось спокойным и задумчивым; этот тощий невысокий человек был, несомненно, умен и повидал многое. На его груди висело украшение – золотая плоская головка хищной птицы с темным камнем, имитирующим глаз, и отчеканенными в металле значками. Буквами? Рунами? Иероглифами, подсказала память, и Семен вздрогнул. Все внезапно встало на свои места: странные позы Сенмута и воинов, их одеяния и оружие, льняные юбки, широкий бисерный воротник и эти знаки, фигурки птиц, людей, животных. Древнеегипетские иероглифы! Письменность, быт, искусство, знакомые со школьных лет по картинкам в учебнике истории, по лекциям в студенческие годы, по изваяниям и саркофагам, папирусам и черепкам в залах Эрмитажа… Этот Сенмут – наверное, царский сановник, при нем воины и жрец в белой одежде; видимо, пустились в дорогу с какой-то целью, и на них напали… Кушиты, ливийцы, эфиопы или бог ведает кто… А река, эта огромная река, что плещется неподалеку, – великий Нил! И течет она в Средиземное море, а за ним лежат страны севера – Сирия, Финикия, Эллада, Крит… всякие страны, среди которых нет еще России… даже имени такого не существует… Дьявол! Как он очутился здесь? Помотав в изумлении головой, Семен наклонился, поднял коленопреклоненного человека и обнял его. Сенмут прижался к нему будто малый ребенок к матери и все шептал и шептал какое-то слово, вроде бы понятное без объяснений: «брат… брат…» Брат так брат, решил Семен; не каждому такое везенье – оказаться черт-те где, пустить в расход бандитскую шайку и тут же обнаружить брата. Большая удача! Можно сказать, благоволение судьбы! Его повели к костру, бережно поддерживая под руки. У огня суетились еще четыре воина в окровавленных повязках, укладывали в ряд тела мертвых товарищей, которых было не меньше десятка; двое раненых лежали в траве, а еще один солдат прохаживался на границе света и тьмы, не выпуская лук с наложенной на тетиву стрелой. За костром, у самого берега, покачивалось на волнах небольшое суденышко с загнутым носом, надстройкой и плоской кормой, низко сидящее в воде; явно гребная посудина, но скорей плоскодонная барка, чем галера. Палубная надстройка была низковатой, крытой пальмовыми листьями, и впереди нее торчало что-то несуразное – видимо, мачта, с подтянутым к верхней реи парусом. Очень странная мачта, похожая на перевернутую рогатку; оба ее конца крепились не к палубе, а к бортам. Сенмут что-то приказал воинам, и трое из них ринулись на судно, возвратившись с циновками, мисками и кувшинами. Затем Семеном занялся бритоголовый жрец; знаком попросил сбросить штаны, внимательно осмотрел тело, ноги и голову, обтер ссадины и рану в бедре вином из кувшина, наложил повязку с едко пахнувшей мазью и выразительно покосился на Семеновы парусиновые брюки в свежих кровяных пятнах. Семен махнул на реку, и один из воинов, самый молодой, подцепив штаны копьем, швырнул их в темный медленный поток. Лишь тогда он вспомнил, что в кармане остались «Беломор», спички и двухрублевая российская монета, все его достояние, не считая молотка. Но прыгать за штанами в воду было как-то несолидно, недостойно человека, перед которым простирались ниц. Усевшись на циновку, Семен принял из рук Сенмута миску с мясом и разваренными зернами пшеницы и стал неторопливо насыщаться. Воин – тот, что лишил его штанов, – устроился рядом, то и дело наполняя кубок слабым кисловатым вином. Это был совсем еще мальчишка, черноглазый парень лет семнадцати, и на его лице, когда он смотрел на Семена, мелькал благоговейный ужас. Сенмут почтительно поклонился и отошел к жрецу. Они заспорили; вельможа показывал то на Семена, то тыкал пальцем в усыпанное звездами небо или в темноту, туда, где валялись тела убитых, и делал резкий быстрый жест, словно разбивая молотом вражеский череп; жрец поглаживал бритую голову, хмыкал и иногда вставлял несколько слов – вероятно, о чем-то божественном, так как руки его при этом вздымались кверху. Потом Сенмут коснулся амулета, свисавшего с шеи бритоголового, и заговорил тише, оглядываясь на воинов; видимо, речь шла о тайных делах, не предназначенных для ушей простых солдат. Казалось, сановник о чем-то просит, а жрец не в силах отказать ему, но сомневается – и эти сомнения, похоже, касались Семена. Он ел и пил вино, наслаждаясь едой и питьем, и свежим ветром, которым веяло с реки, и пляской огненных языков, и видом звездного неба, такого глубокого, бескрайнего и манящего, что хотелось взлететь в эту затканную яркими точками темноту и раствориться в ней, забыв о земле с ее бедами и горем. Свобода! Он упивался ею и думал лишь о том, что никому не позволит ее отнять, что он, как волк, вцепится в горло, загрызет и сам погибнет, но не отдаст вновь обретенного сокровища. Видимо, эти мысли отразились на его лице – рука черноглазого юного воина, который протягивал чашу, задрожала, и несколько капель пролилось ему на колено. Щеки юноши смертельно побледнели, но Семен похлопал его по плечу и буркнул: – Ничего, парень, не заржавею! Он доел мясо, осушил кубок и почувствовал, как неудержимо клонит ко сну. Воспоминания о гнусном подвале, о Баштаре и ста четырнадцами могильных плитах еще кружились у Семена в голове, но с каждым оборотом мыслей они бледнели и блекли, таяли, уходили в прошлое вместе с чеченским пленением, с его маленькой квартиркой в Петербурге, мастерской, где он работал, стареньким «Москвичом», его непривередливой лошадкой, знакомыми девушками, приятелями, друзьями и всем остальным, что связывало его с реальностью. С той реальностью, которой, судя по всему, еще не существовало. Мягко повалившись на циновку, он вытянул ноги и уснул.* * *
Солнечный луч нежно погладил сомкнутые веки, заставив Семена пробудиться. Некоторое время он не открывал глаз, а только принюхивался и прислушивался, соображая в полудреме, не приснилось ли ему вчерашнее и будет ли у этого сна какая-то связь с сегодняшним днем. Мысль, что надо проснуться, страшила: вдруг он увидит опять опостылевший подвал, вонючую парашу и плиту с ощеренным в ухмылке волком. Но ниоткуда не тянуло гнусными запахами; наоборот, пахло травой и речной свежестью и слышался плеск волн да негромкий птичий щебет. Потом раздалась песня, и Семен, открыв глаза, привстал на циновке. Над огромной рекой поднимался золотисто-алый диск. Люди, его вчерашние знакомцы, стояли на коленях на речном берегу и тянули что-то плавное, мелодичное, простирая руки к восходившему светилу. Их было одиннадцать: Сенмут, бритоголовый жрец и девять воинов, включая раненых. Тела погибших в ночной схватке лежали перед ними; все – омытые, в чистых льняных повязках вокруг бедер и пояса, с топориками и иным оружием в окостеневших руках. Но песня живых не походила на заупокойную молитву; скорее то был торжественный гимн, которым приветствуют божество. Прищурившись, Семен посмотрел на солнце и широкую реку, сверкавшую расплавленным изумрудом, затем, повернув голову, взглянул на запад. Туда уходила холмистая степь; высокие травы чередовались с деревьями, кое-где торчали вихрастые кроны пальм, а у берега, прямо в воде, тянулось к небу незнакомое растение, напомнившее о камышовых зарослях. Степь была не безжизненной – он различил вдалеке стадо быков или антилоп, за которым, ныряя в травах, скользили гиены. Чуть левее, у подножия холма, заросшего деревьями, кормился жираф, едва различимый на фоне пятен света и тьмы, а где-то у горизонта перемещались серые тени – может быть, носороги или слоны. Непривычный пейзаж для человека, рожденного в северных краях, и в то же время знакомый, виденный не раз на картинах и в фильмах, описанный в книгах и учебниках. Африканская саванна… Семен уже не сомневался, что видит ее такой, какой она была две, три или четыре тысячи лет тому назад, а это значило, что ему доведется узреть и многие другие чудеса. Александрию и Мемфис, Фивы и Гизу, дворцы, воздвигнутые фараонами или царями династии Птолемеев, храмы в Карнаке и Луксоре, святилища богов и статую Большого Сфинкса, пирамиды, гробницы и Город Мертвых… То или иное, смотря в какую эпоху он попал… Чувство невероятности свершившегося вдруг пронзило его, заставило скорчиться на циновке, уткнуться лбом в колени и плотно зажмурить глаза. Но мир от этого не изменился; невероятное вторгалось в разум с птичьим щебетом, шелестом волн и трав, гимном, что пели люди, с солнечным теплом и мягкими порывами ветра. Мир будто пытался доказать, что он не иллюзия, а реальность – единственная реальность, что окружает потерянного в прошлом человека. Смириться с этим было не просто – так же не просто, как представить Землю без компьютеров и телевизоров, без железных дорог, автомобилей, самолетов, гигантских мегаполисов, космических станций и прочих свидетельств цивилизации. И, в то же время, без ядерных бомб, смертельных вирусов и газов, экологических катастроф и чеченского рабства… Но прошлое держало крепко, и Семен, сцепив зубы и ощущая смертную тоску, глухо застонал. Он находился в позе эмбриона, с прижатыми к груди коленями, минут шесть или семь, и не заметил, как прекратилось пение. Чья-то рука легла на его плечо, и, вскинув голову, он увидел, что рядом стоит Сенмут. Его глаза были полны тревоги и сочувствия. Он произнес то слово, которое, как думалось Семену, означало «брат», затем протянул чистую одежду и помог облачиться в нее. Льняная туника, сандалии, пояс с длинным бронзовым кинжалом, серебряный браслет и ожерелье… Вероятно, все это принадлежало Сенмуту – ткань была тонкой и мягкой, браслет – тяжелым, а пояс украшала пряжка в форме львиной лапы. Одевает, как вельможу… – мелькнуло у Семена в голове. Выпрямившись, он бросил взгляд на место вчерашнего побоища. Там, среди измятой окровавленной травы, переломанных копий, дубин и расколотых масок, валялись три десятка трупов, одни – пронзенные стрелами, другие – с разбитыми черепами или с ранами от топора и кинжала. Мертвецы были чернокожими, губастыми, с плоскими носами и курчавой шевелюрой; над ними уже кружили стервятники, а в травянистых зарослях слышалось нетерпеливое повизгивание гиен. Заметив, куда он смотрит, Сенмут вытянул руку к телам погибших и произнес с явным презрением: – Куш! Нехеси! – Затем он коснулся своей груди, плеча Семена, кивнул в сторону воинов и гордо добавил: – Та-Кем! Роме! Та-Кем… Черная Земля, как называли египтяне свою родину… А Куш – страна кушитов, арабская Нубия, часть современного Судана… На современности мысли Семена споткнулись, ибо она являлась сейчас далеким будущим – не более чем миражом, в котором смутным фантомом маячили Судан, Египет, Россия и другие страны. В этом мире не было ни Египта, ни Судана, а были Та-Кем и земля Куш. Не было также и Нила, а был Великий Хапи. Поглядев на реку, Семен промолвил: – Хапи! Это короткое слово привело Сенмута в радостное возбуждение; что-то невнятно выкрикнув, он подозвал жреца, знаком попросил Семена повторить сказанное и, размахивая руками, принялся в чем-то убеждать бритоголового. Тот в сомнении щурил маленькие глазки, но, наконец, кивнул, коснулся свисавшего с шеи амулета и пропел пару мелодичных фраз. О чем они толковали, казалось Семену тайной за семью печатями, но в речах молодого вельможи мелькнуло понятное слово – Инени. Так Сенмут обращался к жрецу, и это являлось несомненно именем, знакомым по какой-то книге – какой, в точности не вспоминалось. Семен шагнул к бритоголовому и, заглянув в его лицо, произнес с вопросительной интонацией: – Инени? – Он показал на себя, на предполагаемого брата и снова на жреца: – Сенмен и Сенмут. А ты – Инени? Брови жреца изумленно приподнялись; видимо, он решил, что странный человек, явившийся из ночного мрака и перебивший банду кушитов, узнает его. Но изумление было недолгим; бросив короткую фразу Сенмуту, Инени показал на воинов, уже готовивших еду, затем – на судно, что покачивалось у берега. С губ вельможи слетел короткий возглас – видимо, знак согласия. Сжав локоть Семена сильными пальцами, он подтолкнул его к кораблику и улыбнулся – мол, не тревожься, братец, все будет в порядке. Улыбка преобразила Сенмута; дрогнули холмики щек, сверкнули белые зубы на смуглом лице, и Семен вдруг ощутил, что верит этому человеку, верит так, будто тот и в самом деле оказался его потерянным и вдруг обретенным родичем. Однако доверчивость – плохой руководитель, тут же напомнил он себе и чертыхнулся, подумав о недоброй памяти Кеше Муратове. Вслед за жрецом он поднялся на палубу барки и скользнул под навес из пальмовых листьев. Это помещение не поражало роскошью; слева и справа зияли входные проемы между тростниковых плетеных стен, пол был покрыт циновками, в двух углах лежали шкуры и спальные подставки для головы в форме полумесяца, а кроме этого имелась еще пара сундуков. Один – из черного дерева, с резным солнечным диском на крышке, другой – из розового, с изображением плывущей по Нилу ладьи. Пахло в каюте приятно, то ли ладаном, то ли миррой; висевший в воздухе аромат будил воспоминание о сумраке церквей и поднимавшемся над аналоем благовонном дыме. Семен и Инени уселись напротив друг друга, и вскоре юный черноглазый воин доставил завтрак: мед, вино и свежие лепешки, испеченные в костре. В левый проем, служивший входом в эту каютку, Семен наблюдал, как едят воины, то и дело оглядывая степь, не снимая поясов с оружием. Двое закончивших трапезу раньше других поднялись, схватили луки и разошлись в стороны, на сотню шагов от костра. Сенмут что-то крикнул им вслед, затем послал в дозор еще одного солдата – видимо, опасался, что нападение кушитов может повториться. Отчего бы им не уплыть от этих берегов? – подумал Семен, расправляясь с лепешками. Может, кого-то ожидают? Или дело какое-то есть? Заботься о своих делах, напомнил он себе, и перевел взгляд на непроницаемую физиономию Инени. Ситуация была фантастическая, из тех, когда встречаешь инопланетного пришельца либо призрак Синей Бороды со свитой замученных жен. В самом деле, вот сидит Семен Григорьевич Ратайский, тридцати пяти лет от роду, петербургский ваятель с высшим художественным образованием, не чуждый, однако, технического прогресса – он и дизайн компьютерный освоил, и машину водит как прирожденный гонщик, и в моторе не прочь покопаться… сидит, словом, этот беглец с Кавказских гор и вкушает завтрак с египетским жрецом из храма Амона или Осириса… макает в мед лепешку и смотрит на просторы Великого Хапи или, к примеру, на древнюю степь с жирафами и антилопами… И как же он здесь очутился, этот Семен Ратайский? Не во сне, не по причине душевной болезни, а в твердой памяти и добром здравии? Может, вчерашняя злость на ханыгу Баштара и вспышка гнева пробудили в нем паранормальный дар? Некий талант к телепортации, о коем он не ведал, как говорят, ни сном ни духом? Но если так, то почему он очутился здесь, на нильских берегах, а не в своей квартире в Петербурге? Или хотя бы в дельте Невы в тысячном году до новой эры… Семен представил, что сейчас творится в северных родимых палестинах, и невольно вздрогнул. Непроходимые леса, болота, комары, медведи, охотники в звериных шкурах… Возможно, каннибалы, и уж наверняка дикари, не знающие, как приготовить лепешку и вытесать из камня обелиск… Впрочем, это не относилось к вопросу его перемещения во времени и пространстве. Этот провал мог случиться либо по внешним причинам, либо по внутренним, либо без всяких причин вообще. Почему бы и нет? Бывало, что люди исчезали таинственно и бесследно, на глазах своих близких… Бывало и еще похлеще; скажем, внезапная метаморфоза, загадочный сдвиг психики: был Иваном Ильичом, токарем с Балтийского завода, а стал Юлием Цезарем или Жанной д’Арк… Так что, возможно, он вовсе не Семен Ратайский, питерский скульптор, а Сенмен, брат Сенмута… Или все же Семен, переселившийся в Сенмутову плоть… Обдумав эту гипотезу, он отверг ее, поскольку тело являлось своим, родным, привычным и знакомым до последней черточки – ноготь на левом мизинце, обломанный позавчера, смуглая кожа, мозолистые ладони и давний шрам у запястья, след отбойника. Нет, и тело его, и сам он – Семен Ратайский! Значит, внутренние причины? Скажем, телепортация?.. Закрыв глаза, Семен напрягся и пожелал очутиться в своей квартире на Малоохтенском, с видом на Неву, или хотя бы в Озерках, в убогой мастерской, где вырезал поделки из деревяшек и камня. Он даже представил их: нефритовые подсвечники, пепельница из лиственита, пара икон-новоделов, писанных на липовых досках, гранитный медведь, поднявшийся на дыбы, матрешки с ликами Ельцина и Билла Клинтона, меч викинга, откованный лет пять назад да так никому и не проданный… Но напрягался он зря, так как вокруг ровным счетом ничего не изменилось. Может быть, по той причине, что возвращаться в мир, где он ваял могильные плиты и подсвечники, Семену совсем не хотелось. Сидевший напротив жрец прочистил горло, шевельнул повелительно бровью, и поднос с остатками трапезы был тут же убран. Некоторое время Инени молчал, разглядывая Семена, затем потянулся к его ладони, ощупал мозоли сухими чуткими пальцами, коснулся выпуклого бицепса и что-то с одобрением пробормотал под нос. Внезапно вскинув голову, он вымолвил фразу на резком гортанном наречии, затем другую, третью, звучавшие иначе; кажется, спрашивал одно и то же на разных языках, не забывая следить за реакцией Семена. Но сказанное оставалось непонятным, и тот лишь пожал плечами в знак недоумения. Жрец попытался еще раз, морща лоб и явно припоминая слова какого-то полузабытого языка. Ахейского? Финикийского? Скифского? Все они были столь же знакомы Семену, как говор индейцев майя из славного города Чичен-Ица. Он обладал хорошими способностями к языкам, неплохо знал французский с итальянским, ибо Италия и Франция были для него законодателями красоты; земли, где творили Микеланджело и Роден, Челлини, Рафаэль, Мане, Делакруа… Он мог объясниться на английском, немецком или шведском – вполне достаточно, чтобы загнать туристам пару подсвечников; он даже нахватался чеченского – главным образом, проклятий и ругательств… Все эти знания были сейчас бесполезны, как дым еще не зажженных костров. Дым от огня, в котором сгорят еще не выросшие деревья… Оставив свои попытки, Инени вздохнул и грустно покачал головой. Затем, повернувшись к сундуку с солнечным диском, извлек стеклянный флакон и статуэтку божества – птичья головка с тонким изогнутым клювом на человеческом теле. Ибис, подумал Семен, священная птица Тота, бога мудрости. Инени протянул ему флакончик, сделал вид, что пьет, поднял один палец и сурово нахмурился.Только один глоток, мелькнула мысль у Семена. Он понюхал темное зелье, пахнувшее сладкими травами, и решил, что на мышьяк или цианистый калий не похоже. Затем осторожно глотнул. Сперва ничего не случилось, но через минуту-другую его вдруг стало охватывать странное оцепенение. Мир будто отдалился, скрывшись за дымкой полупрозрачного тумана; смолкли шелесты и шорохи, перекличка часовых на берегу, скрип обшивки судна и плеск волн, стучавших в борта. Вместе со звуками исчезли запахи; он смутно видел, как Инени окуривает птицеголовую фигурку, как шевелятся в молитве губы жреца, но не мог различить ни слов, ни ароматов. Однако мышцы еще повиновались ему, и, когда жрец показал на застланное шкурами ложе, Семен покорно вытянулся там и опустил отяжелевшие веки. В этот миг ему не хотелось спать или вернуться к бодрствованию; он пребывал сейчас где-то на грани меж явью и сном, в приятном расслаблении, будто его погрузили в ванну с теплой соленой водой и задернули матовые, приглушавшие свет шторки. Покой, безопасность, тишина… Потом ее нарушил голос. Он произносил слова, звучавшие отчетливо, мерно и гулко, словно увесистые капли, падавшие в воду и странным образом проникавшие в мозг; Семену казалось, что он вот-вот догадается о значении этих неведомых слов, раскроет их загадочный смысл – возможно, даже ответит на том же языке. Но оцепенение сковало его и сделало безгласным; он мог лишь отсчитывать падение капель-слов, слушать их и запоминать. Постепенно слова обретали жизнь, соединяясь в пары, сочетания и цепочки-понятия. Да – нет, хорошо – плохо, жарко – холодно, светло – темно… Я, ты, он, она, они… Ползти, идти, бежать, прыгать… Поднимать – опускать, бросать – ловить, отдавать – получать… Человек: мужчина, женщина, ребенок… рука, нога, плечо, грудь, живот, спина, пальцы, голова, лицо… лоб, брови, глаза, нос, рот, губы… Животное: бык, лошадь, коза, овца, собака, кошка… Здание: дом, дворец, храм, крепость… крыша, стена, окно, дверь, колонна, лестница… Дерево, камень, глина, металл… Золото, серебро, железо… медь и олово – бронза… Чувство покоя и безопасности исчезло. Теперь Семен плавал в океане слов, набегавших то мелкой зыбью, то волной, то огромными валами; слова несли его, стремились потопить, подталкивали в чудовищный водоворот, в котором, как он внезапно понял, таились смерть или безумие. Странствие в этом океане было трудом опасным и напряженным; не всякий разум справлялся с ним, не каждому уму были доступны эти потоки слов, что снова и снова рушились в изнемогающее сознание. Добрый – злой, красивый – уродливый, высокий – низкий, легкий – тяжелый… Бить, рубить, резать, колоть… Плот, лодка, корабль… Мир – война, ночь – день, звезды – солнце… Люди: роме, темеху, шаси, аму, нехеси, кефти, туруша… Царь – пер’о, Великий Дом… правитель сепа – хаке-хесеп… вельможа – семер… кузнец, горшечник, скотовод, каменотес, солдат… Войско: колесницы, лучники, копейщики… Вода: море, озеро, река, ручей… Великая Зелень – Уадж-ур… Суша: равнина, холм, гора, овраг… Города: Уасет, Мен-Нофр, Он-Ра, Саи, Абуджу, Хетуарет… Цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый… Хоу – сфинкс, миу – кошка, хенкет – пиво… Он удержался на грани водоворота, впитал все до единого капли-слова, звучавшие в гулкой пустоте; они внезапно оледенели и улеглись в сознании блестящими снежинками. Ощущение безмерного покоя вновь охватило его; он чувствовал, что проваливается в сон, и в то же время что-то подсказывало ему, что пора очнуться. Какой-то импульс, пришедший извне или родившийся в нем самом, какая-то фраза, уже понятная, негромкая, но повелительная. Веки Семена дрогнули и приподнялись. Небо в дверном проеме потемнело, кровля из шелестящих пальмовых листьев покачивалась над головой, а ниже, будто плавая в вечернем сумраке, белели два лица: сухое, бесстрастное, с ястребиными чертами и полное жизни, надежды и радостного ожидания. Инени и Сенмут, вяло подумал он, балансируя между сном и явью. Что им надо? Чего они хотят? Глаза молодого вельможи вспыхнули, губы шевельнулись, роняя капли-слова, и Семен внезапно осознал, что постигает их смысл. Простой и ясный, как солнечный свет: – Сенмен, брат мой! Ты вернулся, хвала Амону! Вернулся из мира мертвых, чтобы спасти нас!Не знаю доподлинно, кем он был. Обманчиво обличье человека, и в этом он не отличался от других: лицом – как знатный роме, но сутью – иной, и подобных ему я не встречал ни в стране Хару, ни в стране Джахи, ни в других местах, какие довелось мне посетить. Он обладал многими дивными знаниями и уменьями, о коих говорить не буду, дабы не вызвать упрека во лжи. Скажу лишь, что поведанное им столь удивительно и чудесно, что разум затмевается, а кровь в жилах прекращает бег…Тайная летопись жреца Инени
Глава 2 Время и язык
Инени уснул сразу после ужина, не прикоснувшись к блюду с сушеными фруктами. Его лицо, озаренное лучами заката, выглядело постаревшим и утомленным, на лбу и бритом черепе выступила испарина. Казалось, он завершил тяжелый труд, отнявший последнюю энергию. – Ему придется отдыхать день или два, есть мясо и пить вино, красное вино из Каэнкема, – произнес Сенмут. – Сделанное им сегодня по силам лишь мудрому Тоту. Но Ибисоголовый – бог, а Инени – всего лишь один из нас и слеплен из слабой человеческой плоти, хотя временами умеет творить чудеса. Слова проникали в сознание Семена, будто растворяясь в нем и порождая ясные образы. Совсем не так, как если бы с ним объяснялись на итальянском или французском; те языки все же не были родными, что-то ухватывалось сразу, а что-то нуждалось в осмыслении и переводе. Но сказанное Сенмутом он понимал без всяких усилий, без напряжения и даже более того – произнесенные слова не отзывались эхом русской речи. Будто он знал с детства этот певучий мелодичный язык, впитав его с материнским молоком… – Благословен Амон! – Руки Сенмута потянулись к заходящему светилу. – Инени, мой учитель, сделал чудо, заставив тебя вспомнить речь Та-Кем, но это лишь ичи-ка[756], секретное знание Тота, дарованное кое-кому из жрецов. Разве сравнится оно с божественным могуществом? С властью Осириса, который, вняв моим мольбам, отпустил тебя с полей Иалу! – Он крепко стиснул плечо Семена. – И ты вернулся, брат, вернулся, наполнив мое сердце радостью! Вернулся оттуда, откуда не возвращаются! – Я вернулся, – вымолвил Семен, чувствуя, как слова легко слетают с губ. – Я вернулся и очень доволен, что снова попал в Та-Кем, что вижу тебя, ем пищу, пью вино и чувствую ветер на своем лице. Это так чудесно! Что еще он мог сказать? Кажется, Сенмут считал его умершим братом, пришедшим из загробного царства Осириса – знания Семена о древнеегипетской вере были скромными, но вполне достаточными, чтобы разобраться в словах молодого вельможи. Выходит, он явился в мир живых из запредельных пространств, из рая либо из ада! Скорее, последнее, с угрюмой усмешкой решил Семен, вспомнив о подвале Баштара, вонючей параше и ста четырнадцати могильных плитах. Нет, ста тринадцати! Последнюю он расколотил… Или все же кувалда разбила не камень, а кушитский череп?.. Грудь Сенмута дрогнула в затаенном вздохе. Сейчас он сидел на пятках, выпрямившись и прижимая ладони к бедрам, в напряженной позе древнеегипетской статуэтки писца. Семен не помнил, где и когда ему встречалось ее изображение, в учебнике или в какой-то прочитанной в юности книге, но поза казалась знакомой чуть ли не со школьных лет. – Я не спрашиваю о тайном… не спрашиваю о ликах бессмертных богов и о других вещах, которые ты видел в Стране Заката… – дрогнувшим голосом прошептал Сенмут. – Я понимаю, что это знание – не для живых, что мы приобщимся к нему лишь после смерти… Поведай мне, брат, только об одном… скажи, это было страшно? Страшно умереть и стоять перед Осирисом, когда божественные судьи взвешивают твои деяния? – Боги милостивы и прощают многое, – произнес Семен. – Они прощают гордецов и грешников, жестоких и жадных, льстецов, прелюбодеев и чревоугодников, прощают даже зло, если творилось оно по человеческому неразумию. – Тут он подумал о Баштаре, скривился и добавил: – Вот преступившим клятву приходится плохо! Им вытягивают язык, пока не обкрутят вокруг раскаленного медного столба сто четырнадцать раз. Сенмут нерешительно улыбнулся. – Ты шутишь, брат? Разве в полях Иалу есть раскаленные медные столбы? – Там есть все. – Семен потянулся к блюду, бросил в рот горсть изюма. – Все, и еще больше! Если бы я мог рассказать… Он замолчал, с сосредоточенным видом пережевывая изюм. Если бы мог!.. – мелькнуло у него в голове. Только ты вряд ли поверил бы, мой неожиданный родич. В тех полях Иалу, откуда меня принесли ветры времен, чудес побольше, чем в загробном мире. Сенмут глядел на него с любовью и обожанием – так, как смотрят на стены родного дома после долгих странствий на чужбине. – Наверное, брат, ты многому научился в царстве Осириса. Ты ушел туда, когда я был совсем еще юным, и провел в полях Иалу больше десятилетия… Ты изменился. Ты выглядишь возмужавшим… И ты, я думаю, стал мудрее. – Это так. Да, так! – Неожиданная мысль явилась Семену, заставив откинуться к стенке каюты. – Знай, брат мой Сенмут, – медленно произнес он, – что я и в самом деле приобщился к божественной мудрости, но за нее пришлось платить. Видишь ли, боги схожи с людьми в одном – за всякий свой дар требуют возмещения. Потребовали и с меня. – Что же именно? Какую жертву ты им принес? – прошептал Сенмут и затаил дыхание. – Мою память. Ее отобрал… э-э… – Он смолк, перебирая египетский пантеон в поисках нужного бога, самого алчного и страшного. – Наверное, Анубис, – подсказал Сенмут. – Великий бог, но жаден, как шакал! – Может быть. Не помню в точности… и не помню прошлой своей жизни… ни отца с матерью, ни друзей, ни того, кто властвовал в Та-Кем в те годы… Ничего не помню! Семен сокрушенно понурил голову. В той ситуации, в какой он очутился, идея посмертного забвения была отличным выходом. Конечно, боги милостивы, но ничего не дарят смертным просто так – а что возьмешь с души покойника? Память, только память… И это справедливый обмен, если желаешь стать мудрее. – Ничего не помнишь… – с печалью отозвался Сенмут. – Ни отца нашего Рамоса, ни матери Хатнефер, ни имени Великого Дома…[757] А меня? Меня ты вспомнил? – В голосе его звучала надежда. – Ночью, после боя с нехеси, ты назвал меня – Сенмут… И Реку назвал – Хапи… – Возможно, память возвращается ко мне, когда я вижу то, что видел в прошлой жизни. Кто знает? Семен пожал плечами и посмотрел на берег. День, проведенный им в гипнотическом трансе, был полон хлопот для спутников Сенмута. Они копали могилу в ближнем холме, в двух сотнях шагов от воды, и этот труд, похоже, длился от восхода до заката. Двое солдат еще возились в глубокой яме, двое охраняли их, а трое перетаскивали мертвые тела. Раненых не было видно в сгущавшихся сумерках – должно быть, они спали или лежали, не двигаясь, в высокой траве. Чуткие пальцы Сенмута коснулись его руки. – Ничего, брат, ничего, ты вспомнишь… Инени боялся, что магия ичи-ка тебя убьет или сделает безумцем, но – хвала Амону! – этого не случилось. Наоборот! Ты вспомнил речь людей, и я уверен, ты вспомнишь остальное. Может быть, даже отца и мать… Они умерли, но мы посетим их гробницу в Джеме. Ты не встречался с ними – там, в полях блаженных? – Не могу сказать. Не помню… Семен склонил голову, спрятал лицо в ладонях, чувствуя, как браслет на запястье царапнул подбородок. В той, другой жизни, его родители тоже умерли, и мысль о них пронзила его внезапной болью. Он понял, как был одинок все эти годы, тянувшиеся словно бесконечный караван; встречались случайные спутники, женщины и мужчины, а больше – ничего… Ни любви, ни семьи, ни достойной работы, ни прочих успехов, какими можно было бы похвастать в его летах, в период расцвета и зрелости… Какая уж тут работа – поддельные иконы, пепельницы да матрешки! Возможно, по этой причине он и поехал к Кеше Муратову в Хасавюрт, не ради денег, а от безнадежности, будто сбежал от себя самого… Посидеть за стаканом вина, вспомнить с другом молодость… Вот и посидел! Два года с лишним в ямах да подвалах! Опустив руки, он поглядел на Сенмута и усмехнулся. Ну, что было, то было, и тосковать о прошлом ни к чему! Тем более о ямах и подвалах либо о пепельницах и матрешках… И пусть тут нет ни телевизоров, ни унитазов, ни трамваев, зато есть брат! Возможно, сыщется и что-нибудь еще… что-то такое, о чем Семен Ратайский и мечтать не мог, что суждено лишь Сенмену, сыну Рамоса… Он снова бросил взгляд на берег и спросил: – Скажи, почему солдаты копают могилу в холмах? Почему не здесь, у реки? – Ты не помнишь, как разливается Хапи? Сегодня двенадцатый день мехира, воды схлынули, а в месяце атис берег будет затоплен, и тела сгниют. Мы не можем взять погибших с собой, привезти в Неб и отдать бальзамировщикам… Но такова судьба солдат и путников! Каждый может погибнуть на чужбине и лишиться достойного погребения… так, как случилось с тобой… Пусть же лежат в холмах, в сухой земле, а не в грязи! – Значит, я погиб на чужбине, – задумчиво протянул Семен. – Но где? И кем я был? И что со мной произошло? – То же, что чуть не случилось с нами. Ты был ваятелем и ушел за горизонты Ра в таком же плавании, какое совершаем мы сейчас. Великий Дом – жизнь, здоровье, сила! – повелел найти подходящее место для новых каменоломен, и ты отправился в страну Куш. Тебя и нескольких воинов и корабельщиков убили нехеси – да поразит их мощная Сохмет! – и ваши спутники, те, кто остался жив, похоронили мертвых где-то поблизости, в скалах у третьего порога. Дикие нехеси из земли Иам убили вас, те самые, что чуть не разделались с нами прошлой ночью… Мы бы погибли, если бы Осирис не прислал тебя, чтобы спасти сынов Та-Кем и отомстить обидчикам! – Что ж, – произнес Семен, – долг платежом красен. Осирис, кажется, о том не забывает. – Он справедлив! – Конечно, конечно, – согласился Семен, поглядывая на воинов, засыпавших землей могилу. Их силуэты были едва видны на фоне темнеющих небес, и казалось, что на холме копошатся бесплотные призраки. Не спуская с них глаз, он промолвил: – Ты говоришь, я оставался в полях Иалу больше десятилетия… Это большой срок. Кто же теперь правит в благословенной земле Та-Кем? – Благой бог Мен-хепер-ра, владыка Обеих Земель, да живет он вечно! Правда, он еще молод и неопытен, слишком молод, чтобы носить белую и красную короны, однако… Мен-хепер-ра! Семен нахмурился; попытка определиться во времени оказалась неудачной – такого фараона он не знал. Слишком молод? Может быть, Тутанхамон? А имена не совпадают по той причине, что Мен-хепер-ра – не личное имя, а тронное? Кажется, у царей Та-Кем было множество имен и титулов… Какое назвал ему Сенмут? – У владыки есть другое имя? – спросил он, глядя на возвращавшихся с холма солдат. Показался один из раненых, высокий темнокожий человек; руки его мерно двигались над грудой хвороста, и вскоре там зажглась огненная искра. – Да, конечно. Его зовут Джехутимесу, так же, как звали его благословенного отца и великого деда. Первый Джехутимесу и послал тебя в Куш… Припоминаешь? Семен неопределенно пожал плечами. Три Джехутимесу подряд… Ценная информация для историка, но для него этот факт значил не больше, чем льды на вершине Килиманджаро. Он мог бы припомнить десяток имен древнеегипетских фараонов, но первые, что всплывали в памяти, – Тутмос и Рамсес – не годились; то были эллинизированные имена, отличные от настоящих. Насколько отличные, Семен не представлял; возможно, разница была такой же, как между названиями страны: Египет-Айгюптос и Та-Кем… Впервые ему пришло в голову, что вся история Египта, которой его учили, полнится греческими названиями и именами, а это значило, что ни одно из них не соответствует действительности. Он затвердил в гипнотическом трансе названия многих городов, Уасет и Мен-Нофр, Саи и Абуджу, Хетуарет и Нехеб, Кебто и Пермеджед – но что это были за города? Где находились? Какому времени принадлежали? Какой из них был Мемфисом, какой – Фивами? Это оставалось тайной за семью печатями, а значит, были нужны другие ориентиры. В конце концов, должен ведь он представлять, в какую угодил эпоху! Явно не в Египет Птолемеев и, пожалуй, не в седую древность – кинжалы и наконечники копий у воинов не медные, а бронзовые… Видимо, Среднее или Новое царство, тысячелетняя эра, вместившая многие династии, падения и взлеты, мятежи и войны, жестокие междоусобицы и прочий исторический парад кровавых катаклизмов… Но для него все это – не история! Он – здесь! Он может прожить свою жизнь спокойно и мирно, если попал в период процветания, либо закончить ее в рабстве у гиксосов, ассирийцев или персов. Рубить камень где-нибудь в Ниневии… Чем не Чечня! От такой перспективы он побледнел, и Сенмут, истолковав его бледность как признак усталости, кивнул на ложе. – Спи, брат! Ичи-ка не проходит бесследно ни для дающего, ни для берущего. Спи! В эту ночь я буду стоять на страже вместе с воинами, охраняя твой сон, а завтра мы отправимся в дорогу. Поплывем к острову Неб, и дальше – в Уасет, в столицу! Ты со мной, а это значит, что боги благословляют наш путь. Палуба качнулась под ногой Сенмута, когда он спрыгнул на берег. Семен устроился в углу, напротив спящего Инени; жрец дышал тихо и ровно, его лицо и обнаженные руки сливались с наступившим сумраком, белая одежда казалась клочком расплывшейся под стеной туманной мглы. Закрыв глаза, Семен думал о своем двойнике, о Сенмене, ваятеле фараона, погибшем от копья кушитов. Или, может быть, от палицы, что дела, в общем, не меняло… Может быть, правы буддисты, верящие в переселение душ, в их бесконечную реинкарнацию, гибель и возрождение в новых живых существах? Может быть, Семен Ратайский и есть тот самый Сенмен, вновь облеченный через столетия плотью и кровью? Может быть, таинственная сила, которую брат называет богом, а он – судьбой, отправила его сюда с какой-то целью? Если так, все объяснялось разумно, в соответствии с логикой. Когда-то он был Сенменом и умер в битве возле нильских порогов, чтобы возродиться в полях Иалу, то бишь в двадцатом веке; но память сердца влекла его назад с такой необоримой мощью, что ткань времен вдруг треснула и раздалась… Может быть, чуть-чуть помог Осирис? Почему бы и нет? Впрочем, неважно, главное в другом: если его гипотеза верна, то значит, после цепочки бесчисленных перерождений, он возвратился на свое место во времени и пространстве. Туда, где ему надлежит быть. Подумав об этом, он успокоился и заснул.* * *
В следующие четыре дня, пока судно неторопливо спускалось вниз по течению, Семен обогатился массой сведений. Во-первых, теперь он знал, что плывет по широким водам Хапи где-то между третьим и вторым порогами, что их корабль скоро покинет немирную страну Иам с ее разбойничьими племенами и окажется в краях хоть и не слишком цивилизованных, зато относительно безопасных. Эти местности за вторым порогом носили странные, ничего не говорившие ему названия – Сатжу, Иртег, Вават; имена то ли поселений и народов, то ли правивших ими вождей, плативших дань и подчинявшихся Великому Дому. Второй прояснившийся вопрос затрагивал полномочия Сенмута и цели его экспедиции. Оказалось, что обретенный брат, несмотря на молодость, был царским зодчим и вельможей-семером, носившим титул Уста Великого Дома, а это значило, что, исполняя приказы владыки Обеих Земель, он обладал законными правами требовать и получать от хаку-хесепов работников, воинов, повозки, корабли и пропитание. Эти хаку-хесепы были для Семена личностями давно знакомыми – номархами, или правителями номов, но греческого слова «ном» на нильских берегах не знали; тут провинция звалась иначе – сеп. Пожалуй, самой значительной персоной из хаку-хесепов являлся наместник Рамери, хранитель Южных Врат, правивший в кушитских землях за первым порогом. Там добывали золото, медь и самоцветы, но главным богатством все же считался строительный камень, великолепный розовый гранит, вещь совершенно незаменимая, пригодная для обелисков и статуй, а также для облицовки храмов, дворцов и пирамид. Помня об этих богатствах юга, фараоны с древних времен не обделяли хранителей Врат вниманием, посылая на край своей державы то соглядатаев, то ревизоров или иных чиновников, а временами – целые геологические экспедиции. Над нынешней и начальствовал Сенмут. Повод для нее был таков. Джехутимесу Первый, дед правящего фараона, добрался со своими армиями до третьего порога и выстроил там цитадель, внушавшую трепет разбойникам-нехеси – иными словами, кушитам из страны Иам. Со временем, однако, этот форпост захирел и превратился в пункт для сбора дани, слоновых бивней, шкур и ароматных смол, а также в место ссылки, куда отправляли проштрафившихся офицеров и солдат. Это было еще одним наказанием, сопровождавшим основное, коим являлось лишение чести, а значит, милости богов, благоволения царя и достойного погребения. Лишенцы, сотни две или три, сохли заживо средь знойных плоскогорий, а вместе с ними страдал безвинный человек – Туати, комендант затерянной в дебрях юга крепости. Верный способ покончить с таким унизительным положением был хорошо известен и одинаков во все времена: выслужиться перед начальниками. И вот хитроумный Туати донес Великому Дому, а заодно и хранителю Врат, что в подчиненных ему областях нашелся превосходный камень – нефер-неферу, из наилучших лучший, каким подобает украшать лишь храмы Амона и царские усыпальницы. Письмо из дальних пределов повергли к стопам казначея Нехси, третьего из государственных мужей Та-Кем, и тот послал с проверкой на юг Сенмута, царского зодчего. Как выяснила беспристрастная ревизия, камень в землях Туати имелся, и очень даже неплохой, но вывезти его к реке казалось делом безнадежным – для этого пришлось бы рыть канал или прокладывать дорогу тысяч в двести локтей. Сенмут выяснил это на третий день, затем намекнул Туати, что есть места похуже третьего порога, и, покинув его в тоске и печали, отправился в обратный путь, прихватив заодно мешки с благовониями и прочей кушитской данью. Плыли, как обычно, в светлое время, а на ночь приставали к берегу, и на одной из ночевок их подкараулили нехеси. Банда оказалась велика; быть бы путникам в полях Иалу, если бы не Семен с его кувалдой. Ее, кстати, не позабыли, бережно упрятав в сундук из розового дерева, принадлежавший Сенмуту. Железо в стране Та-Кем считалось великой ценностью, а кроме того, этот увесистый молот в глазах египтян был предметом священным, доставленным прямо из царства Осириса. Третье и последнее: он уже различал физиономии, говор, имена воинов. Сперва все они, кроме бледнокожего рыжего ливийца, казались Семену одинаково смуглыми, кареглазыми, темноволосыми, но острый глаз художника быстро подметил различия в оттенках кожи, телосложении и возрасте. Не все из них являлись солдатами; самый юный – тот, что прислуживал Инени, а заодно и Семену – был учеником жреца. Этот симпатичный темноглазый парень, будущий зодчий и писец, откликавшийся на имя Пуэмра, проходил сейчас курс наук по выживанию: дрался с дикими кушитами, греб, ворочая тяжелое весло, разжигал костры, готовил пищу и даже стоял у руля. Последнее случалось нечасто, так как Мерира, мастер паруса и корабельщик, предпочитал не выпускать из рук рулевое весло. На вид Мерире было за пятьдесят, и выглядел он тощим и жилистым, прокаленным ветрами и солнцем, а в профиль напоминал топор с острым выступом носа посередине лезвия. Родился Мерира в Хетуарете, одном из городов Дельты, и плавал по Реке и морским просторам тридцать, если не более, лет. Похоже, не только плавал – шрамы на теле намекали, что побывал он во всяких переделках и свел знакомство не только с парусами, но также с копьем и секирой. Был корабельщик угрюм, ворчлив, себе на уме и к каждым трем словам добавлял еще три – или проклятие, или площадную брань, а то и богохульство. Семену он нравился чрезвычайно; если закрыть глаза и слушать Мериру, казалось, будто вернулся домой, в славный город Питер, и трешься у пивного ларька плечом к плечу с братьями-пролетариями. У одного из раненых, мужчины внушительного роста и атлетического сложения, кожа отливала цветом кофе, губы выглядели слишком пухлыми для роме, а нос – более широким и плосковатым. Звали его Ако, и был он маджаем, то есть наемником из Куша, но не из дикой страны Иам, а из мест восточней первого порога. В ночной схватке ему проткнули голень дротиком, но Ако не унывал и активно лечился пивом – глотка у него казалась бездонной. Другим наемником был ливиец Техенна, отличавшийся от египтян белой кожей, огромными сине-зелеными глазами и гривой огненных волос. Этот сын песков и зноя родился в никому не ведомом оазисе Уит-Мехе в Западной пустыне, что-то не поделил с вождем, то ли козу, то ли жену, по каковой причине ему собирались отсечь конечности, а остальное скормить шакалам. Но парень он был прыткий и знакомству с шакалами предпочел казенный хлеб на нильских берегах. Эти трое, Мерира, Ако и Техенна, были людьми Сенмута, служившими ему уже не первый год. Шестеро остальных, а также все погибшие при нападении нехеси, являлись воинами, корабельщиками и гребцами из подчиненных Рамери отрядов и обитали в неведомом Семену городе Неб. У него было еще одно название, очень поэтичное – Город, стоящий среди струй, – но с чем оно связано, оставалось пока для Семена загадкой. Все чаще он размышлял над тем, что понимает слова, но не смысл сказанного. «Сегодня двенадцатый день мехира, – сказал Сенмут, – а в месяце атис берег будет затоплен…» И еще сказал: «Инени боялся, что магия ичи-ка тебя убьет или сделает безумцем…» Ичи-ка – «забрать душу» в дословном переводе… И что это значило? О какой магии шла речь? Каким временам года принадлежали месяц мехир и месяц атис? Была ли сейчас весна или осень, тянулось ли лето или наступала зима? В языке роме не имелось таких слов, и времен года – поразительно! – было не четыре, а только три: Половодье, Всходы и Засуха. «Во имя Сорока Двух! – кричал Мерира стоявшему у рулевого весла молодому Пуэмре. – Держи на локоть правее, сын гиены! На локоть, говорю, чтоб тебе сгнить за третьим порогом! Чтоб тебе там камень грызть, вошь ливийская!» Все в его речи тоже являлось загадкой. Кто эти Сорок Два? Чем неприятен третий порог и отчего там люди гниют и грызут камни? Что за ливийская вошь – разве у роме вшей не бывает? И, наконец, локоть, а также упоминаемые временами сехен и теб – чему они равны? Ако болтал с Техенной, вспоминая с блаженной улыбкой, как упился пивом в прежний праздник Опет, в тот самый день, когда жрецы выносят статую владыки Амона в торжественном шествии. Ливиец фыркал и насмешливо кривился: ты, пивной кувшин, не просыхал с рассвета до заката все одиннадцать праздничных дней, а на двенадцатый Сенмут, наш господин, лечил тебя плетью, да так и не вылечил – шкура твоя прочнее бычьей! Врешь, не соглашался Ако, дело не в шкуре, а в том, что господин наш – да защитит его Нейт! – добр и милостив; не плеть схватил, а прутья, да и те сухие, не моченые. В другой раз будет плеть, скалился рыжий. Плеть из кожи бегемота! Неплохо живут ребята, думал Семен, слушая эту перепалку; пива, похоже, залейся, и праздник – одиннадцать дней! Что же за праздник такой – Опет? И почем здесь пиво, если маджай, кушитский наемник, может поглощать его кувшинами? Сенмут звал его, показывал на берег, где неуклюжие пестрые твари трудились над мертвой антилопой. – Взгляни, брат, – хойте! Гиены! В древности их приручали, ибо они сильней и кровожаднее псов. Даже откармливали и ели… Слышал я, что за первым порогом и сейчас едят… – В древности? Когда? – спрашивал Семен и получал ответ: – В эпоху Снофру и Хуфу, да живут они вечно в царстве Осириса! Тысячу лет назад? Полторы? Или две? И что за смутно знакомые имена? Хуфу – кажется, Хеопс, строитель пирамиды… А кто же такой Снофру? Его прародитель или наследник? Время и язык по-прежнему играли с ним в прятки, не раскрывая до конца своих тайн. Знание слов еще не вело к безусловному пониманию, ибо слова рождались жизнью, являлись отражением ее реалий, дымом над кострами бытия. А бытие, даже столь, казалось бы, простое, как в эти архаические времена, было на самом деле неимоверно сложным, и в нем переплеталось все: боги, демоны, загробный мир и цены на пиво, названия месяцев, городов, народов и меры длины, праздники и имена усопших в древности владык, магия, верования, предрассудки и странные обычаи вроде поедания гиен. Эта сложность угнетала Семена, напоминая ему, что он – чужак, пришелец в этом мире, еще не свой. На четвертый день плавания местность изменилась. Саванна, тянувшаяся по берегам реки, отступила и исчезла под напором скалистых нагромождений, причудливых утесов и камней; безжизненный пейзаж – бурые и серые каменные обломки, песок, дюны и кратеры – походил на лунный, и только нильские воды да теплое солнце напоминали, что их кораблик по-прежнему на Земле, а не в иных, неведомых и недоступных для человека измерениях. Днем было все еще жарко, но ночи стали на удивление холодны; топливо в этих краях являлось редкостью, костер раскладывали скудный и грелись около него, закутавшись в шерстяные плащи. Ночная прохлада, однако, благоприятным образом сказалась на Инени. Четыре дня он пролежал в каюте, то засыпая, то просыпаясь и разглядывая потолок; юный Пуэмра кормил его, поил вином, помогал вечерами сойти на берег и устроиться рядом с костром. Казалось, жрец не только отходит после магического напряжения, но о чем-то непрерывно размышляет; иногда его задумчивый взгляд останавливался на Семене, губы сжимались, ноздри бледнели и морщины бороздили лоб. Какая-то внутренняя борьба происходила в нем, словно в душе Инени вступили в схватку восторг и недоверие, желание понять и страх перед тем, что понять до конца, возможно, значит умереть. Или, как минимум, сойти с ума… Неудивительно! Воины, спутники Семена, были людьми простыми, а потому не слишком задумывались, откуда явился этот огромный, мускулистый и так непохожий на них человек – то ли из африканской саванны, то ли действительно из царства Осириса. Последнее даже было бы лучшим, ибо этот гигант не только спас их от нехеси, но оказался вдобавок братом господина – а значит, на них на всех распространялось его божественное покровительство. Ему выказывали знаки почтения как знатному семеру, но с каждым днем становилось яснее, что можно его не бояться, поскольку он не бог, а человек: ест, пьет и спит, как все, и точно так же, если приспичит, пускает струю с борта. Но эти знаки человечьей сущности, по-видимому, не обманывали Инени. Страсть к истине владела им, он был из тех людей, которые всегда стремятся доискаться правды, но в данном случае правда могла ужаснуть – вдруг пришелец и в самом деле покойный Сенмен, явившийся с тростниковых полей Иалу? Существо, стоявшее перед Осирисом, Анубисом и Тотом, перед Сорока Двумя Судьями загробного мира, смотревшее в их безжалостные глаза, взиравшее на их грозные лики… Человек – или уже не человек?.. – приобщившийся к Великой Тайне Бытия, в точности знавший, что там, за гробом, куда опускают труп в погребальных пеленах с Книгой Мертвых на груди… Переварить такое было нелегко! На пятое утро жрец поднялся, бросил несколько слов Сенмуту, велев ждать, пока не вернется, поманил за собой Семена и зашагал прочь от реки. Двигался он еще с трудом, но упорно шел и шел вперед, пока утесы не закрыли берег и изумрудную полосу водной поверхности. Постепенно каменистая почва сменилась песком, торчавшие из него скалы сделались ниже и мельче, горизонт расширился и вдали замаячили гребни дюн, предвестниц Великой Западной Пустыни. Она тянулась отсюда и до Атлантики на добрых пять тысяч километров, восьмую часть земного экватора, но в данный миг и день, как и в ближайшие пару тысячелетий, это останется тайной – как и то, что в будущем ее назовут Сахарой. Инени споткнулся, и Семен поддержал его. – Руки твои крепки, как у могучей Сохмет, богини воинов, – пробормотал жрец. – Эти руки ловко орудуют молотом и разбивают черепа… А что-нибудь еще они умеют? – Умеют, – заверил его Семен. – К тому же кроме рук у меня есть и голова. – Это я вижу. Когда великий Хнум лепил людей из глины, он каждому приделал голову, но все ли пользуются ею? Жрец сокрушенно вздохнул и остановился, всматриваясь в необозримый простор пустыни. В этот час она была прекрасна. Утренний воздух дарил свежестью, ослепительное светило поднималось в голубовато-стальном безоблачном небе, и лучи его скользили по белым, желтым, оранжевым пескам. Будто врезанные в них, лежали тени утесов, камней и редких деревьев – вставки из черного обсидиана, темнеющие в серебряном и золотом величии пустынных пространств. Эта земля не ведала ни ливней, ни снегов, ни иной непогоды, кроме редких губительных смерчей; ее никогда не оглашали громовые раскаты, не озарял блеск молний, и ветры, гулявшие над ней, были сухими, жаркими, прокаленными пламенем беспощадного солнца. Дождь казался здесь такой же небылицей, как пальма, выросшая в вечной мерзлоте. Инени снова вздохнул, протянул руки к солнечному диску и негромко запел:Имя, которое он носил в земле Та-Кем, не отражало его сущности и, возможно, не являлось его истинным именем, ибо дали его при рождении совсем другому человеку, сгинувшему у третьего порога и лишившемуся погребения. Сам он говорил о себе как о путнике, попавшем в чужое время и в чужое место, но в этой своей повести я называю его разными именами – то Явившимся из Тьмы, то Сошедшим с Лестницы Времен, то просто Стражем. Последнее верно, ибо Амон прислал его к нам, чтоб он направил нас, предостерег и охранил и чтобы все свершившееся случилось так, а не иначе.Тайная летопись жреца Инени
Глава 3 То-Мери
Всходило и заходило солнце, прохладный северный ветер дул с рассвета и спадал к ночи, безоблачный небесный купол простирался над кораблем от горизонта до горизонта. Пустыня на западном берегу и охранявшие ее скалы временно отступили, и теперь за откосом крутого берега снова тянулась степь – африканская саванна, птичий и звериный рай. В светлое время люди гребли, ели, болтали; в темное – спали под надежной охраной и с каждым днем приближались к Черной Земле Та-Кем. В один из этих дней Ако, наемник-кушит, учил Семена метать дротики. Искусство это было сложным, непривычным, ибо до сих пор Семен ничего иного, кроме ножей и гранат, не бросал. Ну, еще камешки, в далеком детстве, но и тогда рогатка казалась ему предпочтительней. Дротик был хитрым оружием. На короткое расстояние его метали прямо, и, в зависимости от силы броска, он протыкал кожу, или впивался острием на пару пальцев, или входил глубоко, ломая кости. На дальнее расстояние его полагалось кидать вверх под углом, и тогда он описывал изящную дугу и падал на цель с небес, сокрушая противника до смерти или, опять же, лишь царапая кожу. При том полагалось учитывать скорость и направление ветра, вес орудия, заточку острия, а также откуда мечешь дротик – с земли, с быстробегущей колесницы или, к примеру, с корабельной палубы. Ако, бывший воин и бывший охотник из африканских саванн, владел этим искусством в совершенстве – даже раненая нога ему не мешала. Они бросали дротики с левого борта, ближнего к берегу, и целились во все, что видел глаз: в плывущие по течению ветви, в гнилые плоды и в крокодилов. В ветвь надо было ударить со всей силой и притянуть ее вместе с дротиком за вервие, привязанное к древку, а крокодила только приласкать острием по спине или зубастой страшной морде. Крокодилы считались святым зверьем, посвященным Себеку, богу речных пучин, и ссориться с ними не полагалось – разве лишь для защиты собственной жизни. Правда, защита, по мнению Ако, была понятием растяжимым; облизываясь и опасливо поглядывая на Инени, дремавшего в каюте, он поведал Семену шесть способов приготовления жаркого из крокодильего хвоста. Если не считать Инени, все на судне занимались делом: Мерира правил, воины гребли, брат Сенмут копался в мешках с благовониями, Пуэмра ему помогал, что-то отмечая в папирусном свитке, а рыжеволосый ливиец Техенна, следил за берегом и водами. Эта деловая обстановка вдохновляла Семена, и его дротики летели все точнее и точнее. С «дальше» проблемы не было – он мог бы послать легкое копьецо метров на семьдесят, причем без особой напряги. Но вот попасть крокодилу между глаз, как ухитрялся Ако… В их спины, торчавшие над водой корявыми бревнами, он уже не промахивался. Крокодилов это не волновало, так как дротики были несъедобными, а вот Ако радовался чрезвычайно и испускал трубный рев, подобный зову слона в брачный период. Семен в ответ подмигивал после удачного броска: мол, орлы мух не ловят! Впрочем, в муху бы он не попал. Протяжные крики Техенны прервали их развлечение. – Сигналят с берега, господин! Вроде мирные кушиты… Ветвь у них на копье! Сенмут оставил мешки и приложил ладонь к глазам, пряча их от яркого послеполуденного солнца. Семен, бросив дротик на палубу, тоже пригляделся: с крутого берега и впрямь размахивали чем-то длинным, с пальмовой веткой на конце. Фигур он не увидел, только смутные расплывчатые контуры, но вроде бы людей было немного, двое или трое. Едва различимый вопль долетел до плывущего судна. В каюте зашевелился Инени, привстал, расправляя складки белого жреческого одеяния. Крик раздался снова. – Ты понимаешь, учитель, что им нужно? – Сенмут повернулся к жрецу. – Клянусь благим Амоном, я не могу разобрать ни слова! – Просят помощи. Просят причалить к берегу. Взывают к нашей мудрости. – Верно, господин, – кивнул Ако, прислушиваясь к переливчатым воплям. – Еще говорят, чтобы мы не опасались, что их только трое и что они – не разбойники. Я понимаю их язык. Очень похож на тот, который я слышал в детстве, только племя мое обитает… – Трое! – прервал его Сенмут, резко махнув рукой. – Трое! А на берегу, быть может, прячутся три сотни! И все – разбойники из земель Девяти Луков[761]! – Эти земли принадлежат Великому Дому, – возразил Инени, – люди в них, если мне не изменяет память, живут не только охотой, но и скотоводством. И просят им помочь! – Он наставительно поднял палец и потряс им у лица Сенмута. – Вдруг кто-то у них недужен или умирает от раны… или их нужно рассудить с соседями… или на них напали враги… Амон велит помогать больным и покровительствовать обиженным! Правь к берегу, сын мой! Сенмут хмуро оглядел свое немногочисленное воинство, но возразить не решился и подал знак Мерире. Заметив, что судно сворачивает, на берегу с восторгом завопили и энергично замахали ветвью. – Кто такие? – спросил Семен у темнокожего Ако. – Вроде нехеси, напавших на нас, только мирные? – Нет, семер. Здесь множество всяких людей, – руки кушита распахнулись, будто стремясь дотянуться до обоих речных берегов, – и одни из них короткие телом и темные кожей, а другие – повыше и посветлей; у одних волосы вьются, как баранья шерсть, а у других они длинные и почти прямые; одни разводят скот в саванне, другие охотятся на слонов, а третьи разбойничают у реки, прячутся в песках или живут в пещерах. Много разного народа, господин! Но эти люди похожи на меня, раз мне понятен их язык. Корабль приблизился к берегу и закачался на мелких волнах; воины взялись за луки, а Техенна с Ако вооружились копьями и секирами. Сенмут, тоже при оружии, спрыгнул в мелкую воду, за ним, придерживая свисавший с шеи талисман, полез Инени. – Погодите, – сказал Семен, – я с вами. Под сандалиями заскрипел песок, теплая вода омыла ноги. Берег был каменист, но, поднявшись по довольно крутому откосу, они увидели широкое пространство холмистой саванны, пересеченной оврагами и ручьями; вдали, под сенью редких, будто нарисованных на фоне неба деревьев, паслись антилопы с изогнутыми рожками, а над холмами застыла в воздухе какая-то хищная птица. Запахи свежей травы и речных вод мешались с мускусным ароматом, которым тянуло от трех мужчин, стоявших у самого обрыва. Завидев пришельцев, они бросили копья наземь и протянули руки ладонями вверх. Семен услышал, как брат облегченно перевел дух – кроме этой троицы, других людей в окрестностях не наблюдалось. Они были высоки и стройны, в плетеных поясах с полоской ткани, пропущенной между ног, в ожерельях из звериных клыков и птичьих перьев; под светло-шоколадной кожей бугрились сильные мышцы, длинные темные волосы чуть завивались на концах, и в облике не было ничего негритянского, ни толстых губ, ни расплющенного носа. На эфиопов похожи, решил Семен, разглядывая их. Красивый народ! – Охотники на слонов, – пробормотал Ако за его спиной. – Еще стада у них хорошие, особенно быки… есть и такие, с четырьмя рогами… Мужчина, стоявший впереди, наступил босой ногой на копье. Другого оружия у него не было, кроме увесистой палки с кремневым, похожим на птичий клюв набалдашником, торчавшей за поясом. Положив на него ладонь, он вытянул другую руку в знак приветствия и заговорил, пересыпая речь словами роме. «Люди великий вождь севера… мудрец… спор… рассудить… два быка… женщина… дочь…» – уловил Семен, подумав, что Инени как в воду глядел: видно, подрались с соседями, не поделили скот и баб и желают прибегнуть к суду посланцев фараона. Он покосился на спутников. Сенмут слушал с торжественным хмурым видом, но явно ничего не понимал, Ако с Техенной дружно скалились, а Инени, наморщив лоб, впитывал каждое слово. Речи воина кончились, и Инени со вздохом погладил бритую макушку. – Вразуми меня Тот! Язык понятен, но суть произнесенного от меня ускользает… Просят, чтобы один из нас отправился в селение Шабахи – там, за холмами – и рассудил какой-то спор. Пали у них два быка, и это вроде бы связано с женщиной, а как, я не пойму… Женщина – дочь охотника, который перед нами, и это удивительно – он ведь молод и вряд ли видел больше тридцати разливов. Откуда у него взрослая дочь? Техенна ухмыльнулся. – Я понял больше, чем ты, мудрый отец мой. Я немного знаю их язык и обычаи… Но пусть говорит Ако! Эти пожиратели слоновьих хвостов – его народ. Сенмут кивнул кушиту. – Ты разобрался, о чем они толкуют? Что за быки и что за женщина? И – клянусь Маат! – какое нам дело до этого? – Дела никакого, хозяин, если не жалко крови, которая прольется. Воины в их селении острят копья, и скоро одна половина набросится на другую. – Кровопролитие не угодно богам, если нет для него серьезной причины, – нахмурившись, произнес Инени. – Скажи этим людям, Ако, что я отправлюсь в их селение и буду судить их спор. Амон мне поможет! – Молю тебя, учитель, не торопись! – Сенмут коснулся белой одежды жреца. – Не спеши! Мы ведь не знаем, что судить и кого! Вдруг нас заманивают в ловушку? Послушаем Ако и тогда решим! Послушаем, молча согласился Семен, наблюдавший за этой сценой, и добавил про себя: торопливость нужна лишь при ловле блох. Ако заговорил с охотниками, что-то переспрашивая и уточняя; их резкие высокие голоса звучали в безмолвии степи подобно клекоту хищных птиц. Инени слушал, покачивал головой, дергал свисавший с шеи амулет и недоуменно щурился. Видимо, суть переговоров все еще ускользала от него. Наконец Ако отвернулся от темнокожих воинов и с важностью произнес: – Тиго, мой господин! Тиго бонго балуло! Большое и очень опасное колдовство! В этом племени его карают так: перебив виновнику ноги, тащат в степь и бросают на поживу львам. Или гиенам, как повезет. Воистину дикари и недоумки! Ведь дух съеденного может вернуться! У моего народа обычай куда разумнее: сначала виновного жгут на костре, а пепел… – Погоди, не вешай нам траву на уши, – прервал его Семен. – Виновный-то кто? И в чем он виноват? Ако задумчиво поскреб широкую грудь, поднял взгляд кверху. – Сейчас, хозяин… говорить – не дротики метать… дело непростое… – Он кивнул на мужчину с палкой за поясом. – Видишь этого человека? Имя ему Хо, и он охотник на слонов, лучший в их племени. У него есть дочь, и вождь Шабахи, чье имя Икеда, забрал ее шестой женой и тем обидел Каримбу, их колдуна. Каримбе хотелось, чтобы дочь Хо пришла к нему в хижину. Своих дочерей у Каримбы много, и он предлагал Икеде любую на выбор, даже двух или трех. Но вождь взял дочь Хо. – Дальше! – Потом у Каримбы сдохли быки. Пара отличных быков, каких лишь в колесницу солнца запрягать! А всем известно, что просто так быки не дохнут, особенно у колдуна. Пришлось Каримбе духов вызывать, советоваться с ними. Духи сказали, что виновата дочка Хо – глаз у нее нехороший, посмотрит на быков, и те умрут, на человека взглянет, и ему не жить. Теперь Каримба говорит Икеде: пришли мне эту женщину, дабы изгнал я зло и взял ее себе, а если изгнать не удастся, сломаю ей кости и брошу львам. Икеда же говорит Каримбе: быки твои пали от старости, а на жене моей нет вины, и место ей в доме моем, на спальной циновке. И от того случилось в Шабахе смятение: одни охотники считают, что прав колдун, другие стоят за вождя, не сегодня-завтра быть великому кровопролитию. Тогда Хо – вот этот человек, что перед тобой, – сказал: пойду с братьями к речному берегу, поищу людей из Черной Земли; велик их владыка, и сами они сильнее духов Каримбы. Найду их и попрошу, чтобы рассудили. Ако смолк, а Семен переглянулся с Инени. – Верно, – подтвердил жрец. – Не все я понял сразу, ведь я не знаю их обычаев, зато я вижу, что люди они разумные: наш повелитель велик, и всякий, кто верит в Амона, сильней их духов. Он обратил лицо к охотнику и, тщательно подбирая слова, вымолвил несколько фраз. Тот ответил, потом, вытащив из-за пояса палку, протянул ее Инени. Эта дубина с каменным навершием была толщиною в два пальца и длиной в руку; дерево казалось темным, отполированным прикосновением ладоней и очень прочным. Хо совал свою палицу жрецу, что-то настойчиво повторяя. – О чем это они? – Семен подтолкнул Ако локтем в бок. – Премудрый Инени сказал, что пойдет в их деревню и рассудит вождя с колдуном. Хо теперь говорит: докажи свою силу, сломай мой кийи. Это дубинка, хозяин, которой бьют слонов. Сначала их колют копьями в ноги, чтобы перерезать сухожилия, потом, когда зверь упадет, отсекают хобот и бьют в голову, в особое место между ухом и глазом. Лучший воин бьет, а другие вспарывают брюхо и… – Избавь меня от подробностей, дружок, – сказал Семен и, неожиданно для себя самого, взял из рук охотника палку. Сенмут что-то с тревогой выкрикнул, глаза Инени расширились, будто он тоже хотел его остановить, но пальцы Семена уже обхватили рукоять и каменный набалдашник. Он стиснул челюсти, мышцы его напряглись, закаменели на мгновение, потом раздался сухой, похожий на выстрел щелчок. – Ну, хозяин… – пробормотал Техенна, выкатив глаза. – Жаль, тебя не было рядом, когда Сет выпустил кишки Осирису! – Истинно так! – с воодушевлением поддержал Ако. – Чтобы мне пива больше не пить! Семен повернулся к брату. – Я отправлюсь с этими людьми в их селение. Не тревожься и не отговаривай меня – мне не грозит опасность. Во всяком случае, меньшая, чем тебе или мудрому Инени… ты согласишься с этим, если вспомнишь, откуда я пришел. Кивнув охотнику Хо, он бросил на землю обломки кийи, вытянул руку к холмам и повелительно произнес: «Шабахи!» На лице Хо расплылась довольная улыбка; подхватив свое копье, он прикоснулся ладонью к груди и, не говоря ни слова, зашагал к висевшему над саванной солнцу. Двое его спутников шли за спиной Семена, но он не улавливал ни шелеста трав, ни иных шорохов и звуков, будто кралась за ним пара огромных пантер. Потом раздался голос Сенмута: «Ако! Ты пойдешь с ним и будешь глядеть своими глазами и слушать ушами, дабы не было беды для брата моего! И скажи в селении так: если замыслят злое, гнев Амона падет на их головы! И еще скажи: у пер’о – жизнь, здоровье, сила! – больше лучников, чем травинок в этой степи!» – «Они знают об этом, господин», – прогудел Ако, и вскоре тень его соединилась с тенью Семена. «Куда я иду? – раздумывал тот. – Зачем? Для чего? Из желания убедиться, что мир вокруг реален, что, кроме речных берегов, корабля и встретившихся мне людей, есть и другие земли, другие люди?» Возможно, это было так, но ему казалось, что есть еще какая-то причина, что-то такое, что двигало им, чего он был не в силах распознать. Любопытство? Стремление к действию? Нет, не то… пожалуй, не то… Семен поравнялся с охотником и, стараясь говорить отчетливо и медленно, спросил: – Как зовут твою дочь? Как ее имя? Кажется, вопрос был понятен его проводнику. Охотник нахмурился, будто о чем-то размышляя, потом пожал плечами, бросил: «Дочь Хо!» – и добавил несколько непонятных фраз. – Ее зовут дочь Хо, господин, и у нее нет другого имени, – пояснил Ако. – Имя будет, когда родится первый сын. Пока она слишком мала. – Слишком мала? Сколько же ей лет? После кратких переговоров с охотником Ако сообщил: – Десять и еще два. Или один, он в точности не помнит. Но он сказал, что каждый месяц между ее бедрами течет кровь, и значит, она созрела для мужчины. Тем более для вождя! Большая честь попасть в его хижину и на его циновку! Не только честь: Хо получил от Икеды двух коров и двух телят, шкуру леопарда и звание первого охотника. Каримба столько бы не дал. Каримба жаден, и не в его власти назвать охотника лучшим и первым. – Сукин сын! – пробормотал Семен на русском, глядя в широкую спину Хо. Теплое чувство, которое он испытывал к этому человеку, вроде бы впавшему в несчастье, испарилось; теперь он знал, что не забота о дочери и не желание предотвратить свару погнали Хо к речным берегам. Скорее, пара коров, пара телят и шкура с почетным званием… Не заберет ли вождь подарки, если Каримба отнимет девочку? Надо думать, заберет… Вожди коровами зря не бросаются… Тут припомнилось Семену, как сидел он в яме у Эрбулата, одного из своих хозяев и как толковали хозяйские женщины о соседе: мол, нечестивец и зверь, из тех поганых псов, каким отомстит Аллах! Толковали вполголоса, ибо соседа боялись; был он человеком Басаева и как-то – то ли своей рукой, то ли при дележке пленных – схватил девчонку лет двенадцати, дочь, как думалось, бизнесмена из Астрахани или Ростова. Но бизнесмен оказался врачом, деньги на огромный выкуп вымаливал по друзьям и родичам, а Эрбулатов сосед его поторапливал, каждый месяц отправляя по пальцу дочки. Долго не вспоминал Семен про эту историю, а вот – надо же! – вспомнил! И сам озверел, как Эрбулатов сосед. Там – девчонка, и тут девчонка, и неизвестно, что страшней: пальцы терять или подвергнуться в двенадцать лет насилию. Бродила в нем мысль, что это, может, и не насилие вовсе, а местная традиция: солнце жаркое, девушки зреют, как шампиньоны на унавоженной грядке, в двенадцать – невеста, в двадцать – мамаша с целым выводком, а в тридцать уже покойница. Все это могло быть так, но он еще оставался человеком другого времени, другой земли, других понятий, и они, эти понятия о добре и зле, наполнили душу Семена гневом и состраданием. Теперь он знал, для чего идет в Шабахи. Должно быть, его лицо переменилось – Ако, шагавший рядом, вдруг спросил: – Что с тобой, хозяин? Ты выглядишь так, будто яростная Сохмет в тебя вселилась! – Может, и вселилась, – буркнул Семен, мрачно озирая пологие склоны холмов. Солнце – огромное, багряное – повисло над их вершинами, налетевший ветер пробудил голоса травы, заставив ее шелестеть то жалобно, то тревожно, и в этой жалобе-тревоге Семену чудились стоны какого-то существа, слабого и беззащитного, будто пойманный в капкан зверек. Близился вечер. Где-то неподалеку протяжно взвыл шакал, гиены ответили ему пронзительным хохотом, паривший в вышине стервятник внезапно ринулся вниз, растаяв в солнечном сиянии. Они миновали ущелье между двух холмов, перебрались через мелкую речку, по берегам которой пасся скот, и, одолев еще одну возвышенность, очутились лицом к широкому пространству, окруженному с юга, востока и севера холмистой грядой. В середине этой естественной подковы лежала деревня Шабахи: круглые хижины под остроконечными кровлями из связок сухой травы, центральная площадь с водоемом и ручьем, сбегавшим со склона холма, столбы, соединенные жердями, для сушки шкур, обложенные камнем ямы, в которых пылал огонь, собаки, козы, дети и сотни мужчин и женщин, суетившихся у своих жилищ, у водоема и примитивных очагов. Загоны для скота Семен не обнаружил; быки и коровы свободно разгуливали на равнине, и, судя по изобилию стад, Шабахи была поселком не бедным. Хо обернулся, что-то сказал своим братьям, и те помчались в деревню со всех ног, подпрыгивая, размахивая копьями и вопя так, будто за ними гналось целое стадо разъяренных слонов. Дети и псы разбегались с их дороги, но следом повалил народ, все больше мужчины с дубинками и копьями, хотя и женщин тоже хватало. Вскоре шум и гам перекинулись на другую сторону поселка, и Хо замедлил шаг – видимо, ждал, пока известие о благородном госте не соберет побольше публики. Спускаясь по склону холма, Семен разглядел, как к площади направляются две процессии с солидными мужами во главе: один – в леопардовых шкурах и страусиных перьях, другой – в балахоне, обвешанном погремушками и костями. Вождь с колдуном, решил он, прикидывая, что сторонников у того и другого в самом деле поровну. Потом он заметил, что на площади у водоема что-то темнеет – не иначе, как туши издохших быков, рядом с которыми, с копьями на плечах, прохаживались стражи. Тут, на площади, они и сошлись – Семен, колдун и вождь, а также сотен шесть народу, жаждавшего справедливого суда. Вождь, в отличие от стройных соплеменников, оказался мужчиной тучным, которого перья и шкуры делали еще необъятней и тучней, да и колдун не выглядел дистрофиком – три подбородка и отвисающий, как у беременный козы, живот. Оба в тех годах, когда полагается думать о вечном, а не о том, что у женщин под юбкой – пусть даже юбка из травы и не скрывает ровным счетом ничего. «Два престарелых петуха, – глядя на них с неприязнью, решил Семен. – Курочек им подавай, цыпляток! А толк один: не догнать, так согреться». Икеда обменялся парой слов с Семеновым провожатым, потом, важно выпятив брюхо, взмахнул жезлом со страусиными перьями. – Мой твой почитать! Мой всегда почитать великий вождь Паре и все его воин. Мой слать великий вождь быка, шкуру, кость. Много слать! Паре доволен? – Очень доволен. Паре прыгать от счастья, – отозвался Семен, сообразив, что «Паре» означает пер’о. Икеда величественно покивал, обмахиваясь перьями и вытирая пот со смуглых жирных щек. – Этот охотник, – его рука протянулась в сторону Хо, – говорить: ты плыть на лодка, большой лодка, и сам большой, сильный. Большой человек у Паре, да? Какой большой? Твой говорить, мой слушать. Семен покосился на жезл с перьями в кулаке вождя, взглянул на Ако, молча ждавшего повелений, и вымолвил: – Мой носить опахало за великий вождь, стоять за его плечом, не дышать, не моргать, глядеть, на кого он гневаться. Такому мой резать глотка. От уха до уха, вот этим ножиком! Он вытащил висевший на перевязи кинжал и продемонстрировал его сначала Икеде, потом Каримбе. Оба в страхе отшатнулись, затем почтительно приложили ладони к груди, и тут колдун решил, что и ему пора вступить в беседу. Своими познаниями в языке Та-Кем Каримба не уступал вождю, но, будучи служителем культа, выражался гораздо изящнее. – Мой тоже почитать великий Паре! Мой делать голова у его ног, ползать на живот и лизать пыль. Сто раз ползать, сто раз лизать! Не глядеть вверх, чтобы не ослепнуть! Молить духов, чтобы Паре жить, здороветь и сильнеть! Проговорив это ритуальное пожелание, Каримба с торжеством взглянул на Икеду, но вождь презрительно отмахнулся жезлом. – Твой молить духов, мой слать шкуру и быка! Паре знать, кому больше верить. Твой старый, глупый, силы нет, духи твой обманывать. Дохнуть бык, духи говорить: дохнуть от мой женщина. Смеяться, ха! Мой женщина на мой циновка, она не видеть твой бык. Духи шутить, ты верить, и все понимать: старый дурак хуже десять молодых. Глаза колдуна налились кровью, он тряхнул балахоном, загремев подвешенными к нему костями, и прорычал: – Мой старый дурак? Мой духи обманывать? Мой сказать духам слово, и твой стать кучей дерьма! Или слон топтать, или лев сожрать! Нет, не лев – шакал! Лев не ест обезьян, даже очень жирный! Они с угрозой придвинулись друг другу, воины за их спинами взревели, вскинули копья, а Семен, наблюдавший за перепалкой, вдруг почувствовал, как гнев, с которым он вступил в Шабахи, сменяется жалостливым презрением. Стоило ли сердиться на этих охотников и скотоводов? Они продавали своих малолетних детей, верили в духов, порчу и сглаз и были готовы устроить по этому поводу кровопускание. Жестоко? Да. Жестокость ребятишек, обрывающих крылья у бабочек… совсем иная жестокость, нежели у человека цивилизованного, который умеет читать и писать, глядит телевизор, молится богу и рубит деткам пальцы… Он вытянул руку – так, что лезвие кинжала пришлось между спорщиками. – Потише, парни! Мой великий вождь не любить, когда козлы бодаться! – Затем Семен повернулся к Ако, грозно насупил брови и приказал: – Будешь моим языком! Говори погромче, чтобы всем было слышно. – Повинуюсь твоему зову, хозяин! – откликнулся кушит. – Ты не беспокойся, глотка у меня здоровая. – Вот и скажи им для начала, что я – семер из Обеих Земель, такой великий и большой, как три слона, поставленные друг на друга… – Это им и так видно, господин, – заметил Ако. – Боги не обидели тебя ростом. Семен ухмыльнулся. – Ты, парень, не умничай, толмачь! Скажи им еще, чтобы опустили копья и не вздумали драться. Сейчас я осмотрю быков, а утром вынесу решение. – Взгляд его обратился к солнцу, садившемуся за горизонт. – Вечер уже, пора отдохнуть. Ночью я усну и посоветуюсь с… э-э… Осирисом. Утром рассужу вождя с колдуном, и суд мой будет справедлив и скор. Подвинься-ка, толстопузый! – Он хлопнул лезвием кинжала Икеду по животу и направился к быкам. Странные твари… вроде быки, однако с четырьмя рогами… Присмотревшись, Семен сообразил, что рога у молодых бычков были когда-то распилены и отжаты в стороны так, что каждый превратился в подобие двузубой вилки. Любопытный обычай! Во всем же остальном быки были как быки, довольно упитанные, с сероватыми шкурами, копытами, хвостами и уже слегка протухшие. Морщась от зловония, Семен кольнул их в бока кинжалом, осмотрел ноздри, языки и выкаченные глаза, но это никак не помогло. В ветеринарном деле он был слабоват, и единственным животным, с которым ему довелось вступить в близкое знакомство, была родительская кошка – да и та сдохла лет десять назад. Но кошка скончалась от старости, а вот почему загнулись быки, ведал лишь премудрый Тот. Впрочем, Семена это не смутило; он с многозначительным видом оглядел две туши, затем возвел глаза вверх, постоял недолгое время, будто советуясь с богами, и махнул рукою Ако. – Скажи, чтоб убрали отсюда эту падаль, она мне больше не нужна. Я хочу есть и спать. Ночью боги подскажут мне верное решение. Сзади забрякали кости на балахоне колдуна, и тут же раздался его голос: – Ты спать у мой женщин. Хорошие, молодые! Много женщин! Два, три… Хочешь – четыре? – Старый! Костлявый, как некормленный бык! – возразил вождь. – Ты лечь на мой циновка, спать спокойно, а вечер и утро есть мясо. Хороший, молодой! – Мясо – это неплохо, а покой – еще лучше, – заметил Семен. – Пожалуй, я идти к тебе. Он ткнул кинжалом в сторону Икеды, и вождь сразу приосанился – видно, решил, что дело в шляпе. Его сторонники вновь завопили и потрясли копьями, затем процессия во главе с Семеном и Икедой тронулась к краю площади, где за изгородью из слоновьих клыков стояли пять хижин: одна – большая, с резными столбами у входа, да и другие не маленькие, заметно просторней, чем Баштаров подвал. Семена отвели в самую дальнюю, устланную травой, и усадили с почетом на заваленную шкурами циновку. Пахло от шкур неважно, и Семен решил, что содрали их либо с шакалов, либо с гиен. – Твой отдыхать и ждать еды, – сказал Икеда. – Ждать чуть-чуть. Мой ленивый женщина быстро бегать под палка, быстро жарить мясо. – Где спать мой воин? – осведомился Семен. – Тот, который говорить на твой язык? – Спать у Хо. Хо теперь богатый, резать корова, кормить твой воин, – с ухмылкой пообещал Икеда и вышел из хижины. Сидя на шкурах, Семен уставился в широкий проем входа на заходившее солнце и сумрачный простор саванны. Сейчас он испытывал чувство, что посещало его не раз и, вероятно, придет опять и опять, наполняя смутным тревожным беспокойством. Степь, это селение и эти люди, и другие люди, Сенмут, Инени, Пуэмра, их спутники, ждавшие его на речном берегу, и сама огромная река – все это казалось сном, ибо та, иная реальность, в которой он прожил первую жизнь, не отпускала, не желала отпускать, по-прежнему заявляя свои права на душу его и разум. Наверное, думал Семен, надо провести тут не месяц и не год, чтобы поверить в свершившееся… поверить, принять и понять, зачем он здесь… Кто он такой? Случайный путник, как было сказано Инени? Или, быть может, страж? Человек, заброшенный сюда какой-то силой с определенной целью? Скажем, следить, чтобы все происходило так, как и должно произойти… Шаги и голос вождя у входа прервали его мысль. Толстяк ввалился в хижину, подталкивая перед собой кончиком жезла девчушку в травяной юбочке, с большим деревянным подносом. Поднос, уставленный мисками с мясом, лепешками, овощами, среди которых громоздился тыквенный кувшин, был нелегок, и девчонка тащила его, стиснув зубы и напрягаясь всем телом. Опустив ношу у ног Семена, она перевела дух, но не успела опять вздохнуть, как вождь ткнул ее жезлом под ребро. – Дочь Хо! – заявил он, показывая на девчонку, а затем – на поднос с разнообразной снедью. – Молодой женщина, молодой мясо! Твой быть доволен! Семен нахмурился. – Зачем ты ее привел, старый козел? – Как зачем? Для твой! Твой пробовать, видеть – хороший женщина, сладкий! – Лапа вождя опустилась на плечо девочки, заставив ее повернуться пару раз. – Сладкий, – повторил он, – радость мой сердце! Каримба дурак, такой нельзя ломать кость, бросать лев. Такой место на спальной циновка. Бери! На этот ночь! Икеда с силой толкнул девчонку, она испуганно взвизгнула и приземлилась прямо на колени Семену. Кожа у нее была нежная, гладкая, цвета кофе с молоком, формы уже начали округляться, теряя прежнюю угловатость, но грудки казались совсем еще детскими, в полкулака. Она смотрела на Семена, и в темных ее глазах стыл ужас. Усмехнувшись, вождь направился к выходу, размахивая жезлом. «По-своему он прав, – решил Семен. – Быков я видел, так отчего не поглядеть на дочку Хо? Прелестное дитя… только напуганное до судорог. С чего бы?» Но тут он вспомнил, что девочке надо его ублажить, и если она с этим делом не справится, ее отдадут колдуну, а уж Каримба сам рассудит, что с ней делать: то ли заняться изгнанием зла на спальной циновке, то ли ноги переломать и бросить степному зверью. Неприятные перспективы! Что одна, что другая! Он поднял девочку и посадил напротив – так, что последние солнечные лучи падали на ее лицо. Она была очень хорошенькой, с длинными черными волосами и округлым личиком, напоминавшим юных американских мулаток, коих Семену доводилось видеть в телевизоре – правда, те мулатки не походили на затравленных зверьков. Он протянул руку, осторожно взял ее маленькую ладонь и спросил: – Понимаешь язык роме? Она покачала головой, глядя на Семена с боязливым ожиданием, будто страшилась, что он сейчас отшвырнет поднос, бросится на нее и повалит на пол. Страшилась этого и в то же время ждала – все-таки сидел перед нею не лев, а человек, способный к тому же избавить от страшной смерти. – Эх, ты, бедолага… – сказал Семен и протянул ей лепешку. – Ешь! И не гляди на меня, как кролик на удава! Он начал говорить тихо и ласково, на русском, ведь так и так она его не понимала; ел сам, заставил есть ее, и все рассказывал, что он – Семен Ратайский, скульптор, человек из города, которого на свете нет, и нет ни страны его, ни языка, ни веры, но все это носит он с собой, и потому не надо бояться: так уж он воспитан, что для него она не женщина, а ребенок. Вот лет через шесть – а лучше, через восемь – поглядим… Если, конечно, он ей подойдет, старый пень; в его времена двадцатилетние девчонки на мужиков за сорок не бросаются. То есть бывает, конечно, и такое, если мужик с нефтяной скважиной или фазендой на Канарах или, к примеру, поп-звезда. А у него – ни скважины, ни фазенды, один железный молоток… правда, брат еще имеется, хороший вроде бы парень и ба-альшой вельможа! Девчонка ела, слушала, кивала головой, и постепенно на губах ее рождалась улыбка. Ела она жадно, улыбалась с робостью, но ужас в глазах растаял, смуглые щеки порозовели, и Семен сказал, что она – настоящая красавица. Ну, если не сейчас, то будет красавицей через те же шесть или восемь лет. А чтобы это время скорей наступило, нужно спать. Солдат спит, служба идет, дети растут… Он похлопал ладонью по шкурам, поднялся и отошел к выходу. Здесь Семен простоял долгое время, любуясь звездным небом и слушая, как ворочается, не решаясь уснуть, дочь Хо. Наконец девчонка затихла, и он, отодвинув поднос, лег на циновку и уставился в потолок – вернее, на травяные пучки, сложенные наподобие огромной конической шляпы. Ну, и как ему с ней поступить? Забрать с собой или оставить в Шабахи? Увезти в неведомое будущее или бросить под толстопузым Икедой? Не лев, конечно, не гиена – бегемот… А чемэто лучше? Не станет дочка Хо красавицей ни в восемнадцать, ни в двадцать лет – раздавит, изуродует… С другой стороны, кому известно, как повернутся собственные его дела? Братец, похоже, парень приличный и в чинах, но что ему эта девчонка? Случись какое несчастье с ним, с Семеном, будет рабыней у другого бегемота, не кушитского, так египетского… Он уснул, так и не решив, что делать, и привиделись ему во сне родители, но не такие, как девять лет назад, когда у матери случился инсульт, а отец извелся с тоски и стал походить на свечной огарок, – нет, не такими он их увидел, а молодыми, полными сил, и себя самого увидел тоже, мальчишкой на отцовской шее. Будто идут они по Невскому с демонстрацией, то ли на Первое мая, то ли на Седьмое ноября, веселые, как положено в праздник, а мать смеется и обещает родить сестренку – ну, если не в этот год, так в следующий обязательно. Очень ей дочку хотелось, и, не в обиду Семену, говаривала она: сын – чужой женщине, а дочь – себе. Не получилось, однако… Вспомнил Семен об этом в своем сновидении и вдруг заметил, что он уже взрослый парень и идет опять по Невскому с родителями, и мама шепчет ему на ухо: не бросай ее, не бросай… пусть не родная, не сестра, не дочь, но все равно не бросай… А отец добавляет, солидно так, рассудительно: сегодня, мол, не родная, а завтра, глядишь, и станет родной. Такой родной, что ближе некуда! Сам понимаешь, сынок, здесь теперь твой дом, а дом – не стены и крыша, дом – это близкие люди. В твоем положении всякий родич – находка! Кто нашелся, тот и твой… Других-то откуда взять? Из России не выпишешь, нет ее, России… С этой мыслью Семен проснулся и обнаружил, что девчонка куда-то исчезла, что во входном проеме розовеют небеса, что поднос опять переполнен едой и кувшинами с пивом, а по другую его сторону сидит Икеда и смотрит на него, как мать на обожаемое дитя. Заметив, что веки у гостя поднялись, он придвинул поднос поближе. – Твой есть и пить? Хорошо? – Не хорошо. – Семен поднялся, морща нос – от кожи его и туники несло запахом звериных шкур. – Мой не хочет есть и пить. Мой сразу идти на площадь, говорить с людьми Шабахи. Вождь тоже привстал, и на лице его мелькнуло беспокойство. – Твой довольный? Быть так, что дочь Хо кричать, царапать… даже кусать! Тогда я учить ее палка! – Твой видеть, что мой не кусали, – бросил Семен, застегнул пояс, надел перевязь с кинжалом и направился к выходу. – Ну, пошли судиться, жирный боров! Икеда со свитой из десятка приверженцев нагнал его у изгороди. Вождь запыхался и выглядел еще более встревоженным. – Твой подождать! Твой смотреть дар, везти его на лодка, давать великий Паре и сказать: Икеда – хорошо! Паре благодарить! Паре делать твой вождь – большой вождь. Большой, как этот дар! Между изгородью и самой просторной хижиной высилась груда желтоватых слоновьих клыков. Очень солидный штабель, метра полтора в длину и в ширину, а высотой – по грудь мужчине. Клыки были отборные, огромные, каких Семену не доводилось видеть у животных в зоопарках – кажется, слоновье племя, в отличие от человечьего, со временем порядком измельчало. Этот дар был, разумеется, взяткой, как и обильное угощение и дочка Хо, которой ему предложили попользоваться. Во все времена жизнь у судейских нелегкая, подумал Семен; не жизнь, а сплошные соблазны. То пиво с закусью, то бабы, то клыки… Он оглядел штабель и отрицательно покачал головой. – Костями мой не брать. Тяжело, неудобно! Капуста есть? Зеленые? Лучше бы с портретом Франклина. Вид ошарашенной физиономии Икеды доставил ему секундное удовольствие. Насладившись этим зрелищем, Семен зашагал к водоему, где уже толпился народ; быков убрали, землю подмели, и все необходимые персоны были на месте: охотник Хо, колдун Каримба и сотни зрителей – на сей раз без оружия. Верный толмач Ако тоже находился здесь – стоял, почесывал живот и ждал хозяйских указаний. Оглядев мрачного колдуна, полного нехороших предчувствий, Семен кивнул Икеде: – Привести твой женщина! Ее привели. В ярком свете занимавшегося утра она выглядела еще очаровательней – ни дать ни взять набоковская нимфетка, только смуглая и до смерти перепуганная. В толпе от нее отворачивались, перешептывались, чертили в воздухе магические знаки, и даже отец, охотник Хо, уставился взглядом в пыльную землю. Колдун, однако, взирал на девочку с вожделением – то ли не боялся сглаза, то ли знал, с чего быки его откинули копыта. Руки Семена взлетели вверх, плечи расправились, грудь напряглась; сколь помнилось, в этой деревянной позе Инени молился солнцу. – Мой видеть вещий сон! В толпе зашумели еще до того, как Ако перевел – вероятно, речь роме была понятна многим. – Мой говорить с богами, с великий Осирис! – важно провозгласил Семен. – Готов ли твой, Икеда, и твой, Каримба, слушать его волю? Оба коснулись ладонями груди; колдун – с угрюмым выражением на обрюзгшем лице, вождь – полный радостных надежд. Что до дочери Хо, то она стояла ни жива ни мертва. – Осирис говорить, глаз у этой женщина плохой. Очень плохой! Левый глядеть – бык дохнуть, правый – носорог, а если она смотреть обоими… – Опустив руки, Семен сделал многозначительную паузу. Толпа возбужденно загомонила, в темных зрачках Каримбы сверкнуло торжество, а вождь в отчаянии хлопнул ладонями по толстым ляжкам и попытался что-то возразить. Что касается дочери Хо, то она, услышав приговор, рухнула на землю и скрючилась так, будто львиные клыки уже терзали ее тело. Но дух ее, видимо, был крепок: девочка не вскрикнула, не потеряла сознания, и глаза ее были по-прежнему открыты. Они взирали на Семена с тем упреком, с каким глядит ребенок на обманувшего его взрослого; ты был со мною добр, говорил ее взгляд, ты дал мне пищу и не сделал больно, и ты меня предал… Тянуть не стоит, решил Семен, и снова вскинул руки. – Осирис говорить еще! Он говорить: Каримба – стар и глуп, силы нет, духи Каримбе не помогать. Эта женщина, – он шагнул к девочке и поднял ее, – смотреть на Каримбу и посылать его к быкам, в страну Осириса. А Каримба Осирису совсем не нужен! Зачем ему старый вонючий шакал? Девочка цеплялась за тунику Семена, Ако толмачил с ухмылкой во весь рот, а лицо колдуна стало темным от прилившей крови. Внезапно он стукнул кулаком в грудь и заорал, мешая местные слова и речь роме: – Никто не верить этот человек! Мой – великий тиго! Тиго бонго! Мой усмирить этот женщина! Мой не верить Осирис, не верить сон! Осирис – тапа кануто, зан мудава! Осирис… Семен отодрал от одежды пальцы дочери Хо и, вытащив кинжал, сделал шаг к колдуну. – Ты как обозвал моего Осириса, шмурдяк? – с угрозой прошипел он по-русски, ухватив Каримбу одной рукой за ворот, а другой тыкая ему под третий подбородок острие. – Значит, ты Осириса не уважаешь? – Он перешел на язык роме и повысил голос: – Осирису ты не нужен, кал гиены, но я могу послать тебя в другое место! Туда, куда Осирис телят не гонял! Колдун обмяк, щеки его обвисли, кожа посерела. Хватит убогих стращать, решил Семен; еще напорется на кинжал или помрет от инфаркта. Оттолкнув тяжелую тушу, он обратился лицом к толпе и обнял худенькие плечи дочери Хо. Видно, девочка поверила, что ничего плохого с ней не будет, и прижалась к нему точно перепуганный птенец. – Осирис сказать: его власть над этой женщина. Только его, не твой и не твой! – Семен поочередно ткнул кинжалом в вождя и колдуна. – Осирис велеть отвести ее в свое святое место в Черной Земле. Осирис сам с ней разобраться! Мой слушать его зов, брать женщина с собой. – Он повернулся, бросил Ако: – Все, парень, дело закончено!.. Пора удочки сматывать! – и зашагал с площади. Дочь Хо бежала рядом с ним вприпрыжку. Толпа перед ними расступилась и стала стремительно редеть. Похоже, в Шабахи жили люди благоразумные, решившие, что коль заноза удалена, так нечего бередить рану. Никто не пытался преследовать их, никто не преграждал дороги, и проводил их лишь тоскливый возглас Икеды: – Сладкий мой! Радость мой сердце! С внезапной яростью Семен обернулся, погрозил кинжалом и рявкнул: – Заткнись, ублюдок! Прошла твоя любовь, завяли помидоры! В молчании они перебрались через речку и холмистую гряду. Солнце уже поднялось на локоть над восточным горизонтом, свежий утренний ветер пролетал над степью, и в шелесте трав чудился Семену полузабытый мамин голос: не бросай ее, не бросай… пусть не родная, не сестра, не дочь, но все равно не бросай… Не брошу, пообещал он ей и коснулся ладонью волос девочки. Она подняла к нему милое личико, улыбнулась – сверкнули белые зубки, взметнулись веера ресниц. – Скажи дочери Хо, что ей не надо бояться, – велел Семен кушиту. – Скажи, что я возьму ее с собой, и жить она будет в моем доме. В каком?.. – мелькнула мысль. Дома у него не было, и не было иных богатств, кроме железной кувалды. Правда, имелся брат. Уже немало, подумалось Семену; дом – не стены с крышей, а близкие люди, это отец верно сказал! Ако произнес несколько слов, девочка что-то прощебетала в ответ, и спутник Семена расхохотался. – Она не боится, господин! Она говорит, что ты добрый! И еще говорит, что там, на площади, посмотрела разок на Икеду и разок на Каримбу. Если у нее и правда дурной глаз, оба к вечеру издохнут, как те быки. Вот так девчонка, клянусь Амоном! К такой и приблизиться страшно! Однако он скалился и поглядывал на дочь Хо с явным интересом. – А ты не приближайся, – сказал Семен, – и рук блудливых не тяни. Обломаю! – Как можно, господин… Всякий знает, что свое, а что – хозяйское… У реки, на крутом обрыве, что нависал над кораблем, их поджидали Инени и Сенмут. Хмурое лицо брата прояснилось, едва он заметил возвращавшихся, и теплое чувство, непривычное Семену, вдруг родилось в груди, заставив сердце биться чаще. Он не привык, чтобы о нем беспокоились – никто и не тревожился, уже много-много лет. Инени жестом благодарности вскинул руки. – Хвала Амону, вы вернулись! И даже с добычей! Знатной добычей! – Улыбнувшись, он осмотрел дочь Хо с ног до головы. – Это и есть та самая женщина, которая взглядом валит быков? О, мать Исида! Сколь велика глупость людская! Она ведь совсем ребенок! Девочка, с любопытством глядя на жреца и Сенмута, прижалась к Семену. Он был порядком выше их, и она, несомненно, считала его главным вождем в этой компании. – Ты приобрел хорошую служанку, брат, – вымолвил Сенмут. – Даже сейчас цена ей два дебена серебром, но я своих людей не продаю, да и ты, думаю, тоже. Пусть растет и верно служит… Девушки этого племени крепче и сильнее женщин роме. – Он повернулся к Инени: – Будь свидетелем, учитель! Мы, мой брат ваятель Сенмен и я, Сенмут, носящий звание Уста Владыки, принимаем эту девушку в свой дом. Жрец погладил бритый череп. – Почему «эту девушку»? Разве у нее нет имени? Согласно закону, должны быть поименованы обе стороны. – Имени у нее и в самом деле нет, – сказал Семен. – Это не годится! Даже собака и кошка имеют имена. – Не годится, – согласился брат. – Может быть, ты, наш мудрый учитель, назовешь ее и сделаешь ее ка[762] известным божествам Та-Кем? Дай ей красивое имя, ибо она приятна собой, и ей подойдут имена Неферт или Мерит. Мечтательная улыбка вдруг скользнула по губам Инени, лицо его приняло отрешено-задумчивое выражение, будто жрец, остановив миг жизни, всматривался в минувшее, перебирал ушедшие годы и вспоминал о чем-то сказочном, волшебном и приятном. Рука его поднялась, коснулась темных локонов девочки, глаза блестнули. – Когда я был молод… так же молод, как Пуэмра… я видел девушку, дочь правителя сепа Аменти… Она возлежала в носилках, и восемь слуг пронесли ее от дворца хаке-хесепа до речной пристани… Не знаю, что приключилось с этой девушкой в последующие годы; может быть, она умерла или лишилась своей красоты, родив многочисленное потомство, а может, по-прежнему прекрасна, хоть ей немало лет… Но я ее помню! Помню, как ее звали! И хочется мне думать, что красоте ее сопутствовали доброта и ум. – Погладив головку девочки, Инени возвысил голос: – Властью, данной мне Амоном, нарекаю тебя То-Мери! И пусть это имя будет с тобой при жизни и после смерти, в долине Хапи и в полях Иалу! – Да будет так, – сказал Сенмут. – Девушка То-Мери вошла в наш дом. Торжественно, будто переступая порог этого невидимого дома, они шагнули вперед и начали спускаться по откосу – туда, где их поджидал корабль.Хочу поведать о том, что связывало нас. Мое любопытство? Несомненно. Почтение, которое я чувствовал к нему? И это так. Мое желание знать наперед грядущие беды и радости? Тоже правда. Потребность в его советах? Конечно. Но главное, он сделался мне другом, и дружба его украсила годы моей одинокой старости. Амон берет, и Амон дает! Сколь счастлив я его даянием – ведь он послал мне друга, Сошедшего с Лестницы Времен!Тайная летопись жреца Инени
Глава 4 Друг
Корабль плыл вниз по течению вдоль второго нильского порога, что протянулся на десятки километров. Здесь стояли крепости – Бухен, Икен, Саррас, Аскут, Шалфак, Уронарти и, наконец, в самом узком месте – Хех и Кумма, по обе стороны реки. Строили их с таким расчетом, чтобы из одного укрепления видеть другое, а то и два-три; днем, как объяснил Сенмут, подавали сигналы горном и барабаном, а ночью не только звуками, но и огнями. Эти египетские форты не походили на рыцарский замок, средневековую цитадель или оборонительное сооружение римлян. В более поздние эпохи, в Европе и Азии, любая крепость была пространством, окруженным стенами с вратами и башнями; снаружи прокладывали ров, внутри строились казармы и конюшни, склады и дворец правителя – либо что-то поскромней, для начальствующего над гарнизоном коменданта. Но крепости Та-Кем были другими. Каждая – цельный монолит в десять-пятнадцать метров высотой, искусственный холм с отвесными каменными стенами и выступающими мощными контрфорсами; площадка на вершине обнесена барьером, не мешавшим лучникам стрелять, и такой же барьер, прочный, но невысокий, окружал основание монолита, прерываясь лишь у пристани. Сложенная из огромных известняковых глыб, она была украшена парой обелисков с бронзовыми навершиями; блеск полированного металла был виден издали, и Семен подумал, что эти бесполезные на первый взгляд столбы на самом деле являются маяками. Один или два контрфорса обычно надстраивались и превращались в наблюдательные башни; казармы и склады прятались в теле крепости, а наверху сооружалось лишь самое необходимое – дом коменданта и навесы для дротиков, камней и стрел. Забраться на площадку можно было по узкой и крутой лестнице, которая простреливалась с двух сторон – обычно с выступающих вперед контрфорсов. Эти цитадели, соединенные дорогами, с судами и лодками для быстрой переброски войск, со сложной сигнальной системой, являлись оборонительным рубежом Та-Кем, который строился и укреплялся веками. Сейчас в них стоял корпус Сохмет, двенадцать тысяч отборных воинов под командой Инхапи, Спутника Великого Дома. По словам Сенмута, этот почетный титул пожаловал ему сам Яхмос, прапрадед нынешнего владыки, за преданность, храбрость и героизм в битвах к гиксосами. Но теперь Инхапи был стар, о подвигах его забылось, он доживал свой век в далекой Кумме и подчинялся хранителю Южных Врат. Сенмут не удостоил его визитом, однако Инени, что-то начертав на пергаменте, вручил письмо коменданту Сарраса и повелел отправить с гонцом почтенному Инхапи. В Саррасе они провели ночь (Уста Владыки и его брат со служанкой То-Мери и почтенным жрецом – в жилище коменданта, а остальные – в казарме) и отправились в путь с первыми солнечными лучами. Пятеро воинов, уцелевших после схватки с кушитами, остались в крепости, и теперь путников сопровождал новый эскорт, два десятка солдат и гребцов, не утомленных опасным странствием на дальнем юге. Семен заметил, что Инени о чем-то долго толковал с оставшимися воинами, видно убеждая их, что брат царского зодчего явился не с тростниковых полей Иалу, а из какой-нибудь грязной и нищей деревушки разбойников-нехеси. Служивые падали ниц и лобызали с почтением руку жреца – похоже, клялись, что ничего не видели, не слышали и знают об этом деле ровно столько, сколько цапли из ближайшего болота. Семен, однако, им не верил и, глядя на эту сцену, бормотал сквозь зубы: «Продадут, шельмецы!» Он, в отличие от Инени, служил, а значит, помнил о главном солдатском развлечении – почесать язык насчет начальства. В этом смысле воины Та-Кем вряд ли отличались от бойцов-десантников. Но уговоры жреца – а может, приключение в Шабахи и девочка, которую привел Семен, – кое-что переменили. Пуэмра больше не трясся в ужасе при его виде, не округлял глаза и не ронял подносов с пищей, Техенна и Ако не кланялись ниже положенного, а старый Мерира, совсем расхрабрившись, поведал Семену пару историй, напоминавших анекдоты. В одном шла речь о горшечнике и его жене, соблазнительной, как сладкий финик; дескать, вернулся горшечник домой, поужинал и улегся спать под бок супруге, да тут за циновкой что-то зашуршало. Горшечник просунул руку, нащупал чью-то лохматую башку и сказал: «Клянусь пеленами Осириса! Это ты, мой верный пес?» И пес ему ответил: «Конечно, это я, хозяин!» Другая история была про скупого ливийца, который приучал козу не есть; день не кормил, два, три, и коза уж совсем привыкла, да на четвертый померла. Эти рассказы привели Семена в тихий восторг; он ощутил, что на Земле не прерывается времен связующая нить, что мудрость поколений не иссякает в песках веков, но течет из уст в уста, и этому процессу не помеха ни климаты, ни языки, ни расстояния. Что же касается Мериры, то корабельщик был, несомненно, источником подобной мудрости, из тех людей, с какими стоит поговорить за жизнь. – Давно ли ты служишь Устам Великого Дома? – поинтересовался Семен. – Три года, мой господин. И, клянусь пеленами Осириса, не было у меня лучшего хозяина, чем семер Сенмут, твой брат! Чтобы лица богов от меня отвернулись, если я лгу! Он подобрал меня в Хетуарете, когда я сделался старым и слишком слабым, чтобы натягивать парус и сидеть на веслах… Я был нищ и голоден, будто стая гиен, и так отчаялся, что не мог отделить жизнь от сна и сон от смерти… я, водивший корабли владык Амен-хотпа и первого Джехутимесу! Но что поделаешь, мой господин! – Кормчий погладил головку То-Мери, сидевшей у их ног, и с грустью закончил: – Старость беспощадна к людям, и плохо тому, кто не завел семьи, не родил сыновей и дочерей и не сберег десятка серебряных колец… – Ты еще не стар, – утешил его Семен. – Ты выглядишь крепким и вполне успеешь сотворить кучу ребятишек. – Для этого дела нужны двое, господин… А кто польстится на старого корабельщика, чье имущество – увядшая кожа да сухие кости? – Он вытянул руку, перевитую синими жилами, потом задумчиво нахмурился. – Хотя… есть одна толстушка с острова Неб, с которой я перемигнулся… из дома хаке-хесепа Рамери… может, она бы меня и подобрала… Имя ее Абет, – здесь Мерира понизил голос, – и она печет такие пироги, каких, мой господин, тебе не доводилось пробовать в полях Иалу… Как ты думаешь, отдали бы ее мне? Если хозяин попросит хаке-хесепа? – Не знаю, – честно признался Семен. – Не знаю, но спрошу у брата. Он и в самом деле спросил – в тот же день, на берегу, во время вечерней трапезы, когда То-Мери принесла второй кувшин с вином. Право подавать питье и еду она отвоевала у Пуэмры в первый же день своего пребывания на корабле; слов, чтоб объясниться с ним, у нее не хватило, но выкрик: «Мой!» – и удар увесистым кулачком живо отогнали парня от кувшинов и подносов. Как обычно, они ели втроем, пили кисловатое вино, закусывали сладкими финиками и любовались звездным небом, где призрачной серебряной ладьей светился полумесяц. Местность тут была холмистая, напоминавшая окрестности Шабахи; гряды курганов тянулись подобно застывшим морским волнам, и налетавший ветер шелестел в тростниках и кронах пальм. Ветер, как и опрокинутый на бок полумесяц, был непривычным для Семена; ветер над огромной рекой дул обязательно с севера, и потому суда шли вверх под парусом, а спускались по течению на веслах. Узнав о заботах Мериры, Сенмут одобрительно кивнул. – Верный человек, преданный и достойный награды… Рамери щедр и, думаю, мне не откажет. Как имя этой женщины? Абет? – Кажется, так. – Семен усмехнулся и добавил: – По словам Мериры, она печет такие пироги, каких мне не доводилось пробовать в полях блаженных. Инени отставил кружку с вином и насупился. – Поля блаженных! Не знаю, какой награды достоен этот старый шакал Мерира, ибо язык у него слишком длинный! Я ведь велел ему не поминать, откуда явился Сенмен! Или моего слова недостаточно? Тогда, сын мой, – жрец повернулся к Сенмуту, – возьми тростниковую палку и дай своему слуге урок послушания. Ухо человека – на его спине! Возмущенно фыркнув, Инени поднялся и отправился спать под корабельный навес. Сенмут, посмеиваясь, проводил его взглядом. – Ухо человека – на его спине… Так он говорит всем своим ученикам, однако я не видел палки в его руках… Но сейчас Инени прав, и я скажу Мерире, чтобы придержал язык, если хочет получить жену. Я возьму ее в свой дом с охотой, ибо мои служанки молоды, и их болтовня не прибавит ума этой девочке. Тут нужна женщина почтенная, достойная… – Он поглядел на То-Мери и понизил голос: – Однако не стоит Мерире уподобляться моим прислужницам и болтать о запретном. Знаешь, брат, кое-какие истины страшней удара топора… Ты возвратился с полей Иалу, и для меня это истина, но для других – повод к сомнению и недоверию. А еще, к страху! Ведь ты обменял свою память на божественную мудрость, а мудрец способен ко многому… Так что лучше послушаем Инени и будем считать, что ты сбежал из кушитского плена. – Инени рассказывал мне о Софре и Рихмере, – отозвался Семен. – Очень недоверчивые люди, и с большой властью… Как бы они не докопались до этой самой истины… Правда ли, что ухо Рихмера есть во всех краях Та-Кем и что он слышит каждый шорох? Сенмут мрачно кивнул. – Может, не столько шорохи, сколько слова… Слова от своих соглядатаев услышит непременно! И если сочтет их поношением богов или опасными слухами… – Пальцы Сенмута, сжимавшие чашу, дрогнули. – Лучше, брат, попасть в красные лапы Сетха, чем в подземелья к Рихмеру! Немало дней пройдет, пока ты снова переселишься в царство Осириса, и путь туда будет нелегким! – Вот и я о том же, – согласился Семен. – И моя божественная мудрость подсказывает, что надо бы приобрести заступника. Мудрость, брат, хороший товар, а я действительно умею многое… Подумай, кому они пригодятся, мои умения и мудрость? Кто выше Софры и Рихмера и сможет меня защитить? Пер’о? – Мен-хепер-ра, наш повелитель – жизнь, здоровье, сила! – очень юн, а к тому же, – голос Сенмута стал едва слышным, – к тому же, брат мой, его права на корону Обеих Земель очень сомнительны. Ты позабыл, но я скажу тебе… напомню, что род владык Та-Кем благословлен дочерьми и проклят в сыновьях… Амен-хотп, потомок великого Яхмоса, был чистой царской крови, но его великая супруга не принесла наследника, а только дочь. Она, сестра первого Джехутимесу по отцу, стала ему женой, ибо сам Джехутимесу был сыном Амен-хотпа от наложницы Сенисенеб и пожелал этим браком укрепиться на престоле. Она родила Джехутимесу сыновей и дочь, но сыновья умерли в младенчестве, а дочь жива… жива и прекрасна, как златогрудая Хатор! И в ней… – Погоди, – Семен наклонился ближе к брату, так что их волосы соприкоснулись. – Эта девочка, дочь первого Тутмоса… то есть Джехутимесу… Хатшепсут? – Ты вспомнил, вспомнил!.. – В голосе Сенмута слышался восторг. – Но она уже не девочка… не юная девушка, какой была в тот год, когда ты исчез на юге… Она – великая владычица! Дочь царя, сестра царя и царская супруга! Ибо у ее отца, у первого Джехутимесу, все-таки был сын, и тоже от наложницы – второй Джехутимесу, взявший в жены Хатшепсут. Но сына она не принесла… сына принесла другая – Иси, чужеземка, купленная в стране Хару… и он, этот сын, Джехутимесу третий, надел корону Обеих Земель… мальчишка, в котором царской крови – капля, восьмая часть… любой писец способен это подсчитать… Семен выпрямил спину, прервав его лихорадочный шепот. Он уже запутался в этой кровосмесительной истории, где фараоны женились на сводных сестрах в попытке улучшить царскую породу, но сыновей рождали от чужеземных наложниц. С этим стоило разобраться, но Сенмут, кажется, был лицом заинтересованным, а значит, необъективным и пристрастным. Расспросить Инени? Непременно! Завтра же, решил Семен и снова придвинулся к брату. – Ты хочешь сказать, что этот Джехутимесу – не заступник? Слишком юн, к тому же – личность сомнительного происхождения, на чьей голове шатается корона… Кто же тогда оценит мою мудрость? – Великая царица! Ей и только ей я бы доверил нашу тайну… – Теплое дыхание Сенмута щекотало висок. – Трудные времена настают для Черной Земли, брат мой, и, быть может, ты послан нам богами… послан затем, чтобы указать нам верный путь… – Верные пути – не самые быстрые, – сказал Семен. – Не хотелось бы споткнуться по дороге… скажем, об этого Рихмера, который слышит каждый шорох. – Царица защитит! Я только прах у ее ног, слуга казначея Нехси, я не могу ввести тебя в Великий Дом, но Инени, наш учитель, не откажет в помощи. Он… – …третий пророк храма Амона. И что это значит? – Очень многое, брат мой, очень многое! Он начальствует над всеми храмовыми мастерскими, над школами писцов и лекарей, ваятелей и зодчих, но главное, он – наставник Нефру-ра и Мерит-ра. Они – юные дочери Хатшепсут, моей госпожи, любимой Амоном… они родились, когда тебя не было в мире живых. – Выходит, Инени – важная птица, – пробормотал Семен. – И он уже не молод… мог бы начальствовать над мастерскими и наставлять ребятишек… Однако отправился с тобой в дальнее странствие! Зачем? – Не знаю, – смущенно промолвил Сенмут и повторил: – Не знаю, брат! Такой была его воля, и теперь мне кажется, что он предвидел все случившееся с нами и пожелал быть тому свидетелем. Почему бы и нет? Ведь он – пророк! А кроме того, он очень любопытен и не упускает случая увидеть новое. – Скажем, крепость хитреца Туати у третьего порога? – Скажем, так, – кивнул Сенмут, пряча глаза.* * *
С Инени он беседовал чаще, чем с Сенмутом. Собственно, их разговор, с ночными перерывами, длился все время, пока они плыли к первому порогу под мерный плеск весел и протяжные песни гребцов. Сопровождавшие их солдаты не удивлялись, что жрец толкует о предметах, которые привычны с детства: о том, как называются города и где они стоят, о странах на юге и севере и населяющих их народах, о злаках и плодах, что вызревают в долине Хапи, о животных, домашних и диких, о временах разлива, засухи и жатвы, и, разумеется, о богах, которых в благословенной земле Та-Кем насчитывалось сотен пять или шесть, а может, и вся тысяча. Нет, это не удивляло воинов, ибо они знали, что Сенмен – брат господина, бежавший от дикарей-нехеси, что долгие годы он провел в плену, терпел лишения и горести, и от того забыл о вещах, известных всем и каждому. Солдат удивляло другое – рост и могучие мышцы Семена, сила, с которой он натягивал тетиву боевого лука или метал дротик, ловкость в обращении с кинжалом – бросая его, он пробивал насквозь прочную доску щита. Он был на две ладони выше самого рослого воина, шире в плечах и массивней кушита Ако, и ни один из египтян не смог бы сдвинуть его с места или бросить на спину в борьбе. В своем времени он выглядел всего лишь высоким и крепким мужчиной, но в эту эпоху казался гигантом, живой иллюстрацией утверждения, что человечество не измельчало, а, наоборот, век от века успешно прибавляет в росте. На одном из привалов Семен раздобыл вязкой красноватой глины, размял ее и принялся лепить фигурки спутников – худощавого Инени с бритым черепом, мускулистого Ако, гибкого стройного Техенну, солдат в коротких юбочках и поясах из кожи бегемота, То-Мери с чашей в руке, Мериру с рулевым веслом. Работал он быстро и легко, немногими точными штрихами добиваясь сходства, которое казалось египтянам поразительным. То-Мери повизгивала в восторге, а солдаты, глядя на маленькие изваяния, бормотали: «Ушебти! Ушебти нефер-неферу!» Это значило – отличные ушебти! Такие фигурки полагалось класть с любым умершим, чтобы, ожив в загробном мире, они трудились за хозяина, и чем их больше, тем сладостней отдых в полях Иалу; лучше всего, если их триста шестьдесят пять, по одной на каждый день в году. Все-таки в Коране сур поменьше, мелькнула мысль, когда Семен раздаривал фигурки спутникам. То-Мери благоговейно гладила его пальцы, воины кланялись, благодарили, а восхищенный Пуэмра кланялся ниже всех и набивался в ученики. «Проживу, – думал Семен, – и здесь проживу, коль руки нужным местом вставлены. Только бы в подвал не угодить! Подвалы, они везде одинаковы – что у Баштара, что у египетских фараонов, что у российских». О фараонах и подвалах Инени кое-что рассказывал, однако не в корабельной тесноте, а вечерами, подальше от чужих ушей и любопытных глаз. Эти истории будили память, и хоть вспоминалось Семену немногое, мир, в который он попал, уже не мнился сновидением, а с каждым днем приобретал черты реальности. В рассказах жреца оживали прошлое и настоящее, но были они для Семена связаны с грядущим, слиты с ним в единое пространство, где факты и события, походы и сражения, дворцы, усыпальницы и храмы, люди и их имена выстраивались плавной чередой и словно восходили вверх по бесконечной, тянувшейся в тысячелетний сумрак лестнице. Видимо, он, пришелец из будущего, воспринимал реальность совсем иначе, чем Инени; мир для него не кончался пролетевшей минутой, а был раскрыт во всей своей временной протяженности и глубине. Конечно, он не знал событий завтрашнего дня, но то, что случится за двадцать лет – пусть не в деталях, не в подробностях – не составляло для него секрета. Он угодил в начало эпохи Нового царства. Лет сорок назад Яхмос, основатель династии, выбил пришельцев из Дельты, покончив с их столетней властью, и это великое свершение еще оставалось не позабытым; еще были живы старые воины и генералы вроде Инхапи, пустившие гиксосам кровь. Они принадлежали к немху[763], к простонародью, но заслуги перед царем и отечеством возвысили их, сделали новой знатью – тем более что знать родовитая и старая вовсе не склонялась к объединению державы. Владыки сепов, наследственные князья, не желали делиться с фараоном ни властью, ни землями, ни людьми, и это было опасней могущества кочевников-гиксосов. Долгие годы Яхмос сражался на два фронта, и с чужеземцами, и со своими князьями, но оказалось, что справиться с хаку-хесепами трудней, и этих свар хватило лет на двадцать Аменхотепу, его наследнику. Затем к власти пришел Тутмос I, с простой идеей национальной консолидации: если в Та-Кем мало земли для знатного сословия и мало подданных для фараона, то почему не поискать их на востоке? А также на севере и юге… И он поискал, пройдя Синай, Палестину и Сирию вплоть до евфратских мутных вод, а в южных краях, в стране кушитов, добрался до третьего порога. Его царствование было славным, но не очень долгим, наследство – сомнительным: могучая держава и многочисленная армия без крепкой и властной руки. Новый властитель Тутмос II не обладал ни силой духа, ни телесной крепостью и, по прошествии трех лет, переселился в поля Иалу. Печальное событие! Владыка умер, не дожив до тридцати, и царский титул – жизнь, здоровье, сила! – звучал по отношению к нему как грустная издевка. Рок, тяготевший над династией, впервые проявился столь открыто, хотя и раньше о нем толковали в народе и среди знатных людей. Ведь все властители, считая с Аменхотепа, брали супругами сводных сестер, но не могли породить наследников чистой царской крови; им приносили сыновей младшие жены и наложницы, а это, как заметил Инени, являлось признаком неудовольствия богов. За что и почему, было покрыто мраком и не имело видимой причины; сам Аменхотеп, его сын и внук грешили не больше, чем их благородные предки, а храмы строили с неистощимым усердием. Судьба!.. – думал Семен, размышляя над этим повествованием. Судьба или роковая случайность! А может, месть Хатор, золотогрудой нильской Афродиты – за брак, свершаемый без любви, за инцест и насилие над человеческим естеством… Итак, Тутмос – второй Джехутимесу – скончался год назад, оставив сына, прижитого не от супруги и царицы Хатшепсут, а от рабыни, финикиянки или сирийки. Об инородном ее происхождении знали все в Обеих Землях, хотя покойный царь назвал свою наложницу Иси, как принято в Та-Кем; и всем было известно, что ее отпрыск, уже коронованный под именем Мен-хепер-ра, не только наполовину варвар, но к тому же дик, упрям и слишком юн и глуп, чтобы нести нелегкое бремя забот о державе. Кроме него, на это бремя претендовали трое: властный Софра, глава египетских жрецов, военачальник Хоремджет и, разумеется, царица. Об этих столичных интригах жрец рассказывал шепотом, по вечерам, под завывание шакалов, когда уставшие путники спали, а охранявшие стан часовые бродили вдалеке. Похоже, молодой Тутмос не вызывал у Инени симпатий – хотя бы потому, что этот мальчишка-варвар, увлекшись военным делом, не слишком жаловал жрецов. Впрочем, не это настораживало Инени; сам будучи жрецом, он не являлся ярым поборником корпоративных интересов, а рассматривал коллег только как хранителей мудрости. Юный властитель к ней ухо не склонял и потому был достоин порицания. И мог ввергнуть державу в неисчислимые беды! Ибо, как говорится в пословице, горек плод с гниющей пальмы… Семен готов был с этим согласиться. «Дик, упрям и слишком юн и глуп! – размышлял он, поглядывая на лицо жреца, озаренное слабым лунным светом. – Ну, этот глупый мальчишка вам еще покажет! Всех согнет в бараний рог! И старую знать, и новую, и вас, жрецов!» Картины мрачного грядущего рисовались Семену, так как он знал, что юный дикарь станет Тутмосом III, великим завоевателем, деспотом и жестоким ублюдком, залившим кровью Сирию и Палестину. И Египет за это поплатится: сотни тысяч его сыновей умрут в чужих краях на юге и на севере, а сменят их рабы – те же сотни тысяч, но не свободных роме, а подневольных чужаков. И будет у них столько же охоты трудиться, как у него, у Семена Ратайского, в чеченских подвалах, и принесут они с собой столько ненависти и обид, что колесо истории не выдержит, дрогнет, повернется, и страна покатится к упадку. Однако еще не сейчас, не в ближайшие годы… Двадцать или более лет (в точности он не помнил) власть останется в других руках, и это будет период благоденствия и мира. Древнеегипетский ренессанс! Эпоха дальних экспедиций, время расцвета наук и искусств, прокладки каналов и орошения земель, строительства дворцов и храмов – и самого прекрасного из них, восьмого чуда света… Он помнил этот храм по фотографиям и фильмам, он видел его в воображении: три белоснежные колоннады, что поднимаются уступами к синему небу на фоне медно-красных гор, площадки и аллеи задумчивых сфинксов, широкая, чуть суженная кверху лестница, а перед ней – волшебный сад с плодовыми деревьями, с цветущими сикоморами и тамариcками… Храм богини любви Хатор, возведенный велением Хатшепсут, прекрасной женщины и фараона! Кто будет его строителем? Кажется, доцент Авдеев, читавший историю древнего зодчества, говорил о Сенмуте и называл его гением… Да, о Сенмуте! Точно, о нем! Если как следует призадуматься, размышлял Семен, на ум приходит кое-что еще. Брат, по словам доцента, многого добьется, очень многого, и не только в строительстве: будет первым министром царицы, правой ее рукой, всевластным повелителем Та-Кем… Однако Инени его переживет. Во всяком случае, так подсказывала память – если он не ошибся, и перед ним тот самый Инени… Великий инженер и зодчий, знаток языков, обычаев и стран, а также ваятель, математик, врач, строитель кораблей… Человек, доживший до глубокой старости, служивший многим фараонам, чье жизнеописание дошло к отдаленным потомкам и было прочитано спустя три с половиною тысячи лет… «Интересно, – подумал Семен, – напишешь ли ты обо мне, мудрейший? Или не рискнешь упомянуть об этаком чуде? Или я – всего лишь эпизод, который сотрется в твоей памяти? Нельзя ведь помнить всех, кого повстречал за долгую жизнь…» Но было не похоже, что Инени забудет встречу с ним. Определенно, жрец надеялся, что их отношения будут долгими и плодотворными, а связь – крепкой, точно у двух смоковниц, что выросли рядом и переплелись ветвями и корнями. На одном из привалов, отправив на отдых Пуэмру и То-Мери и дождавшись, когда остальные уснут, Инени придвинулся ближе, всем видом показывая, что предстоит доверительный разговор. – Ты обещал, сын мой, припомнить, что случится в еще не прожитые нами годы… И что же? Это тебе удалось? Семен молча кивнул, разглядывая спящих неподалеку спутников. Ночь была прохладной, и большинство из них закутались в плащи, напоминая темных гусениц, разложенных рядом с багровой медузой костра. Длинная гусеница – Техенна, большая и толстая – Ако, поменьше и покороче – юный Пуэмра, совсем маленькая – То-Мери… Сенмута и Мериры среди них не было; брат предпочитал ночевать на корабле, под навесом, а кормчий дремал в обнимку с рулевым веслом – видно, так было ему привычней или казалось, что это вовсе не весло, а стан толстушки Абет с острова Неб. – Знание грядущего – великая сила… – задумчиво пробормотал Инени. – Многих из высших жрецов называют пророками, но разве мы в силах увидеть скрытое завесой не прожитых лет? Так, осколки и обрывки… И слишком часто мы ошибаемся. Семен, приподнявшись на локте, продекламировал:Друг мой, Явившийся из Тьмы, обладал познаниями и умениями в самых различных областях, и это меня поражало: ведь воин, каменотес или писец учится мастерству годами и редко меняет свое ремело. Но Страж был иным. Камень покорялся ему с той же легкостью, как папирус или боевой топор; он мог ковать оружие, лить стекло и складывать числа, а о плоти человеческой знал больше, чем все целители Обеих Земель. К тому же он умел управлять людьми и воинами столь хитроумно, что знавшим его это искусство казалось чудом…Тайная летопись жреца Инени
Глава 5 Остров Неб
Пир во дворце Рамери, хранителя Южных Врат и царского сына Куша, был обильным и долгим – таким, каким полагается чтить столичных гостей. Огромные подносы с говядиной и газельими окороками сменялись птицей – утками, гусями, журавлями; к ним подавали лепешки, бобы и овощи, затем тащили рыбу, жареную и отварную, под острым пряным соусом, и снова мясо – печеную на вертеле баранину, телячье рагу, каких-то крохотных птичек, которых полагалось есть с костями, жаркое из черепах, пернатую и четвероногую дичь. В перерывах гости могли освежиться фруктами, гранатами и виноградом, инжиром и финиками, а под конец настала очередь сладких блюд – пирожных, пирогов и пирожков с орехами, медом и фруктовой начинкой. Все это изобилие запивалось десятью сортами вин – вином зеленым и алым, рубиновым и черным, розовым и золотистым; был и местный коктейль – напиток уам, который готовили из смеси белого и красного вина с добавкой мелко нарезанных фруктов. Кроме почетных гостей, пророка Инени и Уст Фараона с братом, в пиршественном зале было человек двадцать: придворные и высшие чиновники, управитель дома Рамери, начальник его охот, хмурый воин – командир гарнизона, сборщик податей, распорядитель амбаров и житниц, старший над рудниками и каменоломнями, три жреца из святилища Хнума, чей древний храм, находившийся здесь, славился на всю страну. Гости, сидя у невысоких столиков, ели чинно, пили умеренно, если не считать хмурого воина и толстяка, смотрителя каменоломен; ни пьяных выкриков, ни возбужденной жестикуляции Семен не замечал. Сам наместник Рамери, осанистый сорокалетний мужчина в большом парике, при ожерельях и золотых браслетах, расположился на сиденье с подлокотниками в форме львиных лап, позади которого застыли два мускулистых темнокожих маджая – гориллы-телохранители. Зрачки у владыки Южных Врат были как пара стальных шурупов, однако на властном лице играла благожелательная улыбка. Ему, похоже, нравились чудесные истории, а Сенмут оказался превосходным рассказчиком, искусно переплетавшим слова со звоном чаш и переменами блюд. Удивленные возгласы пирующих служили ему наградой; под этот аккомпанемент он говорил о странствиях в крепость за третьим порогом, о брате Сенмене, бежавшем из плена, о битве с нехеси и молоте, дробившем черепа, о происшествии в Шабахи и о целительном искусстве Инени. Речи его скользили мимо сознания Семена. Это пиршество с бесконечной чередою вин и яств, этот просторный, убранный коврами и цветами зал, толпы слуг, пышные одеяния придворных, их украшения и парики – все это было таким экзотическим, таким потрясающим зрелищем! Ему казалось, что он погрузился в яркие сны или попал на съемки исторического фильма, где не жалеют средств на реквизит; однако с минуты на минуту декорации будут убраны, со столов исчезнут чаши, миски и кувшины, актеры и статисты сбросят допотопную одежду и, натянув привычное, отправятся пить кофе и курить. Но минута все длилась и длилась, будто убеждая, что перед ним не мираж и не подделка, а настоящая реальность – та, что дана нам в ощущениях. Быт на корабле казался много проще и привычней, да и Саррас, суровая крепость на южной границе, в которой они ночевали, столь же не удивлял комфортом, как хижина в Шабахи. Но, очевидно, саррасского военачальника и хаке-хесепа Рамери разделяло множество ступеней или даже лестничных пролетов – столько, скольким положено быть между скромным капитаном и наместником обширного и изобильного края. Каждому – свое! – как говорили в Риме. Капитану полагались домик под тростниковой крышей, пара циновок и глиняный кувшин, наместнику – этот дворец и зал с колоннами и сводом, украшенным вязью золотых спиралей, с мягкими коврами, изящными резными сиденьями и ложами, столами из черного дерева и тонкой фаянсовой посудой. Зал открывался на широкую галерею с лестницей, спускавшейся в парк. Там извивались в зарослях мощеные дорожки, журчали воды, росли неведомых пород деревья и кустарники, а за прохладными прудами высился павильон с приподнятой на деревянных столбах кровлей. Столбы из дерева аш, из дорогого привозного кедра, изображали связки папируса. В Та-Кем папирус символизировал Юг, а лотос – Север, и лишь во дворце фараона, владыки Обеих Земель, считалось уместным объединение этих символов. За галереей и парком, дремавшим в лучах послеполуденного солнца, лежал город Неб. Тянулись вверх пилоны храма Птаха, сверкали стены, облицованные розовым гранитом, белели сложенные из известняка дома зажиточных и знатных, грудились на окраинах хижины, сновали у пристаней лодки и плоты… За рекой, у подножия утесов, подступавших с востока и запада, зеленели пальмовые рощи, и свежий северный ветер играл среди стройных стволов и перистых крон. Ближе к островам – а тут их, кроме Неба, было еще два или три – Нил, сузившись и разделившись на несколько потоков, таранил гранитный горный щит, рассекал его и изливался в плодородную широкую долину. Она тянулась к морю километров на шестьсот, после чего, став похожей на раскрытый веер, переходила в земли Дельты, орошенные семью речными рукавами и бессчетным множеством протоков. Вроде метлы с искривленной ручкой и редкими прутьями, думал Семен, разглядывая реку, город и причалы. К одному из них неторопливо подгребал корабль с бушпритом, задранным вверх и изогнутым, как рыбий хвост, у другого покачивалась их барка, приплывшая в Неб минувшим днем, когда над западной пустыней уже садилось солнце. – Велик Амон! – провозгласил Рамери, повернувшись к Сенмуту и поднимая чашу. – Ты, семер, проделал долгий путь ради бредней глупца Туати – да поразит его Сохмет! – и не нашел искомого. Но боги знают, как и куда направить человека… Брат твой с тобой, а это значит, что благосклонны к тебе Амон и Хнум: не мертвым камнем одарили, а жизнью родича. – Это верно, мой господин, – отозвался Сенмут, с улыбкой глядя на Семена. – О камне же не беспокойся. К чему искать за третьим порогом то, что есть у первого? Розовый камень ломают в Севене и грузят сейчас на корабли, вместе с медью из Бухена. С ними ты поплывешь в Уасет, так что почтенный Нехси будет доволен. – И это верно. – Сенмут склонил голову. – Хвала Амону и тебе, сиятельный! Я привезу в Уасет и медь, и камень, и брата. – Я его помню, – промолвил старший над рудниками, заглатывая пирожок с изюмом. – Помню! Десять разливов назад, проплывая мимо Неба, Сенмен был гостем в моем доме. – Ухватив второй пирожок, он ткнул им в сторону Семена: – Ты изменился, ваятель, и, как сказал мне твой брат, многое тобой забыто по причине болезней и горестей… А помнишь ли вино, которое мы пили? И девушку-ливийку, с которой развлекался ночью? Семен подмигнул тучному начальнику рудников. – Вино было сладким, а девушка – еще слаще. Светлокожая, с тонким станом, да? Ошибиться было трудно – все ливийцы были светлокожими и гибкими. – Он не болен, он здоров! – Домоправитель звонко хлопнул себя по ляжке. – Если мужчина помнит о вине и девушках, он – здоров! К тому же этот человек не выглядит больным, хоть пережил немало горестей… Нет, не выглядит! Он – как крепостная стена, как гора из меди! Пусть я останусь без погребения, если лгу! – Ты не лжешь, – заметил бритоголовый старец, первый из пророков Хнума. – Лгали сыновья гиен, жалкие трусы, сбежавшие от кушитов! Те, что бросили господина в беде, сказав, что он погиб! Между прочим, твои солдаты, Пауах! – Жрец покосился на хмурого военачальника, который командовал гарнизоном Южных Врат. – Тогда – не мои, – буркнул воин и присосался к чаше. – Пауах прав, – важно кивнул Рамери, – десять разливов назад его здесь не было. Но тех нерадивых корабельщиков и стражей надо сыскать! – Глаза хаке-хесепа расширились и сверкнули, а в голосе прорезался металл. – Найти, зашить в мешки и бросить в Реку! – Исполню, сиятельный, – пробормотал Пауах, запрокинул голову и вылил вино в необъятную глотку. Инени, сидевший напротив хранителя Южных Врат, поморщился. – Всякий проступок требует воздаяния, но оно должно быть скорым. После многих лет не ищи вину на слушающих твой призыв, чтобы не прослыть злопамятным. Амон с них спросит! Слушающие призыв – так назывались слуги, и этот термин стал уже для Семена привычным, в отличие от другого – секер-анх, живые убитые, или рабы. Кажется, рабов в земле Та-Кем было немного, и он пока что с ними не встречался. – Говоришь, Амон спросит? – произнес Рамери и поджал губы. – Ну, посмотрим, посмотрим, мудрейший… Обещаю, если за это время Амон спросил хоть с одного, я отменю мешки и ограничусь поркой. – Он откинулся в кресле и щелкнул пальцами. В зал стайкой ярких мотыльков впорхнули танцовщицы. Это случилось так неожиданно, что чаша в руке Семена дрогнула; застыв с приоткрытым ртом, он глядел, как мечутся цветные прозрачные ткани, колышатся груди и бедра, сияют глаза, как, подчиняясь мерному ритму, переступают ноги, как изгибаются в пляске тела, сливаясь с рокотом барабанов и тихим посвистом флейт. Все вокруг внезапно ожило, пришло в необходимую гармонию: полунагие девушки плясали среди колонн, под золотыми сводами, и это был последний штрих, соединивший Семена с реальным миром и примиривший с ним. Он вдруг осознал, что этот мир, безмерно далекий, сказочный и непривычный, в главном не отличается от того, что еще мнилось настоящим, не выпускавшим память из своих оков: и там, и тут были женщины. Это открытие поразило его. Конечно, в Шабахи он видел женщин, но эти казались другими, манящими и желанными. И сказочно красивыми! Не потому ли, что он просидел в заточении много месяцев? Или в жилах его играло выпитое вино? – Похоже, брат твой что-то вспоминает, – усмехнулся Рамери, кивая Сенмуту. – Не ласки ли той девушки-ливийки? – Неудивительно, мой благородный господин, – заметил смотритель каменоломен, расправившись с последним пирожком. – Я бы лишился не только памяти, но и разума – да сохранит меня Амон! Жить с нехеси, в плену, без приличной еды, без вина и женщин… И так – десять лет! «Не десять, все-таки поменьше, – мелькнуло в голове Семена, – а вот насчет еды и остального – в самую точку!» Он жадно уставился на танцовщиц, вдыхая полузабытый аромат разгоряченной женской плоти. Рамери, протянув руку, потрепал его по плечу. – Ешь и пей, ибо – клянусь пупком Хатор! – эта ночь будет утомительной! Ты похож на оголодавшего льва, ваятель Сенмен… Сколько прислать тебе этих газелей, чтобы ты насытился? Двух или трех? – Одну, сиятельный, – Семен поднял указательный палец. – Одну – для меня, и другую – для преданного слуги моего брата, корабельщика Мериры. – Преданный слуга? – Брови Рамери полезли вверх. – Такой преданный, что ты за него просишь? Не много ли чести для простолюдина? – Мерире не нужна газель, – с улыбкой вмешался Сенмут. – Он хочет взять жену из твоего дома, мой господин, чтобы она покоила его старость. Женщину не слишком молодую и не очень стройную… Кажется, ее имя Абет. – Кто такая? – Взгляд Рамери остановился на домоправителе. – Твоя ничтожная служанка, господин. В самом деле, не слишком молодая и не очень стройная… не газель, скорее – самка бегемота… Если бы не искусство печь пироги, цена ей была бы три медных кедета. Странно, что этот корабельщик ее избрал! – Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, – пояснил Семен. – Какая глубокая мысль! – восхитился рудничный начальник, поедая фаршированные орехом финики. Хранитель Южных Врат поднялся, махнул танцовщицам, приказывая убираться вон, и подошел к высокой арке, ведущей на террасу. Солнце, склоняясь на запад, озарило Рамери радужным сиянием, какое приличествует в большей мере не человеку, но божеству, бессмертному, непогрешимому, всесильному. Однако Амон-Ра знал, кому отдавать почет; хоть Рамери не являлся бессмертным, но в южных пределах Та-Кем его непогрешимость и сила ничуть не уступали божественным. Помня об этом, гости почтительно смолкли, пока наместник стоял и смотрел на свой город, где все было ему подвластно; он мог прервать любую жизнь, казнить или помиловать, высечь или утопить в реке, сослать в каменоломни или осыпать благодеяниями. «Серьезный мужчина, – подумал Семен. – Что он там высматривает? Кого бы зашить в мешок?» Но Рамери, кажется, глядел на корабль с бушпритом в форме рыбьего хвоста. Судно уже ошвартовалось, гребцы складывали весла, крохотные фигурки суетились на палубе и рядом, на берегу, таскали груз или натягивали причальные канаты, издалека было не разобрать. В сравнении с баркой Сенмута, стоявшей неподалеку, корабль выглядел огромным – вдвое шире и раза в три длинней. Повернувшись к столу и гостям, наместник покосился на Инени и чуть заметно кивнул. Потом привычным жестом вскинул к плечам раскрытые ладони. – Возблагодарим Амона, владыку престолов Обеих Земель, который властвует над небом, водами и сушей! Пусть будет он благосклонен к Великому Дому Мен-хепер-ра – жизнь, здоровье, сила! – и к нам, его верным слугам, что слушают царский призыв! Пусть не оставит нас своими милостями! – Руки Рамери опустились. – Теперь идите и вкусите отдых, ибо завтрашний день полон забот и трудов. Тот, кто вовремя кончает пир и помнит о предстоящих делах, угоден богам. – Воистину так! – подтвердил Инени, резво вскочив на ноги. Следом, пошатываясь, встал военачальник Пауах. – Я п-помню, господин… Н-найти и зашить! Кланяясь и шепча слова благодарности, гости потянулись к выходу. Рамери благосклонно кивал, касаясь прядей пышного парика, потом, взглянув на Сенмута, произнес: – Чудесную историю поведал ты мне, и завершилась она счастливо: брат твой спасен, и сам ты жив, и кровь твою не выпили нехеси… Я люблю истории с хорошим концом! И потому не откажу вам с братом в просьбе: ваш корабельщик получит женщину. – Щедрость твоего сердца безмерна! – Сенмут низко поклонился. – Теперь отдыхайте! Вино и девушки сделают крепким ваш сон. Наместник повернулся и, в сопровождении рослых маджаев, вышел на галерею. Служители, бесшумные, как тени, начали прибирать столы, и эта картина снова показалась Семену нереальной, будто он очутился в мире бесплотных духов, скользивших между призрачной мебели, посуды и цветочных гирлянд. Сенмут, лукаво улыбаясь, потянул его к арке. – О чем мечтаешь, брат? Не о той ли девушке, что ждет тебя в опочивальне? О газели, чьи груди – как виноградные гроздья? – Понизив голос, он тихо произнес: – Я видел, как ты глядишь на девушек… на тех плясуний… Анубис забрал твою память, но не мужскую силу! – Да, силы у него хватает, – промолвил Инени. – А раз так, о чем же думать путнику, что возвратился из дальнего, очень дальнего странствия? Конечно, о женщинах и девушках, о бедрах их и животах, губах и грудях… Об этом он и думает, Сенмут, да и ты тоже! Вы еще молоды, дети мои, еще способны послужить Хатор. – А ты, мудрейший? Инени легонько похлопал Семена по плечу. – Нет, друг мой, нет. Хоть я и помню ту девушку, дочь хаке-хесепа Аменти, но глаза мои видели слишком много разливов Реки, смывших суетные желания… Я думаю только о мягком ложе. Как сказал почтенный Рамери, ваш сон будет крепок после женских объятий, а мне, чтобы уснуть, хватает вина. Но я о том не жалею, нет, не жалею! Жалею лишь о сладких снах, которые боги дарят в юности…* * *
Однако сон Семена не был ни крепок, ни сладок. Снилось ему, будто сидит он в своей мастерской в Озерках, в убогом сыром полуподвальчике, и торгуется с Вадькой Никишиным, пронырой и жмотом, что отирался не первый год в матрешечно-иконном бизнесе. Будто канючит Вадька клинок, прекрасный меч, откованный по образцам нормандских, а цену дает смешную – три медных колечка, с которых пользы – ноль: ни рабыни не купишь, ни даже горсти фиников. А если, грозит, не отдашь, пошлю папирус фараону, и закатают тебя, болезного, в каменоломни за третьим порогом – чтобы, значит, с холодным оружием не баловался. Может, и в мешок зашьют! А не зашьют, так будешь сидеть в кандалах и пепельницы тесать – ровно столько лет, сколько статей в Уголовном кодексе… И, словно подтверждая эти угрозы, подвал вдруг раздался вширь и вглубь, крыша куда-то отъехала, освобождая место для знойных небес, а стены сменились скалами – но, приглядевшись, Семен догадался, что вовсе это не скалы, а огромные пепельницы да могильные плиты с изображением ощеренных волков. Хитрая Вадькина ряшка тоже переменилась, так что теперь он походил на Баштара, но с примесью других, будто бы знакомых черт – кажется, Иваницкого, владельца сувенирной лавки на Литейном. Ему-то и сдавались пепельницы и прочее каменное художество, и был он жмотом почище Вадьки – снега зимой не выпросишь, не говоря уж об авансе. Но обхождения культурного: денег не даст, зато посочувствует и об искусстве потолкует, а временами угостит чайком – правда, жидковатым и без сахара. Но в сновидение Семена он влез не чаи распивать – скакал по вершинам утесов, размахивал плетью и вопил: «Амон с тебя спросит, сын гиены! Спросит, и я отменю мешок и ограничусь поркой!» При мысли, что будут его пороть, Семен заскрипел зубами, дернулся, нашаривая молот или что-нибудь еще потяжелей, но под руками было лишь теплое да мягкое. Тогда, застонав в бессилии и злобе, он проснулся. Лунный свет, струившийся в окно, падал серебряной пылью на смуглые плечи девушки, скользил по темным ее волосам, гладил висок и осторожно, бережно касался ресниц. Она спала – первая его женщина за много месяцев постылой и позорной жизни; спала, утомленная ласками, и Семен ощущал, как чуть заметно колышется ее грудь, как согревает кожу теплое дыхание. Девушка без имени, без прошлого и без проблем, какие могли подстерегать в его эпоху; просто девушка, не ведавшая, что такое поцелуй, нежность губ, касание языка, но подарившая ему забвение, принявшая частицу его жадной силы. Он был благодарен ей – не только за готовность любить, пусть так, как она умела, но и за эту не требующую продолжения безымянность. Семен поднялся, обернул вокруг талии кусок полотна, прихватил завязками и вышел из маленькой комнатки. Было часа два или три ночи; перевернутый месяц стоял высоко, будто пряжка из серебра на ленте Млечного Пути, изукрашенной сапфирами и рубинами. Вдруг захотелось курить, и Семен, привычно хлопнув по бедру и не обнаружив кармана, чертыхнулся; потом, вспомнив о сонном кошмаре, пробормотал: – Приснится же такое! Как с бодуна… А выпил ведь всего ничего… Он передернул плечами и огляделся. Парк, дремлющий в лунном сиянии, был сказочно прекрасен и походил сейчас на темное ночное море; дворец наместника высился над ним как белый коралловый риф среди застывшего водоворота крон, ветвей и листьев. В этом дворце и разместили гостей, в покоях первого этажа, в западной части длинного, как футляр для флейты, здания. Дворец, возведенный в самой высокой точке острова Неб, был двухэтажным, и с обеих его сторон шли крытые галереи с лестницами; южная спускалась в сад, тянувшийся по склону холма до городских окраин, а северная – в хозяйственный двор с конюшнями и амбарами, кухнями и помещениями для слуг. Комнаты второго этажа выходили на галерею, а первого – под нее, прячась за строем массивных колонн, что, вероятно, давало защиту от зноя. А заодно – густую тень, непроницаемую для лунного света. Семен, прижавшийся к теплому камню, будто утонул в ней, впитывая свежие запахи зелени, слушая стрекот цикад и резкие вскрики каких-то ночных птиц. Сна не было ни в одном глазу. Постояв минуту-другую, он медленно двинулся вперед, к темневшим в отдалении зарослям и мостику над протокой, соединявшей два пруда. Остывший песок дорожки холодил босые ступни, смутные контуры деревьев и кустов скользили мимо; вверху, в разрывах между перистыми листьями пальм, светились звезды, внизу царила глубокая беспросветная тьма. Семен не знал, куда шагает; шел бездумно, поглаживая шерстистые пальмовые стволы, вдыхая аромат цветов и всматриваясь в неяркое зарево, дрожавшее где-то за мостиком и прудами. Этот свет чаровал его, словно пламя свечи – мотылька. Факелы, подумал он; два или три, и горят в павильоне. В том самом, с колоннами в виде пучков папируса… Интересно, зачем? Может, наместник проголодался и подъедает остатки недавнего пиршества? Или ударился в запой? Сидит, бедолага, и горькую пьет… Хотя какая тут горькая – ни коньяка, ни водки! Тут, чтоб напиться, бочки не хватит! Впрочем, Пауах, бравый солдат, все-таки исхитрился… Мысли текли сами собой, а ноги, будто отдельные части тела, никак не связанные с головой, несли его к мостику и дальше, в глубокий мрак среди древесных стволов, куда, изгибаясь и виляя, уходила дорожка. Семен ступал бесшумно, втягивая носом воздух и всматриваясь в темноту; вскоре к аромату цветов добавился запах гари, а слабый розоватый ореол распался на три мерцающие точки – там, в павильоне, и правда горели факелы, прикрепленные к столбам-колоннам. Он замер, остановившись в кустах, на самой границе освещенного пространства, в шагах десяти от беседки. В ней, расположившись на тростниковых циновках и коврах, сидели трое: друг Инени в своем обычном белом одеянии, владыка Южных Врат в домашнем – то есть в полотняной юбке, без парика и ожерелий, но при браслетах, и третий компаньон – старик с хмурой морщинистой рожей, в коричневой тунике, перехваченной ремнями. Плечи его и лысый череп украшали шрамы, левый глаз горел дьявольским огнем, правый – видимо, вытекший – был плотно зажмурен, и на одной руке, как показалось Семену, недоставало пальцев; словом, выглядел этот тип бывалым рубакой, из тех, что за царя и отечество не пожалеют ни жизни, ни крови – особенно чужой. Семен принялся его разглядывать, но тут позади что-то зашуршало, послышалось чье-то шумное дыхание, чья-то лапа опустилась на плечо, а другая потянулась к горлу. Его реакция была мгновенной: не оборачиваясь, он присел и, захватив шею нападавшего, швырнул тяжелую тушу через голову. Но враг оказался не один – в кустах все еще ворочалось и шебуршилось, и Семен наугад двинул ногой, однако попал не по живому, а по колючей толстой ветке. Скрипнув зубами от боли, он попытался отступить, но тут из зарослей вынеслось нечто темное и смутное, ударило его в живот словно футбольный мяч, и, падая, он ощутил под пальцами короткие курчавые волосы, уши и мускулистую шею. Упал он по всем правилам, как учили в десантных войсках, сжавшись в комок и подтянув колени к подбородку – не только упал, но ухитрился чуть сместиться в сторону и оттолкнуть противника. В следующий миг он был уже на ногах и разглядел в неярком свете факелов двух нападавших – маджаев-телохранителей Рамери; видно, они стояли на страже, как и положено качкам при тайных встречах крупных шишек. Время, однако, было иным, и ничего смертоносного вроде «узи» или базук у этих парней не оказалось, а были за поясами палки – правда, весьма увесистые, с медными набалдашниками. Вытянув их, маджаи двинулись к Семену с двух сторон. Он прыгнул к первому из воинов, перехватил его запястье, ударил в пах коленом; тот согнулся, и кулаки Семена чугунными гирями рухнули на курчавый затылок. Об этом можно не беспокоиться, мелькнула мысль, пока он разворачивался к второму нападавшему, рослому детине, летевшему на него будто разъяренный носорог. Мягко повалившись на спину, Семен подхватил его ступнями под ребра и подтолкнул, выпрямив ноги, затем поднялся и стукнул легонько пяткой в висок. Прогресс в рукопашной налицо, подумал он, наклонившись и оглядывая хрипевших на земле кушитов. Будут жить! Если, конечно, позволит сиятельный Рамери… А это уж дело удачи! Не объяснять же ему, что в грядущих веках безымянные гении придумают искусство драк и доведут его до совершенства, а потому не стоит предкам тягаться с потомками. Нет, не стоит! Особенно с теми, кто отслужил в ВДВ. Семен выпрямился и посмотрел на троицу в беседке. Битва заняла пару минут, и, кажется, Инени и наместник провели это время в полном ступоре, раскрыв рты и выпучив глаза. Реакция старого воина была совсем другой: этот стучал кулаком по колену, вытягивал шею и гоготал, как целое стадо гусей. Потом ткнул в Семена рукой с обрубками двух пальцев и рявкнул: – Ты кто такой? Чтобы тебе Анубис кишки вывернул! Ты где научился так драться, шакалья моча? – Грм… – Инени, наконец, обрел голос. – Это ваятель Сенмен, брат Сенмута, достойнейшего из моих учеников. Он… Видишь ли, славный Инхапи, он сбежал от дикарей страны Иам и до сих пор не в себе. – Жрец поклонился властителю Южных Врат, чье лицо начало наливаться кровью. – Вспомни об этом, сиятельный, и прости его! Я думаю, он погорячился. – Погорячился! Хоу, погорячился! – Тот, кого назвали Инхапи, захохотал, и смех его был похож на хриплый рев боевой трубы. – Слышал я об этом парне! Все саррасские ремеч меша[767] о нем болтают! Сотню нехеси уложил, так? – Кажется, их было все-таки поменьше, – сообщил Семен, придвинувшись на пару шагов. – Я их не пересчитывал в темноте. Маджаи поднялись, задыхаясь и кашляя, а вместе с ними встал наместник, багровый, словно плод граната. Он был разъярен, но гнев его явно не относился к Семену. – Вы, дети краснозадых павианов! Так вы храните господина? Его покой, его достоинство и честь? Хватаете его гостей, а, схвативши, валитесь от легкого тычка! Смердящие гиены! Недоумки! Чтобы Сетх вырвал ваши трусливые сердца! – Рамери опустился на ковер, провел ладонями по лицу и внезапно молвил спокойным голосом: – Утром явитесь к правителю моего дома. Каждому – пятьдесят палок. – Десять, – сказал Инени. – Амон милостив! Десяти вполне достаточно. – Пятьдесят на двоих, – уточнил наместник. – А сейчас – вон! Телохранители исчезли. Семен двинулся было следом, но Инени окликнул его: – Постой! Садись ни циновку, если проснулся. Садись и слушай! Вдруг придет к тебе мудрая мысль… что-то скажешь, посоветуешь… или предостережешь… – Хоу! – Инхапи поскреб шрам на темени. – Кулаки у него, конечно, крепкие, а вот голова… Ты ведь говорил, что он до сих пор не в себе? – Это так и не так… не совсем так… В одних делах он будто дитя, забывшее путь к родному дому, зато в других мудрее Тота, и речи его направляют разум и примиряют людей – даже столь кровожадных, как дикари-кушиты. И в этом нет ничего удивительного, ничего странного, доблестный Инхапи. Разве можешь ты сказать, куда полетит журавль – в свое гнездо, или кормиться в камышах, или в поля, где тоже довольно пищи? Можешь ли знать, куда поползет муравей – к речному берегу, на виноградник или к пальмам? А люди устроены сложнее журавлей и муравьев! Ибо великий Хнум, когда творил человека… – Кал гиены! – рявкнул старый воин. – Ты из синего сделаешь красное, и от твоих разговоров темеху почернеет, нехеси побелеет, а пиво скиснет! – Он хлопнул трехпалой ладонью по циновке. – Как тебя?.. Сенмен?.. Иди сюда, садись! Иначе жрец будет болтать до утра! Семен подошел и сел напротив Рамери. Тот окинул его внимательным взглядом. – Клянусь пеленами Осириса! Не заметно, чтоб ты утомился, ваятель… Ты бодр! Выходит, девушка ленилась и опозорила мой дом? Придется и ей отведать палок! – Это только видимость, сиятельный, – пробормотал Семен. – На самом деле я еле держусь на ногах, а то, что между ними, обвисло, как мокрая тряпка. Девушка очень старалась! Пусть мне отрежут нос и уши и сгноят в рудниках, если я лгу! – Сохрани тебя от этого Амон! – жрец сделал знак, отвращающий несчастье. – Ну, если мы закончили с палками и нерадивыми слугами, то не вернуться ли к делам? – Он дождался кивка наместника и, прикоснувшись к свисавшему с шеи амулету-соколу, нараспев произнес: – Гор слышит, Гор видит, Гор помогает узнать еще неизвестное! Вот вопрос из тех вопросов, какие мирный человек задаст солдату – не просто солдату, а лучшему из лучших, начальнику над колесницами и пешим войском, над копьеносцами и лучниками. Я спрашиваю: может ли корпус Сохмет подняться, сесть на корабли и приплыть от второго порога к острову Неб и Южным Вратам? Хватит ли для этого судов? И хватит ли пропитания для воинов? И можно ли все это сделать за три-четыре дня? – Зачем? – спросил Инхапи, но жрец, будто не слыша, продолжал: – Вот другой вопрос из тех же вопросов: могут ли воины добраться в Уасет в начале месори, если прикажут им тронуться в путь в конце эпифи? – Зачем? – Глаз военачальника блеснул кровавым отсветом пламени. – Зачем, жрец? И кто нам прикажет? Серьезные завариваются дела! – решил Семен, посматривая из-под опущенных век то на хмурую физиономию Инхапи, то на друга Инени, то на властителя Южных Врат, чье лицо казалось застывшей высокомерной маской. Он уже разбирался в названиях месяцев и городов и мог сообразить, что вопросы жреца носят риторический характер. Все, разумеется, возможно! Вывести корпус Сохмет из южных крепостей, сосредоточить в Небе тысячи воинов и держать их наготове, чтобы в определенный день и час отправить в Уасет. Уасет, или Нут-Амон, а попросту – Город, являлся столицей Та-Кем, которую позже назовут египетскими Фивами, но для Семена это большого значения не имело. Важнее другое: солдаты в столице – жди переворота! – Кто нам прикажет? – повторил Инхапи, и глаз его вновь загорелся огнем. Не дождавшись ответа и выдержав паузу, он произнес: – Ты звал меня, жрец, и я приехал. Ты отправил послание, и вот я здесь. Но, клянусь секирой Монта, не для того, чтобы слушать пустую болтовню! Скажи мне прямо – кто тебя послал? Зачем ты здесь? Инени погладил бритый череп и, к удивлению Семена, вдруг подмигнул военачальнику. – Я совершаю путешествие… так, из любопытства… А заодно доставлю в храм Амона благовония. Ты ведь знаешь, что в южных землях много ароматных смол и зерен? Кифи, мирра, ант и так далее… Нам нужно обновить запасы. Так повелел премудрый Софра. – Обновить запасы! Видно, храм обезлюдел, третий пророк, если тебя послали за благовониями! Других, выходит, не нашлось? Или не благовония нужны, а корабли с солдатами? Вместо анта – лучники, а вместо кифи – колесницы? – Инхапи откинулся назад, фыркнул и захохотал, разинув пасть с остатками зубов. – В чем тут правда, жрец? – спросил он, отсмеявшись. – В том, что ты послан Софрой? – Предположим, что так, – кивнул Инени, переглянувшись с наместником. – Наш властитель Мен-хепер-ра – жизнь, здоровье, сила! – слишком молод и нуждается в опоре и наставнике. Наставники есть, и это хорошо, но плохо, когда их в избытке. Премудрый Софра, доблестный Хоремджет… ну, и кое-кто еще. Саанахт, начальник Дома Войны, уже стар и не может согреться даже в месяц месори, а власть над корпусом Амона принадлежит Хоремджету… Так что Софра был бы спокойней, если бы в окрестностях Уасета вдруг появились твои воины – скажем, тысяч пять или шесть. Вес уравновешивают равным весом, понимаешь? – Равным весом! – Инхапи снова фыркнул, на сей раз – презрительно. – В меше Амона – землепашцы, горшечники да городские щеголи, хуну неферу, которых набрали в Пиоме, Буто и Саи… они как трава, куда помочился шакал! А мои солдаты – менфит, лучшие из лучших! Люди первого Джехутимесу, что шли перед царем как дыхание огненное, львы, что бились на севере и юге, в странах Хару и Джахи и в стране Иам… Чезет моих бойцов против трех чезетов Хоремджета – вот равный вес[768]! Но ради спокойствия Софры я не приду в Уасет… Ради него я не пожертвую ногтем с пальцев, отрубленных подлым хик’со! – Он помахал у носа Инени своей искалеченной рукой. Хранитель Южных Врат, слушая Инхапи, сидел с каменным лицом, но жрец, как показалось Семену, был доволен. Огладив бритый череп, он поинтересовался: – А ради Великого Дома – придешь? – Ради щенка сирийской суки? Слишком я стар, чтобы бегать за ним с опахалом! А к тому же… – Военачальник сделал паузу и, бросив взгляд на Рамери, ухмыльнулся. – Я тоже мог бы стать хаке-хесепом, как наш благородный хозяин… Правда, я из немху, но сам Яхмос – да будет он счастлив в полях блаженных! – почтил меня, назвав спутником царей и предводителем войска. Я поднялся из теп-меджет, я слушал его зов и был ему верен, и сыну его Амен-хотпу, и внуку, первому Джехутимесу… Каждый – великий Гор, могучий, как бык Апис, жизнь, здоровье, сила! Воистину, ради них стоило проливать кровь и получать увечья! И чем мне за это отплатили? Второй Джехутимесу сослал меня в Куш! Ему не нужны были воины – ведь он не имел ни силы, ни здоровья, ни долгой жизни… И сына от царицы Исида ему не послала… Послал ублюдка Сетх! Щека Рамери дрогнула при этом неслыханном богохульстве, и, заерзав на коврах, он пробормотал: – Потише, Инхапи, потише! Помни: царь есть царь! Он дунет в Уасете, поднимется буря за третьим порогом! Шрамы Инхапи налились кровью, он стукнул кулаком по колену, будто вгоняя клинок в горло врага, и проревел: – Поднимется! Непременно поднимется, если я посажу на корабли копьеносцев и лучников и отправлюсь в Уасет. Вот это будет буря, клянусь священной задницей Осириса! Наклонившись вперед, Инени заглянул в лицо военачальника и медленно, с расстановкой произнес: – Да будет так! Посадишь, и отправишься, и доберешься в Уасет к третьему дню месори. Царица приказывает тебе и обещает каждому воину кувшин пива, кольцо серебра, почет и усыпальницу в Западных горах. Это ее приказ и ее обещание – не Софры, не Великого Дома! Вот, взгляни на мой амулет… Ты узнаешь его, Инхапи? Заговор! Эти трое – заговорщики! Что-то щелкнуло у Семена в голове, сдвинулось, завертелось, распределяя события и факты, слова и недомолвки по своим местам. Места же были очевидными и ясными, как божий день. Истину я не могу поведать, сказал Инени – но вот она, истина! Заговор, переворот, хоть внешне непохожий, но одинаковый по смыслу в любой эпохе, в любых краях и землях! В конце концов, какая разница – танки на московских улицах или лучники на площадях Уасета? Суть едина, только этот путч обязан быть успешным, ибо так гласит история… Ввязаться в заговор с риском что-то изменить, чем-то напортить? Страшно… А не ввязаться еще страшней – ведь он уже здесь, в далеком прошлом, а это и есть самое главное изменение! Или все-таки нет? Быть может, его перенесли сюда с какой-то тайной целью, и все проистекает так, как и должно проистекать… Значит ли это, что он свободен в своих решениях и действиях, пристрастиях и выборе? Мысли метались вспугнутыми птицами, глаза следили за жрецом, который, сняв цепочку с золотой головкой сокола, протягивал ее Инхапи. Тот прикоснулся к амулету, осмотрел его, погладил пальцем темный камень, изображающий глаз, и буркнул: – Уджат[769] владык моих Яхмоса, Амен-хотпа и Джехутимесу… Ты не спешишь, черепаший сын! Мог показать его раньше, а не испытывать меня! – Инхапи сделал знак почтения, потом, запрокинув голову, уставился в звездное небо. Морщины у его губ разгладились, рот приоткрылся, и некая мечтательная тень скользнула по хмурой физиономии. – Царица… Я помню ее… помню пять, и десять, и двадцать разливов назад… дочь царя, сестра царя, великая царская супруга… хотя на царском ложе ей не очень повезло… Ну, пошли Амон ей счастья, а старый Инхапи не подведет! Вот только… – Только? – Инени приподнял бровь. – Если я отправлюсь с сотней кораблей на север, такое лишь слепец не разглядит. А зрячих в Та-Кем – как блох в собачьей шкуре… Увидят, донесут! Если Софре, не страшно – подумает, что я спешу к нему на помощь. А если Хоремджету? Плыть от порогов до Города семь дней, и за этот сроквсякое может случиться… и с царицей, и с Софрой, и даже с Великим Домом… «Верная мысль, – решил Семен. – Страна ведь – как сливная труба, шаг влево, шаг вправо – сгоришь в пустыне, а что и зачем по трубе плывет, то каждому заметно. Если корабли с войсками, да еще в столицу, тут уж и гадать-то нечего! Ну, приплывут, столица на месте, да без царицы! А царь – вот он царь, сидит на троне, кушает финик, и при нем – Хоремджет…» Он прочистил горло, уже не думая о том, куда и во что придется ввязаться и чем грозит ему – а главное, истории! – подобный поворот событий. Сомнения и страхи вдруг покинули Семена, и родилась уверенность, что ниточка его судьбы уже вплетена в некую прочную ткань, связана с ней крепко-накрепко и что бы он ни сделал, какой бы подвиг или глупость ни свершил, нитку из ткани уже не выдернешь. А если так, чего бояться? Трус не играет в хоккей! Инени кивнул ему: – Что-то хочешь сказать, Сенмен? – Не сказать, спросить. – Он повернулся к Инхапи. – Среди твоих солдат, почтенный, есть уроженцы Уасета? А также других городов неподалеку от столицы? – Семен бросил взгляд на жреца, и тот принялся перечислять: – Южный Он, Танарен, Кебто, Джеме… Да я сам из Кебто, из пятого сепа. – И много их, этих воинов? – Две трети, если не больше… К чему ты клонишь, ваятель? – К тому, что у этих людей есть родичи, которых они захотят навестить. Отпусти их домой, Инхапи. Пусть плывут небольшими группами, спрятав оружие, пусть идут гребцами на грузовые баржи или в конвой. И так – день за днем, постепенно, незаметно… Пусть остановятся в Уасете у своих родичей, сидят тихо, как мыши, не пьянствуют, не бродят по улицам… Ждут! Инхапи прижмурил на мгновенье здоровый глаз, потом раскрыл его и с удивлением уставился на Семена. – Хоу! Соображаешь! Тысяч пять так можно перебросить… чезеты Львов, Пантер, Гепардов и Гиен… вот только с колесницами не выйдет… – А зачем колесницы в городе? Город – не поле, там их не развернуть. Там нужны стрелки и пехота с мечами и топорами… ну, еще копейщики на всякий случай. Нужны хорошие командиры, знающие город, способные быстро собрать людей. Преданные, решительные… Слушая его, Инхапи покачивал головой как заводная игрушка и, наконец, ухмыльнулся, растянув до ушей щербатый рот. – Ты и правда ваятель? Хмм… Удивительно, клянусь Сорока Двумя! А повадки такие, будто год за годом лез на стены, разбивал ворота и вспарывал животы! Впрочем, как болтают в Саррасе… – Он замолчал, наклонился к Семену и ткнул его кулаком в грудь. Кажется, это считалось знаком одобрения. – Вот видишь, – заметил жрец, лукаво поблескивая глазами, – я ведь прав, когда рассуждаю о сложной человеческой природе. Он не помнит городов под Уасетом, но знает, как утихомирить разбушевавшихся кушитов, как тайно переправлять солдат и какие воины нужнее на улицах и площадях. А все потому, что Хнум… – Хнум, Хнум! – бесцеремонно перебил Инхапи. – Хнум вылепил немало глупцов, бездельников и болтунов! Решают же молчащие… Вот, взгляни на нашего хозяина, на благородного Рамери! Он молчит, но встретились мы по его воле и в его доме. Потому что он так решил! – Еще не решил, – веско произнес властитель Южных Врат. – Я еще раздумываю и решаю. Конечно, Мен-хепер-ра – жизнь, здоровье, сила! – слишком молод, но не годится, чтобы верховный жрец или начальник войск, подобный выскочке Хоремджету, правил вместо него. Конечно, супруга бога Хатшепсут прекрасна и мудра, как знает об этом каждый в Обеих Землях… Все это так! Но женщины не созданы для власти. – Не забывай о прошлом, сиятельный, о далеком и недавнем прошлом, – возразил Инени. – Разве не правили в древности Обеими Землями Нит-окре и Нефер-сук? Разве Аххотеп и Нефретири, великие жены царей[770], не разбирались в делах правления? И разве наша владычица не превосходит всех их мудростью? – Превосходит, – согласился наместник, – и потому я готов ей служить. Почти готов! Если узнаю, что получу за это. При этих словах Инхапи ухмыльнулся, а жрец с кислым видом покачал головой. – О, люди, люди! Даже самые достойные из вас греховны, ибо в каждом деле ищут выгоду, забыв о краткости жизни и о том, что ждет их суд Осириса! Ну что ж, мой господин, ты не лучше и не хуже прочих… И, как любой из нас, желаешь к собственной выгоде прозреть грядущее… Давай-ка спросим о том Сенмена, и пусть он скажет, что ты получишь. – Жизнь, здоровье, силу, – перечислил Семен, стараясь скрыть улыбку. – Жизнь твоя продлится до старости, здоровье не потерпит ущерба, а сила, которой тебя наделили боги и пер’о, останется с тобой. Ты все сохранишь, сиятельный, пока живет и правит Хатшепсут. В противном случае… Он смолк, но Инени пояснил недосказанное: – Силу твою, богатство и власть сжуют, как финик, тебя же выплюнут, как косточку. Кто ты для великой царицы? Наследственный хаке-хесеп, служивший ее отцу, наполнивший войско людьми, а житницы – хлебом! Кто ты для юнца, который сидит в Великом Доме? Никто! Твои заслуги – пыль в его глазах, и если о них когда-нибудь вспомнят, то через много лет. Когда осел поднимет хвост и капнет золотом, а кошка разродится журавлем… Можно и не дожить, мой господин. – Определенно, нет, – подвел черту Инхапи. – Определенно! Если в Небе или Севене задержат корабль с моими людьми, или откажут им в пище, или не включат в конвой. Случись такое, я не стану ковырять в ослиной заднице! Быстро они спелись, решил Семен, посматривая то на жреца, то на мрачно усмехавшегося военачальника. Да и сам он дудел в ту же дуду, к чему имелись веские причины. Хотя бы такая: рыба ищет где глубже, а человек – где лучше! И Рамери, и одноглазый генерал, и даже красотка Хатшепсут были ему безразличны, но о Сенмуте и друге Инени этого не скажешь. Да и о нем самом! Он в точности знал, где будет лучше – и ему, и брату, и девочке То-Мери, и множеству других людей, которые волею судеб стали его современниками. Лучше жить в мирной стране, где правит женщина, а не кровавый деспот! Рамери вскинул ладони к плечам. – Велик Амон! Вы меня убедили – ты, ты и ты, – он поочередно ткнул пальцем в Семена, жреца и Инхапи. – Теперь я отправлюсь спать, и сон мой будет спокоен. Надеюсь, я увижу какой-нибудь знак божественного благоволения – полные закрома или девять тучных коров. – Их будет двадцать, – заметил Семен, подумав о годах правления царицы. – О большем я не прошу. Пойдем, Инхапи! Клянусь всевидящим Гором, тебе не нужно ковырять в ослиных задницах. Выпьешь на ночь чашу вина и скажешь мне, когда придет твой первый корабль с воинами… Они удалились, оставив Семена с Инени в беседке. Догоравшие факелы чадили, свет их был тусклым, неровным, но на востоке, за рекой, уже прорезалась первая алая полоска зари. С низовьев потянуло ветерком, предвестником утра, и деревья в саду вдруг ожили, зашелестели, купаясь в прохладных воздушных потоках. Пение цикад сделалось тише, сменяясь робким птичьим щебетом. – Кажется, ты мечтал о мягком ложе в эту ночь? – произнес Семен, всматриваясь в лицо Инени. Зевнув, тот улыбнулся. – И продолжаю мечтать… Но что поделаешь! Нет награды, нет и наказания, как говорят в Уасете… – Инени потер кулаками глаза, потом наклонился к Семену и негромко промолвил: – Теперь ты знаешь все, мой друг, и понимаешь, что мне не хотелось втягивать тебя в опасные дела. Но воля богов превыше моей! Откуда бы ты ни пришел, ты появился вовремя. Ты помог мне решиться. – Что ты имеешь в виду? – Вспомни свой совет: держись подальше от молодого Джехутимесу, служи царице и радуйся жизни… Двое послали меня к Южным Вратам, не ведая, но догадываясь о намерениях друг друга: Софра, первый пророк и мой господин, и прекрасноликая владычица. Каждый хотел бы склонить Инхапи в свою пользу и заручиться помощью его и Рамери. Я мог выбирать! Мог бы напомнить им, что Софра далеко не стар и происходит из царского рода, что сердце его склоняется к царице и их союз был бы для Та-Кем благодеянием… Мог бы поведать кое-что еще… Слова у хитроумного жреца всегда найдутся! – Инени с усмешкой коснулся пальцем губ. – Но ты сказал: служи царице! А она не желает пускать мужчин на свое ложе, ни Софру и никого другого. Она хочет править сама! Хочет надеть клафт и корону с уреем, взять плеть и скипетр[771] и сесть на трон владыки Обеих Земель! Такова ее воля, и я, вняв твоему совету, сказал то, что было сказано. И ты это слышал. – Слышал, – отозвался Семен и кивнул, подтверждая свое участие в заговоре. – Я слышал все, но не увидел среди вас своего брата. Почему? – Брат твой неглуп и знает: если дерутся быки, достается траве. А он пока что трава, ибо подобных ему писцов и семеров в Та-Кем сотни и тысячи. Конечно, он догадался, что я сопровождаю его не из простого любопытства… Однако держит догадки при себе! – Мудро, – обронил Семен. – Мой брат и в самом деле человек достойный. Думаю, ждет его великое будущее. Бровь Инени приподнялась. – Думаешь или знаешь? Дьявол! – мелькнуло у Семена в голове. Как ни крути, а шагу не ступишь без пророчеств! Он закусил губу, уставился на тлеющий факел и буркнул: – Знаю!* * *
Их барка отплыла после полудня, вслед за большим кораблем Инхапи с бушпритом в форме рыбьего хвоста. На корабле поставили парус, и он медленно двинулся вверх по течению, к далеким крепостям, где воины меша Сохмет хранили покой второго нильского порога. Тоскливая это участь, думал Семен, стоя на корме, рядом с корабельщиком Мерирой и провожая парус взглядом. Тоскливая вдвойне – от скуки гарнизонной жизни и мыслей о былых победах, славных битвах и городах врагов, где каждый дом и двор сулят добычу… Нут-Амон, конечно, нельзя считать вражеским городом, но все же в нем повеселей, чем в цитаделях юга. Столица, как-никак! Храмы, дворцы, усадьбы богатых и знатных! Пиво, девочки, почет, коловращение жизни! Что еще надо ветеранам? Российским, пожалуй, квартиры и пенсии, а этим, местным, – царская ласка да усыпальница в Западных горах… Добавить еще колечко, и вынесут из города хуну неферу вместе с их Хоремджетом… Мудра царица, мудра, ничего не скажешь! Кормчий прервал его мысли, пробормотав хриплым шепотом: – Да будет с тобой, семер, и с братом твоим благословение Амона! Вы осчастливили меня! – Он покосился на Абет, дородную женщину лет сорока, сидевшую рядом с То-Мери под стеной каюты. – Вы дали мне больше, чем я просил – и жену, и дочь! Клянусь, я буду верен вам, как парус – мачте, как руки гребца – веслу! Я буду слушать ваш призыв и править вашей лодкой, пока не отойду в царство Осириса. Никто не скажет, что Мерира – неблагодарный пес, не помнящий добра! – Не торопись благодарить, – вымолвил Семен. – Дочь – это неплохо, но ты еще взял жену, а жены бывают всякие. Есть и такие, что хуже разбойника. – Это как, мой господин? – Разбойник хочет твое добро или жизнь, жена – то и другое. Мерира усмехнулся. – У меня нет добра. Даже отцовской мумии, ибо я не ведаю, кто был моим отцом. Чтобы на меня Исида помочилась, если лгу! Я ведь родился в Хетуарете, господин, в те времена, когда им владели хик’со. – И что же? – Может, один из них – мой отец, да только мать мне об этом не сказала. А может, сказала, да я не помню… – Мерира захихикал. – Я ведь расстался с ней дня через три после рождения и знать не знаю, кем она была – шлюхой или из благородных. Меня нашел жрец на пороге святилища Сетха, а вырастили храмовые прислужницы и поварихи. Но я от них удрал… сначала – к рыбакам, потом – к джахи из Гебала, морским грабителям, а после – на царский корабль. Так что я сам из разбойников, и шкуру мою расписали бич и бронза. Вот, – он продемонстрировал шрам на предплечье, – это от стрелы шерданов, а это – от плетей кефти, а здесь – след от веревки, когда меня хотели повесить шекелеша…[772] – Богатая у тебя была жизнь, – почтительно сказал Семен. – А говоришь, что не нажил добра! Память – вот твое сокровище, Мерира. – Он помолчал и добавил: – Когда-нибудь расскажешь мне, как тебя вешали шекелеша. – С удовольствием, господин! На ночлег в тот день остановились в Севене, городе на восточном берегу, вблизи каменоломен, где добывали прекрасный гранит, розовый, точно утренняя заря, и багряный, подобно финикийскому пурпуру. Здесь, как обещал Рамери, уже дожидался караван из десяти судов, низких, плоских и широких барж, предназначавшихся для перевозки камня и бронзовых слитков, что выплавлялись на рудниках Бухена. При виде массивных плотных глыб руки у Семена зачесались, глаза сощурились, и где-то под сердцем плеснуло теплой волной, как после стакана коньяка. Взять бы отбойник и молот и высечь, вырезать, вырубить! Что? Да все, что видел: девчушку в возрасте То-Мери, глазевшую на корабли, ее отца – рыбака, а может, охотника, женщину, что шла вдоль причалов с корзиной на плече, рослого стражника-маджая, чиновника в паланкине, который тащили восемь кушитов, грациозную девушку с кошкой, прильнувшей к ее ногам, гордого колесничего в громыхающей повозке, мускулистых гребцов и скорохода с выпуклой грудью и длинными, словно у журавля, ногами… Соблазн! Дьявольский соблазн! Казалось, трех недель не прошло, как потел в баштаровом подвале, ругался и проклинал свое ремесло, а в пальцах снова зуд… Вроде как сам себя хочешь в рабство продать?.. – спросил Семен у Сенмена. Или Сенмен у Семена? Но суть была не в именах и даже не в том, являлись ли они разными личностями или одной и той же, возродившейся через столетия и, по воле загадочных сил, вернувшейся к своему прототипу, прежнему «я», чтобы снова слиться с ним; суть заключалась в их тяге к молоту и камню, в страсти к явлению форм, что скрыты в его глубине, в том даре, благословенном и проклятом, что держит в рабстве всякого творца. Но эта неволя была сладкой. Они отплыли из Севена в первый день фаменота, который следовал за месяцем мехир. Лучшее время в Обеих Землях! На севере – зима, а тут – весна, воздух прохладен и пахнет свежестью, поля и рощи зеленеют, солнце палит не так яростно, и воды великой реки еще не убыли; послушно несут они суда и плещут у причалов. Погода казалась Семену такой, как в Петербурге в мае, если выдастся месяц теплым и не дождливым – редкость в родных местах, где климат капризен, как избалованная женщина. Но здесь не знали природных капризов, ибо Нил трудился словно отлаженный тысячелетиями агрегат: в должный срок воды его поднимались и в должный – спадали, и, подчиняясь этому вечному ритму, сезоны ша, пер и шему – Половодья, Всходов и Засухи – сменяли друг друга. Чередование их было привычно и знакомо с древности, и потому считалось, что время вовсе не движется вперед, а змеится кругами и всякий раз следует прежней, проторенной в веках тропой. Лишь человек, рождаясь и умирая, свергая и борясь за власть, строя и разрушая, упорно сражался с этой иллюзией неизменности. Но сейчас время казалось застывшим, точно муха в куске янтаря. Река неторопливо струилась к морю, и караван день за днем плыл между зеленых нильских берегов, мимо полей и пальмовых рощ, мимо богатых усадеб, тонувших в садах, мимо селений, мастерских, каменоломен и гранитных пристаней, за которыми высились то пилоны храма, то стены крепости или военного лагеря, то белые, желтые, красные городские дома, сложенные из песчаника или из обожженных на солнце кирпичей. Ни лесов, ни гор, ни широких степных пространств и других привычных Семену пейзажей тут не наблюдалось; возделанные земли сменялись скалами или болотами, замершими под теплым солнцем, и эти скалы да заболоченные низменности в зарослях тростника были, вероятно, последним оплотом дикой природы. В них водились лягушки, жабы и цапли с изящными гибкими шеями, плавали утки и гуси, плескала рыба, а временами, к радости Семеновых спутников, проносились священные птицы Тота, длинноклювые ибисы, белые, с черной головкой и черным хвостом. Крупных животных Семен не видел, если не считать дремавших на отмелях крокодилов и домашнего скота – коров, ослов, овец и антилоп. Селения встречались все чаще и чаще, и все больше судов и лодок, тростниковых и деревянных, покачивалось на речной поверхности. Лодки были рыбачьими, а корабли, подгоняемые северным ветром, шли в верховья под парусами, другие спускались на веслах вниз, и царский караван, в котором не было недостатка в гребцах, обгонял их под свист и торжествующие вопли корабельщиков. На шестой день пути, считая от острова Неб и Врат Юга, речная долина резко изогнулась вправо; тут, как объяснил Семену Инени, Великий Хапи, встретив преграду в виде отрогов Ливийских гор, делал огромную петлю шириной в десять сехенов – то есть более ста километров: сначала устремлялся на восток, потом – на север и на запад и, наконец, обогнув горную цепь, возвращался к прежнему своему направлению. У северного изгиба начинался канал, тянувшийся параллельно реке до самой Дельты, а на восток, через пустыню, была проложена дорога до гавани Суу, стоявшей у Лазурных Вод; там находились крепость с гарнизоном, верфи, склады и корабли, плававшие в землю Та-Нутер – не иначе как в легендарный Пунт. Кроме того, петля была обильна городами; здесь стояли Кебто, столица пятого верхнеегипетского сепа, Южный Он, Кенна, Джеме, Танарен – и, разумеется, Уасет, град Амона, который его жители называли просто Нут – Город. Здесь, у облицованной камнем пристани, и закончился путь каравана. Спрыгнув на причал и прижимая к себе оробевшую То-Мери, Семен огляделся, вздохнул, втянул прохладный свежий воздух и сделал первый шаг. Внезапная мысль пронзила его: земля под ногами, сухая и непривычно красноватая, была землей его новой родины, а город, стоявший на ней, – местом, где он будет жить и где, скорее всего, умрет. А после, отправившись за Реку, ляжет в одной из гробниц Долины Мертвых, среди усыпальниц царей и вельмож, писцов и воинов, немху и другого люда… Ляжет там закутанной в пелены мумией – до тех времен, пока какой-нибудь гробокопатель не извлечет его из склепа и не отправит ценным грузом в Лондон или Петербург. Может быть, в Париж, Берлин или Нью-Йорк, если возникнет там нужда в египетских покойниках… Семен ухмыльнулся. Странно, но эта перспектива отнюдь не казалась ему мрачной; он думал, что лучше уж расположиться на покой в музейном зале, среди статуэток в стеклянных витринах, чем сгнить под Питером на Южном кладбище. Он даже представил, какую табличку навесят на его саргофаг: «Сенмен, сын Рамоса и Хатнефер, ваятель эпохи Нового царства, предположительно – XVIII династия» – и это было куда солидней и основательней плиты над убогой питерской могилкой. Нет, мысль о том, чтобы лечь в эту землю и перебраться когда-нибудь в Лувр или Британский музей совсем не пугала его! Пугало другое: возвращение в свой век, столь же внезапное и не зависящее от его желания, как и провал в эту древнюю эпоху. Возвращаться ему решительно не хотелось.Часть II Год первый. Уасет
Есть вещи, что происходят между женщиной и мужчиной, и в них не дано вторгаться никому, ни брату, ни другу, а уж тем более писцам, царапающим палочкой папирус. Желание все описать в подробностях не оправдывает их, а лишь говорит о скудости ума, и этих скудоумных – прости меня Амон! – нынче развелось великое множество. И это в самом деле так – ведь только ленивый в наши времена не пишет повесть о своей никчемной жизни и не рассказывает в ней, скольких женщин он посадил на колени. Я же об этом умолчу…Тайная летопись жреца Инени
Глава 6 Царица ветров и тьмы
Каменный молот опустился, брызнули алые искры, заготовка подпрыгнула, едва не свалившись с неуклюжей гранитной наковальни. Семен чертыхнулся, прищурил глаз и ударил снова. Медленно, шаг за шагом, его железная кувалда превращалась в оружие; сейчас он, стараясь приноровиться к неудобному молотку, легкими точными ударами отбивал край будущей секиры. – Она не такая, как те, что у наших воинов, – произнес Пуэмра за его спиной. – Совсем не такая, учитель! Широкая, тяжелая… Я думаю, кроме тебя, ее никому не поднять. За месяц, прожитый Семеном в Городе, редкий день он не видел Пуэмры. Парень, напросившись к нему в ученики, торчал в мастерской с рассвета до заката и никакой работы не чурался: глину месил, рубил и резал известняк, изготовлял формочки для бронзовых отливок, а надо – так вставал к мехам и горну. Семен, поощряя его усердие, учил на совесть и учился сам, так как допотопный инструмент требовал иного навыка и ловкости, чем стальные отбойники и резцы. Кроме того, забыв на время о метрах и килограммах, он постарался привыкнуть к новым мерам длины и веса. Длину здесь исчисляли в локтях, и это было еще не самым неприятным – два локтя примерно составляли метр. Для малых длин применялся теб, чуть больше пары сантиметров, а для больших – сехен, в котором почему-то считалось двадцать две тысячи локтей, то есть километров одиннадцать. Мерой веса был дебен, и тут Семену пришлось изрядно попотеть, пока он не выяснил после долгих хитрых опытов, что в этом дебене граммов девяносто, а значит, в кедете, его десятой части, – девять. Для ваятеля храма Амона знание мер было столь же необходимым, как искусство читать иероглифы и скоропись. Но в последнем Семен еще больших успехов не достиг. – Качай! – Кивнув Пуэмре, он осторожно переправил заготовку в горн. – Слушаю, учитель! Взревело пламя, и потемневший металл начал постепенно алеть. Дрова давали слишком низкую температуру, чтобы расплавить сталь или хотя бы размягчить до нужной степени и отковать клинок, да и сталь оказалась неважнецкой – кувалда, она и есть кувалда, что с нее возьмешь? Из этих соображений Семен решил не мучиться с мечом, а изготовить секиру, но не такую легкую, с узким лезвием, как видел у солдат. Его секира будет шириною в три ладони, с крюком на обухе и с пикой – боевой топор, какими бились скандинавы. И воевать каменотесу с ней привычнее; хоть и не молот, а все-таки что-то родное. Военных действий в скором времени не ожидалось, однако не шла из памяти пословица: кто предупрежден, тот вооружен. Схватку с нехеси можно было счесть предупреждением, напоминанием о том, что этот мир опасен и жесток ничуть не меньше, чем двадцатое столетие. Там, сидя в чеченских подвалах, Семен мечтал об автомате и страшной мести, какую измышляет униженный рабством человек; здесь он был свободен, но жизнь и свобода тоже нуждались в защите – особенно в тот день, когда ветераны Инхапи сцепятся с воинством Хоремджета. Да и в любой другой, поскольку приятных сюрпризов в жизни гораздо меньше, чем наоборот. Заготовка нагрелась, и Семен вновь поднял свой неуклюжий молоток. – Небесное железо, – уважительно произнес Пуэмра, глядя, как лезвие секиры обретает форму полумесяца. – Почему небесное? Парень смутился; кажется, не хотел говорить о вещах, которых учитель не знает, чтобы слова его не были приняты за хвастовство. – Давай, телись, – буркнул Семен на русском между двумя ударами и тут же перевел: – Говори. Я преклоняю слух к твоим устам. – Железо бывает двух родов, небесное и земляное. Небесное посылает людям Ра, и потому оно крепкое и гибкое, а мягкое земляное привозят из страны хатти, но из него отливают лишь украшения. Бронза прочней земляного железа, но уступает небесному, такому, как твое. – Пуэмра покосился на секиру и добавил: – Конечно, ты все это знаешь, учитель. Руки твои искусны, а мудрость столь велика, что… – Качай! – приказал Семен, выпрямляясь. – Конечно, знаю. Я мог бы даже сделать железо хатти прочным и гибким, построив особую печь и расплавив его в огне горючего черного камня… Вот только камень этот где найти? – Фу-у… – выдохнул Пуэмра, обливаясь потом у рычага ножных мехов. – Ты… учитель… все найдешь… и все сделаешь… если – фу-у! – захочешь… Если бы так! – подумал Семен. Увы, из бронзового века не перепрыгнешь в железный ни за год, ни за двадцать лет… Да и надо ли прыгать? Знают в Та-Кем небесное железо, из никелевых метеоритов, и знают земляное, из страны хатти, но не умеют строить сыродутных печей, да и с углем напряженка… Но вряд ли он тут очутился, чтобы налаживать металлургию. Это дело пойдет своим путем, а у него найдутся другие интересы. Правда, какие, он до сих пор не выяснил. Сменив молоток на более легкий, Семен поправил лезвие и начал осторожно плющить обух, вытягивая его в полосу сантиметровой толщины. Звонкие удары рождали эхо под сводами мастерской, но кроме них да еще гула пламени в горне, не слышалось ничего. Городок ремесленников, примыкавший с севера к Ипет-сут, сегодня опустел; все мастера, подмастерья и ученики были на каком-то торжестве, знаменовавшем то ли первые всходы ячменя, то ли второй урожай бобов и лука. Возможно, смысл церемонии был более глубок и связан с оживлением Осириса, но в местных празднествах Семен пока что плохо разбирался. Неудивительно – как оказалось, этих праздников не перечесть! С началом половодья отмечали Техи, день вина и опьянения, в месяц мехир – праздник Сева, в паини – праздник Долины, а в середине половодья – Опет, посвященный Амону и длившийся целых одиннадцать дней. Были, разумеется, и другие даты, с политическим оттенком, вроде Первого мая или Дня Конституции – скажем, праздник Сед в честь восшествия фараона на престол. Но об этом судьбоносном дне разговоры среди мастеров не велись – или его отмечали не в каждом году, или не было поводов для радости. Что праздновать, если фараон не тот? На малолетнего Мен-хепер-ра и царских приближенных он поглядел, сопровождая Сенмута во дворец, на прием, устроенный перед нынешними торжествами. Сборище было многолюдное, стояли они в задних рядах, в свите казначея Нехси, и дальность расстояния не позволяла увидеть лиц; однако, как показалось Семену, юный царь сильно проигрывал в сравнении со зрелыми мужами, опорой трона. С Софрой и Хоремджедом, Хапу-сенебом и Пенсебой, градоначальником Нут-Амона, и даже со старым дряхлым Саанахтом, правителем Дома Войны… Они держались независимо, как бы намекая, что отпрыск сирийской рабыни – не истинный царь, воплощение Гора, а нечто преходящее и временное. Еще раз нагрев секиру, Семен загнул крючок на обухе и вытянул его конец. В общем и целом оружие было готово; теперь молот сменится шлифовальным кругом, дабы снять неровности и окалину, где надо – заточить, где надо – заострить. Топорище из дерева аш, длиною в два локтя, поджидало в углу мастерской, у полок, заставленных фигурками. Они молчаливо намекали, что новый ваятель храма Амона не зря ест финики и кашу из овса; тут, среди глиняных изображений богов и священных животных, блестела бронзовая кошка, изящная и длинноногая, сияли полировкой скарабеи и грозно топорщил рога каменный Апис. Главным же творческим достижением являлся бюст Инени из серого известняка, еще не законченный, но, несомненно, удачный; даже Хапу-сенеб, второй пророк, нагрянул как-то в мастерскую, чтобы им полюбоваться. Друг Инени был удостоен изваяния не только в силу личных качеств и приязни, которую питал к Семену, но и по житейским причинам. Статус ваятеля и эта просторная мастерская, трое помощников, не считая Пуэмры, материал и инструмент, доступ в книгохранилище храма и масса иных привилегий служили зримым подтверждением влияния и власти Инени. Он стал для Семена не только другом, но и бесспорным покровителем, и этот каменный портрет являлся вполне уместной формой благодарности. Можно сказать, не уступавшей щедрости Инени – ибо, как считалось в Та-Кем, частица души человеческой живет в его изображении, и часть эта тем больше, чем заметней сходство. Разбить статую или стереть имя изображенного – страшная месть, жуткий поступок, что причинит душе непоправимый вред. Своим творением Семен способствовал бессмертию жреца, и труд его рассматривался как священный – ведь первым ваятелем был Хнум, вылепивший людей из глины! Пуэмра коснулся секиры и тут же отдернул палец – металл еще не остыл. Пламя в горне начало гаснуть, оседая в кучку малиновых углей, ровный гул огня сменился шипением и потрескиванием. Смутные тени, почти незаметные в солнечном свете, метнулись по стенам мастерской. – Подбросить дров? – спросил Пуэмра. – Нет. С ковкой все, теперь остались заточка и полировка. Но этим займемся завтра. Парень, рискуя обжечься, все-таки поднял топор, придерживая за крюк. – Пятьдесят дебенов, учитель, не меньше… Ну и тяжесть, владыка Амон! А цена! – Какая же цена? – поинтересовался Семен, споласкивая лицо и руки в горшке с водой. – Ну, не знаю… Но никак не меньше стада антилоп – большого стада! Или десяти хороших слуг, или жилища с водоемом и садом, или виноградника в десять сата…[773] С ценами в самом деле была неясность, поскольку деньги – в том смысле, как их понимал Семен, – в Та-Кем отсутствовали. Почему-то в царские головы, как и в мозги советников, джати и казначеев, не приходила мысль наделать металлических кружков со сфинксами, пирамидами или гордым профилем владыки. Цена измерялась в быках и баранах, в мерах зерна и свертках тканей, в кувшинах меда и бычьих шкурах, а также в дебенах и кедетах меди, золота и серебра. Однако кедет – или ките, кольцо – хоть и присутствовал в товарообмене, монетой не являлся, а выполнял лишь номинальную роль: в кольцах, а также в дебенах подсчитывали примерную стоимость, но расплачиваясь затем натурой. Если учесть, что купцов, как и финансовых олигархов, в долине Хапи тоже не водилось, перед Семеном лежал заманчивый путь предпринимателя и спекулянта. Пожалуй, он мог бы выбиться в миллионеры, если бы не глупая местная традиция: в отличие от храмов, мумий, кошек и быков, частная собственность в Та-Кем еще не была священным предметом. Иными словами, боги давали, а фараоны брали. Завернув топор в холстину, он спрятал его за бюстом Инени и кивнул Пуэмре: – На сегодня все. Пойдешь со мной? – Мать и сестра ждут меня, господин. И не хотелось бы беспокоить почтенного Сенмута… вдруг он будет недоволен… – Ну, смотри! На ужин у нас рыба и лепешки с медом. Ты ведь не откажешься от лепешек Абет? Парень облизнулся. Как всякий юноша из семьи небогатых писцов, он чаще бывал голоден, чем сыт. К тому же юные годы и хлопоты у горна весьма способствовали аппетиту. – Моя сестра Аснат тоже обещала приготовить рыбу, – с достоинством сообщил Пуэмра. – Кто же ее съест? Семен подтолкнул его к выходу. – Ты! Одну у нас, другую – дома. Запомни, дружище: две рыбины гораздо лучше, чем одна. Они вышли на улицу, тянувшуюся на тысячу шагов от пальмовой рощицы к реке, причалам и складам. Обычно народу тут было невпроворот, но сейчас лишь у пристани маячила фигура охранника-маджая, в мрачном унынии подпиравшего стену. Ловить ему было некого, так как из жилищ и мастерских в Та-Кем не воровали – в сущности, не воровали вообще, если не считать могил. Однако порядок есть порядок, и строгий Урджеба, помощник Инени, не забывал об охране. По обе стороны улицы, довольно прямой и широкой, с бороздами от полозьев волокуш, высились квадратные строения из кирпича-сырца, без окон, но с большими сквозными проемами, через которые можно было разглядеть дворы, а в них, сообразно профилю мастерской – гончарные печи, кузнечные горны, столы для резки папируса, ткацкие станы, корыта для вымачивания кож и прочие приспособления. Тут плели канаты и сандалии, сети и циновки, ковры и опахала, изготовляли паруса и мебель, посуду и носилки, резали по дереву, ковали металл, отливали стекло, лепили из глины и обрабатывали камень; тут готовили краски для письма, мяли кожи, шили жреческие одеяния, формовали кирпичи, обжигали керамическую плитку, чеканили драгоценные чаши и подносы, подвески и браслеты. Словом, для Семена здесь был рай – почти что рай, так как нужных инструментов все же не хватало. Зато имелись помощники, и скоро он убедился, что трое с рубилами и ручными сверлами вполне заменяют электродрель. С севера ремесленный городок граничил с бойнями и загонами для коз, баранов и быков, к которым примыкала хорошо утоптанная площадка. Здесь находилось корыто, а в нем мокли прутья, плети и бичи, служившие к поучению нерадивых. Били в Та-Кем за всякую вину, били часто, крепко и умело, но не калечили – правда не из милосердия, а по практическим соображениям: какой работник из калеки? Били ремесленников и слуг, солдат и крестьян, писцов и писцовых учеников – словом, всех, кроме семеров, людей благородного звания. К счастью, Сенмен, сын Рамоса, был человеком благородным. С юга над шеренгой мастерских нависала мощная пятиметровая стена, задняя часть ограды святилища Амона, тоже возведенная из больших сырцовых кирпичей. Другие такие же стены тянулись вдоль речного берега и пальмовой рощи, а парадная, выходившая к городу, была облицована камнем и украшена пилонами, между коих, у самых врат, возлежали сфинксы. Само святилище было огромным, и в нем хватало места и для богов, и для людей; кроме храмов Амона, Хонсу и Птаха, тут находились библиотека и священный водоем, Дом Жизни, в котором обучали писцов, целителей, астрономов и зодчих, покои для отдыха, кухни, пекарни, трапезные, кладовые, зал приношений и даже некое подобие больницы. Немного южнее и дальше от реки стоял храм Мут, божественной супруги Амона, владычицы небес; он был не столь гигантским, но тоже впечатляющим сооружением. Весь этот комплекс построек, вместе с причалами, складами, мастерскими и близлежащими угодьями, назывался Ипет-сут и был, собственно, северной частью Уасета. Еще один храм, Ипет-ресит, возвели на юге, около царских дворцов, и между этими святилищами располагались городские кварталы: те, что ближе к реке, – побогаче, а те, что ближе к пустыне, – победней. Отшагав с треть километра по тропе, пролегавшей между пальмовой рощей и восточной, дальней от нильских вод стеной святилища, Семен с учеником обогнули храмовую ограду и очутились на Царской Дороге. Это была прекрасная широкая аллея длиной в три тысячи шагов, пересекавшая город с севера на юг; по обеим ее сторонам росли деревья и высились шеренги сфинксов, точно таких же, как на гранитном берегу Невы, у Академии художеств. Может быть, по этой причине аллея казалась Семену местом знакомым, едва ли не родным: деревья напоминали о Румянцевском садике, разбросанные среди них дворцы и близкая река – о невской набережной, и если чего не хватало, так только трамвайного звона и грохота да серых облачных небес. Но в этот день, если не присматриваться к вечно ясным небесам, иллюзия казалась более полной, как раз за счет грохота и звона. Они доносились из храмов, из окружавших дорогу садов и даже с реки, с лодок и кораблей, возвращавшихся из Джеме, с западного берега; тут и там звенели систры, гудели барабаны, а кое-где слышался нежный напев флейт и томная жалоба лютни. Аллея была запружена народом: кто покидал святилище, очистившись в молитве и насладившись зрелищем плясок и пышных представлений, кто торопился к храму, чтоб сбросить тяжесть накопившихся грехов и с чистым сердцем приступить к пирушке, а кто, памятуя, что искупление бесплатным не бывает, тащил гуся или корзинку с виноградом, гнал козу или овцу. Метрах в четырехстах от святилища Царскую Дорогу рассекала широкая полоса воды – канал Парящего Сокола, посвященный Гору. За ним голубела поверхность большого водоема, обсаженного миртовыми и лавровыми деревьями, а канал тянулся дальше, однако его восточная часть принадлежала Монту, грозному богу сражений и битв. Текущие там воды сливались в ров вокруг казарм меша Амона, но в этом лагере был собран не весь столичный гарнизон, а лишь пехотинцы: педжет – стрелки из лука, а также секироносцы и копейщики. Второй армейский лагерь располагался в южной части города, ближе к дворцам фараона, в конце Восточной улицы – там стояли колесничие, войско привилегированное, нуждавшееся в заботах конюхов и множества ремесленников, изготовлявших и чинивших колесницы. Над каналом Сокола был проложен широкий мост – целая площадь с галереями, портиками и павильонами, украшенными по случаю праздника букетами цветов, венками из пальмовых листьев и прочей зеленью. Здесь человеческие водовороты и потоки были особенно густыми, а среди них метались водоносы, разносчики сладостей, носильщики и прочий люд, не знавший отдыха даже по праздникам. Семен и Пуэмра чуть не расстались в этой толпе, встретившись минут через десять у изваяния сфинкса с бараньей головой, что охранял дорожку к берегу и кварталам с домами средней руки вельмож-семеров. Эта прослойка местного общества казалась Семену столь же удивительной, как и отсутствие в Обеих Землях звонкой монеты или купцов. Кем они были – люди, поднявшиеся из немху во время войн с гиксосами, неглупые и энергичные, но не столь родовитые, как старая знать? Чиновниками? Офицерами? Жрецами? Похоже, и тем, и другим, и третьим; каждый семер занимал не одну, а три-четыре должности, нередко совмещая службу гражданскую с военной или – того удивительней! – с религиозной. Так, Кенамун, обитавший напротив Сенмута, был начальником рудников в Восточной пустыне, а еще – помощником управителя царской сокровищницы и главным над житницами Ипет-сут; Пианхи, другой сосед, болтливый и тучный, являлся писцом колесничих в меша Амона, смотрителем царского стола и третьим пророком святилища Мут. Были у них и другие звания, порой совсем загадочные: хранитель царских стрел, носитель опахала, лука или табурета. И что это значило? Может, семеров слишком мало, а должностей – с избытком? Или же должности – фикция, почетный титул, никак не связанный с реальными трудами? Или вельможи в Та-Кем – титаны резвости и мысли, способные распорядиться царской кухней, амбаром, войском, рудником? А также править службу в храмах и подносить его величеству то табурет, то стрелы? Однако после знакомства с Пианхи и Кенамуном идея насчет титанов казалась весьма сомнительной. Эти двое – как и другие, являвшиеся к Сенмуту, чтобы поздравить его с возвращением и поглядеть на брата, сбежавшего от дикарей, – не отличались светлым разумом Инени, хотя, вполне возможно, каждый из них справлялся со своими обязанностями. Они проходили перед Семеном пестрой чередой – не высшая знать страны, однако люди, причастные к власти, становой хребет Та-Кем, правившие тем и этим, познавшие меру вещей, обученные и обладавшие разнообразными уменьями. Отнюдь не невежды, цвет народа роме… Боже! Как ограничен и скуден был их мир! Временами Семену казалось, что он умудренный жизнью старец, попавший к детишкам-несмышленышам. Он долго размышлял над тем, что порождает это чувство, и, наконец, решил, что дело тут не в росте или физической силе, не в знаниях, которыми он владеет, не в тайнах быстрого счета или письма и даже не в предвидении будущего. Вопрос его реальных преимуществ относился скорее к философской, нежели к практической области, и затрагивал такие категории, как пространство и время. Мир роме, даже самых искушенных и мудрых, был трагически узок; понятие о времени исчерпывалось одним-двумя тысячелетиями, понятие о пространстве – Нильской долиной и странами Куш, пустыней Запада и крохотной частью Евразии к востоку от Дельты. За этими границами, не превышавшими полутора тысяч километров в любую сторону света от Нут-Амон, находился край Ойкумены, и там лежали сказочные земли – поля Иалу, Страна Духов Та-Нутер и неведомый край северных варваров, о коих никто не мог сказать с определенностью, люди они или демоны, порождение злобного Сетха. Таким был мир, и таким он будет еще добрую тысячу лет, до эпохи Эллады и Рима, но и в те времена, когда его обширность приоткроется людям, небесные тайны останутся тайнами, а звезды, солнце и месяц – креатурами добрых и злых божеств. Лишь здесь, в далеком прошлом, в затерянной среди песков речной долине, Семен с пронзительной ясностью осознал, сколь долгий путь прошло человечество и сколь стремительным был шаг прогресса в последние столетия. Он отличался от роме, ибо мог охватить Вселенную в неизмеримо более крупных масштабах; вся планета Земля с ее океанами и континентами, вся ее история за миллионы лет, вся Галактика, звезды, туманности, квазары, не исключая мельчайших частиц вещества, – все это было доступно его внутреннему взгляду, все формировало с детских лет его мировоззрение. Он не знал ни кибернетики, ни атомной физики, ни уравнений движения в небесных сферах, но компьютер, атом и ракета являлись для него понятиями привычными и повседневными, точно такими же, как горы, реки и страны американских материков или научные станции в Антарктиде. Он не смог бы назвать точные даты всех крестовых походов или Пунических войн, но, как человек образованный, владел более ценным качеством – исторической ретроспективой. Его мышление не было стиснуто узкими рамками сиюминутной реальности и религиозных догм, и потому, устроившись в безопасной нише самой цивилизованной державы прошлого, он получал гигантское преимущество в сравнении с новыми соплеменниками. Конечно, стратегическое; но разве верный стратегический подход – не главное в борьбе за выживание? Очнувшись от дум, он обнаружил, что стоит перед жилищем Сенмута и что привратник, тощий шельмец Сефта, почтительно кланяется ему и приседает, прикрыв ладонью рот, чтоб не дышать на господина пивом. Это было разумной предосторожностью – дух от Сефты шел такой, что с трех шагов свалил бы сфинкса с пьедестала. Скривившись, Семен поспешно ринулся во двор, довольно просторный, с садиком и небольшим водоемом, окруженный с трех сторон жилыми и хозяйственными постройками; дальний его конец выходил к реке, позволяя любоваться сверкающей голубоватой гладью. Солнце уже низко висело над водами, прохладный северный ветер стих, но один из последних порывов, словно желая изгнать пивные запахи, вдруг наполнил дворик соблазнительным ароматом лепешек и печеной рыбы. Ноздри Пуэмры дрогнули, и Семен подтолкнул его в спину: – Шагай, ученик! Гость в дом – хозяину радость! Но Сенмут, поджидавший их у столика под старым развесистым каштаном, заметной радости не проявил, а лишь кивнул Пуэмре на циновку и приказал служанкам, чтобы несли сосуды для омовений. Это настораживало; Семен, уже изучивший привычки брата, не сомневался, что есть причина для подобной сдержанности. Сенмут был холост, общителен, разговорчив и не отказывал себе в тех удовольствиях, какие дозволены благоразумием: любил приятную компанию, гостей, застолье с песнями арфисток, да и самих арфисток тоже. К Пуэмре он относился сособым радушием – кажется, его сестра Аснат пленила сердце Сенмута. Однако… – Был ли твой день благополучен, брат? Семен кивнул, отметив напряжение в голосе Сенмута. Похоже, спросить ему хотелось о другом, да только мешал Пуэмра. – Вполне. Я сделал нечто полезное. Нечто такое, чем защищают свою честь и жизнь. – Оружие? Думаешь, нам, писцам и ваятелям, необходимо оружие? Нам, мирным людям? – Во-первых, хочешь мира, готовься к войне, – заметил Семен, расправляясь с рыбой. – А во-вторых, всегда ли писец или ваятель – мирный человек? Это зависит от обстоятельств. Ты дрался с нехеси – там, у третьего порога, где встретился со мной. Ты защищал свою жизнь не словом, а копьем, кинжалом и секирой. Так что оружие необходимо, брат, – тем более в смутные времена. Они завершили трапезу в молчании. Заметив, что То-Мери и толстушка Абет глядят на них из-под кухонного навеса, Семен улыбнулся им и похлопал ладонью по животу. Лепешки в этот раз были божественные – впрочем, как и все, что выходило из рук жены Мериры. Пуэмра, нерешительно покосившись на Сенмута, склонил голову. – Благодарю за щедрость, господин, и прости, что не могу развлечь тебя беседой. Ум мой затуманен, язык еле ворочается… Сказать по правде, я так наелся и напился, что нуждаюсь в лишней паре ног, чтобы добраться до ложа. – Милостью Амона, лишние ноги для тебя всегда найдутся. Целых четыре, – молвил Сенмут и, призвав Техенну, повелел, чтобы молодого господина погрузили на осла и отвезли домой, поддерживая с двух сторон – бережно, словно сосуд из драгоценной яшмы. Когда топот копыт и крики погонщика стихли на улице, Семен повернулся к брату и сказал: – Что-то невесел наш пир, и кажется мне, что душа твоя в смятении. Дурные вести, брат? – Просто вести, а какие – не знаю. Может быть, важные, но передали их не мне. – Хмурясь, Сенмут отхлебнул вина. – Утром я отправился в Ипет-ресит на богослужение, потом проверил, как установлен новый обелиск из красного гранита – ты ведь помнишь, что я начальствую над всеми работами в южном святилище… Потом вернулся домой, незадолго до часа вечерней трапезы. – Он щелкнул пальцами, подзывая То-Мери, глядевшую на Семена с обожанием. – Пусть подойдет привратник. И принеси нам, девочка, еще вина… черного, с моих виноградников под Абуджу. Сефта, хоть и был не слишком трезв, явился раньше То-Мери с кувшином. – Припадаю к твоим ногам, мой благородный хозяин… Ты звал меня? Втянув воздух, Сенмут поморщился. – Пиво и чеснок, чеснок и пиво… Ты пахнешь так, словно печень твоя протухла! Было ведь сказано: пьешь пиво – не ешь чеснока, а ешь чеснок – не пей пива! – Так ведь… это… – Сефта в притворном смущении переступил с ноги на ногу. – Одно без другого не идет, клянусь пеленами Осириса! Так уж устроен мир, хозяин: пиво без чеснока – словно любовь с чужой женой; хоть и приятно, а все торопишься да озираешься. Чего-то, значит, не хватает! – Палки, – сообщил Сенмут. – Сейчас позову Ако, и он… Сефта отработанным движением рухнул на колени, запрокинул голову и запричитал: – О, высокий господин, прозрачный родник моего сердца, сладкий, как корзина фиников! О, светоч темени ночной, корабль справедливости! Никогда не погаснет твое сияние, никогда не споткнется нога твоя о камень зла, никогда глаз твой не потеряет зоркости, рука – твердости, а слух – остроты! Тысячу раз простираюсь ниц и целую прах под твоими ногами! Скажи, зачем нам Ако, мой господин? Зачем нам палки? Зачем… – В самом деле, зачем? – прервал его Семен. – Лучше позвать Мериру с веревкой. Пусть вспомнит, чему научился у шекелеша. – Мерира? Этот разбойник? – Сефта всплеснул руками – то ли в самом деле испугался, то ли продолжал ломать комедию. – О, Амон! О, владыка престолов Обеих Земель! Не думай, что я тебя упрекаю – я всего лишь пыль под твоей божественной стопой! Но почему ты мне внушил такую пагубную страсть? Ты понимаешь, великий, я говорю о чесноке и пиве… Пиво и чеснок! И вот мой господин брезгует мной и обещает палки, а брат господина – веревку! Но чем я виноват? Я таков, каким меня сотворили боги, и я не могу противиться им, ибо, не подчинившись их воле, свершу святотатство! Взглянув на брата, Семен увидел, что тот усмехается – плут Сефта сумел его развеселить. – Ну, хватит! Ешь и пей что хочешь, только держись подальше, сын гиены! Встань вон там, у водоема, – Сенмут вытянул руку, – встань там и расскажи моему брату, кто приходил в наш дом в полуденный час. Сефта тут же перестал вопить, отступил на указанную позицию и деловито произнес: – Явился человек крепкий и рослый, однако пониже господина Сенмена на шесть теб. В браслетах с бирюзой и в тонком полотне, но не семер, не жрец, а воин – на плечах следы ремней, и руку так держал, будто под пальцами обух секиры. Сказал, что он посланец Великого Дома и что сегодня, когда над Восточной пустыней поднимется месяц, пришлют лодку за господином нашим Сенменом. – Что еще? – Еще обругал меня смердящим псом, когда я к нему приблизился, чтобы разглядеть браслеты и отметины на плечах. Камень в браслетах настоящий, из страны Син, клянусь милостью Амона[774]! Дорогой камень! – И что ты подумал? – Что простые воины не ходят в бирюзе, а чезу, знатный командир над тысячей лучников или копьеносцев, никак не годится в посланцы. Выходит, воин не знатный, но и не простой. Сильный, высокий – такие служат сэтэп-са… Может, в самом деле послан Великим Домом? – Сэтэп-са… телохранитель… посланец… – задумчиво протянул Сенмут. – Вот только чей? Владыки нашего – жизнь, здоровье, сила! – или царицы? – Он поглядел в чашу с вином, будто в ней скрывался ответ, потом махнул Сефте: – Иди! Ты верен и неглуп и все же не получишь достойного погребения: я прикажу, чтобы тебя похоронили в сосуде с пивом. – Согласен, хозяин. Лишь бы пиво было не прокисшим… Посланец… И правда, чей?.. – мелькнуло у Семена в голове. Он вдруг ощутил, как холод подступает к сердцу, напоминая, что он не только ваятель, не только брат сидевшего рядом вельможи. Он – заговорщик! Он – человек, который знает, что свершится в третий день месори! Не об этом ли с ним хотят потолковать? Само собой, не юный фараон, а, предположим, Хоремджет или Софра с Рихмером? Сомнительно, подумал он. Эти не стали бы слать гонцов в бирюзовых браслетах, а вытащили бы из мастерской по-тихому, прямо сегодня. Кто за него заступится, кто защитит? Инени, конечно, друг, да не заступник – сила не та. К тому же и сам причастен к перевороту… можно сказать, одно из первых лиц… Будто подслушав эти мысли, Сенмут наклонился к нему и тихо произнес: – Помнишь, там, у второго порога, ты спрашивал, кому пригодятся твои умения и мудрость? Кто может стать твоим защитником? Кто выше Софры, Хоремджета и даже владыки Обеих Земель? Ты помнишь, что я тебе ответил? – Дождавшись кивка Семена, он снова зашептал: – Царица, великая царица! Я повторю, что только ей доверил бы нашу тайну… Может быть, рассказал бы не все – ведь знание о том, откуда ты пришел, пугает, и ни один из нас не стремится в поля блаженных, не хочет до срока предстать перед судом Осириса, а ты – ты перед ним стоял! И это страшно… Но потерять тебя еще страшнее, брат! А потому молись… молись, чтобы этот посланец был человеком Хатшепсут, нашей прекрасной царицы, любимой Амоном! Разумная речь, решил Семен и сделал знак, отвращающий беду. Все верно; пожалуй, лишь слухи о красоте царицы слегка преувеличены. Он ее видел – на том же приеме, где выпало счастье полюбоваться на юного Джехутимесу, Софру, Хоремджета и прочих государственных мужей. Правда, не вблизи, а с изрядного расстояния; и она показалась Семену не женщиной, а манекеном в парике, обернутом слоями ткани, увешанном побрякушками, будто рождественская елка, раскрашенном, как голливудские звезды на вручении «Оскара». Что там таилось, под всеми платьями и ожерельями, под париком и макияжем, бог его знает… Но эта раззолоченная скорлупа повергла Семена в уныние; как всякий художник, он поклонялся изысканной простоте. – Смени одежды и скажи своей служанке, чтобы умастила твое тело благовониями, – сказал Сенмут. – И еще одно… Я не спрашивал у Инени, зачем он отправился со мной и что ему нужно у третьего порога… а может, у второго или первого… Но глаза мои видят, уши слышат, и разумом я не ребенок, готовый поверить всякой сказке. Сегодня ты произнес слова: хочешь мира, готовься к войне… значит, тоже что-то заметил… Так вот, не говори об этом никому. Ты прозреваешь волю богов и вправе открыть ее избранным; если бы боги того не хотели, ты остался бы в полях Иалу. Но лучше умолчать о воле людей и скрытых их желаниях. Люди ревнивей богов; они опасаются тех, кому известны их тайны и секреты. – Это верно, – согласился Семен, поднимаясь. Он расправил плечи, прищурился, глядя на солнце, опускавшееся за реку, и добавил на русском: – Верно, брат. Восток – дело тонкое…* * *
Лодка, подгоняемая ударами весел, неторопливо скользила вверх по течению под мерный ритм, в котором плеск воды сменялся протяжными выдохами гребцов. Фармути был самым холодным месяцем в Та-Кем; от реки веяло прохладой, а в ее зыбком текучем зеркале отражался небосвод – тысячи мерцающих огней, что складывались в знакомые созвездия с еще непривычными именами: Бычья Нога – Большая Медведица, Бегемотиха – Малая, Сах – Пояс Ориона, Нерушимая звезда – Полярная… Небеса и воды сияли праздничным ночным убранством, а берег был уже темен и тих, только чернели в слабом лунном свете неясные контуры храмов: впереди – Ипет-ресит, а за приподнятой кормой, где устроились Семен и его молчаливый провожатый, – Ипет-сут. Когда-нибудь только они останутся здесь свидетелями прошлого, мелькнула мысль; город исчезнет, стены его зданий из непрочного кирпича рухнут, оплывут и превратятся в пыль, а ветры развеют ее над рекой и пустыней. А то, над чем не властно время, будет называться по-другому: южное святилище – Луксор, северное – Карнак… Все – иллюзия, все – прах и тлен, и только камень сопротивляется неумолимой поступи тысячелетий. Камень надежен, думал Семен, и только камню можно верить, вложив в него свои чувства и страсть, боль и радость, надежды и помыслы; камень не обманет, не исказит их, как переменчивое слово, но пронесет нетленными сквозь бесконечный хоровод веков. И те, безмерно далекие, еще не родившиеся на свет, увидят запечатленное в камне и молвят: это прекрасно! Камень мертв, однако дарит жизнь или, как минимум, хранит ее мгновение, увековеченное резцом, – что может быть волшебней и чудесней? Лишь вера в то, что в изваянии живет частица человеческой души… Мысль текла, как плавный неутомимый Хапи, стремящийся к Великой Зелени, пока не проскользнули мимо громада Ипет-ресит, а за нею – деревья и темные стены царской резиденции. Этот дворец Семен узнал даже в бледном свете нарождавшегося месяца: по четырем его углам стояли квадратные башни, увенчанные пилонами и шпилями из азема[775]. Металл облицовки переливался и сиял, будто в ночных небесах вдруг появились еще четыре луны – верный знак для корабельщиков, заметный даже ночью. Сообразив, что лодка не сворачивает к берегу, Семен покосился на провожатого. Тот сидел, спокойно скрестив руки; голубая бирюза поблескивала на его запястьях. – Разве мы плывем не сюда? – Нет. – Это – Великий Дом, – Семен кивнул в сторону шпилей, сиявших над черными кронами деревьев. – Да. – И ты – его посланец? – Да. – Но здесь мы не остановимся? – Нет. – А где же? – В Доме Радости, – буркнул воин и запечатал уста, будто сосуд с драгоценным вином из Каэнкема. Семен глубоко вздохнул. Дом Радости… Кажется, загородный дворец, подальше от Уасета, поближе к Южному Ону… Инени что-то рассказывал о нем… Построен лет десять назад, еще в правление первого Джехутимесу – роскошный сад, пруды, каналы и тростниковые заросли, царский охотничий заповедник… Дар фараона любимой дочери… К ней, пожалуй, и везут, решил Семен, представив куклу в блистающем золотом платье и пышном парике. Ну что ж! Все-таки лучше, чем свидание с Хоремджетом, Софрой или, тем более, с Рихмером! Закрыв глаза, он постарался не думать, чем вызван визит к столь благородной и важной персоне. Он вспоминал ее будущий храм – белые колоннады, воздушные лестницы, темная зелень древесных крон, горный обрыв, подобный огромному медному слитку… Какой бы ни оказалась сама царица, ее святилище было прекрасным, и за это стоило многое простить. Двурогий полумесяц поднялся в зенит, когда суденышко ткнулось в камни причала. Двое с факелами поджидали лодку; третий, коренастый седой крепыш в шлеме и кожаном нагруднике, повелительно махнул Семену – выходи! Блики огня отражались в украшениях его доспехов и золотой нагрудной пластине, изображавшей хищную птицу с распростертыми крыльями. – Я – Хенеб-ка, Страж Великого Дома. Иди за мной! Не просто страж, а Страж с заглавной буквы, подумал Семен, следуя за коренастым. Во время пирушек, какие случались у брата, он слышал о Хенеб-ка; о нем отзывался с большим уважением даже Пианхи, сплетник и болтун. Хенеб-ка командовал царскими телохранителями, и не нашлось бы богатств – ни в Обеих Землях, ни за их пределами – способных поколебать его верность дому первого Джехутимесу. То есть царице, так как сын рабыни-сириянки был в этом доме незваным гостем. Освещая дорогу, воин с факелом шел впереди, второй замыкал их маленькую процессию. Они миновали участок, засаженный фруктовыми деревьями – кажется, гранатами, от коих тянуло запахом свежей листвы и цветов. Этот аромат напоминал, что хоть фармути самый суровый месяц, но вовсе не зима, которой в здешних землях просто нет; морозы, снегопад и вьюги здесь заменяли свежий ветер и весеннее благоухание. За цветущими гранатами стоял дворец, не очень большой и не слишком высокий, однако в полутьме не удавалось охватить его взглядом. Они взошли по лестнице; сверху нависали перекрытия балкона, подпертые каменными изваяниями, внизу нога ощущала ровный, чуть скользкий пол, а впереди, в отблесках масляных светильников, раскрывался обрамленный колоннами вход. Мелькнули кедровые двери, обитые бронзой – а может, золотом? – светильники вспыхнули ярче, и потянулись чертог за чертогом, с потолками, расписанными то под звездные небеса, то под древесные кроны, отягощенные плодами, то под цветочные беседки. Пол из блестящих квадратов, серебряных и золотых, сменялся глубокой тьмой черного дерева или сиянием розовых гранитных плит; тут и там выступали сиденья и ложа, обтянутые леопардовыми шкурами, столы и столики с инкрустацией костью, малахитом и лазуритом, фаянсовые чаши, расписанные синими узорами, и алебастровые сосуды-курильницы – от них тянуло приятным запахом кифи. Массивные колонны поддерживали свод, и их капители были украшены белыми лотосовыми цветами или орнаментом хекер – вырезанными в камне метелками тростника; от ламп, висевших между колонн, распространялись мягкие волны света. Снова лестница; широкие ступени, светильники, точеные из хрусталя, вместо перил – сфинксы и изваяния богов с головами животных и птиц: льва, барана, шакала, сокола, ибиса… Большая статуя Хатор – женщины в ниспадающих одеждах, в венце с коровьими рогами, скрепленном солнечным диском… Слева и справа от статуи – арки, за ними – вытянутый зал, с тремя расписными стенами и колоннадой, отгораживающей балкон. Шагнув сюда, Семен застыл в изумлении. Под ногами его голубел мозаичный пруд с цветами и листьями лилий, среди которых плавали рыбы и утки; пруд окружали стены папирусов, переходившие в безоблачное небо – и в нем, в верхней части стен и на потолке, кружились птичьи стаи, гуси, цапли и журавли; по правую руку в зарослях плыла лодка с двумя гребцами и стрелком, натягивающим лук, и этот лучник был не из простых – воин с грозным ликом и сдвинутыми бровями, что как бы подчеркивало владевшее им напряжение. С шеи его свисал уджат, символ Гора, виденный Семеном у Инени – явный знак того, что лучник в лодке – сам фараон, Джехутимесу первый. Он выглядел очень представительным мужчиной с суровым нравом; похоже, ни один президент в двадцатом веке с ним потягаться бы не смог, а если бы попробовал, то получил бы промеж глаз стрелу. Семен замедлил шаги, любуясь великолепным чертогом, но Хенеб-ка, властно подтолкнув его к балкону, произнес: – Не заставляй царицу ждать, ваятель. Иди и преклони колени перед ее величием! Я останусь тут, с моими сэтэп-са. – И он красноречивым жестом погладил рукоять кинжала. С трудом оторвавшись от чудесных изображений, Семен направился в дальний конец чертога. Там, за колоннадой, царили полумрак и тишина; крытый балкон выходил к реке и саду и освещался двумя языками пламени, пылавшего в гранитных чашах. Перед светильниками, выпрямившись и опираясь рукой о спинку кресла, стояла женщина, но он не различил ее лица – лишь темный силуэт в розоватом ореоле пляшущих огней. Приблизившись, Семен опустился на колени, отвесил поклон, стукнувшись лбом о каменный пол, и замер, не поднимая глаз. Согласно придворному этикету ему полагалось сидеть в этой позе и молчать – как долго, зависело от взиравшей на него богини. Ее божественный статус являлся такой же реальностью, как пол под ногами и крыша над головой; по местным понятиям, ее отец был воплощением Гора, благого божества, и от него, естественно, тоже рождались боги, чистопородные или не очень, смотря по тому, кого фараон дарил своими милостями. Но Хатшепсут была, несомненно, богиней самой чистой крови – не видя ее, Семен ощущал тот упоительный запах, какой возвещает пришествие бога или, как минимум, ангела. Потом к аромату добавились звуки, хрустальный мелодичный голос, подобный переливам флейты: – Ты Сенмен, ваятель храма Амона? – Это так, моя владычица. Молчание – томительное, недоуменное – и смех, будто перезвон отлитых из серебра колоколов. – Исида всемогущая! Ты не слишком хорошо воспитан, ваятель Сенмен! Где слова почтения? Где благодарность за счастье припасть к моим ногам? Ну, говори! Я жду! Семен напрягся, вспоминая недавние речи лукавца Сефты. Сравнить ее с корзиной спелых фиников? Или с прозрачным родником? Пожалуй, это чересчур, решил он и забормотал: – О, высокая госпожа, светоч темени ночной, корабль справедливости! Пусть никогда не погаснет твой блеск, не споткнется нога о камень зла, глаза не потеряют зоркости, рука – твердости, а слух – остроты! Тысячу раз простираюсь ниц, целую пыль и прах под твоими ногами! Хмм… – Сделав передышку, Семен почесал в затылке и признался: – Пол очень чистый, моя госпожа. Я не могу найти ни пыли, ни праха, но если ты укажешь, где… Прервав его, он расхохоталась. – Ты забавный человек, ваятель! Очень забавный! Мне говорили, что ты был в неволе в стране Иам… еще говорили, как ты разделался с целой шайкой нехеси и как раздобыл служанку, отспорив ее у кушитского колдуна… Так ли это? – Да. – Снова молчание. Наморщив лоб и не поднимая глаз, Семен повторил: – Да, лучезарная владычица, благословенная… э-э… Амоном. С колдуном все мирно обошлось, а вот с нехеси вышла маленькая неприятность. Им, видишь ли, хотелось… – Встань! – Кажется, кушитские истории ее не очень волновали. – Встань и подними голову! Я дозволяю тебе глядеть на меня! Он распрямил колени и прищурился, на миг ослепленный горевшими в чашах огнями. Темный женский силуэт уже не заслонял их; теперь она, вскинув левую руку к лицу, стояла между светильниками, в пятачке мерцающего алого сияния, будто купаясь в нем и в легких своих одеждах, колеблемых движением воздуха. Она была как сказочная фея, явившаяся путнику в ночи; прядь темных, с медным отливом волос падает на грудь, огромные глаза сверкают, трепещут розовые ноздри, и тонкие пальцы у щеки – словно раковина из перламутра. Пляшущие тени делали ее нереальной, эфемерной, и в то же время наполняли жизнью каждую черточку, приковывая взгляд то к маленькому упрямому подбородку, то к губам или ресницам, то к тонкому стану и плавной, подобной амфоре линии бедер. Семен, застывший в восхищении, не смог бы сказать, мила ли она, красива или прекрасна; эти оценки казались бесполезными, ибо она обладала тем, что делает женщину неотразимой, – волшебной, чарующей прелестью. Царица ветров и тьмы… – всплыло откуда-то полузабытым воспоминанием. Потом другие слова зашептали, зашелестели, зарокотали, словно волны у подножия утеса: «И ни горние ангелы в высях небес, ни демоны в недрах земли не в силах душу мою разлучить с душою Аннабел Ли…» – Ты очень дерзок, – внезапно раздался тихий голос. – Ты разрешила смотреть… – Семен запнулся и добавил: – Великая госпожа… – Ты смотришь, точно леопард на лань! – Она отступила из светового круга и уселась в кресло. – Точно голодный на лепешку с медом! – Я не голоден, и я не леопард. Я – ваятель, моя прекрасная царица! Мне можно так смотреть. – Ваятель… всего лишь ваятель… – Ее головка склонилась к плечу, зеленовато-карие глаза смотрели на Семена со странным, почти боязливым выражением. – Инени говорил мне, что ты не просто ваятель! Он говорил, что ты могуч, как бык, бесстрашен, словно лев, стремителен, как сокол… Но запомни: и быков покоряют, и львов укрощают, и соколу связывают крылья! – Я уже покорен, укрощен и связан. Слова прозвучали будто удары гонга, разделившие жизнь на две половины: первая была пустой и бесцельной, как мастерская скульптора, где вместо изваяний – могильные надгробья; вторую озаряли жар и свет внезапно взошедшей звезды. «Ни ангелы неба, ни демоны недр теперь не разлучат нас», – чуть слышно прошептал Семен. Тайна случившейся с ним метаморфозы вдруг приоткрылась, башня нелепых гипотез и домыслов рухнула, обнажив фундамент; несомненно, он явился в прошлое, чтобы увидеть эту женщину, встретиться с ней, любить ее, запечатлеть в камне облик царицы ветров и тьмы – во множестве камней, чтобы хоть один не затерялся в бурном потоке времени. Жизнь обрела цель и смысл. Он стоял и смотрел, как тени играют на ее лице, как колышется грудь под полупрозрачной тканью, как скользит по губам нерешительная улыбка. Что-то хочет узнать, мелькнула мысль. Шагнув к сидевшей в кресле женщине, Семен наклонился, пытаясь прочесть вопрос в ее глазах. – Достойный Инени сказал, что ты не только силен и бесстрашен, но и мудр… мудр, как Тот, писец богов… Сказал, что твоему уму открыто многое… что боги наделили тебя искусством прорицать… что ты умеешь видеть скрытое гораздо лучше, чем пророки и жрецы Амона… Так ли это? – Отчасти, – произнес Семен. – Дар богов не всегда повинуется мне. Я не могу предвидеть ничтожное и мелкое, и я не знаю, что ты съешь с восходом солнца – медовую лепешку или горсть сушеных фруктов. Он опустил слова почтения, но царица, казалось, этого не заметила. – Кому интересно ничтожное и мелкое? Лишь тому, кто сам ничтожен… Великий же спрашивает о великом, о жизни, смерти и судьбе. Такие твои предсказания сбываются? Семен усмехнулся. – Одно из них – непременно. – Какое же? – Все мы умрем, прекрасная царица. Все свидимся с Осирисом в его загробном царстве. – В том нет сомнений, но до свидания с Осирисом и моими великими предками я хотела бы кое-что свершить. Удастся ли задуманное мной? Голос ее дрогнул, нотки неуверенности проскользнули в нем. Открыть ей правду? – мелькнуло у Семена в голове. Но не иссякнут ли поводы для встреч? Ваятель – пусть могучий, словно бык, и храбрый, точно лев – не слишком близок к трону; место его в мастерской, и слух его ловит удары молота, а не шепот пленительных уст царицы… Но глаза ее спрашивали: удастся ли?.. – и он невольно кивнул. Кожа Хатшепсут порозовела, затрепетали тонко вырезанные ноздри; она протянула руку, коснулась браслета на Семеновом запястье и медленно, тихо произнесла: – Я буду править? – Да. Будешь править долгие годы. – Сколько? – Теперь ее голос звучал требовательно, и всякий след колебаний исчез с лица; в его выражении читалось нечто новое – не алчная жажда власти, не самоуверенность и не жестокость, но торжество и сила. – Ответь мне, сколько? – повторила она. Семен пожал плечами. – Стоит ли об этом знать? Не всякое знание полезно; есть такое, что разрушает душу. Долгие, долгие секунды они смотрели друг другу в глаза, потом царица глубоко вздохнула, и тонкая ткань на ее груди расправилась и напряглась. – Ты прав, клянусь устами Маат! К чему знать час своей смерти или падения? Это случится, рано или поздно… Как ты сказал, все мы свидимся с Осирисом в его загробном царстве! – Откинувшись на невысокую спинку кресла, она шевельнула рукой, приказывая Семену отступить, и оглядела его с ног до головы. – Ты странный человек, ваятель, странный и непонятный, но я не жалею, что призвала тебя. Так посоветовал Инени, а еще он сказал, что ты умеешь вселять уверенность… И это правда! Лев рычит громче кошки, солнце светит ярче факела, и истинный правитель знает, что ему слушать и куда глядеть… Ты заслужил мое благоволение, ваятель Сенмен! Пожалуй, я возвеличу тебя… – Ее глаза прищурились. – Хочешь стать смотрителем моих конюшен? Или главным над стадами священных быков? Семен почтительно склонился. – Прости, великая царица, но я не смыслю ни в быках, ни в лошадях. Молю, чтобы ты даровала эти почетные должности Сенмуту, сыну Рамоса и Хатнефер. Возвеличь его, и он справится с любым делом гораздо лучше меня. Брови Хатшепсут сдвинулись, на чистом лбу пролегла морщинка. – Сенмут? Кто он такой? – Уста Великого Дома и зодчий Ипет-ресит, покорный зову казначея Нехси. Мой брат, красноречивый, умный и преданный тебе слуга. Один из самых преданных! Мудрый Инени знает его. Они… Семен захлопнул рот. Он собирался сказать, что мудрый жрец и Сенмут пропутешествовали вместе к южным рубежам, но вряд ли это стоило упоминания. Это могло показаться намеком на Рамери, Инхапи и третье месори – намеком, что он из числа посвященных в тайную миссию жреца. Но брат прав; лучше молчать о воле власть имущих и скрытых их желаниях! Лучше молчать – даже провидцу с божественным даром! Ибо пророчество о долгом царствовании – это одно, а точная дата мятежа – совсем другое. – Они?.. – Бровь царицы вопросительно приподнялась. – Они давно знакомы. Мудрый жрец был наставником Сенмута и знает о его достоинствах больше меня. Если помнишь, владычица, я много лет провел на чужбине, разлученный с братом… Она кивнула. – Я помню. И раз ты просишь, я посоветуюсь с Инени, как наградить твоего родича. Ты доволен? История должна идти своим путем, подумал Семен и, упав на колени, пробормотал: – Щедрость твоя подобна разливу Хапи, а месяц атис… Ты даруешь благополучие и счастье, ты – ветер, несущий лодку с милостями всех богов Та-Кем… Тысячу раз припадаю к твоим стопам, целую прах и молю, чтобы Амон даровал тебе… Маленькая ладонь звонко хлопнула по подлокотнику кресла. – Хватит! Я уже верю, что ты не забыл слова почтения, хоть прожил много лет с дикарями-нехеси! Встань! Теперь я хочу услышать, чего ты хочешь. Не для брата, который красноречив и умен, а для себя. Семен поднялся на ноги и бросил взгляд на женщину в кресле между двух пылающих огней. Казалось, она чего-то ждала. – Я прошу лишь об одном, великая госпожа: позволь мне высечь в камне твой прекрасный лик. В темном граните, который привозят из каменоломен Рахени… Эта работа будет долгой, и время от времени мне надо смотреть на тебя, чтобы каменная царица была похожа на живую. Только смотреть! Если не сочтешь это дерзостью… – Только смотреть… – повторила царица, пристально глядя на него. Потом махнула рукой в сторону колоннады. – Иди, ваятель Сенмен! Гребцы ждут, и Хенеб-ка проводит тебя к лодке. Может быть, ты еще успеешь выспаться. Не поворачиваясь к ней спиной, Семен поклонился, отступил на несколько шагов, и когда массивные колонны уже закрыли фигурку женщины, он различил ее слова: – Только смотреть! Хорошо, ваятель Сенмен, я подумаю.Хочу, чтобы знали: царице нашей, великой Маат-ка-ра – да будут с ней жизнь, здоровье, сила! – непросто досталась власть. Многие люди, жрецы, семеры и воины, трудились для этого, желая видеть ее на престоле Обеих Земель и пасть к ее ногам. Страж, друг мой, потрудился тоже – я думаю, более прочих, ибо сказал мудрое слово в решающий час и сделал то, что было сказано. Помню, как я пришел к нему – пришел в отчаянии, ведь задуманное нами могло обрушиться и раздавить нас всех, как давит бычье копыто едва взошедшие всходы! Помню тот день…Тайная летопись жреца Инени
Глава 7 Фрагменты и осколки
Шло время, стремительной чередой бежали месяцы; прохладный фармути сменился пахоном, когда собирали первый урожай пшеницы, затем наступил пайни, более жаркий и сухой, знаменовавший начало сезона шему – Засухи. Солнце все щедрей изливало на землю свет и тепло, река немного обмелела и сузилась, зелень уже не радовала глаз весенней свежестью, а стала блекнуть, и казалось, что пески пустыни шаг за шагом приближаются к полям и садам, будто собираясь слизнуть их и перемолоть в желтых клыках дюн. Шло время… Бывали дни, когда Семен не успевал следить за стремительным бегом минут и часов – работа поглощала его, и, сражаясь с неподатливым гранитом или осторожно шлифуя мягкий известняк, он словно погружался в иное измерение, где не было различий между Та-Кем и Россией, между каменным молотом и стальным, между прошлым и будущим. Время как бы проваливалось куда-то, соединяя утреннюю зарю с вечерней, прыгая, как водопад среди камней, и звон его колоколов, что отмеряли уходившие мгновения, был почти не слышен. В другие дни, когда работа не ладилась или ее прерывали раздумья, время из водопада превращалось в водоворот, круживший слова и мысли, события и лица; секунды растягивались, капли в стеклянной клепсидре лениво скользили одна за другой, падая в сосуд, и между их ударами, казалось, проходила вечность. В такие моменты Семен вдруг ощущал с особой остротой, что погрузился в прошлое, в седую древность: триста лет до войн троянцев с греками, тысяча – до марафонского сражения, тысяча четыреста – до Мария, Суллы и Юлия Цезаря. Потом еще столько же – до Куликовской битвы, Жанны д’Арк и Тамерлана… Но время все-таки шло, что-то изменяя в нем, даруя новые привязанности и привычки, обтачивая с тем же усердием, с каким он шлифовал и резал камень. И это давало свои плоды; теперь, когда он провел в долине Хапи почти четыре месяца, новая жизнь уже не казалась ему затянувшимся сном. Скорее, многоцветной мозаикой, сложенной из воспоминаний, фрагментов и осколков.* * *
Ако, телохранитель-кушит, соратник по экспедиции в Шабахи, явился пьяным. Не так чтобы в стельку – все же приковылял домой, вполне ворочая языком, но на ногах держался плохо. Мерира, Сефта и Техенна оттащили его к речному берегу, прополоскали и положили в камышах, подальше от хозяйских глаз – сушиться. Из двух хозяев был в наличии Семен – солнце стояло еще высоко, и брат не вернулся из южного храма Амона. Мерира ругался. По возрасту и опыту он был старшим среди слуг и правил ими столь же уверенно, как лодкой в бурных водах Хапи. – Пивной кувшин! Пьешь, а нам таскать такую тушу! Чтобы коршун выклевал твои глаза! Чтобы Сетх проткнул тебя колом от глотки до задницы! Так, чтобы пиво излилось с мочой! – При чем здесь пиво? – сказал Сефта, принюхавшись. – Вино! Финиковое вино, клянусь золотыми стопами Хатор! – Финиковое пиво, – возразил рыжеволосый ливиец Техенна, присев на корточки рядом с приятелем. – Что, я не знаю, как оно пахнет? – П-пиво, – подтвердил кушит, – и в-вино… Н-но финн… финн-ков-вое… Эт т-точно! – Сын гиены и сам гиена! – рявкнул Мерира. – Чтобы твоя мать под ливийца легла! – Нужна она ливийцам! – с усмешкой возразил Техенна. – У нас гиен не пользуют. Разве что козочку… Служанки, что столпились неподалеку, захихикали. Мерира поглядел на них, на любопытные глазки То-Мери, на Абет, скрестившую руки на пышной груди, и обрушился на ливийца: – Пусть Маат запечатает твою пасть куском дерьма! Поминать такое паскудство при женщинах… Чтобы тебе мужской силы лишиться, козлодер! Техенна снова ухмыльнулся, глядя на ворочавшегося в камышах Ако. – Ну, это ты зря! Хорошая козочка ничем не хуже кушитских баб. Шерсть мягче и болтает меньше. – Ммм… – будто в подтвержение простонал Ако. – Поистине мерзок человек! Зарождается он между мочой и калом, в дни свои месит ил и навоз, и грешным уходит за горизонты Запада, – произнес красноречивый привратник Сефта. Потом присел рядом с Ако и пощупал его вздувшийся живот. – Значит, пиво и вино… никак не меньше двух кувшинов… три кольца меди, а может, и половина дебена… Откуда взял? Стащил из кладовых? Или пропил мумию отца? – Порази тебя Сохмет от пупка до колена! – рыкнул Мерира. – Откуда у маджая отцовская мумия? Такой и у меня нет! – Н-нет, – согласился Ако. – М-мня ухх… ухха-стили… – Угостили? Кто ж тебя угостил, жабий помет? – Др-рузья… Ш-шедау и Т-тотнахт… всс… встретил… Техенна задумчиво поскреб в затылке. – Это какие Шедау и Тотнахт? Вроде что-то знакомое! – Кх… кх… кхопейщщики… с юга… п-пантеры… Тут Семен, отдыхавший под каштаном и слушавший эту беседу в пол-уха, вскочил и направился к тростниковым зарослям. Молодые служанки, боясь хозяйского гнева, прыснули от него в обе стороны, но Абет и не подумала уйти: стояла с прижавшейся к ней То-Мери и глядела на Семена, как мать на любимое дитя. Ей нравились все, кто ел ее стряпню, а тех, кто хвалил, она буквально обожала. – Ну-ка, окуните его еще раз, – велел Семен, кивнув Мерире. – Чтобы говорил поразборчивей! – Когда приказ исполнили, он наклонился над кушитом. – Копейщики с юга? Кто такие? – Шедау и Тотнахт, г-господин, – совсем внятно произнес Ако. – Чезет Пантер, с юга… Др-рузья! Вместе ходили в страну Хару… и в Иам… – Точно, ходили! – ливиец хлопнул себя по бедру. – Эти двое хоть из пантер, а выглядят как носороги. Менфит! Шкуры толстые, копья вместо рогов – и спят с ними, и едят, и пьют… – Н-не пьют… почти не пьют… – Ако сел и начал тереть кулаками глаза. – Сказали, пить не велено, а потому я пил за троих. Зато колец у каждого!.. – Он в восторге закатил глаза и растопырил пальцы широкой ладони. – Они из меша Сохмет? – спросил Семен. – Говорили, что делают здесь? – Верно, господин, люди старого Инхапи. И мы у него служили, наемниками, – Техенна хлопнул кушита по плечу. – С-служили, – подтвердил Ако, пытаясь встать, – а теперь не с-служим. И Шедау с Тотнахтом не с-служжат, господин! С-сказали, драный пес Инхапи отпустил их. Тотнахт у сестры живет, и Шедау с ним, хоть с-сам не из Города, а из Дельты. Н-не хочет туда! Здесь, говорит, вес-селее! «Точно, веселее! – подумалось Семену. – А самое веселье будет в третий день месори. Гуляй, пехота!» Внезапно он понял, что третий день месори выбрали не зря. Самый жаркий месяц, когда от зноя трескается почва, Хапи сужается в берегах, каналы мелеют, пересыхают рвы у лагеря воинов Хоремджета, воздух палит горло, и люди едва шевелятся, как полумертвые лягушки… В такую жару не то что биться – помыслить о битве страшно! Значит, тем неожиданней удар… Солдатам нелегко, но все же ветераны с юга и здесь получат преимущество… Кто же это придумал, кто рассчитал? Какого генерала выбрать, в какое время подтянуть войска и где их взять – самых умелых, самых верных? Кто? Инени? Софра с его жрецами? Пенсеба, Саанахт и другие вельможи, преданные царице? Или сама владычица ветров и тьмы? Последнее казалось самым вероятным. Семен готов был утопить в реке свою железную секиру, если дела обстояли иначе.* * *
Хатшепсут… Хат – лучшая, первая; шепсут – благородная дама; вместе получалось – лучшая из женщин… Однако странное имя и не ласкающее слух – слишком много глухих согласных, и к тому же в непривычном сочетании. Про себя он называл ее Меруити, что значило – любимая. Ей было лет двадцать семь, и, несомненно, она считалась бы очень красивой женщиной в любую эпоху и в любой стране, но только ли облик ее чаровал Семена? Или проницательный ум, взгляды и жесты, смех и переливы голоса – то, что помогало сказать гораздо больше сказанного словами? Или блеск величия и власти, что окружал ее незримым ореолом? Все это было так, и все играло свою роль, но, может быть, второстепенную, служившую необходимым фоном. Главным являлась тайна; тайна пробуждала интерес, притягивала их друг к другу и придавала их отношениям пленительный оттенок романтизма. Конечно, Семен был для нее загадкой, ибо в его речах и суждениях, во взглядах на жизнь и мир и, наконец, в его мастерстве она ощущала нечто чуждое, несовместимое с ее эпохой, но не пугающее, а притягательное – по крайней мере для отважного ума. Но и ему она казалась тайной, неким загадочным феноменом, будто пришелица со звезд, преодолевшая в летающей тарелке неизмеримые пространства космоса. В прошлой жизни он не встречал подобных женщин и сомневался, есть ли такие в его прагматичных временах; может быть, есть, но вряд ли их встретит неудачник-скульптор, ваятель матрешек и пепельниц – а если встретит, то вряд ли удостоится внимания. Впрочем, все эти мысли о притягательности тайн и столкновении загадок были теоретическими рассуждениями, тогда как реальность подсказывала более сложный и столь же таинственный вывод: кто ведает пути сближения сердец? Меруити… Царица ветров и тьмы… Он побывал в ее дворце не раз, но больше его не принимали ночью, при свете звезд и пылающих факелов. Меньше романтики, но есть и преимущество: теперь Семен мог рассмотреть сад и дворец, его убранство, чудные росписи и барельефы, что украшали стены. Особенно балкон, где он побывал – или, скорее, галерею, подпертую шеренгой статуй-кариатид, запечатлевших извечных соперников Египта: темеху – стройных светлокожих ливийцев, аму и хабиру – бородатых семитов-кочевников из пустынь за Лазурными Водами, смуглых обитателей Куша и шерданов, людей из морских племен[776]. Их изобразили согбенными под тяжестью каменных перекрытий; балкон давил на их плечи будто стопа фараона, попирающая врагов. Но таковыми они становились в периоды смуты, тогда как в иные времена им не отказывалось в царских милостях: наемников ливийцев и кушитов было в Та-Кем не меньше, чем рабов, и даже гиксосам, с коими бились десятилетиями, было позволено жить в Восточной Дельте, на земле Гошен. Но на балконе и в камышовом зале с царственным стрелком Семену больше побывать не довелось. Меруити ждала его на террасе, увитой виноградом и открывавшейся к востоку, а не к речным берегам, или на скамье под древними сикоморами, среди цветов, беседок и воды, журчавшей в оросительных канавках. Здесь, под шелест листьев и пение струй, он делал наброски углем на желтоватых листах папируса – только ее лицо, ибо решил ограничиться портретом. Статуя в полный рост казалась затеей соблазнительной, но слишком опасной; он мог не удержаться и вылепить ее нагой, в стиле роденовской «Весны», что было бы нарушением канонов и существующих традиций. Возможно, святотатством! Вдруг тело великой царицы, дочери бога – табу, в отличие от тел обычных женщин? Но тело ее влекло Семена не меньше, чем лицо, и с каждой встречей все сильнее. Временами он что-то рисовал для развлечения царицы – иволгу на ветке, куст расцветающих роз, фасад дворца, ее служанок с кувшинами и подносами, девочку-кушитку с опахалом… Временами лепил из глины птиц, животных и людей, воинов на колеснице, газелей и обезьян, кошку, поймавшую мышь, крохотных львов и львиц – их фигурки передвигали с клетки на клетку в игре мехен… Временами они беседовали, больше о искусстве и о ваятелях прежних времен, о легендарных зодчих эпохи Снофру и Хуфу, увековечивших повелителей в каменных громадах пирамид. К счастью или, может, с неким умыслом – она не расспрашивала Семена о годах, которые он будто бы провел в плену. И, к счастью, она не просила новых пророчеств. Однажды они заговорили о войне. – Это зло, – сказал Семен. – Человек убивает разбойника, чтобы защитить свою жизнь и жизни близких – вот единственное убийство, какое можно оправдать. Но начинающий войну сам разбойник. Он проливает кровь невинных, и потому достоин наказания богов. Меруити нахмурилась. – Предки мои – да будет удел их счастлив в царстве Осириса! – воевали много и воевали успешно. Был ли разбойником мой отец, великий Джехутимесу? Или Амен-хотп, отец моего отца? – Конечно нет, прекрасная царица. Таких великих людей зовут не разбойниками – завоевателями. Губы ее сурово сжались, в глазах блеснули зеленые искры – верный признак раздражения. Может быть, гнева, подумал Семен и потянулся за новым листом. – Ты смеешься надо мной, ваятель? – Нет, моя госпожа. Я говорю лишь то, что думаю. – Не всякую мысль нужно облекать в слова, чтобы не лишиться головы. Простая мудрость, клянусь Маат! Разве ты с ней не знаком? – Знаком, но готов рискнуть, – ответил Семен, быстрыми штрихами набрасывая ее помрачневшее лицо. – Видишь ли, госпожа, чтобы твой портрет был удачен, мне нужно увидеть тебя в горе и радости, страхе и гневе. Я должен узнать, какая ты – но как? В моем распоряжении одни слова – ведь я не могу заставить тебя смеяться или плакать, пощекотав твои пятки или отстегав прутьями. В этом случае я непременно лишусь головы! Она прикусила губу, потом улыбнулась. – Ты очень хитер, ваятель! Хитер и коварен! Однако рисуешь ты неплохо, и это значит, что финики с кривой пальмы так же вкусны, как с прямой… Семен отложил лист с наброском. – Ну, вот, я лицезрел царицу в гневе и вижу теперь в веселье. И в самом деле, я большой хитрец! – Уголек в его пальцах вновь отправился в путь по папирусному листу. – Но мы говорили о войне, моя прекрасная владычица… И что ты о ней думаешь? – Что мне придется воевать, если я… Она оборвала фразу, но Семен ее закончил – разумеется, не вслух. Слова могли быть разными – сяду на трон, приду к власти, – но смысл от этого не менялся: пер’о – неважно, мужчина ли, женщина – обязан воевать. Такая уж судьба у фараонов! Однако он спросил: – Ты в этом уверена, госпожа? В том, что придется воевать? Тень задумчивости легла на ее лицо. – Говорят, царь дунет в Уасете, поднимется буря за порогами… Это случится, если царь знает, как дуть и в какую сторону. Незнание же грозит бедами… – Пауза. Потом ее голос зазвучал вновь: – Люди из знатных, жрецы и хаке-хесепы не желают воевать. Та-Кем богат, и все в Обеих Землях в их руках и в руке пер’о – люди, поля и сады, птица, скот и даже звери в Западной пустыне… Но мой отец, божественный Гор, оставил сильное войско, грозное и многочисленное, привыкшее к битвам и победам. Знаешь ли ты, сколь оно велико? Меша Амона стоит в Уасете, меша Птаха – в Мен-Нофре, меша Монта и Сетха – в нижних землях, меша Сохмет – в верхних… Кроме того, есть воины, что охраняют берег Уадж-ур, и другие воины, в странах Хару и Джахи, в Вават и Иртег, Сатжу и Иам… есть солдаты в гаванях Лазурных Вод и по другую их сторону, в копях и рудниках… есть лучники в оазисах Западной пустыни и в каменоломнях Восточной… много солдат и много семеров из немху, чьи семьи возвысились в войне с хик’со! Возвысились, но не разбогатели, ибо не имеют земель. А земли в Та-Кем уже поделены, и если делить их снова, начнется великая смута. Чтобы такого не случилось, придется воевать… – Помолчав, царица добавила: – Семеры из немху мечтают о городах и богатствах других стран. Как я могу их остановить? Мой божественный супруг рано умер и не свершил ничего великого… Теперь им нужен другой пер’о – такой, который повел бы их в земли востока и севера… – Например, Софра или Хоремджет? – Может быть, Софра или Хоремджет… Но при мысли о них сердце мое сжимается и мрак окутывает душу… Лицо ее вновь омрачилось. Семен понимал, что она говорит о старой и новой знати и о гражданской войне, которая мнилась неминуемой, если делить уже поделенное. История, в отличие от техники, не признавала поступательных движений, вращаясь будто пес, кусающий себя за ляжку, и потому смутные времена всюду были одинаковы – в Та-Кем и в Датском королевстве, в Поднебесной империи и в перестроечной России. В ней новая знать тоже сцепилась со старой, деля города и веси, и в каждом из этих городов уже сидел хаке-хесеп, готовый ради власти съесть врагов живьем – всех и каждого, не исключая президента-фараона. Кроме того, были святилища и жрецы, не безразличные к земным богатствам, были не менее алчные чиновники, были воинственные генералы, были свои нехеси на мятежном юге и даже имелись рабы, что завершало печальную картину сходства. Чего бесспорно не было, так это пришельцев из будущих времен – к великому счастью, ибо кто ведал, какими монстрами завтрашний день мог поделиться с сегодняшним? – Ты говоришь, что в Та-Кем не хватает земель, – молвил Семен, не выпуская уголек из пальцев. – Земель, однако, много, и на востоке, и на западе, но к ним не доходят воды Хапи. Стоит ли воевать чужие земли, если можно оросить свои? Канал сделает землю плодородной, ты дашь ее воинам и семерам, и они, получив награду из твоих рук, останутся тебе верны. Те из них, кто не желает растить ячмень, давить виноград и стряхивать финики с пальм, могут заняться другими делами. Ведь земли бывают разными, моя госпожа; те земли, что не годятся для поля и сада, подходят для пастбища, для разведения ослов и лошадей, а это выгодное занятие. Есть и другие промыслы: там, где глина, обжигают кирпичи, там, где деревья, строят суда, там, где песок, плавят стекло. В иных местах можно выпаривать соль, готовить краски, плавить бронзу, ковать и ткать, шить одеяния и делать мебель. Еще… – Я понимаю, – прервала его царица, разглаживая на колене ткань воздушного льняного платья. – Ты хочешь сказать, что существует много занятий, и каждое позволяет кормиться. Да, это так, но не всякий военачальник склонен к делам мира. Есть люди с волчьими сердцами… такие, как Хоремджет… – Что ж, эти пусть воюют. Но знай, госпожа: лучше десять мелких войн, чем одна большая. – Почему? – По многим причинам. Например, потому, что большая война рождает полководцев с большими армиями, а это – угроза твоей власти. Он мог бы рассказать ей о владыках, которым даровала власть война – о Сулле и Юлии Цезаре, Наполеоне и Тимуре, Чингисхане и Саладине… Но эти истории были бы странными сказками о людях, которые еще не родились, и государствах, которые еще не существуют. Поэтому Семен заговорил о другом – о тактике локальных войн, о демонстрации силы и устрашении противника, и о ротации подразделений – так, чтобы каждый корпус, навоевавшись всласть, заменялся другим, без создания крупной армии, преданной победоносному вождю. Царица слушала, не спуская с него изумленных глаз; рот ее приоткрылся, брови птичьими крыльями взлетели вверх, и Семен, стараясь уловить это выражение, торопливо чертил угольком на плотных пергаментных листах. Их накопилась целая пачка: Меруити удивленная, Меруити печальная, Меруити с улыбкой на устах… Прекрасная Меруити! Наконец она промолвила: – Прав Инени! Ты мудр, Сенмен, и скрытое от моего ума ясно твоему. Ты видишь дальше ночи и дня, дальше Западной пустыни, дальше просторов Уадж-ур… Но скажи мне, чем может прославиться властитель, если он не воюет, не покоряет чужие страны, не разрушает города? – Лучше строить, чем разрушать, прекрасная царица. Вот великое деяние, ибо камни дворцов и храмов прочней, чем память о битвах, и драгоценней добычи, взятой в разоренных городах. Он увлекся и стал описывать святилище в Дейр-эль-Бахри, еще не возведенный храм, белоснежную пену над валом зелени, застывшую средь медных гор. Меруити слушала как зачарованная.* * *
Инени разыскал его в библиотеке – там, где Семен, при помощи Пуэмры, знакомился с книжной премудростью Та-Кем. Или, как считалось, припоминал забытое в неволе искусство чтения и письма. Это было непростым занятием. К его удивлению, иероглифы передавали и слова, и звуки, причем лишь согласные, и это на первых порах повергало в ужас – ведь их насчитывались тысячи! Но, разумеется, язык Та-Кем не содержал тысяч согласных – только двадцать четыре, а остальные символы обозначали слова и, заодно, двух – или трехбуквенные сочетания. К счастью, иероглифика была письмом особым, для посланий богам в загробный мир, и тексты в этой зубодробительной записи встречались сравнительно редко. Однако пару-тройку сотен символов все же полагалось запомнить и научиться рисовать. С рисованием проблем у Семена не возникало, но слова, лишенные гласных, казались ему призраками настоящих слов, а еще сбивал порядок записи – то слева направо, то наоборот. К тому же рисование – долгий процесс, и, чтобы его облегчить, в Та-Кем использовали скоропись или обыденное письмо. Писали справа налево, и знаки были не картинками, а почти что буквами, но в таком количестве, что Семен уже подумывал о радикальной реформе алфавита. Смысл в ней был бы немалый – используя русские или латинские буквы, он мог писать гораздо быстрее, чем самый искусный из местных скрибов. Это повергало Пуэмру в шок; ему казалось поразительным, что пленник, позабывший письменность, способен покрывать листы странными значками, причем слева направо и с невероятной скоростью. Инени сел на циновку напротив Семена и властно повел рукой, повелевая Пуэмре удалиться. Вид его был утомленный, и даже парадное одеяние, белый хитон с накидкой из леопардовой шкуры, не красило жреца. – Что читаешь, друг мой? Семен усмехнулся. – Я памятник себе воздвиг нерукотворный… – пробормотал он на русском, потом его глаза обратились к свитку, лежавшему на коленях. – Здесь написано: «Имена мудрых пребывают вовеки, хотя они отошли, закончили свои жизни, и неизвестно уже потомство их. А ведь они не возводили себе пирамид из бронзы с надгробными плитами из железа. Они не заботились о том, чтобы оставлять наследниками детей, поминающих их имена, но они сделали своими наследниками писания и поучения, которые они сотворили. Они поставили себе свиток вместо чтеца и письменный прибор вместо любящего сына. Книги поучений стали их пирамидами, тростниковое перо – их дитем, поверхность камня – их женой…[777]» – Верные слова, – вздохнув, откликнулся Инени. – И мне бы хотелось сидеть в саду, с кувшином прохладного пива, и писать повесть своей жизни, сопровождая ее поучениями… – Какую из двух? Повесть явную или тайную? – Ту и другую. Впрочем, я их пишу, но не так быстро, как мне хотелось бы. – У тебя слишком много других занятий, – посочувствовал Семен. – Ты главный над храмовыми мастерскими, ты наставник дочерей царицы, ты строишь дороги, каналы и корабли и обучаешь молодых писцов… Ты трудишься больше, чем Пианхи, наш сосед, – а должностей у него столько, сколько пальцев на руках. – Эти дела не утомительны, Сенмен. У каждого из нас есть помощники, которые заняты работой; у меня – Урджеба и другие, а этот Пианхи тоже имеет верных слуг. Совсем нетрудно управлять, если знаешь, с какой стороны у коровы рога, а с какой – хвост. – Однако выглядишь ты уставшим. Инени сбросил с плеч накидку из леопардовой шкуры и мрачно уставился на нее. – Софра, первый пророк, призвал нас на совет. Хапу-сенеба, меня и высших правителей храмов из Танарена, Кебто, Джеме и других окрестных городов… Конечно, и Рихмера, Ухо Амона… Они, Софра и Рихмер, велели проследить, не появятся ли где-то люди, похожие на воинов, а если появятся, то где и сколько. – Помолчав, он наклонился к Семену и шепнул: – Они что-то подозревают, Сенмен… Я знаю, Инхапи и Рамери шлют Софре письма, и, чтобы его успокоить, в письмах тех сказано, что воины меша Сохмет – лучшие из лучших! – ожидают команды за первым порогом. Повелит Софра, и через несколько дней воины будут в Городе… Но отряды Пантер и Львов уже прячутся в Нут-Амон, в Кебто и других местах, а с караванами от Южных Врат плывут Гиены и Гепарды… все, как ты посоветовал Инхапи… Через сорок дней в Городе скопится тысяч пять воинов, мы будем готовы, но я боюсь, что это время нам не продержаться. Если тайное станет явным… Он смолк, глядя на Семена с каким-то странным ожиданием. – Надо выиграть время… надо… – пробормотал тот, затем спросил: – Что может сделать Софра? – Многое, Сенмен, многое! Может сговориться с Хоремджетом, или отправить гонцов к меша Птаха в Мен-Нофр, или подослать убийц к царице, или похитить пер’о… В Та-Кем достаточно храмов, чтобы спрятать хоть сотню таких малолетних царей! Семен нахмурился. – Убить царицу… это, наверное, непросто… Хенеб-ка – бдительный страж… – А Рихмер – Ухо Амона, и соглядатаи его повсюду, ибо всюду есть жрецы. Жрецы – знание, царь – сила и воля, народ – плоть и мышцы, и три эти камня державы скрепляются повиновением. Чтобы оно было прочным, есть тайные наблюдатели и доносчики, есть дознаватели и есть убийцы. А коль они есть, то стоит приглядеть не за одними немху… Может быть, за мной и за тобой, за знатными семерами, а за царицей – наверняка. У нее ведь много слуг и много телохранителей… Как узнать, какой из них добавит яда в кушанье или метнет стрелу? «Все, как у нас, – подумал Семен, – киллеры, искусствоведы в штатском, бойцы невидимого фронта…» При мысли, что Меруити могут убить, сердце его дрогнуло, затрепетало, но тут же вернулось к прежнему ритму. То, что не случилось, не случится! – мелькнуло в голове, однако вслух он вымолвил: – Это мне не нравится. – Мне тоже, но гранат красен, а лотос бел, и с этим ничего не поделаешь. Как не выведешь пятен с боков леопарда. – Инени погладил лежавшую перед ним накидку и спросил: – Что подсказывает твоя мудрость, друг мой? Как отвратить угрозу? Как делают это в твоей стране и в тех далеких временах, откуда ты явился к нам? Семен обвел взглядом книгохранилище. Оно выполняло функции библиотеки, нотариальной палаты и государственного архива; тут, в сухих подземельях и прохладных залах, пристроенных к Дому Жизни, лежали на полках и в сундуках бесчисленные свитки папируса, пергаменты, сирийские ткани, кедровые доски и глиняные клинописные таблички с евфратских берегов. Дипломатическая переписка, указы и завещания владык, религиозные тексты, перечни трудовых повинностей, даней из покоренных стран и собранных в Та-Кем налогов, списки пожертвований и наград, а также песни, поэмы, сказки, поучения, научные и философские трактаты… Немногое дойдет до будущих времен, но и дошедшего хватит потомкам, чтобы понять: были в Обеих Землях свои Сервантесы и Шекспиры, Пушкины и Байроны, Гомеры и Платоны… Были! Теперь вот и Маккиавели есть, с угрюмой усмешкой подумал Семен. – Ты спрашиваешь, как это делают в моей стране? Так же, как всегда и всюду: перекупают людей из противного стана. Не самых главных, но таких, от коих зависят вожди. Вот, скажем, этот Рихмер… Кто он такой? Чего он хочет? К чему стремится? – Рихмер – тень Софры, – пояснил Инени. – Софра возвысил его из немху, дал ему земли, стада и власть, мед и вино, мясо и хлеб… Все дал! И мы, клянусь Маат, большего не сможем ему предложить! – Разве? Всякая тень хочет сделаться тем, кто ее отбрасывает, – промолвил Семен. – Но о тенях – как-нибудь попозже, а сейчас скажи мне, Инени: ты знаешь, что я бываю в Доме Радости, у великой царицы? Жрец кивнул. – И Рихмер с Софрой тоже об этом знают? Новый утвердительный кивок. – Разумеется, друг мой! Известно, что ты рисуешь, лепишь из глины и говоришь с царицей. Я думаю, это хорошо. Время смутное, а речи твои мудры и вселяют в нее уверенность. – Она сказала тебе об этом? – Да. – Но ведь не каждое слово из наших речей передают Рихмеру? – Надеюсь, не каждое. И от меня он не услышит ничего, Гор тому свидетель! Великий Гор, чьи глаза – луна и солнце, а крылья покоятся по обе стороны небосклона! – Вот и оставим его в покое. Его, но не Софру с Рихмером. Пусть они узнают от тебя кое-что похожее на правду – например, что я провидец и маг, что царица верит мне, как призраку первого Джехутимесу, и слово мое весит сто дебенов золота: могу склонить ее к Софре или к Хоремджету. Пару минут Инени сидел в молчании, потирая ястребиный нос и рассматривая Семена маленькими запавшими глазками, будто видел его впервые; затем проговорил: – Рихмер хитер! Думаешь, поверит? – Почему бы и нет? Я просил царицу возвысить Сенмута – пусть возвысит! Так возвысит, чтобы Рихмер поверил в цену моих слов! Сотня дебенов золотом, не меньше! – Вижу, на серебро ты не согласен[778], – произнес жрец с усмешкой, но тут же погасив ее, добавил: – Опасные игры, очень опасные! Я верю в твой ум и твою мощь, но помни: хоть мал скорпион, да коварен и убивает даже льва. Я не хочу твоей смерти, Сенмен. – И я не хочу, а значит, попробую договориться с Рихмером. – Вдруг не договоришься? Семен хмыкнул и пожал плечами. – Вернусь в поля блаженных! А ты почтишь меня и сложишь в мой саргофаг столько ушебти, сколько дней в году. – Я прикажу отлить их из золота – ровно на сто дебенов, – пообещал жрец, поднимаясь. Он удалился, оставив Семена размышлять над свитком древних поучений. Их автор был, несомненно, мудрецом, верившим в силу и нетленность слова и полагавшим труд рапсодов столь же вечным, как творения ваятелей. «…Они не возводили себе пирамид из бронзы с надгробными плитами из железа… Книги поучений стали их пирамидами, тростниковое перо – их дитем, поверхность камня – их женой… Они ушли, и имена их были бы забыты, но писания заставляют помнить их…» Пожалуй, в этом таилась истина; мудрое слово и в самом деле помнилось, а значит, обладало мощью – такой же, как камень и металл. Какое же слово он скажет Рихмеру? Чем соблазнит, как пригрозит, чтобы отвести опасность от царицы? Слово еще не пришло, однако он знал, что не оставит эту женщину и не отдаст ее ни Софре, ни Хоремджету. Не отдаст никому!* * *
Ковры, подушки и циновки разложили под каштаном, зажгли светильники, вытащили лучшую посуду – серебряные блюда для жаркого, фаянсовые чаши для вина и бронзовую лохань для омовений; служанок нарядили в платья из тонкого льна, То-Мери дали корзинку с цветами, Техенну и Ако поставили с факелами у ворот – встречать гостей. У водоема тоже постелили циновки – для шестерых арфисток; в лампы добавили шарики кифи, и над садом поплыл беловатый благовонный дымок. Брат праздновал великую удачу – его подняли до таких высот, что впору закружиться голове. Правитель дома царицы, наставник ее дочерей… пусть не главный наставник, а заместитель Инени, но все же этот пост делал его одним из важных государственных сановников. Они, подобно шахматным фигурам, располагались в строгой иерархии, и первым в табели о рангах шел ферзь-визирь – или, по-местному, чати; пост еще вакантный, предмет борьбы и споров, так как чати должен был сделаться регентом и наставником юного пер’о. Вторая позиция была за Софрой, предводителем жречества Та-Кем, а за его спиной выстраивались прочие фигуры: Нехси, царский казначей, Исери, главный над житницами Нижнего и Верхнего Египта, и Саанахт, правитель Дома Войны. Три министра – финансов, сельского хозяйства и военный… Место Сенмута теперь находилось в этом ряду – выше, чем у Пенсебы, градоначальника Нут-Амон, и выше, чем у Рамери и трех-четырех знатнейших хаке-хесепов. Выше, чем у Хоремджета… Но под рукой военачальника было много пешек – копейщики и стрелки, секироносцы и колесничие, весь столичный гарнизон, с которым Саанахт, ввиду глубокой старости и дряхлости, управиться не мог. Секиры и копья являлись веским аргументом в пользу Хоремджета, способным продвинуть его в ферзи и даже в короли – пожалуй, с большей вероятностью, чем Софру. Но эти невеселые раздумья не помешали Семену насладиться пиром. Газель, запеченная на вертеле, оказалась великолепной, как и терпкое вино из-под Абуджу, журавли и гуси, пирожные Абет и томные песни арфисток, которых было столько же, сколько пирующих, и это сулило иные радости, кроме газели. К тому же пир оживлялся беседой, чему способствовали и вино, и созерцание арфисток, и тучный болтливый Пианхи, сын Сенусерта, служитель Мут, писец в чезете колесничих и смотритель царского стола. Все эти должности помогали проникновению в разные жизненные сферы, и Пианхи отнюдь не скрывал, что проник так глубоко, как позволяют чуткий слух и острый глаз. Вдобавок он обладал таинственным искусством чревоугодников и сплетников – есть, пить и говорить в одно и то же время. – Наш драгоценный друг, – Пианхи кивнул в сторону Сенмута, – сделал выбор, и нам остается молить богов, чтобы выбор этот оказался верен. Что до меня, то я принесу обильные жертвы Амону, Мут и Птаху… – Он ухватил газелью ляжку и оторвал зубами кус. – Завтра же принесу… трех гусей и сосуды с благовониями… умм, какое мясо!.. пожертвую их, чтобы печень Сенмута не высохла в песках пустыни, чтобы руки были полны богатства, как цветочная корзина у этой юной девушки… – писец алчно покосился на То-Мери, – и чтобы он звал друзей к себе – умм! – тысячу раз! – Не понимаю, о каком выборе ты толкуешь, – сказал изрядно захмелевший Кенамун, начальник рудников. – У нас нет выбора, ибо вершит его Великий Дом – жизнь, здоровье, сила! Он может возвысить нас или низвергнуть, послать на север или юг… Мы не выбираем, Пианхи, мы делаем то, что нам велят. – Он прав, – заметил Джхути, художник и приятель Сенмута. – Мы – муравьи под стопой владыки, и слушаем его призыв. – Лукавите! Лукавите, мои бесценные! – Пианхи погрозил им полуобглоданной газельей ляжкой. – А кто у нас теперь владыка? Чей призыв должны мы слушать? – Он слелал паузу, гулко отхлебнул из чаши и закончил: – К тому же вы говорите о внешней стороне служения, а я – о внутренней, о выборе, который делает душа, ибо у нее всегда есть предпочтения. Тайные, но есть! – Особенно в те дни, когда труба над Великим Домом пониже, и дым – пожиже, – добавил Семен, подмигивая брату, рядом с которым сидел Пуэмра. Как самый младший из гостей, он в разговор не вмешивался, зато посматривал на арфисток и ел с отменным аппетитом, не забывая следить за мудрыми речами старших. – А? Ты о какой трубе? – Пианхи уставился на Семена, потом, сообразив, выдавил ухмылку и почесал объемистое чрево. – Да, дым не слишком густ, клянусь Исидой всемогущей! И потому мы можем выбирать. Кто за достойного Софру, кто за отважного льва Хоремджета или за великую царицу… и даже за молодого пер’о. – Сирийский ублюдок! – скрипнул зубами Кенамун, что, однако, не помешало речам Пианхи. – Человек не обеднеет, если станет говорить учтиво, – произнес он. – Умм! Кажется, эта газель питалась медом и ароматным лотосом! Так вот, о нашем друге и хозяине… Он выбрал служение лучшей из женщин, которую я уподоблю Хатор, но есть и другие любимцы богов… умм… любимцы Гора, Амона или Монта… они спорят, тянутся к священному урею, и кто из них победит? Кто? – Лязгнув зубами, Пианхи содрал остаток мяса с кости. – Но кто бы ни победил, пусть наш хозяин не пожалеет о содеянном. У сына виноградаря рот полон винограда, сын пекаря ест мягкие лепешки… Пусть будет так и с ним! Чем правим, то имеем, перевел Семен пословицу, прикидывая, что достанется ему. Что он получит, какой виноград, какую лепешку? Мирную жизнь в прекрасной стране? Годы, полные трудов? Друзей, учеников и толпы дам и кавалеров, увековеченных его руками? Почет, достаток, крепкий сон, обильную еду? Газель – на первое, гусь – на второе, ну, а на третье – арфистка… Пожалуй, раньше этих благ ему хватило бы, но все течет, все изменяется в подлунном мире!.. Он представил губы Меруити и, будто ощутив их сладость, глубоко вздохнул. – Значит, говоришь, у нас есть выбор? – дернул плечом Кенамун, расплескивая вино из чаши. – Кто за Софру, кто за гиену Хоремджета, кто за царицу либо сирийскую вошь… А сам ты за кого? – Я, мой друг, главный писец колесничих и получаю долю от всего, что жалуется людям Хоремджета. Я жрец Львиноголовой[779], и мне положена доля из приношений в храм, от благодетеля нашего Софры. Я управитель имений пер’о – жизнь, здоровье, сила! – откуда к царскому столу идут хлеба и овощи, и в них я тоже получаю долю. Царица повелела мне возглавить ловчих – тех, кто охотится на длинногих птиц[780] и добывает перья в Западной пустыне, – и даровала поле, сад и коз, чтобы кормить моих людей… Словом, я тот бык, который пьет из всех ручьев, что попадаются по дороге, не пропуская ни одного. Сенмут улыбнулся, Джахи захохотал, а Кенамун неодобрительно фыркнул. – Пьющему из всех ручьев надо знать, какие у них берега, – сказал Семен. – Крутые или пологие, зыбкие или с надежной почвой… Иначе можно поскользнуться. Одарив его благосклонным взглядом, Пианхи повернулся к Сенмуту. – Твой брат – мудрец, ибо видит скрытое за светом дня и мраком ночи. Конечно, я знаю эти берега! Знаю и тропинки к ним, те маленькие слабости, какие есть у властных и великих… Наш молодой пер’о – жизнь, здоровье, сила! – не привередлив в пище и украшениям предпочитает оружие, особенно изогнутые сирийские клинки из твердой бронзы или из железа. Нашей великой царице по сердцу, когда одаривают ее дочерей – яркими перьями, цветами или игрушками, чем-то таким, что приносит радость. Хоремджету нравятся лесть и песни о подвигах, которые он совершил в странах Хару и Джахи, а также у Перевернутых Вод. Хуфтор, чезу колесничих, любит выпить. Ну, а Софра… – Пианхи посмотрел на обглоданную кость в своем кулаке, – мудрый Софра считает себя искусным охотником и дважды в месяц отправляется в Западную пустыню с ливийскими проводниками. Клянусь Маат, он в самом деле хороший охотник! Я ел у него жаркое из газели, почти такое же вкусное, как это! – Он потряс костью. – Ну, а Рихмер, хранитель врат Амона? Говорят, что он – тень Софры… Он тоже любит охотиться? – спросил Семен, неторопливо потягивая вино. – Любит, только на людей, – ухмыльнулся Пианхи, не замечая, что при имени Рихмера лица у пирующих поскучнели. – Ты и к нему протоптал тропинку? – Зачем? Рихмер не делит дары и приношения. Но если бы мне захотелось… – Пианхи бросил кость и потянулся к жареному гусю. – Есть у Рихмера имение за Южным Оном, а в нем – наложницы, три или четыре, но лишь одной щедротами Хатор даровано дитя. Я слышал, девочка… Она для Рихмера – услада сердца, и если бы я топтал к нему тропинку, то подарил бы опахало из птичьих перьев – такое, какое делают лишь для царицы, нашей госпожи. – Сделай побольше таких опахал и пусть их хранят в твоей гробнице, – посоветовал Семен. – Для чего? – Оторвавшись от гуся, Пианхи вытер стекающий по подбородку сок. – Подаришь их судьям Осириса, чтобы пропустили тебя в поля Иалу. Жарковато у них в канцелярии, так что опахала пригодятся. – Не богохульствуй! Эти судьи неподкупны! – выкрикнул Кенамун. – Мне лучше знать, – сказал Семен, чувствуя, как в голове шумит хмельной напиток из Абуджу. Может быть, он произнес бы еще какие-то неосторожные речи, но брат коснулся его запястья и поднял чашу: – Выпьем за девушку, прекрасную, как цветок лотоса! – Сенмут повернулся к Пуэмре: – За Аснат, твою сестру! Пусть скорей войдет хозяйкой в этот дом! Они выпили, и Сенмут кивнул арфисткам. Тихая мелодия поплыла над садом, а Джхути, чей голос мог соперничать с томными звуками арф, запел:* * *
К нему в мастерскую явился Софра. Не чрезвычайное событие; бывало, что верховный жрец заглядывал к художникам – обычно к тем, которые трудились над росписью его гробницы. Он, разумеется, не собирался умирать, но всякий человек – тем более древнего знатного рода – строил загробную обитель еще при жизни и наполнял ее разнообразными предметами, чтобы ожидать суда Осириса в комфорте и уюте. Конечно, многое с собою не возьмешь – ни сад, ни реку с камышами, ни охотничьи угодья, ни толпы верных слуг – но все это можно было нарисовать, дабы усопшая душа не тосковала в одиночестве, а развлекалась с арфистками или, забравшись в колесницу, вершила сафари по Западной пустыне. Чем больше таких картин, тем веселей проходит ожидание; вот почему Софра тщательно просматривал эскизы и требовал, чтобы были в них и антилопы, пораженные стрелами, и танцовщицы дивной красоты, и сцены шествий и пиров, и барка, плывущая по Нилу, и обильный деревьями сад – пальмы, смоковницы и гранаты, а посередине – водоем. Семен не рисовал ни танцовщиц, ни пальм, ни антилоп и не питал интереса к гробницам, но все-таки Софра к нему заявился. Не один, а с подобающей свитой: с Хапу-сенебом, вторым пророком, с другом Инени и множеством младших жрецов и прислужников, тащивших корзины, табуреты, опахала и прохладительные напитки. Пришел он в рабочую жаркую пору, когда Семен с Пуэмрой размечали камень для изваяния Птаха, два подмастерья трудились над парной статуей Сохмет, а третий, обливаясь потом, полировал бюст Инени. Ну, босс на то и босс, чтобы приходить не вовремя, решил Семен, откладывая мерные шнурки, отвес и наугольник. Работа замерла, и они, все пятеро, склонились перед важным гостем. – Ты – Сенмен, ваятель? Голос у Софры был громкий, гулкий, и выглядел он впечатляюще: солидный муж под пятьдесят, с хмурым высокомерным лицом и бритым черепом; длинные белые одежды, шкура леопарда на плечах и, несмотря на жару, парик, покрытый полосатой тканью. Не клафт, но что-то очень похожее; поверх него так и просилась корона. – Это я, – пробормотал Семен, не разгибаясь. – Целую прах под твоими ногами, великий господин. С минуту Софра разглядывал его, словно соображая насчет целования праха, которого в мастерской хватало, потом махнул рукой, и Семен с помощниками разогнули спины. – Это Пуэмра, господин, – представил он ученика, – а это мои подмастерья: Атау, Сахура и… – Мне их имена не интересны, – пророкотал верховный жрец. – Молчи, ваятель! Будешь говорить, когда я разрешу. С этими словами он повернулся к каменной копии Инени и долго глядел то на нее, то на третьего пророка, стоявшего чуть вдалеке, рядом с пожилым благообразным Хапу-сенебом. – Амон всемогущий! Какое сходство! – Софра покачал головой. – Подобного не достигали даже во времена Снофру и Хуфу! – Я говорил тебе, достойный брат, что этот ваятель творит чудеса, – произнес Хапу-сенеб, отдуваясь и благожелательно поглядывая на Семена. – Ф-фу… какая жара… – Он кивнул носителям опахал, и те принялись овевать его, разгоняя застоявшийся знойный воздух. Сделав пару шагов, Инени приблизился к изваянию. – Я помещу его в своей гробнице, рядом с бронзовым зеркалом. Я буду приходить туда все годы, отпущенные мне Осирисом, смотреться в зеркало, глядеть на этот камень и вспоминать, каким я был. Жаль, Сенмен, что двадцать разливов назад, когда я выглядел помоложе, в Та-Кем не нашлось равных тебе мастеров! – Ф-фу… Зато теперь они есть… по крайней мере, один. В толпе прислужников и жрецов произошло какое-то движение, и из задних шеренг вынырнула личность с непримечательной физиономией и маленькими тусклыми глазками. Этот человек был не тощ и не толст, не высок и не низок, а так, нечто среднее – типичный роме, каких в десятке не меньше дюжины. Если бы не бритый череп и не богатое ожерелье, он выглядел бы как чесальщик льна или пастух, чье место рядом с баранами и быками. Но младшие жрецы почтительно расступились перед ним. Тусклые зрачки впились в лицо Семена. – Ваятель Сенмен много лет провел в плену и, кажется, не зря. Древние говорили, что муки тела возвышают душу, страдание делает чутким и искусным, и плеть даже обезьяну заставит танцевать… А ты ведь страдал, ваятель Сенмен! Целых десять разливов, в неволе у нехеси! Будь осторожен, сказали глаза Инени, и Семен вдруг понял, кто перед ним. Рихмер, Ухо Амона, серый кардинал! Голос его казался таким же невыразительным, как внешность. – Ты прав, хранитель врат, – Семен склонил голову, – годы плена были тяжелы. Поистине, я узнал вкус смерти на своих губах. – Зато теперь твои творения прекрасны. Покажешь что-нибудь еще? Взгляд Рихмера метнулся к полкам, где, задвинутое в дальний угол, закутанное полотном, стояло изваяние Меруити. Хранитель врат определенно знал о нем! И знал, где его прячут! Но от кого? Над этой вещью Семен трудился вечерами, и верный Пуэмра затачивал ему резцы… Возможно, скрип и скрежет, с коим они врезались в камень, дошел до слуха Рихмера? Семен поклонился. – Работа над изваянием достойного Инени потребовала много сил. Еще я занимался мелкими поделками, а мои мастера изготовляли статуи для Ипет-сут… Больше мне нечего показать. – Того, что я видел, хватит, чтоб убедиться в твоем мастерстве, – с важным видом заметил Софра. – Хвалю твои глаза и руки, ваятель! Ты будешь награжден и возвеличен! Ты сделаешь мое изображение и станешь главным над художниками Амон-Ра. Он развернулся и проследовал к выходу из мастерской. Свита торопливо потянулась за ним, и лишь Инени замедлил шаг, пробормотав: – Бойся крокодила, когда он разевает пасть, чтобы тебя похвалить. Помощники вернулись к делу. Стоя среди привычного грохота, шелеста полировочных камней и звона вгрызавшихся в базальт рубил, Семен бросил взгляд на полку, где затаилась головка Меруити. Она была готова, однако кому он рискнул бы ее показать? Признание в любви – не для чужих глаз… Даже не для глаз Меруити – ибо, если работа закончена, то нет и поводов для новых встреч.* * *
Все-таки он показал ее – брату, в самом начале месяца эпифи, когда от зноя пересыхает земля, а Нил сужается и мелеет. Прекрасный женский облик, запечатленный в гладком темном камне… Она была такой, какой явилась ему впервые звездной ночью, в трепетном свете факелов – царица ветров и тьмы, загадочная, непостижимая, манящая… Сенмут долго смотрел на каменную женскую головку, потом сказал: – Память твоя осталась в полях Иалу, однако не обижайся на богов: взамен ты получил чудесный дар. Дар мастерства и дерзости… ты смеешь изображать не человека, а то, что чувствуешь к нему… Ведь так? – Так, – согласился Семен. – Любовь к царице – дерзость, – тихо промолвил брат. – Ты можешь лишиться головы, и потому никто не должен видеть твоего творения. Лучше разбей его. – Я не могу. Они переглянулись, и Сенмут шепнул: – Понимаю… Я бы тоже не смог. – Затем, после недолгой паузы, поинтересовался: – Ты будешь изображать ее снова и снова? – Буду. – Семен окутал головку Меруити полотняным покрывалом, но тут же сбросил ткань и снова всмотрелся в милые черты. – Ты говоришь, брат, что это дерзость… Согласен, дерзость – если ваятель одинок, и нет ни женщины, владеющей его душой, ни девушки, приятной его взору. Но в ином случае и суждение будет иным, не так ли? Если ваятель любит другую и счастлив своей любовью, то это изображение не дерзость, а дань восхищения и жертва – такая, какую смертный приносит богине… Ты понимаешь меня? На лбу Сенмута прорезалась морщинка. – Нет. Я чувствую, что в сказанном тобой есть тайный смысл, но не могу его постичь. – Ты тоже ваятель, брат мой, прекрасный ваятель, и сердцем твоим владеет Аснат. Я сделал много рисунков, запечатлел царицу на папирусе, но этот камень – как и другие камни – могли быть обработаны твоей рукой. Теперь понимаешь? – Он положил ладонь на гладкую холодную поверхность. – Я хочу… я прошу, чтобы здесь стояло твое имя. Сенмут, сын Рамоса, правитель дома царицы, наставник ее дочерей… Брат неожиданно рассмеялся: – Хорошая шутка, клянусь Хнумом, покровителем каменотесов! Такого в Обеих Землях не случалось – чтобы статуи изготовлял один, а имя писал другой! Не знаю, что сказать и как назвать подобное деяние! Но если ты хочешь… – Не только я – так пожелали боги. Не удивляйся, что мне ведома их воля – ты ведь помнишь, откуда я пришел. – Глядя в побледневшее лицо брата, Семен медленно произнес: – Я послан с полей Иалу в помощь тебе и великой царице, чтобы все свершилось так, как должно свершиться, чтобы возвеличились имена одних, другие же остались в безвестности… Как видишь, я не ошибся – твое возвышение началось. Что же касается меня… я, брат, всего лишь скромный страж реальности, которого прислали боги. В словах его не было лжи – ведь богом являлась история, а он лишь подчинялся ее железной воле. Изображение царицы с именем Сенмута, ваятеля, – столь же реальный факт, как храм в Дейр-эль-Бахри, построенный зодчим Сенмутом, и если ни первое, ни второе еще не существует, то обязательно будет существовать. И совсем неважно, если одни имена возвеличатся, тогда как другие скроет мгла веков… Сенмут сделал жест покорности. – Кто я такой, чтобы противиться богам? Разве они не вернули мне брата? И разве старший брат не знает, что лучше для младшего? – Вытянув руку, он прикоснулся к каменной щеке царицы. – Да будет так, как ты сказал! Дань восхищения, жертва и знак благодарности богине от недостойного Сенмута, сына Рамоса… Она ведь возвысила меня! – Ты ловишь мои мысли на лету, – молвил Семен, окутав Меруити покрывалом.Что еще сказать о друге моем, Сошедшем с Лестницы Времен? Воистину, он не любил крови и проливал ее лишь тогда, когда бессильно было слово. Как непохож он в этом на нашего нынешнего владыку! На того, чьи кони топчут поля Хару и Джахи и устилают их трупами до самых Перевернутых Вод! Но я не хочу говорить о нем; вместо меня скажут камни разоренных городов и плиты с горделивыми надписями, где перечислены тысячи мертвых и взятых в неволю. Друг же мой был милосерд, и если виделись ему пути к прощению, он вступал на них без колебаний и прощал. Даже предавших его.Тайная летопись жреца Инени
Глава 8 Тень Софры
Пуэмра исчез. Он не появлялся ни в мастерской, ни в храме, ни в Доме Жизни, ни в иных местах, какие должен посещать писец и ученик ваятеля; он не шатался по базару и не сидел в книгохранилище над свитками, он не бродил у пристани, разглядывая камни, что привозили по Реке с севера и юга, и он не ночевал в своей постели. Решив, что парень захворал, Семен отправился к нему с Сахурой, подмастерьем, но при виде их мать Пуэмры и Аснат, его сестра, расплакались. Они не ведали, где пропадает их сын и брат, и потому их терзали жуткие догадки: либо он утонул в реке, либо растерзан в пустыне львами. То и другое казалось глупостью Сахуре, считавшему, что парень загулял с арфистками, но в это уж не верилось Семену – арфистки с бедными писцами не гуляли. Однако ученик пропал. Случилось это через неделю после визита Софры, и не успел Семен задуматься, где отыскать пропажу и кто посодействует в розысках, как поступь времени ускорилась, пустив события галопом. Двенадцатый день эпифи выдался на редкость жарким, и он, покинув мастерскую, бродил у храмового бассейна, под стенами святилища. От раскаленных камней веяло жаром, за пилонами с западной стороны высился аккуратный прямоугольник храма Хонсу, а главное строение, Дом Амона, тянулось метров на шестьсот – лес колонн, рассеченный утесами башен и лестниц, будто выросший из опаленной земли. Созерцание этого чуда приводило Семена в восторг; у этих стен он слышал дыхание вечности и чувствовал, как бьется пульс Вселенной. Однако сегодня мерный ритм вселенской мелодии давал сбои. Может быть потому, что Мирозданием правила не воля богов, а человеческая мысль, заставляя его откликаться на все тревоги и сомнения? Но вряд ли в этой идее крылась истина; тревог и сомнений было столько, что мир, подчинившись им, пришел бы неизбежно к хаосу. Пуэмра – одна из забот, Меруити – другая,Рихмер – третья… Что их объединяет, размышлял Семен, и где таится ключ ко всем проблемам? Пожалуй, во власти, в сильной власти; она принуждает и карает, она берет свое, но кое-что дает взамен – хотя бы иллюзию справедливости и безопасности. Сильная власть, в его представлении, нуждалась в поддержке масс, в объединяющей нацию идее и руководстве, способном эту идею озвучить и склонить народ к ее осуществлению – желательно, без лишней крови. Универсальной идеей всех народов и эпох являлось благоденствие, и в этом смысле мир, в который он попал, был уникален. Эта страна на берегах реки, не знавшая ни бурь, ни холодов, кормила миллионы – и кормила сытно, даруя в изобилии зерно и скот, плоды и птицу, рыбу и вино. Все остальное, в чем ощущался недостаток – дерево, медь и другие металлы – не составляло труда раздобыть на севере и юге, действуя так или иначе, и выбор этих действий входил в прерогативы власти. Или война, или торговля, захват или обмен – здесь не было иных путей. Власть в Та-Кем – да и в любой другой стране – подкреплялась традиционным способом, то есть устрашением внешних врагов, искоренением внутренних и пропагандой, которая, в самой эффективной форме, была учением религиозным и опиралась на волю богов или непререкаемый авторитет вождей. Все это вместе считалось политикой, и, осуществляя ее, вожди давили на два рычага, явный и тайный. Явный был связан с судами и тюрьмами, штатными идеологами, СМИ и, наконец, с армией; тайный – с особой структурой, дублировавшей втихомолку функции официальной власти. Сей институт действовал всюду, в любые эпохи, хоть назывался по-разному – секретной полицией, ФБР, Чека или сообществом сикофантов; при всем многообразии имен смысл его был одинаков: бдить и карать. Конечно, и Та-Кем нуждался в подобной структуре, в законспирированном рычаге, связанном с множеством чутких ушей, покорных рук и острых глаз. Семен, не будучи идеалистом, признавал, что толку от тайных агентов не меньше, чем от жрецов искусства, а может, и больше: последние лишь прославляют державу, тогда как первые ее скрепляют. Таких агентов полагалось завести и здесь, если бы они уже не водились в изобилии – вполне квалифицированный персонал при Рихмере, Ухе Амона. Вторая власть, клан соглядатаев, секретная опора Софры… Мощная опора, если судить по тому, как их боялся Инени! Схватиться с ними? Уничтожить их? Это, пожалуй, было не легче, чем выловить из нильских вод рыбу определенной породы. Пустая и кровавая затея… Да и зачем ломать полезный инструмент? Клинок, которым режут глотку, не виноват в убийстве, виновны голова и руки. Значит, рассуждал Семен, голову придется снять, с рукой договориться, а клинок оставить. Он уже знал, каким приемом скрутит эту руку, как повернет против господина тень, заставив трепетать от страха… Дело за малым – пора бы этой тени пробудиться! Как-никак, Сенмут назначен правителем дома царицы, наставником царских дочерей… Всем ясно: слово Сенмена, брата его, – не пустой звук, а чистое золото! Сто дебенов, не меньше! Что же ты медлишь, тень? Он медленно шел вдоль стены храма, когда неприметная дверь внезапно открылась перед ним и сильные руки втащили внутрь. Квадратная каморка три метра в поперечнике, и в ней – троица бритоголовых жрецов. Не юноши, крепкие мужчины, с кинжалами на перевязях, бычьими шеями и неподвижным взглядом оловянных глаз. У одного – солнечный диск на шнурке, знак Амон-Ра, и плеть за поясом. Видимо, старший, решил Семен и недоуменно уставился на крепыша с плетью: – Соображаете на троих, святые отцы? А я вам зачем? Вроде бы лишний… – Молчи и следуй за мной. Человек повернулся, что-то скрипнуло, растворилась другая дверь, за ней открылся коридор, проложенный в толще стены, узкий, длинный и мрачный, освещавшийся сквозь редкие бойницы у сводчатого потолка. Не коридор, а тараканий лаз или крысиная нора. – Иди! Семена подтолкнули в спину, мышцы его напряглись, но он, ссутулив плечи, шагнул куда приказано. Похоже, началось! – мелькнула мысль, и он еще больше согнулся, стараясь казаться не таким огромным – скорее, безобидным и даже испуганным. Он вдруг ощутил, что находится среди врагов, которым нельзя раскрывать ни силу свою, ни другие таланты, ибо внезапность тоже была оружием – возможно, пострашней секиры. Они повернули в другой коридор – видимо, во внутренней стене; снова что-то скрипнуло, зашелестело, и Семен очутился в глубокой темной нише, будто в каменном ящике, запрятанном среди пьедесталов пятиметровых изваяний. За ними в сумрачном величии застыл огромный зал размером с футбольное поле; подпиравшие свод колонны тянулись вверх, раскрываясь цветочными лепестками или метелками папируса, свет, падавший сквозь окна центрального нефа, озарял потолок, расписанный золотыми звездами, и отражался в мозаике пола – пестрой и будто бы переливавшейся всеми цветами радуги. Дальше стены раздавались распахнутыми вратами, и в их широкий проем Семен увидел лестницу, пилоны с трепещущими на вершинах флагами и часть храмового двора, выходившую к Царской Дороге. Он был в главном зале святилища. И не один – крепыш с плетью дышал в затылок, а в ярких лучах, что падали в окна нефа, на расстоянии шагов шестидесяти или семидесяти, виднелись четыре фигуры. Софра и Хоремджет – друг против друга; верховный жрец в леопардовой накидке, с длинным изогнутым посохом, военачальник – в шлеме и кожаных доспехах, с кинжалом и секирой на перевязи. За Софрой, чуть отступив, стоял Рихмер, а рядом с Хоремджетом – воин из знатных, тоже в панцире и при оружии. Лицо его было Семену незнакомо. – Стой здесь, – сказал бритоголовый, не приглушая голоса. – Стой и слушай! Так повелел Рихмер, хранитель врат. – Не боишься, что и нас услышат? – полюбопытствовал Семен. – Если не двинешься дальше статуй богов, ни речь, ни крик туда не долетят, – жрец кивнул в сторону нефа. – Но ты различишь каждое слово и каждый вздох. Ты в Ухе Амона, ваятель. Скрипнула дверь, провожатый исчез, и в огромном зале воцарилась тишина. Четверо под световым потоком не двигались, застыв, как восковые фигуры: две – в белоснежных одеяниях, две – в коричневой коже панцирей и блеске бронзы. Потом рука Софры с длинным изогнутым посохом приподнялась, конец его гулко стукнул о камень, и Семен услышал: – Так ты согласен, Хоремджет? Согласен с тем, что предлагают тебе боги? – Боги? Я думал, это твое предложение. – Голос военачальника был громким и хриплым, будто он находился не в храме, а перед шеренгой солдат. – Ну, если боги, то я готов послушать еще раз. Посох снова стукнул о пол, будто предваряя речи Софры. – Ты станешь наместником нижних земель и хапу-хесепом в Хетуарете. Получишь право набирать войска. Еще – право воевать с темеху; можешь загнать их в Западную пустыню, сбросить в Великую Зелень или утопить в болотах. Еще получишь шестую часть зерна, собранного в Дельте для пер’о, шестую часть плодов, скота и птицы. Еще – рудники в стране Син и право посылать караваны в Гебал и другие прибрежные города, а также в земли востока и севера. Еще… – Рудники и караваны! – бесцеремонно прервал Хоремджет. – Шестая часть зерна! И право воевать с темеху! Неплохо, очень неплохо! А что насчет меша Сетха и меша Монта, что в нижних землях, в Хетуарете и Саи? – Меша Сетха будет под твоей рукой, – произнес верховный жрец после недолгих колебаний. – Меша Монта отправится в верхние земли… скажем, в Санофре или в страну Пиом. – Ты щедр! – Хоремджет осклабился, и в голосе его послышалась издевка. – Значит, я получу еще корпус Сетха… А что получишь ты? Софра гордо вскинул голову. – То, что причитается человеку древнего рода, в котором течет кровь царей! Я стану супругом царицы и повелителем Та-Кем! Однако, – добавил он с меньшей резкостью, – Великий Дом не будет ущемлять твои права. Все обещанное исполнится, клянусь солнцеликим Амоном! – Ну, что скажешь, Хуфтор? – Хоремджет взглянул на стоявшего рядом воина. – Что скажешь, чезу моих колесничих? – Кал гиены – вот что я скажу! – рявкнул тот. – И еще скажу: лучше жрать песок, чем соглашаться на подачки! – Верно, лучше жрать песок, – отозвался Хоремджет, поворачиваясь к Софре. – К чему мне нижние земли, если я стану наместником при молодом пер’о? Зачем мне слать караваны на восток и север – не лучше ли послать солдат? И я еще не лишился разума, чтобы воевать с темеху в Западной пустыне! Что я возьму с этих нищих? Стадо коз? Или пару ослов? Тут он прав, подумал Семен. Ослы да козы – что еще возьмешь с ливийцев, если воевать? А если с ними миром обойтись, пойдут в наемники и пошагают туда, куда прикажет фюрер. В Сирию, Палестину, Финикию… Словом, дранг нах остен! – Ты забываешься, немху, – с высокомерным видом молвил жрец. – Ты думаешь, в Та-Кем, кроме твоих солдат, нет воинов? Нет лучников и колесничих? Нет тех, кто носит копье и секиру? И нет у них начальников? Есть! – Посох снова грохнул о камень. – Есть Саанахт, правитель Дома Войны! Есть Инхапи и меша Сохмет! Есть Ранусерт и меша Птаха! Есть Сетна и Рени! Лицо Хоремджета потемнело, жилы на висках вздулись. Стиснув кулаки, он шагнул к верховному жрецу, заставив того попятиться. – Саанахт, говоришь? У Саанахта болезнь хесбет[782], и он испражняется под себя! Инхапи стар и глуп, Ранусерт и Сетна – стары и трусливы! Все они – змеи, пережившие свой яд! Ну, а Рени… с Рени мы договоримся. – Он выпятил грудь, обтянутую ремнями панциря. – Знаешь ли ты, первый пророк, чего хотят воины? Воевать! А кто возглавит их, если не я? Мы пройдем страны Джахи и Хару до самых Перевернутых Вод! А там посмотрим… Конечно, во мне нет царской крови, но есть ли она у сосунка в Великом Доме? – Хоремджет ухмыльнулся и, глядя в лицо Софры, медленно произнес: – Мечтаешь о власти, старый павиан? Думаешь, что заберешься к царице на ложе? А что ты будешь там делать? Петь гимны Амону? Царица молода и жаждет объятий льва, а не лысой обезьяны! Что-то такое уже было, подумал Семен – в Шабахи, где торговались вождь с колдуном. Правда, эти мерзавцы посерьезней… В глазах у него потемнело. Сейчас он ненавидел их обоих лютой ненавистью – сильней, чем Баштара, Дукуза, Саламбека и остальных своих хозяев вместе взятых. Мир, доселе огромный, стремительно сузился, явив из всех картин одну, самую мерзкую и страшную: нагая Меруити с застывшим лицом и жадные чужие руки, что мнут и тискают ее грудь. Он прикусил губу до крови; боль заставила прийти в себя. Не сторгуетесь! – мелькнула злорадная мысль. Зрел виноград, да висит высоко – шакалам не дотянуться! Щеки Софры стали бледнеть. Нахмурившись, он подался вперед, почти касаясь лбом шлема Хоремджета, и прошипел: – Амон знает, кто здесь лев, а кто обезьяна! Не боишься, что он разгневается? Что поразит тебя прямо на этих камнях? Военачальник отшатнулся. – Я знаю, вы, жрецы, владеете тайной магией… знаю про убийц Рихмера… и знаю, что смерть неугодных будет объявлена волей богов… И потому я здесь не один! – Он сделал знак рукой, и Хуфтор, стоявший рядом, попятился к вратам святилища. Стиснув рукоять секиры и не спуская глаз с Софры и Рихмера, Хоремджет спросил: – Скажи-ка, чезу колесничих, что ты видишь? Может, кто-то прячется за пилонами? Или у подножия стен? – Прячется, – подтвердил Хуфтор. – Похоже, тут Унофра с тремя сотнями своих лучников. – А кто такие эти лучники? – снова спросил Хоремджет, отступая к вратам и лестнице. – Наемники хик’со из Хетуарета. Там поклоняются Сетху и не очень любят Амона и его жрецов. Могут передавить их как блох в собачье шкуре… Если позволишь. – Не позволю. Пока! Быстро повернувшись, военачальник, сопровождаемый Хуфтором, сбежал по ступеням и исчез за каменной громадой ближнего пилона. Софра скрипнул зубами. Несколько секунд он стоял, вытянув шею и запрокинув лицо к потолку, расписанному золотыми звездами, стараясь унять бушевавшую ярость. Постепенно черты его разгладились, исчезли резкие морщины у рта и алые пятна на щеках; теперь у него был вид человека, принявшего важное решение. Голос его тоже звучал почти спокойно. – Рихмер! – Слушаю твой зов, великий господин. – Отправишь гонца с посланием в Дом Радости. – Как повелишь, господин. И что должно быть сказано в этом послании? – Время раздумий кончилось, и пора решиться. Только эти слова. Так, чтобы стало ясно: других посланий не будет. – А если не будет и решения? – Тогда она умрет, и умрет пер’о. Каждый – своей смертью. Женщины любят лакомства, сладкие пирожки, и потому страдают животом, а пер’о… – Лоб Софры пошел складками, лицо стало задумчивым, словно он выбирал, какой пирог отведать, с изюмом или с орехами. – Сирийскому ублюдку нравится гонять на колеснице. Опасное занятие! Вдруг упадет и сломает шею! – Вполне возможно, мой господин. – Ты позаботишься об этом, Рихмер! – Позабочусь. Но если позволишь сказать… – Позволю. Говори! – Я отправлю гонца в Дом Радости, но без послания. Посланием будет сам гонец. Если уж он не убедит… – Рихмер развел куками. Софра, склонив голову, всмотрелся в невыразительное лицо своей тени. – Есть такой человек, чьи речи убедительны? Ты уверен? – После утвердительного знака верховный жрец пристукнул посохом. – Ну что ж, тогда подождем! Но недолго, Рихмер, недолго… думаю, три дня. Слишком много в Уасете воинов Инхапи, и игры старого шакала – да проклянет его Амон! – мне непонятны. Но ясно, что стоит поторопиться… Три дня, Рихмер, три дня! Вот твой срок! Хранитель врат поклонился, сложив ладони перед грудью. – Из-за Инхапи не тревожься, мой господин. В одном прав Хоремджет: Инхапи стар и глуп, и какую бы ни затеял игру, он непременно проиграет. Проиграет! Ведь я с тобой! Величественно кивнув, Софра направился к выходу. Леопардовая шкура колыхалась на плечах верховного жреца, будто живой зверь и в самом деле вскочил ему на спину, стиснув шею когтистыми лапами. Оставшись в одиночестве, Рихмер, опустив голову, некоторое время мерял шагами площадку между колонн, то скрываясь в их тенях, то вновь появляясь в потоке света. Семен многое бы отдал, чтобы узнать, о чем думает хранитель врат, но разглядеть отчетливо его физиономию не удавалось, а попавшее в поле зрения было абсолютно непроницаемым. Точь-в-точь как у сфинкса с бараньим ликом. Наконец, не поднимая головы, Рихмер произнес: – Ты здесь, ваятель? Подойди сюда. Семен приблизился, неслышно ступая по каменным плитам. Их ровные квадраты обрамляли овал напольной мозаики, выложенной под центральным нефом и потому ярко освещенной, игравшей многоцветьем красок в падавших из окон солнечных лучах. То была карта; вдоль длинной оси овала змеился синий Нил в зеленых берегах, и в этой зелени виднелись крохотные пальмы, рощи олив, луга и поля, сменявшиеся кое-где белым, розовым и серым – башнями, храмами и домами, изображавшими города. В дальнем конце синий поток разветвлялся на семь рукавов, соединяясь с изумрудным морским пространством, в котором плыли корабли, а с обеих сторон, за границами вытянутого сине-зеленого ковра, лежали желтые и коричневые пустыни с яркими пятнами оазисов. Там, где стоял Семен, Нил изгибался к западу широким лезвием секиры, а берега были покрыты рисунками трав, песчаных холмов и редких деревьев, среди которых бродили слоны и львы, антилопы, носороги и другая живность. Саванна, понял он, третий порог… Место его непостижимого приземления в этом мире. – Ты все расслышал, ваятель? – произнес Рихмер, буравя Семена маленькими запавшими глазками. – Все расслышал и, надеюсь, все понял? – Я догадлив, – отозвался Семен и, словно желая подчеркнуть, что знаков почтения от него не дождешься, скрестил руки на груди. – Я догадлив, Рихмер, и расслышал все, за исключением маленькой подробности. Ты понимаешь, какой? Хранитель врат пожевал сухими губами. – Да, мне говорили о цене… Кажется, сотня дебенов золота? Огромное богатство! Равное дому с садом и водоемом, с полями, стадами коров и овец, с запряжкой быков и виноградником… Не всякая усадьба столько стоит! – А твоя? Та, что за Южным Оном? В которой живут твои женщины и дочь? – Семен наклонился и заглянул в тусклые глазки хранителя врат, успев заметить в них проблеск тревоги. Щека у Рихмера дернулась. – Откуда ты знаешь про мою усадьбу и мою дочь? – Если ты слышал о сотне дебенов, то слышал и другое, не так ли? О том, что я провидец, прорицатель… Многое знаю и могу… Больше, чем ты, Ухо Амона! Но помощь моя стоит недешево! Рихмер с шумом выдохнул воздух. – Ладно, ты получишь свои дебены, ибо Софра, мой господин, щедрейший из щедрых. Получишь, но не сейчас! Сорок – после успеха дела, а остальное – попозже, когда я увижу, что ты человек полезный и верный. Прорицатель… хмм… – Он метнул на Семена косой взгляд. – Как знать! Возможно, ты пригодишься для других услуг. Последняя фраза не допускала сомнений: Рихмер вербовал его в штат соглядатаев. В ином раскладе это было бы неплохо; хорошая возможность проникнуть в организацию изнутри и разглядеть, как она вертится. Но только – в ином раскладе, не за три дня! Нынешний не подходил для долгих игр в шпионов и разведчиков; время поторапливало, а логика напоминала, что есть лишь одно решение: взять вожжи на этой колеснице, перехватить их быстро и на самом высоком уровне. Семен полагал, что сей маневр ему удастся. Его стратегическое преимущество, носившее характер философский, отчасти неопределенный и расплывчатый, в конкретной тактике сулило выигрыш. В Та-Кем – да и на всей Земле – он был единственным человеком, живущим в мире реальности, во Вселенной шарообразных планет, пылающих звезд, неисчислимых галактик, среди которых не находилось места ни богам, ни демонам. Жизнь остальных людей протекала как бы в другом измерении, где фантазии, рожденные наивным умом, принимались за действительность; их жизнью – особенно жизнью и смертью роме – правили боги. Это порождало суеверия, покорность божественной воле и, в конечном счете, страх. Страх перед неведомым был подсознательной реакцией, настолько острой, что посмертная жизнь заботила больше реальности, и самым зримым и бесспорным знаком этого страха были огромные усыпальницы-пирамиды. Страх… ужас, подчиняющий всех и каждого… И Рихмер не был исключением; он тоже боялся, так что вопрос состоял лишь в том, чтобы добраться до тайных струн его души и дернуть посильнее. Однако не сразу, не сразу… – Говоришь, сорок – после успеха дела, а остальное – потом? Когда убедишься, что я – человек надежный и верный? – Семен усмехнулся, глядя в застывшие зрачки Рихмера. – Нет, так у нас не пойдет! Сто сейчас, а за надежность и верность – отдельная плата. Не скупись, хранитель! Ложе царицы и трон дорогого стоят! – Но ты получишь кое-что еще. – Рихмер уперся взглядом в мозаику под ногами; пятки его были у третьего порога Нила, носки смотрели в африканскую саванну. – Защита и безопасность тоже недешевы, ваятель. Кажется, царица к тебе благосклонна? А знаешь, что сделает Хоремджет, если получит власть? Сошлет в рудники ее любимцев или перережет им горло – вот так, от уха до уха, – он чиркнул пальцем по тощей шее. – Им и их родичам… твоему брату, например… он ведь тоже в почете у великой царицы? – Тут хранитель врат огладил бритый череп и как бы между делом сообщил: – Но я могу до него добраться раньше Хоремджета, а до тебя – прямо сейчас. Стоит подать знак… Теперь его взгляд блуждал по темным нишам в стенах святилища, где, судя по всему, прятались охранники. Впрочем, это Семена не волновало; Рихмер был близко, и ни копье, ни стрела не помешают свернуть ему шею. Но стоит ли сворачивать? Уставившись в глаза хранителя, он медленно произнес: – А не боишься, что я доберусь до твоей дочери? Тоже прямо сейчас? А тебя отправлю Сетху в пасть? Не просто отправлю – перенесу твое тело в пустыню, сожгу или брошу без погребения и сделаю так, что ночные демоны будут терзать твое ка… Вечно терзать, хранитель! Клянусь Осирисом, который даровал мне эту власть! Щеки Рихмера побледнели, он сотворил знак, отвращающий беду, и попытался отступить, но Семен мертвой хваткой стиснул его костлявое плечо. – Велик Амон! Ты… ты правда можешь это сделать? Ты владеешь тайной ичи-ка? – И этой тайной, и другими. А знаешь, почему? – Он выдержал паузу, гипнотизируя Рихмера взглядом. – Посмотри вниз, хранитель. Что у тебя под ногами? Жрец вытер вспотевший лоб и уставился на мозаичную картину. – Берег Хапи… потом – степь и Западная пустыня… – Дальше! Что дальше? – Царство мертвых…[783] – прошептал хранитель, чуть шевельнув бескровными губами. – Царство мертвых, – эхом откликнулся Семен. – Ну, теперь ты знаешь, откуда я пришел. А может, знал и раньше? Знал – и осмелился торговаться со мной? – Ходили слухи в южных крепостях… но мало ли что болтают солдаты… я должен был проверить… Лицо Рихмера казалось уже не белым, а серым, на лбу выступила испарина. Что-то он быстро ломается, мелькнула мысль у Семена. Или друг Инени постарался, запугал вконец? – Проверить? Как? Он наклонил голову, вслушиваясь в неразборчивое бормотание жреца. – Говорили, что ты – Сенмен, брат Сенмута, восставший из мертвых… Я приказал отыскать людей, с которыми Сенмен плавал к порогам… Нашли шемсу[784], проводника из Куммы, отправились на юг, и он показал то место в скалах, где схоронили Сенмена… Там – кости и его украшения, браслеты, ожерелье… еще – череп, разбитый палицей нехеси… Он в самом деле умер! Но если он умер, то кто же ты? Странно, но человек, следивший за тобой, никак не хотел говорить… Боялся? Пришлось его… «Ну и ловкач! – подумал Семен, не выпуская плеча хранителя. – Шустрый! Добрался до спутников Сенмена раньше, чем грозный Рамери! И даже косточки нашел! Вместе с разбитым черепом!» Он не успел додумать эту мысль, как вслед за ней пришла другая, заставившая похолодеть. – Человек, следивший за мной? Кто он? И что тебе сказал? – Сказал, что ты явился с полей Иалу… сказал, что боги дали тебе мастерство и дар предвидеть еще не случившееся… сказал, что речь людей была тобою позабыта, и знаки письма, и родичи, и титул Великого Дома… еще сказал, что ты владеешь тайным знанием и можешь сосчитать колосья в поле или звезды в небе быстрей, чем Тот, писец богов… Но мало ли что наговорит человек, если прижечь его факелом! – Где он? – с угрозой прошипел Семен, склонившись к уху Рихмера. – Где этот соглядатай? – Здесь. На ложе Сохмет, ибо, забыв о клятве верности, не пожелал говорить по доброй воле. Семен оттолкнул жреца. – Ты отведешь меня к нему. И помни о своей душе и жизни дочери! – Он вытянул руку и растопырил пальцы. – Видишь, сердце ее – в моей ладони! Стоит мне сжать кулак… – Ты не сделаешь этого, господин! – Кажется, Рихмер был близок к истерике. – Она – свет моих глаз, дыхание губ, радость дня и ночи! Не лишай ее жизни! – Осирис дал мне власть карать и миловать, а все дальнейшее зависит от тебя, – сказал Семен. – Иди, хранитель! И постарайся, чтобы ноги твои не подгибались. Они направились в глубь святилища, где за колоннами, изваяниями и гранитным жертвенником была лестница, спускавшаяся вниз. Минуя нишу – не ту, что называлась Ухом Амона, а, вероятно, предназначенную для охраны, – Рихмер как-то по-особому щелкнул пальцами, и тут же три молчаливые фигуры возникли из теней, пристроившись к маленькой процессии. Кинжалы, плеть и знак Амона… Бритоголовые. Ну, пусть сопровождают, решил Семен. Лестница тянулась в полумрак, в котором мерцали алые точки факелов. Еще один был у бритоголовых; державший его жрец выступил вперед, чтобы осветить дорогу, и покосился на Рихмера. «К ложу Сохмет», – буркнул хранитель, и страж, покинув лестницу, свернул направо. Они миновали обширный мрачный зал, где громоздились статуи богов – не самых главных, но влиявших на человеческие судьбы и потому достойных приношений. Воинственный Монт соседствовал с любвеобильной Хатор; Маат, владычица истины, глядела строгими каменными очами на ибисоголового Тота; разевал зубастую пасть Себек, речное божество, почитавшееся в обличье крокодила; за ним высились изваяния Анубиса и Нейт, богини-защитницы в потустороннем мире. Около статуи Нейт Рихмер замедлил шаги, поклонился и зашептал молитву. «Не поможет, – злорадно подумал Семен. – Эта барышня – в моей команде!» Дальнейший путь лежал по узким коридорам, впадавшим, словно ручейки, в склепы-озера, то круглые, то квадратные, со сплошными стенами или с проемами, перегороженными где дверью, где прочной деревянной решеткой. В одних из этих камер было тихо, и в свете факела угадывались сундуки да полки с каким-то имуществом, сосудами, небольшими статуэтками, рулонами полотна и шкур; из других тянуло мерзким запашком и слышался шорох, а временами – стон или неясное бормотанье. Камер, склепов и коридоров было не счесть, и, вероятно, этот огромный лабиринт, лежавший под святилищем, использовали с разнообразными целями – и в качестве склада, и как тюрьму, а может, как место для допросов третьей степени. Последнее было вполне реальным – вряд ли на ложе Сохмет вкушали отдых или предавались нежной страсти. Очередной коридор уперся в дверцу, такую низкую, что Семену, чтобы протиснуться, пришлось сложиться пополам. Камера за дверью освещалась двумя десятками факелов и масляных ламп, горевших ровно в неподвижном воздухе; витавший в нем запах дыма мешался с чем-то еще, мерзким и отвратительным – зловонием экскрементов и сожженной плоти. Посередине этого склепа располагалась квадратная плита с позеленевшими медными кольцами, к которым был привязан голый человек – окровавленный, грязный, незнакомый или неузнаваемый в жутком своем обличье; рядом с ним горела лампа, сидел на пятках писец, стояли сосуды с красками, лежали папирусы, свернутые в тугие свитки. В дальней стене был проем, ведущий во второе помещение – видимо, канцелярию; там на полу виднелись циновки, а дальше – табуреты, низкий столик и сундуки для хранения документов. Пленник, распростертый на плите, застонал. Голос его показался Семену нечеловеческим – то ли вопль гиены, то ли вой шакала. Он огляделся, чувствуя, как стремительно бьется кровь в висках, и хрипло выдохнул: – Кто? – Тот, кто следил за тобой, – проинформировал Рихмер, деликатно подталкивая Семена к плите. – Один из жреческих учеников, поклявшийся в верности Уху Амона… Такую клятву не нарушают! Ну, а если случается… Видишь сам, как боги карают ослушника. – Вижу, – снова прохрипел Семен и, опершись кулаками о плиту, нагнулся над привязанным к ней человеком. Лицо его, с сомкнутыми веками, покрытое кровью и грязью, казалось изможденным и древним, как у старика, но вот глаза раскрылись – два темных агата, затуманенных болью, – и было в них что-то знакомое, виденное не раз. Потом, ломая корку застывшей с кровью испарины, шевельнулись губы, и Семен услышал: – Учитель… ты пришел, учитель… прости меня… прости и проводи в луга Иалу… Перед ним, постаревший на сотню лет, истерзанный и обожженный, лежал Пуэмра.* * *
Семен резко выпрямился, скрипнув зубами. Секунду-другую комната кружилась перед ним, все больше напоминая Баштаров подвал: тот же смрад, каким тянуло от параши, камень стен точно шеренга могильных плит, и те же лица, все пятеро – Дукуз, Саламбек, Хасан, Эрбулат и Баштар, только друга Кеши не хватает. Они подмигивали ему, гримасничали, ухмылялись – мол, видишь, на что мы способны? От нас не сбежишь, не укроешься даже в прошлом! Мы тут, пускай в другом обличье, но с прежним волчьим нравом, не потерявшие ни капли жестокости и злобы! И злобы нашей хватит на все времена, на всех и каждого – на этого замученного парня, на древних и новых пророков, на иудеев, христиан, язычников и мусульман, на правых и виноватых! Хватит, не сомневайся! Низкий хриплый рык вырвался из горла Семена. Наверное, в эту минуту он был страшен, и виделось ему в тумане бешенства, как отшатнулись трое бритоголовых, как побледнел хранитель врат и сжался рядом с ним писец-допросчик. Этот был ближе всех, и Семен, едва ли сознавая, что творит, ухватил его за плечи и швырнул на каменную стену. Раздался испуганный вопль, потом – хруст черепа, но это не отрезвило его. Он пребывал опять в том же яростном исступлении, как и в момент пришествия в этот мир; мысль, что надо договориться с Рихмером, куда-то испарилась, сменившись желанием бить, ломать и сокрушать. Злая мощь играла в мышцах, мерзкий запах паленого кружил голову; стиснув кулаки, он шагнул к жрецу. Рихмер, видимо, понял, что сейчас умрет, и с пронзительным визгом метнулся за спины бритоголовых. Они обнажили кинжалы; страх боролся в их душах с верностью хозяину, и лица стражей уже не казались застывшими и безразличными. Как-никак, они были людьми – но был ли человеком тот, с которым им предстояло сразиться? В тесной камере он выглядел огромным, страшным, и мнилось, что сила его чудовищна, как у священного быка, а ярость неисчерпаема, как Хапи. – Сетх! – произнес один из стражей, вытянув к Семену дрожащую руку. – Сетх явился нам, братья! – С нами Амон, – ответил старший жрец и метнул кинжал. Бронзовый клинок распорол кожу на плече Семена, и, вероятно, вид крови показался бритоголовым добрым знаком: оружие смертных не ранит богов. Двое ринулись вперед, выставив кинжалы; Семен метнулся в сторону, перехватил руку с клинком и, согнув запястье, переломил, как сухую ветвь. Затем его кулак опустился на бритый череп, и страж с глухим воплем сполз на пол, цепляясь руками за его колени. Второй охранник уже занес кинжал над лопаткой Семена, и тот, не видя, но словно ощущая стремительное падение лезвия, резко двинул локтем, отшвырнув врага. Старший, вооруженный плетью, бросился к нему и получил сильный удар под ребра, заставивший бритоголового согнуться. Ничего режущего и колющего у охранника не осталось, и Семен, захватив его шею, начал сдавливать горло, поворачиваясь вместе с ним и наблюдая, как приближается последний страж. Этот, кажется, думал, что коль у противника руки заняты, то он беззащитен, и нарвался на удар ногой. Семен метил в колено, но попал в голень; охнув, бритоголовый отступил, и в этот миг тело старшего жреца обмякло. Бросив его, Семен с гневным криком шагнул к последнему врагу, ударил ребром левой ладони по запястью с кинжалом, а правой – в висок, и отодвинулся, когда бритоголовый рухнул наземь. В подземелье наступила тишина, прерываемая лишь шумным дыханием Семена да стонами человека со сломанной рукой. Писец-дознаватель был мертв, лежал у стены с раскрытым ртом и изуродованным черепом, двое стражей валялись без чувств, Пуэмра не шевелился на каменном ложе – видимо, был в глубоком обмороке. Рихмер стоял на карачках, вывернув голову и с ужасом глядя на Семена; силы покинули жреца, и он не пытался удрать или хотя бы подползти к двери. Да и куда удерешь от ночных демонов и от гибели, подстерегающей дочь? Семен отдышался, шагнул к хранителю врат, присел и заглянул ему в глаза. – П-пощади… Я… я не приказывал этим глупцам нападать… Клянусь Амоном и жизнью дочери! Кровь текла по плечу Семена. Он стер ее резким движением, вытянул руку к Рихмеру и растопырил окровавленные пальцы. Потом начал медленно сжимать их, будто сдавливал чье-то невидимое трепещущее сердце. – Не-ет! – От вопля хранителя зазвенело в ушах. – Не-ет! Сожги мое тело, возьми мою душу, и пусть ее терзают демоны! Вечно терзают, ибо я – грешник, и заслужил страшную кару! Но она – она невинна! Она всего лишь моя дочь, которой еще не исполнилось пятнадцати! Она не мучила, не убивала, не богохульствовала! Я повторю это даже перед судом Осириса! – Суд Осириса уже здесь, – промолвил Семен, не опуская руки. – Скажи, красива ли твоя дочь? Умна ли, добра? Готова ли взойти на ложе мужчины? – О, она прекрасна, как свежий бутон лотоса! От нее пахнет, как от лугов с медвяными травами, голос ее звонок, глаза ясны, а сердце не ведает зла! Счастлив будет муж, обнявший ее! Пусть она живет, и я отдам ее тебе! Хоть и мерзавец, а любит свое дитя, подумал Семен и опустил руку. – Мне она не нужна. Если юноша, которого ты мучил, будет жить, отдашь свою дочь ему. Он станет твоим наследником и преемником на посту Уха Амона. – Но Софра… – О Софре не тревожься. Побеспокойся о здоровье своего нового родича. А еще о том, чтобы твои люди не проболтались. Бритоголовые зашевелились, и Семен поднял их пинками на ноги. Они глядели на него со страхом, будто на воплощение самых ужасных богов, жуткую помесь шакала Анубиса с крокодилом Себеком. Рихмер тоже встал; ноги его тряслись, лицо посерело, но в глазах мелькнула тень облегчения. – О том, что случилось здесь, молчать! Клянитесь! – Он поднял руку, и трое жрецов послушно забормотали слова священной клятвы. – Хорошо. Теперь слушайте, что скажет господин! Слушайте и повинуйтесь ему, как звукам голоса Амона! Оглядев жрецов, Семен кивнул на тело дознавателя. – Труп убрать. Ты это сделаешь, – он ткнул пальцем в стража со сломанной рукой. – А вы двое возьмете юношу и, омыв его раны, положите в носилки. В удобные носилки с подушками и восемью носильщиками! Пусть юношу отнесут в дом Инени, третьего пророка, и пусть один из вас разыщет его и скажет: Сенмен, брат Сенмута, просит поспешить к больному. Это все! Шевелитесь, жабий помет! С этими словами он шагнул к плите и склонился над Пуэмрой. Кажется, ученик еще дышал; на его губах вздувались кровавые пузыри, пальцы на левой руке были обуглены, но вроде он еще не собирался пуститься в дорогу к полям блаженных. – Они все сделают, господин, – прошелестел за спиной голос Рихмера. – Все сделают и будут молчать, как гуси со свернутой шеей. А ты… ты не желаешь проследовать в другой покой? – Он кивнул в сторону проема, ведущего в канцелярию. Оторвавшись от Пуэмры, Семен направился туда и сел на табурет, скрипнувший под его тяжестью. Воздух в этом помещении был таким же затхлым, как в камере пыток, но хоть горелым мясом не воняло, а пахло старым деревом и сухим папирусом. Он бросил взгляд на ровную шеренгу сундуков с бесчисленными свитками. Туда, вероятно, заносились признания и речи тех, кто отдыхал на ложе Сохмет, и на мгновение Семену почудилось, что плотно пригнанные доски истекают кровью. Рихмер, поджав ноги, опустился на циновку. – Ты пощадишь мою дочь и меня, господин? Ты не отправишь нас до срока за горизонты Западной пустыни? С минуту Семен взирал на него, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате и тихим стонам Пуэмры. Потом негромко произнес: – Ты как говоришь со мной, моча гиены? Забыл, как обращаться к посланцу Осириса? К тому, кто держит в руке твою жизнь и смерть? Хранитель врат ткнулся лицом в его сандалии и забормотал: – Прости, повелитель! Тысячу раз простираюсь ниц и целую прах под твоими ногами… Прости! Семен ухватил его за ворот туники и приподнял. – Так уже лучше, порази тебя Сохмет от пупка до колена! Много лучше! Теперь мы можем поговорить. Слушай и запоминай! – Я покорен твоему зову, мой господин. – Дочь свою отправишь в дом Инени, чтобы ухаживала за моим учеником. Хочу убедиться, так ли она прекрасна и добра, как обещалось. – Он сделал паузу, разглядывая бритый череп Рихмера. – Теперь об этом ученике, поклявшемся в верности Уху Амона… Говоришь, что он следил за мной? Это с каких же пор? – С тех, господин, как ты появился у третьего порога. Брови Семена взлетели вверх. – Язык твой лжив, хранитель! Кто знал, где и когда я появлюсь! – Не гневайся, посланец Осириса, это правда! Конечно, никто тебя не ждал, но этот юноша… он… он просто оказался в нужном месте и в нужное время. Его обет – сообщать о всем увиденном и услышанном, особенно о странных деяниях, опасных речах и даже мыслях, какие не высказывают вслух. С тех пор, как ты появился в Уасете, он рядом с тобой по моему приказу, а до того… видишь ли, он был учеником пророка Инени и присматривал за ним. Так повелел Софра, который мало кому доверяет. А ведь Инени отправился на юг, чтобы… – Я знаю, что он там делал и с кем встречался, – прервал хранителя Семен. – Я даже знаю, сколько воинов Инхапи прячется по дворам в Нут-Амоне, Кебто и остальных городах! С точностью до одного человека и до последней стрелы в их колчанах… Ты ведь не забыл, хранитель, кто я такой и откуда явился в этот мир? Он поглядел в помертвевшее лицо Рихмера и медленно, веско промолвил: – Запомни: я – Страж, посланный сюда богами, и боги желают, чтобы все случилось так, как должно случиться. Амон и все остальные божества благоволят прекрасной дочери Джехутимесу, а это значит, что Софра с Хоремджетом уже покойники. Они мертвее, чем труп осла, обглоданный шакалами, и если ты не желаешь разделить их участь, то должен служить мне. – Я слушаю твой зов, господин! Слушаю и повинуюсь! Что ты прикажешь? – Пусть твои люди берегут царицу от слишком сладких пирожков, а юного пер’о – от колесничных гонок. Пусть, заметив людей, похожих на воинов с юга, закроют глаза и сунут голову в песок. Пусть они следят за Хоремджетом, докладывают тебе, а ты обо всем расскажешь Инени и выполнишь любой его приказ. А я прикажу одно насчет Хоремджета: если пискнет в ближайшие двадцать дней, укороти его на голову. – Но у него в войске – безбожники из Хетуарета, господин… Могут разорить храмы… – Амон спасет, – пообещал Семен. – Я точно знаю, что с храмами ничего не случится – ничего такого, что нельзя восстановить с помощью камня, глины и краски. – Он приподнялся и заглянул в пыточную – там уже не было ни единой души, живой или мертвой – ни Пуэмры, ни жрецов, ни трупа с разбитой головой. Успокоившись, он сел и хлопнул ладонью по крышке ближайшего сундука. – Ну, теперь поговорим о Софре, бывшем твоем повелителе, и трех отпущенных им днях. Как он их проведет? Будет пускать слюну, мечтая о ложе царицы? – Нет, мой господин. Сегодня он отплывет в свое имение, а завтра, взяв дротики, лук и стрелы, поедет на охоту. От того и назначены три дня – дольше он не задерживается в Западной пустыне. – Хмм… Охота – развлечение опасное… еще опаснее, чем колесничные гонки… – Опасное, если охотиться на львов или ночевать в пустыне, – заметил Рихмер. – Но Софра, мой го… мой бывший господин, стреляет из лука газелей, а ночует в своей усадьбе на левом берегу. Она, эта усадьба, в точности напротив Ипет-сут, над горным обрывом. – Он прикрыл глаза и негромко добавил: – Скалы там приметные, мой господин, цветом похожи на красную медь, а рядом с усадьбой – заросли акации. Слышал я, в них бродят львы… а с Софрой лишь колесничий да трое-четверо проводников-ливийцев… «Догадливый, поганец! – подумал Семен, вставая. – Догадливый, хоть и пугливый! Ну, пугливость только к пользе… чтобы, значит, не тянуло к опасным догадкам». Он потрогал слегка саднившее плечо и произнес: – Хорошо! Я принимаю твою службу, и, может быть, когда ты встанешь перед Сорока Двумя, это тебе зачтется. А сейчас проводишь меня наверх, к незаметному выходу, потом отправишься к Софре и скажешь, что ваятель Сенмен целует его задницу, лижет копчик и все исполнит так, как приказали. В самом лучшем виде! – Злобно усмехнувшись, Семен потер ладони, отшелушивая засохшую кровь, и добавил: – Пусть только как следует подмоется, чтобы лечь в постель к царице! И не забудет плату – сто дебенов! Рихмер, тоже с поспешностью вскочивший на ноги, недоуменно замер, приоткрыв рот. – Сто дебенов? Я думал, это шутка, господин… Ты – вершитель судеб, посланец Осириса… Зачем тебе золото? – Возьмешь его себе, – бросил Семен, направляясь к двери. – Боги ценят полезных и верных слуг. Я следую их примеру. Хранитель врат склонился и распахнул перед ним дверь.Я говорил о его милосердии – скажу и о жестокости. Да, он убивал, если надо было убить! Но вершилось это не по велению сердца, склонного к пролитию крови, а в силу необходимости и чаще всего – для защиты других людей, которые были ему близки и дороги. Он охранял их как самый верный сэтэп-са, и потому я называю его Стражем…Тайная летопись жреца Инени
Глава 9 Охота над красными скалами
Вернувшись в мастерскую, Семен разослал помощников: Сахуру отправил в дом Пуэмры, к его сестре и матери, Атау и Небсехта, третьего из подмастерьев – в Ипет-ресит, приказав им, чтобы разыскали Сенмута. Оставшись в одиночестве, он вытащил из потайного места секиру, завернул ее в старые тряпки и обвязал веревкой, плетенной из тростника. Затем, сдернув полотно, вгляделся в каменные черты Меруити, будто испрашивая у нее совета. Ему казалось, что царица ветров и тьмы смотрит сейчас не ласково, а повелительно, как бы напоминая: ты должен меня защитить! Должен, ибо затем ты и явился в этот мир, и нет других оправданий твоему присутствию! – Я уже многих убил, – тихо произнес Семен, баюкая сверток с секирой. – Убил допросчика-писца и тех нехеси… Может, кара была заслуженной, но видишь ли, милая, я не люблю убивать. Прежде я этим не занимался. «То было прежде, – безмолвно сказали каменные губы. – Теперь обстоятельства изменились. Все меняется, ваятель, – мир, и жизнь, и ты вместе с ней». – Меняется, – согласился Семен, взвесив в руке секиру. – Увы, не в лучшую сторону! «Не в лучшую, но и не в худшую – в нужную», – возразила каменная царица, и минут пять они в молчании взирали друг на друга. Потом Семен сказал: – Пожалуй, ты права. Значит, и это дело с Софрой надо закончить? «Надо», – подтвердила она. Взор ее был повелительным и строгим. Семен кивнул, набросил на изваяние покрывало и, взвалив тяжелый сверток на плечо, вышел из мастерской. Солнце склонялось к западу, но зной был все еще таким, что на камнях, казалось, можно печь лепешки. Все обитатели ремесленного городка попрятались, пережидая жаркое время, и лишь Урджеба, сухопарый бровастый помощник Инени, медленно брел от пальмовой рощи к пристани, заглядывая по дороге то в проемы мастерских, то в опустевшие дворы. Семен заторопился навстречу, потом, замедлив шаг, спросил, не видел ли Урджеба третьего пророка, а если видел, то где, когда и как его найти. Шевельнув бровями, помощник сообщил, что почтенный Инени отправился домой: вызвали к болящему, и, вероятно, тот – персона из самых важных, раз понесли к пророку, а не к целителям в храм. Семен пробормотал словаблагодарности и широким шагом направился к роще; Урджеба крикнул вслед, что бегать сейчас не стоит: Ра гневен, ударит по черепу, и не отделишь жизнь от смерти. И правда, жарковато, мелькнула мысль, когда Семен, утирая пот, добрался до поникших пальм. Тут он свернул, но не направо, к стенам святилища, а налево – усадьба Инени располагалась в двух тысячах локтей от ремесленного городка, среди садов и рощ, тянувшихся километров на тридцать, до южных окраин Кебто. Путь к усадьбе был недолог; к тому же под кронами сикомор и тутовника зной переносился легче, и через четверть часа впереди возникла белая ограда, а за ней – плодовые деревья, обступавшие плотным кольцом жилище Инени. Пуэмра лежал в дальней, самой прохладной комнате, и над ним хлопотали третий пророк и двое крепких служителей, которых Семен счел санитарами или медбратьями. Юноша был уже омыт, раны смазаны мазью кифи, и теперь служители, осторожно приподняв безвольное тело, закрывали их чистым полотном. Инени склонился над левой рукой Пуэмры, разглядывая три обожженных пальца и сокрушенно покачивая головой: ожоги были слишком глубокими, кое-где до кости, а от ногтей вообще ничего не осталось. Опустившись рядом, Семен спросил: – Ну что? Выживет? – О том спрашивай не у меня, а у Амона, – отозвался жрец. – Душа его у двери царства мертвых, Сенмен; шаг вперед, и вместо лекаря придется приглашать бальзамировщиков. Бросив взгляд на слуг, Семен склонился к уху Инени. – Ты знал, что он?.. – Догадывался, но был уверен, что ученик не предаст учителя. Пальцы придется отнять… да, придется… – Лицо целителя стало печальным. Он повернулся к Семену и, не понижая голоса – видно, слуги были людьми доверенными, – произнес: – Если тебя угощают прошлогодними финиками, друг мой, выбери тот, который еще не подгнил. – Затем Инени снова занялся изуродованной ладонью Пуэмры, бормоча: – Лучше уж он, чем другой… у этого юноши было ко мне почтение… что бы он Рихмеру ни доносил, плохого в сказанном им не нашлось… За это, думаю, и поплатился. За меня! – Не только за тебя, – откликнулся Семен, ощупывая сквозь ткань лезвие секиры. – Знаешь, я ведь встречался с Рихмером. Посидели, потолковали… Больше он не доставит тебе хлопот. Ни он, ни Софра. – Это хорошо, – пробормотал Инени, думая совсем о другом. – Пальцы… Жалко! Жалко резать! Новых ведь не пришьешь! – Он поднял голову и вдруг спросил: – Скажи, все ли болезни и раны лечат в твоей стране? В тех временах, когда о нас забудут? – Не все. Могут сердце заменить, а пальцы – вряд ли. Ты режь, иначе он умрет! Парень валялся в грязи, а грязь, когда проникает в рану… – Семен смолк, глядя в бледное лицо Пуэмры; слова «гангрена» в языке Та-Кем не было. – Я понимаю. – Инени потянулся к раскрытому сундучку с целебными зельями, чистыми тряпками и бронзовыми ножами. – Я видел воинов, которым не промыли небольшой порез… обычно на ноге… туда попадают песок и земля, и плоть гниет… – Не прекращая говорить, он перетягивал пальцы Пуэмры тугими бечевками. – Плоть гниет и распухает, рана становится красной, потом синей… кожа на ощупь горяча, и нет таких лекарств, чтобы вернули душу в тело… если не отсечь – смерть! – Нож сверкнул в его руке, и вслед за этим раздались глухие стоны юноши. Семен поднялся, прижимая к ребрам сверток с секирой. Он чувствовал себя лишним среды суеты у ложа больного: один из служителей лил в рот Пуэмры вино, другой придерживал его за плечи, а сам целитель копался в сундучке, выискивая нужные лекарства. – Отправляйся домой, – произнес Инени, не поднимая головы. – Мне интересно послушать о встрече с Рихмером, но не сейчас, а через пару дней, когда я пойму, что скрыто в руке Амона для этого юноши, жизнь или смерть. Главное ты уже сказал: хлопот не будет. Я тебе верю, Сенмен! Когда Семен вышел в сад, в воротах появился Сахура, а с ним не старая еще женщина и девушка лет шестнадцати с милым личиком и кроткими глазами. Мать Пуэмры и Аснат, его сестра… Видимо, они торопились изо всех сил – ноги в пыли, кожа блестит от пота, волосы растрепаны. Семен кивнул им и вытянул руку к дому. – Он там. Мудрый Инени врачует его. – Он жив? – Глаза Аснат наполнились слезами. – Жив, но… Инени говорит, что жизнь его в руке Амона. – Как и наши, – прошептала мать Пуэмры и направилась в дом. Не прошло и пяти минут, как на дороге снова взметнулась пыль – на этот раз под ногами Сенмута, спешившего к усадьбе с целой свитой из стражей, писцов, посыльных и носильщиков. Повинуясь его жесту, люди эти встали в отдалении, а Сенмут, вытерев покрытый испариной лоб, промолвил с облегчением: – Хвала Амону, ты благополучен, брат мой! Этот Небсехт не самый умный из твоих помощников… Я так и не понял, что случилось. Я думал, что с тобой… – Со мною все в порядке, – прервал его Семен, – а вот о Пуэмре такого не скажешь. Пальцы сожжены, грудь и спина изрезаны, да и лицо… – Он махнул рукой. – Ну, до языка и глаз, по счастью, не добрались. Целы! Брат помрачнел. – Рихмер? Он, клянусь Маат! Но за что? – За то, что парень не захотел за мной приглядывать. Вернее, приглядывал, а толком ничего не доносил… Пришлось, понимаешь, выпытывать! Откуда я взялся да что умею… вдруг такое смогу, что Софре пригодится! Кулаки Сенмута сжались, лоб прорезали морщины. Стиснув зубы, он пробормотал: – Чтобы он лишился погребения, этот Рихмер! Чтобы шакалы сожрали мумию его отца! Чтобы… – Не проклинай его, – сказал Семен. – Теперь он мой слуга. – Слуга? – Брат в недоумении уставился на него. – Как – слуга? Он служит только Софре! – Их обоих отдал мне Осирис – и жизнь их, и смерть. – Семен наклонился к брату и прошептал: – Не удивляйся, Сенмут, и ни о чем не спрашивай. Ты ведь помнишь, кто меня прислал? Осирис, поверь, не возвращает умерших с полей Иалу для собственного развлечения. – Выпрямившись, он подтолкнул Сенмута к дверям. – Иди, брат мой, и сядь около девушки, к которой склонилось твое сердце. Если Пуэмра выживет, разделишь с ней радость, если умрет, разделишь горе. Иначе зачем вас соединили боги? – Аснат уже там? – Кулаки Сенмута разжались, взгляд метнулся к дому. – Тогда я останусь здесь до рассвета. Ты прав; боги соединяют людей точно колонны под кровлей храма – одна сломается под тяжестью, а две, быть может, выдержат. – Выдержат. Ты, брат, хороший строитель. Семен поднял сверток с запрятанной в нем секирой и зашагал по дороге.* * *
Он поужинал в одиночестве и, отправив То-Мери к тетушке Абет, долго сидел под развесистым каштаном у водоема, глядя, как опускается солнце за серые утесы Ливийского нагорья. Оно лежало по другую сторону реки – царство камней и скал, рассеченных ущельями и долинами, земля, мнившаяся бесплодной и безлюдной. Но это было не так; в каменных стенах ущелий таились гробницы, древние и новые, в долинах стояли святилища богов и заупокойные храмы, а между ними – усадьбы, дома и мастерские, в коих трудилась пропасть всякого люда – парасхиты и бальзамировшики, гончары и каменотесы, художники и ювелиры, изготовители красок, статуэток, мебели, стекла и тканей. Все они – так ли, иначе – имели отношение к усыпальницам и погребальным обрядам, все заботились о покойных, и их многочисленные поселки образовали целый город, который в далеком будущем получит имя Долины Царей. Сейчас он назывался по-разному – Джеме, Западным городом или Долиной Мертвых – и, уступая Уасету в красоте, выглядел таким же обширным и населенным. Там был свой градоправитель, носивший титул князя Запада, а при нем – свои чиновники, писцы и стражники, ловившие и каравшие воров, шаривших в гробницах. Кара была незатейливой – дубиной по голове или кинжал в горло. Налюбовавшись закатом, Семен кликнул Мериру, велел ему сесть на циновку и выпить пива, потом спросил, что с лодкой, имевшейся в хозяйстве Сенмута, – не течет ли, не порвался ли парус и целы ли весла. Мерира, ополовинив кувшин, степенно ответил, что пусть Себек откусит ему то, что болтается под брюхом, ежели с лодкой непорядок. Не течет, и парус не порван, и весла в порядке. А как же иначе? Ведь он, Мерира, не сухопутная вошь, а старый селезень и смотрит за лодкой, как за любимой дочерью. Пусть Амон плюнет ему в пиво, если не так! После недолгой паузы Семен произнес: – Когда мы отплыли из Неба, с То-Мери и Абет на нашем корабле, ты говорил, что счастлив. С той поры прошло пять месяцев, Мерира, пять долгих месяцев, как ты – женатый человек, имеющий к тому же дочь. Не померкло ли твое счастье? – Не померкло, мой господин. То-Мери ласкова и почтительна, а Абет так же хороша, как ее пироги, клянусь в том задницей Хатор! Пусть осчастливит она тебя и благородного Сенмута! – А помнишь ли другие свои слова? Кажется, ты говорил, что будешь нам верен, как парус – мачте, как руки гребца – веслу? – Помню, ибо сказанное мной не брошено на ветер. Я буду слушать ваш призыв и править вашей лодкой, пока не переселюсь в царство Осириса! – Корабельщик погладил давний шрам на плече и ухмыльнулся. – Зачем вспоминать об этом, семер? Скажи прямо: встань, Мерира, и иди за мной! Я встану и пойду. Только что с собою взять? Нож, ремень и камни, это понятно. А еще? Дубину, копье или топор? – Все бери, – промолвил Семен. – Все пригодится. – Раз так, не прихватить ли нам двух бездельников – Ако, пивной кувшин, и рыжего козлодера Техенну? Тоже с копьями и топорами? То потирая ладони, то почесывая шрам, Мерира терпеливо ждал ответа хозяина. На его лице вспыхивала и гасла свирепая улыбка; видимо, старый пират стосковался по топору и копью. Семен вышел из задумчивости. – Хорошие парни Техенна и Ако, надежные, но болтливые. Лучше было бы обойтись без них. – Как повелишь, семер. Сколько там будет народу? Ну, этих… – Мерира сделал жест рукой, будто всаживая клинок кому-то под ребро. – Ливийцы, трое или четверо, загонщики, проводники… еще – охотник на колеснице, а с ним – возница… Вроде бы все. – Пятеро или шестеро… на колеснице… охотники… с луками, значит… – Мерира прищурился, соображая, поскреб ногтями впалую щеку. – В узком месте надо брать. И хорошо бы в сумерках. – Это как получится, – сказал Семен. – Может, вернутся они с охоты вечером, а может – при свете дня. – Сделав паузу, он поинтересовался: – Знаешь ли ты высокий обрыв на западном берегу, напротив Ипет-сут? Там, где скалы цвета меди? – Знаю, господин. – Наверху – усадьба, вокруг – заросли акации, а через них, я думаю, проложена тропа, чтобы колеснице проехать. Длинная ли, короткая – не ведаю, но ведет она к Западной пустыне. Место надо выбрать такое, чтобы в усадьбе не услышали и чтобы охотник в пустыню не ускакал. Ночью подплывем на лодке, поднимемся, проследим, как уедут, и будем ждать до вечера. – До вечера… это хорошо… вернутся уставшие… может, и стрел не останется… Не люблю я лук, мой господин, – сообщил Мерира. – Подлое оружие! И дорогое! То ли дело ремень да камень… Семен кивнул, сообразив, что он говорит о праще. Потом нахмурился, припоминая, о чем еще рассказывал хранитель врат. – Львы туда забредают… Было бы неплохо, если бы трупы утащили. Знаешь, как это сделать? – Будут трупы, будут и львы, – Мерира пожал плечами. – Только, семер, ежели хочешь, чтобы львы подкормились, надо их утром встречать. – Почему? – А потому, что в усадьбе – слуги. Не дождутся охотников, пойдут по тропе искать. Могут раньше львов найти, если мы припозднимся… А если утром закончим, тела весь день пролежат. Тут до них и доберутся, мой господин – не львы, так гиены с шакалами. Доберутся, чтобы меня Апис лягнул! – Опытный ты человек, Мерира, – сказал Семен. – Не зря шекелеша хотели тебя повесить, да не смогли. А отчего ж не спрашиваешь, кто тот охотник? Физиономия Мериры, похожая на боевой топор, вдруг сделалась серьезной; он уже не скалился, не сверкал глазами, не потирал ладоней, а глядел на Семена так, будто сама Сохмет, богиня войн, звала его на славное побоище. – Инени, жрец, что плавал с братом твоим за пороги, не велел вспоминать… Да что мне его приказы! Обезьяна – и та помнит, кто ей финик дал, а кто – пинок под зад! И я помню… помню, откуда ты пришел, мой господин, чтобы защитить нас от людоедов нехеси… Ты спас мое тело и душу – ведь даже такой нечестивец, как я, желает упокоиться в могиле, а не стать калом, извергнутым задницей дикаря! – Он гулко ударил в грудь кулаком. – Кто я такой, чтобы спрашивать, кого ты покараешь? Хоть самого пер’о, сирийского ублюдка! Прикажи, и я нарежу из него ремней! Эта слепая вера потрясла Семена. С минуту он сидел, всматриваясь в зрачки Мериры, мерцавшие как пара недогоревших угольков, и думая о том, что нашел здесь не только брата и друга, не только женщину своей мечты, но и соратников, готовых за него на смерть. Таких, как Пуэмра и Мерира… Губы его шевельнулись, и зазвучали слова – те, какими в этой земле выказывали приязнь и благодарность: – Пусть в награду за верность боги пошлют тебе долгую жизнь и трех сыновей. Пусть обнимешь ты их перед смертью и упокоишься в своей гробнице! А я… я обещаю, что стану твоим заступником перед Осирисом. – Семен оглядел притихший двор, темную реку и небо, на котором зажглись первые звезды, потом наклонился к корабельщику и тихо произнес: – Встань, Мерира, возьми оружие и иди за мной.* * *
Дорога в колючих зарослях акаций была шириною в шесть локтей – двум колесницам не разъехаться. Деревья с обеих сторон оказались плохим укрытием – не то чтобы редко росли, но их запыленные листья, засохшие и омертвевшие от жары, уступали в числе колючкам и сухим ветвям. За стволами тоже не спрячешься – слишком тонкие, узловатые и невысокие, согнувшиеся под ветром, что налетал иногда из пустыни словно дьявол из раскаленной преисподней. Но в земле они держались прочно, пронизывая ее корнями, переплетаясь ими друг с другом, так что закаменевшая почва была похожа на бетон с живой неподатливой арматурой. Словом, без экскаватора окоп не отроешь. Нашлось, однако, подходящее место, в двух километрах от усадьбы и в половине – от границы зарослей, от рубежа, где они начинали переходить в сухую саванну с редкими пучками травы. Дорога тут изгибалась под прямым углом, и с колесницы не разглядишь ничего, кроме деревьев; к тому же поворот на узкой тропе был операцией непростой и отвлекавшей внимание. Скорость тоже не набрать – бросит колесницу вбок, зацепит о стволы, и прощай колеса. С учетом этих обстоятельств Мерира сунулся в кусты за поворотом, тогда как Семен выбрал позицию дальше, шагах в двадцати. Идея заключалась в том, чтобы ударить по врагам с фронта и с тыла и разобраться с двумя-тремя, пока не очухались от неожиданности. Ждать в зарослях было неуютно. С запада, из пустынных пространств, слышались пронзительный хохот гиен и завывание шакалов, колючие ветви акации цеплялись за перевязь кинжала, царапали спину, кололи бедра и бока; вдобавок Семен шаркнул впотьмах плечом по стволу, и царапина вскрылась, стала сочиться алыми каплями. Зато не жарко, думал он, сидя на сухой земле с топором на коленях. Лезвие казалось совсем холодным, и Семен приложил его к ранке. Ослепительный солнечный край уже всплывал над вершинами деревьев, а значит, скоро появятся охотники, чтобы не пропустить рассветную прохладу. В том, что Софра здесь, в своей усадьбе, не приходилось сомневаться – когда Семен с Мерирой добрались до скал, от пристани под ними отчалила барка с горевшими вдоль бортов факелами. Большой корабль, в шестьдесят локтей, достойный верховного жреца и даже фараона… Они подождали, пока судно не удалится на полтысячи локтей, затем, припрятав лодку в камышах и обогнув пристань, полезли на откос. Был он довольно крут, но к плоскогорью и усадьбе вела тропинка, а ночь, по счастью, оказалась лунная. Поднимаясь, Семен то и дело оглядывался через плечо, смотрел на громады храмов за рекой, а временами – на камень под ногами, который в лунном свете напоминал не красную медь, а темную бронзу. По всему выходило, что этот обрыв – то самое место, где встанет лет через шесть или семь святилище Хатшепсут, возлюбленной царицы… Да, то самое! Напротив Карнака, под огромным утесом, похожим на ступенчатую пирамиду… Ирония судьбы, думал он, взбираясь по тропинке. Явиться бы сюда с угломером и измерительными шнурами, с папирусом и красками, полазить по скалам при солнечном свете, зарисовать их, составить план… А тут приходится красться ночью, не с угломером, а с оружием, ибо пришел не зодчим, не ваятелем, а убийцей. Тоскливое чувство предопределенности пронзило Семена, но он лишь помотал головой и крепче стиснул рукоять секиры. Не хочу быть стражем истории, хочу просто жить! – вертелось у него в голове. Но цепь событий была нерушимой: царица построит храм, если добьется власти, а чтобы это случилось, должны умереть как минимум двое, Софра и Хоремджет. Двумя, к сожалению, не обойдется, мелькнула мысль, но Семен загнал ее подальше, в глубины подсознания. Тропинка вывела к усадьбе – нескольким хижинам, конюшне и довольно просторному дому за кирпичной стеной. Там царила тишина; слышались лишь фырканье лошадей да звонкий неумолчный стрекот цикад. Перед воротами и стеной лежала площадка в полсотни шагов, а дальше темнели заросли с узкой щелью извилистой дороги. Других путей тут не было, и Семен, бесшумно двигаясь в тенях, отбрасываемых редкими кронами акаций, направился к этому тракту. Мерира на мгновение остановился, ощупал твердую почву ладонью, пробормотал: «Колея, ливийская вошь!» – и тоже нырнул в проход среди деревьев с узловатыми стволами. С плеча корабельщика свисали ремень и сумка с камнями, в руках осиным жалом подрагивало копье. Они шагали по дороге минут двадцать пять или тридцать, пока Семен не решил, что звуки схватки не долетят к усадьбе, а уж тем более к пристани. Здесь и нашелся подходящий поворот; осталось только ждать, сидеть в кустах и чертыхаться, когда колючие ветви царапали спину. Солнце на треть показалось из-за деревьев, когда Мерира чуть слышно свистнул. Затем донесся скрип колес, погромыхивание возка и человеческий голос, едва различимый за дальностью расстояния. Семен встал, придвинулся ближе к дороге и озабоченно нахмурился. Хотелось бы прикончить первым Софру, но вот у какого он борта, у левого или у правого? Колесницы на улицах Уасета были редкостью, знать на них не разъезжала, предпочитая носилки, а если кто и ездил, так воин или юный щеголь, правивший повозкой сам. Может, раз-другой и повстречалась колесница с возничим и лучником, но как они стояли, Семен – хоть убей! – припомнить не мог. Он помахал рукой, чтобы привлечь внимание Мериры, но скрип колес сделался совсем уже громким, и возок с двумя лошадьми выкатил из-за поворота. Слева, ближе к Семену, оказался возница. Софра стоял справа, одной рукой вцепившись в передок, а другой сжимая пару дротиков; рядом с ним, прикрепленные к борту, виднелись два колчана со стрелами и футляр с луком. Кони, повозка и человеческие фигуры скрывали все, что находилось позади, и оставалось лишь гадать, сколько там проводников, трое или четверо. Хоть десяток, но упустить нельзя было ни одного! Мерира знал об этом не хуже Семена. Может, и лучше, если учесть разбойничий опыт корабельщика. Лошади двигались неторопливой рысцой, но двадцать шагов до Семена преодолели секунды за три – слишком небольшое время, чтобы колесничий или жрец успели что-то предпринять. Возница лишь откинулся назад, натягивая вожжи, а Софра поднял дротик, но в этот момент секира плашмя обрушилась на колесо. Дальше все получилось по плану: мощный удар разнес колесный обод, возок накренился и осел, люди вывалились на дорогу, кони, испуганно заржав, рванули вперед, дергая хлипкий экипаж из стороны в сторону, мотая и разбивая о древесные стволы. Теперь не разберешь, то ли зверь перепугал коней, то ли рук человеческих дело… Все по плану, как и было задумано! Только ливийцев было не трое и не четверо, а пять. Одного Мерира приласкал камнем из пращи, но дважды фокус не удался – остальные превозмогли оцепенение и с воинственными криками размахивали оружием. Два копья, две дубинки… Возница тоже вырвал клинок из-за пояса и приподнялся на коленях – тянул руку, целил Семену в живот, но дотянуться не успел. Тяжелая секира взметнулась и рухнула вниз, ломая шейные позвонки. И в этот раз Семен ударил плашмя, чтобы не было резаной раны – львы львами, а множить улики не стоило. Возница – крепкий, с бритым черепом, похоже, из жрецов – выронил кинжал и, захрипев, ткнулся лицом в землю. Перескочив через него, Семен бросился к уже поднявшемуся Софре, и тут услышал крик корабельщика. Старый пират вовсе не звал на помощь – он дрался с четырьмя ливийцами, отбиваясь копьем и секирой, вопил в боевом задоре и медленно отступал к повороту. Сейчас скроется за деревьями, и там его прикончат, понял Семен. Много ли нужно времени четверым, чтобы заколоть одного? Ровно столько, сколько финик разжевать да косточку выплюнуть… На мгновение взгляд его встретился с глазами Софры, который пятился вслед за громыхавшей повозкой, раскачивая дротик. Один прыжок – и жрец будет на расстоянии удара… только один прыжок… Семен прыгнул, но – к Мерире. Его предплечье, как раз под раной от кинжала, царапнул дротик, но он не почувствовал боли; выбросил свое оружие на всю длину, зацепил крюком за шею ближнего ливийца и рванул, отбросив в заросли изуродованный труп. Второго из сражавшихся с Мерирой он сшиб на землю ударом ноги, подпрыгнул и опустился на грудь поверженного, ломая ребра; третий, с окованной бронзой палицей, успел повернуться к нему и тут же рухнул с пробитым виском – еще один удар плашмя, не рассекающий плоть, но сокрушающий кости. Мерира вышиб копье у последнего проводника и, широко размахнувшись, опустил обух секиры ему на темя. Грудь корабельщика ходила словно кузнечные мехи, он отдувался и потирал кровопотек на боку – то ли дубинкой задели, то ли огрели древком копья. В остальном Мерира выглядел бодро – как волк почтенных лет, задравший пару бодливых баранов. – Увертливый народ эти темеху, – произнес он, с хрипом втягивая воздух. – Ловкие, быстрые, как песчаные блохи! Ну, ничего! Место тут узкое, а мы их зажали, мой господин, точно мышей промеж двух кошек! – Мерира огляделся и начал пересчитывать трупы, тыкая в них пальцем: – Уа, сон, хемет, туа, сас, сехеф… Сесенну? Где седьмой? Семеро их было, клянусь судом Осириса! Семен тоже огляделся, мрачно хмуря брови; главная мышка ускользнула, а вокруг, на окровавленной земле, валялись только безвинные и непричастные. – Седьмой удрал, пока мы с этими возились, – он покосился на мертвых ливийцев. – Ну, так беги за ним, семер, а я поковыляю следом. Дальше песков не удерет! Гляди только, чтобы лошадей не подманил, до лука не добрался… А так, куда ему деваться? Кроме твоей секиры, некуда! Кивнув, Семен повернулся, стиснул покрепче топор и побежал по узкой дороге. Над кронами деревьев по-прежнему сияла треть солнечного диска, будто напоминая, что времени прошло всего ничего; земля под подошвами сандалий была твердой, надежной, вполне подходящей для битв и погонь, а с реки тянуло свежим ветром, который приятно холодил жгучие царапины от кинжала и дротика. На бегу, стараясь не споткнуться о валявшиеся кое-где обломки колесницы, Семен размышлял о словах корабельщика, а вот о том, что минут через десять-пятнадцать он догонит Софру и разнесет ему череп секирой, вспоминать совсем не хотелось. Странный, однако, народ в Та-Кем, и время странное! Гляди, чтобы лошадей не подманил, до лука не добрался, предупредил Мерира… А ведь в другой стране сказали бы: гляди, поймает лошадей – ускачет! Но колесница разбита, и роме – воину, семеру, землепашцу – чужда идея оседлать коня. Чужда! Тут не аравийские просторы, не кочевая вольница, тут во всем – порядок: осел – чтобы ездить и возить поклажу, корова – чтобы тянуть повозку и плуг, а конь годится лишь для колесницы… Он думал, что есть десятки вещей, которые можно тут сделать – не выплавка стали и не реформа письма, а более простые вещи, вроде седел и стремян или плугов с бронзовым лемехом. Стрелы с трехгранными наконечниками вместо плоских – летят дальше, бьют смертоносней; длинные копья и клинки, чтобы колоть и рубить с коня; арбалеты, баллисты и катапульты, что мечут ядра на тысячи шагов; парусное вооружение на судах, киль, шпангоуты и руль вместо примитивных весел; сигнальные башни и семафорный телеграф, понтоны и наплавные мосты, маяки с горючим маслом и зеркалами, что отражают свет; коляски, в которые можно запрячь лошадей, голубиная почта или хотя бы яблони, неведомые в Та-Кем – яблони, сливы, апельсины из северных заморских стран, лежащих, в сущности, рукой подать от Дельты, в каких-то трехстах километрах… Однако, если не считать колясок, яблонь и плугов, все эти вещи – так ли, иначе – ассоциировались с войной, и потому изобретать их не хотелось. Совсем не хотелось – ведь он отлично знал, кто унаследует державу с такими вот полезными игрушками! Этот мальчишка, сын сириянки, сидевший на троне Та-Кем… Мальчик, который лет через тридцать потопит в крови и Сирию, и Финикию, и Палестину… Дай ему конное войско, баллисты и катапульты, морские суда, горючую смесь, тараны и понтоны – глядишь, он до Индии доберется! А это в планы Семена совсем не входило. Заросли остались позади, и теперь, когда ничто не закрывало взгляда, он, наконец, увидел Софру. Тот уже не мог бежать; шел, опираясь на дротик, тяжело переставляя ноги, с опаской оглядываясь назад. Заметив погоню, жрец попытался ускорить шаги, потом, вероятно, сообразил, что от преследователя не уйдешь, и замер, раскачивая в поднятой руке свое оружие. Сейчас он был опасен как гиена, которую загнали в угол; зрелый муж, достаточно крепкий и, несомненно, не уступавший любому воину в искусстве метания дротиков. Мысль об этом не устрашила Семена, а будто добавила энергии; его ожидал поединок, не убийство. Софра расправил плечи, высокомерно откинул голову. – Во имя Амона! Почему ты убил моих людей? Чего ты хочешь, ваятель? Я ведь не ошибся, ты – ваятель Сенмен из мастерских святилища? Тот, кого я хочу возвеличить и наградить? – Мне не нужна твоя награда, – молвил Семен, не спуская глаз с лица Софры и острого жала дротика. – Что же тебе нужно? – Твоя жизнь. Жрец неторопливо сдвинулся в сторону – так, чтобы солнце не било в глаза. Дыхание его выровнялось, ноги уже не дрожали. – Моя жизнь? – Голос Софры обрел былую силу. – Почему? Разве Рихмер не договорился с тобой? Или тебе дали больше? Кто? Хоремджет? – Он будет следующим. – Семен шагнул поближе, и теперь их разделяли шагов десять-двенадцать. – Он тоже умрет – как всякий, посягнувший на царицу. Это утешит тебя, жрец? Глаза Софры прищурились, рука напряглась. – Царица! Вот кто тебя подослал! Теперь я понимаю… Все-таки Рихмер ошибся! Резко выдохнув, он метнул дротик. Судьба или боги хранили Семена – он успел присесть, и древко с бронзовым острием свистнуло над головой. Выпрямившись, он бросил секиру и потянул из ножен кинжал – такой же, как у Софры, с лезвием длиною в три ладони. Это будет честный поединок, мелькнула мысль. И тут же ее догнала другая: может быть, не убивать? Пригрозить загробной карой, запугать и подчинить, как Рихмера? Не выйдет, понял он, глядя в глаза Софры. Этот человек казался себе самому избранником богов, он был чересчур амбициозен, слишком сильно мечтал о величии и нераздельной власти и, не дрогнув, отдал бы за власть и величие всех дочерей и сыновей в придачу. К тому же, что ему известно о Сенмене, брате Сенмута? Явно поменьше, чем Рихмеру… Он полагает, что перед ним – ваятель, бывший пленник из страны Иам, а не посланец Осириса… Вдруг ощутив странное головокружение, Семен отвел взгляд от лица Софры. Ичи-ка? Похоже, верховный жрец владел магическим искусством столь же уверенно, как дротиком… Но тут и там – промазал! – мелькнуло у Семена в голове. Перехватив поудобней кинжал, он прыгнул, звонко лязгнули скрестившиеся клинки, Софра покачнулся под его напором, но в последний миг, уже коснувшись острием ямки над ключицей, Семен вспомнил о львах. Львы не убивают кинжалом… Мысль не успела завершиться, когда он вогнал кулак под ребра жрецу. Тот согнулся, роняя оружие, и Семен, обхватив руками бритый череп, дернул резко и сильно, вслушиваясь в хруст позвонков и глядя в тускнеющие зрачки. Далекий хриплый рык, внезапно раскатившийся над сухими травами и песками, заставил его выпустить тело жреца и отступить к лежавшей на земле секире. Он поднял топор и отвернулся от мертвеца. Смотреть на него не хотелось; в мирном покое расцветающей зари смерть была чем-то жутким, неестественным, и было неприятно вспоминать, что сотворил он ее своими собственными руками. Пустыня, лежавшая за полосою трав, выглядела привлекательней смерти. Возможно, она являлась всего лишь одним из ее многообразных обличий, но не сейчас, а в дневное время, когда пугала безводьем, зноем и яростным блеском песков. Утром же она была чарующе прекрасной: первые лучи солнца золотили покатые вершины дюн, чьи подножия еще тонули в фиолетовых тенях, и между этими цветами золота и аметиста светились и пылали все оттенки красного и желтого. Воздух опять содрогнулся от хриплого рева, и, словно вторя ему, хриплый голос за спиной сказал: – Пойдем, господин! Еще немного, и они доберутся до трупов. – Сейчас пойдем, Мерира, – отозвался Семен, чувствуя, что беспредельное пространство ярких красок, песчаных холмов и дрожащего над ними воздуха будто зачаровало его. Наконец он вздохнул, вскинул секиру на плечо и пробормотал на русском: – Могущество наше будет прирастать Сахарой… Надпись на гробнице местного Ломоносова, он же – Сенмен, он же – Семен Ратайский… – Что ты сказал, господин? Не ответив, Семен повернулся и зашагал к зарослям. Пустыня глядела ему в спину тысячей глаз, напоминая о своей необъятности, безлюдности, красоте и как бы стараясь удержать его, не отпустить к узким полоскам земли с полями, рощами и городами, тянувшимися вдоль речных берегов. Может быть, в пустынном просторе нашлось бы другое место, еще не занятое и пригодное для человека? Какой-нибудь оазис, три пальмы над ручьем, где можно прожить жизнь с друзьями и любимой женщиной, никого не убивая и никому не угрожая, не вмешиваясь в ход событий, оставив миру самому решать свои дела… Пустые мечты! Он мрачно усмехнулся. Если бы и нашлось такое тайное убежище и если бы с ним ушла Меруити, ушли Инени и Сенмут, Пуэмра и Аснат, чем бы они занимались в свободное время? Лепили куличики из песка? Устроили блошиный цирк? Семен обернулся, поглядел на пустыню, на тело мертвого жреца и покачал головой. Все же человек должен не прятаться, а жить с людьми, хоть это и непросто. Временами – неприятно, страшно и даже чудовищно… А иногда – непонятно… Вот хотя бы случай с ним: вдруг его переместили в прошлое некие силы, разумные и не лишенные любопытства, которым интересно знать, чем кончится подобный опыт? Вдруг они, эти силы… Мерира дернул его за перевязь. – Чтобы Сетх разодрал мне задницу! У тебя плечо в крови, семер! Этот бритоголовый скорпион поранил? – Пустяки. – Перевязать? – Лишнее, Мерира. Корабельщик кивнул, потом прищурился на солнце, что-то соображая. – Время еще есть… А не наведаться ли нам в усадьбу, семер? Думаю, слуг там немного… Заглянем, и того жреца искать будет некому. – И это лишнее. Слуги ни в чем не провинились, Мерира. Как и убитые нами ливийцы. – Прости, мой господин, но тут ты не прав. Ливиец всегда виновен. – Мерира поскреб впалую щеку, подумал и объяснил: – Виновен в том, что он – ливиец.Однажды мы говорили с ним о богах, и Страж сказал, что Богу Истинному не нужны ни храмы, ни жертвы, ни песнопения и что нет обители у него ни в небесах, ни под землею, ни в пустынях Запада. Где же бог? – спросил я его, и он ответил, приложив ладонь к сердцу: единственно тут, в душе человеческой. И я ему поверил.Тайная летопись жреца Инени
Глава 10 Дом Радости, Дом Тревоги
В этих покоях Семен никогда не был. Три уютные прохладные комнаты на втором этаже тянулись анфиладой, отделенные друг от друга проемами невысоких, но широких арок. Средняя, самая просторная, со стенами, расписанными под цветущий сад, являлась чем-то вроде гостиной или туалетной; здесь стояли сундуки и ларцы, пара сидений без спинок, низкие столики на ножках из слоновьих бивней, а по углам – большие серебряные зеркала, отражавшие пламя свечей созвездием бесчисленных искр, таявших в их смутной глубине. Слева, за проемом арки, была опочивальня: потолок – как звездное небо, ложе с голубой накидкой и синие фаянсовые светильники в форме полураскрывшихся цветов; справа, за таким же широким проемом, занавешенным прозрачной кисеей, виднелся в глубине алтарь с темной фигуркой богини. Обнаженная женщина в рогатом венце с солнечным диском, с коровьими ушами… Хатор, божество любви… Корова была ее священным животным. Его привели сюда не Хенеб-ка и стражи-телохранители, а две молоденькие служанки; привели в эту комнату-сад с серебряными зеркалами и оставили одного без всяких объяснений. Положив каменную головку Меруити на стол, он приблизился к окну и долго смотрел, как гаснет закат над водами Хапи, как зажигаются в небе звезды и как, приветствуя наступление ночи, вспыхивают огни на западном берегу, в Долине Мертвых. Куда его привели? Кто объяснит, зачем он здесь? Но, быть может, само его присутствие в этих покоях и было объяснением? Прошло не меньше часа, когда в молельне, за голубой завесой кисеи, раздался протяжный скрип, а следом за ним – шорох. Повернувшись спиной к окну, Семен увидел, как перед алтарем склоняется женская фигурка; светильники, горевшие у ног Хатор, бросали отблеск на темные волосы с медным отливом, хрупкие плечи и обвивавшее шею ожерелье. Меруити! Кажется, она молилась, но то была странная молитва, беззвучная, без жестов и поклонов, будто таинство, происходившее между царицей и богиней, нуждалось не в словах и почтительных жестах, а в чем-то ином – возможно, в молчаливом и полном слиянии двух сущностей, божественной и человеческой. Сейчас они обе казались Семену единой и нераздельной скульптурной группой: женщина из темного базальта с загадочной улыбкой на устах, и та, другая, застывшая у ее ног словно изваяние из золотисто-розового мрамора. Но в Та-Кем мрамор не добывали; он помнил об этом и знал, что золотистое и розовое было плотью, телом живым и желанным, но столь же недосягаемым, как Сепдет, звезда Исиды[785]. Или он ошибался? Семен закрыл глаза, с силой стиснул кулаки – так, что напряглись мышцы на плечах – и замер, будто сам превратился в статую. Что-то переменилось за кисейной занавеской, но он не хотел смотреть, а только слушал – вслушивался в тихий неразборчивый шепот, пока слова, по-прежнему негромкие, не сделались отчетливыми, как голос флейты, манящей из дальнего далека надеждой и обещанием. – О, золотая Хатор, владычица небес и сердец человеческих! Ты, кто ведет мужчину к женщине и женщину к мужчине! Ты, которой известен тайный путь соединения душ и тел, повелительница радостей и печалей! Ты, благословляющая ложе и лоно, дарующая вино жизни, питающая нас соками любви! Ты, которой ведомы прошлое, будущее и судьбы людские! Не покидай меня, направь и подскажи! Подскажи… подскажи… – тихо шелестело среди расписанных деревьями стен, ласкало слух, туманило голову… Мнилось, что слова Меруити тысячекратно отражаются в зеркалах, наполняя комнату сладким пьянящим ароматом. Будто сад, изображенный на стенах, вдруг ожил и начал испускать благоухание, плывущее в воздухе Та-Кем в весенний месяц фаменот… Женский голос смолк. Пришедшая на смену тишина казалась Семену оглушительной, но через мгновение ее прервали слабый шелест и звук взволнованного дыхания. Он стоял, все еще не открывая глаз и стиснув кулаки; ноздри его трепетали, воспоминания о недавнем и жутком, о трупах, брошенных в пустыне львам, о залитом кровью лице Пуэмры, рассеивались точно утренний туман. – Ты спишь, ваятель? – рука Меруити коснулась его напряженных мышц. – Спишь или заглядываешь в грядущее? И что тебе видится там? – Ночь, которая еще не прошла, – ответил Семен и опустился на колено. – Встань! Ночь и в самом деле не прошла, и я не знаю, что случится до рассвета. А ты? Тебе это ведомо? – Нет. Я говорил тебе, прекрасная госпожа, что прорицание – странный дар: чем дальше, тем лучше видится, но близкое будущее смутно, как в тумане. – А прошлое? Недавнее прошлое? – Она отступила на пару шагов, посматривая то на Семена, то на столик с каменной головкой, прикрытой полотном. Вгляд ее был спокоен, голос не дрожал, словно Меруити приняла некое решение. Или, возможно, его подсказала царица Хатор. – Какое прошлое тебя интересует? – спросил Семен, любуясь, как складки тонкого платья падают от ее груди, струятся вдоль бедер и колен до обвитых ремешками сандалий лодыжек. – Мне донесли, что Софра умер. Кажется, день или два назад… Умер страшной смертью, словно боги его покарали, и к тому же остался без погребения… Поехал охотиться в пустыню, как делал много раз, и львы растерзали его. Ты знаешь, как это случилось? Семен задумчиво поднял глаза к потолку. – Не знаю, моя владычица, но выясню, если прикажешь. – Выяснишь? Как? Спросишь у Амон-Ра, который видит с высоты всю землю? – Нет. Взгляну на то, что осталось от Софры, на место, где он погиб, поговорю с его людьми… Он ведь охотился не в одиночестве! – От Софры остались череп и кости, как и от его слуг. Львы утащили тела в пустыню и… – Царица сделала знак, отвращающий беду. – Храни нас Амон от подобной участи! Маджаи правителя Джеме, посланные на розыски, не отыскали даже лошадей. Видно, и они достались львам. – Что же они нашли? По губам Меруити скользнула мимолетная улыбка. – Много песка и немного крови… Еще – обломки колесницы, копья, дротики, кинжал… Это все. Не слишком удачные поиски, верно? Семен продолжал разглядывать потолок, изображавший бирюзовое небо с крылатым солнечным диском. – Говорят, царь дунет в Уасете, поднимется буря за порогами… – медленно произнес он. – Это случится, если царь знает, как дуть и в какую сторону. Тонкие брови царицы приподнялись. – Я дунула туда, куда нужно? – Наверное, моя госпожа. Боги освободили тебя от Софры, и теперь, при мысли о нем, сердце твое не будет сжиматься, и мрак не окутает душу. Правда, остался Хоремджет… – Я не хочу вспоминать о Хоремджете в эту ночь, ваятель. – Она повела рукой, будто отбрасывая что-то лишнее, ненужное, как пыль пустыни. – Но Софры нет, а он был одним из великих мужей в Обеих Землях. Теперь мне надо подумать… Кто унаследует его власть? Кто поднимет его посох, встанет перед богами и вознесет молитвы Амону и Мут, Сохмет и Птаху? Мне надо сделать выбор, и только провидец, подобный тебе, может сказать, будет ли он удачным. – Выбери Хапу-сенеба, – предложил Семен. – Мудрый человек, богобоязненный и тихий. И молиться будет так, как нужно. О том, чего желаешь ты, – уточнил он, стараясь превозмочь разочарование. Неужели его позвали лишь для того, чтоб посоветоваться о преемнике Софры? Конечно, высокая честь!.. Но он ожидал совсем другого. – Хапу-сенеб… – протянула царица. – Верно, мудрый человек, но слишком слабый. Боги услышат его молитвы, но будет ли он тверд в земных делах? Все ли жрецы ему покорятся? Ведь есть среди них люди с тайным могуществом, такие, как… Она замолчала, хмурясь и сжимая губы, будто вспомнила о чем-то неприятном. – Такие, как Рихмер, – закончил Семен, сообразив, что пауза не случайна. – Рихмер, моя госпожа, тебе хлопот не доставит. Скорее, наоборот. – Ты уверен? – Меруити прищурила глаза. – Пусть я останусь без погребения, если лгу! Она вздохнула, и груди, будто пара птиц, затрепетали под полупрозрачной тканью платья. – Что ж, я верю тебе… верю, и снова дуну так, как ты советуешь… пусть это будет Хапу-сенеб… А теперь, – взгляд царицы скользнул к изваянию под полотняной накидкой, – теперь, Сенмен, сделай то, за чем тебя позвали. Сбрось ткань! Я хочу увидеть… – Губы ее внезапно дрогнули, опустились веера ресниц, и Семен услышал тихий шепот: – Хочу увидеть и понять, кто из богов направляет твой резец и руки… Хнум, Маат или великий Птах? Или, быть может, сам Амон? Медленно покачав головой, он сдернул покрывало. Лицо Меруити вдруг переменилось – порозовели щеки, снова взметнулись и опустились ресницы, пригасив сияние глаз, а кончики бровей будто вспорхнули к вискам, напомнив о распростертых птичьих крыльях. Она молчала; звездное небо заглядывало в окна тысячей мерцающих зрачков, невидимый вселенский маятник отсчитывал минуты, а две женщины взирали друг на друга в счастливом изумлении. «Неужели я такая?..» – читалось в глазах Меруити. «Да, – чуть заметно улыбалось ей каменное изваяние, – да, это ты, это твоя сущность, увиденная неравнодушным взором и воплощенная во мне искусными руками и любящим сердцем. Не твое величие, не твой ум, не твердость, не благородство и даже не красота, но все это вместе, соединенное в твоей душе, в твоих чертах – то, что отличает тебя от прочих женщин, делает неповторимой и желанной… Ты хотела понять, кто стоял за спиной художника, какой из богов ему ворожил? Что же, смотри! Теперь ты знаешь!» Царица повернулась к молельне, где за голубой завесой сияла улыбка Хатор. Потом губы ее дрогнули: – Ты… ты великий мастер, ваятель Сенмен… мастер, каких не знали даже во времена Снофру и Хуфу… Правда ли, что ты прозреваешь будущее? Не ведаю, хотя надеюсь, что все твои пророчества исполнятся… Но настоящее ты видишь! Видишь тайное и скрытое от глаз… – Голос ее окреп, набрал силу, и властные нотки зазвенели в нем: – Хвалю твои глаза и руки! Ты будешь… – …награжден и возвеличен, – закончил Семен. – На этот раз не откажусь от награды, моя госпожа. Какой она будет? О, золотая Хатор, владычица небес и сердец человеческих! – звучало у него в ушах. Ты, кто ведет мужчину к женщине и женщину к мужчине! Ты, питающая нас соками любви! Направь и подскажи, богиня! Будто повинуясь его мыслям, Меруити откинула голубоватую занавесь, приблизилась к статуе Хатор, но не склонилась перед ней в молитве, а что-то повернула у подножия. Семен снова услышал негромкий протяжный скрип, словно два полированных камня скользили одинпо другому, жалуясь, что их заставляют двигаться, тогда как им, камням, положено лежать или стоять. Затем звуки стихли, и женская рука поманила его в молельню. – Подойди ко мне, ваятель, и ты увидишь свою награду. «Я уже вижу ее», – подумал Семен, но, как приказали, пересек комнату в пять шагов, пригнулся, проходя под невысокой аркой, и ступил в молельню. Это помещение было вытянутым как пенал писца; алтарь – напротив входа, слева от него – окно, а вдоль длинных стен стояли покрытые львиными шкурами ложа и серебряные светильники в человеческий рост, изображавшие пальмы. От горевших в них свечей тянуло приятным запахом ладана. – Смотри! Взгляд Меруити устремился в торец комнаты, где, за сдвинувшейся стеной, было еще одно помещение, совсем небольшое и уставленное сундуками с откинутыми крышками. В них, переливаясь всеми цветами радуги, громоздились серьги, подвески и ожерелья, перстни, браслеты и диадемы, заколки, броши и нагрудные пластины; алый блеск рубинов соседствовал с изумрудной зеленью, голубизна бирюзы скромно тускнела в синем победном сиянии сапфиров, горел золотистым пламенем цитрин, таинственно мерцали аметисты, пестрели халцедон и яшма, струился серебристый свет опалов… В других сундуках, побольше размером, хранились чаши, кубки и кувшины, подносы и драгоценные сосуды для благовоний из серебра, азема и белого, желтого, зеленого и розового золота[786]; в третьих блестели груды колец и слитков, серебряных и золотых, в четвертых – дорогое оружие, железные клинки, отделанные золотом секиры, шлемы, усыпанные самоцветами, жезлы и посохи со вставками из малахита и лазурита, с навершиями из слоновой кости и благородных металлов… Тайная сокровищница! Казна фараонов, а в ней – неимоверные богатства, чей вес нельзя измерить ни в кедетах, ни в дебенах, а только в тоннах! От изумления лоб Семена пошел морщинами. – Выбери, что хочешь, – сказала Меруити, пристально глядя на него. – Выбери и возьми столько, сколько унесешь. Ты могуч, ваятель Сенмен… Может быть, поднимешь ларец с кольцами золота? Донесешь до статуи Хатор, и он – твой! Помрачнев, Семен передернул плечами. – Смеешься, госпожа? – Нет, не смеюсь. Стряхни пыль с ресниц, ваятель, и смотри! Здесь, в тайной кладовой, богатства отца моего, великого Джехутимесу… сокровища, каким нет равных в странах юга и севера, каких не видели ни в Джахи, ни в Хару, ни в Митанни… От их созерцания у всякого затмится разум! Тут драгоценные камни шести цветов, тут золото, азем и серебро, небесное железо и… – Прах пустыни! – пробормотал Семен и добавил на русском: – Хлам, моя красавица, всего лишь хлам. Этим хламом ты не отделаешься, чтобы мне жить на одну зарплату! Ее глаза сияли и смеялись. – Что ты сказал, ваятель? – Сказал, что мне не нужны побрякушки. Твой великий отец может не тревожиться в полях Иалу – я не коснусь его сокровищ! Он шагнул к ней. Меруити отступила – то ли случайно, то ли намеренно, к ложу, покрытому львиной шкурой. Хороший признак, подумал Семен, протягивая к ней руки. – Какой же ты хочешь награды? – прошептала она. Ее зрачки потемнели, губы раскрылись, будто в ожидании поцелуя, соски под тонкой тканью напряглись; она была сейчас как молодая пальма, ждущая прохладных струй воды. – Меруити… Меруити… – шептал Семен в блаженном забытьи, касаясь ее тела. Он видел, как вдруг расширились ее глаза, чувствовал, как трепещут мышцы под тонким полотном, как тепла и нежна ее кожа, как ее бедро касается его бедра. Она откинулась назад, но не пыталась ни крикнуть, ни вырваться из рук, словно лань, смирившаяся с пленом. Ладони Семена скользнули по гибкому стану женщины, поднялись к лопаткам, коснулись лент, державших платье на плечах. Оно было полупрозрачным и невесомым, подобным тающей в воздухе дымке. Его губы прижались к губам Меруити. Чуть слышно застонав, она оттолкнула Семена; рот ее округлился в изумлении. – Что ты делаешь, ваятель? – Это… это… – Он смолк, вспоминая, что роме не ведают поцелуев любви; в Та-Кем целовали прах у ног господина, касались губами амулетов и изваяний богов, и это считалось знаком почтения. Интимная ласка была иной – жест нежности, древний, как сама природа, и, вероятно, существовавший с той поры, когда человек еще не назывался человеком. Семен осторожно прикоснулся носом к изящному носику Меруити. Почти что пытка – не целовать ее, а выразить т а к свою любовь – но что поделаешь? Многих вещей, простых и естественных в будущем или в других краях, в этой стране не знали; тут не было купцов и денег, весны и лета, осени и зимы, не было туч и дождей, лимонов и яблок, и не было поцелуев. Но что такое любовь, здесь понимали. О, золотая Хатор, владычица небес и сердец человеческих! Пальцы Меруити сомкнулись на шее Семена, нежно поглаживали завитки волос, щека приникла к его щеке, запах ее тела кружил голову. Ее лоно и груди напряглись; ощущая их жар, упругость и упоительную тяжесть, он снова начал искать ее губы. – Это приятно, – вдруг прошептала она. – Ты научился этому у сириянок? Мне говорили… мне рассказывали, что… – Меруити, Меруити… Не слушая, он целовал ее с жадностью путника, нашедшего родник среди песков пустыни. Ее ладонь скользнула по плечу Семена, поглаживая бугры мышц, задерживаясь во впадинках и путешествуя по холмам; пальцы ее казались то лепестками роз, то огненными искрами. – Как ты силен, ваятель… Мощь твоя подобна Реке, заливающей мир в месяц фаофи… Утоли мою жажду… проложи дорогу меж моих бедер… Она опустила руки, и платье с тихим шелестом заструилось вниз. Семен приподнял ее, лаская языком набухший розовый сосок; она казалась легкой, как пушинка, и в то же время он ощущал желанную сладкую тяжесть ее тела. Страстное нетерпение внезапно охватило его, будто он, познавший не один десяток женщин в той и в этой жизни, вновь встретился с чудом из чудес – с первым объятием любви, первым стоном, первой тайной, которую дарит юноше женская плоть. Обняв Меруити, он начал опускать ее на ложе, но вдруг ее пальцы впились в плечи Семена, тело выгнулось, как напряженный лук, и, обжигая дыханием его ухо, она зашептала: – Не так… не так, мой лев пустыни… ведь я – не сирийская женщина… я не должна ложиться… разве ты не знаешь? – Тихий смех, будто перезвон хрустальных колокольчиков. – Не знаешь, я вижу… Он сел, позволив Меруити опуститься к нему колени. Та девушка, на острове Неб, мелькнула мысль, и остальные, арфистки и танцовщицы, которых брат приводил в их жилище, были другими. Безразличными? Вялыми? Нет, разумеется, нет; одаривая страстью, они умели наслаждаться сами. Покорными? Да, несомненно; они не выбирали поз и не настаивали на своих желаниях, всегда и во всем покоряясь мужчине. В этом была своя прелесть и свой недостаток, ибо покорность не позволяла разобраться в обычаях любви в Та-Кем – той любви, какую дарят не за серебряные кольца, а по сердечной склонности. Впрочем, он уже нашел наставницу… Мягкий шелк бедер Меруити под ладонями, запах ее волос, тепло и влажность лона… Внезапно она откинула голову, приподнялась над восставшей плотью, закусила губы, вскрикнула – и началось долгое, бесконечное, плавное скольжение, щека к щеке, грудь к груди; полет в нерасторжимом кольце объятий, в сумрачном воздухе, под любопытными взорами звезд, глядевших в окно. Отблеск свечи в темных ее глазах тоже казался парой лучистых звездочек, манивших и чаровавших Семена, и в этот миг казалось, что нет важней задачи – какую выбрать?.. к какой лететь?.. в какую погрузиться?.. Он не видел ничего, кроме этих сияющих огоньков, но ощущал, как трепещет тело Меруити в его руках, слышал, как ее дыхание становится все более глубоким и частым, прерываясь протяжными долгими стонами. – О, золотая Хатор! – вдруг вскрикнула она, откинувшись назад, обвивая Семена ногами, вздрагивая в конвульсиях экстаза. – Хатор, владычица! Ты привела меня в поля Иалу! Склонив голову, Семен начал целовать ее влажные груди, и пот любви был сладок на его губах. Он долетел до звезды, до одной из двух или до обеих вместе, и сладкая истома охватила его; огромный мир с горами и равнинами, океанами и континентами стал ущельем ароматной плоти между трепещущих холмов, и, касаясь их губами, он наслаждался их совершенством. Тут было все – мягкое и твердое, розовое, белое и золотистое, голубоватые ниточки вен, роса на цветах и плодах, и воздух над медвяным лугом и райским садом – воздух, в котором сияла улыбка Хатор. С глубоким вздохом Меруити прижалась к нему и опустила головку на плечо. Темные пряди волос упали на грудь Семена. – Ты хотел такой награды? Ты не жалеешь о сундуке с золотыми кольцами? – Нет, не жалею, моя царица. – Меруити, – поправила она. – Только Меруити, всегда Меруити! Меня называют прекрасной, великой и мудрой царицей, супругой Гора, владыки Обеих Земель, и первой из женщин в этой стране, но все имена – не мои. Не мои, ваятель Сенмен! Истинное знаешь лишь ты, как и положено провидцу. – Она слизала язычком испарину с верхней губки и улыбнулась. – Ты, наверное, знал многих женщин… сириек, кушиток, темеху и дочерей Та-Кем… Скажи, они такие же разные, как мужчины? – Все женщины одинаковы, кроме тебя. Ты – как белый лотос среди зеленых тростников… Но почему ты спрашиваешь, Меруити? Она снова вздохнула. – То, что по воле Хатор происходит между мужчиной и женщиной… это таинство казалось мне прекрасным, сказочным – в давние годы, что спят под десятью слоями ила, намытого Рекой… Потом, ваятель, я стала супругой брата, чтобы укрепились наш трон и династия, и сказка исчезла. Он предпочитал мне сирийку и… – стон или всхлип вырвался из горла Меруити, – и других женщин. Иногда он приходил ко мне, но это были ночи без радости. Мрачные ночи! Почему? Я не знала других мужчин, кроме него… думала, что Хатор меня карает… Но сейчас, когда я молилась ей, она сказала: попробуй! Попробуй еще раз, и ты познаешь счастье! Она была права. – Уютно свернувшись на коленях Семена, Меруити прижалась щекой к его груди. – И вот я спрашиваю: почему? Почему один мужчина дарует радость, а другой – отчаяние? В чем тут дело? В различиях между женщинами или среди мужчин? Ты мудр, мой провидец… Так объясни же мне! Вечный вопрос, думал Семен, поглаживая ее волосы. Кто ведает дорогу соединения сердец? Только Хатор, египетская Афродита… – Ни женщина, ни мужчина не в силах одарить радостью, – медленно произнес он. – Ни один из них, понимаешь? Только вместе… вместе и в том случае, когда их влечет друг к другу. От их влечения рождается любовь, сказка, о которой ты мечтала… – Он помолчал и добавил: – Я счастлив, что это случилось сейчас, с тобой и со мной, но я не знаю, почему супруг не подарил тебе радости. Тебе, самой желанной из женщин! Тихий воркующий смех был ему наградой. Потом Меруити прошептала: – Боги не послали мне сына, только дочерей… Может быть, поэтому? – Может быть. Но если ты родишь мне дочь, моя любовь не станет меньше. Снова тихий смех, теплое дыхание, щекочущее кожу… – Ты многого хочешь, ваятель… А ведь теперь ты у меня в долгу! Если полученное тобой стоит ларца с золотом, – она бросила взгляд на сундуки с откинутыми крышками, на груды сверкающих сокровищ, – если ты ценишь меня дороже всех богатств Та-Кем, то в этот час ты – мой должник! И как ты думаешь рассчитаться? – По воле твоей, моя Меруити. – Семен прижался губами к ее виску. – Назначь цену! Она задумалась, потом заговорила, и ее голос, еще мгновением раньше ласковый и нежный, был тверд. Прочен, как скала, как слово, изреченное фараоном перед простертыми ниц толпами. – Я приду к власти – скоро, скоро! – и ты об этом знаешь, мой ваятель. Я желаю разделить ее с тобой. Ты должен быть рядом, на расстоянии теба, так, чтобы уши мои слышали шепот твоих губ, чтобы твоя рука меня охраняла, а разум – направлял, ибо нужны мне опора и защита. Мне, моим дочерям и трону моего отца! Ты скажешь, как укрепить его, когда начать войну, где проложить каналы, какие земли подарить семерам, как сделать, чтобы не голодали немху и чтобы в странах Куш и Джахи не думали о мятеже. Ты сделаешь так, но это еще не все! – Она перевела дыхание, глядя на Семена мерцающими в полутьме глазами. – Я сказала, что мне нужны опора и защита, но это не все, ваятель! Еще я нуждаюсь в любви и не хочу, чтобы годы мои засыхали, как листья на пальме в бесплодных песках. Я – Та-Кем! – Ее ладошка легла у розовых грудей. – Я – воплощение Гора, душа Ра, владычица, любимая Амоном! Если я сильна и счастлива, сила и счастье пребудут в Обеих Землях! – Верная мысль, – одобрил Семен, любуясь ее лицом, горевшим от возбуждения. – Однако ты женщина, а ваши желания беспредельны… И потому я думаю, что сказано не все. Чего ты хочешь кроме любви и власти, моя Меруити? – Ты мудр и проницателен, как Тот, и ты хитрее Сетха… – Она улыбнулась, погладив его щеку кончиками пальцев. – Да, есть и другие желания! Я хочу, чтобы ты построил храм… белый храм у скал, подобных меди… тот, о котором рассказывал мне… святилище Хатор, соединившей нас… чтобы милость ее была с тобой и со мной… – Пусть будет так, – сказал Семен. – Но я, моя милая, вовсе не хитер, а жаден, и я умею хорошо считать – гораздо лучше, чем премудрый Тот. Ты просишь об одном и о другом, о третьем и четвертом… Много, очень много для бедного должника! Впрочем, я сделаю все, и в память об этой ночи построю храм Хатор – построю, если ночь окажется не последней. Меруити вдруг прижалась к нему всем телом, и он почувствовал, как трепещут у щеки ее губы, как напряглись соски, и как увлажнилось лоно. – Ночь еще не кончилась, ваятель, – прошептала она. – Ночь не кончилась, рассвет не наступил, и Ра еще плывет в своей ладье в подземном мире… Твой долг успеет вырасти!* * *
Пуэмра очнулся лишь через шесть дней. Когда Семен пришел в дом Инени, его ученика уже перенесли на ложе у окна, что открывалось в сад, и он мог говорить, хотя и не очень разборчиво – порезы на лице еще не зажили. Около Пуэмры хлопотали две девушки – Аснат, его сестра, и другая, незнакомая Семену, тоненькая, будто стебелек папируса, почти девчонка, на пару лет постарше То-Мери. Глаза у нее были темными и нежными, как у олененка, а волосы, шелковистые и на редкость длинные, собраны в три перевитых лентами пучка: два падали на грудь, а средний темной волной змеился по спине. Эта юная красавица сидела у изголовья Пуэмры и отгоняла опахалом мух. – Кто такая? – спросил Семен, переступив порог комнаты. Аснат улыбнулась ему, а темноглазая незнакомка, испуганно вздрогнув, сползла с сиденья, рухнула на пол и принялась кланяться. – Нефертари, великий господин… дочь хранителя врат в святилище Амона… твоя недостойная служанка… Она в смущении прятала лицо, но Семен осторожно, двумя пальцами, приподнял ей подбородок. – Откуда ты знаешь, что я – великий господин? – Отец сказал… сказал, если придет человек, подобный Апису, высокий ростом и грозный видом, то это – великий господин… Еще сказал: ты, Нефертари, должна быть почтительной и угождать ему, как самому пер’о – жизнь, здоровье, сила! – Хмм, подобный Апису… – Семен подмигнул Аснат, колдовавшей у чаши с целебным питьем. – Скажи, сестра Пуэмры, разве я похож на быка? Уши и нос вроде нормальные, да и рогов нигде не прячу… может, вырастут, если женюсь… – Он повернулся к Нефертари. – Ты ошиблась, милая; хоть я и высок, но не слишком велик и грозен. Я ваятель Сенмен, брат Сенмута, и там, на ложе, валяется один из моих нерадивых помощников. Нефертари, однако, продолжала кланяться, опустившись на колени и сгибаясь втрое, так что Семену пришлось прикрикнуть: – Встань! И не царапай коленки о пол! Они у тебя не для этого, детка. – А для чего, господин? – робко спросила она, поднимаясь. – Скоро узнашь… через год-другой, – Семен подошел к изголовью Пуэмры и опустился на сиденье. Аснат хихикнула. Сенмут, наверное, ей уже растолковал, зачем у девушек колени и все остальное, что расположено повыше. «Подожду до фаофи или до атиса, когда наступит покой в державе, – решил Семен, глядя на невесту брата, – и поженю их. В конце концов, таков мой долг как старшего в семье! Хватит братану щупать арфисток… да и мне, пожалуй, тоже». Он представил на миг губы и груди Меруити, блаженно усмехнулся, потом вглянул на Пуэмру, и улыбка сползла с его лица. Вид был – краше в гроб кладут. Мумия, да и только! Кожа бледная, тело в полотняных бинтах от подмышек до пояса, бинты на обоих бедрах и левой руке, а на щеках, у губ и ноздрей – алые ниточки шрамов; видно, резали ножом, однако с неторопливостью и осторожно, чтобы прочувствовал боль, но смог говорить. «Может, все и заживет, – горестно размышлял Семен, разглядывая ученика, – может, и беды особой нет – шрамы лишь украшают мужчину, а вот с пальцами Инени прав. Не пришьешь назад, не приставишь! Хорошо, хоть на одной руке… а если бы на двух? Ни писать, ни рисовать, ни девушку погладить…» Но больше ран и изувеченной ладони его пугали глаза ученика. Было в них что-то тоскливое, безнадежное, будто Пуэмра решил, что жизнь его закончена, фонтаны радостей земных иссякли и что пора переселяться в Джеме, к покойникам на левый берег. Вот только почему? Вид, конечно, неважнецкий, однако жив, раны чистые, не воспалились, кости целы, глаза с языком на месте, как и главнейший орган… Опять же девушка рядом крутится… очень приятная девушка, тут поганец Рихмер не соврал… Одни глазищи да кудри дорогого стоят! – Он ждал, – тихо промолвила Аснат за спиной Семена, – ждал, когда ты придешь, мой господин. Сказал, что не умрет, не повидавшись с тобой… Но зачем ему умирать? Мы его любим, – она обняла хрупкие плечи Нефертари. – Мы не хотим, чтобы он ушел к Осирису! – Что-то жарко сегодня, – заметил Семен, посматривая на знойное небо. – Жарко… Вот что, девочки: идите в сад и приготовьте мне уам. Вина поменьше, а сока граната – побольше… И можете не торопиться. Когда они вышли, он склонился над Пуэмрой. – Мрачный ты, как я погляжу. С чего бы? Ведь не в постель Сохмет улегся! Ты в доме Инени, и рядом с тобой не дознаватель с ножиком, а молодая красавица с опахалом. Ну, и я, твой учитель… Зачем умирать? Лицо юноши вдруг стало жалким, рот судорожно скривился, затем хлынул поток отрывистых, почти бессвязных слов: – Смерть… смерть и наказание… мой удел… ибо я предал… предал двоих… первого своего наставника и второго… Инени, отца мудрости, и тебя, посланца богов… Нет мне прощения – ни в этом, ни в загробном мире! Я скорпион… ядовитый гад… гиена побрезгует трупом моим, шакал помочится на мои кости… – Во-от в чем дело! – протянул Семен. – Вот оно как! Ну, Инени, отец мудрости, на тебя не в обиде; он знал, что ты не порочишь его – скорее, наоборот. Так что успокойся, парень. Рановато тебе к парасхитам. – Ты… ты не знал… – дыхание Пуэмры сделалось прерывистым. – Я доносил Уху Амона… мелкое, неважное… а хотелось ему другого… того, о чем Инени запретил говорить… откуда ты явился… что умеешь… прислан ли светлыми богами или Сетхом… Я не сказал бы ничего, но боль… было так больно, учитель! – Он сморщился и всхлипнул. – Когда мы сражались с нехеси – там, у порогов, где встретили тебя, – кровь обагрила мое копье… Я защищался и убил разбойника… но видит Амон, лучше убили бы меня! Предатель и в богатой гробнице предатель, а воин, пусть лишенный погребения, все-таки воин! «Стыдится, – подумал Семен, – от того и жить не хочет. Вдруг и правда умрет? Совсем ни к чему!» Он положил ладонь на лоб Пуэмры. – Слушай, парень… Там, на ложе Сохмет, ты вроде бы просил у меня прощения? Так вот, я тебя не прощаю. Ты скорпион и гад ползучий, и от печенки твоей стошнит гиену, ибо ты предал посланца богов… Но боги милостивы, и я тоже. Я хочу, чтобы ты искупил вину и заслужил прощение, а это никак не получится, ежели сыграешь в саркофаг. Согласен? Глаза Пуэмры закрылись; минуту или две он обдумывал эту идею, потом шевельнул левой, изувеченной рукой. Запястье его было похоже на крабью клешню – из повязок выглядывали только большой палец да указательный. – Как искупить, учитель? Да и на что я теперь гожусь? Не могу затачивать тебе резцы… не могу держать рубило… камень – и тот поднять не сумею… большой камень, достойный твоих рук… Будь он проклят, этот Рихмер, сын змеи! Чтобы ему остаться без погребения! Сделал калекой и предателем! – Ты не калека и не предатель, – сказал Семен, – ты грешник, которому надо трудиться и заслужить прощение. И труд твой будет тяжелей, чем камни таскать. Ну, а что до Рихмера… Может, не так он виноват, а? Все же человек подневольный, тень Софры, приказали – сделал… и дочь у него приятная… глаза как у лани… Ты не находишь? Щеки Пуэмры заалели, и Семен догадался, что, кроме вины перед ним, мучает ученика раздвоенность: с одной стороны, дочь ненавистного, страшного человека тоже бы надо бояться и ненавидеть, а с другой – уж больно хороша и на отца не похожа… Он усмехнулся и сжал здоровую руку Пуэмры. – Хочешь узнать, в чем будет твое искупление? – Да, учитель! Клянусь солнцеликим Амоном! Его зрачки блестнули, лицо озарилось надеждой; он уже не был похож на мумию, а выглядел как человек, нашедший в песках оазис с пальмой, родником и даже с приятной девушкой – с той самой, чьи глазки как у лани. – Рихмер просит, чтобы ты не таил на него зла, и в знак примирения отдает тебе свою дочь. Единственную и любимую! Возьмешь ее в супруги – если, конечно, пожелаешь. Или не пожелаешь? Пуэмра закатил глаза – мол, стоит ли сомневаться! – Значит, возьмешь и станешь наследником Рихмера. Ты ведь, собственно, из его людей? Вот и учись ремеслу у родича… год учись или десять лет – столько, сколько нужно. Будешь потом хранителем врат и Ухом Амона. Уши у тебя ведь целы, так? И, кажется, их два? – Пуэмра, соглашаясь с этим бесспорным фактом, опустил веки. – Вижу, два… Одно ухо повернешь к Амону, другое – к посланцу Осириса, то есть ко мне. Есть вопросы? – Слушаю твой зов, учитель, – пробормотал Пуэмра, вцепившись в руку Семена, – целую прах под твоими ногами и клянусь, что исполню любое твое повеление… – Он перевел дух и судорожно сглотнул. – Скажи, мой господин… Ты спас меня – но как? Что ты отдал Софре и Рихмеру, чтобы снять меня с ложа Сохмет? – Ничего. Боги вразумили Рихмера, и он подчинился, ибо воля их священна, а голос слышен всем – особенно Уху Амона. Ухо у него чуткое, парень… каждый шорох ловит, не то что глас богов. – А Софру? Софру боги тоже вразумили? – Вразумили. Очень основательно, – сказал Семен, поднимаясь. – Ну, мне пора. Выздоравливай, ученик! Небсехт, Атау и Сахура просили передать, что молятся о твоем здравии. Он отправился в сад, и там, в беседке среди тамариндовых деревьев, нашел Инени. Рядом с ним, на низком столике, были разложены письменные принадлежности: пенал с запасными палочками, сосуды с красками, чистые листы папируса. Жрец сидел, уставившись в лежавший на коленях свиток; ровные строчки знаков пересекали его словно муравьиное полчище на марше. – Пишу, – произнес Инени, не глядя на Семена, – пишу о свершившемся, и с каждым словом писать мне все тяжелей. Раньше было не так… раньше мысль моя обгоняла руку. Но теперь я знаю, что одна из повестей моих – а может, и обе – будут прочитаны потомками, и кажется мне, что толпы еще не рожденных стоят за моей спиной и заглядывают через плечо… Могу я надеяться, что они не осудят меня, не скажут, что я был пристрастным и неискренним? – Можешь, – сказал Семен, присаживаясь напротив. – Мы… они будут читать твою историю с большим почтением и интересом. – Да благословит тебя Амон! – Инени кивнул, будто клюнув своим ястребиным носом. – Я – счастливейший из смертных, ибо кому из писцов известно, что мысль его сохранится в веках и даже заслужит одобрение? А я об этом знаю! Воистину, боги меня отметили, как и страну Та-Кем! Семен улыбнулся. – Тебя, мой друг, несомненно. Что до страны… Хорошая страна, не спорю, но почему она отмечена богами? Жрец запрокинул голову, всматриваясь в клочки синевы, мерцавшей средь ветвей и листьев. – Что ты видишь, Сенмен? Там, вверху? – Небо. – Семен прищурился. – Знойное чистое небо и солнце. Оно похоже на диск из золота. – Это и есть диск, сияющий над головою Ра. Бог едет в небесах в своей ладье, и все его видят с рассвета до заката, всякий человек в Та-Кем, незнатный или облеченный властью. И Ра нас видит, всех и каждого… Лик его ничто не заслоняет, и наша жизнь раскрыта перед ним; мы помним, что от взгляда божества не скроешься, и потому стараемся не грешить. Во всяком случае, в дневное время… Но в других странах все иначе – там, высоко над землей, плывет туман, и временами он становится плотным, прячет Ра за своей пеленой, и небо, сокрушаясь в горести, начинает плакать. Говорят, есть и такие земли за Уадж-ур, где с небес валится холодный белый пух, а Ра не видно целыми днями… И люди в тех краях не знают благочестия, поклоняясь демонам. – Он помолчал и добавил: – Такого у нас не бывает. Разве это не знак божественной милости? Разве не символ того, что народ Та-Кем избран среди других народов? В чем-то он прав, подумал Семен, представив серые питерские небеса. С другой стороны, приятно ли знать, что за тобой следит божественное око? Причем не тайно, а открыто; подняв голову, увидишь его гневный глаз, который не заслоняют ни облака, ни тучи… Инени кивнул, будто подслушав его мысль. – Ра вечно глядит на нас, и лик его неизменен, и в прошлом, и в будущем. Скажи мне, друг мой, в твои времена люди по-прежнему верят в богов? Возводят храмы, приносят жертвы и тешат их слух песнопениями? – Да. Не все, но многие. – А ты? Не сердись, если мой вопрос неприятен, но кажется мне, что ты не боишься богов. Или я ошибаюсь? – Не ошибаешься. – Семен задумался на миг, потом сказал: – Я не верую в тех богов, в которых веришь ты, и твердо знаю, что истинный бог не нуждается в храмах, жертвах и песнопениях. И обитает он не в небесах, не под землей и не в пустынях Запада. Рот Инени округлился, глаза раскрылись шире. – Но где же, Сенмен? – Единственно в душе человеческой. – Семен приложил ладонь к груди. – Здесь! И потому мой бог всегда со мной. – Я верю тебе, – медленно произнес жрец. – Верю, ибо вижу, какую силу он тебе дает… Такую, чтобы устрашить Рихмера, или царька дикарей из Шабахи, или справиться с Софрой, бросив его на растерзание львам… такую, чтобы покорить сердце Пуэмры или вложить бессмертную душу в холодный камень… Это все – твой бог? – Ну… отчасти. Время от времени, скажем так. Жрец протянул руку и положил ее на колено Семену. – Я никогда не сомневался, что ты отправлен к нам на помощь этим богом или другими богами. Затем, чтобы все свершилось так, как и должно свершиться… – Погладив бритый череп, он усмехнулся и вдруг, резко меняя тему, зашептал: – Третий день месори близится, друг мой… Великая царица встретит его в большом дворце, что рядом с Ипет-ресит, дабы не медлить и возложить на себя знаки власти. Пусть брат твой будет при ней и охраняет ее вместе с Хенеб-ка, а ты встань на Восточной дороге, перед лагерем колесничих, встань там с лучниками и копьеносцами Усерхета. Инхапи об этом просил. Он уже здесь и утверждает, что так ему будет спокойнее. Он верит в тебя, как в львиноголовую Сохмет. – Я польщен, – заметил Семен. – А кто такой Усерхет? – Чезу Пантер, один из военачальников с юга. Я слышал, опытный солдат, но людей у вас будет всего лишь пара сотен – остальные нужны Инхапи у главного лагеря меша Амона. Колесничие же Хоремджета стоят отдельно и могут прорваться к дворцу… Сумеешь их остановить? – Дело нехитрое. На колесницах в городе не развернешься. – Семен нахмурил брови, чувствуя, как его охватывает возбуждение. Инени придвинулся ближе к нему и снова зашептал: – Их триста, и в каждой – два воина… И поведет их Хуфтор, лучший чезу Хоремджета… – Я его видел. Решительный парень! – Возможно, с ним будет Хоремджет. Он боится, ночует не в доме своем, а в главном лагере или с колесничими… он в недоумении и страхе… не может понять произошедшего с Софрой – то ли боги ему благоволят, то ли предостерегают… – Кто тебе это сказал? О Хоремджете? – Рихмер, по твоему повелению. Его ищейки не спускают с Хоремджета глаз. Погонщики ослов, что доставляют в лагерь пищу, носильщики и водоносы и даже писцы… Они усердны, как стая гиен, почуявших запах падали. Семен довольно ухмыльнулся. – Ну, что ж… Придется их наградить и возвеличить! Особенно писцов. Нет ли среди них Пианхи, сына Сенусерта? Толстый такой и болтливый, писец в чезете колесничих… Инени помотал головой. – Не знаю. Люди Рихмера – забота Рихмера. А твоя… – …Хуфтор и колесничие. Я помню, мой мудрый друг. – Если они захватят дворец, царицу и пер’о… – пальцы Инени шевельнулись, рисуя иероглиф «смерть». – Исида всемогущая! Спаси нас от этого и сохрани! – Кто не рискует, не ест ветчины, – отозвался Семен, подумал и перевел на язык роме: – Хочешь фиников – не бойся лезть на пальму.Я видел семьдесят шесть разливов Хапи, я очень стар, но память меня не подводит – она как свежий цветок лотоса в месяц фармути. Я помню… да, помню тот день, когда не мудрые речи, не песни и гимны, а острая бронза вершила праздник. Друг мой тоже был на этом празднестве, и живы мы потому, что он охранил нас, а когда отзвенело оружие, не дал сердцам ожесточиться. Прав ли он? Иногда, взирая на нынешний кровавый пир, я сомневаюсь в этом. Но ему виднее, и виднее тем, кто обитает в тех непостижимых землях, откуда он пришел. Свершившееся должно свершиться…Тайная летопись жреца Инени
Глава 11 Месяц месори, третий день
Вдали, за каналом Монта, слышался грозный гул – стоны боевых рогов, лязг оружия и топот множества ног, перекрываемый временами слитным воплем идущих в атаку воинов. До лагеря корпуса Амона, с которым сражались сейчас ветераны Инхапи, было километра два, но звуки далеко разносились в душном раскаленном воздухе, и город, внимая им, замер в тревожном оцепенении, будто муравейник, рядом с которым сошлась в поединке пара свирепых быков. Не ровен час, затопчут… Но на Восточной улице, тянувшейся от садов фараона до казарм колесничного войска, пока что царили спокойствие и тишина. Ни храмов, ни жилых строений здесь не было, и тракт, прямой, как древко копья, затеняли лишь огромные каштаны с поникшей от жары листвой. За ними, на юго-западе, ближе к речному берегу, начиналась зона дворцового парка, но крыши и башни большого дворца, как и домов знатнейших вельмож, скрывали завесы зелени, по-прежнему яркой, свежей и густой, ибо работники, качавшие воду из Нила, трудились не покладая рук. Парк простирался до крепких стен Ипет-ресит, южного святилища Амона, благодаря чему подступ к обители пер’о с фланга или с тыла был невозможен для колесниц. Они могли проехать только здесь, по Восточной улице, что отходила от Царской Дороги вблизи огромных пилонов, обозначавших вход на священную царскую землю. Семен, стоявший рядом с Усерхетом, жилистым сорокалетним чезу Пантер, оглянулся на отряд перегородивших улицу лучников. Солдаты стояли в три шеренги, со стрелами, наложенными на тетиву, и хоть их было всего лишь десятков пять, прорваться сквозь этот барьер не удалось бы ни единой колеснице. Особенно если учесть других стрелков, засевших под деревьями, а также маленький, наспех придуманный, но очень эффектный сюрприз. Шагах в сорока за лучниками, у поворота к Царской Дороге, потел под солнцем отряд тяжелой пехоты – сотня воинов в кожаных нагрудниках и шлемах, с тяжелыми, закругленными сверху щитами и двухметровыми копьями, под командой знаменосца Хорати. Боевое снаряжение перевозилось в столицу тайным порядком, пряталось по дворам у родичей в Кебто, Джеме, Уасете, и, чтобы собрать своих воинов, вооруженных и готовых к битве, офицеры Инхапи трудились всю прошлую ночь. Старания их были успешными – судя по звукам, что доносились от казарм, и по тому, что Усерхет занял Восточную улицу еще до утренней зари. Но выглядел он измотанным и то и дело прикладывался к фляге с водой. – Иди в тень, – сказал Семен, – ляг под деревом и закрой глаза. Колесниц пока что не видно. Может быть, они вообще не появятся – Хуфтор ведь не сошел с ума, чтобы бросить их в атаку по улице в двадцать локтей шириной. – Может, и не появятся, – прохрипел Усерхет, покосившись на стальной топор в руках Семена, – только я должен стоять здесь. Ты, господин, хоть и могучий воин с грозной секирой, а долг военачальника не понимаешь. Тяжкое наше ремесло! Вот я, уставший так, что чувствую вкус смерти на губах, торчу на жаре и буду торчать, потея под ремнями и нагрудником. А почему? – Да, почему? – полюбопытствовал Семен, глядя в хмурое лицо Усерхета. – А потому, что люди мои должны меня видеть на этом самом месте. Раз я стою и терплю, значит, и им Амон велел. Не то какая же мне вера? – Он снова приложился к фляге. – Люди твои не мотались всю ночь по дворам и улицам, не пересчитывали друг друга, не погоняли теп-меджет. Они выглядят свежими и полными сил, а ты – уставшим. Отдохни! Но Усерхет лишь с упрямым видом помотал головой и буркнул: – Отдохну в гробнице, а сейчас надо ждать, потеть и драться. Вот только землю полью… Он отошел к обочине и облегчился под развесистым каштаном. Это дерево – и еще одно, на противоположной стороне – было подрублено и являлось тем самым маленьким сюрпризом, что ожидал колесничих Хуфтора. Если, конечно, он решится атаковать… Чем черт не шутит, думал Семен, разглядывая терявшуюся вдали дорогу. Как-никак, триста колесниц, шестьсот солдат… Почему бы и не попробовать? Что в лагере сидеть? Тем более что схватка у казарм пехоты может по-всякому обернуться… да, по-всякому… С одной стороны, у Инхапи – менфит, бойцы отборные и злые, напавшие внезапно; с другой – их все-таки поменьше, чем воинов у Хоремджета, да и сидят те за валом и рвом, пусть обмелевшим… Хрен его знает, чья возьмет! И ждать тут вроде не с руки… Действовать надо, действовать! Не то дождешься маджаев с палками и удавками… Маджаев-полицейских у градоначальника Пенсебы было несколько сот, но в схватке они участия не принимали. Во-первых, по недостатку оружия – у них имелись палки, плети да веревки, а не секиры с копьями; а во-вторых, происходившее к их компетенции не относилось. Не бунт простолюдинов, не драка в кабаке и не грабеж могил – переворот! Когда закончится, тогда и будет дело для маджаев: казнить зачинщиков, вязать повинных и проводить в каменоломню или на рудник. По воле первого министра Хоремджета или царицы Хатшепсут – это как рассудят боги… На дороге клубом взметнулась пыль, и Усерхет поспешно вернулся, оправляя тунику. Стрелки разом подтянулись, первый ряд рухнул на колено, но копьеносцы все еще стояли «вольно» – похоже, колесница была одна-единственная. Впрочем, Техенна и Ако, болтавшие с приятелем из пантер, тут же ринулись вперед с дротиками и щитами – не иначе как прикрыть хозяина от стрел коварного врага. Мериры с ними не было; его Семен не взял, оставил вместе с Сефтой в доме, чтобы охраняли женщин и добро. Колесница замедлила ход и развернулась на неширокой дороге, метрах в ста от шеренги лучников. В ней были двое – возничий и знатный военачальник в нагруднике, украшенном бронзой, с кинжалом и секирой на перевязи. Борт колесницы тоже блестел бронзовыми накладками, над лошадьми развевались султаны из перьев, да и кони были отменные – не из Куша, а аравийские скакуны. Только запрягали их по-варварски, цепляя кожаный ремень на шею. – Хуфтор, – сказал Семен, приглядевшись. – Он, – со вздохом подтвердил Усерхет. – Двенадцать разливов минуло, как мы сражались рядом в Хару. Много битв и покоренных городов, много вина и женщин, и крови тоже много… Теперь друг с другом будем драться, порази меня Сохмет! Хуфтор, не спускаясь с колесницы, помахал рукой, потом приставил обе ладони ко рту и заорал зычным голосом: – Усерхет! Не ты ли передо мной, потомок черепахи? – Я, – отозвался военачальник, выступив на пару шагов. – А кто там вопит, пугает своих кляч? Похоже, Хуфтор, краснозадый павиан? Лучники за спиной Семена загоготали, захлопали ладонями по обнаженным бедрам. Теп-меджет, десятник, цыкнул на воинов. – В плохое дело ты ввязался, Усерхет! – крикнул Хуфтор. – Ра еще не скроется за песками Запада, как твою шкуру бросят в дубильный чан – твою и всех облезлых пантер, которых я вижу подальше твоей задницы. – В какое же дело я ввязался, Хуфтор? – столь же громким голосом спросил Усерхет. Он уже не выглядел усталым, и казалось, что с каждой секундой в него вливается новый заряд энергии. – Не строй из себя глупца, кал гиены! Ты, и шелудивый пес Инхапи, и ваши ремеч меша – да проклянет их Амон! – явились в Город без высочайшего повеления, бросив службу в южных крепостях! Вы напали на лагерь столичного гарнизона, а значит, замыслили злое против пер’о – жизнь, здоровье, сила! Теперь твои вонючие шакалы стоят перед Великим Домом, не пропуская к нему преданных воинов! И ты еще спрашиваешь, в какое дело ввязался? Ты – бунтовщик, как и ублюдки за твоей спиной! – А я вот другое слышал, – запрокинув голову, Усерхет отхлебнул из фляги. – Слышал, что ваши хуну неферу зажрались на медовых лепешках и обнаглели вконец. Слышал, что Хоремджет – пусть Сетх раздерет ему печень! – желает свергнуть дом Джехутимесу. Слышал, что он непочтителен с богами и с великой царицей. Если так, ты повинен в бунте, а не я! Ты, Хоремджет, твой господин, и болваны из ваших чезетов! Хуфтор прищурился. – Хочешь узнать, отродье жабы, кто бунтовщик? Ну, давай, я возьму своих воинов, а ты возьмешь своих, и мы отправимся к пер’о, к сыну золотого Гора, и спросим, кто тут ослиная моча, а кто – серебряный дебен. Согласен? – Спросим, – с бодрым видом отозвался Усерхет. – Когда я привяжу веревку к тому, что у тебя повыше колена, пониже пояса, и притащу к царице. Вот тогда и спросим! В ответ Хуфтор, повернувшись боком, захохотал, разинув пасть и хлопая себя рукой по заднице. Затем вылил на Усерхета новый ушат древнеегипетских помоев. Что-то не так, думал Семен, прислушиваясь к перебранке. Подозрительно! Может, древний обычай у них – сперва пооскорблять друг друга, чтобы взвинтиться перед пролитием крови, а может, поганец время тянет… Но почему? Пантер не устрашит и Усершета к измене не подвигнет… Чего же глотку драть? И не пора ли к делу, в топоры и копья? Он отодвинул Ако вправо, а Техенну – влево, сделал шаг и оказался рядом с Усерхетом. Потом поднял руку, сжав четыре пальца в кулак и выставив средний. – Эй, вошь на колеснице! Это видишь? Хуфтор наклонился, уперевшись ладонями в колени и вытянул шею, будто желая разглядеть противника поближе. – Кто там с тобой, Усерхет? Кто там воет, будто пес в ночи? Или смердящий шакал? Ну, братец, так меня ты не обложишь!.. – с усмешкой решил Семен. Нет, не обложишь! Да и то сказать, беден у роме язык по этой части, не тянет против великого и могучего… Вот блин! Жаль, не перевести! Разве только попытаться? – В кал гиены твою мать, в крокодилью мочу! – рявкнул он. – Чтоб ей ноги раскинуть под ливийцем! А тебе – опахало в задницу! Кастрат, недоношенный дранной ослом кобылой! Давно у тебя не стоит? – Семен повертел кулаком с оттопыренным пальцем. – На сириянок не стоит и на кушиток? И на мальчиков тоже? Или мальчиков все-таки пользуешь? А может, зад коням своим подставляешь? Похоже, здоровую дырку тебе провертели… вон, разогнуться не можешь, козел безрогий! Усерхет онемел, Ако с Техенной и лучники ржали в голос, а Хуфтор, быстро разогнувшись, вырвал из ножен клинок, с бешенством потряс им в воздухе и пихнул возницу локтем. Повозка рванулась, вздымая пыль, и из белесых клубов долетело: «Передавлю!.. Всех передавлю, как блох в собачьей шкуре!..» К военачальнику вернулся голос. – Зря ты его мать, – ошеломленно пробормотал он. – Сам Хуфтор – жабий помет, но мать была, возможно, почтенной женщиной, спит сейчас в своей гробнице и ждет суда Осириса. – Да будет он милостив к ней, – отозвался Семен. – Я только хотел подразнить… жара, понимаешь, рождает гнусные фантазии… Думаю, теперь-то нас атакуют. Усерхет озабоченно прищурил глаз. – Ра еще не поднялся в зенит, светит в лицо, стрелять мешает… Ну, тем, кто под деревьями, свет не помеха! – Он повернулся к воинам, отдал команду, а знаменосец Хорати и бравые теп-меджет повторили ее в десять глоток. Послышались пение тетив, скрип кожаных доспехов и лязг оружия, потом шеренги расступились, и Семен с военачальником отошли под защиту стрелков. Ако, на минуту покинув хозяина, вернулся с двумя мускулистыми копьеносцами. – Вот, господин… Это – Шедау, а это – Тотнахт… Верные люди. Друзья! Ходили со мной и Техенной в страну Хару и в страну Иам. – Зачем ты их привел? – Как зачем? Чтобы тебя охранять. Будет бой, а четыре копья лучше двух. – Будет не бой, а побоище, – буркнул Семен, оглядывая дорогу. По ней могли проехать рядом лишь две колесницы, и от того атака Хуфтора казалась ему безумной затеей – если даже не вспоминать о приготовленных сюрпризах. Лучники утыкают стрелами людей и лошадей, две первые повозки рухнут, а остальные врежутся в них – вот и конец сражения. Улица ведь, не поле! В шеренгу не развернешься, упавших не объедешь… Получалось, что Хуфтор должен сидеть в своем лагере как крыса в мышеловке или придумать что-то новенькое. Какой-то тактический ход, оригинальный и внезапный. Однако в дальнем конце дороги взвихрилась пыль, и вскоре Семен различил переднюю пару повозок. Одновременно послышались звуки – глухой топот копыт, пронзительный визг колесных осей и возгласы погонщиков. Как они мчались! Сияла бронза, смертельным блеском грозили лезвия у колесных осей, колыхались султаны, грохотали ободья, щелкали бичи, пыль вилась столбом, оседая на крупах лошадей, на оружии и плечах колесничих. Казалось, эта грохочущая колонна накроет лучников горным обвалом, сомнет, разрежет бронзовыми косами, втопчет в землю сотнями копыт и пронесется дальше – неуязвимая, неудержимая, стремительная… – Видишь такое в первый раз? – спросил Усерхет. – Страшно? – Нет, красиво, – отозвался Семен и, помолчав, добавил: – Жаль лошадей! Страха он в самом деле не испытывал. То, что мчалось к нему, было живым и уязвимым, не спрятанным под броней,вооруженным не пушками и ракетами, а остриями из бронзы. На миг перед ним промелькнула картинка прошлого: танковый полигон, снег и холод, терзающие землю гусеницы, рокочущие громады машин, под которые нужно лечь и с замирающим сердцем ждать, пока стальное чудовище не прокатится над тобой, обдавая запахом гари и солярки… Тяжкое испытание! В этот момент ощущаешь себя песчинкой под асфальтовым катком, мышью в лапе дракона… Мог ли он рассказать об этом Усерхету? Объяснить, что колесницы для него – игрушки, ибо в грядущих веках их сменят железные твари, чья пасть извергает огонь, а шкура неуязвима для стрел и копий?.. Но вряд ли кто-нибудь в Черной Земле поверит в такие чудеса… разве что друг Инени… Громыхающие повозки надвигались; он уже различал лица колесничих и дротики в их руках. Двести локтей, сто, пятьдесят… Когда осталось двадцать, Усерхет вскинул вверх свой боевой топор, и два огромных дерева по обе стороны дороги рухнули на лошадиные спины. Дальнейшее происходило как во сне: резкие слова команды, слитное и звонкое щелканье тетив, плечи лучников, которые разом то напрягались, то расслаблялись, и свист таранивших воздух стрел. Они взмывали в небо хищной стаей и, замерев на мгновение, падали вниз – туда, где за баррикадой из стволов, ветвей и листьев, что-то ворочалось, стонало и вопило на разные голоса. Зеленый полог был плотным, и Семен видел лишь головы четырех лошадей, умерших почти мгновенно с переломленными хребтами – кровавую пену на их губах, выкаченные глаза, оскаленные в агонии зубы. – Дурак Хуфтор, – послышался голос Усерхета. Затем он подал команду лучникам: – Вперед! Добейте их кинжалами! Рук не рубить, это вам не шаси[787]! Вслед за военачальником, подпираемый сзади телохранителями, Семен обогнул поваленные деревья. Дорога за ними на протяжении двухсот локтей была завалена телами мертвых и умирающих, а также колесами и обломками колесниц, среди которых бились и пронзительно ржали лошади. В этом хаосе уже мелькали фигуры стрелков, вышедших слева и справа из леса; кто останавливался на обочине и натягивал лук, выискивая цели, кто лез с кинжалом в самую гущу, колоть и добивать. Вид был печальный, а кроме того, имелось в нем что-то несообразное – что именно, Семен сообразил не сразу. – Нет мира в Датском королевстве… – пробормотал он на русском, и Усерхет, то ли не разобрав, то ли услышав что-то свое, откликнулся: – Вот и я говорю: дурак Хуфтор! Но странность зрелища уже была ясна Семену. Вместе с осознанием явился страх – он побледнел, схватил руку Усерхета, стиснул. – Не такой уж и дурак, клянусь пеленами Осириса! Ну-ка, труби отбой! Собирай воинов, и – к дворцу! – Зачем? – Затем, что здесь пятьдесят колесниц, и нет ни Хуфтора, ни Хоремджета! Где они? И где их люди? Еще пятьсот солдат! Сообразил? – Но в колесницах ко дворцу не подобраться… – начал Усерхет и вдруг стукнул кулаком о нагрудник: – Чтоб мне попасть в красные лапы Сетха! Нас провели! Ложная атака! Здесь! Полсотни колесниц! А остальных он повел в пешем строю! – Вот именно, – подтвердил Семен. – Каша – отдельно, масло – отдельно. Он повернулся, махнул телохранителям и, вскинув на плечо топор, зашагал к копейщикам Хорати. – Бунтовщики во дворце! Бегом! За мной! Хорати, младший офицерский чин, привык не рассуждать – повиноваться. Вскинув жезл с вымпелом, он выкрикнул: – Щиты за спину, копья на плечо! За господином, менфит! Шевелитесь, бегемоты беременные! Вперед! Свернув на Царскую Дорогу, Семен бросился к пилонам у входа в парк. Сфинксы с застывшими в полуулыбке лицами взирали на него с обочин, вдалеке, за каналом Монта, по-прежнему слышался смутный гул, а позади скрипели ремни, топали ноги, и воздух со свистом вырывался из сотни глоток. Солнце стояло почти в зените, и жара усилилась – не то что бегать, ходить казалось пыткой. Пот струился по его лицу, каждый вдох наполнял легкие вязкой тягучей субстанцией, в которой будто не имелось кислорода, а один горячий пар; секира, как живая, подпрыгивала на плече, и крюк царапал кожу. Но это были мелочи – в сравнении с тем, что ожидало впереди. Проклятье! Его облапошили! Провели, как щенка! Конечно, он человек не военный, всего лишь отставной сержант, но логика – она и в Африке логика! Мог бы сообразить, что колесничие тоже люди, и коль им не заехать в лес, способны и на своих двоих передвигаться… Даже бегом! Сейчас они, пожалуй, во дворце, и с ними – Хоремджет… бьются с воинами Хенеб-ка… Сколько их, телохранителей? Вроде бы сотня или сто двадцать… у Хоремджета четырехкратное превосходство… возьмет заложников, и конец! При мысли о заложниках Семен стиснул зубы и застонал. Брат, Меруити! Впрочем, Сенмута убьют, а вот царицу… Царица для Хоремджета важней пер’о; при малолетнем фараоне он – министр, ну а с царицей – сам фараон! Спаси и сохрани, Исида! Или Хатор? Кому молиться, кого просить? Воздух под деревьями парка был чуть прохладнее, но облегчения не принес – на широкой дворцовой лестнице валялись трупы, утыканные стрелами, белый камень ступеней обагряла кровь, и почти на всех телах были одежды царской охраны, белые в синюю полоску. Видно, лучники сняли их залпом, когда десяток сэтэп-са вылез из-под защиты колонн и стен… Значит, вход они не удержали, мелькнуло у Семена в голове. Не прекращая бега, он попытался прислушаться, но уловил лишь одно: дворец гудит, как растревоженный улей. Он был здесь только один раз, в свите казначея Нехси, во время царского приема, но помнилось, что за входом – крытый перистиль, а дальше – зал приемов с мощными, подпирающими свод колоннами. Дворец был огромен, и у него наверняка имелись другие входы и выходы, сулившие возможность обойти врагов. Не желая снова наделать ошибок, Семен остановился у лестницы, велел солдатам отдышаться и подозвал к себе Хорати. – Пошлешь по двадцать воинов туда и туда, – он кивнул налево и направо. – Пусть разыщут другие входы и ударят в тыл противнику. Сам бери десяток и оставайся здесь. Когда подойдет Усерхет со стрелками, направь его за мной и передай, чтобы поторапливался. Ясно? – Да, господин. Хорати повернулся к воинам и начал зычно выкликать своих теп-меджет, отдавая краткие приказы. Семен встал в строй, довольно хмыкнул, заметив, что с одной стороны у него Ако с Техенной, а с другой – Шедау и Тотнахт, и поднял вверх топор. – Вперед, пантеры! Львиноголовая с нами! – Сохмет! – взревели десятки голосов. – Сохмет, Сохмет! Слитный топот, удары соприкоснувшихся на миг щитов, выкрики десятников… Они взбежали по лестнице и ворвались сквозь широкий проход в перистиль. Там, встревоженные шумом, уже сгрудились люди Хоремджета, тридцать или сорок солдат с секирами и дротиками – то ли охрана, не поспевшая к выходу, то ли бойцы, примчавшиеся из залов и комнат просторного дворца. Встать в шеренгу они не успели, но медлить не собирались: сверкнули в полете дротики, два щита сдвинулись перед Семеном, один из его солдат вскрикнул, другой выругался, третий рухнул на пол. В следующий миг копьеносцы обрушились на противника, прижали к стене и принялись колоть – молча, быстро, сосредоточенно, будто погонщики быков, что тыкают скотину палкой под ребро. Чей-то череп треснул под секирой Семена и разлетелся кровавыми брызгами, крюк вспорол кому-то грудь; он оттолкнул умирающего воина и очутился перед сорванными с петель дверьми зала приемов. За ними, в огромном чертоге, кружились среди колонн, обломков мебели и изваяний сэтэп-са, похожие на бело-синих ос, и воины Хоремджета в коричневых туниках. Колесничих было много, много больше, чем телохранителей, и они постепенно оттесняли стражей дворца к ведущей на галерею лестнице. На верхних ее ступенях стоял Хенеб-ка с десятком своих бойцов и глядел вниз с видом героя, готового к битве и славной смерти. – Дорогу, хуну неферу! Менфит пришли! – поднялся рык среди копьеносцев. – Дорогу, шакалы! Протухшее мясо! Жабы из Дельты! Сохмет! Сохмет! Они хлынули в зал, растягиваясь в цепочку, бросая копья и выхватывая секиры – тут, в тесноте, где сгрудились сотен пять сражавшихся, топор и кинжал были надежней копья. Семен шагнул вперед, сбил с ног человека, склонившегося над раненым телохранителем, услышал, как тот вскрикнул под чьим-то ударом, и врезался в толпу рубивших друг друга бойцов. Его секира, описав широкий полукруг, сшибла двоих и с лязгом грохнула о цоколь статуи Анубиса; фонтаном брызнули каменные осколки, кто-то завопил, увидев перед лицом остроконечное навершие, потом умолк, когда трехгранный стержень вонзился ему между ухом и глазом. Семен перепрыгнул через упавших и сделал несколько шагов, размахивая топором, отбивая удары вражеских секир и чувствуя душный мерзкий запах крови. Пол скользил под ногами, его покачивало от своих и чужих ударов, но, отклоняясь влево, он упирался в твердое плечо Тотнахта, а вправо – в край щита в руке Ако. Четыре его воина все еще держались рядом, не отставали ни на шаг, но остальные исчезли в плотной толпе, и только крики, лязг и вой отмечали то место, где менфит-пантера сражался с тремя-четырьмя врагами. Слишком их много, понял Семен, добравшись до середины зала. Колесничие одолевали, старались пробиться на галерею, к верхним покоям дворца, и бой шел уже на лестнице, где Хенеб-ка оборонялся с остатками царской охраны. Среди них был кто-то еще, какие-то люди в богатых одеяниях – может быть, вельможи или слуги Хатшепсут, взявшиеся за мечи и топоры. Они рубили и кололи, убивали и падали под ударами, и Семену вдруг показалось, что там мелькает стройная фигура брата, а перед ним – в доспехах, с поднятой секирой – маячит Хоремджет. Этот миг тянулся и тянулся, наполняя душу ужасом; сейчас топор опустится, и… Он заревел, как раненый бык, и в боковых проходах, а также где-то позади отозвалось: «Сохмет! Сохмет!» С двух сторон, следом за группами окровавленных колесничих, в зал ворвались копьеносцы Хорати, а за спиной раздался голос Усерхета: «Руби мятежников, пантеры! С нами Амон и Сохмет! Руби!» – Лучники, господин, – прохрипел над ухом Техенна. – Может, останемся живы… Если свои не проткнут по ошибке. Человек в доспехах обернулся, отступил с опущенной секирой, и Семен узнал Хоремджета. Глаза его светились торжеством, движения были уверенными, властными – несмотря на подоспевших лучников, он сохранил преимущество в людях. И дрались его бойцы как дьяволы – видно, понимали, что дело зашло далеко и есть для них одна альтернатива: либо пан, либо пропал. Или, с учетом местного колорита, финик в меду против кайла в каменоломне. – Туда! – Семен ткнул секирой, показывая на лестницу. Его отделяли от Хоремджета шагов тридцать или тридцать пять и добрая сотня воинов; пробиться через этот заслон казалось невыполнимой задачей. Оттолкнув Ако, прикрывавшего его щитом, он поднял топор на длинной рукояти и закрутил в воздухе. Сверкающая сталь вращалась с хищным свистом, кружилась все стремительней, и колесничие прянули в стороны, пытаясь укрыться среди колонн и статуй. Он быстро продвинулся на три-четыре метра, ломая лезвия подставленных клинков и топорища секир, снес чью-то голову, поскользнулся в лужице крови, но удержал равновесие. Сс-шш… сс-шш… – пела сталь над его головой, и ей аккомпанировали лязг и треск вражеского оружия. Он преодолел еще несколько метров под крышей смертельного зонтика, вышибая из камня искры, когда топор касался массивных колонн. Сполохи внезапно рожденных огней пугали колесничих; может быть, им чудилось, что этому гиганту помогает бог, бросающий в них пламенные стрелы. Один из обожженных завопил, но голос его перекрыла команда Хоремджета: – Достаньте его! Дротиками! Скорей! Семен метнулся за цоколь ближайшей колонны, присел – два дротика скользнули над ним будто змеи с бронзовыми жалами – выпрямился, отбил тянувшийся к груди клинок и обнаружил, что между ним и Хоремджетом легло пустое пространство. Бой на лестнице и в зале прекратился, лязг и шум внезапно стихли, и только хриплое дыхание разгоряченных схваткой людей нарушало тишину. Он поднял лицо к галерее. Там, простирая руки с жезлом и плетью над притихшим залом, стояла Меруити – в длинном, ниспадающем до пола платье и пышном парике, увенчанном двойной короной. Белая, высокая, и красная, широкий обод с коброй-уреем… Символ власти над Верхним и Нижним Египтом… – Остановитесь! – сказала Меруити громким звенящим голосом. – Я, Маат-ка-ра, золотой Гор, владыка Обеих Земель, а также ваших тел и душ, повелеваю: остановитесь! Верные будут награждены, виновные – наказаны, но я обещаю сохранить им жизнь. Всем, кроме одного человека, лишенного чести! Ее гневный взгляд упал на Хоремджета, жезл протянулся к нему, и все в огромном зале поняли, кто здесь верные, а кто – виновные. Лицо царицы застыло, губы сжались, потом между ними блеснула полоска зубов, и два слова, будто два камня, рухнули в зал: – Убейте его! Семен шагнул вперед, сжимая секиру и не спуская с Хоремджета глаз. Тот побледнел, но руки его не дрожали, и лезвие окровавленного топора смотрело в грудь противнику. – Кажется, сегодня не твой день, – произнес Семен. – Лица богов от тебя отвернулись, военачальник. – Кто знает их волю? – Хоремджет ухмыльнулся краешком рта. – Мы ведь ее не слышали… – Голос его внезапно окреп. – А слышали слабую женщину, для чьей головы корона Та-Кем слишком просторна и тяжела! Место ей – на ложе, и там она будет в грядущую ночь. На мягком пышном ложе! – Не на твоем, – сквозь зубы пробормотал Семен, поднимая секиру. Лезвия скрестились с лязгом, и Хоремджет пошатнулся. Щеки его побледнели еще сильней; казалось, он понял в это мгновение, что уступает противнику во всем – в телесной мощи и оружии, в ловкости и быстроте, а главное – в предназначении судеб; боги и правда были не на его стороне. Но дух его был не сломлен. – Знаешь, скольких я отправил к Сетху? – прошипел он, впившись в Семена бешеным взглядом. – В стране Хару и в стране Джахи и даже у Перевернутых Вод имя мое вспоминают с ужасом… Я сделаю то же, что делал там: вырву твою печень и скормлю гиенам! – Не стучи кадыком, фраер, – сказал Семен. – Нынче ваши сидят в глубокой и не пляшут! Для поношения врагов «великий и могучий» был, разумеется, уместнее языка роме. Жаль, что Хоремджет ничего не понял! В течение минуты или двух они обменивались сильными ударами, и блеск зарубок на топоре Хоремджета подтверждал, что бронза уступает стали. Лоб военачальника оросился потом, задрожали губы, глаза метались по сторонам, приказывая, умоляя: дротики!.. метните дротики!.. Но ни одна рука не поднялась, ни одно копье не прорезало воздух. Бросив взгляд на галерею, Семен увидел, что Меруити по-прежнему там – стоит в царских регалиях, вздернув маленький упрямый подбородок, тянет плеть и жезл к потолку, напоминая, что в воле ее отныне кары и милости, смерть и жизнь. Пора кончать, подумал он, загнав Хоремджета в угол между стеной и основанием лестницы. Он подцепил топор противника крюком, дернул, пригибая к полу, и тут же стремительным движением послал секиру, точно копье, вперед и вверх, трехгранным острием под челюсть. Голова Хоремджета откинулась, затылок стукнулся о камень, глаза остекленели; струйки крови хлынули из носа и уголков рта. Он умер мгновенно, не успев ни крикнуть, ни застонать – железный штырь пробил дыхательное горло и впился в мозг. Секунду-другую Семен, стиснув топорище, держал Хоремджета словно жука, приколотого к стене, потом выдернул пику и отступил назад. Мертвое тело качнулось и рухнуло к его ногам. – Жил, как пес, умер, как крыса, – пробормотал Семен и направился к лестнице.* * *
Они собрались в малом тронном зале – вельможи, военачальники, жрецы, вернейшие из верных, разделившие с царицей надежду, неуверенность и страх – все, что выпало им в это утро. Из нижних покоев дворца еще не убрали погибших, и запах крови пропитывал воздух тяжелыми душными миазмами. Сквозь окна струился полуденный зной и слышались резкие команды Усерхета, Хорати и теп-меджет: одни из них расставляли в парке караульных, другие подгоняли солдат, выносивших мертвые тела, третьи осматривали пленных мятежников, проверяя, крепко ли их повязали и не осталось ли у кого оружия. Хатшепсут сидела в кресле, все еще в парике и короне, стискивая в тонких пальцах царские регалии. Официальное восшествие на престол, процедура долгая, торжественная, утомительная, была еще впереди, но власть уже принадлежала ей – женщине-фараону с тронным именем Маат-ка-ра, что означало «Богиня истины, душа бога солнца». Власть ее являлась неоспоримым фактом, признанным всеми мужчинами, что столпились у кресла владычицы Та-Кем. Их было полтора десятка: Хапу-сенеб и Инени в белых одеждах и леопардовых шкурах, дряхлый полководец Саанахт, едва державшийся на ногах от волнения, Нехси, царский казначей, Сенмут – еще не смывший кровь, с рукой, обмотанной повязками от локтя до запястья, невозмутимый Хенеб-ка, Нахт, хранитель сокровищницы, хаке-хесеп столичного нома и несколько других вельмож. Ждали Инхапи и градоначальника Пенсебу; первый должен был удостоиться чина правителя Дома Войны, сменив на этом посту Саанахта, второй – доложить, что порядок в Уасете восстановлен, что мятежных чезу удавили, а их солдат лишили чести и ведут к кораблям для отправки на юг. Семен стоял у окна, считал синяки да ссадины, посматривал в знойное небо цвета поблекшей бирюзы, а на царицу старался не глядеть. Там, в кресле, сидела сейчас не его Меруити, не сказочная фея с гибким станом и бедрами, как греческая амфора, а повелительница самой могучей державы текущих времен. Глаза ее были суровы, локоны спрятаны под париком, тело – под плотной одеждой, а губы – прекрасные, яркие, но изрекавшие лишь приговоры и повеления – сейчас не располагали к поцелуям. В зал, кланяясь и приседая, вошел управитель дворца, бросил почтительный взгляд на владычицу. Она чуть заметно кивнула, разрешив говорить. – Великий Дом, дочь Гора… Брови Хатшепсут гневно сдвинулись, зрачки сверкнули. – Червь! Ты забыл, перед кем преклоняешь колени? Забыл, как обращаются к пер’о? Нужно напомнить? – Она наклонилась вперед, сжимая плеть и изогнутый скипетр. – Начни снова! Я слушаю! «Вот так-то! – подумал Семен, глядя на побледневшего управителя. – Не слышал про женскую эмансипацию? Ну, еще услышишь!» – Великий Дом, сын Гора, благой бог… Тысячу раз простираюсь ниц и целую прах под твоими стопами – да будет с тобою жизнь, здоровье, сила! Трапезную привели в порядок. Там вино, напитки, фрукты и еда. Если соизволишь… Лицо царицы смягчилось, она махнула рукой. – Саанахт и Хапу-сенеб, идите… и другие тоже… Вам надо подкрепиться, ибо день сегодня будет долгим и потребует много сил. Хорошая мысль, решил Семен, направляясь вслед за вельможами к выходу. Он вдруг почувствовал, как пересохло в горле, как пусто в животе и как ему хочется сесть на скамью рядом с братом и другом Инени, заглянуть им в глаза и сказать… Сильные пальцы стиснули его плечо. – Останься, господин. Великий Дом – жизнь, здоровье, сила! – желает говорить с тобой. Он обернулся и увидел бесстрастную физиономию Хенеб-ка. Еще увидел кресло, сидевшую в нем женщину и двух мужчин по обе стороны. Один – с бритым черепом, в белых жреческих одеждах и леопардовой шкуре, свисавшей с узких плеч; другой – с пятнами крови на тунике и полотняной повязке, с мечом у пояса. Инени и Сенмут… Брат улыбнулся ему и поманил рукой. Улыбка эта была странной, будто выдавленной через силу – да и на лице Инени Семен не заметил большого счастья. Царица тоже помрачнела. Он подошел, преклонил колено и заметил, что Хенеб-ка исчез. Только они четверо остались в зале – Великий Дом, сын Гора, в обличье прекрасной женщины и три его – ее?.. – советника. Хатшепсут долго смотрела на жезл и плеть в своих руках. Потом произнесла: – Надо решить. Что решить, вы знаете. Вы посланы Амоном мне на помощь: ты, мой будущий чати[788], – она посмотрела на Сенмута, – ты, мудрейший из жрецов, и ты, провидец. – Взгляд ее потеплел, скользнув по лицу Семена. – Так дайте же совет! Наступила пауза, затем Инени спросил: – Где он, владычица? – В своих покоях. Шакалы Хоремджета убили слуг и трех защищавших его сэтэп-са, но двое телохранителей остались. Они сейчас с ним. – Верные люди, госпожа? – Этот вопрос задал Сенмут. – Столь же верные, как Хенеб-ка. Если я прикажу ему, они… – Царица глядела на Семена в странном ожидании, но он еще не понял, о чем ведется речь, и потому молчал. Сенмут поклонился. – Можно думать, что Хоремджетом руководили боги, великая госпожа. Он оказал нам большую услугу. Царица еще больше помрачнела. – Да, я понимаю, чати. Многие погибли во дворце – семеры, воины и верные служители… Мог быть и еще один убитый… не мной, шакалами Хоремджета… случайно или намеренно, кто знает? – Боги знают, – произнес Инени, с неодобрением качая головой. – Богам известно все, великая царица. Ты можешь отдать приказ, его убьют, и ни один человек в Та-Кем не усомнится, что виноваты колесничие… те, которых привел Хоремджет… Люди поверят, но боги! Богов не обманешь, моя госпожа! – Он – вечная угроза, – возразил Сенмут. – Пути пер’о прямы, – ответил Инени. – Жизнь и смерть – в руке владыки Та-Кем, но он не казнит безвинного. – Безвинного? – Сенмут задел перебинтованным запястьем о рукоять меча и сморщился. – Безвинного сейчас! А в будущем? – Твой брат – провидец, и будущее перед ним открыто… ему решать… Но я полагаю, что утром не казнят за то, что свершится вечером. – Инени взглянул на Семена, усмехнулся и перевел взгляд на Сенмута. – А в чем сейчас его вина? В том, что он необуздан и дик? Или в том, что родился от сириянки? Если ты считаешь это винами, то к чему приказывать Хенеб-ка? Вот меч на поясе твоем – иди и убей мальчишку! Это они о Тутмосе, вдруг догадался Семен, о юном Джехутимесу! О будущем деспоте, завоевателе, оросившем кровью земли от четвертого порога до евфратских вод! Устлавшем их костями и трупами! О том, чьи воины творили еще не виданное в Та-Кем – резали, жгли и вспарывали животы, не щадя ни женщин, ни детей! Но сейчас он не деспот, не завоеватель, а мальчишка тринадцати лет… Судить ли его, карать ли за еще не свершенное? И если карать, то как? Вычеркнуть из истории? Эта мысль повергла Семена в ужас. Перемещение в прошлое – чудо, свершившееся с ним, – было свидетельством того, что время – субстрат подвижный и, быть может, непостоянный, подверженный переменам. Иначе как он очутился здесь? И почему? Не затем ли, чтобы принять решение в некий ключевой момент, не допустить изменений истории, дабы все свершилось так, как и положено свершиться? Этот мальчишка Тутмос, который трясется от страха в одном из дворцовых чертогов… этот подросток, чью жизнь можно с легкостью прервать… Да, он принесет ужас и горе сотням тысяч – и в своей стране, и за ее пределами! Но их страдания неизбежны, как ежегодные разливы Хапи, ибо история безжалостна. И ни одну из ее страниц, даже самую жуткую, мерзкую, нельзя переписать, или добавить к ней слово, или хотя бы знак пунктуации. Казнить нельзя помиловать… Только история знает, где в этой фразе запятая. «Из песни слова не выбросишь, – со вздохом подумал Семен, – хоть и не песня нас ждет, а похоронный плач…» Внезапно он заметил, что в комнате наступило молчание; царица, Инени и Сенмут глядели на него, явно ожидая слов провидца. Понурив голову и ощущая вдруг навалившуюся неимоверную усталость, Семен выдохнул: – Его нельзя убивать… нельзя, что бы он ни содеял в будущем. Никто из нас не властен над его жизнью и смертью. То и другое – в руках богов! Ему показалось, что все трое облегченно вздохнули, выслушав этот приговор. Тень сожаления промелькнула на лице царицы, потом она, соединив ладони перед грудью, кивнула головой: – Да будет так! Царь не спорит с богами… Теперь идите и вкусите отдых. Ты, мудрый Инени, и ты, Сенмут… Я хочу поговорить с провидцем. Когда брат и жрец вышли, Семен опустился на пол у кресла, обнял ее колени и прижался к ним щекой. Ладонь царицы коснулась его волос, с бережной лаской скользнула по щеке, и он понял, что Меруити снова рядом. Пальцы, которые он целовал, струили прохладу, покой и нежность. – Ты говоришь, что его нельзя убивать, – послышался тихий голос, – и я принимаю твое решение. Но… – пальцы ее дрогнули, – боюсь, мой любимый, мы пожалеем об этом… через десять или двадцать лет… Придет пора раскаяться в своем милосердии. – Верь мне, – шепнул Семен, – верь и помни о сказанном тобой. – Он поднял голову, всмотрелся в ее бездонные глаза и медленно произнес: – Я должен быть рядом, так, чтоб уши мои слышали шепот твоих губ, чтобы твоя рука меня охраняла, а разум – направлял… И вот я – рядом! И говорю, что дело не в сожалениях, не в милосердии, а в том, чтобы будущее осталось неизменным – таким, каким его видят боги и позволяют иногда увидеть мне. Этот мальчик, почти чужеземец по крови, дикарь, как вы его называете… он… он принесет много горя людям… Но одна из твоих дочерей станет его супругой, и род отца твоего продлится. Ты ведь не хочешь, чтобы он закончился на тебе? Она кивнула. – Нет. Дочери мои малы, и рано думать об их супружестве. А я… Я еще молода и, возможно, могла бы найти кого-то из знатных семеров с каплей царской крови, кого-нибудь вроде покойного Софры, чтобы родить наследника… Но не хочу! – Руки ее обхватили шею Семена. – Не хочу! – Ты даришь меня радостью, Меруити. – Он помолчал и спросил: – Что будет с ним? Не через десять или двадцать лет, а в ближайшие годы? Как ты поступишь? Лоб ее пересекла морщинка. – Я прикажу, чтобы его воспитали как царя и чтобы он жил, ни в чем не испытывая недостатка, как царский наследник. Но не здесь, в Уасете, не в Мен-Нофре или других великих городах… в каком-нибудь другом месте, где не найдется у него сторонников… в святилище Птаха, что за Южным Оном… Уединенный храм, место близкое и почти безлюдное. Инени присмотрит за ним. И Рихмер, добавил про себя Семен. В этом уединенном храме сторонников, может, и не найдется, а вот пара-другая соглядатаев – наверняка! – Верно ли я решила? – Меруити склонилась над ним. – Верно, моя прекрасная царица. Довольно крови! Она улыбнулась, будто сбрасывая с плеч непомерную тяжесть. – Ты прав, довольно крови… Не будем гневить Амона и Хатор, ибо они даровали мне больше, чем я просила – трон, и власть, и счастье любви… Так стоит ли отнимать последнее у мальчишки? Его жизнь? – Не стоит, – сказал Семен, целуя ее руки.Часть III Год пятый. Страна Пиом, оазис Уит-Мехе
Он, знавший столь многое, был не в силах объяснить, как очутился в Та-Кем, в благословенной долине Хапи. Когда я спрашивал его об этом, он погружался в глубокую задумчивость, а после говорил, что объяснение есть, однако не у него. У кого же? – спрашивал я, и он отвечал с улыбкой: – У тех, кто придет после.Тайная летопись жреца Инени
Глава 12 Течение лет
Ночью к нему пришла То-Мери. Груди ее были тяжелы и прохладны, бедра – широки, кожа пахла мускусом, и в свои семнадцать лет она казалась сочным плодом граната: нажмешь, сдавишь слегка – и брызнет сладкий живительный сок. В скромном домике Тотнахта ложа не нашлось, и Семен устроился на спальной циновке под покрывалом, ибо в месяц фармути ночи бывали холодными – даже здесь, в стране Пиом, напоминавшей райский сад. Тотнахт, получивший землю на вновь орошенных территориях, на запад от Озера и городка Хененсу, трудился вместе с братом в полях и лугах, а строительству жилищ внимания не уделял: стояли у него пять хижин из тростника, для супруги, детишек, всяческой утвари и запасов, и самую просторную из них он предоставил Семену. Ако с Техенной и остальная свита расположились у соседей, ну а То-Мери, служанка, ведавшая пищей и одеждой господина, была, разумеется, при нем. И в эту ночь – совсем близко… Ближе некуда! – думал Семен, чувствуя, как прижимается к нему юное сильное тело. Девочка из Шабахи, дочь Хо, охотника на слонов, выросла красавицей, и все мужчины в доме, начиная от Ако и Техенны и кончая учениками из мастерской, уже пару лет посматривали на нее с плотоядным интересом. Но она избегала мужского внимания, и это казалось Семену вполне понятным: слишком ранний сексуальный опыт и насильник Икеда могли отбить всякую тягу к плотской любви. Что же касается чувств платонических, то этого простой народ в Та-Кем не понимал. Да и какие платонические чувства? Она была высока и стройна, с бархатистой шоколадной кожей, гибкой талией и длинными ногами, с грудью, как две виноградные грозди, и милым улыбчивым личиком; всякому роме было понятно, что боги создали ее не для бесплодных мечтаний, а для любви. Однако к мужскому роду-племени То-Мери относилась с недоверием. За двумя исключениями: старый Мерира был ей приемным отцом, тогда как Семен – разумеется, господином, но еще и кем-то вроде дядюшки, богатого, доброго и щедрого. Он обучал ее счету, чтению и письму, водил в святилища и мастерскую, рассказывал о царских дворцах и своих путешествиях, следил, чтобы к праздникам ей приготовили подарок – нитку бус, зеркальце из полированной бронзы, тонкое полотно на платье. Как-то так получалось, что дома она всегда была поблизости, и ее присутствие, почти незаметное, не тяготило Семена – наоборот, казалось чем-то естественным и даже приятным. Повзрослев, она мало-помалу оттеснила других служанок, не позволяя ни одной из них касаться одежды господина, чистить его украшения или прислуживать во время трапез. Возможно, тут не обошлось без девичьих разборок, но То-Мери в пятнадцать лет была сильней и выше хрупких дочерей Египта, и кулачок у нее был тяжеловат. Ну, а там, где она не справлялась, помогала Абет, с палкой для раскатывания теста. Последние годы То-Мери сопровождала Семена во всех его странствиях – в каменоломни у острова Неб, и в рудники Долины Рахени[789], и в города Мен-Нофр и Пермеджет, и в земли Дельты, что превращались во время половодья в архипелаг окруженных водой островов. Она побывала с ним на побережье Уадж-ур, в Буто, Саи и Хетуарете, у канала Та-тенат и в стране Гошен, граничившей с бесплодным Синаем; и во всех этих местах, изобильных или пустынных, к услугам Семена были чистые одеяния, накрытый стол и чаша с водой для омовений – а в чаше плавали лепестки роз или иных цветов, смотря по сезону. В общем, сплошная идиллия, как и положено между заботливой племянницей и добрым дядюшкой. Но, как выяснилось в эту ночь, одних идиллий для То-Мери было маловато. Семен уже дремал, когда она пришла, откинула покрывало и по-хозяйски, будто супруга с десятилетним стажем, расположилась рядом. Ее теплое бедро легло на его живот, шевельнулось туда-сюда, а через мгновение, убедившись в неизбежном результате, она наклонилась над ним, крепко обхватив коленями и прижимая к лицу нежные полные груди. Семен не успел и слова молвить, как его ладони оказались у нее на бедрах, и началось плавное скольжение – то вверх-вниз, то вперед-назад, и получалось это у нее отнюдь не хуже, чем у арфисток, и даже чем у возлюбленной Меруити. Эта неожиданная опытность ошеломила его – вряд ли толстяк Икеда мог обучить ее любви за ту неделю, когда насиловал малышку в своей хижине. Выходит, надоумили служанки… объяснили, что господину надо пребывать в покое, вкушая наслаждение, а девушка должна трудиться, работать одним местом – вот так, вверх-вниз, вперед-назад… Он попытался высвободиться, но То-Мери держала крепко, уперевшись в его плечи ладошками, и в лунных лучах, едва озарявших хижину, Семен видел, как поблескивают ее глаза и зубы и мерно колышется грудь. Сопротивление могло привести к нешуточной схватке – в этой девчонке текла кровь охотников на слонов, и она умела добиваться своего! Подумав об этом, он рассмеялся, обхватил ее плечи и стан, прижал к себе покорное тело и слегка ей помог – так, что она всхлипнула и застонала, обдавая его шею теплым дыханием. Вскоре стоны сделались частыми, мышцы под бархатной кожей напряглись, и Семен ощутил, что сам улетает куда-то – быть может, в те волшебные края, какие он посещал доселе лишь с одной Меруити. Он прикоснулся к губам То-Мери – они были жаркими, сухими, как ветер ее родной саванны, пьянящими и сладкими, будто перебродивший мед. Наконец девушка судорожно вздохнула и вытянулась в блаженной истоме, все еще стискивая его бедрами, приникнув влажным лоном к его животу. Семен лежал, поглаживая пышные пряди ее волос, чувствуя, как в бешеном ритме бьется сердце То-Мери, и размышляя, как понимать случившееся. Каприз? Позыв физиологии? Желание услужить господину? Может быть, подольститься к нему? Однако блаженная улыбка на губах То-Мери доказывала, что все не так-то просто. – Господин был щедр к своей служанке и могуч, словно Амон на ложе Мут, – отдышавшись, промурлыкала она. – Господин доволен? – Господин желает знать, как пришла тебе эта идея. Сама додумалась или подсказали? – Ну-у… – она куснула зубками ухо Семена. – Может, сама додумалась… а может, кто подсказал… Семен шлепнул ее по упругой ягодице, и То-Мери взвизгнула. – Отвечай, когда я спрашиваю! И без уверток! Ты в моем доме пять лет, и этот дом к тебе добрей, чем родичи в Шабахи… Ты решила отблагодарить меня? Или чего-то хочешь? Или замуж тебе пора? Или… Ладошка То-Мери прижалась к его рту. – Мой господин очень мудр… знает причины всякого дела – целых семь, и ни одной истинной… Как глуп мой господин! – Но-но! – строгим голосом сказал Семен. – Не забывайся, женщина! Выпорю или продам в Гебал[790] длиннобородым джахи! – Выпори, но никому не отдавай, ни в Та-Кем, ни за его пределами, – шепнула она. – Я хочу остаться с тобой, господин, ибо ты дорог сердцу моему… давно, очень давно… Маат видит, что это – истина! Семен замер, боясь вздохнуть, а она все шептала и шептала, обжигая горячим дыханием его щеку. – Я знаю о великой госпоже, чье имя нельзя произносить… знаю, что душа твоя – в ее ладонях… но мне, мой господин, надо совсем немножко места… вот здесь, у твоей груди… Я знаю, великая госпожа не станет гневаться… она понимает: ты – мужчина, сильный муж в этой стране, и если, ради любви к ней, ты не берешь жену, то должен взять наложницу… взять себе девушку, чтобы ночи, когда ты не с великой госпожой, не были пустыми и тоскливыми… А какая девушка подойдет тебе лучше меня? Какая, скажи? Конечно, она была права – случались ночи пустые и тоскливые, ибо владычица Та-Кем – не из обычных женщин, чья жизнь вращается между постелью супруга и кухонной плитой. Они с Меруити виделись реже, чем хотелось бы, трижды или четырежды в месяц, и царица не раз намекала, что склонность души и потребности тела – вещи разные, и их не стоит смешивать. К таким вопросам в Обеих Землях относились проще, чем в грядущие века, но в этой простоте была несомненная мудрость, утерянная в христианскую эпоху. Если мужчине хватает сил на нескольких женщин, то что в этом грешного? Скорее, наоборот: много женщин – много детей, а дети угодны богам. Мужчина может взять супругу или не взять, а без наложницы ему не обойтись, и дело его, чем станет эта наложница – телесной усладой или отрадой сердца. Говорила Меруити и о другом – о том, что зримые черты могущества необходимы людям, приближенным к власти и разделяющим ее с пер’о. Этот намек касался простых одеяний Семена и скромных украшений, а также упорного нежелания расстаться с домом на нильском берегу. Его, вместе со слугами, он унаследовал от Сенмута, живущего теперь во дворце, в царских садах, как и положено чати. И для Семена был приготовлен дворец с обслугой по категории VIP, но он предпочитал свою усадьбу и прежних слуг, в чьей верности не приходилось сомневаться. Не только в верности – в любви… Гладкая щечка То-Мери прижалась к его щеке, и нежный голосок проворковал: – Не слишком ли долго мой господин отдыхает? – Послушай, девочка, – сказал Семен, – тебе семнадцать лет, а господину – сорок. В сравнении с тобой я – дряхлая развалин! Фыркнув, она ткнула его кулачком в мускулистое плечо. – Лоно мое говорит, что это не так. Определенно не так! Я чувствую… О-о-о!.. Грудь ее стала вздыматься и опадать, бедра задвигались в мерном ритме, и скоро в тростниковой хижине слышались лишь учащенное дыхание и вскрики. Поза была прежней, ибо в Обеих Землях имелись свои понятия о таинствах любви; это искусство не исключало разнообразия, однако в определенных пределах. Так, считалось грубым и даже непристойным наваливаться на женщину, как принято в варварских землях Хару и Джахи, или, уподобляясь животному, изображать быка. Зато и женщины были активней, в чем Семен убедился на собственном опыте. Прожив в Та-Кем пять лет, он уловил различие между египтянками и своими современницами: первые просто любили, тогда как вторые занимались любовью. То-Мери глубоко вздохнула и прилегла рядом, положив ладонь Семену на грудь. Глаза ее закрылись, тело блаженно расслабилось, и через пару минут дыхание стало тихим, как у спящего ребенка. Но ребенком она не была – в этих краях, под щедрым африканским солнцем, взрослели рано. Семен встал, зажег светильник и долго глядел на нее, вспоминая свой давний сон в Шабахи и сказанные отцом слова: сегодня, мол, не родная, а завтра, глядишь, и станет родной. Такой родной, что ближе некуда! Еще, боясь себе в том признаться, он любовался юным сильным телом девушки, совсем не таким, как у Меруити. Его царица была загадочной, изящной, хрупкой, сотканной из лунных и звездных лучей, а плоть лежавшей перед ним красавицы вышла из иного горнила. Из знойных саванн, жарких ветров и солнечного света… Он покачал головой, усмехнулся и сел на пороге хижины. Поросший травою берег плавно стекал к воде с серебрившейся лунной дорожкой, а в конце ее мелькали огоньки – может быть, рыбачьи челны плыли в огромном Озере или отражались в нем звезды. Слева, в загоне, огороженном жердями, дремало стадо антилоп-ориксов, а в других загонах, разбросанных вдоль берега среди крестьянских хижин, спали журавли и гуси, утки и перепела, овцы, коровы и козы. Угодья в этих краях, на самой границе пустыни, считались более подходящими для скотоводства, ибо землю лишь недавно отвоевали у песков, расширив каналы и увеличив сброс воды в Меридское озеро. Правда, так оно еще не называлось, и весь Фаюмский оазис на его берегах носил еще другое имя – страна Пиом, западный форпост цивилизации в шестидесяти километрах от Нила и в ста сорока – от морского побережья. Дабы форпост был крепок и мог отразить набеги грабителей-ливийцев, земли тут выделялись ветеранам Инхапи и прочим заслуженным воинам, отлично знавшим, где у секиры рукоять, а у копья – наконечник. За пять минувших лет Семен привык думать об этой земле – да и о других краях Та-Кем – как о своей родной и единственно близкой. Это не было изменой России, так как еще не существующее умирает в сердце – или, скорее, гаснет, отодвигается в дальние уголки памяти, сменившись чем-то новым, что видят глаза и слышат уши. Конечно, он не забывал о прошлом, о серых питерских туманах, о детстве и матери с отцом, об академии и солдатской службе, и это были дорогие воспоминания. Но помнилось и другое: жалкие поделки в жалкой мастерской, несбывшиеся надежды, одиночество, предательство и рабство… Об этом он не хотел вспоминать, как сильный и прекрасный лебедь не вспоминает о временах, когда считался гадким утенком. В новой своей ипостаси он чувствовал себя уже привычно и полагал, что судьба – или воля загадочной силы – осыпала его дарами. Все он имел, о чем мечталось, все! Брата и друга, почет и власть, дом и работу, и самый драгоценный дар – любовь… пусть не жену, не венчанную супругу, зато – любимую женщину… Теперь еще и это! «Ну, – подумал Семен, оглядываясь на спящую То-Мери, – вот я и наложницей обзавелся! Может, замахнуться на гарем? Зарина, Саида, Гюзель… кто там еще? Уже и не вспомнить… Ну, ничего! Гюльчетай с Катериной Матвеевной у меня уже есть». Чертова девчонка! Ведь не заметил, как выросла! И речи научилась гладко излагать… «Мой господин очень мудр и знает причины всякого дела, но ни одной истинной… Как глуп мой господин!» Или вот это: «Ты дорог сердцу моему…» Его собственное сердце вдруг начало биться сильнее и чаще, и минуту-другую Семен размышлял, можно ли любить двух женщин – скажем, Клеопатру и ту же Гюльчетай. Ничего противоестественного в этом не нашлось, если учесть местный обычай и желания самой То-Мери, что были изложены ясно и прямо: ты дорог сердцу моему… А сердцу, как известно, не прикажешь! Еще один дар Та-Кем, мелькнула мысль, еще одна ниточка, что привязала его к новой родине… Может, не ниточка – канат! Он вдруг почувствовал, что за минувшие годы эта земля, ее жизнь и тревоги, ее обычаи и верования, ее города и народ – все это медленно, неудержимо просачивалось в его душу, оттесняя прошлое сначала в сны, а после – в смутные видения, которые и сном не назовешь – так, проблеск молнии на фоне пальм и пирамид… Во всяком случае, сны о прошлом стали теперь редкими, и больше он не боялся проснуться и обнаружить, что валяется в Баштаровом подвале, на грязном тюфяке, рядом с вонючей парашей. Пять лет – изрядный срок, вполне достаточный, чтоб убедиться: возврата к прошлому не будет. Прошлое не беспокоило его, но между ним и настоящим существовала тайна, некая загадочная связь, лишавшая по временам покоя. Как он попал сюда? Зачем? С какой-то неведомой целью или случайно? Божьим соизволением или по воле сил, что подчинялись логике и разуму?.. Хорошие вопросы! Если вдуматься, они могли свести с ума! Он размышлял на эту тему непрерывно, пока не понял, что должен так ли, иначе выбрать одно из объяснений и убедить себя в том, что достучался до истины. Мысль о божьем вмешательстве, переселении душ и кознях инопланетных пришельцев Семену не импонировала; он, дитя двадцатого века, был чересчур рационален для измышлений в сфере мистики. Природный катаклизм казался более приемлемой гипотезой – хотя бы потому, что тайн и загадок в природе не счесть, и если бывают черные дыры, дыры в бюджете и дыры в карманах, то значит, и время не застраховано от дыр. Возможно, эти дыры мелкие, величиной с песчинку, размышлял Семен, и мы их попросту не замечаем, хотя Вселенная имикишмя-кишит; а вот дырища покрупнее – редкость. И уж совсем невероятный случай, чтобы она накрыла какой-то объект, и он в нее благополучно провалился… Факты? Доказательства? Прямых доказательств нет, а косвенные, может быть, найдутся… Положишь на стол карандаш или, к примеру, очки, а через день глядишь – исчезли! Твердо помнишь, куда положил, когда положил, зачем положил, однако предмета нет, будто корова языком слизнула. А все потому, что провалился! И ходит в этих очках Ван Гог, а карандаш мусолит Рембранд… Но более всего Семена привлекала мысль о некоем эксперименте с незапланированными последствиями. Представим, думал он, что в будущем изобретут машину времени; весьма вероятно, что хронавты отправятся в Древний Египет, перемещаясь к тому же в пространстве, и траектория полета пройдет через Чечню. Конкретно – через подвал Баштара… Еще представим, что машина, погружаясь в прошлое, рождает темпоральный вихрь – то есть дыру, в которую он провалился; смерч времени всосал его и выбросил на нильский берег, и все это – дело случайное, а потому вопросы «для чего?», «зачем?» снимаются с повестки дня. Он всего лишь затерянный в чужой эпохе путник, а не блюститель истории, чья миссия – стоять на стреме в ключевой момент… Провались они к дьяволу, эти моменты! Он предпочел бы просто жить, не беспокоясь о том, чтобы не удавили Тутмоса, и не заботясь об иных событиях – экспедиции в Пунт, строительстве храма, трактатах, которые пишет Инени, и возвышении Сенмута… Если бы он только знал, что все это случится так или иначе, с его участием или без оного!.. Гипотеза о машине времени и путешествующих в ней хронавтах была соблазнительной, ибо давала Семену полную свободу действий. Он постарался поверить в нее – или, во всяком случае, считать рабочим предположением; он даже решил отыскать кое-какие факты в ее пользу. Строительство храма Хатор уже началось и двигалось в хорошем темпе, а для него были нужны камень, металл, орудия, канаты, краски и стекло, еда и жилища для мастеров, быки, древесина, повозки, корабли и тысяча других вещей, которые изготовлялись тут и там в Обеих Землях, от Дельты и до первого порога. За этим добром отправляли помощников, каменотесов, строителей либо писцов, но и Семену поездки были не в тягость – многое в древней земле Та-Кем казалось достойным изучения и удивления. Однако, кроме любопытства, был у него еще один резон. Хронавты! Путники из будущего! Вдруг и в самом деле они пребывают в этой эпохе, и вдруг – чем черт не шутит! – пути их пересекутся? Где-нибудь в Мен-Нофре, Пермеджеде, Абуджу или в Саи… А если он их не встретит, то, может быть, найдет какие-то следы? Сам лично или его осведомители из Братства Сохмет… Рассказы о странных людях, пришельцах из пустоты, могущественных колдунах… повествования о загадочном, необъяснимом, легенды о богах в сверкающих хрустальных колесницах… что-нибудь такое-этакое – о полетах в небе, о рукотворных молниях и слугах из железа с четырьмя руками… Он встретил многих странных людей и выслушал массу странных рассказов, ибо обитатели Та-Кем не жаловались на отсутствие фантазии. Увы! Следов хронавтов не нашлось… Что, впрочем, не опровергло его гипотезу – Та-Кем являлся страной с тысячелетней историей, и были в ней периоды поинтереснее нынешних. Скажем, эпоха Снофру и Хуфу, время строителей пирамид… Может, туда и отправились хронавты? Но в ту эпоху, хоть любопытную, но очень далекую, Семена совсем не тянуло, так как не было в ней ни брата Сенмута, ни друга Инени, ни прекрасной Меруити. И не было То-Мери.* * *
Та-Кем, однако, существовал – и пятьсот, и тысячу лет, и полтора тысячелетия тому назад. Пожалуй, не леса Амазонки, не подпирающие небо вершины Гималаев, не великая азиатская степь, не гигантские водопады и разломы земной коры, а именно это место являлось самым необычным, самым уникальным на планете. Во всяком случае – самым щедрым и благоприятным для жизни. Длинные узкие полосы плодородных земель по обеим речным берегам – будто зеленая лента с голубой прошивкой водной нити, брошенная среди желтых, оранжевых, бурых песков. Раз в год, когда в экваториальном африканском небе растворялись шлюзы, знаменуя начало сезона дождей, Нил переполнялся ливневыми водами, затоплял берега и большую часть поймы, которая в этот период превращалась в озерный край. Селения и города, лежавшие на возвышенностях, становились отрезанными друг от друга островами, сухопутные дороги исчезали, и лодка да плот были единственным средством передвижения. Затем воды начинали убывать, оставляя на полях плодородный ил, и это естественное удобрение давало жизнь злакам, травам и деревьям. Давало щедро – в год снимали по два-три урожая зерна, овощей и фруктов. Великий Хапи трудился как хорошо отлаженный механизм, год за годом, столетие за столетием, и жизнь страны определялась подъемом и спадом речных вод. Здесь не было весны и осени, зимы и лета, и год состоял из трех сезонов – Половодья, Всходов и Жатвы или Засухи. Половодье длилось с середины июля по середину ноября, включая месяцы фаофи, атис, хойяк и тиби; Всходы – с конца ноября по середину марта, с месяцами мехир, фаменот, фармути и пахон; Засуха – с конца марта по середину июля, и месяцы этого сезона назывались пайни, эпифи, месори и тот. Тот был первым месяцем года и начинался он тогда, когда звезда Сопдет – Сириус, самая яркая из звезд, – появляется на небе перед солнечным восходом после двухмесячного отсутствия. Этот день примерно совпадал с началом разлива и летним солнцестоянием, и его определяли астрономически, наблюдая за небесной сферой. Имелся еще один способ: колодец-нилометр в городе Неб, у первого порога, соединенный с речными водами и позволявший следить за началом и высотой их подъема. В следующем месяце, фаофи, воды Хапи ощутимо прибывали, меняли цвет, превращаясь из зеленоватых в белесые, а затем краснели, будто ливень, питающий истоки великой реки, разражался кровью. Вода затопляла низины и прибрежные террасы, с более высоких мест убирали лен и созревший виноград, а в Дельте чинили старые лодки и готовили новые. Затем, в атис, вода достигала самого высокого уровня, Нил становился бурым, и в этот период открывали шлюзы, чтобы пустить потоки влаги на поля и в оросительные каналы; в Дельте плавали на лодках и повсюду начинали убирать урожай фруктов. В месяц хойяк Хапи постепенно убывал, а в тиби воды спадали, обнажая землю, покрытую темным плодородным илом. В этот период снимали финики и оливки, в садах расцветали фруктовые деревья, а землепашцы устремлялись на поля, вскапывая их и засеивая пшеницей. Мехир являлся знамением сезона Всходов, лучшего, самого приятного времени в долине Хапи. Вода убыла, луга и пашни одеты свежей зеленью, всюду появляются цветы, нарциссы и фиалки, жара спадает, и кажется, что пришел май – как где-нибудь в средней полосе России. Следующие месяцы, фаменот и фармути – самые холодные; с наступлением фаменота над речными берегами разливается аромат гранатовых деревьев, цветущих во второй раз, землепашцы сеют лен, ячмень, фасоль и овощи; фаменот – начало местной весны, когда вся страна зеленеет всходами пшеницы. В месяц фармути дни прохладны, воздух живителен и свеж, грудь дышит легко, а глаз радуется, любуясь свежей листвой. Хапи торжественно катит волны к морю Уадж-ур, Великой Зелени, а на речных берегах кивают верхушками пальмы, трепещут под северным ветром кроны каштанов, орешника и сикомор, тянутся вверх колосья пшеницы и плети виноградников, а в садах наливаются сладким соком плоды граната. В фармути и наступающем за ним пахоне начинают убирать урожай пшеницы, а также фруктов и овощей. Пайни – начало засухи и жары; зной достигает апогея в месяцы эпифи и месори, и это тяжкое время – и для людей, и для животных, и для растений. В этот период звезда Сопдет, будто устрашившись зноя, исчезает с ночных небес, почва пересыхает и трескается, река мелеет и сужается, воды едва покрывают дно каналов и водохранилищ, стены домов, дворцов и храмов, сложенные из камня или кирпича, раскаляются так, что к ним не приложишь руку. В эти месяцы трудно странствовать, воевать и строить, но землю не оставишь без забот: все, что выросло, должно быть убрано, пересчитано и свезено в житницы. А затем, знаменуя конец жары и засухи, приходит месяц тот, и все начинается снова… Семен наблюдал за этими переменами в пятый раз, и были они для него уже привычны. Жизнь его вошла в определенное русло и как бы разделилась на два потока, явный и тайный, текущие один подле другого, не смешиваясь, не пересекаясь и не испытывая тех приливов и отливов, каким подвержен Хапи. Это было похоже на день и ночь, которые сосуществуют рядом, в двух различных измерениях, причем по воле своей он мог мгновенно переходить из одного в другое и возвращаться обратно. В дневном измерении он был вельможей и господином, удостоенным титула Друга Царя, звучавшего слегка двусмысленно – что, впрочем, Меруити не смущало. Еще он был первым из царских ваятелей, строителем храма Хатор, главой над тысячами работников; еще – хозяином мастерской и школы с семьюдесятью учениками и помощниками; были у него усадьба в Уасете, жилища в других городах, поместья под Нехеном и в земле Гошен; как полагалось, были телохранители, писцы и слуги, носители табуретов и опахал. Ночное измерение выглядело интересней. Не потому лишь, что в его тенях Семен являлся возлюбленным царицы, первым и тайным ее советником, серым кардиналом у трона Маат-ка-ра, чей голос был негромок, но решения – неоспоримы и тверды. Любовь, связавшая его с Меруити, была лишь камнем в фундаменте власти, которой он обладал, важным камешком, но не единственным и даже не краеугольным, ибо ему претило использовать женщину – любимую женщину! – как пешку в политической игре. Зачем, если имеется Сенмут, первый министр, правитель страны? Если Инхапи, главный над войском и всеми его командирами, еще здоров и бодр? Если Хапу-сенеб, возглавляющий жреческое сословие, миролюбив, разумен и готов прислушаться к дельному совету – как и Инени, верный друг? Для этих людей, опоры Великого Дома, авторитет Семена был непререкаем, хотя и по разным причинам: брат по-прежнему считал его посланцем Осириса, Инхапи – прирожденным полководцем, Хапу-сенеб полагал, что великий ваятель одарен к тому же светлым разумом. И только Инени была известна истина. Но все же, несмотря на их поддержку – даже благоговение и любовь, – Семен не обладал бы тем влиянием, какого добился в эти годы. Главным, краеугольным камнем являлось тайное ведомство, которое он себе подчинил, – наследство Рихмера, очищенное от ненадежных, пополненное людьми достойными и осторожно выведенное из-под эгиды жрецов, хотя они еще составляли большую часть осведомителей и сикофантов. Эта организация теперь называлась не Ухо Амона, а Братство Сохмет, с явным намеком, что ее задача – не только слушать и следить, но и карать. Карать временами приходилось, чтобы избавиться от обильных кровопусканий; так, хаке-хесеб страны Гошен, подстрекавший к бунту сторонников мрачного Сетха, случайно утонул в Половодье, а толпа озверевших граждан гиксосского происхождения разгромила святилище Сетха в Хетуарете и перерезала его жрецов. За что их примерно наказали, сослав в каменоломни – но только немногим было известно, что не камень они ломают, а стоят гарнизоном в крепости Чару, защищавшей Та-тенат. Бывали и другие случаи, но в общем и целом Семен кровавых разборок не поощрял, предпочитая меры превентивного свойства. Он был осведомленнее всех вельмож, стоявших у государственного руля; знал, к примеру, что подают на завтрак хаке-хесепу в Заячьем номе, каких наложниц предпочитает Ранусерт, командующий меша Птаха, сколько ворует Нехси, царский казначей, и кого – поименно и с указанием вин – зашил в мешок и утопил преславный Рамери, хранитель Южных Врат. Как в прошлом, так и в будущем информация была оружием более грозным и смертоносным, чем копья и ракеты, колесницы и танки, но в настоящем лишь он один понимал ее силу и цену. Может быть, и Пуэмра поймет – когда-нибудь, со временем… лучший из его учеников, верный помощник, возглавляющий Братство Сохмет… Пуэмра находился в этой должности уже два года, и минуло четыре, как Нефертари вошла в его дом, благословив его рождением наследников. Их было уже трое, и, кажется, Пуэмра не собирался останавливаться на достигнутом. Рихмера он сильно не любил, однако не препятствовал ему возиться с детьми, ибо других занятий, если не считать молитв, у бывшего Уха Амона не осталось. Рихмер был уже не тот; видимо, испытанное потрясение, страх за дочь и собственную посмертную судьбу что-то надломили в нем – да так, что больше он не оправился. Он быстро одряхлел, лишился прежней ясности ума и, при виде Семена, покрывался смертельной бледностью. Он был уничтожен, убит разящим словом, что придавило его будто пирамида Хуфу. Семену не хотелось вспоминать о нем. Сидя на пороге хижины, любуясь сонным Озером и звездными небесами, он думал о минувших годах, о своей жизни и о том новом, возбуждающе-приятном, что принесет в нее То-Мери. О делах, а тем более – о неприятностях и тревогах – вспоминать не хотелось. Ни о Рихмере, ни о Тутмосе, сирийском волчонке, взрослеющем наследнике Меруити, ни о ее дочери, которая скоро умрет – видимо, через пару разливов. Он гнал эти мысли. Он был тут в гостях у Тотнахта и Шедау, у старых приятелей и сподвижников, что прикрывали спину его в бою, и думать ему хотелось о них, о чистом широком Озере, об этой земле и внезапном подарке, который он здесь получил. Семен оглянулся. Луч лунного света скользил по лицу То-Мери, и он увидел, что девушка улыбается во сне.* * *
Утром его разбудила песня. То-Мери, суетясь у корзин с провизией, собирала завтрак на циновке: финики, сухие лепешки, мед, масло и кувшинчик с пивом. Чаша для омовений уже полнилась озерной водой, в которой плавали пахучие травинки, а рядом лежали перевязь с коротким клинком, браслет, ожерелье и свежая туника. Сама То-Мери тоже была свежа, как роза цвета кофе с молоком; глаза ее сияли, улыбка не сходила с губ, а к волосам, над левым ухом, был приколот цветок граната. Она пела…Мы видели вместе двадцать разливов, потом расстались, но я об этом не жалею, ибо мы встретимся вновь в тростниковых полях, чей аромат уже преследует меня, и чудится, что с каждым днем он все сильнее и сильнее. Там, в царстве Осириса, я буду ждать моего друга, и мою царицу, и всех, кто ушел с ними в неведомую Землю Запада. Осталось уже недолго, совсем недолго…Тайная летопись жреца Инени
Глава 13 Набег
В отличие от Пи-Мута, города просторного, многолюдного, с причалами, мастерскими и храмом Себека, где имелся водоем со священными крокодилами, Хененсу был поселением небольшим – собственно, даже не город и не деревня, а пограничный форт, окруженный стеной из обожженных на солнце кирпичей, за которой торчал десяток пальм и стояли казарма, хижины для семейных воинов, склады и дом коменданта. Тем не менее в последние годы Хененсу процветал, внезапно сделавшись центром двух прибрежных районов – западного, скотоводческого, и восточного, земледельческого. Что ни день, тут собиралось множество людей, менявших скот на зерно, птицу на фрукты, мясо и шкуры – на овощи и пиво; ну, а где люди, там появляются дома, улицы и переулки, базары и кабаки. Вот только хороших мастерских в Хененсу еще не было, и потому за тканями, кожаной упряжью, горшками, ножами из бронзы и стеклянными ожерельями приходилось отправляться в Пи-Мут. За стенами форта стоял отряд Стражей Песков, особой воинской части, разбросанной вдоль западной границы Та-Кем и охранявшей державу от набегов ливийских разбойников. Среди ливийцев – или темеху, как называли их в Обеих Землях, – насчитывалось множество племен, больших и малых, богатых и нищих, но неизменно воинственных. Правда, те, что побогаче, были и поспокойнее – как, например, племя мешвеш, весьма не бедные скотоводы, обитавшие на побережье Уадж-ур к западу от Дельты. Но мешвеш повезло, так как в прибрежных низинах были вода и пышная растительность, с моря дул влажный бриз, а с юга, отгораживая пустыню, возвышались горы. Конечно, и в их земле случались неприятности – землетрясения и моретрясения, изменяющие береговую линию, сильные ветры с гор – рагис, вроде новороссийской боры, и морские ураганы, что нагоняли воды на берег – по-местному шаркийя, а по-египетски – кардим. Но все же мешвеш могли считать себя счастливыми, так как другим темеху, обитающим в песках, приходилось много хуже. Пословица Та-Кем гласила: когда начнет дуть ветер пустыни, познаешь вкус смерти на своих губах – и ливийцы чувствовали этот вкус всю жизнь, день изо дня, из года в год. Селились они в оазисах, и чем оазис был крупней, тем больше и богаче племя. В мелких оазисах жили самые отъявленные разбойники, коим глотку человеку перерезать – что козу подоить. Одни уходили на восток, служить фараону, другие предпочитали грабить, по природной склонности и потому, что всего у них не хватало – земли и воды, проса и фиников, украшений и одеяний, а больше всего – скота и женщин, до коих были они весьма охочи. Вот этих-то мародеров и укрощали Стражи Песков. Отряд в Хененсу был невелик, всего полсотни лучников под командой младшего офицера-знаменосца по имени Нехси. С царским казначеем, своим могущественным тезкой, он в родстве не состоял, а являлся младшим сыном мелкого чиновника из сепа Аменти, и за душой у него были три медных кольца, лук, секира да гиксосская наложница. Годами и опытом он тоже похвастать не мог, так как видел двадцать два разлива Хапи, а в битвах и вовсе не участвовал ни разу. Тем не менее Семен, познакомившись с ним, решил, что юноша подает надежды – у женщин гиксосов характер был скверный, а Нехси все-таки уживался со своей наложницей и колотил ее древком лука всего лишь дважды в день, утром и вечером. Итак, свита Семена плюс четыре осла с поклажей двигались по дороге, наслаждаясь теплым, но не жарким днем и свежим ветром, налетавшим с Озера. Шли они часа четыре, время близилось к полудню, и до Хененсу оставалась пятая часть сехена, то есть километра два. Местность была ровной, пустынной, лишь кое-где торчали деревья да бродила по лугам скотина – антилопы трех пород, козы с овцами, ослы и небольшие упитанные коровы. Мирный день, мирный пейзаж… Вдали уже завиднелась стена с надвратной башней, когда с нее затрубил сигнальщик, и резкие пронзительные звуки понеслись над берегом. Семен приставил ладонь ко лбу, всмотрелся и различил, как из ворот выбегают крохотные фигурки, забрасывают за спину луки с колчанами и строятся в походную колонну. Сперва у него мелькнула мысль, что Нехси решил оказать ему честь – встретить с помпой, под гром барабанов, с салютом и почетным караулом. Однако звук рожка становился все тревожнее, и люди в Семеновой свите заволновались, зашумели, а кое-кто, нарушив чинный порядок шествия, остановился и заорал, тыкая пальцем назад. Семен обернулся. Западный горизонт был затянут дымом; клубы его, сначала легкие, белесые, похожие на облака, становились с каждым мгновением все гуще, все темнее, а под ними поблескивало алым, будто там, на границе лугов и пустыни, поднималось второе солнце. Но для великого Ра место было неподходящее, как и время, и потому Семен не сомневался, что видит дым пожарища. – Ливийцы! – завопил кто-то из слуг. – Ливийцы, да проклянет их Амон! Грабители! – Погибель наша! – отозвался погонщик, падая в дорожную пыль на колени. – Спаси нас, мать Изида! – Они далеко! – крикнул Семен, метнувшись к ослу, тащившему в поклаже его секиру. – Без паники! Слушать господина! – Он поднял оружие и потряс им в воздухе. – Слушать господина! – разом проревели Техенна и Ако. – Всем молчать! Слушать! Крики стихли, и Семен, поглядывая на приближавшихся воинов Нехси, приказал: – Ослов разгрузить, корзины и мешки взять на плечи и двигаться в Пи-Мут, не останавливаясь в Хененсу. Там ожидать меня. Ты, Пиопи, – он повернулся к старшему из писцов, – проследишь, чтобы никто не потерялся и не отстал, а еще ты примешь плитку у мастеров и рассчитаешься с ними. – Да, господин. Слушаю твой зов, господин. – Ты, То-Мери, позаботишься о поклаже, папирусах с записями, моих одеяниях и мешке с серебряными кольцами. Дашь почтенному Пиопи столько, сколько он скажет. – Но, господин, я хочу… – Забыла, как надо сказать? – рявкнул Семен. – Поучись у Пиопи! Девушка потупила взгляд. – Да, господин. Слушаю твой зов, мой господин. – Вот так-то лучше. Идите! Процессия торопливо двинулась к Хененсу, а он остался на дороге со своей секирой, с Ако, Техенной и четырьмя ослами. Лучники приблизились, и Семен отметил, что юный Нехси, кажется, бледноват, как и большая часть его воинства. Из пятидесяти человек только два теп-меджет и дюжина солдат были в возрасте за тридцать, а значит, успели понюхать ливийских клинков; все остальные – молодежь, хуну неферу. Под стрелами не стояли, щит под секиру не подставляли, а главное, сами глоток не резали… Он поднял руку и велел подбежавшему Нехси: – Одного теп-меджет и двадцать лучников, самых неопытных, отправь обратно – нельзя крепость оставлять без защиты. Прикажи гонцов разослать – в Пи-Мут и по деревням, чтобы люди вместе собрались и скотину в луга не гнали. Прочие солдаты пусть грузят оружие на ослов. Быстрее пойдем! Даже побежим! Нехси сразу приободрился, порозовел, вскинул жезл с флажком и принялся распоряжаться. Трех минут не прошло, как ослы были навьючены, отряд разделен, и люди, готовые к походу, построены колонной. Они тоже повеселели, услышав командирский голос и почувствовав твердую руку знатного семера. «Чтобы вас Амон квартирой и пенсией одарил», – подумалось Семену, вспомнившему своих начальников из ВДВ. – За мной, бегом! Теп-меджет, ты – сзади… Будешь подгонять отстающих! Они помчались по дороге, вздымая клубы пыли и нахлестывая ревущих ослов. Пара сехенов – изрядное расстояние, и пешему человеку одолеть его быстрее, чем за три часа, никак не под силу. Поэтому когда Семен и солдаты добрались до угодий Тотнахта, все было кончено: горевшее – догорело, мертвое – лежало и не двигалось, живое – ругалось и шевелилось, а уворованное исчезло вместе с ворами. Пропало в пустыне, бескрайней, как океан… К счастью, Шедау, Тотнахт и большинство пантер не пострадали, ибо налетчики, увидев их топоры и копья и получив в подарок тучу дротиков, откатились на исходные рубежи – то есть к самой западной части побережья. Здесь картина была жуткая: полсотни сожженных хижин, пустые загоны для скота и трупы хозяев – мужчин, женщин постарше и детей. Девочки и девушки исчезли вместе с антилопами и козами, и след их заметали ветры пустыни. Пустыня… Повернувшись к ней, Семен замер на границе страны Пиом, где, среди зелени трав, чернели остатки сгоревших хижин, валялись мертвые тела, разбитые горшки, рассыпанное второпях зерно. Мрачный пейзаж, но вид перед ним был еще страшнее: желто-серое необозримое пространство, сначала ровное, а затем дыбившееся горами песка, что достигали пятисот локтей в высоту. Небо густой сапфировой синевы, прозрачный жаркий воздух, гряда тянувшихся к горизонту серых скал, будто разделявших край жизни и край смерти… За ним – прохлада Озера, журчание вод в бесчисленных канавках, трава, деревья; впереди – пылающие под солнцем дюны, будто часовые, стерегущие от живых загробное царство, сказочные поля Иалу… Однако он знал, что на самом деле пустыня не мертва, что есть оазисы жизни в этом знойном море, и там обитают убийцы и воры, дети песка. Добраться бы до них!.. За его спиной ругался Тотнахт: – Песчаные вши, пропившие мумии отцов! Чтобы пиво у них кисло во всякий день! Чтобы красные лапы Сетха разодрали им задницы! Чтобы… – Сколько их было? – спросил Семен, обернувшись. Бывший копьеносец замолчал с открытым ртом, затем нахмурился и вымолвил: – Сотни две… может, побольше… Ну, двоих я наладил к Сетху! Одного секирой, другого дротиком! – Наших побили, – буркнул молчальник Шедау, – много… Молодых увели. Еще побьют и уведут. Если вернутся. Нехси, знаменосец, понурил голову, чувствуя себя виноватым – не спас, не защитил… Его помрачневшие стрелки бродили вместе с пантерами, их женами и сыновьями по пепелищам, разыскивали мертвых, переносили, укладывали в ряд. Никого нельзя позабыть, оставить без погребения, лишить загробной жизни… Шеренга трупов все росла и росла; другая, куда стаскивали убитых ливийцев, была много, много короче. Может, десяток разбойников, может – полтора… Ако и Техенна склонялись над ними, рассматривали одежду, изучали лица и обломки оружия. Семен снова бросил взгляд на оранжево-желтые пески. В душе его ярость сражалась с печалью. – Мы можем их догнать, – то ли спрашивая, то ли утверждая, произнес он. – Они гонят скот и ведут девушек, а потому двигаются не слишком быстро. – Мы можем их догнать, но не найти, господин, – угрюмо возразил Нехси. – Куда мы пойдем – в ту сторону, в эту или в другую? – Он показал на север, запад и юг. – Ветер заметает следы, а к тому же презренные темеху умеют их прятать… Клянусь Амоном, десяток из них идет сейчас позади стада и подметает песок древесными ветвями! Как мы их найдем? Это было правдой, и потому Семен молчал, кусая губы. Ему, умевшему и знавшему так много, было трудно смириться с поражением, признать, что пустыня сильнее его. Но с очевидным не поспоришь! Он повернулся к Тотнахту. – Если я придумаю, как их найти, ты пойдешь со мной? Ты и другие поселенцы? – Пойду! Все пойдут! Мы – пантеры! – Презрительно покосившись на Нехси, Тотнахт ударил себя в грудь кулаком. – Мы пойдем с тобой, господин, и вырвем их поганые сердца! Ты только приведи нас, куда надо! – А ты, Нехси, пойдешь? Знаменосец прятал глаза. – Зачем, господин? Чтобы погибнуть, блуждая в песках? Мертвых ведь этим не воскресишь, свершившегося не изменишь… Зачем? – Я объясню тебе, зачем, – сказал Семен, наливаясь злой кровью. – Всякий, свершивший грабеж и убийство, должен нести наказание. Кару, понимаешь? Разбойных главарей – удавить тетивами луков, воров – стегать, пока не посинеют, скот – вернуть… Кроме того, не брошу девушек. Они их сделают… Он хотел сказать – рабынями, но такого слова в языке Та-Кем пока что не было. Понятие о рабстве возникнет позже, когда Тутмос, великий завоеватель и преступник, пригонит толпы невольников из Куша, Хару и Джахи, и, чтобы назвать этих людей, в Обеих Землях придумают нужные слова. Впрочем, их недостаток суть дела не менял. – Они возьмут их на спальные циновки, – яростно прошипел Тотнахт. – Они заставят их рожать, и через двадцать разливов Хапи их сыновья будут красть дочерей, которых мне пошлет Амон! И моих антилоп! Моих журавлей и гусей! А я буду слишком стар, чтобы поднять копье и метнуть дротик! Ты понимаешь это, хуну неферу? От такого оскорбления Нехси побледнел и оглянулся на своих солдат. Потом пробормотал, не глядя на Семена и бывшего копьеносца: – Я повинуюсь твоей воле, господин… я пойду, и люди мои тоже… Но куда? Наступила тишина, прерванная шелестом травы под сандалиями Техенны. Он подошел к Семену и, переминаясь с ноги на ногу, бросил на него вопросительный взгляд. – Хочешь что-то сказать? – Да, семер. Эти люди, – ливиец махнул в сторону мертвых разбойников, – пришли из оазиса Уит-Мехе. Они из племени Гибли… из моего племени. Я узнал троих – с одним мы даже стерегли коз в пустыне, когда были мальчишками. Давно… Не хватит пальцев рук и ног, чтобы пересчитать минувшие разливы. Глаза Семена вспыхнули. – Ты знаешь, где этот Уит-Мехе? – Конечно, господин. Если идти отсюда, из страны Пиом, уложимся в пять дней… сначала – на закат солнца до Скалы Черепов, потом – четыре сехена к югу… Да, пять дней, если не помешает ветер. – И ты готов нас проводить? – Ты – мой господин! Брови Техенны приподнялись, рот приоткрылся – казалось, вопрос поверг его в изумление. «Это он для меня ливиец, – подумал Семен, – но для себя самого и всех остальных – житель Та-Кем, мой воин и слуга. Я – его вождь, а его семья – Ако, Мерира и остальные мои домочадцы». Темеху в самом деле не считали себя единым народом, да и чувство принадлежности к племени было не столь уж глубоким, гораздо слабее, чем верность вождю. Разумеется, победоносному и сильному – неудачников ливийцы скармливали псам. Техенна пригладил рыжие волосы, втянул носом воздух, поглядел на небо, на песчаные дюны. – Большого ветра не будет… пока… – Значит, можем выступать? – Нет, господин. Ра высоко, а в пустыне зной даже в месяц фармути. Лучше идти по ночам. Нам будут нужны ослы, по меху с водой на каждых двух человек, пища и плотные накидки. – Не мало ли воды? – усомнился Нехси. – Нет. Я знаю источники, места для водопоя… Неужели ты думаешь, что Гибли угнал антилоп и коз, чтобы они передохли в пустыне? – Но… Семен стукнул кулаком о ладонь, прекращая споры. – Готовьтесь! Вы слышали, что нужно! Тотнахт, собирай людей, Шедау пусть позаботится об ослах, воде и пище, а ты, Нехси, пошли людей в Хененсу – пусть привезут накидки, стрелы, дротики, запасные сандалии и не забудут веревки. Еще – большой кувшин с оливковым маслом и связку тростника. Сухого, чтобы хорошо горел. – Зачем, господин? – Костер разложим, финики будем жарить, – пообещал Семен, отвернулся и зашагал к трупам ливийцев – взглянуть на будущего противника.* * *
Вышли они на вечерней заре и двигались всю ночь и первые утренние часы, пока песок не раскалился, добираясь нестерпимым жаром до подошв сквозь кожаные подметки сандалий. Ночью пустыня выглядела еще огромнее и страшнее; полосы белевшего в лунном свете песка чередовались с тенями, падавшими от барханов, и каждая такая тень, черная и глубокая, мнилась входом в подземное царство, где обитают чудища-кровопийцы, жуткие демоны и прочая нечисть, которой только и место, как за границами Та-Кем. Небосвод медленно вращался, звезды равнодушно взирали на цепочку людей, ползущую среди песчаных гор, и только их тяжелое дыхание, фырканье ослов да шорох осыпавшегося песка нарушали тишину. Ноги вязли, идти было трудно, но к середине ночи почва стала твердой, каменистой, и отряд зашагал быстрее. Их было побольше семидесяти, считая с Семеном, Техенной и Ако: тридцать Стражей Песков под водительством Нехси и околосорока поселенцев из бывших пантер, вооруженных копьями, дротиками и секирами. Ослы тащили воду, сухие лепешки и фрукты, а также запас стрел и мешки с сандалиями. Днем без обуви в этих местах шага не сделать: плюнешь на камень – шипит, бросишь кусок лепешки – поднимешь уголь. Однако ночью жара не донимала, и, выбравшись на плотную почву, люди слегка расслабились. Техенна неутомимо шагал вперед и как будто с успехом ориентировался в этих каменистых пространствах, одинаковых в любую сторону; пантеры и солдаты постарше успевали за ним без труда, а молодых подгоняли собственное упрямство и теп-меджет, хмурый коренастый ветеран с тростью в увесистом кулаке. Семен не испытывал усталости до самого утра; он был массивнее и тяжелее роме, зато и ноги у него были подлинней. Он шел, размышляя о временах столь давних, что срок цивилизации Та-Кем казался в сравнении с ними холмом у подножия гор. Когда-то – десять, двадцать тысяч лет назад? – вместо пустыни тут простирались леса и степи, текли полноводные реки, журчали ручьи, и стада быков, слонов, жирафов и антилоп казались неисчислимыми. Благословенный край, одна из прародин человечества… Вдоволь воды и дичи, меда и фруктов, простор от моря до океана… Но вот, повинуясь космической силе, равнина стала пересыхать, потоки обмелели, зеленый покров сделался скудным, и люди двинулись на восток, к самой большой, последней реке, пренебрегавшей гневом пустыни, ибо тянулась она до тропиков и полнилась дождями. Тем, кто явился к ней первыми, повезло: повоевав друг с другом пару тысяч лет, они объединились, назвали себя роме, изобрели письменность, религию, светскую власть и начали сеять пшеницу и возводить пирамиды. Опоздавшим пришлось туго – место занято, и бывшие родичи не желают делиться и признавать родства. Земля опоздавшим досталась просторная, по-прежнему от океана до моря, но что за мерзкая земля! В лучшем случае, сухая степь, а в худшем – песок да раскаленные камни… Что будет с ними, с опоздавшими? Что от них останется? Этого Семен не знал, ибо в курсе по истории искусств, да и в прочих подобных курсах о ливийцах ни сном, ни духом не поминалось. Роме выживут; хлынут на них ассирийцы и персы, потом уйдут, заявятся греки и римляне, покорят арабы, навяжут язык свой и новую религию, но народ не исчезнет, не растворится среди победителей, а лишь изменит свой облик, обычаи и имя. Темеху же преданы забвению… Судьба их Семену была неизвестна; всплывали лишь какие-то смутные воспоминания о Карфагене, сражавшемся с ливийцами и нанимавшем их в свои войска – лет этак через тысячу. Взошло солнце, камень под ногами стал нагреваться, но впереди уже маячили утесы – руины древних гор, торчавших как скелет огромного поверженного дракона. Здесь нашлась тень, а в кольце скал – истоптанная плошадка с кустами, выщипанной под корень травой и лужицей жидкой грязи. Листья, кора и тонкие ветви на кустах были объедены козами, и всюду валялись кучки свежего помета. – Они тут останавливались, – сказал Техенна, – и потому для наших животных корма не будет. Разгрузите ослов, ешьте и пейте, затем ложитесь в тень и спите. К вечеру наберется вода, – он кивнул на лужу, – и ослы напьются. Но травы для них не будет до самой Скалы Черепов. День тянулся бесконечно. Ослы с унылым видом бродили вокруг лужицы, люди дремали, иногда просыпаясь и следуя за перемещавшейся тенью, а Семену приснился сон из прошлого, что было случаем редким – даже, можно сказать, невероятным. Привиделся первый его парашютный прыжок, только во сне он сверзился с небес с оружием, рюкзаком, но в древнеегипетском переднике, сандалиях и без парашюта. Потом автомат и рюкзак куда-то исчезли, и он очутился в знакомом академическом классе профессора Громова, который вел занятия по обнаженной натуре; профессор – сухонький, язвительный – подкатился к нему и подмигнул: «Ну-с, батенька мой, кого решили рисовать?» «Девушку, – ответил Семен, – но выбрать надо одну из двоих – Меруити или То-Мери. Посоветуйте, Петр Нилыч!» «Вам, молодым, все девушек подавай, – нахмурился профессор. – Еще и совета спрашивает, юный наглец! А не хотите запечатлеть ливийца? Очень полезно в плане анатомической подготовки!» Он кивнул на помост для натурщиков, где были разложены трупы с разбитыми головами и дротиками, торчавшими в ребрах. «Не хочу!» – выкрикнул Семен, схватил подставку с бумагой и ринулся из класса, но налетел на запертую дверь и вдруг заплакал. Странный то был плач: рыданий не слышно, и слезы из глаз не текут, а щеки мокрые. Он очнулся. Техенна лил ему воду на лицо тонкой струйкой, Ако придерживал за плечи. – Не лежи на солнце, господин, – ливиец помог ему встать. – Гнев Ра ужасен… Это в Та-Кем он бог, а здесь – демон, не ведающий пощады, как судьи загробного царства… Да и царство само неподалеку – прогуляйся днем в любую сторону, как раз и доберешься. – Не богохульствуй! – прохрипел Нехси, приподнимаясь на локте. – Ра – благой бог, податель жизни! Техенна лишь усмехнулся. Семен подошел к командиру стрелков, присел рядом под защитой большого валуна и бросил взгляд на небо – до заката оставалось часа четыре, но зной был все еще жесток. – Ты веришь этому ливийцу, господин? – шепнул Нехси. – Не бросит ли он нас в песках? Не оставит ли на поживу змеям? – Он не просто ливиец, а мой ливиец. К тому же Гибли, вождь племени, нанес ему обиду – что-то отнял, козу или жену. Поверь, Техенна этого не забыл. С минуту Нехси размышлял, верить или нет. Потом зашептал снова: – А что случится, когда мы придем в оазис?.. в этот… как его… Уит-Мехе?.. У нас семь десятков воинов, господин, а этих вшей – две сотни… а может, больше вдвое и втрое… не все ведь мужчины пошли в набег… – Не числом воюют, а уменьем, – сказал Семен. – Справимся! Не будь пессимистом, начальник! – Пеззи… кто? – не понял Нехси. – Кто такой пе-зи-ми, господин? – Пессимист – тот, кто не оптимист. Один – как недозревший финик, другой – как перезревший. – И в этом вся разница между ними? – Не только. – Семен прищурился, размышляя, потом объяснил: – Ходит слух, что непотребства людские когда-нибудь разгневают богов, и они призовут живых и мертвых на Страшный Суд. Попугают нас, пожурят и скажут: попробуйте снова, живите, но не грешите. Для оптимистов это будет еще одна божественная милость, а по мнению пессимистов – милость последняя. Улавливаешь разницу? Нехси погрузился в глубокую задумчивость, а Семен закрыл глаза и проспал до вечера. Ночью они совершили короткий переход в два с половиной сехена, сначала – вдоль скального гребня, потом – по дюнам и песку и, наконец, по каменистому плато, которое, понижаясь, привело их в глубокую сыроватую котловину. Здесь был колодец с солоноватой водой и несколько пальм, кривых и хилых, но травы по-прежнему не нашлось, и вопли голодных ослов тревожили путников весь день. В дорогу выступили до заката – Техенна предупредил, что третий переход самый тяжелый и долгий, и к тому же придется идти по мелким острым камням, а затем – ущельем, прорезанным в скалах давно пересохшей рекой. В этом извилистом каньоне пали два осла, а люди допили последнюю воду. Поднялось солнце, а они все шли и шли, закутавшись в накидки, петляя между известняковых стен, прорезанных трещинами, перебираясь через осыпи, подгоняя ревущих животных, спугивая змей и ящериц. Ра палил огнем, волны раскаленного воздуха накатывались на них, иссушая горло, выжимая последние капли влаги из обессилевших тел; поистине, они ощущали вкус смерти на своих губах. Семен двигался вслед за Техенной, шагал будто во сне, упрямо переставляя ноги, и десятки знакомых ликов кружились и маячили перед ним, выступая из скал, подбадривая или насмешливо гримасничая: Баштар с кривой ухмылкой на губах, бледный Рихмер, мертвец Софра, брат, простирающий к нему руки, Инени, творящий заклятья над статуэткой Тота, лица отца и матери, петербургских знакомых, Пуэмры с окровавленной щекой, Рамери, Хоремджета и одноглазого лысого Инхапи. Видения? Фантомы? Миражи? Чтобы прогнать их, он мотал головой, и перед ним появлялись Меруити и То-Мери – стояли обнявшись, как две сестры, глядели на него с любовью, манили к себе, подбадривали, улыбались… Семен очнулся, споткнувшись о коровий череп. Кости и черепа животных, а иногда и людей, стали попадаться все чаще – белые, недавние, или посеревшие и почти незаметные среди камней. Под ногами раздавался хруст, ухмылялись оскаленные рты и пасти, с бессильной яростью топорщились рога, а за поворотом ущелья валялись две мертвые антилопы-орикса, раздувшиеся, как бочки. – Откуда тут… это… – пробормотал Семен, едва ворочая распухшим языком. – Тяжелый переход, семер, – отозвался Техенна. – Многие не выдерживают, умирают – и люди, и скотина. А если ветер налетит, всем конец. Ветер пощады не знает… Он говорил не о том жарком и довольно сильном ветре, который дул сейчас, а о сокрушительных смерчах, несущх песок пустыни и убивающих все живое на своем пути. Роме называли такой смерч хамсином, а ливийцы – гибли, и вспомнив, что так же зовут ливийского вождя, Семен спросил: – Скажи, этот вождь оазиса Уит-Мехе… Гибли, да?.. Что у тебя с ним вышло? Поссорились из-за женщины? Или впрямь козу не поделили? Техенна мрачно усмехнулся. – Все это враки, господин. Какие козы? Какая женщина? Мне ведь всего шестнадцать стукнуло… Отец мой Такелот был вождем, старшие братья нашли смерть, кто в бою, кто в пустыне, и Гибли решил, что миг подходящий – вождь старится, а наследник – сосунок… По обычаю они с Такелотом дрались на палицах, и Гибли раздробил отцу плечо. Тут я с ним и сцепился… и он меня отделал так, что я чуть не попал в поля Иалу. Но все же очухался и решил, что надо уходить – не к Осирису, а в Черные Земли. – Почему? – Гордость взыграла. Мой отец был великий вождь, странствовал по четырем сторонам света, брал добычу в любом оазисе, в Та-Кем и на морском берегу, и мне тоже хотелось стать вождем. Тоже великим… Или вождь, или изгнанник – другого пути я не видел. – А сейчас видишь? – спросил Семен, помолчав. – Вижу. Мир велик, мой господин, и любопытно на него смотреть, а что увидишь из оазиса? Гораздо меньше, чем в войске пер’о или на службе у человека знатного и отважного, вроде тебя! Да и женщины в Обеих Землях приятней, чем в Уит-Мехе… Нет, там я не останусь! Повидать бы только Такелота, если он жив… – С Гибли что сделаешь? Вызовешь на поединок? – Поединок? Хоу! – Техенна хищно ощерился и хлопнул себя по ляжке. – Я твой воин, а не темеху, и мне их обычаи – не указ! Встречусь с Гибли, проткну глотку дротиком… Вот и весь поединок! Сзади раздался предсмертный вопль осла и проклятия солдат. Ущелье снова повернуло, расширилось, обтекая утес с раздвоенной вершиной и превращаясь в дно пересохщего озера. Из подножья скалы бил родник, и тут была зелень, много зелени – целая рощица пальм, кусты и травы, частично вытоптанные и обглоданные. Но кое-что осталось и для ослов, которые с ревом устремились к маленькому оазису. – Скала Черепов, – хрипло пробормотал Техенна. – Тут будем отдыхать до заката, а ночью отправимся к Горьким источникам. Тоже неплохая стоянка… Шестьдесят тысяч локтей до нее, а от Горьких до Уит-Мехе чуть больше сехена. Переждем день у источников, и к середине ночи будем на месте. – Добро! – откликнулся Семен, с наслаждением вдыхая свежий влажный воздух. Стараясь ступать твердо и выглядеть уверенно, он направился к потоку живительной влаги, струившейся из трещин в скале, смочил руку и лизнул ладонь. Вода была вкуснее и слаще напитка уам.* * *
Оазис Уит-Мехе оказался довольно велик, не меньше двадцати километров в окружности. Тут, среди скал, покрытых мхом, журчали ручьи, струившиеся в травянистую низину, сверкали в лунном свете небольшие озера, а между ними росли пальмы, акации и еще какие-то деревья с густой листвой, незнакомые Семену. Большая часть этой земли предназначалась для стад, дремавших сейчас в загонах, тогда как поселок занимал сравнительно немного места – сотни две хижин, сгрудившихся левее скал. Они не походили на круглые жилища кушитов Шабахи с плетеными стенами; это были скорее палатки из шкур, вытянутые наподобие корабля, с кровлями из пальмовых листьев. Две хижины, стоявшие особняком, на утоптанной площадке перед скалами, были заметно больше остальных, и Техенна, протянув к ним руку, пояснил: – Дом Войны и жилище вождя. Там я вырос… и там сейчас живет Гибли, если его не прикончил кто-то из молодых шакалов. С вершины утеса, где собрался отряд, оазис был как на ладони, и самый неопытный из лучников добросил бы стрелу до палатки вождя. Впрочем, двух самых неопытных и юных оставили у Горьких источников присматривать за ослами. Ослы – они и есть ослы; заревут не вовремя, всполошат поселок – какая тут внезапная атака? Скала была низкой, вытянутой, будто застывший в спячке крокодил, с плоской вершиной, усеянной пятнами сухого ломкого мха. Он чуть слышно потрескивал под ногами переминавшихся за спиной Семена людей. Кроме Техенны, главного эксперта по ливийцам, тут находились Тотнахт, Шедау, Ако, Нехси и его сержант – теп-меджет, имя которого Семен так и не удосужился узнать. Стрелки и поселенцы-пантеры стояли ниже, на склоне, обращенном к пескам; кто отдыхал, кто проверял оружие, готовясь к бою, и до предводителей долетали негромкое пение тетив, скрип кожаных ремней и звон бронзы. – Что будем делать, господин? – спросил Нехси, осматривая поселок, дремлющий в тенях скал и пальм. – Ждем рассвета, а дальше? – Зачем ждать? Атакуем! Глаза молодого знаменосца раскрылись в изумлении. – Но ночью не воюют! Я не увижу своих людей, они не увидят друг друга и не поймут, где свой, где враг… Слишком темно, мой господин! Сражаются только при свете дня – это являлось для Нехси и полководцев Та-Кем любого ранга одной из прописных аксиом. Стремительные ночные вылазки были им неведомы, как и фланговый обход, окружение, ложная атака, маневрирование на местности, засады стрелков, каре пехотинцев, отражающих конницу, и остальные изыски военного искусства. Все было просто: пехота билась грудь о грудь, чтобы раздавить ее, пускали колесницы, а лучники метали стрелы во все, что движется. В этом мире Семен мог стать Наполеоном, Ганнибалом и Юлием Цезарем одновременно. Повернувшись к своим соратникам, он объяснил: – Мы нападем сейчас, когда противник нас не ждет. Нас семеро, и каждый возьмет себе отряд по девять-десять воинов. Мы окружим поселок, причем три отряда стрелков – твой, Нехси, а еще – теп-меджета и Ако – двинутся к селению с возвышенности. Я поведу свой отряд вон с того места – две пальмы у пруда, видите? Я зажгу факел и буду махать им, а лучники по этому сигналу должны привязать к стрелам сухой тростник, смочить его в масле, поджечь и выпустить по десять горящих стрел. Твои люди, Нехси, будут стрелять в жилище вождя и большую хижину рядом с ним, лучники Ако – в ближние хижины, а теп-меджета – в дальние, и поэтому надо дать ему лучших стрелков. Все понятно? – Да, господин! – Тотнахт в восторге подбросил копье. – Их норы запылают и станет светло, как днем! – Мы всех сожжем? – спросил Нехси, в волнении облизывая губы. – Нет. Жилища легкие, темеху успеют из них выскочить. Они будут перепуганы, и как только обстрел прекратится, семь наших отрядов войдут в поселок. Наша задача: женщин, детей и стариков не трогать, мужчин сгонять к площади перед Домом Войны. Убивать тех, кто сопротивляется! Следить, чтобы шли безоружными! Когда достигнем площади, пантеры окружат пленных, а Стражи Песков развернутся к поселку. Мы не сможем пленить всех – вдруг кто-то из темеху ускользнет и попытается напасть на нас. Стрелки их отразят. – Ты хитроумней Монта и Тота вместе взятых, господин! – сказал Нехси. – Никто не умеет так воевать! Ночью, против врага, трижды и четырежды большего! Семен усмехнулся. – Учись – и станешь из знаменосца чезу. Только запомни, парень: умный чезу бьется не с женщинами и детьми, а с воинами. – Они наших женщин не щадили, – буркнул Шедау. – Не худо бы приколоть одну-другую… да и щенков тоже… – Мы – не дикари Девяти Луков, и нам Амон такое не простит. Начнем, во славу его! Стальная секира взлетела в воздух, и восемь голосов отозвались: – Да будет с нами его милость! Пусть пошлет нам жизнь, а смерть – врагам! Через полчаса четыре группы воинов спустились с утеса и разошлись, окружая селение. Чтобы не потревожить собак, встали в сотне шагов от околицы, затаившись в кустах и среди деревьев. Здесь царили тьма и тишина; в поселке тоже было тихо, и походил он сейчас на странное кладбище кораблей, брошенных в беспорядке на суше и перевернутых кверху днищами. Оглядев пруд и две пальмы на его берегу, Семен довольно кивнул: позиция выбрана правильно. Факел – сухая ветвь, обмотанная тростником – уже покачивался в его руке. Он протянул его одному из своих бойцов: – Поджигай! Стебли тростника, пропитанные маслом, занялись от первой искры и запылали сворачиваясь тонкими черными спиралями. Дав разгореться дереву, Семен поднял повыше огненный знак и помахал им в воздухе. Пламя чертило дуги над его головой – одну, другую, третью… Утес, темневший напротив, вдруг расцветился крохотными яркими точками; они вспорхнули со скалы как птичья стая, понеслись вверх, к звездному небу, и внезапно рухнули вниз, подобные уже не птицам, а крохотным пламенеющим метеорам. Они еще не достигли цели, когда с утеса ринулся еще один поток огненных стрел, затем – следующий… Семен отсчитывал их появление по ударам пульса; обычно лучники Та-Кем метали стрелу каждые пятнадцать секунд, но в неярком лунном свете целиться было трудней, и обстрел закончился лишь на шестой минуте. Он не мог сказать, сколько горящих снарядов воткнулось в землю, но в крыши попала изрядная часть – пальмовые листья уже пылали, алая подкова вокруг деревни ширилась, смыкалась, а подле утесов, на площади, пламя било столбом. – Стрельба в цель упражняет руку и причиняет верность глазу, – пробормотал Семен, снова помахал факелом и бросил его в воду. – Ну, двинулись! Бегом! Когда они ворвались в проходы среди хижин, поселок уже гудел, полнился людскими криками, паническим воем собак, блеянием коз, треском и смрадом горящих шкур. Ущерб от пламени был невелик – постройки не имели тяжелых перекрытий, сверху сыпался пепел от прогоравших листьев, а шкуры больше воняли, чем горели. Страху, однако, хватало. Самой правильной была реакция женщин: подхватив детей, они ринулись прочь из деревни, и их исход, несмотря на вопли и метания, был стремителен, как водный поток, хлынувший из растворенного шлюза. Козы и псы тоже не задержались – ими руководил инстинкт, столь же безошибочный, как у женщин, гнавший их дальше от едкого дыма и обжигающих искр. Мужчины вели себя глупее – или разумней, но на свой мужской лад: выскочив наружу и оглядевшись, они бросались в горящие палатки за копьями и дубинками. Но было поздно; семьдесят с лишним воинов роме вступили в поселок словно мстительные ночные духи. – Вперед! Бросить оружие, песчаные вши! Не поднимать голов! Пошевеливайся, кал гиены! Нож на землю! Руки прочь от палицы! Не понимаешь? Получай! Свист летящего дротика, треск черепа под секирой, предсмертный вопль, шум от падения тела… Но большинство понимали, так как язык нападавших был им знаком и, не считая ругани, слова употреблялись несложные, какими сгоняют в толпу побежденных: брось оружие да шагай вперед. Проделав путь в триста локтей до площади, Семен лишь дважды был атакован: напал на него мужчина с топором, а после – юнец лет пятнадцати. Воина он убил, парнишку стукнул кулаком в поддых и оставил корчиться на земле, рядом с догоравшей палаткой. Вероятно, его бойцы тоже не встретили сопротивления; цепь, охватившая деревню, вскоре приблизилась к площади, и каждый роме гнал перед собой трех-четырех безоружных ливийцев. Их сбили в толпу, окружили копьями, оттеснили к еще пылавшим Дому Войны и жилищу вождя. Между этими двумя пожарищами метались люди – пять или шесть женщин, подростки – видимо, из семейства Гибли – и несколько воинов, успевших схватить кто копье, кто палицу или пращу. Над головой Семена свистнул камень, и он, шагнув в освещенное огнем пространство, поднял секиру и, перекрыв глухой ропот пленников, закричал: – Гибли! Ты слышишь меня, Гибли? Пусть твои люди бросят оружие, иначе мы их перебьем! А ты, клянусь Амоном, повиснешь на дереве вниз головой и будешь зажарен, как антилопа! Оружие на землю! Дюжина стрел, воткнувшихся у ног ливийцев, подкрепила эти слова: оставив мысль о сопротивлении, воины смешались с пленниками, притиснувшими их к скале. Тут было человек двести пятьдесят, но, плотно сбитые в кучу, они казались совсем небольшой толпой, бессильной и не страшной; трудно было поверить, что не прошло и недели, как эта орда лютовала в Пиоме. Вокруг нее сейчас стояли пантеры с копьями наперевес, с горящими яростью глазами, и ждали приказа: колоть или вязать. – Тотнахт, Техенна, Нехси, ко мне! – выкрикнул Семен. Они примчались – возбужденные, торжествующие. Молодой знаменосец плюнул на землю, с презрением оглядывая пленных: – Живущие луком[793]! Черви, дикари! Гнев Амона на вас! Гнев бога и смерть! Семен дернул его за перевязь: – Молчать! Докладывай: оцепление расставлено? Нехси увял. – Да, господин. Мои лучники между домами… Огонь гаснет, но скоро ладья Ра поднимется в небеса… Наши стрелы даром не пропадут! – Потери есть? – Нет, господин. Пара синяков да царапины. Вопросительный взгляд Семена обратился к двум другим командирам, и те кивнули. – То же самое, семер, царапины да синяки, – сказал Техенна, поглаживая прядь длинных рыжих волос. – Мы взяли их без крови. – Без нашей крови, – уточнил Тотнахт с ухмылкой. – Вяжите пленников, – распорядился Семен. – Детей и женщин отпустить, Гибли – ко мне! – Он поглядел на Техенну, терзавшего свои волосы: – Найдешь отца и мать, можешь быть свободен. Весь день, до самого заката. – Мать не найду, господин. Мать убили, когда я был меньше древка секиры. Он повернулся и вместе с Тотнахтом пошел к толпе бывших сородичей. Пока их обыскивали, вязали, усаживали на землю, Семен пил воду из принесенного Ако бурдюка и жевал финики. Тем временем звезды в вышине погасли, небо начало сереть, а потом посветлело, и золотистый солнечный диск стал подниматься над пустыней. С места на краю оазиса, где находился поселок, было видно, что к западу лежат не столь уж гибельные земли – скорей, не мертвые пески, а сухая саванна с пучками невысоких трав и низкорослыми зарослями. Тут можно прокормиться, думал Семен, глядя на мелькавших вдали газелей и слушая отрывистый лай шакалов. Конечно, тут не поля с плодородным илом, как в Та-Кем, зато территория большая, а людей – горстка… Паси коз, стреляй зверье и не лезь к соседу! А если уж полез, так хотя бы не убивай… Оглядев ораву пленников, сидевших на земле со скрученными за спиной руками, он поразился, как отличается этот народ от роме. Конечно, он видел Техенну всякий день, встречал и других ливийцев, но никогда – в таком числе; количество зримо выставляло напоказ их странность и особость. У роме кожа была смугловатой, волосы – темными, глаза – карими, телосложение – худощавым, хотя встречались и плотные, коренастые люди. Темеху выглядели более стройными, гибкими, с шевелюрами цвета огня или красной меди; длинные волосы слегка вились, и одни заплетали их в косы, а другие просто перевязывали ремешком будто лошадиный хвост. Глаза казались очень большими, зрачки – непривычно светлыми, но не серыми, не голубыми, как у россиян, а сине-зелеными, аквамаринового оттенка; кожа была бледна, и Семен припомнил, что ливийцы, как объяснял когда-то Инени, не загорают даже под самым ярким солнцем – в отличие от ханебу, северян. Странное племя, загадочное… Жаль, что все загадки они унесут с собой, ничего не оставив для археологов будущего – ни изделий, ни построек, ни языка, ни письменности. Подошел Техенна, волоча на веревке мужчину за сорок, с могучими мускулами и старым побледневшим шрамом поперек груди. В копне его рыжих волос колыхались страусиные перья, лицо было мрачным, и только в глазах горели неукротимые разбойничьи огоньки. – Гибли, вождь, – промолвил Техенна. – Велик Амон! Я дожил до дня мести! Как и этот шакал! Ты отдашь его мне, господин? – Отдам. Но сначала… – Семен намотал на кулак веревку и потянул вождя к пленникам. Он возвышался над ними будто утес над холмами песка, и голос его был уверенным, сильным, громким. Слова падали в толпу сидевших на корточках людей, разили, как камни из пращи, и улетали в небо с дымом, курившимся над развалинами. Кроме этих слов для побежденных сейчас не существовало ничего; они означали смерть или жизнь. – Я – Сенмен, сын Рамоса, семер из Обеих Земель, и я не принес вам ничего такого, чем вы не наделили бы наших людей. Смерть, огонь, разорение… Что дали нам, то и получите обратно! Но Амон милостив, и я не стану убивать вас всех, не уничтожу ваших детей и женщин и не возьму вашу землю. Живите! Приходите в Та-Кем на службу пер’о, приносите шкуры для обмена, приводите ослов и коз… Но если явитесь с оружием, конец будет таков! Он кивнул Техенне, и тот, вытащив кинжал, ударом кулака сшиб Гибли на колени. Левой рукой ливиец вцепился вождю в волосы, дернул, заставив откинуть голову, и наклонился над ним с хищной ухмылкой. Сверкнуло бронзовое лезвие, хлынула кровь, Гибли захрипел, дергаясь всем телом, и повалился на пыльную землю. Пронзительный женский вопль донесся из толпы и тут же смолк, будто у кричавшей перехватило горло. Семен хмуро оглядел пленников. – Нехси, Тотнахт! Выставить стражу – десять лучников, десять копейщиков! Остальные пусть отдыхают, а эти, – он кивнул на ливийцев, – будут сидеть здесь день, ночь и следующий день, пока мы не уйдем. Кроме вождя, у этого племени есть старейшины? – Да, господин, – сказал Техенна, вытирая кровь с ладоней пучком травы. – Иапет, Шилкани и еще трое. – Пусть их освободят. Пусть один из них пойдет за женщинами, прикажет им возвратиться в поселок и приготовить пищу для наших воинов. Другой пусть найдет наших девушек. Я хочу их видеть и говорить с ними! А прочие старейшины пойдут с Шедау осматривать стада. Мы возьмем вдвое больше животных, чем угнано из Пиома. – Большое стадо… не справиться… – буркнул Шедау. – Не мы его погоним, они, – Семен покосился на пленников. – Человек тридцать-сорок хватит. Отпустим их, когда доберемся домой. – Он бросил взгляд на Техенну: – Ты нашел отца? – Нашел, господин. Второй подарок Амона… – Ливиец плюнул на труп Гибли. – Дом Такелота, моего отца, в сохранности, и он просит, чтобы ты, господин, разделил с ним трапезу и отдохнул в знойное время. Козленок уже жарится! – Хорошо. Пойдем! Они зашагали к краю площади, и там их нагнал Тотнахт. – Господин… Семен повернулся. Лицо копьеносца было багровым, губы подергивались. – Господин, ты приказал не убивать детей и женщин, и мы повиновались. Но эти… – Тотнахт метнул яростный взгляд на толпу ливийцев, – эти… Они-то не щадили ни женщин, ни детей! И ты даруешь им жизнь? Ты не позволишь нам смочить свои копья их поганой кровью? – Позволю. Но не сейчас. – Семен положил руку на плечо Тотнахта. – Ты ведь слышал, что было сказано? Я хочу говорить с девушками. Потом буду судить и карать виноватых. Возьми точильный камень, Тотнахт, и постарайся, чтобы твое копье стало острым! Копьеносец свирепо ощерился и повернул назад. Минуты три-четыре Семен и Техенна шагали в молчании, огибая уцелевшие палатки, колья, к которым привязывали коз, разбросанную утварь и грубые, сложенные из камней очаги. Потом провожатый Семена бросил на него пристальный взгляд и с непривычной робостью осведомился: – Скажи, мой господин, ты многих еще убьешь? Конечно, они грабители и воры, но все же… – Все же – твой народ, – закончил Семен. – Я обещаю, Техенна, и клянусь клювом Гора, клыками Сохмет и копытами Аписа, что будут наказаны только виновные. – Он помолчал и добавил: – Не потому, что ливийцы, а потому, что разбойники.Ты, читающий эту летопись, можешь спросить: отчего я не последовал за Стражем, другом моим, Сошедшим с Лестницы Времен? Но если ты умен, ты не задашь такого вопроса. Без пояснений моих тебе будет ясно, что старость не должна мешать молодости, что дряхлому и бессильному не место в дальнем походе на корабле и что ему самый прекрасный западный край чужд, ибо уже построена гробница в Городе Мертвых, готовая принять его останки… Кроме того, я намерен закончить две свои повести, явную и тайную, и желаю, чтобы хранились они в священной земле Та-Кем.Тайная летопись жреца Инени
Глава 14 Западный край
Такелоту, отцу Техенны, было порядком за семьдесят; видимо, он, как и одноглазый генерал Инхапи, помнил времена Яхмоса и Аменхотпа, не говоря уж о славном правлении первого Джехутимесу. Волосы Такелота поседели, зрачки стали тусклыми, как покрытый пылью аквамарин, но голос не дрожал и память не ослабела. Он вполне прилично изъяснялся на языке Та-Кем и вызывал у Семена искренние симпатии, так как, несмотря на разницу в годах и внешности, чем-то неуловимым напоминал Мериру. Чем именно, стоило поразмыслить, и Семен, слушая речи старого ливийца и всматриваясь в его лицо, наконец доискался причины сходства: один – пират, другой – разбойник. Но очень почтенный, словно доживший до пенсии Робин Гуд. – Благодарю тебя, вождь, за милость к моему недостойному племени, – говорил Такелот, отрезая гостю ногу козленка. – Что за беда, если ты перебьешь половину этих бездельников и воров! Женщины новых нарожают, ибо они плодовиты, как козы. Главное – вот это! – Он вытянул руку к саванне и пасущимся в ней стадам. – Другой забрал бы наших быков, овец, ослов и коз, а всех мужчин и женщин переселил в болота Дельты или, хуже того, в бесплодные скалы к востоку от устья вашей Реки. Я там бывал… давно, когда мои волосы были не пеплом, а огнем… Гиблое место! Подходит лишь для тех людей, которых вы называете хабиру. Он протянул Семену мясо на кончике кинжала и сделал знак стоявшей за спиной Техенны девочке. Та проворно наполнила чаши козьим молоком из расписного глиняного кувшина. Такие кувшины делали в Саи, а чаши голубоватого фаянса – в Хай-Санофре. Поясок, подвеска и браслеты на девочке явно происходили из Буто, ковер, расстеленный на полу хижины, – из Мен-Нофра, а нож, которым Такелот пластал козленка – из Кебто или Танарена. Все ценное, что виделось в доме взгляду, пришло с востока, из долины Хапи, однако появилось не само собой – ведь у ковров, кувшинов, чаш и прочего имущества ног не имеется, как и желания переместиться из Та-Кем в Ливийскую пустыню. Но вещи не выбирают хозяев, а лишь покорствуют желаниям людей. Одни их делают, другие приобретают, дабы порадовать себя и близких, но служат они третьим – тем, у кого в руке топор, а за плечами – связка дротиков. – Еще благодарю тебя за сына, – старый ливиец повернулся к Техенне, и глаза его блеснули. – Владыка Песков послал мне сегодня три радости: я видел труп врага, я встретился с сыном, и я понял, что вождь его – могущественный воин, великий, как горы Того-Занг. С таким вождем становишься достойнейшим из людей, украшенным перьями, браслетами и остальным богатством. Но главное сокровище – память! Память о тех, кто пожелал тебя убить и кого ты сам убил, насладившись треском их костей и видом крови, что хлещет из перерезанной глотки! Прекратив жевать, Семен поглядел на старого разбойника, соображая, сколько глоток тот перерезал на своем веку и сколько разбил черепов. Тянуло на высшую меру или на три пожизненных, если вспомнить, что расстрел в России отменили. Он пробормотал на русском: «С волками жить, по-волчьи выть…» – рванул зубами сочное мясо с кости, проглотил и с важным видом произнес: – Пять лет твой сын со мной, почтенный Такелот, и не было дня, чтобы кровь не обагрила его оружие. Он убивал нехеси у каждого из трех речных порогов, он убивал воинов-роме, восставших против пер’о, и если в какой-то из дней ему не попадался человек, которого стоит проткнуть копьем, он шел в пустыню и убивал там льва. Нынче львы в окрестностях Уасета перевелись, и он рубит головы журавлям и гусям для вечерних трапез, чтобы не потерять сноровки. А сноровка ему нужна, очень нужна! Ведь он держит щит передо мной и отражает врагов, целящих в мою печень! – Да пожрет их Владыка Песков! – провозгласил Такелот, раздувшись от гордости за сына. – Да пожрет, – согласился Семен, обгладывая кость и подмигивая Техенне. Тот тоже работал челюстями, усмехался, а еще помалкивал с достойной похвалы скромностью. Девчушке, которая прислуживала им, исполнилось лет одиннадцать, и, кроме пояска, браслетов и малахитовой подвески, на ней не было ровным счетом ничего. Груди ее уже начали наливаться, бедра округлились, а огромные зеленоватые глаза то и дело с явным интересом обращались к гостю. Заметив, что Семен тоже поглядывает на девочку, Такелот сказал: – Хочешь ее? Она – дочь младшей дочери моей умершей сестры и еще не знала мужчин. Большая честь для нее, если ты станешь первым. Девочка хихикнула, а Семен поперхнулся молоком, побагровел и буркнул: – Вряд ли это хорошая мысль, отец мой. Видишь ли, я человек рослый и предпочитаю крупных женщин. Иногда мелких, но уж, во всяком случае, не детей. – Тогда, быть может, ты примешь ее в подарок? Она подрастет и, думаю, будет такой же, как моя сестра. А та была женщиной высокой и сильной и обращалась с оружием не хуже воина. Помню, была у нее дубинка, окованная медью… С этой дубинкой и с котлом, в котором варят мясо, познакомились все ее мужчины. – И много их было? Такелот впал в глубокую задумчивость, беззвучно шевеля губами и пересчитывая пальцы, которых явно не хватало. Наконец он произнес: – Десять и еще четыре, если вспомнить человека из племени мешвеш, который ее украл. Сестра зарезала его во сне, отрубила ухо и детородный орган и вернулась в Уит-Мехе. Очень достойная женщина! И эта, – он похлопал девчушку по ягодицам, – похожа на нее, как один наконечник стрелы на другой. – Тогда я лучше воздержусь, – сказал Семен, прикидывая, что с двумя наложницами, кушиткой и ливийкой, ему, пожалуй, не справиться. В постели еще туда-сюда, а вот в иное время… Не будет спокойствия в доме! Девчонка подрастет, и либо То-Мери скормит ее крокодилам, либо она пырнет То-Мери ножиком. Нехорошо! – Но я должен чем-то тебя одарить, господин! – воскликнул Такелот. – Я был вождем, и я не беден, но думаю, что в доме твоем хватает оружия и чаш, а в загонах – овец и коров. Какой же дар наилучший, если не женщина? Та, чье тело прохладно в жару и греет в холод? Семен потер щеку с недельной щетиной. – Мне есть с кем согреться, почтенный Такелот. Что до подарков, то я буду счастлив, если ты одаришь меня воспоминаниями. Ты ведь сам сказал, что главное сокровище – память! Старый разбойник приободрился и вроде бы даже помолодел. – Хочешь, чтобы я перечислил убитых врагов? – Нет. Но слышал я от сына твоего, что в молодые годы ты странствовал по четырем сторонам света и брал добычу в любом оазисе, в Обеих Землях и на морском берегу. Расскажи мне об этих походах и дальних краях. Например, о горах Того-Занг… Никогда о них не слышал. – Ах-ха! – Такелот сморщился, припоминая, отставил чашу. – Давно это было! Когда же? Он бросил взгляд на Техенну, и тот подсказал: – После набега людей из Каттара. Когда смерть коснулась моих братьев и матери, да будет к ним милостив Осирис! – Верно! Моя женщина погибла, и погибли мои сыновья, когда шакалы из Каттара явились в Уит-Мехе… Мы вырезали их сердца, но не у всех – многие утекли в пустыню, и я собрал отряд, чтобы догнать их и бросить в пасть Владыке Песков с отрезанными ступнями. Каттар, мой господин, это большой оазис в пятнадцати днях пути к заходу солнца, и лежит он в глубокой котловине, где травы обильны, воды сладки, а скот тучен. Но мы, люди из Уит-Мехе, плохо знаем те места, и потому шелудивые псы, за коими мы гнались, пришли в оазис раньше нас, забрали свои стада и женщин и покинули Каттар, опасаясь нашего возмездия. Добравшись туда, я увидел, что пастбища и палатки пусты, что нет для нас ни врагов, ни добычи, а значит, зря мы терпели жару и голод в песках и утоляли жажду протухшей водой. Сердце мое огорчилось, и я сказал себе… Такелот хрипло закашлялся, приник к чаше с молоком, потом, отдышавшись, хлопнул костистыми ладонями по коленям: – Я сказал, что буду преследовать каттарских псов, как гиена преследует лань, долго и терпеливо, пока не увижу их кровь на своем клинке. Не ради поживы, а ради мести, ибо они убили двух моих сыновей и мать последнего сына, Техенны, который в те годы был слишком мал, чтобы пронзить врага дротиком. Воистину, жажда мести обуревала меня, и я поклялся Владыке Песков страшной клятвой, и в знак ее спалил свои волосы над огнем. А после двинулся через пустыню на запад, и через двадцать дней все мы – я, мои воины и ослы – увидели море… Это какое же море? – подумал Семен. Если отправиться из Уит-Мехе и идти на запад больше месяца, то одолеешь километров восемьсот… самое большее – девятьсот… Значит, не до Атлантики добрались, а до Средиземного моря, до залива Большой Сирт, который врезается в Африку будто след лошадиного копыта… Тоже немалое путешествие! Через пустыню и сухую степь! Он решил, что нанесет этот маршрут на карту. Карты у Семена были – и получше той мозаики с росписью, что украшала пол в святилище Ипет-сут. Его память художника хранила очертания земных континентов, самых крупных островов, озер и рек, в нужном месте и нужных пропорций, и если он и ошибся в чем-то, то не больше чем на сотню-другую километров. Еще в первый год своей жизни в Та-Кем он начертил эти карты на листах папируса, изобразив с особой тщательностью Средиземное море, Красное, Черное и Персидский залив, а также территории, лежавшие на их берегах. Этот атлас являлся его величайшим сокровищем – тем более что на одной из карт были помечены уже существующие и еще не выстроенный города: Кносс, Афины, Коринф, Микены, Рим, Ниневия, Вавилон и Карфаген. – Мы увидели море, – продолжал Такелот, – но не увидели врагов. В тех местах живут люди нашего языка, с которыми у нас, за дальностью расстояния, нет ни споров, ни счетов. Они сказали, что каттарские псы идут вдоль побережья и что мы нагоним их через несколько дней, ибо стада их истощены, а люди сбили ступни в кровь. За нами тоже оставались следы крови – ведь переход через пустыню нелегок, и трое из наших стали жертвой Владыки Песков. Но все же мы могли двигаться быстрее, так как не было с нами ни женщин, ни детей, ни стариков, а одни лишь сильные воины числом двадцать и шесть десятков. Мы направились в солнечную сторону, а потом берег опять повернул на закат, и вскоре увидели мы вражеский стан, и напали, и убили всех, кроме ослов, овец и коз. Сердце мое успокоилось, и я уже подсчитывал добычу, но тут явились к нам люди той земли, за своей половиной, ибо битва была в их краях и хотелось им поучаствовать в дележе. Я дал, что они просили, и они сказали: теперь дай все, раз перебил женщин этого племени, которые были нам нужны! И я дал остальное, ибо явились они в великом множестве… Вор у вора скотину украл, мелькнуло у Семена в голове. Впрочем, у Такелота имелось на этот счет иное мнение. – Я дал, так как животные были и вправду истощены и гнать их по пустыне сорок дней казалось немыслимым. Отдав же, решил, что забрался далеко и стоит посмотреть другие земли на западе, и воины мои с тем согласились; каждый думал, что найдет другую добычу, легче весом, дороже ценой. И тогда мы встали, подняли оружие и ушли от трупов наших врагов и двигались еще сорок дней вдоль берега, ни в чем не испытывая нужды – охота в тех краях обильная, вода сладкая, а люди, одаренные мной, позволяли нам пить ее и стрелять антилоп без числа. Так мы шли на восход солнца, потом свернули к северу, снова на восход и опять на север, пока не добрались до широкой равнины, лежавшей между горами Того-Занг и морем… Семен встрепенулся. На восток, затем – на север, снова на восток и снова на север… Так и есть, очертания залива Большой Сирт, берегов Ливии и Туниса! За сорок дней можно преодолеть больше тысячи километров, и тогда… Тогда окажешься в краях изобильных и плодородных, где в будущем встанет Карфаген! В землях, текущих молоком и медом, если верить римским историкам… И земли эти свободны, и будут такими еще лет пятьсот… Почти свободны, разумеется, если не считать немногочисленных племен, у которых сто охламонов с палками – целое войско, а тысяча – огромная армия! Он сел, резким движением отбросил прядь со лба и наклонился к Такелоту. – Скажи мне, почтенный, что за люди живут на той равнине между горами и морем? – Земля богатая, но пустая, – ответил ливиец, – и мы, не найдя там добычи, повернули назад. Воины были недовольны… – Он поднял чашу из голубого фаянса, взвесил ее в ладони и произнес: – Зато я убедился, что нет места лучше Уит-Мехе, господин! А знаешь, что самое лучшее в этом месте? – Да? – Та-Кем поблизости! – Он поглядел на чашу с хищной улыбкой. – Но возвратимся к той равнине… Видишь ли, мой господин, живущие к восходу солнца от нее подобны нам с Техенной, а те, кто живет к закату – совсем иные люди: кожа у них темная, темные волосы и глаза, и этим они похожи на кушитов. Одни из них охотятся в степи на длинноногих птиц, другие обитают на деревьях, растущих так близко, что человек между ними не пройдет… Странные люди, и странное рассказывали мне о них! Но сам я их не видел; они боятся моря и гор и не заходят на ту равнину. «Нумидийцы? – подумал Семен. – Или такой народ, который еще и имени-то не имеет?.. Впрочем, какая разница! Не любят моря и гор, вот и ладушки!» Он прикрыл глаза, чтобы обдумать некую мысль, вертевшуюся в голове, но тут перед жилищем Такелота послышались стоны, шум и плач. Затем раздался голос Тотнахта, непривычно тихий и даже с нежными нотками – кого-то он успокаивал, кому-то советовал не рыдать, ибо хотя господин не в силах возвратить убитых к жизни, но уж обидчикам воздаст по справедливости. Подвесит за ноги, располосует сверху донизу, вывалит кишки, а внизу разожжет огонь! – Я скоро вернусь, и мы еще поговорим об этой равнине у гор Того-Занг, – сказал Семен Такелоту. – А ты останься здесь, почтенный, пеймолоко, ешь мясо и разговаривай с сыном. Нос не высовывай! Иначе, боюсь, и тебя подвесят за ноги. Он поднял секиру, лежавшую рядом с ковром, приосанился и вышел во двор. Девушки, недавние пленницы, которых Тотнахт построил в шеренгу, сразу замолчали и повалились на колени; было их двадцать семь, и ни одной старше семнадцати лет. Все – растрепанные, грязные, в рваных одеждах, со следами веревок на запястьях. Однако после блужданий в пустыне, побоев и неизбежного насилия, они не казались раздавленными; дочери пахарей и скотоводов, они привыкли к тяжелой работе, невзгодам и лишениям. Что, разумеется, не извиняло насильников. – Встаньте! – приказал Семен. Они поднялись, глядя на него покорными карими глазами. Он заметил, что самые младшие, по виду совсем девчонки, жмутся к девушке постарше, невысокой, но крепкой, с гривой волос, падавших на плечи. Она не плакала – глаза ее были сухими и смотрели на Семена с каким-то странным, почти тоскливым выражением. – Как твое имя? – спросил он. – Аменет, мой господин. Целую прах под твоими ногами… – С целованием праха мы подождем. Слушай меня, Аменет, и слушайте все! Нам предстоит тяжелый переход через пустыню, и потому сегодня и завтра вы будете отдыхать. Ты, Аменет, старшая; ты проследишь, чтобы девушки вымылись, поели, починили одежду, взяли накидки и сандалии. Люди Тотнахта, ваши соседи, тебе помогут. Но перед тем все вы пойдете с Тотнахтом на площадь, где сидят пленные, и покажете тех, кто убивал в Пиоме и творил насилие над вами. – Семен повернулся к бывшему копьеносцу. – Ты поразишь их ударом дротика или секиры, как захочешь, но я запрещаю мучить пленников. Убей, но быстро! – Слушаю твой зов, господин! – Тотнахт, мрачно сверкнув глазами, погладил рукоять топора. Аменет поклонилась, сложив ладони перед грудью. – Что будет с нами, мой благородный господин? – Вы вернетесь в Пиом, и каждая получит вдвое больше коз, овец и ослов, чем было у погибших родителей. Их земли станут вашими; я прослежу, чтобы управитель в Пи-Муте переписал эти земли на вас и чтобы вам не чинили никакой обиды. Это правильно, Аменет? – Правильно, господин, но этого мало. – Руки Аменет вдруг взлетели кверху, лицо застыло в маске страдания. – Где наши добрые отцы, мой господин? Скосили их клинками, будто колосья в поле… Где заботливые матери? Лежат, пронзенные копьями, и нет в их груди дыхания и света нет в очах… Где наши сильные братья, опора и защита? Стрелы в сердце их, камни в их ребрах, и ни один не поднимет руки, не шевельнет губами, не спросит: что с сестрой моей? Скажи, господин, заменят ли земля и скот потерянное нами? – Не заменят, – ответил Семен. – Но вижу я, что ты, Аменет – девушка умная, красноречивая, и потому должна понять: жизнь – череда потерь и череда находок. Вы потеряли многое, но, быть может, что-то найдете? – Он повернулся к Тотнахту. – Кажется, твой брат не имеет ни хозяйства, ни жены? А есть ли еще младшие братья у воинов, пришедших с тобой? И много ли их? – Хватит всем, – буркнул копьеносец, довольно усмехнувшись. – Идите, девушки, и поразмыслите о словах господина. Устами его говорит Маат, а значит, сказанное им – истина: не потерявши, не найдешь. Они ушли, но Аменет осталась. – Чего ты хочешь? – спросил Семен. – Прости, мой повелитель, правильней будет так: чего я не хочу. – Она судорожно сглотнула, стискивая руки. – Меня поймал темеху… молодой темеху… В пустыне, в первую нашу ночь, он сказал, что я – его женщина, и он дрался с другими темеху, не допуская их ко мне… и не пустил. Все ночи принадлежали ему. – Что дальше? – Ради Хатор, господин! Я не хочу, чтобы Тотнахт пронзил его дротиком или разрубил секирой! – Губы ее дрожали, слезы выступили на глазах. – Не хочу! Пусть он живет! Пощади его, господин мой! Владычица любовь, ты правишь миром! – мелькнуло у Семена в голове. Правишь ныне, присно и во веки веков! Приподняв подбородок девушки, он тихо произнес: – Я не могу его помиловать, но подарю его жизнь тебе. Иди, Аменет, найди его и скажи ему: или дротик Тотнахта, или спальная циновка в моем доме! В доме, который ты должен построить на наших землях, у большого Озера в стране Пиом. И если он выберет тебя, а не смерть из рук Тотнахта, запомни: ты – его женщина, но он – твой мужчина, и ты за него отвечаешь. Если он причинит кому-то обиду… – Семен смолк, потом махнул рукой: – Словом, дротики у Тотнахта всегда найдутся! Он вернулся в палатку, сел на ковер и знаком велел нагой девчушке наполнить чашу. Она улыбалась, лукаво щурила зеленоватые глаза, и Семен улыбнулся ей в ответ, слушая вполуха, как Техенна болтает с отцом на резком гортанном ливийском наречии. Дела судебные завершились, ларец казней и милостей опустел, козленок тоже был съеден, и только приятная тяжесть в желудке напоминала о нем. Семена клонило в сон. Он прилег, вытянулся, всмотрелся в маячивший перед ним мираж: высокие горы Того-Занг – не иначе, как хребет Атласа, хрустальные реки и водопады, бегущие с них, широкая, в сто километров, равнина, синее море, просторные бухты и небо с солнечным диском, недреманным оком Ра… Западный край, безлюдный, изобильный и столь далекий, как легендарная Та-Нутер… Безопасное убежище, ибо кто в Обеих Землях рискнет отправиться на Запад? Туда, в Страну Заката, уходят только мертвые… «Что-то я должен спросить», – вспомнил он и приоткрыл глаза. – Скажи мне, Такелот… темеху, что обитают восточней той равнины, не говорили о заморских землях? Об острове, лежащем за Уадж-ур? Огромном острове, большем, чем Кефтиу и Иси[794]? В выцветших глазах Такелота мелькнуло удивление. – Откуда ты знаешь, господин? Там и правда есть остров… Люди нашего языка узнали о нем от мореходов, что приплывают с севера… редко, очень редко – корабли их малы, и лишь немногие рискуют пересечь то море, которое вы зовете Уадж-ур. Остров… да, говорили, что они приплывают с острова, большого острова с высокой дымящейся горой. Но я не знаю, как называется та земля. «И я не знаю, – думал Семен, уплывая в царство сна и сновидений. – Не знаю, какое имя носит этот остров в годы правления Меруити, как назовут его в эпоху Рамсеса и в век Гомера. Потом… наверное, потом он станет Сицилией». С этой мыслью он уснул.* * *
Большой корабль неторопливо скользил по водной протоке, соединявшей Озеро с Великим Хапи. Это было грузовое судно, широкое и плоское, с мачтой и свернутым парусом; сейчас его гнали сорок гребцов, мерно сгибавших и выпрямлявших нагие загорелые спины. В корабельном трюме хранилась серебряная и золотистая плитка из Пи-Мута, на носу, корме и мачте развевались пестрые флаги, посередине, меж двух кают-надстроек, был растянут полосатый тент, а под тентом, в кресле из черного дерева и слоновьих клыков, сидел Сенмен, сын Рамоса, царский ваятель, носивший титул Друга и Советника пер’о – да будут с ним жизнь, здоровье и сила! Он был облачен в белоснежный передник, собранный мелкими складками, руки его украшали браслеты, талию – пояс с кинжалом и бронзовой пряжкой, а на могучих плечах сверкал воротник-ожерелье, вещь искуснейшей работы из золотистых нитей, бирюзы и лазуритовых камней. Он расположился в своем кресле будто фараон на троне и озирал свой корабль, свой груз и своих людей – гребцов и писцов, мастеров и помощников, носителей опахал, сандалий и табуретов, своих телохранителей и свою наложницу. Она сидела у его ног, прижавшись головкой с длинными темными локонами к колену повелителя и улыбаясь, когда он касался ее волос или щеки. Прочий народ, не столь близкий к телу господина и не занятый греблей, бездельничал или искал полезных занятий по собственному разумению. Носильщики спали или услаждались пивом; мастера прикидывали, как вымостить плитками храмовый пол и не пустить ли бордюр по стенам; Пиопи, старший писец, в двадцатый раз пересчитывал плитки, отдельно серебряные и золотые, и сверялся со своим папирусом; два молодых писца, потея от натуги, лазали в трюм, снабжая Пиопи данными для вычислений; повар, готовя напиток уам, смешивал белое вино с красным и выжимал гранатовый сок; Техенна и Ако играли в «большого змея»[795], передвигая по доске фигурки красных и белых львов. За спиной Ако устроился Тотнахт; стоял, опираясь на копье, почесывал грудь, поглядывал на доску и мурлыкал древнюю боевую песню. Мирная, спокойная картина! Песенка, правда, была жутковатой:Послесловие автора
Я предлагаю вниманию читателей фантастико-исторический роман, который, как большинство произведений такого рода, нуждается в некоторых комментариях. Эти комментарии даны в конце книги, и я советую иногда заглядывать в них – хотя бы затем, чтобы стало ясно, в какой бездне времени очутился мой герой. Кроме того, ряд понятий, обстоятельств и древнеегипетских слов поясняются подстраничными примечаниями. Должен заметить, что в описании Та-Кем – или Древнего Египта в эпоху Нового царства – я старался придерживаться известных историкам древности реалий. Это, например, нашло отражение в именах персонажей и в географических названиях, которые могут показаться читателю непривычными. Однако напомню, что египтяне не имели понятия о городах Мемфис, Фивы или, например, Гелиополь – все это греческие названия, большей частью знакомые нам. Для египтян же Мемфис был Мен-Нофром, Фивы – Уасетом, Гелиополь – городом Он-Ра; равным образом, они не знали о ливийцах и нубийцах, а называли их по-своему – темеху и нехеси. Но временами мне приходится отступать от истины, переносить какие-то события из более позднего периода Нового царства в его начало и что-то сочинять – например, эпизоды сражений в Уасете. Я полагаю, что нахожусь тут в своем праве романиста, ибо историки слишком мало знают о некоторых ключевых моментах той эпохи. Как свершился приход к власти определенных лиц – бескровным путем, или в результате ожесточенной и повсеместной схватки, или то был локальный стремительный переворот? Почему эти властные лица не уничтожили своих соперников, что было бы вполне в их стиле? Какая судьба ожидала этих людей в дальнейшем – ведь главные мои персонажи исчезают из поля зрения исторических хроник сравнительно молодыми, не достигшими пятидесяти лет? Что с ними стало? Настигли ли их насильственная гибель, роковая случайность или смерть от болезни? И, наконец, главная тайна: почему Древний Египет, самая мощная держава тех времен, не воевал на протяжении двадцатилетия, будто свершив загадочную остановку на пути к империи? Безусловно, не по той причине, что вдруг сделался слабым – ведь эти двадцать мирных лет стали периодом процветания, строительства прекрасных храмов, развития ремесел и искусств, экспедиций в далекие земли, и в результате одарили Египет такой необоримой силой, что он овладел землями от Месопотамии до Эфиопии. Кроме сочиненных мной эпизодов и версий, еще одним отступлением от истины являются имена божеств, которые даны в хорошо знакомой нам греческой интерпретации. Думаю, было бы слишком непривычно, если бы я называл Осириса, Тота, священного быка Аписа и других божественных персон теми именами, которые им дали египтяне – Усири (Осирис), Дхаути (Тот), Хап (Апис) и так далее. Здесь я уступаю традиции, оставляя неизменными имена богов, известные нам еще со школьных лет и по многочисленным историческим романам. Отмечу однако, что истинного звучания древнеегипетских слов, живого языка Та-Кем, мы не знаем, поскольку египтяне имели письменные знаки только для согласных букв и их сочетаний, а гласные при письме пропускали. К сказанному выше мне хочется добавить несколько замечаний, ломающих привычный со школы стереотип Древнего Египта. Это воистину поразительные факты, хорошо известные специалистам-египтологам, но не широкой публике, и если вдуматься в них, то Египет предстает более необычным, нежели цивилизация разумных осьминогов на Альфе Центавра, придуманная кем-нибудь из писателей-фантастов. Прежде всего упомяну, что Та-Кем на протяжении полутора тысяч лет, в 3000—1500 гг. до н э., не был рабовладельческим государством, хотя иноплеменные невольники в нем безусловно имелись – очень немного, и их использовали как личных слуг. Пирамиды и другие гигантские сооружения, храмы, каналы и крепости были возведены самими египтянами, командами специалистов и подсобной рабочей силой. Труд этот был принудительным, но он вознаграждался – пищей, питьем, одеждой. Далее напомню, что хотя Египет имел торговые сношения с другими государствами и в самой стране можно было приобрести что угодно: землю, дома, продукты, скот, невольников и бытовые предметы, но сословия купцов в Та-Кем не имелось, равным образом как и денег. Вернее, египтяне изобрели виртуальные деньги, в которых оценивалось любое имущество и, в соответствии с этой оценкой, производились выплаты – зерном, скотом, тканями, металлом и так далее. Вся «внешняя торговля» была государственной, то есть находилась в руках фараона, и потому его казначеи, снаряжавшие торговые экспедиции, а зачастую и возглавлявшие их, являлись, как правило, знатоками географии и этнографии. Египетские мастера знали десятки способов подделки драгоценных металлов и камней, но то, что выходило из их рук, не считалось подделкой – скажем, сплав меди и серебра, похожий на золото, был для них золотом. Видимо, они искренне полагали, что соединением одних металлов можно воспроизвести другие, а из стекла сделать драгоценные камни. Металлов же они различали великое множество – например обычное золото, белое золото (с добавкой серебра), алое золото (с добавкой окиси железа) и все остальные подобные сплавы были для них различными металлами. Золота в Египте было так много (его, в основном, получали из Нубии), что до конца Среднего царства оно стоило дешевле серебра; золотыми плитками и листами покрывали верхушки пилонов и полы, не говоря уж о саргофагах. Египтяне обитали в совершенно непривычной для нас географической среде; их мир, протянувшийся вдоль берегов реки, был линейным: 15 – 20 километров от берега, и ты – в губительной пустыне, и чувствуешь вкус смерти на своих губах. В степи и леса не убежишь, в горах не спрячешься, все и вся под контролем власти, а это ведет к ее невиданной концентрации и усилению. Царь не просто представитель бога, а сам бог, одна из ипостасей божества – возможно, самая загадочная, ибо лицезреть ее простым людям не дано. Зато другие божественные ипостаси видны всем, и все живое находится под их неусыпным наблюдением. Нам, современным людям, трудно понять эту мысль – ведь мы, взглянув на небо, видим солнце, и одни из нас полагают, что это – рядовая звезда Галактики, а другие считают ее светильником, созданным Божьей Волей в дни творения. Но египтянин видел самого бога, солнце-Ра, а по ночам – других богов, звезды и луну-Тота. Представьте себе их чувства: поднимаешь голову и встречаешься взглядом с бессмертными божествами! Вера ли это в нашем понимании? Скорее, нерушимая убежденность в реальности богов, в том, что их мир не является потусторонним, а неразрывно слит с человеческим. Несколько любопытных замечаний об умениях, быте и хозяйстве египтян. Дома и дворцы они строили большей частью из необожженного кирпича, и от них ничего не осталось, в отличие от «божественных» строений – храмов и усыпальниц. Они приручили собаку и кошку, у них имелись быки, лошади, ослы, овцы, козы и свиньи, а кроме того – домашние антилопы, гепарды и гиены (последние шли в пищу). У них не было кур, и, видимо, они не потребляли яиц, но всякая домашняя птица разводилась в изобилии – утки, гуси, журавли, голуби, перепела и даже страусы. Кухня – во всяком случае у людей знатных – была изысканной: множество сортов вина, пиво, сладости (пирожные на меду с орехами и фруктами), различные виды хлеба, мясные блюда, овощи. Они не умели умножать и делить, только складывать и вычитать, но математических познаний им вполне хватало для обмера земель, исчисления налогов, всеобщих переписей и гигантского строительства. Они оставили нам первые энциклопедии, философские и медицинские трактаты, а в последних – описания десятков недугов, включая диабет, недержание мочи, болезни глаз, кожи, женские тяготы и сотни рецептов целительных снадобий. Они во многом отличны от нас, наследников греко-римской цивилизации, но кое в чем кажутся потрясающе близкими; в их языке не было слова «свобода», но было слово «любовь» и были любовные песни, и древний египтянин мог бы сказать: «не поливай медом финик» (не болтай попусту) или «у него песка пустыни не выпросишь» (не выпросишь прошлогоднего снега). Наконец, специалисты-историки подозревают, что мы еще не оценили в должной степени их теологию и религиозные воззрения и что они, несмотря на мнимое многолюдство своих божеств, верили в Единого Бога, объединяющего в себе множество божественных ипостасей. И если данное предположение справедливо, то именно от них, а не от греков и римлян, мы унаследовали эту веру.Михаил Ахманов Санкт-Петербург, октябрь – декабрь 2000 года
Комментарии
I. Хронологическая таблица

II. Упоминаемые исторические личности
Яхмос I – основатель XVIII династии, изгнавший из Нижнего Египта гиксосских царей; правил более двадцати лет. Аменхотеп I (Амен-хотп I) – сын Яхмоса I; правил около двадцати лет. Тутмос I (Джехутимесу I) – сын Аменхотепа I от наложницы Сенисенеб, женщины нецарского рода; правил десять-пятнадцать лет (точный срок неизвестен). Взял в супруги свою сводную сестру Яхмос, дочь Аменхотепа I от главной (великой) жены. Яхмос родила двух сыновей, которые умерли в детстве, и дочь Хатшепсут. От наложницы Мутнефрет у Тутмоса I был сын – Тутмос II, который унаследовал корону. Тутмос II (Джехутимесу II) – сын Тутмоса I, правивший страной неизвестное, но недолгое время (скончался в молодом возрасте от болезни?). Подобно отцу, женился на своей сводной сестре Хатшепсут (она – дочь царя, сестра цара и великая жена царя); у них родились две дочери: Нефру-ра и Мерит-ра. От наложницы Иси (возможно, сириянки, которой дали египетское имя) у Тутмоса II родился сын, будущий Тутмос III (Джехутимесу III), великий завоеватель. Хатшепсут – дочь Тутмоса I, супруга Тутмоса II, женщина-фараон, правившая страной около двадцати лет. Умерла в возрасте между сорока пятью и пятьюдесятью годами; причина ее смерти неизвестна. Тутмос III (Джехутимесу III) – сын Тутмоса II; правил страной более тридцати лет после Хатшепсут, взял в супруги ее младшую дочь Мерит-ра, дожил до преклонного возраста. Известен завоеваниями в Эфиопии, Палестине и Сирии; его армии дошли до Двуречья. Нефру-ра – старшая дочь Хатшепсут; умерла в юном возрасте. Мерит-ра – младшая дочь Хатшепсут; стала супругой Тутмоса III и родила сына, будущего Аменхотепа II, продолжившего завоевания отца. Сенмут, сын Рамоса и Хатнефер – чати (визирь или первый министр) царицы Хатшепсут, а также царский зодчий, зодчий храма Амона, наставник царских дочерей, начальник дома царицы (управляющий ее хозяйством). Имел старшего брата Сенмена, судьба которого неизвестна. Пользовался неограниченным доверием царицы, состоял в должности чати пятнадцать лет, после чего упоминания о нем исчезают. Его судьба неизвестна; возможно, был казнен, сослан или умер от болезни. Хапу-сенеб – один из видных жрецов и сановников Хатшепсут. Инени – выдающийся инженер и зодчий, служивший четырем фараонам: Тутмосу I, Тутмосу II, Хатшепсут, Тутмосу III. Оставил свое жизнеописание, дошедшее до наших времен. Известна его гробница; также известно, что он строил корабли, на которых свершилось плавание в Пунт. Нехси – царский казначей, приближенный Хатшепсут, один из организаторов экспедиции в Пунт. Джхути – художник и зодчий; сделал кованые ворота для храма Хатшепсут. Один из организаторов экспедиции в Пунт. Пуэмра – зодчий времен Хатшепсут и Тутмоса III.III. Географические названия
Уадж-ур (Великая Зелень или Зеленое море) – Средиземное море. Лазурные Воды – Красное море. Му-хед – Великое море, Индийский океан. Великий Хапи или просто Река – Нил (название Нил – греческого происхождения). Та-Кем – Черная Земля или просто Кемт – Черная (в отличие от Красной Земли – пустыни); также – Обе Земли, Нижний и Верхний Египет. Название Египет (Айгюптос) – греческого происхождения. Та-Кефт – страны в Западной пустыне, области ливийцев. Та-Нутер – легендарная Страна Духов на юге. Пунт – территории на Африканском Роге, возможно – прибрежный район Сомали, куда отправлялись экспедиции египтян. Страна Сати – общее название Азии. Страна Син – Синайский п-в, Земля Луны и Бирюзы (там добывали бирюзу, а луна, отражавшаяся в морских водах, придавала побережью особое очарование). Страна Джахи – Палестина. Финикию египтяне не выделяли как отдельную страну, но были хорошо знакомы с крупными финикийскими городами Тир, Сидон, Библ (Гебал по-египетски). Страна Хару – Сирия. Бехан – горы Аравии. Иси – Кипр. Кефтиу – Крит. Митанни – государство на севере Месопотамии. Ретену – Ассирия. Страна Куш – обширные территории, лежащие по обе стороны Нила выше первого порога. Ее арабское название – Нубия, греческое – Эфиопия. Области Куша, расположенные между первым и третьим порогами, назывались странами Вават, Иртег, Сатжу, Иам. Мен-Нофр – Мемфис (греч.), возникший на западном берегу Нила; около него возведены самые крупные пирамиды. В древности на месте Мемфиса стояла крепость Инбу-хедж – Белые Стены. Хай-Санофре Северный, Хай-Санофре Южный – города на западном берегу, в 15 км южнее Мемфиса (ныне – Дашур). Ненинесуте – Гераклеополь (греч.), город к югу от Мемфиса, за городами Хай-Санофре Северный и Южный. Северный Он или Он-Ра – Гелиополь (греч.), город на границе Нижнего и Верхнего Египта, в 12 км к северо-востоку от Каира, напротив Мемфиса; был центром почитания солнечного бога Ра. Каэнкем – местность неподалеку от Мемфиса, которая славилась красным вином. Уасет, Нут-Амон (город Амона) или просто Нут (Город) – Фивы (греч.). Город был расположен на восточном берегу Нила между двумя храмовыми комплексами Амона-Ра: Ипет-сут на севере (ныне – Карнак) и Ипет-ресит на юге (ныне – Луксор). Эти святилища соединяла Царская Дорога, по обе стороны которой и лежал город. Напротив Карнака, на западном берегу, выстроен храм Хатшепсут. Джеме, Западный город или Долина Мертвых – усыпальницы и поселения при них, расположенные на западном берегу Нила напротив Уасета; в настоящее время эта территория называется Долиной Царей. Абуджу – Абидос (греч.), город к северу от Уасета. Южный Он – город в 25 км к югу от Уасета, место почитания бога войны Монта. Нехеб – город в 80 км к югу от Уасета (ныне – Эль-Каб). Кебто – Коптос (греч.), город в 40 – 50 км к северу от Уасета. Танарен – Дендера (греч.), город в 80 км к северу от Уасета; в нем находились пруд со священными крокодилами и храм Хатор с жреческой школой (медицина, астрономия, песнопения и музыка). Кенне – город на западном берегу, напротив Танарена. Хетуарет – Аварис или Танис (греч.), город на востоке Дельты, будущий Перрамессу или Пер-Рамсес (Дом Рамсеса – его родной город), столица земли Гошен. Земля Гошен – территория на востоке Дельты, на границе с Синаем. Чару – египетская крепость на границе с Синаем. Саи – Саис (греч.), город на западе Дельты. Буто – город в центральной части Дельты. Пермеджед – Оксиринх (греч.), город к югу от Мемфиса. Тат-Санофре – Медум. Суу – ныне Кусейр; египетская гавань на Красном море; дорога до нее через пустыню называлась Долина Рахени (ныне – Вади-Хаммамат). Страна Пиом или Страна Озера – Файюмский оазис и Меридское озеро с колоссальной системой ирригационных сооружений. Хененсу, Пи-Мут, Каза, Ит-Тауи, Нефер-Пиом – города в районе Меридского озера. Хенну – город на юге Египта, где добывали песчаник (ныне – Гебель-Сильсиле). 1-й порог – город Суан, Суна или Севене на восточном берегу (ныне – Асуан), острова Неб (греч. Филе, Элефантина), Биге, Эль-Хесе. Город Неб на острове Неб именовался Городом, стоящим среди струй, Вратами Юга. В нем находятся святилище Хнума и колодец-нилометр. На восточном берегу, против острова Элефантина, находились каменоломни розового гранита. 2-й порог – вдоль него была протянута оборонительная линия укреплений, выстроенных в пределах видимости одно от другого: Бухен, Икен (греч. Миргиса), Саррас, Аскут, Шалфак, Уронарти и, в самом узком месте Нила, Хех (Семна) и Кумма.IV. Некоторые названия народов, социальных групп, должностей и предметов на языке роме
Роме – «люди», самоназвание египтян. Немху – дословно «сироты», «бедняки» – простонародное сословие Нового царства (земледельцы, скотоводы, ремесленники, воины и чиновники низшего ранга). Неджес – дословно «последние» – так в старину называли людей простонародного сословия. Ханебу – общее название северян. Шаси – общее название азиатов, выходцев из страны Сати (Азии). Гиксосы – «цари-пастухи» или «повелители нагорий», кочевые племена, вторгшиеся в Египет на рубеже Среднего и Нового царств. Темеху – ливийцы. Мешвеш – одно из ливийских скотоводческих племен. Хериуша – «находящиеся на песке», племена кочевников, живущие к северо-востоку от Египта. Аму – общее название семитов. Хабиру – кочевые иудейские племена. Нехеси – кушиты, выходцы из Куша (Нубии). Маджаи – одно из племен Куша, обитавшее между первым и вторым порогами, к востоку от Нила; служили в Египте наемниками-стражами, и, по имени этого народа, стражей стали называть маджаями независимо от национальной принадлежности. Шерданы – пираты из «народов моря», сардинцы или греки. Шекелеша – сицилийцы. Экуэша – общее название народов Эгейского моря (греков, критян, киприотов). Туруша – этруски. Кефти – критяне. Чати – везир, первый министр. Хаке-хесеп – князь, номарх, правитель нома. Сеп – область страны; греч. «ном». Cемер – сановник, вельможа, человек благородного сословия. Шемсу – царский проводник караванов. Сэтэп-са – царский телохранитель. Секер-анх – «живые убитые», т е. взятые в плен. Меша – толпа, стая; эта толпа может быть организованной или беспорядочной. В армии обозначает крупное воинское соединение – корпус, включающий несколько тысяч солдат. Чезет – организованное соединение, воинское или рабочее (от слова «чезет» – «соединять»); воинский чезет включал 1000—1500 бойцов, которыми командовал чезу (полковник). Апар – воинская или рабочая команда (от слова «апар» – «укомплектовывать»). Са – череда, отряд из 200—250 солдат (от слова «са» – «защита»); таким отрядом командует младший офицер – «знаменосец» (у него было копье с вымпелом). Чет – самое мелкое воинское подразделение, 10 – 20 бойцов. Теп-меджет – десятник, сержант, начальник чета. Ушебти – фигурки-ответчики из дерева, камня, глины, металла, которые клали в гробницу умершего. Считалось, что ушебти будут трудиться за покойного в загробном мире, и с людьми богатыми клали 365 фигурок – на каждый день года. Уджат – «вылеченный» глаз Гора, который ему повредил Сет, но исцелил Тот; его изображение считалось могущественным амулетом. Хоу – сфинкс, символ могущества фараонов. Хенкет – египетское пиво. Сенеб – приветствие «будь здоров». Кифи – мазь с едким запахом, врачующая раны. Дерево аш – ливанский кедр. V. Некоторые древнеегипетские боги Амон-Ра – царь богов; его титул – Владыка престолов Обеих Земель, его священное животное – баран. Мут – супруга Амона, повелительница неба, мать солнца, богиня битв; как и Сохмет, изображалась с львиной головой. Осирис – владыка загробного мира и судья мертвых, изображался в виде мумии в пеленах. Судить покойных ему помогали Сорок Два судьи загробного царства. Воплощением Осириса считался священный бык Апис. Исида – супруга Осириса. Гор – божество неба, сын Осириса и Исиды; изображался в виде человека с головой сокола и считался покровителем царя; затем фараона стали считать земным воплощением Гора, что нашло отражение в официальном царском титуле «золотой Гор» (то есть «вечный Гор»). Сетх – грозный бог зла, убийца своего брата Осириса. Согласно легенде Исида нашла труп Осириса и оживила его, а Гор, желая отомстить за отца, сразился с Сетхом. Птах – бог-творец Вселенной, покровитель ремесел и искусств; изображался в виде спеленутой мумии (иногда отождествлялся с Осирисом), в голубом головном уборе, со скипетром в руках. Сохмет – супруга Птаха, богиня войны, повелительница болезней; изображалась с головой львицы, и ее называли Львиноголовой (иногда отождествлялась с Мут). Монт – грозный бог войны. Хатор – богиня любви; ее священное животное – корова. Хатор изображалась в виде женщины с коровьими ушами, в венце с рогами и солнечным диском между ними. Тот – бог мудрости, писец богов, божество луны: изображался в виде человека с головой ибиса, и потому его называли Ибисоголовым или Носатым. Нейт – богиня-защитница в потустороннем мире; особенно почиталась в Саи. Хнум – бог творчества, вылепивший людей из глины на гончарном круге; изображался в виде человека с бараньей головой. Маат – богиня истины. Анубис – божество заупокойного мира, почитался в обличье шакала. Себек – божество речной стихии, почитался в образе крокодила. Поля Иалу – камышовые поля или поля блаженных, куда попадали усопшие, оправданные судом Осириса. В полях Иалу есть озеро; утром бог солнца Ра омывается в нем, облачается в алые одежды и отправляется в путь по небу.VI. Сезоны и месяцы года
Начало года – день, когда Сириус, самая яркая из звезд, появляется на небе перед солнечным восходом после более чем двухмесячного отсутствия. Этот день примерно совпадал с началом разлива Нила (15 – 18 июня) и летним солнцестоянием (22 июня). Продолжительность года – 365 суток; он состоял из 12 месяцев по 30 дней плюс пять добавочных суток.
Последние комментарии
9 часов 50 минут назад
18 часов 41 минут назад
18 часов 44 минут назад
3 дней 1 час назад
3 дней 5 часов назад
3 дней 7 часов назад